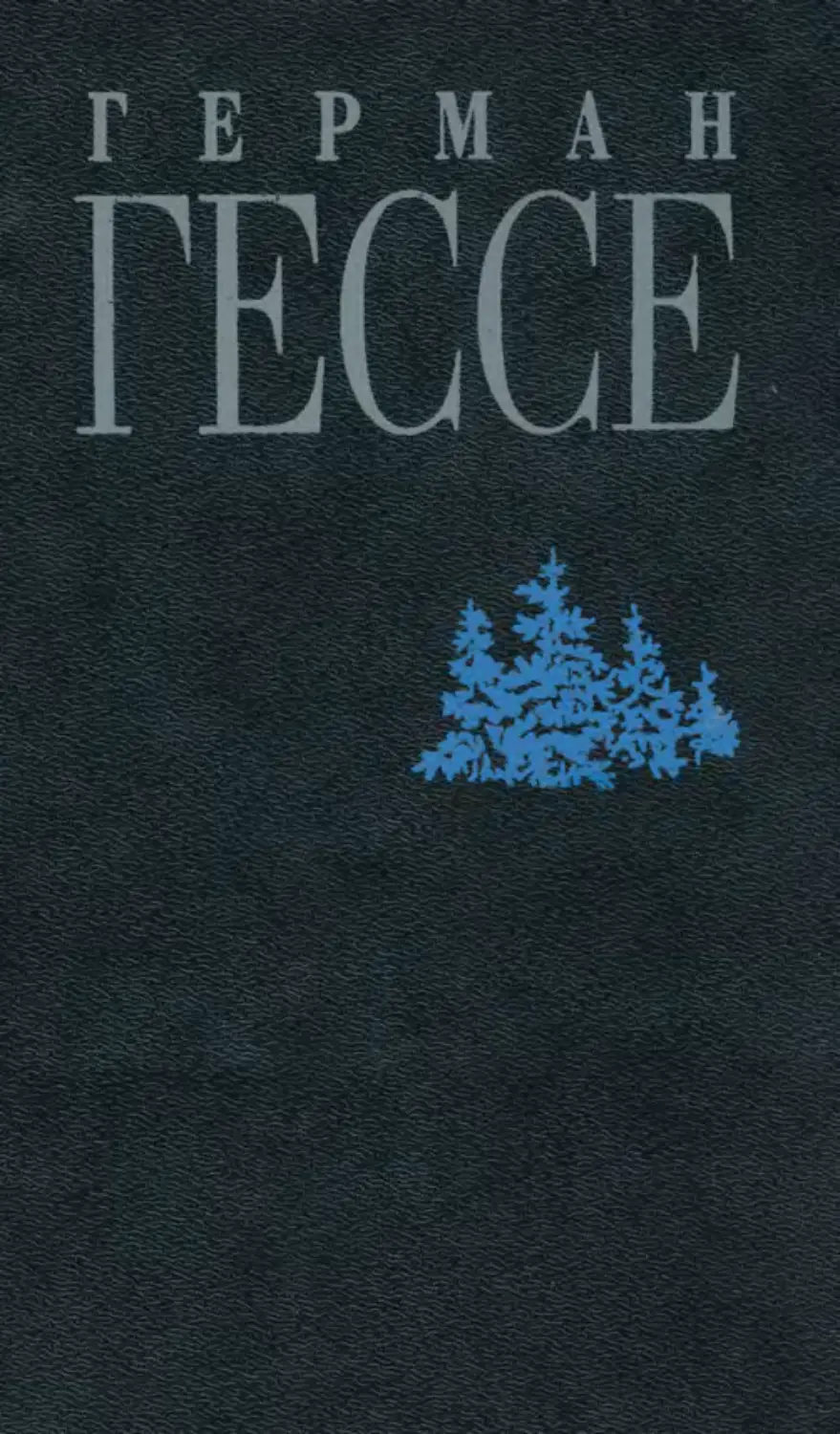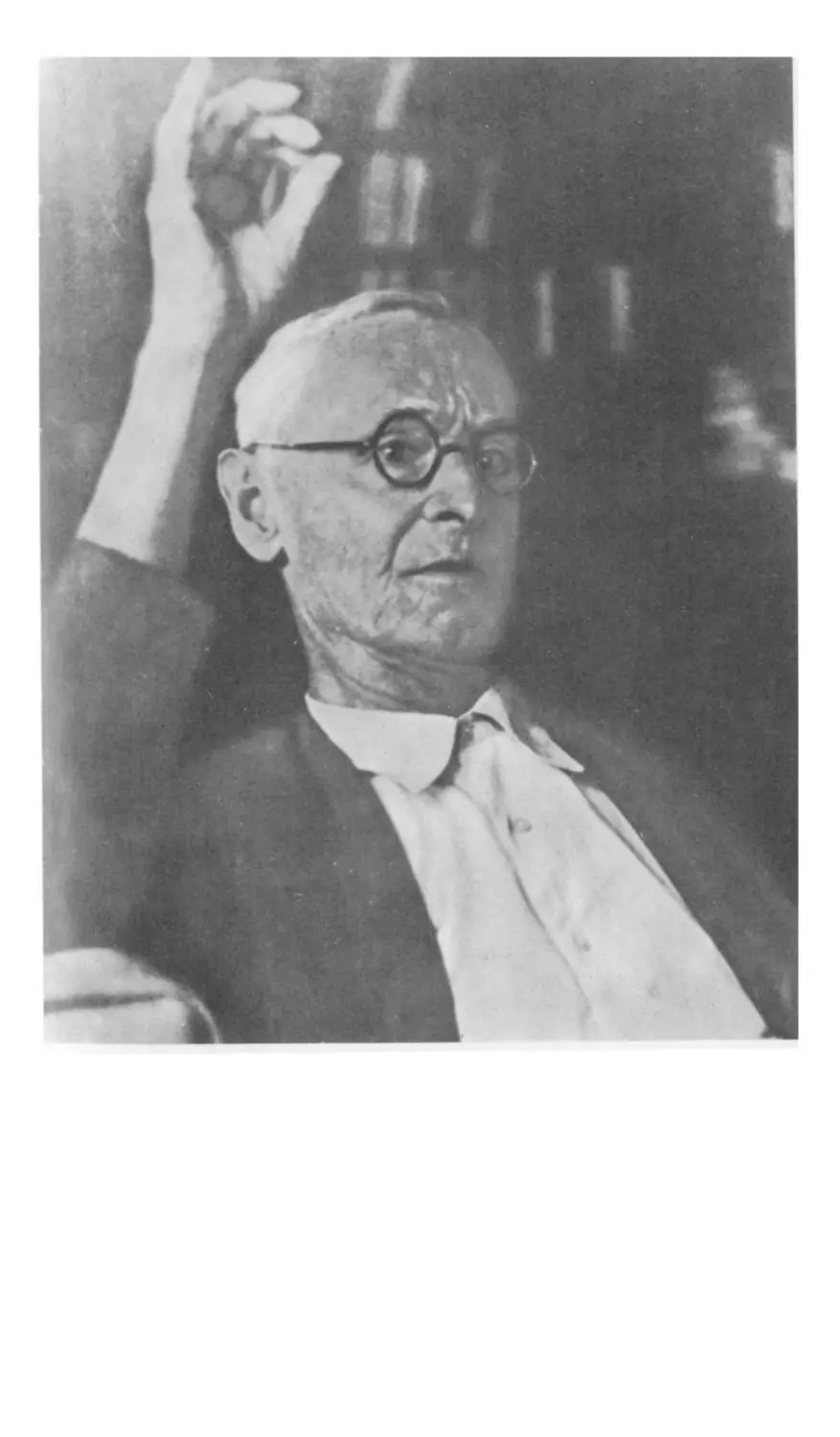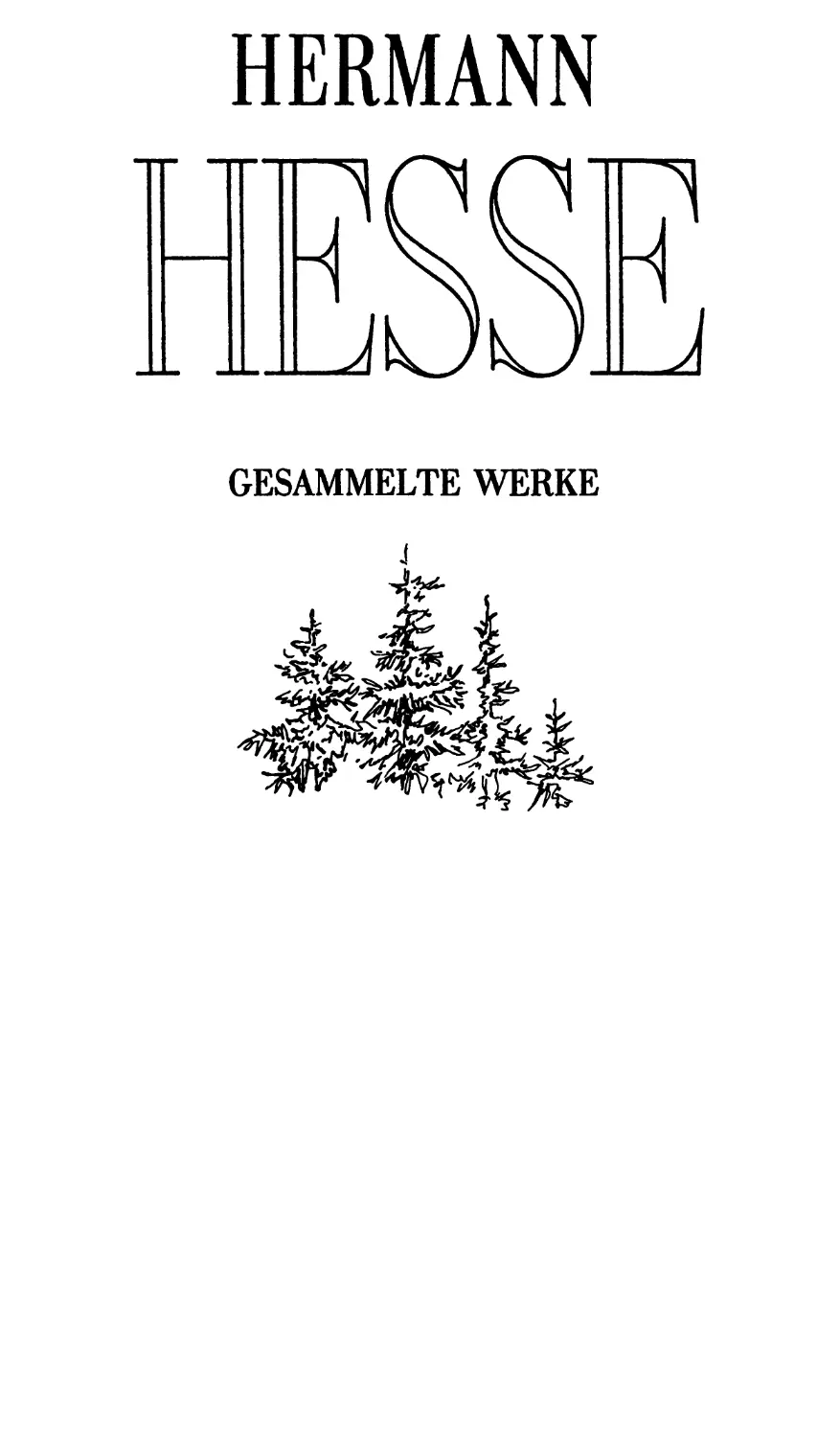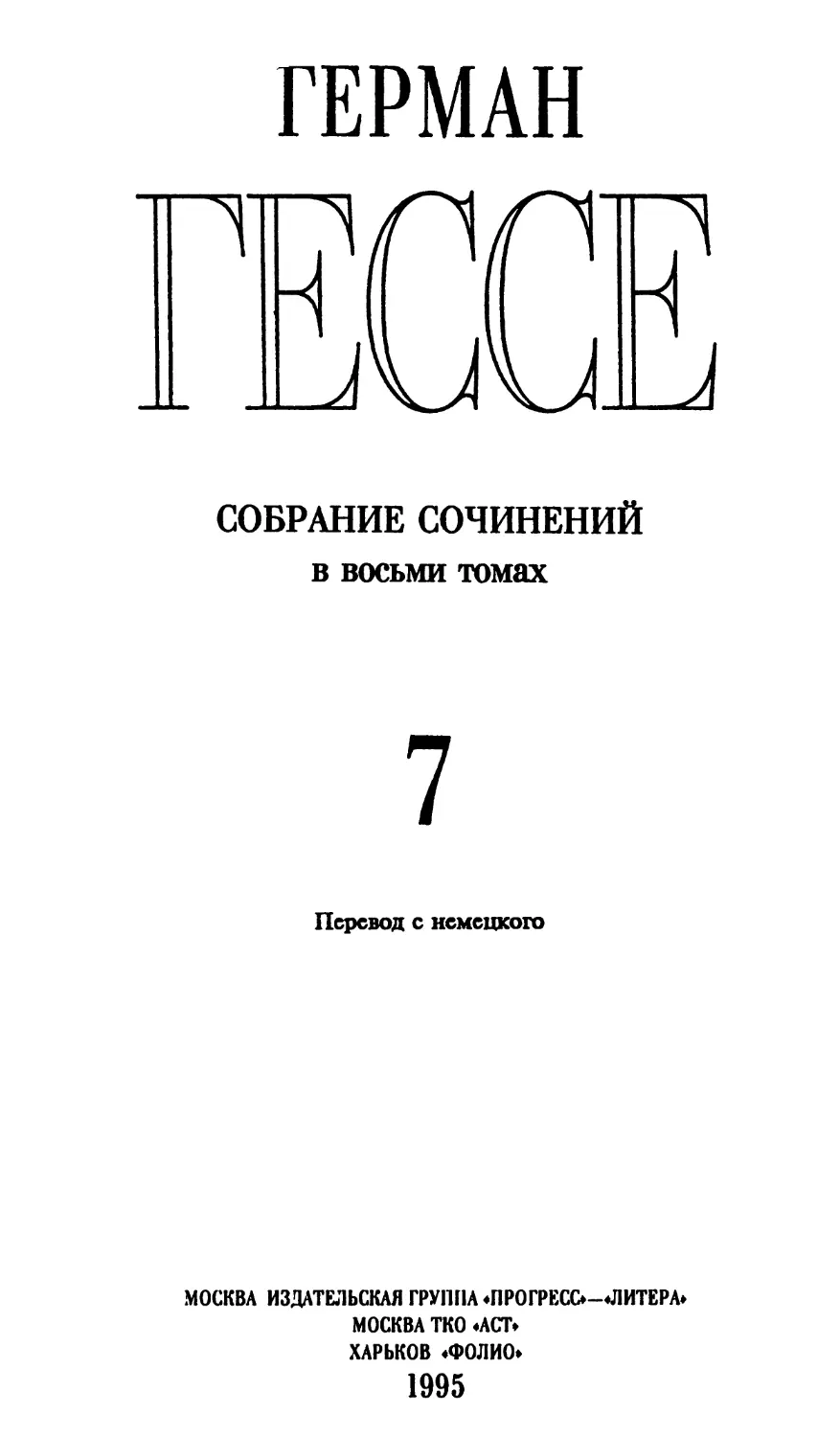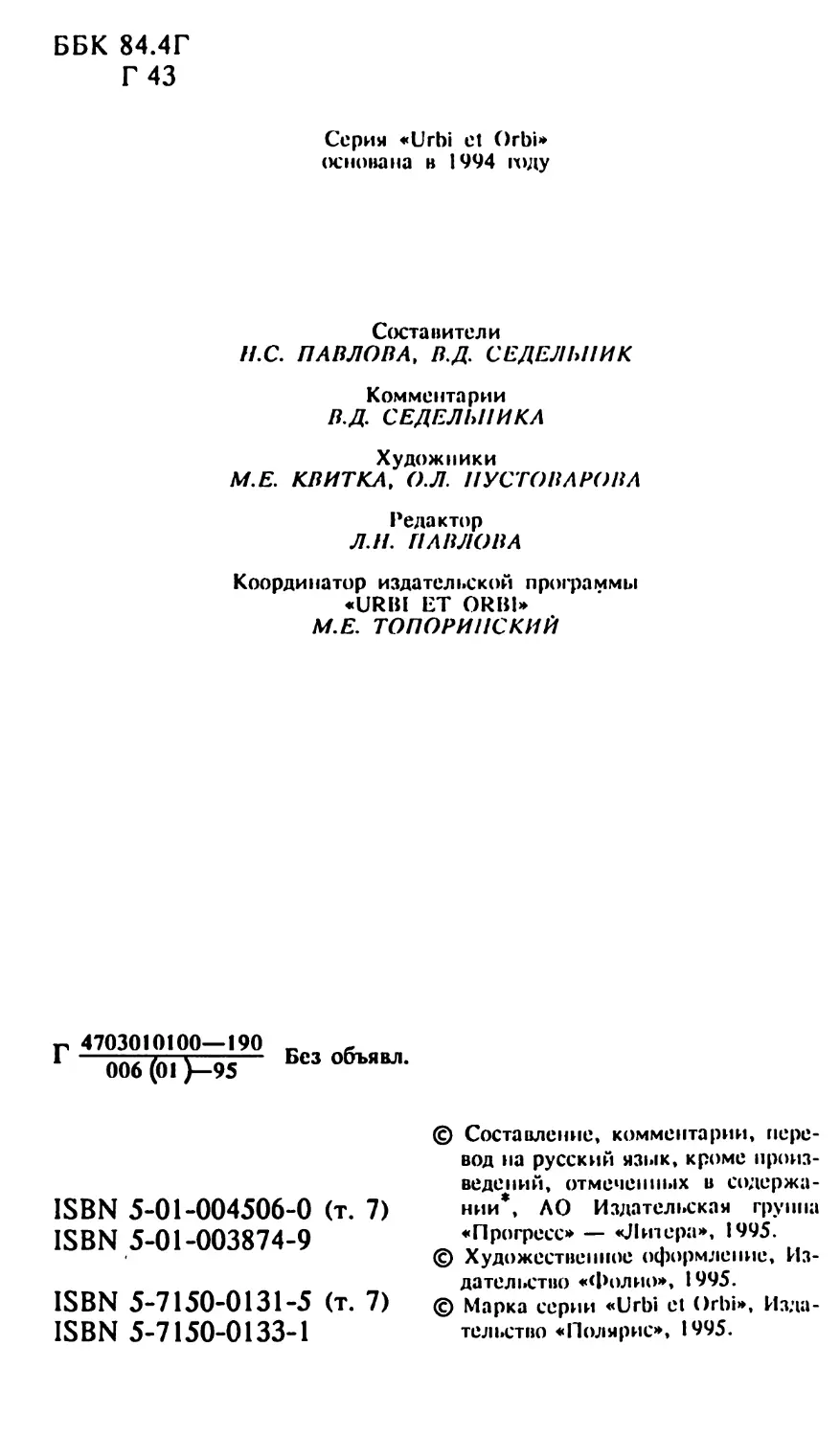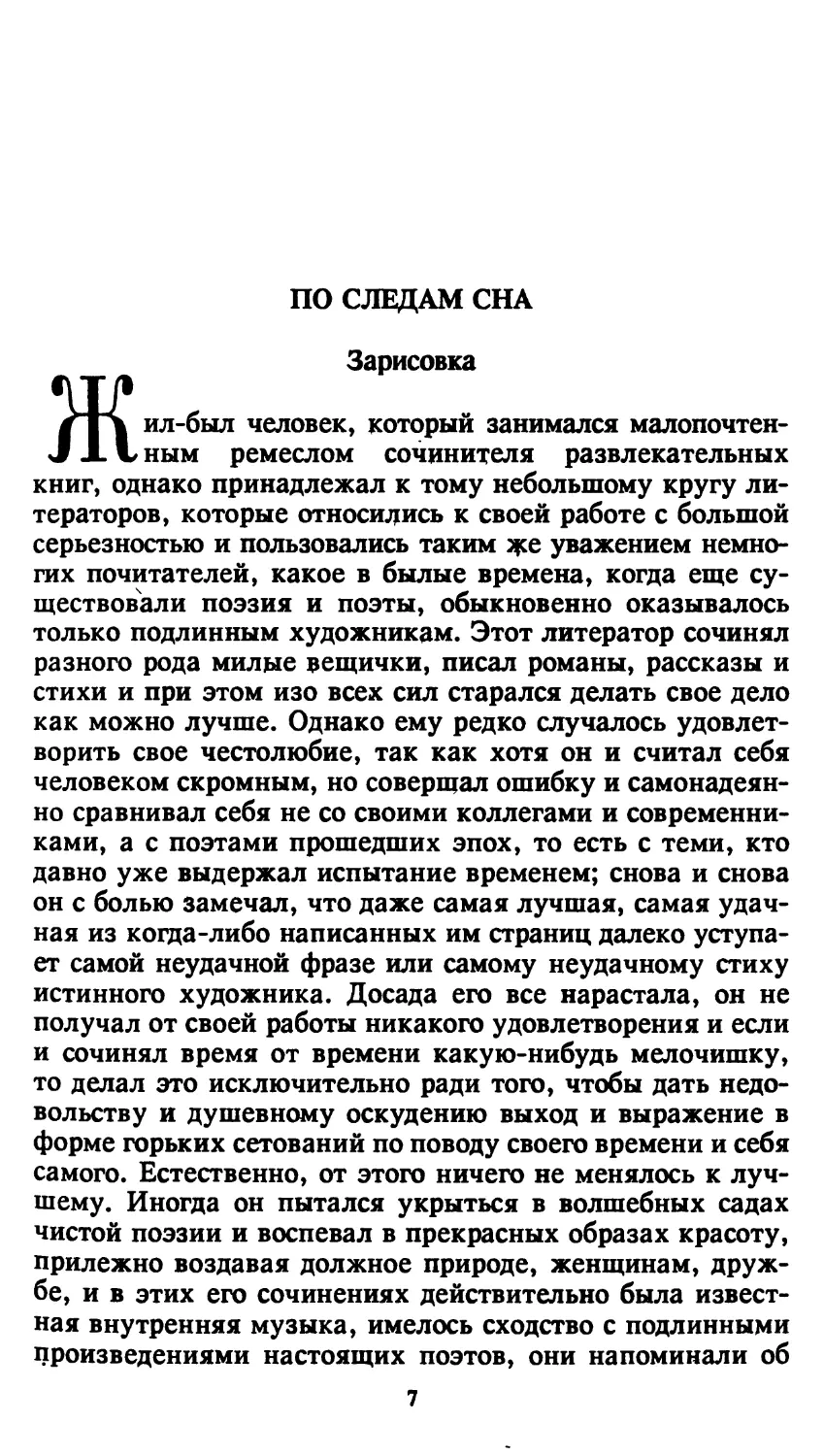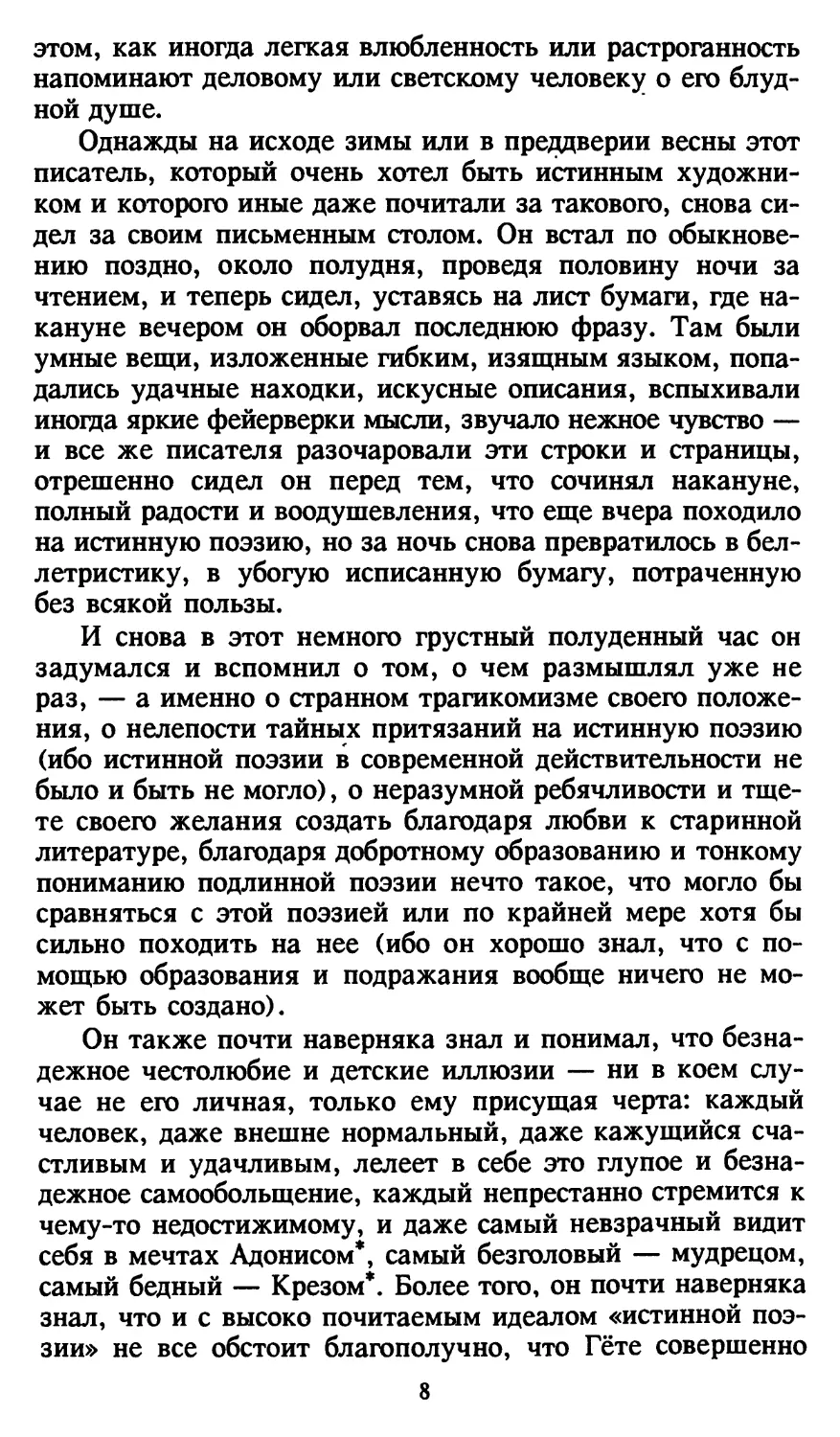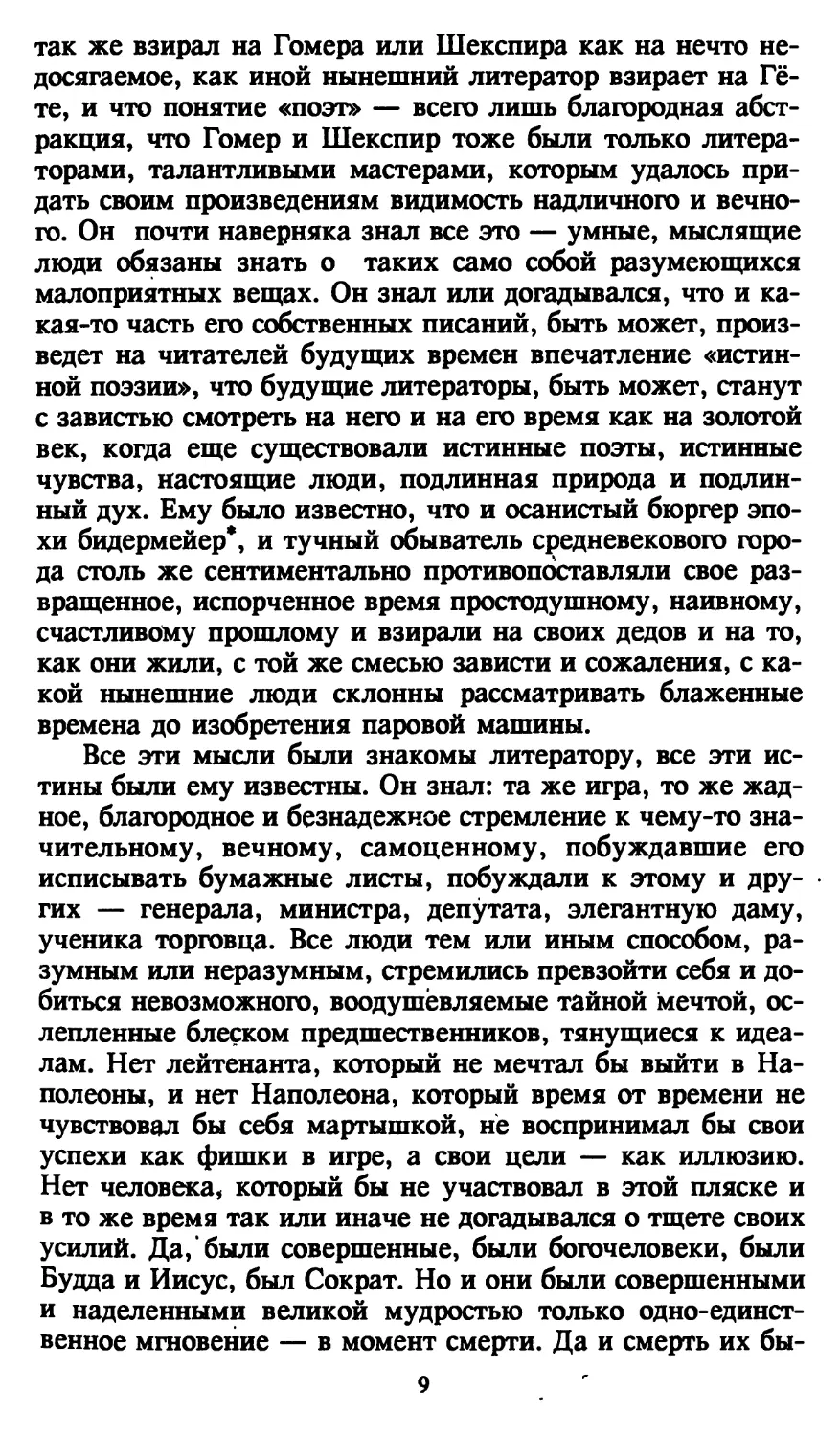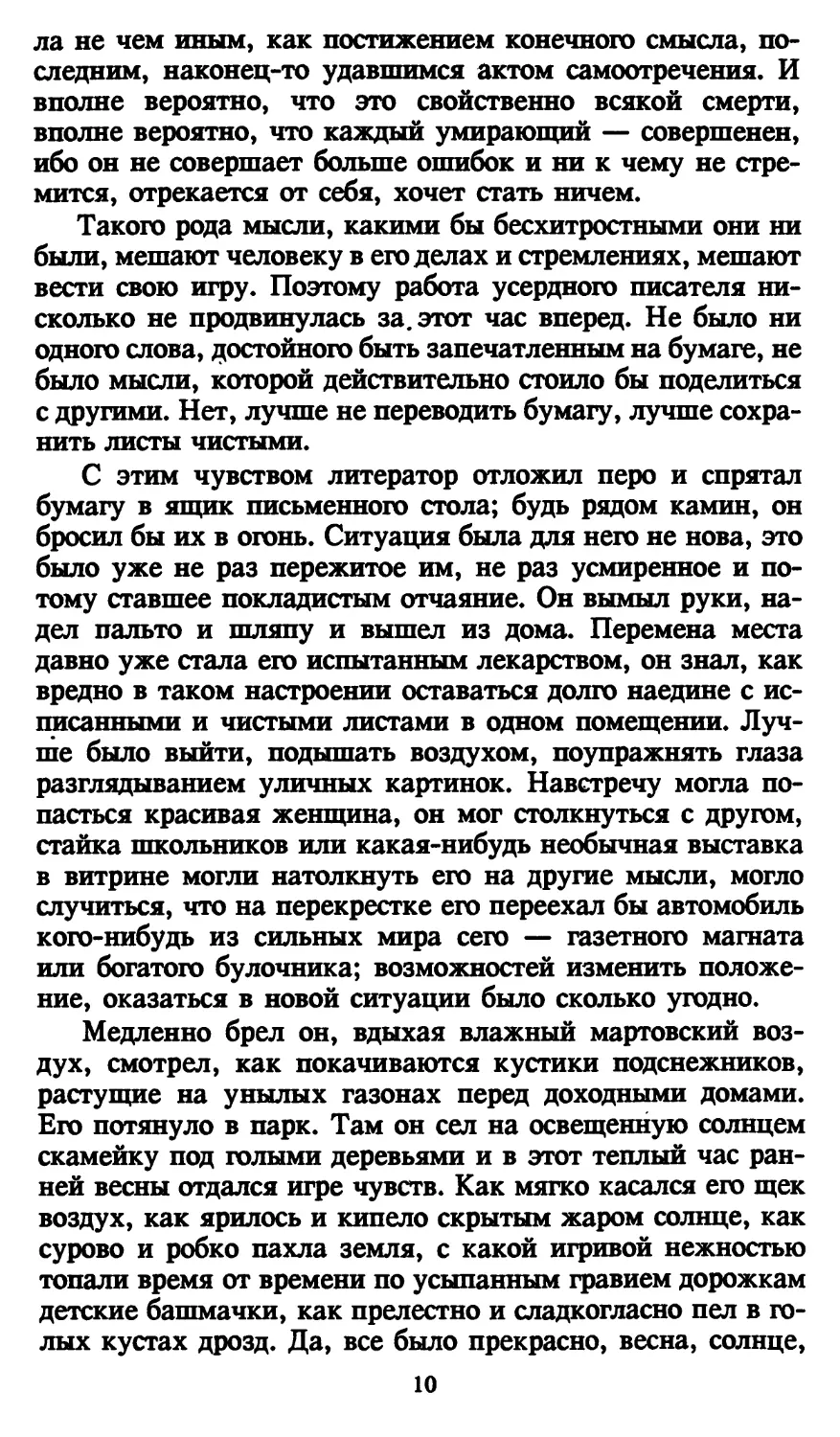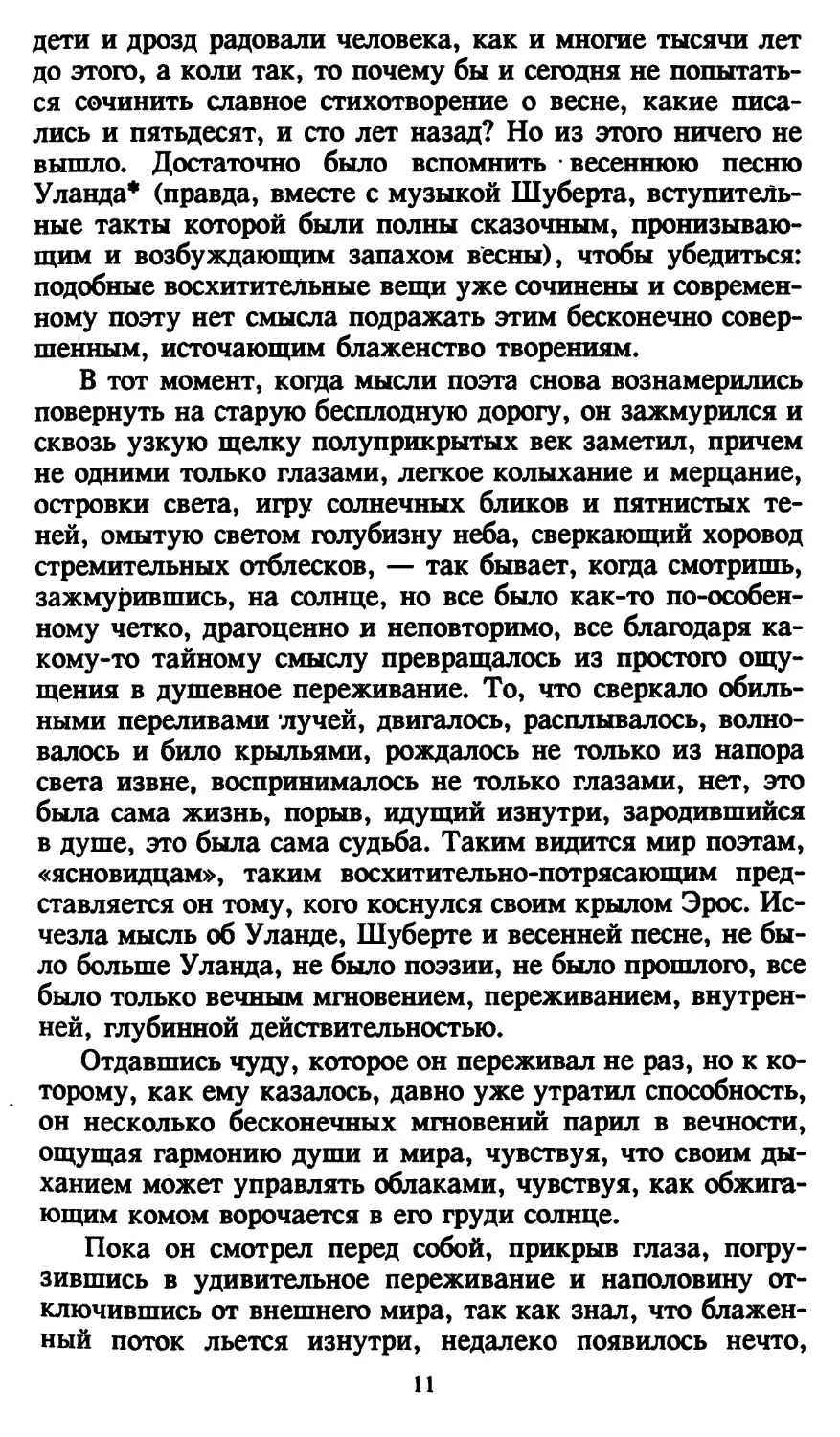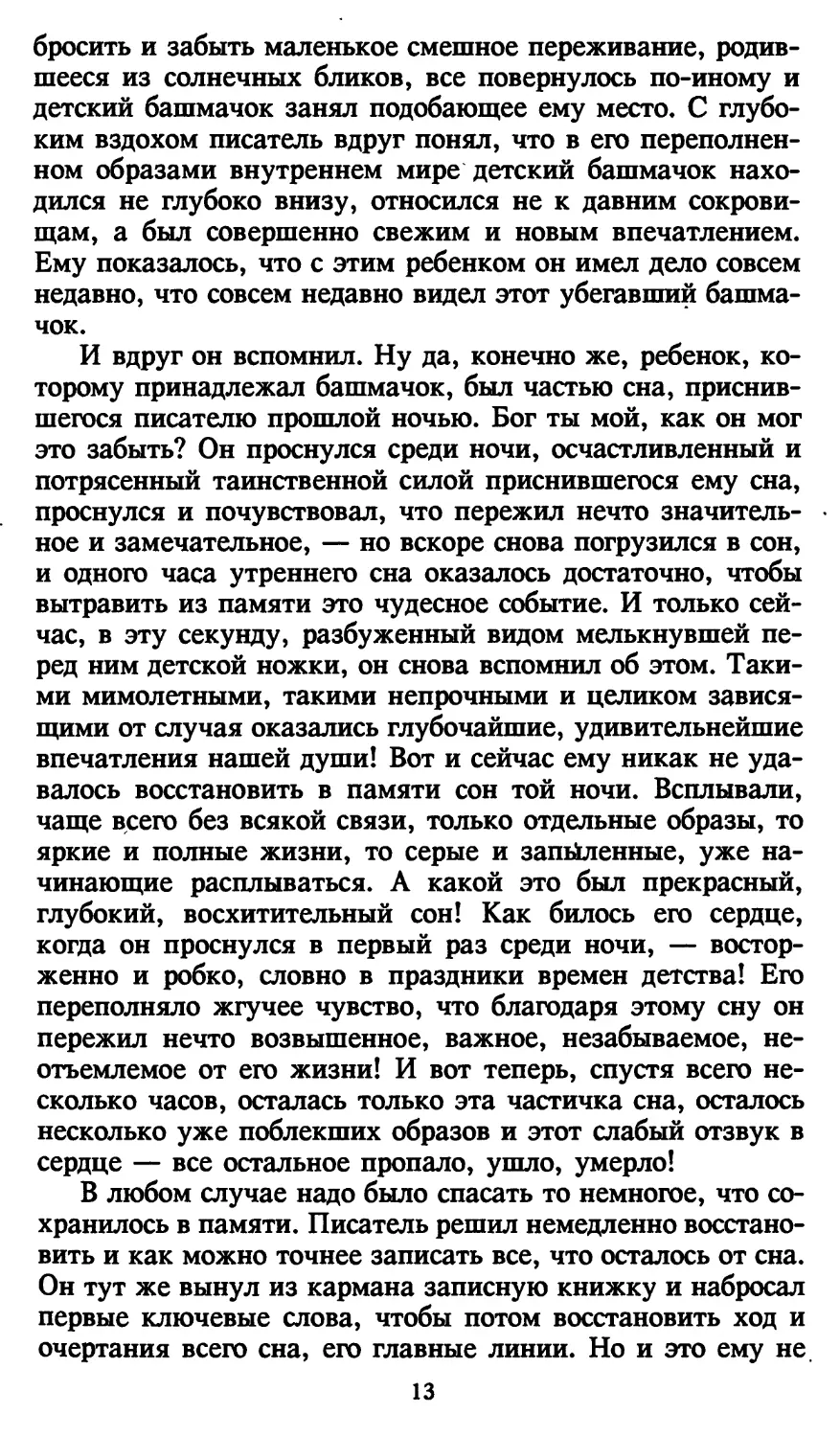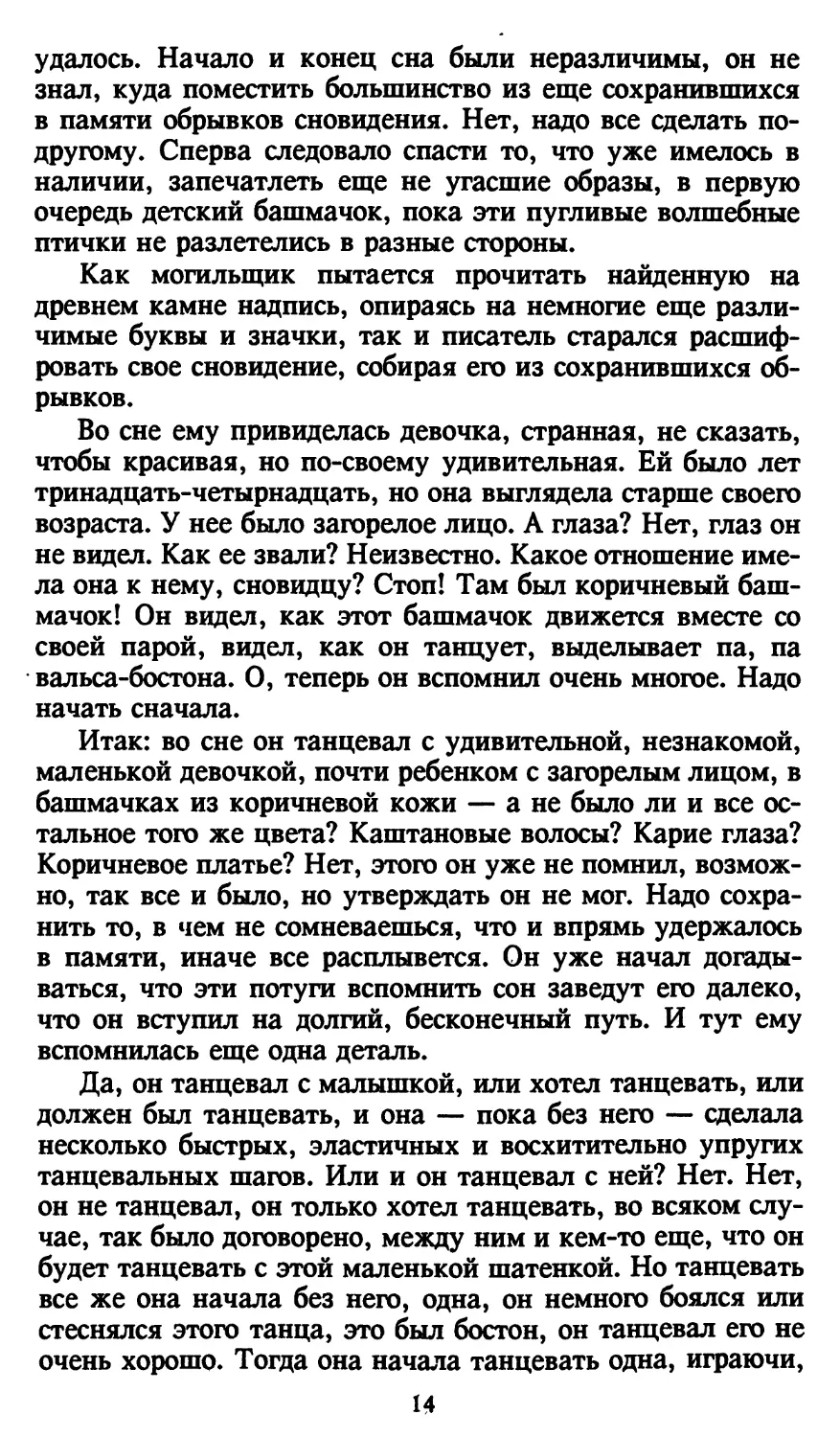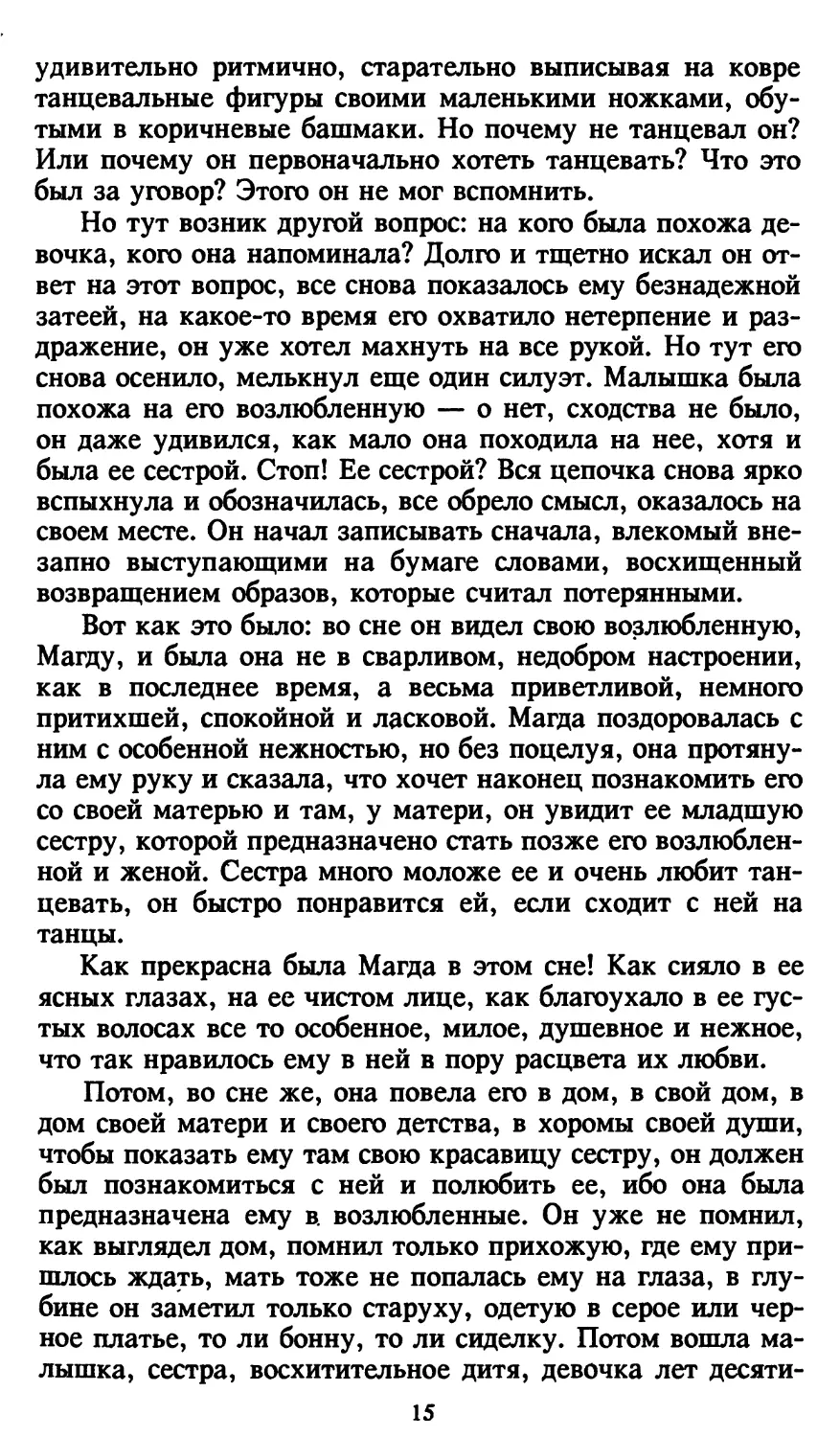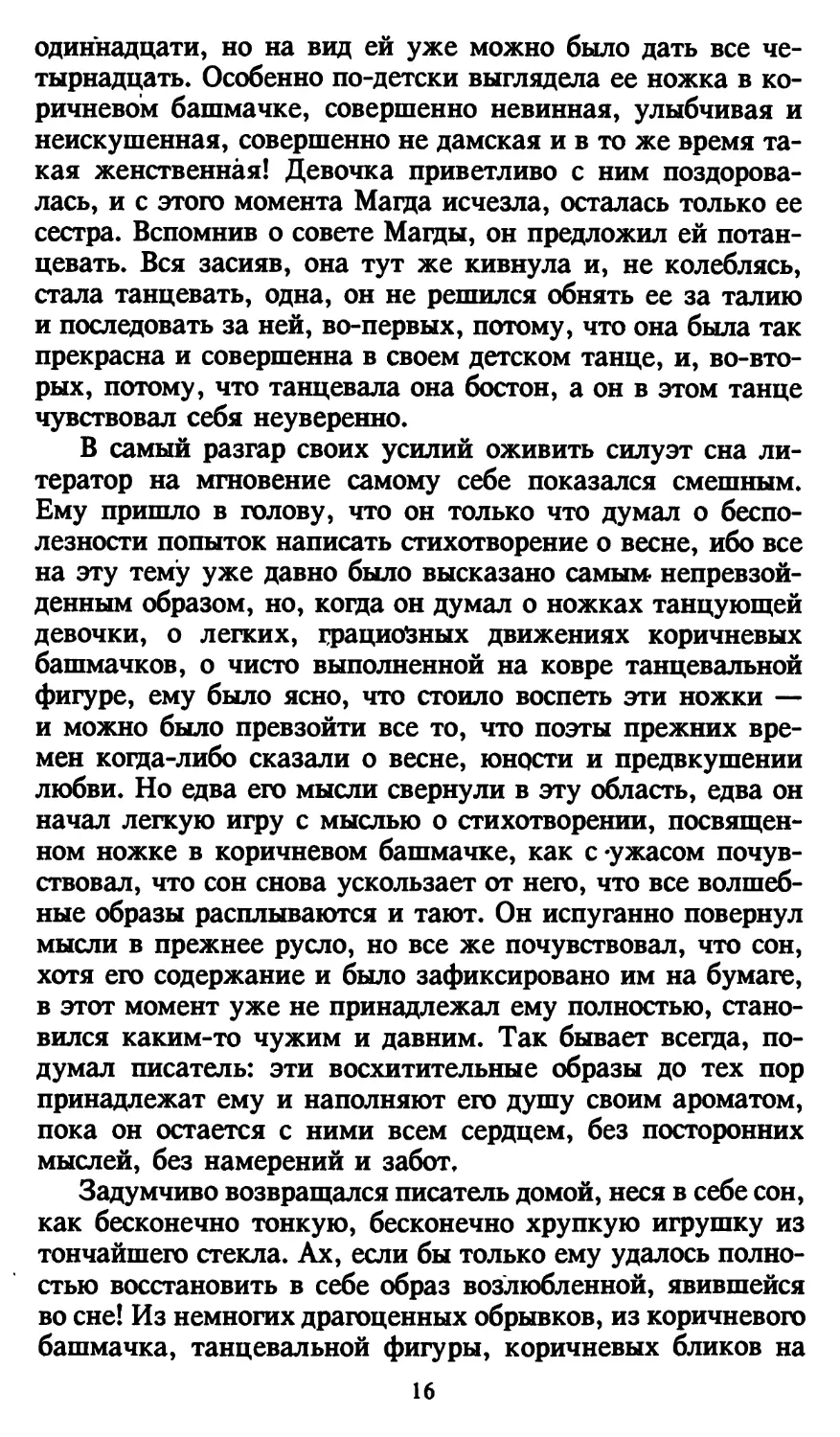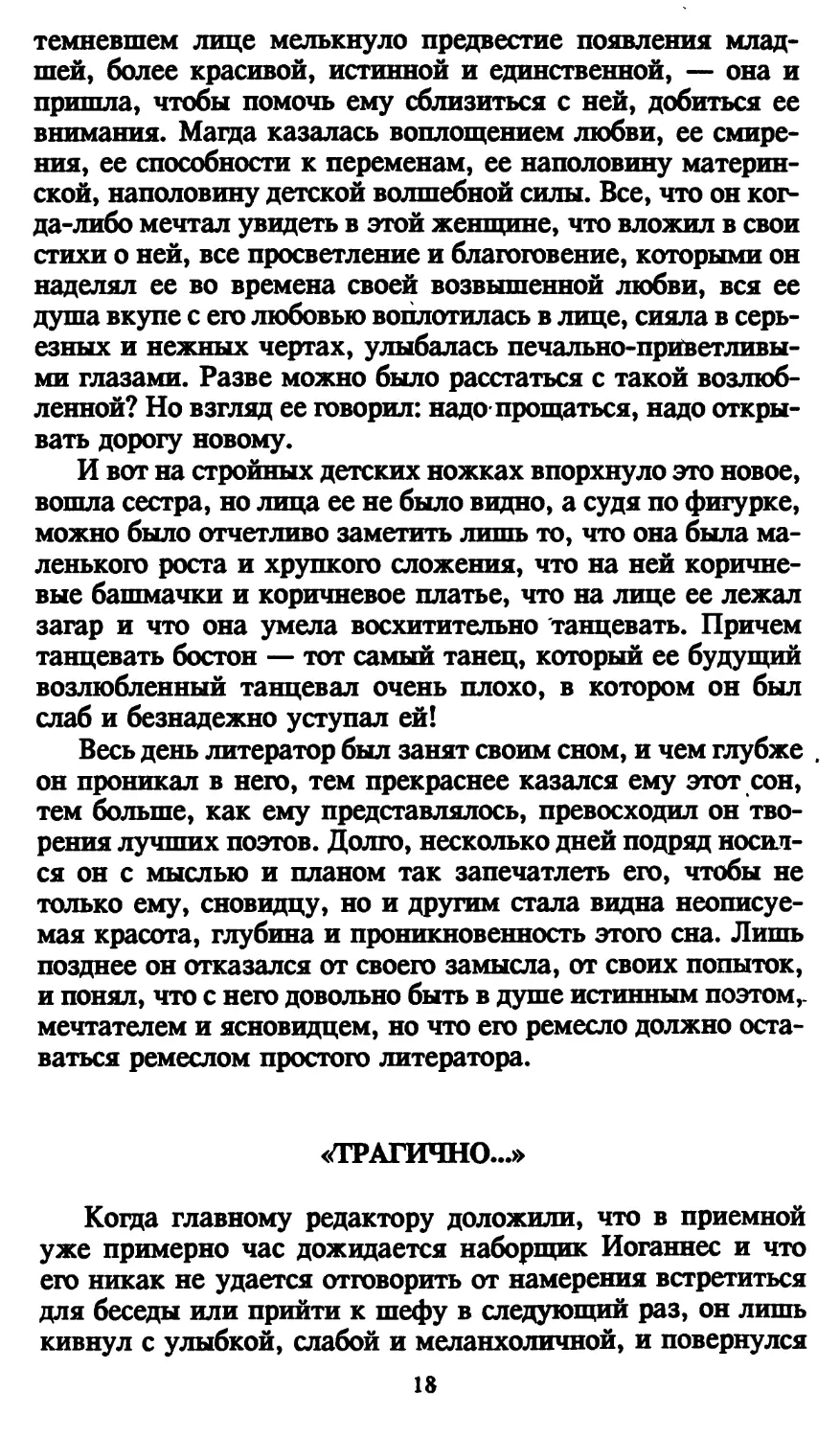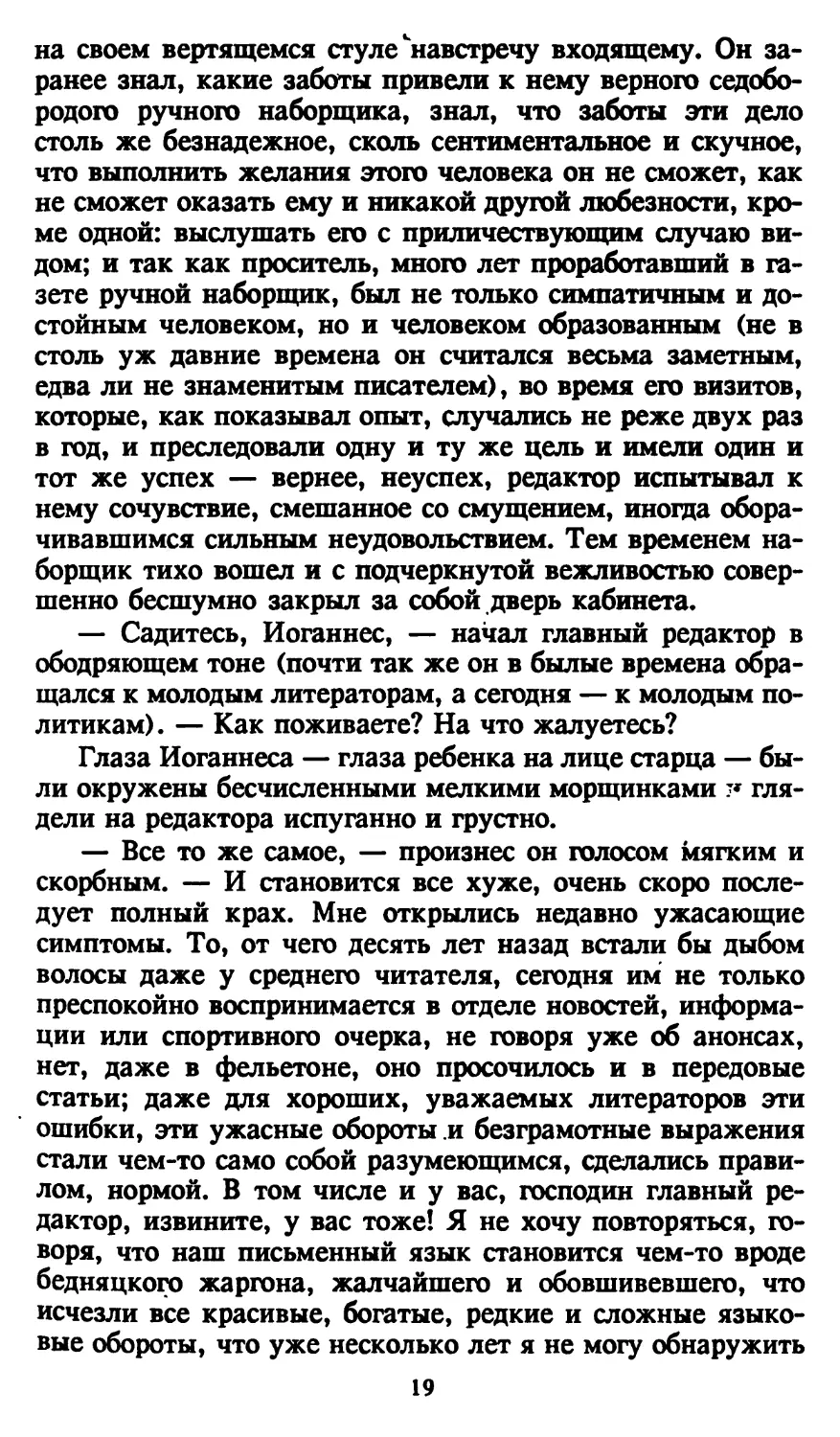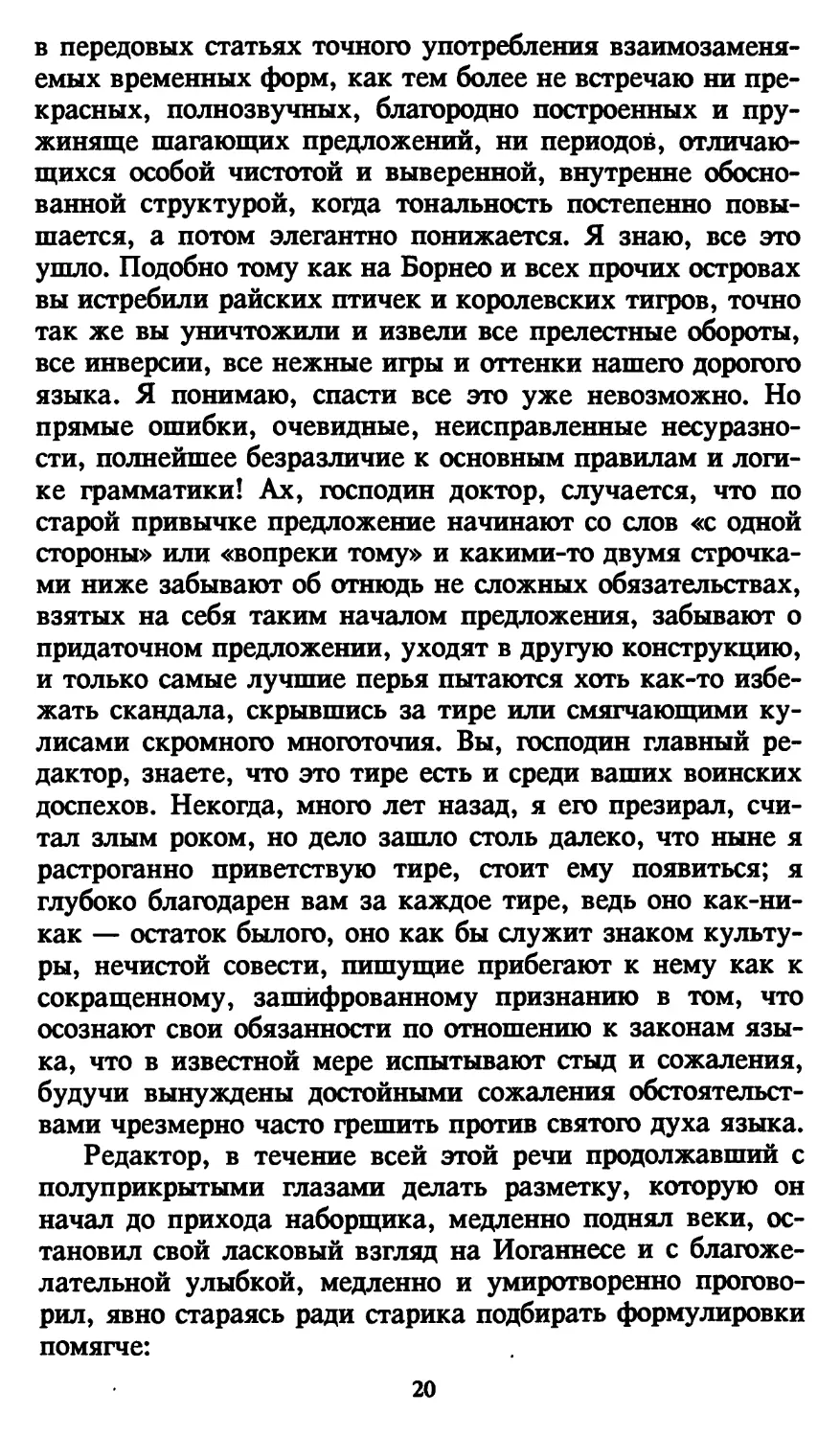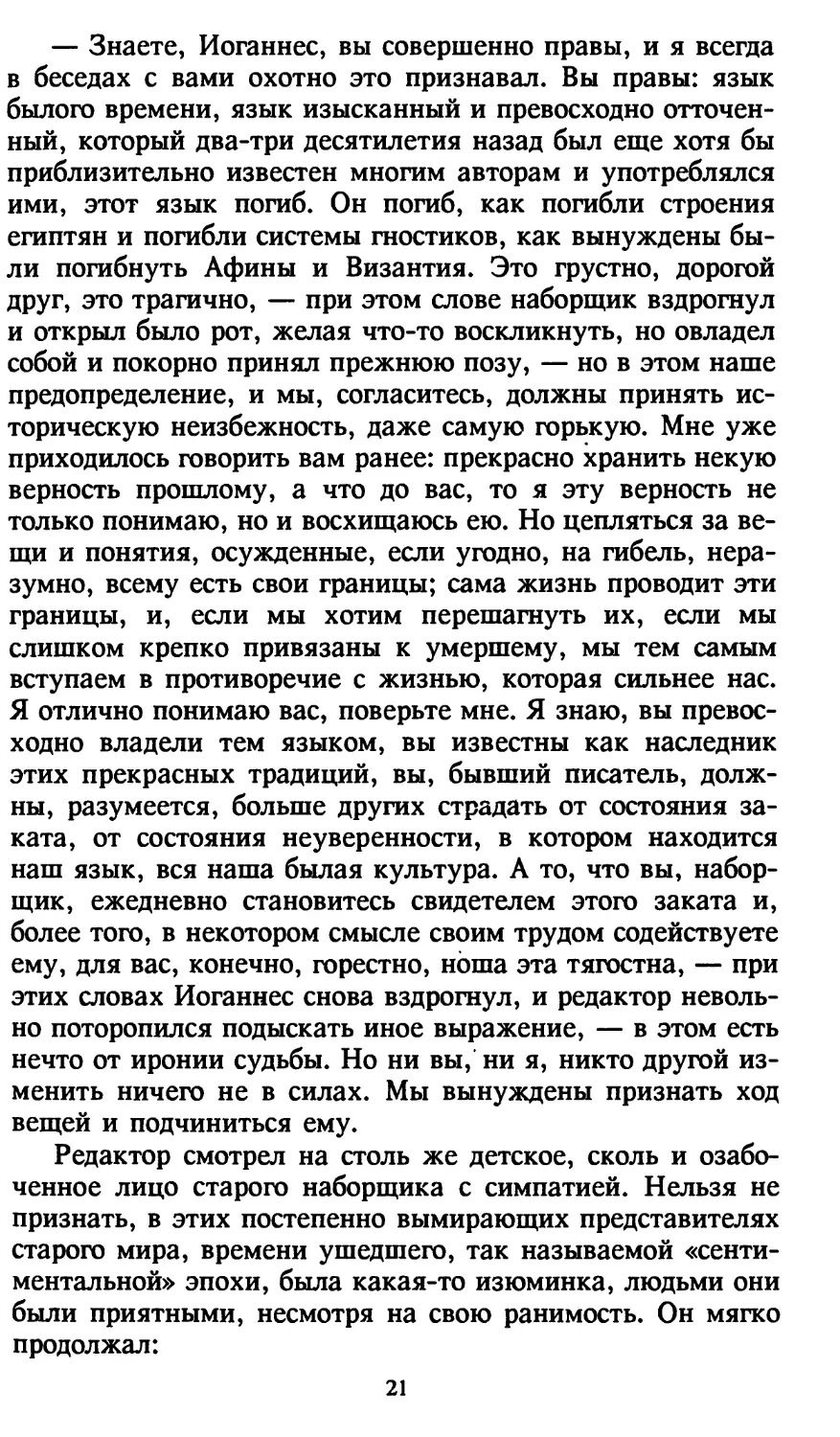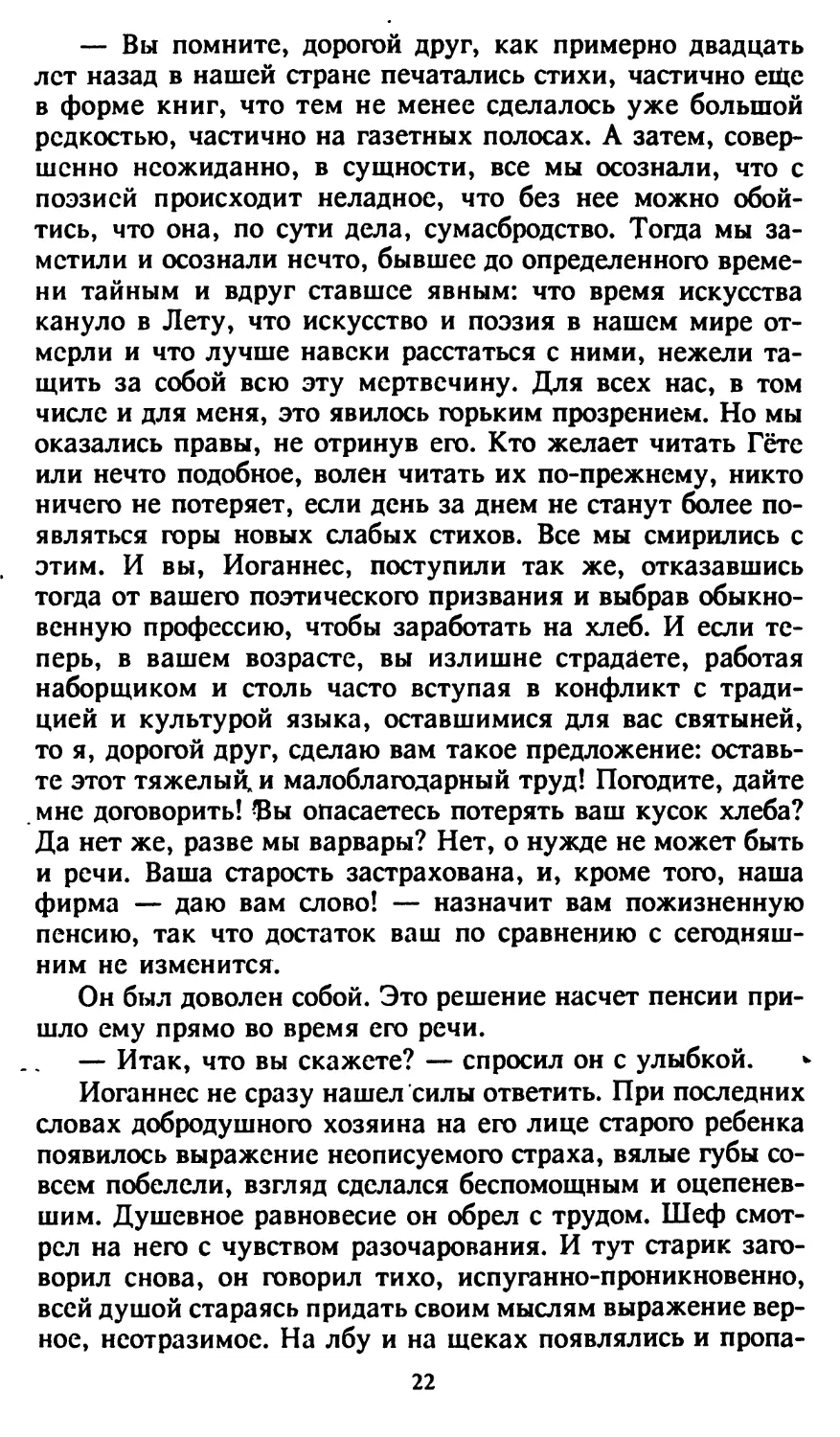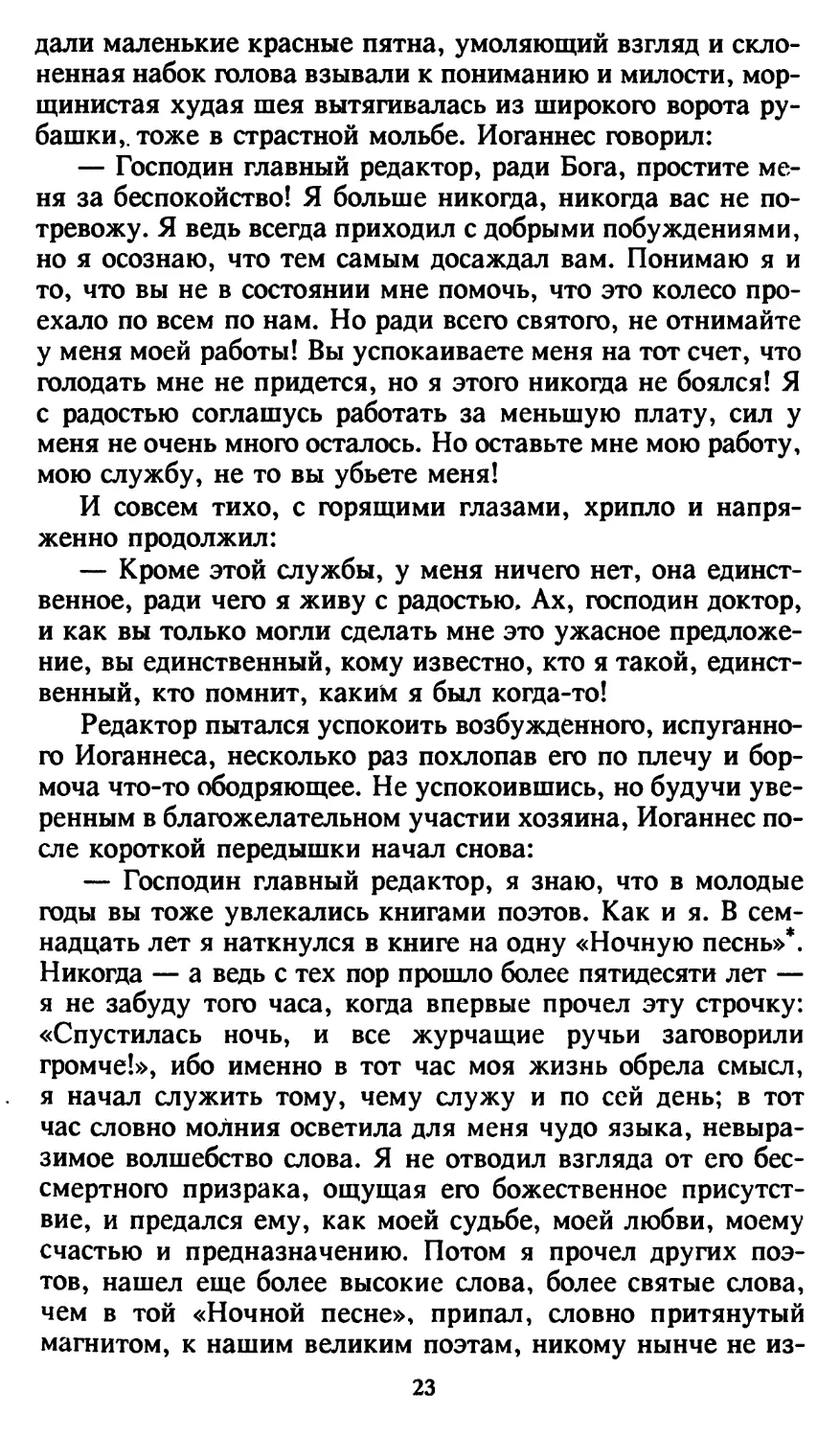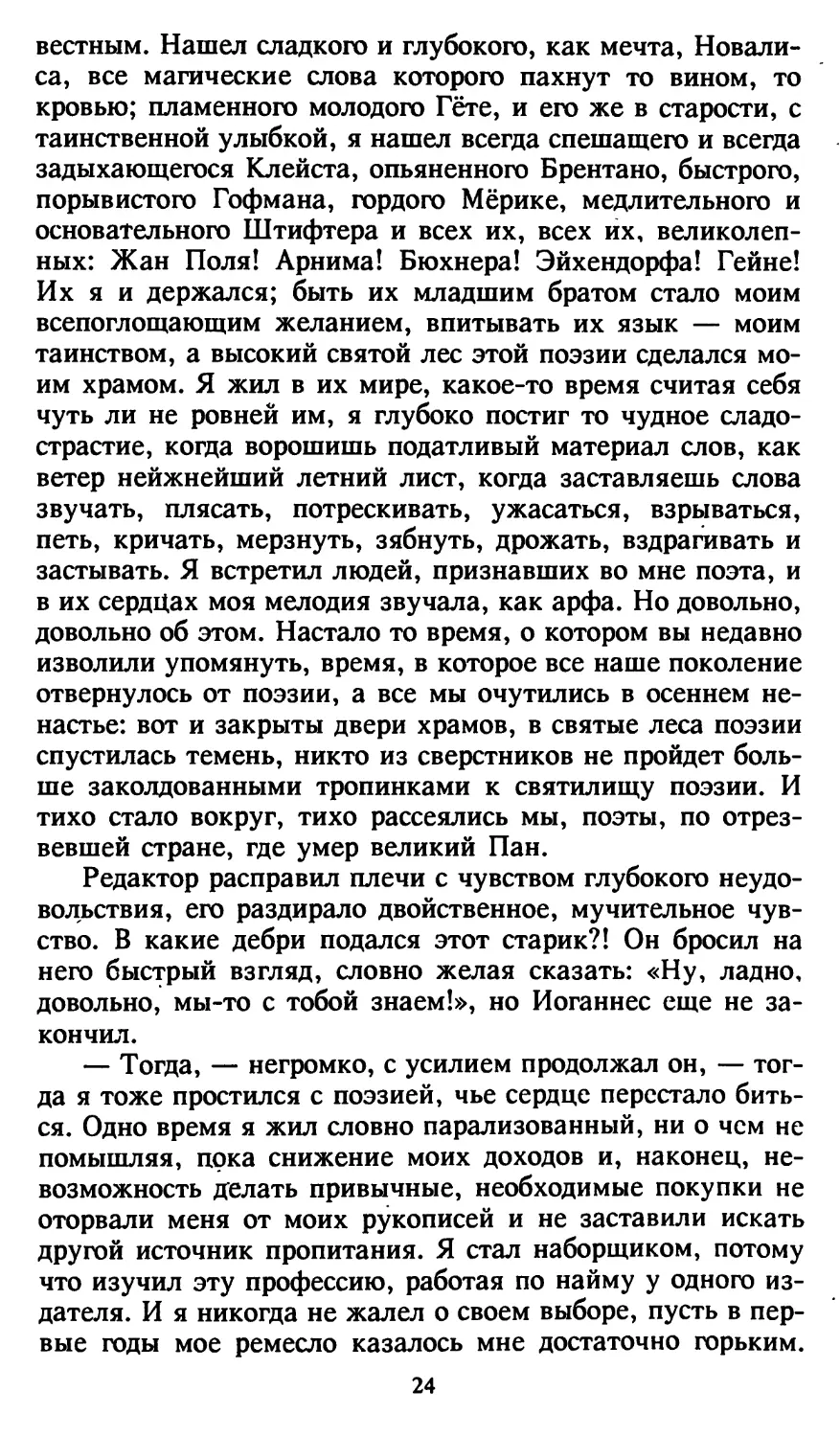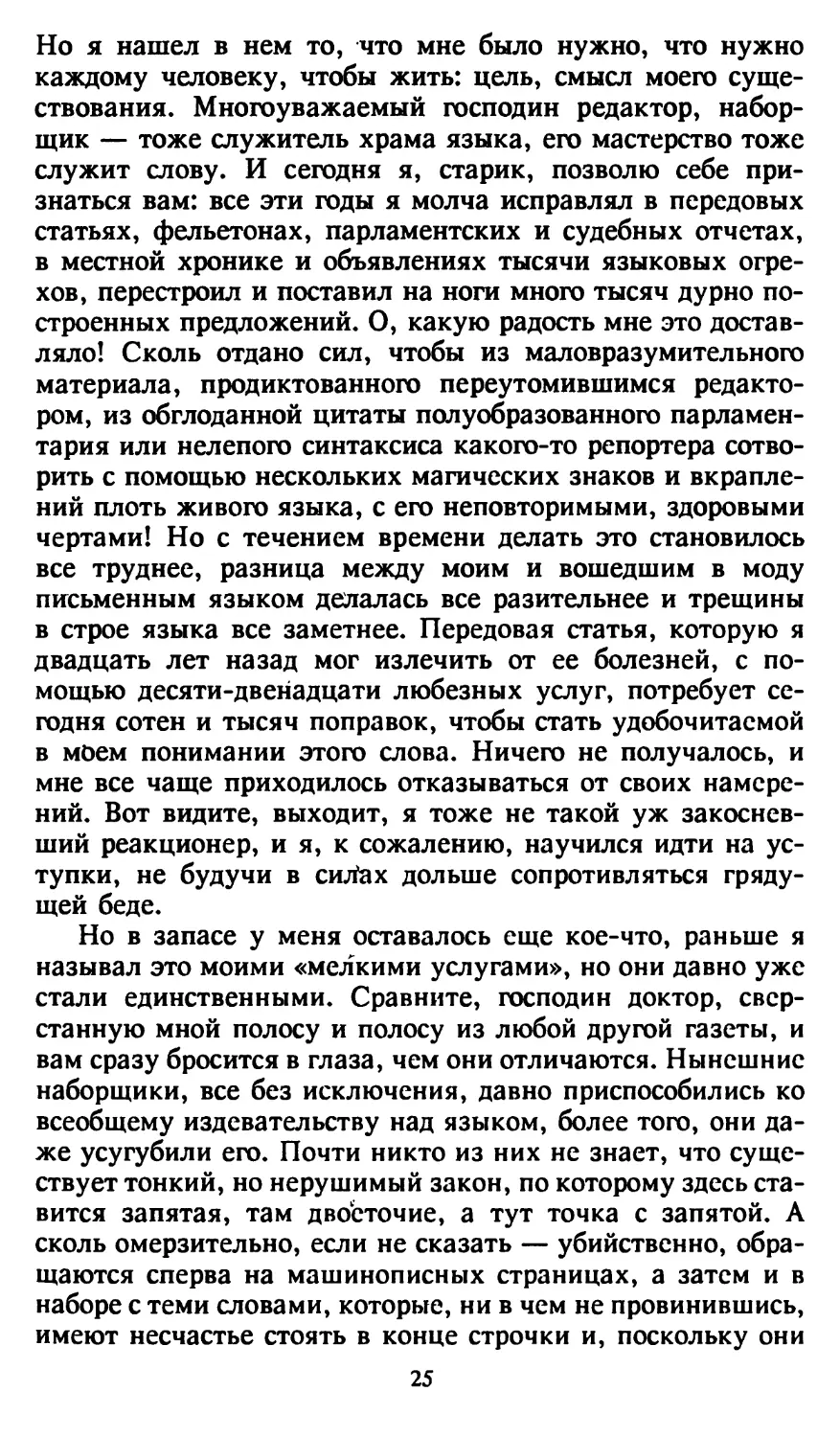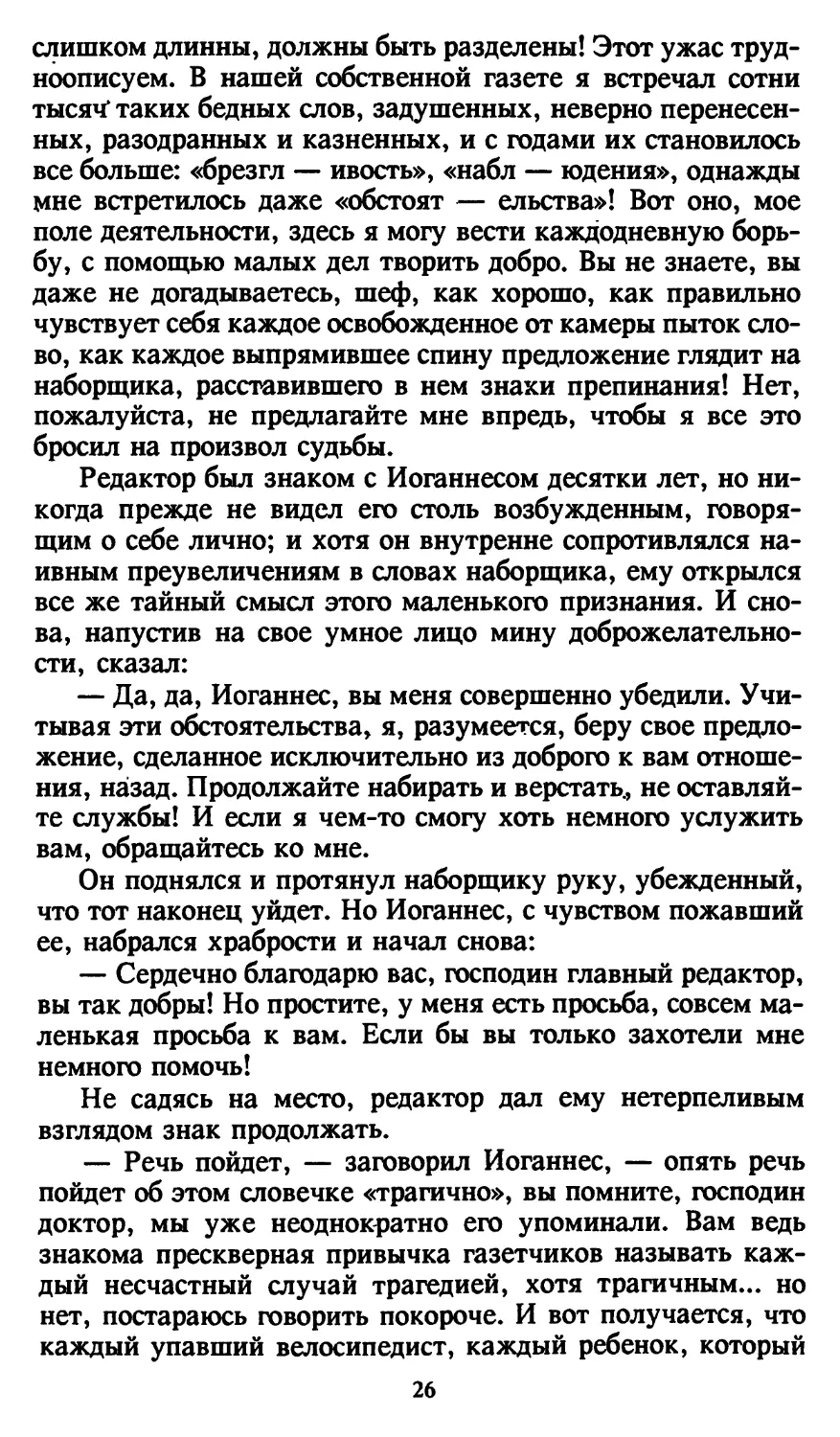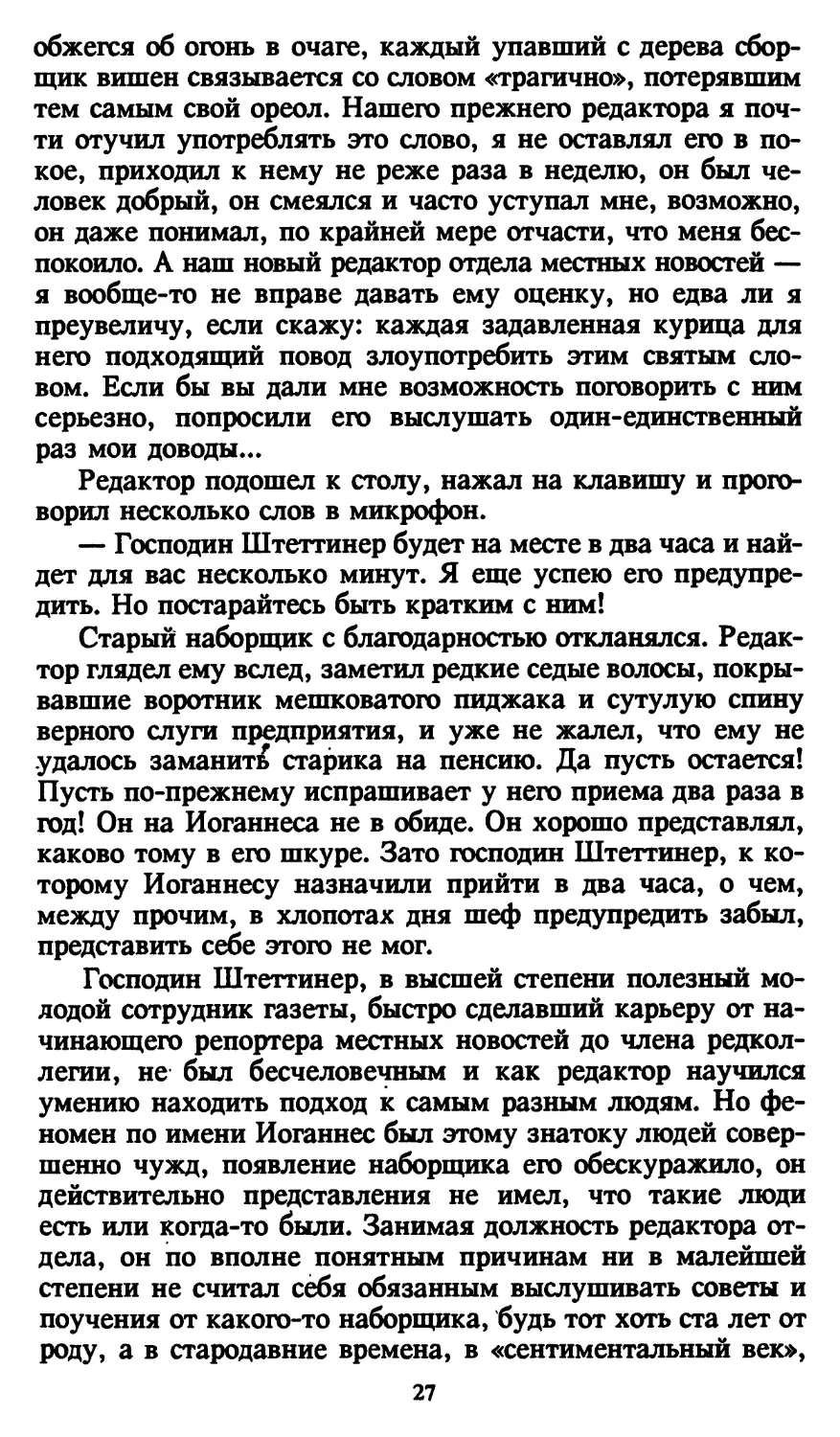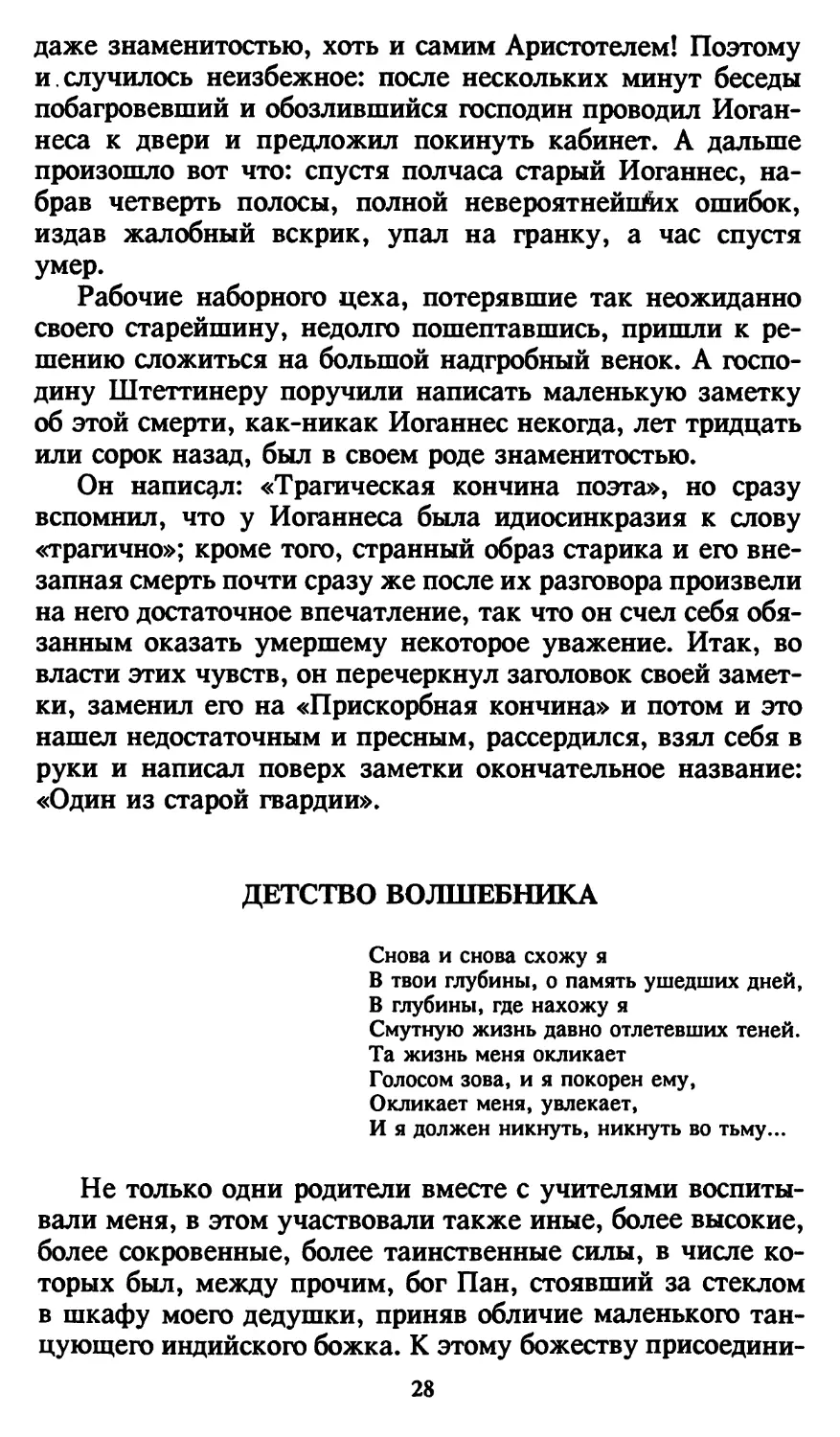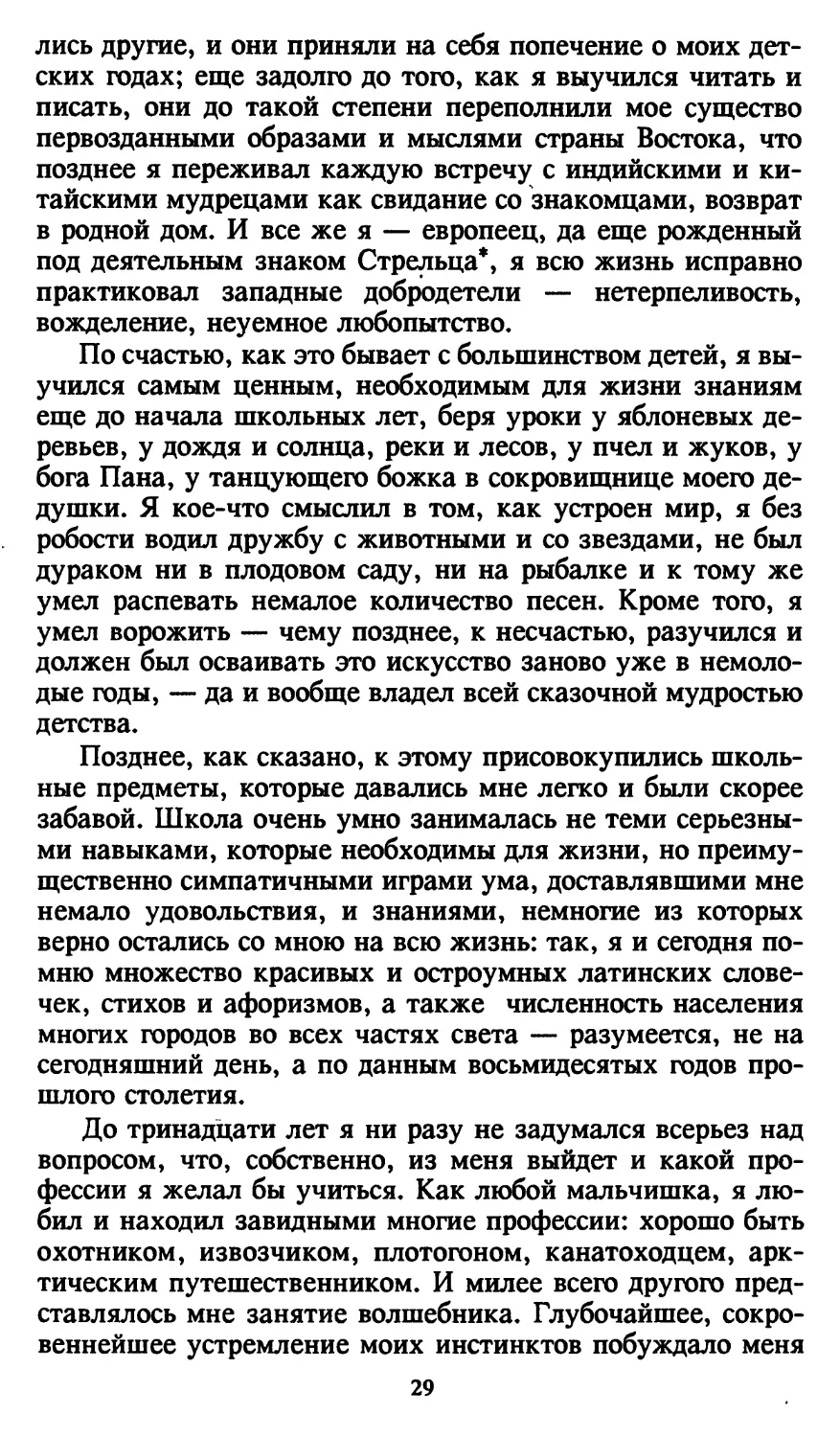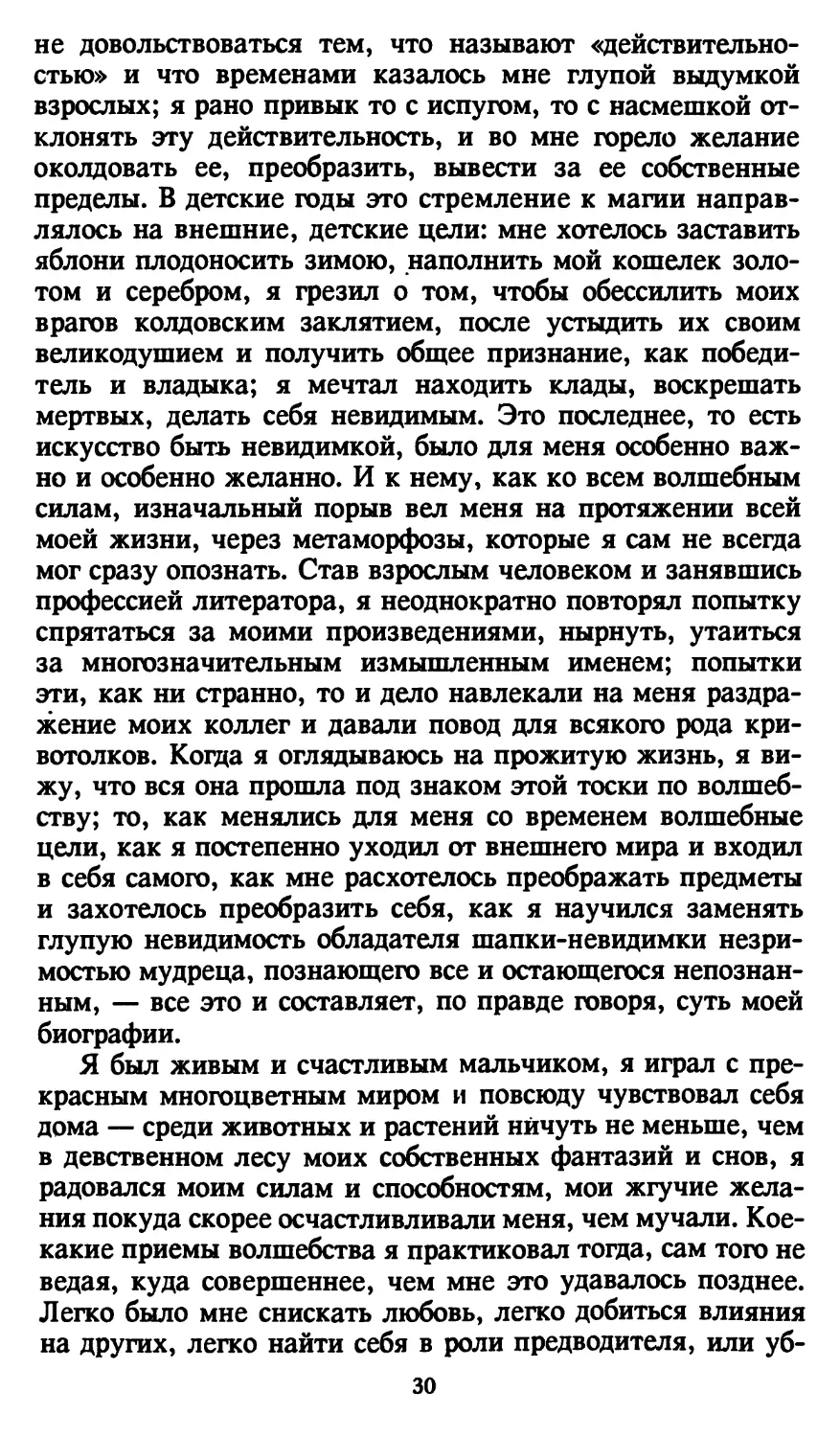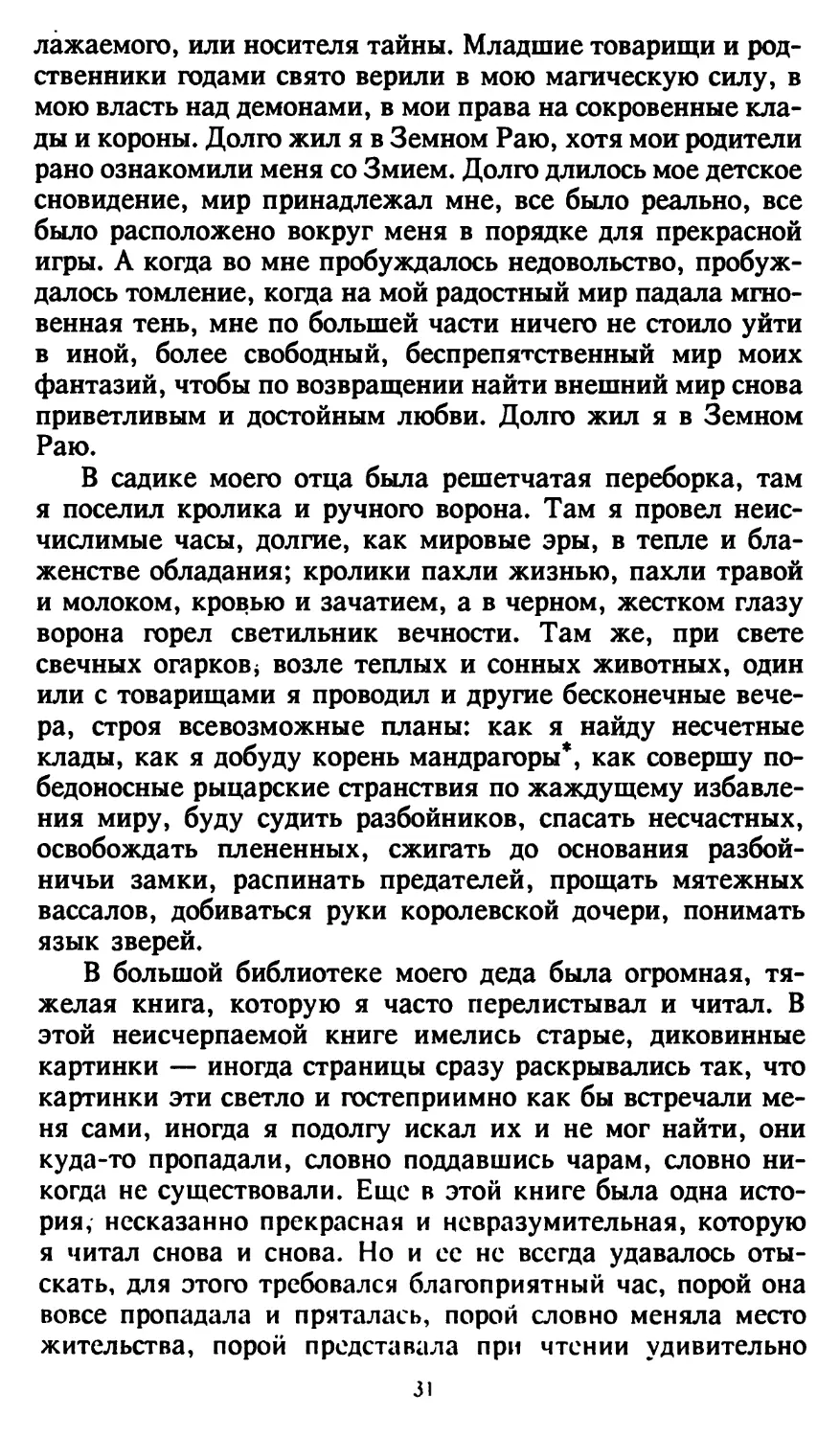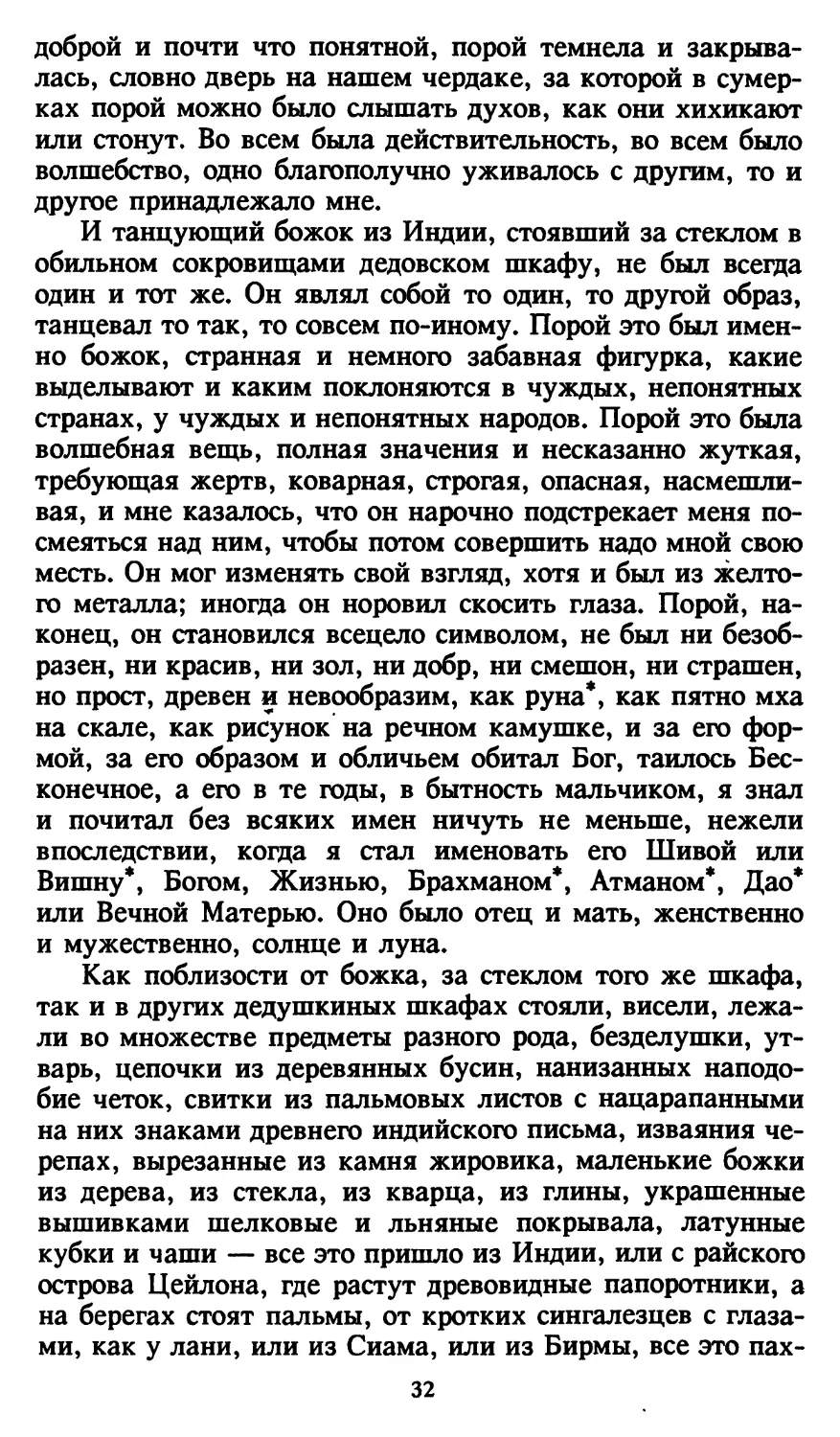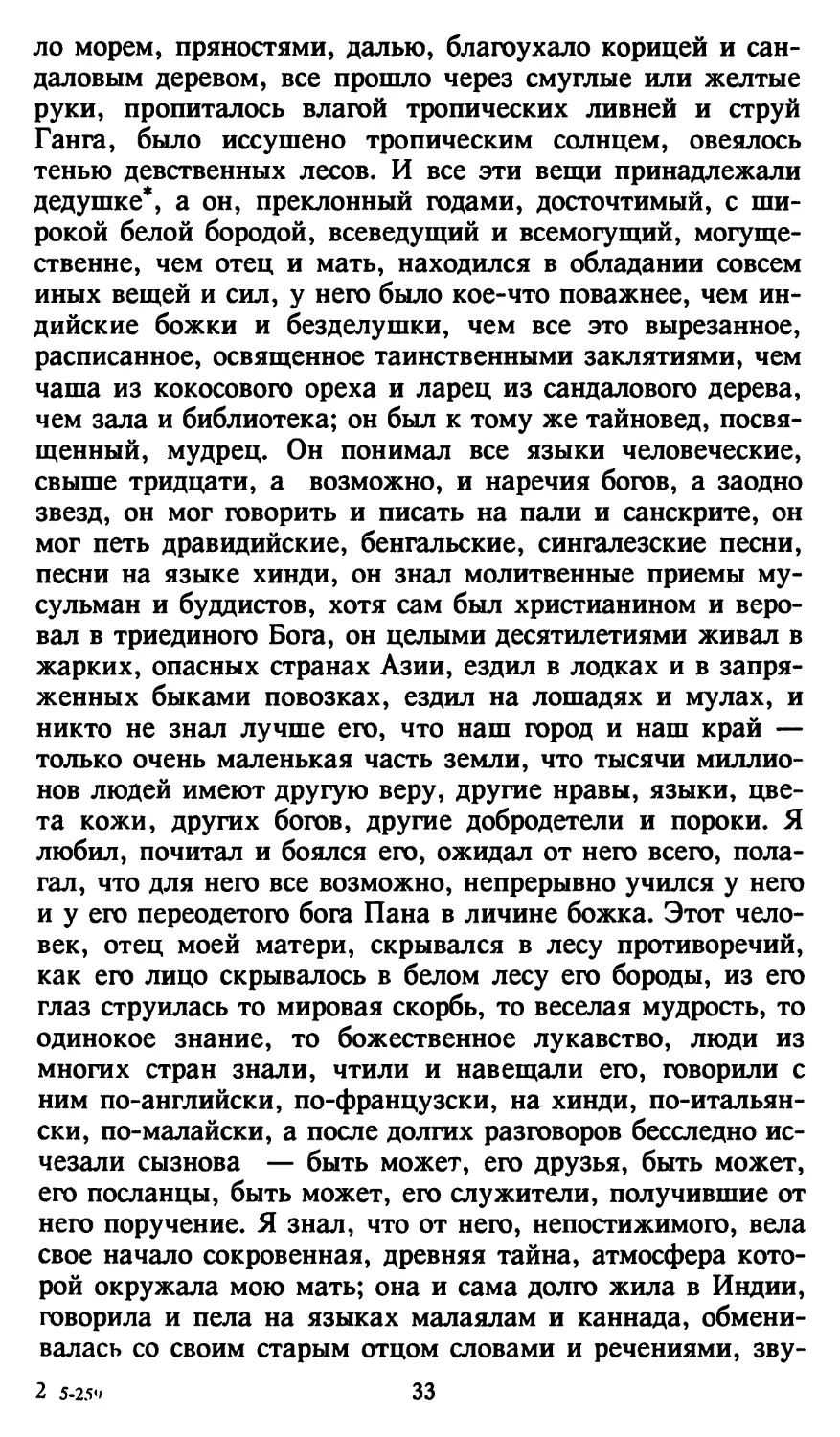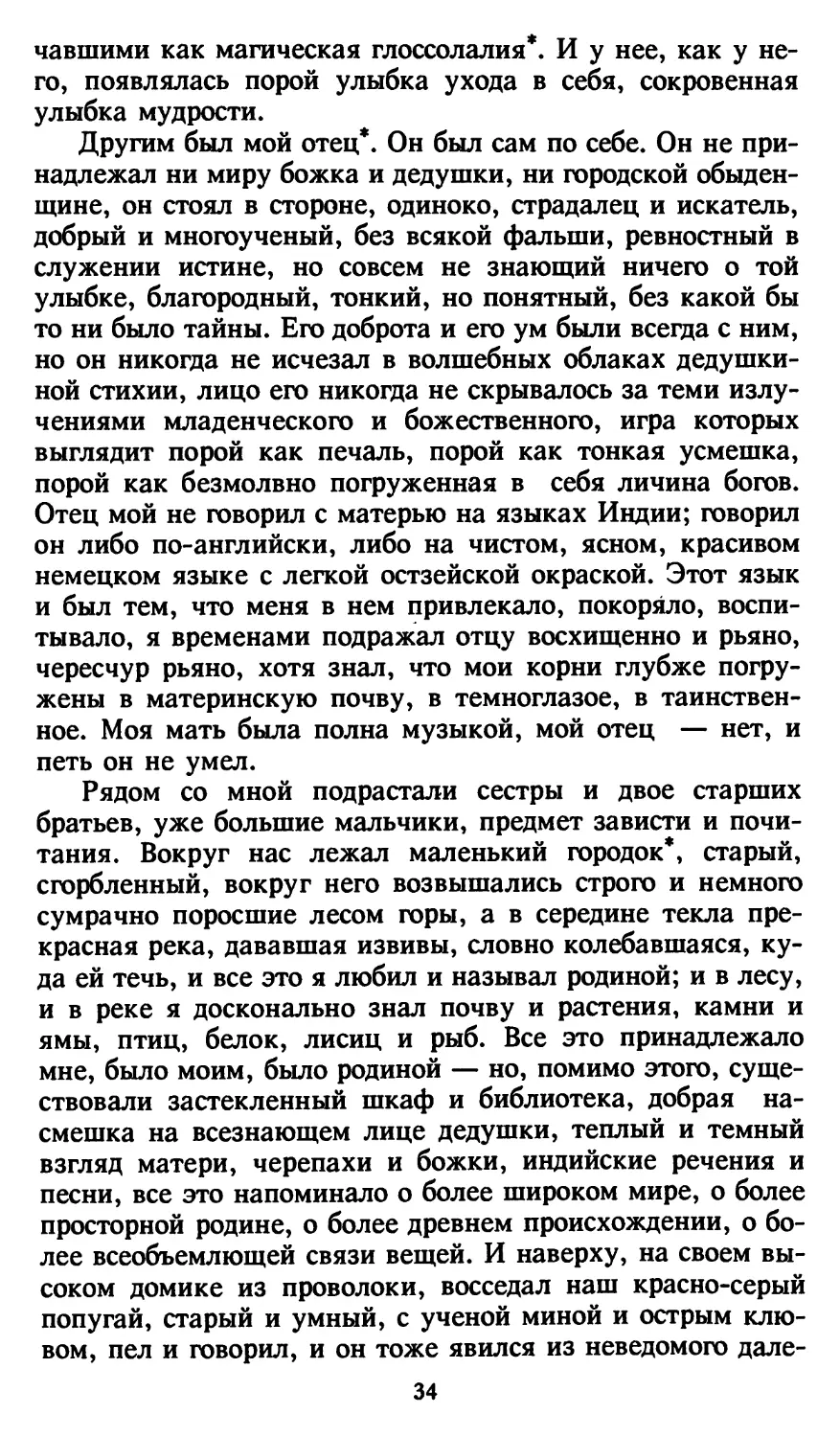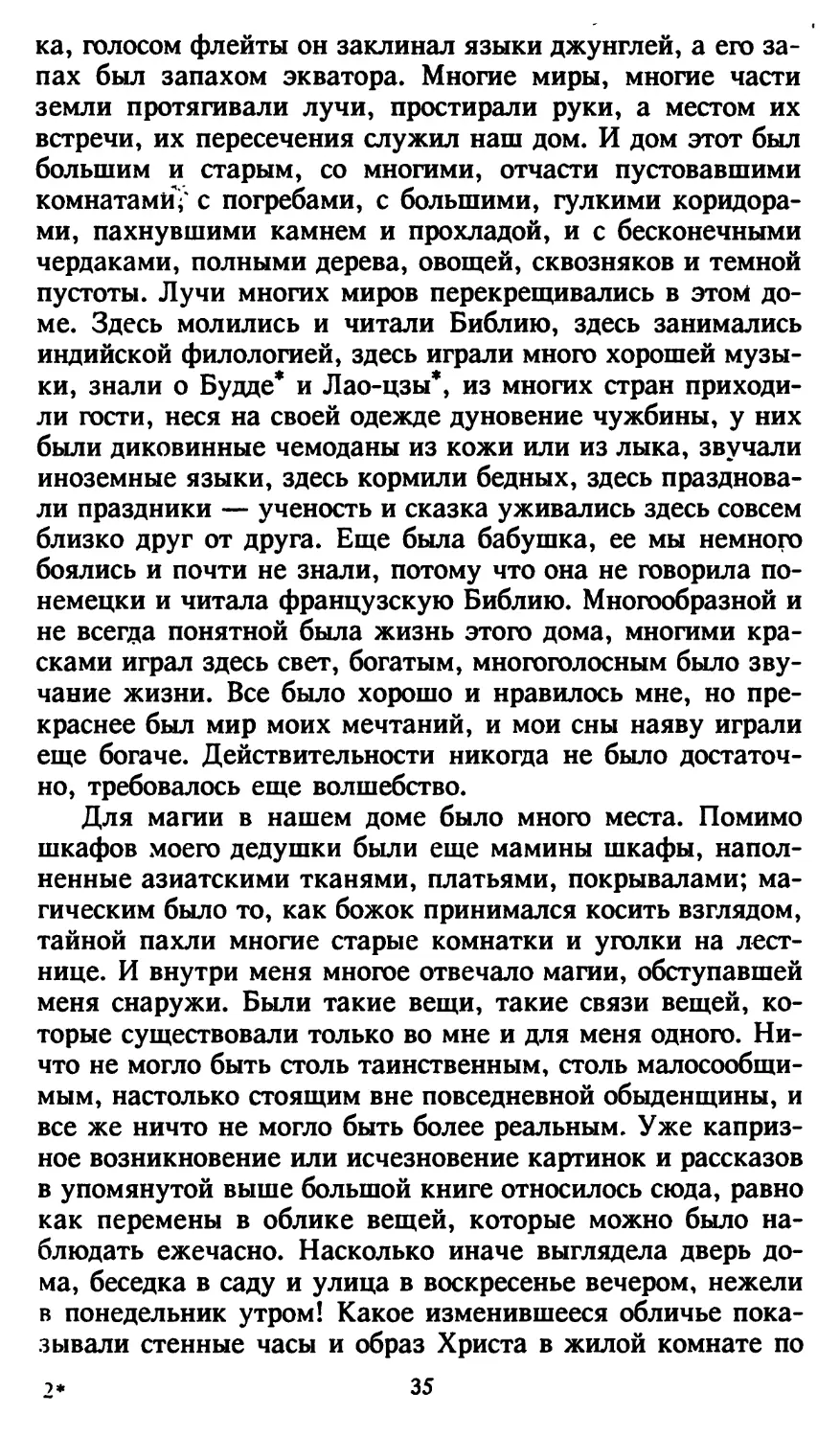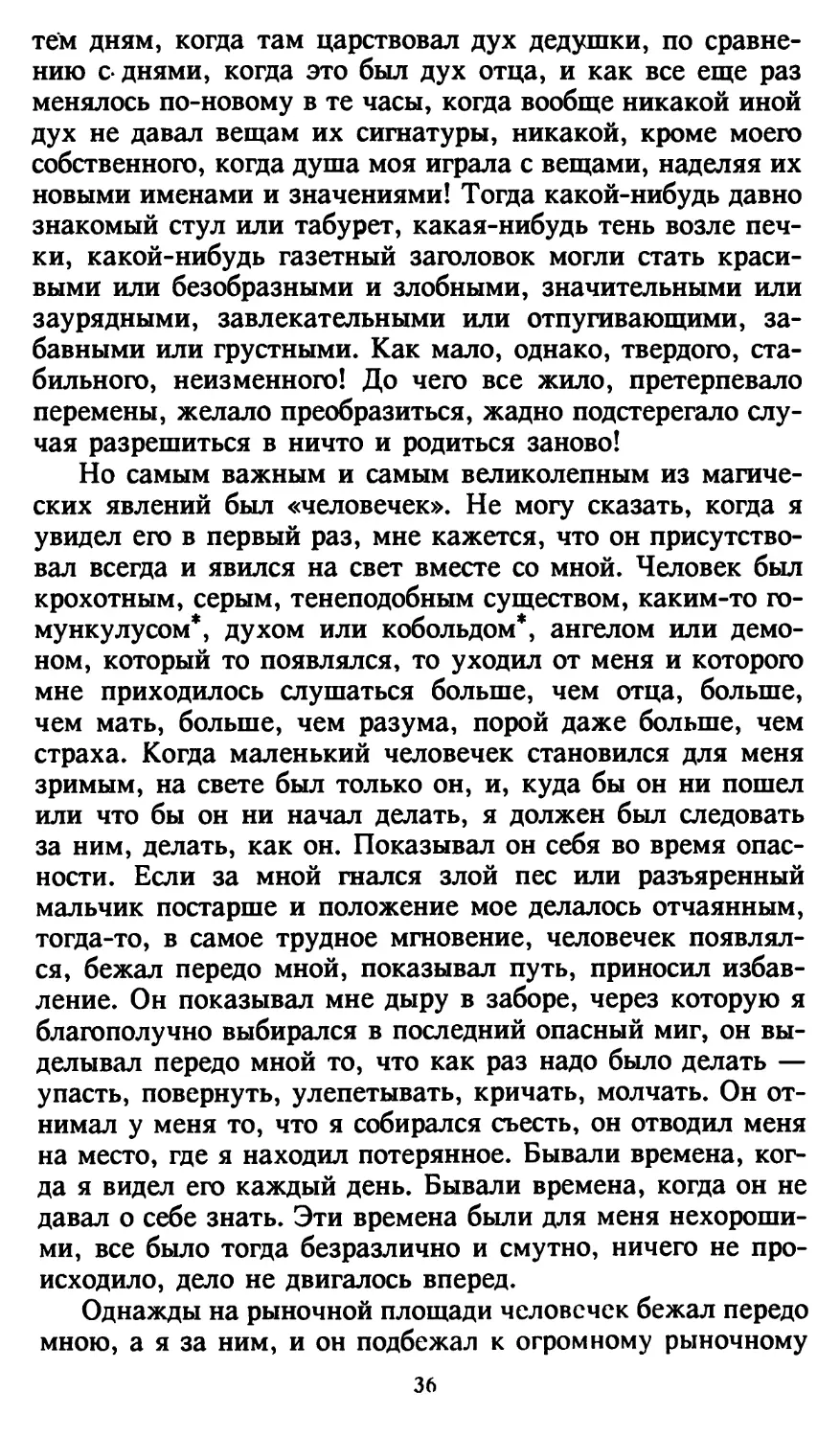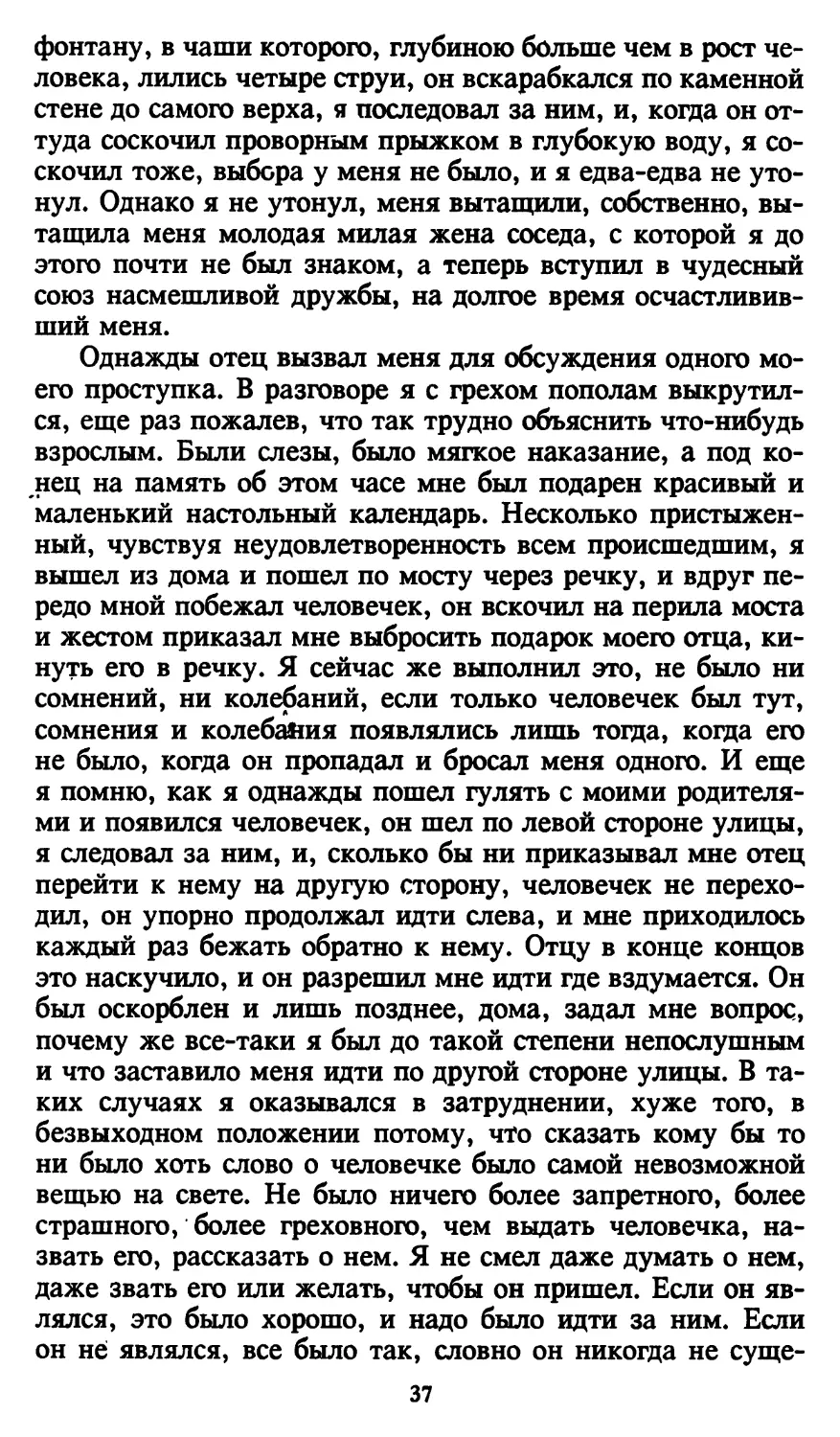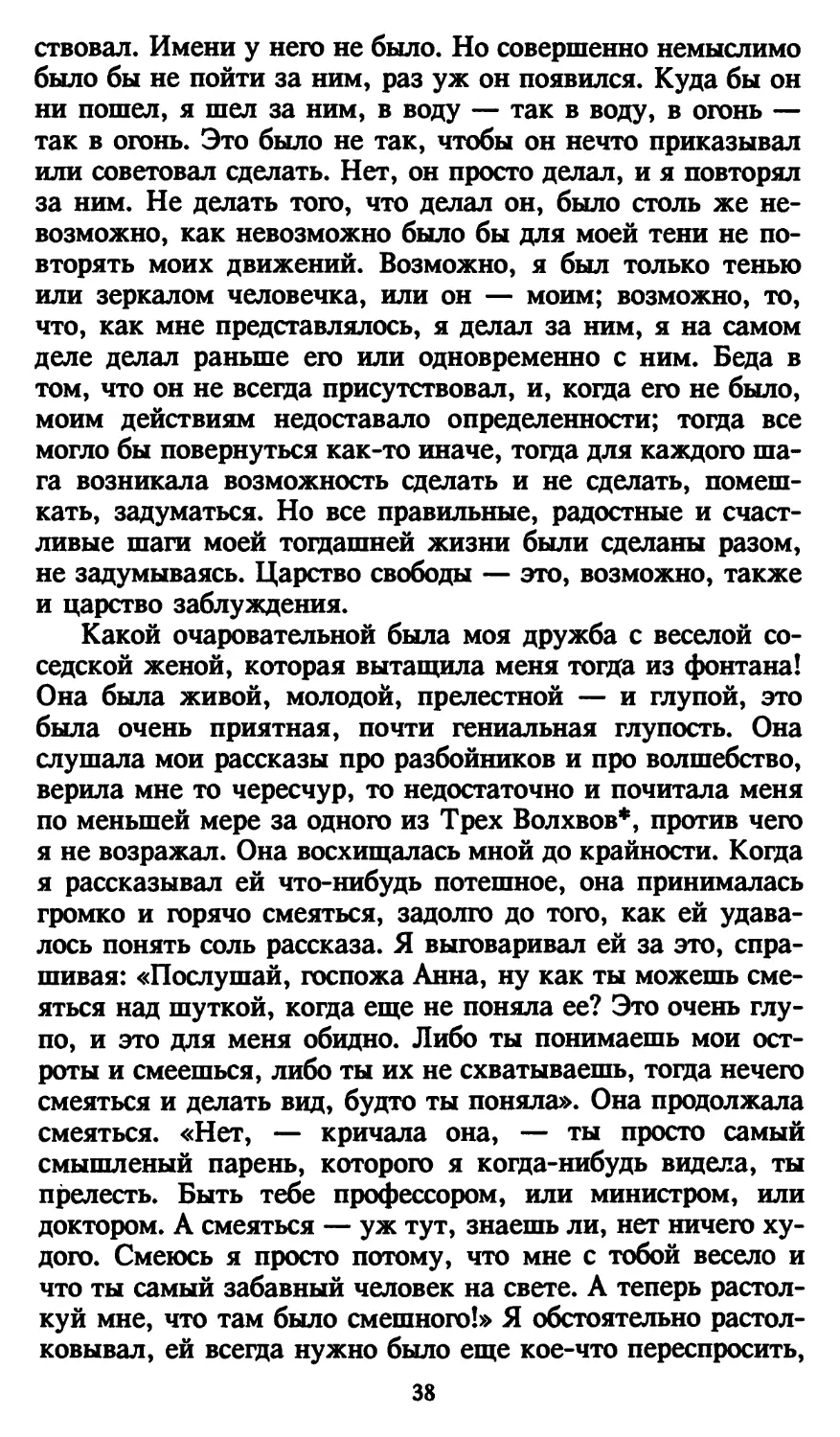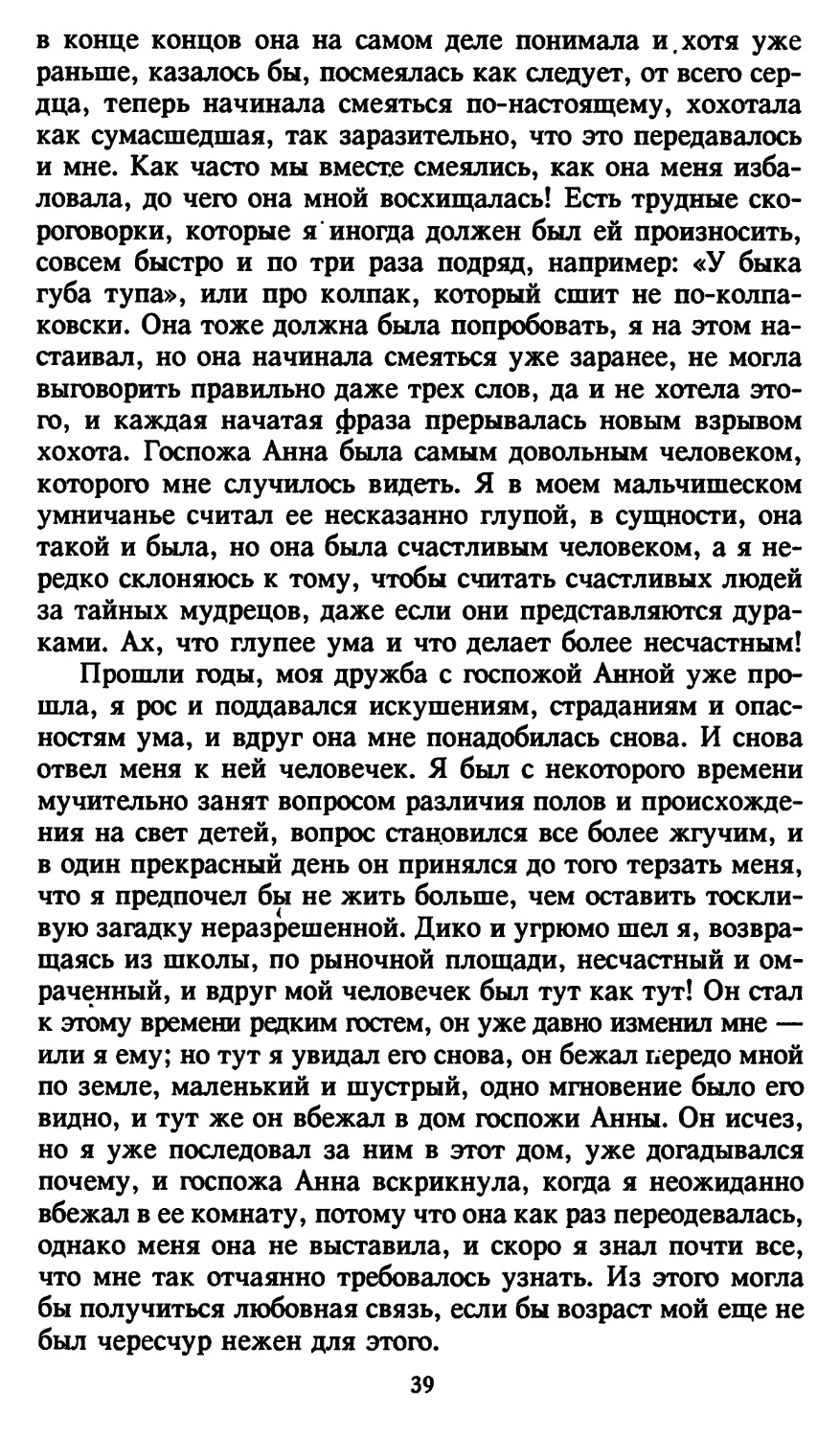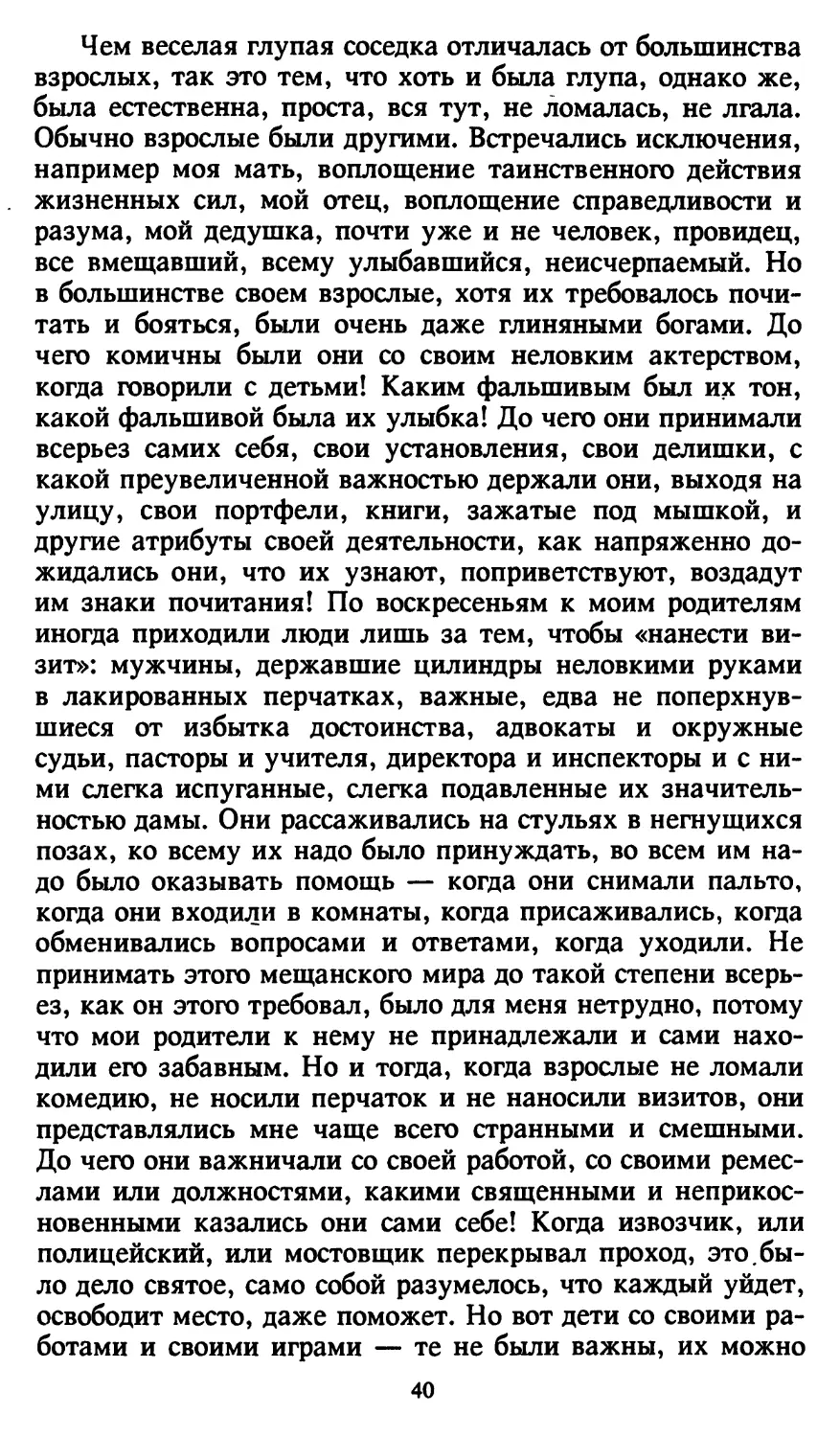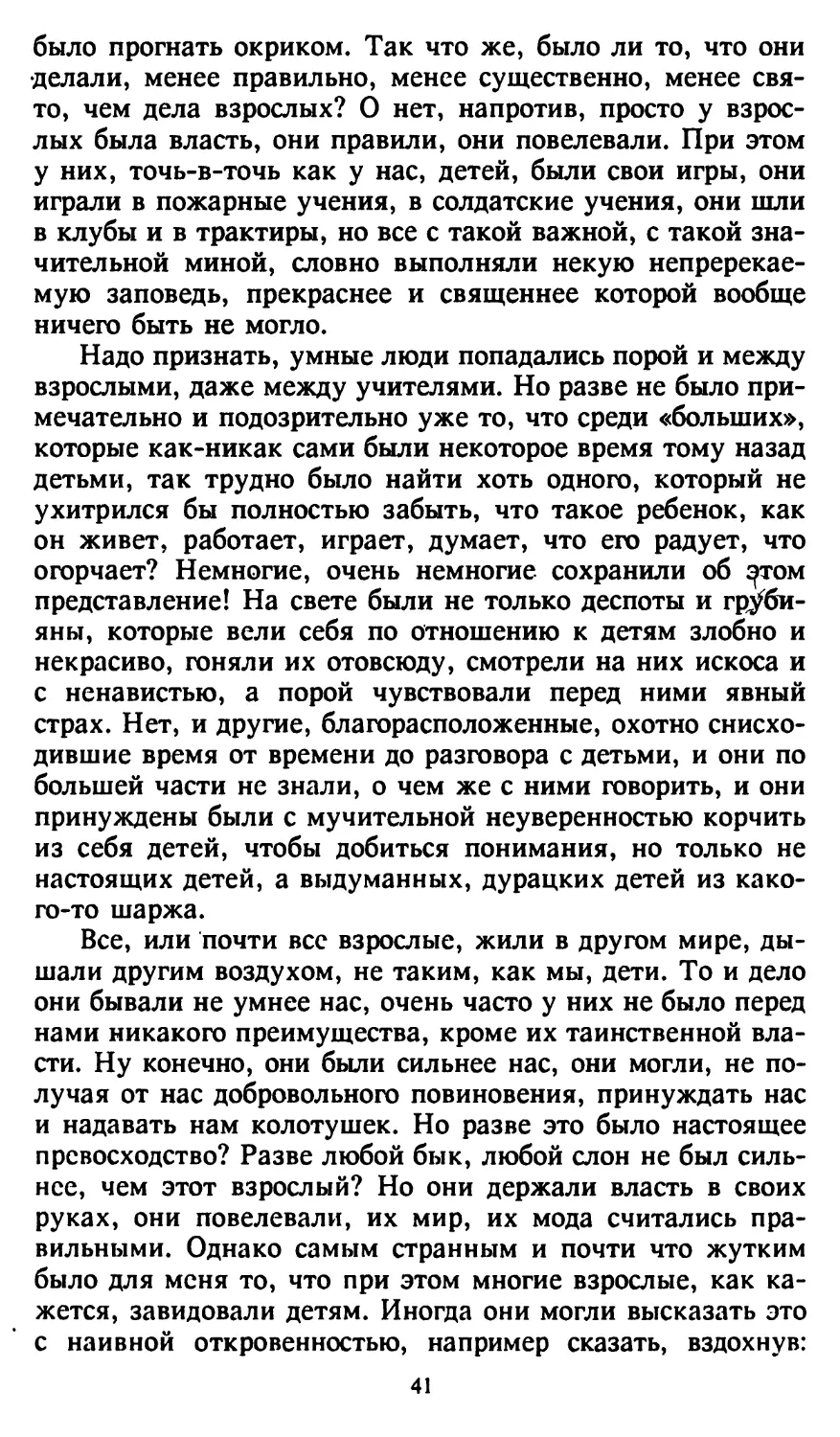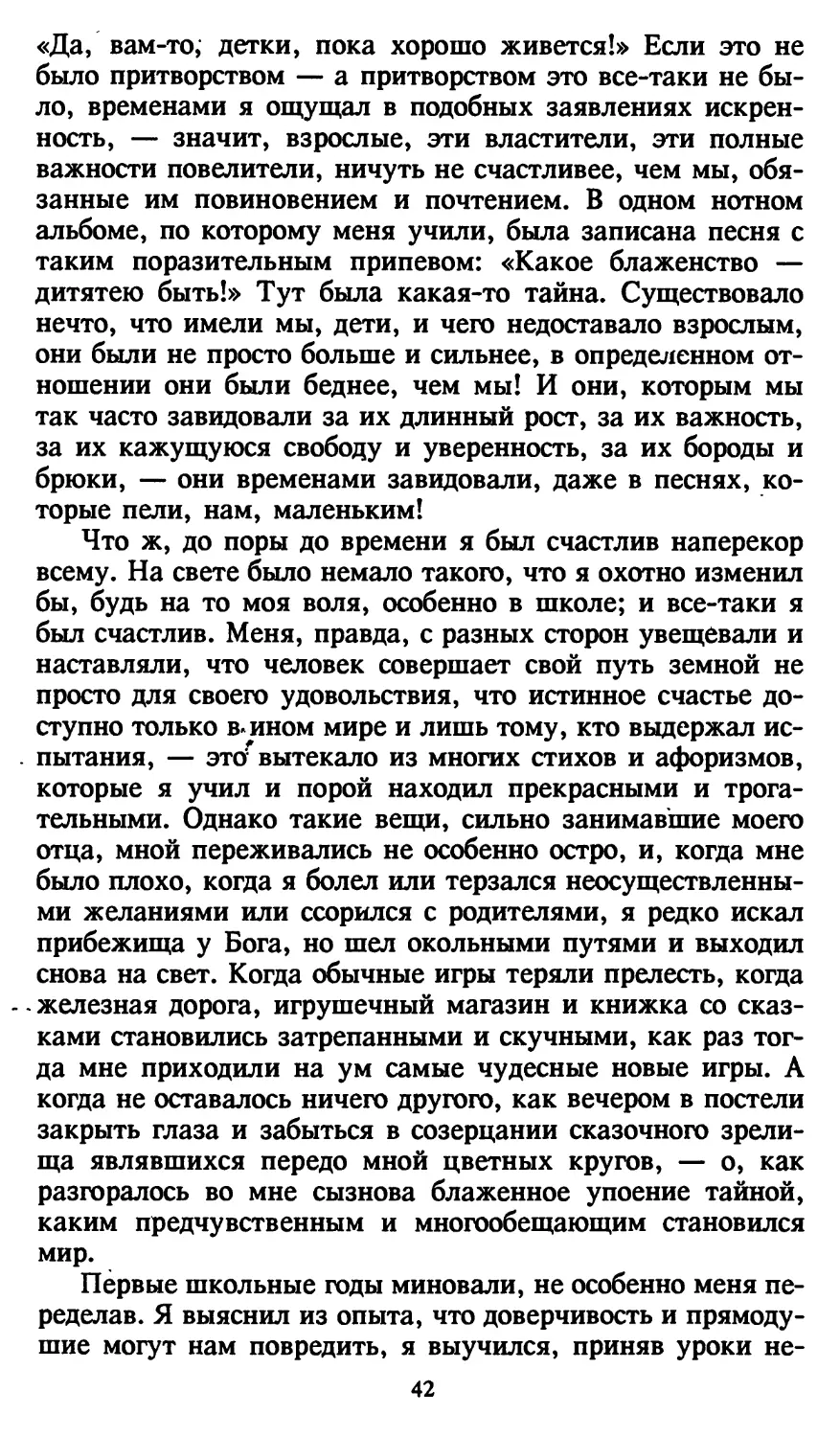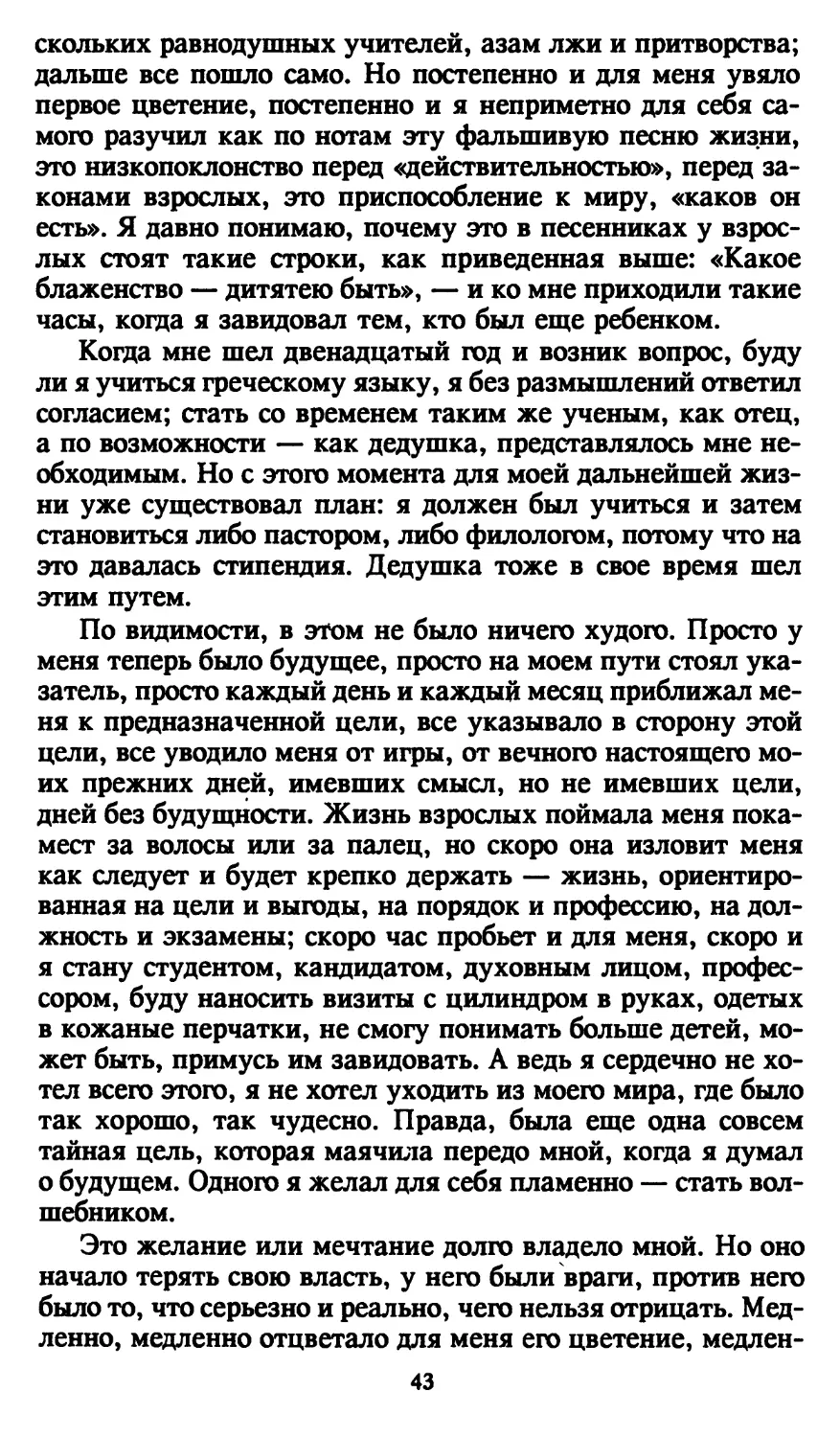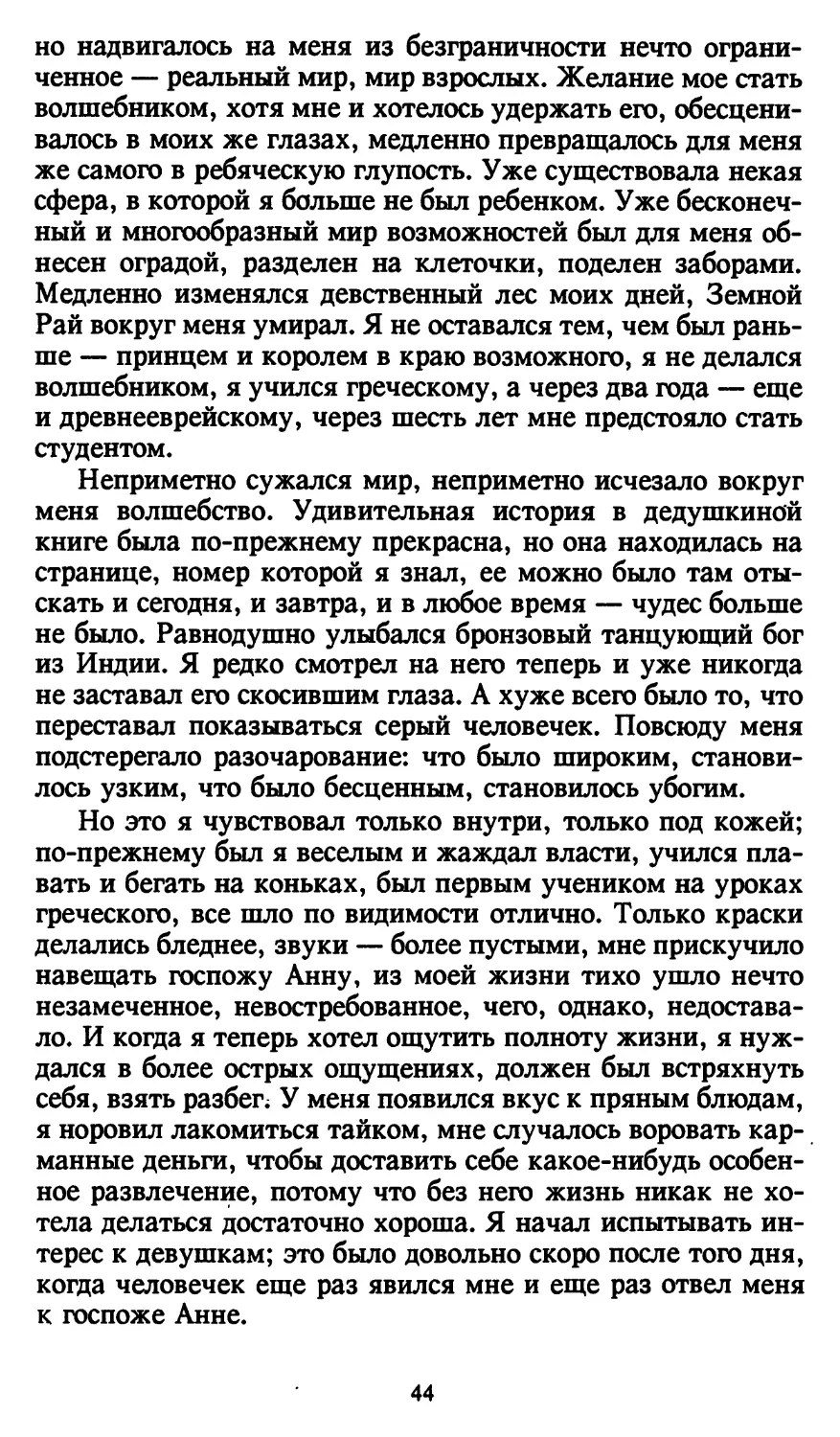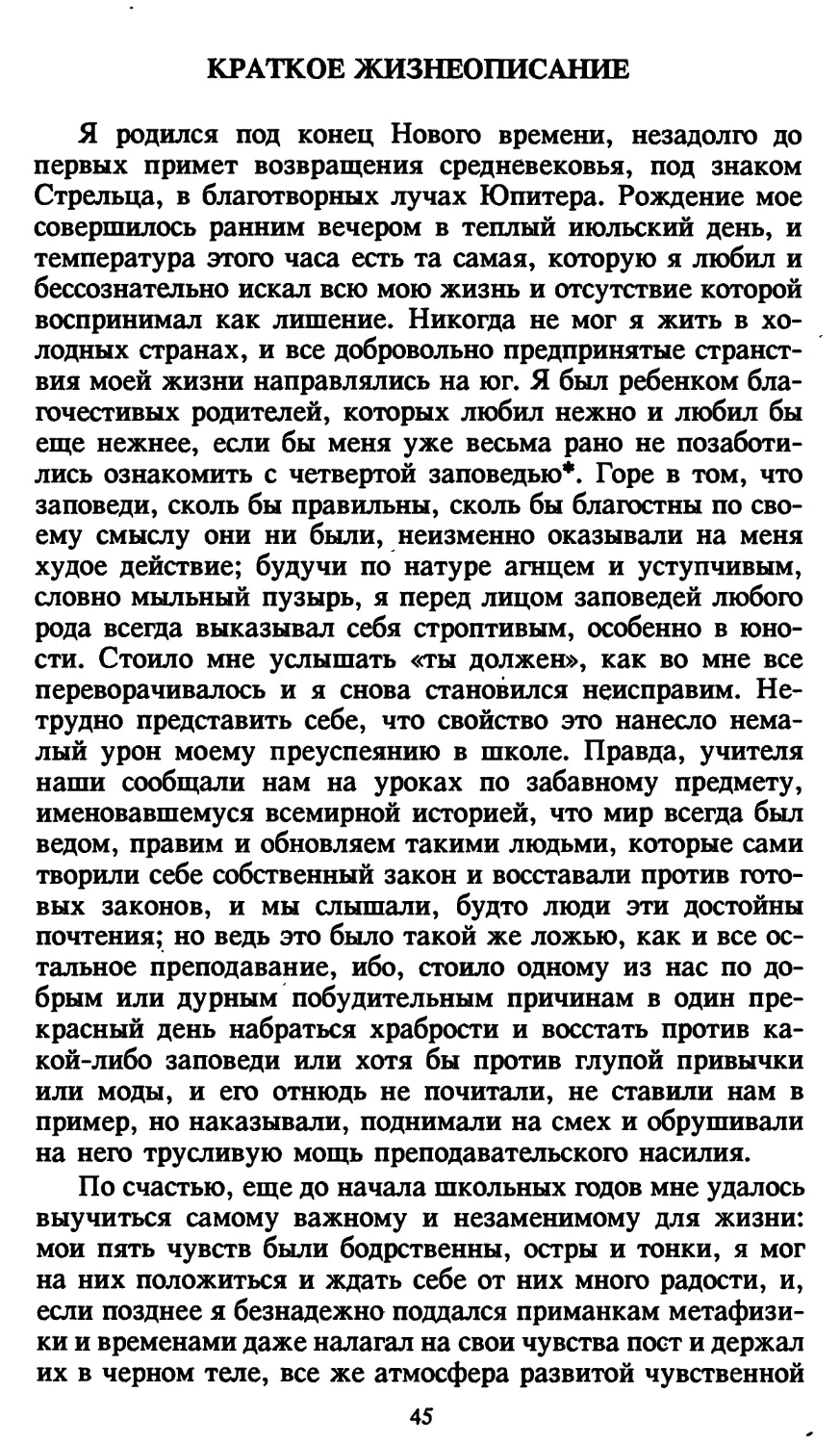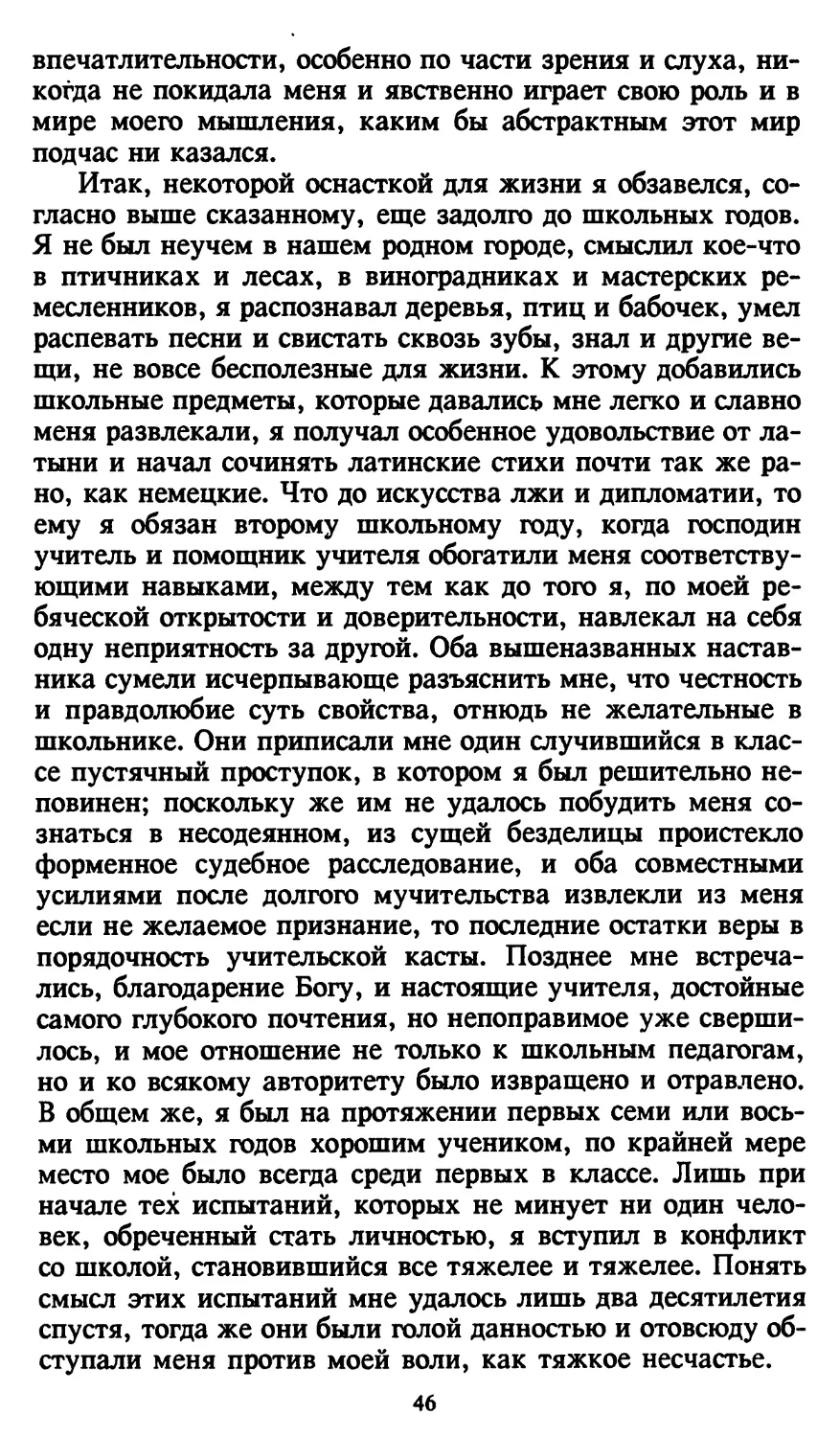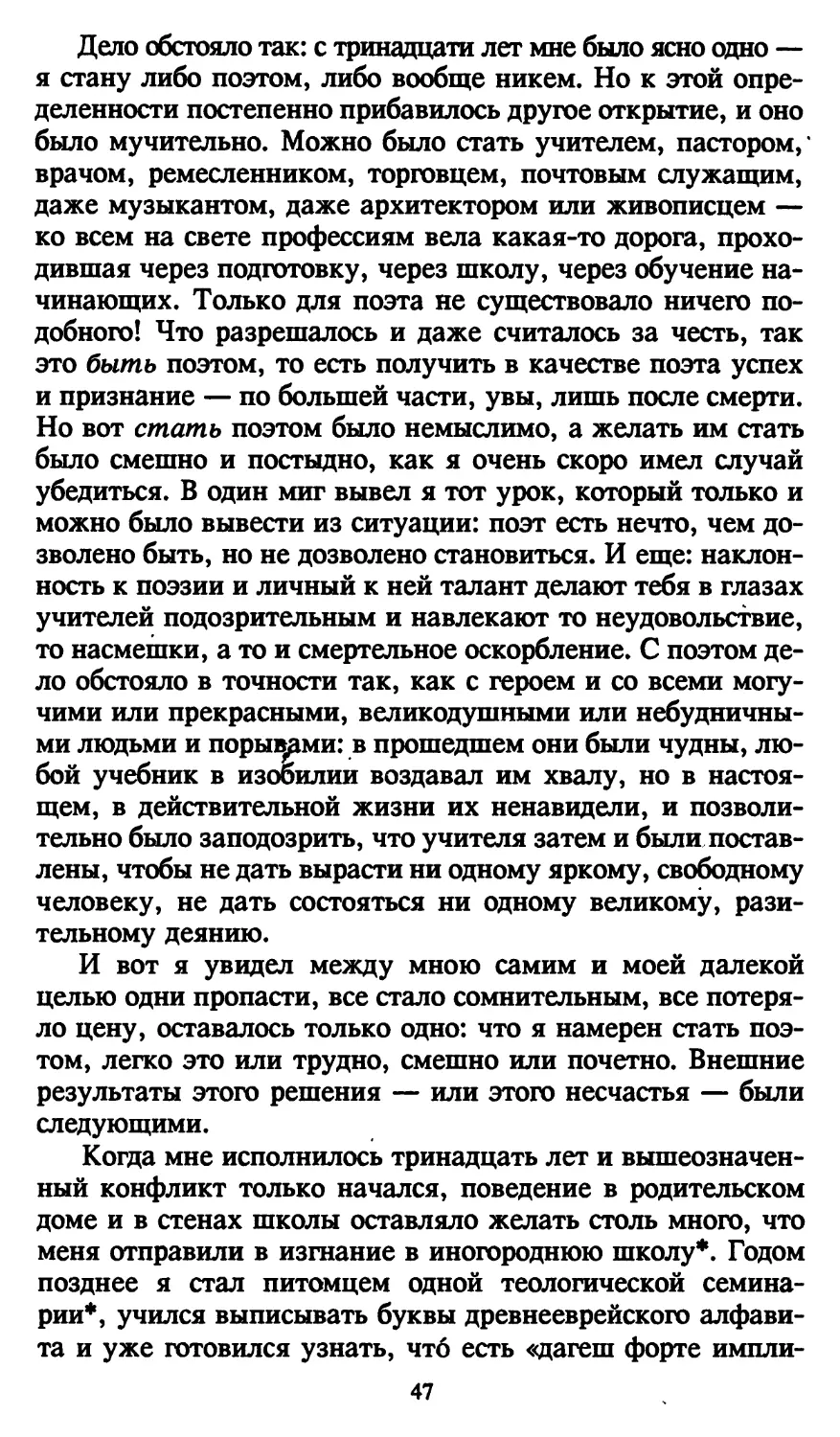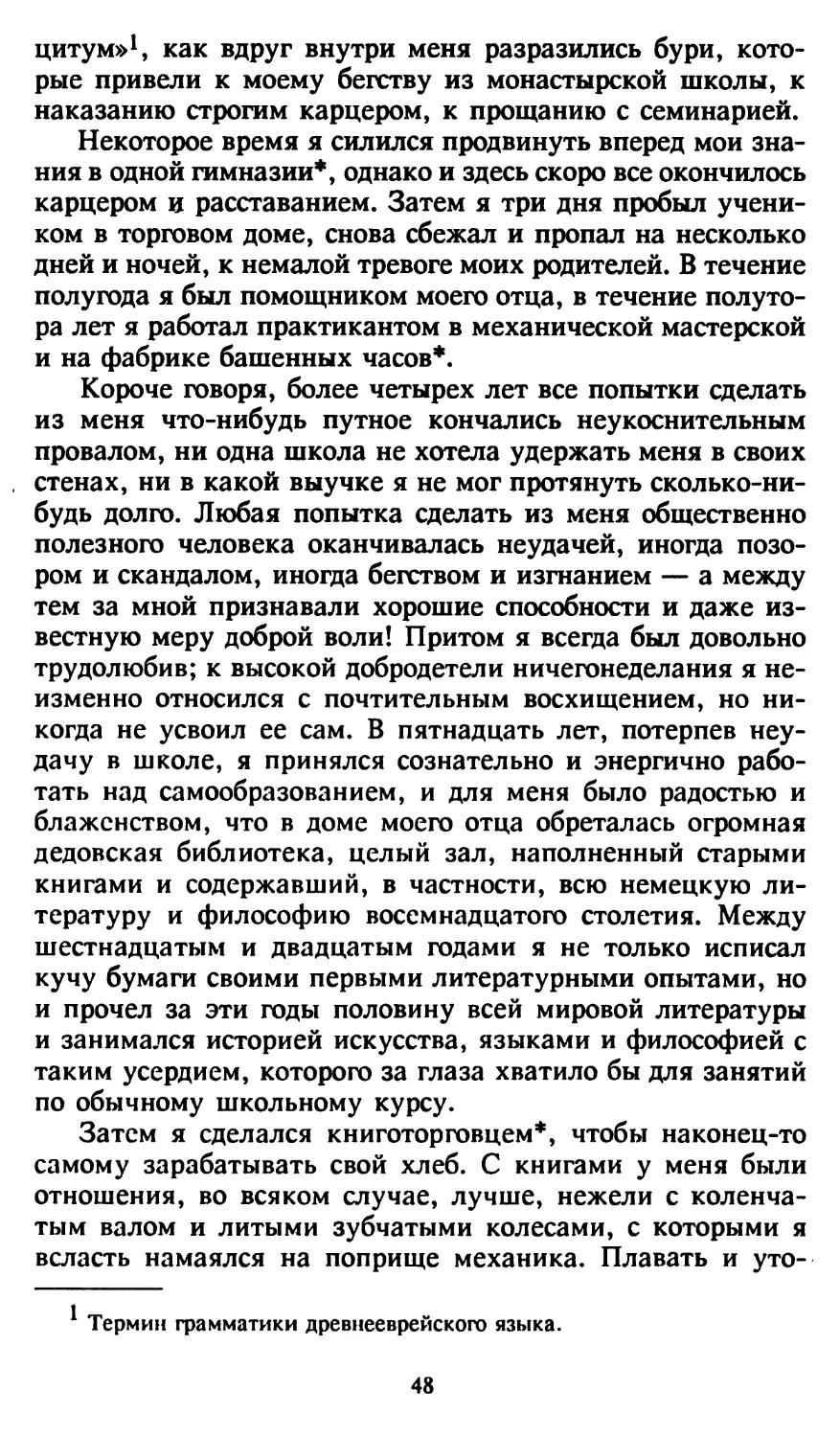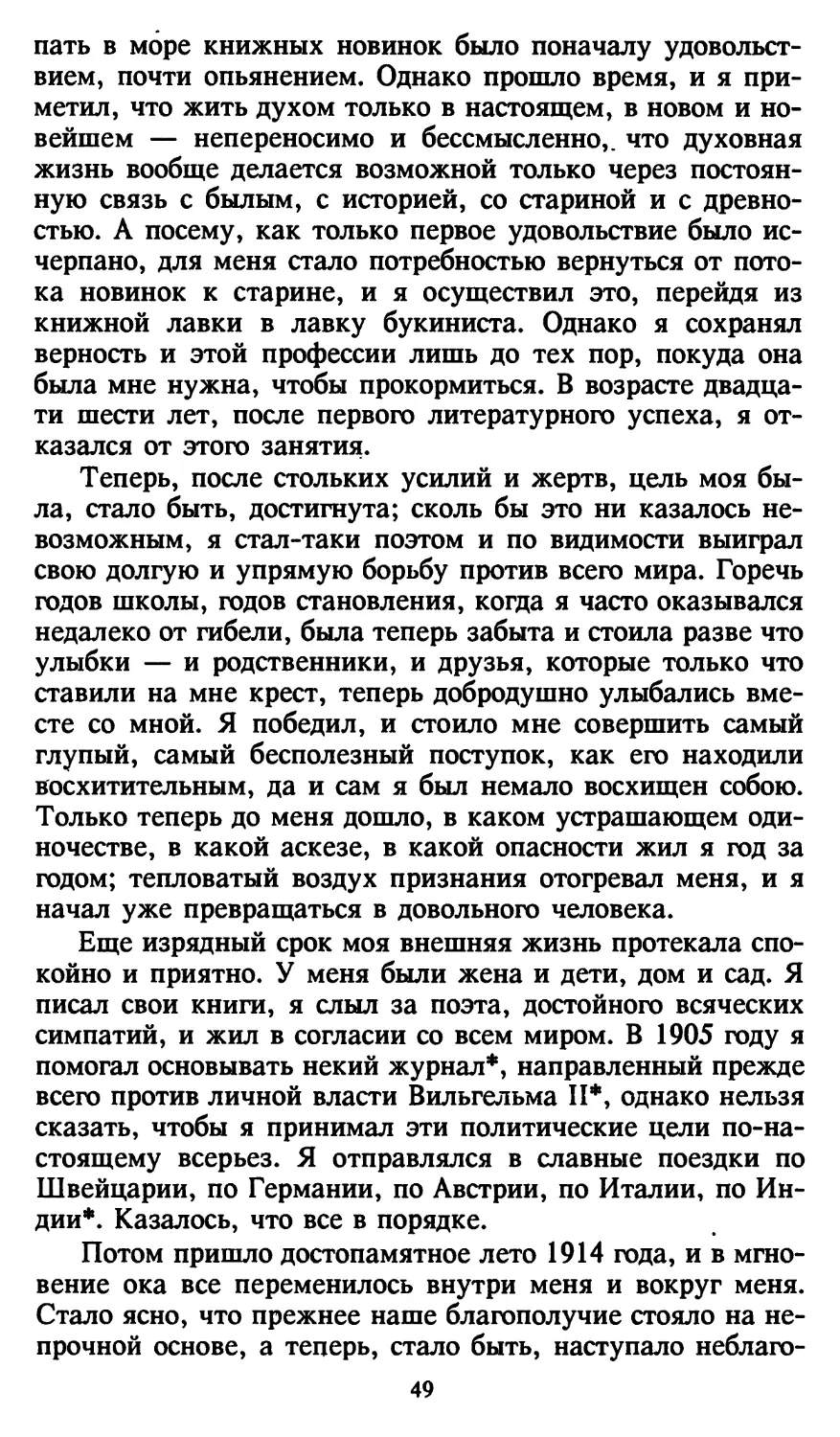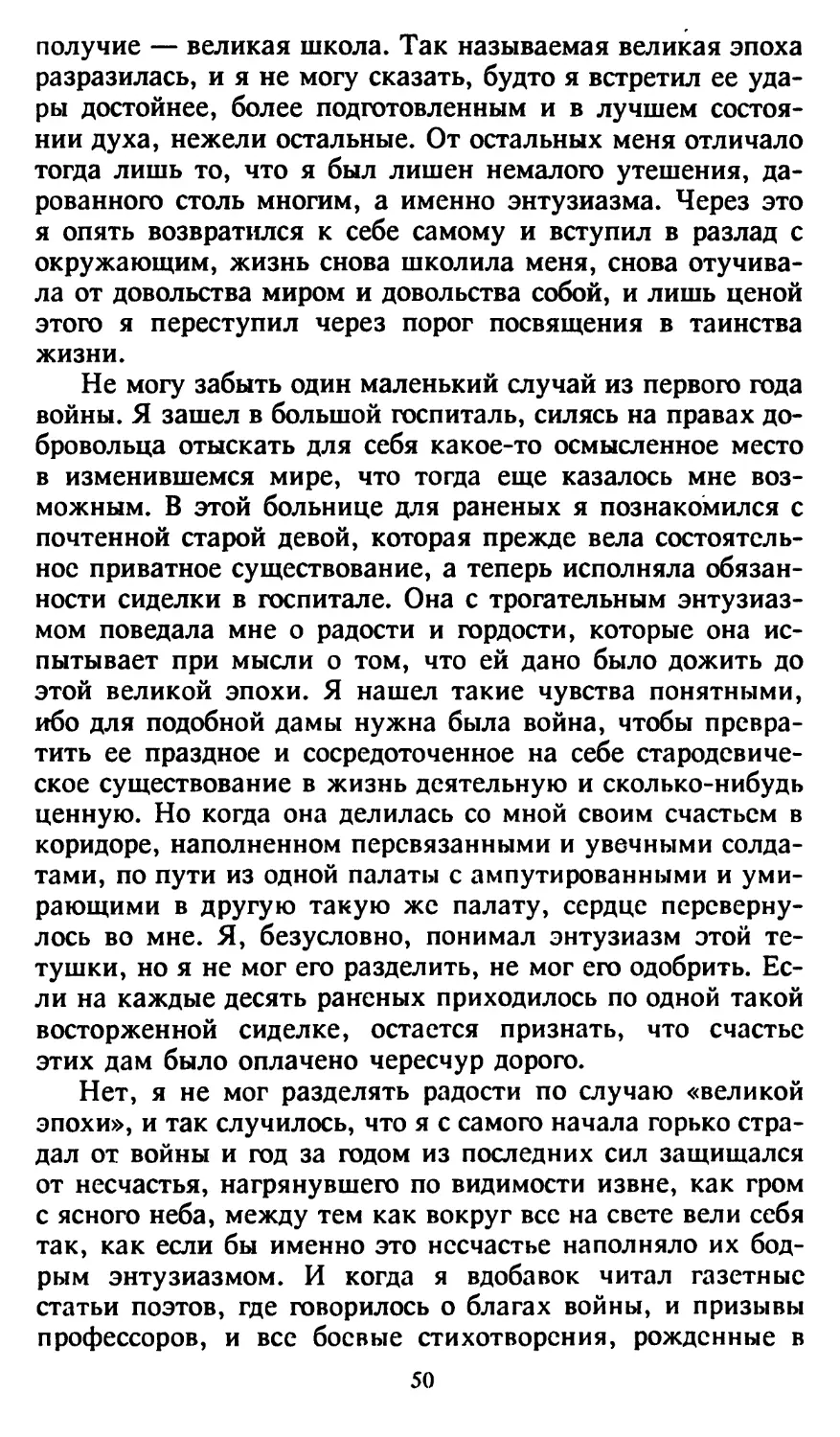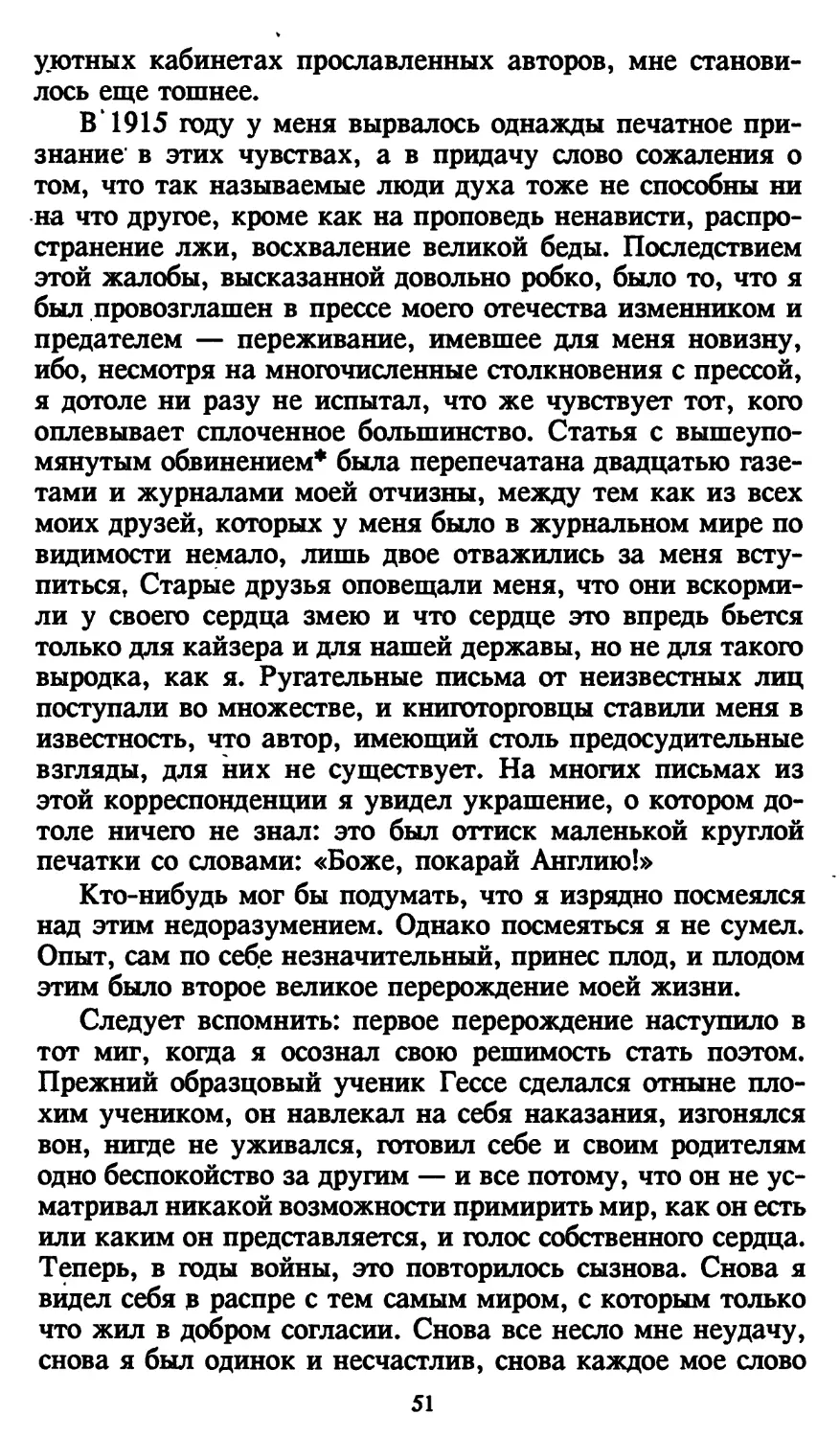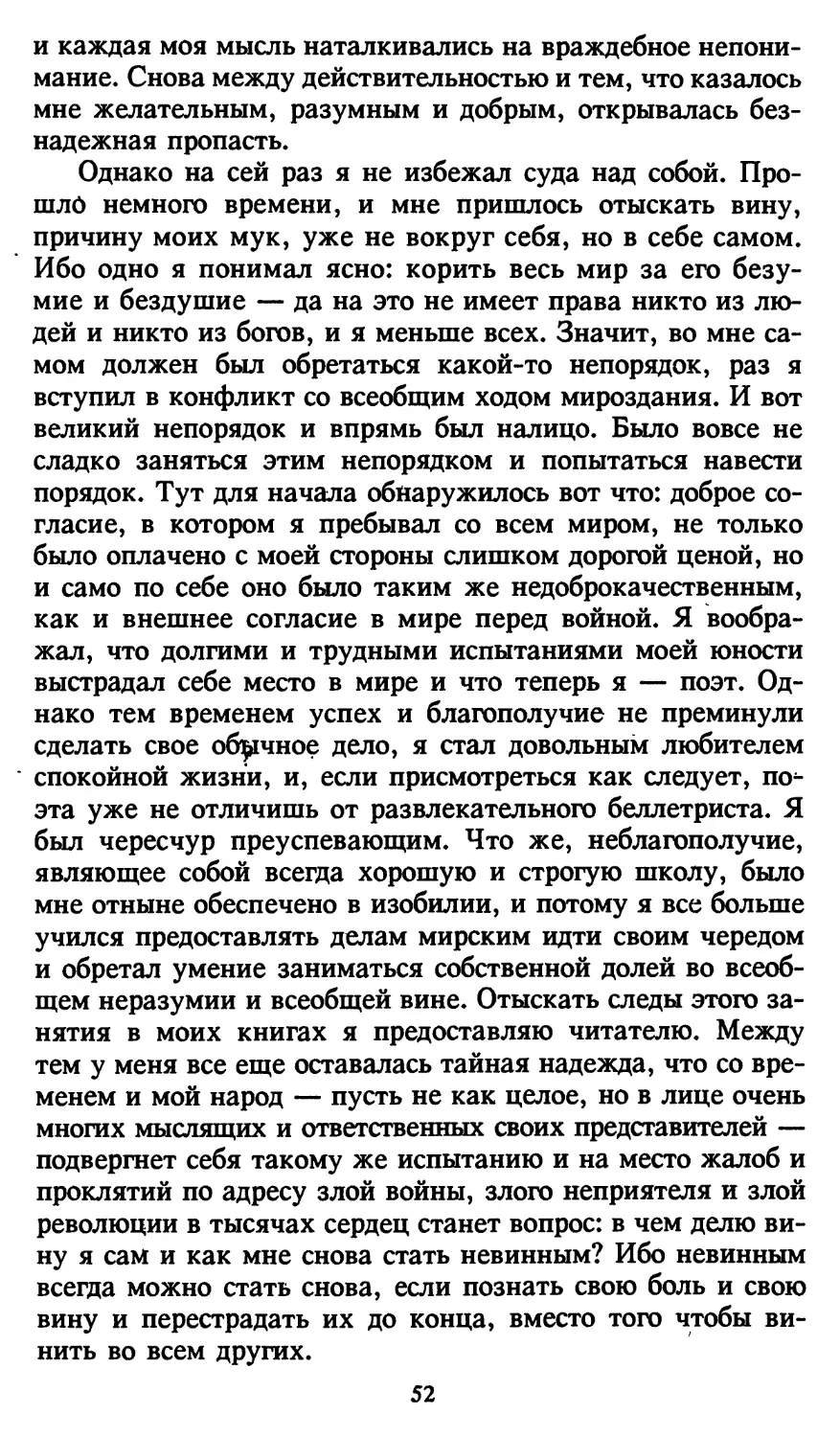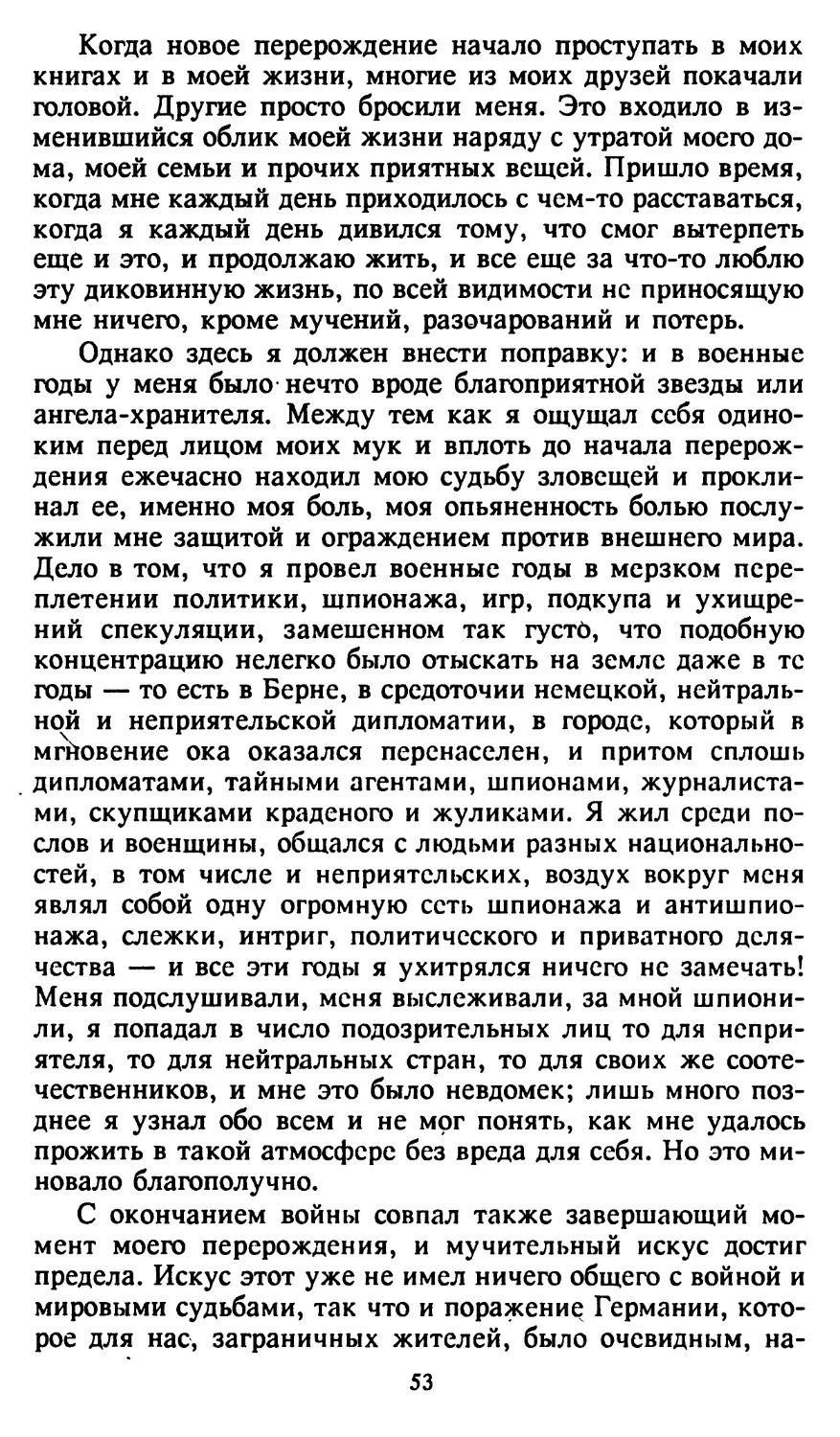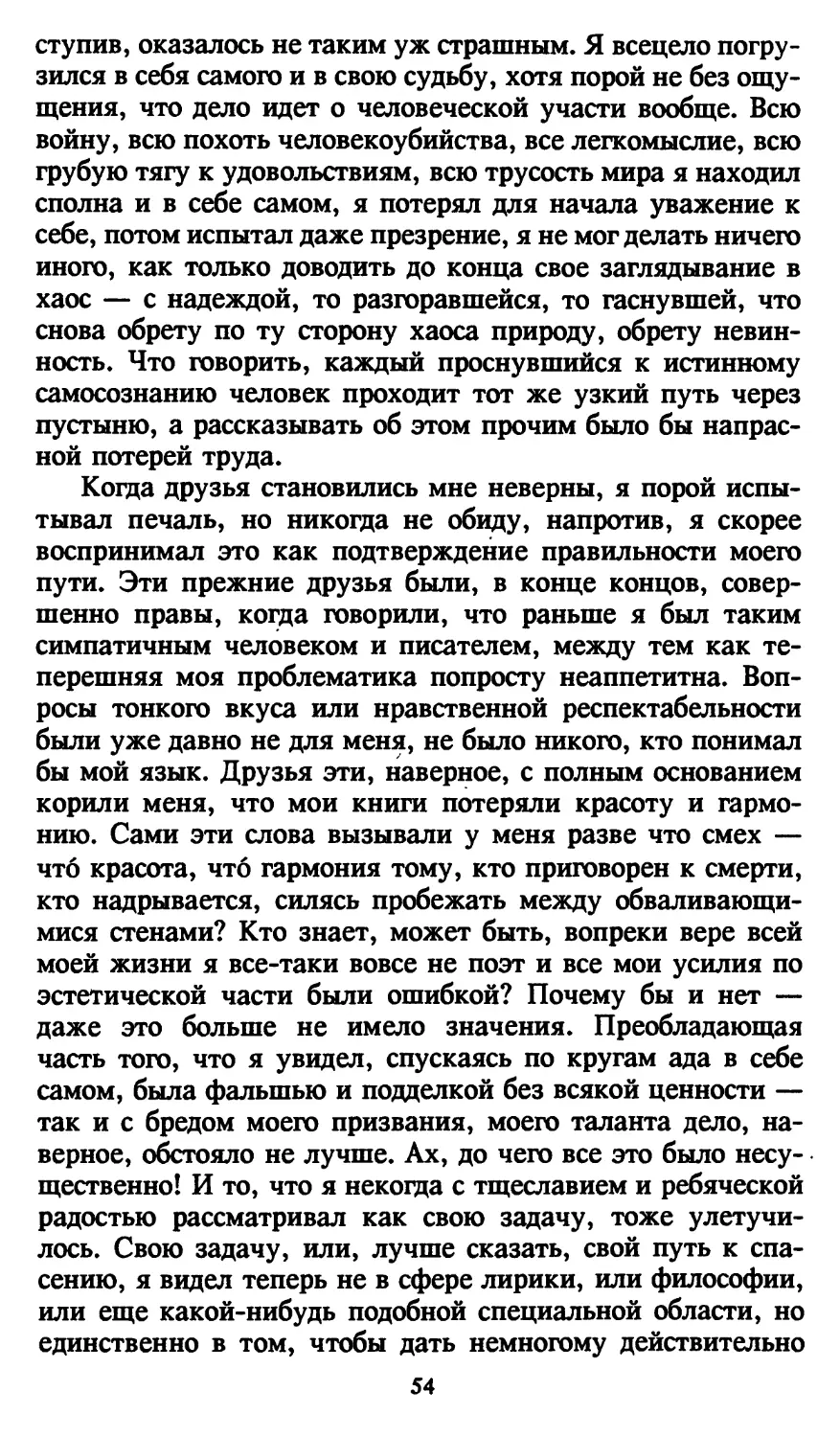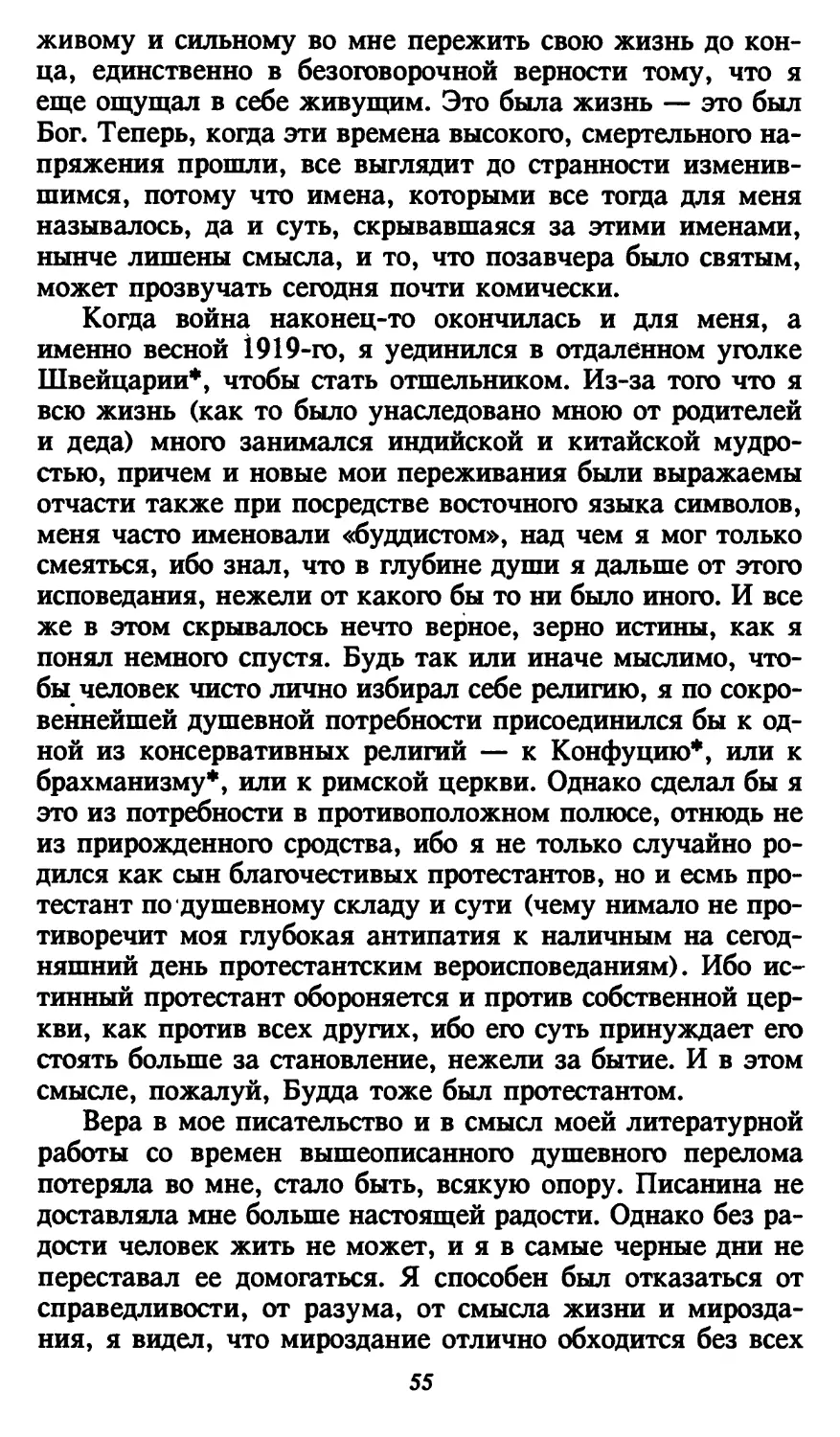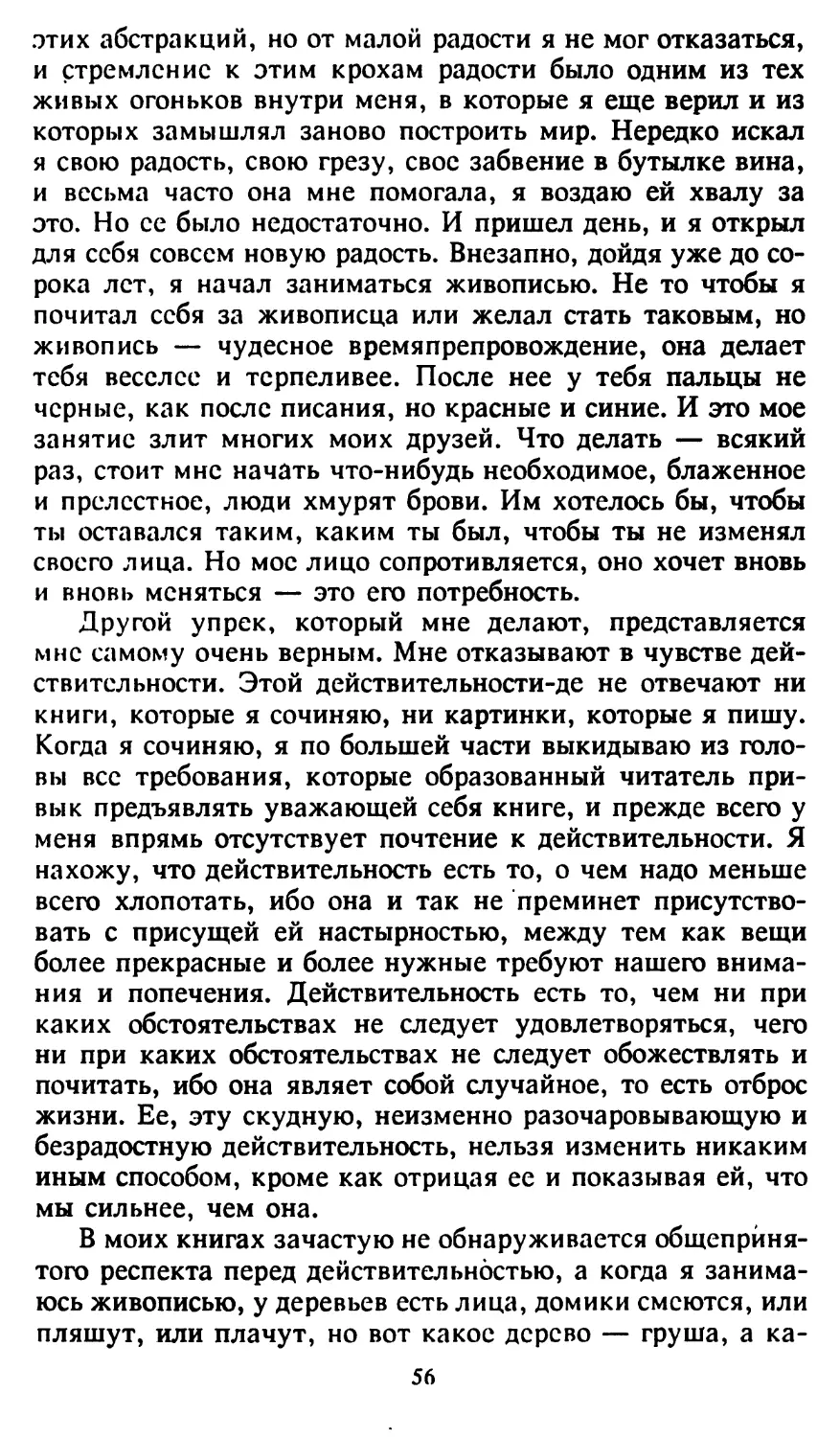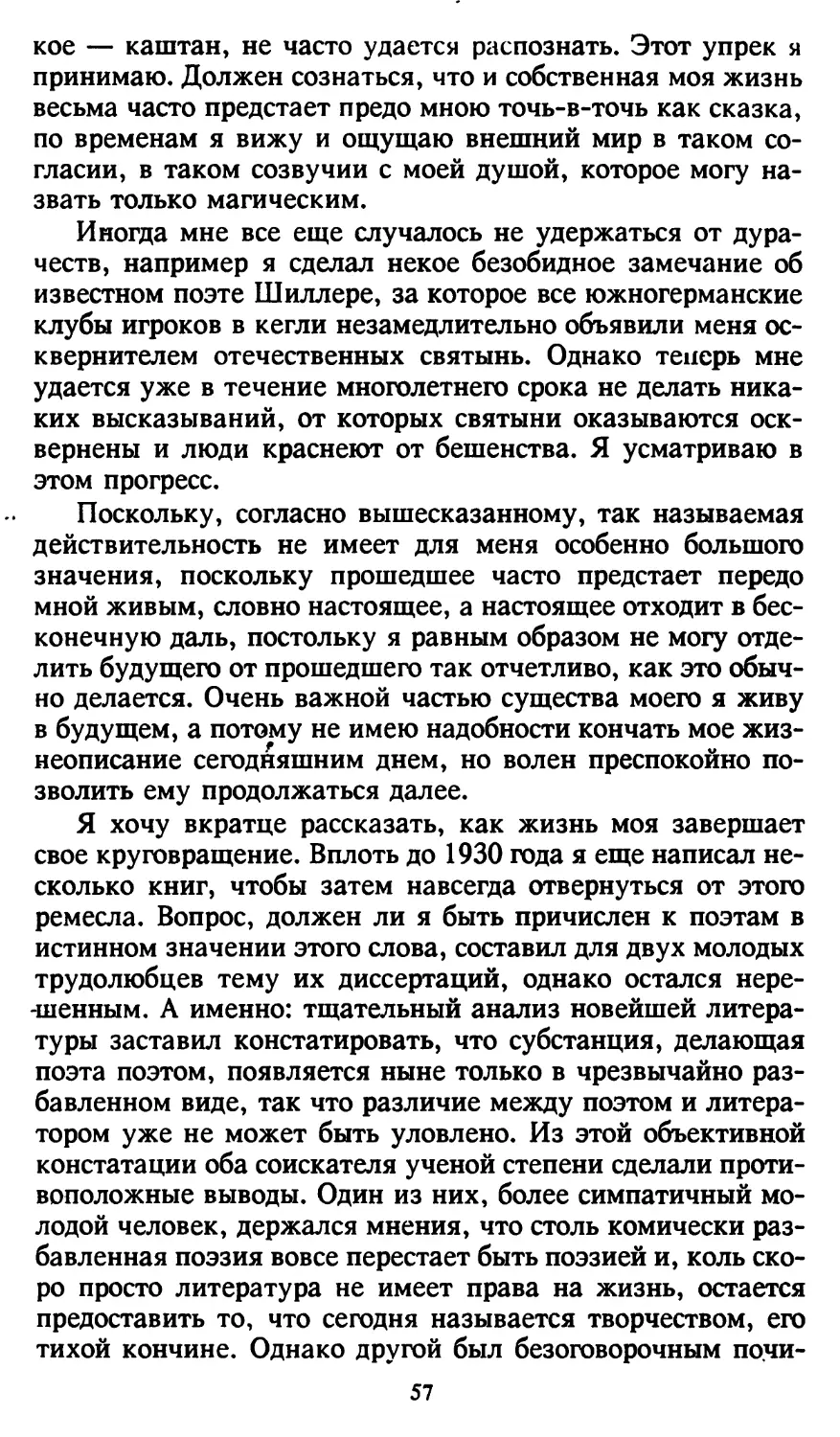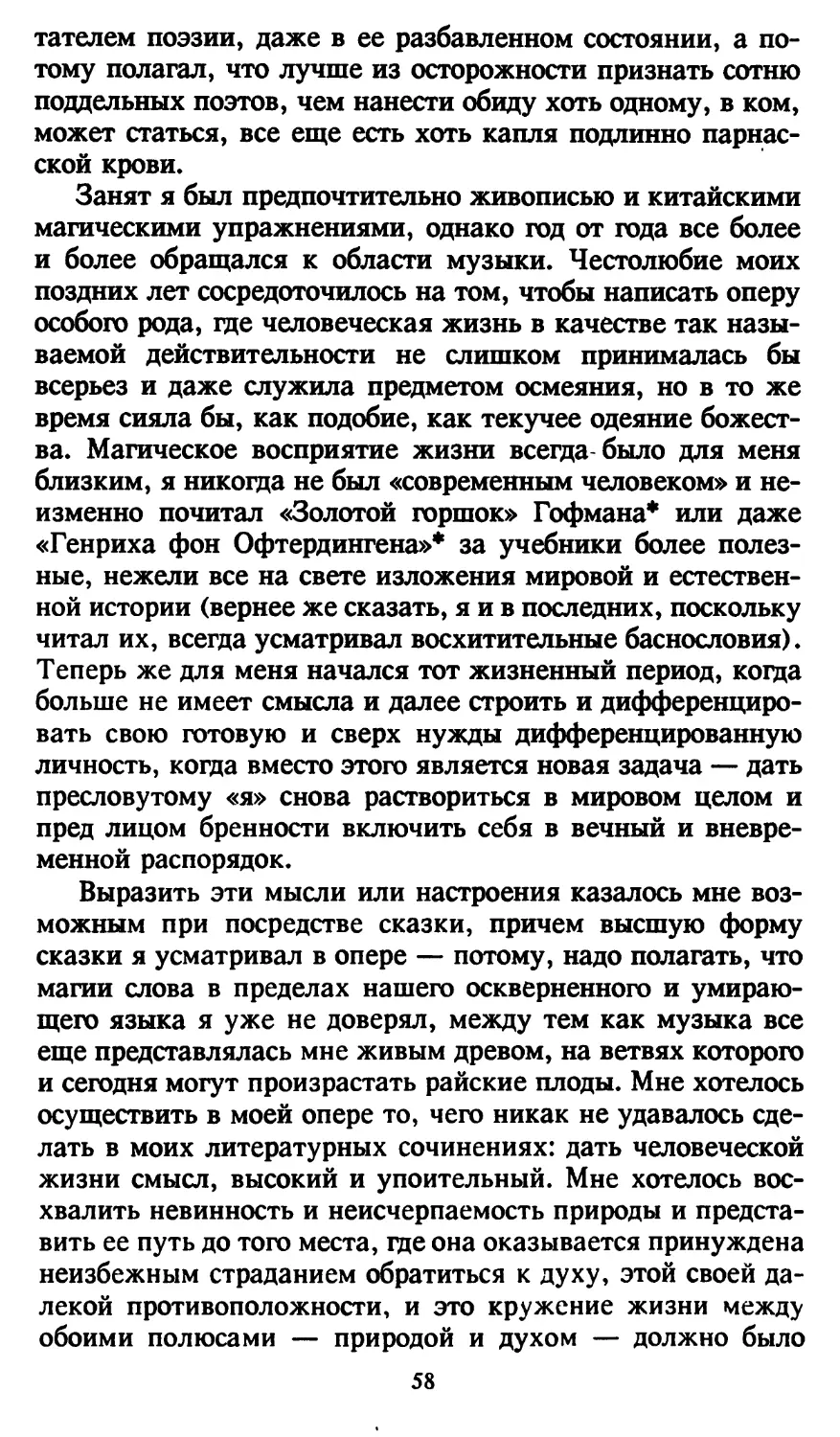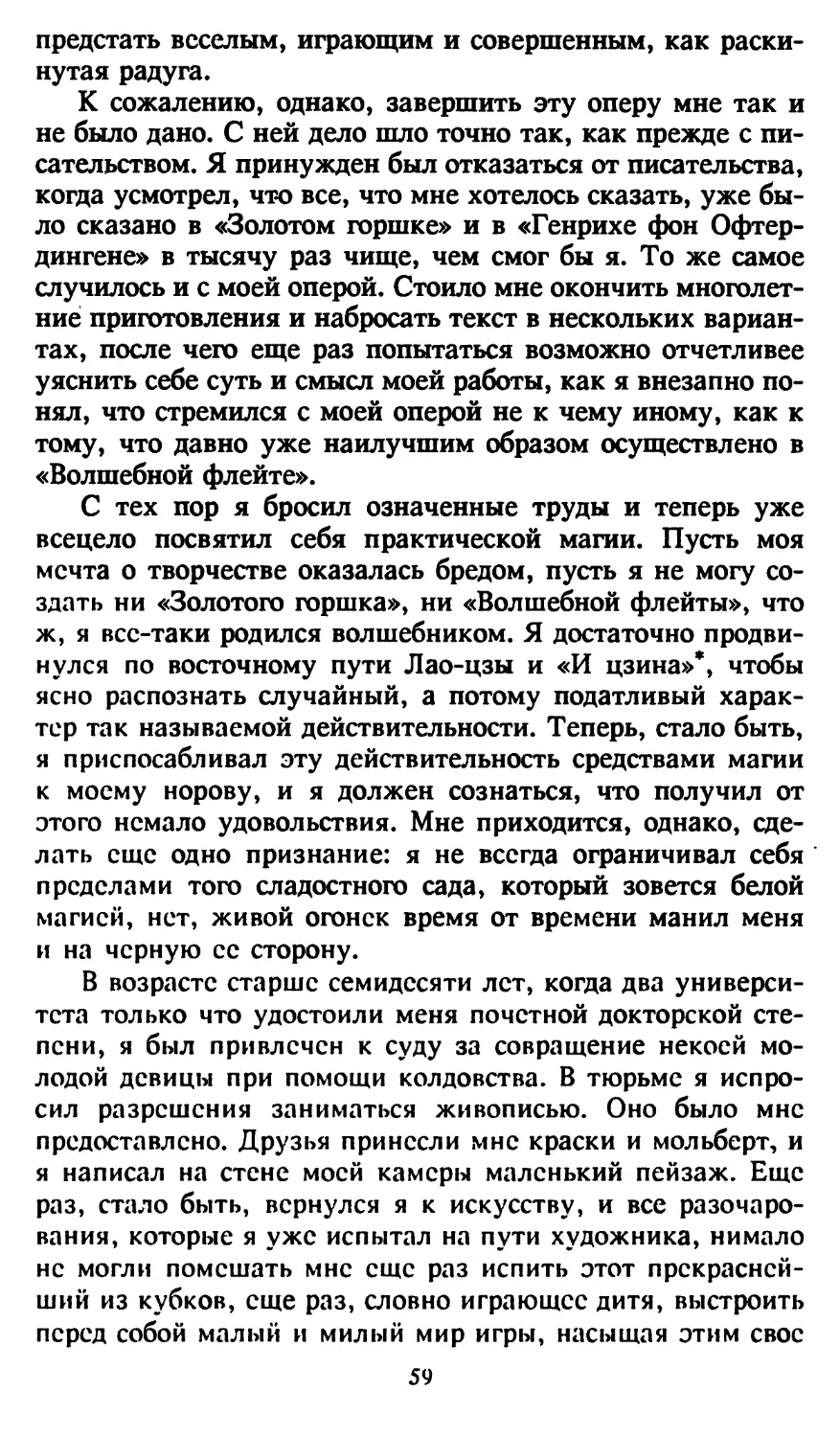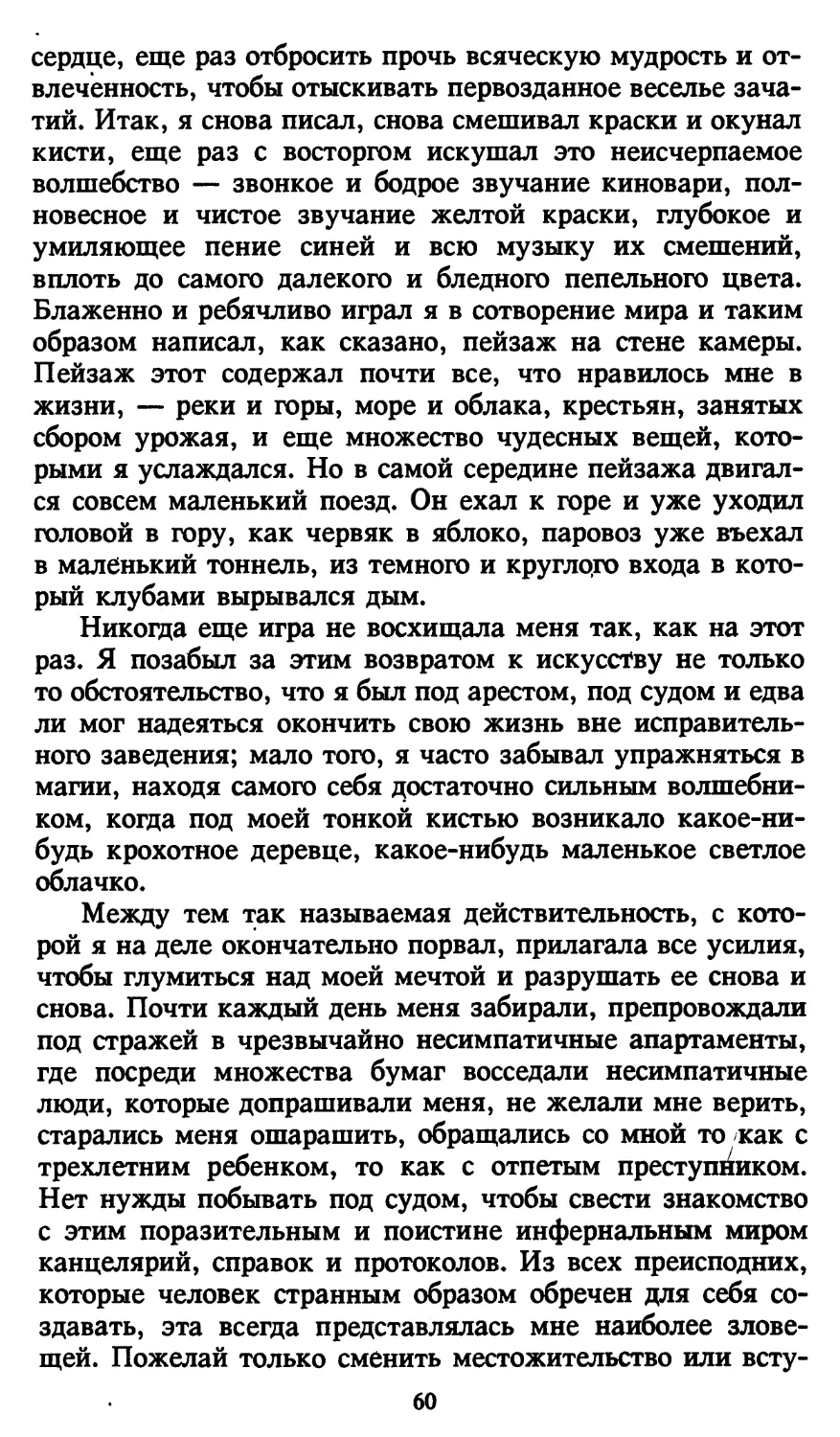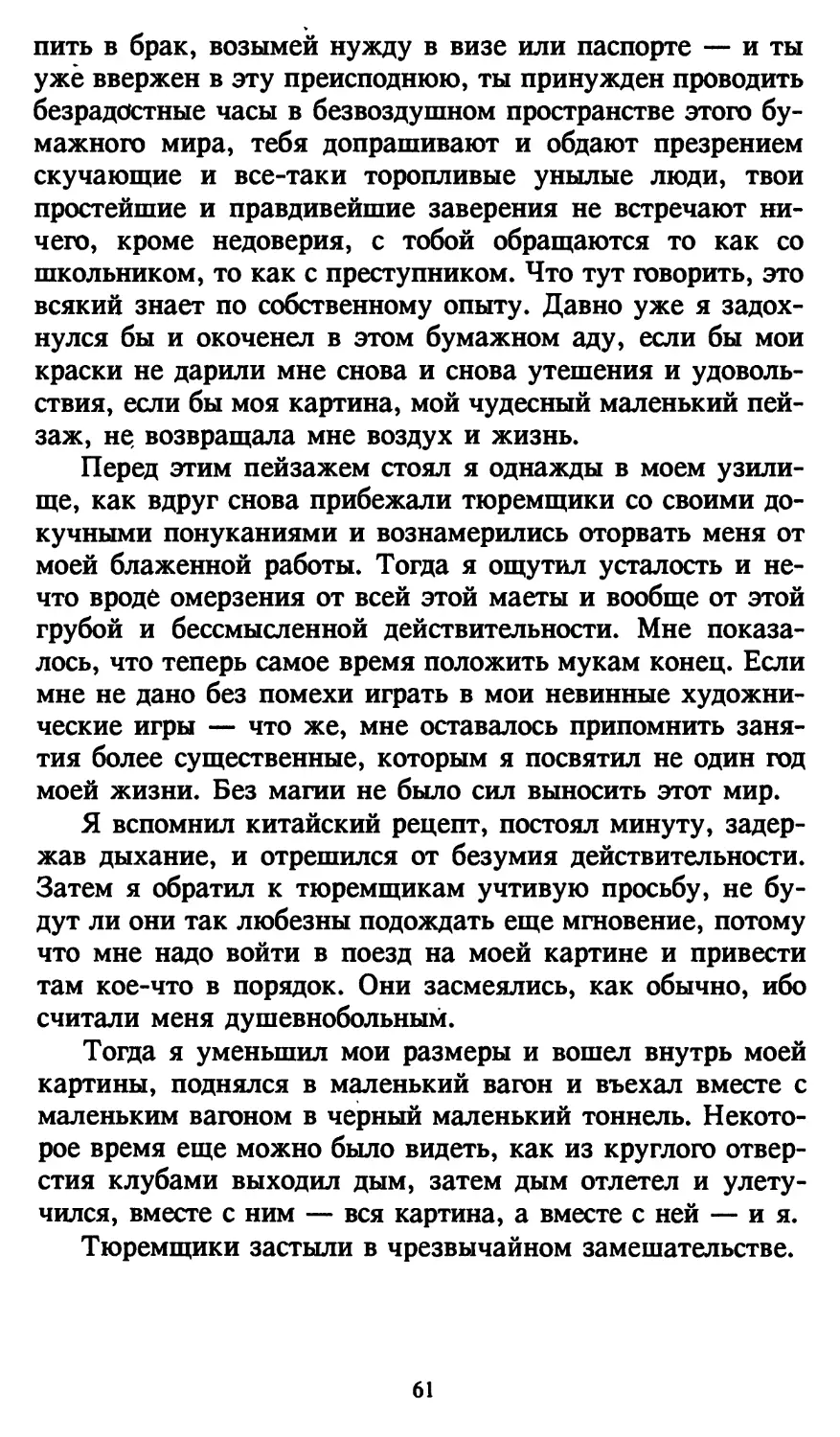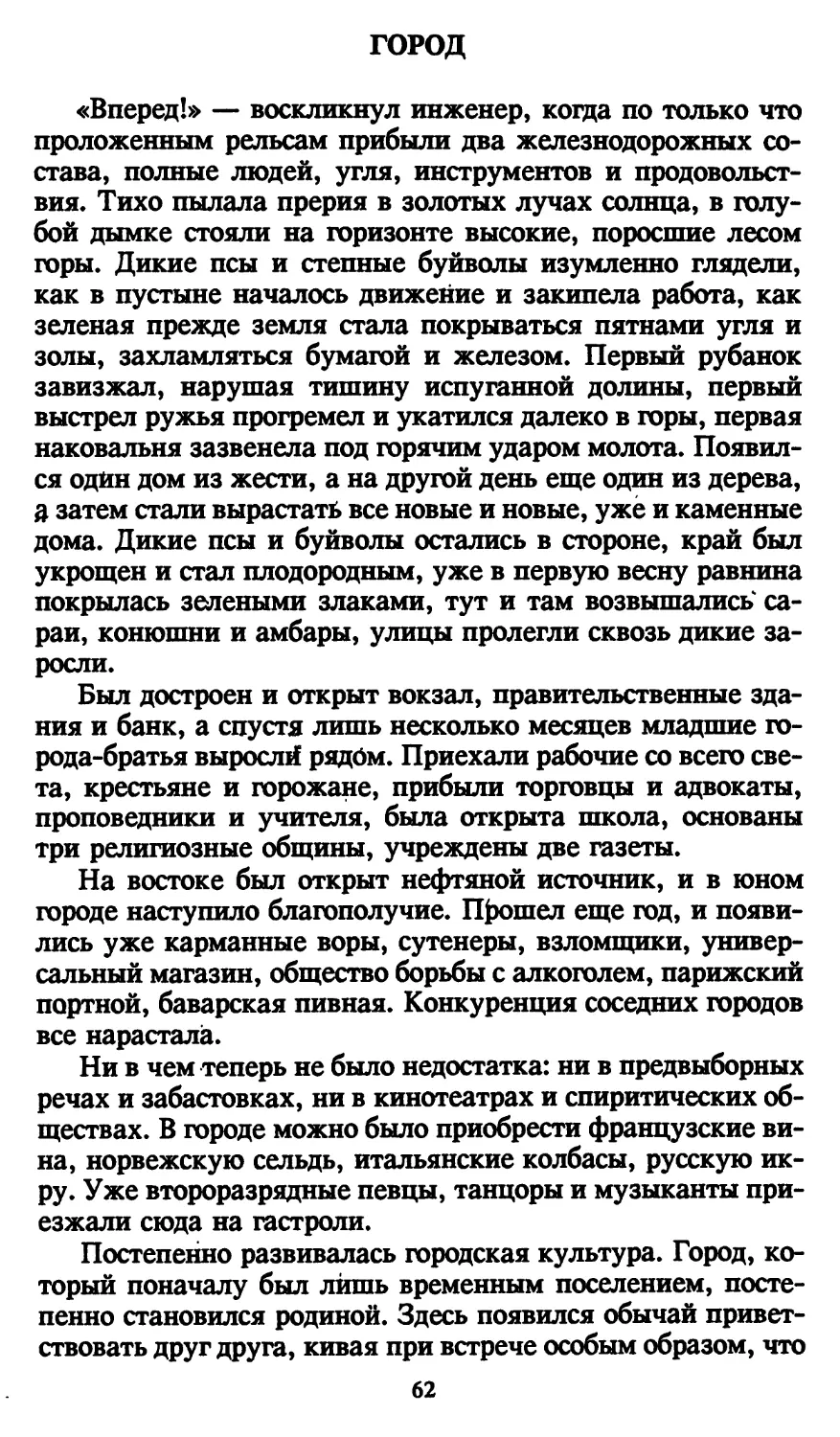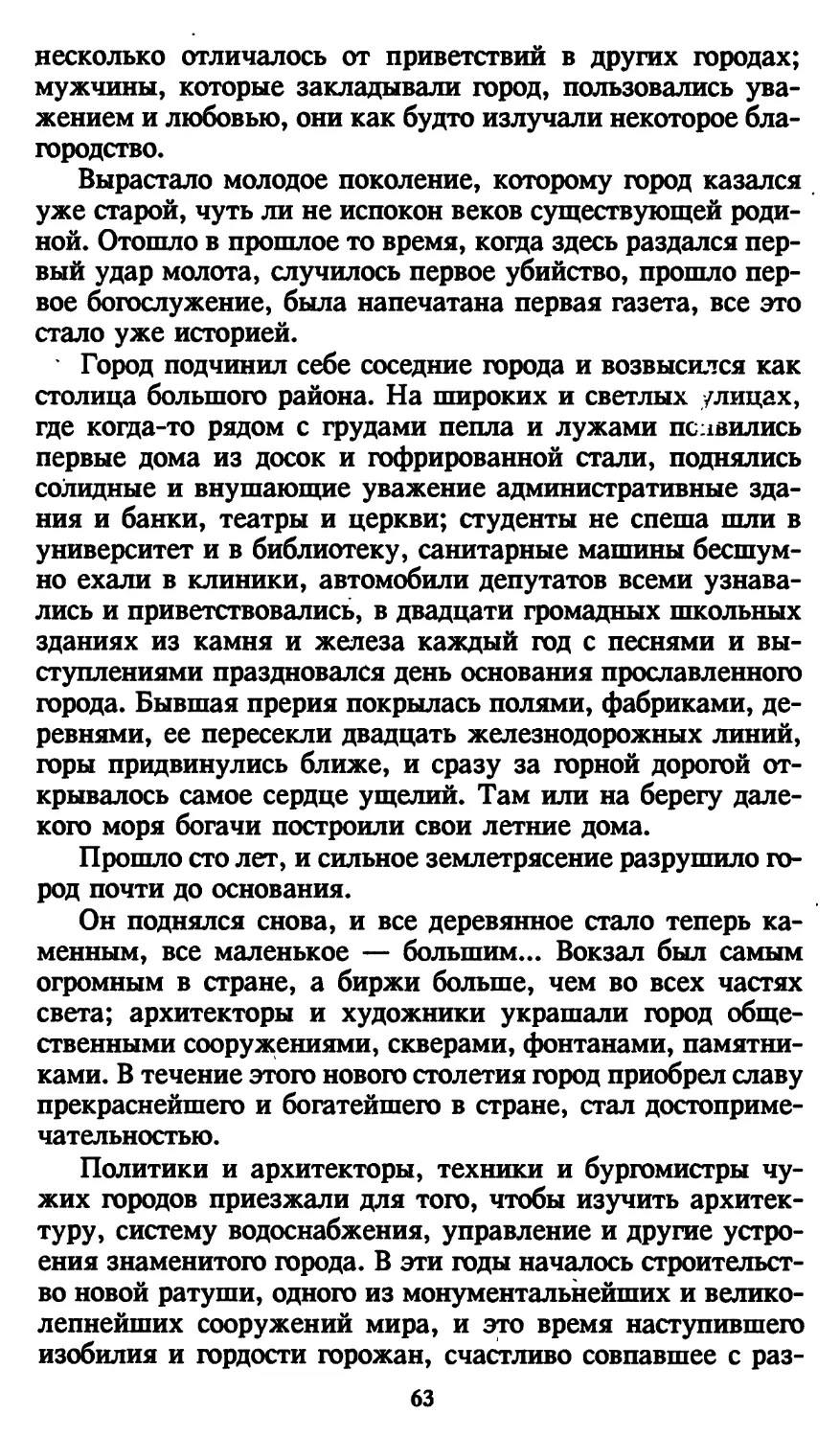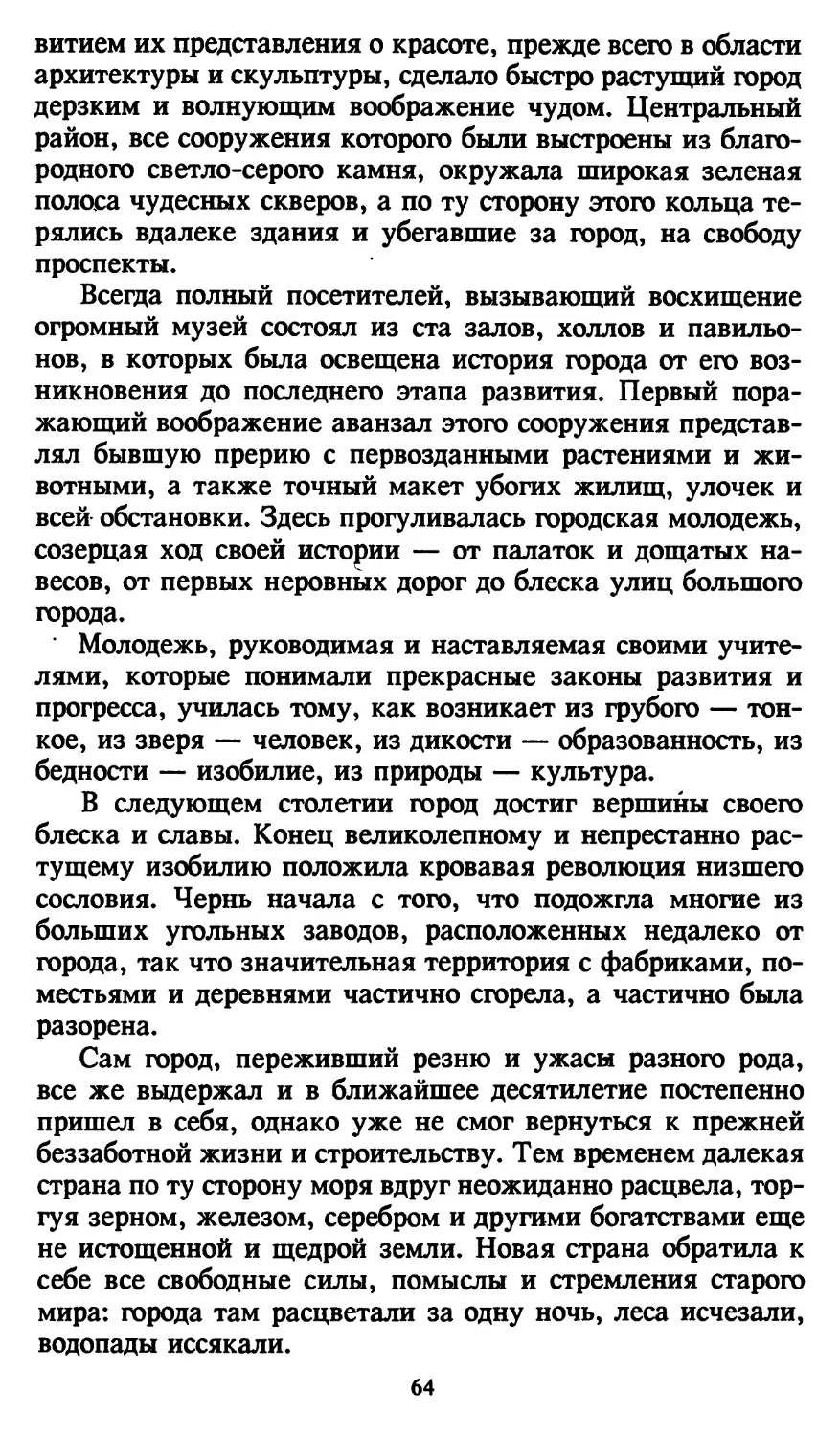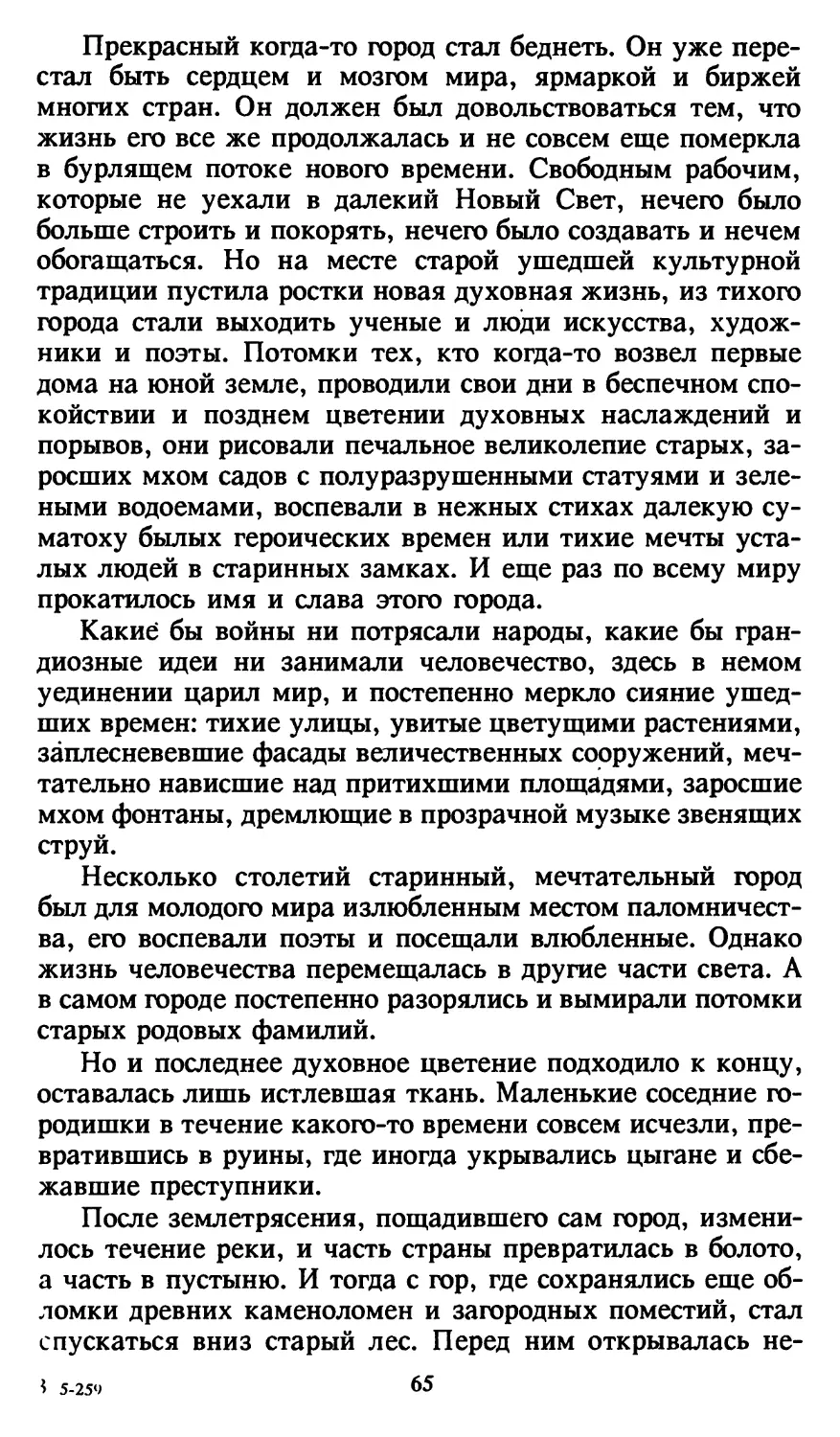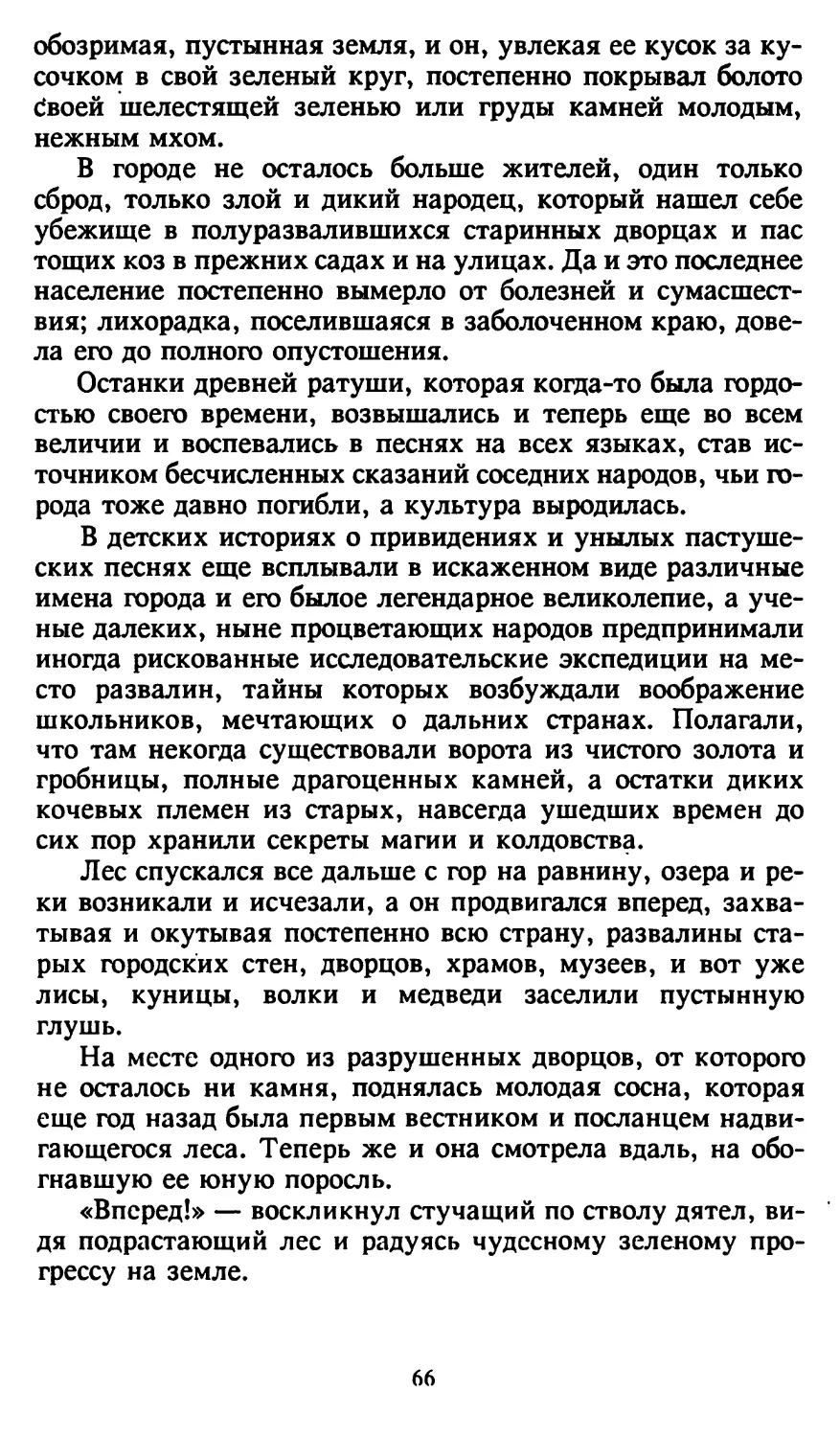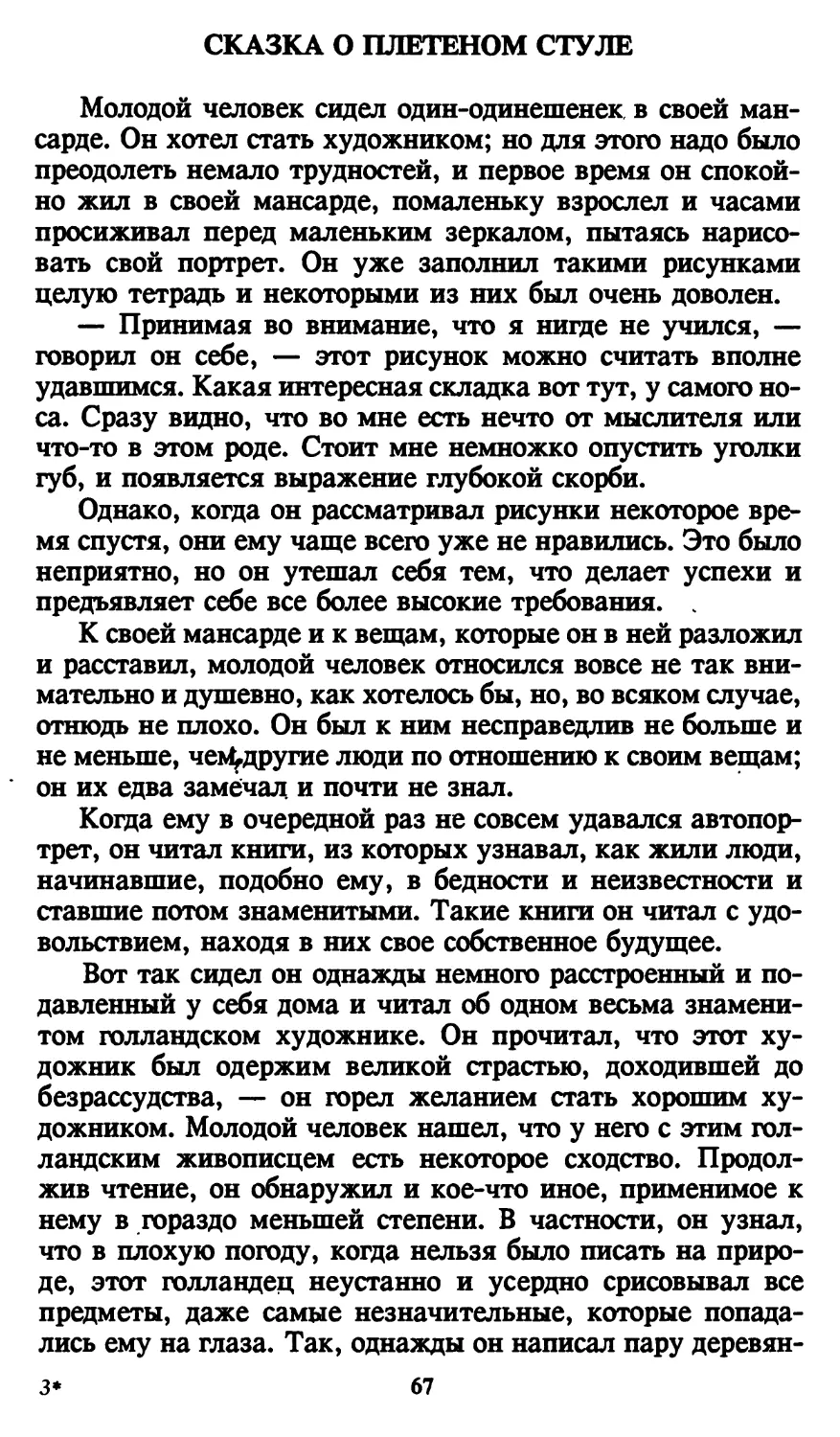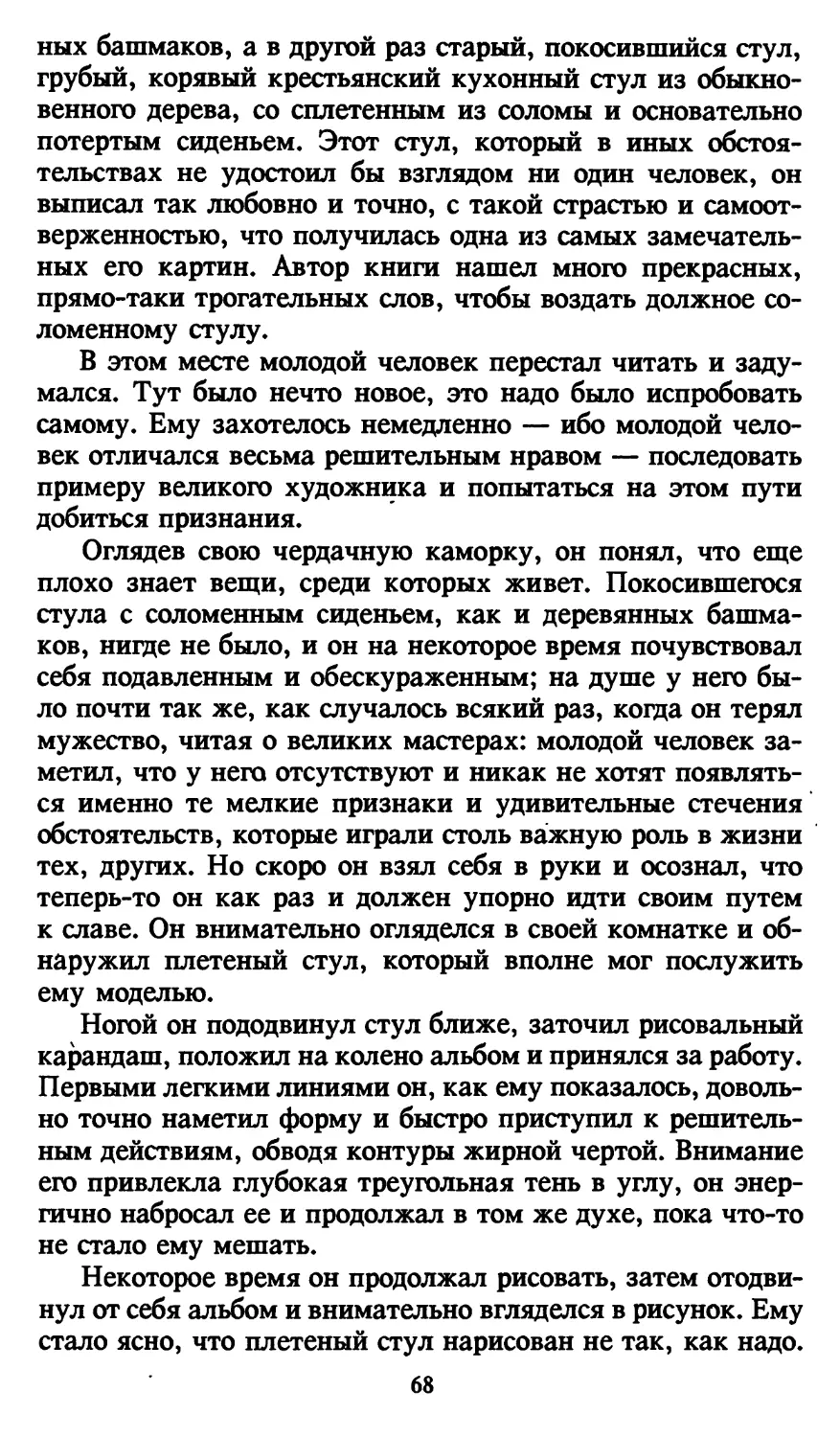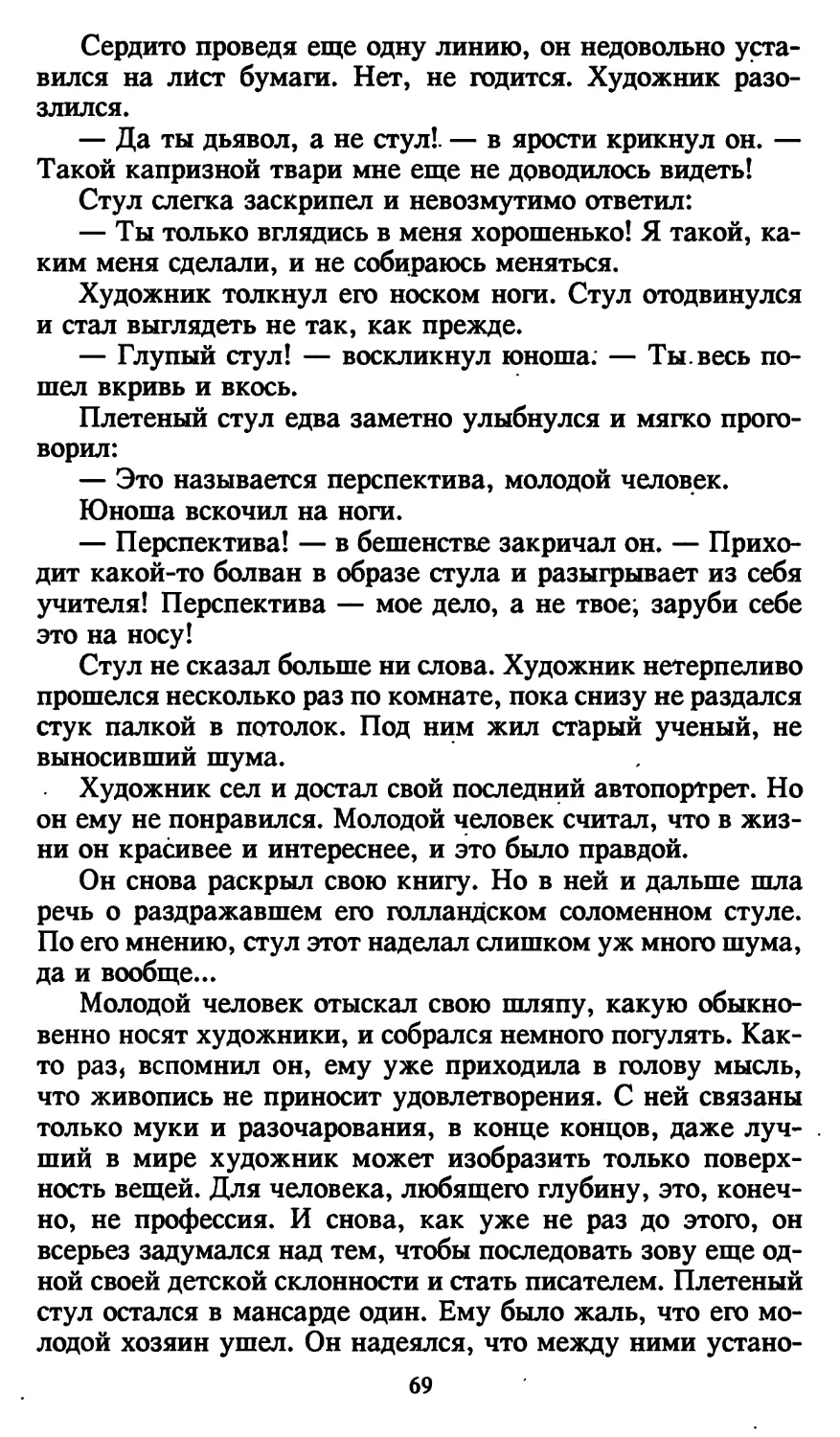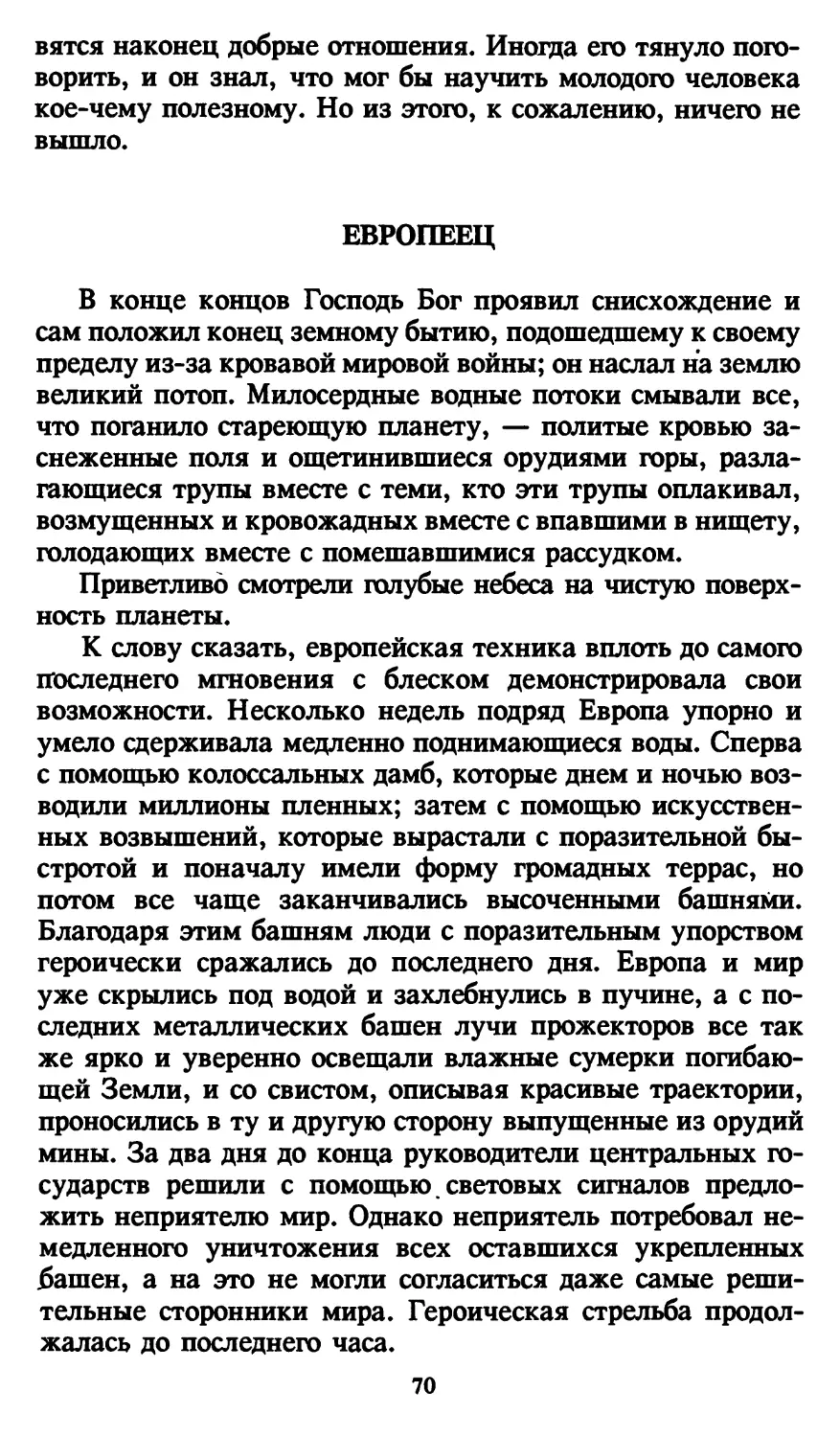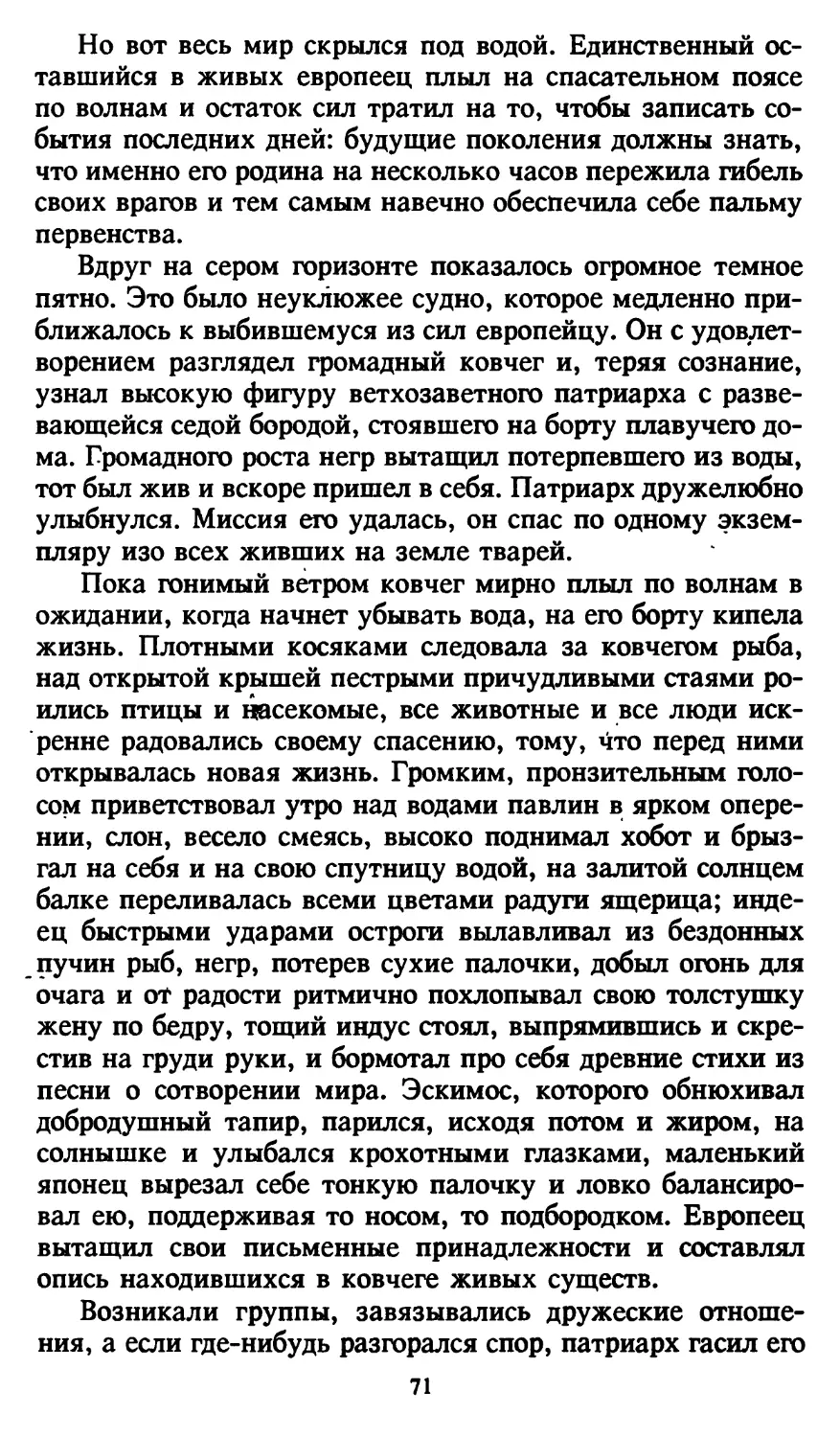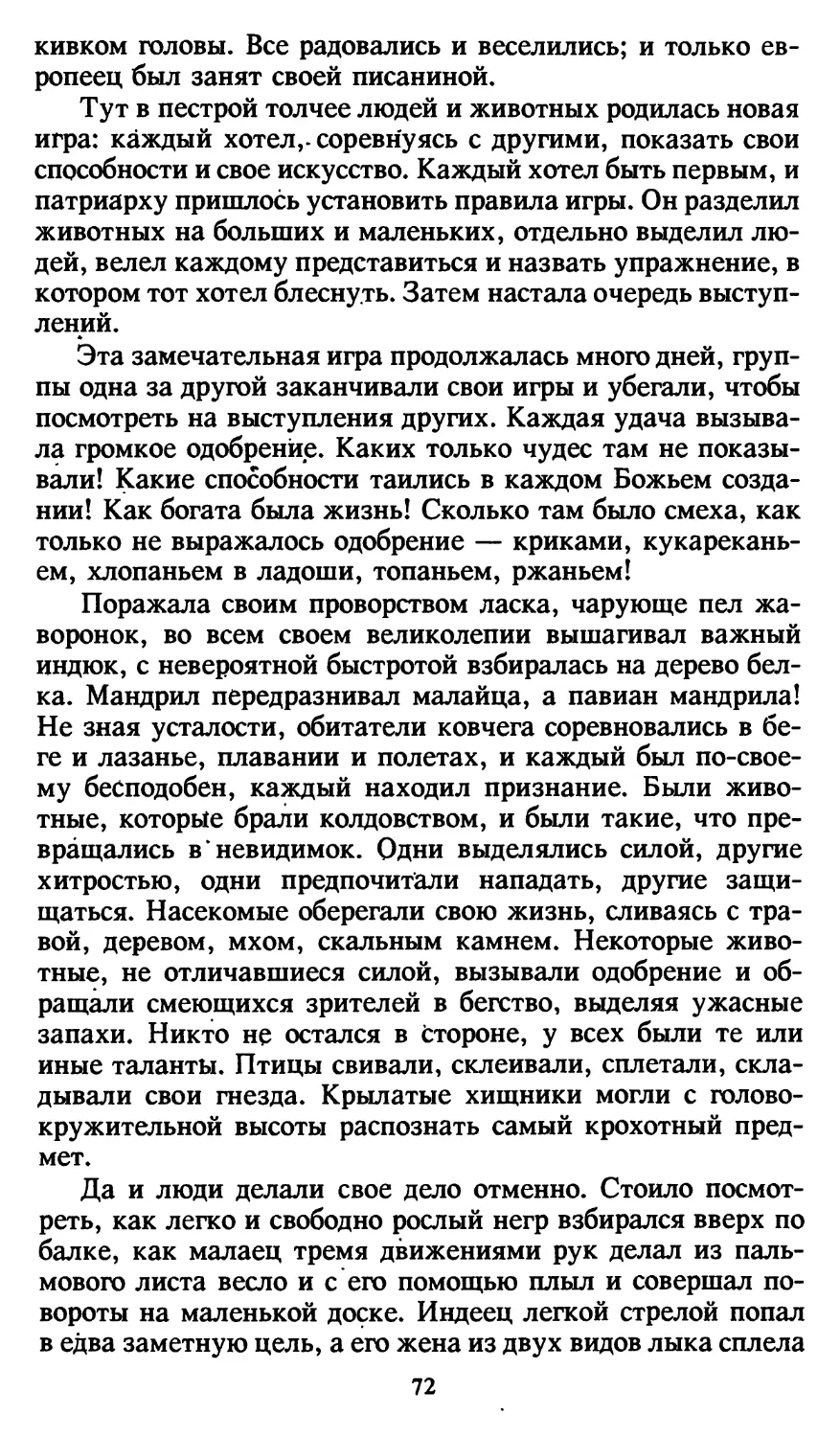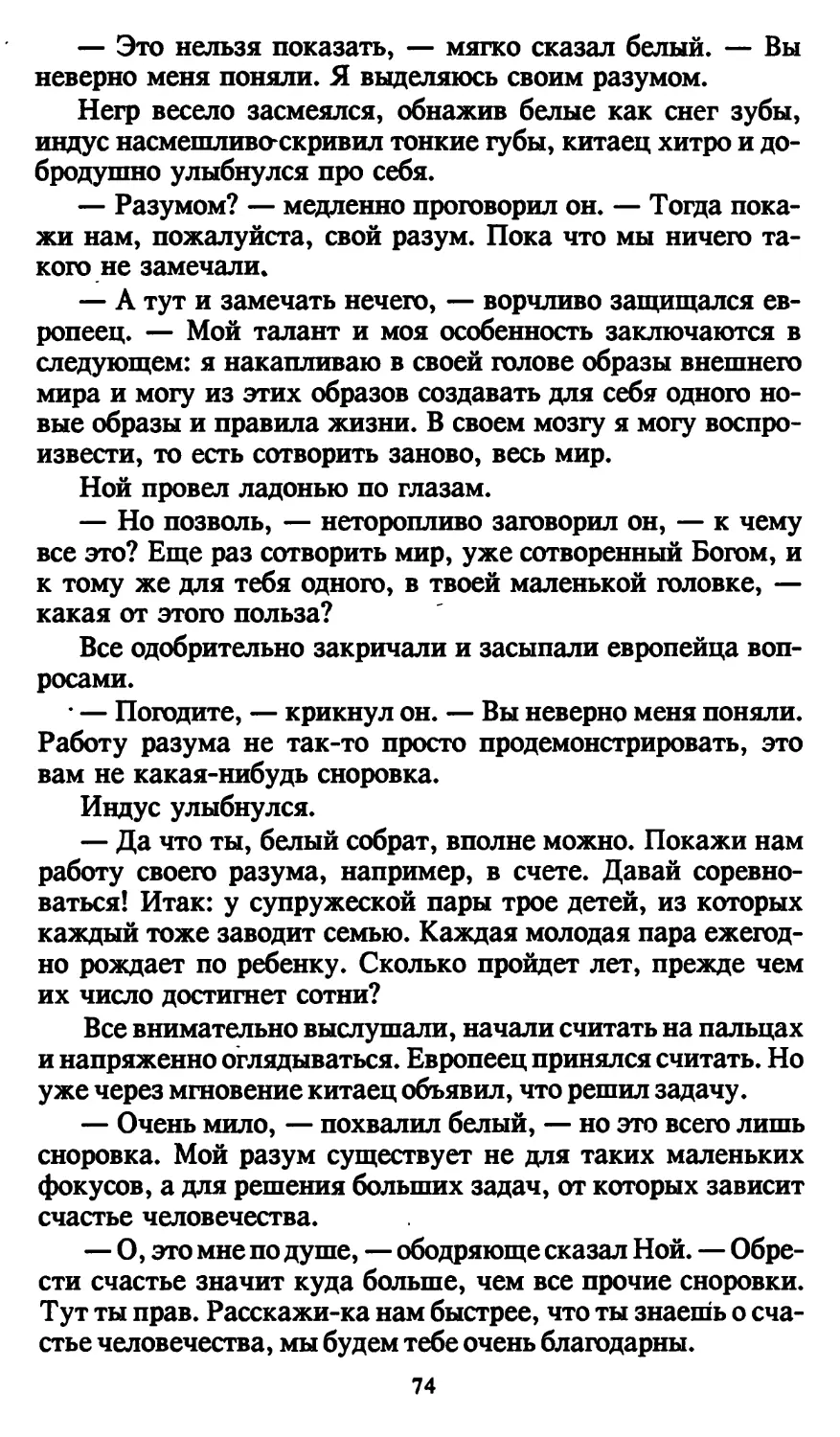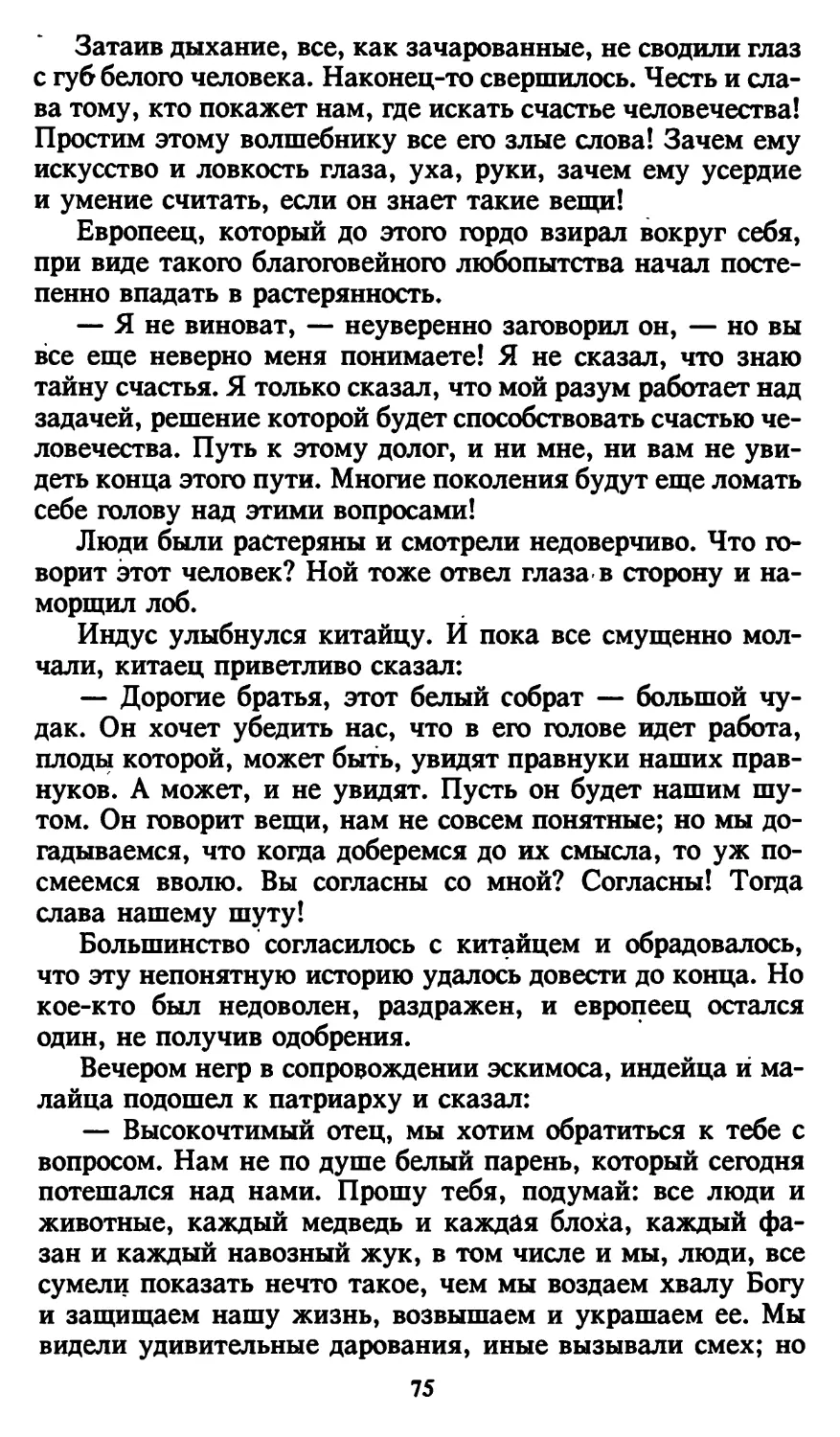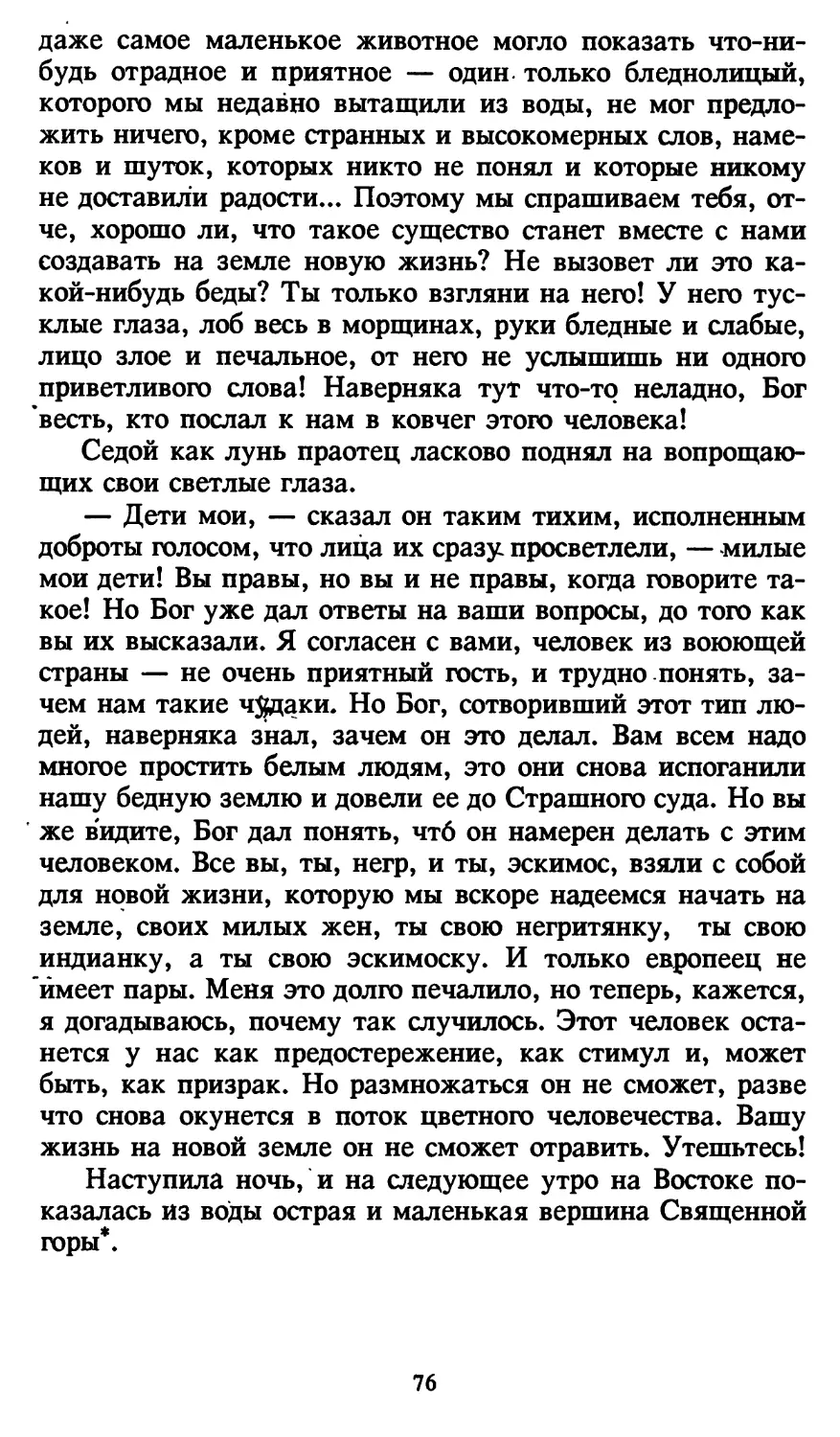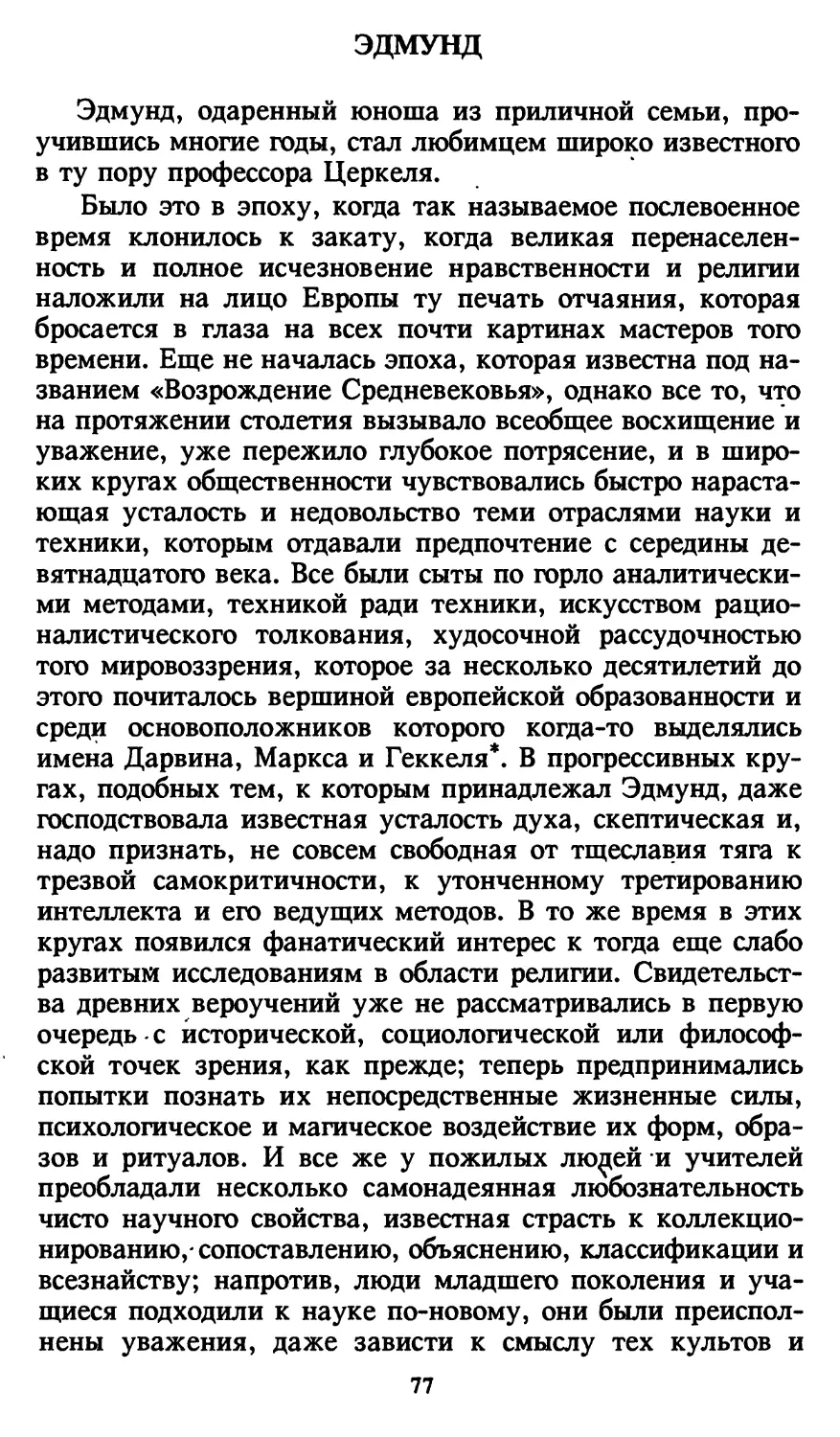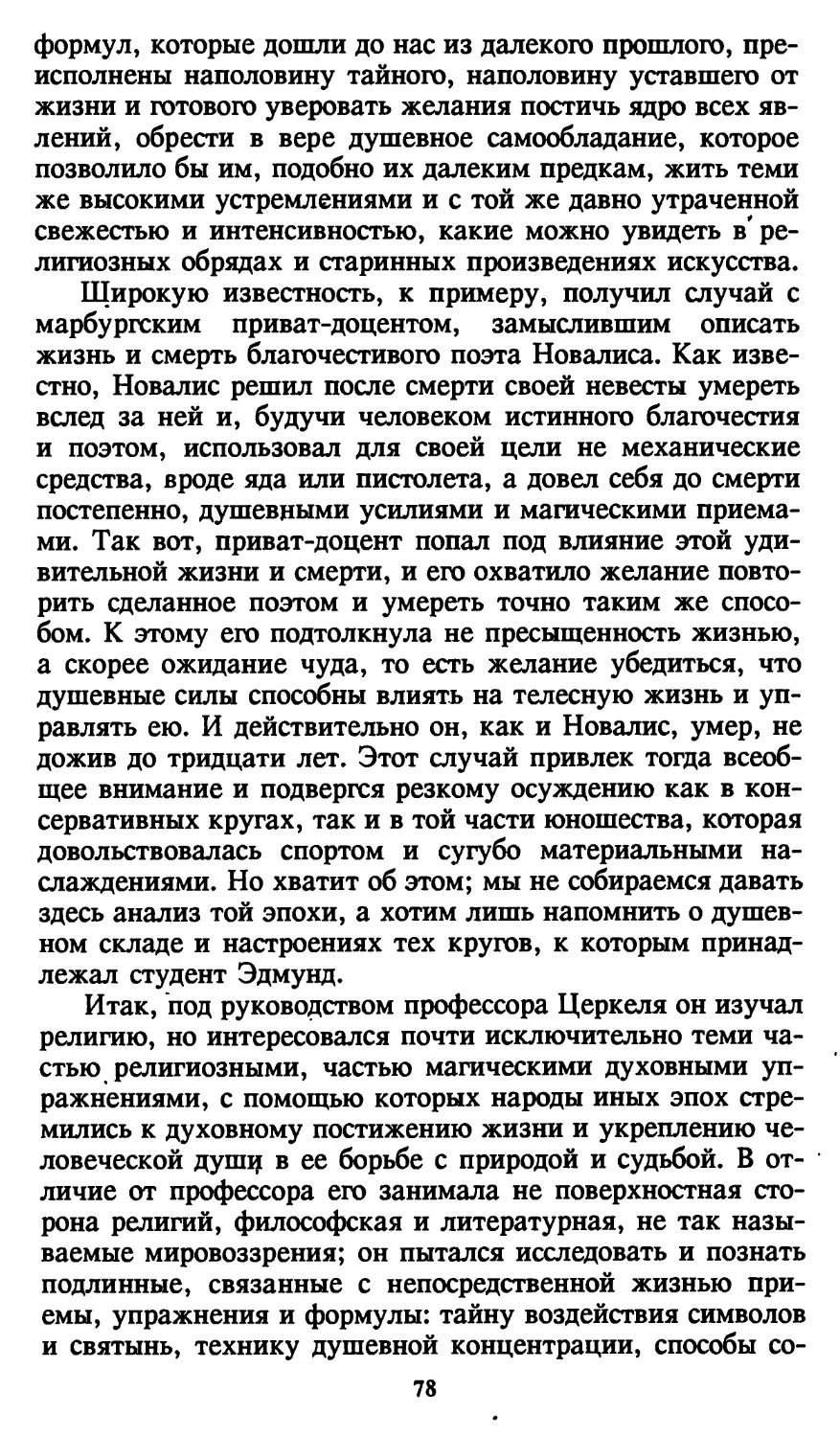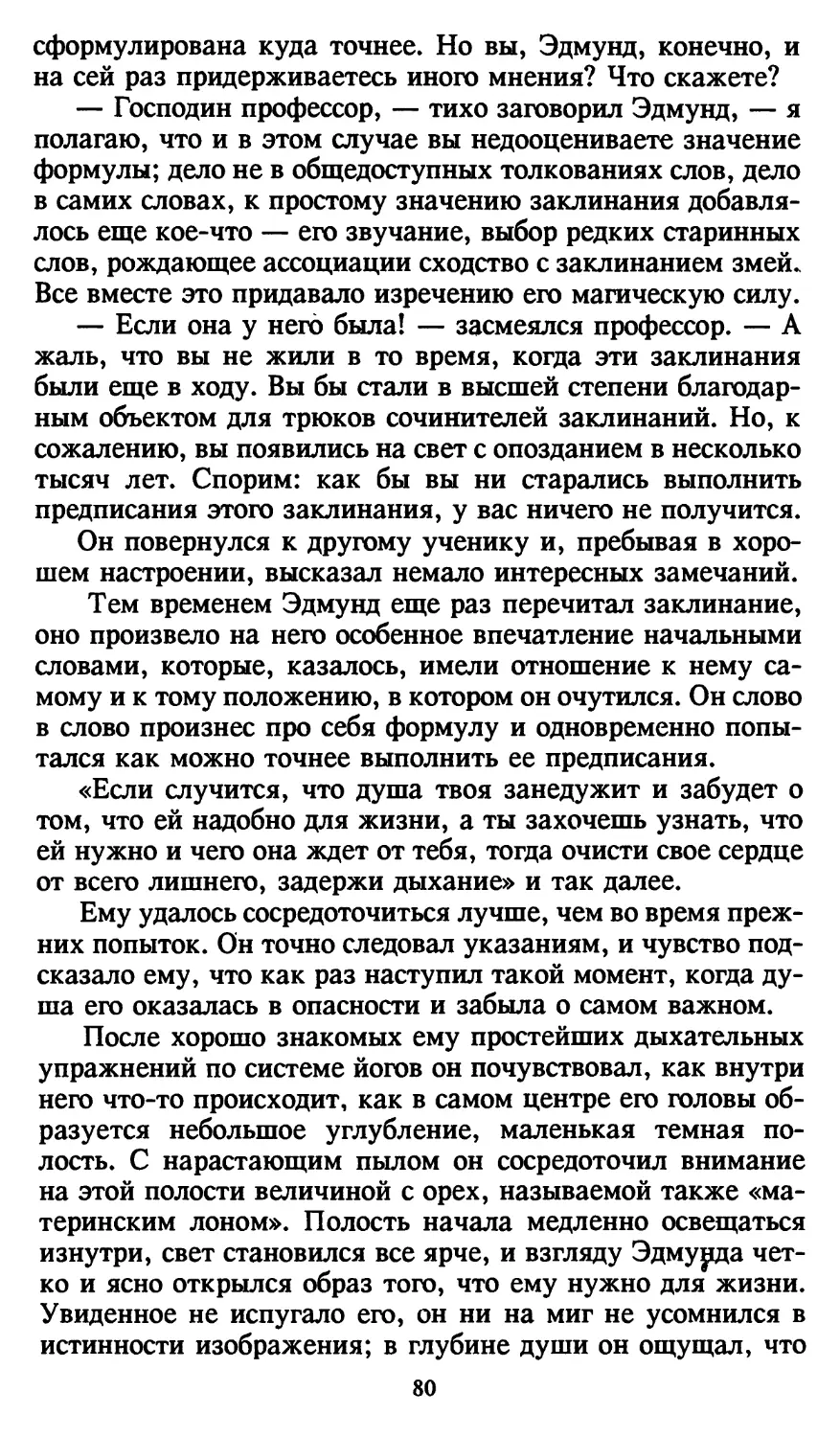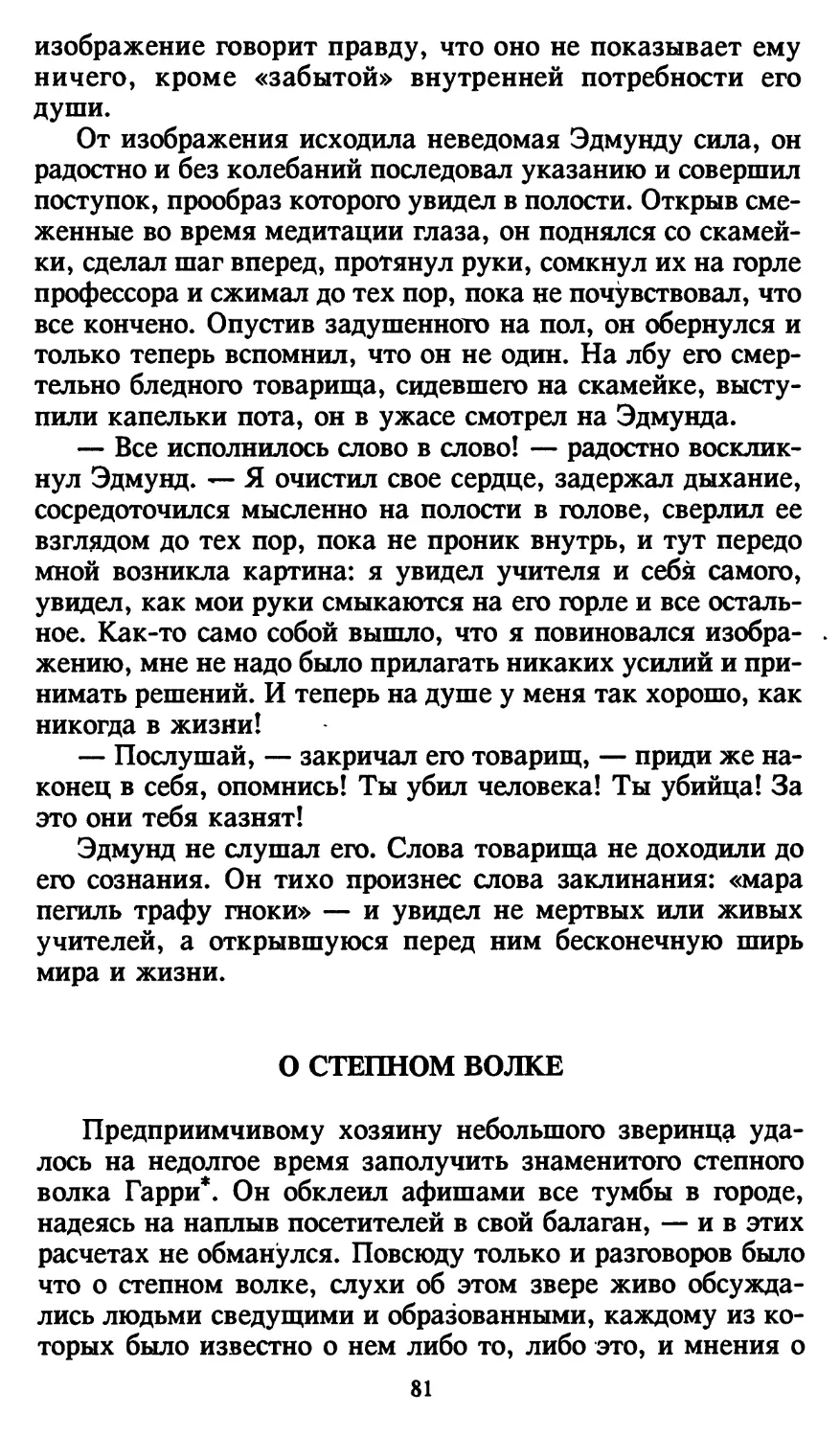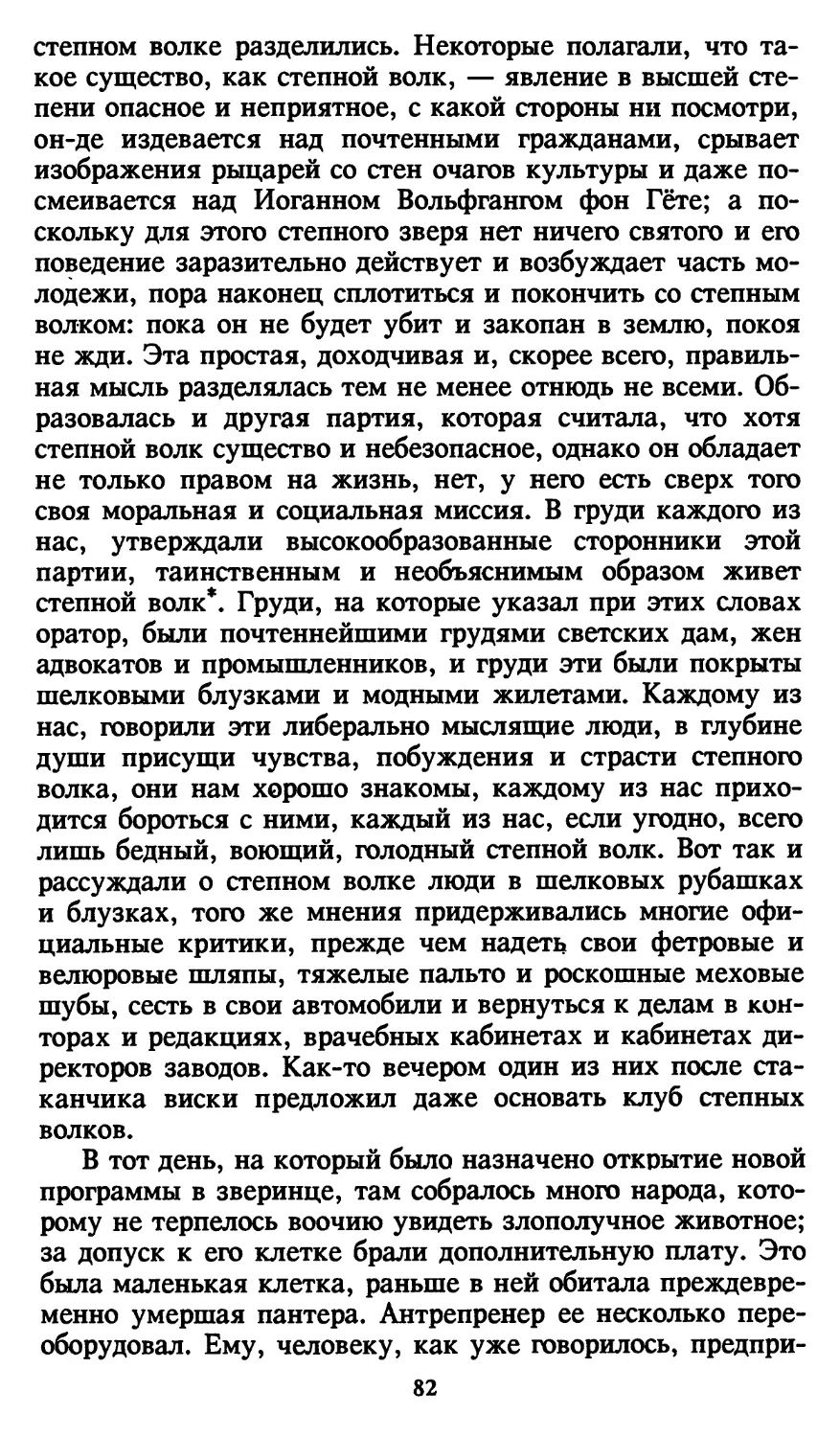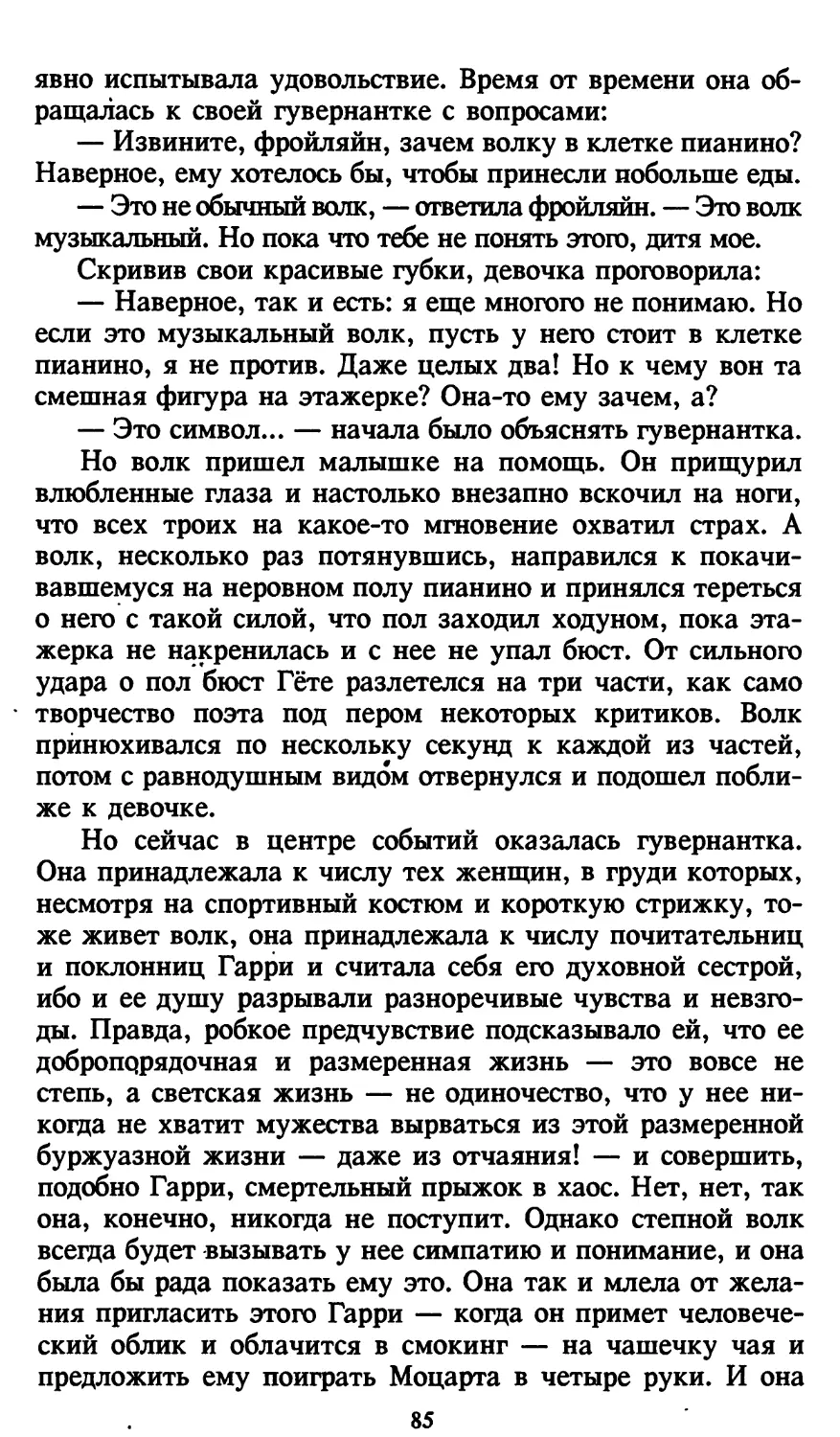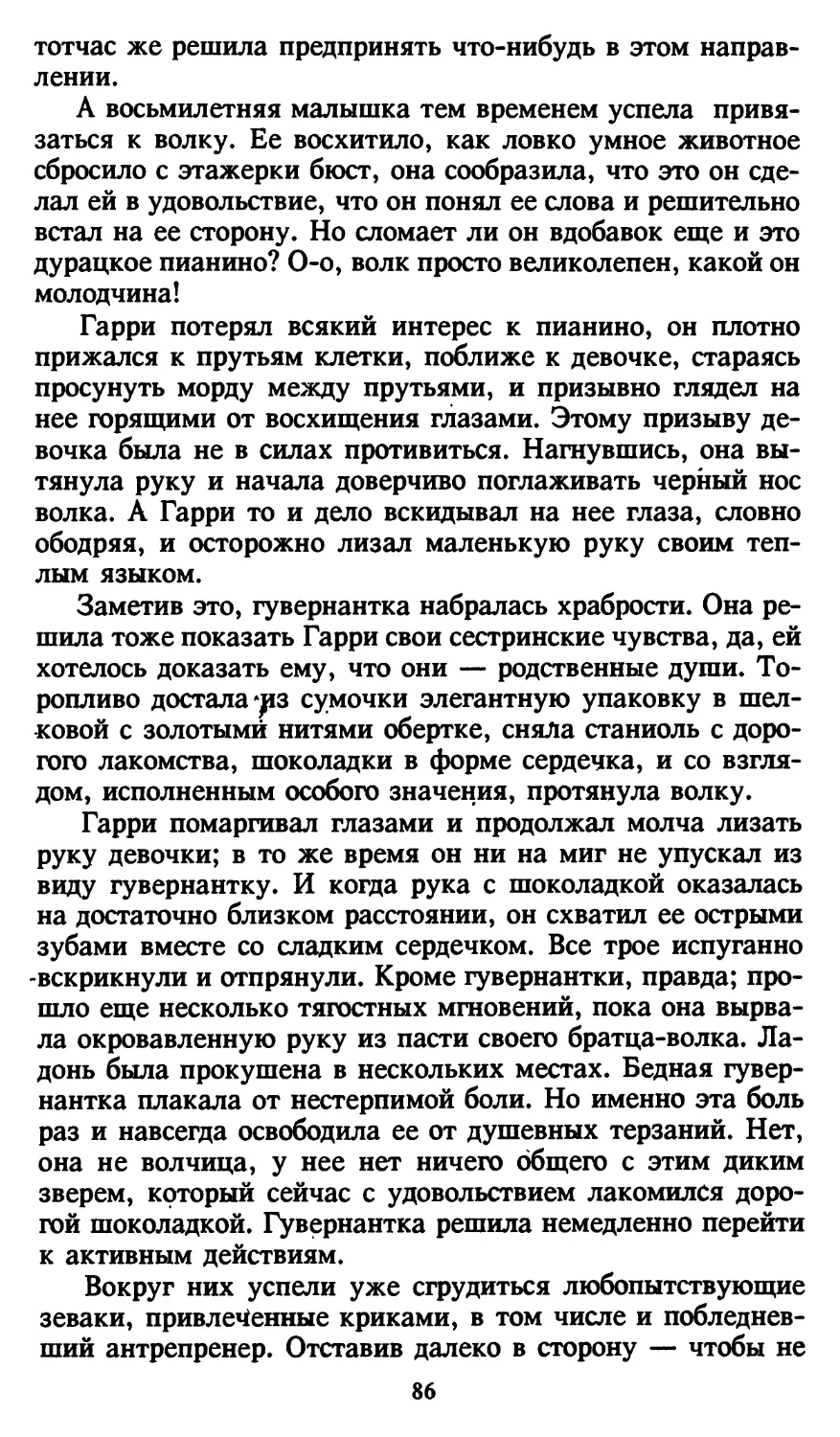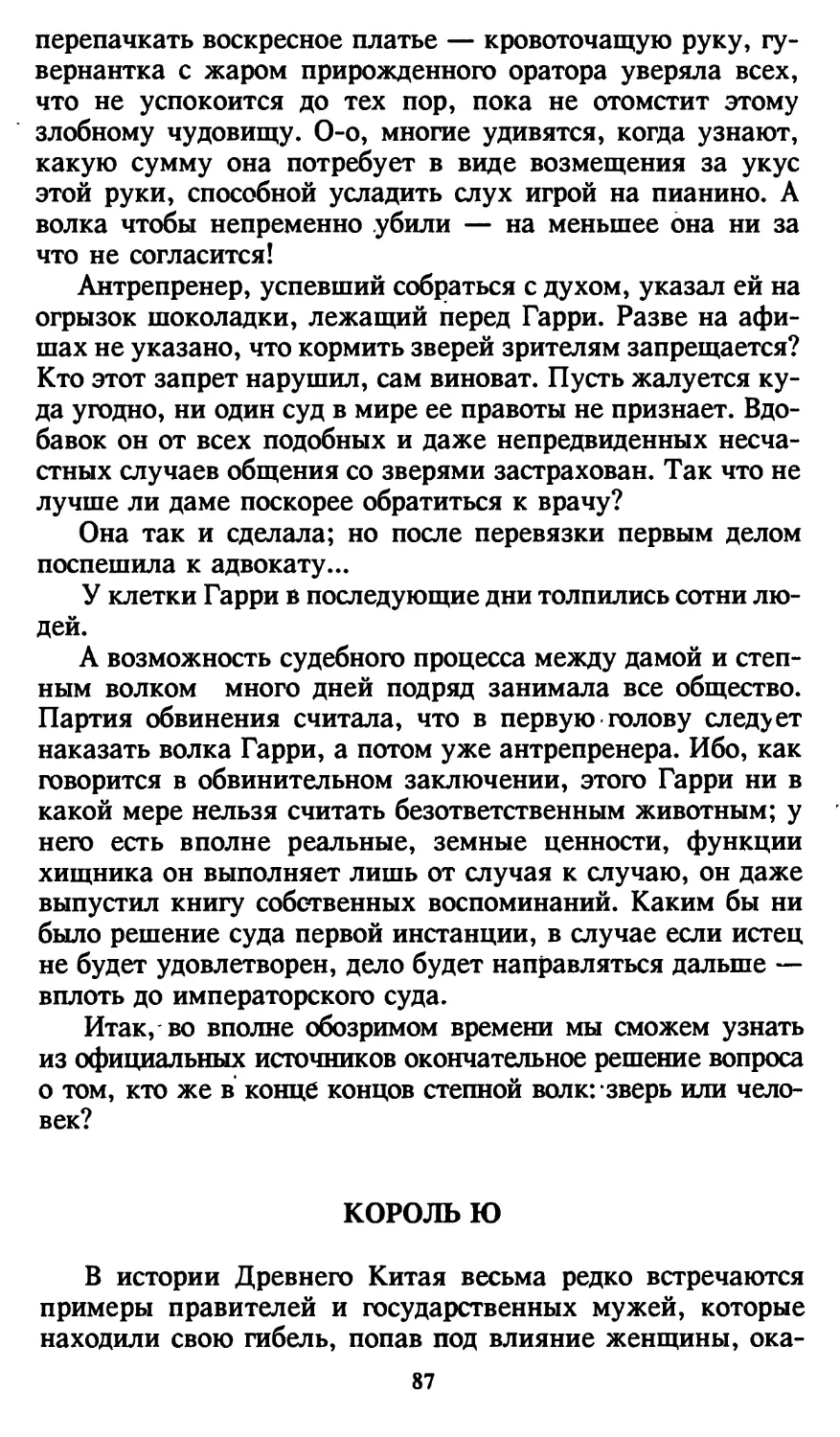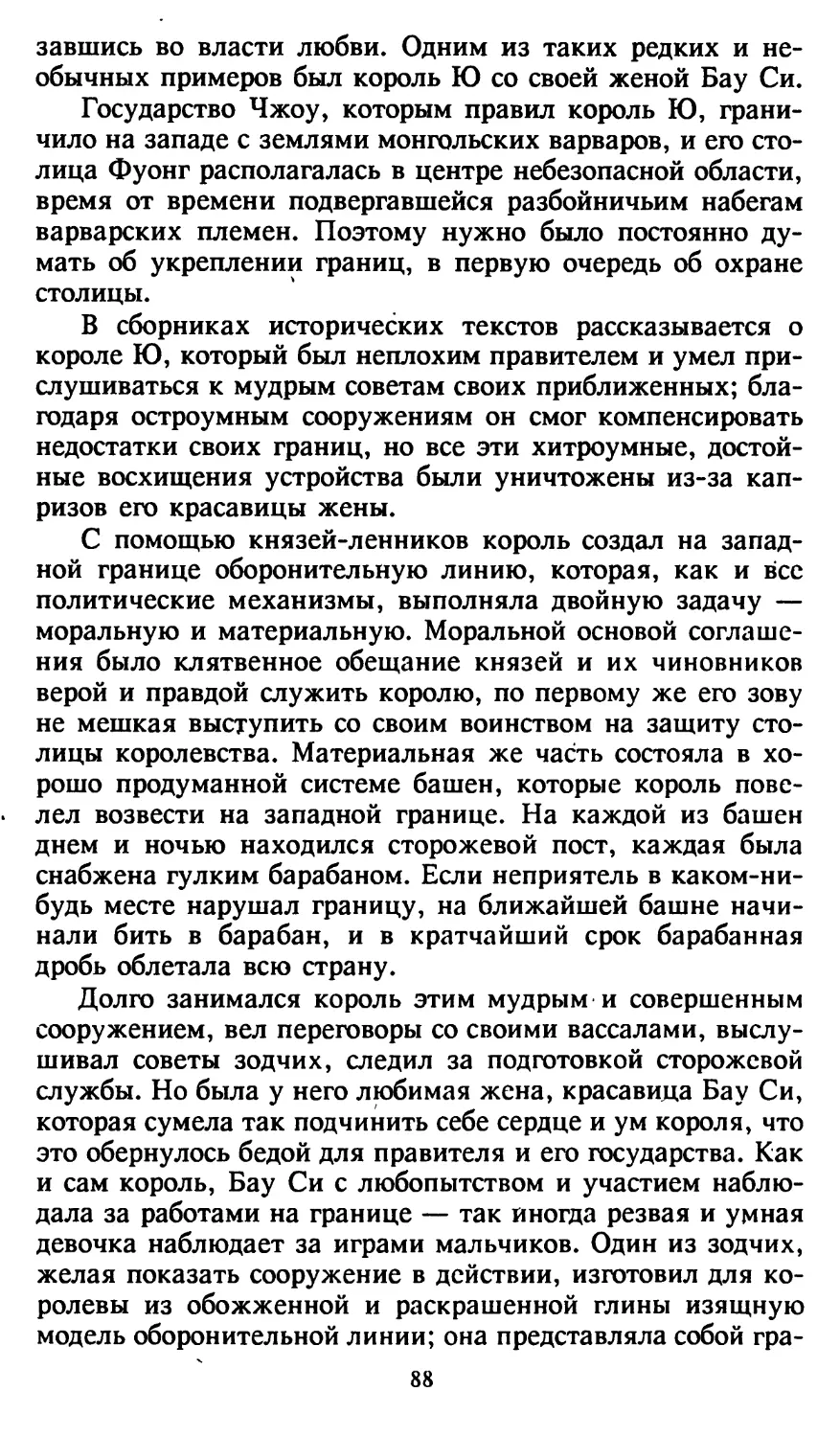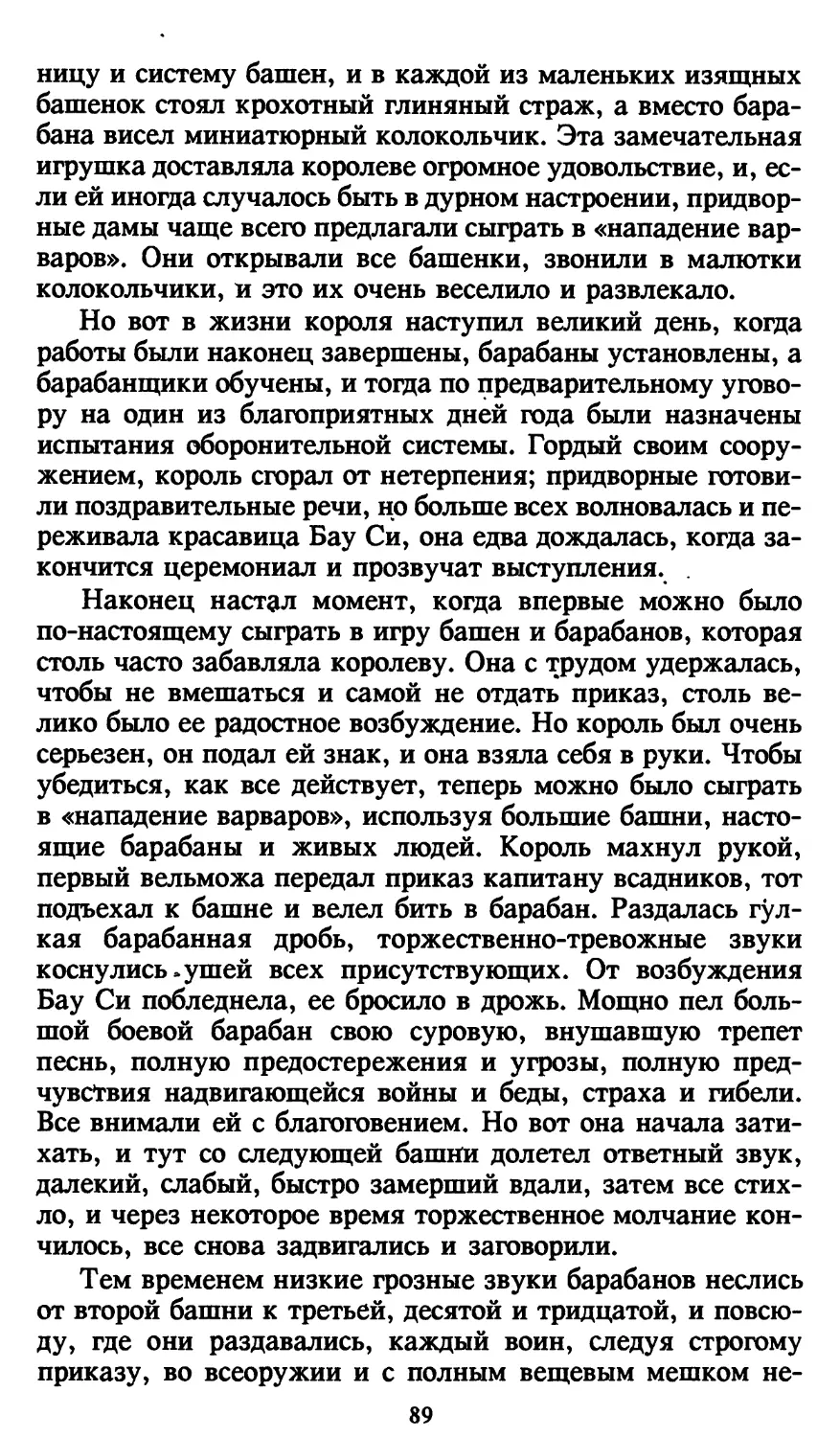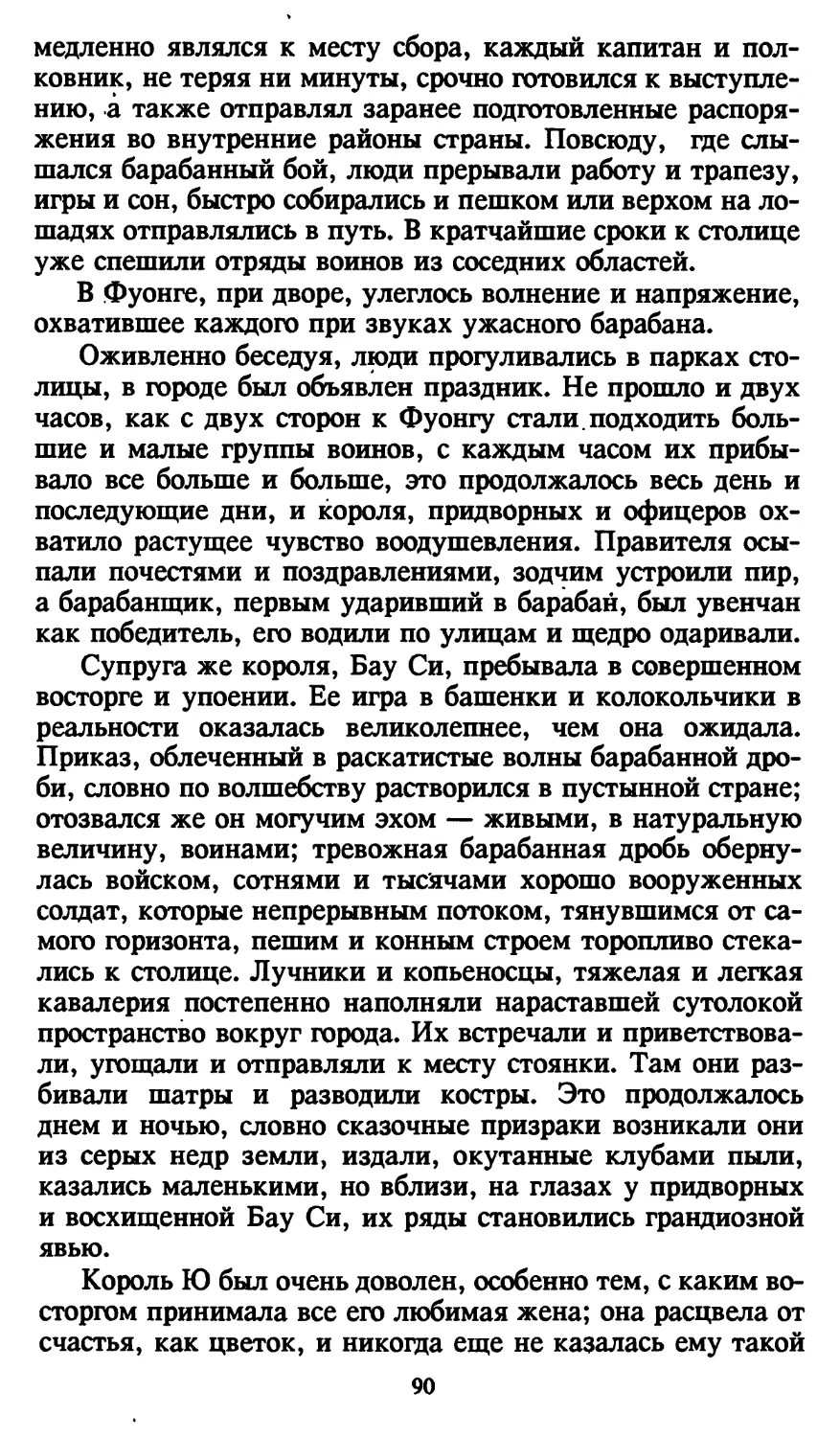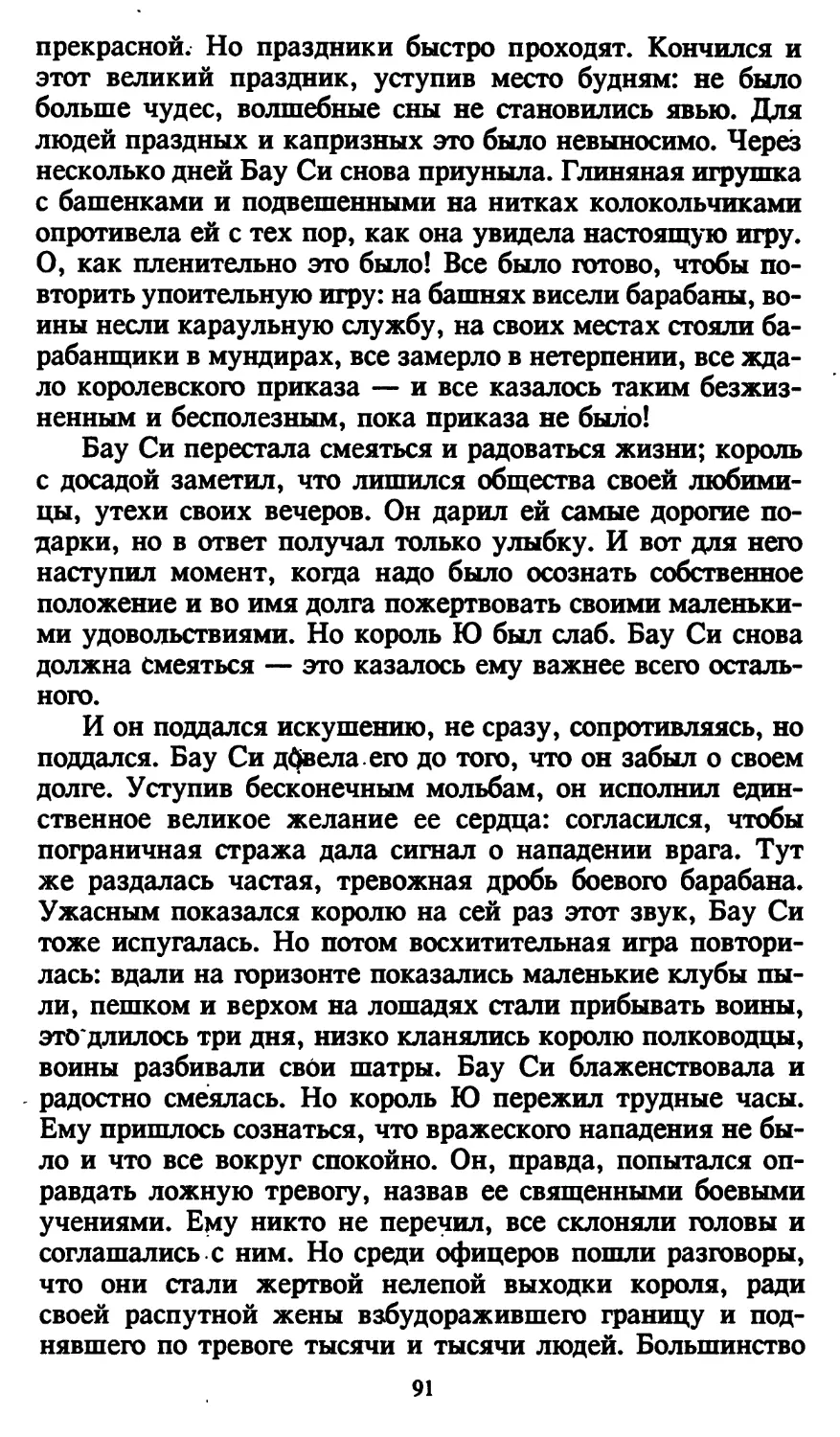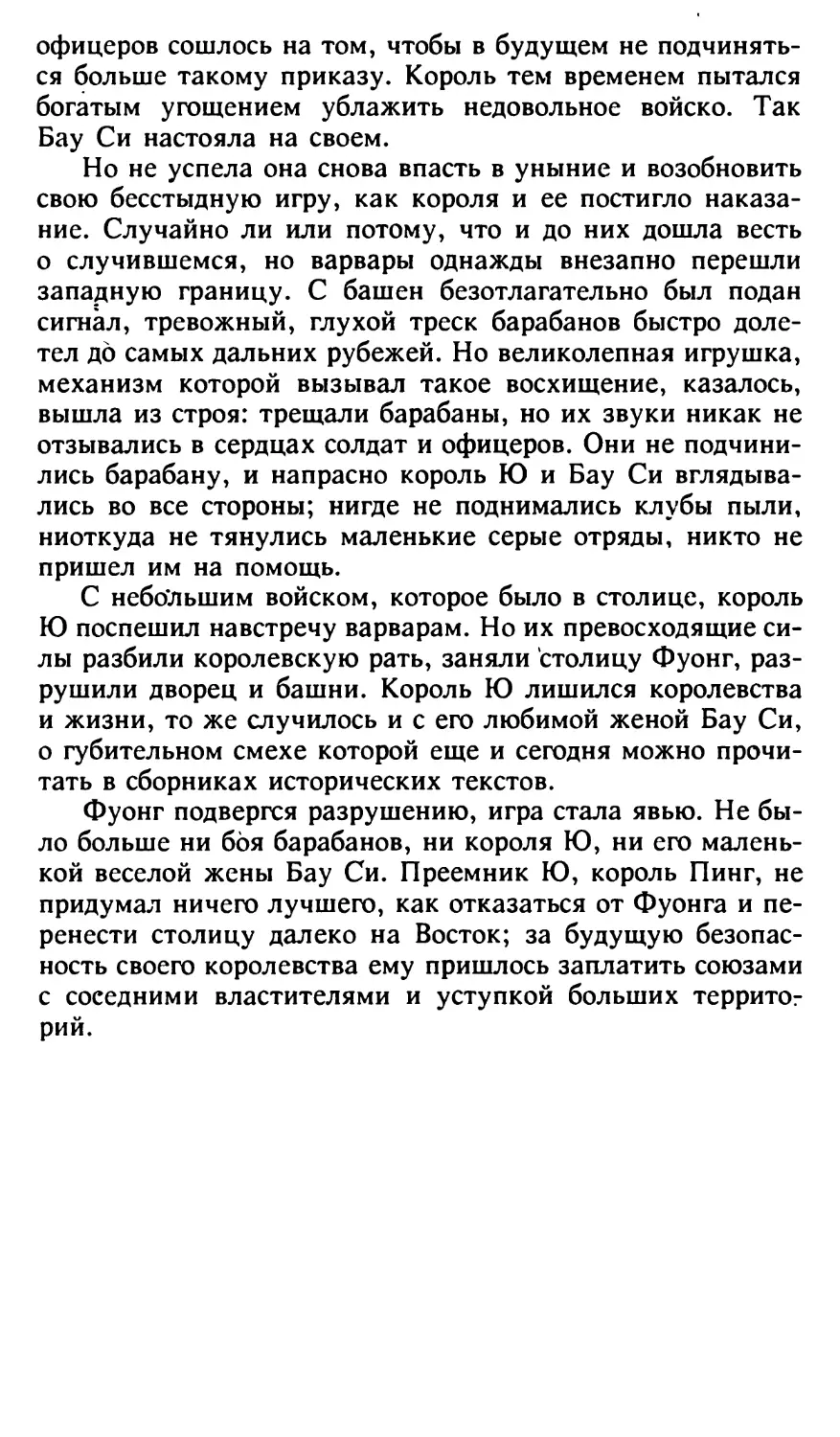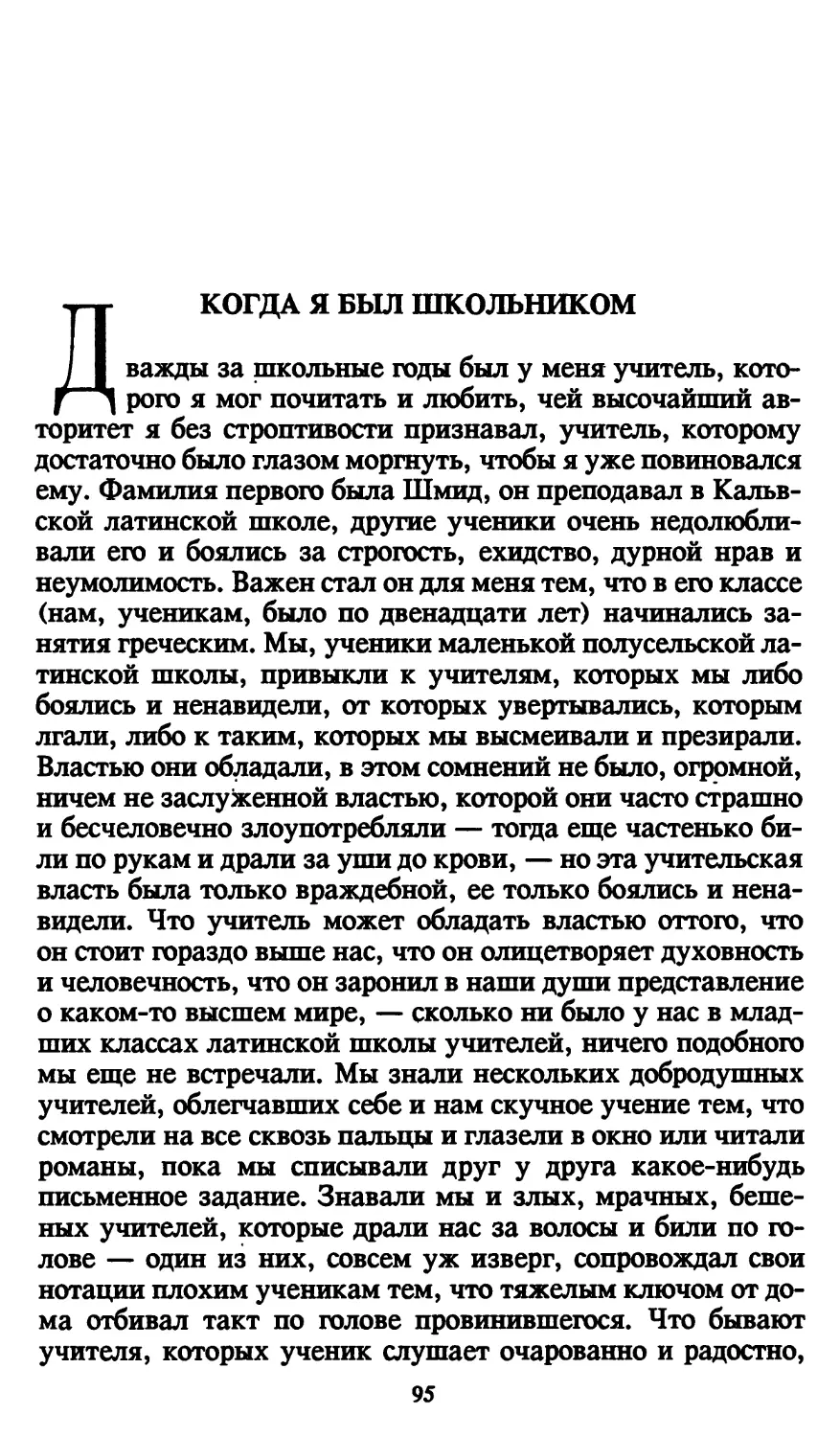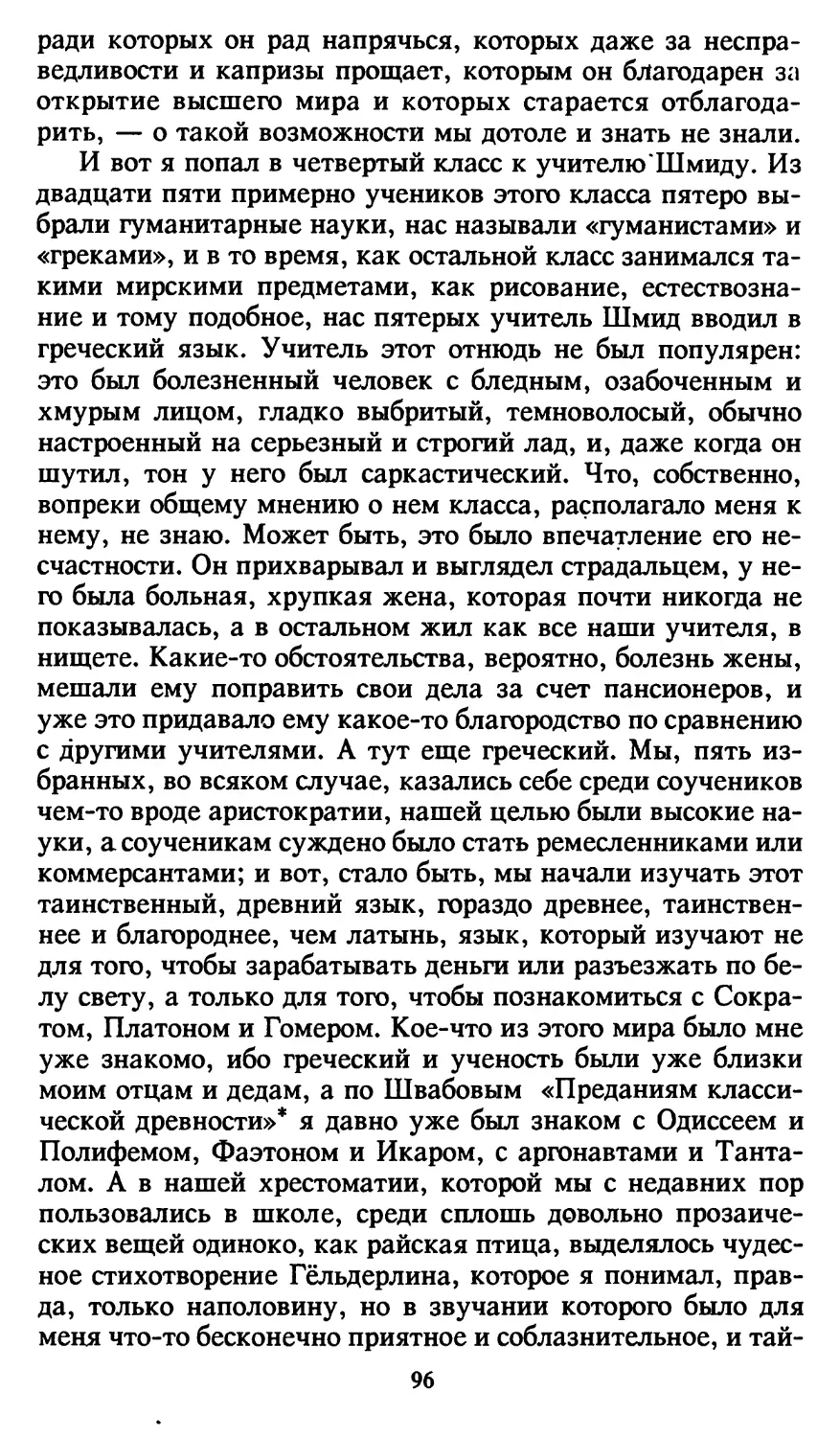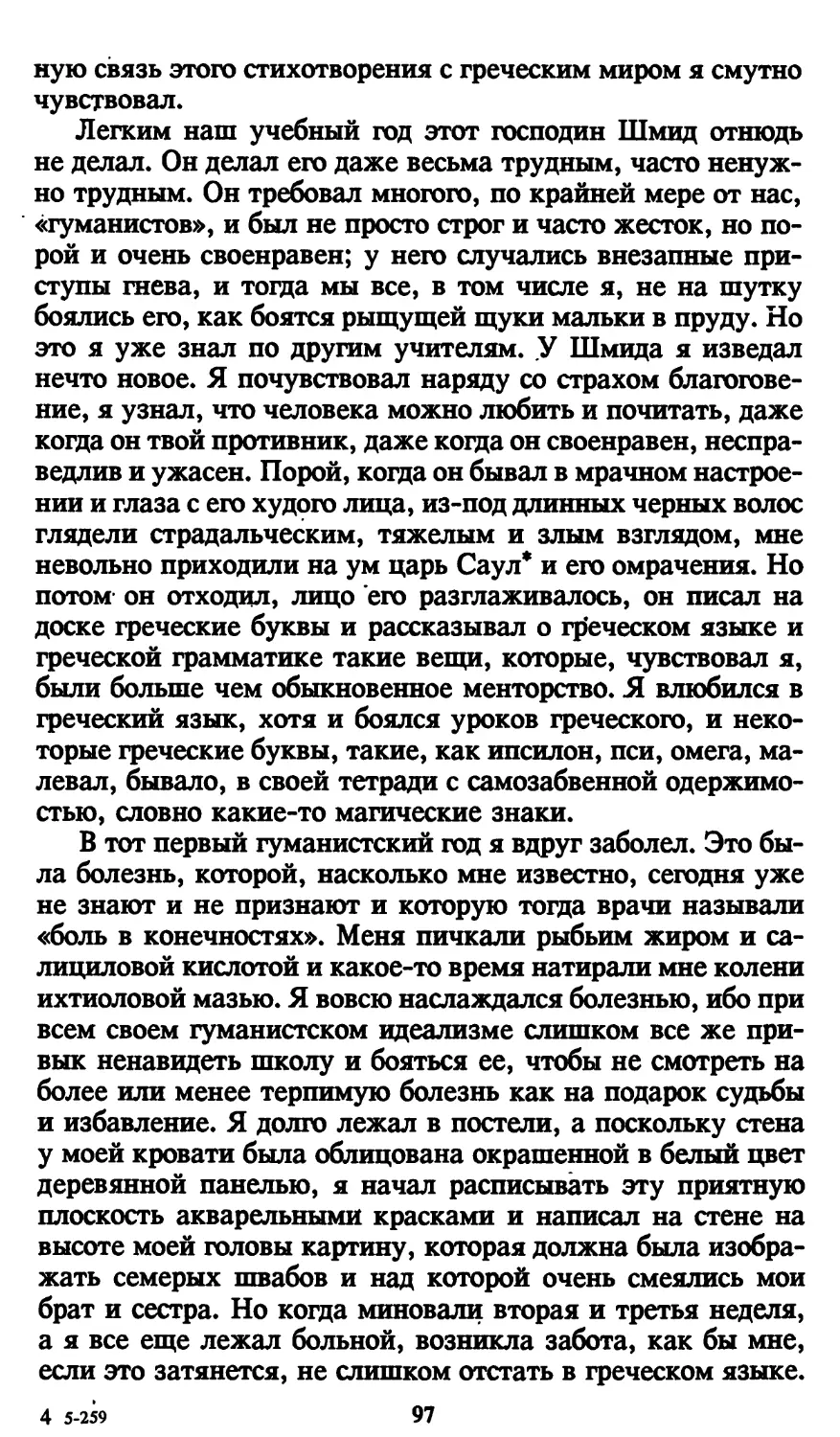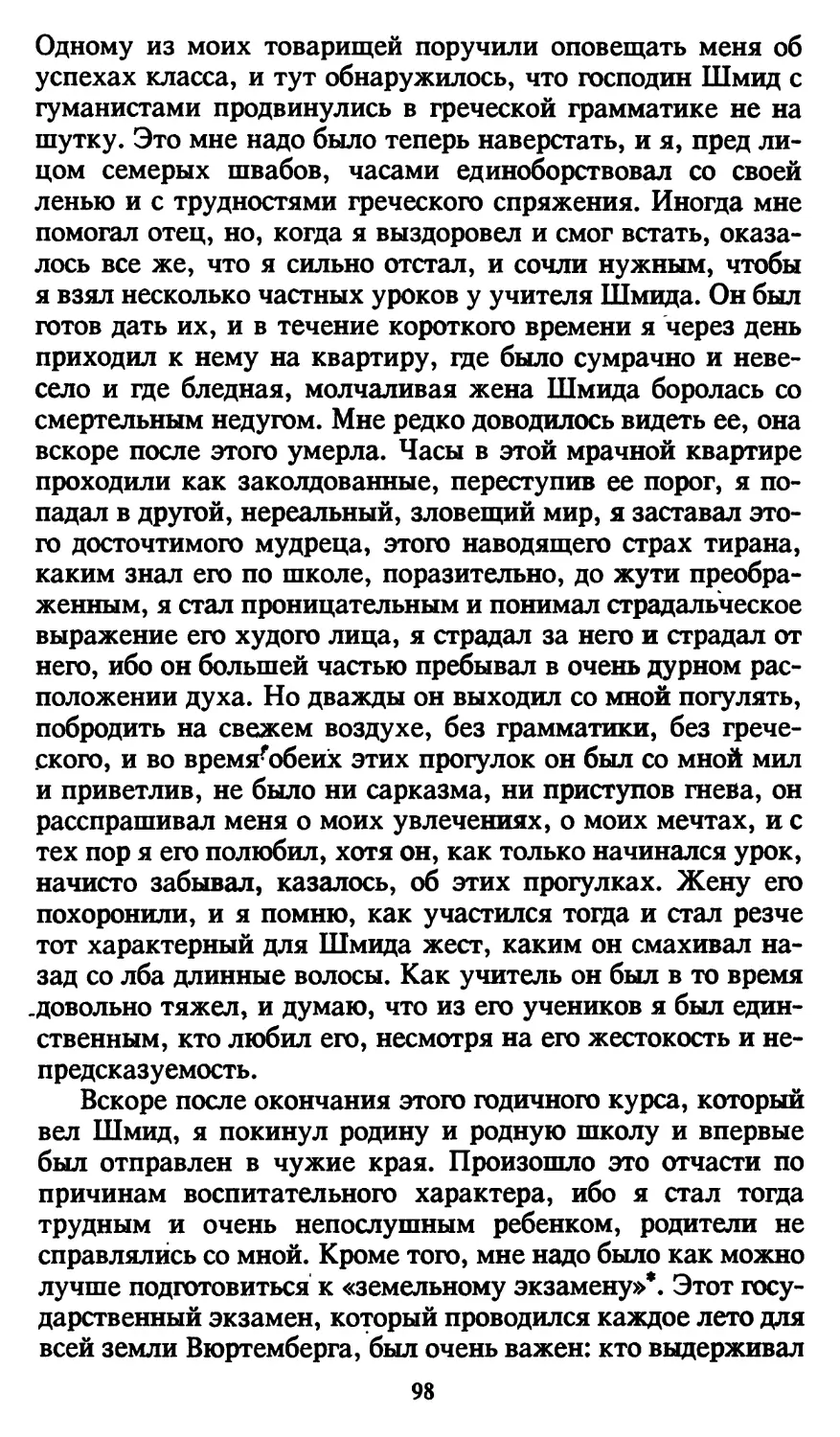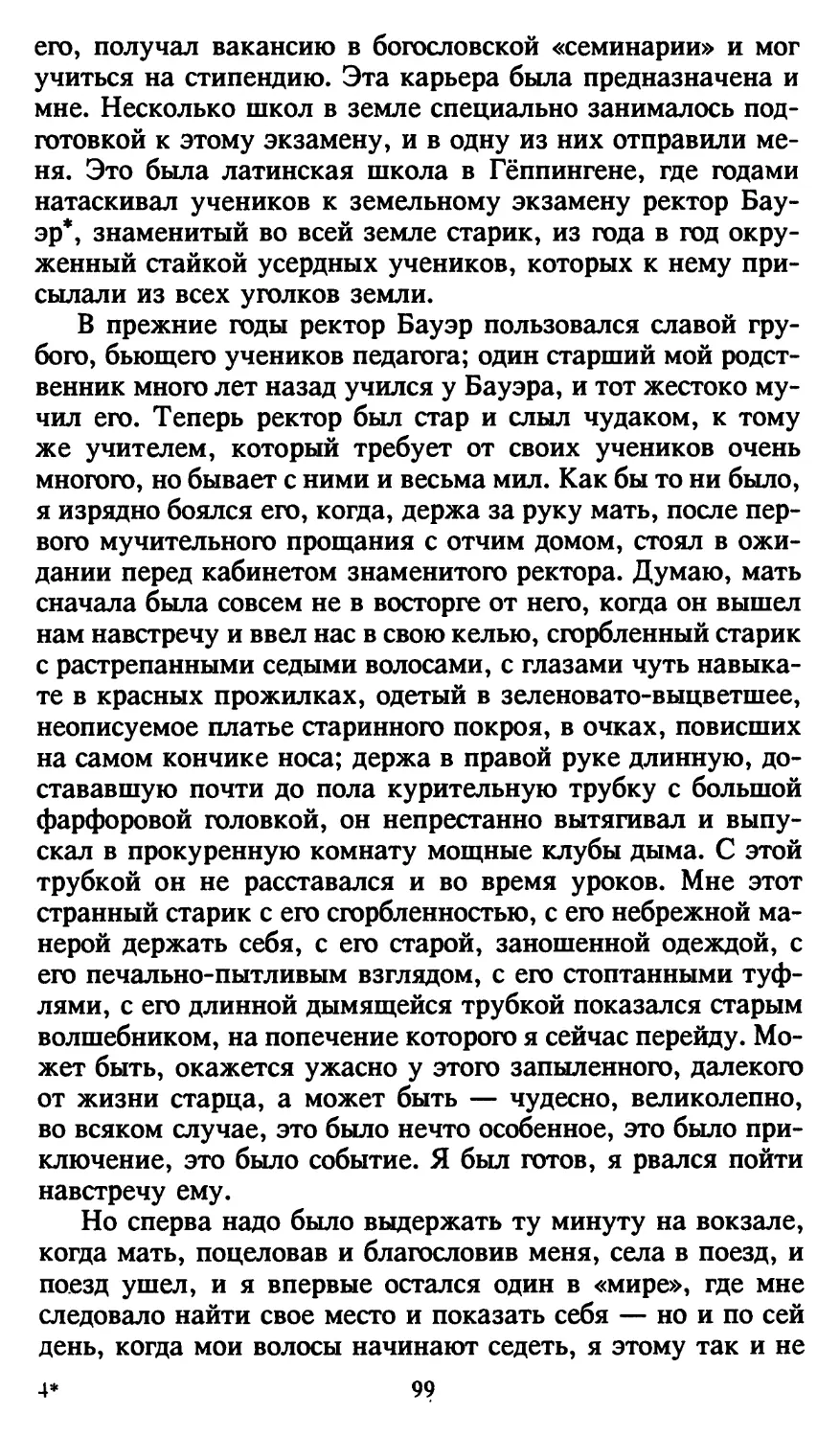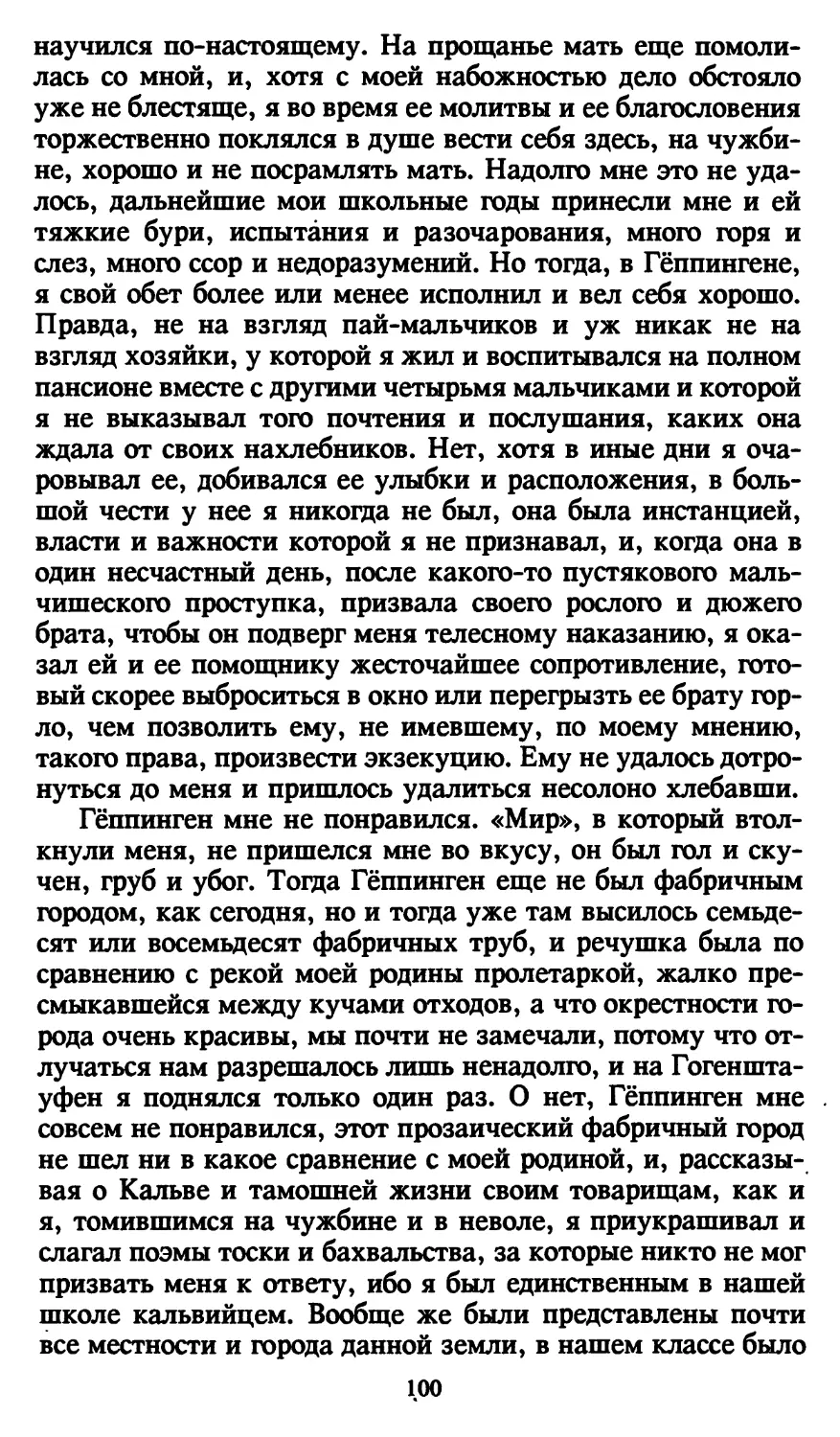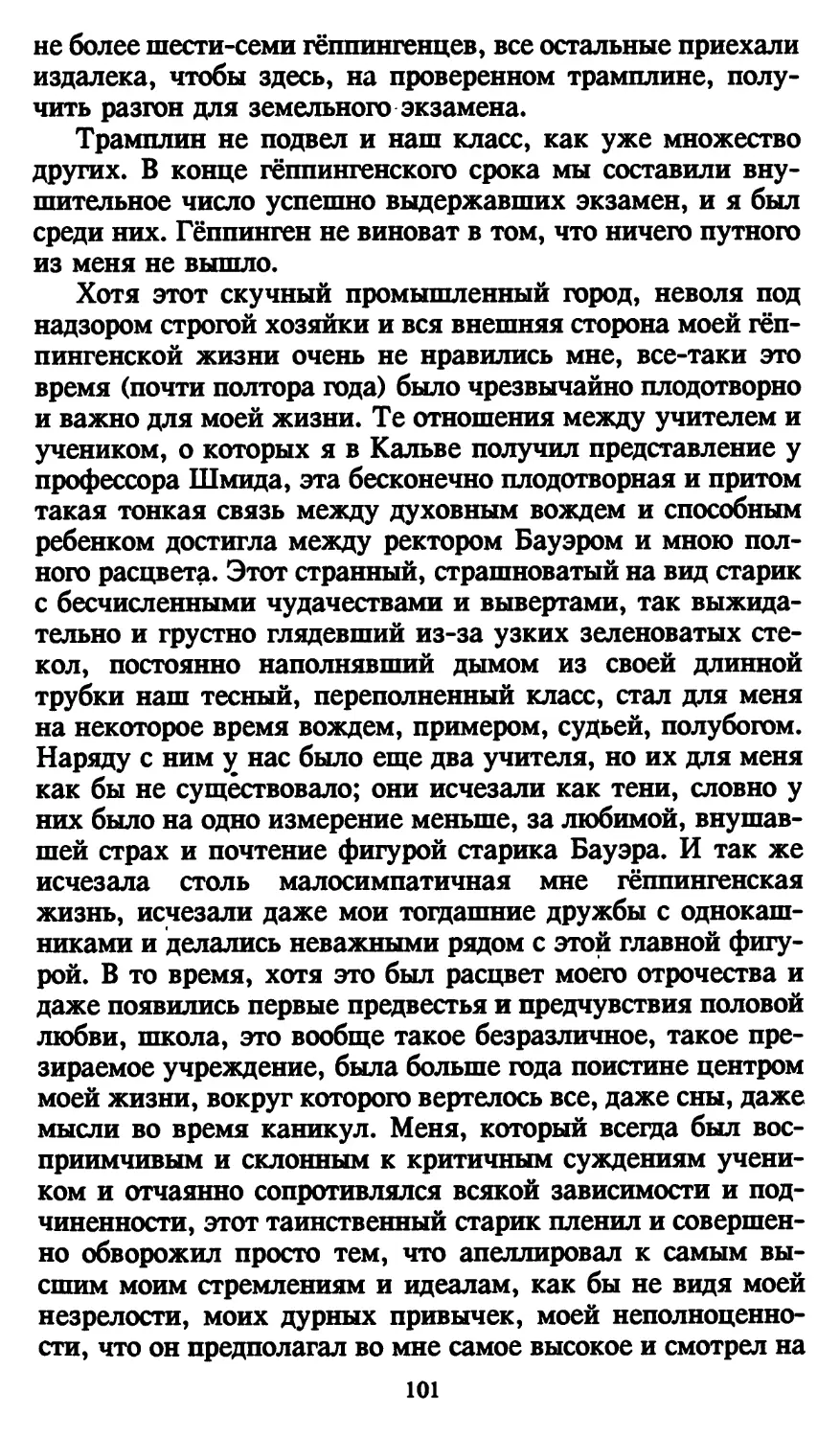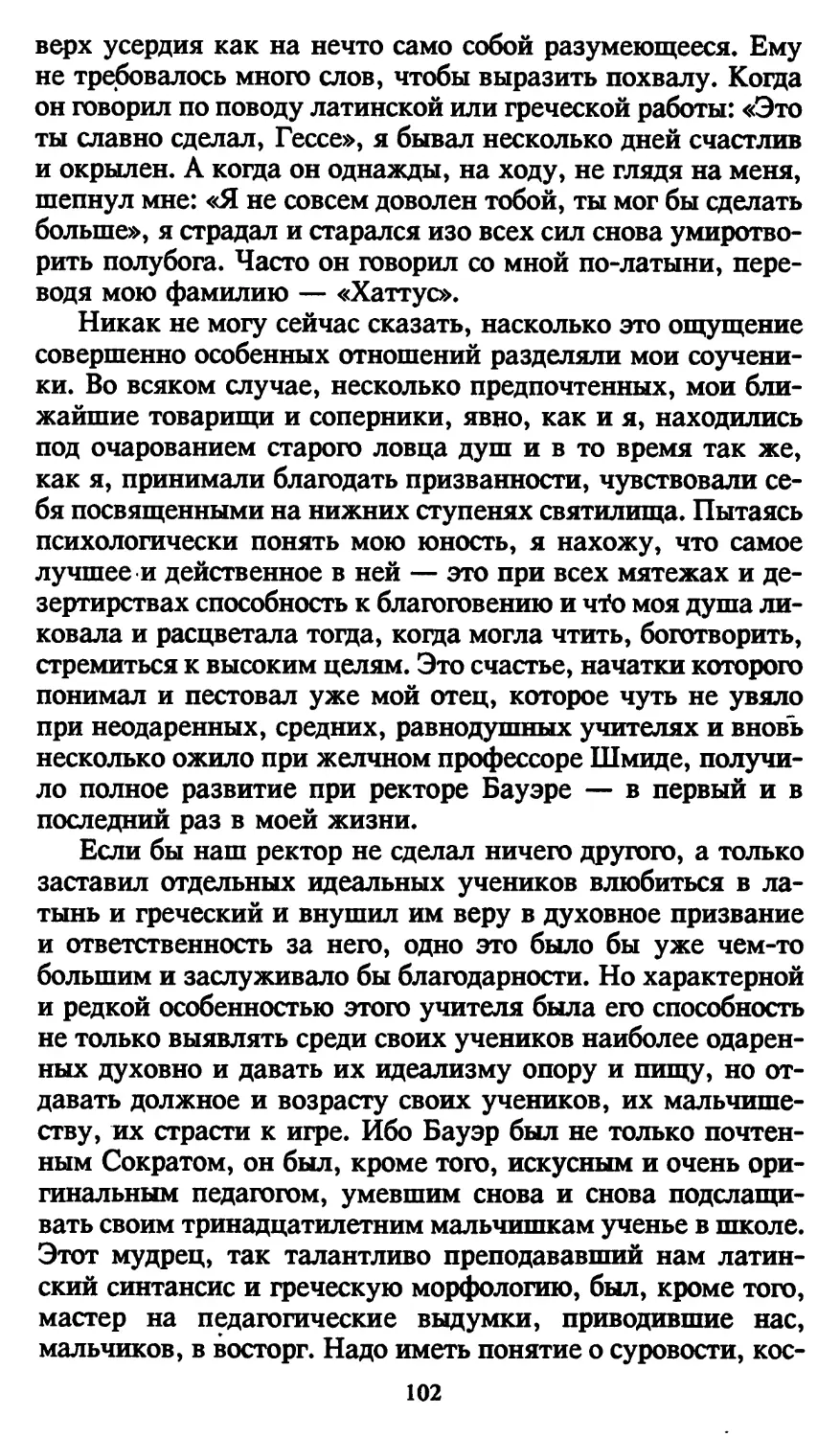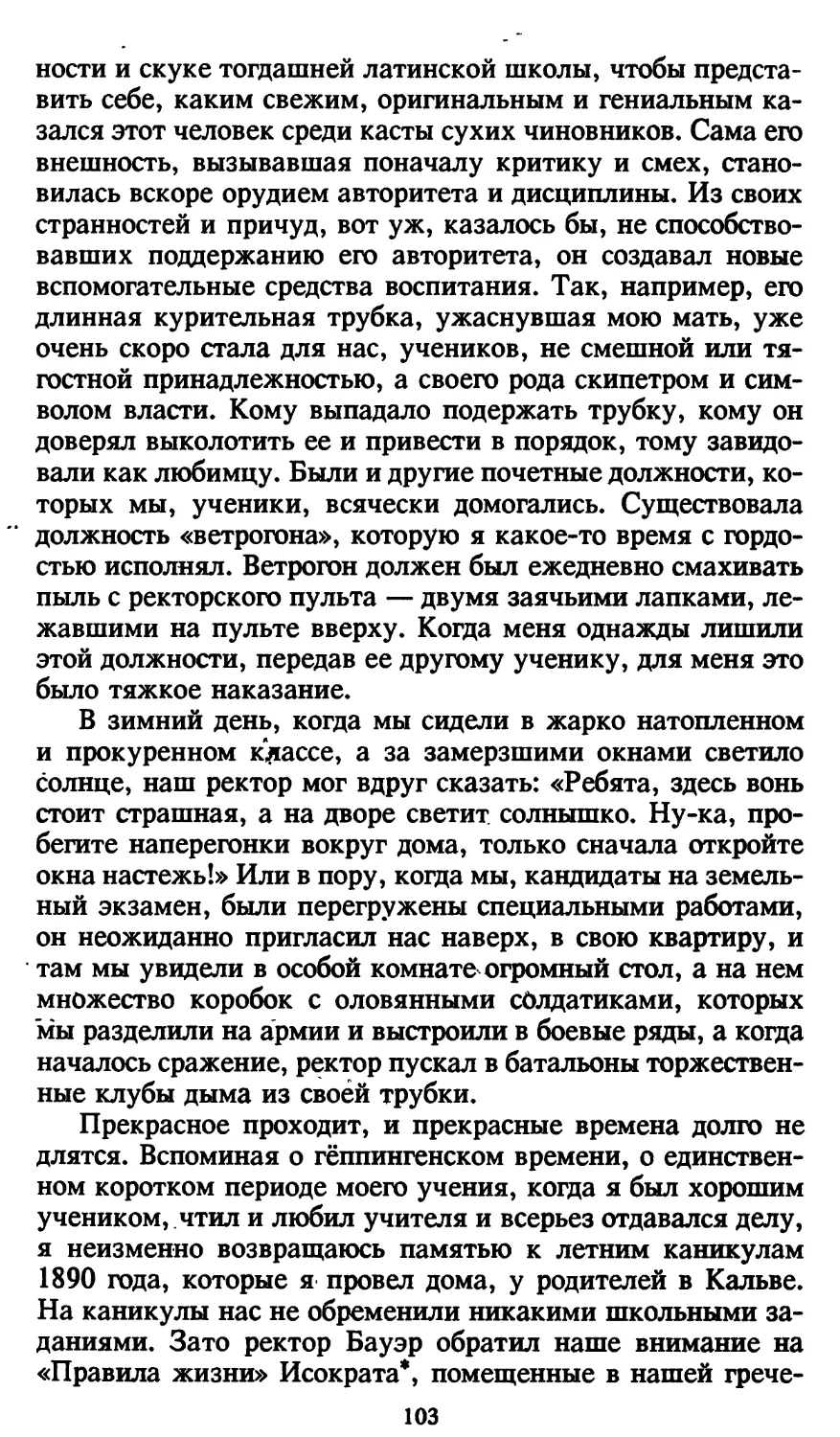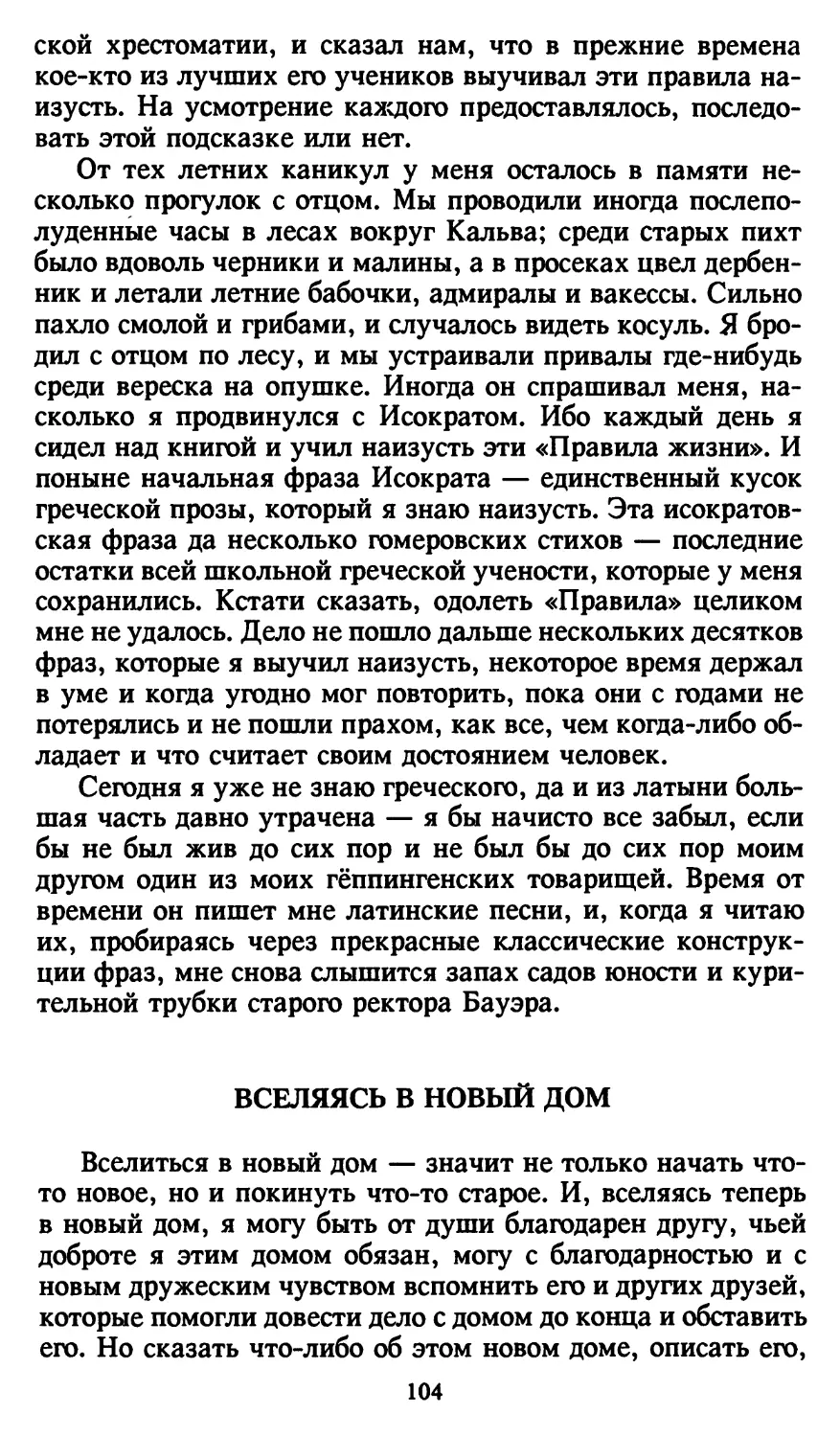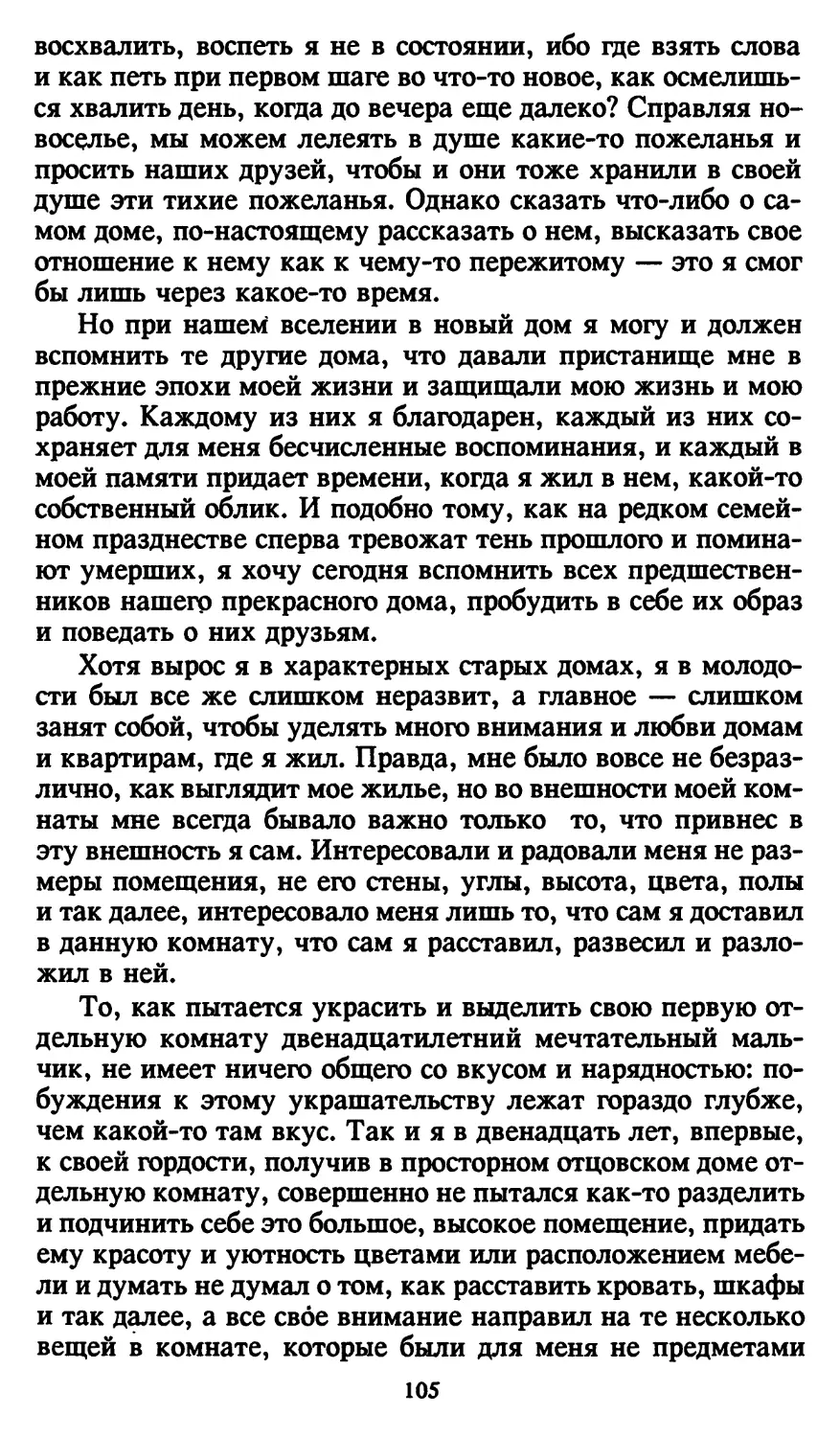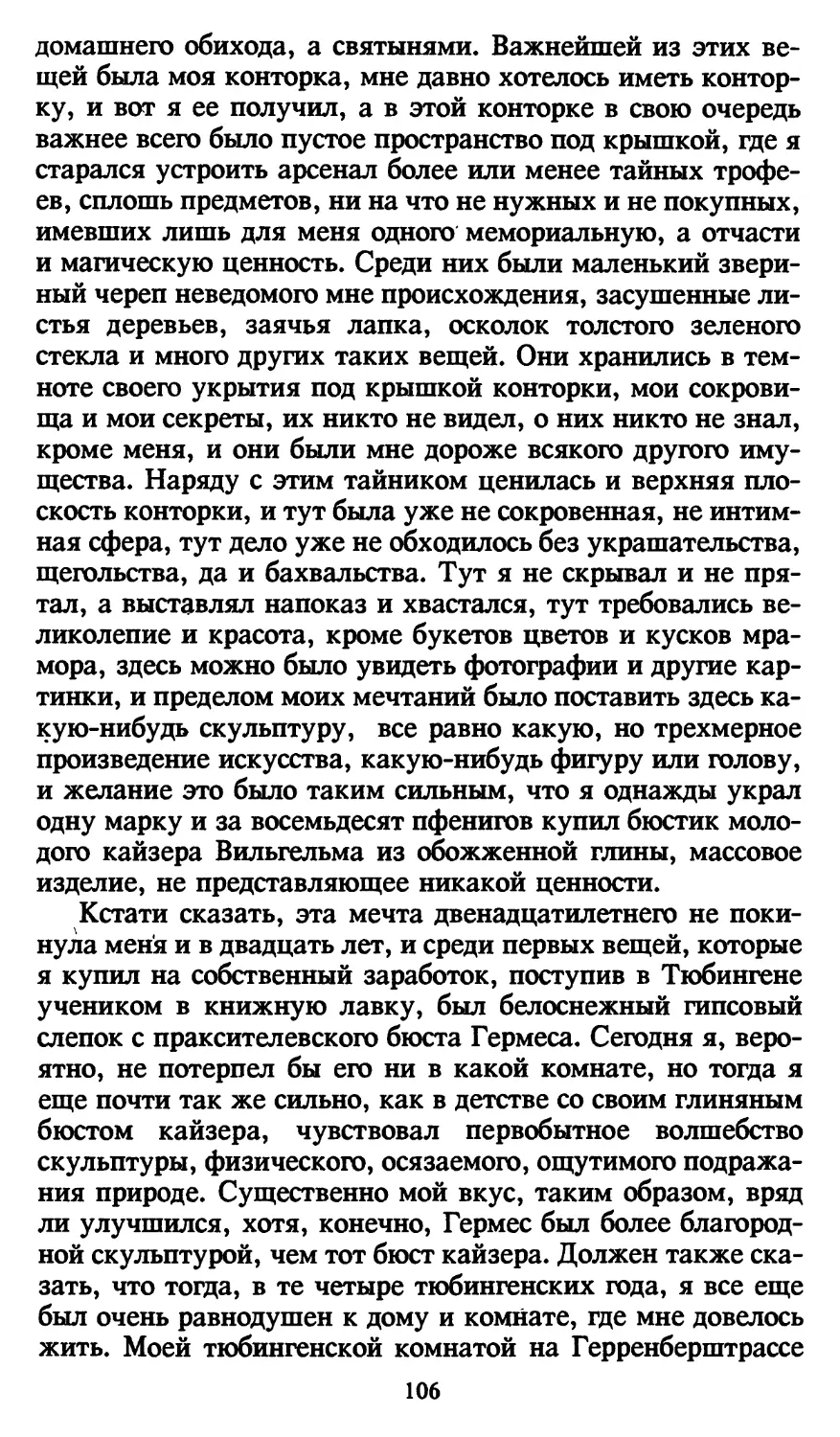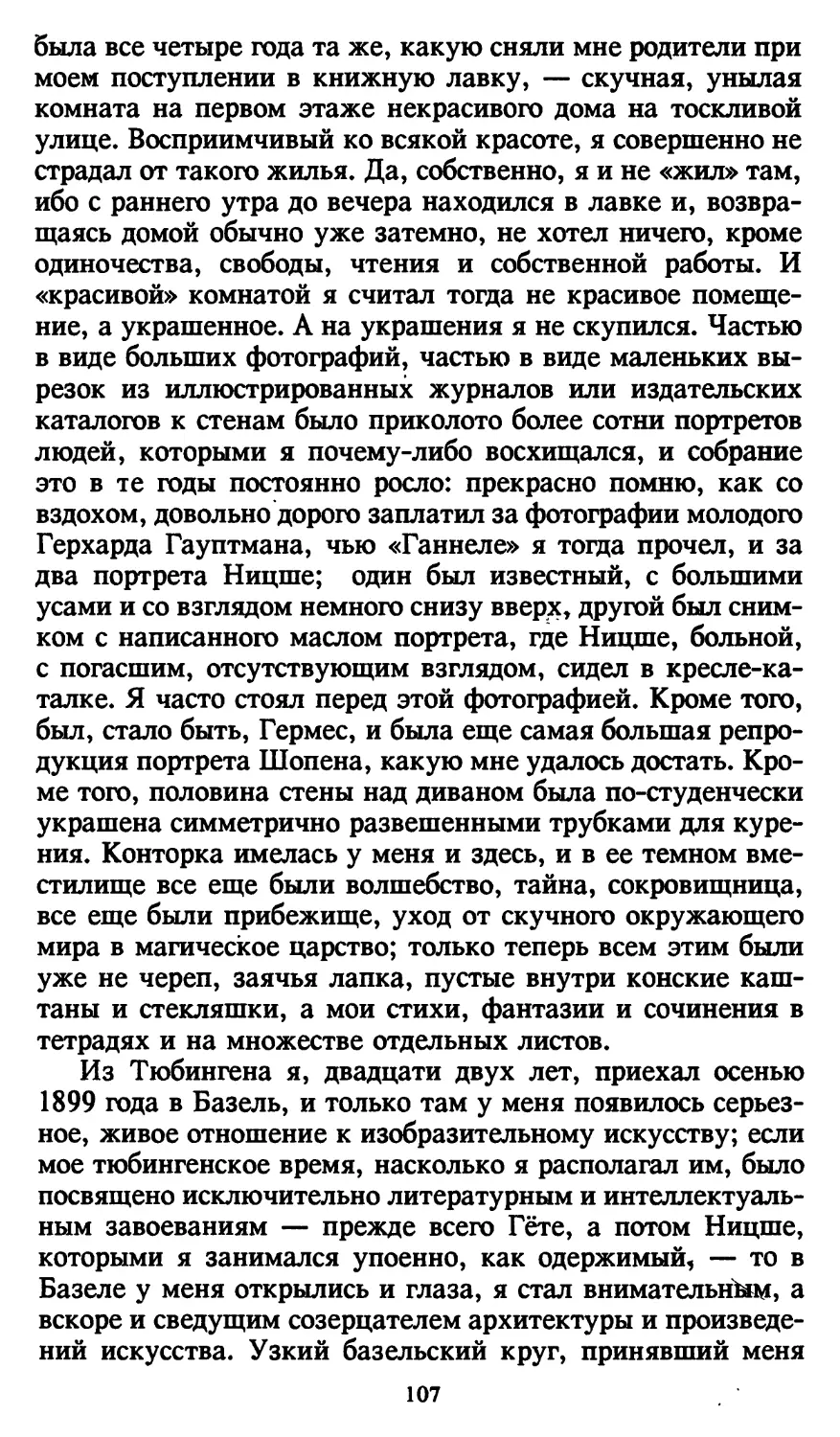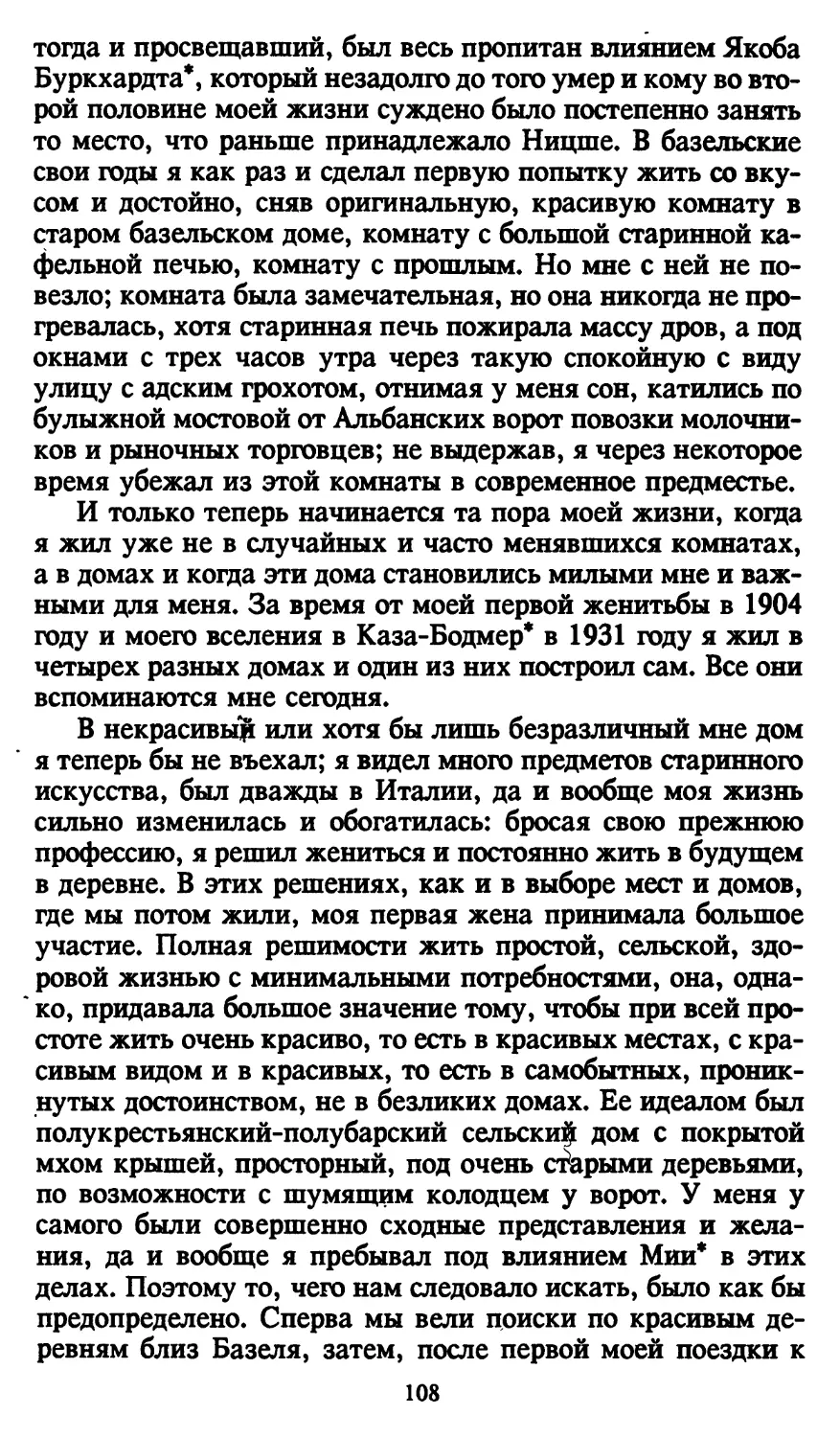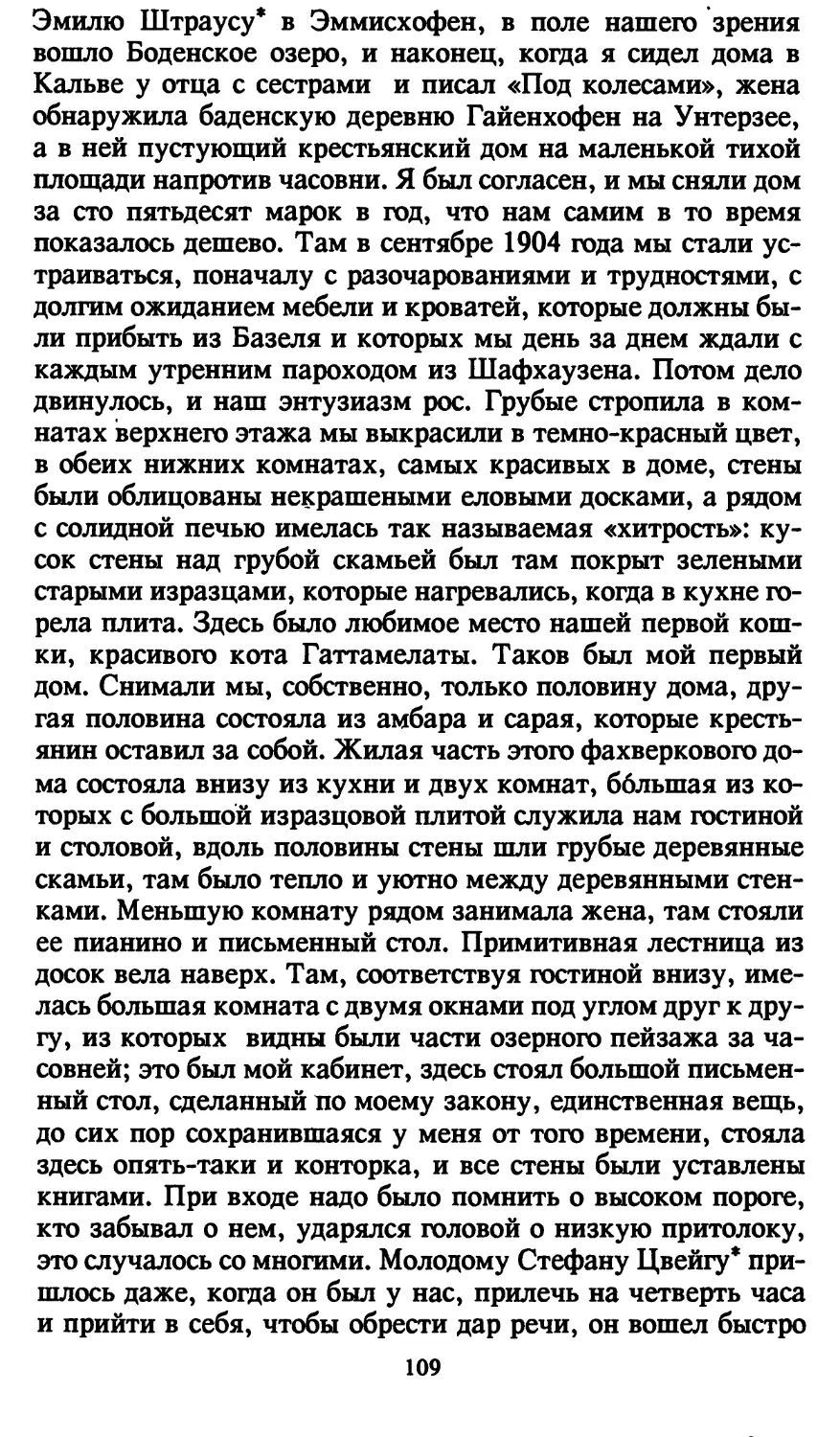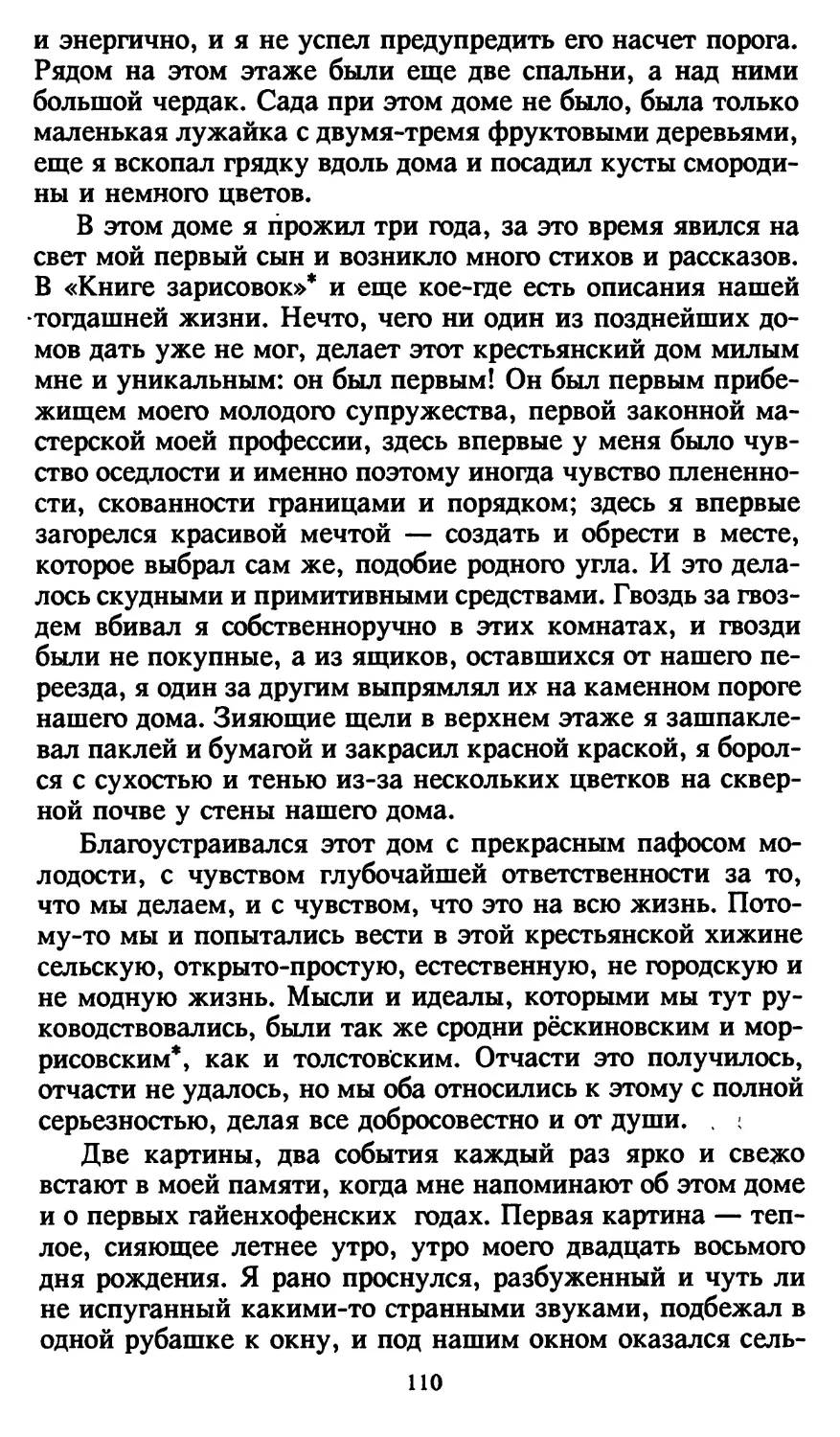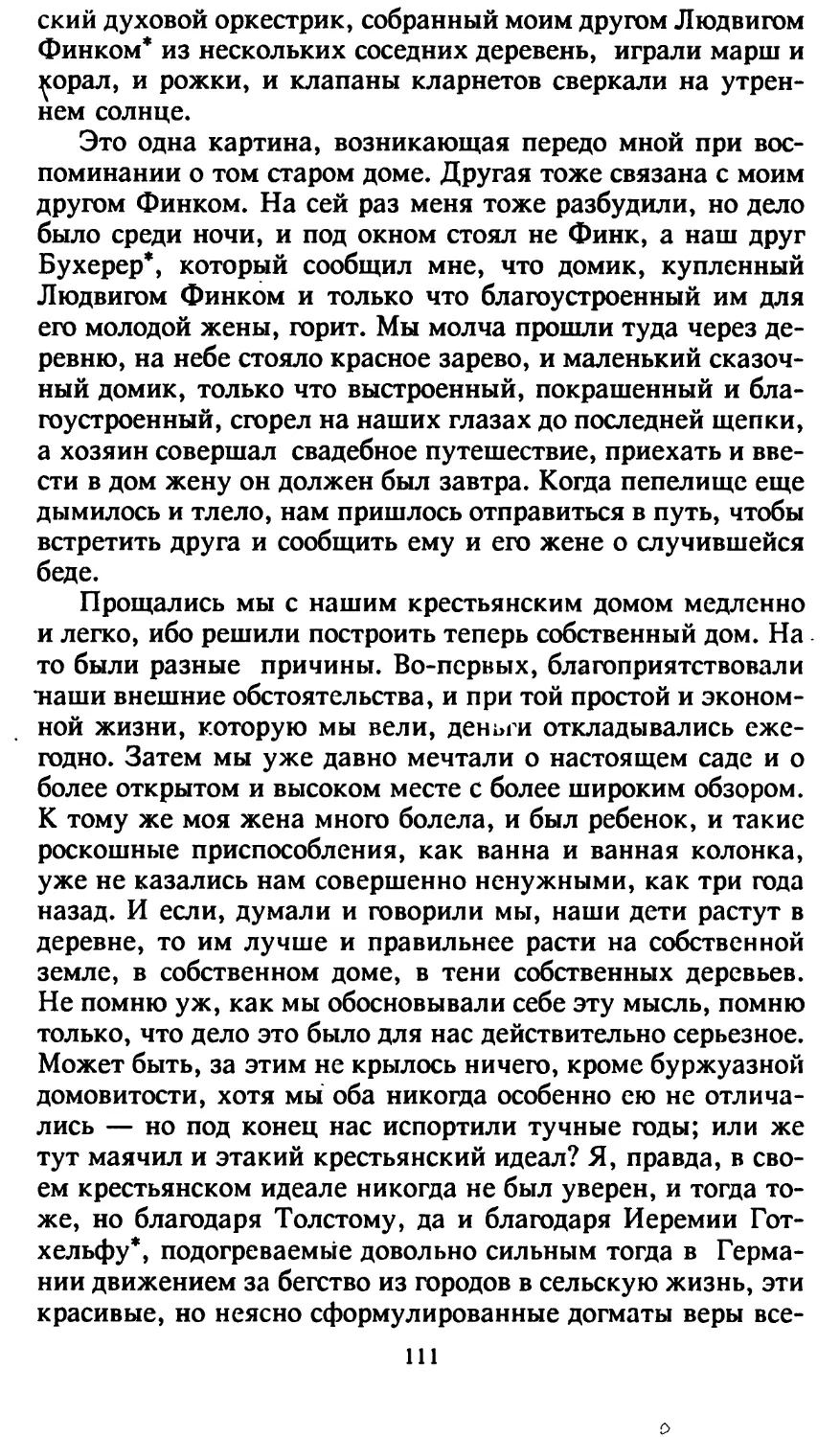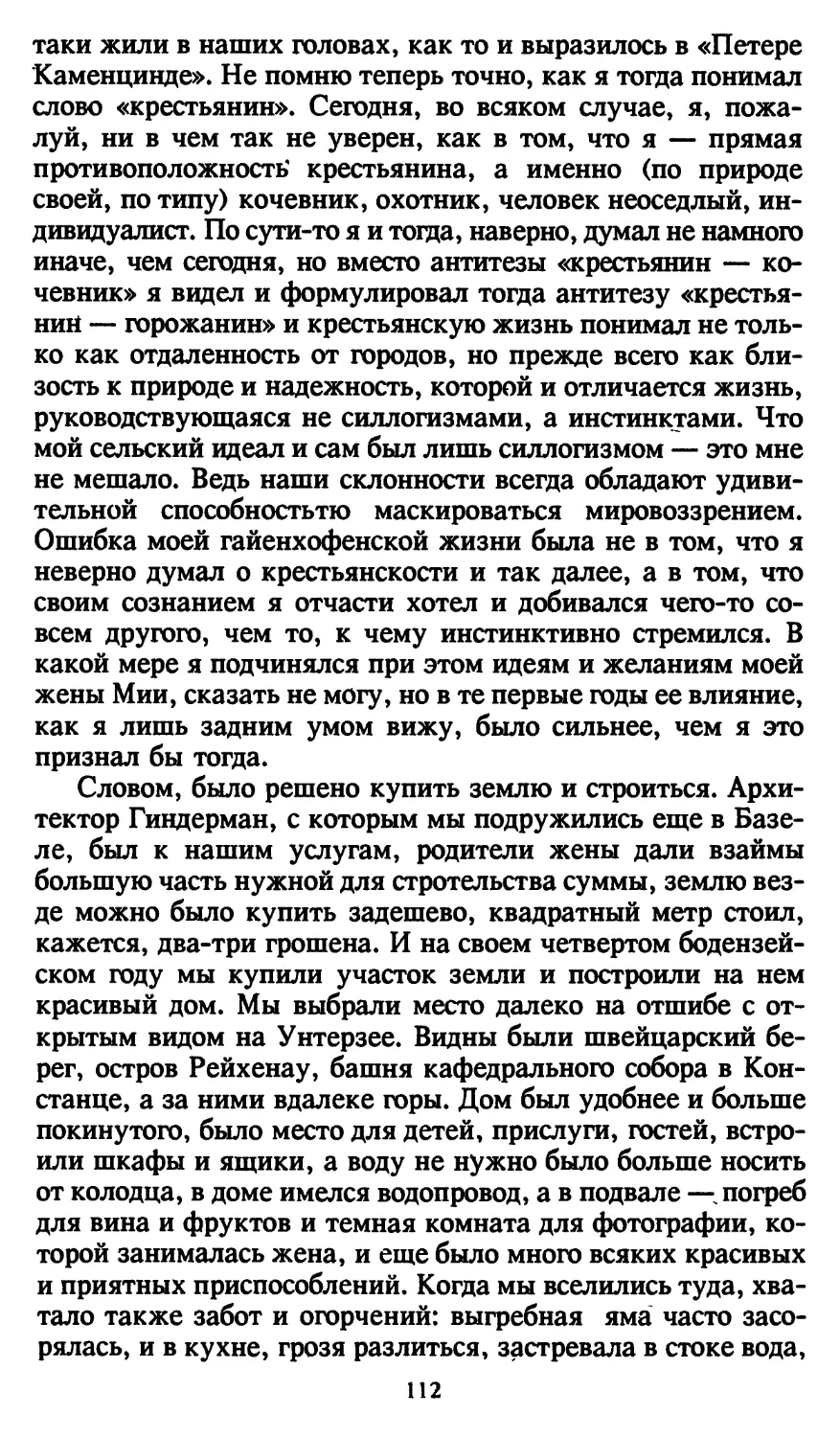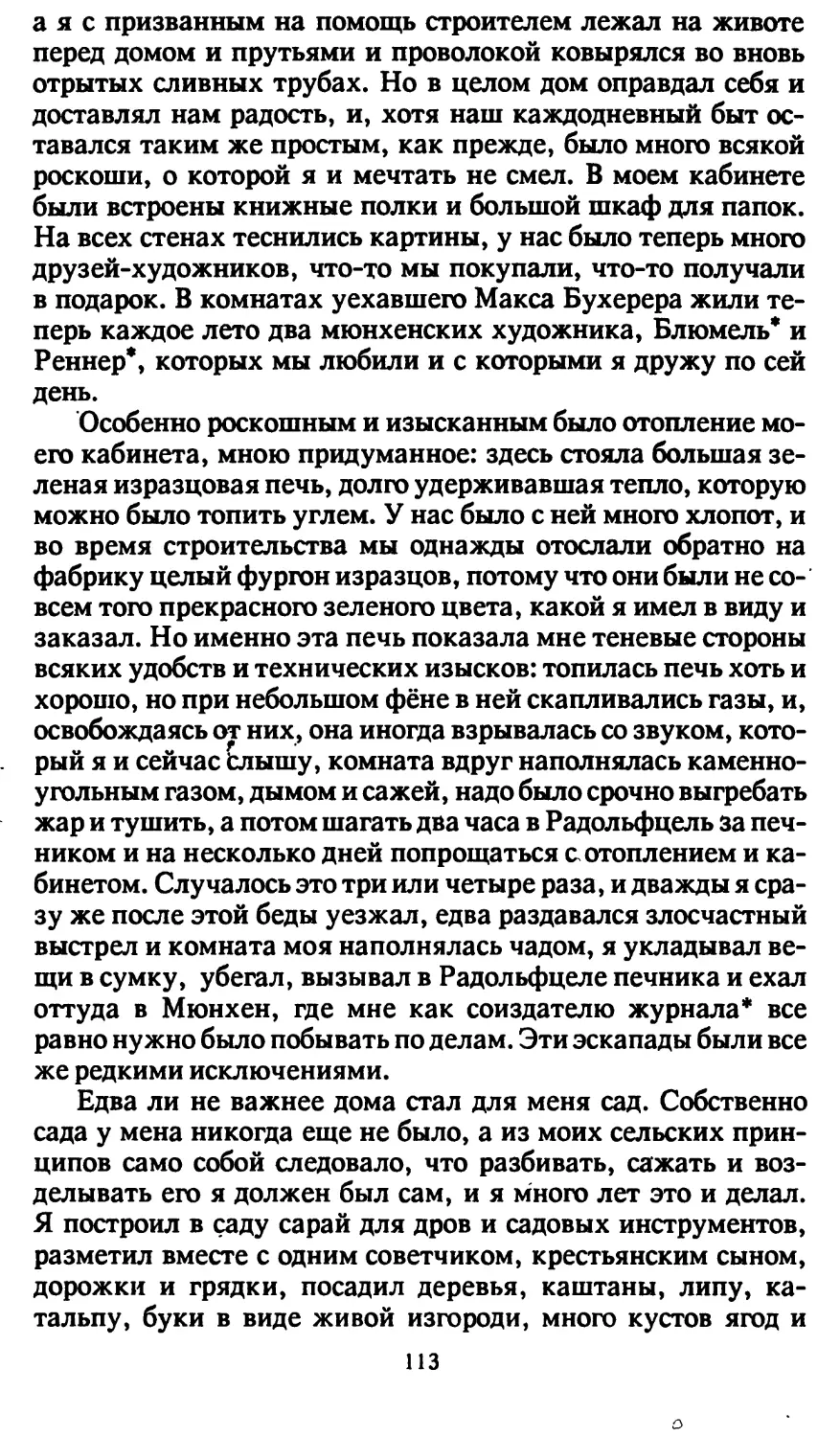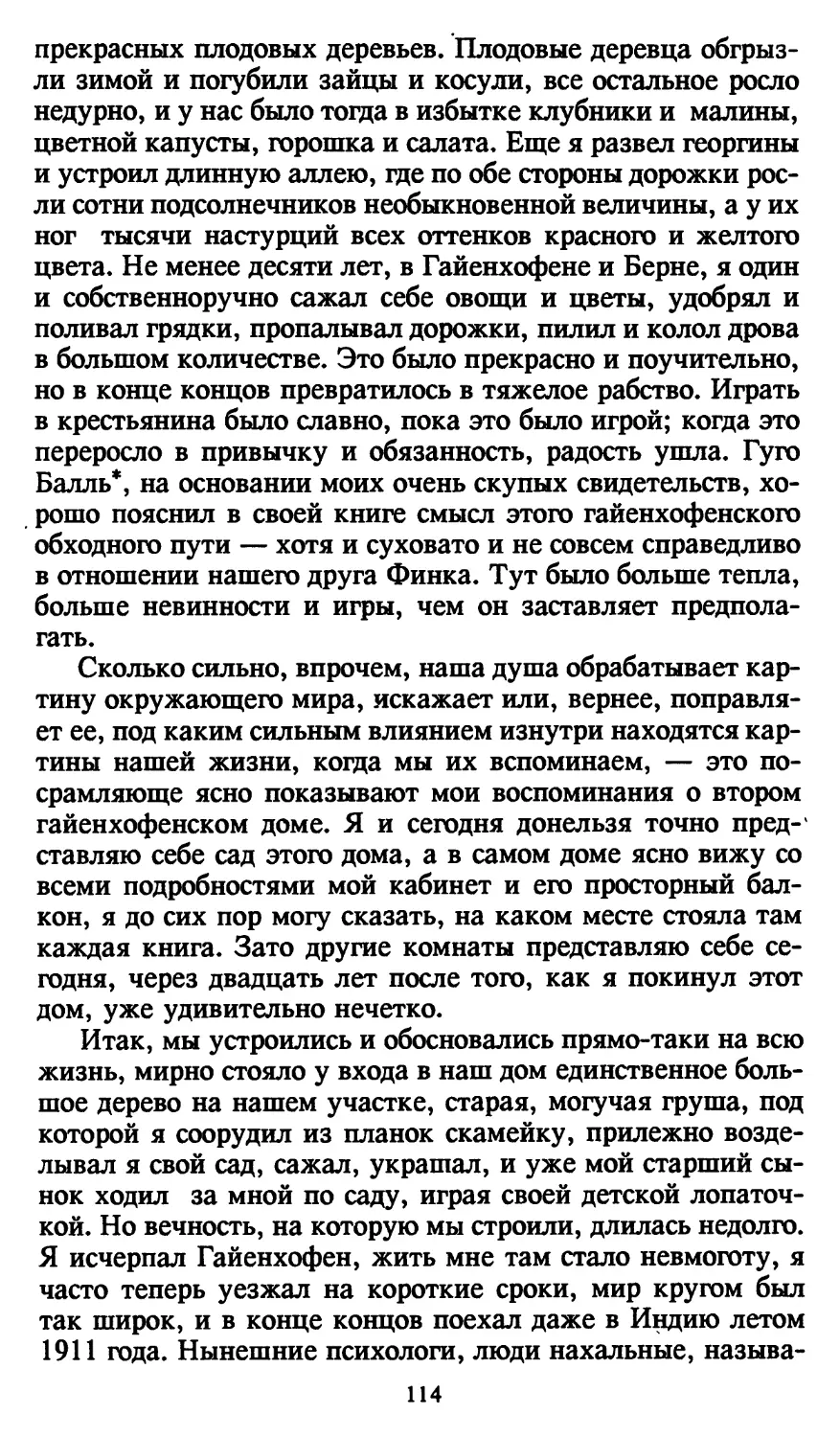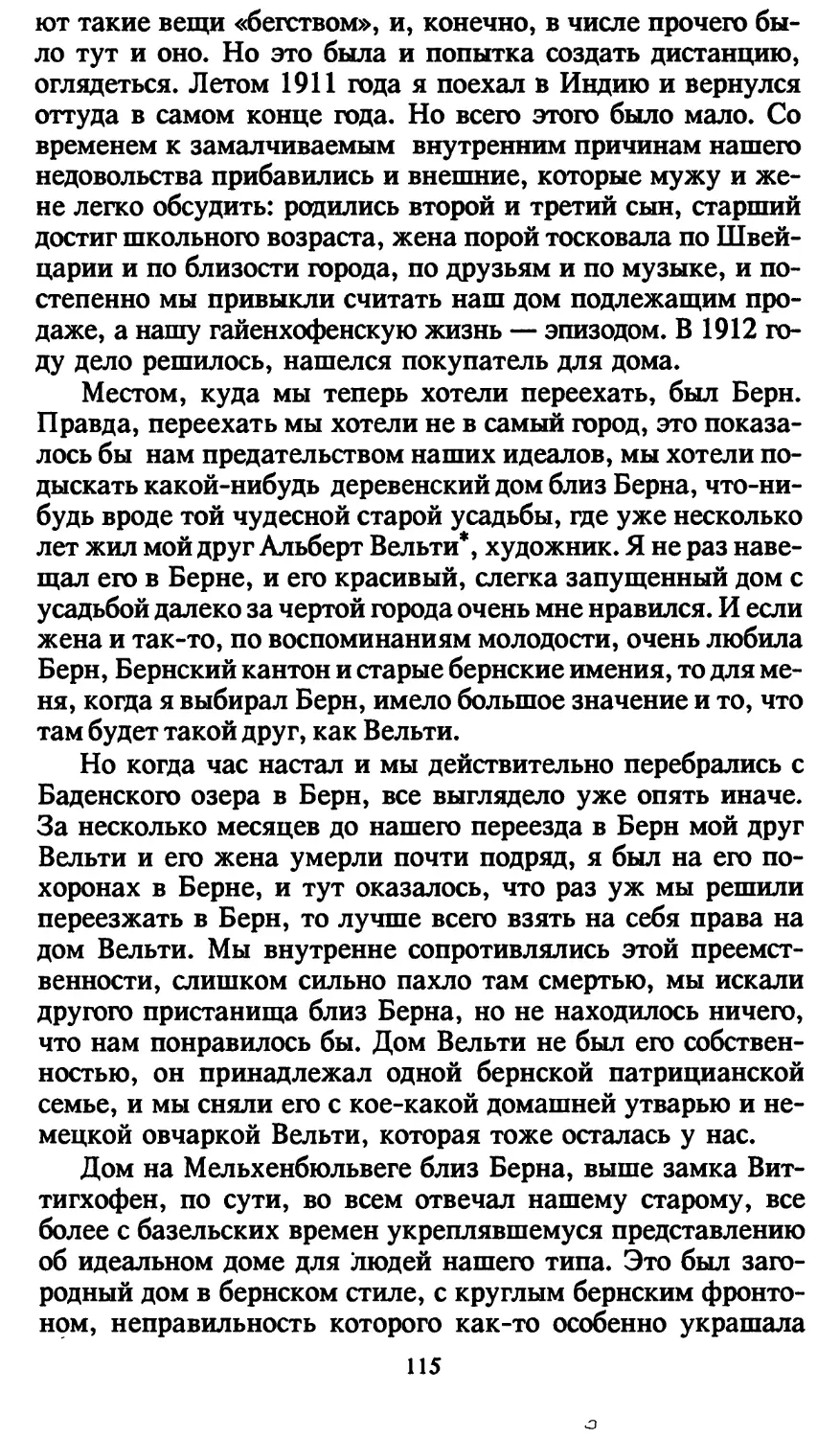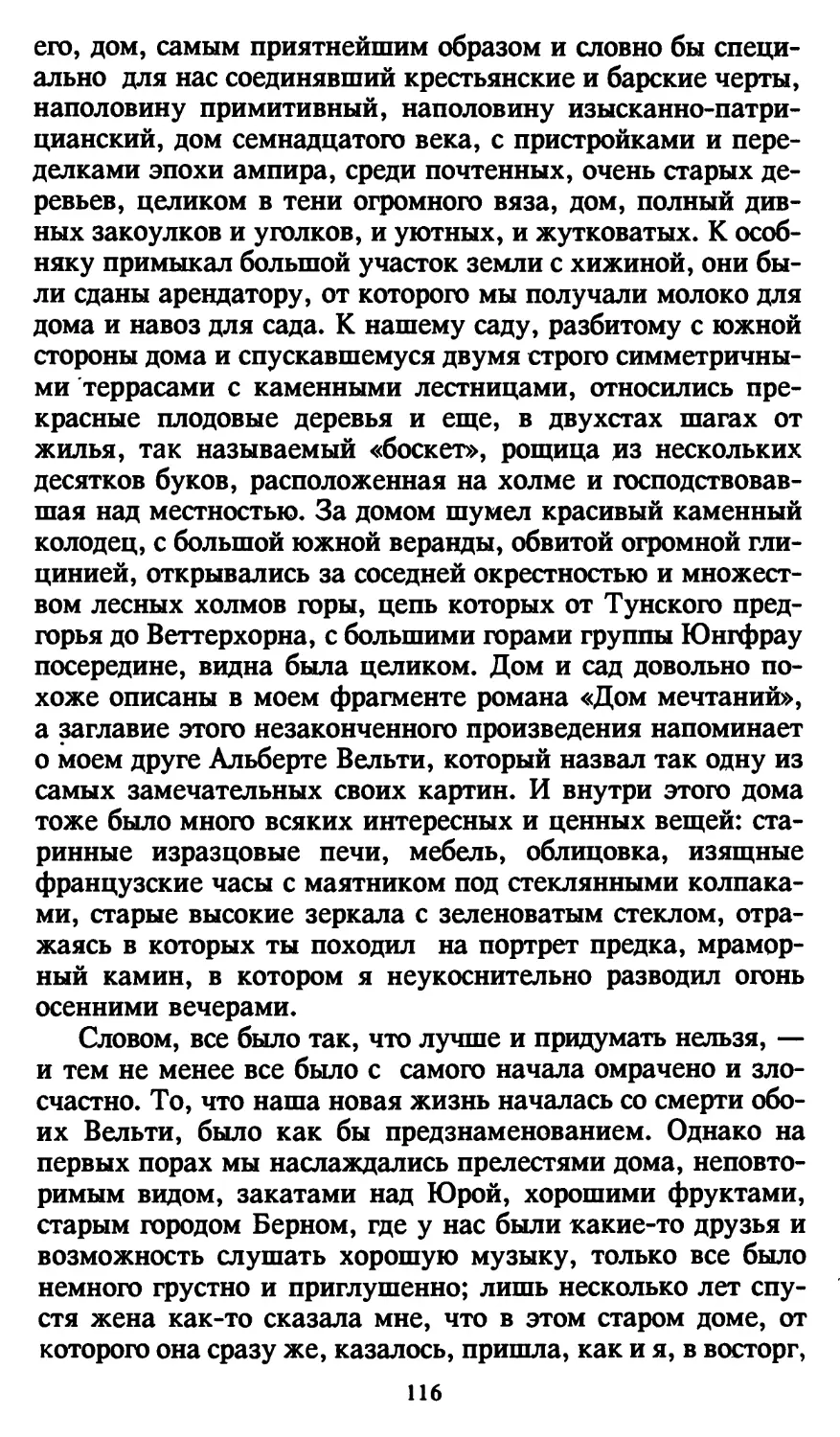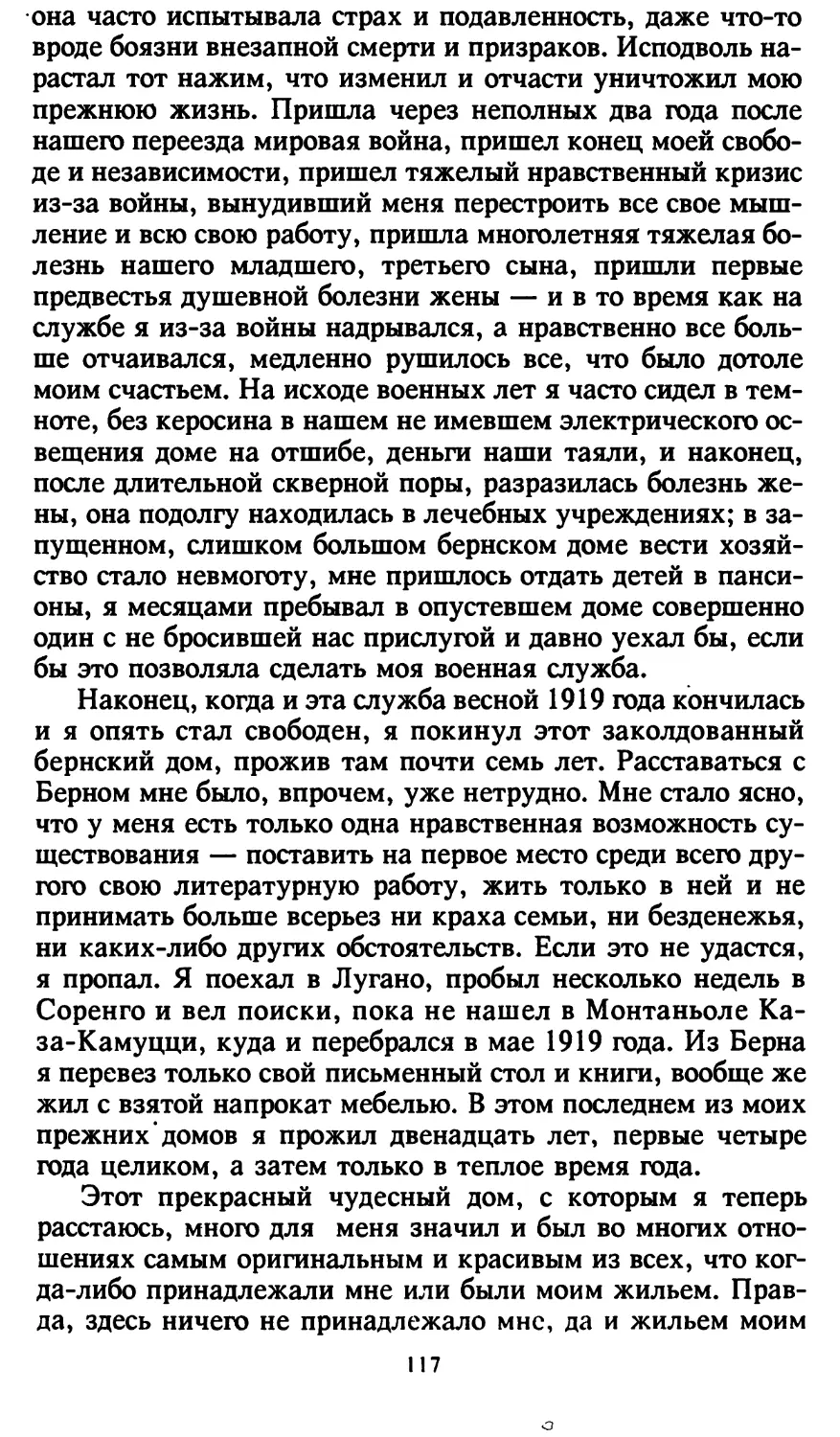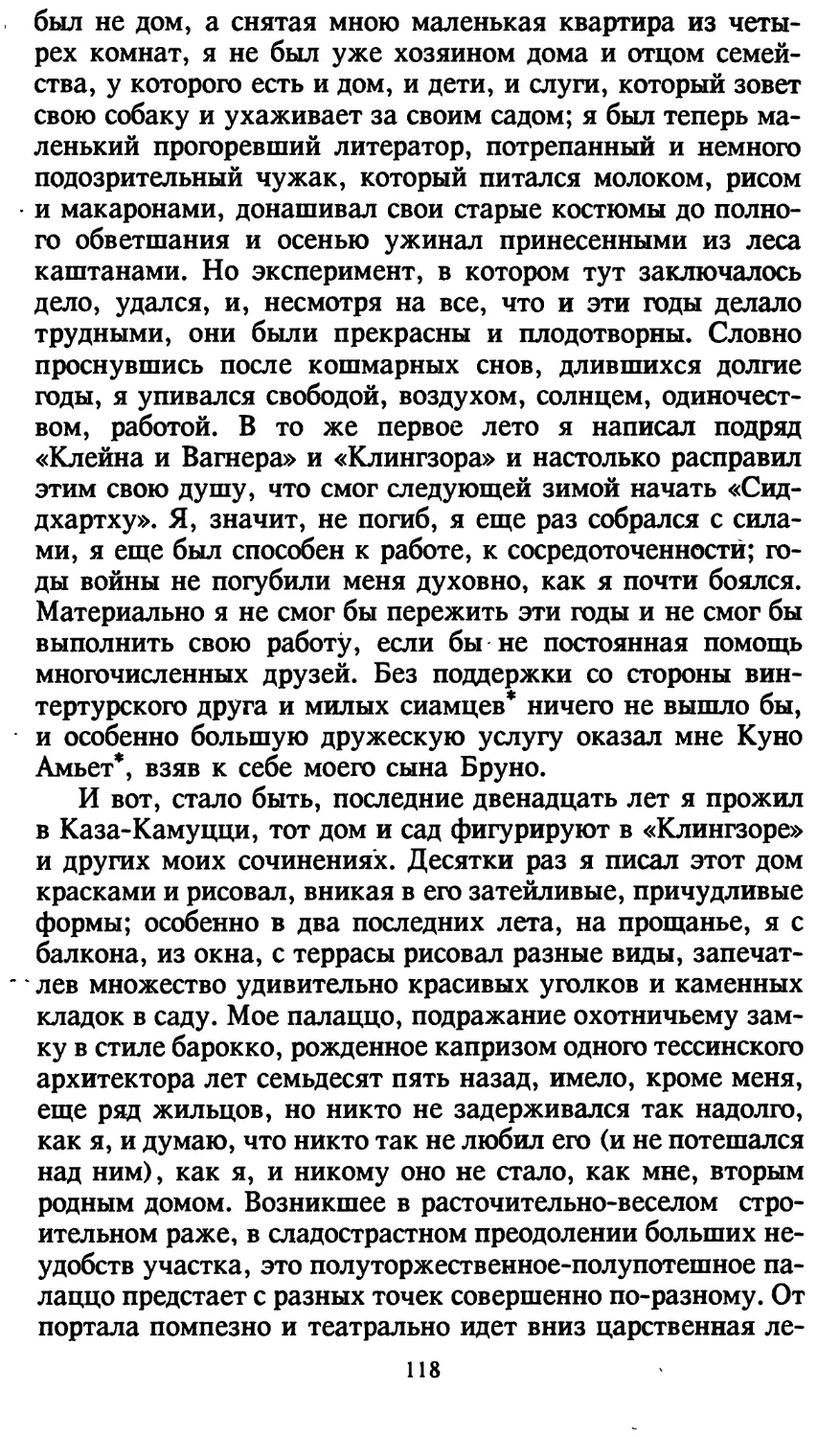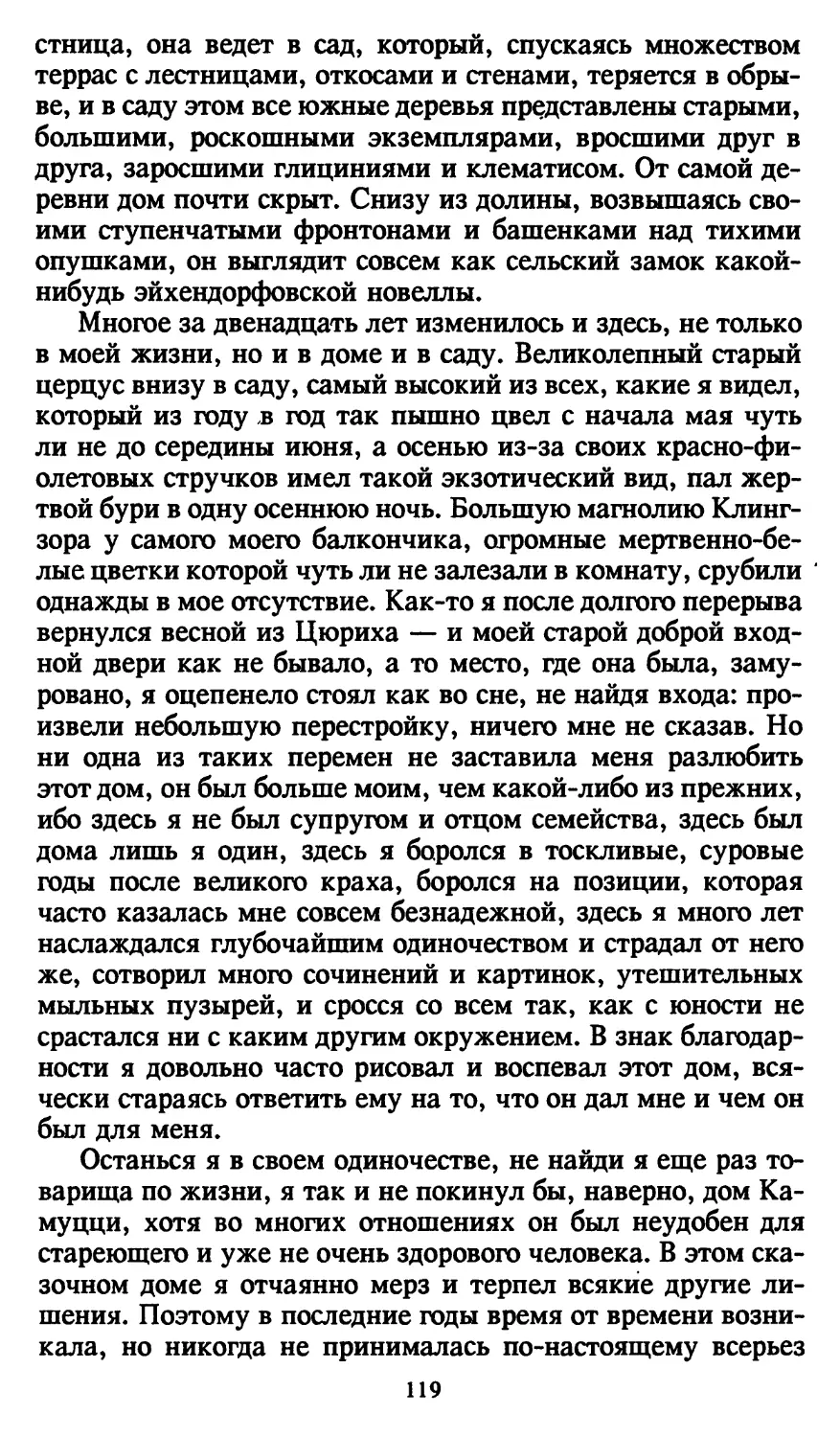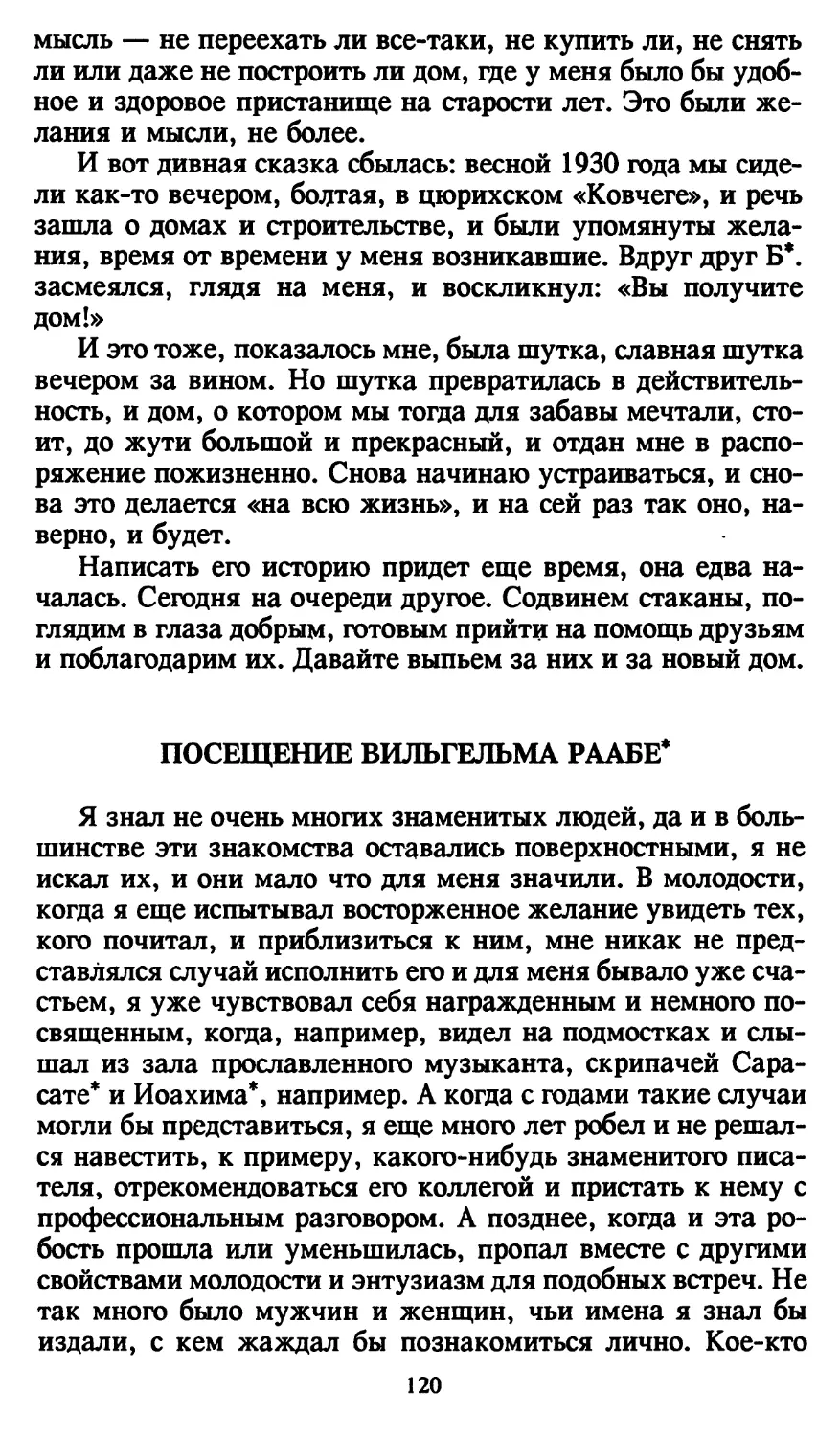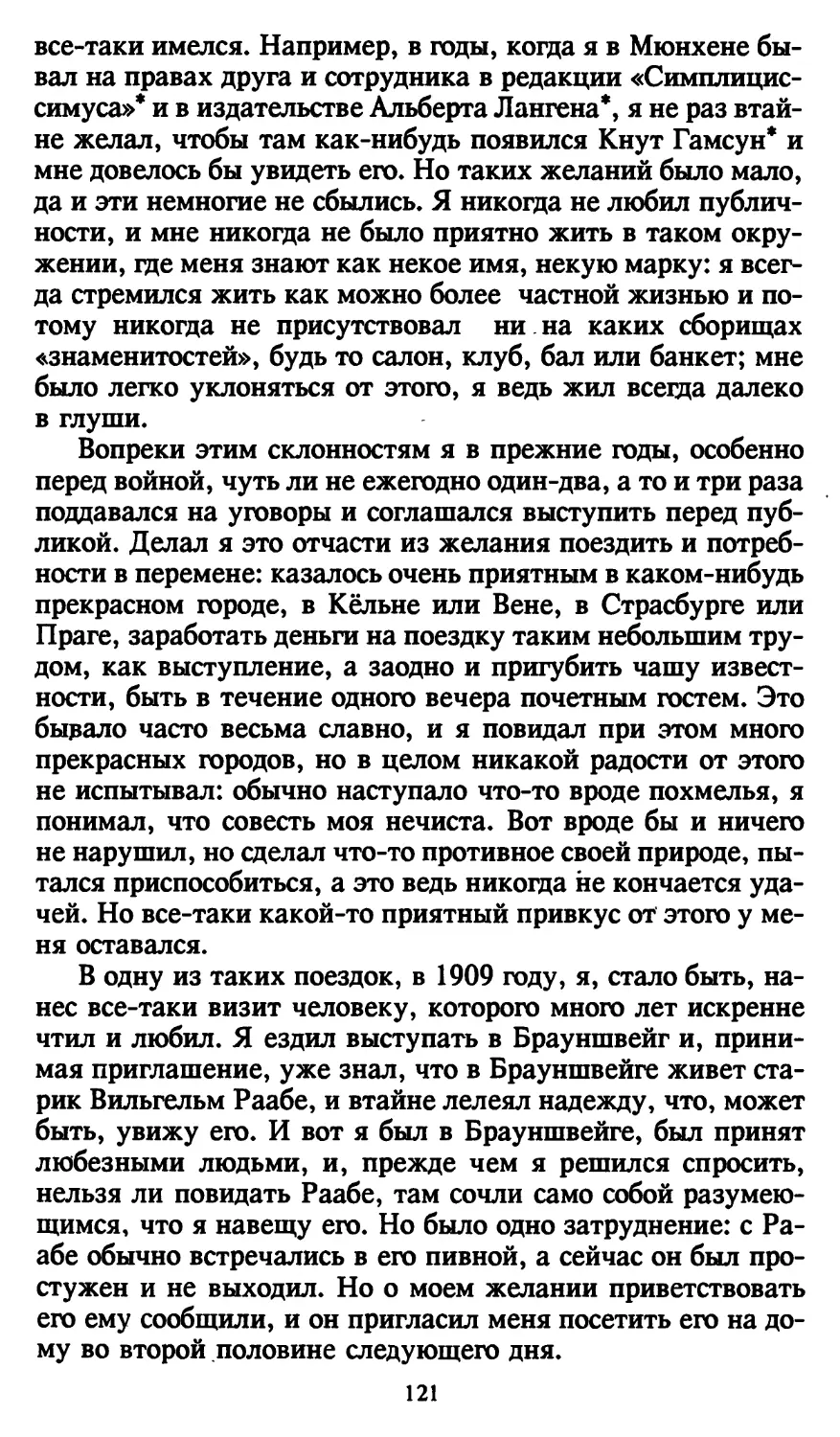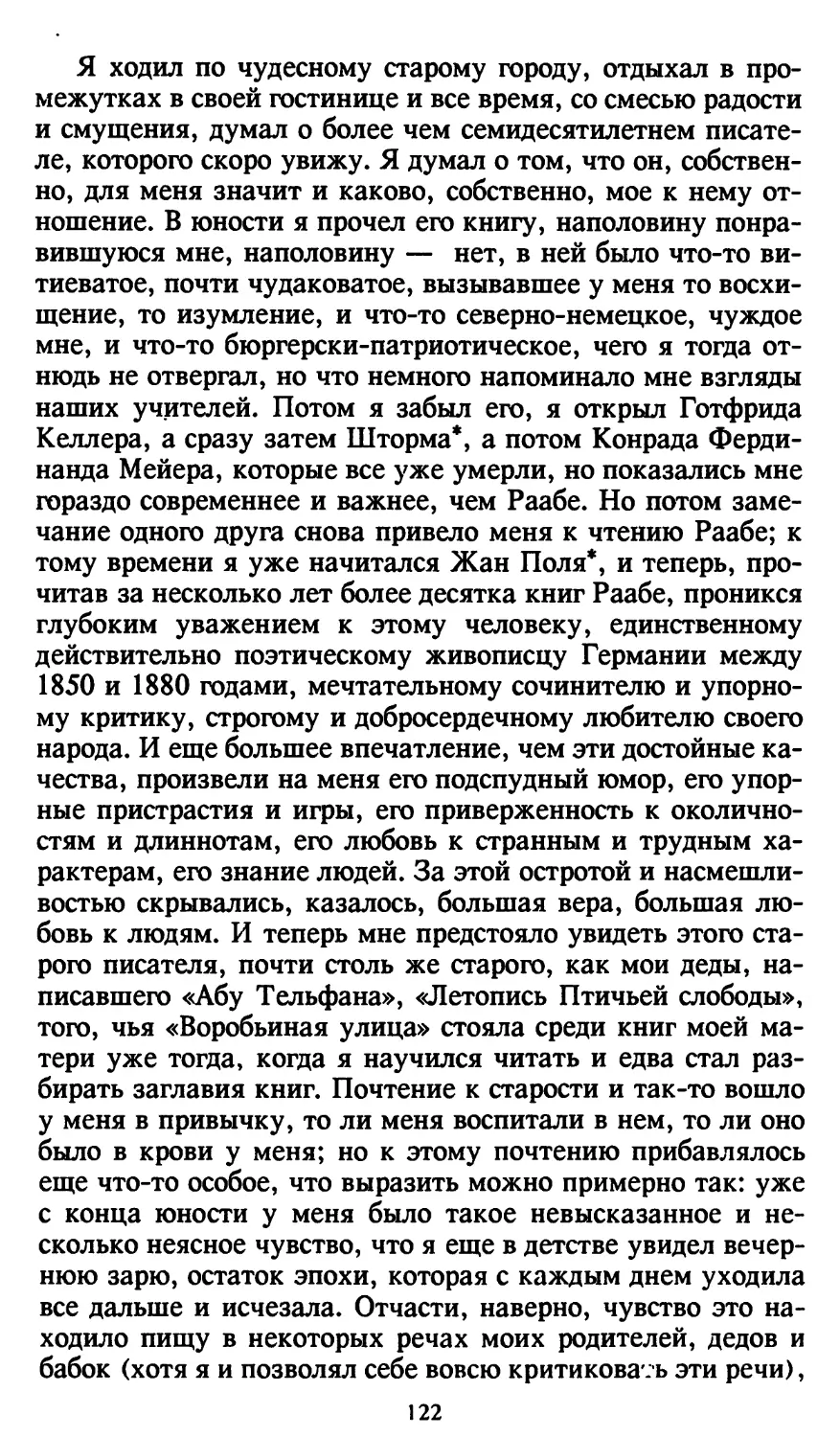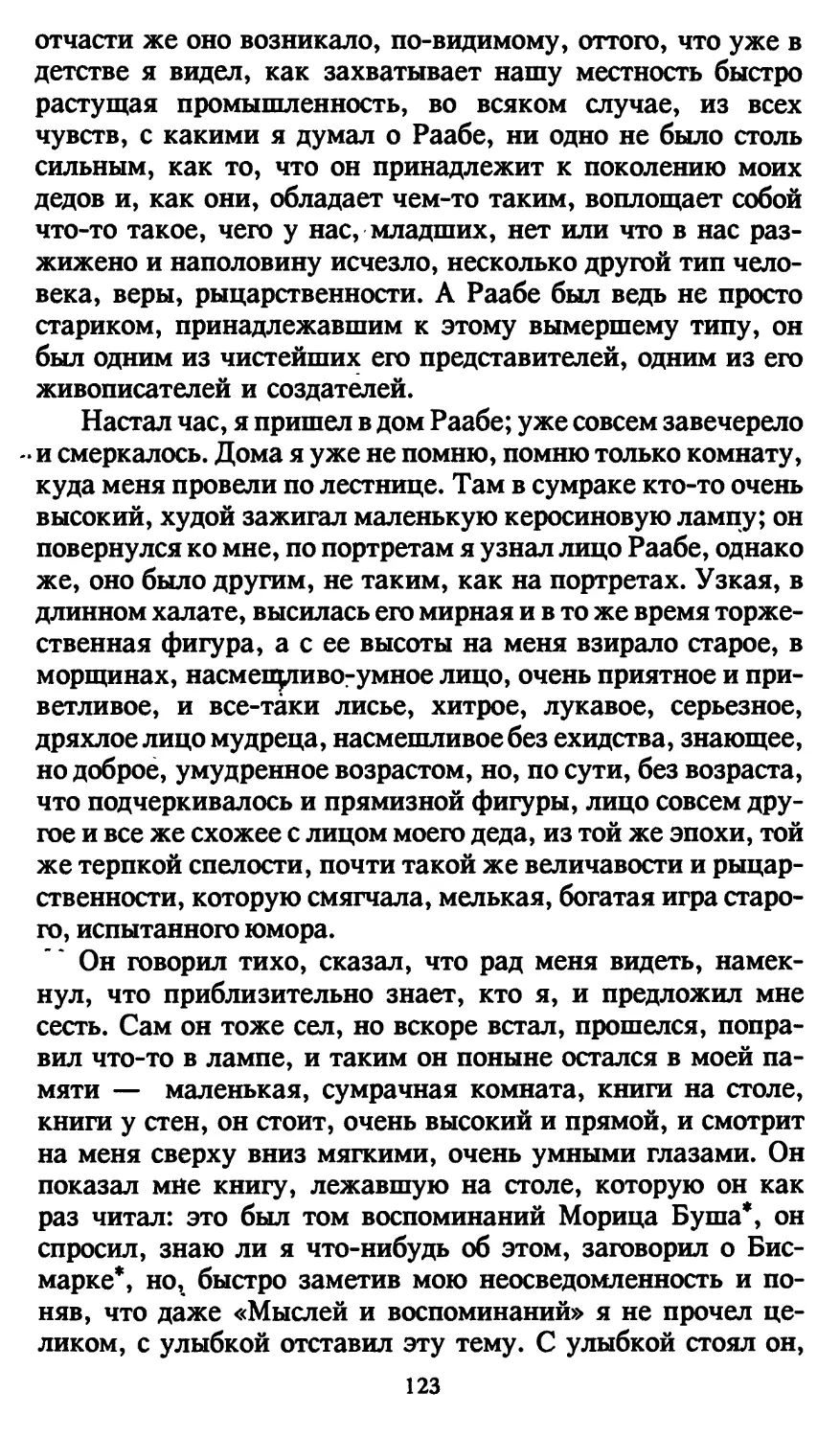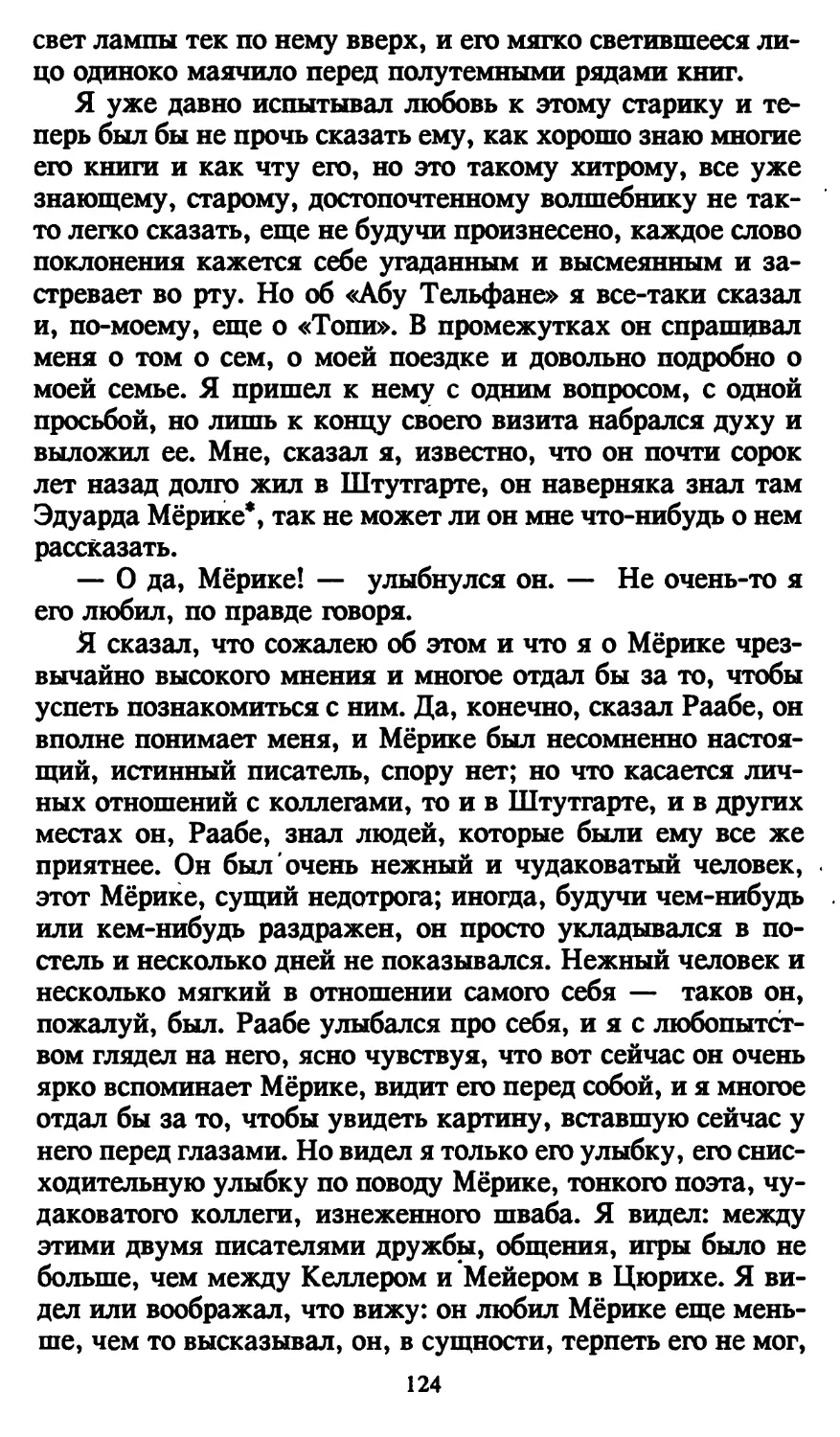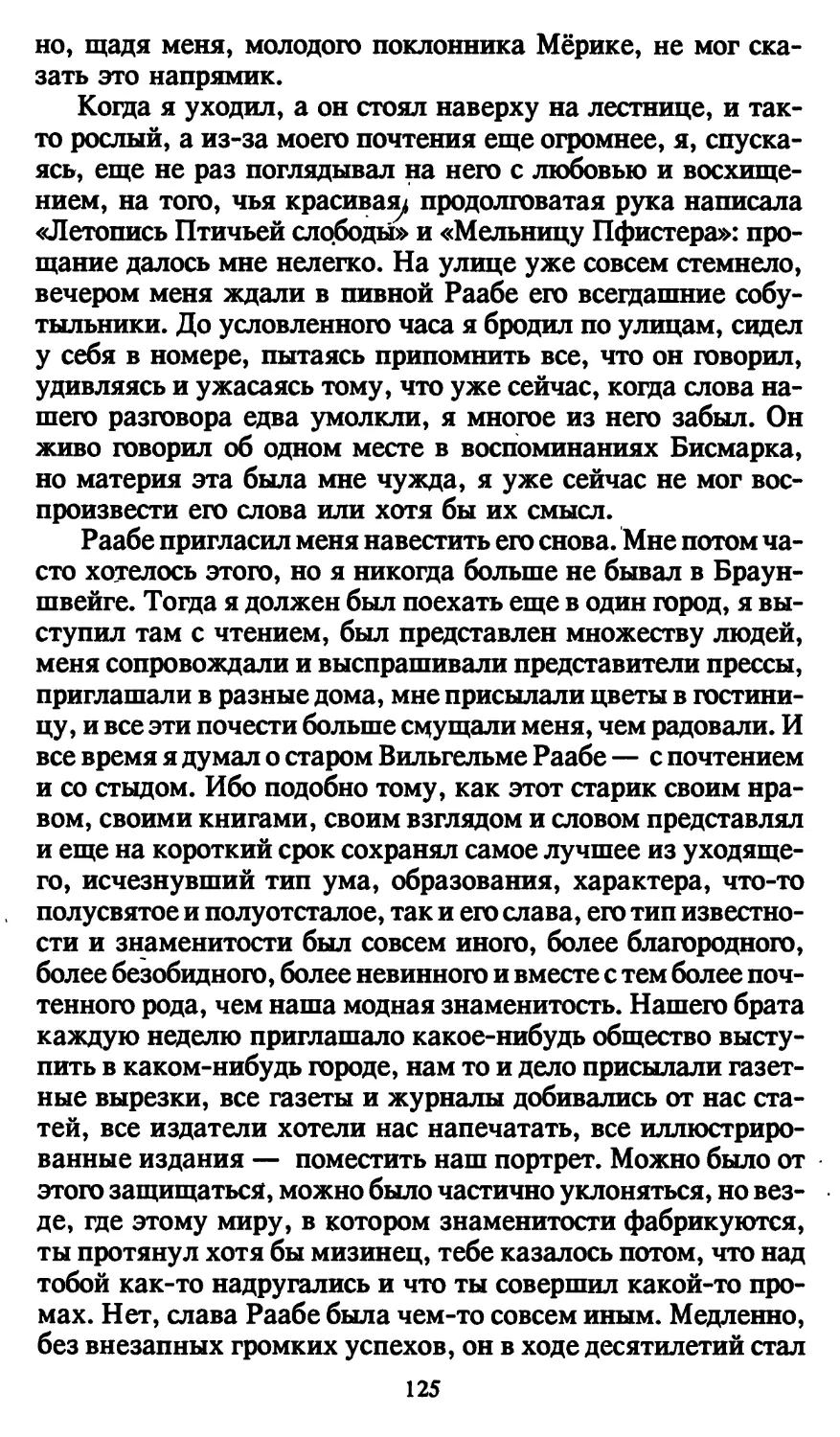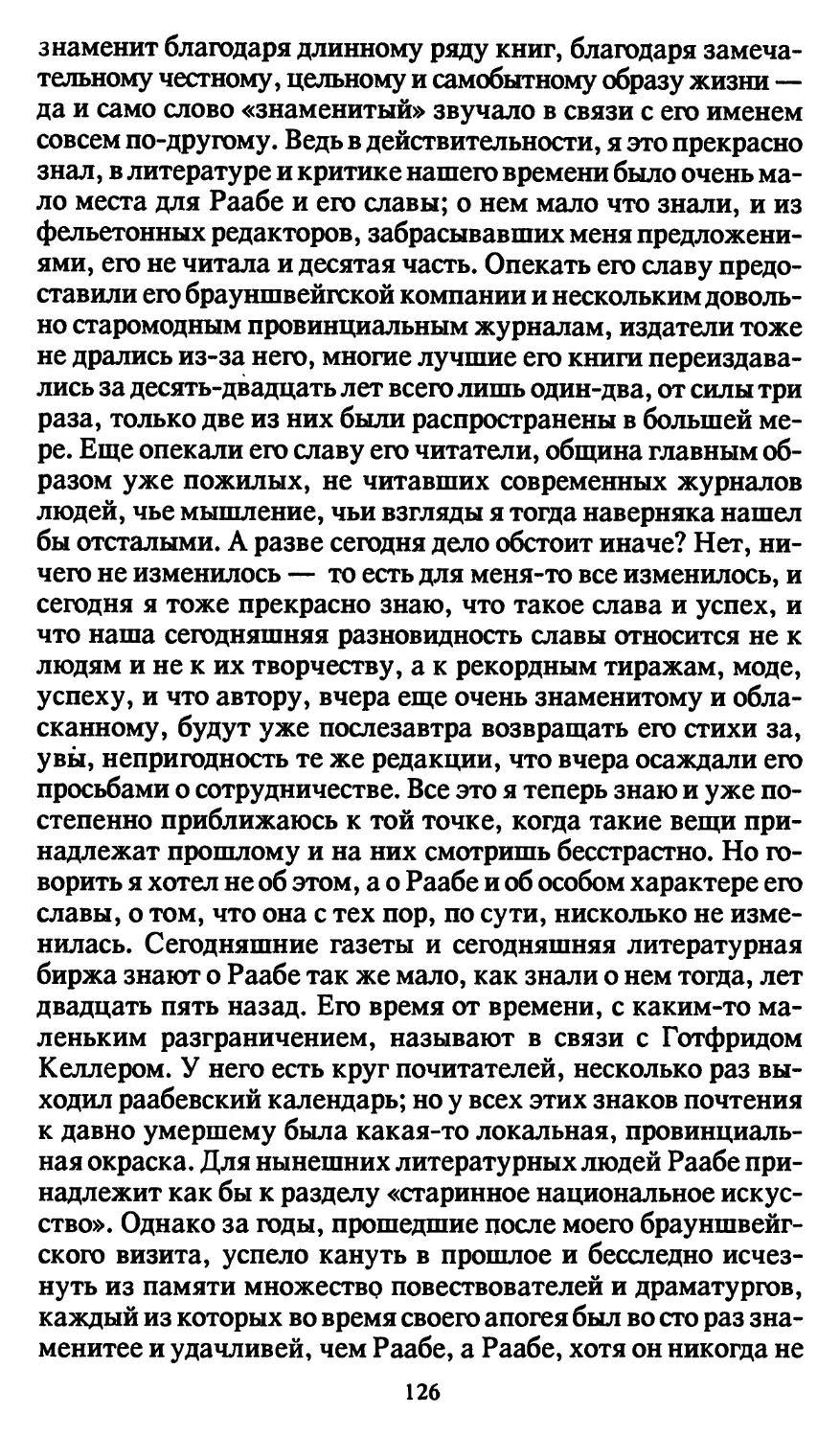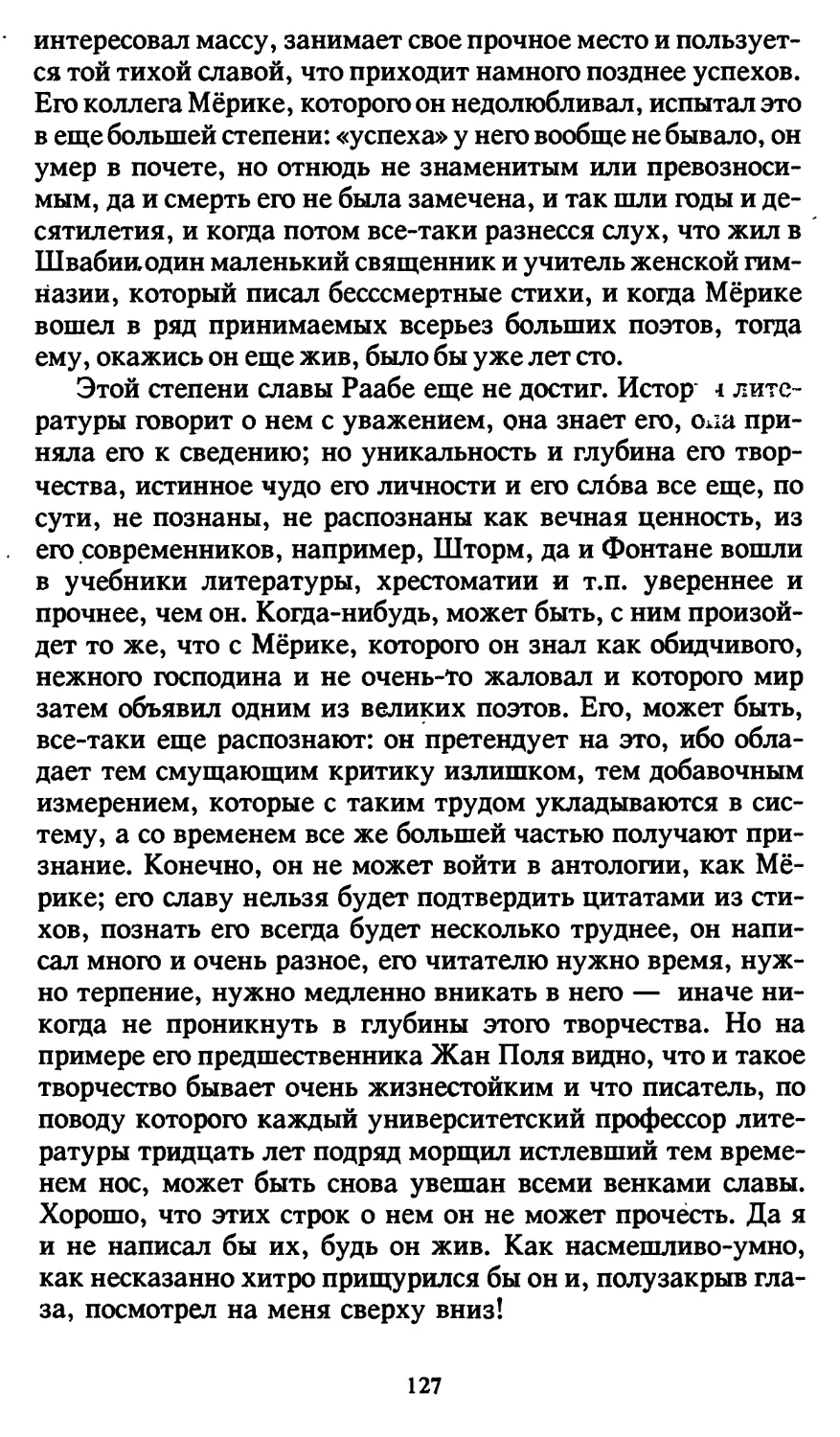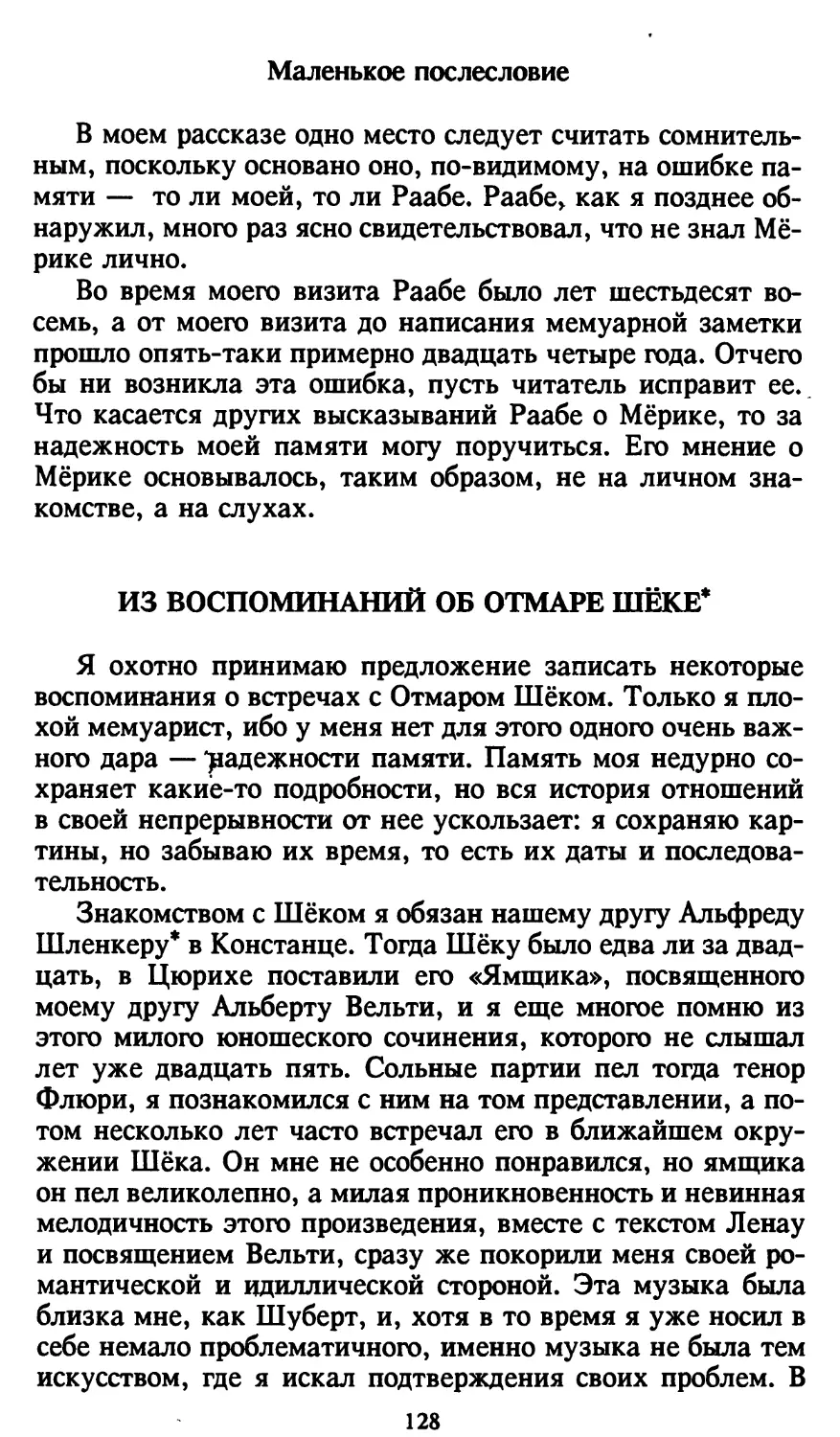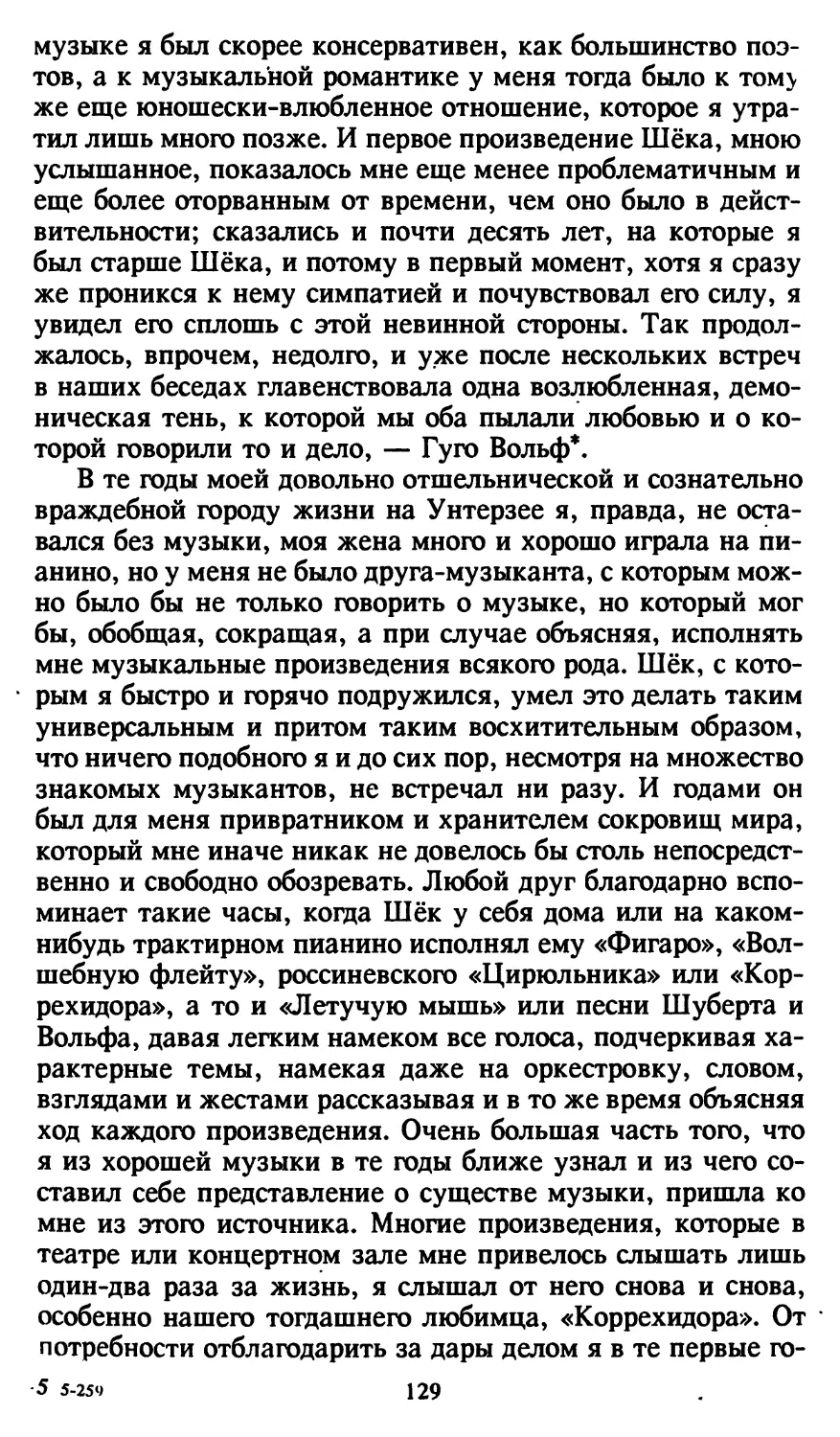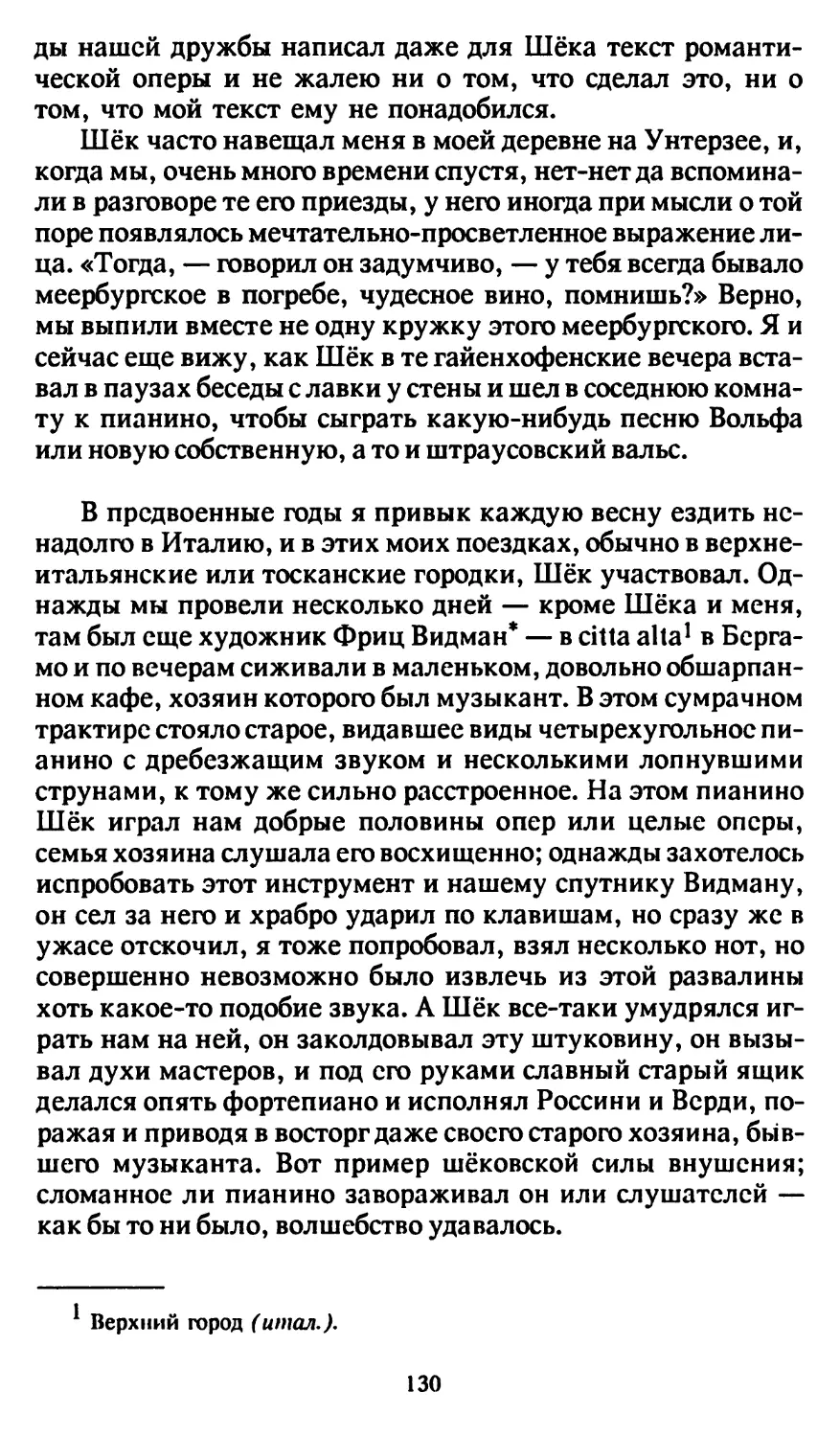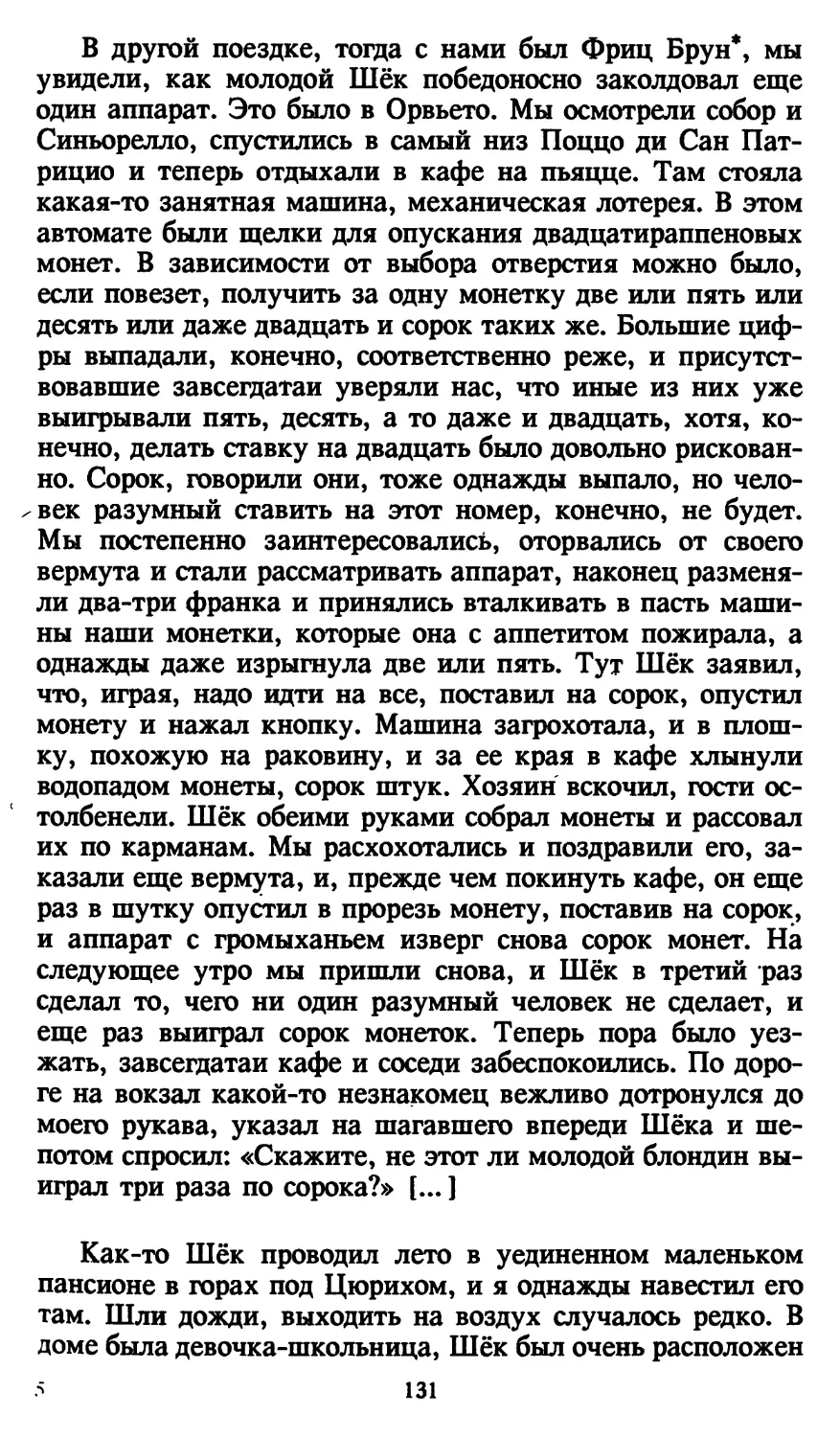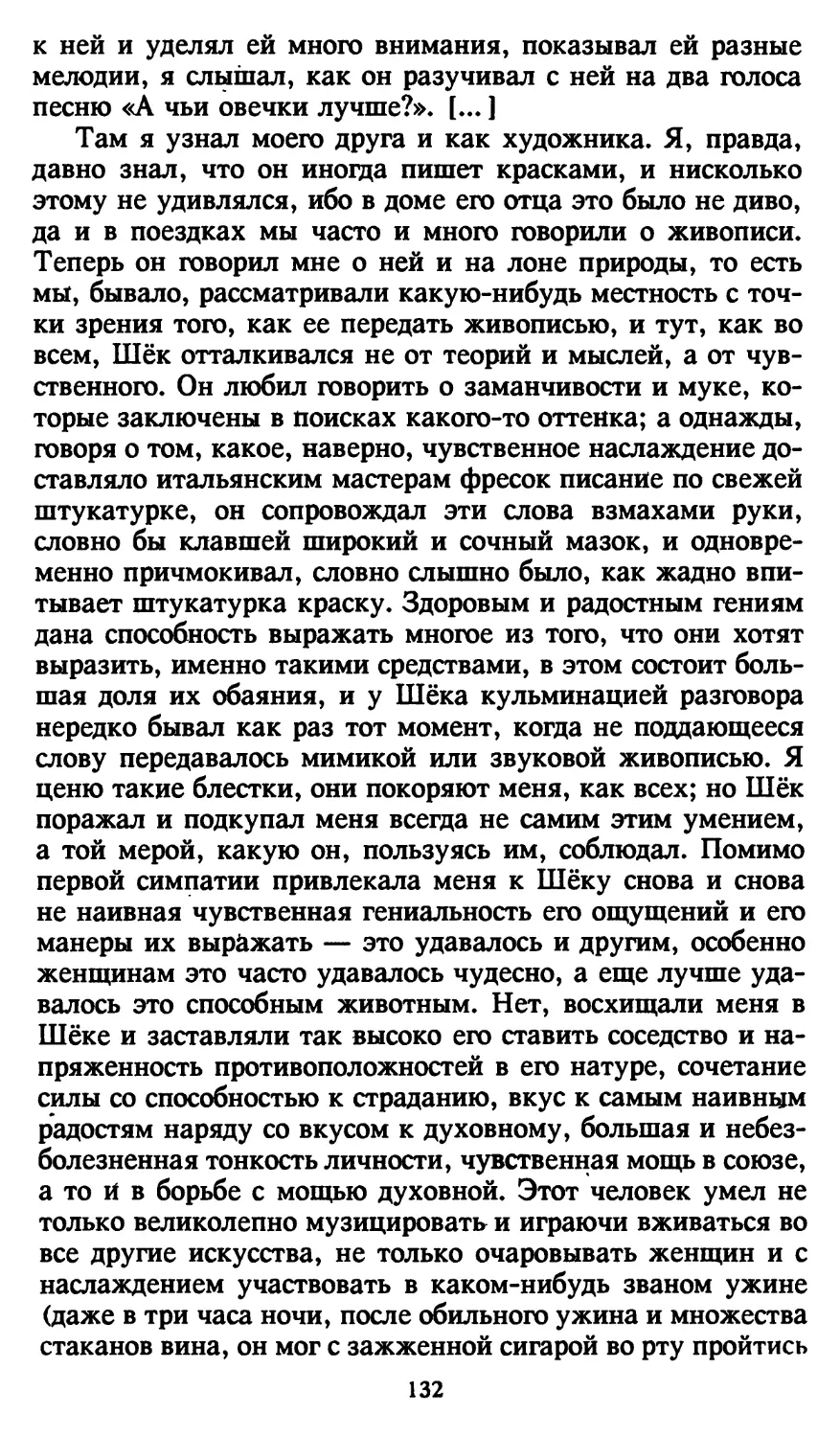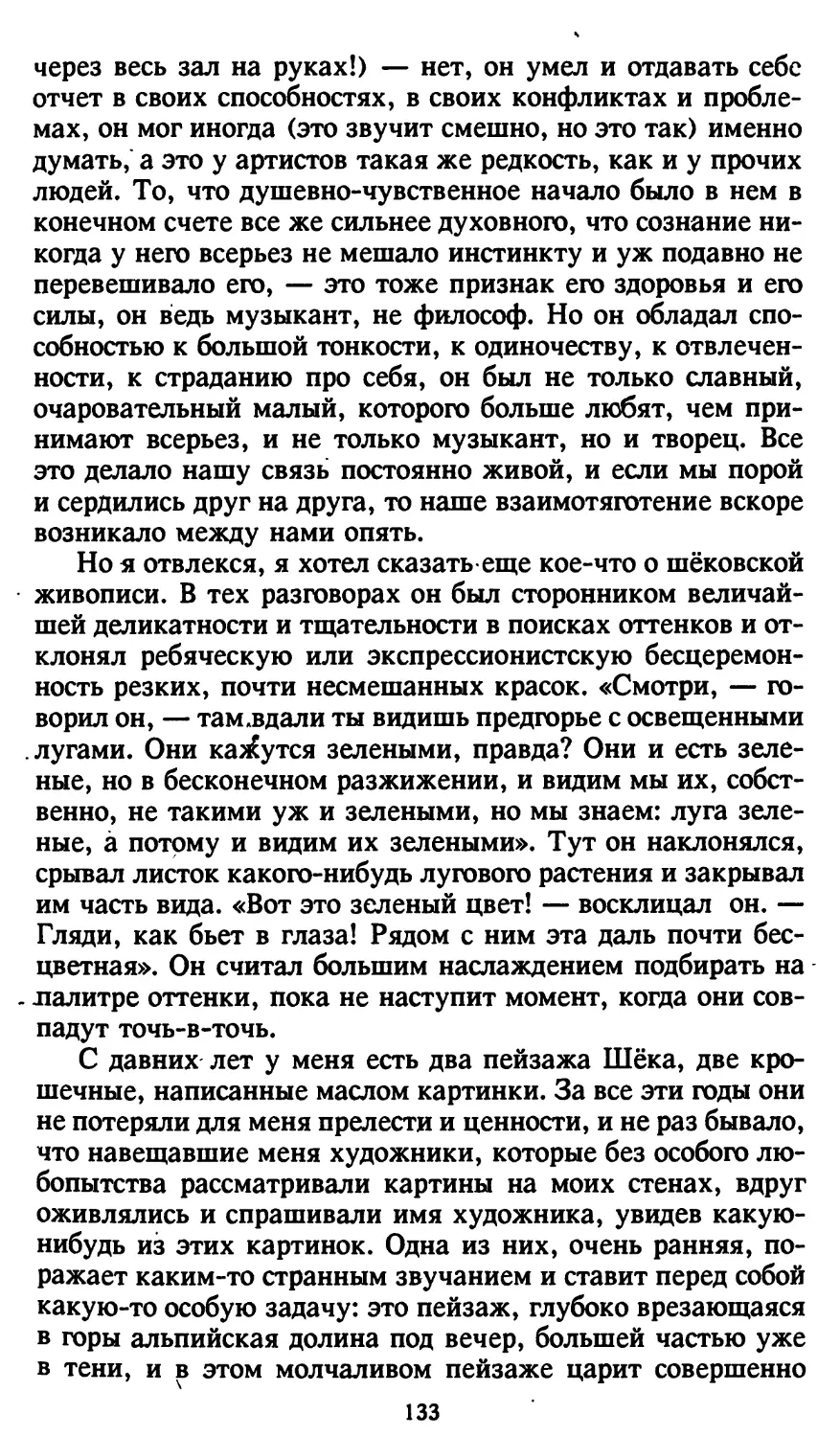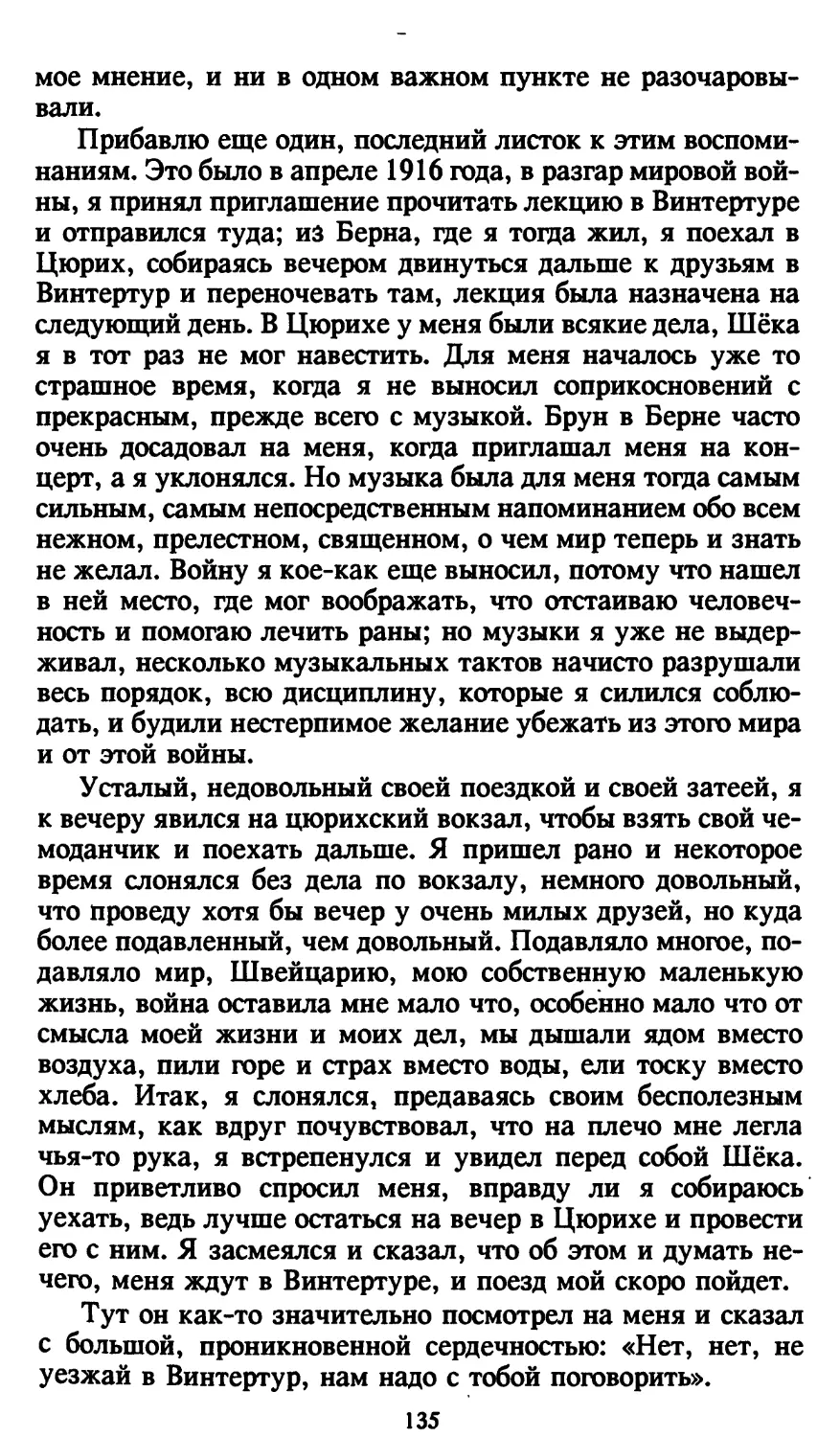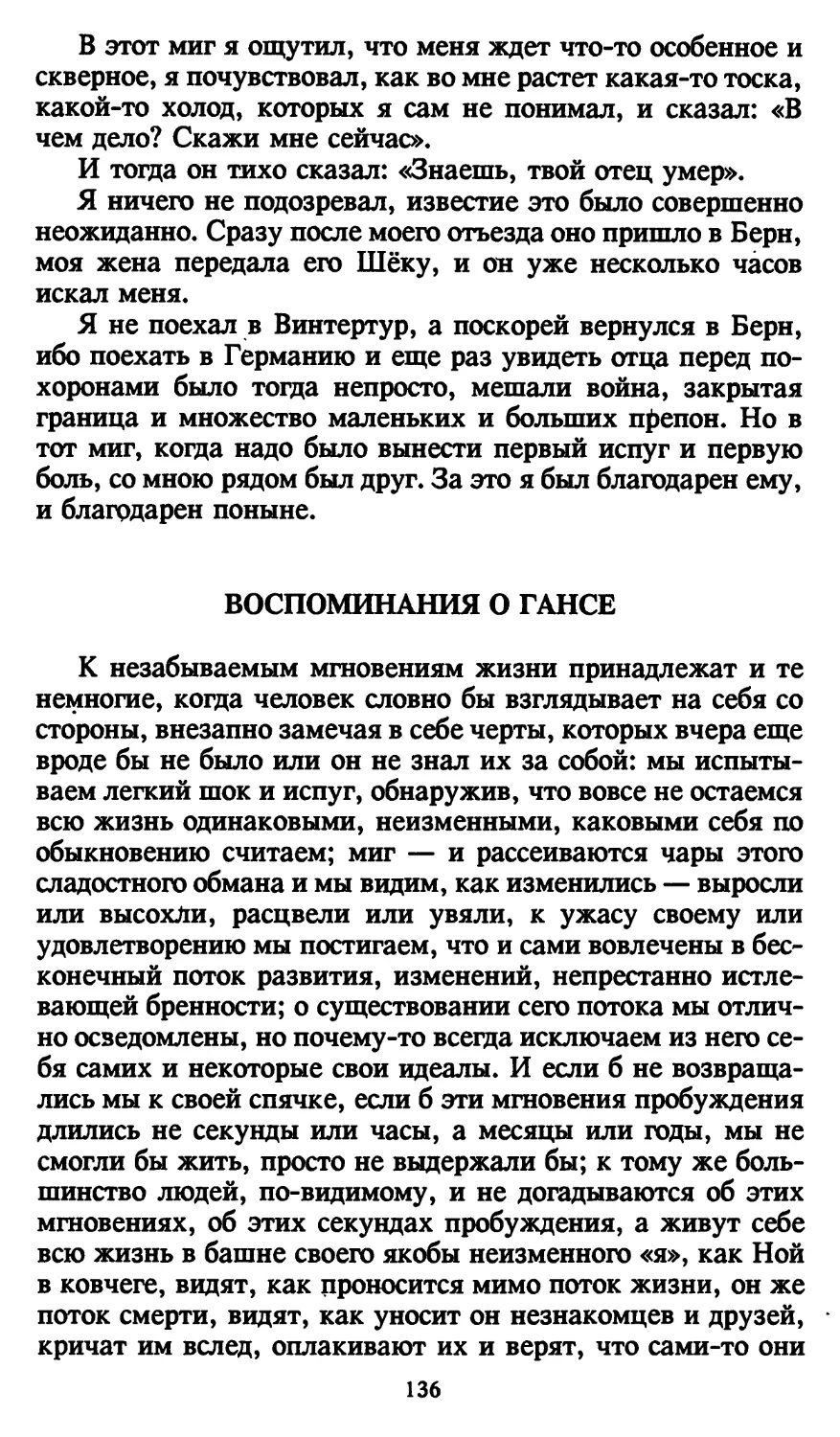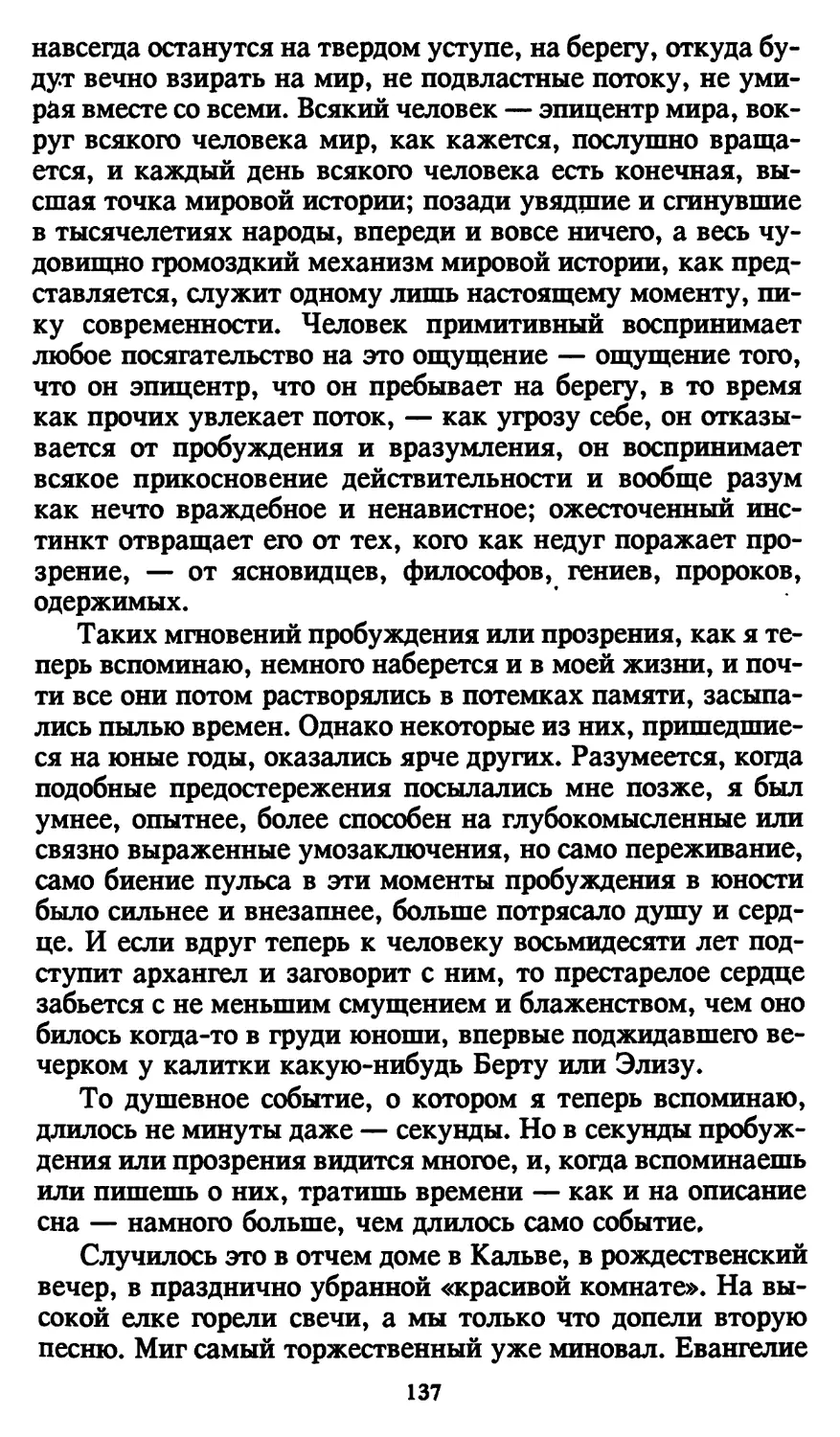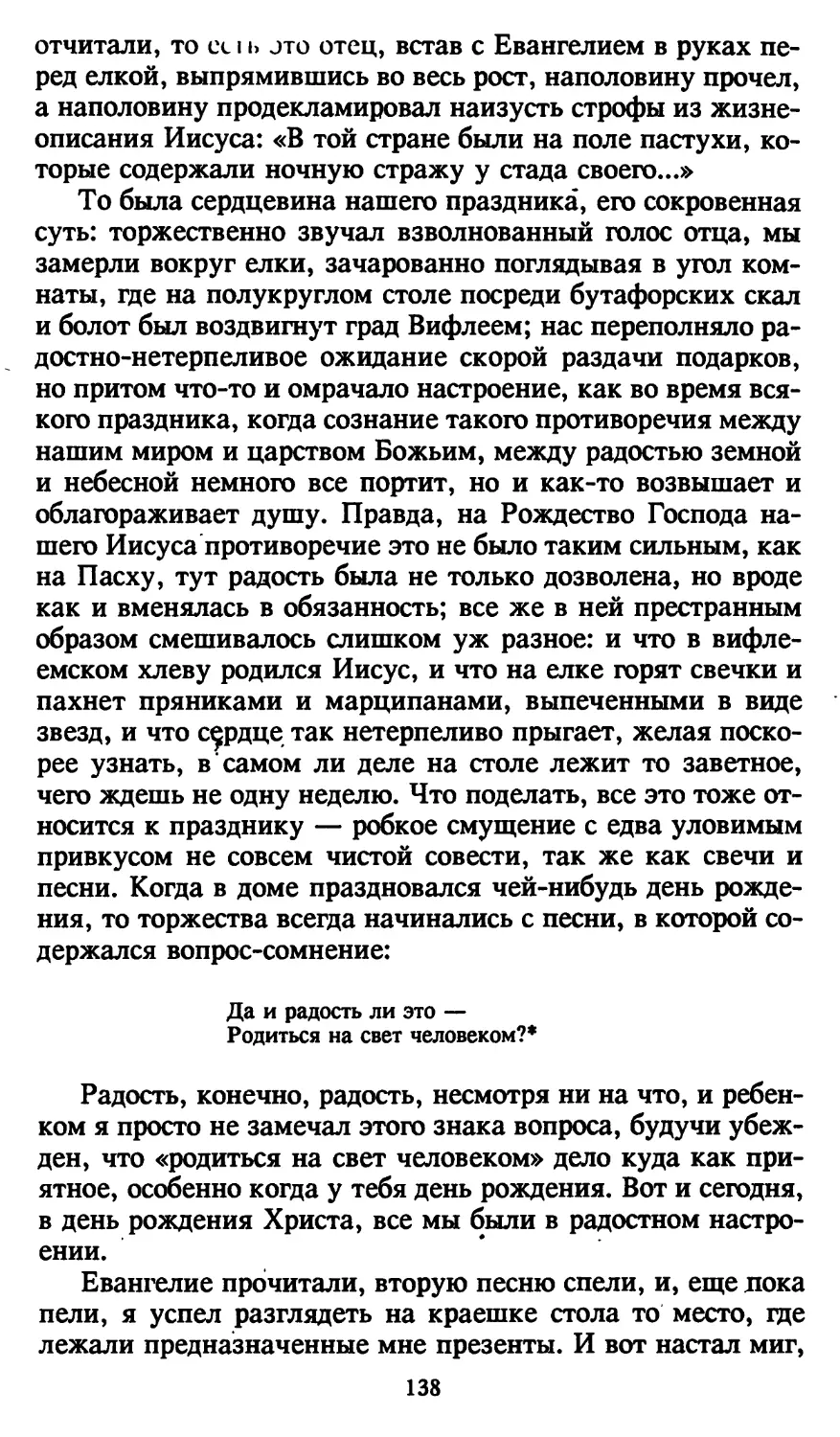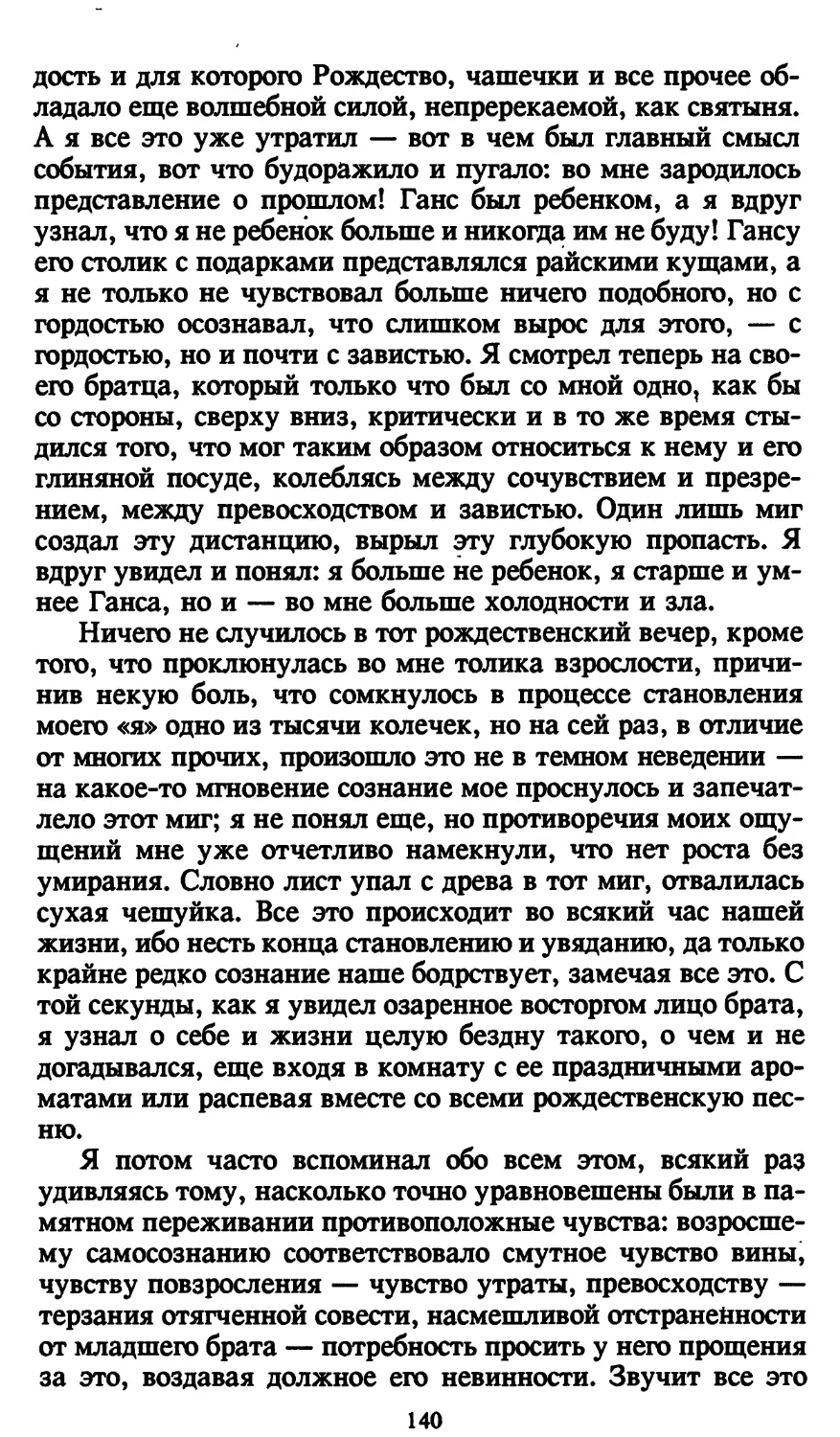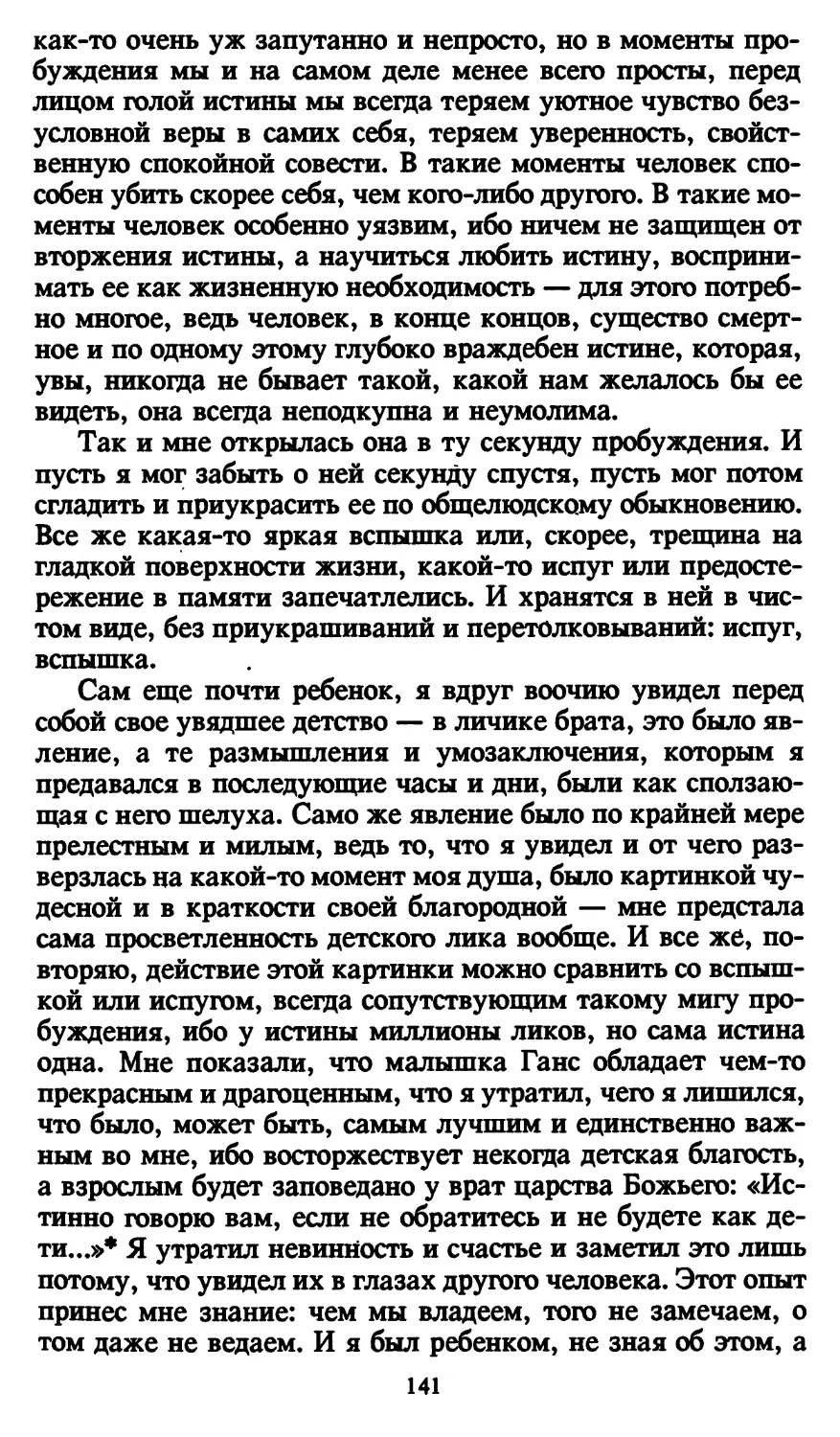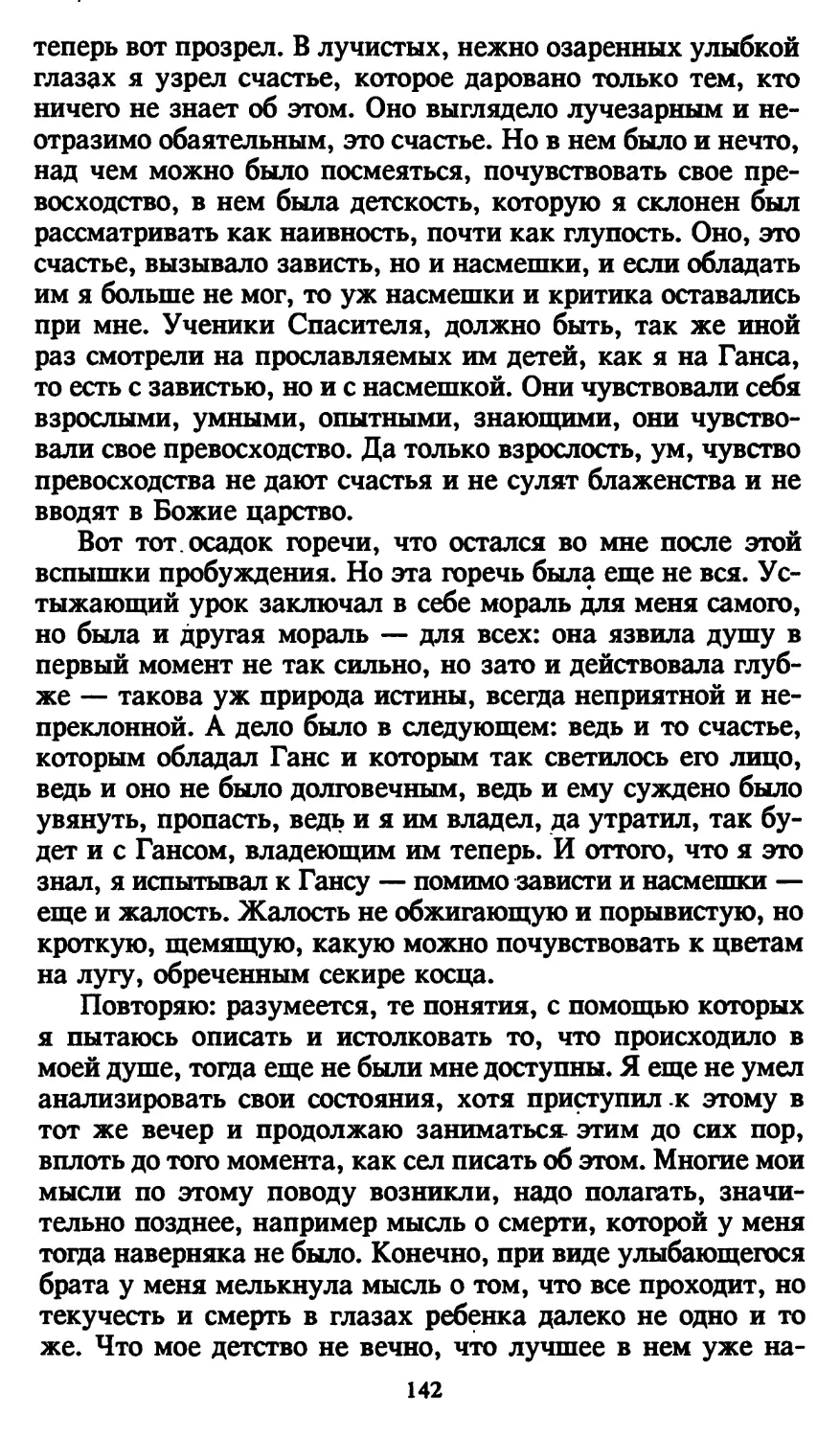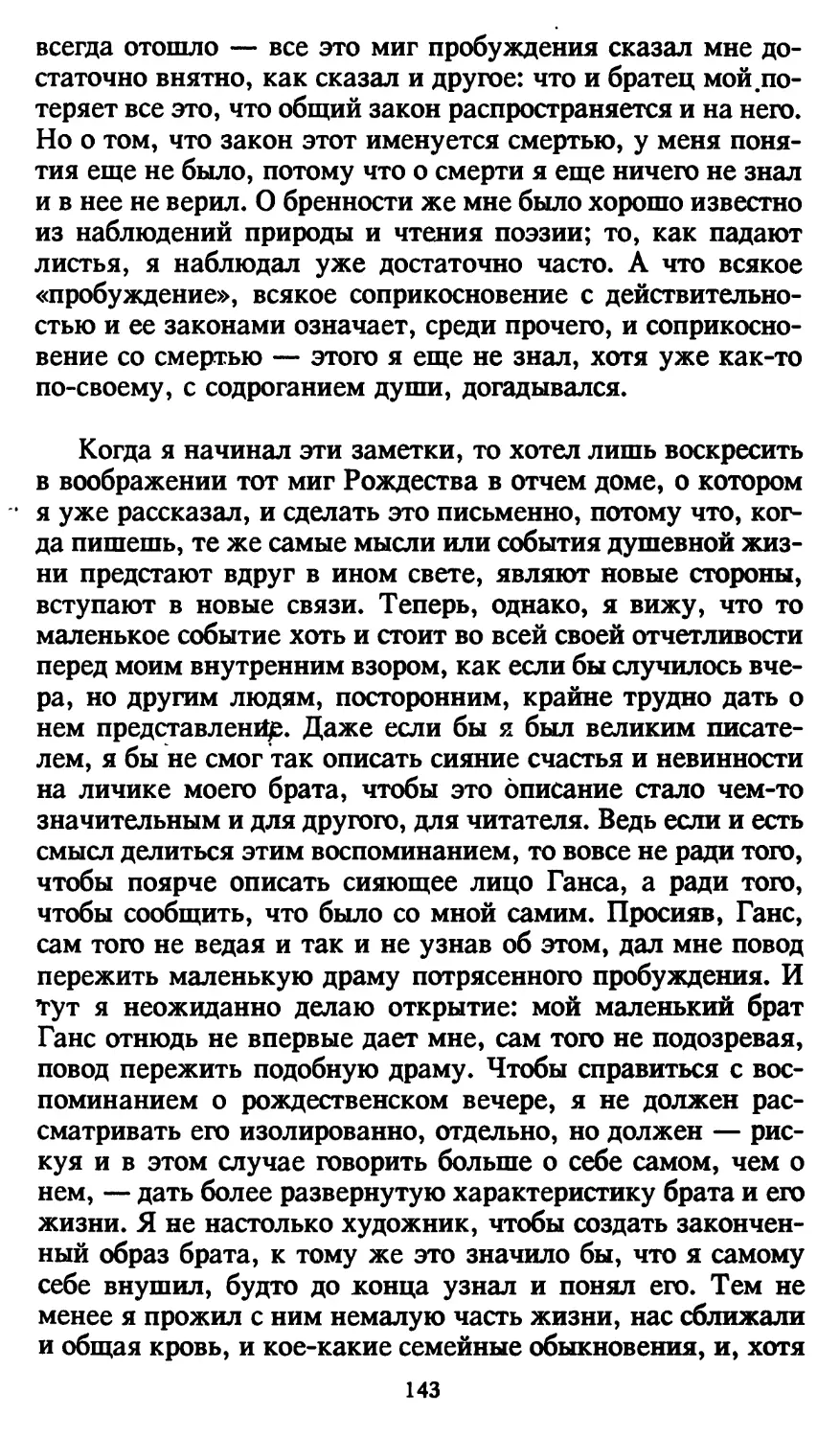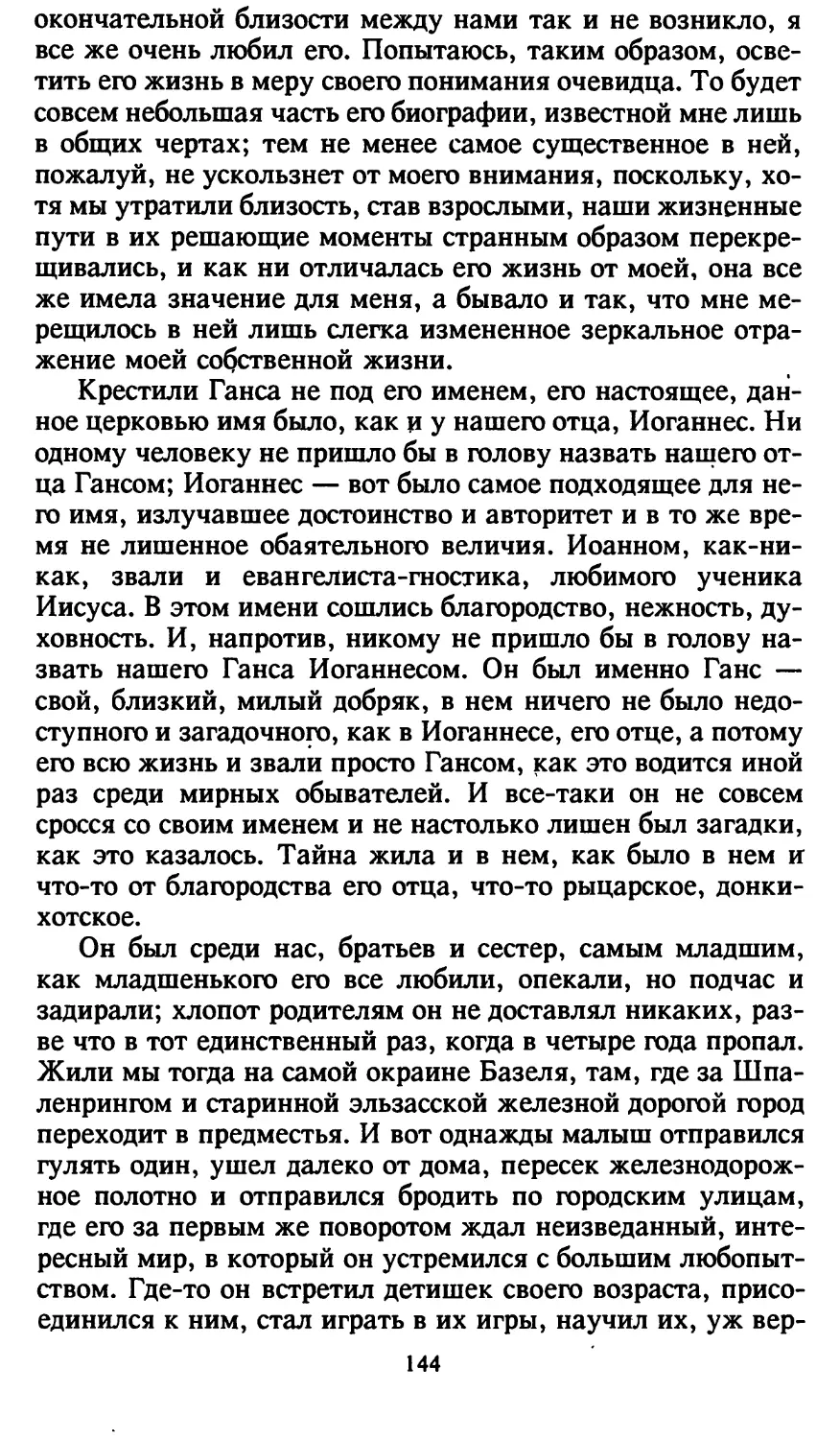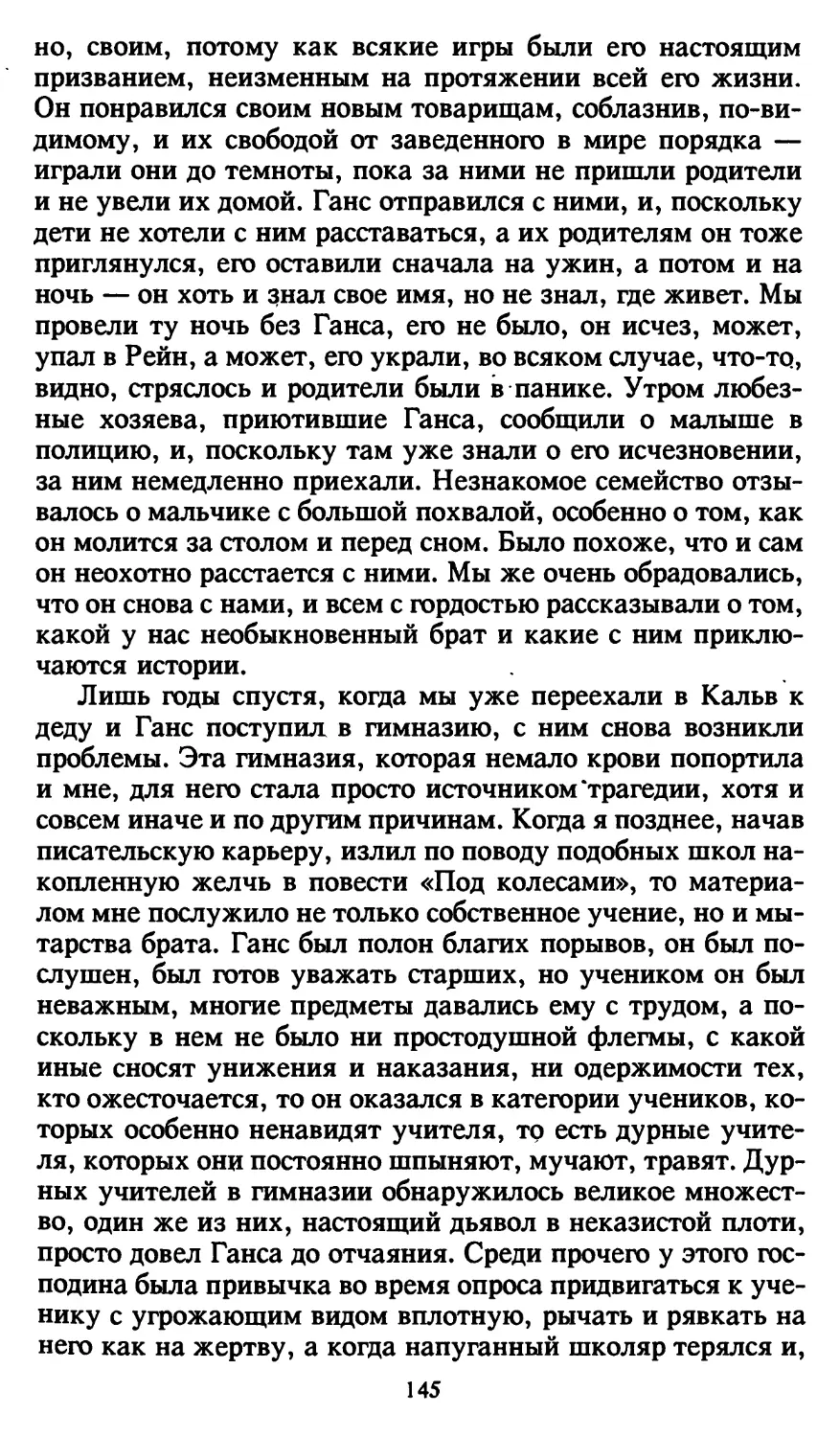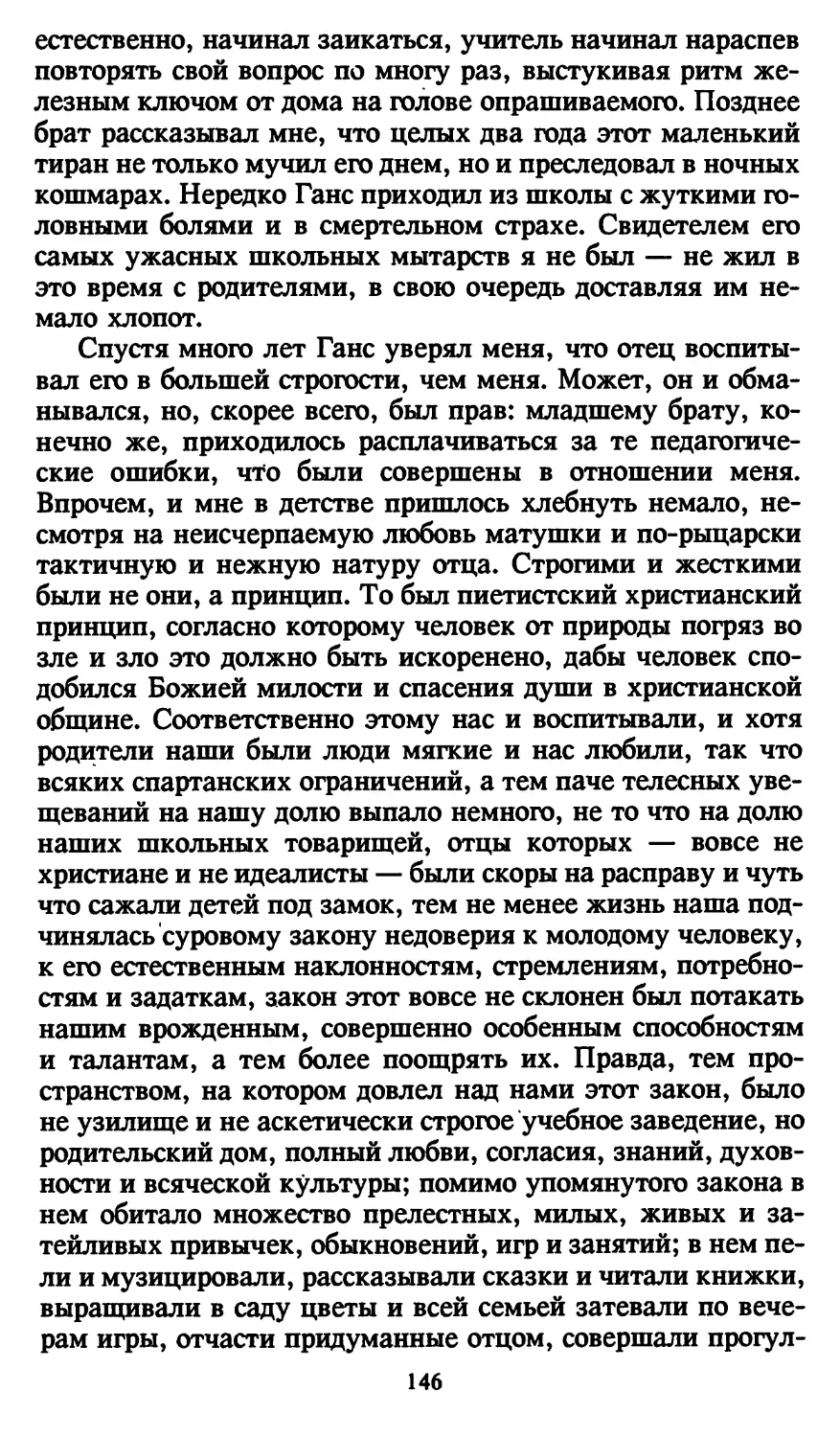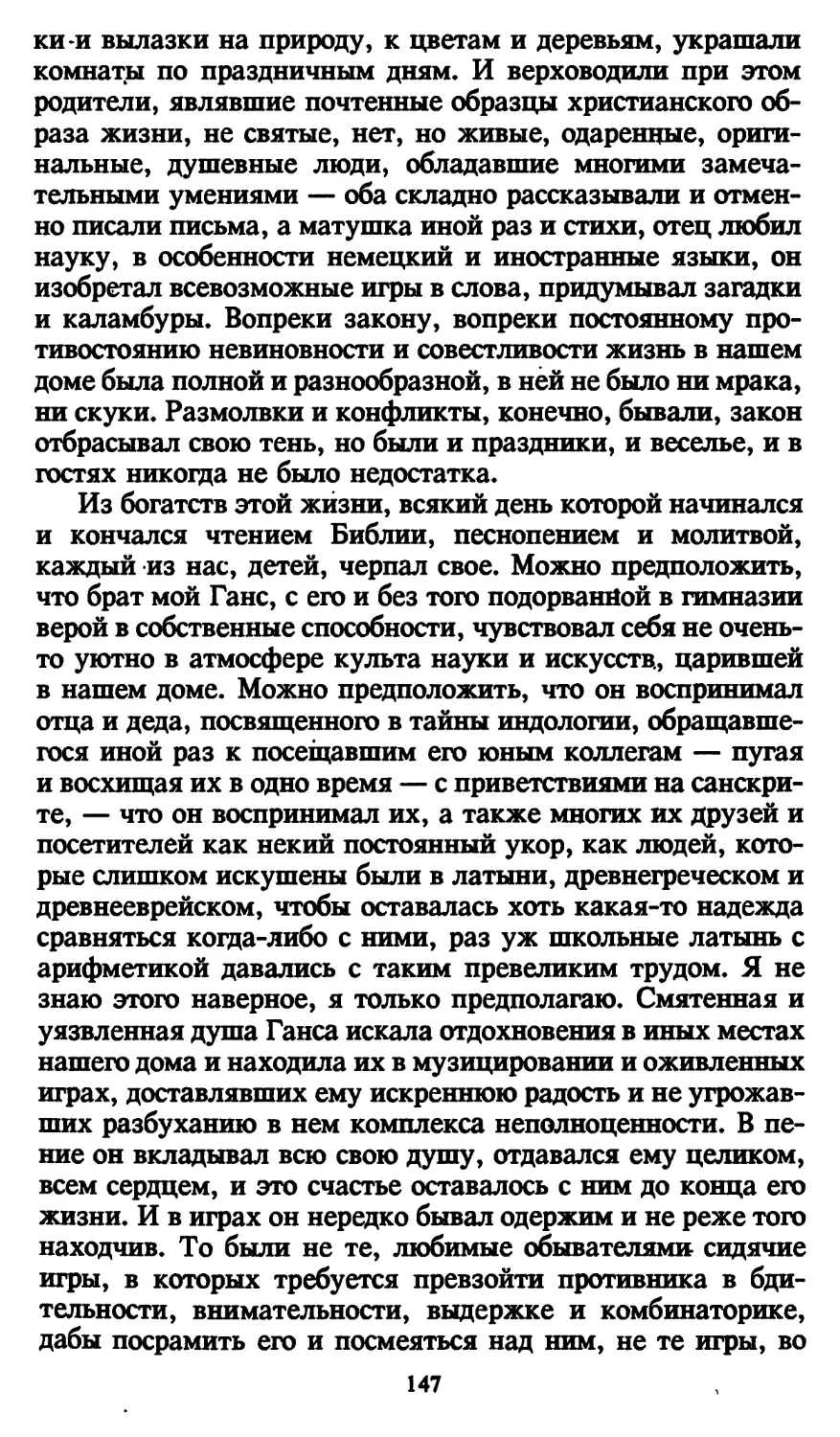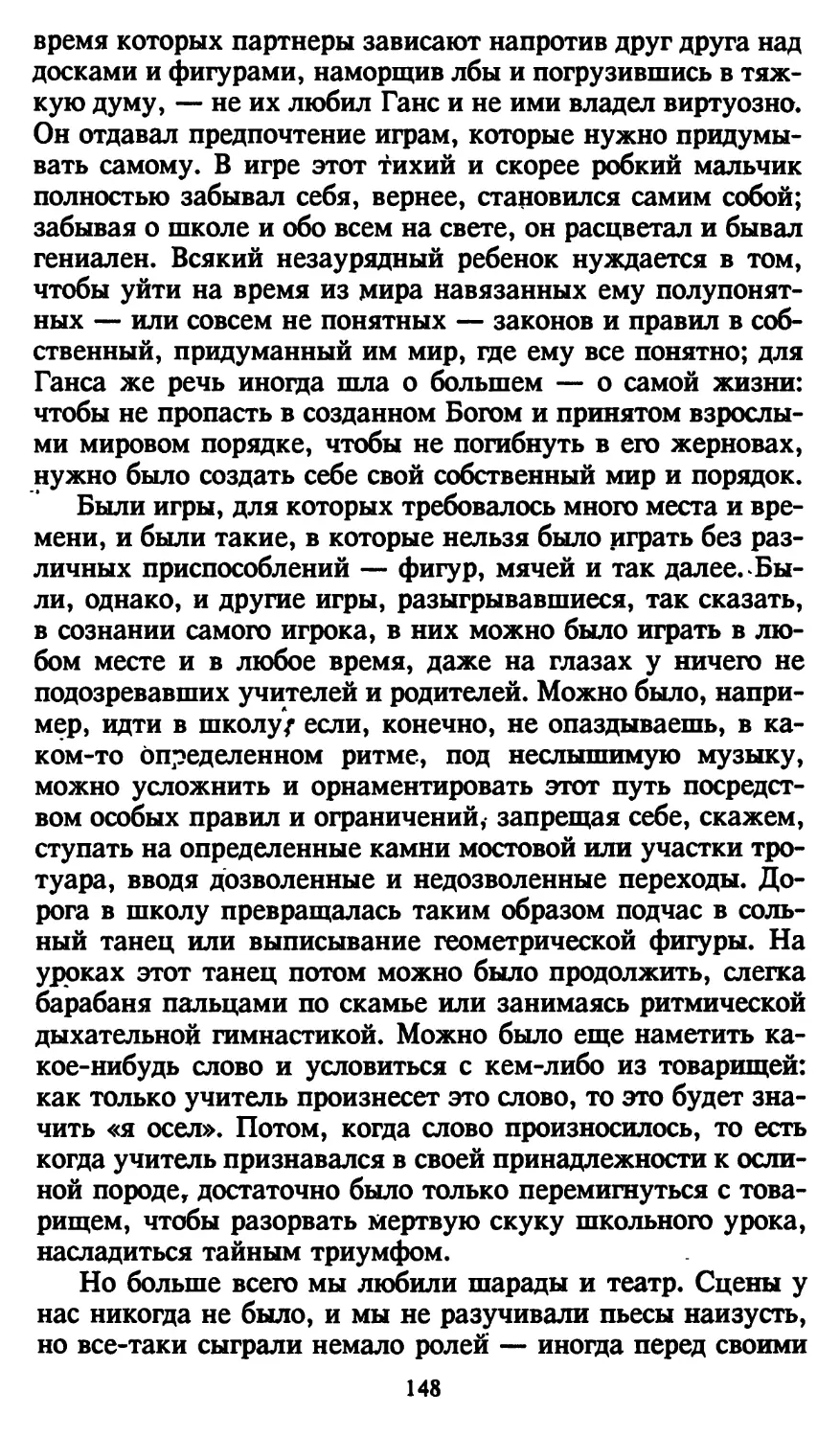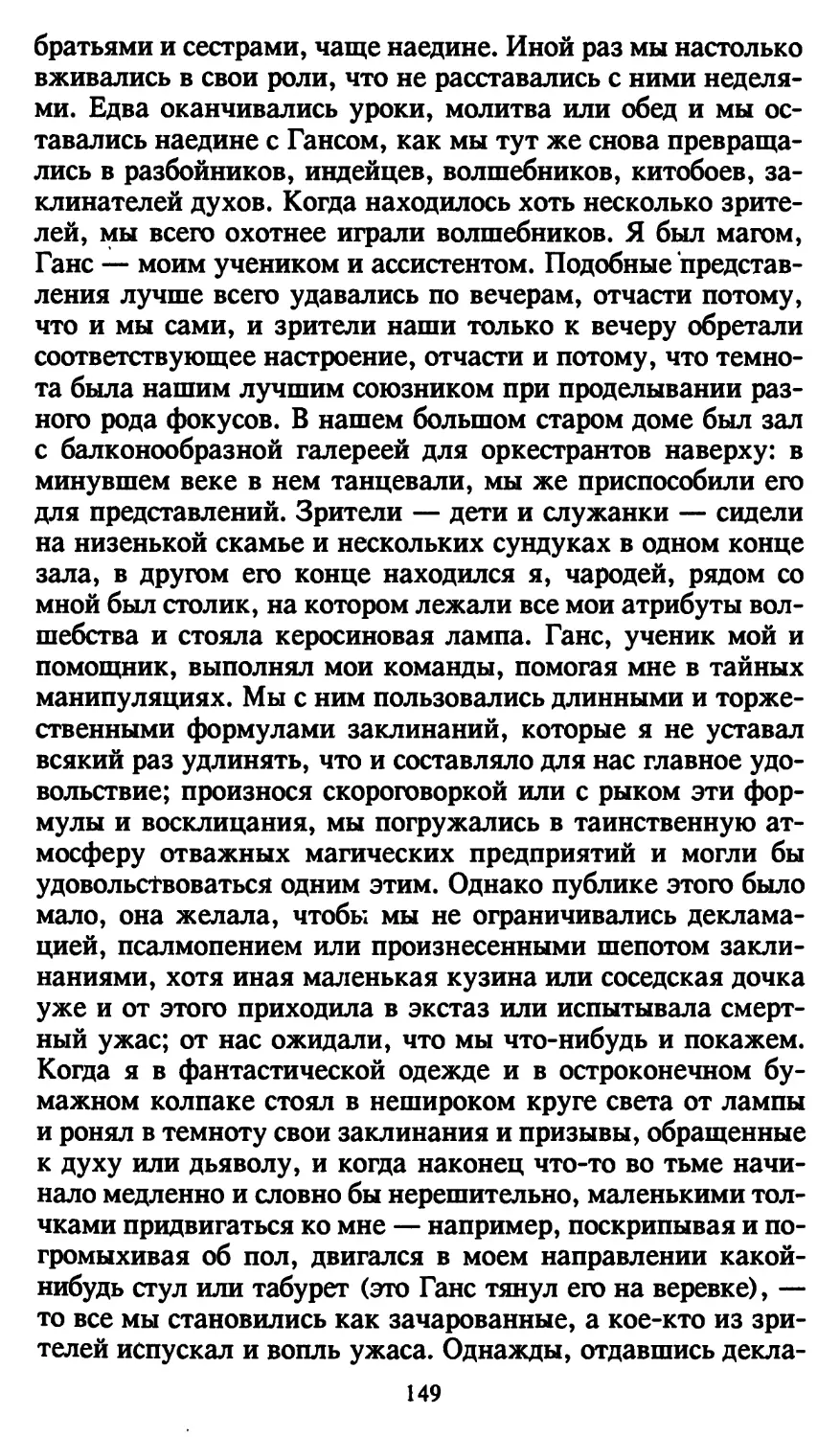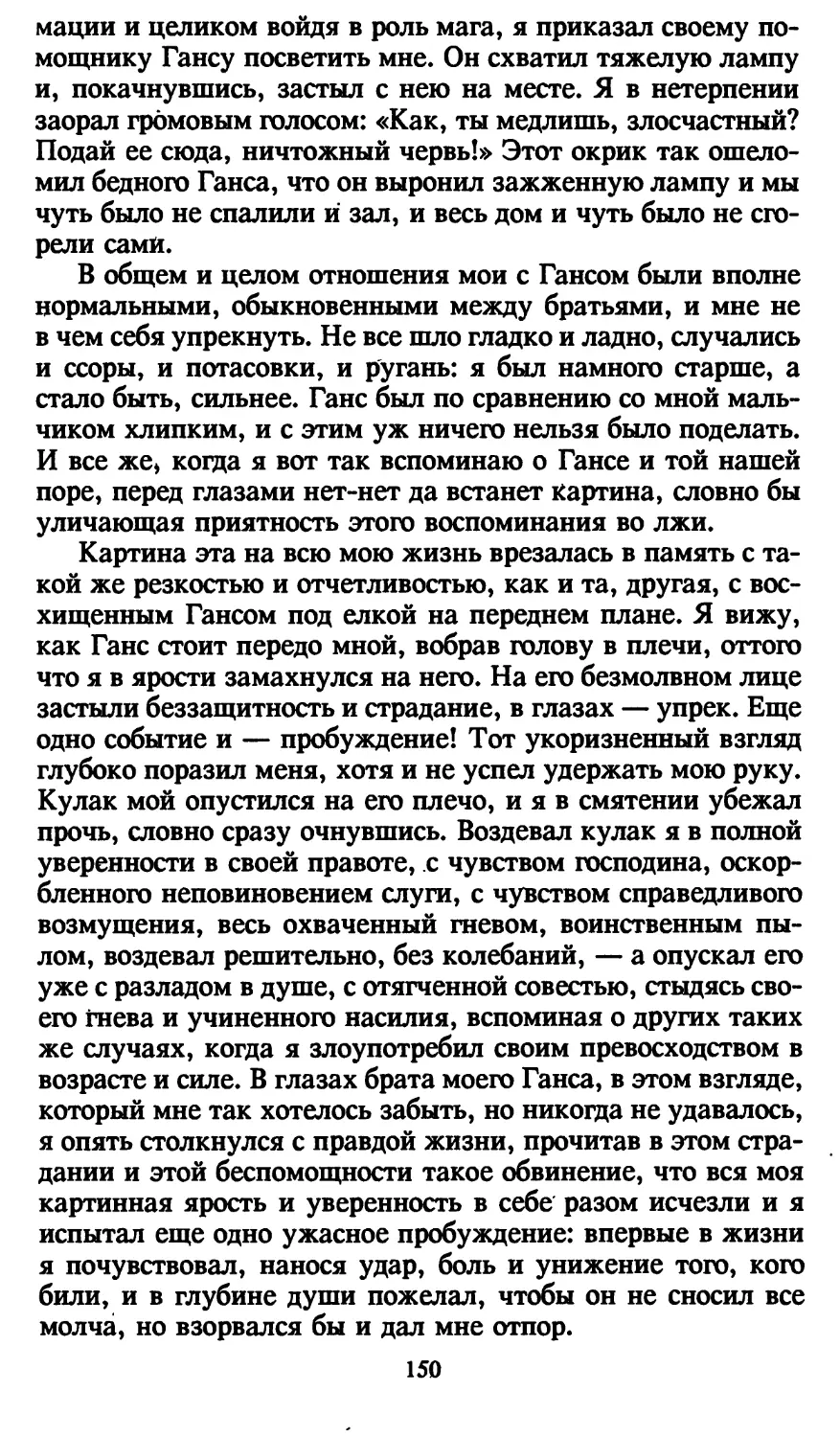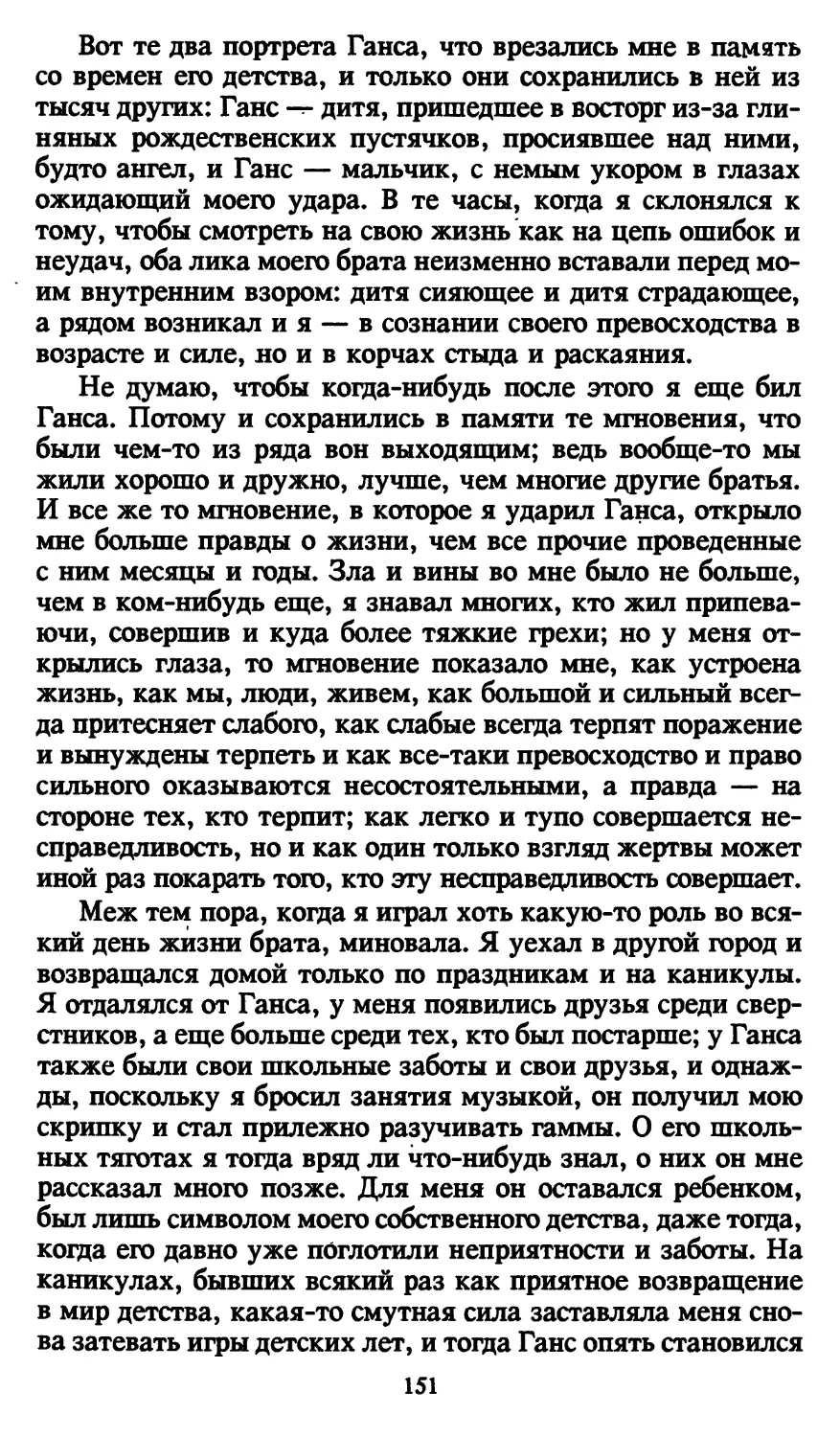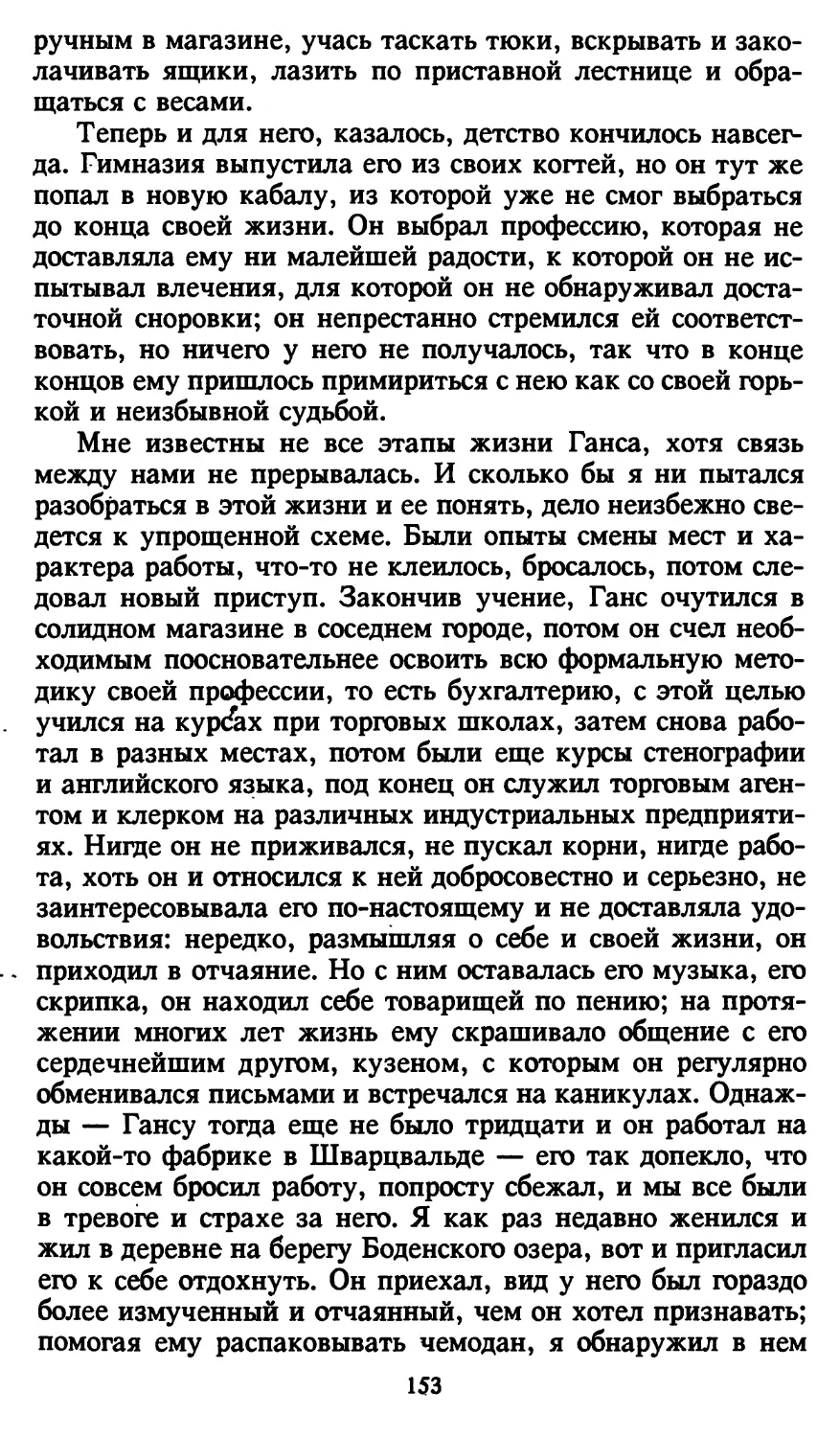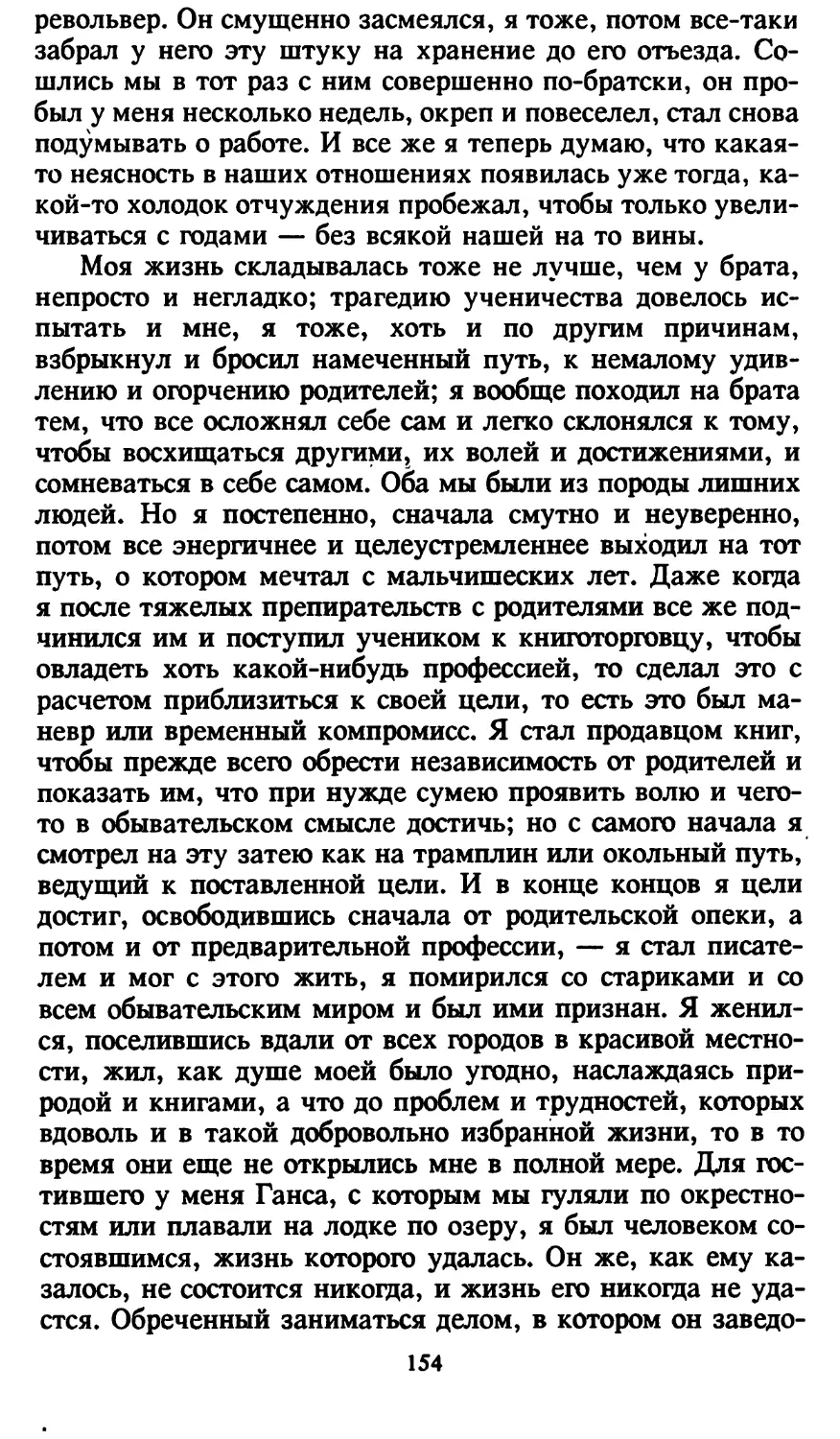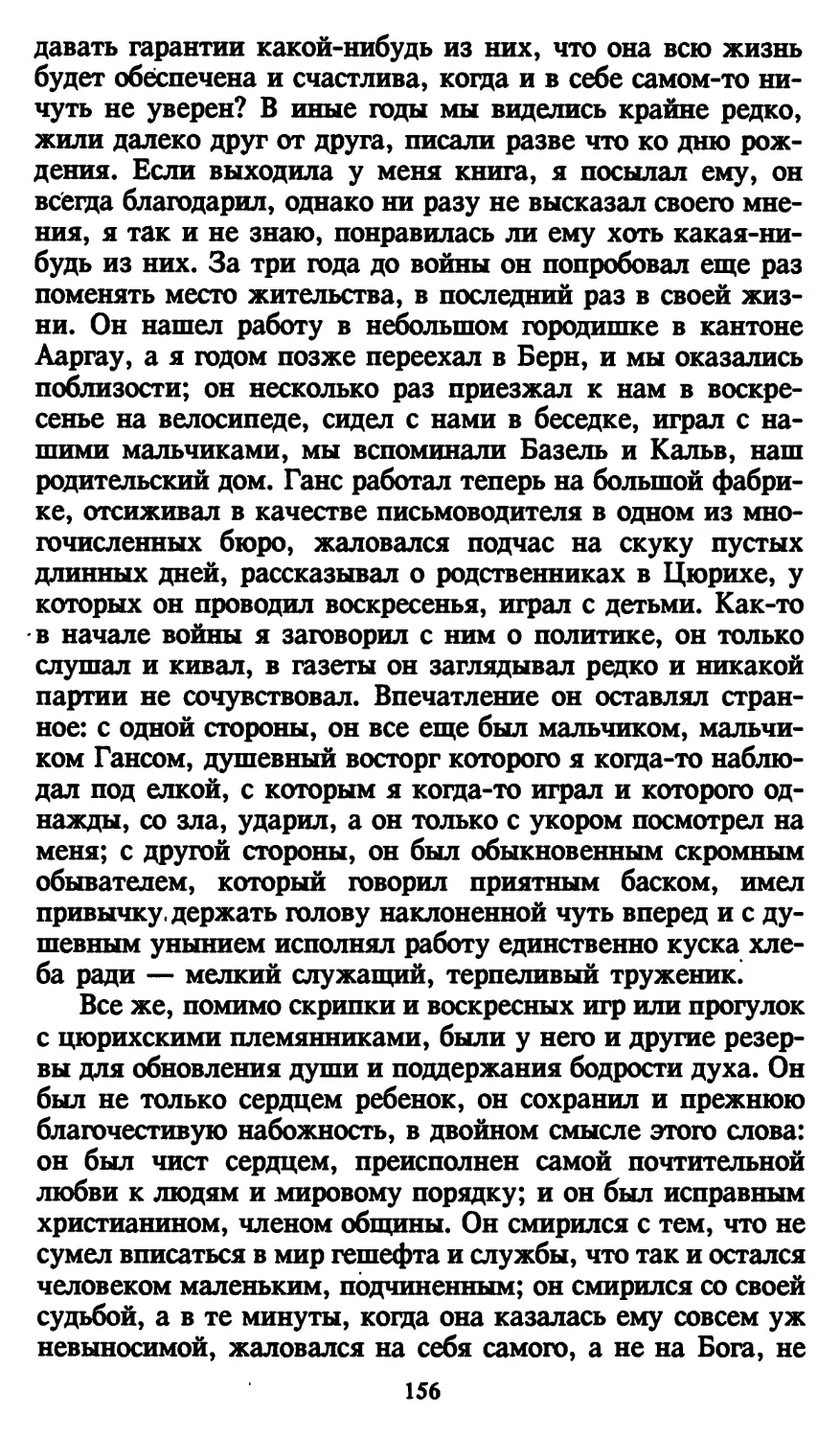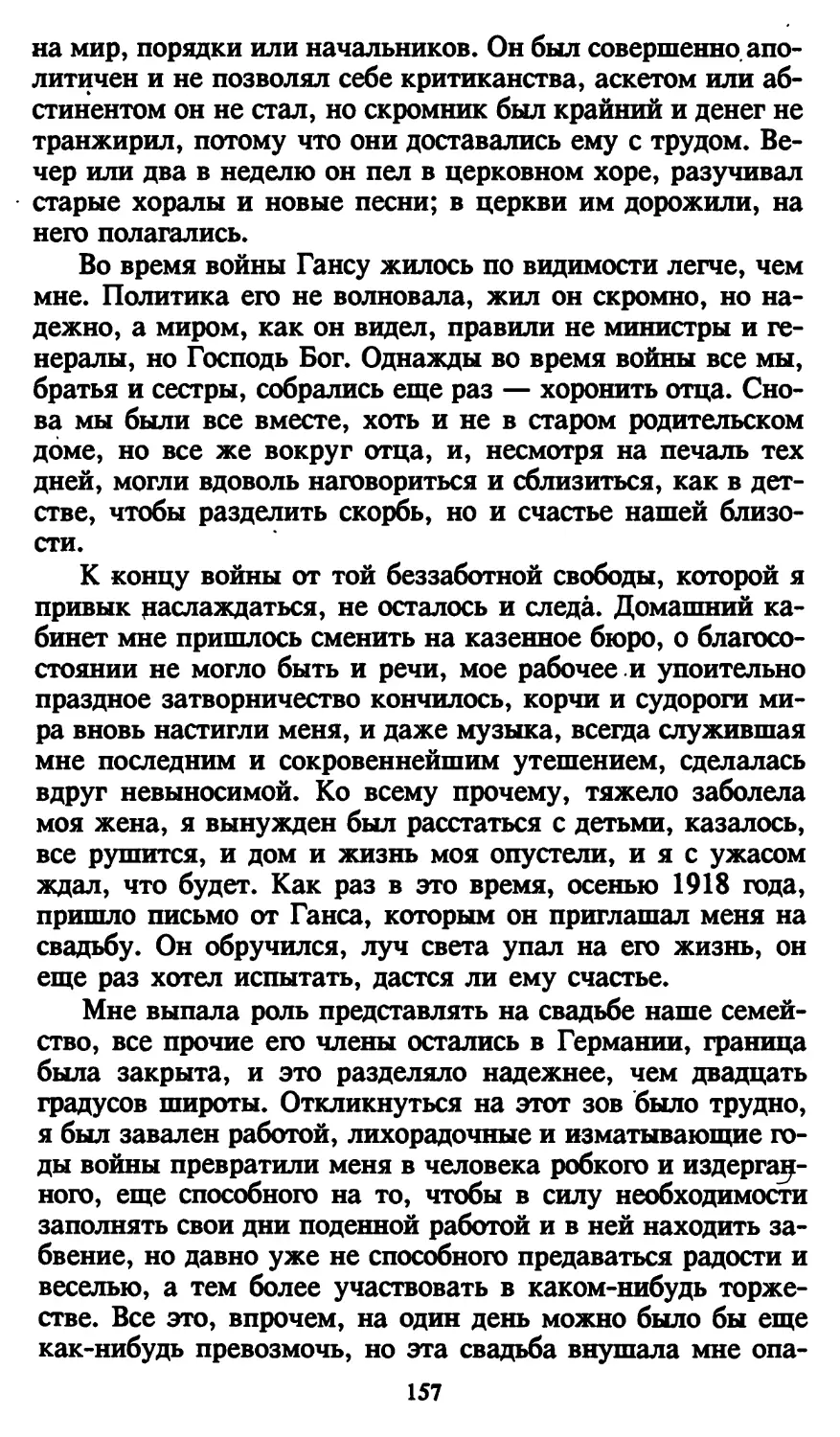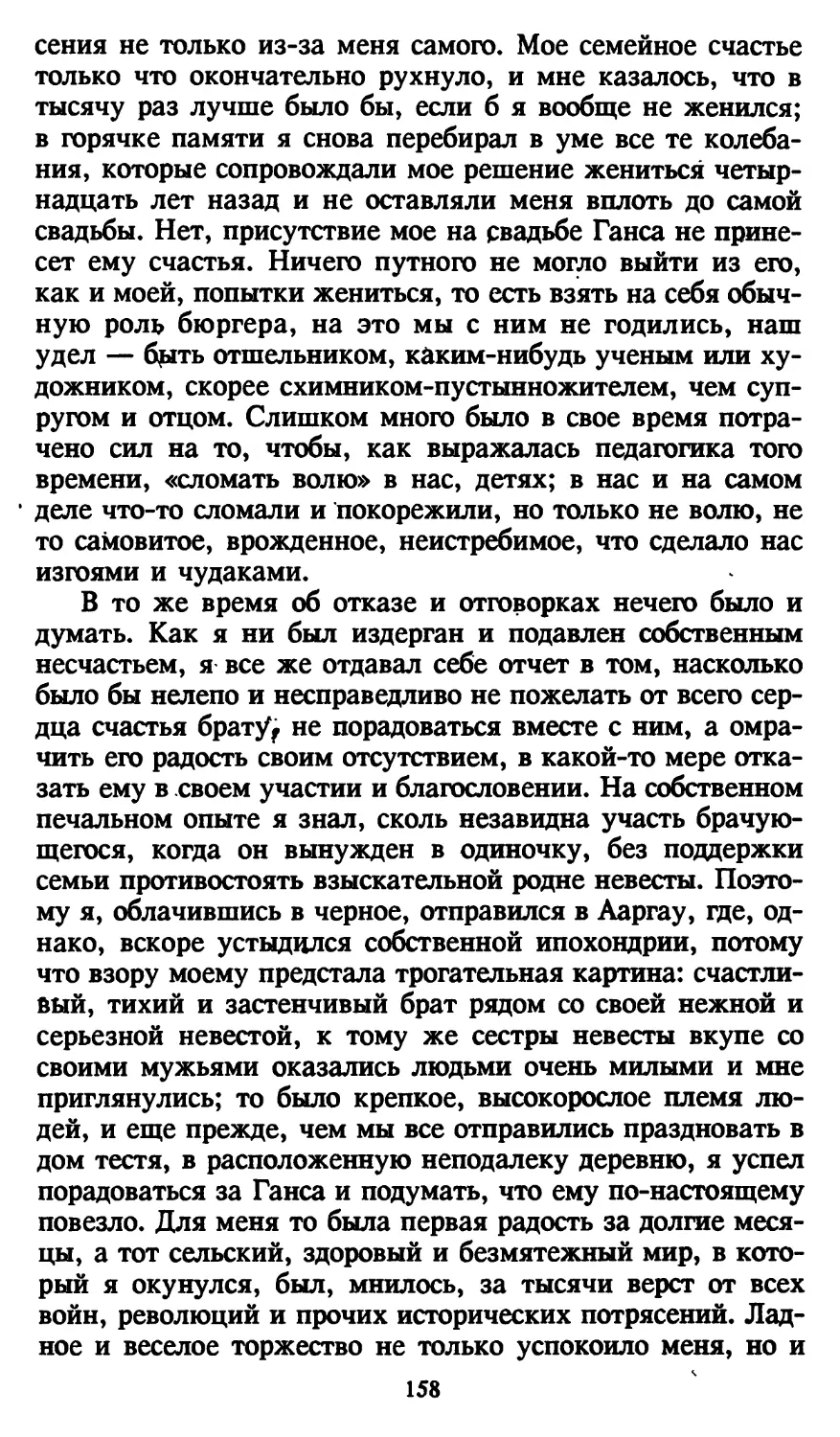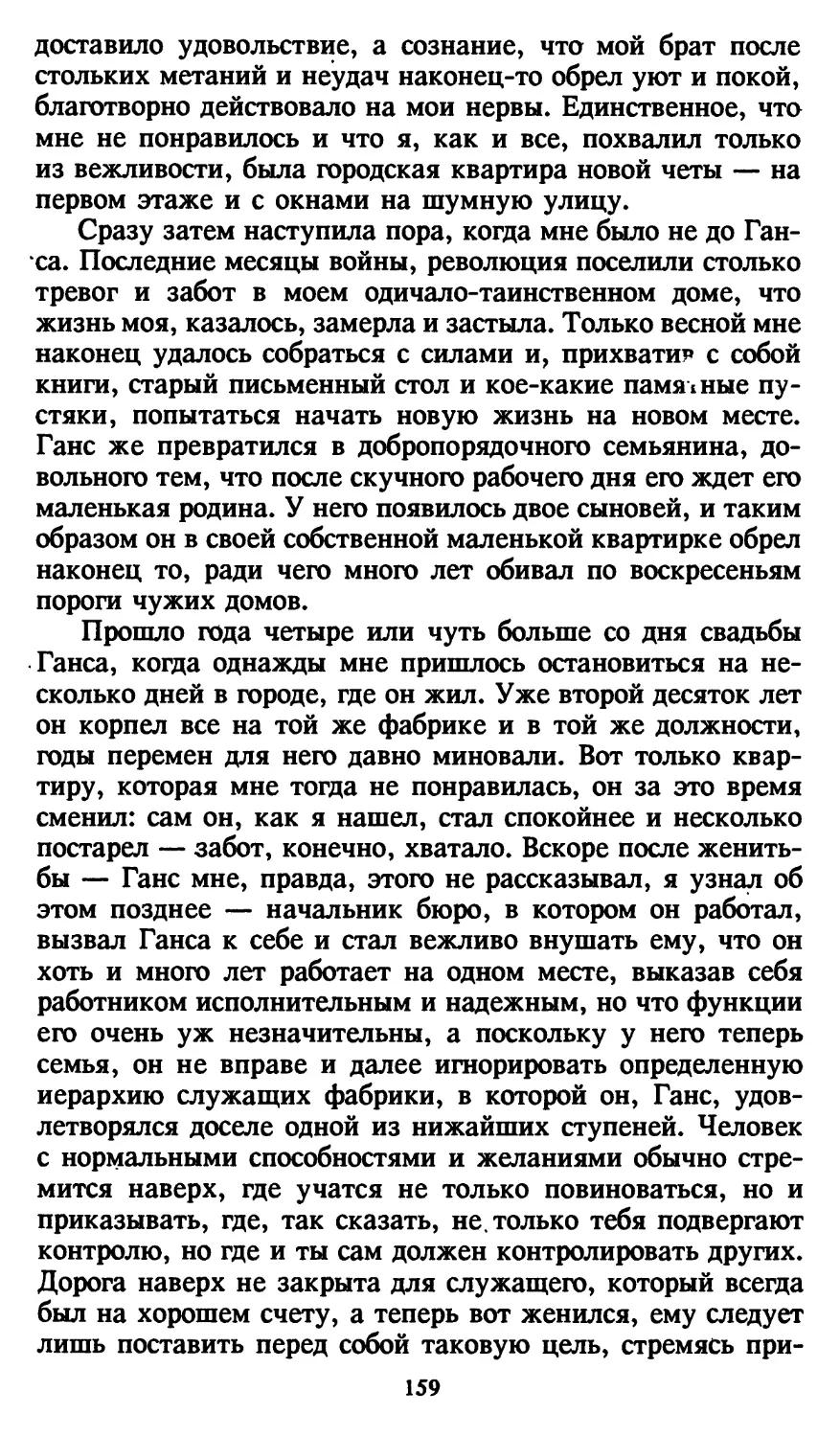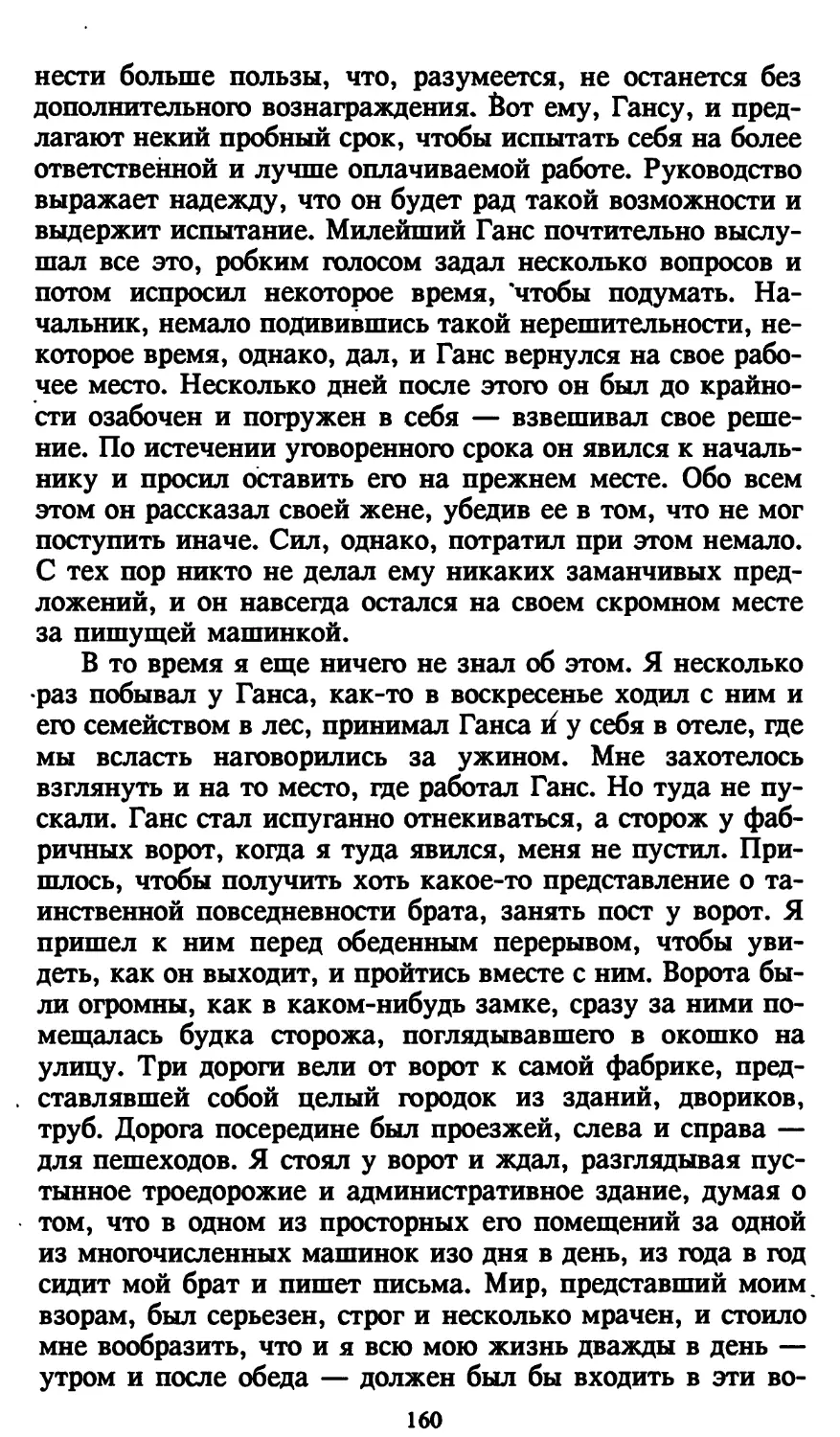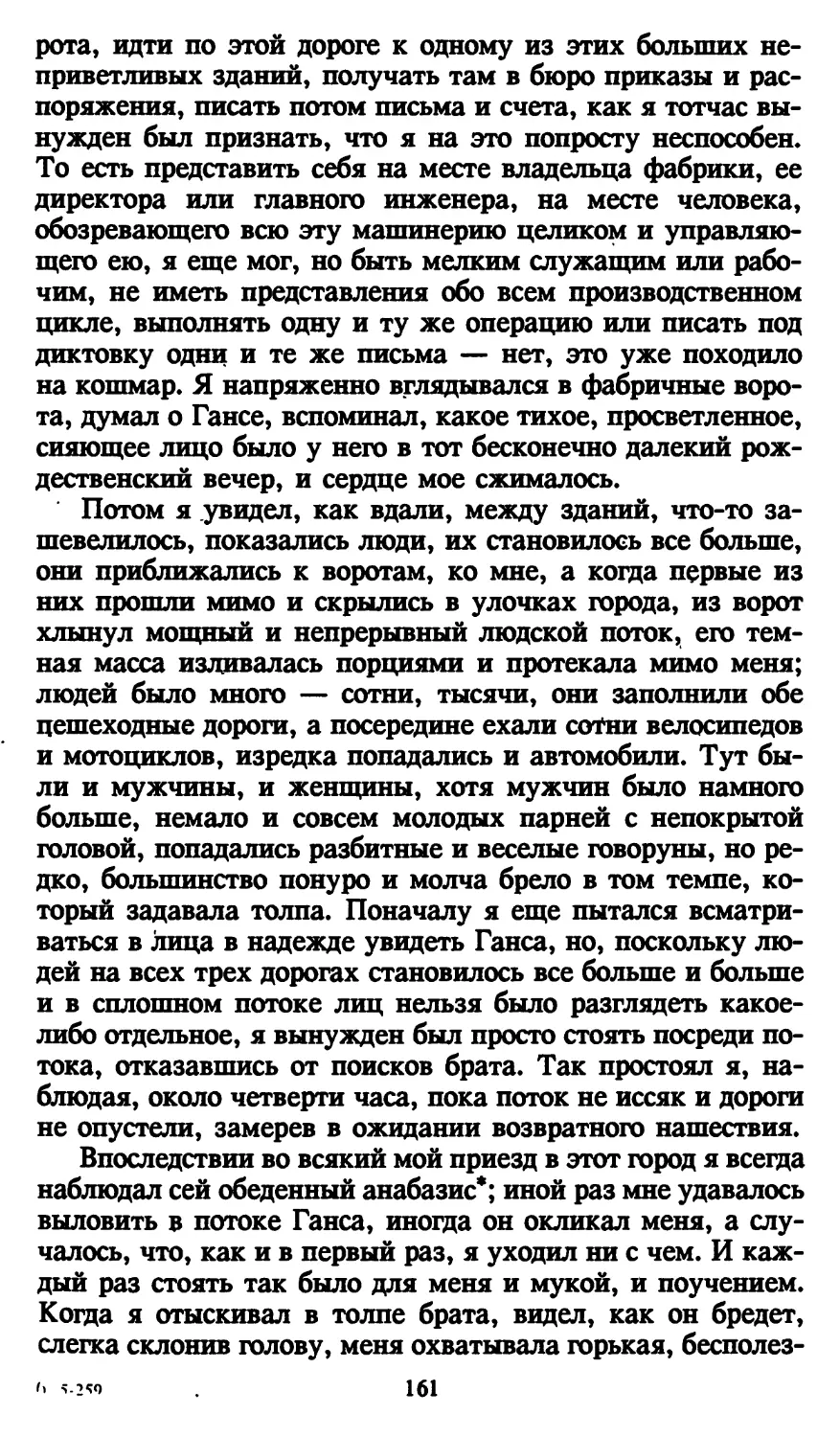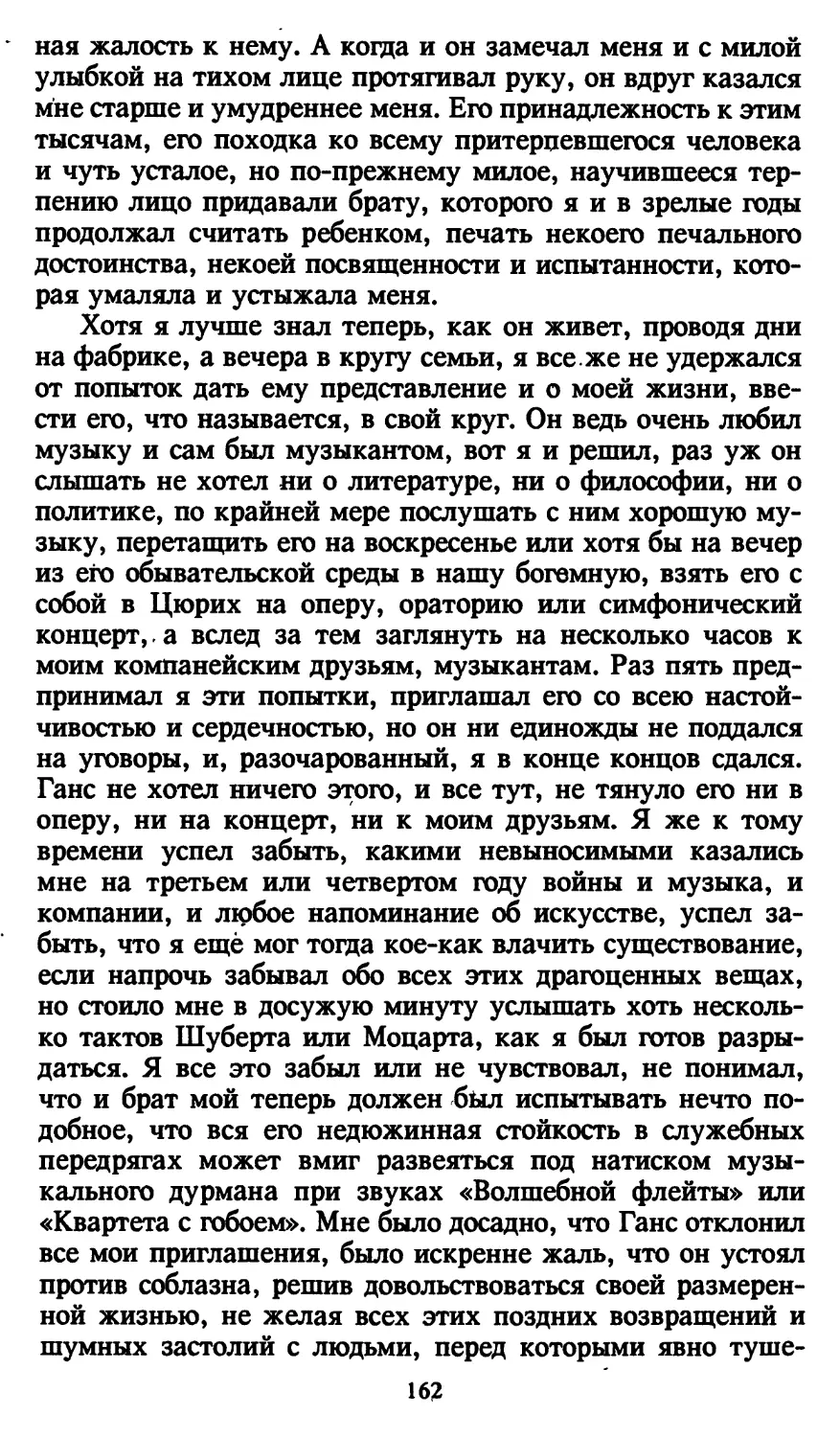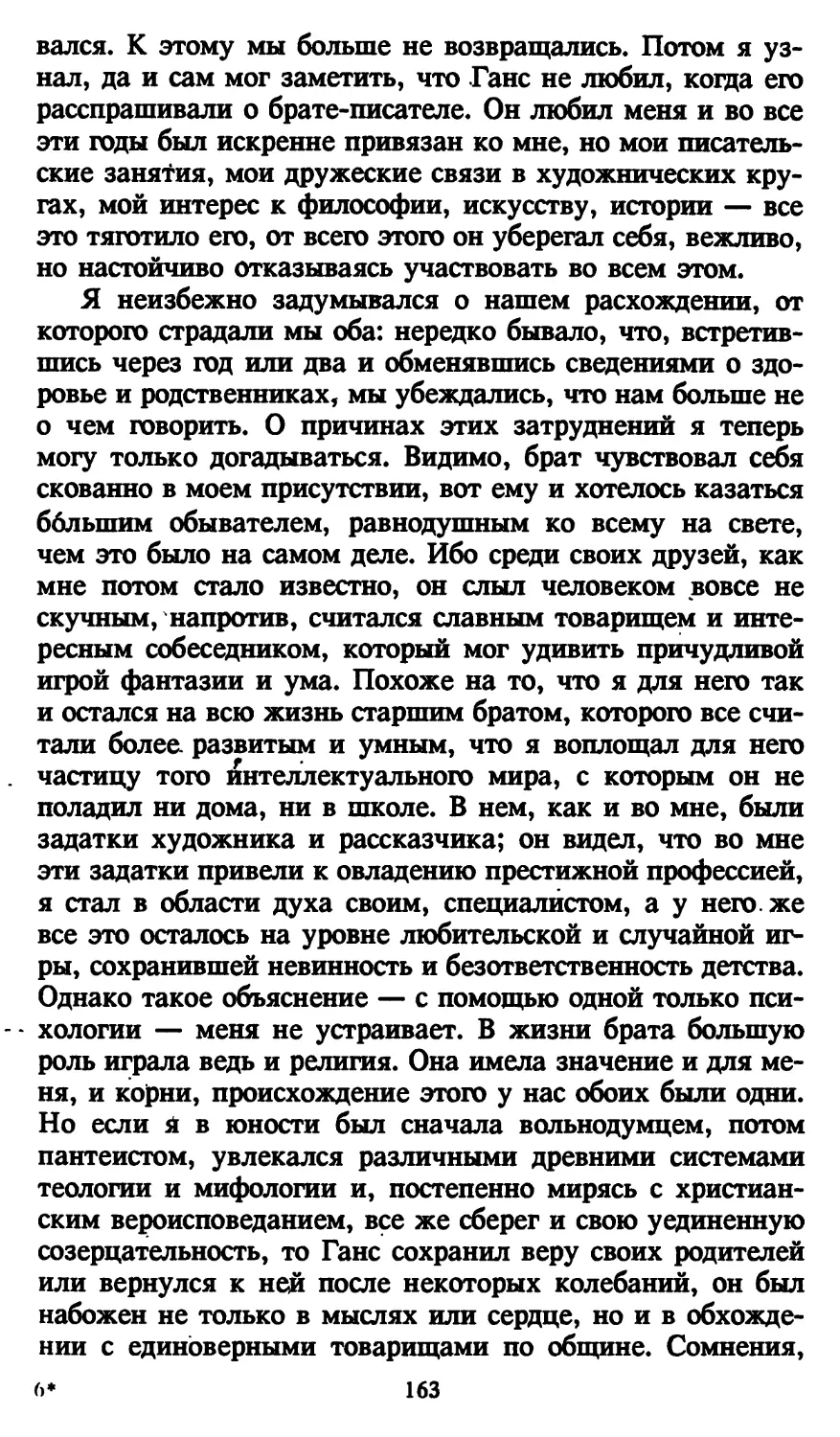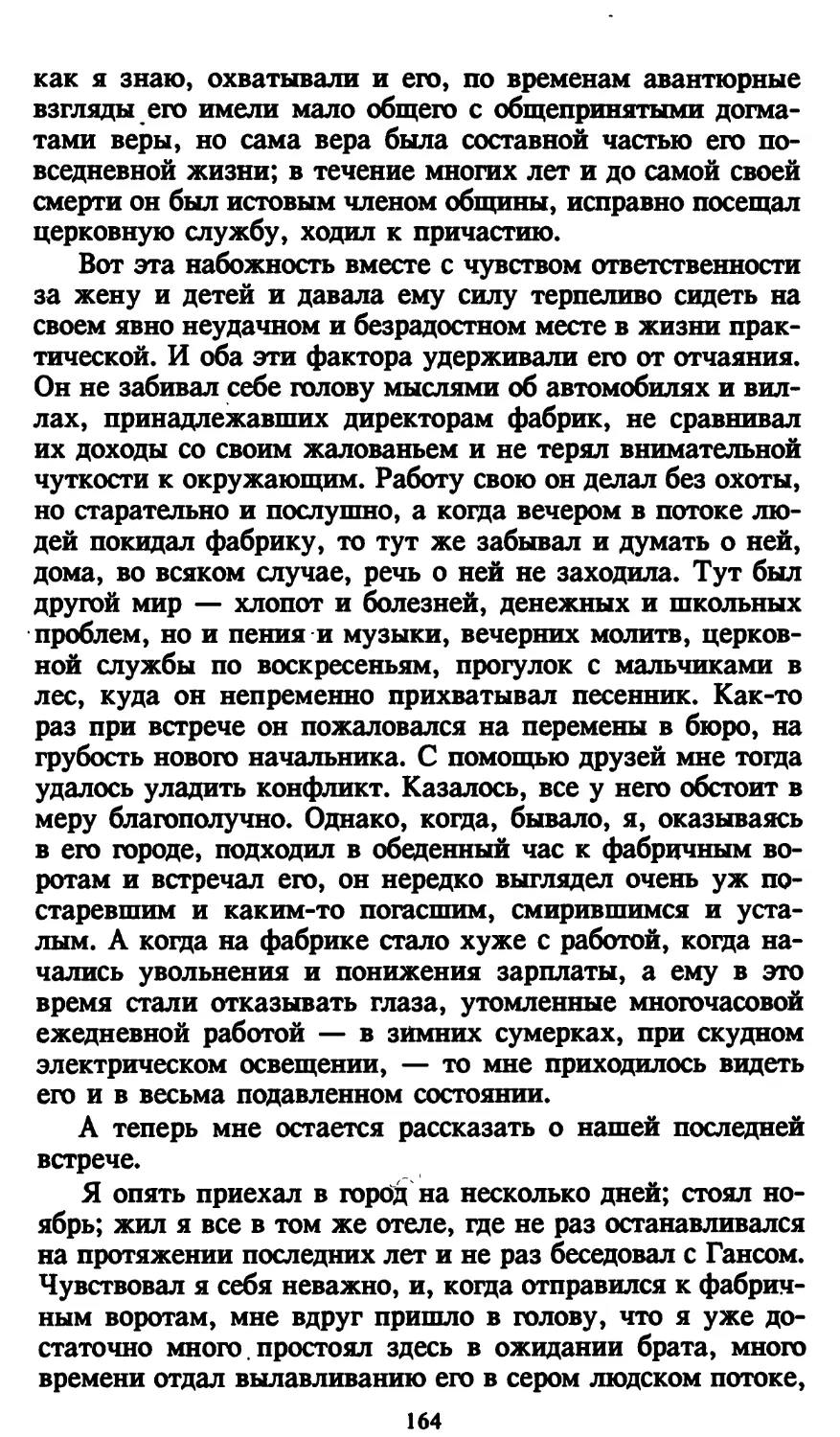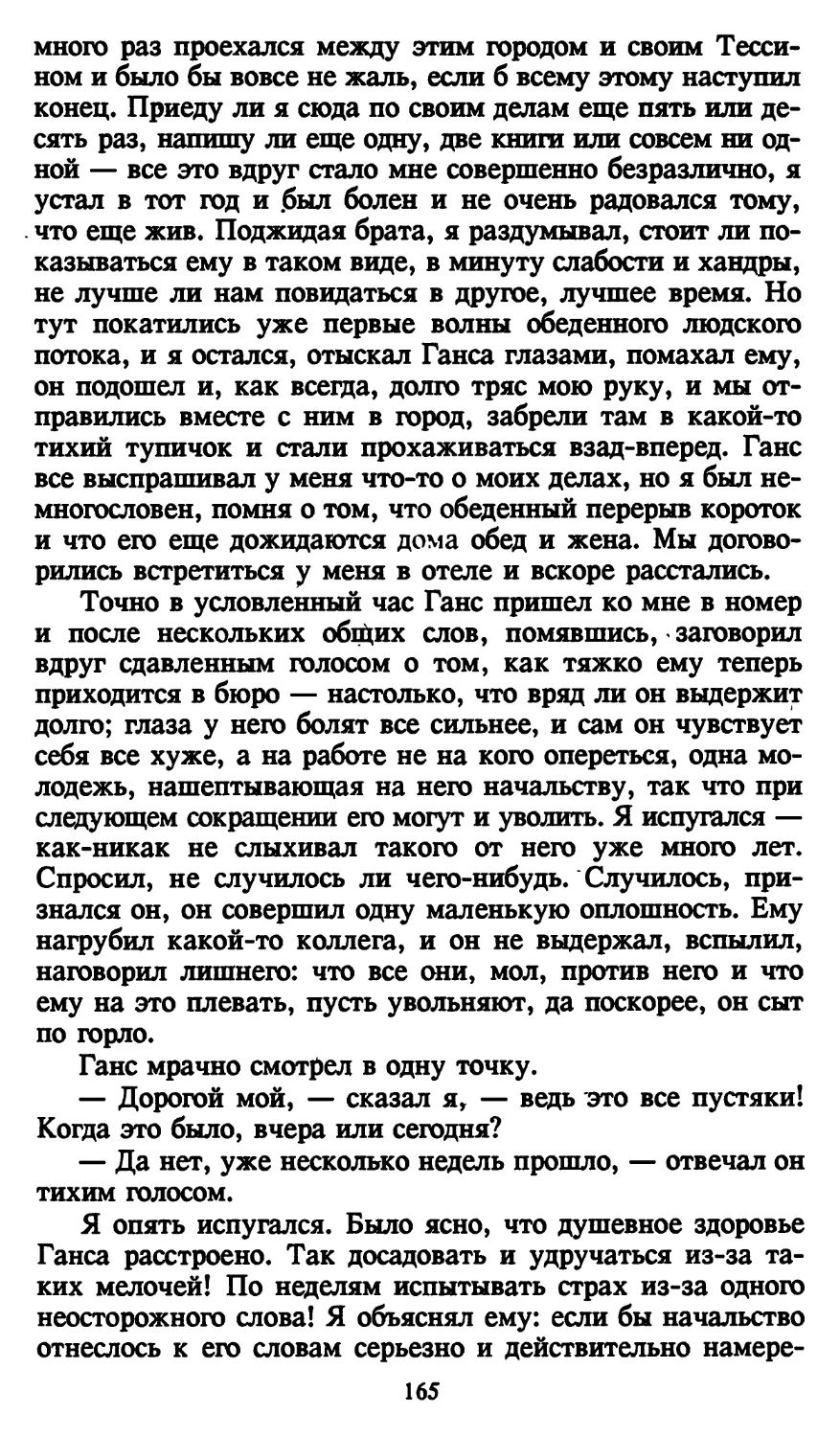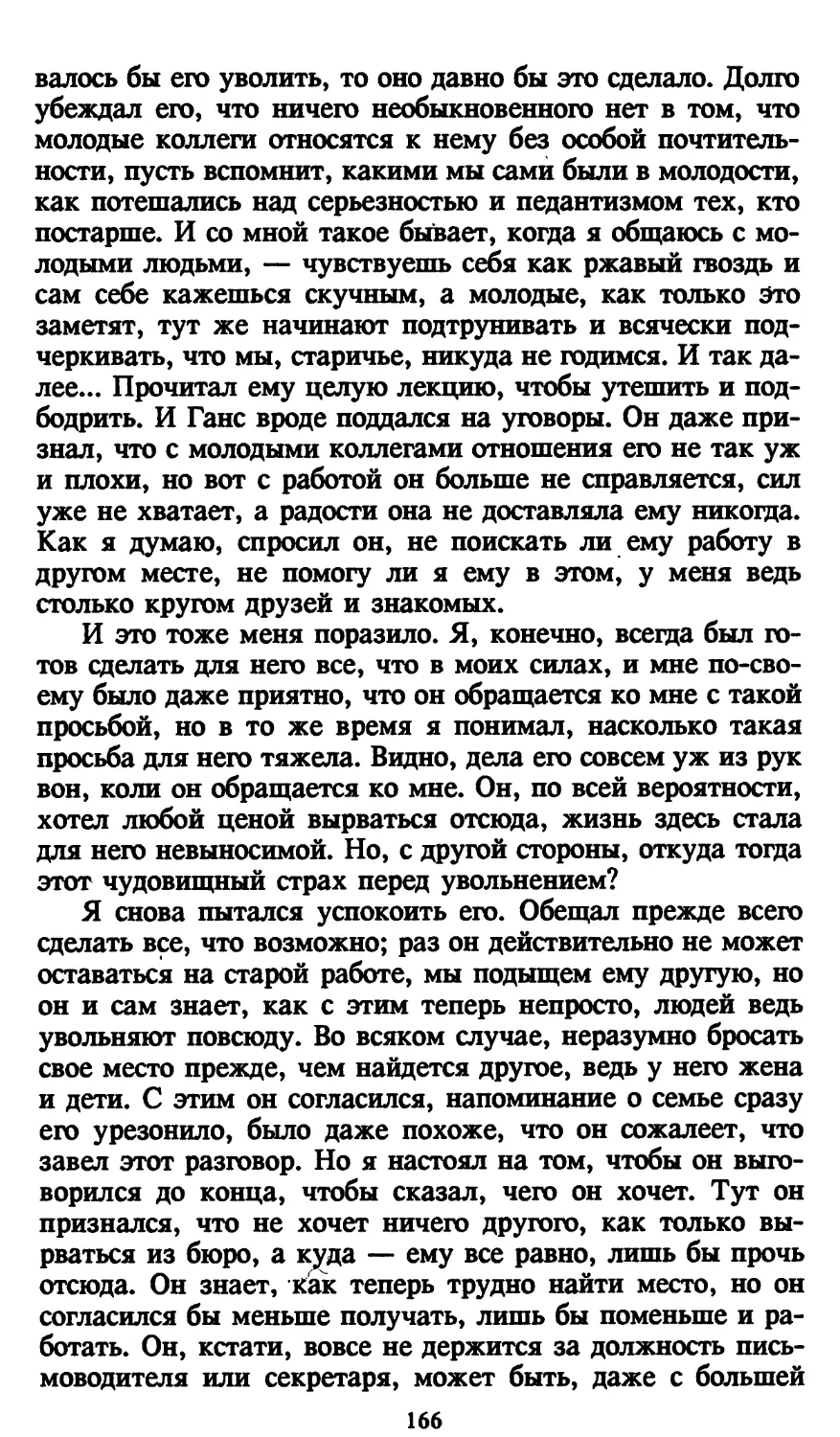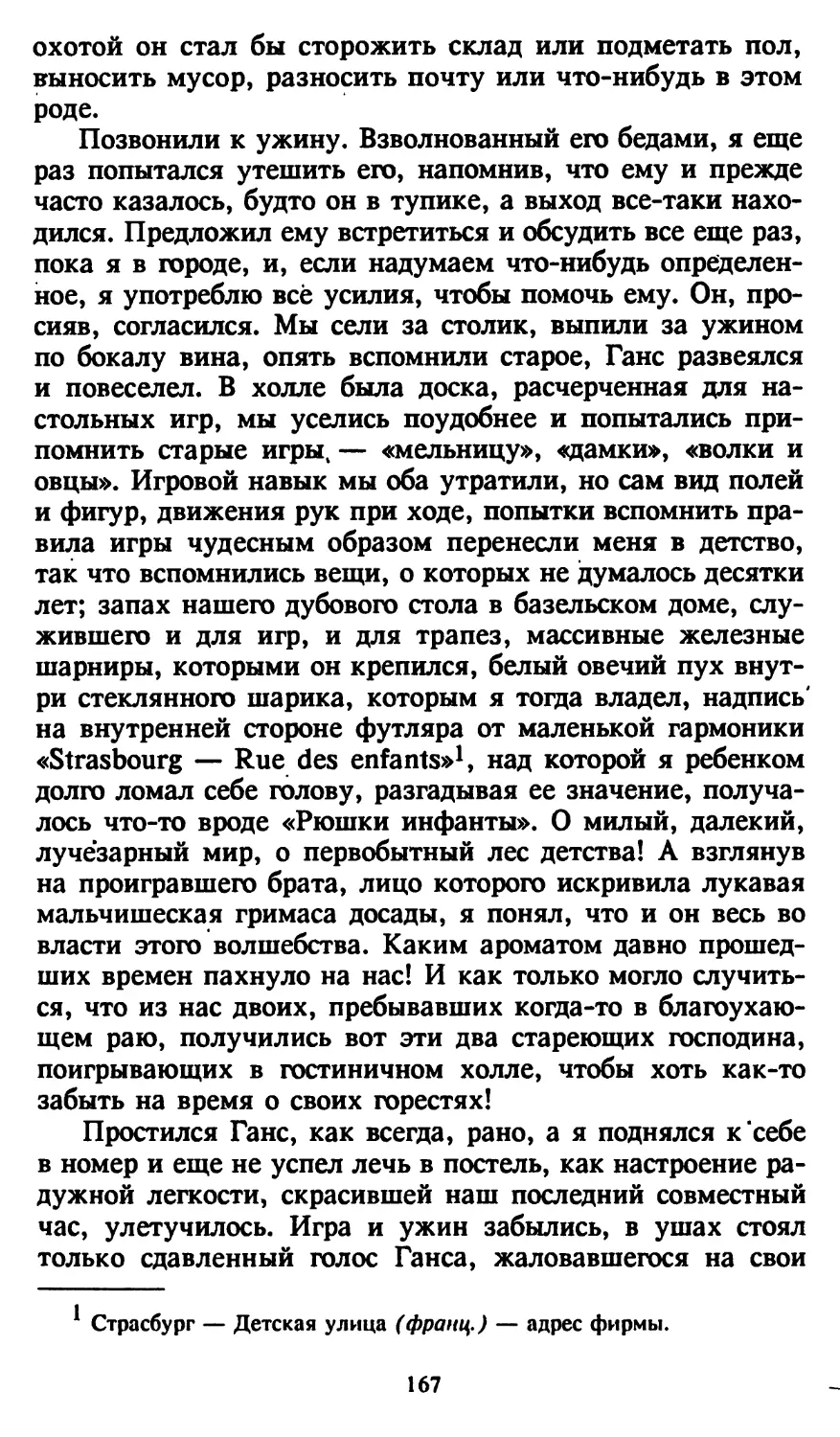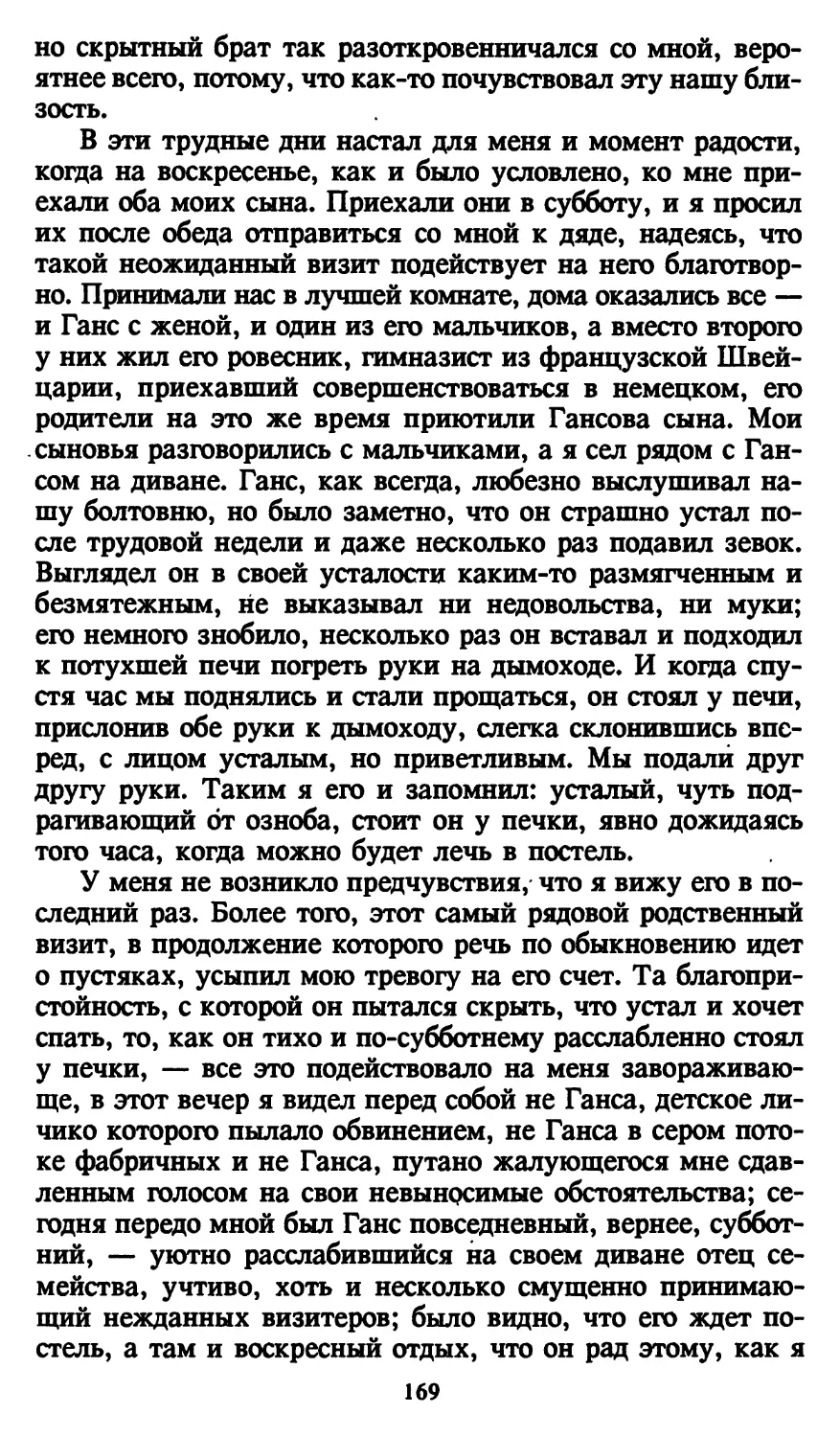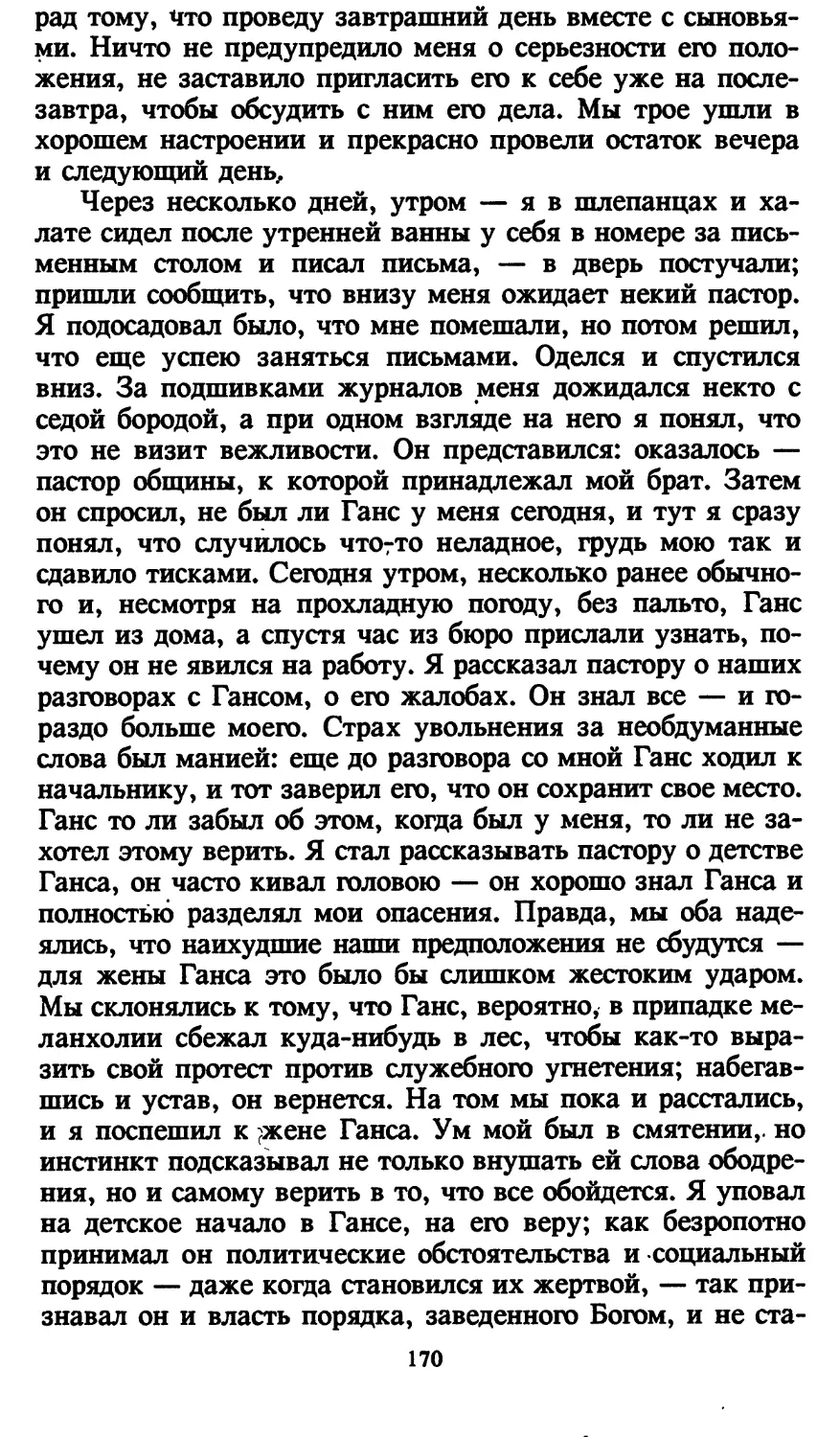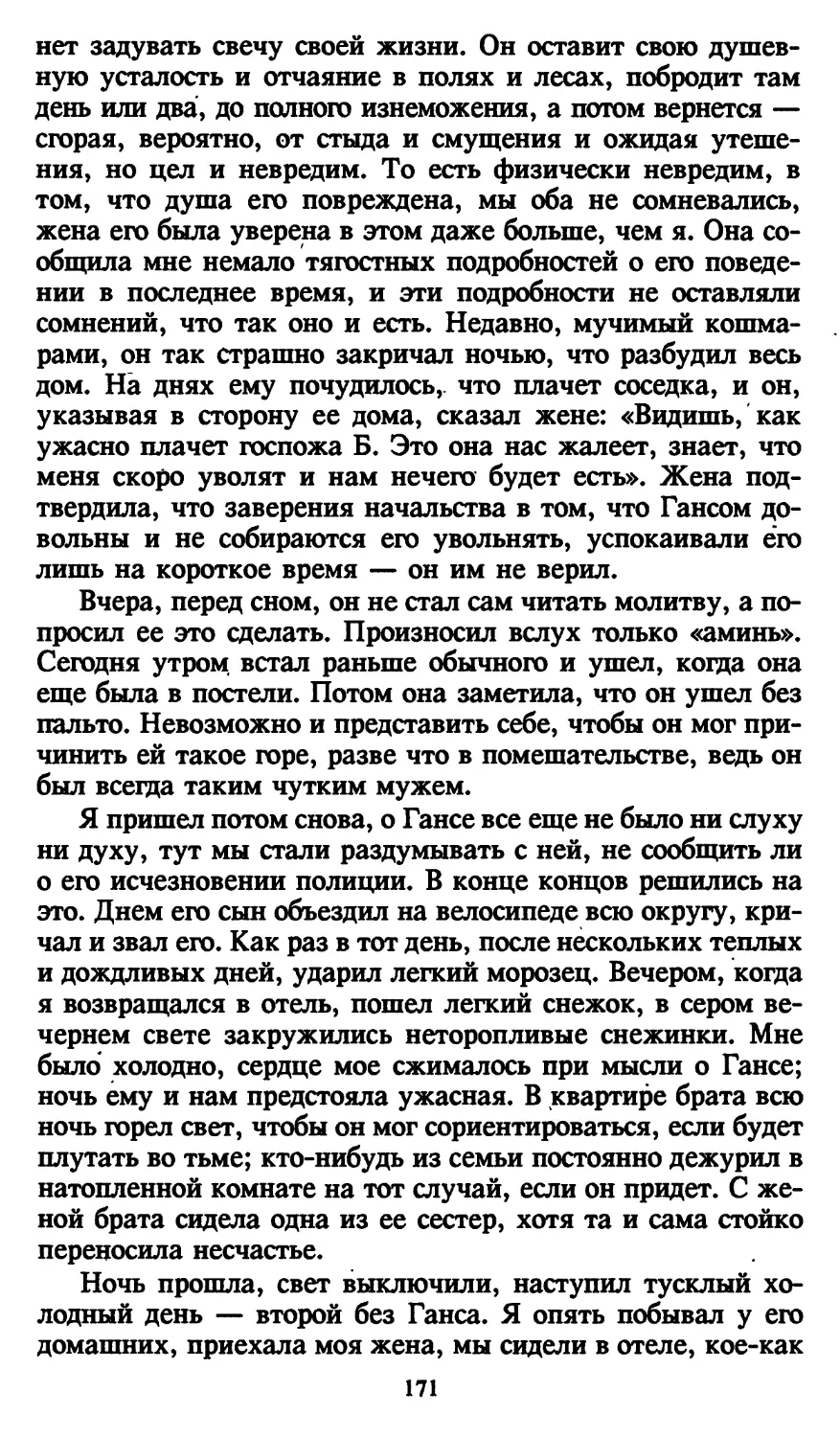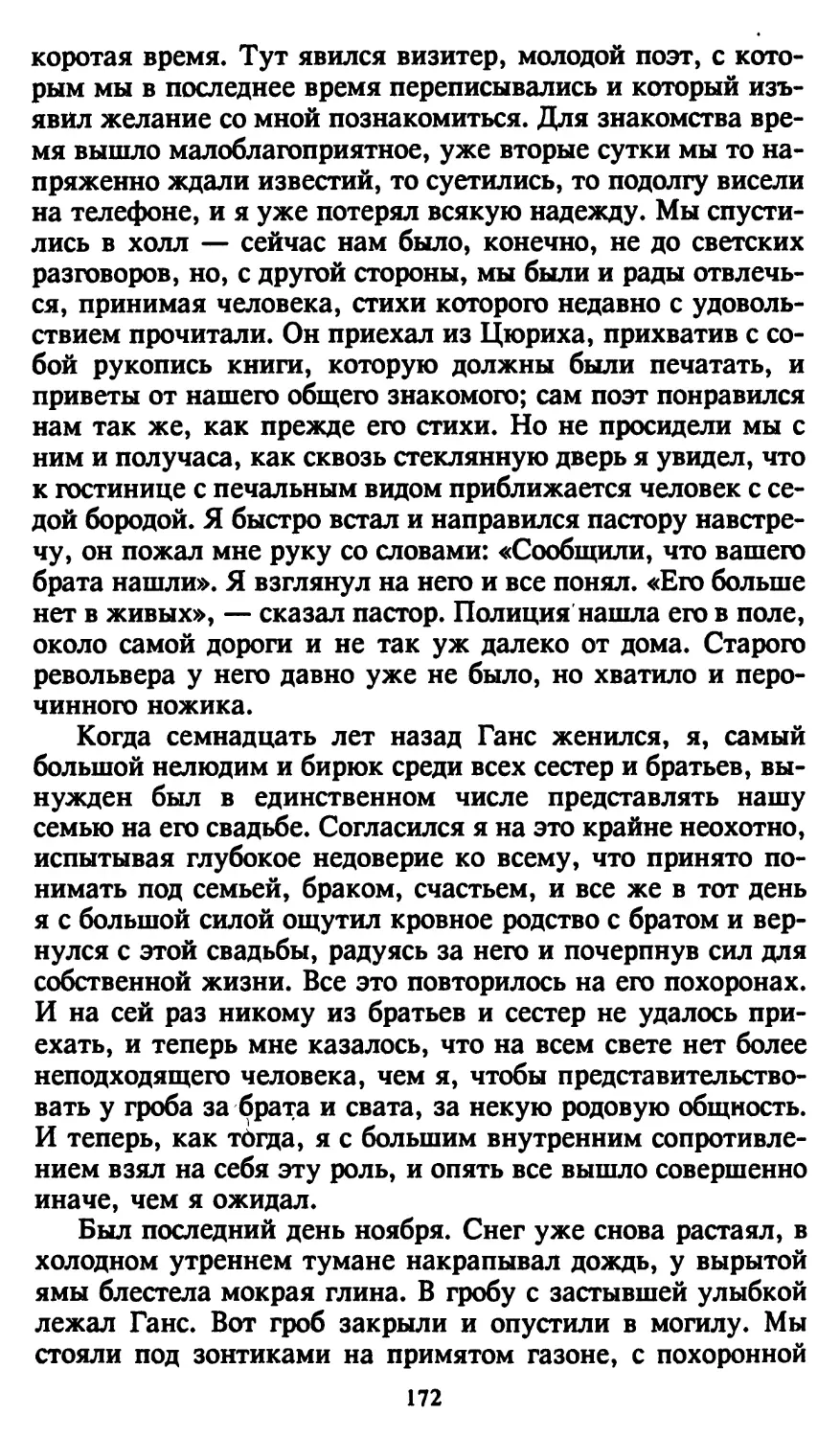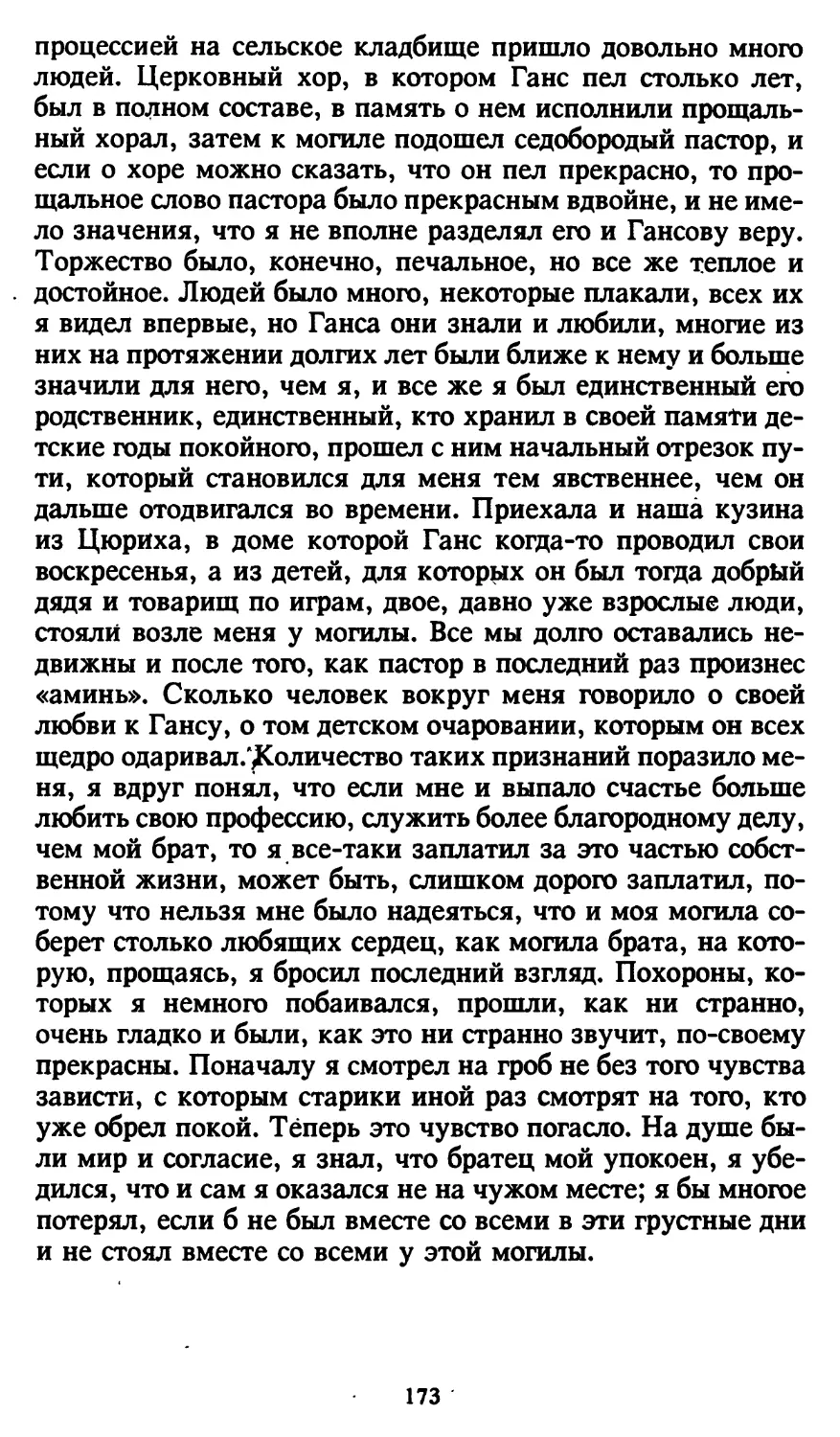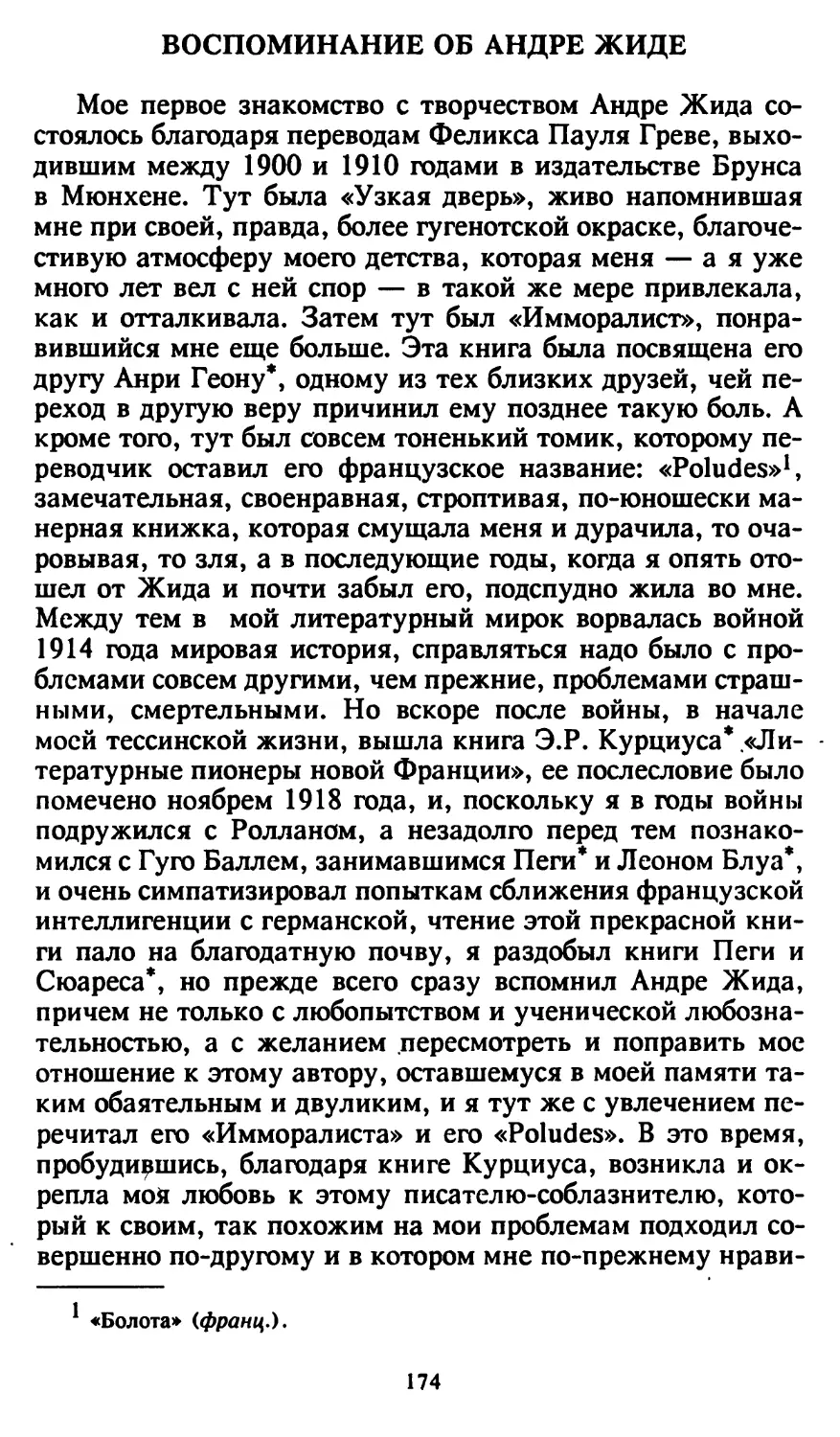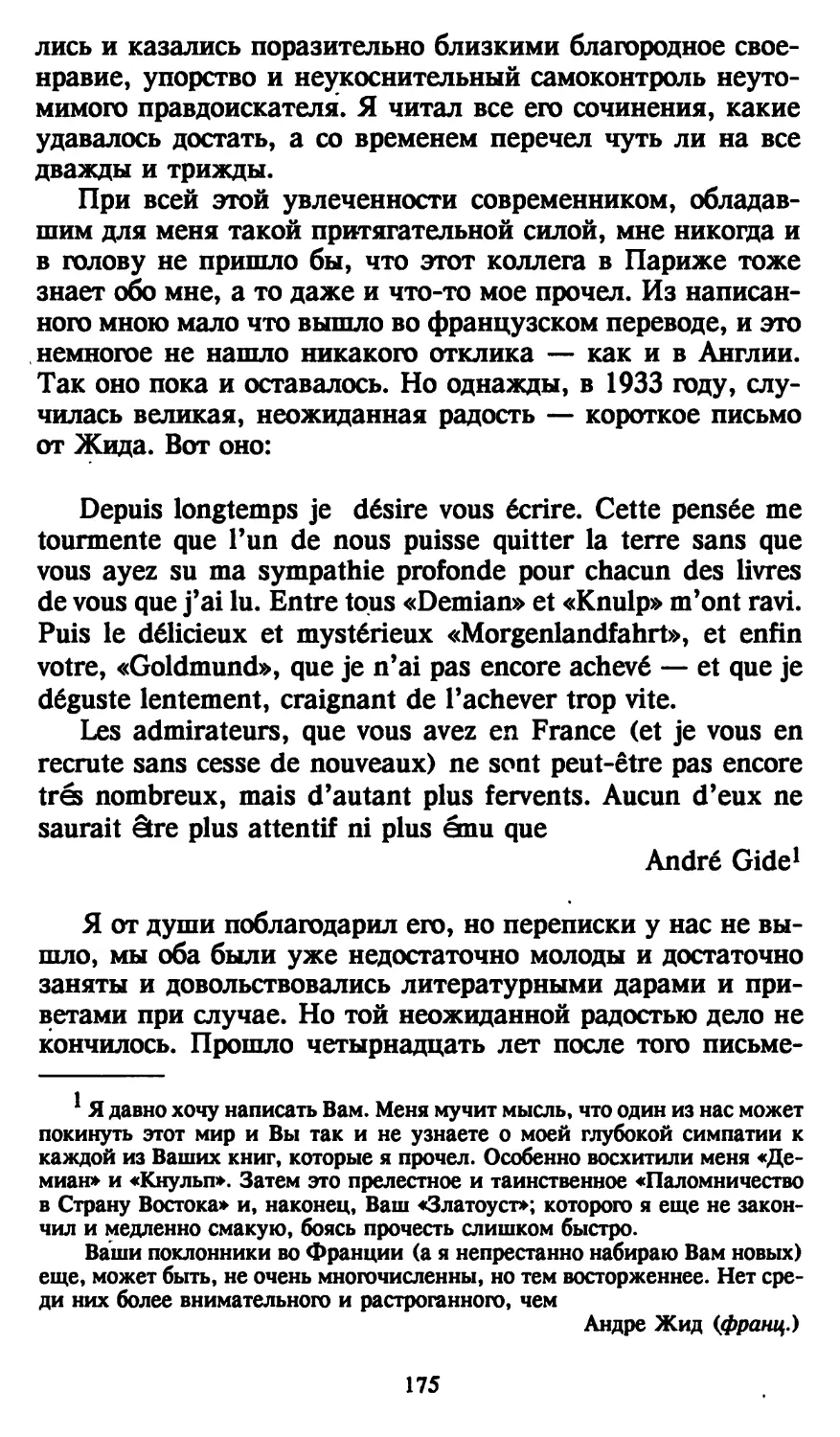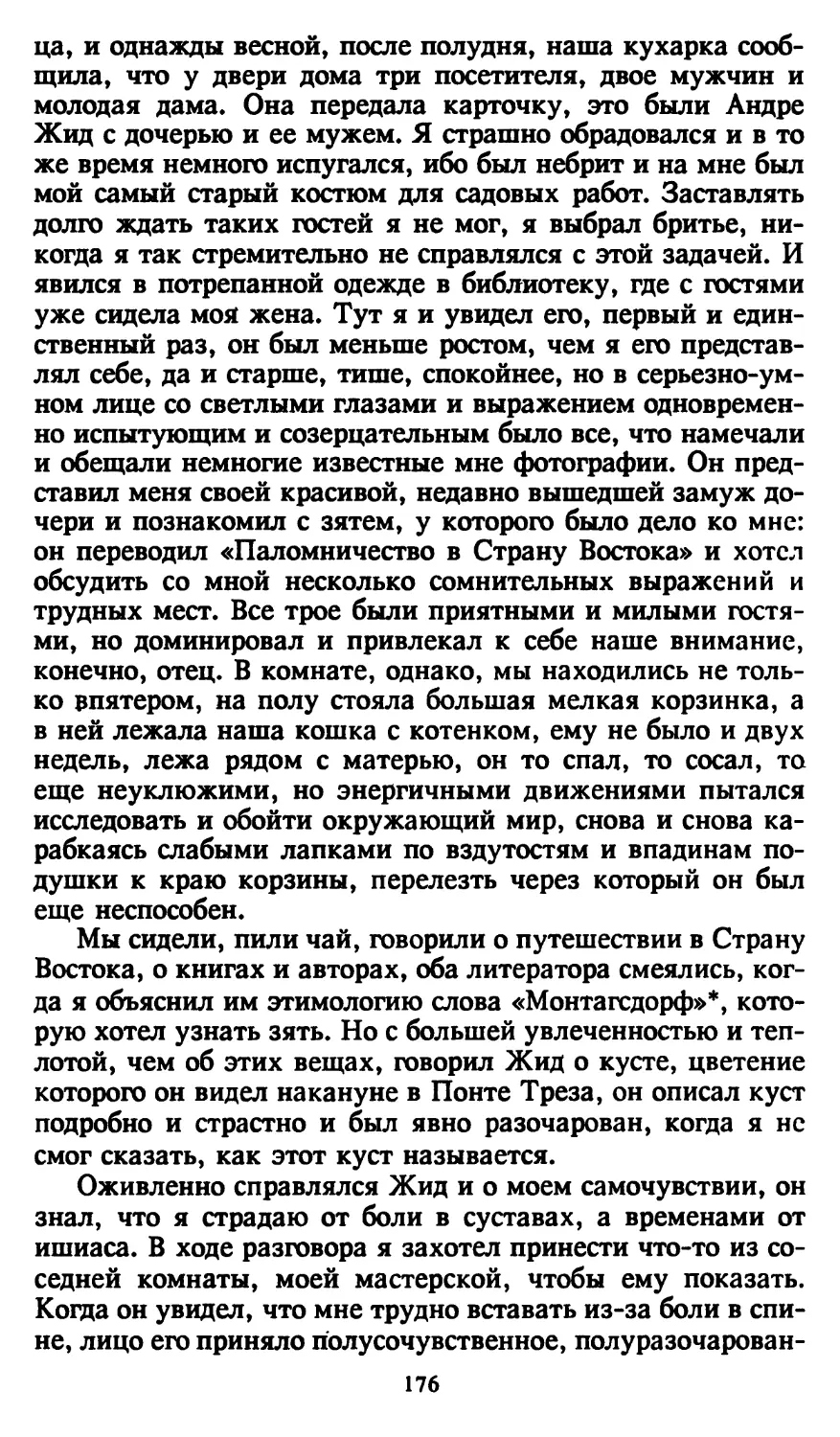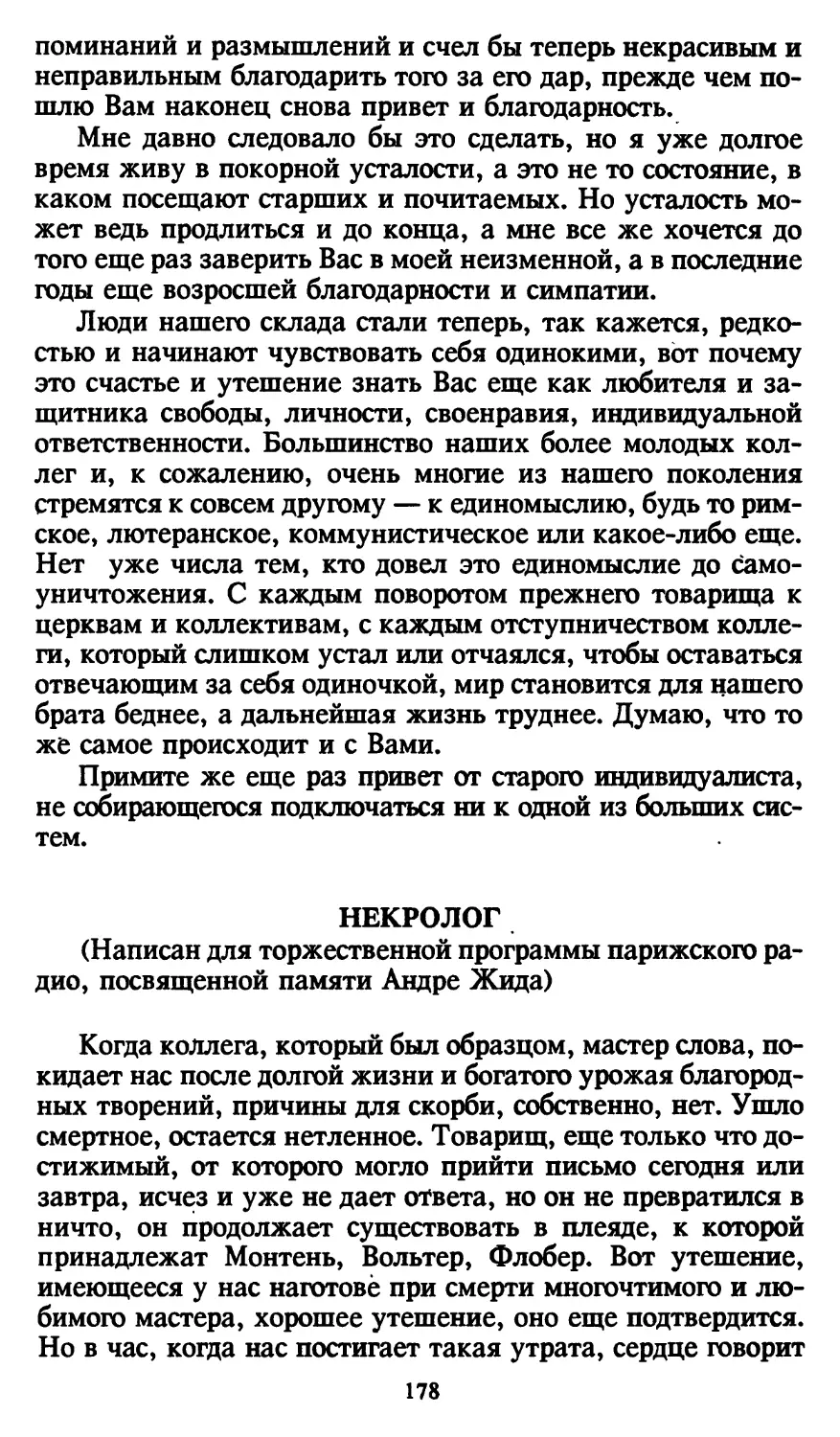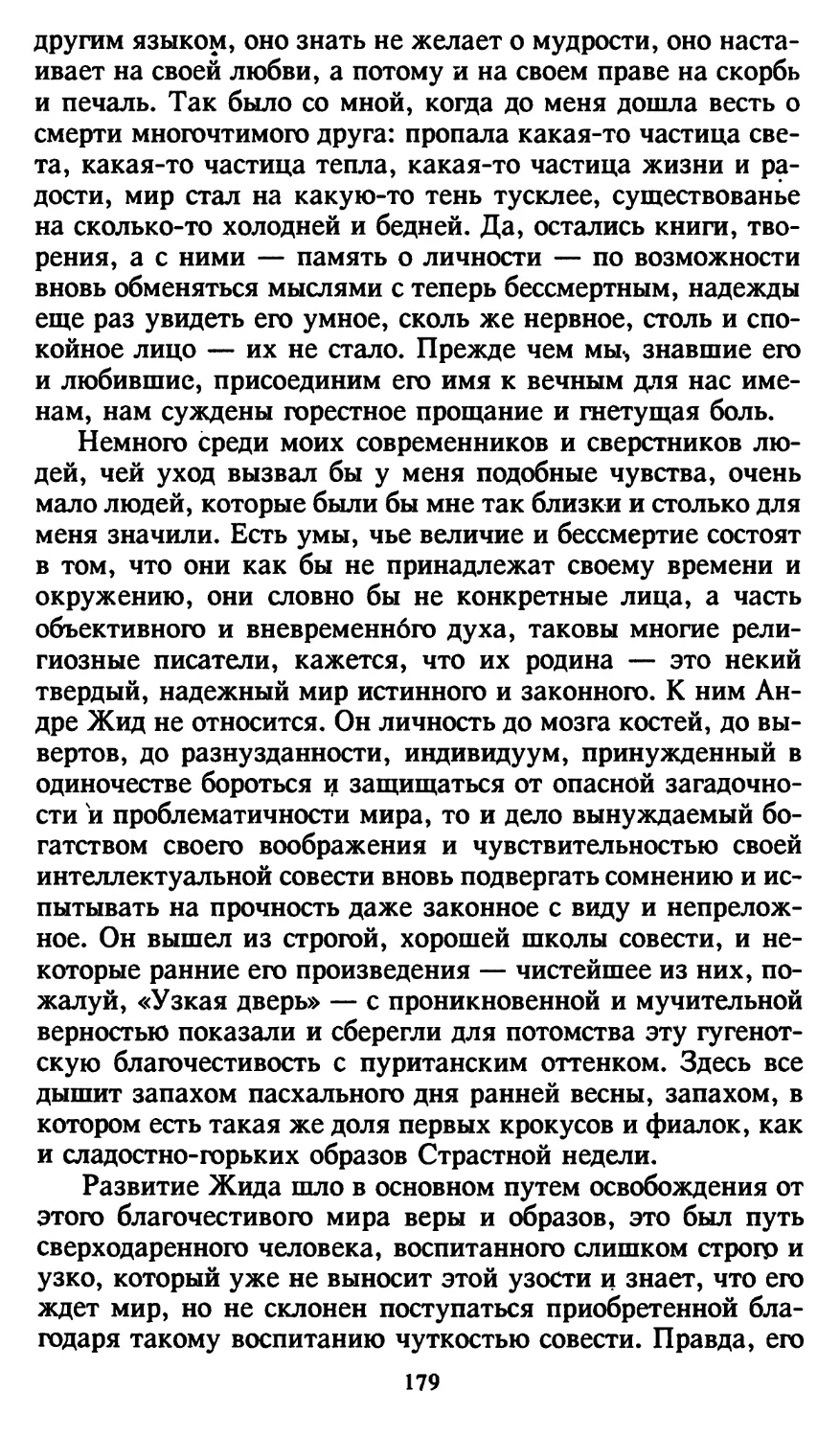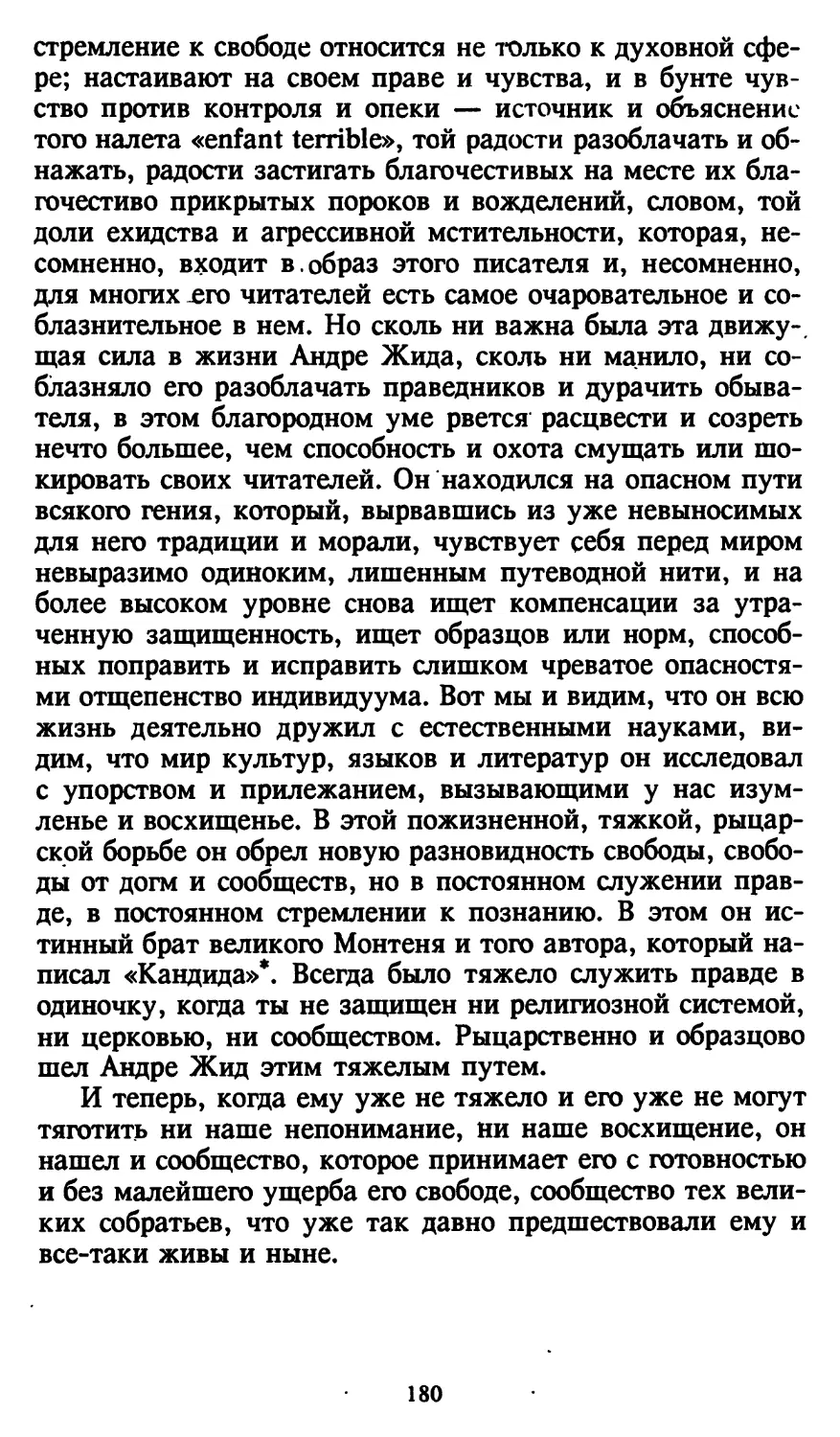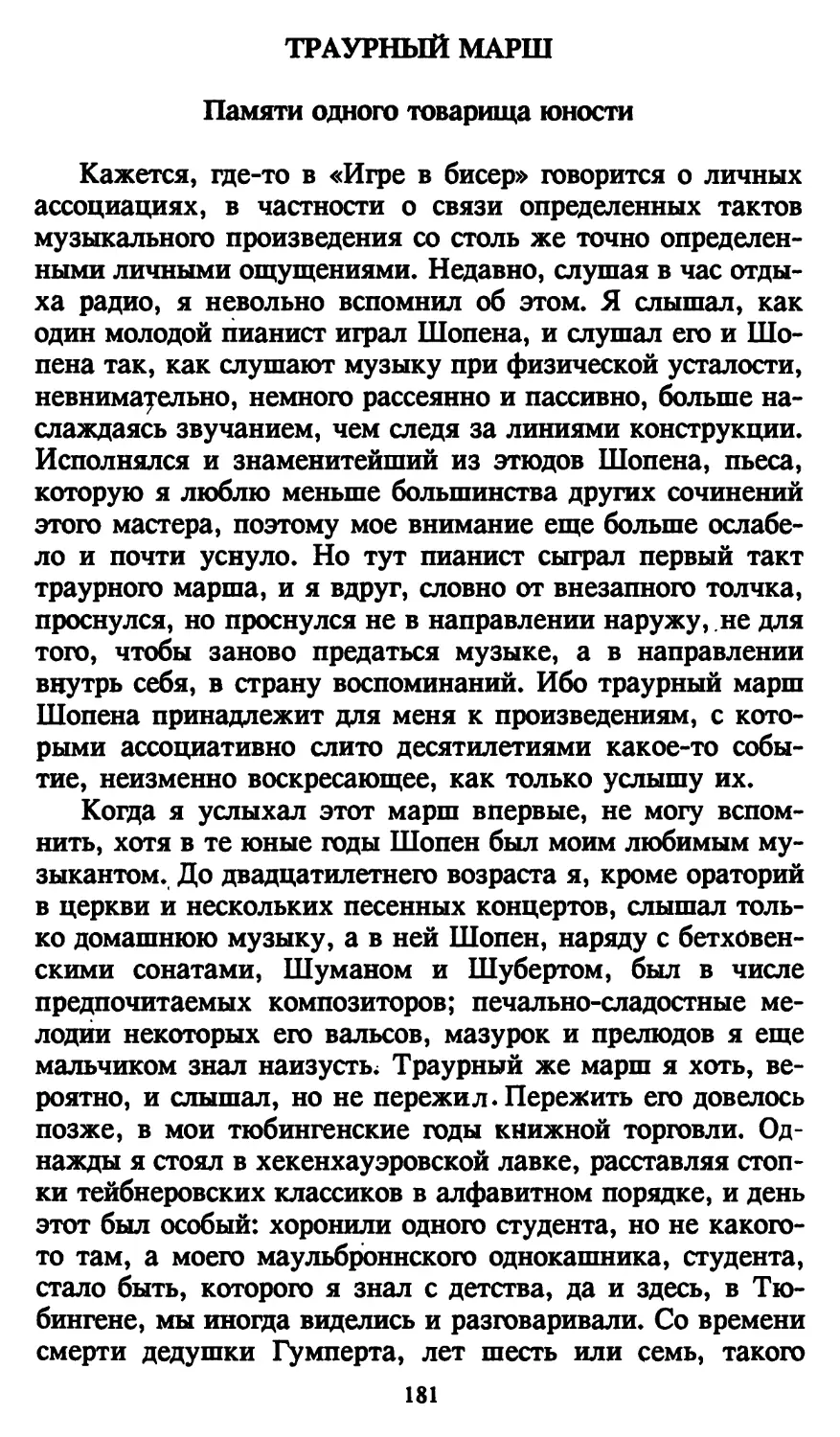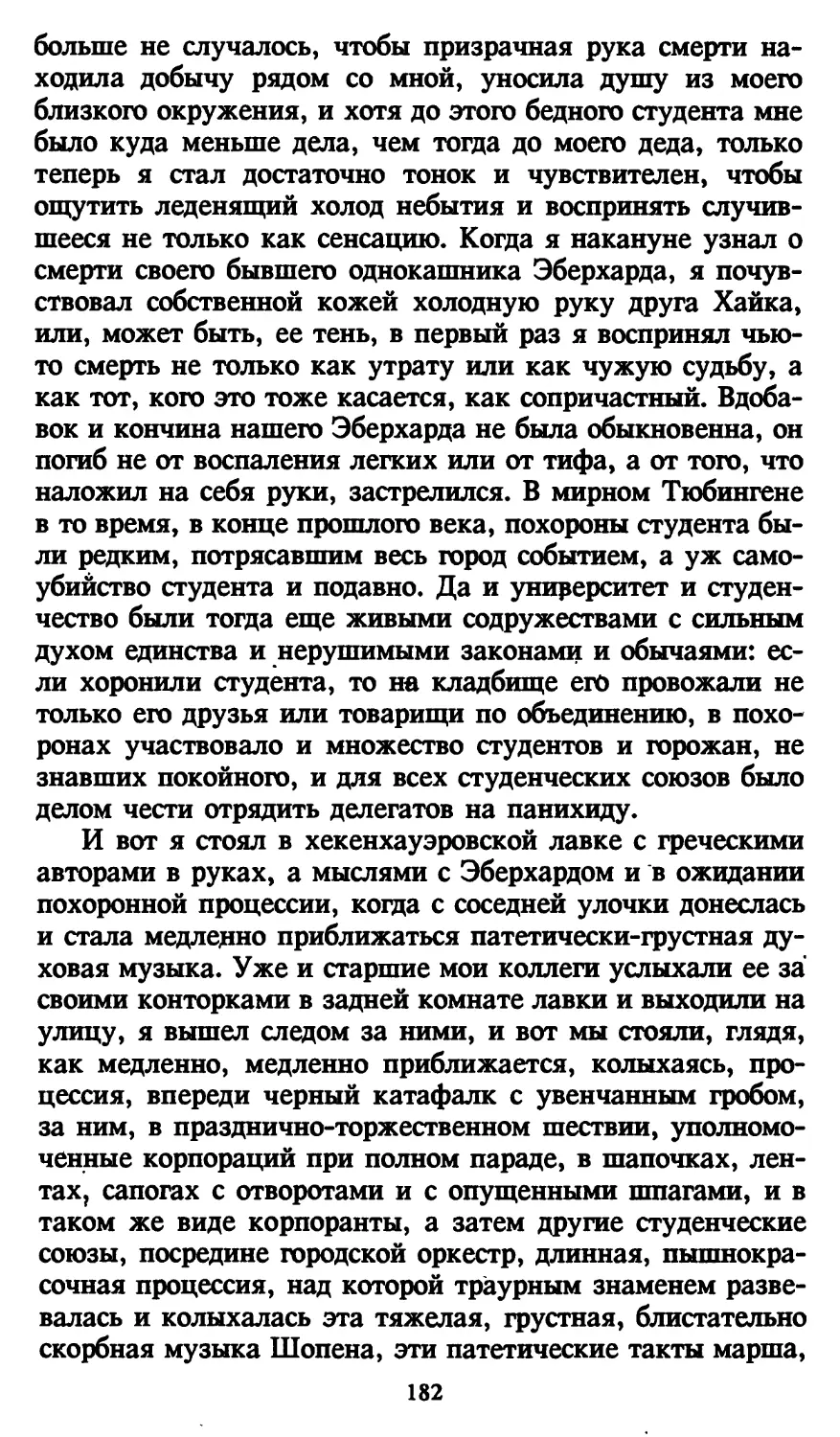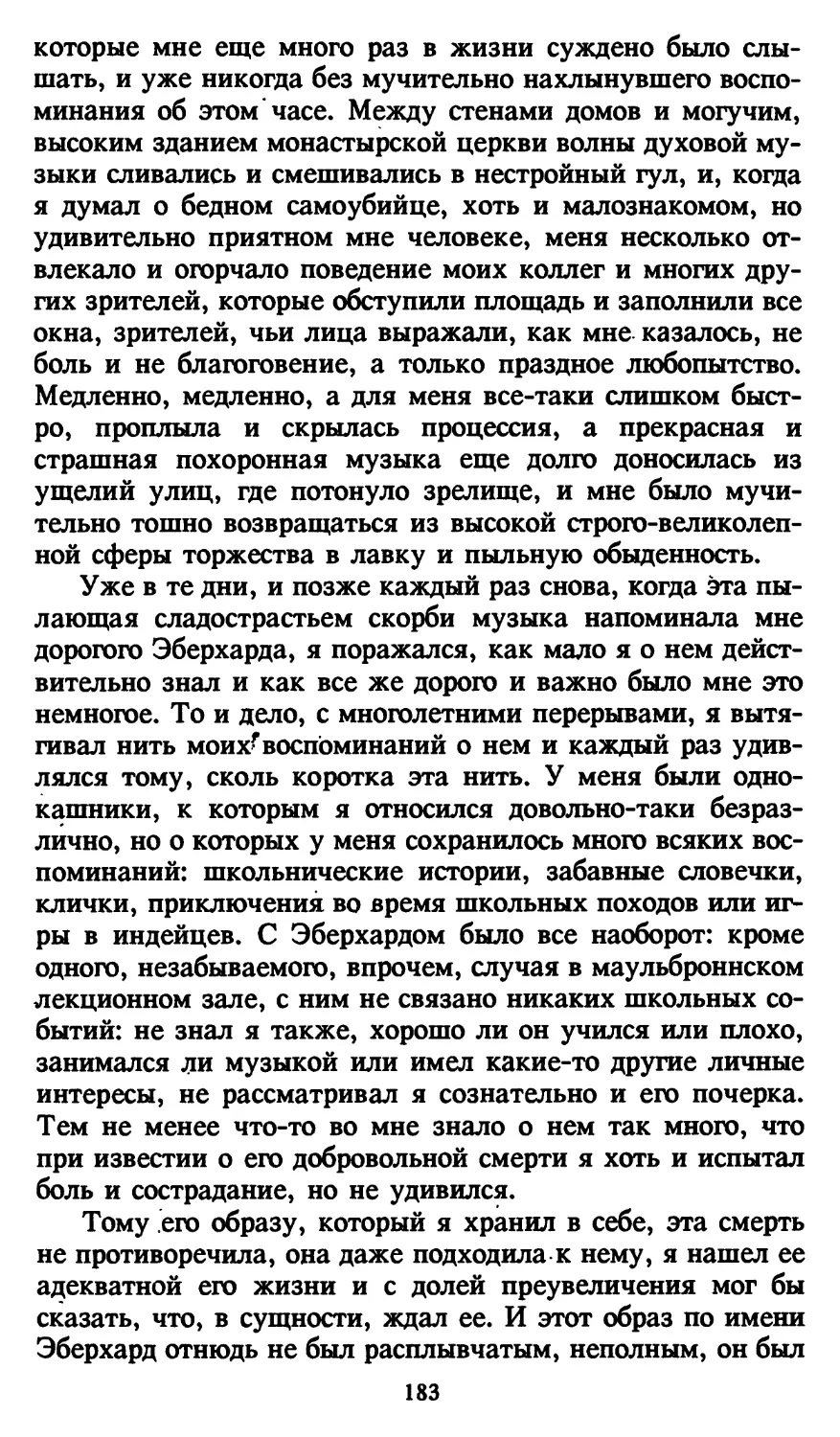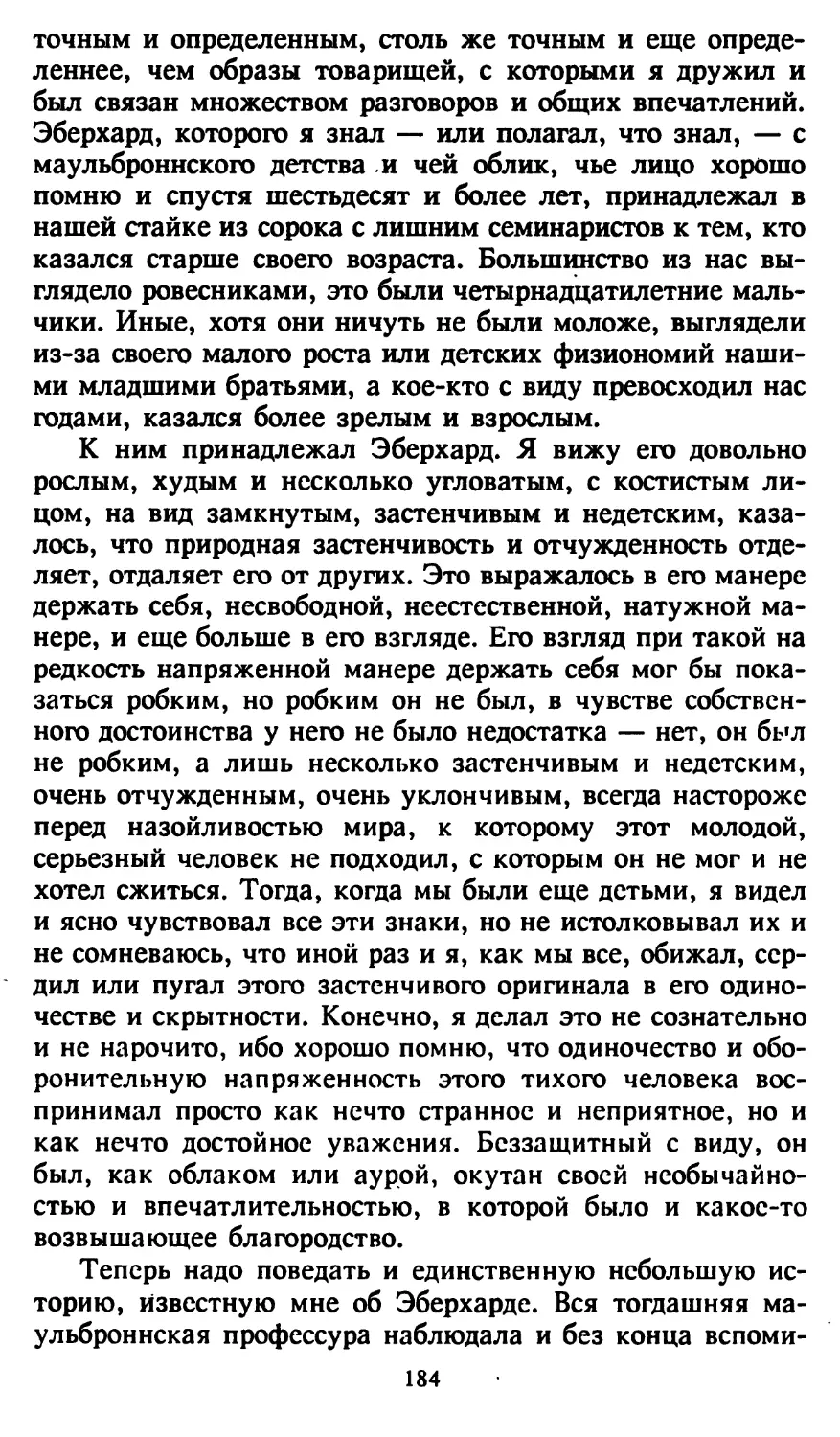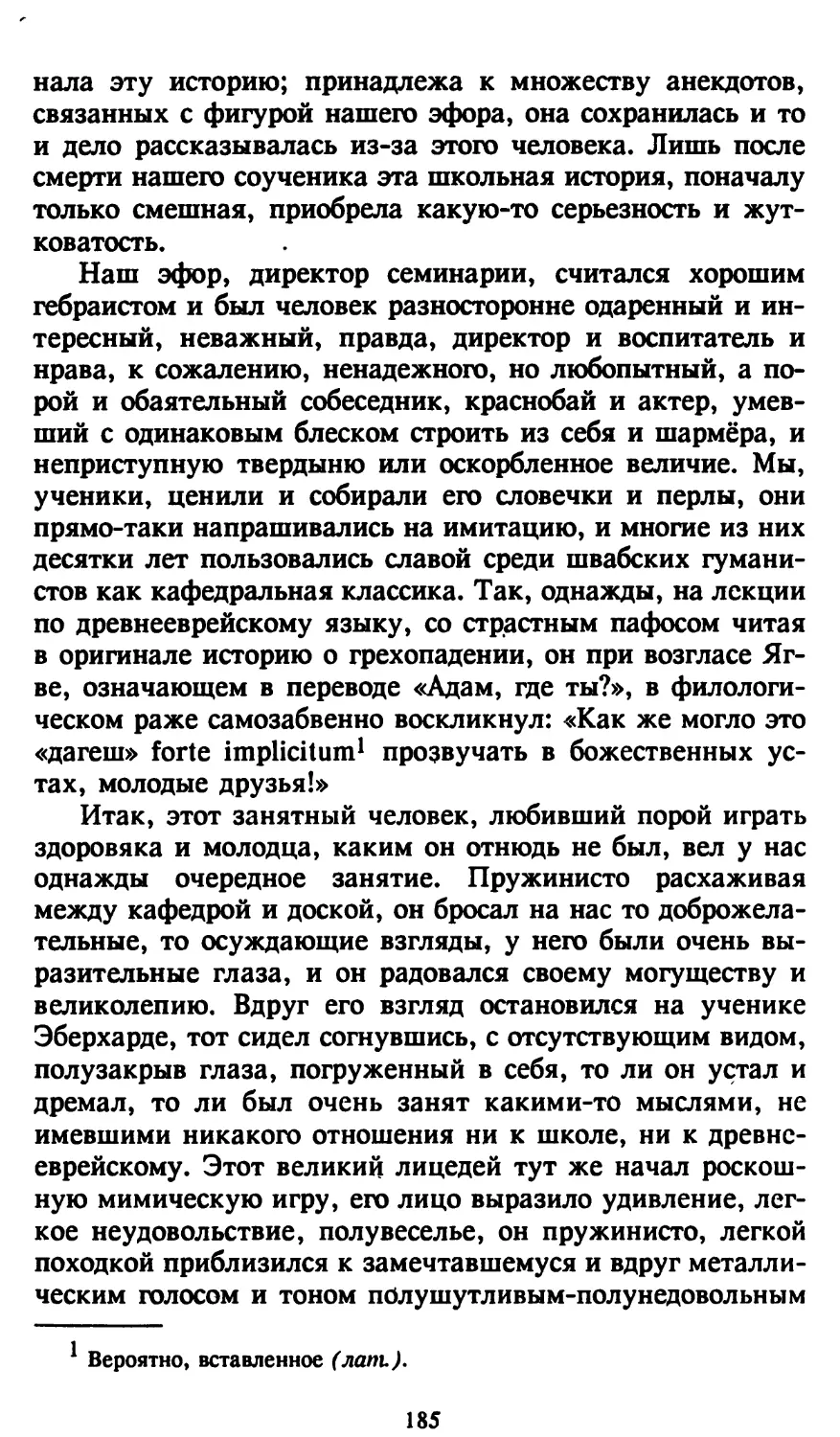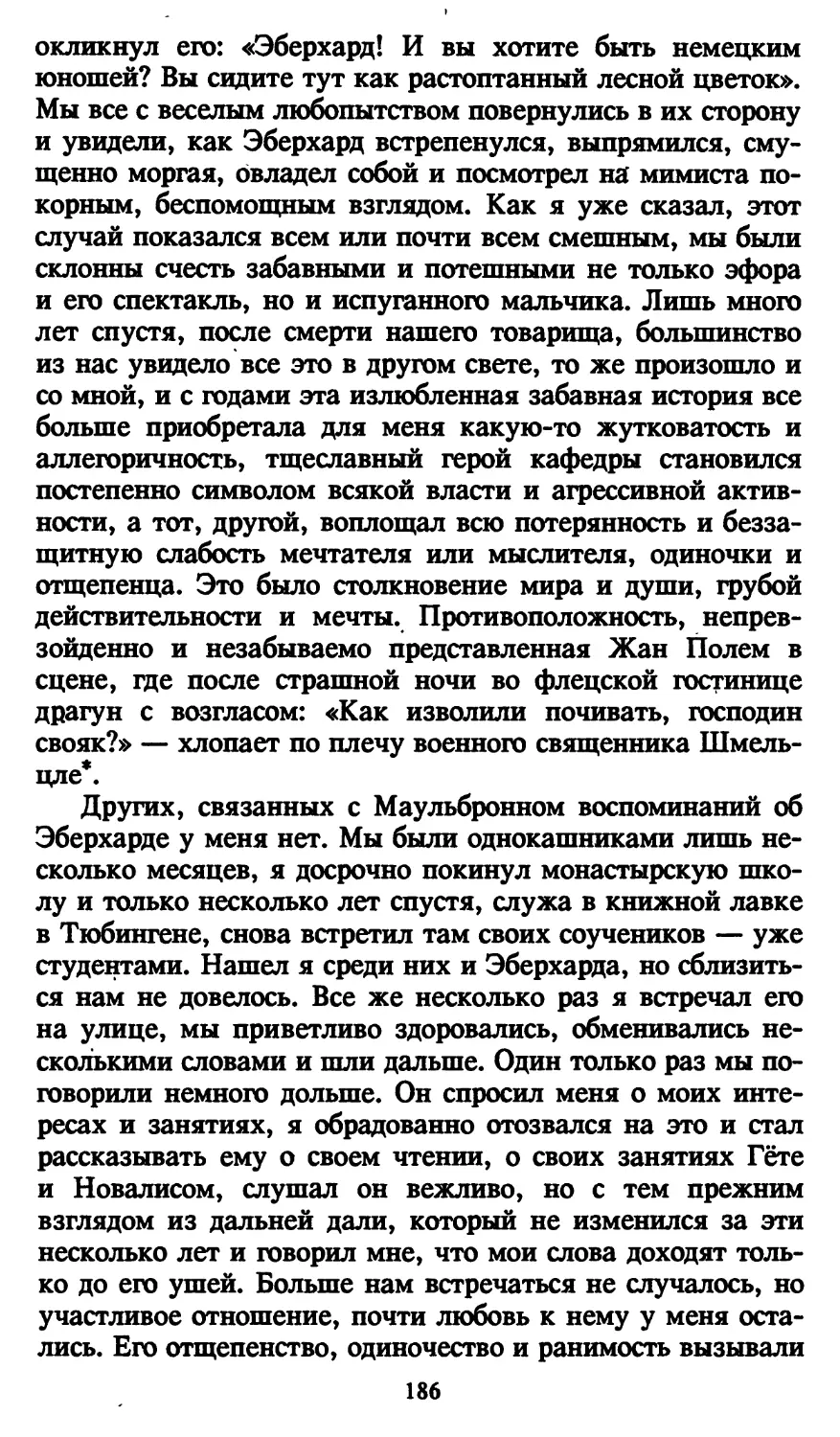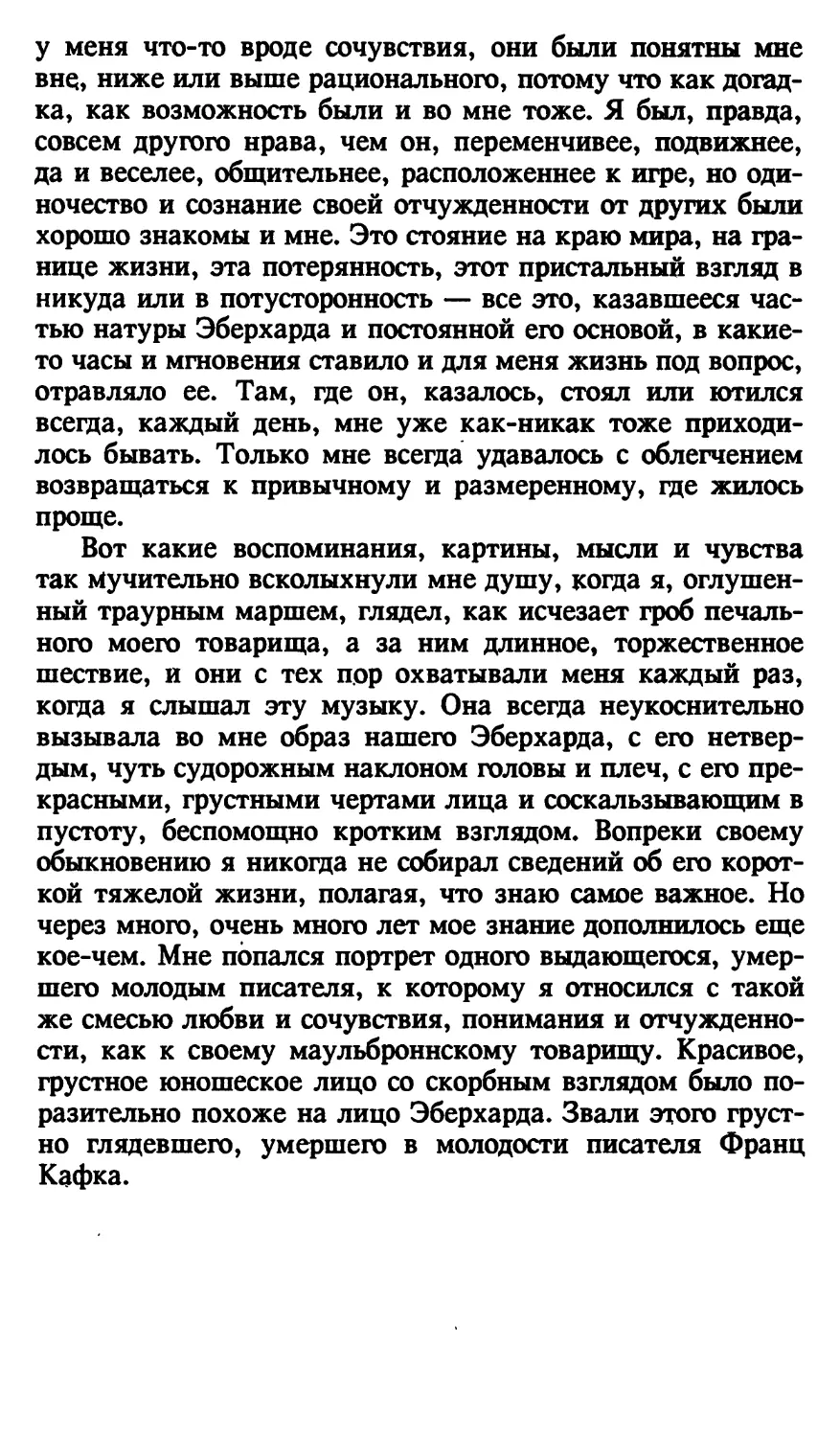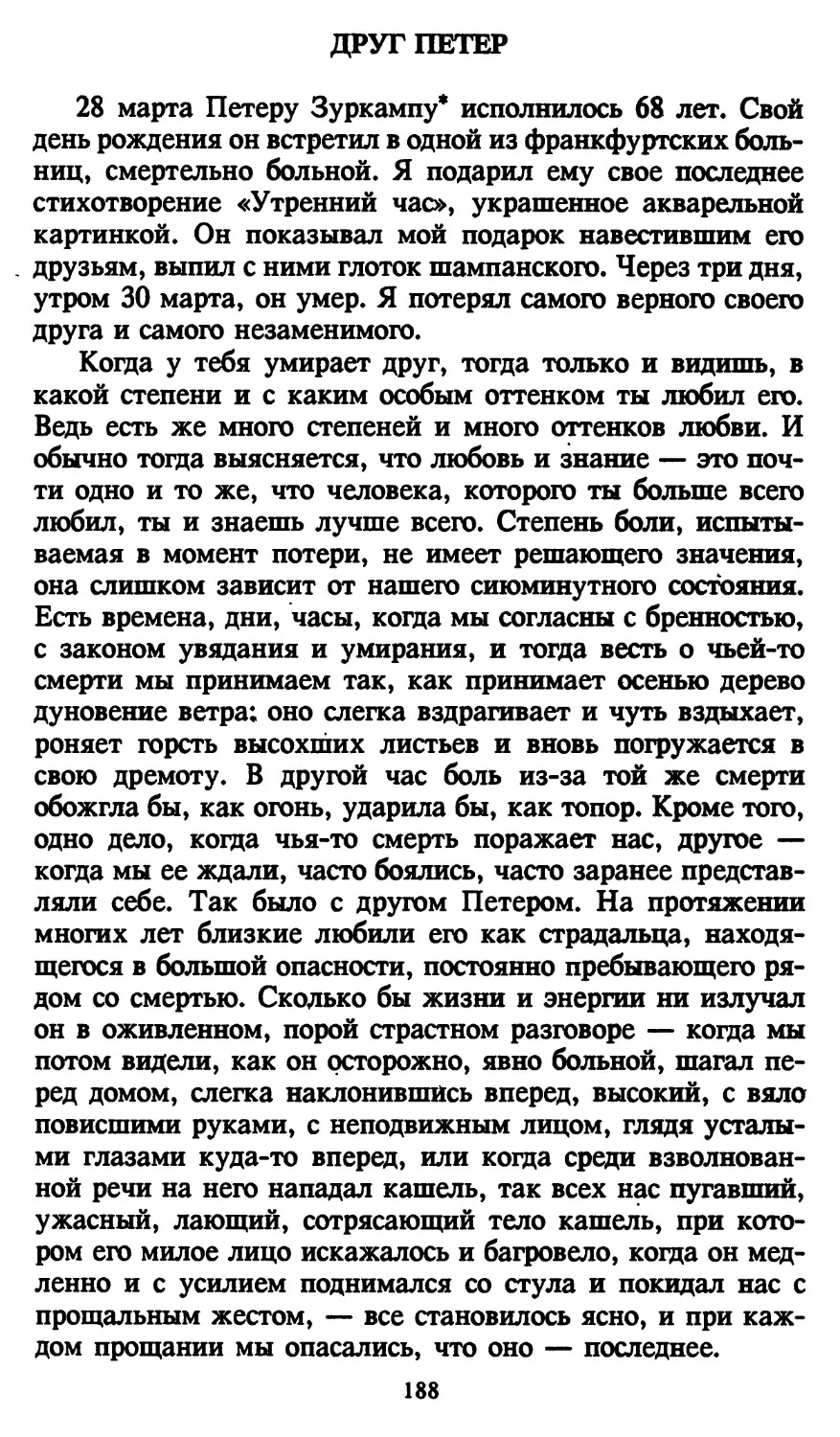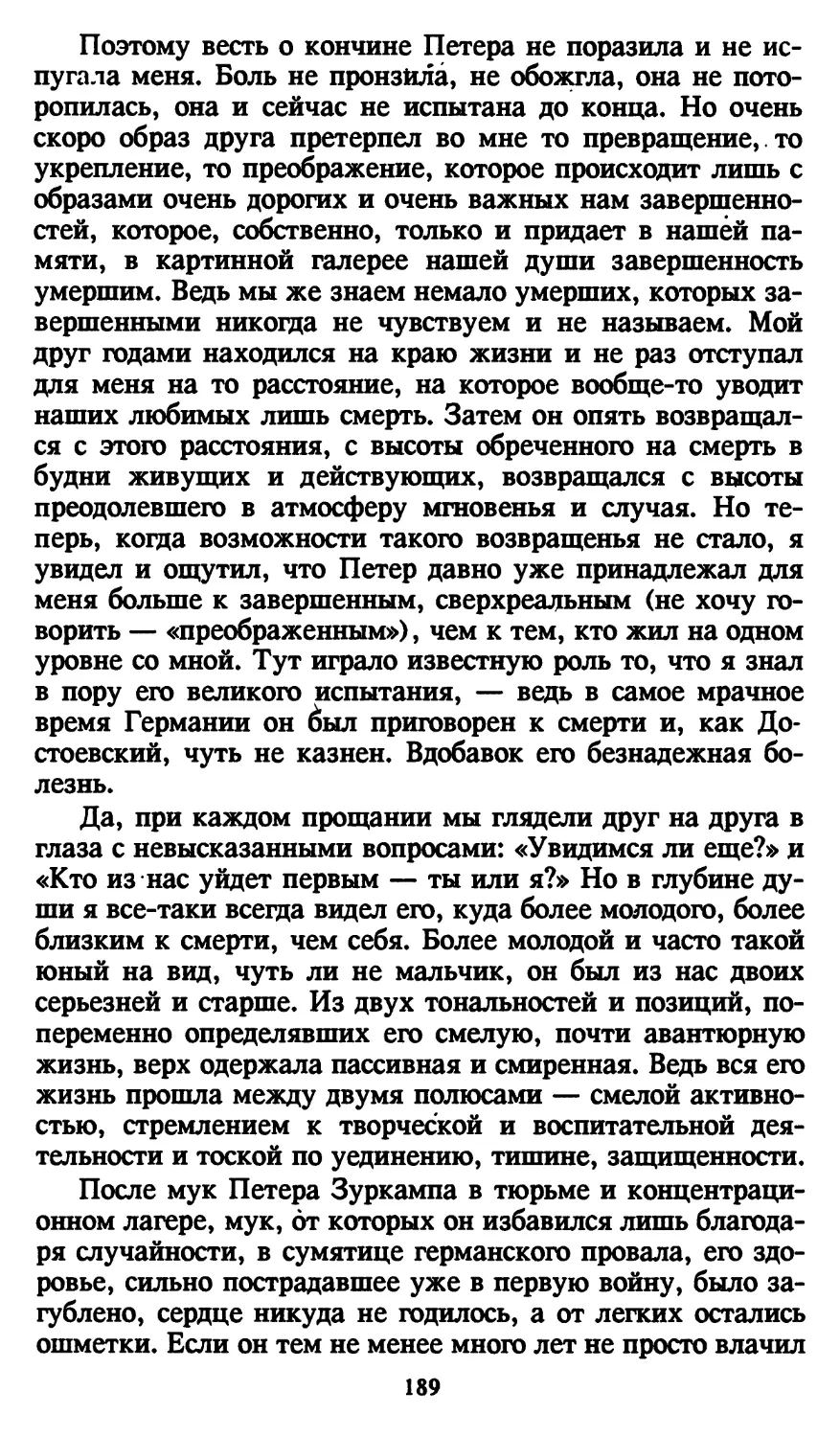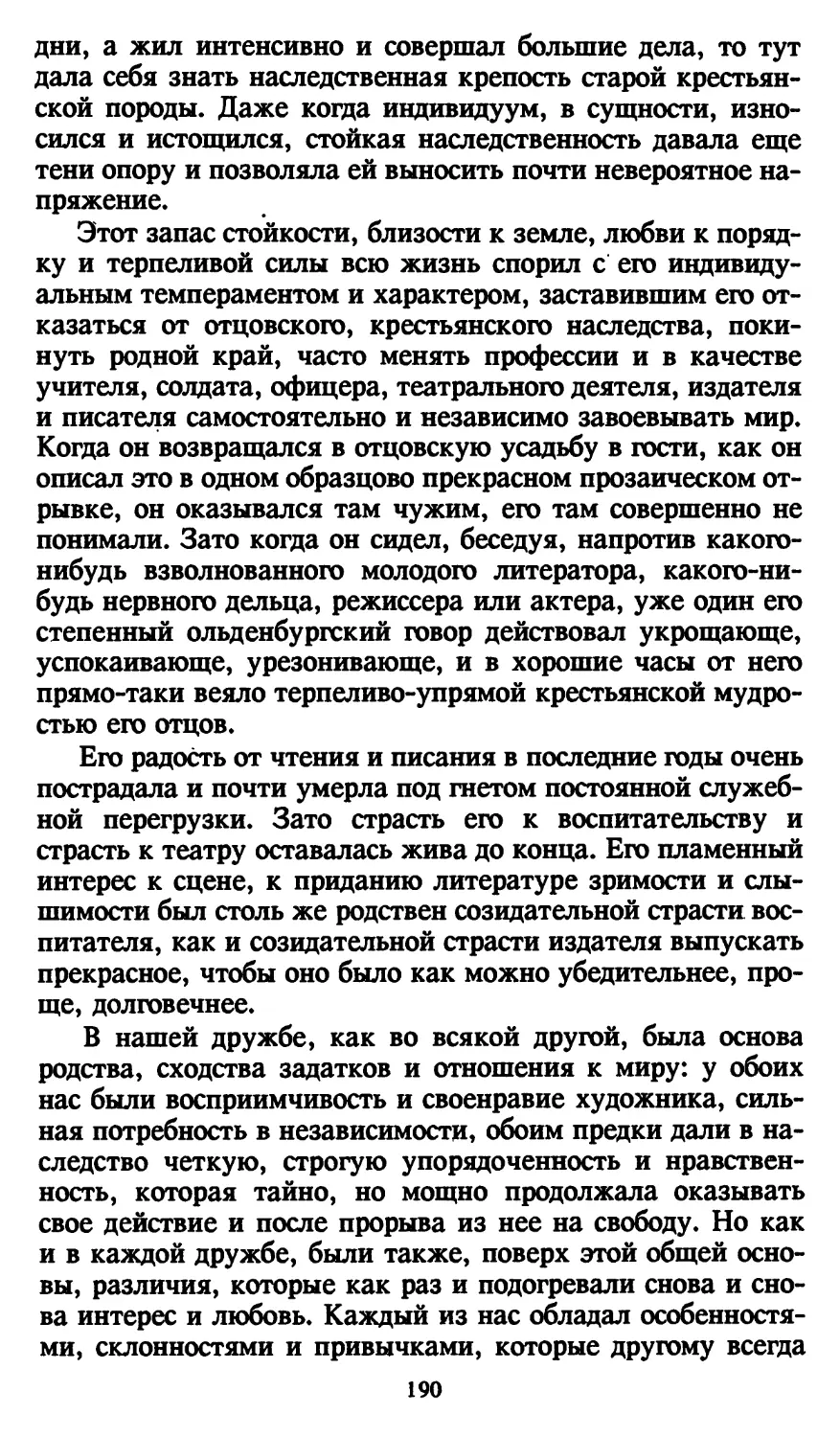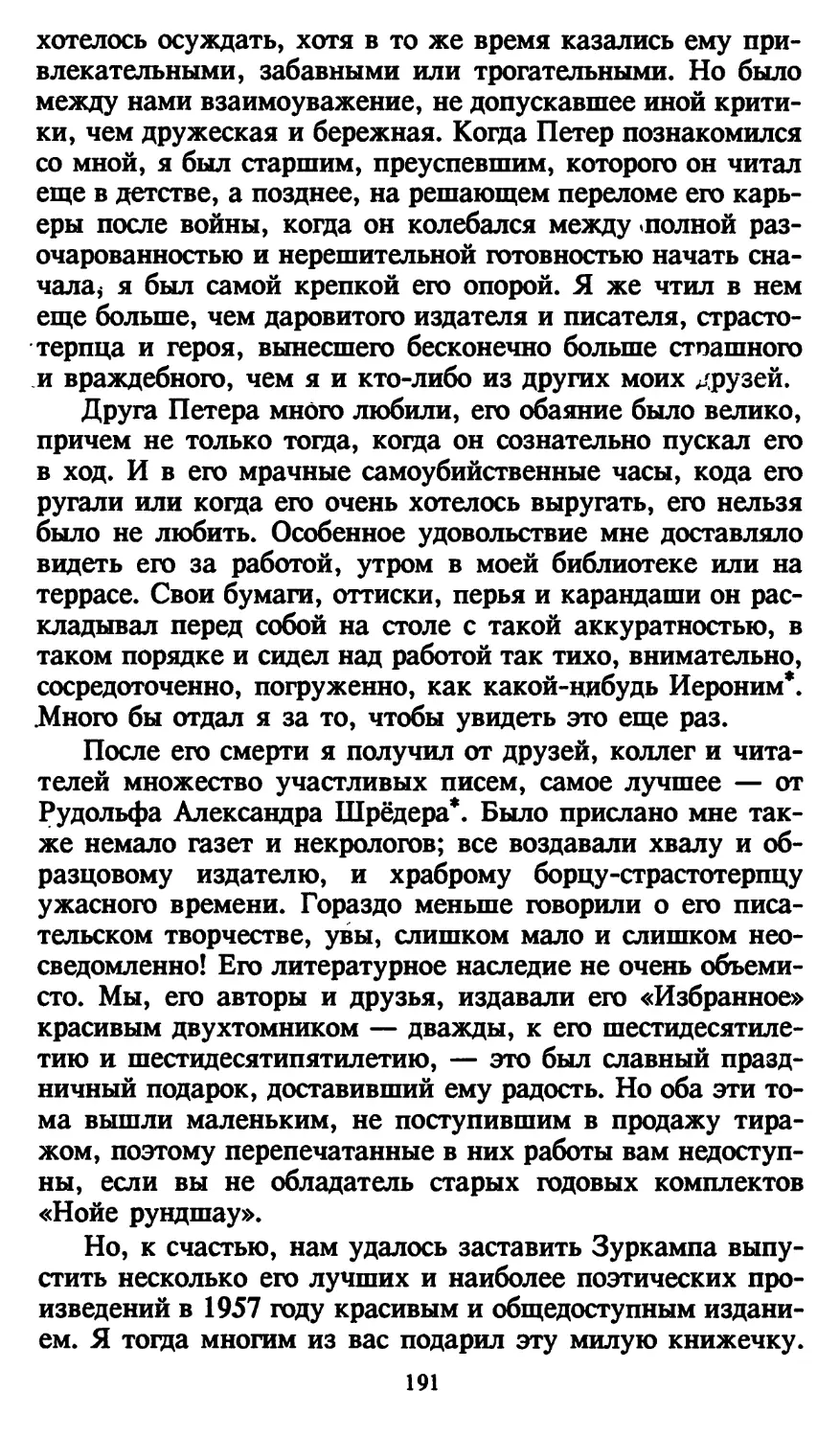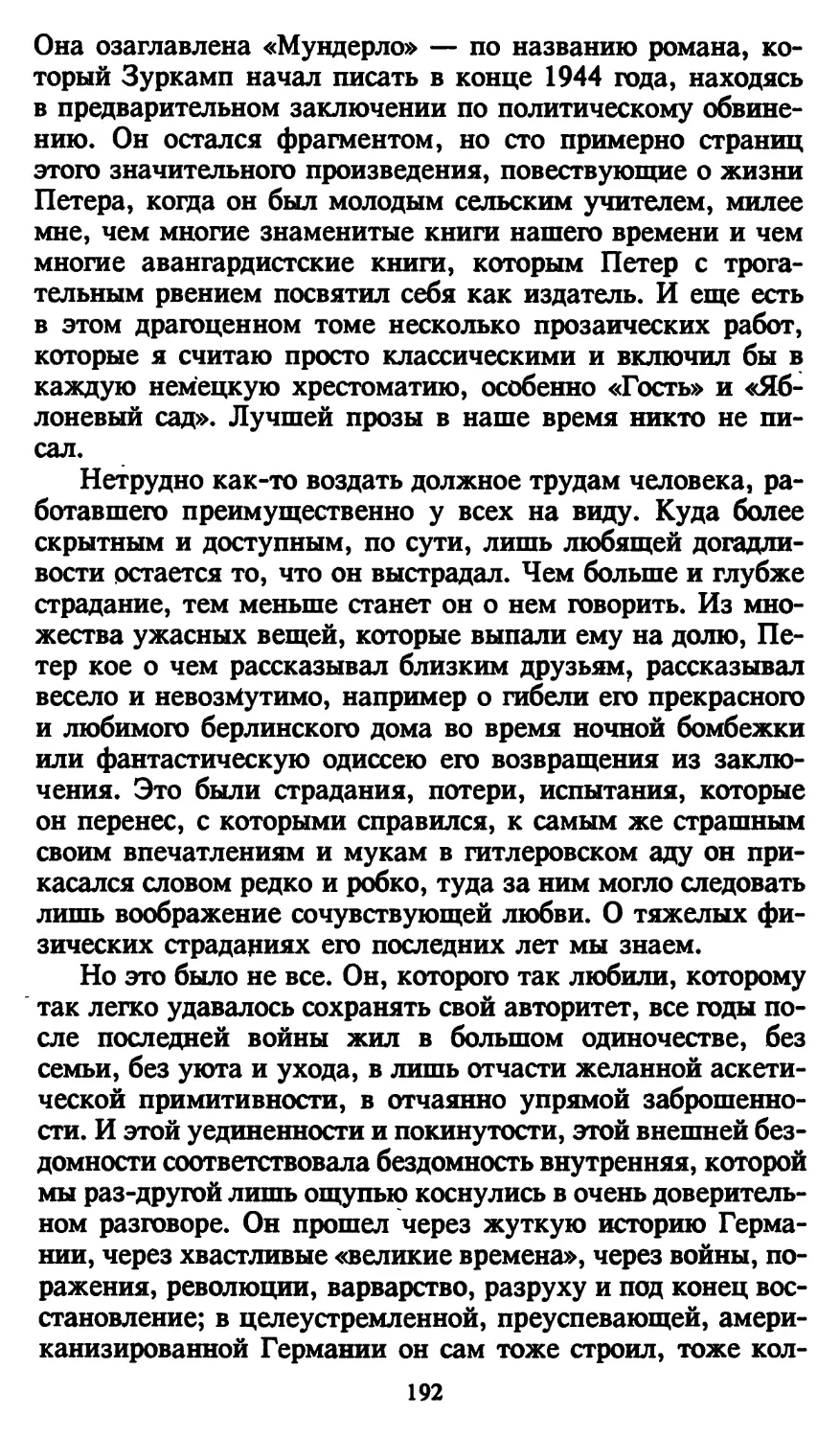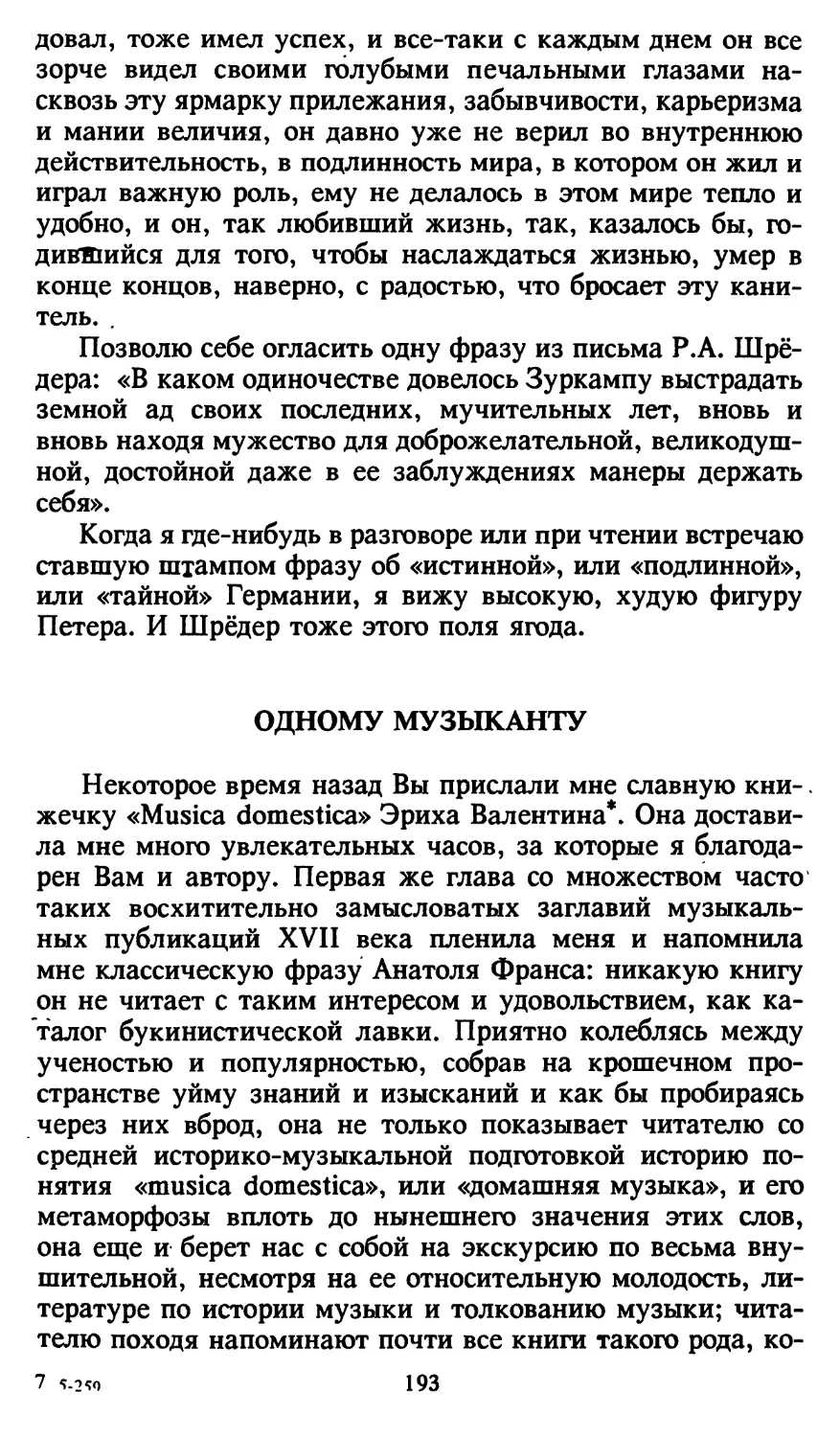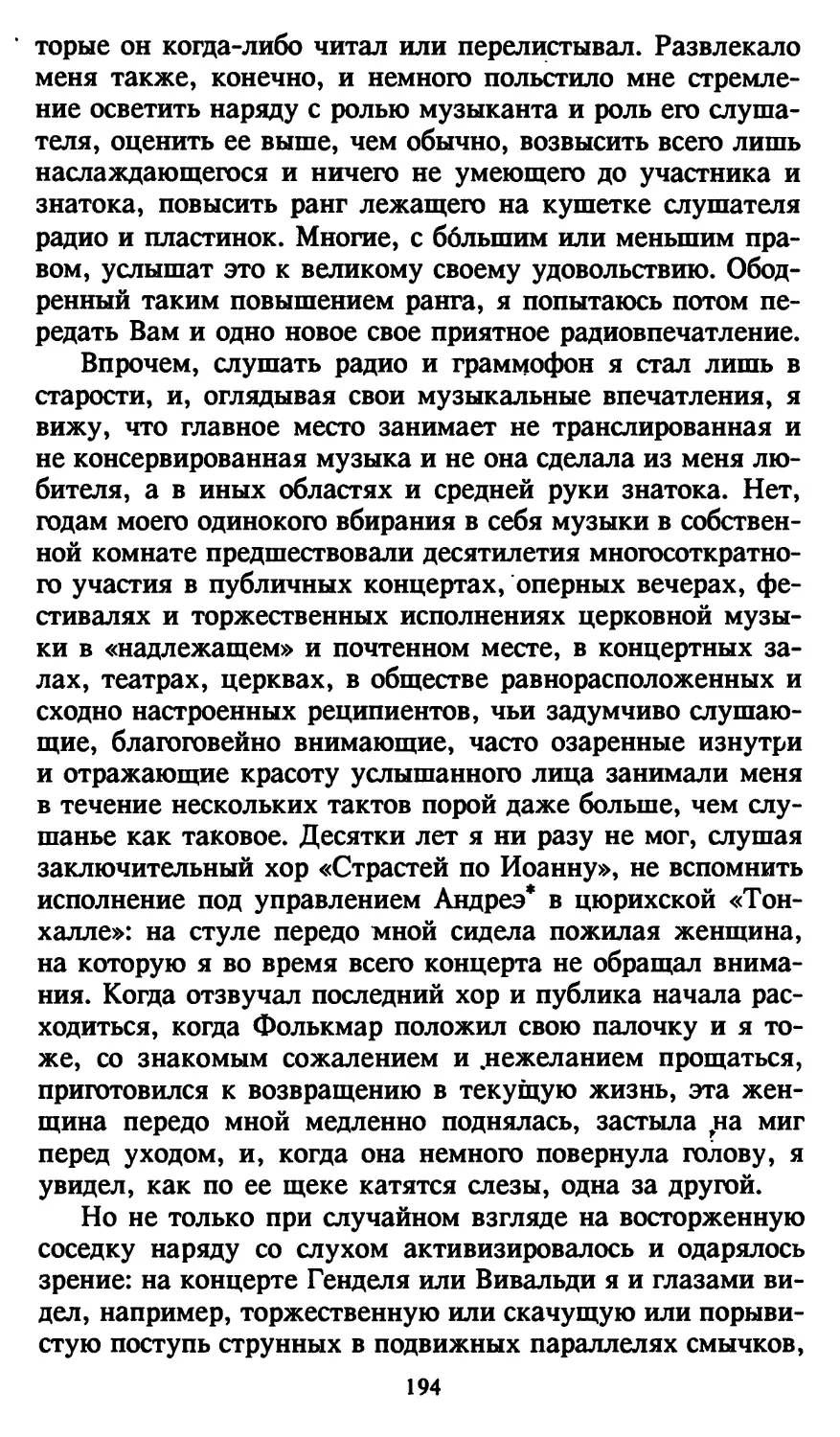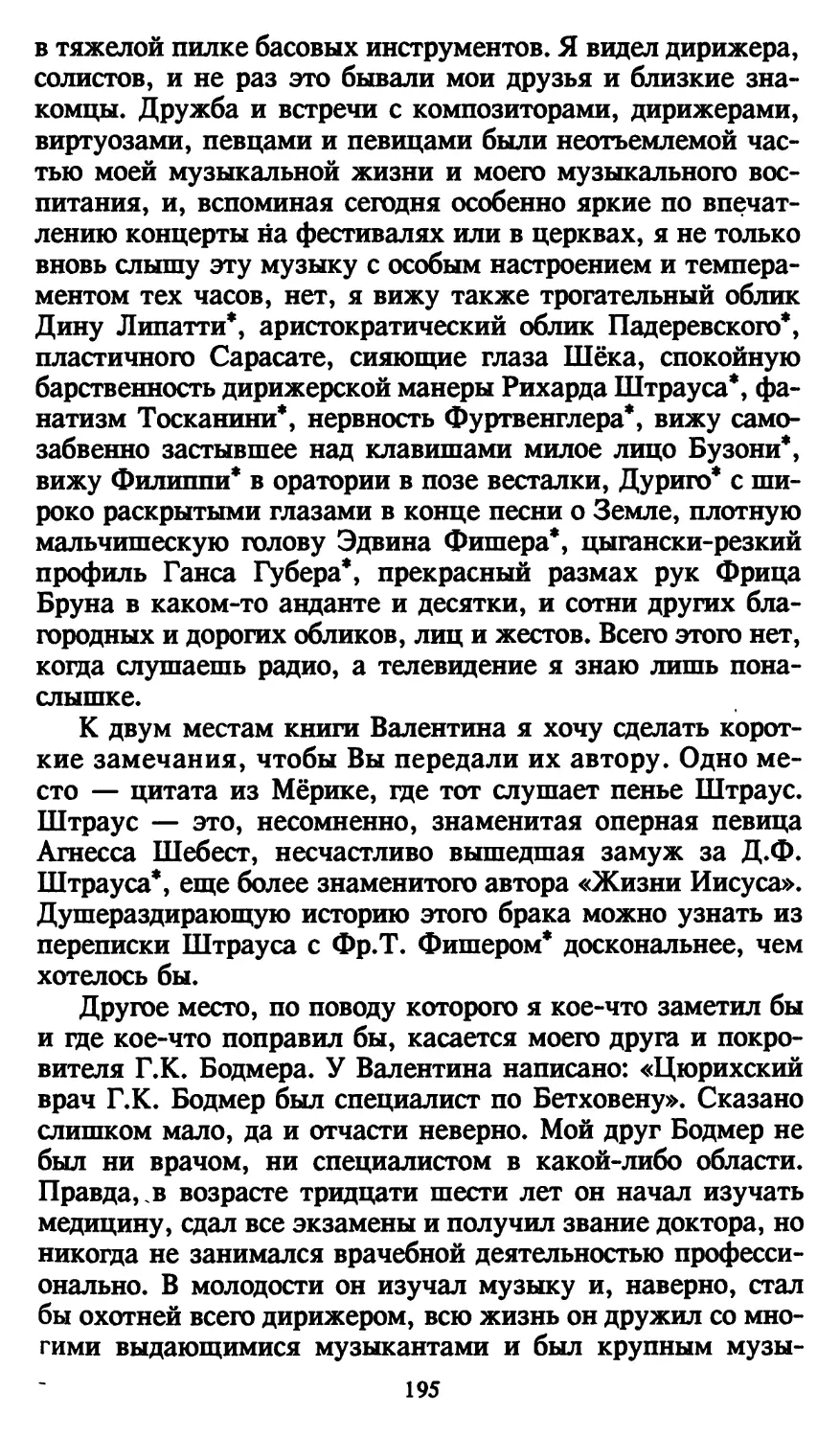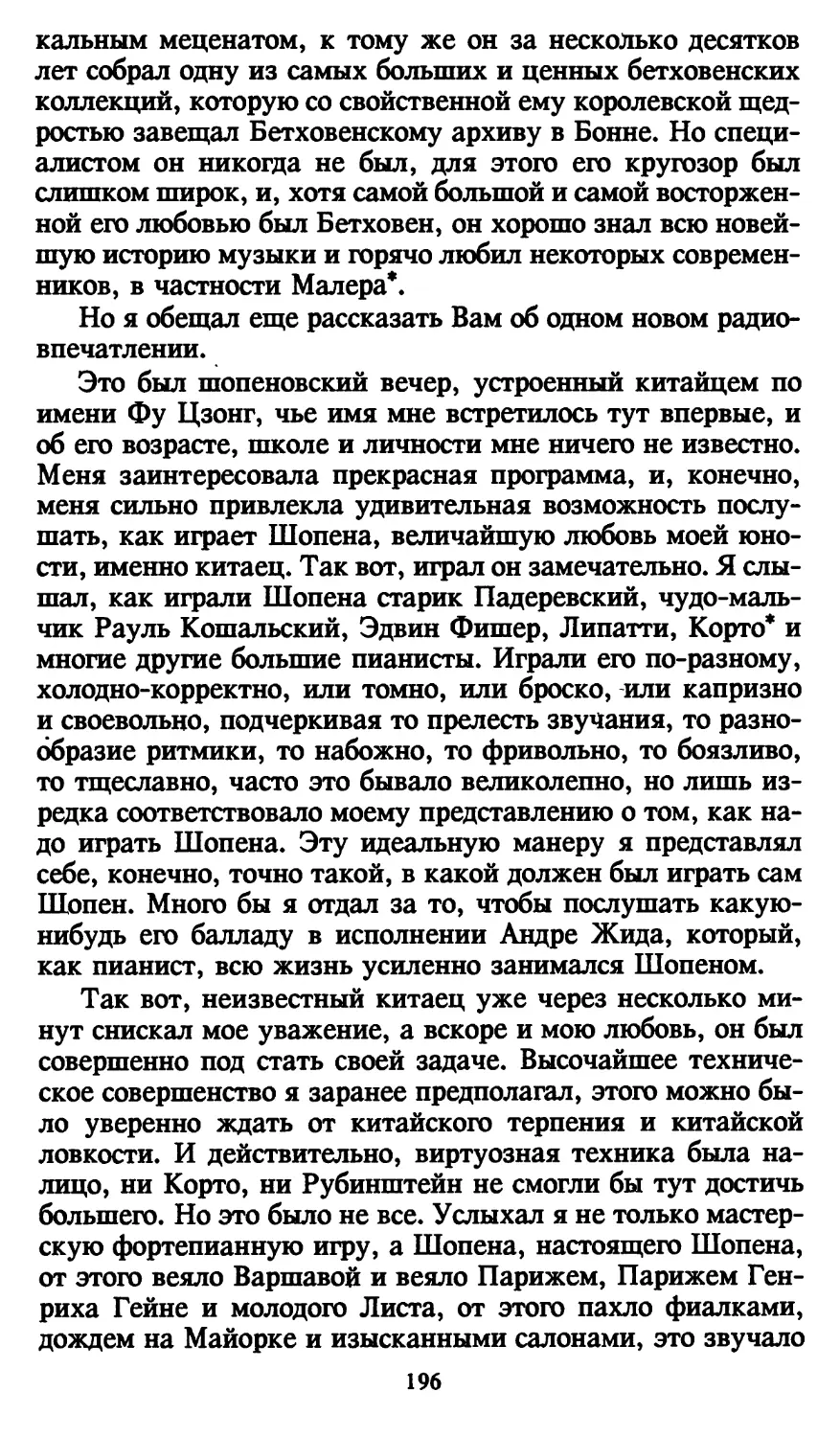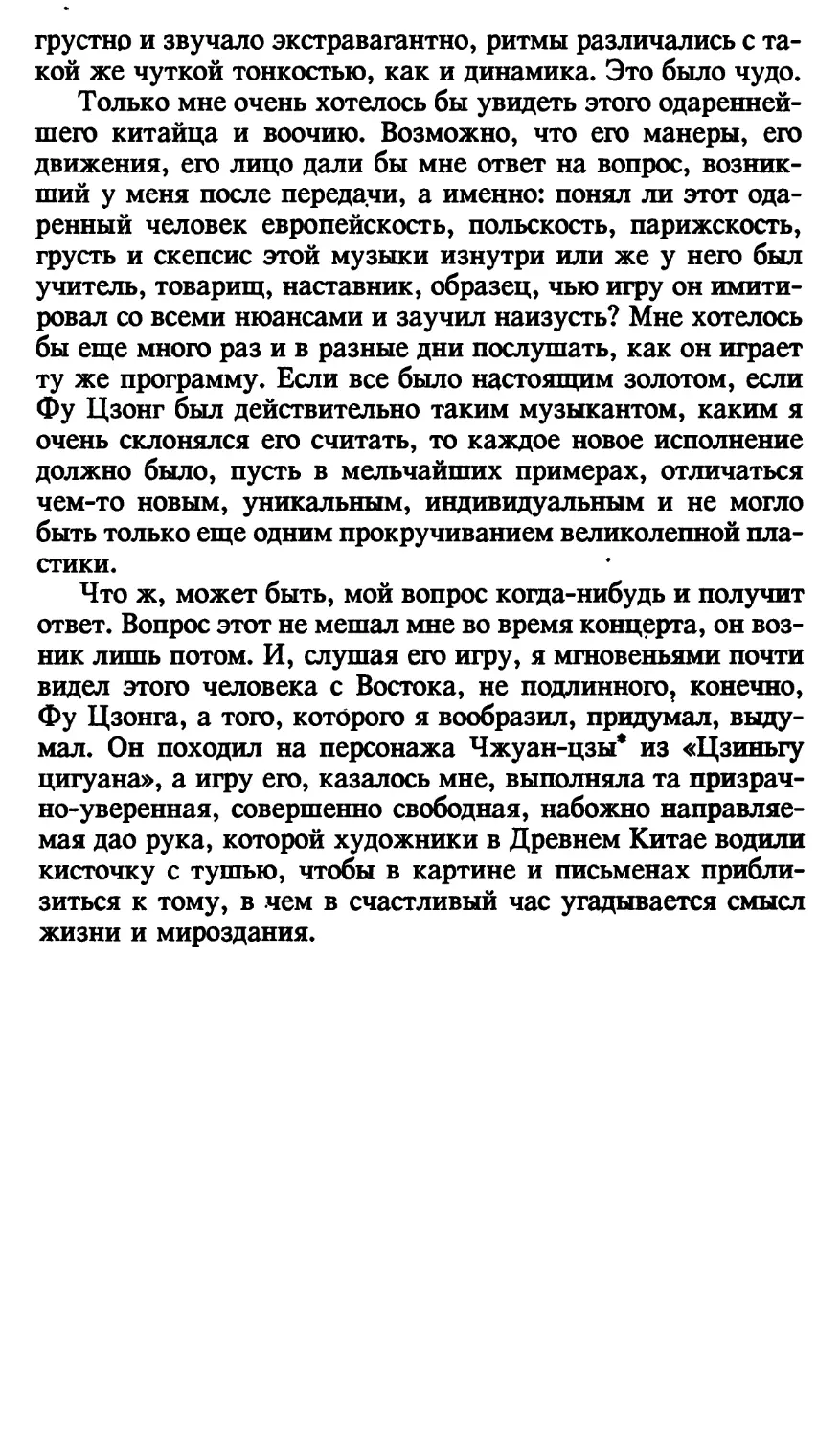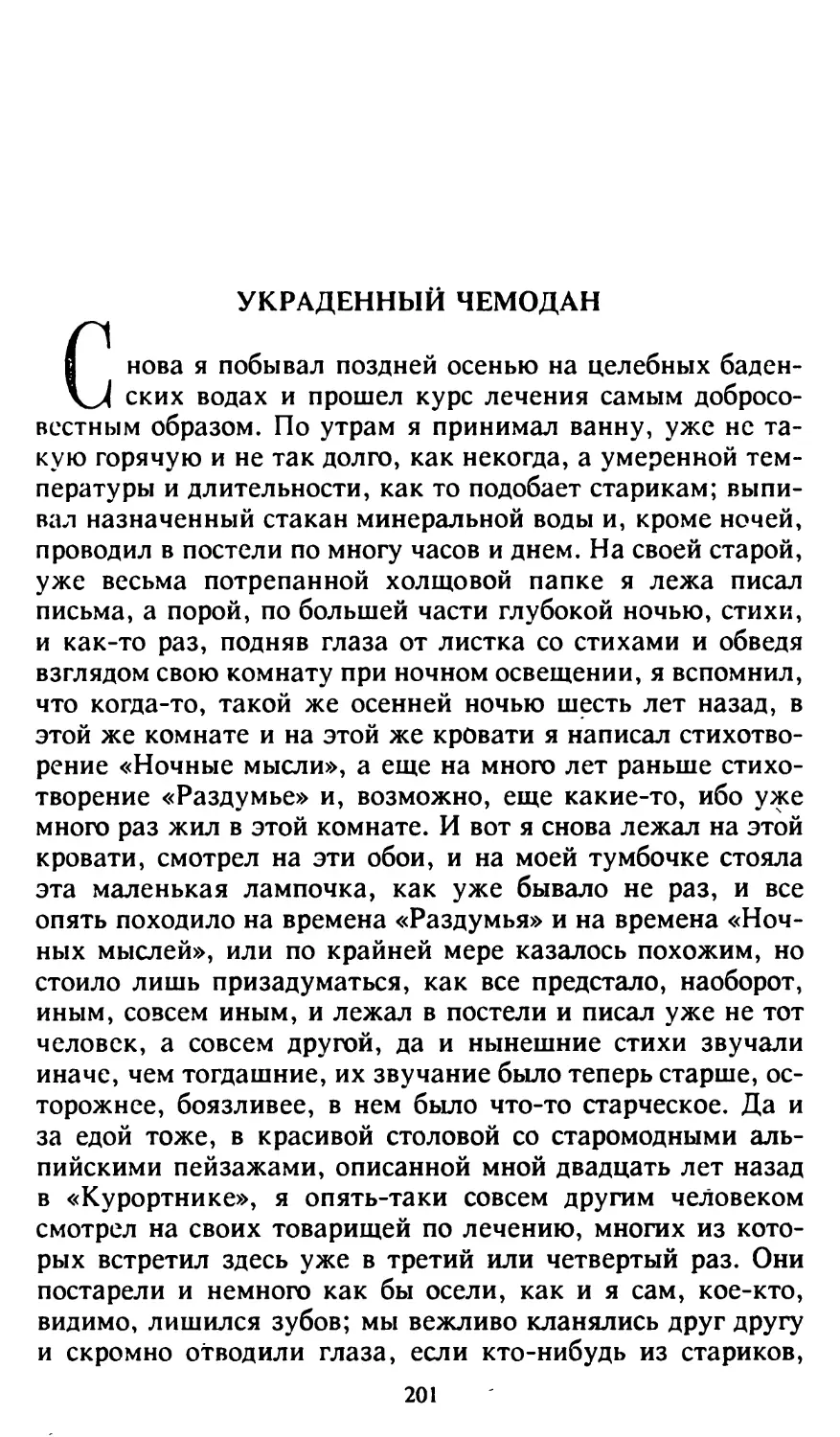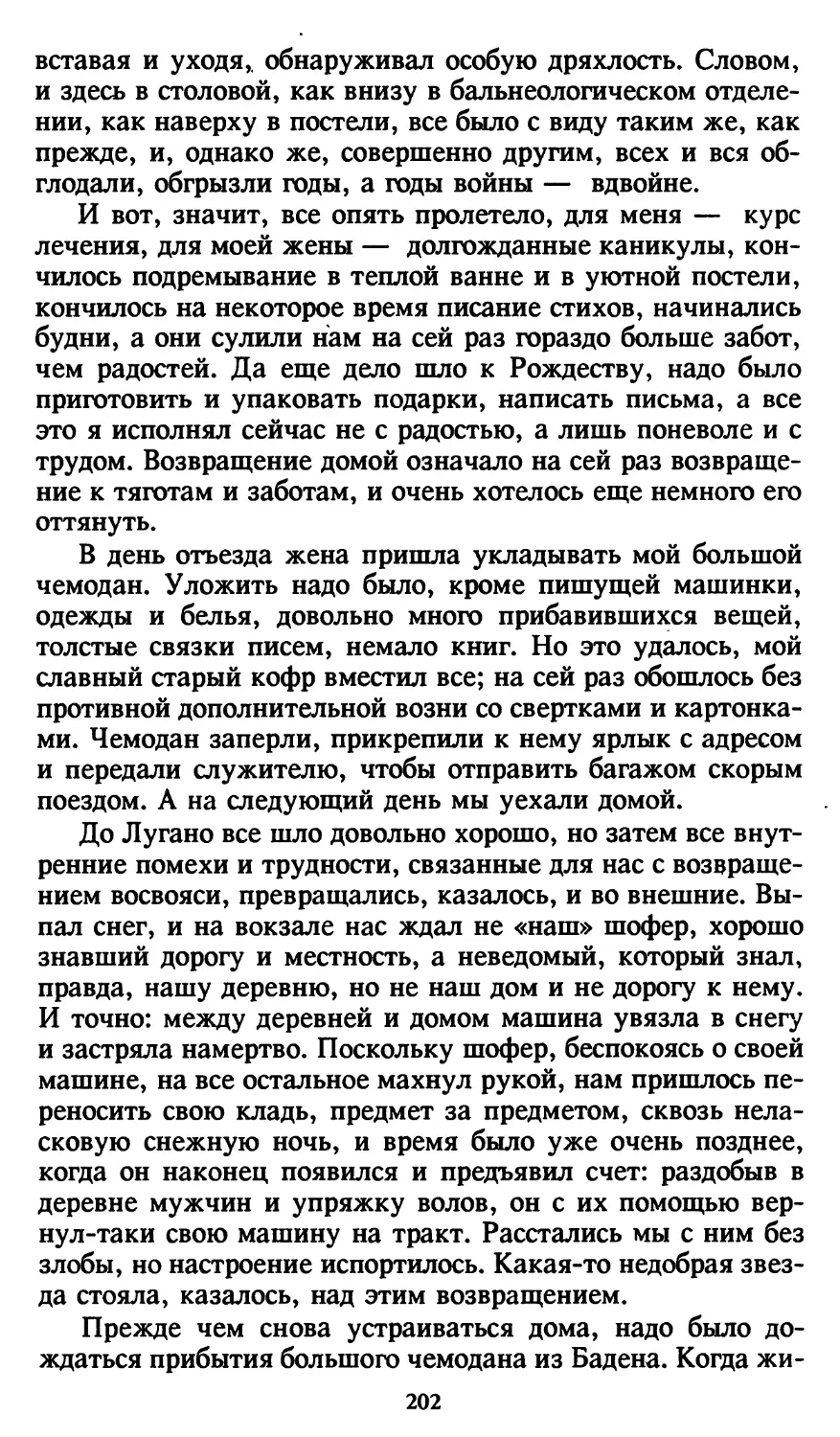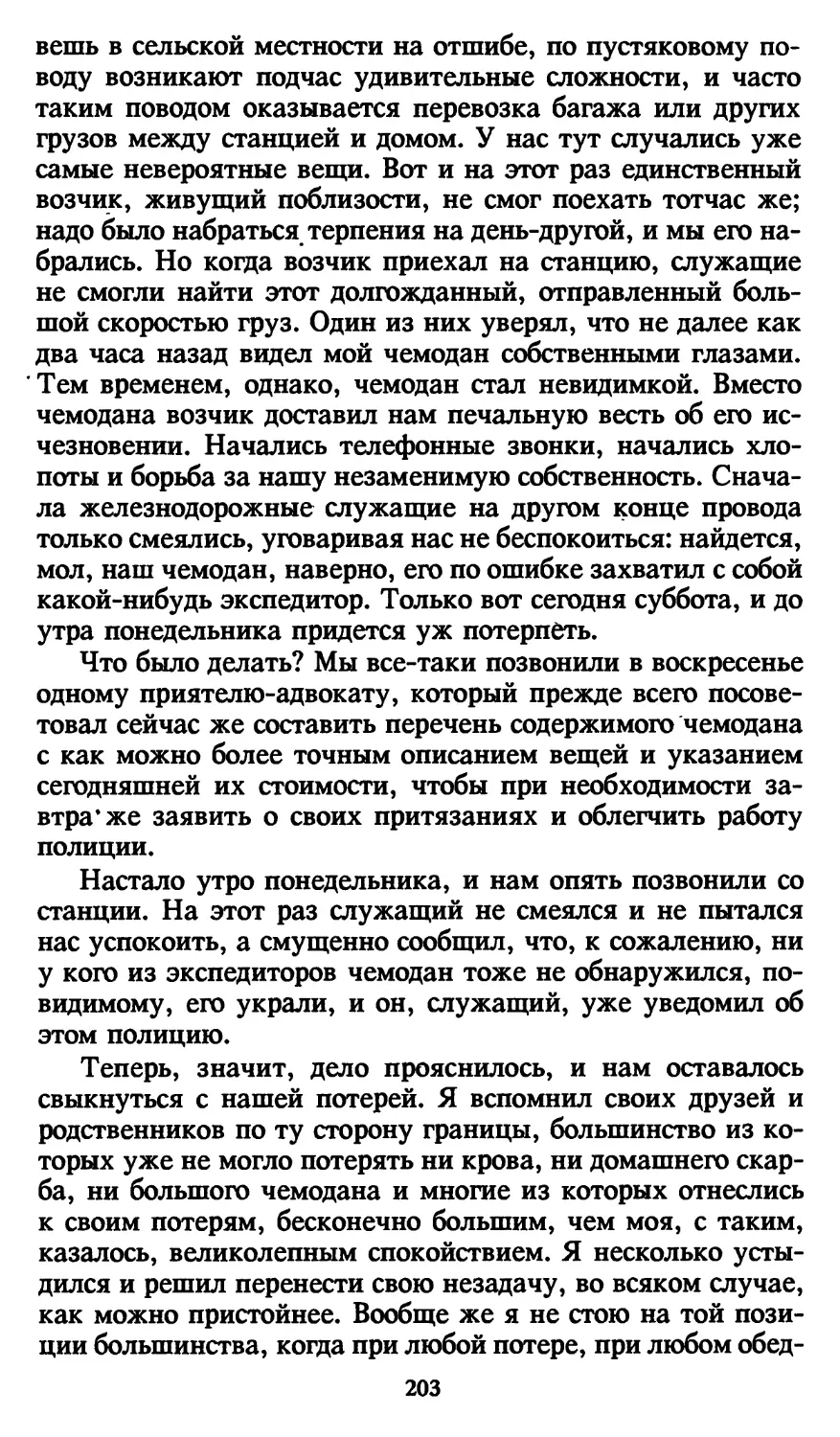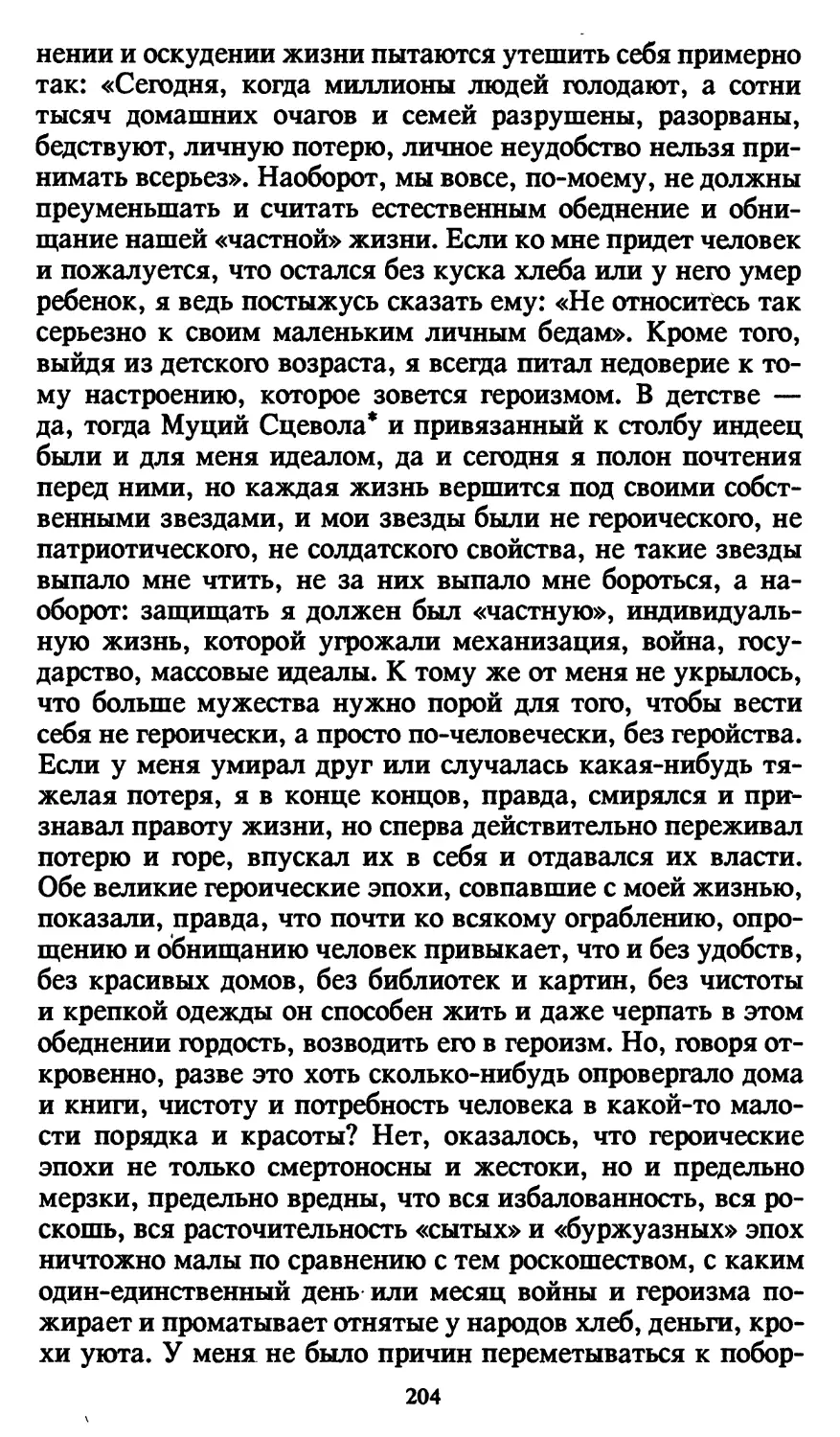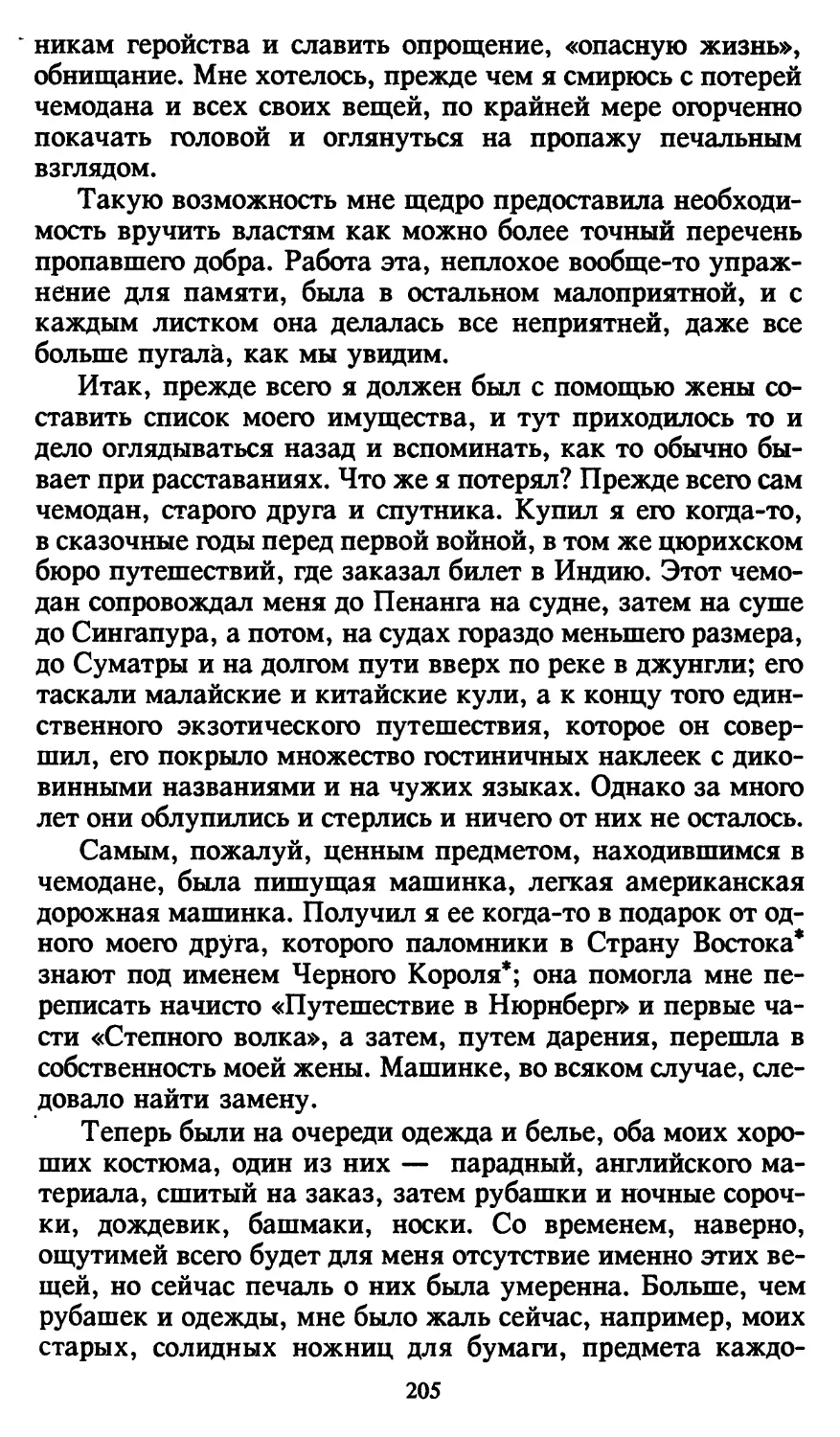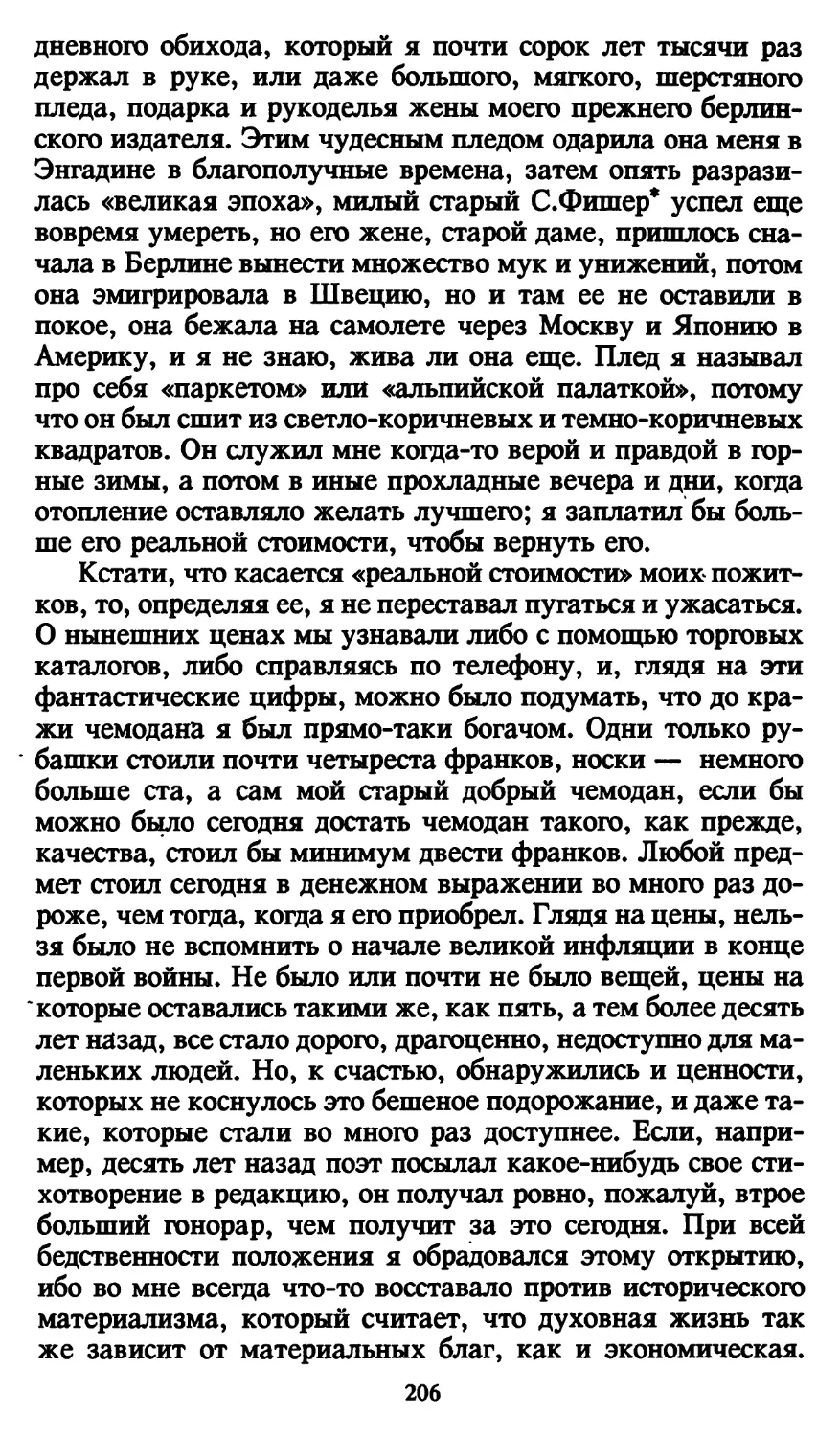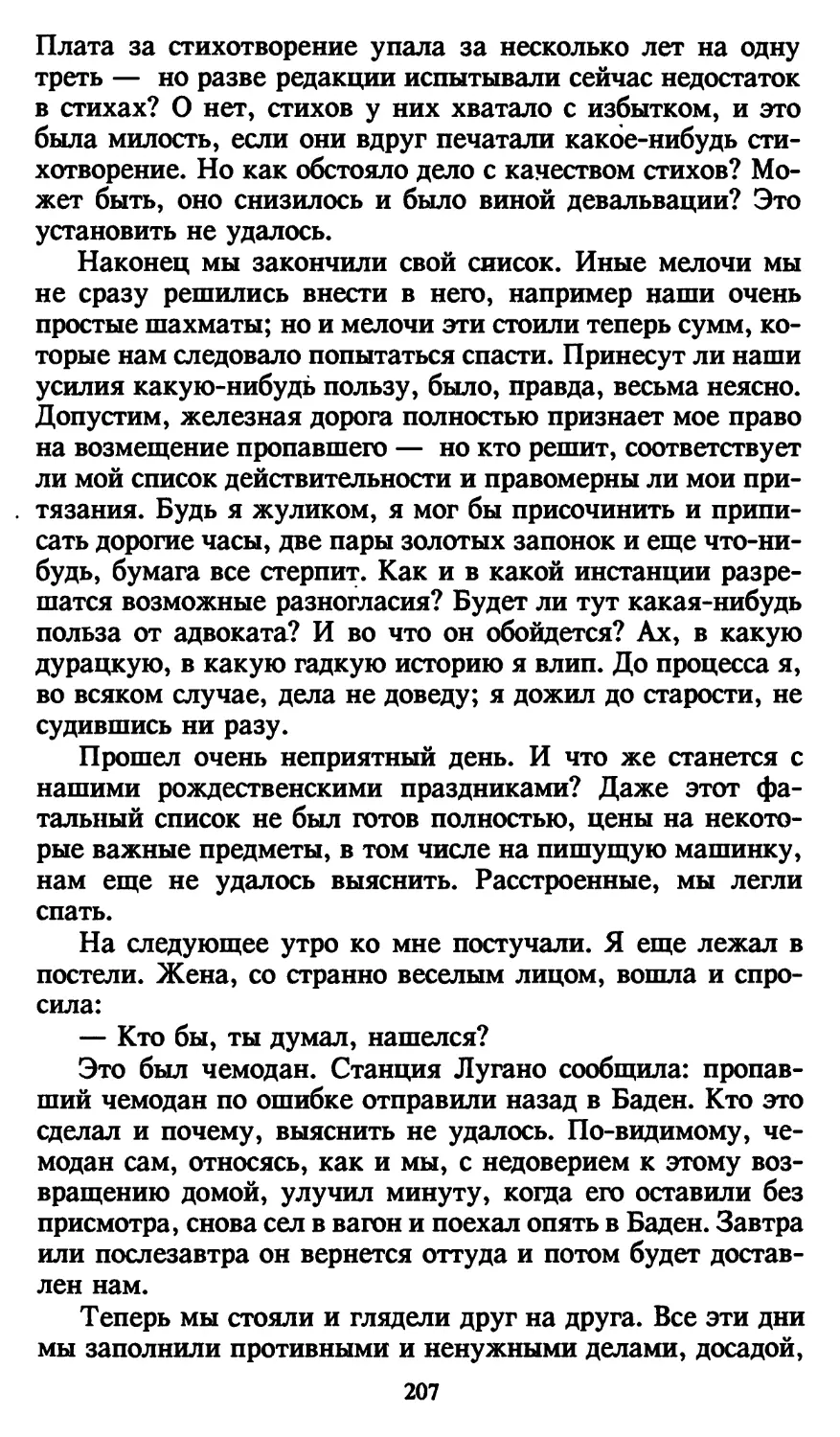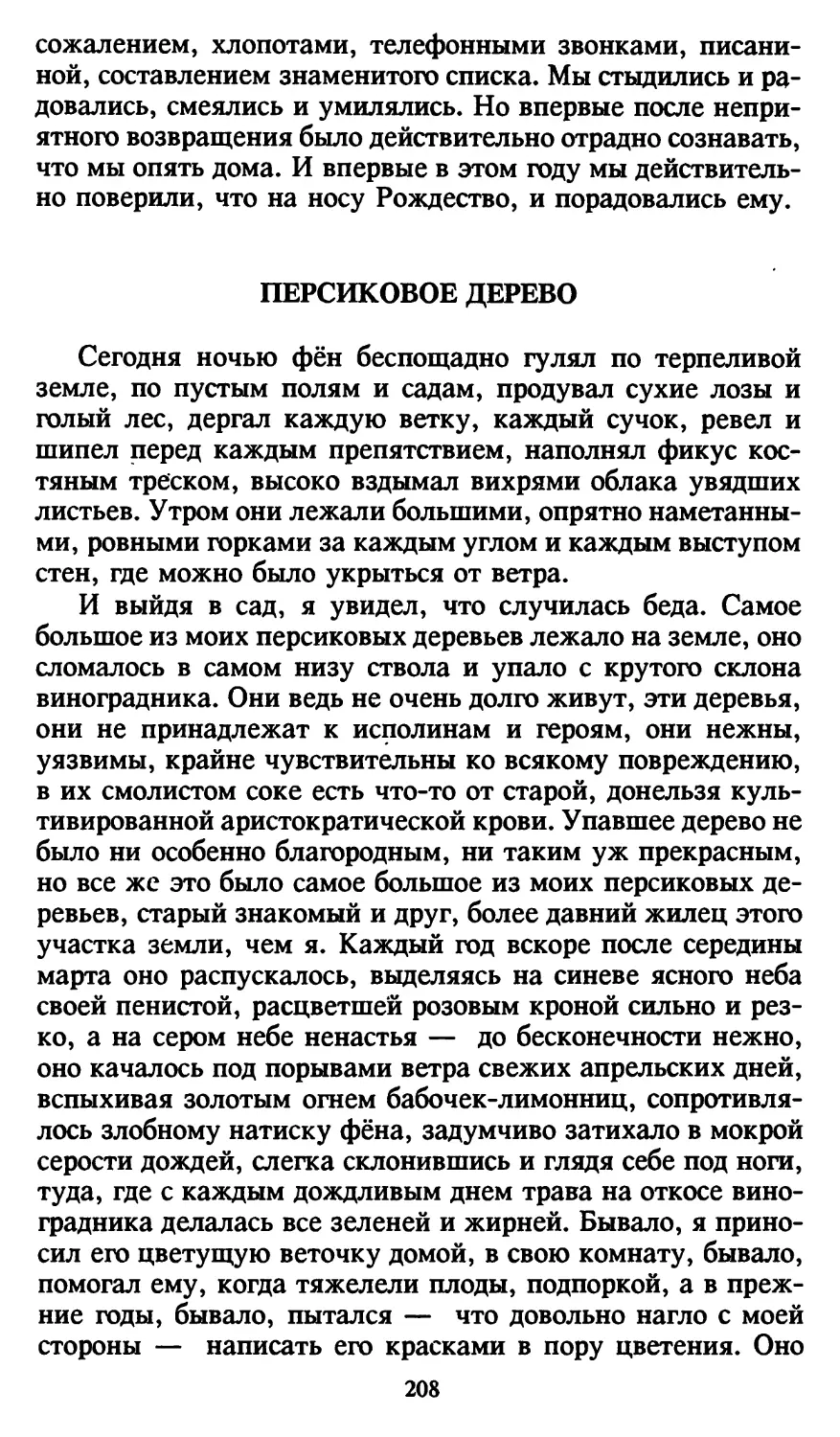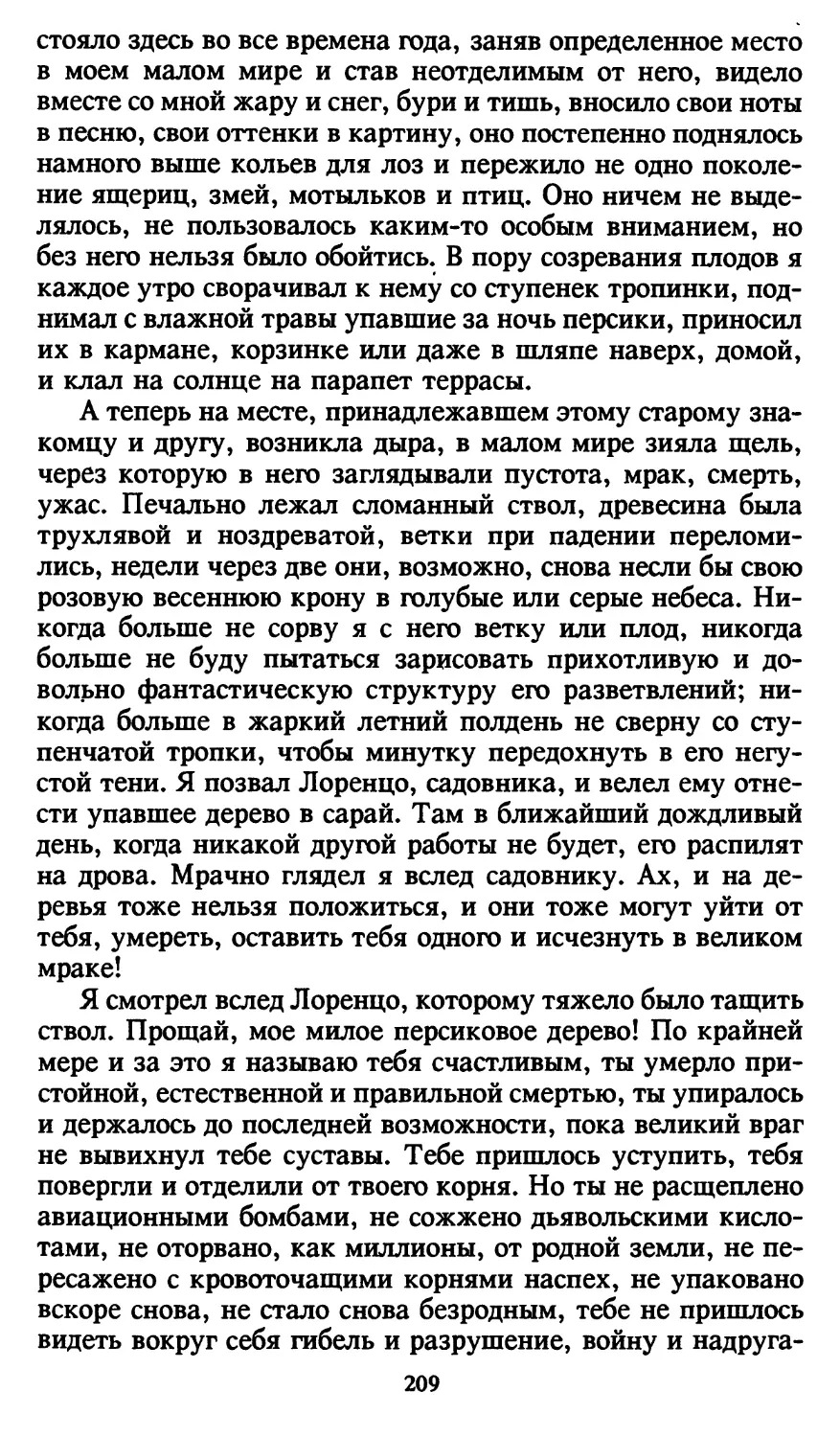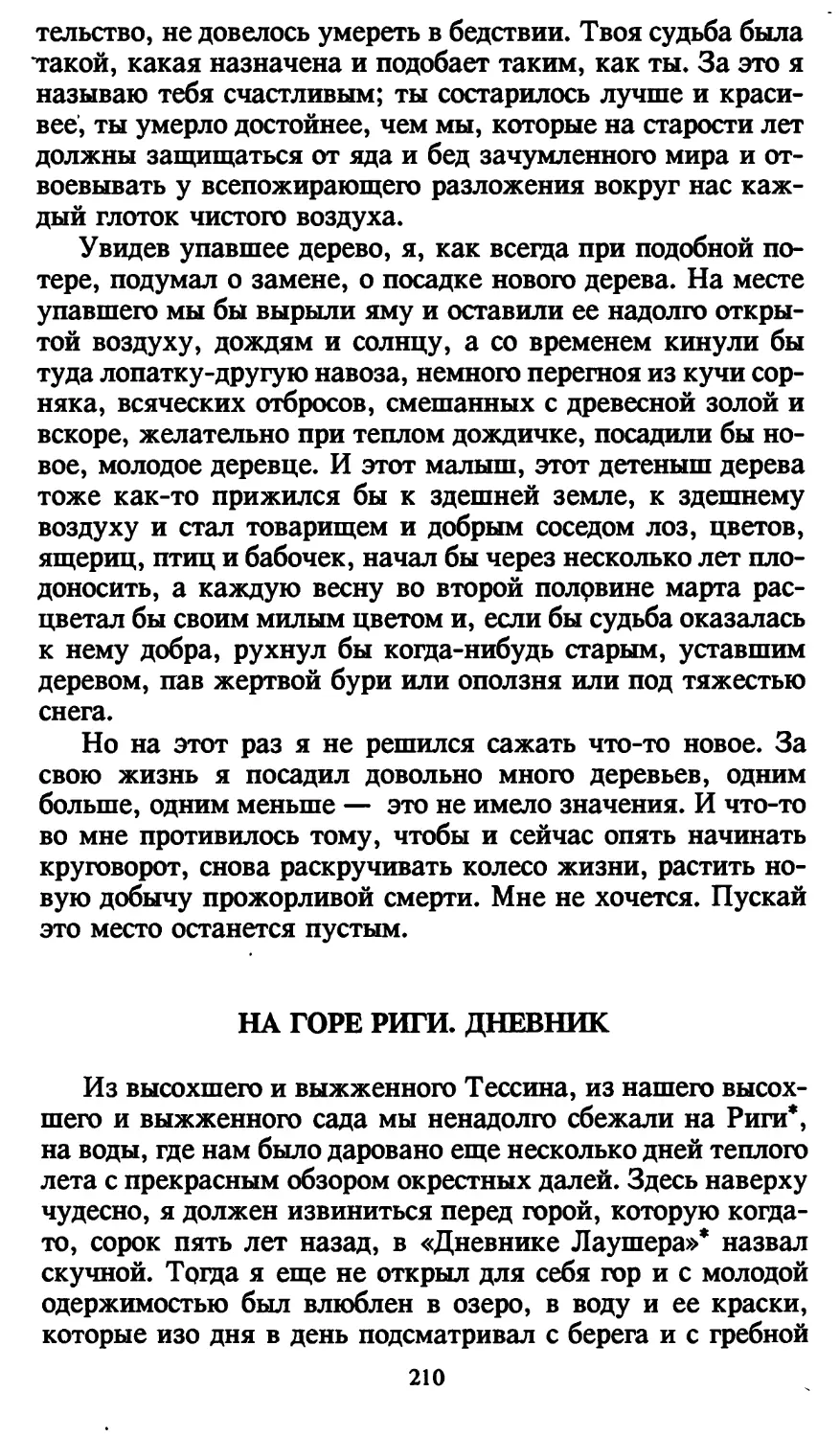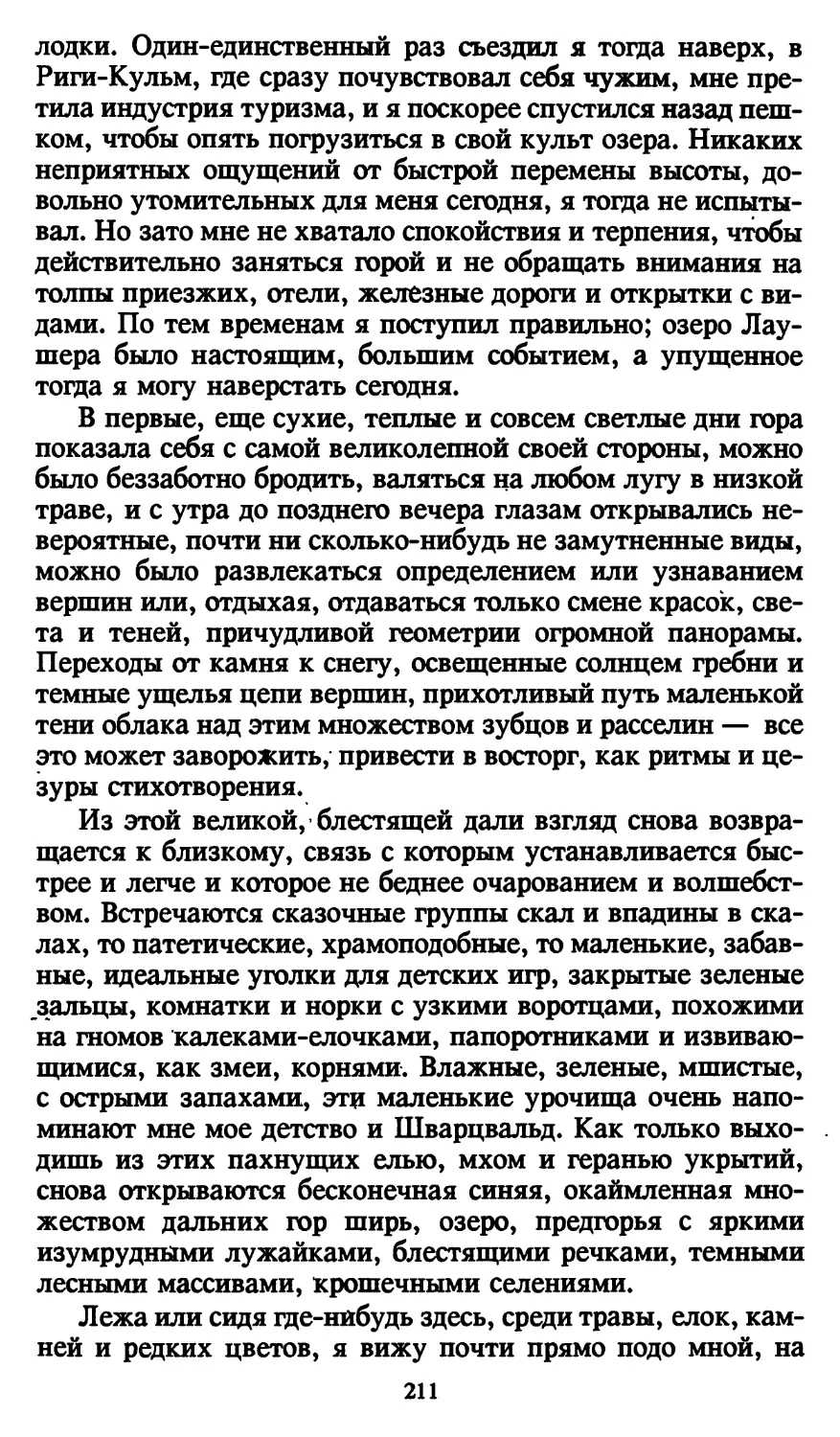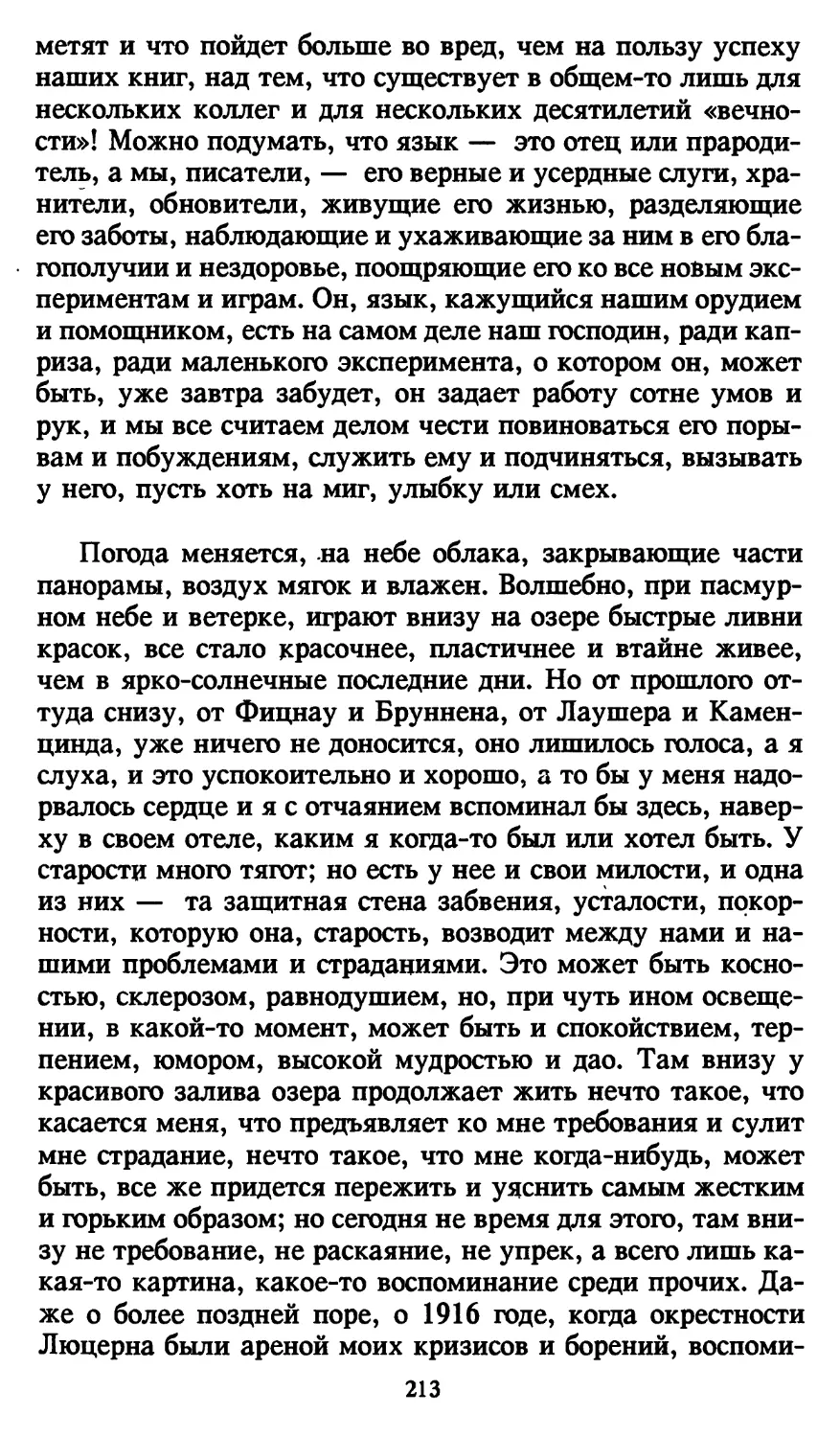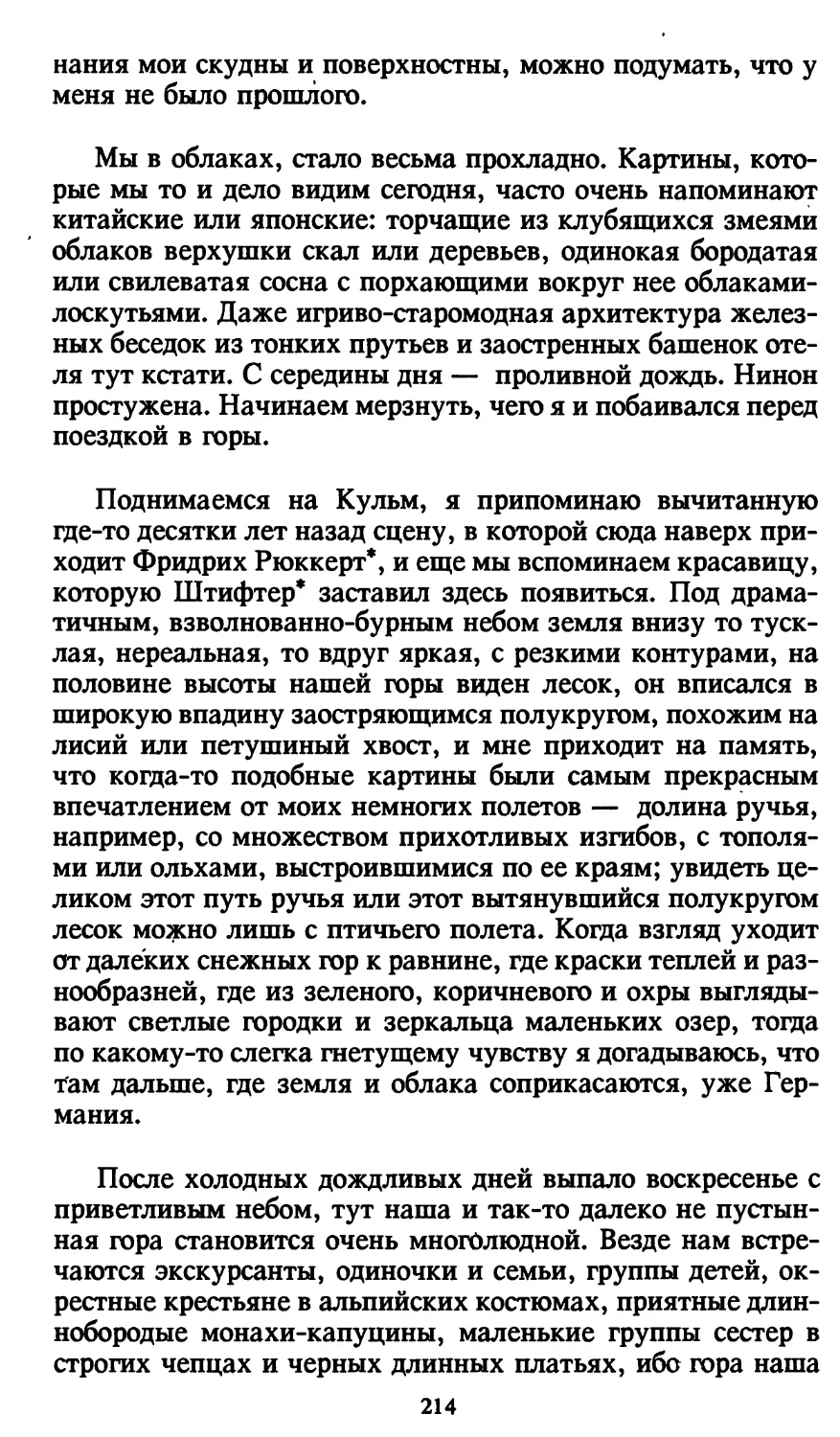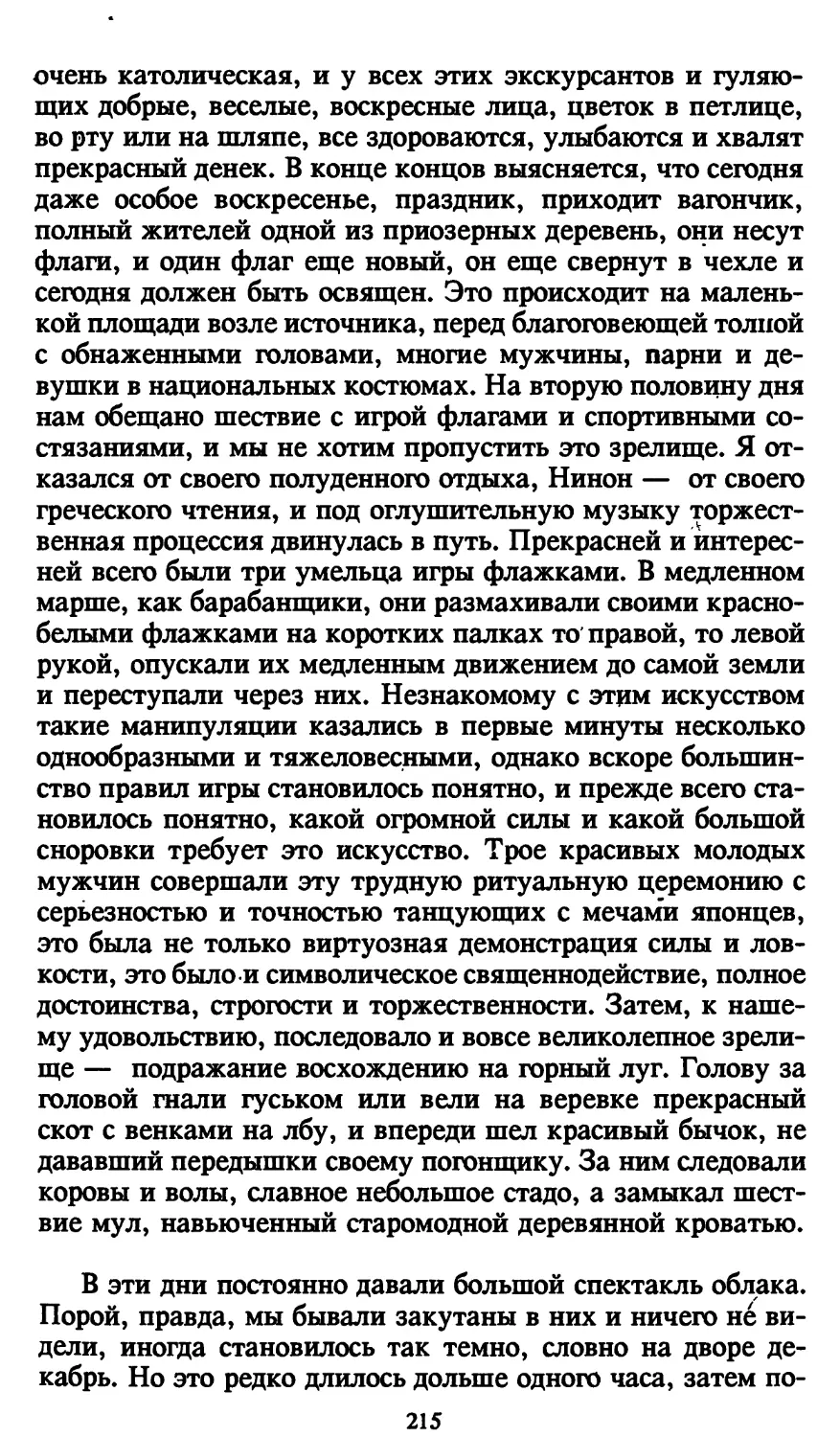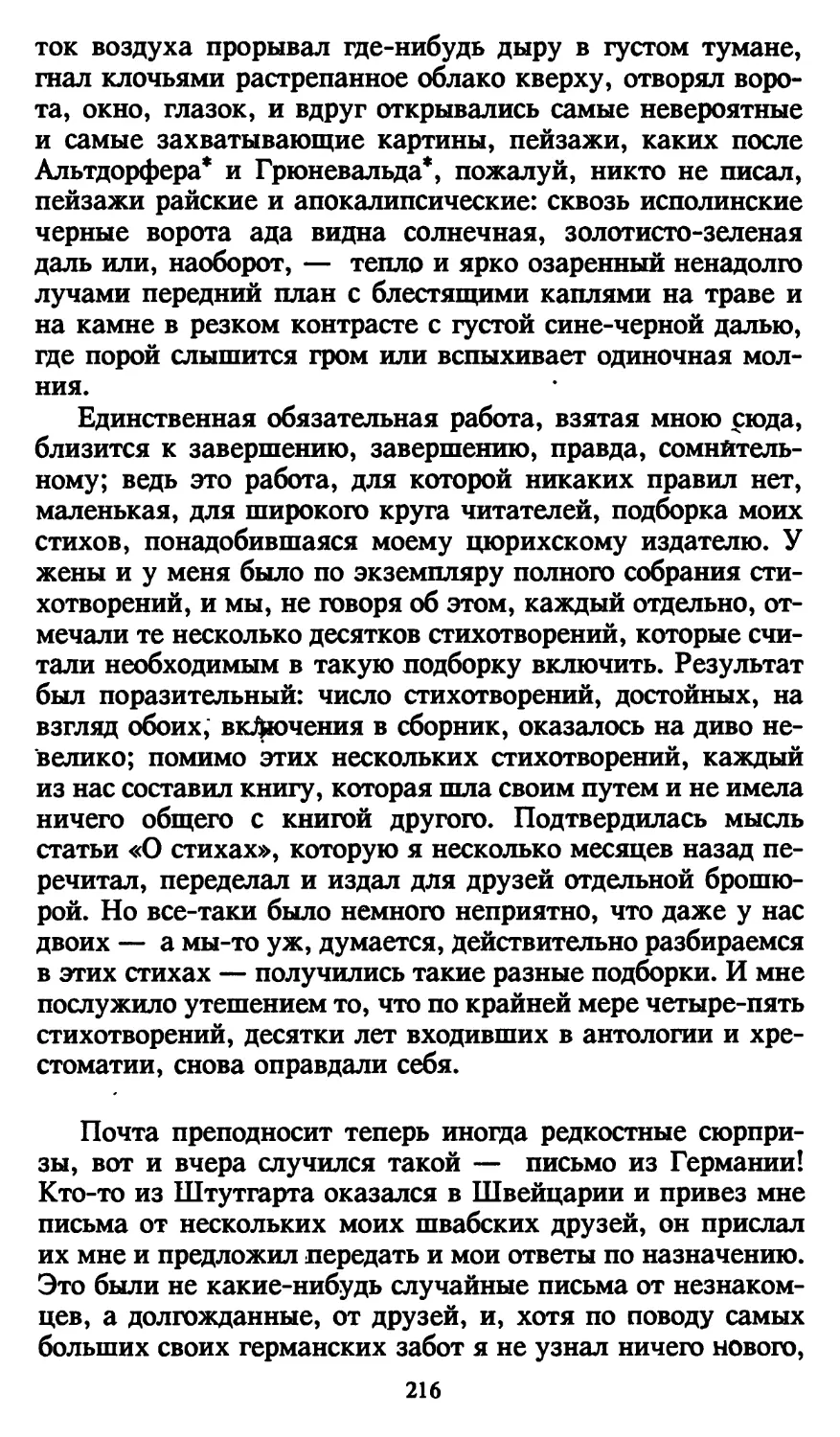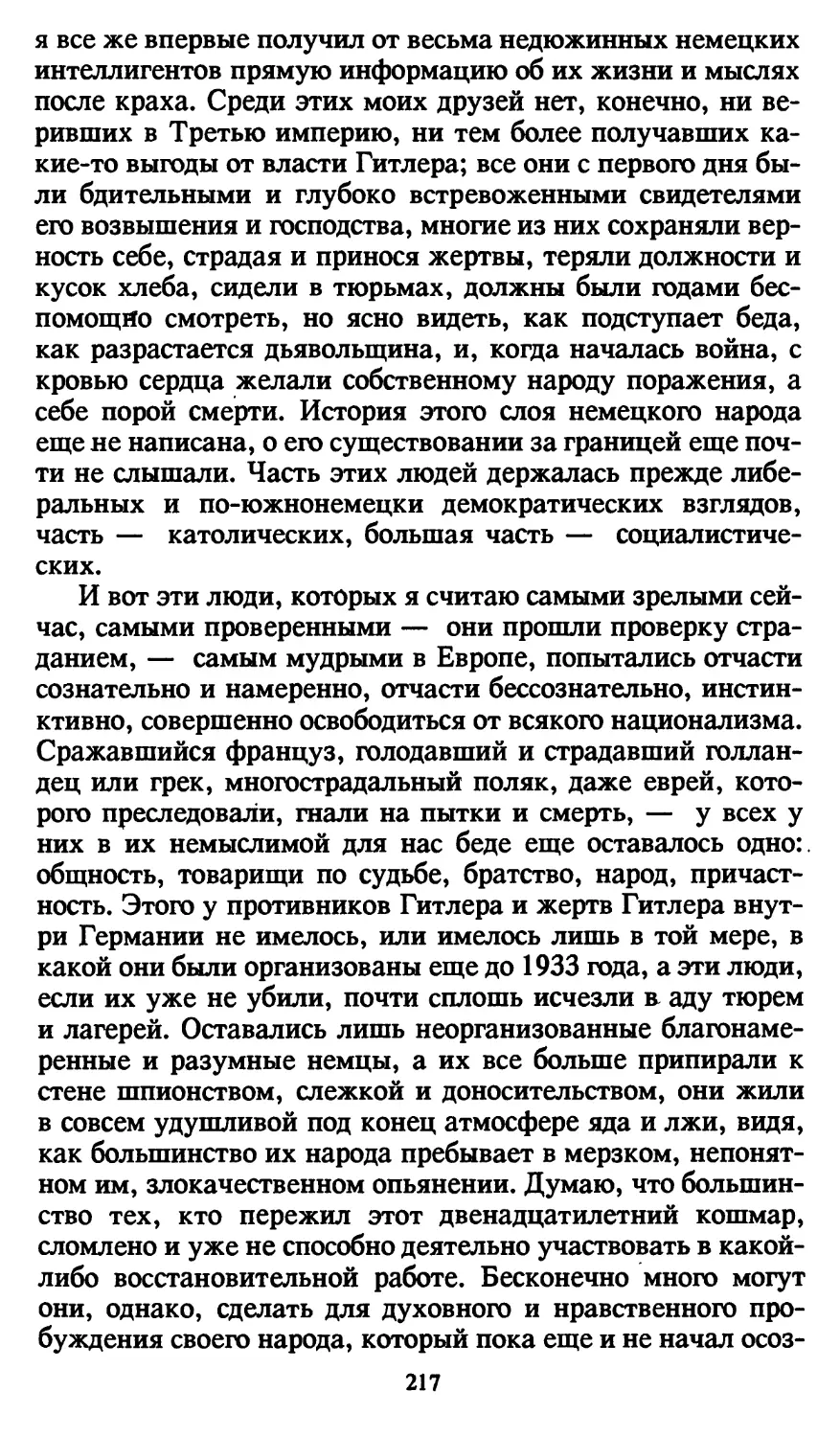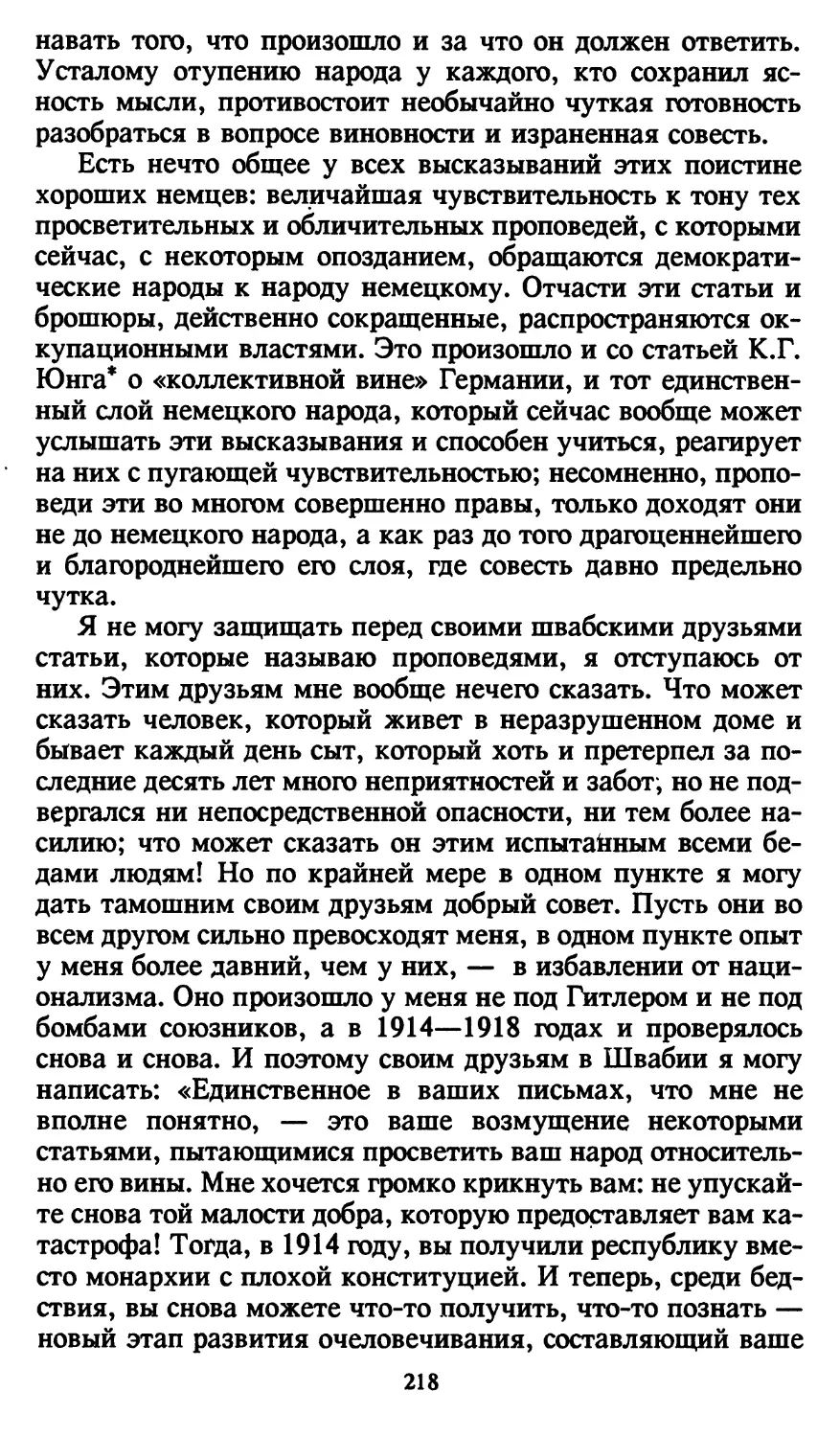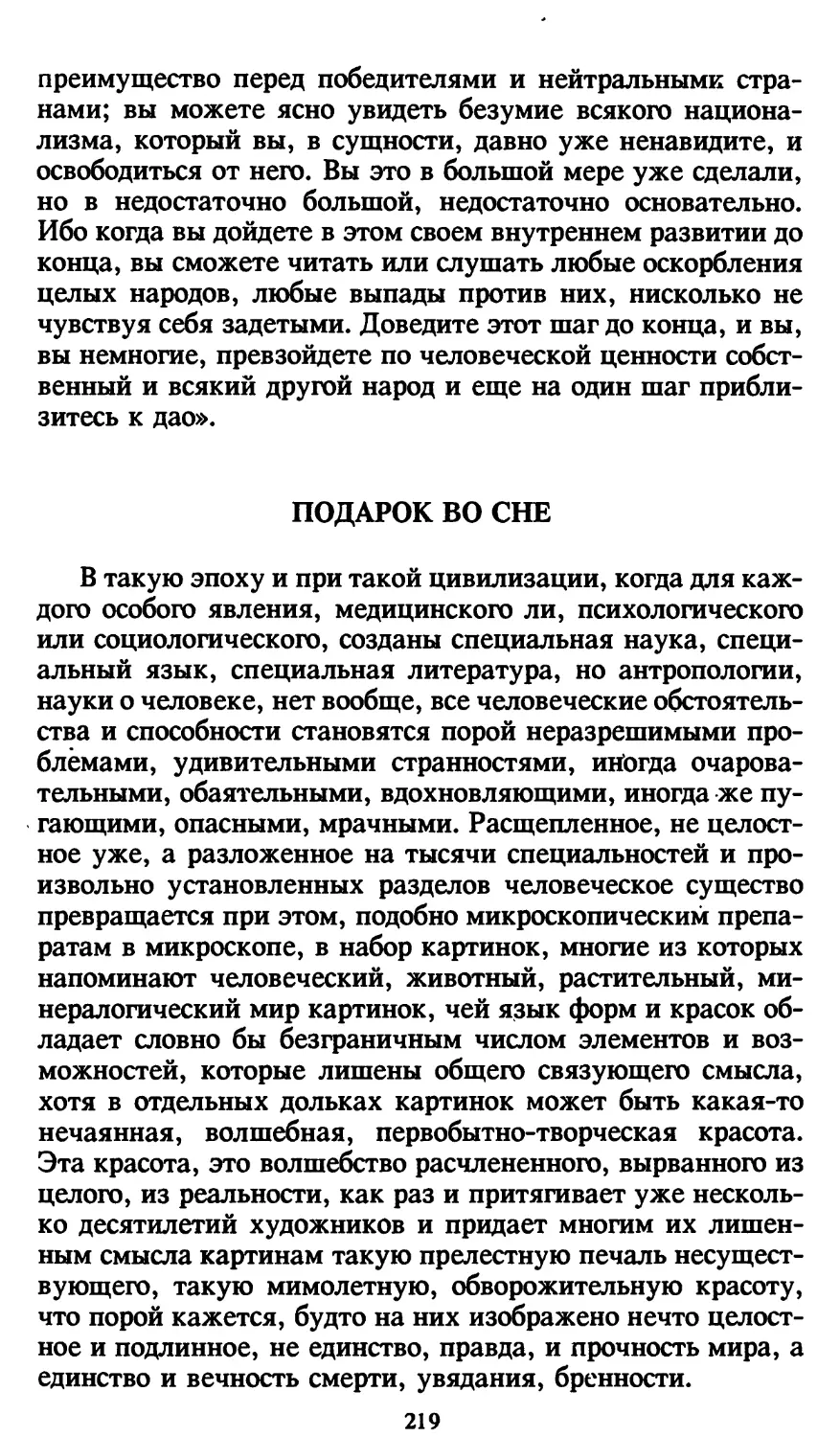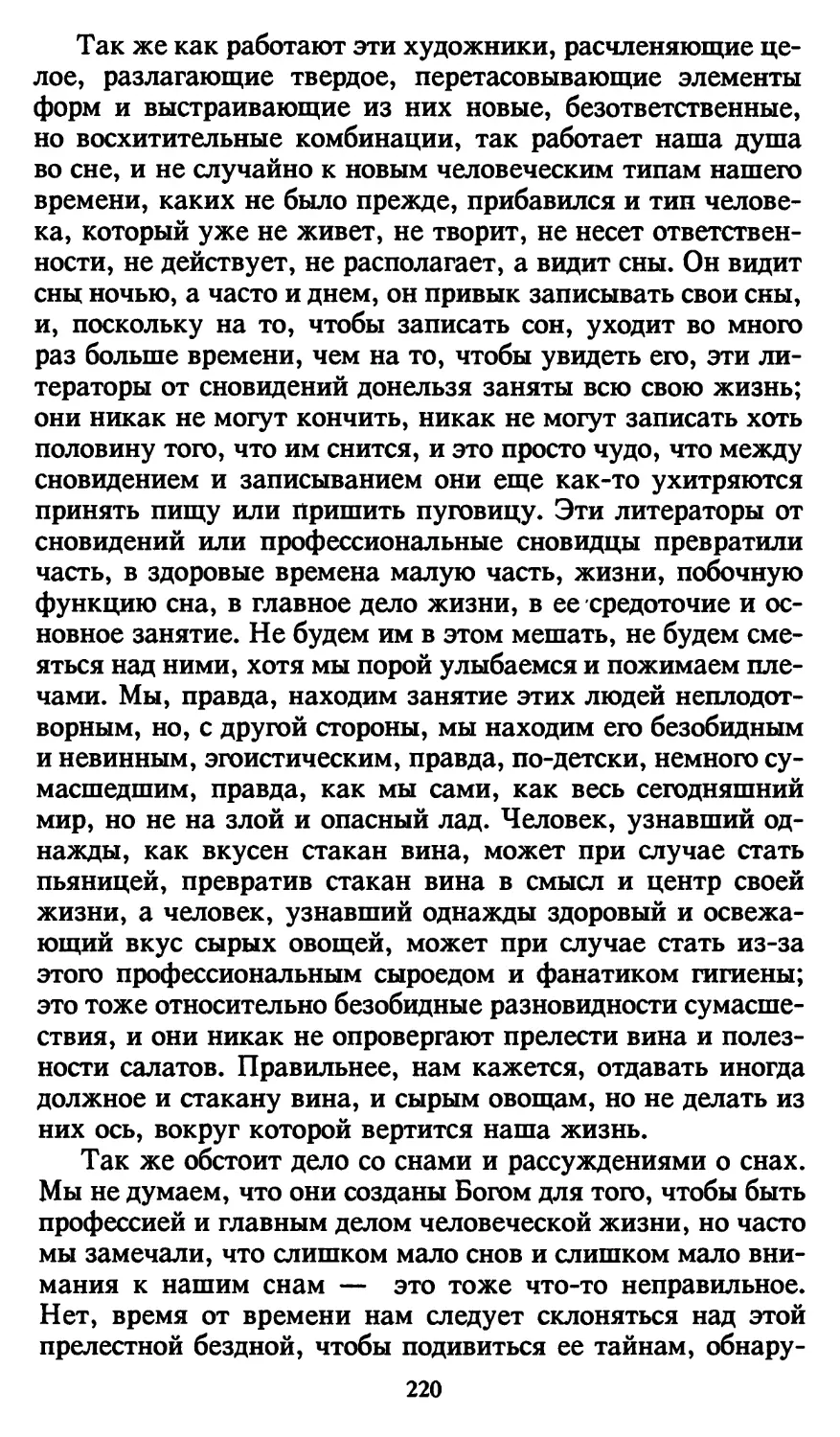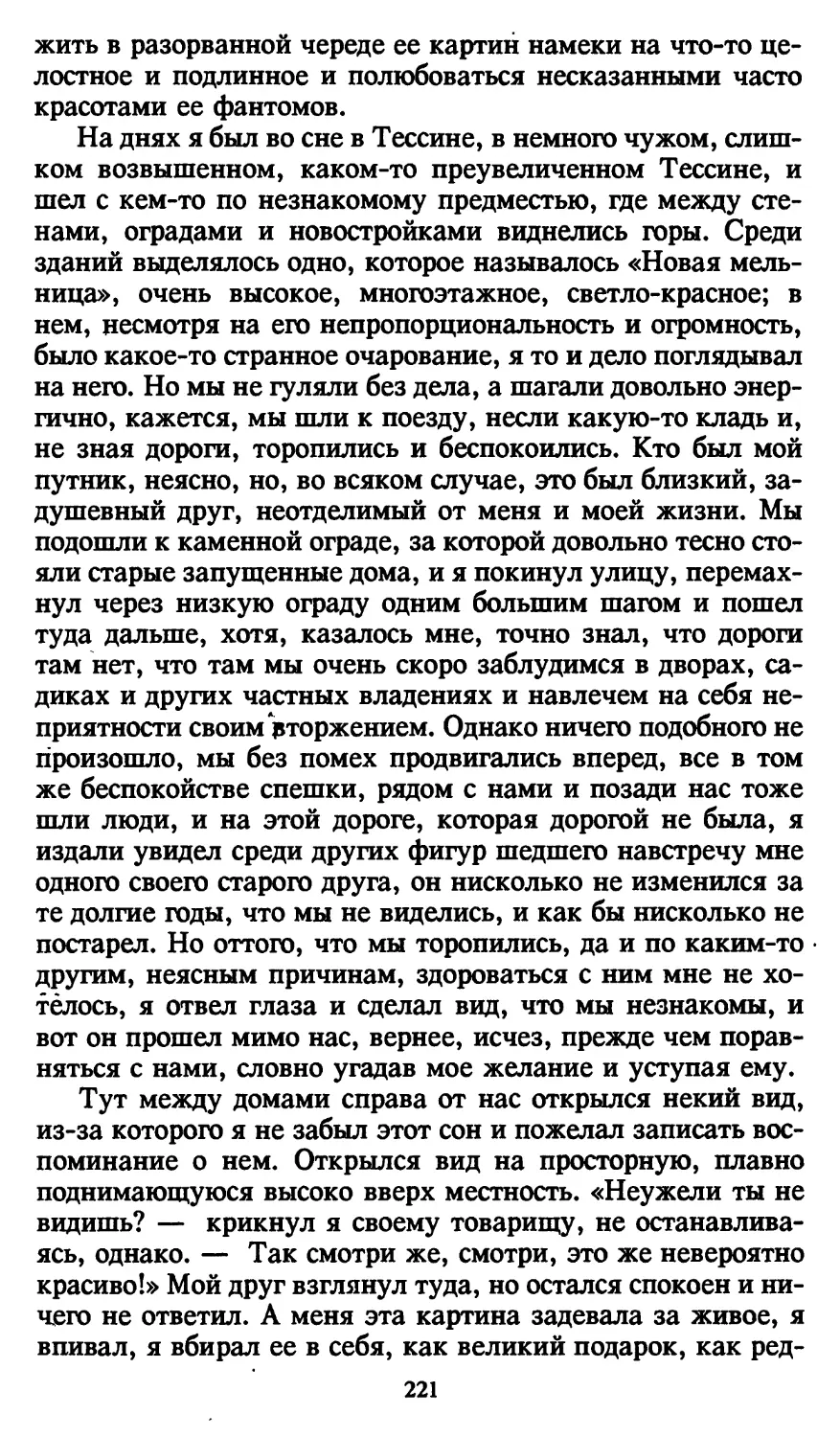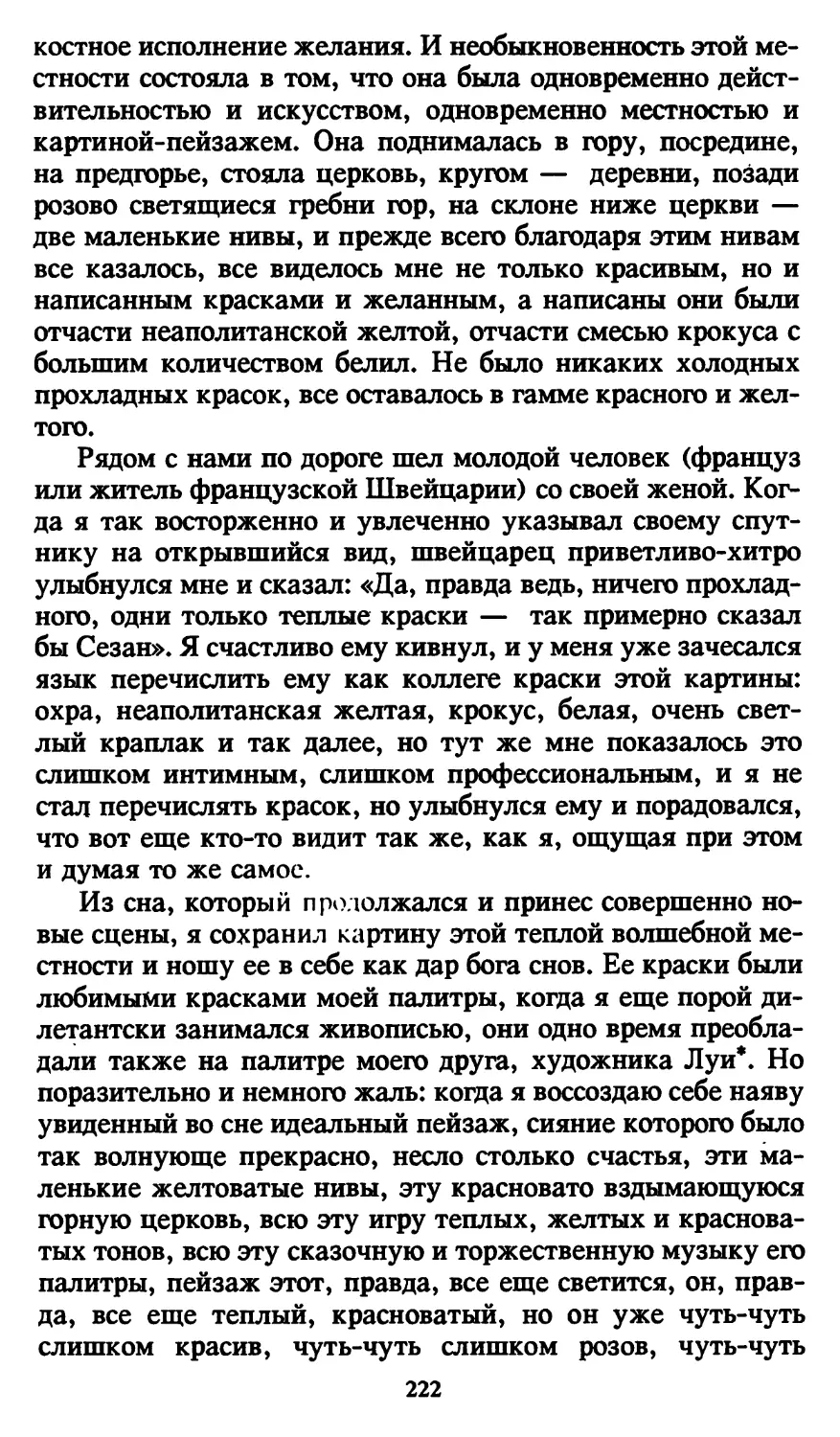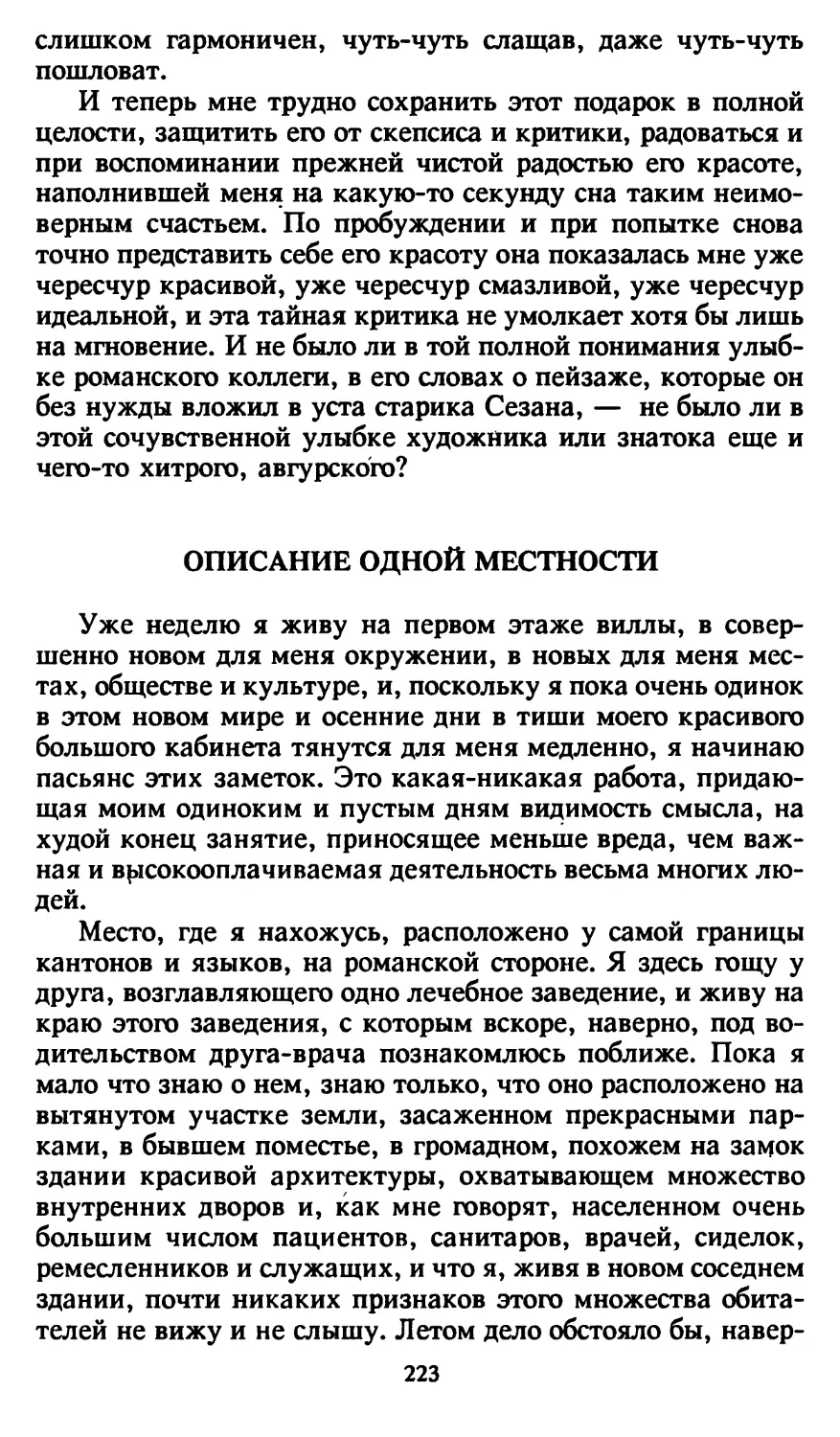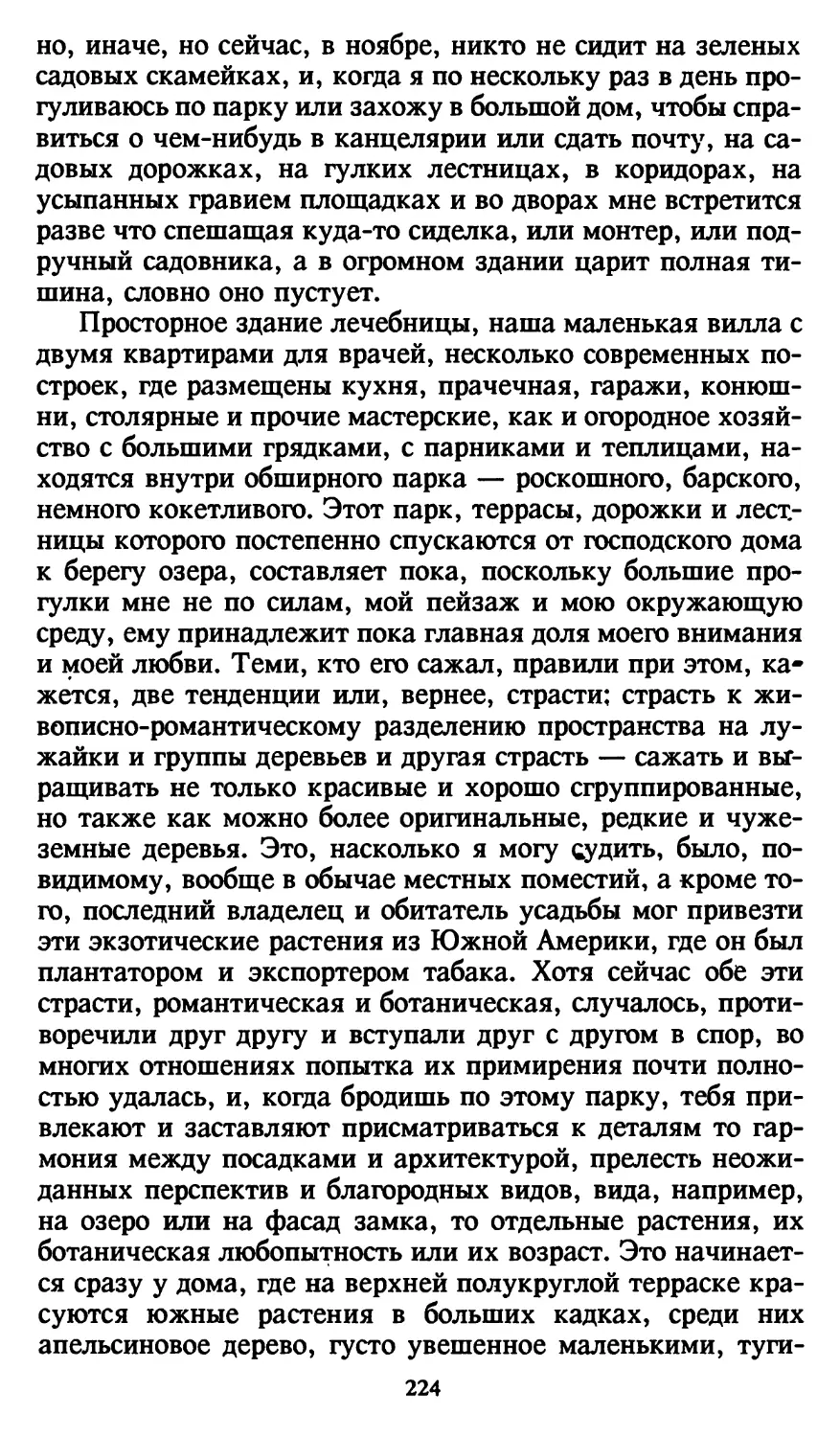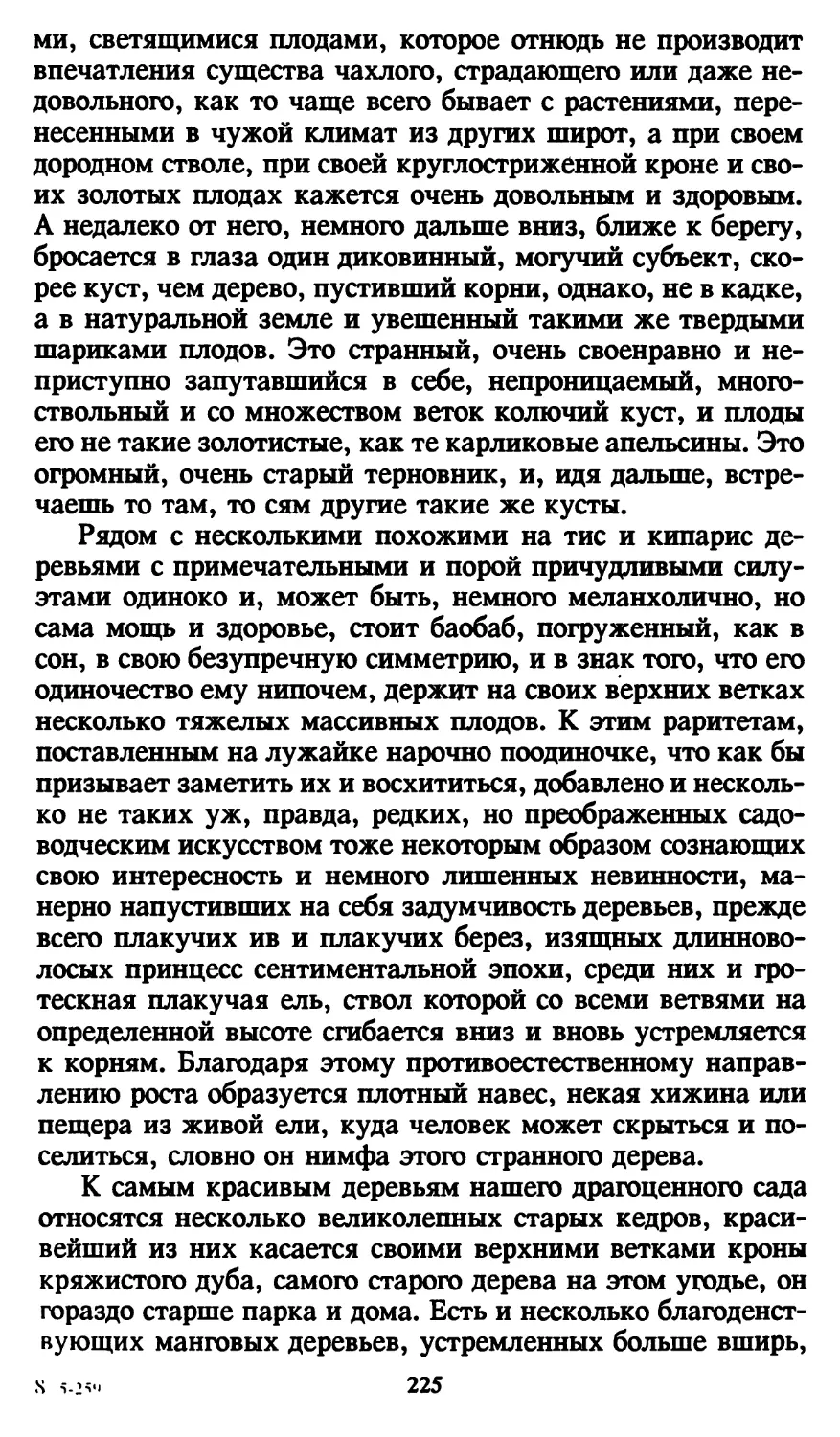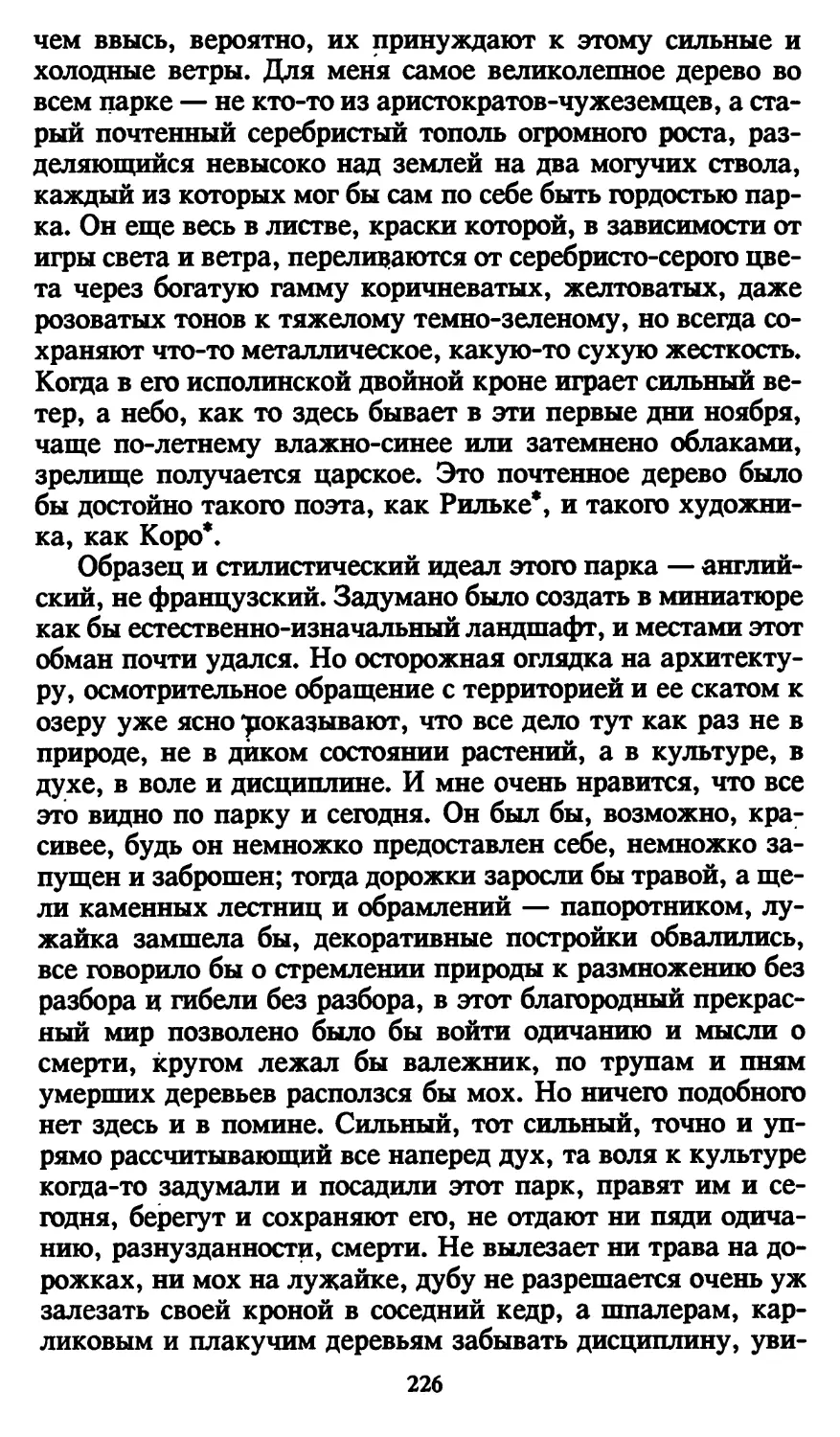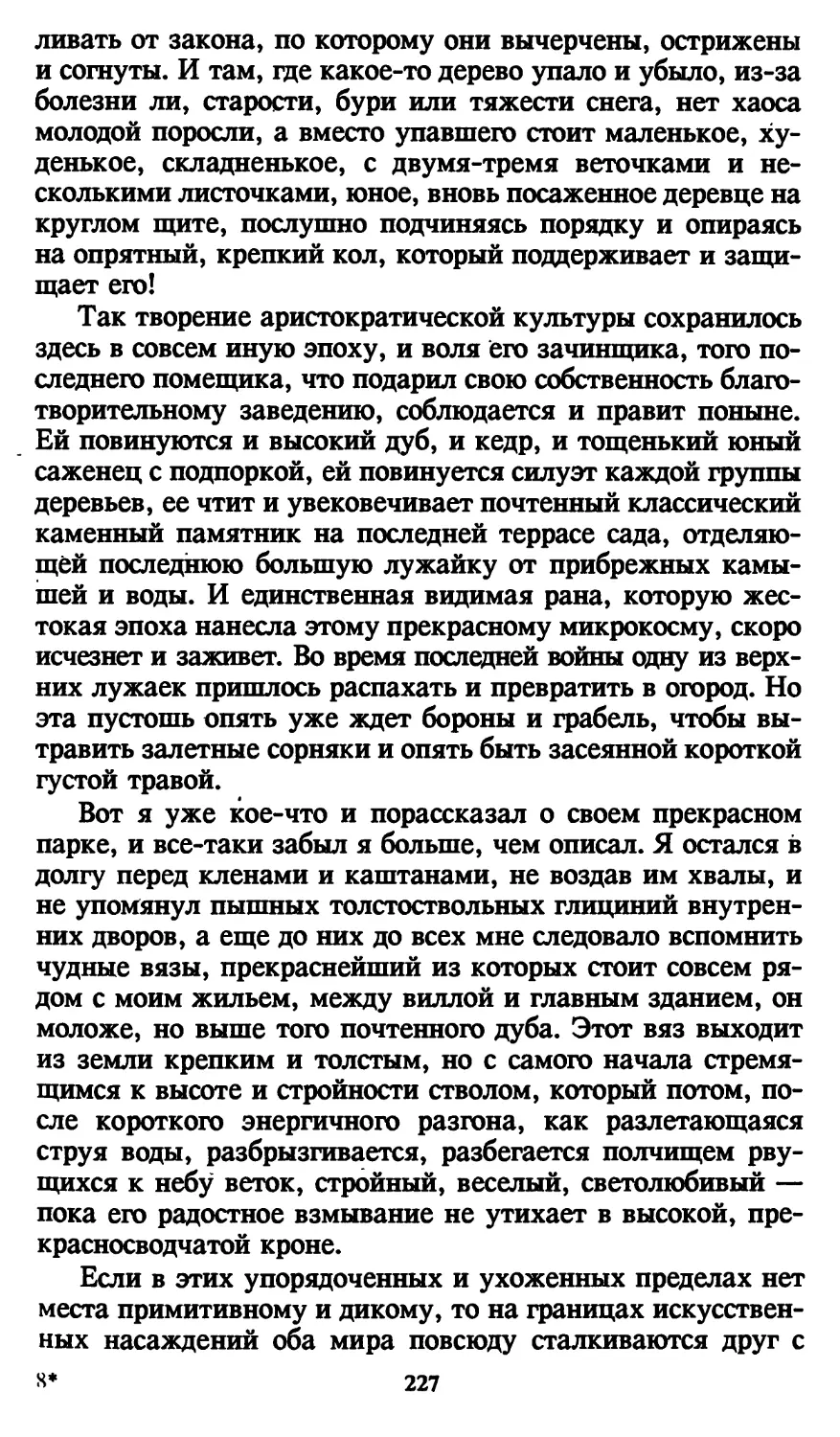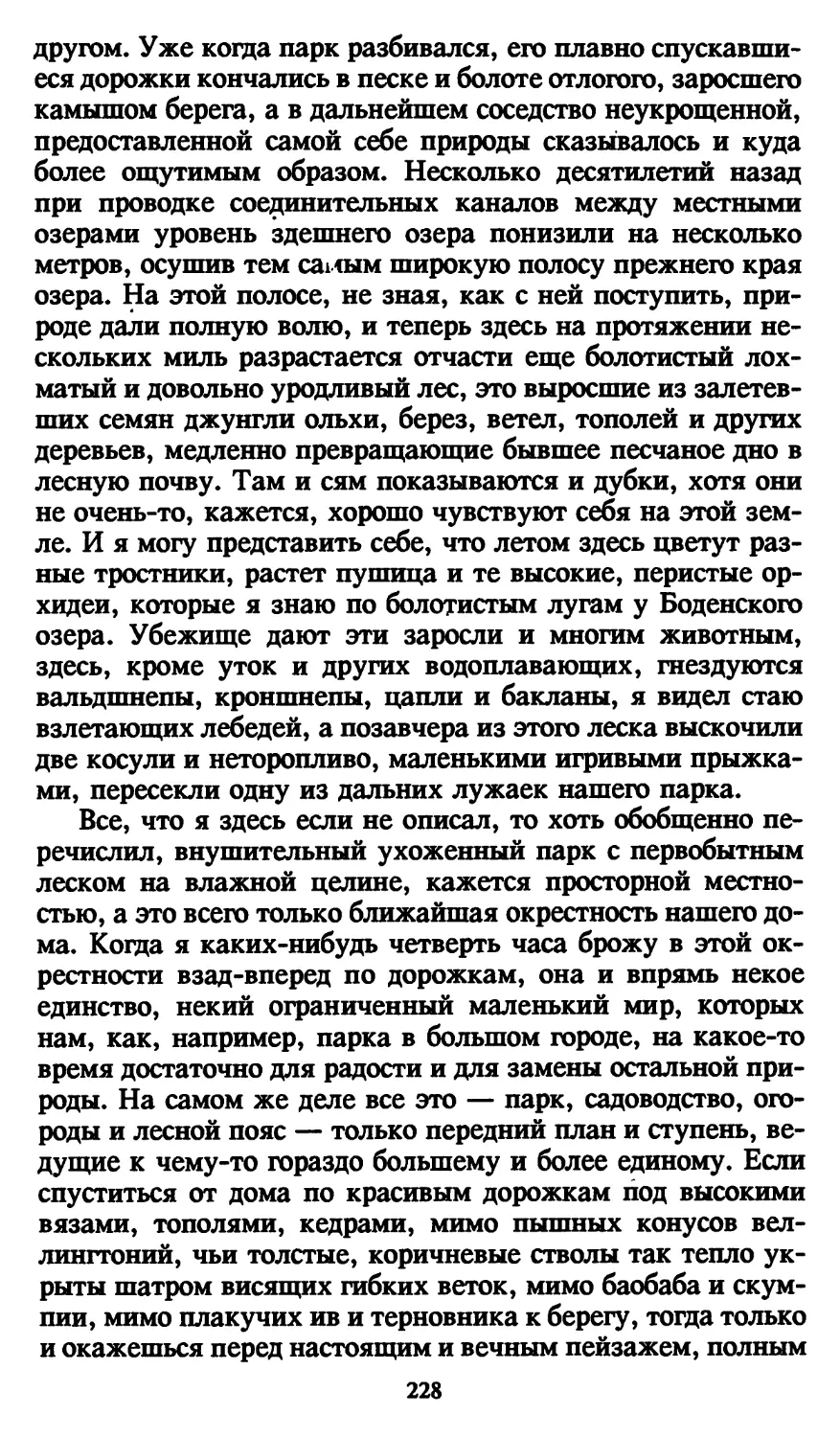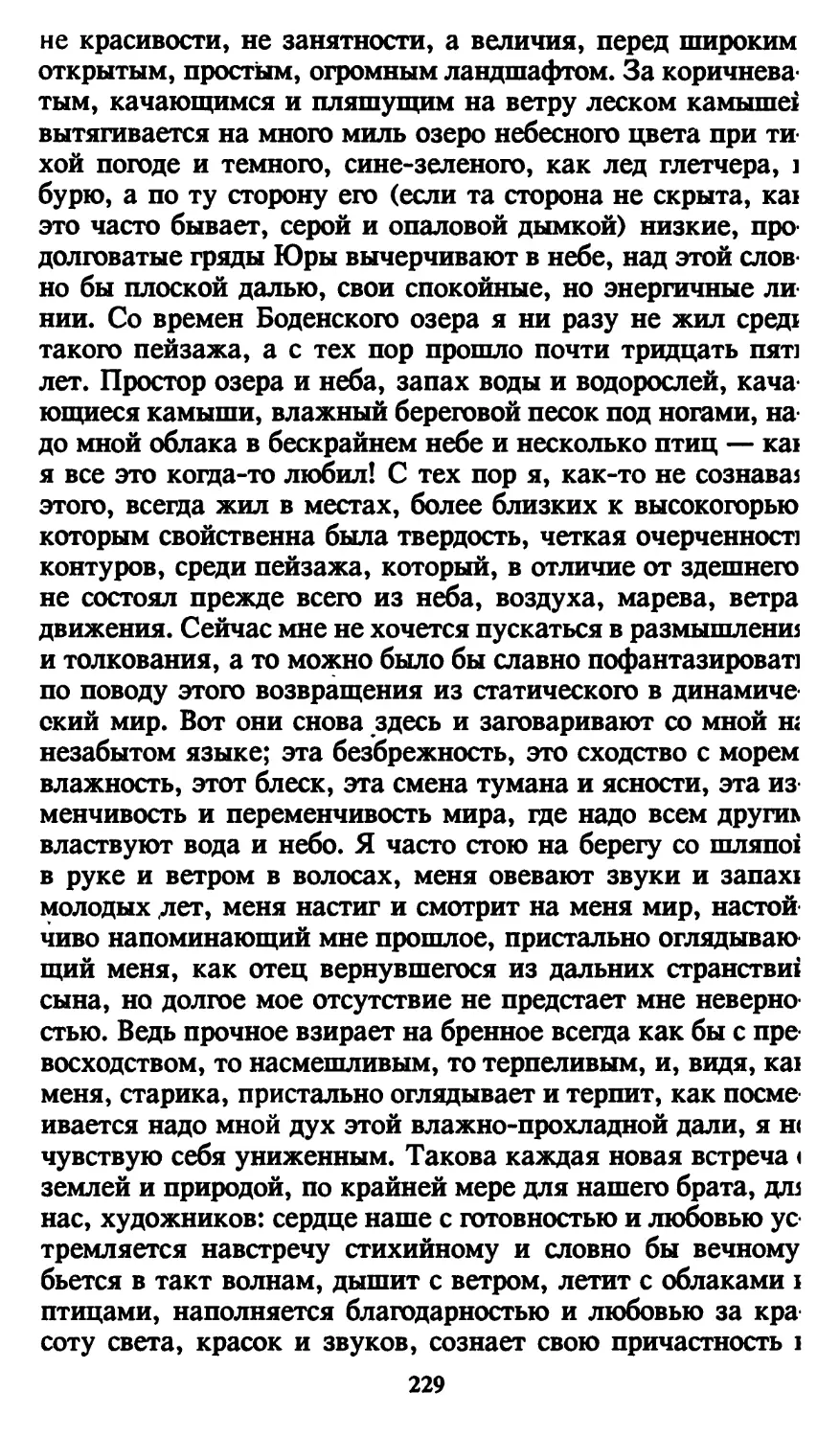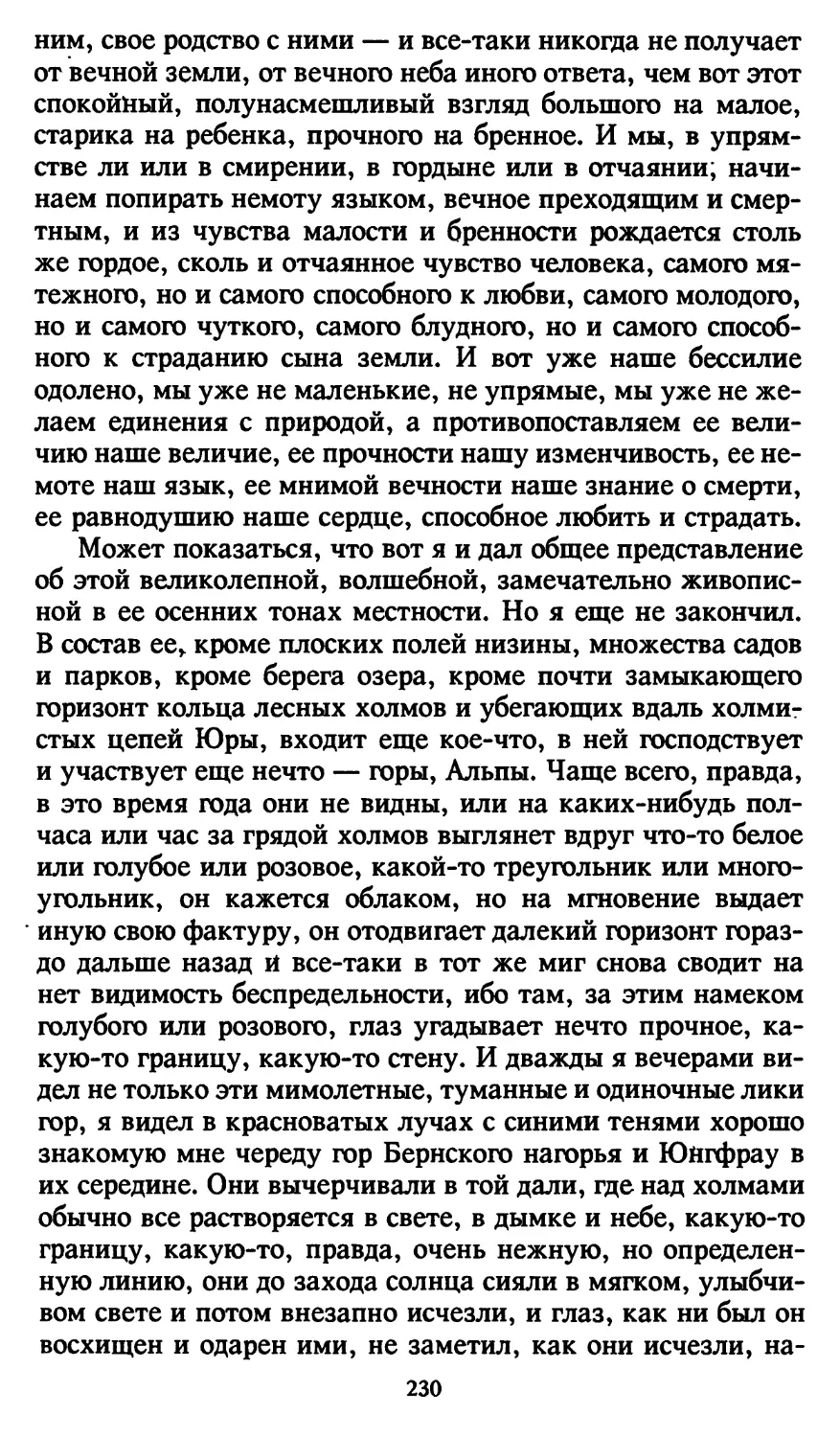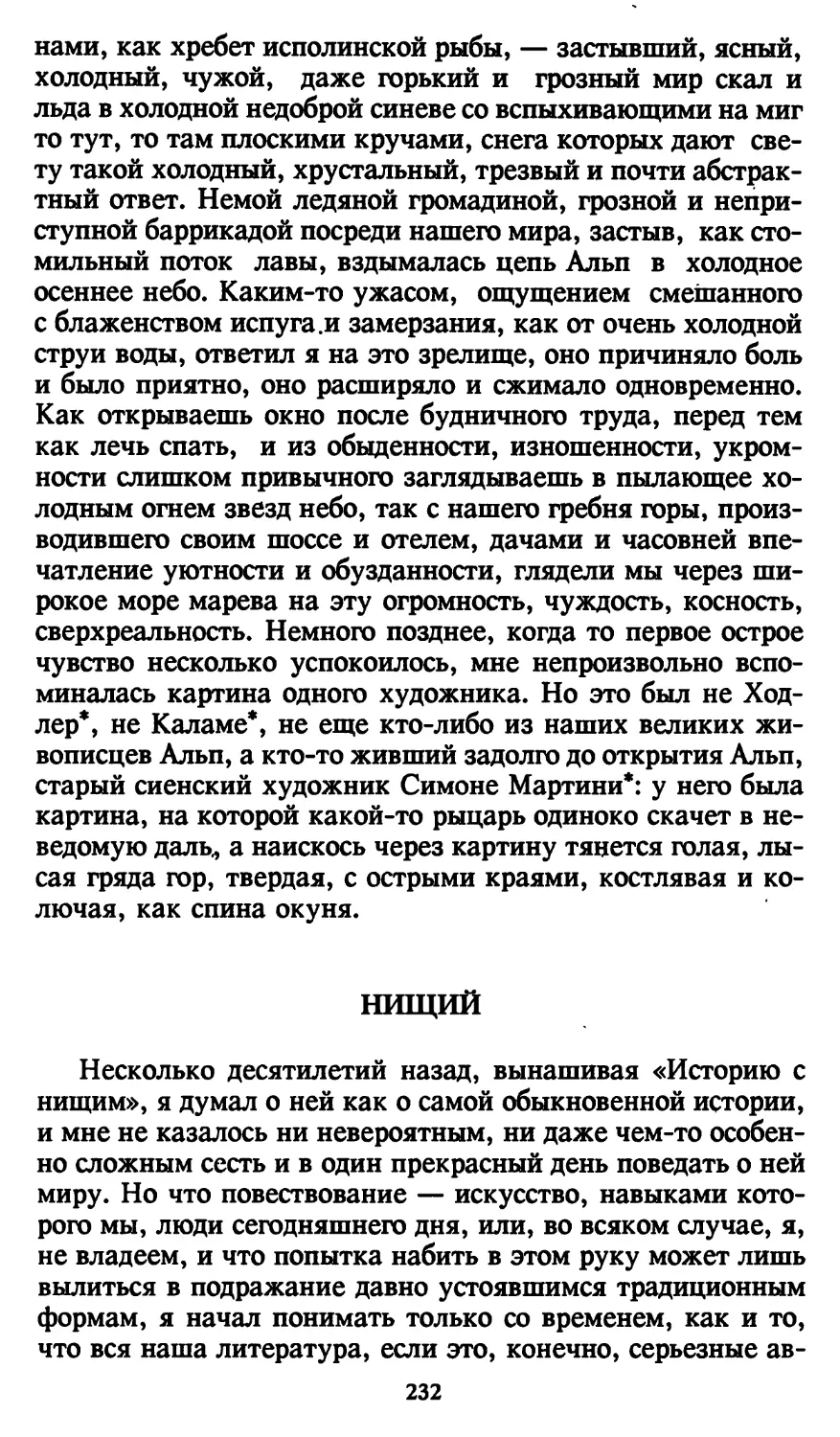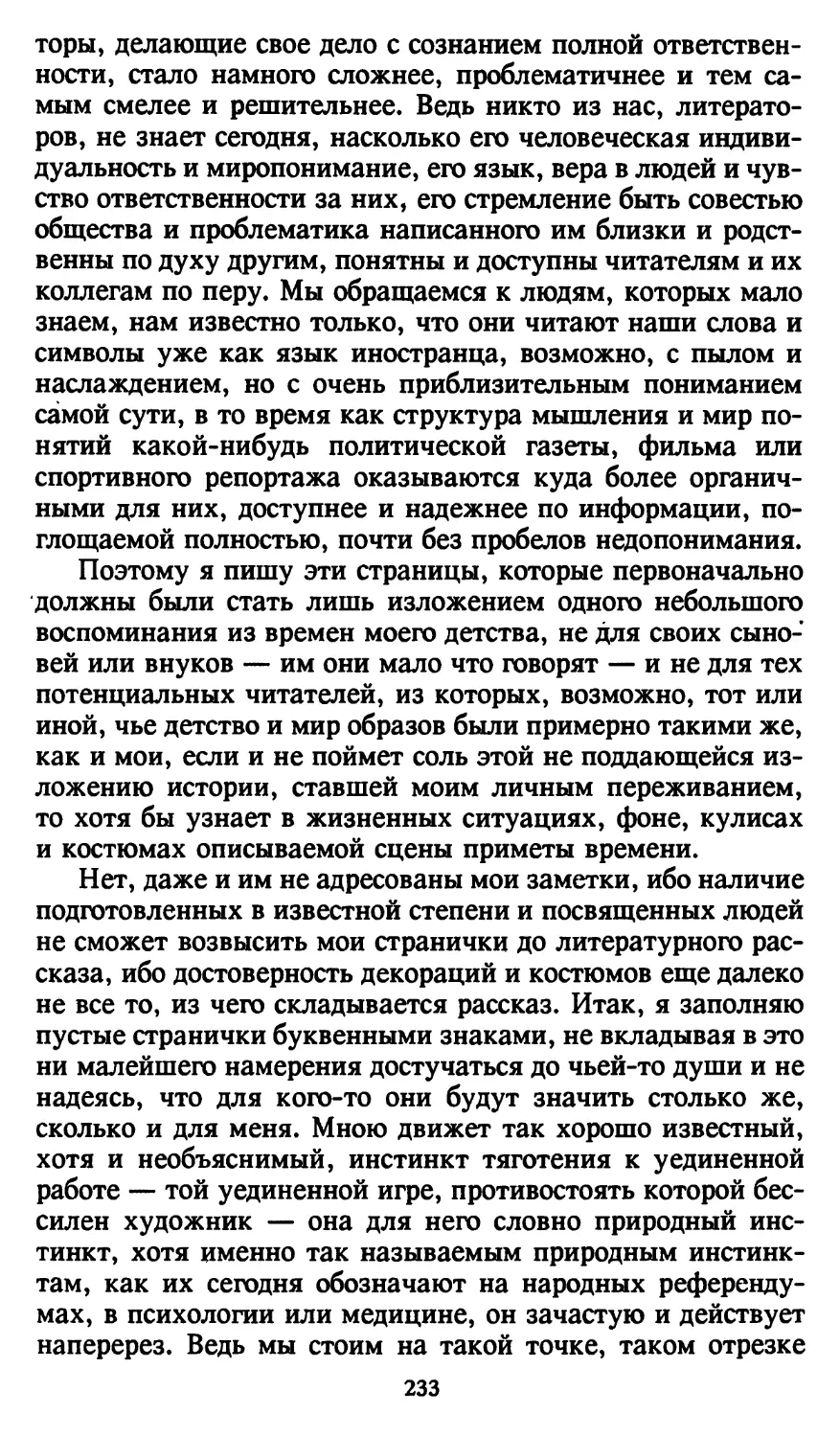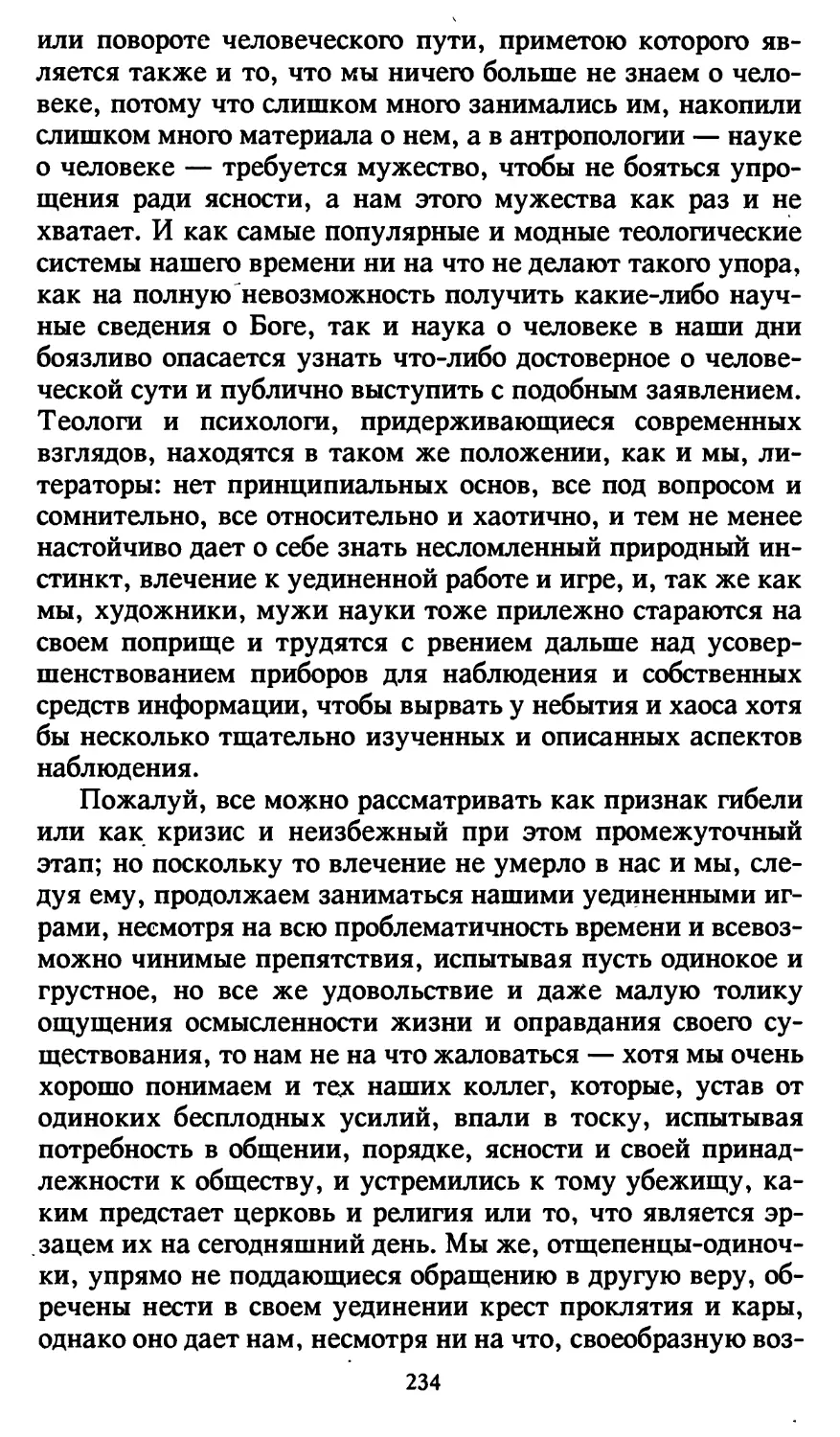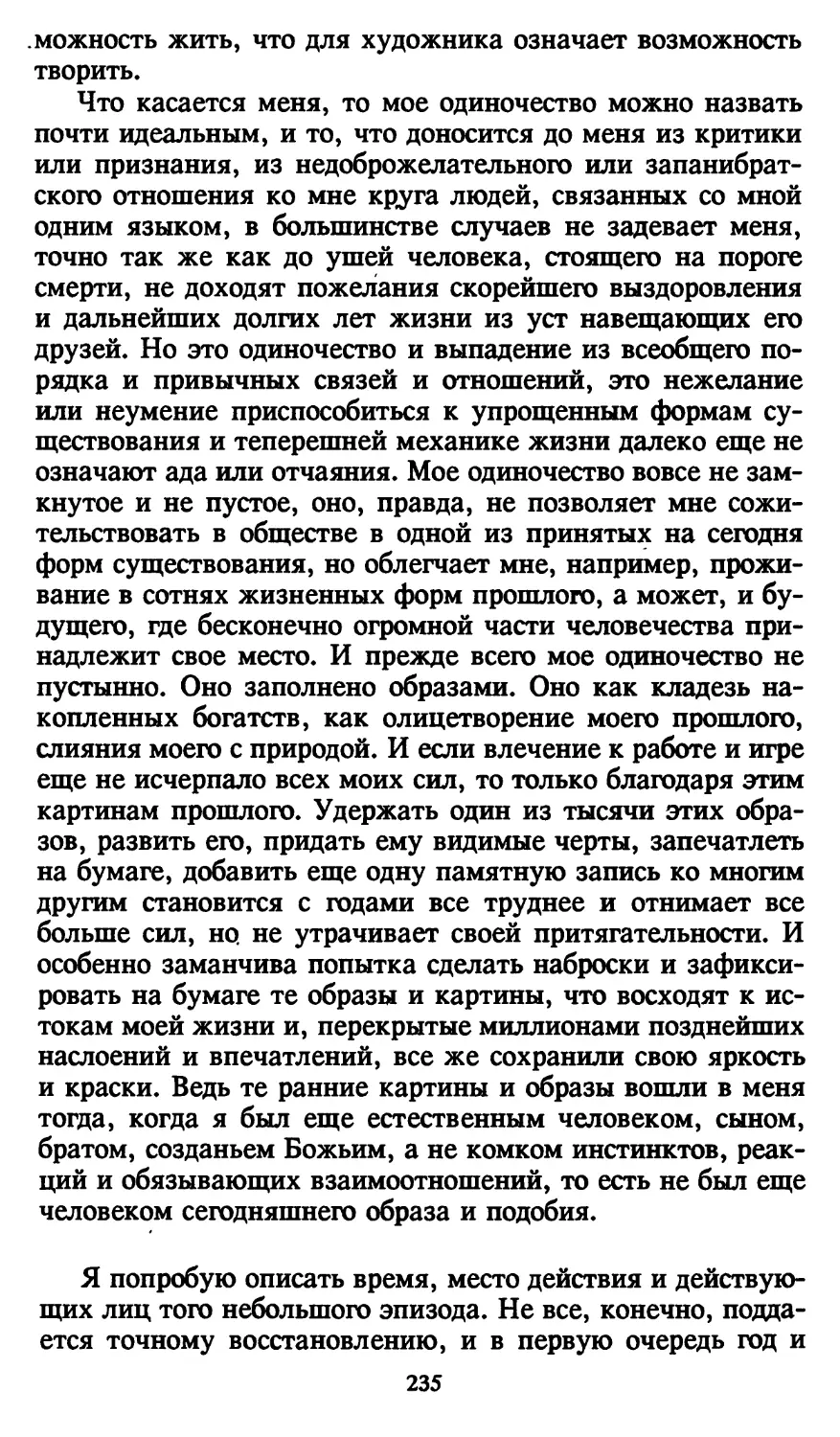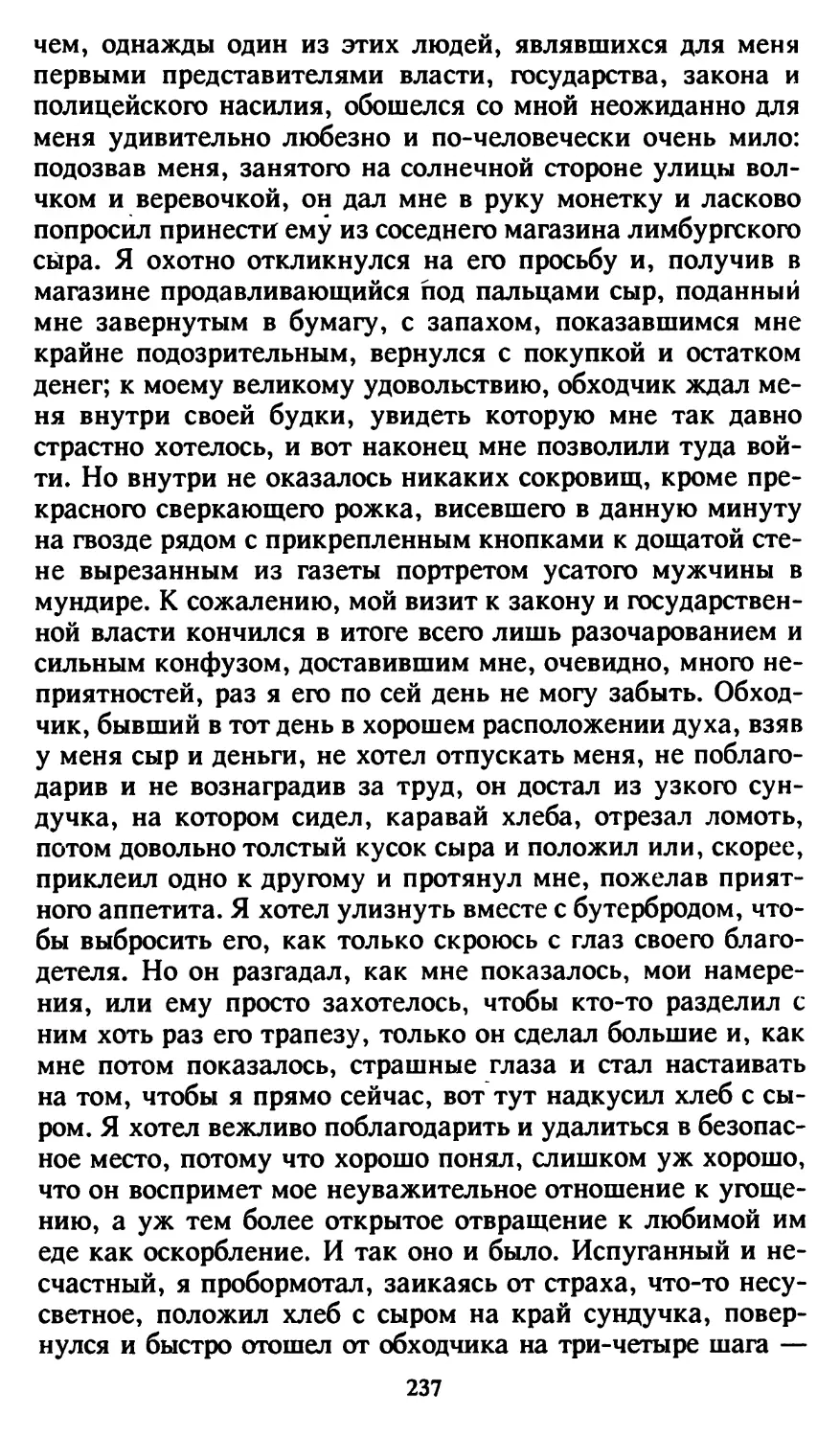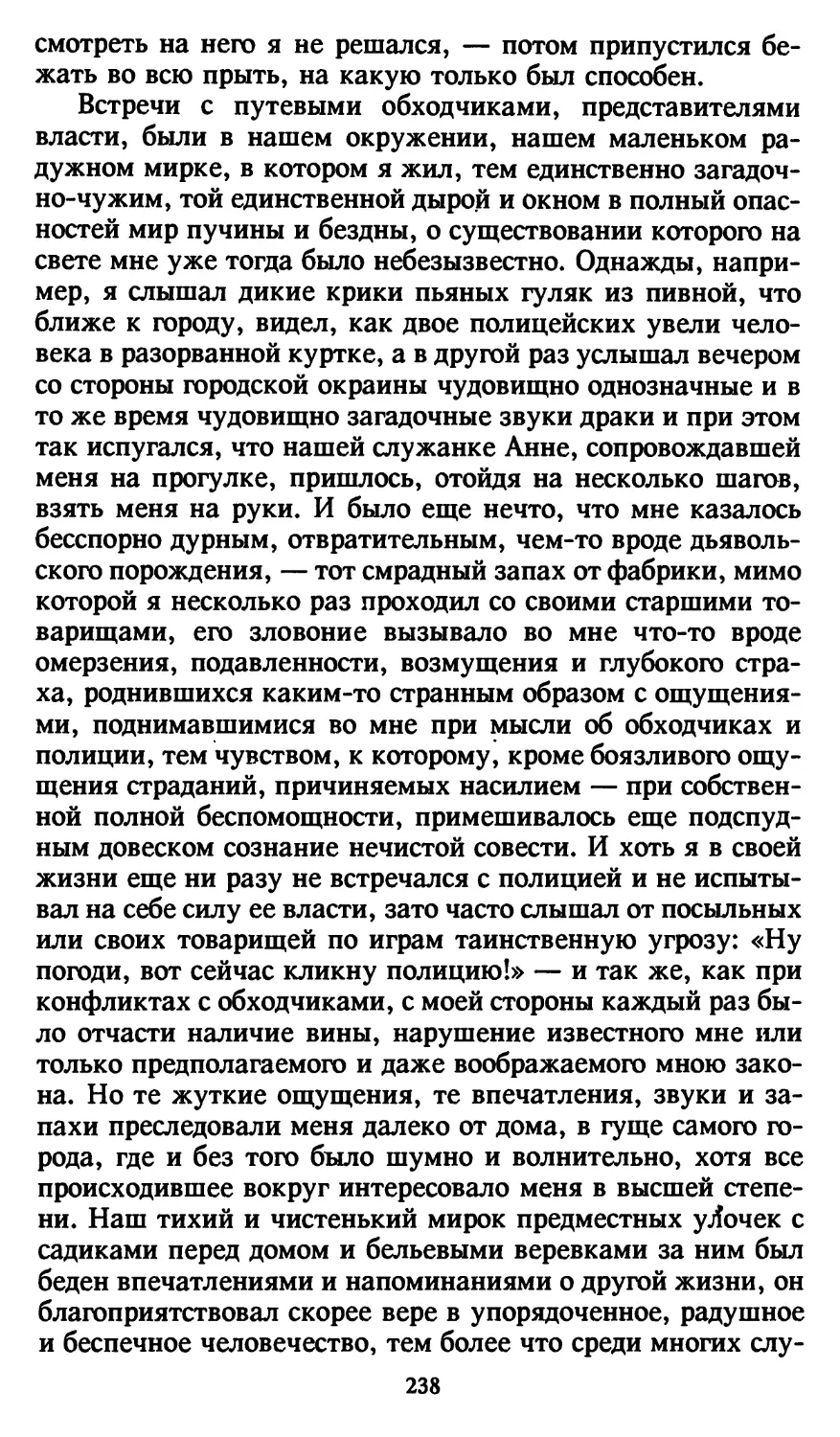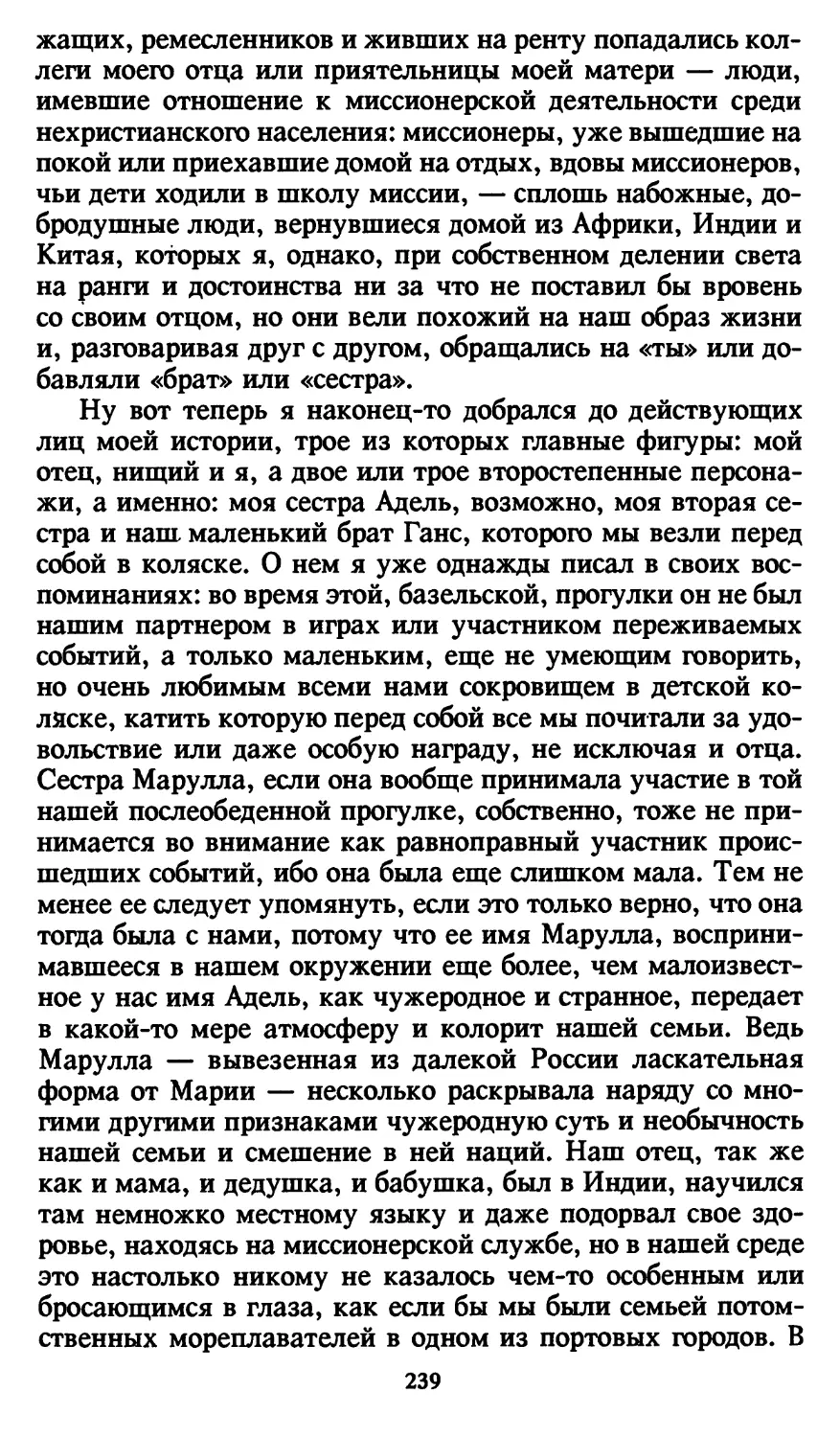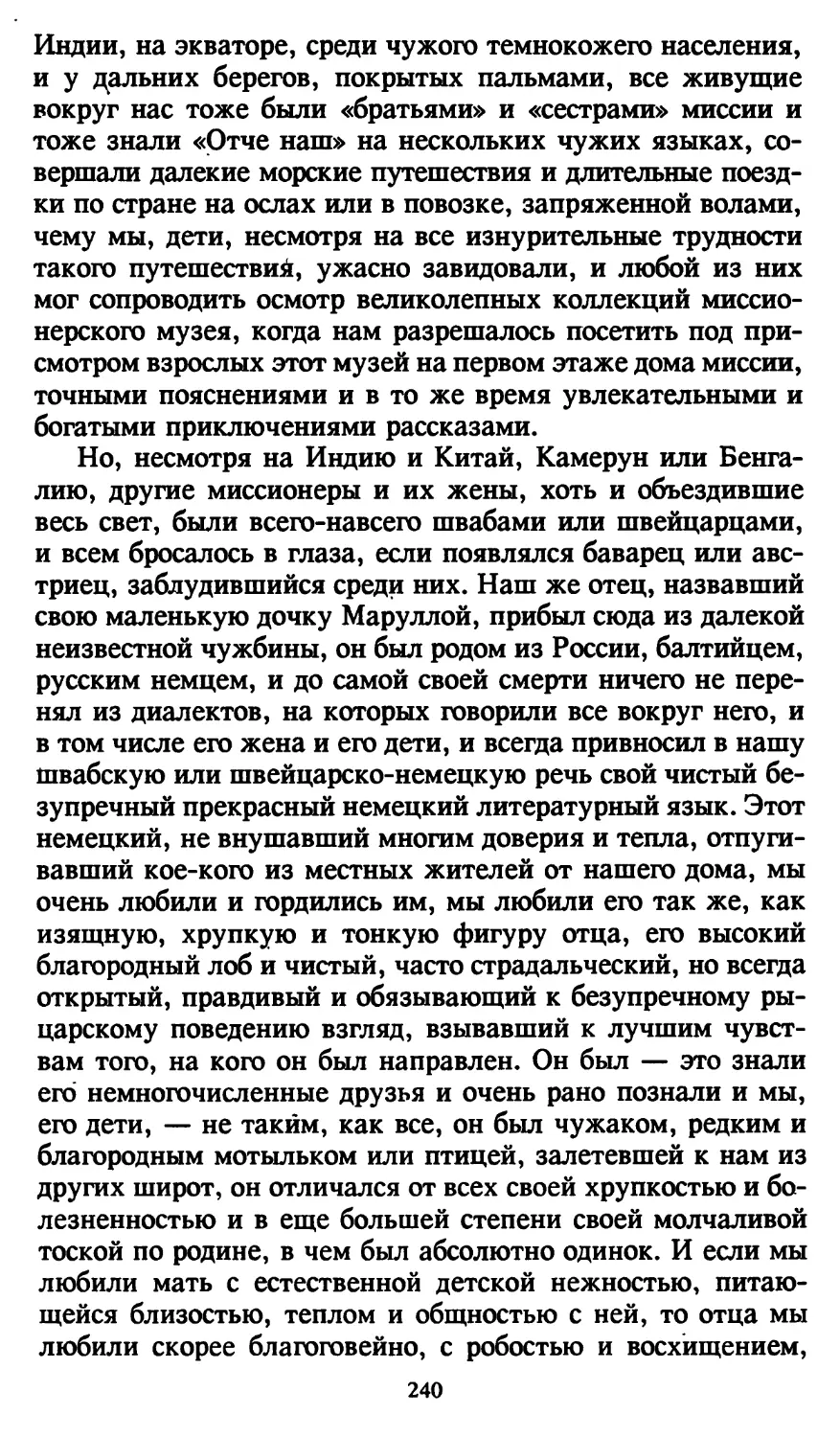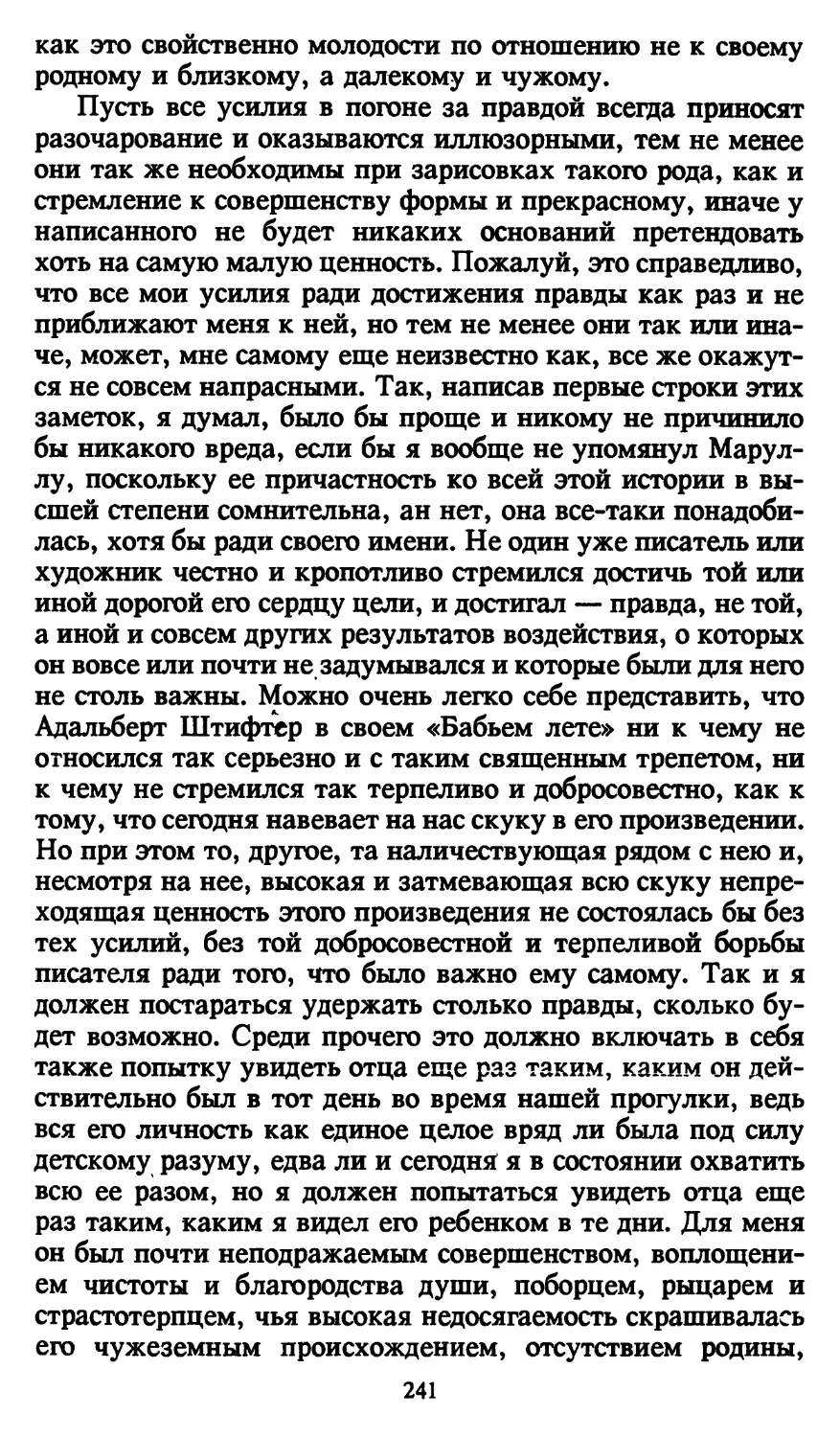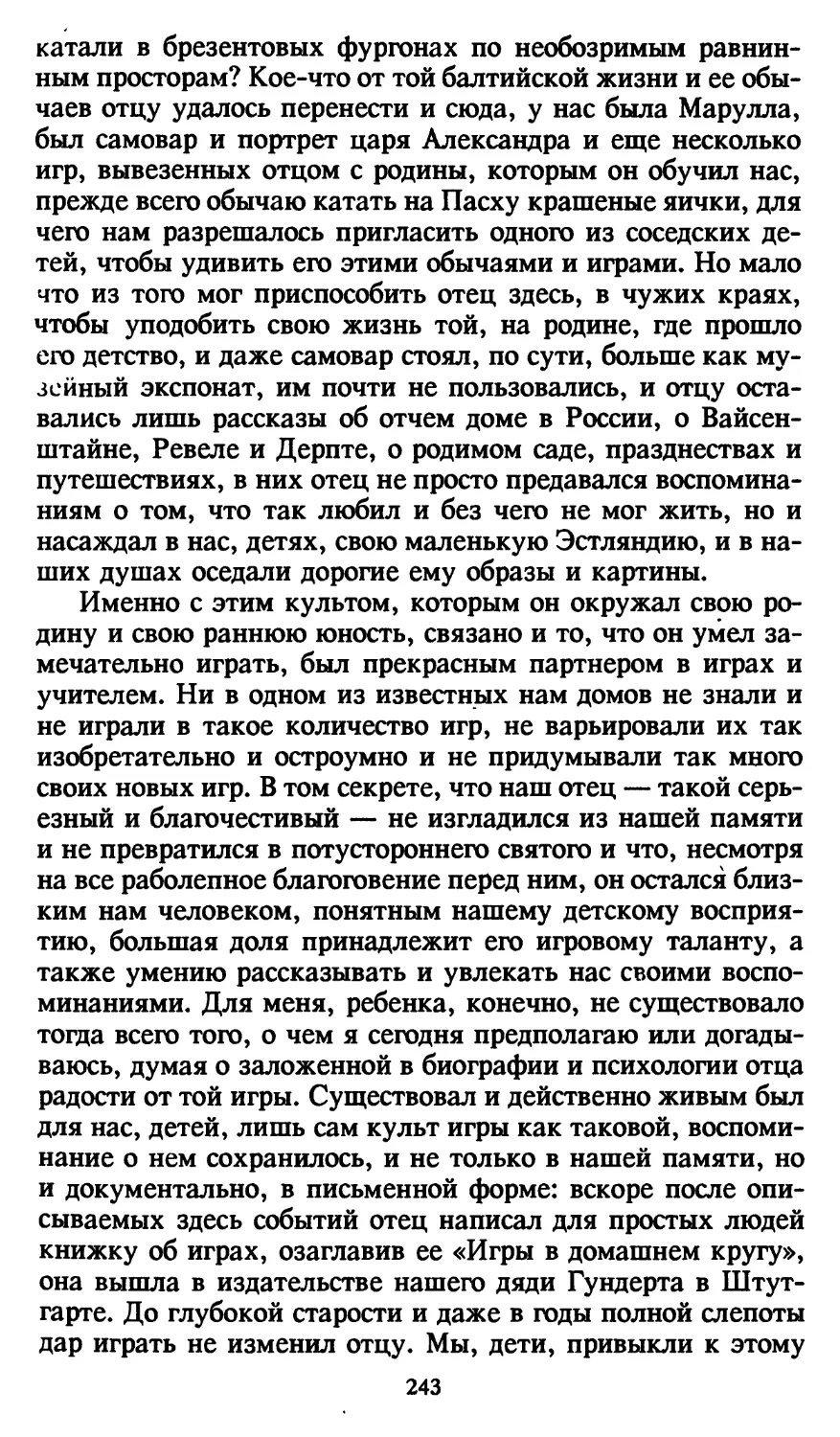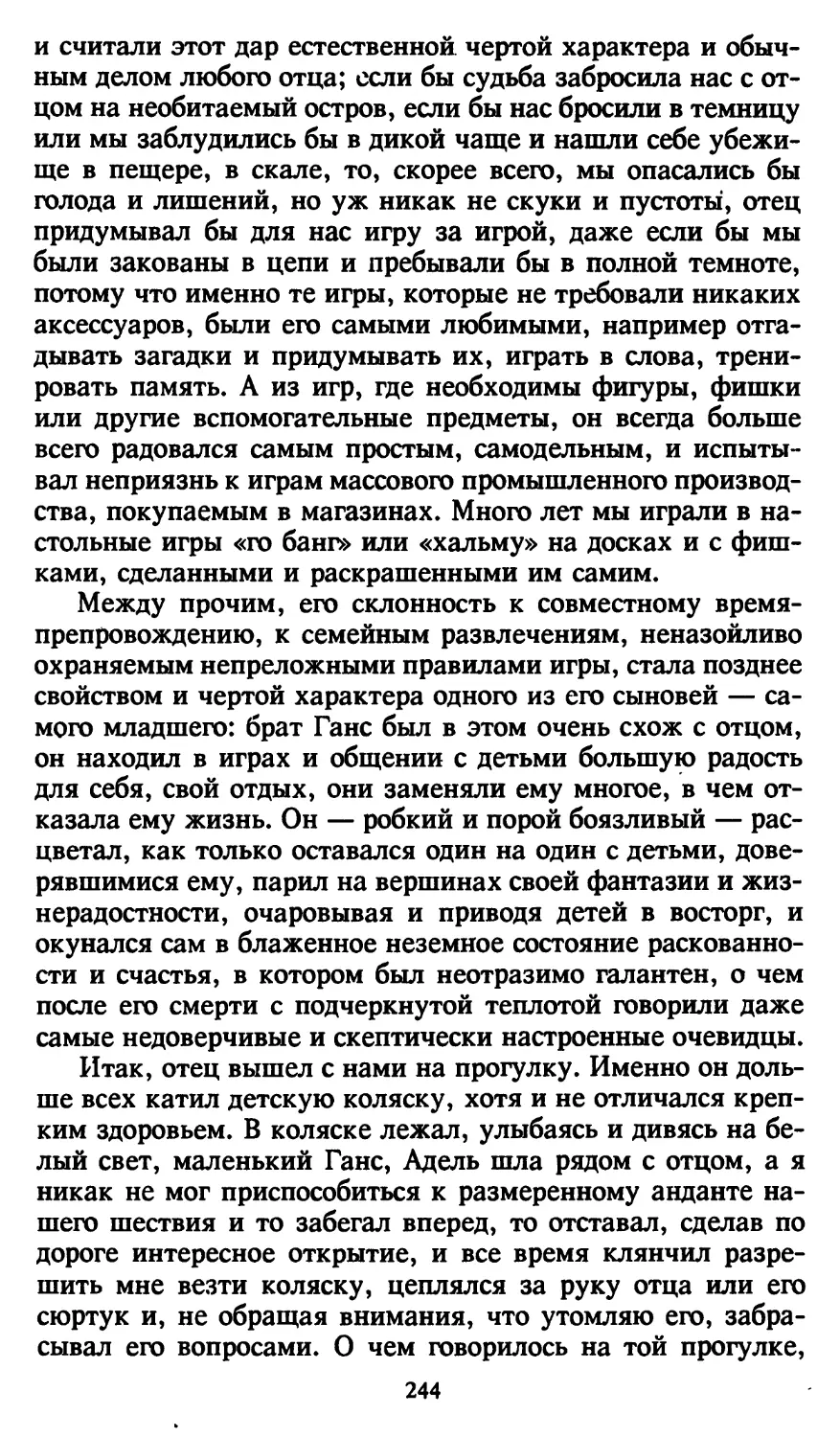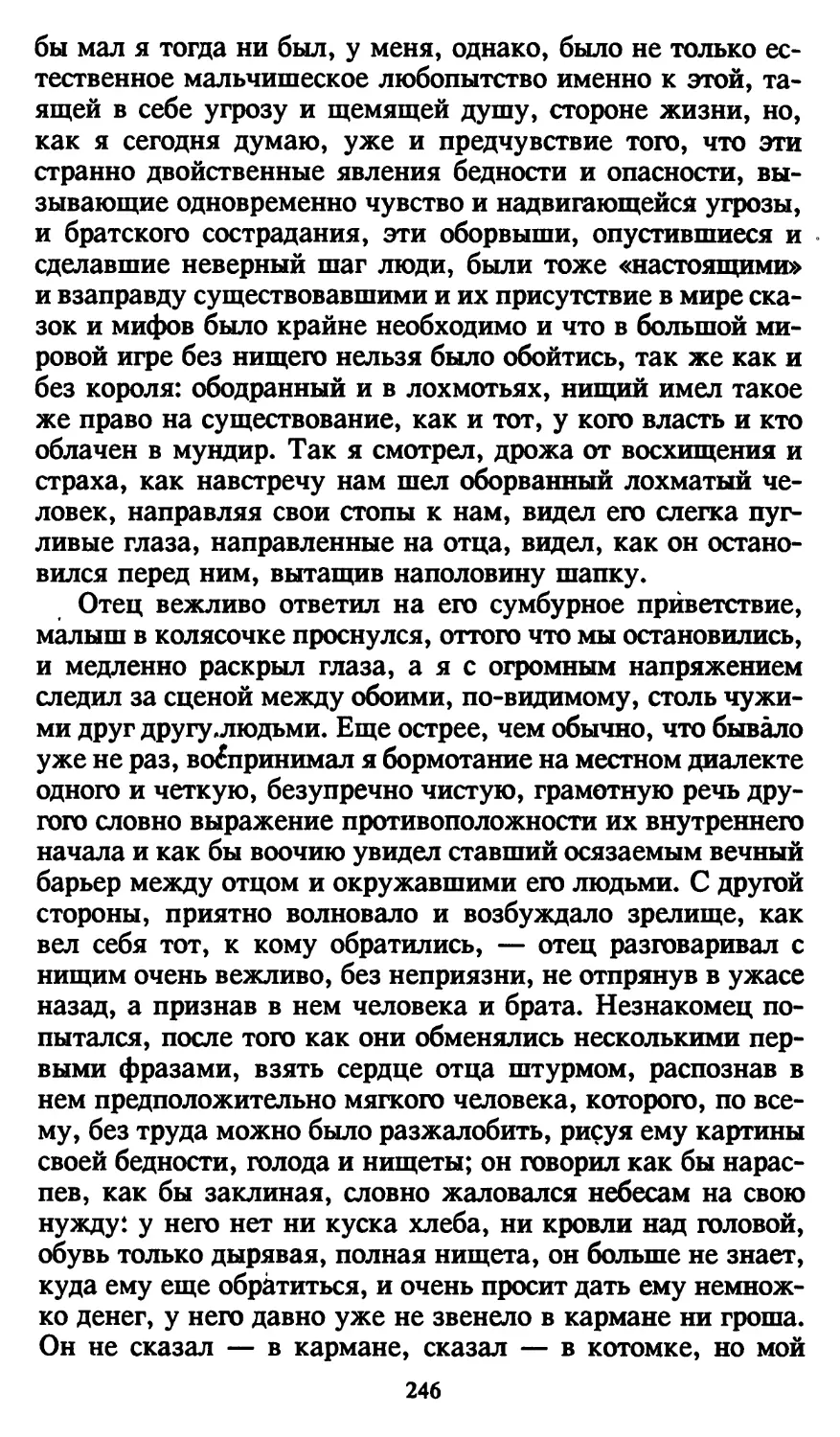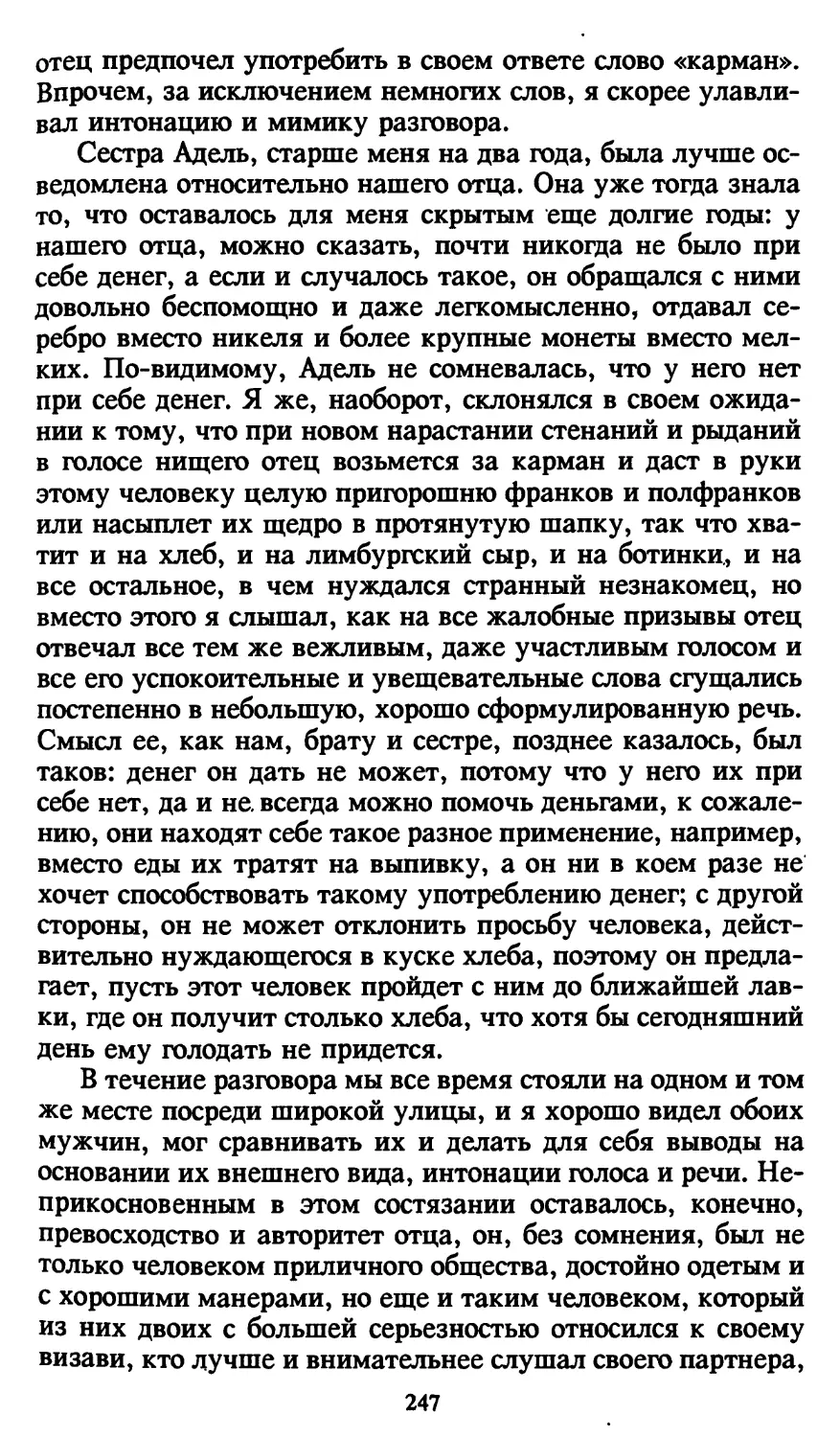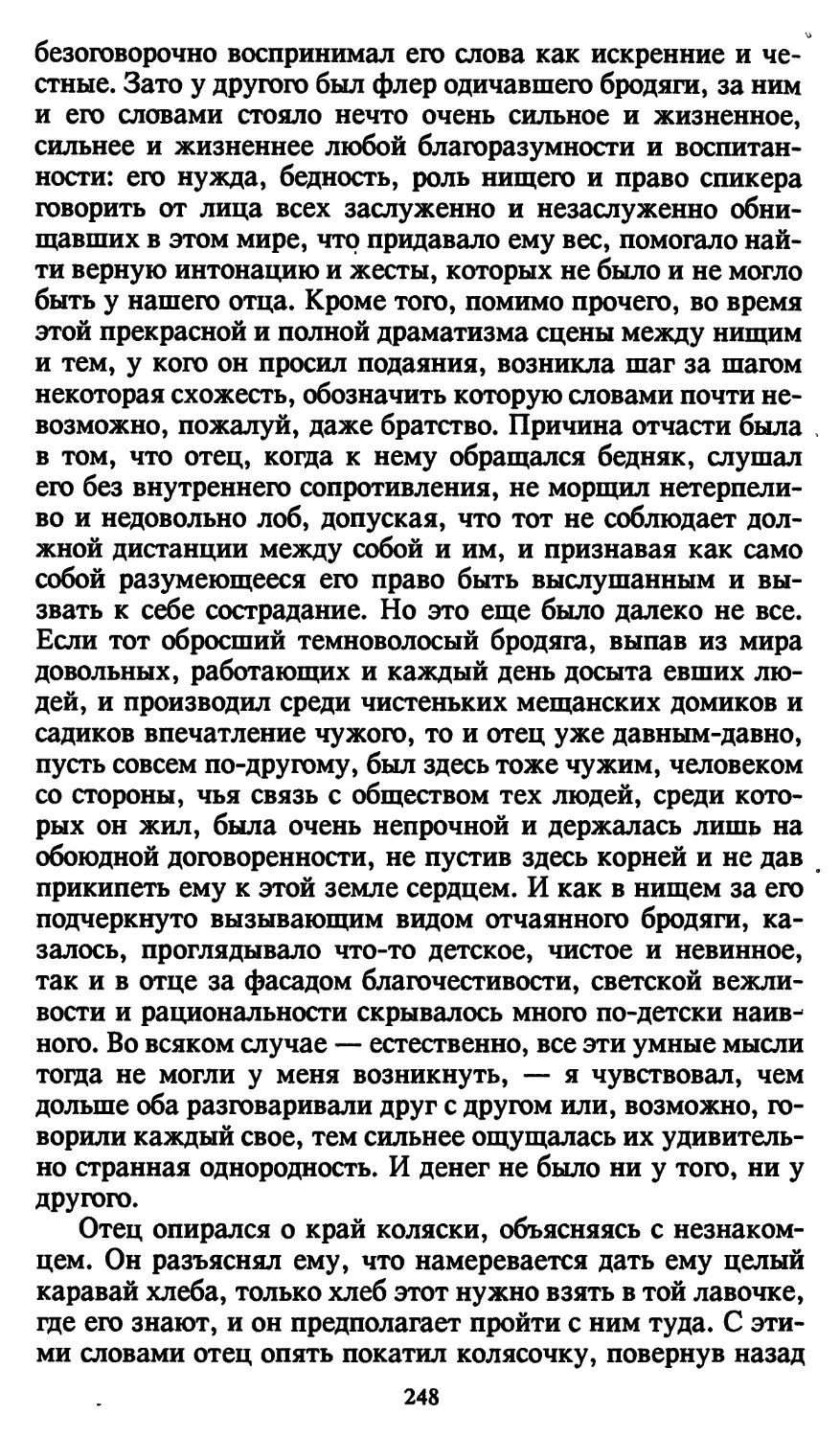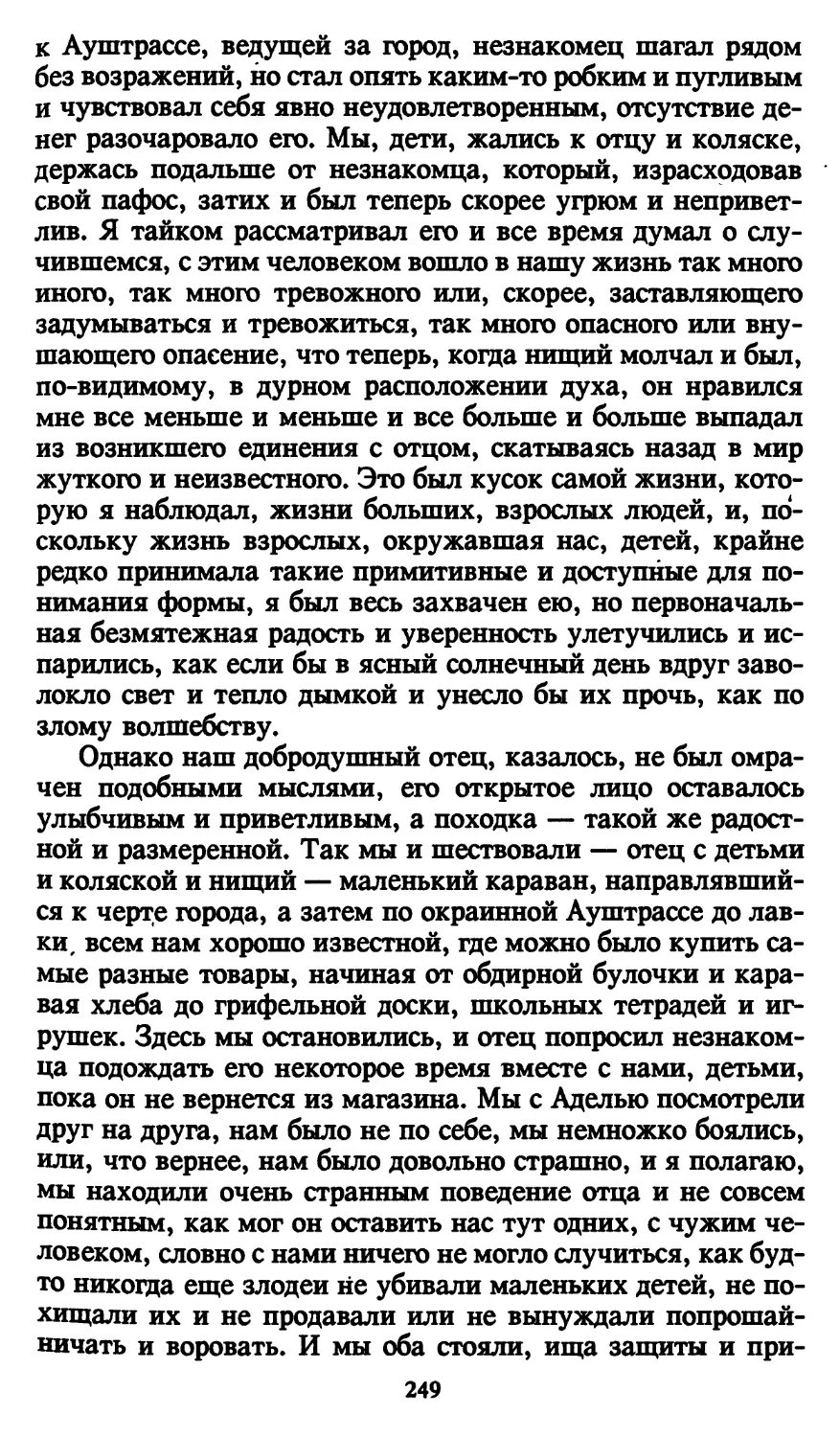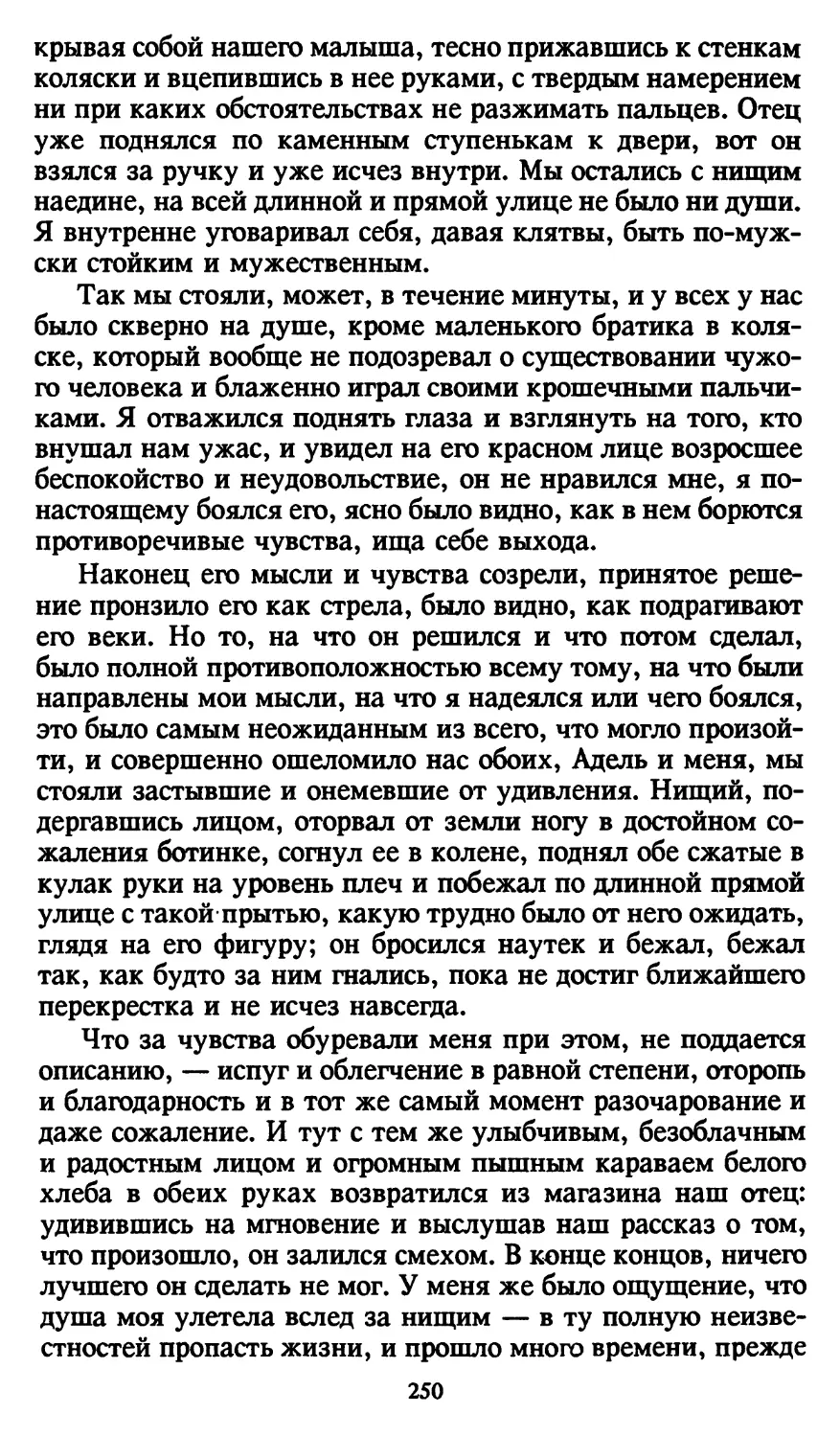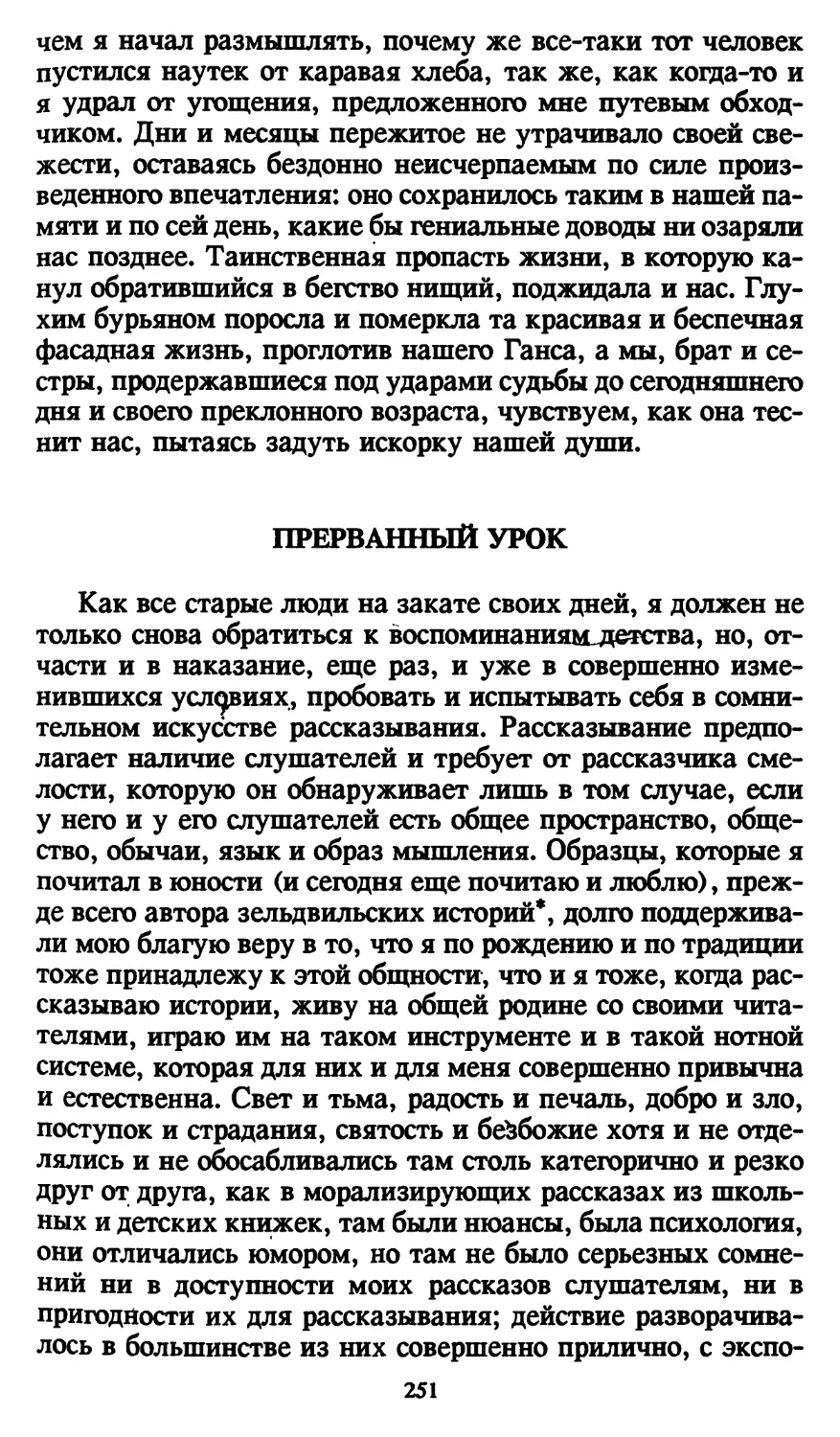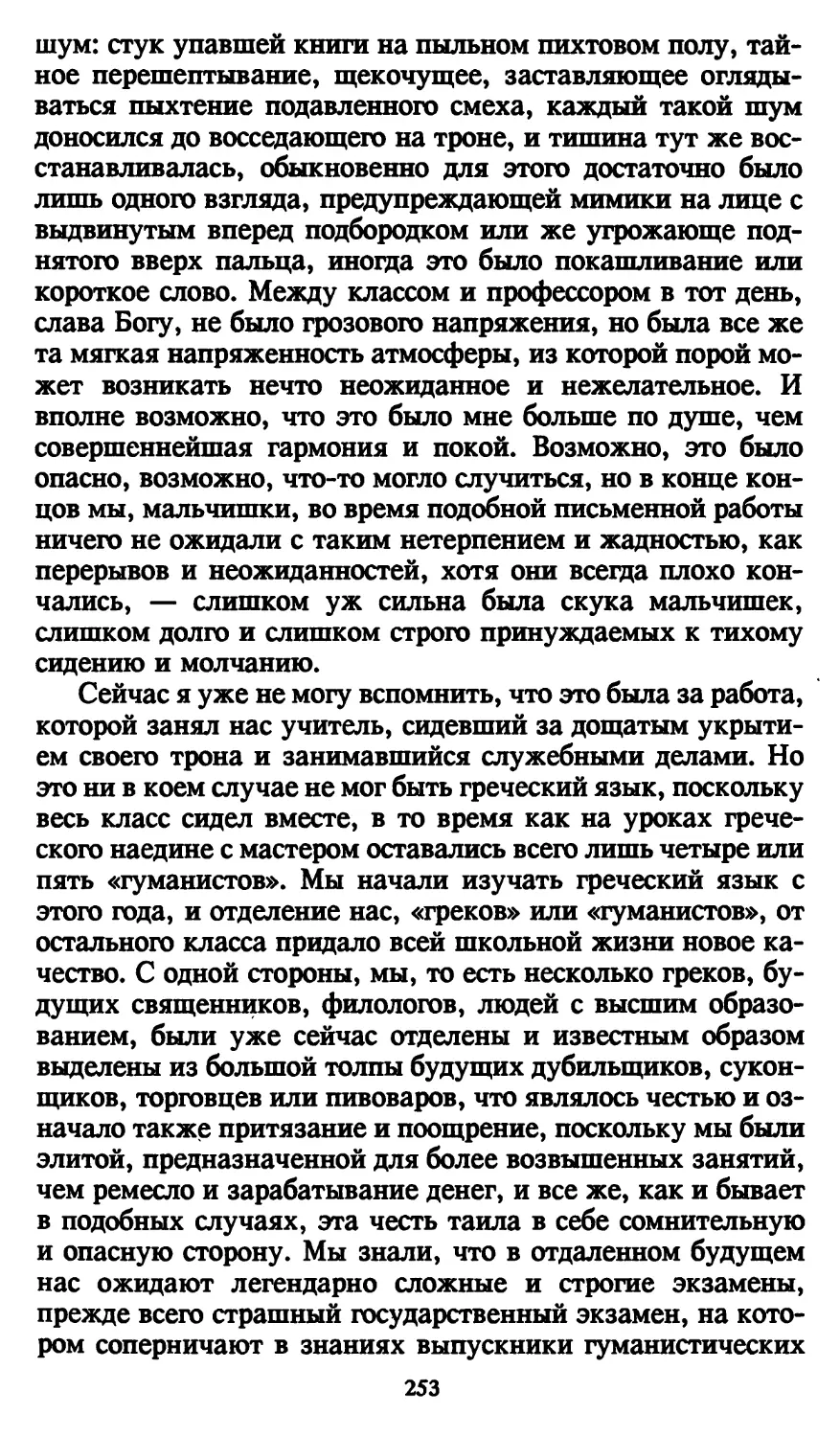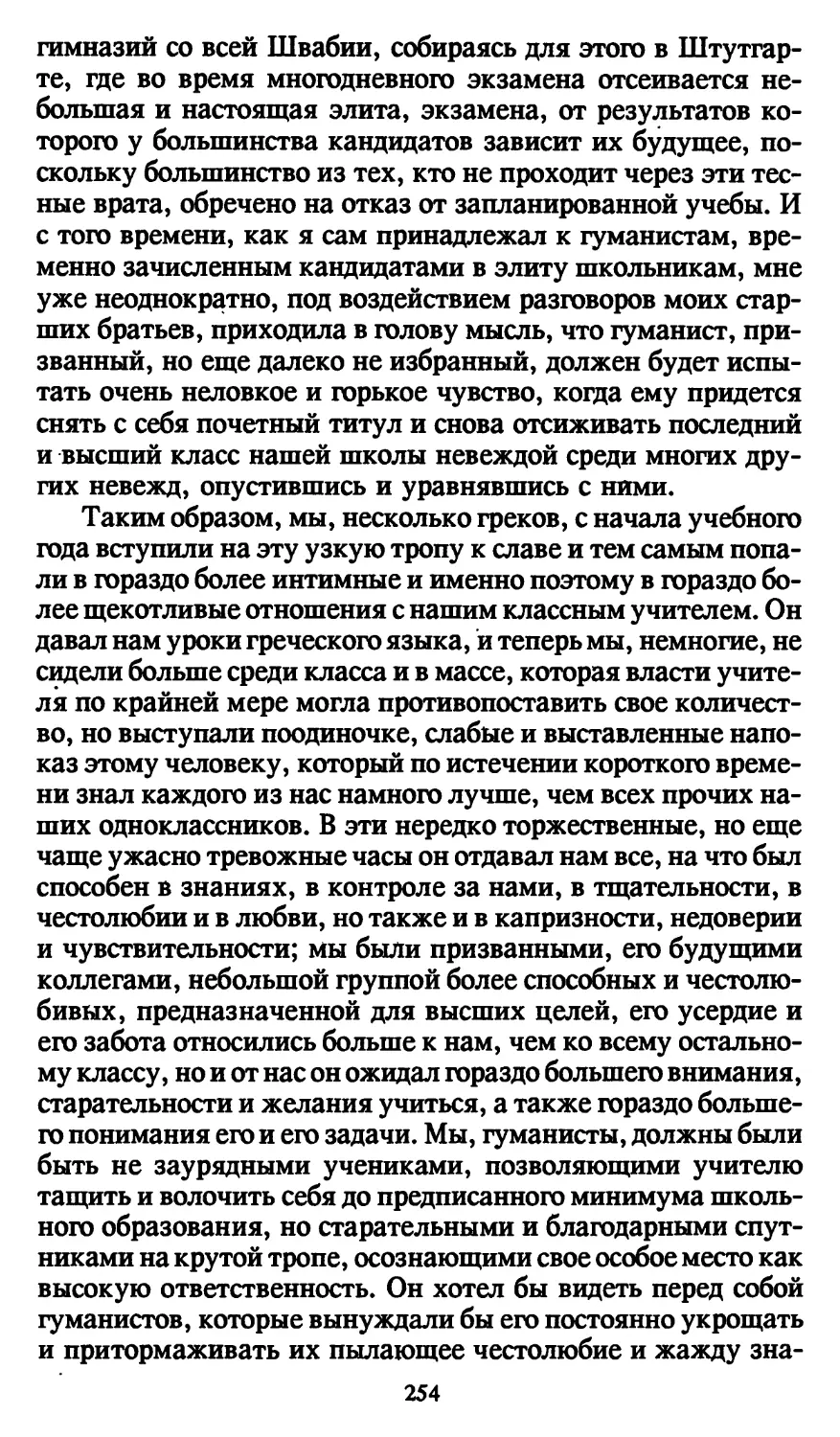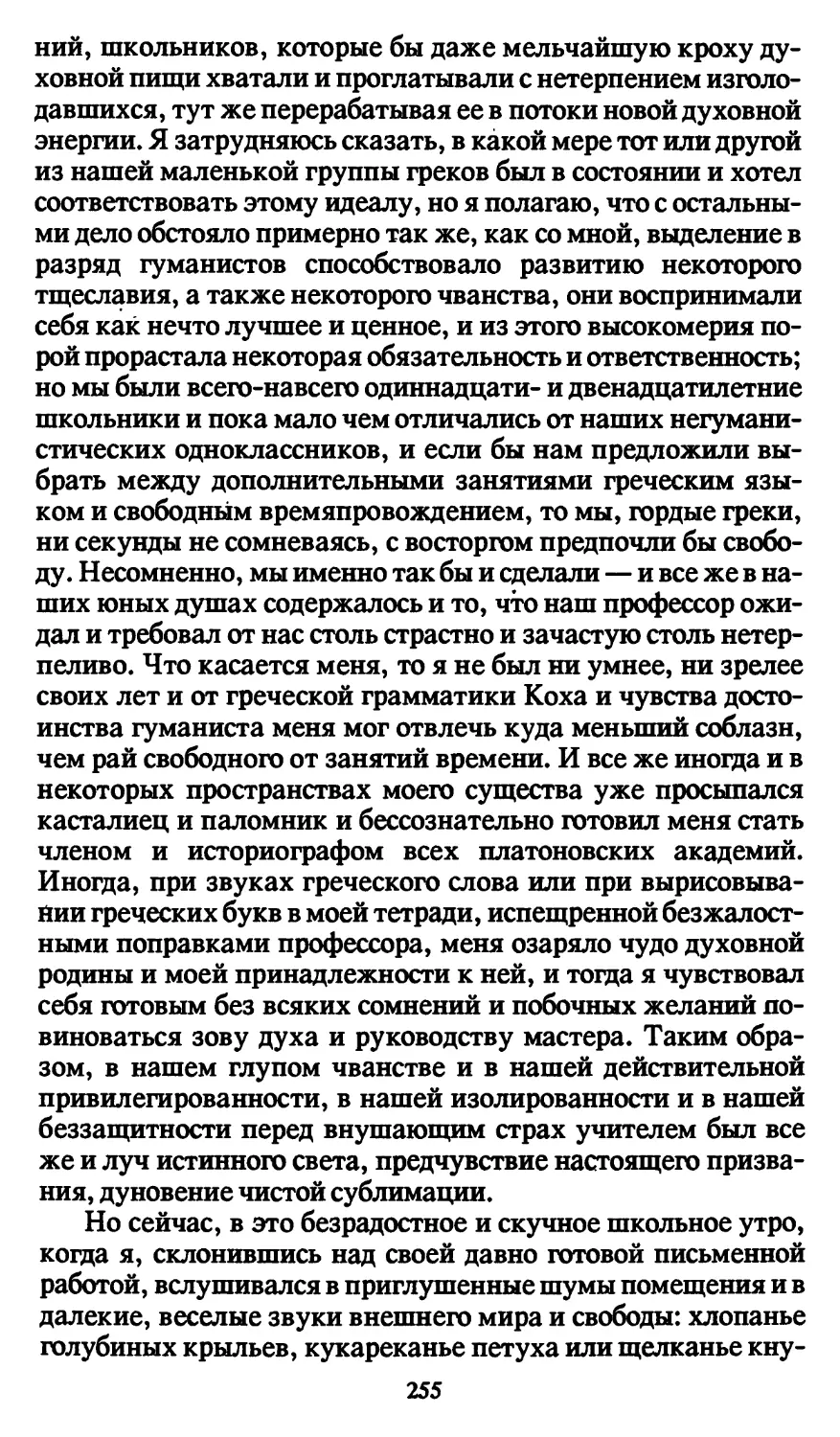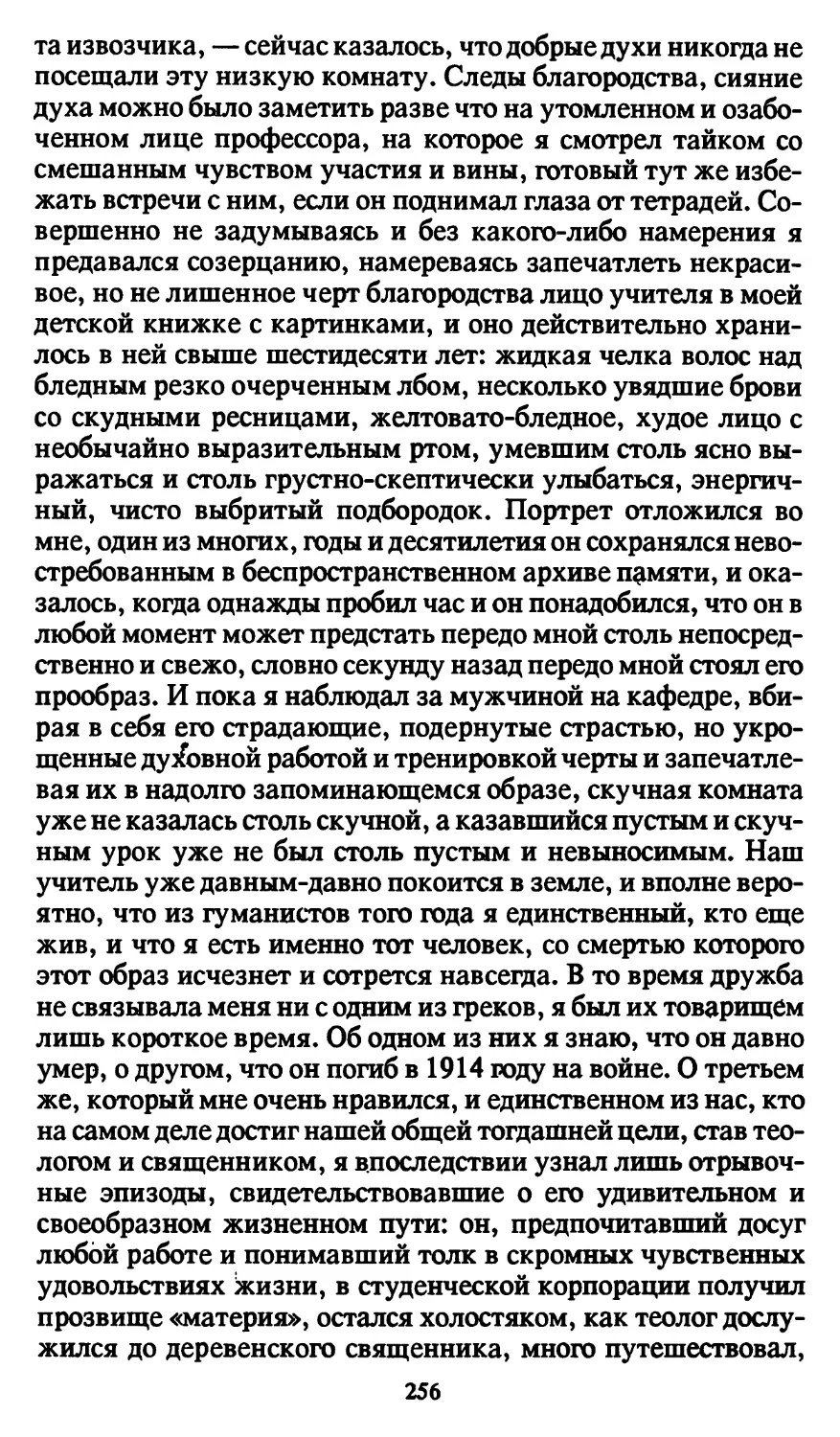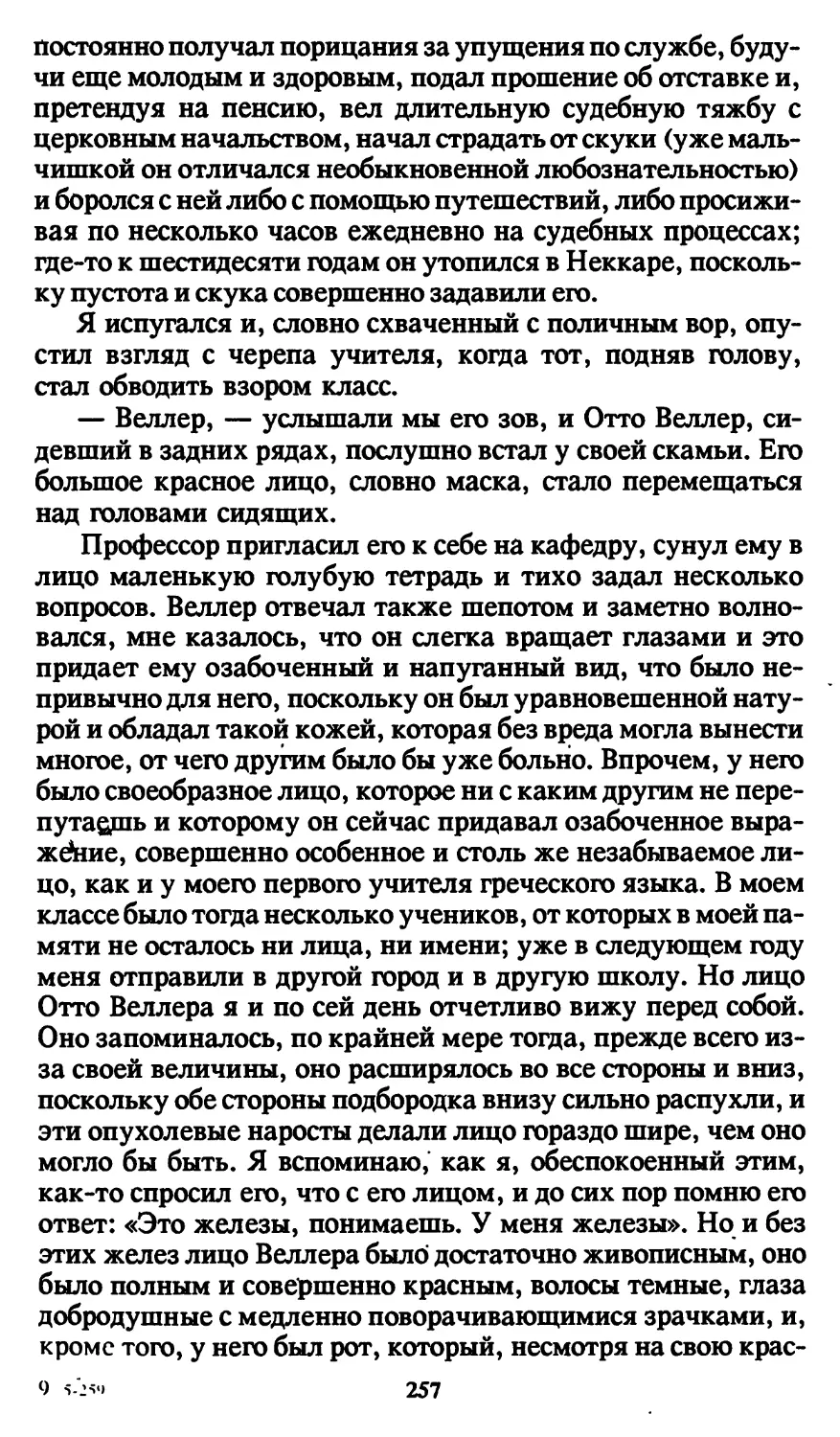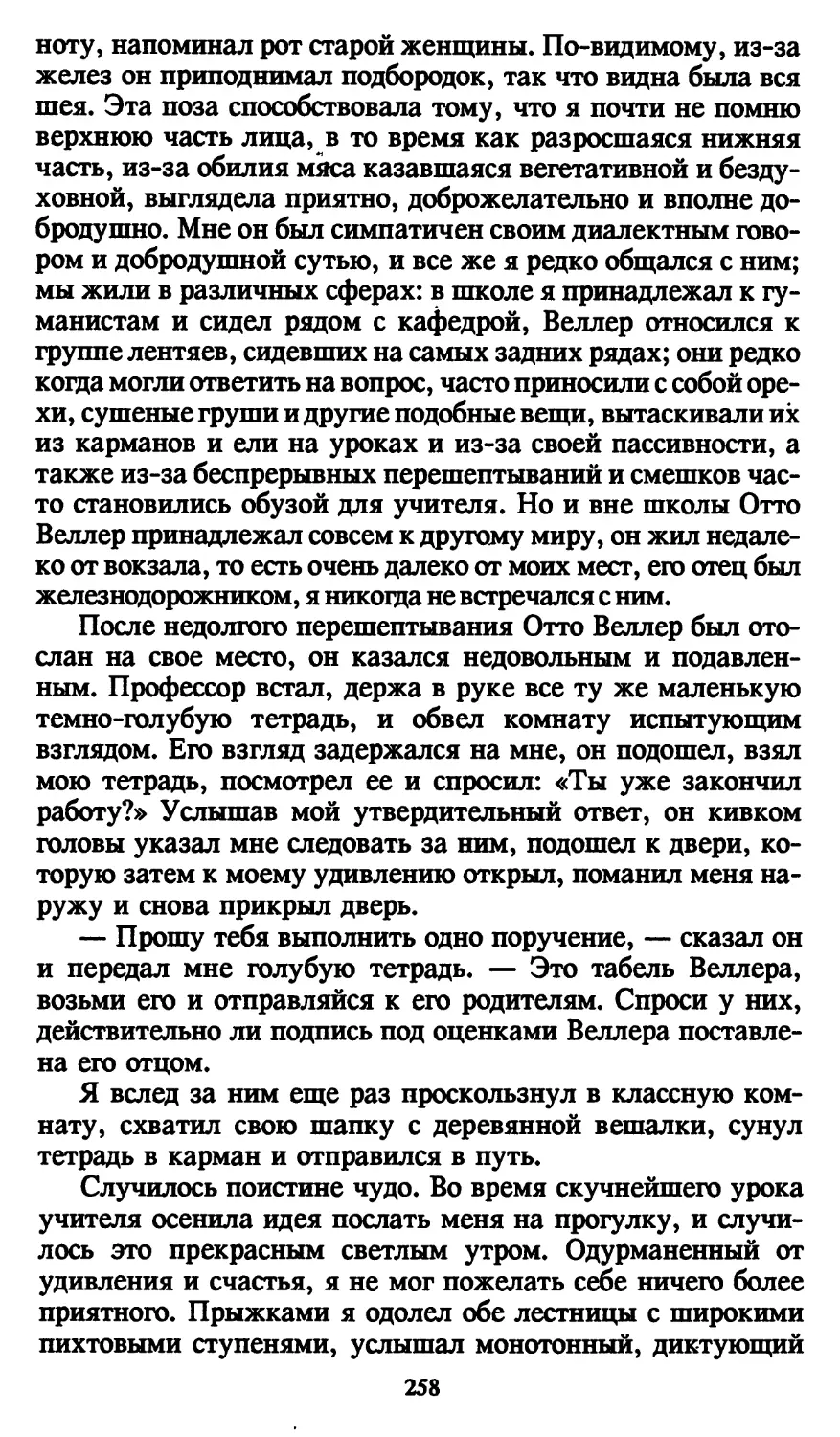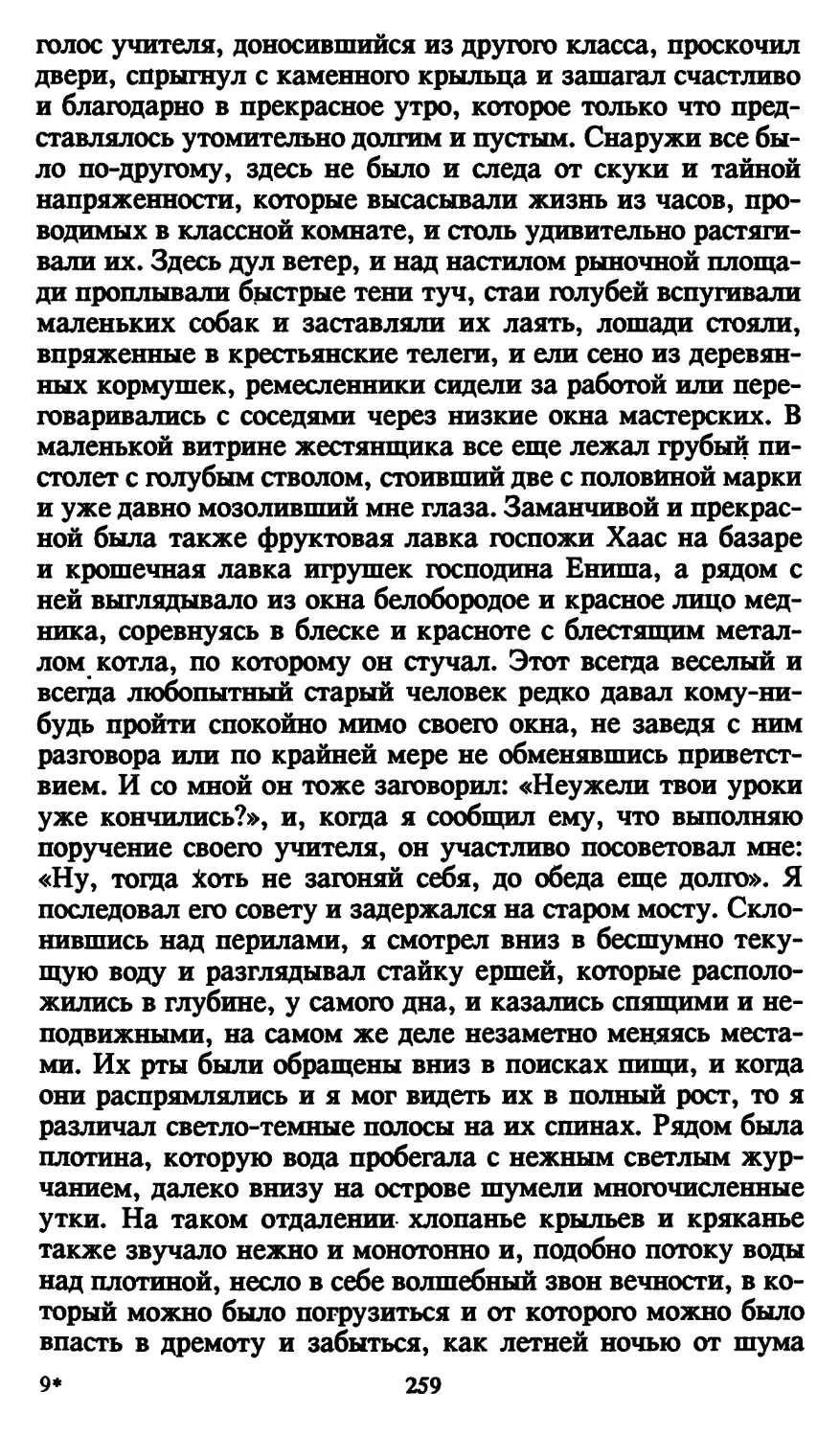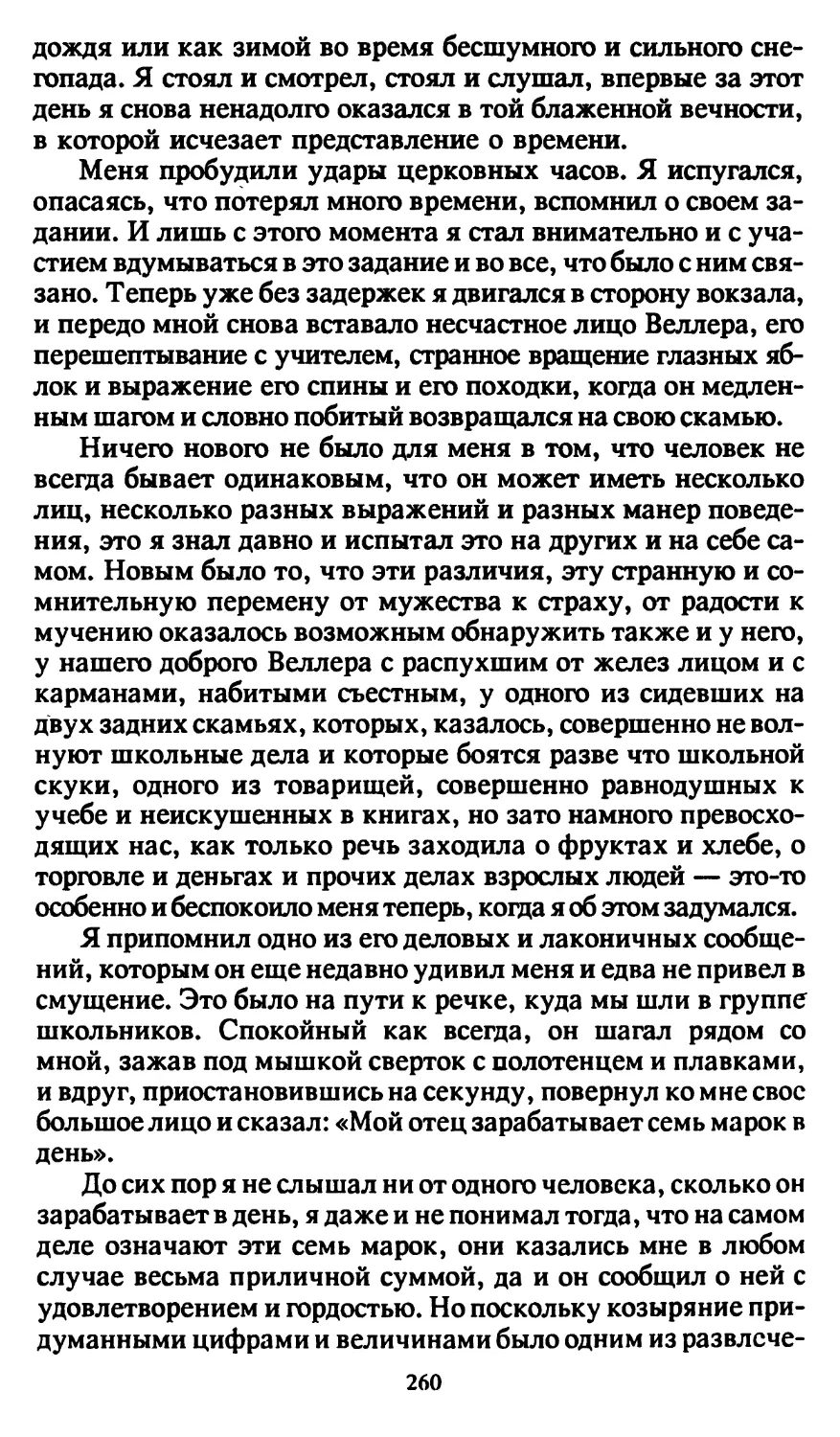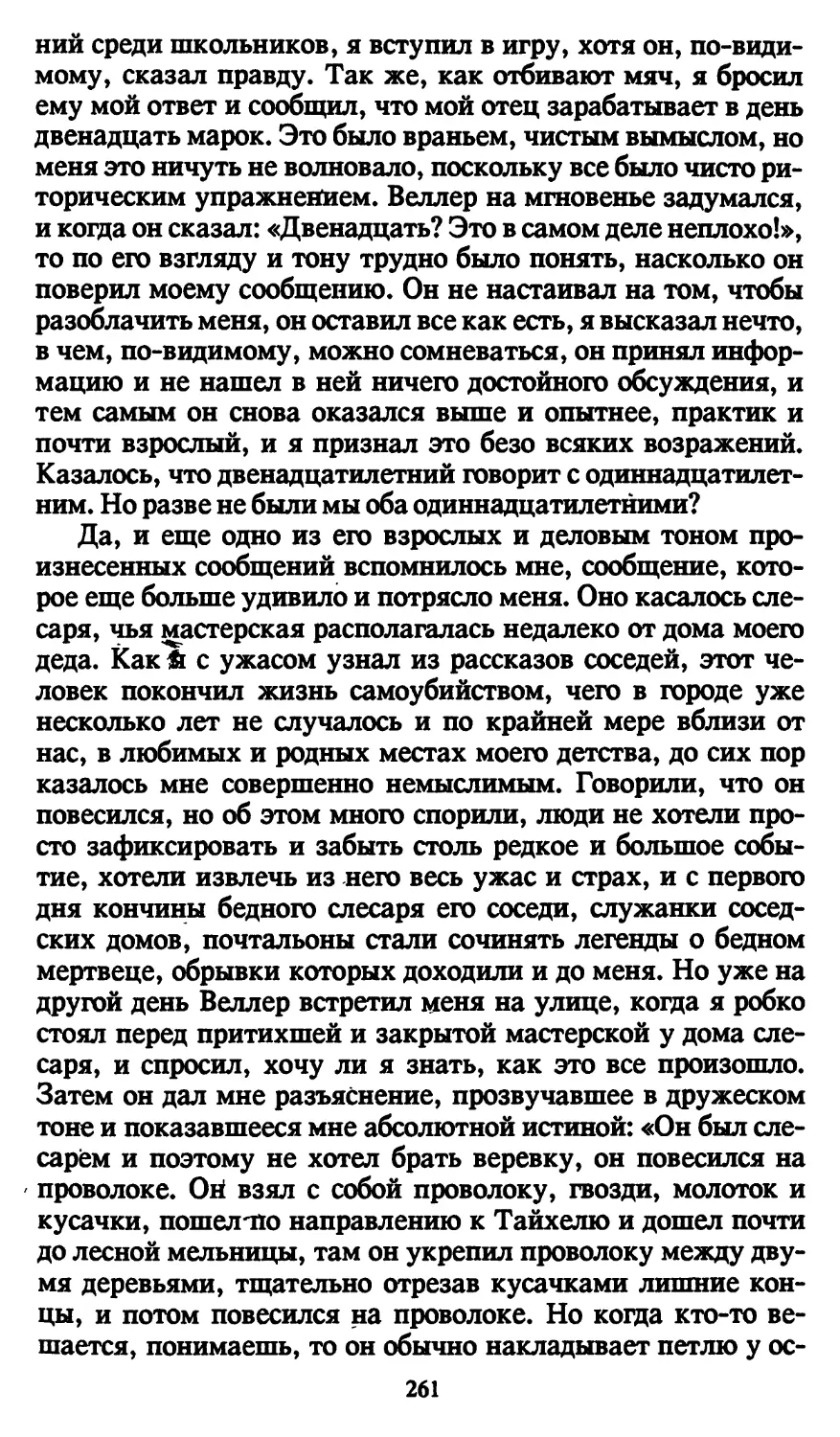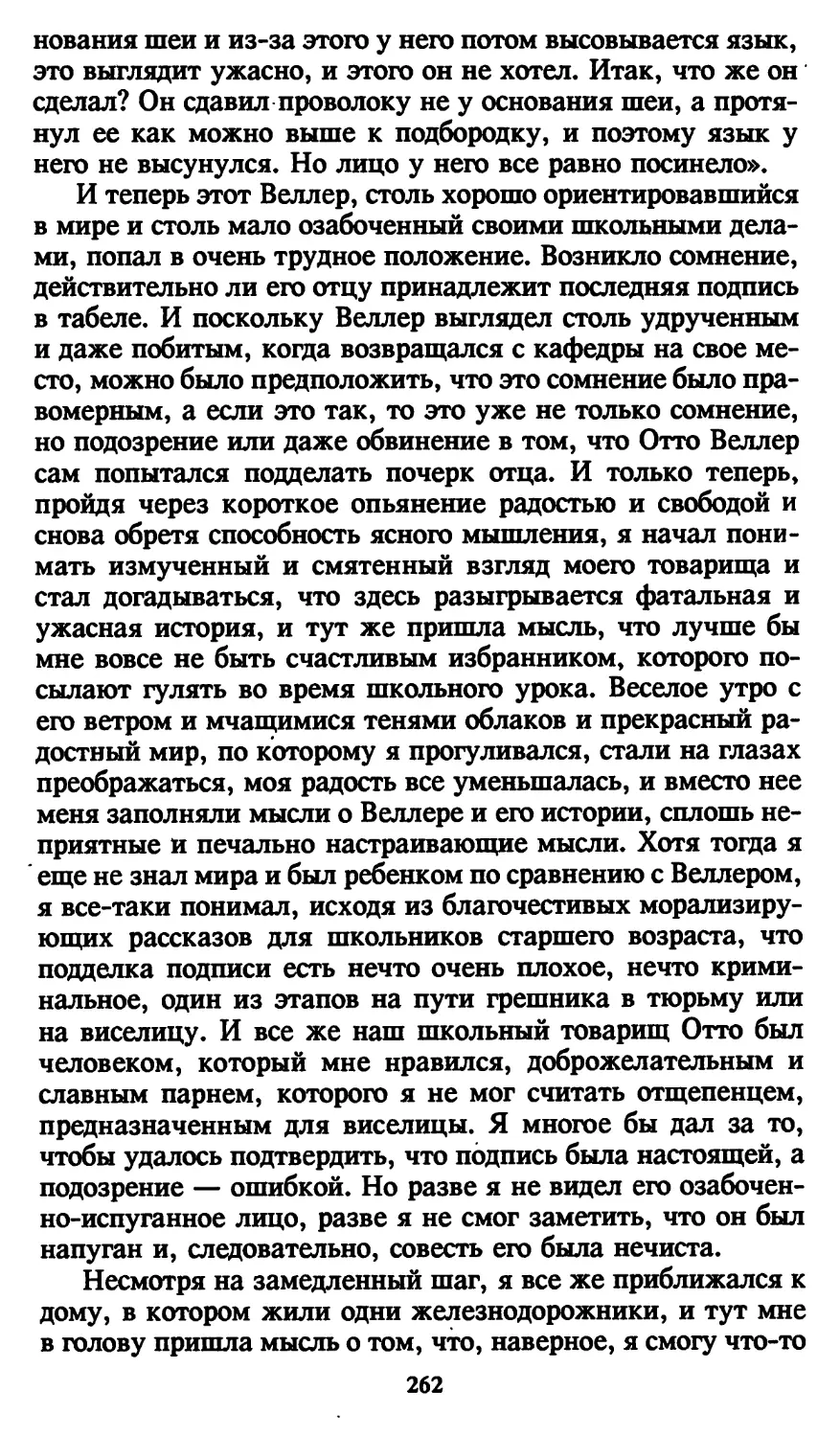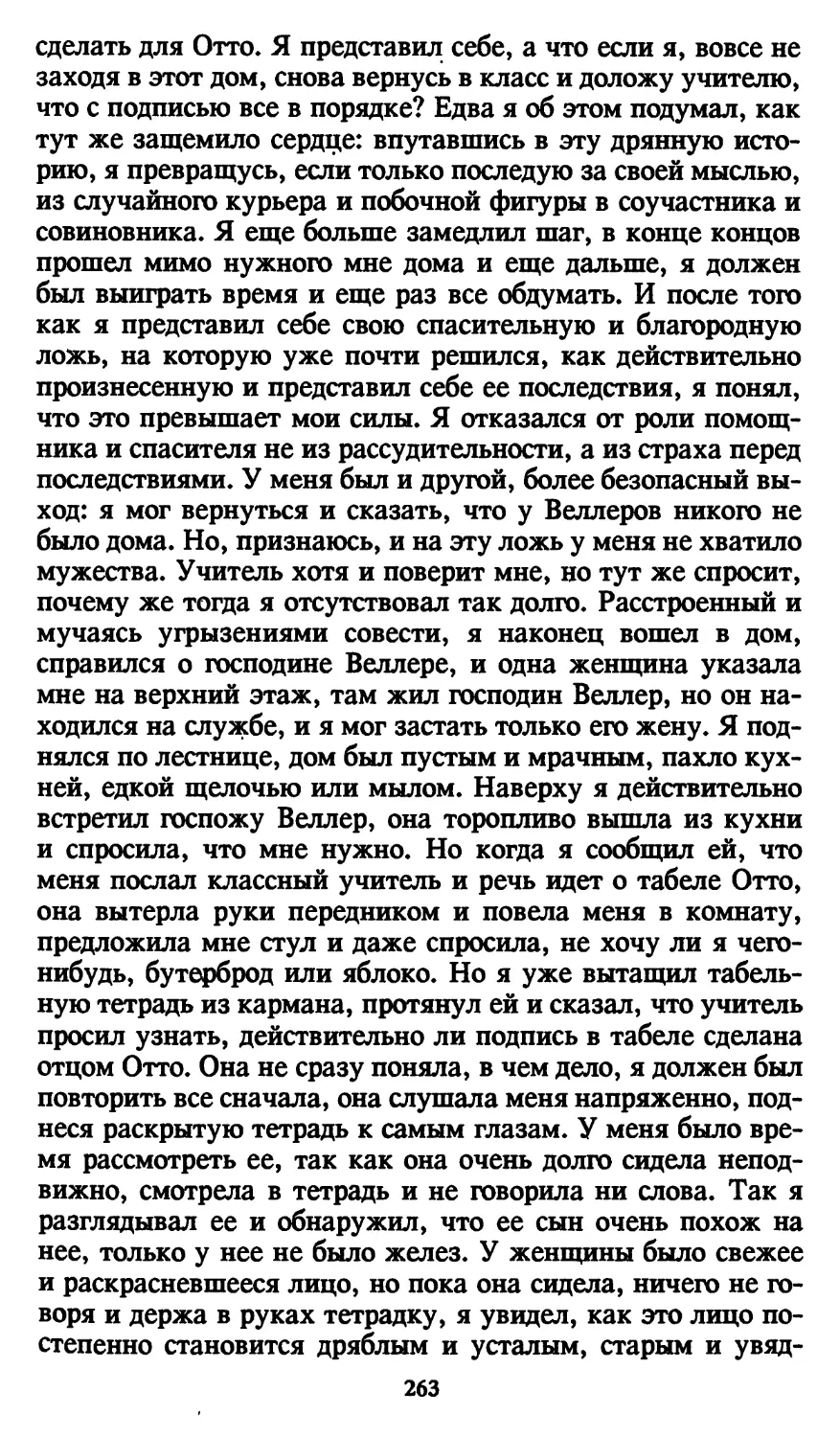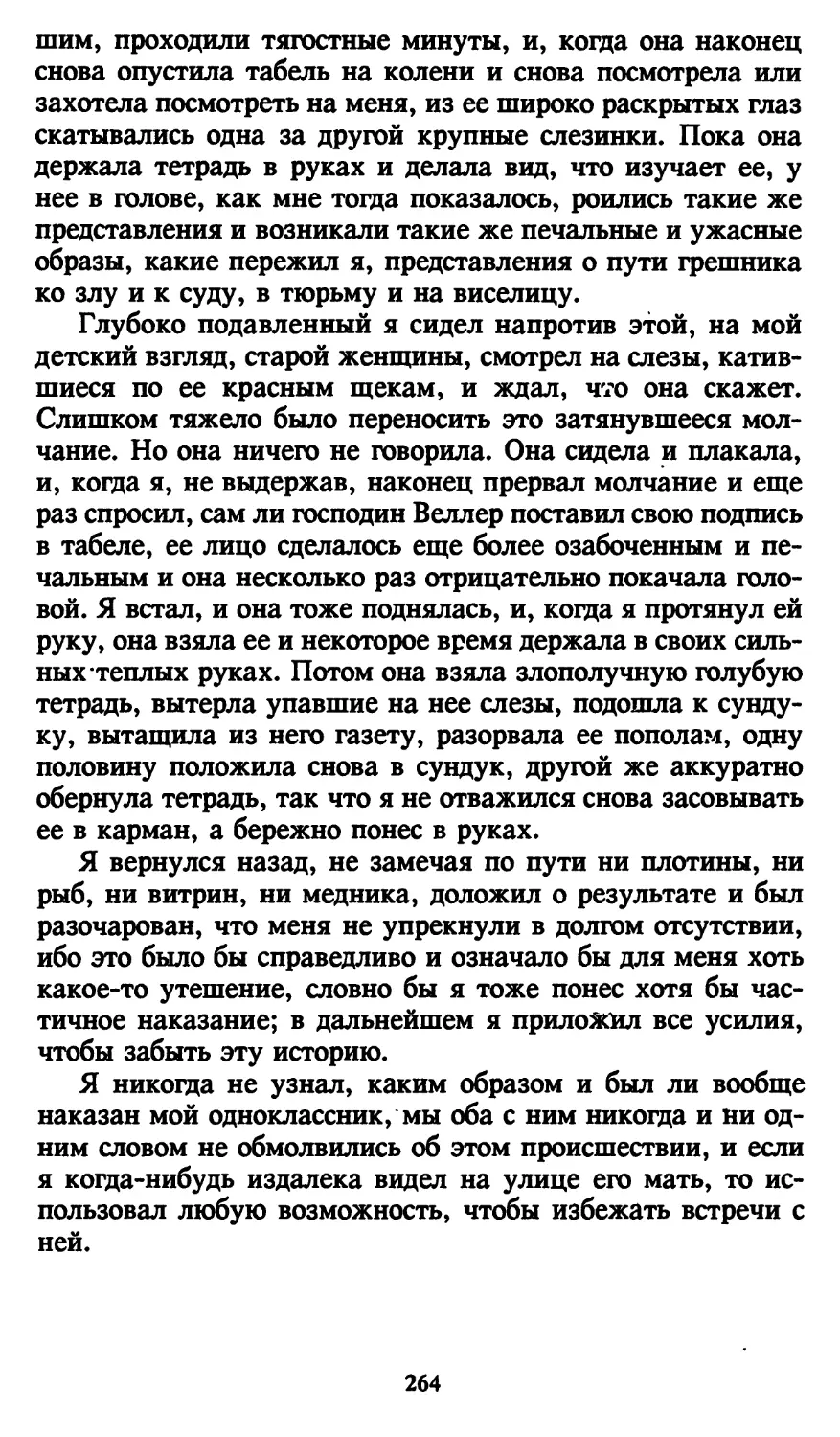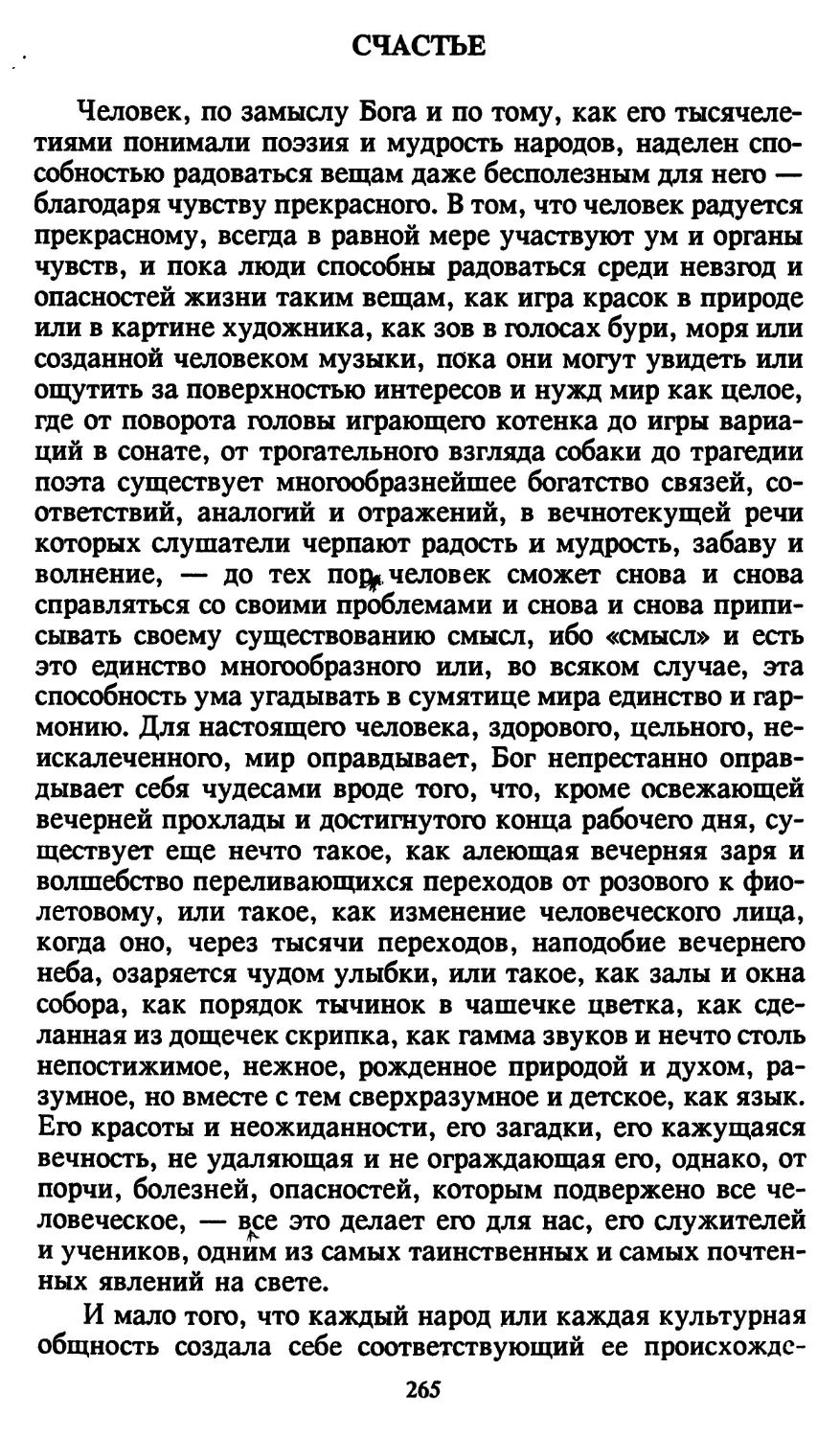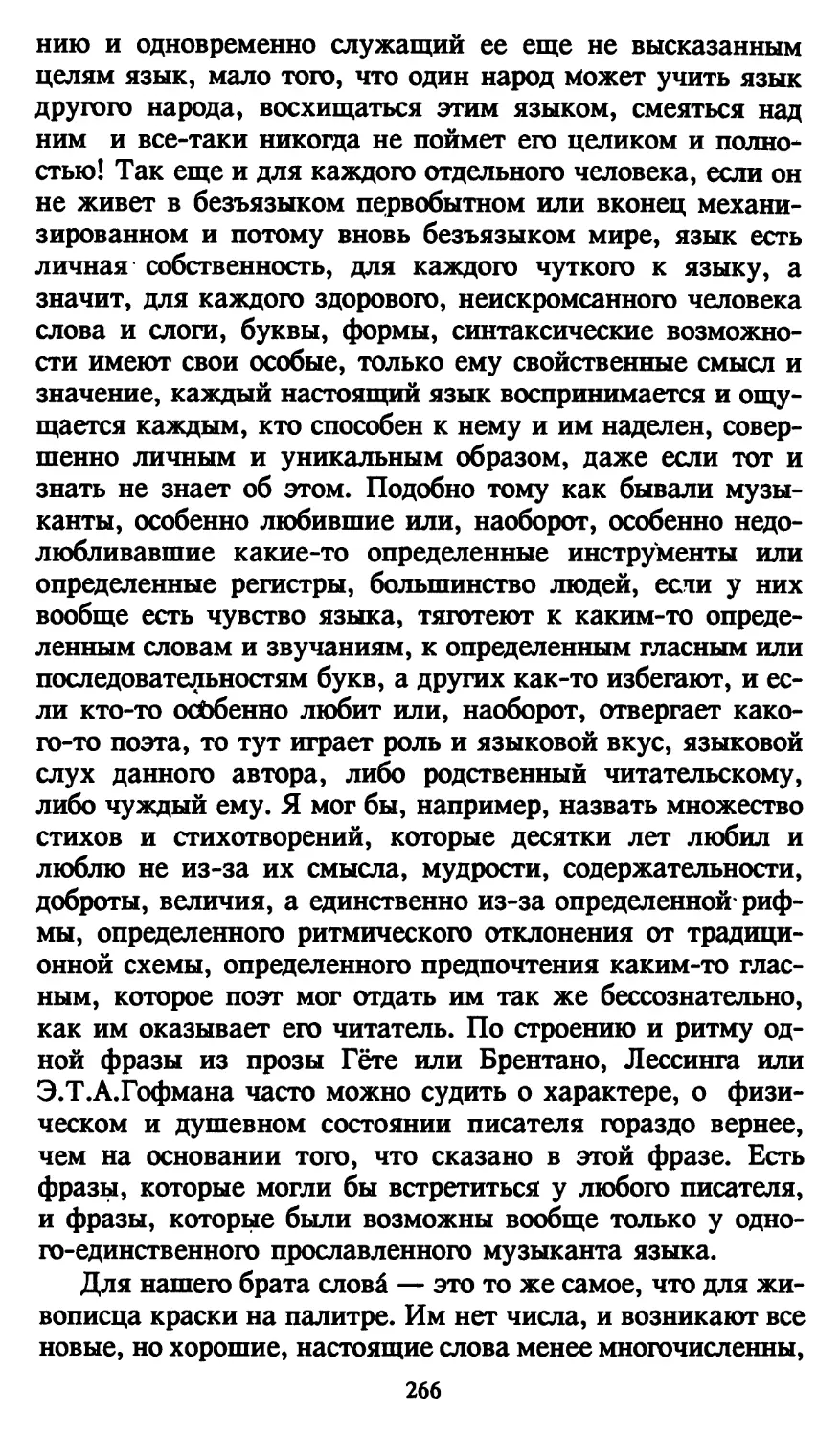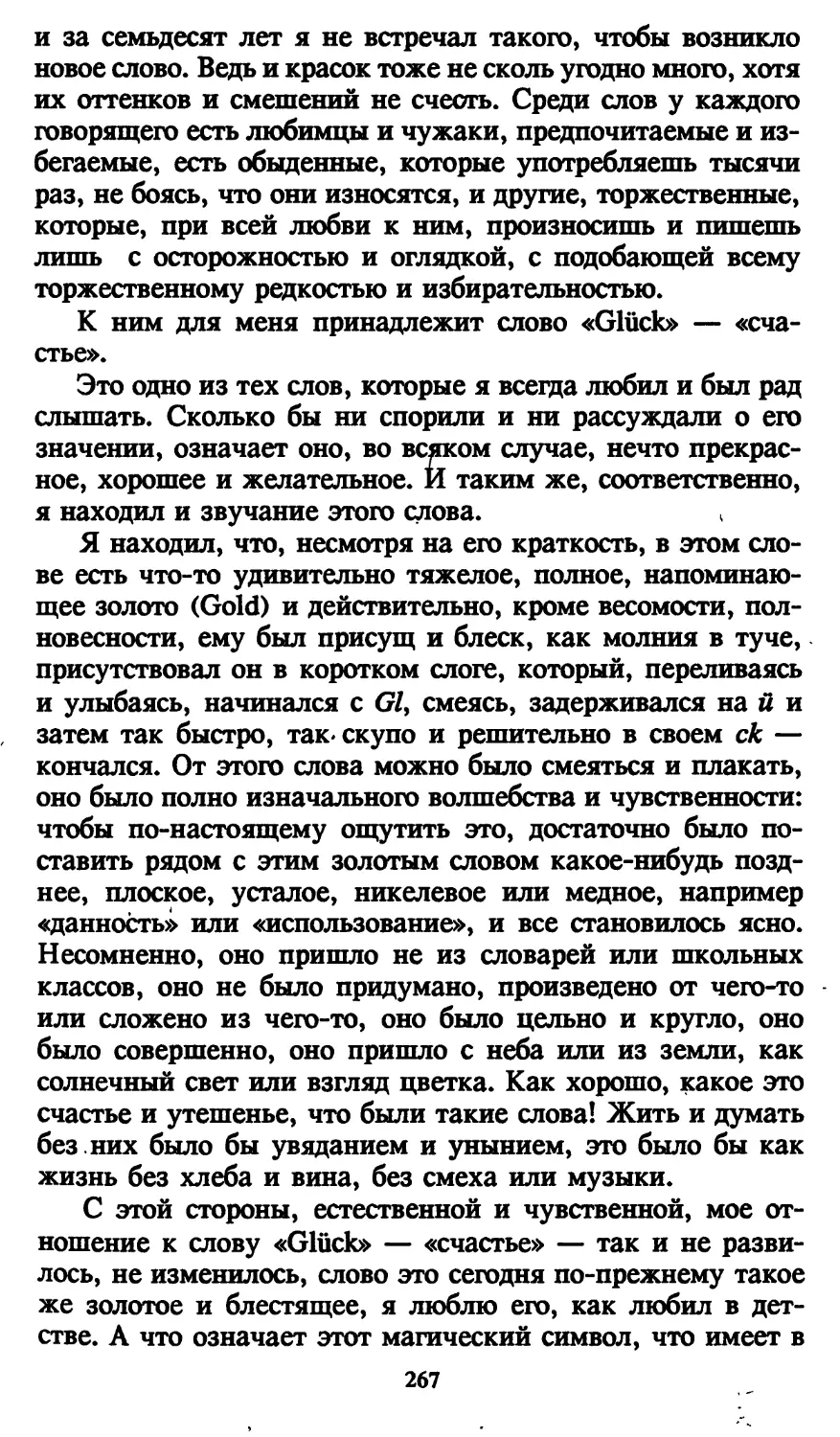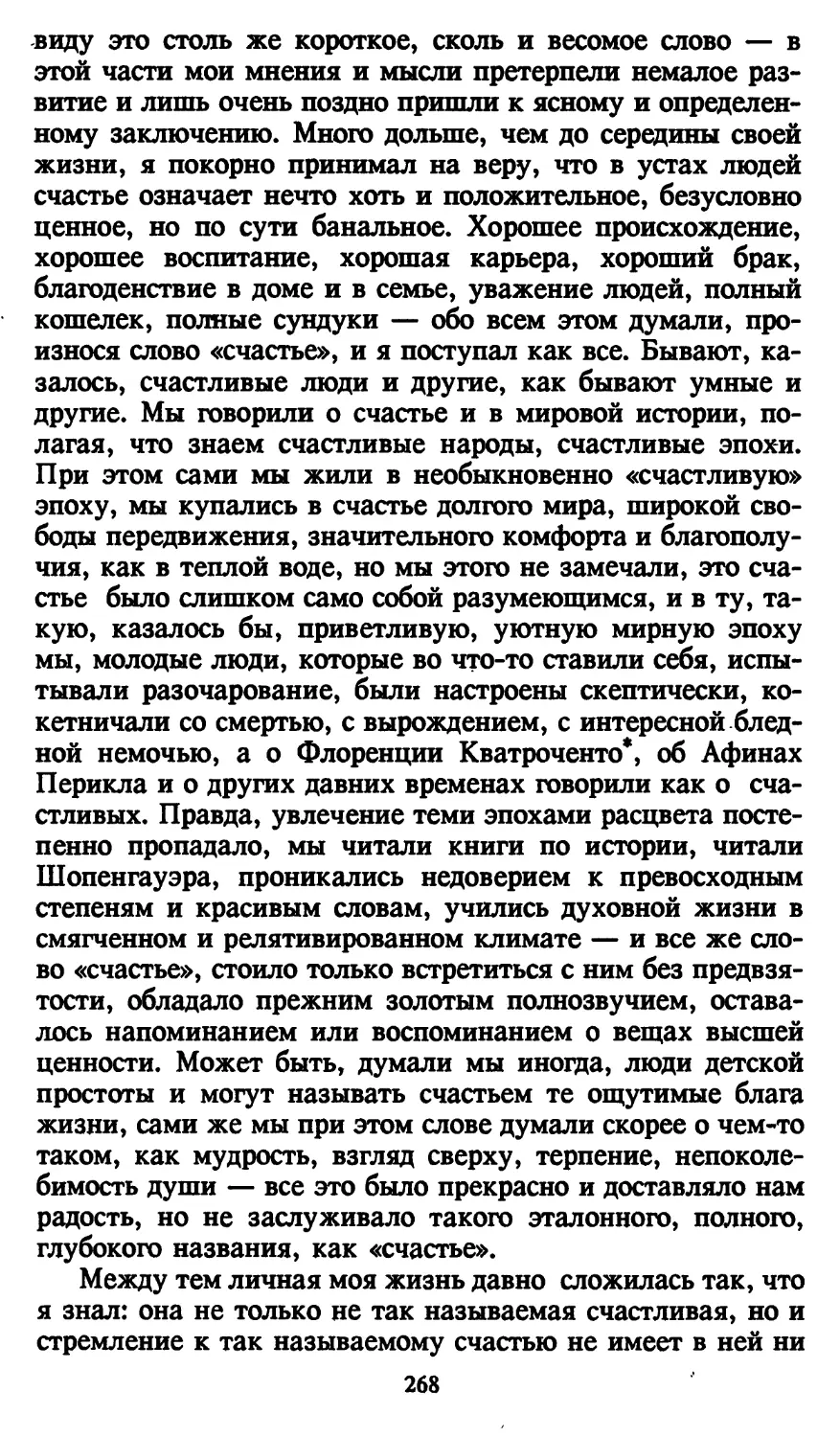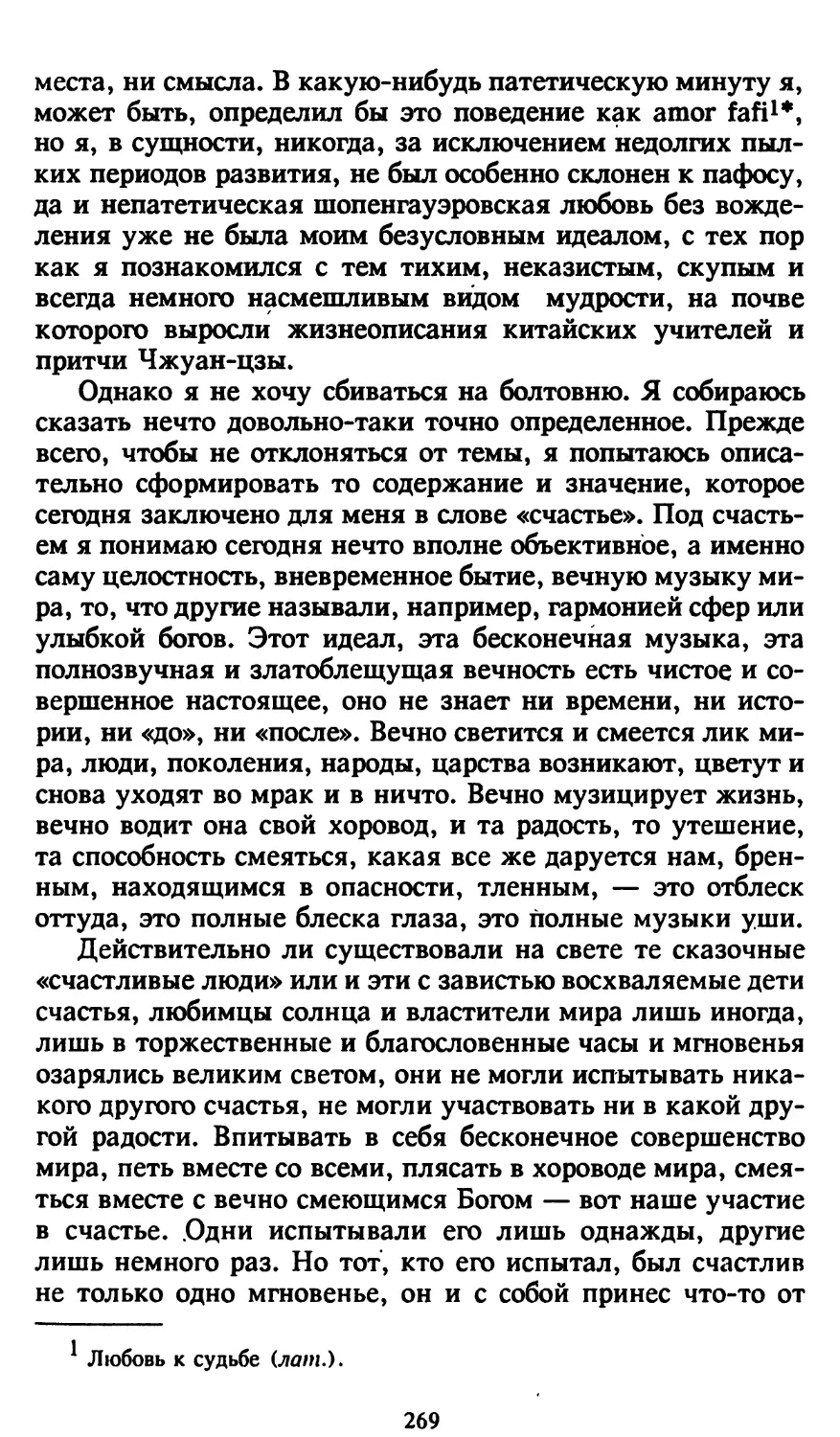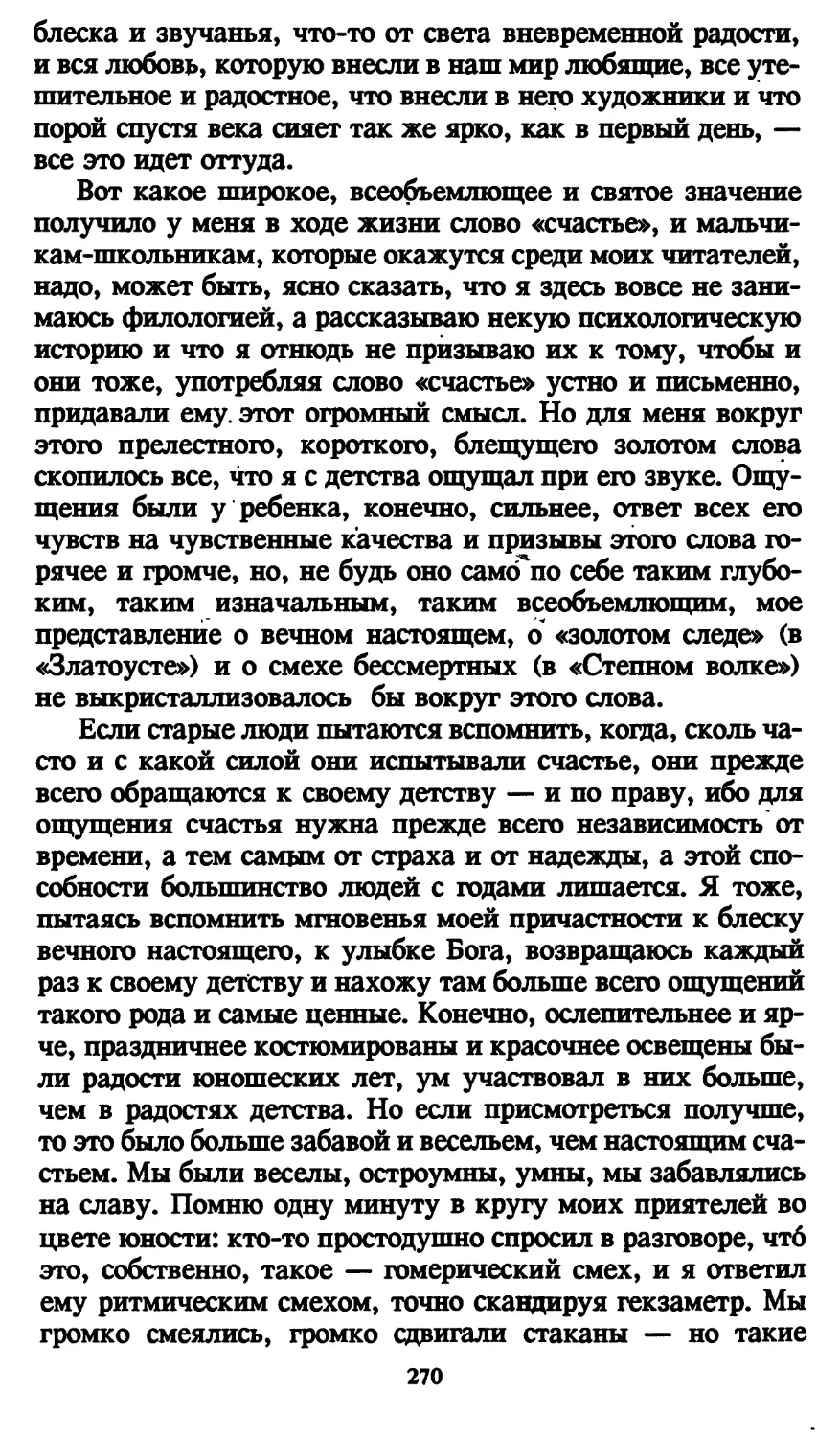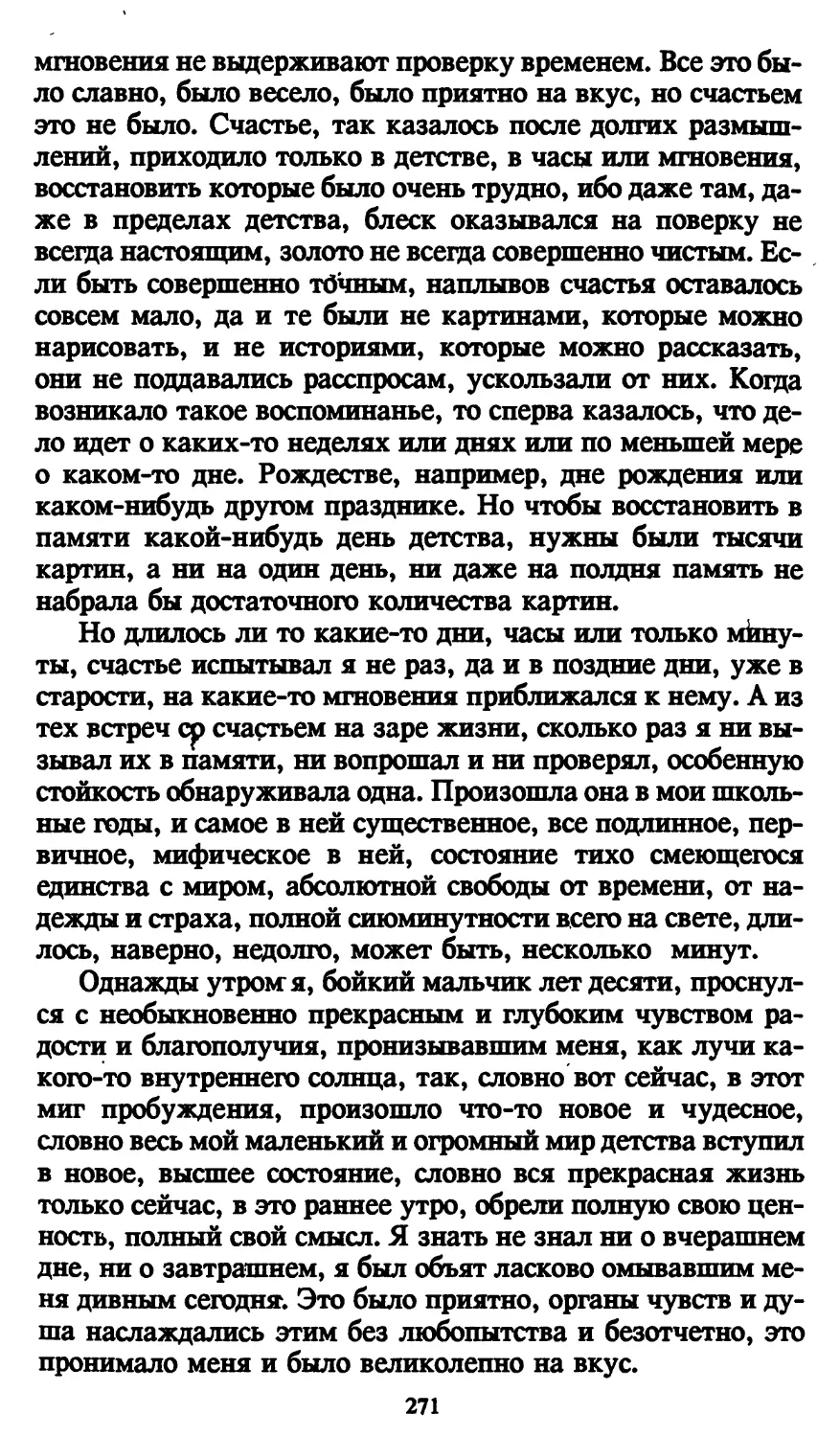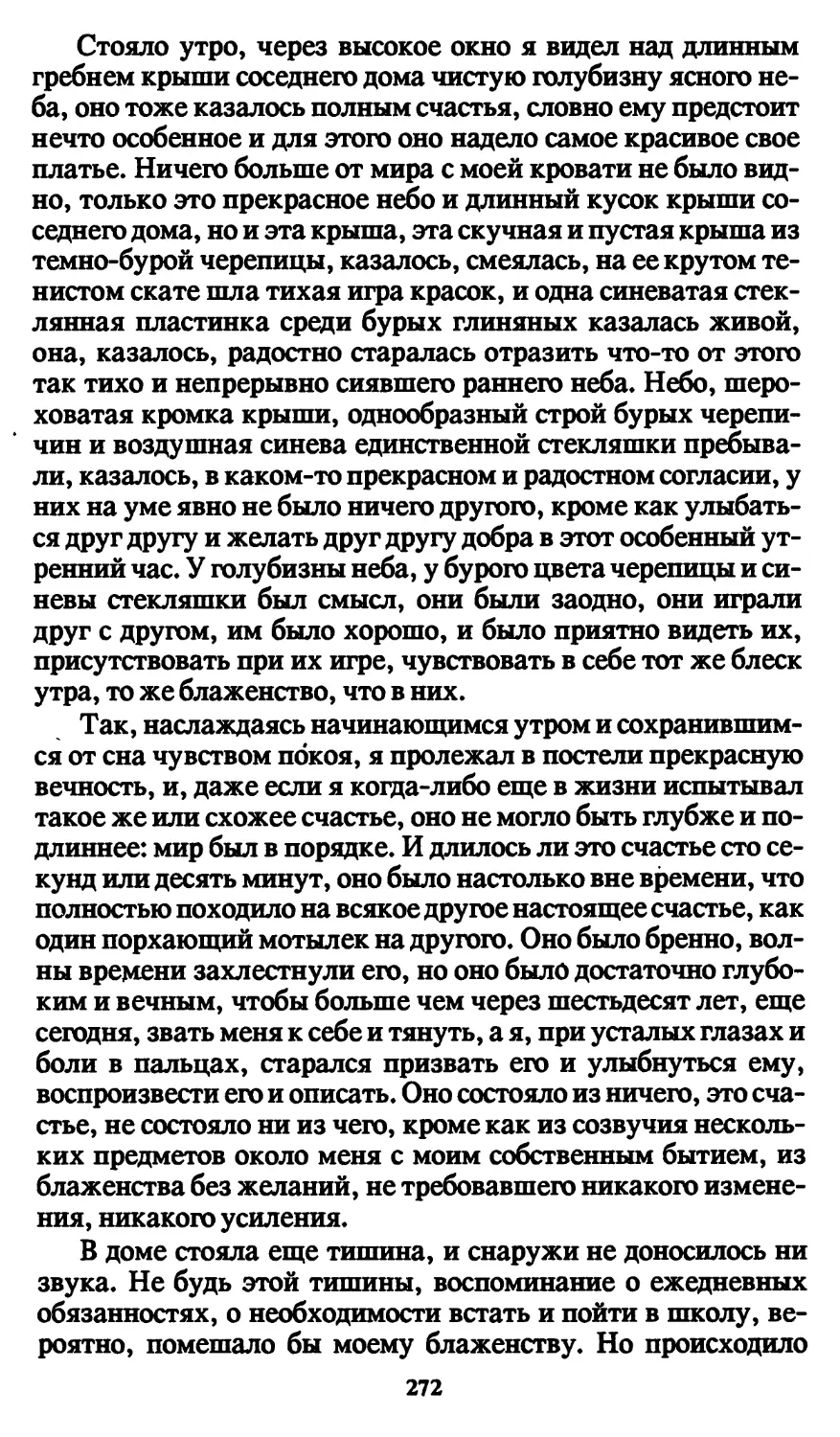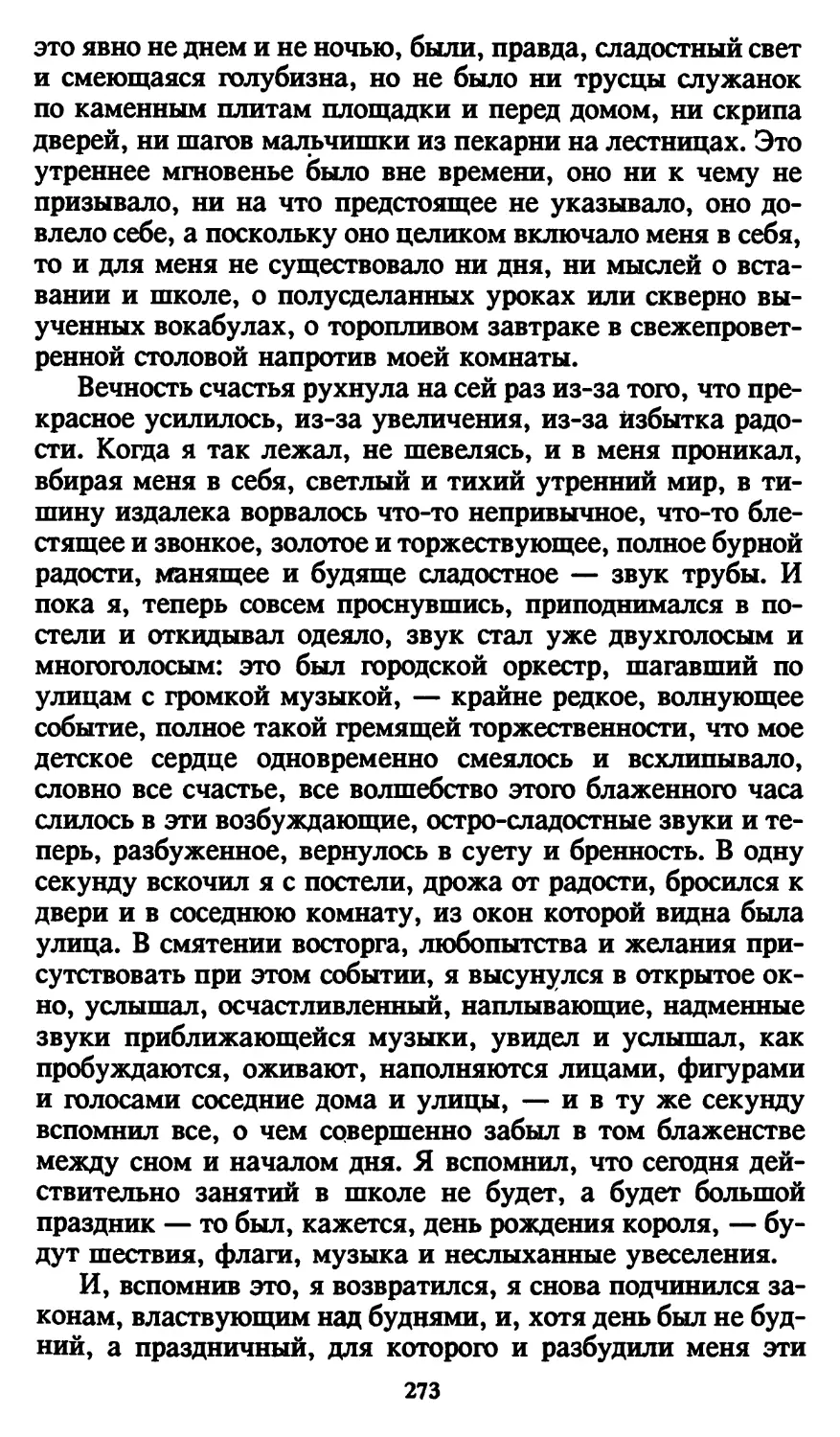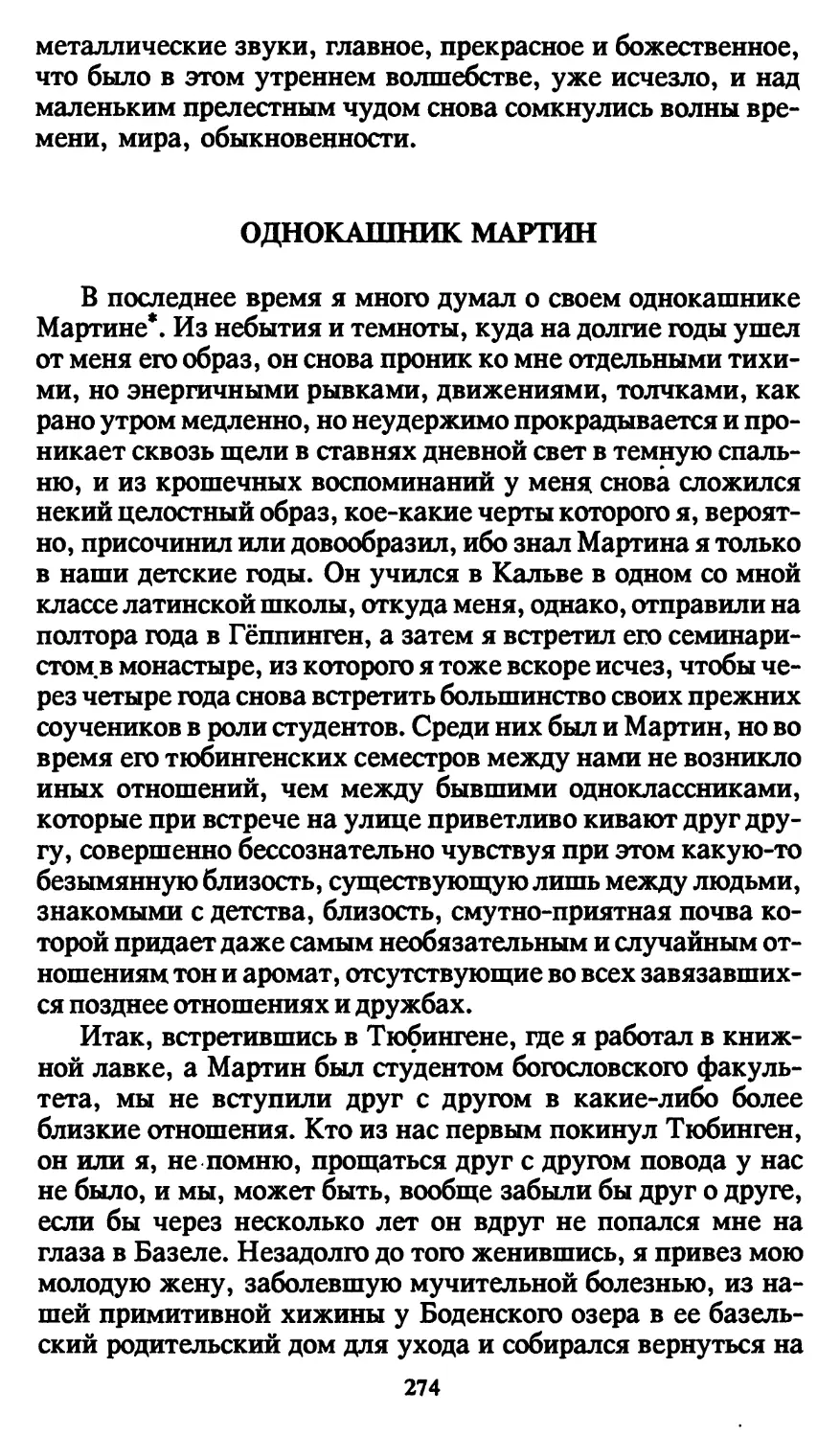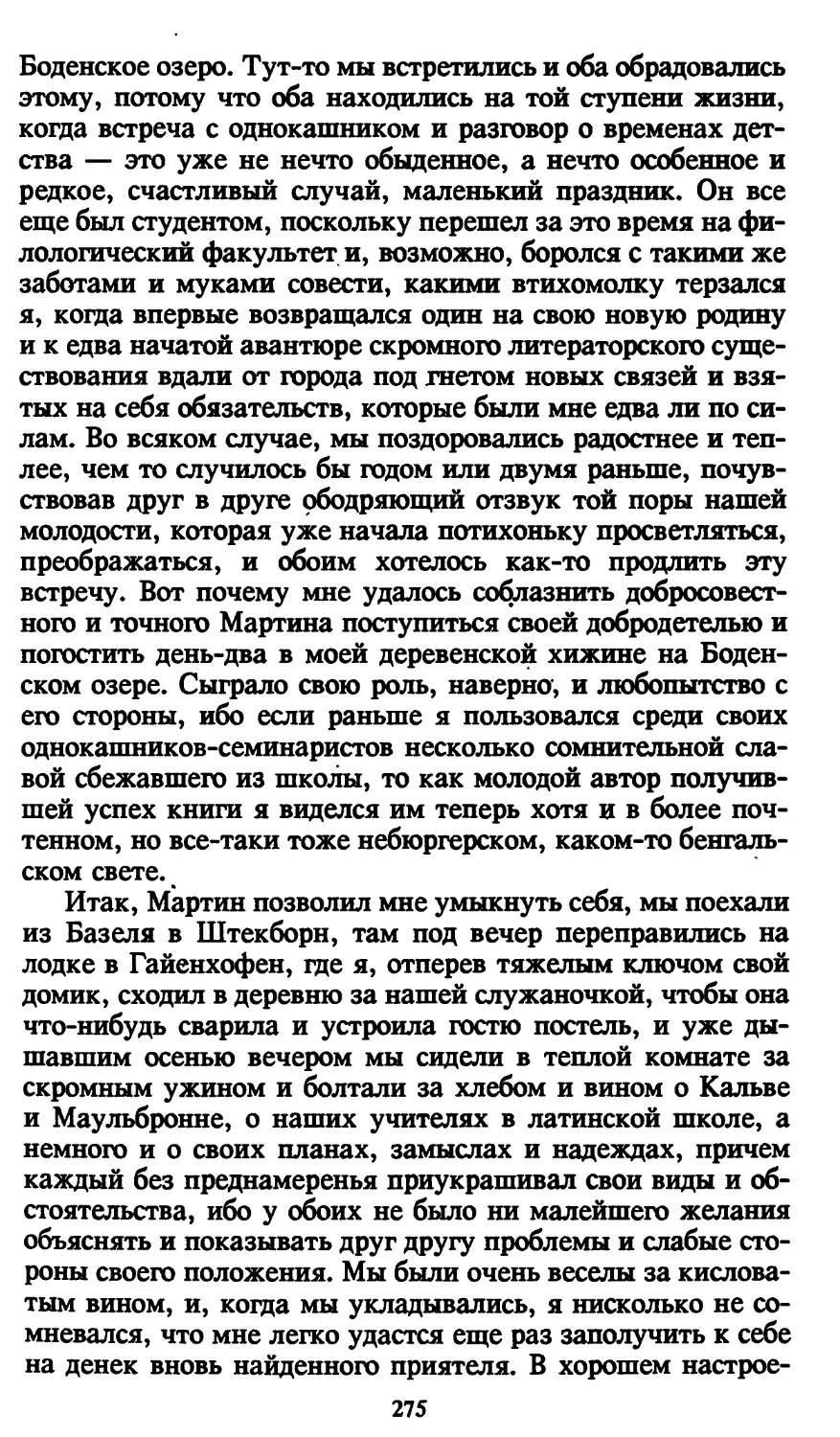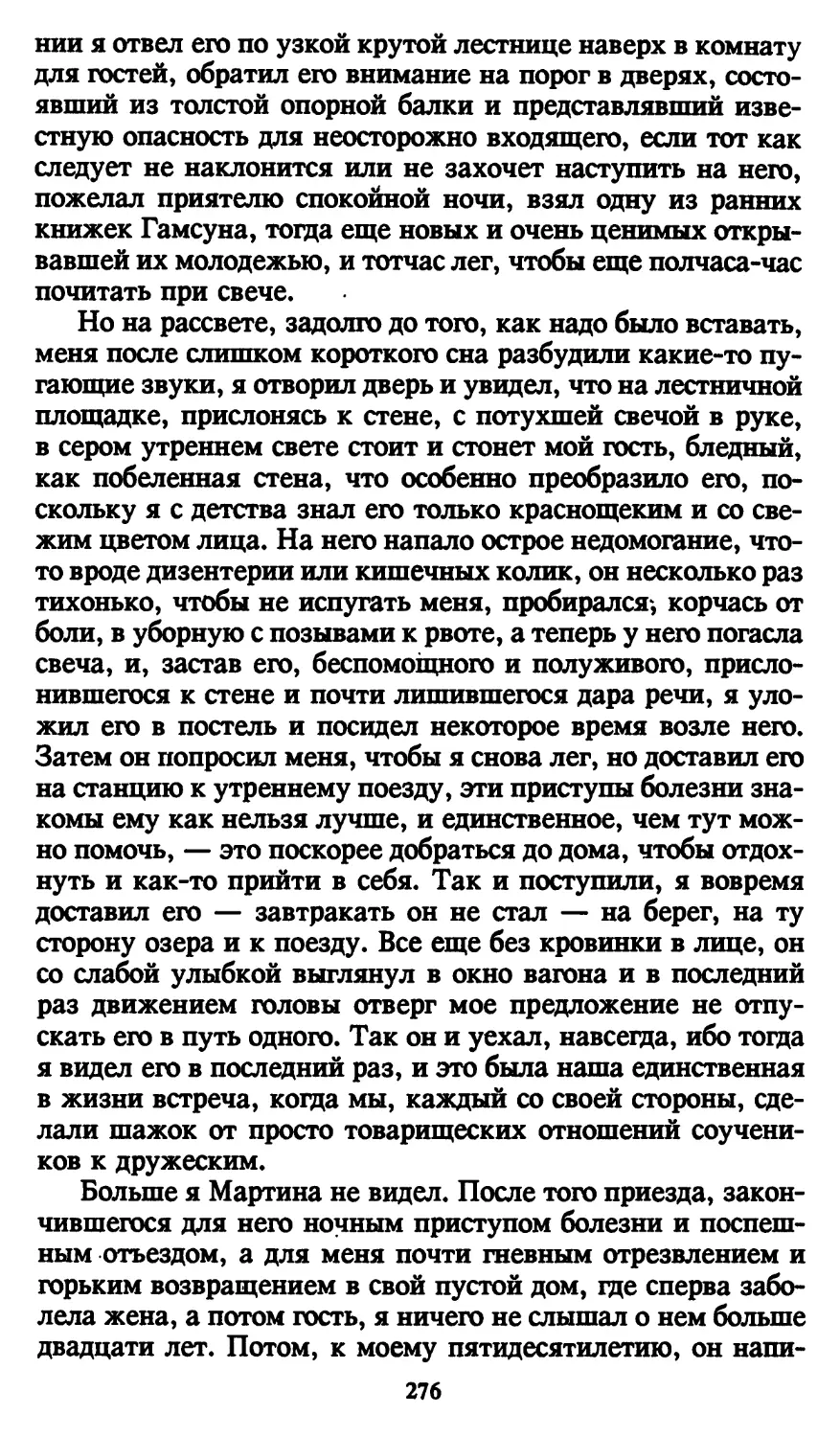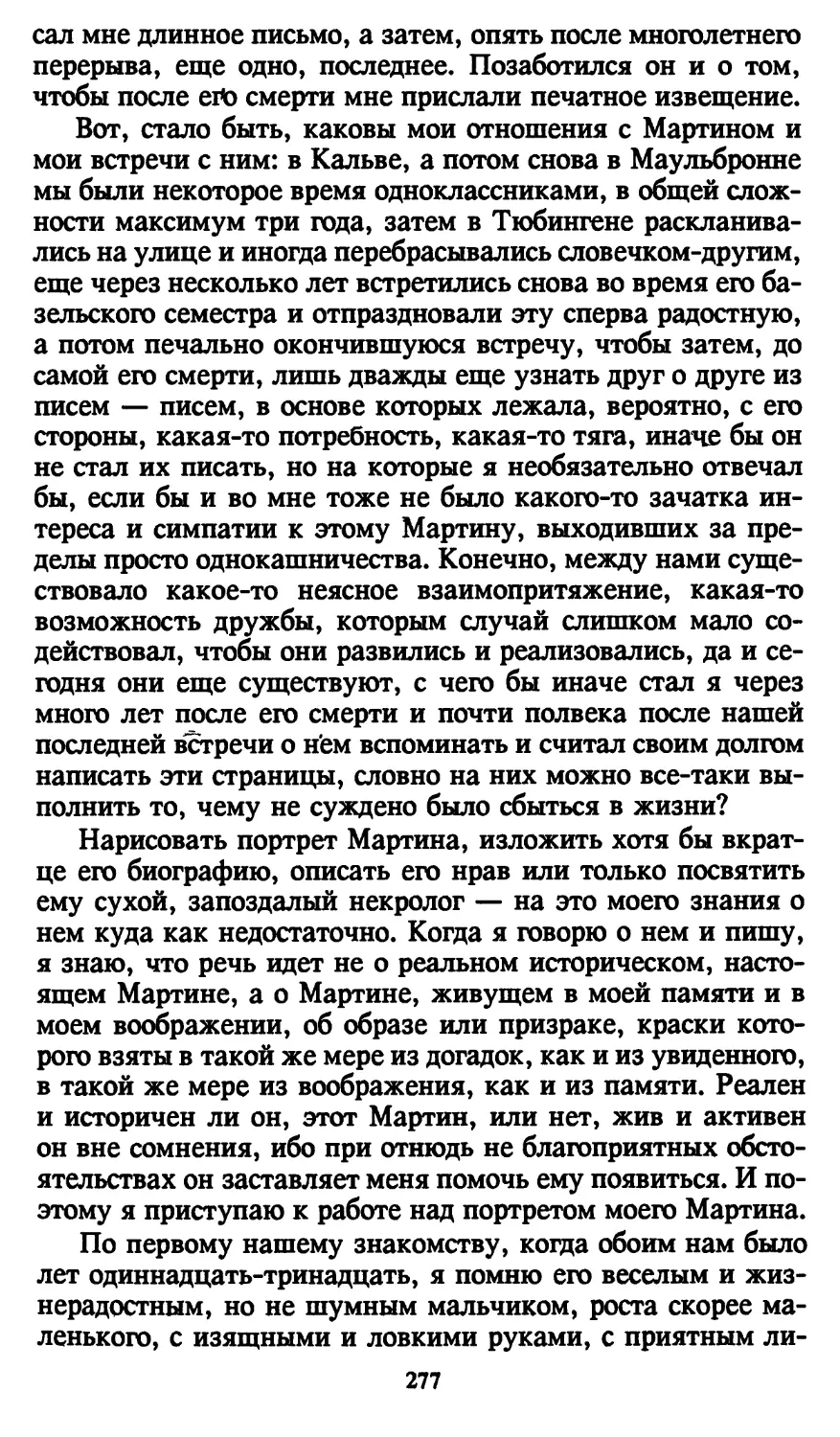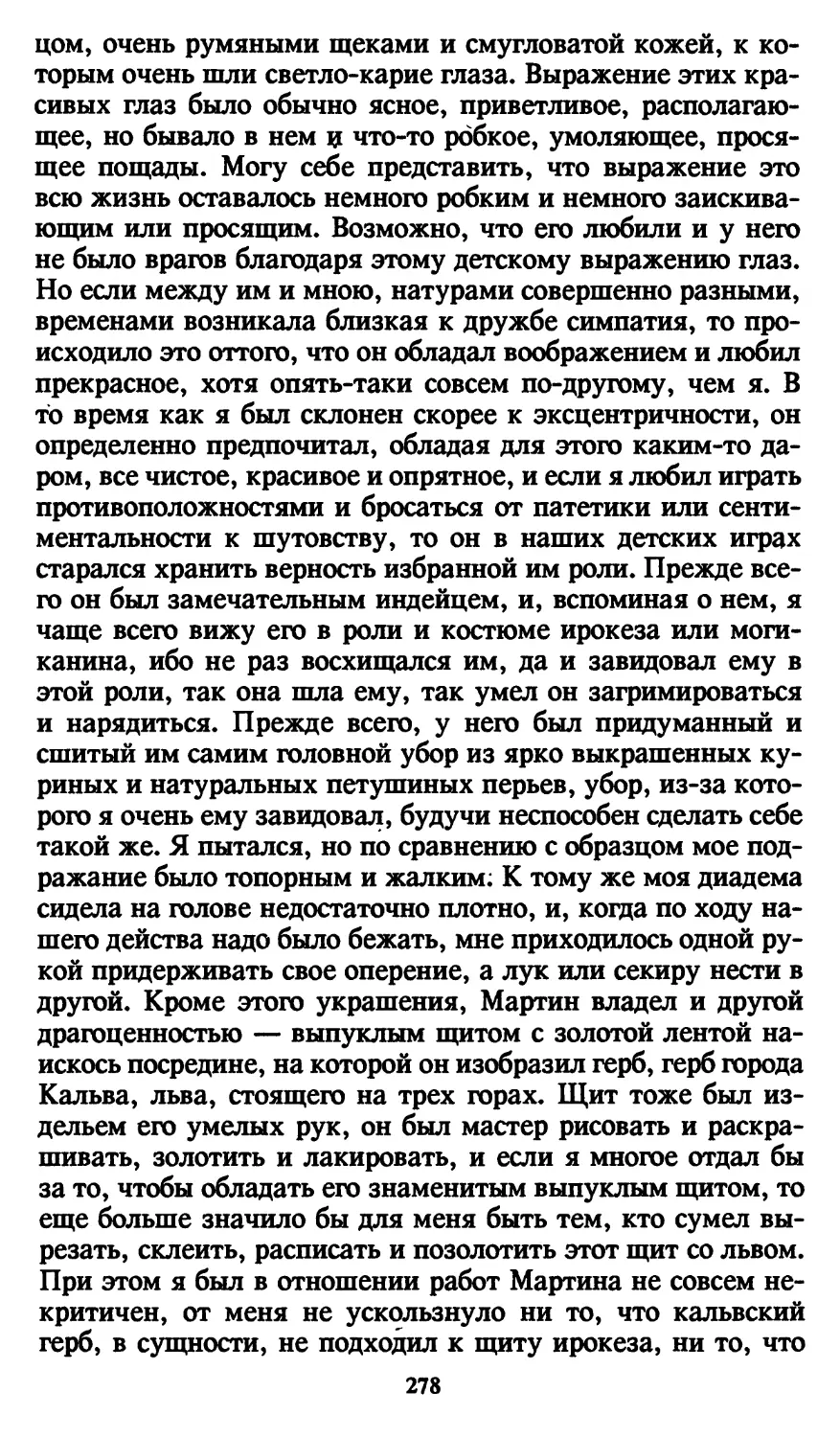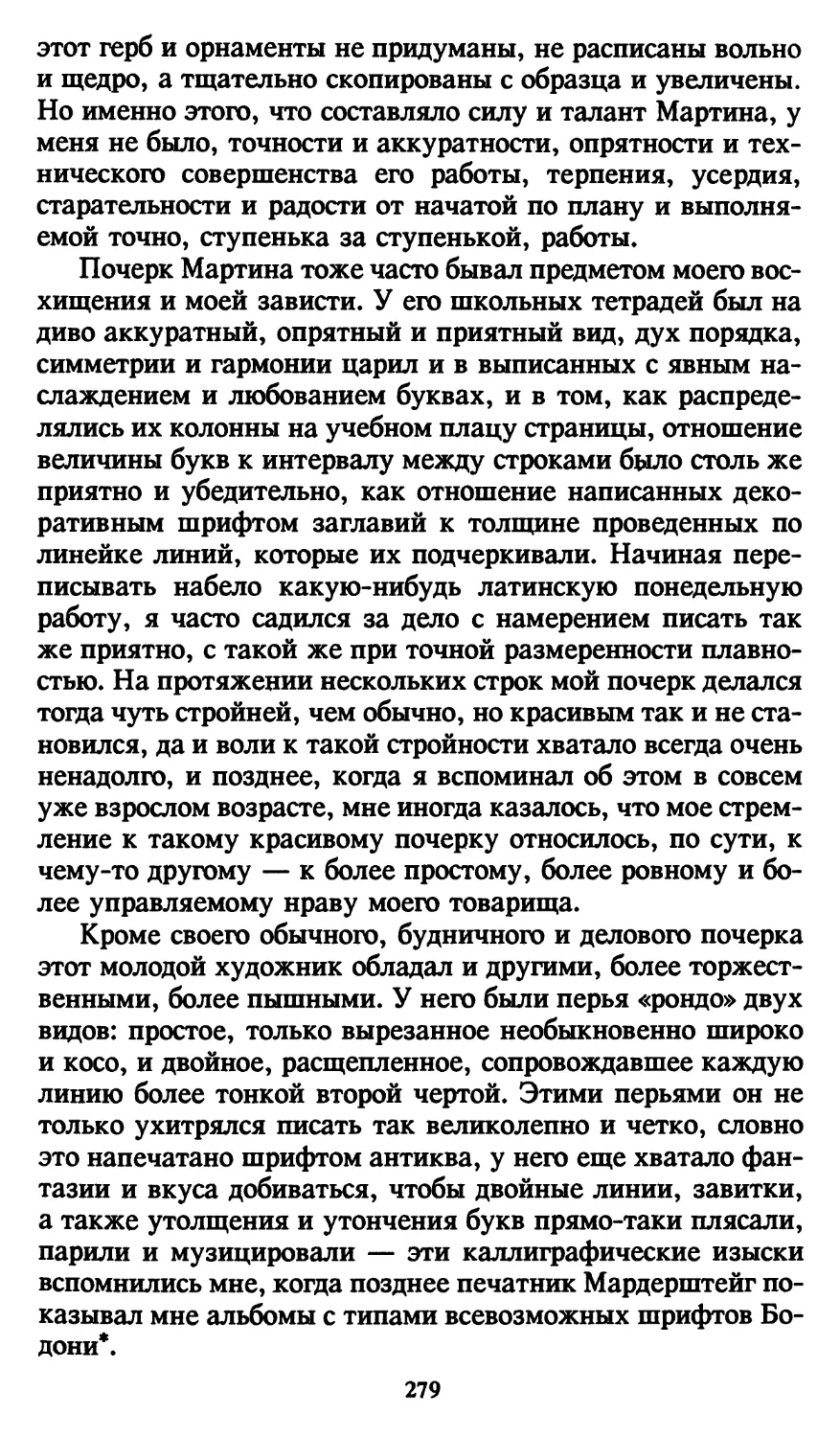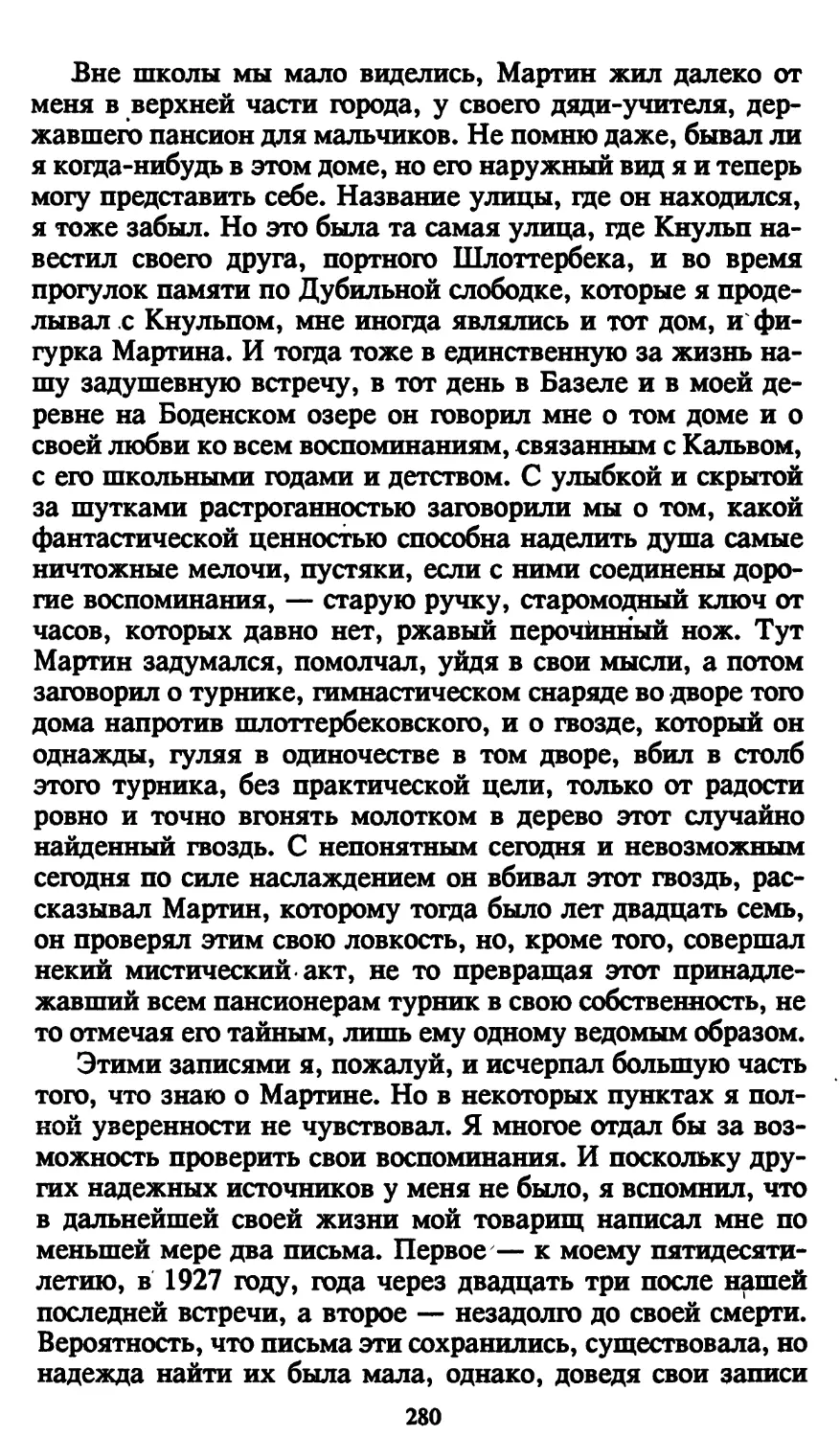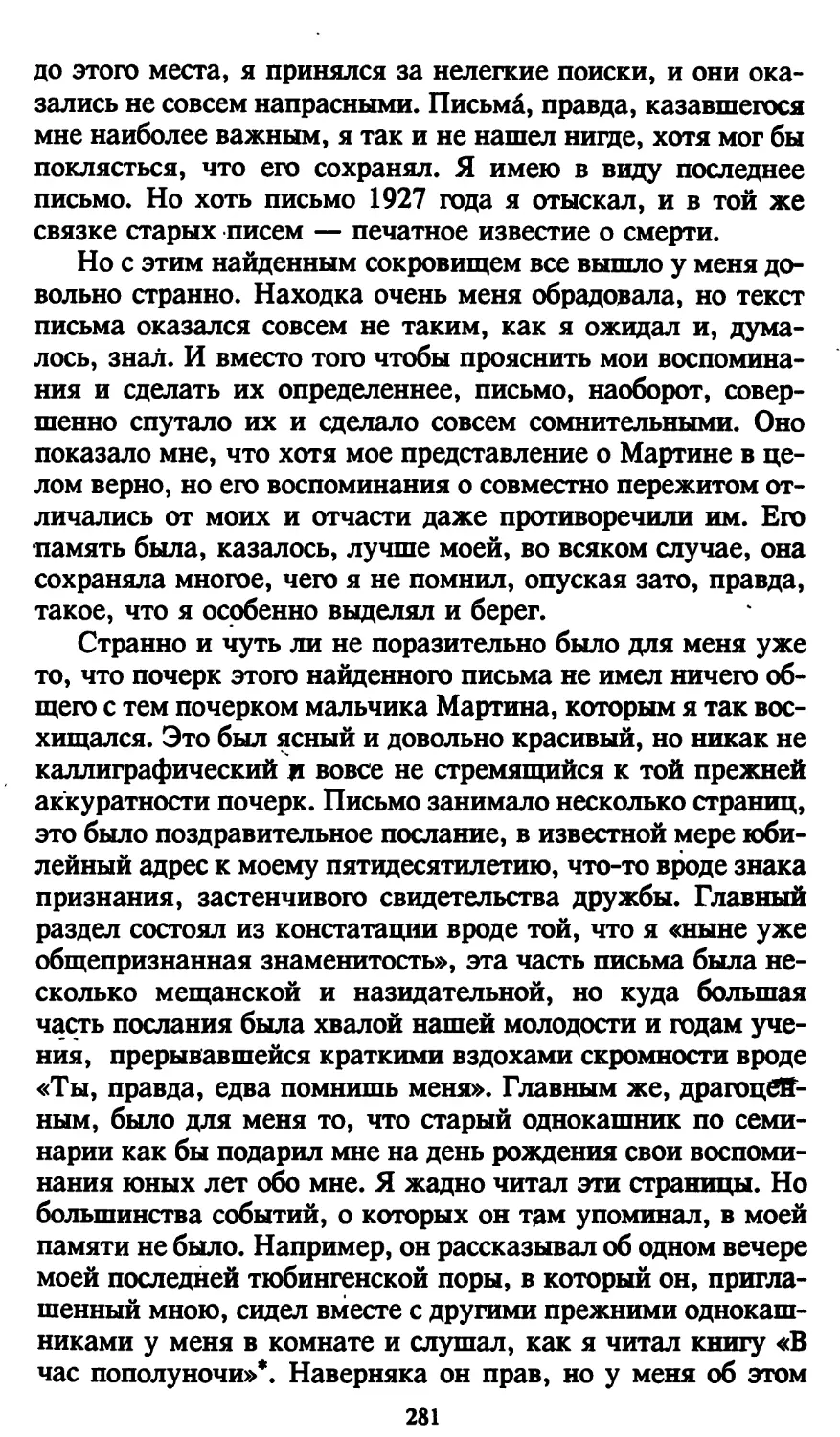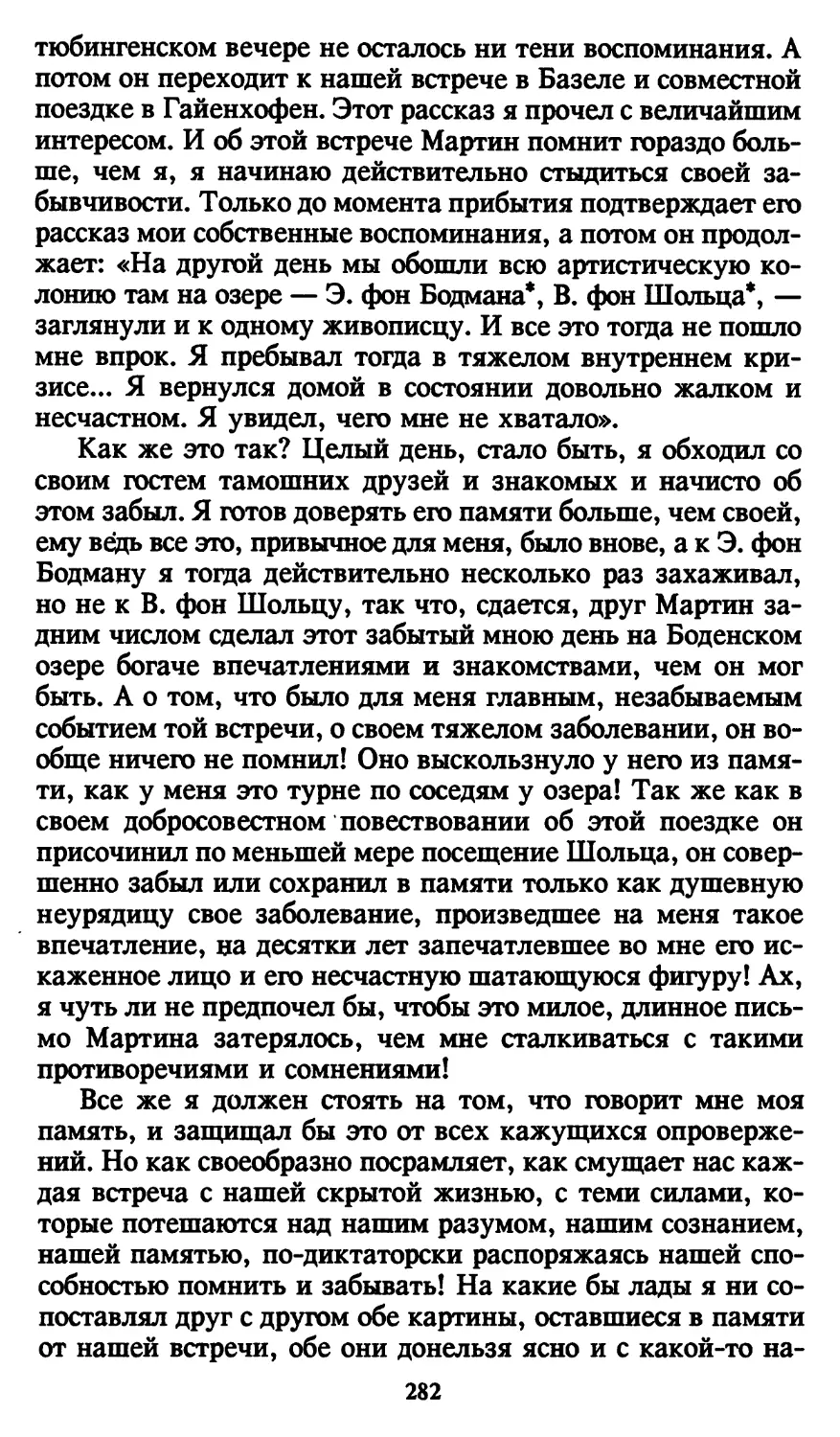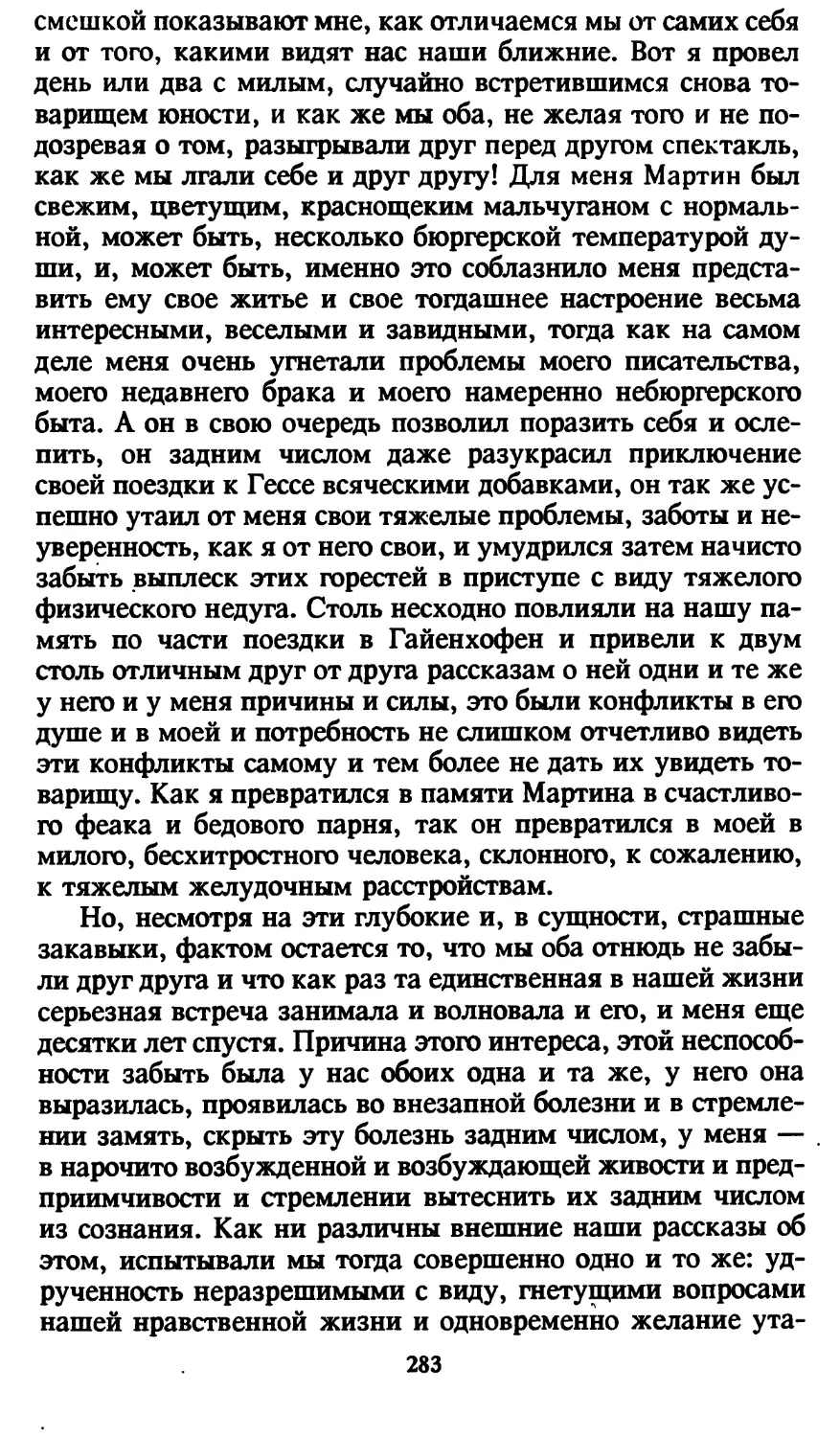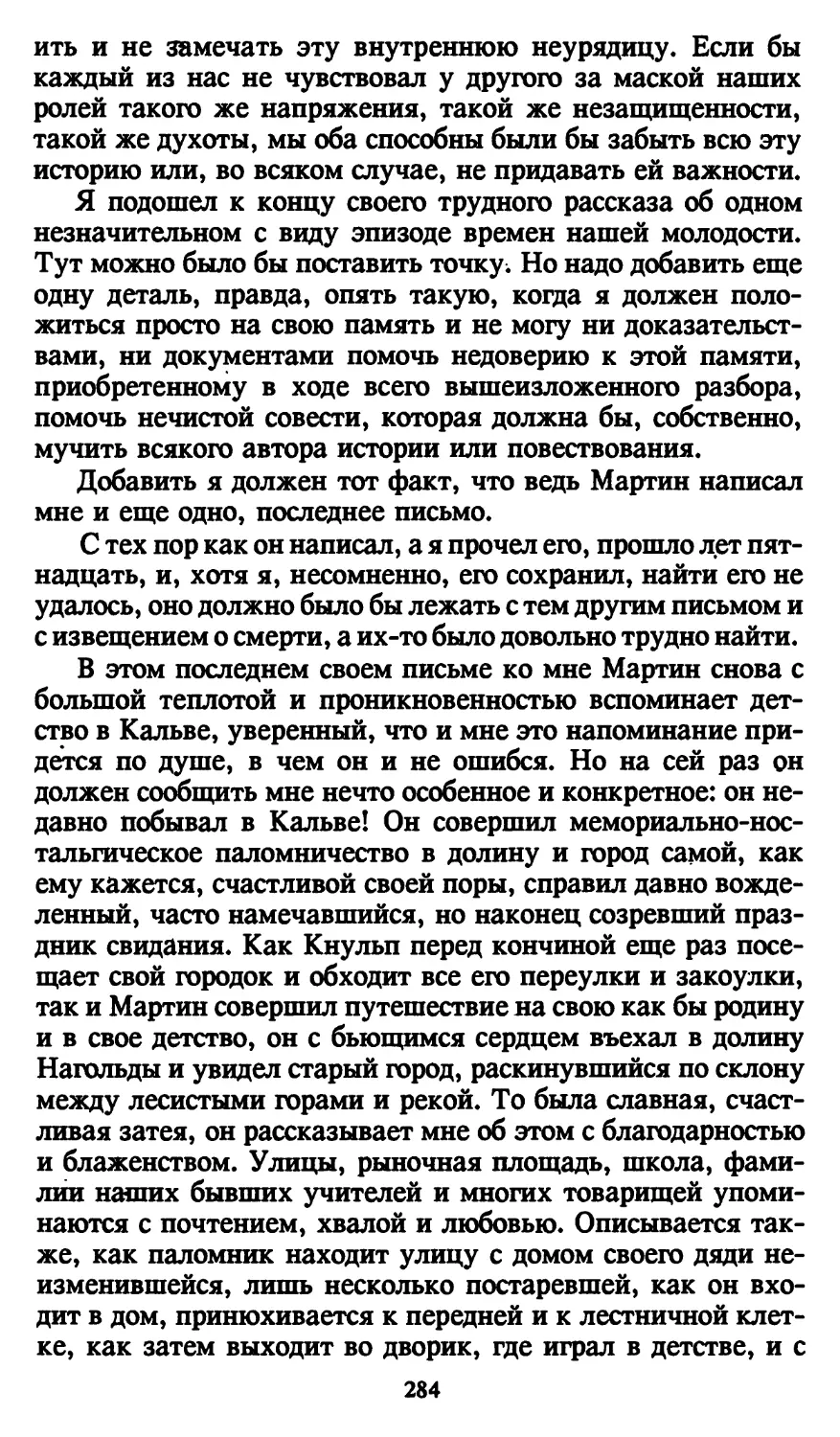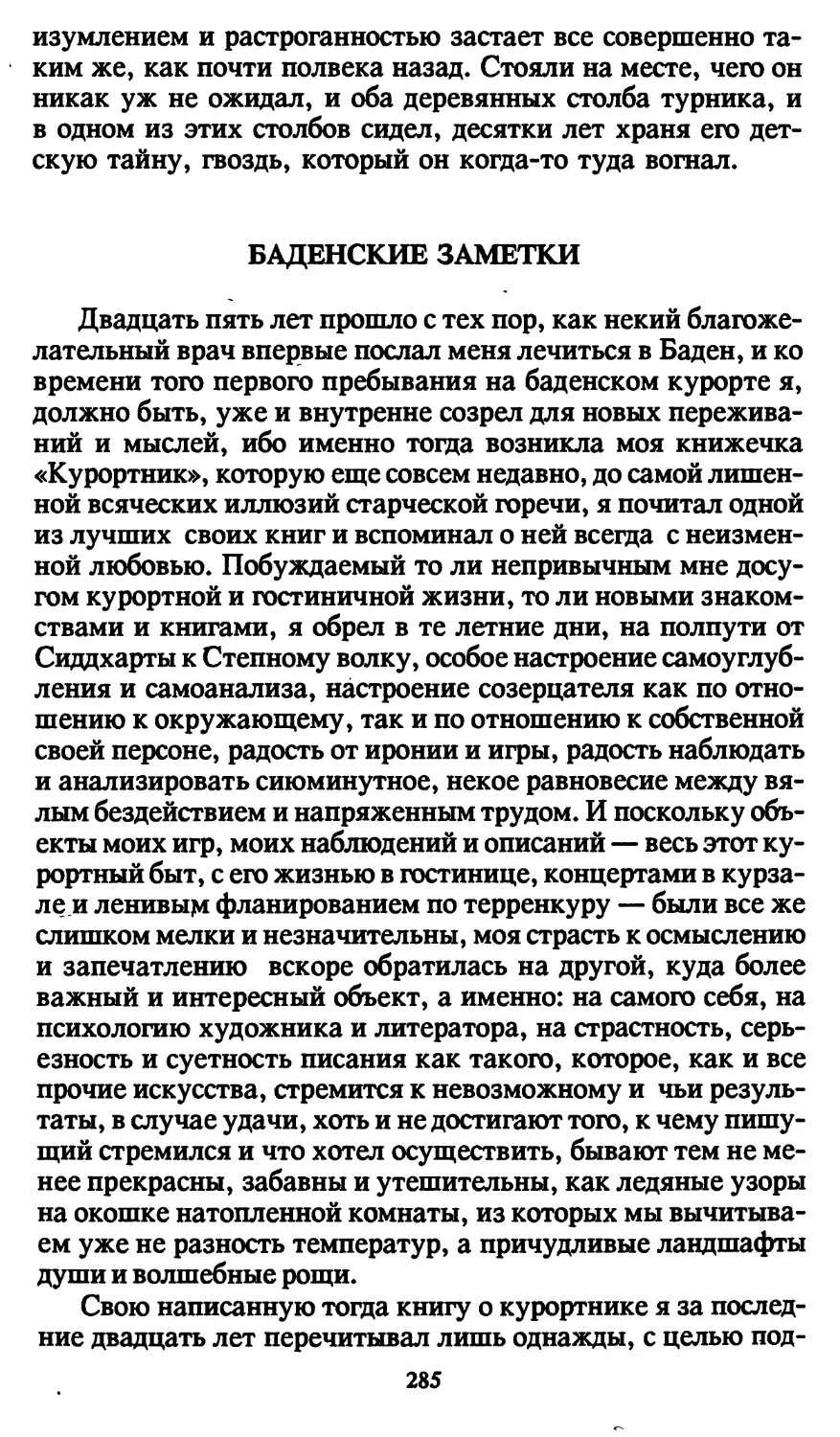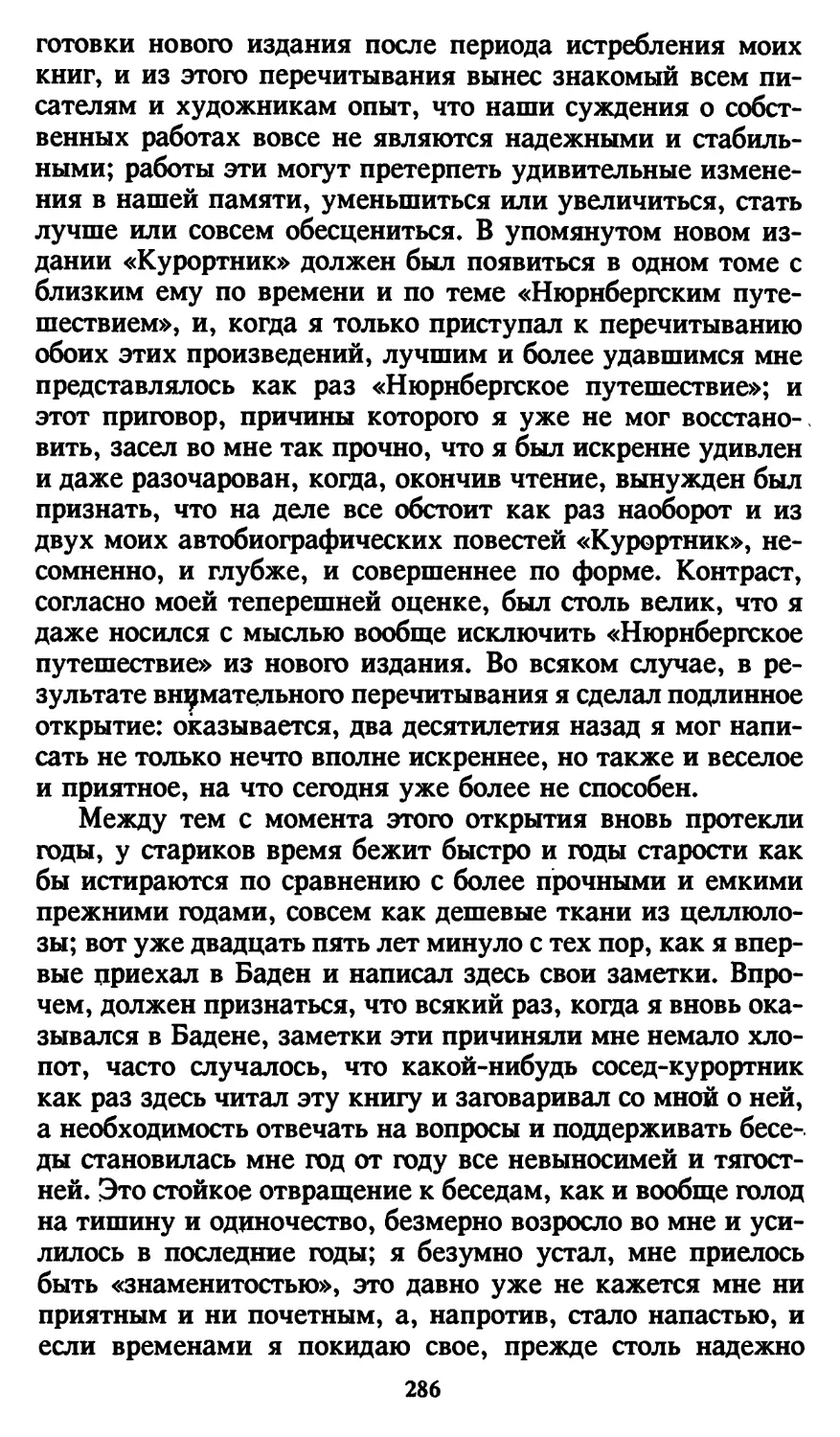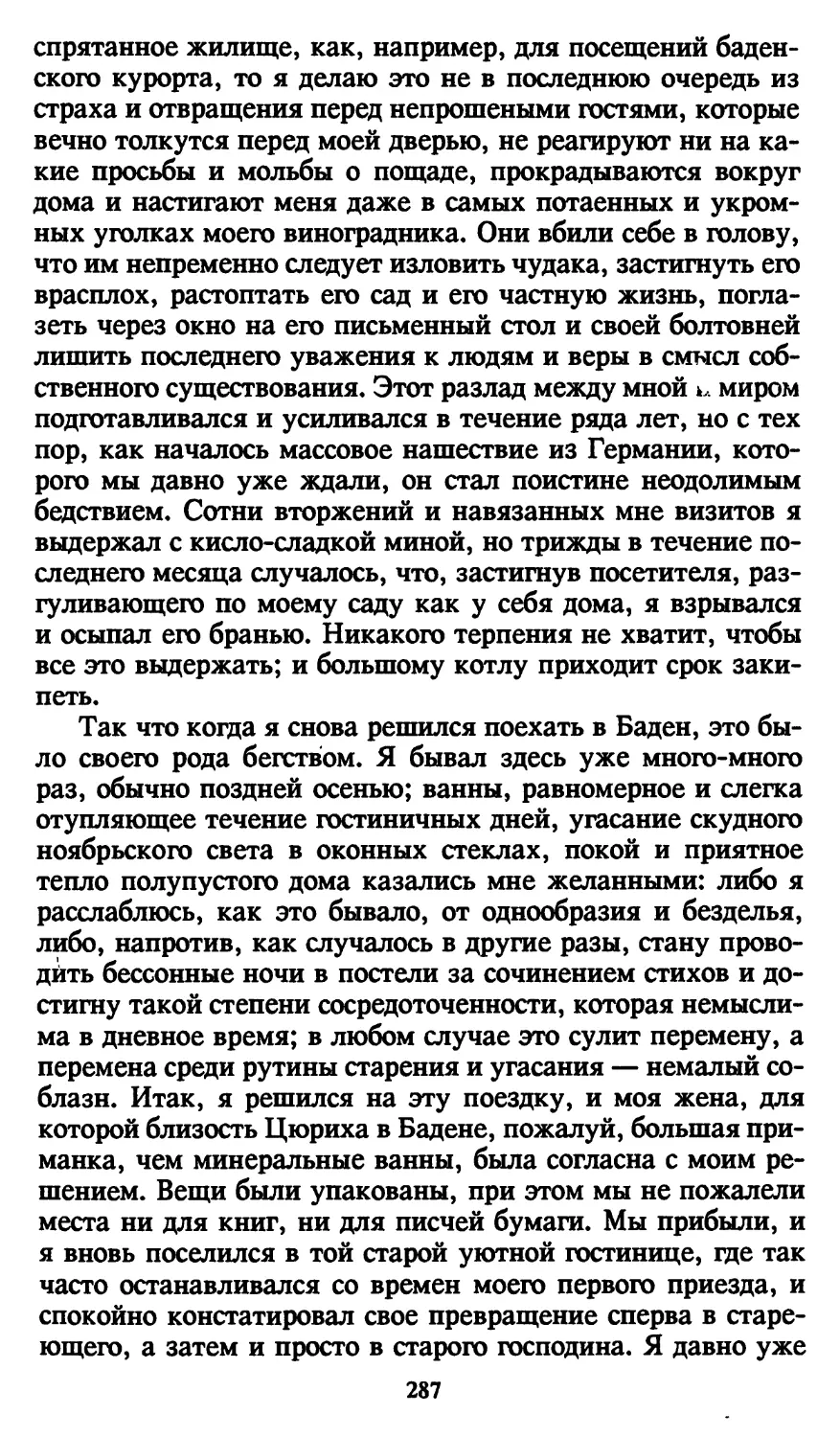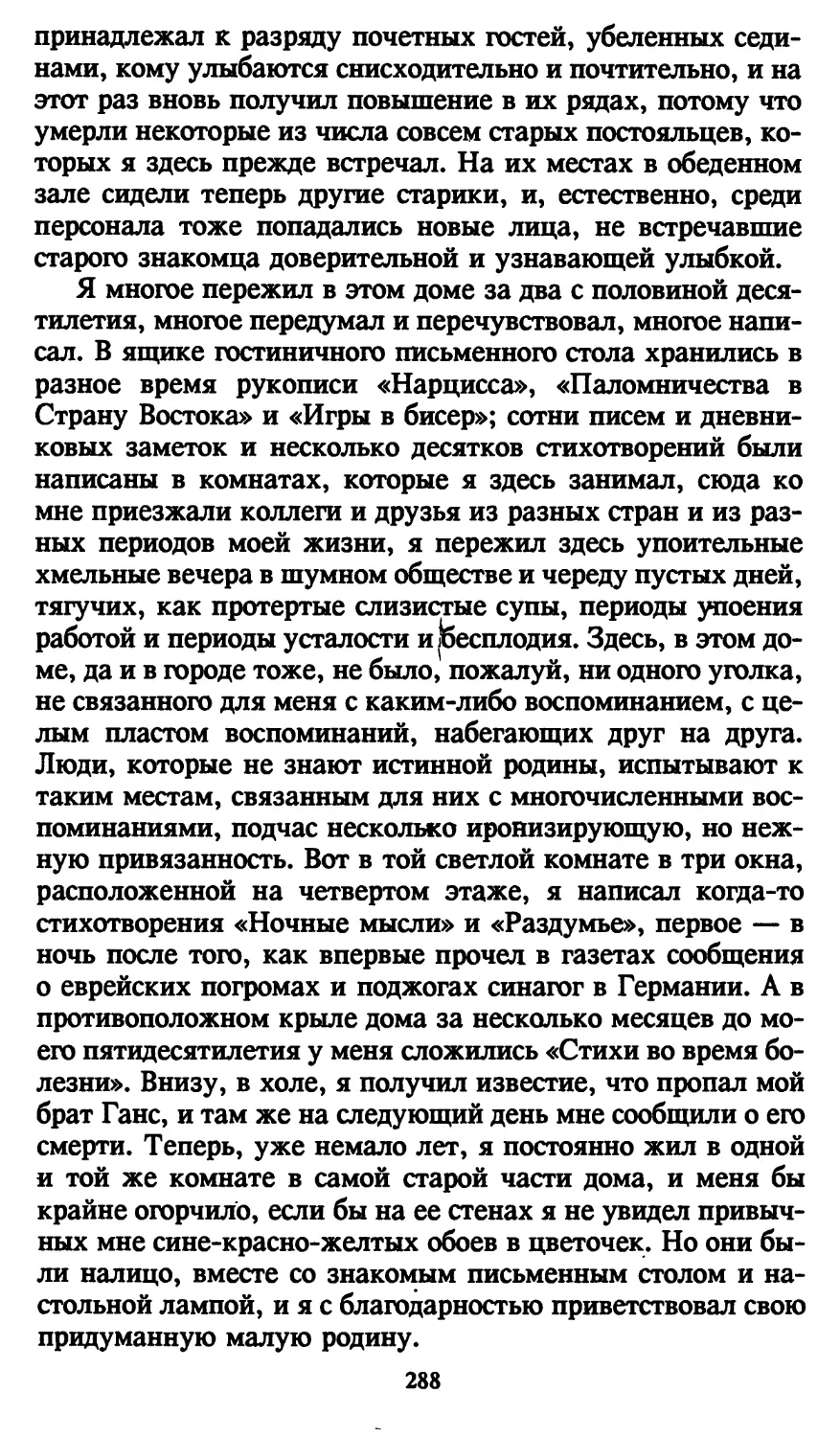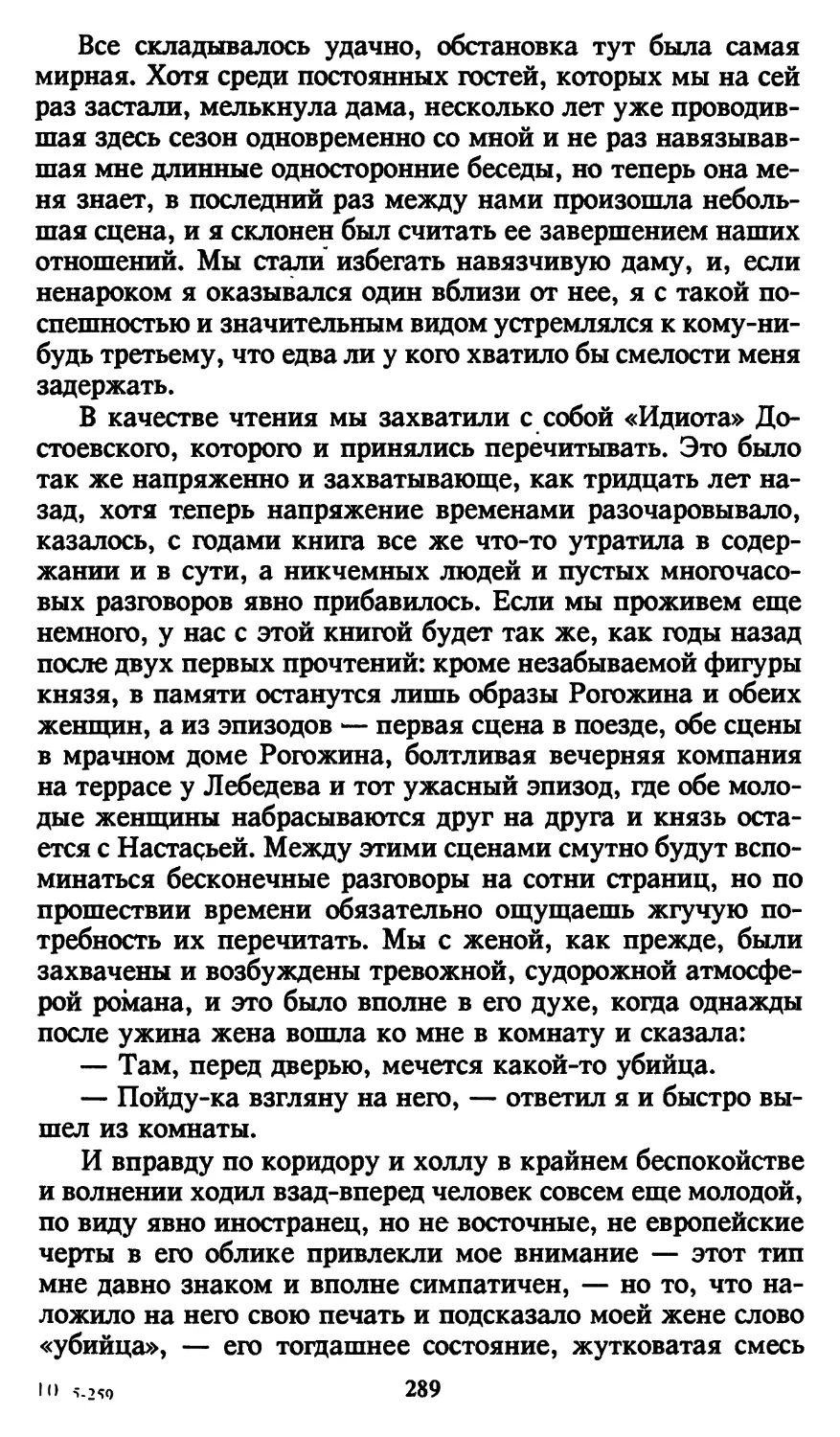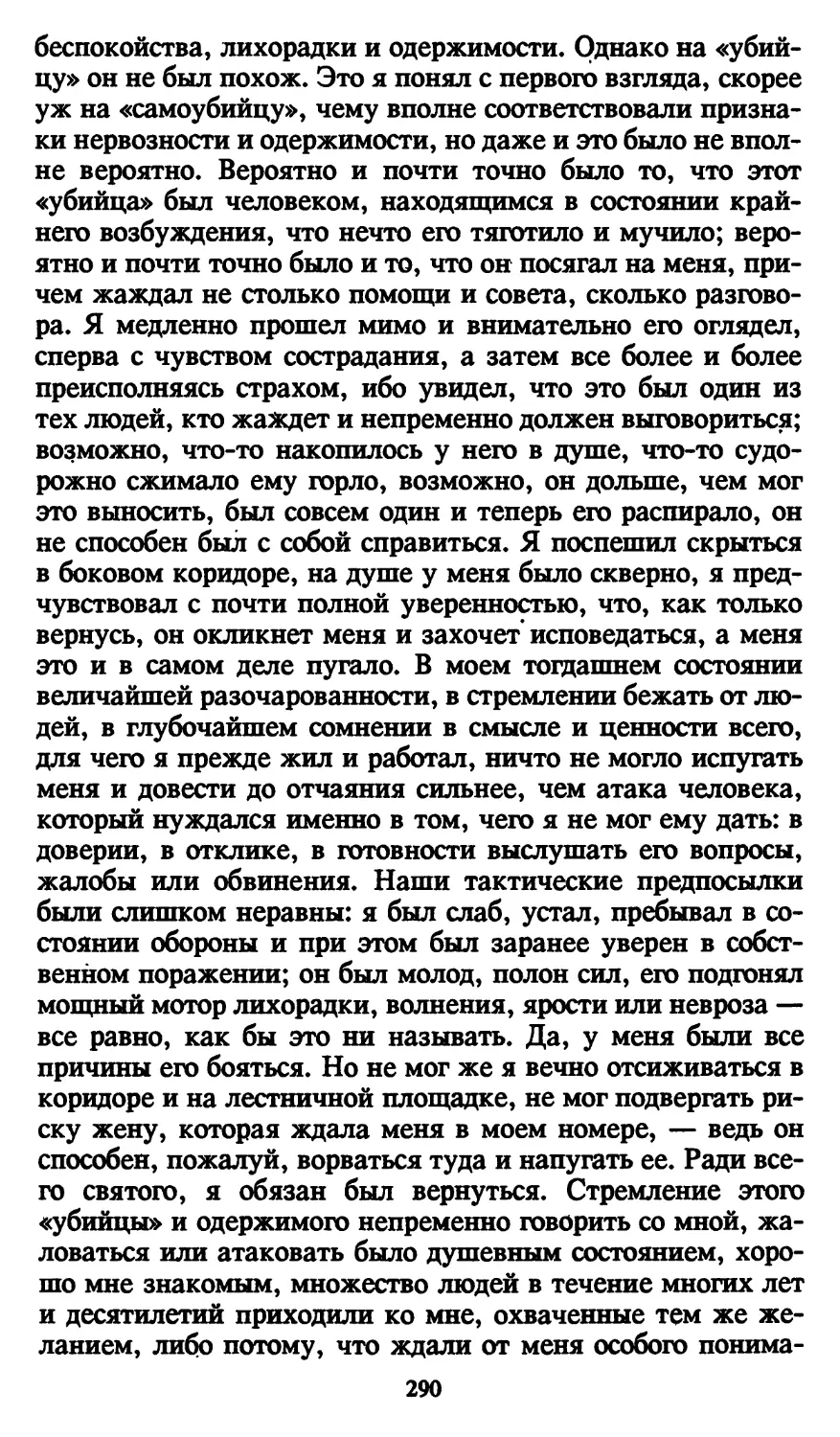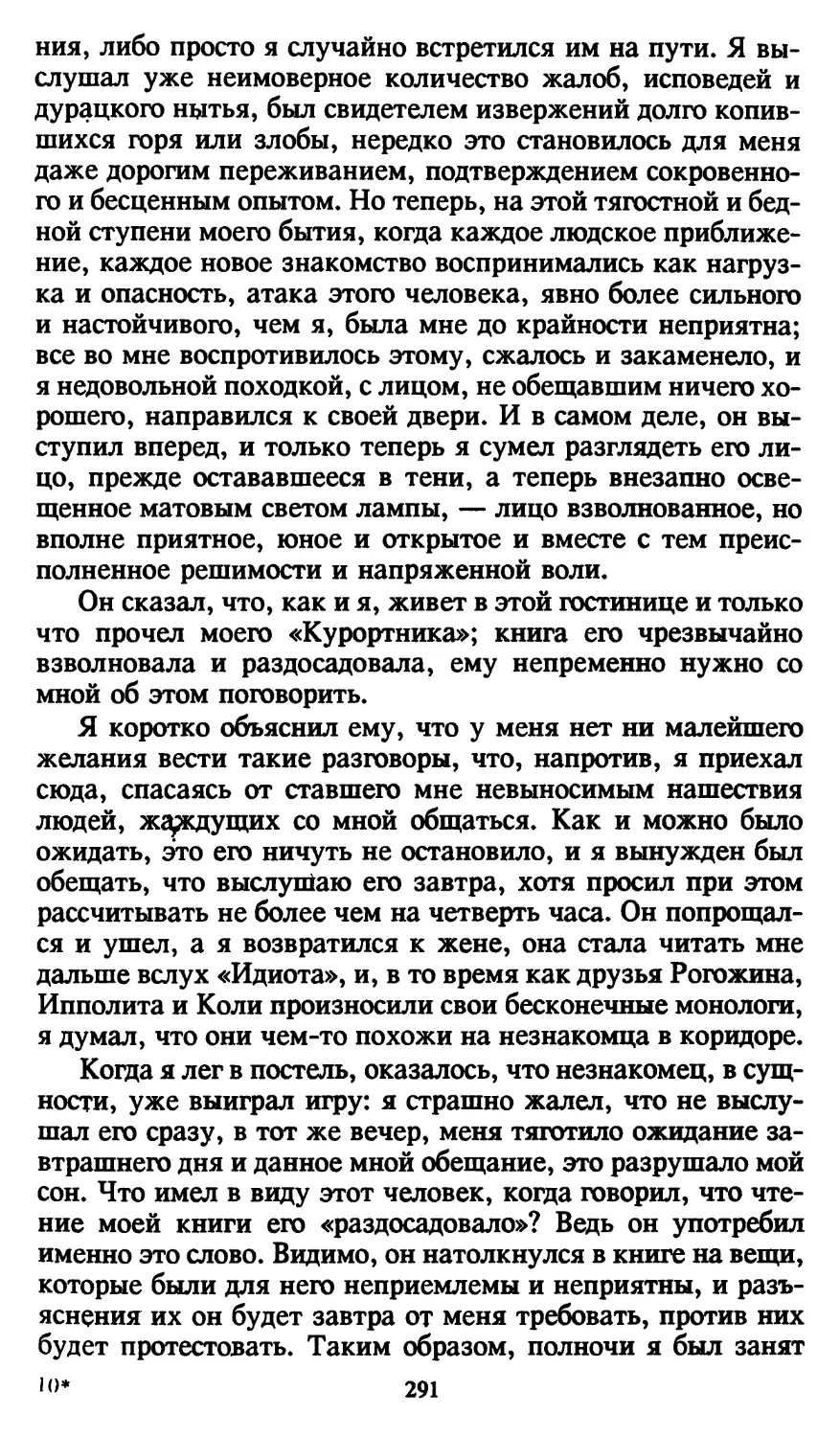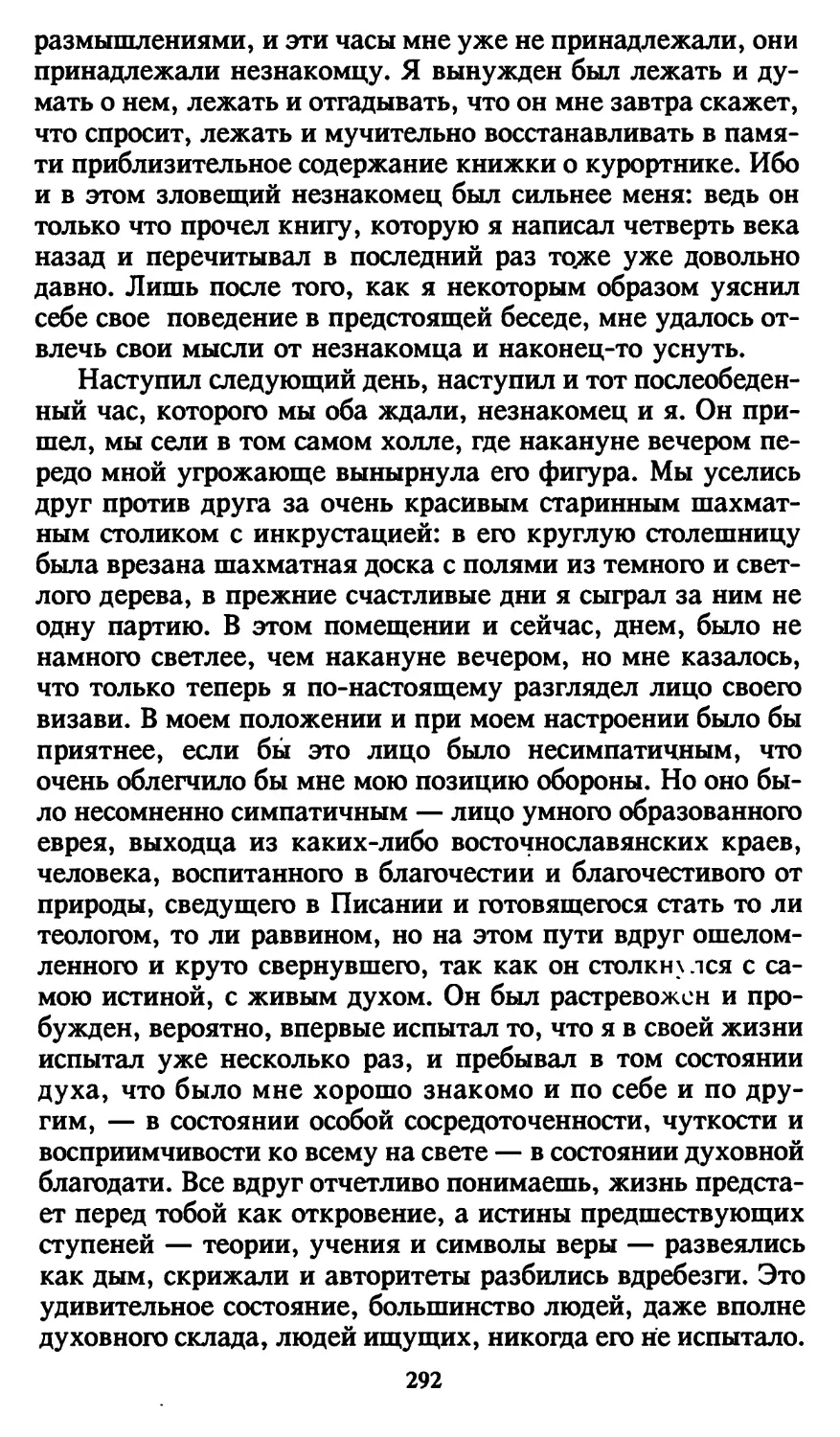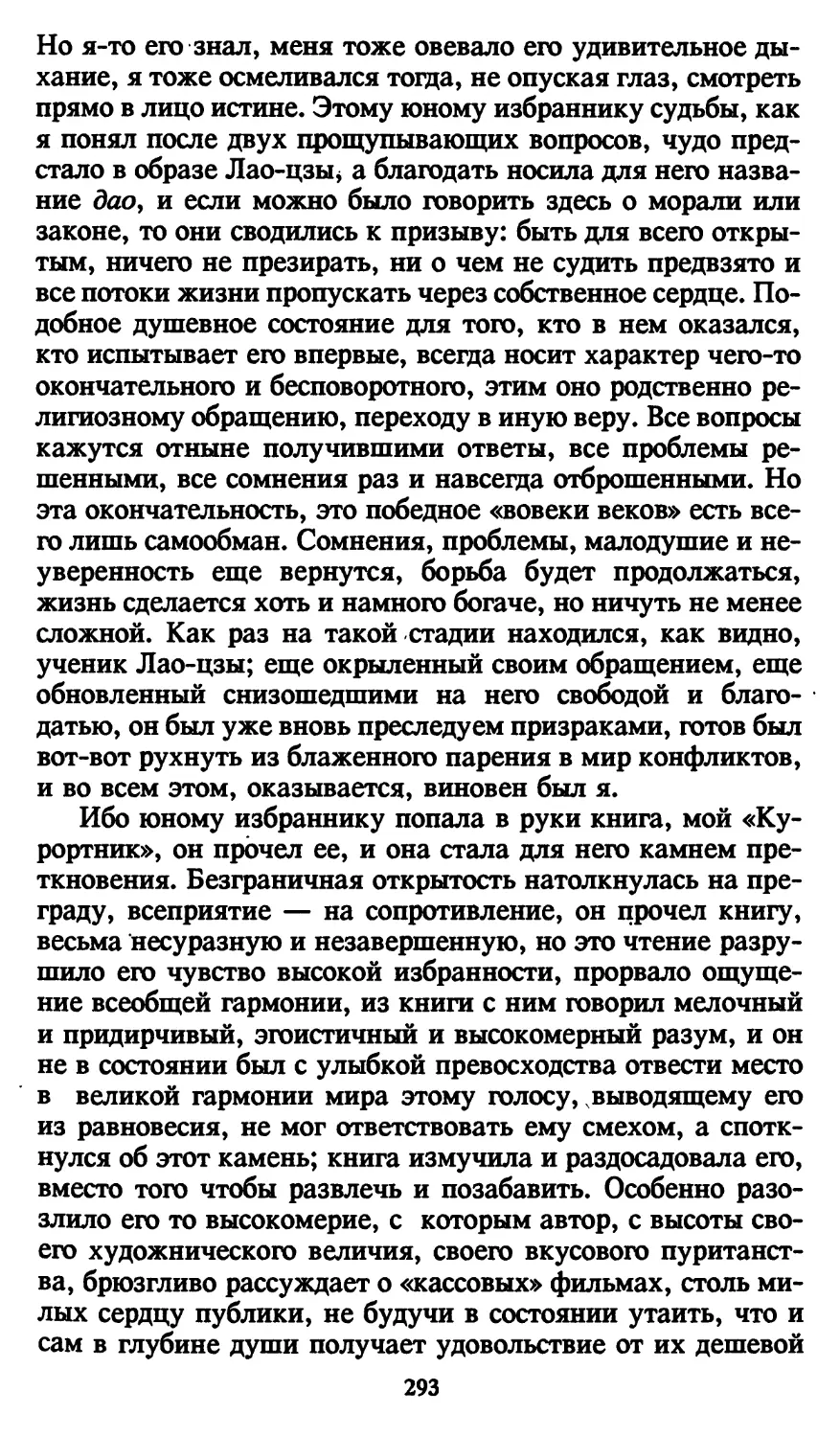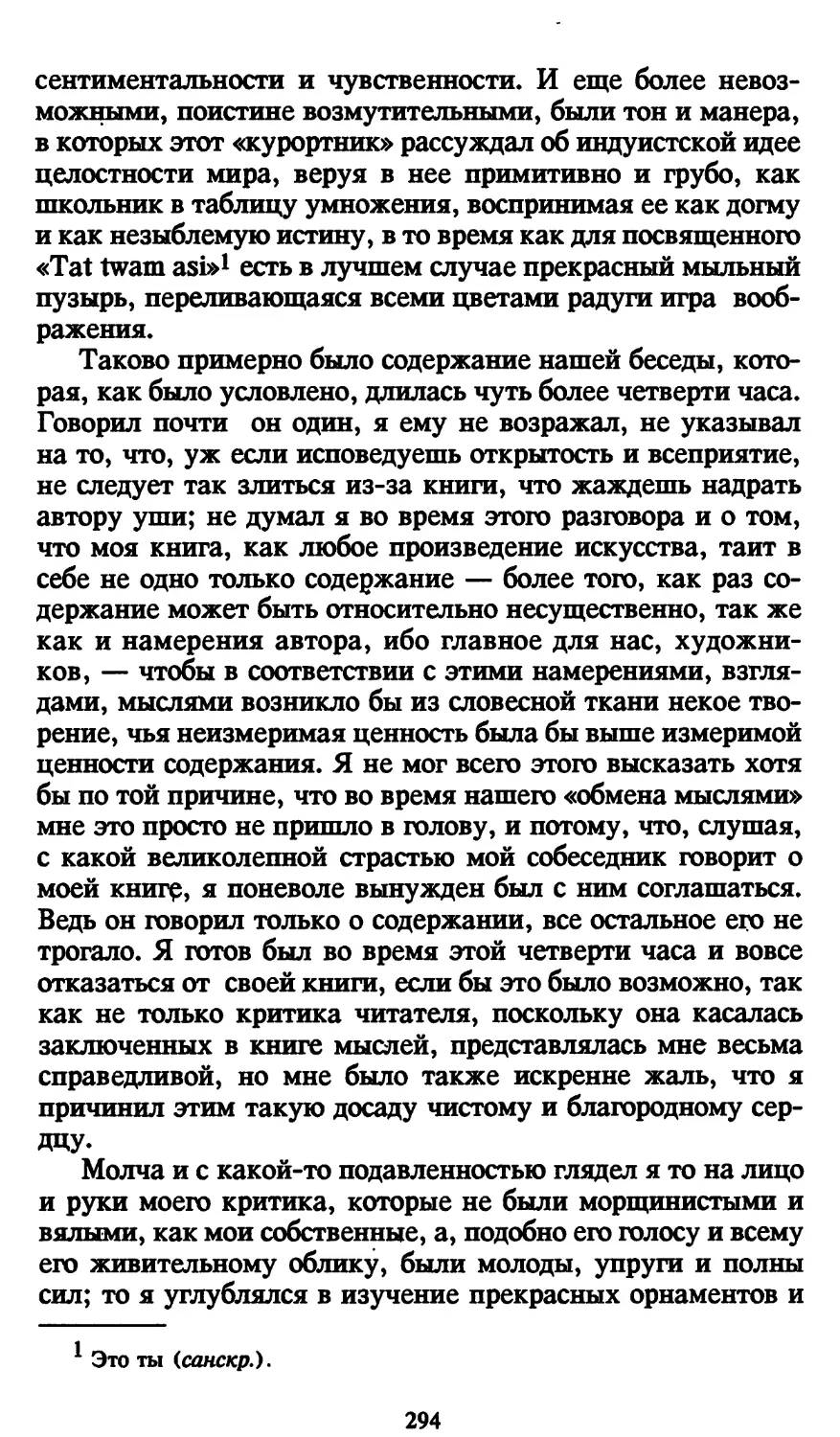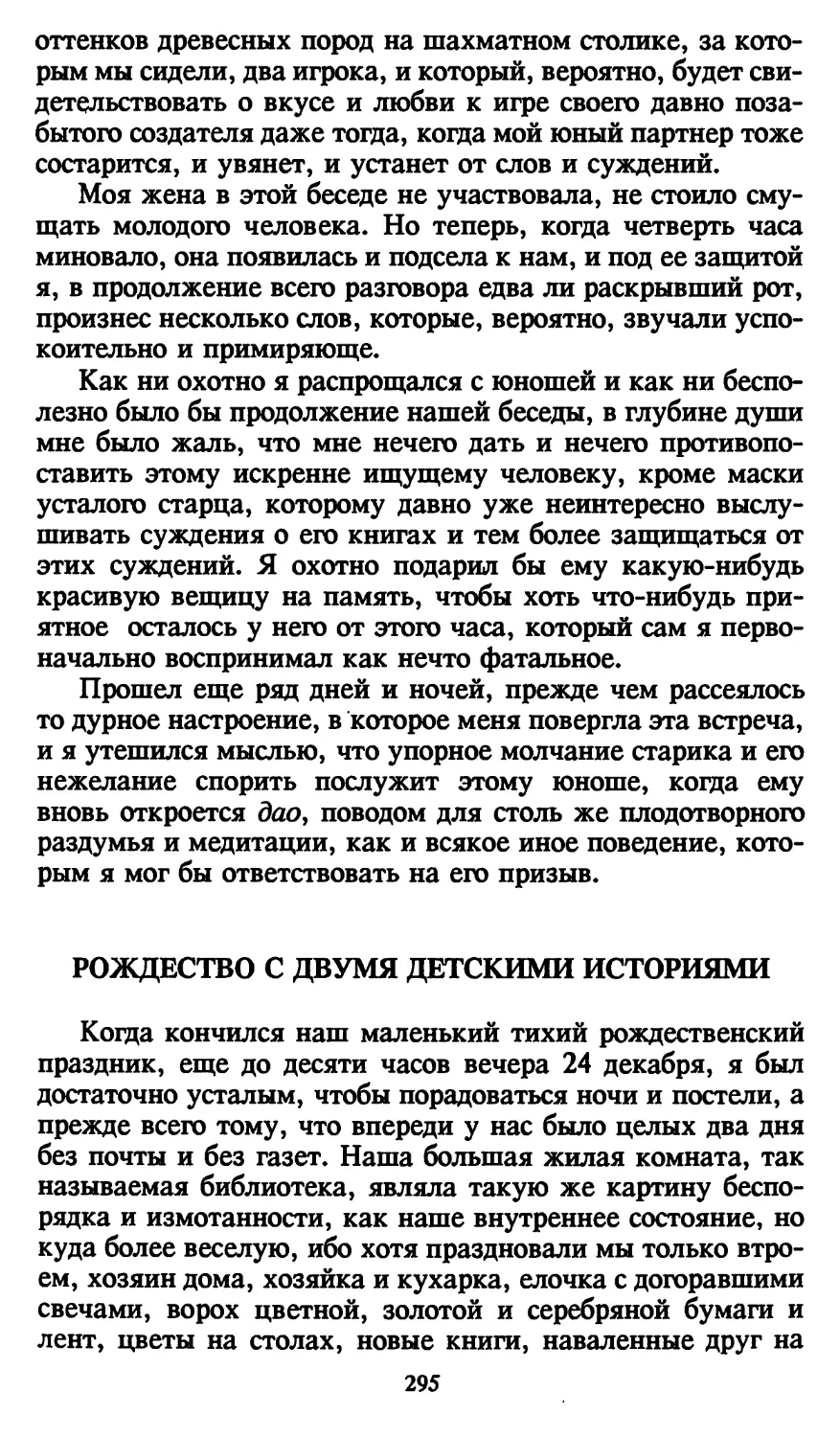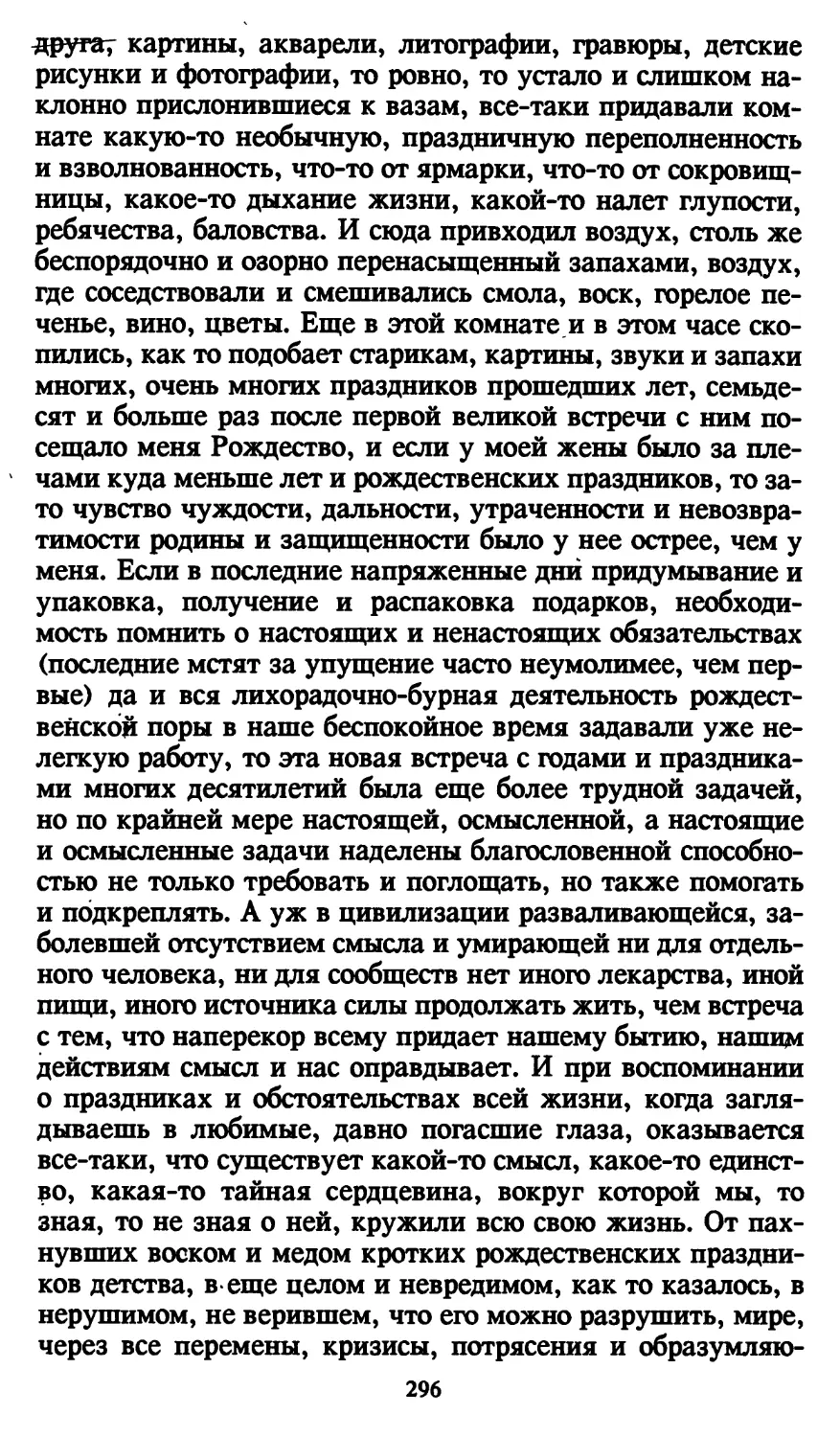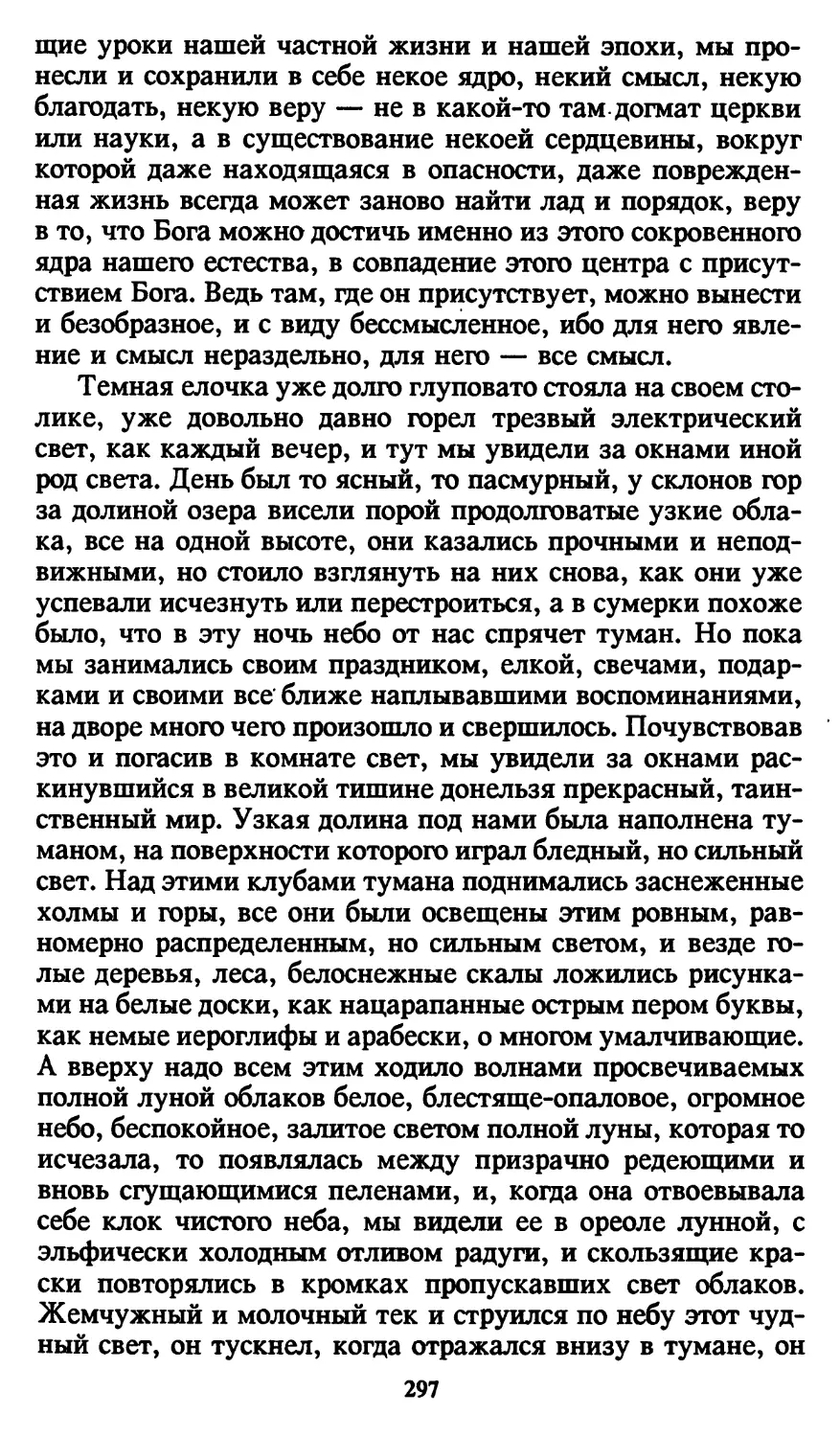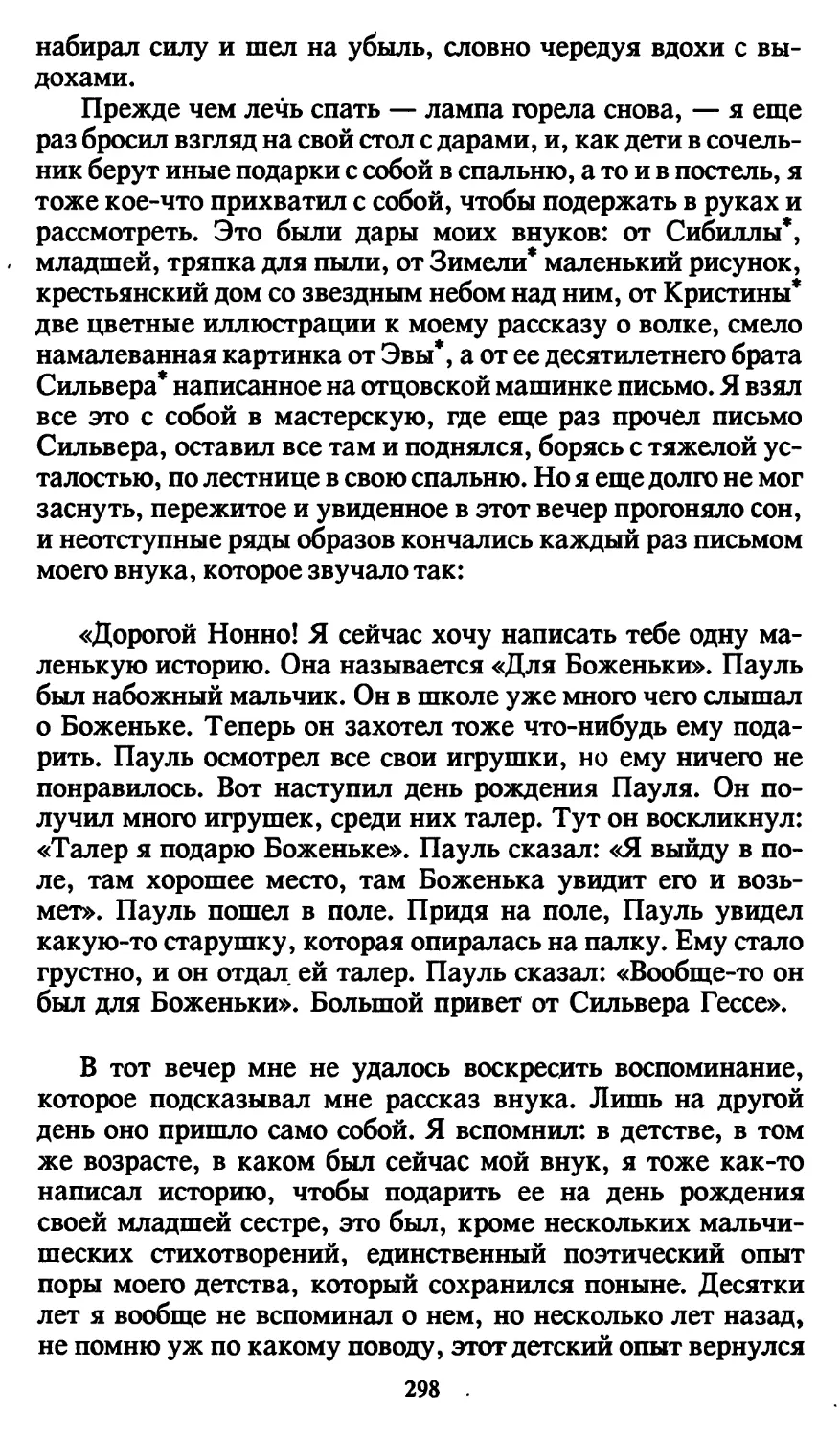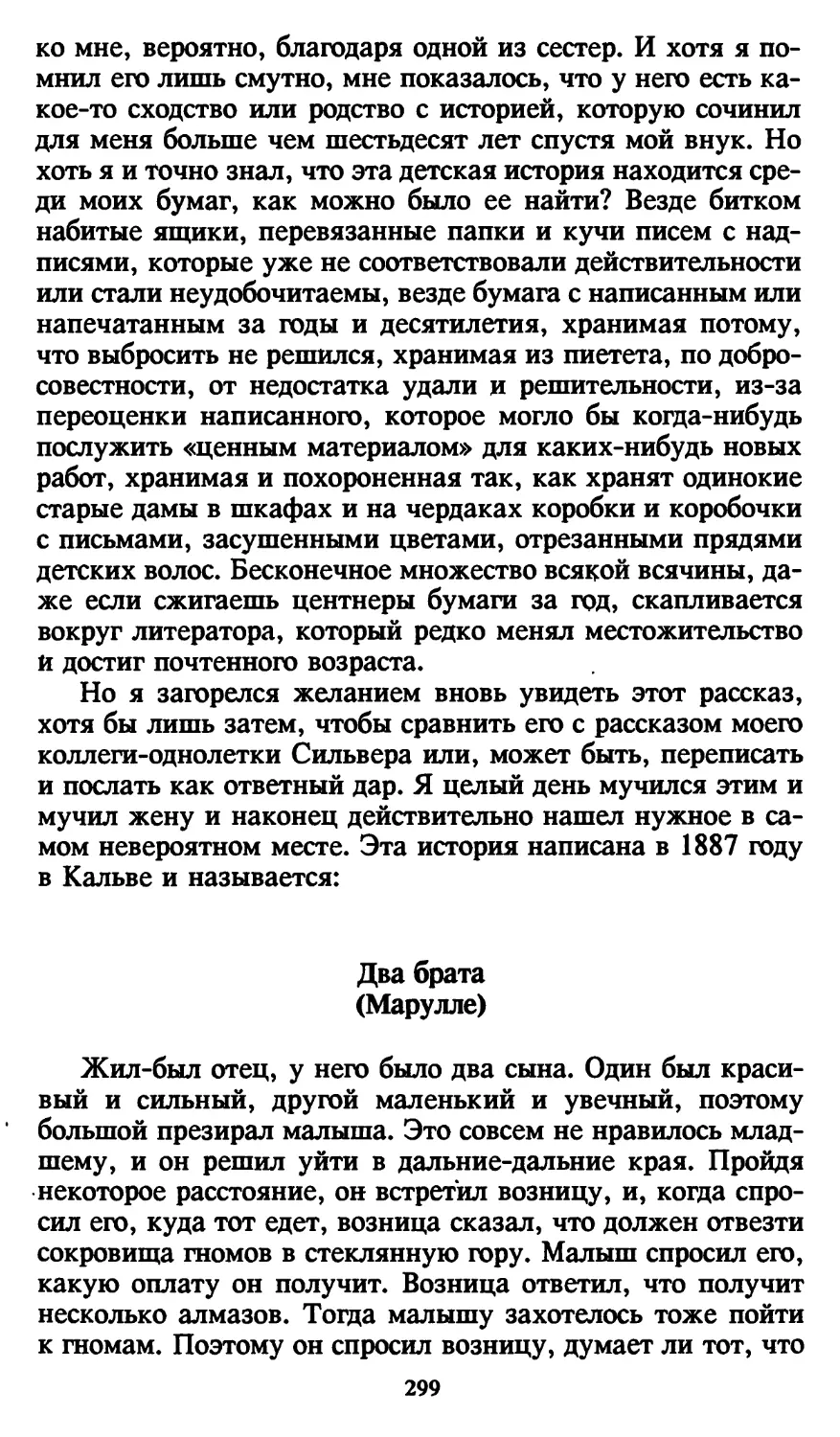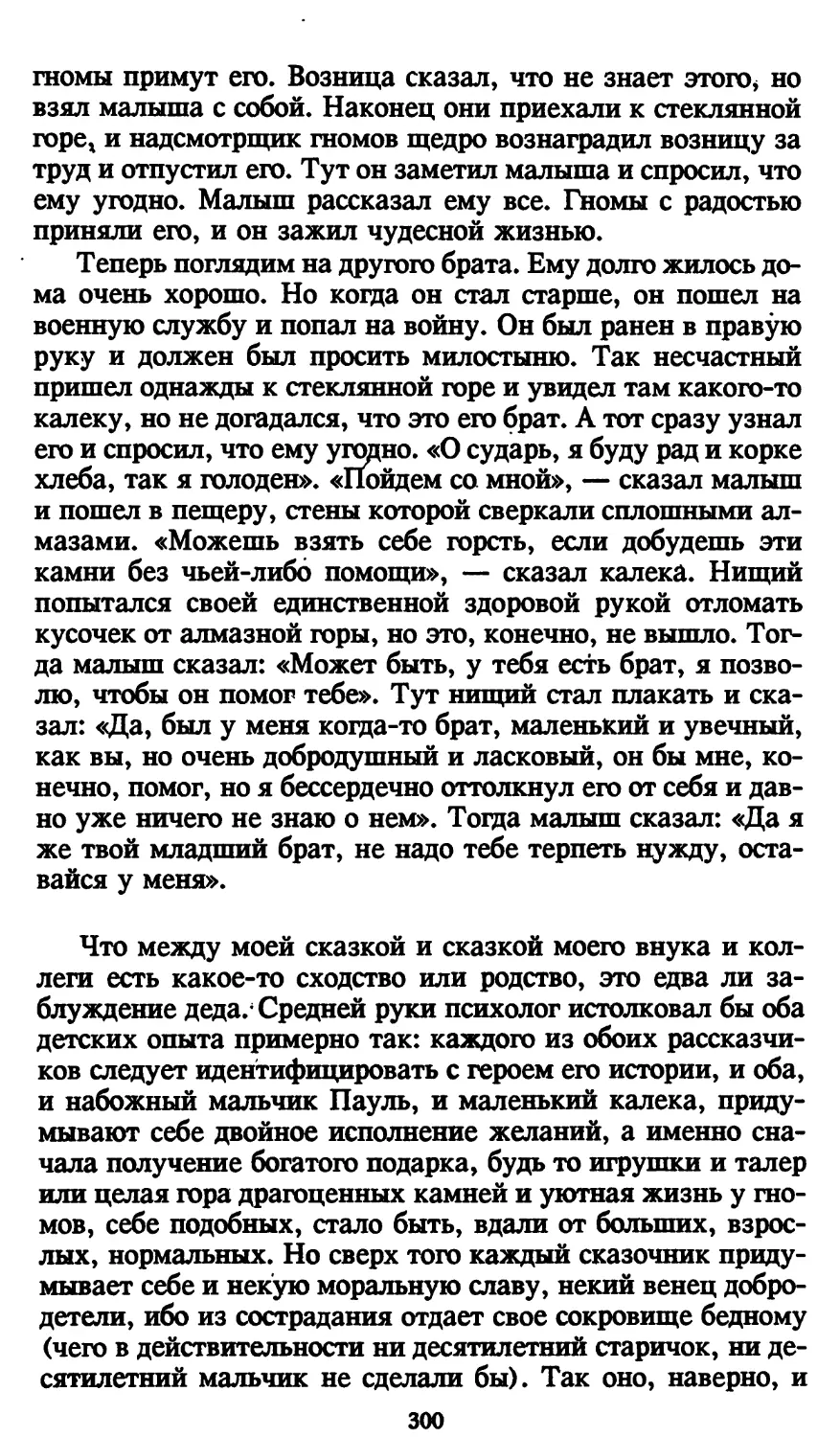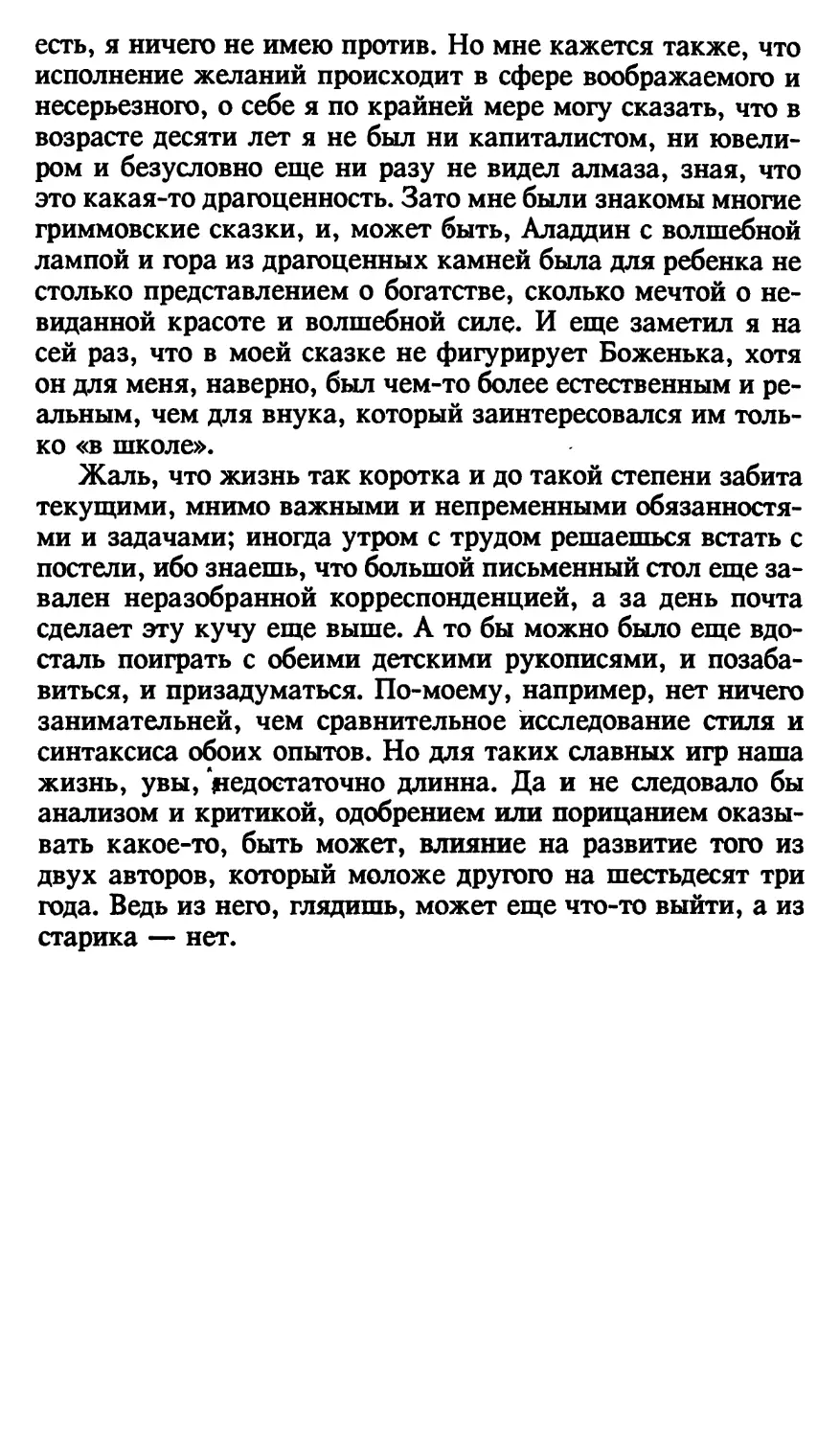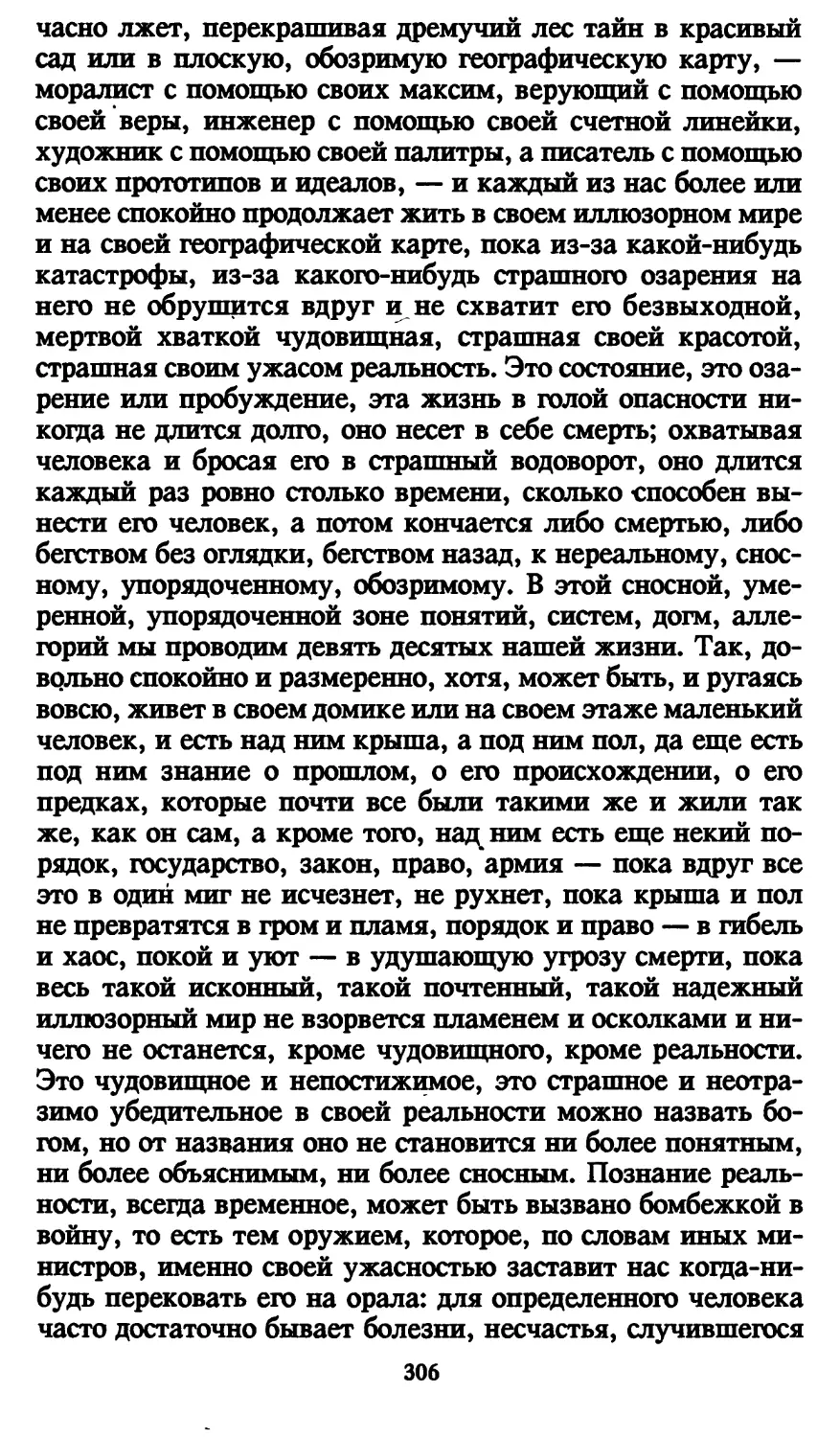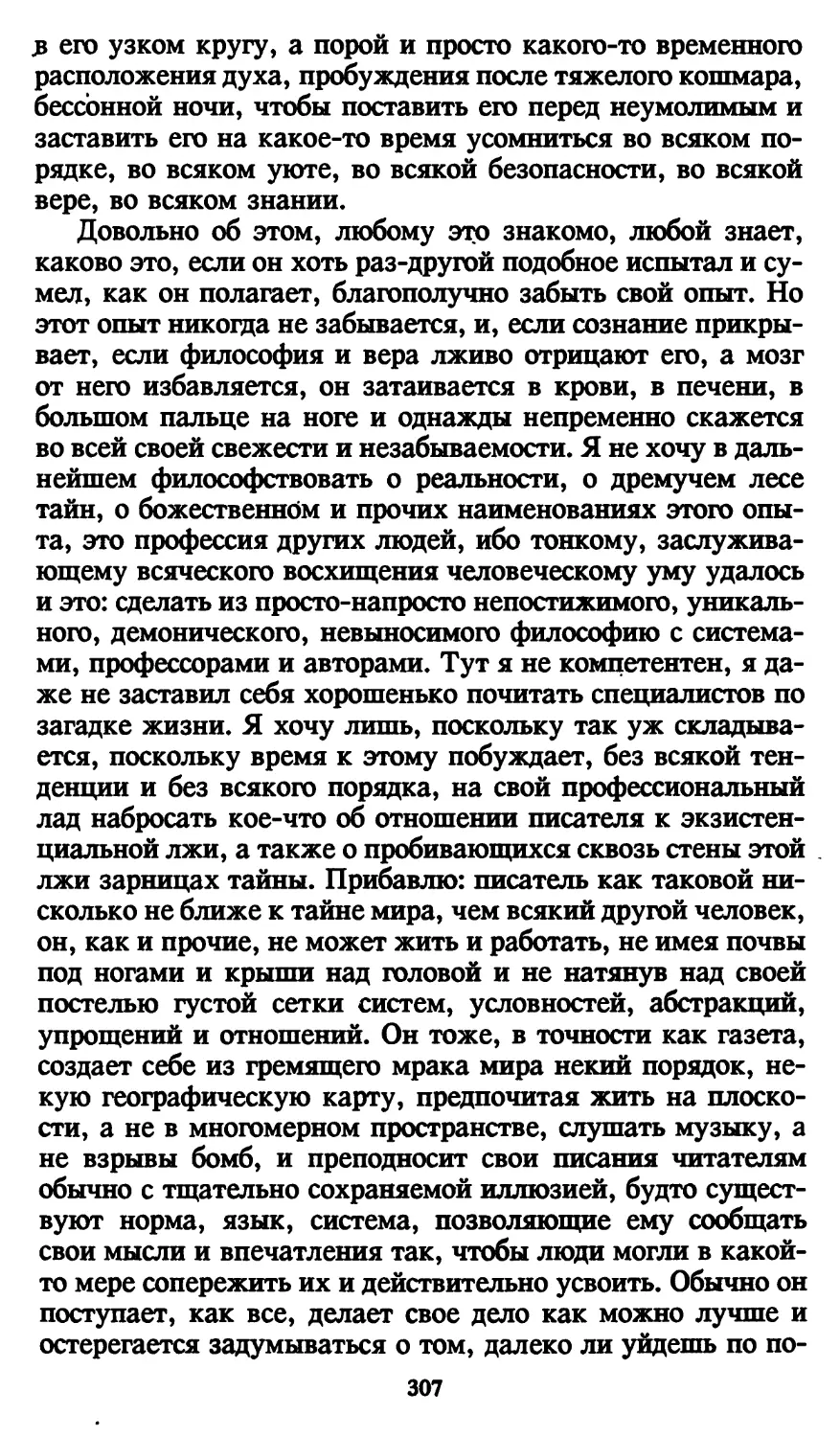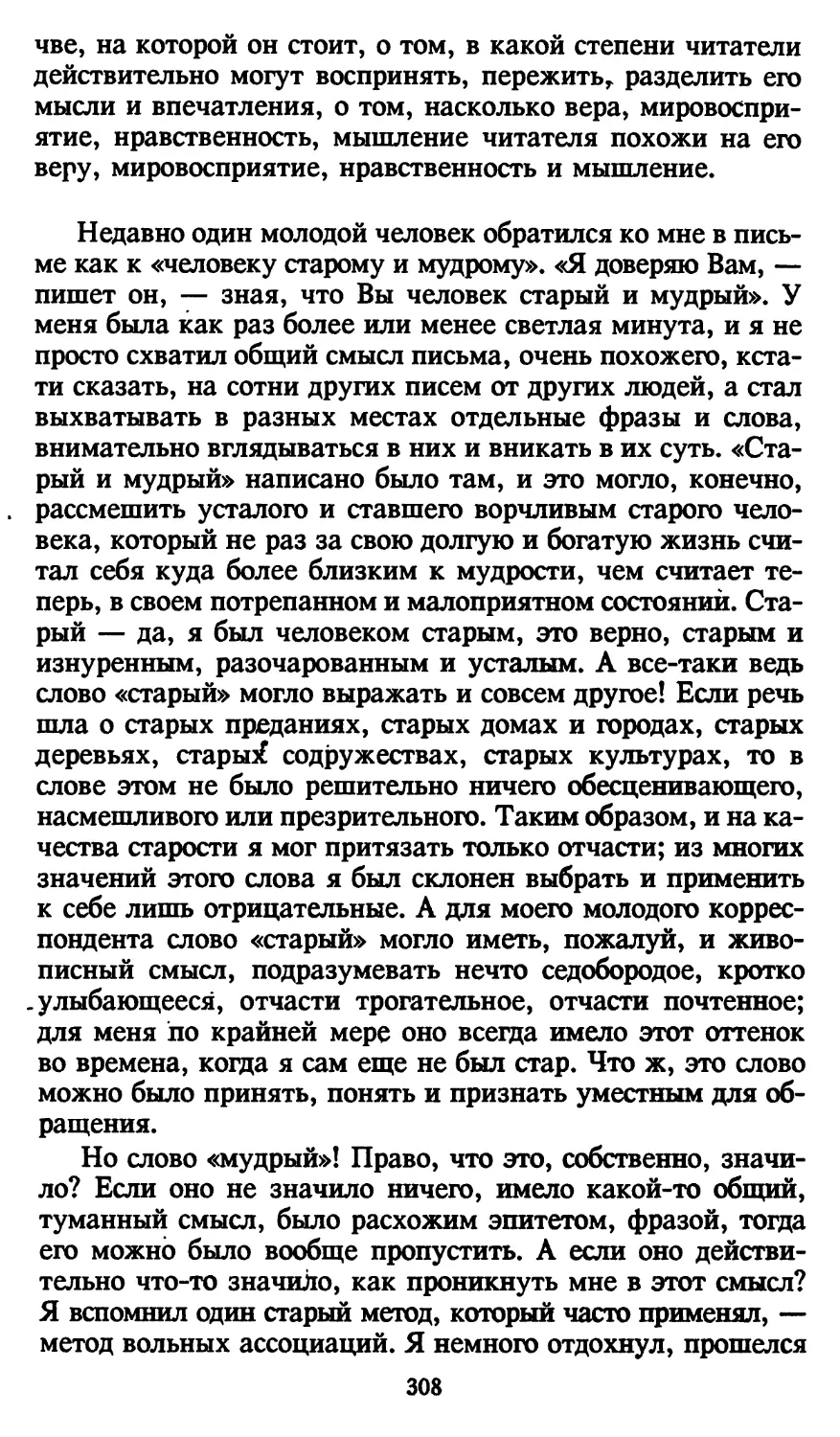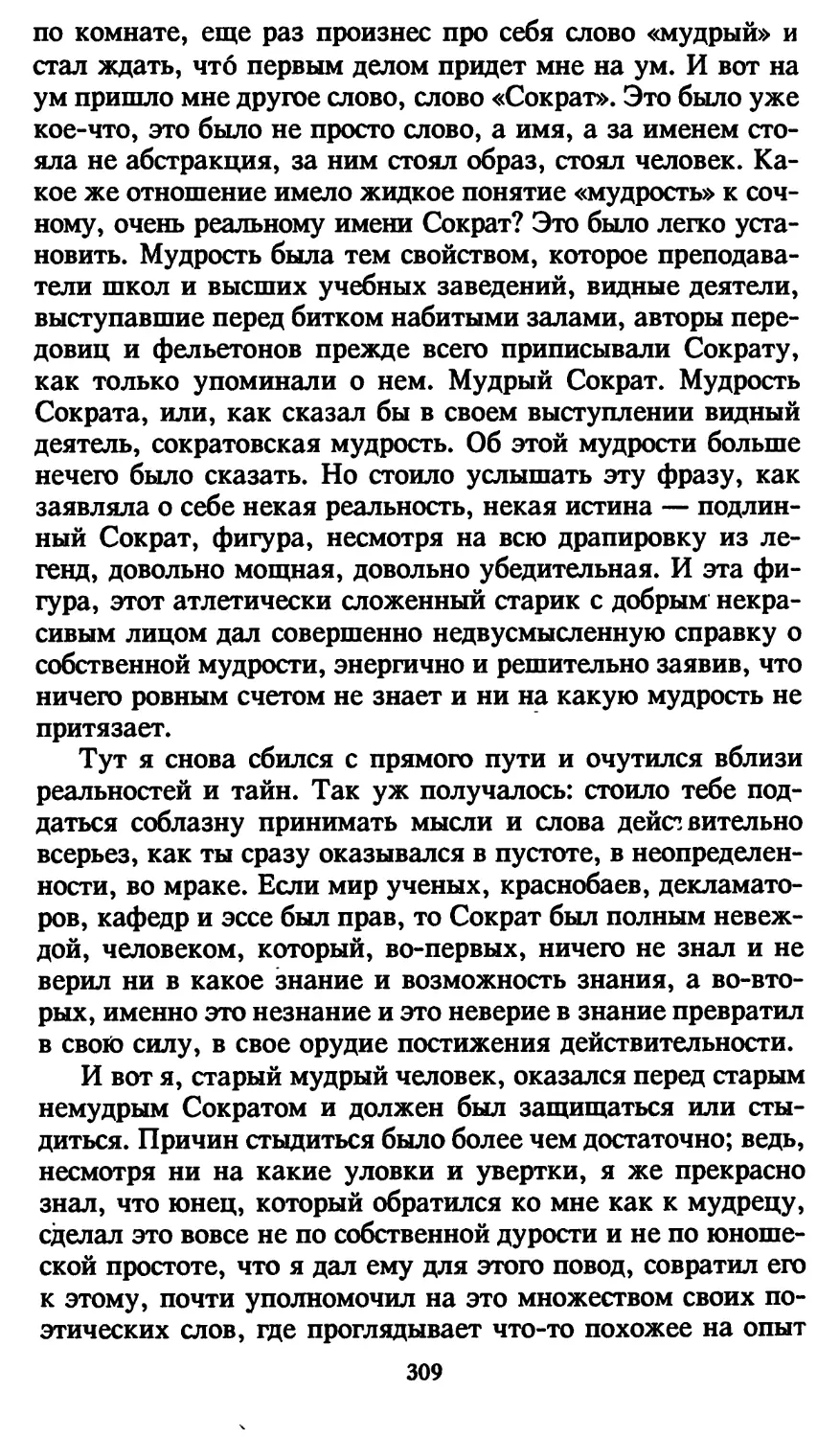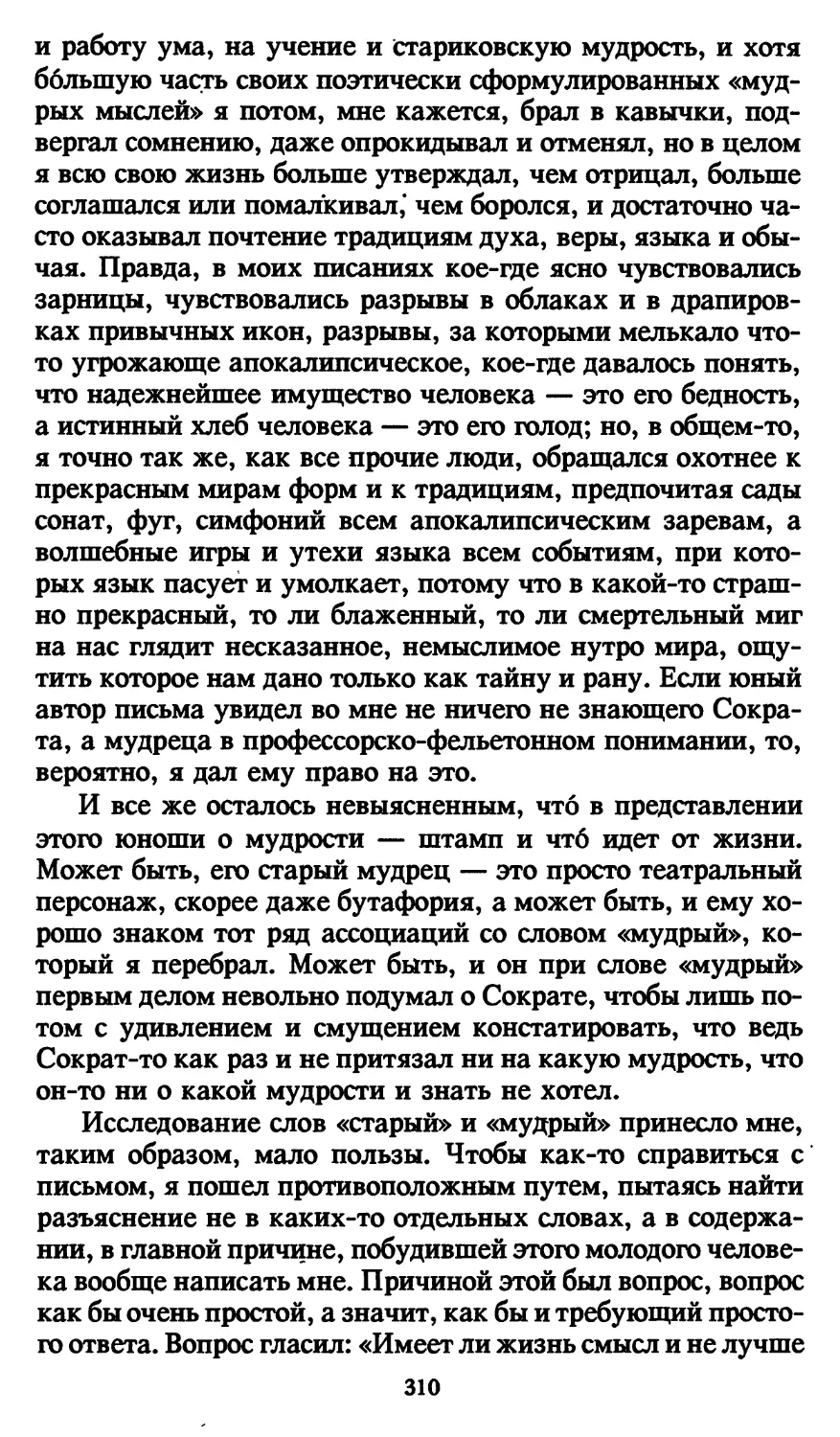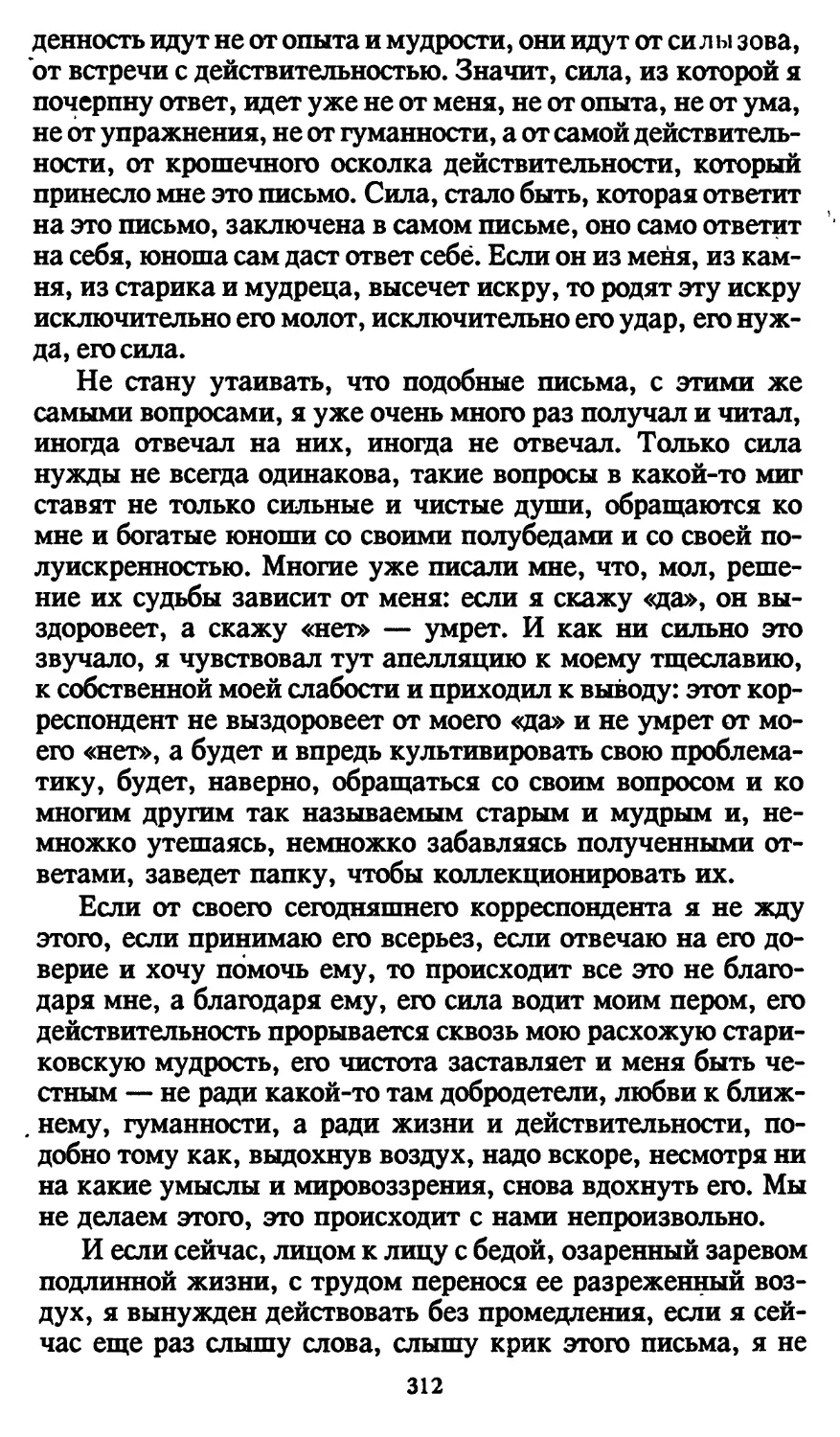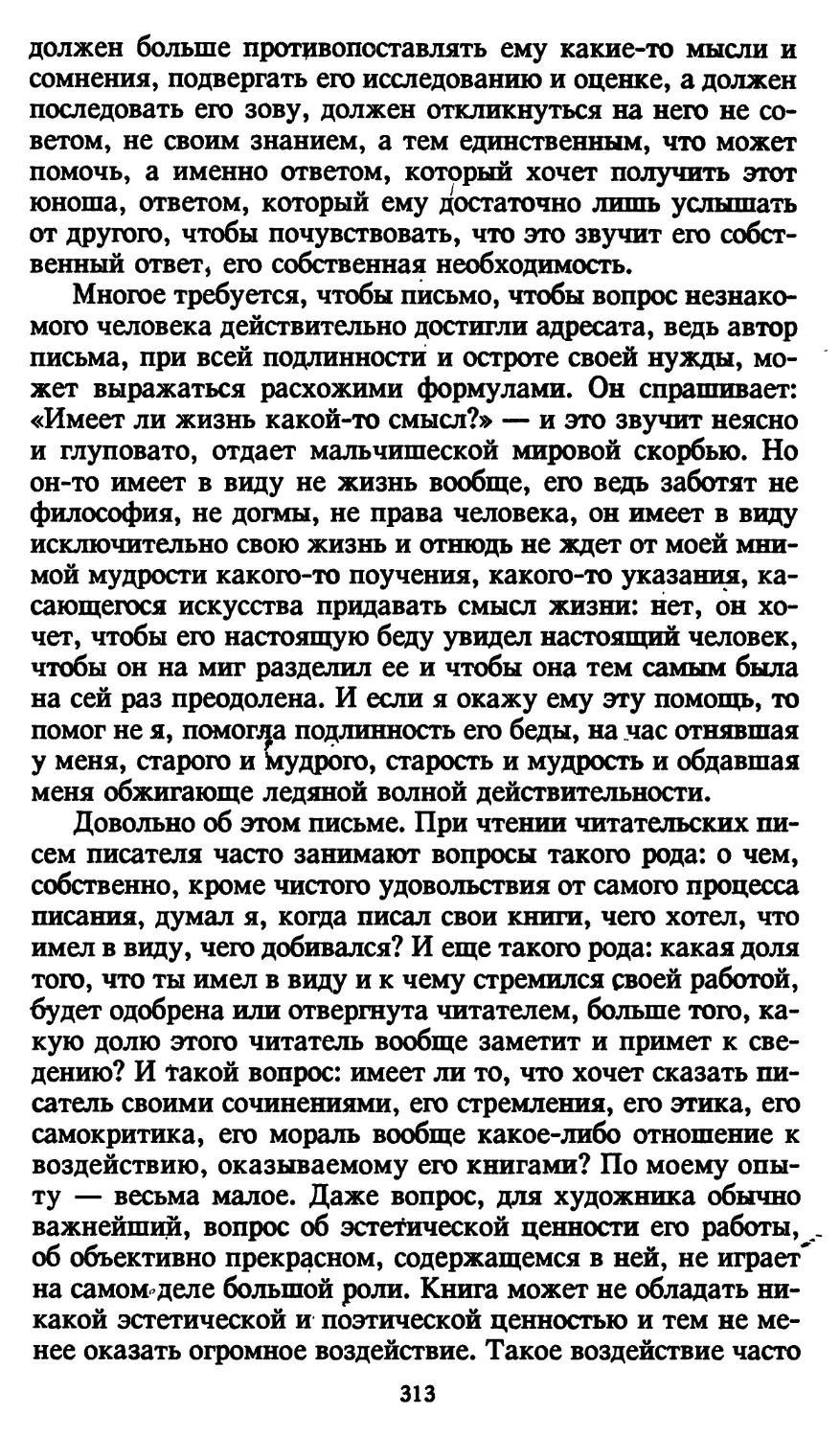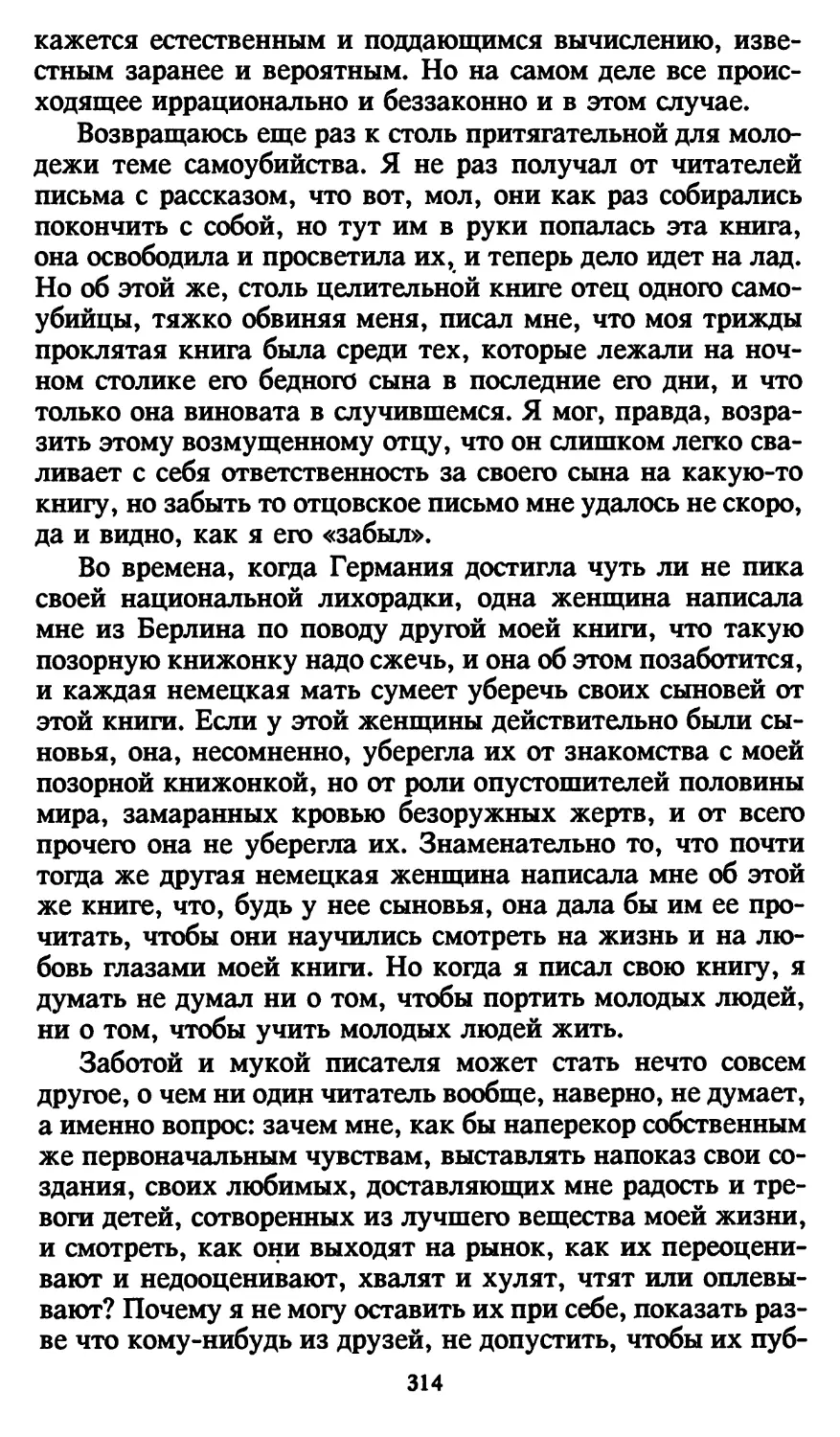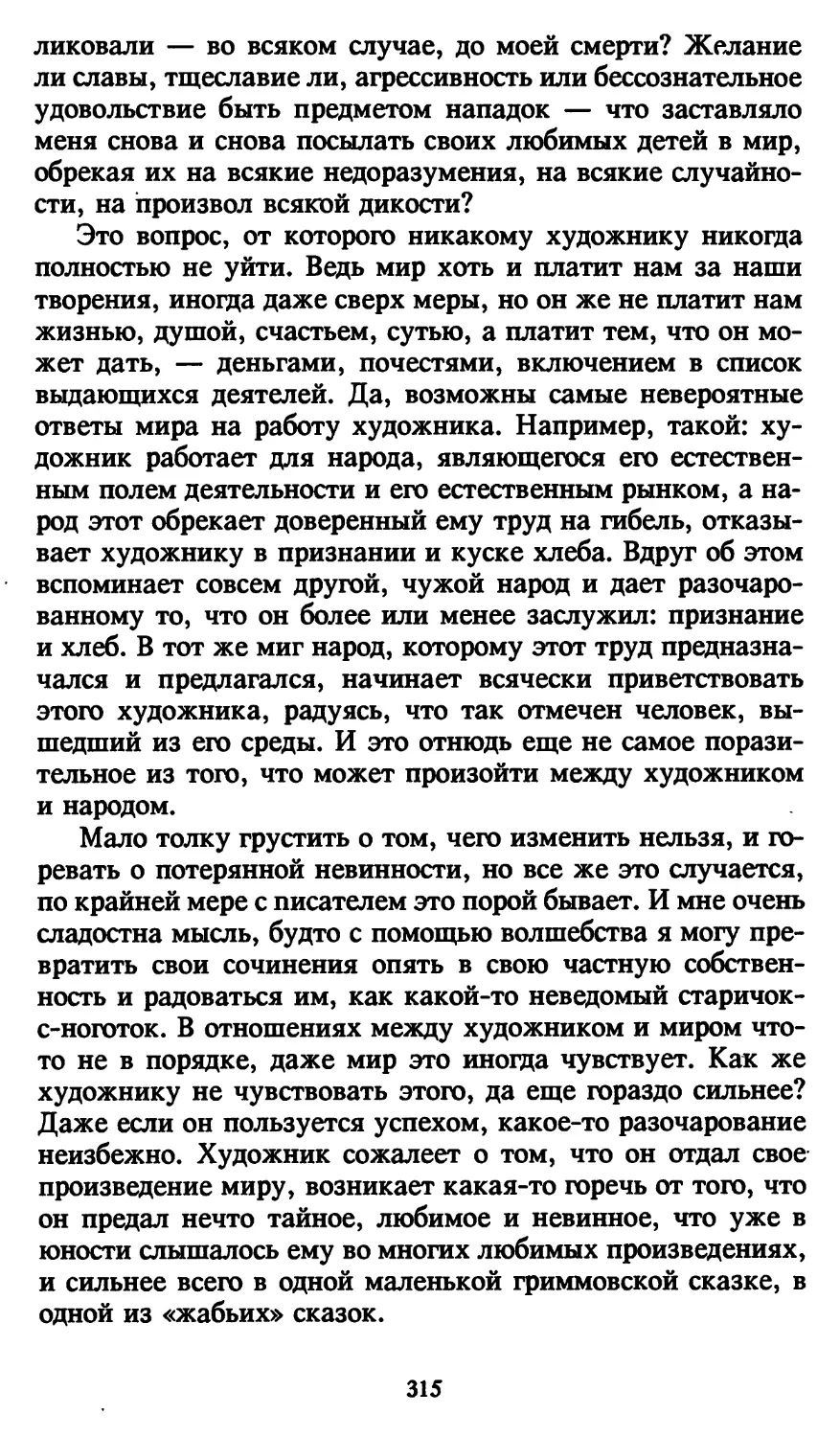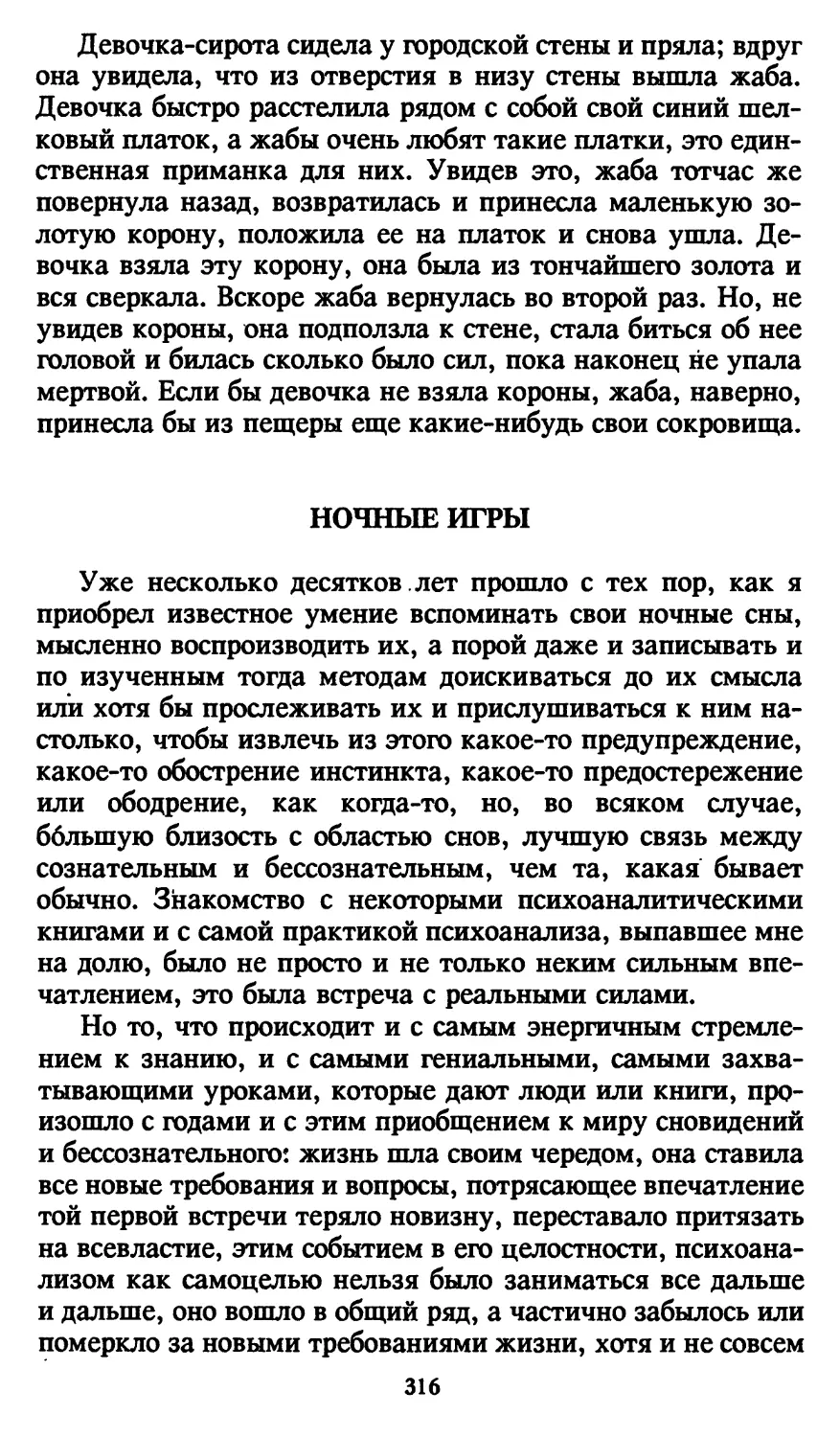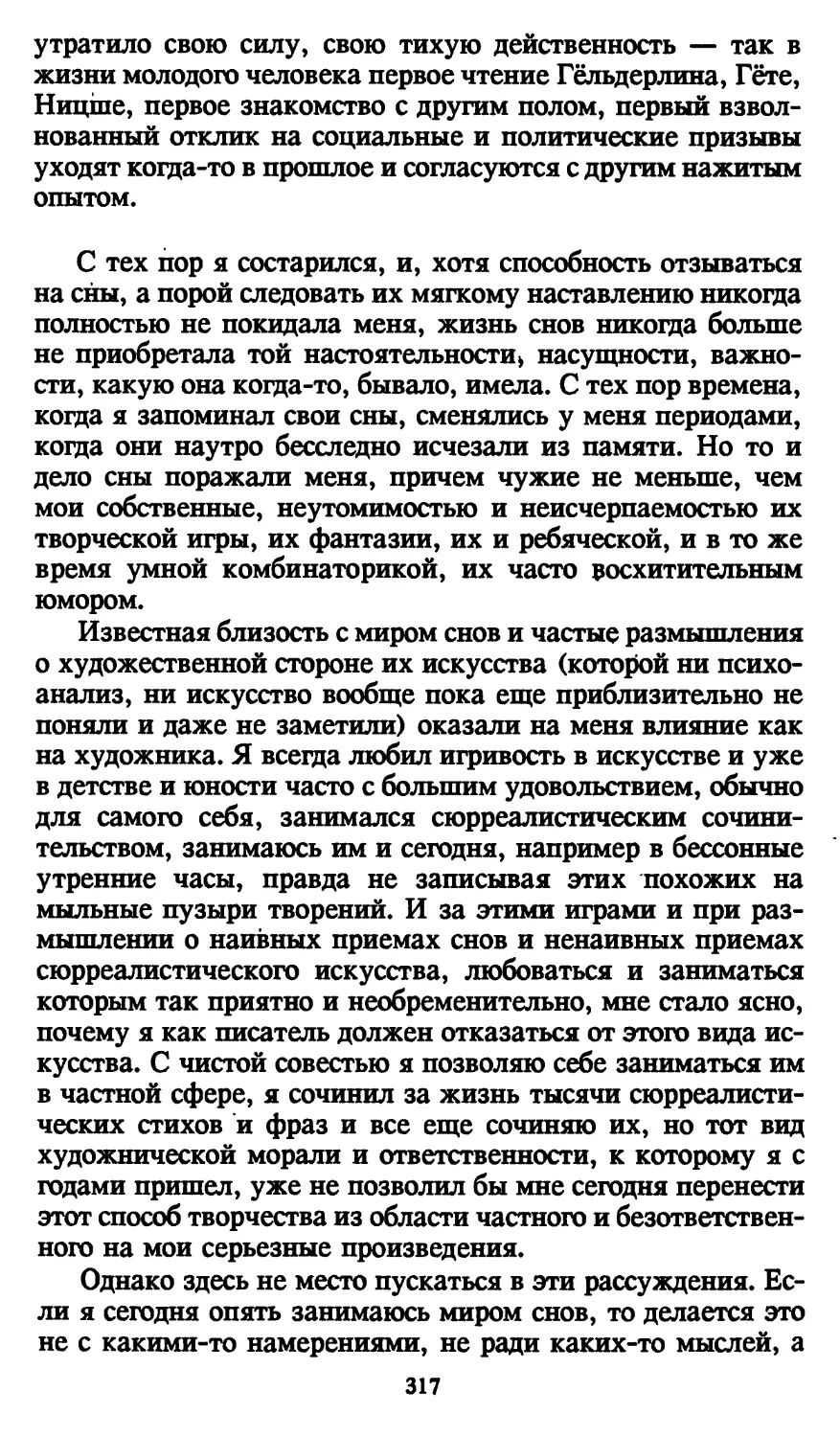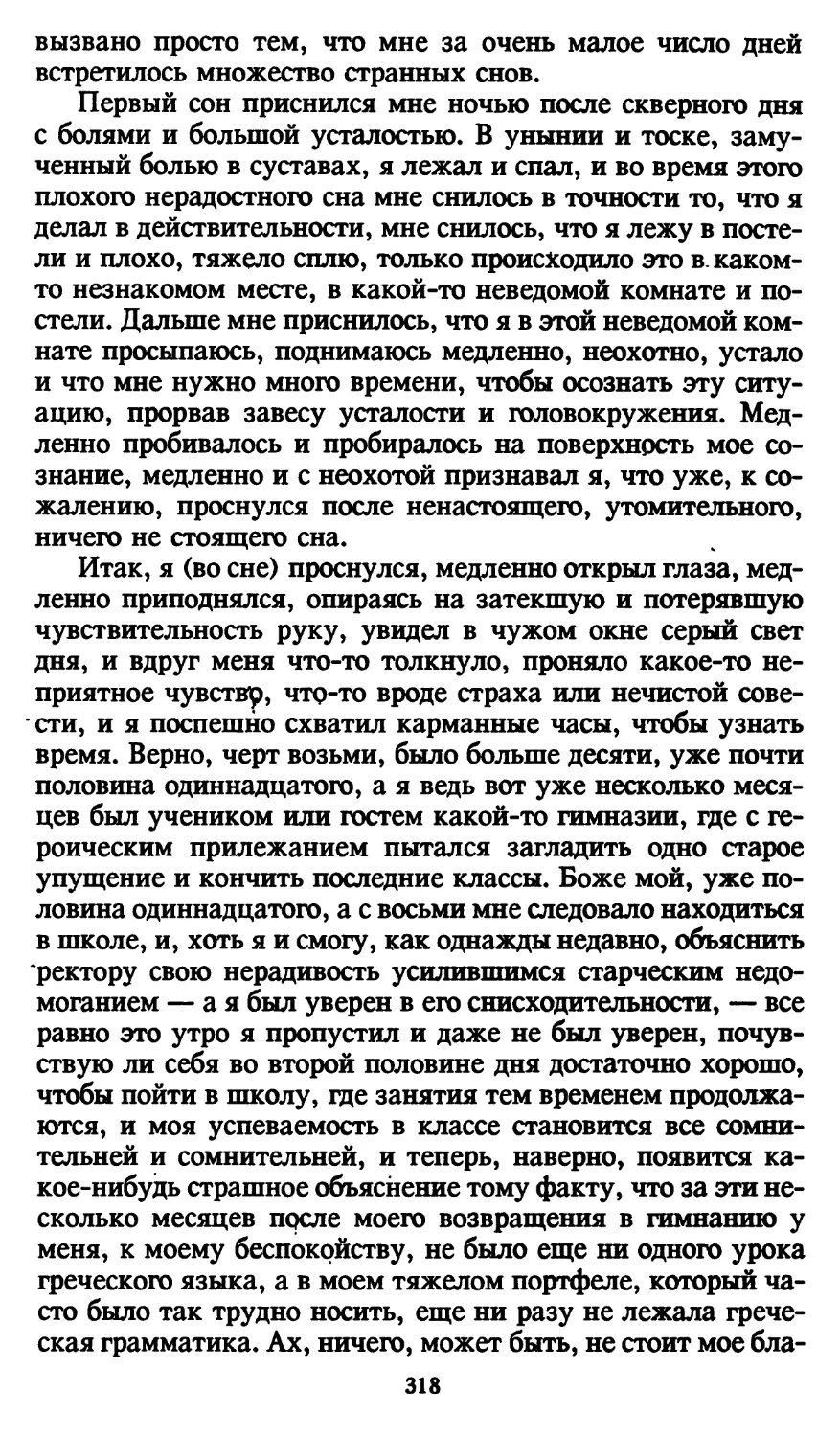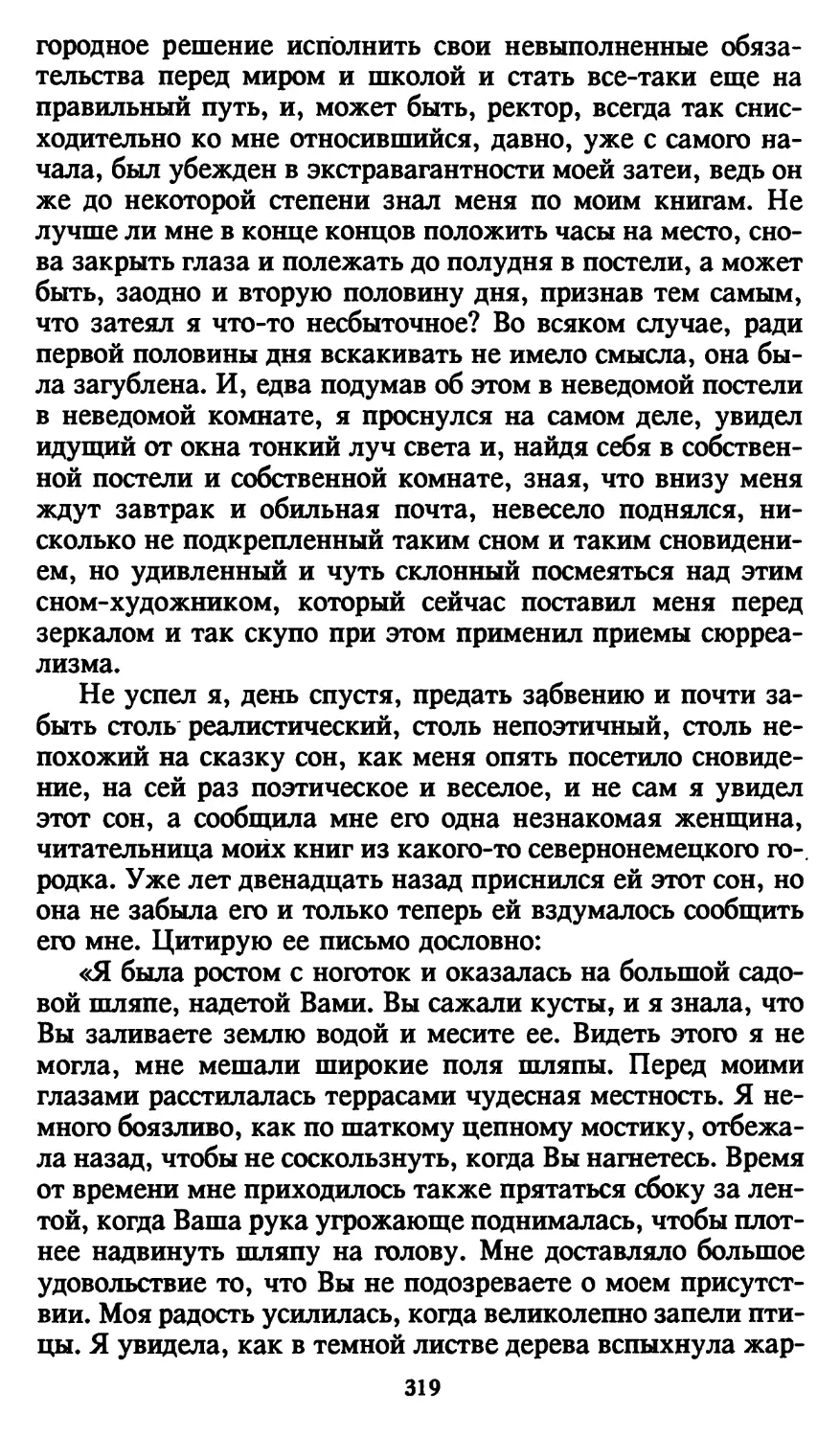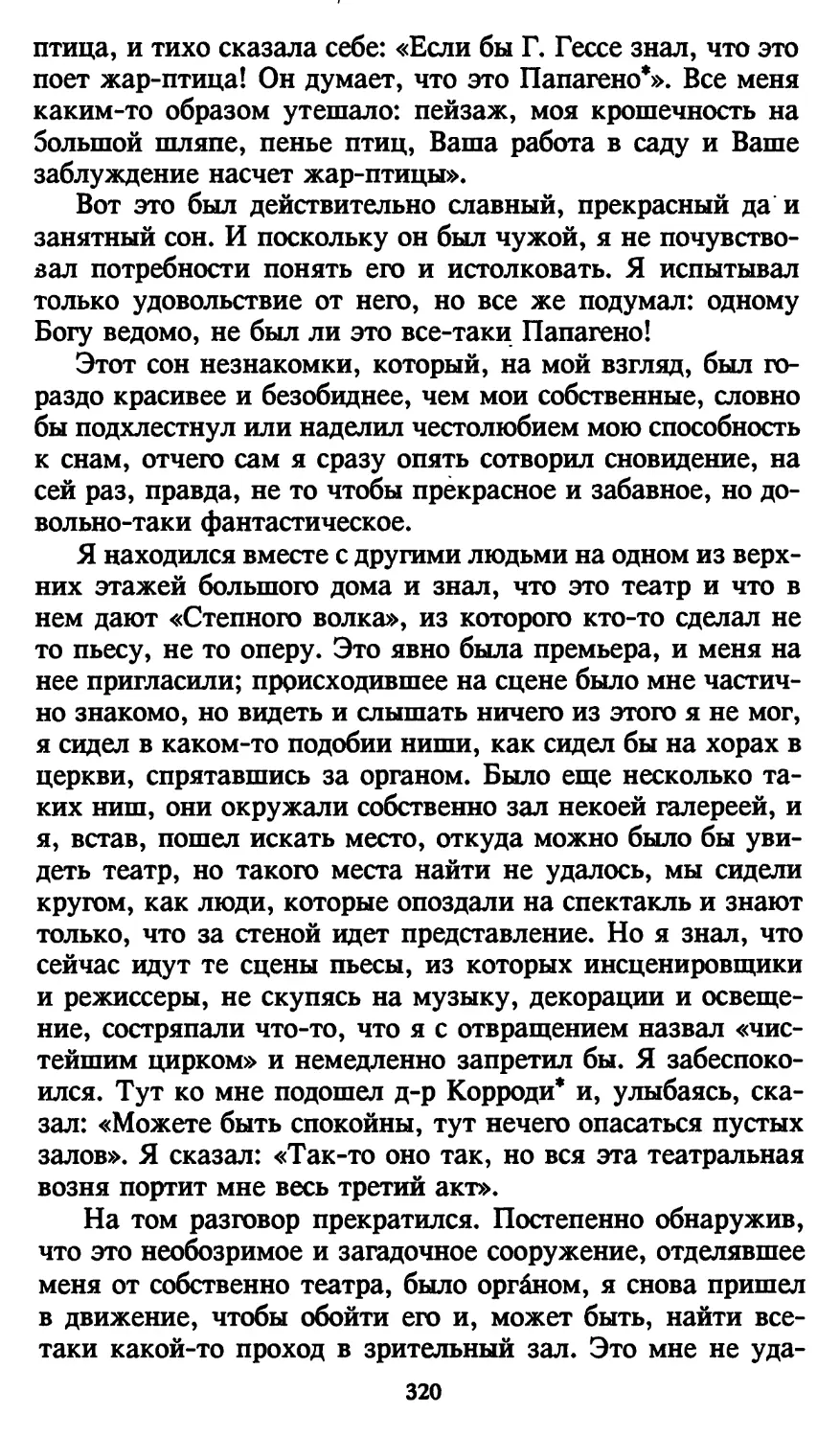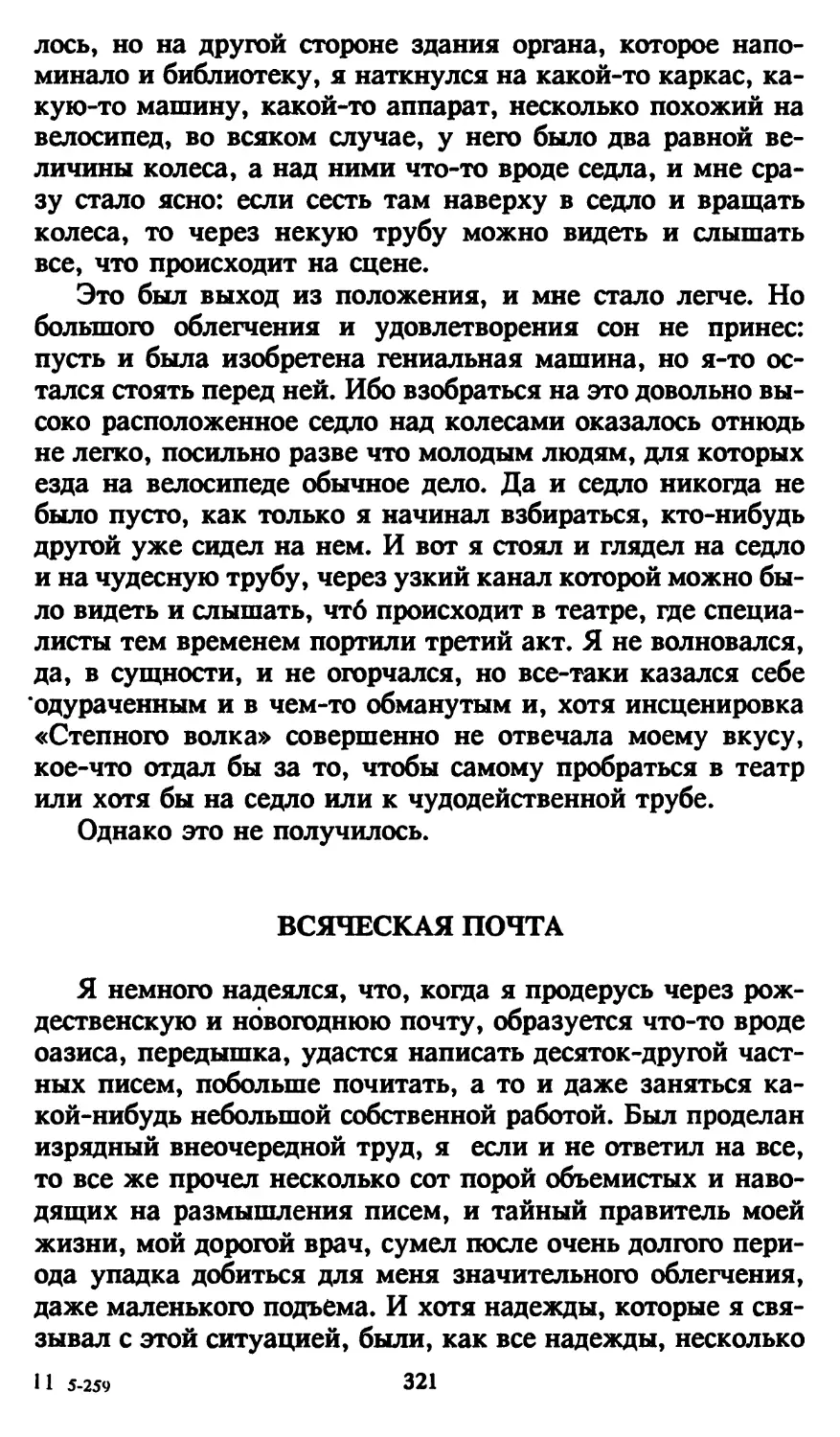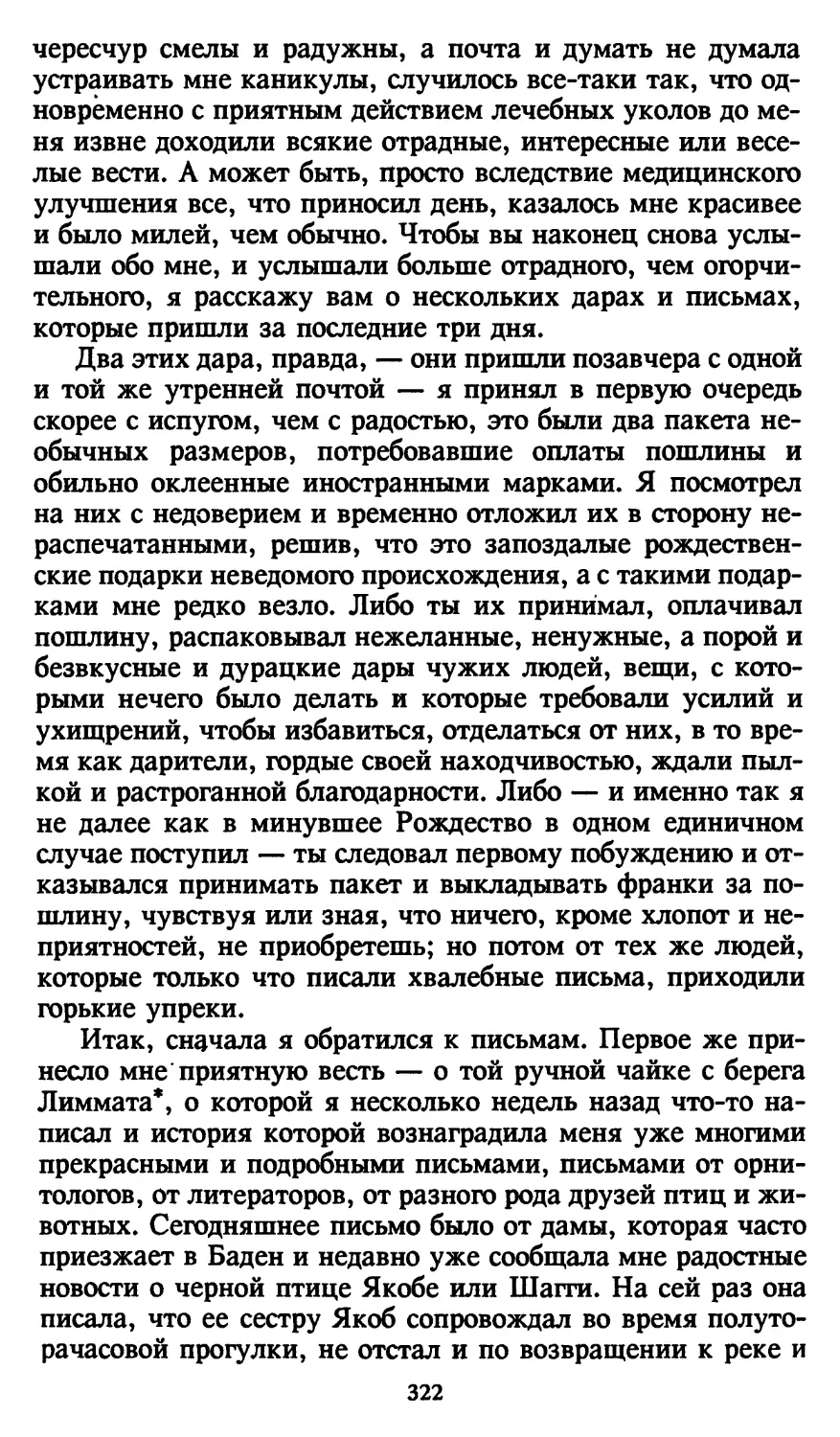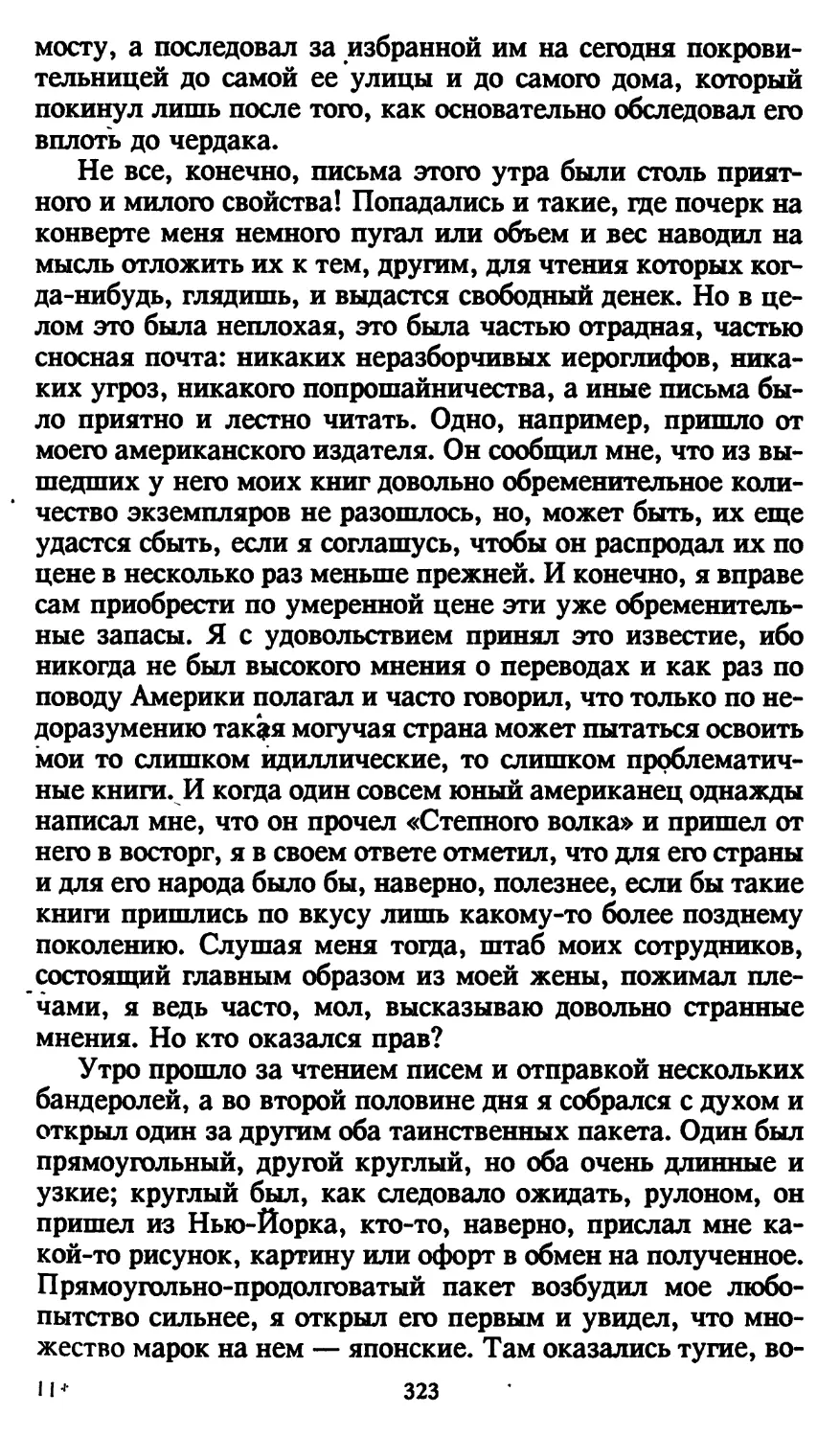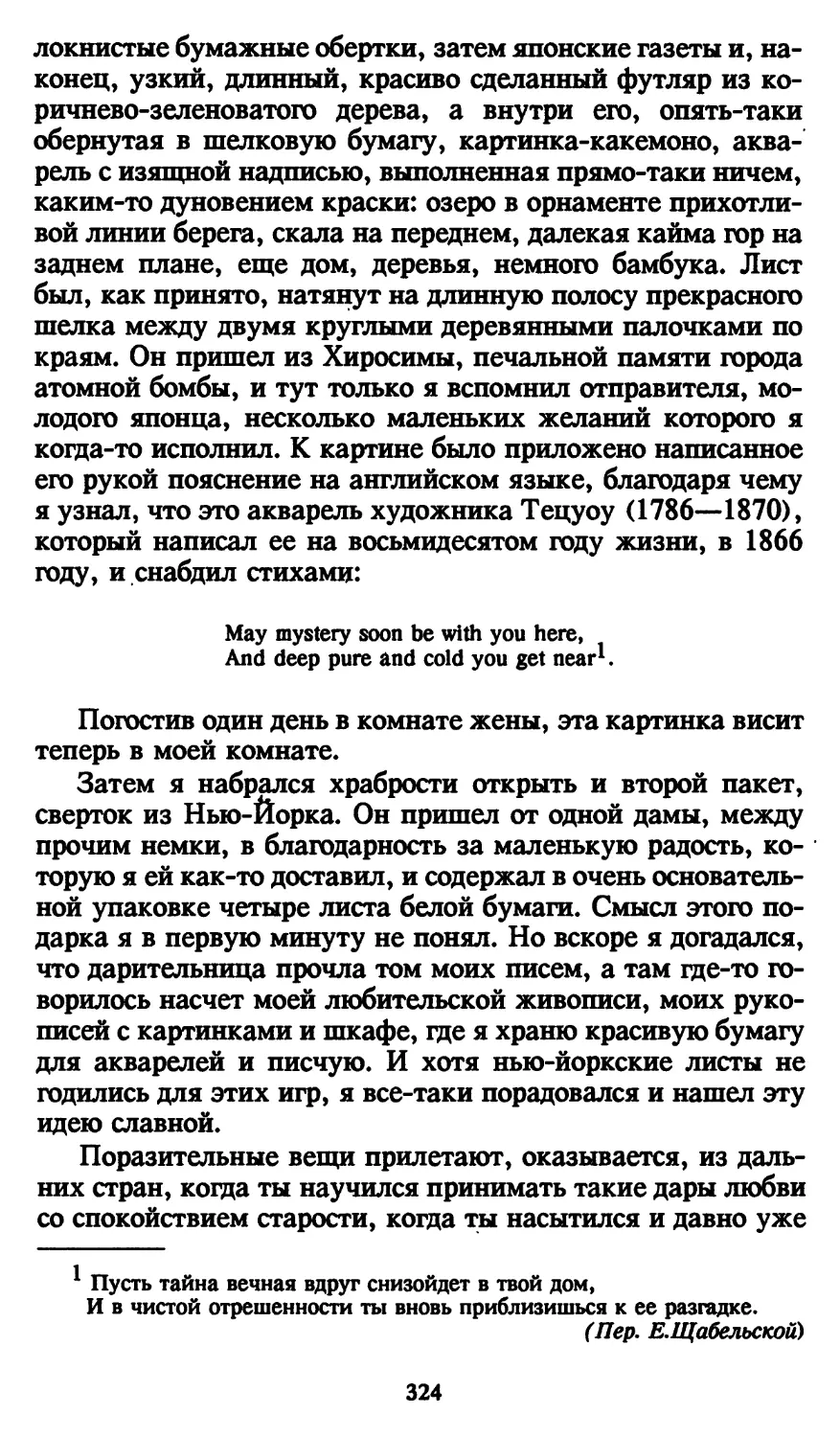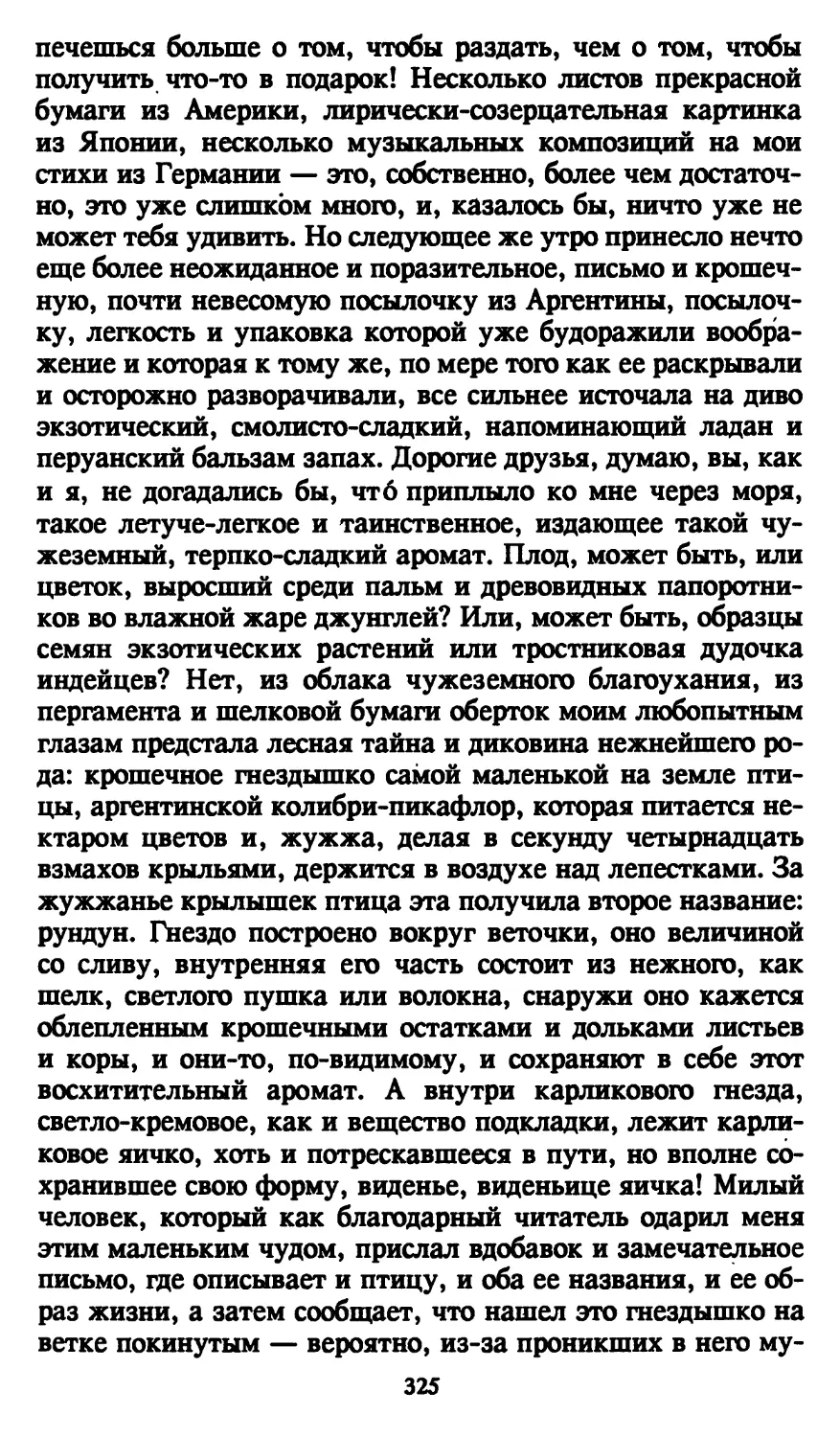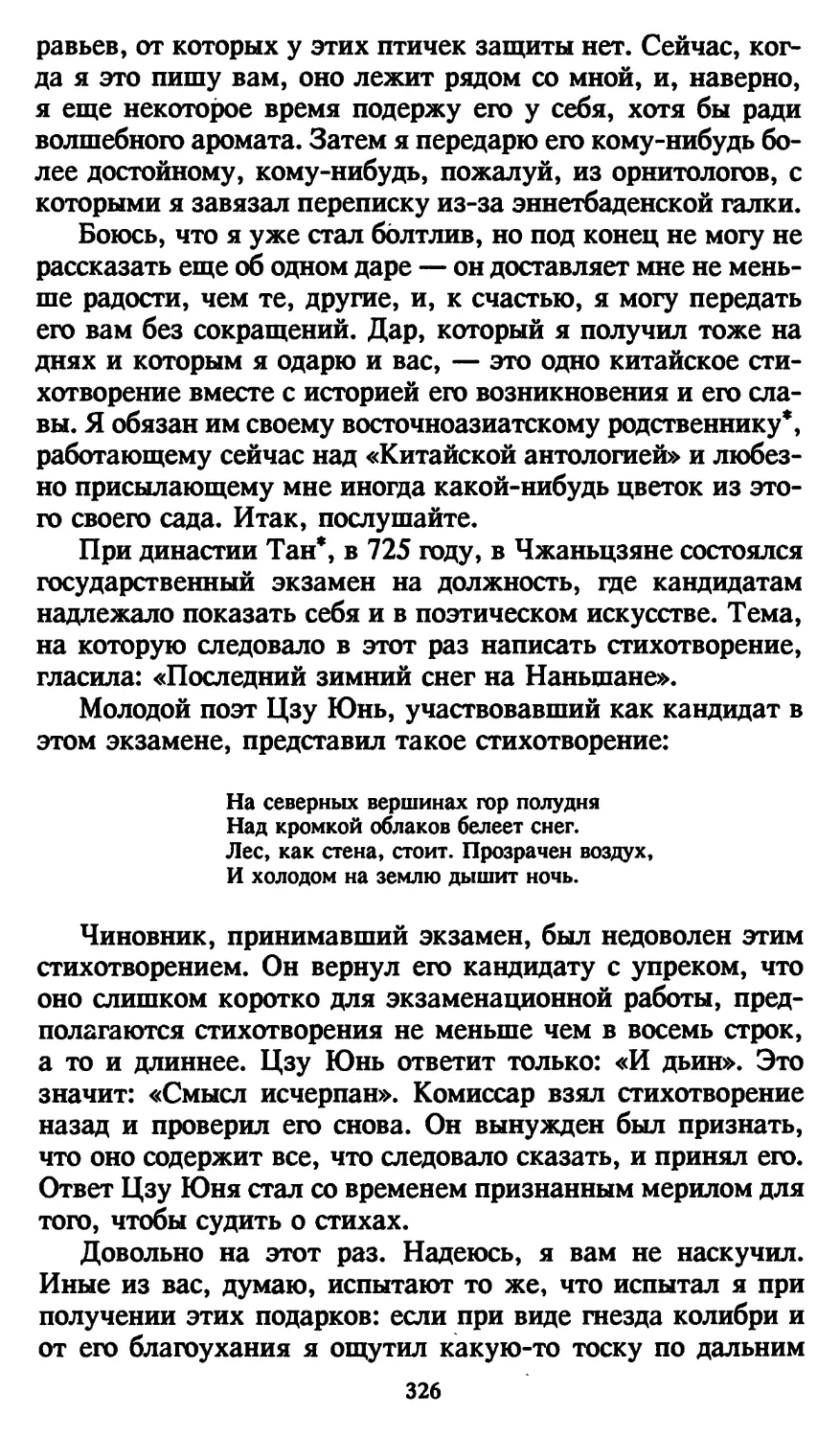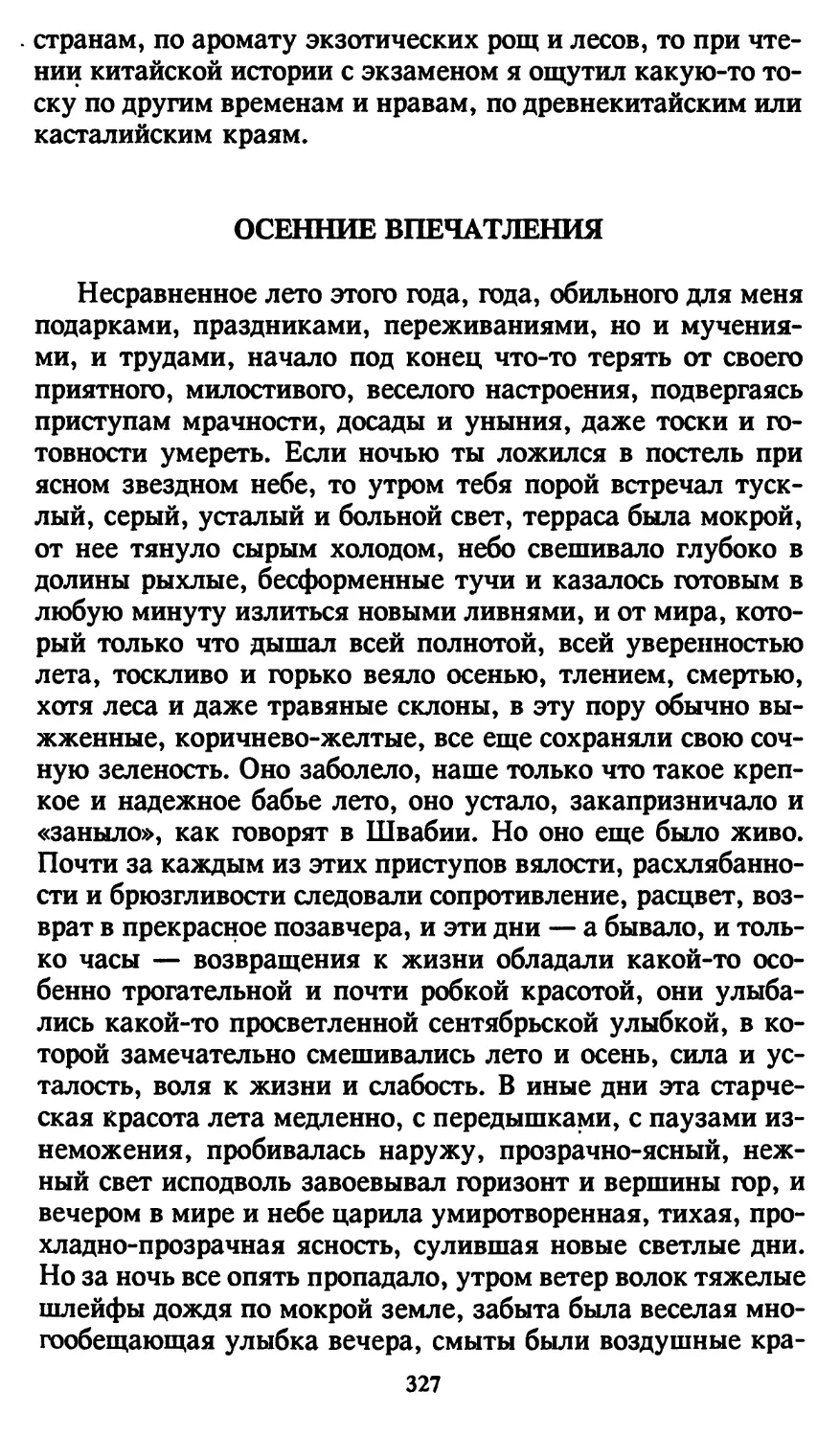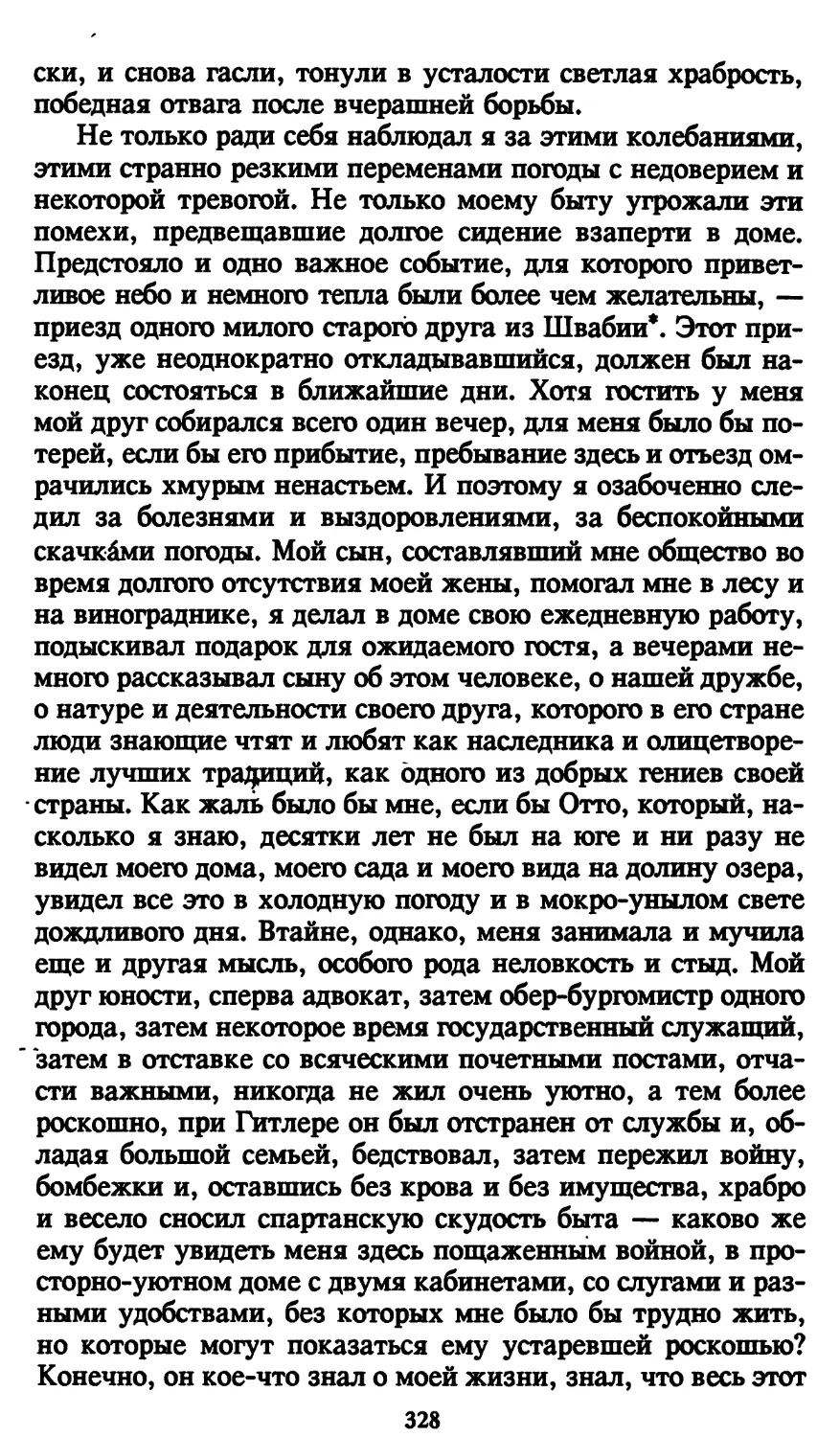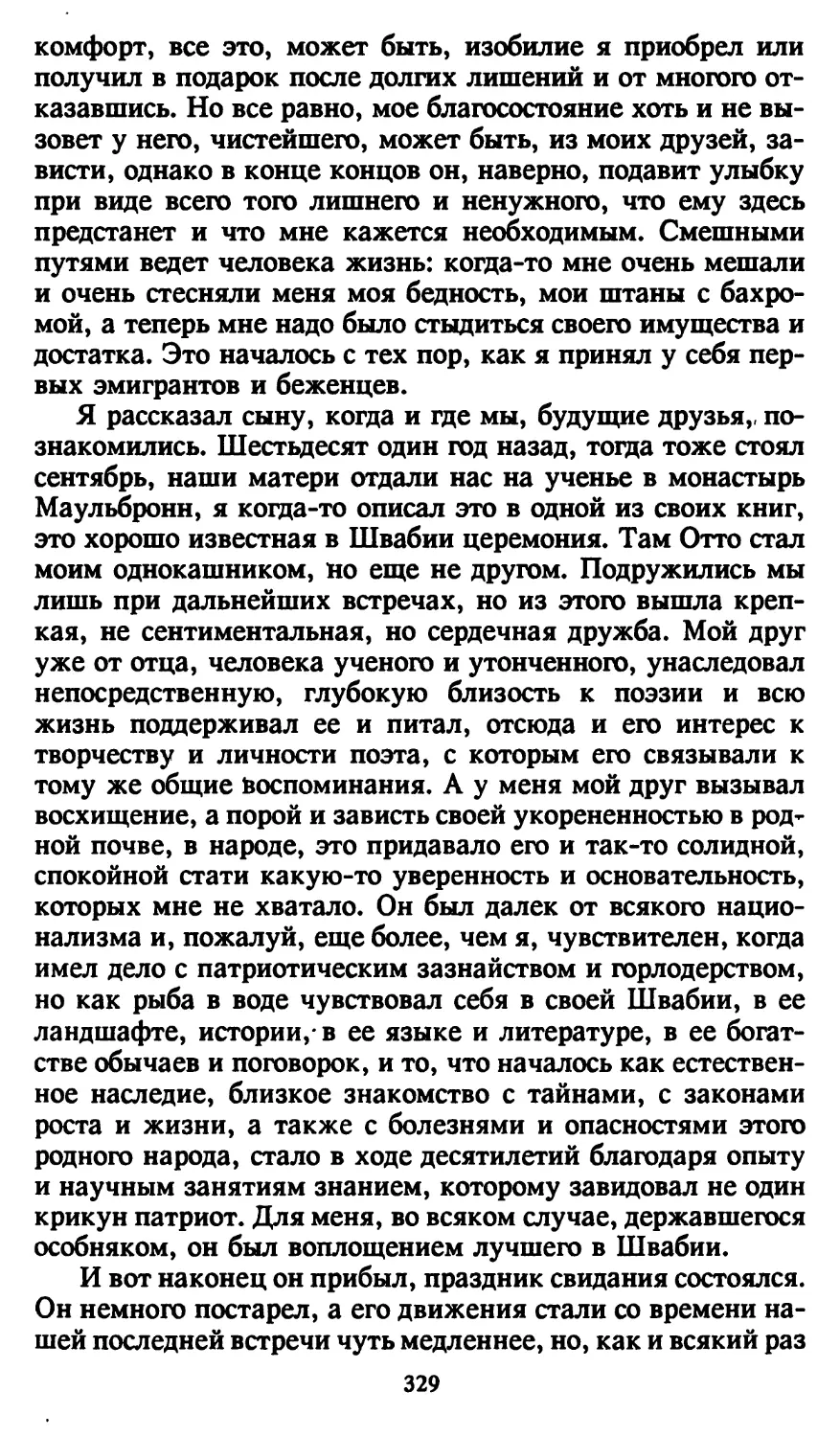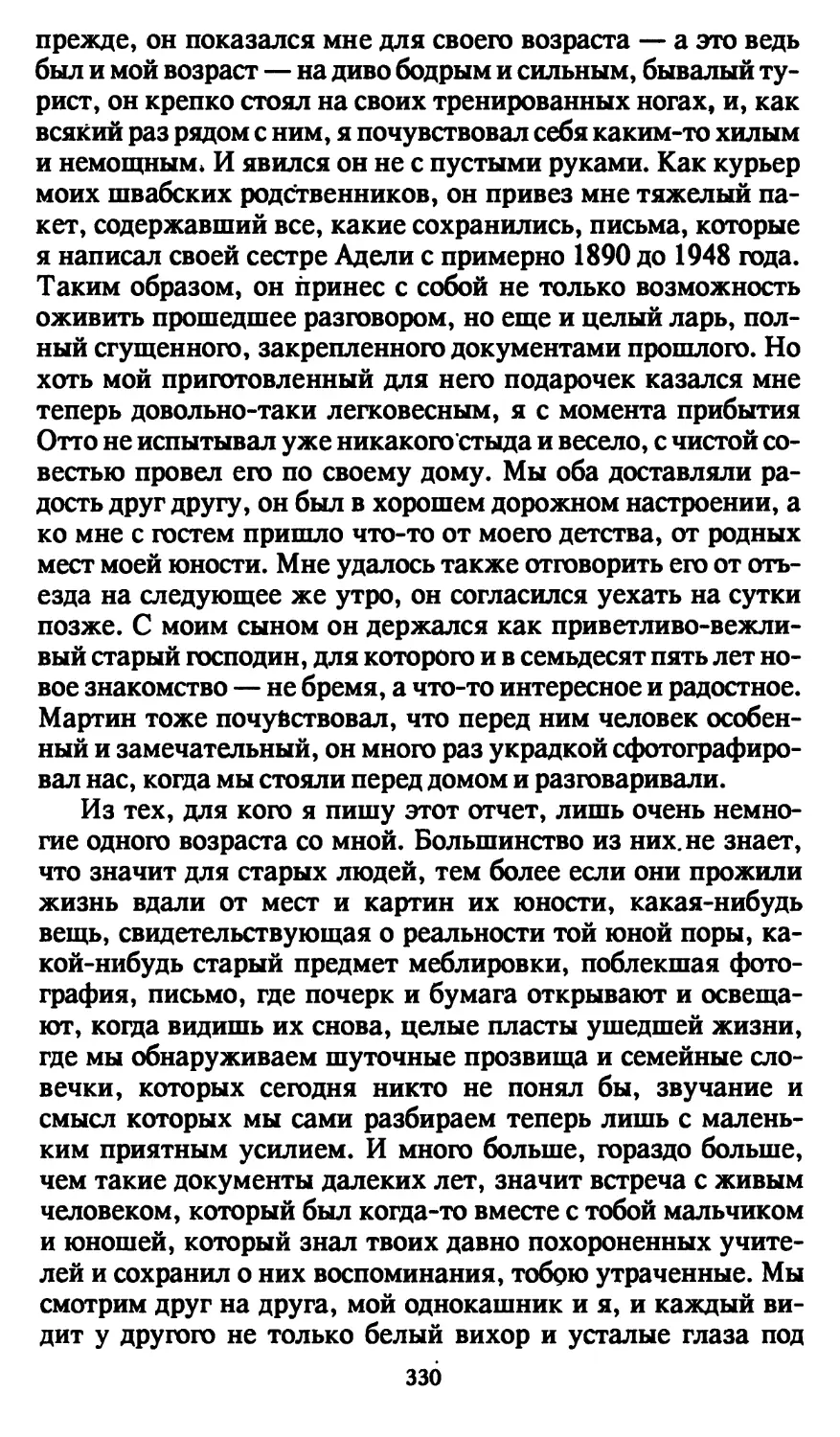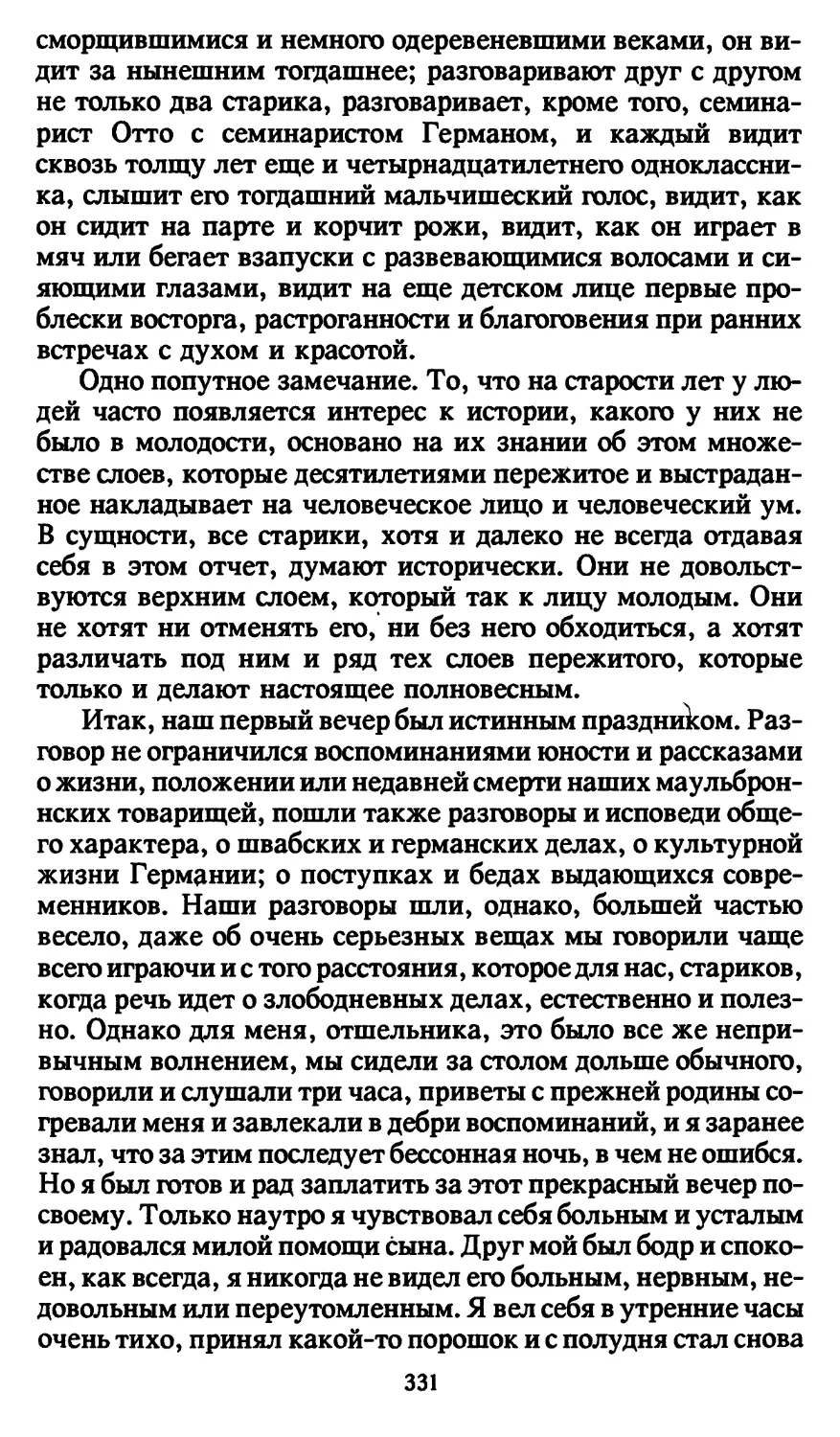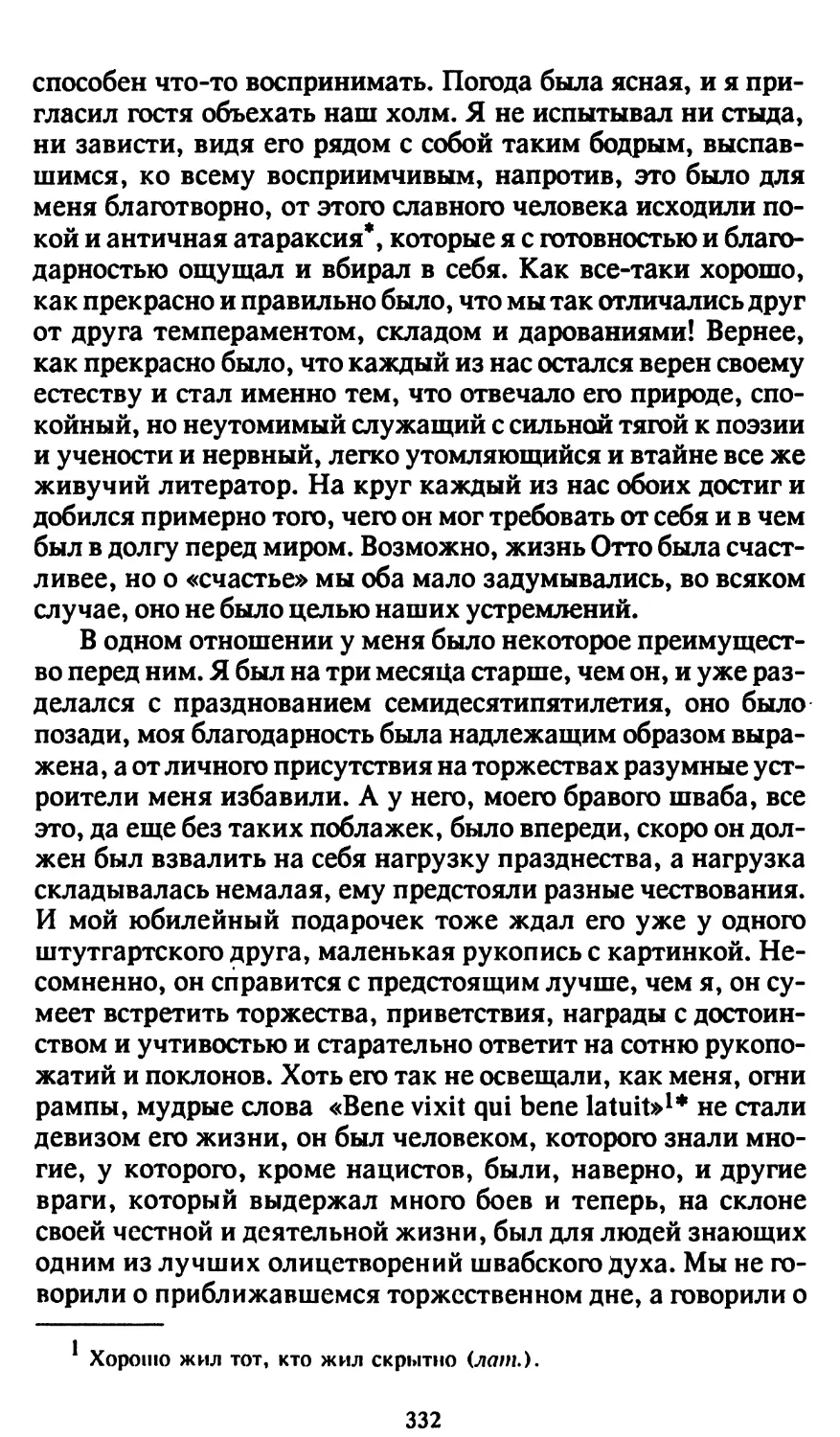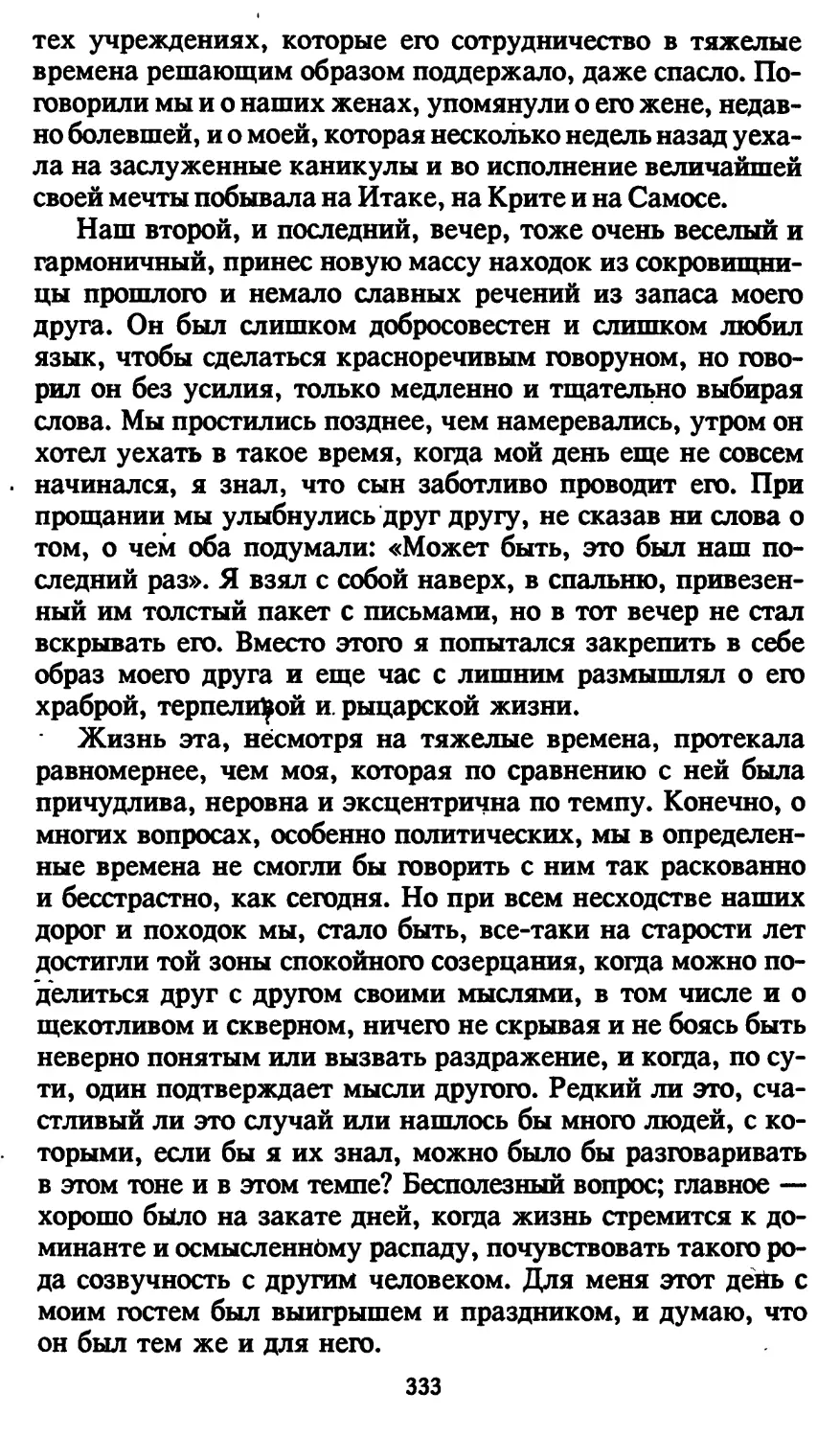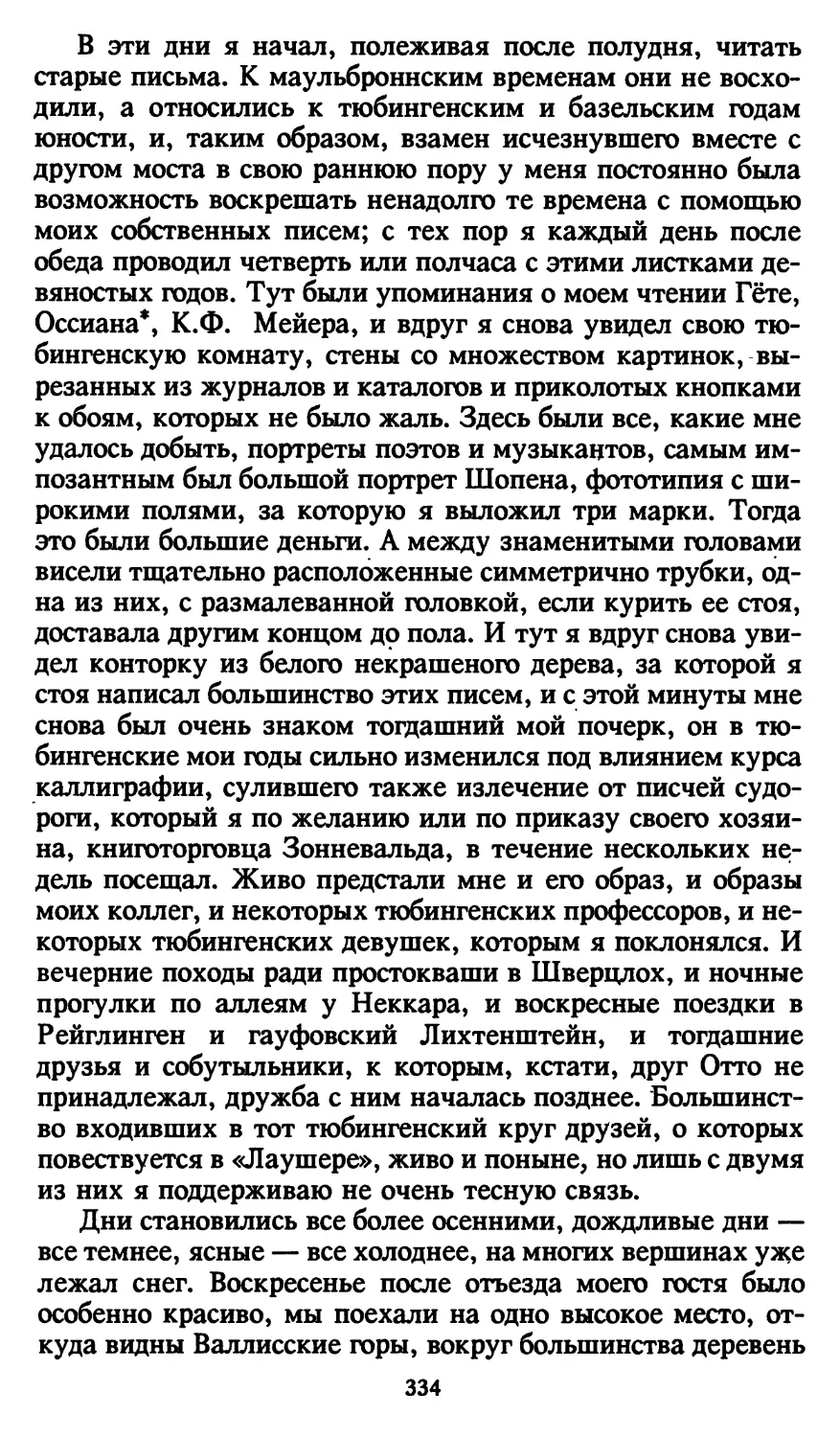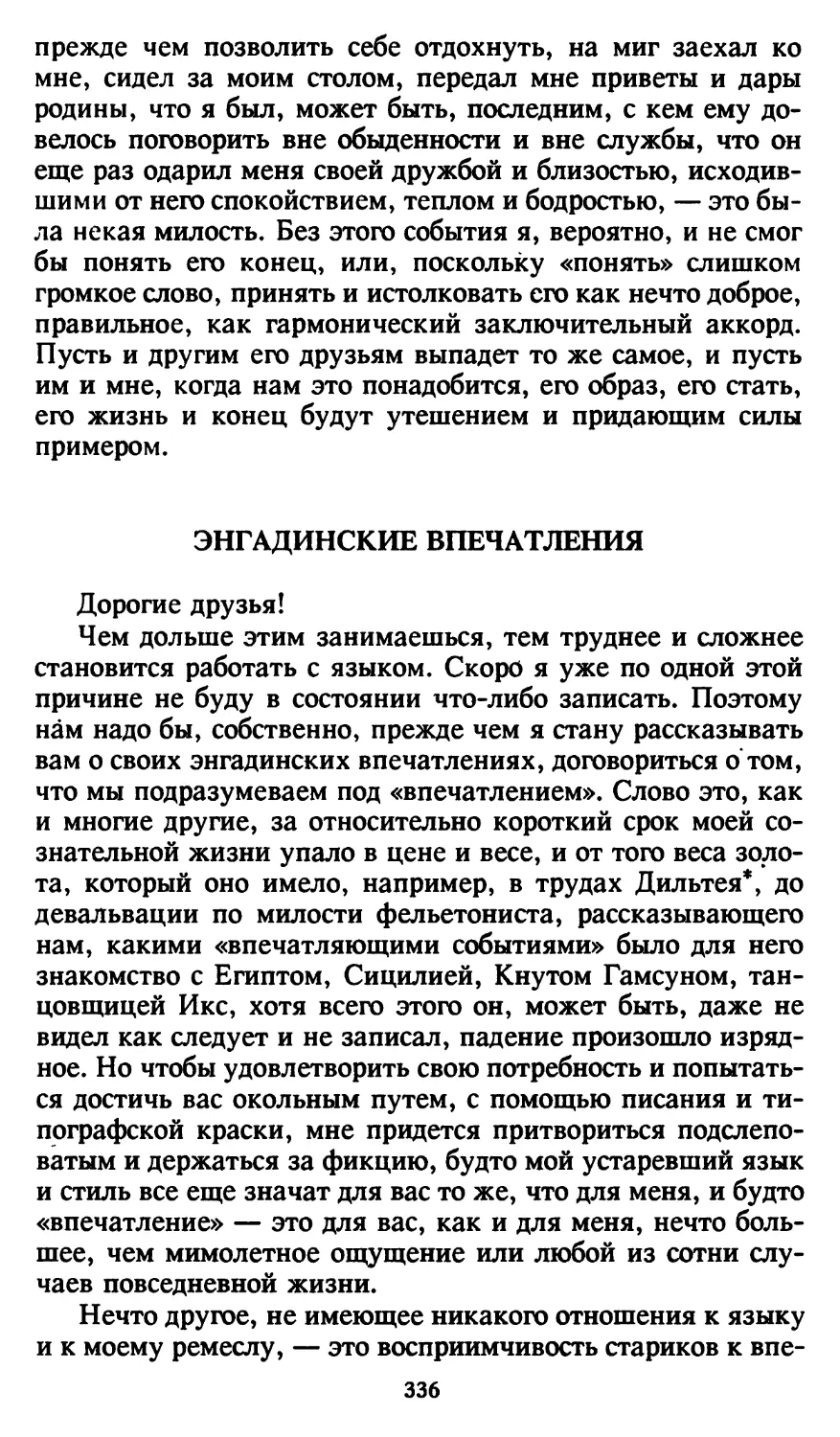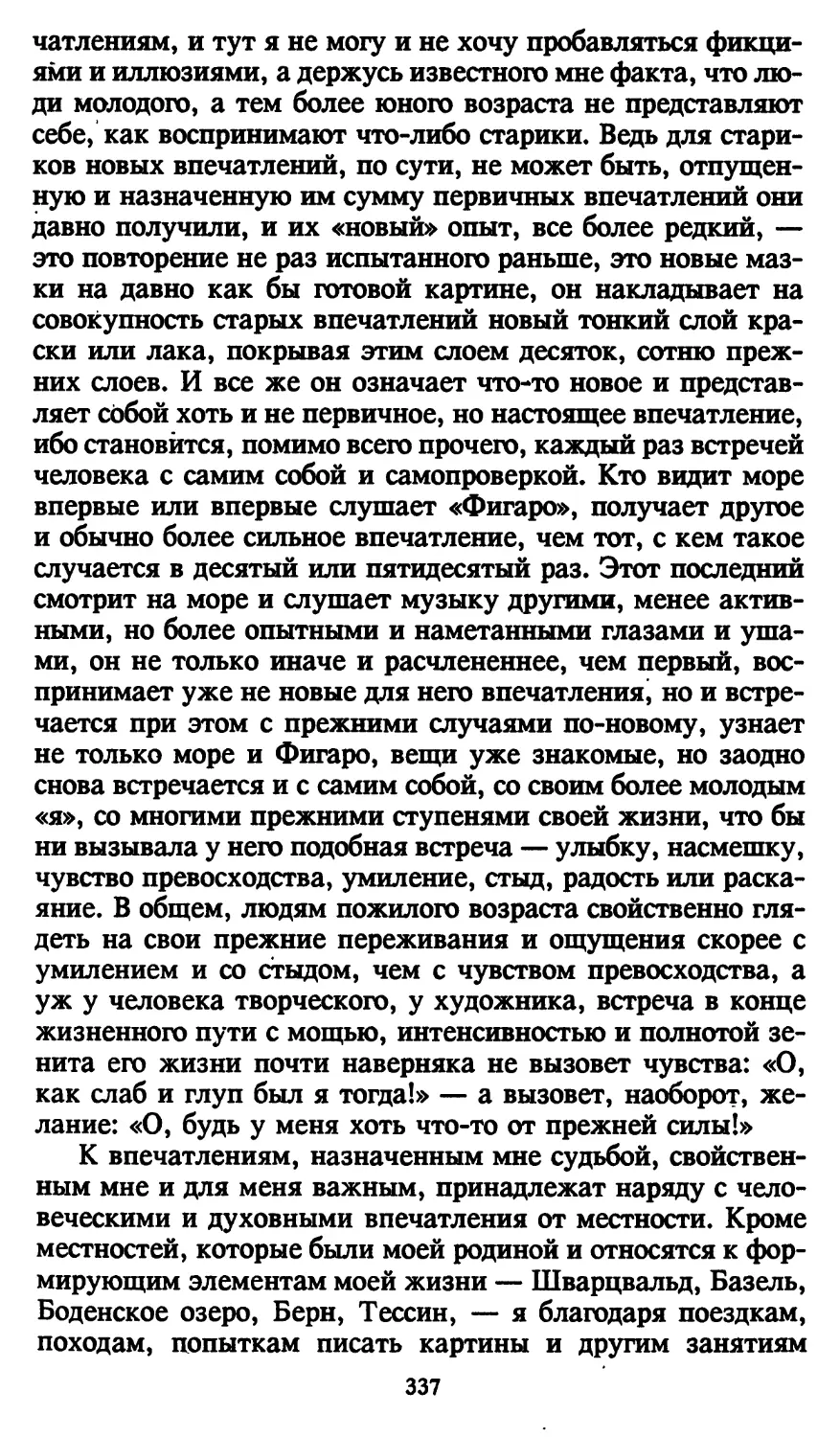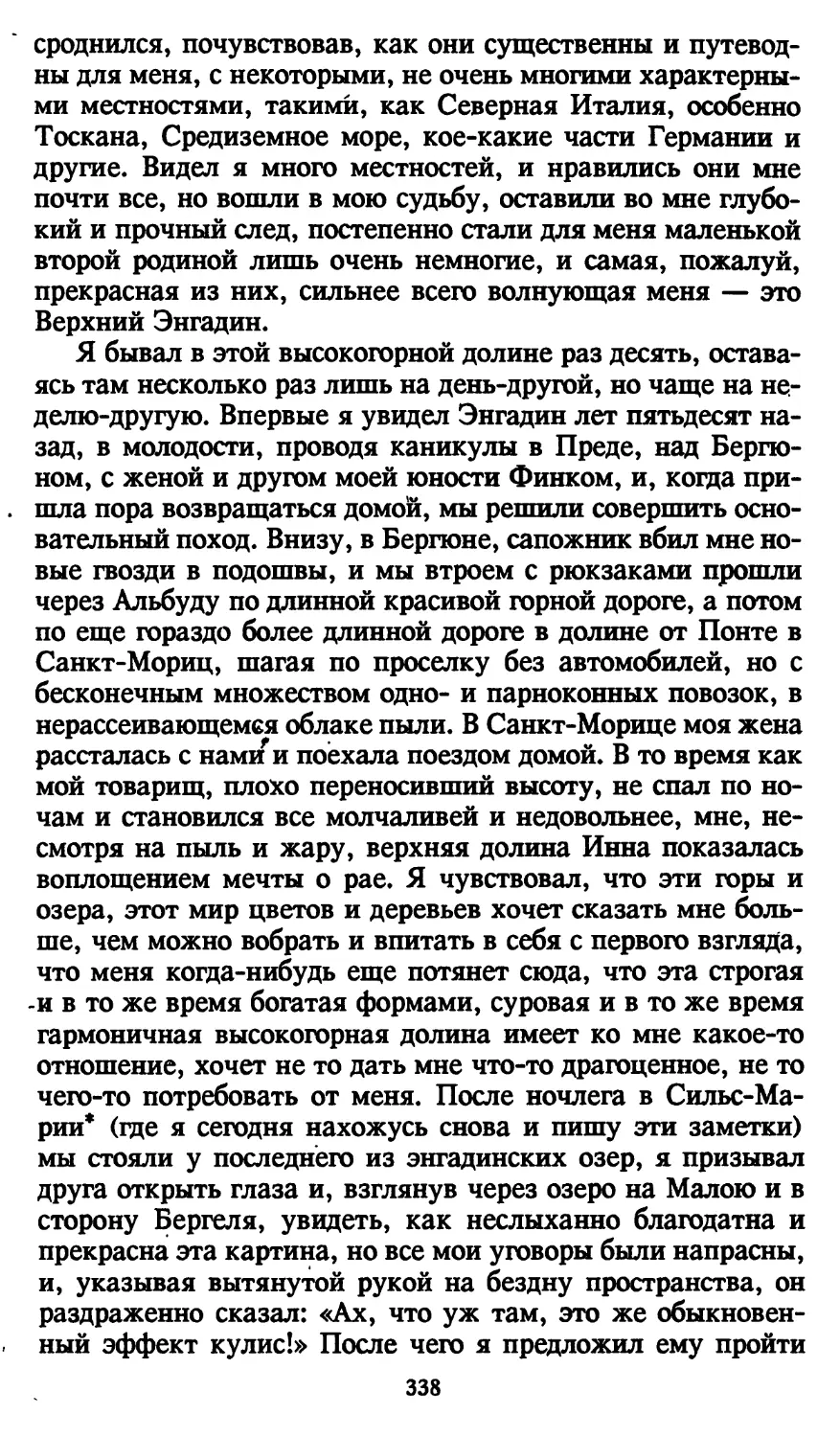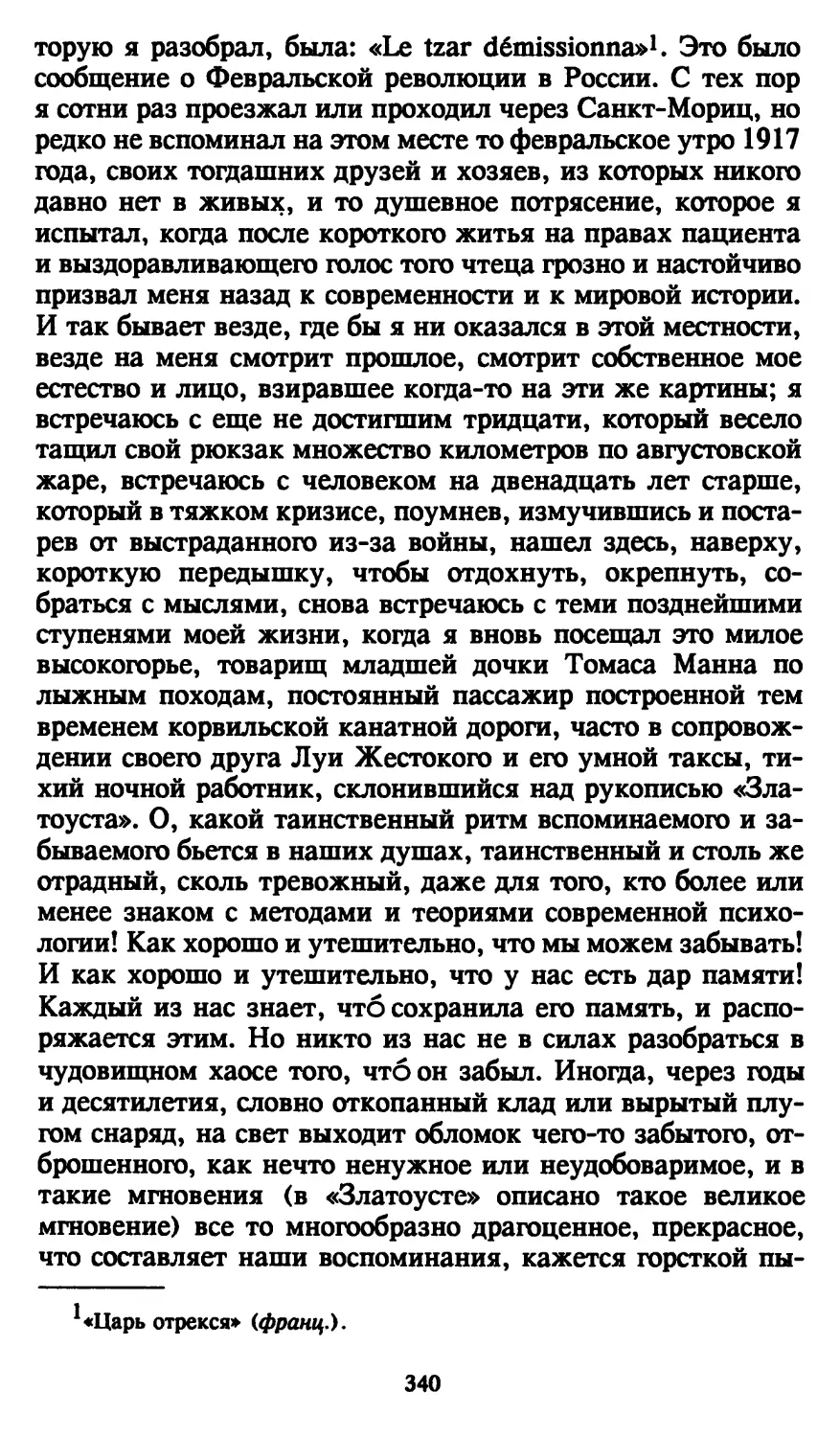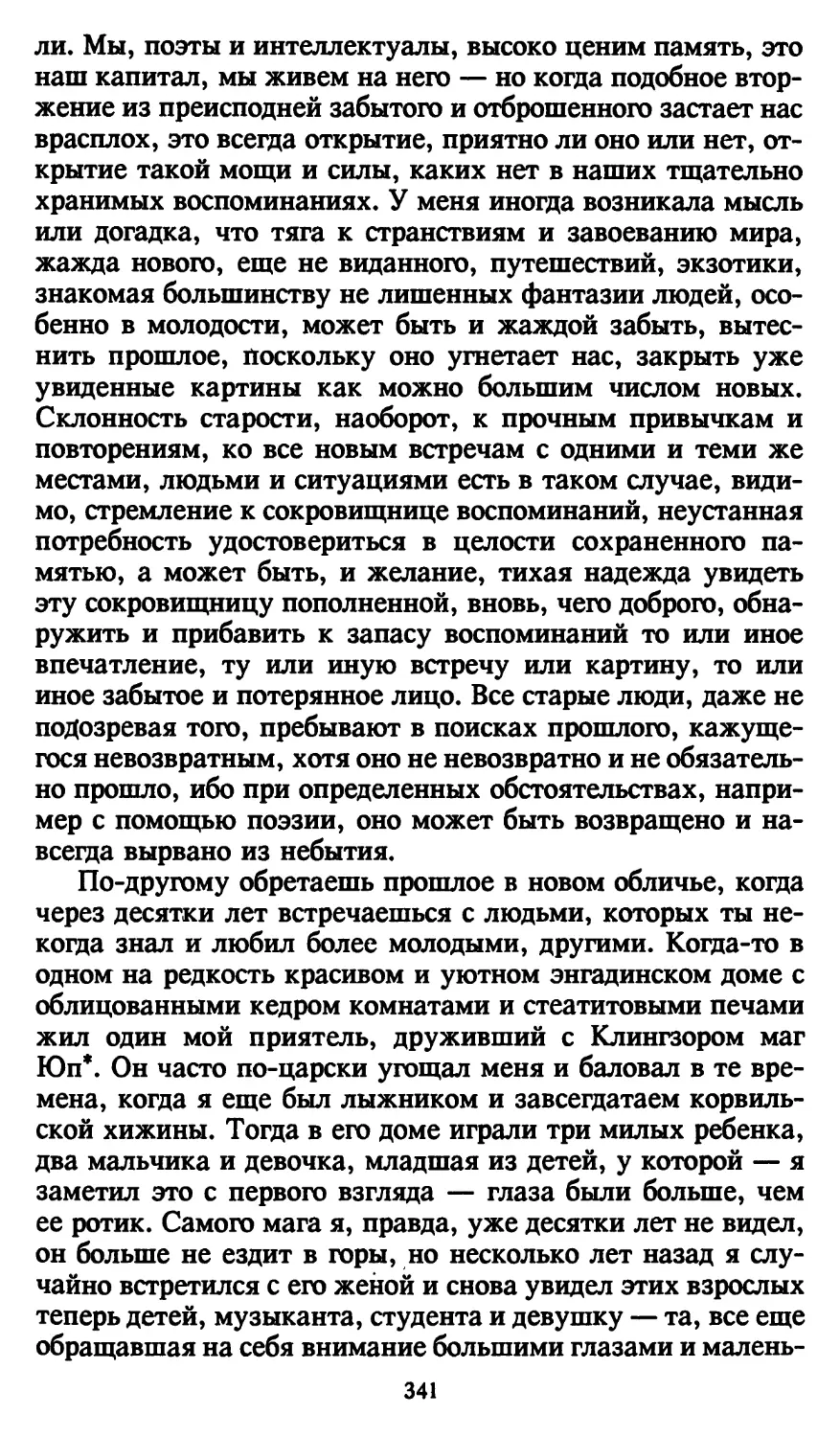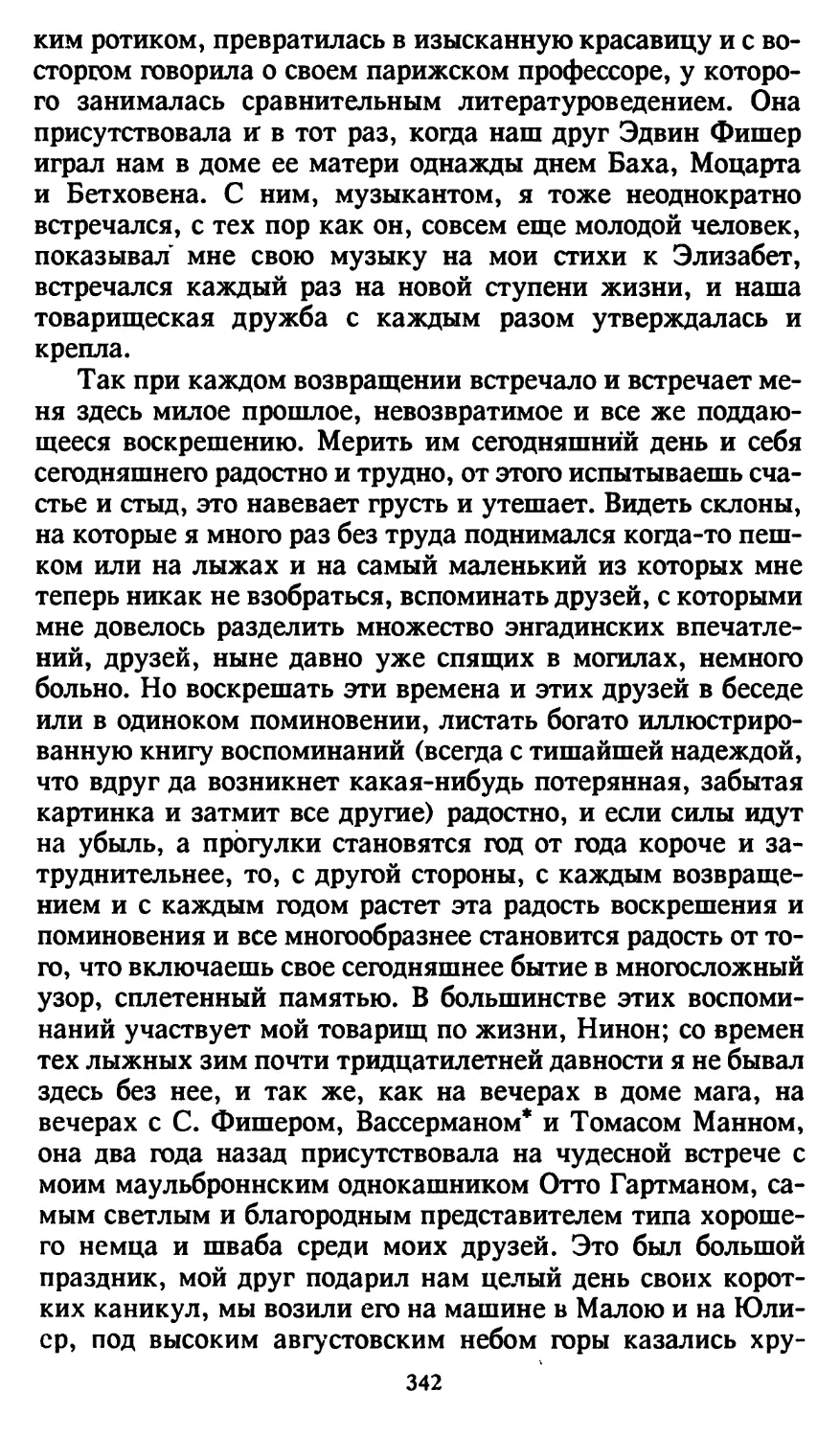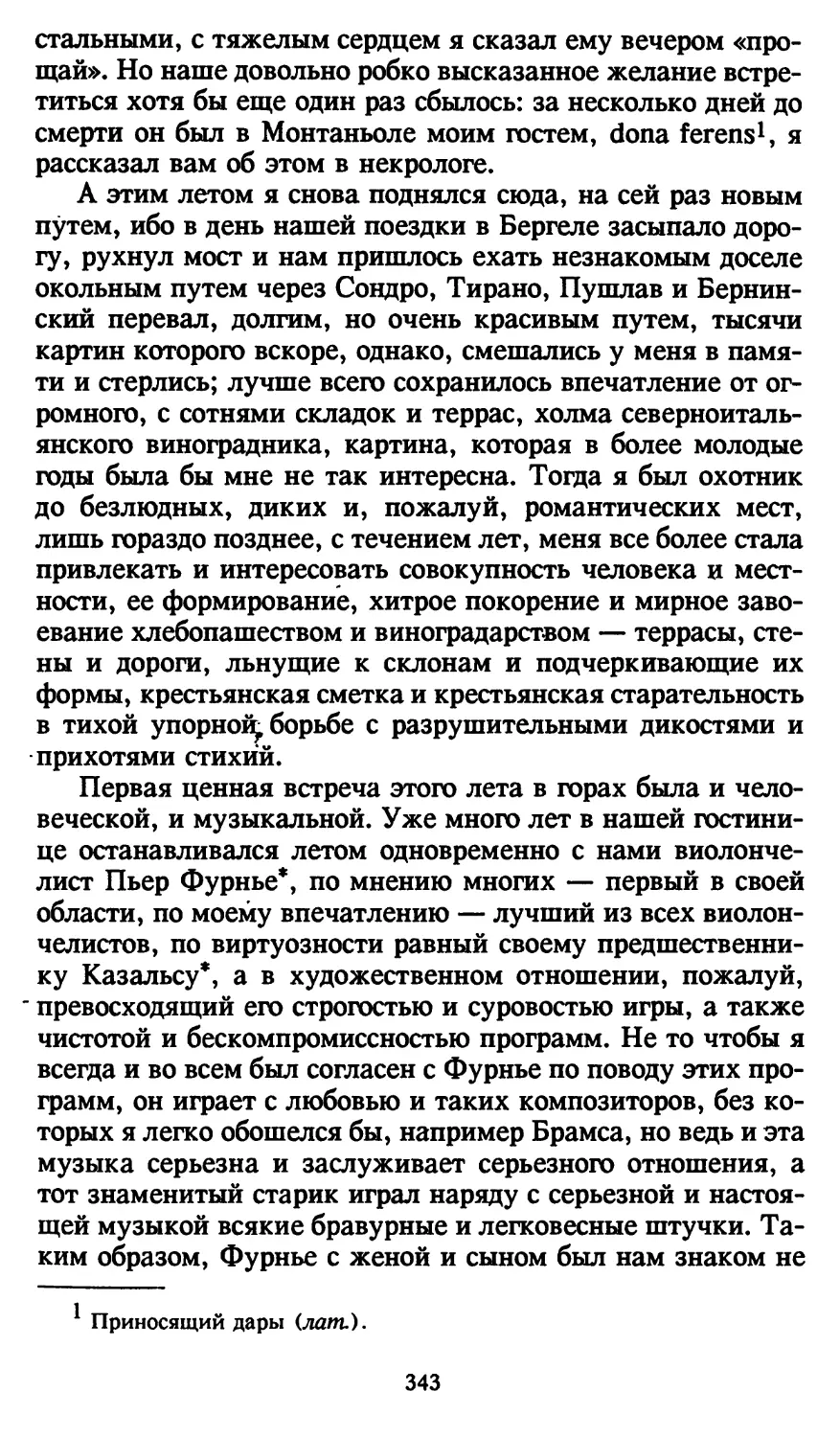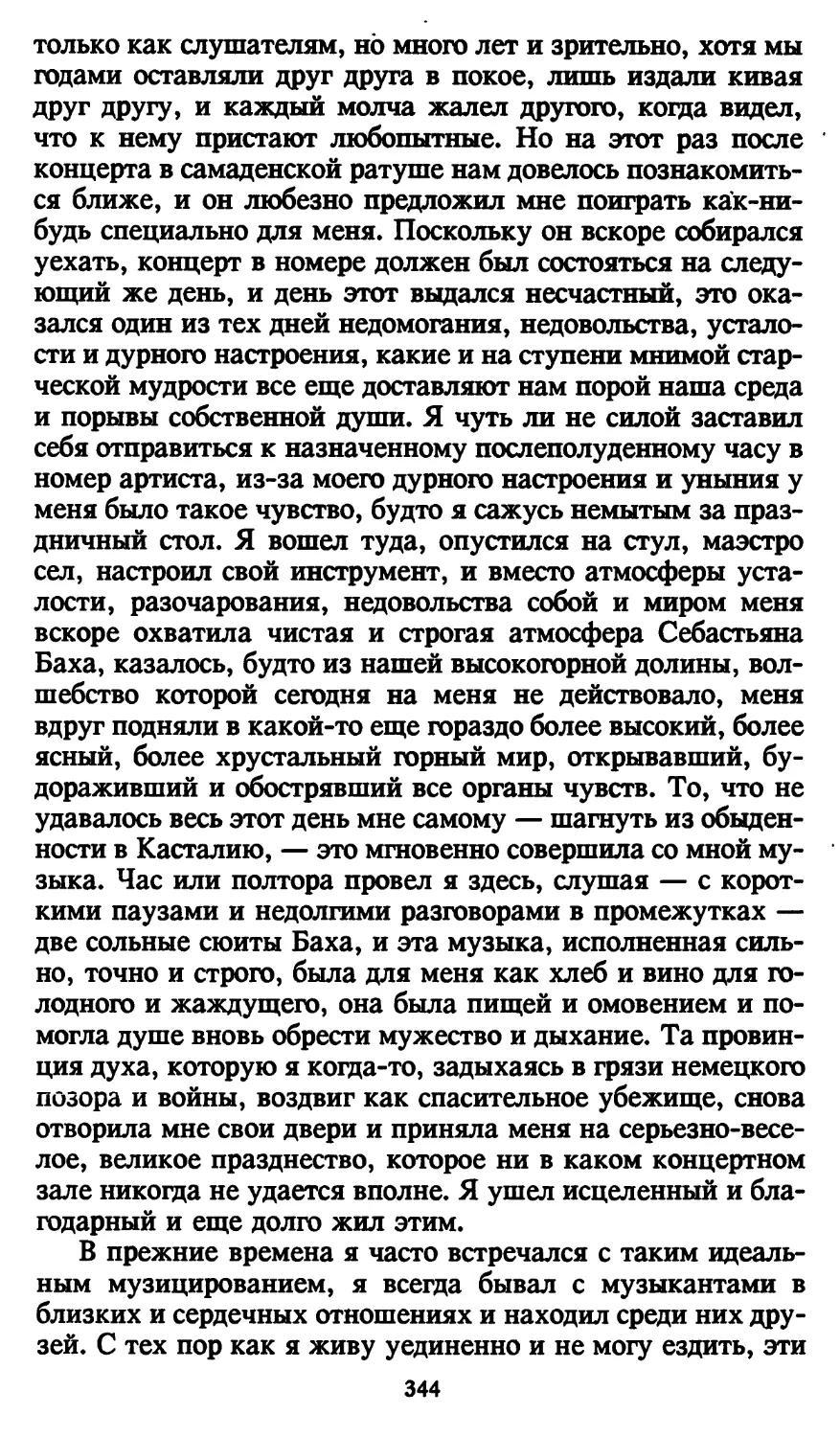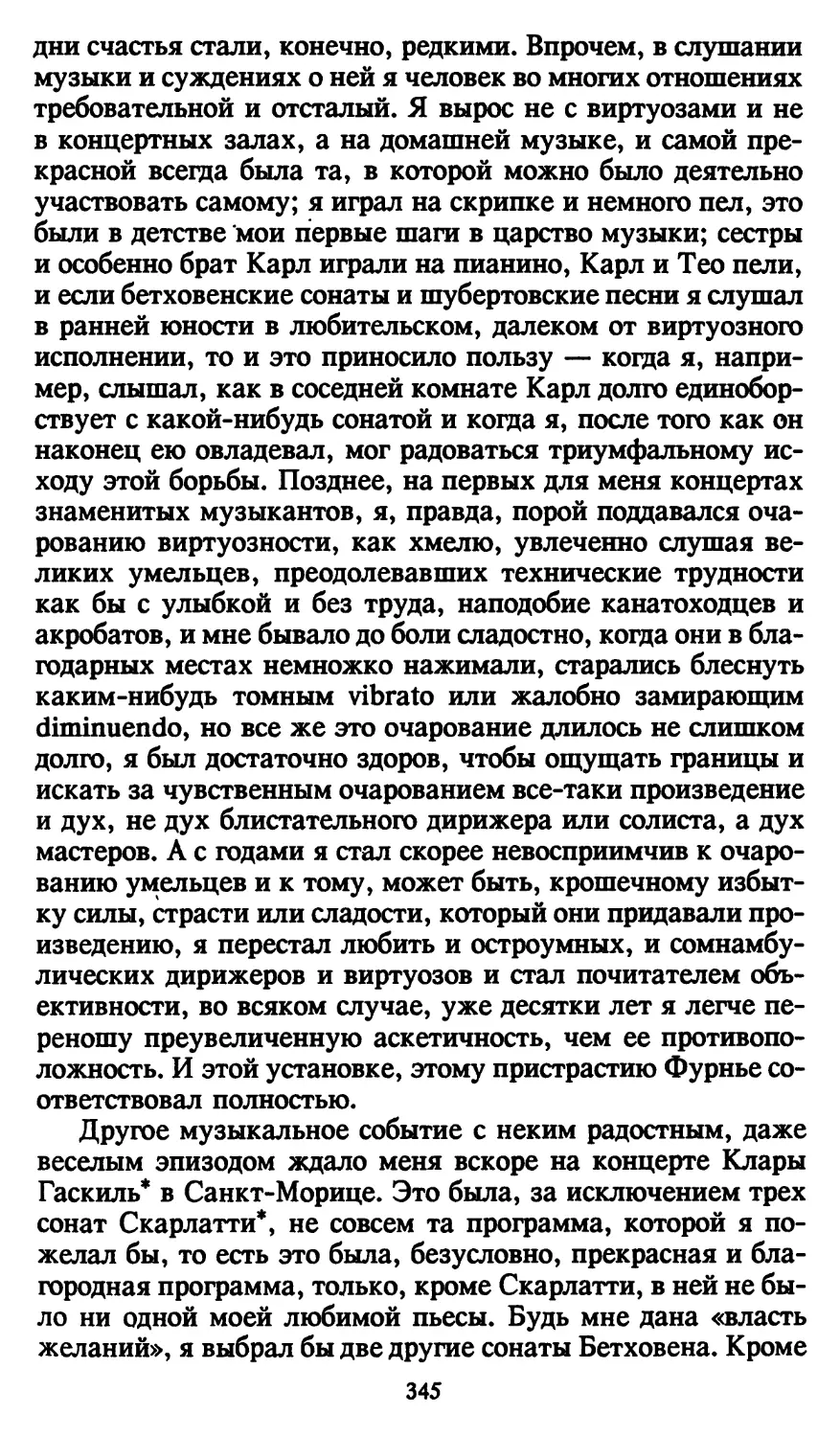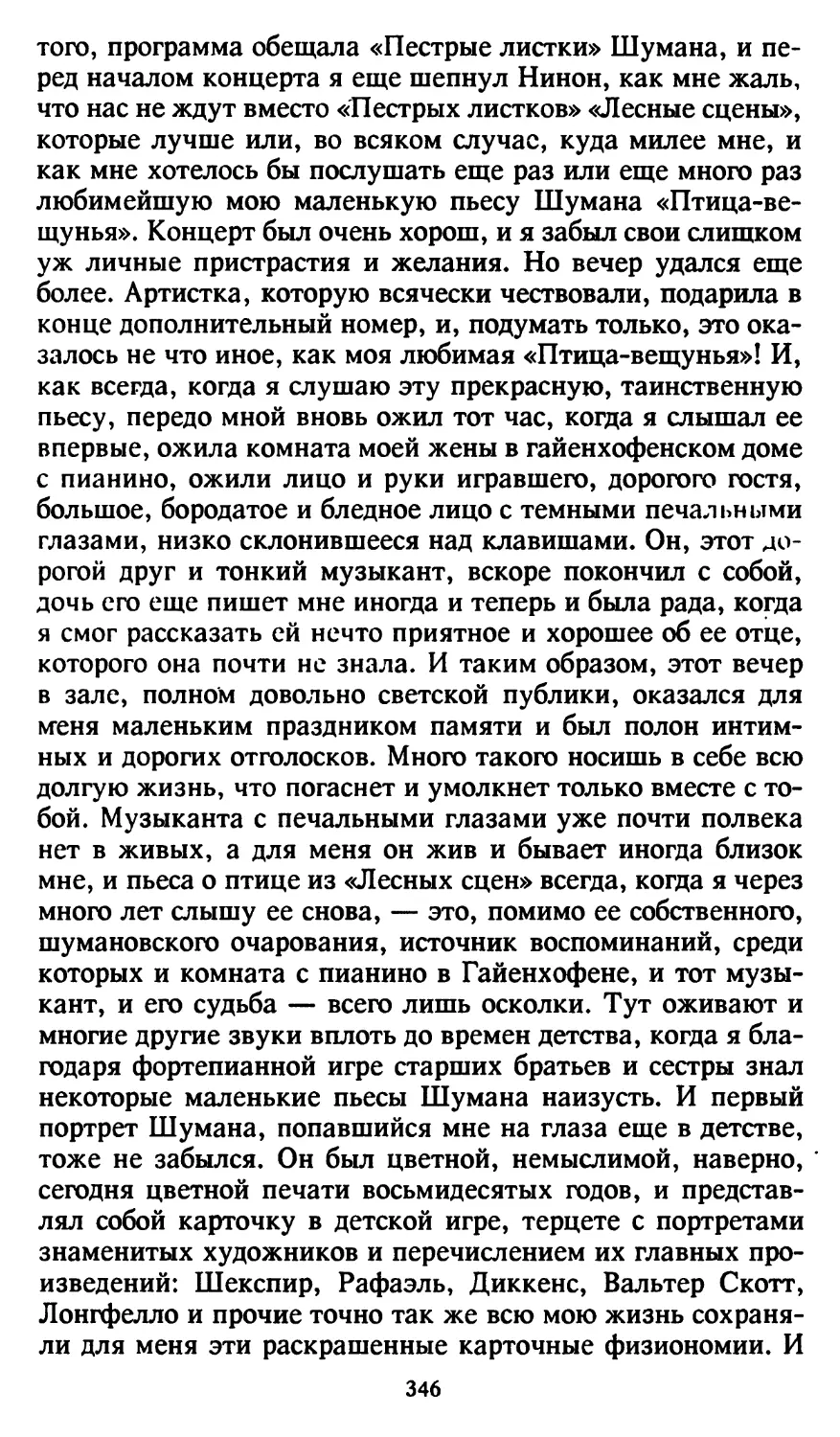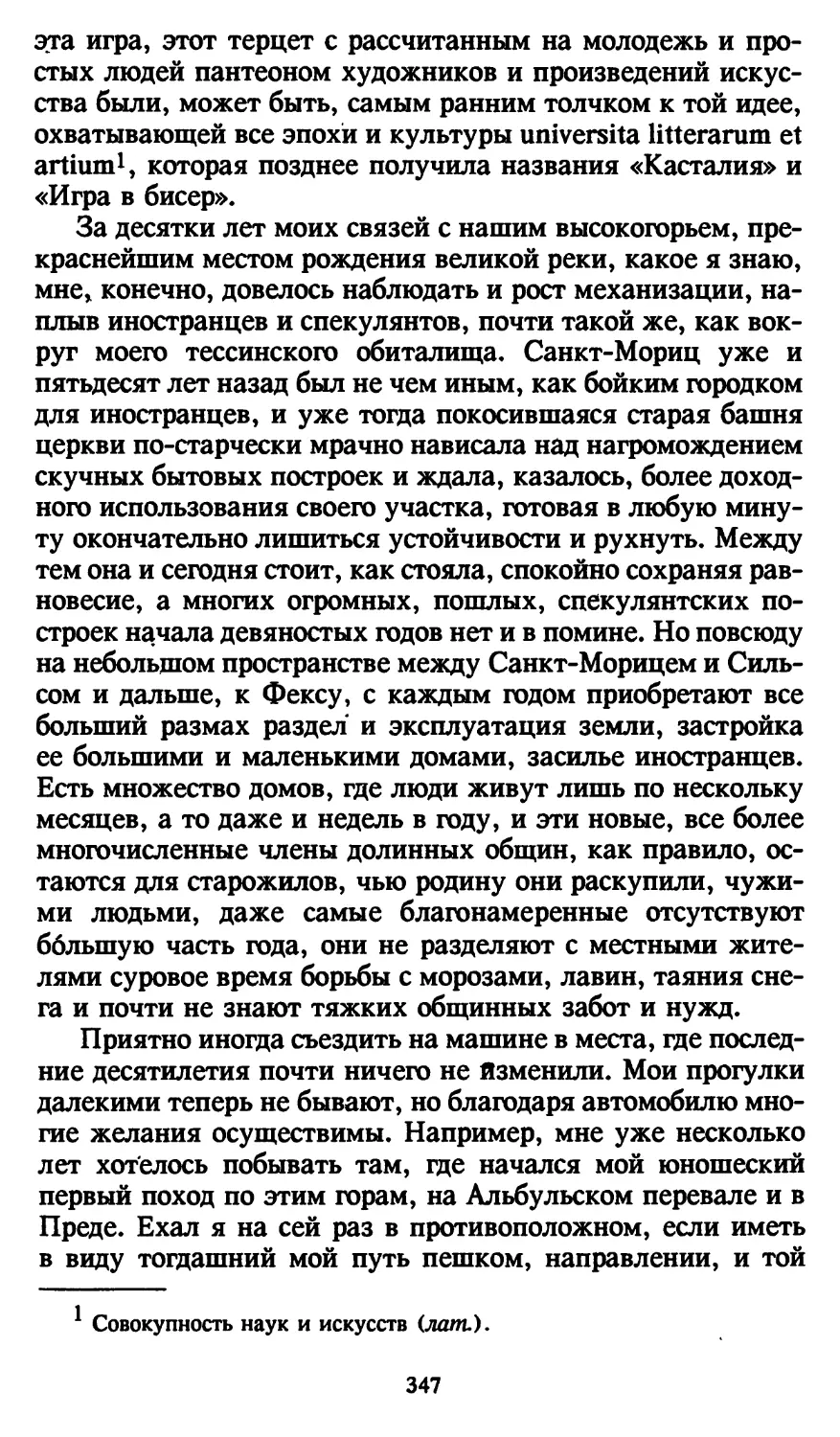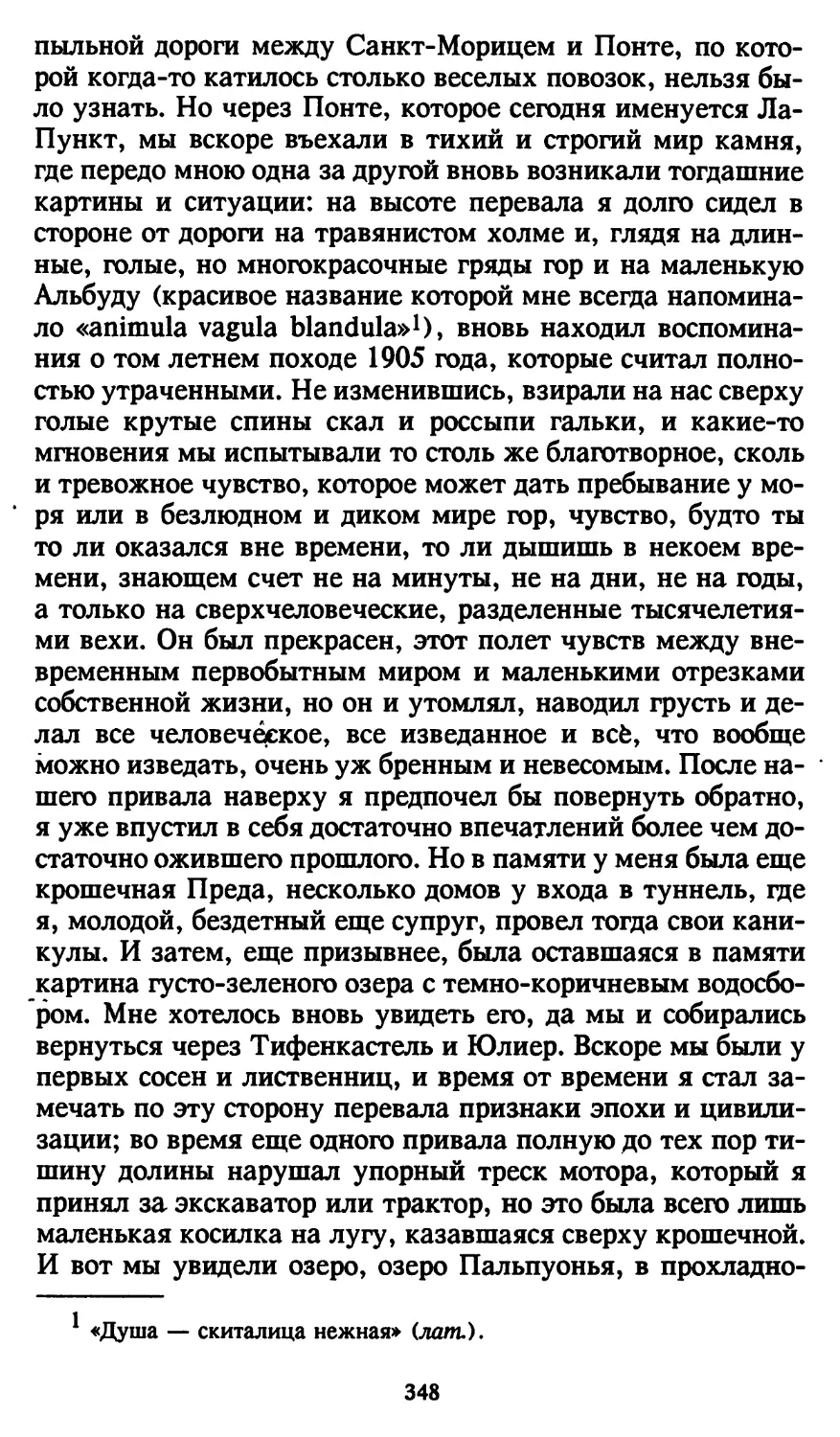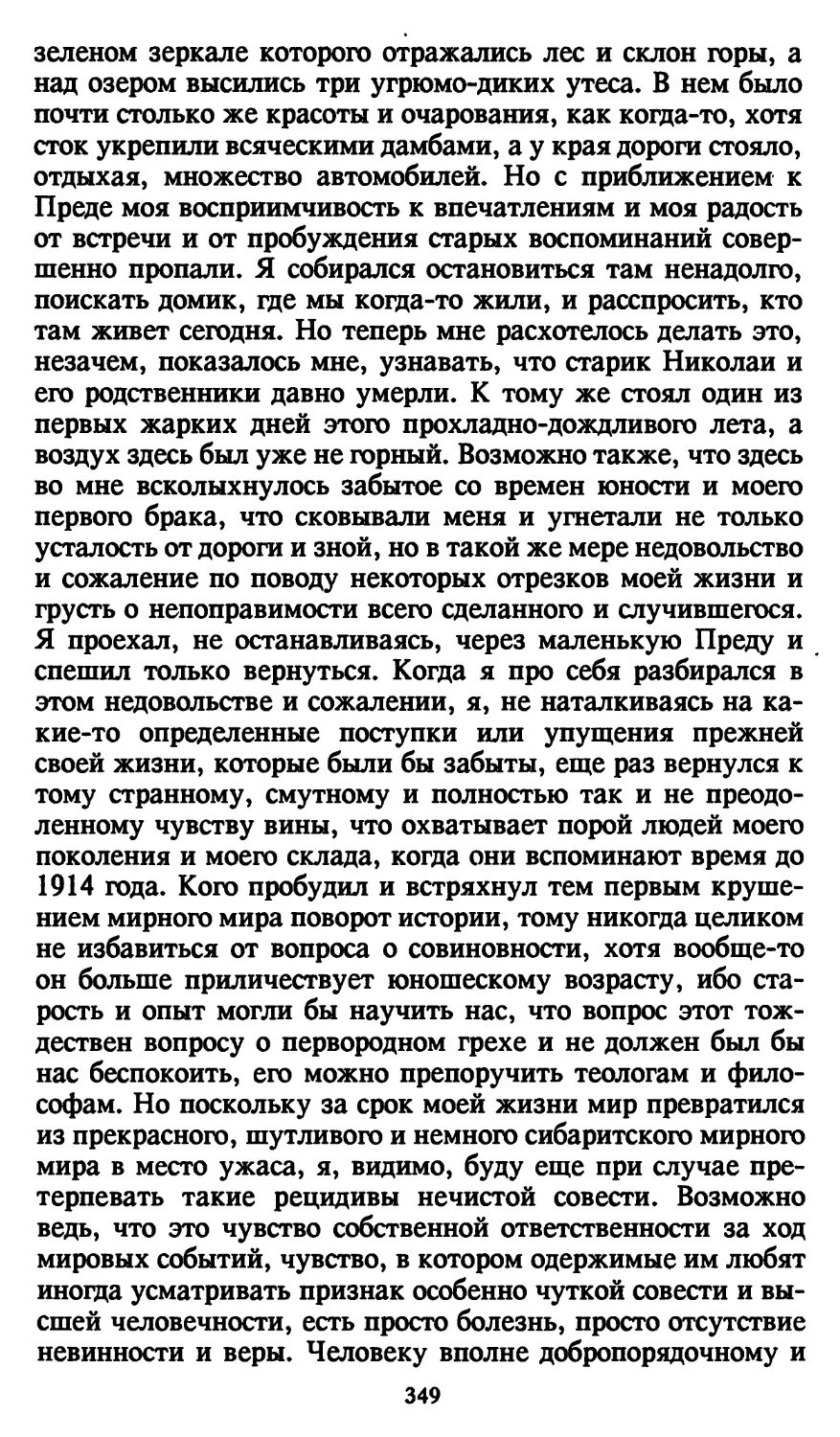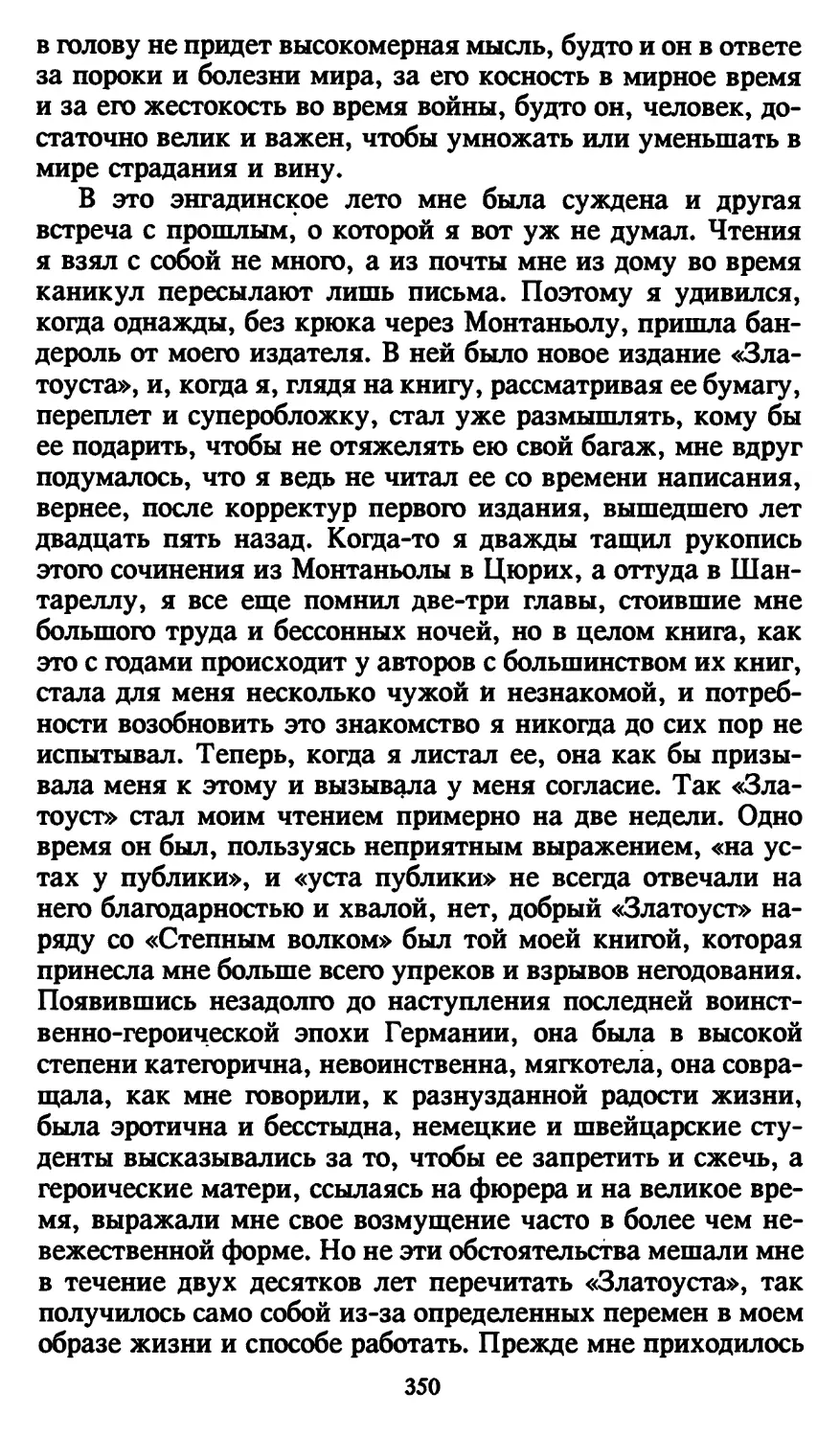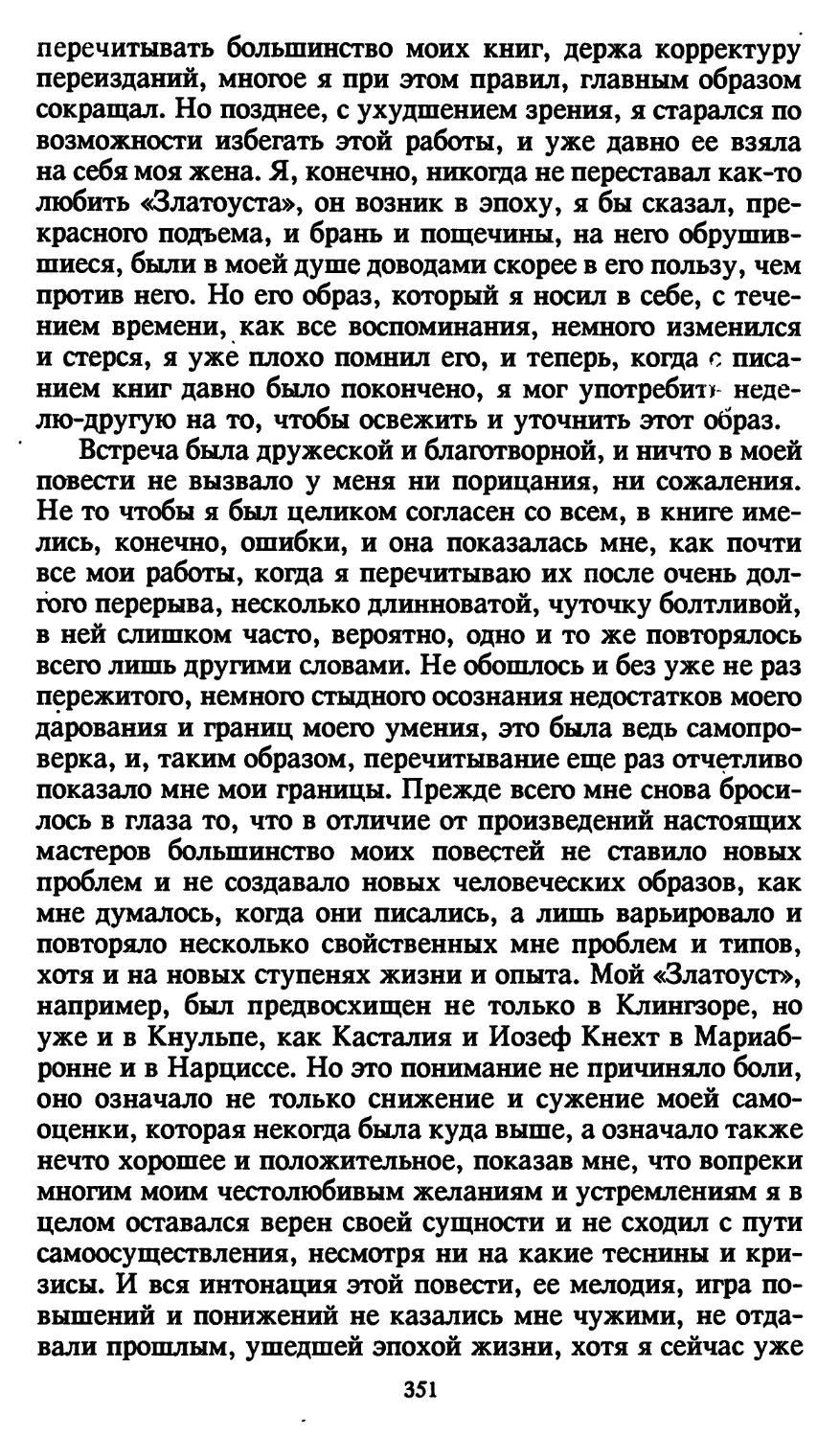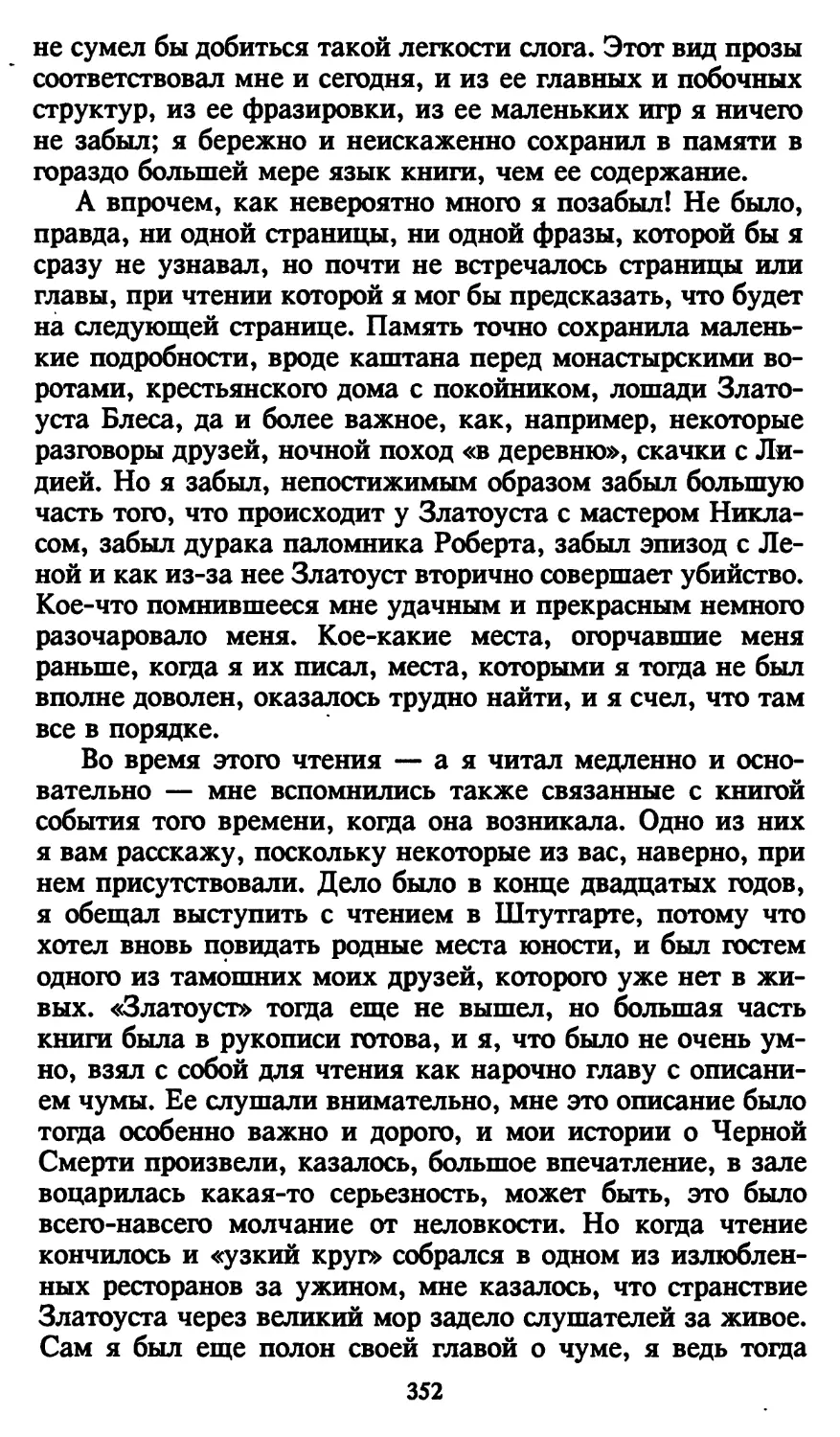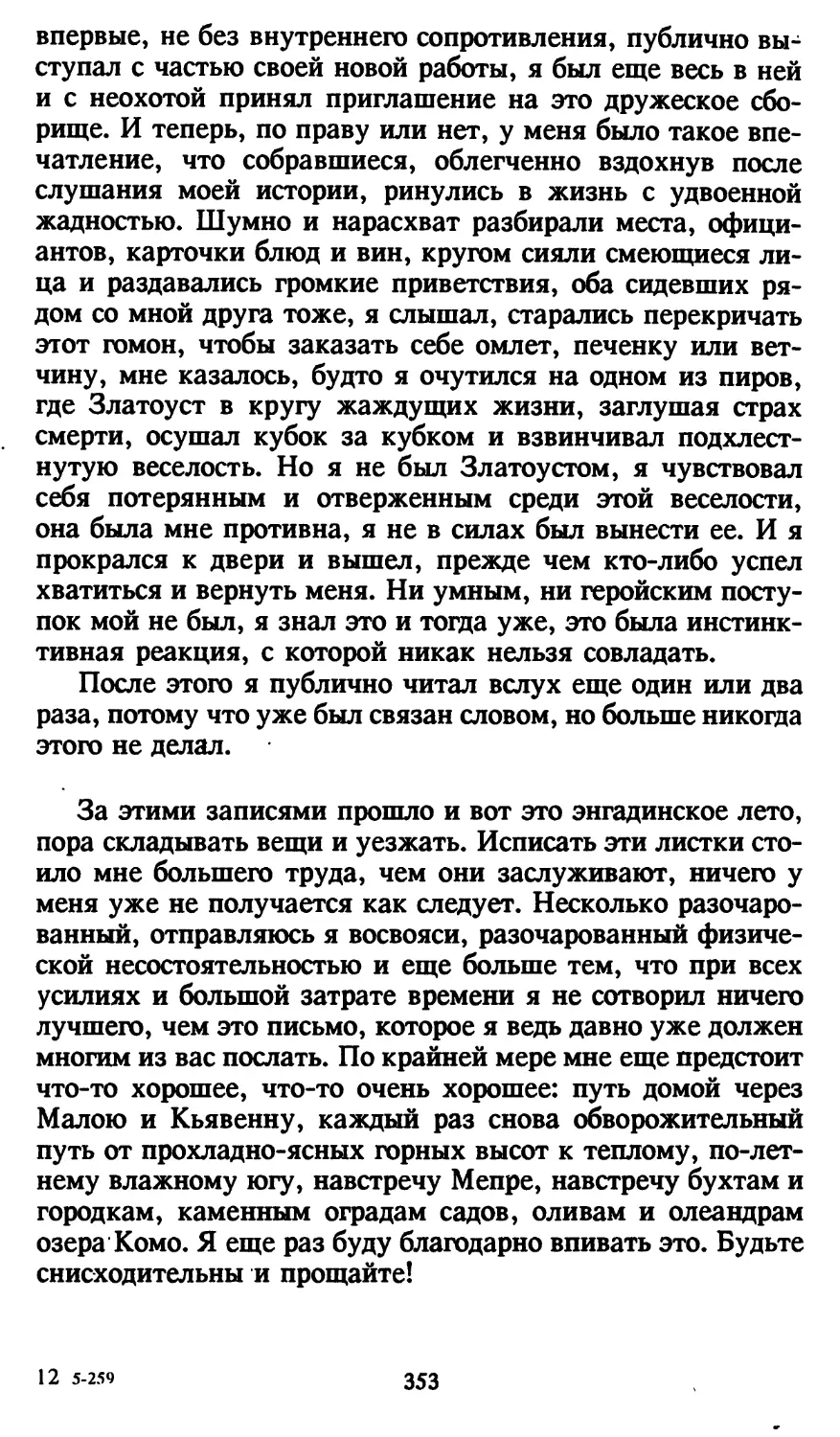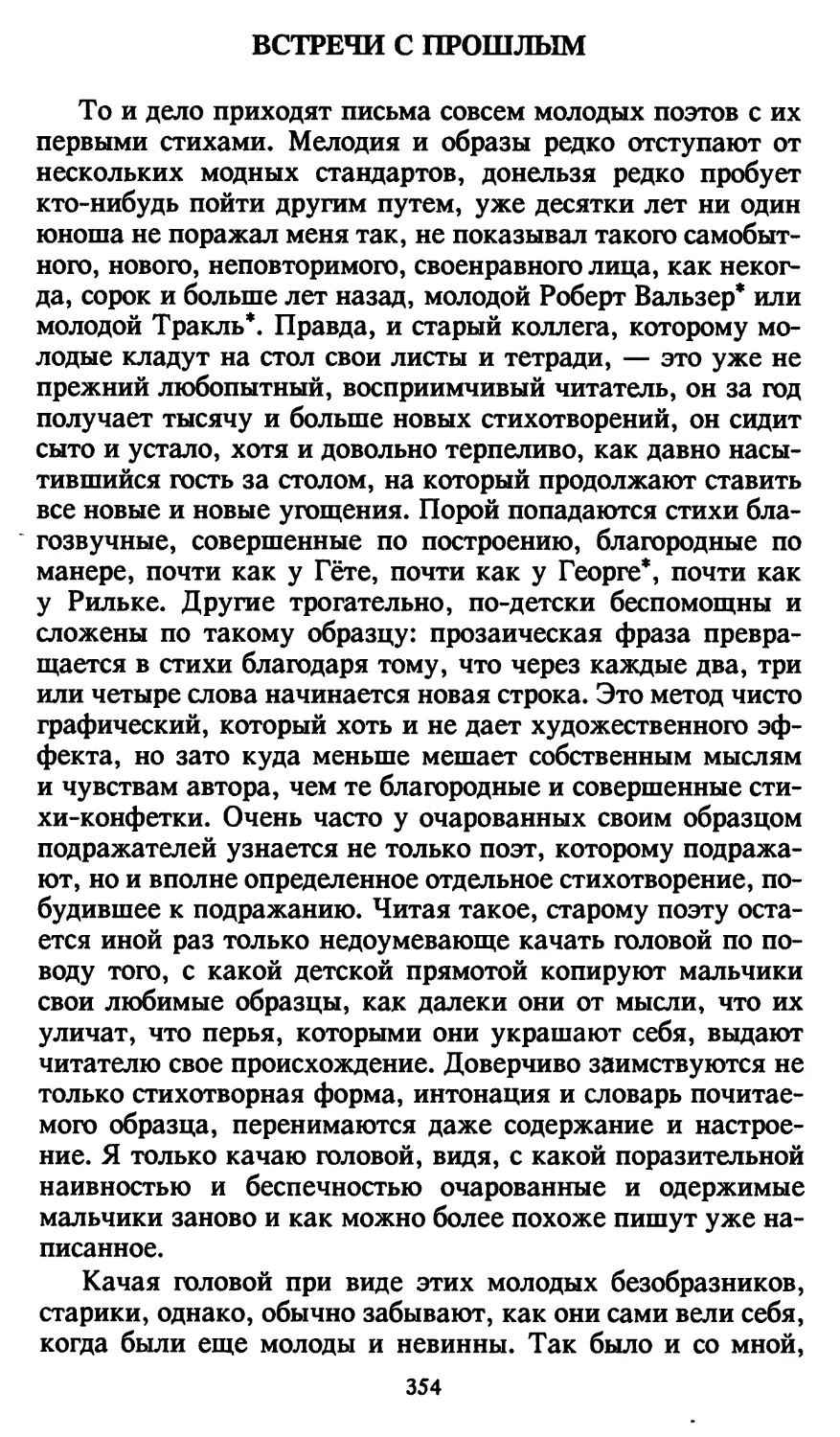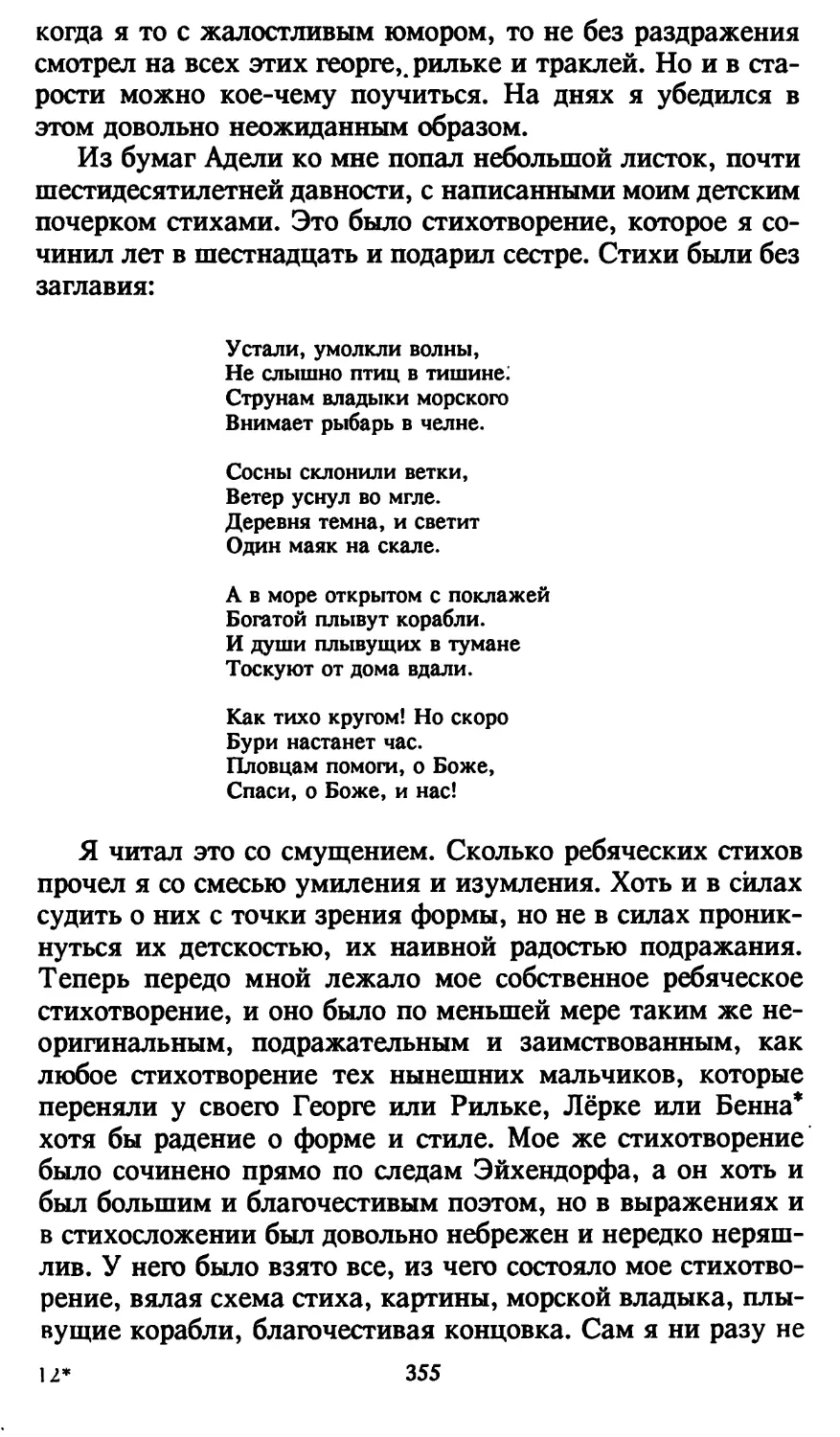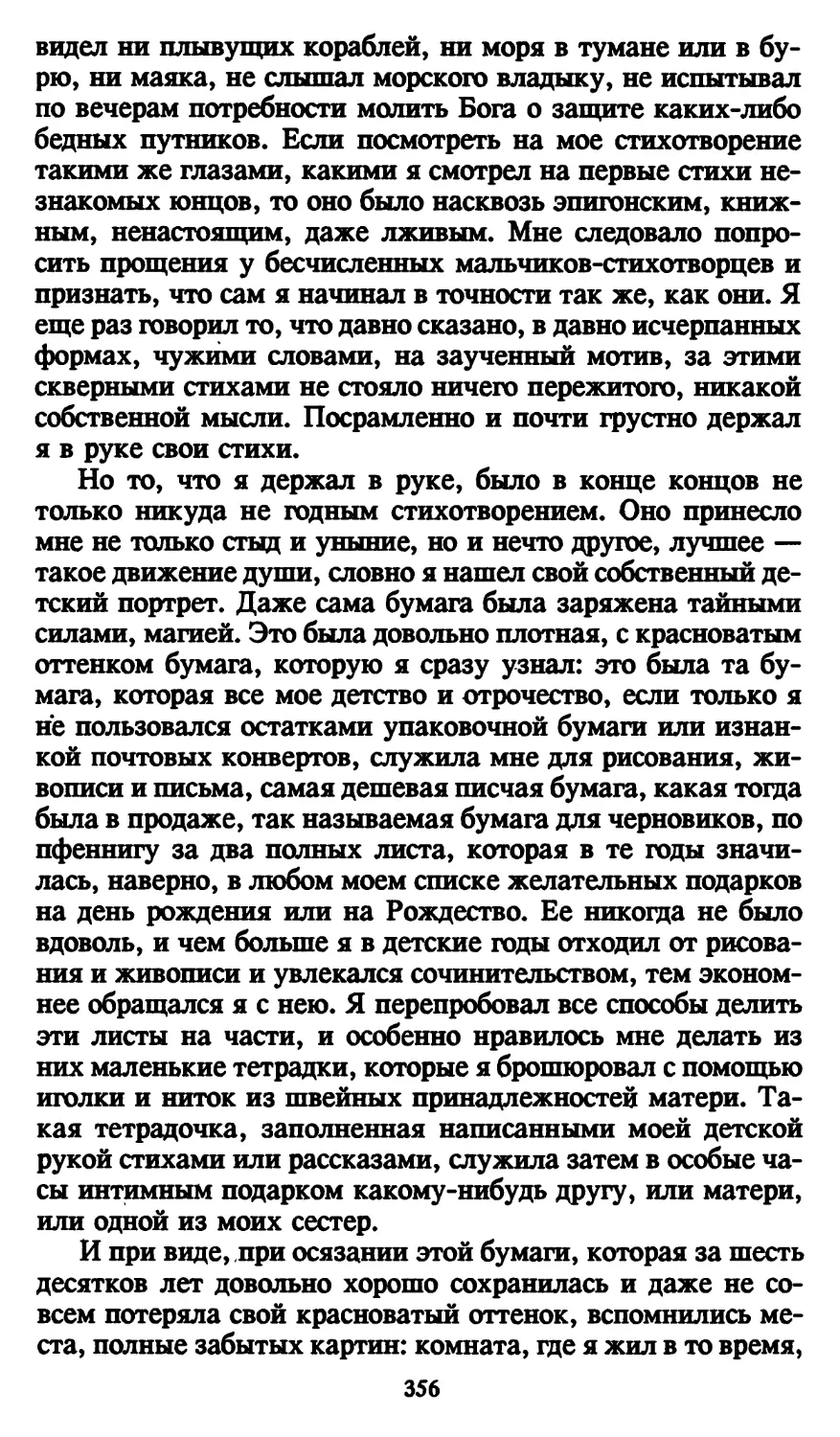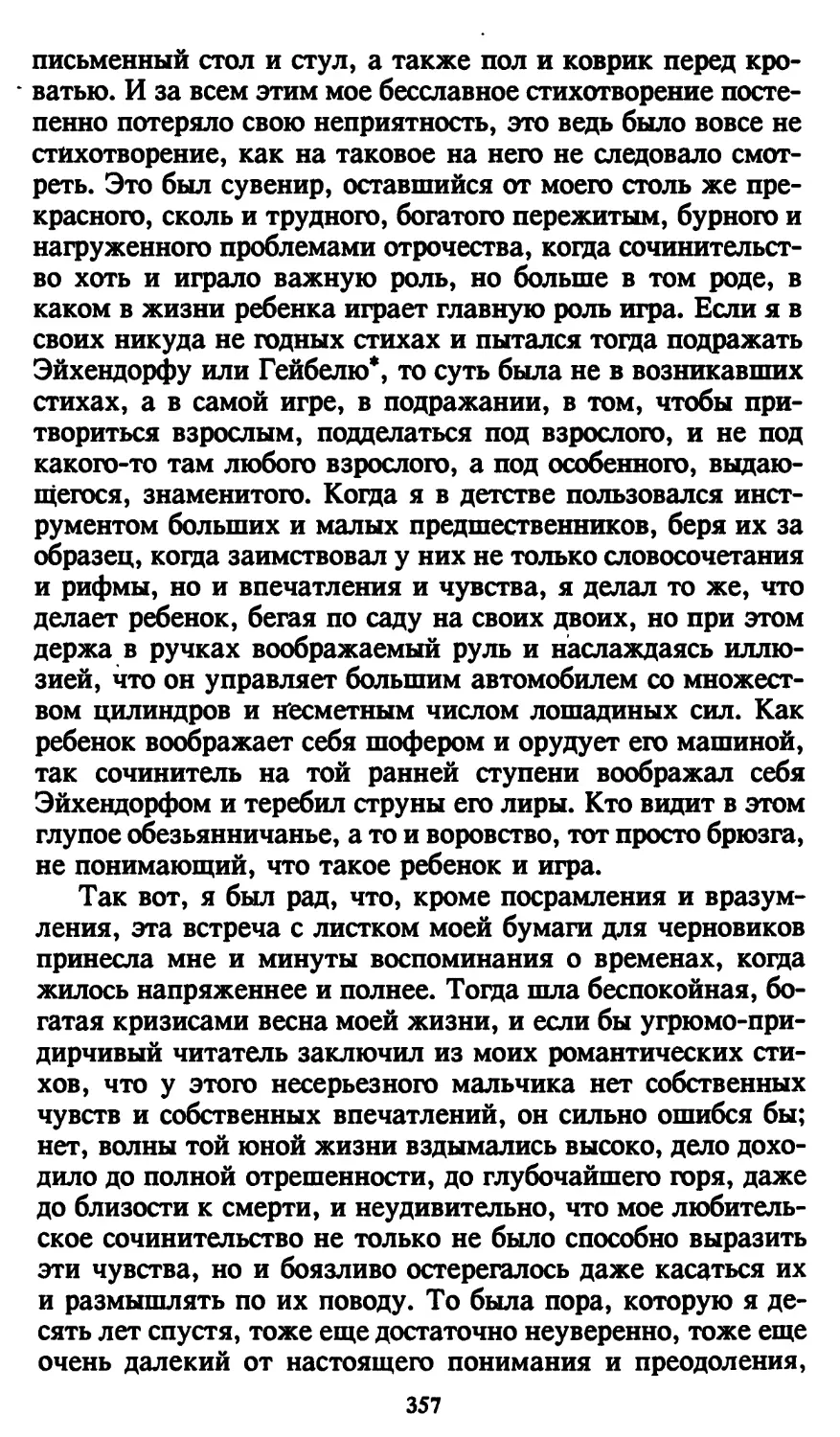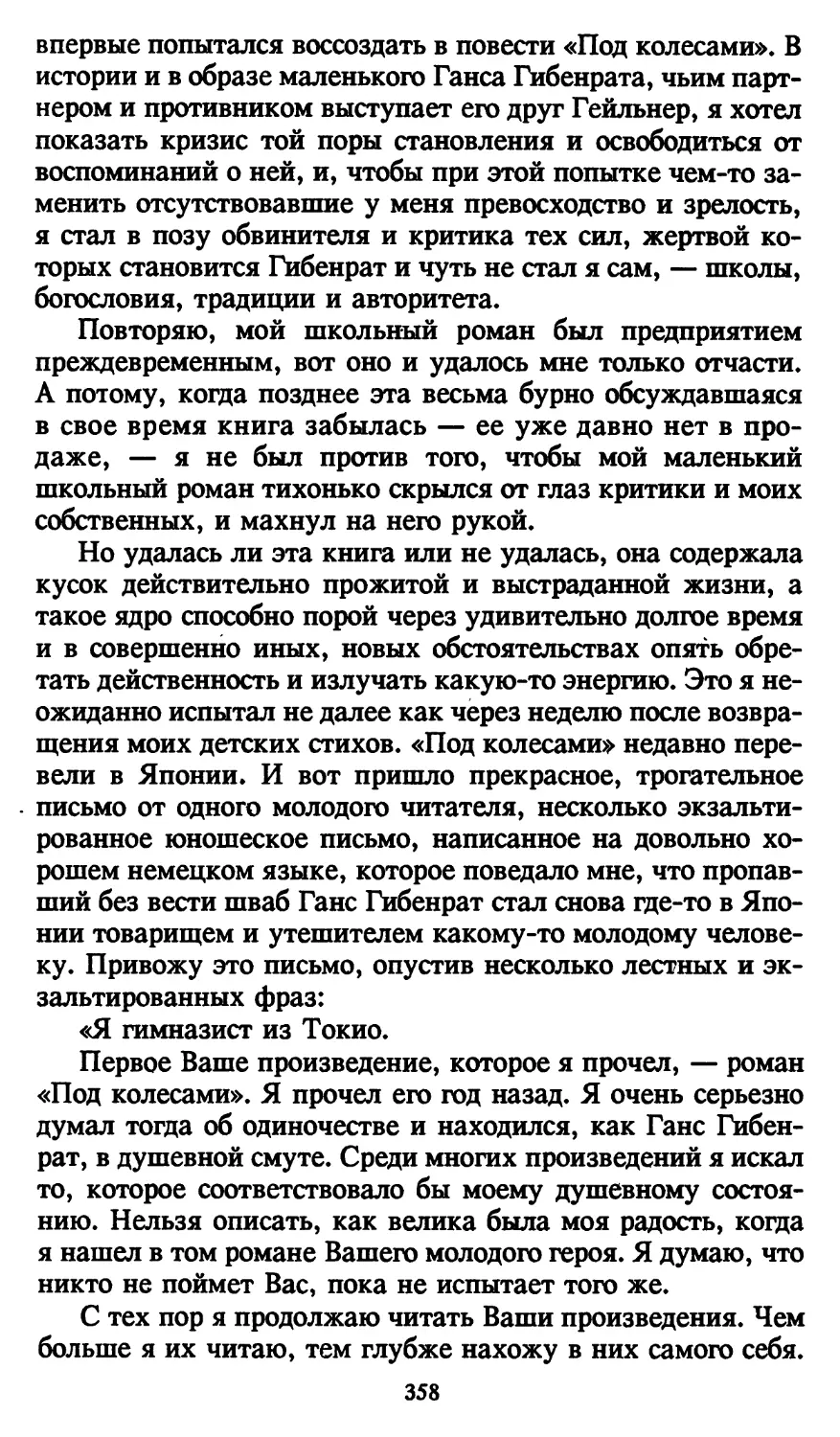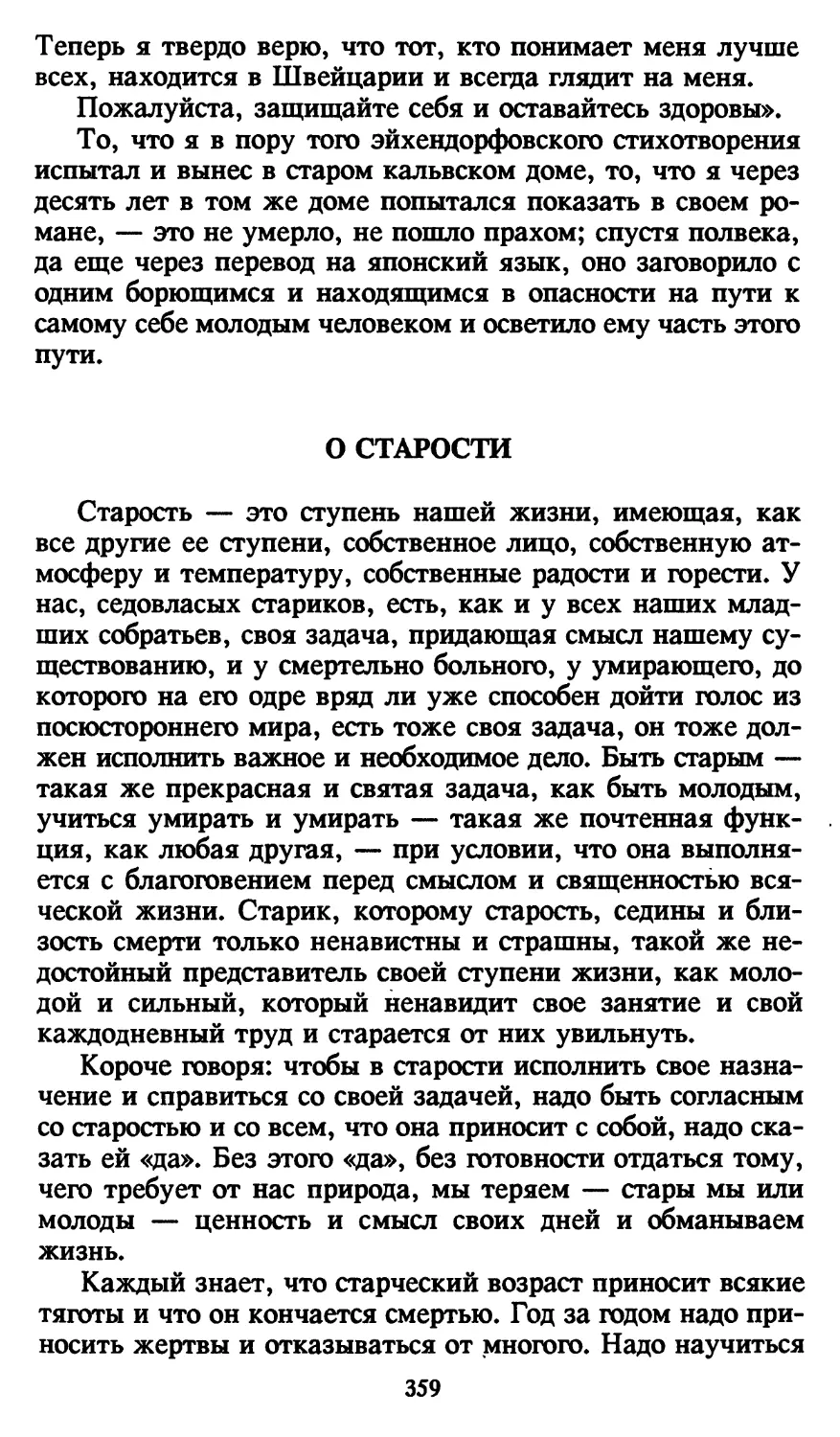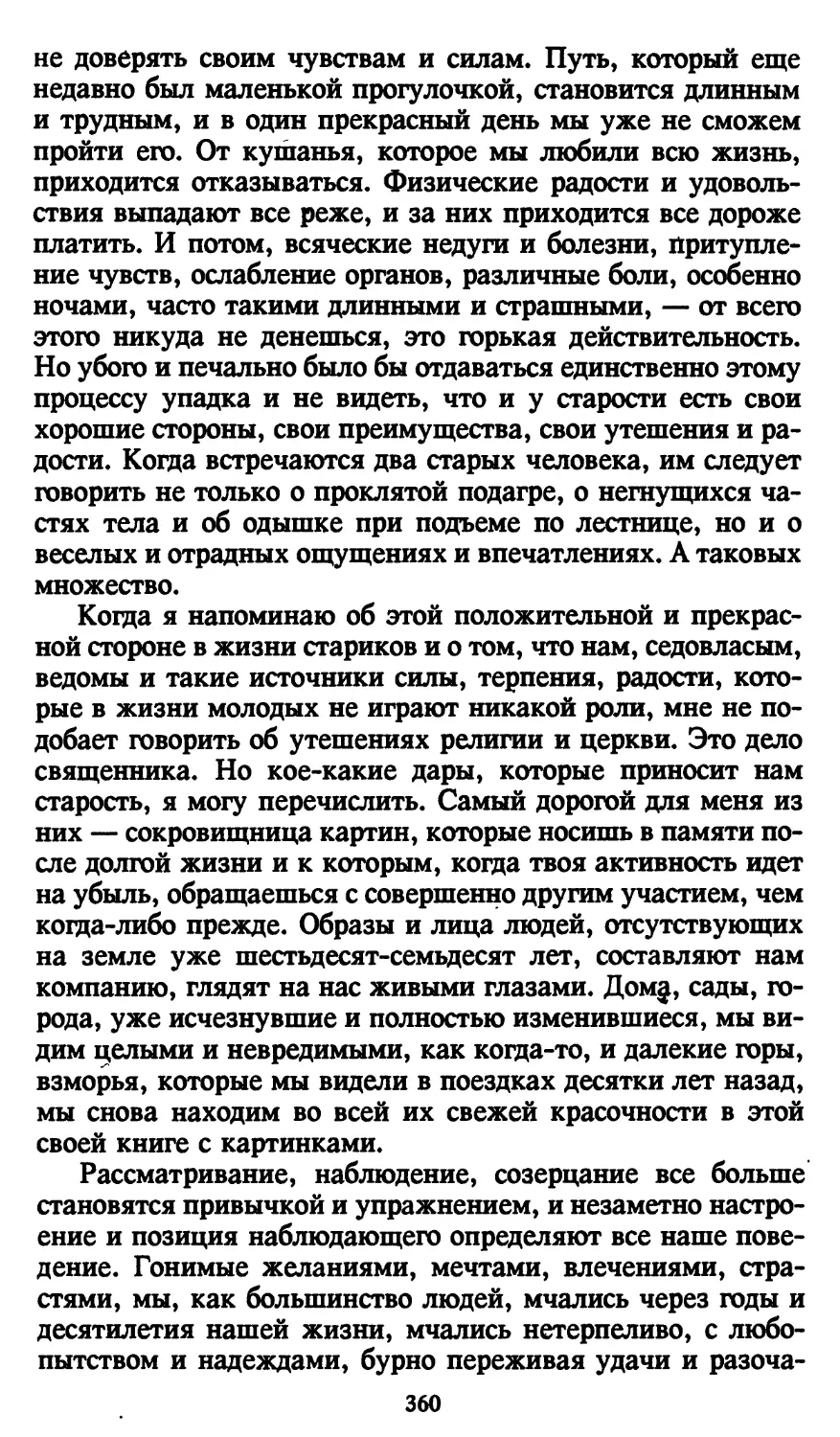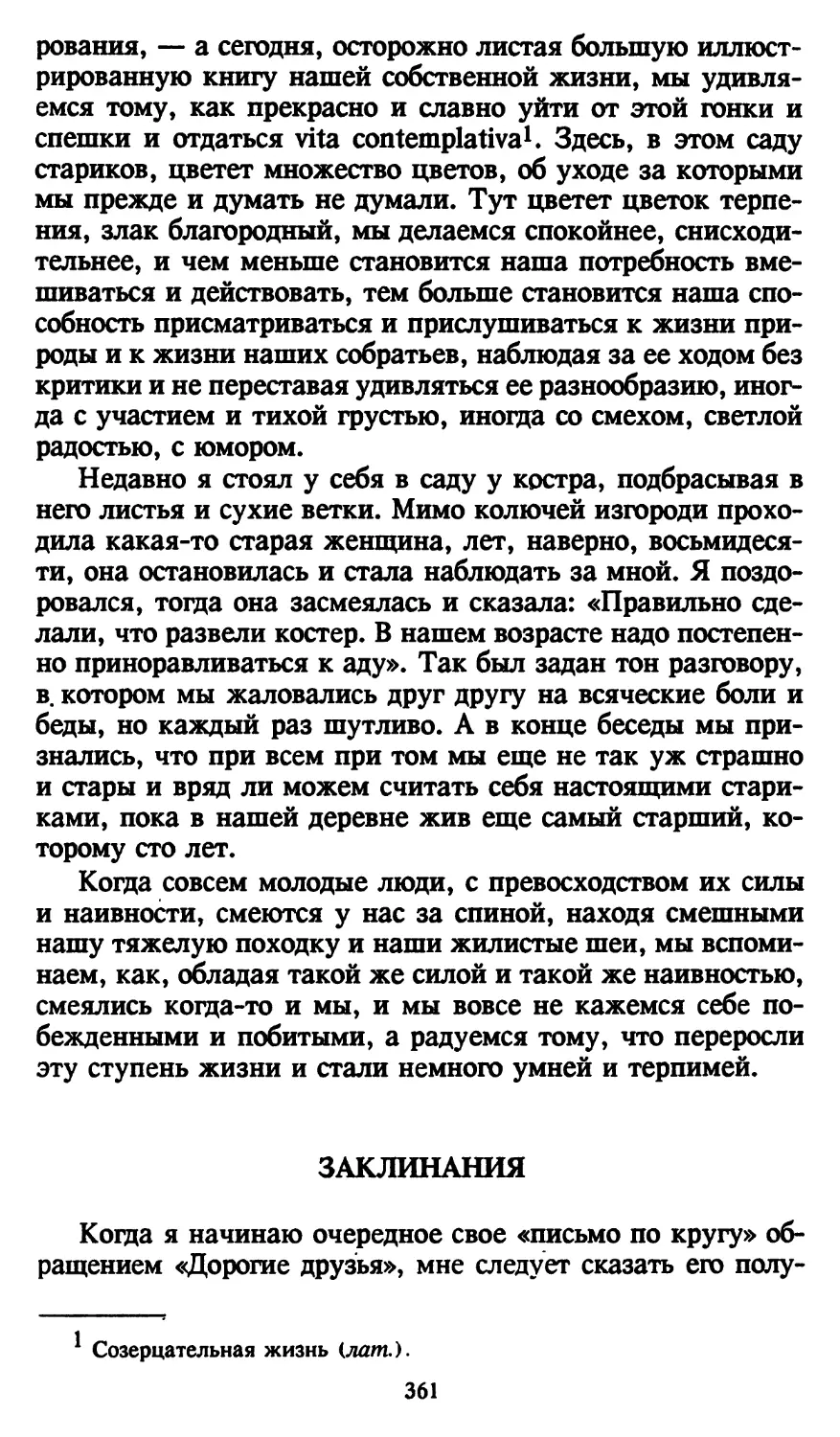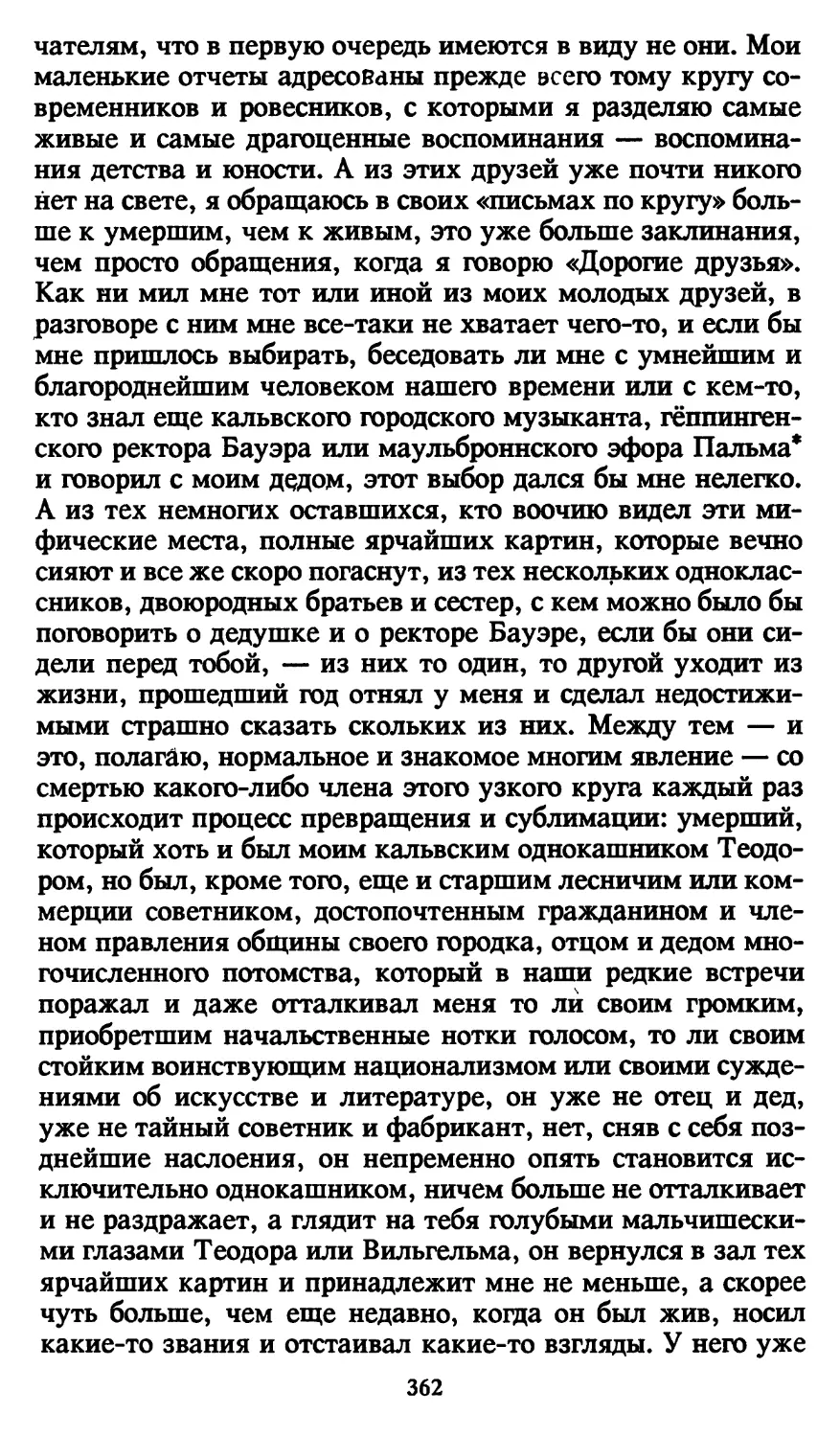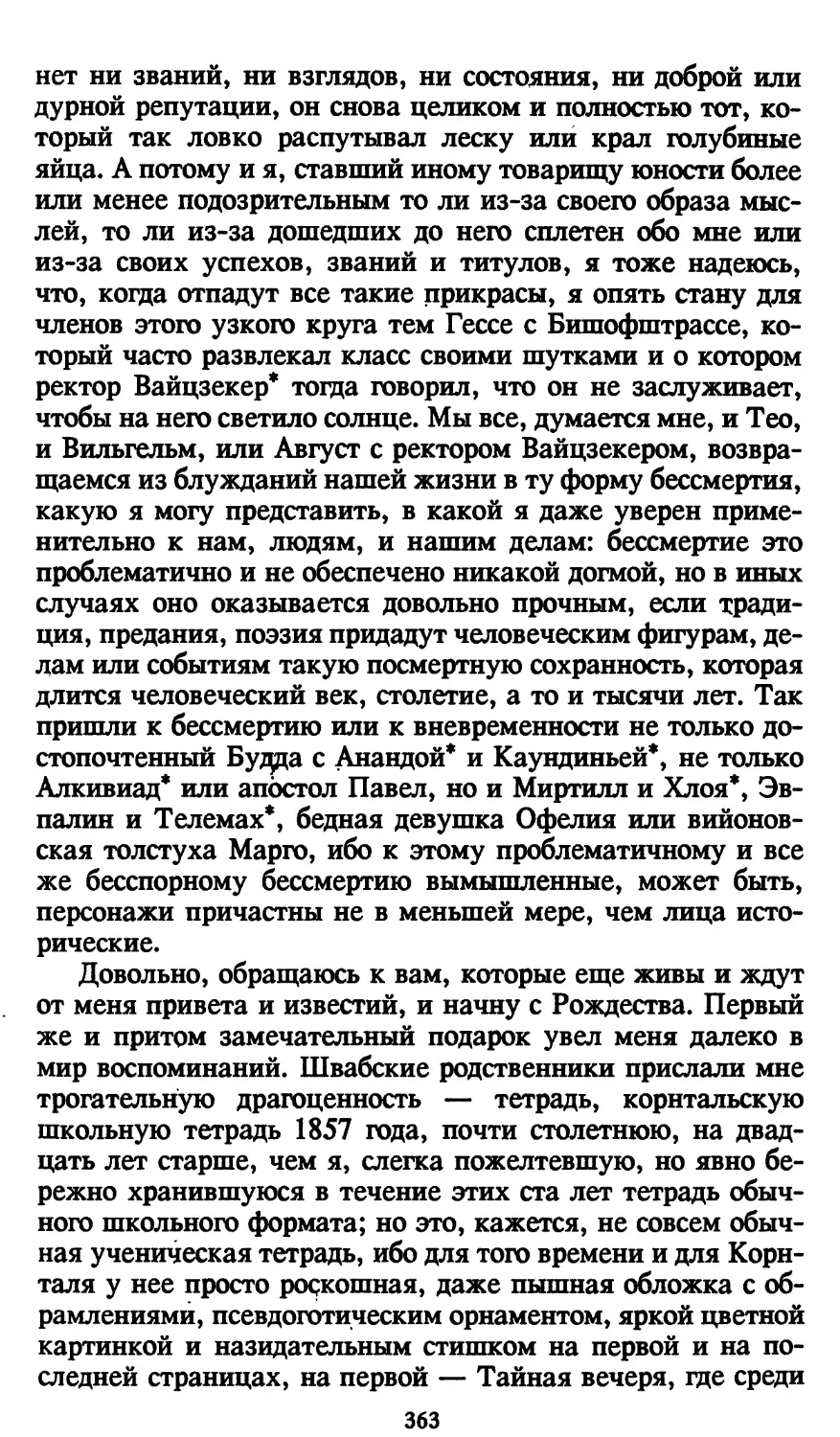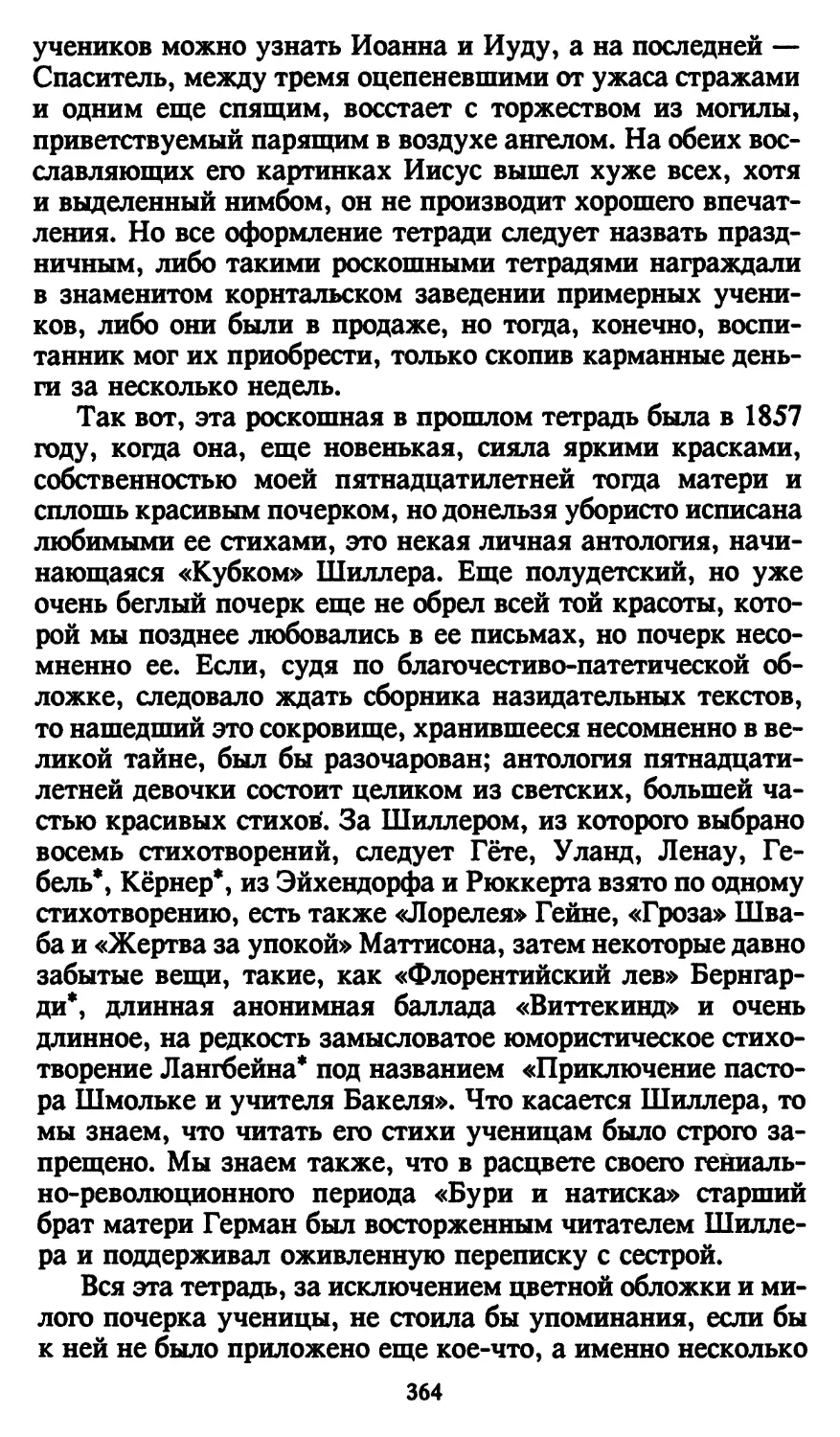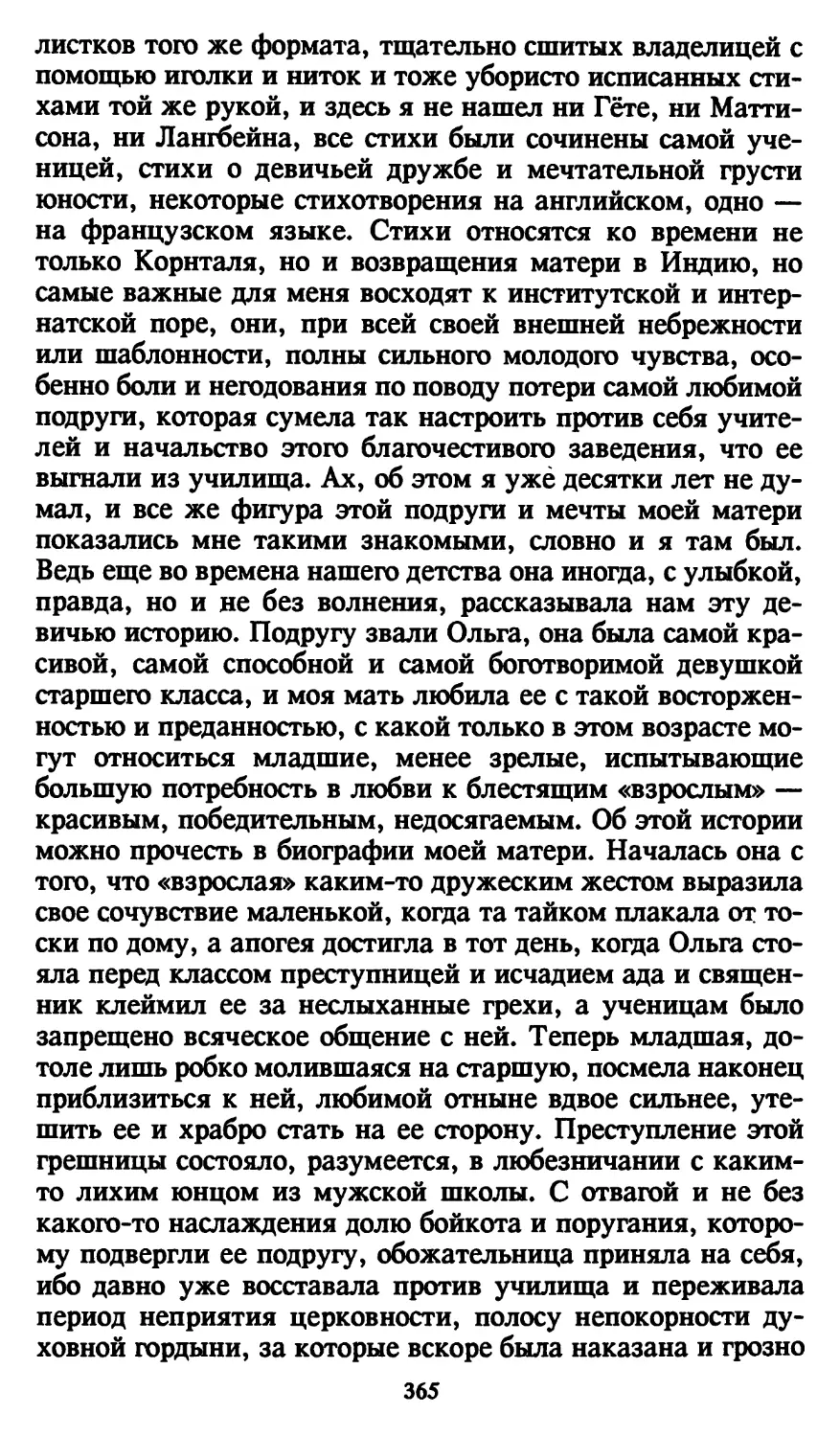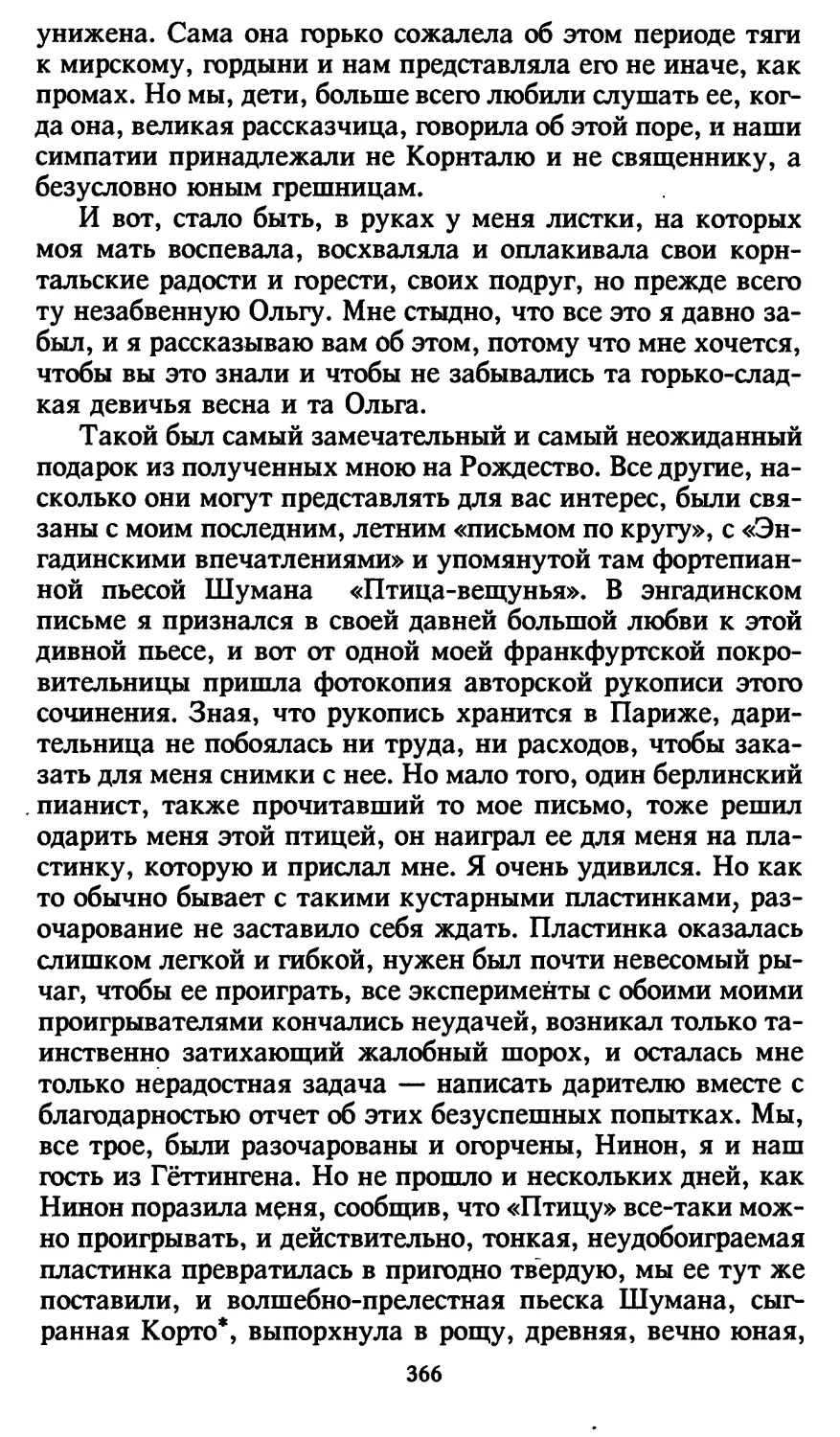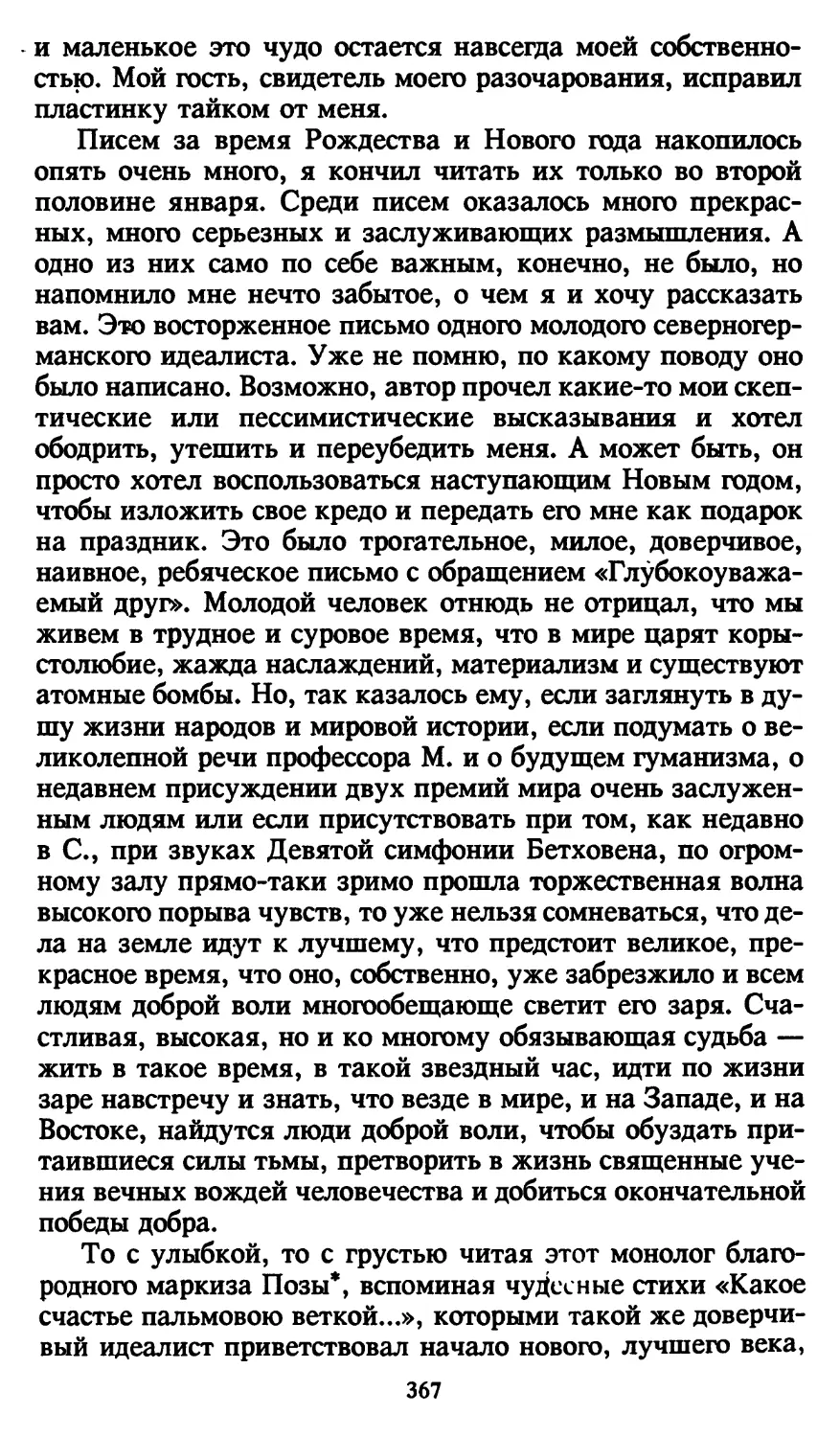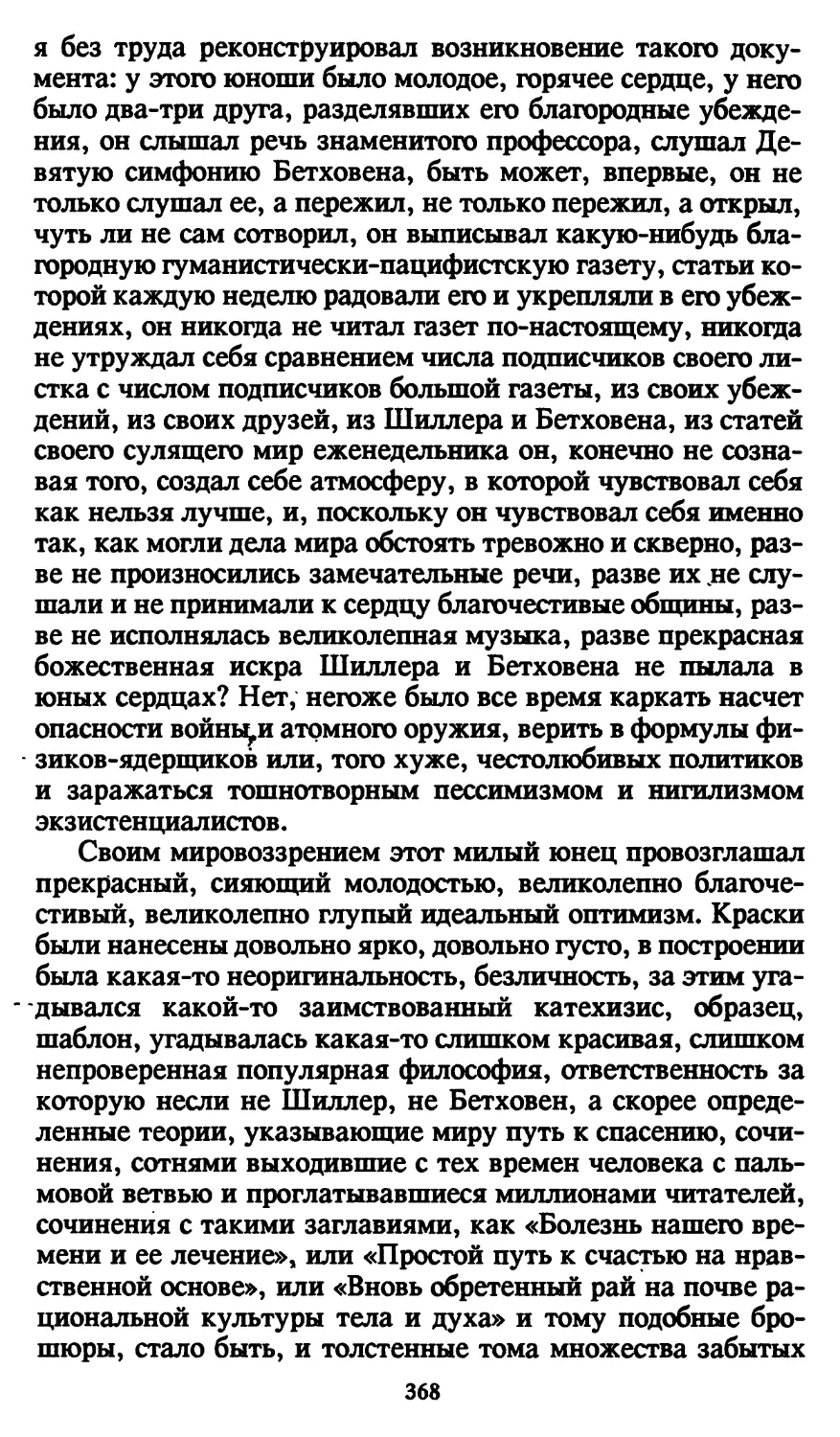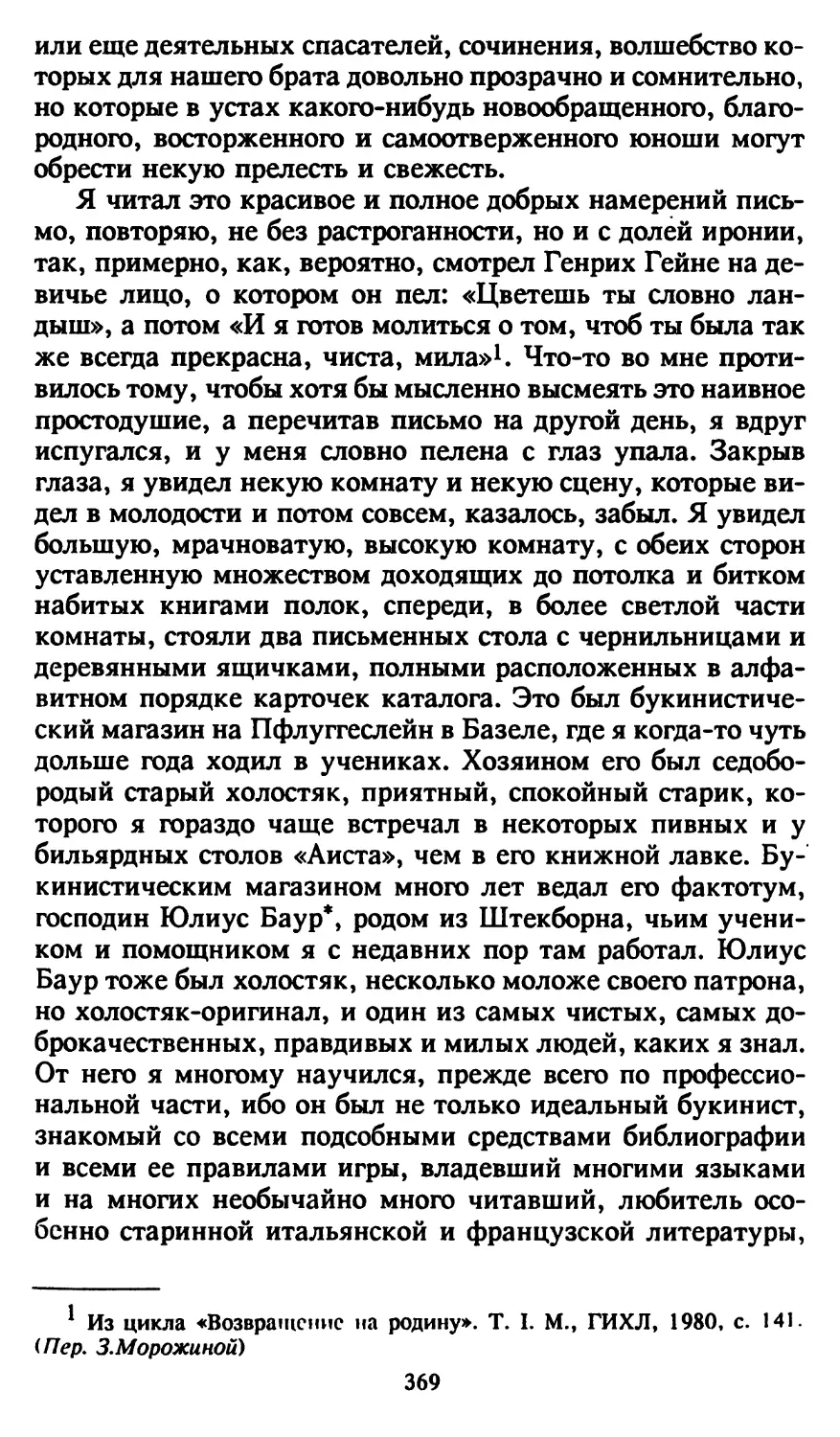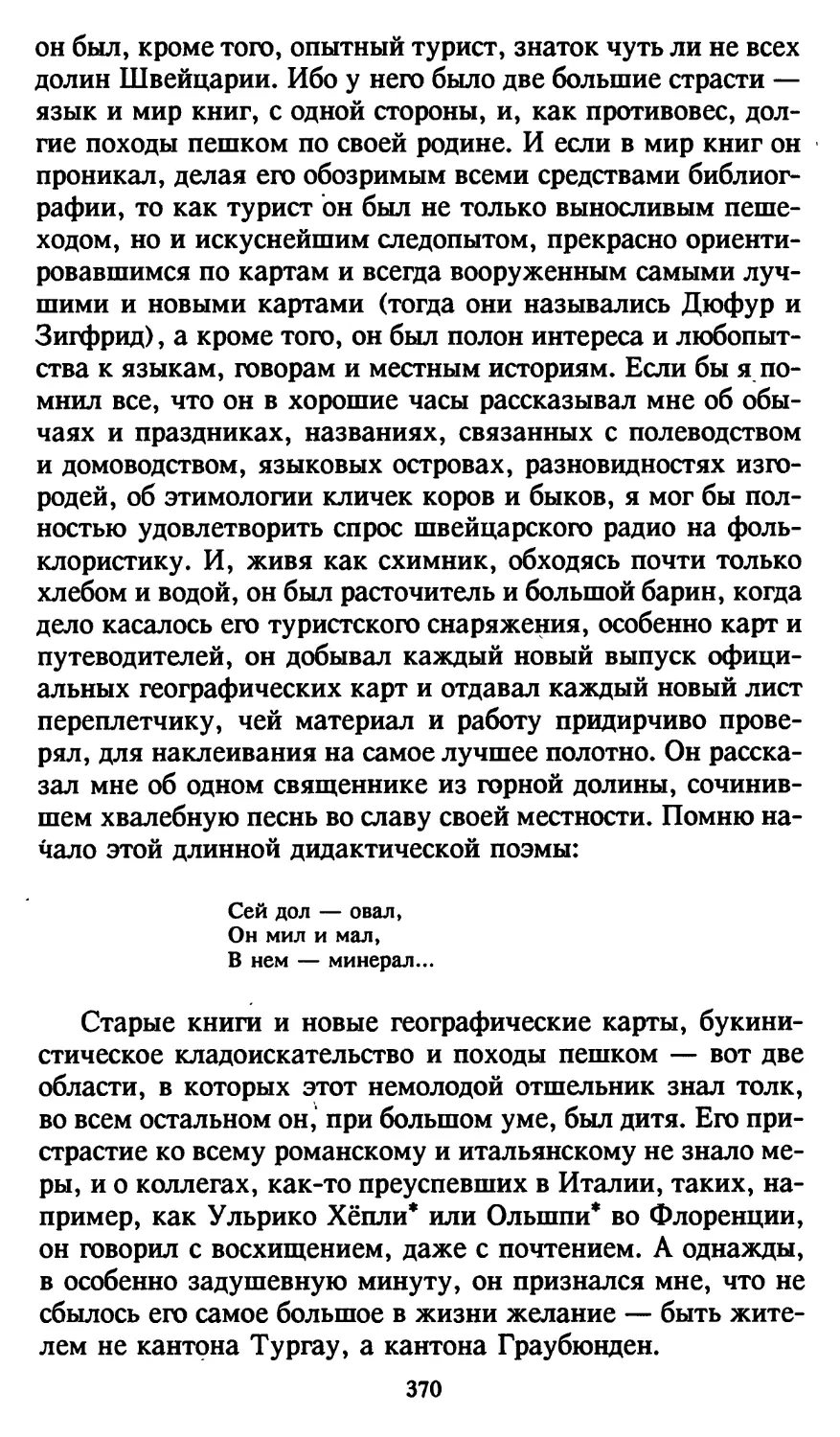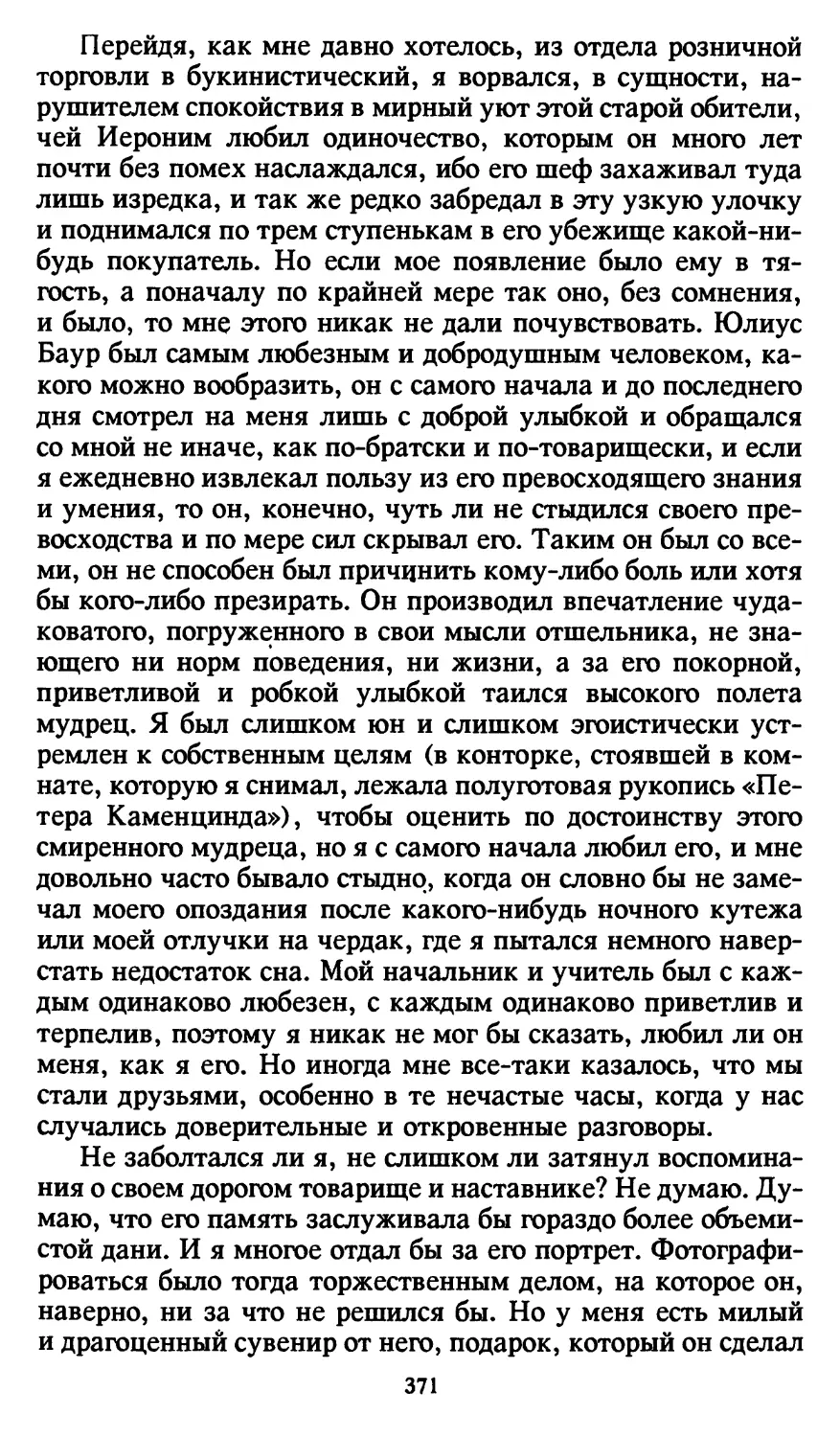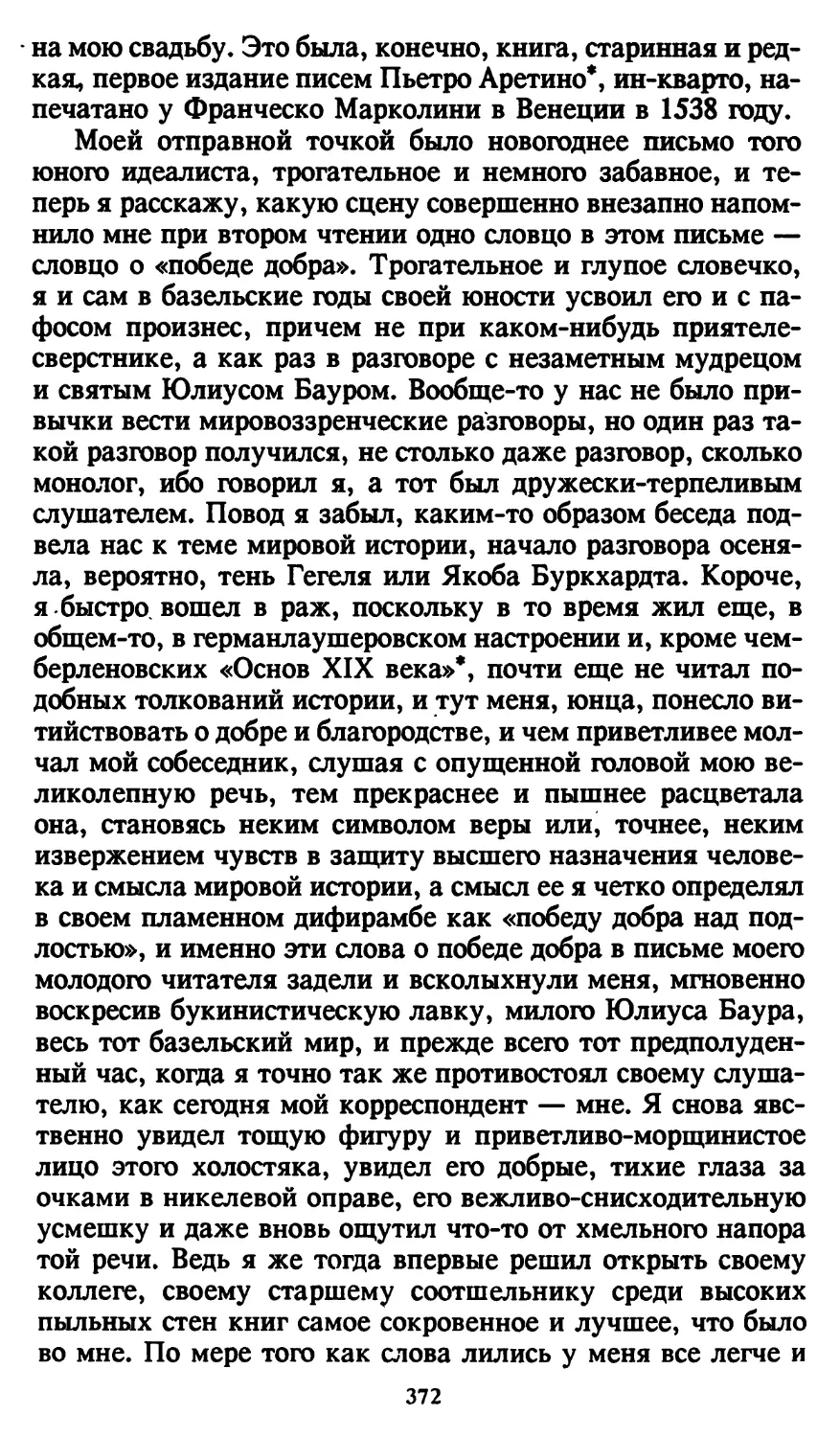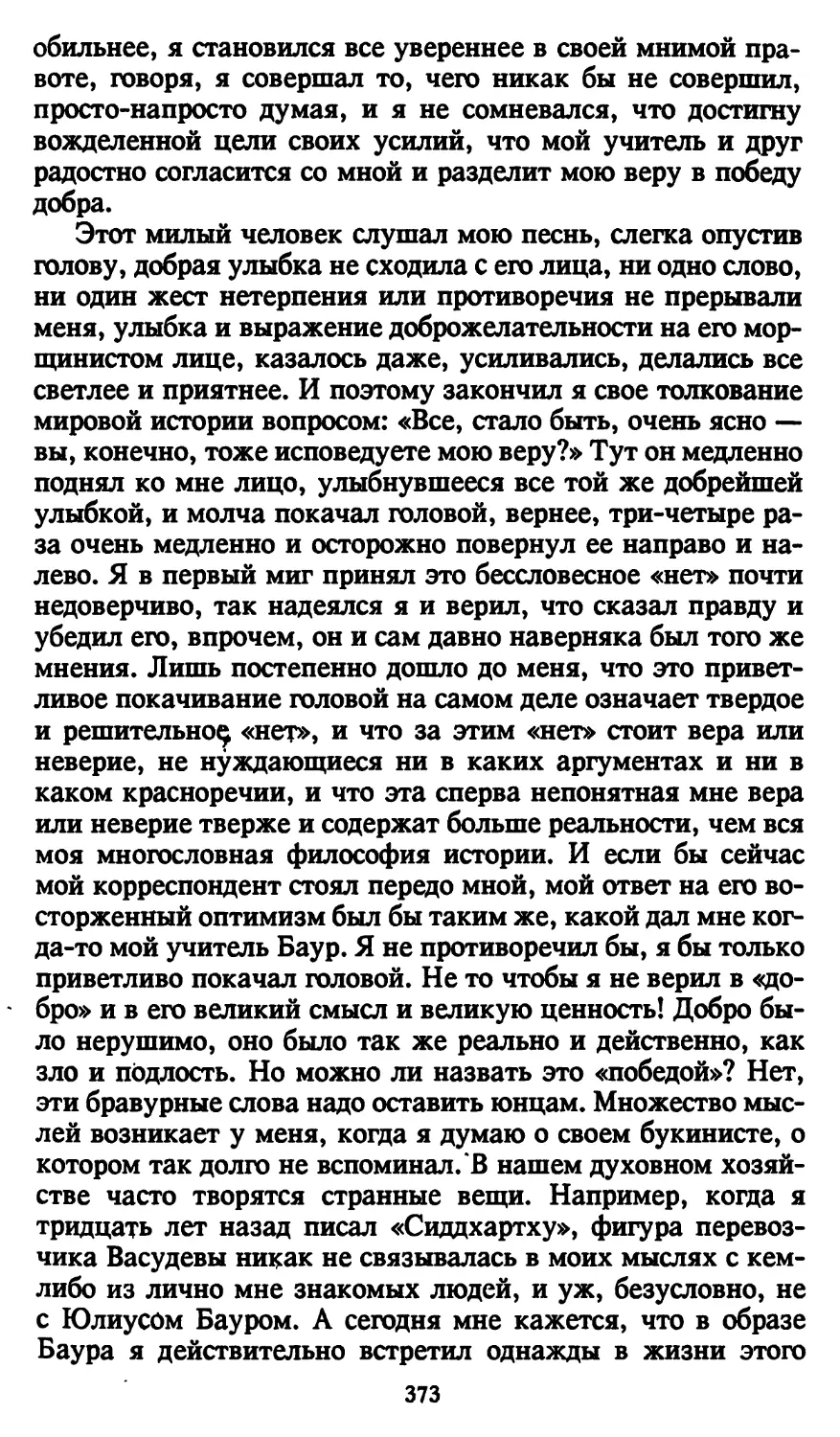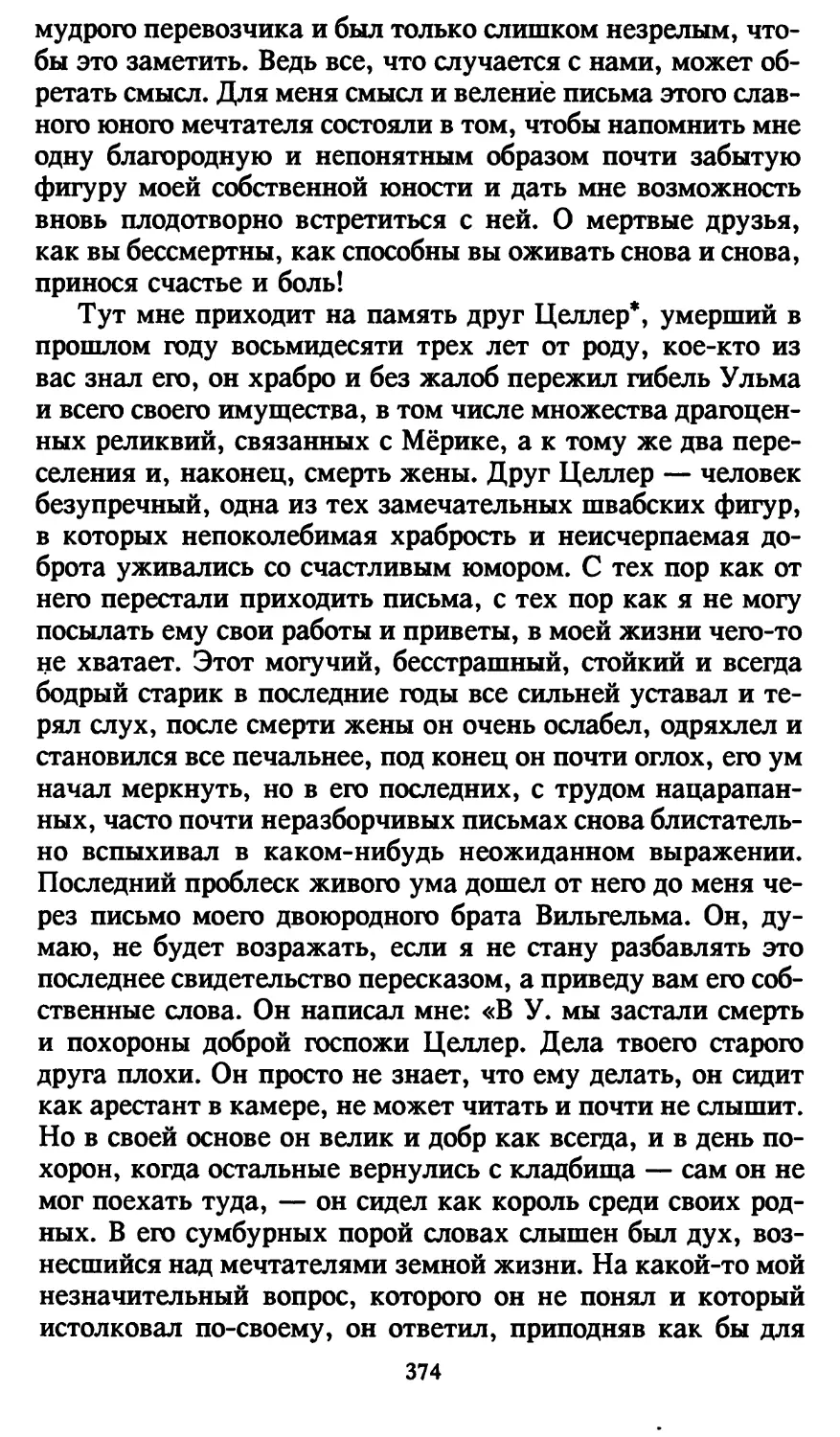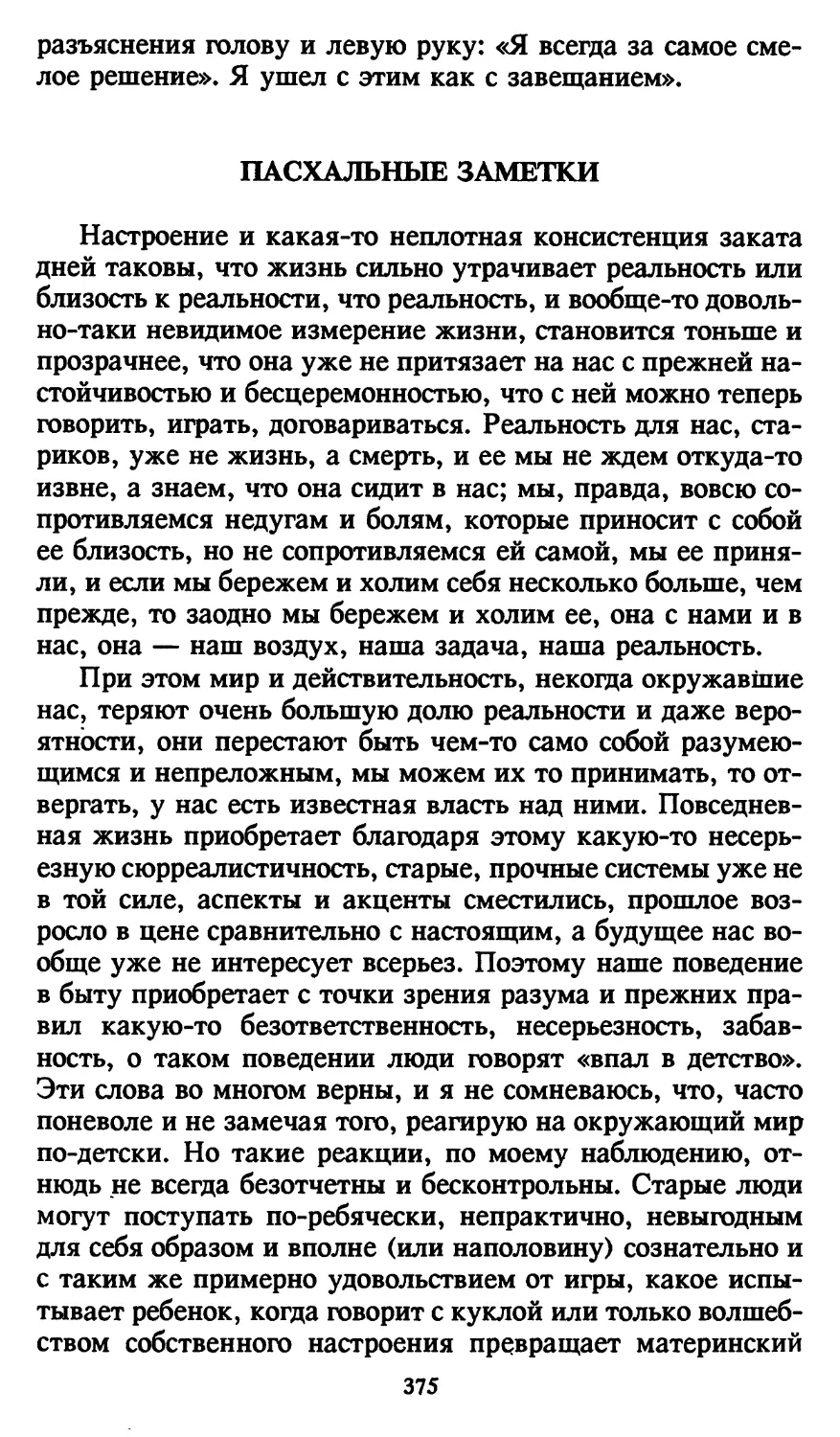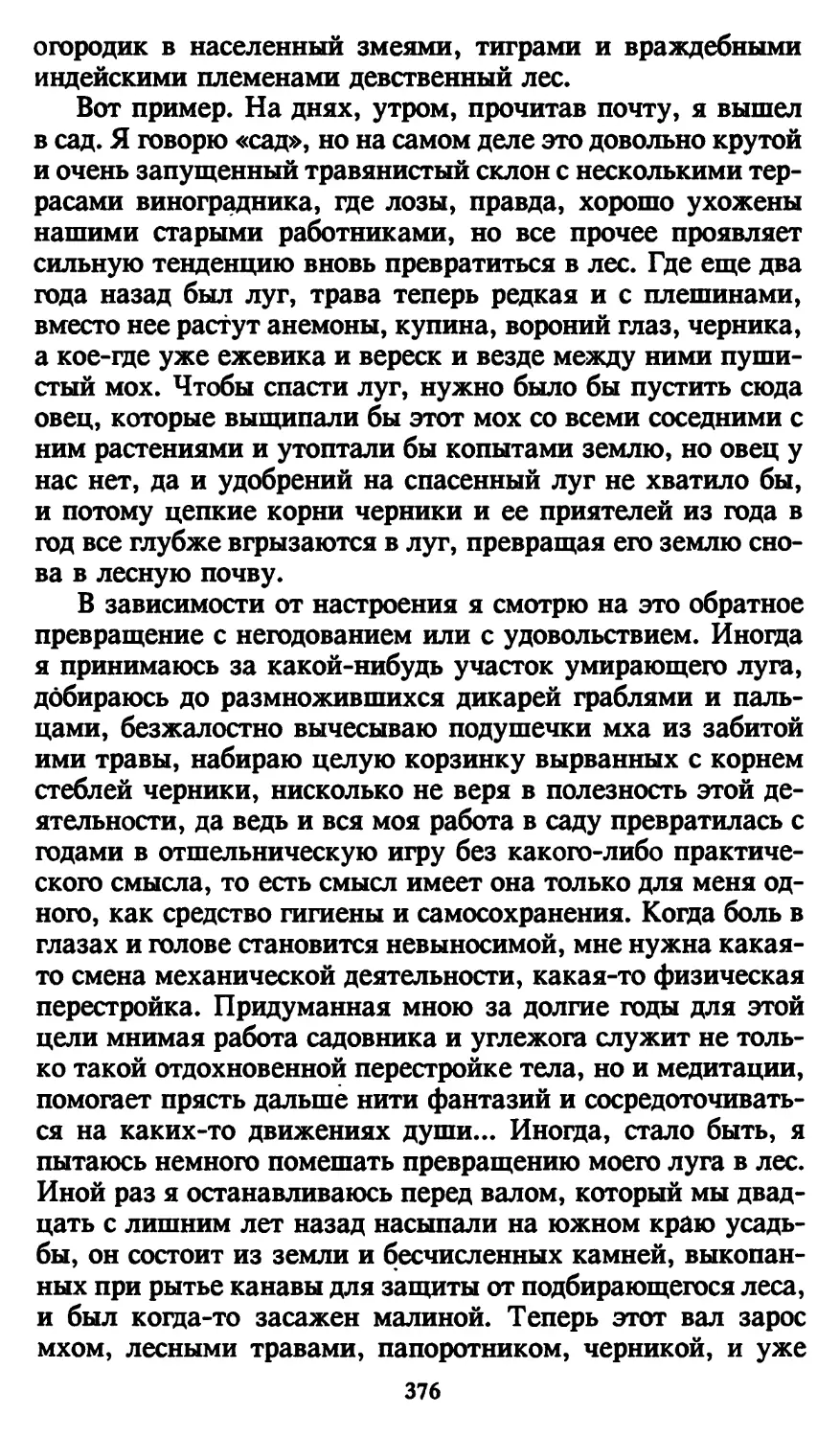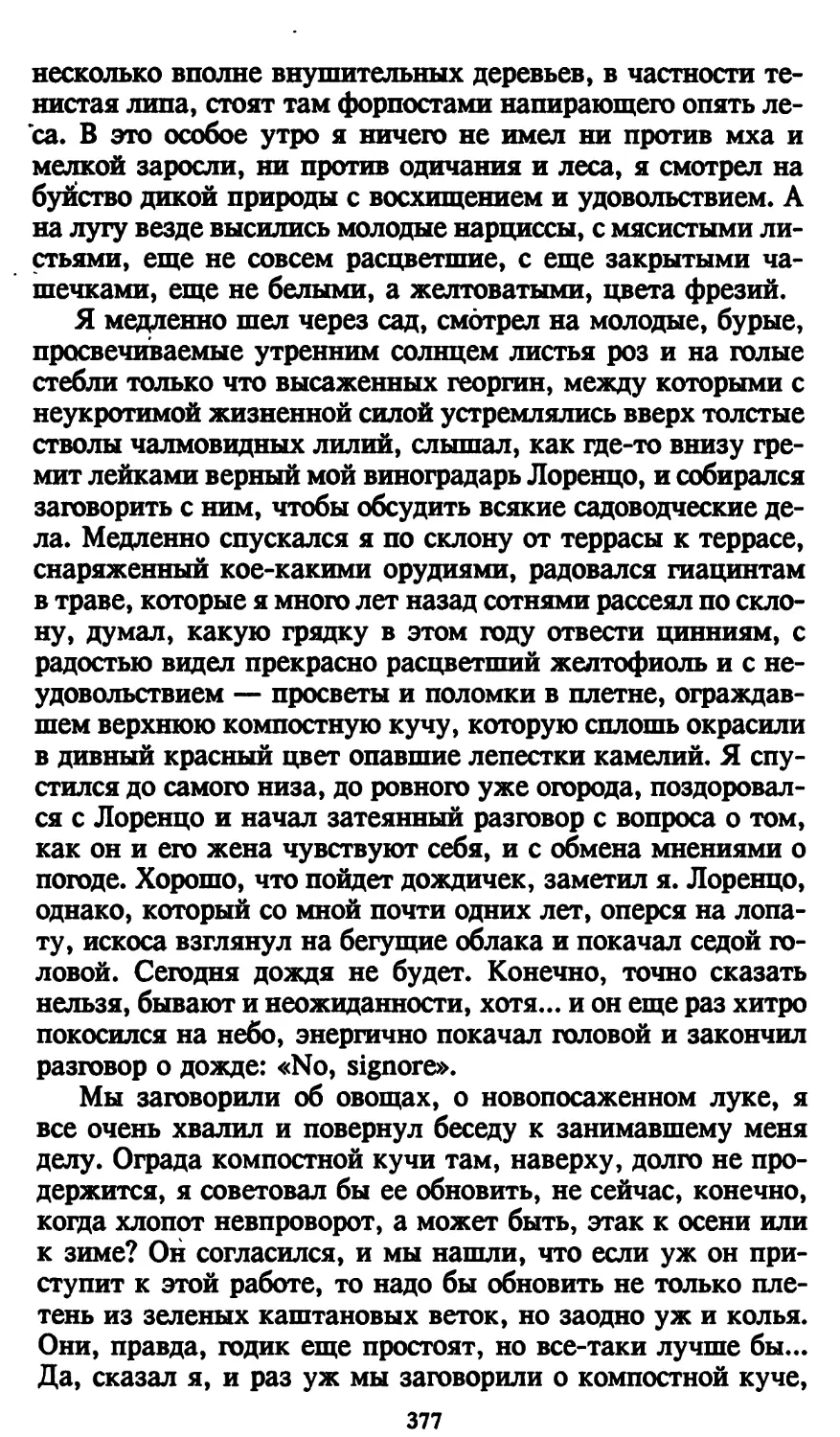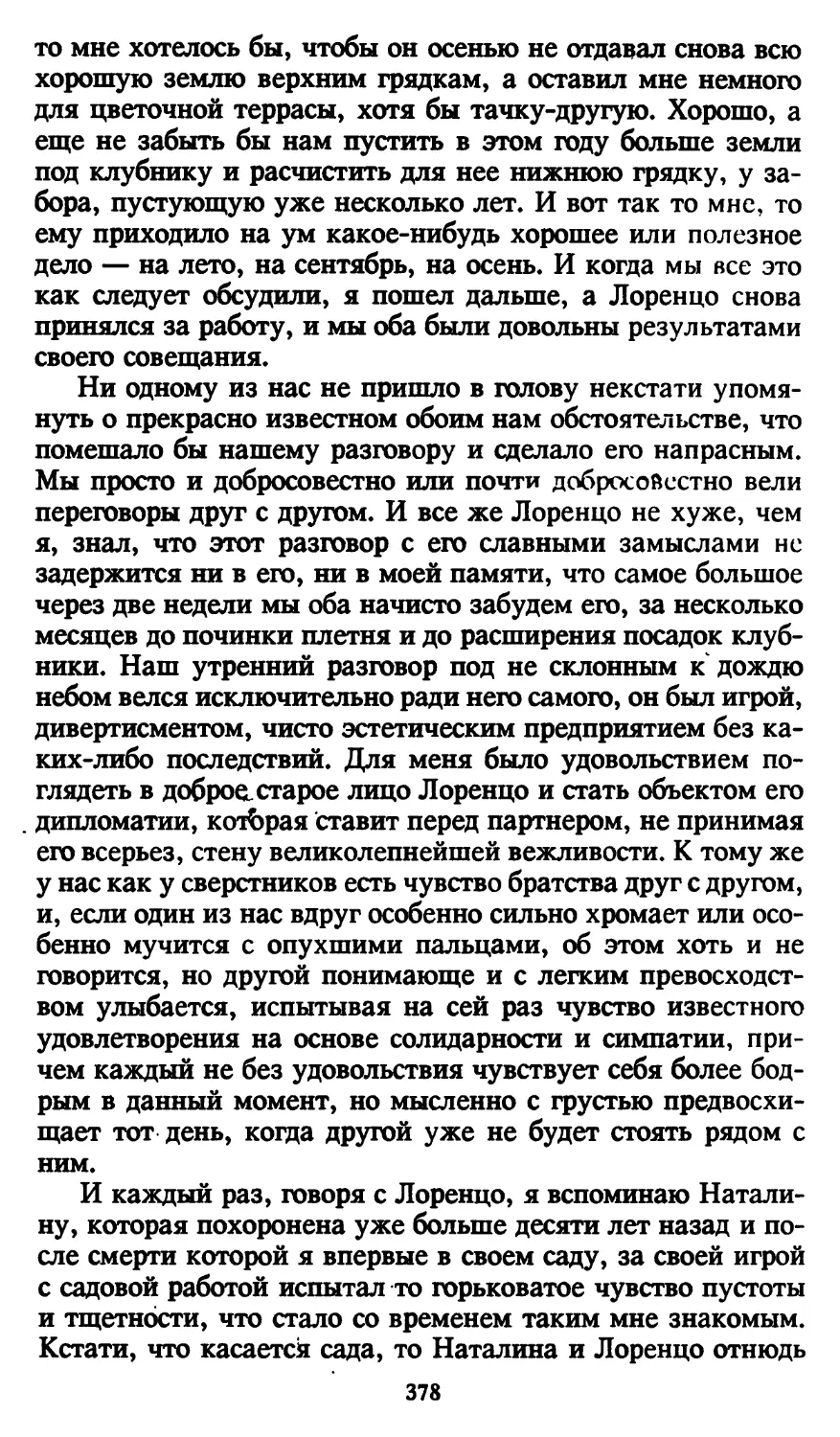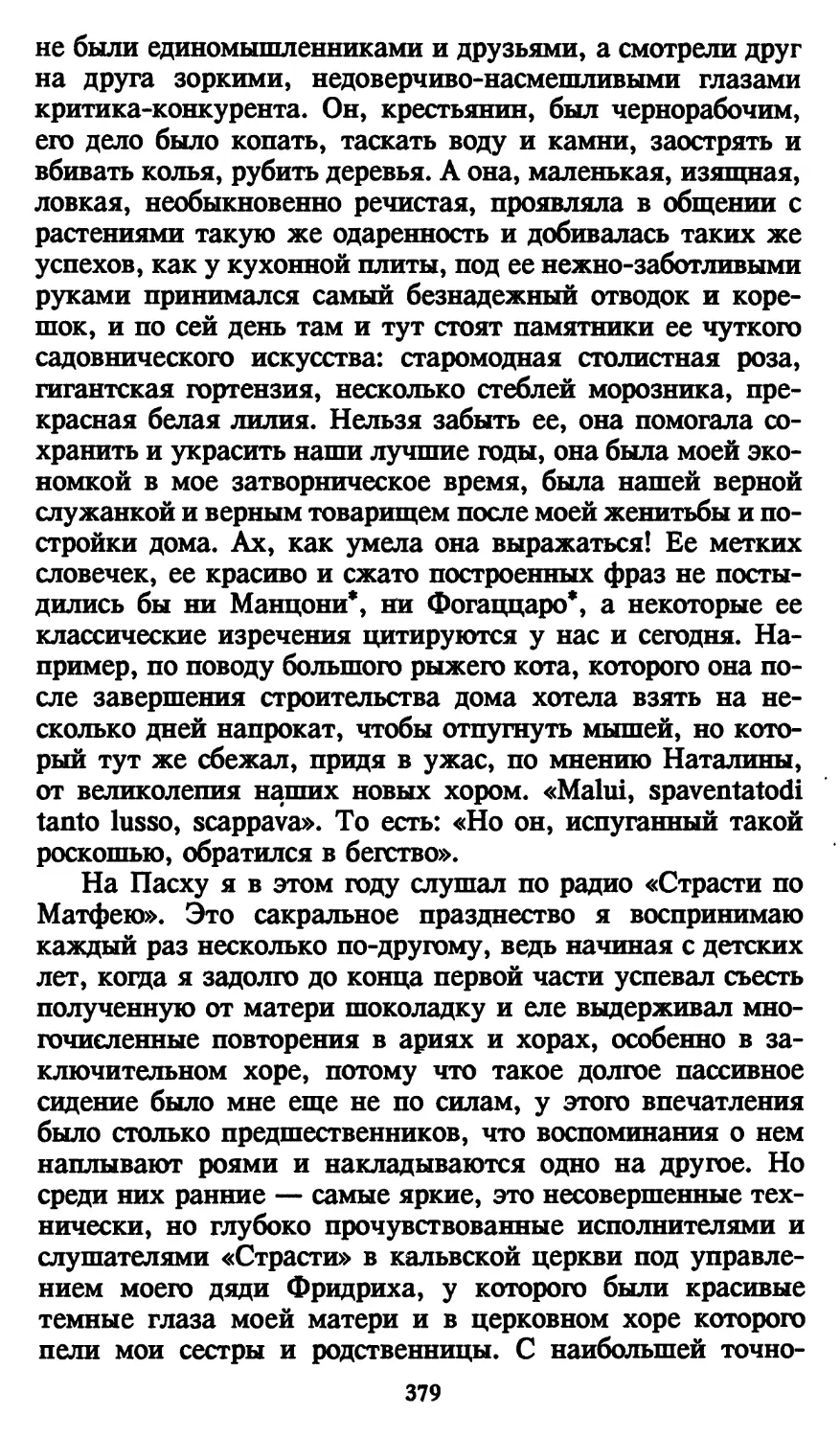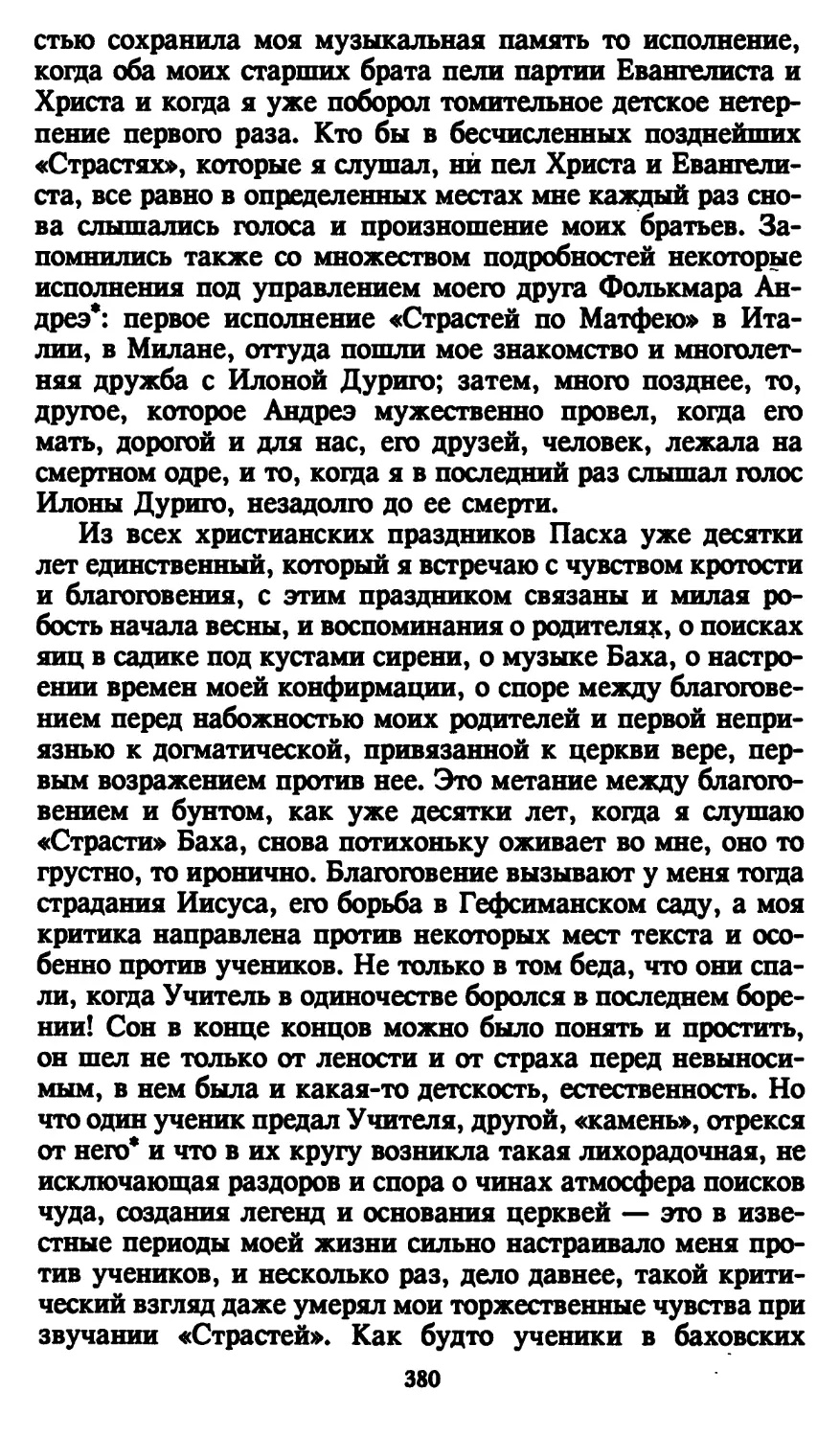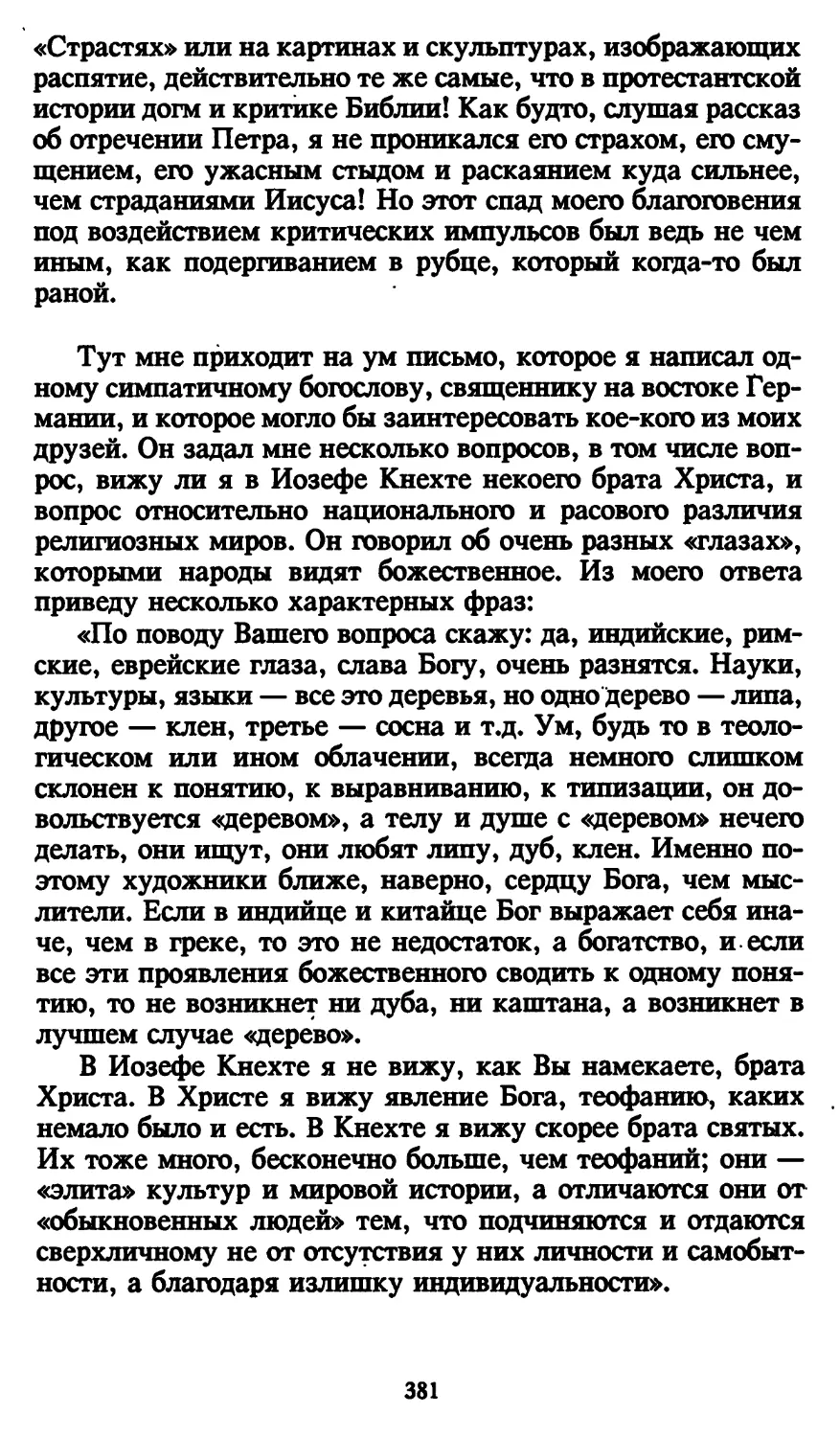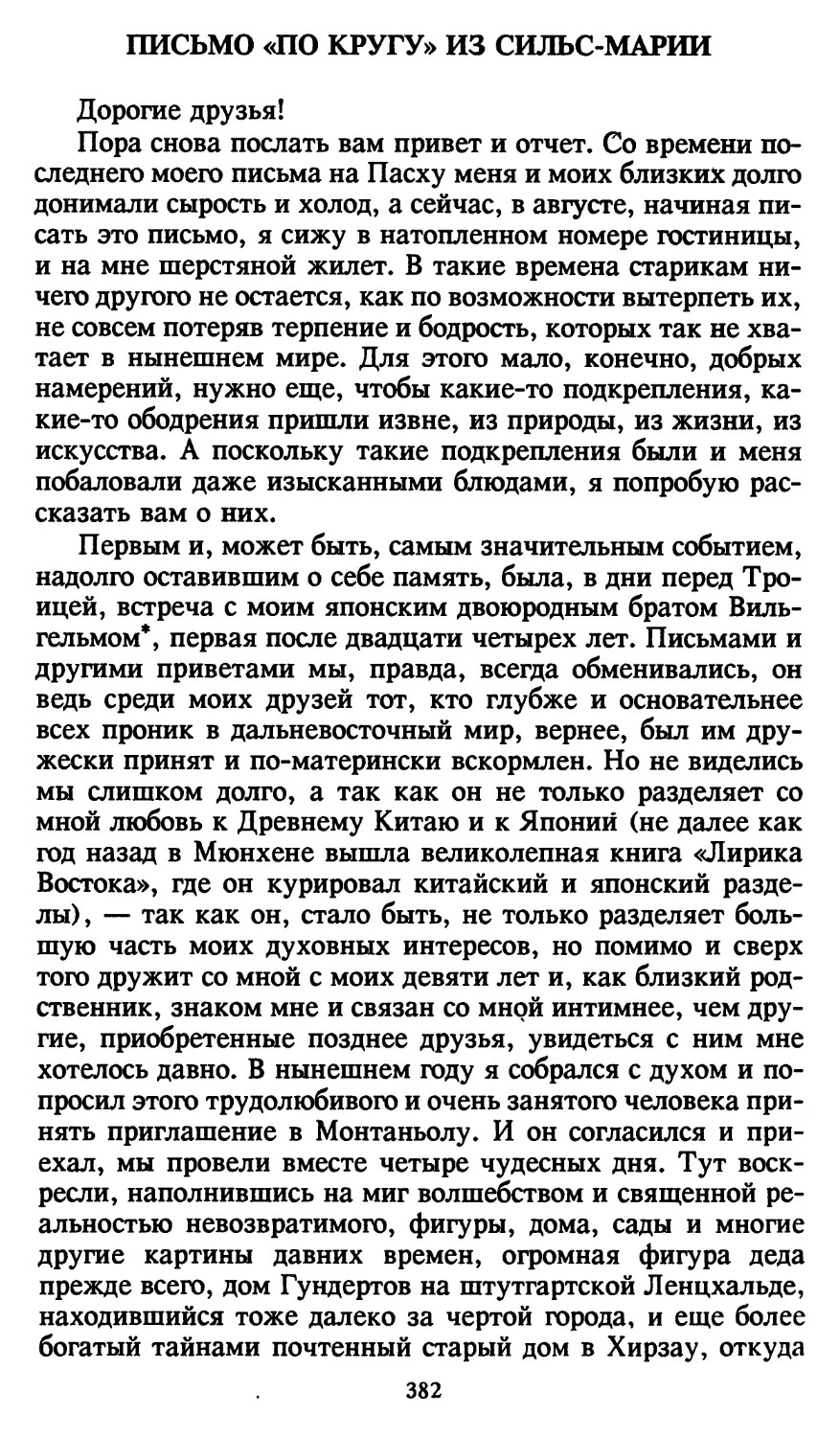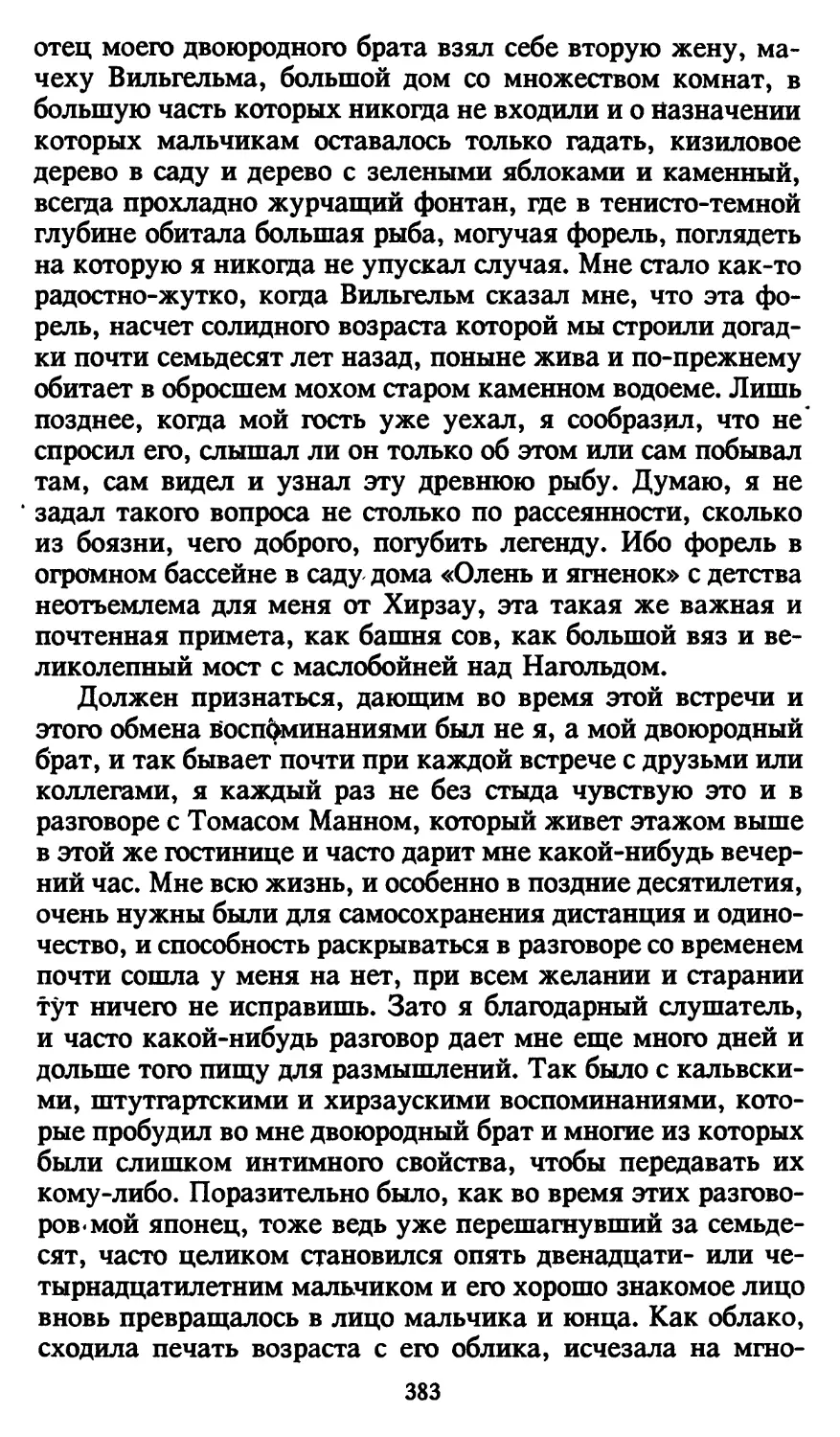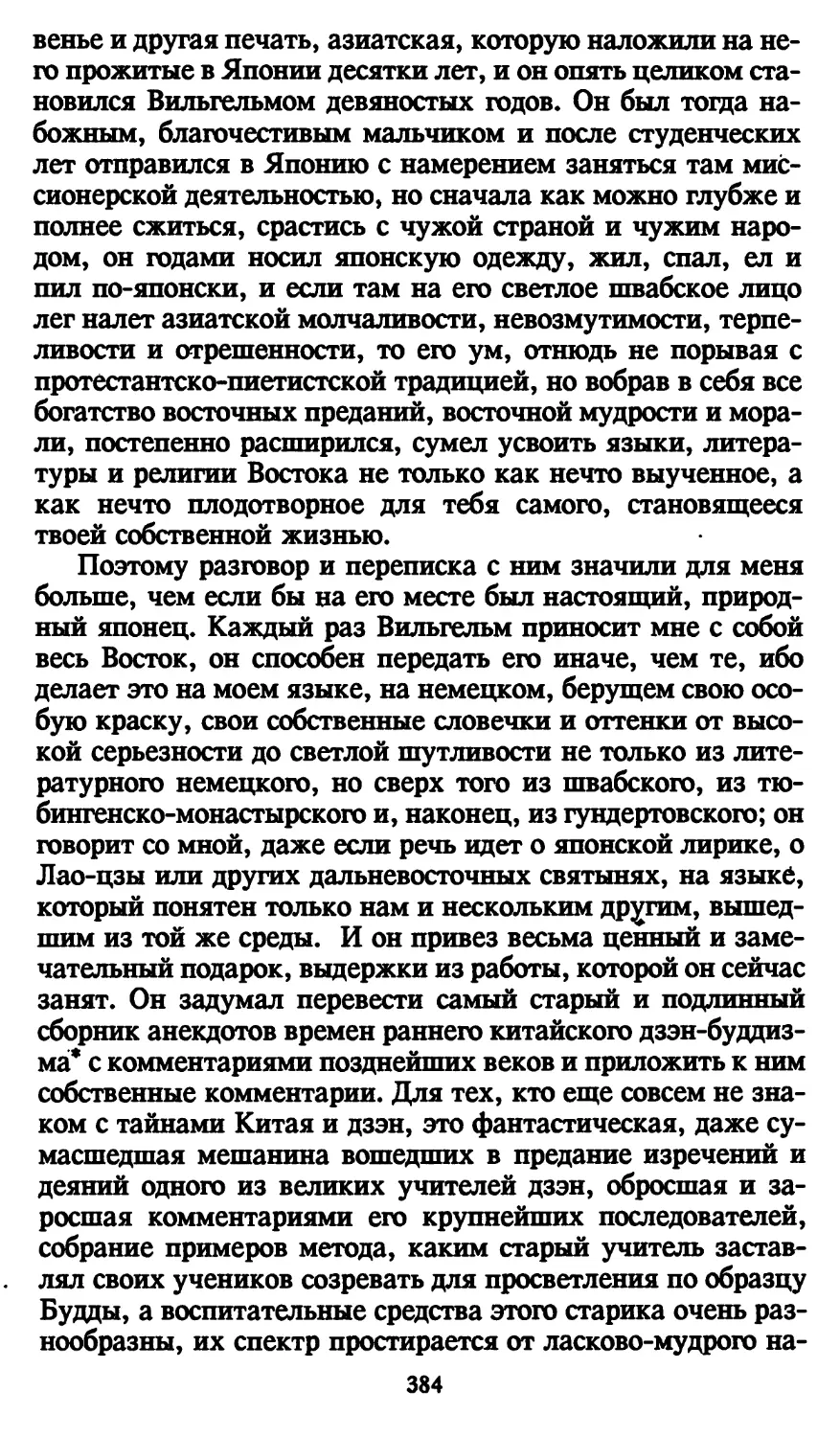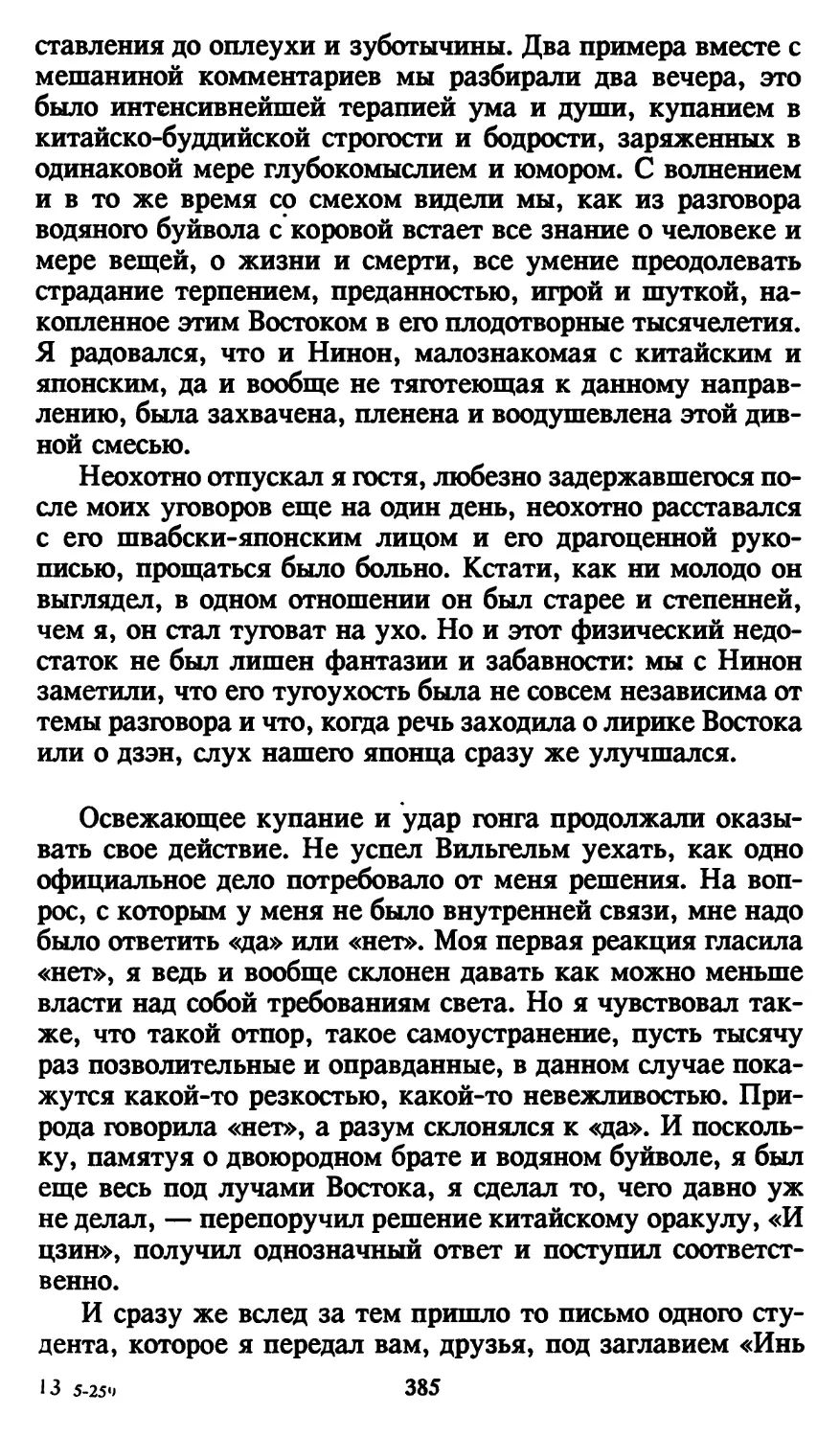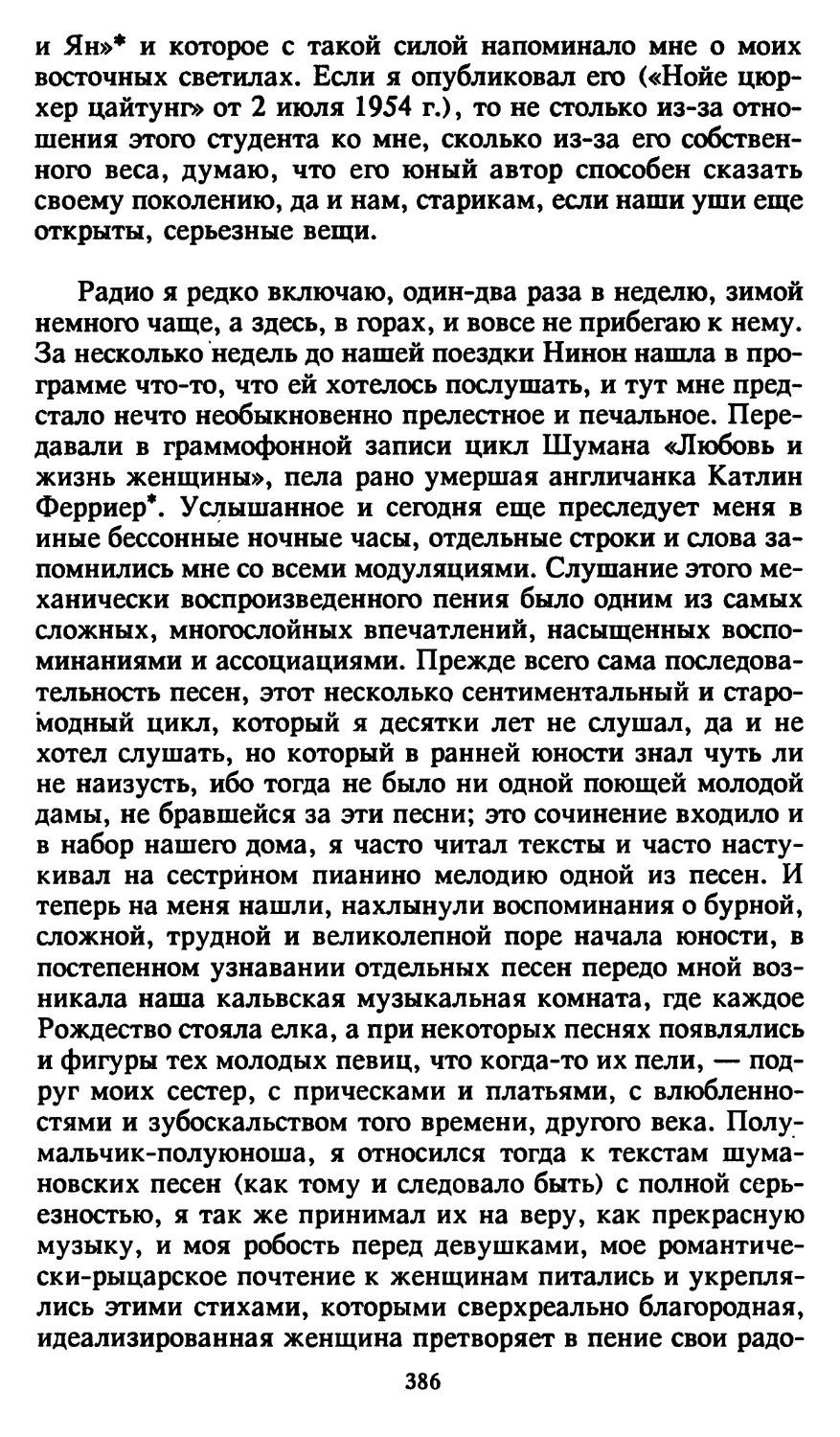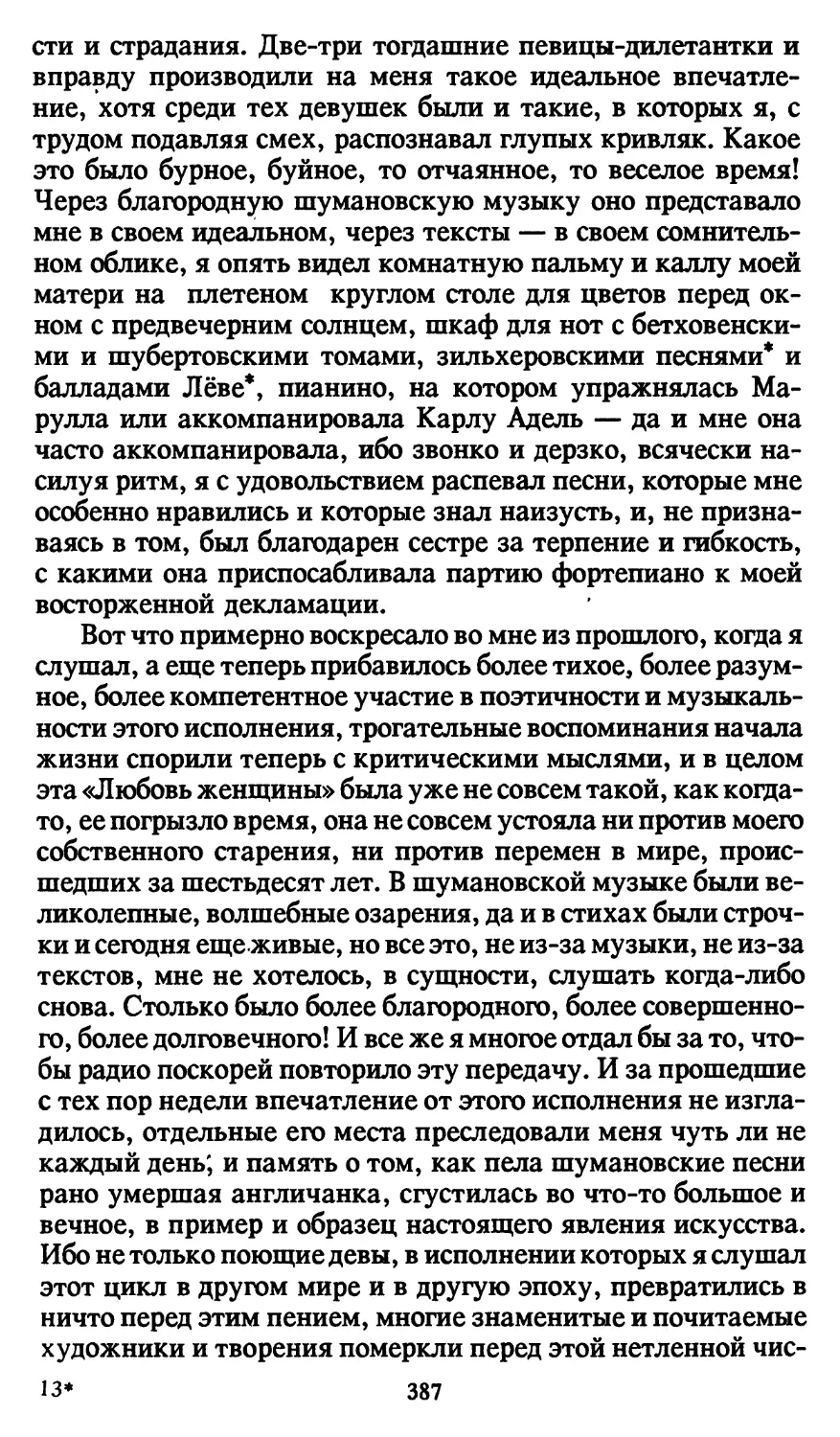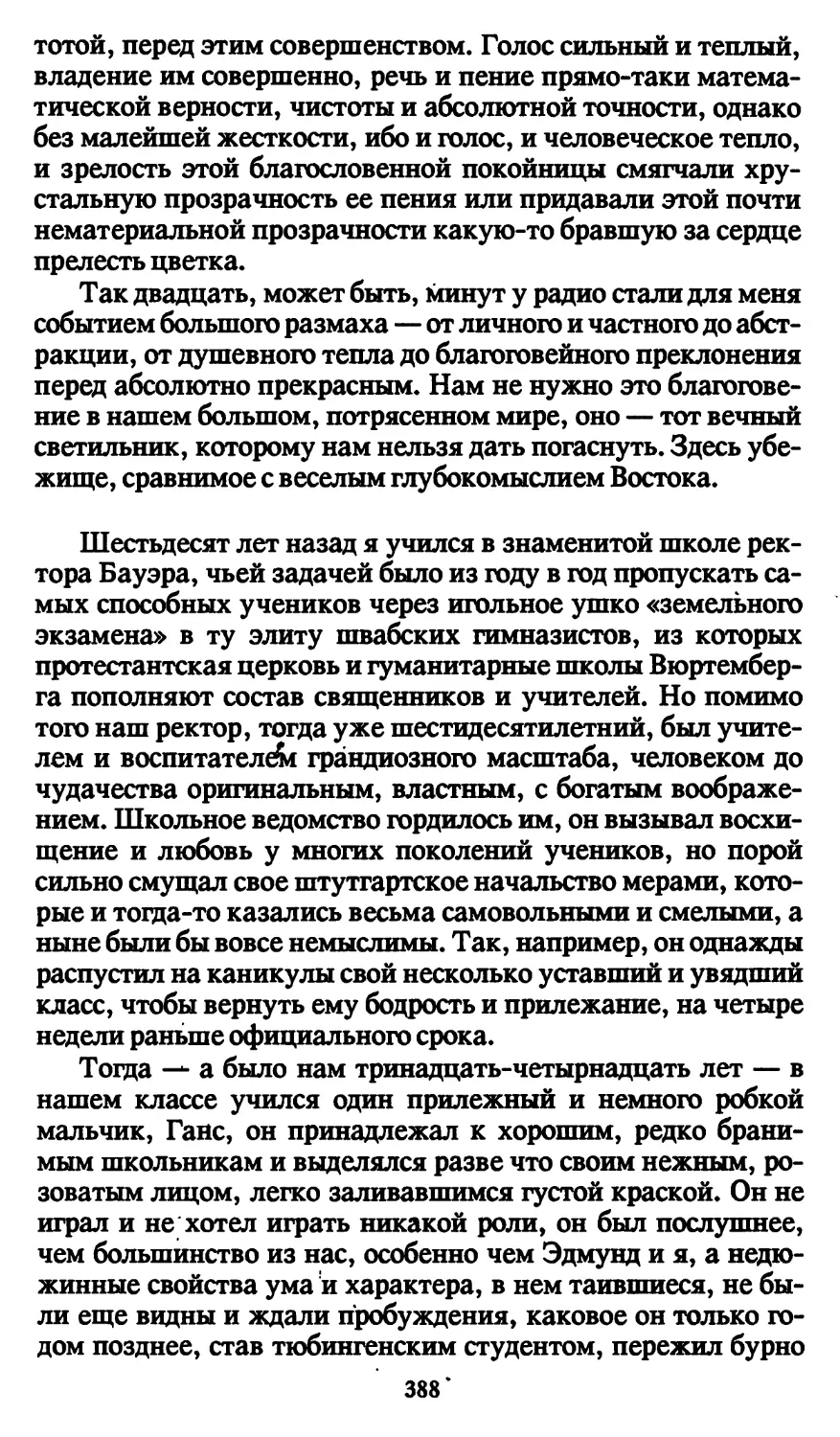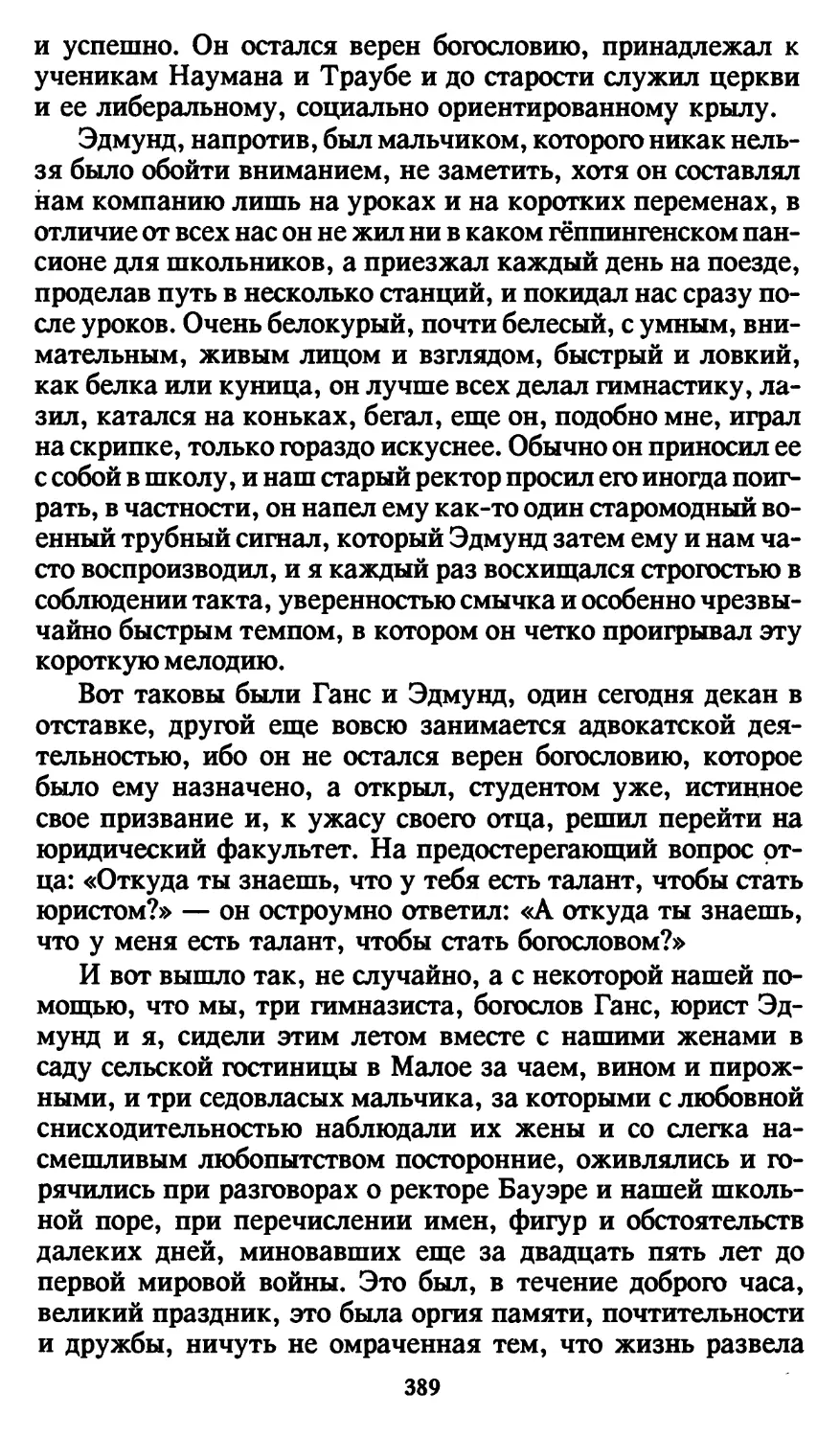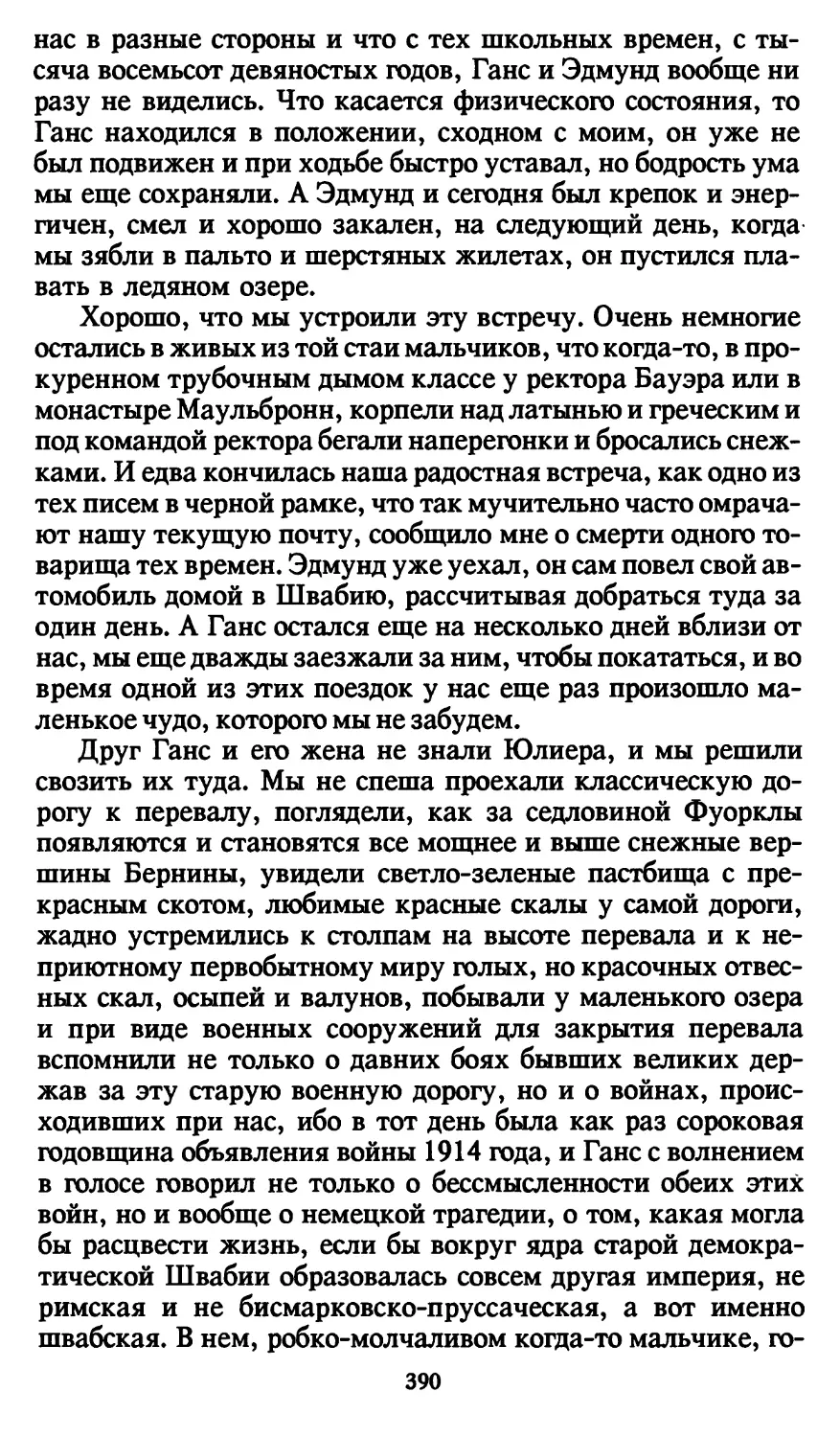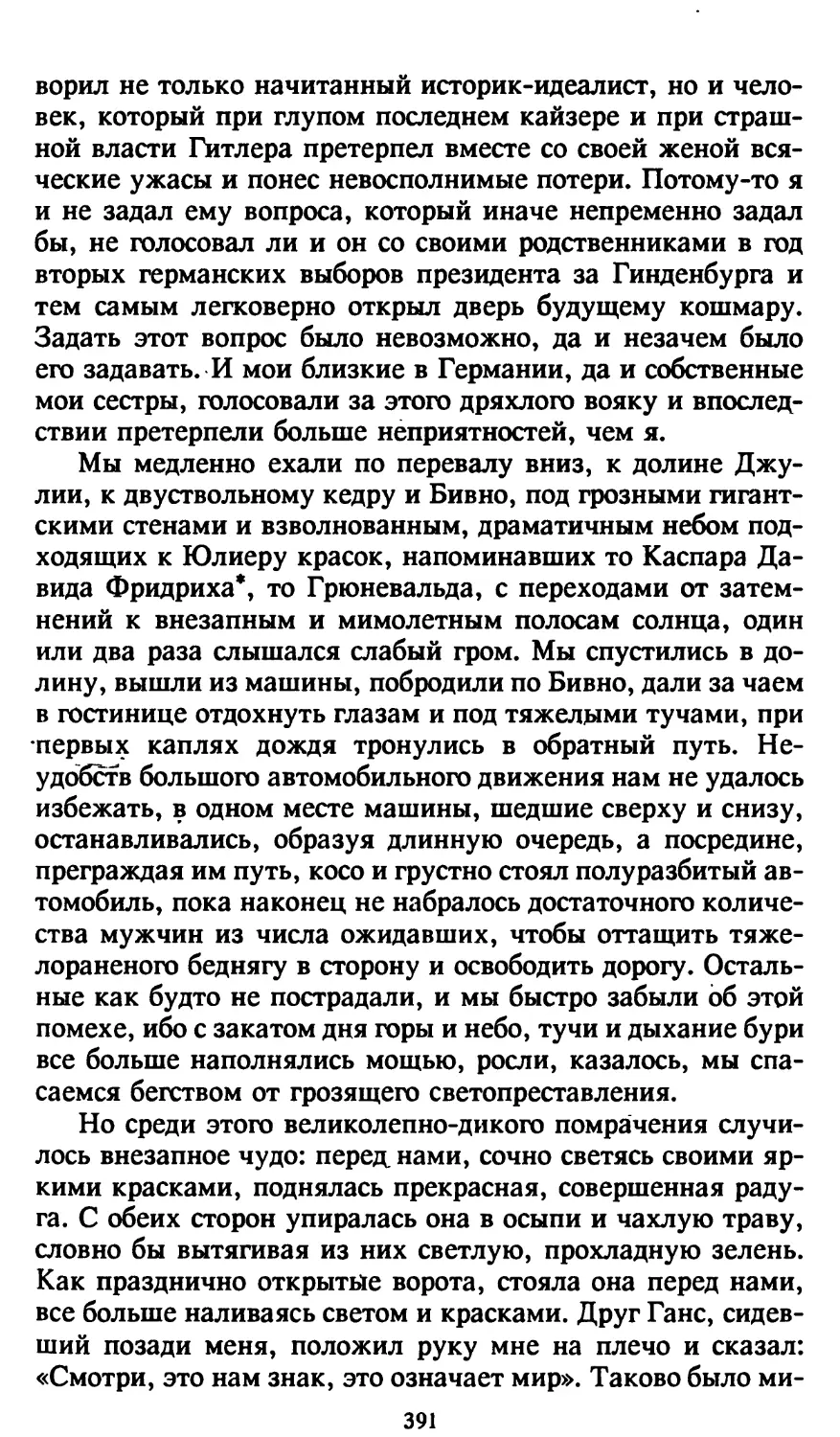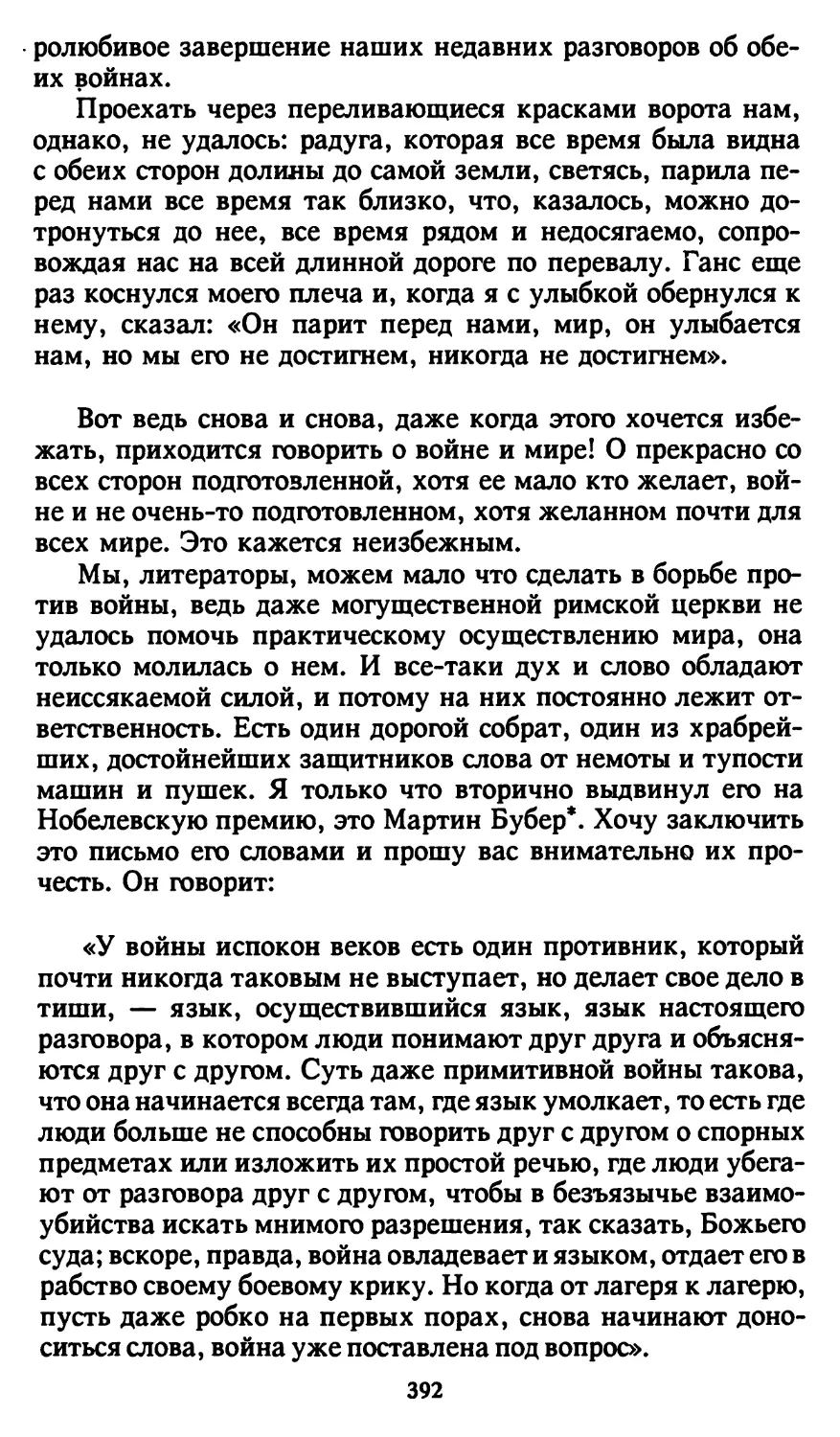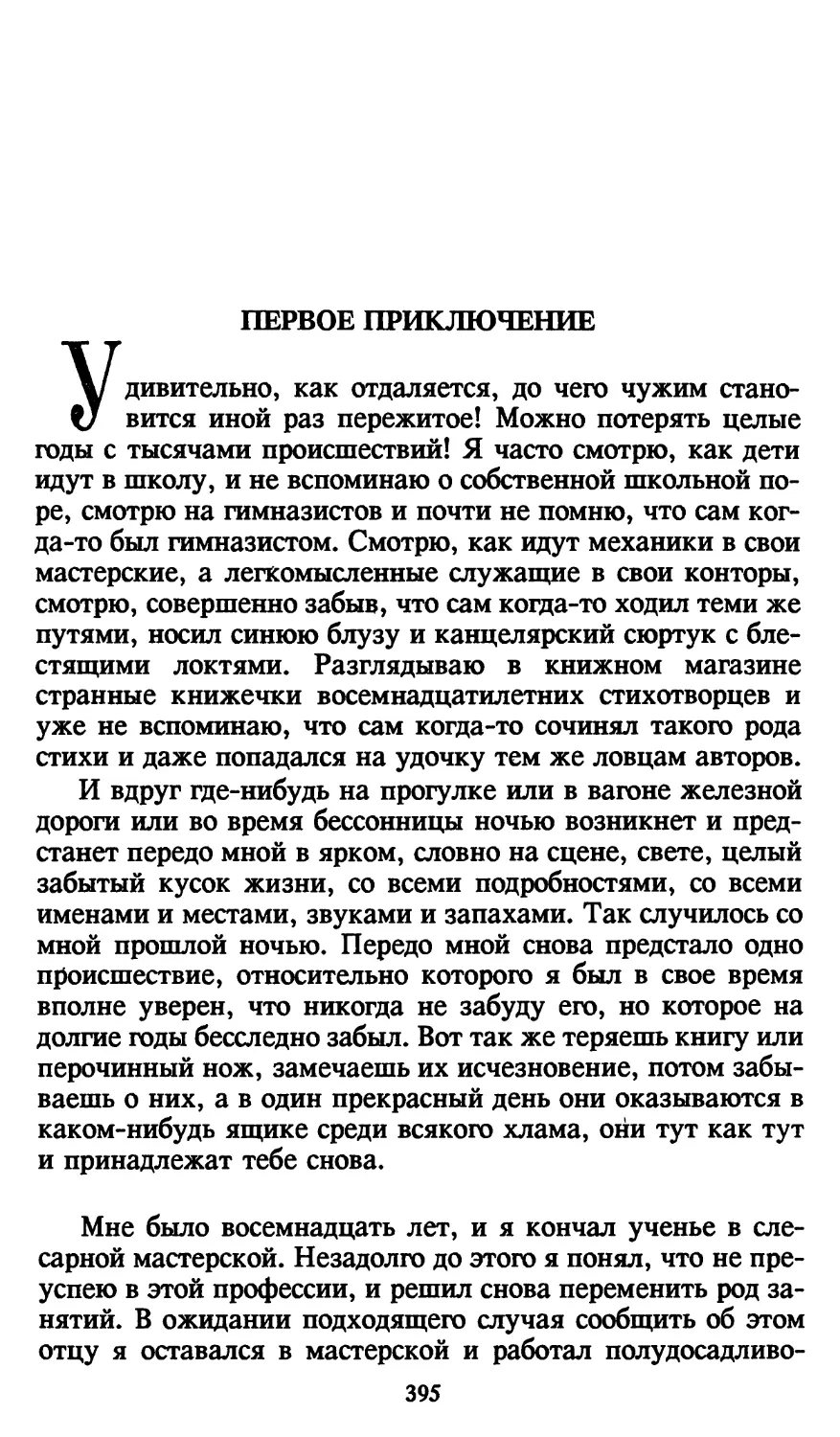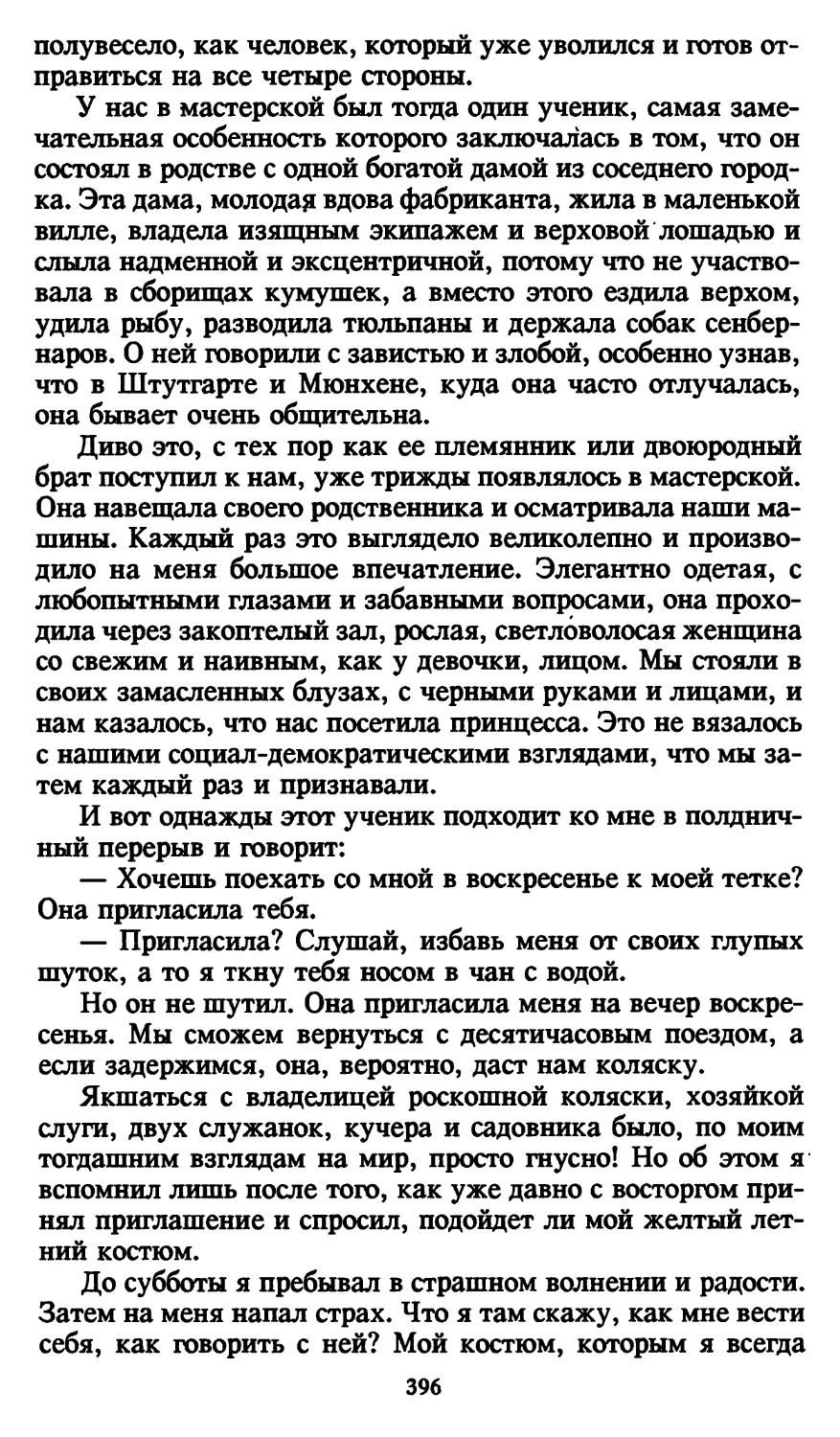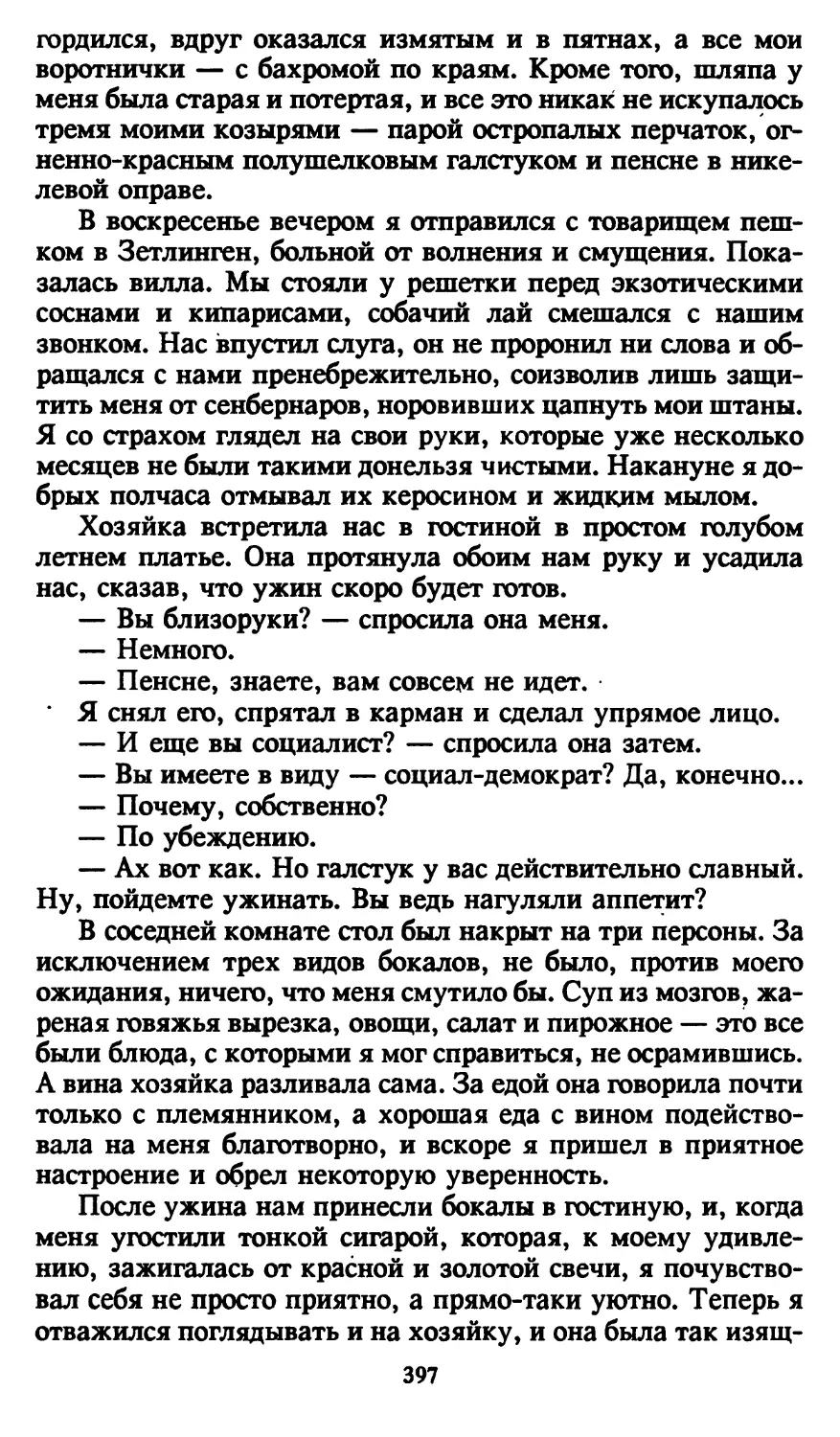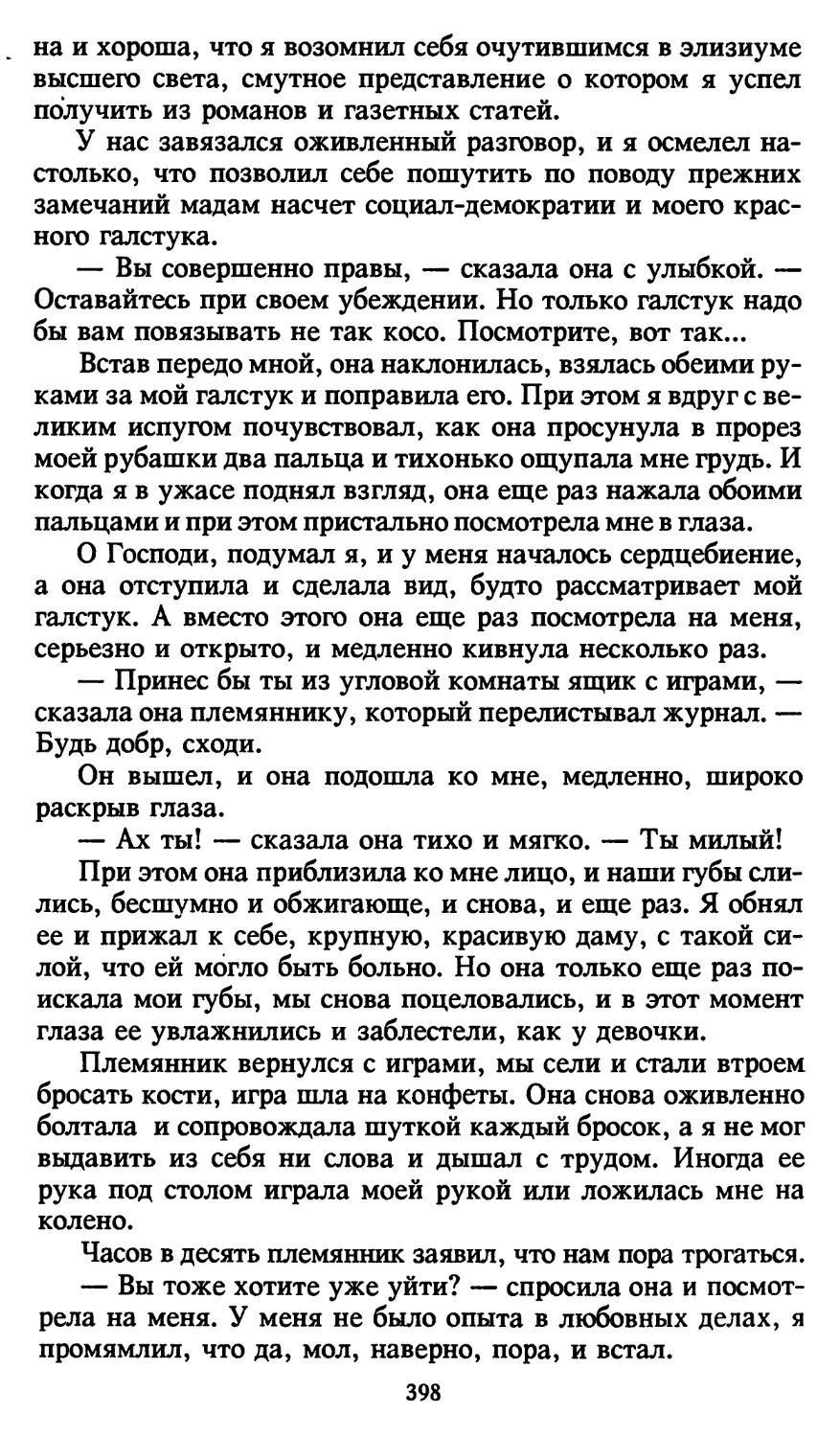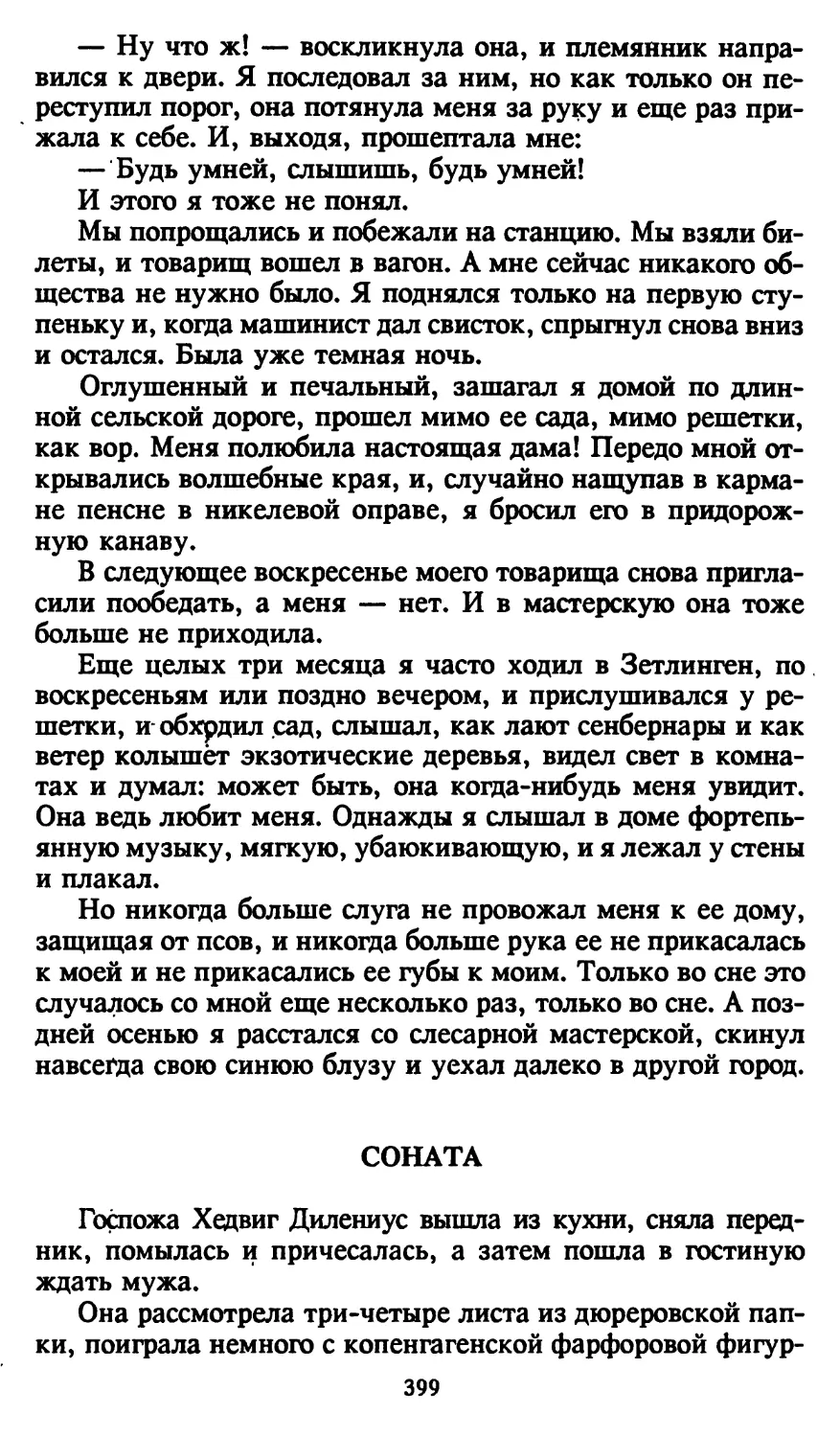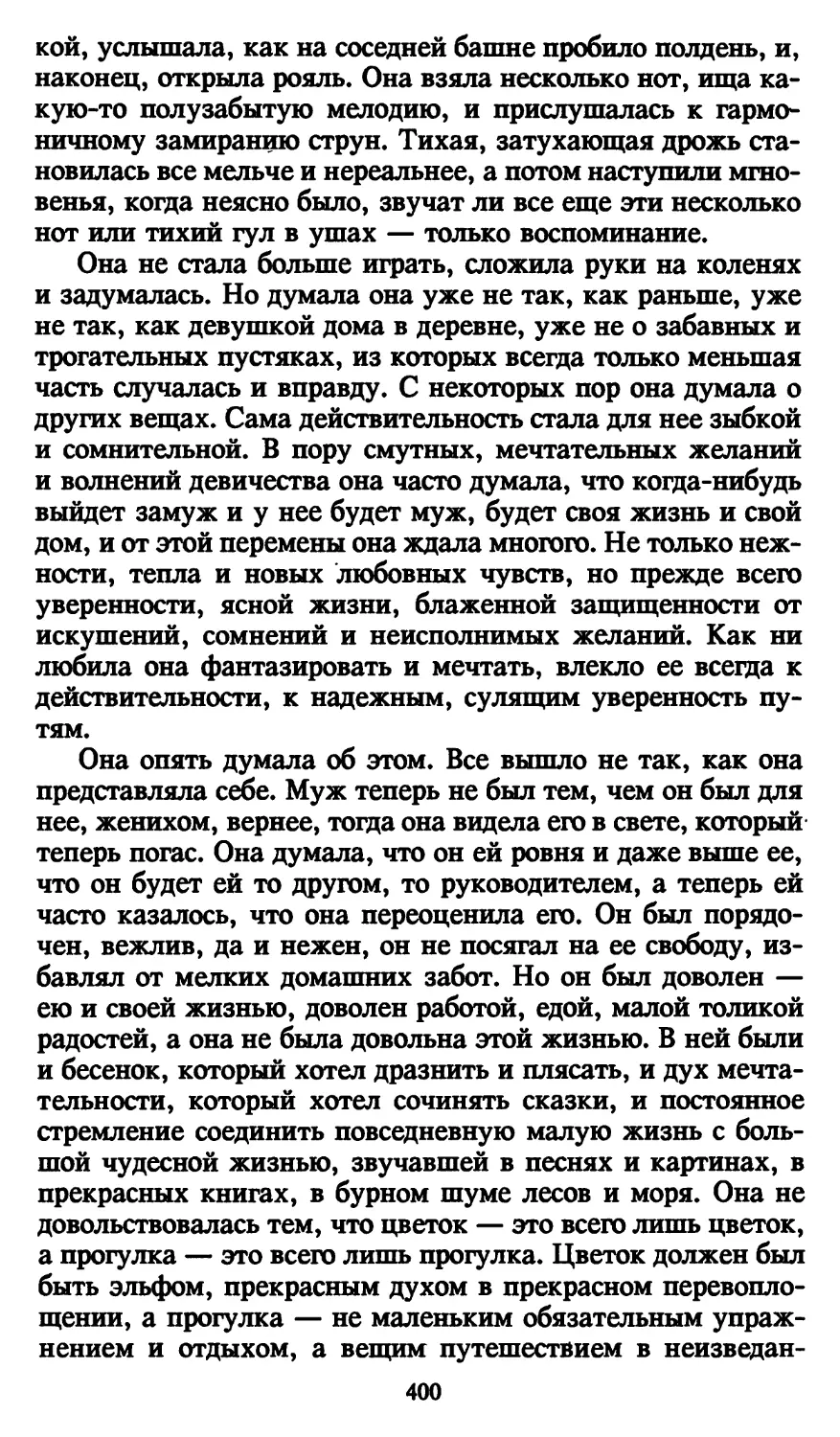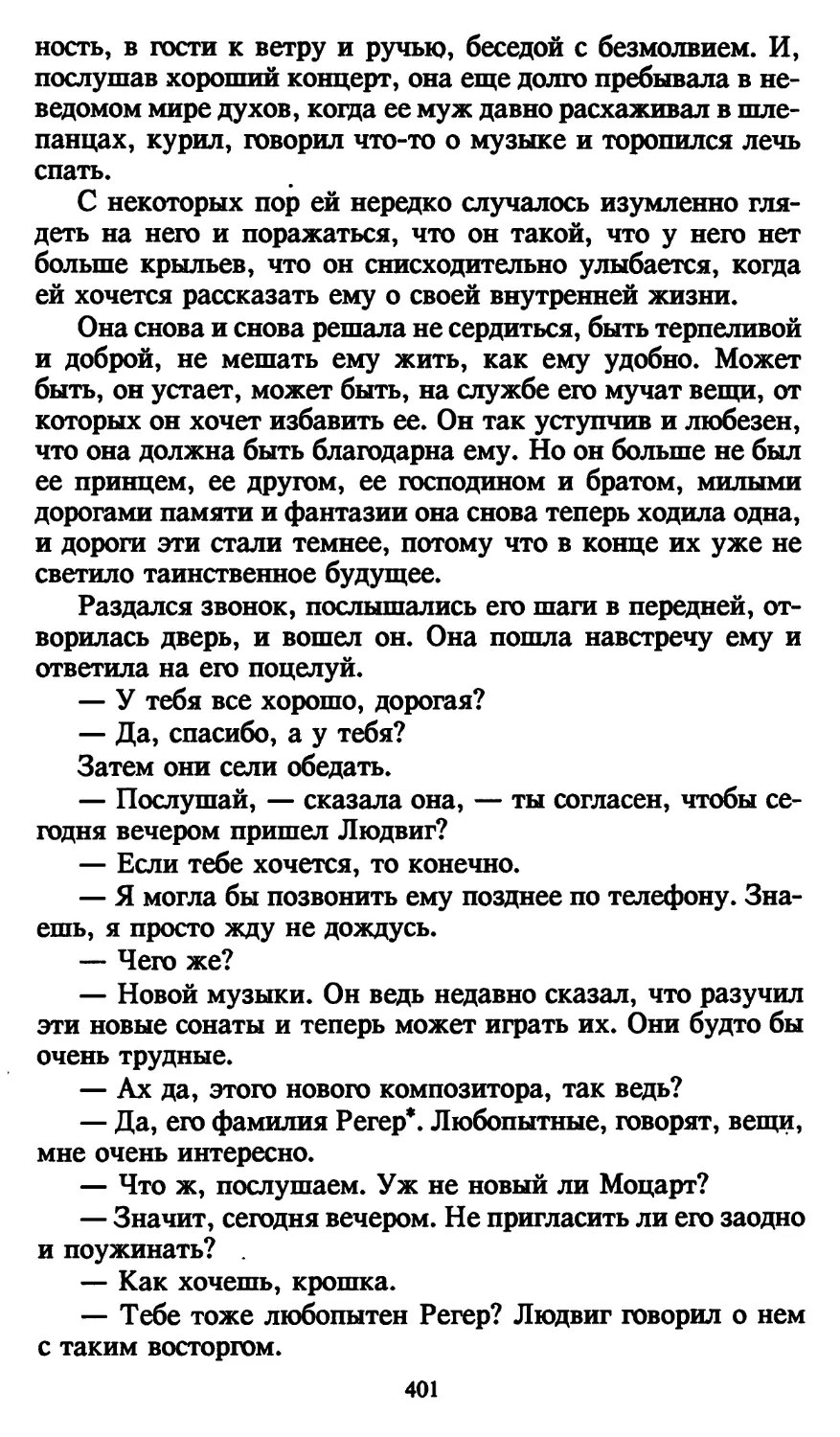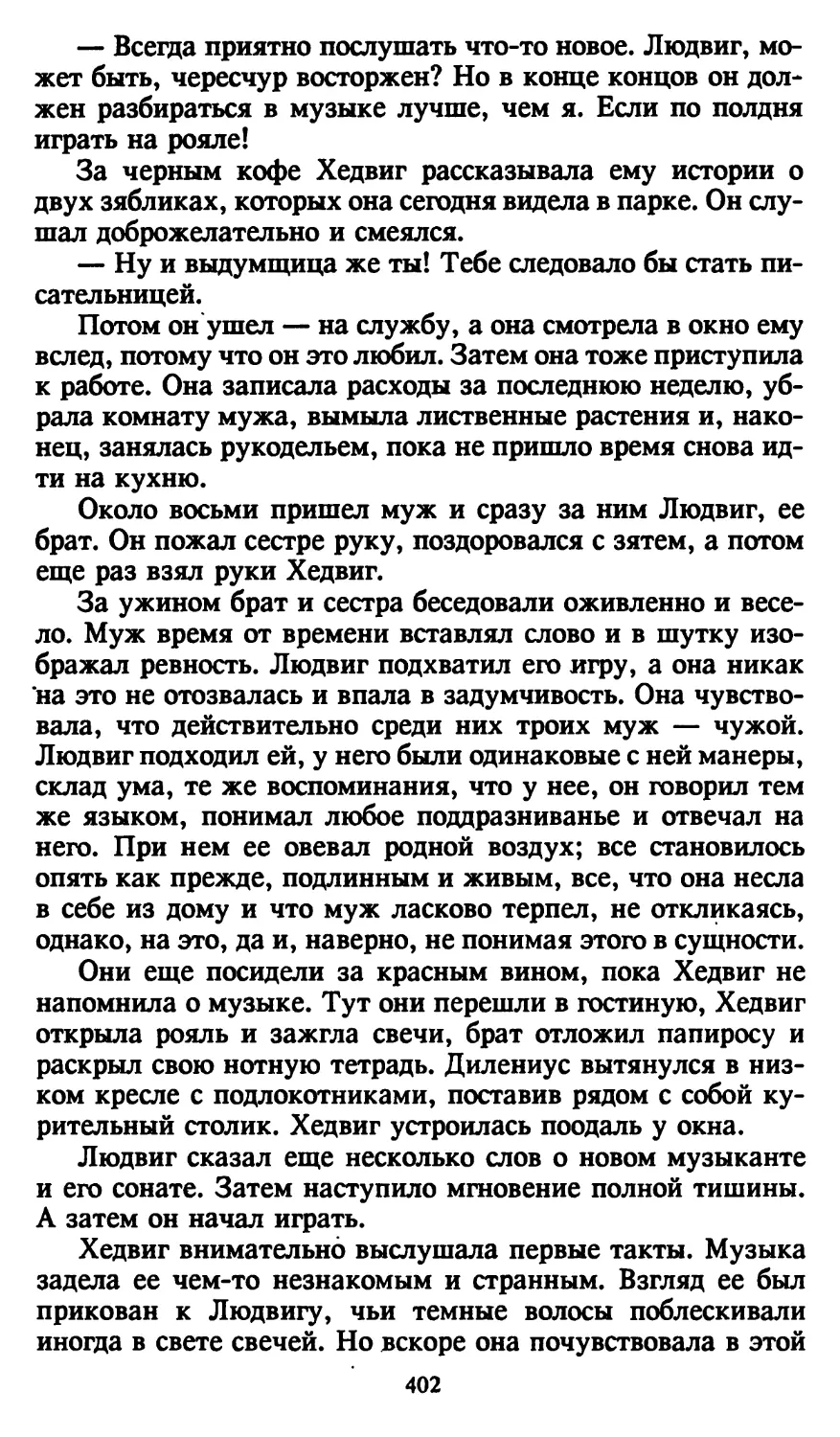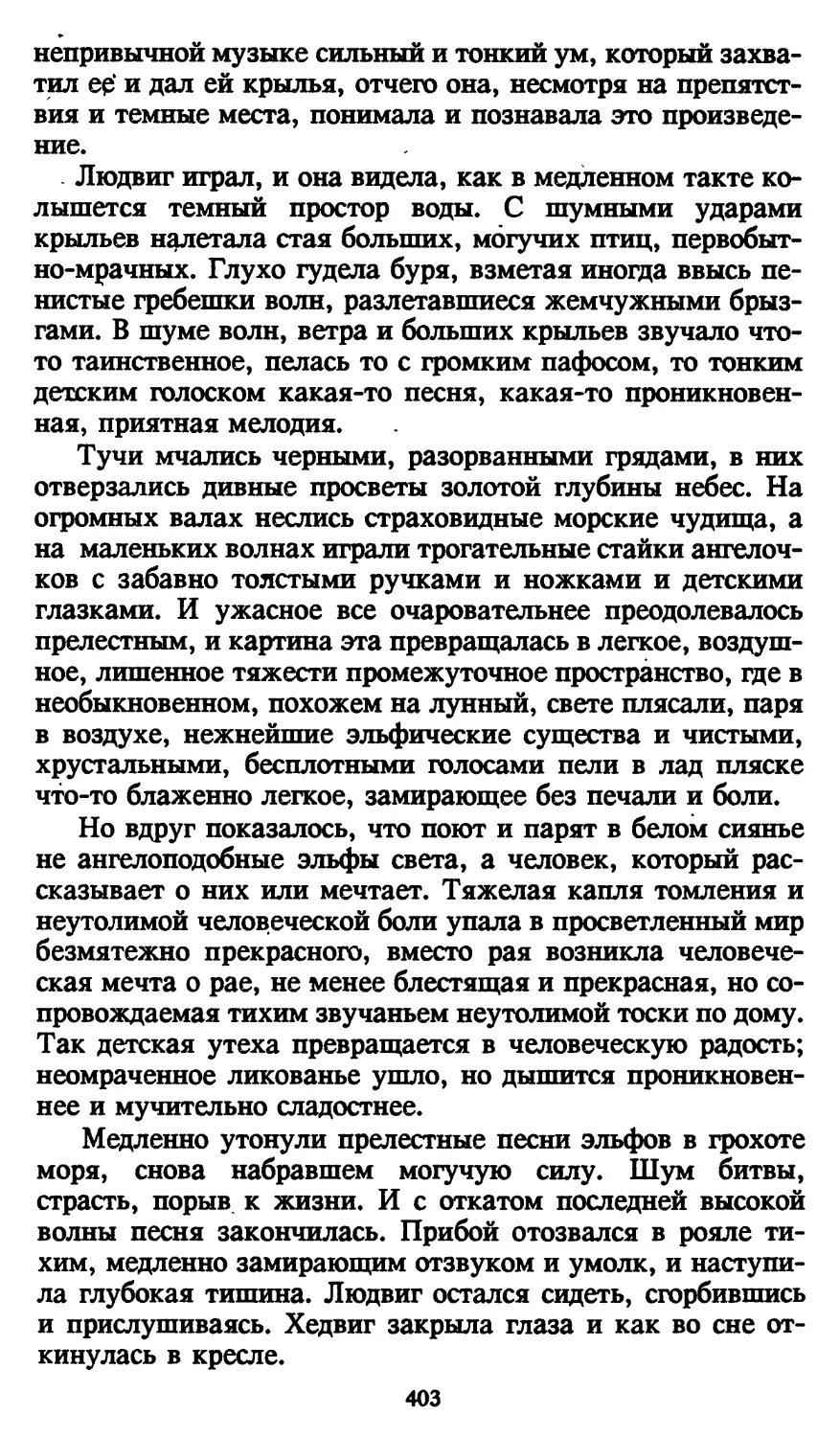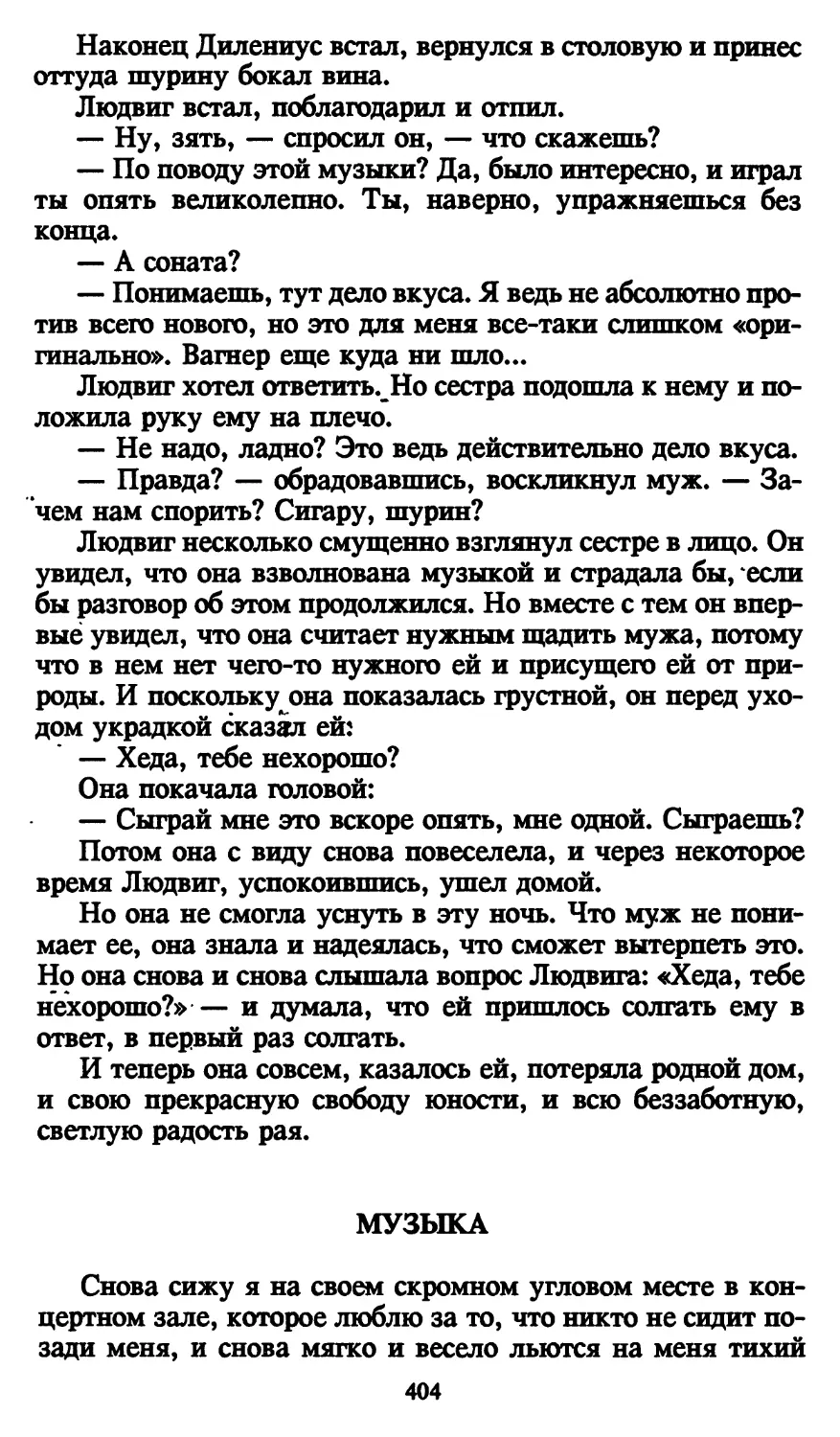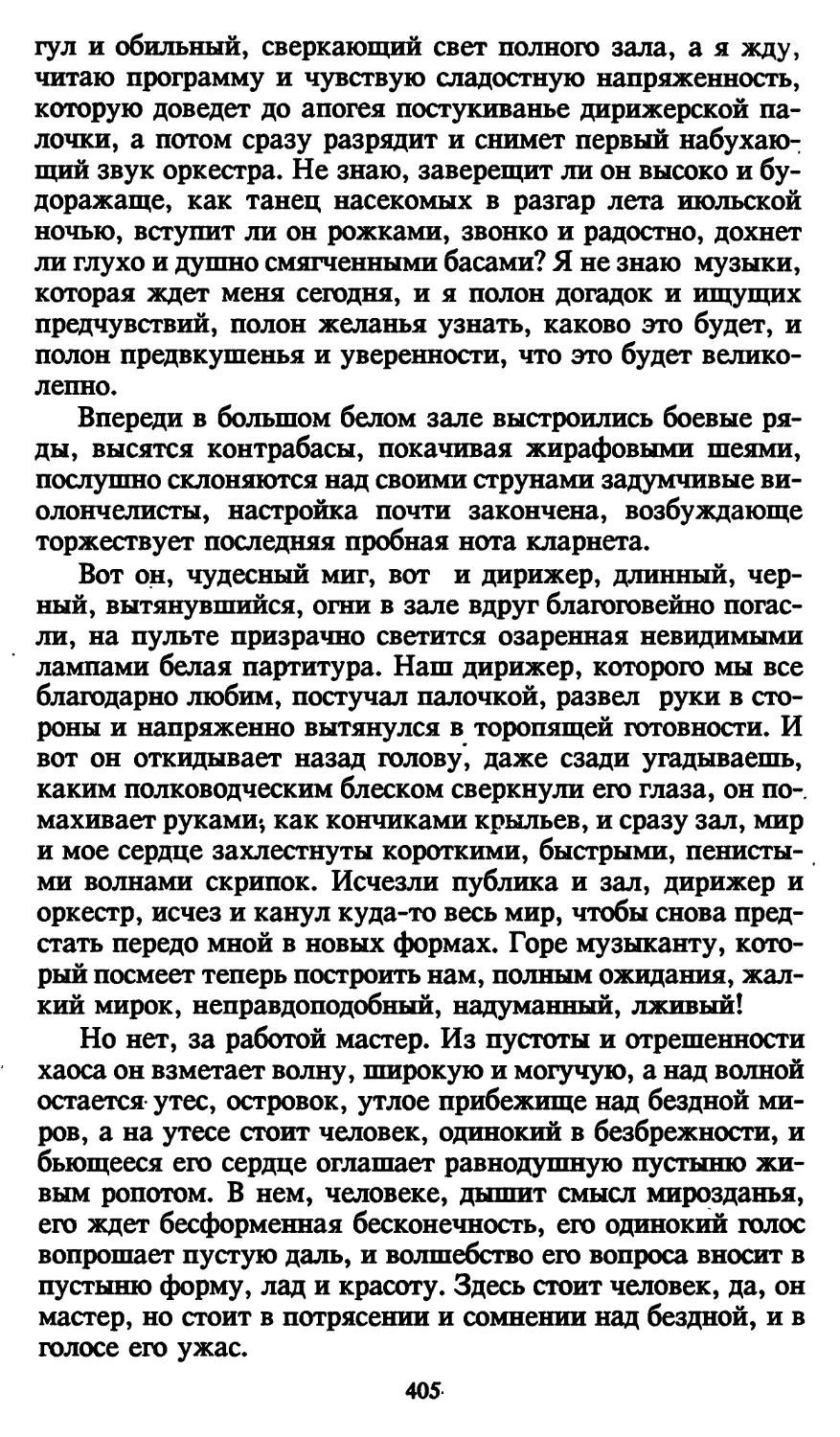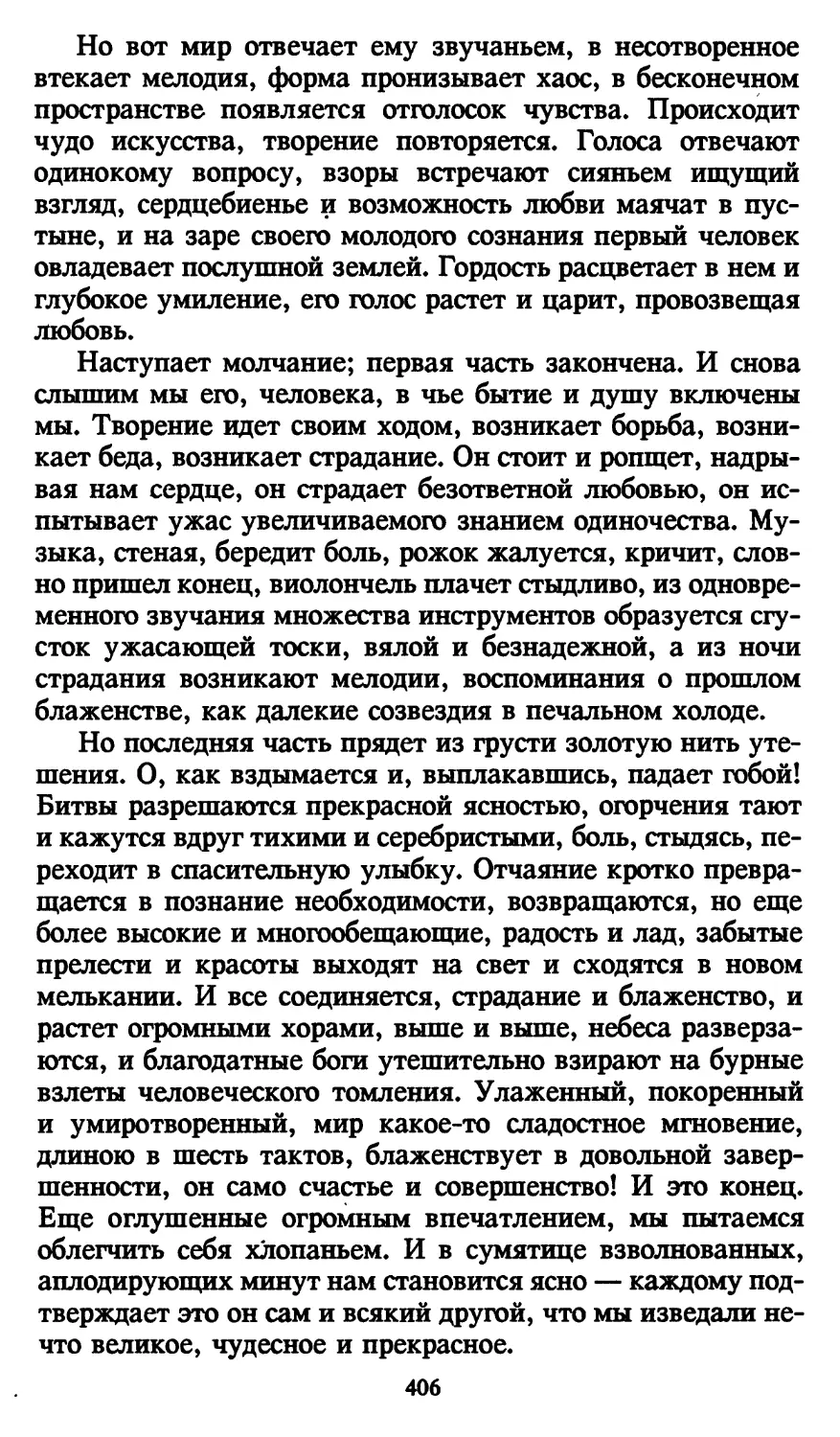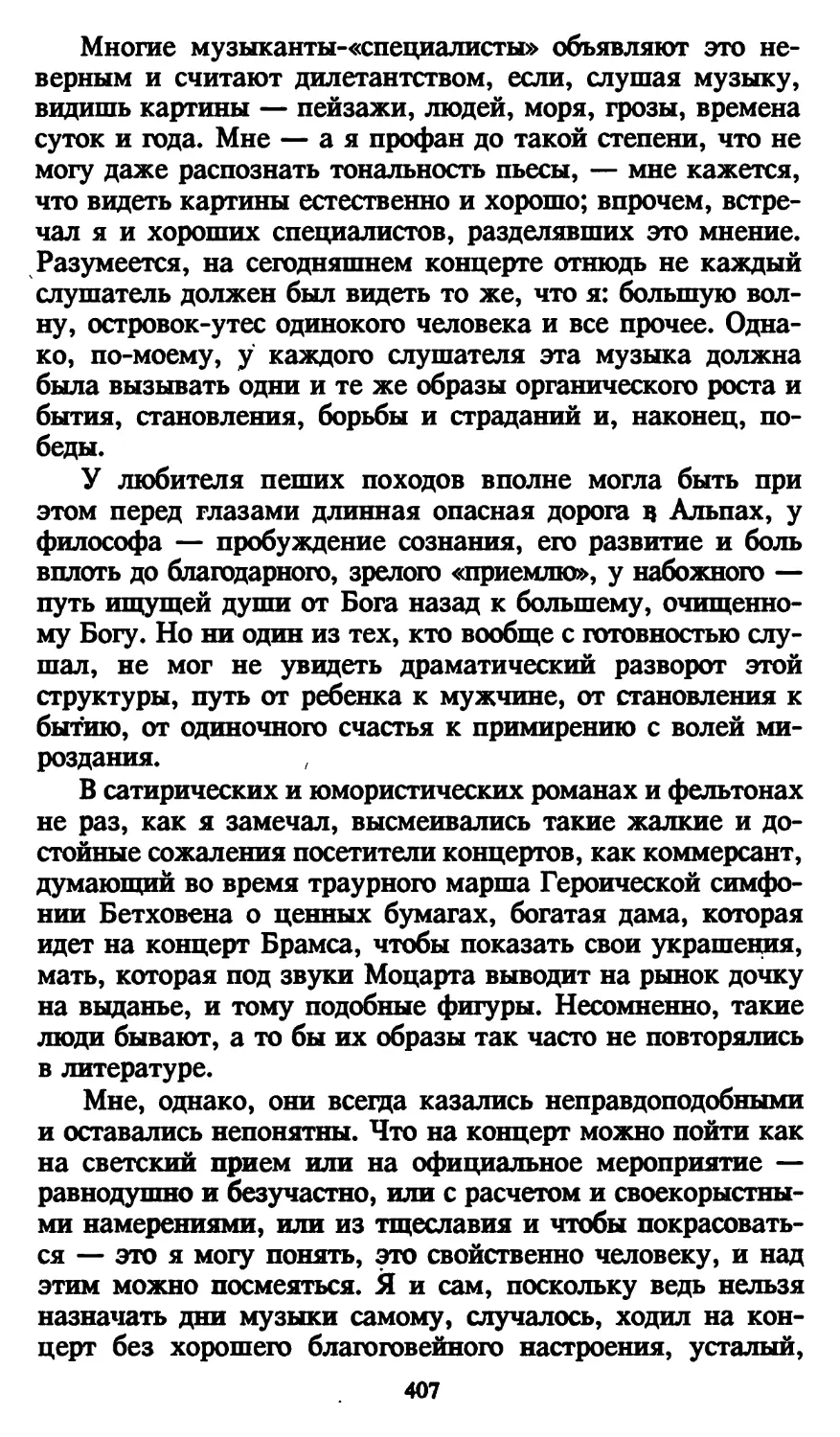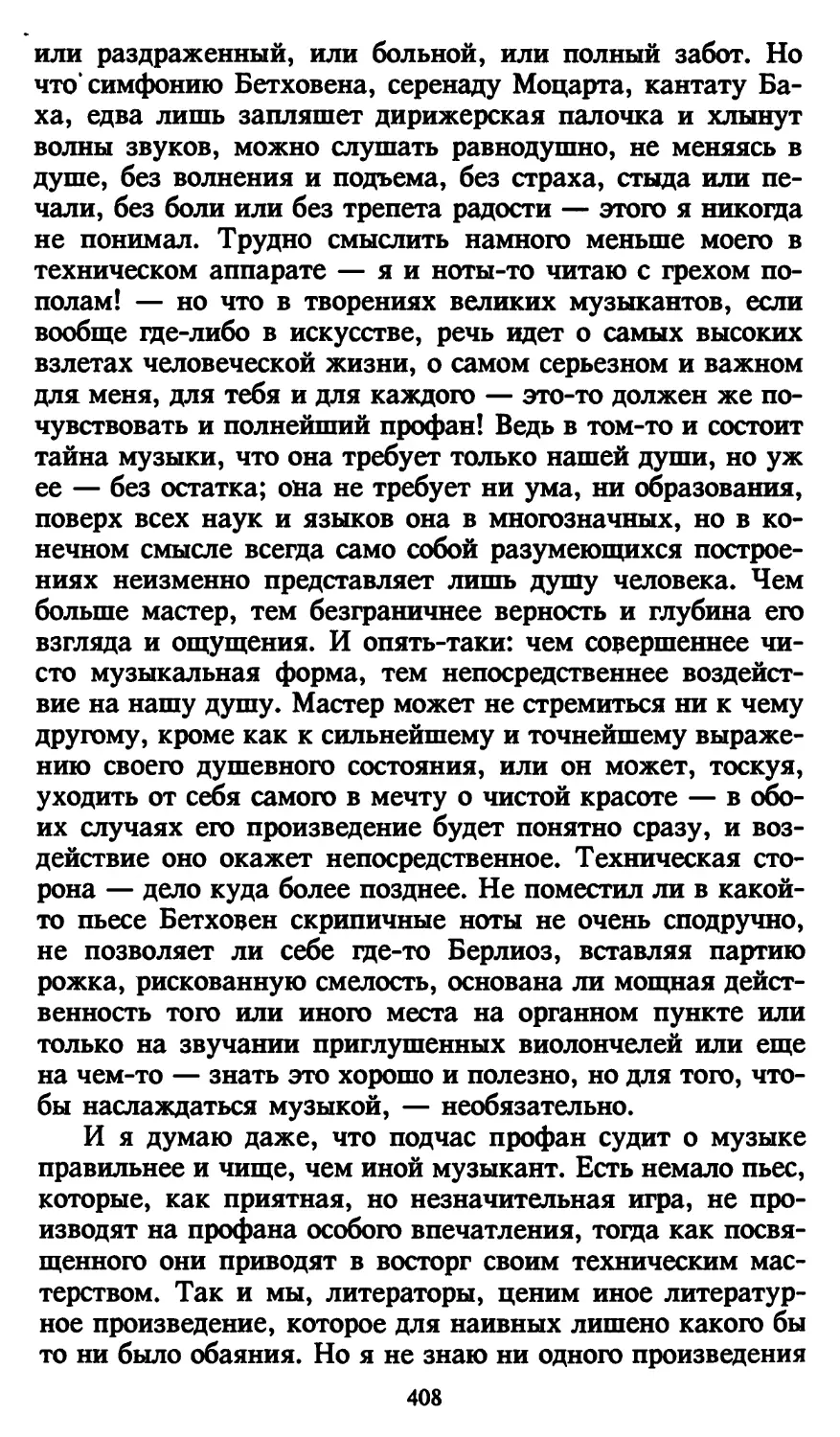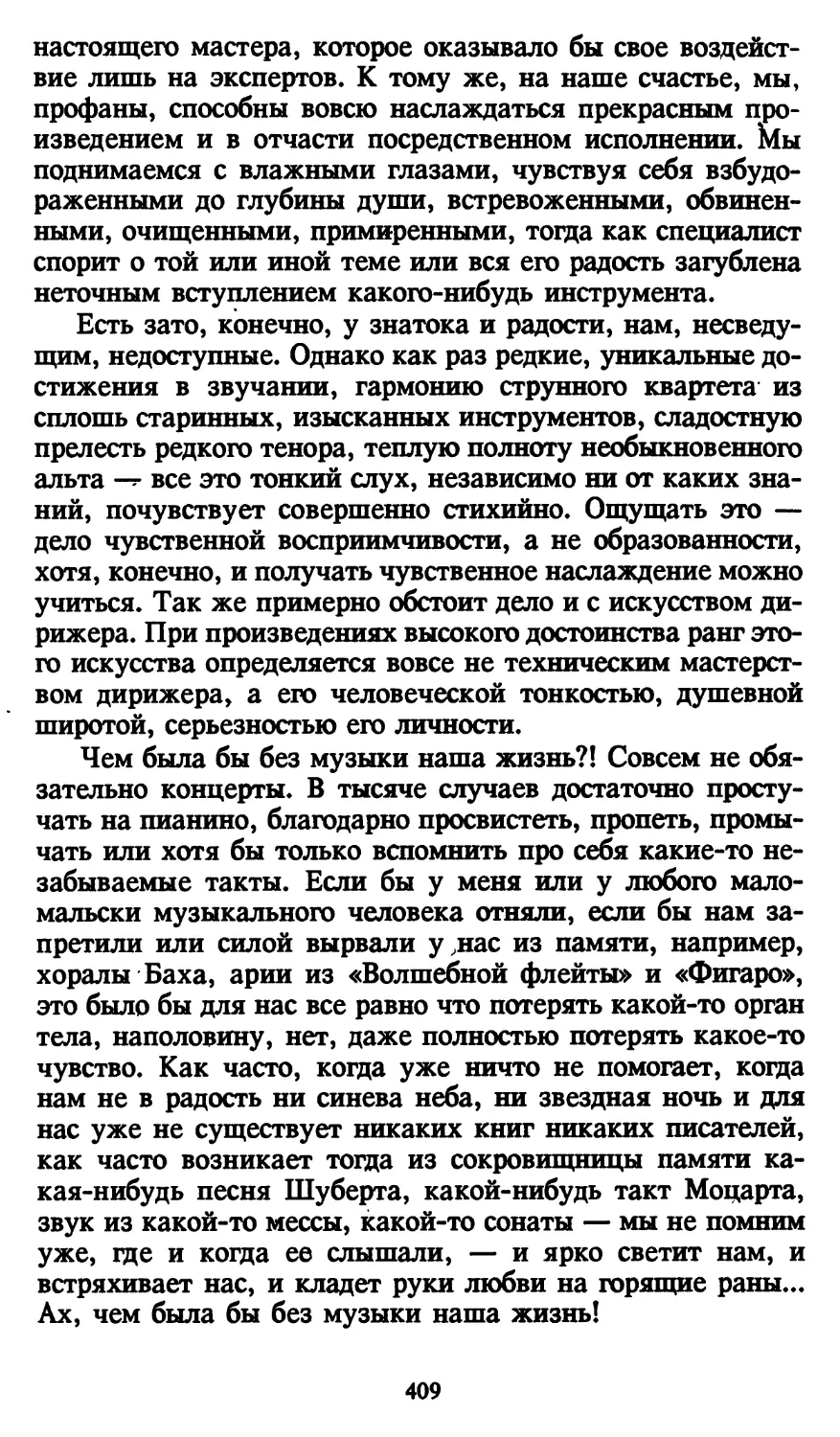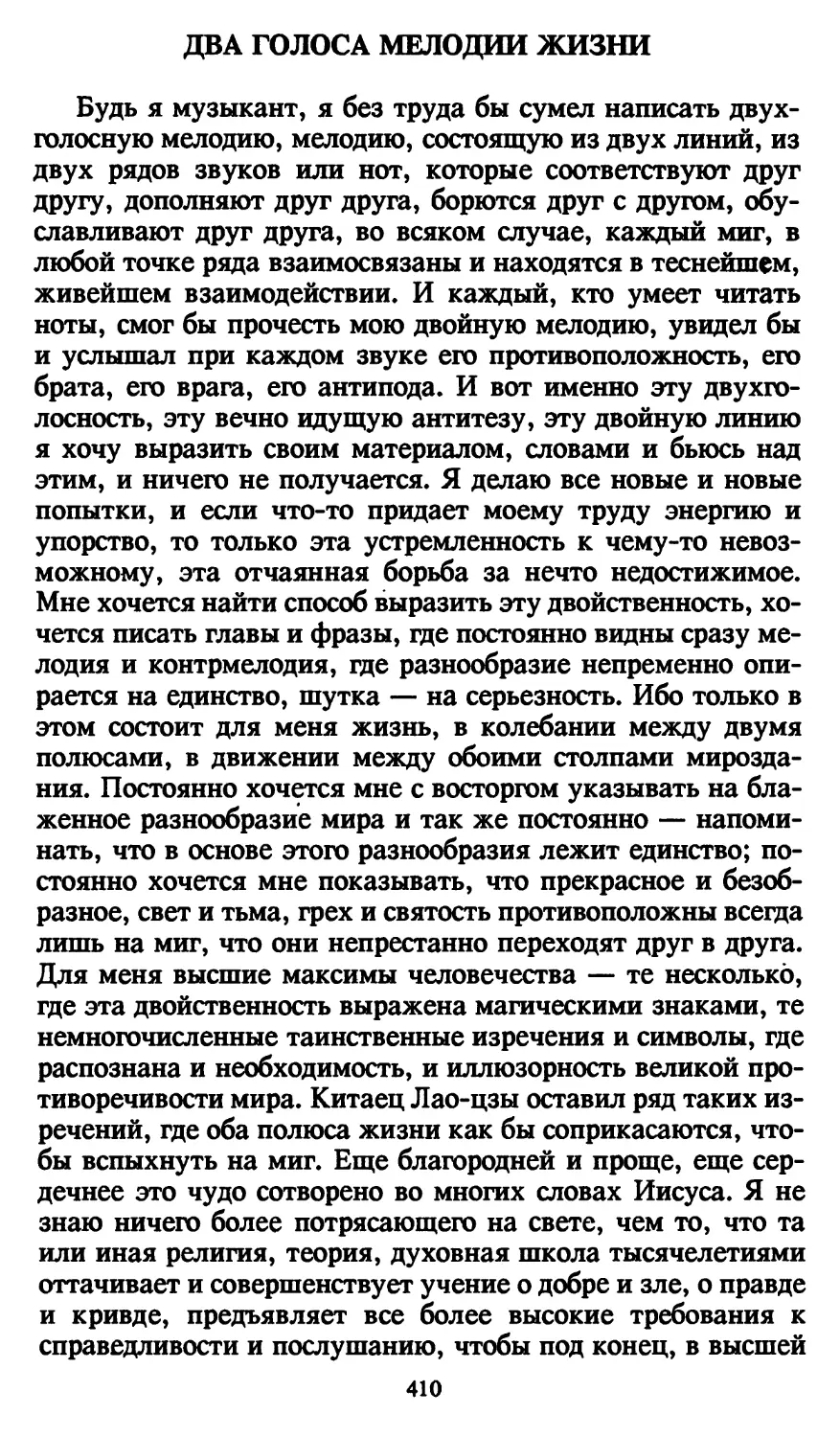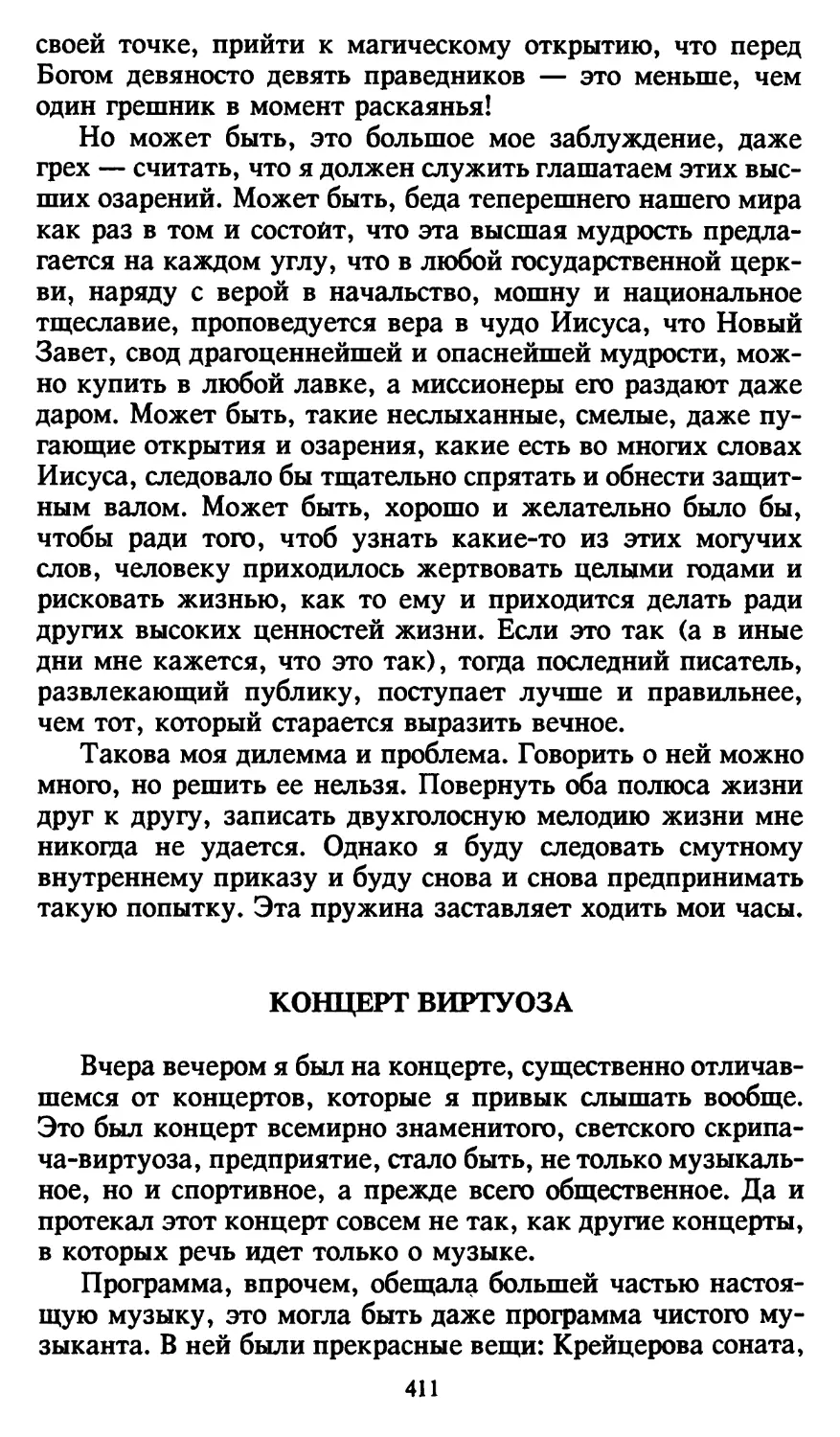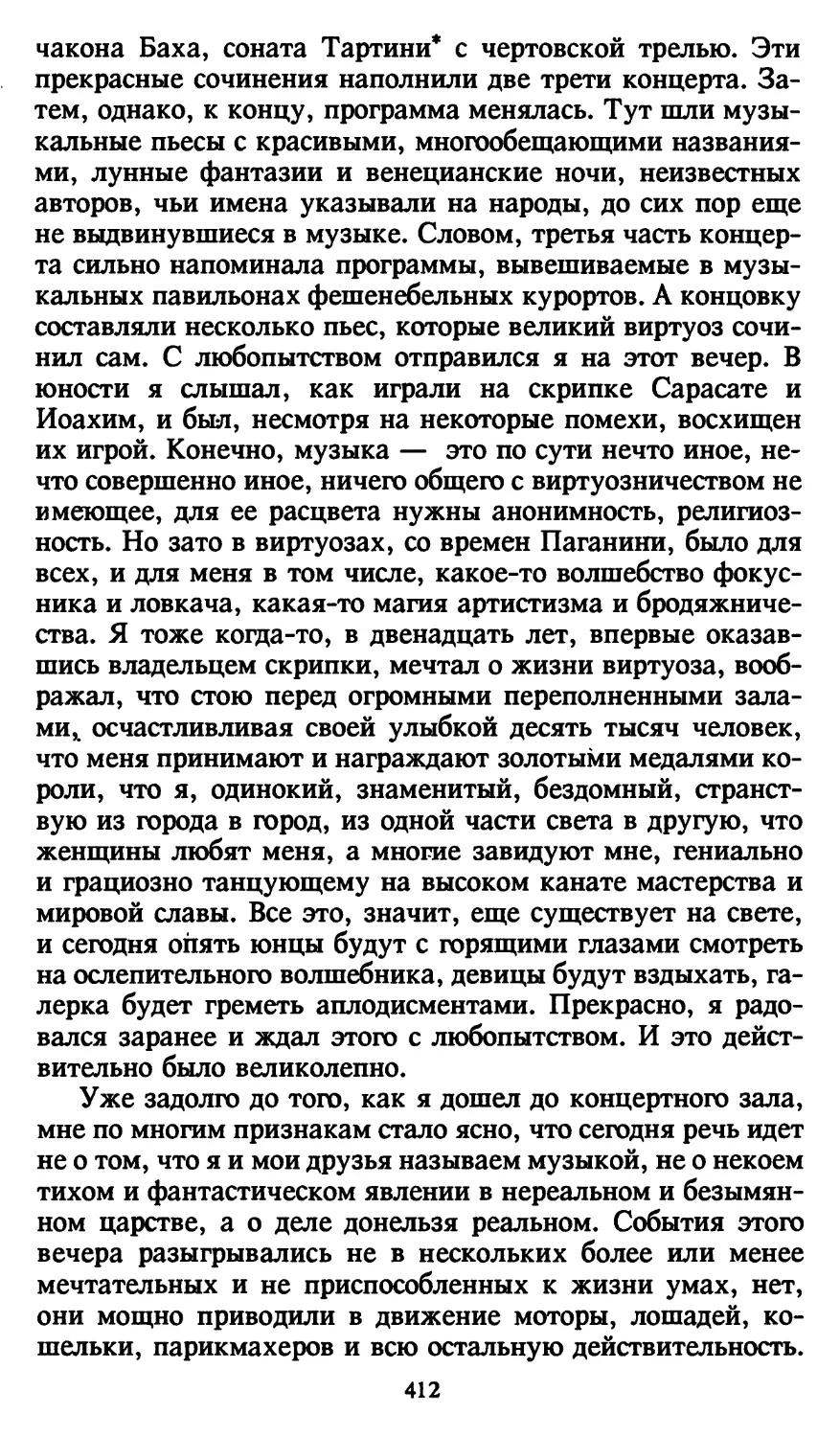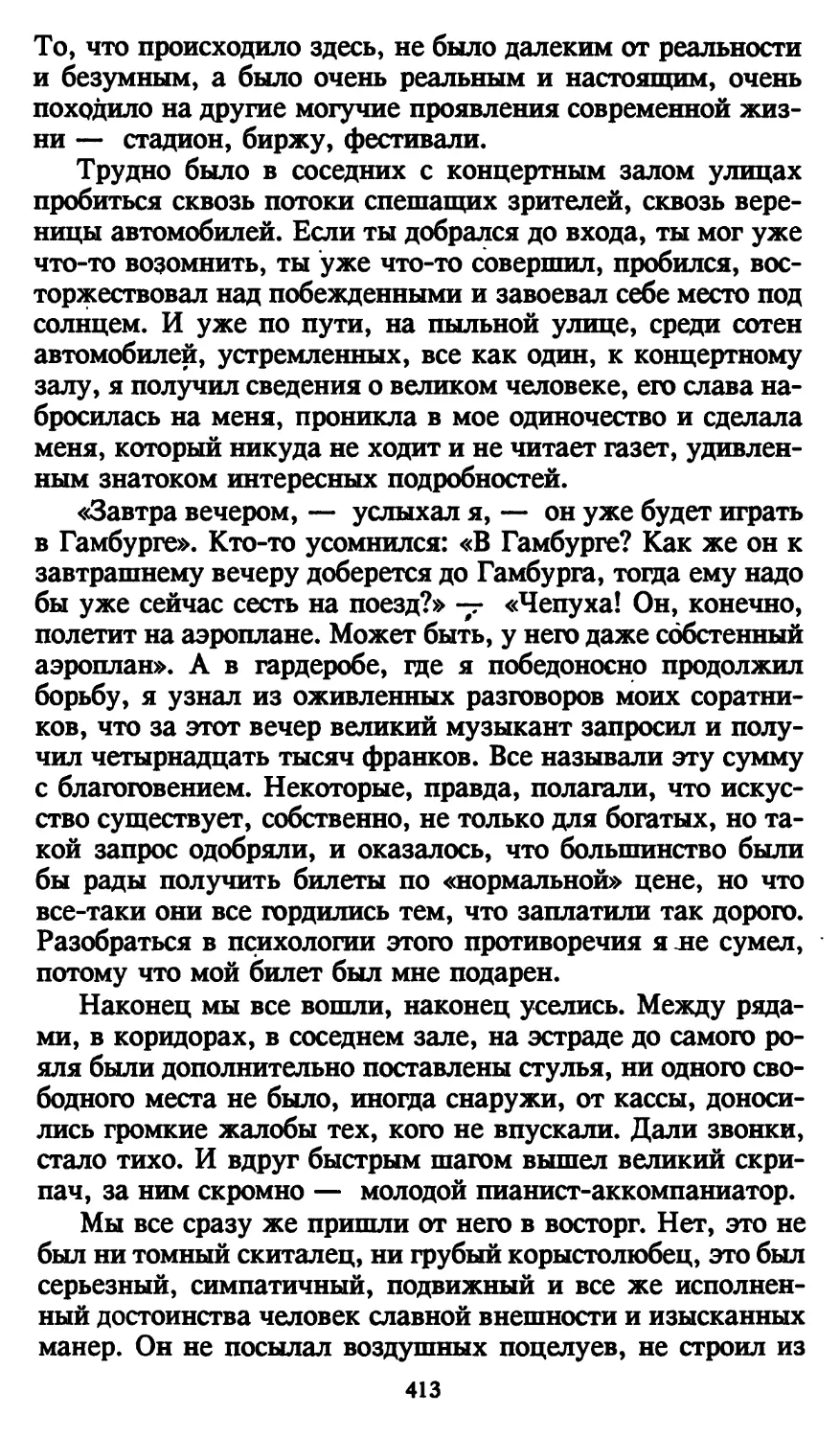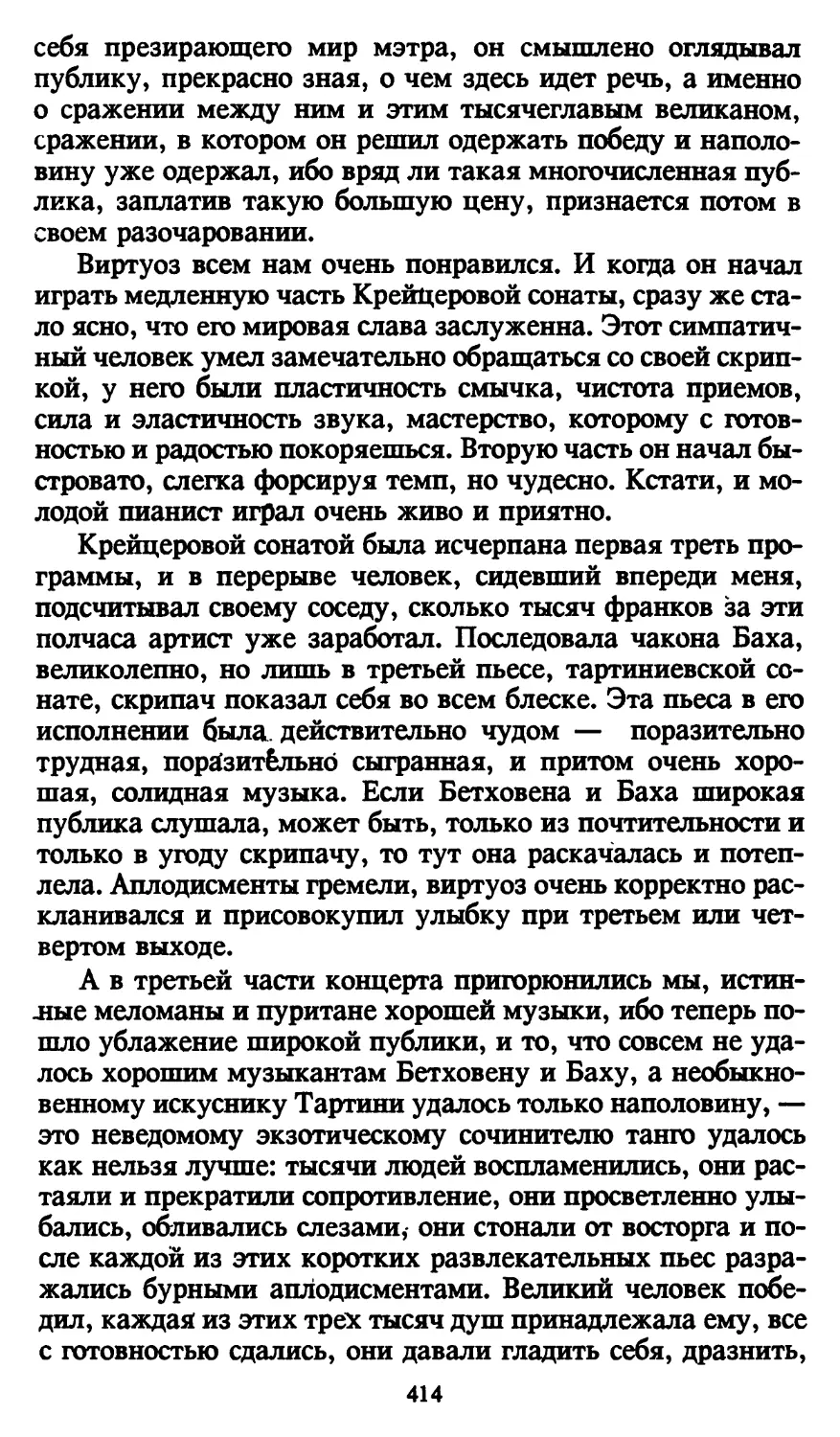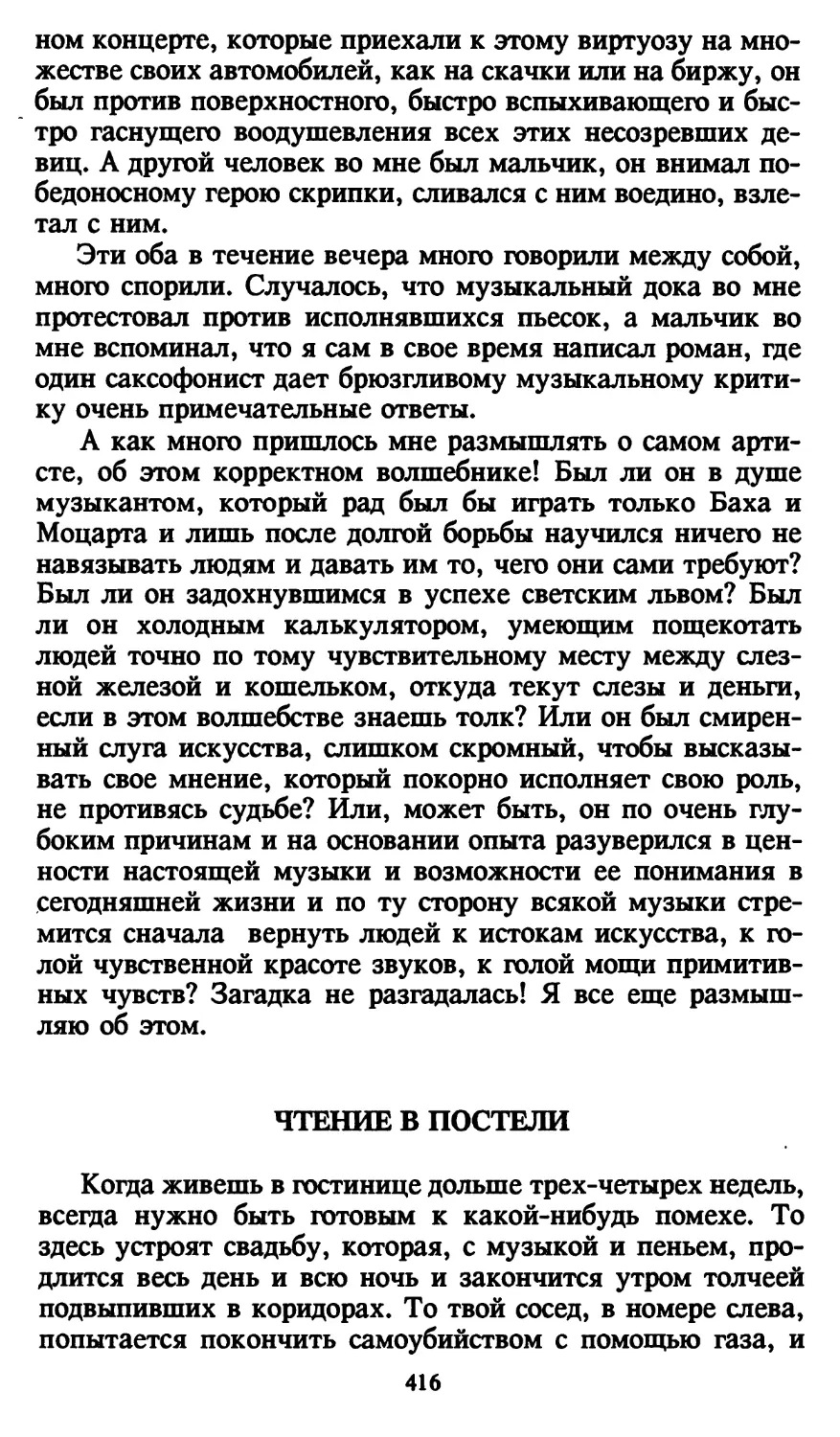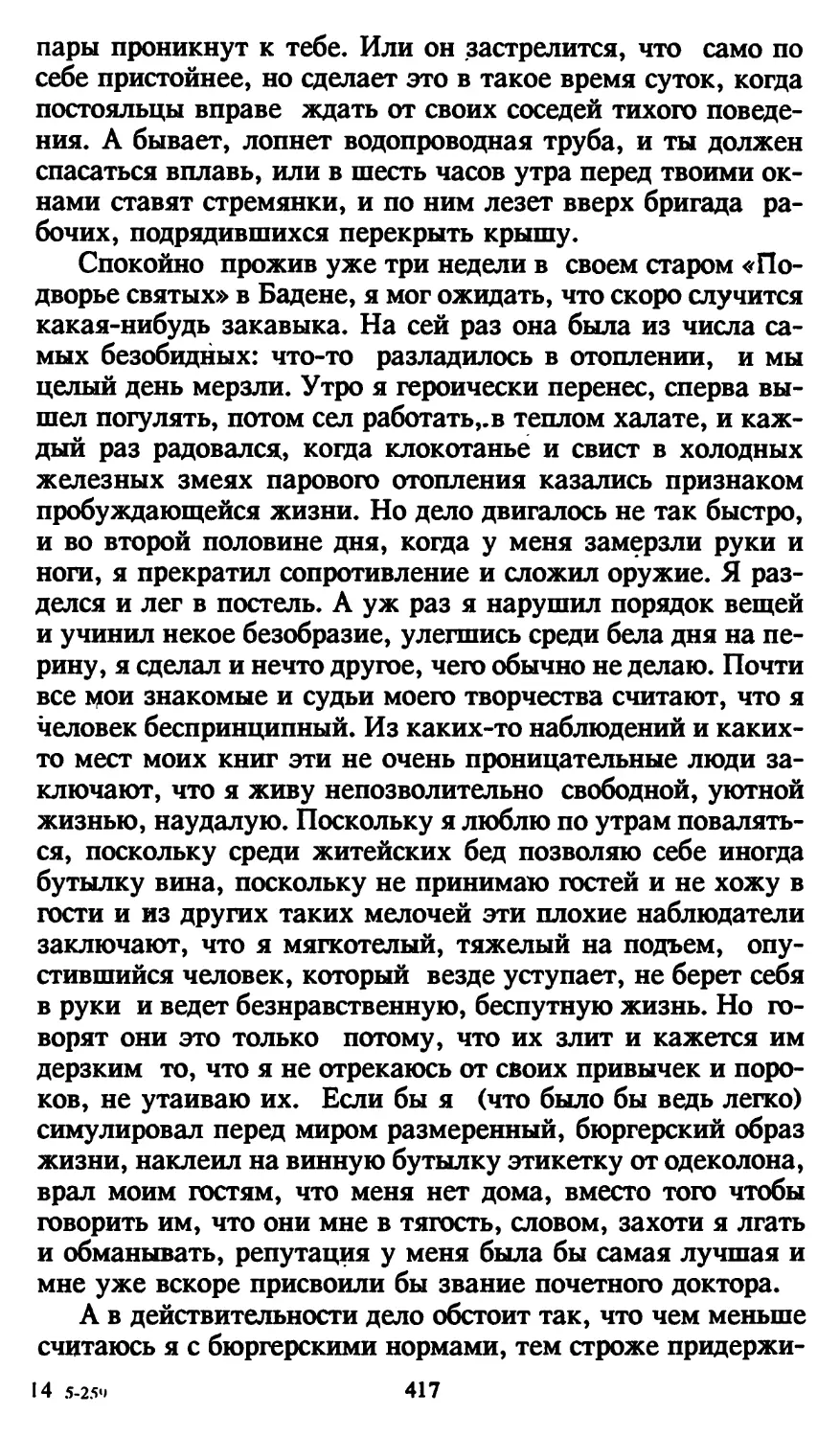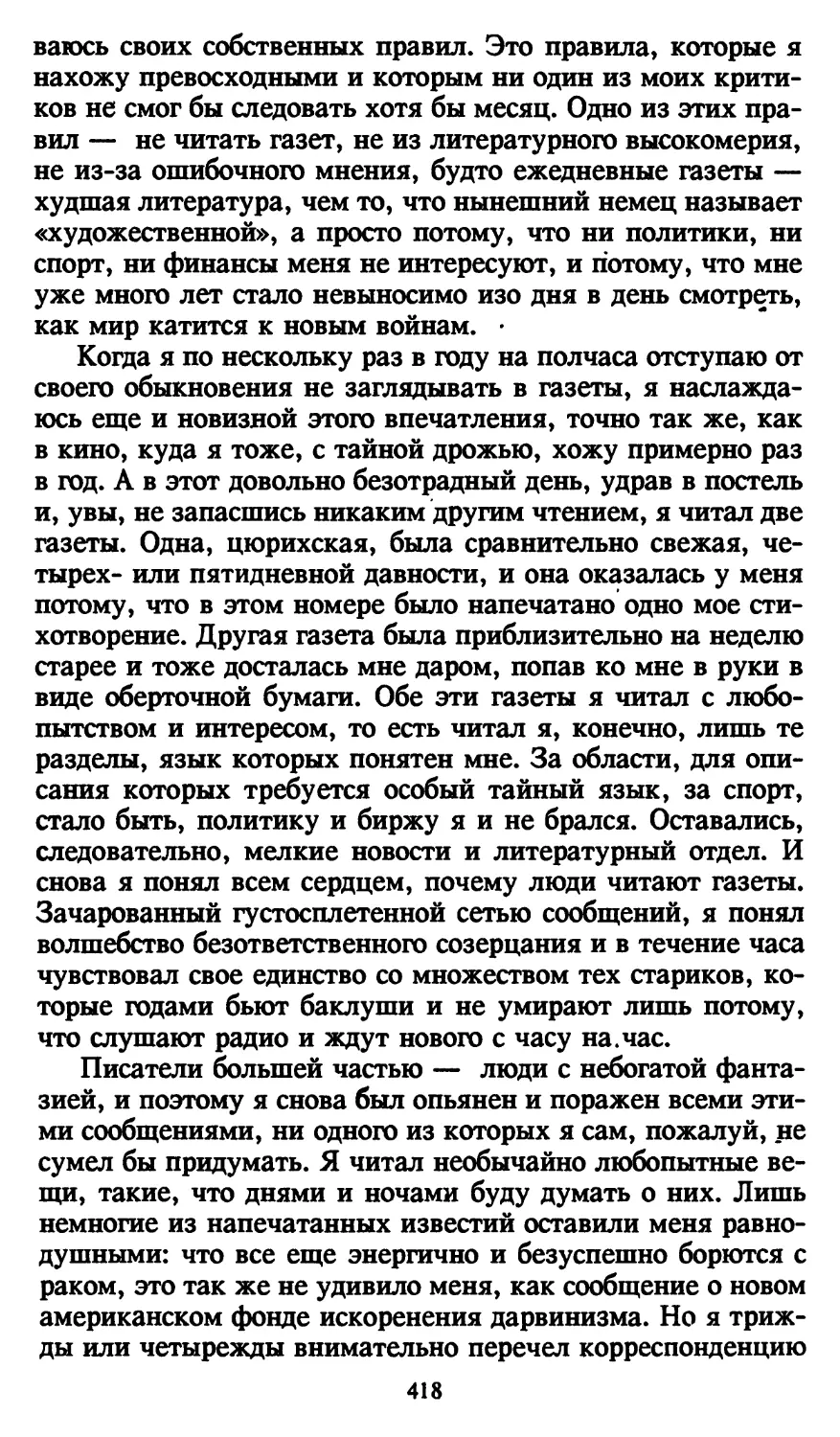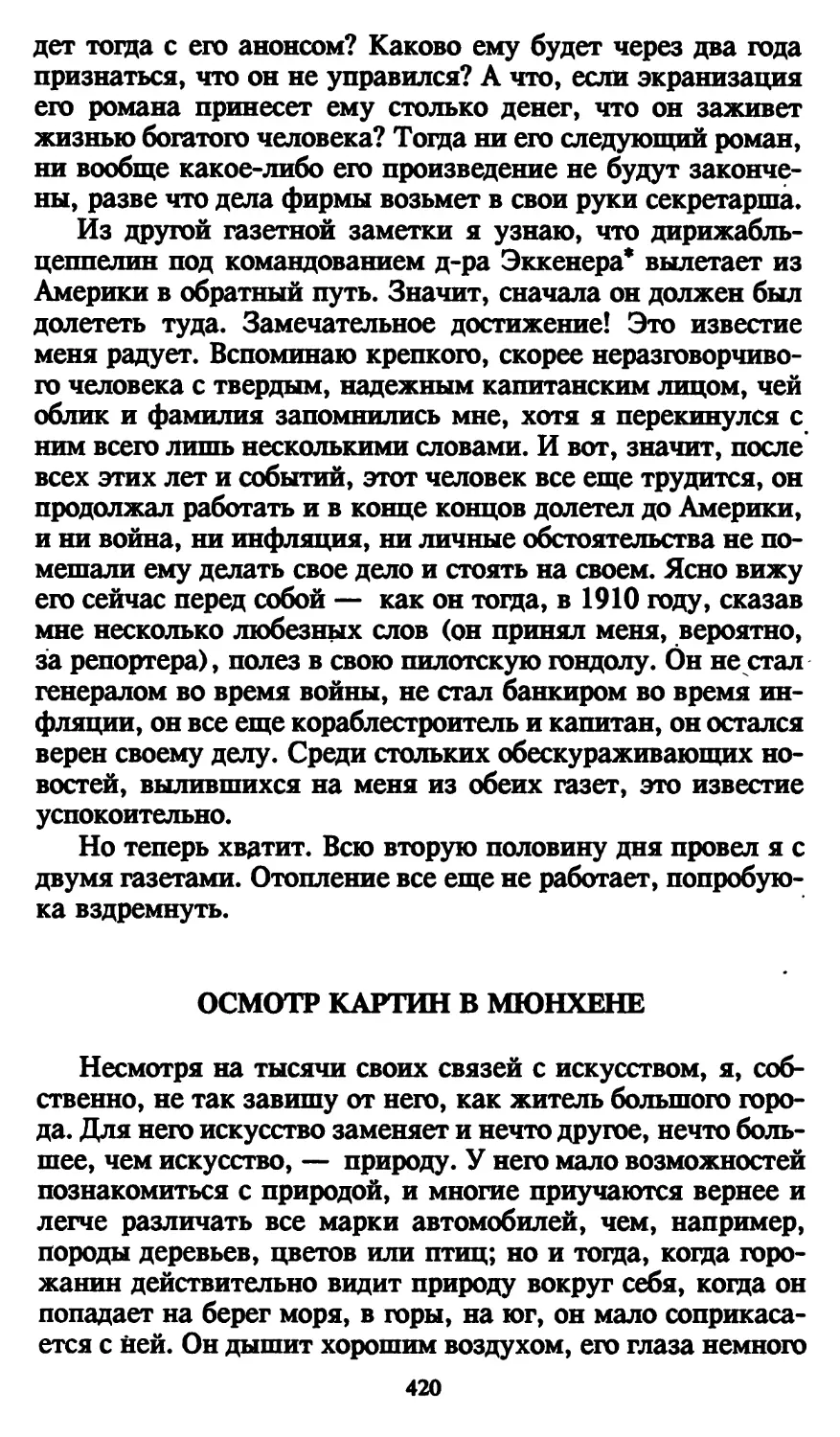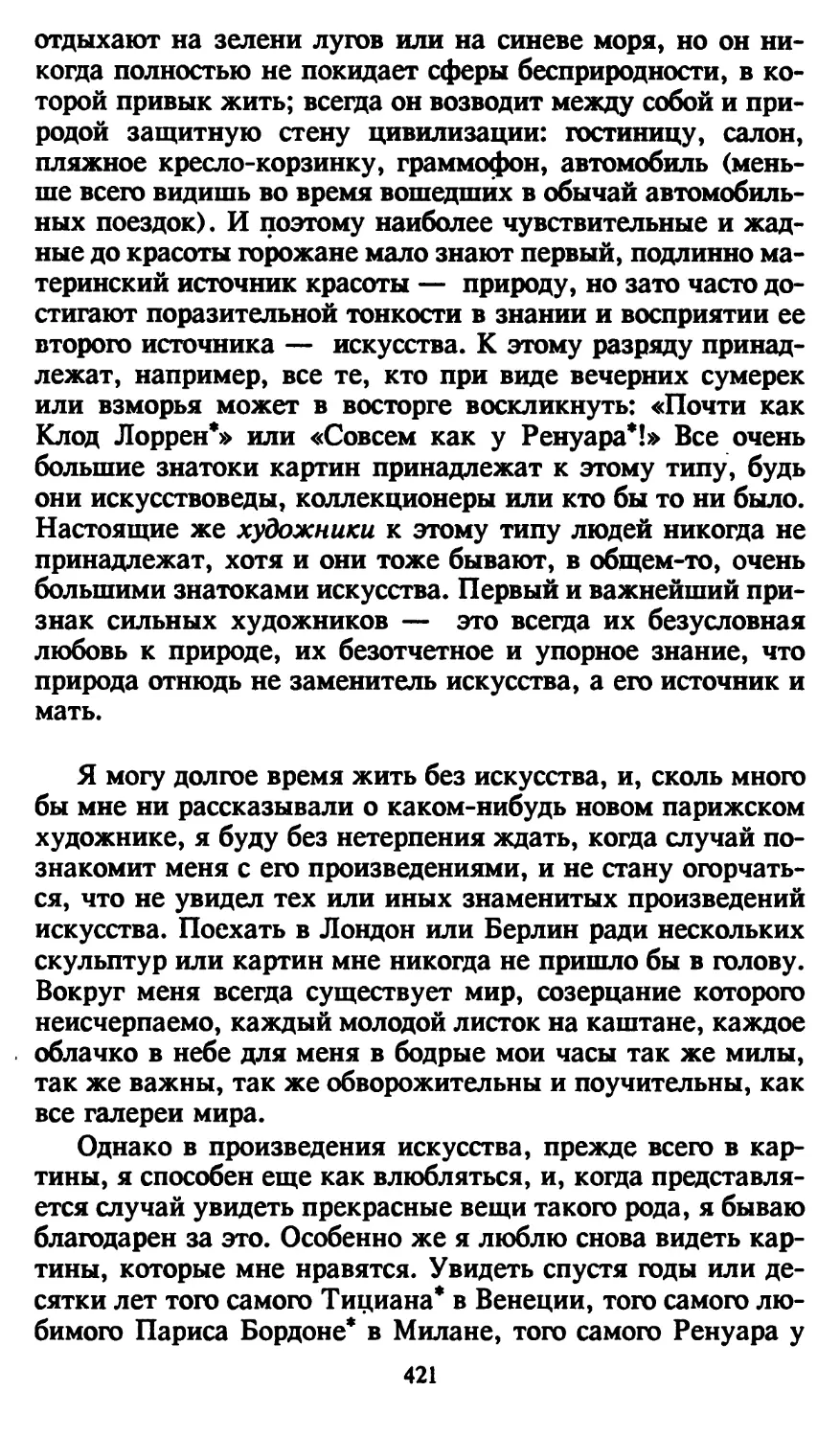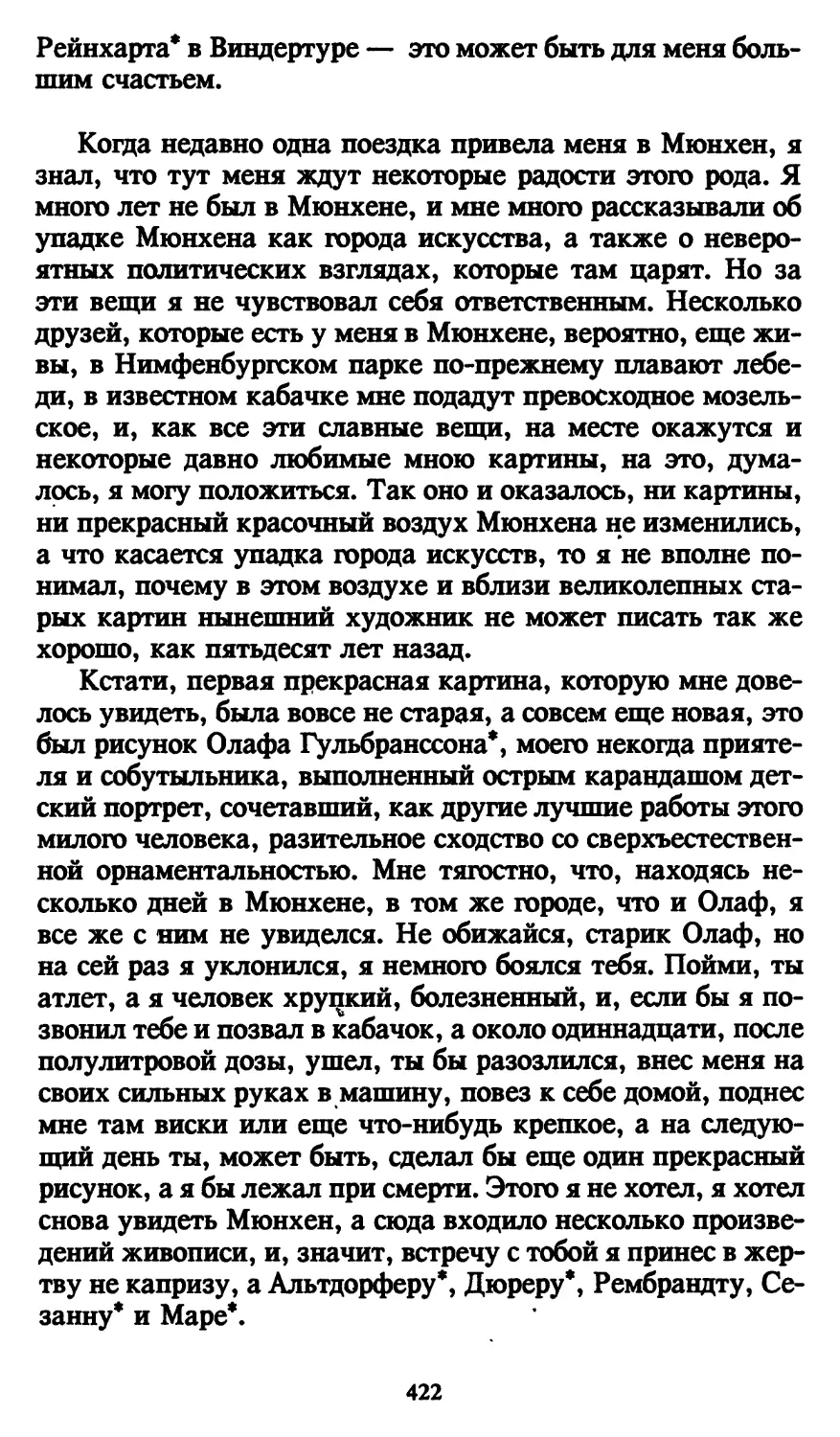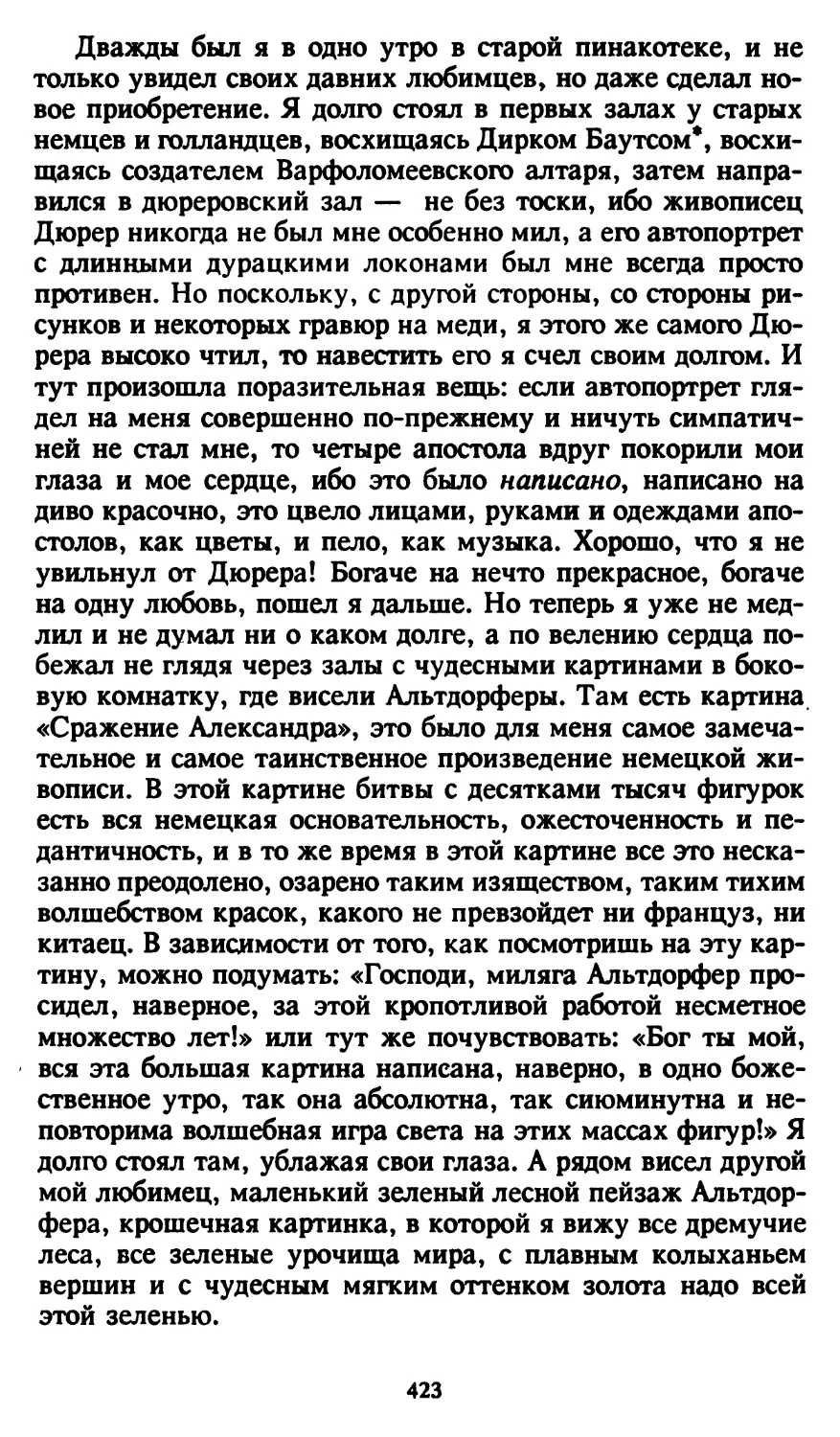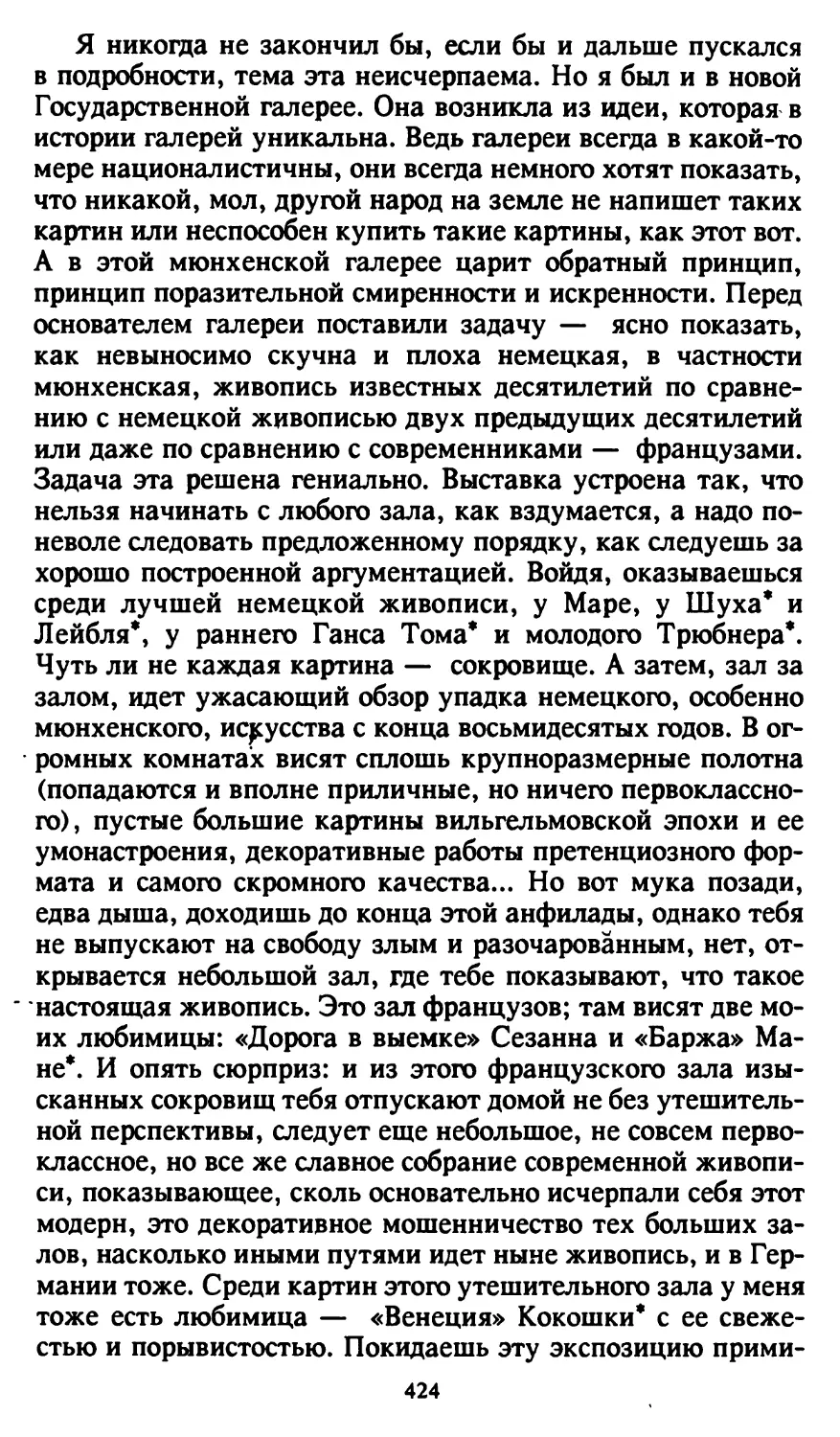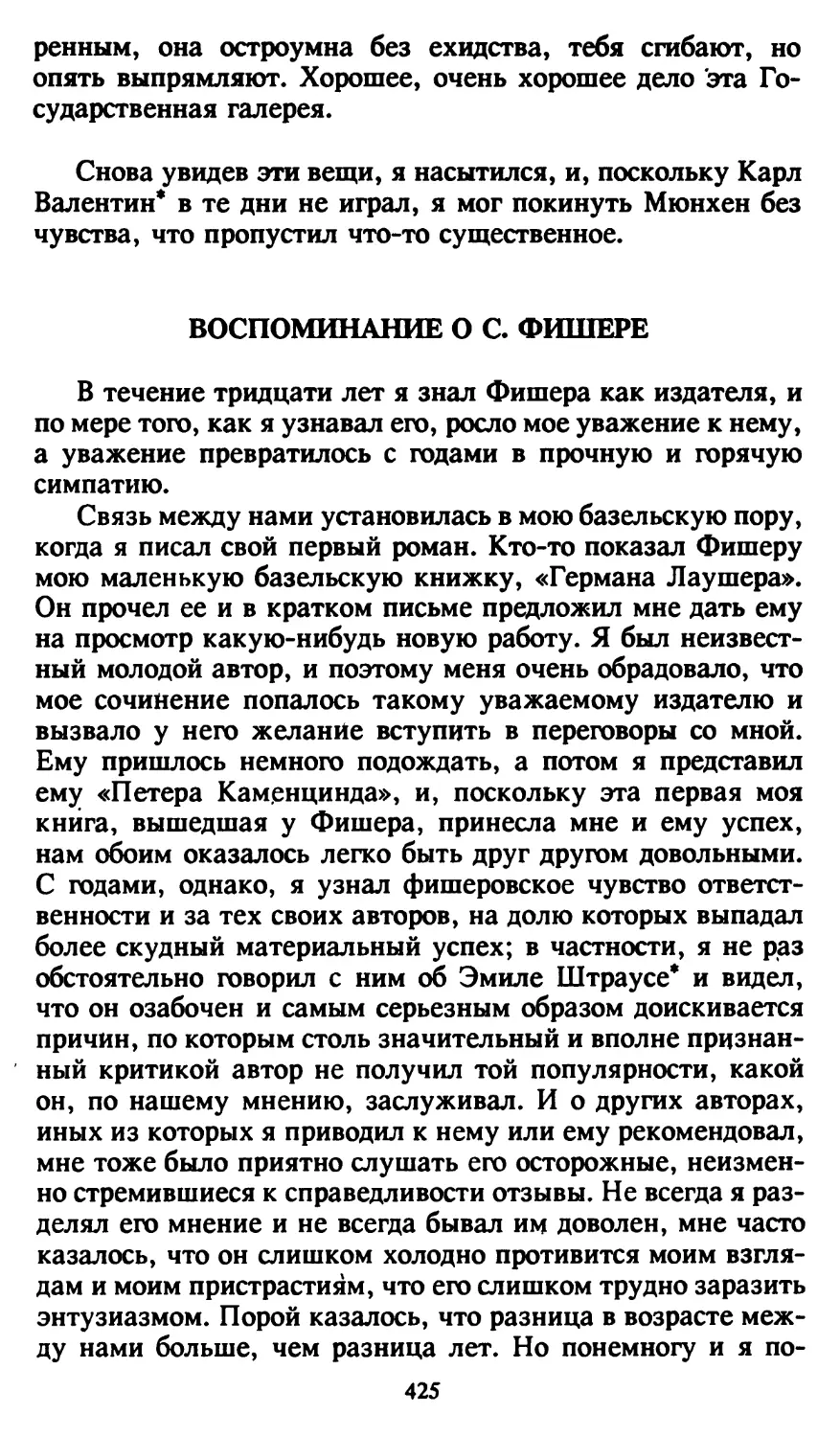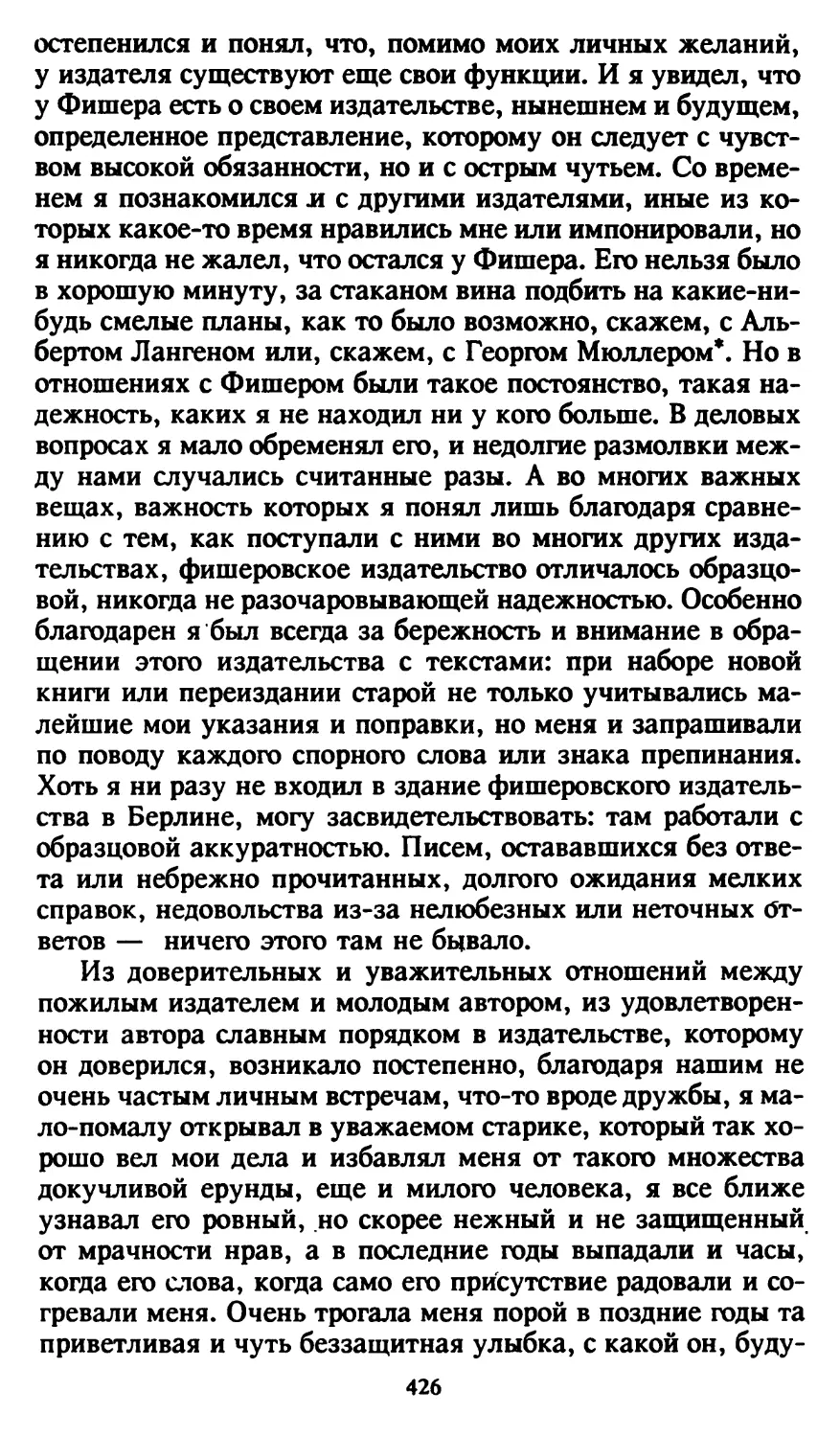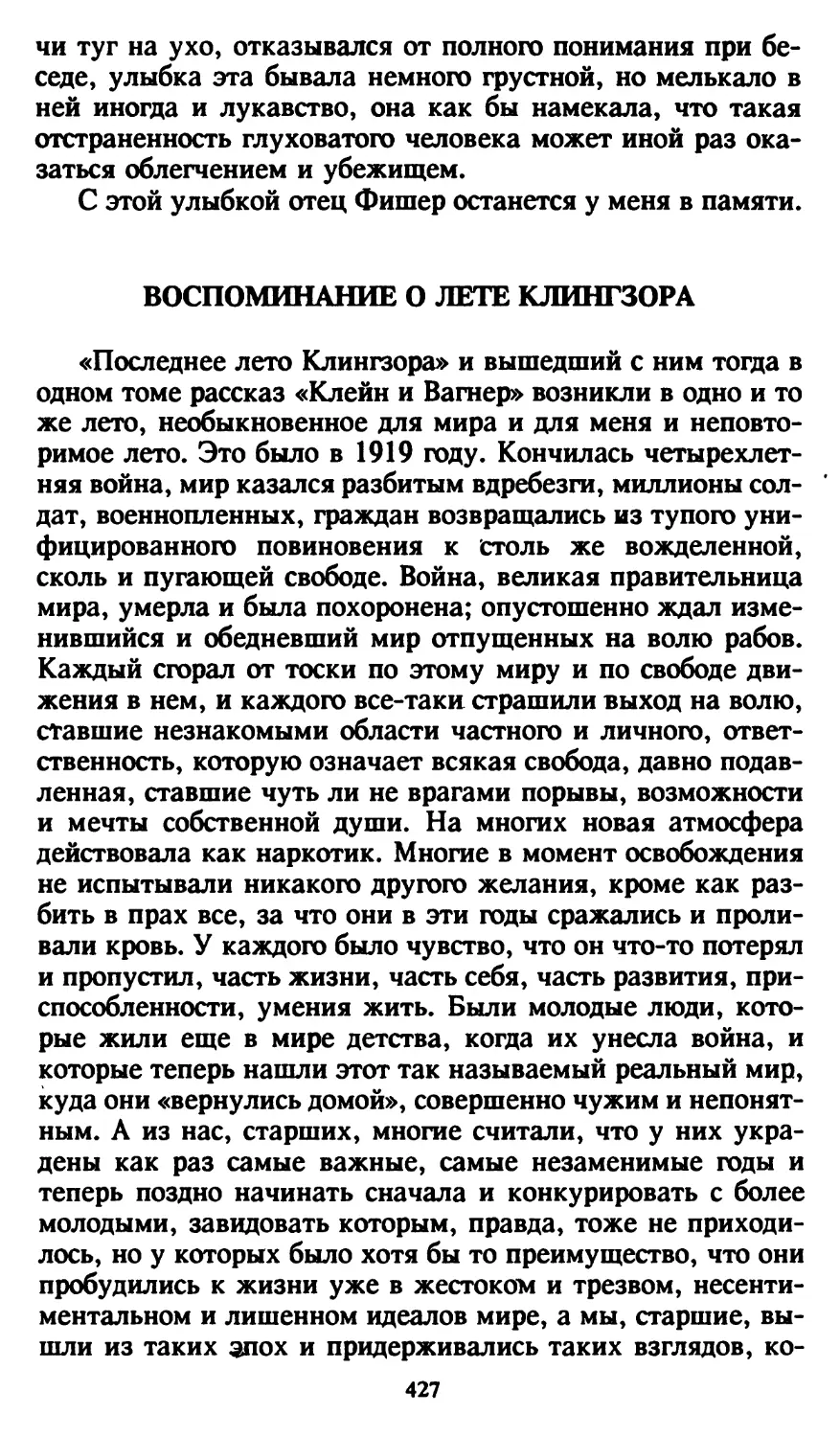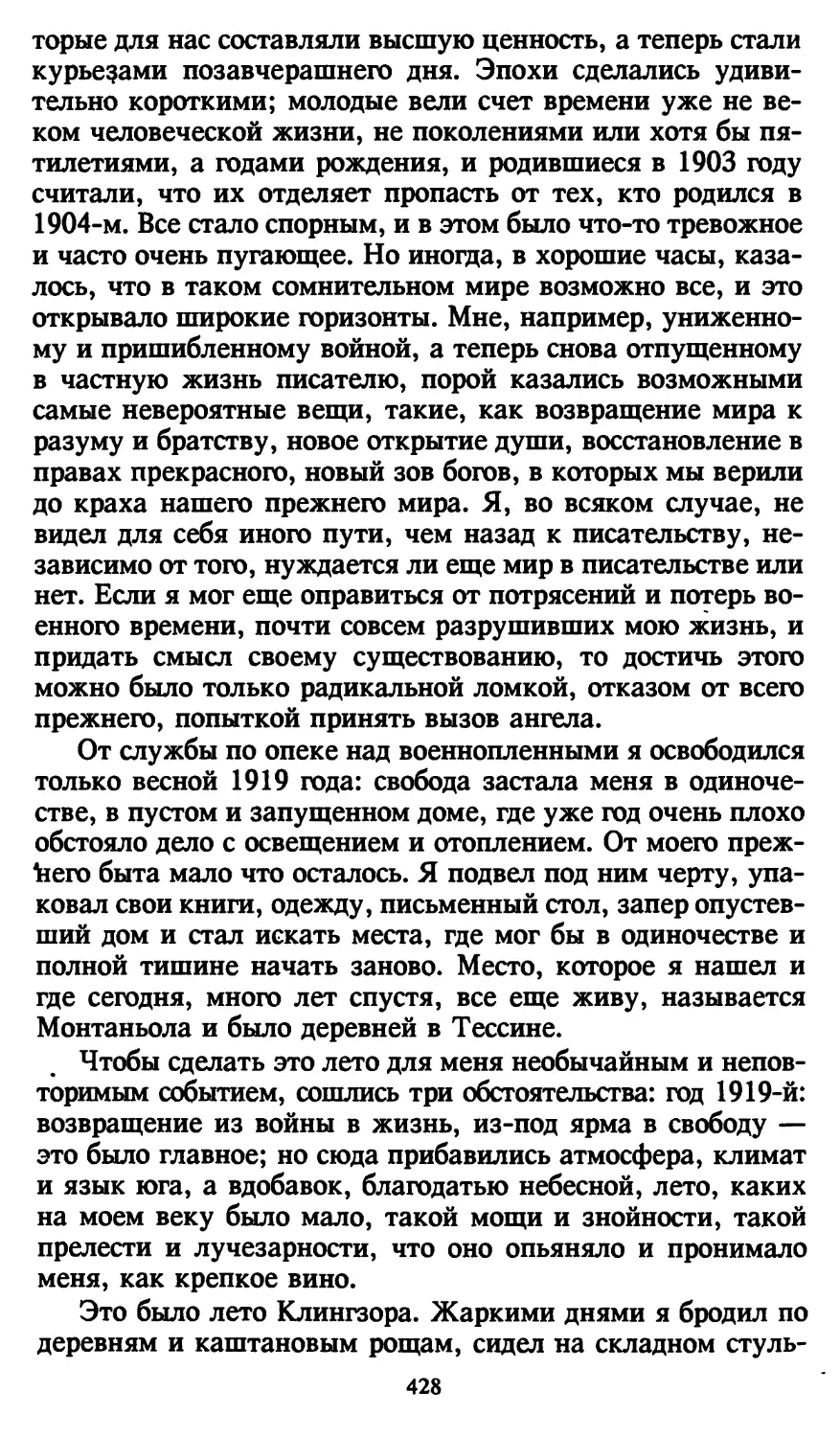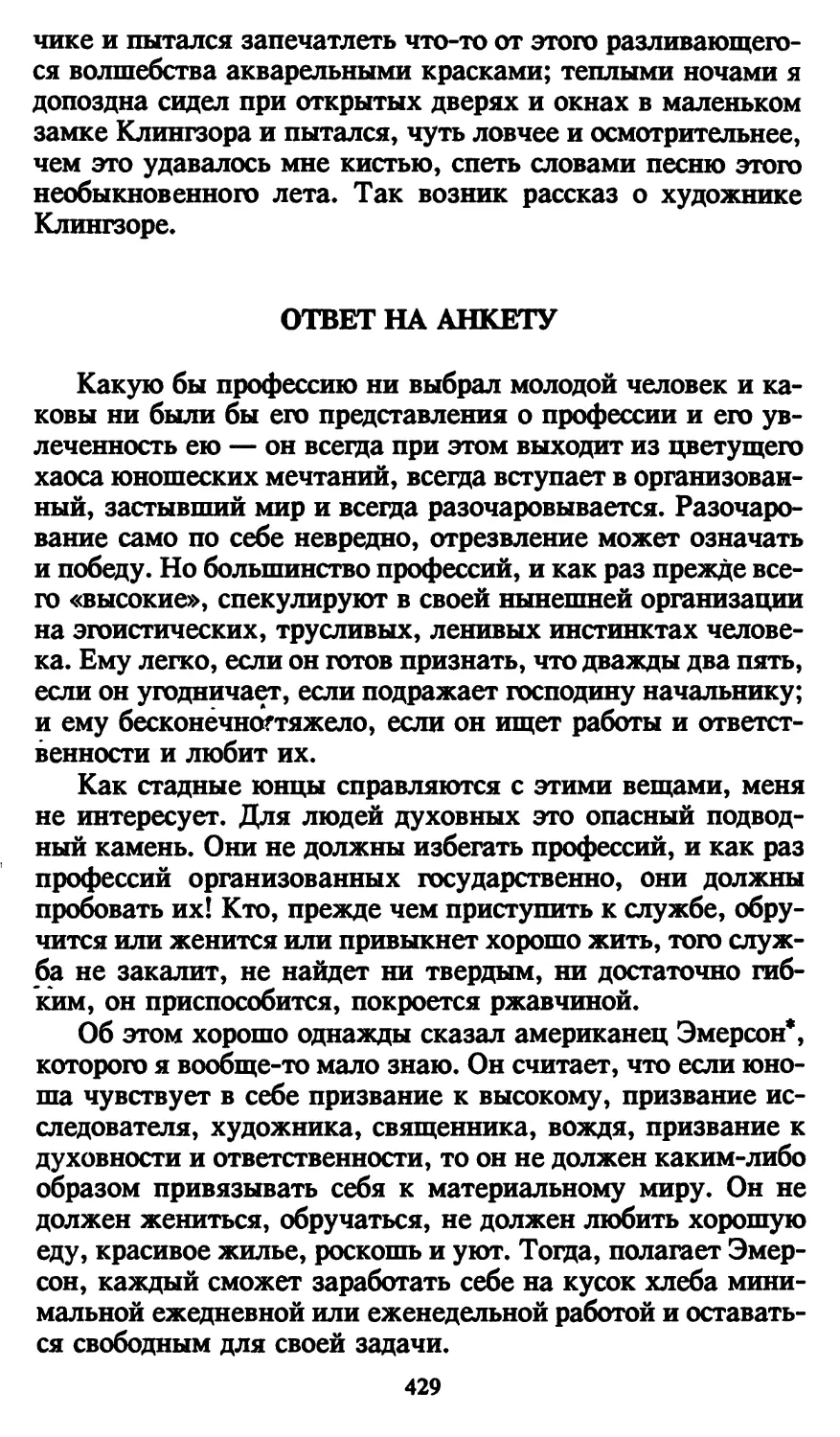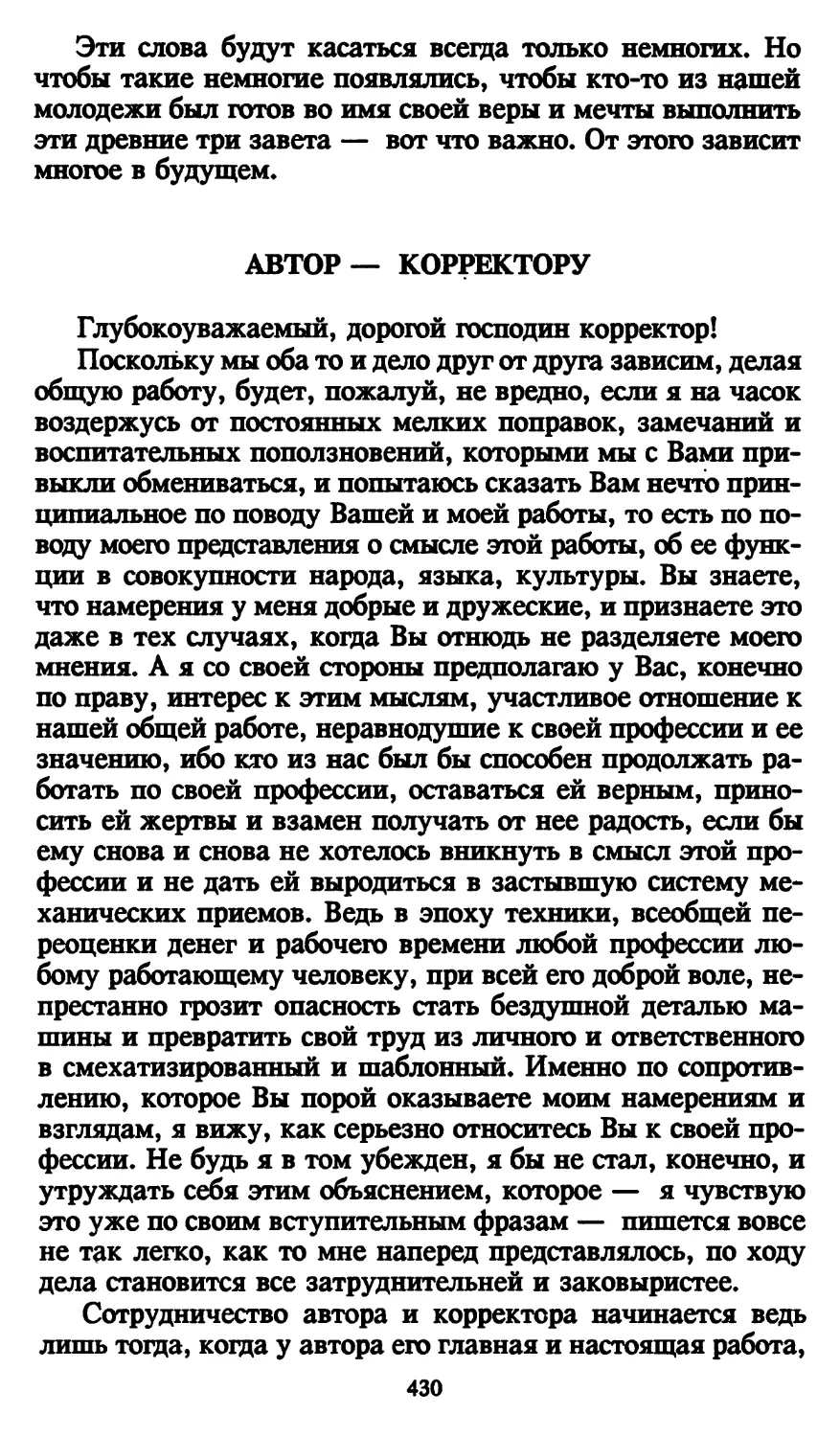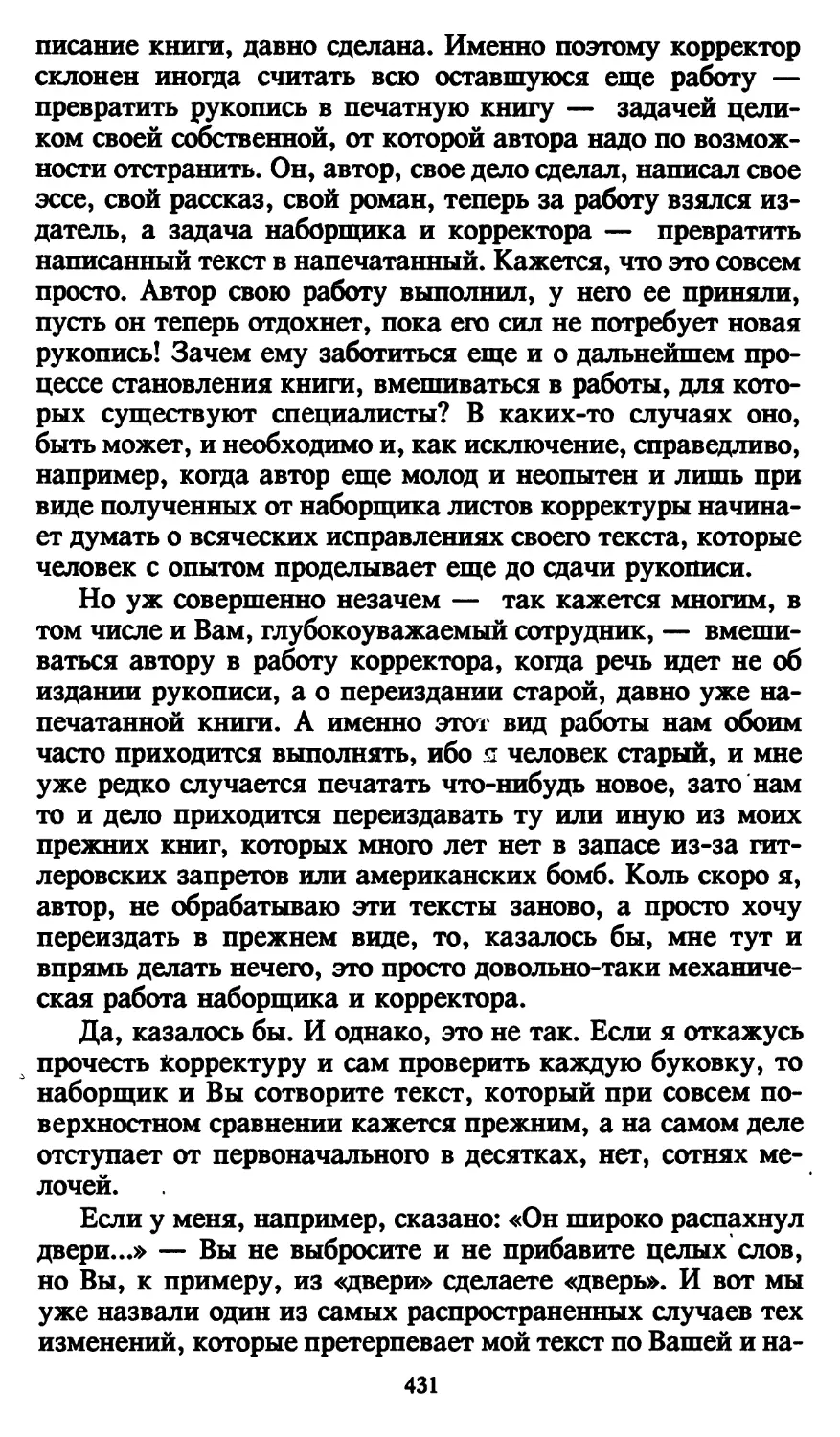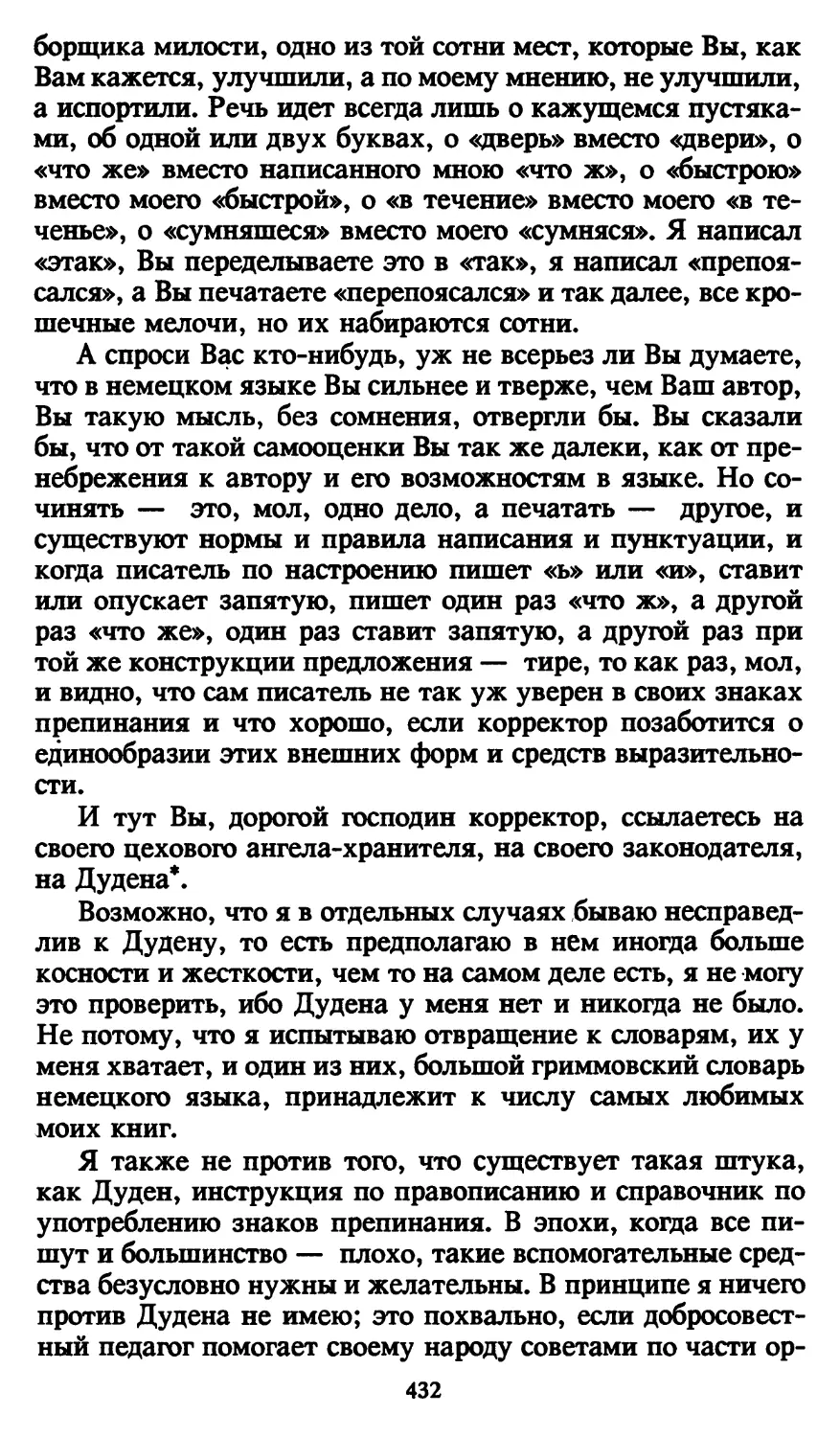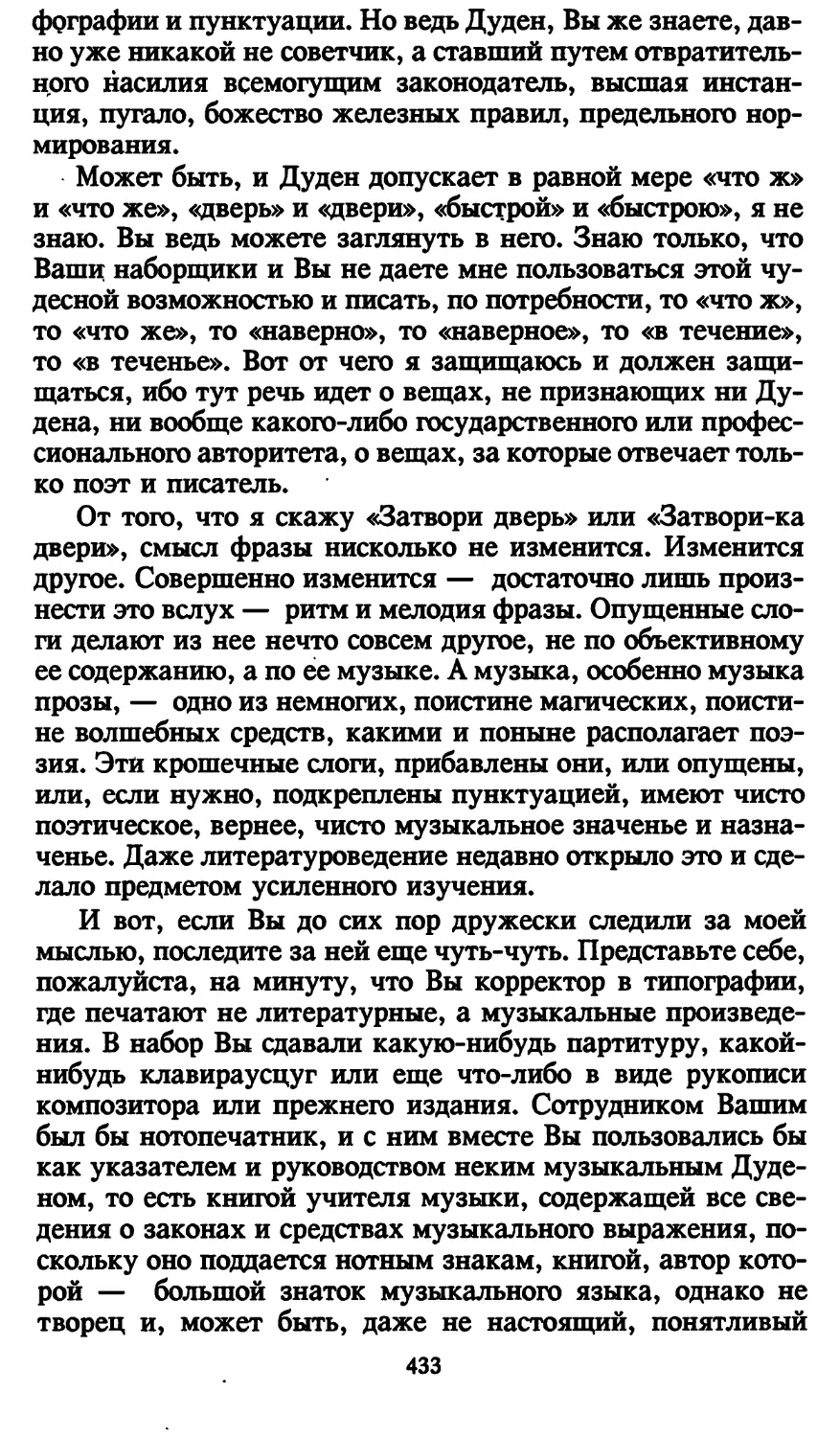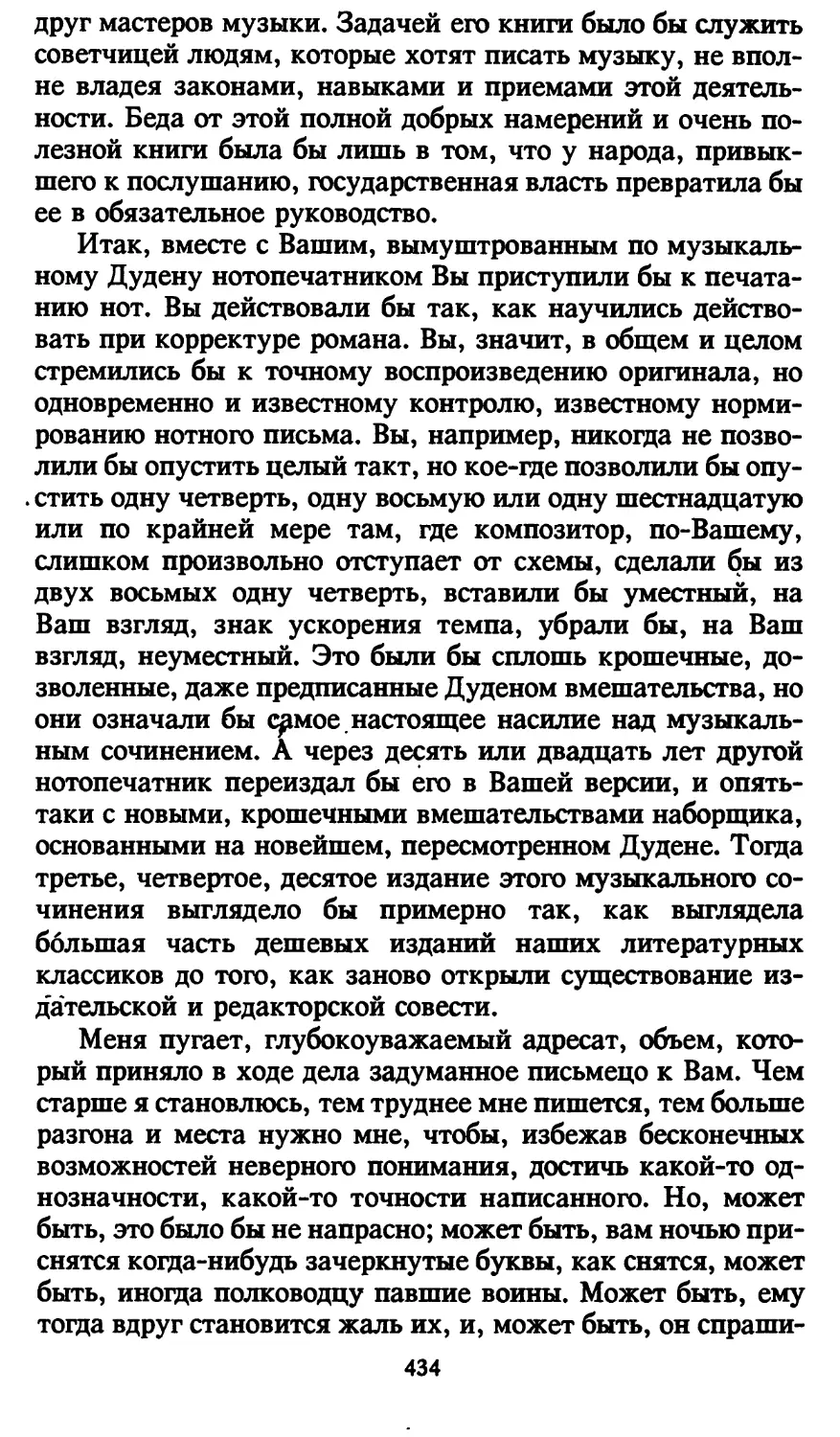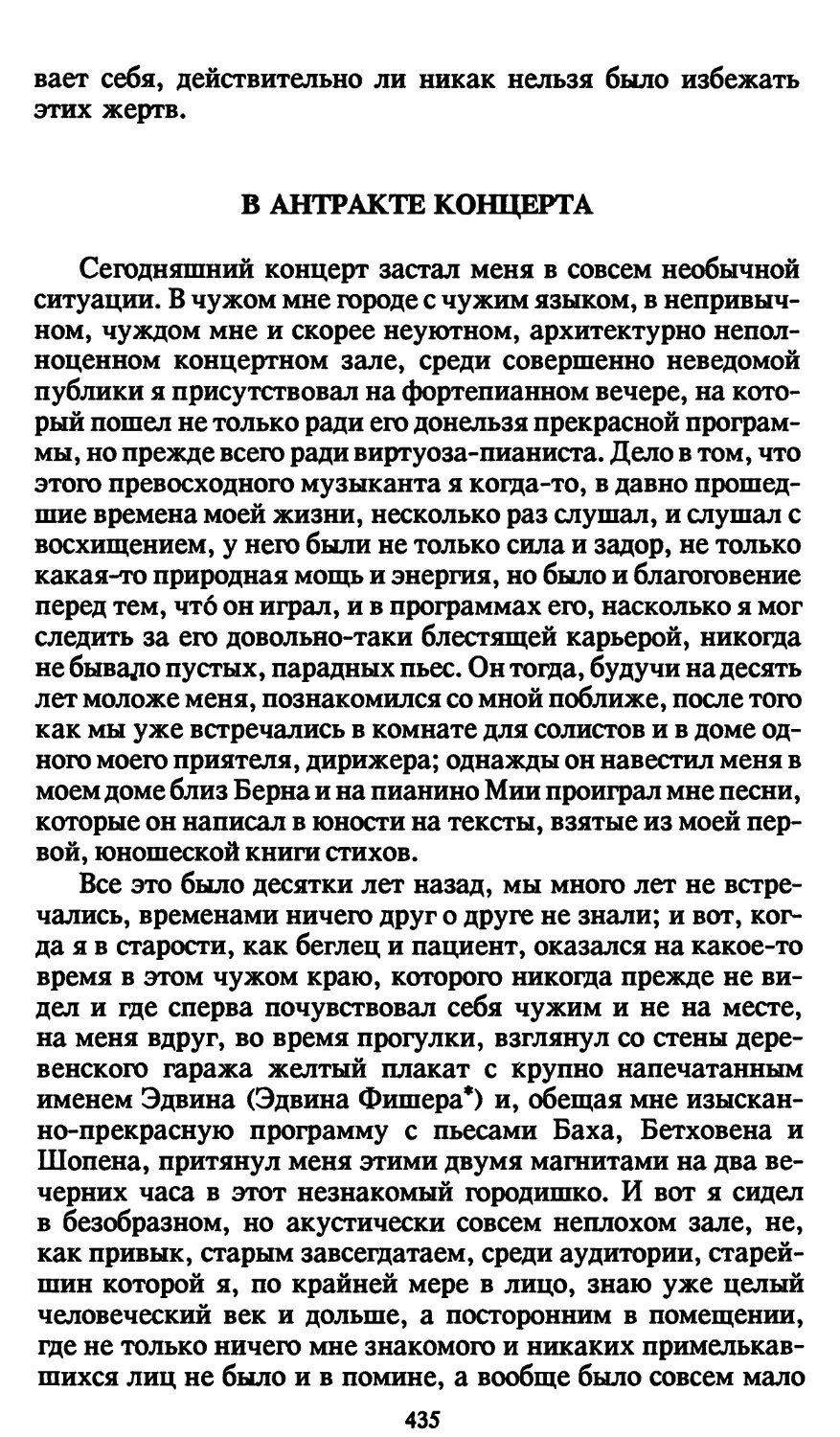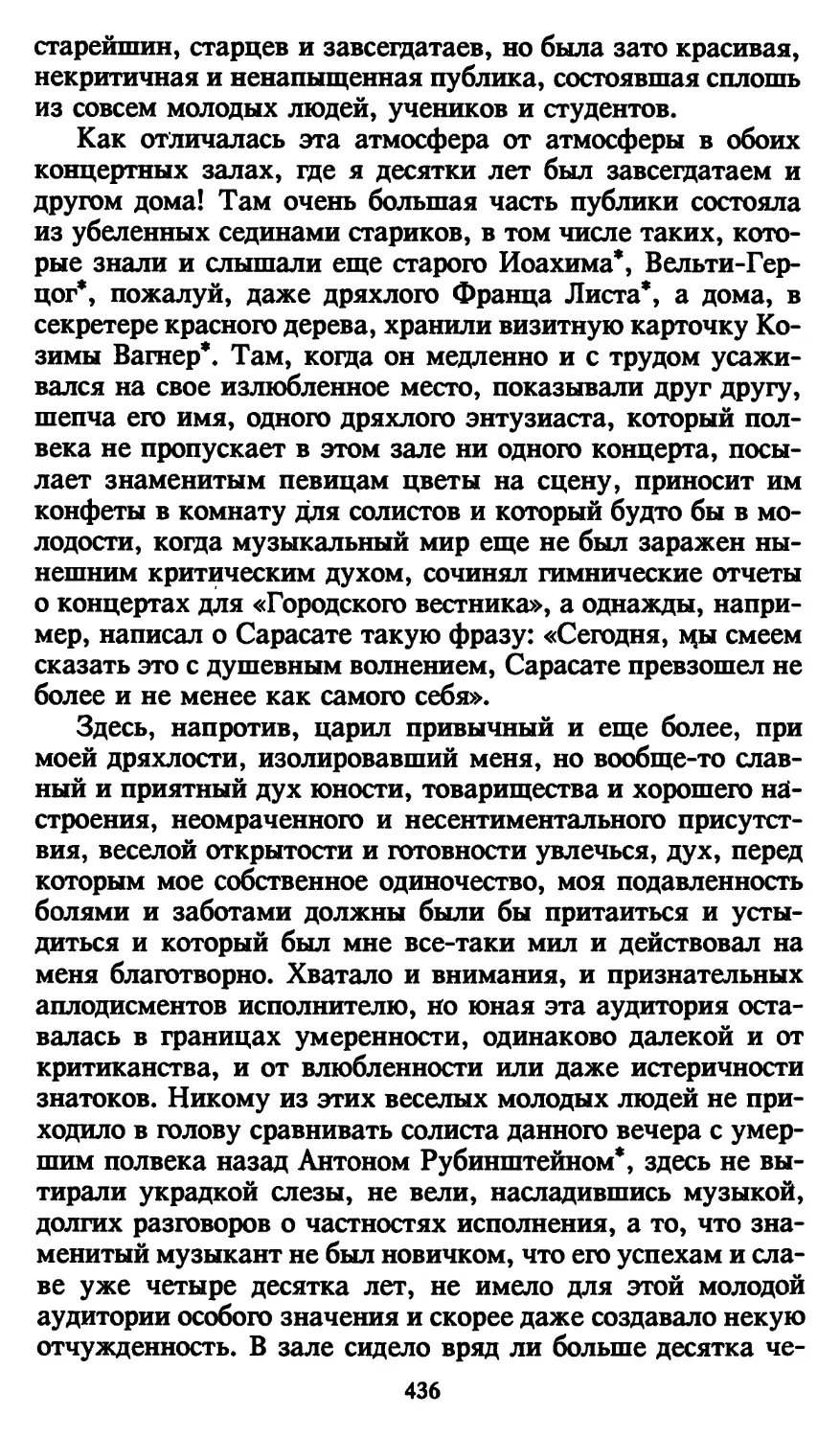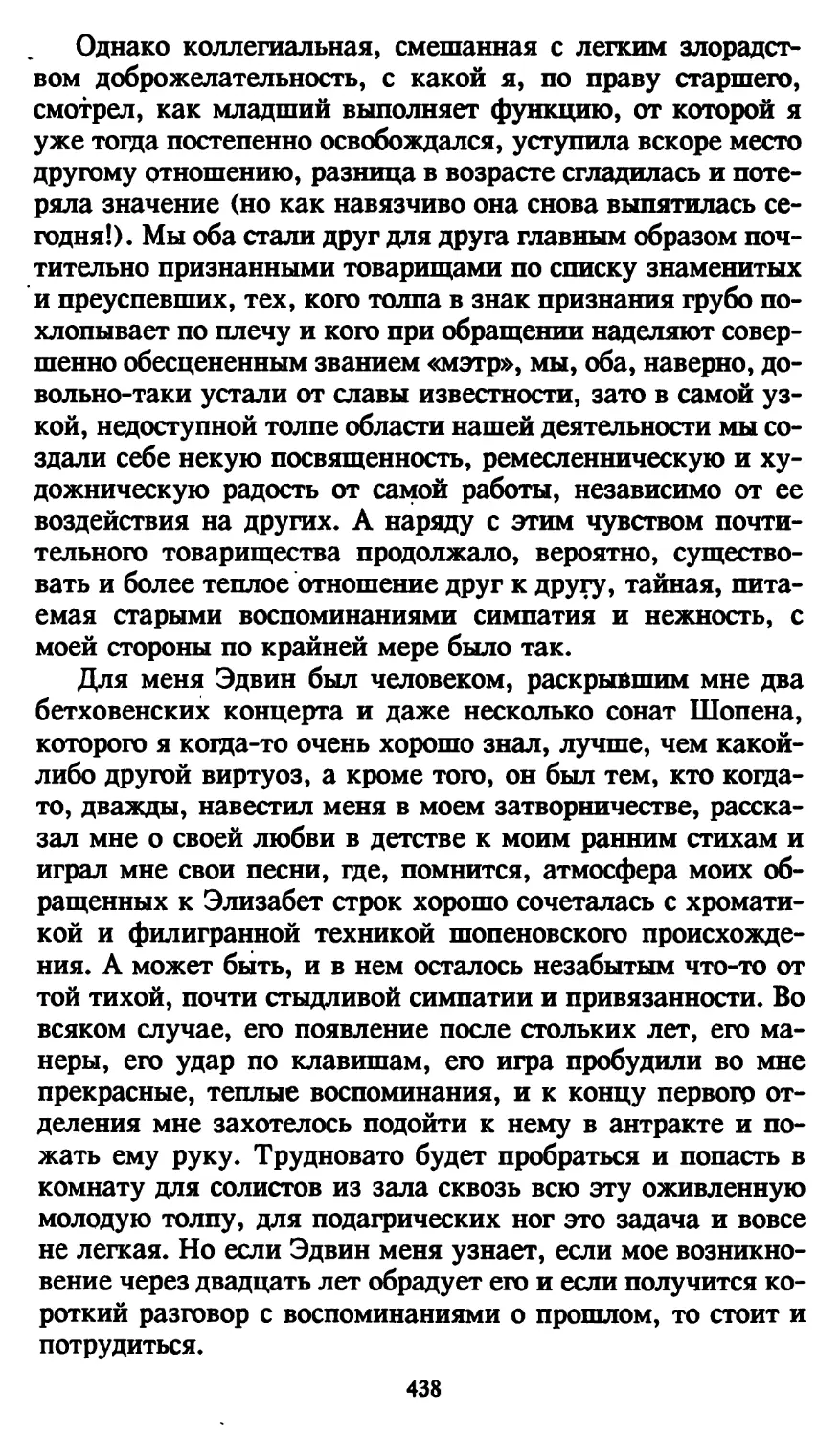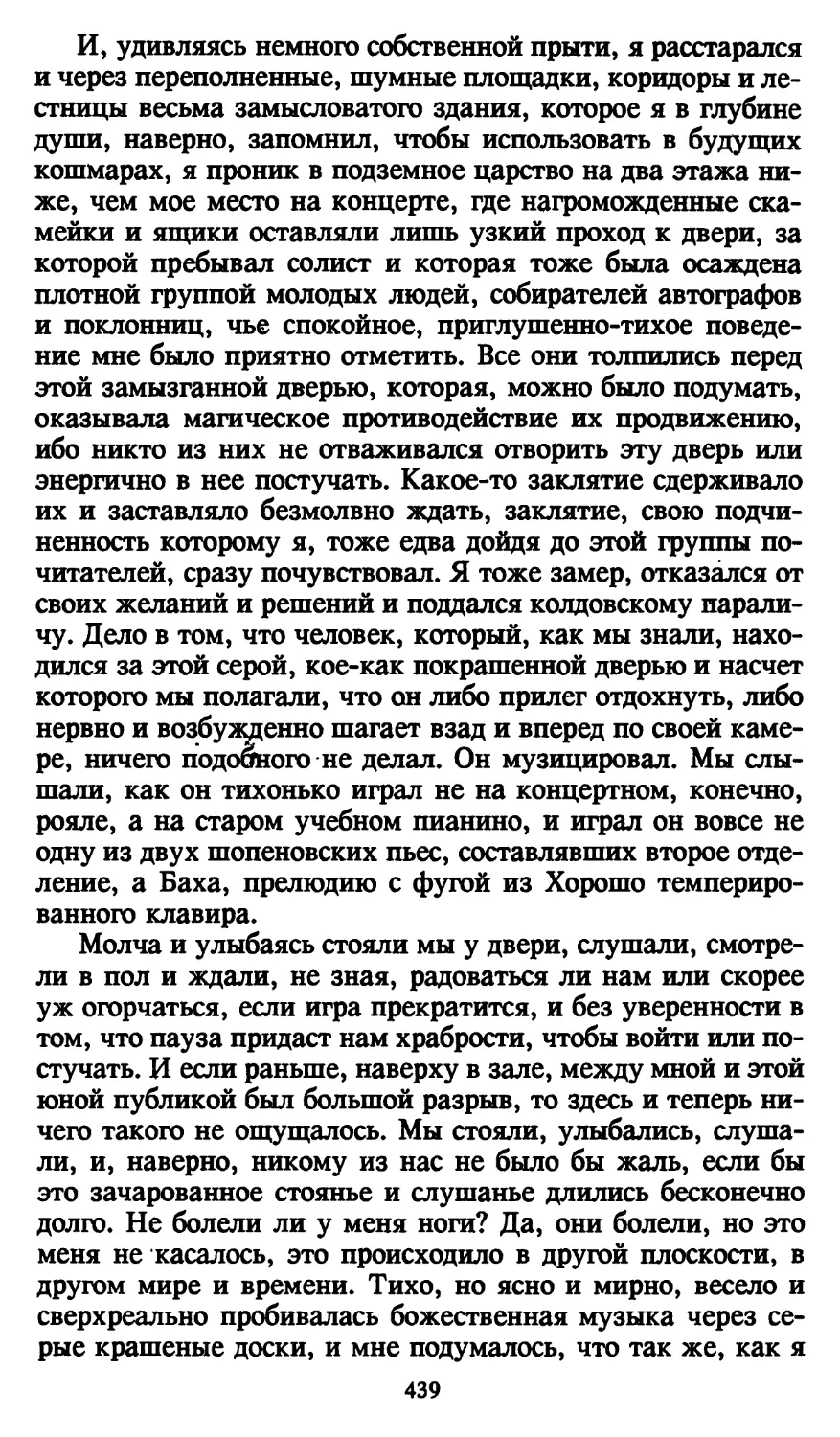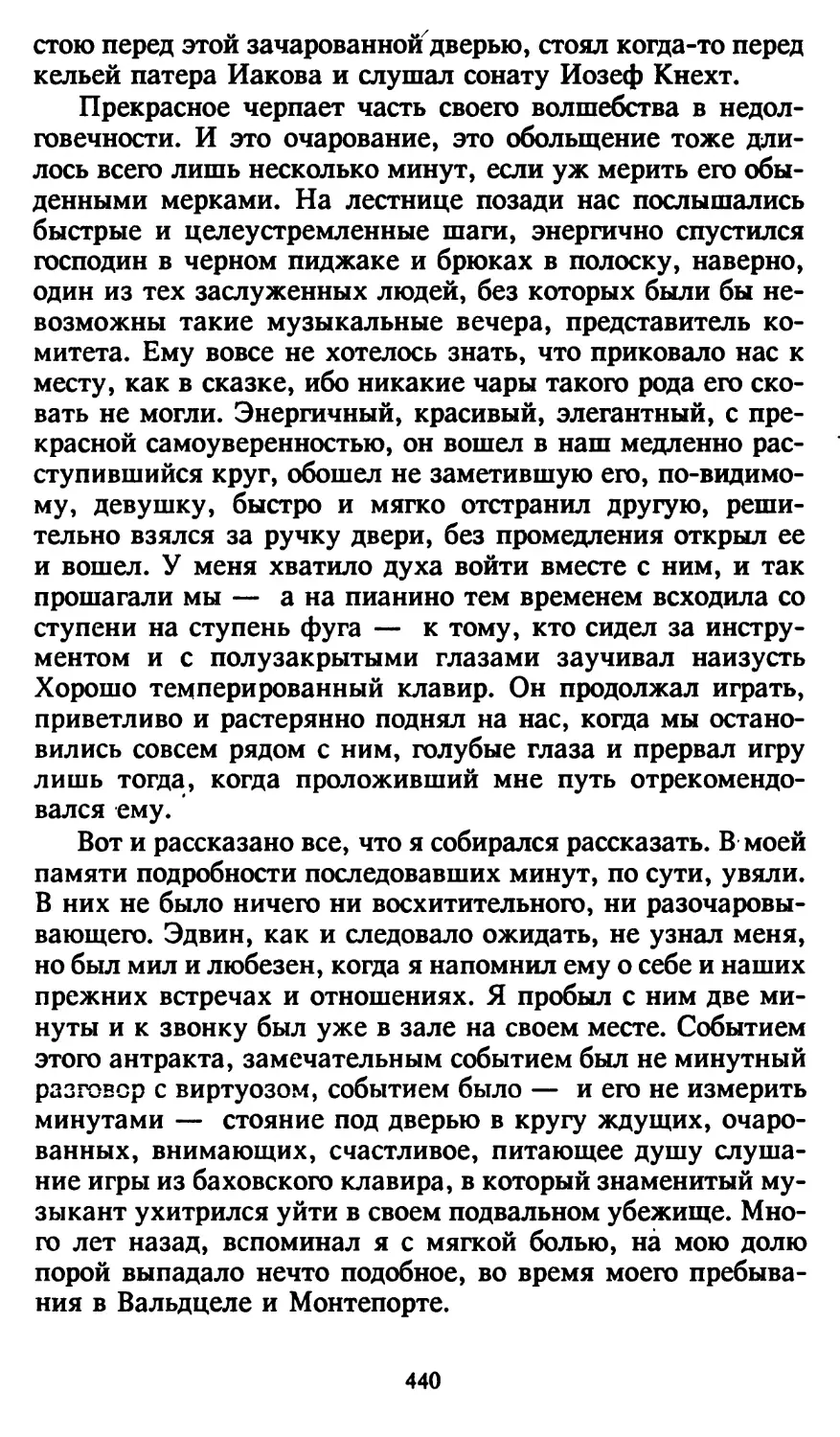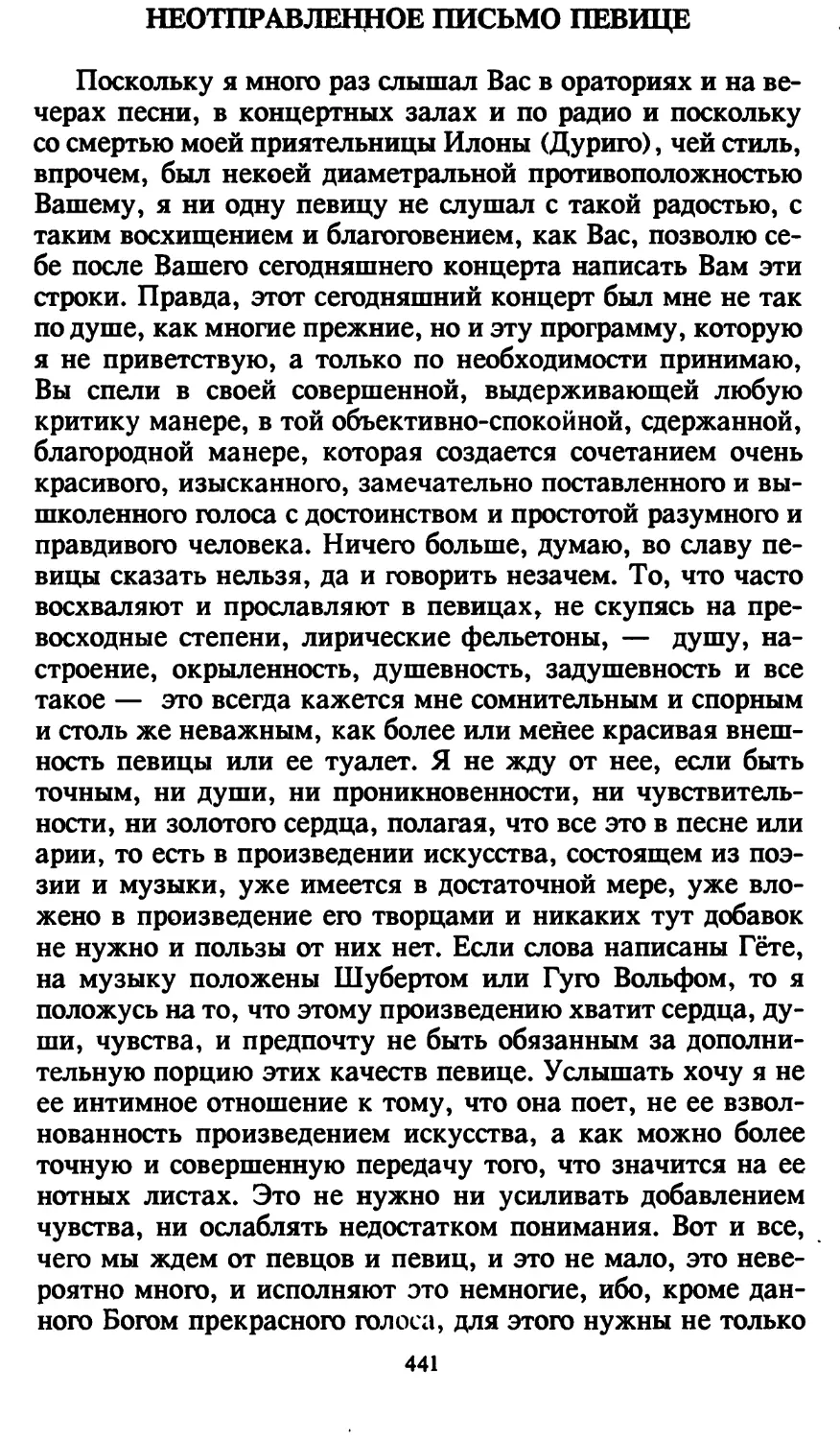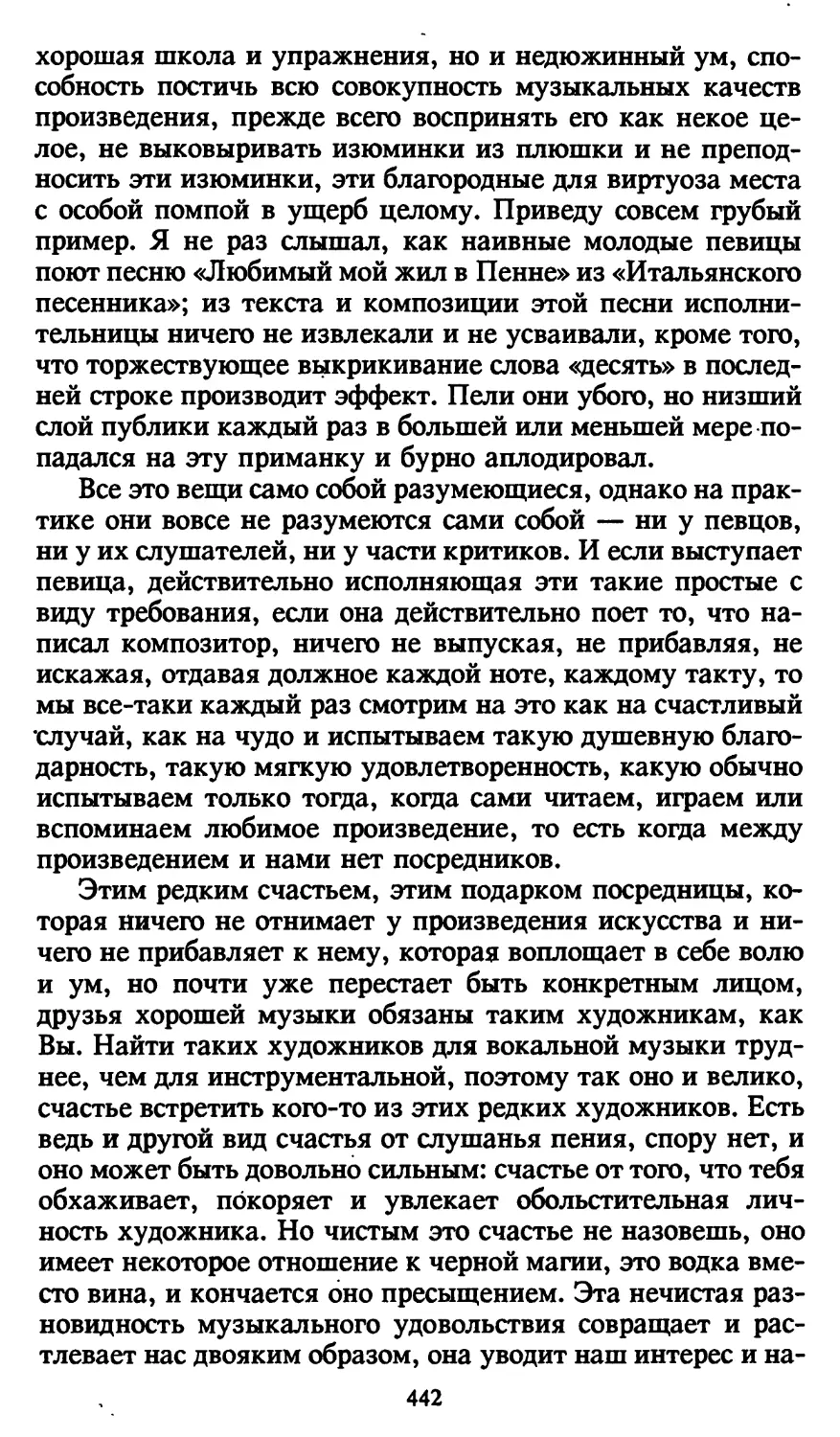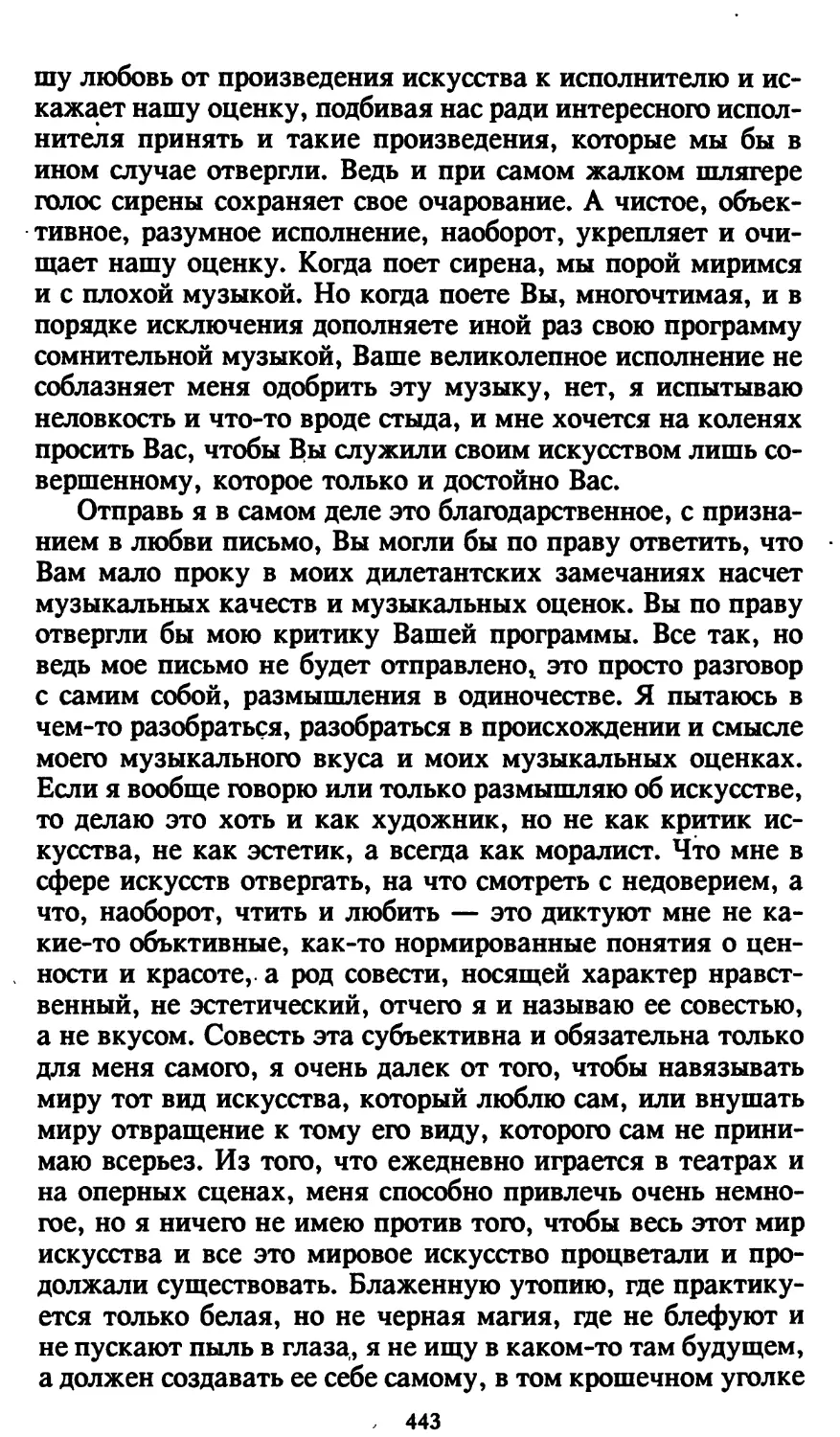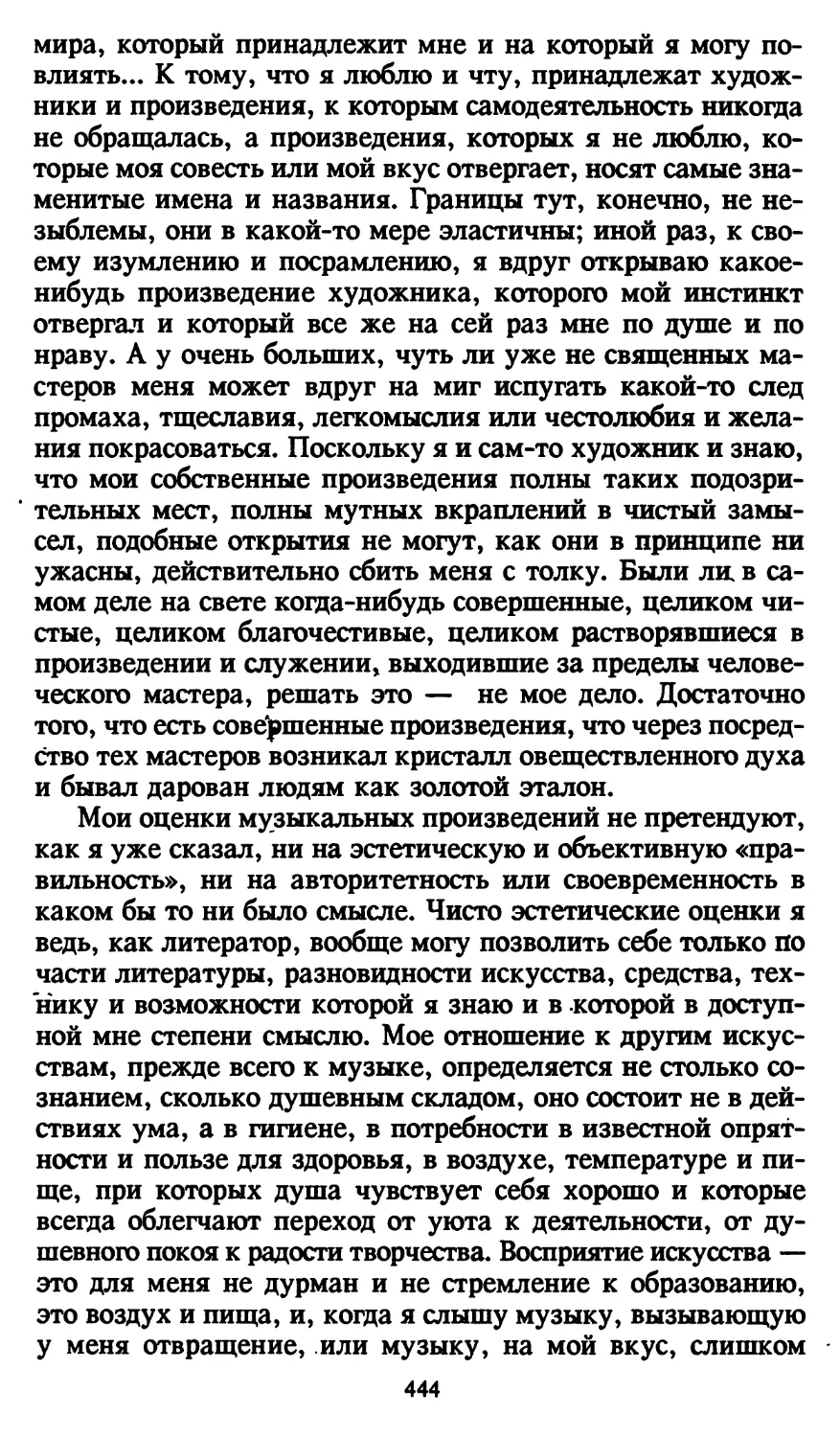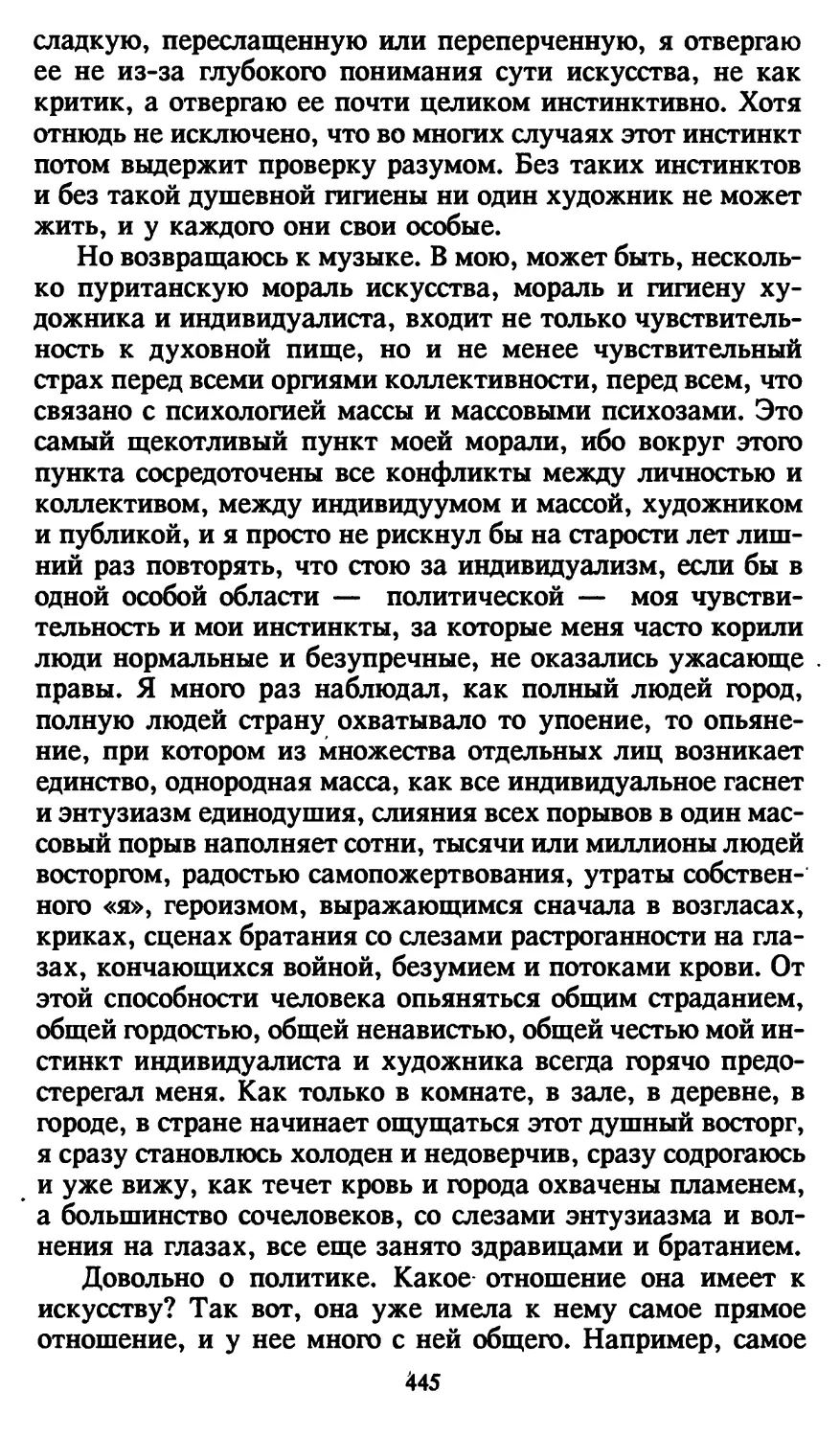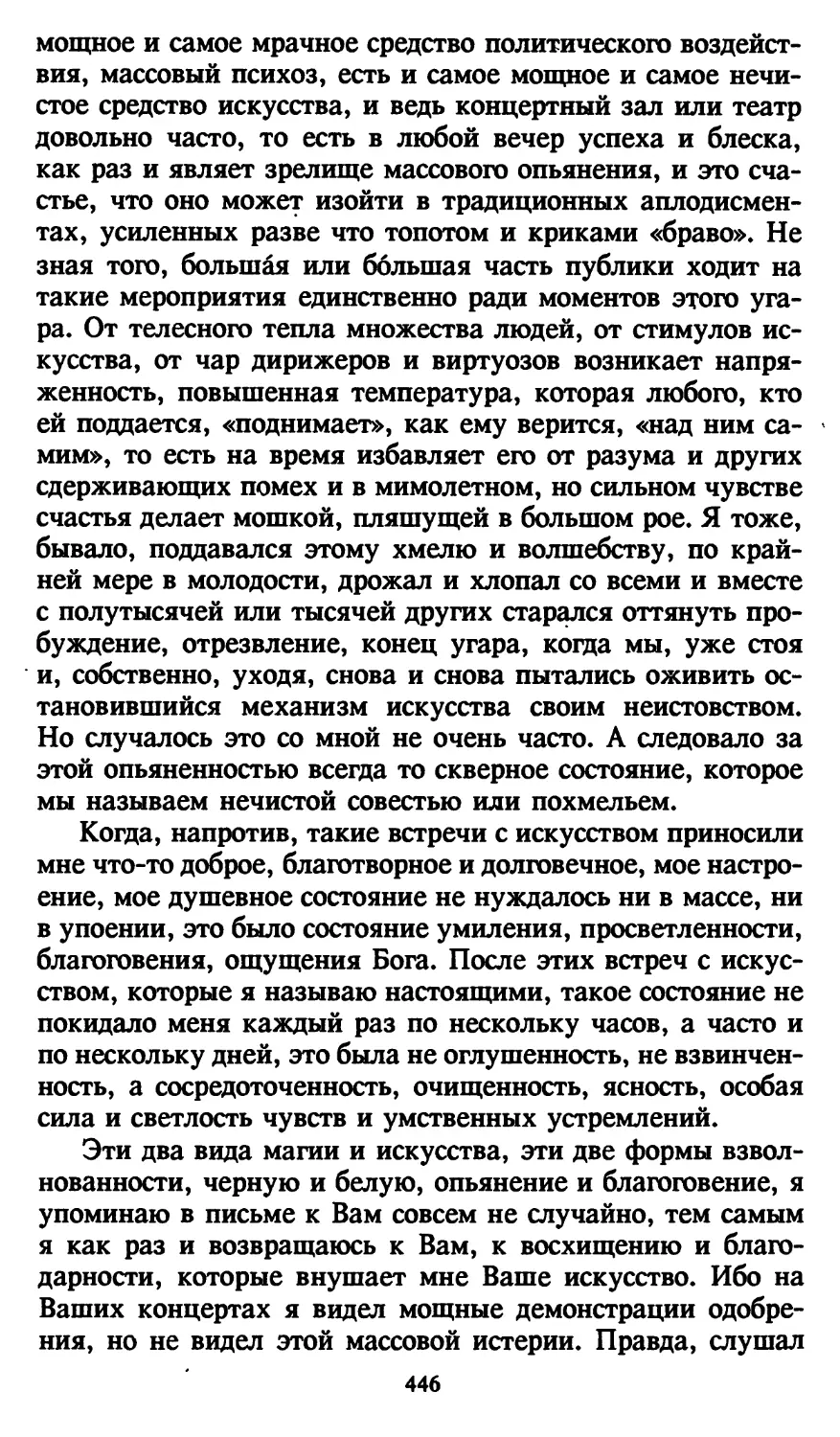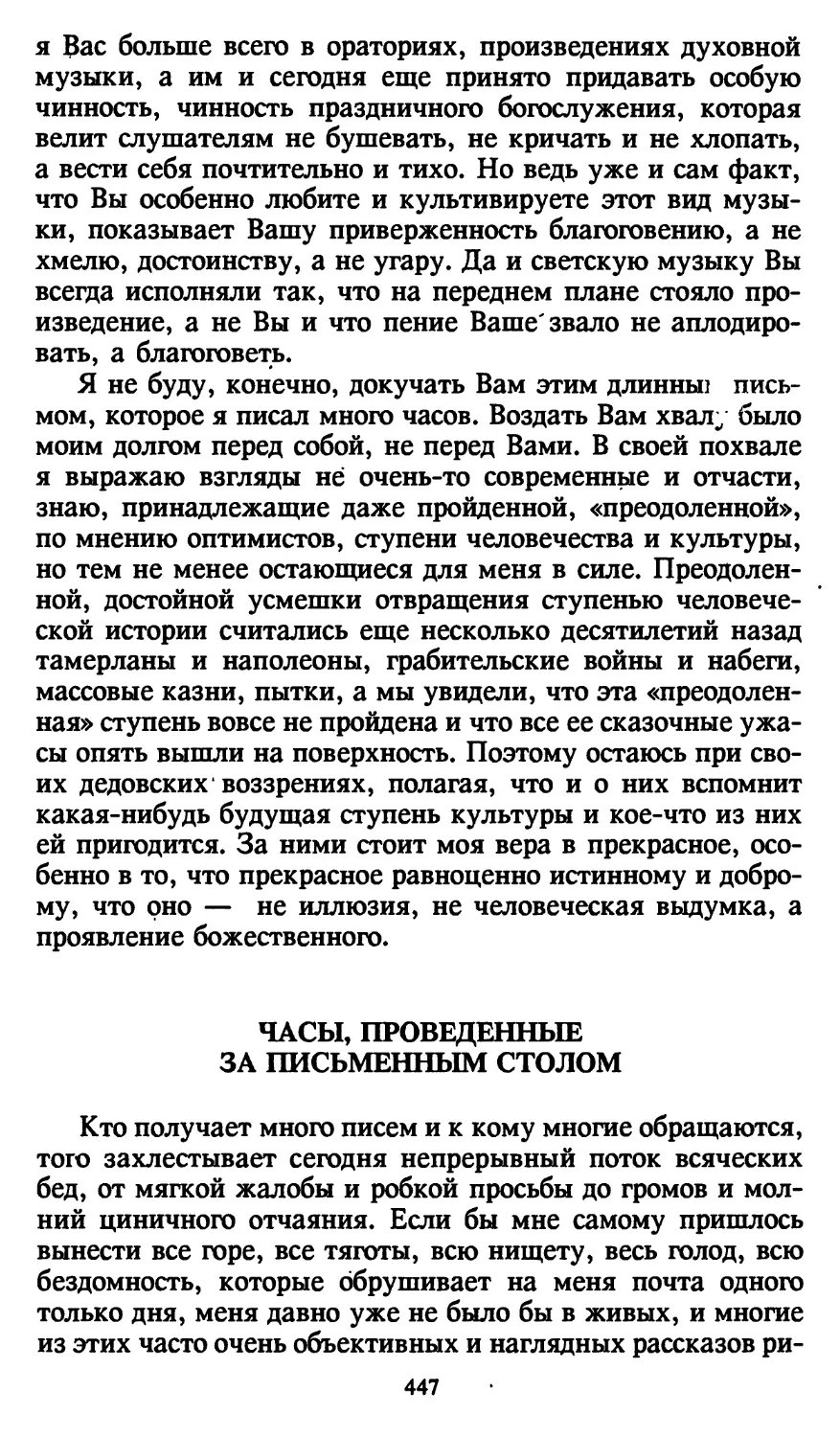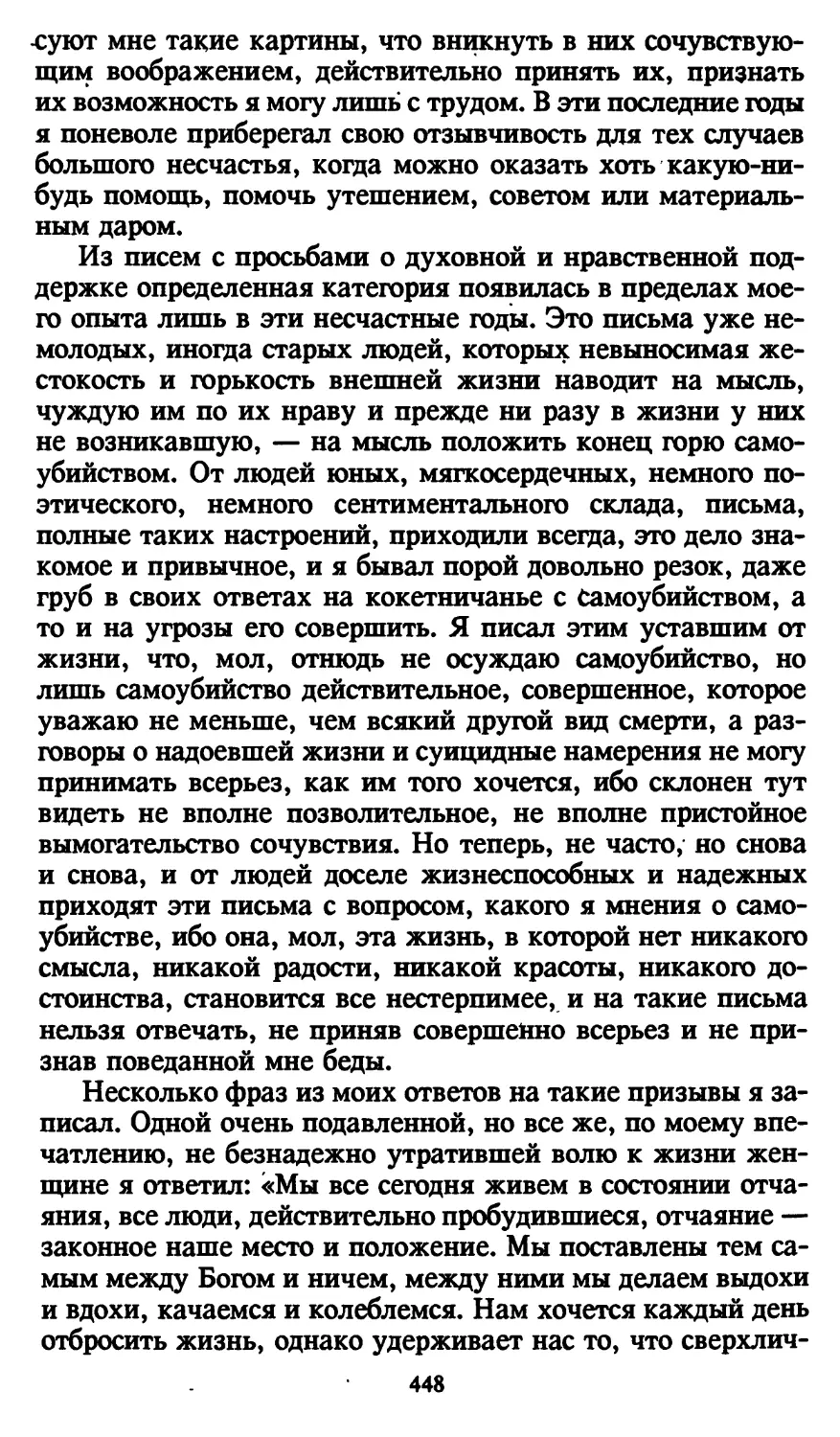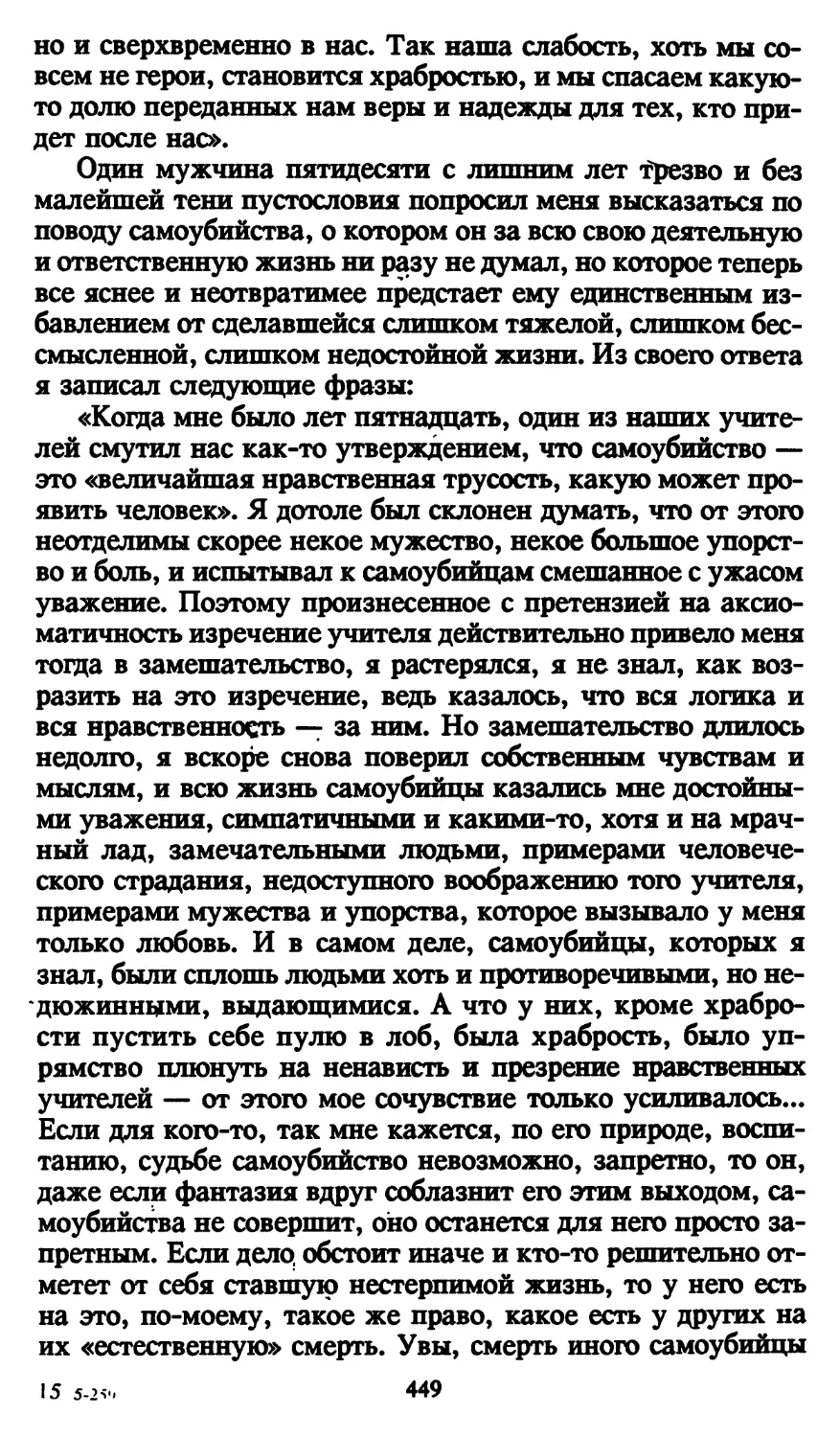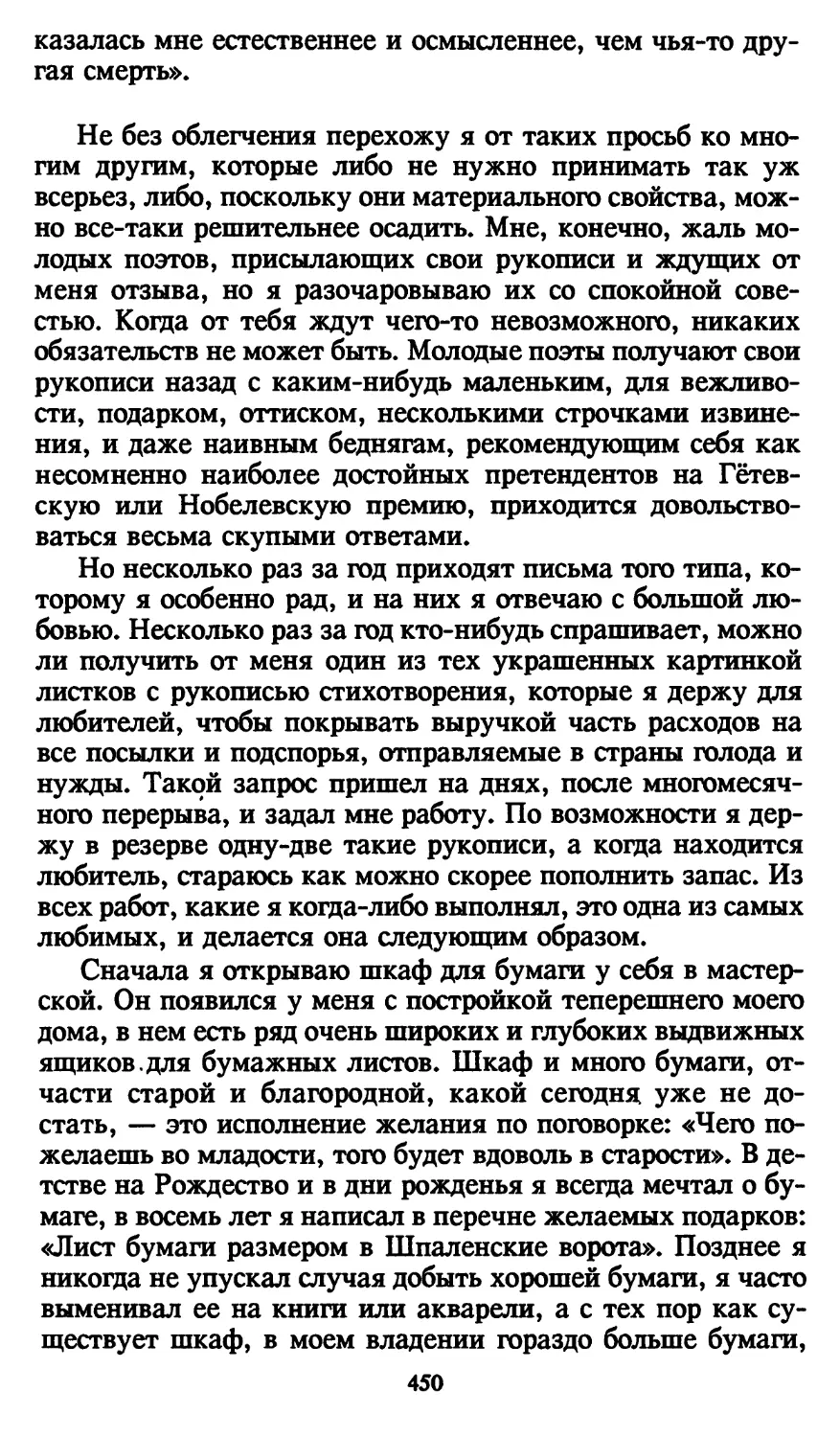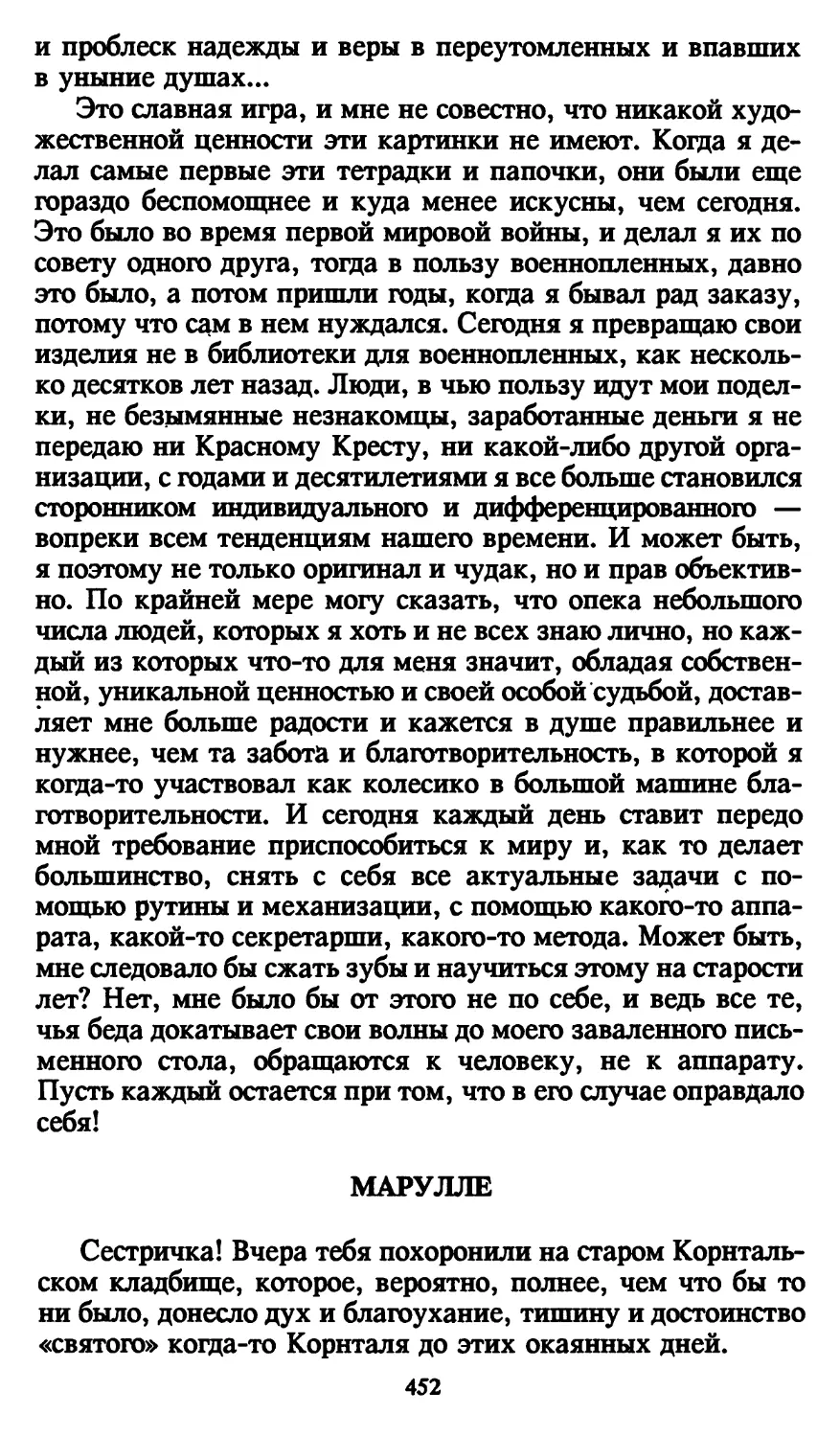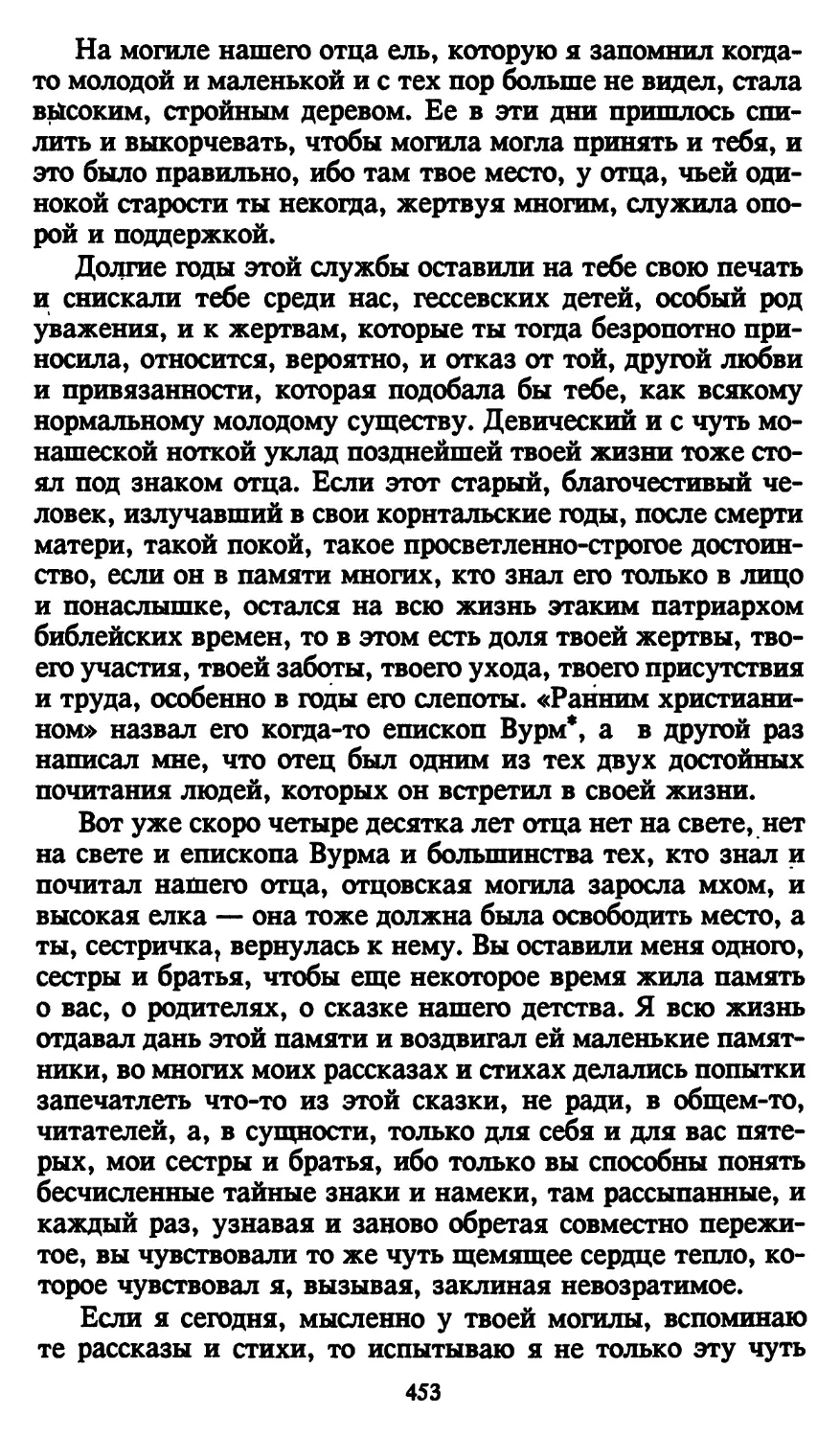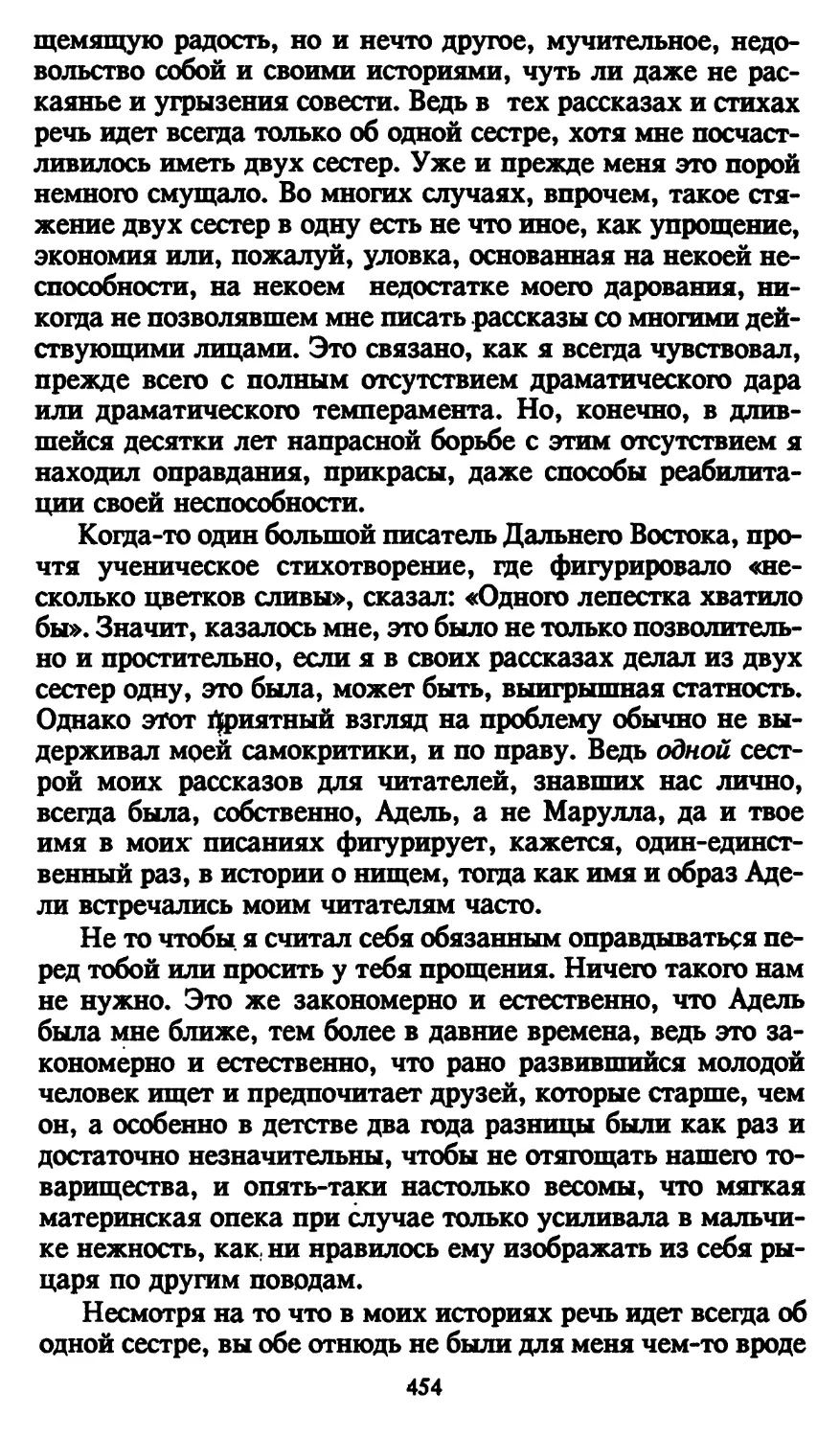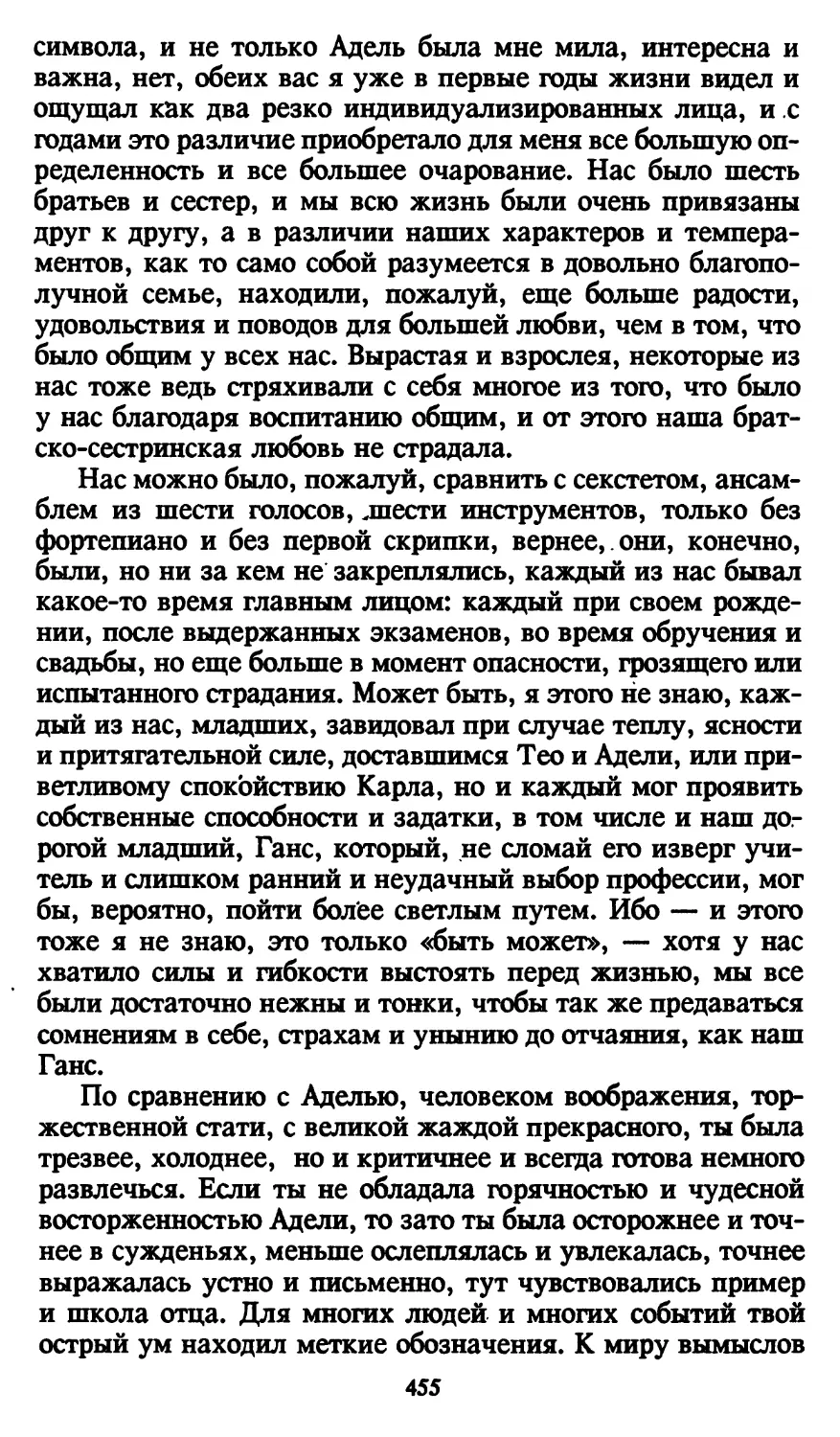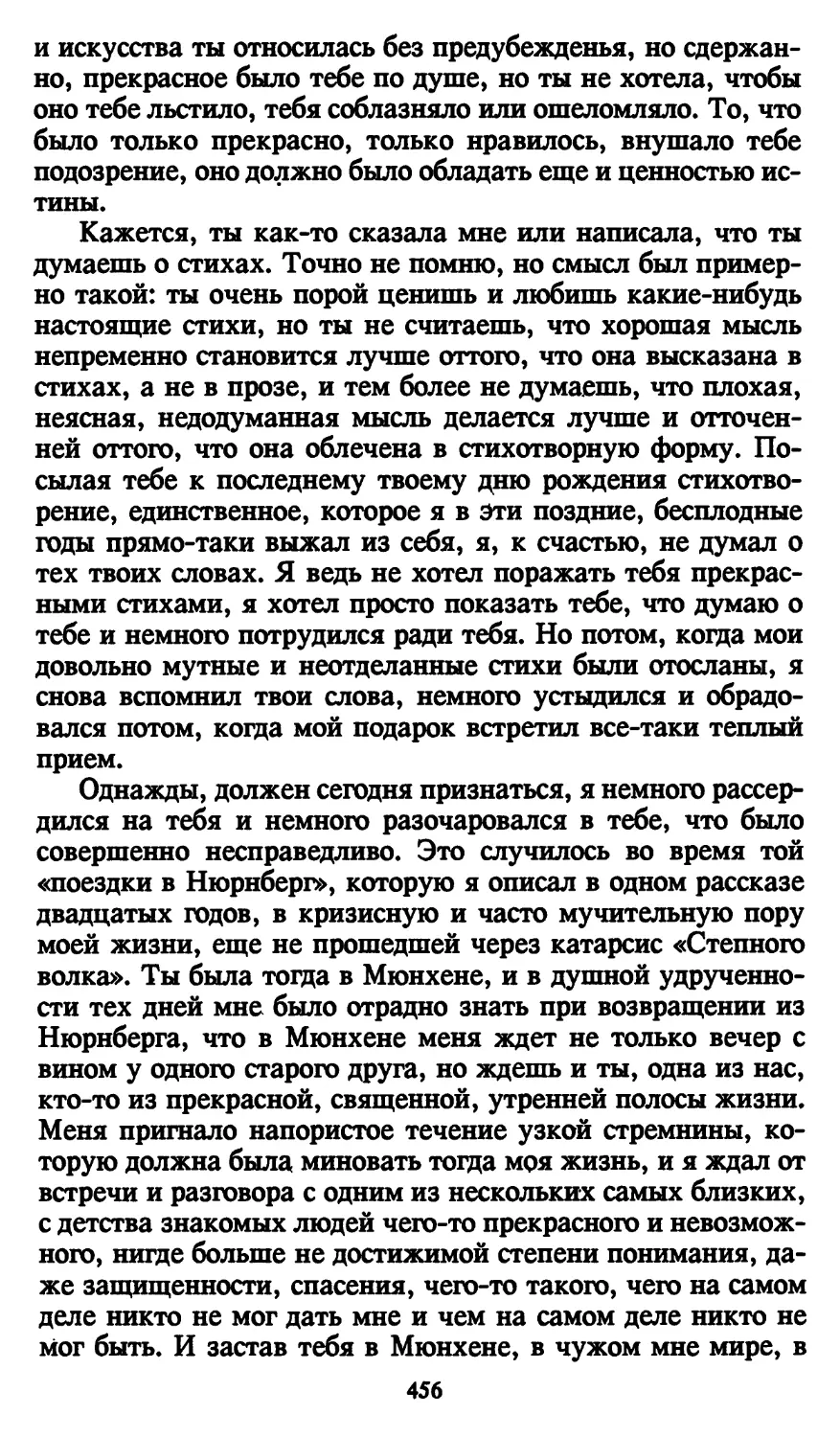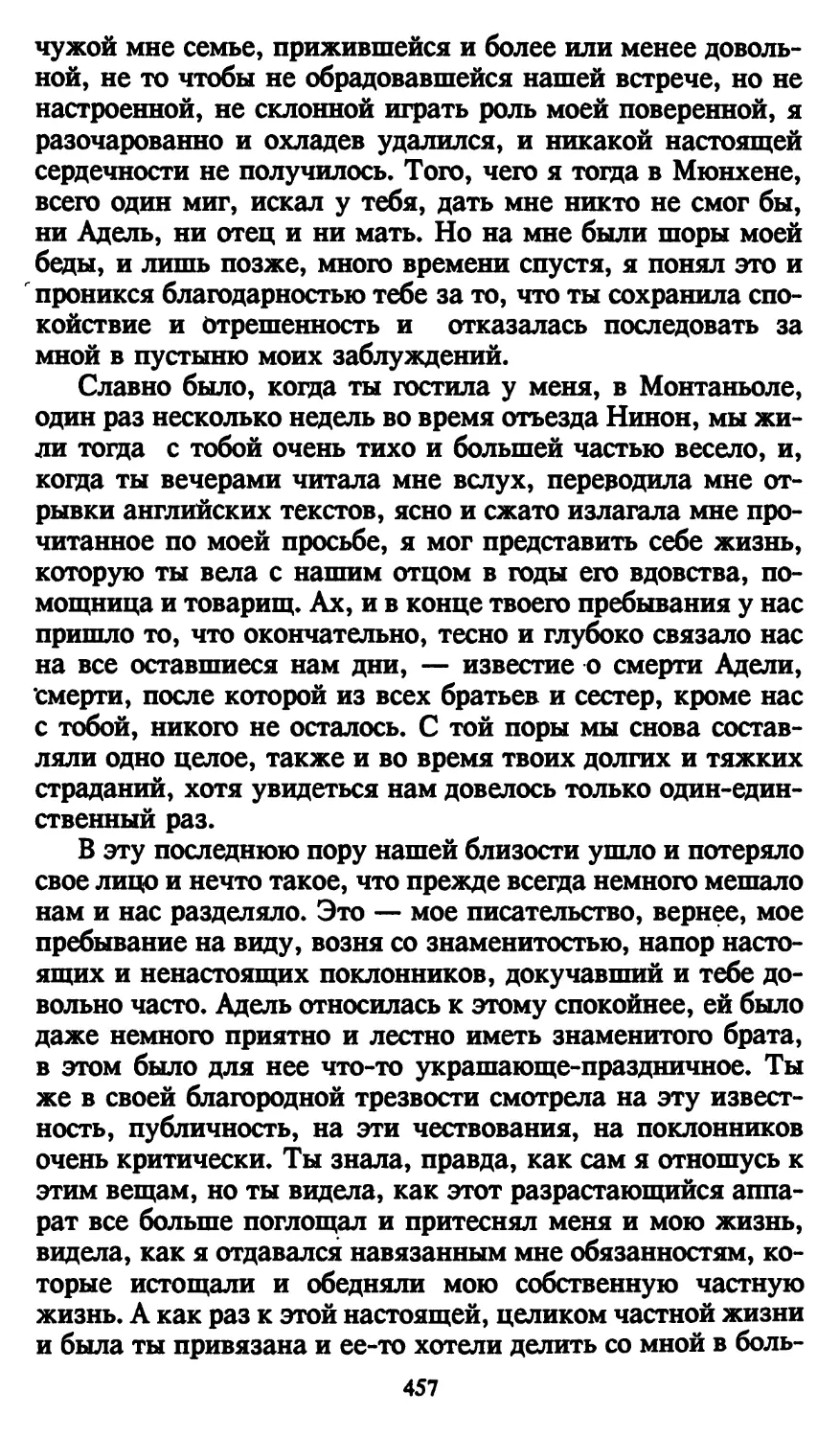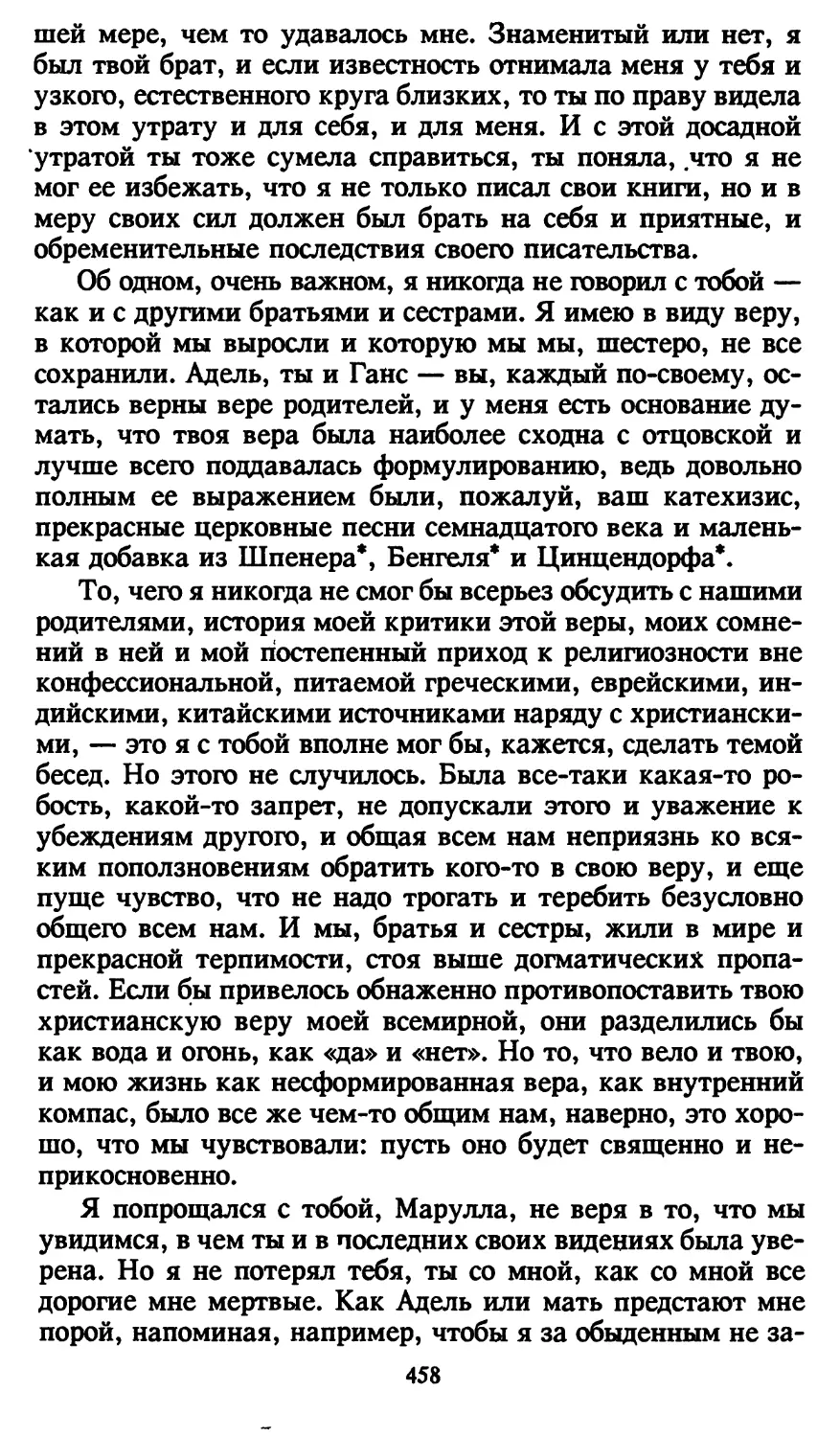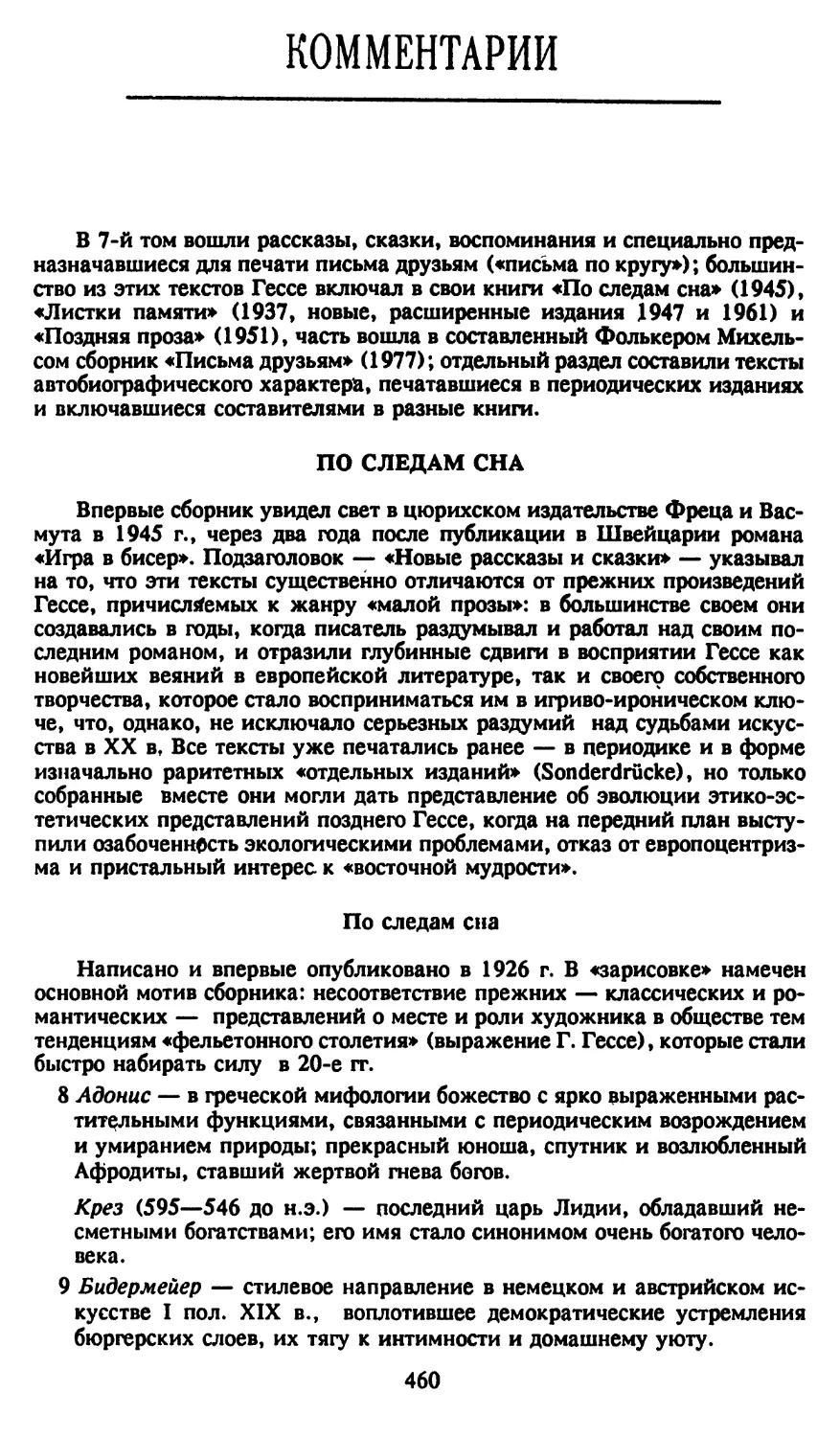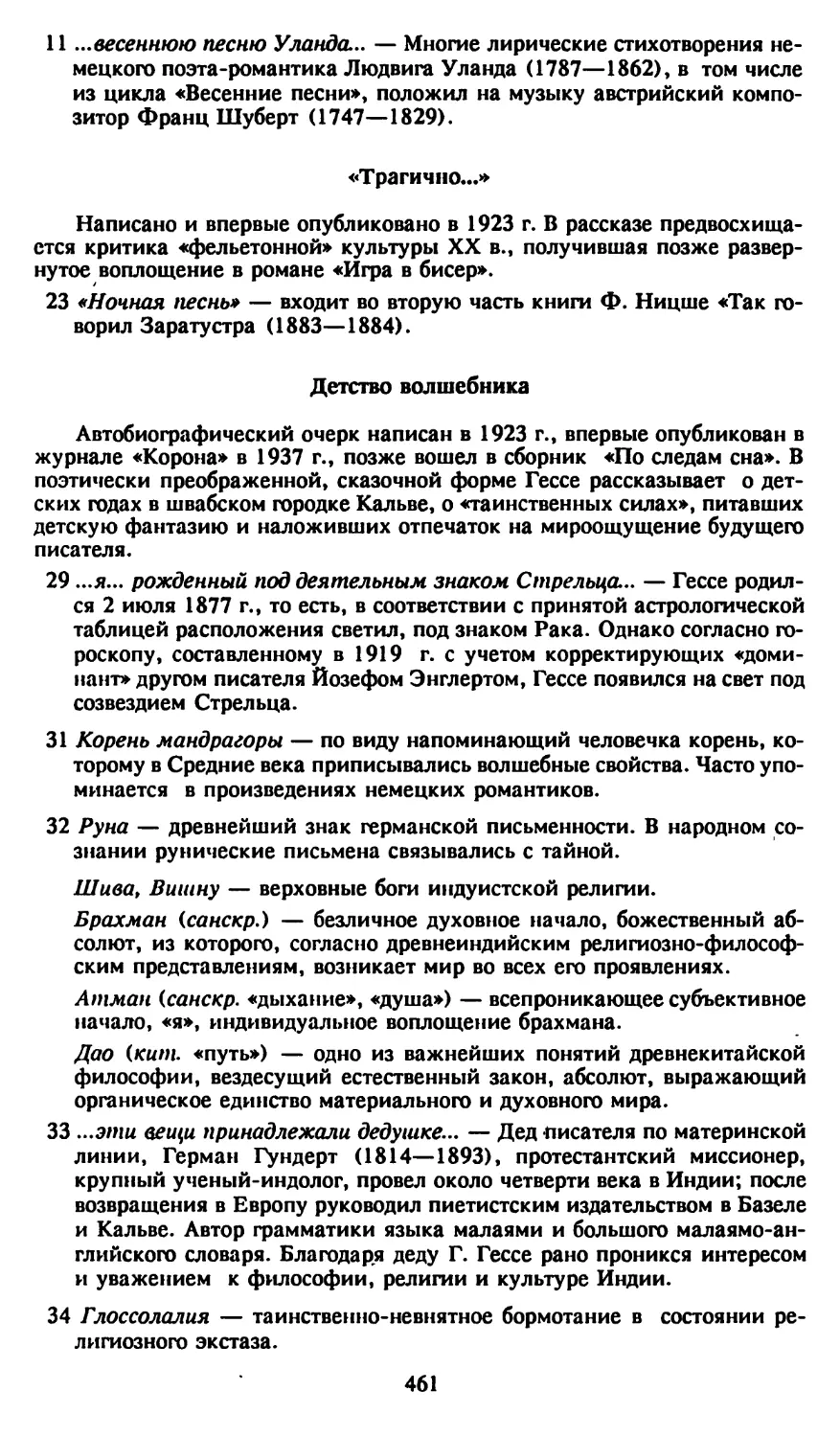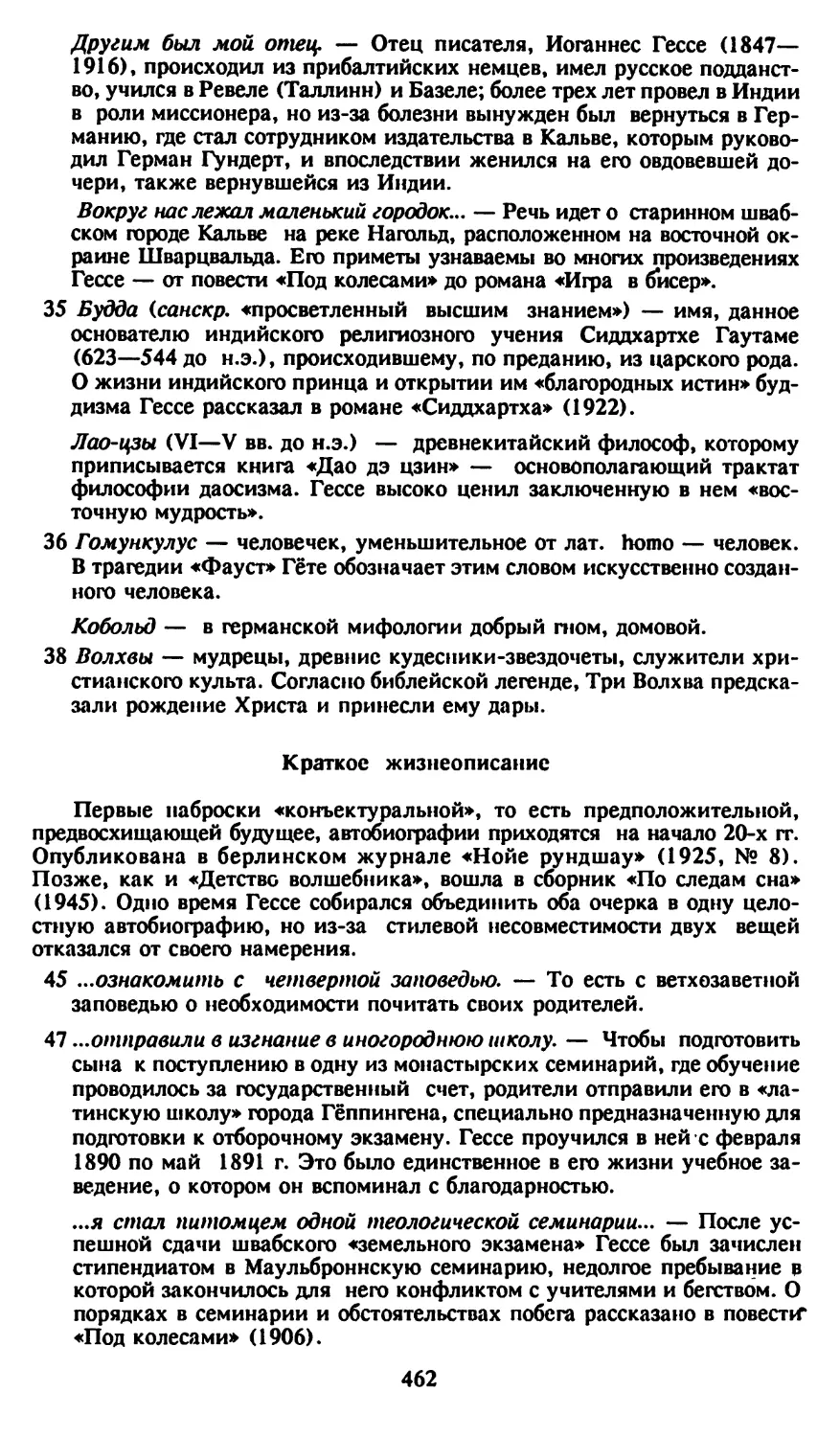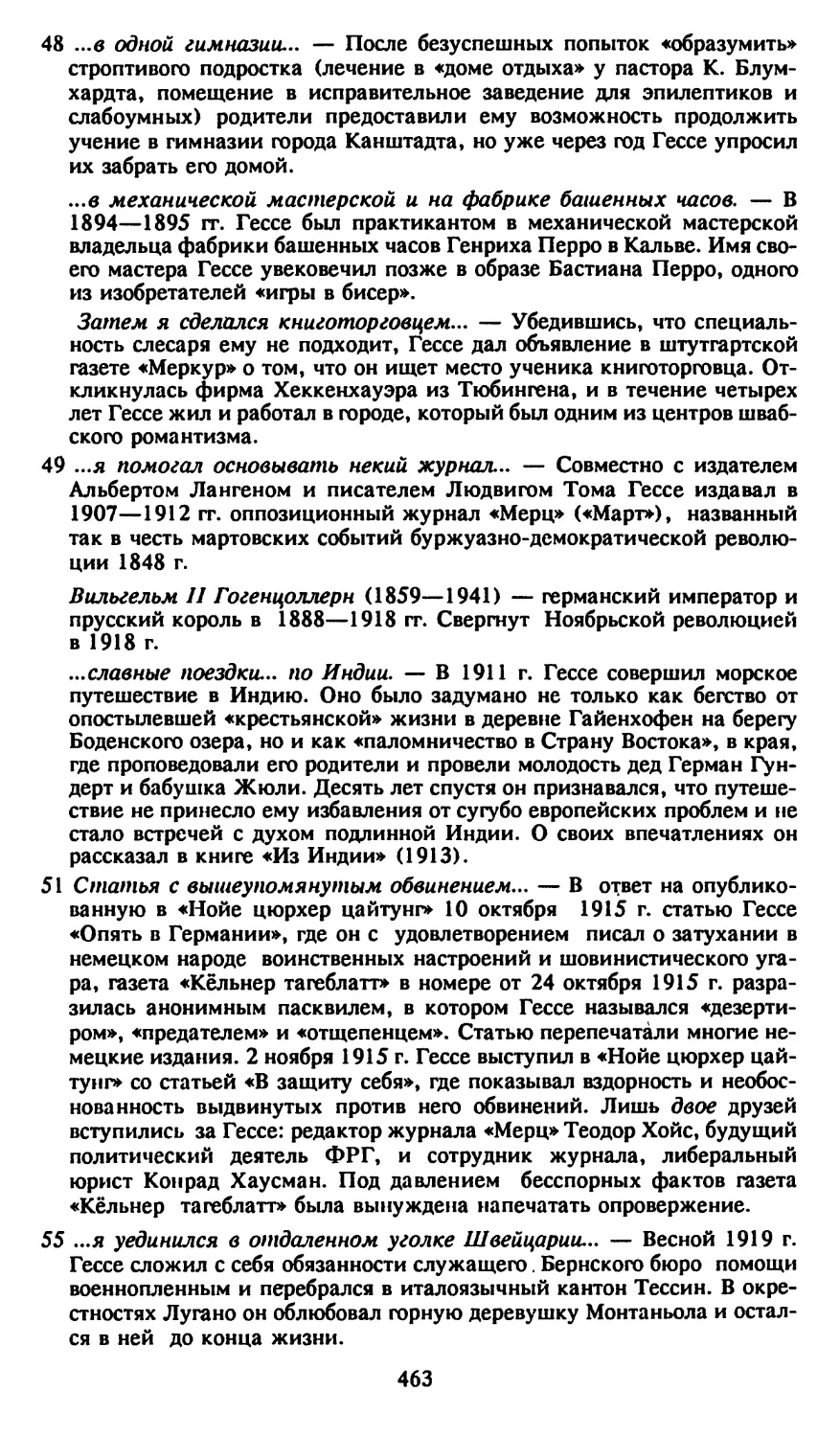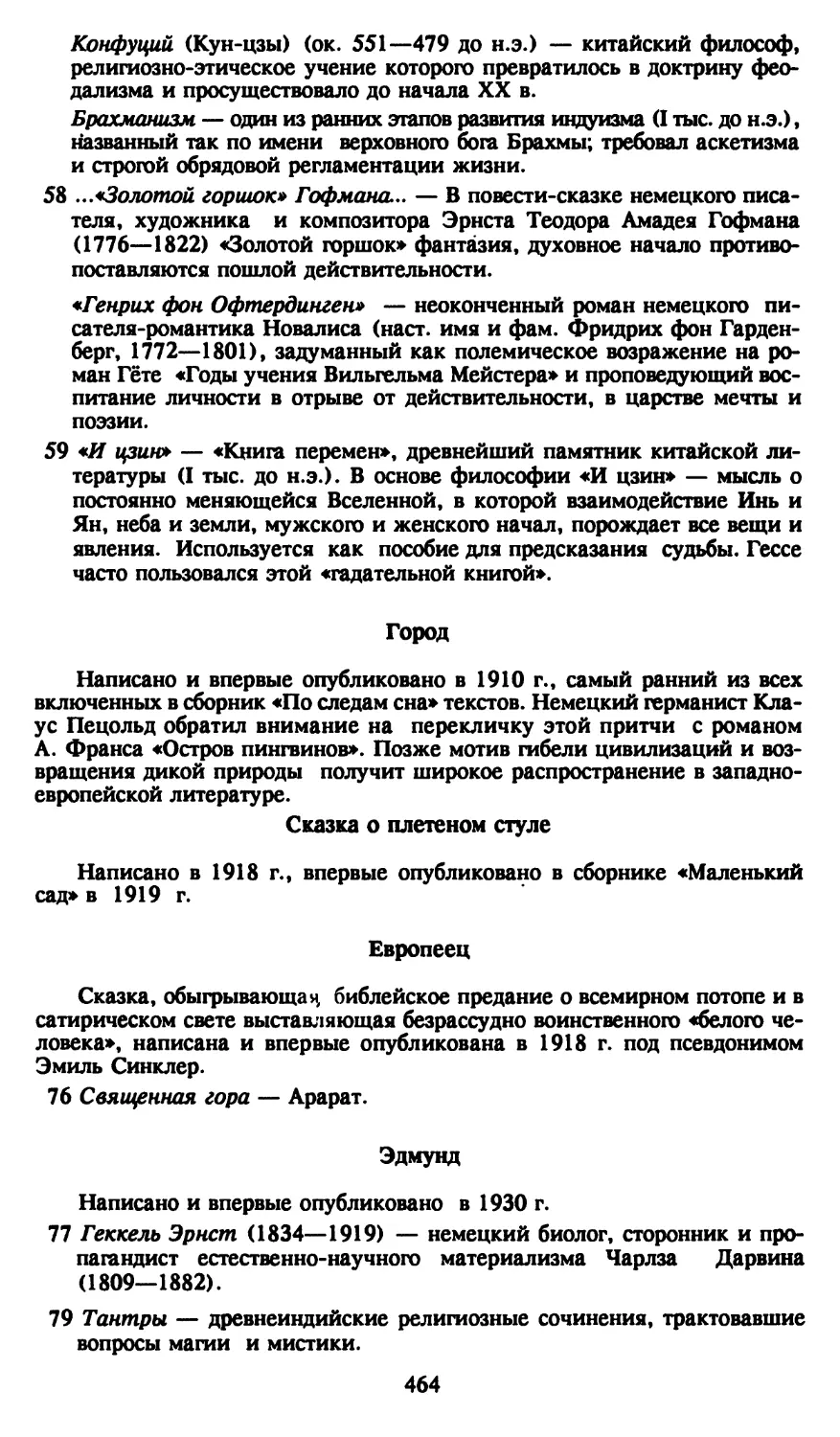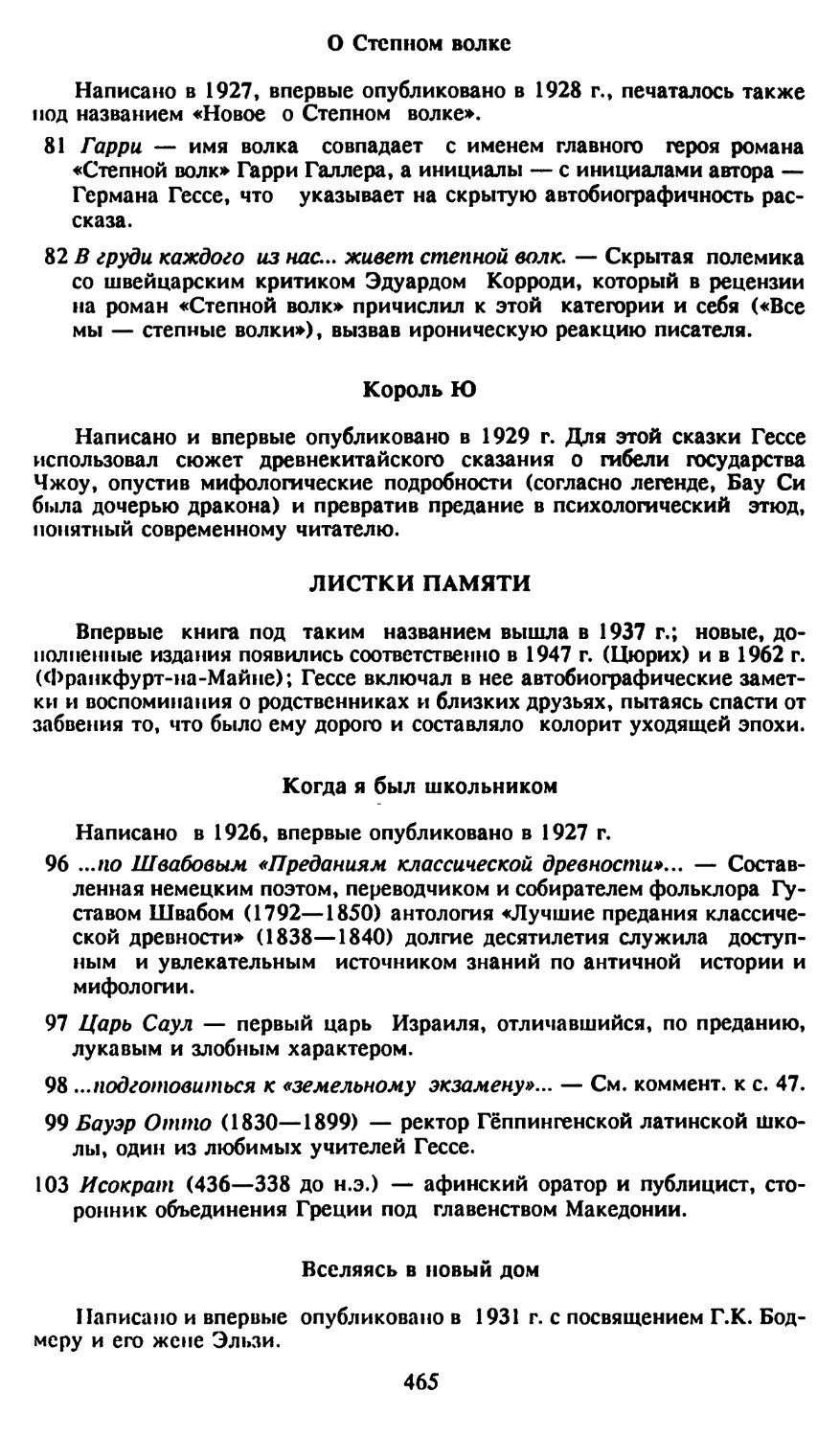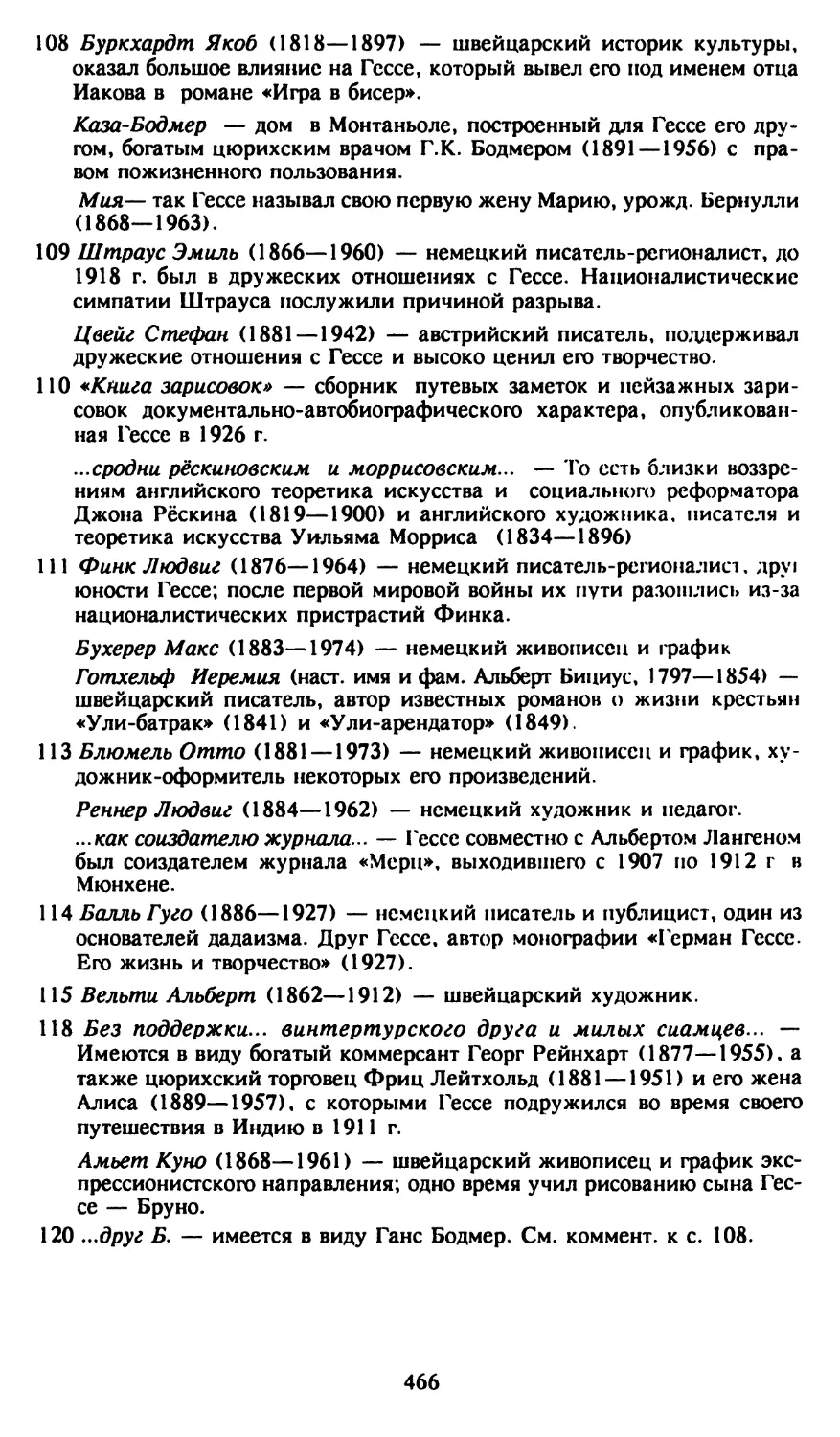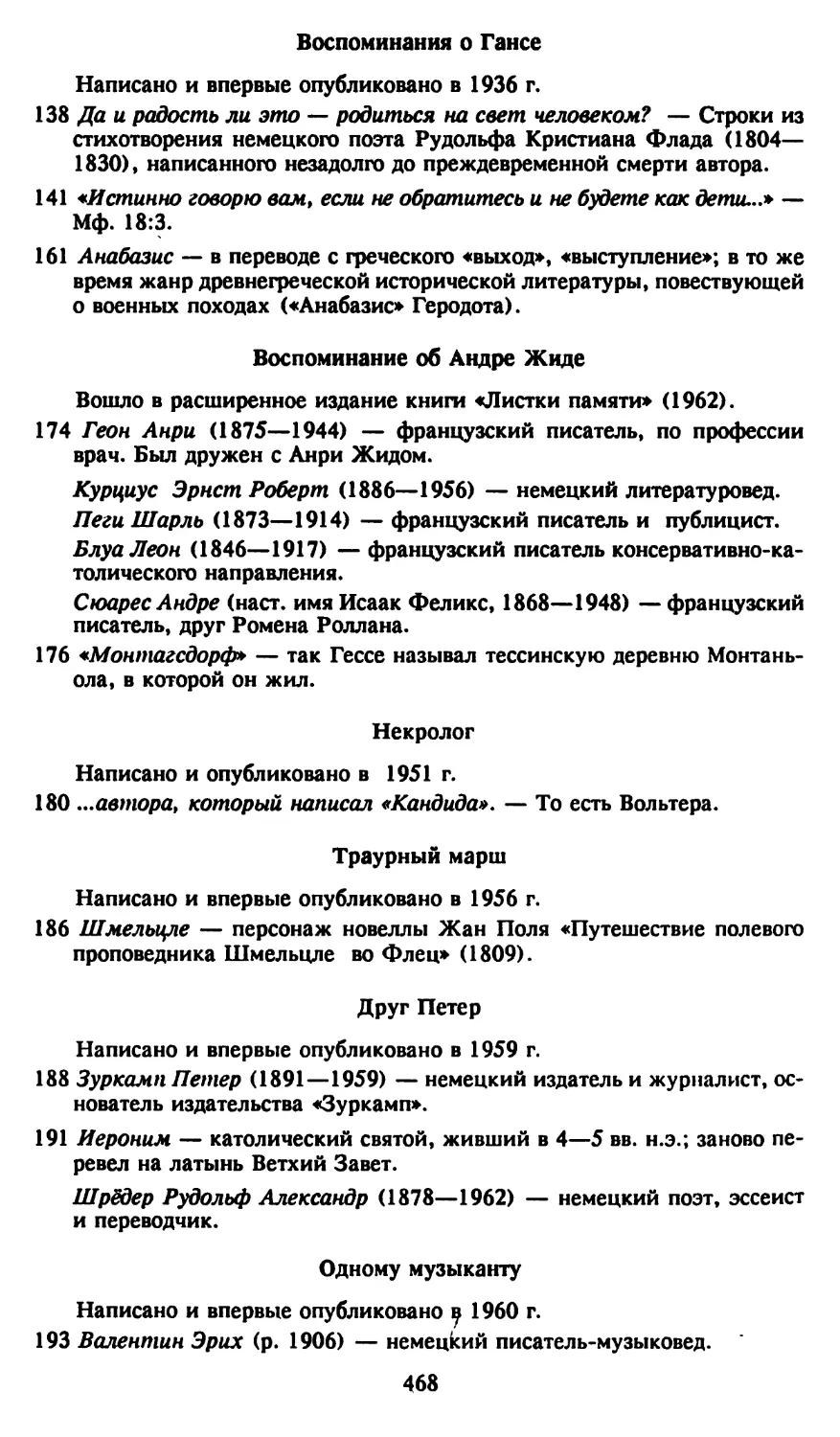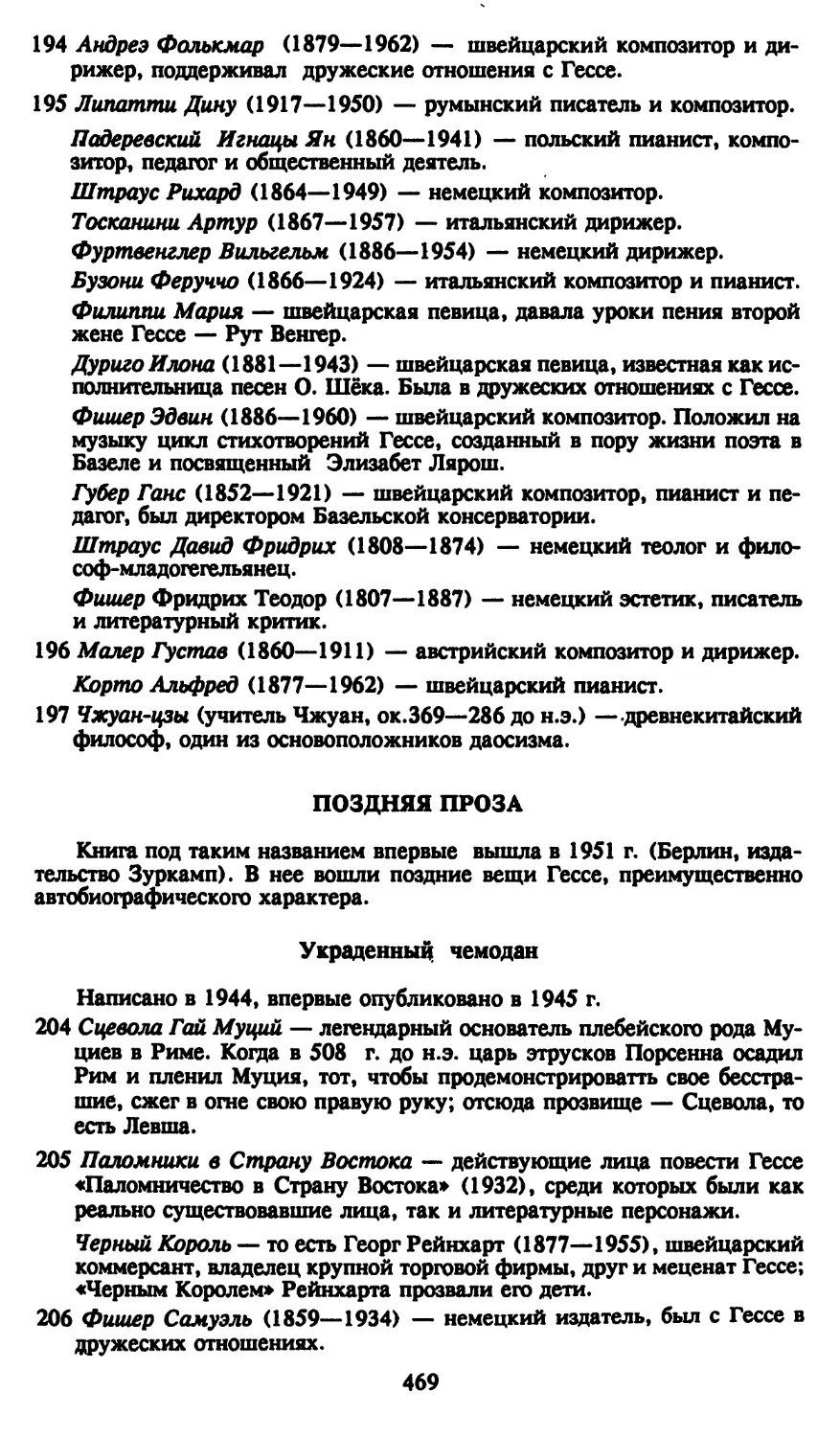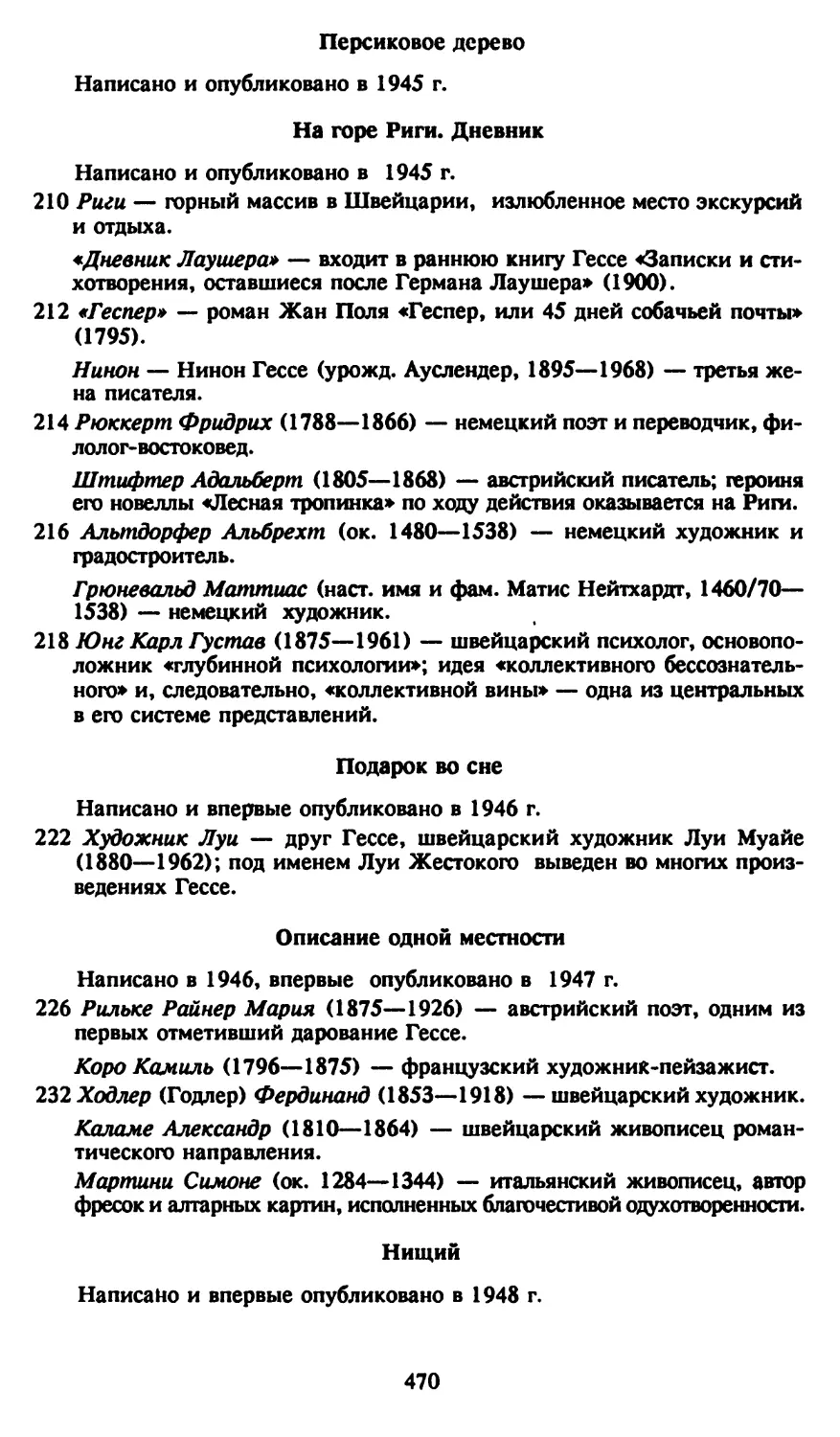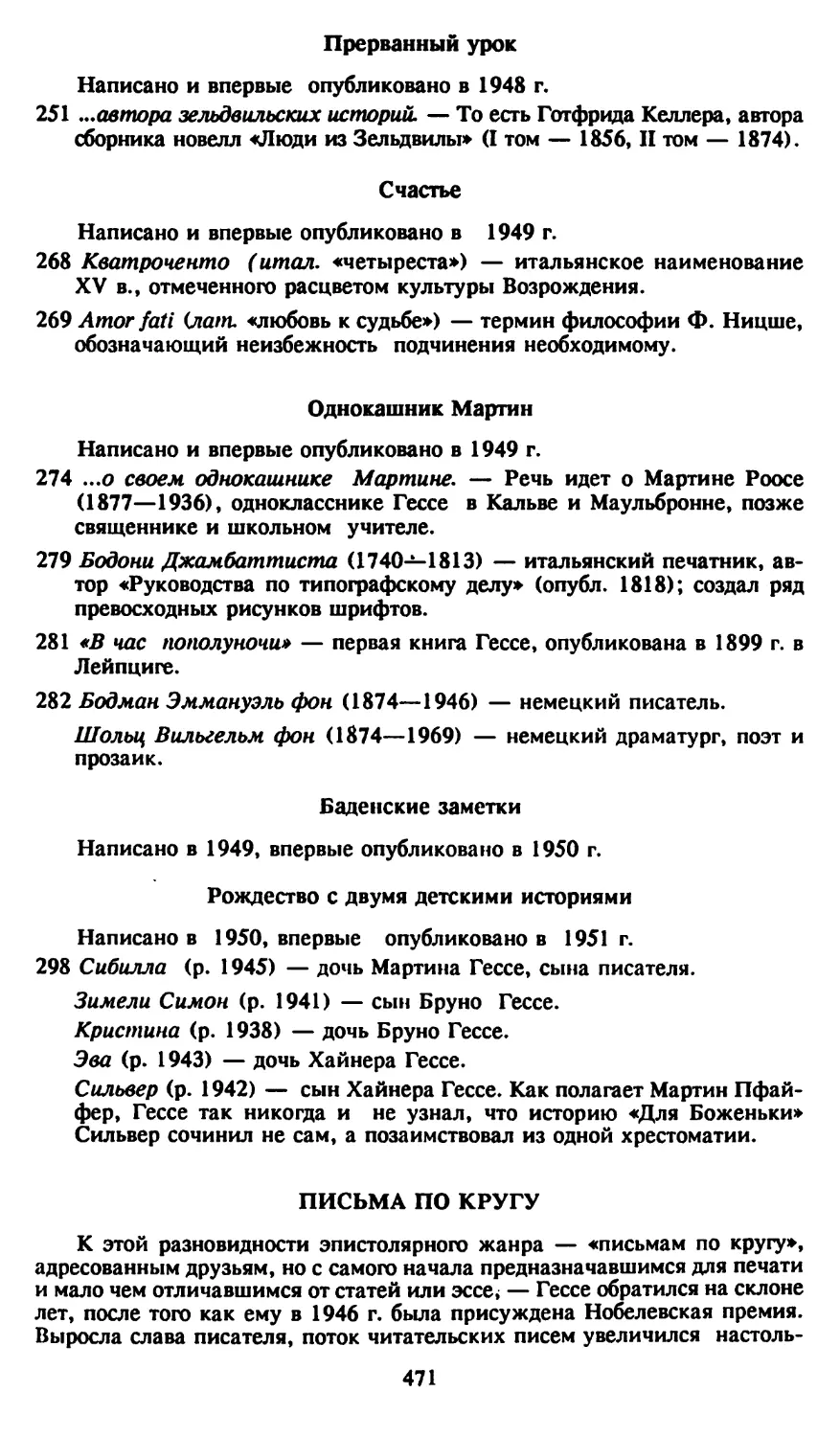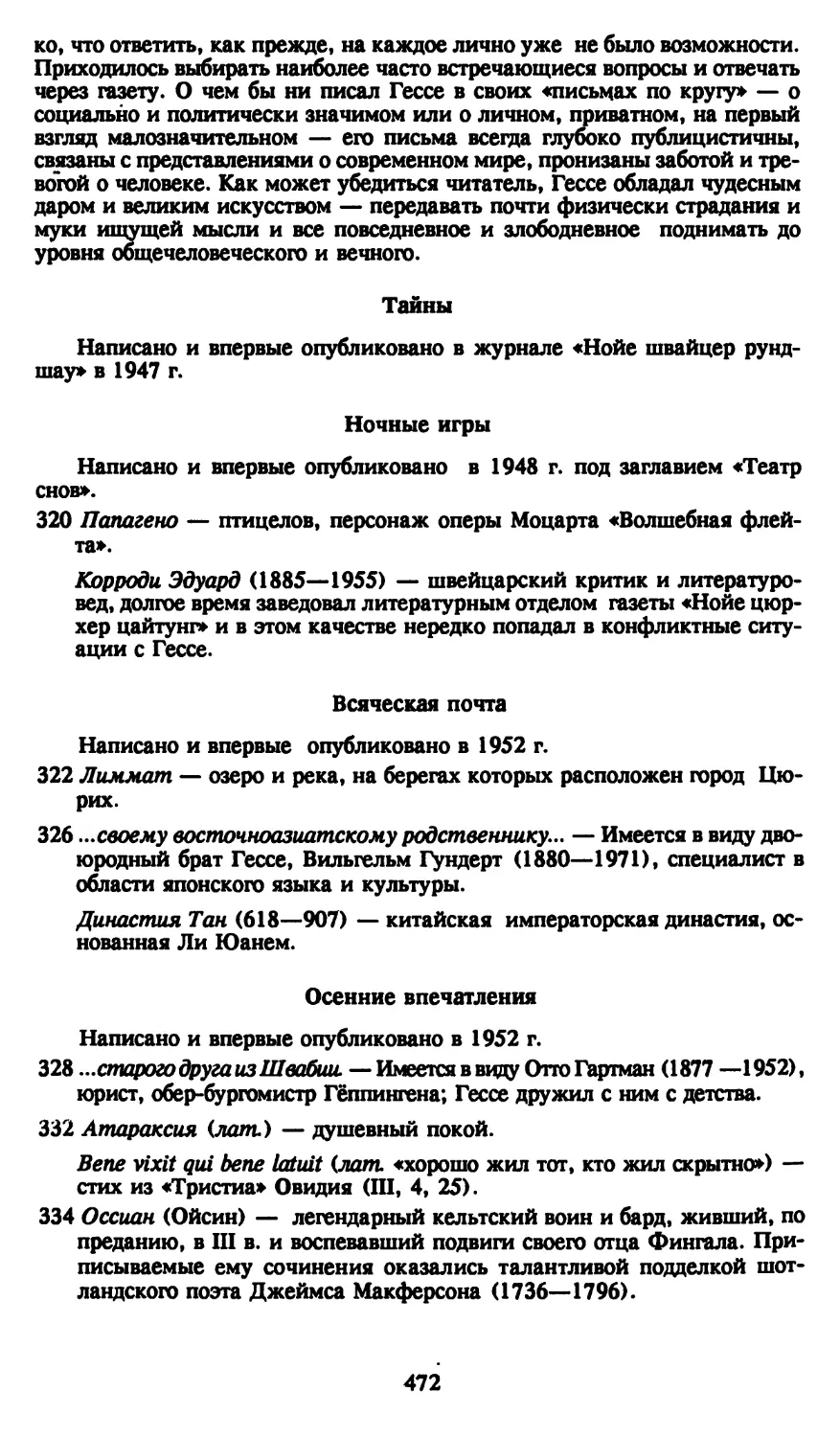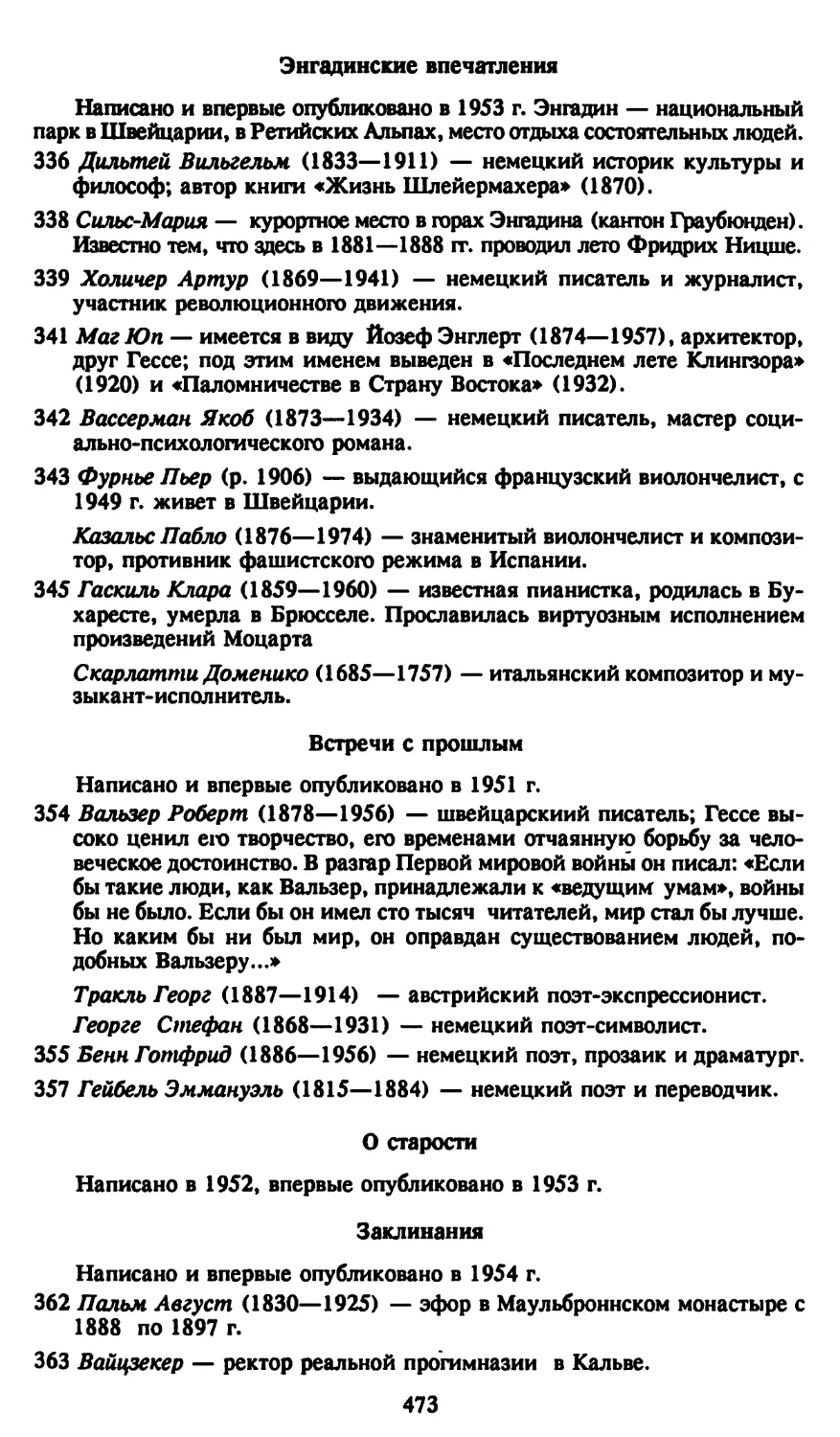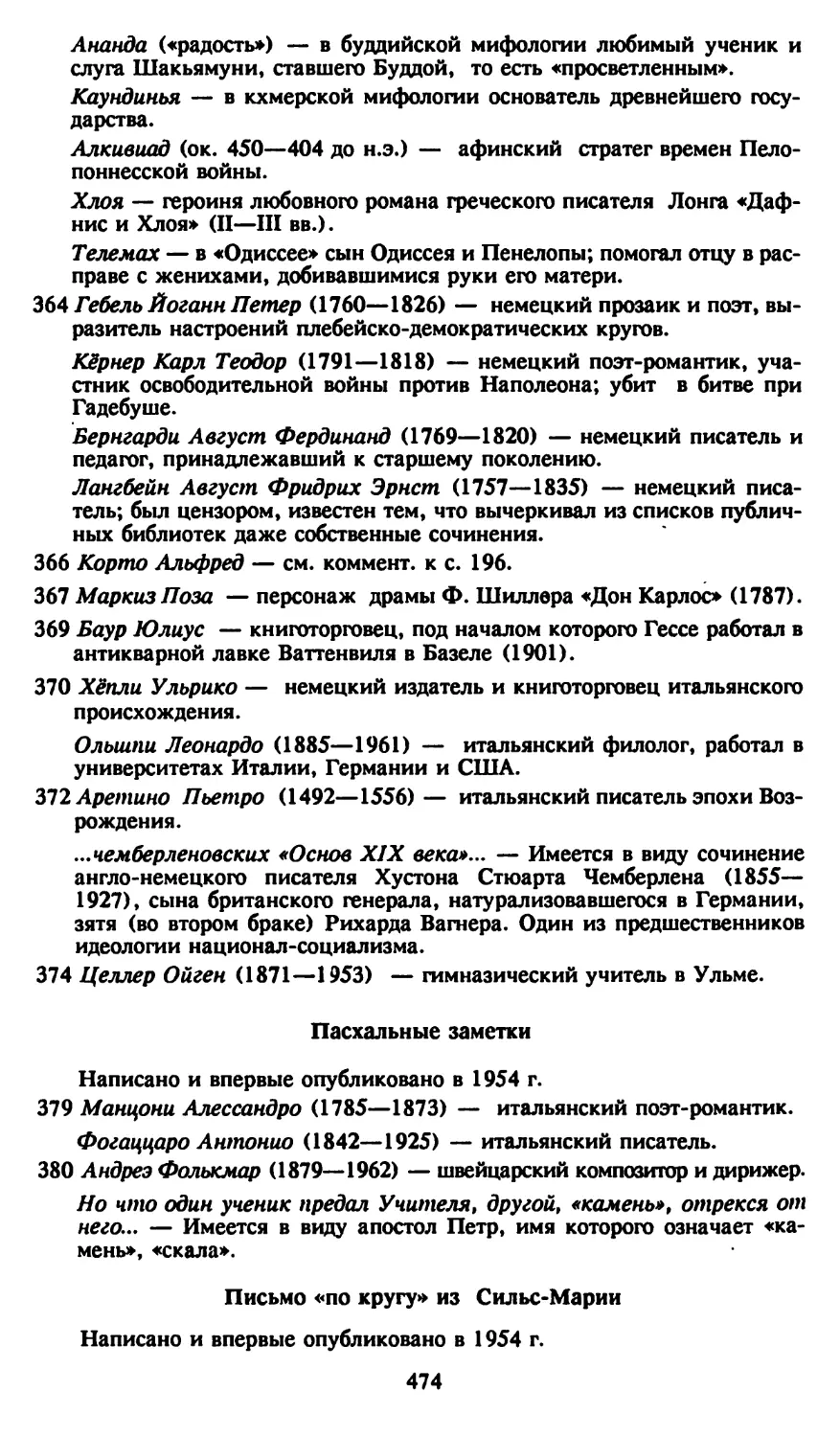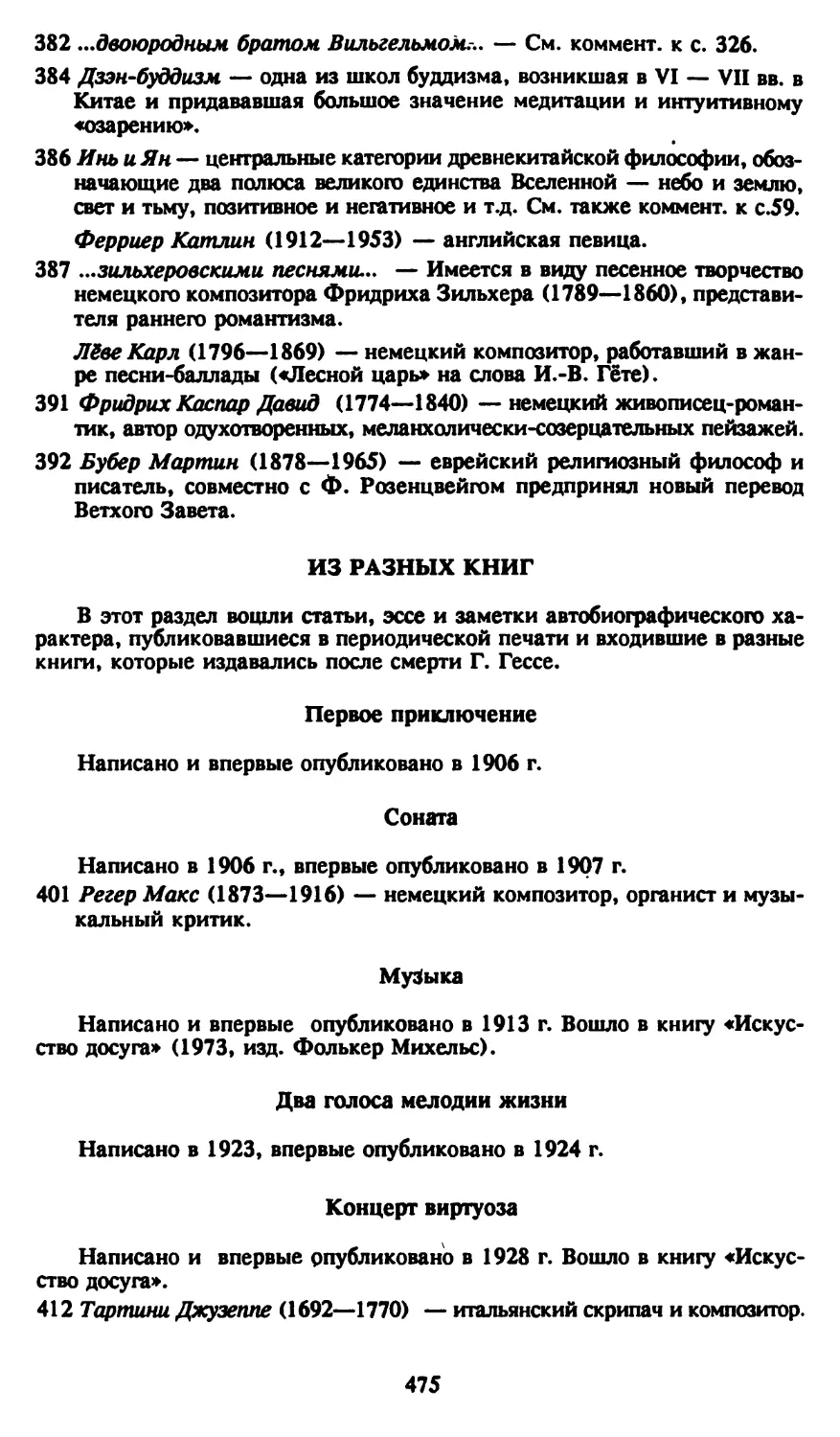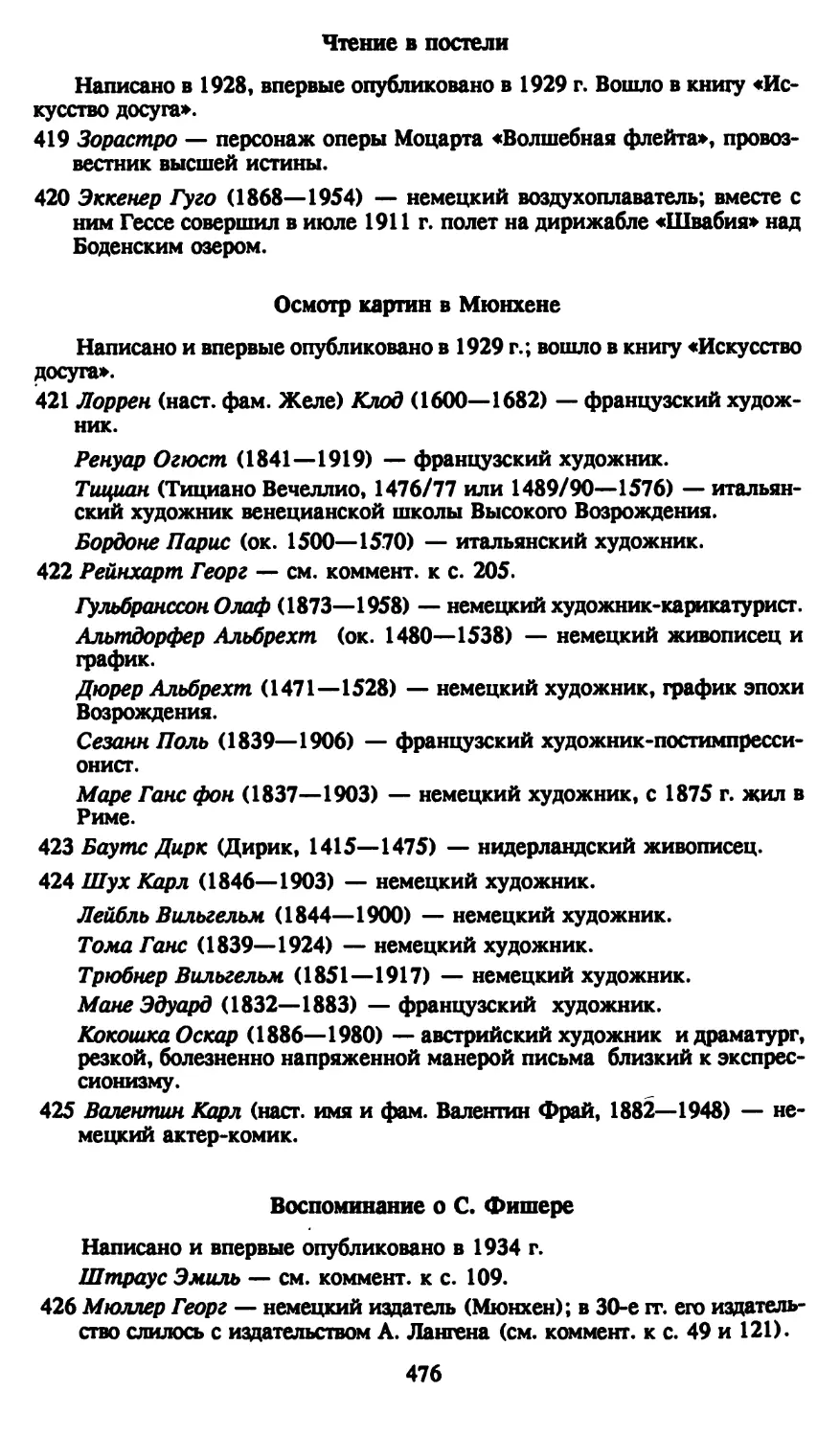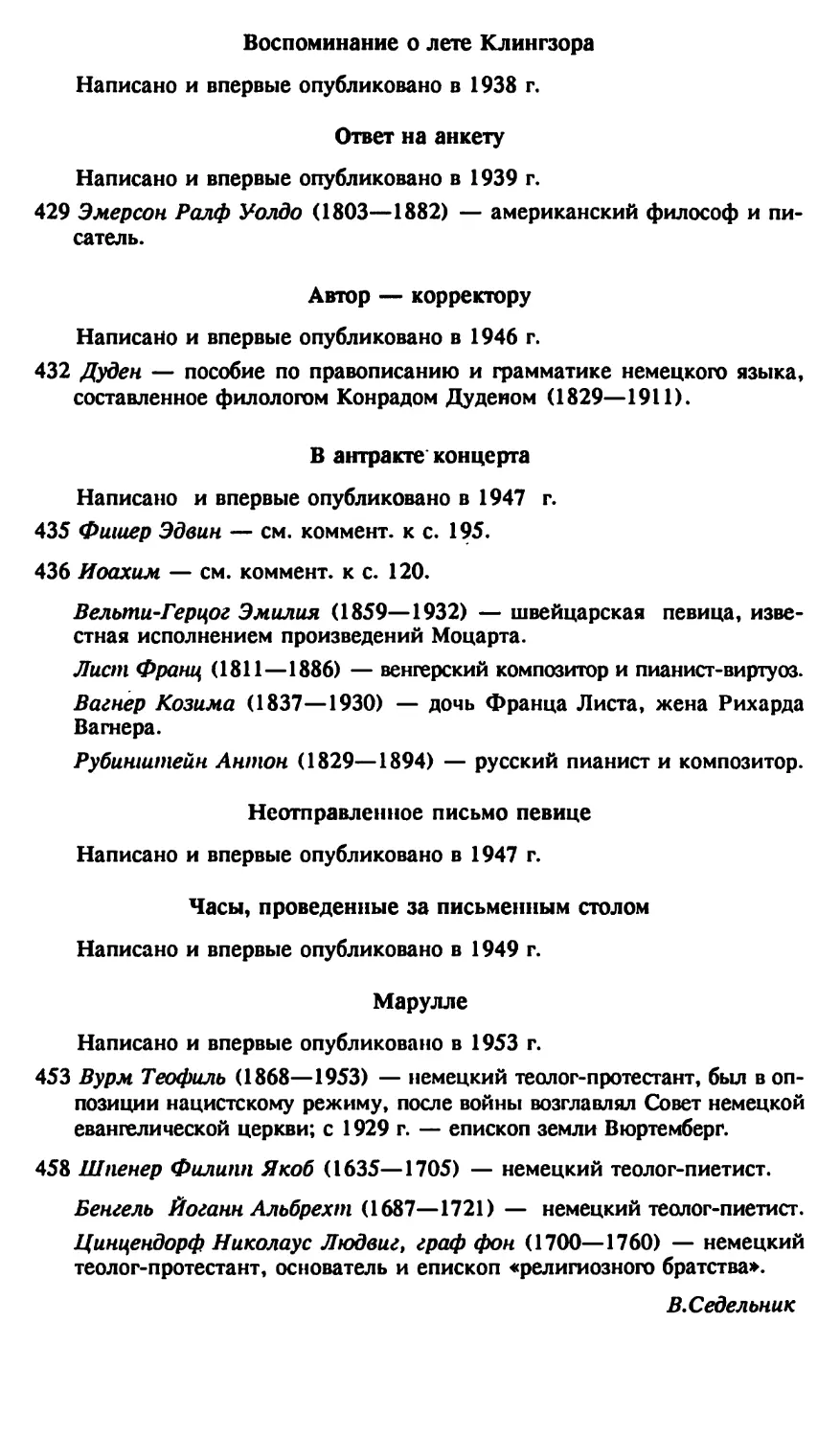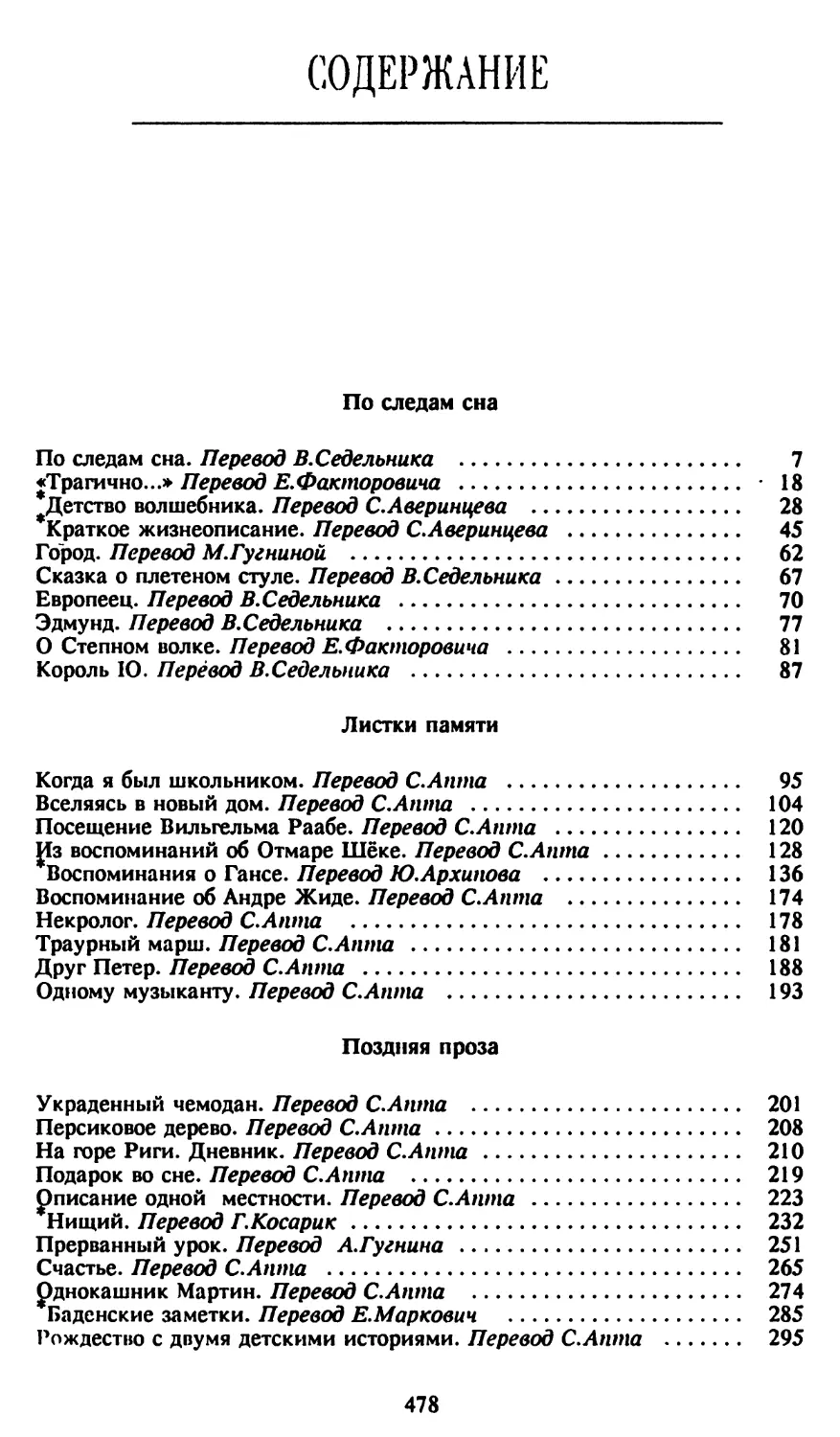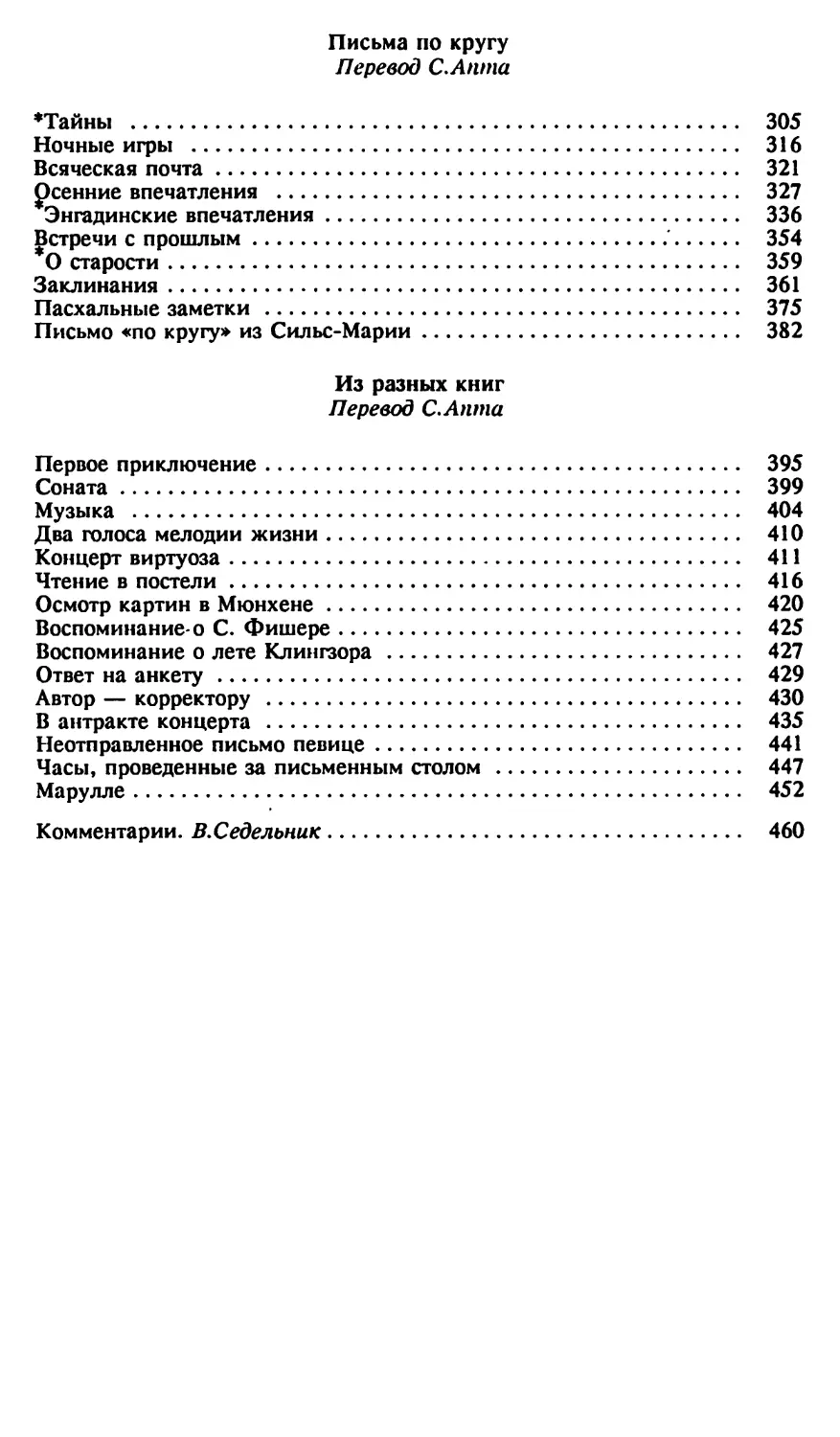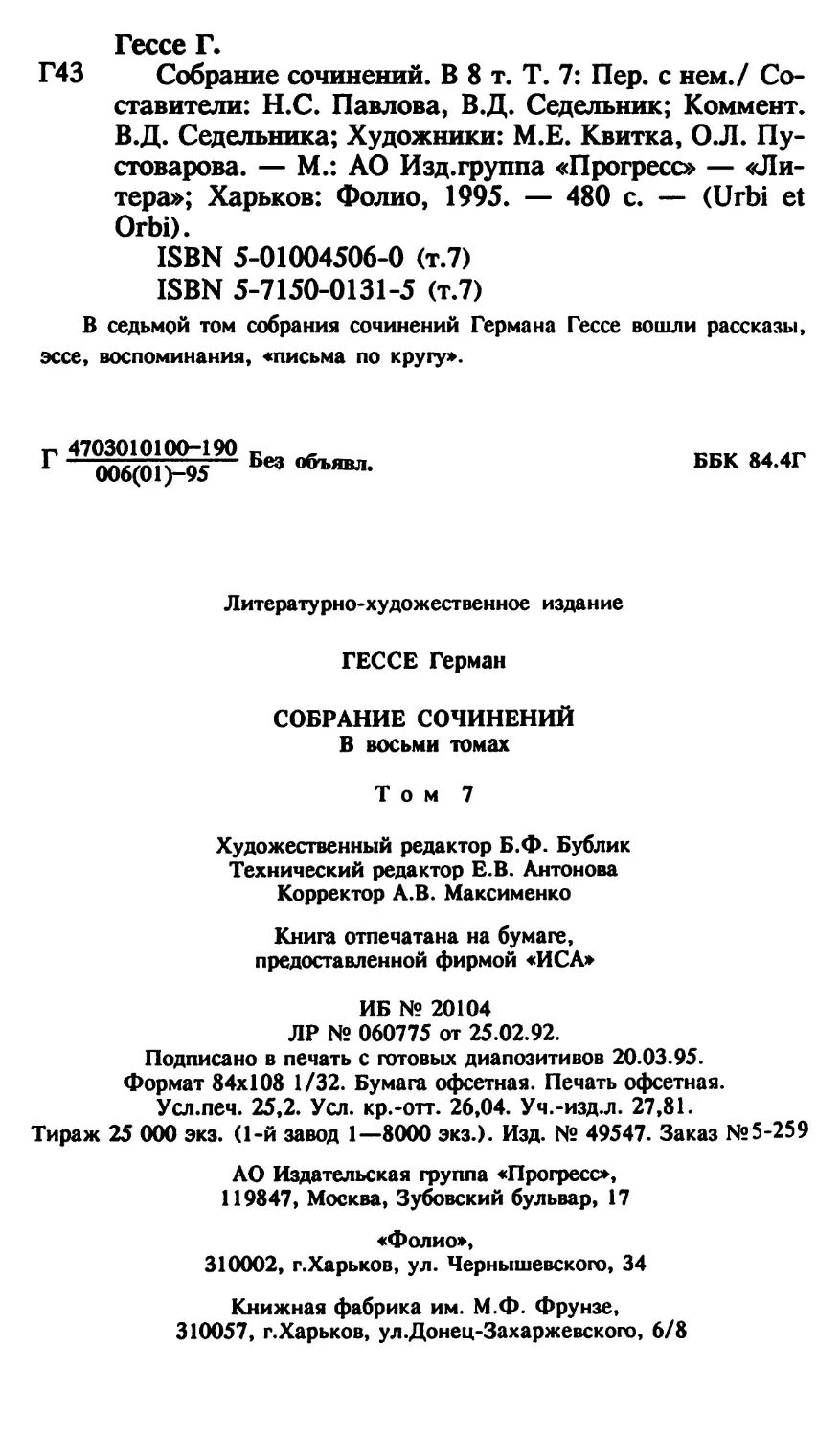Текст
URBI ETORBI
HERMANN
GESAMMELTE WERKE
ГЕРМАН
Т
пп
-к
к
J
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в восьми томах
7
Перевод с немецкото
МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС*-.ЛИТЕРА.
МОСКВА ТКО 4АСТ.
ХАРЬКОВ «ФОЛИО»
1995
ББК 84.4Г
Г 43
Серия «Urbi с! ОгЫ*
()сн01юна в 1994 1х)ду
Состанитсли
//.С. ПАВЛОВА, В.Д. СЕДЕЛЬНИК
Комментарии
В.Д. СЕДЕЛЬНИКА
Художники
М.Е. КВИТКА, О.Л. ПуставАРОПА
Редактор
Л. И. ПАВЛОВА
Координатор издательской программы
«URBI ЕТ ORBU
М.Е. ТОПОРИПСКИЙ
г. 4703010100—190 _ _
^ 006(0|)-95
© Составление, комментарии, пере¬
вод на русский язык, кроме произ¬
ведений, отмечетп.1х в содержа-
ISBN 5-01-004506-0 (т. 7) нии*. ЛО Издательская группа
ISBN 5-01-003874-9 «Профссс» - «Лтсра», 1995.
© Художественное оформление, Из¬
дательство «<1)олио», 1995.
ISBN 5-7150-0131-5 (т. 7) © Марка серии «Urbi el Orbi», Изла-
ISBN 5-7150-0133-1 тельство 4«Полярис>^, 1995.
по СЛЕДАМ СНА
AUS «TRAUMFAHRTE»
I
по СЛЕДАМ СНА
Зарисовка
ил-был человек, который занимался малопочтен-
- ным ремеслом сочинителя развлекательных
книг, однако принадлежал к тому небольшому кругу ли¬
тераторов, которые относились к своей работе с большой
серьезностью и пользовались таким :|се уважением немно¬
гих почрателей, какое в былые времена, когда еще су¬
ществовали поэзия и поэты, обыкновенно оказывалось
только подлинным художникам. Этот литератор сочинял
разного рода милые вещички, писал романы, рассказы и
стихи и при этом изо всех сил старался делать свое дело
как можно лучше. Однако ему редко случалось удовлет¬
ворить свое честолюбие, так как хотя он и считал себя
человеком скромным, но совершал ошибку и самонадеян¬
но сравнивал себя не со своими коллегами и современни¬
ками, а с поэтами прошедших эпох, то есть с теми, кто
давно уже выдержал испытание временем; снова и снова
он с болью замечал, что даже самая лучшая, самая удач¬
ная из когда-либо написанных им страниц далеко уступа¬
ет самой неудачной фразе или самому неудачному стиху
истинного художника. Досада его все нарастала, он не
получал от своей работы никакого удовлетворения и если
и сочинял время от времени какую-нибудь мелочишку,
то делал это исключительно ради того, чтобы дать недо¬
вольству и душевному оскудению выход и выражение в
форме горьких сетований по поводу своего времени и себя
самого. Естественно, от этого ничего не менялось к луч¬
шему. Иногда он пытался укрыться в волшебных садах
чистой поэзии и воспевал в прекрасных образах красоту,
прилежно воздавая должное природе, женщинам, друж¬
бе, и в этих его сочинениях действительно была извест¬
ная внутренняя музыка, имелось сходство с подлинными
произведениями настоящих поэтов, они напоминали об
этом, как иногда легкая влюбленность или растроганность
напоминают деловому или светскому человеку о его блуд¬
ной душе.
Однажды на исходе зимы или в преддверии весны этот
писатель, который очень хотел быть истинным художни¬
ком и которого иные даже почитали за такового, снова си¬
дел за своим письменным столом. Он встал по обыкнове¬
нию поздно, около полудня, проведя половину ночи за
чтением, и теперь сидел, уставясь на лист бумаги, где на¬
кануне вечером он оборвал последнюю фразу. Там были
умные вещи, изложенные гибким, изящным языком, попа¬
дались удачные находки, искусные описания, вспыхивали
иноща яркие фейерверки мысли, звучало нежное чувство —
и все же писателя разочаровали эти строки и страницы,
отрешенно сидел он перед тем, что сочинял накануне,
полный радости и воодушевления, что еще вчера походило
на истинную поэзию, но за ночь снова превратилось в бел¬
летристику, в убогую исписанную бумагу, потраченную
без всякой пользы.
И снова в этот немного грустный полуденный час он
задумался и вспомнил о том, о чем размышлял уже не
раз, — а именно о странном трагикомизме своего положе¬
ния, о нелепости тайных притязаний на истинную поэзию
(ибо истинной поэзии в современной действительности не
было и быть не могло), о неразумной ребячливости и тще¬
те своего желания создать благодаря любви к старинной
литературе, благодаря добротному образованию и тонкому
пониманию подлинной поэзии нечто такое, что могло бы
сравняться с этой поэзией или по крайней мере хотя бы
сильно походить на нее (ибо он хорошо знал, что с по¬
мощью образования и подражания вообще ничего не мо¬
жет быть создано).
Он также почти наверняка знал и понимал, что безна¬
дежное честолюбие и детские иллюзии — ни в коем слу¬
чае не его личная, только ему присущая черта: каждый
человек, даже внешне нормальный, даже кажущийся сча¬
стливым и удачливым, лелеет в себе это глупое и безна¬
дежное самообольщение, каждый непрестанно стремится к
чему-то недостижимому, и даже самый невзрачный видит
себя в мечтах Адонисом*, самый безголовый — мудрецом,
самый бедный — Крезом*. Более того, он почти наверняка
знал, что и с высоко почитаемым идеалом «истинной поэ¬
зии» не все обстоит благополучно, что Гёте совершенно
так же взирал на Гомера или Шекспира как на нечто не¬
досягаемое, как иной нынешний литератор взирает на Гё¬
те, и что понятие «поэт» — всего лишь благородная абст¬
ракция, что Гомер и Шекспир тоже были только литера¬
торами, талантливыми мастерами, которым удалось при¬
дать своим произведениям видимость надличного и вечно¬
го. Он почти наверняка знал все это — умные, мыслящие
люди обязаны знать о таких само собой разумеющихся
малоприятных вещах. Он знал или догадывался, что и ка¬
кая-то часть его собственных писаний, быть может, произ¬
ведет на читателей будущих времен впечатление «истин¬
ной поэзии», что будущие литераторы, быть может, станут
с завистью смотреть на него и на его время как на золотой
век, когда еще существовали истинные поэты, истинные
чувства, настоящие люди, подлинная природа и подлин¬
ный дух. Ему было известно, что и осанистый бюргер эпо¬
хи бидермейер*, и тучный обыватель средневекового горо¬
да столь же сентиментально противопоставляли свое раз¬
вращенное, испорченное время простодушному, наивному,
счастливому прошлому и взирали на своих дедов и на то,
как они жили, с той же смесью зависти и сожаления, с ка¬
кой нынешние люди склонны рассматривать блаженные
времена до изобретения паровой машины.
Все эти мысли были знакомы литератору, все эти ис¬
тины были ему известны. Он знал: та же игра, то же жад¬
ное, благородное и безнадежное стремление к чему-то зна¬
чительному, вечному, самоценному, побуждавшие его
исписывать бумажные листы, побуждали к этому и дру¬
гих — генерала, министра, депутата, элегантную даму,
ученика торговца. Все люди тем или иным способом, ра¬
зумным или неразумным, стремились превзойти себя и до¬
биться невозможного, воодушевляемые тайной мечтой, ос¬
лепленные блеском предшественников, тянущиеся к идеа¬
лам. Нет лейтенанта, который не мечтал бы выйти в На¬
полеоны, и нет Наполеона, который время от времени не
чувствовал бы себя мартышкой, не воспринимал бы свои
успехи как фишки в игре, а свои цели — как иллюзию.
Нет человека, который бы не участвовал в этой пляске и
в то же время так или иначе не догадывался о тщете своих
усилий. Да, были совершенные, были богочеловеки, были
Будда и Иисус, был Сократ. Но и они были совершенными
и наделенными великой мудростью только одно-единст-
венное мгновение — в момент смерти. Да и смерть их бы¬
9
ла не чем иным, как постижением конечного смысла, по¬
следним, наконец-то удавшимся актом самоотречения. И
вполне вероятно, что это свойственно всякой смерти,
вполне вероятно, что каждый умирающий — совершенен,
ибо он не совершает больше ошибок и ни к чему не стре¬
мится, отрекается от себя, хочет стать ничем.
Такого рода мысли, какими бы бесхитростными они ни
были, мешают человеку в его делах и стремлениях, мешают
вести свою игру. Поэтому работа усердного писателя ни¬
сколько не продвинулась за. этот час вперед. Не было ни
одного слова, достойного быть запечатленным на бумаге, не
было мысли, которой действительно стоило бы поделиться
с другими. Нет, лучше не переводить бумагу, лучше сохра¬
нить листы чистыми.
С этим чувством литератор отложил перо и спрятал
бумагу в ящик письменного стола; будь рядом камин, он
бросил бы их в огонь. Ситуация была для него не нова, это
было уже не раз пережитое им, не раз усмиренное и по¬
тому ставшее покладистым отчаяние. Он вымыл руки, на¬
дел пальто и шляпу и вышел из дома. Перемена места
давно уже стала его испытанным лекарством, он знал, как
вредно в таком настроении оставаться долго наедине с ис¬
писанными и чистыми листами в одном помещении. Луч¬
ше было выйти, подышать воздухом, поупражнять глаза
разглядыванием уличных картинок. Навстречу могла по¬
пасться красивая женщина, он мог столкнуться с другом,
стайка школьников или какая-нибудь необычная выставка
в витрине могли натолкнуть его на другие мысли, могло
случиться, что на перекрестке его переехал бы автомобиль
кого-нибудь из сильных мира сего — газетного магната
или богатого булочника; возможностей изменить положе¬
ние, оказаться в новой ситуации было сколько угодно.
Медленно брел он, вдыхая влажный мартовский воз¬
дух, смотрел, как покачиваются кустики подснежников,
растущие на унылых газонах перед доходными домами.
Его потянуло в парк. Там он сел на освещенную солнцем
скамейку под голыми деревьями и в этот теплый час ран¬
ней весны отдался игре чувств. Как мягко касался его щек
воздух, как ярилось и кипело скрытым жаром солнце, как
сурово и робко пахла земля, с какой игривой нежностью
топали время от времени по усыпанным гравием дорожкам
детские башмачки, как прелестно и сладкогласно пел в го¬
лых кустах дрозд. Да, все было прекрасно, весна, солнце,
10
дети и дрозд радовали человека, как и многие тысячи лет
до этого, а коли так, то почему бы и сегодня не попытать¬
ся сочинить славное стихотворение о весне, какие писа¬
лись и пятьдесят, и сто лет назад? Но из этого ничего не
вышло. Достаточно было вспомнить • весеннюю песню
Уланда* (правда, вместе с музыкой Шуберта, вступитель¬
ные такты которой были полны сказочным, пронизываю¬
щим и возбуждаюпцш запахом весны), чтобы убедиться:
подобные восхитительные вепщ уже сочинены и современ¬
ному поэту нет смысла подражать этим бесконечно совер¬
шенным, источающим блаженство творениям.
В тот момент, когда мысли поэта снова вознамерились
повернуть на старую бесплодную дорогу, он зажмурился и
сквозь узк)оо щелку полуприкрытых век заметил, причем
не одними только глазами, легкое колыхание и мерцание,
островки света, игру солнечных бликов и пятнистых те¬
ней, омытую светом голубизну неба, сверкаювщй хоровод
стремительных отблесков, — так бывает, когда смотришь,
зажмурившись, на солнце, но все было как-то по-особен¬
ному четко, драгоценно и неповторимо, все благодаря ка¬
кому-то тайному смыслу превращалось из простого oп^y-
щения в душевное переживание. То, что сверкало обиль¬
ными переливами -лучей, двигалось, расплывалось, волно¬
валось и било крыльями, рождалось не только из напора
света извне, воспринималось не только глазами, нет, это
была сама жизнь, порыв, идущий изнутри, зародившийся
в душе, это была сама судьба. Таким видится мир поэтам,
«ясновидцам», таким восхитительно-потрясающим пред¬
ставляется он тому, кого коснулся своим крылом Эрос. Ис¬
чезла мысль об Уланде, Шуберте и весенней песне, не бы¬
ло больше Уланда, не было поэзии, не было прошлого, все
было только вечным мгновением, переживанием, внутрен¬
ней, глубинной действительностью.
Отдавшись чуду, которое он переживал не раз, но к ко¬
торому, как ему казалось, давно уже утратил способность,
он несколько бесконечных мгновений парил в вечности,
ощущая гармонию души и мира, чувствуя, что своим ды¬
ханием может управлять облаками, чувствуя, как обжига¬
ющим комом ворочается в его груди солнце.
Пока он смотрел перед собой, прикрыв глаза, погру¬
зившись в удивительное переживание и наполовину от¬
ключившись от внешнего мира, так как знал, что блажен¬
ный поток льется изнутри, недалеко появилось нечто,
11
привлекшее его внимание. Не сразу, постепенно он понял,
что это ножки девочки, почти еще ребенка, ножки в баш¬
мачках из коричневой кожи; они уверенно и весело, на¬
жимая на каблучки, топали по гравию дорожки. Башма¬
чок из коричневой кожи, по-детски радостное мельканье
подошвы, полоска шелкового чулка над нежной лодыжкой
о чем-то напомнили писателю, внезапно наполнили его
сердце и память каким-то важным переживанием, но он
никак не мог припомнить — каким именно. Детский баш¬
мачок, детская ножка, детский чулок — какое ему дело до
всего этого? Где ключ к загадке? Какой источник в его ду¬
ше отозвался именно на этот образ среди миллионов дру¬
гих, возлюбил его, вобрал в себя, ощутил его привлека¬
тельность, его важность? Он широко открыл глаза, на
мгновение увидел всего ребенка, восхитительное дитя, но
тут же почувствовал, что это уже не тот образ, который
имеет отношение к нему, важен для него; он снова сощу¬
рил глаза, оставив только узкую щелочку, сквозь которую
были видны убегавшие ножки. Затем он плотно закрыл
глаза и задумался над увиденным, чувствуя, что тут что-
то есть, но не зная, что именно, терзаемый тщетными уси¬
лиями, осчастливленный тем, как глубоко всколыхнул его
душу этот образ. Где-то, когда-то он уже видел эту ножку
в коричневом башмачке, и она произвела на него сильное
впечатление. Когда это было? О, должно быть, очень дав¬
но, в незапамятные времена — из таких далей, из такой
немыслимой глубины смотрел на него этот образ, погру¬
женный в бездонный колодец его памяти. Быть может, он
носил его в себе, пока не обнаружил сегодня, с самого ран¬
него детства, с той баснословной поры, воспоминания о ко¬
торой расплылись и потеряли выразительность, их было
трудно вызвать, и все же они были красочнее, нежнее,
полнее всех позднейших наслоений памяти. Долго сидел
он с закрытыми глазами и покачивал головой, в памяти
мелькала то одна цепочка воспоминаний, то другая, но ни
в одной не было ребенка, не было коричневого детского
башмачка. Нет, ничего не вспоминалось, не имело смысла
продолжать поиски.
Как и всякий, кто роется в памяти, он никак не мог об¬
наружить то, что было совсем рядом, так как полагал, что
предмет его поисков лежит где-то очень далеко, и потому
видел все в искаженном свете. Но в тот самый момент,
когда он отказался от своих попыток и уже готов был от¬
12
бросить и забыть маленькое смешное переживание, родив¬
шееся из солнечных бликов, все повернулось по-иному и
детский башмачок занял подобающее ему место. С глубо¬
ким вздохом писатель вдруг понял, что в его переполнен¬
ном образами внутреннем мире детский башмачок нахо¬
дился не глубоко внизу, относился не к давним сокрови¬
щам, а был совершенно свежим и новым впечатлением.
Ему показалось, что с этим ребенком он имел дело совсем
недавно, что совсем недавно видел этот убегавший башма¬
чок.
И вдруг он вспомнил. Ну да, конечно же, ребенок, ко¬
торому принадлежал башмачок, был частью сна, приснив¬
шегося писателю прошлой ночью. Бог ты мой, как он мог
это забыть? Он проснулся среди ночи, осчастливленный и
потрясенный таинственной силой приснившегося ему сна,
проснулся и почувствовал, что пережил нечто значитель¬
ное и замечательное, — но вскоре снова погрузился в сон,
и одного часа утреннего сна оказалось достаточно, чтобы
вытравить из памяти это чудесное событие. И только сей¬
час, в эту секунду, разбуженный видом мелькнувшей пе¬
ред ним детской ножки, он снова вспомнил об этом. Таки¬
ми мимолетными, такими непрочными и целиком завися¬
щими от случая оказались глубочайшие, удивительнейшие
впечатления нашей души! Вот и сейчас ему никак не уда¬
валось восстановить в памяти сон той ночи. Всплывали,
чаще всего без всякой связи, только отдельные образы, то
яркие и полные жизни, то серые и запь^енные, уже на¬
чинающие расплываться. А какой это был прекрасный,
глубокий, восхитительный сон! Как билось его сердце,
когда он проснулся в первый раз среди ночи, — востор¬
женно и робко, словно в праздники времен детства! Его
переполняло жгучее чувство, что благодаря этому сну он
пережил нечто возвышенное, важное, незабываемое, не-
отьемлемое от его жизни! И вот теперь, спустя всего не¬
сколько часов, осталась только эта частичка сна, осталось
несколько уже поблекших образов и этот слабый отзвук в
сердце — все остальное пропало, ушло, умерло!
В любом случае надо было спасать то немногое, что со¬
хранилось в памяти. Писатель решил немедленно восстано¬
вить и как можно точнее записать все, что осталось от сна.
Он тут же вынул из кармана записную книжку и набросал
первые ключевые слова, чтобы потом восстановить ход и
очертания всего сна, его главные линии. Но и это ему не
13
удалось. Начало и конец сна были неразличимы, он не
знал, куда поместить большинство из еще сохранившихся
в памяти обрывков сновидения. Нет, надо все сделать по-
другому. Сперва следовало спасти то, что уже имелось в
наличии, запечатлеть еще не угасшие образы, в первую
очередь детский башмачок, пока эти пугливые волшебные
птички не разлетелись в разные стороны.
Как могильщик пытается прочитать найденную на
древнем камне надпись, опираясь на немногие еще разли¬
чимые буквы и значки, так и писатель старался расшиф¬
ровать свое сновидение, собирая его из сохранившихся об¬
рывков.
Во сне ему привиделась девочка, странная, не сказать,
чтобы красивая, но по-своему удивительная. Ей было лет
тринадцать-четырнадцать, но она выглядела старше своего
возраста. У нее было загорелое лицо. А глаза? Нет, глаз он
не видел. Как ее звали? Неизвестно. Какое отношение име¬
ла она к нему, сновидцу? Стоп! Там был коричневый баш¬
мачок! Он видел, как этот башмачок движется вместе со
своей парой, видел, как он танцует, выделывает па, па
вальса-бсхггона. О, теперь он вспомнил очень многое. Надо
начать сначала.
Итак: во сне он танцевал с удивительной, незнакомой,
маленькой девочкой, почти ребенком с загорелым лицом, в
башмачках из коричневой кожи — а не было ли и все ос¬
тальное того же цвета? Каштановые волосы? Карие глаза?
Коричневое платье? Нет, этого он уже не помнил, возмож¬
но, так все и было, но утверждать он не мог. Надо сохра¬
нить то, в чем не сомневаешься, что и впрямь удержалось
в памяти, иначе все расплывется. Он уже начал догады¬
ваться, что эти потуги вспомнить сон заведут его далеко,
что он вступил на долгий, бесконечный путь. И тут ему
вспомнилась еще одна деталь.
Да, он танцевал с малыппсой, или хотел танцевать, или
должен был танцевать, и она — пока без него — сделала
несколько быстрых, эластичных и восхитительно упругих
танцевальных шагов. Или и он танцевал с ней? Нет. Нет,
он не танцевал, он только хотел танцевать, во всяком слу¬
чае, так было договорено, между ним и кем-то еще, что он
будет танцевать с этой маленькой шатенкой. Но танцевать
все же она начала без него, одна, он немного боялся или
стеснялся этого танца, это был босгон, он танцевал его не
очень хорошо. Тогда она начала танцевать одна, играючи,
14
удивительно ритмично, старательно выписывая на ковре
танцевальные фигуры своими маленькими ножками, обу¬
тыми в коричневые башмаки. Но почему не танцевал он?
Или почему он первоначально хотеть танцевать? Что это
был за уговор? Этого он не мог вспомнить.
Но тут возник другой вопрос: на кого была похожа де¬
вочка, кого она напоминала? Долго и тщетно искал он от¬
вет на этот вопрос, все снова показалось ему безнадежной
затеей, на какое-то время его охватило нетерпение и раз¬
дражение, он уже хотел махнуть на все рукой. Но тут его
снова осенило, мелькнул еще один силуэт. Малышка была
похожа на его возлюбленную — о нет, сходства не было,
он даже удивился, как мало она походила на нее, хотя и
была ее сестрой. Стоп! Ее сестрой? Вся цепочка снова ярко
вспыхнула и обозначилась, все обрело смысл, оказалось на
своем месте. Он начал записывать сначала, влекомый вне¬
запно выступающими на бумаге словами, восхищенный
возвращением образов, которые считал потерянными.
Вот как это было: во сне он видел свою возлюбленную,
Магду, и была она не в сварливом, недобром настроении,
как в последнее время, а весьма приветливой, немного
притихшей, спокойной и ласковой. Магда поздоровалась с
ним с особенной нежностью, но без поцелуя, она протяну¬
ла ему руку и сказала, что хочет наконец познакомить его
со своей матерью и там, у матери, он увидит ее младшую
сестру, которой предназначено стать позже его возлюблен¬
ной и женой. Сестра много моложе ее и очень любит тан¬
цевать, он быстро понравится ей, если сходит с ней на
танцы.
Как прекрасна была Магда в этом сне! Как сияло в ее
ясных глазах, на ее чистом лице, как благоухало в ее гус¬
тых волосах все то особенное, милое, душевное и нежное,
что так нравилось ему в ней в пору расцвета их любви.
Потом, во сне же, она повела его в дом, в свой дом, в
дом своей матери и своего детства, в хоромы своей души,
чтобы показать ему там свою красавицу сестру, он должен
был познакомиться с ней и полюбить ее, ибо она была
предназначена ему в. возлюбленные. Он уже не помнил,
как выглядел дом, помнил только прихожую, где ему при¬
шлось ждать, мать тоже не попалась ему на глаза, в глу¬
бине он заметил только старуху, одетую в серое или чер¬
ное платье, то ли бонну, то ли сиделку. Потом вошла ма¬
лышка, сестра, восхитительное дитя, девочка лет десяти¬
15
одиннадцати, но на вид ей уже можно было дать все че¬
тырнадцать. Особенно по-детски выглядела ее ножка в ко¬
ричневом башмачке, совершенно невинная, улыбчивая и
неискушенная, совершенно не дамская и в то же время та¬
кая женственная! Девочка приветливо с ним поздорова¬
лась, и с этого момента Маща исчезла, осталась только ее
сестра. Вспомнив о совете Мащы, он предложил ей потан¬
цевать. Вся засияв, она тут же кивнула и, не колеблясь,
стала танцевать, одна, он не решился обнять ее за талию
и последовать за ней, во-первых, потому, что она была так
прекрасна и совершенна в своем детском танце, и, во-вто¬
рых, потому, что танцевала она бостон, а он в этом танце
чувствовал себя неуверенно.
В самый разгар своих усилий оживить силуэт сна ли¬
тератор на мгновение самому себе показался смешным.
Ему пришло в голову, что он только что думал о беспо¬
лезности попыток написать стихотворение о весне, ибо все
на эту тему уже давно было высказано самым непревзой¬
денным образом, но, коща он думал о ножках танцующей
девочки, о легких, цтциодных движениях коричневых
башмачков, о чисто выполненной на ковре танцевальной
фигуре, ему было ясно, что стоило воспеть эти ножки —
и можно было превзойти все то, что поэты прежних вре¬
мен коща-либо сказали о весне, юности и предвкушении
любви. Но едва его мысли свернули в эту область, едва он
начал легкую игру с мыслью о стихотворении, посвящен¬
ном ножке в коричневом башмачке, как с -ужасом почув¬
ствовал, что сон снова ускользает от него, что все волшеб¬
ные образы расплываются и тают. Он испуганно повернул
мысли в прежнее русло, но все же почувствовал, что сон,
хотя его содержание и было зафиксировано им на бумаге,
в этот момент уже не принадлежал ему полностью, стано¬
вился каким-то чужим и давним. Так бывает всегда, по¬
думал писатель: эти восхитительные образы до тех пор
принадлежат ему и наполняют его душу своим ароматом,
пока он остается с ними всем сердцем, без посторонних
мыслей, без намерений и забот.
Задумчиво возвращался писатель домой, неся в себе сон,
как бесконечно тонкую, бесконечно хрупкую игрушку из
тончайшего стекла. Ах, если бы только ему удалось полно¬
стью восстановить в себе образ возлюбленной, явившейся
во сне! Из немногих драгоценных обрывков, из коричневого
башмачка, танцевальной фигуры, коричневых бликов на
16
лице девочки восстановить целое — это казалось ему важ¬
нее всего на свете. И разве это и впрямь не чрезвычайно
важно для него? Разве не было ему ^ещано, что это гра¬
циозное весеннее создание станет его возлюбленной, разве
не родилось оно из глубочайших, лучших источников его
души, не явилось ему как символ будущего, как предвку¬
шение грядущей суд^ы, как его сокровеннейшая мечта о
счастье?.. Эти вопросы пугали его, но в глубине души он
чувствовал бесконечную радость. Разве не удивительно,
что во сне можно было увидеть такие вещи, что он носил в
себе этот мир из сказочного воздушного материала, тце мы
так часто отчаянно ищем, словно в груде развалин, остатки
веры, радости, жизни, что в этой душе могут вырастать та¬
кие цветы?
Придя домой, литератор запер за собой дверь и прилег
отдохнуть. Взяв записную книжку, он внимательно прочи¬
тал ключевые слова и нашел, что они ничего не дают, а
только мешают, искажают общую картину. Он вырвал ли¬
стки из книжки и старательно уничтожил их, решив боль¬
ше ничего не записывать. Писатель беспокойно вертелся,
пытаясь сосредоточиться, и вдруг перед ним предстал еще
один обрывок сна, вдруг он снова увидел себя в чужом до¬
ме, ожидающим в пустой прихожей, увидел, как в глубине
ходит туда-сюда озабоченная старая дама в темной одеж¬
де, еще раз ощутил судьбоносность момента: Магда ушла,
чтобы привести ему новую, более юную и красивую, его
истинную и вечную возлюбленную. Приветливо и озабо¬
ченно смотрела на него старуха — и за чертами ее лица,
за ее серой одеждой проступали другие черты и другая
одежда, лица сиделок и нянек его собственного детства,
лицо и серое домашнее платье матери. Из этого слоя вос¬
поминаний, из этого материнского, сестринского круга об¬
разов навстречу ему тянулось будущее, тянулась любовь.
За этой пустой прихожей, под присмотром заботливых,
милых и верных матерей и служанок подрастало дитя, чья
любовь принесет ему счастье, чье будущее станет его соб¬
ственным будущим.
Магду он тоже увидел, увидел, как она странно поздо¬
ровалась с ним, с нежной серьезностью, без поцелуя, как
ее лицо, золотясь в вечернем свете, еще раз вобрало в себя
все волшебство, которое писатель когда-либо находил в
нем, как она в момент отречения и прощения еще раз за¬
светилась лаской прежних блаженных времен, как в ее по¬
17
темневшем лице мелькнуло предвестие появления млад¬
шей, более красивой, истинной и единственной, — она и
пришла, чтобы помочь ему сблизиться с ней, добиться ее
внимания. Маща казалась воплощением любви, ее смире¬
ния, ее способности к переменам, ее наполовину материн¬
ской, наполовину детской волшебной силы. Все, что он ког¬
да-либо мечтал увидеть в этой женщине, что вложил в свои
стихи о ней, все просветление и благоговение, которыми он
наделял ее во времена своей возвышенной любви, вся ее
душа вкупе с его любовью воплотилась в лице, сияла в серь¬
езных и нежных чертах, улыбалась печально-прйветливы-
ми глазами. Разве можно было расстаться с такой возлюб¬
ленной? Но взгляд ее говорил: надо-прощаться, надо откры¬
вать дорогу новому.
И вот на стройных детских ножках впорхнуло это новое,
вошла сестра, но лица ее не было видно, а судя по фигурке,
можно было отчетливо заметить лишь то, что она была ма¬
ленького роста и хрупкого сложения, что на ней коричне¬
вые башмачки и коричневое платье, что на лице ее лежал
загар и что она умела восхитительно танцевать. Причем
танцевать бостон — тот самый танец, который ее будущий
возлюбленный танцевал очень плохо, в котором он был
слаб и безнадежно уступал ей!
Весь день литератор был занят своим сном, и чем глубже .
он проникал в него, тем прекраснее казался ему этот сон,
тем больше, как ему представлялось, превосходил он тво¬
рения лучших поэтов. Долго, несколько дней подряд носшх-
ся он с мыслью и планом так запечатлеть его, чтобы не
только ему, сновидцу, но и другим стала видна неописуе¬
мая красота, глубина и проникновенность этого сна. Лишь
позднее он отказался от своего замысла, от своих попыток,
и понял, что с него довольно быть в душе истинным поэтом,,
мечтателем и ясновидцем, но что его ремесло должно оста¬
ваться ремеслом простого литератора.
«ТРАГИЧНО...»
Когда главному редактору доложили, что в приемной
уже примерно час дожидается наборщик Иоганнес и что
его никак не удается отговорить от намерения встретиться
для беседы или прийти к шефу в следующий раз, он лишь
кивнул с улыбкой, слабой и меланхоличной, и повернулся
18
на своем вертящемся стуле''навстречу входящему. Он за¬
ранее знал, какие заботы привели к нему верного седобо¬
родого рзшиого наборщика, знал, что заб(^ эти дело
столь же безнадежное, сколь сентиментальное и скучное,
что выполнить желания этого человека он не сможет, как
не сможет оказать ему и никакой другой любезности, кро¬
ме одной: выслушать его с приличествуюощм случаю ви¬
дом; и так как проситель, много лет проработавший в га¬
зете ручной наборщик, был не только симпатичным и до¬
стойным человеком, но и человеком образованным (не в
столь уж давние времена он считался весьма заметным,
едва ли не знаменитым писателем), во время его визитов,
которые, как показывал опыт, случались не реже двух раз
в год, и преследовали одну и ту же цель и имели один и
тот же успех — вернее, неуспех, редактор испытывал к
нему сочувствие, смешанное со смущением, иноща обора¬
чивавшимся сильным неудовольствием. Тем временем на¬
борщик тихо вошел и с подчеркнутой вежливостью совер¬
шенно бесшумно закрыл за с<^й дверь кабинета.
— Садитесь, Иоганнес, — начал главный редактор в
ободряющем тоне (почти так же он в былые времена обра¬
щался к молодым литераторам, а сегодня — к молодым по¬
литикам). — Как поживаете? На что жалуетесь?
Глаза Иоганнеса — глаза ребенка на лице старца — бы¬
ли окружены бесчисленными мелкими морщинками гля¬
дели на редактора испуганно и грустно.
— Все то же самое, — произнес он голосом мягким и
скорбным. — И становится все хуже, очень скоро после¬
дует полный крах. Мне открылись недавно ужасающие
симптомы. То, от чего десять лет назад встали бы дыбом
волосы даже у среднего читателя, сегодня им не только
преспокойно воспринимается в отделе новостей, информа¬
ции или спортивного очерка, не говоря уже об анонсах,
нет, даже в фельетоне, оно просочилось и в передовые
статьи; даже для хороших, уважаемых литераторов эти
ошибки, эти ужасные обороты и безграмотные выражения
стали чем-то само собой разумеющимся, сделались прави¬
лом, нормой. В том числе и у вас, господин главный ре¬
дактор, извините, у вас тоже! Я не хочу повторяться, го¬
воря, что наш письменный язык становится чем-то вроде
бедняцкого жаргона, жалчайшего и обовшивевшего, что
исчезли все красивые, богатые, редкие и сложные языко¬
вые обороты, что уже несколько лет я не могу обнаружить
19
в передовых статьях точного употребления взаимозаменя¬
емых временных форм, как тем более не встречаю ни пре¬
красных, полнозвучных, благородно построенных и пру¬
жиняще шагаюпщх предложений, ни периодов, отличаю¬
щихся особой чистотой и выверенной, внутренне обосно¬
ванной структурой, когда тональность постепенно повы¬
шается, а потом элегантно понижается. Я знаю, все это
ушло. Подобно тому как на Борнео и всех прочих островах
вы истребили райских птичек и королевских тигров, точно
так же вы уничтожили и извели все прелестные обороты,
все инверсии, все нежные игры и оттенки нашего дорогого
языка. Я понимаю, спасти все это уже невозможно. Но
прямые ошибки, очевидные, неисправленные несуразно¬
сти, полнейшее безразличие к основным правилам и логи¬
ке грамматики! Ах, господин доктор, случается, что по
старой привычке предложение начинают со слов «с одной
стороны» или «вопреки тому» и какими-то двумя строчка¬
ми ниже забывают об отнюдь не сложных обязательствах,
взятых на себя таким началом предложения, забывают о
придаточном предложении, уходят в другую конструкцию,
и только самые лучшие перья пытаются хоть как-то избе¬
жать скандала, скрывшись за тире или смягчающими ку¬
лисами скромного многоточия. Вы, господин главный ре¬
дактор, знаете, что это тире есть и среди ваших воинских
доспехов. Некогда, много лет назад, я его презирал, счи¬
тал злым роком, но дело зашло столь далеко, что ныне я
растроганно приветствую тире, стоит ему появиться; я
глубоко благодарен вам за каждое тире, ведь оно как-ни-
как — остаток былого, оно как бы служит знаком культу¬
ры, нечистой совести, пишущие прибегают к нему как к
сокращенному, зашифрованному признанию в том, что
осознают свои обязанности по отношению к законам язы¬
ка, что в известной мере испытывают стыд и сожаления,
будучи вынуждены достойными сожаления обстоятельст¬
вами чрезмерно часто грешить против святого духа языка.
Редактор, в течение всей этой речи продолжавший с
полуприкрытыми глазами делать разметку, которую он
начал до прихода наборщика, медленно поднял веки, ос¬
тановил свой ласковый взгляд на Иоганнесе и с благоже¬
лательной улыбкой, медленно и умиротворенно прогово¬
рил, явно стараясь ради старика подбирать формулировки
помягче:
20
— Знаете, Иоганнес, вы совершенно правы, и я всегда
в беседах с вами охотно это признавал. Вы правы: язык
былого времени, язык изысканный и превосходно отточен¬
ный, который два-три десятилетия назад был еще хотя бы
приблизительно известен многим авторам и употреблялся
ими, этот язык погиб. Он погиб, как погибли строения
египтян и погибли системы гностиков, как вынуждены бы¬
ли погибнуть Афины и Византия. Это грустно, дорогой
друг, это трагично, — при этом слове наборщик вздрогнул
и открыл было рот, желая что-то воскликнуть, но овладел
собой и покорно принял прежнюю позу, — но в этом наше
предопределение, и мы, согласитесь, должны принять ис¬
торическую неизбежность, даже самую горькую. Мне уже
приходилось говорить вам ранее: прекрасно хранить некую
верность прошлому, а что до вас, то я эту верность не
только понимаю, но и восхищаюсь ею. Но цепляться за ве¬
щи и понятия, осужденные, если угодно, на гибель, нера¬
зумно, всему есть свои границы; сама жизнь проводит эти
границы, и, если мы хотим перешагнуть их, если мы
слишком крепко привязаны к умершему, мы тем самым
вступаем в противоречие с жизнью, которая сильнее нас.
Я отлично понимаю вас, поверьте мне. Я знаю, вы превос¬
ходно владели тем языком, вы известны как наследник
этих прекрасных традиций, вы, бывший писатель, долж¬
ны, разумеется, больше других страдать от состояния за¬
ката, от состояния неуверенности, в котором находится
наш язык, вся наша былая культура. А то, что вы, набор¬
щик, ежедневно становитесь свидетелем этого заката и,
более того, в некотором смысле своим трудом содействуете
ему, для вас, конечно, горестно, ноша эта тягостна, — при
этих словах Иоганнес снова вздрогнул, и редактор неволь¬
но поторопился подыскать иное выражение, — в этом есть
нечто от иронии судьбы. Но ни вы, ни я, никто другой из¬
менить ничего не в силах. Мы вынуждены признать ход
вещей и подчиниться ему.
Редактор смотрел на столь же детское, сколь и озабо¬
ченное лицо старого наборщика с симпатией. Нельзя не
признать, в этих постепенно вымирающих представителях
старого мира, времени ушедшего, так называемой «сенти¬
ментальной» эпохи, была какая-то изюминка, людьми они
были приятными, несмотря на свою ранимость. Он мягко
продолжал:
21
— Вы помните, дорогой друг, как примерно двадцать
лет назад в нашей стране печатались стихи, частично eifte
в форме книг, что тем не менее сделалось уже большой
редкостью, частично на газетных полосах, А затем, совер¬
шенно неожиданно, в сущности, все мы осознали, что с
поэзией происходит неладное, что без нее можно обой¬
тись, что она, по сути дела, сумасбродство. Тогда мы за¬
метили и осознали нечто, бывшее до определенного време¬
ни тайным и вдруг ставшее явным: что время искусства
кануло в Лету, что искусство и поэзия в нашем мире от¬
мерли и что лучше навеки расстаться с ними, нежели та¬
щить за собой всю эту мертвечину. Для всех нас, в том
числе и для меня, это явилось горьким прозрением. Но мы
оказались правы, не отринув его. Кто желает читать Гёте
или нечто подобное, волен читать их по-прежнему, никто
ничего не потеряет, если день за днем не станут болсс по¬
являться горы новых слабых стихов. Все мы смирились с
этим. И вы, Иоганнес, поступили так же, отказавшись
тогда от вашего поэтического призвания и выбрав обыкно¬
венную профессию, чтобы заработать на хлеб. И если те¬
перь, в вашем возрасте, вы излишне страдаете, работая
наборщиком и столь часто вступая в конфликт с тради¬
цией и культурой языка, оставшимися для вас святыней,
то я, дорогой друг, сделаю вам такое предложение: оставь¬
те этот тяжелый, и малоблагодарный труд! Погодите, дайте
мне договорить! Вы опасаетесь потерять ваш кусок хлеба?
Да нет же, разве мы варвары? Нет, о нужде не может быть
и речи. Ваша старость застрахована, и, кроме того, наша
фирма — даю вам слово! — назначит вам пожизненную
пенсию, так что достаток ваш по сравнению с сегодняш¬
ним не изменится.
Он был доволен собой. Это решение насчет пенсии при¬
шло ему прямо во время его речи.
— Итак, что вы скажете? — спросил он с улыбкой.
Иоганнес не сразу нашел силы ответить. При последних
словах добродушного хозяина на его лице старого ребенка
появилось выражение неописуемого страха, вялые губы со¬
всем побелели, взгляд сделался беспомощным и оцепенев¬
шим. Душевное равновесие он обрел с трудом. Шеф смот¬
рел на него с чувством разочарования. И тут старик заго¬
ворил снова, он говорил тихо, испуганно-проникновенно,
всей душой стараясь придать своим мыслям выражение вер¬
ное, неотразимое. На лбу и на щеках появлялись и пропа¬
22
дали маленькие красные пятна, умоляющий взгляд и скло¬
ненная набок голова взывали к пониманию и милости, мор¬
щинистая худая шея вытягивалась из широкого ворота ру¬
башки,. тоже в страстной мольбе. Иоганнес говорил:
— Господин главный редактор, ради Бога, простите ме¬
ня за беспокойство! Я больше никогда, никогда вас не по¬
тревожу. Я ведь всегда приходил с добрыми побуждениями,
но я осознаю, что тем самым досаждал вам. Понимаю я и
то, что вы не в состоянии мне помочь, что это колесо про¬
ехало по всем по нам. Но ради всего святого, не отнимайте
у меня моей работы! Вы успокаиваете меня на тот счет, что
голодать мне не придется, но я этого никогда не боялся! Я
с радостью соглашусь работать за меньшую плату, сил у
меня не очень много осталось. Но оставьте мне мою работу,
мою службу, не то вы убьете меня!
И совсем тихо, с горящими глазами, хрипло и напря¬
женно продолжил:
— Кроме этой службы, у меня ничего нет, она единст¬
венное, ради чего я живу с радостью. Ах, господин доктор,
и как вы только могли сделать мне это ужасное предложе¬
ние, вы единственный, кому известно, кто я такой, единст¬
венный, кто помнит, каким я был когда-то!
Редактор пытался успокоить возбужденного, испуганно¬
го Иоганнеса, несколько раз похлопав его по плечу и бор¬
моча что-то ободряющее. Не успокоившись, но будучи уве¬
ренным в благожелательном участии хозяина, Иоганнес по¬
сле короткой передышки начал снова:
— Господин главный редактор, я знаю, что в молодые
годы вы тоже увлекались книгами поэтов. Как и я. В сем¬
надцать лет я наткнулся в книге на одну «Ночную песнь»*.
Никогда — а ведь с тех пор прошло более пятидесяти лет —
я не забуду того часа, когда впервые прочел эту строчку:
«Спустилась ночь, и все журчащие ручьи заговорили
громче!», ибо именно в тот час моя жизнь обрела смысл,
я начал служить тому, чему служу и по сей день; в тот
час словно молния осветила для меня чудо языка, невыра¬
зимое волшебство слова. Я не отводил взгляда от его бес¬
смертного призрака, ощущая его божественное присутст¬
вие, и предался ему, как моей судьбе, моей любви, моему
счастью и предназначению. Потом я прочел других поэ¬
тов, нашел еще более высокие слова, более святые слова,
чем в той «Ночной песне», припал, словно притянутый
магнитом, к нашим великим поэтам, никому нынче не из¬
23
вестным. Нашел сладкого и глубокого, как мечта, Новали-
са, все магические слова которого пахнут то вином, то
кровью; пламенного молодого Гёте, и его же в старости, с
таинственной улыбкой, я нашел всегда спешащего и всегда
задыхающегося Клейста, опьяненного Брентано, быстрого,
порывистого Гофмана, гордого Мёрике, медлительного и
основательного Штифтера и всех их, всех их, великолеп¬
ных: Жан Поля! Арнима! Бюхнера! Эйхендорфа! Гейне!
Их я и держался; быть их младшим братом стало моим
всепоглощающим желанием, впитывать их язык — моим
таинством, а высокий святой лес этой поэзии сделался мо¬
им храмом. Я жил в их мире, какое-то время считая себя
чуть ли не ровней им, я глубоко постиг то чудное сладо¬
страстие, когда ворошишь податливый материал слов, как
ветер нейжнейший летний лист, когда заставляешь слова
звучать, плясать, потрескивать, ужасаться, взрываться,
петь, кричать, мерзнуть, зябнуть, дрожать, вздрагивать и
застывать. Я встретил людей, признавших во мне поэта, и
в их сердцах моя мелодия звучала, как арфа. Но довольно,
довольно об этом. Настало то время, о котором вы недавно
изволили упомянуть, время, в которое все наше поколение
отвернулось от поэзии, а все мы очутились в осеннем не¬
настье: вот и закрыты двери храмов, в святые леса поэзии
спустилась темень, никто из сверстников не пройдет боль¬
ше заколдованными тропинками к святилищу поэзии. И
тихо стало вокруг, тихо рассеялись мы, поэты, по отрез¬
вевшей стране, где умер великий Пан.
Редактор расправил плечи с чувством глубокого неудо¬
вольствия, его раздирало двойственное, мучительное чув¬
ство. В какие дебри подался этот старик?! Он бросил на
него быстрый взгляд, словно желая сказать: «Ну, ладно,
довольно, мы-то с тобой знаем!», но Иоганнес еще не за¬
кончил.
— Тогда, — негромко, с усилием продолжал он, — тог¬
да я тоже простился с поэзией, чье сердце перестало бить¬
ся. Одно время я жил словно парализованный, ни о чем не
помышляя, цока снижение моих доходов и, наконец, не¬
возможность делать привычные, необходимые покупки не
оторвали меня от моих рукописей и не заставили искать
другой источник пропитания. Я стал наборщиком, потому
что изучил эту профессию, работая по найму у одного из¬
дателя. И я никогда не жалел о своем выборе, пусть в пер¬
вые годы мое ремесло казалось мне достаточно горьким.
24
Но я нашел в нем то, что мне было нужно, что нужно
каждому человеку, чтобы жить: цель, смысл моего суще¬
ствования. Многоуважаемый господин редактор, набор¬
щик — тоже служитель храма языка, его мастерство тоже
служит слову. И сегодня я, старик, позволю себе при¬
знаться вам: все эти годы я молча исправлял в передовых
статьях, фельетонах, парламентских и судебных отчетах,
в местной хронике и объявлениях тысячи языковых огре¬
хов, перестроил и поставил на ноги много тысяч дурно по¬
строенных предложений. О, какую радость мне это достав¬
ляло! Сколь отдано сил, чтобы из маловразумительного
материала, продиктованного переутомившимся редакто¬
ром, из обглоданной цитаты полуобразованного парламен¬
тария или нелепого синтаксиса какого-то репортера сотво¬
рить с помощью нескольких магических знаков и вкрапле¬
ний плоть живого языка, с его неповторимыми, здоровыми
чертами! Но с течением времени делать это становилось
все труднее, разница между моим и вошедшим в моду
письменным языком делалась все разительнее и трещины
в строе языка все заметнее. Передовая статья, которую я
двадцать лет назад мог излечить от ее болезней, с по¬
мощью десяти-двенадцати любезных услуг, потребует се¬
годня сотен и тысяч поправок, чтобы стать удобочитаемой
в моем понимании этого слова. Ничего не получалось, и
мне все чаще приходилось отказываться от своих намере¬
ний. Вот видите, выходит, я тоже не такой уж закоснев¬
ший реакционер, и я, к сожалению, научился идти на ус¬
тупки, не будучи в CHjfax дольше сопротивляться гряду¬
щей беде.
Но в запасе у меня оставалось еще кое-что, раньше я
называл это моими «мелкими услугами», но они давно уже
стали единственными. Сравните, господин доктор, свер¬
станную мной полосу и полосу из любой другой газеты, и
вам сразу бросится в глаза, чем они отличаются. Нынешние
наборщики, все без исключения, давно приспособились ко
всеобщему издевательству над языком, более того, они да¬
же усугубили его. Почти никто из них не знает, что суще¬
ствует тонкий, но нерушимый закон, по которому здесь ста¬
вится запятая, там двоеточие, а тут точка с запятой. А
сколь омерзительно, если не сказать — убийственно, обра¬
щаются сперва на машинописных страницах, а затем и в
наборе с теми словами, которые, ни в чем не провинившись,
имеют несчастье стоять в конце строчки и, поскольку они
25
слишком длинны, должны быть разделены! Этот ужас труд-
ноописуем. В нашей собственной газете я встречал сотни
тысяч* таких бедных слов, задушенных, неверно перенесен¬
ных, разодранных и казненных, и с годами их становилось
все больше: «брезгл — ивость», «набл — юдения», однажды
мне встретилось даже «обстоят — ельства»! Вот оно, мое
поле деятельности, здесь я могу вести каждодневную борь¬
бу, с помощью малых дел творить добро. Вы не знаете, вы
даже не догадываетесь, шеф, как хорошо, как правильно
чувствует себя каждое освобожденное от камеры пыток сло¬
во, как каждое выпрямившее спину предложение глядит на
наборщика, расставившего в нем знаки препинания! Нет,
пожалуйста, не предлагайте мне впредь, чтобы я все это
бросил на произвол судьбы.
Редактор был знаком с Иоганнесом десятки лет, но ни¬
когда прежде не видел его столь возбужденным, говоря¬
щим о себе лично; и хотя он внутренне сопротивлялся на¬
ивным преувеличениям в словах наборщика, ему открылся
все же тайный смысл этого маленького признания. И сно¬
ва, напустив на свое умное лицо мину доброжелательно¬
сти, сказал:
— Да, да, Иоганнес, вы меня совершенно убедили. Учи¬
тывая эти обстоятельства, я, разумеется, беру свое предло¬
жение, сделанное исключительно из доброго к вам отноше¬
ния, назад. Продолжайте набирать и верстать., не оставляй¬
те службы! И если я чем-то смогу хоть немного услужить
вам, обращайтесь ко мне.
Он поднялся и протянул наборщику руку, убежденный,
что тот наконец уйдет. Но Иоганнес, с чувством пожавший
ее, набрался храбрости и начал снова:
— Сердечно благодарю вас, господин главный редактор,
вы так добры! Но простите, у меня есть просьба, совсем ма¬
ленькая просьба к вам. Если бы вы только захотели мне
немного помочь!
Не садясь на место, редактор дал ему нетерпеливым
взглядом знак продолжать.
— Речь пойдет, — заговорил Иоганнес, — опять речь
пойдет об этом словечке «трагично», вы помните, господин
доктор, мы уже неоднократно его упоминали. Вам ведь
знакома прескверная привычка газетчиков называть каж¬
дый несчастный случай трагедией, хотя трагичным... но
нет, постараюсь говорить покороче. И вот получается, что
каждый упавший велосипедист, каждый ребенок, который
26
обжегся об огонь в очаге, каждый упавший с дерева сбор¬
щик вишен связывается со словом «трагично», потерявшим
тем самым свой ореол. Нашего прежнего редактора я поч¬
ти отучил употреблять это слово, я не оставлял его в по¬
кое, приходил к нему не реже раза в неделю, он был че¬
ловек добрый, он смеялся и часто уступал мне, возможно,
он даже понимал, по крайней мере отчасти, что меня бес¬
покоило. А наш новый редактор отдела местных новостей —
я вообще-то не вправе давать ему оценку, но едва ли я
преувеличу, если скажу: каждая задавленная курица для
него подходящий повод злоупотребить этим святым сло¬
вом. Если бы вы дали мне возможность поговорить с ним
серьезно, попросили его выслушать один-единственный
раз мои доводы...
Редактор подошел к столу, нажал на клавишу и прого¬
ворил несколько слов в микрс^н.
— Господин Штеттинер будет на месте в два часа и най¬
дет для вас несколько минут. Я еще успею его предупре¬
дить. Но постарайтесь быть кратким с ним!
Старый наборщик с благодарностью откланялся. Редак¬
тор глядел ему вслед, заметил редкие седые волосы, покры¬
вавшие воротник мешковатого пиджака и сутулую спину
верного слуги предприятия, и уже не жалел, что ему не
удалось заманит^ старика на пенсию. Да пусть остается!
Пусть по-прежнему испрашивает у него приема два раза в
год! Он на Иоганнеса не в обиде. Он хорошо представлял,
каково тому в его шкуре. Зато господин Штеттинер, к ко¬
торому Иоганнесу назначили прийти в два часа, о чем,
между прочим, в хлопотах дня шеф предупредить забыл,
представить себе этого не мог.
Господин Штеттинер, в высшей степени полезный мо¬
лодой сотрудник газеты, быстро сделавший карьеру от на¬
чинающего репортера местных новостей до члена редкол¬
легии, не был бесчеловечным и как редактор научился
умению находить подход к самым разным людям. Но фе¬
номен по имени Иоганнес был этому знатоку людей совер¬
шенно чужд, появление наборщика его обескуражило, он
действительно представления не имел, что такие люди
есть или когда-то были. Занимая должность редактора от¬
дела, он по вполне понятным причинам ни в малейшей
степени не считал себя обязанным выслушивать советы и
поучения от какого-то наборщика, будь тот хоть ста лет от
роду, а в стародавние времена, в «сентиментальный век»,
27
даже знаменитостью, хоть и самим Аристотелем! Поэтому
и случилось неизбежное: после нескольких минут беседы
побагровевший и обозлившийся господин проводил Иоган¬
неса к двери и предложил покинуть кабинет. А дальше
произошло вот что: спустя полчаса старый Иоганнес, на¬
брав четверть полосы, полной невероятнейпЙ1х ошибок,
издав жалобный вскрик, упал на гранку, а час спустя
умер.
Рабочие наборного цеха, потерявшие так неожиданно
своего старейшину, недолго пошептавшись, пришли к ре¬
шению сложиться на большой надгробный венок. А госпо¬
дину Штеттинеру поручили написать маленькую заметку
об этой смерти, как-никак Иоганнес некогда, лет тридцать
или сорок назад, был в своем роде знаменитостью.
Он написал: «Трагическая кончина поэта», но сразу
вспомнил, что у Иоганнеса была идиосинкразия к слову
«трагично»; кроме того, странный образ старика и его вне¬
запная смерть почти сразу же после их разговора произвели
на него достаточное впечатление, так что он счел себя обя¬
занным оказать умершему некоторое уважение. Итак, во
власти этих чувств, он перечеркнул заголовок своей замет¬
ки, заменил его на «Прискорбная кончина» и потом и это
нашел недостаточным и пресным, рассердился, взял себя в
руки и написал поверх заметки окончательное название:
«Один из старой гвардии».
ДЕТСТВО ВОЛШЕБНИКА
Снова и снова схожу я
В твои глубины, о память ушедших дней,
В глубины, где нахожу я
Смутную жизнь давно отлетевших теней.
Та жизнь меня окликает
Голосом зова, и я покорен ему,
Окликает меня, увлекает,
И я должен никнуть, никнуть во тьму...
Не только одни родители вместе с учителями воспиты¬
вали меня, в этом участвовали также иные, более высокие,
более сокровенные, более таинственные силы, в числе ко¬
торых был, между прочим, бог Пан, стоявший за стеклом
в шкафу моего дедушки, приняв обличие маленького тан¬
цующего индийского божка. К этому божеству присоедини¬
28
лись другие, и они приняли на себя попечение о моих дет¬
ских годах; еще задолго до того, как я выучился читать и
писать, они до такой степени переполнили мое существо
первозданными образами и мыслями страны Востока, что
позднее я переживал каждую встречу с индийскими и ки¬
тайскими мудрецами как свидание со знакомцами, возврат
в родной дом. И все же я — европеец, да еще рожденный
под деятельным знаком Стрельца*, я всю жизнь исправно
практиковал западные добродетели — нетерпеливость,
вожделение, неуемное любопытство.
По счастью, как это бывает с большинством детей, я вы¬
учился самым ценным, необходимым для жизни знаниям
еще до начала школьных лет, беря уроки у яблоневых де¬
ревьев, у дождя и солнца, реки и лесов, у пчел и жуков, у
бога Пана, у танцующего божка в сокровищнице моего де¬
душки. Я кое-что смыслил в том, как устроен мир, я без
робости водил дружбу с животными и со звездами, не был
дураком ни в плодовом саду, ни на рыбалке и к тому же
умел распевать немалое количество песен. Кроме того, я
умел ворожить — чему позднее, к несчастью, разучился и
должен был осваивать это искусство заново уже в немоло¬
дые годы, — да и вообще владел всей сказочной мудростью
детства.
Позднее, как сказано, к этому присовокупились школь¬
ные предметы, которые давались мне легко и были скорее
забавой. Школа очень умно занималась не теми серьезны¬
ми навыками, которые необходимы для жизни, но преиму¬
щественно симпатичными играми ума, доставлявшими мне
немало удовольствия, и знаниями, немногие из которых
верно остались со мною на всю жизнь: так, я и сегодня по¬
мню множество красивых и остроумных латинских слове¬
чек, стихов и афоризмов, а также численность населения
многих городов во всех частях света — разумеется, не на
сегодняшний день, а по данным восьмидесятых годов про¬
шлого столетия.
До тринадцати лет я ни разу не задумался всерьез над
вопросом, что, собственно, из меня выйдет и какой про¬
фессии я желал бы учиться. Как любой мальчишка, я лю¬
бил и находил завидными многие профессии: хорошо быть
охотником, ИЗВОЗЧИКОМ, плотогоном, канатоходцем, арк¬
тическим путешественником. И милее всего другого пред¬
ставлялось мне занятие волшебника. Глубочайшее, сокро¬
веннейшее устремление моих инстинктов побуждало меня
29
не довольствоваться тем, что называют «действительно¬
стью» и что временами казалось мне глупой выдумкой
взрослых; я рано привык то с испугом, то с насмешкой от¬
клонять эту действительность, и во мне горело желание
околдовать ее, преобразить, вывести за ее собственные
пределы. В детские годы это стремление к магии направ¬
лялось на внешние, детские цели: мне хотелось заставить
яблони плодоносить зимою, наполнить мой кошелек золо¬
том и серебром, я грезил о том, чтобы обессилить моих
врагов колдовским заклятием, после устыдить их своим
великодушием и получить общее признание, как победи¬
тель и владыка; я мечтал находить клады, воскрешать
мертвых, делать себя невидимым. Это последнее, то есть
искусство быть невидимкой, было для меня особенно важ¬
но и особенно желанно. И к нему, как ко всем волшебным
силам, изначальный порыв вел меня на протяжении всей
моей жизни, через метаморфозы, которые я сам не всегда
мог сразу опознать. Став взрослым человеком и занявшись
профессией литератора, я неоднократно повторял попытку
спрятаться за моими произведениями, нырнуть, утаиться
за многозначительным измышленным именем; попытки
эти, как ни странно, то и дело навлекали на меня раздра¬
жение моих коллег и давали повод для всякого рода кри¬
вотолков. Когда я оглядываюсь на прожитую жизнь, я ви¬
жу, что вся она прошла под знаком этой тоски по волшеб¬
ству; то, как менялись для меня со временем волшебные
цели, как я постепенно уходил от внешнего мира и входил
в себя самого, как мне расхотелось преображать предметы
и захотелось преобразить себя, как я научился заменять
глупую невидимость обладателя шапки-невидимки незри¬
мостью мудреца, познающего все и остающегося непознан¬
ным, — все это и составляет, по правде говоря, суть моей
биографии.
Я был живым и счастливым мальчиком, я играл с пре¬
красным многоцветным миром и повсюду чувствовал себя
дома — среди животных и растений ничуть не меньше, чем
в девственном лесу моих собственных фантазий и снов, я
радовался моим силам и способностям, мои жгучие жела¬
ния покуда скорее осчастливливали меня, чем мучали. Кое-
какие приемы волшебства я практиковал тогда, сам того не
ведая, куда совершеннее, чем мне это удавалось позднее.
Легко было мне снискать любовь, легко добиться влияния
на других, легко найти себя в роли предводителя, или уб¬
30
лажаемого, или носителя тайны. Младшие товарищи и род¬
ственники годами свято верили в мою магическую силу, в
мою власть над демонами, в мои права на сокровенные кла¬
ды и короны. Долго жил я в Земном Раю, хотя мои родители
рано ознакомили меня со Змием. Долго длилось мое детское
сновидение, мир принадлежал мне, все было реально, все
было расположено вокруг меня в порядке для прекрасной
игры. А когда во мне пробуждалось недовольство, пробуж¬
далось томление, когда на мой радостный мир падала мгно¬
венная тень, мне по большей части ничего не стоило уйти
в иной, более свободный, беспрепятственный мир моих
фантазий, чтобы по возвращении найти внешний мир снова
приветливым и достойным любви. Долго жил я в Земном
Раю.
В садике моего отца была решетчатая переборка, там
я поселил кролика и ручного ворона. Там я провел неис¬
числимые часы, долгие, как мировые эры, в тепле и бла¬
женстве обладания; кролики пахли жизнью, пахли травой
и молоком, кровью и зачатием, а в черном, жестком глазу
ворона горел светильник вечности. Там же, при свете
свечных огарковj возле теплых и сонных животных, один
или с товарищами я проводил и другие бесконечные вече¬
ра, строя всевозможные планы: как я найду несчетные
клады, как я добуду корень мандрагоры*, как совершу по¬
бедоносные рыцарские странствия по жаждущему избавле¬
ния миру, буду судить разбойников, спасать несчастных,
освобождать плененных, сжигать до основания разбой¬
ничьи замки, распинать предателей, прощать мятежных
вассалов, добиваться руки королевской дочери, понимать
язык зверей.
В большой библиотеке моего деда была огромная, тя¬
желая книга, которую я часто перелистывал и читал. В
этой неисчерпаемой книге имелись старые, диковинные
картинки — иногда страницы сразу раскрывались так, что
картинки эти светло и гостеприимно как бы встречали ме¬
ня сами, иногда я подолгу искал их и не мог найти, они
куда-то пропадали, словно поддавшись чарам, словно ни¬
когда не существовали. Еще в этой книге была одна исто¬
рия, несказанно прекрасная и невразумительная, которую
я читал снова и снова. Но и ее не всегда удавалось оты¬
скать, для этого требовался благоприятный час, порой она
вовсе пропадала и пряталась, порой словно меняла место
жительства, порой представала при чтении удивительно
31
доброй и почти что понятной, порой темнела и закрыва¬
лась, словно дверь на нашем чердаке, за которой в сумер¬
ках порой можно было слышать духов, как они хихикают
или стонут. Во всем была действительность, во всем было
волшебство, одно благополучно уживалось с другим, то и
другое принадлежало мне.
И танцующий божок из Индии, стоявший за стеклом в
обильном сокровищами дедовском шкафу, не был всеща
один и тот же. Он являл собой то один, то другой образ,
танцевал то так, то совсем по-иному. Порой это был имен¬
но божок, странная и немного забавная фигурка, какие
выделывают и каким поклоняются в чуждых, непонятных
странах, у чуждых и непонятных народов. Порой это была
волшебная вещь, полная значения и несказанно жуткая,
требующая жертв, коварная, строгая, опасная, насмешли¬
вая, и мне казалось, что он нарочно подстрекает меня по¬
смеяться над ним, чтобы потом совершить надо мной свою
месть. Он мог изменять свой взгляд, хотя и был из желто¬
го металла; иногда он норовил скосить глаза. Порой, на¬
конец, он становился всецело символом, не был ни безоб¬
разен, ни красив, ни зол, ни добр, ни смешон, ни страшен,
но прост, древен и невообразим, как руна*, как пятно мха
на скале, как рисунок на речном камушке, и за его фор¬
мой, за его образом и обличьем обитал Бог, таилось Бес¬
конечное, а его в те годы, в бытность мальчиком, я знал
и почитал без всяких имен ничуть не меньше, нежели
впоследствии, когда я стал именовать его Шивой или
Вишну*, Богом, Жизнью, Брахманом*, Атманом*, Дао*
или Вечной Матерью. Оно было отец и мать, женственно
и мужественно, солнце и луна.
Как поблизости от божка, за стеклом того же шкафа,
так и в других дедушкиных шкафах стояли, висели, лежа¬
ли во множестве предметы разного рода, безделушки, ут¬
варь, цепочки из деревянных бусин, нанизанных наподо¬
бие четок, свитки из пальмовых листов с нацарапанными
на них знаками древнего индийского письма, изваяния че¬
репах, вырезанные из камня жировика, маленькие божки
из дерева, из стекла, из кварца, из глины, украшенные
вышивками шелковые и льняные покрывала, латунные
кубки и чаши — все это пришло из Индии, или с райского
острова Цейлона, где растут древовидные папоротники, а
на берегах стоят пальмы, от кротких сингалезцев с глаза¬
ми, как у лани, или из Сиама, или из Бирмы, все это пах¬
32
ло морем, пряностями, далью, благоухало корицей и сан¬
даловым деревом, все прошло через смуглые или желтые
руки, пропиталось влагой тропических ливней и струй
Ганга, было иссушено тропическим солнцем, овеялось
тенью девственных лесов. И все эти вещи принадлежали
дедушке*, а он, преклонный годами, досточтимый, с ши¬
рокой белой бородой, всеведущий и всемогущий, могуще-
ственне, чем отец и мать, находился в обладании совсем
иных вещей и сил, у него было кое-что поважнее, чем ин¬
дийские божки и безделушки, чем все это вырезанное,
расписанное, освященное таинственными заклятиями, чем
чаша из кокосового ореха и ларец из сандалового дерева,
чем зала и библиотека; он был к тому же тайновед, посвя¬
щенный, мудрец. Он понимал все языки человеческие,
свыше тридцати, а возможно, и наречия богов, а заодно
звезд, он мог говорить и писать на пали и санскрите, он
мог петь дравидийские, бенгальские, сингалезские песни,
песни на языке хинди, он знал молитвенные приемы му¬
сульман и буддистов, хотя сам был христианином и веро¬
вал в триединого Бога, он целыми десятилетиями живал в
жарких, опасных странах Азии, ездил в лодках и в запря¬
женных быками повозках, ездил на лошадях и мулах, и
никто не знал лучше его, что наш город и наш край —
только очень маленькая часть земли, что тысячи миллио¬
нов людей имеют другую веру, другие нравы, языки, цве¬
та кожи, других богов, другие добродетели и пороки. Я
любил, почитал и боялся его, ожидал от него всего, пола¬
гал, что для него все возможно, непрерывно учился у него
и у его переодетого бога Пана в личине божка. Этот чело¬
век, отец моей матери, скрывался в лесу противоречий,
как его лицо скрывалось в белом лесу его бороды, из его
глаз струилась то мировая скорбь, то веселая мудрость, то
одинокое знание, то божественное лукавство, люди из
многих стран знали, чтили и навещали его, говорили с
ним по-английски, по-французски, на хинди, по-итальян¬
ски, по-малайски, а после долгих разговоров бесследно ис¬
чезали сызнова — быть может, его друзья, быть может,
его посланцы, быть может, его служители, получившие от
него поручение. Я знал, что от него, непостижимого, вела
свое начало сокровенная, древняя тайна, атмосфера кото¬
рой окружала мою мать; она и сама долго жила в Индии,
говорила и пела на языках малаялам и каннада, обмени¬
валась со своим старым отцом словами и речениями, зву-
2 5-25»/ 33
чавшими как магическая глоссолалия*. И у нее, как у не¬
го, появлялась порой улыбка ухода в себя, сокровенная
улыбка мудрости.
Другим был мой отец*. Он был сам по себе. Он не при¬
надлежал ни миру божка и дедушки, ни городской обыден¬
щине, он стоял в стороне, одиноко, страдалец и искатель,
добрый и многоученый, без всякой фальши, ревностный в
служении истине, но совсем не знающий ничего о той
улыбке, благородный, тонкий, но понятный, без какой бы
то ни было тайны. Его доброта и его ум были всегда с ним,
но он никогда не исчезал в волшебных облаках дедушки¬
ной стихии, лицо его никогда не скрывалось за теми излу¬
чениями младенческого и божественного, игра которых
выглядит порой как печаль, порой как тонкая усмешка,
порой как безмолвно погруженная в себя личина богов.
Отец мой не говорил с матерью на языках Индии; говорил
он либо по-английски, либо на чистом, ясном, красивом
немецком языке с легкой остзейской окраской. Этот язык
и был тем, что меня в нем привлекало, покоряло, воспи¬
тывало, я временами подражал отцу восхищенно и рьяно,
чересчур рьяно, хотя знал, что мои корни глубже погру¬
жены в материнскую почву, в темноглазое, в таинствен¬
ное. Моя мать была полна музыкой, мой отец — нет, и
петь он не умел.
Рядом со мной подрастали сестры и двое старших
братьев, уже большие мальчики, предмет зависти и почи¬
тания. Вокруг нас лежал маленький городок*, старый,
сгорбленный, вокруг него возвышались строго и немного
сумрачно поросшие лесом горы, а в середине текла пре¬
красная река, дававшая извивы, словно колебавшаяся, ку¬
да ей течь, и все это я любил и называл родиной; и в лесу,
и в реке я досконально знал почву и растения, камни и
ямы, птиц, белок, лисиц и рыб. Все это принадлежало
мне, было моим, было родиной — но, помимо этого, суще¬
ствовали застекленный шкаф и библиотека, добрая на¬
смешка на всезнающем лице дедушки, теплый и темный
взгляд матери, черепахи и божки, индийские речения и
песни, все это напоминало о более широком мире, о более
просторной родине, о более древнем происхождении, о бо¬
лее всеобьемлющей связи вещей. И наверху, на своем вы¬
соком домике из проволоки, восседал наш красно-серый
попугай, старый и умный, с ученой миной и острым клю¬
вом, пел и говорил, и он тоже явился из неведомого дале¬
34
ка, голосом флейты он заклинал языки джунглей, а его за¬
пах был запахом экватора. Многие миры, многие части
земли протягивали лучи, простирали руки, а местом их
встречи, их пересечения служил наш дом. И дом этот был
большим и старым, со многими, отчасти пустовавшими
комнатами*' с погребами, с большими, гулкими коридора¬
ми, пахнувшими камнем и прохладой, и с бесконечными
чердаками, полными дерева, овощей, сквозняков и темной
пустоты. Лучи многих миров перекрещивались в этом до¬
ме. Здесь молились и читали Библию, здесь занимались
индийской филологией, здесь играли много хорошей музы¬
ки, знали о Будде* и Лао-цзы*, из многих стран приходи¬
ли гости, неся на своей одежде дуновение чужбины, у них
были диковинные чемоданы из кожи или из лыка, звучали
иноземные языки, здесь кормили бедных, здесь празднова¬
ли праздники — ученость и сказка уживались здесь совсем
близко друг от друга. Еще была бабушка, ее мы немного
боялись и почти не знали, потому что она не говорила по-
немецки и читала французскую Библию. Многообразной и
не всегда понятной была жизнь этого дома, многими кра¬
сками играл здесь свет, богатым, многоголосным было зву¬
чание жизни. Все было хорошо и нравилось мне, но пре¬
краснее был мир моих мечтаний, и мои сны наяву играли
еще богаче. Действительности никогда не было достаточ¬
но, требовалось еще волшебство.
Для магии в нашем доме было много места. Помимо
шкафов моего дедушки были еще мамины шкафы, напол¬
ненные азиатскими тканями, платьями, покрывалами; ма¬
гическим было то, как божок принимался косить взглядом,
тайной пахли многие старые комнатки и уголки на лест¬
нице. И внутри меня многое отвечало магии, обступавшей
меня снаружи. Были такие вещи, такие связи вещей, ко¬
торые существовали только во мне и для меня одного. Ни¬
что не могло быть столь таинственным, столь малосообщи-
мым, настолько стоящим вне повседневной обыденщины, и
все же ничто не могло быть более реальным. Уже каприз¬
ное возникновение или исчезновение картинок и рассказов
в упомянутой выше большой книге относилось сюда, равно
как перемены в облике вещей, которые можно было на¬
блюдать ежечасно. Насколько иначе выглядела дверь до¬
ма, беседка в саду и улица в воскресенье вечером, нежели
в понедельник утром! Какое изменившееся обличье пока¬
зывали стенные часы и образ Христа в жилой комнате по
2* 35
тем дням, когда там царствовал дух дедушки, по сравне¬
нию с- днями, когда это был дух отца, и как все еще раз
менялось по-новому в те часы, когда вообще никакой иной
дух не давал вещам их сигнатуры, никакой, кроме моего
собственного, когда душа моя играла с вещами, наделяя их
новыми именами и значениями! Тогда какой-нибудь давно
знакомый стул или табурет, какая-нибудь тень возле печ¬
ки, какой-нибудь газетный заголовок могли стать краси¬
выми или безобразными и злобными, значительными или
заурядными, завлекательными или отпугивающими, за¬
бавными или грустными. Как мало, однако, твердого, ста¬
бильного, неизменного! До чего все жило, претерпевало
перемены, желало преобразиться, жадно подстерегало слу¬
чая разрешиться в ничто и родиться заново!
Но самым важным и самым великолепным из магиче¬
ских явлений был «человечек». Не могу сказать, когда я
увидел его в первый раз, мне кажется, что он присутство¬
вал всегда и явился на свет вместе со мной. Человек был
крохотным, серым, тенеподобным существом, каким-то го¬
мункулусом*, духом или кобольдом*, ангелом или демо¬
ном, который то появлялся, то уходил от меня и которого
мне приходилось слушаться больше, чем отца, больше,
чем мать, больше, чем разума, порой даже больше, чем
страха. Когда маленький человечек становился для меня
зримым, на свете был только он, и, куда бы он ни пошел
или что бы он ни начал делать, я должен был следовать
за ним, делать, как он. Показывал он себя во время опас¬
ности. Если за мной гнался злой пес или разъяренный
мальчик постарше и положение мое делалось отчаянным,
тогда-то, в самое трудное мгновение, человечек появлял¬
ся, бежал передо мной, показывал путь, приносил избав¬
ление. Он показывал мне дыру в заборе, через которую я
благополучно выбирался в последний опасный миг, он вы¬
делывал передо мной то, что как раз надо было делать —
упасть, повернуть, улепетывать, кричать, молчать. Он от¬
нимал у меня то, что я собирался съесть, он отводил меня
на место, где я находил потерянное. Бывали времена, ког¬
да я видел его каждый день. Бывали времена, когда он не
давал о себе знать. Эти времена были для меня нехороши¬
ми, все было тогда безразлично и смутно, ничего не про¬
исходило, дело не двигалось вперед.
Однажды на рыночной площади человечек бежал передо
мною, а я за ним, и он подбежал к огромному рыночному
36
фонтану, в чаши которого, глубиною больше чем в рост че¬
ловека, лились четыре струи, он вскарабкался по каменной
стене до самого верха, я последовал за ним, и, когда он от¬
туда соскочил проворным прыжком в глубокую воду, я со¬
скочил тоже, выбора у меня не было, и я едва-едва не уто¬
нул. Однако я не утонул, меня вытащили, собственно, вы¬
тащила меня молодая милая жена соседа, с которой я до
этого почти не был знаком, а теперь вступил в чудесный
союз насмешливой дружбы, на долгое время осчастливив¬
ший меня.
Однажды отец вызвал меня для обсуждения одного мо¬
его проступка. В разговоре я с грехом пополам выкрутил¬
ся, еще раз пожалев, что так трудно объяснить что-нибудь
взрослым. Были слезы, было мягкое наказание, а под ко¬
нец на память об этом часе мне был подарен красивый и
маленький настольный календарь. Несколько пристыжен¬
ный, чувствуя неудовлетворенность всем происшедшим, я
вышел из дома и пошел по мосту через речку, и вдруг пе¬
редо мной побежал человечек, он вскочил на перила моста
и жестом приказал мне выбросить подарок моего отца, ки¬
нуть его в речку. Я сейчас же выполнил это, не было ни
сомнений, ни колебаний, если только человечек был тут,
сомнения и колебайия появлялись лишь тоща, коща его
не было, коща он пропадал и бросал меня одного. И еще
я помню, как я однажды пошел гулять с моими родителя¬
ми и появился человечек, он шел по левой стороне улицы,
я следовал за ним, и, сколько бы ни приказывал мне отец
перейти к нему на другую сторону, человечек не перехо¬
дил, он упорно продолжал идти слева, и мне приходилось
каждый раз бежать обратно к нему. Отцу в конце концов
это наскучило, и он разрешил мне идти ще вздумается. Он
был оскорблен и лишь позднее, дома, задал мне вопрос,
почему же все-таки я был до такой степени непослушным
и что заставило меня идти по другой стороне улицы. В та¬
ких случаях я оказывался в затруднении, хуже того, в
безвыходном положении потому, что сказать кому бы то
ни было хоть слово о человечке было самой невозможной
вещью на свете. Не было ничего более запретного, более
страшного, более греховного, чем выдать человечка, на¬
звать его, рассказать о нем. Я не смел даже думать о нем,
даже звать его или желать, чтобы он пришел. Если он яв¬
лялся, это было хорошо, и надо было идти за ним. Если
он не являлся, все было так, словно он никоща не суще¬
37
ствовал. Имени у него не было. Но совершенно немыслимо
было бы не пойти за ним, раз уж он появился. Куда бы он
ни пошел, я шел за ним, в воду — так в воду, в огонь —
так в огонь. Это было не так, чтобы он нечто приказывал
или советовал сделать. Нет, он просто делал, и я повторял
за ним. Не делать того, что делал он, было столь же не¬
возможно, как невозможно было бы для моей тени не по¬
вторять моих движений. Возможно, я был только тенью
или зеркалом человечка, или он — моим; возможно, то,
что, как мне представлялось, я делал за ним, я на самом
деле делал раньше его или одновременно с ним. Беда в
том, что он не всеща присутствовал, и, коща его не было,
моим действиям недоставало определенности; тоща все
могло бы повернуться как-то иначе, тогда для каждого ша¬
га возникала возможность сделать и не сделать, помеш¬
кать, задуматься. Но все правильные, радостные и счаст¬
ливые шаги моей тощашней жизни были сделаны разом,
не задумываясь. Царство свободы — это, возможно, также
и царство заблуждения.
Какой очаровательной была моя дружба с веселой со¬
седской женой, которая вытащила меня тогда из фонтана!
Она была живой, молодой, прелестной — и глупой, это
была очень приятная, почти гениальная глупость. Она
слушала мои рассказы про разбойников и про волшебство,
верила мне то чересчур, то недостаточно и почитала меня
по меньшей мере за одного из Трех Волхвов*, против чего
я не возражал. Она восхищалась мной до крайности. Когда
я рассказывал ей что-нибудь потешное, она принималась
громко и горячо смеяться, задолго до того, как ей удава¬
лось понять соль рассказа. Я выговаривал ей за это, спра¬
шивая: «Послушай, госпожа Анна, ну как ты можешь сме¬
яться над шуткой, когда еще не поняла ее? Это очень глу¬
по, и это для меня обидно. Либо ты понимаешь мои ост¬
роты и смеешься, либо ты их не схватываешь, тоща нечего
смеяться и делать вид, будто ты поняла». Она продолжала
смеяться. «Нет, — кричала она, — ты просто самый
смышленый парень, которого я когда-нибудь видела, ты
прелесть. Быть тебе профессором, или министром, или
доктором. А смеяться — уж тут, знаешь ли, нет ничего ху¬
дого. Смеюсь я просто потому, что мне с тобой весело и
что ты самый забавный человек на свете. А теперь растол¬
куй мне, что там было смешного!» Я обстоятельно растол¬
ковывал, ей всеща нужно было еще кое-что переспросить,
38
в конце концов она на самом деле понимала и.хотя уже
раньше, казалось бы, посмеялась как следует, от всего сер¬
дца, теперь начинала смеяться по-настоящему, хохотала
как сумасшедшая, так заразительно, что это передавалось
и мне. Как часто мы вместе смеялись, как она меня изба¬
ловала, до чего она мной восхищалась! Есть трудные ско¬
роговорки, которые я иногда должен был ей произносить,
совсем быстро и по три раза подряд, например: «У быка
губа тупа», или про колпак, который сшит не по-колпа-
ковски. Она тоже должна была попробовать, я на этом на¬
стаивал, но она начинала смеяться уже заранее, не могла
выговорить правильно даже трех слов, да и не хотела это¬
го, и каждая начатая фраза прерывалась новым взрывом
хохота. Госпожа Анна была самым довольным человеком,
которого мне случилось видеть. Я в моем мальчишеском
умничанье считал ее несказанно глупой, в сущности, она
такой и была, но она была счастливым человеком, а я не¬
редко склоняюсь к тому, чтобы считать счастливых людей
за тайных мудрецов, даже если они представляются дура¬
ками. Ах, что глупее ума и что делает более несчастным!
Прошли годы, моя дружба с госпожой Анной уже про¬
шла, я рос и поддавался искушениям, страданиям и опас¬
ностям ума, и вдруг она мне понадобилась снова. И снова
отвел меня к ней человечек. Я был с некоторого времени
мучительно занят вопросом различия полов и происхожде¬
ния на свет детей, вопрос становился все более жгучим, и
в один прекрасный день он принялся до того терзать меня,
что я предпочел бы не жить больше, чем оставить тоскли¬
вую загадку неразрешенной. Дико и угрюмо шел я, возвра¬
щаясь из школы, по рыночной площади, несчастный и ом¬
раченный, и вдруг мой человечек был тут как тут! Он стал
к этому времени редким гостем, он уже давно изменил мне —
или я ему; но тут я увидал его снова, он бежал передо мной
по земле, маленький и шустрый, одно мгновение было его
видно, и тут же он вбежал в дом госпожи Анны. Он исчез,
но я уже последовал за ним в этот дом, уже догадывался
почему, и госпожа Анна вскрикнула, когда я неожиданно
вбежал в ее комнату, потому что она как раз переодевалась,
однако меня она не выставила, и скоро я знал почти все,
что мне так отчаянно требовалось узнать. Из этого могла
бы получиться любовная связь, если бы возраст мой еще не
был чересчур нежен для этого.
39
Чем веселая глупая соседка отличалась от большинства
взрослых, так это тем, что хоть и была глупа, однако же,
была естественна, проста, вся тут, не ломалась, не лгала.
Обычно взрослые были другими. Встречались исключения,
например моя мать, воплощение таинственного действия
жизненных сил, мой отец, воплощение справедливости и
разума, мой дедушка, почти уже и не человек, провидец,
все вмещавший, всему улыбавшийся, неисчерпаемый. Но
в большинстве своем взрослые, хотя их требовалось почи¬
тать и бояться, были очень даже глиняными богами. До
чего комичны были они со своим неловким актерством,
когда говорили с детьми! Каким фальшивым был их тон,
какой фальшивой была их улыбка! До чего они принимали
всерьез самих себя, свои установления, свои делишки, с
какой преувеличенной важностью держали они, выходя на
улицу, свои портфели, книги, зажатые под мышкой, и
другие атрибуты своей деятельности, как напряженно до¬
жидались они, что их узнают, поприветствуют, воздадут
им знаки почитания! По воскресеньям к моим родителям
иногда приходили люди лишь за тем, чтобы «нанести ви¬
зит»: мужчины, державшие цилиндры неловкими руками
в лакированных перчатках, важные, едва не поперхнув¬
шиеся от избытка достоинства, адвокаты и окружные
судьи, пасторы и учителя, директора и инспекторы и с ни¬
ми слегка испуганные, слегка подавленные их значитель¬
ностью дамы. Они рассаживались на стульях в негнущихся
позах, ко всему их надо было принуждать, во всем им на¬
до было оказывать помощь — когда они снимали пальто,
когда они входили в комнаты, когда присаживались, когда
обменивались вопросами и ответами, когда уходили. Не
принимать этого мещанского мира до такой степени всерь¬
ез, как он этого требовал, было для меня нетрудно, потому
что мои родители к нему не принадлежали и сами нахо¬
дили его забавным. Но и тогда, когда взрослые не ломали
комедию, не носили перчаток и не наносили визитов, они
представлялись мне чаще всего странными и смешными.
До чего они важничали со своей работой, со своими ремес¬
лами или должностями, какими священными и неприкос¬
новенными казались они сами себе! Когда извозчик, или
полицейский, или мостовщик перекрывал проход, это.бы¬
ло дело святое, само собой разумелось, что каждый уйдет,
освободит место, даже поможет. Но вот дети со своими ра¬
ботами и своими играми — те не были важны, их можно
40
было прогнать окриком. Так что же, было ли то, что они
•делали, менее правильно, менее существенно, менее свя¬
то, чем дела взрослых? О нет, напротив, просто у взрос¬
лых была власть, они правили, они повелевали. При этом
у них, точь-в-точь как у нас, детей, были свои игры, они
играли в пожарные учения, в солдатские учения, они шли
в клубы и в трактиры, но все с такой важной, с такой зна¬
чительной миной, словно выполняли некую непререкае¬
мую заповедь, прекраснее и священнее которой вообще
ничего быть не могло.
Надо признать, умные люди попадались порой и между
взрослыми, даже между учителями. Но разве не было при¬
мечательно и подозрительно уже то, что среди «больших»,
которые как-никак сами были некоторое время тому назад
детьми, так трудно было найти хоть одного, который не
ухитрился бы полностью забыть, что такое ребенок, как
он живет, работает, играет, думает, что его радует, что
огорчает? Немногие, очень немногие сохранили об ^том
представление! На свете были не только деспоты и груби¬
яны, которые вели себя по отношению к детям злобно и
некрасиво, гоняли их отовсюду, смотрели на них искоса и
с ненавистью, а порой чувствовали перед ними явный
страх. Нет, и другие, благорасположенные, охотно снисхо¬
дившие время от времени до разговора с детьми, и они по
большей части не знали, о чем же с ними говорить, и они
принуждены были с мучительной неуверенностью корчить
из себя детей, чтобы добиться понимания, но только не
настоящих детей, а выдуманных, дурацких детей из како-
го-то шаржа.
Все, или почти все взрослые, жили в другом мире, ды¬
шали другим воздухом, не таким, как мы, дети. То и дело
они бывали не умнее нас, очень часто у них не было перед
нами никакого преимущества, кроме их таинственной вла¬
сти. Ну конечно, они были сильнее нас, они могли, не по¬
лучая от нас добровольного повиновения, принуждать нас
и надавать нам колотушек. Но разве это было настоящее
превосходство? Разве любой бык, любой слон не был силь¬
нее, чем этот взрослый? Но они держали власть в своих
руках, они повелевали, их мир, их мода считались пра¬
вильными. Однако самым странным и почти что жутким
было для меня то, что при этом многие взрослые, как ка¬
жется, завидовали детям. Иногда они могли высказать это
с наивной откровенностью, например сказать, вздохнув:
41
«Да, вам-то, детки, пока хорошо живется!» Если это не
было притворством — а притворством это все-таки не бы¬
ло, временами я ощущал в подобных заявлениях искрен¬
ность, — значит, взрослые, эти властители, эти полные
важности повелители, ничуть не счастливее, чем мы, обя¬
занные им повиновением и почтением. В одном нотном
альбоме, по которому меня учили, была записана песня с
таким поразительным припевом: «Какое блаженство —
дитятею быть!» Тут была какая-то тайна. Существовало
нечто, что имели мы, дети, и чего недоставало взрослым,
они были не просто больше и сильнее, в опреде;1енном от¬
ношении они были беднее, чем мы! И они, которым мы
так часто завидовали за их длинный рост, за их важность,
за их кажущуюся свободу и уверенность, за их бороды и
брюки, — они временами завидовали, даже в песнях, ко¬
торые пели, нам, маленьким!
Что ж, до поры до времени я был счастлив наперекор
всему. На свете было немало такого, что я охотно изменил
бы, будь на то моя воля, особенно в школе; и все-таки я
был счастлив. Меня, правда, с разных сторон увещевали и
наставляли, что человек совершает свой путь земной не
просто для своего удовольствия, что истинное счастье до¬
ступно только в^ином мире и лишь тому, кто выдержал ис¬
пытания, — это^ вытекало из многих стихов и афоризмов,
которые я учил и порой находил прекрасными и трога¬
тельными. Однако такие вещи, сильно занимавшие моего
отца, мной переживались не особенно остро, и, когда мне
было плохо, когда я болел или терзался неосуществленны¬
ми желаниями или ссорился с родителями, я редко искал
прибежища у Бога, но шел окольными путями и выходил
снова на свет. Когда обычные игры теряли прелесть, когда
железная дорога, игрушечный магазин и книжка со сказ¬
ками становились затрепанными и скучными, как раз тог¬
да мне приходили на ум самые чудесные новые игры. А
когда не оставалось ничего другого, как вечером в постели
закрыть глаза и забыться в созерцании сказочного зрели¬
ща являвшихся передо мной цветных кругов, — о, как
разгоралось во мне сызнова блаженное упоение тайной,
каким предчувственным и многообещающим становился
мир.
Первые школьные годы миновали, не особенно меня пе¬
ределав. Я выяснил из опыта, что доверчивость и прямоду¬
шие могут нам повредить, я выучился, приняв уроки не¬
42
скольких равнодушных учителей, азам лжи и притворства;
дальше все пошло само. Но постепенно и для меня увяло
первое цветение, постепенно и я неприметно для себя са¬
мого разучил как по нотам эту фальшивую песню жизни,
это низкопоклонство перед <д^ействительностью», перед за¬
конами взрослых, это приспособление к миру, «каков он
есть». Я давно понимаю, почему это в песенниках у взрос¬
лых стоят такие строки, как приведенная выше: «Какое
блаженство — дитятею быть», — и ко мне приходили такие
часы, когда я завидовал тем, кто был еше ребенком.
Когда мне шел двенадцатый год и возник вопрос, буду
ли я учиться греческому языку, я без размышлений ответил
согласием; стать со временем таким же ученым, как отец,
а по возможности — как дедушка, представлялось мне не¬
обходимым. Но с этого момента для моей дальнейшей жиз¬
ни уже существовал план: я должен был учиться и затем
становиться либо пастором, либо филологом, потому что на
это давалась стипендия. Дедушка тоже в свое время шел
этим путем.
По видимости, в этом не было ничего худого. Просто у
меня теперь было будущее, просто на моем пути стоял ука¬
затель, просто каждый день и каждый месяц приближал ме¬
ня к предназначенной цели, все указывало в сторону этой
цели, все уводило меня от игры, от вечного настоящего мо¬
их прежних дней, имевших смысл, но не имевших цели,
дней без будущности. Жизнь взрослых поймала меня пока¬
мест за волосы или за палец, но скоро она изловит меня
как следует и будет крепко держать — жизнь, ориентиро¬
ванная на цели и выгоды, на порядок и профессию, на дол¬
жность и экзамены; скоро час пробьет и для меня, скоро и
я стану студентом, кандидатом, духовным лицом, профес¬
сором, буду наносить визиты с цилиндром в руках, одетых
в кожаные перчатки, не смогу понимать больше детей, мо¬
жет быть, примусь им завидовать. А ведь я сердечно не хо¬
тел всего этого, я не хотел уходить из моего мира, где было
так хорошо, так чудесно. Правда, была еще одна совсем
тайная цель, которая маячила передо мной, когда я думал
о будущем. Одного я желал для себя пламенно — стать вол¬
шебником.
Это желание или мечтание долго владело мной. Но оно
начало терять свою власть, у него были враги, против него
было то, что серьезно и реально, чего нельзя отрицать. Мед¬
ленно, медленно отцветало для меня его цветение, медлен¬
43
но надвигалось на меня из безграничности нечто ограни¬
ченное — реальный мир, мир взрослых. Желание мое стать
волшебником, хотя мне и хотелось удержать его, обесцени¬
валось в моих же глазах, медленно превращалось для меня
же самого в ребяческую глупость. Уже существовала некая
сфера, в которой я больше не был ребенком. Уже бесконеч¬
ный и многообразный мир возможностей был для меня об¬
несен оградой, разделен на клеточки, поделен заборами.
Медленно изменялся девственный лес моих дней. Земной
Рай вокруг меня умирал. Я не оставался тем, чем был рань¬
ше — принцем и королем в краю возможного, я не делался
волшебником, я учился греческому, а через два года — еще
и древнееврейскому, через шесть лет мне предстояло стать
студентом.
Неприметно сужался мир, неприметно исчезало вокруг
меня волшебство. Удивительная история в дедушкиной
книге была по-прежнему прекрасна, но она находилась на
странице, номер которой я знал, ее можно было там оты¬
скать и сегодня, и завтра, и в любое время — чудес больше
не было. Равнодушно улыбался бронзовый танцующий бог
из Индии. Я редко смотрел на него теперь и уже никогда
не заставал его скосившим глаза. А хуже всего было то, что
переставал показываться серый человечек. Повсюду меня
подстерегало разочарование: что было широким, станови¬
лось узким, что было бесценным, становилось убогим.
Но это я чувствовал только внутри, только под кожей;
по-прежнему был я веселым и жаждал власти, учился пла¬
вать и бегать на коньках, был первым учеником на уроках
греческого, все шло по видимости отлично. Только краски
делались бледнее, звуки — более пустыми, мне прискучило
навещать госпожу Алну, из моей жизни тихо ушло нечто
незамеченное, невостребованное, чего, однако, недостава¬
ло. И когда я теперь хотел ощутить полноту жизни, я нуж¬
дался в более острых ощущениях, должен был встряхнуть
себя, взять разбег; У меня появился вкус к пряным блюдам,
я норовил лакомиться тайком, мне случалось воровать кар¬
манные деньги, чтобы доставить себе какое-нибудь особен¬
ное развлечение, потому что без него жизнь никак не хо¬
тела делаться достаточно хороша. Я начал испытывать ин¬
терес к девушкам; это было довольно скоро после того дня,
когда человечек еще раз явился мне и еще раз отвел меня
к госпоже Анне.
44
КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Я родился под конец Нового времени, незадолго до
первых примет возвращения средневековья, под знаком
Стрельца, в благотворных лучах Юпитера. Рождение мое
совершилось ранним вечером в теплый июльский день, и
температура этого часа есть та самая, которую я любил и
бессознательно искал всю мою жизнь и отсутствие которой
воспринимал как лишение. Никогда не мог я жить в хо¬
лодных странах, и все добровольно предпринятые странст¬
вия моей жизни направлялись на юг. Я был ребенком бла¬
гочестивых родителей, которых любил нежно и любил бы
еще нежнее, если бы меня уже весьма рано не позаботи¬
лись ознакомить с четвертой заповедью*. Горе в том, что
заповеди, сколь бы правильны, сколь бы благостны по сво¬
ему смыслу они ни были, неизменно оказывали на меня
худое действие; будучи по натуре агнцем и уступчивым,
словно мыльный пузырь, я перед лицом заповедей любого
рода всегда выказывал себя строптивым, особенно в юно¬
сти. Стоило мне услышать «ты должен», как во мне все
переворачивалось и я снова становился неисправим. Не¬
трудно представить себе, что свойство это нанесло нема¬
лый урон моему преуспеянию в школе. Правда, учителя
наши сообщали нам на уроках по забавному предмету,
именовавшемуся всемирной историей, что мир всегда был
ведом, правим и обновляем такими людьми, которые сами
творили себе собственный закон и восставали против гото¬
вых законов, и мы слышали, будто люди эти достойны
почтения; но ведь это было такой же ложью, как и все ос¬
тальное преподавание, ибо, стоило одному из нас по до¬
брым или дурным побудительным причинам в один пре¬
красный день набраться храбрости и восстать против ка-
кой-либо заповеди или хотя бы против глупой привычки
или моды, и его отнюдь не почитали, не ставили нам в
пример, но наказывали, поднимали на смех и обрушивали
на него трусливую мощь преподавательского насилия.
По счастью, еще до начала школьных годов мне удалось
выучиться самому важному и незаменимому для жизни:
мои пять чувств были бодрственны, остры и тонки, я мог
на них положиться и ждать себе от них много радости, и,
если позднее я безнадежно поддался приманкам метафизи¬
ки и временами даже налагал на свои чувства пост и держал
их в черном теле, все же атмосфера развитой чувственной
45
впечатлительности, особенно по части зрения и слуха, ни¬
когда не покидала меня и явственно играет свою роль и в
мире моего мышления, каким бы абстрактным этот мир
подчас ни казался.
Итак, некоторой оснасткой для жизни я обзавелся, со¬
гласно выше сказанному, еще задолго до школьных годов.
Я не был неучем в нашем родном городе, смыслил кое-что
в птичниках и лесах, в виноградниках и мастерских ре¬
месленников, я распознавал деревья, птиц и бабочек, умел
распевать песни и свистать сквозь зубы, знал и другие ве¬
щи, не вовсе бесполезные для жизни. К этому добавились
школьные предметы, которые давались мне легко и славно
меня развлекали, я получал особенное удовольствие от ла¬
тыни и начал сочинять латинские стихи почти так же ра¬
но, как немецкие. Что до искусства лжи и дипломатии, то
ему я обязан второму школьному году, когда господин
учитель и помощник учителя обогатили меня соответству¬
ющими навыками, между тем как до того я, по моей ре¬
бяческой открытости и доверительности, навлекал на себя
одну неприятность за другой. Оба вышеназванных настав¬
ника сумели исчерпывающе разъяснить мне, что честность
и правдолюбие суть свойства, отнюдь не желательные в
школьнике. Они приписали мне один случившийся в клас¬
се пустячный проступок, в котором я был решительно не¬
повинен; поскольку же им не удалось побудить меня со¬
знаться в несодеянном, из сущей безделицы проистекло
форменное судебное расследование, и оба совместными
усилиями после долгого мучительства извлекли из меня
если не желаемое признание, то последние остатки веры в
порядочность учительской касты. Позднее мне встреча¬
лись, благодарение Богу, и настоящие учителя, достойные
самого глубокого почтения, но непоправимое уже сверши¬
лось, и мое отношение не только к школьным педагогам,
но и ко всякому авторитету было извращено и отрав.чено.
В общем же, я был на протяжении первых семи или вось¬
ми школьных годов хорошим учеником, по крайней мере
место мое было всеща среди первых в классе. Лишь при
начале тех испытаний, которых не минует ни один чело¬
век, обреченный стать личностью, я вступил в конфликт
со школой, становившийся все тяжелее и тяжелее. Понять
смысл этих испытаний мне удалось лишь два десятилетия
спустя, тогда же они были голой данностью и отовсюду об¬
ступали меня против моей воли, как тяжкое несчастье.
46
Дело обстояло так: с тринадцати лет мне было ясно одно —
я стану либо поэтом, либо вообще никем. Но к этой опре¬
деленности постепенно прибавилось другое открытие, и оно
было мучительно. Можно было стать учителем, пастором, *
врачом, ремесленником, торговцем, почтовым служащим,
даже музыкантом, даже архитектором или живописцем —
ко всем на свете профессиям вела какая-то дорога, прохо¬
дившая через подготовку, через школу, через обучение на¬
чинающих. Только для поэта не существовало ничего по¬
добного! Что разрешалось и даже считалось за честь, так
это быть поэтом, то есть получить в качестве поэта успех
и признание — по большей части, увы, лишь после смерти.
Но вот стать поэтом было немыслимо, а желать им стать
было смешно и постыдно, как я очень скоро имел случай
убедиться. В один миг вывел я тот урок, который только и
можно было вывести из ситуации: поэт есть нечто, чем до¬
зволено быть, но не дозволено становиться. И еще: наклон¬
ность к поэзии и личный к ней талант делают тебя в глазах
учителей подозрительным и навлекают то неудовольствие,
то насмешки, а то и смертельное оскорбление. С поэтом де¬
ло обстояло в точности так, как с героем и со всеми могу¬
чими или прекрасными, великодушными или небудничны¬
ми людьми и поры1^ми: в прошедшем они были чудны, лю¬
бой учебник в изобилии воздавал им хвалу, но в настоя¬
щем, в действительной жизни их ненавидели, и позволи¬
тельно было заподозрить, что учителя затем и были постав¬
лены, чтобы не дать вырасти ни одному яркому, свободному
человеку, не дать состояться ни одному великому, рази¬
тельному деянию.
И вот я увидел между мною самим и моей далекой
целью одни пропасти, все стало сомнительным, все потеря¬
ло цену, оставалось только одно: что я намерен стать поэ¬
том, легко это или трудно, смешно или почетно. Внешние
результаты этого решения — или этого несчастья — были
следующими.
Когда мне исполнилось тринадцать лет и вышеозначен¬
ный конфликт только начался, поведение в родительском
доме и в стенах школы оставляло желать столь много, что
меня отправили в изгнание в иногороднюю школу***. Годом
позднее я стал питомцем одной теологической семина¬
рии*, учился выписывать буквы древнееврейского алфави¬
та и уже готовился узнать, чтб есть «дагеш форте импли-
47
цитум»^ как вдруг внутри меня разразились бури, кото¬
рые привели к моему бегству из монастырской школы, к
наказанию строгим карцером, к прощанию с семинарией.
Некоторое время я силился продвинуть вперед мои зна¬
ния в одной гимназии*, однако и здесь скоро все окончилось
карцером и расставанием. Затем я три дня пробыл учени¬
ком в торговом доме, снова сбежал и пропал на несколько
дней и ночей, к немалой тревоге моих родителей. В течение
полугода я был помощником моего отца, в течение полуто¬
ра лет я работал практикантом в механической мастерской
и на фабрике башенных часов*.
Короче говоря, более четырех лет все попытки сделать
из меня что-нибудь путное кончались неукоснительным
провалом, ни одна школа не хотела удержать меня в своих
стенах, ни в какой выучке я не мог протянуть сколько-ни-
будь долго. Любая попытка сделать из меня общественно
полезного человека оканчивалась неудачей, иногда позо¬
ром и скандалом, иногда бегством и изгнанием — а между
тем за мной признавали хорошие способности и даже из¬
вестную меру доброй воли! Притом я всегда был довольно
трудолюбив; к высокой добродетели ничегонеделания я не¬
изменно относился с почтительным восхищением, но ни¬
когда не усвоил ее сам. В пятнадцать лет, потерпев неу¬
дачу в школе, я принялся сознательно и энергично рабо¬
тать над самообразованием, и для меня было радостью и
блаженством, что в доме моего отца обреталась огромная
дедовская библиотека, целый зал, наполненный старыми
книгами и содержавший, в частности, всю немецкую ли¬
тературу и философию восемнадцатого столетия. Между
шестнадцатым и двадцатым годами я не только исписал
кучу бумаги своими первыми литературными опытами, но
и прочел за эти годы половину всей мировой литературы
и занимался историей искусства, языками и философией с
таким усердием, которого за глаза хватило бы для занятий
по обычному школьному курсу.
Затем я сделался книготорговцем*, чтобы наконец-то
самому зарабатывать свой хлеб. С книгами у меня были
отношения, во всяком случае, лучше, нежели с коленча¬
тым валом и литыми зубчатыми колесами, с которыми я
всласть намаялся на поприще механика. Плавать и уто-
^ Термин фамматики древнееврейского языка.
48
пать в море книжных новинок было поначалу удовольст¬
вием, почти опьянением. Однако прошло время, и я при¬
метил, что жить духом только в настоящем, в новом и но¬
вейшем — непереносимо и бессмысленно,, что духовная
жизнь вообще делается возможной только через постоян¬
ную связь с былым, с историей, со стариной и с древно¬
стью. А посему, как только первое удовольствие было ис¬
черпано, для меня стало потребностью вернуться от пото¬
ка новинок к старине, и я осуществил это, перейдя из
книжной лавки в лавку букиниста. Однако я сохранял
верность и этой профессии лишь до тех пор, покуда она
была мне нужна, чтобы прокормиться. В возрасте двадца¬
ти шести лет, после первого литературного успеха, я от¬
казался от этого занятия.
Теперь, после стольких усилий и жертв, цель моя бы¬
ла, стало быть, достигнута; сколь бы это ни казалось не¬
возможным, я стал-таки поэтом и по видимости выиграл
свою долгую и упрямую борьбу против всего мира. Горечь
годов школы, годов становления, когда я часто оказывался
недалеко от гибели, была теперь забыта и стоила разве что
улыбки — и родственники, и друзья, которые только что
ставили на мне крест, теперь добродушно улыбались вме¬
сте со мной. Я победил, и стоило мне совершить самый
глупый, самый бесполезный поступок, как его находили
восхитительным, да и сам я был немало восхищен собою.
Только теперь до меня дошло, в каком устрашающем оди¬
ночестве, в какой аскезе, в какой опасности жил я год за
годом; тепловатый воздух признания отогревал меня, и я
начал уже превращаться в довольного человека.
Еще изрядный срок моя внешняя жизнь протекала спо¬
койно и приятно. У меня были жена и дети, дом и сад. Я
писал свои книги, я слыл за поэта, достойного всяческих
симпатий, и жил в согласии со всем миром. В 1905 году я
помогал основывать некий журнал*, направленный прежде
всего против личной власти Вильгельма II*, однако нельзя
сказать, чтобы я принимал эти политические цели по-на-
стоящему всерьез. Я отправлялся в славные поездки по
Швейцарии, по Германии, по Австрии, по Италии, по Ин¬
дии*. Казалось, что все в порядке.
Потом пришло достопамятное лето 1914 года, и в мгно¬
вение ока все переменилось внутри меня и вокруг меня.
Стало ясно, что прежнее наше благополучие стояло на не¬
прочной основе, а теперь, стало быть, наступало неблаго¬
49
получие — великая школа. Так называемая великая эпоха
разразилась, и я не могу сказать, будто я встретил ее уда¬
ры достойнее, более подготовленным и в лучшем состоя¬
нии духа, нежели остальные. От остальных меня отличало
тогда лишь то, что я был лишен немалого утешения, да¬
рованного столь многим, а именно энтузиазма. Через это
я опять возвратился к себе самому и вступил в разлад с
окружающим, жизнь снова школила меня, снова отучива¬
ла от довольства миром и довольства собой, и лишь ценой
этого я переступил через порог посвящения в таинства
жизни.
Не могу забыть один маленький случай из первого года
войны. Я зашел в большой госпиталь, силясь на правах до¬
бровольца отыскать для себя какое-то осмысленное место
в изменившемся мире, что тогда еще казалось мне воз¬
можным. В этой больнице для раненых я познакомился с
почтенной старой девой, которая прежде вела состоятель¬
ное приватное существование, а теперь исполняла обязан¬
ности сиделки в госпитале. Она с трогательным энтузиаз¬
мом поведала мне о радости и гордости, которые она ис¬
пытывает при мысли о том, что ей дано было дожить до
этой великой эпохи. Я нашел такие чувства понятными,
ибо для подобной дамы нужна была война, чтобы превра¬
тить ее праздное и сосредоточенное на себе стародевиче¬
ское существование в жизнь деятельную и сколько-нибудь
ценную. Но когда она делилась со мной своим счастьем в
коридоре, наполненном перевязанными и увечными солда¬
тами, по пути из одной палаты с ампутированными и уми¬
рающими в другую такую же палату, сердце переверну¬
лось во мне. Я, безусловно, понимал энтузиазм этой те¬
тушки, но я не мог его разделить, не мог его одобрить. Ес¬
ли на каждые десять раненых приходилось по одной такой
восторженной сиделке, остается признать, что счастье
этих дам было оплачено чересчур дорого.
Нет, я не мог разделять радости по случаю «великой
эпохи», и так случилось, что я с самого начала горько стра¬
дал от войны и год за годом из последних сил защищался
от несчастья, нагрянувшего по видимости извне, как гром
с ясного неба, между тем как вокруг все на свете вели себя
так, как если бы именно это несчастье наполняло их бод¬
рым энтузиазмом. И когда я вдобавок читал газетные
статьи поэтов, где говорилось о благах войны, и призывы
профессоров, и все боевые стихотворения, рожденные в
50
уютных кабинетах прославленных авторов, мне станови¬
лось еще тошнее.
В 1915 году у меня вырвалось однажды печатное при¬
знание в этих чувствах, а в придачу слово сожаления о
том, что так называемые люди духа тоже не способны ни
на что другое, кроме как на проповедь ненависти, распро¬
странение лжи, восхваление великой беды. Последствием
этой жалобы, высказанной довольно робко, было то, что я
был провозглашен в прессе моего отечества изменником и
предателем — переживание, имевшее для меня новизну,
ибо, несмотря на многочисленные столкновения с прессой,
я дотоле ни разу не испытал, что же чувствует тот, кого
оплевывает сплоченное большинство. Статья с вышеупо¬
мянутым обвинением’*' была перепечатана двадцатью газе¬
тами и журналами моей отчизны, между тем как из всех
моих друзей, которых у меня было в журнальном мире по
видимости немало, лишь двое отважились за меня всту¬
питься, Старые друзья оповещали меня, что они вскорми¬
ли у своего сердца змею и что сердце это впредь бьется
только для кайзера и для нашей державы, но не для такого
выродка, как я. Ругательные письма от неизвестных лиц
поступали во множестве, и книготорговцы ставили меня в
известность, что автор, имеющий столь предосудительные
взгляды, для них не существует. На многих письмах из
этой корреспонденции я увидел украшение, о котором до¬
толе ничего не знал: это был оттиск маленькой круглой
печатки со словами: «Боже, покарай Англию!»
Кто-нибудь мог бы подумать, что я изрядно посмеялся
над этим недоразумением. Однако посмеяться я не сумел.
Опыт, сам по себ.е незначительный, принес плод, и плодом
этим было второе великое перерождение моей жизни.
Следует вспомнить: первое перерождение наступило в
тот миг, коща я осознал свою решимость стать поэтом.
Прежний образцовый ученик Гессе сделался отныне пло¬
хим учеником, он навлекал на себя наказания, изгонялся
вон, нигде не уживался, готовил себе и своим родителям
одно беспокойство за другим — и все потому, что он не ус¬
матривал никакой возможности примирить мир, как он есть
или каким он представляется, и голос собственного сердца.
Теперь, в годы войны, это повторилось сызнова. Снова я
видел себя э распре с тем самым миром, с которым только
что жил в добром согласии. Снова все несло мне неудачу,
снова я был одинок и несчастлив, снова каждое мое слово
51
и каждая моя мысль наталкивались на враждебное непони¬
мание. Снова между действительностью и тем, что казалось
мне желательным, разумным и добрым, открывалась без¬
надежная пропасть.
Однако на сей раз я не избежал суда над собой. Про¬
шло немного времени, и мне пришлось отыскать вину,
причину моих мук, уже не вокруг себя, но в себе самом.
Ибо одно я понимал ясно: корить весь мир за его безу¬
мие и бездушие — да на это не имеет права никто из лю¬
дей и никто из богов, и я меньше всех. Значит, во мне са¬
мом должен был обретаться какой-то непорядок, раз я
вступил в конфликт со всеобщим ходом мироздания. И вот
великий непорядок и впрямь был налицо. Было вовсе не
сладко заняться этим непорядком и попытаться навести
порядок. Тут для начала обнаружилось вот что: доброе со¬
гласие, в котором я пребывал со всем миром, не только
было оплачено с моей стороны слишком дорогой ценой, но
и само по себе оно было таким же недоброкачественным,
как и внешнее согласие в мире перед войной. Я вообра¬
жал, что долгими и трудными испытаниями моей юности
выстрадал себе место в мире и что теперь я — поэт. Од¬
нако тем временем успех и благополучие не преминули
сделать свое об]^чное дело, я стал довольным любителем
• спокойной жизни, и, если присмотреться как следует, по'-
эта уже не отличишь от развлекательного беллетриста. Я
был чересчур преуспеваюпщм. Что же, неблагополучие,
являющее собой всегда хорошую и строгую школу, было
мне отныне обеспечено в изобилии, и потому я все больше
учился предоставлять делам мирским идти своим чередом
и обретал умение заниматься собственной долей во всеоб¬
щем неразумии и всеобщей вине. Отыскать следы этого за¬
нятия в моих книгах я предоставляю читателю. Между
тем у меня все еще оставалась тайная надежда, что со вре¬
менем и мой народ — пусть не как целое, но в лице очень
многих мыслящих и ответственных своих представителей —
подвергнет себя такому же испытанию и на место жалоб и
проклятий по адресу злой войны, злого неприятеля и злой
революции в тысячах сердец станет вопрос: в чем делю ви¬
ну я сам и как мне снова стать невинным? Ибо невинным
всегда можно стать снова, если познать свою боль и свою
вину и перестрадать их до конца, вместо того чтобы ви¬
нить во всем других.
52
Когда новое перерождение начало проступать в моих
книгах и в моей жизни, многие из моих друзей покачали
головой. Другие просто бросили меня. Это входило в из¬
менившийся облик моей жизни наряду с утратой моего до¬
ма, моей семьи и прочих приятных вещей. Пришло время,
когда мне каждый день приходилось с чем-то расставаться,
когда я каждый день дивился тому, что смог вытерпеть
еще и это, и продолжаю жить, и все еще за что-то люблю
эту диковинную жизнь, по всей видимости НС приносящую
мне ничего, кроме мучений, разочарований и потерь.
Однако здесь я должен внести поправку: и в военные
годы у меня было нечто вроде благоприятной звезды или
ангела-хранителя. Между тем как я ощущал себя одино¬
ким перед лицом моих мук и вплоть до начала перерож¬
дения ежечасно находил мою судьбу зловещей и прокли¬
нал ее, именно моя боль, моя опьяненность болью послу¬
жили мне защитой и ограждением против внешнего мира.
Дело в том, что я провел военные годы в мерзком пере¬
плетении политики, шпионажа, игр, подкупа и ухищре¬
ний спекуляции, замешенном так густЬ, что подобную
концентрацию нелегко было отыскать на земле даже в тс
годы — то есть в Берне, в средоточии немецкой, нейтраль¬
ной и неприятельской дипломатии, в городе, который в
мгйовение ока оказался перенаселен, и притом сплошь
дипломатами, тайными агентами, шпионами, журналиста¬
ми, скупщиками краденого и жуликами. Я жил среди по¬
слов и военщины, общался с людьми разных национально¬
стей, в том числе и неприятельских, воздух вокруг меня
являл собой одну огромную сеть шпионажа и антишпио¬
нажа, слежки, интриг, политического и приватного деля¬
чества — и все эти годы я ухитрялся ничего не замечать!
Меня подслушивали, меня выслеживали, за мной шпиони¬
ли, я попадал в число подозрительных лиц то для непри¬
ятеля, то для нейтральных стран, то для своих же сооте¬
чественников, и мне это было невдомек; лишь много поз¬
днее я узнал обо всем и не мог понять, как мне удалось
прожить в такой атмосфере без вреда для себя. Но это ми¬
новало благополучно.
С окончанием войны совпал также завершающий мо¬
мент моего перерождения, и мучительный искус достиг
предела. Искус этот уже не имел ничего общего с войной и
мировыми судьбами, так что и поражение Германии, кото¬
рое для нас, заграничных жителей, было очевидным, на¬
53
ступив, оказалось не таким уж страшным. Я всецело погру¬
зился в себя самого и в свою судьбу, хотя порой не без ощу¬
щения, что дело идет о человеческой участи вообще. Всю
войну, всю похоть человекоубийства, все легкомыслие, всю
грубую тягу к удовольствиям, всю трусость мира я находил
сполна и в себе самом, я потерял для начала уважение к
себе, потом испытал даже презрение, я не мог делать ничего
иного, как только доводить до конца свое заглядывание в
хаос — с надеждой, то разгоравшейся, то гаснувшей, что
снова обрету по ту сторону хаоса природу, обрету невин¬
ность. Что говорить, каждый проснувшийся к истинному
самосознанию человек проходит тот же узкий путь через
пустыню, а рассказывать об этом прочим было бы напрас¬
ной потерей труда.
Коща друзья становились мне неверны, я порой испы¬
тывал печаль, но никогда не обвду, напротив, я скорее
воспринимал это как подтверждение правильности моего
пути. Эти прежние друзья были, в конце концов, совер¬
шенно правы, когда говорили, что раньше я был таким
симпатичным человеком и писателем, между тем как те¬
перешняя моя проблематика попросту неаппетитна. Воп¬
росы тонкого вкуса или нравственной респектабельности
были уже давно не для меня, не было никого, кто понимал
бы мой язык. Друзья эти, наверное, с полным основанием
корили меня, что мои книги потеряли красоту и гармо¬
нию. Сами эти слова вызывали у меня разве что смех —
что красота, что гармония тому, кто приговорен к смерти,
кто надрывается, силясь пробежать между обваливающи¬
мися стенами? Кто знает, может быть, вопреки вере всей
моей жизни я все-таки вовсе не поэт и все мои усилия по
эстетической части были ошибкой? Почему бы и нет —
даже это больше не имело значения. Преобладающая
часть того, что я увидел, спускаясь по кругам ада в себе
самом, была фальшью и подделкой без всякой ценности —
так и с бредом моего призвания, моего таланта дело, на¬
верное, обстояло не лучше. Ах, до чего все это было несу¬
щественно! И то, что я некогда с тщеславием и ребяческой
радостью рассматривал как свою задачу, тоже улетучи¬
лось. Свою задачу, или, лучше сказать, свой путь к спа¬
сению, я видел теперь не в сфере лирики, или философии,
или еще какой-нибудь подобной специальной области, но
единственно в том, чтобы дать немногому действительно
54
живому и сильному во мне пережить свою жизнь до кон¬
ца, единственно в безоговорочной верности тому, что я
еще ощущал в себе живущим. Это была жизнь — это был
Бог. Теперь, когда эти времена высокого, смертельного на¬
пряжения прошли, все выглядит до странности изменив¬
шимся, потому что имена, которыми все тогда для меня
называлось, да и суть, скрывавшаяся за этими именами,
нынче лишены смысла, и то, что позавчера было святым,
может прозвучать сегодня почти комически.
Когда война наконец-то окончилась и для меня, а
именно весной 1919-го, я уединился в отдаленном уголке
Швейцарии’*', чтобы стать отшельником. Из-за того что я
всю жизнь (как то было унаследовано мною от родителей
и деда) много занимался индийской и китайской мудро¬
стью, причем и новые мои переживания были выражаемы
отчасти также при посредстве восточного языка символов,
меня часто именовали «буддистом», над чем я мог только
смеяться, ибо знал, что в глубине души я дальше от этого
исповедания, нежели от какого бы то ни было иного. И все
же в этом скрывалось нечто верное, зерно истины, как я
понял немного спустя. Будь так или иначе мыслимо, что¬
бы человек чисто лично избирал себе религию, я по сокро¬
веннейшей душевной потребности присоединился бы к од¬
ной из консервативных религий — к Конфуцию*, или к
брахманизму*, или к римской церкви. Однако сделал бы я
это из потр^ности в противоположном полюсе, отнюдь не
из прирожденного сродства, ибо я не только случайно ро¬
дился как сын благочестивых протестантов, но и есмь про¬
тестант по душевному складу и сути (чему нимало не про¬
тиворечит моя глубокая антипатия к наличным на сегод¬
няшний день протестантским вероисповеданиям). Ибо ис-^
тинный протестант обороняется и против собственной цер¬
кви, как против всех других, ибо его суть принуждает его
стоять больше за становление, нежели за бытие. И в этом
смысле, пожалуй. Будда тоже был протестантом.
Вера в мое писательство и в смысл моей литературной
работы со времен вышеописанного душевного перелома
потеряла во мне, стало быть, всякую опору. Писанина не
доставляла мне больше настоящей радости. Однако без ра¬
дости человек жить не может, и я в самые черные дни не
переставал ее домогаться. Я способен был отказаться от
справедливости, от разума, от смысла жизни и мирозда¬
ния, я видел, что мироздание отлично обходится без всех
55
этих абстракций, но от малой радости я не мог отказаться,
и стремление к этим крохам радости было одним из тех
живых огоньков внутри меня, в которые я еще верил и из
которых замышлял заново построить мир. Нередко искал
я свою радость, свою грезу, свое забвение в бутылке вина,
и весьма часто она мне помогала, я воздаю ей хвалу за
это. Но се было недостаточно. И пришел день, и я открыл
для себя совсем новую радость. Внезапно, дойдя уже до со¬
рока лет, я начал заниматься живописью. Не то чтобы я
почитал себя за живописца или желал стать таковым, но
живопись — чудесное времяпрепровождение, она делает
тебя веселее и терпеливее. После нее у тебя пальцы не
черные, как после писания, но красные и синие. И это мое
занятие злит многих моих друзей. Что делать — всякий
раз, стоит мне начать что-нибудь необходимое, блаженное
и прелестное, люди хмурят брови. Им хотелось бы, чтобы
ты оставался таким, каким ты был, чтобы ты не изменял
своего лица. Но мое лицо сопротивляется, оно хочет вновь
и вновь меняться — это его потребность.
Другой упрек, который мне делают, представляется
мне самому очень верным. Мне отказывают в чувстве дей¬
ствительности. Этой действительности-де не отвечают ни
книги, которые я сочиняю, ни картинки, которые я пишу.
Когда я сочиняю, я по большей части выкидываю из голо¬
вы все требования, которые образованный читатель при¬
вык предъявлять уважающей себя книге, и прежде всего у
меня впрямь отсутствует почтение к действительности. Я
нахожу, что действительность есть то, о чем надо меньше
всего хлопотать, ибо она и так не преминет присутство¬
вать с присущей ей настырностью, между тем как вещи
более прекрасные и более нужные требуют нашего внима¬
ния и попечения. Действительность есть то, чем ни при
каких обстоятельствах не следует удовлетворяться, чего
ни при каких обстоятельствах не следует обожествлять и
почитать, ибо она являет собой случайное, то есть отброс
жизни. Ее, эту скудную, неизменно разочаровывающую и
безрадостную действительность, нельзя изменить никаким
иным способом, кроме как отрицая ее и показывая ей, что
мы сильнее, чем она.
В моих книгах зачастую не обнаруживается общеприня¬
того респекта перед действительностью, а когда я занима¬
юсь живописью, у деревьев есть лица, домики смеются, или
пляшут, или плачут, но вот какое дерево — груша, а ка¬
56
кое — каштан, не часто удается распознать. Этот упрек я
принимаю. Должен сознаться, что и собственная моя жизнь
весьма часто предстает предо мною точь-в-точь как сказка,
по временам я вижу и ощущаю внешний мир в таком со¬
гласии, в таком созвучии с моей душой, которое могу на¬
звать только магическим.
Иногда мне все еще случалось не удержаться от дура¬
честв, например я сделал некое безобидное замечание об
известном поэте Шиллере, за которое все южногерманские
клубы игроков в кегли незамедлительно объявили меня ос¬
квернителем отечественных святынь. Однако теперь мне
удается уже в течение многолетнего срока не делать ника¬
ких высказываний, от которых святыни оказываются оск¬
вернены и люди краснеют от бешенства. Я усматриваю в
этом прогресс.
Поскольку, согласно вышесказанному, так называемая
действительность не имеет для меня особенно большого
значения, поскольку прошедшее часто предстает передо
мной живым, словно настоящее, а настоящее отходит в бес¬
конечную даль, постольку я равным образом не могу отде¬
лить будущего от прошедшего так отчетливо, как это обыч¬
но делается. Очень важной частью существа моего я живу
в будущем, а потому не имею надобности кончать мое жиз¬
неописание сегодняшним днем, но волен преспокойно по¬
зволить ему продолжаться далее.
Я хочу вкратце рассказать, как жизнь моя завершает
свое круговращение. Вплоть до 1930 года я еще написал не¬
сколько книг, чтобы затем навсегда отвернуться от этого
ремесла. Вопрос, должен ли я быть причислен к поэтам в
истинном значении этого слова, составил для двух молодых
трудолюбцев тему их диссертаций, однако остался нере¬
шенным. А именно: тщательный анализ новейшей литера¬
туры заставил констатировать, что субстанция, делающая
поэта поэтом, появляется ныне только в чрезвычайно раз¬
бавленном виде, так что различие между поэтом и литера¬
тором уже не может быть уловлено. Из этой объективной
констатации оба соискателя ученой степени сделали проти¬
воположные выводы. Один из них, более симпатичный мо¬
лодой человек, держался мнения, что столь комически раз¬
бавленная поэзия вовсе перестает быть поэзией и, коль ско¬
ро просто литература не имеет права на жизнь, остается
предоставить то, что сегодня называется творчеством, его
тихой кончине. Однако другой был безоговорочным почи¬
57
тателем поэзии, даже в ее разбавленном состоянии, а по¬
тому полагал, что лучше из осторожности признать сотню
поддельных поэтов, чем нанести обиду хоть одному, в ком,
может статься, все еще есть хоть капля подлинно парнас¬
ской крови.
Занят я был предпочтительно живописью и китайскими
магическими упражнениями, однако год от года все более
и более обращался к области музыки. Честолюбие моих
поздних лет сосредоточилось на том, чтобы написать оперу
особого рода, где человеческая жизнь в качестве так назы¬
ваемой действительности не слиппсом принималась бы
всерьез и даже служила предметом осмеяния, но в то же
время сияла бы, как подобие, как текучее одеяние божест¬
ва. Магическое восприятие жизни всегда-было для меня
близким, я никогда не был «современным человеком» и не¬
изменно почитал «Золотой горшок» Гофмана"* или даже
«Генриха фон Офтердингена»* за учебники более полез¬
ные, нежели все на свете изложения мировой и естествен¬
ной истории (вернее же сказать, я и в последних, поскольку
читал их, всегда усматривал восхитительные баснословия).
Теперь же для меня начался тот жизненный период, когда
больше не имеет смысла и далее строить и дифференциро¬
вать свою готовую и сверх нужды дифференцированную
личность, когда вместо этого является новая задача — дать
пресловутому «я» снова раствориться в мировом целом и
пред лицом бренности включить себя в вечный и вневре¬
менной распорядок.
Выразить эти мысли или настроения казалось мне воз¬
можным при посредстве сказки, причем высшую форму
сказки я усматривал в опере — потому, надо полагать, что
магии слова в пределах нашего оскверненного и умираю¬
щего языка я уже не доверял, между тем как музыка все
еще представлялась мне живым древом, на ветвях которого
и сегодня могут произрастать райские плоды. Мне хотелось
осуществить в моей опере то, чего никак не удавалось сде¬
лать в моих литературных сочинениях: дать человеческой
жизни смысл, высокий и упоительный. Мне хотелось вос¬
хвалить невинность и неисчерпаемость природы и предста¬
вить ее путь до того места, где она оказывается принуждена
неизбежным страданием обратиться к духу, этой своей да¬
лекой противоположности, и это кружение жизни между
обоими полюсами — природой и духом — должно было
58
предстать веселым, играющим и совершенным, как раски-
нутая радуга.
К сожалению, однако, завершить эту оперу мне так и
не было дано. С ней дело шло точно так, как прежде с пи¬
сательством. Я принужден был отказаться от писательства,
когда усмотрел, что все, что мне хотелось сказать, уже бы¬
ло сказано в «Золотом горшке» и в «Генрихе фон Офтер-
дингене» в тысячу раз чище, чем смог бы я. То же самое
случилось и с моей оперой. Стоило мне окончить многолет¬
ние приготовления и набросать текст в нескольких вариан¬
тах, после чего еще раз попытаться возможно отчетливее
уяснить себе суть и смысл моей работы, как я внезапно по¬
нял, что стремился с моей оперой не к чему иному, как к
тому, что давно уже наилучшим образом осуществлено в
«Волшебной флейте».
С тех пор я бросил означенные труды и теперь уже
всецело посвятил себя практической магии. Пусть моя
мечта о творчестве оказалась бредом, пусть я не могу со¬
здать ни «Золотого горшка», ни «Волшебной флейты», что
ж, я всс-таки родился волшебником. Я достаточно продви¬
нулся по восточному пути Лао-цзы и «И цзина»*, чтобы
ясно распознать случайный, а потому податливый харак¬
тер так называемой действительности. Теперь, стало быть,
я приспосабливал эту действительность средствами магии
к моему норову, и я должен сознаться, что получил от
этого немало удовольствия. Мне приходится, однако, сде¬
лать еще одно признание: я не всегда ограничивал себя
пределами того сладостного сада, который зовется белой
магией, нет, живой огонек время от времени манил меня
и на черную ее сторону.
В возрасте старше семидесяти лет, когда два универси¬
тета только что удостоили меня почетной докторской сте¬
пени, я был привлечен к суду за совращение некоей мо¬
лодой девицы при помощи колдовства. В тюрьме я испро¬
сил разрешения заниматься живописью. Оно было мне
предоставлено. Друзья принесли мне краски и мольберт, и
я написал на стене моей камеры маленький пейзаж. Еще
раз, стало быть, вернулся я к искусству, и все разочаро¬
вания, которые я уже испытал на пути художника, нимало
не могли помешать мне еще раз испить этот прекрасней¬
ший из кубков, еще раз, словно играющее дитя, выстроить
перед собой малый и милый мир игры, насыщая этим свое
59
сердце, еще раз отбросить прочь всяческую мудрость и от¬
влеченность, чтобы отыскивать первозданное веселье зача¬
тий. Итак, я снова писал, снова смешивал краски и окунал
кисти, еще раз с восторгом искущал это неисчерпаемое
волшебство — звонкое и бодрое звучание киновари, пол¬
новесное и чистое звучание желтой краски, глубокое и
умиляющее пение синей и всю музыку их смешений,
вплоть до самого далекого и бледного пепельного цвета.
Блаженно и ребячливо играл я в сотворение мира и таким
образом написал, как сказано, пейзаж на стене камеры.
Пейзаж этот содержал почти все, что нравилось мне в
жизни, — реки и горы, море и облака, крестьян, занятых
сбором урожая, и еще множество чудесных вещей, кото¬
рыми я услаждался. Но в самой середине пейзажа двигал¬
ся совсем маленький поезд. Он ехал к горе и уже уходил
головой в гору, как червяк в яблоко, паровоз уже въехал
в маленький тоннель, из темного и круглрго входа в кото¬
рый клубами вырывался дым.
Никогда еще игра не восхищала меня так, как на этот
раз. Я позабыл за этим возвратом к искусству не только
то обстоятельство, что я был под арестом, под судом и едва
ли мог надеяться окончить свою жизнь вне исправитель¬
ного заведения; мало того, я часто забывал упражняться в
магии, находя самого себя достаточно сильным волшебни¬
ком, когда под моей тонкой кистью возникало какое-ни¬
будь крохотное деревце, какое-нибудь маленькое светлое
облачко.
Между тем так называемая действительность, с кото¬
рой я на деле окончательно порвал, прилагала все усилия,
чтобы глумиться над моей мечтой и разрушать ее снова и
снова. Почти каждый день меня забирали, препровождали
под стражей в чрезвычайно несимпатичные апартаменты,
где посреди множества бумаг восседали несимпатичные
люди, которые допрашивали меня, не желали мне верить,
старались меня ошарашить, обращались со мной то как с
трехлетним ребенком, то как с отпетым престушЬисом.
Нет нужды побывать под судом, чтобы свести знакомство
с этим поразительным и поистине инфернальным миром
канцелярий, справок и протоколов. Из всех преисподних,
которые человек странным образом обречен для себя со¬
здавать, эта всегда представлялась мне наиболее злове¬
щей. Пожелай только сменить местожительство или всту¬
60
пить в брак, возымей нужду в визе или паспорте ■— и ты
уже ввержен в эту преисподнюю, ты принужден проводить
безрадостные часы в безвоздушном пространстве этого бу¬
мажного мира, тебя допрашивают и обдают презрением
скучающие и все-таки торопливые унылые люди, твои
простейшие и правдивейшие заверения не встречают ни¬
чего, кроме недоверия, с тобой обращаются то как со
школьником, то как с преступником. Что тут говорить, это
всякий знает по собственному опыту. Давно уже я задох¬
нулся бы и окоченел в этом бумажном аду, если бы мои
краски не дарили мне снова и снова утешения и удоволь¬
ствия, если бы моя картина, мой чудесный маленький пей¬
заж, не возвращала мне воздух и жизнь.
Перед этим пейзажем стоял я однажды в моем узили¬
ще, как вдруг снова прибежали тюремщики со своими до¬
кучными понуканиями и вознамерились оторвать меня от
моей блаженной работы. Тогда я ощутил усталость и не¬
что вроде омерзения от всей этой маеты и вообще от этой
грубой и бессмысленной действительности. Мне показа¬
лось, что теперь самое время положить мукам конец. Если
мне не дано без помехи играть в мои невинные художни¬
ческие игры — что же, мне оставалось припомнить заня¬
тия более существенные, которым я посвятил не один год
моей жизни. Без магии не было сил выносить этот мир.
Я вспомнил китайский рецепт, постоял минуту, задер¬
жав дыхание, и отрешился от безумия действительности.
Затем я обратил к тюремщикам учтивую просьбу, не бу¬
дут ли они так любезны подождать еще мгновение, потому
что мне надо войти в поезд на моей картине и привести
там кое-что в порядок. Они засмеялись, как обычно, ибо
считали меня душевнобольным.
Тогда я уменьшил мои размеры и вошел внутрь моей
картины, поднялся в маленький вагон и въехал вместе с
маленьким вагоном в черный маленький тоннель. Некото¬
рое время еще можно было видеть, как из круглого отвер¬
стия клубами выходил дым, затем дым отлетел и улету¬
чился, вместе с ним — вся картина, а вместе с ней — и я.
Тюремщики застыли в чрезвычайном замешательстве.
61
ГОРОД
«Вперед!» — воскликнул инженер, коща по только что
проложенным рельсам прибыли два железнодорожных со¬
става, полные людей, угля, инструментов и продовольст¬
вия. Тихо пылала прерия в золотых лучах солнца, в голу¬
бой дымке стояли на горизонте высокие, поросшие лесом
горы. Дикие псы и степные буйволы изумленно глядели,
как в пустыне началось движение и закипела работа, как
зеленая прежде земля стала покрываться пятнами угля и
золы, захламляться бумагой и железом. Первый рубанок
завизжал, нарушая тишину испуганной долины, первый
выстрел ружья прогремел и укатился далеко в горы, первая
наковальня зазвенела под горячим ударом молота. Появил¬
ся один дом из жести, а на другой день еще один из дерева,
Я затем стали вырастать все новые и новые, уже и каменные
дома. Дикие псы и буйволы остались в стороне, край был
укрощен и стал плодородным, уже в первую весну равнина
покрылась зелеными злаками, тут и там возвьштались' са¬
раи, конюшни и амбары, улицы пролегли сквозь дикие за¬
росли.
Был достроен и открыт вокзал, правительственные зда¬
ния и банк, а спустя лишь несколько месяцев младшие го¬
рода-братья выросла рядйм. Приехали рабочие со всего све¬
та, крестьяне и горожане, прибыли торговцы и адвокаты,
проповедники и учителя, была открыта школа, основаны
три религиозные общины, учреждены две газеты.
На востоке был открыт нефтяной источник, и в юном
городе наступило благополучие. П|юшел еще год, и появи¬
лись уже карманные воры, сутенеры, взломщики, универ¬
сальный магазин, общество борьбы с алкоголем, парижский
портной, баварская пивная. Конкуренция соседних городов
все нарастала.
Ни в чем теперь не было недостатка: ни в предвыборных
речах и забастовках, ни в кинотеатрах и спиритических об¬
ществах. В городе можно было приобрести французские ви¬
на, норвежскую сельдь, итальянские колбасы, русскую ик¬
ру. Уже второразрядные певцы, танцоры и музыканты при¬
езжали сюда на гастроли.
Постепенно развивалась городская культура. Город, ко¬
торый поначалу был лишь временным поселением, посте¬
пенно становился родиной. Здесь появился обычай привет¬
ствовать друг друга, кивая при встрече особым образом, что
62
несколько отличалось от приветствий в других городах;
мужчины, которые закладывали город, пользовались ува¬
жением и любовью, они как будто излучали некоторое бла¬
городство.
Вырастало молодое поколение, которому город казался
уже старой, чуть ли не испокон веков существующей роди¬
ной. Отошло в прошлое то время, коща здесь раздался пер¬
вый удар молота, случилось первое убийство, прошло пер¬
вое богослужение, была напечатана первая газета, все это
стало уже историей.
Город подчинил себе соседние города и возвысился как
столица большого района. На широких и светлых /лицах,
где коща-то рядом с грудами пепла и лужами пслвились
первые дома из досок и гофрированной стали, поднялись
солидные и внушающие уважение административные зда¬
ния и банки, театры и церкви; студенты не спеша шли в
университет и в библиотеку, санитарные машины бесшум¬
но ехали в клиники, автомобили депутатов всеми узнава¬
лись и приветствовались, в двадцати громадных школьных
зданиях из камня и железа каждый год с песнями и вы¬
ступлениями праздновался день основания прославленного
города. Бывшая прерия покрылась полями, фабриками, де¬
ревнями, ее пересекли двадцать железнодорожных линий,
горы придвинулись ближе, и сразу за горной дорогой от¬
крывалось самое сердце ущелий. Там или на берегу дале¬
кого моря богачи построили свои летние дома.
Прошло сто лет, и сильное землетрясение разрушило го¬
род почти до основания.
Он поднялся снова, и все деревянное стало теперь ка¬
менным, все маленькое — большим... Вокзал был самым
огромным в стране, а биржи больше, чем во всех частях
света; архитекторы и художники украшали город обще¬
ственными сооруж:ениями, скверами, Сантанами, памятни¬
ками. В течение этого нового столетия город приобрел славу
прекраснейшего и богатейшего в стране, стал достоприме¬
чательностью.
Политики и архитекторы, техники и бургомистры чу¬
жих городов приезжали для того, чтобы изучить архитек¬
туру, систему водоснабжения, управление и другие устро¬
ения знаменитого города. В эти годы началось строительст¬
во новой ратуши, одного из монументальнейших и велико¬
лепнейших сооружений мира, и это время наступившего
изобилия и гордости горожан, счастливо совпавшее с раз-
63
витаем их представления о красоте, прежде всего в области
архитектуры и скульптуры, сделало быстро растущий город
дерзким и волнующим воображение чудом. Центральный
район, все сооружения которого были выстроены из благо¬
родного светло-серого камня, окружала широкая зеленая
полоса чудесных скверов, а по ту сторону этого кольца те¬
рялись вдалеке здания и убегавшие за город, на свободу
проспекты.
Всегда полный посетителей, вызывающий восхищение
огромный музей состоял из ста залов, холлов и павильо¬
нов, в которых была освещена история города от его воз¬
никновения до последнего этапа развития. Первый пора¬
жающий воображение аванзал этого сооружения представ¬
лял бывшую прерию с первозданными растениями и жи¬
вотными, а также точный макет убогих жилищ, улочек и
всей обстановки. Здесь прогуливалась городская молодежь,
созерцая ход своей истории — от палаток и дощатых на¬
весов, от первых неровных дорог до блеска улиц большого
города.
■ Молодежь, руководимая и наставляемая своими учите¬
лями, которые понимали прекрасные законы развития и
прогресса, училась тому, как возникает из грубого — тон¬
кое, из зверя — человек, из дикости — образованность, из
бедности — изобилие, из природы — культура.
В следующем столетии город достиг вершины своего
блеска и славы. Конец великолепному и непрестанно рас¬
тущему изобилию положила кровавая революция низшего
сословия. Чернь начала с того, что подожгла многие из
больших угольных заводов, расположенных недалеко от
города, так что значительная территория с фабриками, по¬
местьями и деревнями частачно сгорела, а частично была
разорена.
Сам город, переживший резню и ужасы разного рода,
все же выдержал и в ближайшее десятилетие постепенно
пришел в себя, однако уже не смог вернуться к прежней
беззаботной жизни и строительству. Тем временем далекая
страна по ту сторону моря вдруг неожиданно расцвела, тор¬
гуя зерном, железом, серебром и другими богатствами еще
не истощенной и щедрой земли. Новая страна обратила к
себе все свободные силы, помыслы и стремления старого
мира: города там расцветали за одну ночь, леса исчезали,
водопады иссякали.
64
Прекрасный когда-то город стал беднеть. Он уже пере¬
стал быть сердцем и мозгом мира, ярмаркой и биржей
многих стран. Он должен был довольствоваться тем, что
жизнь его все же продолжалась и не совсем еще померкла
в бурлящем потоке нового времени. Свободным рабочим,
которые не уехали в далекий Новый Свет, нечего было
больше строить и покорять, нечего было создавать и нечем
обогащаться. Но на месте старой ушедшей культурной
традиции пустила ростки новая духовная жизнь, из тихого
города стали выходить ученые и люди искусства, худож¬
ники и поэты. Потомки тех, кто когда-то возвел первые
дома на юной земле, проводили свои дни в беспечном спо¬
койствии и позднем цветении духовных наслаждений и
порывов, они рисовали печальное великолепие старых, за¬
росших мхом садов с полуразрушенными статуями и зеле¬
ными водоемами, воспевали в нежных стихах далекую су¬
матоху былых героических времен или тихие мечты уста¬
лых людей в старинных замках. И еще раз по всему миру
прокатилось имя и слава этого города.
Какие бы войны ни потрясали народы, какие бы гран¬
диозные идеи ни занимали человечество, здесь в немом
уединении царил мир, и постепенно меркло сияние ушед¬
ших времен: тихие улицы, увитые цветущими растениями,
заплесневевшие фасады величественных сооружений, меч¬
тательно нависшие над притихшими площадями, заросшие
мхом фонтаны, дремлющие в прозрачной музыке звенящих
струй.
Несколько столетий старинный, мечтательный город
был для молодого мира излюбленным местом паломничест¬
ва, его воспевали поэты и посещали влюбленные. Однако
жизнь человечества перемещалась в другие части света. А
в самом городе постепенно разорялись и вымирали потомки
старых родовых фамилий.
Но и последнее духовное цветение подходило к концу,
оставалась лишь истлевшая ткань. Маленькие соседние го¬
родишки в течение какого-то времени совсем исчезли, пре¬
вратившись в руины, где иногда укрывались цыгане и сбе¬
жавшие преступники.
После землетрясения, пощадившего сам город, измени¬
лось течение реки, и часть страны превратилась в болото,
а часть в пустыню. И тогда с гор, где сохранялись еще об¬
ломки древних каменоломен и загородных поместий, стал
спускаться вниз старый лес. Перед ним открывалась не¬
^ 5-25Ч 65
обозримая, пустынная земля, и он, увлекая ее кусок за ку¬
сочком в свой зеленый круг, постепенно покрывал болото
с^воей шелестящей зеленью или груды камней молодым,
нежным мхом.
В городе не осталось больше жителей, один только
сброд, только злой и дикий народец, который нашел себе
убежище в полуразвалившихся старинных дворцах и пас
тощих коз в прежних садах и на улицах. Да и это последнее
население постепенно вымерло от болезней и сумасшест¬
вия; лихорадка, поселившаяся в заболоченном краю, дове¬
ла его до полного опустошения.
Останки древней ратуши, которая когда-то была гордо¬
стью своего времени, возвышались и теперь еще во всем
величии и воспевались в песнях на всех языках, став ис¬
точником бесчисленных сказаний соседних народов, чьи го¬
рода тоже давно погибли, а культура выродилась.
В детских историях о привидениях и унылых пастуше¬
ских песнях еще всплывали в искаженном виде различные
имена города и его былое легендарное великолепие, а уче¬
ные далеких, ныне процветающих народов предпринимали
иногда рискованные исследовательские экспедиции на ме¬
сто развалин, тайны которых возбуждали воображение
школьников, мечтающих о дальних странах. Полагали,
что там некогда существовали ворота из чистого золота и
гробницы, полные драгоценных камней, а остатки диких
кочевых племен из старых, навсегда ушедших времен до
сих пор хранили секреты магии и колдовства.
Лес спускался все дальше с гор на равнину, озера и ре¬
ки возникали и исчезали, а он продвигался вперед, захва¬
тывая и окутывая постепенно всю страну, развалины ста¬
рых городских стен, дворцов, храмов, музеев, и вот уже
лисы, куницы, волки и медведи заселили пустынную
глушь.
На месте одного из разрушенных дворцов, от которого
не осталось ни камня, поднялась молодая сосна, которая
еще год назад была первым вестником и посланцем надви¬
гающегося леса. Теперь же и она смотрела вдаль, на обо¬
гнавшую ее юную поросль.
«Вперед!» — воскликнул стучащий по стволу дятел, ви¬
дя подрастающий лес и радуясь чудесному зеленому про¬
грессу на земле.
66
СКАЗКА О ПЛЕТЕНОМ СТУЛЕ
Молодой человек сидея один-одинешенек в своей ман¬
сарде. Он хотел стать художником; но для этого надо было
преодолеть немало трудностей, и первое время он спокой¬
но жил в своей мансарде, помаленьку взрослел и часами
просиживал перед маленьким зеркалом, пытаясь нарисо¬
вать свой портрет. Он уже заполнил такими рисунками
целую тетрадь и некоторьши из них был очень доволен.
— Принимая во внимание, что я нище не учился, —
говорил он себе, — этот рисунок можно считать вполне
удавшимся. Какая интересная складка вот тут, у самого но¬
са. Сразу видно, что во мне есть нечто от мыслителя или
что-то в этом роде. Стоит мне немножко опустить уголки
губ, и появляется выражение глубокой скорби.
Однако, когда он рассматривал рисунки некоторое вре¬
мя спустя, они ему чаще всего уже не нравились. Это было
неприятно, но он утешал себя тем, что делает успехи и
предъявляет себе все более высокие требования. .
К своей мансарде и к вещам, которые он в ней разложил
и расставил, молодой человек относился вовсе не так вни¬
мательно и душевно, как хотелось бы, но, во всяком случае,
отнюдь не плохо. Он был к ним несправедлив не больше и
не меньше, чеЦ|Другие люди по отношению к своим вещам;
он их едва замёчад и почти не знал.
Когда ему в очередной раз не совсем удавался автопор¬
трет, он читал книги, из которых узнавал, как жили люди,
начинавшие, подобно ему, в бедности и неизвестности и
ставшие потом знаменитыми. Такие книги он читал с удо¬
вольствием, находя в них свое собственное будущее.
Вот так сидея он однажды немного расстроенный и по¬
давленный у себя дома и читал об одном весьма знамени¬
том голландском художнике. Он прочитал, что этот ху¬
дожник был одержим великой страстью, доходившей до
безрассудства, — он горел желанием стать хорошим ху¬
дожником. Молодой человек нашел, что у него с этим гол¬
ландским живописцем есть некоторое сходство. Продол¬
жив чтение, он обнаружил я кое-что иное, применимое к
нему в гораздо меньшей степени. В частности, он узнал,
что в плохую погоду, когда нельзя было писать на приро¬
де, этот голландец неустанно и усердно срисовывал все
предметы, даже самые незначительные, которые попада¬
лись ему на глаза. Так, однажды он написал пару деревян¬
3* 67
ных башмаков, а в другой раз старый, покосившийся стул,
грубый, корявый крестьянский кухонный стул из обыкно¬
венного дерева, со сплетенным из соломы и основательно
потертым сиденьем. Этот стул, который в иных обстоя¬
тельствах не удостоил бы взглядом ни один человек, он
выписал так любовно и точно, с такой страстью и самоот¬
верженностью, что получилась одна из самых замечатель¬
ных его картин. Автор книги нашел много прекрасных,
прямо-таки трогательных слов, чтобы воздать должное со¬
ломенному стулу.
В этом месте молодой человек перестал читать и заду¬
мался. Тут было нечто новое, это надо было испробовать
самому. Ему захотелось немедленно — ибо молодой чело¬
век отличался весьма решительным нравом — последовать
примеру великого художника и попытаться на этом пути
добиться признания.
Оглядев свою чердачную каморку, он понял, что еще
плохо знает веш;и, среди которых живет. Покосившегося
стула с соломенным сиденьем, как и деревянных бапшЕа-
ков, нигде не было, и он на некоторое время почувствовал
себя подавленным и обескураженным; на душе у него бы¬
ло почти так же, как случалось всякий раз, когда он терял
мужество, читая о великих мастерах: молодой человек за¬
метил, что у него отсутствуют и никак не хотят появлять¬
ся именно те мелкие признаки и удивительные стечения
обстоятельств, которые играли столь важную роль в жизни
тех, других. Но скоро он взял себя в руки и осознал, что
теперь-то он как раз и должен упорно идти своим путем
к славе. Он внимательно огляделся в своей комнатке и об¬
наружил плетеный стул, который вполне мог послужить
ему моделью.
Ногой он пододвинул стул ближе, заточил рисовальный
карандаш, положил на колено альбом и принялся за работу.
Первыми легкими линиями он, как ему показалось, доволь¬
но точно наметил форму и быстро приступил к решитель¬
ным действиям, обводя контуры жирной чертой. Внимание
его привлекла глубокая треугольная тень в углу, он энер¬
гично набросал ее и продолжал в том же духе, пока что-то
не стало ему мешать.
Некоторое время он продолжал рисовать, затем отодви¬
нул от себя альбом и внимательно вгляделся в рисунок. Ему
стало ясно, что плетеный стул нарисован не так, как надо.
68
Сердито проведя еще одну линию, он недовольно уста¬
вился на лйст бумаги. Нет, не годится. Художник разо¬
злился.
— Да ты дьявол, а не стул!. — в ярости крикнул он.
Такой капризной твари мне еще не доводилось видеть!
Стул слегка заскрипел и невозмутимо ответил:
— Ты только вглядись в меня хорошенько! Я такой, ка¬
ким меня сделали, и не собираюсь меняться.
Художник толкнул его носком ноги. Стул отодвинулся
и стал выглядеть не так, как прежде.
— Глупый стул! — воскликнул юноша. — Ты. весь по¬
шел вкривь и вкось.
Плетеный стул едва заметно улыбнулся и мягко прого¬
ворил:
— Это называется перспектива, молодой человек.
Юноша вскочил на ноги.
— Перспектива! — в бешенстве закричал он. — Прихо¬
дит какой-то болван в образе стула и разыгрывает из себя
учителя! Перспектива — мое дело, а не твое; заруби себе
это на носу!
Стул не сказал больше ни слова. Художник нетерпеливо
прошелся несколько раз по комнате, пока снизу не раздался
стук палкой в потолок. Под ним жил старый ученый, не
выносивший шума.
Художник сел и достал свой последний автопортрет. Но
он ему не понравился. Молодой человек считал, что в жиз¬
ни он красивее и интереснее, и это было правдой.
Он снова раскрыл свою книгу. Но в ней и дальше шла
речь о раздражавшем его голландском соломенном стуле.
По его мнению, стул этот наделал слишком уж много шума,
да и вообще...
Молодой человек отыскал свою шляпу, какую обыкно¬
венно носят художники, и собрался немного погулять. Как-
то раз, вспомнил он, ему уже приходила в голову мысль,
что живопись не приносит удовлетворения. С ней связаны
только муки и разочарования, в конце концов, даже луч¬
ший в мире художник может изобразить только поверх¬
ность вещей. Для человека, любящего глубину, это, конеч¬
но, не профессия. И снова, как уже не раз до этого, он
всерьез задумался над тем, чтобы последовать зову еще од¬
ной своей детской склонности и стать писателем. Плетеный
стул остался в мансарде один. Ему было жаль, что его мо¬
лодой хозяин ушел. Он надеялся, что между ними устано¬
69
вятся наконец добрые отношения. Иноща его тянуло пого¬
ворить, и он знал, что мог бы научить молодого человека
кое-чему полезному. Но из этого, к сожалению, ничего не
вышло.
ЕВРОПЕЕЦ
В конце концов Господь Бог проявил снисхождение и
сам положил конец земному бытию, подошедшему к своему
пределу из-за кровавой мировой войны; он наслал на землю
великий потоп. Милосердные водные потоки смывали все,
что поганило стареющую планету, — политые кровью за¬
снеженные поля и ощетинившиеся орудиями горы, разла¬
гающиеся трупы вместе с теми, кто эти трупы оплакивал,
возмущенных и кровожадных вместе с впавшими в нищету,
голодающих вместе с помешавшимися рассудком.
Приветливо смотрели голубые небеса на чистую поверх¬
ность планеты.
К слову сказать, европейская техника вплоть до самого
последнего мгновения с блеском демонстрировала свои
возможности. Несколько недель подряд Европа упорно и
умело сдерживала медленно поднимающиеся воды. Сперва
с помощью колоссальных дамб, которые днем и ночью воз¬
водили миллионы пленных; затем с помощью искусствен¬
ных возвышений, которые вырастали с поразительной бы¬
стротой и поначалу имели с^рму громадных террас, но
потом все чаще заканчивались высоченными башнями.
Благодаря этим башням люди с поразительным упорством
героически сражались до последнего дня. Европа и мир
уже скрылись под водой и захлебнулись в пучине, а с по¬
следних металлических башен лучи прожекторов все так
же ярко и уверенно освещали влажные сумерки погибаю¬
щей Земли, и со свистом, описывая красивые траектории,
проносились в ту и другую сторону выпущенные из орудий
мины. За два дня до конца руководители центральных го¬
сударств решили с помощью, световых сигналов предло¬
жить неприятелю мир. Однако неприятель потребовал не¬
медленного уничтожения всех оставшихся укрепленных
башен, а на это не могли согласиться даже самые реши¬
тельные сторонники мира. Героическая стрельба продол¬
жалась до последнего часа.
70
Но вот весь мир скрылся под водой. Единственный ос¬
тавшийся в живых европеец плыл на спасательном поясе
по волнам и остаток сил тратил на то, чтобы записать со¬
бытия последних дней: будущие поколения должны знать,
что именно его родина на несколько часов пережила гибель
своих врагов и тем самым навечно обеспечила себе пальму
первенства.
Вдруг на сером горизонте показалось огромное темное
пятно. Это было неуклюжее судно, которое медленно при¬
ближалось к выбившемуся из сил европейцу. Он с удовлет¬
ворением разглядел громадный ковчег и, теряя сознание,
узнал высокую фигуру ветхозаветного патриарха с разве¬
вающейся седой бородой, стоявшего на борту плавучего до¬
ма. Громадного роста негр вытащил потерпевшего из воды,
тот был жив и вскоре пришел в себя. Патриарх дружелюбно
улыбнулся. Миссия его удалась, он спас по одному экзем¬
пляру изо всех живших на земле тварей.
Пока гонимый ветром ковчег мирно плыл по волнам в
ожидании, когда начнет убывать вода, на его борту кипела
жизнь. Плотными косяками следовала за ковчегом рыба,
над открытой крышей пестрыми причудливыми стаями ро¬
ились птицы и насекомые, все животные и все люди иск¬
ренне радовались своему спасению, тому, что перед ними
открывалась новая жизнь. Громким, пронзительным голо¬
сом приветствовал утро над водами павлин в ярком опере¬
нии, слон, весело смеясь, высоко поднимал хобот и брыз¬
гал на себя и на свою спутницу водой, на залитой солнцем
балке переливалась всеми цветами радуги ящерица; инде¬
ец быстрыми ударами остроги вылавливал из бездонных
пучин рыб, негр, потерев сухие палочки, добыл огонь для
очага и ot радости ритмично похлопывал свою толстушку
жену по бедру, тощий индус стоял, выпрямившись и скре¬
стив на груди руки, и бормотал про себя древние стихи из
песни о сотворении мира. Эскимос, которого обнюхивал
добродушный тапир, парился, исходя потом и жиром, на
солнышке и улыбался крохотными глазками, маленький
японец вырезал себе тонкую палочку и ловко балансиро¬
вал ею, поддерживая то носом, то подбородком. Европеец
вытащил свои письменные принадлежности и составлял
опись находившихся в ковчеге живых существ.
Возникали группы, завязывались дружеские отноше¬
ния, а если где-нибудь разгорался спор, патриарх гасил его
71
кивком головы. Все радовались и веселились; и только ев¬
ропеец был занят своей писаниной.
Тут в пестрой толчее людей и животных родилась новая
игра: каждый хотел,, соревнуясь с другими, показать свои
способности и свое искусство. Каждый хотел быть первым, и
патриарху пришлось установить правила игры. Он разделил
животных на больших и маленьких, отдельно выделил лю¬
дей, велел каждому представиться и назвать упражнение, в
котором тот хотел блеснуть. Затем настала очередь выступ¬
лений.
Эта замечательная игра продолжалась много дней, груп¬
пы одна за другой заканчивали свои игры и убегали, чтобы
посмотреть на выступления других. Каждая удача вызыва¬
ла громкое одобрение. Каких только чудес там не показы¬
вали! Какие способности таились в каждом Божьем созда¬
нии! Как богата была жизнь! Сколько там было смеха, как
только не выражалось одобрение — криками, кукарекань¬
ем, хлопаньем в ладоши, топаньем, ржаньем!
Поражала своим проворством ласка, чарующе пел жа¬
воронок, во всем своем великолепии вышагивал важный
индюк, с невероятной быстротой взбиралась на дерево бел¬
ка. Мандрил передразнивал малайца, а павиан мандрила!
Не зная усталости, обитатели ковчега соревновались в бе¬
ге и лазанье, плавании и полетах, и каждый был по-свое-
му бесподобен, каждый находил признание. Были живо¬
тные, которые брали колдовством, и были такие, что пре¬
вращались в невидимок. Одни выделялись силой, другие
хитростью, одни предпочитали нападать, другие защи¬
щаться. Насекомые оберегали свою жизнь, сливаясь с тра¬
вой, деревом, мхом, скальным камнем. Некоторые живо¬
тные, не отличавшиеся силой, вызывали одобрение и об¬
ращай смеющихся зрителей в бегство, вьщеляя ужасные
запахи. Никто не остался в Стороне, у всех были те или
иные таланты. Птицы свивали, склеивали, сплетали, скла¬
дывали свои гнезда. Крылатые хищники могли с голово¬
кружительной высоты распознать самый крохотный пред¬
мет.
Да и люди делали свое дело отменно. Стоило посмот¬
реть, как легко и свободно рослый негр взбирался вверх по
балке, как малаец тремя движениями рук делал из паль¬
мового листа весло и с его помощью плыл и совершал по¬
вороты на маленькой доске. Индеец легкой стрелой попал
в едва заметную цель, а его жена из двух видов лыка сплела
72
циновку, вызвавшую всеобщее восхищение. Все были по¬
ражены и долго молчали, когда вышел индус и продемон¬
стрировал нёкоторые из своих фокусов. А китаец показал,
как благодаря прилежанию можно утроить урожай пшени¬
цы: он вытаскивал проросшие зерна и рассаживал их на
одинаковом расстоянии друг от друга.
Европеец, который на удивление мало пользовался лю¬
бовью, не раз вызывал недовольство своих собратьев суро¬
выми и презрительными замечаниями, порочащими успе¬
хи других. Когда индеец поразил стрелой птицу, летев¬
шую высоко в синем небе, белый человек пожал плечами
и заявил, что с помощью двадцати граммов динамита
можно стрельнуть втрое выше! А когда его попросили по¬
казать, как это делается, он не смог и стал говорить,, что
будь у него то и это и еще десяток разных вещей, вот тог¬
да бы у него все получилось. Он и китайца высмеял, ска¬
зав, что пересадка ростков пшеницы требует, разумеется,
бесконечного усердия, но что такой рабский труд не может
сделать народ счастливым. Счастлив тот народ, ответил
под одобрительные возгласы китаец, который имеет вдо¬
воль пищи и почитает Бога; но и на это европеец ответил
язвительным смехом.
Веселое состязание продолжалось, и в конце концов всё,
животные и люди, показали свои таланты и свое искусство.
Впечатление было огромным и радостным, патриарх тоже
усмехнулся в седую бороду и сказал с похвалой, что как
только сойдет вода, на земле можно будет начинать новую
жизнь; ибо в одеяниях Всевышнего налицо нити всех рас¬
цветок, и есть все необходимое, чтобы основать на земле
царство безграничного счастья.
Один только европеец ни в чем не проявлял себя, и все
бурно требовали, чтобы он выступил и показал, на что спо¬
собен, пусть все увидят, имеет ли он право дышать прекрас¬
ным Божьим воздухом и плыть в ковчеге патриарха.
Европеец долго отнекивался, подыскивая отговорки. Но
тут сам Ной ткнул ему пальцем в грудь и призвал к порядку.
— Я тоже, — начал белый человек, — развил в себе и
довел до высокой степени совершенства одну способность.
Лучше, чем у других существ, у меня не- зрение и не слух,
не обоняние, не сноровка или что-нибудь подобное. Мой та¬
лант высшего порядка. Мой талант — это интеллект.
— Покажи! — крикнул негр, и все придвинулись ближе.
73
— Это нельзя показать, — мягко сказал белый. — Вы
неверно меня поняли. Я выделяюсь своим разумом.
Негр весело засмеялся, обнажив белые как снег зубы,
индус насмешливаскривил тонкие губы, китаец хитро и до-
бродупгао улыбнулся про себя.
— Разумом? — медленно проговорил он. — Тогда пока¬
жи нам, пожалуйста, свой разум. Пока что мы ничего та¬
кого не замечали.
— А тут и замечать нечего, — ворчливо защищался ев¬
ропеец. — Мой талант и моя особенность заключаются в
следующем: я накапливаю в своей голове образы внешнего
мира и могу из этих образов создавать для себя одного но¬
вые образы и правила жизни. В своем мозгу я могу воспро¬
извести, то есть сотворить заново, весь мир.
Ной провел ладонью по глазам.
— Но позволь, — неторопливо заговорил он, — к чему
все это? Еще раз сотворить мир, уже сотворенный Богом, и
к тому же для тебя одного, в твоей маленькой головке, —
какая от этого польза?
Все одобрительно закричали и засыпали европейца воп¬
росами.
• — Погодите, — крикнул он. — Вы неверно меня поняли.
Работу разума не так-то просто продемонстрировать, это
вам не какая-нибудь сноровка.
Индус улыбнулся.
— Да что ты, белый собрат, вполне можно. Покажи нам
работу своего разума, например, в счете. Давай соревно¬
ваться! Итак: у супружеской пары трое детей, из которых
каждый тоже заводит семью. Каждая молодая пара ежегод¬
но рождает по ребенку. Сколько пройдет лет, прежде чем
их число достигнет сотни?
Все внимательно выслушали, начали считать на пальцах
и напряженно оглядываться. Европеец принялся считать. Но
уже через мгновение китаец объявил, что решил задачу.
— Очень мило, — похвалил белый, — но это всего лишь
сноровка. Мой разум существует не для таких маленьких
фокусов, а для решения больших задач, от которых зависит
счастье человечества.
— О, это мне по душе, — ободряюще сказал Ной. Обре¬
сти счастье значит куда больше, чем все прочие сноровки.
Тут ты прав. Расскажи-ка нам быстрее, что ты знаешь о сча¬
стье человечества, мы будем тебе очень благодарны.
74
Затаив дыхание, все, как зачарованные, не сводили глаз
с губ белого человека. Наконец-то свершилось. Честь и сла¬
ва тому, кто покажет нам, где искать счастье человечества!
Простим этому волшебнику все его злые слова! Зачем ему
искусство и ловкость глаза, уха, руки, зачем ему усердие
и умение считать, если он знает такие вещи!
Европеец, который до этого гордо взирал вокруг себя,
при виде такого благоговейного лю^пытства начал посте¬
пенно впадать в растерянность.
— Я не виноват, — неуверенно заговорил он, — но вы
все еще неверно меня понимаете! Я не сказал, что знаю
тайну счастья. Я только сказал, что мой разум работает над
задачей, решение которой будет способствовать счастью че¬
ловечества. Путь к этому долог, и ни мне, ни вам не уви¬
деть конца этого пути. Многие поколения будут еще ломать
себе голову над этими вопросами!
Люди были растеряны и смотрели недоверчиво. Что го¬
ворит этот человек? Ной тоже отвел глаза, в сторону и на¬
морщил лоб.
Индус улыбнулся китайцу. И пока все смущенно мол¬
чали, китаец приветливо сказал:
— Дорогие братья, этот белый собрат — большой чу¬
дак. Он хочет убедить нас, что в его голове идет работа,
плоды которой, может быть, увидят правнуки наших прав¬
нуков. А может, и не увидят. Пусть он будет нашим шу¬
том. Он говорит вещи, нам не совсем понятные; но мы до¬
гадываемся, что когда доберемся до их смысла, то уж по¬
смеемся вволю. Вы согласны со мной? Согласны! Тоща
слава нашему шуту!
Большинство согласилось с китайцем и обрадовалось,
что эту непонятную историю удалось довести до конца. Но
кое-кто был недоволен, раздражен, и европеец остался
один, не получив одобрения.
Вечером негр в сопровождении эскимоса, индейца й ма¬
лайца подошел к патриарху и сказал:
— Высокочтимый отец, мы хотим обратиться к тебе с
вопросом. Нам не по душе белый парень, который сегодня
потешался над нами. Прошу тебя, подумай: все люди и
животные, каждый медведь и каждая блоха, каждый фа¬
зан и каждый навозный жук, в том числе и мы, люди, все
сумели показать нечто такое, чем мы воздаем хвалу Богу
и защищаем нашу жизнь, возвышаем и украшаем ее. Мы
видели удивительные дарования, иные вызывали смех; но
75
даже самое маленькое животное могло показать что-ни¬
будь отрадное и приятное — один только бледнолицый,
которого мы недавно вытащили из воды, не мог предло¬
жить ничего, кроме странных и высокомерных слов, наме¬
ков и шуток, которых никто не понял и которые никому
не доставили радости... Поэтому мы спрашиваем тебя, от-
че, хорошо ли, что такое существо станет вместе с нами
создавать на земле новую жизнь? Не вызовет ли это ка¬
кой-нибудь беды? Ты только взгляни на него! У него тус¬
клые глаза, лоб весь в морщинах, руки бледные и слабые,
лицо злое и печальное, от него не услышишь ни одного
приветливого слова! Наверняка тут что-то неладно. Бог
'весть, кто послал к нам в ковчег этого человека!
Седой как лунь праотец ласково поднял на вопрощаю-
щих свои светлые глаза.
— Дети мои, — сказал он таким тихим, исполненным
доброты голосом, что лица их сразу^ просветлели, — милые
мои дети! Вы правы, но вы и не правы, когда говорите та¬
кое! Но Бог уже дал ответы на ваши вопросы, до того как
вы их высказали. Я согласен с вами, человек из воюющей
страны — не очень приятный гость, и трудно понять, за¬
чем нам такие ч^аки. Но Бог, сотворивший этот тип лю¬
дей, наверняка знал, зачем он это делал. Вам всем надо
многое простить белым людям, это они снова испоганили
нашу бедную землю и довели ее до Страшного суда. Но вы
же видите. Бог дал понять, чтб он намерен делать с этим
человеком. Все вы, ты, негр, и ты, эскимос, взяли с собой
для новой жизни, которую мы вскоре надеемся начать на
земле, своих милых жен, ты свою негритянку, ты свою
индианку, а ты свою эскимоску. И только европеец не
'имеет пары. Меня это долго печалило, но теперь, кажется,
я догадываюсь, почему так случилось. Этот человек оста¬
нется у нас как предостережение, как стимул и, может
быть, как призрак. Но размножаться он не сможет, разве
что снова окунется в поток цветного человечества. Вашу
жизнь на новой земле он не сможет отравить. Утешьтесь!
Наступила ночь, и на следующее утро на Востоке по¬
казалась йз воды острая и маленькая вершина Священной
горы*.
76
ЭДМУНД
Эдмунд, одаренный юноша из приличной семьи, про¬
учившись многие годы, стал любимцем широко известного
в ту пору профессора Церкеля.
Было это в эпоху, когда так называемое послевоенное
время клонилось к закату, когда великая перенаселен¬
ность и полное исчезновение нравственности и религии
наложили на лицо Европы ту печать отчаяния, которая
бросается в глаза на всех почти картинах мастеров того
времени. Еще не началась эпоха, которая известна под на¬
званием «Возрождение Средневековья», однако все то, что
на протяжении столетия вызывало всеобщее восхищение и
уважение, уже пережило глубокое потрясение, и в широ¬
ких кругах общественности чувствовались быстро нараста¬
ющая усталость и недовольство теми отраслями науки и
техники, которым отдавали предпочтение с середины де¬
вятнадцатого века. Все были сыты по горло аналитически¬
ми методами, техникой ради техники, искусством рацио¬
налистического толкования, худосочной рассудочностью
того мировоззрения, которое за несколько десятилетий до
этого почиталось вершиной европейской образованности и
среди основоположников которого когда-то выделялись
имена Дарвина, Маркса и Геккеля*. В прогрессивных кру¬
гах, подобных тем, к которым принадлежал Эдмунд, даже
господствовала известная усталость духа, скептическая и,
надо признать, не совсем свободная от тщеславия тяга к
трезвой самокритичности, к утонченному третированию
интеллекта и его ведущих методов. В то же время в этих
кругах появился фанатический интерес к тогда еще слабо
развитым исследованиям в области религии. Свидетельст¬
ва древних вероучений уже не рассматривались в первую
очередь с исторической, социологической или философ¬
ской точек зрения, как прежде; теперь предпринимались
попытки познать их непосредственные жизненные силы,
психологическое и магическое воздействие их форм, обра¬
зов и ритуалов. И все же у пожилых лю^ей и учителей
преобладали несколько самонадеянная любознательность
чисто научного свойства, известная страсть к коллекцио¬
нированию,* сопоставлению, объяснению, классификации и
всезнайству; напротив, люди младшего поколения и уча¬
щиеся подходили к науке по-новому, они были преиспол¬
нены уважения, даже зависти к смыслу тех культов и
77
формул, которые дошли до нас из далекого прошлого, пре¬
исполнены наполовину тайного, наполовину уставшего от
жизни и готового уверовать желания постичь ядро всех яв¬
лений, обрести в вере душевное самообладание, которое
позволило бы им, подобно их далеким предкам, жить теми
же высокими устремлениями и с той же давно утраченной
свежестью и интенсивностью, какие можно увидеть в'ре¬
лигиозных обрядах и старинных произведениях искусства.
Широкую известность, к примеру, получил случай с
марбургским приват-доцентом, замыслившим описать
жизнь и смерть благочестивого поэта Новалиса. Как изве¬
стно, Новалис решил после смерти своей невесты умереть
вслед за ней и, будучи человеком истинного благочестия
и поэтом, использовал для своей цели не механические
средства, вроде яда или пистолета, а довел себя до смерти
постепенно, душевными усилиями и магическими приема¬
ми. Так вот, приват-доцент попал под влияние этой уди¬
вительной жизни и смерти, и его охватило желание повто¬
рить сделанное поэтом и умереть точно таким же спосо¬
бом. К этому его подтолкнула не пресыщенность жизнью,
а скорее ожидание чуда, то есть желание убедиться, что
душевные силы способны влиять на телесную жизнь и уп¬
равлять ею. И действительно он, как и Новалис, умер, не
дожив до тридцати лет. Этот случай привлек тогда всеоб¬
щее внимание и подвергся резкому осуждению как в кон¬
сервативных кругах, так и в той части юношества, которая
довольствовалась спортом и сугубо материальными на¬
слаждениями. Но хватит об этом; мы не собираемся давать
здесь анализ той эпохи, а хотим лишь напомнить о душев¬
ном складе и настроениях тех кругов, к которым принад¬
лежал студент Эдмунд.
Итак, под руководством профессора Церкеля он изучал
религию, но интересовался почти исключительно теми ча¬
стью религиозными, частью магическими духовными уп¬
ражнениями, с помощью которых народы иных эпох стре¬
мились к духовному постижению жизни и укреплению че¬
ловеческой душц в ее борьбе с природой и судьбой. В от¬
личие от профессора его занимала не поверхностная сто¬
рона религий, философская и литературная, не так назы¬
ваемые мировоззрения; он пытался исследовать и познать
подлинные, связанные с непосредственной жизнью при¬
емы, упражнения и формулы: тайну воздействия символов
и святынь, технику душевной концентрации, способы со¬
78
здания творческих состояний. Поверхностно подход, с
помощью которого на протяжении целого столетия объяс¬
няли такие явления, как аскеза, экзорцизм, монашество и
отшельничество, давно уступил место серьезному изуче¬
нию. В то время Эдмунд как раз посещал церкелевский се¬
минар для избранных, в котором, кроме него, принимал
участие еще всего один студент-отличник, и был занят
разгадкой смысла магических формул и тантр*, найденных
недавно в Северной Индии. Профессор проявлял к этим
занятиям чисто исследовательский интерес, он собирал и
классифицировал эти явления, как другие собирают и
классифицируют насекомых. В то же время он чувствовал,
что его ученика влечет к этим колдовским заклинаниям и
молитвенным формулам любопытство совсем иного свойст¬
ва, и он давно заметил, что ученик, благодаря более бла¬
гочестивому характеру своих исследований, проник в не¬
которые тайны, которые оставались недоступны учителю;
он надеялся еще долго сохранить у себя этого способного
ученика и пользоваться плодами его сотрудничества.
Они были заняты тем, что расшифровывали, переводили
и толковали тексты тех самых индийских тантр, и Эдмунд
так перевел с праязыка одно из заклинаний:
«Если случится, что душа твоя занедужит и забудет о
том, что ей надобно для жизни, а ты захочешь узнать, что
ей нужно и чего она ждет от тебя, тогда очисти свое сердце
от всего лишнего, задержи дыхание, вообрази, что внутри
твоей головы находится пустая полость, погрузи в эту по¬
лость свой внутренний взор и приготовься к медитации,
тогда полость вдруг перестанет быть пустой, и ты увидишь
то, что нужно твоей душе, чтобы выжить».
— Хорошо, — сказал профессор и кивнул головой. —
Там, где вы говорите «забудет», точнее было бы сказать
«утратит». Вы заметили, что слово «полость» имеет тот же
смысл, какой эти пройдохи-священники вкладывали в по¬
нятие «материнское лоно»? Эти парни и впрямь наловчи¬
лись делать из довольно скучных инструкций по излечению
меланхоликов замысловатые колдовские заклинания. Это
«мар пегиль трафу гноки», напоминающее формулу вели¬
кого заклинателя змей, должно быть,- звучало таинственно
и жутко для слуха несчастного бенгальца, которого они пы¬
тались оболванить! Сама но себе рекомендация очистить
сердце, задержать дыхание и направить взгляд внутрь себя
не представляет ничего нового, в заклинании № 83 она
79
сформулирована куда точнее. Но вы, Эдмунд, конечно, и
на сей раз придерживаетесь иного мнения? Что скажете?
— Господин профессор, — тихо заговорил Эдмунд, — я
полагаю, что и в этом случае вы недооцениваете значение
формулы; дело не в общедоступных толкованиях слов, дело
в самих словах, к простому значению заклинания добавля¬
лось еще кое-что — его звучание, выбор редких старинных
слов, рождающее ассоциации сходство с заклинанием змей.
Все вместе это придавало изречению его магическую силу.
— Если она у него была! — засмеялся профессор. — А
жаль, что вы не жили в то время, когда эти заклинания
были еще в ходу. Вы бы стали в высшей степени благодар¬
ным объектом для трюков сочинителей заклинаний. Но, к
сожалению, вы появились на свет с опозданием в несколько
тысяч лет. Спорим: как бы вы ни старались выполнить
предписания этого заклинания, у вас ничего не получится.
Он повернулся к другому ученику и, пребывая в хоро¬
шем настроении, высказал немало интересных замечаний.
Тем временем Эдмунд еще раз перечитал заклинание,
оно произвело на него особенное впечатление начальными
словами, которые, казалось, имели отношение к нему са¬
мому и к тому положению, в котором он очутился. Он слово
в слово произнес про себя формулу и одновременно попы¬
тался как можно точнее выполнить ее предписания.
«Если случится, что душа твоя занедужит и забудет о
том, что ей надобно для жизни, а ты захочешь узнать, что
ей нужно и чего она ждет от тебя, тогда очисти свое сердце
от всего лишнего, задержи дыхание» и так далее.
Ему удалось сосредоточиться лучше, чем во время преж¬
них попыток. Он точно следовал указаниям, и чувство под¬
сказало ему, что как раз наступил такой момент, когда ду¬
ша его оказалась в опасности и забыла о самом важном.
После хорошо знакомых ему простейших дыхательных
упражнений по системе йогов он почувствовал, как внутри
него что-то происходит, как в самом центре его головы об¬
разуется небольшое углубление, маленькая темная по¬
лость. С нарастающим пылом он сосредоточил внимание
на этой полости величиной с орех, называемой также «ма¬
теринским лоном». Полость начала медленно освещаться
изнутри, свет становился все ярче, и взгляду Эдмууда чет¬
ко и ясно открылся образ того, что ему нужно для жизни.
Увиденное не испугало его, он ни на миг не усомнился в
истинности изображения; в глубине души он ощущал, что
80
изображение говорит правду, что оно не показывает ему
ничего, кроме «забытой» внутренней потребности его
души.
От изображения исходила неведомая Эдмунду сила, он
радостно и без колебаний последовал указанию и совершил
поступок, прообраз которого увидел в полости. Открыв сме¬
женные во время медитации глаза, он поднялся со скамей¬
ки, сделал шаг вперед, протянул руки, сомкнул их на горле
профессора и сжимал до тех пор, пока не почувствовал, что
все кончено. Опустив задушенного на пол, он обернулся и
только теперь вспомнил, что он не один. На лбу его смер¬
тельно бледного товарища, сидевшего на скамейке, высту¬
пили капельки пота, он в ужасе смотрел на Эдмунда.
— Все исполнилось слово в слово! — радостно восклик¬
нул Эдмунд. — Я очистил свое сердце, задержал дыхание,
сосредоточился мысленно на полости в голове, сверлил ее
взглядом до тех пор, пока не проник внутрь, и тут передо
мной возникла картина: я увидел учителя и себя самого,
увидел, как мои руки смыкаются на его горле и все осталь¬
ное. Как-то само собой вышло, что я повиновался изобра¬
жению, мне не надо было прилагать никаких усилий и при¬
нимать решений. И теперь на душе у меня так хорошо, как
никогда в жизни!
— Послушай, — закричал его товарищ, — приди же на¬
конец в себя, опомнись! Ты убил человека! Ты убийца! За
это они тебя казнят!
Эдмунд не слушал его. Слова товарища не доходили до
его сознания. Он тихо произнес слова заклинания: «мара
пегиль трафу гноки» — и увидел не мертвых или живых
учителей, а открывшуюся перед ним бесконечную ширь
мира и жизни.
О СТЕПНОМ ВОЛКЕ
Предприимчивому хозяину небольшого зверинца уда¬
лось на недолгое время заполучить знаменитого степного
волка Гарри*. Он обклеил афишами все тумбы в городе,
надеясь на наплыв посетителей в свой балаган, — ив этих
расчетах не обманулся. Повсюду только и разговоров было
что о степном волке, слухи об этом звере живо обсужда¬
лись людьми сведущими и образованными, каждому из ко¬
торых было известно о нем либо то, либо это, и мнения о
81
степном волке разделились. Некоторые полагали, что та¬
кое существо, как степной волк, — явление в высшей сте¬
пени опасное и неприятное, с какой стороны ни посмотри,
он-де издевается над почтенными гражданами, срывает
изображения рыцарей со стен очагов культуры и даже по¬
смеивается над Иоганном Вольфгангом фон Гёте; а по¬
скольку для этого степного зверя нет ничего святого и его
поведение заразительно действует и возбуждает часть мо¬
лодежи, пора наконец сплотиться и покончить со степным
волком: пока он не будет убит и закопан в землю, покоя
не жди. Эта простая, доходчивая и, скорее всего, правиль¬
ная мысль разделялась тем не менее отнюдь не всеми. Об¬
разовалась и другая партия, которая считала, что хотя
степной волк существо и небезопасное, однако он обладает
не только правом на жизнь, нет, у него есть сверх того
своя моральная и социальная миссия. В груди каждого из
нас, утверждали высокообразованные сторонники этой
партии, таинственным и необъяснимым образом живет
степной волк*. Груди, на которые указал при этих словах
оратор, были почтеннейшими грудями светских дам, жен
адвокатов и промышленников, и груди эти были покрыты
шелковыми блузками и модными жилетами. Каждому из
нас, говорили эти либерально мыслящие люди, в глубине
души присущи чувства, побуждения и страсти степного
волка, они нам хорошо знакомы, каждому из нас прихо¬
дится бороться с ними, каждый из нас, если угодно, всего
лишь бедный, воющий, голодный степной волк. Вот так и
рассуждали о степном волке люди в шелковых рубашках
и блузках, того же мнения придерживались многие офи¬
циальные критики, прежде чем надеть свои фетровые и
велюровые шляпы, тяжелые пальто и роскошные меховые
шубы, сесть в свои автомобили и вернуться к делам в кон¬
торах и редакциях, врачебных кабинетах и кабинетах ди¬
ректоров заводов. Как-то вечером один из них после ста¬
канчика виски предложил даже основать клуб степных
волков.
В тот день, на который было назначено открытие новой
программы в зверинце, там собралось много народа, кото¬
рому не терпелось воочию увидеть злополучное животное;
за допуск к его клетке брали дополнительную плату. Это
была маленькая клетка, раньше в ней обитала преждевре¬
менно умершая пантера. Антрепренер ее несколько пере¬
оборудовал. Ему, человеку, как уже говорилось, предпри¬
82
имчивому, пришлось столкнуться с немалыми трудностями:
как-никак этот степной волк — животное все же не совсем
обычное. Подобно тому как в груди господ адвокатов и фаб¬
рикантов под рубашками и фраками якобы жил степной
волк, так и в широкой, покрытой густой шерстью груди
волка скрывался человек — с его сложными чувствами, мо-
цартовскими мелодиями и тому подобным. Отдавая дань
необычным обстоятельствам и ожиданиям публики, умный
антрепренер (а для него уже много лет не составляло тай¬
ны, что самые дикие звери не столь прихотливы, опасны и
коварны, как публика) придал клетке несколько странный
вид жилища человека-волка. С одной стороны, клетка как
клетка, с железными прутьями и соломой на полу; но на
одной из стен висело ампирное зеркало, а посреди клетки
стояло маленькое пианино с открытой клавиатурой. В углу
же, на слегка скособочившейся этажерке, возвышался гип¬
совый бюст короля поэтов Гёте.
В самом же звере, возбуждавшем всеобщее любопытст¬
во, вообще-то не было ничего примечательного. Он выгля¬
дел точь-в-точь как и подобает выглядеть степному волку,
lupus campetris. Большую часть времени он неподвижно
лежал в углу, как можно дальше от зрителей, облизывая
передние лапы, и глядел прямо перед собой, словно видел
не железные прутья клетки, а всю необозримую степь.
Время от времени поднимался и ходил по клетке туда-сю-
да, и тогда пианино покачивалось — пол-то был неров¬
ным, да и король поэтов с сомнением покачивал головой.
На посетителей волк внимания почти не обращал, и боль¬
шинство из них были его поведением обескуражены. Хотя
и в этом отношении полного единодушия не было. Многие
говорили: ничего особенного, зверь как зверь, и что такого
примечательного можно найти в обыкновенном тупом
хищнике? Волк — и точка. И вообще зоологии такое по¬
нятие, как «степной волк», неизвестно. Другие же возра¬
жали: у зверя-де красивые глаза и вся его стать исполнена
удивительной одухотворенности, от сочувствия к нему
просто сердце сжимается. Эти несколько умников прекрас¬
но понимали, что такие слова о степном волке с полным
правом можно было бы отнести и ко всем остальным оби¬
тателям зверинца.
После обеда к тому огороженному месту зверинца, где
стояла клетка с волком, подошло трое — двое детей и их
воспитательница. Они задержались дольше других. Краси¬
83
вой и молчаливой девочке было лет восемь, а рослому маль¬
чику двенадцать. Дети понравились степному волку, кожа
их пахла юностью и здоровьем. Он то и дело поглядывал
на стройные ножки девочки. Ну а гувернантка? Нет, та бы¬
ла совсем другой. На нее он почти не обращал внимания.
Чтобы оказаться поближе к красивой девчушке и вды¬
хать ее запахи, волк Гарри лег вплотную к прутьям широ¬
кой стороны клетки. Радуясь присутствию обоих детей, он
лениво прислушивался к тому, что эти трое о нем говорили.
Гарри их заинтересовал, и переговаривались они очень жи¬
во. Мальчик, паренек крепкий и боевой, был совершенно
согласен с теми суждениями, которые слышал дома от отца.
Этому волчище, говорил он, в клетке зверинца самое место.
А вот выпустить его на волю было бы непростительной глу¬
постью. Можно, конечно, попытаться его приручить, заста¬
вить, к примеру, бегать в упряжке, как полярные лайки,
только вряд ли это удастся. Нет, сам он, Густав, пристрелил
бы этого волка, где бы его ни встретил.
Слушая это, волк с удовольствием облизывался. Маль¬
чик ему нравился.
«Будем надеяться, — подумал он, — что, если нам
суждено встретиться, у тебя под рукой окажется охот¬
ничье ружье. И хорошо будет, если мы встретимся где-ни¬
будь в степи, а не то чтобы я набросился на тебя из твоего
собственного зеркала». Да, мальчик был ему симпатичен.
Вырастет и станет мужчиной хоть куда: толковым и энер¬
гичным инженером, заводчиком или офицером, и Гарри
ничего не имел против того, чтобы в будущем помериться
с ним силами или — если потребуется — чтобы тот его
подстрелил. Определить отношение к себе девочки было
для степного волка делом более трудным. Сначала она
присмотрелась к нему, причем с куда большим любопыт¬
ством и вниманием, чем остальные, которые полагали,
будто им о нем все доподлинно известно. Маленькая де¬
вочка заметила, что ей понравился язык Гарри и его че¬
люсть. И глаза его тоже. Зато нерасчесанная шерсть вы¬
звала в ней неприязнь, а резкий запах, исходивший от ди¬
кого зверя, встревожил ее и удивил: в этом было что-то
отвратительное, отталкивающее и вместе с тем нечто сла¬
дострастное, тревожащее. Нет, в общем и целом он ей по¬
нравился, и от нее вовсе не ускользнуло, что сама она
Гарри очень заинтересовала, что он смотрит на нее с вос¬
хищением и страстным желанием; от его поклонения она
84
явно испытывала удовольствие. Время от времени она об¬
ращалась к своей гувернантке с вопросами:
— Извините, фройляйн, зачем волку в клетке пианино?
Наверное, ему хотелось бы, чтобы принесли побольше еды.
— Это не обычный волк, — ответила фройляйн. — Это волк
музыкальный. Но пока что тебе не понять этого, дитя мое.
Скривив свои красивые губки, девочка проговорила:
— Наверное, так и есть: я еще многого не понимаю. Но
если это музыкальный волк, пусть у него стоит в клетке
пианино, я не против. Даже целых два! Но к чему вон та
смешная фигура на этажерке? Она-то ему зачем, а?
— Это символ... — начала было объяснять гувернантка.
Но волк пришел малышке на помощь. Он прищурил
влюбленные глаза и настолько внезапно вскочил на ноги,
что всех троих на какое-то мгновение охватил страх. А
волк, несколько раз потянувшись, направился к покачи¬
вавшемуся на неровном полу пианино и принялся тереться
о него с такой силой, что пол заходил ходуном, пока эта¬
жерка не накренилась и с нее не упал бюст. От сильного
удара о пол бюст Гёте разлетелся на три части, как само
творчество поэта под пером некоторых критиков. Волк
принюхивался по нескольку секунд к каждой из частей,
потом с равнодушным видом отвернулся и подошел побли¬
же к девочке.
Но сейчас в центре событий оказалась гувернантка.
Она принадлежала к числу тех женщин, в груди которых,
несмотря на спортивный костюм и короткую стрижку, то¬
же живет волк, она принадлежала к числу почитательниц
и поклонниц Гарри и считала себя его духовной сестрой,
ибо и ее душу разрывали разноречивые чувства и невзго¬
ды. Правда, робкое предчувствие подсказывало ей, что ее
добропррядочная и размеренная жизнь — это вовсе не
степь, а светская жизнь — не одиночество, что у нее ни-
коща не хватит мужества вырваться из этой размеренной
буржуазной жизни — даже из отчаяния! — и совершить,
подобно Гарри, смертельный прыжок в хаос. Нет, нет, так
она, конечно, никогда не поступит. Однако степной волк
всегда будет вызывать у нее симпатию и понимание, и она
была бы рада показать ему это. Она так и млела от жела¬
ния пригласить этого Гарри — когда он примет человече¬
ский облик и облачится в смокинг — на чашечку чая и
предложить ему поиграть Моцарта в четыре руки. И она
85
тотчас же решила предпринять что-нибудь в этом направ¬
лении.
А восьмилетняя малышка тем временем успела привя¬
заться к волку. Ее восхитило, как ловко умное животное
сбросило с этажерки бюст, она сообразила, что это он сде¬
лал ей в удовольствие, что он понял ее слова и решительно
встал на ее сторону. Но сломает ли он вдобавок еще и это
дурацкое пианино? О-о, волк просто великолепен, какой он
молодчина!
Гарри потерял всякий интерес к пианино, он плотно
прижался к прутьям клетки, поближе к девочке, стараясь
просунуть морду между прутьями, и призывно глядел на
нее горящими от восхищения глазами. Этому призыву де¬
вочка была не в силах противиться. Нагнувшись, она вы¬
тянула руку и начала доверчиво поглаживать черный нос
волка. А Гарри то и дело вскидывал на нее глаза, словно
ободряя, и осторожно лизал маленькую руку своим теп¬
лым языком.
Заметив это, гувернантка набралась храбрости. Она ре¬
шила тоже показать Гарри свои сестринские чувства, да, ей
хотелось доказать ему, что они — родственные души. То¬
ропливо достала *^3 сумочки элегантную упаковку в шел-
^совой с золотыми нитями обертке, сняла станиоль с доро¬
гого лакомства, шоколадки в форме сердечка, и со взгля¬
дом, исполненным особого значения, протянула волку.
Гарри помаргивал глазами и продолжал молча лизать
руку девочки; в то же время он ни на миг не упускал из
виду гувернантку. И когда рука с шоколадкой оказалась
на достаточно близком расстоянии, он схватил ее острыми
зубами вместе со сладким сердечком. Все трое испуганно
-вскрикнули и отпрянули. Кроме гувернантки, правда; про¬
шло еще несколько тягостных мгновений, пока она вырва¬
ла окровавленную руку из пасти своего братца-волка. Ла¬
донь была прокушена в нескольких местах. Бедная гувер¬
нантка плакала от нестерпимой боли. Но именно эта боль
раз и навсегда освободила ее от душевных терзаний. Нет,
она не волчица, у нее нет ничего общего с этим диким
зверем, который сейчас с удовольствием лакомился доро¬
гой шоколадкой. Гувернантка решила немедленно перейти
к активным действиям.
Вокруг них успели уже сгрудиться любопытствующие
зеваки, привлеченные криками, в том числе и побледнев¬
ший антрепренер. Отставив далеко в сторону — чтобы не
86
перепачкать воскресное платье — кровоточащую руку, гу¬
вернантка с жаром прирожденного оратора уверяла всех,
что не успокоится до тех пор, пока не отомстит этому
злобному чудовищу. О-о, многие удивятся, когда узнают,
какую сумму она потребует в виде возмещения за укус
этой руки, способной усладить слух игрой на пианино. А
волка чтобы непременно убили — на меньшее она ни за
что не согласится!
Антрепренер, успевший собраться с духом, указал ей на
огрызок шоколадки, лежащий перед Гарри. Разве на афи¬
шах не указано, что кормить зверей зрителям запрещается?
Кто этот запрет нарушил, сам виноват. Пусть жалуется ку¬
да угодно, ни один суд в мире ее правоты не признает. Вдо¬
бавок он от всех подобных и даже непредвиденных несча¬
стных случаев общения со зверями застрахован. Так что не
лучше ли даме поскорее обратиться к врачу?
Она так и сделала; но после перевязки первым делом
поспешила к адвокату...
У клетки Гарри в последующие дни толпились сотни лю¬
дей.
А возможность судебного процесса между дамой и степ¬
ным волком много дней подряд занимала все общество.
Партия обвинения считала, что в первую голову следует
наказать волка Гарри, а потом уже антрепренера. Ибо, как
говорится в обвинительном заключении, этого Гарри ни в
какой мере нельзя считать безответственным животным; у
него есть вполне реальные, земные ценности, функции
хищника он выполняет лишь от случая к случаю, он даже
выпустил книгу собственных воспоминаний. Каким бы ни
было решение суда первой инстанции, в случае если истец
не будет удовлетворен, дело будет направляться дальше —
вплоть до императорского суда.
Итак, во вполне обозримом времени мы сможем узнать
из официальных источников окончательное решение вопроса
о том, кто же в конце концов степной волк: зверь или чело¬
век?
КОРОЛЬ ю
в истории Древнего Китая весьма редко встречаются
примеры правителей и государственных мужей, которые
находили свою гибель, попав под влияние женщины, ока-
87
завшись во власти любви. Одним из таких редких и не¬
обычных примеров был король Ю со своей женой Бау Си.
Государство Чжоу, которым правил король Ю, грани¬
чило на западе с землями монгольских варваров, и его сто¬
лица Фуонг располагалась в центре небезопасной области,
время от времени подвергавшейся разбойничьим набегам
варварских племен. Поэтому нужно было постоянно ду¬
мать об укреплении границ, в первую очередь об охране
столицы.
В сборниках исторических текстов рассказывается о
короле Ю, который был неплохим правителем и умел при¬
слушиваться к мудрым советам своих приближенных; бла¬
годаря остроумным сооружениям он смог компенсировать
недостатки своих границ, но все эти хитроумные, достой¬
ные восхищения устройства были уничтожены из-за кап¬
ризов его красавицы жены.
С помощью князей-ленников король создал на запад¬
ной границе оборонительную линию, которая, как и все
политические механизмы, выполняла двойную задачу —
моральную и материальную. Моральной основой соглаше¬
ния было клятвенное обещание князей и их чиновников
верой и правдой служить королю, по первому же его зову
не мешкая выступить со своим воинством на защиту сто¬
лицы королевства. Материальная же часть состояла в хо¬
рошо продуманной системе башен, которые король пове¬
лел возвести на западной границе. На каждой из башен
днем и ночью находился сторожевой пост, каждая была
снабжена гулким барабаном. Если неприятель в каком-ни-
будь месте нарушал границу, на ближайшей башне начи¬
нали бить в барабан, и в кратчайший срок барабанная
дробь облетала всю страну.
Долго занимался король этим мудрым и совершенным
сооружением, вел переговоры со своими вассалами, выслу¬
шивал советы зодчих, следил за подготовкой сторожевой
службы. Но была у него любимая жена, красавица Бау Си,
которая сумела так подчинить себе сердце и ум короля, что
это обернулось бедой для правителя и его государства. Как
и сам король, Бау Си с любопытством и участием наблю¬
дала за работами на границе — так иногда резвая и умная
девочка наблюдает за играми мальчиков. Один из зодчих,
желая показать сооружение в действии, изготовил для ко¬
ролевы из обожженной и раскрашенной глины изящную
модель оборонительной линии; она представляла собой гра-
88
ницу и систему башен, и в каждой из маленьких изящных
башенок стоял крохотный глиняный страж, а вместо бара¬
бана висел миниатюрный колокольчик. Эта замечательная
игрушка доставляла королеве огромное удовольствие, и, ес¬
ли ей иногда случалось быть в дурном настроении, придвор¬
ные дамы чаще всего предлагали сыграть в «нападение вар¬
варов». Они открывали все башенки, звонили в малютки
колокольчики, и это их очень веселило и развлекало.
Но вот в жизни короля наступил великий день, когда
работы были наконец завершены, барабаны установлены, а
барабанщики обучены, и тогда по предварительному угово¬
ру на один из благоприятных дней года были назначены
испытания оборонительной системы. Гордый своим соору¬
жением, король сгорал от нетерпения; придворные готови¬
ли поздравительные речи, но больше всех волновалась и пе¬
реживала красавица Бау Си, она едва дождалась, когда за¬
кончится церемониал и прозвучат выступления. .
Наконец настал момент, когда впервые можно было
по-настоящему сыграть в игру башен и барабанов, которая
столь часто забавляла королеву. Она с трудом удержалась,
чтобы не вмешаться и самой не отдать приказ, столь ве¬
лико было ее радостное возбуждение. Но король был очень
серьезен, он подал ей знак, и она взяла себя в руки. Чтобы
убедиться, как все действует, теперь можно было сыграть
в «нападение варваров», используя большие башни, насто¬
ящие барабаны и живых людей. Король махнул рукой,
первый вельможа передал приказ капитану всадников, тот
подъехал к башне и велел бить в барабан. Раздалась гул¬
кая барабанная дробь, торжественно-тревожные звуки
коснулись»ушей всех присутствующих. От возбуждения
Бау Си побледнела, ее бросило в дрожь. Мощно пел боль¬
шой боевой барабан свою суровую, внушавшую трепет
песнь, полную предостережения и угрозы, полную пред¬
чувствия надвигающейся войны и беды, страха и гибели.
Все внимали ей с благоговением. Но вот она начала зати¬
хать, и тут со следующей башни долетел ответный звук,
далекий, слабый, быстро замерший вдали, затем все стих¬
ло, и через некоторое время торжественное молчание кон¬
чилось, все снова задвигались и заговорили.
Тем временем низкие грозные звуки барабанов неслись
от второй башни к третьей, десятой и тридцатой, и повсю¬
ду, где они раздавались, каждый воин, следуя строгому
приказу, во всеоружии и с полным вещевым мешком не¬
89
медленно являлся к месту сбора, каждый капитан и пол¬
ковник, не теряя ни минуты, срочно готовился к выступле¬
нию, а также отправлял заранее подготовленные распоря¬
жения во внутренние районы страны. Повсюду, ще слы¬
шался барабанный бой, люди прерывали работу и трапезу,
игры и сон, быстро собирались и пешком или верхом на ло¬
шадях отправлялись в путь. В кратчайшие сроки к столице
уже спешили отряды воинов из соседних областей.
В Фуонге, при дворе, улеглось волнение и напряжение,
охватившее каждого при звуках ужасного барабана.
Оживленно беседуя, люди прогуливались в парках сто¬
лицы, в городе был объявлен праздник. Не прошло и двух
часов, как с двух сторон к Фуонгу стали.подходить боль¬
шие и малые группы воинов, с каждым часом их прибы¬
вало все больше и больше, это продолжалось весь день и
последующие дни, и короля, придворных и офицеров ох¬
ватило растуш;ее чувство воодушевления. Правителя осы¬
пали почестями и поздравлениями, зодчим устроили пир,
а барабанщик, первым ударивший в барабан, был увенчан
как победитель, его водили по улицам и щедро одаривали.
Супруга же короля, Бау Си, пребывала в совершенном
восторге и упоении. Ее игра в башенки и колокольчики в
реальности оказалась великолепнее, чем она ожидала.
Приказ, облеченный в раскатистые волны барабанной дро¬
би, словно по волшебству растворился в пустынной стране;
отозвался же он могучим эхом — живыми, в натуральную
величину, воинами; тревожная барабанная дробь оберну¬
лась войском, сотнями и тысячами хорошо вооруженных
солдат, которые непрерывным потоком, тянувшимся от са¬
мого горизонта, пешим и конным строем торопливо стека¬
лись к столице. Лучники и копьеносцы, тяжелая и легкая
кавалерия постепенно наполняли нараставшей сутолокой
пространство вокруг города. Их встречали и приветствова¬
ли, угощали и отправляли к месту стоянки. Там они раз¬
бивали шатры и разводили костры. Это продолжалось
днем и ночью, словно сказочные призраки возникали они
из серых недр земли, издали, окутанные клубами пыли,
казались маленькими, но вблизи, на глазах у придворных
и восхищенной Бау Си, их ряды становились грандиозной
явью.
Король Ю был очень доволен, особенно тем, с каким во¬
сторгом принимала все его любимая жена; она расцвела от
счастья, как цветок, и никогда еще не казалась ему такой
90
прекрасной. Но праздники быстро проходят. Кончился и
этот великий праздник, уступив место будням: не было
больше чудес, волшебные сны не становились явью. Для
людей праздных и капризных это было невыносимо. Через
несколько дней Бау Си снова приуныла. Глиняная шрушка
с башенками и подвешенными на нитках колокольчиками
опротивела ей с тех пор, как она увидела настоящую игру.
О, как пленительно это было! Все было готово, чтобы по¬
вторить упоительную игру: на башнях висели барабаны, во¬
ины несли караульную службу, на своих местах стояли ба¬
рабанщики в мундирах, все замерло в нетерпении, все жда¬
ло королевского приказа — и все казалось таким безжиз¬
ненным и бесполезным, пока приказа не было!
Бау Си перестала смеяться и радоваться жизни; король
с досадой заметил, что лишился общества своей любими¬
цы, утехи своих вечеров. Он дарил ей самые дорогие по¬
дарки, но в ответ получал только улыбку. И вот для него
наступил момент, когда надо было осознать собственное
положение и во имя долга пожертвовать своими маленьки¬
ми удовольствиями. Но король Ю был слаб. Бау Си снова
должна Смеяться — это казалось ему важнее всего осталь¬
ного.
И он поддался искушению, не сразу, сопротивляясь, но
поддался. Бау Си д^ела его до того, что он забыл о своем
долге. Уступив бесконечным мольбам, он исполнил един¬
ственное великое желание ее сердца: согласился, чтобы
пограничная стража дала сигнал о нападении врага. Тут
же раздалась частая, тревожная дробь боевого барабана.
Ужасным показался королю на сей раз этот звук, Бау Си
тоже испугалась. Но потом восхитительная игра повтори¬
лась: вдали на горизонте показались маленькие клубы пы¬
ли, пешком и верхом на лошадях стали прибывать воины,
это'длилось три дня, низко кланялись королю полководцы,
воины разбивали свби шатры. Бау Си блаженствовала и
радостно смеялась. Но король Ю пережил трудные часы.
Ему пришлось сознаться, что вражеского нападения не бы¬
ло и что все вокруг спокойно. Он, правда, попытался оп¬
равдать ложную тревогу, назвав ее священными боевыми
учениями. Ему никто не перечил, все склоняли головы и
соглашались с ним. Но среди офицеров пошли разговоры,
что они стали жертвой нелепой выходки короля, ради
своей распутной жены взбудоражившего границу и под¬
нявшего по тревоге тысячи и тысячи людей. Большинство
91
офицеров сошлось на том, чтобы в будущем не подчинять¬
ся больше такому приказу. Король тем временем пытался
богатым угощением ублажить недовольное войско. Так
Бау Си настояла на своем.
Но не успела она снова впасть в уныние и возобновить
свою бесстыдную игру, как короля и ее постигло наказа¬
ние. Случайно ли или потому, что и до них дошла весть
о случившемся, но варвары однажды внезапно перешли
западную границу. С башен безотлагательно был подан
сигнал, тревожный, глухой треск барабанов быстро доле¬
тел до самых дальних рубежей. Но великолепная игрушка,
механизм которой вызывал такое восхищение, казалось,
вышла из строя: трещали барабаны, но их звуки никак не
отзывались в сердцах солдат и офицеров. Они не подчини¬
лись барабану, и напрасно король Ю и Бау Си вглядыва¬
лись во все стороны; нигде не поднимались клубы пыли,
ниоткуда не тянулись маленькие серые отряды, никто не
пришел им на помощь.
С небо71ьшим войском, которое было в столице, король
Ю поспешил навстречу варварам. Но их превосходящие си¬
лы разбили королевскую рать, заняли столицу Фуонг, раз¬
рушили дворец и башни. Король Ю лишился королевства
и жизни, то же случилось и с его любимой женой Бау Си,
о губительном смехе которой еще и сегодня можно прочи¬
тать в сборниках исторических текстов.
Фуонг подвергся разрушению, игра стала явью. Не бы¬
ло больше ни боя барабанов, ни короля Ю, ни его малень¬
кой веселой жены Бау Си. Преемник Ю, король Пинг, не
придумал ничего лучшего, как отказаться от Фуонга и пе¬
ренести столицу далеко на Восток; за будущую безопас¬
ность своего королевства ему пришлось заплатить союзами
с соседними властителями и уступкой больших территог
рий.
листки ПАМЯТИ
AUS «GEDENKBLATTER»
д
КОГДА Я БЫЛ ШКОЛЬНИКОМ
важды за школьные годы был у меня учитель, кото¬
рого я мог почитать и любить, чей высочайший ав¬
торитет я без строптивости признавал, учитель, которому
достаточно было глазом моргнуть, чтобы я уже повиновался
ему. Фамилия первого была Шмид, он преподавал в Кальв-
ской латинской школе, другие ученики очень недолюбли¬
вали его и боялись за строгость, ехидство, дурной нрав и
неумолимость. Важен стал он для меня тем, что в его классе
(нам, ученикам, было по двенадцати лет) начинались за¬
нятия греческим. Мы, ученики маленькой полусельской ла¬
тинской школы, привыкли к учителям, которых мы либо
боялись и ненавидели, от которых увертывались, которым
лгали, либо к таким, которых мы высмеивали и презирали.
Властью они обладали, в этом сомнений не было, огромной,
ничем не заслуженной властью, которой они часто страшно
и бесчеловечно злоупотребляли — тоща еще частенько би¬
ли по рукам и драли за уши до крови, — но эта учительская
власть была только враждебной, ее только боялись и нена¬
видели. Что учитель может обладать властью оттого, что
он стоит гораздо выше нас, что он олицетворяет духовность
и человечность, что он заронил в наши души представление
о каком-то высшем мире, — сколько ни было у нас в млад¬
ших классах латинской школы учителей, ничего подобного
мы еще не встречали. Мы знали нескольких добродушных
учителей, облегчавших себе и нам скучное учение тем, что
смотрели на все сквозь пальцы и глазели в окно или читали
романы, пока мы списывали друг у друга какое-нибудь
письменное задание. Знавали мы и злых, мрачных, беше¬
ных учителей, которые драли нас за волосы и били по го¬
лове — один из них, совсем уж изверг, сопровождал свои
нотации плохим ученикам тем, что тяжелым ключом от до¬
ма отбивал такт по голове провинившегося. Что бывают
учителя, которых ученик слушает очарованно и радостно,
95
ради которых он рад напрячься, которых даже за неспра¬
ведливости и капризы прощает, которым он благодарен за
открытие высшего мира и которых старается отблагода¬
рить, — о такой возможности мы дотоле и знать не знали.
И вот я попал в четвертый класс к учителю Шмиду. Из
двадцати пяти примерно учеников этого класса пятеро вы¬
брали гуманитарные науки, нас называли «гуманистами» и
«греками», и в то время, как остальной класс занимался та¬
кими мирскими предметами, как рисование, естествозна¬
ние и тому подобное, нас пятерых учитель Шмид вводил в
греческий язык. Учитель этот отнюдь не был популярен:
это был болезненный человек с бледным, озабоченным и
хмурым лицом, гладко выбритый, темноволосый, обычно
настроенный на серьезный и строгий лад, и, даже когда он
шутил, тон у него был саркастический. Что, собственно,
вопреки общему мнению о нем класса, располагало меня к
нему, не знаю. Может быть, это было впечатление его не-
счастности. Он прихварывал и выглядел страдальцем, у не¬
го была больная, хрупкая жена, которая почти никогда не
показывалась, а в остальном жил как все наши учителя, в
нищете. Какие-то обстоятельства, вероятно, болезнь жены,
мешали ему поправить свои дела за счет пансионеров, и
уже это придавало ему какое-то благородство по сравнению
с другими учителями. А тут еще греческий. Мы, пять из¬
бранных, во всяком случае, казались себе среди соучеников
чем-то вроде аристократии, нашей целью были высокие на¬
уки, а соученикам суждено было стать ремесленниками или
коммерсантами; и вот, стало быть, мы начали изучать этот
таинственный, древний язык, гораздо древнее, таинствен¬
нее и благороднее, чем латынь, язык, который изучают не
для того, чтобы зарабатывать деньги или разъезжать по бе¬
лу свету, а только для того, чтобы познакомиться с Сокра¬
том, Платоном и Гомером. Кое-что из этого мира было мне
уже знакомо, ибо греческий и ученость были уже близки
моим отцам и дедам, а по Швабовым «Преданиям класси¬
ческой древности»* я давно уже был знаком с Одиссеем и
Полифемом, Фаэтоном и Икаром, с аргонавтами и Танта¬
лом. А в нашей хрестоматии, которой мы с недавних пор
пользовались в школе, среди сплошь довольно прозаиче¬
ских вещей одиноко, как райская птица, выделялось чудес¬
ное стихотворение Гёльдерлина, которое я понимал, прав¬
да, только наполовину, но в звучании которого было для
меня что-то бесконечно приятное и соблазнительное, и тай-
96
ную связь этого стихотворения с греческим миром я смутно
чувствовал.
Легким наш учебный год этот господин Шмид отнюдь
не делал. Он делал его даже весьма трудным, часто ненуж¬
но трудным. Он требовал многого, по крайней мере от нас,
«гуманистов», и был не просто строг и часто жесток, но по¬
рой и очень своенравен; у него случались внезапные при¬
ступы гнева, и тоща мы все, в том числе я, не на шутку
боялись его, как боятся рыщущей о^уки мальки в пруду. Но
это я уже знал по другим учителям. .У Шмида я изведал
нечто новое. Я почувствовал наряду со страхом благогове¬
ние, я узнал, что человека можно любить и почитать, даже
коща он твой противник, даже коща он своенравен, неспра¬
ведлив и ужасен. Порой, коща он бывал в мрачном настрое¬
нии и глаза с его худого лица, из-под длинных черных волос
глядели страдальческим, тяжелым и злым взглядом, мне
невольно приходили на ум царь Саул* и его омрачения. Но
потом- он отходил, лицо его разглаживалось, он писал на
доске греческие буквы и рассказывал о г[$еческом языке и
греческой грамматике такие вещи, которые, чувствовал я,
были больше чем обыкновенное менторство. Я влюбился в
греческий язык, хотя и боялся уроков греческого, и неко¬
торые греческие буквы, такие, как ипсилон, пси, омега, ма¬
левал, бывало, в своей тетради с самозабвенной одержимо¬
стью, словно какие-то магические знаки.
В тот первый гуманистский год я вдруг заболел. Это бы¬
ла болезнь, которой, насколько мне известно, сегодня уже
не знают и не признают и которую тоща врачи называли
«боль в конечностях». Меня пичкали рыбьим жиром и са¬
лициловой кислотой и какое-то время натирали мне колени
ихтиоловой мазью. Я вовсю наслаждался болезнью, ибо при
всем своем гуманистском идеализме слишком все же при¬
вык ненавидеть школу и бояться ее, чтобы не смотреть на
более или менее терпимую болезнь как на подарок судьбы
и избавление. Я долго лежал в постели, а поскольку стена
у моей кровати была облицована окрашенной в белый цвет
деревянной панелью, я начал расписывать эту приятную
плоскость акварельными красками и натгасал на стене на
высоте моей головы картину, которая должна была изобра¬
жать семерых швабов и над которой очень смеялись мои
брат и сестра. Но коща миновали вторая и третья неделя,
а я все еще лежал больной, возникла забота, как бы мне,
если это затянется, не слишком отстать в греческом языке.
4 5-2S9 97
Одному из моих товарищей поручили оповещать меня об
успехах класса, и тут обнаружилось, что господин Шмид с
гуманистами продвинулись в греческой грамматике не на
шутку. Это мне надо было теперь наверстать, и я, пред ли¬
цом семерых швабов, часами единоборствовал со своей
ленью и с трудностями греческого спряжения. Иноща мне
помогал отец, но, когда я выздоровел и смог встать, оказа¬
лось все же, что я сильно отстал, и сочли нужным, чтобы
я взял несколько частных уроков у учителя Шмида. Он был
готов дать их, и в течение короткого времени я через день
приходил к нему на квартиру, где было сумрачно и неве¬
село и где бледная, молчаливая жена Шмида боролась со
смертельным недугом. Мне редко доводилось видеть ее, она
вскоре после этого умерла. Часы в этой мрачной квартире
проходили как заколдованные, переступив ее порог, я по¬
падал в другой, нереальный, зловещий мир, я заставал это¬
го досточтимого мудреца, этого наводящего страх тирана,
каким знал его по школе, поразительно, до жути преобра¬
женным, я стал проницательным и понимал страдальческое
выражение его худого лица, я страдал за него и страдал от
него, ибо он большей частью пребывал в очень дурном рас¬
положении духа. Но дважды он выходил со мной потулять,
побродить на свежем воздухе, без грамматики, без грече¬
ского, и во время^обеих этих протулок он был со мной мил
и приветлив, не было ни сарказма, ни приступов гнева, он
расспрашивал меня о моих увлечениях, о моих мечтах, и с
тех пор я его полюбил, хотя он, как только начинался урок,
начисто забывал, казалось, об этих прогулках. Жену его
похоронили, и я помню, как участился тоща и стал резче
тот характерный для Шмида жест, каким он смахивал на¬
зад со лба длинные волосы. Как учитель он был в то время
.довольно тяжел, и думаю, что из его учеников я был един¬
ственным, кто любил его, несмотря на его жестокость и не¬
предсказуемость.
Вскоре после окончания этого годичного курса, который
вел Шмид, я покинул родину и родную школу и впервые
был отправлен в чужие края. Произошло это отчасти по
причинам воспитательного характера, ибо я стал тогда
трудным и очень непослушным ребенком, родители не
справлялись со мной. Кроме того, мне надо было как можно
лучше подготовиться к «земельному экзамену»*. Этот госу¬
дарственный экзамен, который проводился каждое лето для
всей земли Вюртемберга, был очень важен: кто выдерживал
98
его, получал вакансию в богословской «семинарии» и мог
учиться на стипендию. Эта карьера была предназначена и
мне. Несколько школ в земле специально занималось под¬
готовкой к этому экзамену, и в одну из них отправили ме¬
ня. Это была латинская школа в Гёппингене, где годами
натаскивал учеников к земельному экзамену ректор Бау¬
эр*, знаменитый во всей земле старик, из года в год окру¬
женный стайкой усердных учеников, которых к нему при¬
сылали из всех уголков земли.
В прежние годы ректор Бауэр пользовался славой гру¬
бого, бьющего учеников педагога; один старший мой родст¬
венник много лет назад учился у Бауэра, и тот жестоко му¬
чил его. Теперь ректор был стар и слыл чудаком, к тому
же учителем, который требует от своих учеников очень
многого, но бывает с ними и весьма мил. Как бы то ни было,
я изрядно боялся его, когда, держа за руку мать, после пер¬
вого мучительного прощания с отчим домом, стоял в ожи¬
дании перед кабинетом знаменитого ректора. Думаю, мать
сначала была совсем не в восторге от него, когда он вышел
нам навстречу и ввел нас в свою келью, сгорбленный старик
с растрепанными седыми волосами, с глазами чуть навыка¬
те в красных прожилках, одетый в зеленовато-выцветшее,
неописуемое платье старинного покроя, в очках, повисших
на самом кончике носа; держа в правой руке длинную, до¬
стававшую почти до пола курительную трубку с большой
фарфоровой головкой, он непрестанно вытягивал и выпу¬
скал в прокуренную комнату мощные клубы дыма. С этой
трубкой он не расставался и во время уроков. Мне этот
странный старик с его сгорбленностью, с его небрежной ма¬
нерой держать себя, с его старой, заношенной одеждой, с
его печально-пытливым взглядом, с его стоптанными туф¬
лями, с его длинной дымящейся трубкой показался старым
волшебником, на попечение которого я сейчас перейду. Мо¬
жет быть, окажется ужасно у этого запыленного, далекого
от жизни старца, а может быть — чудесно, великолепно,
во всяком случае, это было нечто особенное, это было при¬
ключение, это было событие. Я был готов, я рвался пойти
навстречу ему.
Но сперва надо было выдержать ту минуту на вокзале,
когда мать, поцеловав и благословив меня, села в поезд, и
поезд ушел, и я впервые остался один в «мире», где мне
следовало найти свое место и показать себя — но и по сей
день, когда мои волосы начинают седеть, я этому так и не
4* 99
научился по-настоящему. На прощанье мать еще помоли¬
лась со мной, и, хотя с моей набожностью дело обстояло
уже не блестяще, я во время ее молитвы и ее благословения
торжественно поклялся в душе вести себя здесь, на чужби¬
не, хорошо и не посрамлять мать. Надолго мне это не уда¬
лось, дальнейшие мои школьные годы принесли мне и ей
тяжкие бури, испытания и разочарования, много горя и
слез, много ссор и недоразумений. Но тогда, в Гёппингене,
я свой обет более или менее исполнил и вел себя хорошо.
Правда, не на взгляд пай-мальчиков и уж никак не на
взгляд хозяйки, у которой я жил и воспитывался на полном
пансионе вместе с другими четырьмя мальчиками и которой
я не выказывал того почтения и послушания, каких она
ждала от своих нахлебников. Нет, хотя в иные дни я оча¬
ровывал ее, добивался ее улыбки и расположения, в боль¬
шой чести у нее я никогда не был, она была инстанцией,
власти и важности которой я не признавал, и, когда она в
один несчастный день, после какого-то пустякового маль¬
чишеского проступка, призвала своего рослого и дюжего
брата, чтобы он подверг меня телесному наказанию, я ока¬
зал ей и ее помощнику жесточайшее сопротивление, гото¬
вый скорее выброситься в окно или перегрызть ее брату гор¬
ло, чем позволить ему, не имевшему, по моему мнению,
такого права, произвести экзекуцию. Ему не удалось дотро¬
нуться до меня и пришлось удалиться несолоно хлебавши.
Гёппинген мне не понравился. «Мир», в который втол¬
кнули меня, не пришелся мне во вкусу, он был гол и ску¬
чен, груб и убог. Тогда Гёппинген еще не был фабричным
городом, как сегодня, но и тогда уже там высилось семьде¬
сят или восемьдесят фабричных труб, и речушка была по
сравнению с рекой моей родины пролетаркой, жалко пре¬
смыкавшейся между кучами отходов, а что окрестности го¬
рода очень красивы, мы почти не замечали, потому что от¬
лучаться нам разрешалось лишь ненадолго, и на Гогеншта-
уфен я поднялся только один раз. О нет, Гёппинген мне
совсем не понравился, этот прозаический фабричный город
не шел ни в какое сравнение с моей родиной, и, рассказы¬
вая о Кальве и тамошней жизни своим товарищам, как и
я, томившимся на чужбине и в неволе, я приукрашивал и
слагал поэмы тоски и бахвальства, за которые никто не мог
призвать меня к ответу, ибо я был единственным в нашей
школе кальвийцем. Вообще же были представлены почти
все местности и города данной земли, в нашем классе было
100
не более шести-семи гёшгангенцев, все остальные приехали
издалека, чтобы здесь, на проверенном трамплине, полу¬
чить разгон для земельного экзамена.
Трамплин не подвел и наш класс, как уже множество
других. В конце гёппингенского срока мы составили вну¬
шительное число успешно выдержавших экзамен, и я был
среди них. Гёппинген не виноват в том, что ничего путного
из меня не вышло.
Хотя этот скучный промышленный город, неволя под
надзором строгой хозяйки и вся внешняя сторона моей гёп-
пингенской жизни очень не нравились мне, все-таки это
время (почти полтора года) было чрезвычайно плодотворно
и важно для моей жизни. Те отношения между учителем и
учеником, о которых я в Кальве получил представление у
профессора Шмида, эта бесконечно плодотворная и притом
такая тонкая связь между духовным вождем и спос^ным
ребенком достигла между ректором Бауэром и мною пол¬
ного расцвета. Этот странный, страшноватый на вид старик
с бесчисленными чудачествами и вывертами, так выжида¬
тельно и грустно глядевший из-за узких зеленоватых сте¬
кол, постоянно наполнявший дымом из своей длинной
трубки наш тесный, переполненный класс, стал для меня
на некоторое время вождем, примером, судьей, полубогом.
Наряду с ним нас было еще два учителя, но их для меня
как бы не существовало; они исчезали как тени, словно у
них было на одно измерение меньше, за любимой, внушав¬
шей страх и почтение фигурой старика Бауэра. И так же
исчезала столь малосимпатичная мне гёппингенская
жизнь, исчезали даже мои тощашние дружбы с однокаш¬
никами и делались неважными рядом с этой главной фигу¬
рой. В то время, хотя это был расцвет моего отрочества и
даже появились первые предвестья и предчувствия половой
любви, школа, это вообще такое безразличное, такое пре¬
зираемое учреждение, была больше года поистине центром
моей жизни, вокруг которого вертелось все, даже сны, даже
мысли во время каникул. Меня, который всеща был вос¬
приимчивым и склонным к критичным суждениям учени¬
ком и отчаянно сопротивлялся всякой зависимости и под¬
чиненности, этот таинственный старик пленил и совершен¬
но обворожил просто тем, что апеллировал к самым вы¬
сшим моим стремлениям и идеалам, как бы не видя моей
незрелости, моих дурных привычек, моей неполноценно¬
сти, что он предполагал во мне самое высокое и смотрел на
101
верх усердия как на нечто само собой разумеющееся. Ему
не требовалось много слов, чтобы выразить похвалу. Коща
он говорил по поводу латинской или греческой работы: «Это
ты славно сделал, Гессе», я бывал несколько дней счастлив
и окрылен. А коща он однажды, на ходу, не глядя на меня,
шепнул мне: «Я не совсем доволен тобой, ты мог бы сделать
больше», я страдал и старался изо всех сил снова умиротво¬
рить полубога. Часто он говорил со мной по-латыни, пере¬
водя мою фамилию — «Хаттус».
Никак не могу сейчас сказать, насколько это ощущение
совершенно особенных отношений разделяли мои соучени¬
ки. Во всяком случае, несколько предпочтенных, мои бли¬
жайшие товарищи и соперники, явно, как и я, находились
под очарованием старого ловца душ и в то время так же,
как я, принимали благодать призванности, чувствовали се¬
бя посвященными на нижних ступенях святилища. Пытаясь
психологически понять мою юность, я нахожу, что самое
лучшее и действенное в ней — это при всех мятежах и де-
зертирствах способность к благоговению и 4fo моя душа ли¬
ковала и расцветала тогда, когда могла чтить, боготворить,
стремиться к высоким целям. Это счастье, начатки которого
понимал и пестовал уже мой отец, которое чуть не увяло
при неодаренных, средних, равнодушных учителях и вновь
несколько ожило при желчном профессоре Шмиде, получи¬
ло полное развитие при ректоре Бауэре — в первый и в
последний раз в моей жизни.
Если бы наш ректор не сделал ничего другого, а только
заставил отдельных идеальных учеников влюбиться в ла¬
тынь и греческий и внушил им веру в духовное призвание
и ответственность за него, одно это было бы уже чем-то
большим и заслуживало бы благодарности. Но характерной
и редкой особенностью этого учителя была его способность
не только выявлять среди своих учеников наиболее одарен¬
ных духовно и давать их идеализму опору и пищу, но от¬
давать должное и возрасту своих учеников, их мальчише¬
ству, их страсти к игре. Ибо Бауэр был не только почтен¬
ным Сократом, он был, кроме того, искусным и очень ори¬
гинальным педагогом, умевшим снова и снова подслапщ-
вать своим тринадцатилетним мальчишкам ученье в школе.
Этот мудрец, так талантливо преподававший нам латин¬
ский синтансис и греческую мор^логию, был, кроме того,
мастер на педагогические выдумки, приводившие нас,
мальчиков, в восторг. Надо иметь понятие о суровости, кос-
102
ности и скуке тогдашней латинской школы, чтобы предста-
вить себе, каким свежим, оригинальным и гениальным ка¬
зался этот человек среди касты сухих чиновников. Сама его
внешность, вызывавшая поначалу критику и смех, стано¬
вилась вскоре орудием авторитета и дисциплины. Из своих
странностей и причуд, вот уж, казалось бы, не способство¬
вавших поддержанию его авторитета, он создавал новые
вспомогательные средства воспитания. Так, например, его
длинная курительная трубка, ужаснувшая мою мать, уже
очень скоро стала для нас, учеников, не смешной или тя¬
гостной принадлежностью, а своего рода скипетром и сим¬
волом власти. Кому выпадало подержать трубку, кому он
доверял выколотить ее и привести в порядок, тому завидо¬
вали как любимцу. Были и другие почетные должности, ко¬
торых мы, ученики, всячески домогались. Существовала
должность «ветрогона», которую я какое-то время с гордо¬
стью исполнял. Ветрогон должен был ежедневно смахивать
пыль с ректорского пульта — двумя заячьими лапками, ле¬
жавшими на пульте вверху. Коща меня однажды лишили
этой должности, передав ее другому ученику, для меня это
было тяжкое наказание.
В зимний день, когда мы сидели в жарко натопленном
и прокуренном кдассе, а за замерзшими окнами светило
солнце, наш ректор мог вдруг сказать: «Ребята, здесь вонь
стоит страшная, а на дворе светит солнышко. Ну-ка, про¬
бегите наперегонки вокруг дома, только сначала откройте
окна настежь!» Или в пору, коща мы, кандидаты на земель¬
ный экзамен, были перегружены специальными работами,
он неожиданно пригласил нас наверх, в свою квартиру, и
там мы увидели в особой комнате огромный стол, а на нем
множество коробок с оловянными солдатиками, которых
мы разделили на армии и выстроили в боевые ряды, а коща
началось сражение, ректор пускал в батальоны торжествен¬
ные клубы дыма из своей трубки.
Прекрасное проходит, и прекрасные времена долго не
длятся. Вспоминая о гёппингенском времени, о единствен¬
ном коротком периоде моего учения, коща я был хорошим
учеником, чтил и любил учителя и всерьез отдавался делу,
я неизменно возвращаюсь памятью к летним каникулам
1890 года, которые я провел дома, у родителей в Кальве.
На каникулы нас не обременили никакими школьными за¬
даниями. Зато ректор Бауэр обратил наше внимание на
«Правила жизни» Исократа*, помещенные в нашей грече¬
103
ской хрестоматии, и сказал нам, что в прежние времена
кое-кто из лучших его учеников выучивал эти правила на¬
изусть. На усмотрение калсдого предоставлялось, последо¬
вать этой подсказке или нет.
От тех летних каникул у меня осталось в памяти не¬
сколько прогулок с отцом. Мы проводили иногда послепо¬
луденные часы в лесах вокруг Кальва; среди старых пихт
было вдоволь черники и малины, а в просеках цвел дербен¬
ник и летали летние бабочки, адмиралы и вакессы. Сильно
пахло смолой и грибами, и случалось видеть косуль. Я бро¬
дил с отцом по лесу, и мы устраивали привалы где-нибудь
среди вереска на опушке. Иногда он спрашивал меня, на¬
сколько я продвинулся с Исократом. Ибо каждый день я
сидел над книгой и учил наизусть эти «Правила жизни». И
поныне начальная фраза Исократа — единственный кусок
греческой прозы, который я знаю наизусть. Эта исократов-
ская фраза да несколько гомеровских стихов — последние
остатки всей школьной греческой учености, которые у меня
сохранились. Кстати сказать, одолеть «Правила» целиком
мне не удалось. Дело не пошло дальше нескольких десятков
фраз, которые я выучил наизусть, некоторое время держал
в уме и когда угодно мог повторить, пока они с годами не
потерялись и не пошли прахом, как все, чем когда-либо об¬
ладает и что считает своим достоянием человек.
Сегодня я уже не знаю греческого, да и из латыни боль¬
шая часть давно утрачена — я бы начисто все забыл, если
бы не был жив до сих пор и не был бы до сих пор моим
другом один из моих гёппингенских товарищей. Время от
времени он пишет мне латинские песни, и, когда я читаю
их, пробираясь через прекрасные классические конструк¬
ции фраз, мне снова слышится запах садов юности и кури¬
тельной трубки старого ректора Бауэра.
ВСЕЛЯЯСЬ В НОВЫЙ дом
Вселиться в новый дом — значит не только начать что-
то новое, но и покинуть что-то старое. И, вселяясь теперь
в новый дом, я могу быть от души благодарен другу, чьей
доброте я этим домом обязан, могу с благодарностью и с
новым дружеским чувством вспомнить его и других друзей,
которые помогли довести дело с домом до конца и обставить
его. Но сказать что-либо об этом новом доме, описать его,
104
восхвалить, воспеть я не в состоянии, ибо ще взять слова
и как петь при первом шаге во что-то новое, как осмелишь¬
ся хвалить день, когда до вечера еще далеко? Справляя но-
воселье, мы можем лелеять в душе какие-то пожеланья и
просить наших друзей, чтобы и они тоже хранили в своей
душе эти тихие пожеланья. Однако сказать что-либо о са¬
мом доме, по-настоящему рассказать о нем, высказать свое
отношение к нему как к чему-то пережитому — это я смог
бы лишь через какое-то время.
Но при нашем вселении в новый дом я могу и должен
вспомнить те другие дома, что давали пристанище мне в
прежние эпохи моей жизни и защищали мою жизнь и мою
работу. Каждому из них я благодарен, каждый из них со¬
храняет для меня бесчисленные воспоминания, и каждый в
моей памяти придает времени, когда я жил в нем, какой-то
собственный облик. И подобно тому, как на редком семей¬
ном празднестве сперва тревожат тень прошлого и помина¬
ют умерших, я хочу сегодня вспомнить всех предшествен¬
ников нашегр прекрасного дома, пробудить в себе их образ
и поведать о них друзьям.
Хотя вырос я в характерных старых домах, я в молодо¬
сти был все же слиппсом неразвит, а главное — слишком
занят собой, чтобы уделять много внимания и любви домам
и квартирам, где я жил. Правда, мне было вовсе не безраз¬
лично, как выглядит мое жилье, но во внешности моей ком¬
наты мне всегда бывало важно только то, что привнес в
эту внешность я сам. Интересовали и радовали меня не раз¬
меры помещения, не его стены, углы, высота, цвета, полы
и так далее, интересовало меня лишь то, что сам я доставил
в данную комнату, что сам я расставил, развесил и разло¬
жил в ней.
То, как пытается украсить и выделить свою первую от¬
дельную комнату двенадцатилетний мечтательный маль¬
чик, не имеет ничего общего со вкусом и нарядностью: по¬
буждения к этому украшательству лежат гораздо глубже,
чем какой-то там вкус. Так и я в двенадцать лет, впервые,
к своей гордости, получив в просторном отцовском доме от¬
дельную комнату, совершенно не пытался как-то разделить
и подчинить себе это большое, высокое помещение, придать
ему красоту и уютность цветами или расположением мебе¬
ли и думать не думал о том, как расставить кровать, шкафы
и так дмее, а все свое внимание направил на те несколько
вещей в комнате, которые были для меня не предметами
105
домашнего обихода, а святынями. Важнейшей из этих ве¬
щей была моя конторка, мне давно хотелось иметь контор¬
ку, и вот я ее получил, а в этой конторке в свою очередь
важнее всего было пустое пространство под крышкой, ще я
старался устроить арсенал ^лее или менее тайных трофе¬
ев, сплошь предметов, ни на что не нужных и не покупных,
имевших лишь для меня одного мемориальную, а отчасти
и магическую ценность. Среди них были маленький звери¬
ный череп неведомого мне происхождения, засушенные ли¬
стья деревьев, заячья лапка, осколок толстого зеленого
стекла и много других таких вещей. Они хранились в тем¬
ноте своего укрытия под крышкой конторки, мои сокрови¬
ща и мои секреты, их никто не видел, о них никто не знал,
кроме меня, и они были мне дороже всякого другого иму¬
щества. Наряду с этим тайником ценилась и верхняя пло¬
скость конторки, и тут была уже не сокровенная, не интим¬
ная сфера, тут дело уже не обходилось без украшательства,
щегольства, да и бахвальства. Тут я не скрывал и не пря¬
тал, а выставлял напоказ и хвастался, тут требовались ве¬
ликолепие и красота, кроме букетов цветов и кусков мра¬
мора, здесь можно было увидеть фотографии и другие кар¬
тинки, и пределом моих мечтаний было поставить здесь ка-
кую-нибудь скульптуру, все равно какую, но трехмерное
произведение искусства, какую-нибудь фигуру или голову,
и желание это было таким сильным, что я однажды украл
одну марку и за восемьдесят пфенигов купил бюстик моло¬
дого кайзера Вильгельма из о^жженной глины, массовое
изделие, не представляющее никакой ценности.
Кстати сказать, эта мечта двенадцатилетнего не поки¬
нула меня и в двадцать лет, и среди первых вещей, которые
я купил на собственный заработок, поступив в Тюбингене
учеником в книжную лавку, был белоснежный гипсовый
слепок с праксителевского бюста Гермеса. Сегодня я, веро¬
ятно, не потерпел бы его ни в какой комнате, но тоща я
еще почти так же сильно, как в детстве со своим глиняным
бюстом кайзера, чувствовал первобытное волшебство
скульптуры, физического, осязаемого, 01цутимого подража¬
ния природе. Существенно мой вкус, таким образом, вряд
ли улучпгался, хотя, конечно, Гермес был более благород¬
ной скульптурой, чем тот бюст кайзера. Должен также ска¬
зать, что тоща, в те четыре тюбингенских года, я все еще
был очень равнодушен к дому и комнате, ще мне довелось
жить. Моей тюбингенской комнатой на Герренберштрассе
106
была все четыре года та же, какую сняли мне родители при
моем поступлении в книжную лавку, — скучная, унылая
комната на первом этаже некрасивого дома на тоскливой
улице. Восприимчивый ко всякой красоте, я совершенно не
страдал от такого жилья. Да, собственно, я и не «жил» там,
ибо с раннего утра до вечера находился в лавке и, возвра¬
щаясь домой обычно уже затемно, не хотел ничего, кроме
одиночества, свободы, чтения и собственной работы. И
«красивой» комнатой я считал тогда не красивое помеще¬
ние, а украшенное. А на украшения я не скупился. Частью
в виде больших фотографий, частью в виде маленьких вы¬
резок из иллюстрированных журналов или издательских
каталогов к стенам было приколото более сотни портретов
людей, которыми я почему-либо восхищался, и с^рание
это в те годы постоянно росло: прекрасно помню, как со
вздохом, довольно дорого заплатил за фотографии молодого
Герхарда Гауптмана, чью «Ганнеле» я тоща прочел, и за
два портрета Ницше; один был известный, с большими
усами и со взглядом немного снизу вверх^ другой был сним¬
ком с написанного маслом портрета, где Ницше, больной,
с погасшим, отсутствующим взглядом, сидел в кресле-ка-
талке. Я часто стоял перед этой фотографией. Кроме того,
был, стало быть, Гермес, и была еще самая большая репро¬
дукция портрета Шопена, какую мне удалось достать. Кро¬
ме того, половина стены над диваном была по-студенчески
украшена симметрично развешенными трубками для куре¬
ния. Конторка имелась у меня и здесь, и в ее темном вме¬
стилище все еще были волшебство, тайна, сокровищница,
все еще были прибежище, уход от скучного окружающего
мира в магическое царство; только теперь всем этим были
уже не череп, заячья лапка, пустые внутри конские каш¬
таны и стекляшки, а мои стихи, фантазии и сочинения в
тетрадях и на множестве отдельных листов.
Из Тюбингена я, двадцати двух лет, приехал осенью
1899 года в Базель, и только там у меня появилось серьез¬
ное, живое отношение к изобразительному искусству; если
мое тюбингенское время, насколько я располагал им, было
посвящено исключительно литературным и интеллектуаль¬
ным завоеваниям — прежде всего Гёте, а потом Ницше,
которыми я занимался упоенно, как одержимый, — то в
Базеле у меня открылись и глаза, я стал внимательном, а
вскоре и сведущим созерцателем архитектуры и произведе¬
ний искусства. Узкий базельский круг, принявший меня
107
тогда и просвещавший, был весь пропитан влиянием Якоба
Буркхардта*, который незадолго до того умер и кому во вто¬
рой половине моей жизни суждено было постепенно занять
то место, что раньше принадлежало Ницше. В базельские
свои годы я как раз и сделал первую попытку жить со вку¬
сом и достойно, сняв оригинальную, красивую комнату в
старом базельском доме, комнату с большой старинной ка¬
фельной печью, комнату с прошлым. Но мне с ней не по¬
везло; комната была замечательная, но она никогда не про¬
гревалась, хотя старинная печь пожирала массу дров, а под
окнами с трех часов утра через такую спокойную с виду
улицу с адским грохотом, отнимая у меня сон, катились по
булыжной мостовой от Альбанских ворот повозки молочни¬
ков и рыночных торговцев; не выдержав, я через некоторое
время убежал из этой комнаты в современное предместье.
И только теперь начинается та пора моей жизни, коща
я жил уже не в случайных и часто менявшихся комнатах,
а в домах и когда эти дома становились милыми мне и важ¬
ными для меня. За время от моей первой женитьбы в 1904
году и моего вселения в Каза-Бодмер* в 1931 году я жил в
четырех разных домах и один из них построил сам. Все они
вспоминаются мне сегодня.
В некрасивьф или хотя бы лишь безразличный мне дом
■ я теперь бы не въехал; я видел много предметов старинного
искусства, был дважды в Италии, да и вообще моя жизнь
сильно изменилась и обогатилась: бросая свою прежнюю
профессию, я решил жениться и постоянно жить в будущем
в деревне. В этих решениях, как и в выборе мест и домов,
где мы потом жили, моя первая жена принимала большое
участие. Полная решимости жить простой, сельской, здо¬
ровой жизнью с минимальными потребностями, она, одна-
‘ ко, придавала большое значение тому, чтобы при всей про¬
стоте жить очень красиво, то есть в красивых местах, с кра¬
сивым видом и в красивых, то есть в самобытных, проник¬
нутых достоинством, не в безликих домах. Ее идеалом был
полукрестьянский-полубарский сельски^ дом с покрытой
мхом крышей, просторный, под очень серыми деревьями,
по возможности с шумящим колодцем у ворот. У меня у
самого были совершенно сходные представления и жела¬
ния, да и вообще я пребывал под влиянием Мин* в этих
делах. Поэтому то, чего нам следовало искать, было как бы
предопределено. Сперва мы вели поиски по красивым де¬
ревням близ Базеля, затем, после первой моей поездки к
108
Эмилю Штраусу* в Эммисхофен, в поле нашего зрения
вошло Боденское озеро, и наконец, когда я сидел дома в
Кальве у отца с сестрами и писал «Под колесами», жена
обнаружила баденскую деревню Гайенхофен на Унтерзее,
а в ней пустующий крестьянский дом на маленькой тихой
площади напротив часовни. Я был согласен, и мы сняли дом
за сто пятьдесят марок в год, что нам самим в то время
показалось дешево. Там в сентябре 1904 года мы стали ус¬
траиваться, поначалу с разочарованиями и трудностями, с
долгим ожиданием мебели и кроватей, которые должны бы¬
ли прибыть из Базеля и которых мы день за днем ждали с
каждым утренним пароходом из Шафхаузена. Потом дело
двинулось, и наш энтузиазм рос. Грубые стропила в ком¬
натах верхнего этажа мы выкрасили в темно-красный цвет,
в обеих нижних комнатах, самых красивых в доме, стены
были облицованы некрашеными еловыми досками, а рядом
с солидной печью имелась так называемая «хитрость»: ку¬
сок стены над грубой скамьей был там покрыт зелеными
старыми изразцами, которые нагревались, когда в кухне го¬
рела плита. Здесь было любимое место нашей первой кош¬
ки, красивого кота Гаттамелаты. Таков был мой первый
дом. Снимали мы, собственно, только половину дома, дру¬
гая половина состояла из амбара и сарая, которые кресть¬
янин оставил за собой. Жилая часть этого фахверкового до¬
ма состояла внизу из кухни и двух комнат, ббльшая из ко¬
торых с большой изразцовой плитой служила нам гостиной
и столовой, вдоль половины стены шли грубые деревянные
скамьи, там было тепло и уютно между деревянными стен¬
ками. Меньшую комнату рядом занимала жена, там стояли
ее пианино и письменный стол. Примитивная лестница из
досок вела наверх. Там, соответствуя гостиной внизу, име¬
лась большая комната с двумя окнами под углом друг к дру¬
гу, из которых видны были части озерного пейзажа за ча¬
совней; это был мой кабинет, здесь стоял большой письмен¬
ный стол, сделанный по моему закону, единственная вещь,
до сих пор сохранившаяся у меня от того времени, стояла
здесь опять-таки и конторка, и все стены были уставлены
книгами. При входе надо было помнить о высоком пороге,
кто забывал о нем, ударялся головой о низкую притолоку,
это случалось со многими. Молодому Стефану Цвейгу* при¬
шлось даже, когда он был у нас, прилечь на четверть часа
и прийти в себя, чтобы обрести дар речи, он вошел быстро
109
и энергично, и я не успел предупредить его насчет порога.
Рядом на этом этаже были еще две спальни, а над ними
большой чердак. Сада при этом доме не было, была только
маленькая лужайка с двумя-тремя фруктовыми деревьями,
еще я вскопал грядку вдоль дома и посадил кусты смороди¬
ны и немного цветов.
В этом доме я прожил три года, за это время явился на
свет мой первый сын и возникло много стихов и рассказов.
В «Книге зарисовок»* и еще кое-где есть описания нашей
■тогдашней жизни. Нечто, чего ни один из позднейших до¬
мов дать уже не мог, делает этот крестьянский дом милым
мне и уникальным: он был первым! Он был первым прибе¬
жищем моего молодого супружества, первой законной ма¬
стерской моей профессии, здесь впервые у меня было чув¬
ство оседлости и именно поэтому иногда чувство плененно-
сти, скованности границами и порядком; здесь я впервые
загорелся красивой мечтой — создать и обрести в месте,
которое выбрал сам же, подобие родного угла. И это дела¬
лось скудными и примитивными средствами. Гвоздь за гвоз¬
дем вбивал я собственноручно в этих комнатах, и гвозди
были не покупные, а из ящиков, оставшихся от нашего пе¬
реезда, я один за другим выпрямлял их на каменном пороге
нашего дома. Зияющие щели в верхнем этаже я зашпакле¬
вал паклей и бумагой и закрасил красной краской, я борол¬
ся с сухостью и тенью из-за нескольких цветков на сквер¬
ной почве у стены нашего дома.
Благоустраивался этот дом с прекрасным пафосом мо¬
лодости, с чувством глубочайшей ответственности за то,
что мы делаем, и с чувством, что это на всю жизнь. Пото¬
му-то мы и попытались вести в этой крестьянской хижине
сельскую, открыто-простую, естественную, не городскую и
не модную жизнь. Мысли и идеалы, которыми мы тут ру¬
ководствовались, были так же сродни рёскиновским и мор-
рисовским*, как и толстовским. Отчасти это получилось,
отчасти не удалось, но мы оба относились к этому с полной
серьезностью, делая все добросовестно и от души. ,
Две картины, два события каждый раз ярко и свежо
встают в моей памяти, когда мне напоминают об этом доме
и о первых гайенхофенских годах. Первая картина — теп¬
лое, сияющее летнее утро, утро моего двадцать восьмого
дня рождения. Я рано проснулся, разбуженный и чуть ли
не испуганный какими-то странными звуками, подбежал в
одной рубашке к окну, и под нашим окном оказался сель¬
по
ский духовой оркестрик, собранный моим другом Людвигом
Финком* из нескольких соседних деревень, играли марш и
^орал, и рожки, и клапаны кларнетов сверкали на утрен¬
нем солнце.
Это одна картина, возникающая передо мной при вос¬
поминании о том старом доме. Другая тоже связана с моим
другом Финком. На сей раз меня тоже разбудили, но дело
было среди ночи, и под окном стоял не Финк, а наш друг
Бухерер*, который сообщил мне, что домик, купленный
Людвигом Финком и только что благоустроенный им для
его молодой жены, горит. Мы молча прошли туда через де¬
ревню, на небе стояло красное зарево, и маленький сказоч¬
ный домик, только что выстроенный, покрашенный и бла¬
гоустроенный, сгорел на наших глазах до последней щепки,
а хозяин совершал свадебное путешествие, приехать и вве¬
сти в дом жену он должен был завтра. Когда пепелище еще
дымилось и тлело, нам пришлось отправиться в путь, чтобы
встретить друга и сообщить ему и его жене о случившейся
беде.
Прощались мы с нашим крестьянским домом медленно
и легко, ибо решили построить теперь собственный дом. На
то были разные причины. Во-первых, благоприятствовали
•наши внешние обстоятельства, и при той простой и эконом¬
ной жизни, которую мы вели, деньги откладывались еже¬
годно. Затем мы уже давно мечтали о настоящем саде и о
более открытом и высоком месте с более широким обзором.
К тому же моя жена много болела, и был ребенок, и такие
роскошные приспособления, как ванна и ванная колонка,
уже не казались нам совершенно ненужными, как три года
назад. И если, думали и говорили мы, наши дети растут в
деревне, то им лучше и правильнее расти на собственной
земле, в собственном доме, в тени собственных деревьев.
Не помню уж, как мы обосновывали себе эту мысль, помню
только, что дело это было для нас действительно серьезное.
Может быть, за этим не крылось ничего, кроме буржуазной
домовитости, хотя мы оба никогда особенно ею не отлича¬
лись — но под конец нас испортили тучные годы; или же
тут маячил и этакий крестьянский идеал? Я, правда, в сво¬
ем крестьянском идеале никогда не был уверен, и тогда то¬
же, но благодаря Толстому, да и благодаря Иеремии Гот-
хельфу*, подогреваемые довольно сильным тогда в Герма¬
нии движением за бегство из городов в сельскую жизнь, эти
красивые, но неясно сформулированные догматы веры все-
111
таки жили в наших головах, как то и выразилось в «Петере
Каменцинде». Не помню теперь точно, как я тоща понимал
слово «крестьянин». Сегодня, во всяком случае, я, пожа¬
луй, ни в чем так не уверен, как в том, что я — прямая
противоположность* крестьянина, а именно (по природе
своей, по типу) кочевник, охотник, человек неоседлый, ин¬
дивидуалист. По сути-то я и тогда, наверно, думал не намного
иначе, чем сегодня, но вместо антитезы «крестьянин — ко¬
чевник» я видел и формулировал тогда антитезу «крестья¬
нин — горожанин» и крестьянскую жизнь понимал не толь¬
ко как отдаленность от городов, но прежде всего как бли¬
зость к природе и надежность, которой и отличается жизнь,
руководствующаяся не силлогизмами, а инстинктами. Что
мой сельский идеал и сам был лишь силлогизмом — это мне
не мешало. Ведь наши склонности всегда обладают удиви¬
тельной способностьтю маскироваться мировоззрением.
Ошибка моей гайенхофенской жизни была не в том, что я
неверно думал о крестьянскости и так далее, а в том, что
своим сознанием я отчасти хотел и добивался чего-то со¬
всем другого, чем то, к чему инстинктивно стремился. В
какой мере я подчинялся при этом идеям и желаниям моей
жены Мни, сказать не могу, но в те первые годы ее влияние,
как я лишь задним умом вижу, было сильнее, чем я это
признал бы тогда.
Словом, было решено купить землю и строиться. Архи¬
тектор Гиндерман, с которым мы подружились еще в Базе¬
ле, был к нашим услугам, родители жены дали взаймы
большую часть нужной для стротельства суммы, землю вез¬
де можно было купить задешево, квадратный метр стоил,
кажется, два-три грошена. И на своем четвертом бодензей-
ском году мы купили участок земли и построили на нем
красивый дом. Мы выбрали место далеко на отшибе с от¬
крытым видом на Унтерзее. Видны были швейцарский бе¬
рег, остров Рейхенау, башня кафедрального собора в Кон¬
станце, а за ними вдалеке горы. Дом был удобнее и больше
покинутого, было место для детей, прислуги, гостей, встро¬
или шкафы и ящики, а воду не нужно было больше носить
от колодца, в доме имелся водопровод, а в подвале —. погреб
для вина и фруктов и темная комната для фотографии, ко¬
торой занималась жена, и еще было много всяких красивых
и приятных приспособлений. Когда мы вселились туда, хва¬
тало также забот и огорчений: выгребная яма часто засо¬
рялась, и в кухне, грозя разлиться, застревала в стоке вода,
112
а я с призванным на помощь строителем лежал на животе
перед домом и прутьями и проволокой ковырялся во вновь
отрытых сливных трубах. Но в целом дом оправдал себя и
доставлял нам радость, и, хотя наш каждодневный быт ос¬
тавался таким же простым, как прежде, было много всякой
роскоши, о которой я и мечтать не смел. В моем кабинете
были встроены книжные полки и большой шкаф для папок.
На всех стенах теснились картины, у нас было теперь много
друзей-художников, что-то мы покупали, что-то получали
в подарок. В комнатах уехавшего Макса Бухерера жили те¬
перь каждое лето два мюнхенских художника, Блюмель* и
Реннер*, которых мы любили и с которыми я дружу по сей
день.
Особенно роскошным и изысканным было отопление мо¬
его кабинета, мною придуманное: здесь стояла большая зе¬
леная изразцовая печь, долго удерживавшая тепло, которую
можно было топить углем. У нас было с ней много хлопот, и
во время строительства мы однажды отослали обратно на
фабрику целый фургон изразцов, потому что они были не со¬
всем того прекрасного зеленого цвета, какой я имел в виду и
заказал. Но именно эта печь показала мне теневые стороны
всяких удобств и технических изысков: топилась печь хоть и
хорошо, но при небольшом фене в ней скапливались газы, и,
освобождаясь от них, она иногда взрывалась со звуком, кото¬
рый я и сейчас Слышу, комната вдруг наполнялась каменно¬
угольным газом, дымом и сажей, надо было срочно выгребать
жар и тушить, а потом шагать два часа в Радольфцель за печ¬
ником и на несколько дней попрощаться с отоплением и ка¬
бинетом. Случалось это три или четыре раза, и дважды я сра¬
зу же после этой беды уезжал, едва раздавался злосчастный
выстрел и комната моя наполнялась чадом, я укладывал ве¬
щи в сумку, убегал, вызывал в Радольфцеле печника и ехал
оттуда в Мюнхен, где мне как соиздателю журнала* все
равно нужно было побывать по делам. Эти эскапады были все
же редкими исключениями.
Едва ли не важнее дома стал для меня сад. Собственно
сада у мена никогда еще не было, а из моих сельских прин¬
ципов само собой следовало, что разбивать, сажать и воз¬
делывать его я должен был сам, и я много лет это и делал.
Я построил в саду сарай для дров и садовых инструментов,
разметил вместе с одним советчиком, крестьянским сыном,
дорожки и грядки, посадил деревья, каштаны, липу, ка-
тальпу, буки в виде живой изгороди, много кустов ягод и
из
прекрасных плодовых деревьев. Плодовые деревца обгрыз¬
ли зимой и погубили зайцы и косули, все остальное росло
недурно, и у нас было тоща в избытке клубники и малины,
цветной капусты, горошка и салата. Еще я развел георгины
и устроил длинную аллею, ще по обе стороны дорожки рос¬
ли сотни подсолнечников необыкновенной величины, а у их
ног тысячи настурций всех оттенков красного и желтого
цвета. Не менее десяти лет, в Гайенхофене и Берне, я один
и собственноручно сажал себе овощи и цветы, удобрял и
поливал грядки, пропалывал дорожки, пилил и колол дрова
в большом количестве. Это было прекрасно и поучительно,
но в конце концов превратилось в тяжелое рабство. Играть
в крестьянина было славно, пока это было игрой; когда это
переросло в привычку и обязанность, радость ушла. Гуго
Балль*, на основании моих очень скупых свидетельств, хо¬
рошо пояснил в своей книге смысл этого гайенхофенского
обходного пути — хотя и суховато и не совсем справедливо
в отношении нашего друга Финка. Тут было больше тепла,
больше невинности и игры, чем он заставляет предпола¬
гать.
Сколько сильно, впрочем, наша душа обрабатывает кар¬
тину окружающего мира, искажает или, вернее, поправля¬
ет ее, под каким сильным влиянием изнутри находятся кар¬
тины нашей жизни, когда мы их вспоминаем, — это по¬
срамляюще ясно показывают мои воспоминания о втором
гайенхофенском доме. Я и сегодня донельзя точно пред-'
ставляю себе сад этого дома, а в самом доме ясно вижу со
всеми подробностями мой кабинет и его просторный бал¬
кон, я до сих пор могу сказать, на каком месте стояла там
каждая книга. Зато другие комнаты представляю себе се¬
годня, через двадцать лет после того, как я покинул этот
дом, уже удивительно нечетко.
Итак, мы устроились и обосновались прямо-таки на всю
жизнь, мирно стояло у входа в наш дом единственное боль¬
шое дерево на нашем участке, старая, могучая груша, под
которой я соорудил из планок скамейку, прилежно возде¬
лывал я свой сад, сажал, украшал, и уже мой старший сы¬
нок ходил за мной по саду, играя своей детской лопаточ¬
кой. Но вечность, на которую мы строили, длилась недолго.
Я исчерпал Гайенхофен, жить мне там стало невмоготу, я
часто теперь уезжал на короткие сроки, мир кругом был
так широк, и в конце концов поехал даже в Индию летом
1911 года. Нынешние психологи, люди нахальные, называ¬
114
ют такие вещи «бегством», и, конечно, в числе прочего бы¬
ло тут и оно. Но это была и попытка создать дистанцию,
оглядеты:я. Летом 1911 года я поехал в Индию и вернулся
оттуда в самом конце года. Но всего этого было мало. Со
временем к замалчиваемым внутренним причинам нашего
недовольства прибавились и внехпние, которые мужу и же¬
не легко обсудить: родились второй и третий сын, старший
достиг школьного возраста, жена порой тосковала по Швей¬
царии и по близости города, по друзьям и по музыке, и по¬
степенно мы привыкли считать наш дом подлежащим про¬
даже, а нашу гайенхофенскую жизнь — эпизодом. В 1912 го¬
ду дело решилось, нашелся покупатель для дома.
Местом, куда мы теперь хотели переехать, был Берн.
Правда, переехать мы хотели не в самый город, это показа¬
лось бы нам предательством наших идеалов, мы хотели по¬
дыскать какой-нибудь деревенский дом близ Берна, что-ни¬
будь вроде той чудесной старой усадьбы, где уже несколько
лет жил мой друг Альберт Вельти*, художник. Я не раз наве¬
щал его в Берне, и его красивый, слегка запущенный дом с
усадьбой далеко за чертой города очень мне нравился. И если
жена и так-то, по воспоминаниям молодости, очень любила
Берн, Бернский кантон и старые бернские имения, то для ме¬
ня, когда я выбирал Берн, имело большое значение и то, что
там будет такой друг, как Вельти.
Но когда час настал и мы действительно перебрались с
Баденского озера в Берн, все выглядело уже опять иначе.
За несколько месяцев до нашего переезда в Берн мой друг
Вельти и его жена умерли почти подряд, я был на его по¬
хоронах в Берне, и тут оказалось, что раз уж мы решили
переезжать в Берн, то лучше всего взять на себя права на
дом Вельти. Мы внутренне сопротивлялись этой преемст¬
венности, слишком сильно пахло там смертью, мы искали
другого пристанища близ Берна, но не находилось ничего,
что нам понравилось бы. Дом Вельти не был его собствен¬
ностью, он принадлежал одной бернской патрицианской
семье, и мы сняли его с кое-какой домашней утварью и не¬
мецкой овчаркой Вельти, которая тоже осталась у нас.
Дом на Мельхенбюльвеге близ Берна, выше замка Вит-
тигхофен, по сути, во всем отвечал нашему старому, все
более с базельских времен укреплявшемуся представлению
об идеальном доме для злодей нашего типа. Это был заго¬
родный дом в бернском стиле, с круглым бернским фронто¬
ном, неправильность которого как-то особенно украшала
115
его, дом, самым приятнейшим образом и словно бы специ¬
ально для нас соединявший крестьянские и барские черты,
наполовину примитивный, наполовину изысканно-патри¬
цианский, дом семнадцатого века, с пристройками и пере¬
делками эпохи ампира, среди почтенных, очень старых де¬
ревьев, целиком в тени огромного вяза, дом, полный див¬
ных закоулков и уголков, и уютных, и жутковатых. К особ¬
няку примыкал большой участок земли с хижиной, они бы¬
ли сданы арендатору, от которого мы получали молоко для
дома и навоз для сада. К нашему саду, разбитому с южной
стороны дома и спускавшемуся двумя строго симметричны¬
ми террасами с каменными лестницами, относились пре¬
красные плодовые деревья и еще, в двухстах шагах от
жилья, так называемый «боскет», рощица цз нескольких
десятков буков, расположенная на холме и господствовав¬
шая над местностью. За домом шумел красивый каменный
колодец, с большой южной веранды, обвитой огромной гли¬
цинией, открывались за соседней окрестностью и множест¬
вом лесных холмов горы, цепь которых от Тунского пред¬
горья до Веттерхорна, с большими горами группы Юнгфрау
посередине, видна была целиком. Дом и сад довольно по¬
хоже описаны в моем фрагменте романа «Дом мечтаний»,
а заглавие этого незаконченного произведения напоминает
о моем друге Альберте Вельти, который назвал так одну из
самых замечательных своих картин. И внутри этого дома
тоже было много всяких интересных и ценных вещей: ста¬
ринные изразцовые печи, мебель, облицовка, изящные
французские часы с маятником под стеклянными колпака¬
ми, старые высокие зеркала с зеленоватым стеклом, отра¬
жаясь в которых ты походил на портрет предка, мрамор¬
ный камин, в котором я неукоснительно разводил огонь
осенними вечерами.
Словом, все было так, что лучше и придумать нельзя, —
и тем не менее все было с самого начала омрачено и зло¬
счастно. То, что наша новая жизнь началась со смерти обо¬
их Вельти, было как бы предзнаменованием. Однако на
первых порах мы наслаждались прелестями дома, неповто¬
римым видом, закатами над Юрой, хорошими фруктами,
старым городом Берном, где у нас были какие-то друзья и
возможность слушать хорошую музыку, только все было
немного грустно и приглушенно; лишь несколько лет спу¬
стя жена как-то сказала мне, что в этом старом доме, от
которого она сразу же, казалось, пришла, как и я, в восторг,
116
она часто испытывала страх и подавленность, даже что-то
вроде боязни внезапной смерти и призраков. Исподволь на¬
растал тот нажим, что изменил и отчасти уничтожил мою
прежнюю жизнь. Пришла через неполных два года после
нашего переезда мировая война, пришел конец моей свобо¬
де и независимости, пришел тяжелый нравственный кризис
из-за войны, вынудивший меня перестроить все свое мыш¬
ление и всю свою работу, пришла многолетняя тяжелая бо¬
лезнь нашего младшего, третьего сына, пришли первые
предвестья душевной болезни жены — и в то время как на
службе я из-за войны надрывался, а нравственно все боль¬
ше отчаивался, медленно рушилось все, что было дотоле
моим счастьем. На исходе военных лет я часто сидел в тем¬
ноте, без керосина в нашем не имевшем электрического ос¬
вещения доме на отшибе, деньги наши таяли, и наконец,
после длительной скверной поры, разразилась болезнь же¬
ны, она подолгу находилась в лечебных учреждениях; в за¬
пущенном, слишком большом бернском доме вести хозяй¬
ство стало невмоготу, мне пришлось отдать детей в панси¬
оны, я месяцами пребывал в опустевшем доме совершенно
один с не бросившей нас прислугой и давно уехал бы, если
бы это позволяла сделать моя военная служба.
Наконец, когда и эта служба весной 1919 года кончилась
и я опять стал свободен, я покинул этот заколдованный
бернский дом, прожив там почти семь лет. Расставаться с
Берном мне было, впрочем, уже нетрудно. Мне стало ясно,
что у меня есть только одна нравственная возможность су¬
ществования — поставить на первое место среди всего дру¬
гого свою литературную работу, жить только в ней и не
принимать больше всерьез ни краха семьи, ни безденежья,
ни каких-либо других обстоятельств. Если это не удастся,
я пропал. Я поехал в Лугано, пробыл несколько недель в
Соренго и вел поиски, пока не нашел в Монтаньоле Ка-
за-Камуцци, куда и перебрался в мае 1919 года. Из Берна
я перевез только свой письменный стол и книги, вообще же
жил с взятой напрокат мебелью. В этом последнем из моих
прежних домов я прожил двенадцать лет, первые четыре
года целиком, а затем только в теплое время года.
Этот прекрасный чудесный дом, с которым я теперь
расстаюсь, много для меня значил и был во многих отно¬
шениях самым оригинальным и красивым из всех, что ког-
да-либо принадлежали мне или были моим жильем. Прав¬
да, здесь ничего не принадлежало мне, да и жильем моим
117
был не дом, а снятая мною маленькая квартира из четы¬
рех комнат, я не был уже хозяином дома и отцом семей¬
ства, у которого есть и дом, и дети, и слуги, который зовет
свою собаку и ухаживает за своим садом; я был теперь ма¬
ленький прогоревший литератор, потрепанный и немного
подозрительный чужак, который питался молоком, рисом
и макаронами, донашивал свои старые костюмы до полно¬
го обветшания и осенью ужинал принесенными из леса
каштанами. Но эксперимент, в котором тут заключалось
дело, удался, и, несмотря на все, что и эти годы делало
трудными, они были прекрасны и плодотворны. Словно
проснувшись после кошмарных снов, длившихся долгие
годы, я упивался свободой, воздухом, солнцем, одиночест¬
вом, работой. В то же первое лето я написал подряд
«Клейна и Вагнера» и «Клингзора» и настолько расправил
этим свою душу, что смог следующей зимой начать «Сид-
дхартху». Я, значит, не погиб, я еще раз собрался с сила¬
ми, я еще был способен к работе, к сосредоточенности; го¬
ды войны не погубили меня духовно, как я почти боялся.
Материально я не смог бы пережить эти годы и не смог бы
выполнить свою работу, если бы не постоянная помощь
многочисленных друзей. Без поддержки со стороны вин¬
тертурского друга и милых сиамцев* ничего не вышло бы,
и особенно большую дружескую услугу оказал мне Куно
Амьет*, взяв к себе моего сына Бруно.
И вот, стало быть, последние двенадцать лет я прожил
в Каза-Камуцци, тот дом и сад фигурируют в «Клингзоре»
и других моих сочинениях. Десятки раз я писал этот дом
красками и рисовал, вникая в его затейливые, причудливые
формы; особенно в два последних лета, на прощанье, я с
балкона, из окна, с террасы рисовал разные виды, запечат-
' лев множество удивительно красивых уголков и каменных
кладок в саду. Мое палаццо, подражание охотничьему зам¬
ку в стиле барокко, рожденное капризом одного тессинского
архитектора лет семьдесят пять назад, имело, кроме меня,
еще рад жильцов, но никто не задерживался так надолго,
как я, и думаю, что никто так не любил его (и не потешался
над ним), как я, и никому оно не стало, как мне, вторым
родным домом. Возникшее в расточительно-веселом стро¬
ительном раже, в сладострастном преодолении больших не¬
удобств участка, это полуторжественное-полупотешное па¬
лаццо предстает с разных точек совершенно по-разному. От
портала помпезно и театрально идет вниз царственная ле-
118
стница, она ведет в сад, который, спускаясь множеством
террас с лестницами, откосами и стенами, теряется в обры¬
ве, и в саду этом все южные деревья представлены старыми,
большими, роскошными экземплярами, вросшими друг в
друга, заросшими глициниями и клематисом. От самой де¬
ревни дом почти скрыт. Снизу из долины, возвышаясь сво¬
ими ступенчатыми фронтонами и башенками над тихими
опушками, он выглядит совсем как сельский замок какой-
нибудь эйхендорфовской новеллы.
Многое за двенадцать лет изменилось и здесь, не только
в моей жизни, но и в доме и в саду. Великолепный старый
церцус внизу в саду, самый высокий из всех, какие я видел,
который из году в год так пышно цвел с начала мая чуть
ли не до середины июня, а осенью из-за своих красно-фи-
олетовых стручков имел такой экзотический вид, пал жер¬
твой бури в одну осеннюю ночь. Большую магнолию Клинг-
зора у самого моего балкончика, огромные мертвенно-бе-
лые цветки которой чуть ли не залезали в комнату, срубили ‘
однажды в мое отсутствие. Как-то я после долгого перерыва
вернулся весной из Цюриха — и моей старой доброй вход¬
ной двери как не бывало, а то место, где она была, заму¬
ровано, я оцепенело стоял как во сне, не найдя входа: про¬
извели небольшую перестройку, ничего мне не сказав. Но
ни одна из таких перемен не заставила меня разлюбить
этот дом, он был больше моим, чем какой-либо из прежних,
ибо здесь я не был супругом и отцом семейства, здесь был
дома лишь я один, здесь я боролся в тоскливые, суровые
годы после великого краха, боролся на позиции, которая
часто казалась мне совсем безнадежной, здесь я много лет
наслаждался глубочайшим одиночеством и страдал от него
же, сотворил много сочинений и картинок, утешительных
мыльных пузырей, и сросся со всем так, как с юности не
срастался ни с каким другим окружением. В знак благодар¬
ности я довольно часто рисовал и воспевал этот дом, вся¬
чески стараясь ответить ему на то, что он дал мне и чем он
был для меня.
Останься я в своем одиночестве, не найди я еще раз то¬
варища по жизни, я так и не покинул бы, наверно, дом Ка-
муцци, хотя во многих отношениях он был неудобен для
стареющего и уже не очень здорового человека. В этом ска¬
зочном доме я отчаянно мерз и терпел всякие другие ли¬
шения. Поэтому в последние годы время от времени возни¬
кала, но никогда не принималась по-настоящему всерьез
119
мысль — не переехать ли все-таки, не купить ли, не снять
ли или даже не построить ли дом, ще у меня было бы удоб¬
ное и здоровое пристанище на старости лет. Это были же¬
лания и мысли, не более.
И вот дивная сказка сбылась: весной 1930 года мы сиде¬
ли как-то вечером, болтая, в цюрихском «Ковчеге», и речь
зашла о домах и строительстве, и были упомянуты жела¬
ния, время от времени у меня возникавшие. Вдруг друг Б*,
засмеялся, глядя на меня, и воскликнул: «Вы получите
дом!»
И это тоже, показалось мне, была шутка, славная шутка
вечером за вином. Но шутка превратилась в действитель¬
ность, и дом, о котором мы тогда для забавы мечтали, сто¬
ит, до жути большой и прекрасный, и отдан мне в распо¬
ряжение пожизненно. Снова начинаю устраиваться, и сно¬
ва это делается «на всю жизнь», и на сей раз так оно, на¬
верно, и будет.
Написать его историю придет еще время, она едва на¬
чалась. Сегодня на очереди другое. Содвинем стаканы, по¬
глядим в глаза добрым, готовым прийти на помощь друзьям
и поблагодарим их. Давайте выпьем за них и за новый дом.
ПОСЕЩЕНИЕ ВИЛЬГЕЛЬМА РААБЕ*
Я знал не очень многих знаменитых людей, да и в боль¬
шинстве эти знакомства оставались поверхностными, я не
искал их, и они мало что для меня значили. В молодости,
когда я еще испытывал восторженное желание увидеть тех,
кого почитал, и приблизиться к ним, мне никак не пред¬
ставлялся случай исполнить его и для меня бывало уже сча¬
стьем, я уже чувствовал себя награжденным и немного по¬
священным, когда, например, видел на подмостках и слы¬
шал из зала прославленного музыканта, скрипачей Сара-
сате* и Иоахима*, например. А когда с годами такие случаи
могли бы представиться, я еще много лет робел и не решал¬
ся навестить, к примеру, какого-нибудь знаменитого писа¬
теля, отрекомендоваться его коллегой и пристать к нему с
профессиональным разговором. А позднее, когда и эта ро¬
бость прошла или уменьшилась, пропал вместе с другими
свойствами молодости и энтузиазм для подобных встреч. Не
так много было мужчин и женщин, чьи имена я знал бы
издали, с кем жаждал бы познакомиться лично. Кое-кто
120
все-таки имелся. Например, в годы, коща я в Мюнхене бы¬
вал на правах друга и сотрудника в редакции «Симплицис-
симуса»* и в издательстве Альберта Лангена*, я не раз втай¬
не желал, чтобы там как-нибудь появился Кнут Гамсун* и
мне довелось бы увидеть его. Но таких желаний было мало,
да и эти немногие не сбылись. Я никогда не любил публич¬
ности, и мне никогда не было приятно жить в таком окру¬
жении, ще меня знают как некое имя, некую марку: я всег¬
да стремился жить как можно более частной жизнью и по¬
тому никогда не присутствовал ни на каких сборищах
«знаменитостей», будь то салон, клуб, бал или банкет; мне
было легко уклоняться от этого, я ведь жил всегда далеко
в глуши.
Вопреки этим склонностям я в прежние годы, особенно
перед войной, чуть ли не ежегодно один-два, а то и три раза
поддавался на уговоры и соглашался выступить перед пуб¬
ликой. Делал я это отчасти из желания поездить и потреб¬
ности в перемене: казалось очень приятным в каком-нибудь
прекрасном городе, в Кёльне или Вене, в Страсбурге или
Праге, заработать деньги на поездку таким небольшим тру¬
дом, как выступление, а заодно и пригубить чашу извест¬
ности, быть в течение одного вечера почетным гостем. Это
бывало часто весьма славно, и я повидал при этом много
прекрасных городов, но в целом никакой радости от этого
не испытывал: обычно наступало что-то вроде похмелья, я
понимал, что совесть моя нечиста. Вот вроде бы и ничего
не нарушил, но сделал что-то противное своей природе, пы¬
тался приспособиться, а это ведь никогда не кончается уда¬
чей. Но все-таки какой-то приятный привкус от этого у ме¬
ня оставался.
В одну из таких поездок, в 1909 году, я, стало быть, на¬
нес все-таки визит человеку, которого много лет искренне
чтил и любил. Я ездил выступать в Брауншвейг и, прини¬
мая приглашение, уже знал, что в Брауншвейге живет ста¬
рик Вильгельм Раабе, и втайне лелеял надежду, что, может
быть, увижу его. И вот я был в Брауншвейге, был принят
любезными людьми, и, прежде чем я решился спросить,
нельзя ли повидать Раабе, там сочли само собой разумею¬
щимся, что я навещу его. Но было одно затруднение: с Ра¬
абе обычно встречались в его пивной, а сейчас он был про¬
стужен и не выходил. Но о моем желании приветствовать
его ему сообщили, и он пригласил меня посетить его на до¬
му во второй половине следующего дня.
121
я ходил по чудесному старому городу, отдыхал в про¬
межутках в своей гостинице и все время, со смесью радости
и смущения, думал о более чем семидесятилетием писате¬
ле, которого скоро увижу. Я думал о том, что он, собствен¬
но, для меня значит и каково, собственно, мое к нему от¬
ношение. В юности я прочел его книгу, наполовину понра¬
вившуюся мне, наполовину — нет, в ней было что-то ви¬
тиеватое, почти чудаковатое, вызывавшее у меня то восхи¬
щение, то изумление, и что-то северно-немецкое, чуждое
мне, и что-то бюргерски-патриотическое, чего я тогда от¬
нюдь не отвергал, но что немного напоминало мне взгляды
наших учителей. Потом я забыл его, я открыл Готфрида
Келлера, а сразу затем Шторма*, а потом Конрада Ферди¬
нанда Мейера, которые все уже умерли, но показались мне
гораздо современнее и важнее, чем Раабе. Но потом заме¬
чание одного друга снова привело меня к чтению Раабе; к
тому времени я уже начитался Жан Поля*, и теперь, про¬
читав за несколько лет более десятка книг Раабе, проникся
глубоким уважением к этому человеку, единственному
действительно поэтическому живописцу Германии между
1850 и 1880 годами, мечтательному сочинителю и упорно¬
му критику, строгому и добросердечному любителю своего
народа. И еще большее впечатление, чем эти достойные ка¬
чества, произвели на меня его подспудный юмор, его упор¬
ные пристрастия и игры, его приверженность к околично¬
стям и длиннотам, его любовь к странным и трудным ха¬
рактерам, его знание людей. За этой остротой и насмешли¬
востью скрывались, казалось, большая вера, большая лю¬
бовь к людям. И теперь мне предстояло увидеть этого ста¬
рого писателя, почти столь же старого, как мои деды, на¬
писавшего «Абу Тельфана», «Летопись Птичьей слободы»,
того, чья «Воробьиная улица» стояла среди книг моей ма¬
тери уже тогда, когда я научился читать и едва стал раз¬
бирать заглавия книг. Почтение к старости и так-то вошло
у меня в привычку, то ли меня воспитали в нем, то ли оно
было в крови у меня; но к этому почтению прибавлялось
еще что-то особое, что выразить можно примерно так: уже
с конца юности у меня было такое невысказанное и не¬
сколько неясное чувство, что я еще в детстве увидел вечер¬
нюю зарю, остаток эпохи, которая с каждым днем уходила
все дальше и исчезала. Отчасти, наверно, чувство это на¬
ходило пищу в некоторых речах моих родителей, дедов и
бабок (хотя я и позволял себе вовсю критиковать эти речи),
122
отчасти же оно возникало, по-видимому, оттого, что уже в
детстве я видел, как захватывает нашу местность быстро
растущая промышленность, во всяком случае, из всех
чувств, с какими я думал о Раабе, ни одно не было столь
сильным, как то, что он принадлежит к поколению моих
дедов и, как они, обладает чем-то таким, воплощает собой
что-то такое, чего у нас, младших, нет или что в нас раз¬
жижено и наполовину исчезло, несколько другой тип чело¬
века, веры, рыцарственности. А Раабе был ведь не просто
стариком, принадлежавшим к этому вымершему типу, он
был одним из чистейших его представителей, одним из его
живописателей и создателей.
Настал час, я пришел в дом Раабе; уже совсем завечерело
. и смеркалось. Дома я уже не помню, помню только комнату,
куда меня провели по лестнице. Там в сумраке кто-то очень
высокий, худой зажигал маленькую керосиновую лампу; он
повернулся ко мне, по портретам я узнал лицо Раабе, однако
же, оно было другим, не таким, как на портретах. Узкая, в
длинном халате, высилась его мирная и в то же время торже¬
ственная фигура, а с ее высоты на меня взирало старое, в
морщинах, насмеприво-умное лицо, очень приятное и при¬
ветливое, и все-таки лисье, хитрое, лукавое, серьезное,
дряхлое лицо мудреца, насмешливое без ехидства, знающее,
но доброе, умудренное возрастом, но, по сути, без возраста,
что подчеркивалось и прямизной фигуры, лицо совсем дру¬
гое и все же схожее с лицом моего деда, из той же эпохи, той
же терпкой спелости, почти такой же величавости и рыцар¬
ственности, которую смягчала, мелькая, богатая игра старо¬
го, испытанного юмора.
Он говорил тихо, сказал, что рад меня видеть, намек¬
нул, что приблизительно знает, кто я, и предложил мне
сесть. Сам он тоже сел, но вскоре встал, прошелся, попра¬
вил что-то в лампе, и таким он поныне остался в моей па¬
мяти — маленькая, сумрачная комната, книги на столе,
книги у стен, он стоит, очень высокий и прямой, и смотрит
на меня сверху вниз мягкими, очень умными глазами. Он
показал мне книгу, лежавшую на столе, которую он как
раз читал: это был том воспоминаний Морица Буша*, он
спросил, знаю ли я что-нибудь об этом, заговорил о Бис¬
марке*, но, быстро заметив мою неосведомленность и по¬
няв, что даже «Мыслей и воспоминаний» я не прочел це¬
ликом, с улыбкой отставил эту тему. С улыбкой стоял он,
123
свет лампы тек по нему вверх, и его мягко светившееся ли¬
цо одиноко маячило перед полутемными рядами книг.
Я уже давно испытывал любовь к этому старику и те¬
перь был бы не прочь сказать ему, как хорошо знаю многие
его книги и как чту его, но это такому хитрому, все уже
знающему, старому, достопочтенному волшебнику не так-
то легко сказать, еще не будучи произнесено, каждое слово
поклонения кажется себе угаданным и высмеянным и за¬
стревает во рту. Но об «Абу Тельфане» я все-таки сказал
и, по-моему, еще о «Топи». В промежутках он спрашивал
меня о том о сем, о моей поездке и довольно подробно о
моей семье. Я пришел к нему с одним вопросом, с одной
просьбой, но лишь к концу своего визита набрался духу и
выложил ее. Мне, сказал я, известно, что он почти сорок
лет назад долго жил в Штутгарте, он наверняка знал там
Эдуарда Мёрике*, так не может ли он мне что-нибудь о нем
рассказать.
— О да, Мёрике! — улыбнулся он. — Не очень-то я
его любил, по правде говоря.
Я сказал, что сожалею об этом и что я о Мёрике чрез¬
вычайно высокого мнения и многое отдал бы за то, чтобы
успеть познакомиться с ним. Да, конечно, сказал Раабе, он
вполне понимает меня, и Мёрике был несомненно настоя¬
щий, истинный писатель, спору нет; но что касается лич¬
ных отношений с коллегами, то и в Штутгарте, и в других
местах он, Раабе, знал людей, которые были ему все же
приятнее. Он был очень нежный и чудаковатый человек,
этот Мёрике, сущий недотрога; иногда, будучи чем-нибудь
или кем-нибудь раздражен, он просто укладывался в по¬
стель и несколько дней не показывался. Нежный человек и
несколько мягкий в отношении самого себя — таков он,
пожалуй, был. Раабе улыбался про себя, и я с любопытст¬
вом глядел на него, ясно чувствуя, что вот сейчас он очень
ярко вспоминает Мёрике, видит его перед собой, и я многое
отдал бы за то, чтобы увидеть картину, вставшую сейчас у
него перед глазами. Но видел я только его улыбку, его снис¬
ходительную улыбку по поводу Мёрике, тонкого поэта, чу¬
даковатого коллеги, изнеженного шваба. Я видел: между
этими двумя писателями дружбы, общения, игры было не
больше, чем между Келлером и Мейером в Цюрихе. Я ви¬
дел или воображал, что вижу: он любил Мёрике еще мень¬
ше, чем то высказывал, он, в сущности, терпеть его не мог,
124
но, щадя меня, молодого поклонника Мёрнке, не мог ска¬
зать это напрямик.
Koi^a я уходил, а он стоял наверху на лестнице, и так-
то рослый, а из-за моего почтения еще огромнее, я, спуска¬
ясь, еще не раз поглядывал на него с лк^вью и восхище¬
нием, на того, чья красива^ продолговатая рука написала
«Летопись Птичьей слободь!» и «Мельницу Пфистера»: про¬
щание далось мне нелегко. На улице уже совсем стемнело,
вечером меня ждали в пивной Раабе его всегдашние собу¬
тыльники. До условленного часа я бродил по улицам, сидел
у себя в номере, пытаясь припомнить все, что он говорил,
удивляясь и ужасаясь тому, что уже сейчас, коща слова на¬
шего разговора едва умолкли, я многое из него забыл. Он
живо говорил об одном месте в воспоминаниях Бисмарка,
но материя эта была мне чужда, я уже сейчас не мог вос¬
произвести его слова или хотя бы их смысл.
Раабе пригласил меня навестить его снова. Мне потом ча¬
сто хотелось этого, но я никогда больше не бывал в Браун¬
швейге. Тогда я должен был поехать еще в один город, я вы¬
ступил там с чтением, был представлен множеству людей,
меня сопровождали и выспрашивали представители прессы,
приглашали в разные дома, мне присылали цветы в гостини¬
цу, и все эти почести больше смущали меня, чем радовали. И
все время я думал о старом Вильгельме Раабе — с почтением
и со стыдом. Ибо подобно тому, как этот старик своим нра¬
вом, своими книгами, своим взглядом и словом представлял
и еще на короткий срок сохранял самое лучшее из уходяще¬
го, исчезнувший тип ума, образования, характера, что-то
полусвятое и полуотсталое, так и его слава, его тип известно¬
сти и знаменитости был совсем иного, более благородного,
более безобидного, более невинного и вместе с тем более поч¬
тенного рода, чем наша модная знаменитость. Нашего брата
каждую неделю приглашало какое-нибудь общество высту¬
пить в каком-нибудь городе, нам то и дело присылали газет¬
ные вырезки, все газеты и журналы добивались от нас ста¬
тей, все издатели хотели нас напечатать, все иллюстриро¬
ванные издания — поместить наш портрет. Можно было от
этого защищаться, можно было частично уклоняться, но вез¬
де, где этому миру, в котором знаменитости фабрикуются,
ты протянул хотя бы мизинец, тебе казалось потом, что над
тобой как-то надругались и что ты совершил какой-то про¬
мах. Нет, слава Раабе была чем-то совсем иным. Медленно,
без внезапных громких успехов, он в ходе десятилетий стал
125
знаменит благодаря длинному ряду книг, благодаря замеча¬
тельному честному, цельному и самобытному образу жизни —
да и само слово «знаменитый» звучало в связи с его именем
совсем по-другому. Ведь в действительности, я это прекрасно
знал, в литературе и критике нашего времени было очень ма¬
ло места для Раабе и его славы; о нем мало что знали, и из
фельетонных редакторов, забрасывавших меня предложени¬
ями, его не читала и десятая часть. Опекать его славу предо¬
ставили его брауншвейгской компании и нескольким доволь¬
но старомодным провинциальным журналам, издатели тоже
не дрались из-за него, многие лучшие его книги переиздава¬
лись за десять-двадцать лет всего лишь один-два, от силы три
раза, только две из них были распространены в большей ме¬
ре. Еще опекали его славу его читатели, община главным об¬
разом уже пожилых, не читавших современных журналов
людей, чье мышление, чьи взгляды я тогда наверняка нашел
бы отсталыми. А разве сегодня дело обстоит иначе? Нет, ни¬
чего не изменилось — то есть для меня-то все изменилось, и
сегодня я тоже прекрасно знаю, что такое слава и успех, и
что наша сегодняшняя разновидность славы относится не к
людям и не к их творчеству, а к рекордным тиражам, моде,
успеху, и что автору, вчера еще очень знаменитому и обла¬
сканному, будут уже послезавтра возвращать его стихи за,
увы, непригодность те же редакции, что вчера осаждали его
просьбами о сотрудничестве. Все это я теперь знаю и уже по¬
степенно приближаюсь к той точке, когда такие вещи при¬
надлежат прошлому и на них смотришь бесстрастно. Но го¬
ворить я хотел не об этом, а о Раабе и об особом характере его
славы, о том, что она с тех пор, по сути, нисколько не изме¬
нилась. Сегодняшние газеты и сегодняшняя литературная
биржа знают о Раабе так же мало, как знали о нем тогда, лет
двадцать пять назад. Его время от времени, с каким-то ма¬
леньким разграничением, называют в связи с Готфридом
Келлером. У него есть круг почитателей, несколько раз вы¬
ходил раабевский календарь; но у всех этих знаков почтения
к давно умершему была какая-то локальная, провинциаль¬
ная окраска. Для нынешних литературных людей Раабе при¬
надлежит как бы к разделу «старинное национальное искус¬
ство». Однако за годы, прошедшие после моего брауншвейг¬
ского визита, успело кануть в прошлое и бесследно исчез¬
нуть из памяти множество повествователей и драматургов,
каждый из которых во время своего апогея был во сто раз зна¬
менитее и удачливей, чем Раабе, а Раабе, хотя он никогда не
126
интересовал массу, занимает свое прочное место и пользует¬
ся той тихой славой, что приходит намного позднее успехов.
Его коллега Мёрике, которого он недолюбливал, испытал это
в еще большей степени: «успеха» у него вообще не бывало, он
умер в почете, но отнюдь не знаменитым или превозноси¬
мым, да и смерть его не была замечена, и так шли годы и де¬
сятилетия, и когда потом все-таки разнесся слух, что жил в
Швабиаодин маленький священник и учитель женской гим¬
назии, который писал бесссмертные стихи, и когда Мёрике
вошел в ряд принимаемых всерьез больших поэтов, тоща
ему, окажись он еще жив, было бы уже лет сто.
Этой степени славы Раабе еще не достиг. Истор ^ лите¬
ратуры говорит о нем с уважением, она знает его, o^ia при¬
няла его к сведению; но уникальность и глубина его твор¬
чества, истинное чудо его личности и его слова все еще, по
сути, не познаны, не распознаны как вечная ценность, из
его современников, например. Шторм, да и Фонтане вошли
в учебники литературы, хрестоматии и т.п. увереннее и
прочнее, чем он. Когда-нибудь, может быть, с ним произой¬
дет то же, что с Мёрике, которого он знал как обидчивого,
нежного господина и не очень-то жаловал и которого мир
затем объявил одним из великих поэтов. Его, может быть,
все-таки еще распознают: он претендует на это, ибо обла¬
дает тем смущающим критику излишком, тем добавочным
измерением, которые с таким трудом укладываются в сис¬
тему, а со временем все же большей частью получают при¬
знание. Конечно, он не может войти в антологии, как Мё¬
рике; его славу нельзя будет подтвердить цитатами из сти¬
хов, познать его всеща будет несколько труднее, он напи¬
сал много и очень разное, его читателю нужно время, нуж¬
но терпение, нужно медленно вникать в него — иначе ни¬
когда не проникнуть в глубины этого творчества. Но на
примере его предшественника Жан Поля видно, что и такое
творчество бывает очень жизнестойким и что писатель, по
поводу которого каждый университетский профессор лите¬
ратуры тридцать лет подряд морщил истлевший тем време¬
нем нос, может быть снова увешан всеми венками славы.
Хорошо, что этих строк о нем он не может прочёсть. Да я
и не написал бы их, будь он жив. Как насмешливо-умно,
как несказанно хитро прищурился бы он и, полузакрыв гла¬
за, посмотрел на меня сверху вниз!
127
Маленькое послесловие
В моем рассказе одно место следует считать сомнитель¬
ным, поскольку основано оно, по-видимому, на ошибке па¬
мяти — то ли моей, то ли Раабе. Раабе, как я позднее об¬
наружил, много раз ясно свидетельствовал, что не знал Мё-
рике лично.
Во время моего визита Раабе было лет шестьдесят во¬
семь, а от моего визита до написания мемуарной заметки
прошло опять-таки примерно двадцать четыре года. Отчего
бы ни возникла эта ошибка, пусть читатель исправит ее..
Что касается других высказываний Раабе о Мёрике, то за
надежность моей памяти могу поручиться. Его мнение о
Мёрике основывалось, таким образом, не на личном зна¬
комстве, а на слухах.
ИЗ В0СП0МШ1АНИЙ ОБ ОТМАРЕ ШЁКЕ*
Я охотно принимаю предложение записать некоторые
воспоминания о встречах с Отмаром Шёком. Только я пло¬
хой мемуарист, ибо у меня нет для этого одного очень важ¬
ного дара — 'надежности памяти. Память моя недурно со¬
храняет какие-то подробности, но вся история отношений
в своей непрерывности от нее ускользает: я сохраняю кар¬
тины, но забываю их время, то есть их даты и последова¬
тельность.
Знакомством с Шёком я обязан нашему другу Альфреду
Шленкеру* в Констанце. Тоща Шёку было едва ли за двад¬
цать, в Цюрихе поставили его «Ямщика», посвященного
моему другу Альберту Вельти, и я еще многое помню из
этого милого юношеского сочинения, которого не слышал
лет уже двадцать пять. Сольные партии пел тоща тенор
Флюри, я познакомился с ним на том представлении, а по¬
том несколько лет часто встречал его в ближайшем окру¬
жении Шёка. Он мне не особенно понравился, но ямпщка
он пел великолепно, а милая проникновенность и невинная
мелодичность этого произведения, вместе с текстом Ленау
и посвящением Вельти, сразу же покорили меня своей ро¬
мантической и идиллической стороной. Эта музыка была
близка мне, как Шуберт, и, хотя в то время я уже носил в
себе немало проблематичного, именно музыка не была тем
искусством, ще я искал подтверждения своих проблем. В
128
музыке я был скорее консервативен, как большинство поэ¬
тов, а к музыкальной романтике у меня тогда было к том>
же еще юношески-влюбленное отношение, которое я утра¬
тил лишь много позже. И первое произведение Шёка, мною
услышанное, показалось мне еще менее проблематичным и
еще более оторванным от времени, чем оно было в дейст¬
вительности; сказались и почти десять лет, на которые я
был старше Шёка, и потому в первый момент, хотя я сразу
же проникся к нему симпатией и почувствовал его силу, я
увидел его сплошь с этой невинной стороны. Так продол¬
жалось, впрочем, недолго, и уже после нескольких встреч
в наших беседах главенствовала одна возлюбленная, демо¬
ническая тень, к которой мы оба пылали любовью и о ко¬
торой говорили то и дело, — Гуго Вольф*.
В те годы моей довольно отшельнической и сознательно
враждебной городу жизни на Унтерзее я, правда, не оста¬
вался без музыки, моя жена много и хорошо играла на пи¬
анино, но у меня не было друга-музыканта, с которым мож¬
но было бы не только говорить о музыке, но который мог
бы, обобщая, сокращая, а при случае объясняя, исполнять
мне музыкальные произведения всякого рода. Шёк, с кото¬
рым я быстро и горячо подружился, умел это делать таким
универсальным и притом таким восхитительным образом,
что ничего подобного я и до сих пор, несмотря на множество
знакомых музыкантов, не встречал ни разу. И годами он
был для меня привратником и хранителем сокровищ мира,
который мне иначе никак не довелось бы столь непосредст¬
венно и свободно обозревать. Любой друг благодарно вспо¬
минает такие часы, когда Шёк у себя дома или на каком-
нибудь трактирном пианино исполнял ему «Фигаро», «Вол¬
шебную флейту», россиневского «Цирюльника» или «Кор¬
рехидора», а то и «Летучую мышь» или песни Шуберта и
Вольфа, давая легким намеком все голоса, подчеркивая ха¬
рактерные темы, намекая даже на оркестровку, словом,
взглядами и жестами рассказывая и в то же время объясняя
ход каждого произведения. Очень большая часть того, что
я из хорошей музыки в те годы ближе узнал и из чего со¬
ставил себе представление о существе музыки, пришла ко
мне из этого источника. Многие произведения, которые в
театре или концертном зале мне привелось слышать лишь
один-два раза за жизнь, я слышал от него снова и снова,
особенно нашего тогдашнего любимца, «Коррехидора». От
потребности отблагодарить за дары делом я в те первые го¬
5 5-25Ч 129
ды нашей дружбы написал даже для Шёка текст романти¬
ческой оперы и не жалею ни о том, что сделал это, ни о
том, что мой текст ему не понадобился.
Шёк часто навещал меня в моей деревне на Унтерзее, и,
когда мы, очень много времени спустя, нет-нет да вспомина¬
ли в разговоре те его приезды, у него иногда при мысли о той
поре появлялось мечтательно-просветленное выражение ли¬
ца. «Тогда, — говорил он задумчиво, — у тебя всегда бывало
меербургское в погребе, чудесное вино, помнишь?» Верно,
мы выпили вместе не одну кружку этого меербургского. Я и
сейчас еще вижу, как Шёк в те гайенхофенские вечера вста¬
вал в паузах беседы с лавки у стены и шел в соседнюю комна¬
ту к пианино, чтобы сыграть какую-нибудь песню Вольфа
или новую собственную, а то и штраусовский вальс.
В предвоенные годы я привык каждую весну ездить не¬
надолго в Италию, и в этих моих поездках, обычно в верхне¬
итальянские или тосканские городки, Шёк участвовал. Од¬
нажды мы провели несколько дней — кроме Шёка и меня,
там был еще художник Фриц Видман* — в citta alta^ в Берга¬
мо и по вечерам сиживали в маленьком, довольно обшарпан¬
ном кафе, хозяин которого был музыкант. В этом сумрачном
трактире стояло старое, видавшее виды четырехугольнос пи¬
анино с дребезжащим звуком и несколькими лопнувшими
струнами, к тому же сильно расстроенное. На этом пианино
Шёк играл нам добрые половины опер или целые оперы,
семья хозяина слушала его восхищенно; однажды захотелось
испробовать этот инструмент и нашему спутнику Видману,
он сел за него и храбро ударил по клавишам, но сразу же в
ужасе отскочил, я тоже попробовал, взял несколько нот, но
совершенно невозможно было извлечь из этой развалины
хоть какое-то подобие звука. А Шёк все-таки умудрялся иг¬
рать нам на ней, он заколдовывал эту штуковину, он вызы¬
вал духи мастеров, и под его руками славный старый ящик
делался опять фортепиано и исполнял Россини и Верди, по¬
ражая и приводя в восторг даже своего старого хозяина, быв¬
шего музыканта. Вот пример шёковской силы внушения;
сломанное ли пианино завораживал он или слушателей —
как бы то ни было, волшебство удавалось.
^ Верхний город (шпал.).
130
в другой поездке, тогда с нами был Фриц Бруи*, мы
увидели, как молодой Шёк победоносно заколдовал еще
один аппарат. Это было в Орвьето. Мы осмотрели собор и
Синьорелло, спустились в самый низ Поццо ди Сан Пат-
рицио и теперь отдыхали в кафе на пьяцце. Там стояла
какая-то занятная машина, механическая лотерея. В этом
автомате были щелки для опускания двадцатираппеновых
монет. В зависимости от выбора отверстия можно было,
если повезет, получить за одну монетку две или пять или
десять или даже двадцать и сорок таких же. Большие циф¬
ры выпадали, конечно, соответственно реже, и присутст¬
вовавшие завсещатаи уверяли нас, что иные из них уже
выигрывали пять, десять, а то даже и двадцать, хотя, ко¬
нечно, делать ставку на двадцать было довольно рискован¬
но. Сорок, говорили они, тоже однажды выпало, но чело¬
век разумный ставить на этот номер, конечно, не будет.
Мы постепенно заинтересовались, оторвались от своего
вермута и стали рассматривать аппарат, наконец разменя¬
ли два-три франка и принялись вталкивать в пасть маши¬
ны наши монетки, которые она с аппетитом пожирала, а
однажды даже изрыгнула две или пять. Тут Шёк заявил,
что, играя, надо идти на все, поставил на сорок, опустил
монету и нажал кнопку. Машина загрохотала, и в плош¬
ку, похожую на раковину, и за ее края в кафе хлынули
водопадом монеты, сорок штук. Хозяин вскочил, гости ос¬
толбенели. Шёк обеими руками собрал монеты и рассовал
их по карманам. Мы расхохотались и поздравили его, за¬
казали еще вермута, и, прежде чем покинуть кафе, он еще
раз в шутку опустил в прорезь монету, поставив на сорок,
и аппарат с громыханьем изверг снова сорок монет. На
следующее утро мы пришли снова, и Шёк в третий раз
сделал то, чего ни один разумный человек не сделает, и
еще раз выиграл сорок монеток. Теперь пора было уез¬
жать, завсещатаи кафе и соседи забеспокоились. По доро¬
ге на вокзал какой-то незнакомец вежливо дотронулся до
моего рукава, указал на шагавшего впереди Шёка и ше¬
потом спросил: «Скажите, не этот ли молодой блондин вы¬
играл три раза по сорока?» [... ]
Как-то Шёк проводил лето в уединенном маленьком
пансионе в горах под Цюрихом, и я однажды навестил его
там. Шли дожди, выходить на воздух случалось редко. В
доме была девочка-школьница, Шёк был очень расположен
131
к ней и уделял ей много внимания, показывал ей разные
мелодии, я слышал, как он разучивал с ней на два голоса
песню «А чьи овечки лучше?». [... ]
Там я узнал моего друга и как художника. Я, правда,
давно знал, что он иногда пишет красками, и нисколько
этому не удивлялся, ибо в доме его отца это было не диво,
да и в поездках мы часто и много говорили о живописи.
Теперь он говорил мне о ней и на лоне природы, то есть
мы, бывало, рассматривали какую-нибудь местность с точ¬
ки зрения того, как ее передать живописью, и тут, как во
всем, Шёк отталкивался не от теорий и мыслей, а от чув¬
ственного. Он любил говорить о заманчивости и муке, ко¬
торые заключены в поисках какого-то оттенка; а однажды,
говоря о том, какое, наверно, чувственное наслаждение до¬
ставляло итальянским мастерам фресок писание по свежей
штукатурке, он сопровождал эти слова взмахами руки,
словно бы клавшей широкий и сочный мазок, и одновре¬
менно причмокивал, словно слышно было, как жадно впи¬
тывает штукатурка краску. Здоровым и радостным гениям
дана способность выражать многое из того, что они хотят
выразить, именно такими средствами, в этом состоит боль¬
шая доля их обаяния, и у Шёка кульминацией разговора
нередко бывал как раз тот момент, когда не поддающееся
слову передавалось мимикой или звуковой живописью. Я
ценю такие блестки, они покоряют меня, как всех; но Шёк
поражал и подкупал меня всеща не самим этим умением,
а той мерой, какую он, пользуясь им, соблюдал. Помимо
первой симпатии привлекала меня к Шёку снова и снова
не наивная чувственная гениальность его ощущений и его
манеры их выражать — это удавалось и другим, особенно
женщинам это часто удавалось чудесно, а еще лучше уда¬
валось это способным животным. Нет, восхищали меня в
Шёке и заставляли так высоко его ставить соседство и на¬
пряженность противоположностей в его натуре, сочетание
силы со способностью к страданию, вкус к самым наивным
радостям наряду со вкусом к духовному, большая и небез¬
болезненная тонкость личности, чувственная мощь в союзе,
а то й в борьбе с мощью духовной. Этот человек умел не
только великолепно музицировать и играючи вживаться во
все другие искусства, не только очаровывать женщин и с
наслаждением участвовать в каком-нибудь званом ужине
(даже в три часа ночи, после обильного ужина и множества
стаканов вина, он мог с зажженной сигарой во рту пройтись
132
через весь зал на руках!) — нет, он умел и отдавать себе
отчет в своих способностях, в своих конфликтах и пробле¬
мах, он мог иногда (это звучит смешно, но это так) именно
думать, а это у артистов такая же редкость, как и у прочих
людей. То, что душевно-чувственное начало было в нем в
конечном счете все же сильнее духовного, что сознание ни¬
когда у него всерьез не мешало инстинкту и уж подавно не
перевешивало его, — это тоже признак его здоровья и его
силы, он ведь музыкант, не философ. Но он обладал спо¬
собностью к большой тонкости, к одиночеству, к отвлечен¬
ности, к страданию про себя, он был не только славный,
очаровательный малый, которого больше любят, чем при¬
нимают всерьез, и не только музыкант, но и творец. Все
это делало нашу связь постоянно живой, и если мы порой
и сердились друг на друга, то наше взаимотяготение вскоре
возникало между нами опять.
Но я отвлекся, я хотел сказать еще кое-что о шёковской
живописи. В тех разговорах он был сторонником величай¬
шей деликатности и тщательности в поисках оттенков и от¬
клонял ребяческую или экспрессионистскую бесцеремон¬
ность резких, почти несмешанных красок. «Смотри, — го¬
ворил он, — там,вдали ты видишь предгорье с освещенными
лугами. Они кажутся зелеными, правда? Они и есть зеле¬
ные, но в бесконечном разжижении, и видим мы их, собст¬
венно, не такими уж и зелеными, но мы знаем: луга зеле¬
ные, а потому и видим их зелеными». Тут он наклонялся,
срывал листок какого-нибудь лугового растения и закрывал
им часть вида. «Вот это зеленый цвет! — восклицал он. —
Гляди, как бьет в глаза! Рядом с ним эта даль почти бес¬
цветная». Он считал большим наслаждением подбирать на
. лалитре оттенки, пока не наступит момент, когда они сов¬
падут точь-в-точь.
С давних лет у меня есть два пейзажа Шёка, две кро¬
шечные, написанные маслом картинки. За все эти годы они
не потеряли для меня прелести и ценности, и не раз бывало,
что навещавшие меня художники, которые без особого лю¬
бопытства рассматривали картины на моих стенах, вдруг
оживлялись и спрашивали имя художника, увидев какую-
нибудь из этих картинок. Одна из них, очень ранняя, по¬
ражает каким-то странным звучанием и ставит перед собой
какую-то особую задачу: это пейзаж, глубоко врезающаяся
в горы альпийская долина под вечер, большей частью уже
в тени, и в этом молчаливом пейзаже царит совершенно
133
особенный свет: на нескольких вершинах и на части перед¬
него плана еще светит солнце, а на небе над еще тепло ос¬
вещенными верхушками скал уже взошла перевалившая за
половину луна; ее холодная белизна еще составляет конт¬
раст всем краскам земли, но уже делает небо холоднее и
влияет на тени. Эта крошечная картина — ее можно счесть
в зависимости от желания и наивной и изысканной — за¬
ставила задуматься уже не одного зрителя. И когда мне,
долгие годы отделенному от Шёка пространством, а того
пуще его уже более чем гениальной ленью писать письма,
когда мне вдруг не хватает его или когда я снова бываю
разочарован отсутствием какого бы то ни было ответа, я по
привычке смотрю на одну из его картин и при этом пред¬
ставляю себе его.
Вторая его картина, висящая у меня, осталась от того
лета в горах под Цюрихом, это вид на Швейцарию, под
хмурым серым небом в дожде царит то настроение, которое
Готфрид Келлер описал так:
Тихий дождливый день.
Мягкий, хмурый и все же такой ясный.
Что через сумрак может прорваты:я
Белое, странное солнце.
Темному лесу на переднем плане составляет контраст
бледная ясность уходящего вдаль простора, ярко и все же
устало освещенного лучами белого, странного солнца, вда¬
леке, на фоне светлой полоски неба, воздушно, но ясно вы¬
сятся оба Митена. Эта картина — тоже целая поэма, она
мала, как и та, другая, но, хотя она написана кончиком
тонкой кисти, письмо полно свободы и игры, лишено робо¬
сти.
Обе картины неотъемлемы для меня от образа моего
друга, как и его почерк, как некоторые шутки и острые сло¬
вечки, торопливо написанные с дороги на открытке с видом.
Как-то он был в Лукке и прислал мне оттуда открытку, не
написав на ней ничего, кроме первой фразы из «Мраморной
статуи» Эйхендорфа.
И тут мы касаемся темы писателей. Это большая тема,
но сегодня я не смогу рассказать об этом. Я не раз говорил
с Шёком о писателях и их сочинениях, чаще всего о текстах
его песен, и должен заметить, что его чуткость к литерату¬
ре и его суждения о ней часто радовали меня, подтверждая
134
мое мнение, и ни в одном важном пункте не разочаровы¬
вали.
Прибавлю еще один, последний листок к этим воспоми¬
наниям. Это было в апреле 1916 года, в разгар мировой вой¬
ны, я принял приглашение прочитать лекцию в Винтертуре
и отправился туда; из Берна, где я тогда жил, я поехал в
Цюрих, собираясь вечером двинуться дальше к друзьям в
Винтертур и переночевать там, лекция была назначена на
следуюпщй день. В Цюрихе у меня были всякие дела, Шёка
я в тот раз не мог навестить. Для меня началось уже то
страшное время, коща я не выносил соприкосновений с
прекрасным, прежде всего с музыкой. Брун в Берне часто
очень досадовал на меня, когда приглашал меня на кон¬
церт, а я уклонялся. Но музыка была для меня тогда самым
сильным, самым непосредственным напоминанием обо всем
нежном, прелестном, священном, о чем мир теперь и знать
не желал. Войну я кое-как еще выносил, потому что нашел
в ней место, ще мог воображать, что отстаиваю человеч¬
ность и помогаю лечить раны; но музыки я уже не выдер¬
живал, несколько музыкальных тактов начисто разрушали
весь порядок, всю дисциплину, которые я силился соблю¬
дать, и будили нестерпимое желание убежать из этого мира
и от этой войны.
Усталый, недовольный своей поездкой и своей затеей, я
к вечеру явился на цюрихский вокзал, чтобы взять свой че¬
моданчик и поехать дальше. Я пришел рано и некоторое
время слонялся без дела по вокзалу, немного довольный,
что проведу хотя бы вечер у очень милых друзей, но куда
более подавленный, чем довольный. Подавляло многое, по¬
давляло мир, Швейцарию, мою собственную маленькую
жизнь, война оставила мне мало что, особенно мало что от
смысла моей жизни и моих дел, мы дышали ядом вместо
воздуха, пили горе и страх вместо воды, ели тоску вместо
хлеба. Итак, я слонялся, предаваясь своим бесполезным
мыслям, как вдруг почувствовал, что на плечо мне легла
чья-то рука, я встрепенулся и увидел перед собой Шёка.
Он приветливо спросил меня, вправду ли я собираюсь
уехать, ведь лучше остаться на вечер в Цюрихе и провести
его с ним. Я засмеялся и сказал, что об этом и думать не¬
чего, меня ждут в Винтертуре, и поезд мой скоро пойдет.
Тут он как-то значительно посмотрел на меня и сказал
с большой, проникновенной сердечностью: «Нет, нет, не
уезжай в Винтертур, нам надо с тобой поговорить».
135
в этот миг я ощутил, что меня ждет что-то особенное и
скверное, я почувствовал, как во мне растет какая-то тоска,
какой-то холод, которых я сам не понимал, и сказал: «В
чем дело? Скажи мне сейчас».
И тоща он тихо сказал: «Знаешь, твой отец умер».
Я ничего не подозревал, известие это было совершенно
неожиданно. Сразу после моего отъезда оно пришло в Берн,
моя жена передала его Шёку, и он уже несколько часов
искал меня.
Я не поехал в Винтертур, а поскорей вернулся в Берн,
ибо поехать в Германию и еще раз увидеть отца перед по¬
хоронами было тоща непросто, мешали война, закрытая
граница и множество маленьких и больших nptuon. Но в
тот миг, когда надо было вынести первый испуг и первую
боль, со мною рядом был друг. За это я был благодарен ему,
и благодарен поныне.
ВОСПОМИНАНИЯ О ГАНСЕ
К незабываемым мгновениям жизни принадлежат и те
немногие, когда человек словно бы взглядывает на себя со
стороны, внезапно замечая в себе черты, которых вчера еще
вроде бы не было или он не знал их за собой: мы испыты¬
ваем легкий шок и испуг, обнаружив, что вовсе не остаемся
всю жизнь одинаковыми, неизменными, каковыми себя по
обыкновению считаем; миг — и рассеиваются чары этого
сладостного обмана и мы видим, как изменились — выросли
или высохли, расцвели или увяли, к ужасу своему или
удовлетворению мы постигаем, что и сами вовлечены в бес¬
конечный поток развития, изменений, непрестанно истле¬
вающей бренности; о существовании сего потока мы отлич¬
но осведомлены, но почему-то всеща исключаем из него се¬
бя самих и некоторые свои идеалы. И если б не возвраща¬
лись мы к своей спячке, если б эти мгновения пробуждения
длились не секунды или часы, а месяцы или годы, мы не
смогли бы жить, просто не выдержали бы; к тому же боль¬
шинство людей, по-видимому, и не догадываются об этих
мгновениях, об этих секундах пробуждения, а живут себе
всю жизнь в башне своего якобы неизменного «я», как Ной
в ковчеге, видят, как проносится мимо поток жизни, он же
поток смерти, видят, как уносит он незнакомцев и друзей,
кричат им вслед, оплакивают их и верят, что сами-то они
136
навсеща останутся на твердом уступе, на берегу, откуда бу¬
дут вечно взирать на мир, не подвластные потоку, не уми¬
рая вместе со всеми. Всякий человек — эпицентр мира, вок¬
руг всякого человека мир, как кажется, послушно враща¬
ется, и каждый день всякого человека есть конечная, вы¬
сшая точка мировой истории; позади увядщие и сгинувшие
в тысячелетиях народы, впереди и вовсе ничего, а весь чу¬
довищно громоздкий механизм мировой истории, как пред¬
ставляется, служит одному лишь настоящему моменту, пи¬
ку современности. Человек примитивный воспринимает
любое посягательство на это ощущение — ощущение того,
что он эпицентр, что он пребывает на берегу, в то время
как прочих увлекает поток, — как угрозу себе, он отказы¬
вается от пробуждения и вразумления, он воспринимает
всякое прикосновение действительности и вообще разум
как нечто враждебное и ненавистное; ожесточенный инс¬
тинкт отвращает его от тех, кого как недуг поражает про¬
зрение, — от ясновидцев, философов, гениев, пророков,
одержимых.
Таких мгновений пробуждения или прозрения, как я те¬
перь вспоминаю, немного наберется и в моей жизни, и поч¬
ти все они потом растворялись в потемках памяти, засыпа¬
лись пылью времен. Однако некоторые из них, пришедшие¬
ся на юные годы, оказались ярче других. Разумеется, коща
подобные предостережения посылались мне позже, я был
умнее, опытнее, более способен на глубокомысленные или
связно выраженные умозаключения, но само переживание,
само биение пульса в эти моменты пробуждения в юности
было сильнее и внезапнее, больше потрясало душу и серд¬
це. И если вдруг теперь к человеку восьмидесяти лет под¬
ступит архангел и заговорит с ним, то престарелое сердце
забьется с не меньшим смущением и блаженством, чем оно
билось когца-то в груди юноши, впервые поджидавшего ве¬
черком у калитки какую-нибудь Берту или Элизу.
То душевное событие, о котором я теперь вспоминаю,
длилось не минуты даже — секунды. Но в секунды пробуж¬
дения или прозрения видится многое, и, коп^а вспоминаешь
или пишешь о них, тратишь времени — как и на описание
сна — намного больше, чем длилось само событие.
Случилось это в отчем доме в Кальве, в рождественский
вечер, в празднично убранной «красивой комнате». На вы¬
сокой елке горели свечи, а мы только что допели вторую
песню. Миг самый торжественный уже миновал. Евангелие
137
отчитали, то сс i ь jto отец, встав с Евангелием в руках пе¬
ред елкой, выпрямившись во весь рост, наполовину прочел,
а наполовину продекламировал наизусть строфы из жизне¬
описания Иисуса: «В той стране были на поле пастухи, ко¬
торые содержали ночную стражу у стада своего...»
То была сердцевина нашего праздника, его сокровенная
суть: торжественно звучал взволнованный голос отца, мы
замерли вокруг елки, зачарованно поглядывая в угол ком¬
наты, где на полукруглом столе посреди бутафорских скал
и болот был воздвигнут град Вифлеем; нас переполняло ра-
достно-нетерпеливое ожидание скорой раздачи подарков,
но притом что-то и омрачало настроение, как во время вся¬
кого праздника, когда сознание такого противоречия между
нашим миром и царством Божьим, между радостью земной
и небесной немного все портит, но и как-то возвышает и
облагораживает душу. Правда, на Рождество Господа на¬
шего Иисуса противоречие это не было таким сильным, как
на Пасху, тут радость была не только дозволена, но вроде
как и вменялась в обязанность; все же в ней престранным
образом смешивалось слишком уж разное: и что в вифле¬
емском хлеву родился Иисус, и что на елке горят свечки и
пахнет пряниками и марципанами, выпеченными в виде
звезд, и что сердце так нетерпеливо прыгает, желая поско¬
рее узнать, в самом ли деле на столе лежит то заветное,
чего ждешь не одну неделю. Что поделать, все это тоже от¬
носится к празднику — робкое смущение с едва уловимым
привкусом не совсем чистой совести, так же как свечи и
песни. Когда в доме праздновался чей-нибудь день рожде¬
ния, то торжества всегда начинались с песни, в которой со¬
держался вопрос-сомнение:
Да и радость ли это —
Родиться на свет человеком?*
Радость, конечно, радость, несмотря ни на что, и ребен¬
ком я просто не замечал этого знака вопроса, будучи убеж¬
ден, что «родиться на свет человеком» дело куда как при¬
ятное, особенно коща у тебя день рождения. Вот и сегодня,
в день рождения Христа, все мы были в радостном настро¬
ении.
Еваш'елие прочитали, вторую песню спели, и, еще лока
пели, я успел разглядеть на краешке стола то место, где
лежали предназначенные мне презенты. И вот настал миг,
138
когда каждый направился к своим подаркам, матушка вела
служанок к предназначенному для них месту. В комнате
стало тепло, воздух полнился трепетанием свечей, запаха¬
ми воска и смолы да сильным ароматом печений. Служанки
оживленно перешептывались, ощупывая свои подарки и по¬
казывая их друг другу, младшая сестра моя при виде своих
издала истошный вопль ликования. Было мне тогда лет
тринадцать или четырнадцать.
Я, как и все, отвернувшись от елки и встав лицом к по¬
даркам, отыскал глазами свои и двинулся к ним. На пути
моем был мой младший брат Ганс, стоявший у низенького
столика с подарками для малышей и разглядывавший то,
что ему досталось. Скользнул взглядом по его подаркам и
я: са^ым роскошным из них был набор керамической посу¬
ды — забавные лилипутские тарелочки, кувшинчики, ча¬
шечки, смешные и трогательные в своей изысканной мало¬
сти — каждая вещица была меньше наперстка. Вот над
этим карликовым сервизом, вытянув шею, и стоял мой бра¬
тец, и, проходя мимо, я на секунду задержал взгляд на его
личике — совсем еще детском,* он был пятью годами млад¬
ше меня, — и вот в течение полувека, которые истекли с
тех пор, лицо его не раз представало мне именно таким,
каким открылось в ту минуту: то был тихо сиявший счасть¬
ем и радостью, озаренный легкой полуулыбкой, просвет¬
левший и зачарованный, детский лик.
Вот, собственно, и все впечатление. Оно улетучилось,
едва я прошел мимо к своим подаркам и погрузился в их
созерцание, однако, что я в тот раз получил, не помню,
тогда как Гансовы горшочки врезались мне в память на¬
всегда. Сердце хранит их образ — в нем что-то шевельну¬
лось и вздрогнуло, как только взгляд мой остановился на
личике брата. Первым движением сердца была сильная
нежность к малышу Гансу, смешанная, однако, с ощуще¬
нием дистанции, некоего превосходства, ибо блаженное
просветление при виде глиняных безделушек, которые
можно было за гроши купить в любой лавке, казалось мне
хоть и милым и трогательным, но слишком уж детским. Од¬
нако следующий же удар сердца нагнал противоположные
чувства, то есть в ту же секунду явилось во мне и презрение
ко всем этим чашечкам и кувшинчикам, как к чему-то не¬
достойному, чуть ли не пошлому, а еще более недостойным
представилось мне мое чувство превосходства над малы¬
шом, который способен был на такую самозабвенную ра-
139
дость и для которого Рождество, чашечки и все прочее об¬
ладало еще волшебной силой, непререкаемой, как святыня.
А я все это уже утратил — вот в чем был главный смысл
события, вот что будоражило и пугало: во мне зародилось
представление о прошлом! Ганс был ребенком, а я вдруг
узнал, что я не ребенок больше и никогда им не буду! Гансу
его столик с подарками представлялся райскими кущами, а
я не только не чувствовал больше ничего подобного, но с
гордостью осознавал, что слишком вырос для этого, — с
гордостью, но и почти с завистью. Я смотрел теперь на сво¬
его братца, который только что был со мной одно, как бы
со стороны, сверху вниз, критически и в то же время сты¬
дился того, что мог таким образом относиться к нему и его
глиняной посуде, колеблясь между сочувствием и презре¬
нием, между превосходством и завистью. Один лишь миг
создал эту дистанцию, вырыл эту глубокую пропасть. Я
вдруг увидел и понял: я больше не ребенок, я старше и ум¬
нее Ганса, но и — во мне больше холодности и зла.
Ничего не случилось в тот рождественский вечер, кроме
того, что проклюнулась во мне толика взрослости, причи¬
нив некую боль, что сомкнулось в процессе становления
моего «я» одно из тысячи колечек, но на сей раз, в отличие
от многих прочих, произошло это не в темном неведении —
на какое-то мгновение сознание мое проснулось и запечат¬
лело этот миг; я не понял еще, но противоречия моих ощу¬
щений мне уже отчетливо намекнули, что нет роста без
умирания. Словно лист упал с древа в тот миг, отвалилась
сухая чешуйка. Все это происходит во всякий час нашей
жизни, ибо несть конца становлению и увяданию, да только
крайне редко сознание наше бодрствует, замечая все это. С
той секунды, как я увидел озаренное восторгом лицо брата,
я узнал о себе и жизни целую бездну такого, о чем и не
догадывался, еще входя в комнату с ее праздничными аро¬
матами или распевая вместе со всеми рождественскую пес¬
ню.
Я потом часто вспоминал обо всем этом, всякий раз
удивляясь тому, насколько точно уравновешены были в па¬
мятном переживании противоположные чувства: возросше¬
му самосознанию соответствовало смутное чувство вины,
чувству повзросления — чувство утраты, превосходству —
терзания отягченной совести, насмешливой отстраненности
от младшего брата — потребность просить у него прощения
за это, воздавая должное его невинности. Звучит все это
140
как-то очень уж запутанно и непросто, но в моменты про¬
буждения мы и на самом деле менее всего просты, перед
лицом голой истины мы всеща теряем уютное чувство без¬
условной веры в самих себя, теряем уверенность, свойст¬
венную спокойной совести. В такие моменты человек спо¬
собен убить скорее себя, чем кого-либо другого. В такие мо¬
менты человек особенно уязвим, ибо ничем не защищен от
вторжения истины, а научиться любить истину, восприни¬
мать ее как жизненную необходимость — для этого потреб¬
но многое, ведь человек, в конце концов, существо смерт¬
ное и по одному этому глубоко враждебен истине, которая,
увы, никогда не бывает такой, какой нам желалось бы ее
видеть, она всегда неподкупна и неумолима.
Так и мне открылась она в ту секунду пробуждения. И
пусть я мог забыть о ней секунду спустя, пусть мог потом
сгладить и приукрасить ее по общелюдскому обыкновению.
Все же какая-то яркая вспышка или, скорее, трепщна на
гладкой поверхности жизни, какой-то испуг или предосте¬
режение в памяти запечатлелись. И хранятся в ней в чис¬
том виде, без приукрашиваний и перетолковываний: испуг,
вспышка.
Сам еще почти ребенок, я вдруг воочию увидел перед
собой свое увядшее детство — в личике брата, это было яв¬
ление, а те размышления и умозаключения, которым я
предавался в последующие часы и дни, были как сползаю¬
щая с него шелуха. Само же явление было по крайней мере
прелестным и милым, ведь то, что я увидел и от чего раз¬
верзлась на какой-то момент моя душа, было картинкой чу¬
десной и в краткости своей благородной — мне предстала
сама просветленность детского лика вообще. И все же, по¬
вторяю, действие этой картинки можно сравнить со вспыш¬
кой или испугом, всегда сопутствующим такому мигу про¬
буждения, ибо у истины миллионы ликов, но сама истина
одна. Мне показали, что малышка Ганс обладает чем-то
прекрасным и драгоценным, что я утратил, чего я лишился,
что было, может быть, самым лучшим и единственно важ¬
ным во мне, ибо восторжествует некогда детская благость,
а взрослым будет заповедано у врат царства Божьего: «Ис¬
тинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как де¬
ти...»* Я утратил невинность и счастье и заметил это лишь
потому, что увидел их в глазах другого человека. Этот опыт
принес мне знание: чем мы владеем, того не замечаем, о
том даже не ведаем. И я был ребенком, не зная об этом, а
141
теперь вот прозрел. В лучистых, нежно озаренных улыбкой
глазах я узрел счастье, которое даровано только тем, кто
ничего не знает об этом. Оно выглядело лучезарным и не¬
отразимо обаятельным, это счастье. Но в нем было и нечто,
над чем можно было посмеяться, почувствовать свое пре¬
восходство, в нем была детскость, которую я склонен был
рассматривать как наивность, почти как глупость. Оно, это
счастье, вызывало зависть, но и насмешки, и если обладать
им я больше не мог, то уж насмешки и критика оставались
при мне. Ученики Спасителя, должно быть, так же иной
раз смотрели на прославляемых им детей, как я на Ганса,
то есть с завистью, но и с насмешкой. Они чувствовали себя
взрослыми, умными, опытными, знаюпщми, они чувство¬
вали свое превосходство. Да только взрослость, ум, чувство
превосходства не дают счастья и не сулят блаженства и не
вводят в Божие царство.
Вот тот. осадок горечи, что остался во мне после этой
вспышки пробуждения. Но эта горечь была еще не вся. Ус¬
тыжающий урок заключал в себе мораль ддя меня самого,
но была и другая мораль — для всех: она язвила душу в
первый момент не так сильно, но зато и действовала глуб¬
же — такова уж природа истины, всегда неприятной и не¬
преклонной. А дело было в следующем: ведь и то счастье,
которым обладал Ганс и которым так светилось его лицо,
ведь и оно не было долговечным, ведь и ему суждено было
увянуть, пропасть, ведь и я им владел, да утратил, так бу¬
дет и с Гансом, владеющим им теперь. И оттого, что я это
знал, я испытывал к Гансу — помимо зависти и насмепжи —
еще и жалость. Жалость не обжигающую и порывистую, но
кроткую, щемящую, какую можно почувствовать к цветам
на лугу, обреченным секире косца.
Повторяю: разумеется, те понятия, с помощью которых
я пытаюсь описать и истолковать то, что происходило в
моей душе, тогда еще не были мне доступны. Я еще не умел
анализировать свои состояния, хотя приступил к этому в
тот же вечер и продолжаю заниматься- этим до сих пор,
вплоть до того момента, как сел писать об этом. Многие мои
мысли по этому поводу возникли, надо полагать, значи¬
тельно позднее, например мысль о смерти, которой у меня
тоща наверняка не было. Конечно, при виде улыбающегося
брата у меня мелькнула мысль о том, что все проходит, но
текучесть и смерть в глазах ребенка далеко не одно и то
же. Что мое детство не вечно, что лучшее в нем уже на¬
142
всегда отошло — все это миг пробуждения сказал мне до¬
статочно внятно, как сказал и другое: что и братец мой .по¬
теряет все это, что общий закон распространяется и на него.
Но о том, что закон этот именуется смертью, у меня поня¬
тия еще не было, потому что о смерти я еще ничего не знал
и в нее не верил. О бренности же мне было хорошо известно
из наблюдений природы и чтения поэзии; то, как падают
листья, я наблюдал уже достаточно часто. А что всякое
«пробуждение», всякое соприкосновение с действительно¬
стью и ее законами означает, среди прочего, и соприкосно¬
вение со смертью — этого я еще не знал, хотя уже как-то
по-своему, с содроганием души, догадывался.
Когда я начинал эти заметки, то хотел лишь воскресить
в воображении тот миг Рождества в отчем доме, о котором
я уже рассказал, и сделать это письменно, потому что, ког¬
да пишешь, те же самые мысли или события душевной жиз¬
ни предстают вдруг в ином свете, являют новые стороны,
вступают в новые связи. Теперь, однако, я вижу, что то
маленькое событие хоть и стоит во всей своей отчетливости
перед моим внутренним взором, как если бы случилось вче¬
ра, но другим людям, посторонним, крайне трудно дать о
нем представлен»^. Даже если бы я был великим писате¬
лем, я бы не смог так описать сияние счастья и невинности
на личике моего брата, чтобы это описание стало чем-то
значительным и для другого, для читателя. Ведь если и есть
смысл делиться этим воспоминанием, то вовсе не ради того,
чтобы поярче описать сияющее лицо Ганса, а ради того,
чтобы сообщить, что было со мной самим. Просияв, Ганс,
сам того не ведая и так и не узнав об этом, дал мне повод
пережить маленькую драму потрясенного пробуждения. И
тут я неожиданно делаю открытие: мой маленький брат
Ганс отнюдь не впервые дает мне, сам того не подозревая,
повод пережить подобную драму. Чтобы справиться с вос¬
поминанием о рождественском вечере, я не должен рас¬
сматривать его изолированно, отдельно, но должен — рис¬
куя и в этом случае говорить больше о себе самом, чем о
нем, — дать более развернутую характеристику брата и его
жизни. Я не настолько художник, чтобы создать закончен¬
ный образ брата, к тому же это значило бы, что я самому
себе внушил, будто до хонца узнал и понял его. Тем не
менее я прожил с ним немалую часть жизни, нас сближали
и общая кровь, и кое-какие семейные обыкновения, и, хотя
143
окончательной близости между нами так и не возникло, я
все же очень любил его. Попытаюсь, таким образом, осве¬
тить его жизнь в меру своего понимания очевидца. То будет
совсем небольшая часть его биографии, известной мне лишь
в общих чертах; тем не менее самое существенное в ней,
пожалуй, не ускользнет от моего внимания, поскольку, хо¬
тя мы утратили близость, став взрослыми, наши жизненные
пути в их решающие моменты странным образом перекре¬
щивались, и как ни отличалась его жизнь от моей, она все
же имела значение для меня, а бывало и так, что мне ме¬
рещилось в ней лишь слегка измененное зеркальное отра¬
жение моей собственной жизни.
Крестили Ганса не под его именем, его настоящее, дан¬
ное церковью имя было, как и у нашего отца, Иоганнес. Ни
одному человеку не пришло бы в голову назвать нашего от¬
ца Гансом; Иоганнес — вот было самое подходящее для не¬
го имя, излучавшее достоинство и авторитет и в то же вре¬
мя не лишенное обаятельного величия. Иоанном, как-ни-
как, звали и евангелиста-гностика, любимого ученика
Иисуса. В этом имени сошлись благородство, нежность, ду¬
ховность. И, напротив, никому не пришло бы в голову на¬
звать нашего Ганса Иоганнесом. Он был именно Ганс —
свой, близкий, милый добряк, в нем ничего не было недо¬
ступного и загадочного, как в Иоганнесе, его отце, а потому
его всю жизнь и звали просто Гансом, как это водится иной
раз среди мирных обывателей. И все-таки он не совсем
сросся со своим именем и не настолько лишен был загадки,
как это казалось. Тайна жила и в нем, как было в нем и
что-то от благородства его отца, что-то рыцарское, донки¬
хотское.
Он был среди нас, братьев и сестер, самым младшим,
как младшенького его все любили, опекали, но подчас и
задирали; хлопот родителям он не доставлял никаких, раз¬
ве что в тот единственный раз, когда в четыре года пропал.
Жили мы тогда на самой окраине Базеля, там, где за Шпа-
ленрингом и старинной эльзасской железной дорогой город
переходит в предместья. И вот однажды малыш отправился
гулять один, ушел далеко от дома, пересек железнодорож¬
ное полотно и отправился бродить по городским улицам,
где его за первым же поворотом ждал неизведанный, инте¬
ресный мир, в который он устремился с большим любопыт¬
ством. Где-то он встретил детишек своего возраста, присо¬
единился к ним, стал играть в их игры, научил их, уж вер-
144
но, своим, потому как всякие игры были его настоящим
призванием, неизменным на протяжении всей его жизни.
Он понравился своим новым товарищам, соблазнив, по-ви-
димому, и их свободой от заведенного в мире порядка —
играли они до темноты, пока за ними не пришли родители
и не увели их домой. Ганс отправился с ними, и, поскольку
дети не хотели с ним расставаться, а их родителям он тоже
приглянулся, его оставили сначала на ужин, а потом и на
ночь — он хоть и знал свое имя, но не знал, где живет. Мы
провели ту ночь без Ганса, его не было, он исчез, может,
упал в Рейн, а может, его украли, во всяком случае, что-то,
видно, стряслось и родители были в панике. Утром любез¬
ные хозяева, приютившие Ганса, сообщили о малыше в
полицию, и, поскольку там уже знали о его исчезновении,
за ним немедленно приехали. Незнакомое семейство отзы¬
валось о мальчике с большой похвалой, особенно о том, как
он молится за столом и перед сном. Было похоже, что и сам
он неохотно расстается с ними. Мы же очень обрадовались,
что он снова с нами, и всем с гордостью рассказывали о том,
какой у нас необыкновенный брат и какие с ним приклю¬
чаются истории.
Лишь годы спустя, когда мы уже переехали в Кальв к
деду и Ганс поступил в гимназию, с ним снова возникли
проблемы. Эта гимназия, которая немало крови попортила
и мне, для него стала просто источником‘трагедии, хотя и
совсем иначе и по другим причинам. Когда я позднее, начав
писательскую карьеру, излил по поводу подобных школ на¬
копленную желчь в повести «Под колесами», то материа¬
лом мне послужило не только собственное учение, но и мы¬
тарства брата. Ганс был полон благих порывов, он был по¬
слушен, был готов уважать старших, но учеником он был
неважным, многие предметы давались ему с трудом, а по¬
скольку в нем не было ни простодушной флегмы, с какой
иные сносят унижения и наказания, ни одержимости тех,
кто ожесточается, то он оказался в категории учеников, ко¬
торых особенно ненавидят учителя, то есть дурные учите¬
ля, которых они постоянно шпыняют, мучают, травят. Дур¬
ных учителей в гимназии обнаружилось великое множест¬
во, один же из них, настоящий дьявол в неказистой плоти,
просто довел Ганса до отчаяния. Среди прочего у этого гос¬
подина была привычка во время опроса придвигаться к уче¬
нику с угрожающим видом вплотную, рычать и рявкать на
него как на жертву, а когда напуганный школяр терялся и,
145
естественно, начинал заикаться, учитель начинал нараспев
повторять свой вопрос по многу раз, выстукивая ритм же¬
лезным ключом от дома на голове опрашиваемого. Позднее
брат рассказывал мне, что целых два года этот маленький
тиран не только мучил его днем, но и преследовал в ночных
кошмарах. Нередко Ганс приходил из школы с жуткими го¬
ловными болями и в смертельном страхе. Свидетелем его
самых ужасных школьных мытарств я не был — не жил в
это время с родителями, в свою очередь доставляя им не¬
мало хлопот.
Спустя много лет Ганс уверял меня, что отец воспиты¬
вал его в большей строгости, чем меня. Может, он и обма¬
нывался, но, скорее всего, был прав: младшему брату, ко¬
нечно же, приходилось расплачиваться за те педагогиче¬
ские ошибки, 4to были совершены в отношении меня.
Впрочем, и мне в детстве пришлось хлебнуть немало, не¬
смотря на неисчерпаемую любовь матушки и по-рыцарски
тактичную и нежную натуру отца. Строгими и жесткими
были не они, а принцип. То был пиетистский христианский
принцип, согласно которому человек от природы погряз во
зле и зло это должно быть искоренено, дабы человек спо¬
добился Божией милости и спасения дупш в христианской
общине. Соответственно этому нас и воспитывали, и хотя
родители наши были люди мягкие и нас любили, так что
всяких спартанских ограничений, а тем паче телесных уве¬
щеваний на нашу долю выпало немного, не то что на долю
наших школьных товарищей, отцы которых — вовсе не
христиане и не идеалисты — были скоры на расправу и чуть
что сажали детей под замок, тем не менее жизнь наша под¬
чинялась суровому закону недоверия к молодому человеку,
к его естественным наклонностям, стремлениям, потребно¬
стям и задаткам, закон этот вовсе не склонен был потакать
нашим врожденным, совершенно особенным способностям
и талантам, а тем более поощрять их. Правда, тем про¬
странством, на котором довлел над нами этот закон, было
не узилище и не аскетически строгое учебное заведение, но
родительский дом, полный любви, согласия, знаний, духов¬
ности и всяческой культуры; помимо упомянутого закона в
нем обитало множество прелестных, милых, живых и за¬
тейливых привычек, обыкновений, игр и занятий; в нем пе¬
ли и музицировали, рассказывали сказки и читали книжки,
выращивали в саду цветы и всей семьей затевали по вече¬
рам игры, отчасти придуманные отцом, совершали прогул¬
146
ки и вылазки на природу, к цветам и деревьям, украшали
комнаты по праздничным дням. И верховодили при этом
родители, являвшие почтенные образцы христианского об¬
раза жизни, не святые, нет, но живые, одареюдае, ориги¬
нальные, душевные люди, обладавшие многими замеча¬
тельными умениями — оба складно рассказывали и отмен¬
но писали письма, а матушка иной раз и стихи, отец любил
науку, в особенности немецкий и иностранные языки, он
изобретал всевозможные игры в слова, придумывал загадки
и каламбуры. Вопреки закону, вопреки постоянному про¬
тивостоянию невиновности и совестливости жизнь в нашем
доме была полной и разнообразной, в ней не было ни мрака,
ни скуки. Размолвки и конфликты, конечно, бывали, закон
отбрасывал свою тень, но были и праздники, и веселье, и в
гостях никоща не было недостатка.
Из богатств этой жизни, всякий день которой начинался
и кончался чтением Библии, песнопением и молитвой,
каждый из нас, детей, черпал свое. Можно предположить,
что брат мой Ганс, с его и без того подорванной в гимназии
верой в собственные способности, чувствовал себя не очень-
то уютно в атмосфере культа науки и искусств., царившей
в нашем доме. Можно предположить, что он воспринимал
отца и деда, посвященного в тайны индологии, обращавше¬
гося иной раз к посещавшим его юным коллегам — пугая
и восхищая их в одно время — с приветствиями на санскри¬
те, — что он воспринимал их, а также многих их друзей и
посетителей как некий постоянный укор, как людей, кото¬
рые слишком искушены были в латыни, древнегреческом и
древнееврейском, чтобы оставалась хоть какая-то надежда
сравняться коща-либо с ними, раз уж школьные латынь с
арифметикой давались с таким превеликим трудом. Я не
знаю этого наверное, я только предполагаю. Смятенная и
уязвленная душа Ганса искала отдохновения в иных местах
нашего дома и находила их в музицировании и оживленных
играх, доставлявших ему искреннюю радость и не угрожав¬
ших разбуханию в нем комплекса неполноценности. В пе¬
ние он вкладывал всю свою душу, отдавался ему целиком,
всем сердцем, и это счастье оставалось с ним до конца его
жизни. И в играх он нередко бывал одержим и не реже того
находчив. То были не те, любимые обывателями сидячие
игры, в которых требуется превзойти противника в бди¬
тельности, внимательности, выдержке и комбинаторике,
дабы посрамить его и посмеяться над ним, не те игры, во
147
время которых партнеры зависают напротив друг друга над
досками и фигурами, наморщив лбы и погрузившись в тяж¬
кую думу, — не их любил Ганс и не ими владел виртуозно.
Он отдавал предпочтение играм, которые нужно придумы¬
вать самому. В игре этот тихий и скорее робкий мальчик
полностью забывал себя, вернее, становился самим собой;
забывая о школе и обо всем на свете, он расцветал и бывал
гениален. Всякий незаурядный ребенок нуждается в том,
чтобы уйти на время из мира навязанных ему полупонят¬
ных — или совсем не понятных — законов и правил в соб¬
ственный, придуманный им мир, где ему все понятно; для
Ганса же речь иноща шла о большем — о самой жизни:
чтобы не пропасть в созданном Богом и принятом взрослы¬
ми мировом порядке, чтобы не погибнуть в его жерновах,
нужно было создать себе свой собственный мир и порядок.
Были игры, для которых требовалось много места и вре¬
мени, и были такие, в которые нельзя было играть без раз¬
личных приспособлений — фигур, мячей и так далее. Бы¬
ли, однако, и другие игры, разыгрывавшиеся, так сказать,
в сознании самого игрока, в них можно было играть в лю¬
бом месте и в любое время, даже на глазах у ничего не
подозревавших учителей и родителей. Можно было, напри¬
мер, идти в школу/ если, конечно, не опаздываешь, в ка-
ком-то определенном ритме, под неслышимую музыку,
можно усложнить и орнаментировать этот путь посредст¬
вом особых правил и ограничений, запрепщя себе, скажем,
ступать на определенные камни мостовой или участки тро¬
туара, вводя дозволенные и недозволенные переходы. До¬
рога в школу превращалась таким образом подчас в соль¬
ный танец или выписывание геометрической фигуры. На
уроках этот танец потом можно было продолжить, слегка
барабаня пальцами по скамье или занимаясь ритмической
дыхательной гимнастикой. Можно было еще наметить ка-
кое-нибудь слово и условиться с кем-либо из товарищей:
как только учитель произнесет это слово, то это будет зна¬
чить «я осел». Потом, коща слово произносилось, то есть
когда учитель признавался в своей принадлежности к осли¬
ной породе, достаточно было только перемигнуться с това¬
рищем, чтобы разорвать мертвую скуку школьного урока,
насладиться тайным триумфом.
Но больше всего мы любили шарады и театр. Сцены у
нас никоща не было, и мы не разучивали пьесы наизусть,
но все-таки сыграли немало ролей — иноща перед своими
148
братьями и сестрами, чаще наедине. Иной раз мы настолько
вживались в свои роли, что не расставались с ними неделя¬
ми. Едва оканчивались уроки, молитва или обед и мы ос¬
тавались наедине с Гансом, как мы тут же снова превраща¬
лись в разбойников, индейцев, волшебников, китобоев, за¬
клинателей духов. Когда находилось хоть несколько зрите¬
лей, мы всего охотнее играли волшебников. Я был магом,
Ганс — моим учеником и ассистентом. Подобные представ¬
ления лучше всего удавались по вечерам, отчасти потому,
что и мы сами, и зрители наши только к вечеру обретали
соответствующее настроение, отчасти и потому, что темно¬
та была нашим лучшим союзником при проделывании раз¬
ного рода фокусов. В нашем большом старом доме был зал
с балконообразной галереей для оркестрантов наверху: в
минувшем веке в нем танцевали, мы же приспособили его
для представлений. Зрители — дети и служанки — сидели
на низенькой скамье и нескольких сундуках в одном конце
зала, в другом его конце находился я, чародей, рядом со
мной был столик, на котором лежали все мои атрибуты вол¬
шебства и стояла керосиновая лампа. Ганс, ученик мой и
помощник, выполнял мои команды, помогая мне в тайных
манипуляциях. Мы с ним пользовались длинными и торже¬
ственными формулами заклинаний, которые я не уставал
всякий раз удлинять, что и составляло для нас главное удо¬
вольствие; произнося скороговоркой или с рыком эти 4юр-
мулы и восклицания, мы погружались в таинственную ат¬
мосферу отважных магических предприятий и могли бы
удовольствоваться одним этим. Однако публике этого было
мало, она желала, чтобы мы не ограничивались деклама¬
цией, псалмопением или произнесенными шепотом закли¬
наниями, хотя иная маленькая кузина или соседская дочка
уже и от этого приходила в экстаз или испытывала смерт¬
ный ужас; от нас ожидали, что мы что-нибудь и покажем.
Когда я в фантастической одежде и в остроконечном бу¬
мажном колпаке стоял в нешироком круге света от лампы
и ронял в темноту свои заклинания и призывы, обращенные
к духу или дьяволу, и когда наконец что-то во тьме начи¬
нало медленно и словно бы нерешительно, маленькими тол¬
чками придвигаться ко мне — например, поскрипывая и по¬
громыхивая об пол, двигался в моем направлении какой-
нибудь стул или табурет (это Ганс тянул его на веревке), —
то все мы становились как зачарованные, а кое-кто из зри¬
телей испускал и вопль ужаса. Однажды, отдавшись декла¬
149
мации и целиком войдя в роль мага, я приказал своему по*
мощнику Гансу посветить мне. Он схватил тяжелую лампу
и, покачнувшись, застыл с нею на месте. Я в нетерпении
заорал громовым голосом: «Как, ты медлишь, злосчастный?
Подай ее сюда, ничтожный червь!» Этот окрик так ошело¬
мил бедного Ганса, что он выронил зажженную лампу и мы
чуть было не спалили и зал, и весь дом и чуть было не сго¬
рели самй.
В общем и целом отношения мои с Гансом были вполне
нормальными, обыкновенными между братьями, и мне не
в чем себя упрекнуть. Не все шло гладко и ладно, случались
и ссоры, и потасовки, и ругань: я был намного старше, а
стало быть, сильнее. Ганс был по сравнению со мной маль¬
чиком хлипким, и с этим уж ничего нельзя было поделать.
И все же^ коща я вот так вспоминаю о Гансе и той нашей
поре, перед глазами нет-нет да встанет картина, словно бы
уличающая приятность этого воспоминания во лжи.
Картина эта на всю мою жизнь врезалась в память с та¬
кой же резкостью и отчетливостью, как и та, другая, с вос¬
хищенным Гансом под елкой на переднем плане. Я вижу,
как Ганс стоит передо мной, вобрав голову в плечи, оттого
что я в ярости замахнулся на него. На его безмолвном лице
застыли беззащитность и страдание, в глазах — упрек. Еще
одно событие и — пробуждение! Тот укоризненный взгляд
глубоко поразил меня, хотя и не успел удержать мою руку.
Кулак мой опустился на его плечо, и я в смятении убежал
прочь, словно сразу очнувшись. Воздевал кулак я в полной
уверенности в своей правоте, с чувством господина, оскор¬
бленного неповиновением слуги, с чувством справедливого
возмущения, весь охваченный гневом, воинственным пы¬
лом, воздевал решительно, без колебаний, — а опускал его
уже с разладом в душе, с отягченной совестью, стыдясь сво¬
его гнева и учиненного насилия, вспоминая о других таких
же случаях, когда я злоупотребил своим превосходством в
возрасте и силе. В глазах брата моего Ганса, в этом взгляде,
который мне так хотелось забыть, но никоща не удавалось,
я опять столкнулся с правдой жизни, прочитав в этом стра¬
дании и этой беспомощности такое обвинение, что вся моя
картинная ярость и уверенность в себе разом исчезли и я
испытал еще одно ужасное пробуждение: впервые в жизни
я почувствовал, нанося удар, боль и унижение того, кого
били, и в глубине души пожелал, чтс^ы он не сносил все
молча, но взорвался бы и дал мне отпор.
150
Вот те два портрета Ганса, что врезались мне в память
со времен его детства, и только они сохранились в ней из
тысяч других: Ганс дитя, пришедшее в восторг из-за гли¬
няных рождественских пустячков, просиявшее над ними,
будто ангел, и Ганс — мальчик, с немым укором в глазах
ожидаюпщй моего удара. В те часы, коща я склонялся к
тому, чтобы смотреть на свою жизнь как на цепь ошибок и
неудач, оба лика моего брата неизменно вставали перед мо¬
им внутренним взором: дитя сияющее и дитя страдающее,
а рядом возникал и я — в сознании своего превосходства в
возрасте и силе, но и в корчах стыда и раскаяния.
Не думаю, чтобы коща-нибудь после этого я еще бил
Ганса. Потому и сохранились в памяти те мгновения, что
были чем-то из ряда вон выходящим; ведь вообще-то мы
жили хорошо и дружно, лучше, чем многие другие братья.
И все же то мгновение, в которое я ударил Ганса, открыло
мне больше правды о жизни, чем все прочие проведенные
с ним месяцы и годы. Зла и вины во мне было не больше,
чем в ком-нибудь еще, я знавал многих, кто жил припева¬
ючи, совершив и куда более тяжкие грехи; но у меня от¬
крылись глаза, то мгновение показало мне, как устроена
жизнь, как мы, люди, живем, как большой и сильный всег¬
да притесняет слабого, как слабые всеща терпят поражение
и вынуждены терпеть и как все-таки превосходство и право
сильного оказываются несостоятельными, а правда — на
стороне тех, кто терпит; как легко и тупо совершается не¬
справедливость, но и как один только взгляд жертвы может
иной раз покарать того, кто эту несправедливость совершает.
Меж тем пора, когда я играл хоть какую-то роль во вся¬
кий день жизни брата, миновала. Я уехал в другой город и
возвращался домой только по праздникам и на каникулы.
Я отдалялся от Ганса, у меня появились друзья среди свер¬
стников, а еще больше среди тех, кто был постарше; у Ганса
также были свои школьные заботы и свои друзья, и однаж¬
ды, поскольку я бросил занятия музыкой, он получил мою
скрипку и стал прилежно разучивать гаммы. О его школь¬
ных тяготах я тоща вряд ли что-нибудь знал, о них он мне
рассказал много позже. Для меня он оставался ребенком,
был лишь символом моего собственного детства, даже тоща,
коща его давно уже поглотили неприятности и заботы. На
каникулах, бывших всякий раз как приятное возвращение
в мир детства, какая-то смутная сила заставляла меня сно¬
ва затевать игры детских лет, и тогда Ганс опять становился
151
моим партнером, и порой казалось, что минувших лет как
не бывало. Мы снова принимались играть — в обычные иг¬
ры, с мячом или битой, и в наши собственные, нами при¬
думанные. И чем старше я становился, чем дальше в буду¬
щее простирались мои планы, тем больше ценил я Ганса
как мастера игры. Он все еще был способен целиком пре¬
даваться игре, уходить в нее с головой, всеми своими по¬
мыслами и побуждениями, нисколько не заботясь о вещах
более «серьезных» и «важных», игра захватывала его всего,
без бстатка.
Тот Ганс, каким я тогда его знал, играя с ним по целым
дням на каникулах, казался мне цельным, законченным
1^ансом, однако то была лишь половина его, повернутая в
светлую сторону жизни, которая в то время была уже на¬
много тяжелее, чем я мог себе представить. Правда, я знал,
что в гимназии ему приходится тяжко, но как-то не заду-
мыв^ся об этом, не вникал толком, да и не до того мне
было — хватало собственных сложностей, планов, надежд.
Гимназические годы Ганса близились к концу, чему он
был очень рад, не меньше радовались и родители. Вопрос
был только в том, какую же ему избрать дорогу. Гимназия
утомила его, от умственных, интеллектуальных занятий он
явно отлынивал, поэтому уместным представлялось освоить
какое-нибудь ремесло; однако его увлечение музыкой и во¬
обще возвышенными предметами, его происхождение — он
был все же из образованной, ученой семьи — все это за¬
ставляло подумать, стоит ли так рано выпускать его в
жизнь, приспособив к делу, которое впоследствии, быть мо¬
жет, не удовлетворит его. Положение оказалось крайне за¬
труднительным, и уже тогда стало ясно, что нашему Гансу
нелегко будет найти себе путь и выбрать место в жизни.
Должно быть, матушка прочла не одну молитву, исписала
не один лист бумаги, рассылая озабоченные письма, а вся
семья провела не один совет, прежде чем решились отдать
Ганса в ученики к торговцу. То была, как выразился отец,
профессия «практическая», ею можно было заниматься как
простым ремеслом, так сказать, на уровне магазина, но в
недрах ее таилось и что-то вроде теории и науки — всякие
там архивы, канцелярии, бюро, из которых выходили и
взбирались вверх по служебной лестнице служители Мер¬
курия, становясь иной раз почтенными министрами, а то и
королями мировой торговли. До этого, однако, было еще да¬
леко, дело покуда свелось к работе попроще; Ганс стал под¬
152
ручным в магазине, учась таскать тюки, вскрывать и зако¬
лачивать япщки, лазить по приставной лестнице и обра¬
щаться с весами.
Теперь и для него, казалось, детство кончилось навсег¬
да. Гимназия выпустила его из своих когтей, но он тут же
попал в новую кабалу, из которой уже не смог выбраться
до конца своей жизни. Он выбрал профессию, которая не
доставляла ему ни малейшей радости, к которой он не ис¬
пытывал влечения, для которой он не обнаруживал доста¬
точной сноровки; он непрестанно стремился ей соответст¬
вовать, но ничего у него не получалось, так что в конце
концов ему пришлось примириться с нею как со своей горь¬
кой и неизбывной судьбой.
Мне известны не все этапы жизни Ганса, хотя связь
между нами не прерывалась. И сколько бы я ни пытался
разобраться в этой жизни и ее понять, дело неизбежно све¬
дется к упрощенной схеме. Были опыты смены мест и ха¬
рактера работы, что-то не клеилось, бросалось, потом сле¬
довал новый приступ. Закончив учение, Ганс очутился в
солидном магазине в соседнем городе, потом он счел необ¬
ходимым поосновательнее освоить всю формальную мето¬
дику своей профессии, то есть бухгалтерию, с этой целью
учился на курсах при торговых школах, затем снова рабо¬
тал в разных местах, потом были еще курсы стенографии
и английского языка, под конец он служил торговым аген¬
том и клерком на различных индустриальных предприяти¬
ях. Нигде он не приживался, не пускал корни, нище рабо¬
та, хоть он и относился к ней добросовестно и серьезно, не
заинтересовывала его по-настоящему и не доставляла удо¬
вольствия: нередко, размышляя о себе и своей жизни, он
приходил в отчаяние. Но с ним оставалась его музыка, его
скрипка, он находил себе товарищей по пению; на протя¬
жении многих лет жизнь ему скрашивало общение с его
сердечнейшим другом, кузеном, с которым он регулярно
обменивался письмами и встречался на каникулах. Однаж¬
ды — Гансу тогда еще не было тридцати и он работал на
какой-то фабрике в Шварцвальде — его так допекло, что
он совсем бросил работу, попросту сбежал, и мы все были
в тревоге и страхе за него. Я как раз недавно женился и
жил в деревне на берегу Боденского озера, вот и пригласил
его к себе отдохнуть. Он приехал, вид у него был гораздо
более измученный и отчаянный, чем он хотел признавать;
помогая ему распаковывать чемодан, я обнаружил в нем
153
револьвер. Он смущенно засмеялся, я тоже, потом все-таки
забрал у него эту штуку на хранение до его отъезда. Со¬
шлись мы в тот раз с ним совершенно по-братски, он про¬
был у меня несколько недель, окреп и повеселел, стал снова
подумывать о работе. И все же я теперь думаю, что какая-
то неясность в наших отношениях появилась уже тогда, ка-
кой-то холодок отчуждения пробежал, чтобы только увели¬
чиваться с годами — без всякой нашей на то вины.
Моя жизнь складывалась тоже не лучше, чем у брата,
непросто и негладко; трагедию ученичества довелось ис¬
пытать и мне, я тоже, хоть и по другим причинам,
взбрыкнул и бросил намеченный путь, к немалому удив¬
лению и огорчению родителей; я вообще походил на брата
тем, что все осложнял себе сам и легко склонялся к тому,
чтобы восхищаться другими, их волей и достижениями, и
сомневаться в себе самом. Оба мы были из породы лишних
людей. Но я постепенно, сначала смутно и неуверенно,
потом все энергичнее и целеустремленнее выходил на тот
путь, о котором мечтал с мальчишеских лет. Даже коща
я после тяжелых препирательств с родителями все же под¬
чинился им и поступил учеником к книготорговцу, чтобы
овладеть хоть какой-нибудь профессией, то сделал это с
расчетом приблизиться к своей цели, то есть это был ма¬
невр или временный компромисс. Я стал продавцом книг,
чтобы прежде всего обрести независимость от родителей и
показать им, что при нужде сумею проявить волю и чего-
то в обывательском смысле достичь; но с самого начала я
смотрел на эту затею как на трамплин или окольный путь,
ведущий к поставленной цели. И в конце концов я цели
достиг, освободившись сначала от родительской опеки, а
потом и от предварительной профессии, — я стал писате¬
лем и мог с этого жить, я помирился со стариками и со
всем обывательским миром и был ими признан. Я женил¬
ся, поселившись вдали от всех городов в красивой местно¬
сти, жил, как душе моей было угодно, наслаждаясь при¬
родой и книгами, а что до проблем и трудностей, которых
вдоволь и в такой добровольно избранной жизни, то в то
время они еще не открылись мне в полной мере. Для гос¬
тившего у меня Ганса, с которым мы гуляли по окрестно¬
стям или плавали на лодке по озеру, я был человеком со¬
стоявшимся, жизнь которого удалась. Он же, как ему ка¬
залось, не состоится никоща, и жизнь его никоща не уда¬
стся. Обреченный заниматься делом, в котором он заведо-
154
МО ничего не достигает, убежденный в собственной несо¬
стоятельности, не верящий в свои силы, безнадежно за¬
стенчивый с женщинами, не лелеющий в сердце никакой
мечты, на осуществление которой он мог бы надеяться,
Ганс полагал, что между нами пропасть; я-то этой пропа¬
сти долго не замечал, но с годами она углубилась настоль¬
ко, что не могла не бросаться в глаза и мне.
Разумеется, и в его ду1пе жил идеальный образ истин¬
ной жизни и настоящего счастья, но желаемое не проеци¬
ровалось на будущее, оно было обращено в прошлое, в по¬
терянный рай детства. Он привык к тому, что он в семье
самый младший и меньше всех знает, школа еще больше
внушала ему сознание его малости, на службе его легко
обходили те, в ком было хоть сколько-нибудь твердости и
веры в себя. Что касается внешней стороны жизни, то он
научился с годами подчиняться необходимости и по край¬
ней мере зарабатывать себе на хлеб, но его жизнь внут¬
ренняя вся была повернута в сторону детства, к миру игр
и мечтаний, и песен, и беспричинного смеха, и бесцель¬
ных прогулок, к миру безвинному, полному эмоций, не
знающему борьбы.
Он снова устроился на работу, снова стал заниматься
английским, играть на скрипке, петь в хоре. Помимо му¬
зыки, было и еще нечто, ^агодаря чему он мог жить, от¬
дыхать, парить, раскрепощаться и расцветать, — то было
общение с детьми. Где бы он ни жил и ни работал, стоило
в пределах его досягаемости оказаться каким-нибудь при¬
ятелям, у которых были дети, как можно было с уверен¬
ностью предположить, что он проводит у них все воскре¬
сенья, что он всеща готов играть с детьми, что он, това¬
рищ и дядя в одном лице, всеща готов разделить и понять
любые их желания и капризы. Они очень любили его, эти
малыши и подростки, с которыми он занимался музыкой
или разыгрывал шарады, которых вводил в свой поистине
поэтический мир игр, они накрепко привязывались к не¬
му, вовсе не догадываясь о том, что их дядя и друг был че¬
ловеком разочарованным и нередко озлобленным. Он, ко¬
нечно, и сам страстно желал иметь детей. Но тут было
много препятствий. На что бы он мог содержать жену,
одевать ее и кормить, платить за квартиру? Чтобы одолеть
все это, надо было принадлежать к тем, кто бодро продви¬
гается вверх по служебной лестнице. К тому же женщины
так неприступны или так разочаровывают, да и как можно
155
давать гарантии какой-нибудь из них, что она всю жизнь
будет обеспечена и счастлива, коща и в себе самом-то ни¬
чуть не уверен? В иные годы мы виделись крайне редко,
жили далеко друг от друга, писали разве что ко дню рож¬
дения. Если выходила у меня книга, я посылал ему, он
всёща благодарил, однако ни разу не высказал своего мне¬
ния, я так и не знаю, понравилась ли ему хоть какая-ни¬
будь из них. За три года до войны он попробовал еще раз
поменять место жительства, в последний раз в своей жиз¬
ни. Он нашел работу в небольшом городишке в кантоне
Ааргау, а я годом позже переехал в Берн, и мы оказались
поблизости; он несколько раз приезжал к нам в воскре¬
сенье на велосипеде, сидел с нами в беседке, играл с на¬
шими мальчиками, мы вспоминали Базель и Кальв, наш
родительский дом. Ганс работал теперь на большой фабри¬
ке, отсиживал в качестве письмоводителя в одном из мно¬
гочисленных бюро, жаловался подчас на скуку пустых
длинных дней, рассказывал о родственниках в Цюрихе, у
которых он проводил воскресенья, играл с детьми. Как-то
■в начале войны я заговорил с ним о политике, он только
слушал и кивал, в газеты он заглядывал редко и никакой
партии не сочувствовал. Впечатление он оставлял стран¬
ное: с одной стороны, он все еще был мальчиком, мальчи¬
ком Гансом, душевный восторг которого я коща-то наблю¬
дал под елкой, с которым я коща-то играл и которого од¬
нажды, со зла, ударил, а он только с }гкором посмотрел на
меня; с другой стороны, он был обыкновенным скромным
обывателем, который говорил приятным баском, имел
привычку, держать голову наклоненной чуть вперед и с ду¬
шевным унынием исполнял работу единственно куска хле¬
ба ради — мелкий служапщй, терпеливый труженик^
Все же, помимо скрипки и воскресных игр или прогулок
с цюрихскими племянниками, были у него и другие резер¬
вы для обновления дзгши и поддержания бодрости духа. Он
был не только сердцем ребенок, он сохранил и прежнюю
благочестивую набожность, в двойном смысле этого слова:
он был чист сердцем, преисполнен самой почтительной
любви к людям и мировому порядку; и он был исправным
христианином, членом общины. Он смирился с тем, что не
сумел вписаться в мир гешефта и службы, что так и остался
человеком маленьким, подчиненным; он смирился со своей
судьбой, а в те минуты, когда она казалась ему совсем уж
невыносимой, жаловался на себя самого, а не на Бога, не
156
на мир, порядки или начальников. Он был совершенно, апо-
литотен и не позволял себе критиканства, аскетом или аб¬
стинентом он не стал, но скромник был крайний и денег не
транжирил, потому что они доставались ему с трудом. Ве¬
чер или два в неделю он пел в церковном хоре, разучивал
старые хоралы и новые песни; в церкви им дорожили, на
него полагались.
Во время войны Гансу жилось по видимости легче, чем
мне. Политика его не волновала, жил он скромно, но на¬
дежно, а миром, как он видел, правили не министры и ге¬
нералы, но Господь Бог. Однажды во время войны все мы,
братья и сестры, собрались еще раз — хоронить отца. Сно¬
ва мы были все вместе, хоть и не в старом родительском
доме, но все же вокруг отца, и, несмотря на печаль тех
дней, могли вдоволь наговориться и сблизиться, как в дет¬
стве, чтобы разделить ско(^ь, но и счастье нашей близо¬
сти.
К концу войны от той беззаботной свободы, которой я
привык наслаждаться, не осталось и следа. Домашний ка¬
бинет мне пришлось сменить на казенное бюро, о благосо¬
стоянии не могло быть и речи, мое рабочее и упоительно
праздное затворничество кончилось, корчи и судороги ми¬
ра вновь настигли меня, и даже музыка, всегда служившая
мне последним и сокровеннейшим утешением, сделалась
вдруг невыносимой. Ко всему прочему, тяжело заболела
моя жена, я вынужден был расстаться с детьми, казалось,
все рушится, и дом и жизнь моя опустели, и я с ужасом
ждал, что будет. Как раз в это время, осенью 1918 года,
пришло письмо от Ганса, которым он приглашал меня на
свадьбу. Он обручился, луч света упал на его жизнь, он
еще раз хотел испытать, дастся ли ему счастье.
Мне выпала роль представлять на свадьбе наше семей¬
ство, все прочие его члены остались в Германии, граница
была закрыта, и это разделяло надежнее, чем двадцать
градусов широты. Откликнуться на этот зов было трудно,
я был завален работой, лихорадочные и изматывающие го¬
ды войны превратили меня в человека робкого и издерган¬
ного, еще способного на то, чтобы в силу необходимости
заполнять свои дни поденной работой и в ней находить за¬
бвение, но давно уже не способного предаваться радости и
веселью, а тем более участвовать в каком-нибудь торже¬
стве. Все это, впрочем, на один день можно было бы еще
как-нибудь превозмочь, но эта свадьба внушала мне опа¬
157
сения не только из-за меня самого. Мое семейное счастье
только что окончательно рухнуло, и мне казалось, что в
тысячу раз лучше было бы, если б я вообще не женился;
в горячке памяти я снова перебирал в уме все те колеба¬
ния, которые сопровождали мое решение жениться четыр¬
надцать лет назад и не оставляли меня вплоть до самой
свадьбы. Нет, присутствие мое на свадьбе Ганса не прине¬
сет ему счастья. Ничего путного не могло выйти из его,
как и моей, попытки жениться, то есть взять на себя обыч¬
ную роль бюргера, на это мы с ним не годились, наш
удел — ^ть отшельником, каким-нибудь ученым или ху¬
дожником, скорее схимником-пустынножитеяем, чем суп¬
ругом и отцом. Слишком много было в свое время потра¬
чено сил на то, чтобы, как выражалась педагогика того
времени, «сломать волю» в нас, детях; в нас и на самом
• деле что-то сломали и покорежили, но только не волю, не
то самовитое, врожденное, неистребимое, что сделало нас
изгоями и чудаками.
В то же время об отказе и отговорках нечего было и
думать. Как я ни был издерган и подавлен собственным
несчастьем, я все же отдавал себе отчет в том, насколько
было бы нелепо и несправедливо не пожелать от всего сер¬
дца счастья брату^ не порадоваться вместе с ним, а омра¬
чить его радость своим отсутствием, в какой-то мере отка¬
зать ему в своем участии и благословении. На собстаенном
печальном опыте я знал, сколь незавидна участь брачую-
щегося, когда он вынужден в одиночку, без поддержки
семьи противостоять взыскательной родне невесты. Поэто¬
му я, облачившись в черное, отправился в Ааргау, ще, од¬
нако, вскоре устыдился со^венной ипохондрии, потому
что взору моему предстала трогательная картина: счастли¬
вый, тихий и застенчивый брат рядом со своей нежной и
серьезной невестой, к тому же сестры невесты вкупе со
своими мужьями оказались людьми очень милыми и мне
приглянулись; то было крепкое, высокорослое племя лю¬
дей, и еще прежде, чем мы все отправились праздновать в
дом тестя, в расположенную неподалеку деревню, я успел
порадоваться за Ганса и подумать, что ему по-настоящему
повезло. Для меня то была первая радость за долгие меся¬
цы, а тот сельский, здоровый и безмятежный мир, в кото¬
рый я окунулся, был, мнилось, за тысячи верст от всех
войн, революций и прочих исторических потрясений. Лад¬
ное и веселое торжество не только успокоило меня, но и
158
доставило удовольствие, а сознание, что мой брат после
стольких метаний и неудач наконец-то обрел уют и покой,
благотворно действовало на мои нервы. Единственное, что
мне не понравилось и что я, как и все, похвалил только
из вежливости, была городская квартира новой четы — на
первом этаже и с окнами на шумную улицу.
Сразу затем наступила пора, когда мне было не до Ган¬
са. Последние месяцы войны, революция поселили столько
тревог и забот в моем одичало-таинственном доме, что
жизнь моя, казалось, замерла и застыла. Только весной мне
наконец удалось собраться с силами и, прихватир с собой
книги, старый письменный стол и кое-какие памячные пу¬
стяки, попытаться начать новую жизнь на новом месте.
Ганс же превратился в добропорядочного семьянина, до¬
вольного тем, что после скучного рабочего дня его ждет его
маленькая родина. У него появилось двое сыновей, и таким
образом он в своей собственной маленькой квартирке обрел
наконец то, ради чего много лет обивал по воскресеньям
пороги чужих домов.
Пропшо года четыре или чуть больше со дня свадьбы
Ганса, когда однажды мне пришлось остановиться на не¬
сколько дней в городе, где он жил. Уже второй десяток лет
он корпел все на той же фабрике и в той же должности,
годы перемен для него давно миновали. Вот только квар¬
тиру, которая мне тогда не понравилась, он за это время
сменил: сам он, как я нашел, стал спокойнее и несколько
постарел — забот, конечно, хватало. Вскоре после женить¬
бы — Ганс мне, правда, этого не рассказывал, я узнал об
этом позднее — начальник бюро, в котором он работал,
вызвал Ганса к себе и стал вежливо внушать ему, что он
хоть и много лет работает на одном месте, выказав себя
работником исполнительным и надежным, но что функции
его очень уж незначительны, а поскольку у него теперь
семья, он не вправе и далее игнорировать определенную
иерархию служащих фабрики, в которой он, Ганс, удов¬
летворялся доселе одной из нижайших ступеней. Человек
с нормальными способностями и желаниями обычно стре¬
мится наверх, где учатся не только повиноваться, но и
приказывать, где, так сказать, не. только тебя подвергают
контролю, но где и ты сам должен контролировать других.
Дорога наверх не закрыта для служащего, который всегда
был на хорошем счету, а теперь вот женился, ему следует
лишь поставить перед собой таковую цель, стремясь при-
159
нести больше пользы, что, разумеется, не останется без
дополнительного вознаграждения. Ёот ему, Гансу, и пред¬
лагают некий пробный срок, чтобы испытать себя на более
ответственной и лучше оплачиваемой работе. Руководство
выражает надежду, что он будет рад такой возможности и
выдержит испытание. Милейший Ганс почтительно выслу¬
шал все это, робким голосом задал несколько вопросов и
потом испросил некоторое время, 'чтобы подумать. На¬
чальник, немало подивившись такой нерешительности, не¬
которое время, однако, дал, и Ганс вернулся на свое рабо¬
чее место. Несколько дней после этого он был до крайно¬
сти озабочен и погружен в себя — взвешивал свое реше¬
ние. По истечении уговоренного срока он явился к началь¬
нику и просил оставить его на прежнем месте. Обо всем
этом он рассказал своей жене, убедив ее в том, что не мог
поступить иначе. Сил, однако, потратил при этом немало.
С тех пор никто не делал ему никаких заманчивых пред¬
ложений, и он навсегда остался на своем скромном месте
за пишущей машинкой.
В то время я еще ничего не знал об этом. Я несколько
■раз побывал у Ганса, как-то в воскресенье ходил с ним и
его семейством в лес, принимал Ганса ^ у себя в отеле, где
мы всласть наговорились за ужином. Мне захотелось
взглянуть и на то место, где работал Ганс. Но туда не пу¬
скали. Ганс стал испуганно отнекиваться, а сторож у фаб¬
ричных ворот, когда я туда явился, меня не пустил. При¬
шлось, что!бы получить хоть какое-то представление о та¬
инственной повседневности брата, занять пост у ворот. Я
пришел к ним перед обеденным перерывом, чтобы уви¬
деть, как он выходит, и пройтись вместе с ним. Ворота бы¬
ли огромны, как в каком-нибудь замке, сразу за ними по¬
мещалась будка сторожа, поглядывавшего в окошко на
улицу. Три дороги вели от ворот к самой фабрике, пред¬
ставлявшей собой целый городок из зданий, двориков,
труб. Дорога посередине был проезжей, слева и справа —
для пешеходов. Я стоял у ворот и ждал, разглядывая пус¬
тынное троедорожие и административное здание, думая о
том, что в одном из просторных его помещений за одной
из многочисленных машинок изо дня в день, из года в год
сидит мой брат и пишет письма. Мир, представший моим,
взорам, был серьезен, строг и несколько мрачен, и стоило
мне вообразить, что и я всю мою жизнь дважды в день —
утром и после обеда — должен был бы входить в эти во¬
160
рота, идти по этой дороге к одному из этих больших не¬
приветливых зданий, получать там в бюро приказы и рас¬
поряжения, писать потом письма и счета, как я тотчас вы¬
нужден был признать, что я на это попросту неспособен.
То есть представить себя на месте владельца фабрики, ее
директора или главного инженера, на месте человека,
обозревающего всю эту машинерию целиком и управляю¬
щего ею, я еще мог, но быть мелким служащим или рабо¬
чим, не иметь представления обо всем производственном
цикле, выполнять одну и ту же операцию или писать под
диктовку одни и те же письма — нет, это уже походило
на копшар. Я напряженно вглядывался в фабричные воро¬
та, думал о Гансе, вспоминал, какое тихое, просветленное,
сияющее лицо было у него в тот бесконечно далекий рож¬
дественский вечер, и сердце мое сжималось.
Потом я увидел, как вдали, между зданий, что-то за¬
шевелилось, показались люди, их становилось все больше,
они приближались к воротам, ко мне, а когда первые из
них прошли мимо и скрылись в улочках города, из ворот
хлынул мощный и непрерывный людской поток, его тем¬
ная масса иатавалась порциями и протекала мимо меня;
людей было много — сотни, тысячи, они заполнили обе
пешеходные дороги, а посередине ехали cotHH велосипедов
и мотоциклов, изредка попадались и автомобили. Тут бы¬
ли и мужчины, и женщины, хотя мужчин было намного
больше, немало и совсем молодых парней с непокрытой
головой, попадались разбитные и веселые говоруны, но ре¬
дко, большинство понуро и молча брело в том темпе, ко¬
торый задавала толпа. Поначалу я еще пытался всматри¬
ваться в )гаца в надежде увидеть Ганса, но, поскольку лю¬
дей на всех трех дорогах становилось все больше и больше
и в сплошном потоке лиц нельзя было разглядеть какое-
либо отдельное, я вынужден был просто стоять посреди по¬
тока, отказавшись от поисков брата. Так простоял я, на¬
блюдая, около четверти часа, пока поток не иссяк и дороги
не опустели, замерев в ожидании возвратного нашествия.
Впоследствии во всякий мой приезд в этот город я всеща
наблюдал сей обеденный анабазис*; иной раз мне удавалось
выловить в потоке Ганса, иноща он окликал меня, а слу¬
чалось, что, как и в первый раз, я уходил ни с чем. И каж¬
дый раз стоять так было для меня и мукой, и поучением.
Коща я отыскивал в толпе брата, видел, как он бредет,
слегка склонив голову, меня охватывала горькая, бесполез¬
^ 161
ная жалость к нему. А коща и он замечал меня и с милой
улыбкой на тихом лице протягивал руку, он вдруг казался
мне старше и умудреннее меня. Его принадлежность к этим
тысячам, его походка ко всему притерпевшегося человека
и чуть усталое, но по-прежнему милое, научившееся тер¬
пению лицо придавали брату, которого я и в зрелые годы
продолжал считать ребенком, печать некоего печального
достоинства, некоей посвященности и испытанности, кото¬
рая умаляла и устыжала меня.
Хотя я л)пппе знал теперь, как он живет, проводя дни
на фабрике, а вечера в кругу семьи, я все.же не удержался
от попыток дать ему представление и о моей жизни, вве¬
сти его, что называется, в свой круг. Он ведь очень любил
музыку и сам был музыкантом, вот я и решил, раз уж он
слышать не хотел ни о литературе, ни о философии, ни о
политике, по крайней мере послушать с ним хорошую му¬
зыку, перетащить его на воскресенье или хотя бы на вечер
из его обывательской среды в нашу богемную, взять его с
собой в Цюрих на оперу, ораторию или симфонический
концерт, , а вслед за тем заглянуть на несколько часов к
моим компанейским друзьям, музыкантам. Раз пять пред¬
принимал я эти попытки, приглашал его со всею настой¬
чивостью и сердечностью, но он ни единожды не поддался
на уговоры, и, разочарованный, я в конце концов сдался.
Ганс не хотел ничего этого, и все тут, не тянуло его ни в
оперу, ни на концерт, ни к моим друзьям. Я же к тому
времени успел забыть, какими невыносимыми казались
мне на третьем или четвертом году войны и музыка, и
компании, и Л1обое напоминание об искусстве, успел за¬
быть, что я ещё мог тоща кое-как влачить существование,
если напрочь забывал обо всех этих драгоценных вещах,
но стоило мне в досужую минуту услышать хоть несколь¬
ко тактов Шуберта или Моцарта, как я был готов разры¬
даться. Я все это забыл или не чувствовал, не понимал,
что и брат мой теперь должен был испытывать нечто по¬
добное, что вся его недюжинная стойкость в служебных
передрягах может вмиг развеяться под натиском музы¬
кального дурмана при звуках «Волшебной флейты» или
«Квартета с гобоем». Мне было досадно, что Ганс отклонил
все мои приглашения, было искренне жаль, что он устоял
против соблазна, реогав довольствоваться своей размерен¬
ной жизнью, не желая всех этих поздних возвращений и
шумных застолий с людьми, перед которыми явно туше¬
162
вался. К этому мы больше не возвращались. Потом я уз¬
нал, да и сам мог заметить, что Ганс не любил, коща его
расспрашивали о брате-писателе. Он любил меня и во все
эти годы был искренне привязан ко мне, но мои писатель¬
ские занятия, мои дружеские связи в художнических кру¬
гах, мой интерес к философии, искусству, истории — все
это тяготило его, от всего этого он уберегал себя, вежливо,
но настойчиво отказываясь участвовать во всем этом.
Я неизбежно задумывался о нашем расхождении, от
которого страдали мы оба: нередко бывало, что, встретив¬
шись через год или два и обменявшись сведениями о здо¬
ровье и родственниках, мы убеждались, что нам больше не
о чем говорить. О причинах этих затруднений я теперь
могу только догадываться. Видимо, брат чувствовал себя
скованно в моем присутствии, вот ему и хотелось казаться
ббльшим обывателем, равнодушным ко всему на свете,
чем это было на самом деле. Ибо среди своих друзей, как
мне потом стало известно, он слыл человеком вовсе не
скучным, напротив, считался славным товарищем и инте¬
ресным собеседником, который мог удивить причудливой
игрой фантазии и ума. Похоже на то, что я для него так
и остался на всю жизнь старшим братом, которого все счи¬
тали более развитым и умным, что я воплощал для него
частицу того Интеллектуального мира, с которым он не
поладил ни дома, ни в ошоле. В нем, как и во мне, были
задатки художника и рассказчика; он видел, что во мне
эти задатки привели к овладению престижной профессией,
я стал в области духа своим, специалистом, а у него, же
все это осталось на уровне любительской и случайной иг¬
ры, сохранившей невинность и безответственность детства.
Однако такое обьяснение — с помощью одной только пси¬
хологии — меня не устраивает. В жизни брата большую
роль играла ведь и религия. Она имела значение и для ме¬
ня, и корни, происхождение этого у нас обоих были одни.
Но если й в юности был сначала вольнодумцем, потом
пантеистом, увлекался различными древними системами
теологии и мифологии и, постепенно мирясь с христиан¬
ским вероисповеданием, все же сберег и свою уединенную
созерцательность, то Ганс сохранил веру своих родителей
или вернулся к ней после некоторых колебаний, он был
набожен не только в мыслях или сердце, но и в обхожде¬
нии с единоверными товарищами по общине. Сомнения,
6» 163
как я знаю, охватывали и его, по временам авантюрные
взгляды его имели мало общего с общепринятыми догма¬
тами веры, но сама вера была составной частью его по¬
вседневной жизни; в течение многих лет и до самой своей
смерти он был истовым членом общины, исправно посе1цал
церковную службу, ходил к причастию.
Вот эта набожность вместе с чувством ответственности
за жену и детей и давала ему силу терпеливо сидеть на
своем явно неудачном и безрадостном месте в жизни прак¬
тической. И оба эти фактора удерживали его от отчаяния.
Он не забивал себе голову мыслями об автомобилях и вил¬
лах, принадлежавших директорам фабрик, не сравнивал
их доходы со своим жалованьем и не терял внимательной
чуткости к окружающим. Работу свою он делал без охоты,
но старательно и послушно, а когда вечером в потоке лю¬
дей покидал фабрику, то тут же забывал и думать о ней,
дома, во всяком случае, речь о ней не заходила. Тут был
дрзтой мир — хлопот и болезней, денежных и школьных
проблем, но и пения и музыки, вечерних молитв, церков¬
ной службы по воскресеньям, прогулок с мальчиками в
лес, куда он непременно прихватывал песенник. Как-то
раз при встрече он пожаловался на перемены в бюро, на
грубость нового начальника. С помощью друзей мне тоща
удалось уладить конфликт. Казалось, все у него обстоит в
меру благополучно. Однако, коща, бывало, я, оказываясь
в его городе, подходил в обеденный час к фабричным во¬
ротам и встречал его, он нередко выглядел очень уж по¬
старевшим и каким-то погасшим, смирившимся и уста¬
лым. А коща на фабрике стало хуже с работой, коща на¬
чались увольнения и понижения зарплаты, а ему в это
время стали отказывать глаза, утомленные многочасовой
ежедневной работой — в зимних сумерках, при скудном
электрическом освещении, — то мне приходилось видеть
его и в весьма подавленном состоянии.
А теперь мне остается рассказать о нашей последней
встрече.
Я опять приехал в горбд на несколько дней; стоял но¬
ябрь; жил я все в том же отеле, ще не раз останавливался
на протяжении последних лет и не раз беседовал с Гансом.
Чувствовал я себя неважно, и, коща отправился к фабрич¬
ным воротам, мне вдруг пришло в голову, что я уже до¬
статочно много , простоял здесь в ожидании брата, много
времени отдал вылавливанию его в сером людском потоке,
164
много раз проехался между этим городом и своим Тесси¬
ном и было бы вовсе не жаль, если б всему этому наступил
конец. Приеду ли я сюда по своим делам еще пять или де¬
сять раз, напишу ли еще одну, две книга или совсем ни од¬
ной — все это вдруг стало мне совершенно безразлично, я
устал в тот год и был болен и не очень радовался тому,
. что еще жив. Поджидая брата, я раздумывал, стоит ли по¬
казываться ему в таком виде, в минуту слабости и хандры,
не лучше ли нам повидаться в другое, лучшее время. Но
тут покатились уже первые волны о^денного людского
потока, и я остался, отыскал Ганса глазами, помахал ему,
он подошел и, как всеща, долго тряс мою руку, и мы от¬
правились вместе с ним в город, забрели там в какой-то
тихий тупичок и стали прохаживаться взад-вперед. Ганс
все выспрашивал у меня что-то о моих делах, но я был не¬
многословен, помня о том, что обеденный перерыв короток
и что его еще дожидаются дома обед и жена. Мы догово¬
рились встретиться у меня в отеле и вскоре расстались.
Точно в условленный час Ганс пришел ко мне в номер
и после нескольких обфих слов, помявшись, заговорил
вдруг сдавленным голосом о том, как тяжко ему теперь
приходится в бюро — настолько, что вряд ли он выдержит
долго; глаза у него болят все сильнее, и сам он чувствует
себя все хуже, а на работе не на кого опереться, одна мо¬
лодежь, нашептывающая на него начальству, так что при
следующем сокращении его могут и уволить. Я испугался —
как-никак не слыхивал такого от него уже много лет.
Спросил, не случилось ли чего-нибудь. Случилось, при¬
знался он, он совершил одну маленькую оплошность. Ему
нагрубил какой-то коллега, и он не выдержал, вспылил,
наговорил лишнего: что все они, мол, против него и что
ему на это плевать, пусть увольняют, да поскорее, он сыт
по горло.
Ганс мрачно смотрел в одну точку.
— Дорогой мой, — сказал я, — ведь это все пустяки!
Коща это было, вчера или сегодня?
— Да нет, уже несколько недель прошло, — отвечал он
тихим голосом.
Я опять испугался. Было ясно, что душевное здоровье
Ганса расстроено. Так досадовать и удручаться из-за та¬
ких мелочей! По неделям испытывать страх из-за одного
неосторожного слова! Я обьяснял ему: если бы начальство
отнеслось к его словам серьезно и действительно намере-
165
валось бы его уволить, то оно давно бы это сделало. Долго
убеждал его, что ничего необыкновенного нет в том, что
молодые коллеги относятся к нему без особой почтитель¬
ности, пусть вспомнит, какими мы сами были в молодости,
как потешались над серьезностью и педантизмом тех, кто
постарше. И со мной такое бывает, когда я общаюсь с мо¬
лодыми людьми, — чувствуешь себя как ржавый гвоздь и
сам себе кажешься скучным, а молодые, как только дто
заметят, тут же начинают подтрунивать и всячески под¬
черкивать, что мы, старичье, никуда не годимся. И так да¬
лее... Прочитал ему целую лекцию, чтобы утешить и под¬
бодрить. И Ганс вроде поддался на уговоры. Он даже при¬
знал, что с молодыми коллегами отношения его не так уж
и плохи, но вот с работой он больше не справляется, сил
уже не хватает, а радости она не доставляла ему никогда.
Как я думаю, спросил он, не поискать ли ему работу в
другом месте, не помогу ли я ему в этом, у меня ведь
столько кругом друзей и знакомых.
И это тоже меня поразило. Я, конечно, всеща был го¬
тов сделать для него все, что в моих силах, и мне по-сво-
ему было даже приятно, что он обращается ко мне с такой
просьбой, но в то же время я понимал, насколько такая
просьба для него тяжела. Видно, дела его совсем уж из рук
вон, коли он обращается ко мне. Он, по всей вероятности,
хотел любой ценой вырваться отсюда, жизнь здесь стала
для него невыносимой. Но, с другой стороны, откуда тогда
этот чудовищный страх перед увольнением?
Я снова пытался успокоить его. Обещал прежде всего
сделать все, что возможно; раз он действительно не может
оставаться на старой работе, мы подыщем ему другую, но
он и сам знает, как с этим теперь непросто, людей ведь
увольняют повсюду. Во всяком случае, неразумно бросать
свое место прежде, чем найдется другое, ведь у него жена
и дети. С этим он согласился, напоминание о семье сразу
его урезонило, было даже похоже, что он сожалеет, что
завел этот разговор. Но я настоял на том, чтобы он выго¬
ворился до конца, чтобы сказал, чего он хочет. Тут он
признался, что не хочет ничего другого, как только вы¬
рваться из бюро, а куда — ему все равно, лишь бы прочь
отсюда. Он знает, как теперь трудно найти место, но он
согласился бы меньше получать, лишь бы поменьше и ра¬
ботать. Он, кстати, вовсе не держится за должность пись¬
моводителя или секретаря, может быть, даже с большей
166
охотой он стал бы сторожить склад или подметать пол,
выносить мусор, разносить почту или что-нибудь в этом
роде.
Позвонили к ужину. Взволнованный его бедами, я еще
раз попытался утешить его, напомнив, что ему и прежде
часто казалось, будто он в тупике, а выход все-таки нахо¬
дился. Предложил ему встретиться и обсудить все еще раз,
пока я в городе, и, если надумаем что-нибудь определен¬
ное, я употреблю всё усилия, чтобы помочь ему. Он, про¬
сияв, согласился. Мы сели за столик, выпили за ужином
по бокалу вина, опять вспомнили старое, Ганс развеялся
и повеселел. В холле была доска, расчерченная для на¬
стольных игр, мы уселись поудобнее и попытались при¬
помнить старые игры, — «мельницу», <щамки», «волки и
овцы». Игровой навык мы оба утратили, но сам вид полей
и фигур, движения рук при ходе, попытки вспомнить пра¬
вила игры чудесным образом перенесли меня в детство,
так что вспомнились вещи, о которых не думалось десятки
лет; запах нашего дубового стола в базельском доме, слу¬
жившего и для игр, и для трапез, массивные железные
шарниры, которыми он крепился, белый овечий пух внут¬
ри стеклянного шарика, которым я тогда владел, надпись'
на внутренней стороне футляра от маленькой гармоники
«Strasbourg — Rue des enfants»^ над которой я ребенком
долго ломал себе голову, разгадывая ее значение, получа¬
лось что-то вроде «Рюшки инфанты». О милый, далекий,
лучезарный мир, о первобытный лес детства! А взглянув
на проигравшего брата, лицо которого искривила лукавая
мальчишеская гримаса досады, я понял, что и он весь во
власти этого волшебства. Каким ароматом давно прошед¬
ших времен пахнуло на нас! И как только могло случить¬
ся, что из нас двоих, пребывавших когда-то в благоухаю¬
щем раю, получились вот эти два стареющих господина,
поигрывающих в гостиничном холле, чтобы хоть как-то
забыть на время о своих горестях!
Простился Ганс, как всегда, рано, а я поднялся к себе
в номер и еще не успел лечь в постель, как настроение ра¬
дужной легкости, скрасившей наш последний совместный
час, улетучилось. Игра и ужин забылись, в ушах стоял
только сдавленный голос Ганса, жаловавшегося на свои
^ Страсбург — Детская улица (франц.) — адрес фирмы.
167
невзгоды и страхи. Таких речей я не слышал от него уже
много лет. На сей раз, по всему чувствовалось, дело обсто¬
яло серьезнее, жизнь брата вступила в полосу тяжелого
кризиса. А с какой затравленностью и страхом говорил он
о своих молодых коллегах, будто и впрямь вся его жизнь
зависела от них! Нерассуждающий ужас, мания преследо¬
вания чувствовались в каждом слове. А эти метания меж¬
ду страхом перед увольнением и страстным желанием уво¬
литься и удрать! Орудовать тряпкой вместо пишущей ма¬
шинки — это я как раз мог понять, и я предпочел бы ме¬
сти пол и разносить почту, чем писать деловые письма и
счета. Это желание, думалось мне, не было болезненным,
напротив, оно оставляло надежду на то, что душевное здо¬
ровье его еще поправимо. Я стал размышлять, у кого бы
из моих знакомых можно было бы справиться о таком ме¬
сте для Ганса. Но среди них не было никого, кто бы и сам
не увольнял людей, кому не составляло трудностей под¬
держать даже старых своих служащих, обремененных
семьей. А если, паче чаяния, все же удастся пристроить
его, то сколько он продержится на новом месте, ще у него
не будет такой мощной моральной поддержки, как двад¬
цать отработанных на одном месте лет? Но уйдет он или
останется, все р^но он будет вынужден вести изнуритель¬
ную борьбу со своим старым врагом — сомнением в себе,
безнадежным страхом перед сложностью и жестокостью
мира. Так я лежал и мучительно думал полночи, пока
глаза мои не смежило от усталости; последним, что в них
стояло, было выплывшее из детства лицо моего брата, ко¬
торого я только что ударил. С этим видением я и заснул.
На другой день на меня свалилось много неожиданных
, дел, пришлось писать много писем и сидеть у телефона; та¬
кая суета продолжалась потом еще несколько дней, а коща
я наконец снова увидел Ганса, мы были не одни, к тому же
он показался мне не таким подавленным и нервозным, как
в тот вечер. Дни мои были заполнены визитами и приема¬
ми. Однако беспокойство о брате не отпускало меня, я твер¬
до решил уехать не црежде, чем еще раз обсужу с ним все
и постараюсь помочь. Может быть, впечатление неблагопо¬
лучия и кризиса, которое оставлял брат, в иное время и не
нашло бы во мне чуткого отклика, но тут я и сам находился
в сходном состоянии. Угрозы моему существованию, кото¬
рые я ощущал как извне, так и внутри себя, обострили мое
внимание к подобным реакциям у других людей, да и обыч¬
168
но скрытный брат так разоткровенничался со мной, веро¬
ятнее всего, потому, что как-то почувствовал эту нашу бли-
зость.
в эти трудные дни настал для меня и момент радости,
коща на воскресенье, как и было условлено, ко мне при¬
ехали оба моих сына. Приехали они в субботу, и я просил
их после обеда отправиться со мной к дяде, надеясь, что
такой неожиданный визит подействует на него благотвор¬
но. Принимали нас в лучшей комнате, дома оказались все —
и Ганс с женой, и один из его мальчиков, а вместо второго
у них жил его ровесник, гимназист из французской Швей¬
царии, приехавший совершенствоваться в немецком, его
родители на это же время приютили Гансова сына. Мои
сыновья разговорились с мальчиками, а я сел рядом с Ган¬
сом на диване. Ганс, как всегда, любезно выслушивал на¬
шу болтовню, но было заметно, что он страшно устал по¬
сле трудовой недели и даже несколько раз подавил зевок.
Выглядел он в своей усталости каким-то размягченным и
безмятежным, не выказывал ни недовольства, ни муки;
его немного знобило, несколько раз он вставал и подходил
к потухшей печи погреть руки на дымоходе. И коща спу¬
стя час мы поднялись и стали прощаться, он стоял у печи,
прислонив обе руки к дымоходу, слегка склонившись впе¬
ред, с лицом усталым, но приветливым. Мы подали друг
другу руки. Таким я его и запомнил: усталый, чуть под¬
рагивающий от озноба, стоит он у печки, явно дожидаясь
того часа, когда можно будет лечь в постель.
У меня не возникло предчувствия, что я вижу его в по¬
следний раз. Более того, этот самый рядовой родственный
визит, в продолжение которого речь по обыкновению идет
о пустяках, усыпил мою тревогу на его счет. Та благопри¬
стойность, с которой он пытался скрыть, что устал и хочет
спать, то, как он тихо и по-субботнему расслабленно стоял
у печки, — все это подействовало на меня завораживаю¬
ще, в этот вечер я видел перед собой не Ганса, детское ли¬
чико которого пылало обвинением, не Ганса в сером пото¬
ке фабричных и не Ганса, путано жалующегося мне сдав¬
ленным голосом на свои невыносимые обстоятельства; се¬
годня передо мной был Ганс повседневный, вернее, суббот¬
ний, — уютно расслабившийся на своем диване отец се¬
мейства, учтиво, хоть и несколько смущенно принимаю¬
щий нежданных визитеров; было видно, что его ждет по¬
стель, а там и воскресный отдых, что он рад этому, как я
169
рад тому, Что проведу завтрашний день вместе с сыновья¬
ми. Ничто не предупредило меня о серьезности его поло¬
жения, не заставило пригласить его к себе уже на после¬
завтра, чтобы обсудить с ним его дела. Мы трое ушли в
хорошем настроении и прекрасно провели остаток вечера
и следующий день.
Через несколько дней, утром — я в шлепанцах и ха¬
лате сидел после утренней ванны у себя в номере за пись¬
менным столом и писал письма, — в дверь постучали;
пришли сообщить, что внизу меня ожидает некий пастор.
Я подосадовал было, что мне помешали, но потом решил,
что еще успею заняться письмами. Оделся и спустился
вниз. За подшивками журналов меня дожидался некто с
седой бородой, а при одном взгляде на него я понял, что
это не визит вежливости. Он представился: оказалось —
пастор общины, к которой принадлежал мой брат. Затем
он спросил, не был ли Ганс у меня сегодня, и тут я сразу
понял, что случилось чтотто неладное, грудь мою так и
сдавило тисками. Сегодня утром, несколько ранее обычно¬
го и, несмотря на прохладную погоду, без пальто, Ганс
ушел из дома, а спустя час из бюро прислали узнать, по¬
чему он не явился на работу. Я рассказал пастору о наших
разговорах с Гансом, о его жалобах. Он знал все — и го¬
раздо больше моего. Страх увольнения за необдуманные
слова был манией: еще до разговора со мной Ганс ходил к
начальнику, и тот заверил его, что он сохранит свое место.
Ганс то ли забыл об этом, ковда был у меня, то ли не за¬
хотел этому верить. Я стал рассказывать пастору о детстве
Ганса, он часто кивал головою — он хорошо знал Ганса и
полностью разделял мои опасения. Правда, мы оба наде¬
ялись, что наихудшие наши предположения не сбудутся —
для жены Ганса это было бы слишком жестоким ударом.
Мы склонялись к тому, что Ганс, вероятно, в припадке ме¬
ланхолии сбежал куда-нибудь в лес, чтобы как-то выра¬
зить свой протест против служебного угнетения; набегав¬
шись и устав, он вернется. На том мы пока и расстались,
и я поспешил к '^ене Ганса. Ум мой был в смятении,, но
инстинкт подсказывал не только внушать ей слова ободре¬
ния, но и самому верить в то, что все обойдется. Я уповал
на детское начало в Гансе, на его веру; как безропотно
принимал он политические обстоятельства и социальный
порядок — даже когда становился их жертвой, — так при¬
знавал он и власть порядка, заведенного Богом, и не ста-
170
нет задувать свечу своей жизни. Он оставит свою душев¬
ную усталость и отчаяние в полях и лесах, побродит там
день или два, до полного изнеможения, а потом вернется
сгорая, вероятно, от стьвда и смущения и ожидая утеше¬
ния, но цел и невредим. То есть физически невредим, в
том, что душа его повреждена, мы оба не сомневались,
жена его была уверена в этом даже больше, чем я. Она со¬
общила мне немало тягостных подробностей о его поведе¬
нии в последнее время, и эти подробности не оставляли
сомнений, что так оно и есть. Недавно, мучимый кошма¬
рами, он так страшно закричал ночью, что разбудил весь
дом. На днях ему почудилось,- что плачет соседка, и он,
указывая в сторону ее дома, сказал жене: «Видишь, как
ужасно плачет госпожа Б. Это она нас жалеет, знает, что
меня скоро уволят и нам нечего будет есть». Жена под¬
твердила, что заверения начальства в том, что Гансом до¬
вольны и не собираются его увольнять, успокаивали его
лишь на короткое время — он им не верил.
Вчера, перед сном, он не стал сам читать молитву, а по¬
просил ее это сделать. Произносил вслух только «аминь».
Сегодня утром встал раньше обычного и ушел, коща она
еще была в постели. Потом она заметила, что он ушел без
пальто. Невозможно и представить себе, чтобы он мог при¬
чинить ей такое горе, разве что в помешательстве, ведь он
был всеща таким чутким мужем.
Я пришел потом снова, о Гансе все еще не было ни слуху
ни духу, тут мы стали раздумывать с ней, не сообщить ли
о его исчезновении полиции. В конце концов решились на
это. Днем его сын обьездил на велосипеде всю округу, кри¬
чал и звал его. Как раз в тот день, после нескольких теплых
и дождливых дней, ударил легкий морозец. Вечером, коща
я возвращался в отель, пошел легкий снежок, в сером ве¬
чернем свете закружились неторопливые снежинки. Мне
было холодно, сердце мое сжималось при мысли о Гансе;
ночь ему и нам предстояла ужасная. В квартире брата всю
ночь горел свет, чтобы он мог сориентироваться, если будет
плутать во тьме; кто-нибудь из семьи постоянно дежурил в
натопленной комнате на тот случай, если он придет. С же¬
ной брата сидела одна из ее сестер, хотя та и сама стойко
переносила несчастье.
Ночь прошла, свет выключили, наступил тусклый хо¬
лодный день — второй без Ганса. Я опять побывал у его
домапгаих, приехала моя жена, мы сидели в отеле, кое-как
171
коротая время. Тут явился визитер, молодой поэт, с кото¬
рым мы в последнее время переписывались и который изъ¬
явил желание со мной познакомиться. Л^я знакомства вре¬
мя вышло малоблагоприятное, уже вторые сутки мы то на¬
пряженно ждали известий, то суетились, то подолгу висели
на телефоне, и я уже потерял всякую надежду. Мы спусти¬
лись в холл — сейчас нам было, конечно, не до светских
разговоров, но, с другой стороны, мы были и рады отвлечь¬
ся, принимая человека, стихи которого недавно с удоволь¬
ствием прочитали. Он приехал из Цюриха, прихватив с со¬
бой рукопись книги, которую должны были печатать, и
приветы от нашего общего знакомого; сам поэт понравился
нам так же, как прежде его стихи. Но не просидели мы с
ним и получаса, как сквозь стеклянную дверь я увидел, что
к гостинице с печальным видом приближается человек с се¬
дой бородой. Я быстро встал и направился пастору навстре¬
чу, он пожал мне руку со словами: «Сообщили, что вашего
брата нашли». Я взглянул на него и все понял. «Его больше
нет в живых», — сказал пастор. Полиция нашла его в поле,
около самой дороги и не так уж далеко от дома. Старого
револьвера у него давно уже не было, но хватило и перо¬
чинного ножика.
Когда семнадцать лет назад Ганс женился, я, самый
большой нелюдим и бирюк среди всех сестер и братьев, вы¬
нужден был в единственном числе представлять нашу
семью на его свадьбе. Согласился я на это крайне неохотно,
испытывая глубокое недоверие ко всему, что принято по¬
нимать под семьей, браком, счастьем, и все же в тот день
я с большой силой ощутил кровное родство с братом и вер¬
нулся с этой свадьбы, радуясь за него и почерпнув сил для
собственной жизни. Все это повторилось на его похоронах.
И на сей раз никому из братьев и сестер не удалось при¬
ехать, и теперь мне казалось, что на всем свете нет более
неподходящего человека, чем я, чтобы представительство¬
вать у гроба за брата и свата, за некую родовую общность.
И теперь, как тбгда, я с большим внутренним сопротивле¬
нием взял на себя эту роль, и опять все вышло совершенно
иначе, чем я ожидал.
Был последний день ноября. Снег уже снова растаял, в
холодном утреннем тумане накрапывал дождь, у вырытой
ямы блестела мокрая глина. В гробу с застывшей улыбкой
лежал Ганс. Вот гроб закрыли и опустили в могилу. Мы
стояли под зонтиками на примятом газоне, с похоронной
172
процессией на сельское кладбище пришло довольно много
людей. Церковный хор, в котором Ганс пел столько лет,
был в полном составе, в память о нем исполнили прощаль¬
ный хорал, затем к могиле подощел седобородый пастор, и
если о хоре можно сказать, что он пел прекрасно, то про¬
щальное слово пастора было прекрасным вдвойне, и не име¬
ло значения, что я не вполне разделял его и Гансову веру.
Торжество было, конечно, печальное, но все же теплое и
достойное. Людей было много, некоторые плакали, всех их
я видел впервые, но Ганса они знали и любили, многие из
них на протяжении долгих лет были ближе к нему и больще
значили для него, чем я, и все же я был единственный его
родственник, единственный, кто хранил в своей памя№ де¬
тские годы покойного, прощел с ним начальный отрезок пу¬
ти, который становился для меня тем явственнее, чем он
дальше отодвигался во времени. Приехала и наша кузина
из Цюриха, в доме которой Ганс коща-то проводил свои
воскресенья, а из детей, для которых он был тогда добрый
дядя и товарищ по играм, двое, давно уже взрослые люди,
стояли возле меня у могилы. Все мы долго оставались не¬
движны и после того, как пастор в последний раз произнес
«аминь». Сколько человек вокруг меня говорило о своей
любви к Гансу, о том детском очаровании, которым он всех
щедро одаривал.'^оличество таких признаний поразило ме¬
ня, я вдруг понял, что если мне и выпало счастье больше
любить свою профессию, служить более благородному делу,
чем мой брат, то я все-таки заплатил за это частью собст¬
венной жизни, может быть, слишком дорого заплатил, по¬
тому что нельзя мне было надеяться, что и моя могила со¬
берет столько любящих сердец, как могила брата, на кото¬
рую, прощаясь, я бросил последний взгляд. Похороны, ко¬
торых я немного побаивался, прошли, как ни странно,
очень гладко и были, как это ни странно звучит, по-своему
прекрасны. Поначалу я смотрел на гроб не без того чувства
зависти, с которым старики иной раз смотрят на того, кто
уже обрел покой. Теперь это чувство погасло. На душе бы¬
ли мир и согласие, я знал, что братец мой упокоен, я убе¬
дился, что и сам я оказался не на чужом месте; я бы многое
потерял, если б не был вместе со всеми в эти грустные дни
и не стоял вместе со всеми у этой могилы.
173
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АНДРЕ ЖИДЕ
Мое первое знакомство с творчеством Андре Жида со-
сто51лось благодаря переводам Феликса Пауля Греве, выхо¬
дившим между 1900 и 1910 годами в издательстве Брунса
в Мюнхене. Тут была «Узкая дверь», живо напомнившая
мне при своей, правда, более гугенотской окраске, благоче¬
стивую атмосферу моего детства, которая меня — а я уже
много лет вел с ней спор — в такой же мере привлекала,
как и отталкивала. Затем тут был «Имморалист», понра¬
вившийся мне еще больше. Эта книга была посвящена его
другу Анри Геону*, одному из тех близких друзей, чей пе¬
реход в другую веру причинил ему позднее такую боль. А
кроме того, тут был совсем тоненький томик, которому пе¬
реводчик оставил его французское название: «Poludes»^,
замечательная, своенравная, строптивая, по-юношески ма¬
нерная книжка, которая смущала меня и дурачила, то оча¬
ровывая, то зля, а в последующие годы, когда я опять ото¬
шел от Жида и почти забыл его, подспудно жила во мне.
Между тем в мой литературный мирок ворвалась войной
1914 года мировая история, справляться надо было с про¬
блемами совсем другими, чем прежние, проблемами страш¬
ными, смертельными. Но вскоре после войны, в начале
моей тессинской жизни, вышла книга Э.Р. Курциуса* «Ли¬
тературные пионеры новой Франции», ее послесловие было
помечено ноябрем 1918 года, и, поскольку я в годы войны
подружился с Ролланом, а незадолго перед тем познако¬
мился с Гуго Баллем, занимавшимся Пеги* и Леоном Блуа*,
и очень симпатизировал попыткам сближения французской
интеллигенции с германской, чтение этой прекрасной кни¬
ги пало на благодатную почву, я раздобыл книги Пеги и
Сюареса*, но прежде всего сразу вспомнил Андре Жида,
причем не только с любопытством и ученической любозна¬
тельностью, а с желанием пересмотреть и поправить мое
отношение к этому автору, оставшемуся в моей памяти та¬
ким обаятельным и двуликим, и я тут же с увлечением пе¬
речитал его «Имморалиста» и его «Poludes». В это время,
пробудившись, благодаря книге Курциуса, возникла и ок¬
репла мой любовь к этому писателю-соблазнителю, кото¬
рый к своим, так похожим на мои проблемам подходил со¬
вершенно по-другому и в котором мне по-прежнему нрави-
174
лись и казались поразительно близкими благородное свое¬
нравие, упорство и неукоснительный самоконтроль неуто¬
мимого правдоискателя. Я читал все его сочинения, какие
удавалось достать, а со временем перечел чуть ли на все
дважды и трижды.
При всей этой увлеченности современником, обладав¬
шим для меня такой притягательной силой, мне никоща и
в голову не пршпло бы, что этот коллега в Париже тоже
знает обо мне, а то даже и что-то мое прочел. Из написан¬
ного мною мало что вышло во французском переводе, и это
немногое не нашло никакого отклика — как и в Англии.
Так оно пока и оставалось. Но однажды, в 1933 году, слу¬
чилась великая, неожиданная радость — короткое письмо
от Жида. Вот оно:
Depuis longtemps je d6sire vous бспге. Cette pens6e me
tourmente que I’un de nous puisse quitter la terre sans que
vous ayez su ma sympathie profonde pour chacun des livres
de vous que j’ai lu. Entre tous «Demian» et «Knulp» m’ont ravi.
Puis le d^licieux et myst6rieux «Morgenlandfahrt», et enfin
votre, «Goldmimd», que je n’ai pas encore achev6 — et que je
d6guste lentement, craignant de I’achever trop vite.
Les admirateurs, que vous avez en France (et je vous en
recrute sans cesse de nouveaux) ne sont peut-etre pas encore
tr^s nombreux, mais d’autant plus fervents. Aucun d’eux ne
saurait itre plus attentif ni plus ёши que
Andr6 Gide*
Я от души поблагодарил его, но переписки у нас не вы¬
шло, мы оба были уже недостаточно молоды и достаточно
заняты и довольствовались литературными дарами и при¬
ветами при случае. Но той неожиданной радостью дело не
кончилось. Прошло четырнадцать лет после того письме-
я давно хочу написать Вам. Меня мучит мысль, что один из нас может
покинуть этот мир и Вы так и не узнаете о моей глубокой симпатии к
каждой из Ваших книг, которые я прочел. Особенно восхитили меня «Де-
миан» и «Кнульп». Затем это прелестное и таинственное «Паломничество
в Страну Востока» и, наконец. Ваш «Златоуст»; которого я еще не закон¬
чил и медленно смакую, боясь прочесть слишком быстро.
Ваши поклонники во Франции (а я непрестанно набираю Вам новых)
еще, может быть, не очень многочисленны, но тем восторженнее. Нет сре¬
ди них более внимательного и растроганного, чем
Андре Жид {франц.)
175
ца, и однажды весной, после полудня, наша кухарка сооб¬
щила, что у двери дома три посетителя, двое мужчин и
молодая дама. Она передала карточку, это были Андре
Жид с дочерью и ее мужем. Я страшно обрадовался и в то
же время немного испугался, ибо был небрит и на мне был
мой самый старый костюм для садовых работ. Заставлять
долго ждать таких гостей я не мог, я выбрал бритье, ни¬
когда я так стремительно не справлялся с этой задачей. И
явился в потрепанной одежде в библиотеку, где с гостями
уже сидела мой жена. Тут я и увидел его, первый и един¬
ственный раз, он был меньше ростом, чем я его представ¬
лял себе, да и старше, тише, спокойнее, но в серьезно-ум¬
ном лице со светлыми глазами и выражением одновремен¬
но испытуюп][им и созерцательным было все, что намечали
и обещали немногие известные мне фотографии. Он пред¬
ставил меня своей красивой, недавно вышедшей замуж до¬
чери и познакомил с зятем, у которого было дело ко мне:
он переводил «Паломничество в Страну Востока» и хотел
обсудить со мной несколько сомнительных выражений и
трудных мест. Все трое были приятными и милыми гостя¬
ми, но доминировал и привлекал к себе наше внимание,
конечно, отец. В комнате, однако, мы находились не толь¬
ко впятером, на полу стояла большая мелкая корзинка, а
в ней лежала наша кошка с котенком, ему не было и двух
недель, лежа рядом с матерью, он то спал, то сосал, то
еще неуклюжими, но энергичными движениями пытался
исследовать и обойти окружающий мир, снова и снова ка¬
рабкаясь слабыми лапками по вздутостям и впадинам по¬
душки к краю корзины, перелезть через который он был
еще неспособен.
Мы сидели, пили чай, говорили о путешествии в Страну
Востока, о книгах и авторах, оба литератора смеялись, ког¬
да я объяснил им этимологию слова «Монтагсдорф»*, кото¬
рую хотел узнать зять. Но с большей увлеченностью и теп¬
лотой, чем об этих вещах, говорил Жид о кусте, цветение
которого он видел накануне в Понте Треза, он описал куст
подробно и страстно и был явно разочарован, когда я не
смог сказать, как этот куст называется.
Оживленно справлялся Жид и о моем самочувствии, он
знал, что я страдаю от боли в суставах, а временами от
ишиаса. В ходе разговора я захотел принести что-то из со¬
седней комнаты, моей мастерской, чтобы ему показать.
Когда он увидел, что мне трудно вставать из-за боли в спи¬
не, лицо его приняло полусочувственное, полуразочарован-
176
ное или брезгливое выражение, такое же, наверно, как ког¬
да кто-нибудь из его бывших однокашников и товарищей
юности возвращался в лоно церкви. По крайней мере мне
так показалось.
Оживленно и интересно шла беседа, которую он вея без
труда, ни на секунду не возникало впечатления, что он не
полностью сосредоточен на разговоре. И все же полностью
сосредоточен он не был. Моя жена, наблюдавшая за много¬
чтимым гостем не менее внимательно, чем я, может подтвер¬
дить: в те полтора или два часа, что он сидел на диване, спи¬
ной к большому окну и к Дженерозо, его пытливые, любо¬
пытные, влюбленные наперекор всякой серьезности в жизнь
глаза возвращались независимо от разговора к корзинке с
кошками, матерью и ее детенышем. С любопытством и удо¬
вольствием следил он за ними, особенно за котенком, когда
тот поднимал головку и едва прозревшими глазами удивлен¬
но разглядывал большой неведомый мир, коща, спотыкаясь,
с трудом пробирался к краю корзинки, отваливался и, вытя¬
нув туловище, на нетвердых ножках полз аазад к матери.
Это был тихий взгляд управляемого и привыкшего к обще¬
ству, благовоспитанного лица, но в его взгляде, в упорстве, с
каким он вновь и вновь возвращался к своей цёли, чувство¬
валась та великая сила, которая правила его жизнью, гнала
его в Африку, в Англию, в Германию и Грецию. Этот взгляд,
эта великая открытость, тянущаяся к чудесам мира, был спо¬
коен к любви и состраданию, но был совершенно не сенти¬
ментален, при всей увлеченности в нем была какая-то обьек-
тивность, его первопричиной была жажда познания.
В год моего семидесятилетия Жид что-то написал обо
мне, немецкий вариант появился в «Нойе цюрхер цай-
тунг». Затем вышло фрашцгзское «Паломничество в Стра¬
ну Востока», и к нему он написал небольшую заметку, ко¬
торую можно найти среди статей его последней книги. Я
давно обязан был поблагодарить его за это. Наконец, за
несколько недель до его смерти, я собрался написать ему
письмо, о котором не знаю, успел ли он его прочесть. Да
это и неважно, но я рад, что я его успел написать. Вот это
письмо:
Монтаньола, январь 1951
Дорогой, глубокоуважаемый Андре Жид!
Ваш новый переводчик Люсберг прислал мне Ваши
«Осенние листья», я прочел уже большую часть этих вос¬
177
поминаний и размышлений и счел бы теперь некрасивым и
неправильным благодарить того за его дар, прежде чем по¬
шлю Вам наконец снова привет и благодарность.
Мне давно следовало бы это сделать, но я уже долгое
время живу в покорной усталости, а это не то состояние, в
каком посещают старпшх и почитаемых. Но усталость мо¬
жет ведь продлиться и до конца, а мне все же хочется до
того еще раз заверить Вас в моей неизменной, а в последние
годы еще возросшей благодарности и симпатии.
Люди нашего склада стали теперь, так кажется, редко¬
стью и начинают чувствовать себя одинокими, вот почему
это счастье и утешение знать Вас еще как любителя и за¬
щитника свободы, личности, своенравия, индивидуальной
ответственности. Большинство наших более молодых кол¬
лег и, к сожалению, очень многае из нашего поколения
стремятся к совсем другому — к единомыслию, будь то рим¬
ское, лютеранское, коммунистическое или какое-либо еще.
Нет уже числа тем, кто довел это единомыслие до Само¬
уничтожения. С каждым поворотом прежнего товарища к
церквам и коллективам, с каждым отступничеством колле¬
ги, который слишком устал или отчаялся, чтобы оставаться
отвечающим за себя одиночкой, мир становится для нашего
брата беднее, а дальнейшая жизнь труднее. Думаю, что то
же самое происходит и с Вами.
Примите же еще раз привет от старого индивидуалиста,
не собирающегося подключаться ни к одной из больших сис¬
тем.
НЕКРОЛОГ
(Написан для торжественной программы парижского ра¬
дио, посвященной памяти Андре Жида)
Когда коллега, который был образцом, мастер слова, по¬
кидает нас после долгой жизни и богатого урожая благород¬
ных творений, причины для скорби, собственно, нет. Ушло
смертное, остается нетленное. Товарищ, еще только что до¬
стижимый, от которого могло прийти письмо сегодня или
завтра, исчез и уже не дает ответа, но он не превратился в
ничто, он продолжает существовать в плеяде, к которой
принадлежат Монтень, Вольтер, Флобер. Вот утешение,
имеющееся у нас наготове при смерти многочтимого и лю¬
бимого мастера, хорошее утешение, оно еще подтвердится.
Но в час, коща нас постигает такая утрата, сердце говорит
178
другим языком, оно знать не желает о мудрости, оно наста¬
ивает на своей любви, а потому и на своем праве на скорбь
и печаль. Так было со мной, когда до меня дошла весть о
смерти многочтимого друга: пропала какая-то частица све¬
та, какая-то частица тепла, какая-то частица жизни и ра¬
дости, мир стал на какую-то тень тусклее, существованье
на сколько-то холодней и бедней. Да, остались книги, тво¬
рения, а с ними — память о личности — по возможности
вновь обменяться мыслями с теперь бессмертным, надежды
еще раз увидеть его умное, сколь же нервное, столь и спо¬
койное лицо — их не стало. Прежде чем мы^ знавшие его
и любившие, присоединим его имя к вечным для нас име¬
нам, нам суждены горестное прощание и гнетущая боль.
Немного среди моих современников и сверстников лю¬
дей, чей уход вызвал бы у меня подобные чувства, очень
мало людей, которые были бы мне так близки и столько для
меня значили. Есть умы, чье величие и бессмертие состоят
в том, что они как бы не принадлежат своему времени и
окружению, они словно бы не конкретные лица, а часть
объективного и вневременного духа, таковы многие рели¬
гиозные писатели, кажется, что их родина — это некий
твердый, надежный мир истинного и законного. К ним Ан¬
дре Жид не относится. Он личность до мозга костей, до вы¬
вертов, до разнузданности, индивидуум, принужденный в
одиночестве бороться и защищаться от опасной загадочно¬
сти и проблематичности мира, то и дело вынуждаемый бо¬
гатством своего воображения и чувствительностью своей
интеллектуальной совести вновь подвергать сомнению и ис¬
пытывать на прочность даже законное с виду и непрелож¬
ное. Он вышел из строгой, хорошей школы совести, и не¬
которые ранние его произведения — чистейшее из них, по¬
жалуй, «Узкая дверь» — с проникновенной и мучительной
верностью показали и сберегли для потомства эту гугенот¬
скую благочестивость с пуританским оттенком. Здесь все
дышит запахом пасхального дня ранней весны, запахом, в
котором есть такая же доля первых крокусов и фиалок, как
и сладостно-горьких образов Страстной недели.
Развитие Жида шло в основном путем освобождения от
этого благочестивого мира веры и образов, это был путь
сверходаренного человека, воспитанного слишком строгр и
узко, который уже не выносит этой узости и знает, что его
ждет мир, но не склонен поступаться приобретенной бла¬
годаря такому воспитанию чуткостью совести. Правда, его
179
стремление к свободе относится не только к духовной сфе¬
ре; настаивают на своем праве и чувства, и в бунте чув¬
ство против контроля и опеки — источник и о^ясненис
того налета «enfant terrible», той радости разоблачать и об¬
нажать, радости застигать благочестивых на месте их бла¬
гочестиво прикрытых пороков и вожделений, словом, той
доли ехидства и агрессивной мстительности, которая, не¬
сомненно, входит в.образ этого писателя и, несомненно,
для многих -его читателей есть самое очаровательное и со¬
блазнительное в нем. Но сколь ни важна была эта движу-,
щая сила в жизни Андре Жида, сколь ни манило, ни со¬
блазняло его разоблачать праведников и дурачить обыва¬
теля, в этом благородном уме рвется расцвести и созреть
нечто большее, чем способность и охота смущать или шо¬
кировать своих читателей. Он находился на опасном пути
всякого гения, который, вырвавшись из уже невыносимых
для него традиции и морали, чувствует себя перед миром
невыразимо одиноким, лишенным путеводной нити, и на
более высоком уровне снова ищет компенсации за утра¬
ченную запущенность, ищет образцов или норм, способ¬
ных поправить и исправить слишком чреватое опасностя¬
ми отщепенство индивидуума. Вот мы и видим, что он всю
жизнь деятельно дружил с естественными науками, ви¬
дим, что мир культур, языков и литератур он исследовал
с упорством и прилежанием, вызывающими у нас изум¬
ленье и восхищенье. В этой пожизненной, тяжкой, рыцар¬
ской борьбе он обрел новую разновидность свободы, свобо¬
ды от догм и сообществ, но в постоянном служении прав¬
де, в постоянном стремлении к познанию. В этом он ис¬
тинный брат великого Монтеня и того автора, который на¬
писал «Кандида»*. Всегда было тяжело служить правде в
одиночку, когда ты не защищен ни религиозной системой,
ни церковью, ни сообществом. Рыцарственно и образцово
шел Андре Жид этим тяжелым путем.
И теперь, когда ему уже не тяжело и его уже не могут
тяготить ни наше непонимание, ни наше восхищение, он
нашел и сообщество, которое принимает его с готовностью
и без малейшего ущерба его свободе, сообщество тех вели¬
ких собратьев, что уже так давно предшествовали ему и
все-таки живы и ныне.
180
ТРАУРНЫЙ МАРШ
Памяти одного товарища юности
Кажется, где-то в «Игре в бисер» говорится о личных
ассоциациях, в частности о связи определенных тактов
музыкального произведения со столь же точно определен¬
ными личными ощущениями. Недавно, слушая в час отды¬
ха радио, я невольно вспомнил об этом. Я слышал, как
один молодой пианист играл Шопена, и слушал его и Шо¬
пена так, как слушают музыку при физической усталости,
невнимательно, немного рассеянно и пассивно, больше на¬
слаждаясь звучанием, чем следя за линиями конструкции.
Исполнялся и знаменитейший из этюдов Шопена, пьеса,
которую я люблю меньше большинства других сочинений
этого мастера, поэтому мое внимание еще больше ослабе¬
ло и почти уснуло. Но тут пианист сыграл первый такт
траурного марша, и я вдруг, словно от внезапного толчка,
проснулся, но проснулся не в направлении наружу, , не для
того, чтобы заново предаться музыке, а в направлении
внутрь себя, в страну воспоминаний. Ибо траурный марш
Шопена принадлежит для меня к произведениям, с кото¬
рыми ассоциативно слито десятилетиями какое-то собы¬
тие, неизменно воскресающее, как только услышу их.
Когда я услыхал этот марш впервые, не могу вспом¬
нить, хотя в те юные годы Шопен был моим любимым му¬
зыкантом. До двадцатилетнего возраста я, кроме ораторий
в церкви и нескольких песенных концертов, слышал толь¬
ко домашнюю музыку, а в ней Шопен, наряду с бетховен-
скими сонатами, Шуманом и Шубертом, был в числе
предпочитаемых композиторов; печально-сладостные ме¬
лодии некоторых его вальсов, мазурок и прелюдов я еще
мальчиком знал наизусть^ Траурный же марш я хоть, ве¬
роятно, и слышал, но не пережил. Пережить его довелось
позже, в мои тюбингенские годы книжной торговли. Од¬
нажды я стоял в хекенхауэровской лавке, расставляя стоп¬
ки тейбнеровских классиков в алфавитном порядке, и день
этот был особый: хоронили одного студента, но не какого-
то там, а моего маульброннского однокашника, студента,
стало быть, которого я знал с детства, да и здесь, в Тю¬
бингене, мы иногда виделись и разговаривали. Со времени
смерти дедушки Гумперта, лет шесть или семь, такого
181
больше не случалось, чтобы призрачная рука смерти на¬
ходила добычу рядом со мной, уносила душу из моего
близкого окружения, и хотя до этого бедного студента мне
было куда меньше дела, чем тогда до моего деда, только
теперь я стал достаточно тонок и чувствителен, чтобы
ощутить леденяпщй холод небытия и воспринять случив¬
шееся не только как сенсацию. Коща я накануне узнал о
смерти своего бывшего однокашника Эберхарда, я почув¬
ствовал собственной кожей холодную руку друга Хайка,
или, может быть, ее тень, в первый раз я воспринял чью-
то смерть не только как утрату или как чужую судьбу, а
как тот, кого это тоже касается, как сопричастный. Вдоба¬
вок и кончина нашего Эберхарда не была обыкновенна, он
погиб не от воспаления легких или от тифа, а от того, что
наложил на себя руки, застрелился. В мирном Тюбингене
в то время, в конце прошлого века, похороны студента бы¬
ли редким, потрясавшим весь город событием, а уж само¬
убийство студента и подавно. Да и унирерситет и студен¬
чество были тогда еще живыми содружествами с сильным
духом единства и нерушимыми законами и обычаями: ес¬
ли хоронили студента, то не кладбище его провожали не
только его друзья или товарищи по обьединению, в похо¬
ронах участвовало и множество студентов и горожан, не
знавших покойного, и для всех студенческих союзов было
делом чести отрядить делегатов на панихиду.
И вот я стоял в хекенхауэровской лавке с греческими
авторами в руках, а мыслями с Эберхардом и в ожидании
похоронной процессии, когда с соседней улочки донеслась
и стала медледао приближаться патетически-грустная ду¬
ховая музыка. Уже и старшие мои коллеги услыхали ее за
своими конторками в задней комнате лавки и выходили на
улицу, я вышел следом за ними, и вот мы стояли, глядя,
как медленно, медленно приближается, колыхаясь, про¬
цессия, впереди черный катафалк с увенчанным гробом,
за ним, в празднично-торжественном шествии, уполномо¬
ченные корпораций при полном параде, в шапочках, лен¬
тах, сапогах с отворотами и с опущенными шпагами, и в
таком же виде корпоранты, а затем другие студенческие
союзы, посредине городской оркестр, длинная, пышнокра¬
сочная процессия, над которой траурным знаменем разве¬
валась и колыхалась эта тяжелая, грустная, блистательно
скорбная музыка Шопена, эти патетические такты марша,
182
которые мне еще много раз в жизни суждено бьшо слы¬
шать, и уже никогда без мучительно нахлынувшего воспо¬
минания об этом часе. Между стенами домов и могучим,
высоким зданием монастырской церкви волны духовой му¬
зыки сливались и смешивались в нестройный гул, и, коща
я думал о бедном самоубийце, хоть и малознакомом, но
удивительно приятном мне человеке, меня несколько от¬
влекало и огорчало поведение моих коллег и многих дру¬
гих зрителей, которые обступили площадь и заполнили все
окна, зрителей, чьи лица выражали, как мне казалось, не
боль и не благоговение, а только праздное любопытство.
Медленно, медленно, а для меня все-таки слишком быст¬
ро, проплыла и скрылась процессия, а прекрасная и
страшная похоронная музыка еще долго доносилась из
ущелий улиц, где потонуло зрелище, и мне было мучи¬
тельно тошно возвращаться из высокой строго-великолеп¬
ной сферы торжества в лавку и пыльную обыденность.
Уже в те дни, и позже каждый раз снова, когда эта пы¬
лающая сладострастьем скорби музыка напоминала мне
дорогого Эберхарда, я поражался, как мало я о нем дейст¬
вительно знал и как все же дорого и важно было мне это
немногое. То и дело, с многолетними перерывами, я вытя¬
гивал нить моих^ воспоминаний о нем и каждый раз удив¬
лялся тому, сколь коротка эта нить. У меня были одно¬
кашники, к которым я относился довольно-таки безраз¬
лично, но о которых у меня сохранилось много всяких вос¬
поминаний: школьнические истории, забавные словечки,
клички, приключения во время школьных походов или иг¬
ры в индейцев. С Эберхардом было все наоборот: кроме
одного, незабываемого, впрочем, случая в маульброннском
лекционном зале, с ним не связано никаких школьных со¬
бытий: не знал я также, хорошо ли он учился или плохо,
занимался ди музыкой или имел какие-то другие личные
интересы, не рассматривал я сознательно и его почерка.
Тем не менее что-то во мне знало о нем так много, что
при известии о его добровольной смерти я хоть и испытал
боль и сострадание, но не удивился.
Тому его образу, который я хранил в себе, эта смерть
не противоречила, она даже подходила к нему, я нашел ее
адекватной его жизни и с долей преувеличения мог бы
сказать, что, в сущности, ждал ее. И этот образ по имени
Эберхард отнюдь не был расплывчатым, неполным, он был
183
точным и определенным, столь же точным и еще опреде¬
леннее, чем образы товарищей, с которыми я дружил и
был связан множеством разговоров и общих впечатлений.
Эберхард, которого я знал — или полагал, что знал, — с
маульброннского детства и чей облик, чье лицо хорошо
помню и спустя шестьдесят и более лет, принадлежал в
нашей стайке из сорока с лишним семинаристов к тем, кто
казался старше своего возраста. Большинство из нас вы¬
глядело ровесниками, это были четырнадцатилетние маль¬
чики. Иные, хотя они ничуть не были моложе, выглядели
из-за своего малого роста или детских физиономий наши¬
ми младшими братьями, а кое-кто с виду превосходил нас
годами, казался более зрелым и взрослым.
К ним принадлежал Эберхард. Я вижу его довольно
рослым, худым и несколько угловатым, с костистым ли¬
цом, на вид замкнутым, застенчивым и недетским, каза¬
лось, что природная застенчивость и отчужденность отде¬
ляет, отдаляет его от других. Это выражалось в его манере
держать себя, несвободной, неестественной, натужной ма¬
нере, и еще больше в его взгляде. Его взгляд при такой на
редкость напряженной манере держать себя мог бы пока¬
заться робким, но робким он не был, в чувстве собствен¬
ного достоинства у него не было недостатка — нет, он бь*л
не робким, а лишь несколько застенчивым и недетским,
очень отчужденным, очень уклончивым, всегда настороже
перед назойливостью мира, к которому этот молодой,
серьезный человек не подходил, с которым он не мог и не
хотел сжиться. Тогда, когда мы были еще детьми, я видел
и ясно чувствовал все эти знаки, но не истолковывал их и
не сомневаюсь, что иной раз и я, как мы все, обижал, сер¬
дил или пугал этого застенчивого оригинала в его одино¬
честве и скрытности. Конечно, я делал это не сознательно
и не нарочито, ибо хорошо помню, что одиночество и обо¬
ронительную напряженность этого тихого человека вос¬
принимал просто как нечто странное и неприятное, но и
как нечто достойное уважения. Беззащитный с виду, он
был, как облаком или аурой, окутан своей необычайно¬
стью и впечатлительностью, в которой было и какое-то
возвышающее благородство.
Теперь надо поведать и единственную небольшую ис¬
торию, известную мне об Эберхарде. Вся тогдашняя ма-
ульброннская профессура наблюдала и без конца вспоми-
184
нала эту историю; принадлежа к множеству анекдотов,
связанных с фигурой нашего эфора, она сохранилась и то
и дело рассказывалась из-за этого человека. Лишь после
смерти нашего соученика эта школьная история, поначалу
только смешная, приобрела какую-то серьезность и жут-
коватость.
Наш эфор, директор семинарии, считался хорошим
гебраистом и был человек разносторонне одаренный и ин¬
тересный, неважный, правда, директор и воспитатель и
нрава, к сожалению, ненадежного, но любопытный, а по¬
рой и обаятельный собеседник, краснобай и актер, умев¬
ший с одинаковым блеском строить из себя и шармёра, и
неприступную твердыню или оскорбленное величие. Мы,
ученики, ценили и собирали его словечки и перлы, они
прямо-таки напрашивались на имитацию, и многие из них
десятки лет пользовались славой среди швабских гумани¬
стов как кафедральная классика. Так, однажды, на лекции
по древнееврейскому языку, со страстным пафосом читая
в оригинале историю о грехопадении, он при возгласе Яг-
ве, означающем в переводе «Адам, где ты?», в филологи¬
ческом раже самозабвенно воскликнул: «Как же могло это
«дагеш» forte implicitum^ прозвучать в божественных ус¬
тах, молодые друзья!»
Итак, этот занятный человек, любивший порой играть
здоровяка и молодца, каким он отнюдь не был, вел у нас
однажды очередное занятие. Пружинисто расхаживая
между кафедрой и доской, он бросал на нас то доброжела¬
тельные, то осуждающие взгляды, у него были очень вы¬
разительные глаза, и он радовался своему могуществу и
великолепию. Вдруг его взгляд остановился на ученике
Эберхарде, тот сидел согнувшись, с отсутствующим видом,
полузакрыв глаза, погруженный в себя, то ли он устал и
дремал, то ли был очень занят какими-то мыслями, не
имевшими никакого отношения ни к школе, ни к древне¬
еврейскому. Этот великий лицедей тут же начал роскош¬
ную мимическую игру, его лицо выразило удивление, лег¬
кое неудовольствие, полувеселье, он пружинисто, легкой
походкой приблизился к замечтавшемуся и вдруг металли¬
ческим голосом и тоном пблушутливым-полунедовольным
^ Вероятно, вставленное (лапи).
185
окликнул его: «Эберхард! И вы хотите быть немецким
юношей? Вы сидите тут как растоптанный лесной цветок».
Мы все с веселым любопытством повернулись в их сторону
и увидели, как Эберхард встрепенулся, выпрямился, сму¬
щенно моргая, овладел собой и посмотрел на мимиста по¬
корным, беспомощным взглядом. Как я уже сказал, этот
случай показался всем или почти всем смешным, мы были
склонны счесть забавными и потешными не только эфора
и его спектакль, но и испуганного мальчика. Лишь много
лет спустя, после смерти нашего товарища, большинство
из нас увидело все это в другом свете, то же произошло и
со мной, и с годами эта излюбленная забавная история все
больше приобретала для меня какую-то жутковатость и
аллегоричность, тщеславный герой кафедры становился
постепенно символом всякой власти и агрессивной актив¬
ности, а тот, другой, воплощал всю потерянность и безза¬
щитную слабость мечтателя или мыслителя, одиночки и
отщепенца. Это было столкновение мира и души, грубой
действительности и мечты. Противоположность, непрев¬
зойденно и незабываемо представленная Жан Полем в
сцене, ще после страшной ночи во флецской гостинице
драгун с возгласом: «Как изволили почивать, господин
свояк?» — хлопает по плечу военного священника Шмель-
цле*.
Других, связанных с Маульбронном воспоминаний об
Эберхарде у меня нет. Мы были однокашниками лишь не¬
сколько месяцев, я досрочно покинул монастырскую шко¬
лу и только несколько лет спустя, служа в книжной лавке
в Тюбингене, снова встретил там своих соучеников — уже
студеетами. Нашел я среди них и Эберхарда, но сблизить¬
ся нам не довелось. Все же несколько раз я встречал его
на улице, мы приветливо здоровались, обменивались не¬
сколькими словами и шли дальше. Один только раз мы по¬
говорили немного дольше. Он спросил меня о моих инте¬
ресах и занятиях, я обрадованно отозвался на это и стал
рассказывать ему о своем чтении, о своих занятиях Гёте
и Новалисом, слушал он вежливо, но с тем прежним
взглядом из дальней дали, который не изменился за эти
несколько лет и говорил мне, что мои слова доходят толь¬
ко до его ушей. Больше нам встречаться не случалось, но
участливое отношение, почти любовь к нему у меня оста¬
лись. Его отщепенство, одиночество и ранимость вызывали
186
у меня что-то вроде сочувствия, они были понятны мне
вне, ниже или выше рационального, потому что как догад¬
ка, как возможность были и во мне тоже. Я был, правда,
совсем другого нрава, чем он, переменчивее, подвижнее,
да и веселее, общительнее, расположеннее к шре, но оди¬
ночество и сознание своей отчужденности от других были
хорошо знакомы и мне. Это стояние на краю мира, на гра¬
нице жизни, эта потерянность, этот пристальный взгляд в
никуда или в потусторонность — все это, казавшееся час¬
тью натуры Эберхарда и постоянной его основой, в какие-
то часы и мгновения ставило и для меня жизнь под вопрос,
отравляло ее. Там, где он, казалось, стоял или ютился
всеща, каждый день, мне уже как-никак тоже приходи¬
лось бывать. Только мне всегда удавалось с облегчением
возвращаться к привычному и размеренному, где жилось
проще.
Вот какие воспоминания, картины, мысли и чувства
так Мучительно всколыхнули мне душу, когда я, оглушен¬
ный траурным маршем, глядел, как исчезает гроб печаль¬
ного моего товарища, а за ним длинное, торжественное
шествие, и они с тех пор охватывали меня каждый раз,
когда я слышал эту музыку. Она всегда неукоснительно
вызывала во мне образ нашего Эберхарда, с его нетвер¬
дым, чуть судорожным наклоном головы и плеч, с его пре¬
красными, грустными чертами лица и соскальзывающим в
пустоту, беспомопщо кротким взглядом. Вопреки своему
обыкновению я никогда не собирал сведений об его корот¬
кой тяжелой жизни, полагая, что знаю самое важное. Но
через много, очень много лет мое знание дополнилось еще
кое-чем. Мне попался портрет одного выдающегося, умер¬
шего молодым писателя, к которому я относился с такой
же смесью любви и сочувствия, понимания и отчужденно¬
сти, как к своему маульброннскому товарищу. Красивое,
грустное юношеское лицо со скорбным взглядом было по¬
разительно похоже на лицо Эберхарда. Звали этого груст¬
но глядевшего, умершего в молодости писателя Франц
Кафка.
ДРУГ ПЕТЕР
28 марта Петеру Зуркампу* исполнилось 68 лет. Свой
день рождения он встретил в одной из франкфуртских боль¬
ниц, смертельно больной. Я подарил ему свое последнее
стихотворение «Утренний час», украшенное акварельной
картинкой. Он показывал мой подарок навестившим его
друзьям, выпил с ними глоток шампанского. Через три дня,
утром 30 марта, он умер. Я потерял самого верного своего
друга и самого незаменимого.
Коща у тебя умирает друг, тогда только и видишь, в
какой степени и с каким особым оттенком ты любил его.
Ведь есть же много степеней и много оттенков любви. И
обычно тогда выясняется, что любовь и знание — это поч¬
ти одно и то же, что человека, которого ты больше всего
любил, ты и знаешь лучше всего. Степень боли, испыты¬
ваемая в момент потери, не имеет решающего значения,
она слишком зависит от нашего сиюминутного состояния.
Есть времена, дни, часы, когда мы согласны с бренностью,
с законом увядания и умирания, и тогда весть о чьей-то
смерти мы принимаем так, как принимает осенью дерево
дуновение ветра; оно слегка вздрагивает и чуть вздыхает,
роняет горсть высохших листьев и вновь погружается в
свою дремоту. В другой час боль из-за той же смерти
обожгла бы, как огонь, ударила бы, как топор. Кроме того,
одно дело, когда чья-то смерть поражает нас, другое —
когда мы ее ждали, часто боялись, часто заранее представ¬
ляли себе. Так было с другом Петером. На протяжении
многих лет близкие любили его как страдальца, находя¬
щегося в большой опасности, постоянно пребывающего ря¬
дом со смертью. Сколько бы жизни и энергии ни излучал
он в оживленном, порой страстном разговоре — когда мы
потом видели, как он осторожно, явно больной, шагал пе¬
ред домом, слегка наклонивотсь вперед, высокий, с вяло
повиспшми руками, с неподвижным лицом, глядя усталы¬
ми глазами куда-то вперед, или коща среди взволнован¬
ной речи на него нападал кашель, так всех нас пугавший,
ужасный, лающий, сотрясающий тело кашель, при кото¬
ром его милое лицо искажалось и багровело, коща он мед¬
ленно и с усилием поднимался со стула и покидал нас с
прощальным жестом, — все становилось ясно, и при каж¬
дом прощании мы опасались, что оно — последнее.
188
Поэтому весть о кончине Петера не поразила и не ис¬
пугала меня. Боль не пронзНла, не обоэтла, она не пото¬
ропилась, она и сейчас не испытана до конца. Но очень
скоро образ друга претерпел во мне то превращение,. то
укрепление, то преображение, которое происходит лишь с
образами очень дорогих и очень важных нам завершенно¬
стей, которое, coiScTBeHHO, только и придает в нашей па¬
мяти, в картинной галерее нашей души завершенность
умершим. Ведь мы же знаем немало умерших, которых за¬
вершенными никогда не чувствуем и не называем. Мой
друг годами находился на краю жизни и не раз отступал
для меня на то расстояние, на которое вообще-то уводит
наших любимых лишь смерть. Затем он опять возвращал¬
ся с этого расстояния, с высоты обреченного на смерть в
будни живущих и действующих, возвращался с высоты
преодолевшего в атмосферу мгновенья и случая. Но те¬
перь, когда возможности такого возвращенья не стало, я
увидел и ощутил, что Петер давно уже принадлежал для
меня больше к завершенным, сверхреальным (не хочу го¬
ворить — «преображенным»), чем к тем, кто жил на одном
уровне со мной. Тут играло известную роль то, что я знал
в пору его великого испытания, — ведь в самое мрачное
время Германии он ёыл приговорен к смерти и, как До¬
стоевский, чуть не казнен. Вдобавок его безнадежная бо¬
лезнь.
Да, при каждом прощании мы глядели друг на друга в
глаза с невысказанными вопросами: «Увидимся ли еще?» и
«Кто из нас уйдет первым — ты или я?» Но в глубине ду-
ош я все-таки всегда видел его, куда более молодого, более
близким к смерти, чем себя. Более молодой и часто такой
юный на вид, чуть ли не мальчик, он был из нас двоих
серьезней и старше. Из двух тональностей и позиций, по¬
переменно определявпгах его смелую, почти авантюрную
жизнь, верх одержала пассивная и смиренная. Ведь вся его
жизнь пропша между двумя полюсами — смелой активно¬
стью, стремлением к творческой и воспитательной дея¬
тельности и тоской по уединению, тишине, защищенности.
После мук Петера Зуркампа в тюрьме и концентраци¬
онном лагере, мук, от которых он избавился лишь благода¬
ря случайности, в сумятице германского провала, его здо¬
ровье, сильно пострадавшее уже в первую войну, было за¬
гублено, сердце никуда не годилось, а от легких остались
ошметки. Если он тем не менее много лет не просто влачил
189
дни, а жил интенсивно и сювершал большие дела, то тут
дала себя знать наследственная крепость старой крестьян¬
ской породы. Даже коща индивидуум, в сущности, изно¬
сился и истопщлся, стойкая наследственность давала еще
тени опору и позволяла ей выносить почти невероятное на¬
пряжение.
Этот запас стойкости, близости к земле, любви к поряд¬
ку и терпеливой силы всю жизнь спорил с его индивиду¬
альным темпераментом и характером, заставившим его от¬
казаться от отцовского, крестьянского наследства, поки¬
нуть родной край, часто менять профессии и в качестве
учителя, солдата, офицера, театрального деятеля, издателя
и писателя самостоятельно и независимо завоевывать мир.
Когда он возвращался в отцовскую усадьбу в гости, как он
описал это в одном образцово прекрасном прозаическом от¬
рывке, он оказывался там чужим, его там совершенно не
понимали. Зато когда он сидел, беседуя, напротив какого-
нибудь взволнованного молодого литератора, какого-ни¬
будь нервного дельца, режиссера или актера, уже один его
степенный ольденбургский говор действовал укрощающе,
успокаивающе, урезонивающе, и в хорошие часы от него
прямо-таки веяло терпеливо-упрямой крестьянской мудро¬
стью его отцов.
Его радость от чтения и писания в последние годы очень
пострадала и почти умерла под гнетом постоянной служеб¬
ной перегрузки. Зато страсть его к воспитательству и
страсть к театру оставалась жива до конца. Его пламенный
интерес к сцене, к приданию литературе зримости и слы¬
шимости был столь же родствен созидательной страсти вос¬
питателя, как и созидательной страсти издателя выпускать
прекрасное, чтобы оно было как можно убедительнее, про¬
ще, долговечнее.
В нашей дружбе, как во всякой другой, была основа
родства, сходства задатков и отношения к миру: у обоих
нас были восприимчивость и своенравие художника, силь¬
ная потребность в независимостц, обоим предки дали в на¬
следство четкую, строгую упорядоченность и нравствен¬
ность, которая тайно, но мощно продолжала оказывать
свое действие и после прорыва из нее на свободу. Но как
и в каждой дружбе, были также, поверх этой общей осно¬
вы, различия, которые как раз и подогревали снова и сно¬
ва интерес и любовь. Каждый из нас обладал особенностя¬
ми, склонностями и привычками, которые другому всегда
190
хотелось осуждать, хотя в то же время казались ему при¬
влекательными, забавными или трогательными. Но было
между нами взаимоуважение, не допускавшее иной крити¬
ки, чем дружеская и бережная. Когда Петер познакомился
со мной, я был старшим, преуспевшим, которого он читал
еще в детстве, а позднее, на решающем переломе его карь¬
еры после войны, когда он колебался между 'ПОлной раз¬
очарованностью и нерешительной готовностью начать сна-
чала$ я был самой крепкой его опорой. Я же чтил в нем
еще больше, чем даровитого издателя и писателя, страсто¬
терпца и героя, вынесшего бесконечно больше стпашного
и враждебного, чем я и кто-либо из других моих друзей.
Дрзта Петера много любили, его обаяние было велико,
причем не только тогда, когда он сознательно пускал его
в ход. И в его мрачные самоубийственные часы, кода его
ругали или когда его очень хотелось выругать, его нельзя
было не любить. Особенное удовольствие мне доставляло
видеть его за работой, утром в моей библиотеке или на
террасе. Свои бумаги, оттиски, перья и карандаши он рас¬
кладывал перед собой на столе с такой аккуратностью, в
таком порядке и сидел над работой так тихо, внимательно,
сосредоточенно, погруженно, как какой-нибудь Иероним*.
Много бы отдал я за то, что(бы увидеть это еще раз.
После его смерти я получил от друзей, коллег и чита¬
телей множество участливых писем, самое лучшее — от
Рудольфа Александра Шрёдера*. Было прислано мне так¬
же немало газет и некрологов; все воздавали хвалу и об¬
разцовому издателю, и храброму борцу-страстотерпцу
ужасного времени. Гораздо меньше говорили о его писа¬
тельском творчестве, увы, слишком мало и слишком нео¬
сведомленно! Его литературное наследие не очень обьеми-
сто. Мы, его авторы и друзья, издавали его «Избранное»
красивым двухтомником — дважды, к его шестидесятиле¬
тию и шестидесятипятилетию, — это был славный празд¬
ничный подарок, доставивший ему радость. Но оба эти то¬
ма вышли маленьким, не поступившим в продажу тира¬
жом, поэтому перепечатанные в них работы вам недоступ¬
ны, если вы не обладатель старых годовых комплектов
«Нойе рундшау».
Но, к счастью, нам удалось заставить Зуркампа выпу¬
стить несколько его лучших и наиболее поэтических про¬
изведений в 1957 году красивым и общедоступным издани¬
ем. Я тогда многим из вас подарил эту милую книжечку.
191
Она озаглавлена «Мундерло» — по названию романа, ко¬
торый Зуркамп начал писать в конце 1944 года, находясь
в предварительном заключении по политическому обвине¬
нию. Он остался фрагментом, но сто примерно страниц
этого значительного произведения, повествующие о жизни
Петера, когда он был молодым сельским учителем, милее
мне, чем многие знаменитые книги нашего времени и чем
многие авангардистские книги, которым Петер с трога¬
тельным рвением посвятил себя как издатель. И еще есть
в этом драгоценном томе несколько прозаических работ,
которые я считаю просто классическими и включил бы в
каждую немецкую хрестоматию, особенно «Гость» и «Яб¬
лоневый сад». Лучшей прозы в наше время никто не пи¬
сал.
Нетрудно как-то воздать должное трудам человека, ра¬
ботавшего преимущественно у всех на виду. Куда более
скрытным и доступным, по сути, лишь любящей догадли¬
вости остается то, что он выстрадал. Чем больше и глубже
страдание, тем меньше станет он о нем говорить. Из мно¬
жества ужасных вещей, которые выпали ему на долю, Пе¬
тер кое о чем рассказывал близким друзьям, рассказывал
весело и невозмутимо, например о гибели его прекрасного
и любимого берлинского дома во время ночной бомбежки
или фантастическую одиссею его возвращения из заклю¬
чения. Это были страдания, потери, испытания, которые
он перенес, с которыми справился, к самым же страшным
своим впечатлениям и мукам в гитлеровском аду он при¬
касался словом редко и р^ко, туда за ним могло следовать
лио1ь воображение сочувствующей любви. О тяжелых фи¬
зических страда|1иях его последних лет мы знаем.
Но это было не все. Он, которого так любили, которому
так легко удавалось сохранять свой авторитет, все годы по¬
сле последней войны жил в большом одиночестве, без
семьи, без уюта и ухода, в лишь отчасти желанной аскети¬
ческой примитивности, в отчаянно упрямой заброшенно¬
сти. И этой уединенности и покинутости, этой внешней без¬
домности соответствовала бездомность внутренняя, которой
мы раз-другой лишь ощупью коснулись в очень доверитель¬
ном разговоре. Он прошел через жуткую историю Герма¬
нии, через хвастливые «великие времена», через войны, по¬
ражения, революции, варварство, разруху и под конец вос¬
становление; в целеустремленной, преуспевающей, амери¬
канизированной Германии он сам тоже строил, тоже кол¬
192
довал, тоже имел успех, и все-таки с каждым днем он все
зорче видел своими голубыми печальными глазами на¬
сквозь эту ярмарку прилежания, забывчивости, карьеризма
и мании величия, он давно уже не верил во внутреннюю
действительность, в подлинность мира, в котором он жил и
играл важную роль, ему не делалось в этом мире тепло и
удобно, и он, так любивший жизнь, так, казалось бы, го¬
дившийся для того, чтобы наслаждаться жизнью, умер в
конце концов, наверно, с радостью, что бросает эту кани¬
тель. .
Позволю себе огласить одну фразу из письма Р.А. Шрё¬
дера: «В каком одиночестве довелось Зуркампу выстрадать
земной ад своих последних, мучительных лет, вновь и
вновь находя мужество для доброжелательной, великодуш¬
ной, достойной даже в ее заблуждениях манеры держать
себя».
Когда я где-нибудь в разговоре или при чтении встречаю
ставшую штампом фразу об «истинной», или «подлинной»,
или «тайной» Германии, я вижу высокую, худую фигуру
Петера. И Шрёдер тоже этого поля ягода.
ОДНОМУ МУЗЫКАНТУ
Некоторое время назад Вы прислали мне славную кни-.
жечку «Musica domestica» Эриха Валентина*. Она достави¬
ла мне много увлекательных часов, за которые я благода¬
рен Вам и автору. Первая же глава со множеством часто
таких восхитительно замысловатых заглавий музыкаль¬
ных публикаций XVn века пленила меня и напомнила
мне классическую фразу Анатоля Франса: никакую книгу
он не читает с таким интересом и удовольствием, как ка¬
талог букинистической лавки. Приятно колеблясь между
ученостью и популярностью, собрав на крошечном про¬
странстве уйму знаний и изысканий и как бы пробираясь
через них вброд, она не только показывает читателю со
средней историко-музыкальной подготовкой историю по¬
нятия «musica domestica», или «домашняя музыка», и его
метаморфозы вплоть до нынешнего значения этих слов,
она еще и берет нас с собой на экскурсию по весьма вну¬
шительной, несмотря на ее относительную молодость, ли¬
тературе по истории музыки и толкованию музыки; чита¬
телю походя напоминают почти все книги такого рода, ко¬
7 ^-2^0 193
торые он когда-либо читал или перелистывал. Развлекало
меня также, конечно, и немного польстило мне стремле¬
ние осветить наряду с ролью музыканта и роль его слуша¬
теля, оценить ее выше, чем обычно, возвысить всего лишь
наслаждающегося и ничего не умеющего до участника и
знатока, повысить ранг лежащего на кушетке слушателя
радио и пластинок. Многие, с ббльшим или меньшим пра¬
вом, услышат это к великому своему удовольствию. Обод¬
ренный таким повышением ранга, я попытаюсь потом пе¬
редать Вам и одно новое свое приятное радиовпечатление.
Впрочем, слушать радио и граммофон я стал лишь в
старости, и, оглядывая свои музыкальные впечатления, я
вижу, что главное место занимает не транслированная и
не консервированная музыка и не она сделала из меня лю¬
бителя, а в иных областях и средней руки знатока. Нет,
годам моего одинокого вбирания в себя музыки в собствен¬
ной комнате предшествовали десятилетия многосоткратно-
го участия в публичных концертах, оперных вечерах, фе¬
стивалях и торжественных исполнениях церковной музы¬
ки в «надлежащем» и почтенном месте, в концертных за¬
лах, театрах, церквах, в обществе равнорасположенных и
сходно настроенных реципиентов, чьи задумчиво слушаю¬
щие, благоговейно внимающие, часто озаренные изнутри
и отражающие красоту услышанного лица занимали меня
в течение нескольких тактов порой даже больше, чем слу-
шанье как таковое. Десятки лет я ни разу не мог, слушая
заключительный хор «Страстей по Иоанну», не вспомнить
исполнение под управлением Андреэ* в цюрихской «Тон-
халле»: на стуле передо мной сидела пожилая женщина,
на которую я во время всего концерта не обращал внима¬
ния. Когда отзвучал последний хор и публика начала рас¬
ходиться, когда Фолькмар положил свою палочку и я то¬
же, со знакомым сожалением и .нежеланием прощаться,
приготовился к возвращению в текущую жизнь, эта жен¬
щина передо мной медленно поднялась, застыла ^на миг
перед уходом, и, когда она немного повернула голову, я
увидел, как по ее щеке катятся слезы, одна за другой.
Но не только при случайном взгляде на восторженную
соседку наряду со слухом активизировалось и одарялось
зрение: на концерте Генделя или Вивальди я и глазами ви¬
дел, например, торжественную или скачущую или порыви¬
стую поступь струнных в подвижных параллелях смычков,
194
в тяжелой пилке басовых инструментов. Я видел дирижера,
солистов, и не раз это бывали мои друзья и близкие зна¬
комцы. Дружба и встречи с композиторами, дирижерами,
виртуозами, певцами и певицами были неотъемлемой час¬
тью моей музыкальной жизни и моего музыкального вос¬
питания, и, вспоминая сегодня особенно яркие по впечат¬
лению концерты на фестивалях или в церквах, я не только
вновь слышу эту музыку с особым настроением и темпера¬
ментом тех часов, нет, я вижу также трогательный облик
Дину Липатти*, аристократический облик Падеревского*,
пластичного Сарасате, сияюпще глаза Шёка, спокойную
барственность дирижерской манеры Рихарда Штрауса*, фа¬
натизм Тосканини*, нервность Фуртвенглера*, вижу само¬
забвенно застывшее над клавишами милое лицо Бузони*,
вижу Филиппи* в оратории в позе весталки, Дуриго* с ши¬
роко раскрытыми глазами в конце песни о Земле, плотную
мальчишескую голову Эдвина Фишера*, цыгански-резкий
профиль Ганса Губера*, прекрасный размах рук Фрица
Бруна в каком-то анданте и десятки, и сотни других бла¬
городных и дорогих обликов, лиц и жестов. Всего этого нет,
коща слушаешь радио, а телевидение я знаю лишь пона¬
слышке.
К двум местам книги Валентина я хочу сделать корот¬
кие замечания, чтобы Вы передали их автору. Одно ме¬
сто — цитата из Мёрике, ще тот слушает пенье Штраус.
Штраус — это, несомненно, знаменитая оперная певица
Агнесса Шебест, несчастливо вышедшая замуж за Д.Ф.
Штрауса*, еще более знаменитого автора «Жизни Иисуса».
Душераздирающую историю этого брака можно узнать из
переписки Штрауса с Фр.Т. Фишером* доскональнее, чем
хотелось бы.
Другое место, по поводу которого я кое-что заметил бы
и где кое-что поправил бы, касается моего друга и покро¬
вителя Г.К. Бодмера. У Валентина написано: «Цюрихский
врач Г.К. Бодмер был специалист по Бетховену». Сказано
слишком мало, да и отчасти неверно. Мой друг Бодмер не
был ни врачом, ни специалистом в какой-либо области.
Правда, .в возрасте тридцати шести лет он начал изучать
медицину, сдал все экзамены и получил звание доктора, но
никогда не занимался врачебной деятельностью професси¬
онально. В молодости он изучал музыку и, наверно, стал
бы охотней всего дирижером, всю жизнь он дружил со мно¬
гими выдающимися музыкантами и был крупным музы¬
195
кальным меценатом, к тому же он за несколько десятков
лет собрал одну из самых больших и ценных бетховенских
коллекций, которую со свойственной ему королевской щед¬
ростью завещал Бетховенскому архиву в Бонне. Но специ¬
алистом он никогда не был, для этого его кругозор был
слишком широк, и, хотя самой большой и самой восторжен¬
ной его любовью был Бетховен, он хорошо знал всю новей¬
шую историю музыки и горячо любил некоторых современ¬
ников, в частности Малера*.
Но я обещал еще рассказать Вам об одном новом радио¬
впечатлении.
Это был шопеновский вечер, устроенный китайцем по
имени Фу Цзонг, чье имя мне встретилось тут впервые, и
об его возрасте, школе и личности мне ничего не известно.
Меня заинтересовала прекрасная программа, и, конечно,
меня сильно привлекла удивительная возможность послу¬
шать, как играет Шопена, величайшую любовь моей юно¬
сти, именно китаец. Так вот, играл он замечательно. Я слы¬
шал, как играли Шопена старик Падеревский, чудо-маль¬
чик Рауль Кошальский, Эдвин Фишер, Липатти, Корто* и
многие другие большие пианисты. Играли его по-разному,
холодно-корректно, или томно, или броско, или капризно
и своевольно, подчеркивая то прелесть звучания, то разно¬
образие ритмики, то набожно, то фривольно, то боязливо,
то тщеславно, часто это бывало великолепно, но лишь из¬
редка соответствовало моему представлению о том, как на¬
до играть Шопена. Эту идеальную манеру я представлял
себе, конечно, точно такой, в какой должен был играть сам
Ш[опен. Много бы я отдал за то, чтобы послушать какую-
нибудь его балладу в исполнении Андре Жида, который,
как пианист, всю жизнь усиленно занимался Шопеном.
Так вот, неизвестный китаец уже через несколько ми¬
нут снискал мое уважение, а вскоре и мою любовь, он был
совершенно под стать своей задаче. Высочайшее техниче¬
ское совершенство я заранее предполагал, этого можно бы¬
ло уверенно ждать от китайского терпения и китайской
ловкости. И действительно, виртуозная техника была на¬
лицо, ни Корто, ни Рубинштейн не смогли бы тут достичь
большего. Но это было не все. Услыхал я не только мастер¬
скую фортепианную игру, а Шопена, настоящего Шопена,
от этого веяло Варшавой и веяло Парижем, Парижем Ген¬
риха Гейне и молодого Листа, от этого пахло фиалками,
дождем на Майорке и изысканными салонами, это звучало
196
грустно и звучало экстравагантно, ритмы различались с та¬
кой же чуткой тонкостью, как и динамика. Это было чудо.
Только мне очень хотелось бы увидеть этого одаренней¬
шего китайца и воочию. Возможно, что его манеры, его
движения, его лицо дали бы мне ответ на вопрос, возник¬
ший у меня после передачи, а именно: понял ли этот ода¬
ренный человек европейскость, польскость, парижскость,
грусть и скепсис этой музыки изнутри или же у него был
учитель, товарищ, наставник, образец, чью игру он имити¬
ровал со всеми нюансами и заучил наизусть? Мне хотелось
бы еще много раз и в разные дни послушать, как он играет
ту же программу. Если все было настоящим золотом, если
Фу Цзонг был действительно таким музыкантом, каким я
очень склонялся его считать, то каждое новое исполнение
должно было, пусть в мельчайших примерах, отличаться
чем-то новым, уникальным, индивидуальным и не могло
быть только еще одним прокручиванием великолепной пла¬
стики.
Что ж, может быть, мой вопрос коща-нибудь и получит
ответ. Вопрос этот не мешал мне во время концерта, он воз¬
ник лишь потом. И, слушая его игру, я мгновеньями почти
видел этого человека с Востока, не подлинного, конечно,
Фу Цзонга, а того, которого я вообразил, придумал, выду¬
мал. Он походил на персонажа Чжуан-цзы* из «Цзиньгу
цигуана», а игру его, казалось мне, выполняла та призрач-
но-уверенная, совершенно свободная, набожно направляе¬
мая дао рука, которой художники в Древнем Китае водили
кисточку с тушью, чтобы в картине и письменах прибли¬
зиться к тому, в чем в счастливый час угадывается смысл
жизни и мироздания.
поздняя ПРОЗА
V\r/-
SPATE PROSA
УКРАДЕННЫЙ ЧЕМОДАН
Снова я побывал поздней осенью на целебных баден¬
ских водах и прошел курс лечения самым добросо¬
вестным образом. По утрам я принимал ванну, уже не та¬
кую горячую и не так долго, как некогда, а умеренной тем¬
пературы и длительности, как то подобает старикам; выпи¬
вал назначенный стакан минеральной воды и, кроме ночей,
проводил в постели по многу часов и днем. На своей старой,
уже весьма потрепанной холщовой папке я лежа писал
письма, а порой, по большей части глубокой ночью, стихи,
и как-то раз, подняв глаза от листка со стихами и обведя
взглядом свою комнату при ночном освещении, я вспомнил,
что когда-то, такой же осенней ночью шесть лет назад, в
этой же комнате и на этой же кровати я написал стихотво¬
рение «Ночные мысли», а еще на много лет раньше стихо¬
творение «Раздумье» и, возможно, еще какие-то, ибо уже
много раз жил в этой комнате. И вот я снова лежал на этой
кровати, смотрел на эти обои, и на моей тумбочке стояла
эта маленькая лампочка, как уже бывало не раз, и все
опять походило на времена «Раздумья» и на времена «Ноч¬
ных мыслей», или по крайней мере казалось похожим, но
стоило лишь призадуматься, как все предстало, наоборот,
иным, совсем иным, и лежал в постели и писал уже не тот
человек, а совсем другой, да и нынешние стихи звучали
иначе, чем тогдашние, их звучание было теперь старше, ос¬
торожнее, боязливее, в нем было что-то старческое. Да и
за едой тоже, в красивой столовой со старомодными аль¬
пийскими пейзажами, описанной мной двадцать лет назад
в «Курортнике», я опять-таки совсем другим человеком
смотрел на своих товарищей по лечению, многих из кото¬
рых встретил здесь уже в третий или четвертый раз. Они
постарели и немного как бы осели, как и я сам, кое-кто,
видимо, лишился зубов; мы вежливо кланялись друг другу
и скромно отводили глаза, если кто-нибудь из стариков,
201
вставая и уходя,, обнаруживал особую дряхлость. Словом,
и здесь в столовой, как внизу в бальнеологическом отделе¬
нии, как наверху в постели, все было с виду таким же, как
прежде, и, однако же, совершенно другим, всех и вся об¬
глодали, обгрызли годы, а годы войны — вдвойне.
И вот, значит, все опять пролетело, для меня — курс
лечения, для моей жены — долгожданные каникулы, кон¬
чилось подремывание в теплой ванне и в уютной постели,
кончилось на некоторое время писание стихов, начинались
будни, а они сулили нам на сей раз гораздо больше забот,
чем радостей. Да еще дело шло к Рождеству, надо было
приготовить и упаковать подарки, написать письма, а все
это я исполнял сейчас не с радостью, а лишь поневоле и с
трудом. Возвращение домой означало на сей раз возвраще¬
ние к тяготам и заботам, и очень хотелось еще немного его
оттянуть.
В день отъезда жена пришла укладывать мой большой
чемодан. Уложить надо было, кроме пишущей машинки,
одежды и белья, довольно много прибавившихся вещей,
толстые связки писем, немало книг. Но это удалось, мой
славный старый кофр вместил все; на сей раз обошлось без
противной дополнительной возни со свертками и картонка¬
ми. Чемодан заперли, прикрепили к нему ярлык с адресом
и передали служителю, чтобы отправить багажом скорым
поездом. А на следующий день мы уехали домой.
До Лугано все шло довольно хорошо, но затем все внут¬
ренние помехи и трудности, связанные для нас с возвраще¬
нием восвояси, превращались, казалось, и во внешние. Вы¬
пал снег, и на вокзале нас ждал не «наш» шофер, хорошо
знавший дорогу и местность, а неведомый, который знал,
правда, нашу деревню, но не наш дом и не дорогу к нему.
И точно: между деревней и домом машина увязла в снегу
и застряла намертво. Поскольку шофер, беспокоясь о своей
машине, на все остальное махнул рукой, нам пришлось пе¬
реносить свою кладь, предмет за предметом, сквозь нела¬
сковую снежную ночь, и время было уже очень позднее,
когда он наконец появился и предъявил счет: раздобыв в
деревне мужчин и упряжку волов, он с их помощью вер-
нул-таки свою машину на тракт. Расстались мы с ним без
злобы, но настроение испортилось. Какая-то недобрая звез¬
да стояла, казалось, над этим возвращением.
Прежде чем снова устраиваться дома, надо было до¬
ждаться прибытия большого чемодана из Бадена. Когда жи¬
202
вешь в сельской местности на отшибе, по пустяковому по¬
воду возникают подчас удивительные сложности, и часто
таким поводом оказывается перевозка багажа или других
грузов между станцией и домом. У нас тут случались уже
самые невероятные вещи. Вот и на этот раз единственный
возчик, живущий поблизости, не смог поехать тотчас же;
надо было набраться терпения на день-другой, и мы его на¬
брались. Но когда возчик приехал на станцию, служащие
не смогли найти этот долгожданный, отправленный боль¬
шой скоростью груз. Один из них уверял, что не далее как
два часа назад видел мой чемодан со&твенными глазами.
’ Тем временем, однако, чемодан стал невидимкой. Вместо
чемодана возчик доставил нам печальную весть об его ис¬
чезновении. Начались телефонные звонки, начались хло¬
поты и борьба за нашу незаменимую собственность. Снача¬
ла железнодорожные служащие на другом конце провода
только смеялись, уговаривая нас не беспокоиться: найдется,
мол, наш чемодан, наверно, его по ошибке захватил с собой
какой-нибудь экспедитор. Только вот сегодня суббота, и до
утра понедельника придется уж потерпеть.
Что было делать? Мы все-таки позвонили в воскресенье
одному приятелю-адвокату, который прежде всего посове¬
товал сейчас же составить перечень содержимого чемодана
с как можно более точным описанием вещей и указанием
сегодняшней их стоимости, чтобы при необходимости за¬
втра* же заявить о своих притязаниях и облегчить работу
полиции.
Настало утро понедельника, и нам опять позвонили со
станции. На этот раз служащий не смеялся и не пытался
нас успокоить, а смущенно сообщил, что, к сожалению, ни
у кого из экспедиторов чемодан тоже не обнаружился, по-
видимому, его украли, и он, служащий, уже уведомил об
этом полицию.
Теперь, значит, дело прояснилось, и нам оставалось
свыкнуться с нашей потерей. Я вспомнил своих друзей и
родственников по ту сторону границы, большинство из ко¬
торых уже не могло потерять ни крова, ни домашнего скар¬
ба, ни большого чемодана и многие из которых отнеслись
к своим потерям, бесконечно большим, чем моя, с таким,
казалось, великолепным спокойствием. Я несколько усты¬
дился и решил перенести свою незадачу, во всяком случае,
как можно пристойнее. Вообще же я не стою на той пози¬
ции большинства, коща при любой потере, при любом обед¬
203
нении и оскудении жизни пытаются утешить себя примерно
так: «Сегодня, когда миллионы людей голодают, а сотни
тысяч домашних очагов и семей разрушены, разорваны,
бедствуют, личную потерю, личное неудобство нельзя при¬
нимать всерьез». Наоборот, мы вовсе, по-моему, не должны
преуменьшать и считать естественным обеднение и обни-
ш;ание нашей «частной» жизни. Если ко мне придет человек
и пожалуется, что остался без куска хлеба или у него умер
ребенок, я ведь постыжусь сказать ему: «Не относитесь так
серьезно к своим маленьким личным бедам». Кроме того,
выйдя из детского возраста, я всегда питал недоверие к то¬
му настроению, которое зовется героизмом. В детстве —
да, тоща Муций Сцевола* и привязанный к столбу индеец
были и для меня идеалом, да и сегодня я полон почтения
перед ними, но каждая жизнь вершится под своими собст¬
венными звездами, и мои звезды были не героического, не
патриотического, не солдатского свойства, не такие звезды
выпало мне чтить, не за них выпало мне бороться, а на¬
оборот: защищать я должен был «частную», индивидуаль¬
ную жизнь, которой угрожали механизация, война, госу¬
дарство, массовые идеалы. К тому же от меня не укрылось,
что больше мужества нужно порой для того, чтобы вести
себя не героически, а просто по-человечески, без геройства.
Если у меня умирал друг или случалась какая-нибудь тя¬
желая потеря, я в конце концов, правда, смирялся и при¬
знавал правоту жизни, но сперва действительно переживал
потерю и горе, впускал их в себя и отдавался их власти.
Обе великие героические эпохи, совпавшие с моей жизнью,
показали, правда, что почти ко всякому ограблению, опро¬
щению и обнищанию человек привыкает, что и без удобств,
без красивых домов, без библиотек и картин, без чистоты
и крепкой одежды он способен жить и даже черпать в этом
обеднении гордость, возводить его в героизм. Но, говоря от¬
кровенно, разве это хоть сколько-нибудь опровергало дома
и книги, чистоту и потребность человека в какой-то мало¬
сти порядка и красоты? Нет, оказалось, что героические
эпохи не только смертоносны и жестоки, но и предельно
мерзки, предельно вредны, что вся избалованность, вся ро¬
скошь, вся расточительность «сытых» и «буржуазных» эпох
ничтожно малы по сравнению с тем роскошеством, с каким
один-единственный день или месяц войны и героизма по¬
жирает и проматывает отнятые у народов хлеб, деньги, кро¬
хи уюта. У меня не было причин переметываться к побор¬
204
никам геройства и славить опрощение, «опасную жизнь»,
обнищание. Мне хотелось, прежде чем я смирюсь с потерей
чемодана и всех своих вещей, по крайней мере огорченно
покачать головой и оглянуться на пропажу печальным
взглядом.
Такую возможность мне щедро предоставила необходи¬
мость вручить властям как можно более точный перечень
пропавшего добра. Работа эта, неплохое вообще-то упраж¬
нение для памяти, была в остальном малоприятной, и с
каждым листком она делалась все неприятней, даже все
больше пугала, как мы увидим.
Итак, прежде всего я должен был с помощью жены со¬
ставить список моего имущества, и тут приходилось то и
дело оглядываться назад и вспоминать, как то обычно бы¬
вает при расставаниях. Что же я потерял? Прежде всего сам
чемодан, старого друга и спутника. Купил я его коща-то,
в сказочные годы перед первой войной, в том же цюрихском
бюро путешествий, где заказал билет в Индию. Этот чемо¬
дан сопровождал меня до Пенанга на судне, затем на суше
до Сингапура, а потом, на судах гораздо меньшего размера,
до Суматры и на долгом пути вверх по реке в джунгли; его
таскали малайские и китайские кули, а к концу того един¬
ственного экзотического путешествия, которое он совер¬
шил, его покрыло множество гостиничных наклеек с дико¬
винными названиями и на чужих языках. Однако за много
лет они облупились и стерлись и ничего от них не осталось.
Самым, пожалуй, ценным предметом, находивпшмся в
чемодане, была пишущая машинка, легкая американская
дорожная машинка. Получил я ее когда-то в подарок от од¬
ного моего друга, которого паломники в Страну Востока*
знают под именем Черного Короля*; она помогла мне пе¬
реписать начисто «Путешествие в Нюрнберг» и первые ча¬
сти «Степного волка», а затем, путем дарения, перешла в
собственность моей жены. Машинке, во всяком случае, сле¬
довало найти замену.
Теперь были на очереди одежда и белье, оба моих хоро¬
ших костюма, один из них — парадный, английского ма¬
териала, сшитый на заказ, затем рубашки и ночные сороч¬
ки, дождевик, башмаки, носки. Со временем, наверно,
ощутимей всего будет для меня отсутствие именно этих ве¬
щей, но сейчас печаль о них была умеренна. Больше, чем
рубашек и одежды, мне было жаль сейчас, например, моих
старых, солидных ножниц для бумаги, предмета каждо¬
205
дневного обихода, который я почти сорок лет тысячи раз
держал в руке, или даже большого, мягкого, шерстяного
пледа, подарка и рукоделья жены моего прежнего берлин¬
ского издателя. Этим чудесным пледом одарила она меня в
Энгадине в благополучные времена, затем опять разрази¬
лась «великая эпоха», милый старый С.Фишер* успел еще
вовремя умереть, но его жене, старой даме, пришлось сна¬
чала в Берлине вынести множество мук и унижений, потом
она эмигрировала в Швецию, но и там ее не оставили в
покое, она бежала на самолете через Москву и Японию в
Америку, и я не знаю, жива ли она еще. Плед я называл
про себя «паркетом» или «альпийской палаткой», потому
что он был сшит из светло-коричневых и темно-коричневых
квадратов. Он служил мне коща-то верой и правдой в гор¬
ные зимы, а потом в иные прохладные вечера и дта, коща
отопление оставляло желать лучшего; я заплатил бы боль¬
ше его реальной стоимости, чтобы вернуть его.
Кстати, что касается «реальной стоимости» моих- пожит¬
ков, то, определяя ее, я не переставал пугаться и ужасаться.
О нынешних ценах мы узнавали либо с помощью торговых
каталогов, либо справляясь по телефону, и, глядя на эти
фантастические цифры, можно было подумать, что до кра¬
жи чемодана я был прямо-таки богачом. Одни только ру¬
башки стоили почти четыреста франков, носки — немного
больше ста, а сам мой старый добрый чемодан, если бы
можно бьшо сегодня достать чемодан такого, как прежде,
качества, стоил бы минимум двести франков. Любой пред¬
мет стоил сегодня в денежном выражении во много раз до¬
роже, чем тоща, коща я его приобрел. Глядя на цены, нель¬
зя было не вспомнить о начале великой инфляции в конце
первой войны. Не было или почти не было вещей, цены на
которые оставались такими же, как пять, а тем более десять
лет назад, все стало дорого, драгоценно, недоступно для ма¬
леньких людей. Но, к счастью, обнаружились и ценности,
которых не коснулось это бешеное подорожание, и даже та¬
кие, которые стали во много раз доступнее. Если, напри¬
мер, десять лет назад поэт посылал какое-нибудь свое сти¬
хотворение в редакцию, он получал ровно, пожалуй, втрое
больший гонорар, чем получит за это сегодня. При всей
бедственности положения я обрадовался этому открытию,
ибо во мне всеща что-то восставало против исторического
материализма, который считает, что духовная жизнь так
же зависит от материальных благ, как и экономическая.
206
Плата за стихотворение упала за несколько лет на одну
треть — но разве редакции испытывали сейчас недостаток
в стихах? О нет, стихов у них хватало с избытком, и это
была милость, если они вдруг печатали какое-нибудь сти¬
хотворение. Но как обстояло дело с качеством стихов? Мо¬
жет быть, оно снизилось и было виной девальвации? Это
установить не удалось.
Наконец мы закончили свой список. Иные мелочи мы
не сразу решились внести в него, например наши очень
простые шахматы; но и мелочи эти стоили теперь сумм, ко¬
торые нам следовало попытаться спасти. Принесут ли наши
усилия какую-нибудь пользу, было, правда, весьма неясно.
Допустим, железная дорога полностью признает мое право
на возмещение пропавшего — но кто решит, соответствует
ли мой список действительности и правомерны ли мои при-
. тязания. Будь я жуликом, я мог бы присочинить и припи¬
сать дорогие часы, две пары золотых запонок и еще что-ни-
будь, бумага все стерпит. Как и в какой инстанции разре¬
шатся возможные разногласия? Будет ли тут какая-нибудь
польза от адвоката? И во что он обойдется? Ах, в какую
дурацкую, в какую гадкую историю я влип. До процесса я,
во всяком случае, дела не доведу; я дожил до старости, не
судившись ни разу.
Прошел очень неприятный день. И что же станется с
нашими рождественскими праздниками? Даже этот фа¬
тальный список не был готов полностью, цены на некото¬
рые важные предметы, в том числе на пишущую машинку,
нам еще не удалось выяснить. Расстроенные, мы легли
спать.
На следующее утро ко мне постучали. Я еще лежал в
постели. Жена, со странно веселым лицом, вошла и спро¬
сила:
— Кто бы, ты думал, нашелся?
Это был чемодан. Станция Лугано сообщила: пропав¬
ший чемодан по ошибке отправили назад в Баден. Кто это
сделал и почему, выяснить не удалось. По-видимому, че¬
модан сам, относясь, как и мы, с недоверием к этому воз¬
вращению домой, улучил минуту, когда его оставили без
присмотра, снова сел в вагон и поехал опять в Баден. Завтра
или послезавтра он вернется оттуда и потом будет достав¬
лен нам.
Теперь мы стояли и глядели друг на друга. Все эти дни
мы заполнили противными и ненужными делами, досадой,
207
сожалением, хлопотами, телефонными звонками, писани¬
ной, составлением знаменитого списка. Мы стыдились и ра¬
довались, смеялись и умилялись. Но впервые после непри¬
ятного возвращения было действительно отрадно сознавать,
что мы опять дома. И впервые в этом году мы действитель¬
но поверили, что на носу Рождество, и порадовались ему.
ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО
Сегодня ночью фён беспощадно гулял по терпеливой
земле, по пустым полям и садам, продувал сухие лозы и
голый лес, дергал каждую ветку, каждый сучок, ревел и
шипел перед каждым препятствием, наполнял фикус кос¬
тяным треском, высоко вздымал вихрями облака увядших
листьев. Утром они лежали большими, опрятно наметанны¬
ми, ровными горками за каждым углом и каждым выступом
стен, где можно было укрыться от ветра.
И выйдя в сад, я увидел, что случилась беда. Самое
большое из моих персиковых деревьев лежало на земле, оно
сломалось в самом низу ствола и упало с крутого склона
виноградника. Они ведь не очень долго живут, эти деревья,
они не принадлежат к исполинам и героям, они нежны,
уязвимы, крайне чувствительны ко всякому повреждению,
в их смолистом соке есть что-то от старой, донельзя куль¬
тивированной аристократической крови. Упавшее дерево не
было ни особенно благородным, ни таким уж прекрасным,
но все же это было самое большое из моих персиковых де¬
ревьев, старый знакомый и друг, более давний жилец этого
участка земли, чем я. Каждый год вскоре после середины
марта оно распускалось, выделяясь на синеве ясного неба
своей пенистой, расцветшей розовым кроной сильно и рез¬
ко, а на сером небе ненастья — до бесконечности нежно,
оно качалось под порывами ветра свежих апрельских дней,
вспыхивая золотым огнем бабочек-лимонниц, сопротивля¬
лось злобному натиску фёна, задумчиво затихало в мокрой
серости дождей, слегка склонившись и глядя себе под ноги,
туда, где с каждым дождливым днем трава на откосе вино¬
градника делалась все зеленей и жирней. Бывало, я прино¬
сил его цветущую веточку домой, в свою комнату, бывало,
помогал ему, когда тяжелели плоды, подпоркой, а в преж¬
ние годы, бывало, пытался — что довольно нагло с моей
стороны — написать его красками в пору цветения. Оно
208
стояло здесь во все времена года, заняв определенное место
в моем малом мире и став неотделимым от него, видело
вместе со мной жару и снег, бури и тишь, вносило свои ноты
в песню, свои оттенки в картину, оно постепенно поднялось
намного выше кольев для лоз и пережило не одно поколе¬
ние ящериц, змей, мотыльков и птиц. Оно ничем не выде¬
лялось, не пользовалось каким-то особым вниманием, но
без него нельзя было обойтись. В пору созревания плодов я
каждое утро сворачивал к нему со ступенек тропинки, под¬
нимал с влажной травы упавшие за ночь персики, приносил
их в кармане, корзинке или даже в шляпе наверх, домой,
и клал на солнце на парапет террасы.
А теперь на месте, принадлежавшем этому старому зна¬
комцу и другу, возникла дыра, в малом мире зияла щель,
через которую в него заглядывали пустота, мрак, смерть,
ужас. Печально лежал сломанный ствол, древесина была
трухлявой и ноздреватой, ветки при падении переломи¬
лись, недели через две они, возможно, снова несли бы свою
розовую весеннюю крону в голубые или серые небеса. Ни¬
когда больше не сорву я с него ветку или плод, никогда
больше не буду пытаться зарисовать прихотливую и до¬
вольно фантастическую структуру его разветвлений; ни¬
когда больше в жаркий летний полдень не сверну со сту¬
пенчатой тропки, чтобы минутку передохнуть в его негу¬
стой тени. Я позвал Лоренцо, садовника, и велел ему отне¬
сти упавшее дерево в сарай. Там в ближайший дождливый
день, когда никакой другой работы не будет, его распилят
на дрова. Мрачно глядел я вслед садовнику. Ах, и на де¬
ревья тоже нельзя положиться, и они тоже могут уйти от
тебя, умереть, оставить тебя одного и исчезнуть в великом
мраке!
Я смотрел вслед Лоренцо, которому тяжело было тащить
ствол. Прощай, мое милое персиковое дерево! По крайней
мере и за это я называю тебя счастливым, ты умерло при¬
стойной, естественной и правильной смертью, ты упиралось
и держалось до последней возможности, пока великий враг
не вывихнул тебе суставы. Тебе пришлось уступить, тебя
повергли и отделили от твоего корня. Но ты не расщеплено
авиационными бомбами, не сожжено дьявольскими кисло¬
тами, не оторвано, как миллионы, от родной земли, не пе¬
ресажено с кровоточащими корнями наспех, не упаковано
вскоре снова, не стало снова безродным, тебе не пришлось
видеть вокруг себя гибель и разрушение, войну и надруга¬
209
тельство, не довелось умереть в бедствии. Твоя судьба была
тгакой, какая назначена и подобает таким, как ты. За это я
называю тебя счастливым; ты состарилось лучше и краси¬
вее, ты умерло достойнее, чем мы, которые на старости лет
должны защищаться от яда и бед зачумленного мира и от¬
воевывать у всепожирающего разложения вокруг нас каж¬
дый глоток чистого воздуха.
Увидев упавшее дерево, я, как всегда при подобной по¬
тере, подумал о замене, о посадке нового дерева. На месте
упавшего мы бы вырыли яму и оставили ее надолго откры¬
той воздуху, дождям и солнцу, а со временем кинули бы
туда лопатку-другую навоза, немного перегноя из кучи сор¬
няка, всяческих отбросов, смешанных с древесной золой и
вскоре, желательно при теплом дождичке, посадили бы но¬
вое, молодое деревце. И этот малыш, этот детеныш дерева
тоже как-то прижился бы к здешней земле, к здешнему
воздуху и стал товарищем и добрым соседом лоз, цветов,
ящериц, птиц и бабочек, начал бы через несколько лет пло¬
доносить, а каждую весну во второй полрвине марта рас¬
цветал бы своим милым цветом и, если бы судьба оказалась
к нему добра, рухнул бы когда-нибудь старым, уставшим
деревом, пав жертвой бури или оползня или под тяжестью
снега.
Но на этот раз я не решился сажать что-то новое. За
свою жизнь я посадил довольно много деревьев, одним
больше, одним меньше — это не имело значения. И что-то
во мне противилось тому, чтобы и сейчас опять начинать
круговорот, снова раскручивать колесо жизни, растить но¬
вую добычу прожорливой смерти. Мне не хочется. Пускай
это место останется пустым.
НА ГОРЕ РИГИ. ДНЕВНИК
Из высохшего и выжженного Тессина, из нашего высох¬
шего и выжженного сада мы ненадолго сбежали на Риги*,
на воды, где нам было даровано еще несколько дней теплого
лета с прекрасным обзором окрестных далей. Здесь наверху
чудесно, я должен извиниться перед горой, которую когда-
то, сорок пять лет назад, в «Дневнике Лаушера»* назвал
скучной. Тогда я еще не открыл для себя гор и с молодой
одержимостью был влюблен в озеро, в воду и ее краски,
которые изо дня в день подсматривал с берега и с гребной
210
лодки. Один-единственный раз съездил я тоща наверх, в
Риги-Кульм, где сразу почувствовал себя чужим, мне пре¬
тила индустрия туризма, и я поскорее спустился назад пеш¬
ком, чтобы опять погрузиться в свой культ озера. Никаких
неприятных ощущений от быстрой перемены высоты, до¬
вольно утомительных для меня сегодня, я тоща не испыты¬
вал. Но зато мне не хватало спокойствия и терпения, чт^ы
действительно заняться горой и не обращать внимания на
толпы приезжих, отели, железные дороги и открытки с ви¬
дами. По тем временам я поступил правильно; озеро Лау-
шера было настоящим, большим событием, а упущенное
тоща я могу наверстать сегодня.
В первые, еще сухие, теплые и совсем светлые дни гора
показала себя с самой великолепной своей стороны, можно
было беззаботно бродить, валяться на любом лугу в низкой
траве, и с утра до позднего вечера глазам открывались не¬
вероятные, почти ни сколько-нибудь не замутненные виды,
можно было развлекаться определением или узнаванием
вершин или, отдыхая, отдаваться только смене красок, све¬
та и теней, причудливой геометрии огромной панорамы.
Переходы от камня к снегу, освещенные солнцем гребни и
темные ущелья цепи верпган, прихотливый путь маленькой
тени облака над этим множеством зубцов и расселин — все
это может заворожить, привести в восторг, как ритмы и це¬
зуры стихотворения.
Из этой великой, блестящей дали взгляд снова возвра¬
щается к близкому, связь с которым устанавливается быс¬
трее и легче и которое не беднее очарованием и волшебст¬
вом. Встречаются сказочные группы скал и впадины в ска¬
лах, то патетические, храмоподобные, то маленькие, забав¬
ные, идеальные уголки для детских игр, закрытые зеленые
.зальцы, комнатки и норки с узкими воротцами, похожими
на гномов калеками-елочками, папоротниками и извиваю¬
щимися, как змеи, корнями. Влажные, зеленые, мшистые,
с острыми запахами, этц маленькие урочища очень напо¬
минают мне мое детство и Шварцвальд. Как только выхо¬
дишь из этих пахнущих елью, мхом и геранью укрытий,
снова открываются бесконечная синяя, окаймленная мно¬
жеством дальних гор ширь, озеро, предгорья с яркими
изумрудными лужайками, блестяпщми речками, темными
лесными массивами, крошечными селениями.
Лежа или сидя ще-нйбудь здесь, среди травы, елок, кам¬
ней и редких цветов, я вижу почти прямо подо мной, на
211
тысячу метров ниже, полукруглый сине-зеленый залив озе¬
ра, игрушечную деревню и извилистую дорогу. Это Фиц-
нау, там сорок пять лет назад я писал «Дневник Лаушера»
и делал первые наброски для «Петера Каменцинда». Я уже
не могу перенестись туда, то время и тощапгаий молодой
человек так же далеки, так же чужды мне и нереальны, как
эта крошечная деревня внизу и синий залив, они как бы не
имеют ко мне отношения. Тогда ко мне не имела отноше¬
ния и претила мне гора Риги; я был привязан к лету, к
жаре, к воде и лодке, к мечтательной работе веслами вдоль
тихих берегов и вокруг скалистых полуостровков и мысов,
к наблюдению игры красок в воде, к купанью в укромных
заливчиках, к полузабытью с закрытыми глазами на лет¬
нем паляш;ем солнце. Я был один, лишь изредка получал
письма, не читал газет, смотрел на гостей больших отелей
и пароходов издалека со смесью недоверия и любопытства,
стремился к жизни без людей, без современности, без об-
ш;ества, искал пути от созерцания природы к истинной жиз¬
ни в ней. Тогда я и слушать не стал бы, если бы мне ска¬
зали, что когда-нибудь, в старости, я поселюсь там навер¬
ху, на Риги в гранд-отеле, что буду пить чай под легкую
музыку и совершать маленькие прогулки, продолжительно¬
стью в четверть часа или полчаса, чтобы потом долго отды¬
хать на скамеечке или мучиться у себя в номере с после¬
полуденной почтой.
Я взял с собой очень мало книг для чтения, в числе про¬
чего — «Геспера»* Жан Поля, роман, который любит и Ни¬
нон*; мне показалось, что пришла пора перечитать его сно¬
ва. Теперь, когда ненавидеть немцев стало бесполезно и
удобно, теперь, когда это можно предоставить отсталым и
глупым, постепенно осознаешь утраты, которые понесли
Германия и мир, утраченность родины, красоты, воспоми¬
наний, родников для фантазии, и среди этого почти невы¬
носимого оскудения с новой жаждой припадаешь к тем род¬
никам, которые еще бьют, из которых нам еще позволено
пить, — к немецким писателям доброго времени. Мы ле¬
жали вблизи обрыва, край которого был заботливо огоро¬
жен и откуда к нам поднимались верхушки елок, и Нинон
читала вслух. Мы прочли все предисловия «Геспера» — ве¬
личайшее наслаждение и удовольствие. Какие мы неутоми¬
мые и упорные труженики, когда служим своему произве¬
дению, мы, литераторы, как бьемся мы, и больше всего, и
особенно терпеливо над тем, чего читатели вовсе и не за¬
212
метят и что пойдет больше во вред, чем на пользу успеху
наших книг, над тем, что существует в общем-то лишь для
нескольких коллег и для нескольких десятилетий «вечно¬
сти»! Можно подумать, что язык — это отец или прароди¬
тель, а мы, писатели, — его верные и усердные слуги, хра¬
нители, обновители, живущие его жизнью, разделяющие
его заботы, наблюдающие и ухаживающие за ним в его бла¬
гополучии и нездоровье, поощряющие его ко все новым экс¬
периментам и играм. Он, язык, кажущийся нашим орудием
и помощником, есть на самом деле наш господин, ради кап¬
риза, ради маленького эксперимента, о котором он, может
быть, уже завтра забудет, он задает работу сотне умов и
рук, и мы все считаем делом чести повиноваться его поры¬
вам и побуждениям, служить ему и подчиняться, вызывать
у него, пусть хоть на миг, улыбку или смех.
Погода меняется, на небе облака, закрывающие части
панорамы, воздух мягок и влажен. Волшебно, при пасмур¬
ном небе и ветерке, играют внизу на озере быстрые ливни
красок, все стало красочнее, пластичнее и втайне живее,
чем в ярко-солнечные последние дни. Но от прошлого от¬
туда снизу, от Фицнау и Бруннена, от Лаушера и Камен-
цинда, уже ничего не доносится, оно лишилось голоса, а я
слуха, и это успокоительно и хорошо, а то бы у меня надо¬
рвалось сердце и я с отчаянием вспоминал бы здесь, навер¬
ху в своем отеле, каким я коща-то был или хотел быть. У
старости много тягот; но есть у нее и свои милости, и одна
из них ■— та защитная стена забвения, усталости, покор¬
ности, которую она, старость, возводит между нами и на¬
шими проблемами и страданиями. Это может быть косно¬
стью, склерозом, равнодушием, но, при чуть ином освеще¬
нии, в какой-то момент, может быть и спокойствием, тер¬
пением, юмором, высокой мудростью и дао. Там внизу у
красивого залива озера продолжает жить нечто такое, что
касается меня, что предъявляет ко мне требования и сулит
мне страдание, нечто такое, что мне когда-нибудь, может
быть, все же придется пережить и уяснить самым жестким
и горьким образом; но сегодня не время для этого, там вни¬
зу не требование, не раскаяние, не упрек, а всего лишь ка¬
кая-то картина, какое-то воспоминание среди прочих. Да¬
же о более поздней поре, о 1916 годе, когда окрестности
Люцерна были ареной моих кризисов и борений, воспоми-
213
нания мои скудны и поверхностны, можно подумать, что у
меня не было прошлого.
Мы в облаках, стало весьма прохладно. Картины, кото¬
рые мы то и дело видим сегодня, часто очень напоминают
китайские или японские: торчащие из клубящихся змеями
облаков верхушки скал или деревьев, одинокая бородатая
или свилеватая сосна с порхающими вокруг нее облаками-
лоскутьями. Даже игриво-старомодная архитектура желез¬
ных беседок из тонких прутьев и заостренных башенок оте¬
ля тут кстати. С середины дня — проливной дождь. Нинон
простужена. Начинаем мерзнуть, чего я и побаивался перед
поездкой в горы.
Поднимаемся на Кульм, я припоминаю вычитанную
где-то десятки лет назад сцену, в которой сюда наверх при¬
ходит Фридрих Рюккерт*, и еще мы вспоминаем красавицу,
которую Штифтер* заставил здесь появиться. Под драма¬
тичным, взволнованно-бурным небом земля внизу то туск¬
лая, нереальная, то вдруг яркая, с резкими контурами, на
половине высоты нашей горы виден лесок, он вписался в
широкую впадину заостряющимся полукругом, похожим на
лисий или петушиный хвост, и мне приходит на память,
что когда-то подобные картины были самым прекрасным
впечатлением от моих немногих полетов — долина ручья,
например, со множеством прихотливых изгибов, с тополя¬
ми или ольхами, выстроившимися по ее краям; увидеть це¬
ликом этот путь ручья или этот вытянувшийся полукругом
лесок можно лишь с птичьего полета. Когда взгляд уходит
от далеких снежных гор к равнине, где краски теплей и раз¬
нообразней, где из зеленого, коричневого и охры выгляды¬
вают светлые городки и зеркальца маленьких озер, тоща
по какому-то слегка гнетущему чувству я догадываюсь, что
гам дальше, где земля и облака соприкасаются, уже Гер¬
мания.
После холодных дождливых дней выпало воскресенье с
приветливым небом, тут наша и так-то далеко не пустын¬
ная гора становится очень многолюдной. Везде нам встре¬
чаются экскурсанты, одиночки и семьи, группы детей, ок¬
рестные крестьяне в альпийских костюмах, приятные длин¬
нобородые монахи-капуцины, маленькие группы сестер в
строгих чепцах и черных длинных платьях, ибо гора наша
214
очень католическая, и у всех этих экскурсантов и гуляю¬
щих добрые, веселые, воскресные лица, цветок в петлице,
во рту или на шляпе, все здороваются, улыбаются и хвалят
прекрасный денек. В конце концов выясняется, что сегодня
даже особое воскресенье, праздник, приходит вагончик,
полный жителей одной из приозерных деревень, они несут
флаги, и один флаг еще новый, он еще свернут в чехле и
сегодня должен быть освящен. Это происходит на малень¬
кой площади возле источника, перед благоговеющей толхюй
с обнаженными головами, многие мужчины, парни и де¬
вушки в национальных костюмах. На вторую половину дня
нам обещано шествие с игрой флагами и спортивными со¬
стязаниями, и мы не хотим пропустить это зрелище. Я от¬
казался от своего полуденного отдыха, Нинон — от своего
греческого чтения, и под оглушительную музыку торжест¬
венная процессия двинулась в путь. Прекрасней и интерес¬
ней всего были три умельца игры флажками. В медленном
марше, как барабанщики, они размахивали своими красно¬
белыми флажками на коротких палках то правой, то левой
рукой, опускали их медленным движением до самой земли
и переступали через них. Незнакомому с этцм искусством
такие манипуляции казались в первые минуты несколько
однообразными и тяжеловесными, однако вскоре большин¬
ство правил игры становилось понятно, и прежде всего ста¬
новилось понятно, какой огромной силы и какой большой
сноровки требует это искусство. Трое красивых молодых
мужчин совершали эту трудную ритуальную церемонию с
серьезностью и точностью танцующих с мечами японцев,
это была не только виртуозная демонстрация силы и лов¬
кости, это было и символическое священнодействие, полное
достоинства, строгости и торжественности. Затем, к наше¬
му удовольствию, последовало и вовсе великолепное зрели¬
ще — подражание восхождению на горный луг. Голову за
головой гнали гуськом или вели на веревке прекрасный
скот с венками на лбу, и впереди шел красивый бычок, не
дававший передышки своему погонщику. За ним следовали
коровы и волы, славное небольшое стадо, а замыкал шест¬
вие мул, навьюченный старомодной деревянной кроватью.
В эти дни постоянно давали большой спектакль облака.
Порой, правда, мы бывали закутаны в них и ничего не ви¬
дели, иногда становилось так темно, словно на дворе де¬
кабрь. Но это редко длилось дольше одного часа, затем по¬
215
ток воздуха прорывал где-нибудь дыру в густом тумане,
гнал клочьями растрепанное облако кверху, отворял воро¬
та, окно, глазок, и вдруг открывались самые невероятные
и самые захватывающие картины, пейзажи, каких после
Альтдорфера* и Грюневальда*, пожалуй, никто не писал,
пейзажи райские и апокалипсические: сквозь исполинские
черные ворота ада видна солнечная, золотисто-зеленая
даль или, наоборот, — тепло и ярко озаренный ненадолго
лучами передний план с блестяпщми каплями на траве и
на камне в резком контрасте с густой сине-черной далью,
ще порой слышится гром или вспыхивает одиночная мол¬
ния.
Единственная обязательная работа, взятая мною сюда,
близится к завершению, завершению, правда, сомнйтель-
ному; ведь это работа, для которой никаких правил нет,
маленькая, для широкого круга читателей, подборка моих
стихов, понадобившаяся моему цюрихскому издателю. У
жены и у меня было по экземпляру полного собрания сти¬
хотворений, и мы, не говоря об этом, каждый отдельно, от¬
мечали те несколько десятков стихотворений, которые счи¬
тали необходимым в такую подборку включить. Результат
был поразительный: число стихотворений, достойных, на
взгляд обоих, включения в сборник, оказалось на диво не¬
велико; помимо этих нескольких стихотворений, каждый
из нас составил книгу, которая шла своим путем и не имела
ничего общего с книгой другого. Подтвердилась мысль
статьи «О стихах», которую я несколько месяцев назад пе¬
речитал, переделал и издал для друзей отдельной брошю¬
рой. Но все-таки было немного неприятно, что даже у нас
двоих — а мы-то уж, думается, действительно разбираемся
в этих стихах — получились такие разные подборки. И мне
послужило утешением то, что по крайней мере четыре-пять
стихотворений, десятки лет входивших в антологии и хре¬
стоматии, снова оправдали себя.
Почта преподносит теперь иноща редкостные сюрпри¬
зы, вот и вчера случился такой — письмо из Германии!
Кто-то из Штутгарта оказался в Швейцарии и привез мне
письма от нескольких моих швабских друзей, он прислал
их мне и предложил передать и мои ответы по назначению.
Это были не какие-нибудь случайные письма от незнаком¬
цев, а долгожданные, от друзей, и, хотя по поводу самых
больших своих германских забот я не узнал ничего нового,
216
я все же впервые получил от весьма недюжинных немецких
интеллигентов прямую информацию об их жизни и мыслях
после краха. Среди этих моих друзей нет, конечно, ни ве¬
ривших в Третью империю, ни тем более получавших ка-
кие-то выгоды от власти Гитлера; все они с первого дня бы¬
ли бдительными и глубоко встревоженными свидетелями
его возвышения и господства, многие из них сохраняли вер¬
ность себе, страдая и принося жертвы, теряли должности и
кусок хлеба, сидели в тюрьмах, должны были годами бес¬
помощно смотреть, но ясно видеть, как подступает беда,
как разрастается дьявольщина, и, когда началась война, с
кровью сердца желали собственному народу поражения, а
себе порой смерти. История этого слоя немецкого народа
еще не написана, о его существовании за границей еще поч¬
ти не слышали. Часть этих людей держалась прежде либе¬
ральных и по-южнонемецки демократических взглядов,
часть — католических, большая часть — социалистиче¬
ских.
И вот эти люди, которых я считаю самыми зрелыми сей¬
час, самыми проверенными — они прошли проверку стра¬
данием, — самым мудрыми в Европе, попытались отчасти
сознательно и намеренно, отчасти бессознательно, инстин¬
ктивно, совершенно освободиться от всякого национализма.
Сражавшийся француз, голодавший и страдавший голлан¬
дец или грек, многострадальный поляк, даже еврей, кото¬
рого преследовали, гнали на пытки и смерть, — у всех у
них в их немыслимой для нас беде еще оставалось одно:,
общность, товарищи по судьбе, братство, народ, причаст¬
ность. Этого у противников Гитлера и жертв Гитлера внут¬
ри Германии не имелось, или имелось лишь в той мере, в
какой они были организованы еще до 1933 года, а эти люди,
если их уже не убили, почти сплошь исчезли r аду тюрем
и лагерей. Оставались лишь неорганизованные благонаме¬
ренные и разумные немцы, а их все больше припирали к
стене шпионством, слежкой и доносительством, они жили
в совсем удушливой под конец атмосфере яда и лжи, видя,
как большинство их народа пребывает в мерзком, непонят¬
ном им, злокачественном опьянении. Думаю, что большин¬
ство тех, кто пережил этот двенадцатилетний кошмар,
сломлено и уже не способно деятельно участвовать в какой-
либо восстановительной работе. Бесконечно много могут
они, однако, сделать для духовного и нравственного про¬
буждения своего народа, который пока еще и не начал осоз¬
217
навать того, что произошло и за что он должен ответить.
Усталому отупению народа у каждого, кто сохранил яс¬
ность мысли, противостоит необычайно чуткая готовность
разобраться в вопросе виновности и израненная совесть.
Есть нечто общее у всех высказываний этих поистине
хороших немцев: величайшая чувствительность к тону тех
просветительных и обличительных проповедей, с которыми
сейчас, с некоторым опозданием, обращаются демократи¬
ческие народы к народу немецкому. Отчасти эти статьи и
брошюры, действенно сокращенные, распространяются ок¬
купационными властями. Это произошло и со статьей К.Г.
Юнга* о «коллективной вине» Германии, и тот единствен¬
ный слой немецкого народа, который сейчас вообще может
услышать эти высказывания и способен учиться, реагирует
на них с пугающей чувствительностью; несомненно, пропо¬
веди эти во многом совершенно правы, только доходят они
не до немецкого народа, а как раз до того драгоценнейшего
и благороднейшего его слоя, где совесть давно предельно
чутка.
Я не могу защищать перед своими швабскими друзьями
статьи, которые называю проповедями, я отступаюсь от
них. Этим друзьям мне вообще нечего сказать. Что может
сказать человек, который живет в неразрушенном доме и
бывает каждый день сыт, который хоть и претерпел за по¬
следние десять лет много неприятностей и забот, но не под¬
вергался ни непосредственной опасности, ни тем более на¬
силию; что может сказать он этим испытанным всеми бе¬
дами людям! Но по крайней мере в одном пункте я могу
дать тамошним своим друзьям добрый совет. Пусть они во
всем другом сильно превосходят меня, в одном пункте опыт
у меня более давний, чем у них, — в избавлении от наци¬
онализма. Оно произошло у меня не под Гитлером и не под
бомбами союзников, а в 1914—1918 годах и проверялось
снова и снова. И поэтому своим друзьям в Швабии я могу
написать: «Единственное в ваших письмах, что мне не
вполне понятно, — это ваше возмущение некоторыми
статьями, пытающимися просветить ваш народ относитель¬
но его вины. Мне хочется громко крикнуть вам: не упускай¬
те снова той малости добра, которую предоставляет вам ка¬
тастрофа! Тогда, в 1914 году, вы получили республику вме¬
сто монархии с плохой конституцией. И теперь, среди бед¬
ствия, вы снова можете что-то получить, что-то познать —
новый этап развития очеловечивания, составляющий ваше
218
преимущество перед победителями и нейтральными стра¬
нами; вы можете ясно увидеть безумие всякого национа¬
лизма, который вы, в сущности, давно уже ненавидите, и
освободиться от него. Вы это в большой мере уже сделали,
но в недостаточно большой, недостаточно основательно.
Ибо когда вы дойдете в этом своем внутреннем развитии до
конца, вы сможете читать или слушать любые оскорбления
целых народов, любые выпады против них, нисколько не
чувствуя себя задетыми. Доведите этот шаг до конца, и вы,
вы немногие, превзойдете по человеческой ценности собст¬
венный и всякий другой народ и еще на один шаг прибли¬
зитесь к дао».
ПОДАРОК ВО СНЕ
В такую эпоху и при такой цивилизации, когда для каж¬
дого особого явления, медицинского ли, психологического
или социологического, созданы специальная наука, специ¬
альный язык, специальная литература, но антропологии,
науки о человеке, нет вообще, все человеческие обстоятель¬
ства и способности становятся порой неразрешимыми про¬
блемами, удивительными странностями, иногда очарова¬
тельными, обаятельными, вдохновляющими, иногда же пу¬
гающими, опасными, мрачными. Расщепленное, не целост¬
ное уже, а разложенное на тысячи специальностей и про¬
извольно установленных разделов человеческое существо
превращается при этом, подобно микроскопическим препа¬
ратам в микроскопе, в набор картинок, многие из которых
напоминают человеческий, животный, растительный, ми¬
нералогический мир картинок, чей язык форм и красок об¬
ладает словно бы безграничным числом элементов и воз¬
можностей, которые лишены общего связующего смысла,
хотя в отдельных дольках картинок может быть какая-то
нечаянная, волшебная, первобытно-творческая красота.
Эта красота, это волшебство расчлененного, вырванного из
целого, из реальности, как раз и притягивает уже несколь¬
ко десятилетий художников и придает многим их лишен¬
ным смысла картинам такую прелестную печаль несущест¬
вующего, такую мимолетную, обворожительную красоту,
что порой кажется, будто на них изображено нечто целост¬
ное и подлинное, не единство, правда, и прочность мира, а
единство и вечность смерти, увядания, бренности.
219
Так же как работают эти художники, расчленяющие це¬
лое, разлагающие твердое, перетасовывающие элементы
форм и выстраивающие из них новые, безответственные,
но восхитительные комбинации, так работает наша душа
во сне, и не случайно к новым человеческим типам нашего
времени, каких не было прежде, прибавился и тип челове¬
ка, который уже не живет, не творит, не несет ответствен¬
ности, не действует, не располагает, а видит сны. Он видит
сны; ночью, а часто и днем, он привык записывать свои сны,
и, поскольку на то, чтобы записать сон, уходит во много
раз больше времени, чем на то, чтобы увидеть его, эти ли¬
тераторы от сновидений донельзя заняты всю свою жизнь;
они никак не могут кончить, никак не могут записать хоть
половину того, что им снится, и это просто чудо, что между
сновидением и записыванием они еще как-то ухитряются
принять пищу или пришить пуговицу. Эти литераторы от
сновидений или профессиональные сновидцы превратили
часть, в здоровые времена малую часть, жизни, побочную
функцию сна, в главное дело жизни, в ее средоточие и ос¬
новное занятие. Не будем им в этом мешать, не будем сме¬
яться над ними, хотя мы порой улыбаемся и пожимаем пле¬
чами. Мы, правда, находим занятие этих людей неплодот¬
ворным, но, с другой стороны, мы находим его безобидным
и невинным, эгоистическим, правда, по-детски, немного су¬
масшедшим, правда, как мы сами, как весь сегодняшний
мир, но не на злой и опасный лад. Человек, узнавший од¬
нажды, как вкусен стакан вина, может при случае стать
пьяницей, превратив стакан вина в смысл и центр своей
жизни, а человек, узнавший однажды здоровый и освежа¬
ющий вкус сырых овощей, может при случае стать из-за
этого профессиональным сыроедом и фанатиком гигиены;
это тоже относительно безобидные разновидности сумасше¬
ствия, и они никак не опровергают прелести вина и полез¬
ности салатов. Правильнее, нам кажется, отдавать иногда
должное и стакану вина, и сырым овощам, но не делать из
них ось, вокруг которой вертится наша жизнь.
Так же обстоит дело со снами и рассуждениями о снах.
Мы не думаем, что они созданы Богом для того, чтобы быть
профессией и главным делом человеческой жизни, но часто
мы замечали, что слишком мало снов и слишком мало вни¬
мания к нашим снам — это тоже что-то неправильное.
Нет, время от времени нам следует склоняться над этой
прелестной бездной, чтобы подивиться ее тайнам, обнару¬
220
жить в разорванной череде ее картин намеки на что-то це¬
лостное и подлинное и полюбоваться несказанными часто
красотами ее фантомов.
На днях я был во сне в Тессине, в немного чужом, слиш¬
ком возвышенном, каком-то преувеличенном Тессине, и
шел с кем-то по незнакомому предместью, где между сте¬
нами, оградами и новостройками виднелись горы. Среди
зданий выделялось одно, которое называлось «Новая мель¬
ница», очень высокое, многоэтажное, светло-красное; в
нем, несмотря на его непропорциональность и огромность,
было какое-то странное очарование, я то и дело поглядывал
на него. Но мы не гуляли без дела, а шагали довольно энер¬
гично, кажется, мы шли к поезду, несли какую-то кладь и,
не зная дороги, торопились и беспокоились. Кто был мой
путник, неясно, но, во всяком случае, это был близкий, за¬
душевный друг, неотделимый от меня и моей жизни. Мы
подошли к каменной ограде, за которой довольно тесно сто¬
яли старые запущенные дома, и я покинул улицу, перемах¬
нул через низкую ограду одним большим шагом и пошел
туда дальше, хотя, казалось мне, точно знал, что дороги
там нет, что там мы очень скоро заблудимся в дворах, са¬
диках и других частных владениях и навлечем на себя не¬
приятности своим рторжением. Однако ничего подобного не
произошло, мы без помех продвигались вперед, все в том
же беспокойстве спешки, рядом с нами и позади нас тоже
шли люди, и на этой дороге, которая дорогой не была, я
издали увидел среди других фигур шедшего навстречу мне
одного своего старого друга, он нисколько не изменился за
те долгие годы, что мы не виделись, и как бы нисколько не
постарел. Но оттого, что мы торопились, да и по каким-то
другим, неясным причинам, здороваться с ним мне не хо¬
телось, я отвел глаза и сделал вид, что мы незнакомы, и
вот он прошел мимо нас, вернее, исчез, прежде чем порав¬
няться с нами, словно угадав мое желание и уступая ему.
Тут между домами справа от нас открылся некий вид,
из-за которого я не забыл этот сон и пожелал записать вос¬
поминание о нем. Открылся вид на просторную, плавно
поднимающуюся высоко вверх местность. «Неужели ты не
видишь? — крикнул я своему товарищу, не останавлива¬
ясь, однако. — Так смотри же, смотри, это же невероятно
красиво!» Мой друг взглянул туда, но остался спокоен и ни¬
чего не ответил. А меня эта картина задевала за живое, я
впивал, я вбирал ее в себя, как великий подарок, как ред¬
221
костное исполнение желания. И необыкновенность этой ме¬
стности состояла в том, что она была одновременно дейст¬
вительностью и искусством, одновременно местностью и
картиной-пейзажем. Она поднималась в гору, посредине,
на предгорье, стояла церковь, кругом — деревни, позади
розово светящиеся гребни гор, на склоне ниже церкви —
две маленькие нивы, и прежде всего благодаря этим нивам
все казалось, все виделось мне не только красивым, но и
написанным красками и желанным, а написаны они были
отчасти неаполитанской желтой, отчасти смесью крокуса с
большим количеством белил. Не было никаких холодных
прохладных красок, все оставалось в гамме красного и жел¬
того.
Рядом с нами по дороге шел молодой человек (француз
или житель французской Швейцарии) со своей женой. Ког¬
да я так восторженно и увлеченно указывал своему спут¬
нику на открывшийся вид, швейцарец приветливо-хитро
улыбнулся мне и сказал: «Да, правда ведь, ничего прохлад¬
ного, одни только теплые краски — так примерно сказал
бы Сезан». Я счастливо ему кивнул, и у меня уже зачесался
язык перечислить ему как коллеге краски этой картины:
охра, неаполитанская желтая, крокус, белая, очень свет¬
лый краплак и так далее, но тут же мне показалось это
слишком интимным, слишком профессиональным, и я не
стал перечислять красок, но улыбнулся ему и порадовался,
что вот еще кто-то видит так же, как я, ощущая при этом
и думая то же самое.
Из сна, который прололжался и принес совершенно но¬
вые сцены, я сохранил картину этой теплой волшебной ме¬
стности и ношу ее в себе как дар бога снов. Ее краски были
любимыми красками моей палитры, когда я еще порой ди¬
летантски занимался живописью, они одно время преобла¬
дали также на палитре моего друга, художника Луи*. Но
поразительно и немного жаль: когда я воссоздаю себе наяву
увиденный во сне идеальный пейзаж, сияние которого было
так волнующе прекрасно, несло столько счастья, эти ма¬
ленькие желтоватые нивы, эту красновато вздымающуюся
горную церковь, всю эту игру теплых, желтых и краснова¬
тых тонов, всю эту сказочную и торжественную музыку его
палитры, пейзаж этот, правда, все еще светится, он, прав¬
да, все еще теплый, красноватый, но он уже чуть-чуть
слишком красив, чуть-чуть слишком розов, чуть-чуть
222
слишком гармоничен, чуть-чуть слащав, даже чуть-чуть
пошловат.
И теперь мне трудно сохранить этот подарок в полной
целости, защитить его от скепсиса и критики, радоваться и
при воспоминании прежней чистой радостью его красоте,
наполнившей меня на какую-то секунду сна таким неимо¬
верным счастьем. По пробуждении и при попытке снова
точно представить себе его красоту она показалась мне уже
чересчур красивой, уже чересчур смазливой, уже чересчур
идеальной, и эта тайная критика не умолкает хотя бы лишь
на мгновение. И не было ли в той полной понимания улыб¬
ке романского коллеги, в его словах о пейзаже, которые он
без нужды вложил в уста старика Сезана, — не было ли в
этой сочувственной улыбке художника или знатока еще и
чего-то хитрого, авгурского?
ОПИСАНИЕ ОДНОЙ МЕСТНОСТИ
Уже неделю я живу на первом этаже виллы, в совер¬
шенно новом для меня окружении, в новых для меня мес¬
тах, обществе и культуре, и, поскольку я пока очень одинок
в этом новом мире и осенние дни в тиши моего красивого
большого кабинета тянутся для меня медленно, я начинаю
пасьянс этих заметок. Это какая-никакая работа, придаю¬
щая моим одиноким и пустым дням видимость смысла, на
худой конец занятие, приносящее меньше вреда, чем важ¬
ная и в^хсокооплачиваемая деятельность весьма многих лю¬
дей.
Место, где я нахожусь, расположено у самой границы
кантонов и языков, на романской стороне. Я здесь гощу у
друга, возглавляющего одно лечебное заведение, и живу на
краю этого заведения, с которым вскоре, наверно, под во¬
дительством друга-врача познакомлюсь поближе. Пока я
мало что знаю о нем, знаю только, что оно расположено на
вытянутом участке земли, засаженном прекрасными пар¬
ками, в бывшем поместье, в громадном, похожем на замок
здании красивой архитектуры, охватывающем множество
внутренних дворов и, как мне говорят, населенном очень
большим числом пациентов, санитаров, врачей, сиделок,
ремесленников и служащих, и что я, живя в новом соседнем
здании, почти никаких признаков этого множества обита¬
телей не вижу и не слышу. Летом дело обстояло бы, навер¬
223
но, иначе, но сейчас, в ноябре, никто не сидит на зеленых
садовых скамейках, и, когда я по нескольку раз в день про¬
гуливаюсь по парку или захожу в большой дом, чтобы спра¬
виться о чем-нибудь в канцелярии или сдать почту, на са¬
довых дорожках, на гулких лестницах, в коридорах, на
усыпанных гравием площадках и во дворах мне встретится
разве что спешащая куда-то сиделка, или монтер, или под¬
ручный садовника, а в огромном здании царит полная ти¬
шина, словно оно пустует.
Просторное здание лечебницы, наша маленькая вилла с
двумя квартирами для врачей, несколько современных по¬
строек, где размещены кухня, прачечная, гаражи, конюш¬
ни, столярные и прочие мастерские, как и огородное хозяй¬
ство с большими грядками, с парниками и теплицами, на¬
ходятся внутри обширного парка — роскошного, барского,
немного кокетливого. Этот парк, террасы, дорожки и лест¬
ницы которого постепенно спускаются от господского дома
к берегу озера, составляет пока, поскольку большие про¬
гулки мне не по силам, мой пейзаж и мою окружающую
среду, ему принадлежит пока главная доля моего внимания
и моей любви. Теми, кто его сажал, правили при этом, ка-
жется, две тенденции или, вернее, страсти; страсть к жи¬
вописно-романтическому разделению пространства на лу¬
жайки и группы деревьев и другая страсть — сажать и вы¬
ращивать не только красивые и хорошо сгруппированные,
но также как можно более оригинальные, редкие и чуже¬
земные деревья. Это, насколько я могу судить, было, по-
видимому, вообще в обычае местных поместий, а кроме то¬
го, последний владелец и обитатель усадьбы мог привезти
эти экзотические растения из Южной Америки, где он был
плантатором и экспортером табака. Хотя сейчас обе эти
страсти, романтическая и ботаническая, случалось, проти¬
воречили друг другу и вступали друг с другом в спор, во
многих отношениях попытка их примирения почти полно¬
стью удалась, и, когда бродишь по этому парку, тебя при¬
влекают и заставляют присматриваться к деталям то гар¬
мония между посадками и архитектурой, прелесть неожи¬
данных перспектив и благородных видов, вида, например,
на озеро или на фасад замка, то отдельные растения, их
ботаническая любопытность или их возраст. Это начинает¬
ся сразу у дома, где на верхней полукруглой терраске кра¬
суются южные растения в больших кадках, среди них
апельсиновое дерево, густо увешенное маленькими, туги¬
224
ми, светящимися плодами, которое отнюдь не производит
впечатления существа чахлого, страдающего или даже не¬
довольного, как то чаще всего бывает с растениями, пере¬
несенными в чужой климат из других широт, а при своем
дородном стволе, при своей круглостриженной кроне и сво¬
их золотых плодах кажется очень довольньш и здоровым.
А недалеко от него, немного дальше вниз, ближе к берегу,
бросается в глаза один диковинный, могучий субъект, ско¬
рее куст, чем дерево, пустивший корни, однако, не в кадке,
а в натуральной земле и увешенный такими же твердыми
шариками плодов. Это странный, очень своенравно и не¬
приступно запутавшийся в себе, непроницаемый, много¬
ствольный и со множеством веток колючий куст, и плоды
его не такие золотистые, как те карликовые апельсины. Это
огромный, очень старый терновник, и, идя дальше, встре¬
чаешь то там, то сям другие такие же кусты.
Рядом с несколькими похожими на тис и кипарис де¬
ревьями с примечательными и порой причудливыми силу¬
этами одиноко и, может быть, немного меланхолично, но
сама мощь и здоровье, стоит баобаб, погруженный, как в
сон, в свою безупречную симметрию, и в знак того, что его
одиночество ему нипочем, держит на своих верхних ветках
несколько тяжелых массивных плодов. К этим раритетам,
поставленным на лужайке нарочно поодиночке, что как бы
призывает заметить их и восхититься, добавлено и несколь¬
ко не таких уж, правда, редких, но преображенных садо¬
водческим искусством тоже некоторым образом сознающих
свою интересность и немного лишенных невинности, ма¬
нерно напустивших на себя задумчивость деревьев, прежде
всего плакучих ив и плакучих берез, изящных длинново¬
лосых принцесс сентиментальной эпохи, среди них и гро¬
тескная плакучая ель, ствол которой со всеми ветвями на
определенной высоте сгибается вниз и вновь устремляется
к корням. Благодаря этому противоестественному направ¬
лению роста образуется плотный навес, некая хижина или
пещера из живой ели, куда человек может скрыться и по¬
селиться, словно он нимфа этого странного дерева.
К самым красивым деревьям нашего драгоценного сада
относятся несколько великолепных старых кедров, краси¬
вейший из них касается своими верхними ветками кроны
кряжистого дуба, самого старого дерева на этом угодье, он
гораздо старше парка и дома. Есть и несколько благоденст¬
вующих манговых деревьев, устремленных больше вширь,
S 225
чем ввысь, вероятно, их принуждают к этому сильные и
холодные ветры. Для меня самое великолепное дерево во
всем парке — не кто-то из аристократов-чужеземцев, а ста¬
рый почтенный серебристый тополь огромного роста, раз¬
деляющийся невысоко над землей на два могучих ствола,
каждый из которых мог бы сам по себе быть гордостью пар¬
ка. Он еще весь в листве, краски которой, в зависимости от
игры света и ветра, переливаются от серебристо-серого цве¬
та через богатую гамму коричневатых, желтоватых, даже
розоватых тонов к тяжелому темно-зеленому, но всеща со¬
храняют что-то металлическое, какую-то сухую жесткость.
Коща в его исполинской двойной кроне играет сильный ве¬
тер, а небо, как то здесь бывает в эти первые дни ноября,
чаще по-летнему влажно-синее или затемнено облаками,
зрелище получается царское. Это почтенное дерево было
бы достойно такого поэта, как Рильке*, и такого художни¬
ка, как Коро*.
Образец и стилистический идеал этого парка — англий¬
ский, не французский. Задумано было создать в миниатюре
как бы естественно-изначальный ландшафт, и местами этот
обман почти удался. Но осторожная оглядка на архитекту¬
ру, осмотрительное обращение с территорией и ее скатом к
озеру уже ясно 'доказывают, что все дело тут как раз не в
природе, не в диком состоянии растений, а в культуре, в
духе, в воле и дисциплине. И мне очень нравится, что все
это видно по парку и сегодня. Он был бы, возможно, кра¬
сивее, будь он немножко предоставлен себе, немножко за¬
пущен и заброшен; тоща дорожки заросли бы травой, а ще¬
ли каменных лестниц и обрамлений — папоротником, лу¬
жайка замшела бы, декоративные постройки обвалились,
все говорило бы о стремлении природы к размножению без
разбора и гибели без разбора, в этот благородный прекрас¬
ный мир позволено было бы войти одичанию и мысли о
смерти, кругом лежал бы валежник, по трупам и пням
умерших деревьев расползся бы мох. Но ничего подобного
нет здесь и в помине. Сильный, тот сильный, точно и уп¬
рямо рассчитывающий все наперед дух, та воля к культуре
когда-то задумали и посадили этот парк, правят им и се¬
годня, берегут и сохраняют его, не отдают ни пяди одича¬
нию, разнузданности, смерти. Не вылезает ни трава на до¬
рожках, ни мох на лужайке, дубу не разрешается очень уж
залезать своей кроной в соседний кедр, а шпалерам, кар¬
ликовым и плакучим деревьям забывать дисциплину, уви¬
226
ливать от закона, по которому они вычерчены, острижены
и согнуты. И там, ще какое-то дерево упало и убыло, из-за
болезни ли, старости, бури или тяжести снега, нет хаоса
молодой поросли, а вместо упавшего стоит маленькое, ху¬
денькое, складненькое, с двумя-тремя веточками и не¬
сколькими листочками, юное, вновь посаженное деревце на
круглом щите, послушно подчиняясь порядку и опираясь
на опрятный, крепкий кол, который поддерживает и защи¬
щает его!
Так творение аристократической культуры сохранилось
здесь в совсем иную эпоху, и воля iero зачинпщка, того по¬
следнего помещика, что подарил свою собственность благо¬
творительному заведению, соблюдается и правит поныне.
Ей повинуются и высокий дуб, и кедр, и тощенький юный
саженец с подпоркой, ей повинуется силуэт каждой группы
деревьев, ее чтит и увековечивает почтенный классический
каменный памятник на последней террасе сада, отделяю¬
щей последнюю большую лужайку от прибрежных камы¬
шей и воды. И единственная видимая рана, которую жес¬
токая эпоха нанесла этому прекрасному микрокосму, скоро
исчезнет и заживет. Во время последней войны одну из верх¬
них лужаек пришлось распахать и превратить в огород. Но
эта пустошь опять уже ждет бороны и грабель, чтобы вы¬
травить залетные сорняки и опять быть засеянной короткой
густой травой.
Вот я уже кое-что и порассказал о своем прекрасном
парке, и все-таки забыл я больше, чем описал. Я остался в
долгу перед кленами и каштанами, не воздав им хвалы, и
не упомянул пышных толстоствольных глициний внутрен¬
них дворов, а еще до них до всех мне следовало вспомнить
чудные вязы, прекраснейший из которых стоит совсем ря¬
дом с моим жильем, между виллой и главным зданием, он
моложе, но выше того почтенного дуба. Этот вяз выходит
из земли крепким и толстым, но с самого начала стремя¬
щимся к высоте и стройности стволом, который потом, по¬
сле короткого энергичного разгона, как разлетающаяся
струя воды, разбрызгивается, разбегается полчищем рву¬
щихся к небу веток, стройный, веселый, светолюбивый —
пока его радостное взмывание не утихает в высокой, пре¬
красносводчатой кроне.
Если в этих упорядоченных и ухоженных пределах нет
места примитивному и дикому, то на границах искусствен¬
ных насаждений оба мира повсюду сталкиваются друг с
S* 227
другом. Уже коща парк разбивался, его плавно спускавши¬
еся дорожки кончались в песке и болоте отлогого, заросшего
камышом берега, а в дальнейшем соседство неукрощенной,
предоставленной самой себе природы сказьгаалось и куда
более ощутимым образом. Несколько десятилетий назад
при проводке соединительных каналов между местными
озерами уровень здешнего озера понизили на несколько
метров, осушив тем са^шм широкую полосу прежнего края
озера. На этой полосе, не зная, как с ней поступить, при¬
роде дали полную волю, и теперь здесь на протяжении не¬
скольких миль разрастается отчасти еще болотистый лох¬
матый и довольно уродливый лес, это выросшие из залетев¬
ших семян джунгли ольхи, берез, ветел, тополей и других
деревьев, медленно превращающие бывшее песчаное дно в
лесную почву. Там и сям показываются и дубки, хотя они
не очень-то, кажется, хорошо чувствуют себя на этой зем¬
ле. И я могу представить себе, что летом здесь цветут раз¬
ные тростники, растет пупгаца и те высокие, перистые ор¬
хидеи, которые я знаю по болотистым лугам у Боденского
озера. Убежище дают эти заросли и многим животным,
здесь, кроме уток и других водоплавающих, гнездуются
вальдшнепы, кроногаепы, цапли и бакланы, я видел стаю
взлетающих лебедей, а позавчера из этого леска выскочили
две косули и неторопливо, маленькими игривыми прыжка¬
ми, пересекли одну из дальних лужаек нашего парка.
Все, что я здесь если не описал, то хоть обобщенно пе¬
речислил, внушительный ухоженный парк с первобытным
леском на влажной целине, кажется просторной местно¬
стью, а это всего только ближайшая окрестность нашего до¬
ма. Коща я каких-нибудь четверть часа брожу в этой ок¬
рестности взад-вперед по дорожкам, она и впрямь некое
единство, некий ограниченный маленький мир, которых
нам, как, например, парка в большом городе, на какое-то
время достаточно для радости и для замены остальной при¬
роды. На самом же деле все это — парк, садоводство, ого¬
роды и лесной пояс — только передний план и ступень, ве¬
дущие к чему-то гораздо большему и более единому. Если
спуститься от дома по красивым дорожкам под высокими
вязами, тополями, кедрами, мимо пышных конусов вел¬
лингтоний, чьи толстые, коричневые стволы так тепло ук¬
рыты шатром висящих гибких веток, мимо баобаба и скум¬
пии, мимо плакучих ив и терновника к берегу, тоща только
и окажешься перед настоящим и вечным пейзажем, полным
228
не красивости, не занятности, а величия, перед широким
открытым, проста, огромным ландшафтом. За коричнева¬
тым, качающимся и пляшущим на ветру леском камыше!
вытягивается на много миль озеро небесного цвета при ти
хой погоде и темного, сине-зеленого, как лед глетчера, i
бурю, а по ту сторону его (если та сторона не скрыта, Kai
это часто бывает, серой и опаловой дымкой) низкие, про¬
долговатые гряды Юры вычерчивают в небе, над этой слов-
но бы плоской далью, свои спокойные, но энергичные ли
НИИ. Со времен Боденского озера я ни разу не жил сред!
такого пейзажа, а с тех пор прошло почти тридцать пят]
лет. Простор озера и неба, запах воды и водорослей, кача
юпщеся камыши, влажный береговой песок под ногами, на
до мной облака в бескрайнем небе и несколько птиц — xai
я все это коща-то любил! С тех пор я, как-то не сознавав
этого, всегда жил в местах, более близких к высокогорью
которым свойственна была твердость, четкая очерченносп
контуров, среди пейзажа, который, в отличие от здешнего
не состоял прежде всего из неба, воздуха, марева, ветра
движения. Сейчас мне не хочется пускаться в размышленш
и толкования, а то можно было бы славно пофантазироват!
по поводу этого возвращения из статического в динамиче
окий мир. Вот они снова здесь и заговаривают со мной ш
незабытом языке; эта безбрежность, это сходство с морем
влажность, этот блеск, эта смена тумана и ясности, эта из
менчивость и переменчивость мира, где надо всем друтш
властвуют вода и небо. Я часто стою на берегу со шляпо!
в руке и ветром в волосах, меня овевают звуки и запах!
молодых дет, меня настиг и смотрит на меня мир, настой
чиво напоминающий мне прошлое, пристально оглядываю
щий меня, как отец вернувшегося из дальних странствш
сына, но долгое мое отсутствие не предстает мне неверно
стью. Ведь прочное взирает на бренное всеща как бы с пре
восходством, то насмешливым, то терпеливым, и, видя, xai
меня, старика, пристально оглядывает и терпит, как поеме
ивается надо мной дух этой влажно-прохладной дали, я ш
чувствую себя униженным. Такова каждая новая встреча <
землей и природой, по крайней мере для нашего брата, дл^
нас, художников: сердце наше с готовностью и любовью ус
тремляется навстречу стихийному и словно бы вечному
бьется в такт волнам, дышит с ветром, летит с облаками i
птицами, наполняется благодарностью и любовью за кра
соту света, красок и звуков, сознает свою причастность i
229
ним, свое родство с ними — и все-таки никогда не получает
от вечной земли, от вечного неба иного ответа, чем вот этот
спокойный, полунасмешливый взгляд большого на малое,
старика на ребенка, прочного на бренное. И мы, в упрям¬
стве ли или в смирении, в гордыне или в отчаянии; начи¬
наем попирать немоту языком, вечное преходящим и смер¬
тным, и из чувства малости и бренности рождается столь
же гордое, сколь и отчаянное чувство человека, самого мя¬
тежного, но и самого способного к любви, самого молодого,
но и самого чуткого, самого блудного, но и самого способ¬
ного к страданию сына земли. И вот уже наше бессилие
одолено, мы уже не маленькие, не упрямые, мы уже не же¬
лаем единения с природой, а противопоставляем ее вели¬
чию наше величие, ее прочности нашу изменчивость, ее не¬
моте наш язык, ее мнимой вечности наше знание о смерти,
ее равнодушию наше сердце, способное любить и страдать.
Может показаться, что вот я и дал общее представление
об этой великолепной, волшебной, замечательно живопис¬
ной в ее осенних тонах местности. Но я еще не закончил.
В состав ее,^ кроме плоских полей низины, множества садов
и парков, кроме берега озера, кроме почти замыкающего
горизонт кольца лесных холмов и убегающих вдаль холми¬
стых цепей Юры, входит еще кое-что, в ней господствует
и участвует еще нечто — горы, Альпы. Чаще всего, правда,
в это время года они не видны, или на каких-нибудь пол¬
часа или час за грядой холмов выглянет вдруг что-то белое
или голубое или розовое, какой-то треугольник или много¬
угольник, он кажется облаком, но на мгновение выдает
иную свою фактуру, он отодвигает далекий горизонт гораз¬
до дальше назад й все-таки в тот же миг снова сводит на
нет видимость беспредельности, ибо там, за этим намеком
голубого или розового, глаз угадывает нечто прочное, ка¬
кую-то границу, какую-то стену. И дважды я вечерами ви¬
дел не только эти мимолетные, туманные и одиночные лики
гор, я видел в красноватых лучах с синими тенями хорошо
знакомую мне череду гор Бернского нагорья и Юйгфрау в
их середине. Они вычерчивали в той дали, где над холмами
обычно все растворяется в свете, в дымке и небе, какую-то
границу, какую-то, правда, очень нежную, но определен¬
ную линию, они до захода солнца сияли в мягком, улыбчи¬
вом свете и потом внезапно исчезли, и глаз, как ни был он
восхищен и одарен ими, не заметил, как они исчезли, на¬
230
столько неземным и почти нереальным было прелестное их
явление.
Но вот пришел день, когда мне неожиданно суждено бы¬
ло увидеть совсем-совсем другую, новую, величественную
картину Альп. Было воскресенье, перед обедом я совершил
свою весьма короткую, по моим силам, прогулку, пообедав,
снял башмаки и прилег на диван, прочел несколько писем,
уже несколько дней меня дожидавшихся, затем одну грим-
мовскую сказку (о, сколькими не увядающими уже целое
столетие дарами облагодетельствовали оба брата свой на¬
род!) , стал было обдумывать ответ на одно из писем, но бы¬
стро задремал. Вскоре в мою дверь тихонько постучали, а
сон мой и так-то не был глубоким, и вошел доктор сказать,
мне, что он сейчас выезжает со своим сыном и приглашает
меня присоединиться к ним. Я быстро собрался, мы сели в
. машину и поехали на ближайшую из гор Юры, знаменитую
открывающимся с нее видом на Альпы. Мы быстро проеха¬
ли равнину с большими свекольными полями и множест¬
вом фруктовых деревьев, аккуратные виноградники с низ¬
кими, ровнехонько на равных расстояниях расположенны¬
ми лозами покрывали южные склоны холмов, затем дорога
быстро пошла вверх через смешанный лес с коричневой ли¬
ствой буков, свежей зеленью елок и по-осеннему желтыми
лиственницами и вбкоре подняла нас на высоту метров этак
тысячу или чуть больше. Тут мы достигли кромки, отсюда
дорога шла дальше почти без уклона. Мы взобрались еще
на несколько шагов выше, на Оглоданный скотом лужок,
и панорама Альп, отдельные сегменты которой мы, уже
едучи на последнем отрезке горной дороги, не столько
видели, сколько угадывали, открылась теперь во всю свою
ширь — зрелище необычное и, в сущности, пугающее. До¬
лины озера и низины, лежащей перед нами, не было видно,
они тонули в еще не сгустившейся в туман дымке, которая,
почти закутав их, кое-где шевелилась, потихоньку дышала,
порой открывала кусочек земли, но в целом создавала впе¬
чатление полной тишины и неподвижности. Глядя на нее,
легко было обмануться и вообразить, что невидимое на са¬
мом деле озеро простирается на сотни миль до подножия
этого колоссального взгорья, которое там, за дымкой, об-
наженно-отчетливо тянется к небу. Отсюда видны не ка¬
кая-то группа, не какие-то группы гор, а все целиком, все
Альпы, от крайнего востока страны до их последних зубцов
и гребней в Савойе, спинной хребет Европы лежит перед
231
нами, как хребет исполинской рыбы, — застывший, ясный,
холодный, чужой, даже горький и грозный мир скал и
льда в холодной недоброй синеве со вспыхивающими на миг
то тут, то там плоскими кручами, снега которых дают све¬
ту такой холодный, хрустальный, трезвый и почти абстрак¬
тный ответ. Немой ледяной громадиной, грозной и непри¬
ступной баррикадой посреди нашего мира, застыв, как сто¬
мильный поток лавы, вздымалась цепь Альп в холодное
осеннее небо. Каким-то ужасом, ощущением смешанного
с блаженством испуга .и замерзания, как от очень холодной
струи воды, ответил я на это зрелище, оно причиняло боль
и было приятно, оно расширяло и сжимало одновременно.
Как открываешь окно после будничного труда, перед тем
как лечь спать, и из обыденности, изношенности, укром¬
ности слишком привычного заглядываешь в пылающее хо¬
лодным огнем звезд небо, так с нашего гребня горы, произ¬
водившего своим шоссе и отелем, дачами и часовней впе¬
чатление уютности и обузданности, глядели мы через ши¬
рокое море марева на эту огромность, чуждость, косность,
сверхреальность. Немного позднее, когда то первое острое
чувство несколько успокоилось, мне непроизвольно вспо¬
миналась картина одного художника. Но это был не Ход-
лер*, не Каламе*, не еще кто-либо из наших великих жи¬
вописцев Альп, а кто-то живший задолго до открытия Альп,
старый сиенский художник Симоне Мартини*: у него была
картина, на которой какой-то рыцарь одиноко скачет в не¬
ведомую даль, а наискось через картину тянется голая, лы¬
сая гряда гор, твердая, с острыми краями, костлявая и ко¬
лючая, как спина окуня.
НИЩИЙ
Несколько десятилетий назад, вынашивая «Историю с
нищим», я думал о ней как о самой обыкновенной истории,
и мне не казалось ни невероятным, ни даже чем-то особен¬
но сложным сесть и в один прекрасный день поведать о ней
миру. Но что повествование — искусство, навыками кото¬
рого мы, люди сегодняшнего дня, или, во всяком случае, я,
не владеем, и что попытка набить в этом руку может лишь
вылиться в подражание давно устоявшимся традиционным
формам, я начал понимать только со временем, как и то,
что вся наша литература, если это, конечно, серьезные ав¬
232
торы, делающие свое дело с сознанием полной ответствен¬
ности, стало намного сложнее, проблематичнее и тем са¬
мым смелее и решительнее. Ведь никто из нас, литерато¬
ров, не знает сегодня, насколько его человеческая индиви¬
дуальность и миропонимание, его язык, вера в людей и чув¬
ство ответственности за них, его стремление быть совестью
общества и проблематика написанного им близки и родст¬
венны по духу другим, понятны и доступны читателям и их
коллегам по перу. Мы обращаемся к людям, которых мало
знаем, нам известно только, что они читают наши слова и
символы уже как язык иностранца, возможно, с пылом и
наслаждением, но с очень приблизительным пониманием
самой сути, в то время как структура мышления и мир по¬
нятий какой-нибудь политической газеты, фильма или
спортивного репортажа оказываются куда более органич¬
ными для них, доступнее и надежнее по информации, по¬
глощаемой полностью, почти без пробелов недопонимания.
Поэтому я пишу эти страницы, которые первоначально
должны были стать лишь изложением одного небольшого
воспоминания из времен моего детства, не для своих сыно¬
вей или внуков — им они мало что говорят — и не для тех
потенциальных читателей, из которых, возможно, тот или
иной, чье детство и мир образов были примерно такими же,
как и мои, если и не поймет соль этой не поддающейся из¬
ложению истории, ставшей моим личным переживанием,
то хотя бы узнает в жизненных ситуациях, фоне, кулисах
и костюмах описываемой сцены приметы времени.
Нет, даже и им не адресованы мои заметки, ибо наличие
подготовленных в известной степени и посвященных людей
не сможет возвысить мои странички до литературного рас¬
сказа, ибо достоверность декораций и костюмов еще далеко
не все то, из чего складывается рассказ. Итак, я заполняю
пустые странички буквенными знаками, не вкладывая в это
ни малейшего намерения достучаться до чьей-то души и не
надеясь, что для кого-то они будут значить столько же,
сколько и для меня. Мною движет так хорошо известный,
хотя и необъяснимый, инстинкт тяготения к уединенной
работе — той уединенной игре, противостоять которой бес¬
силен художник — она для него словно природный инс¬
тинкт, хотя именно так называемым природным инстинк¬
там, как их сегодня обозначают на народных референду¬
мах, в психологии или медицине, он зачастую и действует
наперерез. Ведь мы стоим на такой точке, таком отрезке
233
или повороте человеческого пути, приметою которого яв¬
ляется также и то, что мы ничего больше не знаем о чело¬
веке, потому что слишком много занимались им, накопили
слишком много материала о нем, а в антропологии — науке
о человеке — требуется мужество, чтобы не бояться упро¬
щения ради ясности, а нам этого мужества как раз и не
хватает. И как самые популярные и модные теологические
системы нашего времени ни на что не делают такого упора,
как на полную невозможность получить какие-либо науч¬
ные сведения о Боге, так и наука о человеке в наши дни
боязливо опасается узнать что-либо достоверное о челове¬
ческой сути и публично выступить с подобным заявлением.
Теологи и психологи, придерживаюш;иеся современных
взглядов, находятся в таком же положении, как и мы, ли¬
тераторы: нет принципиальных основ, все под вопросом и
сомнительно, все относительно и хаотично, и тем не менее
настойчиво дает о себе знать несломленный природный ин¬
стинкт, влечение к уединенной работе и игре, и, так же как
мы, художники, мужи науки тоже прилежно стараются на
своем поприще и трудятся с рвением дальше над усовер¬
шенствованием приборов для наблюдения и собственных
средств информации, чтобы вырвать у небытия и хаоса хотя
бы несколько тщательно изученных и описанных аспектов
наблюдения.
Пожалуй, все можно рассматривать как признак гибели
или как кризис и неизбежный при этом промежуточный
этап; но поскольку то влечение не умерло в нас и мы, сле¬
дуя ему, продолжаем заниматься нашими уединенными иг¬
рами, несмотря на всю проблематичность времени и всевоз¬
можно чинимые препятствия, испытывая пусть одинокое и
грустное, но все же удовольствие и даже малую толику
ощущения осмысленности жизни и оправдания своего су¬
ществования, то нам не на что жаловаться — хотя мы очень
хорошо понимаем и тех наших коллег, которые, устав от
одиноких бесплодных усилий, впали в тоску, испытывая
потребность в общении, порядке, ясности и своей принад¬
лежности к обществу, и устремились к тому убежищу, ка¬
ким предстает церковь и религия или то, что является эр¬
зацем их на сегодняшний день. Мы же, отщепенцы-одиноч-
ки, упрямо не поддающиеся обращению в другую веру, об¬
речены нести в своем уединении крест проклятия и кары,
однако оно дает нам, несмотря ни на что, своеобразную воз¬
234
можность жить, что для художника означает возможность
творить.
Что касается меня, то мое одиночество можно назвать
почти идеальным, и то, что доносится до меня из критики
или признания, из недоброжелательного или запанибрат¬
ского отношения ко мне круга людей, связанных со мной
одним языком, в большинстве случаев не задевает меня,
точно так же как до ушей человека, стоящего на пороге
смерти, не доходят пожелания скорейшего выздоровления
и дальнейших долгих лет жизни из уст навещающих его
друзей. Но это одиночество и выпадение из всеобщего по¬
рядка и привычных связей и отношений, это нежелание
или неумение приспособиться к упрощенным формам су¬
ществования и теперешней механике жизни далеко еще не
означают ада или отчаяния. Мое одиночество вовсе не зам¬
кнутое и не пустое, оно, правда, не позволяет мне сожи¬
тельствовать в обществе в одной из принятых на сегодня
форм существования, но облегчает мне, например, прожи¬
вание в сотнях жизненных форм прошлого, а может, и бу¬
дущего, ще бесконечно огромной части человечества при¬
надлежит свое место. И прежде всего мое одиночество не
пустынно. Оно заполнено образами. Оно как кладезь на¬
копленных богатств, как олицетворение моего прошлого,
слияния моего с природой. И если влечение к работе и игре
еще не исчерпало всех моих сил, то только благодаря этим
картинам прошлого. Удержать один из тысячи этих обра¬
зов, развить его, придать ему видимые черты, запечатлеть
на бумаге, добавить еще одну памятную запись ко многим
другим становится с годами все труднее и отнимает все
больше сил, HQ не утрачивает своей притягательности. И
особенно заманчива попытка сделать наброски и зафикси¬
ровать на бумаге те образы и картины, что восходят к ис¬
токам моей жизни и, перекрытые миллионами позднейших
наслоений и впечатлений, все же сохранили свою яркость
и краски. Ведь те ранние картины и образы вошли в меня
тоща, когда я был еще естественным человеком, сыном,
братом, созданьем Божьим, а не комком инстинктов, реак¬
ций и обязывающих взаимоотношений, то есть не был еще
человеком сегодняшнего образа и подобия.
Я попробую описать время, место действия и действую¬
щих лиц того небольшого эпизода. Не все, конечно, подда¬
ется точному восстановлению, и в первую очередь год и
235
время года; неточным остается и число участников, пере¬
живших описываемое событие. Это было во второй полови¬
не дня, возможно, весной или летом, мне тоща было лет
пять или семь, а моему отцу — лет тридцать пять или трид¬
цать семь. Отец совершал прогулку с детьми, действующи¬
ми лицами были: мой отец, моя сестра Адель, я, возможно,
моя младшая сестра Марулла, что нельзя уже установить
точно, и лежавший в детской коляске, которую мы везли,
младенец — или эта самая младшая сестра, или, что более
вероятно, наш младший брат Ганс, не умевший еще ни хо¬
дить, ни говорить. Местом прогулки было несколько улиц
в Шпаленквартир — окраинном районе Базеля восьмиде¬
сятых годов, где размещалась и наша квартира — недалеко
от казармы на проспекте Шпаленрингвег, который тоща
еще не был таким широким, как сегодня, потому что две
трети его занимала железная дорога на Эльзас. Это был не¬
богатый, жизнерадостный, но спокойный квартал города,
расположенный на самой окраине тощашнего Базеля, ще в
нескольких сотнях шагов уже тянулся бесконечный травя¬
ной ковер стрельбища, затем шла каменоломня, за которой
начинались первые крестьянские хутора по дороге на Аль-
швиль, ще нам, детям, иноща давали в темном теплом хле¬
ву пить парное а{олоко прямо от коровы и откуда мы потом
уносили домой корзиночку с яичками, опасаясь за их со¬
хранность и гордясь, что нам доверили их нести. Вокруг нас
жили мирные бюргеры — представители низших сословий;
некоторые из них были мастеровыми, в большинстве же это
были люди, уходившие на заработки в город, а по вечерам
они лежали, высунувшись из окна, на подоконниках и ку¬
рили трубку или возились в маленьких палисадниках перед
своими домиками с газоном и гаревой дорожкой. Некото¬
рый шум производила железная дорога, и мы боялись пу¬
тевых обходчиков, живших в дощатой будке с крохотным
оконцем у железнодорожного переезда между Ауштрассе и
Альшвилерштрассе и выскакивавших как бешеные, коща
мы хотели достать из рва, отделявшего полотно дороги от
улицы, упавший туда мяч, берет или стрелу, — спускаться
в этот ров никто не имел права, кроме самих обходчиков,
котбрых мы боялись; мне ничего не нравилось в них, разве
только очаровательный медный рожок, висевший у них на
шнурке через плечо и издававший звук на одной-единст-
венной ноте, но они умели выражать им все степени своего
сиюминутного негодования или полного безразличия. Впро¬
236
чем, однажды один из этих людей, являвшихся для меня
первыми представителями власти, государства, закона и
полицейского насилия, обошелся со мной неожиданно для
меня удивительно любезно и по-человечески очень мило:
подозвав меня, занятого на солнечной стороне улицы вол¬
чком и веревочкой, он дал мне в руку монетку и ласково
попросил принести ему из соседнего магазина лимбургского
сыра. Я охотно откликнулся на его просьбу и, получив в
магазине продавливающийся под пальцами сыр, поданный
мне завернутым в бумагу, с запахом, показавшимся мне
крайне подозрительным, вернулся с покупкой и остатком
денег; к моему великому удовольствию, обходчик ждал ме¬
ня внутри своей будки, увидеть которую мне так давно
страстно хотелось, и вот наконец мне позволили туда вой¬
ти. Но внутри не оказалось никаких сокровищ, кроме пре¬
красного сверкающего рожка, висевшего в данную минуту
на гвозде рядом с прикрепленным кнопками к дощатой сте¬
не вырезанным из газеты портретом усатого мужчины в
мундире. К сожалению, мой визит к закону и государствен¬
ной власти кончился в итоге всего лишь разочарованием и
сильным конфузом, доставившим мне, очевидно, много не¬
приятностей, раз я его по сей день не могу забыть. Обход¬
чик, бывший в тот день в хорошем расположении духа, взяв
у меня сыр и деньги, не хотел отпускать меня, не поблаго¬
дарив и не вознаградив за труд, он достал из узкого сун¬
дучка, на котором сидел, каравай хлеба, отрезал ломоть,
потом довольно толстый кусок сыра и положил или, скорее,
приклеил одно к другому и протянул мне, пожелав прият¬
ного аппетита. Я хотел улизнуть вместе с бутербродом, что¬
бы выбросить его, как только скроюсь с глаз своего благо¬
детеля. Но он разгадал, как мне показалось, мои намере¬
ния, или ему просто захотелось, чтобы кто-то разделил с
ним хоть раз его трапезу, только он сделал большие и, как
мне потом показалось, страшные глаза и стал настаивать
на том, чтобы я прямо сейчас, вот тут надкусил хлеб с сы¬
ром. Я хотел вежливо поблагодарить и удалиться в безопас¬
ное место, потому что хорошо понял, слишком уж хорошо,
что он воспримет мое неуважительное отношение к угоще¬
нию, а уж тем более открытое отвращение к любимой им
еде как оскорбление. И так оно и было. Испуганный и не¬
счастный, я пробормотал, заикаясь от страха, что-то несу¬
светное, положил хлеб с сыром на край сундучка, повер¬
нулся и быстро отошел от обходчика на три-четыре шага —
237
смотреть на него я не решался, — потом припустился бе¬
жать во всю прыть, на какую только был способен.
Встречи с путевыми обходчиками, представителями
власти, были в нашем окружении, нашем маленьком ра¬
дужном мирке, в котором я жил, тем единственно загадоч¬
но-чужим, той единственной дырой и окном в полный опас¬
ностей мир пучины и бездны, о существовании которого на
свете мне уже тогда было небезызвестно. Однажды, напри¬
мер, я слышал дикие крики пьяных гуляк из пивной, что
ближе к городу, видел, как двое полицейских увели чело¬
века в разорванной куртке, а в другой раз услышал вечером
со стороны городской окраины чудовищно однозначные и в
то же время чудовищно загадочные звуки драки и при этом
так испугался, что нашей служанке Анне, сопровождавшей
меня на прогулке, пришлось, отойдя на несколько шагов,
взять меня на руки. И было еще нечто, что мне казалось
бесспорно дурным, отвратительным, чем-то вроде дьяволь¬
ского порождения, — тот смрадный запах от фабрики, мимо
которой я несколько раз проходил со своими старшими то¬
варищами, его зловоние вызывало во мне что-то вроде
омерзения, подавленности, возмущения и глубокого стра¬
ха, роднившихся каким-то странным образом с ощущения¬
ми, поднимавшимися во мне при мысли об обходчиках и
полиции, тем чувством, к которому, кроме боязливого ощу¬
щения страданий, причиняемых насилием — при собствен¬
ной полной беспомощности, примешивалось еще подспуд¬
ным довеском сознание нечистой совести. И хоть я в своей
жизни еще ни разу не встречался с полицией и не испыты¬
вал на себе силу ее власти, зато часто слышал от посыльных
или своих товарищей по играм таинственную угрозу: «Ну
погоди, вот сейчас кликну полицию!» — и так же, как при
конфликтах с обходчиками, с моей стороны каждый раз бы¬
ло отчасти наличие вины, нарушение известного мне или
только предполагаемого и даже воображаемого мною зако¬
на. Но те жуткие ощущения, те впечатления, звуки и за¬
пахи преследовали меня далеко от дома, в гуще самого го¬
рода, где и без того было шумно и волнительно, хотя все
происходившее вокруг интересовало меня в высшей степе¬
ни. Наш тихий и чистенький мирок предместных уЛочек с
садиками перед домом и бельевыми веревками за ним был
беден впечатлениями и напоминаниями о другой жизни, он
благоприятствовал скорее вере в упорядоченное, радушное
и беспечное человечество, тем более что среди многих слу¬
238
жащих, ремесленников и живших на ренту попадались кол¬
леги моего отца или приятельницы моей матери — люди,
имевшие отношение к миссионерской деятельности среди
нехристианского населения: миссионеры, уже вышедшие на
покой или приехавшие домой на отдых, вдовы миссионеров,
чьи дети ходили в школу миссии, — сплошь набожные, до¬
бродушные люди, вернувшиеся домой из Африки, Индии и
Китая, которых я, однако, при собственном делении света
на ранги и достоинства ни за что не поставил бы вровень
со своим отцом, но они вели похожий на наш образ жизни
и, разговаривая друг с другом, обращались на «ты» или до¬
бавляли «брат» или «сестра».
Ну вот теперь я наконец-то добрался до действующих
лиц моей истории, трое из которых главные фигуры: мой
отец, нищий и я, а двое или трое второстепенные персона¬
жи, а именно: моя сестра Адель, возможно, моя вторая се¬
стра и наш маленький брат Ганс, которого мы везли перед
собой в коляске. О нем я уже однажды писал в своих вос¬
поминаниях: во время этой, базельской, прогулки он не был
нашим партнером в играх или участником переживаемых
событий, а только маленьким, еще не умеющим говорить,
но очень любимым всеми нами сокровищем в детской ко¬
ляске, катить которую перед собой все мы почитали за удо¬
вольствие или даже особую награду, не исключая и отца.
Сестра Марулла, если она вообще принимала участие в той
нашей послеобеденной прогулке, собственно, тоже не при¬
нимается во внимание как равноправный участник проис¬
шедших событий, ибо она была еще слишком мала. Тем не
менее ее следует упомянуть, если это только верно, что она
тогда была с нами, потому что ее имя Марулла, восприни¬
мавшееся в нашем окружении еще более, чем малоизвест¬
ное у нас имя Адель, как чужеродное и странное, передает
в какой-то мере атмосферу и колорит нашей семьи. Ведь
Марулла — вывезенная из далекой России ласкательная
форма от Марии — несколько раскрывала наряду со мно¬
гими другими признаками чужеродную суть и необычность
нашей семьи и смешение в ней наций. Наш отец, так же
как и мама, и дедушка, и бабушка, был в Индии, научился
там немножко местному языку и даже подорвал свое здо¬
ровье, находясь на миссионерской службе, но в нашей среде
это настолько никому не казалось чем-то особенным или
бросающимся в глаза, как если бы мы были семьей потом¬
ственных мореплавателей в одном из портовых городов. В
239
Индии, на экваторе, среди чужого темнокожего населения,
и у дальних берегов, покрытых пальмами, все живущие
вокруг нас тоже были «братьями» и «сестрами» миссии и
тоже знали «Отче наш» на нескольких чужих языках, со¬
вершали далекие морские путешествия и длительные поезд¬
ки по стране на ослах или в повозке, запряженной волами,
чему мы, дети, несмотря на все изнурительные трудности
такого путешествий, ужасно завидовали, и любой из них
мог сопроводить осмотр великолепных коллекций миссио¬
нерского музея, когда нам разрешалось посетить под при¬
смотром взрослых этот музей на первом этаже дома миссии,
точными пояснениями и в то же время увлекательными и
богатыми приключениями рассказами.
Но, несмотря на Индию и Китай, Камерун или Бенга¬
лию, другие миссионеры и их жены, хоть и объездившие
весь свет, были всего-навсего швабами или швейцарцами,
и всем бросалось в глаза, если появлялся баварец или авс¬
триец, заблудившийся среди них. Наш же отец, назвавший
свою маленькую дочку Маруллой, прибыл сюда из далекой
неизвестной чужбины, он был родом из России, балтийцем,
русским немцем, и до самой своей смерти ничего не пере¬
нял из диалектов, на которых говорили все вокруг него, и
в том числе его жена и его дети, и всегда привносил в нашу
швабскую или швейцарско-немецкую речь свой чистый бе¬
зупречный прекрасный немецкий литературный язык. Этот
немецкий, не внушавший многим доверия и тепла, отпуги¬
вавший кое-кого из местных жителей от нашего дома, мы
очень любили и гордились им, мы любили его так же, как
изящную, хрупкую и тонкую фигуру отца, его высокий
благородный лоб и чистый, часто страдальческий, но всегда
открытый, правдивый и обязывающий к безупречному ры¬
царскому поведению взгляд, взывавший к лучшим чувст¬
вам того, на кого он был направлен. Он был — это знали
его немногочисленные друзья и очень рано познали и мы,
его дети, — не таким, как все, он был чужаком, редким и
благородным мотыльком или птицей, залетевшей к нам из
других широт, он отличался от всех своей хрупкостью и бо¬
лезненностью и в еще большей степени своей молчаливой
тоской по родине, в чем был абсолютно одинок. И если мы
любили мать с естественной детской нежностью, питаю¬
щейся близостью, теплом и общностью с ней, то отца мы
любили скорее благоговейно, с робостью и восхищением,
240
как это свойственно молодости по отношению не к своему
родному и близкому, а далекому и чужому.
Пусть все усилия в погоне за правдой всеща приносят
разочарование и оказьюаются иллюзорными, тем не менее
они так же необходимы при зарисовках такого рода, как и
стремление к совершенству формы и прекрасному, иначе у
написанного не будет никаких оснований претендовать
хоть на самую малую ценность. Пожалуй, это справедливо,
что все мои усилия ради достижения правды как раз и не
приближают меня к ней, но тем не менее они так или ина¬
че, может, мне самому еще неизвестно как, все же окажут¬
ся не совсем напрасными. Так, написав первые строки этих
заметок, я думал, было бы проще и никому не причинило
бы никакого вреда, если бы я вообще не упомянул Марул-
лу, поскольку ее причастность ко всей этой истории в вы¬
сшей степени сомнительна, ан нет, она все-таки понадоби¬
лась, хотя бы ради своего имени. Не один уже писатель или
художник честно и кропотливо стремился достичь той или
иной дорогой его сердцу цели, и достигал — правда, не той,
а иной и совсем других результатов воздействия, о которых
он вовсе или почти не. задумывался и которые были для него
не столь важны. Можно очень легко себе представить, что
Адальберт Штифтер в своем «Бабьем лете» ни к чему не
относился так серьезно и с таким священным трепетом, ни
к чему не стремился так терпеливо и добросовестно, как к
тому, что сегодня навевает на нас скуку в его произведении.
Но при этом то, другое, та наличествующая рядом с нею и,
несмотря на нее, высокая и затмевающая всю скуку непре¬
ходящая ценность этого произведения не состоялась бы без
тех усилий, без той добросовестной и терпеливой борьбы
писателя ради того, что было важно ему самому. Так и я
должен постараться удержать столько правды, сколько бу¬
дет возможно. Среди прочего это должно включать в себя
также попытку увидеть отца еще раз таким, каким он дей¬
ствительно был в тот день во время нашей прогулки, ведь
вся его личность как единое целое вряд ли была под силу
детскому разуму, едва ли и сегодня я в состоянии охватить
всю ее разом, но я должен попытаться увидеть отца еще
раз таким, каким я видел его ребенком в те дни. Для меня
он был почти неподражаемым совершенством, воплощени¬
ем чистоты и благородства души, поборцем, рыцарем и
страстотерпцем, чья высокая недосягаемость скрапгавалась
его чужеземным происхождением, отсутствием родины,
241
врожденной деликатностью и восприимчивостью к самой
нежной и искренней любви. Мне неведомы были сомнения
в нем, и ничего я не подвергал в нем критике, тогда еще
нет, хотя мои конфликты с ним, к сожалению, не были для
меня чем-то редкостным. Но во всех конфликтах он хоть и
был для меня судьей, предостерегал, наказывал или про¬
щал — на мою беду или к моему стыду, однако всегда ос¬
тавался тем, на чьей стороне была правда, меня всегда на¬
казывали или выносили мне порицание с моего внутреннего
согласия, понимания и признания своей вины, ни разу у
меня не возникло разногласия или спора с ним, никогда я
не усомнился в его справедливости и добродетели, к этому
привели лишь более поздние конфликты. Ни с одним дру¬
гим человеком, пусть даже он во всем бы превосходил меня,
не было у меня никогда таких естественных отношений,
отец с любовью как бы вынул из меня шип самолюбия и
строптивости, сменившихся добровольным подчинением, и
если однажды вдруг установились подобные отношения
между мной и моим учителем в Гёппингене, то они были
непродолжительными и при более позднем взгляде назад
отчетливо представились мне повторением прошлого, вы¬
званным сильным желанием возврата тех прежних сынов¬
не-отеческих отношений.
Все, что мне тогда было известно о моем отце, было в
основном почерпнуто из его же собственных рассказов. Он,
не обладая особой творческой натурой и будучи, что каса¬
лось выдумки и темперамента, намного беднее нашей ма¬
тери, находил удовольствие и проявлял некий артистиче¬
ский талант, когда рассказывал об Индии или своей роди¬
не — тех великих временах его жизни. Прежде всего о сво¬
ем детстве в Эстляндии, о жизни в отчем доме, на хуторе,
о поездках в брезентовом фургоне и о пребывании у моря,
рассказывать о, котором он мог без устали. Нам открывался
удивительно веселый, чрезвычайно жизнерадостный, не¬
смотря на всю свою христианскую добропорядочность, мир,
больше всего на свете нам хотелось хоть раз увидеть ког-
да-нибудь ту самую Эстляндию или Лифляндию, где была
такая райская, яркая и веселая жизнь. Мы, в общем, лю¬
били Базель, наш район на окраине, дом миссии, нашу ули¬
цу Мюллервег, наших соседей и друзей, но разве здесь нас
кто-нибудь приглашал к себе в гости на далекие хутора, где
столы ломились от пирогов и горой громоздились корзины
с фруктами, разве нас сажали на молоденьких лошадок или
242
катали в брезентовых фургонах по необозримым равнин¬
ным просторам? Кое-что от той балтийской жизни и ее обы¬
чаев отцу удалось перенести и сюда, у нас была Марулла,
был самовар и портрет царя Александра и еще несколько
игр, вывезенных отцом с родины, которым он обучил нас,
прежде всего обычаю катать на Пасху крашеные яички, для
чего нам разрешалось пригласить одного из соседских де¬
тей, чтобы удивить его этими обычаями и играми. Но мало
что из того мог приспособить отец здесь, в чужих краях,
чтобы уподобить свою жизнь той, на родине, где прошло
его детство, и даже самовар стоял, по сути, больше как му¬
зейный экспонат, им почти не пользовались, и отцу оста¬
вались лишь рассказы об отчем доме в России, о Вайсен-
штайне, Ревеле и Дерпте, о родимом саде, празднествах и
путешествиях, в них отец не просто предавался воспомина¬
ниям о том, что так любил и без чего не мог жить, но и
насаждал в нас, детях, свою маленькую Эстляндию, и в на¬
ших душах оседали дорогие ему образы и картины.
Именно с этим культом, которым он окружал свою ро¬
дину и свою раннюю юность, связано и то, что он умел за¬
мечательно играть, был прекрасным партнером в играх и
учителем. Ни в одном из известных нам домов не знали и
не играли в такое количество игр, не варьировали их так
изобретательно и остроумно и не придумывали так много
своих новых игр. В том секрете, что наш отец — такой серь¬
езный и благочестивый — не изгладился из нашей памяти
и не превратился в потустороннего святого и что, несмотря
на все раболепное благоговение перед ним, он остался близ¬
ким нам человеком, понятным нашему детскому восприя¬
тию, большая доля принадлежит его игровому таланту, а
также умению рассказывать и увлекать нас своими воспо¬
минаниями. Для меня, ребенка, конечно, не существовало
тогда всего того, о чем я сегодня предполагаю или догады¬
ваюсь, думая о заложенной в биографии и психологии отца
радости от той игры. Существовал и действенно живым был
для нас, детей, лишь сам культ игры как таковой, воспоми¬
нание о нем сохранилось, и не только в нашей памяти, но
и документально, в письменной форме: вскоре после опи¬
сываемых здесь событий отец написал для простых людей
книжку об играх, озаглавив ее «Игры в домашнем кругу»,
она вышла в издательстве нашего дяди Гундерта в 111тут-
гарте. До глубокой старости и даже в годы полной слепоты
дар играть не изменил отцу. Мы, дети, привыкли к этому
243
и считали этот дар естественной, чертой характера и обыч¬
ным делом любого отца; если бы судьба забросила нас с от¬
цом на необитаемый остров, если бы нас бросили в темницу
или мы заблудились бы в дикой чаще и нашли себе убежи¬
ще в пещере, в скале, то, скорее всего, мы опасались бы
голода и лишений, но уж никак не скуки и пустоты, отец
придумывал бы для нас игру за игрой, даже если бы мы
были закованы в цепи и пребывали бы в полной темноте,
потому что именно те игры, которые не требовали никаких
аксессуаров, были его самыми любимыми, например отга¬
дывать загадки и придумывать их, играть в слова, трени¬
ровать память. А из игр, где необходимы фигуры, фишки
или другие вспомогательные предметы, он всегда больше
всего радовался самым простым, самодельным, и испыты¬
вал неприязнь к играм массового промышленного производ¬
ства, покупаемым в магазинах. Много лет мы играли в на¬
стольные игры «го банг» или «хальму» на досках и с фиш¬
ками, сделанными и раскрашенными им самим.
Между прочим, его склонность к совместному время¬
препровождению, к семейным развлечениям, неназойливо
охраняемым непреложными правилами игры, стала позднее
свойством и чертой характера одного из его сыновей — са¬
мого младшего: брат Ганс был в этом очень схож с отцом,
он находил в играх и общении с детьми большую радость
для себя, свой отдых, они заменяли ему многое, в чем от¬
казала ему жизнь. Он — робкий и порой боязливый — рас¬
цветал, как только оставался один на один с детьми, дове¬
рявшимися ему, парил на вершинах своей фантазии и жиз¬
нерадостности, очаровывая и приводя детей в восторг, и
окунался сам в блаженное неземное состояние раскованно¬
сти и счастья, в котором был неотразимо галантен, о чем
после его смерти с подчеркнутой теплотой говорили даже
самые недоверчивые и скептически настроенные очевидцы.
Итак, отец вышел с нами на прогулку. Именно он доль¬
ше всех катил детскую коляску, хотя и не отличался креп¬
ким здоровьем. В коляске лежал, улыбаясь и дивясь на бе¬
лый свет, маленький Ганс, Адель шла рядом с отцом, а я
никак не мог приспособиться к размеренному анданте на¬
шего шествия и то забегал вперед, то отставал, сделав по
дороге интересное открытие, и все время клянчил разре¬
шить мне везти коляску, цеплялся за руку отца или его
сюртук и, не обращая внимания, что утомляю его, забра¬
сывал его вопросами. О чем говорилось на той прогулке,
244
похожей на тысячу других, не осталось у меня в памяти.
От прогулки в тот день у меня и у Адели не осталось в па¬
мяти ничего, кроме потрясения от встречи с нищим. В той
книжке с картинками, ще память собрала воспоминания
раннего детства, эта встреча относится к самым сильным и
самым впечатляющим, надолго запавшим в душу пережи¬
ваниям детства, она явилась толчком к размышлениям и
раздумьям разного рода и даже еще сегодня, почти через
шестьдесят пять лет, побудила меня вернуться назад к тем
мыслям и вынудила напрячься и изложить все пережитое
на бумаге.
Мы прогуливались степенно, светило солнце и рисовало
под каждой подстриженной под шар акацией вдоль дороги
ее тень, что только усиливало ощущение регулярности, ли¬
нейности и эстетической педантичности, которое произво¬
дили на меня каждый раз ряды эти деревьев. Не происхо¬
дило ничего, что выходило бц за рамки привычного и буд¬
ничного: почтальон приветствовал отца, а фургон с пиво¬
варни с четверкой роскошных тяжеловозов ждал у переез¬
да, и у нас было время полюбоваться и поудивляться на
великолепных животных, смотревших так, словно они хо¬
тели обменяться с нами приветствием и поговорить по ду¬
шам, и только одна их тайна пугала меня — как могли вы¬
держать их ноги, когда их обстругивали, как деревяшки, и
подковывали этими пудовыми железками. Однако, коща
мы уже приближались на обратном пути к нашей улице,
случилось все же нечто новое и из ряда вон выходящее.
Навстречу нам шел человек, вызывавший своим нехо¬
рошим внешним видом сострадание, еще довольно молодой
мужчина с бородатым, скорее обросшим лицом — под тем¬
ными запущенными волосами проступали сквозь давно не
бритую щетину розовые щеки и алые губы, одежда и осанка
человека свидетельствовали о запустении и одичании, что
испугало нас, но и вызвало наше любопытство: я бы охотно
рассмотрел этого человека повнимательнее и кое-что раз¬
узнал бы про него. Он принадлежал — я это увидел, как
только взглянул на него, — к той, другой, таинственной и
дурной, части общества, он мог быть одним из тех загадоч¬
ных и опасных, но несчастных людей с трудной судьбой, о
которых взрослые при случае говорили как о бродягах,
уличных музыкантах, нищих, пьяницах, преступниках и
тут же прекращали разговор или переходили на шепот, как
только замечали, что один из нас, детей, слышит их. Как
245
бы мал я тоща ни был, у меня, однако, было не только ес¬
тественное мальчишеское любопытство именно к этой, та¬
ящей в себе угрозу и щемящей дущу, стороне жизни, но,
как я сегодня думаю, уже и предчувствие того, что эти
странно двойственные явления бедности и опасности, вы¬
зывающие одновременно чувство и надвигающейся угрозы,
и братского сострадания, эти оборвыши, опустившиеся и
сделавшие неверный шаг люди, были тоже «настоящими»
и взаправду существовавшими и их присутствие в мире ска¬
зок и ми4юв было крайне необходимо и что в большой ми¬
ровой игре без нищего нельзя было обойтись, так же как и
без короля: ободранный и в лохмотьях, нипщй имел такое
же право на существование, как и тот, у кого власть и кто
облачен в мундир. Так я смотрел, дрожа от восхищения и
страха, как навстречу нам шел оборванный лохматый че¬
ловек, направляя свои стопы к нам, видел его слегка пуг¬
ливые глаза, направленные на отца, видел, как он остано¬
вился перед ним, вытащив наполовину шапку.
Отец вежливо ответил на его сумбурное приветствие,
малыш в колясочке проснулся, оттого что мы остановились,
и медленно раскрыл глаза, а я с огромным напряжением
следил за сценой между обоими, по-видимому, столь чужи¬
ми друг другу .людьми. Еще острее, чем обычно, что быв^о
уже не раз, воспринимал я бормотание на местном диалекте
одного и четкую, безупречно чистую, грамотную речь дру¬
гого словно выражение противоположности их внутреннего
начала и как бы воочию увидел ставший осязаемым вечный
барьер между отцом и окружавшими его людьми. С другой
стороны, приятно волновало и возбуждало зрелище, как
вел себя тот, к кому обратились, — отец разговаривал с
нищим очень вежливо, без неприязни, не отпрянув в ужасе
назад, а признав в нем человека и брата. Незнакомец по¬
пытался, после того как они обменялись несколькими пер¬
выми фразами, взять сердце отца штурмом, распознав в
нем предположительно мягкого человека, которого, по все¬
му, без труда можно было разжалобить, рисуя ему картины
своей бедности, голода и нищеты; он говорил как бы нарас¬
пев, как бы заклиная, словно жаловался небесам на свою
нужду: у него нет ни куска хлеба, ни кровли над головой,
обувь только дырявая, полная нищета, он больше не знает,
куда ему еще обратиться, и очень просит дать ему немнож¬
ко денег, у него давно уже не звенело в кармане ни гроша.
Он не сказал — в кармане, сказал — в котомке, но мой
246
отец предпочел употребить в своем ответе слово «карман».
Впрочем, за исключением немногих слов, я скорее улавли¬
вал интонацию и мимику разговора.
Сестра Адель, старше меня на два года, была лучше ос¬
ведомлена относительно нашего отца. Она уже тогда знала
то, что оставалось для меня скрытым еще долгие годы: у
нашего отца, можно сказать, почти никогда не было при
себе денег, а если и случалось такое, он обращался с ними
довольно беспомощно и даже легкомысленно, отдавал се¬
ребро вместо никеля и более крупные монеты вместо мел¬
ких. По-видимому, Адель не сомневалась, что у него нет
при себе денег. Я же, наоборот, склонялся в своем ожида¬
нии к тому, что при новом нарастании стенаний и рыданий
в голосе нищего отец возьмется за карман и даст в руки
этому человеку целую пригорошню франков и полфранков
или насыплет их щедро в протянутую шапку, так что хва¬
тит и на хлеб, и на лимбургский сыр, и на ботинки., и на
все остальное, в чем нуждался странный незнакомец, но
вместо этого я слышал, как на все жалобные призывы отец
отвечал все тем же вежливым, даже участливым голосом и
все его успокоительные и увещевательные слова сгущались
постепенно в небольшую, хорошо сформулированную речь.
Смысл ее, как нам, брату и сестре, позднее казалось, был
таков: денег он дать не может, потому что у него их при
себе нет, да и не. всегда можно помочь деньгами, к сожале¬
нию, они находят себе такое разное применение, например,
вместо еды их тратят на выпивку, а он ни в коем разе не
хочет способствовать такому употреблению денег; с другой
стороны, он не может отклонить просьбу человека, дейст¬
вительно нуждающегося в куске хлеба, поэтому он предла¬
гает, пусть этот человек пройдет с ним до ближайшей лав¬
ки, где он получит столько хлеба, что хотя бы сегодняшний
день ему голодать не придется.
В течение разговора мы все время стояли на одном и том
же месте посреди широкой улицы, и я хорошо видел обоих
мужчин, мог сравнивать их и делать для себя выводы на
основании их внешнего вида, интонации голоса и речи. Не¬
прикосновенным в этом состязании оставалось, конечно,
превосходство и авторитет отца, он, без сомнения, был не
только человеком приличного общества, достойно одетым и
с хорошими манерами, но еще и таким человеком, который
из них двоих с большей серьезностью относился к своему
визави, кто лучше и внимательнее слушал своего партнера,
247
безоговорочно воспринимал его слова как искренние и че¬
стные. Зато у другого был флер одичавшего бродяги, за ним
и его словами стояло нечто очень сильное и жизненное,
сильнее и жизненнее любой благоразумности и воспитан¬
ности: его нужда, бедность, роль нищего и право спикера
говорить от лица всех заслуженно и незаслуженно обни¬
щавших в этом мире, что придавало ему вес, помогало най¬
ти верную интонацию и жесты, которых не было и не могло
быть у нашего отца. Кроме того, помимо прочего, во время
этой прекрасной и полной драматизма сцены между нищим
и тем, у кого он просил подаяния, возникла шаг за шагом
некоторая схожесть, обозначить которую словами почти не¬
возможно, пожалуй, даже братство. Причина отчасти была ,
в том, что отец, когда к нему обращался бедняк, слушал
его без внутреннего сопротивления, не морщил нетерпели¬
во и недовольно лоб, допуская, что тот не соблюдает дол¬
жной дистанции между собой и им, и признавая как само
собой разумеющееся его право быть выслушанным и вы¬
звать к себе сострадание. Но это еще было далеко не все.
Если тот обросший темноволосый бродяга, выпав из мира
довольных, работающих и каждый день досыта евших лю¬
дей, и производил среди чистеньких мещанских домиков и
садиков впечатление чужого, то и отец уже давным-давно,
пусть совсем по-другому, был здесь тоже чужим, человеком
со стороны, чья связь с обществом тех людей, среди кото¬
рых он жил, была очень непрочной и держалась лишь на
обоюдной договоренности, не пустив здесь корней и не дав ^
прикипеть ему к этой земле сердцем. И как в нищем за его
подчеркнуто вызывающим видом отчаянного бродяги, ка¬
залось, проглядывало что-то детское, чистое и невинное,
так и в отце за фасадом благочестивости, светской вежли¬
вости и рациональности скрывалось много по-детски наив¬
ного. Во всяком случае — естественно, все эти умные мысли
тогда не могли у меня возникнуть, — я чувствовал, чем
дольше оба разговаривали друг с другом или, возможно, го¬
ворили каждый свое, тем сильнее ощущалась их удивитель¬
но странная однородность. И денег не было ни у того, ни у
другого.
Отец опирался о край коляски, объясняясь с незнаком¬
цем. Он разъяснял ему, что намеревается дать ему целый
каравай хлеба, только хлеб этот нужно взять в той лавочке,
ще его знают, и он предполагает пройти с ним туда. С эти¬
ми словами отец опять покатил колясочку, повернув назад
248
к Ауштрассе, ве^^щей за город, незнакомец шагал рядом
без возражений, но стал опять каким-то робким и пугливым
и чувствовал себя явно неудовлетворенным, отсутствие де¬
нег разочаровало его. Мы, дети, жались к отцу и коляске,
держась подальше от незнакомца, который, израсходовав
свой пафос, затих и был теперь скорее угрюм и непривет¬
лив. Я тайком рассматривал его и все время думал о слу¬
чившемся, с этим человеком вошло в нашу жизнь так много
иного, так много тревожного или, скорее, заставляющего
задумываться и тревожиться, так много опасного или вну¬
шающего опасение, что теперь, коща нищий молчал и был,
по-видимому, в дурном расположении духа, он нравился
мне все меньше и меньше и все больше и больше выпадал
из возникшего единения с отцом, скатываясь назад в мир
жуткого и неизвестного. Это был кусок самой жизни, кото¬
рую я наблюдал, жизни больших, взрослых людей, и, по¬
скольку жизнь взрослых, окружавшая нас, детей, крайне
редко принимала такие примитивные и доступные для по¬
нимания формы, я был весь захвачен ею, но первоначаль¬
ная безмятежная радость и уверенность улетучились и ис¬
парились, как если бы в ясный солнечный день вдруг заво¬
локло свет и тепло дымкой и унесло бы их прочь, как по
злому волшебству.
Однако наш добродушный отец, казалось, не был омра¬
чен подобными мыслями, его открытое лицо оставалось
улыбчивым и приветливым, а походка — такой же радост¬
ной и размеренной. Так мы и шествовали — отец с детьми
и коляской и нищий — маленький караван, направлявший¬
ся к черте города, а затем по окраинной Ауштрассе до лав¬
ки. всем нам хорошо известной, где можно было купить са¬
мые разные товары, начиная от обдирной булочки и кара¬
вая хлеба до грифельной доски, школьных тетрадей и иг¬
рушек. Здесь мы остановились, и отец попросил незнаком¬
ца подождать его некоторое время вместе с нами, детьми,
пока он не вернется из магазина. Мы с Аделью посмотрели
друг на друга, нам было не по себе, мы немножко боялись,
или, что вернее, нам было довольно страшно, и я полагаю,
мы находили очень странным поведение отца и не совсем
понятным, как мог он оставить нас тут одних, с чужим че¬
ловеком, словно с нами ничего не могло случиться, как буд¬
то никоща еще злодеи не убивали маленьких детей, не по¬
хищали их и не продавали или не вынуждали попрошай¬
ничать и воровать. И мы оба стояли, ища защиты и при¬
249
крывая собой нашего малыша, тесно прижавшись к стенкам
коляски и вцепившись в нее руками, с твердым намерением
ни при каких обстоятельствах не разжимать пальцев. Отец
уже поднялся по каменным ступенькам к двери, вот он
взялся за ручку и уже исчез внутри. Мы остались с нипщм
наедине, на всей длинной и прямой улице не было ни души.
Я внутренне уговаривал себя, давая клятвы, быть по-муж-
ски стойким и мужественным.
Так мы стояли, может, в течение минуты, и у всех у нас
было скверно на душе, кроме маленького братика в коля¬
ске, который вообще не подозревал о существовании чужо¬
го человека и блаженно играл своими крошечными пальчи¬
ками. Я отважился поднять глаза и взглянуть на того, кто
внушал нам ужас, и увидел на его красном лице возросшее
беспокойство и неудовольствие, он не нравился мне, я по-
настоящему боялся его, ясно было видно, как в нем борются
противоречивые чувства, ища себе выхода.
Наконец его мысли и чувства созрели, принятое реше¬
ние пронзило его как стрела, было видно, как подрагивают
его веки. Но то, на что он решился и что потом сделал,
было полной противоположностью всему тому, на что были
направлены мои мысли, на что я надеялся или чего боялся,
это было самым неожиданным из всего, что могло произой¬
ти, и совершенно ошеломило нас обоих, Адель и меня, мы
стояли застывшие и онемевшие от удивления. Нищий, по¬
дергавшись лицом, оторвал от земли ногу в достойном со¬
жаления ботинке, согнул ее в колене, поднял обе сжатые в
кулак руки на уровень плеч и побежал по длинной прямой
улице с такой прытью, какую трудно было от него ожидать,
глядя на его фигуру; он бросился наутек и бежал, бежал
так, как будто за ним гнались, пока не достиг ближайшего
перекрестка и не исчез навсегда.
Что за чувства обуревали меня при этом, не поддается
описанию, — испуг и облегчение в равной степени, оторопь
и благодарность и в тот же самый момент разочарование и
даже сожаление. И тут с тем же улыбчивым, безоблачным
и радостным лицом и огромным пышным караваем белого
хлеба в обеих руках возвратился из магазина наш отец:
удивившись на мгновение и выслушав наш рассказ о том,
что произошло, он залился смехом. В конце концов, ничего
лучшего он сделать не мог. У меня же было ощущение, что
душа моя улетела вслед за нищим — в ту полную неизве¬
стностей пропасть жизни, и прошло много времени, прежде
250
чем я начал размышлять, почему же все-таки тот человек
пустился наутек от каравая хлеба, так же, как коща-то и
я удрал от угощения, предложенного мне путевьш обход¬
чиком. Дни и месяцы пережитое не утрачивало своей све¬
жести, оставаясь бездонно неисчерпаемым по силе произ¬
веденного впечатления: оно сохранилось таким в нашей па¬
мяти и по сей день, какие бы гениальные доводы ни озаряли
нас позднее. Таинственная пропасть жизни, в которую ка¬
нул обратившийся в бегство нищий, поджидала и нас. Глу¬
хим бурьяном поросла и померкла та красивая и беспечная
фасадная жизнь, проглотив нашего Ганса, а мы, брат и се¬
стры, продержавшиеся под ударами судьбы до сегодняшнего
дня и своего преклонного возраста, чувствуем, как она тес¬
нит нас, пытаясь задуть искорку нашей души.
ПРЕРВАННЫЙ УРОК
Как все старые люди на закате своих дней, я должен не
только снова обратиться к воспоминаниям^^етства, но, от¬
части и в наказание, еще раз, и уже в совершенно изме¬
нившихся усл<^иях, пробовать и испытывать себя в сомни¬
тельном искусстве рассказывания. Рассказывание предпо¬
лагает наличие слушателей и требует от рассказчика сме¬
лости, которую он обнаруживает лишь в том случае, если
у него и у его слушателей есть общее пространство, обще¬
ство, обычаи, язык и образ мышления. Образцы, которые я
почитал в юности (и сегодня еще почитаю и люблю), преж¬
де всего автора зельдвильских историй*, долго поддержива¬
ли мою благую веру в то, что я по рождению и по традиции
тоже принадлежу к этой общности, что и я тоже, коща рас¬
сказываю истории, живу на общей родине со своими чита¬
телями, играю им на таком инструменте и в такой нотной
системе, которая для них и для меня совершенно привычна
и естественна. Свет и тьма, радость и печаль, добро и зло,
поступок и страдания, святость и безбожие хотя и не отде¬
лялись и не обосабливались там столь категорично и резко
друг от друга, как в морализирующих рассказах из школь¬
ных и детских книжек, там были нюансы, была психология,
они отличались юмором, но там не было серьезных сомне¬
ний ни в доступности моих рассказов слушателям, ни в
пригодности их для рассказывания; действие разворачива¬
лось в большинстве из них совершенно прилично, с экспо¬
251
зицией, кульминацией, развязкой, и они доставляли мне и
моим читателям почти столько же удовольствия, как ког¬
да-то приносило рассказывание историй великому мастеру
из Зельдвилы и вслушивание в них его читателям. И лишь
постепенно и против воли я с годами пришел к мысли, что
характер моих переживаний и манера моего повествования
не соответствуют друг другу, что я, стремясь к добротному
повествованию, насиловал свой опыт и переживания и те¬
перь должен либо отказаться от рассказывания, либо ре¬
шиться стать плохим рассказчиком. Мои опыты в этом на¬
правлении — от «Демиана» до «Паломничества в Страну
Востока» — уводили меня все дальше от доброй и прекрас¬
ной традиции рассказывания. И коща я сегодня пытаюсь
записать даже какое-то маленькое, совершенно изолиро¬
ванное переживание, все мое искусство рассьшается и пе¬
режитое мною каким-то таинственным образом становится
многоголосым, многослойным, сложным и непроницаемым.
Я должен смириться с этим, более крупные и более старые
ценности и сокровища сделались в последние десятилетия
сомнительными для упражнений в искусстве рассказыва¬
ния.
Однажды утром мы, школьники Кальвской латинской
школы, сидели в нашей нелюбимой классной комнате за
письменной работой. Это было в первые дни после долгих
каникул, совсем недавно еще мы сдали наши голубые та¬
бели, которые родители должны были подписать, мы еще
не вжились по-настоящему в плен и скуку, а потому пере¬
живали их еще острее. Также и учитель, мужчина, не до¬
стигший еще и сорока лет, но казавшийся нам, одиннадца¬
ти- и двенадцатилетним, древним стариком, был скорее уд¬
рученным, чем расстроенным, мы видели, как он сидит на
своем высоком троне, с желтым лицом, склонившись над
тетрадями, со страдальческой гримасой. С тех пор как
умерла его молодая жена, он жил один со своим единствен¬
ным сынишкой, бледным мальчиком с высоким лбом и во¬
дянисто-голубыми глазами. Напряженный и несчастный
сидел этот серьезный человек в своем возвышенном одино¬
честве, внушающий уважение, но также и страх; коща он
сердился или тем более гневался, луч адской ярости мог ис¬
казить классическую позу гуманиста и покарать ложь. В
помещении, пахнущем чернилами, мальчиками и обувной
кожей, было тихо, лишь изредко раздавался разряжающий
252
шум: стук упавшей книги на пыльном пихтовом полу, тай¬
ное перешептывание, щекочущее, заставляющее огляды¬
ваться пыхтение подавленного смеха, каждый такой шум
доносился до восседающего на троне, и тишина тут же вос¬
станавливалась, обыкновенно для этого достаточно было
лишь одного взгляда, предупреждающей мимики на лице с
выдвинутым вперед подбородком или же угрожающе под¬
нятого вверх пальца, иноща это было покашливание или
короткое слово. Между классом и профессором в тот день,
слава Богу, не было грозового напряжения, но была все же
та мягкая напряженность атмосферы, из которой порой мо¬
жет возникать нечто неожиданное и нежелательное. И
вполне возможно, что это было мне больше по душе, чем
совершеннейшая гармония и покой. Возможно, это было
опасно, возможно, что-то могло случиться, но в конце кон¬
цов мы, мальчишки, во время подобной письменной работы
ничего не ожидали с таким нетерпением и жадностью, как
перерывов и неожиданностей, хотя они всегда плохо кон¬
чались, — слишком уж сильна была скука мальчишек,
слишком долго и слишком строго принуждаемых к тихому
сидению и молчанию.
Сейчас я уже не могу вспомнить, что это была за работа,
которой занял нас учитель, сидевший за дощатым укрыти¬
ем своего трона и занимавшийся служебными делами. Но
это ни в коем случае не мог быть греческий язык, поскольку
весь класс сидел вместе, в то время как на уроках грече¬
ского наедине с мастером оставались всего лишь четыре или
пять «гуманистов». Мы начали изучать греческий язык с
этого года, и отделение нас, «греков» или «гуманистов», от
остального класса придало всей ппсольной жизни новое ка¬
чество. С одной стороны, мы, то есть несколько греков, бу-
дуищх священников, филологов, людей с высшим образо¬
ванием, были уже сейчас отделены и известным образом
выделены из большой толпы будущих дубильщиков, сукон-
пщков, торговцев или пивоваров, что являлось честью и оз¬
начало также притязание и поощрение, поскольку мы были
элитой, предназначенной для более возвышенных занятий,
чем ремесло и зарабатывание денег, и все же, как и бывает
в подобных случаях, эта честь таила в себе сомнительную
и опасную сторону. Мы знали, что в отдаленном будущем
нас ожидают легендарно сложные и строгие экзамены,
прежде всего страшный государственный экзамен, на кото¬
ром соперничают в знаниях выпускники гуманистических
253
гимназий со всей Швабии, собираясь для этого в Штутгар¬
те, где во время многодневного экзамена отсеивается не¬
большая и настоящая элита, экзамена, от результатов ко¬
торого у большинства кандидатов зависит их будущее, по¬
скольку большинство из тех, кто не проходит через эти тес¬
ные врата, обречено на отказ от запланированной учебы. И
с того времени, как я сам принадлежал к гуманистам, вре¬
менно зачисленным кандидатами в элиту школьникам, мне
уже неоднократно, под воздействием разговоров моих стар¬
ших братьев, приходила в голову мысль, что гуманист, при¬
званный, но еще далеко не избранный, должен будет испы¬
тать очень неловкое и горькое чувство, когда ему придется
снять с себя почетный титул и снова отсиживать последний
и высший класс нашей школы невеждой среди многих дру¬
гих невежд, опустившись и уравнявшись с ними.
Таким образом, мы, несколько греков, с начала учебного
года вступили на эту узкую тропу к славе и тем самым попа¬
ли в гораздо более интимные и именно поэтому в гораздо бо¬
лее щекотливые отношения с нашим классным учителем. Он
давал нам уроки греческого языка, и теперь мы, немногие, не
свдели больше среди класса и в массе, которая власти учите¬
ля по крайней мере могла противопоставить свое количест¬
во, но выступали поодиночке, слабые и выставленные напо¬
каз этому человеку, который по истечении короткого време¬
ни знал каждого из нас намного лучше, чем всех прочих на¬
ших одноклассников. В эти нередко торжественные, но еще
чаще ужасно тревожные часы он отдавал нам все, на что был
способен в знаниях, в контроле за нами, в тщательности, в
честолюбии и в любви, но также и в капризности, недоверии
и чувствительности; мы были призванными, его будущими
коллегами, небольшой группой более способных и честолю¬
бивых, предназначенной для высших целей, его усердие и
его забота относились больше к нам, чем ко всему остально¬
му классу, но и от нас он ожидал гораздо большего внимания,
старательности и желания учиться, а также гораздо больше¬
го понимания его и его задачи. Мы, гуманисты, должны были
быть не заурядными учениками, позволяющими учителю
тащить и волочить себя до предписанного минимума школь¬
ного образования, но старательными и благодарными спут¬
никами на крутой тропе, осознающими свое особое место как
высокую ответственность. Он хотел бы видеть перед собой
гуманистов, которые вынуждали бы его постоянно укрощать
и притормаживать их пылающее честолюбие и жажду зна¬
254
ний, школьников, которые бы даже мельчайшую кроху ду¬
ховной пищи хватали и проглатывали с нетерпением изголо¬
давшихся, тут же перерабатывая ее в потоки новой духовной
энергии. Я затрудняюсь сказать, в какой мере тот или другой
из нашей маленькой группы греков был в состоянии и хотел
соответствовать этому идеалу, но я полагаю, что с остальны¬
ми дело обстояло примерно так же, как со мной, выделение в
разряд гуманистов способствовало развитию некоторого
тщеславия, а также некоторого чванства, они воспринимали
себя как нечто лучшее и ценное, и из этого высокомерия по¬
рой прорастала некоторая обязательность и ответственность;
но мы были всего-навсего одиннадцати- и двенадцатилетние
школьники и пока мало чем отличались от наших негумани¬
стических одноклассников, и если бы нам предложили вы¬
брать между дополнительными занятиями греческим язы¬
ком и свободным времяпровождением, то мы, гордые греки,
ни секунды не сомневаясь, с восторгом предпочли бы свобо¬
ду. Несомненно, мы именно так бы и сделали — и все же в на¬
ших юных душах содержалось и то, что наш профессор ожи¬
дал и требовал от нас столь страстно и зачастую столь нетер¬
пеливо. Что касается меня, то я не был ни умнее, ни зрелее
своих лет и от греческой грамматики Коха и чувства досто¬
инства гуманиста меня мог отвлечь куда меньший соблазн,
чем рай свободного от занятий времени. И все же иноща и в
некоторых пространствах моего существа уже просыпался
касталиец и паломник и бессознательно готовил меня стать
членом и историографом всех платоновских академий.
Иногда, при звуках греческого слова или при вырисовыва¬
нии греческих букв в моей тетради, испещренной безжалост¬
ными поправками профессора, меня озаряло чудо духовной
родины и моей принадлежности к ней, и тоща я чувствовал
себя готовым без всяких сомнений и побочных желаний по¬
виноваться зову духа и руководству мастера. Таким обра¬
зом, в нашем глупом чванстве и в нашей действительной
привилегированности, в нашей изолированности и в нашей
беззащитности перед внушаюпщм страх учителем был все
же и луч истинного света, предчувствие настоящего призва¬
ния, дуновение чистой сублимации.
Но сейчас, в это безрадостное и скучное школьное утро,
коща я, склонившись над своей давно готовой письменной
работой, вслушивался в приглушенные шумы помещения и в
далекие, веселые звуки внешнего мира и свободы: хлопанье
голубиных крыльев, кукареканье петуха или щелканье кну¬
255
та извозчика, — сейчас казалось, что добрые духи никогда не
посещали эту низкую комнату. Следы благородства, сияние
духа можно было заметить разве что на утомленном и озабо¬
ченном лице профессора, на которое я смотрел тайком со
смешанным чувством участия и вины, готовый тут же избе¬
жать встречи с ним, если он поднимал глаза от тетрадей. Со¬
вершенно не задумываясь и без какого-либо намерения я
предавался созерцанию, намереваясь запечатлеть некраси¬
вое, но не лишенное черт благородства лицо учителя в моей
детской книжке с картинками, и оно действительно храни¬
лось в ней свыше шестидесяти лет: жидкая челка волос над
бледным резко очерченным лбом, несколько увядшие брови
со скудными ресницами, желтовато-бледное, худое лицо с
необычайно выразительным ртом, умевшим столь ясно вы¬
ражаться и столь грустно-скептически улыбаться, энергич¬
ный, чисто выбритый подбородок. Портрет отложился во
мне, один из многих, годы и десятилетия он сохранялся нево¬
стребованным в беспространственном архиве памяти, и ока¬
залось, когда однажды пробил час и он понадобился, что он в
любой момент может предстать передо мной столь непосред¬
ственно и свежо, словно секунду назад передо мной стоял его
прообраз. И пока я наблюдал за мужчиной на кафедре, вби¬
рая в себя его страдающие, подернутые страстью, но укро¬
щенные ду/овной работой и тренировкой черты и запечатле¬
вая их в надолго запоминающемся образе, скучная комната
уже не казалась столь скучной, а казавшийся пустым и скуч¬
ным урок уже не был столь пустым и невыносимым. Наш
учитель уже давным-давно покоится в земле, и вполне веро¬
ятно, что из гуманистов того года я единственный, кто еще
жив, и что я есть именно тот человек, со смертью которого
этот образ исчезнет и сотрется навсеща. В то время дружба
не связывала меня ни с одним из греков, я был их товарищем
лишь короткое время. Об одном из них я знаю, что он давно
умер, о другом, что он погиб в 1914 году на войне. О третьем
же, который мне очень нравился, и единственном из нас, кто
на самом деле достиг нашей общей тогдашней цели, став тео¬
логом и священником, я впоследствии узнал лишь отрывоч¬
ные эпизоды, свидетельствовавшие о его удивительном и
своеобразном жизненном пути: он, предпочитавший досуг
любой работе и понимавший толк в скромных чувственных
удовольствиях кизни, в студенческой корпорации получил
прозвище «материя», остался холостяком, как теолог дослу¬
жился до деревенского священника, много путешествовал,
256
постоянно получал порицания за упущения по службе, буду¬
чи еще молодым и здоровым, подал прошение об отставке и,
претендуя на пенсию, вел длительную судебную тяжбу с
церковным начальством, начал страдать от скуки (уже маль¬
чишкой он отличался необыкновенной любознательностью)
и боролся с ней либо с помощью путешествий, либо просижи¬
вая по несколько часов ежедневно на судебных процессах;
ще-то к шестидесяти годам он утопился в Неккаре, посколь¬
ку пустота и скука совершенно задавили его.
Я испугался и, словно схваченный с поличным вор, опу¬
стил взгляд с черепа учителя, коща тот, подняв голову,
стал обводить взором класс,
— Веллер, — услышали мы его зов, и Отто Веллер, си¬
девший в задних рядах, послушно встал у своей скамьи. Его
большое красное лицо, словно маска, стало перемещаться
над головами сидящих.
Профессор пригласил его к себе на кафедру, сунул ему в
лицо маленькую голубую тетрадь и тихо задал несколько
вопросов. Веллер отвечал также шепотом и заметно волно¬
вался, мне казалось, что он слегка вращает глазами и это
придает ему озабоченный и напуганный вид, что было не¬
привычно для него, поскольку он был уравновешенной нату¬
рой и обладал такой кожей, которая без вреда могла вынести
многое, от чего другим было бы уже больно. Впрочем, у него
было своеобразное лицо, которое ни с каким другим не пере¬
путаешь и которому он сейчас придавал озабоченное выра-
же^ние, совершенно особенное и столь же незабываемое ли¬
цо, как и у моего первого учителя греческого языка. В моем
классе было тогда несколько учеников, от которых в моей па¬
мяти не осталось ни лица, ни имени; уже в следующем году
меня отправили в другой город и в другую школу. Но лицо
Отто Веллера я и по сей день отчетливо вижу перед собой.
Оно запоминалось, по крайней мере тогда, прежде всего из-
за своей величины, оно расширялось во все стороны и вниз,
поскольку обе стороны подбородка внизу сильно распухли, и
эти опухолевые наросты делали лицо гораздо шире, чем оно
могло бы быть. Я вспоминаю, как я, обеспокоенный этим,
как-то спросил его, что с его лицом, и до сих пор помню его
ответ: «Это железы, понимаешь, У меня железы». Но и без
этих желез лицо Веллера было достаточно живописным, оно
было полным и совершенно красным, волосы темные, глаза
добродушные с медленно поворачивающимися зрачками, и,
кроме того, у него был рот, который, несмотря на свою крас¬
9 257
ноту, напоминал рот старой женщины. По-видимому, из-за
желез он приподнимал подбородок, так что видна была вся
шея. Эта поза способствовала тому, что я почти не помню
верхнюю часть лица, в то время как разросшаяся нижняя
часть, из-за обилия мяса казавшаяся вегетативной и безду¬
ховной, выглядела приятно, доброжелательно и вполне до¬
бродушно. Мне он был симпатичен своим диалектным гово¬
ром и добродушной сутью, и все же я редко общался с ним;
мы жили в различных сферах: в школе я принадлежал к гу¬
манистам и сидел рядом с кафедрой, Веллер относился к
группе лентяев, сидевших на самых задних рядах; они редко
когда могли ответить на вопрос, часто приносили с собой оре¬
хи, сушеные груши и другие подобные вещи, вытаскивали их
из карманов и ели на уроках и из-за своей пассивности, а
также из-за беспрерывных перешептываний и смешков час¬
то становились обузой для учителя. Но и вне школы Отто
Веллер принадлежал совсем к другому миру, он жил недале¬
ко от вокзала, то есть очень далеко от моих мест, его отец был
железнодорожником, я никоща не встречался с ним.
После недолгого перешептывания Отто Веллер был ото¬
слан на свое место, он казался недовольным и подавлен¬
ным. Профессор встал, держа в руке все ту же маленькую
темно-голубую тетрадь, и обвел комнату испытующим
взглядом. Его взгляд задержался на мне, он подошел, взял
мою тетрадь, посмотрел ее и спросил: «Ты уже закончил
работу?» Услышав мой утвердительный ответ, он кивком
головы указал мне следовать за ним, подошел к двери, ко¬
торую затем к моему удивлению открыл, поманил меня на¬
ружу и снова прикрыл дверь.
— Прошу тебя выполнить одно поручение, — сказал он
и передал мне голубую тетрадь. — Это табель Веллера,
возьми его и отправляйся к его родителям. Спроси у них,
действительно ли подпись под оценками Веллера поставле¬
на его отцом.
Я вслед за ним еще раз проскользнул в классную ком¬
нату, схватил свою шапку с деревянной вешалки, сунул
тетрадь в карман и отправился в путь.
Случилось поистине чудо. Во время скучнейшего урока
учителя осенила идея послать меня на прогулку, и случи¬
лось это прекрасным светлым утром. Одурманенный от
удивления и счастья, я не мог пожелать с^е ничего более
приятного. Прыжками я одолел обе лестницы с широкими
пихтовыми ступенями, услышал монотонный, диктующий
258
голос учителя, доносившийся из другого класса, проскочил
двери, спрыгнул с каменного крыльца и зашагал счастливо
и благодарно в прекрасное утро, которое только что пред¬
ставлялось утомитеш>но долгим и пустым. Снаружи все бы¬
ло по-другому, здесь не было и следа от скуки и тайной
напряженности, которые высасывали жизнь из часов, про¬
водимых в классной комнате, и столь удивительно растяги¬
вали их. Здесь дул ветер, и над настилом рыночной площа¬
ди проплывали быстрые тени туч, стаи голубей вспугивали
маленьких собак и заставляли их лаять, лошади стояли,
впряженные в крестьянские телега, и ели сено из деревян¬
ных кормушек, ремесленники сидели за работой или пере¬
говаривались с соседями через низкие окна мастерских. В
маленькой витрине жестянщика все еще лежал грубый пи¬
столет с голубым стволом, стоивший две с половиной марки
и уже давно мозоливший мне глаза. Заманчивой и прекрас¬
ной была также фруктовая лавка госпожи Хаас на базаре
и крошечная лавка игрушек господина Бниша, а рядом с
ней выглядывало из окна белобородое и красное лицо мед¬
ника, соревнуясь в блеске и красноте с блестящим метал¬
лом котла, по которому он стучал. Этот всегда веселый и
всеща любопытный старый человек редко давал кому-ни¬
будь пройти спокойно мимо своего окна, не заведя с ним
разговора или по крайней мере не обменявшись приветст¬
вием. И со мной он тоже заговорил: «Неужели твои уроки
уже кончились?», и, коща я сообщил ему, что выполняю
поручение своего учителя, он участливо посоветовал мне:
«Ну, тоща Хоть не загоняй се^бя, до обеда еще долго». Я
последовал его совету и задержался на старом мосту. Скло¬
нившись над перилами, я смотрел вниз в бесшумно теку¬
щую воду и разглядывал стайку ершей, которые располо¬
жились в глубине, у самого дна, и казались спящими и не¬
подвижными, на самом же деле незаметно меняясь места¬
ми. Их рты были обращены вниз в поисках пищи, и коща
они распрямлялись и я мог видеть их в полный рост, то я
различал светло-темные полосы на их спинах. Рядом была
плотина, которую вода пробегала с нежным светлым жур¬
чанием, далеко внизу на острове шумели многочисленные
утки. На таком отдалении хлопанье крыльев и кряканье
также звучало нежно и монотонно и, подобно потоку воды
над плотиной, несло в себе волшебный звон вечности, в ко¬
торый можно было погрузиться и от которого можно было
впасть в дремоту и забыться, как летней ночью от пхума
9* 259
дождя или как зимой во время бесшумного и сильного сне¬
гопада. Я стоял и смотрел, стоял и слушал, впервые за этот
день я снова ненадолго оказался в той блаженной вечности,
в которой исчезает представление о времени.
Меня пробудили удары церковных часов. Я испугался,
опасаясь, что потерял много времени, вспомнил о своем за¬
дании. И лишь с этого момента я стал внимательно и с уча¬
стием вдумываться в это задание и во все, что было с ним свя¬
зано. Теперь уже без задержек я двигался в сторону вокзала,
и передо мной снова вставало несчастное лицо Веллера, его
перешептывание с учителем, странное вращение глазных яб¬
лок и выражение его спины и его походки, когда он медлен¬
ным шагом и словно побитый возвращался на свою скамью.
Ничего нового не было для меня в том, что человек не
всегда бывает одинаковым, что он может иметь несколько
лиц, несколько разных выражений и разных манер поведе¬
ния, это я знал давно и испытал это на других и на себе са¬
мом. Новым было то, что эти различия, эту странную и со¬
мнительную перемену от мужества к страху, от радости к
мучению оказалось возможным обнаружить также и у него,
у нашего доброго Веллера с распухшим от желез лицом и с
карманами, набитыми съестным, у одного из сидевших на
двух задних скамьях, которых, казалось, совершенно не вол¬
нуют школьные дела и которые боятся разве что школьной
скуки, одного из товарищей, совершенно равнодушных к
учебе и неискушенных в книгах, но зато намного превосхо¬
дящих нас, как только речь заходила о фруктах и хлебе, о
торговле и деньгах и прочих делах взрослых людей — это-то
особенно и беспокоило меня теперь, когда я об этом задумался.
Я припомнил одно из его деловых и лаконичных сообще¬
ний, которым он еще недавно удивил меня и едва не привел в
смущение. Это было на пути к речке, куда мы шли в группе
школьников. Спокойный как всегда, он шагал рядом со
мной, зажав под мышкой сверток с полотенцем и плавками,
и вдруг, приостановившись на секунду, повернул ко мне свое
большое лицо и сказал: «Мой отец зарабатывает семь марок в
день».
До сих пор я не слышал ни от одного человека, сколько он
зарабатывает в день, я даже и не понимал тогда, что на самом
деле означают эти семь марок, они казались мне в любом
случае весьма приличной суммой, да и он сообщил о ней с
удовлетворением и гордостью. Но поскольку козыряние при¬
думанными цифрами и величинами было одним из развлече¬
260
ний среди школьников, я вступил в игру, хотя он, по-види¬
мому, сказал правду. Так же, как отбивают мяч, я бросил
ему мой ответ и сообпщл, что мой отец зарабатывает в день
двенадцать марок. Это было враньем, чистым вымыслом, но
меня это ничуть не волновало, поскольку все было чисто ри¬
торическим упражнением. Веллер на мгновенье задумался,
и когда он сказал: «Двенадцать? Это в самом деле неплохо!»,
то по его взгляду и тону трудно было понять, насколько он
поверил моему сообщению. Он не настаивал на том, чтобы
разоблачить меня, он оставил все как есть, я высказал нечто,
в чем, по-видимому, можно сомневаться, он принял инфор¬
мацию и не нашел в ней ничего достойного осуждения, и
тем самым он снова оказался вьшхе и опытнее, практик и
почти взрослый, и я признал это безо всяких возражений.
Казалось, что двенадцатилетний говорит с одиннадцатилет¬
ним. Но разве не были мы оба одиннадцатилетними?
Да, и еще одно из его взрослых и деловым тоном про¬
изнесенных сообщений вспомнилось мне, сообщение, кото¬
рое еще больше удивило и потрясло меня. Оно касалось сле¬
саря, Щ.Я мастерская располагалась недалеко от дома моего
деда. Как с ужасом узнал из рассказов соседей, этот че¬
ловек покончил жизнь самоубийством, чего в городе уже
несколько лет не случалось и по крайней мере вблизи от
нас, в любимых и родных местах моего детства, до сих пор
казалось мне совершенно немыслимым. Говорили, что он
повесился, но об этом много спорили, люди не хотели про¬
сто зафиксировать и забыть столь редкое и большое собы¬
тие, хотели извлечь из него весь ужас и страх, и с первого
дня кончины бедного слесаря его соседи, служанки сосед¬
ских домов, почтальоны стали сочинять легенды о бедном
мертвеце, oiбpывки которых доходили и до меня. Но уже на
другой день Веллер встретил меня на улице, коща я робко
стоял перед притихшей и закрытой мастерской у дома сле¬
саря, и спросил, хочу ли я знать, как это все произошло.
Затем он дал мне разъяснение, прозвучавшее в дружеском
тоне и показавшееся мне абсолютной истиной: «Он был сле¬
сарем и поэтому не хотел брать веревку, он повесился на
' проволоке. Ой взял с собой проволоку, гвозди, молоток и
кусачки, пошелио направлению к Тайхелю и дошел почти
до лесной мельницы, там он укрепил проволоку между дву¬
мя деревьями, тщательно отрезав кусачками лишние кон¬
цы, и потом повесился на проволоке. Но коща кто-то ве¬
шается, понимаешь, то он обычно накладывает петлю у ос¬
261
нования шеи и из-за этого у него потом высовывается язык,
это выглядит ужасно, и этого он не хотел. Итак, что же он
сделал? Он сдавил проволоку не у основания шеи, а протя¬
нул ее как можно выше к подбородку, и поэтому язык у
него не высунулся. Но лицо у него все равно посинело».
И теперь этот Веллер, столь хорошо ориентировавшийся
в мире и столь мало озабоченный своими школьными дела¬
ми, попал в очень трудное положение. Возникло сомнение,
действительно ли его отцу принадлежит последняя подпись
в табеле. И поскольку Веллер выглядел столь удрученным
и даже побитым, коща возвращался с кафедры на свое ме¬
сто, можно было предположить, что это сомнение было пра¬
вомерным, а если это так, то это уже не только сомнение,
но подозрение или даже обвинение в том, что Отто Веллер
сам попытался подделать почерк отца. И только теперь,
пройдя через короткое опьянение радостью и свободой и
снова обретя способность ясного мышления, я начал пони¬
мать измученный и смятенный взгляд моего товарища и
стал догадываться, что здесь разыгрывается фатальная и
ужасная история, и тут же пришла мысль, что лучше бы
мне вовсе не быть счастливым избранником, которого по¬
сылают гулять во время школьного урока. Веселое утро с
его ветром и мчапщмися тенями облаков и прекрасный ра¬
достный мир, по которому я прогуливался, стали на глазах
преображаться, моя радость все зпиеньшалась, и вместо нее
меня заполняли мысли о Веллере и его истории, сплошь не¬
приятные и печально настраивающие мысли. Хотя тогда я
' еще не знал мира и был ребенком по сравнению с Веллером,
я все-таки понимал, исходя из благочестивых морализиру¬
ющих рассказов для школьников старшего возраста, что
подделка подписи есть нечто очень плохое, нечто крими¬
нальное, один из этапов на пути грешника в тюрьму или
на виселицу. И все же наш школьный товарищ Отто был
человеком, который мне нравился, доброжелательным и
славным парнем, которого я не мог считать отщепенцем,
предназначенным для виселицы. Я многое бы дал за то,
чтобы удалось подтвердить, что подпись была настоящей, а
подозрение — опгабкой. Но разве я не видел его озабочен¬
но-испуганное лицо, разве я не смог заметить, что он был
напуган и, следовательно, совесть его была нечиста.
Несмотря на замедленный шаг, я все же приближался к
дому, в котором жили одни железнодорожники, и тут мне
в голову пришла мысль о том, что, наверное, я смогу что-то
262
сделать для Отто* Я представил себе, а что если я, вовсе не
заходя в этот дом, снова вернусь в класс и доложу учителю,
что с подписью все в порядке? Едва я об этом подумал, как
тут же защемило сердце: впутавпшсь в эту дрянную исто¬
рию, я превращусь, если только последую за своей мыслью,
из случайного курьера и побочной фигуры в соучастника и
совиновника. Я еще больше замедлил шаг, в конце концов
прошел мимо нужного мне дома и еще дальше, я должен
был выиграть время и еще раз все обдумать. И после того
как я представил себе свою спасительную и благородную
ложь, на которую уже почти решился, как действительно
произнесенную и представил себе ее последствия, я понял,
что это превышает мои силы. Я отказался от роли помощ¬
ника и спасителя не из рассудительности, а из страха перед
последствиями. У меня был и другой, более безопасный вы¬
ход: я мог вернуться и сказать, что у Веллеров никого не
было дома. Но, признаюсь, и на эту ложь у меня не хватило
мужества. Учитель хотя и поверит мне, но тут же спросит,
почему же тогда я отсутствовал так долго. Расстроенный и
мучаясь угрызениями совести, я наконец вошел в дом,
справился о господине Веллере, и одна женщина указала
мне на верхний этаж, там жил господин Веллер, но он на¬
ходился на службе, и я мог застать только его жену. Я под¬
нялся по лестнице, дом был пустым и мрачным, пахло кух¬
ней, едкой щелочью или мылом. Наверху я действительно
встретил госпожу Веллер, она торопливо вышла из кухни
и спросила, что мне нужно. Но когда я сообщил ей, что
меня послал классный учитель и речь идет о табеле Отто,
она вытерла руки передником и повела меня в комнату,
предложила мне стул и даже спросила, не хочу ли я чего-
нибудь, бутерброд или яблоко. Но я уже вытащил табель¬
ную тетрадь из кармана, протянул ей и сказал, что учитель
просил узнать, действительно ли подпись в табеле сделана
отцом Отто. Она не сразу поняла, в чем дело, я должен был
повторить все сначала, она слушала меня напряженно, под¬
неся раскрытую тетрадь к самым глазам. У меня было вре¬
мя рассмотреть ее, так как она очень долго сидела непод¬
вижно, смотрела в тетрадь и не говорила ни слова. Так я
разглядывал ее и обнаружил, что ее сын очень похож на
нее, только у нее не было желез. У женщины было свежее
и раскрасневшееся лицо, но пока она сидела, ничего не го¬
воря и держа в руках тетрадку, я увидел, как это лицо по¬
степенно становится дряблым и усталым, старым и увяд¬
263
шим, проходили тягостные минуты, и, когда она наконец
снова опустила табель на колени и снова посмотрела или
захотела посмотреть на меня, из ее широко раскрытых глаз
скатывались одна за другой крупные слезинки. Пока она
держала тетрадь в руках и делала вид, что изучает ее, у
нее в голове, как мне тогда показалось, роились такие же
представления и возникали такие же печальные и ужасные
образы, какие пережил я, представления о пути грешника
ко злу и к суду, в тюрьму и на виселицу.
Глубоко подавленный я сидел напротив этой, на мой
детский взгляд, старой женщины, смотрел на слезы, катив¬
шиеся по ее красным щекам, и ждал, что она скажет.
Слишком тяжело было переносить это затянувшееся мол¬
чание. Но она ничего не говорила. Она сидела и плакала,
и, когда я, не выдержав, наконец прервал молчание и еще
раз спросил, сам ли господин Веллер поставил свою подпись
в табеле, ее лицо сделалось еще более озабоченным и пе¬
чальным и она несколько раз отрицательно покачала голо¬
вой. Я встал, и она тоже поднялась, и, когда я протянул ей
руку, она взяла ее и некоторое время держала в своих силь¬
ных теплых руках. Потом она взяла злополучную голубую
тетрадь, вытерла упавшие на нее слезы, подошла к сунду¬
ку, вытащила из него газету, разорвала ее пополам, одну
половину положила снова в сундук, другой же аккуратно
обернула тетрадь, так что я не отважился снова засовывать
ее в карман, а бережно понес в руках.
Я вернулся назад, не замечая по пути ни плотины, ни
рыб, ни витрин, ни медника, доложил о результате и был
разочарован, что меня не упрекнули в долгом отсутствии,
ибо это было бы справедливо и означало бы для меня хоть
какое-то утешение, словно бы я тоже понес хотя бы час¬
тичное наказание; в дальнейшем я прило^^сйл все усилия,
чтобы забыть эту историю.
Я никогда не узнал, каким образом и был ли вообще
наказан мой одноклассник, мы оба с ним никогда и ни од¬
ним словом не обмолвились об этом происшествии, и если
я когда-нибудь издалека видел на улице его мать, то ис¬
пользовал любую возможность, чтобы избежать встречи с
ней.
264
СЧАСТЬЕ
Человек, по замыслу Бога и по тому, как его тысячеле¬
тиями понимали поэзия и мудрость народов, наделен спо¬
собностью радоваться вещам даже бесполезным для него —
благодаря чувству прекрасного. В том, что человек радуется
прекрасному, всеща в равной мере участвуют ум и органы
чувств, и пока люди способны радоваться среди невзгод и
опасностей жизни таким вещам, как игра красок в природе
или в картине художника, как зов в голосах бури, моря или
созданной человеком музыки, пока они могут увидеть или
ощутить за поверхностью интересов и нужд мир как целое,
где от поворота головы играющего котенка до игры вариа¬
ций в сонате, от трогательного взгляда собаки до трагедии
поэта существует многообразнейщее богатство связей, со¬
ответствий, аналогий и отражений, в вечнотекущей речи
которых слущатели черпают радость и мудрость, забаву и
волнение, — до тех пор^. человек сможет снова и снова
справляться со своими проблемами и снова и снова припи¬
сывать своему существованию смысл, ибо «смысл» и есть
это единство многообразного или, во всяком случае, эта
способность ума угадывать в сумятице мира единство и гар¬
монию. Для настоящего человека, здорового, цельного, не-
искалеченного, мир оправдывает. Бог непрестанно оправ¬
дывает себя чудесами вроде того, что, кроме освежающей
вечерней прохлады и достигнутого конца рабочего дня, су¬
ществует еще нечто такое, как алеющая вечерняя заря и
волщебство переливающихся переходов от розового к фио¬
летовому, или такое, как изменение человеческого лица,
когда оно, через тысячи переходов, наподобие вечернего
неба, озаряется чудом улыбки, или такое, как залы и окна
собора, как порядок тычинок в чашечке цветка, как сде¬
ланная из дощечек скрипка, как гамма звуков и нечто столь
непостижимое, нежное, рожденное природой и духом, ра¬
зумное, но вместе с тем сверхразумное и детское, как язык.
Его красоты и неожиданности, его загадки, его кажущаяся
вечность, не удаляющая и не ограждающая его, однако, от
порчи, болезней, опасностей, которым подвержено все че¬
ловеческое, — в^е это делает его для нас, его служителей
и учеников, одним из самых таинственных и самых почтен¬
ных явлений на свете.
И мало того, что каждый народ или каждая культурная
общность создала себе соответствующий ее происхождс-
265
нию и одновременно служащий ее еще не высказанным
целям язык, мало того, что один народ может учить язык
другого народа, восхищаться этим языком, смеяться над
ним и все-таки никогда не поймет его целиком и полно¬
стью! Так еще и для каждого отдельного человека, если он
не живет в безъязыком первобытном или вконец механи¬
зированном и потому вновь безъязыком мире, язык есть
личная собственность, для каждого чуткого к языку, а
значит, для каждого здорового, неискромсанного человека
слова и слоги, буквы, формы, синтаксические возможно¬
сти имеют свои особые, только ему свойственные смысл и
значение, каждый настоящий язык воспринимается и ощу¬
щается каждым, кто способен к нему и им наделен, совер¬
шенно личным и уникальным образом, даже если тот и
знать не знает об этом. Подобно тому как бывали музы¬
канты, особенно любившие или, наоборот, особенно недо¬
любливавшие какие-то определенные инструменты или
определенные регистры, большинство людей, если у них
вообще есть чувство языка, тяготеют к каким-то опреде¬
ленным словам и звучаниям, к определенным гласным или
последовательностям букв, а других как-то избегают, и ес¬
ли кто-то оченно любит или, наоборот, отвергает како-
го-то поэта, то тут играет роль и языковой вкус, языковой
слух данного автора, либо родственный читательскому,
либо чуждый ему. Я мог бы, например, назвать множество
стихов и стихотворений, которые десятки лет любил и
люблю не из-за их смысла, мудрости, содержательности,
доброты, величия, а единственно из-за определенной'риф¬
мы, определенного ритмического отклонения от традици¬
онной схемы, определенного предпочтения каким-то глас¬
ным, которое поэт мог отдать им так же бессознательно,
как им оказывает его читатель. По строению и ритму од¬
ной фразы из прозы Гёте или Брентано, Лессинга или
Э.Т.А.Гофмана часто можно судить о характере, о физи¬
ческом и душевном состоянии писателя гораздо вернее,
чем на основании того, что сказано в этой фразе. Есть
фразы, которые могли бы встретиться у любого писателя,
и фразы, которые были возможны вообще только у одно-
го-единственного прославленного музыканта языка.
Для нашего брата словй — это то же самое, что для жи¬
вописца краски на палитре. Им нет числа, и возникают все
новые, но хорошие, настоящие слова менее многочисленны,
266
и за семьдесят лет я не встречал такого, чтобы возникло
новое слово. Ведь и красок тоже не сколь угодно много, хотя
их оттенков и смешений не счесть. Среди слов у каждого
говорящего есть любимцы и чужаки, предпочитаемые и из¬
бегаемые, есть обыденные, которые употребляепп» тысячи
раз, не боясь, что они износятся, и другие, торжественные,
которые, при всей любви к ним, произносишь и пишешь
лишь с осторожностью и оглядкой, с подобающей всему
торжественному редкостью и избирательностью.
К ним для меня принадлежит слово «ОШсЬ> — «сча¬
стье».
Это одно из тех слов, которые я всеща любил и был рад
слышать. Сколько бы ни спорили и ни рассуждали о его
значении, означает оно, во всрсом случае, нечто прекрас¬
ное, хорошее и желательное. И таким же, соответственно,
я находил и звучание этого слова. .
Я находил, что, несмотря на его краткость, в этом сло¬
ве есть что-то удивительно тяжелое, полное, напоминаю¬
щее золото (Gold) и действительно, кроме весомости, пол¬
новесности, ему был присущ и блеск, как молния в туче,
присутствовал он в коротком слоге, который, переливаясь
и улыбаясь, начинался с GU смеясь, задерживался на й и
затем так быстро, так* скупо и решительно в своем ск —
кончался. От этого слова можно было смеяться и плакать,
оно было полно изначального волшебства и чувственности:
чтобы по-настоящему ощутить это, достаточно было по¬
ставить рядом с этим золотым словом какое-нибудь позд¬
нее, плоское, усталое, никелевое или медное, например
«данность» или «использование», и все становилось ясно.
Несомненно, оно пришло не из словарей или школьных
классов, оно не было придумано, произведено от чего-то
или сложено из чего-то, оно было цельно и кругло, оно
было совершенно, оно пришло с неба или из земли, как
солнечный свет или взгляд цветка. Как хорошо, какое это
счастье и утешенье, что были такие слова! Жить и думать
без .них было бы увяданием и унынием, это было бы как
жизнь без хлеба и вина, без смеха или музыки.
С этой стороны, естественной и чувственной, мое от¬
ношение к слову «Glucb> — «счастье» — так и не разви¬
лось, не изменилось, слово это сегодня по-прежнему такое
же золотое и блестящее, я люблю его, как любил в дет¬
стве. А что означает этот магический символ, что имеет в
267
виду это столь же короткое, сколь и весомое слово — в
этой части мои мнения и мысли претерпели немалое раз¬
витие и липп> очень поздно пришли к ясному и определен¬
ному заключению. Много дольше, чем до середины своей
жизни, я покорно принимал на веру, что в устах людей
счастье означает нечто хоть и положительное, безусловно
ценное, но по сути банальное. Хорошее происхождение,
хорошее воспитание, хорошая карьера, хороший брак,
благоденствие в доме и в семье, уважение людей, полный
кошелек, полные сундуки — ofo всем этом думали, про¬
износя слово «счастье», и я поступал как все. Бывают, ка¬
залось, счастливые люди и другие, как бывают умные и
другие. Мы говорили о счастье и в мировой истории, по¬
лагая, что знаем счастливые народы, счастливые эпохи.
При этом сами мы жили в необыкновенно «счастливую»
эпоху, мы купались в счастье долгого мира, широкой сво¬
боды передвижения, значительного комфорта и благополу¬
чия, как в теплой воде, но мы этого не замечали, это сча¬
стье было слишком само собой разумеющимся, и в ту, та¬
кую, казалось бы, приветливую, уютную мирную эпоху
мы, молодые люди, которые во что-то ставили себя, испы¬
тывали разочарование, были настроены скептически, ко¬
кетничали со смертью, с вырождением, с интересной блед¬
ной немочью, а о Флоренции Кватроченто*, об Афинах
Перикла и о других давних временах говорили как о сча¬
стливых. Правда, увлечение теми эпохами расцвета посте¬
пенно пропадало, мы читали книги по истории, читали
Шопенгауэра, проникались недоверием к превосходным
степеням и красивым словам, учились духовной жизни в
смягченном и релятивированном климате — и все же сло¬
во «счастье», стоило только встретиться с ним без предвзя¬
тости, обладало прежним золотым полнозвучием, остава¬
лось напоминанием или воспоминанием о вещах высшей
ценности. Может быть, думали мы иноща, люди детской
простоты и могут называть счастьем те ощутимые блага
жизни, сами же мы при этом слове думали скорее о чем-то
таком, как мудрость, взгляд сверху, терпение, непоколе¬
бимость души — все это было прекрасно и доставляло нам
радость, но не заслуживало такого эталонного, полного,
глубокого названия, как «счастье».
Между тем личная моя жизнь давно сложилась так, что
я знал: она не только не так называемая счастливая, но и
стремление к так называемому счастью не имеет в ней ни
268
места, ни смысла. В какую-нибудь патетическую минуту я,
может быть, определил бы это поведение как amor fafi^*,
но я, в сущности, никогда, за исключением недолгих пыл¬
ких периодов развития, не был особенно склонен к пафосу,
да и непатетическая шопенгауэровская любовь без вожде¬
ления уже не была моим безусловным идеалом, с тех пор
как я познакомился с тем тихим, неказистым, скупым и
всегда немного насмешливым видом мудрости, на почве
которого выросли жизнеописания китайских учителей и
притчи Чжуан-цзы.
Однако я не хочу сбиваться на болтовню. Я собираюсь
сказать нечто довольно-таки точно определенное. Прежде
всего, чтобы не отклоняться от темы, я попытаюсь описа¬
тельно сформировать то содержание и значение, которое
сегодня заключено для меня в слове «счастье». Под счасть¬
ем я понимаю сегодня нечто вполне объективное, а именно
саму целостность, вневременное бытие, вечную музыку ми¬
ра, то, что другие называли, например, гармонией сфер или
улыбкой богов. Этот идеал, эта бесконечная музыка, эта
полнозвучная и златоблещущая вечность есть чистое и со¬
вершенное настоящее, оно не знает ни времени, ни исто¬
рии, ни «до», ни «после». Вечно светится и смеется лик ми¬
ра, люди, поколения, народы, царства возникают, цветут и
снова уходят во мрак и в ничто. Вечно музицирует жизнь,
вечно водит она свой хоровод, и та радость, то утешение,
та способность смеяться, какая все же даруется нам, брен¬
ным, находящимся в опасности, тленным, — это отблеск
оттуда, это полные блеска глаза, это полные музыки уши.
Действительно ли существовали на свете те сказочные
«счастливые люди» или и эти с завистью восхваляемые дети
счастья, любимцы солнца и властители мира лишь иногда,
лишь в торжественные и благословенные часы и мгновенья
озарялись великим светом, они не могли испытывать ника¬
кого другого счастья, не могли участвовать ни в какой дру¬
гой радости. Впитывать в себя бесконечное совершенство
мира, петь вместе со всеми, плясать в хороводе мира, смея¬
ться вместе с вечно смеющимся Богом — вот наше участие
в счастье. Одни испытывали его лишь однажды, другие
лишь немного раз. Но тот, кто его испытал, был счастлив
не только одно мгновенье, он и с собой принес что-то от
^ Любовь к судьбе (лат.).
269
блеска и звучанья, что-то от света вневременной радости,
и вся любовь, которую внесли в наш мир любящие, все уте¬
шительное и радостное, что внесли в него художники и что
порой спустя века сияет так же ярко, как в первый день, —
все это идет оттуда.
Вот какое широкое, всеобъемлющее и святое значение
получило у меня в ходе жизни слово «счастье», и мальчи-
кам-школьникам, которые окажутся среди моих читателей,
надо, может быть, ясно сказать, что я здесь вовсе не зани¬
маюсь филологией, а рассказываю некую психологическую
историю и что я отнюдь не призываю их к тому, чтобы и
они тоже, употребляя слово «счастье» устно и письменно,
придавали ему. этот огромный смысл. Но для меня вокруг
этого прелестного, короткого, блещущего золотом слою
скопилось все, что я с детства ощущал при его звуке. Ощу¬
щения были у ребенка, конечно, сильнее, ответ всех его
чувств на чувственные качества и призывы этого слова го¬
рячее и громче, но, не будь оно сам<Гпо себе таким глубо¬
ким, таким изначальным, таким всеобъемлющим, мое
представление о вечном настоящем, о' «золотом следе» (в
«Златоусте») и о смехе бессмертных (в «Степном волке»)
не выкристаллизовалось бы вокруг этого слова.
Если старые люди пытаются вспомнить, когда, сколь ча¬
сто и с какой силой они испытывали счастье, они прежде
всего обращаются к своему детству — и по праву, ибо для
ощущения счастья нужна прежде всего независимость от
времени, а тем самым от страха и от надежды, а этой спо¬
собности большинство людей с годами лишается. Я тоже,
пытаясь вспомнить мгновенья моей причастности к блеску
вечного настоящего, к улыбке Бога, возвращаюсь каждый
раз к своему детству и нахожу там больше всего ощущений
такого рода и самые ценные. Конечно, ослепительнее и яр¬
че, праздничнее костюмированы и красочнее освещены бы¬
ли радости юношеских лет, ум участвовал в них больше,
чем в радостях детства. Но если присмотреться получше,
то это было больше забавой и весельем, чем настоящим сча¬
стьем. Мы были веселы, остроумны, умны, мы забавлялись
на славу. Помню одну минуту в кругу моих приятелей во
цвете юности: кто-то простодушно спросил в разговоре, чтб
это, собственно, такое — гомерический смех, и я ответил
ему ритмическим смехом, точно скацдируя гекзаметр. Мы
громко смеялись, громко сдвигали стаканы — но такие
270
мгаовения не ввдерживают проверку временем. Все это бы¬
ло славно, было весело, было приятно на вкус, но счастьем
это не было. Счастье, так казалось после долгах размыш¬
лений, приходило только в детстве, в часы или мгаовения,
восстановить которые было очень трудно, ибо даже там, да¬
же в пределах детства, блеск оказывался на поверку не
всеща настоящим, золото не всеща совершенно чистым. Ес¬
ли быть совершенно тдчшш, наплывов счастья оставалось
совсем мало, да и те были не картинами, которые можно
нарисовать, и не историями, которые можно рассказать,
они не поддавались расспросам, ускользали от них. Коща
возникало такое воспоминанье, то сперва казалось, что де¬
ло идет о каких-то неделях или днях или по меньшей мере
о каком-то дне. Рождестве, например, дне рождения или
каком-нибудь другом празднике. Но чтобы восстановить в
памяти какой-нибудь день детства, нужны были тысячи
картин, а ни на один день, ни даже на полдня память не
набрала бы достаточного количества картин.
Но длилось ли то какие-то дни, часы или только мину¬
ты, счастье испытывал я не раз, да и в поздние дни, уже в
старости, на какие-то мгаовения приближался к нему. А из
тех встреч счастьем на заре жизни, сколько раз я ни вы¬
зывал их в памяти, ни вопрошал и ни проверял, особенную
стойкость обнаруживала одна. Произошла она в мои школь¬
ные годы, и самое в ней существенное, все подлинное, пер¬
вичное, мифическое в ней, состояние тихо смеющегося
единства с миром, абсолютной свободы от времени, от на¬
дежды и страха, полной сиюминутности всего на свете, дли¬
лось, наверно, недолго, может быть, несколько минут.
Однажды утром я, бойкий мальчик лет десяти, проснул¬
ся с необыкновенно прекрасным и глубоким чувством ра¬
дости и благополучия, пронизывавшим меня, как лучи ка-
кого-то внутреннего солнца, так, словно вот сейчас, в этот
миг пробуждения, произошло что-то новое и чудесное,
словно весь мой маленький и отромный мир детства вступил
в новое, высшее состояние, словно вся прекрасная жизнь
только сейчас, в это раннее утро, обрели полную свою цен¬
ность, полный свой смысл. Я знать не знал ни о вчерашнем
дне, ни о завтрашнем, я был обьят ласково омывавшим ме¬
ня дивным сегодня. Это было приятно, органы чувств и ду¬
ша наслаждались этим без любопытства и безотчетно, это
пронимало меня и было великолепно на вкус.
271
Стояло утро, через высокое окно я видел над длинным
гребнем крыши соседнего дома чистую голубизну ясного не¬
ба, оно тоже казалось полным счастья, словно ему предстоит
нечто особенное и для этого оно надело самое красивое свое
платье. Ничего больше от мира с моей кровати не было вид¬
но, только это прекрасное небо и длинный кусок крыши со¬
седнего дома, но и эта крыша, эта скучная и пустая крыша из
темно-бурой черепицы, казалось, смеялась, на ее крутом те¬
нистом скате шла тихая игра красок, и одна синеватая стек¬
лянная пластинка среди бурых глиняных казалась живой,
она, казалось, радостно старалась отразить что-то от этого
так тихо и непрерывно сиявшего раннего неба. Небо, шеро¬
ховатая кромка крыога, однообразный строй бурых черепи¬
чин и воздуогаая синева единственной стекляшки пребыва¬
ли, казалось, в каком-то прекрасном и радостном согласии, у
них на уме явно не было ничего другого, кроме как улыбать¬
ся друг другу и желать друг другу добра в этот особенный ут¬
ренний час. У голубизны не&, у бурого цвета черепицы и си¬
невы стекляшки был смысл, они были заодно, они играли
друг с другом, им было хорошо, и было приятно видеть их,
присутствовать при их игре, чувствовать в себе тот же блеск
утра, то же блаженство, что в них.
Так, наслаждаясь начинающимся утром и сохранившим¬
ся от сна чувством покоя, я пролежал в постели прекрасную
вечность, и, даже если я ко1т^а-лнбо еще в жизни испытывал
такое же или схожее счастье, оно не могло быть глубже и по¬
длиннее: мир был в порядке. И длилось ли это счастье сто се¬
кунд или десять минут, оно было настолько вне времени, что
полностью походило на всякое другое настоящее счастье, как
один порхающий мотылек на другого. Оно было бренно, вол¬
ны времени захлестнули его, но оно было достаточно глубо¬
ким и вечным, чтобы больше чем через шестьдесят лет, еще
сегодня, звать меня к себе и тянуть, а я, при усталых глазах и
боли в пальцах, старался призвать его и улыбнуться ему,
воспроизвести его и описать. Оно состояло из ничего, это сча¬
стье, не состояло ни из чего, кроме как из созвучия несколь¬
ких предметов около меня с моим собственным бытием, из
блаженства без желаний, не требовавшего никакого измене¬
ния, никакого усиления.
В доме стояла еще тишина, и снаружи не доносилось ни
звука. Не будь этой тишины, воспоминание о ежедневных
обязанностях, о необходимости встать и пойти в пхколу, ве¬
роятно, помешало бы моему блаженству. Но происходило
272
это явно не днем и не ночью, были, правда, сладостный свет
и смеющаяся голубизна, но не было ни трусцы служанок
по каменным плитам площадки и перед домом, ни скрипа
дверей, ни шагов мальчишки из пекарни на лестницах. Это
утреннее мгновенье было вне времени, оно ни к чему не
призывало, ни на что предстоящее не указывало, оно до¬
влело себе, а поскольку оно целиком включало меня в себя,
то и для меня не существовало ни дня, ни мыслей о вста¬
вании и школе, о полусделанных уроках или скверно вы¬
ученных вокабулах, о торопливом завтраке в свежепровет-
ренной столовой напротив моей комнаты.
Вечность счастья рухнула на сей раз из-за того, что пре¬
красное усилилось, из-за увеличения, из-за избытка радо¬
сти. Когда я так лежал, не шевелясь, и в меня проникал,
вбирая меня в себя, светлый и тихий утренний мир, в ти¬
шину издалека ворвалось что-то непривычное, что-то бле¬
стящее и звонкое, золотое и торжествующее, полное бурной
радости, манящее и будяще сладостное — звук трубы. И
пока я, теперь совсем проснувшись, приподнимался в по¬
стели и откддывал одеяло, звук стал уже двухголосым и
многоголосым: это был городской оркестр, шагавший по
улицам с громкой музыкой, — крайне редкое, волнующее
событие, полное такой гремящей торжественности, что мое
детское сердце одновременно смеялось и всхлипывало,
словно все счастье, все волшебство этого блаженного часа
слилось в эти возбуждающие, остро-сладостные звуки и те¬
перь, разбуженное, вернулось в суету и бренность. В одну
секунду вскочил я с постели, дрожа от радости, бросился к
двери и в соседнюю комнату, из окон которой видна была
улица. В смятении восторга, любопытства и желания при¬
сутствовать при этом событии, я высунулся в открытое ок¬
но, услышал, осчастливленный, наплывающие, надменные
звуки приближающейся музыки, увидел и услышал, как
пробуждаются, оживают, наполняются лицами, фигурами
и голосами соседние дома и улицы, — и в ту же секунду
вспомнил все, о чем совершенно забыл в том блаженстве
между сном и началом дня. Я вспомнил, что сегодня дей¬
ствительно занятий в школе не будет, а будет большой
праздник — то был, кажется, день рождения короля, — бу¬
дут шествия, флаги, музыка и неслыханные увеселения.
И, вспомнив это, я возвратился, я снова подчинился за¬
конам, властвующим над буднями, и, хотя день был не буд¬
ний, а праздничный, для которого и разбудили меня эти
273
металлические звуки, главное, прекрасное и божественное,
что было в этом утреннем волшебстве, уже исчезло, и над
маленьким прелестным чудом снова сомкнулись волны вре¬
мени, мира, обыкновенности.
ОДНОКАШНИК МАРТИН
В последнее время я много думал о своем однокашнике
Мартине*. Из небытия и темноты, куда на долгие годы ушел
от меня его образ, он снова проник ко мне отдельными тихи¬
ми, но энергичными рывками, движениями, толчками, как
рано утром медленно, но неудержимо прокрадывается и про¬
никает сквозь щели в ставнях дневной свет в темную спаль¬
ню, и из крошечных воспоминаний у меня снова сложился
некий целостный образ, кое-какие черты которого я, вероят¬
но, присочинил или довообразил, ибо знал Мартина я только
в наши детские годы. Он учился в Кальве в одном со мной
классе латинской школы, откуда меня, однако, отправили на
полтора года в Гёппинген, а затем я встретил его семинари-
стом.в монастыре, из которого я тоже вскоре исчез, чтобы че¬
рез четыре года снова встретить большинство своих прежних
соучеников в роли студентов. Среди них был и Мартин, но во
время его тюбингенских семестров между нами не возникло
иных отношений, чем между бывшими одноклассниками,
которые при встрече на улице приветливо кивают друг дру¬
гу, совершенно бессознательно чувствуя при этом какую-то
безымянную близость, существующую лишь между людьми,
знакомыми с детства, близость, смутно-приятная почва ко¬
торой придает даже самым необязательным и случайным от¬
ношениям тон и аромат, отсутствующие во всех завязавших¬
ся позднее отношениях и дружбах.
Итак, встретившись в Тюбингене, ще я работал в книж¬
ной лавке, а Мартин был студентом богословского факуль¬
тета, мы не вступили друг с другом в какие-либо более
близкие отношения. Кто из нас первым покинул Тюбинген,
он или я, не помню, прощаться друг с другом повода у нас
не было, и мы, может быть, вообще забыли бы друг о друге,
если бы через несколько лет он вдруг не попался мне на
глаза в Базеле. Незадолго до того женившись, я привез мою
молодую жену, заболевшую мучительной болезнью, из на¬
шей примитивной хижины у Боденского озера в ее базель¬
ский родительский дом для ухода и собирался вернуться на
274
Боденское озеро. Тут-то мы встретились и оба обрадовались
этому, потому что оба находились на той ступени жизни,
коща встреча с однокашником и разговор о временах дет¬
ства — это уже не нечто обыденное, а нечто особенное и
редкое, счастливый случай, маленький праздник. Он все
еще был студентом, поскольку перешел за это время на фи¬
лологический факультет и, возможно, боролся с такими же
заботами и муками совести, какими втихомолку терзался
я, коща впервые возвращался один на свою новую родину
и к едва начатой авантюре скромного литераторского суще¬
ствования вдали от города под гнетом новых связей и взя¬
тых на себя обязательств, которые были мне едва ли по си¬
лам. Во всяком случае, мы поздоровались радостнее и теп¬
лее, чем то случилось бы годом или двумя раньше, почув¬
ствовав друг в друге ободряюпщй отзвук той поры нашей
молодости, которая уже начала потихоньку просветляться,
преображаться, и обоим хотелось как-то продлить эту
встречу. Вот почему мне удалось софхазнить добросовест¬
ного и точного Мартина поступиться своей добродетелью и
погостить день-два в моей деревенской хижине на Боден¬
ском озере. Сыграло свою роль, наверно, и любопытство с
его стороны, ибо если раньше я пользовался среди своих
однокашников-семинаристов несколько сомнительной сла¬
вой сбежавшего из школы, то как молодой автор получив¬
шей успех книги я виделся им теперь хотя и в более поч¬
тенном, но все-таки тоже небюргерском, каком-то бенгаль¬
ском свете.
Итак, Мартин позволил мне умыкнуть себя, мы поехали
из Базеля в Штекборн, там под вечер переправились на
лодке в Гайенхофен, ще я, отперев тяжелым ключом свой
домик, сходил в деревню за нашей служаночкой, чтобы она
что-нибудь сварила и устроила гостю постель, и уже ды¬
шавшим осенью вечером мы сидели в теплой комнате за
скромным ужином и болтали за хлебом и вином о Кальве
и Маульбронне, о наших учителях в латинской школе, а
немного и о своих планах, замыслах и надеждах, причем
каждый без преднамеренья приукрашивал свои виды и об¬
стоятельства, ибо у обоих не было ни малейшего желания
объяснять и показывать друг другу проблемы и слабые сто¬
роны своего положения. Мы были очень веселы за кислова¬
тым вином, и, коща мы укладывались, я нисколько не со¬
мневался, что мне легко удастся еще раз заполучить к себе
на денек вновь найденного приятеля. В хорошем настрое-
275
НИИ я отвел его по узкой крутой лестнице наверх в комнату
для гостей, обратил его внимание на порог в дверях, состо¬
явший из толстой опорной балки и представлявший изве¬
стную опасность для неосторожно входящего, если тот как
следует не наклонится или не захочет наступить на него,
пожелал приятелю спокойной ночи, взял одну из ранних
книжек Гамсуна, тоща еще новых и очень ценимых откры¬
вавшей их молодежью, и тотчас лег, чтобы еще полчаса-час
почитать при свече.
Но на рассвете, задолго до того, как надо было вставать,
меня после слишком короткого сна разбудили какие-то пу¬
гающие звуки, я отворил дверь и увидел, что на лестничной
площадке, прислонясь к стене, с потухшей свечой в руке,
в сером утреннем свете стоит и стонет мой гость, бледный,
как побеленная стена, что особенно преобразило его, по¬
скольку я с детства знал его только краснощеким и со све¬
жим цветом лица. На него напало острое недомогание, что-
то вроде дизентерии или кишечных колик, он несколько раз
тихонько, чтобы не испугать меня, пробирался-, корчась от
боли, в уборную с позывами к рвоте, а теперь у него погасла
свеча, и, застав его, беспомощного и полуживого, присло¬
нившегося к стене и почти лишившегося дара речи, я уло¬
жил его в постель и посидел некоторое время возле него.
Затем он попросил меня, чтобы я снова лег, но доставил его
на станцию к утреннему поезду, эти приступы болезни зна¬
комы ему как нельзя лучше, и единственное, чем тут мож¬
но помочь, — это поскорее добраться до дома, чтобы отдох¬
нуть и как-то прийти в себя. Так и поступили, я вовремя
доставил его — завтракать он не стал — на берег, на ту
сторону озера и к поезду. Все еще без кровинки в лице, он
со сла^й улыбкой выглянул в окно вагона и в последний
раз движением головы отверг мое предложение не отпу¬
скать его в путь одного. Так он и уехал, навсеща, ибо тоща
я видел его в последний раз, и это была наша единственная
в жизни встреча, коща мы, каждый со своей стороны, сде¬
лали шажок от просто товарищеских отношений соучени¬
ков к дружеским.
Больше я Мартина не видел. После того приезда, закон¬
чившегося для него ночным приступом болезни и поспеш¬
ным отъездом, а для меня почти гневным отрезвлением и
горьким возвращением в свой пустой дом, ще сперва забо¬
лела жена, а потом гость, я ничего не слышал о нем больше
двадцати лет. Потом, к моему пятидесятилетию, он напи¬
276
сал мне длинное письмо, а затем, опять после многолетнего
перерыва, еще одно, последнее. Позаботился он и о том,
чтобы после ей> смерти мне прислали печатное извещение.
Вот, стало быть, каковы мои отношения с Мартином и
мои встречи с ним: в Кальве, а потом снова в Маульбронне
мы были некоторое время одноклассниками, в общей слож¬
ности максимум три года, затем в Тюбингене раскланива¬
лись на улице и иноща перебрасывались словечком-другим,
еще через несколько лет встретились снова во время его ба¬
зельского семестра и отпраздновали эту сперва радостную,
а потом печально окончившуюся встречу, чтобы затем, до
самой его смерти, лишь дважды еще узнать друг о друге из
писем — писем, в основе которых лежала, вероятно, с его
стороны, какая-то потребность, какая-то тяга, иначе бы он
не стал их писать, но на которые я необязательно отвечал
бы, если бы и во мне тоже не было какого-то зачатка ин¬
тереса и симпатии к этому Мартину, выходивших за пре¬
делы просто однокашничества. Конечно, между нами суще¬
ствовало какое-то неясное взаимопритяжение, какая-то
возможность дружбы, которым случай слишком мало со¬
действовал, чтобы они развились и реализовались, да и се¬
годня они еще существуют, с чего бы иначе стал я через
много лет после его смерти и почти полвека после нашей
последней встречи о нем вспоминать и считал своим долгом
написать эти страницы, словно на них можно все-таки вы¬
полнить то, чему не суждено было сбыться в жизни?
Нарисовать портрет Мартина, изложить хотя бы вкрат¬
це его биографию, описать его нрав или только посвятить
ему сухой, запоздалый некролог — на это моего знания о
нем куда как недостаточно. Когда я говорю о нем и пишу,
я знаю, что речь идет не о реальном историческом, насто¬
ящем Мартине, а о Мартине, живущем в моей памяти и в
моем воображении, об образе или призраке, краски кото¬
рого взяты в такой же мере из догадок, как и из увиденного,
в такой же мере из воображения, как и из памяти. Реален
и историчен ли он, этот Мартин, или нет, жив и активен
он вне сомнения, ибо при отнюдь не благоприятных обсто¬
ятельствах он заставляет меня помочь ему появиться. И по¬
этому я приступаю к работе над портретом моего Мартина.
По первому нашему знакомству, когда обоим нам было
лет одиннадцать-тринадцать, я помню его веселым и жиз¬
нерадостным, но не шумным мальчиком, роста скорее ма¬
ленького, с изящными и ловкими руками, с ПРИЯТНЬШ ЛИ¬
277
цом, очень румяными щеками и смугловатой кожей, к ко¬
торым очень шли светло-карие глаза. Выражение этих кра¬
сивых глаз было обычно ясное, приветливое, располагаю¬
щее, но бывало в нем и что-то робкое, умоляющее, прося¬
щее пощады. Могу себе представить, что выражение это
всю жизнь оставалось немного робким и немного заискива¬
ющим или просяпщм. Возможно, что его любили и у него
не было врагов благодаря этому детскому выражению глаз.
Но если между им и мною, натурами совершенно разными,
временами возникала близкая к дружбе симпатия, то про¬
исходило это оттого, что он обладал воображением и любил
прекрасное, хотя опять-таки совсем по-другому, чем я. В
то время как я был склонен скорее к эксцентричности, он
определенно предпочитал, обладая для этого каким-то да¬
ром, все чистое, красивое и опрятное, и если я любил играть
противоположностями и бросаться от патетики или сенти¬
ментальности к шутовству, то он в наших детских играх
старался хранить верность избранной им роли. Прежде все¬
го он был замечательным индейцем, и, вспоминая о нем, я
чаще всего вижу его в роли и костюме ирокеза или моги¬
канина, ибо не раз восхищался им, да и завидовал ему в
этой роли, так она шла ему, так умел он загримироваться
и нарядиться. Прежде всего, у него был придуманный и
сшитый им самим головной убор из ярко выкрашенных ку¬
риных и натуральных петушиных перьев, убор, из-за кото¬
рого я очень ему завидовал, будучи неспособен сделать себе
такой же. Я пытался, но по сравнению с образцом мое под¬
ражание было топорным и жалким; К тому же моя диадема
сидела на голове недостаточно плотно, и, когда по ходу на¬
шего действа надо было бежать, мне приходилось одной ру¬
кой придерживать свое оперение, а лук или секиру нести в
другой. Кроме этого украшения, Мартин владел и другой
драгоценностью — выпуклым щитом с золотой лентой на¬
искось посредине, на которой он изобразил герб, герб города
Кальва, льва, стоящего на трех горах. Щит тоже был из-
дельем его умелых рук, он был мастер рисовать и раскра¬
шивать, золотить и лакировать, и если я многое отдал бы
за то, чтобы обладать его знаменитым выпуклым щитом, то
еще больше значило бы для меня быть тем, кто сумел вы¬
резать, склеить, расписать и позолотить этот щит со львом.
При этом я был в отношении работ Мартина не совсем не¬
критичен, от меня не ускользнуло ни то, что кальвский
герб, в сущности, не подходил к щиту ирокеза, ни то, что
278
этот герб и орнаменты не првдуманы, не расписаны вольно
и щедро, а тщательно скопированы с образца и увеличены.
Но именно этого, что составляло силу и талант Мартина, у
меня не было, точности и аккуратности, опрятности и тех¬
нического совершенства его работы, терпения, усердия,
старательности и радости от начатой по плану и выполня¬
емой точно, ступенька за ступенькой, работы.
Почерк Мартина тоже часто бывал предметом моего вос¬
хищения и моей зависти. У его школьных тетрадей был на
диво аккуратный, опрятный и приятный вид, дух порядка,
симметрии и гармонии царил и в выписанных с явным на¬
слаждением и любованием буквах, и в том, как распреде¬
лялись их колонны на учебном плацу страницы, отношение
величины букв к интервалу между строками было столь же
приятно и убедительно, как отношение написанных деко¬
ративным шрифтом заглавий к толщине проведенных по
линейке линий, которые их подчеркивали. Начиная пере¬
писывать набело какую-нибудь латинскую понедельную
работу, я часто садился за дело с намерением писать так
же приятно, с такой же при точной размеренности плавно¬
стью. На протяжении нескольких строк мой почерк делался
тогда чуть стройней, чем обычно, но красивым так и не ста¬
новился, да и воли к такой стройности хватало всегда очень
ненадолго, и позднее, когда я вспоминал об этом в совсем
уже взрослом возрасте, мне иногда казалось, что мое стрем¬
ление к такому красивому почерку относилось, по сути, к
чему-то другому — к более простому, более ровному и бо¬
лее управляемому нраву моего товарища.
Кроме своего обычного, будничного и делового почерка
этот молодой художник обладал и другими, более торжест¬
венными, более пышными. У него были перья «рондо» двух
видов: простое, только вырезанное необыкновенно широко
и косо, и двойное, расщепленное, сопровождавшее каждую
линию более тонкой второй чертой. Этими перьями он не
только ухитрялся писать так великолепно и четко, словно
это напечатано шрифтом антиква, у него еще хватало фан¬
тазии и вкуса добиваться, чтобы двойные линии, завитки,
а также утолщения и утончения букв прямо-таки плясали,
парили и музицировали — эти каллиграфические изыски
вспомнились мне, коща позднее печатник Мардерштейг по¬
казывал мне альбомы с типами всевозможных шрифтов Бо-
дони*.
279
Вне школы мы мало виделись, Мартин жил далеко от
меня в верхней части города, у своего дяди-учителя, дер¬
жавшего пансион для мальчиков. Не помню даже, бывал ли
я коща-ннбудь в этом доме, но его наружный вид я и теперь
могу представить себе. Название улицы, ще он находился,
я тоже забыл. Но это была та самая улица, хде Кнульп на¬
вестил своего друга, портного Шлоттербека, и во время
прогулок памяти по Дубильной слободке, которые я проде¬
лывал с Кнульпом, мне иноща являлись и тот дом, и фи¬
гурка Мартина. И тоща тоже в единственную за жизнь на¬
шу задушевную встречу, в тот день в Базеле и в моей де¬
ревне на Боденском озере он говорил мне о том доме и о
своей любви ко всем воспоминаниям, связанным с Кальвом,
с его школьными годами и детством. С улыбкой и скрытой
за шутками растроганностью заговорили мы о том, какой
фантастической ценностью способна наделить душа самые
ничтожные мелочи, пустяки, если с ними соединены доро¬
гие воспоминания, — старую ручку, старомодный ключ от
часов, которых давно нет, ржавый перочинный нож. Тут
Мартин задумался, помолчал, уйдя в свои мысли, а потом
заговорил о турнике, гимнастическом снаряде во дворе того
дома напротив шлоттербековского, и о гвозде, который он
однажды, гуляя в одиночестве в том дворе, вбил в столб
этого турника, без практической цели, только от радости
ровно и точно вгонять молотком в дерево этот случайно
найденный гвоздь. С непонятным сего;щя и невозможным
сегодня по силе наслаждением он вбивал этот гвоздь, рас¬
сказывал Мартин, которому тоща было лег двадцать семь,
он проверял этим свою ловкость, но, кроме того, совершал
некий мистический акт, не то превращая этот принадле¬
жавший всем пансионерам турник в свою собстветаость, не
то отмечая его тайным, лишь ему одному ведомым образом.
Этими записями я, пожалуй, и исчерпал большую часть
того, что знаю о Мартине. Но в некоторых пунктах я пол¬
ной уверенности не чувствовал. Я многое отдал бы за воз¬
можность проверить свои воспоминания. И поскольку дру¬
гих надежных источников у меня не было, я вспомнил, что
в дальнейшей своей жизни мой товарищ написал мне по
меньшей мере два письма. Первое — к моему пятидесяти¬
летию, в 1927 году, года через двадцать три после н^ей
последней встречи, а второе — незадолго до своей смерти.
Вероятность, что письма эти сохранились, существовала, но
надежда найти их была мала, однако, доведя свои записи
280
до этого места, я принялся за нелегкие поиски, и они ока¬
зались не совсем напрасными. Письмй, правда, казавшегося
мне наиболее важным, я так и не нашел нище, хотя мог бы
поклясться, что его сохранял. Я имею в виду последнее
письмо. Но хоть письмо 1927 года я отыскал, и в той же
связке старых писем — печатное известие о смерти.
Но с этим найденным сокровищем все вышло у меня до¬
вольно странно. Находка очень меня обрадовала, но текст
письма оказался совсем не таким, как я ожидал и, дума¬
лось, знал. И вместо того чтобы прояснить мои воспомина¬
ния и сделать их определеннее, письмо, наоборот, совер¬
шенно спутало их и сделало совсем сомнительными. Оно
показало мне, что хотя мое представление о Мартине в це¬
лом верно, но его воспоминания о совместно пережитом от¬
личались от моих и отчасти даже противоречили им. Его
память была, казалось, лучше моей, во всяком случае, она
сохраняла многое, чего я не помнил, опуская зато, правда,
такое, что я особенно выделял и берег.
Странно и чуть ли не поразительно было для меня уже
то, что почерк этого найденного письма не имел ничего об¬
щего с тем почерком мальчика Мартина, которым я так вос¬
хищался. Это был ясный и довольно красивый, но никак не
каллиграфический ц вовсе не стремящийся к той прежней
аккуратности почерк. Письмо занимало несколько страниц,
это было поздравительное послание, в известной мере юби¬
лейный адрес к моему пятидесятилетию, что-то вроде знака
признания, застенчивого свидетельства дружбы. Главный
раздел состоял из констатации вроде той, что я «ныне уже
общепризнанная знаменитость», эта часть письма была не¬
сколько мещанской и назидательной, но куда большая
часть послания была хвалой нашей молодости и годам уче¬
ния, прерывавшейся краткими вздохами скромности вроде
«Ты, правда, едва помнишь меня». Главным же, драгоцен¬
ным, было для меня то, что старый однокашник по семи¬
нарии как бы подарил мне на день рождения свои воспоми¬
нания юных лет обо мне. Я жадно читал эти страницы. Но
большинства событий, о которых он там упоминал, в моей
памяти не было. Например, он рассказывал об одном вечере
моей последней тюбингенской поры, в который он, пригла¬
шенный мною, сидел вместе с другими прежними однокаш¬
никами у меня в комнате и слушал, как я читал книгу «В
час пополуночи»*. Наверняка он прав, но у меня об этом
281
тюбингенском вечере не осталось ни тени воспоминания. А
потом он переходит к нашей встрече в Базеле и совместной
поездке в Гайенхофен. Этот рассказ я прочел с величайшим
интересом. И об этой встрече Мартин помнит гораздо боль¬
ше, чем я, я начинаю действительно стыдиться своей за¬
бывчивости. Только до момента прибытия подтверждает его
рассказ мои собственные воспоминания, а потом он продол¬
жает: «На другой день мы обошли всю артистическую ко¬
лонию там на озере — Э. фон Бодмана*, В. фон Шольца*, —
заглянули и к одному живописцу. И все это тоща не попшо
мне впрок. Я пребывал тоща в тяжелом внутреннем кри¬
зисе... Я вернулся домой в состоянии довольно жалком и
несчастном. Я увидел, чего мне не хватало».
Как же это так? Целый день, стало быть, я обходил со
своим гостем тамошних друзей и знакомых и начисто об
этом забыл. Я готов доверять его памяти больше, чем своей,
ему в^ все это, привычное для меня, было внове, а к Э. фон
Бодману я тоща действительно несколько раз захаживал,
но не к В. фон Шольцу, так что, сдается, друг Мартин за¬
дним числом сделал этот забытый мною день на Боденском
озере богаче впечатлениями и знакомствами, чем он мог
быть. А о том, что было для меня главным, незабываемым
событием той встречи, о своем тяжелом заболевании, он во¬
обще ничего не помнил! Оно выскользнуло у него из памя¬
ти, как у меня это турне по соседям у озера! Так же как в
своем добросовестном повествовании об этой поездке он
присочинил по меньшей мере посещение Шольца, он совер¬
шенно забыл или сохранил в памяти только как душевную
неурядицу свое заболевание, произведшее на меня такое
впечатление, на десятки лет запечатлевшее во мне его ис¬
каженное лицо и его несчастную шатающуюся фигуру! Ах,
я чуть ли не предпочел бы, чтобы это милое, длинное пись¬
мо Мартина затерялось, чем мне сталкиваться с такими
противоречиями и сомнениями!
Все же я должен стоять на том, что говорит мне моя
память, и защищал бы это от всех кажущихся опроверже¬
ний. Но как своеобразно посрамляет, как смущает нас каж¬
дая встреча с нашей скрытой жизнью, с теми силами, ко¬
торые потешаются над нашим разумом, нашим сознанием,
нашей памятью, по-диктаторски распоряжаясь нашей спо¬
собностью помнить и забывать! На какие бы лады я ни со¬
поставлял друг с другом обе картины, оставшиеся в памяти
от нашей встречи, обе они донельзя ясно и с какой-то на-
282
смсшкой показывают мне, как отличаемся мы от самих себя
и от того, какими видят нас наши ближние. Вот я провел
день или два с милым, случайно встретившимся снова то¬
варищем юности, и как же мы оба, не желая того и не по¬
дозревая о том, разыгрывали друг перед другом спектакль,
как же мы лгали себе и друг другу! Для меня Мартин был
свежим, цветущим, краснощеким мальчуганом с нормаль¬
ной, может быть, несколько бюргерской температурой ду¬
ши, и, может быть, именно это соблазнило меня предста¬
вить ему свое житье и свое тогдашнее настроение весьма
интересными, веселыми и завидными, тогда как на самом
деле меня очень угнетали проблемы моего писательства,
моего недавнего брака и моего намеренно небюргерского
быта. А он в свою очередь позволил поразить себя и осле¬
пить, он задним числом даже разукрасил приключение
своей поездки к Гессе всяческими добавками, он так же ус¬
пешно утаил от меня свои тяжелые проблемы, заботы и не¬
уверенность, как я от него свои, и умудрился затем начисто
забыть выплеск этих горестей в приступе с виду тяжелого
физического недуга. Столь несходно повлияли на нашу па¬
мять по части поездки в Гайенхофен и привели к двум
столь отличным друг от друга рассказам о ней одни и те же
у него и у меня причины и силы, это были конфликты в его
душе и в моей и потребность не слишком отчетливо видеть
эти конфликты самому и тем более не дать их увидеть то¬
варищу. Как я превратился в памяти Мартина в счастливо¬
го феака и бедового парня, так он превратился в моей в
милого, бесхитростного человека, склонного, к сожалению,
к тяжелым желудочным расстройствам.
Но, несмотря на эти глубокие и, в сущности, страпшые
закавыки, фактом остается то, что мы оба отнюдь не забы¬
ли друг друга и что как раз та единственная в нашей жизни
серьезная встреча занимала и волновала и его, и меня еще
десятки лет спустя. Причина этого интереса, этой неспособ¬
ности забыть была у нас обоих одна и та же, у него она
выразилась, проявилась во внезапной болезни и в стремле¬
нии замять, скрыть эту болезнь задним числом, у меня —
в нарочито возбужденной и возбуждающей живости и пред¬
приимчивости и стремлении вытеснить их задним числом
из сознания. Как ни различны внешние наши рассказы об
этом, испытывали мы тогда совершенно одно и то же: уд¬
рученность неразрешимыми с виду, гнетущими вопросами
нашей нравственной жизни и одновременно желание ута-
283
ить и не замечать эту внутреннюю неурядицу. Если бы
каждый из нас не чувствовал у другого за маской наших
ролей такого же напряжения, такой же незапщщенности,
такой же духоты, мы оба способны были бы забыть всю эту
историю или, во всяком случае, не придавать ей важности.
Я подошел к концу своего трудного рассказа об одном
незначительном с виду эпизоде времен нашей молодости.
Тут можно было бы поставить точку; Но надо добавить еще
одну деталь, правда, опять такую, коща я должен поло¬
житься просто на свою память и не могу ни доказательст¬
вами, ни документами помочь недоверию к этой памяти,
приобретенному в ходе всего вышеизложенного разбора,
помочь нечистой совести, которая должна бы, собственно,
мучить всякого автора истории или повествования.
Добавить я должен тот факт, что ведь Мартин написал
мне и еще одно, последнее письмо.
С тех пор как он написал, а я прочел его, прошло лет пят¬
надцать, и, хотя я, несомненно, его сохранил, найти его не
удалось, оно должно было бы лежать с тем другам письмом и
с извещением о смерти, а их-то было довольно трудно найти.
В этом последнем своем письме ко мне Мартин снова с
большой теплотой и проникновенностью вспоминает дет-
стао в Кальве, уверенный, что и мне это напоминание при¬
дётся по душе, в чем он и не ошибся. Но на сей раз он
должен сообощть мне нечто особенное и конкретное: он не¬
давно побывал в Кальве! Он соверпшл мемориально-нос-
тальгическое паломничество в долину и город самой, как
ему кажется, счастливой своей поры, справил давно вожде¬
ленный, часто намечавшийся, но наконец созревший праз¬
дник свидания. Как Кнульп перед кончиной еще раз посе¬
щает свой городок и обходит все его переулки и закоулки,
так и Мартин совершил путешествие на свою как бы родину
и в свое детство, он с бью1цимся сердцем въехал в долину
Нагольды и увидел старый город, раскинувшийся по склону
между лесистыми горами и рекой. То была славная, счаст¬
ливая затея, он рассказывает мне об этом с благодарностью
и блаженством. Улицы, рыночная площадь, школа, фами¬
лии шнпих бывших учителей и многих товарищей упоми¬
наются с почтением, хвалой и любовью. Описывается так¬
же, как паломник находит улицу с домом своего дяди не-
изменившейся, лишь несколько постаревшей, как он вхо¬
дит в дом, принюхивается к передней и к лестничной клет¬
ке, как затем выходит во дворик, где играл в детстве, и с
284
изумлением и растроганностью застает все совершенно та¬
ким же, как почти полвека назад. Стояли на месте, чего он
никак уж не ожидал, и оба деревянных столба турника, и
в одном из этих столбов сидел, десятки лет храня его дет¬
скую тайну, гвоздь, который он коща-то туда вогнал.
БАДЕНСКИЕ ЗАМЕТКИ
Двадцать пять лет прошло с тех пор, как некий благоже¬
лательный врач впервые послал меня лечиться в Баден, и ко
времени того первого пребывания на баденском курорте я,
должно быть, уже и внутренне созрел для новых пережива¬
ний и мыслей, ибо именно тоща возникла моя книжечка
«Курортник», которую еще совсем недавно, до самой лишен¬
ной всяческих иллюзий старческой горечи, я почитал одной
из лучших своих книг и вспоминал о ней всеща с неизмен¬
ной любовью. Побуждаемый то ли непривычным мне досу¬
гом курортной и гостиничной жизни, то ли новыми знаком¬
ствами и книгами, я обрел в те летние дни, на полпути от
Сиддхарты к Степному волку, особое настроение самоуглуб¬
ления и самоанализа, настроение созерцателя как по отно¬
шению к окружающему, так и по отношению к собственной
своей персоне, радость от иронии и игры, радость наблюдать
и анализировать сиюминутное, некое равновесие между вя¬
лым бездействием и напряженным трудом. И поскольку объ¬
екты моих игр, моих наблюдений и описаний — весь этот ку¬
рортный быт, с его жизнью в гостинице, концертами в курза¬
ле и ленивым фланированием по терренкуру — были все же
слишком мелки и незначительны, моя страсть к осмыслению
и запечатлению вскоре обратилась на другой, куда более
важный и интересный объект, а именно: на самого себя, на
психологию художника и литератора, на страстность, серь¬
езность и суетность писания как такого, которое, как и все
прочие искусства, стремится к невозможному и чьи резуль¬
таты, в случае удачи, хоть и не достигают того, к чему пишу¬
щий стремился и что хотел осуществить, бывают тем не ме¬
нее прекрасны, забавны и утешительны, как ледяные узоры
на окошке натопленной комнаты, из которых мы вычитыва¬
ем уже не разность температур, а причудливые ландшафты
души и волшебные рощи.
Свою написанную тоща книгу о курортнике я за послед¬
ние двадцать лет перечитывал лишь однажды, с целью под¬
285
готовки нового издания после периода истребления моих
книг, и из этого перечитывания вынес знакомый всем пи¬
сателям и художникам опыт, что наши суждения о собст¬
венных работах вовсе не являются надежными и стабиль¬
ными; работы эти могут претерпеть удивительные измене¬
ния в нашей памяти, уменьшиться или увеличиться, стать
лучше или совсем обесцениться. В упомянутом новом из¬
дании «Курортник» должен был появиться в одном томе с
близким ему по времени и по теме «Нюрнбергским путе¬
шествием», и, когда я только приступал к перечитыванию
обоих этих произведений, лучшим и более удавшимся мне
представлялось как раз «Нюрнбергское путешествие»; и
этот приговор, причины которого я уже не мог восстано-.
вить, засел во мне так прочно, что я был искренне удивлен
и даже разочарован, коща, окончив чтение, вынужден был
признать, что на деле все обстоит как раз наоборот и из
двух моих автобиографических повестей «Курортник», не¬
сомненно, и глубже, и совершеннее по форме. Контраст,
согласно моей теперешней оценке, был столь велик, что я
даже носился с мыслью вообше исключить «Нюрнбергское
путешествие» из нового издания. Во всяком случае, в ре¬
зультате вн^ательного перечитывания я сделал подлинное
открытие: оказывается, два десятилетия назад я мог напи¬
сать не только нечто вполне искреннее, но также и веселое
и приятное, на что сегодня уже более не способен.
Между тем с момента этого открытия вновь протекли
годы, у стариков время бежит быстро и годы старости как
бы истираются по сравнению с более прочными и емкими
прежними годами, совсем как дешевые ткани из целлюло¬
зы; вот уже двадцать пять лет минуло с тех пор, как я впер¬
вые цриехал в Баден и написал здесь свои заметки. Впро¬
чем, должен признаться, что всякий раз, коща я вновь ока¬
зывался в Бадене, заметки эти причиняли мне немало хло¬
пот, часто случалось, что какой-нибудь сосед-курортник
как раз здесь читал эту книгу и заговаривал со мной о ней,
а необходимость отвечать на вопросы и поддерживать бесе¬
ды становилась мне год от году все невыносимей и тягост¬
ней. Это стойкое отврашение к беседам, как и вообще голод
на тишину и одиночество, безмерно возросло во мне и уси¬
лилось в последние годы; я безумно устал, мне приелось
быть «знаменитостью», это давно уже не кажется мне ни
приятным и ни почетным, а, напротив, стало напастью, и
если временами я покидаю свое, прежде столь надежно
286
спрятанное жилище, как, например, для посещений баден¬
ского курорта, то я делаю это не в последнюю очередь из
страха и отвращения перед непрошеными гостями, которые
вечно толкутся перед моей дверью, не реагируют ни на ка¬
кие просьбы и мольбы о пощаде, прокрадываются вокруг
дома и настигают меня даже в самых потаенных и укром¬
ных уголках моего виноградника. Они вбили себе в голову,
что им непременно следует изловить чудака, застигнуть его
врасплох, растоптать его сад и его частную жизнь, погла¬
зеть через окно на его письменный стол и своей болтовней
лишить последнего уважения к людям и веры в смысл соб¬
ственного существования. Этот разлад между мной ь. миром
подготавливался и усиливался в течение ряда лет, но с тех
пор, как началось массовое нашествие из Германии, кото¬
рого мы давно уже ждали, он стал поистине неодолимым
бедствием. Сотни вторжений и навязанных мне визитов я
выдержал с кисло-сладкой миной, но трижды в течение по¬
следнего месяца случалось, что, застигнув посетителя, раз¬
гуливающего по моему саду как у себя дома, я взрывался
и осыпал его бранью. Никакого терпения не хватит, чтобы
все это выдержать; и большому котлу приходит срок заки¬
петь.
Так что когда я снова решился поехать в Баден, это бы¬
ло своего рода бегством. Я бывал здесь уже много-много
раз, обычно поздней осенью; ванны, равномерное и слегка
отупляющее течение гостиничных дней, угасание скудного
ноябрьского света в оконных стеклах, покой и приятное
тепло полупустого дома казались мне желанными: либо я
расслаблюсь, как это бывало, от однообразия и безделья,
либо, напротив, как случалось в другие разы, стану прово¬
дить бессонные ночи в постели за сочинением стихов и до¬
стигну такой степени сосредоточенности, которая немысли¬
ма в дневное время; в любом случае это сулит перемену, а
перемена среди рутины старения и угасания — немалый со¬
блазн. Итак, я решился на эту поездку, и моя жена, для
которой близость Цюриха в Бадене, пожалуй, большая при¬
манка, чем минеральные ванны, была согласна с моим ре¬
шением. Вещи были упакованы, при этом мы не пожалели
места ни для книг, ни для писчей бумаги. Мы прибыли, и
я вновь поселился в той старой уютной гостинице, ще так
часто останавливался со времен моего первого приезда, и
спокойно констатировал свое превращение сперва в старе¬
ющего, а затем и просто в старого господина. Я давно уже
287
принадлежал к разряду почетных гостей, убеленных седи¬
нами, кому улыбаются снисходительно и почтительно, и на
этот раз вновь получил повышение в их рядах, потому что
умерли некоторые из числа совсем старых постояльцев, ко¬
торых я здесь прежде встречал. На их местах в обеденном
зале сидели теперь другие старики, и, естественно, среди
персонала тоже попадались новые лица, не встречавпше
старого знакомца доверительной и узнавающей улыбкой.
Я многое пережил в этом доме за два с половиной деся¬
тилетия, многое передумал и перечувствовал, многое напи¬
сал. В ящике гостиничного письменного стола хранились в
разное время рукописи «Нарцисса», «Паломничества в
Страну Востока» и «Игры в бисер»; сотни писем и дневни¬
ковых заметок и несколько десятков стихотворений были
написаны в комнатах, которые я здесь занимал, сюда ко
мне приезжали коллеги и друзья из разных стран и из раз¬
ных периодов моей жизни, я пережил здесь упоительные
хмельные вечера в шумном обществе и череду пустых дней,
тягучих, как протертые слизистые супы, периоды )шоения
работой и периоды усталости и|бесплодия. Здесь, в этом до¬
ме, да и в городе тоже, не было, пожалуй, ни одного уголка,
не связанного для меня с каким-либо воспоминанием, с це¬
лым пластом воспоминаний, набегающих друг на друга.
Люди, которые не знают истинной родины, испытывают к
таким местам, связанным для них с многочисленными вос¬
поминаниями, подчас несколько иронизирующую, но неж¬
ную привязанность. Вот в той светлой комнате в три окна,
расположенной на четвертом этаже, я написал коща-то
стихотворения «Ночные мысли» и «Раздумье», первое — в
ночь после того, как впервые прочел в газетах сообщения
о еврейских погромах и поджогах синагог в Германии. А в
противоположном крыле дома за несколько месяцев до мо¬
его пятидесятилетия у меня сложились «Стихи во время бо¬
лезни». Внизу, в холе, я получил известие, что пропал мой
брат Ганс, и там же на следующий день мне сообпщли о его
смерти. Теперь, уже немало лет, я постоянно жил в одной
и той же комнате в самой старой части дома, и меня бы
крайне огорчило, если бы на ее стенах я не увидел привыч¬
ных мне сине-красно-желтых обоев в цветочек. Но они бы¬
ли налицо, вместе со знакомым письменным столом и на¬
стольной лампой, и я с благодарностью приветствовал свою
придуманную малую родину.
288
Все складывалось удачно, обстановка тут была самая
мирная. Хотя среди постоянных гостей, которых мы на сей
раз застали, мелькнула дама, несколько лет уже проводив¬
шая здесь сезон одновременно со мной и не раз навязывав-
игая мне длинные односторонние беседы, но теперь она ме¬
ня знает, в последний раз между нами произошла неболь¬
шая сцена, и я склонен был считать ее завершением наших
отношений. Мы стали" избегать навязчивую даму, и, если
ненароком я оказывался один вблизи от нее, я с такой по¬
спешностью и значительным видом устремлялся к кому-ни-
будь третьему, что едва ли у кого хватило бы смелости меня
задержать.
В качестве чтения мы захватили с собой «Идиота» До¬
стоевского, которого и принялись перечитывать. Это было
так же напряженно и захватывающе, как тридцать лет на¬
зад, хотя теперь напряжение временами разочаровывало,
казалось, с годами книга все же что-то утратила в содер¬
жании и в сути, а никчемных людей и пустых многочасо¬
вых разговоров явно прибавилось. Если мы проживем еще
немного, у нас с этой книгой будет так же, как годы назад
после двух первых прочтений: кроме незабываемой фигуры
князя, в памяти останутся лишь образы Рогожина и обеих
женщин, а из эпизодов — первая сцена в поезде, обе сцены
в мрачном доме Рогожина, болтливая вечерняя компания
на террасе у Лебедева и тот ужасный эпизод, где обе моло¬
дые женщины набрасываются друг на друга и князь оста¬
ется с Настасьей. Между этими сценами смутно будут вспо¬
минаться бесконечные разговоры на сотни страниц, но по
прошествии времени обязательно ощущаешь жгучую по¬
требность их перечитать. Мы с женой, как прежде, были
захвачены и возбуждены тревожной, судорожной атмосфе¬
рой романа, и это было вполне в его духе, когда однажды
после ужина жена вошла ко мне в комнату и сказала:
— Там, перед дверью, мечется какой-то убийца.
— Пойду-ка взгляну на него, — ответил я и быстро вы¬
шел из комнаты.
И вправду по коридору и холлу в крайнем беспокойстве
и волнении ходил взад-вперед человек совсем еще молодой,
по виду явно иностранец, но не восточные, не европейские
черты в его облике привлекли мое внимание — этот тип
мне давно знаком и вполне симпатичен, — но то, что на¬
ложило на него свою печать и подсказало моей жене слово
«убийца», — его тогдапшее состояние, жутковатая смесь
II) Ч.2ТО 289
беспокойства, лихорадки и одержимости. Однако на «убий¬
цу» он не был похож. Это я понял с первого взгляда, скорее
уж на «самоубийцу», чему вполне соответствовали призна¬
ки нервозности и одержимости, но даже и это было не впол¬
не вероятно. Вероятно и почти точно было то, что этот
«убийца» был человеком, находящимся в состоянии край¬
него возбуждения, что нечто его тяготило и мучило; веро¬
ятно и почти точно было и то, что он посягал на меня, при¬
чем жаждал не столько помощи и совета, сколько разгово¬
ра. Я медленно прошел мимо и внимательно его оглядел,
сперва с чувством сострадания, а затем все более и более
преисполняясь страхом, ибо увидел, что это был один из
тех людей, кто жаждет и непременно должен выговориться;
возможно, что-то накопилось у него в душе, что-то судо¬
рожно сжимало ему горло, возможно, он дольше, чем мог
это выносить, был совсем один и теперь его распирало, он
не способен был с собой справиться. Я поспешил скрыться
в боковом коридоре, на душе у меня было скверно, я пред¬
чувствовал с почти полной уверенноотю, что, как только
вернусь, он окликнет меня и захочет’исповедаться, а меня
это и в самом деле пугало. В моем тощашнем состоянии
величайшей разочарованности, в стремлении бежать от лю¬
дей, в глубочайшем сомнении в смысле и ценности всего,
для чего я прежде жил и работал, ничто не могло испугать
меня и довести до отчаяния сильнее, чем атака человека,
который нуждался именно в том, чего я не мог ему дать: в
доверии, в отклике, в готовности выслушать его вопросы,
жал^ы или обвинения. Наши тактические предпосылки
были слишком неравны: я был слаб, устал, пр^ывал в со¬
стоянии обороны и при этом был заранее уверен в собст¬
венном поражении; он был молод, полон сил, его подгонял
мощный мотор лихорадки, волнения, ярости или невроза —
все равно, как бы это ни называть. Да, у меня были все
причины его бояться. Но не мог же я вечно отсиживаться в
коридоре и на лестничной площадке, не мог подвергать ри¬
ску жену, которая ждала меня в моем номере, — ведь он
способен, пожалуй, ворваться туда и напугать ее. Ради все¬
го святого, я (^язан был вернуться. Стремление этого
«убийцы» и одержимого непременно говорить со мной, жа¬
ловаться или атаковать было душевным состоянием, хоро¬
шо мне знакомым, множество людей в течение многих лет
и десятилетий приходили ко мне, охваченные тем же же¬
ланием, либо потому, что ждали от меня особого понима¬
290
ния, либо просто я случайно встретился им на пути. Я вы¬
слушал уже неимоверное количество жалоб, исповедей и
дурацкого нытья, был свидетелем извержений долго копив¬
шихся горя или злобы, нередко это становилось для меня
даже дорогим переживанием, подтверждением сокровенно¬
го и бесценным опытом. Но теперь, на этой тягостной и бед¬
ной ступени моего бытия, когда каждое людское приближе¬
ние, каждое новое знакомство воспринимались как нагруз¬
ка и опасность, атака этого человека, явно более сильного
и настойчивого, чем я, была мне до крайности неприятна;
все во мне воспротивилось этому, сжалось и закаменело, и
я недовольной походкой, с лицом, не обещавшим ничего хо¬
рошего, направился к своей двери. И в самом деле, он вы¬
ступил вперед, и только теперь я сумел разглядеть его ли¬
цо, прежде остававшееся в тени, а теперь внезапно осве¬
щенное матовым светом лампы, — лицо взволнованное, но
вполне приятное, юное и открытое и вместе с тем преис¬
полненное решимости и напряженной воли.
Он сказал, что, как и я, живет в этой гостинице и только
что прочел моего «Курортника»; книга его чрезвычайно
взволновала и раздосадовала, ему непременно нужно со
мной об этом поговорить.
Я коротко объяснил ему, что у меня нет ни малейшего
желания вести такие разговоры, что, напротив, я приехал
сюда, спасаясь от ставшего мне невыносимым нашествия
людей, ж^сдущих со мной общаться. Как и можно было
ожидать, это его ничуть не остановило, и я вынужден был
обещать, что выслуп1аю его завтра, хотя просил при этом
рассчитывать не более чем на четверть часа. Он попрощал¬
ся и ушел, а я возвратился к жене, она стала читать мне
дальше вслух «Идиота», и, в то время как друзья Рогожина,
Ипполита и Коли произносили свои бесконечные монологи,
я думал, что они чем-то похожи на незнакомца в коридоре.
Коща я лег в постель, оказалось, что незнакомец, в сущ¬
ности, уже выиграл игру: я страшно жалел, что не выслу¬
шал его сразу, в тот же вечер, меня тяготило ожидание за¬
втрашнего дня и данное мной обещание, это разрушало мой
сон. Что имел в виду этот человек, когда говорил, что чте¬
ние моей книги его «раздосадовало»? Ведь он употребил
именно это слово. Видимо, он натолкнулся в книге на вещи,
которые были для него неприемлемы и неприятны, и разъ¬
яснения их он будет завтра от меня требовать, против них
будет протестовать. Таким образом, полночи я был занят
10* 291
размышлениями, и эти часы мне уже не принадлежали, они
принадлежали незнакомцу. Я вынужден был лежать и ду¬
мать о нем, лежать и отгадывать, что он мне завтра скажет,
что спросит, лежать и мучительно восстанавливать в памя¬
ти приблизительное содержание книжки о курортнике. Ибо
и в этом зловещий незнакомец был сильнее меня: ведь он
только что прочел книгу, которую я написал четверть века
назад и перечитывал в последний раз то^е уже довольно
давно. Лишь после того, как я некоторым образом уяснил
себе свое поведение в предстоящей беседе, мне удалось от¬
влечь свои мысли от незнакомца и наконец-то уснуть.
Наступил следующий день, наступил и тот послеобеден¬
ный час, которого мы оба ждали, незнакомец и я. Он при¬
шел, мы сели в том самом холле, где накануне вечером пе¬
редо мной угрожающе вынырнула его фигура. Мы уселись
друг против друга за очень красивым старинным шахмат¬
ным столиком с инкрустацией: в его круглую столешницу
была врезана шахматная доска с полями из темного и свет¬
лого дерева, в прежние счастливые дни я сыграл за ним не
одну партию. В этом помещении и сейчас, днем, было не
намного светлее, чем накануне вечером, но мне казалось,
что только теперь я по-настоящему разглядел лицо своего
визави. В моем положении и при моем настроении было бы
приятнее, если бы это лицо было несимпатичным, что
очень облегчило бы мне мою позицию обороны. Но оно бы¬
ло несомненно симпатичным — лицо умного образованного
еврея, выходца из каких-либо восточнославянских краев,
человека, воспитанного в благочестии и благочестивого от
природы, сведущего в Писании и готовящегося стать то ли
теологом, то ли раввином, но на этом пути вдруг ошелом¬
ленного и круто свернувшего, так как он столки\ лея с са¬
мою истиной, с живым духом. Он был растревожен и про¬
бужден, вероятно, впервые испытал то, что я в своей жизни
испытал уже несколько раз, и пребывал в том состоянии
духа, что было мне хорошо знакомо и по себе и по дру¬
гим, — в состоянии особой сосредоточенности, чуткости и
восприимчивости ко всему на свете — в состоянии духовной
благодати. Все вдруг отчетливо понимаешь, жизнь предста¬
ет перед тобой как откровение, а истины предшествующих
ступеней — теории, учения и символы веры — развеялись
как дым, скрижали и авторитеты разбились вдребезги. Это
удивительное состояние, большинство людей, даже вполне
духовного склада, людей ищущих, никогда его не испытало.
292
Но я-то его знал, меня тоже овевало его удивительное ды¬
хание, я тоже осмеливался тоща, не опуская глаз, смотреть
прямо в лицо истине. Этому юному избраннику судьбы, как
я понял после двух прощупывающих вопросов, чудо пред¬
стало в образе Лао-цзы« а благодать носила для него назва¬
ние дао, и если можно было говорить здесь о морали или
законе, то они сводились к призыву: быть для всего откры¬
тым, ничего не презирать, ни о чем не судить предвзято и
все потоки жизни пропускать через собственное сердце. По¬
добное душевное состояние для того, кто в нем оказался,
кто испытывает его впервые, всеща носит характер чего-то
окончательного и бесповоротного, этим оно родственно ре¬
лигиозному обращению, переходу в иную веру. Все вопросы
кажутся отныне получившими ответы, все проблемы ре¬
шенными, все сомнения раз и навсеща отброшенными. Но
эта окончательность, это победное «вовеки веков» есть все¬
го лишь самообман. Сомнения, проблемы, малодушие и не¬
уверенность еще вернутся, ^рьба будет продолжаться,
жизнь сделается хоть и намного богаче, но ничуть не менее
сложной. Как раз на такой стадии находился, как видно,
ученик Лао-цзы; еще окрыленный своим обращением, еще
обновленный снизошедшими на него свободой и благо¬
датью, он был уже вновь преследуем призраками, готов был
вот-вот рухнуть из блаженного парения в мир конфликтов,
и во всем этом, оказывается, виновен был я.
Ибо юному избраннику попала в руки книга, мой «Ку¬
рортник», он прочел ее, и она стала для него камнем пре¬
ткновения. Безграничная открытость натолкнулась на пре¬
граду, всеприятие — на сопротивление, он прочел книгу,
весьма несуразную и незавершенную, но это чтение разру¬
шило его чувство высокой избранности, прорвало ощуще¬
ние всеобщей гармонии, из книги с ним говорил мелочный
и придирчивый, эгоистичный и высокомерный разум, и он
не в состоянии был с улыбкой превосходства отвести место
в великой гармонии мира этому голосу, выводящему его
из равновесия, не мог ответствовать ему смехом, а спотк¬
нулся об этот камень; книга измучила и раздосадовала его,
вместо того чтобы развлечь и позабавить. Особенно разо¬
злило его то высокомерие, с которым автор, с высоты сво¬
его художнического величия, своего вкусового пуританст¬
ва, брюзгливо рассуждает о «кассовых» фильмах, столь ми¬
лых сердцу публики, не будучи в состоянии утаить, что и
сам в глубине души получает удовольствие от их дешевой
293
сентиментальности и чувственности. И еще более невоз¬
можными, поистине возмутительными, были тон и манера,
в которых этот «курортник» рассуждал об индуистской идее
целостности мира, веруя в нее примитивно и грубо, как
школьник в таблицу умножения, воспринимая ее как догму
и как незыблемую истину, в то время как для посвященного
«Tat twam asbi есть в лучшем случае прекрасный мыльный
пузырь, переливающаяся всеми цветами радуги игра вооб¬
ражения.
Таково примерно было содержание нашей беседы, кото¬
рая, как было условлено, длилась чуть более четверти часа.
Говорил почти он один, я ему не возражал, не указывал
на то, что, уж если исповедуешь открытость и всеприятие,
не следует так злиться из-за книги, что жаждешь надрать
автору уши; не думал я во время этого разговора и о том,
что моя книга, как любое произведение искусства, таит в
себе не одно только содержание — более того, как раз со¬
держание может быть относительно несущественно, так же
как и намерения автора, ибо главное для нас, художни¬
ков, — чтобы в соответствии с этими намерениями, взгля¬
дами, мыслями возникло бы из словесной ткани некое тво¬
рение, чья неизмеримая ценность была бы выше измеримой
ценности содержания. Я не мог всего этого высказать хотя
бы по той причине, что во время нашего «обмена мыслями»
мне это просто не пришло в голову, и потому, что, слушая,
с какой великолепной страстью мой собеседник говорит о
моей книг^, я поневоле вынужден был с ним соглашаться.
Ведь он говорил только о содержании, все остальное его не
трогало. Я готов был во время этой четверти часа и вовсе
отказаться от своей книги, если бы это было возможно, так
как не только критика читателя, поскольку она касалась
заключенных в книге мыслей, представлялась мне весьма
справедливой, но мне было также искренне жаль, что я
причинил этим такую досаду чистому и благородному сер¬
дцу.
Молча и с какой-то подавленностью глядел я то на лицо
и руки моего критика, которые не были морщинистыми и
вялыми, как мои собственные, а, подобно его голосу и всему
его живительному облику, были молоды, упруги и полны
сил; то я углублялся в изучение прекрасных орнаментов и
^ Это ты (санскр,).
294
оттенков древесных пород на шахматном столике, за кото¬
рым мы сидели, два игрока, и который, вероятно, будет сви¬
детельствовать о вкусе и любви к игре своего давно поза¬
бытого создателя даже тоща, коща мой юный партнер тоже
состарится, и увянет, и устанет от слов и суждений.
Моя жена в этой беседе не участвовала, не стоило сму¬
щать молодого человека. Но теперь, когда четверть часа
миновало, она появилась и подсела к нам, и под ее защитой
я, в продолжение всего разговора едва ли раскрывший рот,
произнес несколько слов, которые, вероятно, звучали успо¬
коительно и примиряюще.
Как ни охотно я распрощался с юношей и как ни беспо¬
лезно было бы продолжение нашей беседы, в глубине души
мне было жаль, что мне нечего дать и нечего противопо¬
ставить этому искренне ищущему человеку, кроме маски
усталого старца, которому давно уже неинтересно выслу¬
шивать суждения о его книгах и тем более запщщаться от
этих суждений. Я охотно подарил бы ему какую-нибудь
красивую вепщцу на память, чтобы хоть что-нибудь при¬
ятное осталось у него от этого часа, который сам я перво¬
начально воспринимал как нечто фатальное.
Прошел еще ряд дней и ночей, прежде чем рассеялось
то дурное настроение, в которое меня повергла эта встреча,
и я утешился мыслью, что упорное молчание старика и его
нежелание спорить послужит этому юноше, коща ему
вновь откроется Зао, поводом для столь же плодотворного
раздумья и медитации, как и всякое иное поведение, кото¬
рым я мог бы ответствовать на его призыв.
РОЖДЕСТВО С ДВУМЯ ДЕТСКИМИ ИСТОРИЯМИ
Когда кончился наш маленький тихий рождественский
праздник, еще до десяти часов вечера 24 декабря, я был
достаточно усталым, чтобы порадоваться ночи и постели, а
прежде всего тому, что впереди у нас было целых два дня
без почты и без газет. Наша ^льшая жилая комната, так
называемая библиотека, являла такую же картину беспо¬
рядка и измотанности, как наше внутреннее состояние, но
куда более веселую, ибо хотя праздновали мы только втро¬
ем, хозяин дома, хозяйка и кухарка, елочка с догоравшими
свечами, ворох цветной, золотой и серебряной бумаги и
лент, цветы на столах, новые книги, наваленные друг на
295
другат картины, акварели, литографии, гравюры, детские
рисунки и фотографии, то ровно, то устало и слишком на¬
клонно прислонившиеся к вазам, все-таки придавали ком¬
нате какую-то необычную, праздничную переполненность
и взволнованность, что-то от ярмарки, что-то от сокровищ¬
ницы, какое-то дыхание жизни, какой-то налет глупости,
ребячества, баловства. И сюда привходил воздух, столь же
беспорядочно и озорно перенасыщенный запахами, воздух,
где соседствовали и смешивались смола, воск, горелое пе¬
ченье, вино, цветы. Еще в этой комнате.и в этом часе ско¬
пились, как то подобает старикам, картины, звуки и запахи
многих, очень многих праздников прошедших лет, семьде¬
сят и больше раз после первой великой встречи с ним по¬
сещало меня Рождество, и если у моей жены было за пле¬
чами куда меньше лег и рождественских праздников, то за¬
то чувство чуждости, дальности, утраченности и невозвра-
тимости родины и защищенности было у нее острее, чем у
меня. Если в последние напряженные дни придумывание и
упаковка, получение и распаковка подарков, необходи¬
мость помнить о настоящих и ненастоящих обязательствах
(последние мстят за упущение часто неумолимее, чем пер¬
вые) да и вся лихорадочно-бурная деятельность рождест¬
венской поры в наше беспокойное время задавали уже не¬
легкую работу, то эта новая встреча с годами и праздника¬
ми многих десятилетий была еще более трудной задачей,
но по крайней мере настоящей, осмысленной, а настоящие
и осмысленные задачи наделены благословенной способно¬
стью не только требовать и поглощать, но также помогать
и подкреплять. А уж в цивилизации разваливающейся, за¬
болевшей отсутствием смысла и умирающей ни для отдель¬
ного человека, ни для сообществ нет иного лекарства, иной
пищи, иного источника силы продолжать жить, чем встреча
с тем, что наперекор всему придает нашему бытию, нашим
действиям смысл и нас оправдывает. И при воспоминании
о праздниках и обстоятельствах всей жизни, коща загля¬
дываешь в любимые, давно погасшие глаза, оказывается
все-таки, что существует какой-то смысл, какое-то единст¬
во, какая-то тайная сердцевина, вокруг которой мы, то
зная, то не зная о ней, кружили всю свою жизнь. От пах¬
нувших воском и медом кротких рождественских праздни¬
ков детства, в-еще целом и невредимом, как то казалось, в
нерушимом, не верившем, что его можно разрушить, мире,
через все перемены, кризисы, потрясения и образумляю-
296
щие уроки нашей частной жизни и нашей эпохи, мы про¬
несли и сохранили в себе некое ядро, некий смысл, некую
благодать, некую веру — не в какой-то там догмат церкви
или науки, а в существование некоей сердцевины, вокруг
которой даже находящаяся в опасности, даже поврежден¬
ная жизнь всегда может заново найти лад и порядок, веру
в то, что Бога можно достичь именно из этого сокровенного
ядра нашего естества, в совпадение этого центра с присут¬
ствием Бога. Ведь там, ще он присутствует, можно вынести
и безобразное, и с виду бессмысленное, ибо для него явле¬
ние и смысл нераздельно, для него — все смысл.
Темная елочка уже долго глуповато стояла на своем сто¬
лике, уже довольно давно горел трезвый электрический
свет, как каждый вечер, и тут мы увидели за окнами иной
род света. День был то ясный, то пасмурный, у склонов гор
за долиной озера висели порой продолговатые узкие обла¬
ка, все на одной высоте, они казались прочными и непод¬
вижными, но стоило взглянуть на них снова, как они уже
успевали исчезнуть или перестроиться, а в сумерки похоже
было, что в эту ночь небо от нас спрячет туман. Но пока
мы занимались своим праздником, елкой, свечами, подар¬
ками и своими все ближе наплывавшими воспоминаниями,
на дворе много чего произошло и свершилось. Почувствовав
это и погасив в комнате свет, мы увидели за окнами рас¬
кинувшийся в великой тишине донельзя прекрасный, таин¬
ственный мир. Узкая долина под нами была наполнена ту¬
маном, на поверхности которого играл бледный, но сильный
свет. Над этими клубами тумана поднимались заснеженные
холмы и горы, все они были освещены этим ровным, рав¬
номерно распределенным, но сильным светом, и везде го¬
лые деревья, леса, белоснежные скалы ложились рисунка¬
ми на белые доски, как нацарапанные острым пером буквы,
как немые иероглифы и арабески, о многом умалчивающие.
А вверху надо всем этим ходило волнами просвечиваемых
полной луной облаков белое, блестяще-опаловое, огромное
небо, беспокойное, залитое светом полной луны, которая то
исчезала, то появлялась между призрачно редеющими и
вновь сгущающимися пеленами, и, коща она отвоевывала
себе клок чистого неба, мы видели ее в ореоле лунной, с
эльфически холодным отливом радуги, и скользящие кра¬
ски повторялись в кромках пропускавших свет облаков.
Жемчужный и молочный тек и струился по небу этот чуд¬
ный свет, он тускнел, когда отражался внизу в тумане, он
297
набирал силу и шел на убыль, словно чередуя вдохи с вы¬
дохами.
Прежде чем лечь спать — лампа горела снова, — я еще
раз бросил взгляд на свой стол с дарами, и, как дети в сочель¬
ник берут иные подарки с собой в спальню, а то и в постель, я
тоже кое-что прихватил с собой, чтобы подержать в руках и
рассмотреть. Это были дары моих внуков: от Сибиллы*,
младшей, тряпка для пыли, от Зимели* маленький рисунок,
крестьянский дом со звездным небом над ним, от Кристины*
две цветные иллюстрации к моему рассказу о волке, смело
намалеванная картинка от Эвы*, а от ее десятилетнего брата
Сильвера* написанное на отцовской машинке письмо. Я взял
все это с собой в мастерскую, где еще раз прочел письмо
Сильвера, оставил все там и поднялся, борясь с тяжелой ус¬
талостью, по лестнице в свою спальню. Но я еще долго не мог
заснуть, пережитое и увиденное в этот вечер прогоняло сон,
и неотступные ряды образов кончались каждый раз письмом
моего внука, которое звучало так:
«Дорогой Нонно! Я сейчас хочу написать тебе одну ма¬
ленькую историю. Она называется «Для Боженьки». Пауль
был набожный мальчик. Он в школе уже много чего слышал
о Боженьке. Теперь он захотел тоже что-нибудь ему пода¬
рить. Пауль осмотрел все свои игрушки, но ему ничего не
понравилось. Вот наступил день рождения Пауля. Он по¬
лучил много игрушек, среди них талер. Тут он воскликнул:
«Талер я подарю Боженьке». Пауль сказал: «Я выйду в по¬
ле, там хорошее место, там Боженька увидит его и возь¬
мет». Пауль пошел в поле. Придя на поле, Пауль увидел
какую-то старушку, которая опиралась на палку. Ему стало
грустно, и он отдал, ей талер. Пауль сказал: «Вообще-то он
был для Боженьки». Большой привет от Сильвера Гессе».
В тот вечер мне не удалось воскресить воспоминание,
которое подсказывал мне рассказ внука. Лишь на другой
день оно пришло само собой. Я вспомнил: в детстве, в том
же возрасте, в каком был сейчас мой внук, я тоже как-то
написал историю, чтобы подарить ее на день рождения
своей младшей сестре, это был, кроме нескольких мальчи¬
шеских стихотворений, единственный поэтический опыт
поры моего детства, который сохранился поныне. Десятки
лет я вообще не вспоминал о нем, но несколько лет назад,
не помню уж по какому поводу, этот детский опыт вернулся
298 .
ко мне, вероятно, благодаря одной из сестер. И хотя я по¬
мнил его лишь смутно, мне показалось, что у него есть ка¬
кое-то сходство или родство с историей, которую сочинил
для меня больше чем шестьдесят лет спустя мой внук. Но
хоть я и точно знал, что эта детская история находится сре¬
ди моих бумаг, как можно было ее найти? Везде битком
набитые ящики, перевязанные папки и кучи писем с над¬
писями, которые уже не соответствовали действительности
или стали неудобочитаемы, везде бумага с написанным или
напечатанным за годы и десятилетия, хранимая потому,
что выбросить не решился, хранимая из пиетета, по добро¬
совестности, от недостатка удали и решительности, из-за
переоценки написанного, которое могло бы когда-нибудь
послужить «ценным материалом» для каких-нибудь новых
работ, хранимая и похороненная так, как хранят одинокие
старые дамы в шкафах и на чердаках коробки и коробочки
с письмами, засушенными цветами, отрезанными прядями
детских волос. Бесконечное множество всякой всячины, да¬
же если сжигаешь центнеры бумаги за год, скапливается
вокруг литератора, который редко менял местожительство
й достиг почтенного возраста.
Но я загорелся желанием вновь увидеть этот рассказ,
хотя бы лишь затем, чтобы сравнить его с рассказом моего
коллеги-однолетки Сильвера или, может быть, переписать
и послать как ответный дар. Я целый день мучился этим и
мучил жену и наконец действительно нашел нужное в са¬
мом невероятном месте. Эта история написана в 1887 году
в Кальве и называется:
Два брата
(Марулле)
Жил-был отец, у него было два сына. Один был краси¬
вый и сильный, другой маленький и увечный, поэтому
большой презирал малыша. Это совсем не нравилось млад¬
шему, и он решил уйти в дальние-дальние края. Пройдя
некоторое расстояние, он встретил возницу, и, когда спро¬
сил его, куда тот едет, возница сказал, что должен отвезти
сокровища гномов в стеклянную гору. Малыш спросил его,
какую оплату он получит. Возница ответил, что получит
несколько алмазов. Тогда малышу захотелось тоже пойти
к гномам. Поэтому он спросил возницу, думает ли тот, что
299
гномы примут его. Возница сказал, что не знает этого* но
взял малыша с собой. Наконец они приехали к стеклянной
горе, и надсмотрщик гномов щедро вознаградил возницу за
труд и отпустил его. Тут он заметил малыша и спросил, что
ему угодно. Малыш рассказал ему все. Гномы с радостью
приняли его, и он зажил чудесной жизнью.
Теперь поглядим на другого брата. Ему долго жилось до¬
ма очень хорошо. Но коща он стал старше, он пошел на
военную службу и попал на войну. Он был ранен в правого
руку и должен был просить милостыню. Так несчастный
пришел однажды к стеклянной горе и увидел там какого-то
калеку, но не догадался, что это его брат. А тот сразу узнал
его и спросил, что ему у^но. «О сударь, я буду рад и корке
хлеба, так я голоден». «Пойдем со мной», — сказал мальпп
и пошел в пещеру, стены которой сверкали сплошными ал¬
мазами. «Можешь взять себе горсть, если добудешь эти
камни без чьей-либо помощи», — сказал калека. Нищий
попытался своей единственной здоровой рукой отломать
кусочек от алмазной горы, но это, конечно, не вышло. Тог¬
да малыш сказал: «Может быть, у тебя ecib брат, я позво¬
лю, чтобы он помог тебе». Тут нищий стал плакать и ска¬
зал: «Да, был у меня коща-то брат, маленький и увечный,
как вы, но очень добродушный и ласковый, он бы мне, ко¬
нечно, помог, но я бессердечно оттолкнул его от себя и дав¬
но уже ничего не знаю о нем». Тоща малыш сказал: «Да я
же твой младший брат, не надо тебе терпеть нужду, оста¬
вайся у меня».
Что между моей сказкой и сказкой моего внука и кол¬
леги есть какое-то сходство или родство, это едва ли за¬
блуждение деда.‘Средней руки психолог истолковал бы оба
детских опыта примерно так: каждого из обоих рассказчи¬
ков следует идентифицировать с героем его истории, и оба,
и набожный мальчик Пауль, и маленький калека, приду¬
мывают себе двойное исполнение желаний, а именно сна¬
чала получение богатого подарка, будь то игрушки и талер
или целая гора драгоценных камней и уютная жизнь у гно¬
мов, себе подобных, стало быть, вдали от больших, взрос¬
лых, нормальных. Но сверх того каждый сказочник приду¬
мывает себе и некую моральную славу, некий венец добро¬
детели, ибо из сострадания отдает свое сокровище бедному
(чего в действительности ни десятилетний старичок, ни де¬
сятилетний мальчик не сделали бы). Так оно, наверно, и
300
есть, я ничего не имею против. Но мне кажется также, что
исполнение желаний происходит в сфере воображаемого и
несерьезного, о себе я по крайней мере могу сказать, что в
возрасте десяти лет я не был ни капиталистом, ни ювели¬
ром и безусловно еще ни разу не видел алмаза, зная, что
это какая-то драгоценность. Зато мне были знакомы многие
гриммовские сказки, и, может быть, Аладдин с волшебной
лампой и гора из драгоценных камней была для ребенка не
столько представлением о богатстве, сколько мечтой о не¬
виданной красоте и волшебной силе. И еще заметил я на
сей раз, что в моей сказке не фигурирует Боженька, хотя
он для меня, наверно, был чем-то более естественным и ре¬
альным, чем для внука, который заинтересовался им толь¬
ко «в школе».
Жаль, что жизнь так коротка и до такой степени забита
текущими, мнимо важными и непременными обязанностя¬
ми и задачами; иногда утром с трудом решаешься встать с
постели, ибо знаешь, что ^льшой письменный стол еще за¬
вален неразобранной корреспонденцией, а за день почта
сделает эту кучу еще выше. А то бы можно было еще вдо¬
сталь поиграть с обеими детскими рукописями, и позаба¬
виться, и призадуматься. По-моему, например, нет ничего
занимательней, чем сравнительное исследование стиля и
синтаксиса о^их опытов. Но для таких славных игр наша
жизнь, увы, ^достаточно длинна. Да и не следовало бы
анализом и критикой, одобрением или порицанием оказы¬
вать какое-то, быть может, влияние на развитие того из
двух авторов, который моложе другого на шестьдесят три
года. Ведь из него, глядишь, может еще что-то выйти, а из
старика — нет.
ПИСЬМА ПО КРУГУ
AUS ^RUNDBRIEFEi
ТАЙНЫ
Ф
I о и дело писатель — да и всякий, наверно, другой
X человек — испытывает потребность отвернуться на
время от упрощений, систем, абстракций и прочей лжи или
полулжи и увидеть мир как он есть, то есть хоть и не слож¬
ной, но, в общем-то, обозримой и ясной системой понятий,
а дремучим лесом прекрасных и ужасных, все новых, со¬
вершенно непонятных тайн, каковым он и в самом деле яв¬
ляется. Мы каждый день, например, видим так называемые
мировые события в газетном изображении — плоскими,
обозримыми, сведенными к двум измерениям, будь то на¬
пряженность между Востоком и Западом или исследование
японского военного потенциала, кривая каких-то показате¬
лей или заверения какого-нибудь министра, что чудовищ¬
ная динамичность и опасность новейшего оружия как раз и
заставят отказаться от этого оружия или перековать его на
орала, — и, хотя мы знаем, что все это никакая не реаль¬
ность, а частью ложь, частью умелое жонглирование занят¬
ным, выдуманным, безответственным сюрреалистическим
языком, все же эта ежедневно повторяемая картина мира,
даже если она со дня на день вступает в самое грубое про¬
тиворечие с самой собой, доставляет нам какое-то удоволь¬
ствие или приносит какоегто успокоение, ибо минуту-дру-
гую мир кажется и впрямь плоским, обозримым, лишенным
тайн, легко поддающимся любому объяснению, которое от¬
вечает желаниям подписчика. А ведь газета только один
пример из тысячи, не она придумала сделать мир нереаль¬
ным и упразднить тайны, и не только она практикует это
и этим пользуется. Нет, подобно тому как подписчик, про¬
бежав газету, мгновение-другое наслаждается иллюзией,
что на ближайшие сутки он в курсе мировых событий и что,
в сущности, ничего не случилось, кроме того что отчасти
предсказывали уже в номере за прошлый четверг умные ре¬
дакторы, — подобно этому каждый из нас ежедневно и еже¬
305
часно лжет, перекрашивая дремучий лес тайн в красивый
сад или в плоскую, обозримую географическую карту, —
моралист с помопц>ю своих максим, верующий с помощью
своей веры, инженер с помощью своей счетной линейки,
художник с помощью своей палитры, а писатель с помощью
своих прототипов и идеалов, — и каждый из нас более или
менее спокойно продолжает жить в своем иллюзорном мире
и на своей географической карте, пока из-за какой-нибудь
катастрофы, из-за какого-нибудь страшного озарения на
него не крушится вдруг ^не схватит его безвыходной,
мертвой хваткой чудовищная, страшная своей красотой,
страшная своим ужасом реальность. Это состояние, это оза¬
рение или пробуждение, эта жизнь в голой опасности ни¬
когда не длится долго, оно несет в себе смерть; охватывая
человека и бросая его в страшный водоворот, оно длится
каждый раз ровно столько времени, сколько способен вы¬
нести его человек, а потом кончается либо смертью, либо
бегством без оглядки, бегством назад, к нереальному, снос¬
ному, упорядоченному, обозримому. В этой сносной, уме¬
ренной, упорядоченной зоне понятий, систем, догм, алле¬
горий мы проводим девять десятых нашей жизни. Так, до¬
вольно спокойно и размеренно, хотя, может быть, и ругаясь
вовсю, живет в своем домике или на своем этаже маленький
человек, и есть над ним крыша, а под ним пол, да еще есть
под ним знание о прошлом, о его происхождении, о его
предках, которые почти все были такими же и жили так
же, как он сам, а кроме того, над, ним есть еще некий по¬
рядок, государство, закон, право, армия — пока вдруг все
это в один миг не исчезнет, не рухнет, пока крвппа и пол
не превратятся в ipoM и пламя, порядок и право — в гибель
и хаос, покой и уют — в удушающую угрозу смерти, пока
весь такой исконный, такой почтенный, такой надежный
иллюзорный мир не взорвется пламенем и осколками и ни¬
чего не останется, кроме чудовищного, кроме реальности.
Это чудовищное и непостижное, это страшное и неотра¬
зимо убедительное в своей реальности можно назвать бо¬
гом, но от названия оно не становится ни более понятным,
ни более обьяснимым, ни более сносным. Познание реаль¬
ности, всегда временное, может быть вызвано бомбежкой в
войну, то есть тем оружием, которое, по словам иных ми¬
нистров, именно своей ужасностью заставит нас коща-ни-
будь перековать его на орала: для определенного человека
часто достаточно бывает болезни, несчастья, случившегося
306
3 его узком кругу, а порой и просто какого-то временного
расположения духа, пробуждения после тяжелого кошмара,
бессонной ночи, чтобы поставить его перед неумолимым и
заставить его на какое-то время усомниться во всяком по¬
рядке, во всяком уюте, во всякой безопасности, во всякой
вере, во всяком знании.
Довольно об этом, любому это знакомо, любой знает,
каково это, если он хоть раз-другой подобное испытал и су¬
мел, как он полагает, благополучно забыть свой опыт. Но
этот опыт никоща не забывается, и, если сознание прикры¬
вает, если философия и вера лживо отрицают его, а мозг
от него избавляется, он затаивается в крови, в печени, в
большом пальце на ноге и однажды непременно скажется
во всей своей свежести и незабываемости. Я не хочу в даль¬
нейшем философствовать о реальности, о дремучем лесе
тайн, о божественном и прочих наименованиях этого опы¬
та, это профессия других людей, ибо тонкому, заслужива¬
ющему всяческого восхищения человеческому уму удалось
и это: сделать из просто-напросто непостижимого, уникаль¬
ного, демонического, невыносимого философию с система¬
ми, профессорами и авторами. Тут я не компетентен, я да¬
же не заставил себя хорошенько почитать специалистов по
загадке жизни. Я хочу лишь, поскольку так уж складыва¬
ется, поскольку время к этому побуждает, без всякой тен¬
денции и без всякого порядка, на свой профессиональный
лад набросать кое-что об отношении писателя к экзистен¬
циальной лжи, а также о пробивающихся сквозь стены этой
лжи зарницах тайны. Прибавлю: писатель как таковой ни¬
сколько не ближе к тайне мира, чем всякий другой человек,
он, как и прочие, не может жить и работать, не имея почвы
под ногами и крыши над головой и не натянув над своей
постелью густой сетки систем, условностей, абстракций,
упрощений и отношений. Он тоже, в точности как газета,
создает себе из гремящего мрака мира некий порядок, не¬
кую географическую карту, предпочитая жить на плоско¬
сти, а не в многомерном пространстве, слушать музыку, а
не взрывы бомб, и преподносит свои писания читателям
обычно с тщательно сохраняемой иллюзией, будто сущест¬
вуют норма, язык, система, позволяющие ему сообщать
свои мысли и впечатления так, чтобы люди могли в какой-
то мере сопережить их и действительно усвоить. Обычно он
поступает, как все, делает свое дело как можно лучше и
остерегается задумываться о том, далеко ли уйдешь по по¬
307
чве, на которой он стоит, о том, в какой степени читатели
действительно могут воспринять, пережить, разделить его
мысли и впечатления, о том, насколько вера, мировоспри¬
ятие, нравственность, мышление читателя похожи на его
веру, мировосприятие, нравственность и мышление.
Недавно один молодой человек обратился ко мне в пись¬
ме как к «человеку старому и мудрому». «Я доверяю Вам, —
пишет он, — зная, что Вы человек старый и мудрый». У
меня была как раз более или менее светлая минута, и я не
просто схватил обпщй смысл письма, очень похожего, кста¬
ти сказать, на сотни других писем от других людей, а стал
выхватывать в разных местах отдельные фразы и слова,
внимательно вглядываться в них и вникать в их суть. «Ста¬
рый и мудрый» написано было там, и это могло, конечно,
рассмешить усталого и ставшего ворчливым старого чело¬
века, который не раз за свою долгую и богатую жизнь счи¬
тал себя куда более близким к мудрости, чем считает те¬
перь, в своем потрепанном и малоприятном состояний. Ста¬
рый — да, я был человеком старым, это верно, старым и
изнуренным, разочарованным и усталым. А все-таки ведь
слово «старый» могло выражать и совсем другое! Если речь
шла о старых преданиях, старых домах и городах, старых
деревьях, старызС содружествах, старых культурах, то в
слове этом не было решительно ничего обесценивающего,
насмешливого или презрительного. Таким образом, и на ка¬
чества старости я мог притязать только отчасти; из многих
значений этого слова я был склонен выбрать и применить
к себе лишь отрицательные. А для моего молодого коррес¬
пондента слово «старый» могло иметь, пожалуй, и живо¬
писный смысл, подразумевать нечто седобородое, кротко
.улыбающееся, отчасти трогательное, отчасти почтенное;
для меня по крайней мере оно всеща имело этот оттенок
во времена, когда я сам еще не был стар. Что ж, это слово
можно было принять, понять и признать уместным для об¬
ращения.
Но слово «мудрый»! Право, что это, собственно, значи¬
ло? Если оно не значило ничего, имело какой-то обпщй,
туманный смысл, было расхожим эпитетом, фразой, тоща
его можно было вообще пропустить. А если оно действи¬
тельно что-то значило, как проникнуть мне в этот смысл?
Я вспомнил один старый метод, который часто применял, —
метод вольных ассоциаций. Я немного отдохнул, прошелся
308
по комнате, еще раз произнес про себя слово «мудрый» и
стал ждать, чтб первым делом придет мне на ум. И вот на
ум пришло мне другое слово, слово «Сократ». Это было уже
кое-что, это было не просто слово, а имя, а за именем сто¬
яла не абстракция, за ним стоял образ, стоял человек. Ка¬
кое же отношение имело жидкое понятие «мудрость» к соч¬
ному, очень реальному имени Сократ? Это было легко уста¬
новить. Мудрость была тем свойством, которое преподава¬
тели школ и высших учебных заведений, видные деятели,
выступавшие перед битком набитыми залами, авторы пере¬
довиц и фельетонов прежде всего приписывали Сократу,
как только упоминали о нем. Мудрый Сократ. Мудрость
Сократа, или, как сказал бы в своем выступлении видный
деятель, сократовская мудрость. Об этой мудрости больше
нечего было сказать. Но стоило услышать эту фразу, как
заявляла о себе некая реальность, некая истина — подлин¬
ный Сократ, фигура, несмотря на всю драпировку из ле¬
генд, довольно мощная, довольно убедительная. И эта фи¬
гура, этот атлетически сложенный старик с добрым некра¬
сивым лицом дал совершенно недвусмысленную справку о
собственной мудрости, энергично и решительно заявив, что
ничего ровным счетом не знает и ни на какую мудрость не
притязает.
Тут я снова сбился с прямого пути и очутился вблизи
реальностей и тайн. Так уж получалось: стоило тебе под¬
даться соблазну принимать мысли и слова действительно
всерьез, как ты сразу оказывался в пустоте, в неопределен¬
ности, во мраке. Если мир ученых, краснобаев, декламато¬
ров, кафедр и эссе был прав, то Сократ был полным невеж¬
дой, человеком, который, во-первых, ничего не знал и не
верил ни в какое знание и возможность знания, а во-вто-
рых, именно это незнание и это неверие в знание превратил
в свою силу, в свое орудие постижения действительности.
И вот я, старый мудрый человек, оказался перед старым
немудрым Сократом и должен был защищаться или сты¬
диться. Причин стыдиться было более чем достаточно; ведь,
несмотря ни на какие уловки и увертки, я же прекрасно
знал, что юнец, который обратился ко мне как к мудрецу,
сделал это вовсе не по собственной дурости и не по юноше¬
ской простоте, что я дал ему для этого повод, совратил его
к этому, почти уполномочил на это множеством своих по¬
этических слов, где проглядывает что-то похожее на опыт
309
и работу ума, на учение и стариковскую мудрость, и хотя
ббльшую часть своих поэтически сформулированных «муд¬
рых мыслей» я потом, мне кажется, брал в кавычки, под¬
вергал сомнению, даже опрокидывал и отменял, но в целом
я всю свою жизнь больше утверждал, чем отрицал, больше
соглашался или помалкивал,* чем боролся, и достаточно ча¬
сто оказывал почтение традициям духа, веры, языка и обы¬
чая. Правда, в моих писаниях кое-где ясно чувствовались
зарницы, чувствовались разрывы в облаках и в драпиров¬
ках привычных икон, разрывы, за которыми мелькало что-
то угрожающе апокалипсическое, кое-где давалось понять,
что надежнейшее имущество человека — это его бедность,
а истинный хлеб человека — это его голод; но, в общем-то,
я точно так же, как все прочие люди, обращался охотнее к
прекрасным мирам форм и к традициям, предпочитая сады
сонат, фуг, симфоний всем апокалипсическим заревам, а
волшебные игры и утехи языка всем событиям, при кото¬
рых язык пасует и умолкает, потому что в какой-то страш¬
но прекрасный, то ли блаженный, то ли смертельный миг
на нас глядит несказанное, немыслимое нутро мира, ощу¬
тить которое нам дано только как тайну и рану. Если юный
автор письма увидел во мне не ничего не знающего Сокра¬
та, а мудреца в профессорско-фельетонном понимании, то,
вероятно, я дал ему право на это.
И все же осталось невыясненным, что в представлении
этого юноши о мудрости — штамп и чтб идет от жизни.
Может быть, его старый мудрец — это просто театральный
персонаж, скорее даже бутафория, а может быть, и ему хо¬
рошо знаком тот ряд ассоциаций со словом «мудрый», ко¬
торый я перебрал. Может быть, и он при слове «мудрый»
первым делом невольно подумал о Сократе, чтобы лишь по¬
том с удивлением и смущением констатировать, что ведь
Сократ-то как раз и не притязал ни на какую мудрость, что
он-то ни о какой мудрости и знать не хотел.
Исследование слов «старый» и «мудрый» принесло мне,
таким образом, мало пользы. Чтобы как-то справиться с
письмом, я пошел противоположным путем, пытаясь найти
разъяснение не в каких-то отдельных словах, а в содержа¬
нии, в главной причине, побудившей этого молодого челове¬
ка вообще написать мне. Причиной этой был вопрос, вопрос
как бы очень простой, а значит, как бы и требующий просто¬
го ответа. Вопрос гласил: «Имеет ли жизнь смысл и не лучше
310
ли пустить себе пулю в лоб?» На первый взгляд кажется, что
этот вопрос допускает не очень много ответов. Я мог отве¬
тить: нет, дорогой, жизнь не имеет смысла и лучше в самом
деле... и т.д. Или я мог сказать: жизнь, дорогой мой, конечно,
имеет смысл и о пуле в лоб не может бьиъ и речи. Или же: хо¬
тя жизнь и не имеет смысла, стреляться из-за этого все же не
надо. Или: хотя у жизни и есть смысл, но отдать ему должное
и даже только узнать его так трудно, что лучше, пожалуй, и
правда пустить себе пулю в лоб и т.д.
Такие примерно на первый взгляд возможны ответы на
вопрос этого мальчика. Но стоит лишь мне поискать еще
какие-то возможности, как ответов оказывается не четыре,
не восемь, а сто и тысяча. И все же, готов поклясться, для
автора этого письма есть, в сущности, только один ответ,
только один, выход на сво^ду, только одно спасение от ада
его беды.
Найти этот единственный ответ не помогут мне никакая
мудрость и никакая старость. Вопрос, поставленный в пись¬
ме, повергает меня в полнейший мрак, ибо та мудрость, ка¬
кой я располагаю, да и та мудрость, какой располагают ку¬
да старшие и более опытные пастыри, вполне годится для
книг и проповедей, для лекций и статей, но не для этого
отдельного, реального случая, не для этого искреннего па¬
циента, который, хоть он и очень переоценивает старость
и мудрость, озабочен всерьез и выбивает у меня из рук лю¬
бое оружие, побивает любые мои уловки простыми слова¬
ми: «Я доверяю Вам».
Как же ответить на это письмо с таким детским и в то
же время таким серьезным вопросом?
От этого письма на меня пахнуло чем-то таким, в нем
блеснуло что-то такое, что я ощущаю и воспринимаю ^льше
нервами, чем разумом, больше желудком или нутром, чем
опьпом и мудростью: дыхание реальности, молния в разрыве
туч, оклик из мира по ту сторону условностей и успокоений;
тот зов, когда остается либо сжаться и промолчать, либо
внять и повиноваться ему. Может быть, у меня еще есть вы¬
бор, может быть, я могу еще сказать себе: ведь этому бедному
мальчику я все равно не noMoiy, я ведь знаю не больше, чем
он, положу-ка я это письмо в самый низ под стопку других
писем и полусознательно постараюсь, чтобы оно оставалось
внизу, забылось и постепенно исчезло. Но, думая так, я уже
знаю: забыть его я смогу только тоща, коща действительно
отвечу на него, и отвечу правильно. Это знание, эта убеж¬
311
денность идут не от опыта и мудрости, они идут от силы зова,
Ът встречи с действительностью. Значит, сила, из которой я
почерпну ответ, идет уже не от меня, не от опыта, не от ума,
не от упражнения, не от гуманности, а от самой действитель¬
ности, от крошечного осколка действительности, который
принесло мне это письмо. Сила, стало быть, которая ответит
на это письмо, заключена в самом письме, оно само ответит
на себя, юноша сам даст ответ себе. Если он из меня, из кам¬
ня, из старика и мудреца, высечет искру, то родят эту искру
исключительно его молот, исключительно его удар, его нуж¬
да, его сила.
Не стану утаивать, что подобные письма, с этими же
самыми вопросами, я уже очень много раз получал и читал,
иноща отвечал на них, иноща не отвечал. Только сила
нужды не всеща одинакова, такие вопросы в какой-то миг
ставят не только сильные и чистые души, обращаются ко
мне и богатые юноши со своими полубедами и со своей по-
луискренностью. Многие уже писали мне, что, мол, реше¬
ние их судьбы зависит от меня: если я скажу «дз»у он вы¬
здоровеет, а скажу «нет» — умрет. И как ни сильно это
звучало, я чувствовал тут апелляцию к моему тщеславию,
к собственной моей слабости и приходил к выводу: этот кор¬
респондент не выздоровеет от моего «да» и не умрет от мо¬
его «нет», а будет и впредь культивировать свою проблема¬
тику, будет, наверно, обращаться со своим вопросом и ко
многим другим так называемым старым и мудрым и, не¬
множко утешаясь, немножко забавляясь полученными от¬
ветами, заведет папку, чтобы коллекционировать их.
Если от своего сегодняшнего корреспондента я не жду
этого, если принимаю его всерьез, если отвечаю на его до¬
верие и хочу помочь ему, то происходит все это не благо¬
даря мне, а благодаря ему, его сила водит моим пером, его
действительность прорывается сквозь мою расхожую стари¬
ковскую мудрость, его чистота заставляет и меня быть че¬
стным — не ради какой-то там добродетели, любви к ближ-
, нему, гуманности, а ради жизни и действительности, по¬
добно тому как, выдохнув воздух, надо вскоре, несмотря ни
на какие умыслы и мировоззрения, снова вдохнуть его. Мы
не делаем этого, это происходит с нами непроизвольно.
И если сейчас, лицом к лицу с бедой, озаренный заревом
подлинной жизни, с трудом перенося ее разреженгай воз¬
дух, я вынужден действовать без промедления, если я сей¬
час еще раз слышу слова, слышу крик этого письма, я не
312
должен больше прот|1вопоставлять ему какие-то мысли и
сомнения, подвергать его исследованию и оценке, а должен
последовать его зову, должен откликнуться на него не со¬
ветом, не своим знанием, а тем единственным, что может
помочь, а именно ответом, который хочет получить этот
юноша, ответом, который ему достаточно лишь услышать
от другого, чтобы почувствовать, что это звучит его собст¬
венный ответ, его собственная необходимость.
Многое требуется, чтобы письмо, чтобы вопрос незнако¬
мого человека действительно достигли адресата, ведь автор
письма, при всей подлинности и остроте своей нужды, мо¬
жет выражаться расхожими формулами. Он спрашивает:
«Имеет ли жизнь какой-то смысл?» — и это звучит неясно
и глуповато, отдает мальчишеской мировой скорбью. Но
он-то имеет в виду не жизнь вообще, его ведь заботят не
философия, не догмы, не права человека, он имеет в виду
исключительно свою жизнь и отнюдь не ждет от моей мни¬
мой мудрости какого-то поучения, какого-то указана, ка¬
сающегося искусства придавать смысл жизни: нет, он хо¬
чет, чтобы его настоящую беду увидел настоящий человек,
чтобы он на миг разделил ее и чтобы она тем самым была
на сей раз преодолена. И если я окажу ему эту помощь, то
помог не я, псмлог^а подлинность его беды, на час отнявшая
у меня, старого и к1удрого, старость и мудрость и обдавшая
меня обжигающе ледяной волной действительности.
Довольно об этх>м письме. При чтении читательских пи¬
сем писателя часто занимают вопросы такого рода: о чем,
собственно, кроме чистого удовольствия от самого процесса
писания, думал я, коща писал свои книги, чего хотел, что
имел в виду, чего добивался? И еще такого рода: какая доля
того, что ты имел в виду и к чему стремился своей работой,
будет одобрена или отвергнута читателем, больше того, ка¬
кую долю этч)го читатель вообще заметит и примет к све¬
дению? И такой вопрос: имеет ли то, что хочет сказать пи¬
сатель своими сочинениями, его стремления, его этика, его
самокритика, его мораль вообще какое-либо отношение к
воздействию, оказываемому его книгами? По моему опы¬
ту — весьма малое. Даже вопрос, для художника обычно
важнейший, вопрос об эстетической ценности его работы,^
об объективно прекрасном, содержащемся в ней, не шрает'
на самом» деле большой роли. Книга может не обладать ни¬
какой эстетической и поэтической ценностью и тем не ме¬
нее оказать огромное воздействие. Такое воздействие часто
313
кажется естественным и поддающимся вычислению, изве¬
стным заранее и вероятным. Но на самом деле все проис¬
ходящее иррационально и беззаконно и в этом случае.
Возвращаюсь еще раз к столь притягательной для моло¬
дежи теме самоубийства. Я не раз получал от читателей
письма с рассказом, что вот, мол, они как раз собирались
покончить с собой, но тут им в руки попалась эта книга,
она освободила и просветила их, и теперь дело идет на лад.
Но об этой же, столь целительной книге отец одного само¬
убийцы, тяжко обвиняя меня, писал мне, что моя трижды
проклятая книга была среди тех, которые лежали на ноч¬
ном столике его бедного сына в последние его дни, и что
только она виновата в случившемся. Я мог, правда, возра¬
зить этому возмущенному отцу, что он слишком легко сва¬
ливает с себя ответственность за своего сына на какую-то
книгу, но забыть то отцовское письмо мне удалось не скоро,
да и видно, как я его «забыл».
Во времена, когда Германия достигла чуть ли не пика
своей национальной лихорадки, одна женщина написала
мне из Берлина по поводу другой моей книги, что такую
позорную книжонку надо сжечь, и она об этом позаботится,
и каждая немецкая мать сумеет уберечь своих сыновей от
этой книги. Если у этой женщины действительно были сы¬
новья, она, несомненно, уберегла их от знакомства с моей
позорной книжонкой, но от роли опустошителей половины
мира, замаранных кровью безоружных жертв, и от всего
прочего она не уберегла их. Знаменательно то, что почти
тоща же другая немецкая женщина написала мне об этой
же книге, что, будь у нее сыновья, она дала бы им ее про¬
читать, чтобы они научились смотреть на жизнь и на лю¬
бовь глазами моей книги. Но коща я писал свою книгу, я
думать не думал ни о том, чтобы портить молодых людей,
ни о том, чтобы учить молодых людей жить.
Заботой и мукой писателя может стать нечто совсем
другое, о чем ни один читатель вообще, наверно, не думает,
а именно вопрос: зачем мне, как бы наперекор собственным
же первоначальным чувствам, выставлять напоказ свои со¬
здания, своих любимых, доставляющих мне радость и тре¬
воги детей, сотворенных из лучшего вещества моей жизни,
и смотреть, как 01ш выходят на рынок, как их переоцени¬
вают и недооценивают, хвалят и хулят, чтят или оплевы¬
вают? Почему я не могу оставить их при себе, показать раз¬
ве что кому-нибудь из друзей, не допустить, чтобы их пуб¬
314
ликовали — во всяком случае, до моей смерти? Желание
ли славы, тщеславие ли, агрессивность или бессознательное
удовольствие быть предметом нападок — что заставляло
меня снова и снова посылать своих любимых детей в мир,
обрекая их на всякие недоразумения, на всякие случайно¬
сти, на произвол всякой дикости?
Это вопрос, от которого никакому художнику никогда
полностью не уйти. Ведь мир хоть и платит нам за наши
творения, иногда даже сверх меры, но он же не платит нам
жизнью, душой, счастьем, сутью, а платит тем, что он мо¬
жет дать, — деньгами, почестями, включением в список
выдающихся деятелей. Да, возможны самые невероятные
ответы мира на работу художника. Например, такой: ху¬
дожник работает для народа, являющегося его естествен¬
ным полем деятельности и его естественным рынком, а на¬
род этот обрекает доверенный ему труд на гибель, отказы¬
вает художнику в признании и куске хлеба. Вдруг об этом
вспоминает совсем другой, чужой народ и дает разочаро¬
ванному то, что он более или менее заслужил: признание
и хлеб. В тот же миг народ, которому этот труд предназна¬
чался и предлагался, начинает всячески приветствовать
этого художника, радуясь, что так отмечен человек, вы¬
шедший из его среды. И это отнюдь еще не самое порази¬
тельное из того, что может произойти между художником
и народом.
Мало толку грустить о том, чего изменить нельзя, и го¬
ревать о потерянной невинности, но все же это случается,
по крайней мере с писателем это порой бывает. И мне очень
сладостна мысль, будто с помощью волшебства я могу пре¬
вратить свои сочинения опять в свою частную собствен¬
ность и радоваться им, как какой-то неведомый старичок-
с-ноготок. В отношениях между художником и миром что-
то не в порядке, даже мир это иногда чувствует. Как же
художнику не чувствовать этого, да еще гораздо сильнее?
Даже если он пользуется успехом, какое-то разочарование
неизбежно. Художник сожалеет о том, что он отдал свое
произведение миру, возникает какая-то горечь от того, что
он предал нечто тайное, любимое и невинное, что уже в
юности слышалось ему во многих любимых произведениях,
и сильнее всего в одной маленькой гриммовской сказке, в
одной из «жабьих» сказок.
315
Девочка-сирота сидела у городской стены и пряла; вдруг
она увидела, что из отверстия в низу стены вышла жаба.
Девочка быстро расстелила рядом с собой свой синий шел-
ковый платок, а жабы очень любят такие платки, это един¬
ственная приманка для них. Увидев это, жаба тотчас же
повернула назад, возвратилась и принесла маленькую зо¬
лотую корону, положила ее на платок и снова ушла. Де¬
вочка взяла эту корону, она была из тончайшего золота и
вся сверкала. Вскоре жаба вернулась во второй раз. Но, не
увидев короны, она подползла к стене, стала биться об нее
головой и билась сколько было сил, пока наконец не упала
мертвой. Если бы девочка не взяла короны, жаба, наверно,
принесла бы из пещеры еще какие-нибудь свои сокровища.
НОЧНЫЕ ИГРЫ
Уже несколько десятков , лет прошло с тех пор, как я
приобрел известное умение вспоминать свои ночные сны,
мысленно воспроизводить их, а порой даже и записывать и
по изученным тогда методам доискиваться до их смысла
или хотя бы прослеживать их и прислушиваться к ним на¬
столько, чтобы извлечь из этого какое-то предупреждение,
какое-то обострение инстинкта, какое-то предостережение
или ободрение, как коща-то, но, во всяком случае,
ббльшую близость с областью снов, лучшую связь между
сознательным и бессознательным, чем та, какая бывает
обычно. Знакомство с некоторыми психоаналитическими
книгами и с самой практикой психоанализа, выпавшее мне
на долю, было не просто и не только неким сильным впе¬
чатлением, это была встреча с реальными силами.
Но то, что происходит и с самым энергичным стремле¬
нием к знанию, и с самыми гениальными, самыми захва¬
тывающими уроками, которые дают люди или книги, про¬
изошло с годами и с этим приобщением к миру сновидений
и бессознательного: жизнь шла своим чередом, она ставила
все новые требования и вопросы, потрясающее впечатление
той первой встречи теряло новизну, переставало притязать
на всевластие, этим событием в его целостности, психоана¬
лизом как самоцелью нельзя было заниматься все дальше
и дальше, оно вошло в общий ряд, а частично забылось или
померкло за новыми требованиями жизни, хотя и не совсем
316
утратило свою силу, свою тихую действенность — так в
жизни молодого человека первое чтение Гёльдерлина, Гёте,
Ницше, первое знакомство с другим полом, первый взвол¬
нованный отклик на социальные и политические призывы
уходят коща-то в прошлое и согласуются с другим нажитым
опытом.
С тех пор я состарился, и, хотя способность отзываться
на сны, а порой следовать их мягкому наставлению никоща
полностью не покидала меня, жизнь снов никоща больше
не приобретала той настоятельности» насущности, важно¬
сти, какую она коща-то, бывало, имела. С тех пор времена,
коща я запоминал свои сны, сменялись у меня периодами,
коща они наутро бесследно исчезали из памяти. Но то и
дело сны поражали меня, причем чужие не меньше, чем
мои собственные, неутомимостью и неисчерпаемостью их
творческой игры, их фантазии, их и ребяческой, и в то же
время умной комбинаторикой, их часто восхитительным
юмором.
Известная близость с миром снов и частые размышления
о художественной стороне их искусства (которой ни психо¬
анализ, ни искусство вообще пока еще приблизительно не
поняли и даже не заметили) оказали на меня влияние как
на художника. Я всеща любил игривость в искусстве и уже
в детстве и юности часто с большим удовольствием, обычно
для самого себя, занимался сюрреалистическим сочини¬
тельством, занимаюсь им и сегодня, например в бессонные
утренние часы, правда не записывая этих похожих на
мыльные пузыри творений. И за этими играми и при раз¬
мышлении о наивных приемах снов и ненаивных приемах
сюрреалистического искусства, любоваться и заниматься
которым так приятно и необременительно, мне стало ясно,
почему я как писатель должен отказаться от этого вида ис¬
кусства. С чистой совестью я позволяю себе заниматься им
в частной сфере, я сочинил за жизнь тысячи сюрреалисти¬
ческих стихов и фраз и все еще сочиняю их, но тот вид
художнической морали и ответственности, к которому я с
годами пришел, уже не позволил бы мне сегодня перенести
этот способ творчества из области частного и безответствен¬
ного на мои серьезные произведения.
Однако здесь не место пускаться в эти рассуждения. Ес¬
ли я сегодня опять занимаюсь миром снов, то делается это
не с какими-то намерениями, не ради каких-то мыслей, а
317
вызвано просто тем, что мне за очень малое число дней
встретилось множество странных снов.
Первый сон приснился мне ночью после скверного дня
с болями и большой усталостью. В уньгаин и тоске, заму¬
ченный болью в суставах, я лежал и спал, и во время этого
плохого нерадостного сна мне снилось в точности то, что я
делал в действительности, мне снилось, что я лежу в посте¬
ли и плохо, тяжело сплю, только происходило это в. каком-
то незнакомом месте, в какой-то неведомой комнате и по¬
стели. Дальше мне приснилось, что я в этой неведомой ком¬
нате просыпаюсь, поднимаюсь медленно, неохотно, устало
и что мне нужно много времени, чтобы осознать эту ситу¬
ацию, прорвав завесу усталости и головокружения. Мед¬
ленно пробивалось и пробиралось на поверхность мое со¬
знание, медленно и с неохотой признавал я, что уже, к со¬
жалению, проснулся после ненастоящего, утомительного,
ничего не стоящего сна.
Итак, я (во сне) проснулся, медленно открыл глаза, мед¬
ленно приподнялся, опираясь на затекшую и потерявшую
чувствительность руку, увидел в чужом окне серый свет
дня, и вдруг меня что-то толкнуло, проняло какое-то не¬
приятное чувствр, что-то вроде страха или нечистой сове-
' сти, и я поспешно схватил карманные часы, чтобы узнать
время. Верно, черт возьми, было больше десяти, уже почти
половина одиннадцатого, а я ведь вот уже несколько меся¬
цев был учеником или гостем какой-то гимназии, ще с ге¬
роическим прилежанием пытался загладить одно старое
упущение и кончить последние классы. Боже мой, уже по¬
ловина одиннадцатого, а с восьми мне следовало находиться
в школе, и, хоть я и смогу, как однажды недавно, объяснить
ректору свою нерадивость усилившимся старческим недо¬
моганием — а я был уверен в его снисходительности, — все
равно это утро я пропустил и даже не был уверен, почув¬
ствую ли себя во второй половине дня достаточно хорошо,
чтобы пойти в школу, где занятия тем временем продолжа¬
ются, и моя успеваемость в классе становится все сомни¬
тельней и сомнительней, и теперь, наверно, появится ка¬
кое-нибудь страшное обьяснение тому факту, что за эти не¬
сколько месяцев после моего возвращения в гимнанию у
меня, к моему беспокойству, не было еще ни одного урока
греческого языка, а в моем тяжелом портфеле, который ча¬
сто было так трудно носить, еще ни разу не лежала хрече-
ская грамматика. Ах, ничего, может бьпъ, не стоит мое бла¬
318
городное решение исполнить свои невыполненные обяза¬
тельства перед миром и школой и стать все-таки еще на
правильный путь, и, может быть, ректор, всегда так снис¬
ходительно ко мне относившийся, давно, уже с самого на¬
чала, был убежден в экстравагантности моей затеи, ведь он
же до некоторой степени знал меня по моим книгам. Не
лучше ли мне в конце концов положить часы на место, сно¬
ва закрыть глаза и полежать до полудня в постели, а может
быть, заодно и вторую половину дня, признав тем самым,
что затеял я что-то несбыточное? Во всяком случае, ради
первой половины дня вскакивать не имело смысла, она бы¬
ла загублена. И, едва подумав об этом в неведомой постели
в неведомой комнате, я проснулся на самом деле, увидел
идущий от окна тонкий луч света и, найдя себя в собствен¬
ной постели и собственной комнате, зная, что внизу меня
ждут завтрак и обильная почта, невесело поднялся, ни¬
сколько не подкрепленный таким сном и таким сновидени¬
ем, но удивленный и чуть склонный посмеяться над этим
сном-художником, который сейчас поставил меня перед
зеркалом и так скупо при этом применил приемы сюрреа¬
лизма.
Не успел я, день спустя, предать забвению и почти за¬
быть столь реалистический, столь непоэтичный, столь не¬
похожий на сказку сон, как меня опять посетило сновиде¬
ние, на сей раз поэтическое и веселое, и не сам я увидел
этот сон, а сообщила мне его одна незнакомая женщина,
читательница моих книг из какого-то севернонемецкого го-,
родка. Уже лет двенадцать назад приснился ей этот сон, но
она не забыла его и только теперь ей вздумалось сообщить
его мне. Цитирую ее письмо дословно:
«Я была ростом с ноготок и оказалась на большой садо¬
вой шляпе, надетой Вами. Вы сажали кусты, и я знала, что
Вы заливаете землю водой и месите ее. Видеть этого я не
могла, мне мешали широкие поля шляпы. Перед моими
глазами расстилалась террасами чудесная местность. Я не¬
много боязливо, как по шаткому цепному мостику, отбежа¬
ла назад, чтобы не соскользнуть, когда Вы нагнетесь. Время
от времени мне приходилось также прятаться сбоку за лен¬
той, когда Ваша рука угрожающе поднималась, чтобы плот¬
нее надвинуть шляпу на голову. Мне доставляло большое
удовольствие то, что Вы не подозреваете о моем присутст¬
вии. Моя радость усилилась, коща великолепно запели пти¬
цы. Я увидела, как в темной листве дерева вспыхнула жар-
319
птица, и тихо сказала себе: «Если бы Г. Гессе знал, что это
поет жар-птица! Он думает, что это Папагено*». Все меня
каким-то образом утешало: пейзаж, моя крошечность на
большой шляпе, пенье птиц, Ваша работа в саду и Ваше
заблуждение насчет жар-птицы».
Вот это был действительно славный, прекрасный да и
занятный сон. И поскольку он был чужой, я не почувство¬
вал потребности понять его и истолковать. Я испытывал
только удовольствие от него, но все же подумал: одному
Богу ведомо, не был ли это все-таки Папагено!
Этот сон незнакомки, который, на мой взгляд, был го¬
раздо красивее и безобиднее, чем мои собственные, словно
бы подхлестнул или наделил честолюбием мою способность
к снам, отчего сам я сразу опять сотворил сновидение, на
сей раз, правда, не то чтобы прекрасное и забавное, но до¬
вольно-таки фантастическое.
Я находился вместе с другими людьми на одном из верх¬
них этажей большого дома и знал, что это театр и что в
нем дают «Степного волка», из которого кто-то сделал не
то пьесу, не то оперу. Это явно была премьера, и меня на
нее пригласили; происходившее на сцене было мне частич¬
но знакомо, но видеть и слышать ничего из этого я не мог,
я сидел в каком-то подобии ниши, как сидел бы на хорах в
церкви, спрятавшись за органом. Было еще несколько та¬
ких ниш, они окружали собственно зал некоей галереей, и
я, встав, пошел искать место, откуда можно было бы уви¬
деть театр, но такого места найти не удалось, мы сидели
кругом, как люди, которые опоздали на спектакль и знают
только, что за стеной идет представление. Но я знал, что
сейчас идут те сцены пьесы, из которых инсценировщики
и режиссеры, не скупясь на музыку, декорации и освеще¬
ние, состряпали что-то, что я с отвращением назвал «чис¬
тейшим цирком» и немедленно запретил бы. Я забеспоко¬
ился. Тут ко мне подошел д-р Корроди* и, улыбаясь, ска¬
зал: «Можете быть спокойны, тут нечего опасаться пустых
залов». Я сказал: «Так-то оно так, но вся эта театральная
возня портит мне весь третий акт».
На том разговор прекратился. Постепенно обнаружив,
что это необозримое и загадочное сооружение, отделявшее
меня от собственно театра, было органом, я снова пришел
в движение, чтобы обойти его и, может быть, найти все-
таки какой-то проход в зрительный зал. Это мне не уда¬
320
лось, но на другой стороне здания органа, которое напо¬
минало и библиотеку, я наткнулся на какой-то каркас, ка¬
кую-то машину, какой-то аппарат, несколько похожий на
велосипед, во всяком случае, у него было два равной ве¬
личины колеса, а над ними что-то вроде седла, и мне сра¬
зу стало ясно: если сесть там наверху в седло и вращать
колеса, то через некую трубу можно видеть и слышать
все, что происходит на сцене.
Это был выход из положения, и мне стало легче. Но
большого облегчения и удовлетворения сон не принес:
пусть и была изобретена гениальная машина, но я-то ос¬
тался стоять перед ней. Ибо взобраться на это довольно вы¬
соко расположенное седло над колесами оказалось отнюдь
не легко, посильно разве что молодым людям, для которых
езда на велосипеде обычное дело. Да и седло никогда не
было пусто, как только я начинал взбираться, кто-нибудь
другой уже сидел на нем. И вот я стоял и глядел на седло
и на чудесную трубу, через узкий канал которой можно бы¬
ло видеть и слышать, чтб происходит в театре, ще специа¬
листы тем временем портили третий акт. Я не волновался,
да, в сущности, и не огорчался, но все-таки казался себе
одураченным и в чем-то обманутым и, хотя инсценировка
«Степного волка» совершенно не отвечала моему вкусу,
кое-что отдал бы за то, чтобы самому пробраться в театр
или хотя бы на седло или к чудодейственной трубе.
Однако это не получилось.
ВСЯЧЕСКАЯ ПОЧТА
Я немного надеялся, что, когда я продерусь через рож¬
дественскую и новогоднюю почту, образуется что-то вроде
оазиса, передышка, удастся написать десяток-другой част¬
ных писем, побольше почитать, а то и даже заняться ка¬
кой-нибудь небольшой собственной работой. Был проделан
изрядный внеочередной труд, я если и не ответил на все,
то все же прочел несколько сот порой объемистых и наво¬
дящих на размышления писем, и тайный правитель моей
жизни, мой дорогой врач, сумел после очень долгого пери¬
ода упадка добиться для меня значительного облегчения,
даже маленького подъема. И хотя надежды, которые я свя¬
зывал с этой ситуацией, были, как все надежды, несколько
1 1 5-259 321
чересчур смелы и радужны, а почта и думать не думала
устраивать мне каникулы, случилось все-таки так, что од¬
новременно с приятным действием лечебных уколов до ме¬
ня извне доходили всякие отрадные, интересные или весе¬
лые вести. А может быть, просто вследствие медицинского
улучшения все, что приносил день, казалось мне красивее
и было милей, чем обычно. Чтобы вы наконец снова услы¬
шали обо мне, и услышали больше отрадного, чем огорчи¬
тельного, я расскажу вам о нескольких дарах и письмах,
которые пришли за последние три дня.
Два этих дара, правда, — они пришли позавчера с одной
и той же утренней почтой — я принял в первую очередь
скорее с испугом, чем с радостью, это были два пакета не¬
обычных размеров, потребовавшие оплаты пошлины и
обильно оклеенные иностранными марками. Я посмотрел
на них с недоверием и временно отложил их в сторону не¬
распечатанными, решив, что это запоздалые рождествен¬
ские подарки неведомого происхождения, а с такими подар¬
ками мне редко везло. Либо ты их принимал, оплачивал
пошлину, распаковывал нежеланные, ненужные, а порой и
безвкусные и дурацкие дары чужих людей, вещи, с кото¬
рыми нечего было делать и которые требовали усилий и
ухищрений, чтобы избавиться, отделаться от них, в то вре¬
мя как дарители, гордые своей находчивостью, ждали пыл¬
кой и растроганной благодарности. Либо — и именно так я
не далее как в минувшее Рождество в одном единичном
случае поступил — ты следовал первому побуждению и от¬
казывался принимать пакет и выкладывать франки за по¬
шлину, чувствуя или зная, что ничего, кроме хлопот и не¬
приятностей, не приобретешь; но потом от тех же людей,
которые только что писали хвалебные письма, приходили
горькие упреки.
Итак, сначала я обратился к письмам. Первое же при¬
несло мне приятную весть — о той ручной чайке с берега
Лиммата*, о которой я несколько недель назад что-то на¬
писал и история которой вознаградила меня уже многими
прекрасными и подробными письмами, письмами от орни¬
тологов, от литераторов, от разного рода друзей птиц и жи¬
вотных. Сегодняшнее письмо было от дамы, которая часто
приезжает в Баден и недавно уже сообщала мне радостные
новости о черной птице Якобе или Шагги. На сей раз она
писала, что ее сестру Якоб сопровождал во время полуто¬
рачасовой прогулки, не отстал и по возвращении к реке и
322
мосту, а последовал за избранной им на сегодня покрови¬
тельницей до самой ее улицы и до самого дома, который
поки1^л лишь после того, как основательно обследовал его
вплоть до чердака.
Не все, конечно, письма этого утра были столь прият¬
ного и милого свойства! Попадались и такие, где почерк на
конверте меня немного пугал или объем и вес наводил на
мысль отложить их к тем, другим, для чтения которых ког¬
да-нибудь, глядишь, и выдастся свободный денек. Но в це¬
лом это была неплохая, это была частью отрадная, частью
сносная почта: никаких неразборчивых иероглифов, ника¬
ких угроз, никакого попрошайничества, а иные письма бы¬
ло приятно и лестно читать. Одно, например, пришло от
моего американского издателя. Он сообщил мне, что из вы¬
шедших у него моих книг довольно обременительное коли¬
чество экземпляров не разошлось, но, может быть, их еще
удастся сбыть, если я соглашусь, чтобы он распродал их по
цене в несколько раз меньше прежней. И конечно, я вправе
сам приобрести по умеренной цене эти уже обременитель¬
ные запасы. Я с удовольствием принял это известие, ибо
никогда не был высокого мнения о переводах и как раз по
поводу Америки полагал и часто говорил, что только по не¬
доразумению так9я могучая страна может пытаться освоить
мои то слишком вдиллические, то слишком проблематич¬
ные книги. И коща один совсем юный американец однажды
написал мне, что он прочел «Степного волка» и пришел от
него в восторг, я в своем ответе отметил, что для его страны
и для его народа было бы, наверно, полезнее, если бы такие
книги пришлись по вкусу лишь какому-то более позднему
поколению. Слушая меня тоща, штаб моих сотрудников,
состоящий главным образом из моей жены, пожимал пле¬
чами, я ведь часто, мол, высказываю довольно странные
мнения. Но кто оказался прав?
Утро прошло за чтением писем и отправкой нескольких
бандеролей, а во второй половине дня я собрался с духом и
открыл один за другим оба таинственных пакета. Один был
прямоугольный, другой круглый, но оба очень длинные и
узкие; круглый был, как следовало ожидать, рулоном, он
пришел из Нью-Йорка, кто-то, наверно, прислал мне ка¬
кой-то рисунок, картину или офорт в обмен на полученное.
Прямоугольно-продолговатый пакет возбудил мое любо¬
пытство сильнее, я открыл его первым и увидел, что мно¬
жество марок на нем — японские. Там оказались тугие, во¬
I и 323 •
локнистые бумажные обертки, затем японские газеты и, на¬
конец, узкий, длинный, красиво сделанный футляр из ко-
ричнево-зеленоватого дерева, а внутри его, опять-таки
обернутая в шелковую бумагу, картинка-какемоно, аква¬
рель с изящной надписью, выполненная прямо-таки ничем,
каким-то дуновением краски: озеро в орнаменте прихотли¬
вой линии берега, скала на переднем, далекая кайма гор на
заднем плане, еще дом, деревья, немного бамбука. Лист
был, как принято, натянут на длинную полосу прекрасного
шелка между двумя круглыми деревянными палочками по
краям. Он пришел из Хиросимы, печальной памяти города
атомной бомбы, и тут только я вспомнил отправителя, мо¬
лодого японца, несколько маленьких желаний которого я
коща-то исполнил. К картине было приложено написанное
его рукой пояснение на английском языке, благодаря чему
я узнал, что это акварель художника Тецуоу (1786-—1870),
который написал ее на восьмидесятом году жизни, в 1866
году, и снабдил стихами:
May mystery soon be with you here,
And deep pure and cold you get near^.
Погостив один день в комнате жены, эта картинка висит
теперь в моей комнате.
Затем я набрался храбрости открыть и второй пакет,
сверток из Нью-Йорка. Он пришел от одной дамы, между
прочим немки, в благодарность за маленькую радость, ко¬
торую я ей как-то доставил, и содержал в очень основатель¬
ной упаковке четыре листа белой бумаги. Смысл этого по¬
дарка я в первую минуту не понял. Но вскоре я догадался,
что дарительница прочла том моих писем, а там ще-то го¬
ворилось насчет моей любительской живописи, моих руко¬
писей с картинками и шкафе, ще я храню красивую бумагу
для акварелей и писчую. И хотя нью-йоркские листы не
годились для этих игр, я все-таки порадовался и нашел эту
идею славной.
Поразительные вещи прилетают, оказывается, из даль¬
них стран, коща ты научился принимать такие дары любви
со спокойствием старости, когда ты насытился и давно уже
Пусть тайна вечная вдруг снизойдет в твой дом,
И в чистой отрешенности ты вновь приблизишься к ее разгадке.
(Пер. Е,Щабельской)
324
печешься больше о том, чтобы раздать, чем о том, чтобы
получить, что-то в подарок! Несколько листов прекрасной
бумаги из Америки, лирически-созерцательная картинка
из Японии, несколько музыкальных композиций на мои
стихи из Германии — это, собственно, более чем достаточ¬
но, это уже слишком много, и, казалось бы, ничто уже не
может тебя удивить. Но следующее же утро принесло нечто
еще более неожиданное и поразительное, письмо и крошеч¬
ную, почти невесомую посылочку из Аргентины, посылоч¬
ку, легкость и упаковка которой уже будоражили вообра¬
жение и которая к тому же, по мере того как ее раскрывали
и осторожно разворачивали, все сильнее источала на диво
экзотический, смолисто-сладкий, напоминающий ладан и
перуанский бальзам запах. Дорогие друзья, думаю, вы, как
и я, не догадались бы, чтб приплыло ко мне через моря,
такое летуче-легкое и таинственное, издающее такой чу¬
жеземный, терпко-сладкий аромат. Плод, может быть, или
цветок, выросогай среди пальм и древовидных папоротни¬
ков во влажной жаре джунглей? Нли, может быть, образцы
семян экзотических растений или тростниковая дудочка
индейцев? Нет, из облака чужеземного благоухания, из
пергамента и шелковой бумаги оберток моим любопытным
глазам предстала лесная тайна и диковина нежнейшего ро¬
да: крошечное гнездышко самой маленькой на земле пти¬
цы, аргентинской колибри-пикафлор, которая питается не¬
ктаром цветов и, жужжа, делая в секунду четырнадцать
взмахов крыльями, держится в воздухе над лепестками. За
жужжанье крылышек птица эта получила второе название:
рундун. Гнездо построено вокруг веточки, оно величиной
со сливу, внутренняя его часть состоит из нежного, как
шелк, светлого пушка или волокна, снаружи оно кажется
облепленным крошечными остатками и дольками листьев
и коры, и они-то, по-видимому, и сохраняют в себе этот
восхитительный аромат. А внутри карликового гнезда,
светло-кремовое, как и вещество подкладки, лежит карли¬
ковое яичко, хоть и потрескавшееся в пути, но вполне со¬
хранившее свою форму, виденье, виденьице яичка! Милый
человек, который как благодарный читатель одарил меня
этим маленьким чудом, прислал вдобавок и замечательное
письмо, где описывает и птицу, и оба ее названия, и ее об¬
раз жизни, а затем сообщает, что нашел это гнездышко на
ветке покинутым — вероятно, из-за проникших в него му¬
325
равьев, от которых у этих птичек защиты нет. Сейчас, ког¬
да я это пишу вам, оно лежит рядом со мной, и, наверно,
я еще некоторое время подержу его у себя, хотя бы ради
волшебного аромата. Затем я передарю его кому-нибудь бо¬
лее достойному, кому-нибудь, пожалуй, из орнитологов, с
которыми я завязал переписку из-за эннетбаденской галки.
Боюсь, что я уже стал болтлив, но под конец не могу не
рассказать еще об одном даре — он доставляет мне не мень¬
ше радости, чем те, другие, и, к счастью, я могу передать
его вам без сокращений. Дар, который я получил тоже на
днях и которым я одарю и вас, — это одно китайское сти¬
хотворение вместе с историей его возникновения и его сла¬
вы. Я обязан им своему восточноазиатскому родственнику*,
работающему сейчас над «Китайской антологией» и любез¬
но присылающему мне иногда какой-нибудь цветок из это¬
го своего сада. Итак, послушайте.
При династии Тан*, в 725 году, в Чжаньцзяне состоялся
государственный экзамен на должность, ще кандидатам
надлежало показать себя и в поэтическом искусстве. Тема,
на которую следовало в этот раз написать стихотворение,
гласила: «Последний зимний снег на Наньшане».
Молодой поэт Цзу Юнь, участвовавший как кандидат в
этом экзамене, представил такое стихотворение:
На северных вершинах гор полудня
Над кромкой облаков белеет снег.
Лес, как стена, стоит. Прозрачен воздух,
И холодом на землю дышит ночь.
Чиновник, принимавший экзамен, был недоволен этим
стихотворением. Он вернул его кандидату с упреком, что
оно слишком коротко для экзаменационной работы, пред¬
полагаются стихотворения не меньше чем в восемь строк,
а то и длиннее. Цзу Юнь ответит только: «И дьин». Это
значит: «Смысл исчерпан». Комиссар взял стихотворение
назад и проверил его снова. Он вынужден был признать,
что оно содержит все, что следовало сказать, и принял его.
Ответ Цзу Юня стал со временем признанным мерилом для
того, чтобы судить о стихах.
Довольно на этот раз. Надеюсь, я вам не наскучил.
Иные из вас, думаю, испытают то же, что испытал я при
получении этих подарков: если при виде гнезда колибри и
от его благоухания я ощутил какую-то тоску по дальним
326
странам, по аромату экзотических рощ и лесов, то при чте¬
нии китайской истории с экзаменом я ощутил какую-то то¬
ску по другим временам и нравам, по древнекитайским или
касталийским краям.
ОСЕННИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Несравненное лето этого года, года, обильного для меня
подарками, праздниками, переживаниями, но и мучения¬
ми, и трудами, начало под конец что-то терять от своего
приятного, милостивого, веселого настроения, подвергаясь
приступам мрачности, досады и уныния, даже тоски и го¬
товности умереть. Если ночью ты ложился в постель при
ясном звездном небе, то утром тебя порой встречал туск¬
лый, серый, усталый и больной свет, терраса была мокрой,
от нее тянуло сырым холодом, небо свешивало глубоко в
долины рыхлые, бесформенные тучи и казалось готовым в
любую минуту излиться новыми ливнями, и от мира, кото¬
рый только что дышал всей полнотой, всей уверенностью
лета, тоскливо и горько веяло осенью, тлением, смертью,
хотя леса и даже травяные склоны, в эту пору обычно вы¬
жженные, коричнево-желтые, все еще сохраняли свою соч¬
ную зеленость. Оно заболело, наше только что такое креп¬
кое и надежное бабье лето, оно устало, закапризничало и
«заныло», как говорят в Швабии. Но оно еще было живо.
Почти за каждым из этих приступов вялости, расхлябанно¬
сти и брюзгливости следовали сопротивление, расцвет, воз¬
врат в прекрасное позавчера, и эти дни — а бывало, и толь¬
ко часы — возвращения к жизни обладали какой-то осо¬
бенно трогательной и почти робкой красотой, они улыба¬
лись какой-то просветленной сентябрьской улыбкой, в ко¬
торой замечательно смешивались лето и осень, сила и ус¬
талость, воля к жизни и слабость. В иные дни эта старче¬
ская красота лета медленно, с передышками, с паузами из¬
неможения, пробивалась наружу, прозрачно-ясный, неж¬
ный свет исподволь завоевывал горизонт и вершины гор, и
вечером в мире и небе царила умиротворенная, тихая, про-
хладно-прозрачная ясность, сулившая новые светлые дни.
Но за ночь все опять пропадало, утром ветер волок тяжелые
шлейфы дождя по мокрой земле, забыта была веселая мно¬
гообещающая улыбка вечера, смыты были воздушные кра-
327
ски, и снова гасли, тонули в усталости светлая храбрость,
победная отвага после вчерашней борьбы.
Не только ради себя наблюдал я за этими колебаниями,
этими странно резкими переменами погоды с недоверием и
некоторой тревогой. Не только моему быту угрожали эти
помехи, предвещавшие долгое сидение взаперти в доме.
Предстояло и одно важное событие, для которого привет¬
ливое небо и немного тепла были более чем желательны, —
приезд одного милого старого друга из Швабии*. Этот при¬
езд, уже неоднократно откладывавшийся, должен был на¬
конец состояться в ближайшие дни. Хотя гостить у меня
мой друг собирался всего один вечер, для меня было бы по¬
терей, если бы его прибытие, пребывание здесь и отъезд ом¬
рачились хмурым ненастьем. И поэтому я озабоченно сле¬
дил за болезнями и выздоровлениями, за беспокойными
скачками погоды. Мой сын, составлявший мне общество во
время долгого отсутствия моей жены, помогал мне в лесу и
на винограднике, я делал в доме свою ежедневную работу,
подыскивал подарок для ожидаемого гостя, а вечерами не¬
много рассказывал сыну об этом человеке, о нашей дружбе,
о натуре и деятельности своего друга, которого в его стране
люди знающие чтят и любят как наследника и олицетворе¬
ние лучших тра^|иций, как одного из добрых гениев своей
•страны. Как жаль было бы мне, если бы Отто, который, на¬
сколько я знаю, десятки лет не был на юге и ни разу не
видел моего дома, моего сада и моего вида на долину озера,
увидел все это в холодную погоду и в мокро-унылом свете
дождливого дня. Втайне, однако, меня занимала и мучила
еще и другая мысль, особого рода неловкость и стыд. Мой
друг юности, сперва адвокат, затем обер-бургомистр одного
города, затем некоторое время государственный служащий,
' затем в отставке со всяческими почетными постами, отча¬
сти важными, иикоща не жил очень уютно, а тем более
роскошно, при Гитлере он был отстранен от службы и, об¬
ладая большой семьей, бедствовал, затем пережил войну,
бомбежки и, оставшись без крова и без имущества, храбро
и весело сносил спартанскую скудость быта — каково же
ему будет увидеть меня здесь пощаженшш войной, в про-
сторно-уютном доме с двумя кабинетами, со слугами и раз¬
ными удобствами, без которых мне было бы трудно жить,
но которые могут показаться ему устаревшей роскошью?
Конечно, он кое-что знал о моей жизни, знал, что весь этот
328
комфорт, все это, может быть, изобилие я приобрел или
получил в подарок после долгих лишений и от многого от¬
казавшись. Но все равно, мое благосостояние хоть и не вы¬
зовет у него, чистейшего, может быть, из моих друзей, за¬
висти, однако в конце концов он, наверно, подавит улыбку
при виде всего того лишнего и ненужного, что ему здесь
предстанет и что мне кажется необходимым. Смешными
путями ведет человека жизнь: когда-то мне очень мешали
и очень стесняли меня моя бедность, мои штаны с бахро¬
мой, а теперь мне надо было стыдиться своего имущества и
достатка. Это началось с тех пор, как я принял у себя пер¬
вых эмигрантов и беженцев.
Я рассказал сыну, когда и где мы, будущие друзья,, по¬
знакомились. Шестьдесят один год назад, тоща тоже стоял
сентябрь, наши матери отдали нас на ученье в монастырь
Маульбронн, я коща-то описал это в одной из своих книг,
это хорошо известная в Швабии церемония. Там Отто стал
моим однокашником, но еще не другом. Подружились мы
лишь при дальнейших встречах, но из этого вышла креп¬
кая, не сентиментальная, но сердечная дружба. Мой друг
уже от отца, человека ученого и утонченного, унаследовал
непосредственную, глубокую близость к поэзии и всю
жизнь поддерживал ее и питал, отсюда и его интерес к
творчеству и личности поэта, с которым его связывали к
тому же общие Ьоспоминания. А у меня мой друг вызывал
восхищение, а порой и зависть своей укорененностью в род^
ной почве, в народе, это придавало его и так-то солидной,
спокойной стати какую-то уверенность и основательность,
которых мне не хватало. Он был далек от всякого нацио¬
нализма и, пожалуй, еще более, чем я, чувствителен, когда
имел дело с патриотическим зазнайством и горлодерством,
но как рыба в воде чувствовал себя в своей Швабии, в ее
ландшафте, истории,- в ее языке и литературе, в ее богат¬
стве обычаев и поговорок, и то, что началось как естествен¬
ное наследие, близкое знакомство с тайнами, с законами
роста и жизни, а также с болезнями и опасностями этого
родного народа, стало в ходе десятилетий благодаря опыту
и научным занятиям знанием, которому завидовал не один
крикун патриот. Для меня, во всяком случае, державшегося
особняком, он был воплощением лучшего в Швабии.
И вот наконец он прибыл, праздник свидания состоялся.
Он немного постарел, а его движения стали со времени на¬
шей последней встречи чуть медленнее, но, как и всякий раз
329
прежде, он показался мне для своего возраста — а это ведь
был и мой возраст — на диво бодрым и сильным, бывалый ту¬
рист, он крепко стоял на своих тренированных ногах, и, как
всякий раз рядом с ним, я почувствовал себя каким-то хилым
и немощным. И явился он не с пустыми руками. Как курьер
моих швабских родственников, он привез мне тяжелый па¬
кет, содержавший все, какие сохранились, письма, которые
я написал своей сестре Адели с примерно 1890 до 1948 года.
Таким образом, он принес с собой не только возможность
оживить прошедшее разговором, но еще и целый ларь, пол¬
ный сгущенного, закрепленного документами пропшого. Но
хоть мой приготовленный для него подарочек казался мне
теперь довольно-таки легковесным, я с момента прибытия
Отто не испытывал уже никакого стыда и весело, с чистой со¬
вестью провел его по своему дому. Мы оба доставляли ра¬
дость друг другу, он был в хорошем дорожном настроении, а
ко мне с гостем пришло что-то от моего детства, от родных
мест моей юности. Мне удалось также отговорить его от отъ¬
езда на следующее же утро, он согласился уехать на сутки
позже. С моим сыном он держался как приветливо-вежли-
вый старый господин, для которого и в семьдесят пять лет но¬
вое знакомство — не бремя, а что-то интересное и радостное.
Мартин тоже почубствовал, что перед ним человек особен¬
ный и замечательный, он много раз украдкой сфотографиро¬
вал нас, когда мы стояли перед домом и разговаривали.
Из тех, для кого я пишу этот отчет, лишь очень немно¬
гие одного возраста со мной. Большинство из них. не знает,
что значит для старых людей, тем более если они прожили
жизнь вдали от мест и картин их юности, какая-нибудь
вещь, свидетельствующая о реальности той юной поры, ка-
кой-нибудь старый предмет меблировки, поблекшая фото¬
графия, письмо, где почерк и бумага открывают и освеща¬
ют, когда видишь их снова, целые пласты ушедшей жизни,
где мы обнаруживаем шуточные прозвища и семейные сло¬
вечки, которых сегодня никто не понял бы, звучание и
смысл которых мы сами разбираем теперь лишь с малень¬
ким приятным усилием. И много больше, гораздо больше,
чем такие документы далеких лет, значит встреча с живым
человеком, который был когда-то вместе с тобой мальчиком
и юношей, который знал твоих давно похороненных учите¬
лей и сохранил о них воспоминания, тобрю утраченные. Мы
смотрим друг на друга, мой однокашник и я, и каждый ви¬
дит у другого не только белый вихор и усталые глаза под
330
сморпщвшимися и немного одеревеневшими веками, он ви¬
дит за нынешним тогдашнее; разговаривают друг с другом
не только два старика, разговаривает, кроме того, семина¬
рист Отто с семинаристом Германом, и каждый видит
сквозь толщу лет еще и четырнадцатилетнего одноклассни¬
ка, слышит его тощашний мальчишеский голос, видит, как
он сидит на парте и корчит рожи, видит, как он играет в
мяч или бегает взапуски с развевающимися волосами и си¬
яющими глазами, видит на еще детском лице первые про¬
блески восторга, растроганности и благоговения при ранних
встречах с духом и красотой.
Одно попутное замечание. То, что на старости лет у лю¬
дей часто появляется интерес к истории, какого у них не
было в молодости, основано на их знании об этом множе¬
стве слоев, которые десятилетиями пережитое и выстрадан¬
ное накладывает на человеческое лицо и человеческий ум.
В сущности, все старики, хотя и далеко не всегда отдавая
себя в этом отчет, думают исторически. Они не довольст¬
вуются верхним слоем, который так к лицу молодым. Они
не хотят ни отменять его, ни без него обходиться, а хотят
различать под ним и ряд тех слоев пережитого, которые
только и делают настоящее полновесным.
Итак, наш первый вечер был истинным праздником. Раз¬
говор не ограничился воспоминаниями юности и рассказами
о жизни, положении или недавней смерти наших маульброн-
нских товарищей, пошли также разговоры и исповеди обще¬
го характера, о швабских и германских делах, о культурной
жизни Германии; о поступках и бедах выдающихся совре¬
менников. Наши разговоры шли, однако, большей частью
весело, даже об очень серьезных вещах мы говорили чаще
всего играючи и с того расстояния, которое для нас, стариков,
когда речь идет о злободневных делах, естественно и полез¬
но. Однако для меня, отшельника, это было все же непри¬
вычным волнением, мы сидели за столом дольше обычного,
говорили и слушали три часа, приветы с прежней родины со¬
гревали меня и завлекали в дебри воспоминаний, и я заранее
знал, что за этим последует бессонная ночь, в чем не ошибся.
Но я был готов и рад заплатить за этот прекрасный вечер по-
своему. Только наутро я чувствовал себя больным и усталым
и радовался милой помощи сына. Друг мой был бодр и споко¬
ен, как всегда, я никогда не видел его больным, нервным, не¬
довольным или переутомленным. Я вел себя в утренние часы
очень тихо, принял какой-то порошок и с полудня стал снова
331
способен что-то воспринимать. Погода была ясная, и я при¬
гласил гостя объехать наш холм. Я не испытывал ни стыда,
ни зависти, видя его рядом с собой таким бодрым, выспав¬
шимся, ко всему восприимчивым, напротив, это б1лло для
меня благотворно, от этого славного человека исходили по¬
кой и античная атараксия*, которые я с готовностью и благо¬
дарностью ощущал и вбирал в себя. Как все-таки хорошо,
как прекрасно и правильно было, что мы так отличались друг
от друга темпераментом, складом и дарованиями! Вернее,
как прекрасно было, что каждый из нас остался верен своему
естеству и стал именно тем, что отвечало его природе, спо¬
койный, но неутомимый служащий с сильной тягой к поэзии
и учености и нервный, легко утомляющийся и втайне все же
живучий литератор. На круг каждый из нас обоих достиг и
добился примерно того, чего он мог требовать от себя и в чем
был в долгу перед миром. Возможно, жизнь Отто была счаст¬
ливее, но о «счастье» мы оба мало задумывались, во всяком
случае, оно не было целью наших устремлений.
В одном отношении у меня было некоторое преимущест¬
во перед ним. Я был на три месяца старше, чем он, и уже раз¬
делался с празднованием семидесятипятилетия, оно было
позади, моя благодарность была надлежащим образом выра¬
жена, а от личного присутствия на торжествах разумные уст¬
роители меня избавили. А у него, моего бравого шваба, все
это, да еще без таких поблажек, было впереди, скоро он дол¬
жен был взвалить на себя нагрузку празднества, а нагрузка
складывалась немалая, ему предстояли разные чествования.
И мой юбилейный подарочек тоже ждал его уже у одного
штутгартского друга, маленькая рукопись с картинкой. Не¬
сомненно, он справится с предстоящим лучше, чем я, он су¬
меет встретить торжества, приветствия, награды с достоин¬
ством и учтивостью и старательно ответит на сотню рукопо¬
жатий и поклонов. Хоть его так не освещали, как меня, огни
рампы, мудрые слова «Вепе vixit qui bene latuit»^* не стали
девизом его жизни, он был человеком, которого знали мно¬
гие, у которого, кроме нацистов, были, наверно, и другие
враги, который выдержал много боев и теперь, на склоне
своей честной и деятельной жизни, был для людей знающих
одним из лучших олицетворений швабского Духа. Мы не го¬
ворили о приближавшемся торжественном дне, а говорили о
^ Хорошо жил тот, кто жил скрытно (лапи).
332
тех учреждениях, которые его сотрудничество в тяжелые
времена решающим образом поддержало, даже спасло. По¬
говорили мы и о наших женах, упомянули о его жене, недав¬
но болевшей, и о моей, которая несколько недель назад уеха¬
ла на заслуженные каникулы и во исполнение величайшей
своей мечты побывала на Итаке, на Крите и на Самосе.
Наш второй, и последний, вечер, тоже очень веселый и
гармоничный, принес новую массу находок из сокровищни¬
цы прошлого и немало славных речений из запаса моего
друга. Он был слишком добросовестен и слишком любил
язык, чтобы сделаться красноречивым говоруном, но гово¬
рил он без усилия, только медленно и тщательно выбирая
слова. Мы простились позднее, чем намеревались, утром он
хотел уехать в такое время, когда мой день еще не совсем
начинался, я знал, что сын заботливо проводит его. При
прощании мы улыбнулись друг другу, не сказав ни слова о
том, о чем оба подумали: «Может быть, это был наш по¬
следний раз». Я взял с собой наверх, в спальню, привезен¬
ный им толстый пакет с письмами, но в тот вечер не стал
вскрывать его. Вместо этого я попытался закрепить в себе
образ моего друга и еще час с лишним размышлял о его
храброй, терпелга1^ой и. рыцарской жизни.
Жизнь эта, несмотря на тяжелые времена, протекала
равномернее, чем моя, которая по сравнению с ней была
причудлива, неровна и эксцентрична по темпу. Конечно, о
многих вопросах, особенно политических, мы в определен¬
ные времена не смогли бы говорить с ним так раскованно
и бесстрастно, как сегодня. Но при всем несходстве наших
дорог и походок мы, стало быть, все-таки на старости лет
достигли той зоны спокойного созерцания, коща можно по¬
делиться друг с другом своими мыслями, в том числе и о
щекотливом и скверном, ничего не скрывая и не боясь быть
неверно понятым или вызвать раздражение, и коща, по су¬
ти, один подтверждает мысли другого. Редкий ли это, сча¬
стливый ли это случай или нашлось бы много людей, с ко¬
торыми, если бы я их знал, можно было бы разговаривать
в этом тоне и в этом темпе? Бесполезный вопрос; главное —
хорошо было на закате дней, коща жизнь стремится к до¬
минанте и осмысленному распаду, почувствовать такого ро¬
да созвучность с другим человеком. Для меня этот дейь с
моим гостем был выигрышем и праздником, и д)гмаю, что
он был тем же и для него.
333
в эти дни я начал, полеживая после полудня, читать
старые письма. К маульброннским временам они не восхо¬
дили, а относились к тюбингенским и базельским годам
юности, и, таким образом, взамен исчезнувшего вместе с
другом моста в свою раннюю пору у меня постоянно была
возможность воскрешать ненадолго те времена с помощью
моих собственных писем; с тех пор я каждый день после
обеда проводил четверть или полчаса с этими листками де¬
вяностых годов. Тут были упоминания о моем чтении Гёте,
Оссиана*, К.Ф. Мейера, и вдруг я снова увидел свою тю¬
бингенскую комнату, стены со множеством картинок, вы¬
резанных из журналов и каталогов и приколотых кнопками
к обоям, которых не было жаль. Здесь были все, какие мне
удалось добыть, портреты поэтов и музыкантов, самым им¬
позантным был большой портрет Шопена, фототипия с ши¬
рокими полями, за которую я выложил три марки. Тогда
это были большие деньги. А между знаменитыми головами
висели тщательно расположенные симметрично трубки, од¬
на из них, с размалеванной головкой, если курить ее стоя,
доставала другим концом др пола. И тут я вдруг снова уви¬
дел конторку из белого некрашеного дерева, за которой я
стоя написал большинство этих писем, и с этой минуты мне
снова был очень знаком тогдашний мой почерк, он в тю¬
бингенские мои годы сильно изменился под влиянием курса
каллиграфии, сулившего также излечение от писчей судо¬
роги, который я по желанию или по приказу своего хозяи¬
на, книготорговца Зонневальда, в течение нескольких не¬
дель посещал. Живо предстали мне и его образ, и образы
моих коллег, и некоторых тюбингенских профессоров, и не¬
которых тюбингенских девушек, которым я поклонялся. И
вечерние походы ради простокваши в Шверцлох, и ночные
прогулки по аллеям у Неккара, и воскресные поездки в
Рейглинген и гауфовский Лихтенштейн, и тощашние
друзья и собутыльники, к которым, кстати, друг Отто не
принадлежал, дружба с ним началась позднее. Большинст¬
во входивших в тот тюбингенский круг друзей, о которых
повествуется в «Лаушере», живо и поныне, но лишь с двумя
из них я поддерживаю не очень тесную связь.
Дни становились все более осенними, дождливые дни —
все темнее, ясные — все холоднее, на многих вершинах уже
лежал снег. Воскресенье после отъезда моего гостя было
особенно красиво, мы поехали на одно высокое место, от¬
куда видны Валлисские горы, вокруг большинства деревень
334
люди были еще заняты сбором винограда. Мы радовались
этим красочным картинам и желали, чтобы мой друг уви¬
дел с нами этот день, эту синеву, золотистость и белизну
далеких гряд гор, эту хрустальную прозрачность воздуха,
эти пестрые группы сборщиков винограда среди лоз на
уступах.
И именно в этот час, когда мы в дороге думали о нем,
мой друг умер.
Он благополучно и весело вернулся домой, рассказал в
открытках многим друзьям, а также моей сестре о посеще¬
нии Монтаньолы, сообщил мне о своем приезде домой и
сразу был снова закручен одной из своих должностей. И в
тот послеполуденный час, который одарил нас таким нео¬
быкновенно благородным светом и блеском красок, он
умер, не сопротивляясь, после совсем короткого недомога¬
ния. Я узнал об этом уже на следующее утро из телеграм¬
мы, просившей меня прислать несколько слов, которые
можно произнести над могилой, а вскоре и из письмеца его
жены. Оно гласило: «Вчера, в воскресенье, в два часа, ско¬
ропостижно, без борг>бы умер мой муж. Ему довелось, гостя у
Вас, встретить любовь и дружбу, и за это я хочу поблаго¬
дарить Вас. Пусть и сейчас будут с ним Ваши добрые мысли».
Да, я всем сердцем был с ним. Как ни тяжела была боль
потери, эта смерть человека, на которого еще при жизни
многие хорошие и надежные люди часто смотрели как на
образец, показалась мне все-таки прежде всего образцовой.
Ответственность и честный труд до последнего дня, а потом
не одр болезни, не жалобы, не призыв к сочувствию и за¬
ботливости, а только простая, тихая, ласковая смерть,
смерть, с которой при всей печали нельзя было не согла¬
ситься, смерть, которая ласково завершила отважную, про¬
житую в служении жизнь и дружески избавила моего друга,
не представлявшего себе, видимо, собственной усталости,
от притязаний мира и от тех усилий, каких потребовал бы
от него через несколько дней его юбилей.
Осень — в каждом взгляде назад, на собственную или
чужую жизнь, осень — во всякой истории, осень — во вся¬
ком уходе в воспоминания. С малыми силами и при тяже¬
лых помехах написал я эти страницы, смешав, наверно,
важное с незначительным, я не способен о них судить. Это
не поэзия, даже не литература. Это монологическая запись,
но не для себя самого, мне она не нужна, а дj^я нескольких
моих друзей и друзей моего дорогого товарища. То, что он,
335
прежде чем позволить себе отдохнуть, на миг заехал ко
мне, сидел за моим столом, передал мне приветы и дары
родины, что я был, может быть, последним, с кем ему до¬
велось поговорить вне обыденности и вне службы, что он
еще раз одарил меня своей дружбой и близостью, исходив¬
шими от него спокойствием, теплом и бодростью, — это бы¬
ла некая милость. Без этого события я, вероятно, и не смог
бы понять его конец, или, поскольку «понять» слишком
громкое слово, принять и истолковать его как нечто доброе,
правильное, как гармонический заключительный аккорд.
Пусть и другим его друзьям выпадет то же самое, и пусть
им и мне, когда нам это понадобится, его образ, его стать,
его жизнь и конец будут утешением и придающим силы
примером.
ЭНГАДИНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
Чем дольше этим занимаешься, тем труднее и сложнее
становится работать с языком. Скоро я уже по одной этой
причине не буду в состоянии что-либо записать. Поэтому
нам надо бы, собственно, прежде чем я стану рассказывать
вам о своих энгадинских впечатлениях, договориться о том,
что мы подразумеваем под «впечатлением». Слово это, как
и многие другие, за относительно короткий срок моей со¬
знательной жизни упало в цене и весе, и от того веса золо¬
та, который оно имело, например, в трудах Дильтея*, до
девальвации по милости фельетониста, рассказывающего
нам, какими «впечатляющими событиями» было для него
знакомство с Египтом, Сицилией, Кнутом Гамсуном, тан¬
цовщицей Икс, хотя всего этого он, может быть, даже не
видел как следует и не записал, падение произошло изряд¬
ное. Но чтобы удовлетворить свою потребность и попытать¬
ся достичь вас окольным путем, с помощью писания и ти¬
пографской краски, мне придется притвориться подслепо¬
ватым и держаться за фикцию, будто мой устаревший язык
и стиль все еще значат для вас то же, что для меня, и будто
«впечатление» — это для вас, как и для меня, нечто боль¬
шее, чем мимолетное ощущение или любой из сотни слу¬
чаев повседневной жизни.
Нечто другое, не имеющее никакого отношения к языку
и к моему ремеслу, — это восприимчивость стариков к впе¬
336
чатлениям, и тут я не могу и не хочу пробавляться фикци¬
ями и иллюзиями, а держусь известного мне факта, что лю¬
ди молодого, а тем более юного возраста не представляют
себе, как воспринимают что-либо старики. Ведь для стари¬
ков новых впечатлений, по сути, не может быть, отпущен¬
ную и назначенную им сумму первичных впечатлений они
давно получили, и их «новый» опыт, все более редкий, —
это повторение не раз испытанного раньше, это новые маз¬
ки на давно как бы готовой картине, он накладывает на
совокупность старых впечатлений новый тонкий слой кра¬
ски или лака, покрывая этим слоем десяток, сотню преж¬
них слоев. И все же он означает что-то новое и представ¬
ляет сйбой хоть и не первичное, но настоящее впечатление,
ибо становйтся, помимо всего прочего, каждый раз встречей
человека с самим собой и самопроверкой. Кто видит море
впервые или впервые слушает «Фигаро», получает другое
и обычно более сильное впечатление, чем тот, с кем такое
случается в десятый или пятидесятый раз. Этот последний
смотрит на море и слушает музыку другими, менее актив¬
ными, но более опытными и наметанными глазами и уша¬
ми, он не только иначе и расчлененнее, чем первый, вос¬
принимает уже не новые для него впечатления, но и встре¬
чается при этом с прежними случаями по-новому, узнает
не только море и Фигаро, вещи уже знакомые, но заодно
снова встречается и с самим собой, со своим более молодым
«я», со многими прежними ступенями своей жизни, что бы
ни вызывала у него подобная встреча — улыбку, насмешку,
чувство превосходства, умиление, стыд, радость или раска¬
яние. В общем, людям пожилого возраста свойственно гля¬
деть на свои прежние переживания и ощущения скорее с
умилением и со стыдом, чем с чувством превосходства, а
уж у человека творческого, у художника, встреча в конце
жизненного пути с мощью, интенсивностью и полнотой зе¬
нита его жизни почти наверняка не вызовет чувства: «О,
как слаб и глуп был я тогда!» — а вызовет, наоборот, же¬
лание: «О, будь у меня хоть что-то от прежней силы!»
К впечатлениям, назначенным мне судьбой, свойствен¬
ным мне и для меня важным, принадлежат наряду с чело¬
веческими и духовными впечатления от местности. Кроме
местностей, которые были моей родиной и относятся к фор¬
мирующим элементам моей жизни — Шварцвальд, Базель,
Боденское озеро, Берн, Тессин, — я благодаря поездкам,
походам, попыткам писать картины и другим занятиям
337
сроднился, почувствовав, как они существенны и путевод-
ны для меня, с некоторыми, не очень многими характерны¬
ми местностями, такими, как Северная Италия, особенно
Тоскана, Средиземное море, кое-какие части Германии и
другие. Видел я много местностей, и нравились они мне
почти все, но вошли в мою судьбу, оставили во мне глубо¬
кий и прочный след, постепенно стали для меня маленькой
второй родиной липп> очень немногие, и самая, пожалуй,
прекрасная из них, сильнее всего волнующая меня — это
Верхний Энгадин.
Я бывал в этой высокогорной долине раз десять, остава¬
ясь там несколько раз липп> на день-другой, но чаще на не-
делю-другую. Впервые я увидел Энгадин лет пятьдесят на¬
зад, в молодости, проводя каникулы в Преде, над Бергю-
ном, с женой и другом моей юности Финком, и, когда при¬
шла пора возвращаться домой, мы решили соверпгать осно¬
вательный поход. Внизу, в Бергюне, сапожник вбил мне но¬
вые гвозди в подошвы, и мы втроем с рюкзаками прошли
через Альбуду по длинной красивой горной дороге, а потом
по еще гораздо более длинной дороге в долине от Понте в
Санкт-Мориц, шагая по проселку без автомобилей, но с
бесконечным множеством одно- и парноконных повозок, в
нерассеивающемся облаке пыли. В Санкт-Морице моя жена
рассталась с нами' и noiexana поездом домой. В то время как
мой товарищ, плохо переносивший высоту, не спал по но¬
чам и становился все молчаливей и недовольнее, мне, не¬
смотря на пыль и жару, верхняя долина Инна показалась
воплощением мечты о рае. Я чувствовал, что эти горы и
озера, этот мир цветов и деревьев хочет сказать мне боль¬
ше, чем можно вобрать и впитать в себя с первого взгляда,
что меня когда-нибудь еще потянет сюда, что эта строгая
■и в то же время богатая формами, суровая и в то же время
гармоничная высокогорная долина имеет ко мне какое-то
отношение, хочет не то дать мне что-то драгоценное, не то
чего-то потребовать от меня. После ночлега в Сильс-Ма-
рии* (где я сегодня нахожусь снова и пишу эти заметки)
мы стояли у последнего из энгадинских озер, я призывал
друга открыть глаза и, взглянув через озеро на Малою и в
сторону Бергеля, увидеть, как неслыханно благодатна и
прекрасна эта картина, но все мои уговоры были напрасны,
и, указывая вытянутой рукой на ^здну пространства, он
раздраженно сказал: «Ах, что уж там, это же обыкновен¬
ный эффект кулис!» После чего я предложил ему пройти
338
проселком в Малою, а сам двинулся тропой по другую сто¬
рону озера. Вечером каждый из нас, далекий от другого,
сидел одиноко за столиком на террасе остерии «Веккья» и
ел свой ужин, лишь на следующее утро мы помирились и,
сокращая бергельскую дорогу, весело сбежали вниз.
Второй раз я ездил в Сильс несколько лет спустя для
встречи со своим берлинским издателем С. Фишером всего
на два-три дня и жил его гостем в той же гостинице, где
останавливаюсь в последние годы каждое лето. Это второе
пребывание там оставило во мне мало следов, но вспоми¬
нается один прекрасный вечер с Артуром Холичером* и его
женой, тогда нам надо было многое сказать друг другу.
А потом было еще одно впечатление, вид, который с тех
пор при каждом приезде вновь становился для меня доро¬
гим и важным и волновал мою душу, — тесно прижавшийся
к склону скалы мрачноватый дом, энгадинское жилище
Ницше. Среди шумного, пестрого мира туризма и спорта,
среди больших отелей он упрямо стоит сегодня и глядит на
все это немного досадливо, как бы с отвращением, будя
почтение и сочувствие и настойчиво напоминая о том вы¬
соком образе человека, который создавал этот отшельник
даже в своих ложных учениях.
Затем пошли годы без встреч с Энгадином. Это были мои
бернские печальные военные годы. И вот, когда в начале
1917 года я был срочно отчислен из части врачом, больной
от своей военной работы и еще больше от бедствий войны
вообще, один мой швабский друг находился как раз в сана¬
тории над Санкт-Морицем и пригласил меня туда. Стояла
зима, горькая третья военная зима, и я узнал эту долину,
ее красоты, ее резкость, ее целебность и утешительность с
новой стороны, я снова научился спать, научился есть с ап¬
петитом, проводил целые дни на лыжах или на коньках,
смог вскоре выносить разговоры и музыку, даже немного
работать; иногда я один поднимался на лыжах к корвиль-
ской хижине, куда еще не было канатной дороги, и обычно
оказывался наверху единственным человеком. Тоща, в
феврале 1917 года, я пережил одно незабываемое утро в
Санкт-Морице. Мне нужно было туда зачем-то, и, когда я
ступил на площадь перед почтой, из здания почты вышел
человек в меховой шапке и стал читать вслух только что
полученный экстренный выпуск газеты. Люди столпились
вокруг него, я тоже подбежал к нему, и первая фраза, ко¬
339
торую я разобрал, была: «Le tzar d6missionna»i. Это было
сообщение о Февралы;кой революции в России. С тех пор
я сотни раз проезжал или проходил через Санкт-Мориц, но
редко не вспоминал на этом месте то февральское утро 1917
года, своих тощашних друзей и хозяев, из которых никого
давно нет в живых, и то душевное потрясение, которое я
испытал, когда после короткого житья на правах пациента
и выздоравливающего голос того чтеца грозно и настойчиво
призвал меня назад к современности и к мировой истории.
И так бывает везде, где бы я ни оказался в этой местности,
везде на меня смотрит прошлое, смотрит собственное мое
естество и лицо, взиравшее когда-то на эти же картины; я
встречаюсь с еще не достигшим тридцати, который весело
тащил свой рюкзак множество километров по августовской
жаре, встречаюсь с человеком на двенадцать лет старше,
который в тяжком кризисе, поумнев, измучившись и поста¬
рев от выстраданного из-за войны, нашел здесь, наверху,
короткую передыопсу, чтобы отдохнуть, окрепнуть, со¬
браться с мыслями, снова встречаюсь с теми позднейшими
ступенями моей жизни, когда я вновь посещал это милое
высокогорье, товарищ младшей дочки Томаса Манна по
лыжным походам, постоянный пассажир построенной тем
временем корвильской канатной дороги, часто в сопровож¬
дении своего друга Луи Жестокого и его умной таксы, ти¬
хий ночной работник, склонившийся над рукописью «Зла¬
тоуста». О, какой таинственный ритм вспоминаемого и за¬
бываемого бьется в наших душах, таинственный и столь же
отрадный, сколь тревожный, даже для того, кто более или
менее знаком с методами и теориями современной психо¬
логии! Как хорошо и утешительно, что мы можем забывать!
И как хорошо и утешительно, что у нас есть дар памяти!
Каждый из нас знает, чтб сохранила его память, и распо¬
ряжается этим. Но никто из нас не в силах разобраться в
чудовищном хаосе того, чтб он забыл. Иногда, через годы
и десятилетия, словно откопанный клад или вырытый плу¬
гом снаряд, на свет выходит обломок чего-то забытого, от¬
брошенного, как нечто ненужное или неудобоваримое, и в
такие мгновения (в «Златоусте» описано такое великое
мгновение) все то многообразно драгоценное, прекрасное,
что составляет наши воспоминания, кажется горсткой пы-
*«Царь отрекся» {франц.).
340
ли. Мы, поэты и интеллектуалы, высоко ценим память, это
наш капитал, мы живем на него — но когда подобное втор¬
жение из преисподней забытого и отброшенного застает нас
врасплох, это всегда открытие, приятно ли оно или нет, от¬
крытие такой мощи и силы, каких нет в наших тщательно
хранимых воспоминаниях. У меня иногда возникала мысль
или догадка, что тяга к странствиям и завоеванию мира,
жажда нового, еще не виданного, путешествий, экзотики,
знакомая большинству не лишенных фантазии людей, осо¬
бенно в молодости, может быть и жаждой забыть, вытес¬
нить прошлое, поскольку оно угнетает нас, закрыть уже
увиденные картины как можно большим числом новых.
Склонность старости, наоборот, к прочным привычкам и
повторениям, ко все новым встречам с одними и теми же
местами, людьми и ситуациями есть в таком случае, види¬
мо, стремление к сокровищнице воспоминаний, неустанная
потребность удостовериться в целости сохраненного па¬
мятью, а может быть, и желание, тихая надежда увидеть
эту сокровищницу пополненной, вновь, чего доброго, обна¬
ружить и прибавить к запасу воспоминаний то или иное
впечатление, ту или иную встречу или картину, то или
иное забытое и потерянное лицо. Все старые люди, даже не
подозревая того, пребывают в поисках прошлого, кажуще¬
гося невозвратным, хотя оно не невозвратно и не обязатель¬
но пропшо, ибо при определенных обстоятельствах, напри¬
мер с помощью поэзии, оно может быть возвращено и на-
всеща вырвано из небытия.
По-другому обретаешь прошлое в новом обличье, коща
через десятки лет встречаешься с людьми, которых ты не¬
когда знал и любил более молодыми, другими. Коща-то в
одном на редкость красивом и уютном энгадинском доме с
облицованными кедром комнатами и стеатитовыми печами
жил один мой приятель, друживший с Клингзором маг
Юп*. Он часто по-царски угощал меня и баловал в те вре¬
мена, когда я еще был лыжником и завсегдатаем корвиль-
ской хижины. Тогда в его доме играли три милых ребенка,
два мальчика и девочка, младшая из детей, у которой — я
заметил это с первого взгляда — глаза были больше, чем
ее ротик. Самого мага я, правда, уже десятки лет не видел,
он больше не ездит в горы, но несколько лет назад я слу¬
чайно встретился с его женой и снова увидел этих взрослых
теперь детей, музыканта, студента и девушку — та, все еще
обращавшая на себя внимание большими глазами и малень-
341
КИМ ротиком, превратилась в изысканную красавицу и с во¬
сторгом говорила о своем парижском профессоре, у которо¬
го занималась сравнительным литературоведением. Она
присутствовала и в тот раз, когда наш друг Эдвин Фишер
играл нам в доме ее матери однажды днем Баха, Моцарта
и Бетховена. С ним, музыкантом, я тоже неоднократно
встречался, с тех пор как он, совсем еще молодой человек,
показывал' мне свою музыку на мои стихи к Элизабет,
встречался каждый раз на новой ступени жизни, и наша
товарищеская дружба с каждым разом утверждалась и
крепла.
Так при каждом возвращении встречало и встречает ме¬
ня здесь милое прошлое, невозвратимое и все же поддаю¬
щееся воскрешению. Мерить им сегодняшний день и себя
сегодняшнего радостно и трудно, от этого испытываешь сча¬
стье и стыд, это навевает грусть и утешает. Видеть склоны,
на которые я много раз без труда поднимался когда-то пеш¬
ком или на лыжах и на самый маленький из которых мне
теперь никак не взобраться, вспоминать друзей, с которыми
мне довелось разделить множество энгадинских впечатле¬
ний, друзей, ныне давно уже спящих в могилах, немного
больно. Но воскрешать эти времена и этих друзей в беседе
или в одиноком поминовении, листать богато иллюстриро¬
ванную книгу воспоминаний (всегда с тишайшей надеждой,
что вдруг да возникнет какая-нибудь потерянная, забытая
картинка и затмит все другие) радостно, и если силы идут
на убыль, а прогулки становятся год от года короче и за¬
труднительнее, то, с другой стороны, с каждым возвраще¬
нием и с каждым годом растет эта радость воскрешения и
поминовения и все многообразнее становится радость от то¬
го, что включаешь свое сегодняшнее бытие в многосложный
узор, сплетенный памятью. В большинстве этих воспоми¬
наний участвует мой товарищ по жизни, Нинон; со времен
тех лыжных зим почти тридцатилетней давности я не бывал
здесь без нее, и так же, как на вечерах в доме мага, на
вечерах с С. Фишером, Вассерманом* и Томасом Манном,
она два года назад присутствовала на чудесной встрече с
моим маульброннским однокашником Отто Гартманом, са¬
мым светлым и благородным представителем типа хороше¬
го немца и шваба среди моих друзей. Это был большой
праздник, мой друг подарил нам целый день своих корот¬
ких каникул, мы возили его на машине в Малою и на Юли-
ср, под высоким авг>хтовским небом горы казались хру¬
342
стальными, с тяжелым сердцем я сказал ему вечером «про¬
щай». Но наше довольно робко высказанное желание встре¬
титься хотя бы еще один раз сбылось: за несколько дней до
смерти он был в Монтаньоле моим гостем, dona ferens^, я
рассказал вам об этом в некрологе.
А этим летом я снова поднялся сюда, на сей раз новым
путем, ибо в день нашей поездки в Бергеле засыпало доро¬
гу, рухнул мост и нам пришлось ехать незнакомым доселе
окольным путем через Сондро, Тирано, Пушлав и Бернин¬
ский перевал, долгим, но очень красивым путем, тысячи
картин которого вскоре, однако, смешались у меня в памя¬
ти и стерлись; лучше всего сохранилось впечатление от ог¬
ромного, с сотнями складок и террас, холма северноиталь¬
янского виноградника, картина, которая в более молодые
годы была бы мне не так интересна. Тогда я был охотник
до безлюдных, диких и, пожалуй, романтических мест,
лишь гораздо позднее, с течением лет, меня все более стала
привлекать и интересовать совокупность человека и мест¬
ности, ее формирование, хитрое покорение и мирное заво¬
евание хлебопашеством и виноградарством — террасы, сте¬
ны и дороги, льнущие к склонам и подчеркивающие их
формы, крестьянская сметка и крестьянская старательность
в тихой упорной^ борьбе с разрушительными дикостями и
прихотями стихии.
Первая ценная встреча этого лета в горах была и чело¬
веческой, и музыкальной. Уже много лет в нашей гостини¬
це останавливался летом одновременно с нами виолонче¬
лист Пьер Фурнье*, по мнению многих — первый в своей
области, по моему впечатлению — лучший из всех виолон¬
челистов, по виртуозности равный своему предшественни¬
ку Казальсу*, а в художественном отношении, пожалуй,
■ превосходящий его строгостью и суровостью игры, а также
чистотой и бескомпромиссностью программ. Не то чтобы я
всегда и во всем был согласен с Фурнье по поводу этих про¬
грамм, он играет с любовью и таких композиторов, без ко¬
торых я легко обошелся бы, например Брамса, но ведь и эта
музыка серьезна и заслуживает серьезного отношения, а
тот знаменитый старик играл наряду с серьезной и настоя¬
щей музыкой всякие бравурные и легковесные штучки. Та¬
ким образом, Фурнье с женой и сыном был нам знаком не
^ приносящий дары {лат.).
343
только как слушателям, но много лет и зрительно, хотя мы
годами оставляли друг друга в покое, лишь издали кивая
друг другу, и каждый молча жалел другого, коща видел,
что к нему пристают любопытные. Но на этот раз после
концерта в самаденской ратуше нам довелось познакомить¬
ся ближе, и он любезно предложил мне поиграть как-ни¬
будь специально для меня. Поскольку он вскоре собирался
уехать, концерт в номере должен был состояться на следу¬
ющий же день, и день этот выдался несчастный, это ока¬
зался один из тех дней недомогания, недовольства, устало¬
сти и дурного настроения, какие и на ступени мнимой стар¬
ческой мудрости все еще доставляют нам порой наога среда
и порывы собственной души. Я чуть ли не силой заставил
себя отправиться к назначенному послеполуденному часу в
номер артиста, из-за моего дурного настроения и уныния у
меня было такое чувство, будто я сажусь немытым за праз¬
дничный стол. Я вошел туда, опустился на стул, маэстро
сел, настроил свой инструмент, и вместо атмосферы уста¬
лости, разочарования, недовольства собой и миром меня
вскоре охватила чистая и строгая атмосфера Себастьяна
Баха, казалось, будто из нашей высокогорной долины, вол¬
шебство которой сегодня на меня не действовало, меня
вдруг подняли в какой-то еще гораздо более высокий, более
ясный, более хрустальный горный мир, открывавший, бу¬
дораживший и обострявший все органы чувств. То, что не
удавалось весь этот день мне самому — шагнуть из обыден¬
ности в Касталию, — это мгновенно совершила со мной му¬
зыка. Час или полтора провел я здесь, слушая — с корот¬
кими паузами и недолгими разговорами в промежутках —
две сольные сюиты Баха, и эта музыка, исполненная силь¬
но, точно и строго, была для меня как хлеб и вино для го¬
лодного и жаждущего, она была пищей и омовением и по¬
могла душе вновь обрести мужество и дыхание. Та провин¬
ция духа, которую я когда-то, задыхаясь в грязи немецкого
позора и войны, воздвиг как спасительное убежище, снова
отворила мне свои двери и приняла меня на серьезно-весе¬
лое, великое празднество, которое ни в каком концертном
зале никогда не удается вполне. Я ушел исцеленный и бла¬
годарный и еще долго жил этим.
В прежние времена я часто встречался с таким идеаль¬
ным музицированием, я всегда бывал с музыкантами в
близких и сердечных отношениях и находил среди них дру¬
зей. С тех пор как я живу уединенно и не могу ездить, эти
344
дни счастья стали, конечно, редкими. Впрочем, в слушании
музыки и суждениях о ней я человек во многих отношениях
требовательной и отсталый. Я вырос не с виртуозами и не
в концертных залах, а на домашней музыке, и самой пре¬
красной всегда была та, в которой можно было деятельно
участвовать самому; я играл на скрипке и немного пел, это
были в детстве мои первые шаги в царство музыки; сестры
и особенно брат Карл играли на пианино, Карл и Тео пели,
и если бетховенские сонаты и шубертовские песни я слушал
в ранней юности в любительском, далеком от виртуозного
исполнении, то и это приносило пользу — коща я, напри¬
мер, слышал, как в соседней комнате Карл долго единобор¬
ствует с какой-нибудь сонатой и коща я, после того как он
наконец ею овладевал, мог радоваться триумфальному ис¬
ходу этой борьбы. Позднее, на первых для меня концертах
знаменитых музыкантов, я, правда, порой поддавался оча¬
рованию виртуозности, как хмелю, увлеченно слушая ве¬
ликих умельцев, преодолевавших технические трудности
как бы с улыбкой и без труда, наподобие канатоходцев и
акробатов, и мне бывало до боли сладостно, коща они в бла¬
годарных местах немножко нажимали, старались блеснуть
каким-нибудь томным vibrato или жалобно замирающим
diminuendo, но все же это очарование длилось не слишком
долго, я был достаточно здоров, чтобы ощущать границы и
искать за чувственным очарованием все-таки произведение
и дух, не дух блистательного дирижера или солиста, а дух
мастеров. А с годами я стал скорее невосприимчив к очаро¬
ванию умельцев и к тому, может быть, крошечному избыт¬
ку силы, страсти или сладости, который они придавали про¬
изведению, я перестал любить и остроумных, и сомнамбу¬
лических дирижеров и виртуозов и стал почитателем обь-
ективности, во всяком случае, уже десятки лет я легче пе¬
реношу преувеличенную аскетичность, чем ее противопо¬
ложность. И этой установке, этому пристрастию Фурнье со¬
ответствовал полностью.
Другое музыкальное событие с неким радостным, даже
веселым эпизодом ждало меня вскоре на концерте Клары
Гаскиль* в Санкт-Морице. Это была, за исключением трех
сонат Скарлатти*, не совсем та программа, которой я по¬
желал бы, то есть это была, безусловно, прекрасная и бла¬
городная программа, только, кроме Скарлатти, в ней не бы¬
ло ни одной моей любимой пьесы. Будь мне дана «власть
желаний», я выбрал бы две другие сонаты Бетховена. Кроме
345
того, программа обещала «Пестрые листки» Шумана, и пе¬
ред началом концерта я еще шепнул Нинон, как мне жаль,
что нас не ждут вместо «Пестрых листков» «Лесные сцены»,
которые лучше или, во всяком случае, куда милее мне, и
как мне хотелось бы послушать еще раз или еще много раз
любимейшую мою маленькую пьесу Шумана «Птица-ве-
щунья». Концерт был очень хорош, и я забыл свои слишком
уж личные пристрастия и желания. Но вечер удался еще
более. Артистка, которую всячески чествовали, подарила в
конце дополнительный номер, и, подумать только, это ока¬
залось не что иное, как моя любимая «Птица-вещунья»! И,
как всегда, когда я слушаю эту прекрасную, таинственную
пьесу, передо мной вновь ожил тот час, когда я слышал ее
впервые, ожила комната моей жены в гайенхофенском доме
с пианино, ожили лицо и руки игравшего, дорогого гостя,
большое, бородатое и бледное лицо с темными печал1^ными
глазами, низко склонившееся над клавишами. Он, этот до¬
рогой друг и тонкий музыкант, вскоре покончил с собой,
дочь его еще пишет мне иногда и теперь и была рада, когда
я смог рассказать ей нечто приятное и хорошее об ее отце,
которого она почти не знала. И таким образом, этот вечер
в зале, полном довольно светской публики, оказался для
меня маленьким праздником памяти и был полон интим¬
ных и дорогих отголосков. Много такого носишь в себе всю
долгую жизнь, что погаснет и умолкнет только вместе с то¬
бой. Музыканта с печальными глазами уже почти полвека
нет в живых, а для меня он жив и бывает иногда близок
мне, и пьеса о птице из «Лесных сцен» всегда, когда я через
много лет слышу ее снова, — это, помимо ее собственного,
шумановского очарования, источник воспоминаний, среди
которых и комната с пианино в Гайенхофене, и тот музы¬
кант, и его судьба — всего лишь осколки. Тут оживают и
многие другие звуки вплоть до времен детства, когда я бла¬
годаря фортепианной игре старших братьев и сестры знал
некоторые маленькие пьесы Шумана наизусть. И первый
портрет Шумана, попавшийся мне на глаза еще в детстве,
тоже не забылся. Он был цветной, немыслимой, наверно,
сегодня цветной печати восьмидесятых годов, и представ¬
лял собой карточку в детской игре, терцете с портретами
знаменитых художников и перечислением их главных про¬
изведений: Шекспир, Рафаэль, Диккенс, Вальтер Скотт,
Лонгфелло и прочие точно так же всю мою жизнь сохраня¬
ли для меня эти раскрашенные карточные физиономии. И
346
эта игра, этот терцет с рассчитанным на молодежь и про¬
стых людей пантеоном художников и произведений искус¬
ства были, может быть, самым ранним толчком к той идее,
охватывающей все эпохи и культуры universita litterarum et
artiumi, которая позднее получила названия «Касталия» и
«Игра в бисер».
За десятки лет моих связей с нашим высокогорьем, пре¬
краснейшим местом рождения великой реки, какое я знаю,
мне, конечно, довелось наблюдать и рост механизации, на¬
плыв иностранцев и спекулянтов, почти такой же, как вок¬
руг моего тессинского обиталища. Санкт-Мориц уже и
пятьдесят лет назад был не чем иным, как бойким городком
для иностранцев, и уже тогда покосившаяся старая башня
церкви по-старчески мрачно нависала над нагромождением
скучных бытовых построек и ждала, казалось, более доход¬
ного использования своего участка, готовая в любую мину¬
ту окончательно лишиться устойчивости и рухнуть. Между
тем она и сегодня стоит, как стояла, спокойно сохраняя рав¬
новесие, а многих огромных, пошлых, спекулянтских по¬
строек начала девяностых годов нет и в помине. Но повсюду
на небольшом пространстве между Санкт-Морицем и Силь-
сом и дальше, к Фексу, с каждым годом приобретают все
больший размах раздел и эксплуатация земли, застройка
ее большими и маленькими домами, засилье иностранцев.
Есть множество домов, где люди живут лишь по нескольку
месяцев, а то даже и недель в году, и эти новые, все более
многочисленные члены долинных общин, как правило, ос¬
таются для старожилов, чью родину они раскупили, чужи¬
ми людьми, даже самые благонамеренные отсутствуют
большую часть года, они не разделяют с местными жите¬
лями суровое время борьбы с морозами, лавин, таяния сне¬
га и почти не знают тяжких общинных забот и нужд.
Приятно иноща съездить на машине в места, где послед¬
ние десятилетия почти ничего не Изменили. Мои прогулки
далекими теперь не бывают, но благодаря автомобилю мно¬
гие желания осуществимы. Например, мне уже несколько
лет хотелось побывать там, где начался мой юношеский
первый поход по этим горам, на Альбульском перевале и в
Преде. Ехал я на сей раз в противоположном, если иметь
в виду тощашний мой путь пешком, направлении, и той
^ Совокупность наук и искусств (лат,).
347
пыльной дороги между Санкт-Морицем и Понте, по кото¬
рой когда-то катилось столько веселых повозок, нельзя бы¬
ло узнать. Но через Понте, которое сегодня именуется Ла-
Пункт, мы вскоре въехали в тихий и строгий мир камня,
где передо мною одна за другой вновь возникали тогдашние
картины и ситуации: на высоте перевала я долго сидел в
стороне от дороги на травянистом холме и, глядя на длин¬
ные, голые, но многокрасочные гряды гор и на маленькую
Альбуду (красивое название которой мне всегда напомина¬
ло «animula vagula blandula»0, вновь находил воспомина¬
ния о том летнем походе 1905 года, которые считал полно¬
стью утраченными. Не изменившись, взирали на нас сверху
голые крутые спины скал и россыпи гальки, и какие-то
мгновения мы испытывали то столь же благотворное, сколь
и тревожное чувство, которое может дать пребывание у мо¬
ря или в безлюдном и диком мире гор, чувство, будто ты
то ли оказался вне времени, то ли дышишь в некоем вре¬
мени, знающем счет не на минуты, не на дни, не на годы,
а только на сверхчеловеческие, разделенные тысячелетия¬
ми вехи. Он был прекрасен, этот полет чувств между вне¬
временным первобытным миром и маленькими отрезками
собственной жизни, но он и утомлял, наводил грусть и де¬
лал все человеческое, все изведанное и всё, что вообще
можно изведать, очень уж бренным и невесомым. После на¬
шего привала наверху я предпочел бы повернуть обратно,
я уже впустил в себя достаточно впечатлений более чем до¬
статочно ожившего прошлого. Но в памяти у меня была еще
крошечная Преда, несколько домов у входа в туннель, где
я, молодой, бездетный еще супруг, провел тогда свои кани¬
кулы. И затем, еще призывнее, была оставшаяся в памяти
картина густо-зеленого озера с темно-коричневым водосбо¬
ром. Мне хотелось вновь увидеть его, да мы и собирались
вернуться через Тифенкастель и Юлиер. Вскоре мы были у
первых сосен и лиственниц, и время от времени я стал за¬
мечать по эту сторону перевала прианаки эпохи и цивили¬
зации; во время еще одного привала полную до тех пор ти¬
шину долины нарушал упорный треск мотора, который я
принял за экскаватор или трактор, но это была всего лишь
маленькая косилка на лугу, казавшаяся сверху крошечной.
И вот мы увидели озеро, озеро Пальпуонья, в прохладно-
^ «Душа — скиталица нежная» (лат.).
348
зеленом зеркале которого отражались лес и склон горы, а
над озером высились три угрюмо-диких утеса. В нем было
почти столько же красоты и очарования, как коща-то, хотя
сток укрепили всяческими дамбами, а у края дороги стояло,
отдыхая, множество автомобилей. Но с приближением к
Преде моя восприимчивость к впечатлениям и моя радость
от встречи и от пробуждения старых воспоминаний совер¬
шенно пропали. Я собирался остановиться там ненадолго,
поискать домик, ще мы коща-то жили, и расспросить, кто
там живет сегодня. Но теперь мне расхотелось делать это,
незачем, показалось мне, узнавать, что старик Николаи и
его родственники давно умерли. К тому же стоял один из
первых жарких дней этого прохладно-дождливого лета, а
воздух здесь был уже не горный. Возможно также, что здесь
во мне всколыхнулось забытое со времен юности и моего
первого брака, что сковывали меня и угнетали не только
усталость от дороги и зной, но в такой же мере недовольство
и сожаление по поводу некоторых отрезков моей жизни и
грусть о непоправимости всего сделанного и случившегося.
Я проехал, не останавливаясь, через маленькую Преду и
спешил только вернуться. Когда я про себя разбирался в
этом недовольстве и сожалении, я, не наталкиваясь на ка-
кие-то определенные поступки или упущения прежней
своей жизни, которые были бы забыты, еще раз вернулся к
тому странному, смутному и полностью так и не преодо¬
ленному чувству вины, что охватывает порой людей моего
поколения и моего склада, когда они вспоминают время до
1914 года. Кого пробудил и встряхнул тем первым круше¬
нием мирного мира поворот истории, тому никогда целиком
не избавиться от вопроса о совиновности, хотя вообще-то
он больше приличествует юношескому возрасту, ибо ста¬
рость и опыт могли бы научить нас, что вопрос этот тож¬
дествен вопросу о первородном грехе и не должен был бы
нас беспокоить, его можно препоручить теологам и фило¬
софам. Но поскольку за срок моей жизни мир превратился
из прекрасного, шутливого и немного сибаритского мирного
мира в место ужаса, я, видимо, буду еще при случае пре¬
терпевать такие рецидивы нечистой совести. Возможно
ведь, что это чувство собственной ответственности за ход
мировых событий, чувство, в котором одержимые им любят
иногда усматривать признак особенно чуткой совести и вы¬
сшей человечности, есть просто болезнь, просто отсутствие
невинности и веры. Человеку вполне добропорядочному и
349
в голову не придет высокомерная мысль, будто и он в ответе
за пороки и болезни мира, за его косность в мирное время
и за его жестокость во время войны, будто он, человек, до¬
статочно велик и важен, чтобы умножать или уменьшать в
мире страдания и вину.
В это энгадинское лето мне была суждена и другая
встреча с прошлым, о которой я вот уж не думал. Чтения
я взял с собой не много, а из почты мне из дому во время
каникул пересылают лишь письма. Поэтому я удивился,
коща однажды, без крюка через Монтаньолу, пришла бан¬
дероль от моего издателя. В ней было новое издание «Зла¬
тоуста», и, когда я, глядя на книгу, рассматривая ее бумагу,
переплет и суперобложку, стал уже размышлять, кому бы
ее подарить, чтобы не отяжелять ею свой багаж, мне вдруг
подумалось, что я ведь не читал ее со времени написания,
вернее, после корректур первого издания, вышедшего лет
двадцать пять назад. Когда-то я дважды тапщл рукопись
этого сочинения из Монтаньолы в Цюрих, а оттуда в Шан-
тареллу, я все еще помнил две-три главы, стоившие мне
большого труда и бессонных ночей, но в целом книга, как
это с годами происходит у авторов с большинством их книг,
стала для меня несколько чужой и незнакомой, и потреб¬
ности возобновить это знакомство я никогда до сих пор не
испытывал. Теперь, когда я листал ее, она как бы призы¬
вала меня к этому и вызывма у меня согласие. Так «Зла¬
тоуст» стал моим чтением примерно на две недели. Одно
время он был, пользуясь неприятным выражением, «на ус¬
тах у публики», и «уста публики» не всегда отвечали на
него благодарностью и хвалой, нет, добрый «Златоуст» на¬
ряду со «Степным волком» был той моей книгой, которая
принесла мне больше всего упреков и взрывов негодования.
Появившись незадолго до наступления последней воинст¬
венно-героической эпохи Германии, она была в высокой
степени категорична, невоинственна, мягкотела, она совра¬
щала, как мне говорили, к разнузданной радости жизни,
была эротична и бесстыдна, немецкие и швейцарские сту¬
денты высказывались за то, чтобы ее запретить и сжечь, а
героические матери, ссылаясь на фюрера и на великое вре¬
мя, выражали мне свое возмущение часто в более чем не¬
вежественной форме. Но не эти обстоятельства мешали мне
в течение двух десятков лет перечитать «Златоуста», так
получилось само собой из-за определенных перемен в моем
образе жизни и способе работать. Прежде мне приходилось
350
перечитывать большинство моих книг, держа корректуру
переизданий, многое я при этом правил, главным образом
сокращал. Но позднее, с ухудшением зрения, я старался по
возможности избегать этой работы, и уже давно ее взяла
на себя моя жена. Я, конечно, никоща не переставал как-то
любить «Златоуста», он возник в эпоху, я бы сказал, пре¬
красного подъема, и брань и пощечины, на него обрушив¬
шиеся, были в моей душе доводами скорее в его пользу, чем
против него. Но его образ, который я носил в себе, с тече¬
нием времени, как все воспоминания, немного изменился
и стерся, я уже плохо помнил его, и теперь, коща с писа¬
нием книг давно было покончено, я мог употребит) неде-
лю-другую на то, чтобы освежить и уточнить этот образ.
Встреча была дружеской и благотворной, и ничто в моей
повести не вызвало у меня ни порицания, ни сожаления.
Не то чтобы я был целиком согласен со всем, в книге име¬
лись, конечно, ошибки, и она показалась мне, как почти
все мои работы, коща я перечитываю их после очень дол¬
гого перерыва, несколько длинноватой, чуточку болтливой,
в ней слишком часто, вероятно, одно и то же повторялось
всего лишь другими словами. Не обошлось и без уже не раз
пережитого, немного стыдного осознания недостатков моего
дарования и границ моего умения, это была ведь самопро¬
верка, и, таким образом, перечитывание еще раз отч^ливо
показало мне мои границы. Прежде всего мне снова броси¬
лось в глаза то, что в отличие от произведений настоящих
мастеров большинство моих повестей не ставило новых
проблем и не создавало новых человеческих образов, как
мне думалось, когда они писались, а лишь варьировало и
повторяло несколько свойственных мне проблем и типов,
хотя и на новых ступенях жизни и опыта. Мой «Златоуст»,
например, был предвосхищен не только в Клингзоре, но
уже и в Кнульпе, как Касталия и Иозеф Кнехт в Мариаб-
ронне и в Нарциссе. Но это понимание не причиняло боли,
оно означало не только снижение и сужение моей само¬
оценки, которая некогда была куда выше, а означало также
нечто хорошее и положительное, показав мне, что вопреки
многим моим честолюбивым желаниям и устремлениям я в
целом оставался верен своей сущности и не сходил с пути
самоосуществления, несмотря ни на какие теснины и кри¬
зисы. И вся интонация этой повести, ее мелодия, игра по¬
вышений и понижений не казались мне чужими, не отда¬
вали прошлым, ушедшей эпохой жизни, хотя я сейчас уже
351
не сумел бы добиться такой легкости слога. Этот вид прозы
соответствовал мне и сегодня, и из ее главных и по&чных
структур, из ее фразировки, из ее маленьких игр я ничего
не забыл; я бережно и неискаженно сохранил в памяти в
гораздо большей мере язык книги, чем ее содержание.
А впрочем, как невероятно много я позабыл! Не было,
правда, ни одной страницы, ни одной фразы, которой бы я
сразу не узнавал, но почти не встречалось страницы или
главы, при чтении которой я мог бы предсказать, что будет
на следующей странице. Память точно сохранила малень¬
кие подробности, вроде каштана перед монастырскими во¬
ротами, крестьянского дома с покойником, лошади Злато¬
уста Блеса, да и более важное, как, например, некоторые
разговоры друзей, ночной поход «в деревню», скачки с Ли¬
дией. Но я забыл, непостижимым образом забыл большую
часть того, что происходит у Златоуста с мастером Никла-
сом, забыл дурака паломника Роберта, забыл эпизод с Ле¬
ной и как из-за нее Златоуст вторично совершает убийство.
Кое-что помнившееся мне удачным и прекрасным немного
разочаровало меня. Кое-какие места, огорчавшие меня
раньше, когда я их писал, места, которыми я тоща не был
вполне доволен, оказалось трудно найти, и я счел, что там
все в порядке.
Во время этого чтения — а я читал медленно и осно¬
вательно — мне вспомнились также связанные с книгой
события того времени, коща она возникала. Одно из них
я вам расскажу, поскольку некоторые из вас, наверно, при
нем присутствовали. Дело было в конце двадцатых годов,
я обещал выступить с чтением в Штутгарте, потому что
хотел вновь првидать родные места юности, и был гостем
одного из тамошних моих друзей, которого уже нет в жи¬
вых. «Златоуст» тоща еще не вышел, но большая часть
книги была в рукописи готова, и я, что было не очень ум¬
но, взял с собой для чтения как нарочно главу с описани¬
ем чумы. Ее слушали внимательно, мне это описание было
тоща особенно важно и дорого, и мои истории о Черной
Смерти произвели, казалось, большое впечатление, в зале
воцарилась какая-то серьезность, может быть, это было
всего-навсего молчание от неловкости. Но коща чтение
кончилось и «узкий круг» собрался в одном из излюблен¬
ных ресторанов за ужином, мне казалось, что странствие
Златоуста через великий мор задело слушателей за живое.
Сам я был еще полон своей главой о чуме, я ведь тоща
352
впервые, не без внутреннего сопротивления, публично вы¬
ступал с частью своей новой работы, я был еще весь в ней
и с неохотой принял приглашение на это дружеское сбо¬
рище. И теперь, по праву или нет, у меня было такое впе¬
чатление, что собравшиеся, облегченно вздохнув после
слушания моей истории, ринулись в жизнь с удвоенной
жадностью. Шумно и нарасхват разбирали места, офици¬
антов, карточки блюд и вин, кругом сияли смеющиеся ли¬
ца и раздавались громкие приветствия, оба сидевших ря¬
дом со мной друга тоже, я слышал, старались перекричать
этот гомон, чтобы заказать себе омлет, печенку или вет¬
чину, мне казалось, будто я очутился на одном из пиров,
где Златоуст в кругу жаждущих жизни, заглушая страх
смерти, осушал кубок за кубком и взвинчивал подхлест¬
нутую веселость. Но я не был Златоустом, я чувствовал
себя потерянным и отверженным среди этой веселости,
она была мне противна, я не в силах был вынести ее. И я
прокрался к двери и вышел, прежде чем кто-либо успел
хватиться и вернуть меня. Ни умным, ни геройским посту¬
пок мой не был, я знал это и тоща уже, это была инстинк¬
тивная реакция, с которой никак нельзя совладать.
После этого я публично читал вслух еще один или два
раза, потому что уже был связан словом, но больше никогда
этого не делал.
За этими записями прошло и вот это энгадинское лето,
пора складывать вещи и уезжать. Исписать эти листки сто¬
ило мне большего труда, чем они заслуживают, ничего у
меня уже не получается как следует. Несколько разочаро¬
ванный, отправляюсь я восвояси, разочарованный физиче¬
ской несостоятельностью и еще больше тем, что при всех
усилиях и большой затрате времени я не сотворил ничего
лучшего, чем это письмо, которое я ведь давно уже должен
многим из вас послать. По крайней мере мне еще предстоит
что-то хорошее, что-то очень хорошее: путь домой через
Малою и Кьявенну, каждый раз снова обворожительный
путь от прохладно-ясных горных высот к теплому, по-лет¬
нему влажному югу, навстречу Мепре, навстречу бухтам и
городкам, каменным оградам садов, оливам и олеандрам
озера Комо. Я еще раз буду благодарно впивать это. Будьте
снисходительны и прощайте!
12 5-259 353
ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ
То и дело приходят письма совсем молодых поэтов с их
первыми стихами. Мелодия и образы редко отступают от
нескольких модных стандартов, донельзя редко пробует
кто-нибудь пойти другим путем, уже десятки лет ни один
юноша не поражал меня так, не показывал такого самобыт¬
ного, нового, неповторимого, своенравного лица, как неког¬
да, сорок и больше лет назад, молодой Роберт Вальзер* или
молодой Тракль*. Правда, и старый коллега, которому мо¬
лодые кладут на стол свои листы и тетради, — это уже не
прежний любопытный, восприимчивый читатель, он за год
получает тысячу и больше новых стихотворений, он сидит
сыто и устало, хотя и довольно терпеливо, как давно насы¬
тившийся гость за столом, на который продолжают ставить
все новые и новые угощения. Порой попадаются стихи бла¬
гозвучные, совершенные по построению, благородные по
манере, почти как у Гёте, почти как у Георге*, почти как
у Рильке. Другие трогательно, по-детски беспомощны и
сложены по такому образцу: прозаическая фраза превра¬
щается в стихи благодаря тому, что через каждые два, три
или четыре слова начинается новая строка. Это метод чисто
графический, который хоть и не дает художественного эф¬
фекта, но зато куда меньше мешает собственным мыслям
и чувствам автора, чем те благородные и совершенные сти¬
хи-конфетки. Очень часто у очарованных своим образцом
подражателей узнается не только поэт, которому подража¬
ют, но и вполне определенное отдельное стихотворение, по¬
будившее к подражанию. Читая такое, старому поэту оста¬
ется иной раз только недоумевающе качать головой по по¬
воду того, с какой детской прямотой копируют мальчики
свои любимые образцы, как далеки они от мысли, что их
уличат, что перья, которыми они украшают себя, выдают
читателю свое происхождение. Доверчиво заимствуются не
только стихотворная форма, интонация и словарь почитае¬
мого образца, перенимаются даже содержание и настрое¬
ние. Я только качаю головой, видя, с какой поразительной
наивностью и беспечностью очарованные и одержимые
мальчики заново и как можно более похоже пишут уже на¬
писанное.
Качая головой при виде этих молодых безобразников,
старики, однако, обычно забывают, как они сами вели себя,
когда были еще молоды и невинны. Так было и со мной,
354
когда я то с жалостливым юмором, то не без раздражения
смотрел на всех этих георге,.рильке и траклей. Но и в ста¬
рости можно кое-чему поучиться. На днях я убедился в
этом довольно неожиданным образом.
Из бумаг Адели ко мне попал небольшой листок, почти
шестидесятилетней давности, с написанными моим детским
почерком стихами. Это было стихотворение, которое я со¬
чинил лет в шестнадцать и подарил сестре. Стихи были без
заглавия:
Устали, умолкли волны,
Не слышно птиц в тишине:
Струнам владыки морского
Внимает рыбарь в челне.
Сосны склонили ветки.
Ветер уснул во мгле.
Деревня темна, и светит
Один маяк на скале.
А в море открытом с поклажей
Богатой плывут корабли.
И души плывущих в тумане
Тоскуют от дома вдали.
Как тихо кругом! Но скоро
Бури настанет час.
Пловцам помоги, о Боже,
Спаси, о Боже, и нас!
Я читал это со смущением. Сколько ребяческих стихов
прочел я со смесью умиления и изумления. Хоть и в силах
судить о них с точки зрения формы, но не в силах проник¬
нуться их детскостью, их наивной радостью подражания.
Теперь передо мной лежало мое собственное ребяческое
стихотворение, и оно было по меньшей мере таким же не¬
оригинальным, подражательным и заимствованным, как
любое стихотворение тех нынешних мальчиков, которые
переняли у своего Георге или Рильке, Лёрке или Бенна*
хотя бы радение о форме и стиле. Мое же стихотворение
было сочинено прямо по следам Эйхендорфа, а он хоть и
был большим и благочестивым поэтом, но в выражениях и
в стихосложении был довольно небрежен и нередко неряш¬
лив. У него было взято все, из чего состояло мое стихотво¬
рение, вялая схема стиха, картины, морской владыка, плы¬
вущие корабли, благочестивая концовка. Сам я ни разу не
\1* 355
видел ни плывущих кораблей, ни моря в тумане или в бу¬
рю, ни маяка, не слышал морского владыку, не испытывал
по вечерам потребности молить Бога о защите каких-либо
бедных путников. Если посмотреть на мое стихотворение
такими же глазами, какими я смотрел на первые стихи не¬
знакомых юнцов, то оно было насквозь эпигонским, книж¬
ным, ненастоящим, даже лживым. Мне следовало попро¬
сить прощения у бесчисленных мальчиков-стихотворцев и
признать, что сам я начинал в точности так же, как они. Я
еще раз говорил то, что давно сказано, в давно исчерпанных
формах, чужими словами, на заученный мотив, за этими
скверными стихами не стояло ничего пережитого, никакой
собственной мысли. Посрамленно и почти грустно держал
я в руке свои стихи.
Но то, что я держал в руке, было в конце концов не
только никуда не годным стихотворением. Оно принесло
мне не только стыд и уныние, но и нечто другое, лучшее —
такое движение души, словно я нашел свой собственный де¬
тский портрет. Даже сама бумага была заряжена тайными
силами, магией. Это была довольно плотная, с красноватым
оттенком бумага, которую я сразу узнал: это была та бу¬
мага, которая все мое детство и отрочество, если только я
не пользовался остатками упаковочной бумаги или изнан¬
кой почтовых конвертов, служила мне для рисования, жи¬
вописи и письма, самая дешевая писчая бумага, какая тоща
была в продаже, так называемая бумага для черновиков, по
пфеннигу за два полных листа, которая в те годы значи¬
лась, наверно, в любом моем списке желательных подарков
на день рождения или на Рождество. Ее никоща не было
вдоволь, и чем больше я в детские годы отходил от рисова¬
ния и живописи и увлекался сочинительством, тем эконом¬
нее обращался я с нею. Я перепробовал все способы делить
эти листы на части, и особенно нравилось мне делать из
них маленькие тетрадки, которые я брошюровал с помощью
иголки и ниток из швейных принадлежностей матери. Та¬
кая тетрадочка, заполненная написанными моей детской
рукой стихами или рассказами, служила затем в особые ча¬
сы нитяным подарком какому-нибудь другу, или матери,
или одной из моих сестер.
И при виде, при осязании этой бумаги, которая за шесть
десятков лет довольно хорошо сохранилась и даже не со¬
всем потеряла свой красноватый оттенок, вспомнились ме¬
ста, полные забытых картин: комната, ще я жил в то время,
356
письменный стол и стул, а также пол и коврик перед кро-
- ватью. И за всем этим мое бесславное стихотворение посте¬
пенно потеряло свою неприятность, это ведь было вовсе не
стихотворение, как на таковое на него не следовало смот¬
реть. Это был сувенир, оставшийся от моего столь же пре¬
красного, сколь и трудного, богатого пережитым, бурного и
нагруженного проблемами отрочества, когда сочинительст¬
во хоть и играло важную роль, но больше в том роде, в
каком в жизни ребенка играет главную роль игра. Если я в
своих никуда не годных стихах и пытался тоща подражать
Эйхендорфу или Гейбелю*, то суть была не в возникавших
стихах, а в самой игре, в подражании, в том, чтобы при¬
твориться взрослым, подделаться под взрослого, и не под
какого-то там любого взрослого, а под особенного, выдаю¬
щегося, знаменитого. Когда я в детстве пользовался инст¬
рументом больших и малых предшественников, беря их за
образец, когда заимствовал у них не только словосочетания
и рифмы, но и впечатления и чувства, я делал то же, что
делает ребенок, бегая по саду на своих даоих, но при этом
держа в ручках воображаемый руль и н1аслаждаясь иллю¬
зией, vro он управляет большим автомобилем со множест¬
вом цилиндров и н'есметным числом лошадиных сил. Как
ребенок воображает себя шофером и орудует его машиной,
так сочинитель на той ранней ступени воображал себя
Эйхендорфом и теребил струны его лиры. Кто видит в этом
глупое обезьянничанье, а то и воровство, тот просто брюзга,
не понимающий, что такое ребенок и игра.
Так вот, я был рад, что, кроме посрамления и вразум¬
ления, эта встреча с листком моей бумаги для черновиков
принесла мне и минуты воспоминания о временах, коща
жилось напряженнее и полнее. Тогда шла беспокойная, бо¬
гатая кризисами весна моей жизни, и если бы угрюмо-при-
дирчивый читатель заключил из моих романтических сти¬
хов, что у этого несерьезного мальчика нет собственных
чувств и собственных впечатлений, он сильно ошибся бы;
нет, волны той юной жизни вздымались высоко, дело дохо¬
дило до полной отрешенности, до глубочайшего горя, даже
до близости к смерти, и неудивительно, что мое любитель¬
ское сочинительство не только не было способно выразить
эти чувства, но и боязливо остерегалось даже касаться их
и размышлять по их поводу. То была пора, которую я де¬
сять лет спустя, тоже еще достаточно неуверенно, тоже еще
очень далекий от настоящего понимания и преодоления,
357
впервые попытался воссоздать в повести «Под колесами», В
истории и в образе маленького Ганса Гибенрата, чьим парт¬
нером и противником выступает его друг Гейльнер, я хотел
показать кризис той поры становления и освободиться от
воспоминаний о ней, и, чтобы при этой попытке чем-то за¬
менить отсутствовавшие у меня превосходство и зрелость,
я стал в позу обвинителя и критика тех сил, жертвой ко¬
торых становится Гибенрат и чуть не стал я сам, — школы,
богословия, традиции и авторитета.
Повторяю, мой школьный роман был предприятием
преждевременным, вот оно и удалось мне только отчасти.
А потому, когда позднее эта весьма бурно обсуждавшаяся
в свое время книга забылась — ее уже давно нет в про¬
даже, — я не был против того, чтобы мой маленький
школьный роман тихонько скрылся от глаз критики и моих
собственных, и махнул на него рукой.
Но удалась ли эта книга или не удалась, она содержала
кусок действительно прожитой и выстраданной жизни, а
такое ядро способно порой через удивительно долгое время
и в совершенно иных, новых обстоятельствах опять обре¬
тать действенность и излучать какую-то энергию. Это я не¬
ожиданно испытал не далее как через неделю после возвра¬
щения моих детских стихов. «Под колесами» недавно пере¬
вели в Японии. И вот пришло прекрасное, трогательное
письмо от одного молодого читателя, несколько экзальти¬
рованное юношеское письмо, написанное на довольно хо¬
рошем немецком языке, которое поведало мне, что пропав¬
ший без вести шваб Ганс Гибенрат стал снова ще-то в Япо¬
нии товарищем и утешителем какому-то молодому челове¬
ку. Привожу это письмо, опустив несколько лестных и эк¬
зальтированных фраз:
«Я гимназист из Токио.
Первое Ваше произведение, которое я прочел, — роман
«Под колесами». Я прочел его год назад. Я очень серьезно
думал тогда об одиночестве и находился, как Ганс Гибен¬
рат, в душевной смуте. Среди многих произведений я искал
то, которое соответствовало бы моему душевному состоя¬
нию. Нельзя описать, как велика была моя радость, коща
я нашел в том романе Вашего молодого героя. Я думаю, что
никто не поймет Вас, пока не испытает того же.
С тех пор я продолжаю читать Ваши произведения. Чем
больше я их читаю, тем глубже нахожу в них самого себя.
358
Теперь я твердо верю, что тот, кто понимает меня лучше
всех, находится в Швейцарии и всеща глядит на меня.
Пожалуйста, защищайте себя и оставайтесь здоровы».
То, что я в пору того эйхендорфовского стихотворения
испытал и вынес в старом кальвском доме, то, что я через
десять лет в том же доме попытался показать в своем ро¬
мане, — это не умерло, не пошло прахом; спустя полвека,
да еще через перевод на японский язык, оно заговорило с
одним борющимся и находящимся в опасности на пути к
самому себе молодым человеком и осветило ему часть этого
пути.
О СТАРОСТИ
Старость — это ступень нашей жизни, имеющая, как
все другие ее ступени, собственное лицо, собственную ат¬
мосферу и температуру, собственные радости и горести. У
нас, седовласых стариков, есть, как и у всех наших млад¬
ших собратьев, своя задача, придающая смысл нашему су¬
ществованию, и у смертельно больного, у умирающего, до
которого на его одре вряд ли уже способен дойти голос из
посюстороннего мира, есть тоже своя задача, он тоже дол¬
жен исполнить важное и необходимое дело. Быть старым —
такая же прекрасная и святая задача, как быть молодым,
учиться умирать и умирать — такая же почтенная функ¬
ция, как любая другая, — при условии, что она выполня¬
ется с благоговением перед смыслом и священностью вся¬
ческой жизни. Старик, которому старость, седины и бли¬
зость смерти только ненавистны и страшны, такой же не¬
достойный представитель своей ступени жизни, как моло¬
дой и сильный, который ненавидит свое занятие и свой
каждодневный труд и старается от них увильнуть.
Короче говоря: чтобы в старости исполнить свое назна¬
чение и справиться со своей задачей, надо быть согласным
со старостью и со всем, что она приносит с собой, надо ска¬
зать ей «да». Без этого «да», без готовности отдаться тому,
чего требует от нас природа, мы теряем — стары мы или
молоды — ценность и смысл своих дней и обманываем
жизнь.
Каждый знает, что старческий возраст приносит всякие
тяготы и что он кончается смертью. Год за годом надо при¬
носить жертвы и отказываться от многого. Надо научиться
359
не доверять своим чувствам и силам. Путь, который еще
недавно был маленькой прогулочкой, становится длинным
и трудным, и в один прекрасный день мы уже не сможем
пройти его. От кушанья, которое мы любили всю жизнь,
приходится отказываться. Физические радости и удоволь¬
ствия выпадают все реже, и за них приходится все дороже
платить. И потом, всяческие недуги и болезни, притупле¬
ние чувств, ослабление органов, различные боли, особенно
ночами, часто такими длинными и страшными, — от всего
этого никуда не денепп>ся, это горькая действительность.
Но убого и печально было бы отдаваться единственно этому
процессу упадка и не видеть, что и у старости есть свои
хорошие стороны, свои преимущества, свои утешения и ра¬
дости. Когда встречаются два старых человека, им следует
говорить не только о проклятой подагре, о негнущихся ча¬
стях тела и об одышке при подъеме по лестнице, но и о
веселых и отрадных ощущениях и впечатлениях. А таковых
множество.
Когда я напоминаю об этой положительной и прекрас¬
ной стороне в жизни стариков и о том, что нам, седовласым,
ведомы и такие источники силы, терпения, радости, кото¬
рые в жизни молодых не играют никакой роли, мне не по¬
добает говорить об утешениях религии и церкви. Это дело
священника. Но кое-какие дары, которые приносит нам
старость, я могу перечислить. Самый дорогой для меня из
них — сокровищница картин, которые носишь в памяти по¬
сле долгой жизни и к которым, когда твоя активность идет
на убыль, обращаешься с совершенно другим участием, чем
когда-ли^ прежде. Образы и лица людей, отсутствуюпщх
на земле уже шестьдесят-семьдесят лет, составляют нам
компанию, глядят на нас живыми глазами. Дом|, сады, го¬
рода, уже исчезнувшие и полностью изменившиеся, мы ви¬
дим целыми и невредимыми, как коща-то, и далекие горы,
взморья, которые мы видели в поездках десятки лет назад,
мы снова находим во всей их свежей красочности в этой
своей книге с картинками.
Рассматривание, наблюдение, созерцание все больше
становятся привычкой и упражнением, и незаметно настро¬
ение и позиция наблюдающего определяют все наше пове¬
дение. Гонимые желаниями, мечтами, влечениями, стра¬
стями, мы, как большинство людей, мчались через годы и
десятилетия нашей жизни, мчались нетерпеливо, с любо¬
пытством и надеждами, бурно переживая удачи и разоча¬
360
рования, — а сегодня, осторожно листая большую иллюст¬
рированную книгу нашей собственной жизни, мы удивля¬
емся тому, как прекрасно и славно уйти от этой гонки и
спешки и отдаться vita contemplativai. Здесь, в этом саду
стариков, цветет множество цветов, об уходе за которыми
мы прежде и думать не думали. Тут цветет цветок терпе¬
ния, злак благородный, мы делаемся спокойнее, снисходи¬
тельнее, и чем меньше становится наша потребность вме¬
шиваться и действовать, тем больше становится наша спо¬
собность присматриваться и прислушиваться к жизни при¬
роды и к жизни наших собратьев, наблюдая за ее ходом без
критики и не переставая удивляться ее разнообразию, иног¬
да с участием и тихой грустью, иногда со смехом, светлой
радостью, с юмором.
Недавно я стоял у себя в саду у костра, подбрасывая в
него листья и сухие ветки. Мимо колючей изгороди прохо¬
дила какая-то старая женщина, лет, наверно, восьмидеся¬
ти, она остановилась и стала наблюдать за мной. Я поздо¬
ровался, тоща она засмеялась и сказала: «Правильно сде¬
лали, что развели костер. В нашем возрасте надо постепен¬
но приноравливаться к аду». Так был задан тон разговору,
в. котором мы жаловались друг другу на всяческие боли и
беды, но каждый раз шутливо. А в конце беседы мы при¬
знались, что при всем при том мы еще не так уж страшно
и стары и вряд ли можем считать себя настоящими стари¬
ками, пока в нашей деревне жив еще самый старший, ко¬
торому сто лет.
Когда совсем молодые люди, с превосходством их силы
и наивности, смеются у нас за спиной, находя смешными
нашу тяжелую походку и наши жилистые шеи, мы вспоми¬
наем, как, обладая такой же силой и такой же наивностью,
смеялись коща-то и мы, и мы вовсе не кажемся себе по¬
бежденными и побитыми, а радуемся тому, что переросли
эту ступень жизни и стали немного умней и терпимей.
ЗАКЛИНАНИЯ
Когда я начинаю очередное свое «письмо по кругу» об¬
ращением «Дорогие друзья», мне следует сказать его полу-
^ Созерцательная жизнь Шт.).
361
чателям, что в первую очередь имеются в виду не они. Мои
маленькие отчеты адресованы прежде всего тому кругу со¬
временников и ровесников, с которыми я разделяю самые
живые и самые драгоценные воспоминания — воспомина¬
ния детства и юности. А из этих друзей уже почти никого
нет на свете, я обращаюсь в своих «письмах по кругу» боль¬
ше к умершим, чем к живым, это уже больше заклинания,
чем просто обращения, когда я говорю «Дорогие друзья».
Как ни мил мне тот или иной из моих молодых друзей, в
разговоре с ним мне все-таки не хватает чего-то, и если бы
мне пришлось выбирать, беседовать ли мне с умнейшим и
благороднейшим человеком нашего времени или с кем-то,
кто знал еще кальвского городского музыканта, гёппинген-
ского ректора Бауэра или маульброннского эфора Пальма*
и говорил с моим дедом, этот выбор дался бы мне нелегко.
А из тех немногих оставшихся, кто воочию видел эти ми¬
фические места, полные ярчайших картин, которые вечно
сияют и все же скоро погаснут, из тех нескольких одноклас¬
сников, двоюродных братьев и сестер, с кем можно было бы
поговорить о дедушке и о ректоре Бауэре, если бы они си¬
дели перед тобой, — из них то один, то другой уходит из
жизни, прошедший год отнял у меня и сделал недостижи¬
мыми страшно сказать скольких из них. Между тем — и
это, полагаю, нормальное и знакомое многим явление — со
смертью какого-либо члена этого узкого круга каждый раз
происходит процесс превращения и сублимации: умерший,
который хоть и был моим кальвским однокашником Теодо¬
ром, но был, кроме того, еще и старшим лесничим или ком¬
мерции советником, достопочтенным гражданином и чле¬
ном правления общины своего городка, отцом и дедом мно¬
гочисленного потомства, который в наши редкие встречи
поражал и даже отталкивал меня то ли своим громким,
приобретшим начальственные нотки голосом, то ли своим
стойким воинствующим национализмом или своими сужде¬
ниями об искусстве и литературе, он уже не отец и дед,
уже не тайный советник и фабрикант, нет, сняв с себя поз¬
днейшие наслоения, он непременно опять становится ис¬
ключительно однокашником, ничем больше не отталкивает
и не раздражает, а глядит на тебя голубыми мальчишески¬
ми глазами Теодора или Вильгельма, он вернулся в зал тех
ярчайших картин и принадлежит мне не меньше, а скорее
чуть больше, чем еще недавно, коща он был жив, носил
какие-то звания и отстаивал какие-то взгляды. У него уже
362
нет ни званий, ни взглядов, ни состояния, ни доброй или
дурной репутации, он снова целиком и полностью тот, ко¬
торый так ловко распутывал леску или крал голубиные
яйца. А потому и я, ставший иному товарищу юности более
или менее подозрительным то ли из-за своего образа мыс¬
лей, то ли из-за дошедших до него сплетен обо мне или
из-за своих успехов, званий и титулов, я тоже надеюсь,
что, когда отпадут все такие прикрасы, я опять стану для
членов этого узкого круга тем Гессе с Бишофштрассе, ко¬
торый часто развлекал класс своими шутками и о котором
ректор Вайцзекер* тогда говорил, что он не заслуживает,
чтобы на него светило солнце. Мы все, думается мне, и Тео,
и Вильгельм, или Август с ректором Вайцзекером, возвра¬
щаемся из блужданий нашей жизни в ту форму бессмертия,
какую я могу представить, в какой я даже уверен приме¬
нительно к нам, людям, и нашим делам: бессмертие это
проблематично и не обеспечено никакой догмой, но в иных
случаях оно оказывается довольно прочным, если тради¬
ция, предания, поэзия придадут человеческим фигурам, де¬
лам или событиям такую посмертную сохранность, которая
длится человеческий век, столетие, а то и тысячи лет. Так
пришли к бессмертию или к вневременности не только до¬
стопочтенный Бу^ра с Анандой* и Каундиньей*, не только
Алкивиад* или апостол Павел, но и Миртилл и Хлоя*, Эв-
палин и Телемах*, бедная девушка Офелия или вийонов-
ская толстуха Марго, ибо к этому проблематичному и все
же бесспорному бессмертию вымышленные, может быть,
персонажи причастны не в меньшей мере, чем лица исто¬
рические.
Довольно, обращаюсь к вам, которые еще живы и ждут
от меня привета и известий, и начну с Рождества. Первый
же и притом замечательный подарок увел меня далеко в
мир воспоминаний. Швабские родственники прислали мне
трогательную драгоценность — тетрадь, корнтальскую
школьную тетрадь 1857 года, почти столетнюю, на двад¬
цать лет старше, чем я, слегка пожелтевшую, но явно бе¬
режно хранившуюся в течение этих ста лет тетрадь обыч¬
ного школьного формата; но это, кажется, не совсем обыч¬
ная ученическая тетрадь, ибо для того времени и для Корн-
таля у нее просто роскошная, даже пышная обложка с об¬
рамлениями, псевдогототеским орнаментом, яркой цветной
картинкой и назидательным стишком на первой и на по¬
следней страницах, на первой — Тайная вечеря, ще среди
363
учеников можно узнать Иоанна и Иуду, а на последней —
Спаситель, между тремя оцепеневшими от ужаса стражами
и одним еще спящим, восстает с торжеством из могилы,
приветствуемый парящим в воздухе ангелом. На обеих вос¬
славляющих его картинках Иисус вышел хуже всех, хотя
и выделенный нимбом, он не производит хорошего впечат¬
ления. Но все оформление тетради следует назвать празд¬
ничным, либо такими роскошными тетрадями награждали
в знаменитом корнтальском заведении примерных учени¬
ков, либо они были в продаже, но тоща, конечно, воспи¬
танник мог их приобрести, только скопив карманные день¬
ги за несколько недель.
Так вот, эта роскошная в прошлом тетрадь была в 1857
году, коща она, еще новенькая, сияла яркими красками,
со^венностью моей пятнадцатилетней тогда матери и
сплошь красивым почерком, но донельзя убористо исписана
любимыми ее стихами, это некая личная антология, начи¬
нающаяся «Кубком» Шиллера. Еще полудетский, но уже
очень беглый почерк еще не обрел всей той красоты, кото¬
рой мы позднее любовались в ее письмах, но почерк несо¬
мненно ее. Если, судя по благочестиво-патетической об¬
ложке, следовало ждать сборника назидательных текстов,
то нашедший это сокровище, хранившееся несомненно в ве¬
ликой тайне, был бы разочарован; антология пятнадцати¬
летней девочки состоит целиком из светских, большей ча¬
стью красивых стихов'. За Шиллером, из которого выбрано
восемь стихотворений, следует Гёте, Уланд, Ленау, Ге¬
бель*, Кёрнер*, из Эйхендорфа и Рюккерта взято по одному
стихотворению, есть также «Лорелея» Гейне, «Гроза» Шва¬
ба и «Жертва за упокой» Маттисона, затем некоторые давно
забытые вещи, такие, как «Флорентийский лев» Бернгар-
ди*, длинная анонимная баллада «Виттекинд» и очень
длинное, на редкость замысловатое юмористическое стихо¬
творение Лангбейна* под названием «Приключение пасто¬
ра Шмольке и учителя Бакеля». Что касается Шиллера, то
мы знаем, что читать его стихи ученицам было строго за¬
прещено. Мы знаем также, что в расцвете своего гениаль¬
но-революционного периода «Бури и натиска» старший
брат матери Герман был восторженным читателем Шилле¬
ра и поддерживал оживленную переписку с сестрой.
Вся эта тетрадь, за исключением цветной обложки и ми¬
лого почерка ученицы, не стоила бы упоминания, если бы
к ней не было приложено еще кое-что, а именно несколько
364
листков того же формата, тщательно сшитых владелицей с
помощью иголки и ниток и тоже убористо исписанных сти¬
хами той же рукой, и здесь я не нашел ни Гёте, ни Матти-
сона, ни Лангбейна, все стихи были сочинены самой уче¬
ницей, стихи о девичьей дружбе и мечтательной грусти
юности, некоторые стихотворения на английском, одно —
на французском языке. Стихи относятся ко времени не
только Корнталя, но и возвращения матери в Индию, но
самые важные для меня восходят к институтской и интер¬
натской поре, они, при всей своей внешней небрежности
или шаблонности, полны сильного молодого чувства, осо¬
бенно боли и негодования по поводу потери самой любимой
подруги, которая сумела так настроить против себя учите¬
лей и начальство этого благочестивого заведения, что ее
выгнали из училища. Ах, об этом я уже десятки лет не ду¬
мал, и все же фигура этой подруги и мечты моей матери
показались мне такими знакомыми, словно и я там был.
Ведь еще во времена нашего детства она иногда, с улыбкой,
правда, но и не без волнения, рассказывала нам эту де¬
вичью историю. Подругу звали Ольга, она была самой кра¬
сивой, самой способной и самой боготворимой девушкой
старшего класса, и моя мать любила ее с такой восторжен¬
ностью и преданностью, с какой только в этом возрасте мо¬
гут относиться младшие, менее зрелые, испытывающие
болыпую потребность в любви к блестящим «взрослым» —
красивым, победительным, недосягаемым. Об этой истории
можно прочесть в биографии моей матери. Началась она с
того, что «взрослая» каким-то дружеским жестом выразила
свое сочувствие маленькой, когда та тайком плакала от то¬
ски по дому, а апогея достигла в тот день, когда Ольга сто¬
яла перед классом преступницей и исчадием ада и священ¬
ник клеймил ее за неслыханные грехи, а ученицам было
запрещено всяческое общение с ней. Теперь младшая, до¬
толе лишь робко молившаяся на старшую, посмела наконец
приблизиться к ней, любимой отныне вдвое сильнее, уте¬
шить ее и храбро стать на ее сторону. Преступление этой
грешницы состояло, разумеется, в Л1^езничании с каким-
то лихим юнцом из мужской школы. С отвагой и не без
какого-то наслаждения долю бойкота и поругания, которо¬
му подвергли ее подругу, обожательница приняла на с^я,
ибо давно уже восставала против училища и переживала
период неприятия церковности, полосу непокорности ду¬
ховной гордыни, за которые вскоре была наказана и грозно
365
унижена. Сама она горько сожалела об этом периоде тяги
к мирскому, гордыни и нам представляла его не иначе, как
промах. Но мы, дети, больше всего любили слушать ее, ког¬
да она, великая рассказчица, говорила об этой поре, и наши
симпатии принадлежали не Корнталю и не священнику, а
безусловно юным грешницам.
И вот, стало быть, в руках у меня листки, на которых
моя мать воспевала, восхваляла и оплакивала свои корн-
тал ьские радости и горести, своих подруг, но прежде всего
ту незабвенную Ольгу. Мне стыдно, что все это я давно за¬
был, и я рассказываю вам об этом, потому что мне хочется,
чтобы вы это знали и чтобы не забывались та горько-слад-
кая девичья весна и та Ольга.
Такой был самый замечательный и самый неожиданный
подарок из полученных мною на Рождество. Все другие, на¬
сколько они могут представлять для вас интерес, были свя¬
заны с моим последним, летним «письмом по кругу», с «Эн-
гадинскими впечатлениями» и упомянутой там фортепиан¬
ной пьесой Шумана «Птица-вещунья». В энгадинском
письме я признался в своей давней большой любви к этой
дивной пьесе, и вот от одной моей франкфуртской покро¬
вительницы пришла фотокопия авторской рукописи этого
сочинения. Зная, что рукопись хранится в Париже, дари¬
тельница не побоялась ни труда, ни расходов, чтобы зака¬
зать для меня снимки с нее. Но мало того, один берлинский
. пианист, также прочитавший то мое письмо, тоже решил
одарить меня этой птицей, он наиграл ее для меня на пла¬
стинку, которую и прислал мне. Я очень удивился. Но как
то обычно бывает с такими кустарными пластинками, раз¬
очарование не заставило себя ждать. Пластинка оказалась
слишком легкой и гибкой, нужен был почти невесомый ры¬
чаг, чтобы ее проиграть, все эксперименты с обоими моими
проигрывателями кончались неудачей, возникал только та¬
инственно затихающий жалобный шорох, и осталась мне
только нерадостная задача — написать дарителю вместе с
благодарностью отчет об этих безуспешных попытках. Мы,
все трое, были разочарованы и огорчены, Нинон, я и наш
гость из Гёттингена. Но не прошло и нескольких дней, как
Нинон поразила м^ня, сообщив, что «Птицу» все-таки мож¬
но проигрывать, и действительно, тонкая, неудобоиграемая
пластинка превратилась в пригодно твердую, мы ее тут же
поставили, и волшебно-прелестная пьеска Шумана, сыг¬
ранная Корто*, выпорхнула в рощу, древняя, вечно юная,
366
и маленькое это чудо остается навсеща моей собственно¬
стью. Мой гость, свидетель моего разочарования, исправил
пластинку тайком от меня.
Писем за время Рождества и Нового года накопилось
опять очень много, я кончил читать их только во второй
половине января. Среди писем оказалось много прекрас¬
ных, много серьезных и заслуживающих размышления. А
одно из них само по себе важным, конечно, не было, но
напомнило мне нечто забытое, о чем я и хочу рассказать
вам. Это восторженное письмо одного молодого северногер¬
манского идеалиста. Уже не помню, по какому поводу оно
было написано. Возможно, автор прочел какие-то мои скеп¬
тические или пессимистические высказывания и хотел
ободрить, утешить и переубедить меня. А может быть, он
просто хотел воспользоваться наступающим Новым годом,
чтобы изложить свое кредо и передать его мне как подарок
на праздник. Это было трогательное, милое, доверчивое,
наивное, ребяческое письмо с обращением «Глу^коуважа-
емый друг». Молодой человек отнюдь не отрицал, что мы
живем в трудное и суровое время, что в мире царят коры¬
столюбие, жажда наслаждений, материализм и существуют
атомные бомбы. Но, так казалось ему, если заглянуть в ду¬
шу жизни народов и мировой истории, если подумать о ве¬
ликолепной речи профессора М. и о будущем гуманизма, о
недавнем присуждении двух премий мира очень заслужен¬
ным людям или если присутствовать при том, как недавно
в С., при звуках Девятой симфонии Бетховена, по огром¬
ному залу прямо-таки зримо прошла торжественная волна
высокого порыва чувств, то уже нельзя сомневаться, что де¬
ла на земле идут к лучшему, что предстоит великое, пре¬
красное время, что оно, собственно, уже забрезжило и всем
людям доброй воли многообещающе светит его заря. Сча¬
стливая, высокая, но и ко многому обязывающая судьба —
жить в такое время, в такой звездный час, идти по жизни
заре навстречу и знать, что везде в мире, и на Западе, и на
Востоке, найдутся люди доброй воли, чтобы обуздать при¬
таившиеся силы тьмы, претворить в жизнь священные уче¬
ния вечных вождей человечества и добиться окончательной
победы добра.
То с улыбкой, то с грустью читая этот монолог благо¬
родного маркиза Позы*, вспоминая чуДссные стихи «Какое
счастье пальмовою веткой...», которыми такой же доверчи¬
вый идеалист приветствовал начало нового, лучшего века,
367
я без труда реконструировал возникновение такого доку¬
мента: у этого юноши было молодое, горячее сердце, у него
было два-три друга, разделявших его благородные убежде¬
ния, он слышал речь знаменитого профессора, слушал Де¬
вятую симфонию Бетховена, быть может, впервые, он не
только слушал ее, а пережил, не только пережил, а открыл,
чуть ли не сам сотворил, он выписывал какую-нибудь бла¬
городную гуманистически-пацифистскую газету, статьи ко¬
торой каждую неделю радовали его и укрепляли в его убеж¬
дениях, он никогда не читал газет по-настоящему, никогда
не утруждал себя сравнением числа подписчиков своего ли¬
стка с числом подписчиков большой газеты, из своих убеж¬
дений, из своих друзей, из Шиллера и Бетховена, из статей
своего сулящего мир еженедельника он, конечно не созна¬
вая того, создал себе атмосферу, в которой чувствовал себя
как нельзя лучше, и, поскольку он чувствовал себя именно
так, как могли дела мира обстоять тревожно и скверно, раз¬
ве не произносились замечательные речи, разве их де слу¬
шали и не принимали к сердцу благочестивые общины, раз¬
ве не исполнялась великолепная музыка, разве прекрасная
божественная искра Шиллера и Бетховена не пылала в
юных сердцах? Нет, негоже было все время каркать насчет
опасности войнь^и атомного оружия, верить в формулы фи-
зиков-ядерщиков или, того хуже, честолюбивых политиков
и заражаться тошнотворным пессимизмом и нигилизмом
экзистенциалистов.
Своим мировоззрением этот милый юнец провозглашал
прекрасный, сияющий молодостью, великолепно благоче¬
стивый, великолепно глупый идеальный оптимизм. Краски
были нанесены довольно ярко, довольно густо, в построении
была какая-то неоригинальность, безличность, за этим уга-
- дывался какой-то заимствованный катехизис, образец,
шаблон, угадывалась какая-то слишком красивая, сшппком
непроверенная популярная философия, ответственность за
которую несли не Шиллер, не Бетховен, а скорее опреде¬
ленные теории, указывающие миру путь к спасению, сочи¬
нения, сотнями выходившие с тех времен человека с паль¬
мовой ветвью и проглатывавшиеся миллионами читателей,
сочинения с такими заглавиями, как «Болезнь нашего вре¬
мени и ее лечение», или «Простой путь к счастью на нрав¬
ственной основе», или «Вновь обретенный рай на почве ра¬
циональной культуры тела и духа» и тому подобные бро¬
шюры, стало быть, и толстенные тома множества забытых
368
или еще деятельных спасателей, сочинения, волшебство ко¬
торых для нашего брата довольно прозрачно и сомнительно,
но которые в устах какого-нибудь новообращенного, благо¬
родного, восторженного и самоотверженного юноши могут
обрести некую прелесть и свежесть.
Я читал это красивое и полное добрых намерений пись¬
мо, повторяю, не без растроганности, но и с долей иронии,
так, примерно, как, вероятно, смотрел Генрих Гейне на де¬
вичье лицо, о котором он пел: «Цветешь ты словно лан¬
дыш», а потом «И я готов молиться о том, чтоб ты была так
же всегда прекрасна, чиста, мила»^ Что-то во мне проти¬
вилось тому, чтобы хотя бы мысленно высмеять это наивное
простодушие, а перечитав письмо на другой день, я вдруг
испугался, и у меня словно пелена с глаз упала. Закрыв
глаза, я увидел некую комнату и некую сцену, которые ви¬
дел в молодости и потом совсем, казалось, забыл. Я увидел
большую, мрачноватую, высокую комнату, с обеих сторон
уставленную множеством доходящих до потолка и битком
набитых книгами полок, спереди, в более светлой части
комнаты, стояли два письменных стола с чернильницами и
деревянными ящичками, полными расположенных в алфа¬
витном порядке карточек каталога. Это был букинистиче¬
ский магазин на Пфлуггеслейн в Базеле, где я когда-то чуть
дольше года ходил в учениках. Хозяином его был седо^-
родый старый холостяк, приятный, спокойный старик, ко¬
торого я гораздо чаще встречал в некоторых пивных и у
бильярдных столов «Аиста», чем в его книжной лавке. Бу¬
кинистическим магазином много лет ведал его фактотум,
господин Юлиус Баур*, родом из Штекборна, чьим учени¬
ком и помощником я с недавних пор там работал. Юлиус
Баур тоже был холостяк, несколько моложе своего патрона,
но холостяк-оригинал, и один из самых чистых, самых до¬
брокачественных, правдивых и милых людей, каких я знал.
От него я многому научился, прежде всего по профессио¬
нальной части, ибо он был не только идеальный букинист,
знакомый со всеми подсобными средствами библиографии
и всеми ее правилами игры, владевший многими языками
и на многих необычайно много читавший, любитель осо¬
бенно старинной итальянской и французской литературы,
^ Из цикла «Возвращение на родину». Т. I. М., ГИХЛ, 1980, с. 141.
(Пер, З.Морожиной)
369
он был, кроме того, опытный турист, знаток чуть ли не всех
долин Швейцарии. Ибо у него было две большие страсти —
язык и мир книг, с одной стороны, и, как противовес, дол¬
гие походы пешком по своей родине. И если в мир книг он
проникал, делая его обозримым всеми средствами библиог¬
рафии, то как турист он был не только выносливым пеше¬
ходом, но и искуснейшим следопытом, прекрасно ориенти¬
ровавшимся по картам и всегда вооруженным самыми луч¬
шими и новыми картами (тогда они назывались Дюфур и
Зигфрид), а кроме того, он был полон интереса и любопыт¬
ства к языкам, говорам и местным историям. Если бы я по¬
мнил все, что он в хорошие часы рассказывал мне об обы¬
чаях и праздниках, названиях, связанных с полеводством
и домоводством, языковых островах, разновидностях изго¬
родей, об этимологии кличек коров и быков, я мог бы пол¬
ностью удовлетворить спрос швейцарского радио на фоль¬
клористику. И, живя как схимник, обходясь почти только
хлебом и водой, он был расточитель и большой барин, когда
дело касалось его туристского снаряжения, особенно карт и
путеводителей, он добывал каждый новый выпуск офици¬
альных географических карт и отдавал каждый новый лист
переплетчику, чей материал и работу придирчиво прове¬
рял, для наклеивания на самое лучшее полотно. Он расска¬
зал мне об одном священнике из горной долины, сочинив¬
шем хвалебную песнь во славу своей местности. Помню на¬
чало этой длинной дидактической поэмы:
Сей дол — овал,
Он мил и мал,
В нем — минерал...
Старые книги и новые географические карты, букини¬
стическое кладоискательство и походы пешком — вот две
области, в которых этот немолодой отшельник знал толк,
во всем остальном он, при большом уме, был дитя. Его при¬
страстие ко всему романскому и итальянскому не знало ме¬
ры, и о коллегах, как-то преуспевших в Италии, таких, на¬
пример, как Ульрико Хёпли* или Ольшпи* во Флоренции,
он говорил с восхищением, даже с почтением. А однажды,
в особенно задушевную минуту, он признался мне, что не
сбылось его самое большое в жизни желание — быть жите¬
лем не кантона Тургау, а кантона Граубюнден.
370
Перейдя, как мне давно хотелось, из отдела розничной
торговли в букинистический, я ворвался, в сущности, на¬
рушителем спокойствия в мирный уют этой старой обители,
чей Иероним любил одиночество, которым он много лет
почти без помех наслаждался, ибо его шеф захаживал туда
лишь изредка, и так же редко забредал в эту узкую улочку
и поднимался по трем ступенькам в его убежище какой-ни-
будь покупатель. Но если мое появление было ему в тя¬
гость, а поначалу по крайней мере так оно, без сомнения,
и было, то мне этого никак не дали почувствовать. Юлиус
Баур был самым любезным и добродушным человеком, ка¬
кого можно вообразить, он с самого начала и до последнего
дня смотрел на меня лишь с доброй улыбкой и обращался
со мной не иначе, как по-братски и по-товарищески, и если
я ежедневно извлекал пользу из его превосходящего знания
и умения, то он, конечно, чуть ли не стыдился своего пре¬
восходства и по мере сил скрывал его. Таким он был со все¬
ми, он не способен был причинить кому-либо боль или хотя
бы кого-либо презирать. Он производил впечатление чуда¬
коватого, погруженного в свои мысли отшельника, не зна¬
ющего ни норм поведения, ни жизни, а за его покорной,
приветливой и робкой улыбкой таился высокого полета
мудрец. Я был слишком юн и слишком эгоистически уст¬
ремлен к собственным целям (в конторке, стоявшей в ком¬
нате, которую я снимал, лежала полуготовая рукопись «Пе¬
тера Каменцинда»), чтобы оценить по достоинству этого
смиренного мудреца, но я с самого начала любил его, и мне
довольно часто бывало стыдно, когда он словно бы не заме¬
чал моего опоздания после какого-нибудь ночного кутежа
или моей отлучки на чердак, где я пытался немного навер¬
стать недостаток сна. Мой начальник и учитель был с каж¬
дым одинаково любезен, с каждым одинаково приветлив и
терпелив, поэтому я никак не мог бы сказать, любил ли он
меня, как я его. Но иногда мне все-таки казалось, что мы
стали друзьями, особенно в те нечастые часы, когда у нас
случались доверительные и откровенные разговоры.
Не заболтался ли я, не слишком ли затянул воспомина¬
ния о своем дорогом товарище и наставнике? Не думаю. Ду¬
маю, что его память заслуживала бы гораздо более объеми¬
стой дани. И я многое отдал бы за его портрет. Фотографи¬
роваться было тогда торжественным делом, на которое он,
наверно, ни за что не решился бы. Но у меня есть милый
и драгоценный сувенир от него, подарок, который он сделал
371
- на мою свадьбу. Это была, конечно, книга, старинная и ред¬
кая, первое издание писем Пьетро Аретино*, ин-кварто, на¬
печатано у Франческо Марколини в Венеции в 1538 году.
Моей отправной точкой было новогоднее письмо того
юного идеалиста, трогательное и немного забавное, и те¬
перь я расскажу, какую сцену совершенно внезапно напом¬
нило мне при втором чтении одно словцо в этом письме —
словцо о «победе добра». Трогательное и глупое словечко,
я и сам в базельские годы своей юности усвоил его и с па¬
фосом произнес, причем не при каком-нибудь приятеле-
сверстнике, а как раз в разговоре с незаметным мудрецом
и святым Юлиусом Бауром. Вообще-то у нас не было при¬
вычки вести мировоззренческие разговоры, но один раз та¬
кой разговор получился, не столько даже разговор, сколько
монолог, ибо говорил я, а тот был дружески-терпеливым
слушателем. Повод я забыл, каким-то образом беседа под¬
вела нас к теме мировой истории, начало разговора осеня¬
ла, вероятно, тень Гегеля или Якоба Буркхардта. Короче,
я быстро, вошел в раж, поскольку в то время жил еще, в
общем-то, в германлаушеровском настроении и, кроме чем-
берленовских «Основ XIX века»*, почти еще не читал по¬
добных толкований истории, и тут меня, юнца, понесло ви¬
тийствовать о добре и благородстве, и чем приветливее мол¬
чал мой собеседник, слушая с опущенной головой мою ве¬
ликолепную речь, тем прекраснее и пышнее расцветала
она, становясь неким символом веры или, точнее, неким
извержением чувств в защиту высшего назначения челове¬
ка и смысла мировой истории, а смысл ее я четко определял
в своем пламенном дифирамбе как «победу добра над под¬
лостью», и именно эти слова о победе добра в письме моего
молодого читателя задели и всколыхнули меня, мгновенно
воскресив букинистическую лавку, милого Юлиуса Баура,
весь тот базельский мир, и прежде всего тот предполуден-
ный час, когда я точно так же противостоял своему слуша¬
телю, как сегодня мой корреспондент — мне. Я снова явс¬
твенно увидел тощую фигуру и приветливо-морщинистое
лицо этого холостяка, увидел его добрые, тихие глаза за
очками в никелевой оправе, его вежливо-снисходительную
усмешку и даже вновь ощутил что-то от хмельного напора
той речи. Ведь я же тогда впервые решил открыть своему
коллеге, своему старшему соотшельнику среди высоких
пыльных стен книг самое сокровенное и лучшее, что было
во мне. По мере того как слова лились у меня все легче и
372
обильнее, я становился все увереннее в своей мнимой пра¬
воте, говоря, я совершал то, чего никак бы не совершил,
просто-напросто думая, и я не сомневался, что достигну
вожделенной цели своих усилий, что мой учитель и друг
радостно согласится со мной и разделит мою веру в победу
добра.
Этот милый человек слушал мою песнь, слегка опустив
голову, добрая улыбка не сходила с его лица, ни одно слово,
ни один жест нетерпения или противоречия не прерывали
меня, улыбка и выражение доброжелательности на его мор-
пщнистом лице, казалось даже, усиливались, делались все
светлее и приятнее. И поэтому закончил я свое толкование
мировой истории вопросом: «Все, стало быть, очень ясно —
вы, конечно, тоже исповедуете мою веру?» Тут он медленно
поднял ко мне лицо, улыбнувшееся все той же добрейшей
улыбкой, и молча покачал головой, вернее, три-четыре ра¬
за очень медленно и осторожно повернул ее направо и на¬
лево. Я в первый миг принял это бессловесное «нет» почти
недоверчиво, так надеялся я и верил, что сказал правду и
убедил его, впрочем, он и сам давно наверняка был того же
мнения. Лишь постепенно дошло до меня, что это привет¬
ливое покачивание головой на самом деле означает твердое
и решительно^ «нет», и что за этим «нет» стоит вера или
неверие, не нуждающиеся ни в каких аргументах и ни в
каком красноречии, и что эта сперва непонятная мне вера
или неверие тверже и содержат больше реальности, чем вся
моя многословная философия истории. И если бы сейчас
мой корреспондент стоял передо мной, мой ответ на его во¬
сторженный оптимизм был бы таким же, какой дал мне ког¬
да-то мой учитель Баур. Я не противоречил бы, я бы только
приветливо покачал головой. Не то чтобы я не верил в що-
бро» и в его великий смысл и великую ценность! Добро бы¬
ло нерушимо, оно было так же реально и действенно, как
зло и подлость. Но можно ли назвать это «победой»? Нет,
эти бравурные слова надо оставить юнцам. Множество мыс¬
лей возникает у меня, когда я думаю о своем букинисте, о
котором так долго не вспоминал. В нашем духовном хозяй¬
стве часто творятся странные вещи. Например, когда я
тридцать лет назад писал «Сиддхартху», фигура перевоз¬
чика Васудевы никак не связывалась в моих мыслях с кем-
либо из лично мне знакомых людей, и уж, безусловно, не
с Юлиусом Бауром. А сегодня мне кажется, что в образе
Баура я действительно встретил однажды в жизни этого
373
мудрого перевозчика и был только слишком незрелым, что¬
бы это заметить. Ведь все, что случается с нами, может об¬
ретать смысл. Для меня смысл и веление письма этого слав¬
ного юного мечтателя состояли в том, чтобы напомнить мне
одну благородную и непонятным образом почти забытую
фигуру моей собственной юности и дать мне возможность
вновь плодотворно встретиться с ней. О мертвые друзья,
как вы бессмертны, как способны вы оживать снова и снова,
принося счастье и боль!
Тут мне приходит на память друг Целлер*, умерший в
прошлом году восьмидесяти трех лет от роду, кое-кто из
вас знал его, он храбро и без жалоб пережил гибель Ульма
и всего своего имущества, в том числе множества драгоцен¬
ных реликвий, связанных с Мёрике, а к тому же два пере¬
селения и, наконец, смерть жены. Друг Целлер — человек
безупречный, одна из тех замечательных швабских фигур,
в которых непоколебимая храбрость и неисчерпаемая до¬
брота уживались со счастливым юмором. С тех пор как от
него перестали приходить письма, с тех пор как я не могу
посылать ему свои работы и приветы, в моей жизни чего-то
не хватает. Этот могучий, бесстрашный, стойкий и всегда
бодрый старик в последние годы все сильней уставал и те¬
рял слух, после смерти жены он очень ослабел, одряхлел и
становился все печальнее, под конец он почти оглох, его ум
начал меркнуть, но в его последних, с трудом нацарапан¬
ных, часто почти неразборчивых письмах снова блистатель¬
но вспыхивал в каком-нибудь неожиданном выражении.
Последний проблеск живого ума дошел от него до меня че¬
рез письмо моего двоюродного брата Вильгельма. Он, ду¬
маю, не будет возражать, если я не стану разбавлять это
последнее свидетельство пересказом, а приведу вам его соб¬
ственные слова. Он написал мне: «В У. мы застали смерть
и похороны доброй госпожи Целлер. Дела твоего старого
друга плохи. Он просто не знает, что ему делать, он сидит
как арестант в камере, не может читать и почти не слышит.
Но в своей основе он велик и добр как всегда, и в день по¬
хорон, когда остальные вернулись с кладбища — сам он не
мог поехать туда, — он сидел как король среди своих род¬
ных. В его сумбурных порой словах слышен был дух, воз¬
несшийся над мечтателями земной жизни. На какой-то мой
незначительный вопрос, которого он не понял и который
истолковал по-своему, он ответил, приподняв как бы для
374
разъяснения голову и левую руку: «Я всегда за самое сме¬
лое решение». Я ушел с этим как с завещанием».
ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
Настроение и какая-то неплотная консистенция заката
дней таковы, что жизнь сильно утрачивает реальность или
близость к реальности, что реальность, и вообще-то доволь-
но-таки невидимое измерение жизни, становится тоньше и
прозрачнее, что она уже не притязает на нас с прежней на¬
стойчивостью и бесцеремонностью, что с ней можно теперь
говорить, играть, договариваться. Реальность для нас, ста¬
риков, уже не жизнь, а смерть, и ее мы не ждем откуда-то
извне, а знаем, что она сидит в нас; мы, правда, вовсю со¬
противляемся недугам и болям, которые приносит с собой
ее близость, но не сопротивляемся ей самой, мы ее приня¬
ли, и если мы бережем и холим себя несколько больше, чем
прежде, то заодно мы бережем и холим ее, она с нами и в
нас, она — наш воздух, наша задача, наша реальность.
При этом мир и действительность, некогда окружавшие
нас, теряют очень большую долю реальности и даже веро¬
ятности, они перестают быть чем-то само собой разумею¬
щимся и непреложным, мы можем их то принимать, то от¬
вергать, у нас есть известная власть над ними. Повседнев¬
ная жизнь приобретает благодаря этому какую-то несерь¬
езную сюрреалистичность, старые, прочные системы уже не
в той силе, аспекты и акценты сместились, прошлое воз¬
росло в цене сравнительно с настоящим, а будущее нас во¬
обще уже не интересует всерьез. Поэтому наше поведение
в быту приобретает с точки зрения разума и прежних пра¬
вил какую-то безответственность, несерьезность, забав¬
ность, о таком поведении люди говорят «впал в детство».
Эти слова во многом верны, и я не сомневаюсь, что, часто
поневоле и не замечая того, реагирую на окружающий мир
по-детски. Но такие реакции, по моему наблюдению, от¬
нюдь не всегда безотчетны и бесконтрольны. Старые люди
могут поступать по-ребячески, непрактично, невыгодным
для себя образом и вполне (или наполовину) сознательно и
с таким же примерно удовольствием от игры, какое испы¬
тывает ребенок, когда говорит с куклой или только волшеб¬
ством собственного настроения превращает материнский
375
огородик в населенный змеями, тиграми и враждебными
индейскими племенами девственный лес.
Вот пример. На днях, утром, прочитав почту, я вышел
в сад. Я говорю «сад», но на самом деле это довольно крутой
и очень запущенный травянистый склон с несколькими тер¬
расами виноградника, ще лозы, правда, хорошо ухожены
нашими старыми работниками, но все прочее проявляет
сильную тенденцию вновь превратиться в лес. Где еще два
года назад был луг, трава теперь редкая и с плешинами,
вместо нее растут анемоны, купина, вороний глаз, черника,
а кое-где уже ежевика и вереск и везде между ними пуши¬
стый мох. Чтобы спасти луг, нужно было бы пустить сюда
овец, которые выщипали бы этот мох со всеми соседними с
ним растениями и утоптали бы копытами землю, но овец у
нас нет, да и удобрений на спасенный луг не хватило бы,
и потому цепкие корни черники и ее приятелей из года в
год все глубже вгрызаются в луг, превращая его землю сно¬
ва в лесную почву.
В зависимости от настроения я смотрю на это обратное
превращение с негодованием или с удовольствием. Иногда
я принимаюсь за какой-нибудь участок умирающего луга,
добираюсь до размножившихся дикарей граблями и паль¬
цами, безжалостно вычесываю подушечки мха из забитой
ими травы, набираю целую корзинку вырванных с корнем
стеблей черники, нисколько не веря в полезность этой де¬
ятельности, да ведь и вся моя работа в саду превратилась с
годами в отшельническую игру без какого-либо практиче¬
ского смысла, то есть смысл имеет она только для меня од¬
ного, как средство гигиены и самосохранения. Когда боль в
глазах и голове становится невыносимой, мне нужна какая-
то смена механической деятельности, какая-то физическая
перестройка. Придуманная мною за долгие годы для этой
цели мнимая работа садовника и углежога служит не толь¬
ко такой отдохновенной перестройке тела, но и медитации,
помогает прясть дальше нити фантазий и сосредоточивать¬
ся на каких-то движениях души... Иногда, стало быть, я
пытаюсь немного помешать превращению моего луга в лес.
Иной раз я останавливаюсь перед валом, который мы двад¬
цать с лишним лет назад насыпали на южном краю усадь¬
бы, он состоит из земли и бесчисленных камней, выкопан¬
ных при рытье канавы для защиты от подбирающегося леса,
и был когда-то засажен малиной. Теперь этот вал зарос
мхом, лесными травами, папоротником, черникой, и уже
376
несколько вполне внушительных деревьев, в частности те¬
нистая липа, стоет там форпостами напирающего опять ле-
'са. В это особое утро я ничего не имел ни против мха и
меткой заросли, ни против одичания и леса, я смотрел на
буйство дикой природы с восхищением и удовольствием. А
на лугу везде высились молодые нарциссы, с мясистыми ли¬
стьями, еще не совсем расцветпше, с еще закрытыми ча¬
шечками, еще не белыми, а желтоватыми, цвета фрезий.
Я медленно шел через сад, смотрел на молодые, бурые,
просвечиюемые утренним солнцем листья роз и на голые
стебли только что высаженных георгин, между которыми с
неукротимой жизненной силой устремлялись вверх толстые
стволы чалмовидных лилий, слышал, как ще-то внизу гре¬
мит лейками верный мой виноградарь Лоренцо, и собирался
заговорить с ним, чтобы обсудить всякие садоводческие де¬
ла. Медленно спускался я по склону от террасы к террасе,
снаряженный кое-какими орудиями, радовался гиацинтам
в траве, которые я много лет назад сотнями рассеял по скло¬
ну, думал, какую грядку в этом году отвести цинниям, с
радостью видел прекрасно расцветший желтофиоль и с не¬
удовольствием — просветы и поломки в плетне, ограждав¬
шем верхнюю компостную кучу, которую сплошь окрасили
в дивный красный цвет опавшие лепестки камелий. Я спу¬
стился до самого низа, до ровного уже огорода, поздоровал¬
ся с Лоренцо и начал затеянный разговор с вопроса о том,
как он и его жена чувствуют себя, и с обмена мнениями о
погоде. Хорошо, что пойдет дождичек, заметил я. Лоренцо,
однако, который со мной почти одних лет, оперся на лопа¬
ту, искоса взглянул на бегущие облака и покачал седой го¬
ловой. Сегодня дождя не будет. Конечно, точно сказать
нельзя, бывают и неожиданности, хотя... и он еще раз хитро
покосился на небо, энергично покачал головой и закончил
разговор о дожде: «No, signore».
Мы заговорили об овощах, о новопосаженном луке, я
все очень хвалил и повернул беседу к занимавшему меня
делу. Ограда компостной кучи там, наверху, долго не про¬
держится, я советовал бы ее обновить, не сейчас, конечно,
коща хлопот невпроворот, а может быть, этак к осени или
к зиме? Он согласился, и мы нашли, что если уж он при¬
ступит к этой работе, то надо бы обновить не только пле¬
тень из зеленых каштановых веток, но заодно уж и колья.
Они, правда, годик еще простоят, но все-таки лучше бы...
Да, сказал я, и раз уж мы заговорили о компостной куче,
377
то мне хотелось бы, чтобы он осенью не отдавал снова всю
хорошую землю верхним грядкам, а оставил мне немного
для цветочной террасы, хотя бы тачку-другую. Хорошо, а
еще не забыть бы нам пустить в этом году больше земли
под клубнику и расчистить для нее нижнюю грядку, у за¬
бора, пустующую уже несколько лет. И вот так то мне, то
ему приходило на ум какое-нибудь хорошее или полезное
дело — на лето, на сентябрь, на осень. И когда мы все это
как следует обсудили, я пошел дальше, а Лоренцо снова
принялся за работу, и мы оба были довольны результатами
своего совещания.
Ни одному из нас не пришло в голову некстати упомя¬
нуть о прекрасно известном обоим нам обстоятельстве, что
помешало бы нашему разговору и сделало его напрасным.
Мы просто и добросовестно или почти добрскойсстно вели
переговоры друг с другом. И все же Лоренцо не хуже, чем
я, знал, что этот разговор с его славными замыслами не
задержится ни в его, ни в моей памяти, что самое большое
через две недели мы оба начисто забудем его, за несколько
месяцев до починки плетня и до расширения посадок клуб¬
ники. Наш утренний разговор под не склонным к дождю
небом велся исключительно ради него самого, он был игрой,
дивертисментом, чисто эстетическим предприятием без ка-
ких-либо последствий. Для меня было удовольствием по¬
глядеть в доброе, старое лицо Лоренцо и стать объектом его
. дипломатии, которая ставит перед партнером, не принимая
его всерьез, стену великолепнейшей вежливости. К тому же
у нас как у сверстников есть чувство братства друг с другом,
и, если один из нас вдруг особенно сильно хромает или осо¬
бенно мучится с опухшими пальцами, об этом хоть и не
говорится, но другой понимающе и с легким превосходст¬
вом улыбается, испытывая на сей раз чувство известного
удовлетворения на основе солидарности и симпатии, при¬
чем каждый не без удовольствия чувствует себя более бод¬
рым в данный момент, но мысленно с грустью предвосхи¬
щает тот день, когда другой уже не будет стоять рядом с
ним.
И каждый раз, говоря с Лоренцо, я вспоминаю Натали-
ну, которая похоронена уже больше десяти лет назад и по¬
сле смерти которой я впервые в своем саду, за своей игрой
с садовой работой испытал то горьковатое чувство пустоты
и тщетности, что стало со временем таким мне знакомым.
Кстати, что касается сада, то Наталина и Лоренцо отнюдь
378
не были единомБшшенниками и друзьями, а смотрели друг
на друга зоркими, недоверчиво-насмешливыми глазами
критика-конкурента. Он, крестьянин, был чернорабочим,
его дело было копать, таскать воду и камни, заострять и
вбивать колья, рубить деревья. А она, маленькая, изящная,
ловкая, необыкновенно речистая, проявляла в общении с
растениями такую же одаренность и добивалась таких же
успехов, как у кухонной плиты, под ее нежно-заботливыми
руками принимался самый безнадежный отводок и коре¬
шок, и по сей день там и тут стоят памятники ее чуткого
садовнического искусства: старомодная столистная роза,
гигантская гортензия, несколько стеблей морозника, пре¬
красная белая лилия. Нельзя забьпъ ее, она помогала со¬
хранить и украсить наши лучшие годы, она была моей эко¬
номкой в мое затворническое время, была нашей верной
служанкой и верным товарищем после моей женитьбы и по¬
стройки дома. Ах, как умела она выражаться! Ее метких
словечек, ее красиво и сжато построенных фраз не посты¬
дились бы ни Манцони*, ни Фогаццаро*, а некоторые ее
классические изречения цитируются у нас и сегодня. На¬
пример, по поводу большого рыжего кота, которого она по¬
сле завершения строительства дома хотела взять на не¬
сколько дней напрокат, чтобы отпугнуть мышей, но кото¬
рый тут же сбежал, придя в ужас, по мнению Наталины,
от великолепия наших новых хором. «Malui, spaventatodi
tanto lusso, scappava». To есть: «Но он, испуганный такой
роскошью, обратился в бегство».
На Пасху я в этом году слушал по радио «Страсти по
Матфею». Это сакральное празднество я воспринимаю
каждый раз несколько по-другому, ведь начиная с детских
лет, коща я задолго до конца первой части успевал съесть
полученную от матери шоколадку и еле выдерживал мно¬
гочисленные повторения в ариях и хорах, особенно в за¬
ключительном хоре, потому что такое долгое пассивное
сидение было мне еще не по силам, у этого впечатления
было столько предшественников, что воспоминания о нем
наплывают роями и накладываются одно на другое. Но
среди них ранние — самые яркие, это несовершенные тех¬
нически, но глубоко прочувствованные исполнителями и
слушателями «Страсти» в кальвской церкви под управле¬
нием моего дяди Фридриха, у которого были красивые
темные глаза моей матери и в церковном хоре которого
пели мои сестры и родственницы. С наибольшей точно¬
379
стью сохранила моя музыкальная память то исполнение,
коща оба моих старших брата пели партии Евангелиста и
Христа и когда я уже поборол томительное детское нетер¬
пение первого раза. Кто бы в бесчисленных позднейших
«Страстях», которые я слушал, ни пел Христа и Евангели¬
ста, все равно в определенных местах мне каждый раз сно¬
ва слышались голоса и произношение моих братьев. За¬
помнились также со множеством подробностей некоторые
исполнения под управлением моего друга Фолькмара Ан-
дреэ*: первое исполнение «Страстей по Матфею» в Ита¬
лии, в Милане, оттуда пошли мое знакомство и многолет¬
няя дружба с Илоной Дуриго; затем, много позднее, то,
другое, которое Андреэ мужественно провел, когда его
мать, дорогой и для нас, его друзей, человек, лежала на
смертном одре, и то, когда я в последний раз слышал голос
Илоны Дуриго, незадолго до ее смерти.
Из всех христианских праздников Пасха уже десятки
лет единственный, который я встречаю с чувством кротости
и благоговения, с этим праздником связаны и милая ро¬
бость начала весны, и воспоминания о родителя^, о поисках
яиц в садике под кустами сирени, о музыке Баха, о настро¬
ении времен моей конфирмации, о споре между благогове¬
нием перед набожностью моих родителей и первой непри¬
язнью к догматической, привязанной к церкви вере, пер¬
вым возражением против нее. Это метание между благого¬
вением и бунтом, как уже десятки лет, когда я слушаю
«Страсти» Баха, снова потихоньку оживает во мне, оно то
ipycTHo, то иронично. Благоговение вызывают у меня тогда
страдания Иисуса, его борьба в Гефсиманском саду, а моя
критика направлена против некоторых мест текста и осо¬
бенно против учеников. Не только в том беда, что они спа¬
ли, коща Учитель в одиночестве боролся в последнем боре¬
нии! Сон в конце концов можно было понять и простить,
он шел не только от лености и от страха перед невыноси¬
мым, в нем была и какая-то детскость, естественность. Но
что один ученик предал Учителя, другой, «камень», отрекся
от него* и что в их кругу возникла такая лихорадочная, не
исключающая раздоров и спора о чинах атмосфера поисков
чуда, создания легенд и основания церквей — это в изве¬
стные периоды моей жизни сильно настраивало меня про¬
тив учеников, и несколько раз, дело давнее, такой крити¬
ческий взгляд даже умерял мои торжественные чувства при
звучании «Страстей». Как будто ученики в баховских
380
«Страстях» или на картинах и скульптурах, изображающих
распятие, действительно те же самые, что в протестантской
истории догм и критике Библии! Как будто, слушая рассказ
об отречении Петра, я не проникался его страхом, его сму¬
щением, его ужасным стыдом и раскаянием куда сильнее,
чем страданиями Иисуса! Но этот спад моего благоговения
под воздействием критических импульсов был ведь не чем
иным, как подергиванием в рубце, который коща-то был
раной.
Тут мне приходит на ум письмо, которое я написал од¬
ному симпатичному богослову, священнику на востоке Гер¬
мании, и которое могло бы заинтересовать кое-кого из моих
друзей. Он задал мне несколько вопросов, в том числе воп¬
рос, вижу ли я в Йозефе Кнехте некоего брата Христа, и
вопрос относительно национального и расового различия
религиозных миров. Он говорил об очень разных «глазах»,
которыми народы видят божественное. Из моего ответа
приведу несколько характерных фраз:
«По поводу Вашего вопроса скажу: да, индийские, рим¬
ские, еврейские глаза, слава Богу, очень разнятся. Науки,
культуры, языки — все это деревья, но одно дерево — липа,
другое — клен, третье — сосна и т.д. Ум, будь то в теоло¬
гическом или ином облачении, всеща немного слишком
склонен к понятию, к выравниванию, к типизации, он до¬
вольствуется «деревом», а телу и душе с «деревом» нечего
делать, они ищут, они любят липу, дуб, клен. Именно по¬
этому художники ближе, наверно, сердцу Бога, чем мыс¬
лители. Если в индийце и китайце Бог выражает себя ина¬
че, чем в греке, то это не недостаток, а богатство, и. если
все этн проявления божественного сводить к одному поня¬
тию, то не возникнет ни дуба, ни каштана, а возникнет в
лучшем случае «дерево».
В Йозефе Кнехте я не вижу, как Вы намекаете, брата
Христа. В Христе я вижу явление Бога, теофанию, каких
немало было и есть. В Кнехте я вижу скорее брата святых.
Их тоже много, бесконечно больше, чем теофаний; они —
«элита» культур и мировой истории, а отличаются они от
«обыкновенных людей» тем, что подчиняются и отдаются
сверхличному не от отсутствия у них личности и самобыт¬
ности, а благодаря излишку индивидуальности».
381
письмо «по КРУГУ» из СИЛЬС-МАРИИ
Дорогие друзья!
Пора снова послать вам привет и отчет. Со времени по¬
следнего моего письма на Пасху меня и моих близких долго
донимали сырость и холод, а сейчас, в августе, начиная пи¬
сать это письмо, я сижу в натопленном номере гостиницы,
и на мне шерстяной жилет. В такие времена старикам ни¬
чего другого не остается, как по возможности вытерпеть их,
не совсем потеряв терпение и бодрость, которых так не хва¬
тает в нынешнем мире. Для этого мало, конечно, добрых
намерений, нужно еще, чтобы какие-то подкрепления, ка-
кие-то ободрения пришли извне, из природы, из жизни, из
искусства. А поскольку такие подкрепления были и меня
побаловали даже изысканными блюдами, я попробую рас¬
сказать вам о них.
Первым и, может быть, самым значительным событием,
надолго оставившим о себе память, была, в дни перед Тро¬
ицей, встреча с моим японским двоюродным братом Виль¬
гельмом*, первая после двадцати четырех лет. Письмами и
другими приветами мы, правда, всегда обменивались, он
ведь среди моих друзей тот, кто глубже и основательнее
всех проник в дальневосточный мир, вернее, был им дру¬
жески принят и по-матерински вскормлен. Но не виделись
мы слишком долго, а так как он не только разделяет со
мной любовь к Древнему Китаю и к Японии (не далее как
год назад в Мюнхене вышла великолепная книга «Лирика
Востока», где он курировал китайский и японский разде¬
лы) , —■ так как он, стало быть, не только разделяет боль¬
шую часть моих духовных интересов, но помимо и сверх
того дружит со мной с моих девяти лет и, как близкий род¬
ственник, знаком мне и связан со мной интимнее, чем дру¬
гие, приобретенные позднее друзья, увидеться с ним мне
хотелось давно. В нынешнем году я собрался с духом и по¬
просил этого трудолюбивого и очень занятого человека при¬
нять приглашение в Монтаньолу. И он согласился и при¬
ехал, мы провели вместе четыре чудесных дня. Тут воск¬
ресли, наполнившись на миг волшебством и священной ре¬
альностью невозвратимого, фигуры, дома, сады и многие
другие картины давних времен, огромная фигура деда
прежде всего, дом Гундертов на штутгартской Ленцхальде,
находившийся тоже далеко за чертой города, и еще более
богатый тайнами почтенный старый дом в Хирзау, откуда
382
отец моего двоюродного брата взял себе вторую жену, ма¬
чеху Вильгельма, большой дом со множеством комнат, в
большую часть которых никогда не входили и о иазначении
которых мальчикам оставалось только гадать, кизиловое
дерево в саду и дерево с зелеными яблоками и каменный,
всеща прохладно журчащий фонтан, где в тенисто-темной
глубине обитала большая рыба, могучая форель, поглядеть
на которую я никогда не упускал случая. Мне стало как-то
радостно-жутко, когда Вильгельм сказал мне, что эта фо¬
рель, насчет солидного возраста которой мы строили догад¬
ки почти семьдесят лет назад, поныне жива и по-прежнему
обитает в обросшем мохом старом каменном водоеме. Лишь
позднее, коща мой гость уже уехал, я сообразил, что не'
спросил его, слышал ли он только об этом или сам побывал
там, сам видел и узнал эту древнюю рыбу. Думаю, я не
■ задал такого вопроса не столько по рассеянности, сколько
из боязни, чего доброго, погубить легенду. Ибо форель в
огромном бассейне в саду дома «Олень и ягненок» с детства
неотъемлема для меня от Хирзау, эта такая же важная и
почтенная примета, как башня сов, как большой вяз и ве¬
ликолепный мост с маслобойней над Нагольдом.
Должен признаться, дающим во время этой встречи и
этого обмена восп^инаниями был не я, а мой двоюродный
брат, и так бывает почти при каждой встрече с друзьми или
коллегами, я каждый раз не без стыда чувствую это и в
разговоре с Томасом Манном, который живет этажом выше
в этой же гостинице и часто дарит мне какой-нибудь вечер¬
ний час. Мне всю жизнь, и особенно в поздние десятилетия,
очень нужны были для самосохранения дистанция и одино¬
чество, и способность раскрываться в разговоре со временем
почти сошла у меня на нет, при всем желании и старании
тут ничего не исправишь. Зато я благодарный слушатель,
и часто какой-нибудь разговор дает мне еще много дней и
дольше того пищу для размышлений. Так было с кальвски-
ми, штутгартскими и хирзаускими воспоминаниями, кото¬
рые пробудил во мне двоюродный брат и многие из которых
были СЛИП1К0М интимного свойства, чтобы передавать их
кому-либо. Поразительно было, как во время этих разгово-
ров<мой японец, тоже ведь уже перешагнувший за семьде¬
сят, часто целиком становился опять двенадцати- или че¬
тырнадцатилетним мальчиком и его хорошо знакомое лицо
вновь превращалось в лицо мальчика и юнца. Как облако,
сходила печать возраста с его облика, исчезала на мгно¬
383
венье и другая печать, азиатская, которую наложили на не¬
го прожитые в Японии десятки лет, и он опять целиком ста¬
новился Вильгельмом девяностых годов. Он был тоща на¬
божным, благочестивым мальчиком и после студенческих
лет отправился в Японию с намерением заняться там мис¬
сионерской деятельностью, но сначала как можно глубже и
полнее сжиться, срастись с чужой страной и чужим наро¬
дом, он годами носил японскую одежду, жил, спал, ел и
пил по-японски, и если там на его светлое швабское лицо
лег налет азиатской молчаливости, невозмутимости, терпе¬
ливости и отрешенности, то его ум, отнюдь не порывая с
протестантско-пиетистской традицией, но вобрав в себя все
богатство восточных преданий, восточной мудрости и мора¬
ли, постепенно расширился, сумел усвоить языки, литера¬
туры и религии Востока не только как нечто выученное, а
как нечто плодотворное для тебя самого, становящееся
твоей собственной жизнью.
Поэтому разговор и переписка с ним значили для меня
больше, чем если бы на его месте был настоящий, природ¬
ный японец. Каждый раз Вильгельм приносит мне с с^й
весь Восток, он способен передать его иначе, чем те, ибо
делает это на моем языке, на немецком, берущем свою осо¬
бую краску, свои собственные словечки и оттенки от высо¬
кой серьезности до светлой шутливости не только из лите¬
ратурного немецкого, но сверх того из охвабского, из тю-
бингенско-монастырского и, наконец, из гундертовского; он
говорит со мной, даже если речь идет о японской лирике, о
Лао-цзы или других дальневосточных святынях, на языкб,
который понятен только нам и нескольким другим, вышед¬
шим из той же среды. И он привез весьма ценный и заме¬
чательный подарок, выдержки из работы, которой он сейчас
занят. Он задумал перевести самый старый и подлинный
сборник анекдотов времен раннего китайского дзэн-буддиз-
ма* с комментариями позднейших веков и приложить к ним
собственные комментарии. Для тех, кто еще совсем не зна¬
ком с тайнами Китая и дзэн, это фантастическая, даже су¬
масшедшая мешанина вошедогах в предание изречений и
деяний одного из великих учителей дзэн, обросшая и за¬
росшая комментариями его крупнейших последователей,
собрание примеров метода, каким старый учитель застав¬
лял своих учеников созревать для просветления по образцу
Будды, а воспитательные средства этого старика очень раз¬
нообразны, их спектр простирается от ласково-мудрого на¬
384
ставления до оплеухи и зуботычины. Два примера вместе с
мешаниной комментариев мы разбирали два вечера, это
было интенсивнейшей терапией ума и души, купанием в
китайско-буддийской строгости и бодрости, заряженных в
одинаковой мере глубокомыслием и юмором. С волнением
и в то же время со смехом видели мы, как из разговора
водяного буйвола с коровой встает все знание о человеке и
мере вещей, о жизни и смерти, все умение преодолевать
страдание терпением, преданностью, игрой и шуткой, на¬
копленное этим Востоком в его плодотворные тысячелетия.
Я радовался, что и Нинон, малознакомая с китайским и
японским, да и вообще не тяготеющая к данному направ¬
лению, была захвачена, пленена и воодушевлена этой див¬
ной смесью.
Неохотно отпускал я гостя, любезно задержавшегося по¬
сле моих уговоров еще на один день, неохотно расставался
с его швабски-японским лицом и его драгоценной руко¬
писью, прощаться было больно. Кстати, как ни молодо он
выглядел, в одном отношении он был старее и степенней,
чем я, он стал туговат на ухо. Но и этот физический недо¬
статок не был лишен фантазии и забавности: мы с Нинон
заметили, что его тугоухость была не совсем независима от
темы разговора и что, когда речь заходила о лирике Востока
или о дзэн, слух нашего японца сразу же улучшался.
Освежающее купание и удар гонга продолжали оказы¬
вать свое действие. Не успел Вильгельм уехать, как одно
официальное дело потребовало от меня решения. На воп¬
рос, с которым у меня не было внутренней связи, мне надо
было ответить «да» или «нет». Моя первая реакция гласила
«нет», я ведь и вообще склонен давать как можно меньше
власти над собой требованиям света. Но я чувствовал так¬
же, что такой отпор, такое самоустранение, пусть тысячу
раз позволительные и оправданные, в данном случае пока¬
жутся какой-то резкостью, какой-то невежливостью. При¬
рода говорила «нет», а разум склонялся к «да». И посколь¬
ку, памятуя о двоюродном брате и водяном буйволе, я был
еще весь под лучами Востока, я сделал то, чего давно уж
не делал, — перепоручил решение китайскому оракулу, «И
цзин», получил однозначный ответ и поступил соответст¬
венно.
И сразу же вслед за тем пришло то письмо одного сту¬
дента, которое я передал вам, друзья, под заглавием «Инь
1 3 5-25Ч 385
и Ян»^ и которое с такой силой напоминало мне о моих
восточных светилах. Если я опубликовал его («Нойе цюр-
хер цайтунг» от 2 июля 1954 г.), то не столько из-за отно¬
шения этого студента ко мне, сколько из-за его собствен¬
ного веса, думаю, что его юный автор способен сказать
своему поколению, да и нам, старикам, если наши уши еще
открыты, серьезные вещи.
Радио я редко включаю, один-два раза в неделю, зимой
немного чаще, а здесь, в горах, и вовсе не прибегаю к нему.
За несколько недель до нашей поездки Нинон нашла в про¬
грамме что-то, что ей хотелось послушать, и тут мне пред¬
стало нечто необыкновенно прелестное и печальное. Пере¬
давали в граммофонной записи цикл Шумана «Любовь и
жизнь женщины», пела рано умершая англичанка Катлин
Ферриер*. Услышанное и сегодня еще преследует меня в
иные бессонные ночные часы, отдельные строки и слова за¬
помнились мне со всеми модуляциями. Слушание этого ме¬
ханически воспроизведенного пения было одним из самых
сложных, многослойных впечатлений, насыщенных воспо¬
минаниями и ассоциациями. Прежде всего сама последова¬
тельность песен, этот несколько сентиментальный и старо¬
модный цикл, который я десятки лет не слушал, да и не
хотел слушать, но который в ранней юности знал чуть ли
не наизусть, ибо тогда не было ни одной поющей молодой
дамы, не бравшейся за эти песни; это сочинение входило и
в набор нашего дома, я часто читал тексты и часто насту¬
кивал на сестрином пианино мелодию одной из песен. И
теперь на меня нашли, нахлынули воспоминания о бурной,
сложной, трудной и великолепной поре начала юности, в
постепенном узнавании отдельных песен передо мной воз¬
никала наша кальвская музыкальная комната, где каждое
Рождество стояла елка, а при некоторых песнях появлялись
и фигуры тех молодых певиц, что когда-то их пели, — под¬
руг моих сестер, с прическами и платьями, с влюбленно¬
стями и зубоскальством того времени, другого века. Полу-
мальчик-полуюноша, я относился тогда к текстам шума¬
новских песен (как тому и следовало быть) с полной серь¬
езностью, я так же принимал их на веру, как прекрасную
музыку, и моя робость перед девушками, мое романтиче-
ски-рыцарское почтение к женщинам питались и укрепля¬
лись этими стихами, которыми сверхреально благородная,
идеализированная женщина претворяет в пение свои радо¬
386
сти и страдания. Две-три тогдашние певицы-дилетантки и
вправду производили на меня такое идеальное впечатле¬
ние, хотя среди тех девушек были и такие, в которых я, с
трудом подавляя смех, распознавал глупых кривляк. Какое
это было бурное, буйное, то отчаянное, то веселое время!
Через благородную шумановскую музыку оно представало
мне в своем идеальном, через тексты — в своем сомнитель¬
ном облике, я опять видел комнатную пальму и каллу моей
матери на плетеном круглом столе для цветов перед ок¬
ном с предвечерним солнцем, шкаф для нот с бетховенски-
ми и шубертовскими томами, зильхеровскими песнями* и
балладами Лёве*, пианино, на котором упражнялась Ма-
рулла или аккомпанировала Карлу Адель — да и мне она
часто аккомпанировала, ибо звонко и дерзко, всячески на¬
силуя ритм, я с удовольствием распевал песни, которые мне
особенно нравились и которые знал наизусть, и, не призна¬
ваясь в том, был благодарен сестре за терпение и гибкость,
с какими она приспосабливала партию фортепиано к моей
восторженной декламации.
Вот что примерно воскресало во мне из прошлого, когда я
слушал, а еще теперь прибавилось более тихое, более разум¬
ное, более компетентное участие в поэтичности и музыкаль¬
ности этого исполнения, трогательные воспоминания начала
жизни спорили теперь с критическими мыслями, и в целом
эта «Любовь женщины» была уже не совсем такой, как коща-
то, ее погрызло время, она не совсем устояла ни против моего
собственного старения, ни против перемен в мире, проис¬
шедших за шестьдесят лет. В шумановской музыке были ве¬
ликолепные, волшебные озарения, да и в стихах были строч¬
ки и сегодня еще живые, но все это, не из-за музыки, не из-за
текстов, мне не хотелось, в сущности, слушать когда-либо
снова. Столько было более благородного, более совершенно¬
го, более долговечного! И все же я многое отдал бы за то, что¬
бы радио поскорей повторило эту передачу. И за прошедшие
с тех пор недели впечатление от этого исполнения не изгла¬
дилось, отдельные его места преследовали меня чуть ли не
каждый день; и память о том, как пела шумановские песни
рано умершая англичанка, сгустилась во что-то большое и
вечное, в пример и образец настоящего явления искусства.
Ибо не только поющие девы, в исполнении которых я слушал
этот цикл в другом мире и в другую эпоху, превратились в
ничто перед этим пением, многие знаменитые и почитаемые
художники и творения померкли перед этой нетленной чис¬
13* 387
тотой, перед этим совершенством. Голос сильный и теплый,
владение им совершенно, речь и пение прямо-таки матема¬
тической верности, чистоты и абсолютной точности, однако
без малейшей жесткости, ибо и голос, и человеческое тепло,
и зрелость этой благословенной покойницы смягчали хру¬
стальную прозрачность ее пения или придавали этой почти
нематериальной прозрачности какую-то бравшую за сердце
прелесть цветка.
Так двадцать, может быть, минут у радио стали для меня
событием большого размаха — от личного и частного до абст¬
ракции, от душевного тепла до благоговейного преклонения
перед абсолютно прекрасным. Нам не нужно это благогове¬
ние в нашем большом, потрясенном мире, оно — тот вечный
светильник, которому нам нельзя дать погаснуть. Здесь убе¬
жище, сравнимое с веселым глубокомыслием Востока.
Шестьдесят лет назад я учился в знаменитой школе рек¬
тора Бауэра, чьей задачей было из году в год пропускать са¬
мых способных учеников через игольное ушко «земельного
экзамена» в ту элиту швабских гимназистов, из которых
протестантская церковь и гуманитарные ппсолы Вюртембер¬
га пополняют состав священников и учителей. Но помимо
того наш ректор, тогда уже шестидесятилетний, был учите¬
лем и воспитателей грандиозного масштаба, человеком до
чудачества оригинальн1ш, властным, с богатым воображе¬
нием. Школьное ведомство гордилось им, он вызывал восхи¬
щение и любовь у многих поколений учеников, но порой
сильно смущал свое штутгартское начальство мерами, кото¬
рые и тоща-то казались весьма самовольными и смелыми, а
ныне были бы вовсе немыслимы. Так, например, он однажды
распустил на каникулы свой несколько уставший и увядший
класс, чтобы вернуть ему бодрость и прилежание, на четыре
недели раньше официального срока.
Тоща — а было нам тринадцать-четырнадцать лет — в
нашем классе учился один прилежный и немного робкой
мальчик, Ганс, он принадлежал к хорошим, редко брани¬
мым школьникам и выделялся разве что своим нежным, ро¬
зоватым лицом, легко заливавшимся густой краской. Он не
играл и не хотел играть никакой роли, он был послушнее,
чем большинство из нас, особенно чем Эдмунд и я, а недю¬
жинные свойства ума ’и характера, в нем таившиеся, не бы¬
ли еще видны и ждали пр<^уждения, каковое он только го¬
дом позднее, став тюбингенским студентом, пережил бурно
388'
и успешно. Он остался верен богословию, принадлежал к
ученикам Наумана и Траубе и до старости служил церкви
и ее либеральному, социально ориентированному крылу.
Эдмунд, напротив, был мальчиком, которого никак нель¬
зя было обойти вниманием, не заметить, хотя он составлял
нам компанию лишь на уроках и на коротких переменах, в
отличие от всех нас он не жил ни в каком гёппингенском пан¬
сионе для школьников, а приезжал каждый день на поезде,
проделав путь в несколько станций, и покидал нас сразу по¬
сле уроков. Очень белокурый, почти белесый, с умным, вни¬
мательным, живым лицом и взглядом, быстрый и ловкий,
как белка или куница, он лучше всех делал гимнастику, ла¬
зил, катался на коньках, бегал, еще он, подобно мне, играл
на скрипке, только гораздо искуснее. Обычно он приносил ее
с собой в школу, и наш старый ректор просил его иногда поиг¬
рать, в частности, он напел ему как-то один старомодный во¬
енный трубный сигнал, который Эдмунд затем ему и нам ча¬
сто воспроизводил, и я каждый раз восхищался строгостью в
соблюдении такта, уверенностью смычка и особенно чрезвы¬
чайно быстрым темпом, в котором он четко проигрывал эту
короткую мелодию.
Вот таковы были Ганс и Эдмунд, один сегодня декан в
отставке, другой еще вовсю занимается адвокатской дея¬
тельностью, ибо он не остался верен богословию, которое
было ему назначено, а открыл, студентом уже, истинное
свое призвание и, к ужасу своего отца, решил перейти на
юридический факультет. На предостерегаюпщй вопрос от¬
ца: «Откуда ты знаешь, что у тебя есть талант, чтобы стать
юристом?» — он остроумно ответил: «А откуда ты знаешь,
что у меня есть талант, чтобы стать богословом?»
И вот вышло так, не случайно, а с некоторой нашей по¬
мощью, что мы, три гимназиста, богослов Ганс, юрист Эд¬
мунд и я, сидели этим летом вместе с нашими женами в
саду сельской гостиницы в Малое за чаем, вином и пирож¬
ными, и три седовласых мальчика, за которыми с любовной
снисходительностью наблюдали их жены и со слегка на¬
смешливым любопытством посторонние, оживлялись и го¬
рячились при разговорах о ректоре Бауэре и нашей школь¬
ной поре, при перечислении имен, фигур и обстоятельств
далеких дней, миновавших еще за двадцать пять лет до
первой мировой войны. Это был, в течение доброго часа,
великий праздник, это была оргия памяти, почтительности
и дружбы, ничуть не омраченная тем, что жизнь развела
389
нас в разные стороны и что с тех школьных времен, с ты¬
сяча восемьсот девяностых годов, Ганс и Эдмунд вообще ни
разу не виделись. Что касается физического состояния, то
Ганс находился в положении, сходном с моим, он уже не
был подвижен и при ходьбе быстро уставал, но бодрость ума
мы еще сохраняли. А Эдмунд и сегодня был крепок и энер¬
гичен, смел и хорошо закален, на следующий день, когда
мы зябли в пальто и шерстяных жилетах, он пустился пла¬
вать в ледяном озере.
Хорошо, что мы устроили эту встречу. Очень немногие
остались в живых из той стаи мальчиков, что когда-то, в про¬
куренном трубочным дымом классе у ректора Бауэра или в
монастыре Маульбронн, корпели над латынью и греческим и
под командой ректора бегали наперегонки и бросались снеж¬
ками. И едва кончилась наша радостная встреча, как одно из
тех писем в черной рамке, что так мучительно часто омрача¬
ют нашу текущую почту, сообщило мне о смерти одного то¬
варища тех времен. Эдмунд уже уехал, он сам повел свой ав¬
томобиль домой в Швабию, рассчитывая добраться туда за
один день. А Ганс остался еще на несколько дней вблизи от
нас, мы еще дважды заезжали за ним, чтобы покататься, и во
время одной из этих поездок у нас еще раз произошло ма¬
ленькое чудо, которого мы не забудем.
Друг Ганс и его жена не знали Юлиера, и мы решили
свозить их туда. Мы не спеша проехали классическую до¬
рогу к перевалу, поглядели, как за седловиной Фуорклы
появляются и становятся все мощнее и выше снежные вер¬
шины Бернины, увидели светло-зеленые пастбища с пре¬
красным скотом, любимые красные скалы у самой дороги,
жадно устремились к столпам на высоте перевала и к не¬
приютному первобытному миру голых, но красочных отвес¬
ных скал, осыпей и валунов, побывали у маленького озера
и при виде военных сооружений для закрытия перевала
вспомнили не только о давних боях бывших великих дер¬
жав за эту старую военную дорогу, но и о войнах, проис¬
ходивших при нас, ибо в тот день была как раз сороковая
годовщина объявления войны 1914 года, и Ганс с волнением
в голосе говорил не только о бессмысленности обеих этих
войн, но и вообще о немецкой трагедии, о том, какая могла
бы расцвести жизнь, если бы вокруг ядра старой демокра¬
тической Швабии образовалась совсем другая империя, не
римская и не бисмарковско-пруссаческая, а вот именно
швабская. В нем, робко-молчаливом коща-то мальчике, го-
390
ворил не только начитанный историк-идеалист, но и чело¬
век, который при глупом последнем кайзере и при страш¬
ной власти Гитлера претерпел вместе со своей женой вся¬
ческие ужасы и понес невосполнимые потери. Потому-то я
и не задал ему вопроса, который иначе непременно задал
бы, не голосовал ли и он со своими родственниками в год
вторых германских выборов президента за Гинденбурга и
тем самым легковерно открыл дверь будущему кошмару.
Задать этот вопрос было невозможно, да и незачем было
его задавать. И мои близкие в Германии, да и собственные
мои сестры, голосовали за этого дряхлого вояку и впослед¬
ствии претерпели больше неприятностей, чем я.
Мы медленно ехали по перевалу вниз, к долине Джу¬
лии, к двуствольному кедру и Бивно, под грозными гигант¬
скими стенами и взволнованным, драматичным небом под¬
ходящих к Юлиеру красок, напоминавших то Каспара Да¬
вида Фридриха*, то Грюневальда, с переходами от затем¬
нений к внезапным и мимолетным полосам солнца, один
или два раза слышался слабый гром. Мы спустились в до¬
лину, вышли из машины, побродили по Бивно, дали за чаем
в гостинице отдохнуть глазам и под тяжелдлми тучами, при
•первых каплях дождя тронулись в обратный путь. Не¬
удобств большого автомобильного движения нам не удалось
избежать, в одном месте машины, шедшие сверху и снизу,
останавливались, образуя длинную очередь, а посредине,
преграждая им путь, косо и грустно стоял полуразбитый ав¬
томобиль, пока наконец не набралось достаточного количе¬
ства мужчин из числа ожидавших, чтобы оттащить тяже¬
лораненого беднягу в сторону и освободить дорогу. Осталь¬
ные как будто не пострадали, и мы быстро забыли об этой
помехе, ибо с закатом дня горы и небо, тучи и дыхание бури
все больше наполнялись мощью, росли, казалось, мы спа¬
саемся бегством от грозящего светопреставления.
Но среди этого великолепно-дикого помрачения случи¬
лось внезапное чудо: перед, нами, сочно светясь своими яр¬
кими красками, поднялась прекрасная, совершенная раду¬
га. С обеих сторон упиралась она в осыпи и чахлую траву,
словно бы вытягивая из них светлую, прохладную зелень.
Как празднично открытые ворота, стояла она перед нами,
все больше наливаясь светом и красками. Друг Ганс, сидев¬
ший позади меня, положил руку мне на плечо и сказал:
«Смотри, это нам знак, это означает мир». Таково было ми¬
391
ролюбивое завершение наших недавних разговоров об обе¬
их войнах.
Проехать через переливающиеся красками ворота нам,
однако, не удалось: радуга, которая все время была видна
с обеих сторон долины до самой земли, светясь, парила пе¬
ред нами все время так близко, что, казалось, можно до¬
тронуться до нее, все время рядом и недосягаемо, сопро¬
вождая нас на всей длинной дороге по перевалу, Ганс еще
раз коснулся моего плеча и, когда я с улыбкой обернулся к
нему, сказал: «Он парит перед нами, мир, он улыбается
нам, но мы его не достигнем, никогда не достигнем».
Вот ведь снова и снова, даже когда этого хочется избе¬
жать, приходится говорить о войне и мире! О прекрасно со
всех сторон подготовленной, хотя ее мало кто желает, вой¬
не и не очень-то подготовленном, хотя желанном почти для
всех мире. Это кажется неизбежным.
Мы, литераторы, можем мало что сделать в борьбе про¬
тив войны, ведь даже могущественной римской церкви не
удалось помочь практическому осуществлению мира, она
только молилась о нем. И все-таки дух и слово обладают
неиссякаемой силой, и потому на них постоянно лежит от¬
ветственность. Есть один дорогой собрат, один из храбрей¬
ших, достойнейших защитников слова от немоты и тупости
машин и пушек. Я только что вторично выдвинул его на
Нобелевскую премию, это Мартин Бубер*. Хочу заключить
это письмо его словами и прошу вас внимательно их про¬
честь. Он говорит:
«У войны испокон веков есть один противник, который
почти никогда таковым не выступает, но делает свое дело в
тиши, — язык, осуществившийся язык, язык настоящего
разговора, в котором люди понимают друг друга и объясня¬
ются друг с другом. Суть даже примитивной войны такова,
что она начинается всегда там, где язык умолкает, то есть где
люди больше не способны говорить друг с другом о спорных
предметах или изложить их простой речью, где люди убега¬
ют от разговора друг с другом, чтобы в безъязычье взаимо-
убийства искать мнимого разрешения, так сказать, Божьего
суда; вскоре, правда, война овладевает и языком, отдает его в
рабство своему боевому крику. Но когда от лагеря к лагерю,
пусть даже робко на первых порах, снова начинают доно¬
ситься слова, война уже поставлена под вопроо>.
392
из РАЗНЫХ КНИГ
‘Е9^ё1*м™; ^ ^ ^
j
VERSCHIEDENES
V,
ПЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
дивительно, как отдаляется, до чего чужим стано-
вится иной раз пережитое! Можно потерять целые
годы с тысячами происшествий! Я часто смотрю, как дети
идут в школу, и не вспоминаю о собственной школьной по¬
ре, смотрю на гимназистов и почти не помню, что сам ког-
да-то был гимназистом. Смотрю, как идут механики в свои
мастерские, а легкомысленные служащие в свои конторы,
смотрю, совершенно забыв, что сам коща-то ходил теми же
путями, носил синюю блузу и канцелярский сюртук с бле-
стяш;ими локтями. Разглядываю в книжном магазине
странные книжечки восемнадцатилетних стихотворцев и
уже не вспоминаю, что сам когда-то сочинял такого рода
стихи и даже попадался на удочку тем же ловцам авторов.
И вдруг где-нибудь на прогулке или в вагоне железной
дороги или во время бессонницы ночью возникнет и пред¬
станет передо мной в ярком, словно на сцене, свете, целый
забытый кусок жизни, со всеми подробностями, со всеми
именами и местами, звуками и запахами. Так случилось со
мной прошлой ночью. Передо мной снова предстало одно
происшествие, относительно которого я был в свое время
вполне уверен, что никогда не забуду его, но которое на
долгие годы бесследно забыл. Вот так же теряешь книгу или
перочинный нож, замечаешь их исчезновение, потом забы¬
ваешь о них, а в один прекрасный день они оказываются в
каком-нибудь ящике среди всякого хлама, они тут как тут
и принадлежат тебе снова.
Мне было восемнадцать лет, и я кончал ученье в сле¬
сарной мастерской. Незадолго до этого я понял, что не пре¬
успею в этой профессии, и решил снова переменить род за¬
нятий. В ожидании подходящего случая сообщить об этом
отцу я оставался в мастерской и работал полудосадливо-
395
полувесело, как человек, который уже уволился и готов от¬
правиться на все четыре стороны.
У нас в мастерской был тоща один ученик, самая заме¬
чательная особенность которого заключалась в том, что он
состоял в родстве с одной богатой дамой из соседнего город¬
ка. Эта дама, молодая вдова фабриканта, жила в маленькой
вилле, владела изящным экипажем и верховой лошадью и
слыла надменной и эксцентричной, потому что не участво¬
вала в сборищах кумушек, а вместо этого ездила верхом,
удила рыбу, разводила тюльпаны и держала собак сенбер¬
наров. О ней говорили с завистью и злобой, особенно узнав,
что в Штутгарте и Мюнхене, куда она часто отлучалась,
она бывает очень общительна.
Диво это, с тех пор как ее племянник или двоюродный
брат поступил к нам, уже трижды появлялось в мастерской.
Она навещала своего родственника и осматривала наши ма¬
шины. Каждый раз это выглядело великолепно и произво¬
дило на меня большое впечатление. Элегантно одетая, с
любопытными глазами и забавными вопросами, она прохо¬
дила через закоптелый зал, рослая, светловолосая женщина
со свежим и наивным, как у девочки, лицом. Мы стояли в
своих замасленных блузах, с черными руками и лицами, и
нам казалось, что нас посетила принцесса. Это не вязалось
с нашими социал-демократическими взглядами, что мы за¬
тем каждый раз и признавали.
И вот однажды этот ученик подходит ко мне в полднич¬
ный перерыв и говорит:
— Хочешь поехать со мной в воскресенье к моей тетке?
Она пригласила тебя.
— Пригласила? Слушай, избавь меня от своих глупых
шуток, а то я ткну тебя носом в чан с водой.
Но он не шутил. Она пригласила меня на вечер воскре¬
сенья. Мы сможем вернуться с десятичасовым поездом, а
если задержимся, она, вероятно, даст нам коляску.
Якшаться с владелицей роскошной коляски, хозяйкой
слуги, двух служанок, кучера и садовника было, по моим
тощашним взглядам на мир, просто гнусно! Но об этом я
вспомнил лишь после того, как уже давно с восторгом при¬
нял приглашение и спросил, подойдет ли мой желтый лет¬
ний костюм.
До субботы я пребывал в страшном волнении и радости.
Затем на меня напал страх. Что я там скажу, как мне вести
себя, как говорить с ней? Мой костюм, которым я всегда
396
гордился, вдруг оказался измятым и в пятнах, а все мои
воротнички — с бахромой по краям. Кроме того, шляпа у
меня была старая и потертая, и все это никак не искупалось
тремя моими козырями — парой остропалых перчаток, ог-
ненно-красным полушелковым галстуком и пенсне в нике¬
левой оправе.
В воскресенье вечером я отправился с товарищем пеш¬
ком в Зетлинген, больной от волнения и смущения. Пока¬
залась вилла. Мы стояли у решетки перед экзотическими
соснами и кипарисами, собачий лай смешался с нашим
звонком. Нас впустил слуга, он не проронил ни слова и об¬
ращался с нами пренебрежительно, соизволив лишь защи¬
тить меня от сенбернаров, норовивших цапнуть мои штаны.
Я со страхом глядел на свои руки, которые уже несколько
месяцев не были такими донельзя чистыми. Накануне я до¬
брых полчаса отмывал их керосином и жидким мылом.
Хозяйка встретила нас в гостиной в простом голубом
летнем платье. Она протянула обоим нам руку и усадила
нас, сказав, что ужин скоро будет готов.
— Вы близоруки? — спросила она меня.
— Немного.
— Пенсне, знаете, вам совсем не идет.
* Я снял его, спрятал в карман и сделал упрямое лицо.
— И еще вы социалист? — спросила она затем.
— Вы имеете в виду — социал-демократ? Да, конечно...
— Почему, собственно?
— По убеждению.
— Ах вот как. Но галстук у вас действительно славный.
Ну, пойдемте ужинать. Вы ведь нагул51ли аппетит?
В соседней комнате стол был накрыт на три персоны. За
исключением трех видов бокалов, не было, против моего
ожидания, ничего, что меня смутило бы. Суп из мозгов, жа¬
реная говяжья вырезка, овощи, салат и пирожное — это все
были блюда, с которыми я мог справиться, не осрамившись.
А вина хозяйка разливала сама. За едой она говорила почти
только с племянником, а хорошая еда с вином подейство¬
вала на меня благотворно, и вскоре я пришел в приятное
настроение и обрел некоторую уверенность.
После ужина нам принесли бокалы в гостиную, и, когда
меня угостили тонкой сигарой, которая, к моему удивле¬
нию, зажигалась от красной и золотой свечи, я почувство¬
вал себя не просто приятно, а прямо-таки уютно. Теперь я
отважился поглядывать и на хозяйку, и она была так изящ¬
397
на и хороша, что я возомнил себя очутившимся в элизиуме
высшего света, смутное представление о котором я успел
получить из романов и газетных статей.
У нас завязался оживленный разговор, и я осмелел на¬
столько, что позволил себе пошутить по поводу прежних
замечаний мадам насчет социал-демократии и моего крас¬
ного галстука.
— Вы совершенно правы, — сказала она с улыбкой. —
Оставайтесь при своем убеждении. Но только галстук надо
бы вам повязывать не так косо. Посмотрите, вот так...
Встав передо мной, она наклонилась, взялась обеими ру¬
ками за мой галстук и поправила его. При этом я вдруг с ве¬
ликим испугом почувствовал, как она просунула в прорез
моей рубашки два пальца и тихонько ощупала мне грудь. И
когда я в ужасе поднял взгляд, она еш;е раз нажала о^ими
пальцами и при этом пристально посмотрела мне в глаза.
О Господи, подумал я, и у меня началось сердцебиение,
а она отступила и сделала вид, будто рассматривает мой
галстук. А вместо этого она еш;е раз посмотрела на меня,
серьезно и открыто, и медленно кивнула несколько раз.
— Принес бы ты из угловой комнаты ящик с играми, —
сказала она племяннику, который перелистывал журнал. —
Будь добр, сходи.
Он вышел, и она подошла ко мне, медленно, широко
раскрыв глаза.
— Ах ты! — сказала она тихо и мягко. — Ты милый!
При этом она приблизила ко мне лицо, и наши губы сли¬
лись, бесшумно и обжигающе, и снова, и еще раз. Я обнял
ее и прижал к себе, крупную, красивую даму, с такой си¬
лой, что ей могло быть больно. Но она только еще раз по¬
искала мои губы, мы снова поцеловались, и в этот момент
глаза ее увлажнились и заблестели, как у девочки.
Племянник вернулся с играми, мы сели и стали втроем
бросать кости, игра шла на конфеты. Она снова оживленно
болтала и сопровождала шуткой каждый бросок, а я не мог
выдавить из себя ни слова и дышал с трудом. Иногда ее
рука под столом играла моей рукой или ложилась мне на
колено.
Часов в десять племянник заявил, что нам пора трогаться.
— Вы тоже хотите уже уйти? — спросила она и посмот¬
рела на меня. У меня не было опыта в любовных делах, я
промямлил, что да, мол, наверно, пора, и встал.
398
— Ну что ж! — воскликнула она, и племянник напра¬
вился к двери. Я последовал за ним, но как только он пе¬
реступил порог, она потянула меня за руку и еще раз при¬
жала к себе. И, выходя, прошептала мне:
— Будь умней, слышишь, будь умней!
И этого я тоже не понял.
Мы попрощались и побежали на станцию. Мы взяли би¬
леты, и товарищ вошел в вагон. Л мне сейчас никакого об¬
щества не нужно было. Я поднялся только на первую сту¬
пеньку и, когда машинист дал свисток, спрыгнул снова вниз
и остался. Была уже темная ночь.
Оглушенный и печальный, зашагал я домой по длин¬
ной сельской дороге, прошел мимо ее сада, мимо решетки,
как вор. Меня полюбила настоящая дама! Передо мной от¬
крывались волшебные края, и, случайно нащупав в карма¬
не пенсне в никелевой оправе, я бросил его в придорож¬
ную канаву.
В следующее воскресенье моего товарища снова пригла¬
сили пообедать, а меня — нет. И в мастерскую она тоже
больше не приходила.
Еще целых три месяца я часто ходил в Зетлинген, по
воскресеньям или поздно вечером, и прислушивался у ре¬
шетки, и обхрдил сад, слышал, как лают сенбернары и как
ветер колышет экзотические деревья, видел свет в комна¬
тах и думал: может быть, она когда-нибудь меня увидит.
Она ведь любит меня. Однажды я слышал в доме фортепь¬
янную музыку, мягкую, убаюкивающую, и я лежал у стены
и плакал.
Но никогда больше слуга не провожал меня к ее дому,
защищая от псов, и никогда больше рука ее не прикасалась
к моей и не прикасались ее губы к моим. Только во сне это
случалось со мной еще несколько раз, только во сне. А поз¬
дней осенью я расстался со слесарной мастерской, скинул
навсегда свою синюю блузу и уехал далеко в другой город.
СОНАТА
Гоотожа Хедвиг Дилениус вышла из кухни, сняла перед¬
ник, помылась и причесалась, а затем пошла в гостиную
ждать мужа.
Она рассмотрела три-четыре листа из дюреровской пап¬
ки, поиграла немного с копенгагенской фар(^ровой фигур¬
399
кой, услышала, как на соседней башне пробило полдень, и,
наконец, открыла рояль. Она взяла несколько нот, ища ка¬
кую-то полузабытую мелодию, и прислушалась к гармо¬
ничному замиранию струн. Тихая, затухающая дрожь ста¬
новилась все мельче и нереальнее, а потом наступили мгно¬
венья, когда неясно было, звучат ли все еще эти несколько
нот или тихий гул в ушах — только воспоминание.
Она не стала больше играть, сложила руки на коленях
и задумалась. Но думала она уже не так, как раньше, уже
не так, как девушкой дома в деревне, уже не о забавных и
трогательных пустяках, из которых всегда только меньшая
часть случалась и вправду. С некоторых пор она думала о
других вещах. Сама действительность стала для нее зыбкой
и сомнительной. В пору смутных, мечтательных желаний
и волнений девичества она часто думала, что коща-нибудь
выйдет замуж и у нее будет муж, будет своя жизнь и свой
дом, и от этой перемены она ждала многого. Не только неж¬
ности, тепла и новых любовных чувств, но прежде всего
уверенности, ясной жизни, блаженной защищенности от
искушений, сомнений и неисполнимых желаний. Как ни
любила она фантазировать и мечтать, влекло ее всегда к
действительности, к надежным, сулящим уверенность пу¬
тям.
Она опять думала об этом. Все вышло не так, как она
представляла с^. Муж теперь не был тем, чем он был для
нее, женихом, вернее, тогда она видела его в свете, который
теперь погас. Она думала, что он ей ровня и даже выше ее,
что он будет ей то другом, то руководителем, а теперь ей
часто казалось, что она переоценила его. Он был порядо¬
чен, вежлив, да и нежен, он не посягал на ее свободу, из¬
бавлял от мелких домашних забот. Но он был доволен —
ею и своей жизнью, доволен работой, едой, малой толикой
радостей, а она не была довольна этой жизнью. В ней были
и бесенок, который хотел дразнить и плясать, и дух мечта¬
тельности, который хотел сочинять сказки, и постоянное
стремление соединить повседневную малую жизнь с боль¬
шой чудесной жизнью, звучавшей в песнях и картинах, в
прекрасных книгах, в бурном шуме лесов и моря. Она не
довольствовалась тем, что цветок — это всего лишь цветок,
а прогулка — это всего лишь прогулка. Цветок должен был
быть эльфом, прекрасным духом в прекрасном перевопло¬
щении, а прогулка — не маленьким обязательным упраж¬
нением и отдыхом, а вещим путешествием в неизведан¬
400
ность, в гости к ветру и ручью, беседой с безмолвием. И,
послушав хороший концерт, она еще долго пребывала в не¬
ведомом мире духов, коща ее муж давно расхаживал в шле¬
панцах, курил, говорил что-то о музыке и торопился лечь
спать.
С некоторых пор ей нередко случалось изумленно гля¬
деть на него и поражаться, что он такой, что у него нет
больше крыльев, что он снисходительно улыбается, когда
ей хочется рассказать ему о своей внутренней жизни.
Она снова и снова решала не сердиться, быть терпеливой
и доброй, не мешать ему жить, как ему удобно. Может
быть, он устает, может быть, на службе его мучат вепщ, от
которых он хочет избавить ее. Он так уступчив и любезен,
что она должна быть благодарна ему. Но он больше не был
ее принцем, ее другом, ее господином и братом, милыми
дорогами памяти и фантазии она снова теперь ходила одна,
и дороги эти стали темнее, потому что в конце их уже не
светило таинственное будущее.
Раздался звонок, послышались его шаги в передней, от¬
ворилась дверь, и вошел он. Она пошла навстречу ему и
ответила на его поцелуй.
— У тебя все хорошо, дорогая?
— Да, спасибо, а у тебя?
Затем они сели обедать.
— Послушай, — сказала она, — ты согласен, чтобы се¬
годня вечером пришел Людвиг?
— Если тебе хочется, то конечно.
— Я могла бы позвонить ему позднее по телефону. Зна¬
ешь, я просто жду не дождусь.
— Чего же?
— Новой музыки. Он ведь недавно сказал, что разучил
эти новые сонаты и теперь может играть их. Они будто бы
очень трудные.
— Ах да, этого нового композитора, так ведь?
— Да, его фамилия Регер*. Любопытные, говорят, вепщ,
мне очень интересно.
— Что ж, послушаем. Уж не новый ли Моцарт?
— Значит, сегодня вечером. Не пригласить ли его заодно
и поужинать? .
— Как хочешь, крошка.
— Тебе тоже лю^пытен Регер? Людвиг говорил о нем
с таким восторгом.
401
— Всеща приятно послушать что-то новое. Людвиг, мо¬
жет быть, чересчур восторжен? Но в конце концов он дол¬
жен разбираться в музыке лучше, чем я. Если по полдня
играть на рояле!
За черным кофе Хедвиг рассказывала ему истории о
двух зябликах, которых она сегодня видела в парке. Он слу¬
шал доброжелательно и смеялся.
— Ну и выдумщица же ты! Тебе следовало бы стать пи¬
сательницей.
Потом он ушел — на службу, а она смотрела в окно ему
вслед, потому что он это любил. Затем она тоже приступила
к работе. Она записала расходы за последнюю неделю, уб¬
рала комнату мужа, вымыла лиственные растения и, нако¬
нец, занялась рукодельем, пока не пришло время снова ид¬
ти на кухню.
Около восьми пришел муж и сразу за ним Людвиг, ее
брат. Он пожал сестре руку, поздоровался с зятем, а потом
еще раз взял руки Хедвиг.
За ужином брат и сестра беседовали оживленно и весе¬
ло. Муж время от времени вставлял слово и в шутку изо¬
бражал ревность. Людвиг подхватил его игру, а она никак
на это не отозвалась и впала в задумчивость. Она чувство¬
вала, что действительно среди них троих муж — чужой.
Людвиг подходил ей, у него были одинаковые с ней манеры,
склад ума, те же воспоминания, что у нее, он говорил тем
же языком, понимал любое поддразниванье и отвечал на
него. При нем ее овевал родной воздух; все становилось
опять как прежде, подлинным и живым, все, что она несла
в себе из дому и что муж ласково терпел, не откликаясь,
однако, на это, да и, наверно, не понимая этого в сущности.
Они еще посидели за красным вином, пока Хедвиг не
напомнила о музыке. Тут они перешли в гостиную, Хедвиг
открыла рояль и зажгла свечи, брат отложил папиросу и
раскрыл свою нотную тетрадь. Дилениус вытянулся в низ¬
ком кресле с подлокотниками, поставив рядом с собой ку¬
рительный столик. Хедвиг устроилась поодаль у окна.
Людвиг сказал еще несколько слов о новом музыканте
и его сонате. Затем наступило мгновение полной тишины.
А затем он начал играть.
Хедвиг внимательно выслушала первые такты. Музыка
задела ее чем-то незнакомым и странным. Взгляд ее был
прикован к Людвигу, чьи темные волосы поблескивали
иногда в свете свечей. Но вскоре она почувствовала в этой
402
непривычной музыке сильный и тонкий ум, который захва¬
тил ер‘ и дал ей крыуп>я, отчего она, несмотря на препятст¬
вия и темные места, понимала и познавала это произведе¬
ние.
Людвиг играл, и она видела, как в медленном такте ко¬
лышется темный простор воды. С шумными ударами
крыльев н^етала стая больших, могучих птиц, перво(быт-
но-мрачных. Глухо гудела буря, взметая иноща ввысь пе¬
нистые гребешки волн, разлетавшиеся жемчужными брыз¬
гами. В шуме волн, ветра и больших крыльев звучало что-
то таинственное, пелась то с громким пафосом, то тонким
детским голоском какая-то песня, какая-то проникновен¬
ная, приятная мелодия.
Тучи мчались черными, разорванными грядами, в них
отверзались дивные просветы золотой глубины небес. На
огромных валах неслись страховидные морские чудища, а
на маленьких волнах играли трогательные стайки ангелоч¬
ков с забавно толстыми ручками и ножками и детскими
глазками. И ужасное все очаровательнее преодолевалось
прелестным, и картина эта превращалась в легкое, воздуш¬
ное, лишенное тяжести промежуточное пространство, ще в
необыкновенном, похожем на лунный, свете плясали, паря
в воздухе, нежнейшие эльфические существа и чистыми,
хрустальными, бесплотными голосами пели в лад пляске
что-то блаженно легкое, замирающее без печали и боли.
Но вдруг показалось, что поют и парят в белом сиянье
не ангелоподобные эльфы света, а человек, который рас¬
сказывает о них или мечтает. Тяжелая капля томления и
неутолимой человеческой боли упала в просветленный мир
безмятежно прекрасного, вместо рая возникла человече¬
ская мечта о рае, не менее блестящая и прекрасная, но со¬
провождаемая тихим звучаньем неутолимой тоски по дому.
Так детская утеха превращается в человеческую радость;
неомраченное ликованье ушло, но дышится проникновен¬
нее и мучительно сладостнее.
Медленно утонули прелестные песни эльфов в грохоте
моря, снова набравшем могучую силу. Шум битвы,
страсть, порыв к жизни. И с откатом последней высокой
волны песня закончилась. Прибой отозвался в рояле ти¬
хим, медленно замирающим отзвуком и умолк, и наступи¬
ла глубокая тишина. Людвиг остался сидеть, сгорбившись
и прислушиваясь. Хедвиг закрыла глаза и как во сне от¬
кинулась в кресле.
403
Наконец Дилвниус встал, вернулся в столовую и принес
оттуда шурину бокал вина.
Людвиг встал, поблагодарил и отпил.
— Ну, зять, — спросил он, — что скажешь?
— По поводу этой музыки? Да, было интересно, и играл
ты опять великолепно. Ты, наверно, упражняешься без
конца.
— А соната?
— Понимаешь, тут дело вкуса. Я ведь не абсолютно про¬
тив всего нового, во это для меня все-таки слишком «ори¬
гинально». Вагнер еще куда ни пшо...
Людвиг хотел ответить._Но сестра подошла к нему и по¬
ложила руку ему на плечо.
— Не надо, ладно? Это ведь действительно дело вкуса.
— Правда? — обрадовавшись, воскликнул муж. — За¬
чем нам спорить? Сигару, шурин?
Людвиг несколько смущенно взглянул сестре в лицо. Он
увидел, что она взволнована музыкой и страдала бы, если
бы разговор об этом продолжился. Но вместе с тем он впер¬
вые увидел, что она считает нужным щадить мужа, потому
что в нем нет чего-то нужного ей и присущего ей от при¬
роды. И поскольку она показалась грустной, он перед ухо¬
дом украдкой сказал ей:
— Хеда, тебе нехорошо?
Она покачала головой:
— Сьпрай мне это вскоре опять, мне одной. Сыграешь?
Потом она с виду снова повеселела, и через некоторое
время Людвиг, успокоившись, ушел домой.
Но она не смогла уснуть в эту ночь. Что муж не пони¬
мает ее, она знала и надеялась, что сможет вытерпеть это.
Но она снова и снова слышала вопрос Людвига: «Хеда, тебе
нехорошо?» — и думала, что ей пришлось солгать ему в
ответ, в первый раз солгать.
И теперь она совсем, казалось ей, потеряла родной дом,
и свою прекрасную свободу юности, и всю беззаботную,
светлую радость рая.
МУЗЫКА
Снова сижу я на свош скролшом угловом месте в кон¬
цертном зале, которое люблю за то, что никто не сидит по¬
зади меня, и снова мягко и весело льются на меня тихий
404
гул и обильный, сверкающий свет полного зала, а я жду,
читаю программу и чувствую сладостную напряженность,
которую доведет до апогея постукиванье дирижерской па¬
лочки, а потом сразу разрядит и снимет первый набухаю¬
щий звук оркестра. Не знаю, заверещит ли он высоко и бу-
доражаще, как танец насекомых в разгар лета июльской
ночью, вступит ли он рожками, звонко и радостно, дохнет
ли глухо и дупшо смягченными басами? Я не знаю музыки,
которая ждет меня сегодня, и я полон догадок и ищущих
предчувствий, полон желанья узнать, каково это будет, и
полон предвкушенья и уверенности, что это будет велико¬
лепно.
Впереди в большом белом зале выстроились боевые ря¬
ды, высятся контрабасы, покачивая жирафовыми шеями,
послушно склоняются над своими струнами задз^мчивые ви¬
олончелисты, настройка почти закончена, возбуждающе
торжествует последняя пробная нота кларнета.
Вот он, чудесный миг, вот и дирижер, длинный, чер¬
ный, вытянувшийся, огни в зале вдруг благоговейно погас¬
ли, на пульте призрачно светится озаренная невидимыми
лампами белая партитура. Наш дирижер, которого мы все
благодарно любим, постучал палочкой, развел руки в сто¬
роны и напряженно вытянулся в торопящей готовности. И
вот он откидывает назад голову, даже сзади угадываешь,
каким полководческим блеском сверкнули его глаза, он по-,
махивает руками*, как кончиками крыльев, и сразу зал, мир
и мое сердце захлестнуты короткими, быстрыми, пенисты¬
ми волнами скрипок. Исчезли публика и зал, дирижер и
оркестр, исчез и канул куда-то весь мир, чтобы снова пред¬
стать передо мной в новых формах. Горе музыканту, кото¬
рый посмеет теперь построить нам, полным ожидания, жал¬
кий мирок, неправдоподобный, надуманный, лживый!
Но нет, за работой мастер. Из пустоты и отрешенности
хаоса он взметает волну, широкую и могучую, а над волной
остается утес, островок, утлое прибежище над бездной ми¬
ров, а на утесе стоит человек, одинокий в безбрежности, и
бьющееся его сердце оглашает равнодушную пустьгаю жи¬
вым ропотом. В нем, человеке, дышит смысл мирозданья,
его ждет бесформенная бесконечность, его одинокий голос
вопрошает пустую даль, и волшебство его вопроса вносит в
пустыню форму, лад и красоту. Здесь стоит человек, да, он
мастер, но стоит в потрясении и сомнении над бездной, и в
голосе его ужас.
405
Но вот мир отвечает ему звучаньем, в несотворенное
втекает мелодия, форма пронизывает хаос, в бесконечном
пространстве появляется отголосок чувства. Происходит
чудо искусства, творение повторяется. Голоса отвечают
одинокому вопросу, взоры встречают сияньем ищущий
взгляд, сердцебиенье и возможность любви маячат в пус¬
тыне, и на заре своего молодого сознания первый человек
овладевает послушной землей. Гордость расцветает в нем и
глубокое умиление, его голос растет и царит, провозвещая
любовь.
Наступает молчание; первая часть закончена. И снова
слыпгам мы его, человека, в чье бытие и душу включены
мы. Творение идет своим ходом, возникает борьба, возни¬
кает беда, возникает страдание. Он стоит и ропщет, надры¬
вая нам сердце, он страдает безответной любовью, он ис¬
пытывает ужас увеличиваемого знанием одиночества. Му¬
зыка, стеная, бередит боль, рожок жалуется, кричит, слов¬
но пришел конец, виолончель плачет стыдливо, из одновре¬
менного звучания множества инструментов образуется сгу¬
сток ужасающей тоски, вялой и безнадежной, а из ночи
страдания возникают мелодии, воспоминания о прошлом
блаженстве, как далекие созвездия в печальном холоде.
Но последняя часть прядет из грусти золотую нить уте¬
шения. О, как вздымается и, выплакавшись, падает гобой!
Битвы разрешаются прекрасной ясностью, огорчения тают
и кажутся вдруг тихими и серебристыми, боль, стыдясь, пе¬
реходит в спасительную улыбку. Отчаяние кротко превра¬
щается в познание необходимости, возвращаются, но еще
более высокие и многообещающие, радость и лад, забытые
прелести и красоты выходят на свет и сходятся в новом
мелькании. И все соединяется, страдание и блаженство, и
растет огромными хорами, выше и выше, небеса разверза¬
ются, и благодатные боги утешительно взирают на бурные
взлеты человеческого томления. Улаженный, покоренный
и умиротворенный, мир какое-то сладостное мгновение,
длиною в шесть тактов, блаженствует в довольной завер¬
шенности, он само счастье и совершенство! И это конец.
Еще оглушенные огромным впечатлением, мы пытаемся
облегчить себя хлопаньем. И в сумятице взволнованных,
аплодирующих минут нам становится ясно — каждому под¬
тверждает это он сам и всякий другой, что мы изведали не¬
что великое, чудесное и прекрасное.
406
Многае музыканты-«специалисты» объявляют это не¬
верным и считают дилетантством, если, слушая музыку,
видишь картины — пейзажи, людей, моря, грозы, времена
суток и года. Мне — а я профан до такой степени, что не
могу даже распознать тональность пьесы, — мне кажется,
что видеть картины естественно и хорошо; впрочем, встре¬
чал я и хороших специалистов, разделявших это мнение.
Разумеется, на сегодняшнем концерте отнюдь не каждый
слушатель должен был видеть то же, что я: большую вол¬
ну, островок-утес одинокого человека и все прочее. Одна¬
ко, по-моему, у каждого слушателя эта музыка должна
была вызывать одни и те же образы органического роста и
бытия, становления, борьбы и страданий и, наконец, по¬
беды.
У любителя пеших походов вполне могла быть при
этом перед глазами длинная опасная дорога « Альпах, у
философа — пробуждение сознания, его развитие и боль
вплоть до благодарного, зрелого «приемлю», у набожного —
путь ищущей души от Бога назад к большему, очищенно¬
му Богу. Но ни один из тех, кто вообще с готовностью слу¬
шал, не мог не увидеть драматический разворот этой
структуры, путь от ребенка к мужчине, от становления к
бытию, от одиночного счастья к примирению с волей ми¬
роздания.
В сатирических и юмористических романах и феяьтонах
не раз, как я замечал, высмеивались такие жалкие и до¬
стойные сожаления посетители концертов, как коммерсант,
думающий во время траурного марша Героической симфо¬
нии Бетховена о ценных бумагах, богатая дама, которая
идет на концерт Брамса, чтобы показать свои украшения,
мать, которая под звуки Моцарта выводит на рынок дочку
на выданье, и тому подобные фигуры. Несомненно, такие
люди бывают, а то бы их образы так часто не повторялись
в литературе.
Мне, однако, они всеща казались неправдоподобными
и оставались непонятны. Что на концерт можно пойти как
на светский прием или на официальное мероприятие —
равнодупшо и безучастно, или с расчетом и своекорыстны¬
ми намерениями, или из тщеславия и чтобы покрасовать¬
ся — это я моту понять, ^ свойственно человеку, и над
этим можно посмеяться. Я и сам, поскольку ведь нельзя
назна^шть дни музыки самому, случалось, ходил на кон¬
церт без хорошего благоговейного настроения, усталый,
407
или раздраженный, или больной, или полный забот. Но
что'симфонию Бетховена, серенаду Моцарта, кантату Ба¬
ха, едва лишь запляшет дирижерская палочка и хлынут
волны звуков, можно слушать равнодушно, не меняясь в
душе, без волнения и подъема, без страха, стыда или пе¬
чали, без боли или без трепета радости — этого я никоща
не понимал. Трудно смыслить намного меньше моего в
техническом аппарате — я и ноты-то читаю с грехом по¬
полам! — но что в творениях великих музыкантов, если
вообще ще-либо в искусстве, речь идет о самых высоких
взлетах человеческой жизни, о самом серьезном и важном
для меня, для тебя и для каждого — это-то должен же по¬
чувствовать и полнейший профан! Ведь в том-то и состоит
тайна музыки, что она требует только нашей души, но уж
ее — без остатка; она не требует ни ума, ни образования,
поверх всех наук и языков она в многозначных, но в ко¬
нечном смысле всегда само собой разумеюпщхся построе¬
ниях неизменно представляет лишь душу человека. Чем
больше мастер, тем безграничнее верность и глубина его
взгляда и ощущения. И опять-таки: чем совершеннее чи¬
сто музыкальная форма, тем непосредственнее воздейст¬
вие на нашу душу. Мастер может не стремиться ни к чему
другому, кроме как к сильнейшему и точнейшему выраже¬
нию своего душевного состояния, или он может, тоскуя,
уходить от себя самого в мечту о чистой красоте — в обо¬
их случаях его произведение будет понятно сразу, и воз¬
действие оно окажет непосредственное. Техническая сто¬
рона — дело куда более позднее. Не поместил ли в какой-
то пьесе Бетховен скрипичные ноты не очень сподручно,
не позволяет ли себе ще-то Берлиоз, вставляя партию
рожка, рискованную смелость, основана ли мощная дейст¬
венность того или иного места на органном пункте или
только на звучании приглушенных виолончелей или еще
на чем-то — знать это хорошо и полезно, но для того, что¬
бы наслаждаться музыкой, — необязательно.
И я думаю даже, что подчас профан судит о музыке
правильнее и чище, чем иной музыкант. Есть немало пьес,
которые, как приятная, но незначительная игра, не про¬
изводят на профана особого впечатления, тоща как посвя¬
щенного они приводят в восторг своим техническим мас¬
терством. Так и мы, литераторы, ценим иное литератур¬
ное произведение, которое для наивных лишено какого бы
то ни было обаяния. Но я не знаю ни одного произведения
408
настоящего мастера, которое оказывало бы свое воздейст¬
вие лшпь на экспертов. К тому же, на наше счастье, мы,
профаны, способны вовсю наслаждаться прекрасным про¬
изведением и в отчасти посредственном исполнении. Мы
поднимаемся с влажными глазами, чувствуя себя взбудо¬
раженными до глубины души, встревоженными, обвинен¬
ными, очищенными, примиренными, тоща как специалист
спорит о той или иной теме или вся его радость загублена
неточным вступлением какого-нибудь инструмента.
Есть зато, конечно, у знатока и радости, нам, несведу¬
щим, недоступные. Однако как раз редкие, уникальные до¬
стижения в звучании, гармонию струнного квартета из
сплошь старинных, изысканных инструментов, сладостную
прелесть редкого тенора, теплую полноту необыкновенного
альта -г все это тонкий слух, независимо ни от каких зна¬
ний, почувствует совершенно стихийно. Ощущать это —
дело чувственной восприимчивости, а не образованности,
хотя, конечно, и получать чувственное наслаждение можно
учиться. Так же примерно обстоит дело и с искусством ди¬
рижера. При произведениях высокого достоинства ранг это¬
го искусства определяется вовсе не техническим мастерст¬
вом дирижера, а его человеческой тонкостью, душевной
широтой, серьезностью его личности.
Чем была бы без музыки наша жизнь?! Совсем не обя¬
зательно концерты. В тысяче случаев достаточно просту¬
чать на пианино, благодарно просвистеть, пропеть, промы¬
чать или хотя бы только вспомнить про себя какие-то не¬
забываемые такты. Если бы у меня или у любого мало-
мальски музыкального человека отняли, если бы нам за¬
претили или силой вырвали у,нас из памяти, например,
хоралы Баха, арии из «Волшебной флейты» и «Фигаро»,
это было бы для нас все равно что потерять какой-то орган
тела, наполовину, нет, даже полностью потерять какое-то
чувство. Как часто, когда уже ничто не помогает, коща
нам не в радость ни синева неба, ни звездная ночь и для
нас уже не существует никаких книг никаких писателей,
как часто возникает тоща из сокровищницы памяти ка¬
кая-нибудь песня Шуберта, какой-нибудь такт Моцарта,
звук из какой-то мессы, какой-то сонаты — мы не помним
уже, ще и коща ее слышали, — и ярко светит нам, и
встряхивает нас, и кладет руки любви на горящие раны...
Ах, чем была бы без музыки наша жизнь!
409
ДВА ГОЛОСА МЕЛОДИИ ЖИЗНИ
Будь я музыкант, я без труда бы сумел написать двух¬
голосную мелодию, мелодию, состоящую из двух линий, из
двух рядов звуков или нот, которые соответствуют друг
другу, дополняют друг друга, борются друг с другом, обу¬
славливают друг друга, во всяком случае, каждый миг, в
любой точке ряда взаимосвязаны и находятся в теснейшем,
живейшем взаимодействии. И каждый, кто умеет читать
ноты, смог бы прочесть мою двойную мелодию, увидел бы
и услышал при каждом звуке его противоположность, его
брата, его врага, его антипода. И вот именно эту двухго-
лосность, эту вечно идущую антитезу, эту двойную линию
я хочу выразить своим материалом, словами и бьюсь над
этим, и ничего не получается. Я делаю все новые и новые
попытки, и если что-то придает моему труду энергию и
упорство, то только эта устремленность к чему-то невоз¬
можному, эта отчаянная борьба за нечто недостижимое.
Мне хочется найти способ выразить эту двойственность, хо¬
чется писать главы и фразы, где постоянно видны сразу ме¬
лодия и контрмелодия, ще разнообразие непременно опи¬
рается на единство, шутка — на серьезность. Ибо только в
этом состоит для меня жизнь, в колебании между двумя
полюсами, в движении между обоими столпами мирозда¬
ния. Постоянно хоч^я мне с восторгом указывать на бла¬
женное разнообразие мира и так же постоянно — напоми¬
нать, что в основе этого разнообразия лежит единство; по¬
стоянно хочется мне показывать, что прекрасное и безоб¬
разное, свет и тьма, грех и святость противоположны всеща
лишь на миг, что они непрестанно переходят друг в друга.
Для меня высшие максимы человечества — те несколько,
где эта двойственность выражена магическими знаками, те
немногочисленные таинственные изречения и символы, где
распознана и необходимость, и иллюзорность великой про¬
тиворечивости мира. Китаец Лао-цзы оставил ряд таких из¬
речений, где оба полюса жизни как бы соприкасаются, что¬
бы вспыхнуть на миг. Еще благородней и проще, еще сер¬
дечнее это чудо сотворено во многих словах Иисуса. Я не
знаю ничего более потрясающего на свете, чем то, что та
или иная религия, теория, духовная школа тысячелетиями
оттачивает и совершенствует учение о добре и зле, о правде
и кривде, предъявляет все более высокие требования к
справедливости и послушанию, чтобы под конец, в высшей
410
своей точке, прийти к магическому открытию, что перед
Богом девяносто девять праведников — это меньше, чем
один грешник в момент раскаянья!
Но может быть, это большое мое заблуждение, даже
грех — считать, что я должен служить глашатаем этих выс¬
ших озарений. Может быть, беда теперешнего нашего мира
как раз в том и состойт, что эта высшая мудрость предла¬
гается на каждом углу, что в любой государственной церк¬
ви, наряду с верой в начальство, мошну и национальное
тщеславие, проповедуется вера в чудо Иисуса, что Новый
Завет, свод драгоценнейшей и опаснейшей мудрости, мож¬
но купить в любой лавке, а миссионеры его раздают даже
даром. Может быть, такие неслыханные, смелые, даже пу¬
гающие открытия и озарения, какие есть во многих словах
Иисуса, следовало бы тщательно спрятать и обнести защит¬
ным валом. Может быть, хорошо и желательно было бы,
чтобы ради того, чтоб узнать какие-то из этих могучих
слов, человеку приходилось жертвовать целыми годами и
рисковать жизнью, как то ему и приходится делать ради
других высоких ценностей жизни. Если это так (а в иные
дни мне кажется, что это так), тогда последний писатель,
развлекающий публику, поступает лучше и правильнее,
чем тот, который старается выразить вечное.
Такова моя дилемма и проблема. Говорить о ней можно
много, но решить ее нельзя. Повернуть оба полюса жизни
друг к другу, записать двухголосную мелодию жизни мне
никогда не удается. Однако я буду следовать смутному
внутреннему приказу и буду снова и снова предпринимать
такую попытку. Эта пружина заставляет ходить мои часы.
КОНЦЕРТ ВИРТУОЗА
Вчера вечером я был на концерте, существенно отличав¬
шемся от концертов, которые я привык слышать вообще.
Это был концерт всемирно знаменитого, светского скрипа-
ча-виртуоза, предприятие, стало быть, не только музыкаль¬
ное, но и спортивное, а прежде всего общественное. Да и
протекал этот концерт совсем не так, как другие концерты,
в которых речь идет только о музыке.
Программа, впрочем, обещала большей частью настоя¬
щую музыку, это могла быть даже программа чистого му¬
зыканта. В ней были прекрасные вещи: Крейцерова соната,
411
чакона Баха, соната Тартини* с чертовской трелью. Эти
прекрасные сочинения наполнили две трети концерта. За¬
тем, однако, к концу, программа менялась. Тут шли музы¬
кальные пьесы с красивыми, многообещающими названия¬
ми, лунные фантазии и венецианские ночи, неизвестных
авторов, чьи имена указывали на народы, до сих пор еще
не выдвинувшиеся в музыке. Словом, третья часть концер¬
та сильно напоминала программы, вывешиваемые в музы¬
кальных павильонах фешенебельных курортов. А концовку
составляли несколько пьес, которые великий виртуоз сочи¬
нил сам. С любопытством отправился я на этот вечер. В
юности я слышал, как играли на скрипке Сарасате и
Иоахим, и был, несмотря на некоторые помехи, восхищен
их игрой. Конечно, музыка — это по сути нечто иное, не¬
что совершенно иное, ничего общего с виртуозничеством не
имеющее, для ее расцвета нужны анонимность, религиоз¬
ность. Но зато в виртуозах, со времен Паганини, было для
всех, и для меня в том числе, какое-то волшебство фокус¬
ника и ловкача, какая-то магия артистизма и бродяжниче¬
ства. Я тоже коща-то, в двенадцать лет, впервые оказав¬
шись владельцем скрипки, мечтал о жизни виртуоза, вооб¬
ражал, что стою перед огромными переполненными зала¬
ми,. осчастливливая своей улыбкой десять тысяч человек,
что меня принимают и награждают золотыми медалями ко¬
роли, что я, одинокий, знаменитый, бездомный, странст¬
вую из города в город, из одной части света в другую, что
женщины любят меня, а многие завидуют мне, гениально
и грациозно танцующему на высоком канате мастерства и
мировой славы. Все это, значит, еще существует на свете,
и сегодня опять юнцы будут с горящими глазами смотреть
на ослепительного волшебника, девицы будут вздыхать, га¬
лерка будет греметь аплодисментами. Прекрасно, я радо¬
вался заранее и ждал этого с любопытством. И это дейст¬
вительно было великолепно.
Уже задолго до того, как я дошел до концертного зала,
мне по многим признакам стало ясно, что сегодня речь идет
не о том, что я и мои друзья называем музыкой, не о некоем
тихом и фантастическом явлении в нереальном и безымян¬
ном царстве, а о деле донельзя реальном. События этого
вечера разыгрывались не в нескольких более или менее
мечтательных и не приспособленных к жизни умах, нет,
они мощно приводили в движение моторы, лошадей, ко¬
шельки, парикмахеров и всю остальную действительность.
412
То, что происходило здесь, не было далеким от реальности
и безумным, а было очень реальным и настояпщм, очень
похоДило на другие могучие проявления современной жиз¬
ни — стадион, биржу, фестивали.
Трудно было в соседних с концертным залом улицах
пробиться сквозь потоки спешащих зрителей, сквозь вере¬
ницы автомобилей. Если ты добрался до входа, ты мог уже
что-то возомнить, ты уже что-то совершил, щюбился, вос¬
торжествовал над побежденными и завоевал себе место под
солнцем. И уже по пути, на пыльной улице, среди сотен
автомобилей, устремленных, все как один, к концертному
залу, я получил сведения о великом человеке, его слава на¬
бросилась на меня, проникла в мое одиночество и сделала
меня, который никуда не ходит и не читает газет, удивлен¬
ным знатоком интересных подробностей.
«Завтра вечером, — услыхал я, — он уже будет играть
в Гамбурге». Кто-то усомнился: «В Гамбурге? Как же он к
завтрашнему вечеру доберется до Гамбурга, тоща ему надо
бы уже сейчас сесть на поезд?» -р- «Чепуха! Он, конечно,
полетит на аэроплане. Может быть, у него даже собстенный
аэроплан». А в гардеробе, ще я победоносно продолжил
борьбу, я узнал из оживленных разговоров моих соратни¬
ков, что за этот вечер великий музыкант запросил и полу¬
чил четырнадцать тысяч франков. Все называли эту сумму
с благоговением. Некоторые, правда, полагали, что искус¬
ство существует, собственно, не только для богатых, но та¬
кой запрос одобряли, и оказалось, что большинство были
бы рады получить билеты по «нормальной» цене, но что
все-таки они все гордились тем, что заплатили так дорого.
Разобраться в психологии этого противоречия я ле сумел,
потому что мой билет был мне подарен.
Наконец мы все вошли, наконец уселись. Между ряда¬
ми, в коридорах, в соседнем зале, на эстраде до самого ро¬
яля были дополнительно поставлены стулья, ни одного сво¬
бодного места не было, иноща снаружи, от кассы, доноси¬
лись громкие жалобы тех, кого не впускали. Дали звонки,
стало тихо. И вдруг быстрым шагом вышел великий скри¬
пач, за ним скромно — молодой пианист-аккомпаниатор.
Мы все сразу же пришли от него в восторг. Нет, это не
был ни томный скиталец, ни грубый корыстолюбец, это был
серьезный, симпатичный, подвижный и все же исполнен¬
ный достоинства человек славной внешности и изысканных
манер. Он не посылал воздушных поцелуев, не строил из
413
себя презирающего мир мэтра, он смышлено оглядывал
публику, прекрасно зная, о чем здесь идет речь, а именно
о сражении между ним и этим тысячеглавым великаном,
сражении, в котором он репшл одержать победу и наполо¬
вину уже одержал, ибо вряд ли такая многочисленная пуб¬
лика, заплатив такую большую цену, признается потом в
своем разочаровании.
Виртуоз всем нам очень понравился. И коща он начал
играть медленную часть Крейцеровой сонаты, сразу же ста¬
ло ясно, что его мировая слава заслуженна. Этот симпатич¬
ный человек умел замечательно обращаться со своей скрип¬
кой, у него были пластичность смычка, чистота приемов,
сила и эластичность звука, мастерство, которому с готов¬
ностью и радостью покоряешься. Вторую часть он начал бы¬
стровато, слегка форсируя темп, но чудесно. Кстати, и мо¬
лодой пианист играл очень живо и приятно.
Крейцеровой сонатой была исчерпана первая треть про¬
граммы, и в перерыве человек, сидевший впереди меня,
подсчитывал своему соседу, сколько тысяч франков за эти
полчаса артист уже заработал. Последовала чакона Баха,
великолепно, но лишь в третьей пьесе, тартиниевской со¬
нате, скрипач показал себя во всем блеске. Эта пьеса в его
исполнении была действительно чудом — поразительно
трудная, nop2(3HTfejn>Hd сыгранная, и притом очень хоро¬
шая, солидная музыка. Если Бетховена и Баха широкая
публика слушала, может быть, только из почтительности и
только в угоду скрипачу, то тут она раскачалась и потеп¬
лела. Аплодисменты гремели, виртуоз очень корректно рас¬
кланивался и присовокупил улыбку при третьем или чет¬
вертом выходе.
А в третьей части концерта пригорюнились мы, истин-
лые меломаны и пуритане хорошей музыки, ибо теперь по¬
шло ублажение широкой публики, и то, что совсем не уда¬
лось хорошим музыкантам Бетховену и Баху, а необыкно¬
венному искуснику Тартини удалось только наполовину, —
это неведомому экзотическому сочинителю танго удалось
как нельзя лучше: тысячи людей воспламенились, они рас¬
таяли и прекратили сопротивление, они просветленно улы¬
бались, обливались слезами, они стонали от восторга и по¬
сле каждой из этих коротких развлекательных пьес разра¬
жались бурными аплодисментами. Великий человек побе¬
дил, каждая из этих трех тысяч душ принадлежала ему, все
с готовностью сдались, они давали гладить себя, дразнить,
414
осчастливливать, они утопали в хмелю и очаровании. А мы,
несколько пуритан, внутренне оборонялись, мы вели герои¬
ческие бесполезные бои, мы раздраженно смеялись над
ерундой, которая тут игралась, и все-таки не могли не за¬
метить блеска этого смычка, прелести этих звуков и не ух¬
мыльнуться порой по поводу какого-нибудь очаровательно¬
го, хоть и пошлого, но волшебно сыгранного пассажа.
Великое волшебство состоялось. Ведь и нас, недоволь¬
ных пуритан, захватывала, пусть на мгновенья, могучая
волна, нас тоже, пусть на мгновенья, охватывал сладо¬
стный, прелестный угар. Мы снова бы^и детьми и брали
первые уроки игры на скрипке, снова блаженно перемахи¬
вали, мечтая, через горы трудностей, каждый из нас на миг
мечты становился Им, мастером, волшебником, увлекал за
собой сердца легким взлетом смычка, улыбаясь, шутя, по¬
беждал огромное чудовище, толпу, вбирал в себя овации,
вбирал в себя неистовые массы, купался в них, усмехался
по их поводу.
Тысячи людей воспламенились. Они не могли допу¬
стить, чтобы этот концерт кончился. Они хлопали, крича¬
ли, топали ногами. Они заставляли артиста показываться
снова и снова, играть сверх программы второй, третий,
четвертый раз. Он делал это изящно и красиво, кланялся,
играл на бис; толпа слушала стоя, затаив дыхание, совер¬
шенно очарованная. Они думали, эти тысячи, что теперь
они победили, думали, что покорили скрипача, думали,
что своим восторгом могут заставить его снова и снова вы¬
ходить и играть. А он, полагаю, играл на бис в точности
то, о чем заранее договорился с пианистом, и, исполнив
последнюю, не указанную в программе, но предусмотрен¬
ную часть своего концерта, он исчез и больше не возвра¬
щался. Тут ничто не помогало, надо было разойтись, надо
было проснуться.
В течение всего этого вечера во мне было два человека,
два слушателя, два партнера. Один был старый любитель
музыки с неподкупным вкусом, пуританин корошей музы¬
ки, он часто качал серьезной головой, а в последней трети
вечера и вовсе не переставал ею качать. Он был не только
против приложения такого мастерства к музыке очень сред¬
него качества, не только против этих томных, повествова¬
тельных, развлекательных, приторных салонных пьесок —
нет, он был и против всей этой публики, против этих бога¬
тых людей, которых никоща не увидишь на более серьез¬
415
ном концерте, которые приехали к этому виртуозу на мно¬
жестве своих автомобилей, как на скачки или на биржу, он
был против поверхностного, быстро вспыхивающего и быс¬
тро гаснущего воодушевления всех этих несозревших де¬
виц. А другой человек во мне был мальчик, он внимал по¬
бедоносному герою скрипки, сливался с ним воедино, взле¬
тал с ним.
Эти оба в течение вечера много говорили между собой,
много спорили. Случалось, что музыкальный дока во мне
протестовал против исполнявшихся пьесок, а мальчик во
мне вспоминал, что я сам в свое время написал роман, где
один саксофонист дает брюзгливому музыкальному крити¬
ку очень примечательные ответы.
А как много пришлось мне размышлять о самом арти¬
сте, об этом корректном волшебнике! Был ли он в душе
музыкантом, который рад был бы играть только Баха и
Моцарта и лишь после долгой борьбы научился ничего не
навязывать людям и давать им то, чего они сами требуют?
Был ли он задохнувшимся в успехе светским львом? Был
ли он холодным калькулятором, умеющим пощекотать
людей точно по тому чувствительному месту между слез¬
ной железой и кошельком, откуда текут слезы и деньги,
если в этом волшебстве знаешь толк? Или он был смирен¬
ный слуга искусства, слишком скромный, чтобы высказы¬
вать свое мнение, который покорно исполняет свою роль,
не противясь судьбе? Или, может быть, он по очень глу¬
боким причинам и на основании опыта разуверился в цен¬
ности настоящей музыки и возможности ее понимания в
сегодняшней жизни и по ту сторону всякой музыки стре¬
мится сначала вернуть людей к истокам искусства, к го¬
лой чувственной красоте звуков, к голой мощи примитив¬
ных чувств? Загадка не разгадалась! Я все еще размыш¬
ляю об этом.
ЧТЕНИЕ В ПОСТЕЛИ
Когда живешь в гостинице дольше трех-четырех недель,
всеща нужно быть готовым к какой-нибудь помехе. То
здесь устроят свадьбу, которая, с музыкой и пеньем, про¬
длится весь день и всю ночь и закончится утром толчеей
подвыпивших в коридорах. То твой сосед, в номере слева,
попытается покончить самоубийством с помощью газа, и
416
пары проникнут к тебе. Или он застрелится, что само по
себе пристойнее, но сделает это в такое время суток, коща
постояльцы вправе ждать от своих соседей тихого поведе¬
ния. А бывает, лопнет водопроводная труба, и ты должен
спасаться вплавь, или в шесть часов утра перед твоими ок¬
нами ставят стремянки, и по ним лезет вверх бригада ра¬
бочих, подрядившихся перекрыть крышу.
Спокойно прожив уже три недели в своем старом <^По-
дворье святых» в Бадене, я мог ожидать, что скоро случится
какая-нибудь закавыка. На сей раз она была из числа са¬
мых безобидных: что-то разладилось в отоплении, и мы
целый день мерзли. Утро я героически перенес, сперва вы¬
шел погулять, потом сел работать,.в теплом халате, и каж¬
дый раз радовался, коща клокотанье и свист в холодных
железных змеях парового отопления казались признаком
пробуждающейся жизни. Но дело двигалось не так быстро,
и во второй половине дня, коща у меня замерзли руки и
ноги, я прекратил сопротивление и сложил оружие. Я раз¬
делся и лег в постель. А уж раз я нарушил порядок вещей
и учинил некое безобразие, улегшись среди бела дня на пе¬
рину, я сделал и нечто другое, чего обычно не делаю. Почти
все мои знакомые и судьи моего творчества считают, что я
человек беспринципный. Из каких-то наблюдений и каких-
то мест моих книг эти не очень проницательные люди за¬
ключают, что я живу непозволительно свободной, уютной
жизнью, наудалую. Поскольку я люблю по утрам повалять¬
ся, поскольку среди житейских бед позволяю себе иноща
бутылку вина, поскольку не принимаю гостей и не хожу в
гости и из других таких мелочей эти плохие наблюдатели
заключают, что я мягкотелый, тяжелый на подъем, опу¬
стившийся человек, который везде уступает, не берет себя
в руки и ведет безнравственную, беспутную жизнь. Но го¬
ворят они это только потому, что их злит и кажется им
дерзким то, что я не отрекаюсь от своих привычек и поро¬
ков, не утаиваю их. Если бы я (что было бы ведь легко)
симулировал перед миром размеренный, бюргерский образ
жизни, наклеил на винную бутылку этикетку от одеколона,
врал моим гостям, что меня нет дома, вместо того чтобы
говорить им, что они мне в тягость, словом, захоти я лгать
и обманывать, репутация у меня была бы самая лучшая и
мне уже вскоре присвоили бы звание почетного доктора.
А в действительности дело обстоит так, что чем меньше
считаюсь я с бюргерскими нормами, тем строже придержи¬
14 5-25Ч 417
ваюсь своих собственных правил. Это правила, которые я
нахожу превосходными и которым ни один из моих крити¬
ков не смог бы следовать хотя бы месяц. Одно из этих пра¬
вил — не читать газет, не из литературного высокомерия,
не из-за ошибочного мнения, будто ежедневные газеты —
худшая литература, чем то, что нынешний немец называет
«художественной», а просто потому, что ни политики, ни
спорт, ни финансы меня не интересуют, и потому, что мне
уже много лет стало невыносимо изо дня в день смотреть,
как мир катится к новым войнам. •
Когда я по нескольку раз в году на полчаса отступаю от
своего обыкновения не заглядывать в газеты, я наслажда¬
юсь еще и новизной этого впечатления, точно так же, как
в кино, куда я тоже, с тайной дрожью, хожу примерно раз
в год. А в этот довольно безотрадный день, удрав в постель
и, увы, не запасшись никаким другим чтением, я читал две
газеты. Одна, цюрихская, была сравнительно свежая, че¬
тырех- или пятидневной давности, и она оказалась у меня
потому, что в этом номере было напечатано одно мое сти¬
хотворение. Другая газета была приблизительно на неделю
старее и тоже досталась мне даром, попав ко мне в руки в
виде оберточной бумаги. Обе эти газеты я читал с любо¬
пытством и интересом, то есть читал я, конечно, лишь те
разделы, язык которых понятен мне. За области, для опи¬
сания которых требуется особый тайный язык, за спорт,
стало быть, политику и биржу я и не брался. Оставались,
следовательно, мелкие новости и литературный отдел. И
снова я понял всем сердцем, почему люди читают газеты.
Зачарованный густосплетенной сетью сообщений, я понял
волшебство безответственного созерцания и в течение часа
чувствовал свое единство со множеством тех стариков, ко¬
торые годами бьют баклуши и не умирают лишь потому,
что слушают радио и ждут нового с часу на.час.
Писатели большей частью — люди с небогатой фанта¬
зией, и поэтому я снова был опьянен и поражен всеми эти¬
ми сообщениями, ни одного из которых я сам, пожалуй, не
сумел бы придумать. Я читал необычайно любопытные ве-
пщ, такие, что днями и ночами буду думать о них. Лишь
немногие из напечатанных известий оставили меня равно¬
душными: что все еще энергично и безуспешно борются с
раком, это так же не удивило меня, как сообщение о новом
американском фонде искоренения дарвинизма. Но я триж¬
ды или четырежды внимательно перечел корреспонденцию
418
из одного швейцарского города, где одного молодого чело¬
века осудили за убийство по неосторожности, убийство соб¬
ственной матери, приговорив его к денежному штрафу в сто
франков. Несчастье, случившееся с этим бедвгагой, состоя¬
ло в том, что он на глазах матери возился с огнестрельным
оружием, а оно выстрелило и убило мать. Случай печаль¬
ный, но не невероятный, в каждой газете есть сообщения
похуже и пострашней. Но мне стыдно признаться, сколько
времени ушло у меня на размышления об этом денежном
штрафе. Человек застрелил свою мать. Если он сделал это
умышленно, он убийца, и — так уж водится — его не от¬
правят к какому-нибудь мудрому Зорастро*, чтобы тот
разъяснил ему глупость такого убийства и попытался сде¬
лать из него человека, а надолго посадят за решетку или — в
странах, ще еще правят добрые старые варвары-князья, —
.. отрубят ему для наведения порядка его дурную голову.
Но этот-то убийца совсем не убийца, а неудачник, с кото¬
рым случилось нечто необыкновенно печальное. Так на ос¬
новании каких тарифов, каких расценок человеческой жиз¬
ни и воспитательной силы денежного штрафа суд пришел
к тому, чтобы оценить эту, отнятую по неосторожности
жизнь именно в сумму сто франков? Я ни на секунду не
позволил себе, усомниться в честности и добросовестности
судьи, я убежден, что ему стоило большого труда найти
справедливое решение и что его различные доводы приво¬
дили его к тяжким конфликтам с буквой закона. Но где
найти человека, который прочтет сообщение об этом при¬
говоре с пониманием, а не то что с удовольствием?
В литературном отделе я нашел другое сообщение, оно
относилось к одному моему знаменитому коллеге. Ссылаясь
на «компетентный источник», нас извещали, что великий
беллетрист М. находится в данное время в С., чтобы заклю¬
чить договоры об экранизации его последнего романа, и да¬
лее, что господин М. заявил, что его следующее произведе¬
ние затронет не менее важную и интересную проблему, но
он вряд ли сможет закончить эту работу раньше чем через
два года. Это сообщение тоже долго занимало меня. Как
исправно, как хорошо и тщательно должен этот коллега
ежедневно исполнять свою работу, чтобы делать подобные
предсказания! Но почему он делает их? А вдруг во время
работы его захватит другая, более жгучая проблема и за¬
ставит приняться за другую работу? А вдруг у него слома¬
ется пишущая машинка или заболеет секретарша? Что бу¬
14* 419
дет тоща с его анонсом? Каково ему будет через два года
признаться, что он не управился? А что, если экранизация
его романа принесет ему столько денег, что он заживет
жизнью богатого человека? Тоща ни его следующий роман,
ни вообще какое-либо его произведение не будут законче¬
ны, разве что дела фирмы возьмет в свои руки секретарша.
Из другой газетной заметки я узнаю, что дирижабль-
цеппелин под командованием д-ра Эккенера* вылетает из
Америки в обратный путь. Значит, сначала он должен был
долететь туда. Замечательное достижение! Это известие
меня радует. Вспоминаю крепкого, скорее неразговорчиво¬
го человека с твердым, надежным капитанским лицом, чей
облик и фамилия запомнились мне, хотя я перекинулся с
ним всего липп> несколькими словами. И вот, значит, после
всех этих лет и событий, этот человек все еще трудится, он
продолжал работать и в конце концов долетел до Америки,
и ни война, ни инфляция, ни личные обстоятельства не по¬
мешали ему делать свое дело и стоять на своем. Ясно вижу
его сейчас перед собой — как он тоща, в 1910 году, сказав
мне несколько любезных слов (он принял меня, вероятно,
ш репортера), полез в свою пилотскую гондолу. Он не стал
генералом во время войны, не стал ^нкиром во время ин¬
фляции, он все еще кораблестроитель и капитан, он остался
верен своему делу. Среди стольких обескураживающих но¬
востей, вылившихся на меня из обеих газет, это известие
успокоительно.
Но теперь хватит. Всю вторую половину дня провел я с
двумя газетами. Отопление все еще не работает, попробую-
ка вздремнуть.
ОСМОТР КАРТИН В МЮНХЕНЕ
Несмотря на тысячи своих связей с искусством, я, соб¬
ственно, не так завишу от него, как житель большого горо¬
да. Для него искусство заменяет и нечто другое, нечто боль¬
шее, чем искусство, — природу. У него мало возможностей
познакомиться с природой, и многие приучаются вернее и
легче различать все марки автомобилей, чем, например,
породы деревьев, цветов или птиц; но и тоща, коща горо¬
жанин действительно видит природу вокруг себя, коща он
попадает на берег моря, в горы, на юг, он мало соприкаса¬
ется с ней. Он дышит хорошим воздухом, его глаза немного
420
отдыхают на зелени лугов или на синеве моря, но он ни¬
когда полностью не покидает сферы бесприродности, в ко¬
торой привык жить; всеща он возводит между собой и при¬
родой защитную стену цивилизации: гостиницу, салон,
пляжное кресло-корзинку, граммофон, автомобиль (мень¬
ше всего видишь во время вошедших в обычай автомобиль¬
ных поездок). И поэтому наиболее чувствительные и жад¬
ные до красоты горожане мало знают первый, подлинно ма¬
теринский источник красоты — природу, но зато часто до¬
стигают поразительной тонкости в знании и восприятии ее
второго источника — искусства. К этому разряду принад¬
лежат, например, все те, кто при виде вечерних сумерек
или взморья может в восторге воскликнуть: «Почти как
Клод Лоррен*» или «Совсем как у Ренуара*!» Все очень
большие знатоки картин принадлежат к этому типу, будь
они искусствоведы, коллекционеры или кто бы то ни было.
Настоящие же художники к этому типу людей никогда не
принадлежат, хотя и они тоже бывают, в общем-то, очень
большими знатоками искусства. Первый и важнейший при¬
знак сильных художников — это всеща их безусловная
любовь к природе, их безотчетное и упорное знание, что
природа отнюдь не заменитель искусства, а его источник и
мать.
Я могу долгое время жить без искусства, и, сколь много
бы мне ни рассказывали о каком-нибудь новом парижском
художнике, я буду без нетерпения ждать, когда случай по¬
знакомит меня с его произведениями, и не стану огорчать¬
ся, что не увидел тех или иных знаменитых произведений
искусства. Поехать в Лондон или Берлин ради нескольких
скульптур или картин мне никогда не пришло бы в голову.
Вокруг меня всегда существует мир, созерцание которого
неисчерпаемо, каждый молодой листок на каштане, каждое
облачко в небе для меня в бодрые мои часы так же милы,
так же важны, так же обворожительны и поучительны, как
все галереи мира.
Однако в произведения искусства, прежде всего в кар¬
тины, я способен еще как влюбляться, и, когда представля¬
ется случай увидеть прекрасные вещи такого рода, я бываю
благодарен за это. Особенно же я люблю снова видеть кар¬
тины, которые мне нравятся. Увидеть спустя годы или де¬
сятки лет того самого Тициана* в Венеции, того самого лю¬
бимого Париса Бордоне* в Милане, того самого Ренуара у
421
Рейнхарта* в Вивдертуре — это может быть для меня боль¬
шим счастьем.
Коща недавно одна поездка привела меня в Мюнхен, я
знал, что тут меня ждут некоторые радости этого рода. Я
много лет не был в Мюнхене, и мне много рассказывали об
упадке Мюнхена как города искусства, а также о неверо¬
ятных политических взглядах, которые там царят. Но за
эти вещи я не чувствовал себя ответственным. Несколько
друзей, которые есть у меня в Мюнхене, вероятно, еще жи¬
вы, в Ннмфенбургском парке по-прежнему плавают лебе¬
ди, в известном кабачке мне подадут превосходное мозель¬
ское, и, как все эти славные вещи, на месте окажутся и
некоторые давно любимые мною картины, на это, дума¬
лось, я могу положиться. Так оно и оказалось, ни картины,
ни прекрасный красочный воздух Мюнхена не изменились,
а что касается упадка города искусств, то я не вполне по¬
нимал, почему в этом воздухе и вблизи великолепных ста¬
рых картин нынешний художник не может писать так же
хорошо, как пятьдесят лет назад.
Кстати, первая прекрасная картина, которую мне дове¬
лось увидеть, была вовсе не старая, а совсем еще новая, это
был рисунок Олафа Гульбранссона*, моего некогда прияте¬
ля и собутыльника, выполненный острым карандашом дет¬
ский портрет, сочетавший, как другие лучшие работы этого
милого человека, разительное сходство со сверхъестествен¬
ной орнаментальностью. Мне тягостно, что, находясь не¬
сколько дней в Мюнхене, в том же городе, что и Олаф, я
все же с ним не увиделся. Не обижайся, старик Олаф, но
на сей раз я уклонился, я немного боялся тебя. Пойми, ты
атлет, а я человек хру1|кий, болезненный, и, если бы я по¬
звонил тебе и позвал в кабачок, а около одиннадцати, после
полулитровой дозы, ушел, ты бы разозлился, внес меня на
своих сильных руках в машину, повез к себе домой, поднес
мне там виски или еще что-нибудь крепкое, а на следую-
1ЦИЙ день ты, может быть, еделал бы еще один прекрасный
рисунок, а я бы лежал при смерти. Этого я не хотел, я хотел
снова увидеть Мюнхен, а сюда входило несколько произве¬
дений живописи, и, значит, встречу с тобой я принес в жер¬
тву не капризу, а Альтдорферу*, Дюреру*, Рембрандту, Се¬
занну* и Маре*.
422
Дважды был я в одно утро в старой пинакотеке, и не
только увидел своих давних любимцев, но даже сделал но¬
вое приобретение. Я долго стоял в первых залах у старых
немцев и голландцев, восхищаясь Дирком Баутсом*, восхи¬
щаясь создателем Варфоломеевского алтаря, затем напра¬
вился в дюреровский зал — не без тоски, ибо живописец
Дюрер никогда не был мне особенно мил, а его автопортрет
с длинными дурацкими локонами был мне всегда просто
противен. Но поскольку, с другой стороны, со стороны ри¬
сунков и некоторых гравюр на меди, я этого же самого Дю¬
рера высоко чтил, то навестить его я счел своим долгом. И
тут произошла поразительная вещь: если автопортрет гля¬
дел на меня совершенно по-прежнему и ничуть симпатич¬
ней не стал мне, то четыре апостола вдруг покорили мои
глаза и мое сердце, ибо это было написано, написано на
диво красочно, это цвело лицами, руками и одеждами апо¬
столов, как цветы, и пело, как музыка. Хорошо, что я не
увильнул от Дюрера! Богаче на нечто прекрасное, богаче
на одну любовь, пошел я дальше. Но теперь я уже не мед¬
лил и не думал ни о каком долге, а по велению сердца по¬
бежал не глядя через залы с чудесными картинами в боко¬
вую комнатку, где висели Альтдорферы. Там есть картина
«Сражение Александра», это было для меня самое замеча¬
тельное и самое таинственное произведение немецкой жи¬
вописи. В этой картине битвы с десятками тысяч фигурок
есть вся немецкая основательность, ожесточенность и пе¬
дантичность, и в то же время в этой картине все это неска¬
занно преодолено, озарено таким изяществом, таким тихим
волшебсгвом красок, какого не превзойдет ни француз, ни
китаец. В зависимости от того, как посмотришь на эту кар¬
тину, можно подумать: «Господи, миляга Альтдорфер про¬
сидел, наверное, за этой кропотливой работой несметное
множество лет!» или тут же почувствовать: «Бог ты мой,
вся эта большая картина написана, наверно, в одно боже¬
ственное утро, так она абсолютна, так сиюминутна и не¬
повторима волшебная игра света на этих массах фигур!» Я
долго стоял там, ублажая свои глаза. А рядом висел другой
мой любимец, маленький зеленый лесной пейзаж Альтдор¬
фера, крошечная картинка, в которой я вижу все дремучие
леса, все зеленые урочища мира, с плавным колыханьем
вершин и с чудесным мягким оттенком золота надо всей
этой зеленью.
423
я никогда не закончил бы, если бы и дальше пускался
в подробности, тема эта неисчерпаема. Но я был и в новой
Государственной галерее. Она возникла из идеи, которая в
истории галерей уникальна. Ведь галереи всегда в какой-то
мере националистичны, они всегда немного хотят показать,
что никакой, мол, другой народ на земле не напишет таких
картин или неспособен купить такие картины, как этот вот.
А в этой мюнхенской галерее царит обратный принцип,
принцип поразительной смиренности и искренности. Перед
основателем галереи поставили задачу — ясно показать,
как невыносимо скучна и плоха немецкая, в частности
мюнхенская, живопись известных десятилетий по сравне¬
нию с немецкой живописью двух предыдущих десятилетий
или даже по сравнению с современниками — французами.
Задача эта решена гениально. Выставка устроена так, что
нельзя начинать с любого зала, как вздумается, а надо по¬
неволе следовать предложенному порядку, как следуешь за
хорошо построенной аргументацией. Войдя, оказываешься
среди лучшей немецкой живописи, у Маре, у Шуха* и
Лейбля*, у раннего Ганса Тома* и молодого Трюбнера*.
Чуть ли не каждая картина — сокровище. А затем, зал за
залом, идет ужасающий обзор упадка немецкого, особенно
мюнхенского, искусства с конца восьмидесятых годов. В ог¬
ромных комнатах висят сплошь крупноразмерные полотна
(попадаются и вполне приличные, но ничего первоклассно¬
го) , пустые большие картины вильгельмовской эпохи и ее
умонастроения, декоративные работы претенциозного фор¬
мата и самого скромного качества... Но вот мука позади,
едва дыша, доходишь до конца этой анфилады, однако тебя
не выпускают на свободу злым и разочарованным, нет, от¬
крывается небольшой зал, где тебе показывают, что такое
' настоящая живопись. Это зал французов; там висят две мо¬
их любимицы: «Дорога в выемке» Сезанна и «Баржа» Ма¬
не*. И опять сюрприз: и из этого французского зала изы¬
сканных сокровищ тебя отпускают домой не без утешитель¬
ной перспективы, следует еще небольшое, не совсем перво¬
классное, но все же славное собрание современной живопи¬
си, показывающее, сколь основательно исчерпали себя этот
модерн, это декоративное мошенничество тех больших за¬
лов, насколько иными путями идет ныне живопись, и в Гер¬
мании тоже. Среди картин этого утешительного зала у меня
тоже есть любимица — «Венеция» Кокошки* с ее свеже¬
стью и порывистостью. Покидаешь эту экспозицию прими¬
424
ренным, она остроумна без ехидства, тебя сгибают, но
опять выпрямляют. Хорошее, очень хорошее дело эта Го¬
сударственная галерея.
Снова увидев эти вещи, я насытился, и, поскольку Карл
Валентин* в те дни не играл, я мог покинуть Мюнхен без
чувства, что пропустил что-то существенное.
ВОСПОМИНАНИЕ О С. ФИШЕРЕ
В течение тридцати лет я знал Фишера как издателя, и
по мере того, как я узнавал его, росло мое уважение к нему,
а уважение превратилось с годами в прочную и горячую
симпатию.
Связь между нами установилась в мою базельскую пору,
когда я писал свой первый роман. Кто-то показал Фишеру
мою маленькую базельскую книжку, «Германа Лаушера».
Он прочел ее и в кратком письме предложил мне дать ему
на просмотр какую-нибудь новую работу. Я был неизвест¬
ный молодой автор, и поэтому меня очень обрадовало, что
мое сочинение попалось такому уважаемому издателю и
вызвало у него желание вступить в переговоры со мной.
Ему пришлось немного подождать, а потом я представил
ему «Петера Каменцинда», и, поскольку эта первая моя
книга, вышедшая у Фишера, принесла мне и ему успех,
нам обоим оказалось легко быть друг другом довольными.
С годами, однако, я узнал фишеровское чувство ответст¬
венности и за тех своих авторов, на долю которых выпадал
более скудный материальный успех; в частности, я не раз
обстоятельно говорил с ним об Эмиле Штраусе* и видел,
что он озабочен и самым серьезным образом доискивается
причин, по которым столь значительный и вполне признан¬
ный критикой автор не получил той популярности, какой
он, по нашему мнению, заслуживал. И о других авторах,
иных из которых я приводил к нему или ему рекомендовал,
мне тоже было приятно слушать его осторожные, неизмен¬
но стремившиеся к справедливости отзывы. Не всегда я раз¬
делял его мнение и не всегда бывал им доволен, мне часто
казалось, что он слишком холодно противится моим взгля¬
дам и моим пристрастиям, что его слишком трудно заразить
энтузиазмом. Порой казалось, что разница в возрасте меж¬
ду нами больше, чем разница лет. Но понемногу и я по-
425
остепенился и понял, что, помимо моих личных желаний,
у издателя существуют еще свои функции. И я увидел, что
у Фишера есть о своем издательстве, нынешнем и будущем,
определенное представление, которому он следует с чувст¬
вом высокой обязанности, но и с острым чутьем. Со време¬
нем я познакомился л с другими издателями, иные из ко¬
торых какое-то время нравились мне или импонировали, но
я никогда не жалел, что остался у Фишера. Его нельзя было
в хорошую минуту, за стаканом вина подбить на какие-ни-
будь смелые планы, как то было возможно, скажем, с Аль¬
бертом Лангеном или, скажем, с Георгом Мюллером*. Но в
отношениях с Фишером были такое постоянство, такая на¬
дежность, каких я не находил ни у кого больше. В деловых
вопросах я мало обременял его, и недолгие размолвки меж¬
ду нами случались считанные разы. А во многих важных
вещах, важность которых я понял лишь благодаря сравне¬
нию с тем, как поступали с ними во многих других изда¬
тельствах, фишеровское издательство отличалось образцо¬
вой, никогда не разочаровывающей надежностью. Особенно
благодарен я был всегда за бережность и внимание в обра¬
щении этого издательства с текстами: при наборе новой
книги или переиздании старой не только учитывались ма¬
лейшие мои указания и поправки, но меня и запрашивали
по поводу каждого спорного слова или знака препинания.
Хоть я ни разу не входил в здание фишеровского издатель¬
ства в Берлине, могу засвидетельствовать: там работали с
образцовой аккуратностью. Писем, остававшихся без отве¬
та или небрежно прочитанных, долгого ожидания мелких
справок, недовольства из-за нелюбезных или неточных От¬
ветов — ничего этого там не бывало.
Из доверительных и уважительных отношений между
пожилым издателем и молодым автором, из удовлетворен¬
ности автора славным порядком в издательстве, которому
он доверился, возникало постепенно, благодаря нашим не
очень частым личным встречам, что-то вроде дружбы, я ма-
ло-помалу открывал в уважаемом старике, который так хо¬
рошо вел мои дела и избавлял меня от такого множества
докучливой ерунды, еще и милого человека, я все ближе
узнавал его ровный, но скорее нежный и не защищенный
от мрачности нрав, а в последние годы выпадали и часы,
когда его слова, когда само его присутствие радовали и со¬
гревали меня. Очень трогала меня порой в поздние годы та
приветливая и чуть беззащитная улыбка, с какой он, буду¬
426
чи туг на ухо, отказывался от полного понимания при бе¬
седе, улыбка эта бывала немного грустной, но мелькало в
ней иногда и лукавство, она как бы намекала, что такая
отстраненность глуховатого человека может иной раз ока¬
заться облегчением и убежищем.
С этой улыбкой отец Фишер останется у меня в памяти.
ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ КЛИНГЗОРА
«Последнее лето Клингзора» и вышедший с ним тогда в
одном томе рассказ «Клейн и Вагнер» возникли в одно и то
же лето, не^ыкновенное для мира и для меня и неповто¬
римое лето. Это было в 1919 году. Кончилась четырехлет¬
няя война, мир казался разбитым вдребезги, миллионы сол¬
дат, военнопленных, граждан возвращались из тупого уни¬
фицированного повиновения к столь же вожделенной,
сколь и пугающей свободе. Война, великая правительница
мира, умерла и была похоронена; опустошенно ждал изме¬
нившийся и обедневший мир отпущенных на волю рабов.
Каждый сгорал от тоски по этому миру и по свободе дви¬
жения в нем, и каждого все-таки страшили выход на волю,
ставшие незнакомыми области частного и личного, ответ¬
ственность, которую означает всякая свобода, давно подав¬
ленная, ставшие чуть ли не врагами порывы, возможности
и мечты собственной души. На многих новая атмосфера
действовала как наркотик. Многие в момент освобождения
не испытывали никакого другого желания, кроме как раз¬
бить в прах все, за что они в эти годы сражались и проли¬
вали кровь. У каждого было чувство, что он что-то потерял
и пропустил, часть жизни, часть себя, часть развития, при¬
способленности, умения жить. Были молодые люди, кото¬
рые жили еще в мире детства, когда их унесла война, и
которые теперь нашли этот так называемый реальный мир,
куда они «вернулись домой», совершенно чужим и непонят¬
ным. А из нас, старших, многие считали, что у них укра¬
дены как раз самые важные, самые незаменимые годы и
теперь поздно начинать сначала и конкурировать с более
молодыми, завидовать которым, правда, тоже не приходи¬
лось, но у которых было хотя бы то преимущество, что они
пробудились к жизни уже в жестоком и трезвом, несенти¬
ментальном и лишенном идеалов мире, а мы, старшие, вы¬
шли из таких этох и придерживались таких взглядов, ко¬
427
торые для нас составляли высшую ценность, а теперь стали
курьерами позавчерашнего дня. Эпохи сделались удиви¬
тельно короткими; молодые вели счет времени уже не ве¬
ком человеческой жизни, не поколениями или хотя бы пя¬
тилетиями, а годами рождения, и родившиеся в 1903 году
считали, что их отделяет пропасть от тех, кто родился в
1904-м. Все стало спорным, и в этом было что-то тревожное
и часто очень пугающее. Но иноща, в хорошие часы, каза¬
лось, что в таком сомнительном мире возможно все, и это
открывало широкие горизонты. Мне, например, униженно¬
му и пришибленному войной, а теперь снова отпущенному
в частную жизнь писателю, порой казались возможными
самые невероятные вещи, такие, как возвращение мира к
разуму и братству, новое открытие души, восстановление в
правах прекрасного, новый зов богов, в которых мы верили
до краха нашего прежнего мира. Я, во всяком случае, не
видел для себя иного пути, чем назад к писательству, не¬
зависимо от того, нуждается ли еще мир в писательстве или
нет. Если я мог еще оправиться от потрясений и потерь во¬
енного времени, почти совсем разрушивших мою жизнь, и
придать смысл своему существованию, то достичь этого
можно было только радикальной ломкой, отказом от всего
прежнего, попыткой принять вызов ангела.
От службы по опеке над военнопленными я освободился
только весной 1919 года: свобода застала меня в одиноче¬
стве, в пустом и запущенном доме, где уже год очень плохо
обстояло дело с освещением и отоплением. От моего преж¬
него быта мало что осталось. Я подвел под ним черту, упа¬
ковал свои книги, одежду, письменный стол, запер опустев¬
ший дом и стал искать места, где мог бы в одиночестве и
полной тишине начать заново. Место, которое я нашел и
где сегодня, много лет спустя, все еще живу, называется
Монтаньола и было деревней в Тессине.
Чтобы сделать это лето для меня необычайным и непов¬
торимым событием, сошлись три обстоятельства: год 1919-й:
возвращение из войны в жизнь, из-под ярма в свободу —
это было главное; но сюда прибавились атмосфера, климат
и язык юга, а вдобавок, благодатью небесной, лето, каких
на моем веку было мало, такой мощи и знойности, такой
прелести и лучезарности, что оно опьяняло и пронимало
меня, как крепкое вино.
Это было лето Клингзора. Жаркими днями я бродил по
деревням и каштановым рощам, сидел на складном стуль-
428
чикв и пытался запечатлеть что-то от этого разливающего¬
ся волшебства акварельными красками; теплыми ночами я
допоздна сидел при открытых дверях и окнах в маленьком
замке Клингзора и пытался, чуть ловчее и осмотрительнее,
чем это удавалось мне кистью, спеть словами песню этого
необыкновенного лета. Так возник рассказ о художнике
Клингзоре.
ОТВЕТ НА АНКЕТУ
Какую бы профессию ни выбрал молодой человек и ка¬
ковы ни были бы его представления о профессии и его ув¬
леченность ею — он всеща при этом выходит из цветущего
хаоса юношеских мечтаний, всеща вступает в организован¬
ный, застывший мир и всеща разочаровывается. Разочаро¬
вание само по себе невредно, отрезвление может означать
и победу. Но большинство профессий, и как раз прежде все¬
го «высокие», спекулируют в своей нынешней организации
на эгоистических, трусливых, ленивых инстинктах челове¬
ка. Ему легко, если он готов признать, что дважды два пять,
если он угодничает, если подражает господину начальнику;
и ему бесконёчнс^тяжело, если он ищет работы и ответст¬
венности и любит их.
Как стадные юнцы справляются с этими вещами, меня
не интересует. Для людей духовных это опасный подвод¬
ный камень. Они не должны избегать профессий, и как раз
профессий организованных государственно, они должны
пробовать их! Кто, прежде чем приступить к службе, обру¬
чится или женится или привыкнет хорошо жить, того служ-
^ не закалит, не найдет ни твердым, ни достаточно гиб-
гам, он приспособится, покроется ржавчиной.
Об этом хорошо однажды сказал американец Эмерсон*,
которого я вообще-то мало знаю. Он считает, что если юно¬
ша чувствует в себе призвание к высокому, призвание ис¬
следователя, художника, священника, вождя, призвание к
духовности и ответственности, то он не должен каким-либо
образом привязывать себя к материальному миру. Он не
должен жениться, обручаться, не должен л1^ить хорошую
еду, красивое жилье, роскошь и уют. Тоща, полагает Эмер¬
сон, каждый сможет заработать себе на кусок хлеба мини¬
мальной ежедневной или еженедельной работой и оставать¬
ся свободным для своей задачи.
429
Эти слова будут касаться всвща только немногих. Но
чтобы такие немногае появлялись, чтобы кто-то из нашей
молодежи был готов во имя своей веры и мечты вьшолнить
эти древние три завета — вот что важно. От этого зависит
многое в будущем.
АВТОР — КОРРЕКТОРУ
Глубокоуважаемый, дорогой господин корректор!
Поскольку мы оба то и дело друг от друга зависим, делая
общую работу, будет, пожалуй, не вредно, если я на часок
воздержусь от постоянных мелких поправок, замечаний и
воспитательных поползновений, которыми мы с Вами при¬
выкли обмениваться, и попытаюсь сказать Вам нечто прин¬
ципиальное по поводу Вашей и моей работы, то есть по по¬
воду моего представления о смысле этой работы, об ее функ¬
ции в совокупности народа, языка, культуры. Вы знаете,
что намерения у меня добрые и дружеские, и признаете это
даже в тех случаях, коща Вы отнюдь не разделяете моего
мнения. А я со своей стороны предполагаю у Вас, конечно
по праву, интерес к этим мыслям, участливое отношение к
нашей общей работе, неравнодушие к своей профессии и ее
значению, ибо кто из нас был бы способен продолжать ра¬
ботать по своей профессии, оставаться ей верным, прино¬
сить ей жертвы и взамен получать от нее радость, если бы
ему снова и снова не хотелось вникнуть в смысл этой про¬
фессии и не дать ей выродиться в застывшую систему ме¬
ханических приемов. Ведь в эпоху техники, всеобщей пе¬
реоценки денег и рабочего времени любой профессии лю¬
бому работающему человеку, при всей его доброй воле, не¬
престанно грозит опасность стать бездушной деталью ма¬
шины и превратить свой труд из личного и ответственного
в смехатизированный и ша^онный. Именно по сопротив¬
лению, которое Вы порой оказываете моим намерениям и
взглядам, я вижу, как серьезно относитесь Вы к своей про¬
фессии. Не будь я в том убежден, я бы не стал, конечно, и
утруждать с^я этим объяснением, которое — я чувствую
это уже по своим вступительным фразам — пишется вовсе
не так легко, как то мне наперед представлялось, по ходу
дела становится все затруднительней и заковыристее.
Сотрудничество автора и корректора начинается ведь
лишь тогда, когда у автора его главная и настоящая работа,
430
писание книги, давно сделана. Именно поэтому корректор
склонен иногда считать всю оставшуюся еще работу —
превратить рукопись в печатную книгу — задачей цели¬
ком своей собственной, от которой автора надо по возмож¬
ности отстранить. Он, автор, свое дело сделал, написал свое
эссе, свой рассказ, свой роман, теперь за работу взялся из¬
датель, а задача наборщика и корректора — превратить
написанный текст в напечатанный. Кажется, что это совсем
просто. Автор свою работу выполнил, у него ее приняли,
пусть он теперь отдохнет, пока его сил не потребует новая
рукопись! Зачем ему заботиться еще и о дальнейшем про¬
цессе становления книги, вмешиваться в работы, для кото¬
рых существуют специалисты? В каких-то случаях оно,
быть может, и необходимо и, как исключение, справедливо,
например, коща автор еще молод и неопытен и лишь при
виде полученных от наборщика листов корректуры начина¬
ет думать о всяческих исправлениях своего текста, которые
человек с опытом проделывает еще до сдачи рукописи.
Но уж совершенно незачем — так кажется многим, в
том числе и Вам, глубокоуважаемый сотрудник, — вмепп1-
ваться автору в работу корректора, коща речь идет не об
издании рукописи, а о переиздании старой, давно уже на¬
печатанной книги. А именно этот вид работы нам обоим
часто приходится выполнять, ибо человек старый, и мне
уже редко случается печатать что-нибудь новое, зато нам
то и дело приходится переиздавать ту или иную из моих
прежних книг, которых много лет нет в запасе из-за гит¬
леровских запретов или американских бомб. Коль скоро я,
автор, не обрабатываю эти тексты заново, а просто хочу
переиздать в прежнем виде, то, казалось бы, мне тут и
впрямь делать нечего, это просто довольно-таки механиче¬
ская работа наборщика и корректора.
Да, казалось бы. И однако, это не так. Если я откажусь
прочесть корректуру и сам проверить каждую буковку, то
наборщик и Вы сотворите текст, который при совсем по¬
верхностном сравнении кажется прежним, а на самом деле
отступает от первоначального в десятках, нет, сотнях ме¬
лочей.
Если у меня, например, сказано: «Он широко распахнул
двери...» — Вы не выбросите и не прибавите целых слов,
но Вы, к примеру, из <даери» сделаете <щверь». И вот мы
уже назвали один из самых распространенных случаев тех
изменений, которые претерпевает мой текст по Вашей и на¬
431
борщика милости, одно из той сотни мест, которые Вы, как
Вам кажется, улучшили, а по моему мнению, не улучЕшли,
а испортили. Речь идет всегда липп> о кажущемся пустяка¬
ми, об одной или двух буквах, о «дверь» вместо <<двери», о
«что же» вместо написанного мною «что ж», о «быстрою»
вместо моего «быстрой», о «в течение» вместо моего «в те¬
ченье», о «сумняшеся» вместо моего «сумняся». Я написал
«этак». Вы переделываете это в «так», я написал «препоя¬
сался», а Вы печатаете «перепоясался» и так далее, все кро¬
шечные мелочи, но их набираются сотни.
А спроси Вас кто-нибудь, уж не всерьез ли Вы думаете,
что в немецком языке Вы сильнее и тверже, чем Ваш автор.
Вы такую мысль, без сомнения, отвергли бы. Вы сказали
бы, что от такой самооценки Вы так же далеки, как от пре¬
небрежения к автору и его возможностям в языке. Но со¬
чинять — это, мол, одно дело, а печатать — другое, и
существуют нормы и правила написания и пунктуации, и
когда писатель по настроению пишет «ь» или «и», ставит
или опускает запятую, пишет один раз «что ж», а другой
раз «что же», один раз ставит запятую, а другой раз при
той же конструкции предложения — тире, то как раз, мол,
и видно, что сам писатель не так уж уверен в своих знаках
препинания и что хорошо, если корректор позаботится о
единообразии этих внешних форм и средств выразительно¬
сти.
И тут Вы, дорогой господин корректор, ссылаетесь на
своего цехового ангела-хранителя, на своего законодателя,
на Дудена*.
Возможно, что я в отдельных случаях бываю несправед¬
лив к Дудену, то есть предполагаю в нем иногда больше
косности и жесткости, чем то на самом деле есть, я не могу
это проверить, ибо Дудена у меня нет и никоща не было.
Не потому, что я испытываю отвращение к словарям, их у
меня хватает, и один из них, большой гриммовский словарь
немецкого языка, принадлежит к числу самых любимых
моих книг.
Я также не против того, что существует такая штука,
как Дуден, инструкция по правописанию и справочник по
употреблению знаков препинания. В эпохи, когда все пи¬
шут и большинство — плохо, такие вспомогательные сред¬
ства безусловно нужны и желательны. В принципе я ничего
против Дудена не имею; это похвально, если добросовест¬
ный педагог помогает своему народу советами по части ор-
432
фрграфии и пунктуации. Но ведь Дуден, Вы же знаете, дав¬
но уже никакой не советчик, а ставший путем отвратитель-
нрго насилия всемогущим законодатель, высшая инстан¬
ция, пугало, божество железных правил, предельного нор¬
мирования.
Может быть, и Дуден допускает в равной мере «что ж»
и «что же», «дверь» и «двери», «быстрой» и «быстрою», я не
знаю. Вы ведь можете заглянуть в него. Знаю только, что
Ваши; наборщики и Вы не даете мне пользоваться этой чу¬
десной возможностью и писать, по потребности, то «что ж»,
то «что же», то «наверно», то «наверное», то «в течение»,
то «в теченье». Вот от чего я защищаюсь и должен защи¬
щаться, ибо тут речь идет о вещах, не признающих ни Ду-
дена, ни вообще какого-либо государственного или профес¬
сионального авторитета, о вещах, за которые отвечает толь¬
ко поэт и писатель.
От того, что я скажу «Затвори дверь» или «Затвори-ка
двери», смысл фразы нисколько не изменится. Изменится
другое. Совершенно изменится — достаточно лишь произ¬
нести это вслух — ритм и мелодия фразы. Опущенные сло¬
ги делают из нее нечто совсем другое, не по обьективному
ее содержанию, а по ее музыке. А музыка, особенно музыка
прозы, — одно из немногих, поистине магических, поисти-
не волшебных средств, какими и поныне располагает поэ¬
зия. Эти крошечные слоги, прибавлены они, или опущены,
или, если нужно, подкреплены пунктуацией, имеют чисто
поэтическое, вернее, чисто музыкальное значенье и назна¬
ченье. Даже литературоведение недавно открыло это и сде¬
лало предметом усиленного изучения.
И вот, если Вы до сих пор дружески следили за моей
мыслью, последите за ней еще чуть-чуть. Представьте себе,
пожалуйста, на минуту, что Вы корректор в типографии,
ще печатают не литературные, а музыкальные произведе¬
ния. В набор Вы сдавали какую-нибудь партитуру, какой-
нибудь клавираусцуг или еще что-либо в виде рукописи
композитора или прежнего издания. Сотрудником Вашим
был бы нотопечатник, и с ним вместе Вы пользовались бы
как указателем и руководством неким музыкальным Дуде-
ном, то есть книгой учителя музыки, содержащей все све¬
дения о законах и средствах музыкального выражения, по¬
скольку оно поддается нотным знакам, книгой, автор кото¬
рой — большой знаток музыкального языка, однако не
творец и, может быть, даже не настоящий, понятливый
433
друг мастеров музыки. Задачей его книги было бы служить
советчицей людям, которые хотят писать музыку, не впол¬
не владея законами, навыками и приемами этой деятель¬
ности. Беда от этой полной добрых намерений и очень по¬
лезной книги была бы лишь в том, что у народа, привык¬
шего к послушанию, государственная власть превратила бы
ее в обязательное руководство.
Итак, вместе с Вашим, вымуштрованным по музыкаль¬
ному Дудену нотопечатником Вы приступили бы к печата¬
нию нот. Вы действовали бы так, как научились действо¬
вать при корректуре романа. Вы, значит, в общем и целом
стремились бы к точному воспроизведению оригинала, но
одновременно и известному контролю, известному норми¬
рованию нотного письма. Вы, например, никоща не позво¬
лили бы опустить целый такт, но кое-ще позволили бы опу-
. стить одну четверть, одну восьмую или одну шестнадцатую
или по крайней мере там, где композитор, по-Вашему,
слишком произвольно отступает от схемы, сделали бы из
двух восьмых одну четверть, вставили бы уместный, на
Ваш взгляд, знак ускорения темпа, убрали бы, на Ваш
взгляд, неуместный. Это были бы сплошь крошечные, до¬
зволенные, даже предписанные Дуденом вмешательства, но
они означали бы с^мое. настоящее насилие над музыкаль¬
ным сочинением. А через десять или двадцать лет другой
нотопечатник переиздал бы его в Вашей версии, и опять-
таки с новыми, крошечными вмешательствами наборпщка,
основанными на новейшем, пересмотренном Дудене. Тоща
третье, четвертое, десятое издание этого музыкального со¬
чинения выглядело бы примерно так, как выглядела
большая часть дешевых изданий наших литературных
классиков до того, как заново открыли существование из¬
дательской и редакторской совести.
Меня пугает, глубокоуважаемый адресат, объем, кото¬
рый приняло в ходе дела задуманное письмецо к Вам. Чем
старше я становлюсь, тем труднее мне пишется, тем больше
разгона и места нужно мне, чтобы, избежав бесконечных
возможностей неверного понимания, достичь какой-то од¬
нозначности, какой-то точности написанного. Но, может
быть, это 6euio бы не напрасно; может быть, вам ночью при¬
снятся когда-нибудь зачеркнутые буквы, как снятся, может
быть, иноща полководцу павшие воины. Может быть, ему
тогда вдруг становится жаль их, и, может быть, он спрапш-
434
вает себя, действительно ли никак нельзя было избежать
этих жертв.
В АНТРАКТЕ КОНЦЕРТА
Сегодняшний концерт застал меня в совсем необычной
ситуации. В чужом мне городе с чужим языком, в непривыч¬
ном, чуждом мне и скорее неуютном, архитектурно непол¬
ноценном концертном зале, среди совершенно неведомой
публики я присутствовал на фортепианном вечере, на кото¬
рый пошел не только ради его донельзя прекрасной програм¬
мы, но прежде всего ради виртуоза-пианиста. Дело в том, что
этого превосходного музыканта я коща-то, в давно прошед¬
шие времена моей жизни, несколько раз слушал, и слушал с
восхищением, у него были не только сила и задор, не только
какая-то природная мощь и энергия, но было и благоговение
перед тем, что он играл, и в программах его, насколько я мог
следить за его довольно-таки блестящей карьерой, никоща
не бывaJIO пустых, парадных пьес. Он тогда, будучи на десять
лет моложе меня, познакомился со мной поближе, после того
как мы уже встречались в комнате для солистов и в доме од¬
ного моего приятеля, дирижера; однажды он навестил меня в
моем доме близ Берна и на пианино Мни проиграл мне песни,
которые он написал в юности на тексты, взятые из моей пер¬
вой, юношеской книги стихов.
Все это было десятки лет назад, мы много лет не встре¬
чались, временами ничего друг о друге не знали; и вот, ког¬
да я в старости, как беглец и пациент, оказался на какое-то
время в этом чужом краю, которого никоща прежде не ви¬
дел и ще сперва почувствовал себя чужим и не на месте,
на меня вдруг, во время прогулки, взглянул со стены дере¬
венского гаража желтый плакат с крупно напечатанным
именем Эдвина (Эдвина Фишера*) и, обещая мне изыскан-
но-прекрасную программу с пьесами Баха, Бетховена и
Шопена, притянул меня этими двумя магнитами на два ве¬
черних часа в этот незнакомый городишко. И вот я сидел
в безобразном, но акустически совсем неплохом зале, не,
как привык, старым завсегдатаем, среди аудитории, старей¬
шин которой я, по крайней мере в лицо, знаю уже целый
человеческий век и дольше, а посторонним в помещении,
где не только ничего мне знакомого и никаких примелькав¬
шихся лиц не было и в помине, а вообще было совсем мало
435
старейшин, старцев и завсещатаев, но была зато красивая,
некритичная и ненапыщенная публика, состоявшая сплошь
из совсем молодых людей, учеников и студентов.
Как отличалась эта атмосфера от атмосферы в обоих
концертных залах, ще я десятки лет был завсещатаем и
другом дома! Там очень большая часть публики состояла
из убеленных сединами стариков, в том числе таких, кото¬
рые знали и слышали еще старого Иоахима*, Вельти-Гер-
цог*, пожалуй, даже дряхлого Франца Листа*, а дома, в
секретере красного дерева, хранили визитную карточку Ко-
зимы Вагнер*. Там, коща он медленно и с трудом усажи¬
вался на свое излюбленное место, показывали друг другу,
шепча его имя, одного дряхлого энтузиаста, который пол¬
века не пропускает в этом зале ни одного концерта, посы¬
лает знаменитым певицам цветы на сцену, приносит им
конфеты в комнату для солистов и который будто бы в мо¬
лодости, коща музыкальный мир еще не был заражен ны¬
нешним критическим духом, сочинял гимнические отчеты
о концертах для «Городского вестника», а однажды, напри¬
мер, написал о Сарасате такую фразу: «Сегодня, 1^ы смеем
сказать это с душевным волнением, Сарасате превзошел не
более и не менее как самого себя».
Здесь, напротив, царил привычный и еще более, при
моей дряхлости, изолировавший меня, но вообще-то слав¬
ный и приятный дух юности, товарищества и хорошего на1-
строения, неомраченного и несентиментального присутст¬
вия, веселой открытости и готовности увлечься, дух, перед
которым мое собственное одиночество, моя подавленность
болями и заботами должны были бы притаиться и усты¬
диться и который был мне все-таки мил и действовал на
меня благотворно. Хватало и внимания, и признательных
аплодисментов исполнителю, но юная эта аудитория оста¬
валась в границах умеренности, одинаково далекой и от
критиканства, и от влюбленности или даже истеричности
знатоков. Никому из этих веселых молодых людей не при¬
ходило в голову сравнивать солиста данного вечера с умер¬
шим полвека назад Антоном Рубинштейном*, здесь не вы¬
тирали украдкой слезы, не вели, насладившись музыкой,
долгих разговоров о частностях исполнения, а то, что зна¬
менитый музыкант не был новичком, что его успехам и сла¬
ве уже четыре десятка лет, не имело для этой молодой
аудитории особого значения и скорее даже создавало некую
отчужденность. В зале сидело вряд ли больше десятка че¬
436
ловек, у которых исполнявшиеся прелюдии и сонаты, а так¬
же имя и внешность виртуоза вызывали в памяти прошлое
и невозвратимые ценности, концертные вечера сказочной
довоенной поры юности, исчезнувшего навсегда Мира, и
рядом с этой здоровой и наивной молодежью я казался себе
не только вдвойне перезрелым и старым, но и несовременно
сентиментальным. Тем не менее часть моего существа,
оставшаяся еще молодой или вневременной и безвозврат¬
ной, чувствовала, что эта новая молодежь с ее новой мане¬
рой поведения хоть и далека от меня, но очень приятна мне.
Волнующая это была минута для меня, старика, но в
глубине души самого, может быть, молодого и ребячливого
слзшителя в зале, коща вечер начался шумом приветствен¬
ных аплодисментов и на эстраде появилась хорошо знако¬
мая фигура музыканта, которого уже лет двадцать я не ви¬
дел, грузного и крепкого, слегка клонящегося вперед, с по¬
висшими длинными руками, постаревшего, что заметно бы¬
ло, однако, только по седине прихотливо-мальчишеской
челки, в общем-то для меня совершенно прежнего, привыч¬
ного. Большие, мясистые, свисали из широких манжет
сильные белые руки, его лицо мои испортившиеся глаза
различали лишь как светлую маску, тем знакомее и непов¬
торимее были его движения, когда он кланялся, садился на
стул, проверял равновесие и выжидательно, повелевая залу
затихнуть, клал руки на клавиши.
Я часто когда-то наблюдал его во время этой процедуры,
первые разы с доброжелательностью старшего на десять лет
коллеги, которому по некоторым небольшим турне доволь¬
но хорошо были знакомы чувства публичного выступления,
чувства художника, приступающего к единоборству с без¬
различной, косной и все же такой податливой толпой, —
чувства, начинавшиеся либо простым волнением перед вы¬
ходом на сцену, либо презрительным отвращением к толпе
и самому себе, — который был настолько глуп и тщеславен,
что дал заманить себя на эти скользкие подмостки, а кон¬
чавшиеся в редких счастливых случаях либо каким-то при¬
способлением к этой массе, тем, что ты покоряешь ее, либо
тем, что она покоряет тебя, странным состоянием усилен¬
ной жизни и в то же время почти полного распада собст¬
венной личности, состоянием, которого час спустя уже не
понимаешь и никогда больше не сможешь вернуть, кроме
как с ужасно нечистой совестью.
437
Однако коллегиальная, смешанная с легким злорадст¬
вом доброжелательность, с какой я, по праву старшего,
смотрел, как младший выполняет функцию, от которой я
уже тоща постепенно освобождался, уступила вскоре место
другому отношению, разница в возрасте сгладилась и поте¬
ряла значение (но как навязчиво она снова вьшятилась се¬
годня!). Мы оба стали друг для друга главным образом поч¬
тительно признанными товарищами по списку знаменитых
и преуспевших, тех, кого толпа в знак признания грубо по¬
хлопывает по плечу и кого при обращении наделяют совер¬
шенно обесцененным званием «мэтр», мы, оба, наверно, до-
вольно-таки устали от славы известности, зато в самой уз¬
кой, недоступной толпе области нашей деятельности мы со¬
здали себе некую посвященность, ремесленническую и ху¬
дожническую радость от самой работы, независимо от ее
воздействия на других. А наряду с этим чувством почти¬
тельного товарищества продолжало, вероятно, существо¬
вать и более теплое отношение друг к другу, тайная, пита¬
емая старыми воспоминаниями симпатия и нежность, с
моей стороны по крайней мере было так.
Для меня Эдвин был человеком, раскрывшим мне два
бетховенских концерта и даже несколько сонат Шопена,
которого я когда-то очень хорошо знал, лучше, чем какой-
либо другой виртуоз, а кроме того, он был тем, кто коща-
то, дважды, навестил меня в моем затворничестве, расска¬
зал мне о своей любви в детстве к моим ранним стихам и
играл мне свои песни, ще, помнится, атмосфера моих об¬
ращенных к Элизабет строк хорошо сочеталась с хромати¬
кой и филигранной техникой шопеновского происхожде¬
ния. А может быть, и в нем осталось незабытым что-то от
той тихой, почти стыдливой симпатии и привязанности. Во
всяком случае, его появление после стольких лет, его ма¬
неры, его удар по клавишам, его игра пробудили во мне
прекрасные, теплые воспоминания, и к концу первого от¬
деления мне захотелось подойти к нему в антракте и по¬
жать ему руку. Трудновато будет пробраться и попасть в
комнату для солистов из зала сквозь всю эту оживленную
молодую толпу, для подагрических ног это задача и вовсе
не легкая. Но если Эдвин меня узнает, если мое возникно¬
вение через двадцать лет обрадует его и если получится ко¬
роткий разговор с воспоминаниями о прошлом, то стоит и
потрудиться.
438
и, удивляясь немного собственной прыти, я расстарался
и через переполненные, шумные площадки, коридоры и ле¬
стницы весьма замысловатого здания, которое я в глубине
души, наверно, запомнил, чтобы использовать в будупщх
кошмарах, я проник в подземное царство на два этажа ни¬
же, чем мое место на концерте, ще нагроможденные ска¬
мейки и ящики оставляли лишь узкий проход к двери, за
которой пребывал солист и которая тоже была осаждена
плотной группой молодых людей, собирателей автографов
и поклонниц, чье спокойное, приглушенно-тихое поведе¬
ние мне было приятно отметить. Все они толпились перед
этой замызганной дверью, которая, можно бьио подумать,
оказывала магическое противодействие их продвижению,
ибо никто из них не отваживался отворить эту дверь или
энергично в нее постучать. Какое-то заклятие сдерживало
их и заставляло безмолвно ждать, заклятие, свою подчи¬
ненность которому я, тоже едва дойдя до этой группы по¬
читателей, сразу почувствовал. Я тоже замер, отказался от
своих желаний и решений и поддался колдовскому парали¬
чу. Дело в том, что человек, который, как мы знали, нахо¬
дился за этой серой, кое-как покрашенной дверью и насчет
которого мы полагали, что он либо прилег отдохнуть, либо
нервно и возбужденно шагает взад и вперед по своей каме¬
ре, ничего подогаого не делал. Он музицировал. Мы слы¬
шали, как он тихонько играл не на концертном, конечно,
рояле, а на старом учебном пианино, и играл он вовсе не
одну из двух шопеновских пьес, составлявших второе отде¬
ление, а Баха, прелюдию с фугой из Хорошо темпериро¬
ванного клавира.
Молча и улыбаясь стояли мы у двери, слушали, смотре¬
ли в пол и ждали, не зная, радоваться ли нам или скорее
уж огорчаться, если игра прекратится, и без уверенности в
том, что пауза придаст нам храбрости, чтобы войти или по¬
стучать. И если раньше, наверху в зале, между мной и этой
юной публикой был большой разрыв, то здесь и теперь ни¬
чего такого не ощущалось. Мы стояли, улыбались, слуша¬
ли, и, наверно, никому из нас не было бы жаль, если бы
это зачарованное стоянье и слушанье длились бесконечно
долго. Не болели ли у меня ноги? Да, они болели, но это
меня не касалось, это происходило в другой плоскости, в
другом мире и времени. Тихо, но ясно и мирно, весело и
сверхреально пробивалась божественная музыка через се¬
рые крашеные доски, и мне подумалось, что так же, как я
439
стою перед этой зачарованной дверью, стоял когда-то перед
кельей патера Иакова и слушал сонату Иозеф Кнехт.
Прекрасное черпает часть своего волшебства в недол¬
говечности. И это очарование, это обольщение тоже дли¬
лось всего лишь несколько минут, если уж мерить его обы¬
денными мерками. На лестнице позади нас послышались
быстрые и целеустремленные шаги, энергично спустился
господин в черном пиджаке и брюках в полоску, наверно,
один из тех заслуженных людей, без которых были бы не¬
возможны такие музыкальные вечера, представитель ко¬
митета. Ему вовсе не хотелось знать, что приковало нас к
месту, как в сказке, ибо никакие чары такого рода его ско¬
вать не могли. Энергичный, красивый, элегантный, с пре¬
красной самоуверенностью, он вошел в наш медленно рас¬
ступившийся круг, обошел не заметившую его, по-видимо-
му, девушку, быстро и мягко отстранил другую, реши¬
тельно взялся за ручку двери, без промедления открыл ее
и вошел. У меня хватило духа войти вместе с ним, и так
прошагали мы — а на пианино тем временем всходила со
ступени на ступень фуга — к тому, кто сидел за инстру¬
ментом и с полузакрытыми глазами заучивал наизусть
Хорошо темперированный клавир. Он продолжал играть,
приветливо и растерянно поднял на нас, когда мы остано¬
вились совсем рядом с ним, голубые глаза и прервал игру
лишь тогда, когда проложивший мне путь отрекомендо¬
вался ему.
Вот и рассказано все, что я собирался рассказать. В моей
памяти подробности последовавших минут, по сути, ув51ли.
В них не было ничего ни восхитительного, ни разочаровы¬
вающего. Эдвин, как и следовало ожидать, не узнал меня,
но был мил и любезен, когда я напомнил ему о себе и наших
прежних встречах и отношениях. Я пробыл с ним две ми¬
нуты и к звонку был уже в зале на своем месте. Событием
этого антракта, замечательным событием был не минутный
разговор с виртуозом, событием было — и его не измерить
минутами — стояние под дверью в кругу ждущих, очаро¬
ванных, внимающих, счастливое, питающее душу слуша¬
ние игры из баховского клавира, в который знаменитый му¬
зыкант ухитрился уйти в своем подвальном убежище. Мно¬
го лет назад, вспоминал я с мягкой болью, на мою долю
порой выпадало нечто подобное, во время моего пребыва¬
ния в Вальдцеле и Монтепорте.
440
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО ПЕВИЦЕ
Поскольку я много раз слышал Вас в ораториях и на ве¬
черах песни, в концертных залах и по радио и поскольку
со смертью моей приятельницы Илоны (Дуриго), чей стиль,
впрочем, был некоей диаметральной противоположностью
Вашему, я ни одну певицу не слушал с такой радостью, с
таким восхищением и благоговением, как Вас, позволю се¬
бе после Вашего сегодняшнего концерта написать Вам эти
строки. Правда, этот сегодняшний концерт был мне не так
по душе, как многие прежние, но и эту программу, которую
я не приветствую, а только по необходимости принимаю.
Вы спели в своей совершенной, выдерживающей любую
критику манере, в той объективно-спокойной, сдержанной,
благородной манере, которая создается сочетанием очень
красивого, изысканного, замечательно поставленного и вы¬
школенного голоса с достоинством и простотой разумного и
правдивого человека. Ничего больше, думаю, во славу пе¬
вицы сказать нельзя, да и говорить незачем. То, что часто
восхваляют и прославляют в певицах, не скупясь на пре¬
восходные степени, лирические фельетоны, — душу, на¬
строение, окрыленность, душевность, задушевность и все
такое — это всегда кажется мне сомнительным и спорным
и столь же неважным, как более или менее красивая внеш¬
ность певицы или ее туалет. Я не жду от нее, если быть
точным, ни души, ни проникновенности, ни чувствитель¬
ности, ни золотого сердца, полагая, что все это в песне или
арии, то есть в произведении искусства, состоящем из поэ¬
зии и музыки, уже имеется в достаточной мере, уже вло¬
жено в произведение его творцами и никаких тут добавок
не нужно и пользы от них нет. Если слова написаны Гёте,
на музыку положены Шубертом или Гуго Вольфом, то я
положусь на то, что этому произведению хватит сердца, ду¬
ши, чувства, и предпочту не быть обязанным за дополни¬
тельную порцию этих качеств певице. Услышать хочу я не
ее интимное отношение к тому, что она поет, не ее взвол¬
нованность произведением искусства, а как можно более
точную и совершенную передачу того, что значится на ее
нотных листах. Это не нужно ни усиливать добавлением
чувства, ни ослаблять недостатком понимания. Вот и все,
чего мы ждем от певцов и певиц, и это не мало, это неве¬
роятно много, и исполняют это немногие, ибо, кроме дан¬
ного Богом прекрасного голоса, для этого нужны не только
441
хорошая школа и упражнения, но и недюжинный ум, спо¬
собность постичь всю совокупность музыкальных качеств
произведения, прежде всего воспринять его как некое це¬
лое, не выковыривать изюминки из плюшки и не препод¬
носить эти изюминки, эти благородные для виртуоза места
с особой помпой в ущерб целому. Приведу совсем грубый
пример. Я не раз слышал, как наивные молодые певицы
поют песню «Любимый мой жил в Пенне» из «Итальянского
песенника»; из текста и композиции этой песни исполни¬
тельницы ничего не извлекали и не усваивали, кроме того,
что торжествующее выкрикивание слова «десять» в послед¬
ней строке производит эффект. Пели они убого, но низший
слой публики каждый раз в большей или меньшей мере по¬
падался на эту приманку и бурно аплодировал.
Все это вещи само собой разумеющиеся, однако на прак¬
тике они вовсе не разумеются сами собой — ни у певцов,
ни у их слушателей, ни у части критиков. И если выступает
певица, действительно исполняющая эти такие простые с
виду требования, если она действительно поет то, что на¬
писал композитор, ничего не выпуская, не прибавляя, не
искажая, отдавая должное каждой ноте, каждому такту, то
мы все-таки каждый раз смотрим на это как на счастливый
случай, как на чудо и испытываем такую душевную благо¬
дарность, такую мягкую удовлетворенность, какую обычно
испытываем только тогда, когда сами читаем, играем или
вспоминаем любимое произведение, то есть коща между
произведением и нами нет посредников.
Этим редким счастьем, этим подарком посредницы, ко¬
торая ничего не отнимает у произведения искусства и ни¬
чего не прибавляет к нему, которая воплощает в себе волю
и ум, но почти уже перестает быть конкретным лицом,
друзья хорошей музыки обязаны таким художникам, как
Вы. Найти таких художников для вокальной музыки труд¬
нее, чем для инструментальной, поэтому так оно и велико,
счастье встретить кого-то из этих редких художников. Есть
ведь и другой вид счастья от слушанья пения, спору нет, и
оно может быть довольно сильным: счастье от того, что тебя
обхаживает, покоряет и увлекает обольстительная лич¬
ность художника. Но чистым это счастье не назовешь, оно
имеет некоторое отношение к черной магии, это водка вме¬
сто вина, и кончается оно пресыщением. Эта нечистая раз¬
новидность музыкального удовольствия совращает и рас¬
тлевает нас двояким образом, она уводит наш интерес и на-
442
шу любовь от произведения искусства к исполнителю и ис¬
кажает нашу оценку, подбивая нас ради интересного испол¬
нителя принять и такие произведения, которые мы бы в
ином случае отвергли. Ведь и при самом жалком пшягере
голос сирены сохраняет свое очарование. А чистое, объек¬
тивное, разумное исполнение, наоборот, укрепляет и очи¬
щает нашу оценку. Когда поет сирена, мы порой миримся
и с плохой музыкой. Но когда поете Вы, многочтимая, и в
порядке исключения дополняете иной раз свою программу
сомнительной музыкой. Ваше великолепное исполнение не
соблазняет меня одобрить эту музыку, нет, я испытываю
неловкость и что-то вроде стыда, и мне хочется на коленях
просить Вас, чтобы Вы служили своим искусством лишь со¬
вершенному, которое только и достойно Вас.
Отправь я в самом деле это благодарственное, с призна¬
нием в любви письмо. Вы могли бы по праву ответить, что
Вам мало проку в моих дилетантских замечаниях насчет
музыкальных качеств и музыкальных оценок. Вы по праву
отвергли бы мою критику Вашей программы. Все так, но
ведь мое письмо не будет отправлено, это просто разговор
с самим собой, размышления в одиночестве. Я пытаюсь в
чем-то разобраться, разобраться в происхождении и смысле
моего музыкального вкуса и моих музыкальных оценках.
Если я вообще говорю или только размышляю об искусстве,
то делаю это хоть и как художник, но не как критик ис¬
кусства, не как эстетик, а всегда как моралист. Что мне в
сфере искусств отвергать, на что смотреть с недоверием, а
что, наоборот, чтить и любить — это диктуют мне не ка¬
кие-то обьктивные, как-то нормированные понятия о цен¬
ности и красоте,- а род совести, носящей характер нравст¬
венный, не эстетический, отчего я и называю ее совестью,
а не вкусом. Совесть эта субъективна и обязательна только
для меня самого, я очень далек от того, чтобы навязывать
миру тот вид искусства, который люблю сам, или внушать
миру отвращение к тому его виду, которого сам не прини¬
маю всерьез. Из того, что ежедневно играется в театрах и
на оперных сценах, меня способно привлечь очень немно¬
гое, но я ничего не имею против того, чтобы весь этот мир
искусства и все это мировое искусство процветали и про¬
должали существовать. Блаженную утопию, где практику¬
ется только белая, но не черная магия, где не блефуют и
не пускают пыль в глаза,, я не ищу в каком-то там будущем,
а должен создавать ее себе самому, в том крошечном уголке
, 443
мира, который принадлежит мне и на который я могу по¬
влиять... К тому, что я люблю и чту, принадлежат худож¬
ники и произведения, к которым самодеятельность никоща
не обращалась, а произведения, которых я не люблю, ко¬
торые моя совесть или мой вкус отвергает, носят самые зна¬
менитые имена и названия. Границы тут, конечно, не не¬
зыблемы, они в какой-то мере эластичны; иной раз, к сво¬
ему изумлению и посрамлению, я вдруг открываю какое-
нибудь произведение художника, которого мой инстинкт
отвергал и который все же на сей раз мне по душе и по
нраву. А у очень больших, чуть ли уже не священных ма¬
стеров меня может вдруг на миг испугать какой-то след
промаха, тщеславия, легкомыслия или честолюбия и жела¬
ния покрасоваться. Поскольку я и сам-то художник и знаю,
что мои собственные произведения полны таких подозри-
‘ тельных мест, полны мутных вкраплений в чистый замы¬
сел, подобные открытия не могут, как они в принципе ни
ужасны, действительно сбить меня с толку. Были ли. в са¬
мом деле на свете коща-нибудь совершенные, целиком чи¬
стые, целиком благочестивые, целиком растворявшиеся в
произведении и служении, выходившие за пределы челове¬
ческого мастера, решать это — не мое дело. Достаточно
того, что есть сове]ршенные произведения, что через посред-
(Л'во тех мастеров возникал кристалл овеществленного духа
и бывал дарован людям как золотой эталон.
Мои оценки музыкальных произведений не претендуют,
как я уже сказал, ни на эстетическую и объективную «пра¬
вильность», ни на авторитетность или своевременность в
каком бы то ни было смысле. Чисто эстетические оценки я
ведь, как литератор, вообще могу позволить себе только по
части литературы, разновидности искусства, средства, тех¬
нику и возможности которой я знаю и в которой в доступ¬
ной мне степени смыслю. Мое отношение к другим искус¬
ствам, прежде всего к музыке, определяется не столько со¬
знанием, сколько душевным складом, оно состоит не в дей¬
ствиях ума, а в гигиене, в потребности в известной опрят¬
ности и пользе для здоровья, в воздухе, температуре и пи¬
ще, при которых душа чувствует себя хорошо и которые
всегда облегчают переход от уюта к деятельности, от ду¬
шевного покоя к радости творчества. Восприятие искусства —
это для меня не дурман и не стремление к образованию,
это воздух и пища, и, когда я слышу музыку, вызывающую
у меня отвращение, или музыку, на мой вкус, слишком
444
сладкую, переслащенную или переперченную, я отвергаю
ее не из-за глубокого понимания сути искусства, не как
критик, а отвергаю ее почти целиком инстинктивно. Хотя
отнюдь не исключено, что во многих случаях этот инстинкт
потом выдержит проверку разумом. Без таких инстинктов
и без такой душевной гигиены ни один художник не может
жить, и у каждого они свои особые.
Но возвращаюсь к музыке. В мою, может быть, несколь¬
ко пуританскую мораль искусства, мораль и гигиену ху¬
дожника и индивидуалиста, входит не только чувствитель¬
ность к духовной пище, но и не менее чувствительный
страх перед всеми оргиями коллективности, перед всем, что
связано с психологией массы и массовыми психозами. Это
самый щекотливый пункт моей морали, ибо вокруг этого
пункта сосредоточены все конфликты между личностью и
коллективом, между индивидуумом и массой, художником
и публикой, и я просто не рискнул бы на старости лет лиш¬
ний раз повторять, что стою за индивидуализм, если бы в
одной особой области — политической — моя чувстви¬
тельность и мои инстинкты, за которые меня часто корили
люди нормальные и безупречные, не оказались ужасающе .
правы. Я много раз наблюдал, как полный людей город,
полную людей страну охватывало то упоение, то опьяне¬
ние, при котором из множества отдельных лиц возникает
единство, однородная масса, как все индивидуальное гаснет
и энтузиазм единодушия, слияния всех порывов в один мас¬
совый порыв наполняет сотни, тысячи или миллионы людей
восторгом, радостью самопожертвования, утраты собствен¬
ного «я», героизмом, выражающимся сначала в возгласах,
криках, сценах братания со слезами растроганности на гла¬
зах, кончающихся войной, безумием и потоками крови. От
этой способности человека опьяняться общим страданием,
общей гордостью, общей ненавистью, общей честью мой ин¬
стинкт индивидуалиста и художника всегда горячо предо¬
стерегал меня. Как только в комнате, в зале, в деревне, в
городе, в стране начинает ощущаться этот душный восторг,
я сразу становлюсь холоден и недоверчив, сразу содрогаюсь
и уже вижу, как течет кровь и города охвачены пламенем,
а большинство сочеловеков, со слезами энтузиазма и вол¬
нения на глазах, все еще занято здравицами и братанием.
Довольно о политике. Какое отношение она имеет к
искусству? Так вот, она уже имела к нему самое прямое
отношение, и у нее много с ней общего. Например, самое
445
мощное и самое мрачное средство политического воздейст¬
вия, массовый психоз, есть и самое мощное и самое нечи¬
стое средство искусства, и ведь концертный зал или театр
довольно часто, то есть в любой вечер успеха и блеска,
как раз и являет зрелище массового опьянения, и это сча¬
стье, что оно может изойти в традиционных аплодисмен¬
тах, усиленных разве что топотом и криками «браво». Не
зная того, большая или ббльшая часть публики ходит на
такие мероприятия единственно ради моментов этого уга¬
ра. От телесного тепла множества людей, от стимулов ис¬
кусства, от чар дирижеров и виртуозов возникает напря¬
женность, повышенная температура, которая любого, кто
ей поддается, «поднимает», как ему верится, «над ним са¬
мим», то есть на время избавляет его от разума и других
сдерживающих помех и в мимолетном, но сильном чувстве
счастья делает мошкой, пляшущей в большом рое. Я тоже,
бывало, поддавался этому хмелю и волшебству, по край¬
ней мере в молодости, дрожал и хлопал со всеми и вместе
с полутысячей или тысячей других старался оттянуть про¬
буждение, отрезвление, конец угара, когда мы, уже стоя
и, собственно, уходя, снова и снова пытались оживить ос¬
тановившийся механизм искусства своим неистовством.
Но случалось это со мной не очень часто. А следовало за
этой опьяненностью всегда то скверное состояние, которое
мы называем нечистой совестью или похмельем.
Когда, напротив, такие встречи с искусством приносили
мне что-то доброе, благотворное и долговечное, мое настро¬
ение, мое душевное состояние не нуждалось ни в массе, ни
в упоении, это было состояние умиления, просветленности,
благоговения, ощущения Бога. После этих встреч с искус¬
ством, которые я называю настоящими, такое состояние не
покидало меня каждый раз по нескольку часов, а часто и
по нескольку дней, это была не оглушенность, не взвинчен¬
ность, а сосредоточенность, очищенность, ясность, особая
сила и светлость чувств и умственных устремлений.
Эти два вида магии и искусства, эти две формы взвол¬
нованности, черную и белую, опьянение и благоговение, я
упоминаю в письме к Вам совсем не случайно, тем самым
я как раз и возвращаюсь к Вам, к восхищению и благо¬
дарности, которые внушает мне Ваше искусство. Ибо на
Ваших концертах я видел мощные демонстрации одобре¬
ния, но не видел этой массовой истерии. Правда, слушал
446
я Вас больше всего в ораториях, произведениях духовной
музыки, а им и сегодня еще принято придавать особую
чинность, чинность праздничного богослужения, которая
велит слушателям не бушевать, не кричать и не хлопать,
а вести себя почтительно и тихо. Но ведь уже и сам факт,
что Вы особенно любите и культивируете этот вид музы¬
ки, показывает Вашу приверженность благоговению, а не
хмелю, достоинству, а не угару. Да и светскую музыку Вы
всегда исполняли так, что на переднем плане стояло про¬
изведение, а не Вы и что пение Ваше'звало не аплодиро¬
вать, а благоговеть.
Я не буду, конечно, докучать Вам этим длинны! пись-
мом, которое я писал много часов. Воздать Вам хвал;, было
моим долгом перед собой, не перед Вами. В своей похвале
я выражаю взгляды не очень-то современные и отчасти,
знаю, принадлежащие даже пройденной, «преодоленной»,
по мнению оптимистов, ступени человечества и культуры,
но тем не менее остающиеся для меня в силе. Преодолен¬
ной, достойной усмешки отвращения ступенью человече¬
ской истории считались еще несколько десятилетий назад
Тамерланы и наполеоны, грабительские войны и набеги,
массовые казни, пытки, а мы увидели, что эта «преодолен¬
ная» стзшень вовсе не пройдена и что все ее сказочные ужа¬
сы опять вышли на поверхность. Поэтому остаюсь при сво¬
их дедовских воззрениях, полагая, что и о них вспомнит
какая-нибудь будущая ступень культуры и кое-что из них
ей пригодится. За ними стоит моя вера в прекрасное, осо¬
бенно в то, что прекрасное равноценно истинному и добро¬
му, что оно — не иллюзия, не человеческая выдумка, а
проявление божественного.
ЧАСЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ
ЗА ПИСЬМЕННЫМ СТОЛОМ
Кто получает много писем и к кому многие обращаются,
того захлестывает сегодня непрерывный поток всяческих
бед, от мягкой жалобы и робкой просьбы до громов и мол¬
ний циничного отчаяния. Если бы мне самому пришлось
вынести все горе, все тяготы, всю нищету, весь голод, всю
бездомность, которые обрушивает на меня почта одного
только дня, меня давно уже не было бы в живых, и многие
из этих часто очень объективных и наглядных рассказов ри-
447
•суют мне такие картины, что вникнуть в них сочувствую¬
щим воображением, действительно принять их, признать
их возможность я могу лип1ь с трудом. В эти последние годы
я поневоле приберегал свою отзывчивость для тех случаев
большого несчастья, когда можно оказать хоть какую-ни-
будь помощь, помочь утешением, советом или материаль¬
ным даром.
Из писем с просьбами о духовной и нравственной под¬
держке определенная категория появилась в пределах мое¬
го опыта лишь в эти несчастные годы. Это письма уже не¬
молодых, иногда старых людей, которых невыносимая же¬
стокость и горькость внешней жизни наводит на мысль,
чуждую им по их нраву и прежде ни разу в жизни у них
не возникавшую, — на мысль положить конец горю само¬
убийством. От людей юных, мягкосердечных, немного по¬
этического, немного сентиментального склада, письма,
полные таких настроений, приходили всегда, это дело зна¬
комое и привычное, и я бывал порой довольно резок, даже
груб в своих ответах на кокетничанье с Самоубийством, а
то и на угрозы его совершить. Я писал этим уставшим от
жизни, что, мол, отнюдь не осуждаю самоубийство, но
лишь самоубийство действительное, совершенное, которое
уважаю не меньше, чем всякий другой вид смерти, а раз¬
говоры о надоевшей жизни и суицидные намерения не могу
принимать всерьез, как им того хочется, ибо склонен тут
видеть не вполне позволительное, не вполне пристойное
вымогательство сочувствия. Но теперь, не часто, но снова
и снова, и от людей доселе жизнеспособных и надежных
приходят эти письма с вопросом, какого я мнения о само¬
убийстве, ибо она, мол, эта жизнь, в которой нет никакого
смысла, никакой радости, никакой красоты, никакого до¬
стоинства, становится все нестерпимее, и на такие письма
нельзя отвечать, не приняв совершенно всерьез и не при¬
знав поведанной мне беды.
Несколько фраз из моих ответов на такие призывы я за¬
писал. Одной очень подавленной, но все же, по моему впе¬
чатлению, не безнадежно утратившей волю к жизни жен¬
щине я ответил: Шы все сегодня живем в состоянии отча¬
яния, все люди, действительно пробудившиеся, отчаяние —
законное наше место и положение. Мы поставлены тем са¬
мым между Богом и ничем, между ними мы делаем выдохи
и вдохи, качаемся и колеблемся. Нам хочется каждый день
отбросить жизнь, однако удерживает нас то, что сверхлич¬
448
но и сверхвременно в нас. Так наша слабость, хоть мы со¬
всем не герои, становится храбростью, и мы спасаем как}пю-
то долю переданных нам веры н надежды для тех, кто при¬
дет после нас».
Один мужчина пятидесяти с лишним лет fpesBo и без
малейшей тени пустословия попросил меня высказаться по
поводу самоубийства, о котором он за всю свою деятельную
и ответственную жизнь ни раду не думал, но которое теперь
все яснее и неотвратимее предстает ему единственным из¬
бавлением от сделавшейся слишком тяжелой, слишком бес¬
смысленной, слишком недостойной жизни. Из своего ответа
я записал следующие фразы:
«Коща мне было лет пятна;^ть, один из наших учите¬
лей смутил нас как-то утверждением, что самоубийство —
это «величайшая нравственная трусость, какую может про¬
явить человек». Я дотоле был склонен думать, что от этого
неотделимы скорее некое мужество, некое большое упорст¬
во и боль, и испытывал к самоубийцам смешанное с ужасом
уважение. Поэтому произнесенное с претензией на аксио-
матичность изречение учителя действительно привело меня
тоща в замешательство, я растерялся, я не знал, как воз¬
разить на это изречение, ведь казалось, что вся логика и
вся нравственность —7 за ним. Но замешательство длилось
недолго, я вскоре снова поверил собственным чувствам и
мыслям, и всю жизнь самоубийцы казались мне достойны¬
ми уважения, симпатичными и какими-то, хотя и на мрач¬
ный лад, замечательными людьми, примерами человече¬
ского страдания, недоступного воображению того учителя,
примерами мужества и упорства, которое вызывало у меня
только любовь. И в самом деле, самоубийцы, которых я
знал, были сплошь людьми хоть и противоречивыми, но не¬
дюжинными, выдающимися. А что у них, кроме храбро¬
сти пустить себе пулю в лоб, была храбрость, было уп¬
рямство плюнуть на ненависть и презрение нравственных
учителей — от этого мое сочувствие только усиливалось...
Если для кого-то, так мне кажется, по его природе, воспи¬
танию, судьбе самоубийство невозможно, запретно, то он,
даже если фантазия вдруг соблазнит его этим выходом, са¬
моубийства не совершит, оно останется для него просто за¬
претным. Если дело, обстоит иначе и кто-то решительно от¬
метет от себя ставшую нестерпимой жизнь, то у него есть
на это, по-моему, такое же право, какое есть у других на
их «естественную» смерть. Увы, смерть иного самоубийцы
15 S-2^: 449
казалась мне естественнее и осмысленнее, чем чья-то дру¬
гая смерть».
Не без облегчения перехожу я от таких просьб ко мно¬
гим другим, которые либо не нужно принимать так уж
всерьез, либо, поскольку они материального свойства, мож¬
но все-таки решительнее осадить. Мне, конечно, жаль мо¬
лодых поэтов, присылающих свои рукописи и ждущих от
меня отзыва, но я разочаровываю их со спокойной сове¬
стью. Когда от тебя ждут чего-то невозможного, никаких
обязательств не может быть. Молодые поэты получают свои
рукописи назад с каким-нибудь маленьким, для вежливо¬
сти, подарком, оттиском, несколькими строчками извине¬
ния, и даже наивным беднягам, рекомендующим себя как
несомненно наиболее достойных претендентов на Гётев-
скую или Нобелевскую премию, приходится довольство¬
ваться весьма скупыми ответами.
Но несколько раз за год приходят письма того типа, ко¬
торому я особенно рад, и на них я отвечаю с большой лю¬
бовью. Несколько раз за год кто-нибудь спрашивает, можно
ли получить от меня один из тех украшенных картинкой
листков с рукописью стихотворения, которые я держу для
любителей, чтобы покрывать выручкой часть расходов на
все посылки и подспорья, отправляемые в страны голода и
нужды. Такой запрос пришел на днях, после многомесяч¬
ного перерыва, и задал мне работу. По возможности я дер¬
жу в резерве одну-две такие рукописи, а коща находится
любитель, стараюсь как можно скорее пополнить запас. Из
всех работ, какие я когда-либо выполнял, это одна из самых
любимых, и делается она следующим образом.
Сначала я открываю шкаф для бумаги у себя в мастер¬
ской. Он появился у меня с постройкой теперешнего моего
дома, в нем есть ряд очень широких и глубоких выдвижных
япдаков.для бумажных листов. Шкаф и много бумаги, от¬
части старой и благородной, какой сегодня уже не до¬
стать, — это исполнение желания по поговорке: «Чего по¬
желаешь во младости, того будет вдоволь в старости». В де¬
тстве на Рождество и в дни рожденья я всеща мечтал о бу¬
маге, в восемь лет я написал в перечне желаемых подарков:
«Лист бумаги размером в Шпаленские ворота». Позднее я
никогда не упускал случая добыть хорошей бумаги, я часто
выменивал ее на книги или акварели, а с тех пор как су¬
ществует шкаф, в моем владении гораздо больше бумаги,
450
чем я когда-либо смогу использовать. Я открываю шкаф и
приступаю к выбору бз^ги, иноща меня манит гладкая,
иногда более простая типографская. На этот раз меня во
время поисков привлекла очень простая, чуть желтоватая
бумага, которой у меня осталось лишь несколько благого¬
вейно хранимых листов. Это та бумага, на какой когда-то
был^а напечатана одна из любимейших моих книг, «Стран¬
ствие». Имевшийся еще запас этой книги был уничтожен
американскими бомбами, с тех пор ее не существует, года¬
ми я покупал за любую цену каждый появлявшийся у бу¬
кинистов экземпляр, и сегодня одно из немногих оставших¬
ся у меня желаний — дожить до ее переиздания. Бумага
эта не драгоценная, но она обладает особой, чуть впитыва¬
ющей пористостью, которая придает акварельным краскам
какую-то блеклость, старинность. Были у этой бумаги, по¬
мнилось, и свои подвохи, но какие именно, я уже забыл, а
очутиться перед неожиданностью, проверить себя я как раз
был расположен. Я извлек листы, сфальцевал нужный фор¬
мат, подыскал подходящий для папки кусок картона и при¬
ступил к работе. Я всегда рисую сначала титульный лист и
картинки, не думая о текстах, которые подбираю лишь по¬
сле этого. Первые пять-шесть картинок, маленькие пейза¬
жи или букет цветов, я рисую и раскрашиваю по памяти,
по знакомым мотивам, для следующих ищу в своих папках
нравящиеся образцы.
Я рисую сепией небольшое озеро, несколько гор, облако
на небе, выстраиваю на переднем плане по склону холма
игрушечную деревеньку, подпускаю в небо кобальта, в озе¬
ро. — блеска берлинской лазури, в деревню — немного зо¬
лотой охры или неаполитанской желтой, все — слабенько,
и радуюсь тому, как мягко всасываюпщя бумага приглуша¬
ет и сочетает краски. Я чуть размываю небо влажным паль¬
цем, всласть развлекаясь своей маленькой наивной палит¬
рой, давно уже я не играл в эту игру. Игра, впрочем, идет
не так, как прежде, я устаю гораздо быстрее, сил хватает
только на несколько листов в день. Но это все еще славно
и доставляет мне удовольствие — превращать белый листок
в рисуночную рукопись и знать, что эта рукопись претер¬
пит дальнейшие превращения — сперва в деньги, а потом
в пакеты с кофе, рисом, сахаром, растительным маслом и
шоколадом, а еще знать, что от этого вспыхнет луч бодро¬
сти, утешения и новой (^илы в дорогих мне людях, ликую¬
щий детский крик, улыбка у больных и стариков, а где-то
15» 451
и проблеск надежды и веры в переутомленных и впавших
в уныние душах.,.
Это славная игра, и мне не совестно, что никакой худо¬
жественной ценности эти картинки не имеют. Коща я де¬
лал самые первые эти тетрадки и папочки, они были еще
гораздо беспомощнее и куда менее искусны, чем сегодня.
Это было во время первой мировой войны, и делал я их по
совету одного друга, тоща в пользу военнопленных, давно
это было, а потом пришли годы, коща я бывал рад заказу,
потому что сам в нем нуждался. Сегодня я превращаю свои
изделия не в библиотеки для военнопленных, как несколь¬
ко десятков лет назад. Люди, в чью пользу идут мои подел¬
ки, не безымянные незнакомцы, заработанные деньги я не
передаю ни Красному Кресту, ни какой-либо другой орга¬
низации, с годами и десятилетиями я все больше становился
сторонником индивидуального и дифференцированного —
вопреки всем тенденциям нашего времени. И может быть,
я поэтому не только оригинал и чудак, но и прав объектив¬
но. По крайней мере могу сказать, что опека небольшого
числа людей, которых я хоть и не всех знаю лично, но каж¬
дый из которых что-то для меня значит, обладая собствен¬
ной, уникальной ценностью и своей особой судьбой, достав¬
ляет мне больше радости и кажется в душе правильнее и
нужнее, чем та забота и благотворительность, в которой я
коща-то участвовал как колесико в большой машине бла¬
готворительности. И сегодня каждый день ставит передо
мной требование приспособиться к миру и, как то делает
большинство, снять с себя все актуальные задачи с по¬
мощью рутины и механизации, с помощью какого-то аппа¬
рата, какой-то секретарши, какого-то метода. Может быть,
мне следовало бы сжать зубы и научиться этому на старости
лет? Нет, мне было бы от этого не по себе, и ведь все те,
чья беда докатывает свои волны до моего заваленного пись¬
менного стола, обращаются к человеку, не к аппарату.
Пусть каждый остается при том, что в его случае оправдало
себя!
МАРУЛЛЕ
Сестричка! Вчера тебя похоронили на старом Корнталь-
ском кладбище, которое, вероятно, полнее, чем что бы то
ни было, донесло дух и благоухание, тишину и достоинство
«святого» коща-то Корнталя до этих окаянных дней.
452
На мотале нашего отца ель, которую я запомнил коща-
то молодой и маленькой и с тех пор больше не видел, стала
высоким, стройным деревом. Ее в эти дни пришлось спи¬
лить и выкорчевать, чтобы могила могла принять и тебя, и
это было правильно, ибо там твое место, у отца, чьей оди¬
нокой старости ты некогда, жертвуя многим, служила опо¬
рой и поддержкой.
Додгие годы этой службы оставили на тебе свою печать
и снискали тебе среди нас, гессевских детей, особый род
уважения, и к жертвам, которые ты тоща безропотно при¬
носила, относится, вероятно, и отказ от той, другой любви
и привязанности, которая подобала бы тебе, как всякому
нормальному молодому существу. Девический и с чуть мо¬
нашеской ноткой уклад позднейшей твоей жизни тоже сто¬
ял под знаком отца. Если этот старый, благочестивый че¬
ловек, излучавший в свои корнтальские годы, после смерти
матери, такой покой, такое просветленно-строгое достоин¬
ство, если он в памяти многих, кто знал его только в лицо
и понаслышке, остался на всю жизнь этаким патриархом
библейских времен, то в этом есть доля твоей жертвы, тво¬
его участия, твоей заботы, твоего ухода, твоего присутствия
и труда, особенно в годы его слепоты. «Ранним христиани¬
ном» назвал его когда-то епископ Вурм*, а в другой раз
натгасал мне, что отец был одним из тех двух достойных
почитания людей, которых он встретил в своей жизни.
Вот уже скоро четыре десятка лет отца нет на свете, нет
на свете и епископа Вурма и большинства тех, кто знал и
почитал нашего отца, отцовская могила заросла мхом, и
высокая елка — она тоже должна была освободить место, а
ты, сестричка, вернулась к нему. Вы оставили меня одного,
сестры и братья, чт^ы еще некоторое время жила память
о вас, о родителях, о сказке нашего детства. Я всю жизнь
отдавал дань этой памяти и воздвигал ей маленькие памят¬
ники, во многих моих рассказах и стихах делались попытки
запечатлеть что-то из этой сказки, не ради, в общем-то,
читателей, а, в сущности, только для себя и для вас пяте¬
рых, мои сестры и братья, ибо только вы способны понять
бесчисленные тайные знаки и намеки, там рассыпанные, и
каждый раз, узнавая и заново обретая совместно пережи¬
тое, вы чувствовали то же чуть щемящее сердце тепло, ко¬
торое чувствовал я, вызывая, заклиная невозратимое.
Если я сегодня, мысленно у твоей могилы, вспоминаю
те рассказы и стихи, то испытываю я не только эту чуть
453
щемя1цую радость, но и нечто другое, мучительное, недо¬
вольство собой и своими историями, чуть ли даже не рас¬
каянье и угрызения совести. Ведь в тех рассказах и стихах
речь идет всеща только об одной сестре, хотя мне посчаст¬
ливилось иметь двух сестер. Уже и прежде меня это порой
немного смущало. Во многих случаях, впрочем, такое стя¬
жение двух сестер в одну есть не что иное, как упрощение,
экономия или, пожалуй, уловка, основанная на некоей не¬
способности, на некоем недостатке моего дарования, ни-
коща не позволявшем мне писать рассказы со многами дей¬
ствующими лицами. Это связано, как я всеща чувствовал,
прежде всего с полным отсутствием драматического дара
или драматического темперамента. Но, конечно, в длив¬
шейся десятки лет напрасной борьбе с этим отсутствием я
находил оправдания, прикрасы, даже способы реабилита¬
ции своей неспособности.
Ко1да-то один большой писатель Дальнего Востока, про¬
чтя ученическое стихотворение, ще фигурировало «не¬
сколько цветков сливы», сказал: «Одного лепестка хватило
бы». Значит, казалось мне, это было не только позволитель¬
но и простительно, если я в своих рассказах делал из двух
сестер одну, это была, может быть, выигрышная статность.
Однако этот 1^иятный взгляд на проблему обычно не вы¬
держивал моей самокритики, и по праву. Ведь одной сест¬
рой моих рассказов для читателей, знавших нас лично,
всеща была, собственно, Адель, а не Марулла, да и твое
имя в моих писаниях фигурирует, кажется, один-единст-
венный раз, в истории о нищем, тотда как имя и образ Аде¬
ли встречались моим читателям часто.
Не то чтобы, я считал себя обязанным оправдываться пе¬
ред тобой или просить у тебя прощения. Ничего такого нам
не нужно. Это же закономерно и естественно, что Адель
была мне ближе, тем более в давние времена, ведь это за¬
кономерно и естественно, что рано развившийся молодой
человек ищет и предпочитает друзей, которые старше, чем
он, а особенно в детстве два года разницы были как раз и
достаточно незначительны, чтобы не отягощать нашего то¬
варищества, и опять-таки настолько весомы, что мягкая
материнская опека при случае только усиливала в мальчи¬
ке нежность, как ни нравилось ему изображать из себя ры¬
царя по другим поводам.
Несмотря на то что в моих историях речь идет всеща об
одной сестре, вы обе отнюдь не были для меня чем-то вроде
454
символа, и не только Адель была мне мила, интересна и
важна, нет, обеих вас я уже в первые годы жизни видел и
ощущал как два резко индивидуализированных лица, и с
годами это различие приобретало для меня все большую оп¬
ределенность и все большее очарование. Нас было шесть
братьев и сестер, и мы всю жизнь были очень привязаны
друг к другу, а в различии наших характеров и темпера¬
ментов, как то само собой разумеется в довольно благопо¬
лучной семье, находили, пожалуй, еще больше радости,
удовольствия и поводов для большей любви, чем в том, что
было общим у всех нас. Вырастая и взрослея, некоторые из
нас тоже ведь стряхивали с себя многое из того, что было
у нас благодаря воспитанию общим, и от этого наша брат-
ско-сестринская любовь не страдала.
Нас можно было, пожалуй, сравнить с секстетом, ансам¬
блем из шести голосов, .шести инструментов, только без
фортепиано и без первой скрипки, вернее, они, конечно,
были, но ни за кем не закреплялись, каждый из нас бывал
какое-то время главным лицом: каждый при своем рожде¬
нии, после выдержанных экзаменов, во время обручения и
свадьбы, но еще больше в момент опасности, грозящего или
испытанного страдания. Может быть, я этого не знаю, каж¬
дый из нас, младших, завидовал при случае теплу, ясности
и притягательной силе, доставшимся Тео и Адели, или при¬
ветливому спокойствию Карла, но и каждый мог проявить
собственные способности и задатки, в том числе и наш до¬
рогой младший, Ганс, который, не сломай его изверг учи¬
тель и слишком ранний и неудачный выбор профессии, мог
бы, вероятно, пойти более светлым путем. Ибо — и этого
тоже я не знаю, это только «быть может», — хотя у нас
хватило силы и гибкости выстоять перед жизнью, мы все
были достаточно нежны и тонки, чтобы так же предаваться
сомнениям в себе, страхам и унынию до отчаяния, как наш
Ганс.
По сравнению с Аделью, человеком воображения, тор¬
жественной стати, с великой жаждой прекрасного, ты была
трезвее, холоднее, но и критичнее и всеща готова немного
развлечься. Если ты не обладала горячностью и чудесной
восторженностью Адели, то зато ты была осторожнее и точ¬
нее в сужденьях, меньше ослеплялась и увлекалась, точнее
выражалась устно и письменно, тут чувствовались пример
и школа отца. Для многих людей и многих событий твой
острый ум находил меткие обозначения. К миру вымыслов
455
и искусства ты относилась без предубежденья, но сдержан¬
но, прекрасное было тебе по душе, но ты не хотела, чтобы
оно тебе льстило, тебя соблазняло или ошеломляло. То, что
было только прекрасно, только нравилось, внушало тебе
подозрение, оно до^но было обладать еще и ценностью ис¬
тины.
Кажется, ты как-то сказала мне или написала, что ты
думаешь о стихах. Точно не помню, но смысл был пример¬
но такой: ты очень порой ценишь и любишь какие-нибудь
настоящие стихи, но ты не считаешь, что хорошая мысль
непременно становится лучше оттого, что она высказана в
стихах, а не в прозе, и тем более не думаешь, что плохая,
неясная, недодуманная мысль делается лучше и отточен-
ней оттого, что она облечена в стихотворную форму. По¬
сылая тебе к последнему твоему дню рождения стихотво¬
рение, единственное, которое я в эти поздние, бесплодные
годы прямо-таки выжал из себя, я, к счастью, не думал о
тех твоих словах. Я ведь не хотел поражать тебя прекрас¬
ными стихами, я хотел просто показать тебе, что думаю о
тебе и немного потрудился ради тебя. Но потом, коща мои
довольно мутные и неотделанные стихи были отосланы, я
снова вспомнил твои слова, немного устыдился и обрадо¬
вался потом, когда мой подарок встретил все-таки теплый
прием.
Однажды, должен сегодня признаться, я немного рассер¬
дился на тебя и немного разочаровался в тебе, что было
совершенно несправедливо. Это случилось во время той
«поездки в Нюрнберх», которую я описал в одном рассказе
двадцатых годов, в кризисную и часто мучительную пору
моей жизни, еще не прошедшей через катарсис «Степного
волка». Ты была тоща в Мюнхене, и в душной удрученно¬
сти тех дней мне было отрадно знать при возвращении из
Нюрнберга, что в Мюнхене меня ждет не только вечер с
вином у одного старого друга, но ждешь и ты, одна из нас,
кто-то из прекрасной, священной, утренней полосы жизни.
Меня пригнало напористое течение узкой стремнины, ко¬
торую должна была миновать тоща моя жизнь, и я ждал от
встречи и разговора с одним из нескольких самых близких,
с детства знакомых людей чего-то прекрасного и невозмож¬
ного, нище больше не достижимой степени понимания, да¬
же защищенности, спасения, чего-то такого, чего на самом
деле никто не мог дать мне и чем на самом деле никто не
мог быть. И застав тебя в Мюнхене, в чужом мне мире, в
456
чужой мне семье, прижившейся и более или менее доволь¬
ной, не то чтобы не обрадовавшейся нашей встрече, но не
настроенной, не склонной играть роль моей поверенной, я
разочарованно и охладев удалился, и никакой настоящей
сердечности не получилось. Того, чего я тоща в Мюнхене,
всего один миг, искал у тебя, дать мне никто не смог бы,
ни Адель, ни отец и ни мать. Но на мне были шоры моей
беды, и лишь позже, много времени спустя, я понял это и
проникся благодарностью тебе за то, что ты сохранила спо¬
койствие и Отрешенность и отказалась последовать за
мной в пустьшю моих заблуждений.
Славно было, коща ты гостила у меня, в Монтаньоле,
один раз несколько недель во время отьезда Нинон, мы жи¬
ли тоща с тобой очень тихо и большей частью весело, и,
коща ты вечерами читала мне вслух, переродила мне от¬
рывки английских текстов, ясно и сжато излагала мне про¬
читанное по моей просьбе, я мог представить себе жизнь,
которую ты вела с нашим отцом в годы его вдовства, по¬
мощница и товарищ. Ах, и в конце твоего пребывания у нас
пришло то, что окончательно, тесно и глубоко связало нас
на все оставшиеся нам дни, — известие о смерти Адели,
смерти, после которой из всех братьев и сестер, кроме нас
с тобой, никого не осталось. С той поры мы снова состав¬
ляли одно целое, также и во время твоих долгих и тяжких
страданий, хотя увидеться нам довелось только один-един-
ственный раз.
В эту последнюю пору нашей близости ушло и потеряло
свое лицо и нечто такое, что прежде всеща немного мешало
нам и нас разделяло. Это — мое писательство, вернее, мое
пребывание на виду, возня со знаменитостью, напор насто¬
ящих и ненастояпщх поклонников, докучавший и тебе до¬
вольно часто. Адель относилась к этому спокойнее, ей было
даже немного приятно и лестно иметь знаменитого брата,
в этом было для нее что-то украшающе-праздничное. Ты
же в своей благородной трезвости смотрела на эту извест¬
ность, публичность, на эти чествования, на поклонников
очень критически. Ты знала, правда, как сам я отношусь к
этим вещам, но ты видела, как этот разрастающийся аппа¬
рат все больше поглощу и притеснял меня и мою жизнь,
видела, как я отдавался навязанным мне обязанностям, ко¬
торые истощали и обедняли мою собственную частную
жизнь. А как раз к этой настоящей, целиком частной жизни
и была ты привязана и ее-то хотели делить со мной в боль¬
457
шей мере, чем то удавалось мне. Знаменитый или нет, я
был твой брат, и если известность отнимала меня у тебя и
узкого, естественного круга близких, то ты по праву видела
в этом утрату и для себя, и для меня. И с этой досадной
■утратой ты тоже сумела справиться, ты поняла, что я не
мог ее избежать, что я не только писал свои книги, но и в
меру своих сил должен был брать на себя и приятные, и
обременительные последствия своего писательства.
Об одном, очень важном, я никоща не говорил с тобой —
как и с другими братьями и сестрами. Я имею в виду веру,
в которой мы выросли и которую мы мы, шестеро, не все
сохранили. Адель, ты и Ганс — вы, каждый по-своему, ос¬
тались верны вере родителей, и у меня есть основание ду¬
мать, что твоя вера была наиболее сходна с отцовской и
лучше всего поддавалась формулированию, ведь довольно
полным ее выражением были, пожалуй, ваш катехизис,
прекрасные церковные песни семнадцатого века и малень¬
кая добавка из Шпенера*, Бенгеля* и Цинцендорфа*.
То, чего я никогда не смог бы всерьез обсудить с нашими
родителями, история моей критики этой веры, моих сомне¬
ний в ней и мой постепенный приход к религиозности вне
конфессиональной, питаемой греческими, еврейскими, ин¬
дийскими, китайскими источниками наряду с христиански¬
ми, — это я с тобой вполне мог бы, кажется, сделать темой
бесед. Но этого не случилось. Была все-таки какая-то ро¬
бость, какой-то запрет, не допускали этого и уважение к
убеждениям другого, и общая всем нам неприязнь ко вся¬
ким поползновениям обратить кого-то в свою веру, и еще
пуще чувство, что не надо трогать и теребить безусловно
общего всем нам. И мы, братья и сестры, жили в мире и
прекрасной терпимости, стоя выше догматических пропа¬
стей. Если бы привелось обнаженно противопоставить твою
христианскую веру моей всемирной, они разделились бы
как вода и огонь, как <-яа» и «нет». Но то, что вело и твою,
и мою жизнь как несформированная вера, как внутренний
компас, было все же чем-то общим нам, наверно, это хоро¬
шо, что мы чувствовали: пусть оно будет священно и не¬
прикосновенно.
Я попрощался с тобой, Марулла, не веря в то, что мы
увидимся, в чем ты и в последних своих видениях была уве¬
рена. Но я не потерял тебя, ты со мной, как со мной все
дорогие мне мертвые. Как Адель или мать предстают мне
порой, напоминая, например, чтобы я за обыденным не за¬
458
бывал о божественном и торжественном, так и ты будешь
рядом со мной прежде всего тогда, когда мне будет грозить
опасность допустить неточность и впасть в неправду — от
поспешности, из баловства, из-за фантазерства. Тоща ты,
верю и надеюсь, бросишь мне взгляд из своей сферы деви¬
чества, порядка и такой неподкупной правдивости, что ее
не подкупит и любовь брата.
КОММЕНТАРИИ
В 7-й том вошли рассказы, сказки, воспоминания и специально пред¬
назначавшиеся для печати письма друзьям («письма по xpyiy»); большин¬
ство из этих текстов Гессе включал в свои книги «По следам сна» (1945),
«Листки памяти» (1937, новые, расширенные издания 1947 и 1961) и
«Поздняя проза» (1951), часть вошла в составленный Фолькером Михель-
сом сборник «Письма друзьям» (1977); отдельный раздел составили тексты
автобиографического характера, печатавшиеся в периодических изданиях
и включавшиеся составителями в разные книги.
ПО СЛЕДАМ СНА
Впервые сборник увидел свет в цюрихском издательстве Фреца и Вас-
мута в 1945 г., через два года после публикации в Швейцарии романа
«Игра в бисер». Подзаголовок — «Новые рассказы и сказки» — указывал
на то, что эти тексты существенно отличаются от прежних произведений
Гессе, причисл1^емых к жанру «малой прозы»: в большинстве своем они
создавались в годы, когда писатель раздумывал и работал над своим по¬
следним романом, и отразили глубинные сдвиги в восприятии Гессе как
новейших веяний в европейской литературе, так и своего собственного
творчества, которое стало восприниматься им в игриво-ироническом клю¬
че, что, однако, не исключало серьезных раздумий над судьбами искус¬
ства в XX в, Все тексты уже печатались ранее -- в периодике и в форме
изначально раритетных «отдельных изданий» (Sonderdrucke), но только
собранные вместе они могли дать представление об эволюции этико-эс-
тетических представлений позднего Гессе, когда на передний план высту¬
пили озабоченность экологическими проблемами, отказ от европоцентриз¬
ма и пристальный интерес к «восточной мудрости».
По следам сна
Написано и впервые опубликовано в 1926 г. В «зарисовке» намечен
основной мотив сборника: несоответствие прежних — классических и ро¬
мантических — представлений о месте и роли художника в обществе тем
тенденциям «фельетонного столетия» (выражение Г. Гессе), которые стали
быстро набирать силу в 20-е гг.
8 Адонис — в греческой мифологии божество с ярко рыраженными рас¬
тительными функциями, связанными с периодическим возрождением
и умиранием природы; прекрасный юноша, спутник и возлюбленный
Афродиты, ставший жертвой гнева богов.
Крез (595—546 до н.э.) — последний царь Лидии, обладавший не¬
сметными богатствами; его имя стало синонимом очень богатого чело¬
века.
9 Бидермейер — стилевое направление в немецком и австрийском ис¬
кусстве I пол. XIX в., воплотившее демократические устремления
бюргерских слоев, их тягу к интимности и домашнему уюту.
460
и ...весеннюю песню Уланда... — Многие лирические стихотворения не¬
мецкого поэта-романтика Людвига Уланда (1787—1862), в том числе
из цикла «Весенние песни», положил на музыку австрийский компо¬
зитор Франц Шуберт (1747—1829).
«Трагично...»
Написано и впервые опубликовано в 1923 г. В рассказе предвосхища¬
ется критика «фельетонной» культуры XX в., получившая позже развер¬
нутое воплощение в романе «Игра в бисер».
23 ^Ночная неснь» — входит во вторую часть книги Ф. Ницше «Так го¬
ворил Заратустра (1883—1884).
Детство волшебника
Автобиографический очерк написан в 1923 г., впервые опубликован в
журнале «Корона» в 1937 г., позже вошел в сборник «По следам сна». В
поэтически преображенной, сказочной форме Гессе рассказывает о дет¬
ских годах в швабском городке Кальве, о «таинственных силах», питавших
детскую фантазию и наложивших отпечаток на мироощущение будущего
писателя,
29 ...я... рожденный под деятельным знаком Стрельца... — Гессе родил¬
ся 2 июля 1877 г., то есть, в соответствии с принятой астрологической
таблицей расположения светил, под знаком Рака. Однако согласно го¬
роскопу, составленному в 1919 г. с учетом корректирующих «доми¬
нант» другом писателя Йозефом Энглертом, Гессе появился на свет под
созвездием Стрельца.
31 Корень мандрагоры — по виду напоминающий человечка корень, ко¬
торому в Средние века приписывались волшебные свойства. Часто упо¬
минается в произведениях немецких романтиков.
32 Руна — древнейший знак германской письменности. В народном со¬
знании рунические письмена связывались с тайной.
Шива, Вишну — верховные боги индуистской религии.
Брахман (санскр.) — безличное духовное начало, божественный аб¬
солют, из которого, согласно древнеиндийским религиозно-философ-
ским представлениям, возникает мир во всех его проявлениях.
Агиман (санскр. «дыхание», «душа») — всепроникающее субъективное
начало, «я», индивидуальное воплощение брахмана.
Дао (кит. «путь») — одно из важнейших понятий древнекитайской
философии, вездесущий естественный закон, абсолют, выражающий
органическое единство материального и духовного мира.
33 ...эти вещи принадлежали дедушке... — Дед писателя по материнской
линии, Герман Гундерт (1814—1893), протестантский миссионер,
крупный ученый-индолог, провел около четверти века в Индии; после
возвращения в Европу руководил пиетистским издательством в Базеле
и Кальве. Автор грамматики языка малаями и большого малаямо-ан-
глийского словаря. Благодаря деду Г. Гессе рано проникся интересом
и уважением к философии, религии и культуре Индии.
34 Глоссолалия — таинственно-невнятное бормотание в состоянии ре¬
лигиозного экстаза.
461
Другим был мой отец. — Отец писателя, Иоганнес Гессе (1847—
1916), происходил из прибалтийских немцев, имел русское подданст¬
во, учился в Ревеле (Таллинн) и Базеле; более трех лет провел в Индии
в роли миссионера, но из-за болезни вынужден был вернуться в Гер¬
манию, где стал сотрудником издателыггва в Кальве, которым руково¬
дил Герман Гундерт, и впоследствии женился на его овдовевшей до¬
чери, также вернувшейся из Индии.
Вокруг нас лежал маленький городок,,, — Речь идет о старинном шваб¬
ском городе Кальве на реке Нагольд, расположенном на восточной ок¬
раине Шварцвальда. Его приметы узнаваемы во многих произведениях
Гессе — от повести ♦Под колесами* до романа «Ифа в бисер».
35 Будда (санскр, «просветленный высшим знанием») — имя, данное
основателю индийского религиозного учения Сиддхартхе Гаутаме
(623—544 до н.э.), происходившему, по преданию, из царского рода.
О жизни индийского принца и открытии им «благородных истин» буд¬
дизма Гессе рассказал в романе «Сиддхартха» (1922).
Лао-цзы (VI—V вв. до н.э.) — древнекитайский философ, которому
приписывается книга «Дао дэ цзин» — основополагающий трактат
философии даосизма. Гессе высоко ценил заключенную в нем «вос¬
точную мудрость».
36 Гомункулус — человечек, уменьшительное от лат. homo — человек.
В трагедии «Фауст» Гёте обозначает этим словом искусственно создан¬
ного человека.
Кобольд — в германской мифологии добрый пюм, домовой.
38 Волхвы — мудрецы, древние кудесники-звездочеты, служители хри¬
стианского культа. Согласно библейской легенде. Три Волхва предска¬
зали рождение Христа и принесли ему дары.
Краткое жизнеописание
Первые наброски «конъектуральной», то есть предположительной,
предвосхищающей будущее, автобиофафии приходятся на начало 20-х гг.
Опубликована в берлинском журнале «Нойе рундшау» (1925, № 8).
Позже, как и «Детство волшебника», вошла в сборник «По следам сна»
(1945). Одно время Гессе собирался объединить оба очерка в одну цело¬
стную автобиофафию, но из-за стилевой несовместимости двух вещей
отказался от своего намерения.
45 „.ознакомить с четвертой заповедью. — То есть с ветхозаветной
заповедью о необходимости почитать своих родителей.
47 ...отправили в изгнание в иногороднюю школу. — Чтобы подготовить
сына к поступлению в одну из монастырских семинарий, где обучение
проводилось за государственный счет, родители отправили его в «ла¬
тинскую школу» города Гёппингена, специально предназначенную для
подготовки к отборочному экзамену. Гессе проучился в ней с февраля
1890 по май 1891 г. Это было единственное в его жизни учебное за¬
ведение, о котором он вспоминал с благодарностью.
...я стал питомцем одной теологической семинарии,.. — После ус¬
пешной сдачи швабского «земельного экзамена» Гессе был зачислен
стипендиатом в Маульброннскую семинарию, недолгое пребывание в
которой закончилось для него конфликтом с учителями и бегством. О
порядках в семинарии и обстоятельствах побега рассказано в повести*
«Под колесами» (1906).
462
48 ...в одной гимназии... — После безуспешных попыток «образумить»
строптивого подростка (лечение в «доме отдыха» у пастора К. Блум-
хардта, помещение в исправительное заведение для эпилептиков и
слабоумных) родители предоставили ему возможность продолжить
учение в гимназии города Канштадта, но уже через год Гессе упросил
их забрать его домой.
...в механической мастерской и на фабрике башенных часов. — В
1894—1895 гг. Гессе был практикантом в механической мастерской
владельца фабрики башенных часов Генриха Перро в Кальве. Имя сво¬
его мастера Гессе увековечил позже в образе Бастиана Перро, одного
из изобретателей «игры в бисер».
Затем я сделался книготорговцем... — Убедившись, что специаль¬
ность слесаря ему не подходит, Гессе дал объявление в штутгартской
газете «Меркур» о том, что он ищет место ученика книготорговца. От¬
кликнулась фирма Хеккенхауэра из Тюбингена, и в течение четырех
лет Гессе жил и работал в городе, который был одним из центров шваб¬
ского романтизма.
49 ...я помогал основывать некий журнал... — Совместно с издателем
Альбертом Лангеном и писателем Людвигом Тома Гессе издавал в
1907—1912 гг. оппозиционный журнал «Мерц» («Март»), названный
так в честь мартовских событий буржуазно-демократической револю¬
ции 1848 г.
Вильгельм II Гогенирллерн (1859—1941) — германский император и
прусский король в 1888—1918 гг. Свергнут Ноябрьской революцией
в 1918 г.
...славные поездки... по Индии. — В 1911 г. Гессе совершил морское
путешествие в Индию. Оно было задумано не только как бегство от
опостылевшей «крестьянской» жизни в деревне Гайенхофен на берегу
Боденского озера, но и как «паломничество в Страну Востока», в края,
где проповедовали его родители и провели молодость дед Герман Г^н-
дерт и бабушка Жюли. Десять лет спустя он признавался, что путеше¬
ствие не принесло ему избавления от сугубо европейских проблем и не
стало встречей с духом подлинной Индии. О своих впечатлениях он
рассказал в книге «Из Индии» (1913).
51 Статья с вышеупомянутым обвинением... — В ответ на опублико¬
ванную в «Нойе цюрхер цайтунг» 10 октября 19liS> г. статью Гессе
«Опять в Германии», где он с удовлетворением писал о затухании в
немецком народе воинственных настроений и шовинистического уга¬
ра, газета «Кёльнер тагеблатт» в номере от 24 октября 1915 г. разра¬
зилась анонимным пасквилем, в котором Гессе назывался «дезерти¬
ром», «предателем» и «отщепенцем». Статью перепечатали многие не¬
мецкие издания. 2 ноября 1915 г. Гессе выступил в «Нойе цюрхер цай¬
тунг» со статьей «В защиту себя», где показывал вздорность и необос¬
нованность выдвинутых против него обвинений. Лишь двое друзей
вступились за Гессе: редактор журнала «Мерц» Теодор Хойе, будущий
политический деятель ФРГ, и сотрудник журнала, либеральный
юрист Конрад Хаусман. Под давлением бесспорных фактов газета
«Кёльнер тагеблатт» была вынуждена напечатать опровержение.
55 ...я уединился в отдаленном уголке Швейцарии... — Весной 1919 г.
Гессе сложил с себя обязанности служащего. Бернского бюро помощи
военнопленным и перебрался в италоязычный кантон Тессин. В окре¬
стностях Лугано он обл1^овал горную деревушку Монтаньола и остал¬
ся в ней до конца жизни.
463
Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551—479 до н.э.) — китайский философ,
религиозно-этическое учение которого превратилось в доктрину фео¬
дализма и просуществовало до начала XX в.
Брахманизм — один из ранних этапов развития индуизма (I тыс. до н.э.),
названный так по имени верховного бога Брахмы; требовал аскетизма
и строгой обрядовой регламентации жизни.
58 ...Золотой горшок» Гофмана.,. — В повести-сказке немецкого писа¬
теля, художника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана
(1776—1822) «Золотой горшок» фантазия, духовное начало противо¬
поставляются пошлой действительности.
<^Генрих фон Офтердинген» — неоконченный роман немецкого пи-
сателя-романтика Новалиса (наст, имя и фам. Фридрих фон Гарден-
берг, 1772—1801), задуманный как полемическое возражение на ро¬
ман Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» и проповедующий вос¬
питание личности в отрыве от действительности, в царстве мечты и
поэзии.
59 «Я цзин» — «Книга перемен», древнейший памятник китайской ли¬
тературы (I тыс. до н.э.). В основе философии «И цзин» — мысль о
постоянно меняющейся Вселенной, в которой взаимодействие Инь и
Ян, неба и земли, мужского и женского начал, порождает все вещи и
явления. Используется как пособие для предсказания судьбы. Гессе
часто пользовался этой «гадательной книгой».
Город
Написано и впервые опубликовано в 1910 г., самый ранний из всех
включенных в сборник «По следам сна» текстов. Немецкий германист Кла¬
ус Пецольд обратил внимание на перекличку этой притчи с романом
А. Франса «Остров пингвинов». Позже мотив гибели цивилизаций и воз¬
вращения дикой природы получит широкое распространение в западно¬
европейской литературе.
Сказка о плетеном стуле
Написано в 1918 г., впервые опубликовано в сборнике «Маленький
сад» в 1919 г.
Европеец
Сказка, обыгрывающан библейское предание о всемирном потопе и в
сатирическом свете выставляющая безрассудно воинственного «белого че¬
ловека», написана и впервые опубликована в 1918 г. под псевдонимом
Эмиль Синклер.
76 Священная гора — Арарат.
Эдмунд
Написано и впервые опубликовано в 1930 г.
77 Геккель Эрнст (1834—1919) — немецкий биолог, сторонник и про¬
пагандист естественно-научного материализма Чарлза Дарвина
(1809-1882).
79 Тантры — древнеиндийские религиозные сочинения, трактовавшие
вопросы магии и мистики.
464
о Степном волке
Написано в 1927, впервые опубликовано в 1928 г., печаталось также
под названием «Новое о Степном волке».
81 Гарри — имя волка совпадает с именем главного героя романа
«Степной волк» Гарри Галлера, а инициалы — с инициалами автора —
Германа Гессе, что указывает на скрытую автобиографичность рас¬
сказа.
82 В груди каждого из нас,, живет степной волк. — Скрытая полемика
со швейцарским критиком Эдуардом Корроди, который в рецензии
на роман «Степной волк» причислил к этой категории и себя («Все
мы — степные волки»), вызвав ироническую реакцию писателя.
Король Ю
Написано и впервые опубликовано в 1929 г. Для этой сказки Гессе
использовал сюжет древнекитайского сказания о гибели государства
Чжоу, опустив мифологические подробности (согласно легенде, Бау Си
была дочерью дракона) и превратив предание в психологический этюд,
попятный современному читателю.
ЛИСТКИ ПАМЯТИ
Впервые книга под таким названием вышла в 1937 г.; новые, до-
полпенпые издания появились соответственно в 1947 г. (Цюрих) и в 1962 г.
(Франкфурт-на-Майне); Гессе включал в нее автобиографические замет¬
ки и воспоминания о родственниках и близких друзьях, пытаясь спасти от
забвения то, что было ему дорого и составляло колорит уходящей эпохи.
Когда я был школьником
Написано в 1926, впервые опубликовано в 1927 г.
96 ...по Швабовым «Преданиям классической древности»... — Состав¬
ленная немецким поэтом, переводчиком и собирателем фольклора Гу¬
ставом Швабом (1792—1850) антология «Лучшие предания классиче¬
ской древности» (1838—1840) долгие десятилетия служила доступ¬
ным и увлекательным источником знаний по античной истории и
мифологии.
97 Царь Саул — первый царь Израиля, отличавшийся, по преданию,
лукавым и злобным характером.
98 ...подготовиться к «земельному экзамену»... — См. коммент. к с. 47.
99 Бауэр Отто (1830—1899) — ректор Гёппингенской латинской шко¬
лы, один из любимых учителей Гессе.
103 Исократ (436—338 до н.э.) — афинский оратор и публицист, сто¬
ронник объединения Греции под главенством Македонии.
Вселяясь в новый дом
Паписапо и впервые опубликовано в 1931 г. с посвящением Г.К. Бод¬
меру и его жопе Эльзи.
465
108 Буркхардт Якоб (1818—1897) — швейцарский историк культуры,
оказал большое влияние на Гессе, который вывел его под именем отца
Иакова в романе «Игра в бисер».
Каза-Бодмер — дом в Монтаньоле, построенный для Гессе его дру¬
гом, богатым цюрихским врачом Г.К. Бодмером (1891—1956) с пра¬
вом пожизненного пользования.
Мая— так Гессе называл свою первую жену Марию, урожд. Бернулли
(1868—1963).
109 Штраус Эмиль (1866—1960) — немецкий писатель-регионалист, до
1918 г. был в дружеских отношениях с Гессе. Националистические
симпатии Штрауса послужили причиной разрыва.
Цвейг Стефан (1881—1942) — австрийский писатель, гюддерживал
дружеские отношения с Гессе и высоко ценил его творчество.
ПО «Книга зарисовок» — сборник путевых заметок и пейзажных зари¬
совок документально-автобиофафического характера, опубликован¬
ная Гессе в 1926 г.
...сродни рёскшювским и моррисовским... — То есть близки воззре¬
ниям английского теоретика искусства и социального реформатора
Джона Рёскина (1819—1900) и английского художника, писателя и
теоретика искусства Уильяма Морриса (1834—1896)
111 Финк Людвиг (1876—1964) — немецкий писатель-регионалист, ;ipyi
юности Гессе; после первой мировой войны их пути разошлись из-за
националистических пристрастий Финка.
Бухерер Макс (1883—1974) — немецкий живописец и график
Готхельф Иеремия (наст, имя и фам. Альберт Бициус, 1797—1854) —
швейцарский писатель, автор известных романов о жизни крестьян
«Ули-батрак» (1841) и «Ули-арендатор» (1849).
113 Блюмель Отто (1881 — 1973) — немецкий живописец и график, ху-
д0жник“0(|юрмитель некоторых его произведений.
Реннер Людвиг (1884—1962) — немецкий художник и педагог.
...как соиздателю журнала... — Гессе совмест1ю с Альбертом Лангеном
был соиздателем журнала «Мерц», выходившего с 1907 гю 1912 г в
Мюнхене.
114 БалльГуго (1886—1927) — немецкий писатель и публицист, один из
основателей дадаизма. Друг Гессе, автор монографии «Герман Гессе.
Его жизнь и творчество» (1927).
115 Вельти Альберт (1862—1912) — швейцарский художник.
118 Без поддержки... винтертурского друга и милых сиамцев... —
Имеются в виду богатый коммерсант Георг Рейнхарт (1877—1955), а
также цюрихский торговец Фриц Лейтхольд (1881 — 1951) и его жена
Алиса (1889—1957), с которыми Гессе подружился во время своего
путешествия в Индию в 1911 г.
Амьет Куно (1868—1961) — швейцарский живописец и график экс¬
прессионистского направления; одно время учил рисованию сына Гес¬
се — Бруно.
120 ...друг Б. — имеется в виду Ганс Бодмер. См. коммент. к с. 108.
466
Посещение Вильгельма Раабе
i 1аписано и впервые опубликовано в 1933 г.
120 Раабе Вильгельм (1831 —1910) — немецкий писатель; оказал влияние
на раннего Гессе.
Сарасате (Сарасате-и-Наваскуэс) Пабло (1844—1908) — испанский
скрипач и композитор.
Иоахим Йозеф (1831—1907) — венгерский композитор, скрипач и пе¬
дагог, был директором высших музыкальных школ в Берлине и Веймаре.
121 <^Симплии^иссимус» — немецкий сатирический иллюстрированный
еженедельник, в котором наряду с Гессе сотрудничали Г. и Т. Манны,
А. Цвейг, А. Шницлер и другие видные литераторы. Выходил с 1886
по 1942 г.
Ланген Альберт (1869 — 1909) — немецкий издатель и книготорговец,
основатель журнала «Симплициссимус». См. коммент. к с. 49 и 113.
Гамсун (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859—1952) — норвежский пи¬
сатель, лауреат Нобелевской премии (1920); как и Гессе, в романах
начала века воспевал жизнь на лоне природы и труд земледельца.
122 Шторм Теодор (1817—1888) — немецкий писатель и поэт, наряду с
Г. Келлером, К.Ф. Мейером, Г. Фонтане — классик немецкоязычной
литературы II пол. XIX в.
Жан Поль (наст, имя и фам. Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763—
1825) — немецкий писатель, сснтимсптальпо-сатирическую прозу ко¬
торого высоко ценил Гессе.
123 Буш Мориц (1821 —1899) — немецкий публицист, один из сподвиж¬
ников Бисмарка во время франко-прусской войны; книга ет воспоми¬
наний («Листки из дневника», 3 п.) вышла в 1899 г.
Бисмарк Отто фон (1815—1898) — немецкий политический деятель,
первый рейхсканцлер Германской империи, созданию которой он ак¬
тивно способствовал. В обширном литературном наследии Бисмарка
важное место занимают письма и вос1Юминания.
124 Мёрике Эдуард (1804—1875) — немецкий поэт и прозаик, предста¬
витель поздперомачтической «швабской школы», один из любимых пи¬
сателей Гессе.
Из воспоминаний об Отмаре Шёке
Написано в 1936 г., вошло в издание «Листков памяти» 1950 г.
128 /Пёк Отмар (1886—1957) — швейцарский композитор, близкий друг
Гессе, положил на музыку более двух десятков его стихотворений.
Шленкер Альфред (1876—1950) — немецкий композитор, по профес¬
сии зубной врач, друг Гессе, жил в Констанце. Гессе написал либретто
для его оперы «Беглецы».
129 Вольф Гуго (1860—1903) — австрийский композитор и музыкальный
критик. Гессе вы» око ценил песенное искусство Вольфа.
130 Видман Фриц (1869—1937) — швейцарский художник, друг Гессе;
часто сопровождал писателя в путешествиях по Италии.
131 Брун Фриц (1878—1959) — швейцарский композитор и дирижер, ру¬
ководил Бернским оркестром.
467
Воспоминания о Гансе
Написано и впервые опубликовано в 1936 г.
138 Да и радость ли это — родиться на свет человеком? — Строки из
стихотворения немецкого поэта Рудольфа Кристиана Флада (1804—
1830), написанного незадолго до преждевременной смерти автора.
141 <^Истинно говорю вам^ если не обратитесь и не будете как дети,.,* —
Мф. 18:3.
161 Анабазис — в переводе с греческого «выход», «выступление»; в то же
время жанр древнегреческой исторической литературы, повествующей
о военных походах («Анабазис* Геродота).
Воспоминание об Андре Жиде
Вошло в расширенное издание книги «Листки памяти» (1962).
174 Геон Анри (1875—1944) — французский писатель, по профессии
врач. Был дружен с Анри Жидом.
Курциус Эрнст Роберт (1886—1956) — немецкий литературовед.
Пеги Шарль (1873—1914) — французский писатель и публицист.
БлуаЛеон (1846—1917) — французский писатель консервативно-ка-
толического направления.
Сюарес Андре (наст, имя Исаак Феликс, 1868—1948) — французский
писатель, друг Ромена Роллана.
176 ^Монтагсдорф* — так Гессе называл тессинскую деревню Монтань-
ола, в которой он жил.
Некролог
Написано и опубликовано в 1951 г.
180 ,„aetnopa, который написал «Кандида», — То есть Вольтера.
Траурный марш
Написано и впервые опубликовано в 1956 г.
186 Шмельцле — персонаж новеллы Жан Поля «Путешествие полевого
проповедника Шмельцле во Флец» (1809).
Друг Петер
Написано и впервые опубликовано в 1959 г.
188 Зуркамп Петер (1891—1959) — немецкий издатель и журналист, ос¬
нователь издательства «Зуркамп».
191 Иероним — католический святой, живший в 4—5 вв. н.э.; заново пе¬
ревел на латынь Ветхий Завет.
Шрёдер Рудольф Александр (1878—1962) — немецкий поэт, эссеист
и переводчик.
Одному музыканту
Написано и впервые опубликовано ^ 1960 г.
193 Валентин Эрих (р. 1906) — немецкий писатель-музыковед.
468
194 Андреэ Фолькмар (1879—1962) — швейцарский композитор и ди¬
рижер, поддерживал дружеские отношения с Гессе.
195 Липатти Дину (1917—1950) — румынский писатель и композитор.
Падеревский Игнацы Ян (1860—1941) — польский пианист, компо¬
зитор, педагог и общественный деетель.
Штраус Рихард (1864—1949) — немецкий композитор.
Тосканини Артур (1867—1957) — итальзшский дирижер.
Фуртвенглер Вильгельм (1886—1954) — немецкий дирижер.
Бузони Феруччо (1866—1924) — италышский композитор и пианист.
Филипш Мария — швейцарская певица, давала уроки пения второй
жене Гессе — Рут Венгер.
Дуриго Илона (1881—1943) — швейцарская певица, известная как ис¬
полнительница песен О. Шёка. Была в дружеских отношениях с Гессе.
Фишер Эдвин (1886—1960) — швейцарский композитор. Положил на
музыку цикл стихотворений Гессе, созданный в пору жизни поэта в
Базеле и посвященный Элизабет Лярош.
Губер Ганс (1852—1921) — швейцарский композитор, пианист и пе¬
дагог, был директором Базельской консерватории.
Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий теолог и фило-
соф-младогегельянец.
Фишер Фридрих Теодор (1807—1887) — немецкий эстетик, писатель
и литературный критик.
196 Малер Густав (1860—1911) — австрийский композитор и дирижер.
Корто Альфред (1877—1962) — швейцарский пианист.
197 Чжуан-цзы (учитель Чжуан, ок.369—286 до н.э.) — древнекитайский
философ, один из основоположников даосизма.
ПОЗДНЯЯ ПРОЗА
Книга под таким названием впервые вышла в 1951 г. (Берлин, изда¬
тельство Зуркамп). В нее вошли поздние вещи Гессе, преимущественно
автобиографического характера.
Украденныц чемодан
Написано в 1944, впервые опубликовано в 1945 г.
204 Сцгвола Гай Муций — легендарный основатель плебейского рода Му-
циев в Риме. Когда в 508 г. до н.э. царь этрусков Порсенна осадил
Рим и пленил Муция, тот, чтобы продемонстрироватть свое бесстра¬
шие, сжег в огне свою правую руку; отсюда прозвище — Сцевола, то
есть Левша.
205 Паломники в Страну Востока — действующие лица повести Гессе
«Паломничество в Страну Востока» (1932), среди которых были как
реально существовавшие лица, так и литературные персонажи.
Черный Король — то есть Георг Рейнхарт (1877—1955), швейцарский
коммерсант, владелец крупной торговой фирмы, друг и меценат Гессе;
«Черным Королем» Рейнхарта прозвали его дети.
206 Фишер Самуэль (1859—1934) — немецкий издатель, был с Гессе в
дружеских отношениях.
469
Персиковое дерево
Написано и опубликовано в 1945 г.
На горе Риги. Дневник
Написано и опубликовано в 1945 г.
210 Риги — горный массив в Швейцарии, излюбленное место экскурсий
и отдыха.
^Дневник Лаушера» — входит в раннюю книгу Гессе «Записки и сти¬
хотворения, оставшиеся после Германа Лаушера» (1900).
212 иГеспер» — роман Жан Поля «Геспер, или 45 дней собачьей почты»
(1795).
Нинон — Нинон Гессе (урожд. Ауслендер, 1895—1968) — третья же¬
на писателя.
214 Рюккерт Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт и переводчик, фи-
лолог-востоковед.
Штифтер Адальберт (1805—1868) — австрийский писатель; героиня
его новеллы «Лесная тропинка» по ходу действия оказывается на Риги.
216 Альтдорфер Альбрехт (ок. 1480—1538) — немецкий художник и
градостроитель.
Грюневальд Маттиас (наст, имя и фам. Матис Нейтхардт, 1460/70—
1538) — немецкий художник.
218 Юнг Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог, основопо-
ложник «глубинной психологии»; идея «коллективного бессознатель>
ного» и, следовательно, «коллективной вины» — одна из центральных
в его системе представлений.
Подарок во сне
Написано и впервые опубликовано в 1946 г.
222 Художник Луи — друг Гессе, швейцарский художник Луи Муайе
(1880—1962); под именем Луи Жестокого выведен во многих произ¬
ведениях Гессе.
Описание одной местности
Написано в 1946, впервые опубликовано в 1947 г.
226 Рильке Райнер Мария (1875—1926) — австрийский поэт, одним из
первых отметивший дарование Гессе.
Коро Камиль (1796—1875) — французский художник-пейзажист.
232 Ходлер (Годлер) Фердинанд (1853—1918) —швейцарский художник.
Каламе Александр (1810—1864) — швейцарский живописец роман¬
тического направления.
Мартини Симоне (ок. 1284—1344) — итальянский живописец, автор
фресок и алтарных картин, исполненных благочестивой одухотворенности.
Нищий
Написано и впервые опубликовано в 1948 г.
470
Прерванный урок
Написано и впервые опубликовано в 1948 г.
251 „.автора зельдвильских историй. — То есть Готфрида Келлера, автора
сборника новелл ^юди из Зельдвилы» (I том — 1856, II том — 1874).
Счастье
Написано и впервые опубликовано в 1949 г.
268 Кватроченто (итал. «четыреста») — итальянское наименование
XV в., отмеченного расцветом культуры Возрождения.
269 Amor fati Oiattu «любовь к судьбе») — термин философии Ф. Ницше,
обозначающий неизбежность подчинения необходимому.
Однокашник Мартин
Написано и впервые опубликовано в 1949 г.
274 ...о своем однокашнике Мартине. — Речь идет о Мартине Роосе
(1877—1936), однокласснике Гессе в Кальве и Маульбронне, позже
священнике и школьном учителе.
279 Бодони Джамбаттиста (1740-^-1813) — итальянский печатник, ав¬
тор «Руководства по типографскому делу» (опубл. 1818); создал ряд
превосходных рисунков шрифтов.
281 «В час пополуночи» — первая книга Гессе, опубликована в 1899 г. в
Лейпциге.
282 Бодман Эммануэль фон (1874—1946) — немецкий писатель.
Шольц Вильгельм фон (1874—1969) — немецкий драматург, поэт и
прозаик.
Баденские заметки
Написано в 1949, впервые опубликовано в 1950 г.
Рождество с двумя детскими историями
Написано в 1950, впервые опубликовано в 1951 г.
298 Сибилла (р. 1945) — дочь Мартина Гессе, сына писателя.
Зимели Симон (р. 1941) — сын Бруно Гессе.
Кристина (р. 1938) — дочь Бруно Гессе.
Эва (р. 1943) — дочь Хайнера Гессе.
Сильвер (р. 1942) — сын Хайнера Гессе. Как полагает Мартин Пфай¬
фер, Гессе так никогда и не узнал, что историю «Для Боженьки»
Сильвер сочинил не сам, а позаимствовал из одной хрестоматии.
ПИСЬМА ПО КРУГУ
К этой разновидности эпистолярного жанра — «письмам по кругу»,
адресованным друзьям, но с самого начала предназначавшимся для печати
и мало чем отличавшимся от статей или эссе^ — Гессе обратился на склоне
лет, после того как ему в 1946 г. была присуждена Нобелевская премия.
Выросла слава писателя, поток читательских писем увеличился настоль¬
471
ко, что ответить, как прежде, на каждое лично уже не было возможности.
Приходилось выбирать наглее часто встречающиеся вопросы и отвечать
через газету. О чем бы ни писал Гессе в своих «письмах по кругу* — о
социально и политически значимом или о личном, приватном, на первый
взгляд малозначительном — его письма всегда глубоко публицистичны,
связаны с представлениями о современном мире, пронизаны заботой и тре>
вогой о человеке. Как может убедиться читатель, Гессе обладал чудесным
даром и великим искусством — передавать почти физически страдания и
муки ищущей мысли и все повседневное и злободневное поднимать до
уровня общечеловеческого и вечного.
Тайны
Написано и впервые опубликовано в журнале «Нойе швайцер рунд-
шау» в 1947 г.
Ночные игры
Написано и впервые опубликовано в 1948 г. под заглавием «Театр
снов».
320 Папагено — птицелов, персонаж оперы Моцарта «Волшебная флей¬
та».
Корроди Эдуард (1885—1955) — швейцарский критик и литературо¬
вед, долгое время заведовал литературным отделом газеты «Нойе цюр-
хер цайтунг» и в этом качестве нередко попадал в конфликтные ситу¬
ации с Гессе.
Всяческая почта
Написано и впервые опубликовано в 1952 г.
322 Лиммат — озеро и река, на берегах которых расположен город Цю¬
рих.
326 ...своему восточиоазиатскому родственнику... <— Имеется в виду дво¬
юродный брат Гессе, Вильгельм Гундерт (1880—1971), специалист в
области японского языка и культуры.
Династия Тан (618—907) — китайская императорская династия, ос¬
нованная Ли Юанем.
Осенние впечатления
Написано и впервые опубликовано в 1952 г.
328 ...стгкфого друга из Шбобии. — Имеется в вицу Отто Гартман (1877 —1952),
юрист, обер-^ргомистр Гёппингена; Гессе дружил с ним с детства.
332 Атараксия (лат.) — душевный покой.
Вепе vixit qui bene latuit {лат. «хорошо жил тот, кто жил скрытно») —*
стих из «Тристиа» Овидия (Ш, 4, 25).
334 Оссиан (Ойсин) — легендарный кельтский воин и бард, живший, по
преданию, в III в. и воспевавший подвиги своего отца Фингала. При¬
писываемые ему сочинения оказались талантливой подделкой шот¬
ландского поэта Джеймса Макферсона (1736-1796).
472
Энгадинские впечатления
Написано и впервые опубликовано в 1953 г. Энгадин — национальный
парк в Швейцарии, в Ретийских Алы1ах, место отдыха состоятельных людей.
336 Дильтей Вильгельм (1833—1911) — немецкий историк культуры и
философ; автор книги «Жизнь Шлейермахера» (1870).
338 Сильс-Мария — курортное место в горах Энгадина (кантон 1>1убюнден).
Известно тем, что здесь в 1881—1888 гг. проводил лето Фридрих Ницше.
339 Холичер Артур (1869—1941) — немецкий писатель и журналист,
участник революционного движения.
341 Маг Юп — имеется в виду Йозеф Энглерт (1874—1957), архитектор,
друг Гессе; под этим именем выведен в «Последнем лете Клингзора»
(1920) и «Паломничестве в Страну Востока» (1932).
342 Вассерман Якоб (1873—1934) — немецкий писатель, мастер соци¬
ально-психологического романа.
343 Фурнье Пьер (р. 1906) — выдающийся французский виолончелист, с
1949 г. живет в Швейцарии.
Казальс Пабло (1876—1974) — знаменитый виолончелист и компози¬
тор, противник фашистского режима в Испании.
345 Гаскиль Клара (1859—1960) — известная пианистка, родилась в Бу¬
харесте, умерла в Брюсселе. Прославилась виртуозным исполнением
произведений Моцарта
Скарлатти Доменико (1685—1757) — итальянский композитор и му-
зыкант-исполнитель.
Встречи с прошлым
Написано и впервые опубликовано в 1951 г.
354 Вальзер Роберт (1878—1956) — швейцарскиий писатель; Гессе вы¬
соко ценил ею творчество, его временами отчаянную борьбу за чело¬
веческое достоинство. В разгар Первой мировой войны он писал: «Если
бы такие люди, как Вальзер, принадлежали к «ведущим умам», войны
бы не было. Если бы он имел сто тысяч читателей, мир стал бы лучше.
Но каким бы ни был мир, он оправдан существованием людей, по¬
добных Вальзеру...»
Тракль Георг (1887—1914) — австрийский поэт-экспрессионист.
Георге Стефан (1868—1931) — немецкий поэт-символист.
355 Бенн Готфрид (1886—1956) — немецкий поэт, прозаик и драматург.
357 Гейбель Эммануэль (1815—1884) — немецкий поэт и переводчик.
О старости
Написано в 1952, впервые опубликовано в 1953 г.
Заклинания
Написано и впервые опубликовано в 1954 г.
362 Пальм Август (1830—1925) — эфор в Маульброннском монастыре с
1888 по 1897 г.
363 Вайцзекер — ректор реальной прогимназии в Кальве.
473
Анаида («радость») — в буддийской мифологии любимый ученик и
слуга Шакьямуни, ставшего Буддой, то есть «просветленным».
Каундинья — в кхмерской мифологии основатель древнейшего госу¬
дарства.
Алкивиад (ок. 450—404 до н.э.) — афинский стратег времен Пело¬
поннесской войны.
Хлоя — героиня любовного романа греческого писателя Лонга «Даф¬
нис и Хлоя» (II—III вв.).
Телемах — в «Одиссее» сын Одиссея и Пенелопы; помогал отцу в рас¬
праве с женихами, добивавшимися руки его матери.
364 Гебель Йоганн Петер (1760—1826) — немецкий прозаик и поэт, вы¬
разитель настроений плебейско-демократических кругов.
Кёрнер Карл Теодор (1791—1818) — немецкий поэт-романтик, уча¬
стник освободительной войны против Наполеона; убит в битве при
Гадебуше.
Бернгарда Август Фердинанд (1769—1820) — немецкий писатель и
педагог, принадлежавший к старшему поколению.
Лангбейн Август Фридрих Эрнст (1757—1835) — немецкий писа¬
тель; был цензором, известен тем, что вычеркивал из списков публич¬
ных библиотек даже собственные сочинения.
366 Корто Альфред — см. коммент. к с. 196.
367 Маркиз Поза — персонаж драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1787).
369 Баур Юлиус — книготорговец, под началом которого Гессе работал в
антикварной лавке Ваттенвиля в Базеле (1901).
370 Хёпли Ульрика — немецкий издатель и книготорговец итальянского
происхождения.
Ольшпи Леонардо (1885—1961) — итальянский филолог, работал в
университетах Италии, Германии и США.
312Аретино Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель эпохи Воз¬
рождения.
...чемберленовских «Основ XIX века»... — Имеется в виду сочинение
англо-немецкого писателя Хустона Стюарта Чемберлена (1855—
1927), сына британского генерала, натурализовавшегося в Германии,
зятя (во втором браке) Рихарда Вагнера. Один из предшественников
идеологии национал-социализма.
374 Целлер Ойген (1871—1953) — гимназический учитель в Ульме.
Пасхальные заметки
Написано и впервые опубликовано в 1954 г.
379 Манцони Алессандро (1785—1873) — итальянский поэт-романтик.
Фогаццаро Ашпонио (1842—1925) — итальянский писатель.
380 Андреэ Фолькмар (1879—1962) — швейцарский композитор и дирижер.
Но что один ученик предал Учителя, другой, 4гкамень», отрекся от
него... — Имеется в виду апостол Петр, имя которого означает «ка¬
мень», «скала».
Письмо «по кругу» из Сильс-Марии
Написано и впервые опубликовано в 1954 г.
474
382 „.двоюродным братом Вильгельмом... — См. коммент. к с. 326.
384 Дзэн-буддизм — одна из школ буддизма, возникшая в VI — VII вв. в
Китае и придававшая большое значение медитации и интуитивному
«озарению».
386 Инь и Ян центральные категории древнекитайской философии, обоз¬
начающие два полюса великого единства Вселенной — небо и землю,
свет и тьму, позитивное и негативное и т.д. См. также коммент. к с.59.
Ферриер Катлин (1912—-1953) — английская певица.
387 ...зильхеровскими песнями... — Имеется в виду песенное творчество
немецкого композитора Фридриха Зильхера (1789—1860), представи¬
теля раннего романтизма.
Лёве Карл (1796—1869) — немецкий композитор, работавший в жан¬
ре песни-баллады (весной царь» на слова И.-В. Гёте).
391 Фридрих Каспар Давид (1774—1840) — немецкий живописец-роман-
тик, автор одухотворенных, меланхолически-созерцательных пейзажей.
392 Бубер Мартин (1878—1965) — еврейский религиозный философ и
писатель, совместно с Ф. Розенцвейгом предпринял новый перевод
Ветхого Завета.
ИЗ РАЗНЫХ КНИГ
В этот раздел вошли статьи, эссе и заметки автобиографического ха¬
рактера, публиковавшиеся в периодической печати и входившие в разные
книги, которые издавались после смерти Г. Гессе.
Первое приключение
Написано и впервые опубликовано в 1906 г.
Соната
Написано в 1906 г., впервые опубликовано в 1907 г.
401 Регер Макс (1873—1916) — немецкий композитор, органист и музы¬
кальный критик.
Муз(ыка
Написано и впервые опубликовано в 1913 г. Вошло в книгу «Искус¬
ство досуга» (1973, изд. Фолькер Михельс).
Два голоса мелодии жизни
Написано в 1923, впервые опубликовано в 1924 г.
Концерт виртуоза
Написано и впервые опубликовано в 1928 г. Вошло в книгу «Искус¬
ство досуга».
412 Тартини Дткузеппе (1692—1770) — итальянский скрипач и композитор.
475
Чтение в постели
Написано в 1928, впервые опубликовано в 1929 г. Вошло в книгу «Ис¬
кусство досуга».
419 Зорастро — персонаж оперы Моцарта «Волшебная флейта», провоз¬
вестник высшей истины.
420 Эккенер Гуго (1868—1954) — немецкий воздухоплаватель; вместе с
ним Гессе совершил в июле 1911 г. полет на дирижабле «Швабия» над
Боденским озером.
Осмотр картин в Мюнхене
Написано и впервые опубликовано в 1929 г.; вошло в книгу «Искусство
досуга».
421 Лоррен (наст. фам. Желе) Клод (1600—1682) — французский худож¬
ник.
Ренуар Огюст (1841—1919) — французский художник.
Тициан (Тициано Вечеллио, 1476/77 или 1489/90—1576) — итальян¬
ский художник венецианской школы Высокого Возрождения.
Бордоне Парис (ок. 1500—1570) — итальянский художник.
422 Рейнхарт Георг — см. коммент. к с. 205.
Гульбранссон Олаф (1873—1958) — немецкий художник-карикатурисг.
Альтдорфер Альбрехт (ок. 1480—1538) — немецкий живописец и
график.
Дюрер Альбрехт (1471—1528) — немецкий художник, график эпохи
Возрождения.
Сезанн Поль (1839—1906) — французский художник-постимпресси-
онист.
Маре Ганс фон (1837—1903) — немецкий художник, с 1875 г. жил в
Риме.
423 Баутс Дирк (Дирик, 1415—1475) — нидерландский живописец.
424 Шух Карл (1846—1903) — немецкий художник.
Лейбль Вильгельм (1844—1900) — немецкий художник.
Тома Ганс (1839—1924) — немецкий художник.
Трюбнер Вильгельм (1851—1917) — немецкий художник.
Мане Эдуард (1832—1883) — французский художник.
Кокошка Оскар (1886—1980) — австрийский художник и драматург,
резкой, болезненно напряженной манерой письма близкий к экспрес¬
сионизму.
425 Валентин Карл (насг. имя и фам. Валетин Фрай, 1882—1948) — не¬
мецкий актер-комик.
Воспоминание о С. Фишере
Написано и впервые опубликовано в 1934 г.
Штраус Эмиль — см. коммент. к с. 109.
426 Мюллер Георг — немецкий издатель (Мюнхен); в 30-е гг. его издатель¬
ство слилось с издательством А. Лангена (см. комменг. к с. 49 и 121).
476
Воспоминание о лете Клингзора
Написано и впервые опубликовано в 1938 г.
Ответ на анкету
Написано и впервые опубликовано в 1939 г.
429 Эмерсон Ралф Уолдо (1803—1882) — американский философ и пи¬
сатель.
Автор — корректору
Написано и впервые опубликовано в 1946 г.
432 Дуден — пособие по правописанию и грамматике немецкого языка,
составленное филологом Конрадом Дуденом (1829—1911).
В антракте концерта
Написано и впервые опубликовано в 1947 г.
435 Фишер Эдвин — см. коммент. к с. 195.
436 Иоахим — см. коммент. к с. 120.
Вельти-Герирг Эмилия (1859—1932) — швейцарская певица, изве¬
стная исполнением произведений Моцарта.
Лист Франц (1811—1886) — венгерский композитор и пианист-виртуоз.
Вагнер Козима (1837—1930) — дочь Франца Листа, жена Рихарда
Вагнера.
Рубинштейн Антон (1829—1894) — русский пианист и композитор.
Неотправленное письмо певице
Написано и впервые опубликовано в 1947 г.
Часы, проведенные за письменным столом
Написано и впервые опубликовано в 1949 г.
Марулле
Написано и впервые опубликовано в 1953 г.
453 Вурм Теофиль (1868—1953) — немецкий теолог-протестант, был в оп¬
позиции нацистскому режиму, после войны возглавлял Совет немецкой
евангелической церкви; с 1929 г. — епископ земли Вюртемберг.
458 Шпенер Филипп Якоб (1635—1705) — немецкий теолог-пиетист.
Бенгель Йоганн Альбрехт (1687—1721) — немецкий теолог-пиетист.
Цинцендорф Николаус Людвиг^ граф фон (1700—1760) — немецкий
теолог-протестант, основатель и епископ «религиозного братства».
В,Седельник
СОДЕРЖАНИЕ
По следам сна
По следам сна. Перевод В.Седельника 7
*Трлтчно..л Перевод Е.Факпюровича • 18
^Детство волшебника. Перевод СЛверинцева 28
Краткое жизнеописание. Перевод С.Аверинцева 45
Город. Перевод М.Гугниной 62
Сказка о плетеном стуле. Перевод В.Седельника 67
Европеец. Перевод В.Седельника 70
Эдмунд. Перевод В.Седельника 77
О Степном йолке. Перевод Е.Факторовина 81
Король Ю. Перевод В.Седельника 87
Листки памяти
Когда я был школьником. Перевод С.Апта 95
Вселяясь в новый дом. Перевод С.Лппш 104
Посещение Вильгельма Раабе. Перевод С.Апта 120
рз воспоминаний об Отмаре Шёке. Яеревод С.Лшиа 128
Воспоминания о Гансе. Перевод Ю.Архшюва 136
Воспоминание об Андре Жиде. C.i4/iwa 174
Некролог. Перевод С.Апта 178
Траурный марш. Перевод С.Апта 181
Друг Петер. Перевод С.Апта 188
Одному музыканту. Перевод С.Апта 193
Поздняя проза
Украденный чемодан. Перевод С.Апта 201
Персиковое дерево. Перевод С.Апта 208
На горе Риги. Дневник. Перевод С.Апта 210
Подарок во сне. Перевод С.Апта 219
рписание одной местности. Перевод С.Апта 223
Нищий. Перевод Г.Косарик 232
Прерванный урок. Перевод А.Гугнина 251
Счастье. Перевод С.Апта 265
рднокашник Мартин. Перевод С.Апта 274
Баденские заметки. Перевод Е.Марковин 285
Рождество с двумя детскими историями. Перевод С.Апта 295
478
Письма по кругу
Перевод С.Апта
♦Тайны 305
Ночные игры 316
Всяческая почта 321
рсенние впечатления 327
Энгадинские впечатления 336
Встречи с прошлым 354
О старости 359
Заклинания 361
Пасхальные заметки 375
Письмо «по кругу» из Сильс-Марии 382
Из разных книг
Перевод С.Апта
Первое приключение 395
Соната 399
Музыка 404
Два голоса мелодии жизни 410
Концерт виртуоза 411
Чтение в постели 416
Осмотр картин в Мюнхене 420
Воспоминание*о С. Фишере 425
Воспоминание о лете Клингзора 427
Ответ на анкету 429
Автор — корректору 430
В антракте концерта 435
Неотправленное письмо певице 441
Часы, проведенные за письменным столом 447
Марулле 452
Комментарии. В.Седельник 460
Гессе Г.
Г43 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 7: Пер. с нем./ Со¬
ставители: Н.С. Павлова, В.Д. Седельник; Коммент.
В.Д. Седельника; Художники: М.Б. Квитка, ОЛ. Пу-
стоварова. — М.: АО Изд.группа «Прогресс» — «Ли¬
тера»; Харьков: Фолио, 1995. — 480 с. — (Urbi et
Orbi).
ISBN 5-01004506-0 (т.7)
ISBN 5-7150-0131-5 (т.7)
в седьмой том собрания сочинений Германа Гессе вошли рассказы,
эссе, воспоминания, «письма по кругу».
Литературно-художественное издание
ГЕССЕ Герман
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В восьми томах
Том?
Художественный редактор Б.Ф. Бублик
Технический редактор Е.В. Антонова
Корректор А.В. Максименко
Книга отпечатана на бумаге,
предоставленной фирмой «ИСА»
ИВ № 20104
ЛР № 060775 от 25.02.92.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.03.95.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.печ. 25,2. Уел. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд.л. 27,81.
Тираж 25 ООО экз. (1-й завод 1—8000 экз.). Изд. № 49547. Заказ №5-259
АО Издательская группа «Прогресс»,
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17
«Фолио»,
310002, г.Харьков, ул. Чернышевского, 34
Книжная фабрика им. М.Ф. Фрунзе,
310057, г.Харьков, ул.Донец-Захаржевского, 6/8