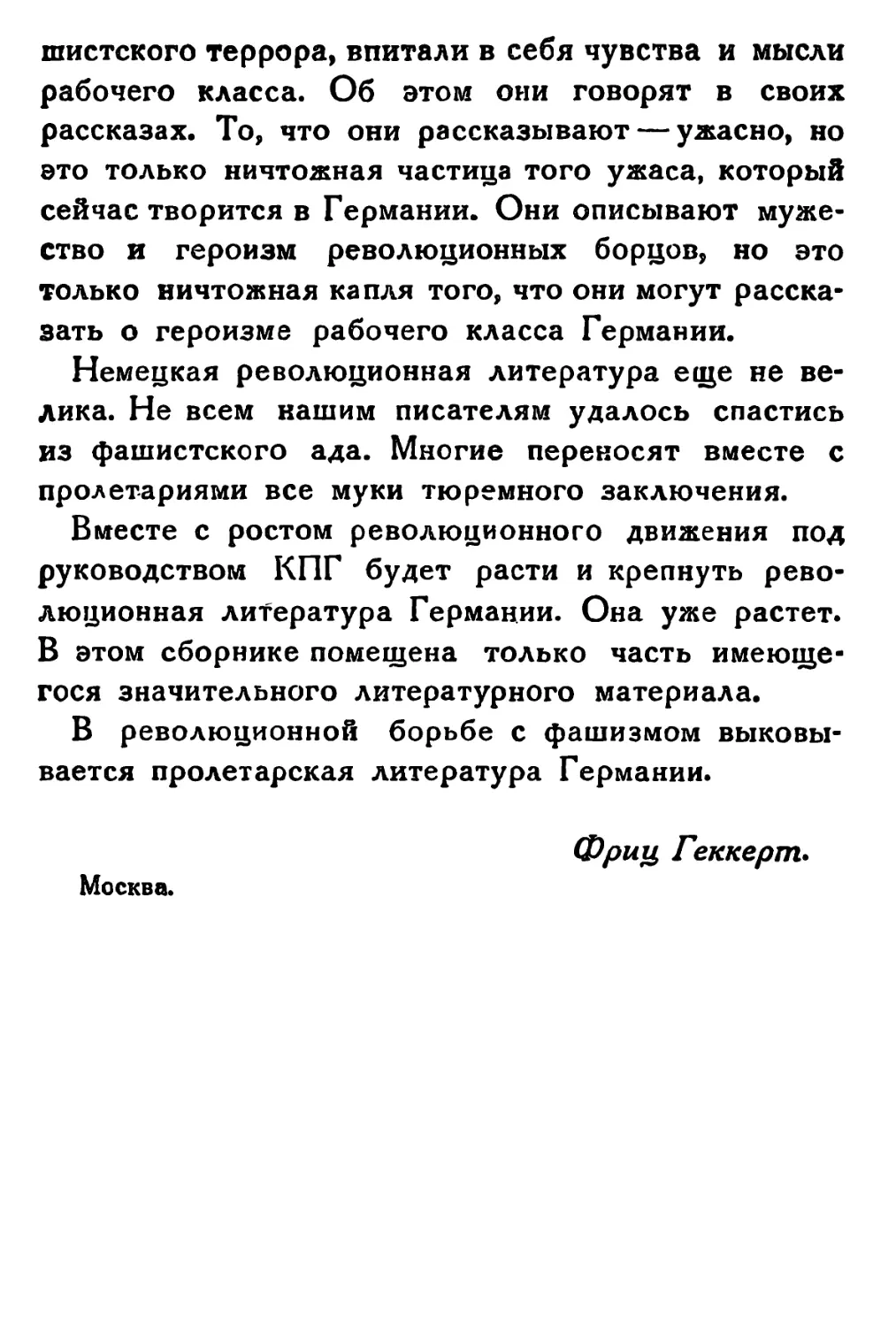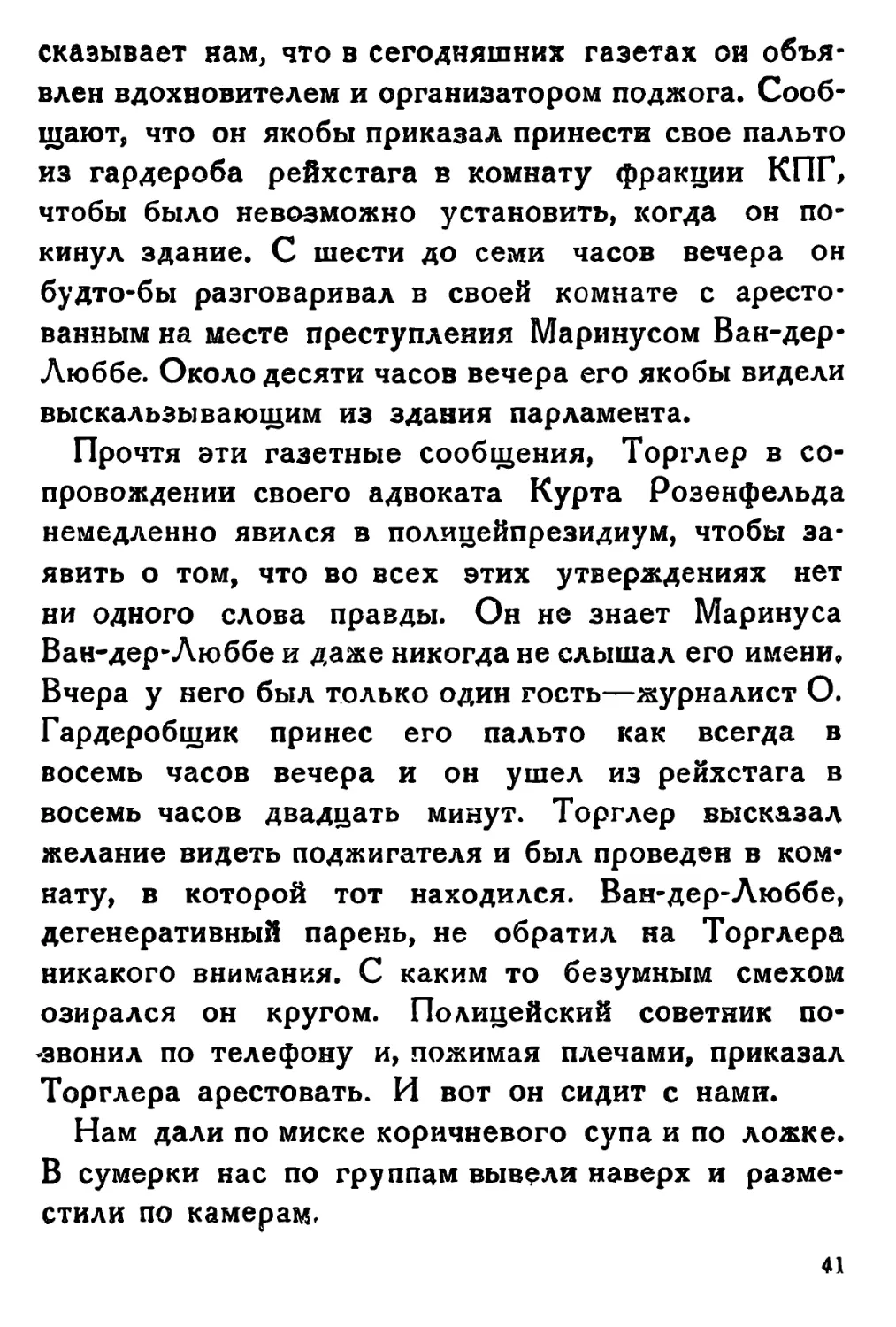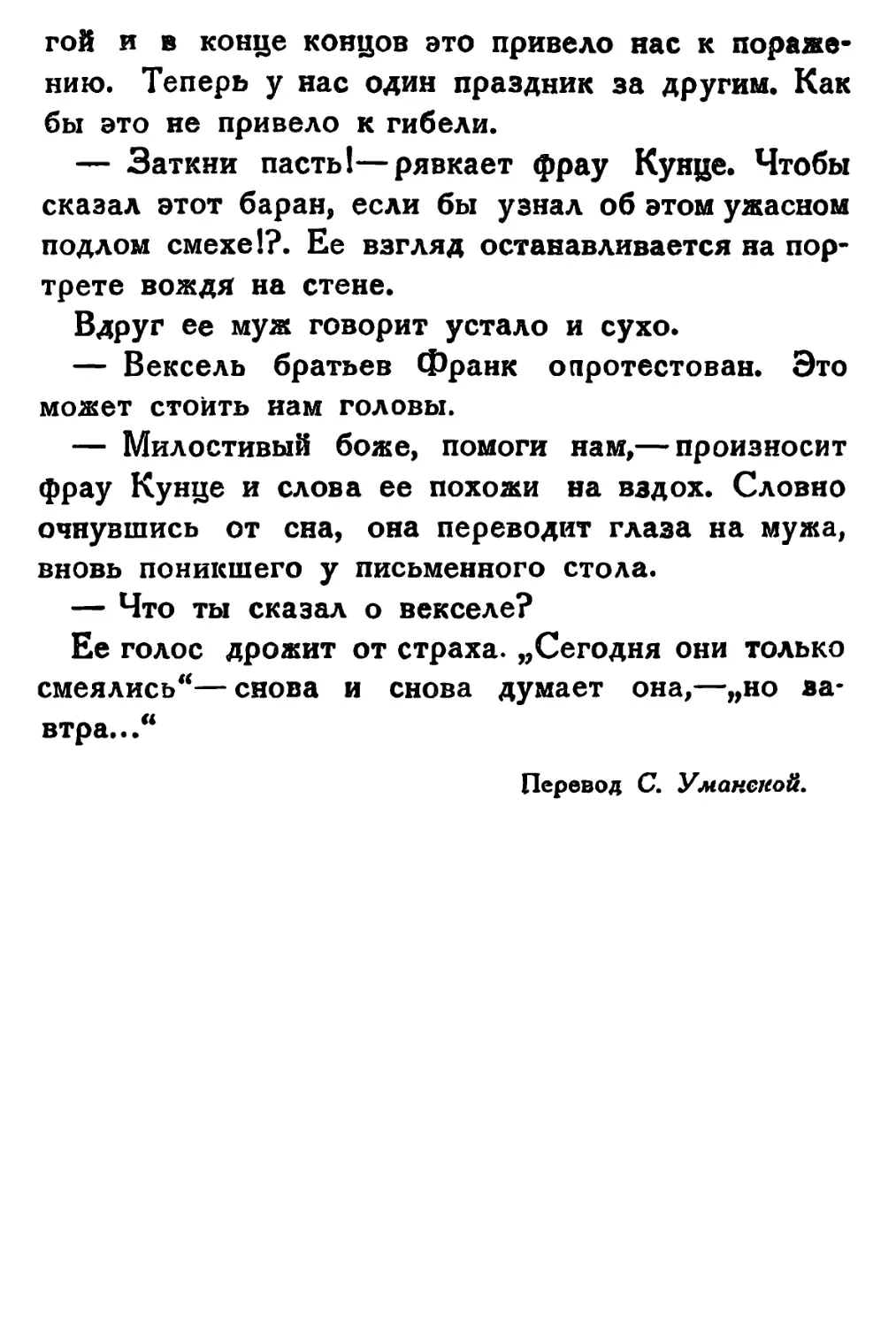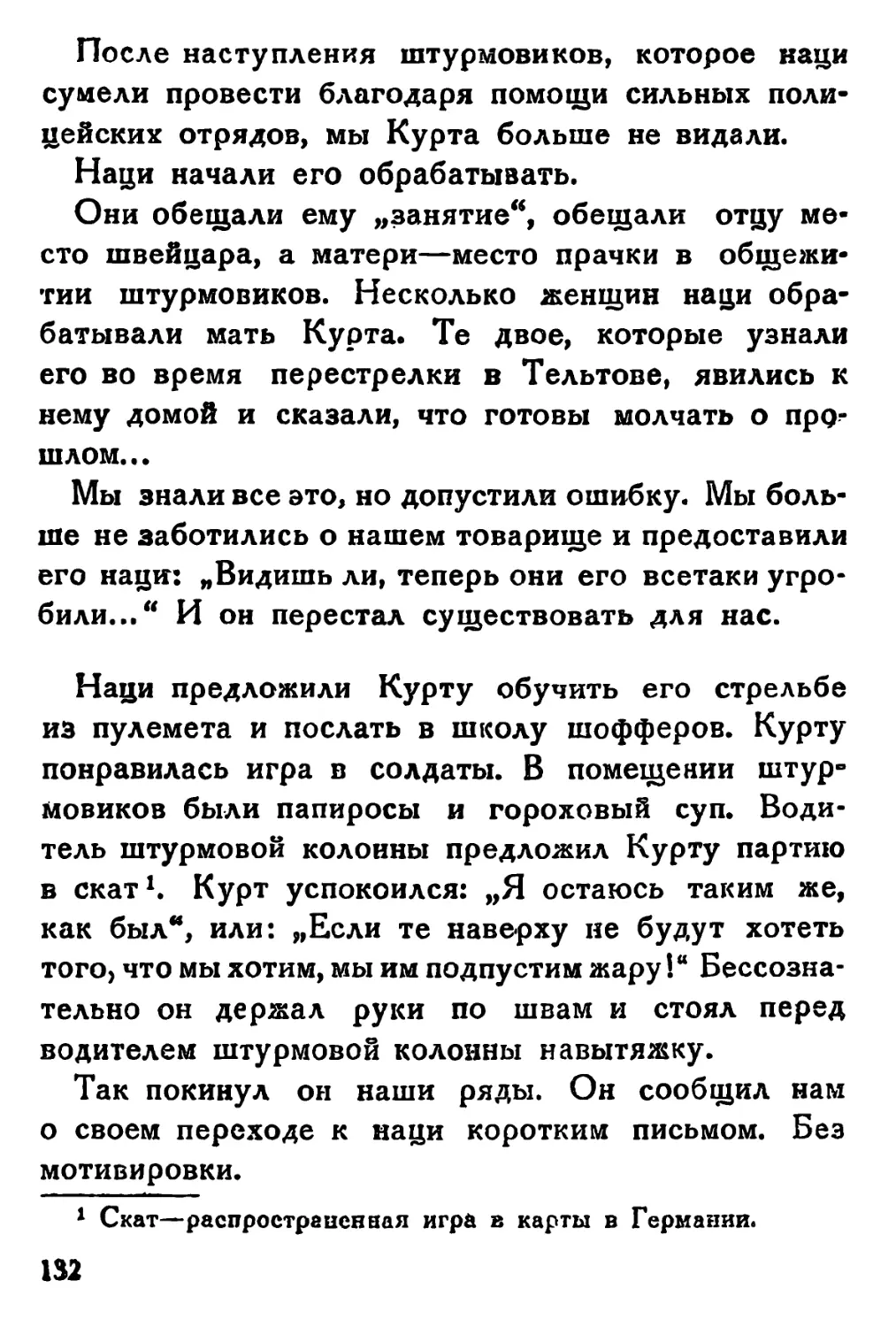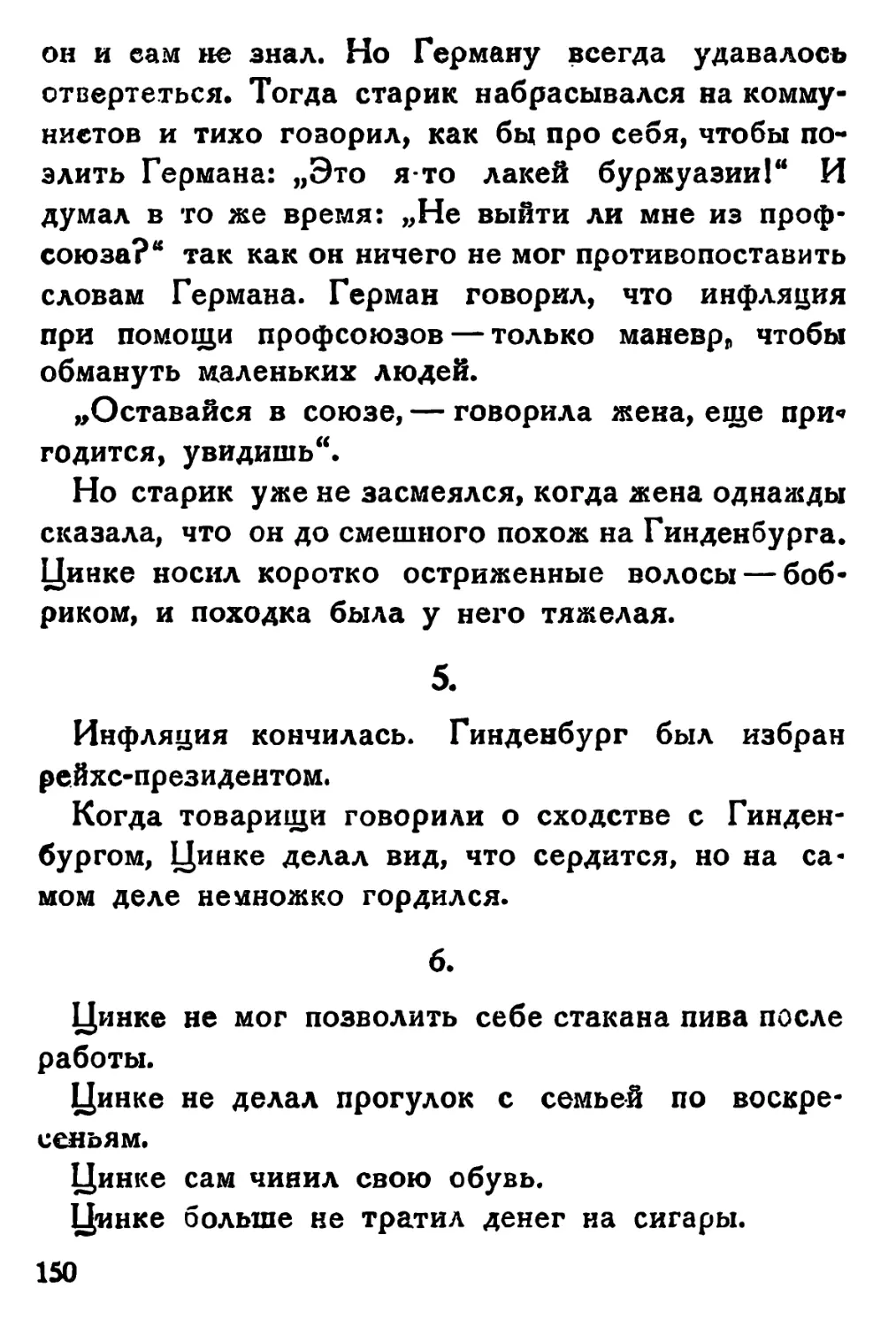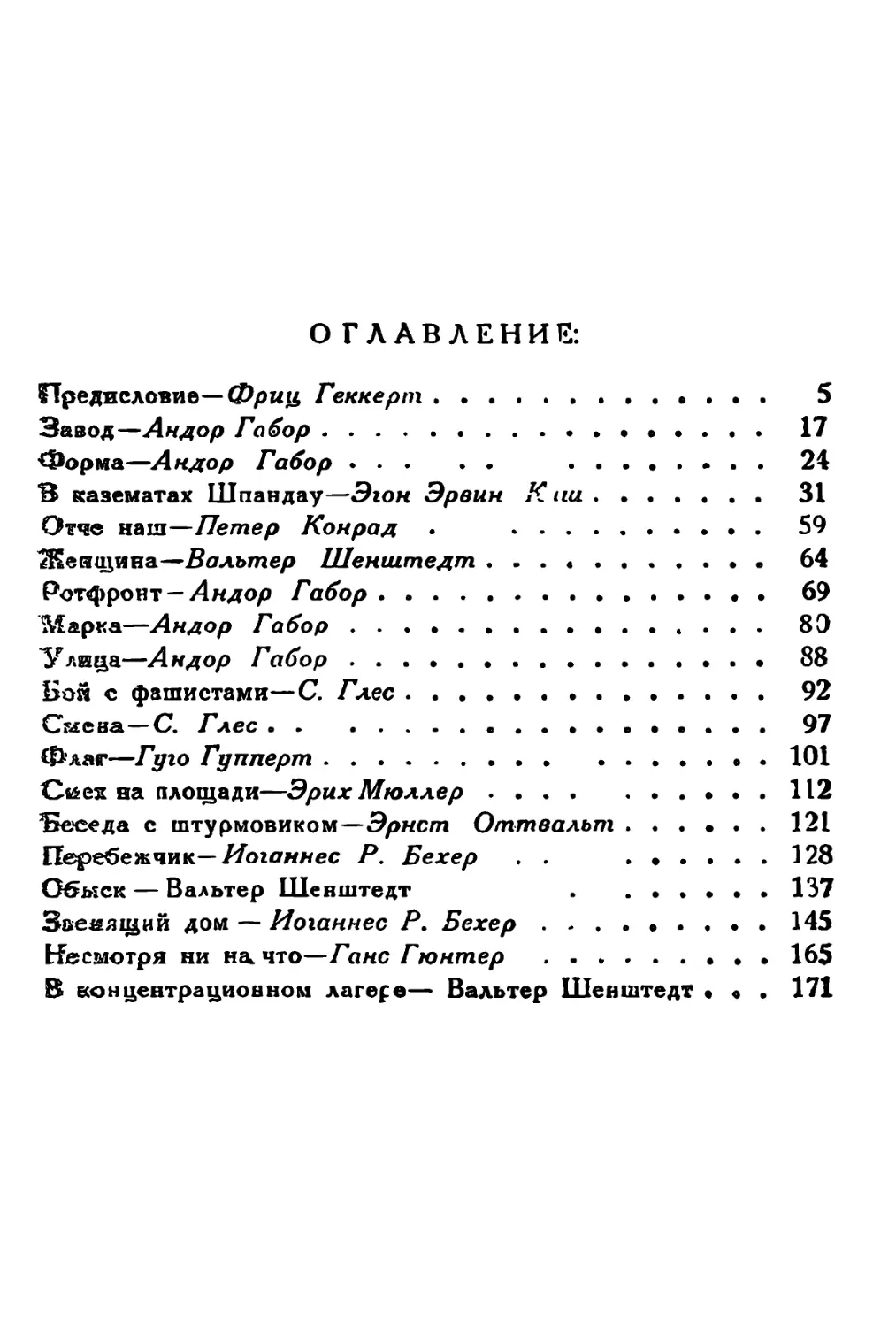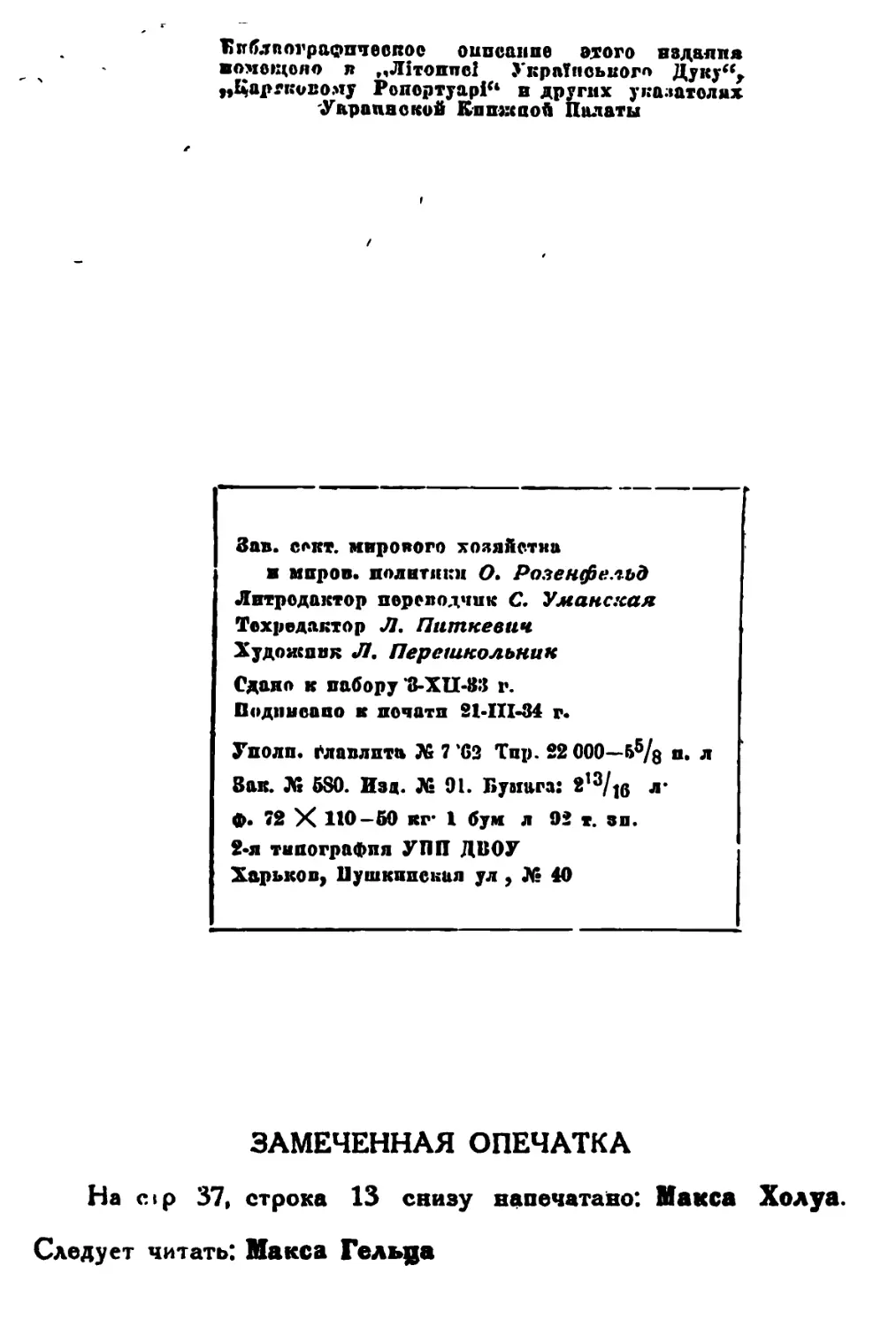Текст
BRIGADE
DEUTSCHER
REVOLUTIONAERER
SGHR1FXSTELLER
FASCHISTISHES
DEUTSCHLAtfD
(SAMMELWERK)
M і t Vorwo r t
von F. HECKERT
UKRAlNISCHER ARBEITER CHARKOV 1934
ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ
БРИГАДА
РЕВОЛЮЦИОННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ
ГЕРМАНИИ
ФАШИСТСКАЯ
ГЕРМАНИЯ
(СБОРНИК)
С предисловием
Ф. ГЕККЕРТА
УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК ХАРЬКОВ 19 34
Настоящий сборник составлен
Международным Объединением рево-
люционных писателей под общей ре-
дакцией ответственного секретаря
МОРИ С. Людкевича.
ПРЕДИСЛОВИЕ
30 января 1933 года возникла „Третья Империя*.
Движимая все обостряющимся кризисом и страхом
перед коммунистической опасностью, буржуазия вру-
чила власть Гитлеру я его партии. Крупная бур-
жуазия рассчитывала, что при новом правительстве
ей будет легче предупредить пролетарскую peso-
люцию, окончательно поработить рабочих и утвер-
дить свое экономическое и политическое господство.
Наконец-то, „виноватому во всех несчастьях мар-
ксизму" был нанесен ,,сокрушительный удар!" На-
чиналась „золотая эра!" Мелкий буржуа, для кото-
рого гнет капиталистической системы стал невыно-
симым, ждал от Гитлера и „Третьей Империи"
спасения от всех своих несчастий и невзгод. Еже-
дневно торжественно праздновалась победа нацио-
нал-социалистической „революции" и „национала
ного возрождения" Германии!
Теперь национал-социализм мог начать строитель-
ство своей новой „культуры*, культуры не зара-
женной „теорией марксизма о классовой борьбе".
Для этого раньше всего надо было укрепить фа-
шистскую власть, т.-е. расправиться со всеми
враждебными фашизму элементами. Началось дикое
преследование коммунистических рабочих. Сотни
тысяч революционных рабочих были брошены в
тюрьмы, многие были убиты- Скоро очередь дошла
и до социал-демократии, а затем и до пацифистов,
либералов и евреев. С криком: „Германия, про-
снись, еврей, погибни!" и „Долой марксизм" —
солдаты „новой Германии" шли в бой за власть.
На уликах и площадях, во всех залах для со-
браний, кабачках и церквях стоял дикий шум. На-
ступило „чудесное время" господства коричневой
формы и кулака.
Вследствие предательской политики социал-демо-
кратической партии, фактически шаг за шагом
отнимавшей у рабочего класса завоеванные им в
1918 г. свободы, раскалывавшей и обессиливавшей
рабочий класс, фашизму удалось придти к власти.
Место „кровавой собаки" Носке занял кровавый
Геринг, место врага революции Эберта занял Гит-
лер, а место социал-демократических бонз заняли на-
ционал социалистические бонзы. Начатое при Эбер-
те массовое убийство рабочих приняло при Гитлере
невероятные размеры. Национал-социалистическому
вождю „Третьей Империи" буржуазия предъявила
то же требование, что и социал-демократическому
вождю Веймарской Республики: избивайте рабочих,
чтобы мы могли лучше эксплоатировать всех тру-
дящихся! В ночь на 30 января 1933 г. Гитлер начал
массовую атаку своих бандитов на рабочих. Рабочих
6
избивали, пытали, убивали. Кто не ждет от Гитлера
спасения — должен быть уничтожен!
Если до сих пор немецкие профессора литерату-
ры могли только описывать пытки, которым во вре-
мена Нерона подвергались христиане, пытки эпохи
испанской инквизиции и немецких колдовских про-
цессов, если орудия пыток, применявшиеся в прош-
лые столетия можно было увидеть только в „ка-
мере ужасов" паноптикума, то теперь „героичес-
кие" буржуазные сынки из германских университе-
тов смогли сами применить эти пытки к безоруж-
ным. При таких благоприятных обстоятельствах
оказалось даже возможным запретить вивисекции
над мышами и крысами. Ведь было совершенно
достаточно „рабочих свиней", над которыми сту-
денты национал - социалистической „культуры и
науки" могли проделывать свои опыты!
В Берлине на Паперштрассе, в концентрационном
лагере Дахау и в многих других, быстро создан-
ных фашистами застенках, рабочие, а также ев-
рейские мелкие буржуа и трудящиеся подвергались
этим неслыханным в истории человечества зверским
пыткам. Многие были замучены на смерть. Тот, кто
не был в состоянии вынести эти пытки, мог быть
„застрелен при попытке к бегству", выброшен из
окна или мог покончить самоубийством. Очень
многих зашивали в мешки и как новорожденных
котят топили в реке.
Та часть штурмовиков, преторианской гвардии
новых властителей, которая не может принять не-
7
посредственного участия в этой работе по „улуч-
шению человечества", занимается бесконечными
обысками, устраивает массовые облавы на улицах
и вокзалах, транспортирует арестованные в кон-
центрационные лагеря и сторожит заключенных
коммунистов и революционных рабочих.
Десятки тысяч рабочих убиты, сотни тысяч —
брошены в тюрьмы. Бесчисленно количество рабо-
чих, прогнанных с работы. Они бродят по боль-
шим дорогам, не имея ни крова, ни пищи. Всю
эту нищету, страдания и террор национал-социали-
сты стараются скрыть. Ни слова об этом не про-
никает в фашистскую и фашизированную печать.
Того, кто пытается приподнять завесу и показать
клочок правды о фашистском аде, немедленно вклю-
чают в армию преследуемых и на годы бросают
в тюрьму.
С утра до ночи радио передает победоносные
песни и речи „вождей"; одно „народное праздне-
ство" следует за другим. На всех домах развева-
ются флаги и на всех улицах кричат: „Слава
Гитлеру", Того, кто вызывает подозрение своим на-
строением, кто словами или выражением лица мо-
жет нарушить праздничную „радость", немедленно
отправляют в концентрационные лагеря»
Всякий раз, когда какой-нибудь фашистский
„вождь" собирается осчастливить своим присут-
ствием „народный праздник", берутся сотни заложни-
ков. Взятие заложников превратилось в систему и
наказание невинных за фашистские провокации
8
стало обыденным явлением. Сотни тысяч заклю-
ченных были в течение трех дней лишены пкщи
за то, что в Берлине на Темпельхоф-Платце „мар-
ксисты" якобы собирались выкопать дуб, посаженный
в честь Гинденбурга.
Из всех театров выгнаны лево настроенные ар-
тисты. То же самое произошло в консерваториях.
В университетах устроили облавы на всех ученых,
не объявивших себя приверженцами Гитлера или
имеющих еврейских родителей. Из больниц изгнали
всех еврейских врачей и врачей-коммунистов, а из
судов — всех не национал-социалистических адво-
катов. Лучшие поэты признаны излишними, так как
их творчество служит „только разложению нацио-
нальной Германии", а не воспевает „чудо и славу"
национал-социалистической „революции". Достиже-
ния, созданные человеческим гением, бесполезны и
вредны для национал-социализма. „Раса и кровь"—
восклицает он — „вот божественные сокровища, на
которых мы строим свою культуру". „Миссия пре-
красного, гордого своей кровью и расой немец-
кого рабочего заключается в том, чтобы приносить
жертвы тому, кто принес столь великое благо не-
мецкому народу".
Министр культуры фашистской Германии — Геб-
бельс—настоящий параноик. Он разъезжает из го-
рода в город и выступает с истерическими речами.
Бургомистры городов и так называемая „образо-
ванная" часть населения устраивают этому господи-
ну бурные овации за то, что он ,,осчастливил" город
9
свое а лучезарной особой. Министр внутренних дел—
Геринг—морфинист, убийца и поджигатель, все по-
мыслы и вся деятельность которого устремлены на
то, чтобы измышлять новые зверства, увеличивать
муки заключенных _и распространять ужас по всей
стране.
„Нельзя так высоко ценить человеческую жизнь
и так гуманно казнить преступников. Им надо
чисто немецким способом рубить головы топо-
ром"—сказал 2 августа этот национал-социали-
стический герой. Таковы и остальные „вожди"
фашистского правительства. Для того, чтобы поги-
бающий капитализм мог продолжать свое суще-
ствование, монополистический капитал напустил на
трудящуюся Германию банду грабителей, убийц и
садистов.
Но эти фашистские „победители" трудящихся
масс сами не верят в то, что с помощью террора
им удастся надолго удержать пролетариат от классо-
вой борьбы. Поэтому они употребляют все усилия,
чтобы сделать немецкие головы неспособными к
,,вредному" мышлению. Они отдали школы попам
и вновь ввели телесное наказание детей. Запре-
щено чтение „разлагающей" литературы. „Разла-
гающей" литературой являются для фашистов не
только марксистские книги, но и произведения
почти всех лучших писателей, философов и поэтов.
На Мюнхенском кладбище сброшен надгробный
камень с могилы великого немецкого философа
Людвига Фейербаха» ибо Фейербах „материалист",
10
Фашистские „идеалисты" выкапывают мертвых и
разрушают памятники немецких мыслителей, чтобы
могилы великих мертвецов не смогли стать опас-
ными „новому национальному духу".
В апреле и мае 1933 г. студенты немецких высших
школ под водительством профессоров и гимназисты
под водительством тевтонских учителей, собирали
в книжных лавках, библиотеках и рабочих квартирах
несоответствующую национал-социалистскому духу
немецкую литературу. На городских площадях
воздвигались костры, на которых сжигалась „кра-
мольная" литература. Вокруг пылающих костров
торжественными шпалерами выстроились профессора
национал - социалистских университетов. Студенты-
фашисты дико и весело плясали, а национальные
барды сопровождали это поистине средневековое
зрелище Геббелевскими „заклинаниями огня".
В театрах трудящиеся не хотят смотреть нацио-
нал социалистическую чепуху, они не хотят чи-
тать книг национал - социалистических писателей.
После захвата власти Гитлером, закрылись 1500 типо-
графий. Все это не смущает фашистов.
По указке монополистического капитала они хо-
тят создать немца, лишенного способности мыслить
и рассуждать, немца, уважающего только шлем
своего начальника и цилиндр своего предприни-
мателя, немца, все счастье которого состоит в
коричневой форме, немца, являющегося покорным
пушечным мясом в новой империалистической бойне
и антисоветской интервенции.
11
Двести лет тому назад в Пруссии жил король,
не выносивший, чтобы кто-нибудь был иного м.не-
ния, чем он. Он бил своих министров костылем по
голове и всех своих подданных называл каналья-
ми. Этот король ругался как ломовой извозчик,
немецкого языка не знал и поэтому презирал всю
немецкую культуру. Самым культурным учрежде-
нием его королевства была казарма. В его школах
преподавали отставные фельдфебеля и унтер-офи-
церы. Объяснялось это тем, что они в тот период
лучше всех изучили науку угнетения человека.
Мыслящая Германия погибала. Лессинг вел жизнь
раба. У крестьян выжимали последнюю копейку.
Фридрих „Великий"—так звали этого короля
Национал-социалисты называют его Фридрихус
Рекс и воспевают его „величие". Теперь, как и
двести лет тому назад, Германия превращается в
прусско-немецкую казарму. Через 20 лет после
смерти этого „идеального" короля, этого божества
национал-социалистов, созданная им Пруссия-казар-
ма была разгромлена гением французской револю-
ции и мечом Наполеона.
Массы не могут долго жить „Фридрихус-Рексом"
и Гитлеровскими идеями. Народное хозяйство Гер-
мании быстро разрушается. После первых же
месяцев власти Гитлера финансовое положение
страны стало катастрофическим. Растет безрабо-
тица, при чем безработные лишаются и без того ни-
чтожных пособий. Резко сокращается зарплата ра-
ботающих.
12
Социальная демагогия национал-социализма ста-
новится все более ясной даже для широких обма-
нутых ими слоев „среднего сословия" (миттель-
штанда), мелкой буржуазии города и села. Кре-
стьяне (бедняки и середняки) видят, что они как и
прежде остаются жертвами помещиков и долговых
обязательств. Мелкие буржуа города чувствуют,
что национал социализм не приносит им избавления,
а ухудшает их положение. Они начинают возму-
щаться. Начались бунты штурмовиков, обманутых
в своих надеждах, используемых только в роли
рабов и цепных собак великих князей немецкой
индустрии и мастеров войны — Тиссена и Круппа.
Рабочий класс Германии, значительная часть кото-
рого была сначала обманута социал-демократами и
запугана „коричневым" террором, собирается под
лозунгами и знаменами коммунистической партии.
Прошедшую ленинскую школу коммунистическую
партию Германии нельзя уничтожить. Герои лейп-
цигского процесса Торглер, Димитров, Попов и Танев
победно пронесли знамя КПГ знамя Коминтерна
через шутовские застенки фашистского судилища.
КПГ живет и борется. Она собирает пролетариев
и всех трудящихся и готовит их к решительному
наступлению на фашизм. Перед „победоносной"
фашистской буржуазией снова возникает призрак
коммунистической опасности. Гитлер отвечает на
это новой волной террора. Его министр Геринг
взывает к топору, который „снесет головы всем,
кто против фашизма*.
13
Социал-демократическая партия угодливо лижет
сапоги Гитлера. Для того, чтобы снр екать милость
этого правительства бандитов, социал-демократи-
ческие депутаты фашистского рейхстага еще 17 мая
выразили доверие Гитлеру и его системе. Несмотря
на все это социал-демократические организации
запрещены. Социал-демократическая партия, остаю-
щаяся и сейчас в Германии главной социальной
опорой буржуазии в рабочем классе, с каждым днем
все больше распадается. Та часть немецких либе-
ралов, которая не примкнула к Гитлеру, трусливо
бежала заграницу, и безмолвствует. Страх перед
пролетарской революцией, которая свергнет Гит-
лера, в этих либералах сильнее, чем страх перед
фашистами. В фашистской Германии существует
только одна, несмотря на весь террор, сила, воз-
главляющая борьбу с фашизмом и эта сила—ком-
мунистическая партия.
Под ее руководством героический германский
пролетариат, во главе всех трудящихся Германии,
полижит конец палаческой „Третьей Империи" и
утвердит знамя пролетарской диктатуры.
Помещенные в этом сборнике небольшие рас-
сказы, очерки десяти немецких революционных пи?
сателей, вводят нас в повседневный быт фашист-
ской Германии (хотя недостатком сборника явля-
ется то, что германская деревня не освещена в нем).
Большинство этих товарищей уже много лет уча-
ствуют в рабочем движении Германии. Они были свя-
заны по работе, вместе пережили все ужасы фа-
14
шистского террора, впитали в себя чувства и мысли
рабочего класса. Об этом они говорят в своих
рассказах. То, что они рассказывают — ужасно, но
это только ничтожная частица того ужаса, который
сейчас творится в Германии. Они описывают муже-
ство и героизм революционных борцов, но это
только ничтожная капля того, что они могут расска-
зать о героизме рабочего класса Германии.
Немецкая революционная литература еще не ве-
лика. Не всем нашим писателям удалось спастись
из фашистского ада. Многие перекосят вместе с
пролетариями все муки тюремного заключения.
Вместе с ростом революционного движения под
руководством КПГ будет расти и крепнуть рево-
люционная литература Германии. Она уже растет.
В этом сборнике помещена только часть имеюще-
гося значительного литературного материала.
В революционной борьбе с фашизмом выковы-
вается пролетарская литература Германии.
Москва.
Фриц Геккерт.
Андор Габор
ЗАВОД
В понедельник горел рейхстаг.
На четверг в 5 часов назначено заседание ячейки.
Товарищи приходят с опозданием.
— Почему так поздно, товарищи?
Все дают одинаковый ответ:
— После окончания работ, в цехах и коридорах
были дискуссии.
Наше производство—большой специальный завод
для изготовления медицинских электрических аппа-
ратов. В нем много очень дорогих и сложных ма-
шин. Наши рабочие в большинстве высококвали-
фицированные специалисты» Только в одном отде-
лении работают женщины и девушки, не имеющие
специальной квалификации.
На заводе мы и сильны, и слабы одновременно.
На последних выборах, когда работал еще почти
весь завод, красный список получил большинство
голосов. Были выбраны три красных члена завод-
ского комитета, один социал-демократ, один жел-
тый и один каци \ Председателем заводского коми-
1 Наци—национал-социалист.
17
тета стал один из красных представителей, а так
как социал-демократ, желтый и наци никак не мо-
гли столковаться о втором председателе, то и этот
пост был занят красным.
Через несколько дней заболел и выбыл третий
красный член завкома. Дирекция и образовавшееся,
таким образом, в заводском комитете большинство
воспротивилось избранию нового члена завкома на
место выбывшего. Вследствие этого получилось,
что двое красных стоят во. главе состава завкома,
где они в меньшинстве. Социал-демократ в завод-
ском комитете ни разу не согласился с мнением
коммунистов. Вместе с желтым и наци он создал
своего рода блок, покорный всем приказам и рас-
поряжениям дирекции.
На мой вопрос, почему даже в дни больших успе-
хов нашей тактики единого фронта не удалось пере-
убедить социал-демократа, товарищи мне ответили:
— С этим парнем ничего не сделаешь!
— Почему?
— Эго особый случай. Раньше он был не рабо-
чим, а учителем. Он изучил ремесло только после
того, как отчаялся получить место учителя; На за-
воде он работает поневоле, и его дядя, старый
профсоюзный бонза (чиновник), обещал ему место
бухгалтера в потребительском обществе. Поэтому
он не хочет портить отношений с дядей и горой
стоит за дирекцию,
— Ну, а социал-демократические рабочие на заво-
де?Развесреди них вы тоже ничего не можете сделать?
18
— Нет. Нас только двое и когда мы идем в цеха,
желтый и наци следуют за нами по пятам. Как
только мы заговариваем с рабочими, они обращают
на это внимание мастера и тот записывает имена
разговаривающих с нами рабочих. Потом им говорят:
— Господин такой-то, у вас высчитывается
столько-то, потому что вы занимались посторонними
делами в рабочее время.
— Эго неправда,—отвечает рабочий.—Я говорил
с заводским представителем о моих рабочих делах.
Я имею на это полное право.
— Мы хорошо осведомлены о вашем разговоре
и можем представить свидетелей. Это был поли-
тический разговор, а за это наша фирма не платит.
Помните, что вы получили предупреждение. Если
это повторится—вы будете уволены.
Наци и желтый всегда являются свидетелями
того, что наши разговоры с рабочими носят поли-
тический характер, даже в тех случаях, когда они
касаются исключительно заводских дел.
Так информировали меня товарищи о положении
на заводе.
Ячейка имеет семь членов, а красный профсоюз —
восемнадцать. В сравнении с количеством занятых
на производстве рабочих (около четырехсот чело-
век)— это весьма скромные цифры.
Политический руководитель (являющийся и пред-
седателем заводского комитета) сообщает:
— Настроение на заводах благоприятное. Никто
не верит, что рейхстаг подожгли коммунисты.
19
— И наци їоже? Ведь у вас среди рабочих есть
наци, раз они выбрали националистического пред-
ставителя?
— Сегодня наци молчат. Они видят, что несмотря
на весь шум, люди не поддаются на эту ложь.
— Что говорят рабочие?
— Разное. От некоторых беспартийных мы слы-
шали следующее: „Это выборный трюк, устроен-
ный для того, чтобы 5 марта не голосовали за
коммунистов. Геббельс очевидно считает нас ма-
ленькими детьми, если пускается на такие глу-
пости" о Все старые социал-демократы говорят:
„После покушения Нобили, старый Бисмарк сделал
нас убийцами и поджигателями. После этого он
выдумал закон о социалистах. Повидимому наци
хотят запретить КПГ",
— Знают ли рабочие, кто поджег рейхстаг?
— Все знают. Рассказывают, что 33-ий штурмо-
вой отряд, знаешь, та банда разбойников, которой
руководил Хорст-Вессель, получил распоряжение
поджечь рейхстаг лично от Геринга. Днем и ночью
шлялись они через туннель из Дворца Геринга в
зал заседания с керосином, бензином и тряпками.
— Что говорят об этом разоблачении наци?
— Они делают вид, что ничего не слышат.
— Что думают рабочие о Ван-дер-Люббе?
— Сначала они совсем не верили истории о
преступнике, арестованном с паспортом и партийным
билетом. Но когда в газетах появился его портрет,
всюду раздавался вопрос: „Что негодяй получил
20
sa это?* Теперь они смеются над ним, так как кто-
то сказал: „Даже полицейский отчет говорит о том,
что этого парня арестовали без пиджака и рубашки.
Очевидно, он вытатуировал партбилет на своей
заднице. Как же иначе его могли бы найти на
нем?"
— Что вы сделали, товарищи?
— Мы переходили от группы к группе и со
всеми беседовали.
— Сегодня это было возможно?
— Да. Завод похож на встревоженный улей.
Даже мастера растерялись, они еще не знают на
что им ориентироваться. Ведь большинство из них
социал-демократы* У нас было заседание завод-
ского комитета, которое назначило общее собрание
рабочих на послезавтра после окончания работ.
Тема—единый фронт.
— Почему это теперь возможно, товарищи?
— Потому что настроение подходящее.
— Как вел себя социал-демократический пред-
ставитель?
— Впервые в жизни он согласился с нами.
— Откуда эта перемена?
— На заводе говорят, что профсоюзам и потре-
бительским обществам скоро наступит конец. Наци
хотят все забрать в свои руки. Дело с местом
бухгалтера, пожалуй, не выгорит.
— Как голосовал желтый?
— Воздержался.
— А наци?
21
— Он не принимал участия в заседании,»
— Вы предариняли еще что-нибудь?
— Да. Мы дали знать уличной ячейке, чтобы
она завтра утром принесла к заводу листовки...
— Осторожно! Их теперь нельзя раздавать на
улице.
— Знаем. Во время перерыва мы выйдем на
улицу и пронесем их в завод под нашими рабочими
блузами. Листовки будут иметь большой спрос,
можешь быть в этом уверен.
Подходят два товарища и молча, в знак привет-
ствия, кладут на стол кулаки. Они из уличной
ячейки и хотят обсудить текст, доставку и транс-
порт листовок. Это поручено им, потому что у них
имеется шапирограф, которого наша ячейка не
имеет.
Вчетвером мы уходим в угол. Наши головы
невольно сближаются, слова произносятся полу-
шепотом.
Я спрашиваю.
— Товарищи, это удастся?
Они отвечают тихо и уверенно:
— Да, удастся.
Мы покидаем кабачок. Наискось, на расстоянии
ста шагов находится пивная национал-социалистов.
В окне выставлен огромный портрет Гитлера По
обеим сторонам двери стоят часовыз в коричневых
рубашках. Их карабины и примкнутые штыки свер-
кают в свете уличного фонаря ослепительным бле-
ском. Около пивной стоят велосипеды и мотоциклы.
22
— Это ново—говорит мой спутник.—Карабины
с примкнутыми штыками. Слишком много мотоцик-
лов: они что-то замышляют.
Ночью вся улица была окружена и „очищена".
Но в пятницу утром листовки были розданы.
Перевод С. У майской.
Андор Габор
ФОРМА
В типографии неспокойно. В воздухе чувствуется
что-то тревожное, но никто толком к© знает, что
происходит. Последние недели были исключительно
богаты событиями. Два раза дело чуть не дсшло
до забастовки. В день захвата власти Гитлером,
слухи переходили из цеха в цех;
— Всеобщая забастовка!
— Кто ее объявляет?
— Коммунисты.
— А мы?
— Мы тоже присоединимся. Союз уже обсу-
ждает этот вопрос. Как только нам позвонят по
телефону—дело начнется*
Но все ограничилось „обсуждением". Призыва
к забастовке не последовало. Вместо него полились
уклончивые речи:
„Момент наивысшей опасности еще не наступил,..
Гитлеру придется уйти, за ним не стоит большин-
ство... Если он вынужден вступить в коалицию с
другими партиями, то это еще не фашизм... Нацио-
налистам придется вести себя прилично. „и
24
И все в том же роде: бессмысленная болтовня,
цель которой заключалась в том, чтобы охладить
бурное настроение рабочих. Затем пришло изве-
стие, что Гитлер готовит выборы. Маленькие бонзы
в типографии облегченно вздохнули:
— Вот как! Он допускает выборы? Значит он
остается в рамках легальности! Что это болтают
коммунисты о фашизме а 1а Муссолини? Германия
не Италия. Здесь Гитлер не может себе всего по-
зволить!
Забастовочное настроение потонуло в волне вы-
борной пропаганды. Оно вспыхнуло еще раз, после
пожара рейхстага. Из уст в уста передавалась
новость, что в поджоге обвиняются не только
коммунисты, но и социал-демократы. Ван-дер-Люб-
бе ^показал", что он имел связь с „некиими социал-
демократическими кругами*. На всякий случай
вся социал-демократическая пресса была запре-
щена,
— Что-то должно случиться! Дальше так про-
должаться не может! Они погубят всех!
Но социал-демократические представители завод-
ского комитета были так напуганы, что боялись
даже разговаривать с красными.
— Невозможно, товарищи! Наци следят за нами
как сумасшедшие. Каждый наш шаг находится
под строжайшим контролем. Если мы объявим за-
бастовку—это не вызовет никакого сочувствия,
а будет выглядеть так, как будто,мы, действительно,
хотим поддержать поджигателей.
25
Забастовка снова не была объявлена и рабочие
становились все более угрюмыми и раздражитель-
ными. Сначала они еще пытались обращаться к со-
циал • демократическим представителям заводского
комитета:
— Чего вы, собственно, хотите? С коммунистами
итти мы, по вашему, не должны, а сами вы ни-
чего не предпринимаете. Нас просто медленно за-
душат I
Потом были распущены красные заводские ко-
митеты и „вычищены** два социал-демократа.
Это были дни бесконечных доносов, дни, когда
каждый с трепетом ждал увольнения и цеплялся
за кусок хлеба. Национал - социалисты, которые
до сих пор не имели твердой опоры в типографии
и держались довольно тил о, начали чувствовать
себя хозяевами, громко дискуссировать и издевать-
ся над „марксистами". Это были скверные дни:
душные, придавленные и мучительные.
Дважды в типографию проникали коммунисти-
ческие листовки. Первый раз это был призыв
уличной ячейки не терпеть больше террора, во
второй раз это была газета ячейки завода. Газета
призывала противопоставить фашизму единый бое-
вой рабочий фронт. Листовки были разбросаны в
раздевалке, по подоконнику уборной, на рабочих
столах и машинах. Скоро наци их заметили и по
спешно собрали. Во всех углах кричали:
— Тот, кто еще где-нибудь видел листовки, дол-
жен явиться в контору.
26
Ко никто в контору не явился.
После окончания работ некоторые „подозритель-
ные" рабочие были обысканы. Их раздели и даже
исследовали подошвы их сапог, но ничего не нашли.
На следующий день у входных ворот было вы-
вешено сообщение, что „в цехах, в которых найдут
листовки, будет без всякого расследования уволен
каждый десятый". Это снова взвинтило настроение
рабочих.
В это утро в типографию явился национал со-
циалист Бернгард Мидтке. Оя был в форме штур»
мовика и это вызвало сильное волнение. Собственно
говоря, это было маловажное событие, гораздо ме-
нее значительное, чем все то, что происходило в
течение последних недель, но тем не менее оно
оказалось последней каплей, переполнившей чашу.
Мидтке — посредник между конторой и цехами.
В большом портфеле он приносит заказы заведую-
щим цехами. В течение утра он появляется в на-
борной, линотипной, у ротационных машин. В это
утро на нем была коричневая рубашка, кушак с
фашистской пряжкой, ремни и коричневая фуражка
на голове.
Мидтке поздоровался по военному и только один
мастер решился ему заметить: „Господин Мидтке,
я боюсь, что форма здесь неуместна. Коллеги не
любят, когда здесь находится кто-нибудь с покры-
той головой.. *л
— Фуражка полагается по форме, —- ответил
Мидтке и опять отдал честь.
Газета должна была быть выпущена на улицу в
два часа. Передовица готова в последнюю минуту.
Короткая рукопись режется на четыре части и
набирается одновременно четырьмя наборщиками,
У двоих из них свинец оказывается недостаточно
горячим и происходит заминкао Все остальные
формы уже вылиты и укреплены на валах. В ма-
шинном зале ждут только первую страницу с пере-
довой. Она появляется с запозданием и с сопрово-
дительной запиской:
„Мидтке бегает по типографии в форме штурмо-
вика".
На валах укрепляют последнюю форму, вклю-
чают ток. Вал ротационки начинает бег и машина
выплевывает 5000 экземпляров. Вдруг бумага рвет-
ся. Заведующий цехом бежит к машинному ма-
стеру. Тот пожимает плечами:
— Это случается.
— Ведь мы уже и так запаздываем!
— Может быть бумажный ролик не в порядке.
Снова закладывают бумагу и пускают машину.
После 7000 экземпляров, бумага снова рвется...
Заведующий цехом бежит к машинному мастеру
и просовывает голову в машину, но ничего там не
видит. Раздосадованный, он поднимается и вдруг
замечает на полуметровой полосе, лежащей под
оборванной бумагой, сделанную сииигз караадашем
яадпись:
^Господин Мидтке должен снять свою форму".
Заведующей цехом смотрит кругом, встречается
18
глазами с мнимо-равнодушными взглядами рабочих
и, как ужаленный тарантулом, выскакивает из зала.
В конторе уже имеются сообщения из других
цехов. Корректора докладывают, что половина фраз
никуда не годится. Остается только удивляться,
как могли первоклассные наборщики допустить
такие ошибки. В линотипной вдруг появляются
совершенно неудобочитаемые матрицы; приходит-
ся их выбрасывать и начинать работу сначала.
А теперь еще история с бумагой в ротационной
машине!
Половина второго; газета не появится на улице
и в три часа!
В конторе одна за другой появляются найденные
в разных цехах записки:
„Бернгард Мидтке должен снять свою форму".
Порхают стремительные фразы:
— Саботаж! Уволить зачинщиков!
— Что эго за своеволие? Сломить его!
— Ради бога!—говорит начальник экспедиции.—
Послеобеденный листок должен выйти. Каждые чет-
верть часа стоят нам по меньшей мере 10000 марок.
Запросите ротзционный зал, может быть бумага
уже в порядке?
Ответ из зала:
— Да, второй разрыв исправлен. Есть уже
следующие 14000 экземпляров, но третий разрыв..о
Заместитель директора, назначенный три недели
тону назад, национал-социалист, посылает за Мидтке.
~ Бернгард Мидтке* в* гаы знаете, я сам со-
39
стою в партии... типография кажется все еще не
очищена от вредных элементов... Мы вышвырнем
этих людей... Но сейчас, снимите фуражку, кушак
и ремни, наденьте ваше рабочее платье и появи-
тесь в нем в цехах... Только, пожалуйста, скорее...
Господин Мвдтке пробует сначала возражать,
но затем идет в раздевалку и через пять минут
появляется в цехах в обычном рабочем платье.
Перевод С. Уманской.
Эгон Эрвин Киш
В КАЗЕМАТАХ ШПАНДАУ
I. Рейхстаг горит
Вечером горел рейхстаг, а утром следующего дня:
я был арестован.
Ночью радио сообщало: ИС 9 ч. 20 м. здание
рейхстага объято пламенем. До сих пор обнаружены
36 очагов пожара, находящихся в совершенно
разных частях здания. Нет сомнения в том, что
совершен поджог. Полиция видела убегающих лю-
дей с факелами и открыла по ним огонь, но пре-
ступники успели скрыться".
Услышав это, мы только пожали плечами. В
политических кругах уже несколько дней велась
дискуссия на тему: какова будет очередная про-
вокация перед днем выборов, необходимая для
того, чтобы иметь повод немедленно принять на-
сильственные меры против коммунистической пар-
тии. Насильственные мероприятия были для нацио-
нал-социалистов абсолютной необходимостью, во-
просом—быть или не быть.
Говорили, что предполагается инсценировка напа-
дения на Гитлера, но Гитлер опасается самоволь-
31
ного повторения этого акта. Кроме того подобное
предприятие было бы слишком рабской копией
итальянского образца. Что же предпримут национал-
социалисты? Метательный снаряд?,. Железно-дорож-
ное покушение?
Радио ответило на этот вопрос: „С 9 ч. 20 м.
здание рейхстага объято пламенем6*...
Начнутся ли уже сегодня ночью, или завтра
утром запрещение партии, аресты, нападения? Нет,
думало большинство, эти господа не будут так
глупы и не покажут, что они основательно подго-
товлены к этому неожиданному событию. Я пошел
домой. Это была ночь с предпоследнего на пос-
ледний день февраля.
В комнату на улице Мотц я переехал 4 недели
тому назад, как-раз в тот день, когда Гинденбург
передал господину Гитлеру власть над Германией»
тот самый Гинденбург, которого несколько месяцев
тому назад социал-демократы при помощи неслы-
ханной агитации выставляли достойнейшим „респу-
бликанским" кандидатом в президенты.
20 февраля я должен был выступать в Фарусзале
в Веддинге с докладом о Китае, Японии и совет-
ской Средней Азии. Перед зданием, в котором было
собрание, стояли три огромных полицейских гру-
зовика; вход, двор, зал были полны шупо1. Они обы-
скивали каждого входящего (даже женщин), ища ору-
жия. Когда я вошел в зал, ко мне подошел один из
1 Шупо - полицейский.
32
устроителей вечера и шепнул, что собрание раз-
решено только под тем условием, что я не буду
выступать. Полицейский комиссар уже несколько
раз настойчиво осведомлялся — пришел ли я.
По требованию председателя публика приняла
спокойно сообщение, что мне запрещено выступать.
Вместо меня говорил председатель „Общества
Мира" Кюстер. Едва он успел сказать несколько
слов, как комиссар объявил собрание закрытым. В
тот же миг шупо сомкнутыми рядами двинулись
вперед и начали бить присутствующих резиновыми
дубинками.
Женщины подняли крик, группа слепых инва-
лидов войны, не предупрежденная, что в зале
полицейские, не знала в каком направлении нахо-
дится выход и с поднятыми руками бросилась
навстречу полиции. Началась невероятная паника.
Через четыре дня я получил первый приказ:
ввиду антигосударственного поведения, в течение^
14 дней покинуть Пруссию. Приказ о выселении
был датирован 12 февраля, так что имел двенадцати-
дневную давность.
Во вторник 28 февраля, на следующий день после
пожара рейхстага, в 5 ч. утра позвонили у входной
двери моей квартиры. Я слышал голос моей хозяй-
ки, спрашивавшей: кто там? Она открыла, кто-то
спросил, дома ли я и имеет ли моя комната другой
выход... Сейчас же вслед за этим хозяйка постучала
в мою дверь: „Г-н Киш, пожалуйста, откройте". Я
открыл и в комнату ворвался полицейский:
S3
-— Уголовная полиция 1 Руки вверх!
Я показал, что у меня в руках ничего нет; в
комнату вошел второй полицейский.
— Мы имеем приказ доставить кас в полицей-
президиум.
— Пожалуйста, садитесь, господа, Я сейчас
оденусь.
— У вас есть оружие?
Я отвечаю отрицателько. Они осматривают мой
ночной столик, мои платья. Оружия нет.
Могу я умыться? Да, я могу умыться, могу даже
сходить в уборную, но в присутствии посторон-
него. Пока я одеваюсь, гости (один из них секре-
тарь, другой — инспектор уголовной полиции) спра-
шивают меня, когда я сегодня пришел домой.
— Кажется это было в двенадцать с половиной
ночи.
— Гм. Где же вы были?
— Здесь, в Западной части, К пожару рейхстага
я не имею никакого отношения.
— Откуда вы знаете о пожаре? Вы, очевидно,
ждали нашего посещения?
Им ясно, что в моем лице они нашли поджига-
теля. С огромным рвением кидаются они обыски-
вать мои вещи.
Их внимание привлекает одна из моих книг,
— Какой зто язык?
— Голландский—отвечаю я.
— Так! Голландский? У вас большая связь с
Голландией?
34
— Не особенно большая* А что?
— Что это за книга?
— Это моя книга. Переводчик дал мне ее не-
сколько дней тому назад..
— Вы знаете его имя?
— Не помню. Он представился мне в кафе.
Полицейским не приходит в голову посмотреть в
книге имя переводчика. Впрочем, я не знаю, по-
чему их это интересует. Они забирают с собой
несколько записей и газетных вырезок.
— У меня нет денег. Могу я одолжить их у хо-
зяйки?
Могу. Хозяйка дает мне пять марок, (В полицей-
президиуме это свелось к кулю, так как из денег,
отнимаемых там у арестованных, удерживаются
семь марок шестьдесят пфенигов за расходы по
его аресту. Только если имеешь больше семи ма-
рок шестидесяти пфенигов, можно из остатка
купить себе папирос или улучшить питание).
— Имеете вы намерение бежать или сопроти-
вляться?—спрашивают мои „гости".
— Нет, не имею.
— Мы принимаем это к сведению. Собственно
говоря, мы должны были бы надеть вам наручники.
Мы идем к станции метрополитэна на площади
Виктории-Луизы. На площади рабочий раздает
листовки: „Поджог рейхстага — работало заказу.
Провокаторы на работе".
Мои спутники переглядываются. Должны ли они
арестовать рабочего? После секундного размыш-
35
ления старший отрицательно кивает младшему.
В конце концов их задача заключается только в
том, чтобы доставить меня в полицейпрезидиум.
Зачем же подвергать риску выполнение этого яс
ного задания?
Мы едем по подземке до Александрплатца. Мне
не разрешают купить газеты, но со всех сторон я
читаю крупные заголовки газет: »Поджигатель—
голландский коммунист". „При нем был найден его
партийный билет". „Арестован без рубашки и са-
пог".
Удивительно! Неужели, они предполагают, что
кто нибудь поверит тому, что идя на политиче-
ский акт, человек держит при себе бумагу, которая
выдает не только его имя, но и движение, для
которого он работает?
Ясно, что гигантское здание рейхстага могла
поджечь только целая групаа людей. Но сегодня в
газетах нет ничего из того, что вчера выдало ра-
дио; ничего о бегущей колонне факельщиков, в
которых стрелял шупо; преступник был арестован,
вероятно, слишком поторопившимся неопытным ча-
совым.
Были ли на нем коричневая рубашка и высокие
шнурованные сапоги штурмовиков, может быть он
из штурмового отряда Хорста - Весселя, знамени-
той группы провокаторов? Нет,— он был без ру-
башки и сапог. По газетам, на нем не было ничегг,
ничего, кроме штанов и членского билета коммуни-
стической партии.
36
А я? Я его сообщник и меня ведут в столицей-
президиум на Александрплатце, огромное здание
которого сегодня окружает кордон часовых с кара-
бинами и револьверами.
Преступник — голландец! Теперь я понимаю, по-
чему моя книга на голландском языке заслужила
такое внимание.
IL Пленники фашизма
Мои спутники ведут меня в канцелярию уго
ловной полиции. Надо составить протокол: „Без
есяких инцидентов был произведен обыск... кон-
фискован ряд подозрительных материалов и пи-
сем... и
После этого за дело принимается политическая
полиция. В ее коридорах черно от людей. Первый,
кого я замечаю издали, это адвокат доктор Апфель,
защитник Макса Холуа.
Хорошо, думаю я, хорошо, что он здесь, он смо-
жет сейчас же взять на себя защиту моих прав. —
Алло, господин Апфель, я арестован.
— Я тоже — говорит он.
Я уже вижу других: Карла Оссиетцкого, главного
редактора „Вельт-бюне", романистов Людвига Ренна
и Курта Клебера, Германа Дункера, издателя соци-
алистических классиков, Феликса Халле, члена выс-
шей судебной инстанции, доктора Ходанна, иссле-
дователя половой проблемы, Лемана-Руссбюльдта,
разоблачителя кровавого интернационала магнатов
военной промышленности и борца за человеческие
37
права, доктора Шминке, социалистического город-
ского врача, врачей Клаубера и Бснхейма, депутата
Гашке, заботящегося после смерти Манцеля о по-
литических арестованных Германии, депутата Шуль-
ца, над речью которого по радио (Ргдиопутч) смея-
лась вся Германия, вождя союза прокладчиков
труб Нидеркирхнера, депутата ландтага Каспера,
руководителя „Новой России" Эриха Барона, Валь-
тера Штокера, колониальные речи которого в не-
мецком рейхстаге привели в бешенство англичай...
и много, много других.
Мои спутники сдали меня политической полиции
под расписку. Скамейки по обеим сторонам кори-
дора заняты. Все друг друга знают и когда по-
лиция вталкивает новичка, его все приветствуют.
Сначала я не понял, почему многие были так блед-
ны и измучены, я еще ке знал тогда, какие насилия
применялись при некоторых арестах, как громи-
лись некоторые квартиры. Позже я собственными
глазами увидел ту зверскую жестокость, с которой
национал-социалисты обращались с безоружными
заключенными.
Полицейские, отделяющие нас от остальной части
коридора—молодые парни с значками вспомогатель-
ной полиции на ручной перевязи. Они еще не при-
выкли к своей службе и стараются под маской гру-
бости и жестокости скрыть свою растерянность. Они
отпускают иронические замечания и когда приказы-
вают кому-нибудь не двигаться, то обращаются к
нему не иначе как „свинья" и „сволочь",
38
Вызывают по именам, формируют группы. Разда-
ется команда: „Направо" и мы спускаемся в полицей-
скую тюрьму. Первая инстанция — контора. Здесь
отбираются часы, вечные перья и деньги. Все это
прячется в конверты. Вторая инстанция — сдача но-
жей, ножниц, ногтечисток. Третий этап уже в под-
вале. Здесь отбирается все, что еще осталось: аре-
стованный должен положить в свою шляпу: бумаж-
ник, записные книжки, папиросные коробки, спички,
носовые платки, ключи, перчатки, карандаши. Он
должен расстегнуть ботинки, снять пиджак; быстрые
руки шарят по его телу и обыскивают карманы,
щупают — не зашито ли что - нибудь в подкладке,
не спрятано ли что в чулки и ботинки.
Во время этой процедуры приходит в сопрово-
ждении адьютантов и целого штаба новый полиуей-
президьнт, господин фон Леветцов. Раньше ок был
флотским офицером. Носке дал ему чин адмирала.
Теперь господин адмирал командует с своего мо-
стика в полицейпрезидиуме.
— Значит это и есть тот сброд? — спрашивает
он и презрительно косится на нас через плечо.
— Так точно, господин полицейпрезидент, — по-
спешно отвечают адьютанты.
— Где тебя арестовали?—спрашивает он Германа
Дункера. И прежде чем седовласый ученый успел
ответить, кричит: — Будешь ты держать пятки сдви-
нутыми, когда я с тобой разговариваю, ты 5 свинья?
Но вот он уже заметил другого, недостаточно
по его мнению вытянувшегося:
39
— Немедленно отведите этого болвана в темный
карцер и закуйте его в железо, пока не затре-
щит его шкура.
В служебном рвении двое палачей бросаются на
Лемана-Руссбюльдта, старого вождя „Лиги борьбы
за человеческие права" и тащат его к выходу.
Мы стоим бледные как мел, а милостью Носке
господин адмирал уже отошел от нас и накидыва-
ется на другую группу.
Нас вталкивают в подземную общую камеру, в
которой должны разместиться сорок семь человек.
Вдоль стен тянутся нары, посредине стены, обра-
щенной во двор, стоит ведро, одно на всех. Напро-
тив, в стене, обращенной к коридору, сделаны два
воронкообразных углубления. В остром конце ка-
меры находится „глазок". Снаружи через это отвер-
стие можно обвести все помещение человеческим
глазом и стволом пулемета.
Каждый из нас ищет себе соседа и устраивается
около него, подкладывая вместо подушки — пальто.
Собираются группы, рассказывают друг другу как
прошел арест; некоторые квартиры выдержали под-
линную атаку фашистов: стреляли в двери, ло-
мали мебель, рвали книги, арестованных избивали
в присутствии их жен и детей. На многих лицах
еще отражаются гцев, испуг и волнение.
Когда мы все перезнакомилась и уже стали одной
семьей, отворилась дверь и в камеру кинули нового
пленника. Алло, Эрнст! Это — Торглер, председа-
тель коммунистической фракции рейхстага. Он рас»
49
сказывает нам, что в сегодняшних газетах он объя-
влен вдохновителем и организатором поджога. Сооб-
щают, что он якобы приказал принести свое пальто
из гардероба рейхстага в комнату фракции КПГ,
чтобы было невозможно установить, когда он по-
кинул здание. С шести до семи часов вечера он
будто-бы разговаривал в своей комнате с аресто-
ванным на месте преступления Маринусом Ван-дер-
Люббе. Около десяти часов вечера его якобы видели
выскальзывающим из здания парламента.
Прочтя эти газетные сообщения, Торглер в со-
провождении своего адвоката Курта Розенфельда
немедленно явился в полицейпрезидиум, чтобы за-
явить о том, что во всех этих утверждениях нет
ни одного слова правды. Он не знает Маринуса
Ван-дер-Люббе и даже никогда не слышал его имени.
Вчера у него был только один гость—журналист О.
Гардеробщик принес его пальто как всегда в
восемь часов вечера и он ушел из рейхстага в
восемь часов двадцать минут. Торглер высказал
желание видеть поджигателя и был проведен в ком-
нату, в которой тот находился. Ван-дер-Люббе,
дегенеративный парень, не обратил на Торглера
никакого внимания. С каким то безумным смехом
озирался он кругом. Полицейский советник по-
звонил по телефону и, пожимая плечами, приказал
Торглера арестовать. И вот он сидит с нами.
Нам дали по миске коричневого супа и по ложке.
В сумерки нас по группам вывели наверх и разме-
стили по камерам.
41
6 то время, как полицейский вталкивал меня в
одиночку, я сообразил, что у меня больше нет па-
пирос. Сзади меня вели товарища Гашке, у кото-
рого они вероятно еще имелись. „Одну минуту,
пожалуйста*, говорю я надзирателю и иду за ним
к двери. Он бьет меня ногой в пах, и я падаю.
Железная дверь захлопывается, бум!
Гораздо сильнее удара в пах действует на меня
стук захлопывающейся двери. Прошло уже почти
тридцать лет с тех пор, как за мной з первый раз за-
хлопнулась дверь одиночки. Это было в Праге, когда
я был солдатом. А с тех пор, как я пережил эту
секунду в последний раз, после одного революцион-
ного праздника в Вене, тоже прошло уже четыр-
надцать лет.
Тоскливо и жутко становится от этого стука
захлопывающейся двери, этого первого звука ли-
шения свободы, за которым как второй аккорд
следует — поворот ключа.
Моя ляжка вспухает все больше и больше. Не
сломано ли что - нибудь? Я мог бы обратиться к
врачу. Где звонок? Я замечаю кнопку и нажимаю
ее. Звонок не звонит, никто не является.
Что за помещение! Только в старой американской
тюрьме Синг-Синг видел я нечто подобное. Когда
койка опущена, остается еще место для стула и
ведра, но не для заключенного. Воздух затхлый и
вонючий; ведро, после употребления, я не могу сам
прополоскать; два раза в день его полощут из ко-
ридора.
42
Снаружи непрерывный шум: зовут то одного,
то другого, иногда мне кажется, что я слышу свое
имя, но никто не отворяет моей двери. Трещат
сигнальные звонки. Через час, два или три прино-
сят „еду", коричневую кашу, оставшуюся от обеда.
На столе лежит книга „Иммензе" Шторма, в которой
не хватает каждой второй страницы. В несколько
лучшем виде рассказ „Рената*, и я принимаюсь
за чтение.
Ни одной папиросы, ни одной папиросы! Слишком
легкомысленно раздавал я их внизу.
Наконец я могу опустить койку и лечь. Но.». На
улице проходит демонстрация, слышен гимн Хорст-
Весселя. Перед полицейпрезидиумом демонстранты
останавливаются. Оки поют, кричат, рычат, шум
производимый ими, бесконечен. Требуют ли они
нашей выдачи, хотят ли штурмовать здание, чтобы
нас прикончить? Открытая форточка не выпускает
из камеры вонючего воздуха, но охотно впускает в
нее жуткое беспокоящее рычание фашистов.
Я нажимаю кнопку, „флаг" опускается — знак,
что заключенный чего-то хочет. Никто не приходит.
Я жду. Никто не приходит. Когда я сльшіу, что
кто-то проходит мимо моей камеры, я стучу в дверь.
— В чем дело? — спрашивают оттуда.
— Не можете ли вы закрыть окно, господин
надзиратель?
— Нет.
Нет ..с нет. Я снова ложусь на койку. Проходит
много времени, пока на улице становится тихо.
43
Часами лежишь без сна и думаешь о будущем.
Должно быть было не меньше трех часов ночи,
думы уже перешли в бредовую дремоту, когда ярко
вспыхнула электрическая лампочка и в камеру во-
шел полицейский. Он протянул мне приказ об
аресте и потребовал расписаться в его получении.
Я не успел его пробежать, как в камере снова
стало темно и пусто. Но зато утром я имел доста-
точно времени д\я чтения:
Полицейпреаидевт. Берлин, 28 февраля 1933 г.
Отделение 1
2-а 6103 11/43
Господину Эгон Эр вину Киш.
Здесь
Вы подозреваетесь в преступлении, карающимся от § 81
до § 86 Уголовного Уложения.
На основании § 22 декрета государственного прези-
дента о защите немецкого народа от 4. II. 1933 г. стр. 35-я
приказываю, в интересах общественной безопасности,
подвергнуть вес политическому аресту, вплоть до даль-
нейших распоряжений
Верно:
Полицейлрезидент Берлина
Канцелярский отдел I.
Да, я уже знал, что должен быть подверг-
нут политическому аресту, иначе я бы не был
здесь.
Ш. Путешествие в полицейском автомобиле
Вечером 1-го марта, в каком приблизительно
часу я не знаю,—открылась дверь. „Выйти, марш!"
Все стоят на железных мостках перед своими, ви-
44
сящими как клетки, камерами. Мы опять видим
друг друга. На всех лицах еще отражается бес-
сонная ночь, в которую врывался шум шагов но-
вых заключенных, выкрики имен, сигнальные рожки
и рев расхрабрившихся „коричневых рубашек".
Каждому из нас ночью был передан одинаковый
приказ об аресте. Все мы знали значение и смысл
цифр от 81 до 86 §. Это знание обогатилось газе-
той, которую принес и показал нам, арестованный
после нас товарищ. „Немедленная смертная казнь
государственным преступникам судимым по § 81 до
86... Необходимая мера..." трижды написано в за-
головке. Куда нас теперь отправят?
— Куда нас теперь отправят?—спрашиваем мы
надзирателя, проверяющего все ли в сборе.
— Скоро узнаете — ворчит он.
Нас выстраивают в два ряда. Каждый из нас
получает свою шляпу, но все остальные, отнятые
у нас вещи, нам не возвращают.
Наше шествие спускается по железной лестнице.
Шпалеры национал-социалистических вспомога-
тельных полицейских бьют нас ногами и издева-
тельски заявляют:
— Теперь вы увидите, что с вами будет, вы,
красная банда свиней, теперь всех вас пустят в
расход...
Во дворе нас ждет тюремный автомобиль.
Автомобиль расчитан на десять человек, по пяти
на каждую скамью. Но полицейские впихивают
туда двадцать два человека и мы сидим и стоим
45
одной сплошной кучей, таено прижавшись друг к
другу. Когда нас укомплектовали до отказа, при-
казывают поместить в автомобиль еще шесть чело-
век. Они ввинчиваются в нас точно бурава в камень.
Мы долго едем. Через несколько километров
автомобиль заворачивает вправо, потом снова вы-
прямляется и идет тихим ходом. Останавливаемся.
Нам кажется, что открывают ворота. Автомобиль
осторожно двигается дальше. Стоп.
Всем выходить! Нас ослепляют фонари у входа,
Справа и слева — огромные железные ворота. Нас
окружает стража в форме, с револьверами в руках.
Мы узнаем, что находимся в Шпандау.
IVа. В одшгочяой тздрык®
— Протянуть руки!
Мы протягиваем руки. На них кладут матрац,
два ужасных одеяла, пододеяльник (но что это за
пододеяльник?), простыню, полотенце для рук, ку-
хонное полотенце, эмалированную миску, кружку,
ложку, вилку, жестяную умывальную чашку. Каж-
дый должен на вытянутых руках внести это сна-
ряжение вверх по лестнице в свою одиночку. В
камере имеется и другой инвентарь: стол, стул,
клозетное ведро, умывальное ведро, метла, лопата,
щетка для сапог, кувшин для воды. Все ©то оста-
ется в камере независимо от того, кто является
ее обитателем.
Шпандау—старая тюрьма. Еще двести лет тому
назад некий авантюрист, по имени Матиссов, описал
46
свои переживания в Шпакдауе&ой тюрьме» Здесь
же сидел вор Кэзебир, которого Фридрижус-Рекс
использовал как шпиона при осаде Праги. Может
быть Матиссон лежал на том матраце, который я
внес наверх, может быть Кэзебир употреблял уже
мое полотенце. Но посуда, очевидно, происходит
из значительно более отдаленных времен.
Мой номер 1067. Так значится на записке, кото-
рую прикрепляют к стене. Номер моей камеры—
33. Высоко наверху находится четырехугольное
окошко. Если придвинуть стул к стене и влезть на
его спинку, то можно ухватиться за решетку и
заглянуть во двор. Далеко позади находятся жилые
дома тюремных служащих и магазины, а по другую
сторону какое-то общественное здание, над кото-
рым развевается фашистский флаг.
Но пока в камере горит огонь, ни в коем случае
нельзя пытаться заглянуть в окно, балансируя на
спинке стула и цепляясь за решетку. Немедленно
из темноты внизу раздается резкий голос: „Прочь
от окна". Как бы усиливая угрозу, начинает лаять
собака.
В некоторых тюрьмах (например, в Панкраце)
номер камеры написан на наружной стене; часовой
знает, откуда смотрят или кричат и может заявить
куда нужно о „нарушителе порядка". В Шпаидау
этого нет; здесь немедленно стреляют.
Вечером по коридору разносят котел с горячей
жидкостью. Когда транспорт подходит к моей ка-
мере, дверь открывается, я должен стать с моей
47
кружкой у порога и мне наливают разливательной
ложкой мою порцию. Утром то же самое. Разница
только в том, что вечером эта жидкость называется
чаем, а утром—кофеем. Что за ужасная бурда! Если
бы к ней давали хоть немного сахару 1 К обеду мы
получаем коричневый, уже знакомый нам по поли-
цейпрезидиуму, суп. Два раза в неделю вечером
дают селедку или картошку в мундире.
Картошка сладковатая и сырая, хлеб зачерствел
и был размочен в воде. Я в состоянии съесть только
несколько кусков; я голоден и сильно ослабел. И
все еще ни одной папиросы!! У других тоже давно
нет папирос.
Мы видим друг друга во время прогулки на дворе.
В течение получаса ходим мы по кругу, тридцать
раз по сто шагов; наши руки заложены за спину,
откуда-то в наши легкие непрерывно вливаются
черные струи дыма и все таки эти полчаса—един-
ственный светлый луч в нашем существовании.
Двадцать три с половиной часа торчим мы в клетке,
полчаса мы видим своих товарищей.
Можно даже обменяться с ними несколькими
словами. Один из товарищей пришел сюда несколь-
кими днями позже нас и читал газеты. Тельман
арестован, Шнеллер арестован. Эммерих, Каспер,
Торглер и другие деаутаты ходят с нами по кругу,
но за коммунистическую партию, несмотря на не-
описуемый террор, несмотря на запрещение всякой
выборной пропаганды, и всех коммунистических и
симпатизирующих коммунизму газет и журналов, в
воскресенье голосовало пять миллионов человек.
Здесь гуляют избранные народом народные пред-
ставители; они прохаживаются, заложив руки за
спину, тридцать раз кругом двора с тем, чтобы
остаток дня просидеть в камере.
На прогулке мы смотрим вверх на ту самую ка-
менную стену тюрьмы, иа которую из камер мы
смотрим вниз. Там, наверху, мы видим тех, кто ке
в силах участвовать в нашем единственном отдыхе,
наших больных товарищей, замученных жестоко-
стью наци и тюрьмой.
Нас никогда не зовут в комнату свиданий—право
на посещение близких у политических заключен-
ных отнято. Кроме Торглера, никто из нас не был
допрошен.
Уголовные заключенные имеют казенное белье
и одежду, мы же все еще находимся в том же
белье, в котором нас арестовали в феврале. Пальто
мы кладем под голову, подушек нам не дают.
С уголовными мы почти не сталкиваемся. Мы
видим их шествие гуськом по двору и они тоже
видят нас. Сплошь да рядом, чистящий коридор
уголовник останавливается перед квартирой поли-
тического коллеги, заглядывает в „глазок" и спра-
шивает: „Тебе не нравится у нас?" Большинство
из них попало сюда за внесение каких-нибудь по-
правок в карточку безработного или подлог рабо-
чего удостоверения. Эти несчастные были как
„тяжелые преступники" осуждены на длительное
тюремное заключение.
49
Из темных подземных коридоров есть выход во
двор. Мы слышим крики: «Помогите, помогите".
Здесь людей зверски избивают до крови. Это слу-
чается ежедневно, но у нас уже не хватает нервов
отзываться на крики неизвестных, мы слишком
много слышим о судьбе наших товарищей, аресто-
ванных и дьявольски пытаемых вспомогательной
полицией и штурмовиками. Скоро мы собственными
глазами увидели эти зверски замученные жертвы.
V. Из Шпандау в полицию
Вечером выборного воскресения Шпандау задро-
жал от дьявольского шума, производимого фаши-
стами. Дробь барабанов, звуки рожков, крики и
выстрелы приближаются все ближе и ближе; во
дворе начинают свой неистовый концерт стороже-
вые собаки, в здании скрещиваются звонки и
зовы,—о сне не может быть и речи.
Днем заснуть тоже невозможно, так как все
время работает „телефон". Это уголовные перего-
вариваются из одной камеры с другой при помощи
перестукивания. Через все камеры проходят шесть
труб центрального отопления. На этих трубах
ночью и днем с непередаваемой быстротой выбива-
ются слова; шорохи пронизывают мою камеру и
мой мозг.
На вторую неделю нашего заключения в тюрьме
внезапно появляются новые фигуры: вспомогатель-
ная полиция. На мостки около каждой камеры
ставится двойная охрана, внизу в помещении охра-
50
вы находится целое отделение полицейских. По-
лучили ли они распоряжение увезти нас отсюда,
может быть в концентрационный лагерь?
Понемногу выясняется, что они присланы для
усиления нашей охраны. Они окружают нас во
время прогулки, следят, чтобы мы не переговари-
вались, чтобы мы поднимались по лестнице гуськом
в строжайшем порядке. Наши прежние надзиратели
становятся с нами еще строже.
Перед всеми железными воротами и у всех ка-
менных стен стоят теперь с револьверами си-
ние.
10 марта, во время прогулки, в канцелярию вы
зывают Отто Лемана-Руссбюльдта. Остальных от-
правляют в камеры. Мой сосед стучит в дверь—
знак, чтобы я подошел к окну. „Лемана-Руссбюльдта
выпустили, он прислал мне свой пакет". Это был
первый из нас, вышедший на свободу. Некоторые
ушли в госпиталь, среди них поэт Курт Клебер.
Через полчаса мы узнаем, что выпущен и доктор
Апфель.
И еще через полчаса надзиратель приходит ко
мне: „Идите в канцелярию".
Я прохожу мимо помещения, в котором прини-
маются передачи. Ко мне бросаются жены товари-
щей: „Мой муж жив?" „Что с X?" „У здоров?"
„Кланяйтесь от меня Ц!"
Я отвечаю так скоро, как только могу. Остана^
вливаться мне не позволяет мой проводник в форме,
за которым строго наблюдают другие часовые.
5І
— Вы возвращаетесь в полицейпрезидиум—гово-
рит мне канцелярский служащий.
— Почему?
— Вы иностранец?
— Да.
— Ну, в таком случае вас выпроводят из Гер-
мании. Заберите свои вещи. Вы пойдете с этими
господами.
Я смотрю на обоих господ. Типичные агенты
берлинской тайной полиции.
Мне приходится подписать огромное количество
разных рубрик: я подписываюсь, что ежедневно
получал еду, что мне вернули мои вещи и т. п.
Потом я готов к отправке.
— Если вы попытаетесь бежать, мы вас неме-
дленно застрелим—довольно любезно говорит один
из агентов.
Нас ждет легковой полицейский автомобиль. Мы
садимся и едем по Шпандау и по Хеерштрассе. Я
рассматриваю национал-социалистический Берлин.
Отряды наци возглавляют офицеры в император-
ской форме, группа студентов в разноцветных
шапках размахивает палками, дети в коричневых фор-
мах... я с удивлением выглядываю из автомобиля.
— Разве вы не знаете Берлина? — спрашивает
меня один из моих спутников.
— Я долго отсутствовал — отвечаю я.— Я был
в Китае.
— Да? Как же там дела?
— Тоже не особенно хорошо.
52
— Что это значит: тоже не особенно хорошо?
Здесь в Германии все теперь выглядит очень хо-
рошо; все ликуют, что, наконец, можно стереть в
порошок евреев и марксистов.
...— И всю низшую расу—добавляет другой.
Как быстро они всему научились, эти гос-
пода. Восемь дней тому назад они, конечно, еще
ничего толком не слыхали о программе национал-
социализма, а сейчас они уже знают ее наизусть.
Я не отвечаю, я смотрю на улицу: повсюду
плакаты муниципальных выборов, на всех домах,
на стеклянных витринах для реклам, сданных в
аренду папиросной фирме за 1000 марок. Повсюду
национал-социалистические плакаты, оплаченные и
доставленные на государственные деньги только
для того, чтобы сделать вероятными результаты
выборов, которые были потихоньку сфальсифици-
рованы новым правительством и магистратскими
служащими. Национал-социалисты, потерявшие на
последних выборах два миллиона голосов, добыли
себе в последнее воскресенье пять миллионов новых
голосов, при чем—в некоторых округах — больше
голосов, чем было избирателей.
— Надо надеяться, что муниципальные выборы
пройдут так же хорошо, как в прошлое воскресе-
нье выборы в рейхстаг,—говорит один из агентов.
Я не отвечаю. Мы въезжаем во двор полицей-
президиума: он кишит национал-социалистами,
ставшими полицейскими, которые уліе чувствуют
себя здесь, как дома. Опять тюрьма, опять обыск.
53
Потом меня вталкивают в битком набитую общую
камеру. Я хочу спросить, кто староста, но вопрос
застревает у меня в горле. Как ужасно выглядят
эти людиі Искалеченные, израненные, забинто-
ванные!
Я еще не успел занять свое место на нарах и
положить на них пальто, как меня окружают от
50 до 60 арестованных рабочих; они показывают
мне ужасные раны и рассказывают о своих нечело-
веческих переживаниях. Они набрасываются на меня,
отталкивают друг друга, говорят все сразу, так
что до моего сознания доходят только отдельные
фразы—и все время в разговор вступает кто-нибудь
новый, чтобы рассказать о пережитом и показать
свои раны.
Пять дней подряд, без передышки, подвергали
их всех вместе невыразимым мучениям. И вот
явился товарищ, который не был вместе с ними.
С ним они хотят облегчить сердце, обвинить своих
мучителей, дать доказательства зверств.
Этим объясняется этот клубок вокруг меня, этот
поток фактов и взглядов, от которых кружится
голова.
Все они были в день выборов или на следующий
арестованы в своих квартирах штурмовиками и
зверски избиты в присутствии близких. Их мебель
была сломана, их книги разорваны. Не дав им хо-
рошенько одеться (некоторые были без ботинок),
их потащили в казармы; сначала в так называемые
фриценгейм-казармы, а затем в казарму национал-
54
социалистов, переделанную из фабричного здания
на Фридрихштрассе.
— Уж мы выбьем из вас коммунизм!—говорили им.
Пять дней и пять ночей всеми способами выби-
вали из них коммунизм. Разошелся воскресший из
мертвых унтер-офицерский дух: заключенных заста-
вляли „упражняться" на дворе: падать в грязь и по-
дыматься до тех пор, пока их не могли уже при-
вести в чувство даже палочные удары.
Ежедневно они часами должны были подымать
руку для фашистского приветствия и кричать хо-
ром: „Трижды да здравствует наш дорогой победо-
носный рейхсканцлер Адольф Гитлер44.
Кто недостаточно вытягивал руку, кто недоста-
точно долго кричал, того били и пинали ногами.
Они должны были говорить хором: „Отче наш". Во
внутренних помещениях казармы происходили другие
вещи. Заключенных заставляли пить касторовое мас-
ло, спускать брюки и нагибаться над столом. Их до
тех пор били железными прутьями, пока не лопа-
лась кожа и не показывалось окровавленное мясо.
(Почти все заключенные в моей камере были по-
крыты этими ранами, я видел их собственными гла-
зами).
VI „Ротфроят" из общей камеры—вот наш ответ
Упершись подбородком в колени, обхватив голову
руками, сижу я на нарах и смотрю на обитатели
камеры, упорно со мной говорящих, показывающих
мне доказательства перенесенных в национал-со-
55
циалистических казармах мук: кровавые раны и
воспаленные опухоли.
Их мучители мало знали о политике, но зато они
много знали о садизме и эротической аномалии.
Главную роль в этих садистических оргиях играло
касторовое масло. Подражая Муссолини наци счи-
тают касторовое масло составной частью фашизма.
„Где они взяли столько касторового масла?*8—
спросил я. „Не знаю. У них были целые батареи
бутылок".
Заключенные должны были пить слабительное,
становиться голыми лицом к стене и приседать до
тех пор, пока слабительное не начинало действовать.
Одного рабочего поставили против его сына. Обо-
им дали в руки по палке и стальными прутьями и
револьверными прикладами заставляли их бить друг
друга. Им кричали: „Крепче, крепче" и „скорее, ско-
рее". Оба находятся в моей камере: отец и сын ле-
жат рядом на нарах, у обоих изувечены головы и
шеи; правый глаз отца вспух и посинел, его нижняя
челюсть вспухла, возможно, что она разможжеяа
Заключенным сообщали, что их расстреляют, рас-
сказывали, что сегодня в погребе убито пять че-
ловек; по ночам стреляли в камеры. Часто тот или
другой из пытаемых кричал: „Застрелите же меня,
наконец, вы—трусы!1* За это его избивали с еіце
большей злобой.
Каждая пытка сопровождалась издевательскими
замечаниями: „Тебе здесь не сладко? Зато тем
больше наслаждения получила от нас твоя жена.
§6
Через девять месяцев ваши жены родят здоровен-
ных гитлеровских молодцов".
Эти замечания были тем более мучительны, что
заключенные не имели никакой связи с близкими
и не знали, какая судьба постигла их жен.
Игра в вопросы и ответы называлась „допросом**
и происходила следующим образом: „Кто ты?"—
спрашивали мучители. „Я коммунистическая сви-
нья"—отвечал заключенный. Тот, кто не отвечал
так, получал оглушающие удары по голове или
рту, но если он отвечал так, как от него требовали,
то мучители внезапно поправляли его ударом: „сво*
дочь коммунистическая". И в следующий раз он дол-
жен был говорить: „Я—коммунистическая сволочь!'*
На вопрос, откуда его раны, раненый должен быд
отвечать: „Я был пьян и упал на печку".
Резали бороды, брили волосы, по большей части
одну половину головы; иногда волосы просто вы*
рывали, часто вместе с кожей; некоторым выстри-
гали волосы в форме свастики.
Один майор штурмовиков не выдержал бесконечных
издевательств над заключенными; в конце концов он
затопал ногами и закричал штурмовикам в присут-
ствии истязуемых: „Ну, довольно, наконец!"
Особенно плохо приходилось евреям. Их били
яростнее всех, их ежедневно водили на „расстрел",
ставили к стенке, направляли им в лоб револьверы
и стреляли в стенку над их головами.
До поздней ночи окружали меня раненые и рас-
сказывали мне о пережитом. Мои нервы были страш-
57
но натянуты, я вскочил и стал ходить по камере
взад и вперед. „Оставьте его в покое"—закричал
один и подошел ко мне. „Ты должен нас понять,
с нами делали страшные вещи. Мне, например, они..."
И он снова начал рассказывать.
Они за четыре или пять дней пережили то, что
теперь за несколько часов обрушилось на меня, но
они это выстрадали, а я только выслушал.
Никто из этих нечеловечески истязуемых рабочих,
никто (за одним исключением) никого не выдал. Все
они с ненавистью и презрением говорят о таком
сорте противников, никто не разочаровался в деле,
за которое он вынужден был пережить такой ужас.
11 марта днем меня вызвали из камеры и сооб-
щили, что меня переправят через границу. Я вернул-
ся в камеру только на одну минуту, чтобы захва-
тить свое пальто. „Ротфронт!"—сказал я и шесть-
десят голосов ответили мне: „РотфронтГ*
Штатский надзиратель привез меня на Анхаль-
тербанхов, в его кармане находились выданные
мне деньги, мои часы, нож и вечное перо; он дое-
хал со мной до Бюденбаха, передал меня под рас-
писку служащему чехословацкой пограничной по-
лиции и отдал мне мои вещи и остаток денег.
Я поехал в Прагу.
Перевод С. Уманской.
Петер Конрад
ОТЧЕ НАШ
Случилось это в начале апреля, кажется в че-
тверг. Рано утром нашу улицу окружили и аресто-
вали всех „подозрительных". Под вечер аресто-
ванных разместили на трех грузовиках и под стро-
гой охраной увезли в казармы штурмовиков. В ав-
томобиле, кроме меня, находились Юситцка, Адольф
и Франц из моей ячейки и кажется еще Цнглеры
из соседней. На двух других грузовиках тоже бы-
ло много знакомых. У входа в казармы стояли штур-
мовики и толпа любопытных. Под угрожающие кри-
ки собравшихся, нас медленно, одного за другим
выводили из грузовиков. Среди кричавших я узнал
Блаугребера, бывшего в течение шести лет сапож-
ником и толстую Энгель, лавочницу. В казарму мы
входили сквозь строй ударов, толчков, пинков и
плевков.
Мы провели ночь все вместе, во дворе за казар-
мой. Справа от нас высились дома Гегергассе,слева—
тянулось низкое здание школы Виктория. Пасхаль-
ные каникулы были продлены и поэтому в школь-
ном саду никого не было.
59
Рало утром во двор явились начальник отряда и
не менее 12 штурмовиков. Начальника отряда все-
гда сопровождал маленький толстяк, который топал
ногами и повторял каждое приказание начальника.
Большую часть из нас отвели в казармы, оставив
во дворе только 12 человек.
Из нашей ячейки во дворе остались Юситцка,
кассир союза безбожников, Адольф, Франц и я.
Остальных я тоже знал. Мы все знали друг друга.
Нас вызывали по спискам, составленным этой ночью
по нашим служебным бумагам. Было очевидно, что
нас оставили во дворе не случайно. Начальник от-
ряда закричал: „Построиться в четыре ряда". Ма-
ленький толстяк застучал каблуком по асфальту и
повторил: „Построиться, построиться". Нас постро*
или в каре. По углам двора расставили часовых. В
средине стал начальник отряда. Он закричал: „Руки
вверх". Толстяк повторил: „Руки вверх". Мы под-
няли руки; казалось, что наши плечи налиты свинцом.
Поднимая руки, я почувствовал в воздухе руку
Пауля Гербера, стоявшего около меня.
Начальник закричал: „Нет, сложить руки". Ма-
ленький толстяк: „Сложить руки, сложить руки".
Начальник: „Сначала научитесь молиться". Толстяк
стучал сапогом по асфальту: „Учиться молиться,
учиться молиться". Я покосился вдоль своего ряда.
В конце его стоял лысый, незнакомый мне чело-
век. Его руки были сложены на груди. Около не-
го стоял Юситцка, руки которого судорожно под-
нялись и снова опустились. Гербер, рядом со мной,
0-)
только оггопырил большие пальцы. Тогда я тоже
не поднял рук.
Маленький толстяк закричал: „Начинайте", и ча-
совые начали бить по всем несложенным рукам. Мои
руки сразу же превратились в кровавое, красно-
синее мясо, ко это были пустяки по сравнению с
тем, как выглядели руки Пауля. За нами и впере-
ди нас кричали. Начальник отряда крикнул: „От-
че наш иже еси на небеси". Толстяк: „Да святит-
ся имя твое". Оя грохотал каблуком по асфальту
и от этого я совершенно обезумел, потому что во
дворе было тихо, страшно тихо.
Позади меня кто-то пробормотал: „Да святится
имя твое". Его поддержали еще двое. Я не знаю,
кто это был: мой ряд молчал. Начальник крикнул:
„Да приидет царствие твое, да будет воля твоя".
Толстяк стучал по асфальту: „На небеси и на земле".
И вдруг позади меня запел Альфред, маленький,
толстый кассир Альфред, голос которого я так хо-
рошо знаю. Он пел: „Вставай, проклятьем заклей-
менный". Стало мертвенно тихо и тишина эта ка-
менной стеной окружила песню Альфреда. Мы жмем-
ся друг к другу, мы судорожно двигаем челюстями,
но рты у нас так пересохли, что петь почти невоз-
можно. И вот тишина взрывается. Я слышу за со-
бой удар, потом еще один. Это бьют Альфреда по
голове и плечам. Мы чувствуем спинами, что его
куда-то тащат. Часовые вынимают револьверы и
окружают нас плотным кольцом. Толстяк кричит:
„Сложить руки"!
#61
Гербер поднимает свои окровавленные куски
мяса. Мои руки вздрагивают, они вздрагивают про-
тив моей воли, эти подлые руки и я ничего не могу
поделать с этим. Я кошусь на лысого. Его руки так
страшно сложены, что мне кажется я слышу хруст
его костей. Только у Юситцка не такие свинские
руки, они слушаются его и остаются висеть вдоль
тела. Толстяк надрывается: „На небеси и на земле".
Раздается свист. Лысый сгибается; его задело по уху,
он хочет схватиться за свое растерзанное ухо и
боится разнять руки. Он сгибается и продолжает
молиться:,,... и на небеси и на небеси".
Начальник отряда молится как исступленный. Он
молится так, как будто миски с едой уже стоят на
столе: „Хлеб наш насущный дай нам днесь". Ма-
ленький толстяк подхватывает: „Дай нам день, дай
нам днесь". В моем ряду шепчут: „Дай нам днесь,
дай нам днесь". За моей спиной на кого-то набра-
сываются часовые. Они окружают нас все более
плотным кольцом и непрерывно бьют по рукам. Мы—
уже совсем крохотный четырехугольник. „Не вво-
ди нас во искушение"—кричит начальник. „Но из-
бави нас от лукавого"—притоптывает толстяк. Ча-
совой бьет Юситцка по груди в то место, где долж-
ны находиться сложенные руки. Юситцка падает на
меня. Мы все падаем друг на друга. Часовые уда-
рами загоняют Юситцка в другой угол двора. И
вдруг снова раздается голос Альфреда: „Вставай,
проклятьем..." Но дальше „всего мира" он никогда
уже больше не пел. Его лицо выглядело потом так,
62
как будто ему раздавили рот. Начальник молится:
„И остави нам долги наша". Толстяк топает но-
гами: „Как и мы оставляем должникам нашим".
Вдруг передо мной кто-то громко засмеялся. Вы
никогда не сможете себе представить, как прозву-
чал этот смех. Я думаю, что смеялся Пауль. Рука
начальника отряда взвилась в воздухе, он ударил
смеявшегося по лицу, и тот свалился на нас. Снова
мы все повалились друг на друга. „Аминь, аминь"—
повторял толстяк. Они били нас до тех пор, пока
мы не могли уже подняться с асфальта. Но и это-
го им было недостаточно. Они стали топтать нас
ногами. Маленький Альфред все еще пытался петь.
Под конец из его хрипящего рта лились только
потоки крови, но, вероятно, ему казалось, что песнь
его разносится бесконечно далеко.
Перевод С. Уманской.
Вальтер Шеиштедт
ЖЕНЩИНА
Улица в центре, над черным каналом в безве-
тренный июньский вечер. Косые крыши маленьких
домов в свете умирающего дня. По воскресеньям
здесь останавливаются группы молодых, хихикаю-
щих девушек в коричневых пальто. Пожилая дама
с туго стягивающим шею черным, бархатным
воротником, объясняет: „А вот здесь старинная
пивная „Ореховое дерево*. Там, дальше, интерес-
ный старый двор с заросшей мхом, обвалившейся
стеной. Наш добрый старый Берлин!.."
В этот вечер перед домом № 45 стоят две жен-
щины, только что вернувшиеся с рынка. В огру-
бевших от работы руках они держат кошелки с
капустой.
— Смотрите наверх, только осторожнее, на
крышу дома 19. —говорит одна из женщин и
равнодушно смотрит на улицу. Вторая подымает
голову, улыбается и молчит. На косой, крытой чере-
пицей крыше размашистыми, белыми отчетливыми
буквами написано:
„Мы здесь и мы победим/ Берлинская коммуна".
Внезапно на улице появляются трое мужчин, и
останавливаются перед женщинами. Один из них,
толстогубый, с плоским носом и типичными „гитле-
ровскими" усиками, спрашивает:
— Где тут живет Мерц, каменщик, Карл Мерц?
Женщины вздрагивают и переглядываются. Их
широко раскрывшиеся глаза медленно суживаются,
проникают друг в друга, их руки дрожат и крепче
сжимают кошелки. Одна из женщин говорит изу-
мленно, отчаянно, зло:
— Мерц? Послушайте-ка! Это вы должны знат&
лучше всех! Мы только что говорили об этом.
Ведь вы из уголовкой полиции, да? Полчаса тому
назад его забрали штурмовики.
Фашисты переглядываются* Один из них качает
головой и барабанит пальцами по брюху. Другой
говорит:
— Та-а-ак! Его уже увели. Но куда? Мы ведь
должны были забрать его. Ах, что за чепуха..о
— Не знаю,—говорит женщина.—При этом был
длинный Лулач и маленький толстяк, который
вечно кричит. Они посадили его в автомобиль и
увезли. Остается только удивляться.
— Ну, ну, не ораторствуйте,—гояорнт фашист.
Он кивает второму и оба уходятэ в то время как
женщина кричит им вслед.
— Но вы должны сказать, где сн находится!
На углу фашисты быстро садятся в такси.
В комнате женщина останавливается перед крова-
тью. Слабый, сумеречный свет со двора падает
65
на ее лицо. Она чувствует, как дико бьется ее
сердце и не может произнести ни слова. Потом она
говорит тихо, быстро, решительно:
— Карл, скорее, скорее, скорее! Они приходили
за тобой!
Мужчина вскакивает. Он спал одетым. Волосы
на лбу у него спутались, раскрытая на груди ру-
башка обнажает вытатуированный молот. Он смот-
рит на женщину еще сонными глазами и медленно
произносит:
— Тогда я сейчас же должен достать листовки.
Их надо...
— Нет, ты должен исчезнуть—прерывает его
женщина.—Они могут явиться каждую секунду,
Ты должен бежать, чтобы они не застали тебя
здесь. С листовками я справлюсь сама.
Мужчина быстро моется, вода брызжет на пол.
Женщина режет хлеб, кладет в карман его пиджака
и спрашивает:
— Скажи мне по чести, Карл, есть ли еще что-
нибудь в квартире? Скажи, я не боюсь, конечно,
но я хочу знать. Хотя я и не состою в партии, все
равно, ты должен сказать...
— Нет, ничего нет. Если придет Бруно, пусть
он сегодня не идет писать на крышу, слышишь?
Они просто подстрелят его. Теперь я ухожу, кла-
няйся мальчику...
Женщина разбрасывает постель, роняет несколько
стульев, выбрасывает из ящиков белье, разбивает на
полу тарелку и задумчиво садится за кухонный стол.
66
Через 10 минут раздается стук в дверь. Женщина
этого ждала. Она совершенно спокойна. Она взъе-
рошивает волосы и идет открывать. Перед ней
стоят трое фашистов с револьверами в руках. Они
выступают из лестничной темноты, входят в кухню
и мужчина с гитлеровскими усиками грубо говорит:
— Вы солгали. Штурм * ничего не знает.
— Ах, боже мой! Кто знает откуда они появля-
ются? Теперь приходите еще вы! Где же он может
быть? Ищите, но его здесь нет, его утащили.
Вновь прибывшие входят в комнату, видят бес-
порядок и прислушиваются к голосу со двора:
— Осторожнее. Штурмовики уже опять у Мер-
цеві
Они нагибаются, заглядывают под кровать, ро-
ются в платяном шкафу. Один из них все время
бормочет:
— Никакой организованности, все вперемежку...
Ничего так не выйдет, не может выйти. Ладно уж...
Они уходят. Спускаясь по лестнице, они держат
наготове револьверы.
Но улица темна и пуста. Спустя два часа фрау
Мерц идет на рынок. Она едет несколько кварта-
лов трамваем, идет на станцию подземной дороги
и выходит из другого входа. В маленьком парке в
северной части города она опускается на скамью,
на которой уже сидит ее муж. Он смотрит прямо
перед собой, курит папиросу и молчит.
Штурм —штурмовики.
67
Тихо. День угасает между деревьями. Слабое
сияние стоит над листвой. Муж и жена прислуши-
ваются, откидываются на спинку скамьи.
— Листовки у тебя?—спрашивает мужчина.
— Да, конечно, они у меня,—говорит женщина.—
Я спрятала их под юбкой. Когда они упадут, ты
сядешь на мое место, а я пойду. Все в порядке.
Женщина сгибается и выпрямляется несколько
раз до тех пор, пока под скамьей не оказывается
несколько бумажных свертков. Раньше, чем под-
няться, она шепчет:
— Ты должен быть осторожен, Карл. Мы уви-
димся в условленном месте. Будет трудно, но ниче-
го... Если бы только я не боялась так за тебя.
— Ничего,—отвечает Карл.—Не бойся! Кланяйся
мальчику. Я рад, что ты такая смелая.
Вернувшись на свою темную уличку, женщина
видит на крыше напротив чьи-то темные силуэты.
Но буквы попрежнему горят, буквы Коммуны! Она
думает о том, что ее мальчику, Бруно, следует
быть осторожнее... Что, если они его застрелят!
Нетерпеливый, всегда впереди других, но такой
хороший мальчик! Своего мужа она теперь долго
не увидит. Обоих преследуют, за обоими гонятся,
но она будет следить за обоими, будет, сжав зубы,
охранять их... Все будет, должно быть хорошо—она
любит их, своего муаа и мальчика Коммуны...
Перевод С. Уманскойл
Андор Габор
РОТФРОНТ
— Что опять случилось? Почему сбегаются эти
обезьяны?
— Не знаю. Они каждый день устраивают свой
обезьяний спектакль. Вероятно, они опять что-то
придумали, чтобы продемонстрировать штурмовые
отряды. Все это устраивает Геббельс. Они дали
ему министерский портфель и автомобиль специаль-
но для того, чтобы оя устраивал этот тамтам.
Двое мужчин в синих фуражках стоят перед во-
ротами и тико переговариваются. Потом они идут
в том же направлении, куда бежит толпа, чтобы
присутствовать при „обезьяньем спектакле".
Толпа собирается около двух жилых домов Бер-
линского „Общества городского железно-дорож-
ного движения". Эти гигантские шестиэтажные дома
выстроены для служащих, кондукторов и вагоно-
вожатых Общества. В действительности, здесь жи-
вут исключительно служащие: вагоновожатые и
коняуктора не в состоянии оплатить квартир. По-
этому, оставшиеся свободными квартиры были
сданы „чужим", не имеющим никакого отношения
$9
к Обществу, но за то не протестующим против
высокой квартирной платы. Это выдумал еще соц-
демократический директор Бролат.
Один кондуктор говорил мне:
— Проклятый толстяк разнес националистическую
чуму по всем квартирам. Теперь там нельзя было
бы жить даже если бы мы имели для этого деньги.
Справа—наци, слева—наци и ты сидишь в своей
квартире, как в клетке под охраной. Если ты вста-
вишь в грамофон пластинку с Интернационалом,
так они со всех сторон заведут Фридрихус-марш.
А по утрам женщины вцепляются друг другу в
волосы, потому что дети подрались на улице. Нет,
уже лучше жить в колонии за городом.
Между обоими жилыми домами находится трам-
вайный парк всей северной части Берлина. Под
стеклянным сводом огромного здания неподвижно
стоят сотни вагонов, вышедших из эксплоатации
вследствие кризиса. У берлинцев не хватает денег
для электрической дороги и они ходят пешком.
Этот парк был одним из лучших боевых лагерей
большой забастовки рабочих Общества. Рабочие
опытными руками разбирали рельсы, снимали дуги»
перерезали кабеля. На четвертый и пятый день
забастовки здесь происходили кровавые уличные
бои с штрейкбрехерами. Пока полиции удалось про-
рвать цепь забастовочных пикетов, она три раза
посылала за подкреплением. Но когда цепь была
прорвана—штрейкбрехеров уже не оказалось. Они
потеряли охоту к работе и разбежались по домам,
70
Многих из них с окровавленными головами увезли
автомобили скорой помощи.
Жилые дома Общества „плохи", но парк имеет
хорошие традиции.
Сегодня на этих домах поднимают новые флаги.
На левом доме—обновленный черно-бело-красный
национальный флаг (уступка гитлеровцев Гугенберг-
ской группе), на правом—фашистский. Высоко на-
верху на крыше видны движущиеся человеческие
фигуры. Они держат свернутые флаги. За черно-
бело-красным стоит один штатский. За фашист-
ским—двое в форме. Их фуражки можно разгля-
деть снизу. На одном из них желтая фуражка
штурмовика, на другом черная—шутц-штурма*.
Внизу собирается толпа. Я вижу только стоящих
в задних рядах. Но я знаю, что в середине стоит
оркестр штурмовиков, вокруг него штурмовики,
за ним штатские члены национал-социалистической
партии и уже затем—любопытные.
Внезапно над толпой появляется одетый в
штатское человек. Очевидно, это представитель
дирекции Общества. Он начинает говорить; до меня
доносятся только отдельные слова, относящиеся
к черно-бело-красному флагу. Штурмовики пере-
говариваются, кащляют, шумят и в конце концов
речь заглушается оркестром, который начинает
играть гимн Хорста-Весселя.
Над толпой, на месте штатского вырастает фу»
ражка и коричневая рубашка штурмовика.
1 Вспомогательной полиции.
71
Становится очень тихо.
— Партийные товарищи! Штурмовики! Освобо*
жденное население Берлина! Берлин наш! Город
Бролата, Бармата и Скларека стал городом Адоль*
фа Гитлера!
— Слава Гитлеру! — кричат национал - социа-
листы.
Оратор говорит о преступном хозяйничаньи соц-
демократов в „Обществе городских железных до-
рог", о высоких окладах дирекции, которые нацио-
нал-социалисты ликвидируют одним росчерком пера.
Он говорит о скверном движении железных дорог,
которое национал-социалисты „немедленно приве-
дут" в порядок, о высоких ценах за проезд, кото-
рые будут „урегулированы" национал-социалистами
соответственно с заработком берлинского насе-
ления.
Кончая полную обещаний речь, оратор заявляет:
— Адольф Гитлер пришел к вам с огромной
метлой, которой ок выметет все грязное наслед-
ство Бролата!
— Слава Гитлеру! — в третий раз кричат штур-
мовики и на этот раз к ним присоединяется толпа.
Потом он говорит о фашистском флаге, но это
звучит неубедительно; чувствуется, что он теми-же
словами говорил это уже много раз.
— „<>• Красное — это кровь, пролитая храбрецами,
белое-—это честь, святая для каждого немца, а
свастика на белом полз — это символ старинной
германской мощи..о
73
Оратор смотрит на крышу, где двое штурмовиков
собираются развернуть флаг.
— ...Партийные товарищи! Штурмовики! Осво-
божденное население! Город наш! Сердца наши!
Дома н воздух наши! Во имя всех погибших за
партию и всех желающих для нее жить, я прика-
зываю: поднимите флаг!
— Слава! — кричат штурмовики на крыше и ме-
дленно разворачивают флаг.
Тихо. Оратор стоит, протянув руку вверх; все
головы откинуты назад, все глаза устремлены на
крышу.
Но случилось следующее.
Около желтой фуражки и коричневой рубашки
оратора появляется рабочая кепка и серая, поно*
шенная фуфайка. Человек высоко подымает руку
со сжатым кулаком и громко, пламенно кричит:
— Ротфронт! Да здравствует коммунистиче-
ская...
Видение исчезает.
Человеческий клубок в середине стремительно
бросается вперед. До меня доносится дикое рыча-
ние, удары, непонятные слова.
Только раз я ясно слышу ругательства:
— Ты! Собака, собака!
Потом женский вопль:
— Не надо, не надо, перестаньте, ради бога!
Человеческий клубок расступается; двое мужчиз
выносят женщину в глубоком обмороке. Сзади идут
дв$ пролетарки:
— У нее слабые нервы... Ему растоптали го-
лову... Левый глаз... да, только кровавая дыра
осталась от глаза...
Двое мужчин в форме кондукторов несут носилки
в парк. Голова избитого покрыта большим носо-
вым платком. Его сломанная правая рука свисает
с носилок. Посиневший кулак все еще судорожно
сжат.
Я иду за носилками, не обращая внимания на
развешенные всюду объявления: „Посторонним вход
строго воспрещается". Никто не обращает на меня
внимания. Рабочие не имеют права покидать своих
рабочих мест и наблюдают издали. Им еще не до-
веряют и не допускают к празднику освящения
фашистского знамени. Избитый штурмовиками, оче-
видно, тоже не был здешним рабочим.
Когда носилки приближаются к депо, чей-то
голос командует:
— В слесарные мастерские!
Голос кажется мне знакомым.
Носилки проносят мимо бесконечного ряда пу-
стых желтых вагонов в соседнее помещение, в ко-
тором стоят верстаки и пахнет железными струж-
ками.
Тот-же голос командует:
— Заприте двери, товарищи!
Рабочие бросаются к дверям. Они молчат, их
лица мрачны. Словно случайно каждый-держит в
руке большой железный лом или какое-нибудь
иное тяжелое орудие,
74
Голос приказывает:
— Быстро перевязать раны! Все необходимое
находится в аптечке в углу.
Теперь я узнаю этот голос. Он принадлежит
тому товарищу, который руководил здесь стачкой.
Он замечает меня и коротко бросает:
— Если кто-нибудь обратит на тебя внимание,
скажешь, что ты из конторы.
Кто-то наклоняется над телом:
— Он еще жив!
Другой вытирает глаза и говорит:
— Зачем он это сделал? Это совершенно бессмы-
сленно, ведь было ясно, что штурмовики его убьют.
— Перестань! Он сделал то, что было нужно.
Если бы вы все не были так бесхарактерны... Ну, вы
еще увидите, что произойдет.
Голос опять приказывает:
— Никаких дискуссий теперь. Слишком поздно,
товарищи. Готов моторный вагон, который должен
выехать на ремонт мостовой?
Этого никто не знает. Вопрос передается из уст
в уста вглубь помещения.
Под стеклянным сводом звенит:
— Моторный вагон готов?
Издалека приходит ответ:
— Да, моторный вагон готов!
— Кго обслуживает этот вагон?
Когда приходит ответ, дается распоряжение:
— Пусть он остановится перед слесарной ма-
стерской»
75
Товарищ быстро и решительно дает указания:
— Вагон пойдет на Неттельбекплатц. Здесь ни-
кто не будет знать, что именно он повезет. Вы пе-
ренесете молодого человека в мою квартиру и ска-
жете моей жене, чтобы она немедленно позвала
врача. Вот № телефона. Пусть врач устроит его
в больницу. Он должен сказать, что его нашли в
таком виде на улице. Теперь это часто случается.
Через несколько минут явится фашистская свора.
Внимание!
Все происходит быстро, но без суеты.
Вагон уже стоит на рельсах перед слесарной
мастерской. В него вносят носилки и задвигают
дверь. Вагоновожатый оглушительно звонит и вы-
езжает за огромные ворота. Перед ним расступа-
ется группа штурмовиков, приближающихся к депо,
под предводительством оратора из дирекции.
Под сводами ворот стоят рабочие мастерских с
железными ломами, молотками и стамесками в руках»
Начальник штурмовиков останавливается в два-
дцати шагах от ворот и громко кричит:
— Парень мертв?
Группа штурмовиков стоит перед цепью рабочих:
— Мы только хотим установить., о
Рабочий в синей блузе с изрезанным морщи-
нами лицом молча указывает железным ломом на
надпись: „Посторонним вход строго воспрещен*.
— Как? — оторопело говорит начальник штурмо-
виков.— Как это? Пожалуйста, господин директор..-
Директор обращается к рабочему:
т
— Господа хотят войти, чтобы установить имя
человека, нарушившего праздник»
— Оно уже установлено — раздается голос.
— Это уже сделано. Оставьте его в покое,—
говорит другой.
Начальник отряда спрашивает директора:
— Ваш персонал солидарен с этим олухом? (по-
следнее слово произносится шопотом). В таком
случае надо вызвать полицию.
Кто-то из рабочих услышал слово: полиция.
Оно передается дальше.
— Они опять хотят позвать полицию!
— Они хотят натравить полицию на мастерские!
— Полицию? Т-а-а-ак. Полицию?
Человек в синей блузе спокойно говорит директору:
— Если господа хотят позвать полицию, они,
конечно, могут это сделать. Но тогда мы лишние
в мастерских.
— Как? Пожалуйста... это недоразумение...
— Нет. Здесь нет никакого недоразумения. Если
полиция придет В мастерские, пусть она и про-
изводит сегодняшний ремонт.
Начальник отряда еще раз пробует одержать верх:
— Послушайте! Вы очевидно не знаете, что здесь
произошло. Этот человек закричал при поднятии
флага: „Ротфронт". Мы хотим установить его имя
и если он еще жив...
Слесарь с огромными стальными щипцами в руке
заканчивает фразу:
— Добить его, да?
77
Положение ясно. Если штурмовики будут наста-
ивать на выдаче, рабочие прекратят работу в ма-
стерских.
Директор тихо переговаривается с начальником
отряда и пожимает плечами: Здесь ничего не по-
делаешь! Начальник энергично жестикулирует: „Ра-
зогнать!" Директор качает головой: „Нет, теперь
это опасно!" Наконец директор поворачивается к
рабочему в синей блузе с морщинистым лицом:
— Значит вы берете на себя ответственность
за раненого?
— Полностью.
— Вы запишете его имя?
Молчание.
Директор делает вид, что не понимает этого от-
вета и говорит штурмовику:
— Тогда все в порядке. Мы можем пройти в по-
мещение дирекции.
Товарищ, который раньше руководил стачкой,
говорит:
— Будьте осторожны, товарищи, они придут сего-
дня еще раз.
Он поворачивается ко мне и шепчет:
— Исчезни.
Я пробираюсь между цветочными клумбами, мимо
поднявшегося на задние ноги огромного медведя,
стоящего здесь как символ города Берлина, кото-
рому принадлежит трамвай.
На улице уже обычное оживление; кажется, что
люди забыли о том, что здесь произошло или
73
совсем не знали об этом. Только на противопо-
ложной стороне, напротив медведя, стоит перед
лавкой маленький адтекарь и объясняет покупа-
тельнице:
— Он кричал „Ротфронт".
— Ротфронт? Действительно, Ротфронт? Он был
один?
— Да, совсем один и все таки он кричал...
Женщина повторяет машинально: „И все таки он
кричал...а
Тяжело и низко свисают два флага. Они непо-
движны. Ветра нет.
Перевод С. Уманской.
Андор Габор
МАРКА
Женщина выглянула в окно.
— Курт Ленц возвращается. Я ведь говорила
тебе, что они вернутся. Будет лучше, если ты
уйдешь из квартиры.
— Я не пойду. Мне все равно—угрюмо ответил
мужчина.
Она не рассердилась. Уже два раза прятался
он на долгое время и каждый раз возвращался
измученный и голодный. Товарищи, у которых он
скрывался, сами голодали.
— Негодяй!—сказала женщина. Это относилось
к молодому человеку, которого она увидела в окно.
Через минуту он уже стучал в дверь и не дожи-
даясь приглашения нажал щеколду и появился на
пороге.
Через открытую дверь в комнату проникло солн-
це, но оно не принесло с собой радости: в ярких
солнечных лучах стоял молодой человек в форме
штурмовика. Это могло предвещать только беду*
— Ну, Дитмар, наконец-*^ вы все дома. Фрау
Дитмар варит...
80
— Нет, я не варю. Нам нечего варить.
— Как нечего? Ведь Дитмар два раза уходил
на работу. Что - нибудь он, конечно, принес домой.
Наци уже два раза приходили сюда и искали
Дитмара. Его жена говорила им, что он нашел
временную работу. Это была вынужденная ложь.
Увидев, что муж молчит, жена продолжала
лгать:
— Ему ничего не заплатили. За свою работу он
получал только харчи.
— Хитрая ты, Дитмариха, но ты права,—сказал
штурмовик и сел, не дожидаясь приглашения.
— Что ты там болтаешь, Курт?—заговорил Дит-
мар.—У меня не было никакой работы. Работа?
Откуда?
— Национальное правительство дает работу—
сказал штурмовик. Это прозвучало как вызов.
— Ему оно еще не дало работы—снова вмеша-
лась жена.—Это была простая случайность.
— У меня не было никакой работы, — сухо по-
вторил мужчина. Жена посмотрела на него с отчая-
нием.
— Вот как. Никакой работы? Но Дитмариха го-
ворила, что у тебя она была.
— Думай, что хочешь. Я не имел никакой ра-
боты.
В комнате воцарилось томительное молчание, Со
двора доносились голоса играющих детей.
— Что делают мальчики?—спросил штурмовик.
— Они играют, — ответила женщина. Она не
81
могла понять, почему этот негодяй интересуется
ее детьми,
— Они все еще играют в Антифу?1 Что? Бейте
фашистов?
На это не последовало ответа. К чему? Ведь
Курт сам хорошо знал, что дети не смеют больше
играть в Антифу. Ни в Антифу, ни в Ротфронт.
Они могли бы играть только в обыски, аресты,
расстрелы „при попытке к бегству". Но они не
делали этого.
После непродолжительного молчания, раздался
тонкий и испуганный голос женщины.
— Зачем ты, собственно говоря, пришел, Курт?
Штурмовик поправил ремни на груди и сделал
вид, что не расслышал вопроса.
— Раз у тебя была работа, Дитмар, значит у
тебя есть деньги?
— У меня не было работы и нет денег,—упрямо
сказал Дитмар.
— Где же ты был?
Вопрос, как ястреб закружился под потолком.
И вдруг снизу пришел неожиданный ответ:
— Я прятался.
Женщина закашлялась и закричала:
— Что ты болтаешь? Ты сам себя хочешь по-
губить?
Но ястреб уже кинулся на жертву.
— От кого же ты прятался? От нас?
1 Антифашистский боевой союз.
82
— От вас, да, и от вас*
— От меня, да?
— И от тебя тоже. Но теперь я здесь.
Штурмовик встал. Он широко расставил ноги и
стоял так, в высоких шнурованных сапогах. Он
был уверен в своей силе.
— Помнишь ли ты, Дитмар, как мы работали
вместе в группе „Фихте"?
— Что ты хочешь этим сказать? Ведь ты вышел
из группы.
— Да, я вышел. Ты сказал тогда, что я пре-
датель, что я перебегаю к врагу. Классовый враг,
говорил ты. И разный другой вздор.
Дитмар пожал плечами, но штурмовик не от-
ставал.
— Помнишь ты это?
Снова вмешалась женщина.
— Ведь все это было так давно. Зачем вспо-
минать? В этом нет никакого смысла.
Но Дитмар ответил на вопрос.
— Помню.
— Да,— сказал штурмовик,—да, это было давно.
Теперь все изменилось. Теперь ты должен пря-
таться от нас. Это так. Ты все еще думаешь, что
Гитлер—пустая голова? Думаешь ли ты еще, что
весь национал-социализм — жульничество? Ну, что
ты думаешь? Скажи.
Женщина простонала.
— Не мучь его, Курт. Ведь вы были хорошими
товарищами»
83
Она ломала руки; охотнее всего она позвала бы
на помощь соседей, но боялась оставить мужа с
Куртом одних.
Дитмар все еще неподвижно сидел на ящике
для угля.
— Чего ты хочешь? Скажи же, наконец.
— Правильно. Будем говорить по иному. Я знаю,
что ты прятался. Я и раньше знал это. Но Штурм
этого не знает.
— Узнает.
— Откуда?
— От тебя, конечно.
— Почему ты так думаешь? Ты и теперь хочешь
меня обидеть?
— Этого он, конечно, совсем не хочет,—успокаи-
вающе сказала женщина.
— Да, да! Ведь он считает меня прирожденным
предателем. Уже тогда он думал так и открыто об
этом заявил. Он не желает считаться с новым по-
ложением.
— Оставь это—умоляла женщина.—Ведь он ни
слова не говорил о политике.
Штурмовик изменил тон.
— Слушай, Дитмар. Штурму нужны деньги. Вы
утверждали, что нас содержат капиталисты, но это
неправда. Я нахожусь в Штурме уже несколько ме-
сяцев и, конечно, знал бы об этом. Это подлая
ложь. Вы, коммунисты, всегда на нас клеветали.
— Он не был зарегистрированным членом пар-
тии— снова вмешалась женщина. Муж строго по-
84
смотрел на нее, но штурмовик этого не заметил
и продолжал:
— Теперь наша партия у власти. Видишь, Пауль,
я всегда говорил тебе, что Гитлер добьется своего.
Я говорил тебе—переходи к нам. Но ты меня только
обругал. И вот мы — у власти, это факт. Тем не
менее, у Штурма нет денег. Он беден, как церков-
ная крыса. Этому ты веришь? Почему ты молчишь?
— Тебе лучше знать—глухо донеслось с уголь-
ного ящика.
— Вот как? Ты все еще считаешь меня лжецом
и негодяем? Все еще? Но Штурм действительно
нуждается в децьгах. Мы могли бы разгромить
еврейскую лавку, как нам это приписывают. В
Карлхорсте тоже найдутся жирные евреи. Но мы
этого не делаем. Тебе не понять этого, это внеш-
няя политика.
— Чего же ты хочешь от меня? — спросил муж-
чина с своего ящика.
— Чего ты хочешь от нас?—простонала женщина.
— Ничего. Одну марку, только одну марку. Мы
собираем деньги на новые рубашки для штурмо-
виков. Наши старые рубашки разорваны. Это вы
разорвали их, когда были еще на коне и как дети
играли в Антифу.
— Мы не играли—сухо сказал Дитмар.
— Значит это было серьезно? Хорошо. Дай мне
одну марку и мы будем квиты. Тогда я смогу ска-
зать водителю нашего отряда: „Дитмар тоже дал
марку. Он не упрямится",
85
— Ты с ума сошел. Откуда я возьму марку?
И если бы у меня была эта одна марка, неужели я
бы отдал ее именно вам?
Штурмовик снова сделал вид, что не расслышал*
— Одну марку ты можешь дать. У тебя ведь
была работа, это говорила твоя жена.
— Ты ведь знаешь, что я просто прятался.
— Безразлично. Дай марку, и с тобой ничего н©
случится.
Женщина не поняла этого разговора. Зачем ему
марка? Ведь было совершенно ясно, что он при-
шел не для этого. Она попробовала вмешаться:
— Курт, ты ведь знаешь, что он не лжет. У нас
ничего нет. Может быть у нас наберется четыре
гроша, но они нужны мне на картошку для детей.
— Достаньте одну марку, это очень важно. Иди,
Дитмариха, достань у соседей одну марку, они да-
дут тебе ее. Иди!
Женщина боялась уйти. Но может быть он, дей-
ствительно, пришел за этой маркой. Она закричала.
— Подожди, Курт, я побегу к соседям. Может
быть кто-нибудь и даст мне одну марку. Подож-
ди... я попробую.
Она выбежала за дверь, она бежала за помощью,
за спасением. Штурмовик отстегнул кобуру и вы-
нул револьвер.
— Встань, Дитмар! Что ты сидишь там, скор-
чившись как сова?
Он направил револьвер в лоб Дитмара.
— Встань. Мне не нужна твоя марка. Вы сняли
86
с меня сапоги и заперли -меня в отхожее место.
Я знаю, что это ты организовал. Я знаю это»
Дитмар встал.
— Руки вверх, Дитмар, руки вверх. Так. Теперь
ты возьмешь это слово назад.
— Какое слово?
— Предатель. Я должен был бежать домой в
одних чулках и дети смеялись надо мной. Ты возь-
мешь кличку „предатель" назад. Ты признаешь, что
я пошел правильным путем.
Человек с высоко поднятыми руками и человек с
револьвером стояли друг против друга. Уходя,
женщина оставила дверь открытой. Косые лучи
солнца золотым пятном лежали на полу.
— Ты возьмешь это слово назад, и тогда с тобой,
действительно, ничего не случится.
Человек с поднятыми руками плюнул другому в
лицо. Штурмовик отшатнулся и нажал курок. Раз-
дался короткий выстрел, и пуля пробила грудь
Дитмара. Он покачнулся и сказал:
— Предатель!
Потом он упал.
Женщине в соседнем доме показалось» что она
услышала выстрел. Она побежала домой и крик-
нула в открытую дверь.
— Курт, вот марка, вот она.
Она стояла на пороге и глядела в комнату. Пах-
ло чем-то странным.
На полу, в золотых бликах солнца, раскинув
руки, лежало тело убитого.
Перевод С. УлфнсноЯ.
Аыдор Габор
УЛИЦА
Эта широкая скромная улица без деревьев и зе-
лени остается пустынной и тихой, несмотря на все
старания оживить ее вывесками, надписями и ви-
тринами. Эта улица всегда была нашей.
Несколько километров тянется она через сердце
самого большого пролетарского района, через крас-
ный Веддинг красного Берлина.
Эта улица давно привыкла оживляться только от
наших транспорантов и флагов, пламенно красных
нашей краской с сияющей белизной наших букв.
Она привыкла к пятиконечной звезде и к серпу и
молоту. Стены ее домов впитали в себя наши ло-
зунги, ее окна видели наши походы, ее воздух на-
сыщен нашими песнями.
Коричневые варвары украли у нас эту улицу.
Хозяева „Третьей Империи" каждый день посы-
лают свои банды именно в эту часть города. Они
хотят ее унизить и поработить. Они хотят успо-
коить самих себя:
— Мы свободно разгуливаем по Веддингу, мы
ничего не боимся»
W
Но это ложь. Они боятся Веддинга. Ни один
штурмовик не решится здесь выйти на улицу в
одиночку. Они ходят только группами или парами.
Они идут подчеркнутым, военным шагом, словно
равномерностью и одноввучием своих шагов хотят
убедить себя:
— Да, мы оккупировали эту враждебную часть
города, мы держим ее на осадном положении и мы
покончим с ней.
Члены этой своеобразной оккупационной армии
всегда сильно вооружены. Ненависть, которая пы-
лает в них к населению этой части города, без-
гранична. Она носится в воздухе, ее можно ощу-
тить рукой. „Побежденные" отвечают им такой
же непримиримой ненавистью. Население Веддинга
не носит значков. Со времени прихода Гитлера
к власти все примыкающие к фашистам и все при-
мазавшиеся к ним носят свастику. Женщины — на
шляпах, мужчины — в петлицах, на фуражках, на
груди. Чем позже человек решился на это, тем
крупнее и демонстративнее его значок.
Но население оккупированной части города не
носит значков. Уже одно это считается теперь —
антифашистским. Раньше Веддинг пестрил малень-
кими значками с серпом и молотом, красными
как рубин, партийными звездами, узкими, красными
флажками молодежи, кругами Рабочей Помощи,
высоко поднятыми, внушающими фашистам такой
страх, кулаками, запрещенного Союза красных
фронтовиков,
89
Это население беэ значков, население, пропус-
кающее отряды штурмовиков, не подымая руки
для Гитлеровского приветствия, сразу узнается
по всем этим „отрицательным" признакам.
„Сегодня вечером Геббельс опять назначил
факельное шествие по Веддингу".
Штурмовики созваны иЗ всех частей города.
Огни факелов сливаются на шоссе в пылающий
поток. Штурмовики торопятся.
Скорее, как можно скорее через Веддинг!
Они поют.
Они поют наши мелодии0
Они украли у нас наши мелодии и написали
к ним свой текст, грубый, жесткий текст ландс-
кнехтов, открыто призывающий к убийствам.
В одной из этих песен, между двумя строфами
идет припев:
„Германия, проснись' Еврей, погибни!11
Это старо.
Но у них есть и новое.
„Где коммуна?
В подвале. Ху, ху, xyl"
Но это ложь.
Коммуна здесь; она стоит в несколько рядов и окру-
жает факельное шествие своим мрачным молчанием.
На мостовой стремительно несется вперед лико-
вание фашистов; рабочие на тротуарах стоят
угрюмо и неподвижно, точно вросшие в асфальт.
Шествие пересекает Леопольдплатц.
Справа, плохо освещенные деревья и кусты»
90
Или может быть это люди?
На минуту прерывается пение и треск барабанов.
И тогда во внезапно наступившую тишину
врывается звонкий крик:
— Долой фашизм!
Протяжно, гневно, настойчиво:
— Долой I
Кричит толпа, окружающая мостовую, кричат
к>сты и деревья.
— Долой!
— Долой!
На секунду с лица Веддинга спадает мертвая маска.
Огненный поток факелов превращается в вихрь.
Колеблясь и извиваясь, врываются факелы в тем-
ноту Леопольдплатца, языки пламени лижут трО'
туары. Штурмовик тычет горящим факелом прямо
в лицо молча стоящей женщины.
— Ты—скотина, скотина,—кричит штурмовику,
стоящий рядом рабочий и падает под ударами.
Все эти звуки тонут в стрельбе, несущейся с
Леопольдплатца.
Штурмовики стреляют в кусты и деревья.
Или в людей?
Факелы приникают к земле, порхают над ней
как светляки.
Ищут раненых, но никого не находят.
Огненный поток снова выпрямляется, выравни-
вается, несется дальше.
Все это продолжалось меньше пяти минут.
И снова стоит Веддинг со стиснутыми зубами.
Перевод С. Уманской*
С. Глее
БОИ С ФАШИСТАМИ
Светает.
Серые улицы Берлина еще окутаны плотным
туманом, но рождающийся новый день уже гонит
глубокий ночной мрак и посылает золотой луч
навстречу бледнеющему лунному диску.
Часы на церковной башне бьют пять. Глухо и
потерянно звучат тяжелые шаги, возвращающихся
с ночной смены, рабочих.
Город с миллионным населением спит. По ули-
цам стремительно мчатся грузовики. Красные
флаги, а внутри их на белом поле черные значки
свастики. Штурмовики в форме поют переделанные
коммунистические песни с припевом: „Красные
убийцы убивают наших товарищей. Колокола зво-
нят и зовут к наступлению".
Дома дрожат от проезжающих грузовиков. Они
останавливаются на улице Гнейзенау. Начальник
штурмовиков соскакивает на мостовую. „Вождю
германских рабочих Адольфу Гитлеру—слава!"
— Слава! Слава! Слава!
За окнами пробуждается жизнь.
92
Ностицштрассе, красная улица Крейцберга—еще
спит. Ничего не подозревая дремлют пролетарии
в кухнях.
Отто просыпается от шума. Ему кажется, что его
зовут товарищи, но потом он ясно слышит слово
„Гитлер". Он вскакивает, снимает со стены трубу
и бежит на крышу.
— „Германия, проснись!"— несется с улицы.
Внезапно с крыши дома № 7 по Ностицштрассе
раздаются громкие трубные звуки. Отто играет
первую часть марша „Ротфронт". Его щеки блед-
ны. Руки дрожат.
Мгновенно улица просыпается.
Отто приподымает доску, достает из ему одному
известного отверстия в крыше револьвер и бежит
во двор. Он кричит только одно слово: „фашисты!",
но это слово проникает за все закрытые окна и
будит население пролетарских квартир.
Окна открываются:„Что случилось?"—спрашивает
Густав, кузнец. „Фашисты!"—несется от ркна к
окну, от рабочего к рабочему, от пролетарки к
пролетарке.
Из подъездов выбегают рабочие. Один держит
в руке пожарный крюк, другой дубинку, третий
что-то прячет в задний карман брюк. Даже социал-
демократ Кримке прыгает через окно в нижней
рубашке. Двери захлопываются, ключи быстро и
нервно поворачиваются в замках.
От дома к дому несется слово „фашисты". Из
всех домов выбегают старые и молодые, социал-де-
93
мократы и коммунисты, безработные и работающие.
Улица полна рабочими.
Фашисты тихо стоят на Гнейзенауштрассе. Они
застигнуты врасплох внезапной активностью крас-
ного блока, на который они собирались наступать.
Начальники отрядов растерянно бегают взад и
вперед. Раздаются листовки. В резерве стоят ко-
лонны отборных национал-социалистических акти-
вистов.
Толпа из Ностицштрассе наступает. Фашисты
этого не ожидали. Резервные колонны подтягива-
ются и приступают к действию. Раздаются выстрелы,
но серая кучка не теряется и бьет железными
прутьями, дубинками и кулаками, обращающихся
в дикое бегство штурмовиков. Находящиеся под
прикрытием рабочие отвечают выстрелами на зал°
пы фашистов. Поворачивая, фашистские автомобили
наезжают на тротуары. С них несутся выстрелы
и громкие крики: „Германия, проснисьI"
И Германия просыпается. Из всех домов поя-
вляются новые рабочие. За бегущими фашистами
несется толпа.
Один из грузовиков останавливается и штурмовики
соскакивают на мостовую. Завязывается рукопаш-
ная, но подоспевают новые рабочие и револьверы
из рук фашистов переходят в руки пролетариев.
На асфальте остаются растерзанные фуражки и
рубашки штурмовиков; на мостовой стонут четыре
фашиста и двое рабочих. Женщины из Ностиц-
штрассе тащут своих раненых домой.
94
Сирена.
— „Долой Гитлера!*1 „Бей их!"
Сирена полицейского автомобиля быстро при-
ближается. Преследующие фашистов рабочие на
минуту останавливаются, потом возобновляют по-
гоню. То здесь, то там они ловят штурмовиков.
Со всех сторон подъезжают полицейские автомо-
били. Рабочие меняют тактику и делятся на
маленькие группы.
На Кайзер-Фридрих-Платце фашисты получают
подкрепление; они останавливаются и прячутся
за церковью. Их настигает авангард рабочих,
начинается массовая драка. Фашисты избивают
рабочих резиновыми дубинками, стальными прутьями,
кастетами. Некоторые падают, но ярость придает
им силы, они хватают фашистов за ноги и валят
откормленных варваров на землю.
Толпа дерущихся растет. Люди уже не видят
кто кого бьет. В безумной ярости они душат, рвут,
топчут ногами, тяжело дышат, кричат и кусаются.
Женщины в окнах закрывают лица руками, кричат
„Ради бога" и прячутся в глубине квартир.
Прибегает полиция и стреляет вдоль по Гней-
зенауштрассе. Она нападает с тыла на блок красного
Крейцберга. Резиновые дубинки опускаются на
плечи и головы рабочих.
Стреляют; огонь учащается. Толпа рассыпается
и собирается снова на углах. У подземной дороги
Хазенхейде стоят фашисты, у церкви—полиция,
на улице Урбан—рабочие.
95
„Долой фашистских убийц,долой, долой, долой..*
Да здравствует Красный фронт!"
Весь квартал оживает. Приближаются новые
толпы рабочих. Обыватели опускают жалюзи.
— Недурное воскресенье,—говорит купец Гирке
своей дрожащей от страха жене.
Полиция переходит в атаку. „Освободить улицу!
Разойтись!" Полицейские тяжело бегут вперед с
револьверами в одной руке и резиновой дубинкой
в другой.
Крики протеста несутся из улицы в улицу. В
помощь полиции появляются новые фашистские
колонны.
От толпы рабочих отделяются несколько фигур
и собираются в одном подъезде. С ними Отто.
„Надо кончать. Продолжать нет смысла, это при-
ведет только к новым жертвам". Фриц пристально
смотрит на Отто. Он говорит: „Отступать органи-
зованно. Сообщите об этом товарищам. В нашем
дворе назначается общее собрание. Говорить буду
я. Если мне помешают, продолжать будешь ты, Отто.
Если и тебе помешают, говорить будет Карл прямо
из окна. Понятно?" Отто и Карл уходят. Они пе-
ребегают от одной группы рабочих к другой и
шепчут: „Кончать! Назад, в Ностиц!!"
Перевод С У майской.
С. Глее
СМЕНА
Через машинный зал фирмы Джонсон и К0 равно-
мерно движется конвейер. По обоим его сторонам
стоят рабочие. Они работают нервно и лихора-
дочно, напрягаясь, как натянутая до отказа, еже-
минутно грозящая оборваться, струна.
Скрежетание впивающихся в металл сверл, упор-
ный ритм штамповальных станков, жужжание при-
водных ремней и звенящее вращение поблескиваю-
щих в тусклом предвечернем свете шестерен слагают-
ся в однообразную песнь последнего рабочего часа.
Маленькая медеплавильная печь разбрасывает
вокруг искры. В наполненных водой шайках шипит"
выгоревшая медь. Рабочие работают молча, уста-
лые и покорные привычке.
Ученик Петцке стоит у своего станка. Украдкой
он то и дело поглядывает на контрольные часы у
входа. Каждый раз, когда мерно и глухо стучит
штамповальный станок, Петцке вздрагивает. На лоб
падают спутавшиеся белокурые волосы. Он не по-
нимает, что ему мешает, и раздраженно трясет го-
ловой.
97
„Вентилятор... через пять минут... Надеюсь, что
они лежат правильно. Парень, они изойдут желчью»
Сейчас же смываться? Нет, надо наблюдать и дать
отчет".
Мысли кружатся в голове Петцке; его щеки красне-
ют, он сжимает губы и усмешка сбегает с его лица.
Петцке обеими руками хватается за рычаги и по-
ворачивает их на 60°. Рук!—опять стучит штампо-
вальный станок; как гусеница танка движется че-
рез зал конвейер, жужжат сверла, шипит медь.
Без трех минут шесть часов. В большом цеху
нарастает суматоха. Лемке, сосед Петцке,, украд-
кой кладет инструменты в ящик и берет мыло. В
раздевалке переодевается новая смена рабочих.
Сверкает свежая рубашка Кремера, одевающего
синюю рабочую блузу. Энгель стучит деревян-
ными башмаками. За последние дни даже он стал
тихим. Его самоуверенное красноречие исчезло; на
его лбу появились морщины, губы и подбородок
стали тверже.
Петцке вспоминает его шутки как раз в тот мо-
мент, когда начинает завывать сирена.
Женщины у конвейера подымаются. Ученик Куль-
ман начинает подметать зал. Все торопятся в
угол, чтобы переодеться. Только конвейер продол-
жает свой невозмутимый бег.
На работу в цех вступает новая смена. Начинает
жужжать вентилятор. Петцке стоит как пригвожден-
ный к полу.— »Вот они! Летят!" Первой их за-
метила толстая Лиза.
98
— Что это?—кричит она. Все подымают головы
и смотрят вверх. Листовки кружатся в воздухе и
медленно опускаются вниз. Грубые руки ловят
странных птиц.
Петцке чуть не лопается от радости. Ему прямо та-
ки хочется прыгать! В нем все ликует и поет: „Вот
это дело!"
Франц набегу ловит одной рукой листовку, не-
сущуюся к печи. В другой руке он держит реме-
шок от брюк. Мимо Петцке проходит Эрна Вольтер
и бросает ему одному понятный взгляд. Послед-
ние листовки снова подымаются в воздух, мед-
ленно опускаются на конвейер и уносятся дальше.
„Высший сорт! Высший сорт! Принадлежности
мужского туалета!"—гласит жирно напечатанный за-
головок. Следующая строка начинается со слов:
„Специальный закон великого Адольфа о запре-
щении забастовок..." В группах рабочих раздается
смех. От удовольствия—один из них—бьет себя
по ляжкам. Леман и женщины пугаются: они ук-
радкой прячут листовки и уходят. Новая смена
тоже прячет листовки в безопасные места. Только
листовки, лежащие на конвейере, двигаются дальше.
Напряженность на лицах исчезла; рабочие пере-
смеиваются друг с другом, ко разговаривают ма-
ло. В цех входит мастер. Он бросается к конвейе-
ру и хватает листовку. Он смотрит на спокойно
движущихся, невозмутимо одевающихся рабочих,
улавливает в них затаенную радость, бросает
взгляд на листовку и поспешно исчезает. Старый
99
рабочий Кемке бормочет: „свинство, предательство".
Между ним и рабочими лежит стена более твердая и
холодная чем сверкающий металл. „Старый трус!"—
думает Петцке. Он берет свою сумку и уходит.
Ему кажется, что он стал другим, что его несут
какие то чудесные крылья. На большом грязном
дворе он почти пускается в пляс.
Перед зданием Петцке на минуту останавливается
и смотрит, как через двор идут пересмеивающиеся
и радостные группы рабочих. „Очень хорошо! Ре-
бята действуют!" — слышит он и отвечает: „Ребят
в детстве нянька неушибла! Их не так-то легко
одолеть !"
Проходит Эрна и негромко окликает его: „Па-
рень! Они сидят на дереве!" Потом она исчезает в
противоположном направлении.
Через несколько минут они снова встречаются,
и Эрна радостно бросается ему на шею.
Перевод С. У майской
Гуго Гупперт
ФЛАГ
1.
Тиц, хозяин кирпичного завода, в одном белье
стоял у окна. Подняв глаза к предрассветному
небу, он долго ругался.
В небо Бракведе, провинциального городка, вреза-
лась труба кирпичного завода. Труба была выше
серой церковной звонницы, на которой вот уже
целый месяц как развевался флаг со свастикой,
измятый и полинялый от дождей. А на трубе, на
высокой фабричной трубе, в третий уже раз кто-то
тайно прикреплял красный флажок.
Тиц свистнул бульдогу. Надев ему ошейник, он
не спеша покинул дом. Пес поплелся за ним, ми-
нуя контору, в ратушу.
Здесь Тиц выждал члена городской думы и
начальника защитных отрядов Вармбольда. „Здо-
рово, Густав!" — приветствовал он его. Они прош-
лись по коридору — разговор был короткий и
ясный—и тут же расстались. А поздним вечером
Вармбольд явился к фабриканту на дом. Его со-
101
провождали двое штурмовиков, снаряженных пор-
тупеями, нарукавными повязками, кожаными поя-
сами и револьверами. Тиц, захватив собаку и взяв
подмышку бутылку красного вина, тотчас ж отвел
штурмовиков в старую котельную.
В котельной было тесно, грязная электрическая
лампочка горела не ярче сигары, которую Тиц не
выпускал изо рта. Он сначала указал на железную
опускную дверь, ведущую к „лисьей тропе" и под
землей соединяющую горн с подножием дымовой
трубы, затем—на железную лесенку, по которой
можно попасть на цоколь трубы.
— Так вот, — если кто сунется сюда без дела,
чорт его дери, ну, вы понимаете: палите в зал и
больше никаких!..
— Ясное дело, г-н Тиц.
Парни широко улыбнулись друг другу. Они
были убеждены, что ни один красный уже не
явится сюда—охота ему рисковать жизнью.
2.
Это было в среду. А в четверг стало известно,
что Вармбольд, по предложению Тица, объявил
себя „комиссаром" кирпичного завода*
Рабочие послали к директору молодого члена
заводского комитета Шмиттена. Требование ра-
бочих гласило: „Долой комиссара 1Л Директор
только плечами пожал. На обратном пути Шмиттен
подвергся нападению: его избили до крови и аре-
стовали. В пятницу началась забастовка. Рабочие
102
требовали освободить Шмиттена, выгнать Варм-
больда.
Тиц пришел в ярость и распорядился, чтобы
фабричная труба охранялась каждую ночь. Более
того: он присоединил к двум охранителям еще
третьего человека.
И все таки наступило воскресенье, и утром,—ну,
что вы скажете!—на трубе фабрики Тица опять раз-
вевался внушительный красный флаг. Не флажок,
не лоскут,—нет, настоящий яркий, большой крас-
ный флаг. На этот раз он оставался наверху две
надцать—две-надцать дней!
3,
Лишь несколько недель спустя один из рабочих
кирпичного завода получил письмо от товарища,
горняка из Бохума. Письмо передал приехавший
оттуда надежный человек. Оно начиналось так:
„Дорогой Макс, вы там на фабрике наверно
удивлялись. Я имею в виду флаг. Как он мог очу-
титься вдруг наверху? И, в самом деле, можно
удивляться, дело было вовсе не простое. Но когда
ты в пятницу, аккурат когда на вашей обліигалке
началась забастовка, приехал к нам и рассказал
об аресте Шмиттена и о лейб-гвардии вашей фа-
бричной трубы,—помнишь, что мы тебе тогда обе-
щали? Мы, горняки, сказал я тебе, сделаем так,
чтобы в воскресенье на кирпичной пике развевался
ваш сигнал. Мы это выполнили. Пятнадцать наших
безработных—братва что надо!—собрались на квар-
103
тире простака Германа и все хотели двинуться к
вам.
„Ребята—сказал им Герман,—это вам не раздача
листовок или расклейка. Это дело куда опаснее!"
Ну, остановились на мне и на Карле, Так, вот, в
субботу, в 14 часов 34 минуты, мы через Гамм
отправились в ваши края..."
4.
Карлу местность была знакома, благодаря этому
не пришлось беспокоить прохожих расспросами.
Направляясь к вязовой аллее, они затянули фа*
шистскую песнь. Карл крепче ударил по струнам,
а когда приблизились к стене кирпичного завода,
звонко гаркнул песнь „Хорст-Весселя"—коричне-
вый гимн.
И вот — правильної — кто-то уже стоял на цоколе
трубы и, сгибаясь через перила, кричал: „Алло,
дружки, куда?"
Карл начал выкладывать: из Мюнстера: штур-
мовики 118 отряда; коротенький отпуск; они хотят
завтра двинуться дальше поездом, в Падерборн: нет
ли местечка переночевать?
Он развязно перебирал струны. Из ранца по-
блескивали торчащие наружу горлышки бутылок.
— А-а, перелетные птицы, — крикнули сверху*
Альберт слышал, как пульс бьется в ушах.
Фабричная труба круто вздымалась. Внизу она
была светлее фона деревьев,наверху—темнее небес.
Она врезалась в небо, точно столб, отраженный
104
ясной водой, ее линии в самом деле казались
слегка переломленными.
Те, на цоколе, наконец-то пришли к соглашению:
пусть ребята подымаются к ним, только чтобы без
шума.
Они даже сами помогли гостям перебраться че-
рез ограду на крышу котельной и дальше внутрь
помещения.
— Вкатывайтесь, братишки, вкатывайтесь в нашу
кухню!—бормотали они.
Над игральными картами и консервными банками
широко простерлась скука. Гостям тут же пришлось
выслушать историю о забастовке, потом о подле-
цах-коммунистах, которые хотели поднять здесь
свой флаг, и, наконец, о старике Тиц, который и
неч подумает еще разочек поставить им бутылку
вина.
— А где же молодцы гости стибрили эти чудес-
ные бутылочки? Опять лавчонку жидовскую по-
щупали, ха-ха-ха!
— Нет,—заявил Карл, — ведь это же самые де-
шевенькие сорта,, так сказать, для ломовых (разве
наш брат нынче может позволить себе больше?)»
В Падерборне их ждут девчонки и вообще... Не
угодно ли попробовать.
Вот это да! Пузатая бутылка вина сделала пер*
выи круг, потом второй.
Альберт и Карл только делали вид, что пьют, и
усиленно занимались музыкой, Они проявили инте-
рес к местным склокам. Им рассказали о том, что
Вармбольд человек что надо, не то что начальник
штурмовиков доктор Меркель; тот просто гнус-
ный карьерист, и, между нами говоря, когда-то
торчал в социал-демократах.
Еще не была выпита очередная бутылка — мно-
гозвездный коньяк, как младший из трех охрани*
телей, восемнадцатилетний юноша, захрапел. По-
пытались его растрясти. Бесполезно.
Альберт запротестовал:
„Бросьте, ребята, пусть малый поспит, да и
вы сами можете спокойно прилечь. Мы ведь в
поезде только и делали, что спали. Теперь мы
можем посторожить вместо вас... Да ведь это су-
щая мания преследования—думать, что сюда кто-
нибудь мог бы залезть с красным флагом. Тем
более ночьЮ) когда каждый прекрасно знает, что
здесь все под охраной, точно пороховой склад..."
Карл поддержал его:
„Стесняться нечего. Мы — ваши гости и будем
дежурить первую смену. В четыре часа разбудим
вас, и вы вступите... Так, что ли? Договорились!
Точка".
Штурмовики колебались, но в глазах их была
благодарность цепных собак, которых выпустили
из будки. Каждый сделал еще по здоровенному
глотку, потом все свалились на цыновки.
На церковной башне пробило час. В трубе глухо
завывало. Поднялся ветер.
Карл пожал руку Альберту и стал настражу» Он
сторожил трех дрыхнущих пленников,
106
5.
Карл закрыл над Альбертом опускную дверь.
Альберт нащупывал „лисью тропу", ведущую к
основанию трубы.
В шахте горняк чувствует себя как дома. А вну-
три трубы была настоящая шахта.
Альберт в темноте освободился OTv красного фла-
га, свернутого вокруг тела под рубахой, и при-
крепил его себе за спину. Железные стержни ле-
стницы пачкали сажей колени и руки.
Взобравшись наверх, Альберт налег верхней ча-
стью тела на край жерла и закрыл глаза. Он вы-
жидал минутку, чтобы успокоить сердце.
Над ним распростерлось бескрайнее небо. Звезды
мерцали, точно отраженные колеблющейся водой.
Облака колыхались, точно густые заросли водоро-
слей, а круглая луна плавно катилась им навстре-
чу. На самой глубине морского дна, словно дым,
стлался лес.
Налетел порыв ветра. Ветер лез в рукава, в
карманы, за воротник. Альберт держал свой флаг,
будто свернутый парус, и начал прикреплять его
к громоотводу.
Этому завязыванию, казалось, не было конца.
Но при каждом новом узле, который Альберту
удавалось затянуть, он думал: „Наше знамя, наше
знамя! Ты великолепно будешь развеваться. Все
увидят тебя, наше знамя! Пролетариям ты будешь
сигналом. Ты поддержишь дух бастующих".
107
И когда Альберт выпустил, наконец, флаг из
рук, и бурный ветер, с треском развернув его,
подбросил вверх, из глотки горняка вырвался тор-
жествующий возглас. В темноте флаг казался почти
черным.
На церковной звоннице опять били часы.
Альберт стал спускаться по наружной стене тру-
бы. Став на четвертый стержень, он приставил
маленькую стальную пилу к первому стержню.
Стержни были из ковкого железа толщиной с боль-
шой палец. Каждый стержень надо было перепи-
лить в двух местах. Особой трудности это не пред-
ставляло, — это не экзамен на подмастерья. Если
бы только не этот ветер, упорный, оглушающий...
Хорошо, что под утро стало даже несколько
темнее. Небо затянулось тучами, и первая капля
дождя жестко ударилась о козырек кепки. Аль-
берт торопился, его лихорадило. Каждый отпилен-
ный стержень он с размаха бросал в сторону
глиняной груды, лежащей возле склада. Стука не
было слышно. Флаг наверху трещал. Все шло глад-
ко. Дождь медлил.
Дождь медлил, но время летело. Когда были
срезаны верхние десять — двенадцать стержней,
Альберт сбежал по остальным с ловкостью белки.
Вероятно, было часа три. Свет лампы слепил.
Карл сидел спокойно, но был очень бледен. Три-
листник наци спал.
— Это дьявольски било по нервам, — сказал
Карл,— твои стержни грохотали, как гром. Три
108
попали на крышу склада. Каждый раз я думал:
каюк, сейчас будет тревога.
Альберт торопил. Согласно программе, теперь
Карл должен был забраться в шахту трубы, чтобы
отпилить столько же стержней на внутренней стенке.
С час Альберт просидел один. К храпу трех
врагов присоединился шум ветра с его завывания-
ми и скрипами. Несколько раз казалось, что из
шахты доносятся крики или возгласы страха. Карл
был прав, это чертовски дергало нервы.
Вдруг по спине Альберта пробежал холод. Осно-
вание трубы затрещало Наци спросонья испу-
ганно заметались. Старший приподнял голову, при-
щурил глаза: „Что там?1"
Альберт подошел к нему вплотную и сказал
спокойно, как только мог: „Ничего, ничего, прия-
тель, можешь поспать еще добрый часок .." Юно-
ша и в самом деле повернул нос к стене и опять
захрапел с присвистом.
Как потом выяснилось, у Карла выскользнуло и
сорвалось вниз несколько спиленных стержней,
которые он заложил за пояс.
Когда на башенных часах Бракведе пробило пять,
оба горняка уже были в пути. Они шли, ощущая
изрядную слабость в коленях. Они шли по пре-
красной дороге, ведущей в Билефельд. Там можно
будет у товарищей умыться и переодеться.
В лесу просыпались птицы. Между стволами
деревьев сквозь слабую зелень ранней весны еще
109
долго виднелась красная труба кирпичного завода*
Давно уже исчезла из виду серая церковная звон-
ница с фашистским флагом, а красную трубу с
красным знаменем еще долго было видно.
С далекого шпиля развевался, плескался по ве-
тру, приветствовал утреннюю зарю красный стяг.
6.
Дальше было так. Двенадцать дней развевалось
в Бракведе красное знамя. Лишь на тринадцатый
день прибыла добровольная пожарная команда из
Падерборна и после головоломных приготовлений,
длившихся несколько часов, флаг сняли. Билефельд-
ских добровольных пожарных, которым ведь
было гораздо ближе, нельзя было склонить к это-
му. На все отчаянные призывы они отвечали ко-
ротко и твердо: „Их обязанность — спасать жизнь
и имущество жителей Билефельда, а не честь Брак-
веде. Чертовская высота! Стоит себе ломать го-
лову!"
И все двенадцать дней продолжалась забастовка
на кирпичном заводе Тица.
Красный боевой сигнал можно было видеть и в
Гютерслоу, и даже в Гарзевинкеле, вплоть до Липп-
ского герцогства. В Белене и Реда люди стояли
на крышах с биноклями. В Эльде влезали на Бе-
кумские горы. Все высматривали красный флаг:
кто злобно, кто радостно. С улыбкой смотрел на
него батрак из Занне, работавший в поле. Из Ос-
нинга флаг приветствовал рабочий лесничества.
ПО
Красный флаг заглядывал в окна тысяч пролетар*
ских домов. Рабочие ходили по улицам, высоко
подняв головы, потому что там, наверху, было на
что смотреть.
Шмиттен стоял в своей камере на табуретке и
видел красный флаг сквозь решетку. „Вот это де-
ло, товарищи!" — произнес он вслух.
Под знаком красного флага бастующие добились
удаления „комиссара" Вармбольда и освобождения
Шмиттена.
Под красным флагом Вармбольд после этого
был здорово избит приверженцами доктора Мер-
келя.
Тиц, похлопывая по спине ворчащего бульдога,
подписал долгожданный договор на поставку кир-
пичей для постройки двух тюрем и нового концен-
трационного лагеря в Рейнской провинции.
Пусть... Флага уже нет на месте, но его не за-
будут в Бракведе и его окрестностях.
Перевод Б. Болеславской.
Эрих Мюллер
СМЕХ НА ПЛОЩАДИ
— Одевайся!
Фрау Кунце, величественная пятидесятилетняя
женщина, командует как фельдфебель. Она стоит пе-
ред зеркалом и бережно прикрепляет к своей пыш-
ной груди фашистский значек.
Кунце, толстый мужчина с усталым помятым ли-
цом, проводит рукой по седым волосам и неуверен-
но поворачивается, от загроможденного деловыми
бумагами письменного стола.
— Я не пойду,—говорит он угрюмо.—Скажи мне
лучше, как мы выпутаемся из долгов!
— Наш вождь не даст погибнуть среднему сосло-
вию.— Фрау Кунце легкомысленно щелкает паль-
цами.'—Мы все должны появиться на празднике труда.
Что скажут люди, если тебя не будет?
— Скажи им, что я болен. И баста!—Кунце сно-
ва поворачивается к своим бумагам и принимается
за счета. Его лоб изрыт морщинами.
— С тобой не сваришь каши!—Фрау Кунце со*
бирается произнести речь о бесхарактерности мужа,
но с улицы доносятся звуки марша. Трещат бара-
112
баны, трубят рожки, фашистский оркестр исполня-
ет п Фридриху с-марш".
В фрау Кунце все радостно трепещет. Она бро-
сается к окну: „Длинное, бесконечно длинное ше-
ствие, во главе наши штурмовики I Марширует весь
народі" Ее голос разносится по всему дому: „Мари,
скорее мое пальто Iа Девушка запаздывает, и фрау
Кунце кричит еще громче: „Мари, куда ты запропа-
стилась? Мари, ах, эта овца! Фрау Кунце сама
одевает пальто и выбегает на улицу.
Перед домом она встречает секретаря местной
больничной кассы Гюбнера.
— Вы тоже идете на праздник труда?—спраши-
вает его фрау Кунце.
— Конечно, многоуважаемая фрау,—быстро от-
вечает Гюбнер.
— Вот видите, Гюбнер, теперь мы все шагаем
в одних рядах! А вы никогда в это не верили!
Фрау Кунце говорит это с удовлетворением. Еще
полгода назад Гюбнер был деятельным членом
СДПГ1. Он хвастался тем, что он „до мозга ко-
стей—чернокраснобелый". Теперь Гюбнер уверяет,
что он, собственно говоря, всегда был за Гитлера:
„Пусть его только допустят к власти, уже он по-
кажет на что он способен". Разве он не говорил
этого уже давно?
— Да,—миролюбиво подтверждает фрау Кунце.—
Ведь и на поле брани вы всегда были на своем посту»
СДПГ— социал-демократическая партия Германии.
ИЗ
Она доброжелательно улыбается Гюбнеру, кото-
рый несколько растерянно дергает себя за галстук и
старается итти в ногу с размашисто шагающей
женщиной.
— Всю мою жизнь меня огорчали рабочие,—
болтает фрау Кунце.—Ведь мы с мужем тоже на-
чали совсем маленькими людьми. Наше предпри-
ятие мы создали трудами собственных рук. Мы вы-
рывали кусок из собственного рта, чтобы накор-
мить наших людей в мастерской.
Гюбнер проводит указательным пальцем по шее,
как будто бы ему стал тесен воротник. Он знает, что
фрау Кунце лжет. Во время войны мастерская Кунце
выделывала корзины для снарядов. После заклю-
чения мира, Кунце перешли на изготовление пле-
тенной мебели. Всем хорошо известно, что учени-
ки в их мастерской никогда не ели досыта. Но
фрау Кунце права — ведь она правая рука води-
теля штурмовиков Видеманва.
— А этот персонал! — продолжает она жало-
ваться.— Нет ничего, что было бы достаточно хо-
рошо этим... этому народу. Все плохо и все люди
плохие. А обкрадывают тебя буквально со всех
сторон!
Мимо проходит отряд молодых людей. Они воз-
глашают: „Heil Hitler!" „Слава Гитлеруї" — кричат
фрау Кунце и Гюбнер. Затем Кунце продолжает
развивать свою мысль:
— Рабочие были очень взволнованы подстрекате-
лями. Как хорошо, что наш вождь указал им их место.
114
— Работодатель и профсоюзы—вот два великих
начала, я всегда говорил это.
Гюбнер немного заикается от усердия.
— Совершенно правильно, профсоюзы позади
работодателя,— говорит фрау Кунце.
Нет смысла продолжать беседу. Не слышно даже
собственных слов. Шум, музыка, пение. На ратуше,
на всех домах и столбах развеваются фашистские
флаги. Звонят колокола. Вокруг разукрашенной
флагами и еловыми ветками трибуны стоят певче-
ские союзы „Эйнтрахт" и „Лидертафель", союз
участников войны, Шутцферейн, штурмовые отря-
ды и отряды „Стального шлема" с фашистскими
повязками на руках. За их сомкнутыми рядами—
толпа, среди которой видны рабочие печной фабрики
и стекольного завода, единственных промышленных
предприятий городка.
Колокола умолкают. В небо вздымается песня:
„Великий боже, мы славим тебя".
На трибуну всходит коренастый человек. Это
водитель штурмовиков, офицер запаса, аптекарь
Видеманн. Его резкие, отрывистые движения <—
точная копия движений „вождя". По бокам оратора,
как две чугунные глыбы, застыли два штурмо-
вика.
За ним толпятся высшие должностные лица, отбор-
ные члены национал-социалистической партии.
Фрау Кунце, одна из первых и вернейших членов
национал - социалистической организации городка,
огромная и величественная, как кирасир, стоит за
115
водителем штурмовиков. Ее глаза пылают: Видеманн
говорит о чуде „национальной революции".
Толпа стоит молча, как полк перед генералом.
Штурмовик Циммер, стоящий на посту около ра-
туши, не находит никаких причин для вмешатель-
ства.
Циммер—высокий и статный парень двадцати лет.
Он доброжелательно рассматривает собравшихся и
надеется увидеть в толпе знакомые лица своих
односельчан.
Циммер — всего несколько дней тому назад вер-
нулся в город. Он учился у Кунце корзиночному
ремеслу. Окончив учение, он проработал у них еще
год и уехал из города. В Франкфурте он стал без-
работным и начал бродяжничать. Каждый раз, когда
он просил милостыню, его спрашивали: „Вы в пар-
тии?** Сначала он не понимал, что это означает,
но когда выяснилось, что предъявление членской кни-
жки НСПГ х влечет за собой еду и деньги, Циммер
стал национал-социалистом. С этого момента он
начал довольно успешно продвигаться. В Дрездене
его приняли в штурмовики. После переворота он
вернулся в родной город и поступил в вспомога-
тельную полицию.
Циммер не хватает звезд с неба. Долг и послу-
шание, слава и победа — больше он ничего не знает
и ничего не хочет знать. Да здравствует вождь,—
этого вполне достаточно, чтобы прожить.
1 НСПГ—национал-социалистическая партия Германии.
116
Он глядит по сторонам. Внезапно его глаза ши-
роко раскрываются, а затем медленно суживаются,
пока не превращаются в две щелки. „Да,— гово-
рит он себе. Да, это она, фрау Кунце".
Циммер выпрямляется. Конечно, это она, его ста-
рая хозяйка.—Она тоже в партии,—думает он. Она
стоит перед ним гордая и злая, совсем такая, ка-
кой он помнит ее в период ученичества.
Ах, это проклятое время. Хозяйка заставляла
обслуживать себя, как знатную даму. „Г-жа фабри-
кантша" надо было называть ее. Она раздавала
пощечины направо и налево, а у нее была тяже-
лая рука. „Убирайся, олух",—говорила она в благо-
дарность за особое усердие. Еду ученикам она да-
вала со словами: „Нате, сожрите и волосы на моей
голове". Бутерброды фрау Купце—тоненькие лом-
тики хлеба с тончайшим слоем маргарина — были
известны во всем городе. Тысячу раз проклятое
время!
— Она тоже в партии,— опять думает Циммер и
у него такое чувство, точно в нем что-то ломается.
Бессознательно он хватается за резиновую дубинку,
ища в ней опоры.
— Все мы единая армия рабочих — слышит Цим^
мер слова водителя штурмовиков, но он не видит
никого, кроме фрау Кунце, радостными кивками
подтверждающей эти-слова.
Тогда происходит нечто, чего сам Циммер вовсе
не хочет. Он начинает смеяться. Он хохочет и не
может перестать. Он знает, что это нарушение дис-
117
циплины, но все это слишком смешно. Перед заклю-
чительной фразой Видеманн на мгновение замолчал
и в этот миг в тишину ворвался смех Циммера.
Коротко, сухо и враждебно прозвучал этот смех над
молчаливой толпой.
Это было как бы сигналом. Сигналом, которого
ждали. Смейтесь, товарищи, смейтесь! Среди ра-
бочих стекольного завода раздались отдельные
смешки. Они прозвучали как вскрики. Потом зло,
из самой глубины души, засмеялась целая группа.
К ним присоединились рабочие печной фабрики.
Смех был подхвачен толпой, окружающей погру-
женную в полумрак площадь.
Эго продолжалось мгновение, но этого мгновения
было достаточно, чтобы заставить замолчать Ви-
деманна. Штурмовики устремляются на поиски ви-
новных. Видеманн чувствует, что торжественность
нарушена, праздник труда сорван. Это пахнет вос-
станием. „Проклятие! Для этого ли мы пять раз
проверяли этих грязных пролетариев прежде чем
пустить их на площадь!.. Петь!*—рычит Видеманн.
Трибуна затягивает гимн Хорста-Весселя *. Его
подхватывают певческие союзы. Лицо фрау Кунце
пунцово-красно, она широко раскрывает рот,
„Освободите улицу коричневым батальонам!"..
Капелла штурмовиков подхватывает напев. Чем
громче, тем лучше! В этом—спасение! Но колени
продолжают дрожать.
1 Официальный фашистский гнвд.
118
Фрау Кунце жутко.
Когда раздался смех, по ее телу пробежали му*
рашки. Чувствовалось, что все испытывали то же
самое. „Столько говорится о сплоченности нации,
но в глубине души каждый знает, где скрывается
враг".
„Почему они смеются?"
Фрау Кунце перестает петь. „Может быть они
еще смеются**? Нет, смеха больше не слышно. Только
песня звучит над площадью. „Может быть никто
и не смеялся?" — робко думает фрау Кунце. Вне-
запно загораются дуговые лампы, вспыхивают и
гаснут прожектора. Снова звонят колокола. Громко-
говоритель кричит: „Первое мая! День славы! Празд-
ник труда1" С грохотом двинулся „Стальной
шлем*. Толпа шевельнулась. Вспомогательная по-
лиция оттесняет ее в боковые улицы.
Когда фрау Кунце возвращается домой, ее муж
все еще сидит за письменным столом и считает.
— Ну, как сошло?—равнодушно спрашивает он.
— Глупый вопрос 1— фрау Кунце говорит еще
громче, чем всегда, но в ее манерах появилась не-
уверенность, встревоженная суета.— Было изуми-
тельно! Великолепно! Возвышающе!— слова вырыва-
ются у нее бессвязным, бурным потоком, она тяжело
дышит.— Видеманн... и колокола... и так много
флагов... наши изумительные штурмовики... и мы
пели... и все мы были как одно целое... и... и...
— Извини,— вежливо говорит Кунце. Я вспоми"
наю войну. Мы одерживали одну победу за дру-
119
гой и в конце концов это привело нас к пораже-
нию. Теперь у нас один праздник за другим. Как
бы это не привело к гибели.
— Заткни пасть!—рявкает фрау Кунце. Чтобы
сказал этот баран, если бы узнал об этом ужасном
подлом смехе!?. Ее взгляд останавливается на пор-
трете вождя на стене.
Вдруг ее муж говорит устало и сухо.
— Вексель братьев Франк опротестован. Это
может стоить нам головы.
— Милостивый боже, помоги нам,— произносит
фрау Кунце и слова ее похожи на вздох. Словно
очнувшись от сна, она переводит глаза на мужа,
вновь поникшего у письменного стола.
— Что ты сказал о векселе?
Ее голос дрожит от страха. „Сегодня они только
смеялись"—снова и снова думает она,—„но за-
втра..."
Перевод С. Умаксной.
Эрнст Оттвалът
БЕСЕДА С ШТУРМОВИКОМ
Сырой майский вечер. Маленький кабачок в Шар-
лоттенбурге, в котором я жду своих товарищей,
почти пуст. Несколько мелких буржуа дремлют за
кружками пива и жуют сигары. Вдруг все взгляды
устремляются на дверь и на лицах появляется вы-
ражение неестественной жизнерадостности, смесь
страха и фальшивой бодрости. Можно не глядя
на дверь определить: вошел штурмовик.
Он — еще молодой человек, небритый, бледный,
худой. Синий мундир шупо, белая перевязь вспо-
могательной полиции на рукаве, большой револьвер
в кобуре. Он здоровается:
— Добрый вечер.
Где-то раздается бормотанье: „Да здравствует Гит-
лер". Но в этом приветствии чувствуется недостаток
опыта. Полицейский нерешительно осматривается и
садится за мой стол» В кабачке — тихо. Слышно
только как капает вода из крана. Пиво, хлеб, па-
пиросы: штурмовик жадно пьет и его глаза мрачно
блестят.
Через минуту он просит у меня прикурить и
121
между нами завязывается беседа. Несколько дней
назад Гитлер в большой речи заявил, что еще до
конца года вспомогательная полиция будет пол-
ностью распущена. Я указываю штурмовику на его
перевязь и выражаю легкую зависть к его хоро-
шему положению,
— Вы хорошо устроились.
Он начинает ругаться:
— Все кончено. Завтра меня увольняют*
— Скверно. Что же дальше?
Он пожимает плечами:
— Да, что же дальше? Этого я не знаю.
Я молчу и уволенный полицейский начинает рас
сказывать. Четыре года находится он в Штурме,
четыре года он безработный. Все время ему гово-
рили, что рай на земле наступит тогда, когда Гит-
лер придет к власти. Четверть года служит он
в вспомогательной полиции: казенные харчи, квар-
тира в казарме, одна марка ежедневно... и уволь-
нение без всяких перспектив. Так выглядит для
него „рай".
— Мне 28 лет. У моей невесты от меня ре-
бенок. Мы хотели пожениться. Надо же когда-ни-
будь получить настоящую работу. Нельзя же вечно
так жить!
Я спрашиваю о его товарищах. Он возмущенно
говорит:
— Всюду то же самое. Они ждали золотых гор,
строили великие планы. Теперь они вышвырнуты
на улицу. Некоторым из них уже болыце тридцати
122
лет. Они не имели времени заботиться о протек-
циях в партии. Та работа, которая была, уже давно
иссякла. Теперь всюду сидят подлые льстецы,
секретари, лавочники и доктора. Мы же должны
только работать, слушать речи и кричать: „Да
здравствует Гитлер". Да, если бы я дослужился
хоть до полевой полиции, все было бы гораздо
лучше.
Я прислушиваюсь. Полевая полиция? Об этом я
еще ничего не слыхал. Мой собеседник рассказы-
вает:
— Во всех больших городах Германии созданы
особые организации из нескольких сот штурмови-
ков. Эти организации подчиняются непосредствен-
но водителям штурмовых отрядов, от которых по-
лучают приказания. Их задача — наблюдать за
остальными штурмовиками и „Стальным шлемом".
Когда организации штурмовиков и шутц-штурмо-
виков будут подсудны Военному Трибуналу, по-
левая полиция приступит к следствию и арестам,
уже не марксистов, а членов коричневой армии.
„Они оставляют у себя только мальчишек, но во
всем Берлине их наберется не больше 150 чело-
век, а мы, остальные, можем убиратьсяIа
— Вам объяснили причину вашего увольнения?
Полицейский смеется:
— Все обман! Они говорят нам: убивайте этих
свиней! А если мы действительно убьем одного
коммуниста, они являются к нам и говорят, что от"
ряд распускается из-за проявленной им излишней
123
жестокости. Все сплошной обмані В полевой поли-
ции происходят гораздо худшие вещи.
И он рассказывает:
— В полевой полиции не только до бесчувствия
избивают арестованных, но и по несколько дней
оставляют их без еды и питья.
И еще:
— В руки штурмовиков полевой полиции попал спи-
сок членов ^Германского общества мира4*. Двое
штурмовиков переоделись в штатское платье и пошли
„собирать" деньги для общества. Они собрали не-
сколько сот марок и вечером пропили их в казарме.
На следующее утро все жертвователи были аре-
стованы, увезены в казармы и избиты до полу-
смерти. Мальчишек они еще могут использовать
для шпионажа и тому подобное, но от нас они
желают избавиться. Это все!
— Так. Но у вас тоже жестоко обращаются с
арестованными?
Штурмовик удивленно на меня смотрит и през-
рительно смеется:
— Конечно, дружище. Арестованный нами пре-
жде всего получает подзатыльники. И какие! Ино-
гда я д*же удивляюсь, как только люди это выдер-
живают. И я должен тебе сказать, что и среди
коммунистов попадаются порядочные парни. У одного
из них, они во что бы то ни стало хотели что-то
выпытать. Ты думаешь — парэнь что-нибудь ска-
зіл? Он уже не мог ползать, не мог пошевелиться,
но он не сказал ни слова.
124
Я подавляю вскипающий во мне бешеный гнев
и спрашиваю так спокойно, как только могу:
— А где он теперь?
— Ах, теперь ему у нас довольно хорошо. Мы
его уважаем. Иногда он даже получает от нас па-
пиросу. А в общем—он подметает двор.
— Но pas вы все хорошо осведомлены об этих
жестокостях, почему вожди так много говорят о
„пропаганде ужасов?" Ведь вы спокойно можете
признаться в том, что происходит.
Полицейский придвигается ближе. Алкоголь на-
чинает действовать:
— Я тебе кое-что скажу. Они страшно трусли-
вы и все время боятся, чтобы мы не сделали чего-
нибудь неподходящего. Недавно мы хотели аре-
стовать Гугенберга. Я говорю тебе — парень уже
стоял одной ногой в тюрьме! Но кто-то предал
нас. Дружище, какой они подняли шум! Потом мы
хотели почистить в Грюневальде одного богатого
еврея, банкира или что-то в этом роде. Имя я за-
был. Опять—ничего не вышло. Приказ свыше. И
так почти всегда!
Я спрашиваю:
— Извини. Вы хотели арестовать Гугенберга? По-
чему?
— Вполне понятно. Своими ценами на масло
парень портит нам всю пропаганду. Куда бы мы
ни пришли, нас прежде всего спрашивают:—Что
случилось с маргарином? — Нет, парня надо
убрать.
125
— Но ведь Гитлер тоже хочет, чтобы крестьяне
хорошо зарабатывали?
— Да, но тогда евреям незачем так много за-
рабатывать.
— Каким евреям?
— Ну, евреям, торговцам маслом.
— Ив этом виноват Гугенберг?
— Да, в этом виноват Гугенберг. Нет, его
надо убрать. Кто же должен оплачивать дорогое
масло?
Все это сплошной обмані
Я оживленно с этим соглашаюсь, но в мрачных
глазах штурмовика медленно нарастает недоверие.
Он вздрагивает и говорит чужим, монотонным го-
лосом:
— Гитлер уже устроит это.
— Ведь вы делаете то, чего хочет Гитлер, нра-
вится вам это или нет,—говорю я равнодушно.
Штурмовик шепчет:
— Это зависит от того... Теперь они говорят
нам: все безработные штурмовики должны итти
на принудительные работы. Если это правда, то
ты кое-что увидишь!
Я молчу. Полицейский беспокойно оглядывается,
не услышал ли его кто-нибудь, и замолкает.
— Барышня, счет!—Он расплачивается, потом
быстро протягивает мне руку и уходит.
Один из гитлеровской коричневой армии. Об-
манутый обманщик. Один из ста тысяч. Удастся
ли когда-нибудь внести свет в эту тупую смесь
126
глупости, трусости, жестокости и страха перед
жизнью?
Куда идут эти люди? Навстречу великому про-
буждению или навстречу великому суду?
В дверях стоит товарищ и кивает мне. Вперед,
вперед... Работа ждет.
Перевод С. У майской.
Иоганнес Р. Бехер
ПЕРЕБЕЖЧИК
Это—история Курта Рорбаха, перебежавшего к
наци, того Курта, судьба которого причинила нам
столько беспокойства.
Парню было, конечно, не легко. Он никогда в
жизни не работал, никогда не был на производ-
стве. К нам он пришел, думая, что найдет какое-
либо занятие. У Курта были сильные руки и ноги,
ему было семнадцать лет, и он искал, чем бы
заполнить время.
Он был счастлив, когда мог вырваться из дому.
Ему надоели вечные стоны родителей — все было
всегда слишком дорого; так продолжалось уже свы-
ше трех лет с того времени, когда отец стал без-
работным, а мать не могла найти настоящей рабо-
ты. Знакомые парни имели своих девчат и мото-
циклы, существовало кино и автомобильные гонки,
в Спорт-паласе процветал бокс.
Что это за жизнь? Шатаешься целый день дома,
из-за каждых десяти пфенигов скандал, куда бы
ни захотелось пойти, нужно иметь деньги. Выхо-
дило, что мир состоит только из двух категорий
128
людей: одних—у которых деньги есть и которым
все мало, и других—не имеющих денег; им в те-
чение всей жизни ничего не добиться.
Курт был изобретательным малым. Изобрета-
тельность его была направлена на то, чтобы до-
быть себе, конечно, без денежных затрат, высо-
кие шнурованные сапоги, черные брюки и шинель.
Курт говорил, что получить значек даром он не
хочет. Поэтому ему даже не пришло в голову снять
значек, когда он попал в довольно серьезную пере-
делку: „Ладно, пусть эти собаки меня убьют!"
Очень уж он гордился своей советской звездочкой.
Он был с нами в Тельтове во время перестрелки,
когда наци напали на общежитие рабочих и рабо-
чие взялись за оружие. Убито было два наших
товарища и трое наци.
Курт сумел также добыть себе револьвер. Стре-
лял он хорошо. Он попадал в воробья на рассто-
янии пятидесяти метров. Мы считали, что наци
скоро его ухлопают, так как двое из них узнали
его тогда в Тельтове. Но Курт ходил домой тем-
ной ночью один. Охраны он не хотел.
— Берегись, Курт,— говорили мы ему,—в конце
концов они тебя всетаки пристукнут.
Он, смеясь, хлопал по заднему карману, погла-
живая револьвер.
Курт был крепким парнем. Больше мы, собствен-
но говоря, ничего о нем сказать не могли.
Оя не любил ни читать, ни посещать курсы,
Если Курт уходил с собрания спокойно, то есть,
129
если наци ке пытались это собрание сорвать, оя
был недоволен. Вечером в ячейке Курт сидел без-
участно. Однажды он попросил слова, зевнул... и
на этом закончил свою „речь". Но в случае тре-
воги, он всегда был на месте первым, его, как
говорится, точно подменяли. Курт в ячейке — и
Курт, который шел со своим эшелоном, были двумя
разными людьми.
Но так как тревога бывала не каждый день и
так как не каждая тревога кончалась столкновением,
Курт вскоре стал действовать самостоятельно.
Вместе с несколькими отчаянными парнями он ор-
ганизовал отряд и начал расправляться с наци в
нашей местности.
В то время он причинил нам много хлопот.
Он не хотел понять, что такие выходки могли
больше повредить нам, чем помочь, и что проле-
тариев, обманутых фашистами, необходимо при-
влекать на нашу сторону. Он остался при своем
мнении: настоящая драка—лучшее средство убеж-
дения.
Тут началась забастовка В. V. G.г
Курт был в движении день и ночь. Он выстре-
лил в шину автобуса, который ехал, несмотря на
объявленную забастовку. Колесо стало плоским,
и автобус, точно парализованные, остановился.
Средь бела дня он разбил несколько бочек с це-
1 Забастовка берлинских транспортников.
130
ментом. Мы были страшно удивлены: полицей-
ские обходили Курта.
По окончании забастовки в нашем районе одно-
го товарища выселили из квартиры. Мебель была
уже вынесена. Судебный исполнитель взял порт-
фель с актами и сел на велосипед. В этот момент
появился Курт. Весь его отряд, подняв кулаки,
бегом следовал за ним. Грузовик остановился.
Курт с товарищами внесли мебель, одну вещь за
другой. Улица была запружена народом. Воскли-
цания: „Бравої" „Правильної" —приветствовали
отряд. Судебный исполнитель бежал на велосипеде,
преследуемый хохотом, он бежал, точно подхле-
стываемый ветром.
Но вот Курт опять очутился без дела.
Он стоял — руки в карманы — возле нашего га-
зетчика у остановки подземки. По его виду можно
было сказать, что ни к чему хорошему он притти
не сумеет. В ячейку он не ходил. Нет, он не вы-
держивал этой „болтовни"...
Мы еще раз попробовали серьезно с ним пого-
ворить. И тут стало ясно, как трудно говорить
с товарищем, который никогда на производстве не
работал. Вопросы массовой борьбы, необходимость
привлечь большинство рабочих казались ему не-
понятными.
Пришел день наступления штурмовиков на Бю-
лов-платц.
„Марш к дому Карла Либкнехта! Никто,—грозил
Курт,—не придет на этот раз живым на площадь".
131
После наступления штурмовиков, которое наци
сумели провести благодаря помощи сильных поли-
цейских отрядов, мы Курта больше не видали.
Наци начали его обрабатывать.
Они обещали ему „занятие", обещали отцу ме-
сто швейцара, а матери—место прачки в общежи-
тии штурмовиков. Несколько женщин наци обра-
батывали мать Курта. Те двое, которые узнали
его во время перестрелки в Тельтове, явились к
нему домой и сказали, что готовы молчать о про-
шлом...
Мы знали все это, но допустили ошибку. Мы боль-
ше не заботились о нашем товарище и предоставили
его наци: „Видишь ли, теперь они его всетаки угро-
били..." И он перестал существовать для нас.
Наци предложили Курту обучить его стрельбе
из пулемета и послать в школу шофферов. Курту
понравилась игра в солдаты. В помещении штур-
мовиков были папиросы и гороховый суп. Води-
тель штурмовой колонны предложил Курту партию
в скат1. Курт успокоился: „Я остаюсь таким же,
как был", или: „Если те наверху не будут хотеть
того, что мы хотим, мы им подпустим жару!" Бессозна-
тельно он держал руки по швам и стоял перед
водителем штурмовой колонны навытяжку.
Так покинул он наши ряды. Он сообщил нам
о своем переходе к наци коротким письмом. Без
мотивировки.
1 Скат—распространенная игра в карты в Германии.
1S2
После пожара в рейхстаге на нас напустили
штурмовиков.
Среди тех, которых рано утром выволакивали
из кровати в одних рубашках и затем гнали по
улицам при помощи ударов кнута и стальных па-
лок, находился и товарищ Антон, газетчик, дру-
живший с Куртом.
В тот момент, когда Антона привели в казармы
штурмовиков, Курт стоял на посту.
В подвале Антона заставили поднять руки и статі
лицом к стене.
~ Так. Теперь мы тебя прикончим, сволочь!
Заряжать 1
От ужаса ноги Антона приросли к земле.
Щелкнули затворы.
Антон хотел упасть. Но он стоял, вытянув руки
вверх, неподвижно. Пули попали в стену у самой
его головы. Известка посыпалась на лицо. Оскол-
ки остались — точно окаменевшие слезы,
Им пришлось резко прйернуть Антона, так как
он не двигался с места.
„На колени! Свинья!"
Колени не сгибались. Его ударили, ноги согну-
лись и Антон упал на колени.
„Песню Хорст-Весселя или..."
Антон смотрел на направленные на него дула.
Круглые рты револьверов увеличивались, надвига-
лись, уменьшались и стали наконец далекими точ-
ками.
В нем что-то поднималось теплое, могучее. Это
ІЗЗ
что-то открыло ему рот, и полилась песня, в ко-
торой было все его, точно расплавленное суще-
ство. Он не мог сопротивляться.
Он не знал, что рвалось из его рта.
Это был „Интернационал".
Во время первого куплета штурмовики отпряну-
ли назад, не веря своим ушам.
„Это есть наш последний...и Удар сверху и го-
лова падает на грудь.
„И решительный бой"... Удар в спину.
„С Интернационалом воспрянет род людской"...
Антон почувствовал вкус крови. Она текла из его
рта. Человек, которого били сапогами, били чем
попало, человек, свернувшийся клубком, потерял
сознание.
Когда он пришел в себя, перед ним стоял води-
тель штурмовой колонны с кружкой кофе в руках.
Антон почувствовал отвращение к коричневой жид-
кости с тошнотворным запахом* Быть может отвра-
щение вызывал штурмовик—лицо в шрамах. Это бы-
ла типичная, вспухшая от пива, студенческая харя.
Швы формы лопнули от ярости, когда Антон вы-
бил кружку из его руки.
По лестнице в подвал сбежало пять человек,
они набросились на Антона.
Рорбах, конечно, знал, что происходило внизу.
Это не давало ему покоя. Он должен был вер-
нуться еще раз. Еще раз, в последний раз, он про-
шел с нами кусочек пути. Он передал одному из
наших товарищей записку, в которой сообщал об
134
Антоне. Мы нашли нашего товарища следующей
ночью. Он лежал посредине улицы перед обще-
житием штурмовиков. Мы перенесли его в безо-
пасное место.
Курт Рорбах должен был теперь, больше чем
когда бы то ни было, бороться со своим прошлым.
Те два штурмовика, которые знали о перестрел-
ке в Тельтове, теперь не спускали с него глаз.
Каждый раз, когда решалось особо подлое на-
падение на нас, Курта удаляли. Когда те двое хо-
тели выжать из Курта имя или адрес того или
иного из наших работников, Рорбах пытался от-
делаться ложью или отговорками, но в результате
он сдавался и предавал. Курт сам удивлялся, как
быстро отступал он с каждым разом. Крики пре-
данных им товарищей там, в подвале,— он ничего
не мог с этим поделать,—не давали ему жить.
Курт раздумывал. Он думал о том, чтобы просто
покинуть Берлин, уйти и бродить по деревенским
дорогам. Потом он вспомнил о револьвере. Он не
понимал, как это не пришло ему в голову раньше.
Это казалось наиболее простым.
Он решил покончить со своим прошлым.
Один из двух штурмовиков был застрелен утром
в Груневальде. Так как на его груди лежала за-
писка со словом „Коммуна"—вечером у шлюза
Махновер нашли трупы трех коммунистов.
В следующую ночь раздался выстрел сзади в
другого штурмовика, но на этот раз стрелок про-
135
махнулся. Он не попал в свое прошлое. Прошлое
оглянулось, узнало Курта и побежало дальше.
Некоторое время Курт мог скрываться от прош-
лого. Он думал и о том, чтобы к нам вернуться.
Однажды Курт нерешительно бродил вокруг дома
одного нашего товарища. Он повернул было к это-
му дому, но в этот момент его арестовали.
Перевод Б. Болеславсной,
Вальтер Шенштедт
ОБЫСК *
Утром по аллее Ландсбергер промчались грузо-
вики. На передних машинах сидели полицейские
вспомогательной полиции, на задних—зеленая поли-
ция. Автомобили сопровождал экскорт мотоциклеток
ячерных гусар". В середине колонны, в темной
машине ехал господин фон Леветцов, полицейпре-
зидент Берлина.
1 .Обыск"— отрывок иэ романа Вальтера Шенштедта * За-
стрелен при попытке к бегству". Альберт—герой этого романа—
молодой отсталый рабочий, втянутый в штурмовой отряд, зара-
женный националистическими идеями. В романе раскрыта пси-
хология Альберта, в котором под влиянием картин фашистских
издевательств над трудящимися просыпается пролетарский
классовый инстинкт. Мало-по-малу сквозь толщу национали-
стических предрассудков пробивается голос классового про-
теста. Судьба Альберта типична для некоторой весьма неболь-
шой части молодых людей за рубежом» происходящих из рабочих
семей, но никогда не работавших вследствие хронической без*
работицы. Фашистская демагогия увлекла их. Это они восстают
сейчас против своих собственных начальников и из соучастни-
ков фашистских бесчинств превращаются в их жертвы.
137
Машины медленно повернули в улицу Ландышей
и окружили Лаубенколонию1.
Около фон Леветцова сидел крепкий мужчина в
штатском. На его коленях лежал развернутый
план, по которому он давал объяснения своему
соседу. Подняв руку, этот человек подал знак,
чтобы приступили к обыску в колонии.
Альберт держал револьвер в руке. В сопрово-
ждении четырех молодых полицейских, он перелез
через низкий забор, длинные, заржавленные желез-
ные прутья которого громко зазвенели. Они про-
шли по широким грядкам молодой капусты с бледно-
зелеными листьями и остановились перед черным
достчатым шала шом. Окно было завешено темным
одеялом, под косой крышей висела дощечка из
белой жести с надаисью: „Отдых Фриды".
Над крышей вился синеватый дым. Пахло сгорев-
шими, смолистыми дровами, дегтем и пряным
навозом.
Позади шалаша, низко протянутая проволока от-
деляла этот участок от соседнего. Там перед де-
ревянным домиком стояли двое полицейских и
колотили в ставни револьверными ручками.
Альберт крикнул:
— Халло, открыть!
Скрипя, как старые, заржавленные ворота, очень
быстро открылась кривая дверь. Женский голос
злобно крикнул:
1 Колонии безработных под открытым небом.
138
— В чем дело?
Увидев мужчин в форме, женщина испугалась;
ее густые волосы медленно выскользнули из узла
и рассыпались по спине. Она быстро вошла вглубь
шалаша, за ней последовали Альберт и трое поли-
цейских. Один остался стоять перед шалашом.
Внутри помещения было темно; только постепенно
различили они женщину и мужчину. Они чувство-
вали тяжелое тепло постелей. Непрерывно почти
весело кричал ребенок: „Бэбэ ... бэбэ..."
Альберт сказал:
— Мы должны все здесь осмотреть, нами окружена
вся колония. Зажгите свет, только побыстрее.
— Почему же у нас, здесь, в этом тихом уголке,
и в такую божью рань,— робко возразил мужчина.
— И ведь мы совершенно аполитичны,— добавила
женщина.— Мы никогда не заботились о политике,
никогда, говорю я вам. Господи боже!
Она сняла с маленького окна одеяло и вглубь
комнаты робко проник свет. Снаружи, за окном,
на темно-зеленых грядках редиски лежала тень от
шалаша.
В скудных лучах солнца ребенок смешно вытя-
гивал вверх свои розовые нежные ножки и улы-
бался.
Женщина бросила взгляд на раскрытую постель, в
которой спала с мужем и прикрыла ее. Это была
железная кровать, узкая и низкая, с чистыми клет-
чатыми одеялами.
Полицейский раньше всего осмотрел эту кровать;
139
он сбросил одеяла и ощупал матрац. Когда он
всунул в него руки, полетели перья. Потом он
отодвинул кровать от стены. Кровать была легка
как колыбель, но под ней лежала только связка
сухих прошлогодних стручков.
Ребенок лежал в ящике до половины наполненном
терпко пахнувшими опилками.
В ящике ребенка тоже ничего предосудительного
не оказалось. На столе стояли две чашки; в одной
из них еще оставалось немного темного кофе.
Желтый кухонный шкаф был наполовину пуст-
Между тарелками лежали счета и удостоверение
безработного.
Альберт ухватился руками за поперечную балку
и подтянулся к потолку: над балкой лежала пара
запыленных досок, маленький полотняный мешок с
разными семенами и плоская сигарная коробка с
гвоздями.
— Здесь ничего нет, — откашливаясь сказал
Альберт и спустился на пол. — Поищем снаружи.
Они начали искать во дворе и тяжелыми сапо-
гами топтали огородные растения.
В трех местах они вырыли в черной земле боль-
шие ямы. В одной из них они нашли бочку, ко-
торая рассыпалась как карточный домик. Один из
полицейских натолкнулся на большой камень, под
которым обнаружился ржавый мелкий песок, впер-
вые увидевший лучи света.
В другом месте они нашли старый испорченный
револьвер, ствол которого до половины съела ржа
140
вчина. Он был тяжел. Полицейский с досадой от-
швырнул его на маленькую кучку навоза у стены.
Женщина стояла прислонившись к шалашу. Ее
лицо было серым и поблекшим; она не плакала.
Она пристально смотрела на землю, которую раз-
рывали мужчины. Ее муж непрерывно бормотал
непонятные слова и большими шагами бегал взад
и вперед по узкой дорожке. Раз он остановился и
сказал почти угрожающе:
— Раз вы разрушаете последнее достояние бед-
няка, вы не можете быть друзьями народа. Это
делают только враги.
Потом его рот испуганно искривился, лицо по-
бледнело, он быстро побежал дальше и осторожно
повернулся только в самом конце дорожки*
Только Альберт понял его слова й ему пока-
залось, что они прозвучали как злобное проклятие.
Он ничего не ответил: он подумал о том, что этот
человек всю весну мучился в саду, чтобы иметь
осенью несколько картошек и кочанов капусты.
Он видел, как изрыты огороды и во всех дру-
гих садах колонии.
Мысль, что под рассадой может быть спрятано
оружие и коммунистические листовка, была, соб-
ственно говоря, сумасшедшей. Этот жалкий взвол?
нованный мужчина не был коммунистом. Так не
выглядят прячущие оружие коммунисты. Вялый и
расслабленный, в изношенной черной одежде, бес-
смысленно что-то бормочущиі, он производил впе-
чатление выгнанного и опустившегося дерзвен-
141
ского священника. Может быть, он был даже членом
какой-нибудь сумасшедшей религиозной секты.
Человек вплотную подошел к Альберту и не-
сколько раз комично пошевелил головой. Потом
его рот закрылся и Альберт услышал скрежетание
зубов. Глаза человека, в которых белок становился
все больше, были злы. Альберт нашел эти глаза
отвратительными. Он видел однажды в деревне
как кололи теленка. У этого теленка были такие
же глаза, как будто перед смертью он хотел испу-
гать человека.
Вдруг человек начал дрожать, его глаза сузились,
в уголках рта появилась пена, он подошел к Альберту
еще ближе и сказал страшным монотонным голосом:
— Так мы разрушали поля во Франции. Мы
растаптывали там огородные грядки, между кото-
рыми были убиты наши товарищи. Но тогда была
война, а теперь мир. На войне я был отравлен га-
зом, я много проглотил газа для моего отечества,
ради того, чтобы наши поля не были растоптаны.
И вот приходите вы. Я никогда ничего плохого
вам не сделал, но вы—как чума.
Альберт вздрогнул. Теперь ему ничего другого
не оставалось — он должен был арестовать этого
человека. Он поднял руку, но в это мгновение че-
ловек бесшумно опустился на землю. Женщина на
пороге шалаша вскрикнула. С развевающимися во*
лосами бросилась она вперед, угрожающе взглянула
на Альберта и, опустившись около мужа на колени,
закричала:
142
— Он тяжело пострадал на войне, он всегда так
волнуется! Что вы с ним сделали? Густав, Густав,
что с тобой?
Альберт принес воды из колодца. Передавая
женщине стакан, он снова увидел белые, широко
раскрытые глаза мужчины. Вместе с женщиной- он
оттащил лежащего в беспамятстве в шалаш. Изо рта
больного текли длинные зеленые струи пены, кото-
рые липли к сапогам Альберта.
Потом Альберт пошел доложить о безрезультат-
ном обыске в шалаше „Огдых Фриды" и о полу-
сумасшедшем мужчине, упавшем в обморок.
На одном грузовике лежало несколько топоров,
мелкокалиберная винтовка и короткий, наполненный
песком шланг. Листовки не были найдены.
— Зачем же забирают топоры? — спросил Аль-
берт одного товарища.
Тот сперва недоуменно взглянул на него, потом,
словно бы напряженно обдумав ответ, сказал:
— Топоры? Топором тебя могут хорошенько са-
дануть по черепу.
Альберт не взял топора у упавшего в обморск
человека. Ему даже не пришла в голову мысль,
что тот может садан}ть его топором по черепу.
На одной из машин стоял серый пулемет, по-
вернутый к колонии.
Альберт вспомнил картинку из истории кре-
стьян кой войны, на которой мужчины и жен-
щины с косами и граблями напали на своих му-
чителей
14;
— Но ведь крестьяне были правы! — громко ска-
зал он.
Его товарищ глупо захихикал и спросил:
— Ты бредишь, дружище?
Грузовики медленно двинулись в обратный путь.
Впереди „черные гусары", в середине — машина
фон Леветцова.
На последних машинах молча сидело несколько
арестованных: владельцы топоров.
Перевод С. У майской
Иоганнес Р. Бехер
ЗВЕНЯЩИЙ ДОМ
Цинке был наборщиком у Шерля. Он был старым
профсоюзным деятелем — член союза с 1894 года.
Ему было 58 лет.
1.
В 1917 году у Цинке появилось желание выйти
из профсоюза. Он был призван вскоре после начала
войны. Цинке рыл братские могилы в Северной
Франции, большие спокойные ямы, в которые ки-
дали трупы. Во время урока отечественной истории
у него произошел скандал с одним из профсоюз-
ных бонз, присланным высшим командованием. Он
рассказывал, что Карл Либкнехт был одним из са-
мых богатых людей и имел в одном только Бер-
лине с десяток домов. Этого Цинке уже выдержать
не мог. Он воскликнул: „Ложь! Ложь! Ложь!" —
три раза подряд* Бонза донес об этом происшествии
и Цинке лишили отпуска.
В ноябре 1918 года он вернулся домой. Жена
говорила: „Подожди, ты всегда успеешь выйти из
профсоюза..."
145
Дети выросли. Перловая крупа и брюква сделали
их тонкими и длинными. Когда Цинке увидел жену,
он удивился, насколько человек может постареть.
Ему стало жутко. Во время войны ей пришлось рабо-
тать прачкой в гараже — руки ее стали твердыми,
как доски и она шла—точно водила руками по земле.
Цинке был слишком привязан к своей организа-
ции, дал уговорить себя и остался в ней. Он, ко-
нечно, спросил о тогдашних „скандальных про-
исшествиях". Ему ответили: „Профсоюзы идут пра-
вильным путем, и он, как старый профсоюзный
деятель, не может этого не видеть".
Профсоюзы оставались мирными.
Республика была провозглашена.
Цинке снова был у Шерля наборщиком.
Сыну своему, которому было тогда 18 лет и все
симпатии которого были на стороне спартакистов,
он говорил:
— Герман, еще одно слово против профсоюзов—
и я тебя вышвырну...
Когда Цинке случайно ^встретил на улице того
профсоюзного воротилу, который тогда на фронте
донес на него, он вежливо ответил на его приветствие
и согласился с тем, что в конце-то концов все идет
правильно и что так много внимания мелочам уде-
лять нельзя.
2.
Цинке экономил.
Он отдавал жене все жалование и получал кар-
манных денег ровно столько, чтобы хватило на
146
трамвай и воскресную сигару. Друзей у него не
было. В отделении, где он работал, было только
несколько старых социал-демократов, остальные —
молодежь — либо сочувствовали коммунизму, либо
интересовались исключительно спортом.
„Старый опытный член союза" сознательно дер-
жался особняком.
Когда его хотели избрать в завком, он посове-
товался с женой и она сказала:
„Откажись" — и он отклонил предложение.
Достаточно голосовать за или против и регулярно
читать профсоюзную газету.
Герман—спартакист —доставлял семье много бес-
покойства.
Он задавал отцу вопросы, на которые трудно
было ответить, просто позор, как беззастенчиво он
припирал отца к стене. Однажды, когда старый
Цинке совершенно не знал, что ответить, он просто
стукнул кулаком по столу.
— Кто же я в конце концов, по-твоему? — спро-
сил он свирепо.
Сын ответил:
— Лакей буржуазии.
Последовал скандал, который удалось прекратить
только призвав на помощь соседей.
3.
„Лакей буржуазии".— Цинке проснулся от этой
мысли и разбудил жену.
— Ок ненормальный,~-успокоила его жена и начала
147
рассказывать о том, что ей снова снился собствен-
ный домик:
Возле Берлина, на опушке лесочка, лучше всего
двухэтажненький, четыре комнатки, садик, стек-
лянная верандочка, на которой можно уютно пить
кофеек. А что будут говорить родственники! Курт
уже бухгалтер и зарабатывает. Герман, правда су-
масшедший, но хороший работник. Словом, жизнь
обеспечена.
— Сумасшедший...— бросил Цинке и начал было
думать о сыне, но вместо этого также занялся
собственным домиком. Цинке начал высчитывать:
да, нужно будет экономить два года, чтобы вне-
сти задаток, потом нужно будет платить только
ежемесячную плату и через 35 лет домик твой.
— Такой сумасшедший!—воскликнул он еще раз,
засыпая и увидел сон:
В середине собственного домика — он лежал как
в колыбели.
Стены чисто выкрашенные, увешанные олеогра-
фиями, улыбались ему.
Внизу, в середине комнаты—рояль, у рояля—Курт.
Наверху, во втором этаже, играло радио.
Садик окружен забором, только на днях выкра-
шенным свежей краской. Перед домиком у самой
улицы, он нашел еще кусочек земли и тоже окру-
жил его забором. Теперь это настоящая собствен-
ность.
Насчет собственности и заборов у него была
своя точка зрения еще с того времени, когда он
148
однажды, будучи молодым парнем, крал яблоки.
Он повис на каком-то заборе и разорвал себе штаг
ны. Существует множество всяких заборов и по за»
бору можно судить о владельце.
Некоторые предпочитали дерево, другие выбирали
колючую проволоку и Цинке забором хотел пока-
зать всему свету, что дело шло о собственном
клочке земли.
И во сне он гладил рукой забор, окружавший
его собственность.
В гостиной на втором этаже пробило двенадцать
раз. Гулкий праздничный звон. Это били часы, ко-
торые он собирался подарить жене ко дню ро-
ждения. Бей часов звучал как бой колокола в Кельн-
ском соборе. Звук—полный и сильный. Гости стояли
перед часами, любовались и удивлялись, почему
Цинке не берет денег за осмотр своих владений.
Долго после последнего удара в дояе оставалось
что-то праздничное, звучное, точно стены, погло-
тившие звон, отдавали его тихо вибрирующей ти-
шиной.
4.
1923 год.
Инфляция разбила мечты Цинке о собственном
звенящем доме. Сбережения таяли, о собственности
не приходилось и думать.
Герман вступил в ряды коммунистической партии.
Старый Цинке нарочно часто оставался с ним
наедине. Он что-то хотел выудить из Германа, что —
149
он и сам не знал. Но Герману всегда удавалось
отвертеться. Тогда старик набрасывался на комму-
нистов и тихо гоаорил, как бы про себя, чтобы по-
злить Германа: „Это я-то лакей буржуазии!" И
думал в то же время: „Не выйти ли мне из проф-
союза?" так как он ничего не мог противопоставить
словам Германа. Герман говорил, что инфляция
при помощи профсоюзов — только маневр, чтобы
обмануть маленьких людей.
„Оставайся в союзе, — говорила жена, еще при*»
годится, увидишь".
Но старик уже не засмеялся, когда жена однажды
сказала, что он до смешного похож на Гинденбурга.
Цинке носил коротко остриженные волосы — боб-
риком, и походка была у него тяжелая.
5.
Инфляция кончилась. Гинденбург был избран
рейхс-президентом.
Когда товарищи говорили о сходстве с Гинден-
бургом, Цинке делал вид, что сердится, но на са-
мом деле немножко гордился.
6.
Цинке не мог позволить себе стакана пива после
работы.
Цинке не делал прогулок с семьей по воскре-
сеньям.
Цинке сам чинил свою обувь.
Цинке больше не тратил денег на сигары.
150
7.
„Экономить1* — было первое слово, которое гово-
рила жена утром, приготовляя ему бутерброды...
„Экономить*1 — здоровалась она с ним, когда он
возвращался домой с работы. „Экономить"—точно
говорил ужин... „Экономить" — значило, что нельзя
попросить второй тарелки картофельного супа.
„Экономить" — урчало в пустом желудке. „Эконо-
мить"— нашептывали много раз заштопанные носки.
„Экономный человек" — приветствовала его смер-
тельно усталая одежда. И Цинке ходил пешком
на службу, чтобы сэкономить трамвайные
Конечно, история показала немало примеров эко-
номии. Фрау Цинке охотно рассказывала о миллио-
нерах, ставших миллионерами благодаря экономии.
Экономить было полезно. Экономия была преду-
смотрена. Всюду существовали сберегательные об-
щества, сберегательные кассы, сберегательные
кружки. Профсоюзы также откладывали сбереже-
ния в банк. Каждый профсоюзный деятель мечтал
о собственности, купленной на сбережения.
Цинке экономил. Все те, кто не экономили, стали
для него мотами. Он говорил, что не нужно подни
мать такого шума из*за безработных. Сам он всегда
имел работу. Когда его товарища лишили работы,
он почувствовал насколько тот сразу стал ему чу-
жим, почти враждебным. Товарищ уже принадлежал
к тем, которые стоят вне производства и хотя г
привести всех к забастовке. „Вне производства!4
Они больше не понимали друг друга.
151
— Лучше о них не думать, — пробурчал Цинке,
когда один из его товарищей пришел собирать для
безработных.
Иногда было очень обидно экономить. Приходи-
лось силой отрываться от витрины, чтобы не зайти
в.табачный магазин и не купить ящик сигар. Осо-
бенно много беспокойства причинял продуктовый
магазин, мимо которого он проходил ежедневно.
Цинке каждый раз точно хватал еду руками сквозь
витрин/ и утолял голод.
8.
Но день настал.
Была суббота, Цинке уплатил задаток за соб-
ственность. Семья стояла вокруг сберегатель-
ной книжки, охваченная праздничным настроением.
Они указывали на цифры, касались их пальца-
ми. Германа среди семьи не было.
9.
Теперь нужно было устраиваться.
Цинке больше не читал профсоюзную газету. Не
было времени. Он подписался на „Kleingartner" *.
Свободное время он проводил в садочке, нужно
было выкрасить забор, забора было слишком мало
и перед домом со стороны улицы нужно было по-
ставить еще одну ограду. Он видел перед собой
очень важную задачу. Купить такой дом (с садом),
1 Срдовпик..
152
потом устроить его (на собственные сбережения!).
На это нужно было потратить много сил.
Камень за камнем, балка за балкой, двери, окна,
болты и гвозди —все это был он сам. Теперь нужно
заполнить дом—так как урожай заполняет амбары.
Снова нужно было экономить, экономить без кон-
ца, чтобы закупить мебель.
Пустой дом, казалось, стонал,—он был голоден.
Он требовал стульев, шкафов, статуэток, салфе-
точек и картиночек. Он был ненасытен.
10.
И настал еще день, когда Цинке мог сказать—дом
насытился.
11.
Солнце грело. Семейство Цинке сидело на тер-
расе. Они пили кофе. Цинке устраивал дом. Курт,
который успел стать хорошим бухгалтером, но
стремился к большему, сел за рояль. Цинке вклю-
чил, радио. Быстро поднялся по лестнице: раздалось
четыре гулких полнозвучных удара.. Было 4 часа,
когда Цинке в первый раз услышал бой кельнских
часов.
У фрау Цинке на глазах выступили слезы.
Как жаль, что Герман ушел.
Дом звенел. Цинке любовался своим делом. Так
было хорошо.
12.
Приходили гости. Цинке заставлял дом звенеть.
Снова гости. И дом звенел.
153
Соседи говорили: звенящий дом»
Дети стояли перед ним, ждали—и дом наконец
звенел.
13.
Цинке работал.
Курт и Герман работали.
Семье Цинке не на что было жаловаться.
14.
Два человека деловито устраивались посреди
улицы как раз против домика Цинке. Один из них
напялил кирасирскую каску с перьями. На плечах—
подставка со звоночками. На спине литавры. Спе-
реди на поясе шарманка. Правая нога привязана
к литаврам. Концерт начался. „Кирасир" обслужи-
вал сразу четыре инструмента. Он тряс головой—
она звенела. Двигал правым локтем—литавра гре-
мела. Двигал левой ногой — ленточки развевались,
левой рукой он вертел шарманку. Спутник его смо-
трел в окна, точно ожидая золотого дождя. Он сделал
реверанс, когда упала пятипфенниговая монета, за-
вернутая в бумажку.
— Фу ты чорт,—воскликнул Цинке,—чего толь-
ко пролетарии не делают... паяцы.
Концерт продолжался не долго. Вдоль улицы
шла толпа, впереди трубачи. Группа молодых пар-
ней пела, это, видимо, были студенты. Другая груп*
па следовала за ними со скрипками и цитрами. По-
казался силач, мускулистый парень. Но из за го-
лода он не мог показать себя во всей красе.
154
Мужчины стучали в двери, кое кто в отрепьях,
кое-кто лучше одет, старые и молодые, девушки
и женщивы, женщины с детьми. Они просили кусок
хлеба.
Начали открыто говорить о том, что нужно пре-
кратить нищенство. Нужно бы уведомить полицию.
Цинке давал, когда бывал дома.
Фрау Цинке думала: „Жулики, лентяи, их только
приучают к безделью".
Цинке присмотрелся к двум оборванцам, кото-
рым он дал кусок хлеба. Они вырывали друг у друга
хлеб изо рта, ругались из за каждого кусочка.
Крошки они тщательно подбирали.
15.
Цинке привинтил к двери американский замок п
сделал решетки на окнах первого этажа.
Цинке перевел свой дом на военное положение.
Против кого?
Герман говорил: „Подожди, отец, кризис заглянет
и в наш дом".
Американскими замками и обрешеченными окна-
ми нельзя бороться с голодом. Это хорошо знал
старый профсоюзный деятель. Он снова начал чи-
тать свою газету.
Однажды вечером на Германа напали „наци"—кх
в этом районе стало очень много.
Цинке не подходил к Герману, когда тот лежал
с разбитой головой. „Лакей буржуазии" стоял
между ними. Цинке этого не забыл.
155
16.
Когда снова сократили товарища, Цинке подо*
шел к нему и пригласил к себе домой.
Цинке приобрел себе собаку. При этом он ду-
мал о наци. Они ведь могли притти к нему с ви-
зитом.
17.
Крах банка Данат.
Цинке был рад, что его сбережения были вло-
жены в землю. Перед сберегательными кассами
стояли люди. „Заперто" было написано на многих
дверях. Это слово „заперто" проникало в дома, в
комнаты, люди хохотали от отчаяния. Это было
действительно смешно—„заперто!" В воздухе бы-
ла неуютная тишина и ожидание, точно каждое
мгновение могло случиться что то особенное, ужас-
ное. Богатые люди переезжали границу. Наци как
будто исчезли.
Цинке стоял вечером у окна, смотрел на улицу,
влево, вправо, точно он каждое мгновение ожидзл
ЧЄГО-TQ...
18.
Пришло 20 июля1. Некий лейтенант с тремя
солдатами свергли Зеверинга.
После работы Цинке ходил по улице, ждал. Чего
он ожидал от улицы? Вверх и вниз по улицам.
Мимо прекрасного нового дома профсоюзов—но
все было как всегда. Может быть он чего-нибудь
1 20 июля 1932 года Папен разогнал социал-демократиче-
ское правительство в Пруссии.
J56
искал? Снова улицы—вдоль и поперек. У вокзала
подземки—толпа. Молодой парень с красной звез-
дочкой разбрасывал листовки,
„Всеобщая забастовка".
На Цинке нахлынули воспоминания. Он ученик-
наборщик. Первое мая, красная гвоздика в петли-
це, с ним рядом идут тысячи. Линиенштрассе, Хал-
лишестор: „Социал-демократической партии, несу-
щей народам свободу, ура!" „С Интернационалом
воспрянет род людской". Солдатня, которая дол-
жна остановить шествие, теряется, сабли остаются
в ножнах.
Что-то происходит. Это старый Цинке ощущал
во всем своем теле.
Словно меняется погода. Чесались пальцы.
Что-то надо было делать.
Он дал пинка „лакею буржуазии", и место между
ним и Германом очистилось.
Какого дурака свалял! Ему было смешно, что он
дал себя разыграть в своем собственном доме. Же-
на ничего другого не знала, да и откуда ей было
знать?
Дочь кондитера, и кроме того, он позволял ей
бегать в церковь каждое воскресенье. Он вспомнил,
как часто приходили гости и он заставлял свой
дом звенеть. Смешно и стыдно...
Цинке взял листовку из рук человека со звез-
дочкой и начал спорить с каким-то старым проф-
союзником, который предостерегал его от необду-
манных поступков и резко нападал на коммунистов.
157
Цинке, который также представился, как профсо-
юзный деятель, достаточно было привести те са-
мые доводы, которые он так часто слышал от соб-
ственного сына.
Человек, распределявший листовки, протянул руку.
Цинке пожал ее. „Этим рукопожатием я сам се-
бя побил",—сказал он почти громко, а старый проф-
союзник разинул рот и только проворчал несколько
глупых ругательств.
Всеобщая забастовка!
Цинке пошел домой, впереди мерещилось ясное,
светящееся красное знамя.
19.
На следующий день он снова потер ял уверенность.
Лозунг профсоюзов был—выжидать.
На производстве он прислушивался. Настроение,
охватившее его несколько дней назад, прошло. Он
упал в пустоту.
20.
К власти пришел Гитлер.
Воротилы профсоюзов объявили, что в этом ви-
новаты коммунисты.
Факельные шествия кричали в ночь: „Да здрав-
сгзуеті* и Цинке как будто слышал: „Спеши I
Спеши! Спеши!" Куда спешить?
Цинке услышал, что Гитлер будет хозяйничать
самостоятельно и что Гитлер пришел к власти
вполне легалыго. При первой попытке... конститу-
цию.». профсоюзы... меры... Цинке все еще верил.
158
Цинке все еще спорил с Германом, который счи-
тал, что поведение социал-демократов и профсою»
зов — постыднейшее предательство в истории рабо-
чего движения. Внезапно старик перестал разгова-
ривать, замолчал, как будто вокруг него расширя-
лась пустота.
Потом он встал, подошел к двери и сказал тихо:
— Будет плохо, совсем плохо.
21.
В день пожара рейхстага утром, у него было
дело в полицейском участке из-за собаки, которой
он позволил бегать без намордника. Лейтенант
крикнул в караулку: „Завтра все будет оцеплено.
Завтра начинается большое наступление на КПГ".
Это было в 11 часов утра. В 8 часов вечера рейхс-
таг горел.
22.
— Послушай,— Фрау Цинке не узнавала своего
мужа.
— Ложь, ложь!—кричал старик в громкоговори-
тель»—коммунисты не подожгли рейхстаг! Я сам
это слышал! Я сам это слышал! Вы слышите меня?!
Ему было безразлично, если он опять не полу-
чит отпуска. „Ложь!"—крикнул он, когда кельнские
часы начали торжественно отбивать 9 часов. „Ложь,
ложь!"—кричал он при каждом ударе. „Ложь!"—он
ударил кулаком по крышке рояля так, что струны
зазвенели.
„Ложь Iм-—Цинке выбежал из звенящего дома.
159
23.
Он хотел бежать навстречу сыну, чтобы преду-
предить его. Район был полон коммунистов. Он
забегал к каждому из них, предупреждал. Встретил
Германа, дал ему денег, чтобы тот имел возможность
скрываться в течение нескольких дней.
24.
В 5 часов утра большие полицейские грузовики
бесшумно покатили по району. Весь район был
оцеплен. Следователи с собаками обыскивали дома,
искали коммунистов. Всем удалось скрыться. Два
следователя появились и у Цинке, но услышав звон
кельнских часов, они улыбнулись и обыска не сде-
лали.
25.
Через три дня штурмовики атаковали район.
Это был штурм убийц.
Мебель коммунистов была разбита вдребезги,
книги выброшены на улицу, облиты керосином и
сожжены.
Одного товарища, который остался дома, несмотря
на предупреждение, протащили через район в од*
ной рубашке и погнали в казарму штурмовиков.
26.
На следующую ночь штурмовики опять „работали".
Накануне вечером Цинке еще думал о том, чтобы
уйти и переночевать у знакомых. Герман сообщил
ему, что он не должен оставаться дома ни при ка-
160
ких обстоятельствах, так как среди штурмовиков
говорили о том, что коммунисты спаслись благо-
даря его предупреждению.
Но жена говорила:
— Оставайся; если они разобьют наш дом, пусть
делают с нами, что хотят.
Ночью Цинке проснулся, надел брюки и обошел
дом.
Он зажигал электричество в каждой комнате,
заглядывал в каждый угол, как человек, вернув-
шийся издалека.
Жизнь его проходила перед ним, как в кино: ча-
сы, дни, месяиы, годы, которые он прожил, пре-
вратились в стулья, лампы и шкафы. Он сам стал
вещью. Месяцы развернулись перед ним ковром.
Недели висели пестрой олеографией» Наверху в
гостиной били часы—год жизнл.
Он потушил свет. Остался на минуту в темноте.
Испугался сам себя. Провел рукой по ноге. Он
чувствовал себя столом, стулом, шкафом, вещью.
Он погладил какую-то вещь в темноте, не зная
какую,—храп собаки успокоил его. Он снова лег
в постель.
Опять проснулся. Побежал в одной рубашке в
комнату Германа и свободно вздохнул, когда уви-
дел, что Германа нет. Он накрыл постель, провел
рукой по одеялу, точно хотел прикрыть что-то
своей любовью. Он проснулся в третий раз.
Было около четырех часов. Раннее утро лежало
на верхушках сосен.
161
Вокруг дома слышался топот.
Цинке сел.
Удары прикладами в дверь заставили его вско-
чить и он стал посреди комнаты.
Собака лаяла. От шагов, топающих по лестнице,
дом звенел.
Дверь открылась. Тогда жена, которую он оста-
вил спокойно лежащей в кровати, сказала:
— Они идут.
— Так это вы?—сказал Цинке, когда они оста-
новились перед ним, вынув револьверы. Их было
трое, на шапках черепа.
— Господин Цинке...
— Товарищ...—вмешался другой.
Цинке почувствовал каким несчастным он выгля-
дел в своей ночной рубашке. На них были крепкие
формы и высокие сапоги. Дула револьверов уста-
вились в него.
Он дрожал от холода.
— Герман?—спросили все трое одновременно.
Цинке чувствовал вокруг рта железный круг*
„Десять марок штрафа из-за намордника",—поду-
мал он. Язык, зубы—весь рот стал сухой, безжиз*
пенной массой
Собака начала снова громко лаять.
Цинке подошел к ним на шаг ближе.
Когда они немножко отступили, его снова охва-
тило то прежнее, старое. И внезапно он почувство-
вал себя колоссом перед теми тремя фигурами.
Он поднял кулаки.
162
Раздались три выстрела один за другим.
Цинке покачнулся, посмотрел в окно — утренний
свет. Ему показалось, что он падает в мягкую бе-
лую подушку.
Он ясно услышал голос жены:
— Боже великий!
Трое бежали вниз, точно рвали лестницу.
Дом начал его баюкать.
27.
Кельнские часы били.
Первый удар.
Цинке бежал по улицам, разбрасывая предвыбор*
ные листовки с.-д. партии. „Пролетарии всех стран,
соединяйтесь",—так кончалось воззвание.
Второй удар.
Рука об руку с Лисхен, воскресенье вдоль кана-
ла, первое место наборщика, на двоих хватит, трам-
вай едет через мост. На этот раз наверное, там
под мостом, будет первый поцелуй, а в будущее
воскресенье—на праздник цветов в Вердер.
Третий удар.
Другая местность. Он роет.
Спина согнута, как будто голова скоро пригнется
к земле. Вытаскивает записку из кармана: „Конец
войне!". Роет И снова роет. Либкнехт!
Четвертый удар.
Всеобщая забастовка!
Теперь часы бьют не переставая.
Бьют* бьют,
1*
без конца.
Всеобщая забастовка!
Часы бьют, бьют,
разбивают дом.
Дом звенит.
Он умирает свободным, точно на вольном
воздухе.
Перевод Б. Болвславской.
Ганс Гюнтер
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
1.
Как известно, Гитлер и Геббельс поклялись не
успокоиться до тех пор, пока коммунистическое
движение в Германии не будет полностью ликвиди-
ровано. Они торжественно заявили, что не позже,
чем через 50 лет в Германии будет неизвестно да-
же самое слово: „марксизм".
Прочтя несколько недель тому назад это сооб-
щение, я невольно вспомнил свою деятельность в
Германии год тому назад. В то время по распоряже-
нию партии, я переезжал из одной части страны в
другую и организовывал курсы марксизма. Эти курсы
были весьма разнообразны. Они были окружными,
городскими и ячейковыми; иногда они продолжа-
лись 8 дней, иногда 3 недели, то в них занимались
десять, то сто товарищей. Одинаковым в них было
только жадное стремление учащихся одолеть и
усвоить пролетарскую науку.
Я вспомнил этих боевых товарищей и мысленно
перенесся в те времена. Один за другим вставали
они передо мной как живые.
165
Как же это было в то время, когда мы вместе тру-
дились над так ненавистным Гитлеру марксизмом?
В то время?
Год тому назад*
Одиннадцать часов вечера. Комната полна табач-
ным дымом. Мы изучаем „Государство и револю-
ция" Ленина.
Все, сидящие за круглым столом, пришли сюда
с одинаковой це.лью: изучить большевистскую те-
орию, чтобы применить ее как оружие в своей
практической политической борьбе. И все таки—как
они все различны!
Вот сидит великовозрастный докладчик местной
группы, герой сотен дискуссий с крестьянами и
батраками. Он черпает свои знания из газет, бро-
шюр и партийного материала д\я докладчиков.
Благодаря этому он в первые же пять минут овла-
девает любым положением. Но в его знаниях, усво-
енных в большой спешке, есть пробелы, на кото-
рые надо обратить внимание. Некоторые его отве-
ты недостаточно вразумительны. Когда ему на это
указывают, он замолкает, потрясенный или обижен»
ный. Через несколько минут он заинтересовыва-
ется вопросом, спускается с своего „трона'* и вклю-
чается в ряды тех, кто хочет учиться, только
учиться.
Вот несколько более молодых товарищей. Они
соображают быстро и легко. Некоторые историче-
ские даты они знают еще со школьной скамьи.
166
Когда им представляется случай похвастать
своими знаниями, они гордо выпрямляются и смо-
трят вокруг с улыбкой непередаваемого превосход-
ства: „Ну, а вы, все остальные, вы конечно пора-
жены, так что ли?а
Если учителю приходится задержаться с учени-
ком, схватывающим не так быстро, они сразу ста-
новятся нетерпеливыми, вскакивают и взволнован-
но говорят отстающему: „Дружище Пауль, ты не
понимаешь? Ты должен только..." Эти товарищи
являются элементом, двигающим вперед. Часто их
приходится несколько одергивать.
Вот сидит товарищ, у которого я ночевал про-
шлую ночь. Он на голову выше всех остальных. От
него исходит какое-то особенное тепло. Его глаза
похожи на^ сверкающие факелы, а лицо светится
глубоким пламенным счастьем. Когда я объясняю
какое-нибудь особенно трудное место, над которым
до сих пор местная группа тщетно ломала голову,
он подчеркивает значительность этого места энер-
гичными кивками головы. Когда я вспугиваю его
нарочито трудным вопросом, он испуганно съежи-
вается. Я смеюсь. Он понимает, что я хотел его
лишь немного подразнить, смеется вместе с нами
и опять весь сияет.
В углу тихо сидят несколько заводских рабочих.
У них нет времени для занятий. Поэтому они боль-
ше всех боятся „теории" и забились в угол. Они
стесняются не учителя, но товарищей. Только бы
не дать глупых ответов! Только бы не дать пово-
WI
да для насмешек! Теория „организованного капи-
тализма" для них—китайская грамота.
Я начинаю говорить о „рационализации"* о том,
что при капиталистической системе технические
усовершенствования влекут за собой безработицу
и нужду. Я требую примеров. И вдруг тихий угол
оживает: „Технические усовершенствования? Гром
и молния! В этом и мы кое-что понимаем!" И на
меня низвергается водопад: „Знаешь, товарищ,
когда они ввели у нас конвейер, было точно так,
как ты сейчас говорил. Тогда было..."
Около меня сидит пожилой рабочий. Он пришел
сюда прямо с производства. Его решительное, про-
резанное складками, лицо выражает железную во-
лю. Он относится серьезнее всех к теории, но
учение дается ему не легко. Кажется, что он ду-
мает всем своим телом, на его лбу сверкают капель-
ки пота. Вероятно ему легче было бы поднять на
плечи несколько центнеров, но он хочет учиться,
хочет понять. Он вытирает пот со лба, его глаза
буквально буравят меня, кажется, что он хочет
высосать из меня знание, как высасывают пиво
из кружки.
Ему нужно много времени дая того, чтобы овла-
деть мыслью, но раз овладев ею, он уже не рас-
станется с ней. Онд врастает в него, вмуровыва-
ется, превращается в гранит.
Этот тип встречается чаще всего. Он самый
трогательный и самый потрясающий...
168
3.
Такими они были тогда, все эти товарищи, со-
биравшиеся вокруг круглого стола. Так они учи-
лись. Так овладевали марксизмом. Так пролетар-
ская наука превращалась в них в закалявший их
гранит.
Сумеет ли Гитлер размолоть его?
Как ответ на этот вопрос привожу письмо, ко-
торое я получил вчера от одного из слушателей
этих курсов.
„Теперешние фашистские властители воображают,
что нас можно уничтожить кнутом и револьвером.
Они думают, что учение Маркса, Энгельса, Лени-
на и Сталина затронуло нас лишь поверхностно.
Они собираются своим преподаванием в школах
„излечить" наших детей от коммунизма.
Они ошибаются!
Великая правда марксизма вкоренилась в нас те-
перь крепче, чем когда либо. Мы, матери и отцы,
будем учить наших детей этой правде и воспиты-
вать их верными борцами за наше дело. В этом
нам не сможет помешать ни Геринг, ни Геббельс,
ни сам чорт! Пусть нас, коммунистов, бьют и са-
жают в тюрьмы, пусть делают, что хотят, но пока
мы живы — в наших сердцах будет гореть красное
знамя.
— Троекратный Ротфронт!"
Автором этого письма был высокий товарищ с
сияющим лицом, у которого я ночевал. Но это
169
письмо могли бы написать все слушатели тех кур-
сов; и молодые нетерпеливые товарищи9 и завод*
ские рабочие, тихо сидевшие в углу, и тот стар-
ший товарищ с прорезанным складками лицом. Все
они думали и продолжают думать как автор пись-
ма. Все были такими же и все останутся такими,
несмотря на фашистское наступление на марк-
сизм.
Несмотря ни на что/
Перевод С, Уманской.
Вальтер Шенштедт
В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ
В этот вечер, в большой, похожей на запущен-
ный склад, камере, сидели рядом два старых то-
варища, Генрих и Эрих. Встретившись в лагере,
они боялись показать, что знакомы друг с другом,
так как их немедленно разлучили бы из справед-
ливого опасения, что они создадут опасную ячейку
„разложения*. Генрих радовался, что после мно-
гих дней, проведенных в одиночестве, он попал в
общую камеру.
Над дверью висела грязная и тусклая электри*
ческая лампочка. Высоко под потолком находи-
лось окно с решеткой, которое было запрещено
открывать. Когда-то белые, покрытые известкой
стены, были неодинаковой окраски: в некоторых
местах на потолке она переходила в дымчато-чер-
ную, как будто бы раньше здесь топились откры-
тые печи. Над нарами заключенных, на уровне
головы, известка на стенах потрескалась.
Нары: два длинных ряда соломы с всевозмож-
ными сортами лошадиных попон. Грязные, тонкие
попоны с дырами и пятнами жира, с краями в
т
лохмотьях и неопределенным запахом пота. Между
двумя рядами соломы находился довольно широкий,
тщательно вымытый проход: полоска пола из крас-
ного и желтого камня.
Заключенные лежали тихо, завернувшись в оде-
яла. Генрих ясно различал ряд голов у стены. В
проходе торчало несколько ног; некоторые из них
были босы, другие—в дырявых носках или портян-
ках, какие носят строительные рабочие. Иногда
кто - нибудь шевелился под одеялом, переворачи-
вался на другую сторону и подымал из слежав-
шейся соломы сухое, терпкое облако пыли. Неко-
торые громко храпели. Пахло потом и над всем
стояло кисловатое гнилостное испарение. В первое
время Генрих думал, что он не сможет заснуть в
этом воздухе. Но потом он к нему привык и ка-
ждый вечер засыпал от усталости вместе с другими.
Люди, в течение месяцев, содержащиеся без суда
и приговора, в плену между проволочными загра-
ждениями и вооруженной стражей, через некоторое
время становятся также невосприимчивы к запаху
их окружения, как швейцариха к воздуху лестницы
в каком-нибудь огромном доме дешевых квартир
на Акерштрассе. Хуже чем этот отвратительный
запах было медленно доводящее до безумия, на-
раставшее отчаяние многих заключенных, не знаю-
щих как долго еще они будут насильно оторваны
от остального человеческого общества, внезапно
получившего в Германии имя „Третьей Империи".
Хотя Эрих физически был здоров и крепок, его
172
душевное состояние не многим отличалось от со-
стояния некоторых заключенных, чьи постоянно
возвращаемые цензурой письма, были исполнены
такой муки и тоски, что если бы их жены их полу-
чили, они усомнились бы в разуме своих мужей.
Эрих встретил Генриха как раз во время. В нем
он нашел не только старого друга, но и частицу
подпольной, подбадривающей силы с воли. Теперь
он уже не подавался так сильно влиянию окружа-
ющего. Он уже не чувствовал себя отчаявшимся,
бесполезным человеком; с Генрихом к нему пришли
голос и сила его партии.
Они сидели друг около друга на корточках,
прижав колени к телу, готовые каждую минуту
скользнуть под свои одеяла. Они осторожно ку-
рили папиросу, выпуская дым между ладонями в
пол. Каждый делал две, три жадных затяжки и
передавал папиросу другому. Их голоса звучали
тихо и сухо.
— Все в порядке — уверял Генрих.— Меня бес-
покоит только газета. Вопрос — выходит ли она
еще. Только я один знал где лежит материал. Я
могу тебе сказать, что люди буквально глотали
газету, ее передавали из рук в руки, пока кто-ни-
будь не прятал ее как драгоценность или не пере-
давал соседнему шупо. Из наших товарищей мы
вероятно одни здесь,
Эрих задавал вопросы, над которыми Генриху
часто приходилось улыбаться. Он хотел знать, ездят
ли теперь все автомобили с фашистскими флаж-
173
ками, одеваются ли товарищи иначе чем раньше,
отпускают ли бороды, чтобы не быть узнанными, и
что произойдет, если, при встрече с поющими гимн
Хорста Весселя, фашистами, он не успеет под-
нять руку для Гитлеровского приветствия. По-
том Генрих должен был подробно рассказать ему,
какова будет обстановка, если он скоро будет вы-
пущен на свободу и снова начнет борьбу.
Как много переменилось за это короткое вре-
мя—подумал Генрих и после длинной паузы сказал:
— За это время люди кое-чему научились. Пред-
положим, что ты идешь по старой Якобштрассе
и вдруг видишь Рихарда. Сияя от радости, ты
идешь прямо на него и говоришь: „Здравствуй,
Рихард!" А если ты совершенный идиот, то ты
даже рычишь: ,> Ротфронт, товарищ Рихард!" Тогда
Рихард серьезно на тебя смотрит, пожирдает пле-
чами и уклоняется как джентльмен: его вовсе не
зовут Рихард, господин наверно ошибся. Озада-
ченный остаешься ты на месте, а на следующей
явке получаешь выговор за то, что подверг това-
рища опасности. Так то.
Генрих раздавил на холодной земле окурок па-
пиросы. Он радовался, что Эрих задает ему такие
вопросы. Эрих был немного моложе его и пришел
в революционное движение с совершенно романтиче-
скими представлениями, как ищущий правды пионер.
В ночь пожара рейхстага, штурмовики арестовали
его на улице, Генрих опасался, что Эрих не будет
достаточно тверд. Теперь он с радостным изумлением
І74
видел) что он совершенно практически и без вся-
ких иллюзий, как опытный подпольщик, готовится
к борьбе на воле.
Эрих прошептал:
— Послушай-ка, я убегу. Я уже все приготовил.
— Ты сума сошел!— испуганно сказал Генрих.—
Ты хочешь, чтобы тебя застрелили? Может быть
ты думаешь, что они специально для тебя оставят
пару лазеек? Ну, милый мой...
Эрих улыбнулся и почти весело толкнул това-
рища в бок. Казалось, что он подготовил совер-
шенно безопасный план бегства. Пораженный се-
рьезным выражением лица Генриха, он немного по-
молчал и сказал:
— Ты ведь знаешь ограду? Я твердо установил,
что она не всегда охраняется. Если быть осторожным,
можно спокойно пролезть. Лазить я научился. И
тогда все будет хорошо, тогда мы посмотрим на
Рихарда, не ведя себя по идиотски. Парни будут
удивляться, ах, дружище! Только бы вырваться
отсюда, только бы вырваться! Если я останусь
здесь, я сделаю какую-нибудь глупость: вырву
глотку этому водителю отряда или проломлю че-
реп коменданту.
— У тебя ведь нет топора! — улыбаясь сказал
Генрих.
Потом он продолжал изменившимся, почти беше-
ным голосом:
— Если ты попадешься в эту ловушку с огра-
дой, то тебя следует исключить из партии, если
175
даже ты останешься висеть на ней, расстрелянный.
Послушай - ка: эта ограда устроена для людей,
у которых такие глупые мысли, как у тебя, и ко-
торые строят такие безумные планы. Излюблен-
ный метод фашистов: показать видимую возмож-
ность бегства и потом... Ты был бы не первым.
Выкинь это из головы, если даже ты и умеешь
прекрасно лазить. Наци знают о тебе очень мало,
повремени немного, вполне возможно, что они тебя
скоро выпустят.
Эрих лег на бок. Он весь сжался и смотрел мимо
Генриха. После длительной паузы он протяжно
сказал:
— Проклятая бессмыслица!
Генрих вытянулся около товарища. Их тела со-
прикасались. Электрическая лампочка над дверью
несколько раз уныло мигнула. Храп прекратился.
Позади кто-то заговорил во сне и это прозвучало
как испуганный, предостерегающий зов. Тихо от-
крылась дверь и в комнату вошли двое из охраны.
Они внимательно осмотрелись кругом и вышли
медленными, тяжелыми шагами.
Часы хрипло пробили двенадцать. За высоким
окном навис кусок холодного черносинего неба.
— Сегодня они опять потащили кого-то в подзе-
мелье— сказал Эрих.— Я слышал как он кричал.
Эти крики меня больше всего сводят с ума.
Генрих знал это подземелье, проклятую дыру, в
которой он провел первые дни. Он приподнялся и
пожал руку младшего товарища.
176
Глаза Эриха стали влажными, уголки его губ
беспомощно вздрогнули. На руку Генриха упали
две горячие слезы.
И вдруг Эрих поднял сжатый кулак.
Генрих не мог проронить ни слова. Он был по-
трясен: плачущие глаза и сжатый кулак!
Он еще раз крепко пожал руку Эриха и пополз
на свое место.
Это было в четверг после обеденного перерыва.
Нескольких заключенных вызвали в контору.
Штурмовики возбужденно зубоскалили. Водитель
отряда был доволен, он деловито потирал руки и
бегал взад и вперед. Вскоре привели несколько
молчаливых мужчин с озабоченными лицами и че-
моданчиками в руках. Их хорошая, чистая одежда
резко отличалась от лохмотьев заключенных. Стра-
жа удалилась и водитель отряда начал свою
речь:
Он с радостью приветствует тот факт, что на-
конец-то несколько бонз и бумагомарателей, имею-
щих не мало дел на своей совести, сбивших с пути
души многих немецких рабочих, разделят участь тех,
кого они обманывали. И, радуясь этому, он исхло-
потал в высших инстанциях разрешение выпустить
на волю несколько прежних заключенных, отличив-
шихся хорошим поведением...
— Новый и удачный трюк, на который многие
попадутся — подумал Генрих.— Надеюсь, Эрих в
числе тех, кого отпустят.
177
Водитель отряда медленно прочел имена. Эрих
был в числе вызванных. Он поймал на себе дол-
гий многоговорящий взгляд Генриха.
Вызванные должны были выступить из рядов, и
стража строго следила за тем, чтобы они больше
не общались с другими товарищами.
Генрих был убежден в том, что если Эрих очу-
тится на свободе, он будет точно знать, что ему
надо делать. Он так радовался счастью Эриха,
как будто сам только что получил сообщение о
предстоящей свободе.
Через два часа Эрих вместе с другими товари-
щами покинул концентрационный лагерь в Ораниен-
бурге.
Когда за ним закрылись ворота, он облегченно
вздохнул. Он знал: в этот момент для него нача-
лось время тяжелой подпольной борьбы в гигант-
ском концентрационном лагере — Берлине,
Перевод С. У манено ft.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Предисловие— Фриц Геккерт 5
Завод—Андор Габор 17
Форма—Андор Габор 24
В казематах Шпандау—Эюн Эрвин Кии 31
Отче наш—Петер Конрад . 59
Жъкщмиа.—В альтер Шенштедт . . . « 64
Ротфронт-Лндо/о Габор 69
Марка—Андор Габор 8Э
Улица—Андор Габор 88
Бой с фашистами—С. Глее 92
Сиена—С. Г лес 97
Флаг—Гуго Гупперт 101
Сваея на площади—Эрих Мюллер 112
беседа с штурмовиком—Эрнст Оттвальт ...... 121
Перебежчик— Иоганнес Р. Бехер . . 128
Обыск — Вальтер Шенштедт 137
Заеиящий дом — Иоганнес Р. Бехер 145
Несмотря ни на. что—Ганс Гюнтер 165
В концентрационном лагере— Вальтер Шенштедт • « • 171
Зав. сект. мирового хозяйства
и миров. политики О., Розенфельд
Литредактор переводчик С. Уманская
Тохредактор Л. Пашкевич
Художник Л, Перешкольник
Сдано к набору 8-XII-33 г.
Оодпыоаао к почати 21-III-34 г.
Уполп. главлита № 7 '62 Тир. 22 000—55/8 п. л
Зак. № 580. Изд. № 91. Бумага: 213/16 л
ф. 72 X 110-50 кгх 1 бум. л. 92 т. зи.
2-я типография УПП ДСОУ
Харьков, Пушкинская ул, № 40
ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА
На cтp 37, строка 13 снизу напечатано: Макса Холуа.
Следует читать: Макса Гельца
Библиографическое описание этого нздания
помещено в „Літописі Українського Дуку"г
„Каряковому Репертуарі" в других указателях
Украинской Книжной Палаты