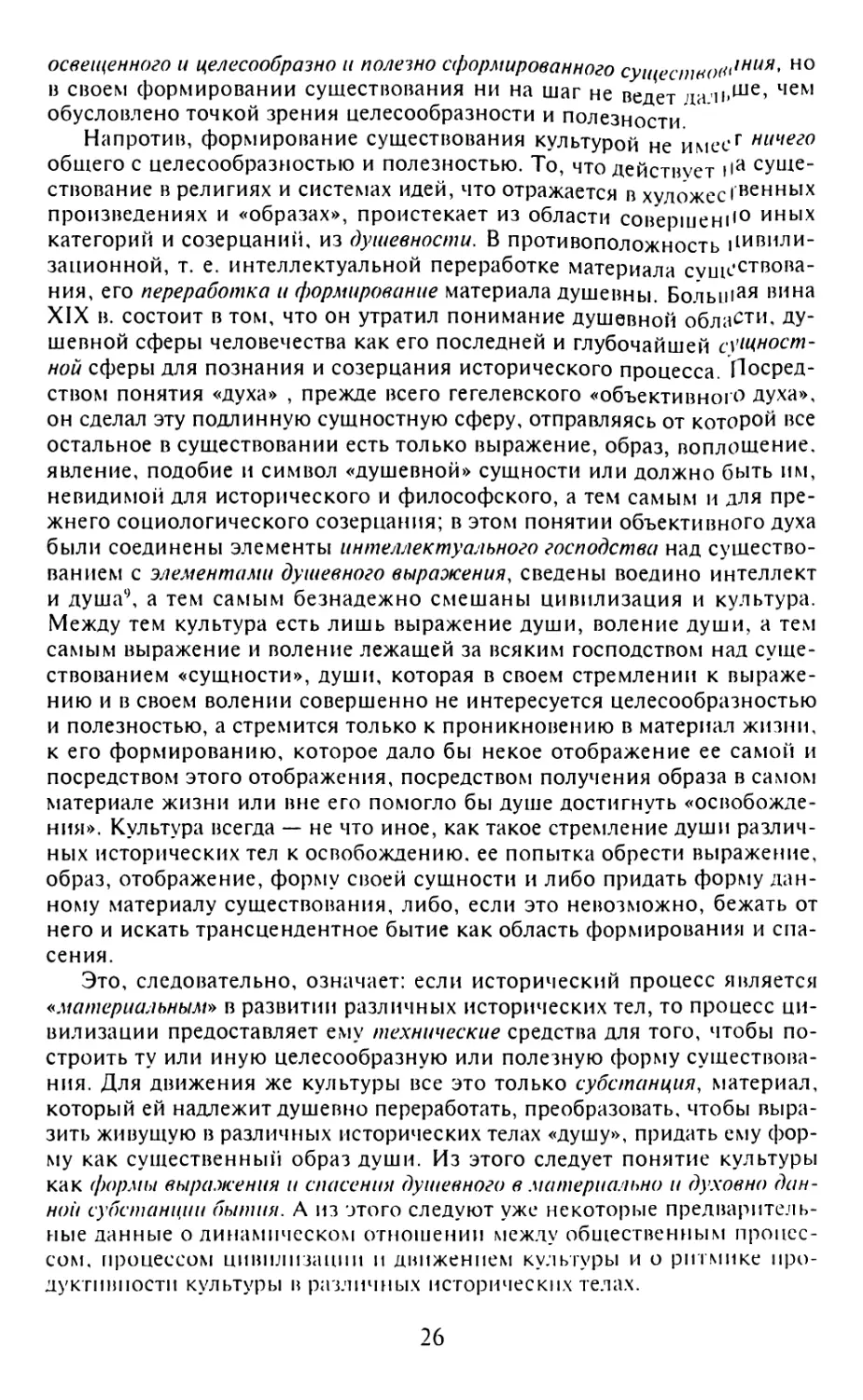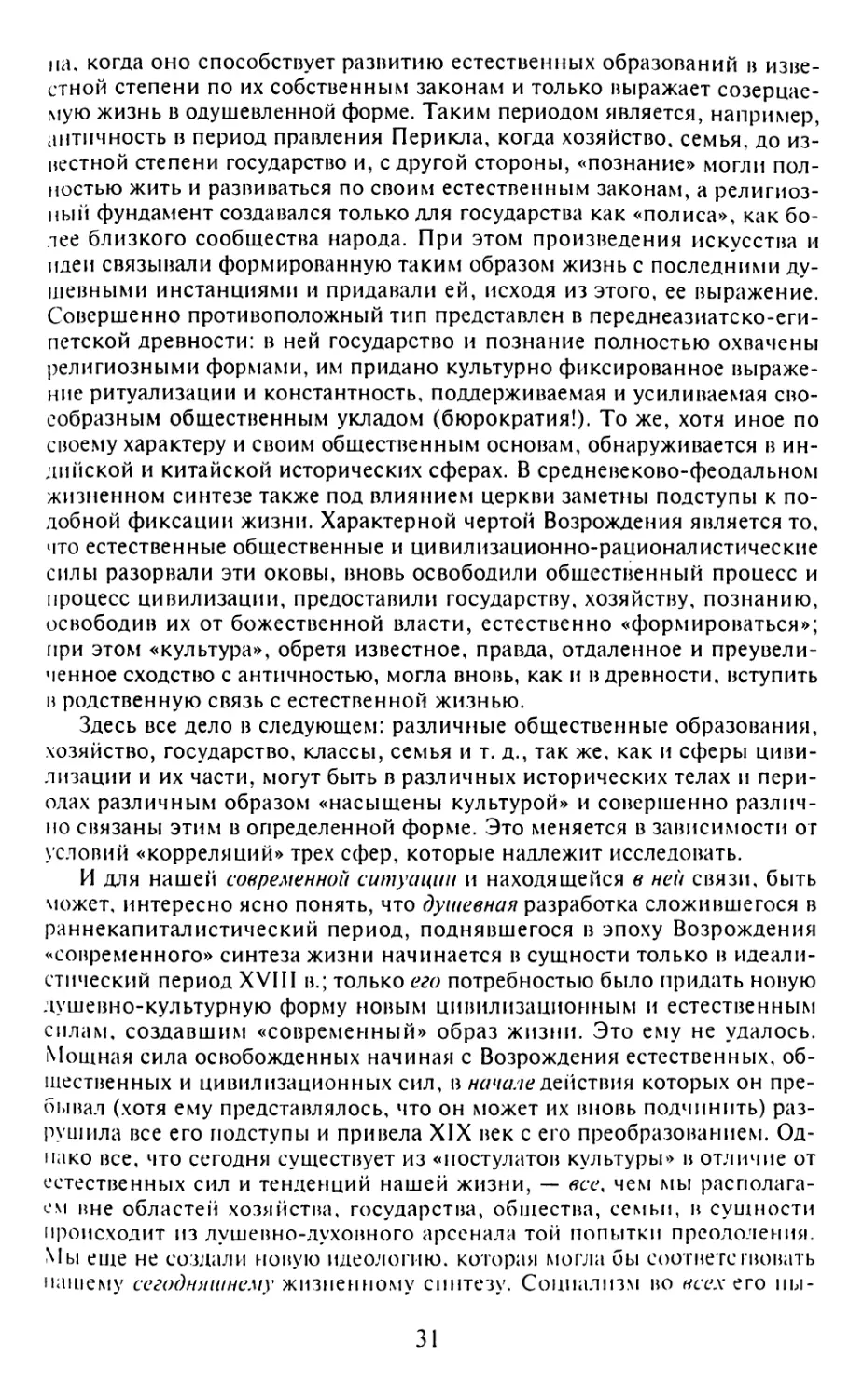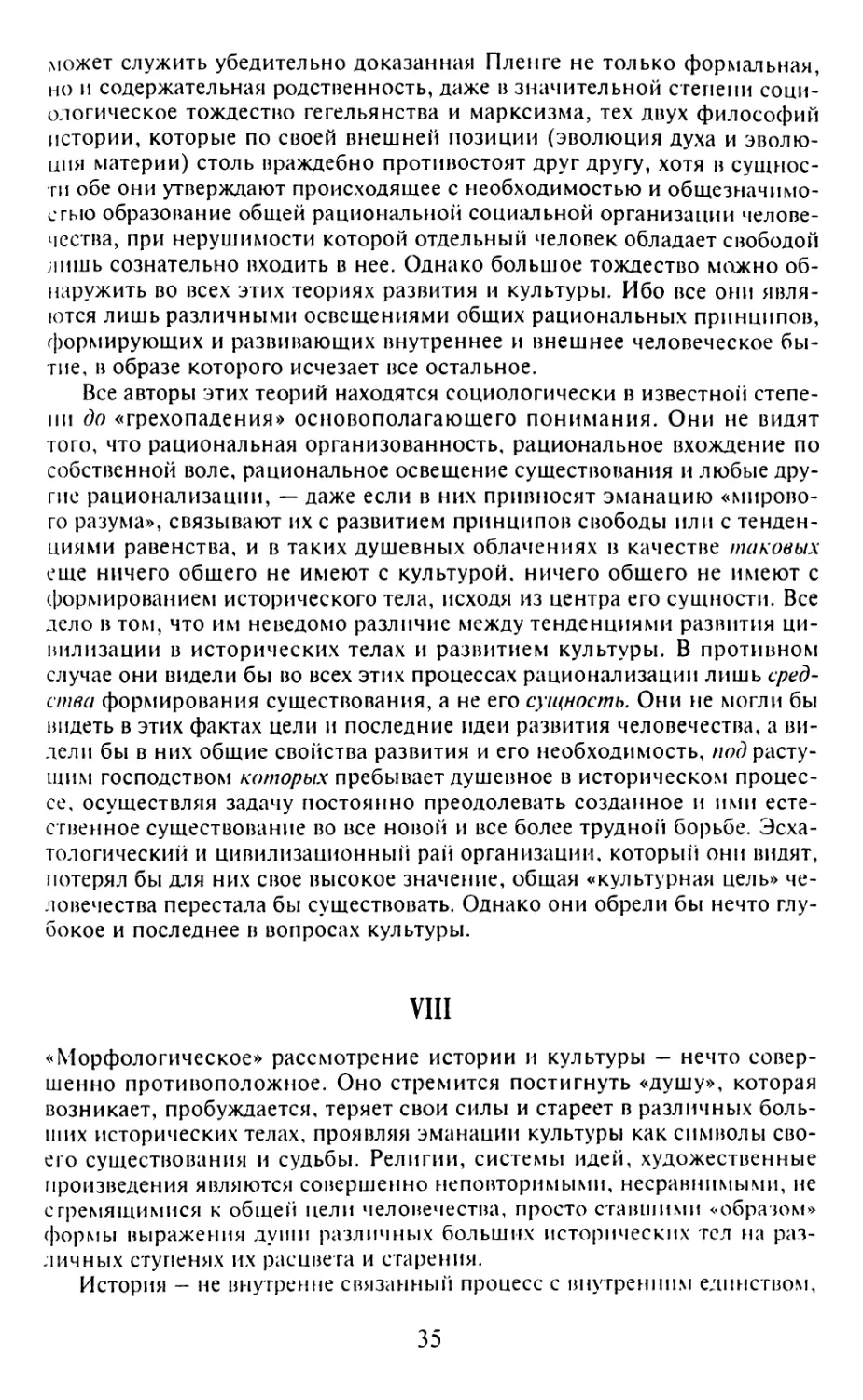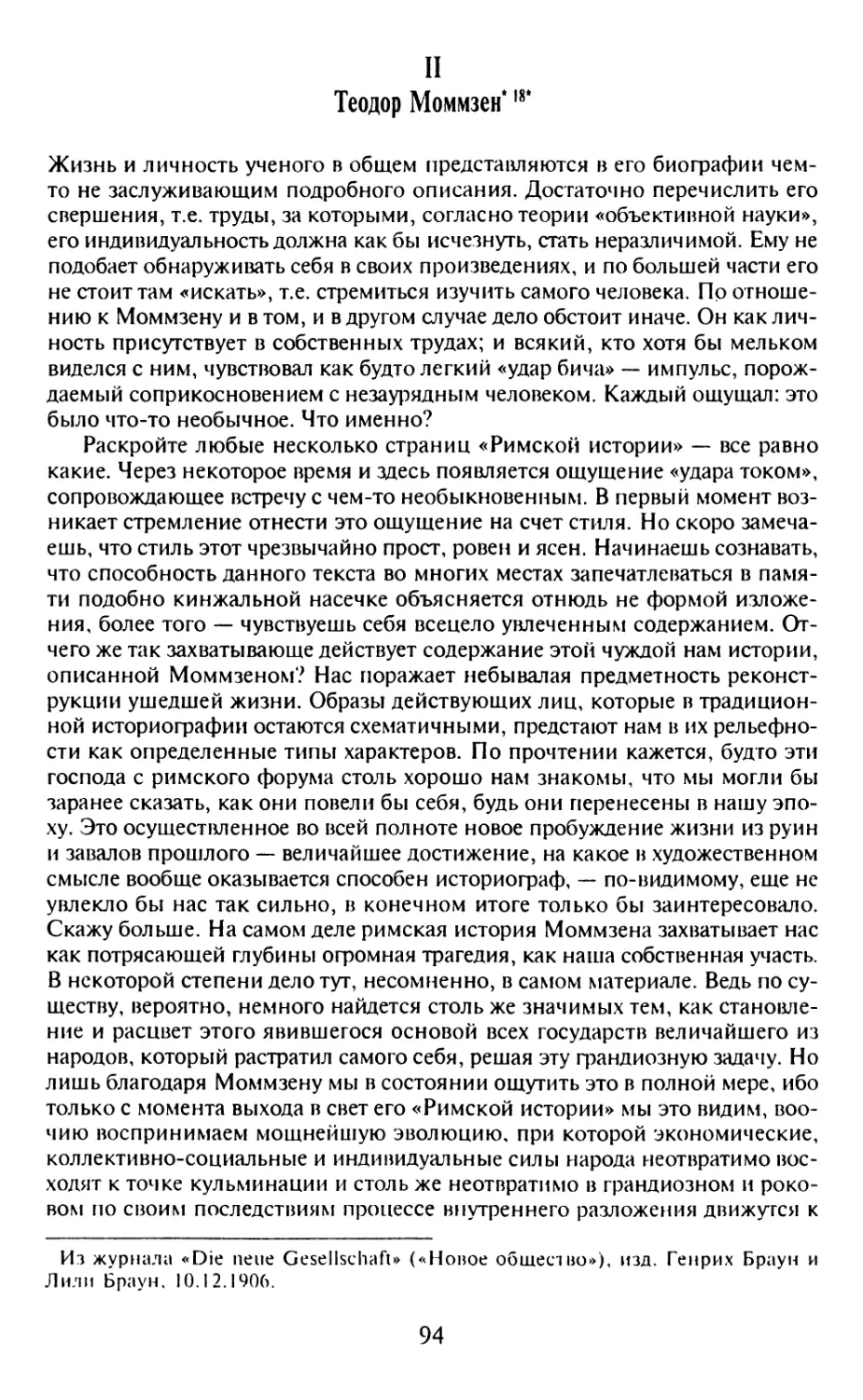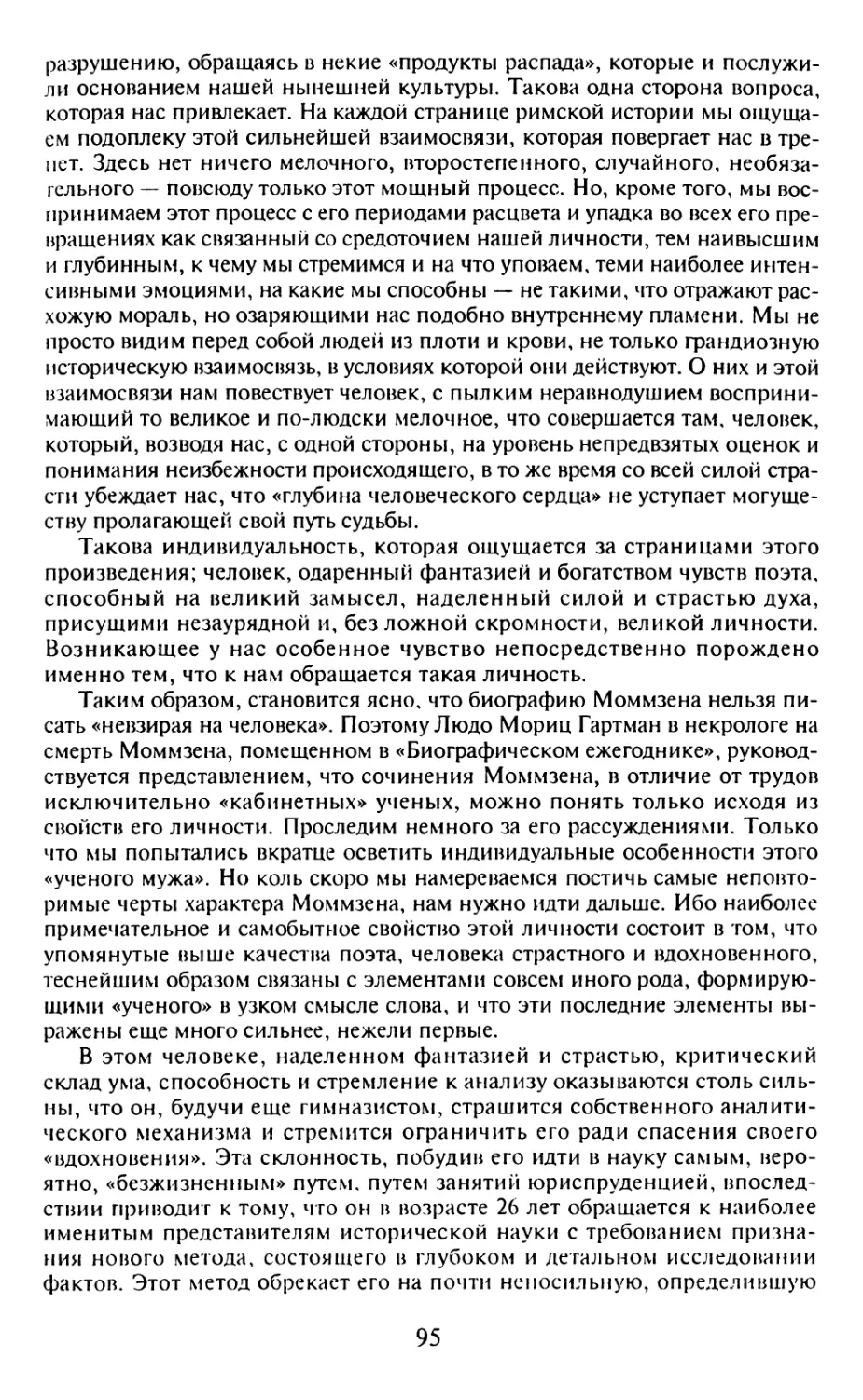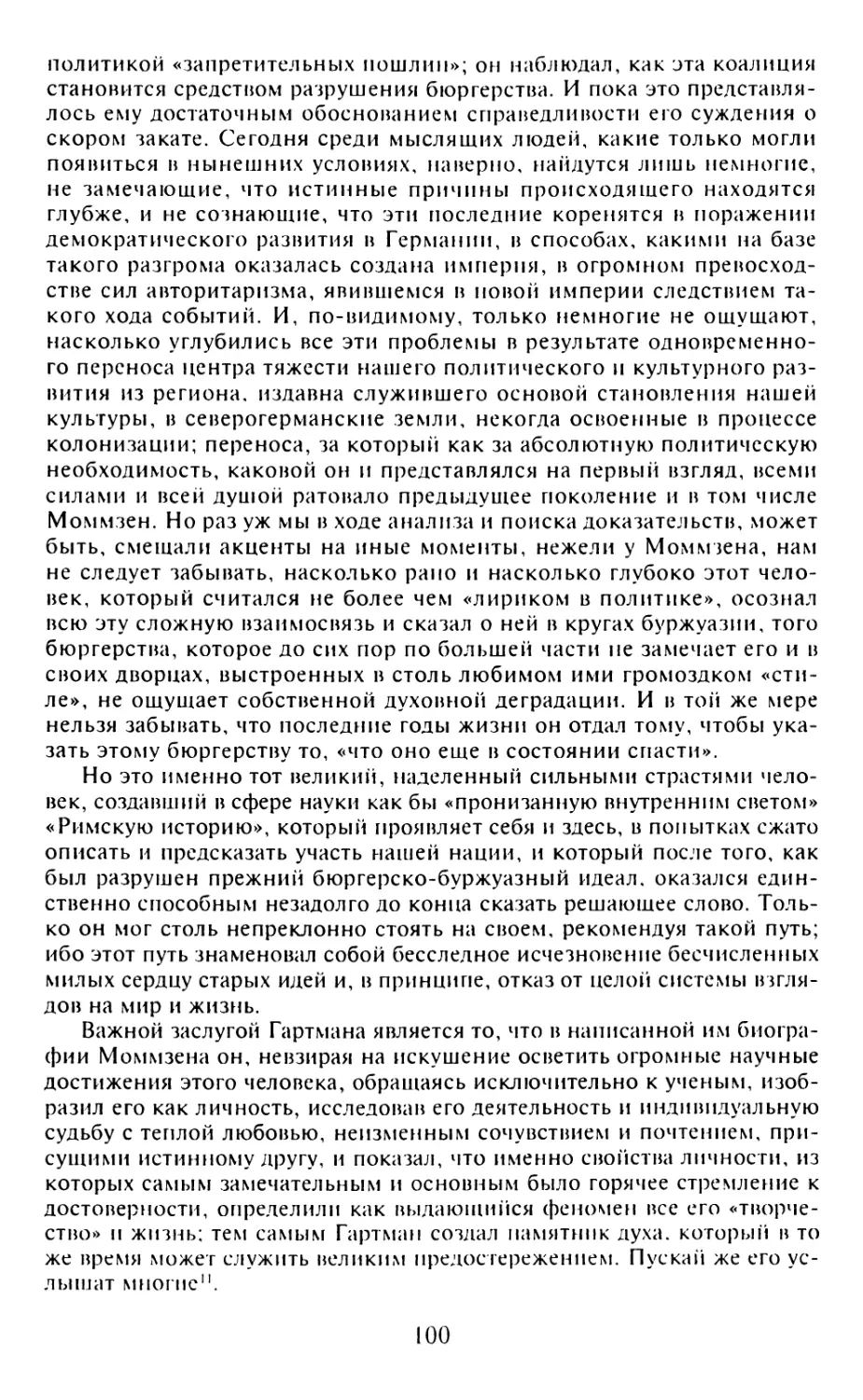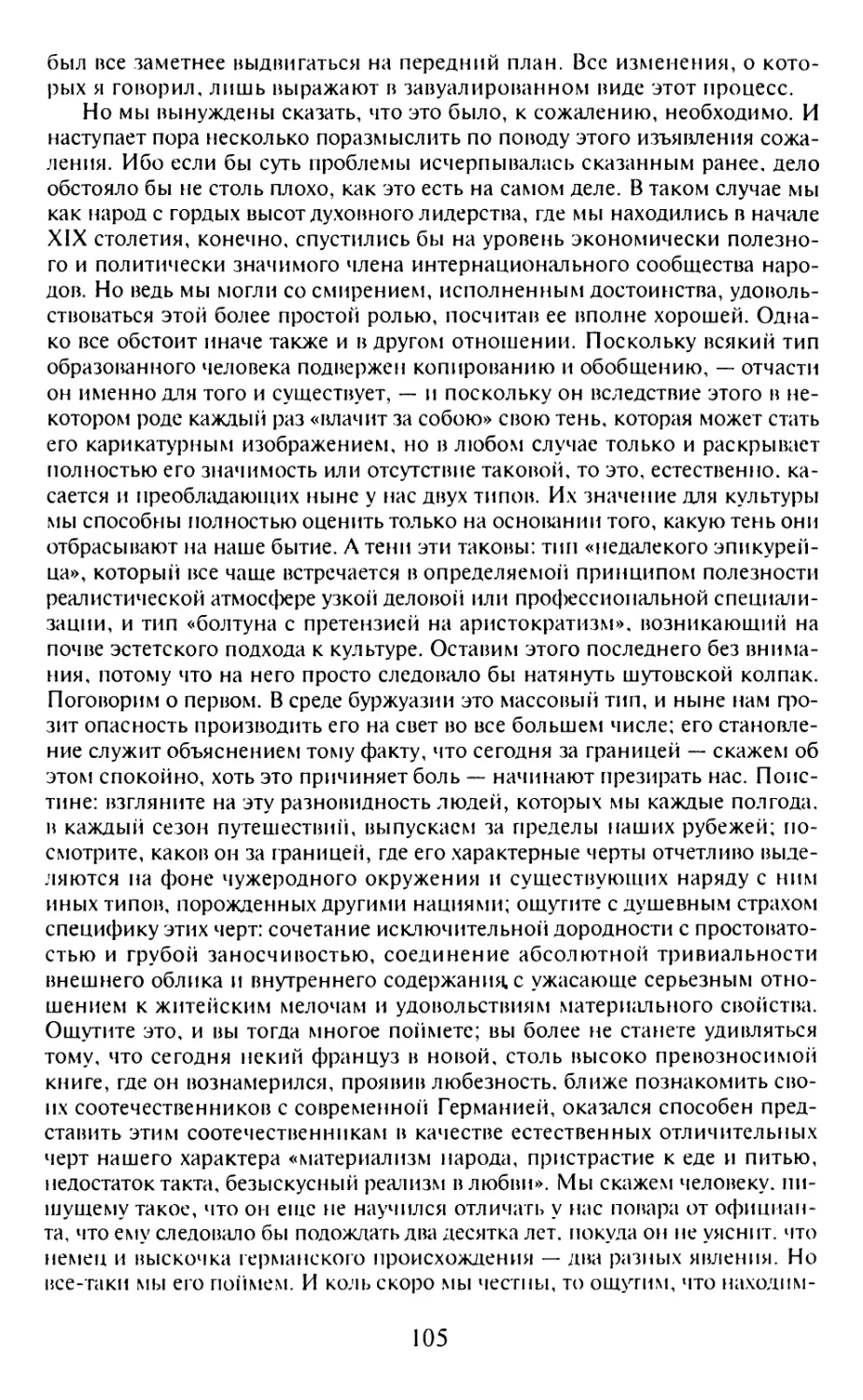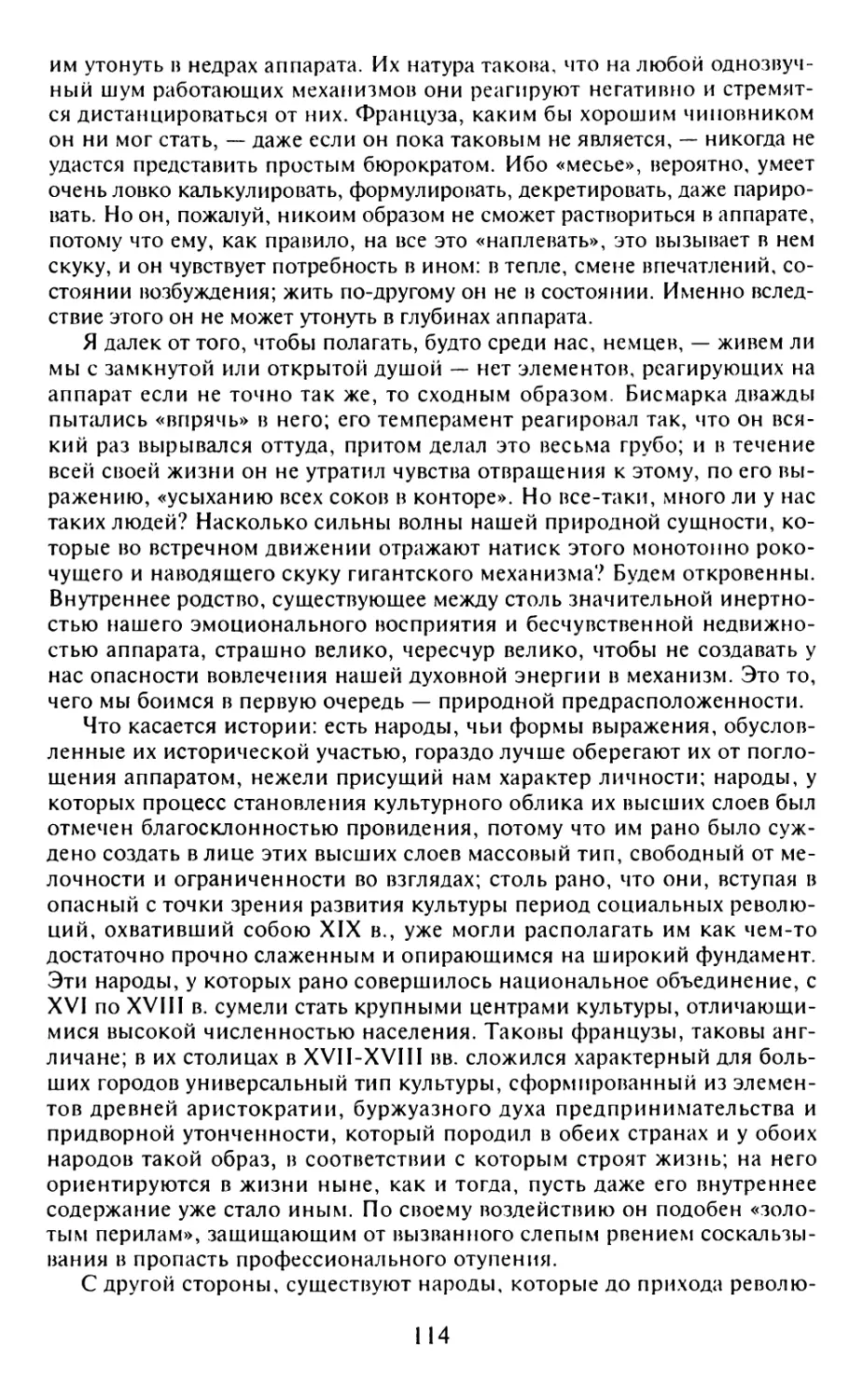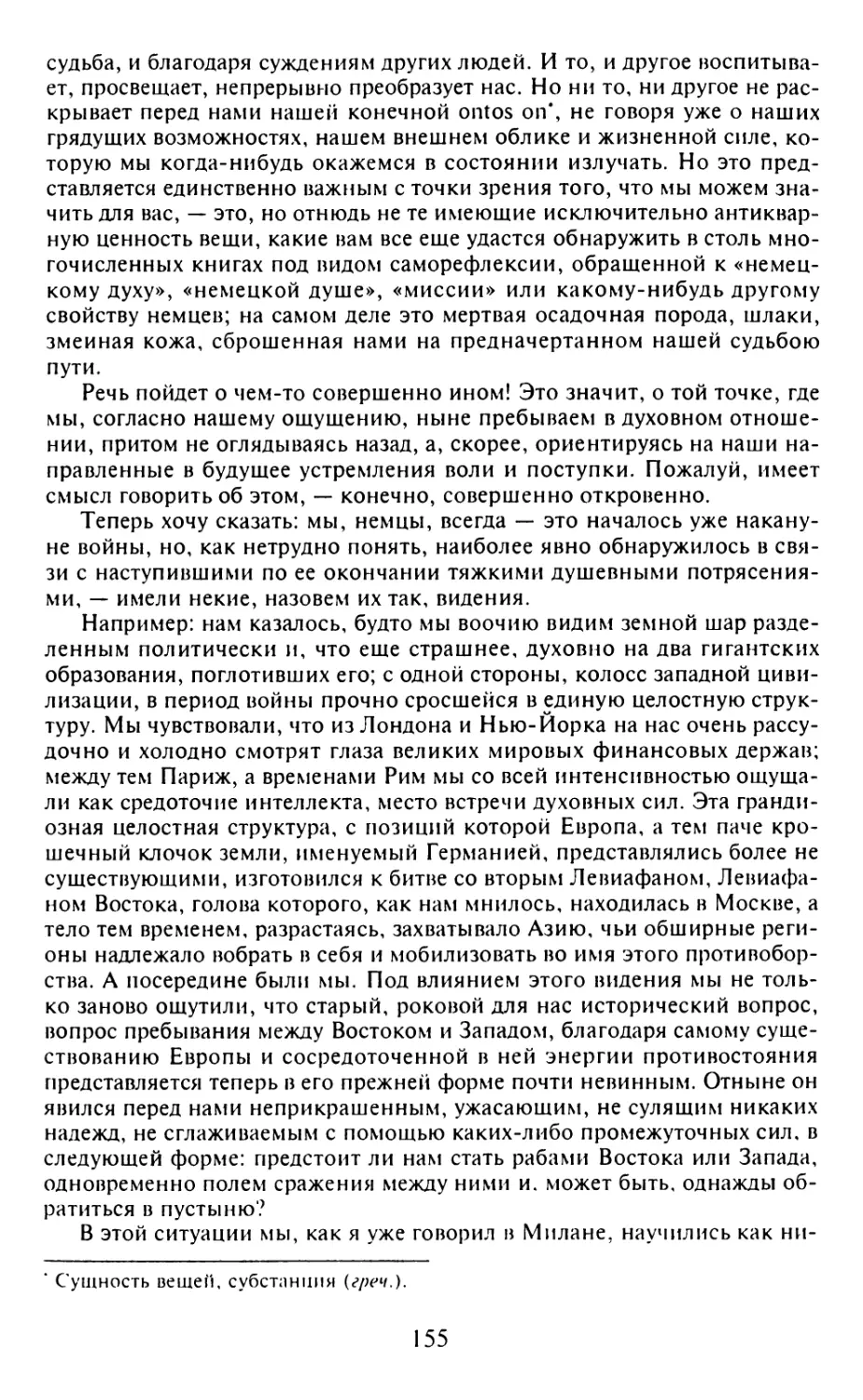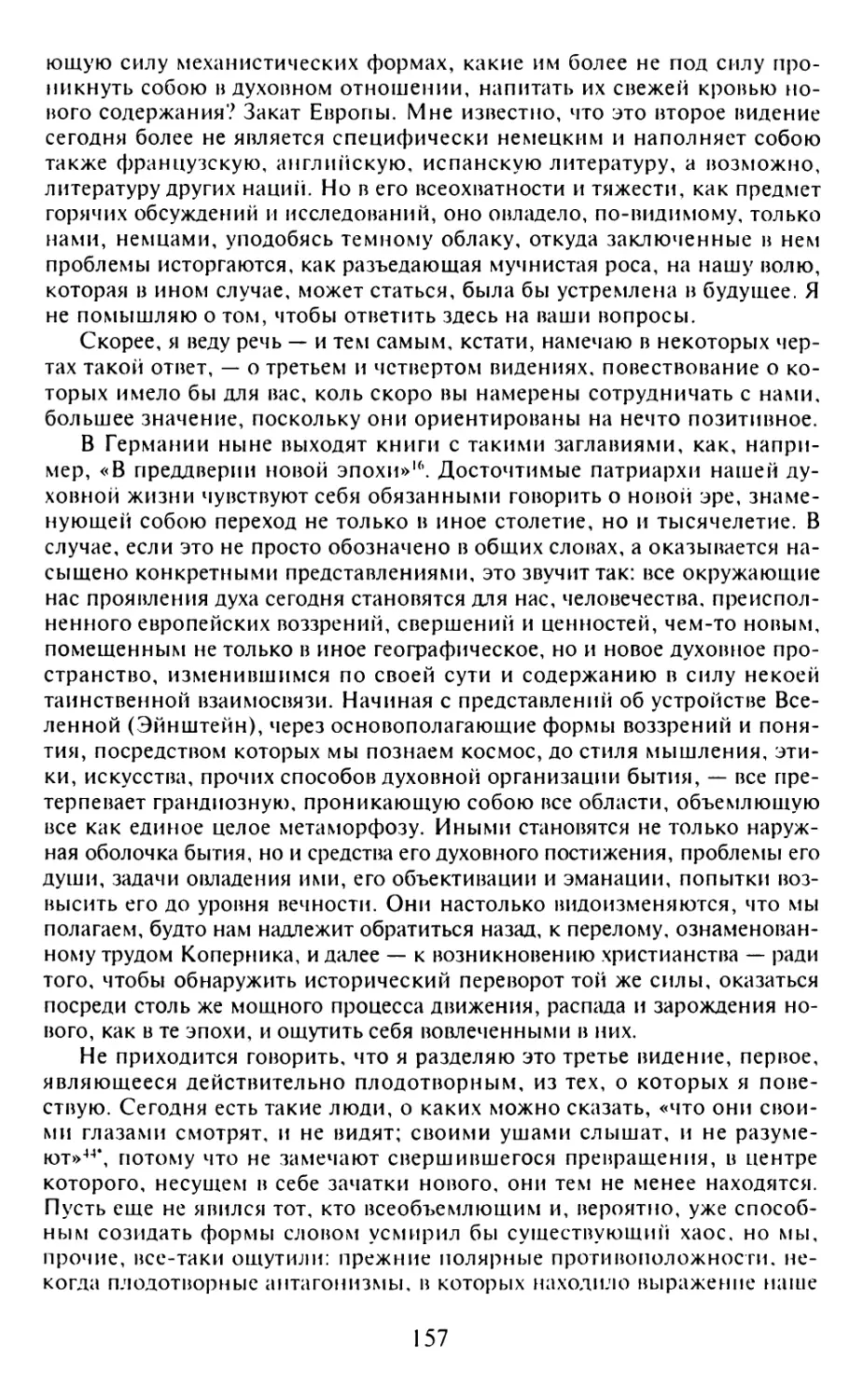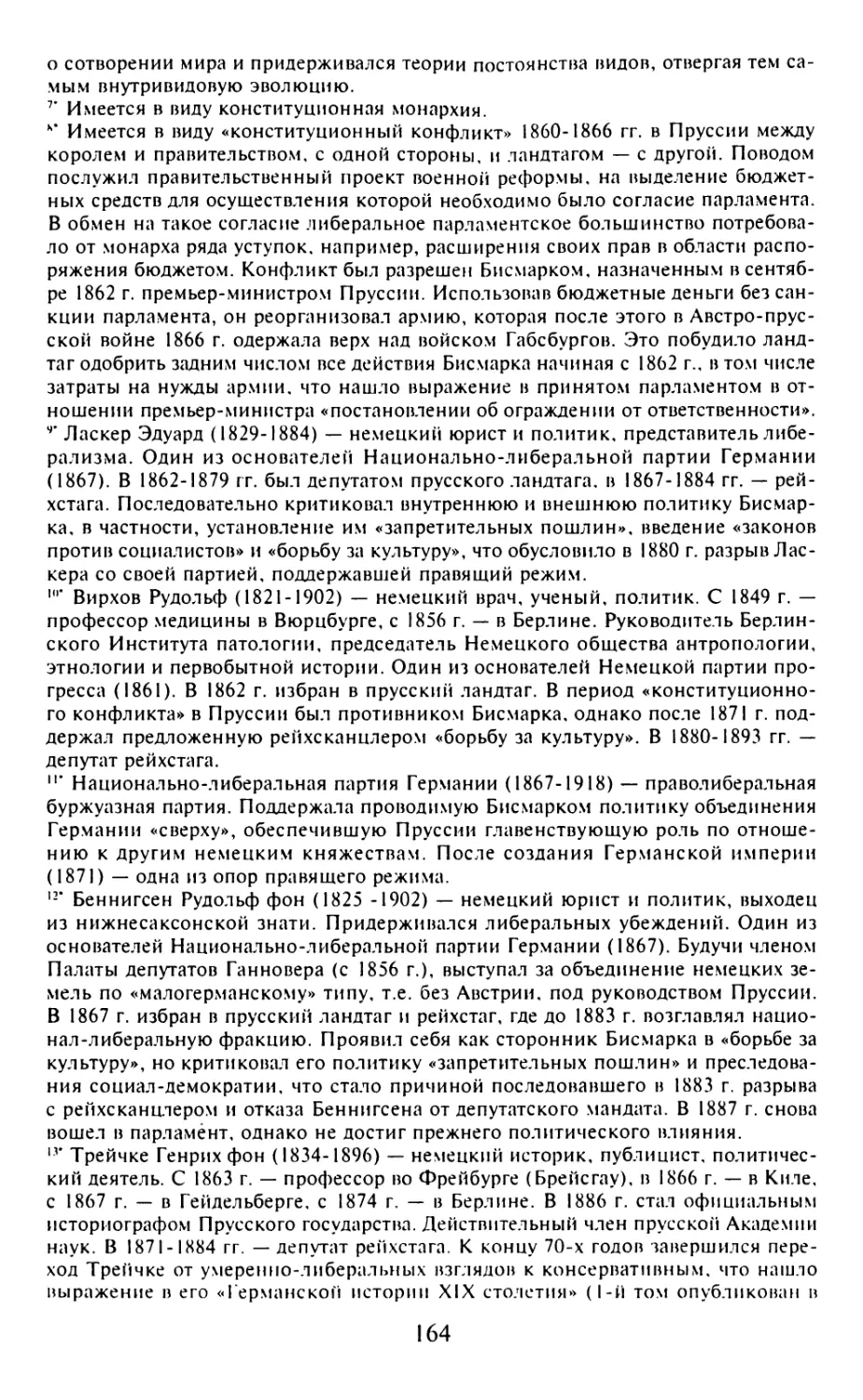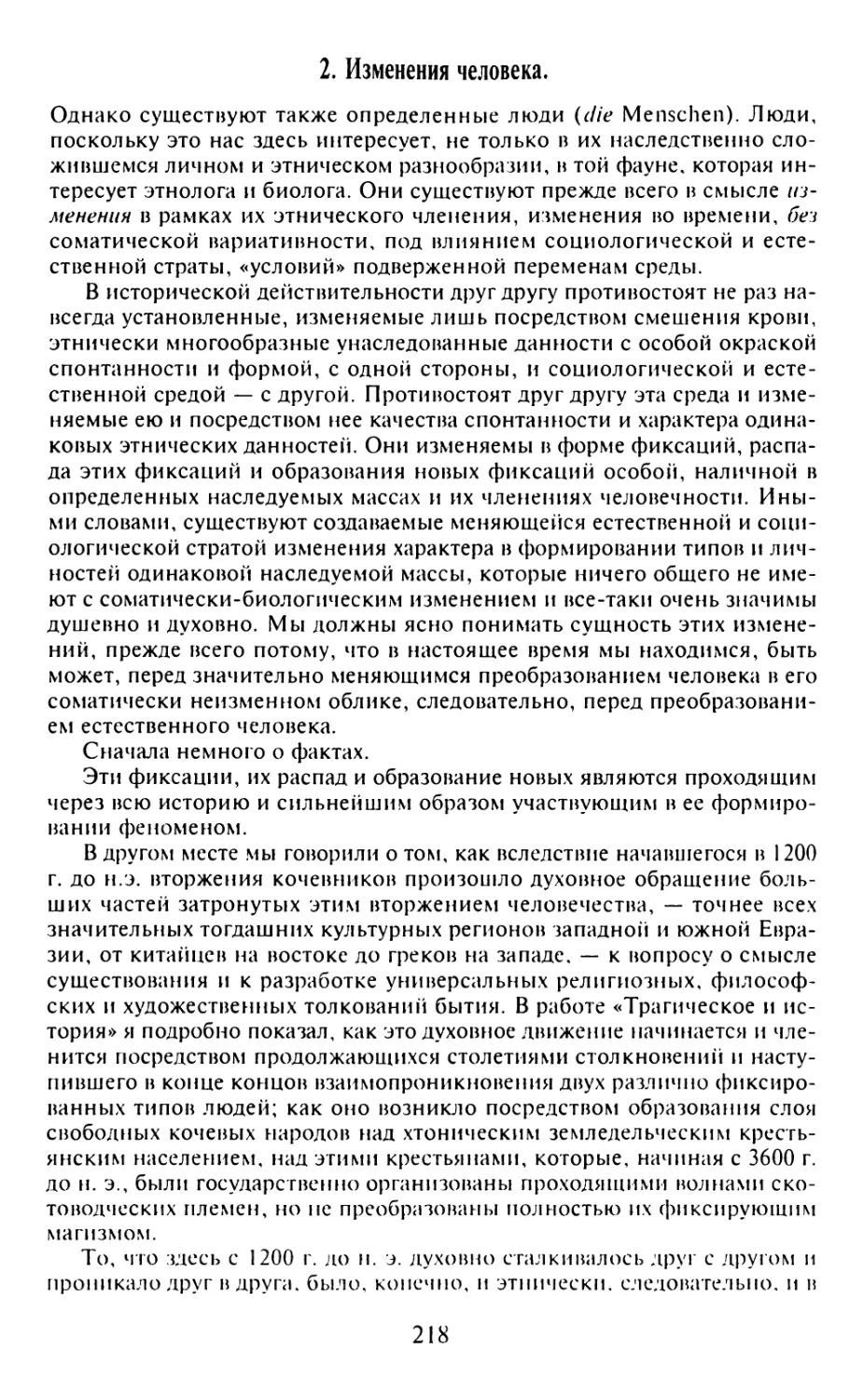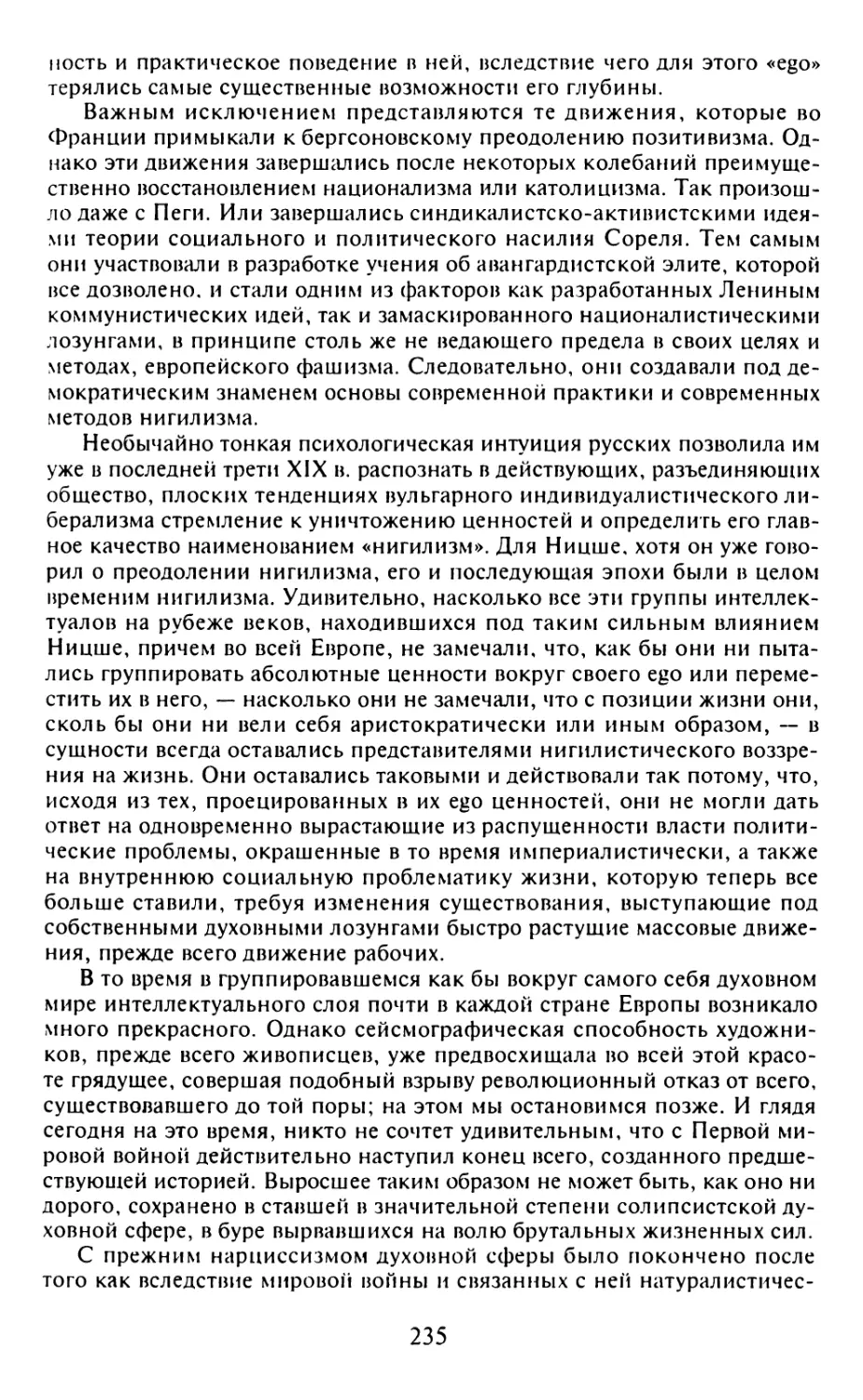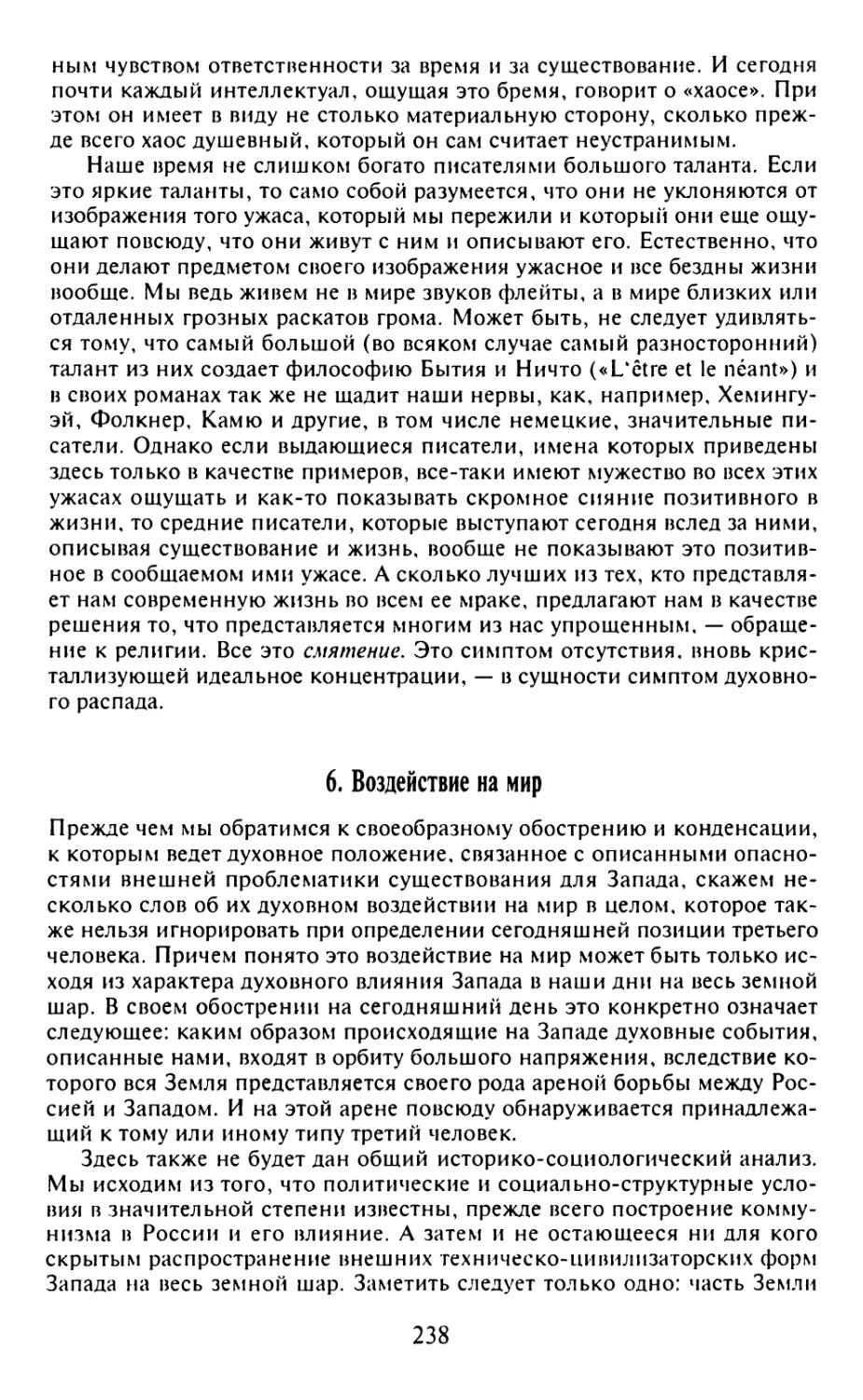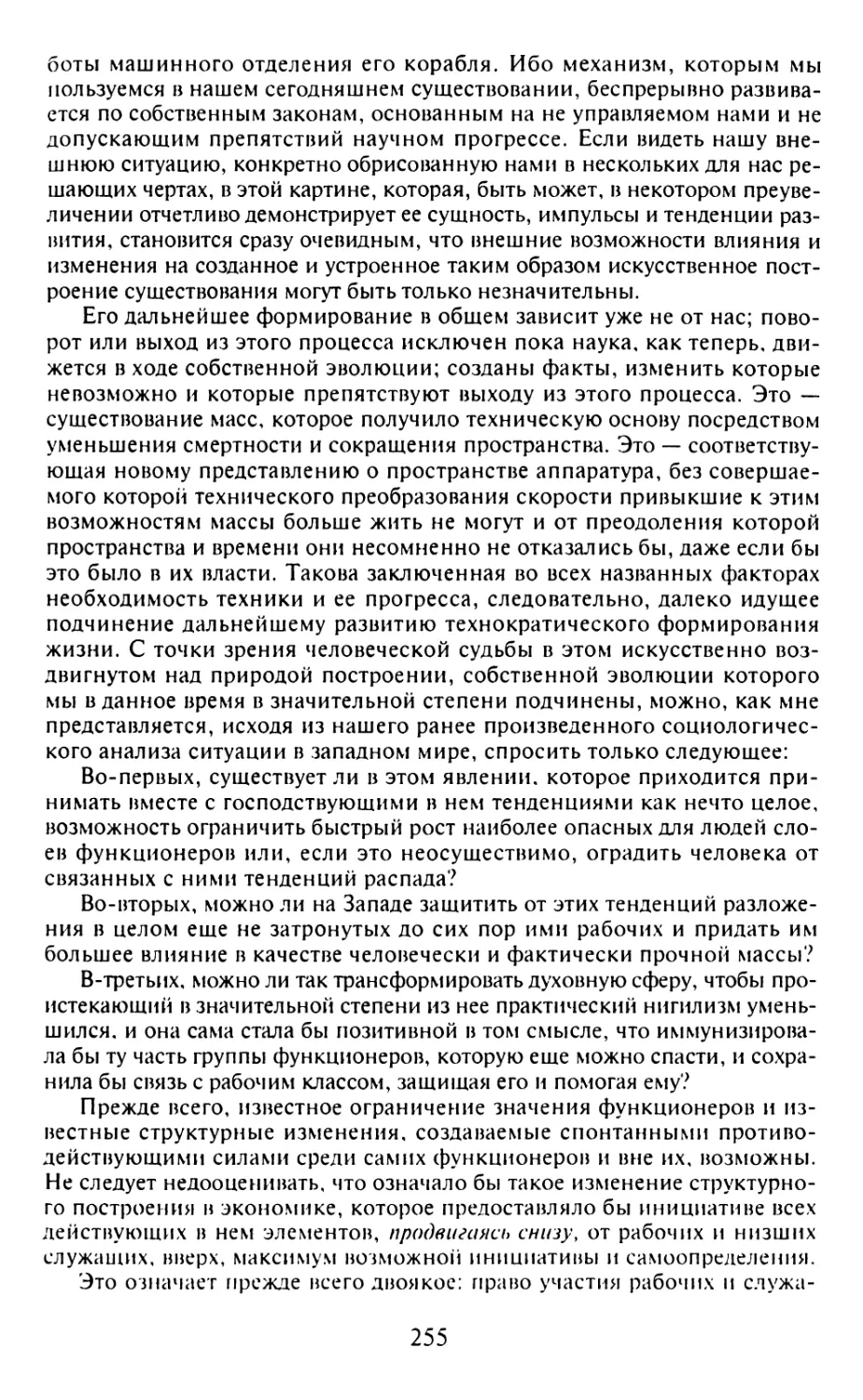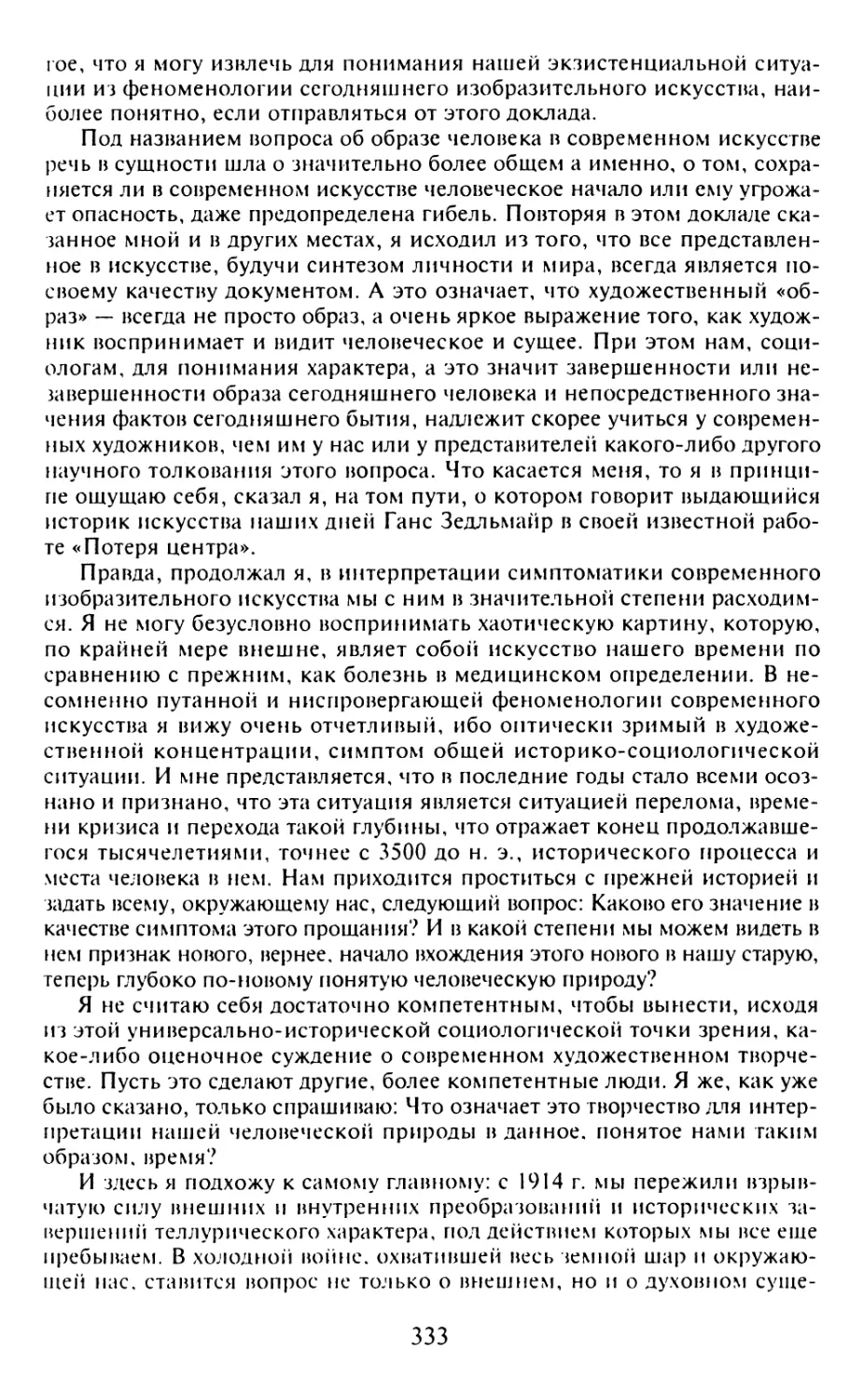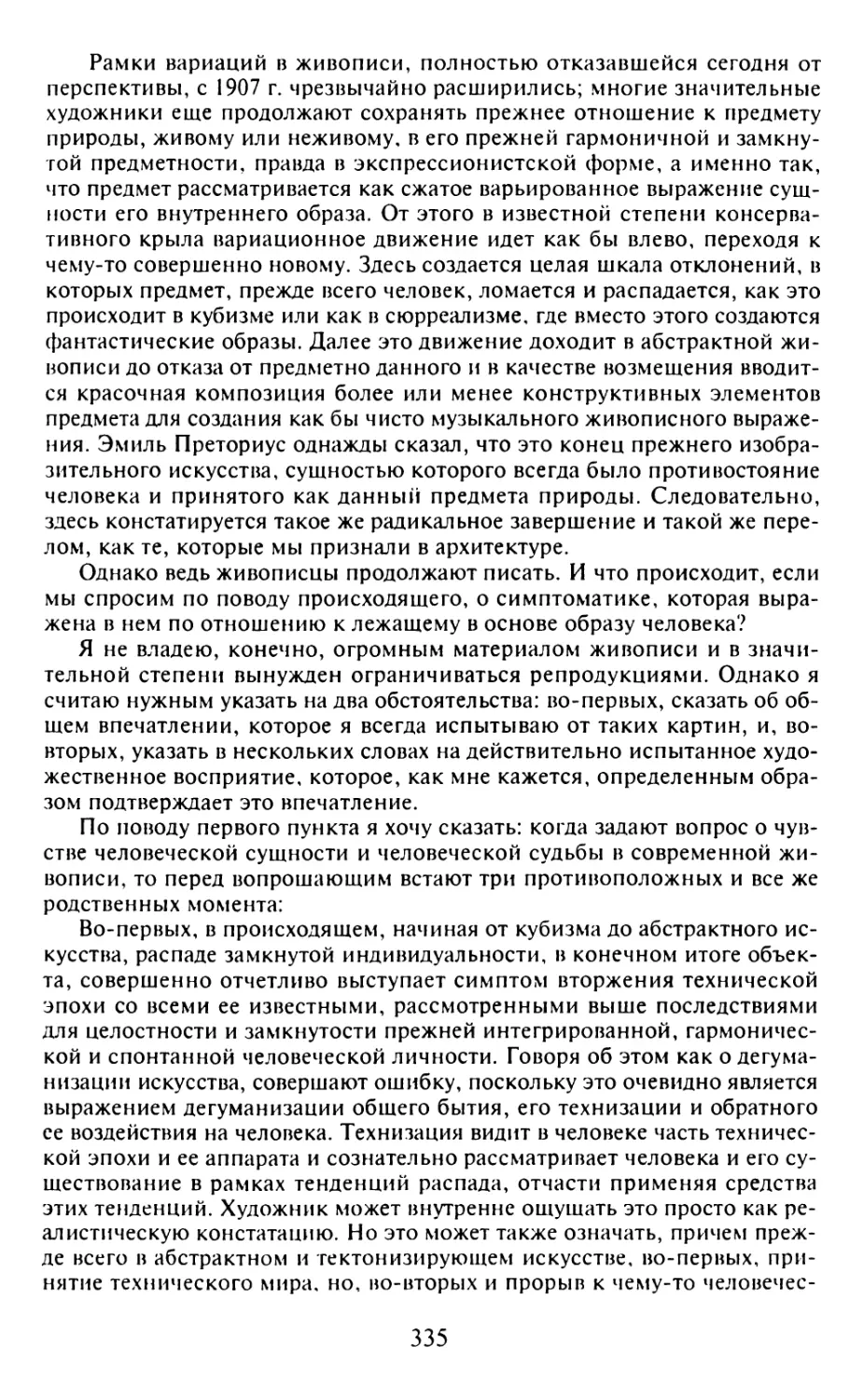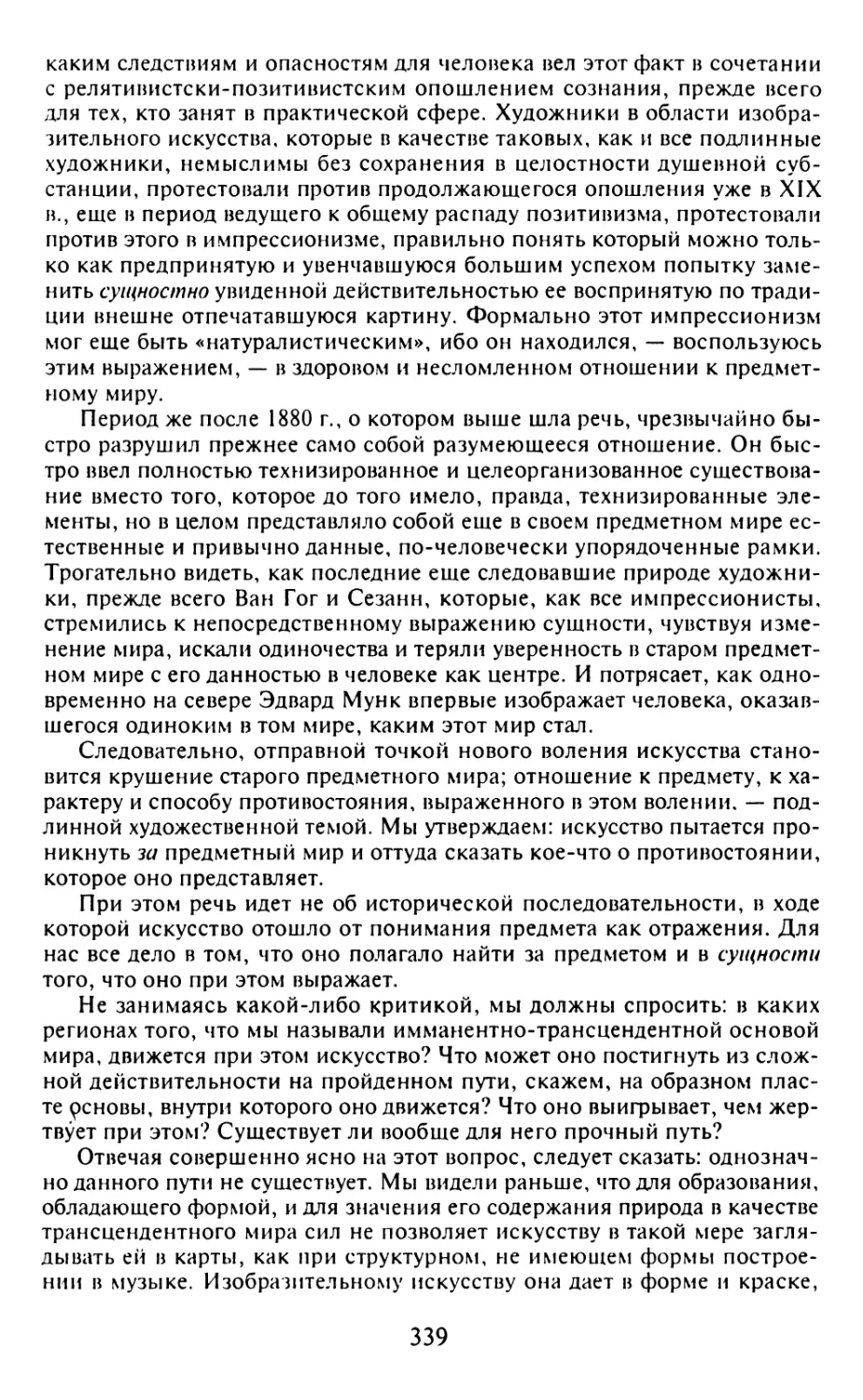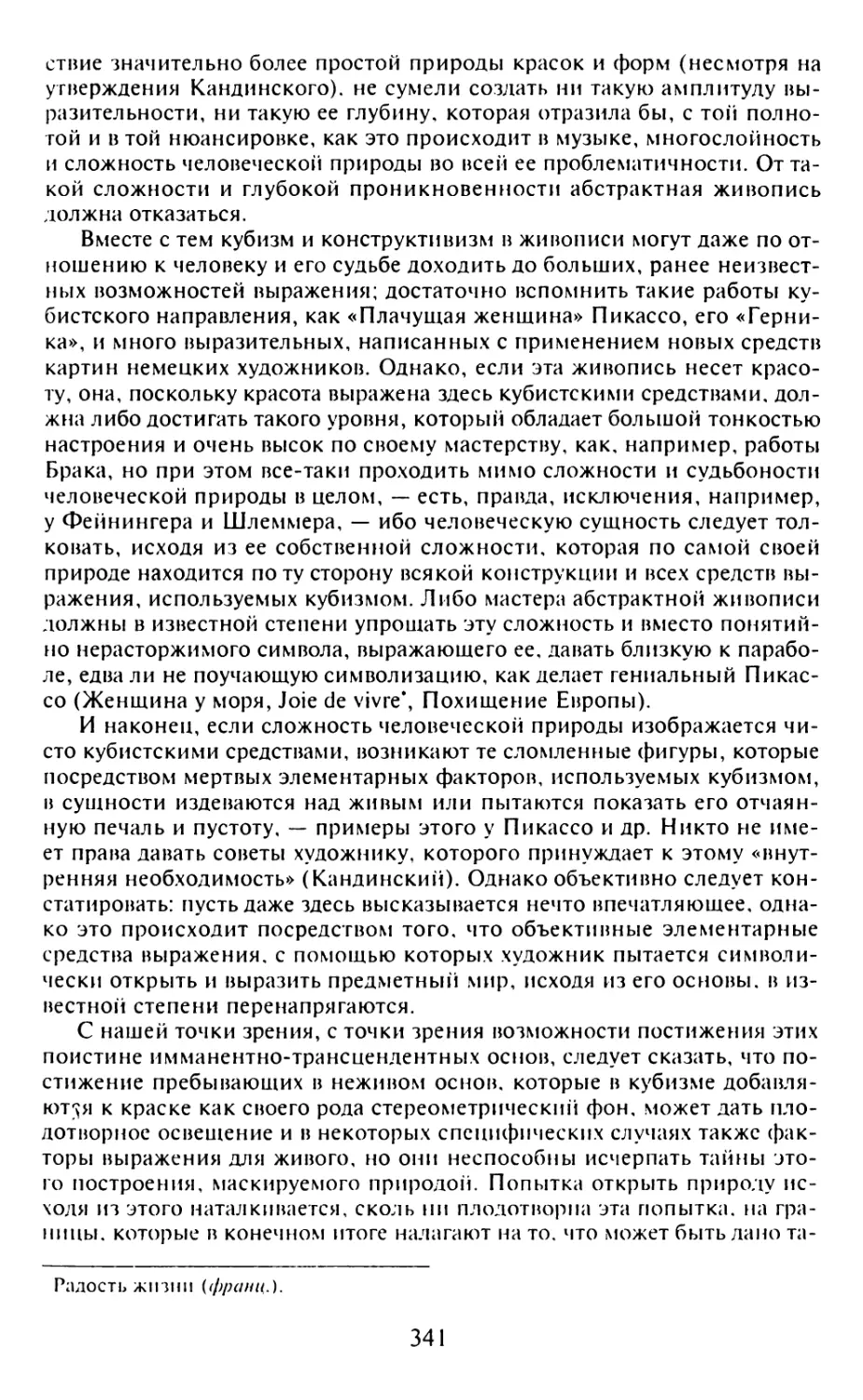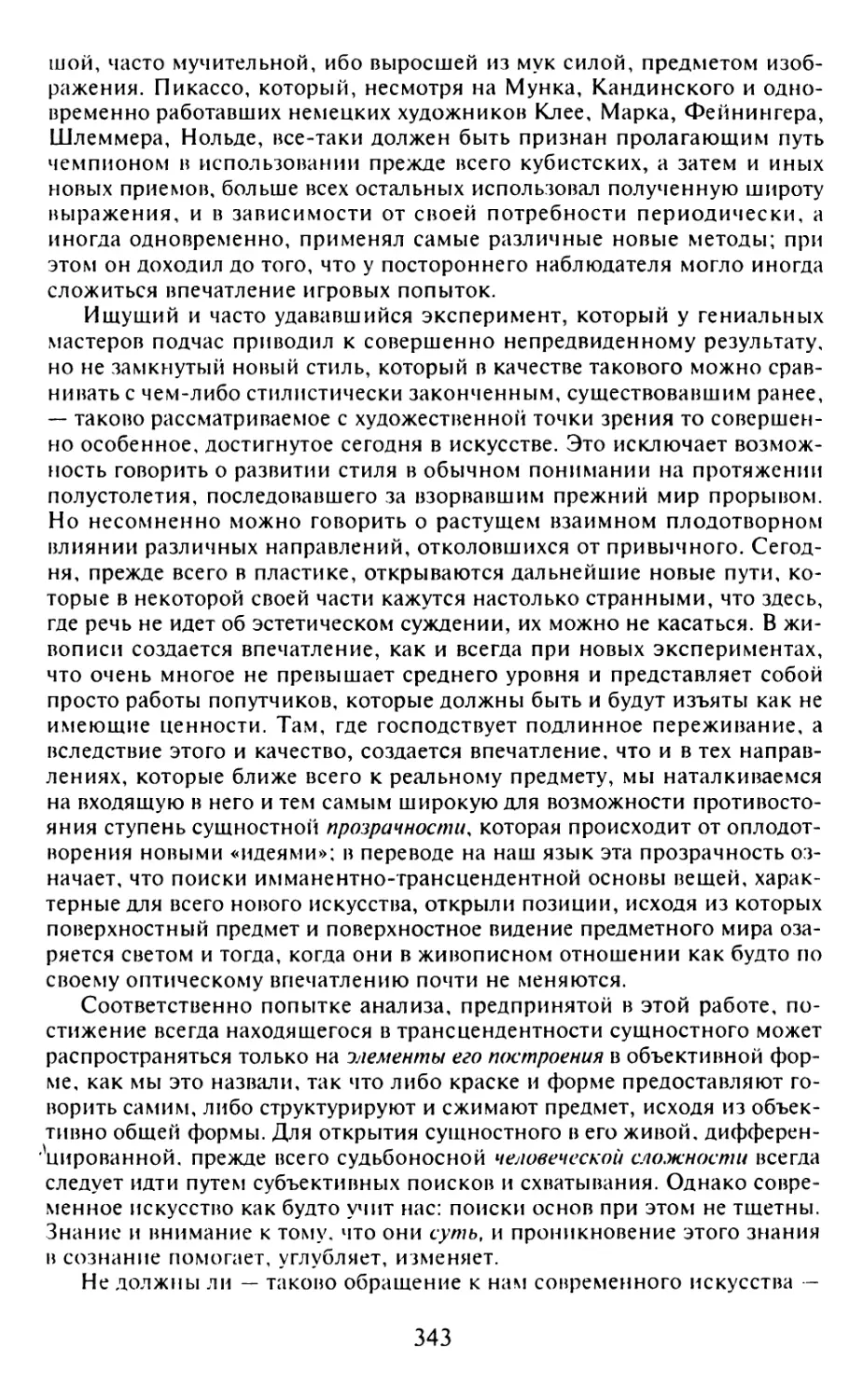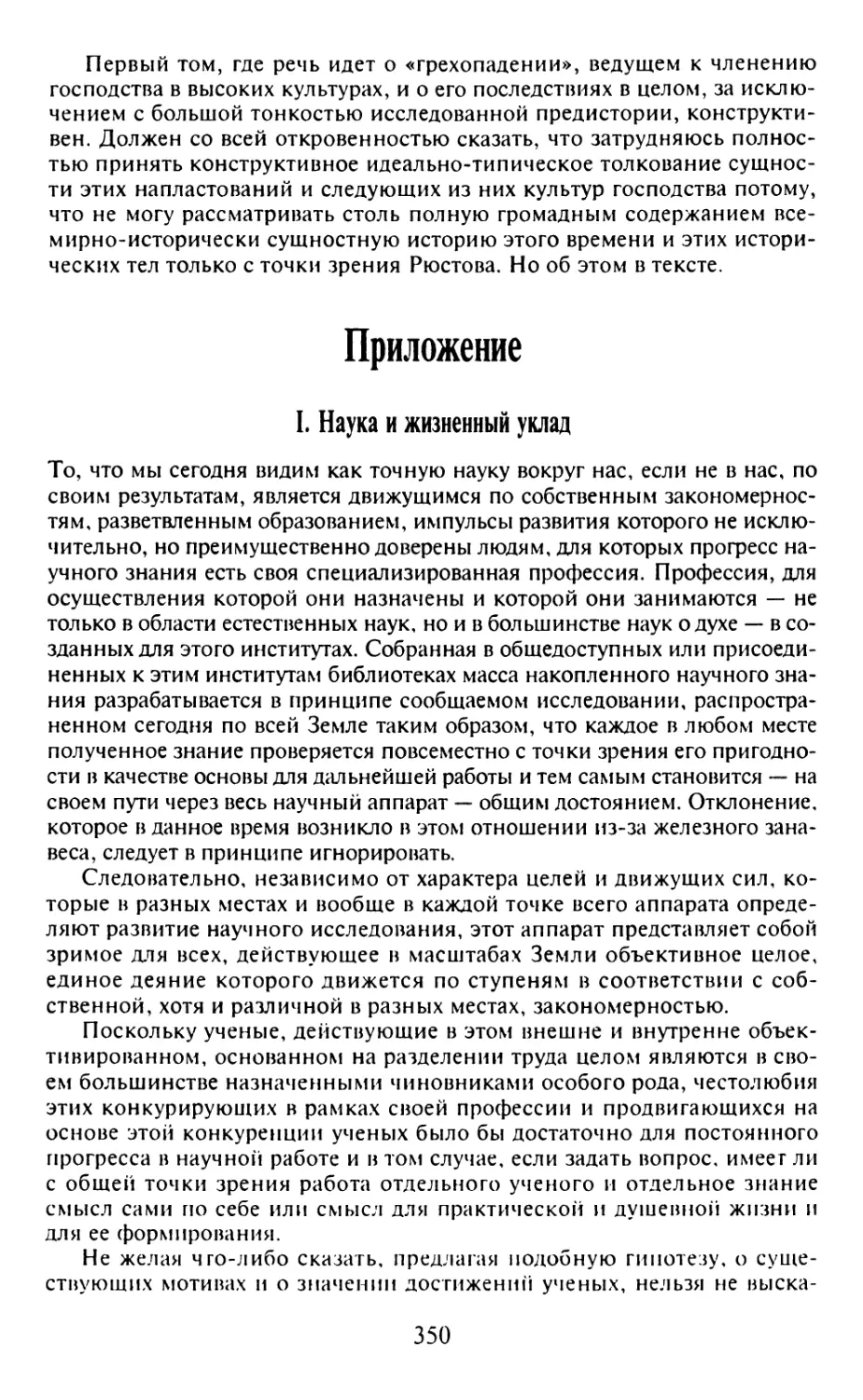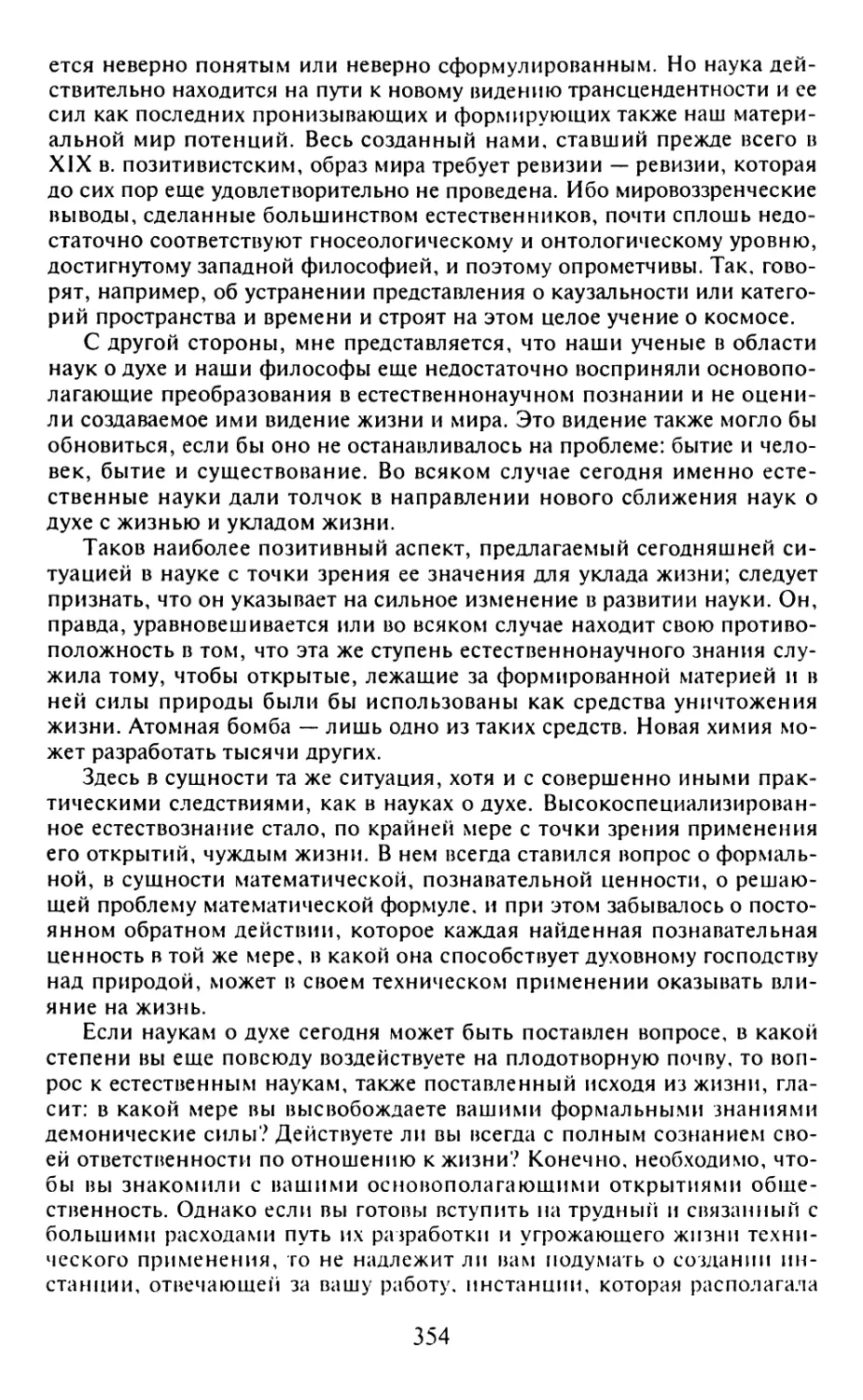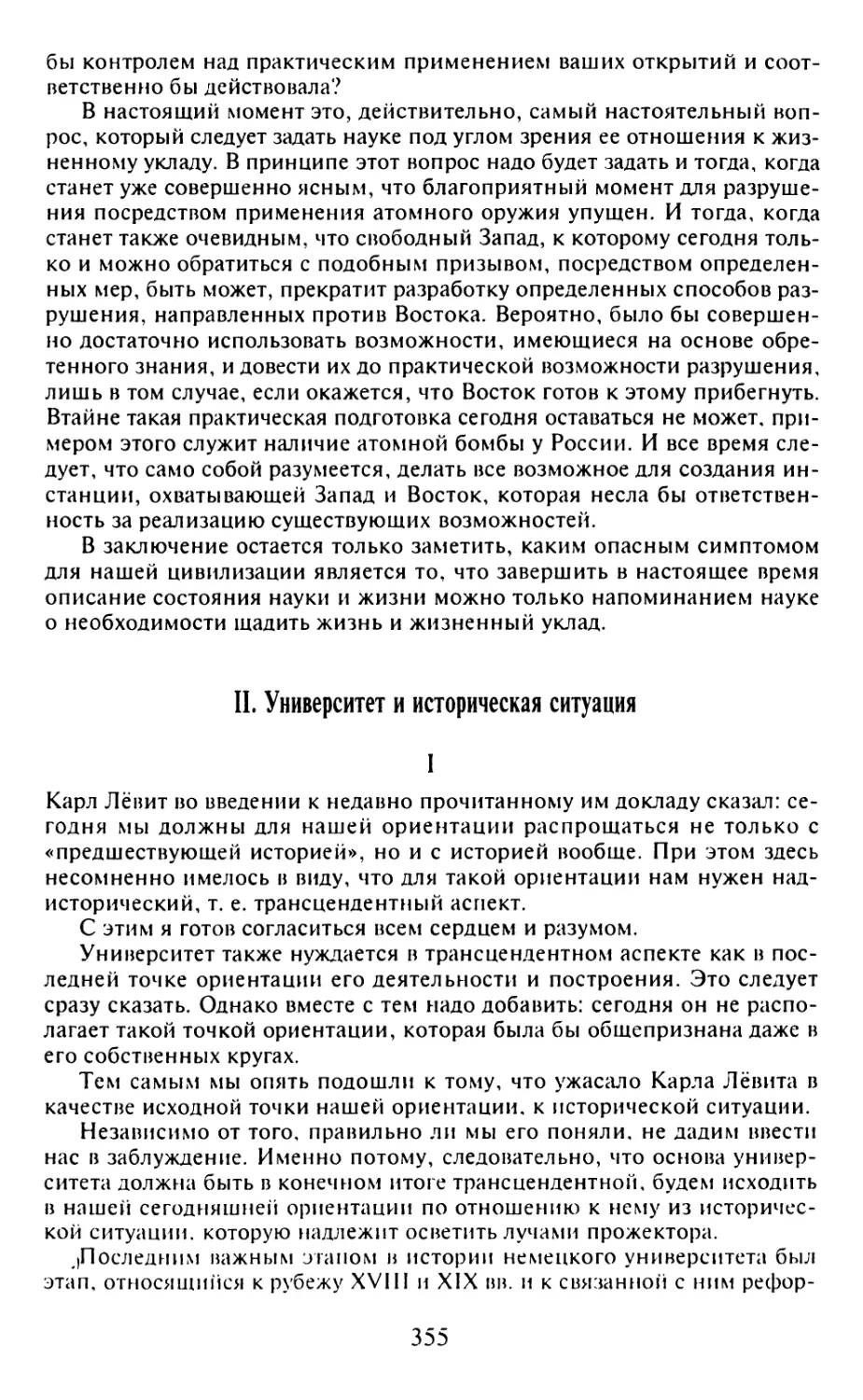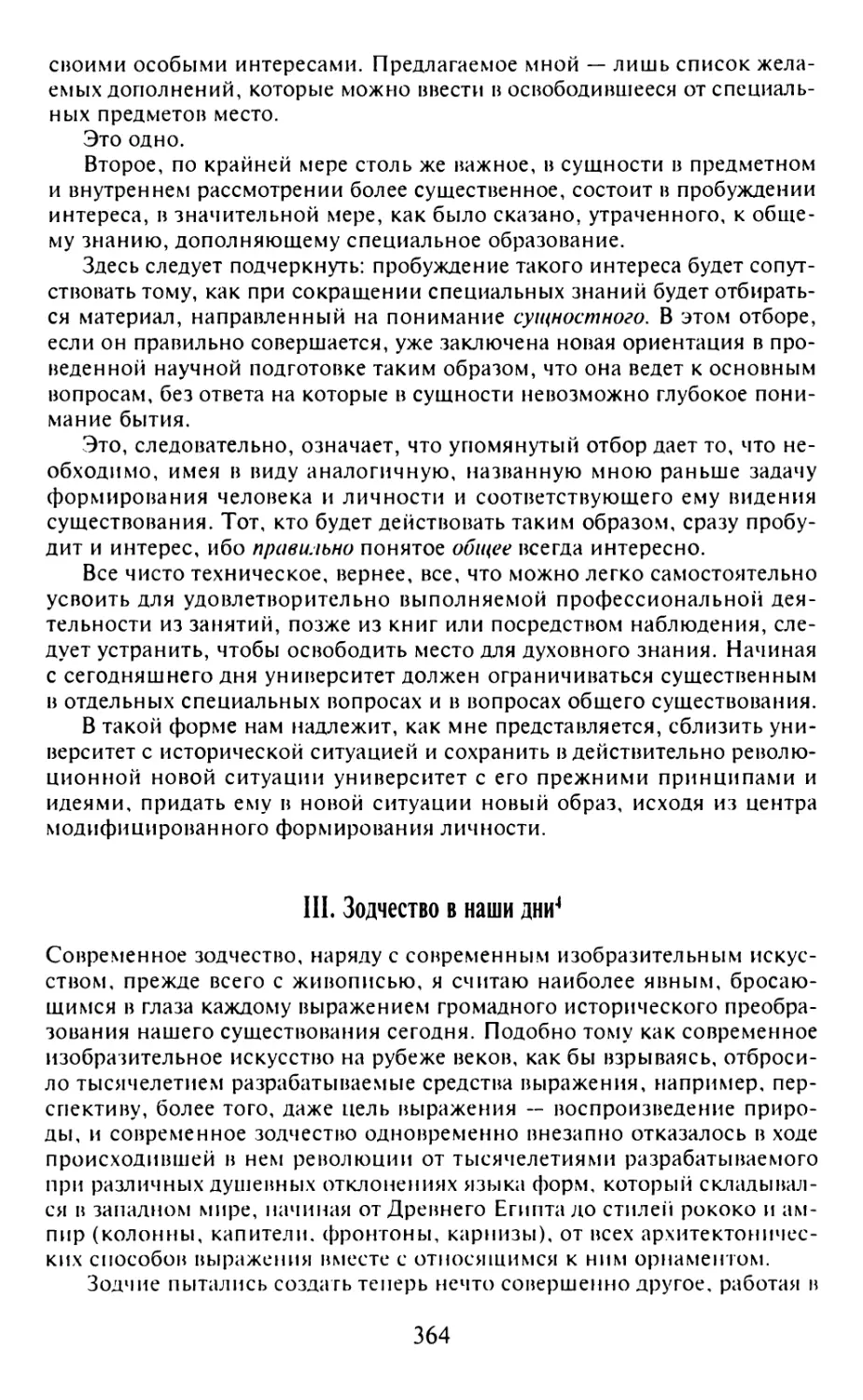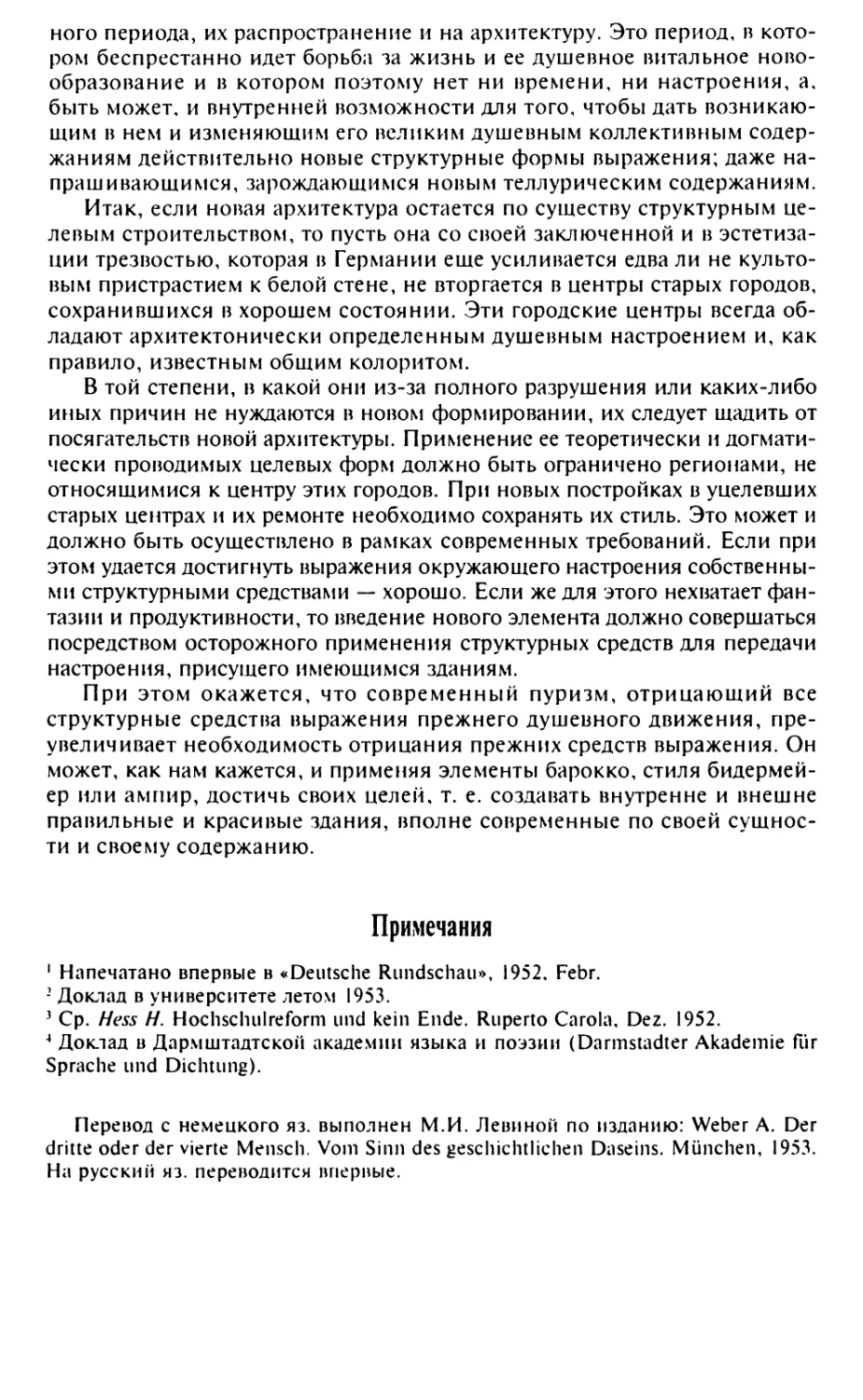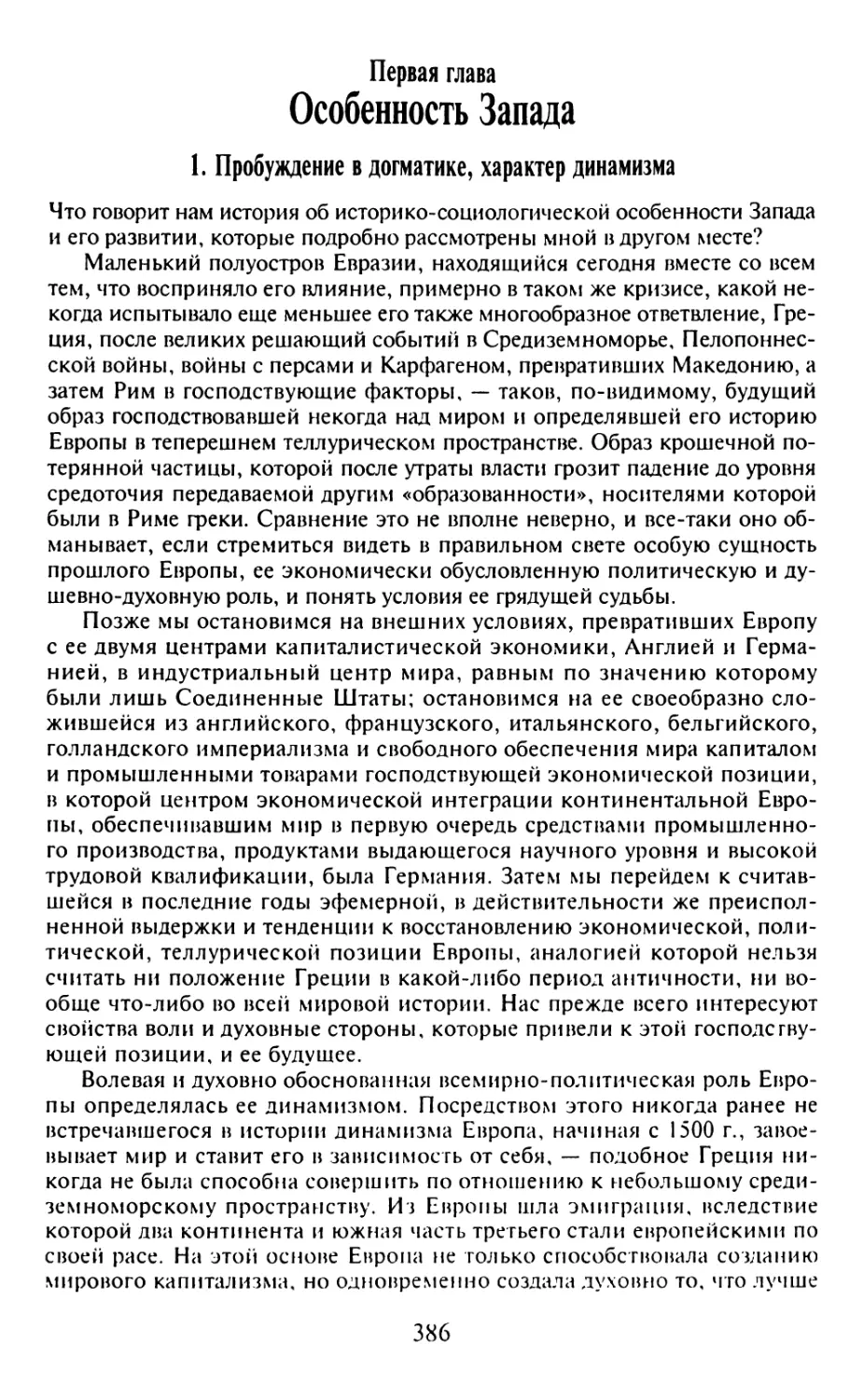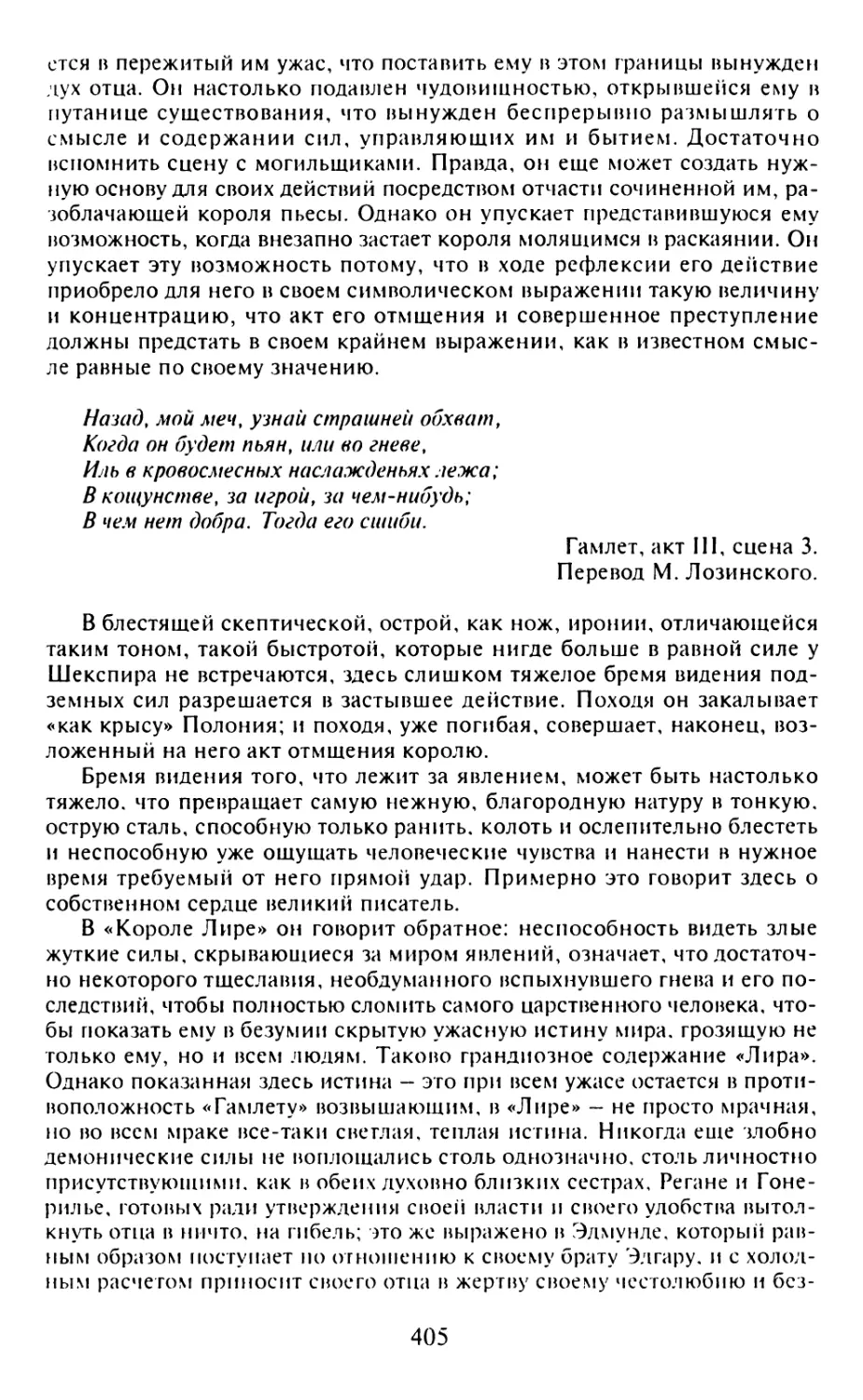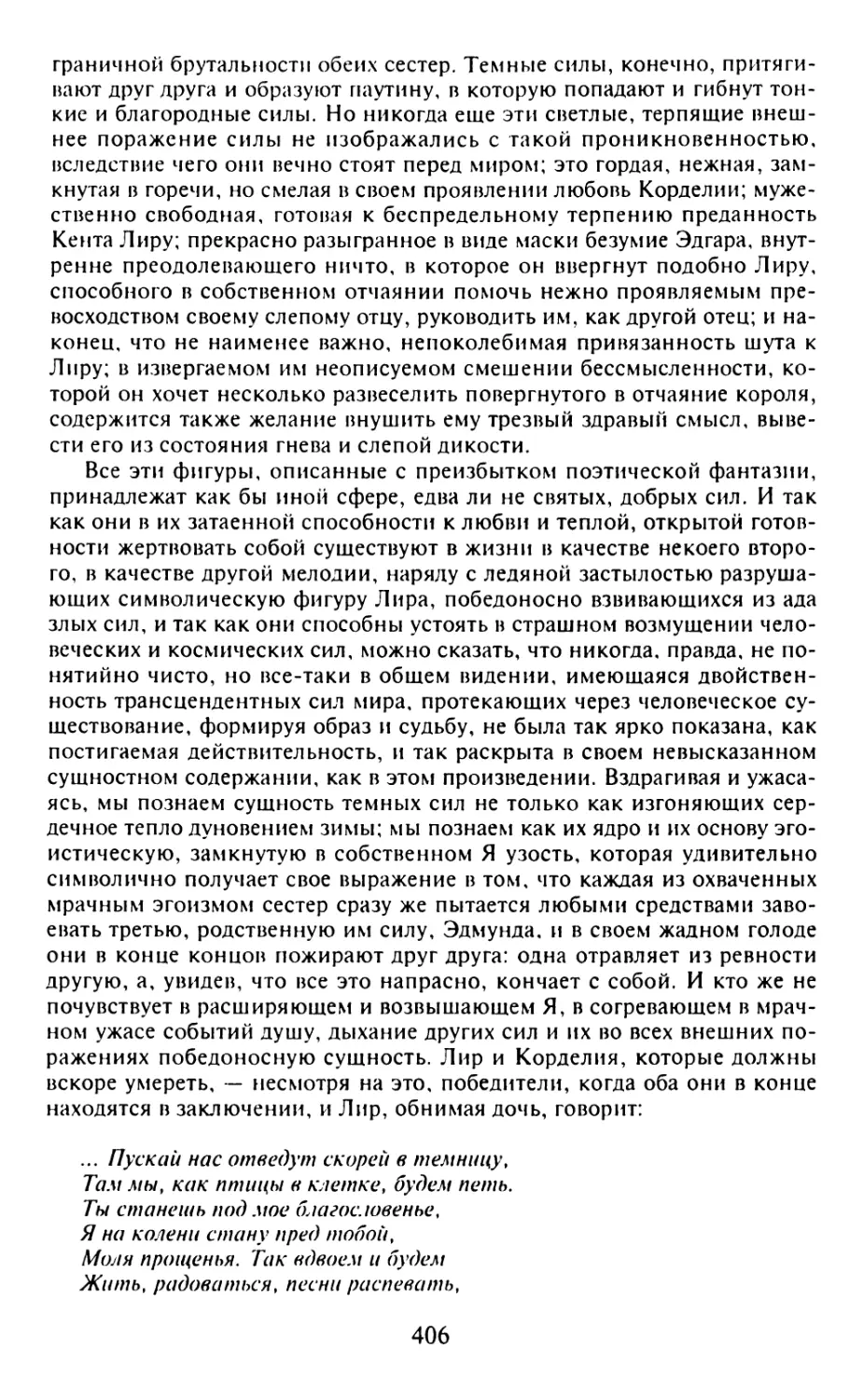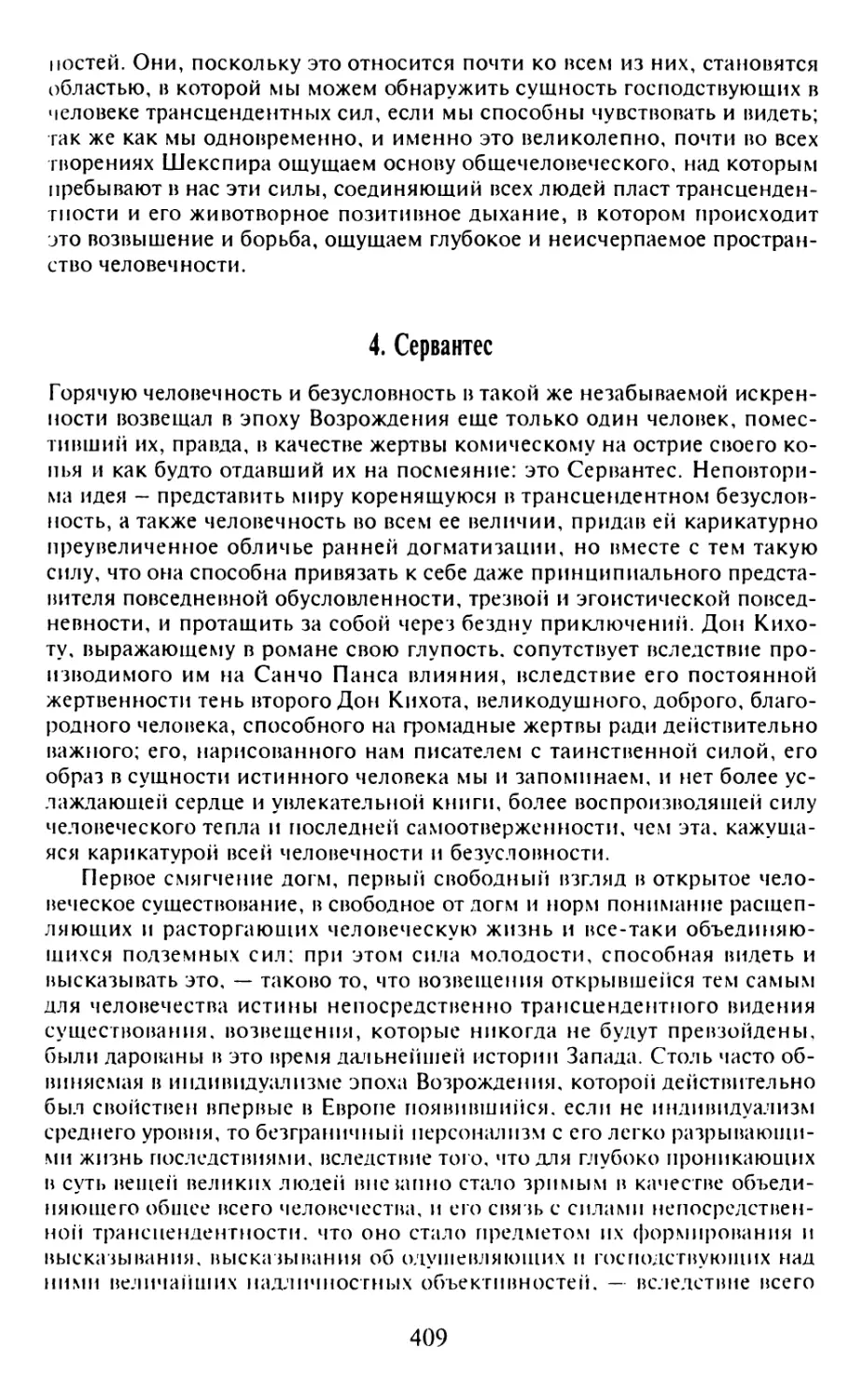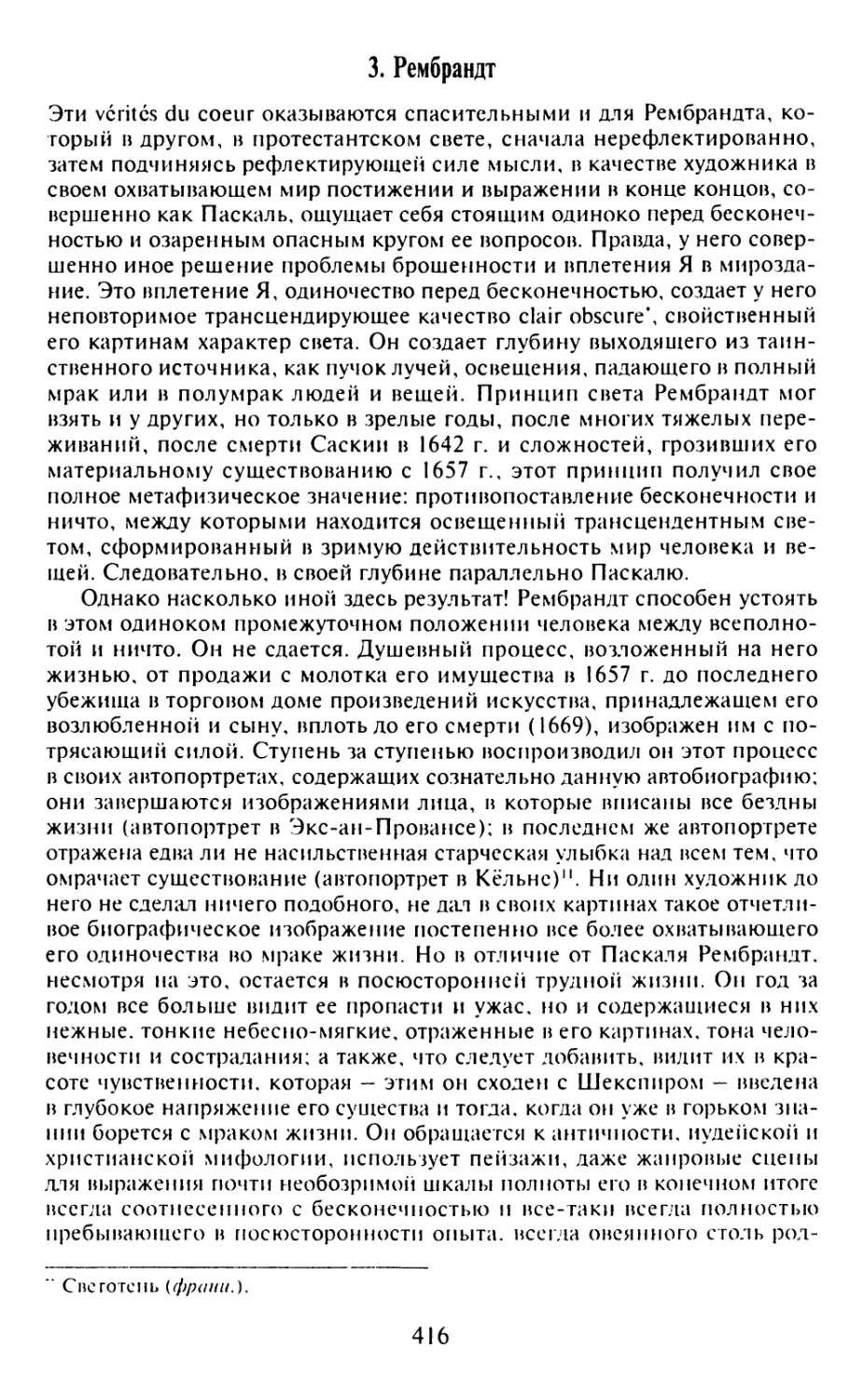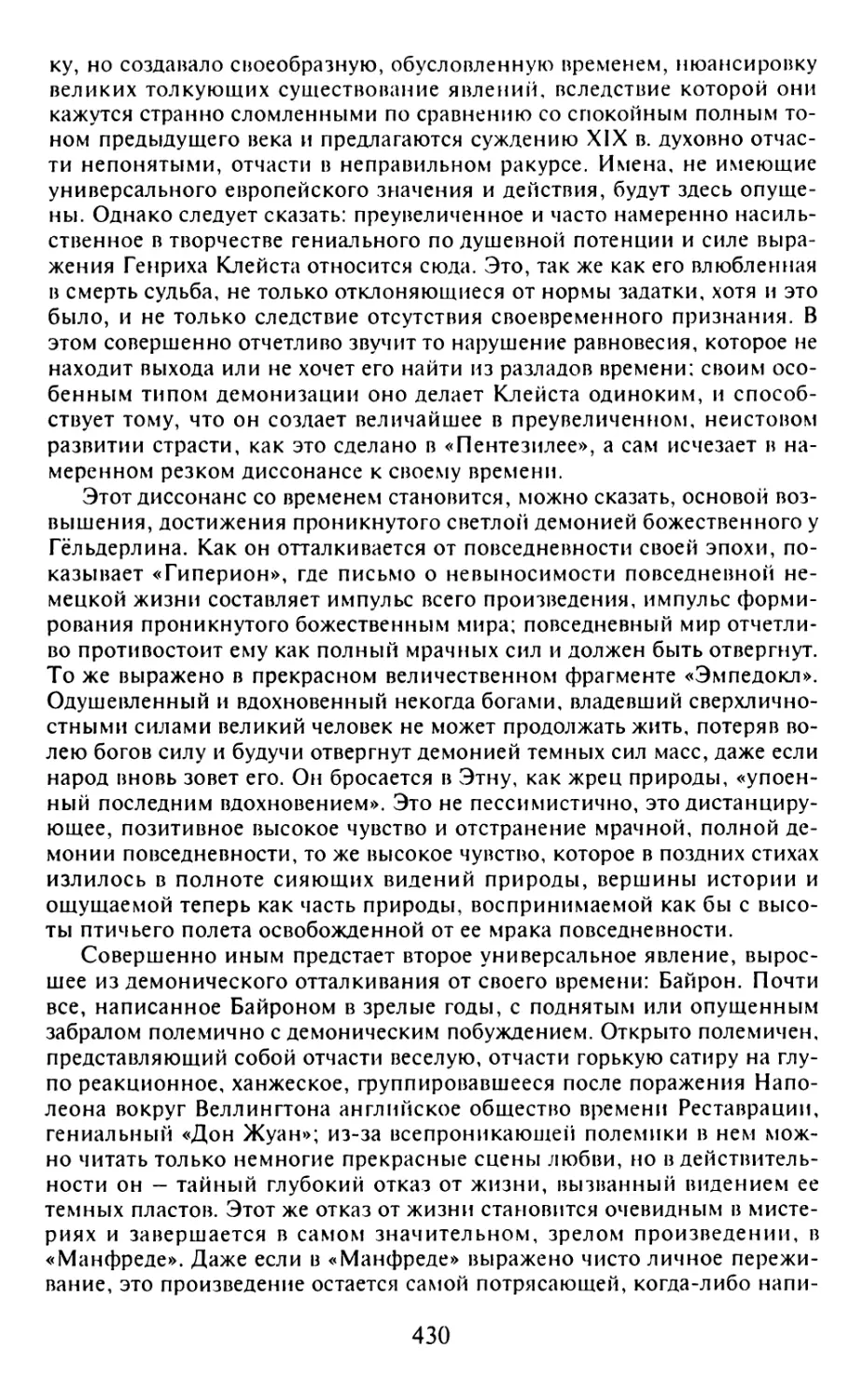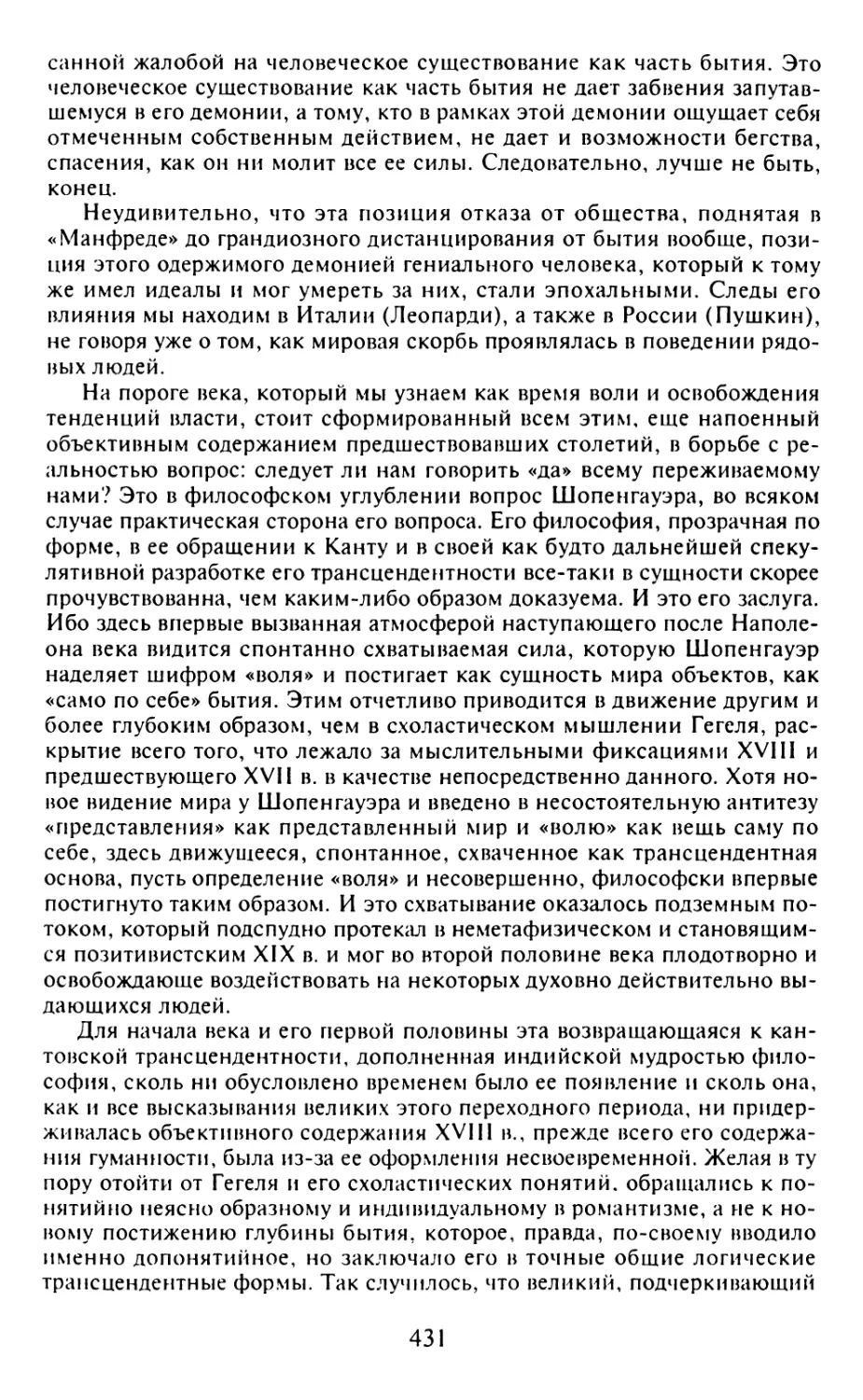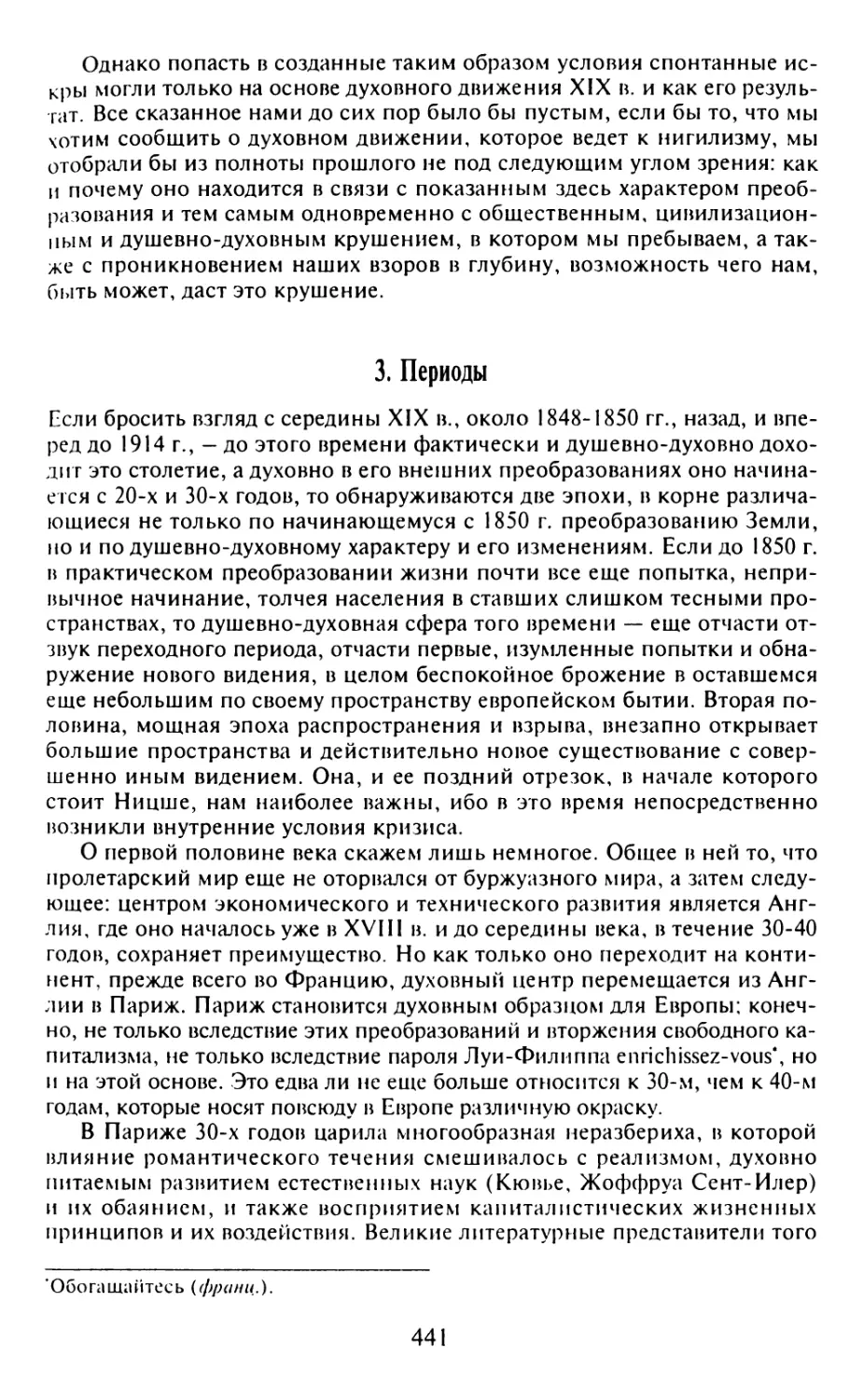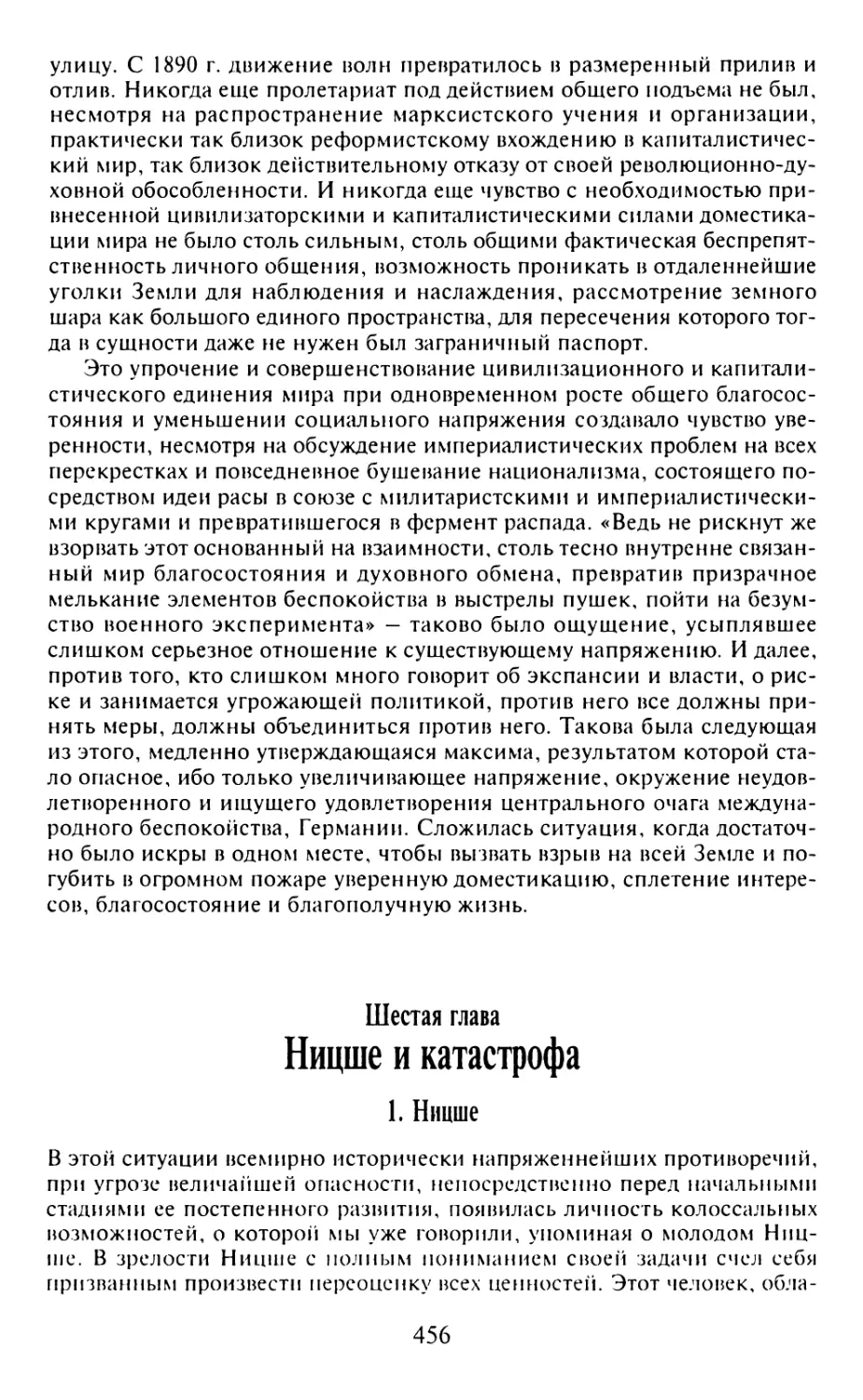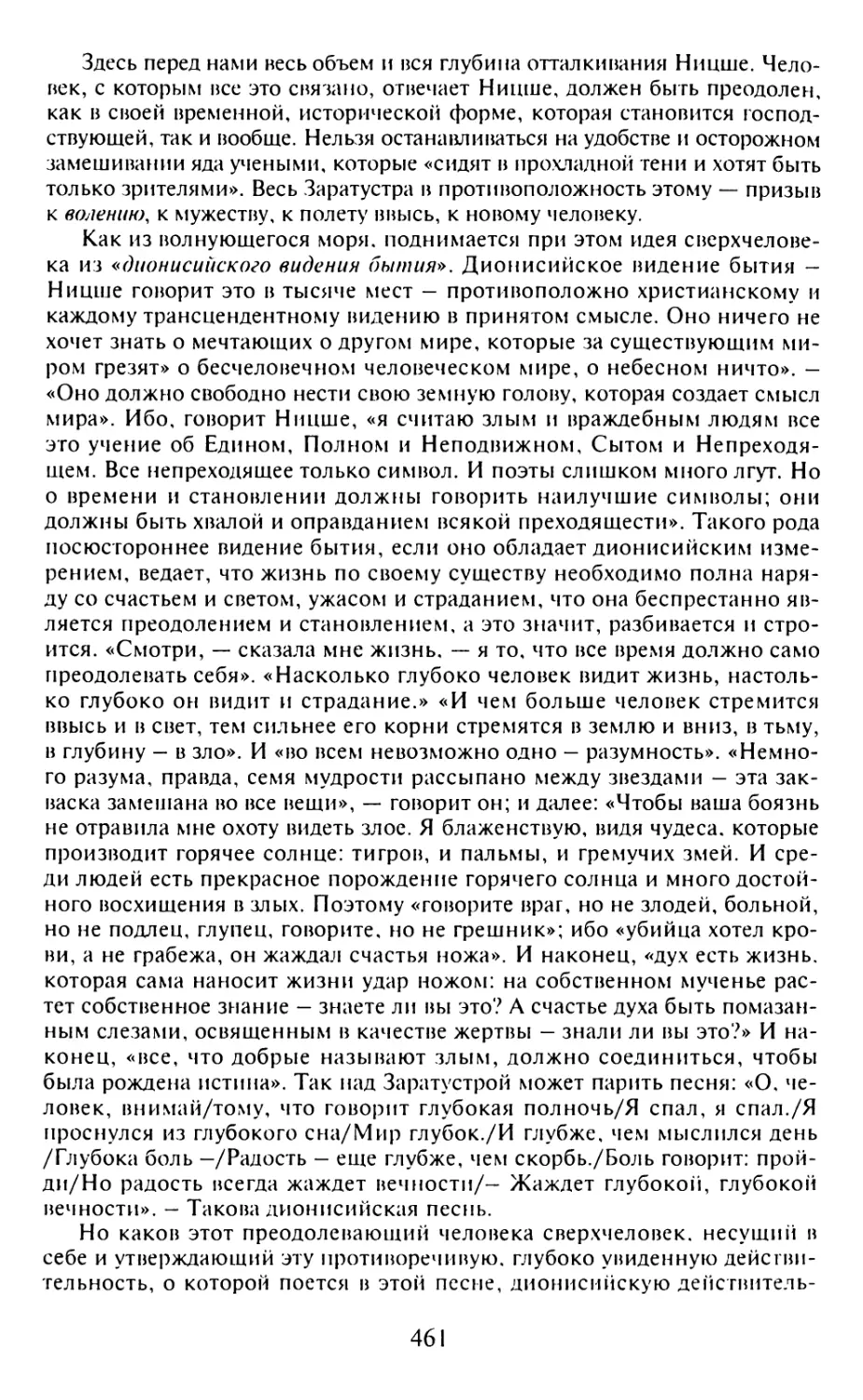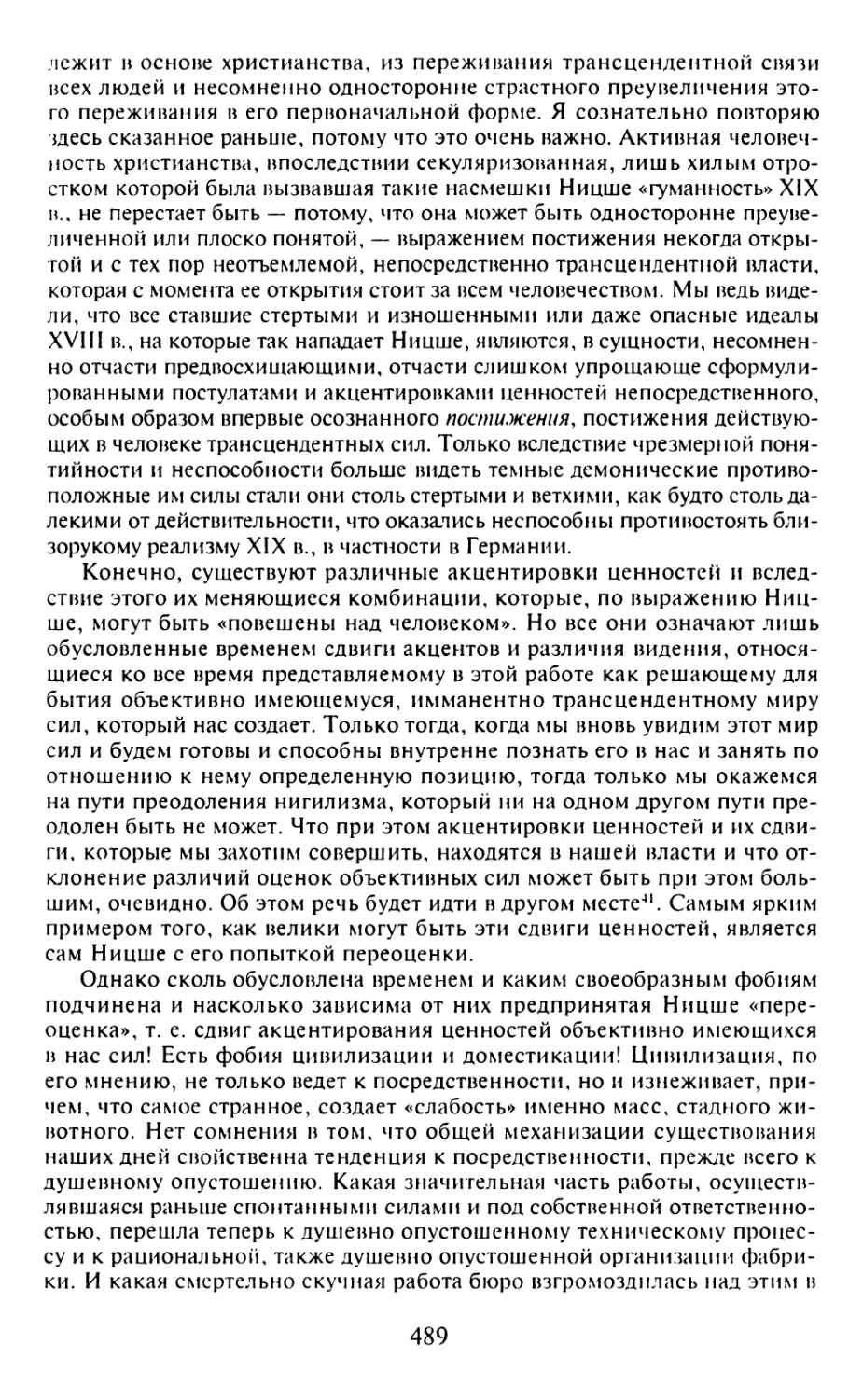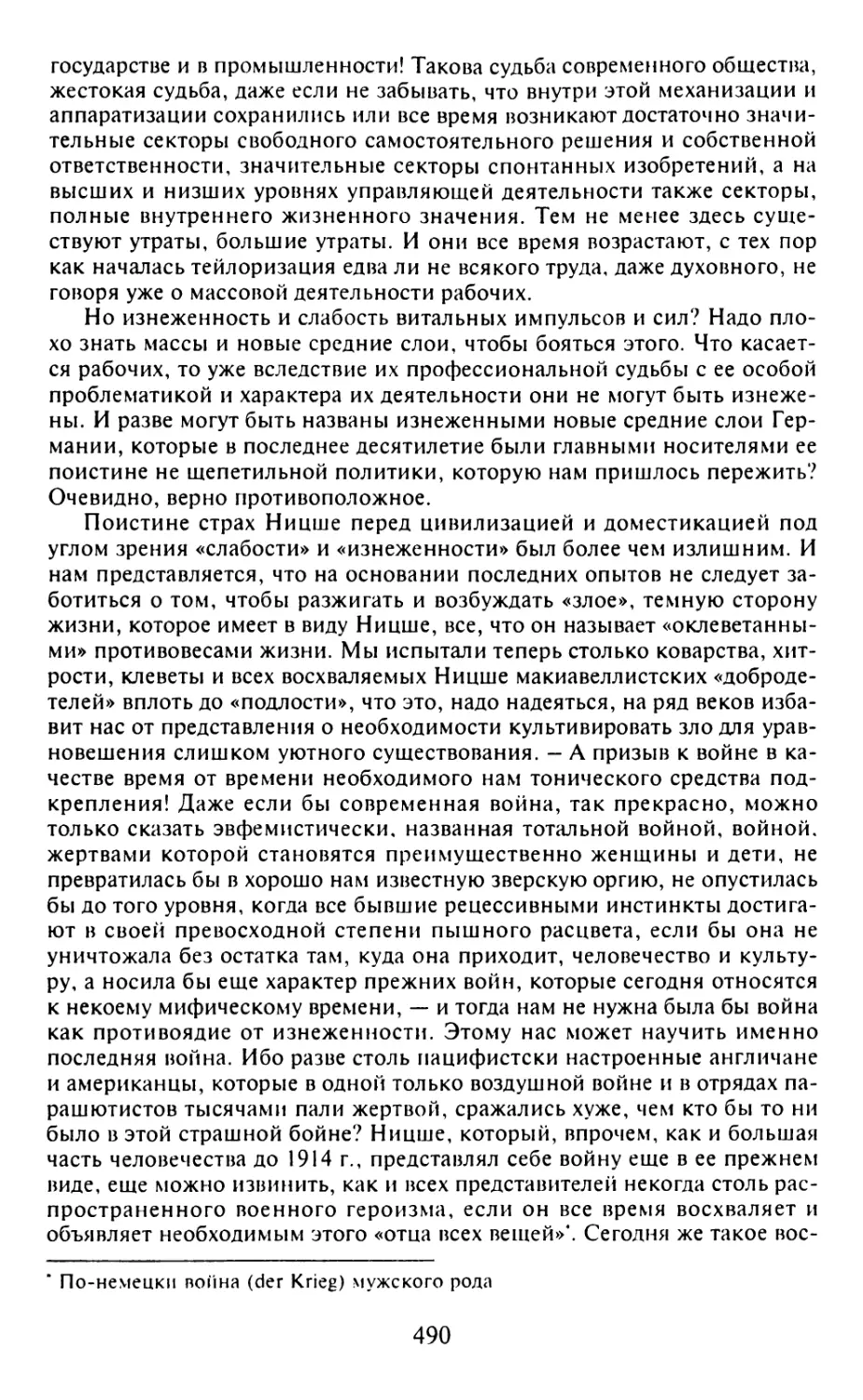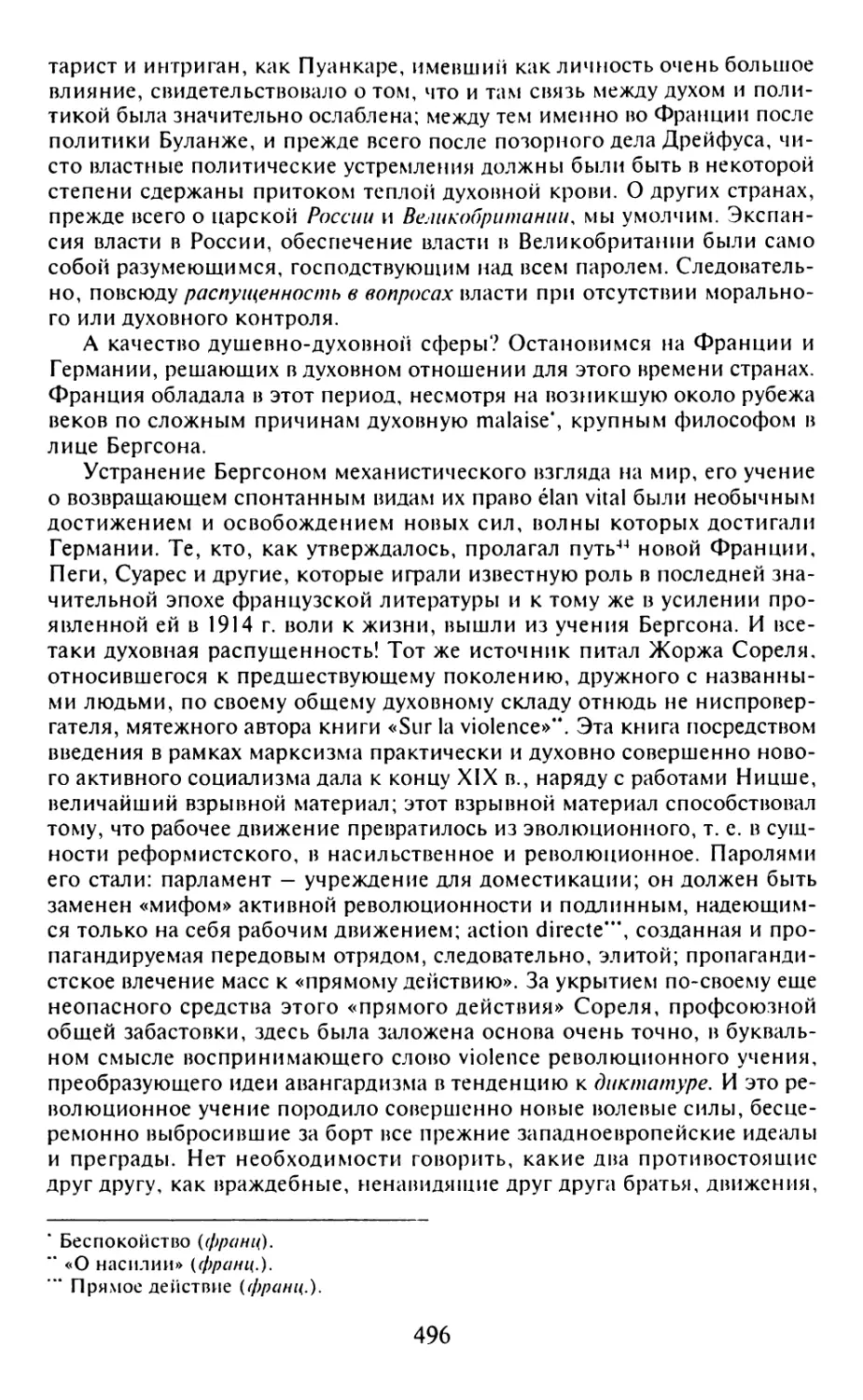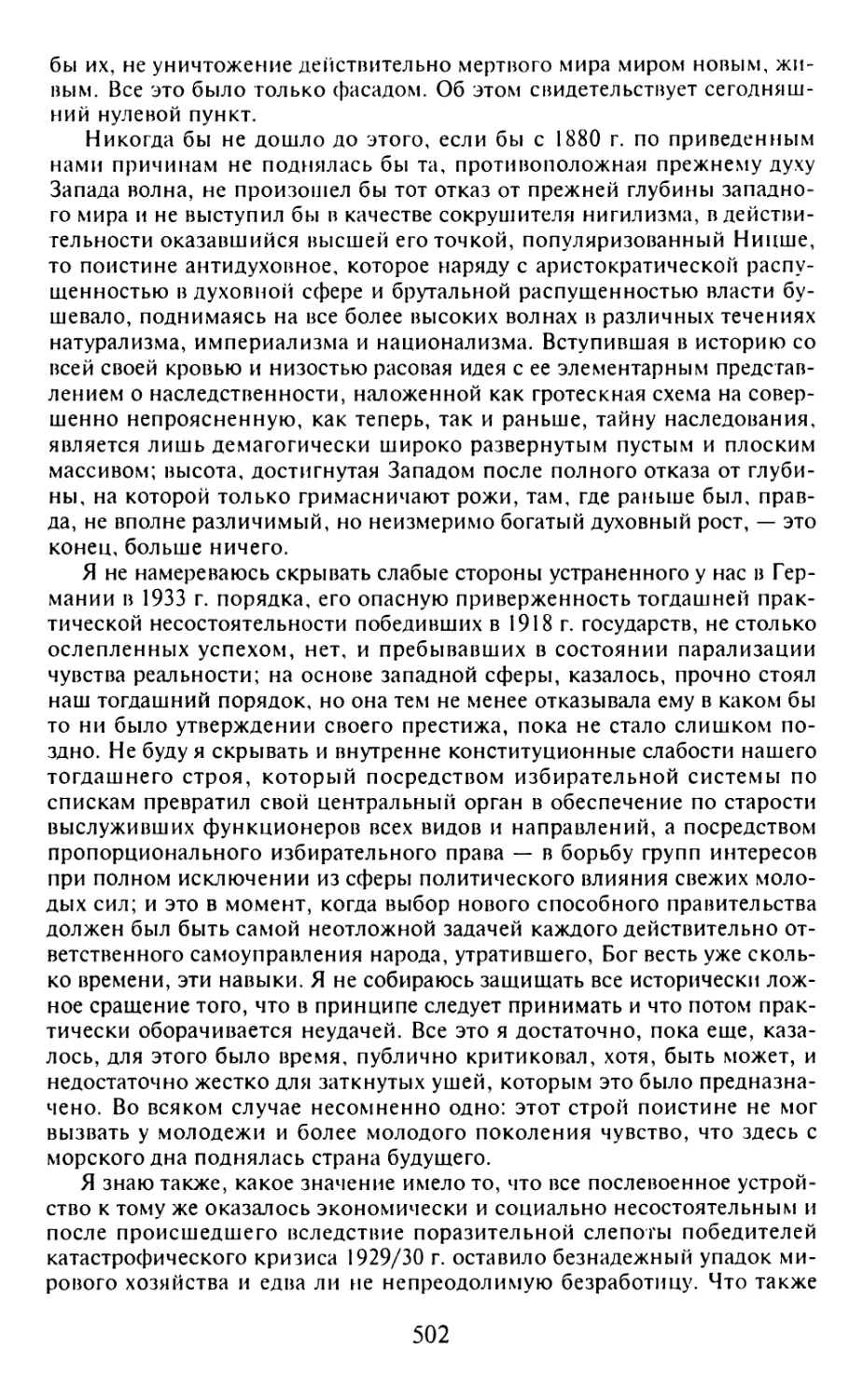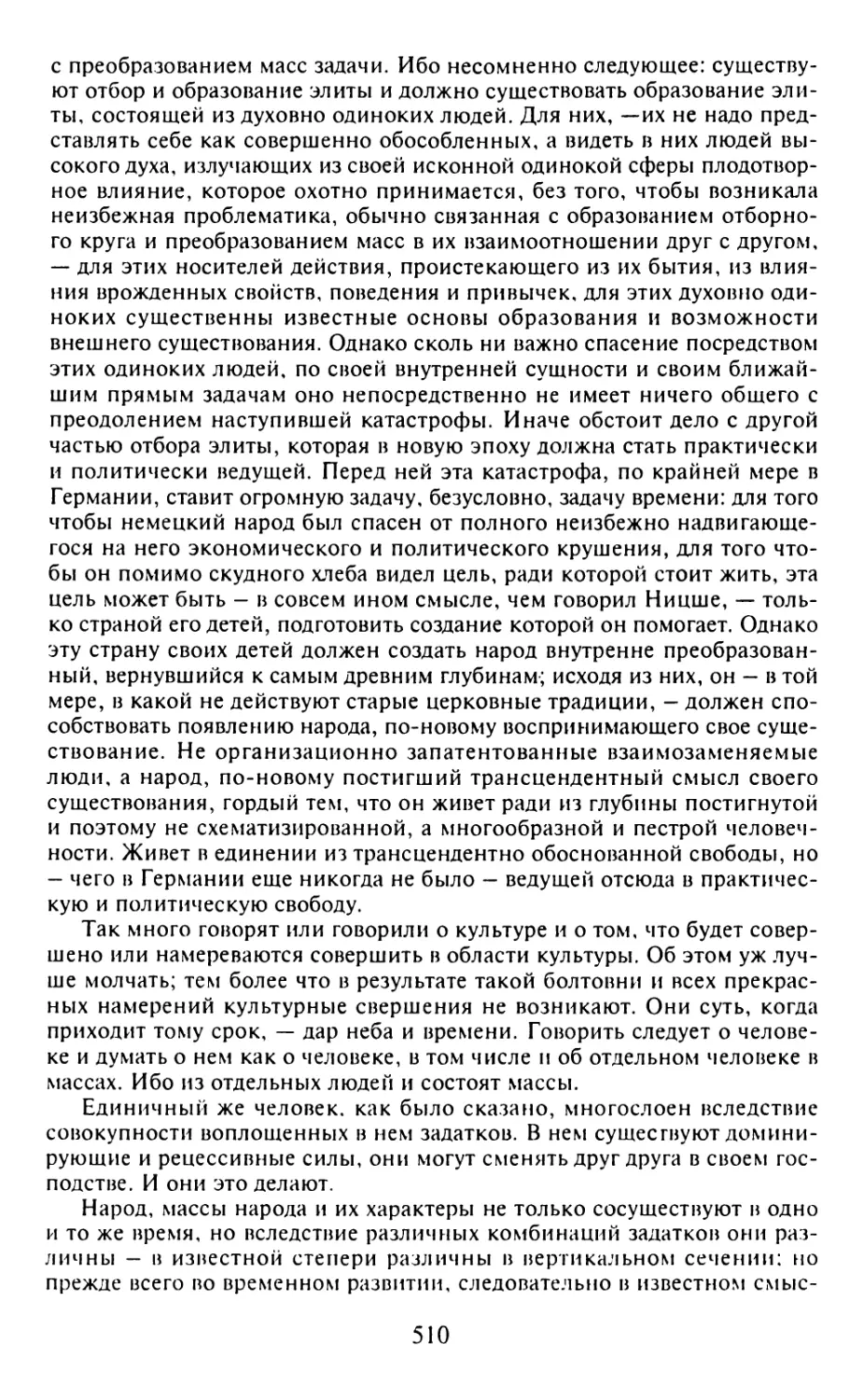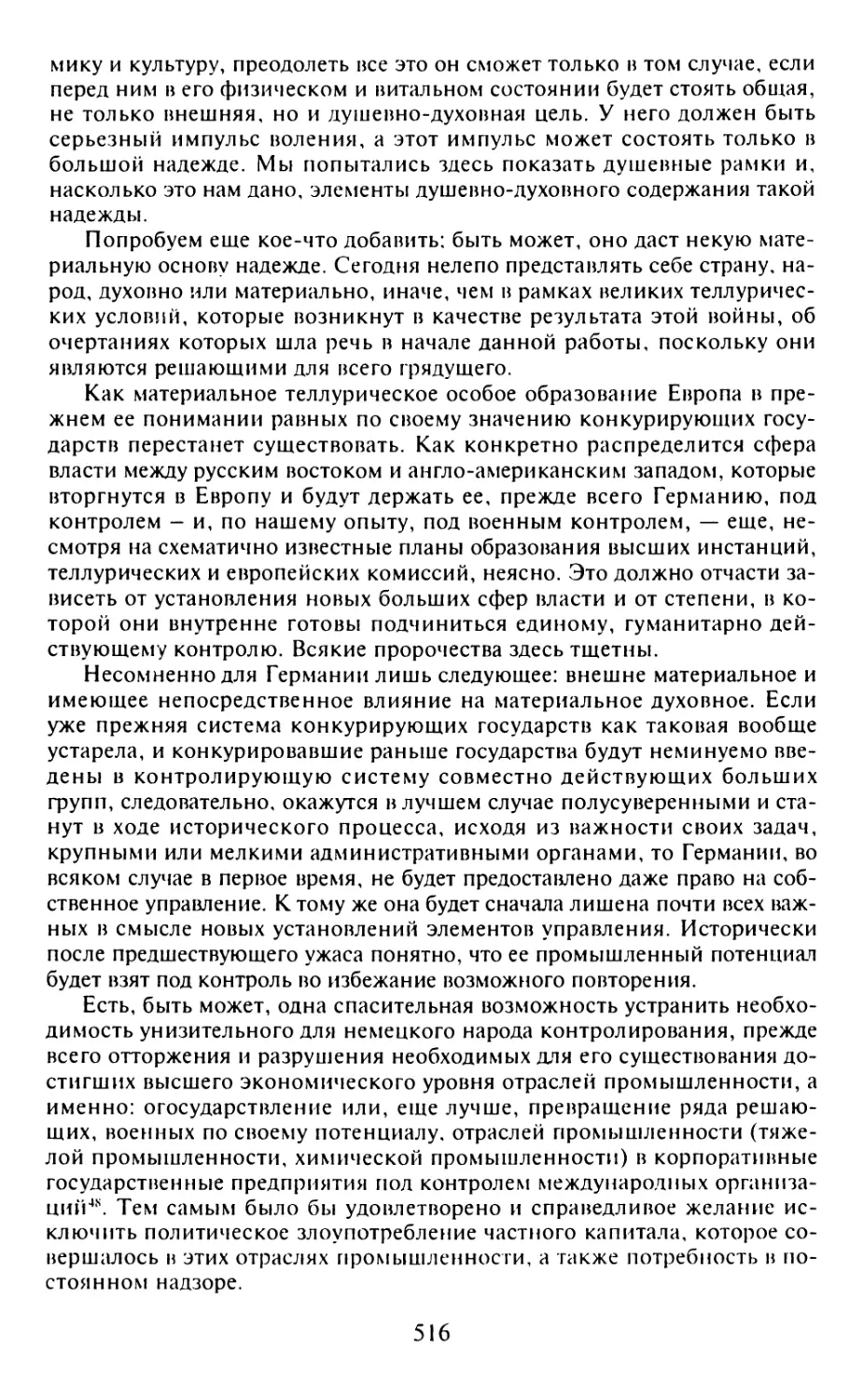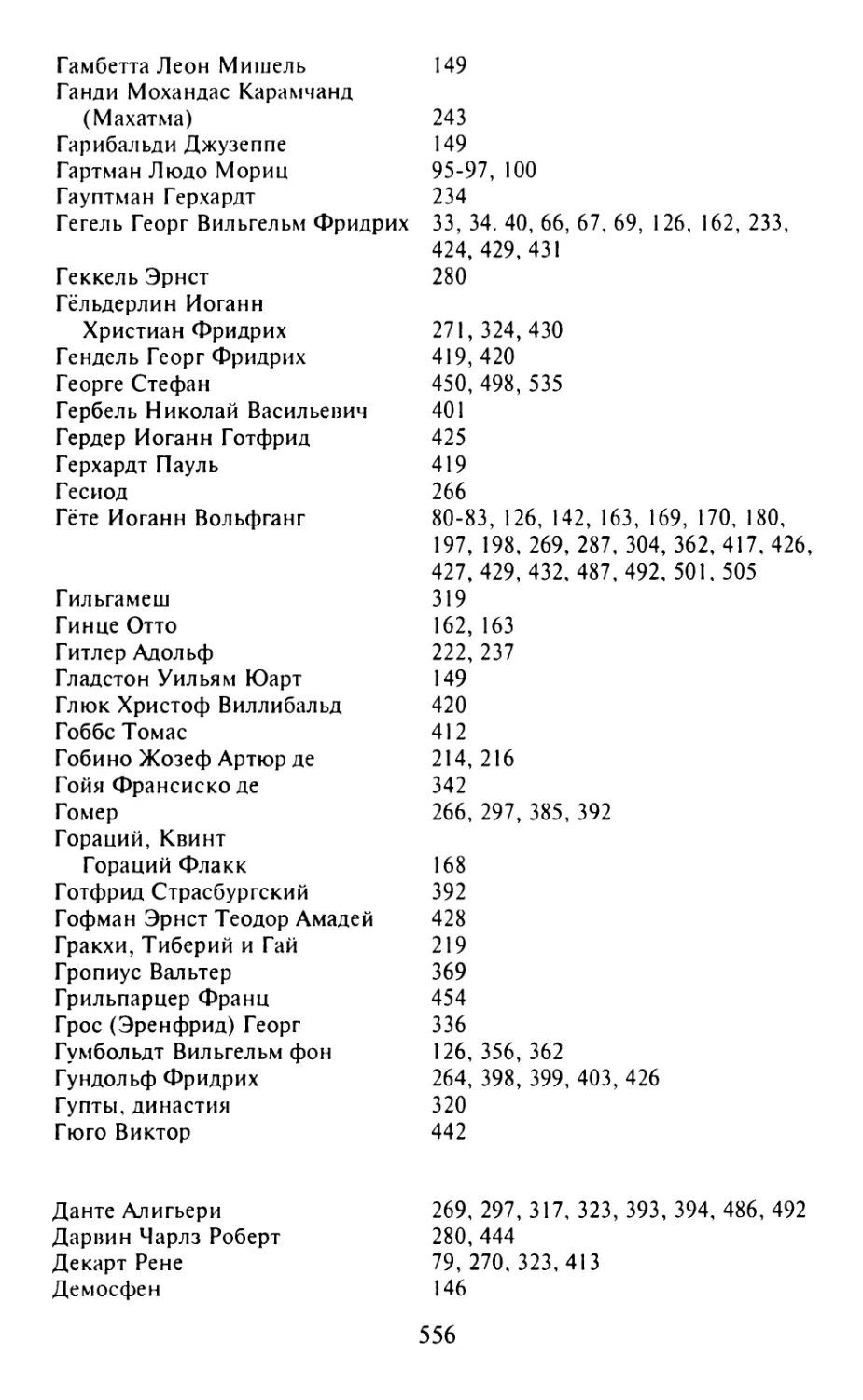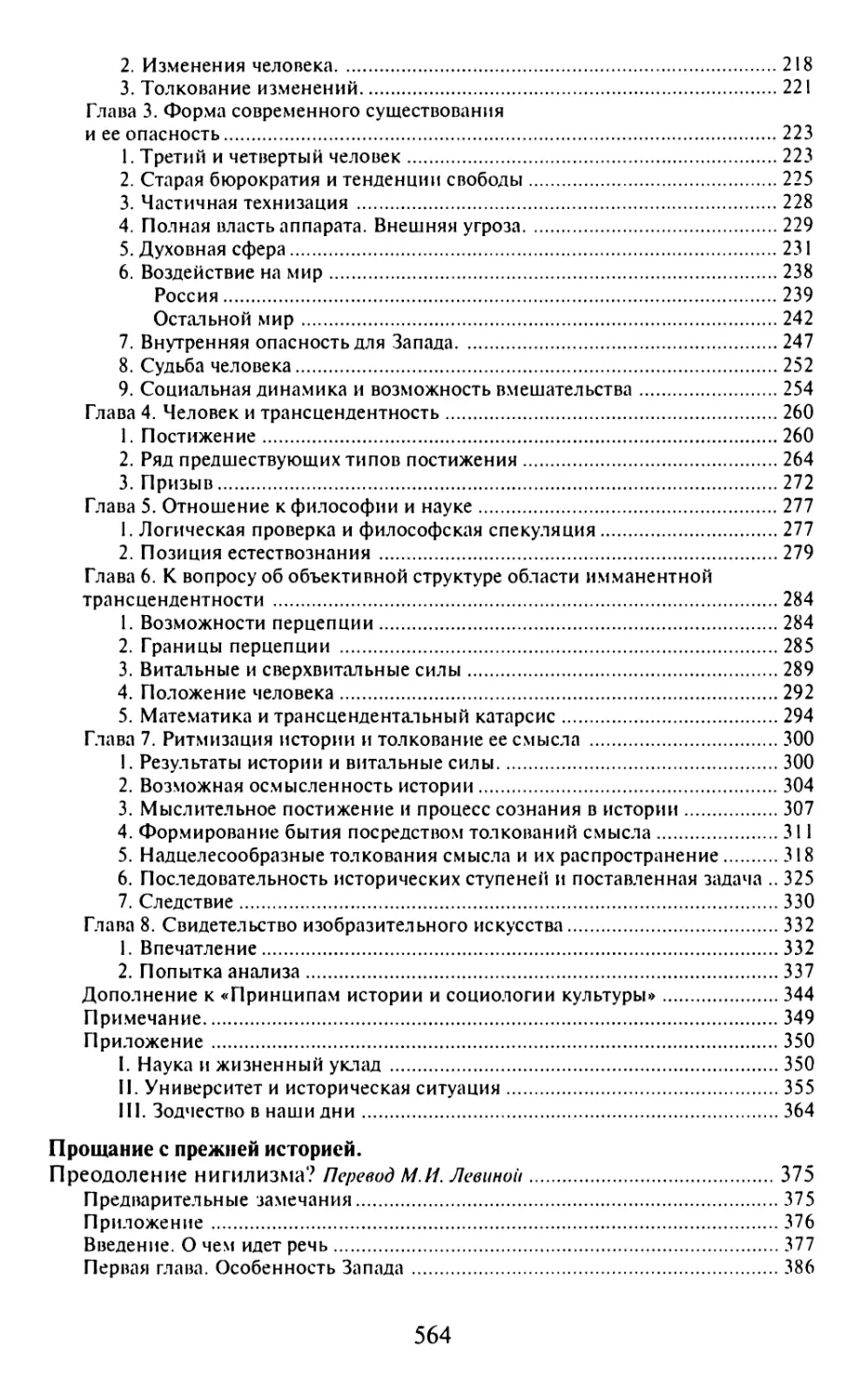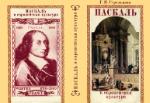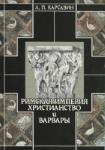Автор: Бебер А.
Теги: философия психология история философии история кризис европейской культуры европейская культура
ISBN: 5-7914-0032-2
Год: 1999
Текст
■I
■■кц
...не искать никакой науки кроме той,
какую можно найти в себе самом
шш в громадной книге света...
Рене Декарт
Серия основана в 1997 г.
В подготовке серии
принимали участие
ведущие специалисты
Института научной информации
по общественным наукам,
Института всеобщей истории.
Института философии
Российской академии наук,
Университета Российской
академии образования
Выражаем глубокую признательность
Институту «Открытое общество*
и лично Джорджу Соросу
за финансовую поддержку серии
Учебная литература
по гуманитарным
и социальным дисциплинам
для высшей школы
и средних специальных учебных заведении
готовится и издается при содействии
Института «Открытое общество»
(Фонд Сороса)
в рамках программы
«Высшее образование».
Взгляды и подходы авторов не обязательно
совпадают с позицией программы.
В особо спорных случаях
альтернативная точка зрения отражается
в предисловиях и послесловиях.
Редакционный совет программы:
В.И. Бахмин. ЯМ. Бергер. ЕЮ. Гениева.
Г. Г. Дил иге некий. В. Д. Шадриков
^Ш/^Ш Альфред
Ш/Ш, Вебер
Ш Кризис
европейской
« , культуры
Weber
Der dritte oder
dervierteMensch
Abschied
von der bisherigen
Geschichte
Университетская книга
Санкт-Петербург
1999
ББК 87.3
УДК 1/14
В 26
Издание осуществлено при поддержке
Университета Российской академии образования
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), П.П. Гайденко, М.П. Гапочка.
В.Д. Губим, П.С. Гуревич. Ю.Н.Давыдов, Г.И. Зверева, Д.Г. Ионии
Ю.А. Кимелев, И.В. Кондаков, СВ. Лёзов, П.В. Малиновский,
Н.Б. Маньковская, В.Л. Махлин, Л.Т. Мильская, Л.А. Мостова,
А.П. Огурцов, Г.С. Померанц, A.M. Руткевич, И.М. Савельева,
М.М. Скибицкий, П.В. Сосмов, А.Г. Трифонов, А.Л. Ястребицкая
Главный редактор и автор проекта «Книга света» С.Я. Левит
Редакционная коллегия тома:
Переводчики: М.И. Левина, Т.Е. Егорова
Составитель: С.Я. Левит
Ответственный редактор: Л.Т. Мильская
Члены редколлегии: Ю.Н. Давыдов, Т.Е. Егорова, М.И. Левина
Художник: П.П. Ефремов
Послесловие Ю.Н. Давыдова
В 26 Альфред Вебер. Избранное: Кризис европейской культуры.
Университетская книга. Санкт-Петербург, 1998. 565 с. — (Книга
света)
ISBN 5-7914-0032-2
ISBN 5-7914-0023-3 (Книга света)
Альфред Вебер (1868-1958) — немецкий социолог, культуролог, историк,
остро чувствующий характер и направленность социальной истории и
политических веяний. Потрясенный свидетель двух катастроф европей-
ской истории, и особенно Германии, он в двух, публикуемых в данном
томе книгах «Третий или четвертый человек» (1953) и «Прощание с пре-
жней историей» (1946) и небольших сборниках статей, посвященных са-
мым острым проблемам современной истории, ищет ответа о смысле ис-
тории, возможностях и долге человека, роли масс и обязанностях перед
ними и обществом в целом духовных и политических лидеров. Одна из
основных его мыслей — безвозвратное завершение длительного истори-
ческого пути европейской культуры и наступление принципиально новой
чпохи. очертания которой можно лишь угадывать.
На русский язык переводится впервые
ББК 87.3
€> С.Я. Левит, составление. 1949
■'£> М.И. Левина, Т.Е. Егорова, перевод, 1999
ISBN 5-7914-0032-2 'о Университетская книга. 1999
Принципиальные замечания
к социологии культуры
•
Идеи к проблемам
социологии государства
и культуры
•
Германия
и кризис европейской
культуры
•
Третий или четвертый
человек
•
Прощание с прежней
историей
Принципиальные замечания
к социологии культуры
Общественный процесс, процесс цивилизации
и движение культуры
Предварительные замечания
Постановка темы в данной работе соответствует сформулиро-
ванной мною задаче, которую я изложил, правда, очень несо
вершенным образом, в лекции зимой 1909/10 г. в Гейдельбер-
ге. Моим намерением было определить свою позицию в воп-
росе о ситуации нашей западной культуры, которая выходила
бы за пределы надежд и желаний, используя достигаемые результаты со-
циологического понимания, чтобы уяснить себе наше место в общем ис-
торическом движении данного времени. Ясно было следующее: при бо-
лее глубоком проникновении должно было обнаружиться, что, с одной
стороны, невозможно обойтись без разработки ряда основных воззрений
по социологии культуры; с другой — их применение к истории должно
было постоянно расширять перспективу и безгранично увеличивать изу-
чаемый материал, даже если он, что обычно в социологии культуры, мо-
жет быть группирован только после получения его из вторых рук. — Я на-
деялся, что, несмотря на ограниченные силы и обременительную про-
фессиональную деятельность, мне удастся предложить в 1915 г. какие-
либо предварительные результаты.
Война и ее последствия, которая меня, как и других, на 4 с полови-
ной года вырвала из сферы научной деятельности, превратили эту, как и
прочие научные работы, в груду развалин. Однако постановка вопроса,
из которой я исходил, была несомненно существенной и правильной для
состояния нашего сегодняшнего сознания.
В мое намерение отнюдь не входило охватить исторические факты
рамками общего философского и историко-теоретического рассмотре-
ния в виде единой картины, притязающей на то, чтобы предоставить
основу нового взгляда на историю вообще и одновременно на новую
философию1. Задача, которую я поставил, была значительно скромнее.
Я хотел и хочу оставаться в рамках социологического анализа, т. е. ис-
ходить из типичных принципов форм движения культуры, типизируя
анализировать, исходя из этого, историю и судьбу культуры различных
крупных исторических тел, чтобы затем применить полученные ре-
зультаты, «схему», — назовем это так - к современной ситуации.
Правда, оказалось необходимым определить свое отношение к суще-
7
ствующим философиям истории, однако только для того, чтобы уяс-
нить понятия «культура» и «движение культуры». Это было сделано в
докладе о понятии «социология культуры», основной мысли которо-
го я сегодня, быть может, сумел бы придать лучшую форму2. К этому
предполагалось присоединить анализ принципов форм развития за-
падной культуры (ее периодизации, аспектов ее выражения, ее дина-
мики и т.д.) и ее социологически постигаемой сущности, что было в
форме набросков дано в лекции 1909/1910 гг.; предполагалось также
попытаться с помошыо полученных воззрений мысленно открыть
культурно-социологическое качество XIX и начала XX в. Хотя даже
частично осуществить эту программу при выполнении профессио-
нальных обязанностей теперь едва ли возможно, здесь все-таки дела-
ется попытка в ряде свободно построенных статей предложить для
дискуссии ранее сложившиеся основные мысли.
i
В каждом культурно-социологическом анализе целесообразно разли-
чать сферы исторических процессов, а именно, проводить различие
между общественным процессом, процессом цивилизации и движени-
ем культуры.
Политическая история, так же как история хозяйства и социальная
история, изучает по своей сущности судьбу крупных исторических об-
разований человечества, их больших, географически, событийно и
культурно связанных друг с другом единств, намереваясь посредством
установления представляющихся существенными для общего хода
развития конкретных фактов уяснить в каждом данном случае их осо-
бую судьбу. Эти науки рассматривают каждую историческую сферу —
китайскую, индийскую, переднеазиатскую, античную, арабскую, гер-
мано-романскую исторические сферы, а также другие, как в извест-
ном смысле «единое тело», внутри которого происходит определенная
последовательность событий, как связанное местом и временем про-
исходящего целое, для общей судьбы которого выявляются главные
данные. При этом делается попытка связать изложение и отчасти так-
же объяснение крупных событий, образы великих людей, судьбу масс
с характером хозяйства, развитием структуры политических образова-
ний, с социальными преобразованиями и другими материальными
формированиями и переформированиями исторических образований.
Эта работа является конкретной исторической морфологией3. При ис-
пользовании так называемых духовных.факторовл течений внимание
удаляется Прежде всего материальной судьбе этих образований. Со-
не ршещ^ш^ои и мало связанной дру_г с_^хругам--яцдяё'тся деяхельность
в области истории искусства., литературы, музыки, религии, филосо-
фни и иа-уктг, короче говоря, всех превратившихся в дисциплины ча-
стей истоки ^У^Ш.^...1912.Р°" как общей наики сегодня не суще-
ствует4.
Для этих дисциплин материальных форм исторических судьбонос-
ных образований в качестве существенного предмета их изучения и
8
существенных данных развития не существует. Их толкование и
объяснение важных эманации и движений культуры, которыми они
занимаются, духовных течений и систем идей, сущность которых они
пытаются открыть и приблизить нашему пониманию, исходит, если
они не считают достаточным ограничиться описанием образа и содер-
жания изучаемых явлений, из объяснения связей, в целом, следова-
тельно, с одной стороны, из «проблем», которые следует решить в об-
ластях культуры (история проблем философии и т. д.), с другой --
прежде всего из технических принципов в отдельных областях, их раз-
вития и ценности их выражения (развития техники живописи, изоб-
разительного искусства, законов гармонии в музыке, законов развития
языка, литературного стиля и форм выражения и т. д.). И результатом
такого исследования становится констатация обычно методически не-
достаточно проверенной последовательности и ритмики в происходя-
щем, борьбы «духовных течений», стилистических форм и выражений
и прочего, но всегда констатация того процесса, который в своей сущ-
ности по технике или содержанию лежит в принципах самих областей
культуры и их развития. Эти дисциплины рассматривают историю
культуры соответственно принципам их исследования в значительной
степени как автономную сферу истории, движение и развитие которой
они пытаются объяснить из нее самой5. Исследователь политической
истории притязает на право каким-либо образом ввести результаты
деятельности всех этих отдельных дисциплин в области истории куль-
туры в свою картину исторического процесса, вставить «духовные те-
чения и факты», открытые другими дисциплинами, в «материальный»
процесс, который он освещает, и таким образом превратить его изоб-
ражение судеб больших исторических тел в общую картину, а если он
такие общие картины соединяет, — создать всеобщую историю.
Перед социологом, если он, в свою очередь, хочет попытаться уви^
деть вещи в их единстве, встает очень пестрое, составленное не толь-
ко из оснований, связанных с историей науки, но и с необходимыми
техническими и методическими основаниями, в сущности несвязанное
смешение структурных элементов, — если он хочет понять какую-
либо часть исторического процесса, например культурный процесс, в
целом и в его необходимости, в которой этот процесс вырастает из ис-
торического целого, и если он к тому же решает установить его типи-
ческую или закономерную связь с общим процессом развития; если он
в качестве социолога культуры пытается необходимым образом связать
эманации культуры в мире западной истории, их существенное содер-
жание, повторение или неповторение их типических форм и выраже-
ний с судьбой великого западного сообщества, связать их с обосновы-
ваемыми различными ответвлениями истории объективными факта-
ми, материальными фактами, проводящими границы в историческом
процессе, так, чтобы они были понятно и убедительно соотнесены с
ними. Перед ним встают сначала, как было сказано, несвязанные,
лишь внешне объединенные в общем изображении истории ряды со-
бытий. И если он хочет соединить эти ряды, ему придется для своих
целей иначе расчленить материал, чем это делают различные специ-
альные дисциплины, исходя из их задач. Он должен попытаться поня-
9
тийно упорядочить для своих целей общую историю в других группи-
ровках и дать в представлении ее синтез. При этом факты, касающи-
еся внешних форм исторической жизни, установленные исследовате-
лями политической истории, хозяйства и социальных отношений, эти
факты необходимым образом представятся ему в несколько иной фор-
ме. Он увидит большой единый общественный процесс, в котором в
различных сообществах при всем их различии все-таки выявляются
типичные формы и стадии развития. Крупные события (войны, рево-
люции, реформации и пр.) будут типическим образом входить в эти
формы и стадии, и великие люди будут необходимо, а не случайно, за-
нимать определенные места. Социолог обнаружит влияние на этот об-
щественный процесс и духовной сферы, тех фактов и процессов, сле-
довательно, которые ему предоставляют дисциплины в области куль-
туры. Но если он будет рассматривать этот процесс в его ядре, то он
предстанет ему как форма, в которой при определенных природных
(географических, климатических и прочих) условиях тотальность ес-
тественных человеческих влечений и воли, действующих в различных
сообществах, получает, соединенная в них как «население», какой-
либо необходимый образ. Один образ, или, вернее, меняющиеся в раз-
витии образы, которые следуют друг за другом, борются друг с другом,
сменяют друг друга и приводят в своей борьбе к важным перипетиям
вековых исторических событий. При этом социолог заметит, как этот
процесс в больших изучаемых им сообществах, рассматриваемых и им
как замкнутые образования, повсюду ведет от примитивных условий,
от отсталых родовых образований, в которых он впервые их увидел на
исторической сцене, посредством совершенно различной в каждом
случае группировки все-таки сходных форм; как этот процесс через
высокие ступени общественного движения в конце концов приводит
к различным стадиям, к длительному окостенению формы, к старчес-
кому распаду или к мировой экспансии своих сил; посредством парал-
лельного развития - к различному характеру перехода их судьбы в
универсальный исторический процесс человечества. Он увидит, как
Китай, Индия — каждая из этих стран в данных ей природных услови-
ях и в направлении предначертанного им развития — проходят через
века свой необходимый общественный процесс, пока не переходят в
старческое окоченение, пребывая в нем на протяжении веков и сохра-
няя это состояние еще сегодня, омываемые мировой экспансией За-
пада. Древнюю переднеазиатскую и египетскую культурную сферу,
развитие которой в тысячелетия до н. э. социолог может восстановить
благодаря открытым документам, он также познает в направлении и
характере их общественного развития определяемыми природными
условиями существования (прежде всего ирригацией, системой кана-
лов); он поймет, что их старческое окоченение в последнее тысячеле-
тие до н. э., когда они испытали воздействие античной средиземно-
морской исторической сферы, было необходимым результатом их раз-
вития. Он увидит, что эта средиземноморская сфера также проходит
заданное ей общественное развитие, исходя из условий ее существо-
вания, прежде всего близости к морю, торговли и «свободы» — пони-
маемой в указанном широком смысле, как охватывающей все проис-
10
ходящее в данной исторической сфере, — из условий, которые долж-
ны привести ее к своего рода мировой экспансии, а в ней к старчес-
кому распаду ее форм, ее материальности. Ведь не что иное, как такой
старческий распад есть история поздней античности в период импера-
торского правления. И социолог видит, как западная историческая
сфера, вытесняющая, начиная с Великого переселения народов,
вследствие нового перемещения арены на север античную, проходит,
исходя из условий, «из которых она появилась», совершенно иное, но
также необходимое развитие, развитие, которое позволяет ей посред-
ством многих стадий эволюции и конвульсий достигнуть в конце кон-
цов мировой экспансии, причем самой большой из всех когда-либо
существовавших, действительно охватывающей всю Землю, в которой
сегодня ее «врожденные» формы, по-видимому, распадаются, и сама
зга сфера, вероятно, переходит в нечто новое, движется к своей гибе-
ли или к созданию новых исторических тел. Короче говоря, социолог
всегда будет рассматривать конкретный ход событий в различных
крупных исторических телах, их в известной степени материальную
судьбу, которую предлагают ему исследователи политической, хозяй-
ственной истории и истории социальных отношений, в рамках карти-
ны общественной эволюции, в каждом данном случае особой, но все-
гда зависящей по своему содержанию от природных условий, проис-
ходящей при новой группировке и новом порядке общих форм; эта
эволюция проходит необходимое заданное число стадий и ведет к не-
обходимому определенному конечному результату, в ней данные об-
щие общественные силы действуют в каждом случае в особой окрас-
ке, общие данные общественные формы получают определенное, каж-
дый раз особое выражение и господство, общие данные процессы вы-
ступают в различной группировке и с различным конечным результа-
том, однако в этой эволюции все-таки действует общий общественный
принцип развития, только в различных формах. Важные события и пе-
ревороты, констатируемые историком, становятся определениями ста-
дий развития, выражением связанных с эволюцией перипетий, а вели-
кие люди выступают как бы в качестве оруженосцев и представителей
наступления новых периодов.
Так социолог группирует в новую, адекватную его рассмотрению
форму представления данный ему историком конкретно индивидуализи-
рованный материал «материального» развития различных исторических
сфер — так он превращает массу исторических событий, касающихся
этих исторических сфер, в картину, которую я предлагаю называть созер-
цаемой им сферой общественного процесса человечества.
и
При этом социолог будет исходить, как было сказано, из того, что этот
основанный, в его понимании, прежде всего на природных влечениях
и волениях, принимающий в зависимости от природных условий в
каждом историческом теле свою форму и свое направление обще-
ственный процесс, определяется также факторами, усганавливаемы-
II
ми другой группой историков, историков «духоиц^й области», «идея-
ми», «духовными течениями», художественными воззрениями, рели-
гиозными убеждениями и т. д. Их конкретное динамическое отноше-
ние к ступеням, перипетиям, общественным формам и т. п., их кау-
зальное влияние на них, prius u post* содержания |t форм обеих сфер,
«духовной» и «материальной», должно быть снач>1Ла безразличным6.
Духовно-культурную сферу он видит наряду с матсРиальнои » каждом
историческом теле также как тотальность. И что бы он ни думал о
взаимовлиянии обеих сфер, он обнаруживает и п эгой рассмотренной
как целое духовно культурной сфере закономерности, которые пребы-
вают в еще невыясненной связи с материальным общественным про-
цессом. Он обнаружит в ней расцвет и старение, параллельную судь-
бу «культур», пребывающих в различных по своему развитию истори-
ческих телах, как бы необходимо данное появление следующих друг за
другом стадий развития, своеобразно повторяющийся ритм продук-
тивности, различное и все-таки обладающее известной закономерно-
стью появление различных аспектов выражения культуры (религии,
философии, искусства, и внутри искусства - музыки, эпоса, лирики,
драмы, живописи и т. д.) и различных видов выражения (классики,
романтизма и т. д.); он обнаружит своеобразное повторение великих
религиозных движений и родственных им течений идей при одинако-
вых условиях общественного процесса в различных «телах», короче
говоря, духовно-культурное развитие в различных исторических телах,
которое находится в какой-либо связи, по крайней мере в своего рода
параллельности к данному общественному процессу. И он сочтет не-
обходимым социологически рассмотреть это духовно культурное раз-
витие также как единство, как вторую сферу исторического процесса,
и для этого вывести ее из изолированности фактических рядов, в ко-
торых ему предлагают части этой сферы специальные дисциплины,
поставить ее как целое исторического движения, как общий процесс
различных исторических тел рядом с их общественным процессом.
При этом у социолога возникает желание, в сущности это является его
подлинной задачей, показать, в каких динамических отношениях друг
к другу находятся эти сферы, рассмотренные социологически как еди-
ные, в различных исторических телах.
Однако если он, стремясь решить эту задачу, внимательно всматри-
вается в духовно-культурную сферу, то он ощущает нечто странное. Он
замечает, что между подлинно культурными частями этой сферы с ее
различными аспектами выражения и формами выражения в религии,
искусстве и т. д. и общественным процессом вклинивается еще нечто,
духовно-промежуточная область, пребывающая в значительно более тес-
ной и отчетливо познаваемой связи с образом и течением общественного
процесса, чем подлинные a potiori" явления культуры, возникновение
религии, системы идей, периоды искусства и т. д., а именно, интеллек-
туальный космос, предоставляющий общественному процессу техничес-
кие средства для его форм и образований и являющийся вместе с тем од-
\До и после (.кип.).
" Глинные (.тт.).
12
ной из основ феноменологии культуры. Правильнее было бы сказать: он
видит, что воспринятый им вследствие изолирования специальной дис-
циплины и рассмотренный как единый духовно-культурный процесс в
различных исторических телах в действительности по своей сущности,
по феномену своего развития, своего развертывания, как и по своему
отношению к общественному процессу, — совсем не единство, а двоич-
ность, что в нем в сущности содержатся две совершенно различные сто-
роны человеческого исторического развития, которые неоправданно
были объединены в одном воззрении.
При более внимательном наблюдении оказывается, что этот «духов-
но-культурный процесс» содержит в каждом большом историческом теле
троичность, в качестве частей особого целого: во-первых, в качестве глу-
бочайшего «чисто духовного» этого целого развитие сознании населения,
которое является подлинным ядром процесса чисто духовного роста и
старения исторических и культурных тел, рассмотренных с духовно-
культурной стороны. Социолог обнаруживает, что в каждой большой ис-
торической сфере, будь то китайская, индийская, античная, западная, в
каждой, которую ему удается тщательно исследовать, развитие сознания
типическим образом ведет от примитивных стадий, на которых мир и
собственное Я рассматриваются в формах, близких сегодняшним перво-
бытным и полукультурным народам, ко все большему рефлектированию
бытия, обнаруживает, как сознание отказывается от тотемных, а затем от
мифических представлений или во всяком случае придает им совершен-
но иное, уже не наивно понятое, а определенное рефлексией значение;
как, далее, от чисто эмпирического отношения к миру и к Я происходит
переход к научной или по крайней мере интеллектуально оформленной,
г. е. определенной какими-либо интеллектуальными абстракциями по-
зициями, как эта позиции развивается и на определенной стадии роста
в каждом историческом теле содержится так или иначе рационализиро-
ванная система понимания мира, которая может и далее развиваться и
меняться; однако при этом не только внешнее переживание, «мир», но
и собственное Я, его эмоции, его влечения и непосредственные пред-
ставления «проработаны» и заключены в совершенно определенные,
хотя и повсюду различные, формы интеллектуального систематизиро-
ванного воззрения.
Этот процесс социолог обнаруживает во всех исторических телах,
в которых он его наблюдает, тесно связанным с вторым и третьим
процессами, также принадлежащими к упомянутому «целому». Во-
первых, с растущим духовным господством над природой, которое па-
раллельно интеллектуализироваыию образа мира и Я представляет со-
бой как бы другую сторону того же развития, интеллектуальное фор-
мирование практически-полезного научного космоса, опыта и знания
жизни, и по своей тенденции также принимает интеллектуально-си-
стематическую форму. Это, оставаясь в различных исторических телах
на самых различных стадиях, также являет собой повсюду замкнутый
в себе процесс. И наконец, социолог обнаруживает в качестве третьего
духовного, связанного с этим процесса не что иное, как материализа-
цию и конкретизацию этого второго интеллектуального космоса:
трансформацию построенной там практической системы знания в не-
13
что совершенно реальное посредством разработки аппарата орудии и
методов, принципов организации и т. д., которые формируют суще-
ствование в конкретные образования. Здесь вся духовная сфера внут-
ри рационализированного развития сознания, проецированная вовне
в оба названных значения, непосредственно входит в общественный
процесс, обусловливает его определенным образом и этим техничес-
ким аппаратом. Короче говоря: социолог видит как нечто совершен-
но особенное и замкнутое большой, лишь обладающий различными
аспектами выражения процесс рационализации существования, кото-
рый проходит через все исторические тела, участвует в определении их
формы, и его излучения затрагивают как внутреннее существование,
так и наблюдающее и практическое отношение к внешнему. Этот про-
цесс рационализации обладает собственными законами развития, соб-
ственной необходимостью развития и условиями стагнации. Он - не-
сомненно нечто совсем другое, совсем иное сущностное единство, чем
возникновение религий, систем идей, художественных произведений
и культур, это - большая самостоятельная сфера развития, которая
находится в совсем ином отношении к общественному процессу, чем
сфера культуры; тот, кто однажды созерцал ее как единство, разделя-
ет прежнее созерцание единства духовно-культурной сферы на «дво-
ичность». Этот процесс интеллектуализации и рационализации, про-
ходящий через исторические тела, и интеллектуальный космос, по-
всюду им выявляемый, его единство, отражающееся в трех выражени-
ях внутреннего интеллектуального освещения, интеллектуального
формирования знания и интеллектуализированного внешнего опос-
редствующего аппарата; воздействия, формы и образы этого космоса
как особую большую сферу исторического процесса, которую надле-
жит целесообразно отделять в представлении как от сферы обществен-
ного процесса, так и от подлинного движения культуры, видеть и ис-
следовать в единстве ее воздействий и своеобразных закономерностей,
в историческом и социологическом рассмотрении в целом таким об-
разом до сих пор не изучали7. Я предлагаю называть это процессом ци-
вилизации и принципиально отчетливо отделять его и его сферу как от
общественного процесса, так и от сферы движения культуры. Сфера
культурного движения также входит в общественный процесс боль-
ших исторических тел, но находится в совсем другом отношении к
нему, чем процесс цивилизации, в ней господствуют, как будет пока-
зано, совсем иные законы развития, ее сущность и ее положение в
историческом процессе совсем другие. Я предлагаю в исследовании
социологии культуры и, быть может, социологии вообще, разделять
исторический процесс таким образом, чтобы обособленно рассматри-
вать «материальное» в его развитии, то, что мы называли обществен-
ным процессом исторических тел, сферу преимущественно естествен-
ных сил влечения и воли и их формы, и мыслить затем этот обще-
ственный процесс, с одной стороны, под влиянием процесса цивили-
зации, сферы рационализации человечества, в конечном же итоге за-
дать себе вопрос, в какой связи находится движение культуры в под-
линном смысле слова с этими двумя процессами и их взаимодействи-
ем; складывается ли оно в своих формах каким-либо созерцательно
14
познаваемым образом из их взаимодействия, проходит ли оно и в ка-
кой степени независимо от них и насколько оказывает на них в свою
очередь обратное воздействие. Я предлагаю такого рода деление, по-
тому что оно позволит получить единое социологическое представле-
ние об историческом процессе, а также, как я полагаю и надеюсь по-
казать, в первую очередь обрести социологический анализ его фено-
менологии культуры.
ш
Процесс цивилизации и движение культуры по своей сущности, как я
показал, различны; они обладают совершенно различными формами и
законами развития, совершенно различной феноменологией, в которой
они выступают перед нами в общем историческом процессе.
Процесс цивилизации (в его различных частях образования интеллек-
туально сформированного образа мира и Я - макрокосмоса и микрокос-
моса — космоса практически интеллектуального знания и интеллекту-
ального сформированного опосредствующего аппарата господства над
существованием) может достигать в различных исторических телах со-
вершенно различного уровня; он может придавать создаваемому им об-
разу мира значительно отличающиеся друг от друга формы выражения,
— но в каждом историческом теле он всегда шаг за шагом строит космос
познания, который в трех названных частях находит лишь различные
фронты своего выражения; его образование, приведенное в движение в
одном направлении, идет логически закономерно дальше, подобно тому
как построение здания подчинено законам некоей имманентной кау-
зальности. То, что выявляется, целое и его части, всегда не «создается»,
а «открывается», находится, следовательно (если направление интеллек-
туального движения дано), уже есть до того как оно находится, предсу-
ществует, с точки зрения развития, в известном смысле лишь втянуто в
сознательное человеческое существование, в освещенную сферу бытия,
которой человек себя окружает. Это относится как ко всему космосу
практического знания естественных наук, так и к каждому отдельному
естественнонаучному «открытию»: оно относится также к обшей систе-
ме теоретического знания и к каждому отдельному установлению в об-
ласти теории познания. Относится оно также и ко всему техническому
аппарату существования, к каждому орудию, каждой машине, каждому
методическому принципу и средству, открытым в области труда и орга-
низации. Законы евклидовой геометрии «существовали», прежде чем они
были открыты, - иначе ведь они не могли бы быть открыты; также и ко-
перниканские формулы движения мира, и a priori Канта, поскольку все
они «правильно» открыты и формулированы. Совершенно также — па-
ровая машина, телефон, телеграф, топор, лопата, бумажные деньги, раз-
деление труда и вообще все имеющиеся средства, методы и принципы
господства над природой и существованием; все это — «предметы» прак-
тически интеллектуального космоса нашего существования: все. чем мы
уже обладаем, и все. что мы еще обретем, в своей сущности имеется,
«предсуществует», прежде чем нам удается ввести его м сознательную
15
сферу нашего существования и заставить нам служить. Общий процесс
цивилизации, реализующий иесь этот космос и предоставляющий нам
все свои «предметы» - к ним относятся и открытия в области чисто ду-
ховного мира - лишь открывает и делает нам последовательно доступ-
ным уже имеющийся мир, вообще имеющийся для нас, людей, мир. Этот
мир, как было сказано, имеется вообще для всех людей, и каждая его
часть «предназначается всем». Это становится ясным из того, — о кажу-
щихся отклонениях я сейчас скажу, — что как только предметы этого
мира в своей духовной или материальной конкретности открываются в
каком-либо историческом теле и вводятся в сознательное существование,
они как бы посредством само собой разумеющегося необходимого вол-
нового движения распространяются по всему миру и находят себе при-
менение во всех остальных исторических телах; при условии, конечно,
что общественный процесс там достиг достаточного уровня, чтобы при-
нять их, а психическое просветление сознания настолько развито, что
способно «увидеть» их — предполагая, несомненно, что вследствие раз-
вития средств сообщения они вообще могут быть увидены. Универсаль-
ность технических открытий известна. Однако эта универсальность не
ограничивается космосом «технической» цивилизации, вещные и духов-
ные предметы которой, ее методы и средства, начиная от умения обра-
батывать металлы и использования огня до нынешних средств и методов
общения и производства во времена наличия универсальной связи или
ее отсутствия всегда более или менее молниеносно, как вследствие элек-
трической вспышки, распространяются по всему миру. Эта универсаль-
ность характерна в такой же степени и для космоса интеллектуального
познания. Математические, астрономические, естественнонаучные и
другие открытия такого рода распространяются иногда, быть может, мед-
леннее, так как их восприятие зависит также от достигнутой стадии со-
знания в различных исторических телах и так как в ряде случаев их прак-
тическое использование (исчисление времени, денег) в некоторых из
них, быть может, еще не может найти себе применения вследствие их
общественного строя. Но это не препятствует тому, что такие открытия
в конце концов проникают повсюду. И эта универсальность распростра-
няется с известными модификациями форм выражения и способов рас-
пространения, на чем мы сразу же остановимся, также на удавшееся где-
либо выявление новых частей интеллектуально сформированного обра-
за мира и Я, на интеллектуальные результаты освещения сознания, на
уяснение в известном смысле внутреннего фронта предсуществующего
космоса цивилизации. Феноменология реализации и развития космоса
цивилизации в его практической и теоретической части, рассмотренная
как общая картина истории, означает, что большие исторические тела, в
своем общественном и культурном развитии значительно отклоняющие-
ся друг от друга, по развитию своей цивилизации полностью соотнесены
друг с другом и как по установленному плану работают над выявлением
чего-то вполне единого. При таком рассмотрении весь исторический
процесс во всех своих частях является, собственно говоря, только про-
цессом единого выявления космоса цивилизации человечества, которое
происходит со своеобразными связанными с судьбой различных истори-
ческих тел перерывами, этапами и разломами. Древняя переднеазиатско-
16
египетская, античная, арабская, сегодняшняя западноевропейская исто-
рическая сфера и находящаяся в более слабой связи с ними китайская и
индийская, — все они, сколь они ни отличаются друг от друга по свое-
му историческому процессу, своему общественному развитию и движению
их культуры, являются в таком рассмотрении только членами, в извес-
тном смысле только вспомогательными факторами замкнутого, проходя-
щего через всю историю в логическом строении ступеней выявления
космоса цивилизации, сегодня общего для всего человечества.
Технические части этого космоса цивилизации становятся впервые ис-
торически зримыми в их сегодняшней рациональной форме в разделе-
нии орудий и труда у египтян и вавилонян, уже в третьем, четвертом ты-
сячелетиях до н. э. Развиваясь в недостаточно известной корреляции с
историческими сферами Индии и Китая, они становятся не только осно-
вой всего технического аппарата цивилизации античного и арабского ис-
торического тела, но посредством них и сегодняшнего западно европей-
ского, который, захватив с XIV в. руководство в технических открытиях,
начиная с XVIII в. создает на этой в сущности уже созданной во всем
мире базе сегодняшний технический аппарат мировой цивилизации.
Духовные части этого космоса мировой цивилизации, математичес-
кое, астрономическое и естественнонаучное знание, по-видимому, так-
же находят свое первое интеллектуальное освещение в исторических глу-
бинах обоих первых исторических тел на Евфрате и Ниле. В античном,
арабском и китайском исторических телах они получают свое дальней-
шее развитие, а затем в XVI в. переходят к западной исторической сфе-
ре и через знаменитую «эпоху великих открытий» доводятся до нынеш-
него универсального математически-естественнонаучного образа мира,
«значимого» для всего человечества и принятого им.
Интеллектуальный «космос сознания», который сегодня, выраженный,
правда, в различных формах, стал по своему содержанию общим досто-
янием человечества, «образ Я и образ мира», как интеллектуально созер-
цаемая единая сфера, выступает впервые перед нами в ярком свете со-
знания в мудрости брахманов индийской исторической сферы. Затем
лот космос становится предметом как античной и арабской, так и ки-
тайской исторической сферы, а в западной философии XVIII в (Кант!)
обретает наконец те принципы интеллектуальной формы, которые пока-
зывают границы его проясняемости, одновременно объединяют формы
различных прояснений в ряде исторических сфер и в той мере, в какой
они имеют инте.иектуальнос содержание, экуменизирует их.
При этом описанном здесь совершенно поверхностно и недостаточ-
но полно медленном выходе предсуществующего, духовного и вещного
космоса цивилизации человечества из мрака в свет общего человеческого
сознания совершенно неважно, это «не более чем несчастный случай
лня», если определенные знания и открытия, однажды сделанные, из-за
исторических случайностей, прежде всего из-за исторического характе-
ра сдвигов при развитии исторических тел, которые становятся носите-
лями процесса открытий, временно вновь теряются; так, например, зна-
ние коперниканского образа мира было уже известно в греко-римской
древности, а затем дремало в лоне истории, пока не было самостоятель-
но вновь открыто Западом в XVI в. Не имеет также значения дли обще-
го процесса, если при формировании «технического космоса» ряд
средств технической цивилизации, «случайно» где-либо найденных, быть
может, сначала остаются неиспользованными до тех пор, пока они не
открываются вновь в другом месте и внезапно получают огромное зна-
чение и универсальное практическое применение; так, механические
часы или паровая машина были уже рано открыты в Китае, но не нашли
там полезного для общества применения, тогда как вновь «открытые» на
Западе, они привели к великой технической революции современности.
Это — «шутки» и обвивающие процесс арабески, которые следуют из его
вхождения в движение общества и культуры и не меняют сущности раз-
вития.
И наконец, для сущности процесса цивилизации в качестве после-
довательного формирования единого духовного типа неважно, что
развитие сознания, его основа, в различных исторических телах на на-
чальной стадии их «истории» каждый раз отбрасывается назад и дол-
жно в известном смысле начаться сначала, в какой-либо сравнитель-
но примитивной по уровню своего развития части света. Таким было
развитие сознания в античности в сравнении с переднеазиатско-гре-
ческим (проникавшие в эти регионы в своих странствиях греки были,
конечно, варварами по сравнению с крито-микенской исторической
сферой, с которой они столкнулись как с ответвлением переднеазиат-
ско-египетской культуры). Таким было развитие арабского сознания
по сравнению с античным и сознание западной исторической сферы
по сравнению с обоими. Это означает только, что при проникновении
новых народностей в общий космос цивилизации человечества
«субъективная» цивилизация, «цивилизованность» новых народностей
всегда должна вновь пройти всю последовательность ступеней, кото-
рые внутри общего объективного и субъективного космоса цивилиза-
ции до того уже были открыты и пройдены другими. При этом подъем
и достижение предшествующей субъективной высоты всегда суще-
ственно облегчается тем, что каждое новое историческое тело прини-
мает самые существенные объективные элементы цивилизации и тем
самым также те, которые имеют очень большое значение для ускоре-
ния субъективного процесса цивилизации, для субъективного интел-
лектуального прояснения сознания, для господства сознания над су-
ществованием. Если, например, античное историческое тело переня-
ло от переднеазиатско-египетского не только аппарат орудий, прин-
ципы и формы разделения труда, но и монету, математику и астроно-
мию, то это были последние элементы «объективной» цивилизации,
которые сразу же сделали возможным исчисляемое интеллектуальное
господство над существованием, чрезвычайно облегчили рационально
осознанное овладение «внешними» и «внутренними» вещами суще-
ствования и несомненно также способствовали невероятно быстрому
просветлению сознания и развитию цивилизации, которые произош-
ли в течение нескольких столетий у «греческих варваров», после до-
рийского вторжения; это же оказало, по-видимому, и содержательно
млияние на чрезвычайно раннее рациональное формирование гречес-
кого образа мира и Я. Но все это лишь между прочим. То же можно,
например, сказать о значении заимствования античного денежного
18
исчисления западной исторической сферой после Великого переселе-
ния народов для развития сознания и цивилизации этого вначале так-
же «бессознательного», грубого, выраженного только в примитивных
формах исторического тела. Мы обнаруживаем «исчисление денег» и
тем самым начала «исчисляемости» в германо-романском историчес-
ком теле, как известно, в Leges barbarorum* задолго до развития денеж-
ного хозяйства и денежного оборота.
Несомненно «субъективная цивилизация» вследствие проникновения
новых народных масс в общий космос цивилизации, вследствие разви-
тия нового исторического тела, вследствие перемещения исторического
процесса в новый центр, в новую область, в которой это историческое
тело формируется и совершает свое общественное и культурное разви-
тие, в этом месте каждый раз на века отбрасывается назад. И с субъек-
тивной точки зрения там всегда вновь возникает своего рода древность,
за которой затем должны последовать средние века и Новое время. Нет
сомнения поэтому в том, что процесс субъективной цивилизации всего
человечества предстает нам как картина постоянного повторного затем-
нения определенных «пространств», в которые человечество историчес-
ки введено, пока и там вновь не возникает, а затем и опережается пре-
жнее просветление. Но, несомненно, то, что объективные элементы ци-
вилизации и субъективное просветление в других, остающихся неразру-
шенными исторических регионах сохраняются, служит средством, по-
зволяющим вновь быстро устранить отставание отдельных частей и
вновь двинуть вперед общий процесс просветления, исходя из того или
иного пространства. И несомненно, это общее просветление есть выяв-
ление проходящего в логически каузальной, хотя и сломленной и рас-
щепленной последовательности ступеней великого, значимого для все-
го человечества единства, его универсального объективно и субъективно
предсуществующего мира цивилизации.
При этом от особой внутренней установки (пока я не хочу пользо-
ваться более точным и определенным словом) различных больших исто-
рических тел, быть может, также (как в последнее время утверждали) от
душевной направленности их населения — об этом мы вскоре скажем —
зависит, какие стороны «процесса просветления» будут в каждом данном
случае приняты во внимание. В древнем переднеазиатско-египетском
регионе были разработаны в соответствии с его установкой основы прак-
тически технической стороны, а в «теоретической» области только свя-
занные с исчислением, необходимые для непосредственного господства
над существованием части этого процесса (астрономия, хронология, де-
нежное исчисление и т. д.). Напротив, античность в соответствии с ее
установкой вообще как бы не «видела» техническую часть космоса циви-
лизации, не проявляла к ней никакого интереса (как известно, кроме
данных о сводах нет ни одного достойного внимания упоминания о тех-
нических открытиях античности); интерес античности был направлен
исключительно на интеллектуальную и теоретическую область, вслед-
ствие чего в это время были основаны математика, естественные науки,
философия и все остальное, именуемое сегодня «наукой». Индийская же
Варцарских правдах (.ют.).
19
сфера, столь удивительно введенная в существование, вообще оставляет
почти все в стороне и делает своей едва ли не единственной и проведен-
ной с большим успехом познавательной задачей только философское
уяснение и проникновение в глубочайшую область познания образа
мира и Я в религиозном облачении. Вполне правильно, что все истори-
ческие тела, и названные здесь, и все остальные, облекают полученные
познания — особенно глубоко философские — в зависимости от их «ус-
тановки» и их средств выражения в формы, которые не всегда позволя-
ют сразу ощутить их универсальность и могут затруднить их общечело-
веческое применение и распространение, — особенно в тех случаях, ког-
да эти знания выступают смешанными с внецивилизационными элемен-
тами и встроены в религиозные и метафизические системы идей, как.
например, прежде всего «познавательно-теоретические» результаты
брахманов. Верно также, что при этом сознательно или бессознательно
примененный аппарат представлений и понятий (в котором всегда со-
держится определенная математика, т.е. определенное формирование
представлений о пространстве и времени) в зависимости от его качества
ставит в различных исторических телах совершенно разные границы со-
держанию просветления сознания: без «представления о функции», воз-
никшего только в западной сфере, невозможна была бы не только выс-
шая математика, но и вообще все современное западное знание; без
представления Евклида о трех измерениях пространства не существовал
бы весь познавательный мир античности; без индийского представления,
что физическое чувство - лишь «явление», не возникла бы вся индийс-
кая философия и т.д. Однако когда говорят, что «знания» (следователь-
но, в нашей терминологии, - выявленные части космоса интеллектуаль-
ной цивилизации) суть «символы души» различных исторических тел,
значимые лишь для них, и что существуют, например, западно-фаустов-
ская, арабско-магическая и антично-аполлоническая математика с огра-
ниченным содержанием применения и истины только для этих тел, или
если даже только намекают на это, не понимают суть проблемы. Быть
может, появление евклидовой геометрии - об этом мы здесь спорить не
будем — и есть результат «аполлонической души» греков и представле-
но впервые миру в этих формах выражения. Содержание ее истины и
знания в человеческом понимании вечно, т.е. общезначимо и необходи-
мо для всех людей, так же, как познавательное содержание «фаустовско-
го» исчисления бесконечно малых со всеми его следствиями, или кантов-
ского a priori, или индийской противоположности между «сущностью и
явлением». При этом, правда, из храмов универсального «познания» все-
гда и повсюду следует выбрасывать то. что Кант при проверке формаль-
ных предпосылок познания выбросил из чистой познавательной сферы
опыта и определил как метафизику. Но из храма познания цивилизации
и тем самым просветления универсального предсуществующего космо-
са цивилизации, его теоретической и практической сторон — не из хра-
ма «истины» вообще!. Ибо с этими метафизически или религиозно обус-
ловленными частями «мира духовного познания» различных историчес-
ких тел мы еще встретимся в другом месте, в мирах их культуры и в дви-
жении их культуры. И мы обнаружим, что в этом мире они обладают,
правда, не цпвилизационным. т. е. универсально человеческим общезна-
20
чимым и необходимым познавательным содержанием, по огромным,
культурным, скажем сразу, душевным содержанием истины, составляю-
щим содержание и сущность эманации культуры. Но об этом позже.
Здесь следует только прийти к заключению: логически каузальный
характер раскрытия в форме поступенчатого, пусть даже в различных ча-
стях сломанного растущего освещения чего-то предсуществующего, на-
личного для всего человечества, выявление его как общезначимого и не-
обходимого, и есть феноменология и форма явления процесса цивили-
зации. И интеллектуально сформированный космос общезначимых и
необходимых вещей, которые внутренне связаны во всех своих частях,
которые, рассмотренные с практической стороны, универсально одина-
ково полезны (практически правильны) для целей людей, рассмотренные
с теоретической стороны, одинаково неизбежны (т. е. теоретически пра-
вильны) и в освещении образа мира и Я одинаково очевидны (т. е. апри-
орно верны), совокупность всего того, что освещаемое таким образом в
нарастающей степени стоит над человечеством, и есть космос цивилиза-
ции. Его выявление происходит поэтому по законам логической каузаль-
ности. На каждой стадии этого выявления понятия могут быть примене-
ны правильно или неправильно. И выявленные и освещенные в нем пред-
меты носят характер общезначимости и необходимости и распространя-
ются молниеносно на весь космос общения, именно потому, что они в
сущности предсуществуют для человечества.
IV
Совершенно противоположный характер имеет движение культуры и все
то, что находится и возникает в ее сфере. Эта сфера не создает космос
общезначимых и необходимых вещей, напротив, все возникающее в ней
пребывает и остается по своей сущности замкнутым в том историческом
геле, в котором оно возникает, и внутренне связанным с ним. Возника-
ет не объективный космос, а душевно обусловленная рядоположность
символов. Подобным самостоятельным миром символов, обладающим
собственным руническим письмом и собственным в сущности непереда-
ваемым содержанием, является китайский, индийский, египетский, ва-
вилонский, античный, арабский, западноевропейский и все остальные
миры культуры - все, что в них действительно относится к культуре.
Невозможно высвободить греческую культуру из исторического тела Гре-
ции, перенять, перенести и повторить ее содержание, как пи часто такая
попытка делалась применительно к ее существенным частям, ее изобра-
зительному искусству, ее трагедии, миру ее философских идей. Каждое
возрождение — а попыток таких возрождений греческой культуры было
множество — начиная от времени Августа и греко-буддистской в Ганд-
харе, через итальянскую до возрождения в стиле ампир и других, — не-
чет к чему-то совершенно иному, а не к повторению греческой культу-
ры, хотя известные внешние формы перенимались и во многих случаях
делались попытки найти то освобождающее содержание, которое было
выражено в греческом культурном мире. Освобождающее душевное со-
держание, так же как и выступающие конкретизированными в художе-
21
ственных произведениях и идеях формы душевного освобождения, сле-
довательно, вновь созданный мир культуры, всегда отличается от гречес-
кого, мнимое возрождение в действительности всегда создание нового,
чего-то другого. И то же относится к заимствованию и распространению
чисто религиозных освобождающих содержаний там, где при распростра-
нении «мировых религий» как будто - но именно как будто - происхо-
дит нечто подобное, как, например, при распространении освобождаю-
щих содержаний и уничтожении замкнутости культуры в историческом
теле, в котором она возникла, ее универсализации для всего человечества
или, по крайней мере для больших его частей. Духовная и душевная уни-
версализация мировых религий, даже в тех границах, в которых она про-
исходила, христианской, мусульманской, буддистской, — видимость.
При внимательном наблюдении это оказывается либо результатом во-
енной экспансии исторического тела, в котором эта религия возникла,
подобно тому как распространение мусульманства почти точно совпадает
с границами завершающейся экспансии монголоизированного арабского
исторического тела; либо эта универсализация является, подобно рас-
пространению буддизма на Восточную Азию, «перенесением ценнос-
тей», возрождением в другом историческом теле, т. е. в сущности «новым
созданием» по своему содержанию, как мы это уже видели в искусстве.
Причем в буддизме это в значительной степени даже не связано со сход-
ной направленностью стремления к душевному освобождению. Ибо
«Махаяна», которая дала материал для буддизма Восточной Азии и далее
развивалась в нем, в действительности совершенно иная, не космологи-
ческая, а преисполненная субъективным содержанием счастья религия,
совершенно отличающаяся от подлинно индийского буддизма, еще су-
ществующего на Цейлоне. Во всех разновидностях буддизма Восточной
Азии используются формы созерцания подлинного буддизма, однако его
душевное содержание иное. И наконец, как это произошло в христиан-
стве и его распространении на весь мир, при кажущейся универсализа-
ции насильственное расширение исторического тела переплетается с пе-
ренесением вновь созданных ценностей. Христианство, возникшее как
явление душевного одряхления античности, в действительности роди-
лось вновь как нечто совершенно иное в германо-романской историчес-
кой сфере при подлинно внутреннем приятии его новым молодым ми-
ром, начало которого относится приблизительно к 1000 г. С тех пор оно
стало не только догматически, но и по своей сущности отличаться от во-
сточного христианства, которое, воспринятое в России, также привело к
целому ряду новых образований. В обоих случаях христианство претер-
певало возрождения (на Западе они назывались реформациями), кото-
рые в различных исторических телах всегда вели к новым конфессиям —
Трёльч совершенно правильно где-то указал, что их следовало бы назы-
вать новыми религиями, - к образованиям сект и т. д. с совершенно раз-
личным содержанием и также внешне различными формами выражения.
В своих различных формах христианство, начиная с XVIII в., распрост-
раняется на весь так называемый «мир», в сущности в рамках распрост-
ранения на этот мир самого западного исторического тела. Эта мнимая
«универсальная религия» человечества, и именно она, составляет сегод-
ня конгломерат многих различных одновременно существующих и сле-
22
дующих друг за другом религий с одинаковым душевным содержанием
истины в различных исторических телах, где они служат выражением
душевной ситуации, но полностью замкнуты в них по своей сущности,
содержанию и распространению.
При этом выражение религиозной душевной культуры внешне почти
повсюду облекается в «познавательные категории». Оно выступает как
«откровение», как «познание», как «известная (знающая) уверенность в
том, что незримо», и пытается посредством этого отождествления «пере-
живания» с «познанием невидимого» узурпировать, распространить по-
средством миссионеров и убедить в своей универсальной общезначимо-
сти и необходимости; инаковерующие же, прежде всего в христианских
странах, объявляются еретиками или сжигаются. Однако все это лишь
маскировки того факта, что в действительности различные по своей сущ-
ности душевные выражения борются друг с другом, будучи связаны с
разными душевными установками по отношению к миру различных ис-
торических тел и замкнуты в них.
Сказанное о религии относится и к содержанию метафизических
идей философских систем, которое повсюду есть лишь выражение
культуры определенного исторического тела. Совершенно невозмож-
но перенести индийскую метафизику в ее подлинном выражении, ее
веру в перевоплощенение душ и ее стремление освободиться от инди-
видуальной сущности в западное или какое-нибудь другое историчес-
кое тело. Если это происходит, то возникает шопенгауэрианство или
теософия, которая, применяя внешне, быть может, те же или сходные
формы понятий и представлений, полностью изменяет охваченное и
выраженное ими содержание. Также никогда не станет возможно при-
дать греческому платонизму какую-либо универсальность; он пережил
бесчисленные возрождения в неоплатонизме, в платонизме Ренессан-
са, в немецком идеализме и т. д., но они каждый раз представляли со-
бой совершенно новое создание, нечто иное по своей сущности и со-
держанию. Все эманации культуры, религии, системы идей, художе-
ственные произведения, в полной противоположности открытиям ци-
вилизации замкнуты по содержанию своей истины в исторические
тела и во время, в которое они возникли. Перенесение их в другие ис-
торические тела и другое время, всегда только перенесение их выра-
жения и ценности душевного освобождения, перенесение ценности, ко-
торая ведет к так называемым «распространениям». Однако оно не
имеет ничего общего с логически-каузальным распространением от-
крытых частей универсального космоса цивилизации.
Все эманации культуры всегда «творения». Они несут на себе знак
каждого творения, имеют характер «исключительности» и «однократно-
сти», в отличие от всего, выявляемого процессом цивилизации, которое
всегда носит характер «открытий» и тем самым общезначимости и необ-
ходимости, выявления чего-то уже имеющегося.
Соответственно этому феноменология движения культуры, тип
развития сферы культуры совершенно отличен от типа развития циви-
лизации. В процессе цивилизации, как мы видели, существует прав-
да, надломленное и зависящее от исторических случайностей, но все-
таки проходящее определенные ступени «развитие», идущий через
23
всю человеческую историю единый процесс прояснения, который ведет
к определенной цели, к общему прояснению предсуществующего. На-
против, в сфере культуры мы видим происходящие, как будто
необъяснимым образом подобные протуберанцам, взрывы продуктив-
ности в разных местах, внезапно создающие нечто великое, совершен-
но новое, неповторимое и исключительное, ни с чем не сравнимое и
по своей сущности ни с чем необходимо не связанное «творение». А
если мы стремимся заметить и установить какие-либо закономерности
и связи, то обнаруживаем не «ступени развития», а замкнутые пери-
оды продуктивности и непродуктивности, упадка и стагнации, внезап-
но происходящие повороты, противоположные «течения времени»,
борющиеся друг с другом, не стадии, а формы выражения новых ду-
шевных ситуации, волнующееся море, то бурное, то тихое, приводимое
в движение тем или иным «душевным» ветром, которое никогда не
«течет», не стремится к какой-либо цели. В той мере, в какой мы мо-
жем констатировать «развитие», оно относится только к техническим
средствам выражения культуры и к их усовершенствованию, к каким-
либо образом связанной последовательности натуралистического,
классического, романтического или барочного типа выражения в раз-
личные, замкнутые периоды продуктивности, к как-то обусловленной
смене более эмоциональных или более рациональных форм выраже-
ния создаваемого в области культуры, в религии и художественных
произведениях и т. д.; к замене мифической формы выражения неми-
фической при старении различных исторических тел и т. п. - короче
говоря, развитие относится не к содержанию, а в сущности к поверх-
ностным течениям, которые происходят в культуре каждого истори-
ческого тела независимо от других, как в ином самостоятельном мире.
В движении культуры различных исторических тел нам предстает
действительно образование совершенно различных «миров», которые
возникают и погибают вместе с этими историческими телами; они не-
повторимы и исключительны, совершенно отличны по своей сущно-
сти от построения единого космоса, создаваемого процессом цивили-
зации.
Если для предметов процесса цивилизации и космоса цивилизации
с их общезначимостью и необходимостью можно использовать «ин-
теллектуальные» понятия и представления, понятия современного ес-
тествознания, и посредством такого их применения создать для наше-
го сознания образ этого процесса и его результатов, то к предметам
движения культуры и к различным культурным мирам в их исключи-
тельности и неповторимости можно подходить только с помощью «ис-
торического» образования понятий, с понятиями и представлениями
«неповторимой сущности». А в социологическом рассмотрении куль-
турных миров и движения культуры речь может поэтому идти только
о разработке типизации, т. е. о сравнении и разработке повторяющей-
ся феноменологии, о ее поверхностном явлении и о попытке поставить
эту феноменологию и ее неповторимые свойства в какую-либо пости-
гаемую связь с общим процессом цивилизации всего человечества и с
общественным процессом различных исторических тел. Показать это
более конкретно является задачей социологии культуры.
24
V
Теперь мы можем подробнее рассмотреть внутреннюю сущность «куль-
туры», в отличие от «цивилизации», динамическое их отношение друг к
другу и их отношение к общественному процессу, следовательно, под-
линный принципиальный вопрос социологии культуры.
Как бы ни объяснять возникновение цивилизации в историческом
процессе человечества, медленное выявление описанного космоса в его
прохождении по ступеням, несомненно, что этот космос — самое суще-
ственное средство человечества в борьбе за существование, его духовное
и материальное вспомогательное средство. Посредством интеллектуали-
зации материала своих переживаний человечество приходит к господству
над природой. Посредством происходящего при этом выявлении предсу-
шествующего космоса цивилизации оно помещает между собой и при-
родой промежуточную область содержаний сознания, знаний, средств и
методов, с помощью которых оно стремится господствовать над приро-
дой и целесообразно формировать собственное существование, осветить
и расширить свои естественные возможности. Этот космос цивилизации
есть не что иное, как целесообразная и полезная промежуточная область',
и регион его общезначимости и необходимости простирается до тех гра-
ниц, в которых действуют в своем значении эта целесообразность и не-
обходимость. Космос цивилизации выступает как конкретизация мира
понятий и представлений, как формирование созерцания природы, мира
и Я, которое существует идя того, создано как будто для того, чтобы, ос-
ветив интеллектуально природу, мир и Я, господствовать над ними ду-
ховно, а затем и практически8. Этот космос есть если не возникший в
борьбе за существование, то во всяком случае примененный к этой борь-
бе «образ» природы, мира и Я, чьи внутренняя структура и элементы
формы, априорные формы созерцания, категории и априорные матема-
тические синтетические «суждения» служат инструментарием, каким-то
образом возникшим в человеческом духе, чтобы медленно построить это
его господство. Так как борьба за существование в своих основных цемен-
тах по своей природе одинакова для всех людей, где бы они ни жили, то
само собой разумеется, что и эти категории созерцания, внутренний ду-
ховный инструментарий этой борьбы, для всех одинаков и что выявлен-
ный им «образ», космос цивилизации, должен быть общим для всех, т. е.
обладать общезначимостью и необходимостью. Тем самым его кажуще-
еся удивительным предсуществование теряет свою странность: оно -
следствие повсюду аналогично разработанных основополагающих кате-
горий созерцания. А он сам не что иное, как медленно построенный и
освещенный ими, ими и посредством них созданная «картина мира». Он
- «аспект природы», который «фабрикуют» эти категории созерцания. И
это воззрение на природу наиболее целесообразно, чтобы господствовать
над ней и над существованием вообще и создать внешнюю «область его
господства», аппарат цивилизованного существования, ибо это воззре-
ние на природу выросло из категорий, которые, как кажется, возникли
именно для этой цели.
Такова подлинная сущность космоса цивилизации, который пред-
ставляет собой, следовательно, большую область целесообразно и полезно
25
освещенного и целесообразно и полезно сформированного существо^1 ния* но
в своем формировании существования ни на шаг не ведет >iaii>me' чем
обусловлено точкой зрения целесообразности и полезности
Напротив, формирование существования культурой не имесг ничего
общего с целесообразностью и полезностью. То, что действует На сУЩе~
ствование в религиях и системах идей, что отражается в художес!венных
произведениях и «образах», проистекает из области совершенН0 иных
категорий и созерцаний, из душевности. В противоположность |1ивили-
зационной, т. е. интеллектуальной переработке материала существова-
ния, его переработка и формирование материала душевны. БолыПая вина
XIX в. состоит в том, что он утратил понимание душевной облаС™* ДУ~
шевной сферы человечества как его последней и глубочайшей сущност-
ной сферы для познания и созерцания исторического процесса. Посред-
ством понятия «духа» , прежде всего гегелевского «объективного духа»,
он сделал эту подлинную сущностную сферу, отправляясь от которой все
остальное в существовании есть только выражение, образ, воплощение,
явление, подобие и символ «душевной» сущности или должно быть им,
невидимой для исторического и философского, а тем самым и для пре-
жнего социологического созерцания; в этом понятии объективного духа
были соединены элементы интеллектуального господства над существо-
ванием с элементами душевного выражения, сведены воедино интеллект
и душа9, а тем самым безнадежно смешаны цивилизация и культура.
Между тем культура есть лишь выражение души, воление души, а тем
самым выражение и воление лежащей за всяким господством над суще-
ствованием «сущности», души, которая в своем стремлении к выраже-
нию и в своем волении совершенно не интересуется целесообразностью
и полезностью, а стремится только к проникновению в материал жизни,
к его формированию, которое дало бы некое отображение ее самой и
посредством этого отображения, посредством получения образа в самом
материале жизни или вне его помогло бы душе достигнуть «освобожде-
ния». Культура всегда — не что иное, как такое стремление души различ-
ных исторических тел к освобождению, ее попытка обрести выражение,
образ, отображение, форму своей сущности и либо придать форму дан-
ному материалу существования, либо, если это невозможно, бежать от
него и искать трансцендентное бытие как область формирования и спа-
сения.
Это, следовательно, означает: если исторический процесс является
«материальным» в развитии различных исторических тел, то процесс ци-
вилизации предоставляет ему технические средства для того, чтобы по-
строить ту или иную целесообразную или полезную форму существова-
ния. Для движения же культуры все это только субстанция, материал,
который ей надлежит душевно переработать, преобразовать, чтобы выра-
зить живущую в различных исторических телах «душу», придать ему фор-
му как существенный образ души. Из этого следует понятие культуры
как формы выражения и спасения душевного в материально и духовно дан-
ной субстанции бытия. А из этого следуют уже некоторые предваритель-
ные данные о динамическом отношении между общественным процес-
сом, процессом цивилизации и движением культуры и о ритмике про-
дуктивности культуры в различных исторических телах.
26
VI
Общественный процесс различных исторических тел, их социологи-
чески созерцаемый материальный исторический процесс, связь и
борьба сформированных в нем человеческих естественных сил, прохо-
дит различные стадии. Он следует от простых к более сложным фор-
мам «жизненного синтеза». В ходе этого развития он претерпевает пол-
ные перегруппировки общества, расширение и сужение своего гори-
зонта, окостенение и распад общественных форм. Ему ведомы частич-
ные преобразования материала существования и - с точки зрения
живущей в нем души, беря все это как переживание и материал фор-
мирования для нее, - полностью новые синтезы жизненных элементов,
которые представляют существование как новую целостность пережи-
вания; и ему ведомы также длинные или краткие периоды продолжа-
ющегося окоченения, времена «оцепенений синтеза», чистого повто-
рения переживания, которое в разных поколениях, быть может, тыся-
челетиями предлагает душе одно и то же переживание и материал
формирования. При этом процесс цивилизации - один из существен-
нейших факторов, который посредством предоставления новых техни-
ческих методов формирования существования, новых знаний и гори-
зонтов способствует развитию прежде всего материальной структуры
общества, от простых к более сложным формам, к развитию и сдвигам
материального синтеза жизни и может посредством открытий и изоб-
ретений привести к большим поворотам в нем, к новым формирова-
ниям, к совершенно новым синтезам. Он может также, остановив-
шись в каком-нибудь историческом теле, способствовать его матери-
альному оцепенению и его распаду вследствие старения. Следователь-
но, процесс цивилизации создает новые внешние жизненные синтезы в
согласованности с естественными силами общественного процесса.
Но процесс цивилизации и без такого преобразования внешнего син-
теза жизни, совершая чисто духовные прояснения или проникая с ними
в какое-либо историческое тело извне, уже посредством этого (посред-
ством нового духовного приведения в связь всех элементов существова-
ния), может создать совершенно независимо от материального преобра-
зования существования новый чисто духовный синтез элементов жизни,
который может оказаться таким же значимым, как какой-либо создан-
ный новой материальной общественной группировкой. Если до сих пор
«мир» виделся как похожий на тарелку диск, над которым куполообраз-
но поднимается «небесный шатер», а вместо этого внезапно появился и
был всеми постигнут коперниканский образ мира с его бесконечными
всесторонними перспективами, то наступил новый синтез, духовное пре-
образование и изменение порядка всех жизненных элементов, столь же
значительный, или, быть может, для «души» еще более значительный,
чем какой-либо процесс преобразования. И совершенно то же должно
произойти, когда внешний мир внезапно начинает восприниматься уже
не как нечто независимое от нашего Я, его форм и условий, как бытие
чистых тел, а как «продукт» психофизических возможностей восприятия
нашего Я и его априорных форм созерцания (Кант). Тем самым все фак-
ты переживания существования получают измененное значение для
27
души, измененное положение и Зц; че ik} отношению друг к другу.
Существование и без нового »не|ин1го , тС-ул выступает перед душой в
новом «синтезе». И это происхожу есл и ,,t« повсюду столь очевидно и
радикально, то в большем или Меньшем масШтабе ,ю всех ДРУГИХ духов-
ных космосах цивилизации.
В каждом историческом теле «душа» СтрсМится' как мы иидели, фор-
мировать соответственно своей сущности материал существования, ко-
торый становится материалом се переживание сделать его выражением
ее внутреннего бытия и создает этим «культУРУ*- Независимо от того,
следовательно, совершается ли это посредством переформирования ма-
териального существования или посредством нового духовного образа
существования, она видит себя каждый раз вследствие созданного таким
образом «нового синтеза всех жизненных элементов» введенной в новое
существование, в новый мир, в новый материал, который ей надлежит
формировать. В каждой такой ситуации решение ее задачи вновь начи-
нается с самого начала... «И из этого возникает стремление ее и необхо-
димость ее продуктивности в области культуры». Это не что иное, как
попытка душевного формирования этого нового существования, этого
по-иному расположенного жизненного материала.
Таким образом, периоды продуктивности культуры — всегда результат
нового синтеза элементов жизни. И наоборот, когда это новое существо-
вание душевно оформлено или выражено, неизбежно наступает стагна-
ция культуры, быть может, в течение некоторого времени маньеристское
повторение выраженного прежде, и наконец остановка. С точки зрения
«общей души» исторических тел (в научном выражении - их общего ду-
шевного состояния в какое-либо время) это означает, что при новом
синтезе возникает новое «чувство жизни», новый способ ощущать жизнь
как нечто общее, и это новое чувство борется за возможность своего вы-
ражения, за новое формирование, новое душевное формирование, за
новое общее отношение к общественным и духовным фактам. Возника-
ют новые «эпохи» и периоды культуры с новым ощущением. С точки
зрения «продуктивных умов» в различных исторических телах это озна-
чает, что они формируют новое ощущение и вводят его в объективный
мир. Они впитывают по-новому синтезированный жизненный матери-
ал как переживание, соединяют его со своим душевным центром, преоб-
разуют его на основе своего нового чувства жизни и представляют со-
зданное таким образом, их «творение», в «синтезе личности и мира». Они
совершают это либо с намерением просто дать в законченной форме без
определенной цели отображение по-новому ощущаемого мира, его
сформированного душой содержания, — тогда возникает произведение
искусства; или с намерением душевно формировать цивилизационную
форму этого существования, сделать ее выражением нового чувства жиз-
ни и ее содержания, идеально преобразовать, переплавить ее; или, нако-
нец, если это невозможно, если противостоящее им бытие оказывается
недоступным идеальному формированию, в этом смысле лишено ценно-
сти, они пытаются «спасти» от него эманацию душевности, поставить ее
рядом с этим и вне этого, перенести ее в трансцендентность. Так наря-
ду с произведениями искусства возникают религиозные системы и сис-
темы идей, направленные па посюсторонний или потусторонний мир. И
28
появляются великие художники, пророки, вестники нового чувства жиз-
ни, которые воплощают в себе это различное по своему характеру стрем-
ление к «эманации», вводят, завершают или «венчают» эпохи и периоды
культуры.
В этом предварительном первом рассмотрении становятся сначала
только поверхностно понятны ритмика движения культуры, следова-
ние друг за другом ее периодов продуктивности и угасания, возникно-
вение ее «эпох», борьба течений культуры (которая всегда выражает
борьбу нового чувства жизни с иным, более старым), появление вели-
ких людей (которые в общем должны стоять как бы на местах «изло-
ма» развития), необходимая группировка толп менее продуктивных
людей вокруг великих творцов (менее продуктивные «ищут» выраже-
ние, указывают в качестве «предтеч» или «соратников» на появление
единственно великих), — понятным становится социологическое зна-
чение всего этого. Социологический тип движения культуры, ее чле-
нение на все новые замкнутые периоды продуктивности, ее борющи-
еся друг с другом течения и пребывание в них великих людей как бы
фланкирующих постов, сходные с протуберанцами появления облада-
ющих вечным содержанием эманации культуры с их исключительно-
стью и неповторимостью, которые делают движение культуры столь
полярно противоположным развитию цивилизации, - все это стано-
вится понятным. И одновременно, как указывалось, освещается в из-
вестной степени общая направленность выражения и форма выраже-
ния; то, что великие эманации культуры могут в одном случае озна-
чать удаление от жизни (как многие религиозные системы, раннее
христианство, буддизм, которые не верят в возможность распростра-
нить на жизнь как тотальность душевную эманацию); что в другом
случае они утверждают веру в возможность идеально формировать по-
сюсторонне эту несинтезированную жизнь (магометанство, лютеран-
ство, немецкий идеализм); в третьем же случае они ведут к радостно-
му восприятию жизни такой, как она есть, и просто выражают ее в
формах утверждающего жизнь чувства в возвышенном образе и совер-
шенной форме (античность времени Перикла, позднее Возрождение).
Задача социологического исследования — выявить типы таким обра-
зом сломленного или замкнутого чувства .жизни и их стремление выразить
себя в различных формах и условиях, установить их связь с материаль-
но или духовно созданным новым синтезом жизненных элементов и
объяснить, исходя из этого, не только большие периоды продуктивности
культуры, ее повторение и ее сущность и положение в ней великих лю-
дей, но и выход на первый план различных сторон выражения культуры,
последовательность и смену ее формальных принципов, объяснить или,
ныражая это более осторожно и скромно, истолковать все это.
Здесь, где речь идет о принципах динамики культуры, следует еще
1'олько сказать: каждый, возникающий из какого-либо нового жизненно-
i о чувства период культуры, поскольку он стремится формировать мате-
риал существования, его общественный и цивилизационный синтез, и
придать ему его душевный облик, оказывает в свою очередь обратное
•имдействие на этот материальный и цивилизационный синтез жизнен-
ных элементов. В религиях каждый такой период создает с помощью
29
церкви охраняемые и распространяемые, в системах идей посредством
духа и идей утверждаемые принципы формирования, в художественных
произведениях - вечные образы объективных форм, в великих людях -
личностные «образцы» формирования жизни; такой период вводит все
это по общественным и духовным каналам во все поры общественного
и личностного формирования, переносит на весь материальный и духов-
ный облик исторической сферы, в которой он возник. Таким образом, он
в известной степени погружается со своими принципами формирования
в глубины общественного и цивилизационного потока истории и пропи-
тывает его. Такова ведь его задача и его намерение в качестве формы ду-
шевного выражения нового жизненного синтеза. Таким образом, каж-
дый период культуры интенсивно воздействует на дальнейшее развитие
общества и процесса цивилизации в каждом историческом теле. Их раз-
витие из естественных сил влечения, воли и сил интеллектуальных про-
исходит часто, почти всегда, в борьбе с вышедшим из этого погружения
формированием культуры предшествующего жизненного синтеза. (Доста-
точно вспомнить в качестве исторического примера об утверждении ран-
некапиталистического синтеза, который был огромной победой воли в
борьбе со средневековой, душевно- культур но сформированной и фикси-
рованной жизнью). Обретенные в культуре формирование и фиксация
могут даже просто остановить процесс жизненного синтеза на опреде-
ленной ступени посредством ритуального установления и связывания
всех естественных сил (религиозно фиксированное кастовое деление в
Индии). Они могут замкнуть такими ритуально связанными представле-
ниями процесс цивилизации. И посредством всего этого формирование
культуры становится действующим в обратном направлении, существен-
ным элементом конкретного образования общества и цивилизации раз-
личных исторических тел. Однако это ничего не меняет в том, что разви-
тие общества и цивилизации изначально, — в той мере, в какой обще-
ственный процесс опирается на естественные силы влечения и воли в
рамках естественных условий, а процесс цивилизации — на интеллектуаль-
ные силы целесообразного господства над существованием. — и посред-
ством каждый раз создаваемого нового жизненного синтеза ставит дви-
жение культуры и ее внутренний центр, душу, перед новой ситуацией и
новыми задачами. Их конкретное решение создает тогда фиксации и фор-
мы, в которых исторические тела в каждом данном случае пребывают,
формы, из которых их естественные и интеллектуальные силы постоян-
но стремятся их освободить. В результате ими постоянно создается но-
вая душевная ситуация, новое основание для продуктивности культуры.
Общественный процесс, процесс цивилизации и движение культуры на-
ходятся в такой коррелятивной, динамической взаимосвязи, конкрет-
ный характер которой для каждого исторического тела и каждого исто-
рического периода следует пояснять в монографическом исследовании,
в принципе соответствующем, однако, той схеме, которая здесь дана в
общих чертах.
Существуют исторические тела и периоды, когда— причины этого
должны быть подробнее рассмотрены и монографиях - движение куль-
туры оказывает меньшее обратное воздействие на «естественное» форми-
рование всего тела или его отдельных образований, чем в другие време-
30
на, когда оно способствует развитию естественных образований в изве-
стной степени по их собственным законам и только выражает созерцае-
мую жизнь в одушевленной форме. Таким периодом является, например,
античность в период правления Перикла, когда хозяйство, семья, до из-
вестной степени государство и, с другой стороны, «познание» могли пол-
ностью жить и развиваться по своим естественным законам, а религиоз-
ный фундамент создавался только для государства как «полиса», как бо-
лее близкого сообщества народа. При этом произведения искусства и
идеи связывали формированную таким образом жизнь с последними ду-
шевными инстанциями и придавали ей, исходя из этого, ее выражение.
Совершенно противоположный тип представлен в переднеазиатско-еги-
петской древности: в ней государство и познание полностью охвачены
религиозными формами, им придано культурно фиксированное выраже-
ние ритуализации и константность, поддерживаемая и усиливаемая сво-
еобразным общественным укладом (бюрократия!). То же, хотя иное по
своему характеру и своим общественным основам, обнаруживается в ин-
дийской и китайской исторических сферах. В средневеково-феодальном
жизненном синтезе также под влиянием церкви заметны подступы к по-
добной фиксации жизни. Характерной чертой Возрождения является то,
что естественные общественные и цивилизационно-рационалистические
силы разорвали эти оковы, вновь освободили общественный процесс и
процесс цивилизации, предоставили государству, хозяйству, познанию,
освободив их от божественной власти, естественно «формироваться»;
при этом «культура», обретя известное, правда, отдаленное и преувели-
ченное сходство с античностью, могла вновь, как и в древности, вступить
в родственную связь с естественной жизнью.
Здесь все дело в следующем: различные общественные образования,
хозяйство, государство, классы, семья и т. д., так же, как и сферы циви-
лизации и их части, могут быть в различных исторических телах и пери-
одах различным образом «насыщены культурой» и совершенно различ-
но связаны этим в определенной форме. Это меняется в зависимости от
условий «корреляций» трех сфер, которые надлежит исследовать.
И для нашей современной ситуации и находящейся в ней связи, быть
может, интересно ясно понять, что душевная разработка сложившегося в
раннекапиталистический период, поднявшегося в эпоху Возрождения
«современного» синтеза жизни начинается в сущности только в идеали-
стический период XVIII в.; только его потребностью было придать новую
душевно-культурную форму новым цивилизационным и естественным
силам, создавшим «современный» образ жизни. Это ему не удалось.
Мощная сила освобожденных начиная с Возрождения естественных, об-
щественных и цивилизационных сил, в начале действия которых он пре-
бывал (хотя ему представлялось, что он может их вновь подчинить) раз-
рушила все его подступы и привела XIX век с его преобразованием. Од-
нако все, что сегодня существует из «постулатов культуры» в отличие от
естественных сил и тенденций нашей жизни, — все. чем мы располага-
ем мне областей хозяйства, государства, общества, семьи, в сущности
происходит из душевно-духовного арсенала той попытки преодоления.
Мы еще не создали новую идеологию, которая могла бы соответствовать
нашему сегодняшнему жизненному синтезу. Социализм во всех его иы-
31
нешних идейных формах является постулатом новой культурной формы
хозяйства и общества, противопоставленным тогдашним чувством жиз-
ни возникающим силам капитализма, — со всеми недостатками и пред-
восхищениями душевно-духовной установки того времени. Так же и со-
временная идея государства; с тех пор не возник ни один новый посту-
лат, который исходил бы из действительного, сложившегося с тех пор
жизненного синтеза и в культурном отношении преодолевал бы его. С
новой «идеей семьи», вокруг которой сегодня идет борьба, происходит
нечто подобное. И так далее вплоть до идей «нации» и «человечества», —
о них мы сегодня еще размышляем в опытных схемах, в которых XVIII
век пытался постигнуть и идейно формировать эти созерцаемые высшие
членения человеческой общности.
Мы еще сегодня боремся за современную душу и современный жиз-
ненный синтез. Мы ведем эту борьбу старым, ставшим уже почти тупым
оружием этого раннего времени без того, чтобы стало возможным новое
душевное тотальное постижение жизни, которое дало бы нам новое, бо-
лее действенное оружие, и поэтому наша борьба более тяжелая и отчаян-
ная, чем была когда-либо. И самыми существенными объектами, о кото-
рых идет речь, стали сегодня постепенно в продолжающемся отдалении
от высших целей самые простые основные общественные образования,
естественный фундамент существования вообще. Они могут, если все
взорвано, — в зависимости от природы жизненного синтеза - стать под-
линным первым объектом принудительного душевного требования, ко-
торый должен тогда спуститься вниз и, пребывая у корней существова-
ния, попытаться там внизу ориентироваться новым, радикально новым,
образом.
В целом следует, резюмируя, сказать: в разные периоды в различных
исторических телах движению культуры удается в очень различной мере
воздействовать на общественные и цивилизанионные образования, и в
разные периоды оно хочет этого в совершенно различной степени: ибо
жизненное чувство души, которое видит себя противопоставленным оп-
ределенному жизненному синтезу, и из него произрастает, может осу-
ществить это в зависимости от своей силы в разной мере и считает пол-
ное формирование жизненного материала возможным в очень доходя-
щее до степени или - в счастливые «времена» - нужным. Все это долж-
но быть предметом пристального исследования в области социологии
культуры. Здесь же речь идет только о том, чтобы внести в принципе яс-
ность в понятия культуры и движение культуры, процесса цивилизации
и общественного процесса и в их динамическое взаимоотношение, на-
сколько это возможно в кратких указаниях.
VII
С этой точки зрения мы обретаем определенную позицию по отношению
к двум типам исследования, в которых до сих пор историко-философс-
ки и социологически рассматривалось движение культуры — к «эволю-
ционному» и к называемому в последнее время «морфологическому».
Эволюционное историко-философское рассмотрение движения куль-
32
i уры коренится в смешении интеллектуальной и духовной сфер под об-
щим понятием «духа» и вследствие этого в соединении процесса циви-
лизации и движения культуры под общим представлением «духовного
развития». Это смешение началось в XVIII в. и достигло вершины в не-
мецком идеализме. С этого времени процесс цивилизации и движение
культуры настолько переплетаются, что в представление «духовного раз-
нития», а затем «развития» вообще, вводятся закономерности развития
цивилизации как формы созерцания историко-философского исследова-
ния и проникновения в общий исторический процесс человечества.
Кондорсе видит в общей истории проходящий по ступеням процесс че-
ловеческого усовершенствования, содержание которого в сущности есть
«просвещение», т. е., в нашем понимании, только и исключительно вы-
явление части космоса цивилизации. Кант, Фихте, Гегель, сколь ни раз-
лично именно их социологическое конструирование, усматривают все
содержание истории в прояснении сознания (т.е. другой стороны про-
цесса цивилизации), доходящее до появления «сознания свободы», кото-
рое должно основать царство разума. Безразлично, совершается ли это в
рациональных формах (притяжение и отталкивание, совместные или
индивидуальные силы, общее действие которых в конечном итоге ведет
к царству разума, Кант), в бпблейско-протестантской оболочке, как у
Фихте (стадия невинности, начинающейся и полной греховности, осво-
бождения, господства разума) или принимает величественную гегелевс-
кую форму эволюции мирового духа, который использует влечения и
страсти людей, их стремление к ясности и разумному порядку, чтобы по-
средством тезиса, антитезиса и синтеза, следовательно, раскрытия в ходе
логического процесса саморазвития, в конце концов прийти к созданию
царства «разума», воплощенного в государстве.
Совершенно ясно, что в каждом данном случае развитие происходит
по логическо-интеллектуальным принципам. И выявленное в конечном
счете царство разума, в которое единичный человек должен войти в «сво-
боде сознания», — в сущности не что иное, как именно наш прояснен-
ный и выявленный космос цивилизации, который впитывает все осталь-
ное, искусство, религию, идеи и т. д., все эманации культуры как эле-
менты своего «разумного» продвижения и поглощает их в своем разум-
ном завершенном образе. Видение сущности культуры скрывается в пси-
хологически впервые созерцаемом образе сущности процесса цивилиза-
ции, который посредством понятий реализации разума и самоэволюции
духа охватывает все исторические факты и вводит их в область своих
представлений. Маркс совершил в принципе то же: он просто видит
только другую, материально-техническую сторону развития космоса ци-
вилизации, превращает ее в исконный принцип исторического развития,
формами выражения которого являются все общественные процессы, а
отражением которого - движения культуры. Позитивисты, от их гени-
альных основателей, Сен-Симона и Конта, до сегодняшних прагматис-
том, видят линию пухопио-научного развития, растущее вытеснение ми-
фических маскировок образа мира, все большее интеллектуальное и на-
учное влияние на строение существования и общества (промышленная
система Сен-Симона), следовательно, также считают, что в этом циви-
лизациопно-позптивисгском образе мира и существования, сдедователь-
2 1ак. 3073
33
но, вновь |) выявленном космосе цивилизации, в конце концов исчеза-
ет все, в том числе и культура, которую они, конечно, также не рассмат-
ривают как нечто отличное по своей сущности; ничего не меняет в их
позиции попытка придать этому выявленному как последняя цель куль-
туры рационалистическому и полностью организованному космосу ци-
вилизации заимствованное из подчеркиваний ценности культуры рели-
гиозное освящение (как Сен-Симон в его «Nouveau christianisme»*). Пос-
ледующие социологи, как, например, Спенсер, придерживавшиеся пози-
тивистско-цивилизационной установки, расчленяли следующее из нее
созерцание исторического процесса не по фактам раскрытия объектив-
ного духа, техническим средствам производства или господства науки
над существованием, а по отражению всего этого на развитие сознания:
таким образом рационализированный, меркантильный и способный к
сочувствию человек следует как необходимый продукт развития за воин-
ственным, мифически-религиозно настроенным человеком начальных
стадий. В некоторых случаях рассматривают действие развития на уста-
новку сознания индивида по отношению к общности: за ранними пери-
одами корпоративной общей связи повсюду следует время индивидуа-
лизма и, быть может, нигде, правда, ясно не описанного так называемого
субъективизма (Лампрехт).
Всегда просто видится и исследуется процесс цивилизации и его дей-
ствия. Все остальное определяется только как его часть, следствие или
отражение, Повсюду выявление какой-либо одной стороны предсуще-
ствующего космоса цивилизации вместе с ее действием рассматривает-
ся как содержание, назначение и цель мировой истории. Для сознания
всех этих людей космос цивилизации является в его последней части,
появление которой они способны увидеть, чем-то определенным, после-
дней целью, к которой мы должны стремиться. Поэтому такие социологи
эволюции цивилизации и философы истории, даже самые гениальные
среди них, причем именно они, всегда одновременно дают эсхатологии,
предсказания или констатации конечного состояния человечества, ко-
нечного состояния, которое всегда есть не что иное, как увиденная ими
последняя ступень раскрытия космоса цивилизации. Гегель и Фихте счи-
тали, как Известно, свою эпоху началом осуществления разума, после-
дней эпохой человечества - небольшое заблуждение, как мы знаем се-
годня. А марксизм с его предсказанием будущего социалистически-раци-
онального царства, которое в конечном итоге должно логически-диалек-
тически произойти из чисто цивилизационно созерцаемого обществен-
ного процесса, — также не что иное, как подобная цивилизационно кон-
ципированная эсхатология, попытка политически и социально-агитатор-
ски подчеркнутого предвосхищения будущего космоса цивилизации и
его форм.
Неудивительно также, что все эти различные исторические теории и
философии культуры, как ни различны они по провозглашаемым ими
принципам, идеалистические, материалистические, позитивистские,
психологические и т. д., в сущности настолько близки друг другу, что при
ближайшем рассмотрении незаметно переходят друг в друга. Примером
«Новое христианство» {франц.).
34
может служить убедительно доказанная Пленге не только формальная,
но и содержательная родственность, даже в значительной степени соци-
ологическое тождество гегельянства и марксизма, тех двух философий
истории, которые по своей внешней позиции (эволюция духа и эволю-
ция материи) столь враждебно противостоят друг другу, хотя в сущнос-
ти обе они утверждают происходящее с необходимостью и общезначимо-
стью образование обшей рациональной социальной организации челове-
чества, при нерушимости которой отдельный человек обладает свободой
лишь сознательно входить в нее. Однако большое тождество можно об-
наружить во всех этих теориях развития и культуры. Ибо все они явля-
ются лишь различными освещениями общих рациональных принципов,
формирующих и развивающих внутреннее и внешнее человеческое бы-
тие, в образе которого исчезает все остальное.
Все авторы этих теорий находятся социологически в известной степе-
ни до «грехопадения» основополагающего понимания. Они не видят
того, что рациональная организованность, рациональное вхождение по
собственной воле, рациональное освещение существования и любые дру-
гие рационализации, — даже если в них привносят эманацию «мирово-
го разума», связывают их с развитием принципов свободы или с тенден-
циями равенства, и в таких душевных облачениях в качестве таковых
еще ничего общего не имеют с культурой, ничего общего не имеют с
формированием исторического тела, исходя из центра его сущности. Все
дело в том, что им неведомо различие между тенденциями развития ци-
вилизации в исторических телах и развитием культуры. В противном
случае они видели бы во всех этих процессах рационализации лишь сред-
ства формирования существования, а не его сущность. Они не могли бы
видеть в этих фактах цели и последние идеи развития человечества, а ви-
дели бы в них общие свойства развития и его необходимость, /шд расту-
щим господством которых пребывает душевное в историческом процес-
се, осуществляя задачу постоянно преодолевать созданное и ими есте-
ственное существование во все новой и все более трудной борьбе. Эсха-
тологический и цивилизационный рай организации, который они видят,
потерял бы для них свое высокое значение, общая «культурная цель» че-
ловечества перестала бы существовать. Однако они обрели бы нечто глу-
бокое и последнее в вопросах культуры.
VIII
«Морфологическое» рассмотрение истории и культуры - нечто совер-
шенно противоположное. Оно стремится постигнуть «душу», которая
возникает, пробуждается, теряет свои силы и стареет в различных боль-
ших исторических телах, проявляя эманации культуры как символы сво-
его существования и судьбы. Религии, системы идей, художественные
произведения являются совершенно неповторимыми, несравнимыми, не
стремящимися к общей цели человечества, просто ставшими «образом»
формы выражения души различных больших исторических тел на раз-
личных ступенях их расцвета и старения.
История - не внутренне связанный процесс с внутренним единством,
35
а область морфологического возникновения, роста и гибели этих боль-
ших тел. У каждого из них собственный закон, собственная сущность и
собственный тип борющейся за свое выражение души. Все они проходят
«гомологические» ступени развития и обладают «гомологическим»
стремлением выражения, — поскольку все они однажды бывают молоды-
ми, вырастают, переживают расцвет и стареют и все стремятся отразить
тотальность своего душевного содержания в формах своего выражения.
Каждая отдельная сторона их выражения, причем не только сторона
культуры в нашем понимании, но и цивилизации, столь же неповтори-
мо исключительна, и несравнима, как сама их душа, чистое выражение
их сущности. По этому представлению существуют не только фаустовс-
ко-западные, аполлонически-античные и арабо-магические искусства,
религия, метафизика, но и наука и математика; в каждом случае это осо-
бенным образом сформированный непередаваемый тип познания, в на-
шем понимании, принадлежащий каждому историческому телу, по сво-
ей сущности не передаваемый космос цивилизации, а не универсальный,
обладающий общезначимостью и необходимостью. Все части космоса
цивилизации вообще рассматриваются не как цивилизашюнные, а как
«культурные», т. е. как формы душевного выражения; таким образом,
здесь, как и в противоположном направлении, эволюционном, цивили-
зация и культура смешиваются. Разделяются они лишь постольку, по-
скольку цивилизационное формирование рассматривается и определяет-
ся как сознательная рациональная, «конечная форма» «мирового города»
в историческом процессе каждого большого тела: следовательно, на оп-
ределенной «гомологической» ступени старения культура должна повсю-
ду переходить в цивилизацию - в «рациональную старческую немощь».
Тем самым сущность цивилизации как рационального формирования
жизни и сознательного прояснения существования до известной степе-
ни усматривается и познается. Однако сам процесс цивилизации как
единый процесс, пронизываюшийсудьбу человечества, существующий
всегда с самого начала исторического развития и проникающий в свое-
образном, идущем по ступеням развитии все исторические тела, не по-
знается. При этом несомненно правильно видится растущее значение
цивилизационного формирования, следующего из просветления созна-
ния. Только это просветление сознания не ставится в соответствующую
связь, а именно в связь с постоянным повторением и развитием начав-
шегося или достигнутого в других телах общего просветления сознания
человечества, объективный космос цивилизации которого должен пред-
ставлять собой очевидную и неоспоримую целостность, не сломленную
даже во времена меньшей общей связи, и для этого воззрения. Те фак-
ты исторического процесса, которые в сущности обладают собственной
закономерностью, реальность и формы выражения общественного про-
цесса различных исторических тел так же произвольно толкуются, минуя
каузальность, как символы выражения душевной воли. Короче говоря, в
«морфологически» созерцаемое движение культуры втягивается не толь-
ко процесс цивилизации, но и общественный процесс, чтобы достигнуть
каждом случае самостоятельного роста, старения и судьбы различных
больших исторических тел. И из этого возникает картина, имеющая ряд
смешных сторон. Так, смешно, например, предсказывать будущее старе-
36
мне западной культуры, предоставляя ей отсрочку на сто лет до той или
иной гомологической ступени. И это в момент, когда западная культура
вследствие ее переплетенности с общей судьбой человечества (мировая
война!) пребывает в огромном процессе преобразования, который ведет
се то ли к распаду ее прежнего исторического тела и ее «души», то ли к
метаморфозе или транспонированию в другие возникающие тела, то ли
к ее полной, быть может, очень скорой «физической» гибели, — во вся-
ком случае к совершенно неведомой, абсолютно необозримой судьбе.
Такая ошибка и в этом воззрении следует из неумения разделять обще-
ственный процесс, процесс цивилизации и движение культуры и из по-
пытки по каким-либо образом схваченной душевности различных исто-
рических тел понять и определить их судьбу, не видя и не исследуя ре-
альные свойства общественного процесса и процесса цивилизации и их
закономерности.
IX
Тем не менее не вызывает сомнения, что наше понимание понятия куль-
туры родственно морфологической точке зрения. Для нас все эманации
культуры, также лишь символы, неповторимые, не движущиеся к общей
цели развития, несравнимые друг с другом и исключительные образы
выражения душевного, «души» каждого исторического тела, которая бро-
сает их в мир. Правда, символы, получающие свою форму и в значитель-
ной степени содержание своего выражения и от сложившейся в своем
синтезе жизненной субстанции, общественной и цивилизационной ма-
териальности, в которой эта «душа» пребывает в различных историчес-
ких телах в различное время, — которую она стремится превратить по-
средством символизации, посредством придания им формы культуры в
свое «тело». Общественный и цивилизациониый материал окружает
душу различных исторических тел самим по себе чуждым душе матери-
алом, материальным слоем, которому она в каждое мгновение истории
пытается придать свой «лик», или, если это не удается, с которым она,
отвращаясь от жизни (великие отрицающие жизнь религии), прощается.
Или если предпочтительнее другая картина, — некий материал, материал
жизни, проникает по собственным неотвратимым законам в душу и тре-
бует от нее, чтобы она воспламенила его и придала ему культурный об-
раз. Это - задача культуры каждого времени и сущность движения его
культуры, которое, мы вновь повторяем это, зависит главным образом не
от «самораскрытия души исторических тел», а от совсем иных факторов.
И по этому воззрению может происходить самораскрытие души различ-
ных исторических тел. рост, расцвет и старение. Однако все это нельзя
рассматривать как происхохиицее само по себе, беспричинное. Оно зави-
сит от созданного процессом цивилизации последовательного озарения
человечества субъективной стороной процесса цивилизации, прояснения
сознания жизненной субстанции различных народов, от в ходе их следу-
ющего друг за другом вхождения в него. Это вхождение в процесс циви-
лизации предоставляет народам различных исторических тел периоды
молодости, непроясненности, неведения очень различного характера и
37
различной длительности п зависимости от типа, места и времени их
вхождения в этот космос. Оно устанавливает для них периоды их душев-
ного пробуждения при совершенно различных условиях в окружении
совершенно различных предоставленных уже космосом цивилизации
психических и физических объектов. Оно совершенно различным обра-
зом ведет их в периоды расцвета сознательного продуктивно формирую-
щего душевного господства над существованием и совсем не везде к оди-
наковому или вообще каким-либо образом определяемому старению.
Напротив: так же, как этот процесс развития сознания и душевного ро-
ста обусловлен характером, местом и временем вхождения в общечело-
веческий космос цивилизации, как он получает в зависимости от этого
темп своего развития, возникновение его начальных и средних ступеней,
он и в своем дальнейшем развитии (как покажет наше культурно-соци-
ологическое исследование различных исторических тел) одновременно
обусловлен также совершенно различным продвижением и совершенно
различной структурой общественного процесса; тем, остаются ли сначала
в данном историческом теле полностью или частично не обладающие со-
знанием слои, которые поднимаются лишь в процессе роста и в них
вновь совершается развитие сознания (как последовательно поднимав-
шиеся на Западе слои клириков, рыцарей, бюргеров, рабочих и т. д.);
наступает ли одновременное общее прояснение вообще принимаемого
во внимание населения, как в классической древности (одноступенное
развитие!); или фиксированное общественное и духовное членение сто-
ящих друг над другом слоев следует из динамики общественного, циви-
лизационного и культурного процессов, как в Индии и т. д. Душевный
процесс просветления, роста и старения со всеми проявлениями его
культуры и возможностями находится, следовательно, для нашего иссле-
дования как и все остальное, в рамках упомянутой обоюдной динамики
общественного, цивилизанионного и культурного процессов. Поэтому в
различных исторических телах точки его отправления совершенно раз-
ные. (Арабская историческая сфера началась вследствие типа своего
вхождения в космос цивилизации на совсем другой ступени сознания,
чем античная, и у нее никогда не было своей мифологии). Этот процесс
обладает также совершенно различными возможностями развития (одно-
ступенность, многоступенность развития и т. д.). И вследствие различ-
ной переплетенности исторических тел он входит в общий исторический
процесс (более или менее изолированное существование, как в Китае и
Индии, или связь с различными телами и в конце концов, быть может,
мировая экспансия, как в античности, у арабов и сегодняшнего Запада)
в совершенно различном, абсолютно не допускающем схематизации ко-
нечном состоянии. Все это, следовательно, «судьбу» культур, как и фазы
и формы выражения «движения» культуры в различных телах, следует
объяснять в рамках рассмотрения, никогда не теряющего из поля зрения
общий процесс исторического развития человечества, посредством толко-
вания, которое, как теперь следует без дальнейших объяснений понять,
должно происходить в трех плоскостях и тщательно разделяться на три
части.
Такое толкование должно, во-первых, просто принимать нечто, не
пытаясь как-то расчленить или объяснить его; а именно специфичность
38
душевного, «живущего» во всех больших исторических телах и все вре-
мя стремящегося к выражению в рамках их общей судьбы. Это душевное
в его специфике может быть постигнуто только «вчувствованием» в об-
ласти культуры тем, кто способен к такому вчувствованию, может быть
схвачено, постигнуто в своей сущности, истолковано и выявлено как
специфическое «ядро» данной культуры в каждой объективации. Для со-
циолога, во всяком случае применительно к здесь преследуемым целям,
это - нечто, чего ему касаться не следует, толкование и передачу чего он
предоставляет более тонким исследователям; так же как толкование и
передачу глубочайшего смысла и сущности всех великих объективации
культуры вообще.
Для него важно второе, совершенно противоположное, а именно
«движение на поверхности», которое это «ядро» создает в своей борьбе с
внешним жизненным материалом. В этом движении на поверхности со-
циолог должен констатировать типическое и повторяющееся, следование
эманации друг за другом, распад сторон и форм выражений, типичную
периодичность, характер и форму стадий, следовательно, «ритм движе-
ния культуры»; причем, конечно, по возможности во всех допускающих
анализ телах истории и культуры. В своем анализе он должен всегда за-
даваться вопросом, в какой степени констатируемая типика связана с
развитием материального и интеллектуально-цивилизационного слоев,
окружающих душевное «ядро», с общественным процессом и процессом
цивилизации, т. е. следует из ситуаций, из характера жизненного синте-
за, в который они вводят душевное ядро. Социолог должен индуктивно
представить здесь, руководствуясь данной нами динамикой различных
сфер, общую формальную типику движения культуры в качестве социо-
логически объясненного поверхностного движения в развитии культуры.
Затем он может попытаться, в-третьих, проникнуть глубже и задать
вопрос о подлинной судьбе «душевного ядра» в этом движении. Он мо-
жет проследить душевное ядро различных исторических тел в его разви-
тии внутри общественного процесса и процесса цивилизации. Может
рассмотреть содержательные «повороты», в которых оно «борется» со
своей «судьбой», предопределенной ему в общественном процессе и про-
цессе цивилизации. Социолог может, пожалуй, пролить свет на то, как
в этой борьбе и этих «поворотах» появляются великие люди, возникают
неликие «эпохи», течения культуры и течения, идущие в противополож-
ном направлении, становятся отчетливыми великие вещныелинии исто-
рии культуры. Быть может! Социологу следует по крайней мере сделать
такую попытку. Этим он наполнит формальную социологическую повер-
хностную типику движения культуры социологически объясненным вещ-
ным содержанием и одновременно проложит мост к толкованию содержа-
ния и понимающему схватыванию сущности великих объективации куль-
туры и тех явлений, толковать которые в их глубочайшем смысле не есть,
как было сказано, его задача. Однако он может таким образом по-свое-
му создать для их понимающего схватывания среду, создать социологи-
ческую решетку и чаши, в которых будут лежать золотые шары истории
культуры; в них они могут быть лучше увидены и. быть может, в своей
сущности легче поняты, чем посредством «вчувствования» в них «в пус-
том пространстве». Этим он уже почти выйдет за пределы чисто социо-
39
логического исследования. Однако, если он достигнет этого, он, в свою
очередь, поможет нам найти то, к чему мы главным образом стремимся
в познающем понимании культур: их душевное возрождение в нас.
К этой задаче автор попытается подойти в дальнейших работах с по-
мощью тех ограниченных средств, которыми он располагает, не будучи
честолюбиво уверен в том, что ему удастся дать в каком-либо решающем
пункте окончательный результат.
Примечания
1 Как, например, Шпенглер в своей книге «Закат Европы».
■ Труды Второго конгресса социологов, октябрь 1912.
■' Следует заметить, что это понятие не введено Шпенглером, а высказанно или
невысказанно лежит в основе всей новейшей историографии. Так же, как «мо-
лодость» и «старение» тел уже с давних пор являются само собой разумеющейся
составной частью этого воззрения.
4 Несмотря на блестящие работы прежде всего Якоба Буркхардта и некоторых
других.
5 Более широкие исследования, такие, например, как работы Макса Вебера и
Трёльча в области истории религии и в известной степени «спонтанные» подхо-
ды, обнаруживаемые в множестве новых исследований различных областей куль-
туры, не остаются здесь вне внимания.
6 Ясно, что здесь речь идет об основных вопросах материалистического понима-
ния истории. Однако постановка вызывающих там «интерес» вопросов не ведет
к объяснению решающих категорий этого воззрения.
7 Сколь ни много точек соприкосновения в сказанном здесь с рассуждениями
Макса Вебера в его статьях по социологии религии, его точка зрения все-таки
иная; показать здесь отличие ее от нашей, к сожалению, невозможно.
* Это сказано без того, чтобы мнения Бергсона этиологически или гносеологически
принимались или отвергались в рамках их философской постановки вопроса.
4 Протест Гегеля против переоценки рассудка ничего не меняет в его фактичес-
кой связи с этой установкой вследствие его понятия о господствующем над всем
разуме.
Перевод с немецкого языка выполнен М.И. Левиной по изданию: Weber Л.
Prinzipielles zur Kultiirsoziologie. (Gesellschaftsprozess. Zivilisationsprozess imd
Kultiirbewegung)//Archiv fur Sozialwissenschaft imd Sozialpolitik. Tubingen, 1920. Bd.
47, Heft I. S. 1-49.
На русский язык переводится впервые.
Идеи к проблемам социологам
государства и культуры
Предисловие
Этот том задуман как мерный в серии грудой по социологии госу-
дарства и культуры. Эти труды никоим образом не обязаны пе-
дантично соответствовать характеру и содержанию социологи-
ческого анализа, который, отдельно от других, в общих чертах
намечен во введении. Там показан только один из возможных
способов рассмотрения, который я применяю в иных работах и также в
некоторой степени представляю и здесь.
Несомненно, он исходит из некоторых общих предпосылок. Эти
предпосылки надлежит отчасти отобразить в двух помещенных здесь в
качестве приложений сочинениях, касающихся принципиальных вопро-
сов; первое из них, созданное в период становления концепции такого
анализа, служит, по-видимому, наилучшим введением — при том, что
ныне я уже не придерживаюсь каждой из возникших тогда формулиро-
вок. Дать более подробное введение в мою собственную работу позволяет
сложившийся на ее основе способ рассмотрения, изложенный в не опуб-
ликованном здесь сочинении «Prinzipielles zur Kultursoziologie» (Archiv fur
Sozialwissenschaften unci Sozialpolitik. Bel. 47)'; этот способ впервые был
практически использован в работе, посвященной Древнему Египту и
Вавилону (Ibidem. Bd.55).
Этот способ рассмотрения имеет также этическую основу. Мне реко-
мендовали яснее показать ее сущность, применив это понятие к ряду,
скажем так, повседневных проблем и событий. В результате я счел необ-
ходимым опять издать разрозненные небольшие сочинения, напечатан-
ные ниже под заглавием «Ideensplitter»**. Они подобны стрелам, выпу-
щенным в разных направлениях из единого центра. Конечно, по впол-
не определенному поводу. Ни объекта, ни повода для изучения сегодня
уже больше нет, либо они существуют в другой форме. Цель исследова-
ния нередко оказывается утратившей свою злободневность, но если за-
" Принципиальные замечания к социологии культуры // Архип социальных наук
и социальной политики. Т.47. См. настоящее издание. С. 7-40.
" Осколки идей (нем.).
41
метить направления, откуда прилетели стрелы, можно будет, вероятно,
ощутить и снова вызвать к жизни то, что, собственно говоря, и стало по-
будительной причиной для лучника — здесь и в его научных трудах. Воз-
можно, в создании определенного представления об этом заключен не-
который смысл.
Июль 1V27г.
Введение
Задачи и метод
Жизнь означает движение, течение, преобразование. Это верно как с
точки зрения индивидуального существования, так и, в не меньшей
мере, в истории. Правда, стремительное, драматическое пресечение став-
шего столь значимым бытия в сфере распространения древней греческой
культуры не имеет себе подобных. То же касается непрерывно развива-
ющегося на протяжении более чем тысячи лет западноевропейского ди-
намизма, который, со своими перипетиями, периодами Возрождения и
Реформации, сначала, по-видимому, создает у тех, кто влеком его пото-
ком, ощущение и логический образ всеобъемлющего, непрерывного,
замкнутого на самого себя процесса человеческого развития, определив-
шего своеобразие современной исторической науки и философии исто-
рии. Тот, кто всмотрится в медленнее струящиеся воды древней Пере-
дней Азии и Египта, индийского и китайского Востока или даже в кажу-
щуюся неподвижность так называемых «первобытных народов», воспри-
мет такую историю Западной Европы как некий водопад. Тем не менее,
все эти прочие живые образования ведают свой неумолимый, постоян-
но продолжающийся, изменчивый ход событий, имеют собственную ис-
торию. Даже применительно к природе узость подхода состоит в том,
чтобы рассматривать только выделенные нами особо, повторяемые дей-
ствия, необходимые для се интеллектуально-технического освоения, —
действия, которые мы сообразуем с нашей хорошо слаженной системой
«законов природы», — в то время как здесь тоже налицо грандиозный,
но, на взгляд человека, крайне медленно движущийся, совершенно не-
повторимый поток событий, который, однако, в целом не доступен тому
непосредственному, интуитивному, внутреннему постижению, к какому
мы прибегаем в отношении человеческой, т.е. нашей собственной учас-
ти. Но и в человеческой участи, каковую мы, именуя ее «историей»,
ныне столь гордо отделяем от «природы», нужно, если мы стремимся
хоть в чем-то разобраться, исходить именно из того, к чему мы причас-
тны, т.е., говоря беспристрастно, из непрерывного изменения. Так над-
лежит поступать всегда, идет ли речь о «первобытных народах», «истори-
ческих народах» в более узком смысле слова, а здесь — о таких, которые
на первый взгляд тысячелетиями пребывают в состоянии стагнации,
либо таких, что находятся в быстром движении. В вечном чередовании
рождения и смерти, земных катастроф, смешении климатических по-
ясов, увеличении и уменьшении численности населения, миграциях и
борьбе за лучшие места, в господстве и подчинении, — затем, на более
42
высоком уровне, в процессе нарастающего овладения природой, духов-
ного самоосвобождения из созданных ею пугающих и стесняющих огра-
ничений, а далее — в начинающейся повсюду борьбе человеческой души
за обретение выражающего ее, объемлющего ее собою и несущего ей из-
бавление мира символов и форм в окружающей ее, движущейся попере-
менно то медленнее, то быстрее, приумножающейся совокупности фак-
тов бытия; в том, что перед лицом этого непрерывного движения следу-
ет поставить на передний план ради достижения понимания и разъясня-
ющего осмысления — в этом заключено нечто гораздо большее, нежели
узор инкрустации1, закрепление очертаний и принимающее вид измене-
ния застывание жизненной формы в этих очертаниях. — каким бы нео-
быкновенным, подобным чуду, ни казался первый шаг собственно исто-
рического всеобщего движения.
Как бы то ни было, предложенное нами отождествление сущего с ис-
торией и последовательностью совершающихся событий — вовсе не
предрассудок, обусловленный свойственной западноевропейцу жаждой
деятельности, а естественно вытекает из природы вещей; подумаем о
том, что Платон не случайно называет движимое-из-себя-самое душой и
что жизненная субстанция, в которой воплощена душа — и «совокупная
душа» народов, и, не в меньшей мере, душа каждого отдельного челове-
ка, как говорилось выше, претерпевает непрерывные изменения.
1
Если, руководствуясь этим основополагающим способом восприятия,
действительно исходить теперь при рассмотрении истории как совокуп-
ной участи людей из принципа движения и попытаться понять его как
единство и в то же время многообразие созидаемых форм, всякий, кто
беспристрастно всмотрится в непрерывное течение и становление очер-
таний, сразу обратит внимание на три различные формы движения, про-
никающие их своим влиянием, обретающие в них сами себя и в своем
взаимодействии творящие их общий облик. Это три различные формы
движения, соответствующие трем неодинаковым по характеру областям
науки, которые в их переплетении и взаимопроникновении, в их возник-
шей тем самым общности создают, конечно, неизменно единую, лишь
мысленно расчленяемую всеобъемлющую целостность существования.
Вследствие выделения этих трех областей и уяснения неодинаковых тен-
денций их развития выявляется онтологическая суть вопроса. В целом
ряде работ2 я уже осветил ее, т.е. показал существование этих трех обла-
стей и их глубинное воздействие друг на друга, а ныне только повторяю,
придерживаясь избранного мною здесь подхода, согласно которому
предмет исследования надлежит рассматривать с точки зрения движения
и становления форм в процессе движения: то, что называют «историей»
в собственном, наиболее узком смысле слова — многообразие судеб,
уникальность выдающейся личности или отдельно взятого великого тво-
рения, — предстает как вздымающиеся над потоком пенные гребни
волн; три обстоятельства служат факторами, вызывающими его прили-
вы, намывание излучин, нарастание и падение волн и его поступатель-
43
ное движение: изменение материально выраженного целостного облика
человеческого бытия в его различных исторических областях, процесс
его социального развития, облекающий в единые формы изначальные,
природные движущие силы внутренних побуждений и воли; его «про-
цесс цивилизации», опирающийся на просвещение разума, интеллекту-
ально-технический прогресс и его последствия; и его «культурное движе-
ние», стремящееся наполнить возникшую в результате этих двух процес-
сов субстанцию жизни энергией души и духа, при этом одновременно
всегда преобразующее вкрапленные в культуру наподобие инкрустации
элементы заимствований. Они формируют всеобщее движение совер-
шенно разными способами: процесс цивилизации как универсальное,
побуждающее все человечество идти вперед, усиливающееся, прямоли-
нейное прогрессивное (использую это слово без какого-либо ценностно-
го оттенка) движение, определяющее прогрессивное развитие человечес-
кого сообщества; социальный процесс, самобытный в каждой из обшир-
ных исторических сфер земного шара, а нередко также в не столь боль-
ших исторических областях, но в любой из них тем не менее обнаружи-
вающий тенденцию к тому, чтобы стать по характеру эволюционным,
т.е. претерпевающим нарастание и спад; и, напротив, вызванное к жиз-
ни свойственным душе и духу стремлением к созиданию форм культур-
ное движение, кажущееся в иных ситуациях действующим подобно
взрыву, производящее на первый взгляд впечатление беспорядочного
нагромождения и разрушения, — и при этом оно, несмотря на всесто-
роннее соприкосновение культурных регионов, целиком и полностью
соответствует сущности и своеобразию исторических областей.
Эта чрезвычайно многообразная и сложная динамика, чей общий харак-
тер я в другой своей работе3 попытался подвергнуть анализу в несколько
более определенной и подробной форме, динамика, для описания которой
мне ради краткости и наглядности необходим здесь образ движущихся волн,
являет собой, как я говорил, основание и вместе с тем объемлющее собой
массы людей образование, на каком зиждятся все исторические судьбы, не-
повторимые достижения, великие личности, откуда они рождаются и где
исчезают. Всякому историческому исследованию следует учитывать такую
динамику, ее упорядоченный характер, ее тенденции и направления, оно
должно принимать во внимание качество жизни масс, присущие ей общие
и частные закономерности, чтобы затем правильно осмыслить то индиви-
дуальное и уникальное, то великое, что и составляет его предмет. В против-
ном случае оно едва ли сумеет представить картину бытия, которую имен-
но ему надлежит создать, какой-то иной, нежели в значительной мере
субъективной и в то же время лишенной глубинного смысла, в некотором
смысле не имеющей перспективы; и, наконец, ей будет заметно недоставать
обоснованности. Снова имеется в виду сущностное, т.е. предметное содер-
жание. Есть две предметные сферы, зависимые друг от друга и производя-
щие одна на другую свое действие: совокупное движение и немаловажные
с точки зрения процесса в целом, представляющие интерес для историчес-
кой науки единичные события, уникальные явления и деяния: при этом
образ «плавании в волнах», использованный применительно к совокупно-
му движению, конечно, только картина, а вовсе не достоверные данные о
реальном динамичном, выражающем собой обоюдное воздействие, спосо-
44
бе поведения — о нем я предварительно еще скажу ниже несколько слов.
Как бы то ни было, речь идет не просто, как непрестанно подчеркивает со-
временная методология, о двух разных способах рассмотрения, отделяющих
одно от другого и затем связующих между собой великие события, — соб-
ственно предмет исторической науки, — и проникнутую упорядоченностью
сферу совокупного движения, в какую заключена история, — способах,
один из которых направлен на индивидуальное, а другой — на закономер-
ное и всеобщее. Нет — между ними существует совершенно реальная, ося-
заемая, предметная взаимосвязь. Ведь история выдающихся свершений по-
мещена в контекст такой упорядоченности. И это при том, что всеобщность
и свойственный ей облик, а именно тот упомянутый результат совокупно-
го движения волн, из какого вырастают конкретное великое событие, нео-
рдинарный исторический факт и выдающаяся личность, вырастают для
того, чтобы оказать на него обратное воздействие, — при том, что облик та-
кой всеобщности и само ее движение всегда, и об этом здесь необходимо
сразу с определенностю сказать заранее, во всякую великую эпоху истории
уникальны, а значит — индивидуальны.
Как раз этот, имеющий в каждой исторической сфере свои особеннос-
ти, облик всеобщего течения событий, эту совокупность происходящего
надлежит осмыслить и объяснить тому, кто, с одной стороны, стремится
преодолеть рамки относительно бессодержательных — вследствие их огра-
ниченности — правил выявления общих закономерностей исторического
процесса — правил, не предоставляющих ничего существенно важного ни
профессиональному историку, ни любителю, вопрошающему историю о его
собственной грядущей участи. И, с другой стороны, тому, кто, внимая та-
кому «непосвященному», не довольствуется курьезными и поверхностными
ответами, являющими собой лишь приблизительные аналогии либо не свя-
занные с жизнью романтизированные построения, поскольку они не про-
истекают из осознания всеобщего движения, из углубленного изучения его
универсальных основ. Эти ответы должны были бы возникнуть из такого
толкования и понимания, которое, изначально касаясь всеобщих процессов,
поднимается до постижения облика совершенно конкретного историческо-
го развития в различных культурных сферах и у различных народов и совер-
шенно конкретного, неповторимого стечения обстоятельств в каждый миг
истории. Вопрос о нашей собственной участи приводит нас к истории. Од-
нако историку, занимающемуся исключительно областью индивидуально-
го, не под силу одному ответить на такой вопрос. Для этого ему необходи-
ма помощь другого исследователя, социолога, а именно помощь того свой-
ства, о какой говорилось выше — если только он сам не является одновре-
менно таким социологом.
2
Первое и основное, что необходимо социологу или социологии, если она
стремится так, как указано выше, ответить на насущные вопросы, с ка-
кими каждый обращается к истории — всякий более или менее глубокий
интерес к истории насущно важен, в противном случае он обращается в
ничто, — заключается в том, что составляет мою исходную посылку: в
45
представлении о жизни как вечном течении, движении, и в неизменном
следовании этому принципу восприятия. В результате того, чтО академи-
ческая социология новейшего времени также и в Германии ~ можно
сказать, пожалуй, в первую очередь в Германии — слишком упустила из
виду этот принцип восприятия, немало ее представителей оказались да-
лекими от жизни; они в значительной степени предались систематиза-
ции и каталогизации, достойным, вероятно, высокой оценки, но не спо-
собным принести полного удовлетворения никому, занялись выявлени-
ем всевозможных форм и взаимосвязей, не имеющих для жизни явного
значения; отказавшись, однако, от попытки всестороннего осмысления
и анализа потока бытия в целом, они оказались не в состоянии дать от-
веты на поставленные жизнью вопросы.
Но сегодня мы спрашиваем: какое место мы занимаем в потоке исто-
рии? Мы ощущаем его водовороты, в которых разрушается прежнее су-
ществование, угадываем окружающие нас подводные камни; нам чудит-
ся, будто мы видим неизведанные места, куда он, возможно, стремится
нас занести; кажется, что мы слышим словно из-под земли звуки, про-
изводимые его глубинными силами, чувствуем его на первый взгляд не-
управляемое, не подвластное никакому влиянию движение, влекущее
нас за собой. Мы намерены попытаться хотя бы отчасти уяснить: каким
элементам движения мы окажемся подчинены, можно сказать, неизбеж-
но в процессе дальнейшего развития? Какие из них нам под силу изме-
нить, где нам удастся какое-то вмешательство и какое примерно направ-
ление мы сумеем избрать? Нам сопутствует предопределенная истори-
ческой эпохой своеобразная удача: мы можем с помощью обретенных
наукой почти безграничных средств подняться в духовном отношении,
как на крыльях, над этим потоком истории, наблюдать его от самых его
истоков и во всех его проявлениях, осознать, какие силы в нем действу-
ют, от каких условий он всякий раз зависел, продолжает зависеть и ка-
ким образом он на них реагирует. У нас есть возможность ориентиро-
ваться, а это первое и самое решающее условие деятельности в столь
сложной, опасной и непостижимой ситуации, как та, в которой мы себя
ощущаем. В прежние, ясные времена и при прежних отношениях мож-
но было поступать инстинктивно. Вероятно, великой личности это еще
удалось бы и при настоящих условиях. Но мы, прочие, испытываем по-
требность в таком ориентировании, чтобы действовать в общекультур-
ной, политической и, возможно, даже совершенно приватной сфере.
Таким образом, социология истории с необходимостью продолжа-
ет, даже, может быть, в некоторой степени заменяет философию ис-
тории, проистекающую из той же психологической ситуации. С точ-
ки зрения научной систематизации то, как мы классифицируем и обо-
значим объект ее устремлений и действий, не имеет решающего зна-
чения. Какое бы место мы ей ни отвели, это ничего не изменит в ее
содержании. Либо это содержание неглубоко и сама она, с ее научны-
ми помыслами, может быть, неосуществима; в таком случае сама она,
куда бы ее ни поместить, — не более чем пустая болтовня. Либо ее
научная деятельность насыщена жизненно важными вопросами и спо-
собна дать ответ хотя бы на некоторые из них. Тогда так и будет, даже
если те, кто руководствуется какими-нибудь научно систематизиро-
46
манными азбучными истинами, предадут ее анафеме. Во всяком слу-
чае, ее задача должна быть в том, чтобы своими скромными силами
способствовать решению самых насущных вопросов жизни. Суще-
ствует наука как чистая радость познания, Эесорш в последнем и самом
высоком смысле слова, в случае, если имеется в виду великое духов-
ное деяние и созерцание, и позитивистская констатация единичного
применительно к мельчайшим и мелким фактам. Здесь же речь долж-
на идти о вопросах существования, т.е. об экзистенциальной науке, об
исследовании и постижении, которые сознательно становятся на
службу тому, в чем испытывает недостаток духовная жизнь, и в запу-
танном и непрозрачном окружающем мире пытаются помочь ориен-
тироваться в самых обыденных «насущных вопросах», имеющих, од-
нако, несколько более глубокий характер.
В настоящее время с этой точки зрения кажется несколько наи-
вной манера, в какой ныне спорят о том, что представляет собой со-
циология, какой она должна быть, чем она не является, существует ли
она вообще, и те усилия, в результате которых целые тома наполнены
ее определениями, классификациями и систематизациями; и все это
— вместо деятельного материального исследования существенных
проблем безотносительно к тому, в какой из ящиков письменного сто-
ла в научном кабинете угодят его результаты. «Расти художников, не
говори впустую!» — так хочется сказать многочисленным авторам, ко-
торые сейчас безостановочно пишут о социологии вместо того, чтобы
двигать ее вперед и тем самым, — безразлично, является ли это чем-
то новым по сравнению с ныне существующим научным аппаратом и
в его рамках либо представляет собой дополненную иной постановкой
вопроса разработку уже известного, — содействовать разрешению это-
го нового вопроса.
Соответственно это не более чем благое пожелание, действительно,
такой случай, который можно обсудить в «шестую или седьмую очередь»,
научная проблема, рассматриваемая в определенной степени «по ходу
дела», когда я рекомендую именовать то научное действие, чьи истоки и
задачи были намечены здесь в общих чертах, социологией истории или
социологией культуры, — сознавая при этом, что оно включает в себя
вопросы, поставленные прежней философии истории, только пытается
решить их несколько иными, заимствованными, скорее, из позитивис-
тской методологии, средствами, и в силу этого — коль скоро этому нет
пока более подходящего названия — делается в некотором роде социо-
логией; именно постольку, поскольку в нем присутствует стремление
уяснить жизненные взаимосвязи, общности в рамках целостности, и их
всеобщий результат.
3
В рамки социологии, как ее себе представляют, — говорю так, ничего
особенно не акцентируя, лишь для того, чтобы попытаться отыскать точ-
ки соприкосновения с привычной терминологией и использовать ее как
ориентир, — это научное деяние можно было бы поместить приблизи-
47
тельно следующим образом: то, что сейчас a potiori* называют социоло-
гией, — т.е. анализ форм сосуществования в обществе (вероятно, его луч-
ше бы именовать обществознанисм), — стадо бы одной из частных дисцип-
лин. Такой дисциплиной, которая одна рассматривает универсально-исто-
рический процесс приращения жизни, выше особо обозначенным как со-
циальный процесс; которая при известных условиях представляет свое уче-
ние о формах, поскольку это кажется целесообразным и полезным, как от-
дельную область исследований, и проявляет свои самобытные, имманент-
ные ей тенденции развития под преобладающим влиянием определенного,
повинующегося внутреннему импульсу, или психически-идеального, взаи-
модействия сил — т.е. была бы дисциплиной, дающей знание этой частно!!
разновидности динамики жизненного целого. В таком случае сюда относят-
ся нынешняя политическая экономия, учение о стадиях экономического и
социального развития, учение о политике в той мере, в какой оно является
чистой наукой о власти и способах организации; значительный раздел со-
циальной психологии, а именно анализ всего того, что недавно так удачно
назвали сферой действия «реальных факторов» исторического процесса
(Шелер). При том, что — и это крайне важно — по нашему убеждению и
замыслу анализ этих реальных факторов, анализ социального процесса как
такового вообще не должен когда-либо стать до конца обособленной обла-
стью исследований. Ему надлежит всегда перетекать — а применительно к
некоторым периодам истории было бы лучше, если бы он постоянно был
туда погружен, — в одновременно созидаемую воображением ткань универ-
сально-исторического процесса в его целостности и общности его внешних
воздействий и внутренней сущности.
То, к чему мы здесь стремимся и что предлагаем именовать социологи-
ей, касается этой целостности, совокупности исторического бытия. Данное
учение анализирует эту целостность с помощью универсальных категорий,
предварительно разделяя ее на эти категории, но всегда при этом сознавая,
что социальный процесс, процесс цивилизации и развитие культуры, если
даже онтически, т.е. с точки зрения бытия, они означают разные сферы си-
ловых воздействий и формы их движения, в жизни все-таки представляют
собой нераздельное единство и порой отграничиваются друг от друга толь-
ко мысленно, с целью лучшего их понимания. Их обособление призвано
дать возможность осмыслить то, что мы называем сочетанием историко-со-
циологических условий, т.е. положение, которое всякий раз возникает на
основе особого рода взаимодействия сил этих трех сфер. Тем самым пред-
принимается попытка, преодолевая рамки традиционного обществознания,
— кратко подытожим это еще раз во избежание всяческих недоразумений,
— так анализировать универсальный ход истории с точки зрения обозначен-
ных выше сочетаний социологических условий, чтобы уяснить не только
разрозненные, обособленные или подлежащие обособлению вследствие из-
бранного способа изучения тенденции развития, не только те или иные
типы форм, их повторение и последовательность в истории — а это состав-
ляет существенную, доныне считавшуюся общепризнанной для социологии
сферу приложения сил, — но и его общий облик в определенные периоды
и в разных исторических областях, включение в это изображение отдельных
Предпочтительным образом (.iam.).
48
великих феноменов, а вероятно, и характер ситуации в целом и порожден-
ных ею обстоятельств деятельности, которые создаются для нас в результа-
те соединения всех многообразных исторических течений в современной,
непосредственно окружающей нас реальности.
4
Пусть это обозначают как угодно; более важным, чем этот вопрос о на-
звании, а в научном смысле до некоторой степени решающим — с точ-
ки зрения обоснования права на такое смелое начинание — является тре-
бование ясно определить его методологическую основу, чтобы уметь вер-
но употребить необходимые для этого научные средства; ведь правиль-
но использовать свой инструментарий можно лишь тогда, когда его зна-
ешь. И только в случае, когда при этом совершенно отчетливо представ-
ляешь себе замысел, который стремишься реализовать, ты застрахован от
опасности сбиться с пути и от чрезмерной требовательности в отноше-
нии того, что надлежит свершить.
Еще несколько слов по поводу замысла: не следует думать, что с по-
мощью исследований, предоставляющих ориентиры в современной жиз-
ни, можно предпринимать попытки составлять «прогнозы» развития
культуры или в форме, которая ныне чрезвычайно и, пожалуй, чересчур
популярна, предлагать искусственно сконструированный общий обзор
всей истории от Лдама до Ленина и Муссолини; обзор, завершающийся
чем-то вроде присказки, звучащей в данном случае злорадно-пессимис-
тически: ты, грядущая история, «это только ты — не что иное»1*; т.е. за-
канчивающийся историческим предсказанием на манер оракула, разра-
ботанным на основе неких объемлющих весь мир гомологии или анало-
гий^. Тогда как всемирная история в целом, несомненно, не имеет ниче-
го общего ни с гомологией, ни с аналогией, и по своему сущностному
содержанию не может быть из них составлена, равно как и осмыслена
исходя из них одних. В каждую из ее эпох она неповторима и оригиналь-
на, и то, что в будущем окажется произведено творческой силой человека
совокупно с неисчерпаемо творческой природой, — тайна. Только занос-
чивое высокомерие и одновременно некое бессилие и опустошенность
побуждают снова и снова тянуть за край завесы, отделяющей нас от бу-
дущего, того, кто хочет на вопрос об общих чертах грядущего бытия по-
лучить исчерпывающий ответ или даже с помощью собственной диагно-
стики дать такой ответ самому: наше намерение состоит, скорее, в том,
чтобы посредством обзора уже свершившихся событий помогать ориен-
тироваться в современной действительности. Но необходимо добавить:
речь идет отнюдь не об общем обзоре, притязающем на исчерпывающий
характер. Пусть такого рода общий обзор предоставляет исходящая из
некоего априорного содержания философия истории, претендующая на
универсальное историческое знание, которое достаточно лишь подтвер-
дить эмпирическими примерами. Социологу как скромному эмпирику,
работающему опираясь на факты, известно, что при необозримом мно-
жестве материала он не в состоянии совершить ничего подобного, что
и в иду многообразия и пестроты исторического бытия ему и нельзя это-
49
го делать, если он не хочет подвергнуть себя опасности создать наспех
набросанные, только наполовину соответствующие истине либо чересчур
отвлеченно сконструированные и потому, в конечном счете, мало знача-
щие в практическом отношении абстракции, — вместо живого созерца-
ния, вместо зеркала, являющего ясные очертания всего хода событий и
его динамику. Конечно, должна существовать направленность на общий
обзор, но осуществить данный замысел следует на основе как можно бо-
лее близких к действительности, как можно более конкретных, подводя-
щих итог исследованиям, изображений отдельных элементов и этапов
всего процесса в целом. При этом, как бы то ни было, придется достаточ-
но часто работать с данными, полученными «из вторых рук», т.е. в научном
отношении уязвимыми. В каждом подлинно живом изображении элемен-
та или части единого потока можно отчетливее распознать его природу и
способ движения, общий характер исторической ситуации, т.е. увидеть, как
создается облик того или иного периода времени, формируются сами эти
периоды и их превращения, в том числе нынешняя эпоха; таким образом,
как нам представляется, удастся подойти к уяснению ее сути ближе, неже-
ли с помощью неизбежно поверхностного «полета над множеством явле-
ний». Задача состоит в том, чтобы и в чужом изображении узнать самого
себя, но также в том, чтобы закрепить родство и несхожесть, каждое из по-
добных изображений, каждую историческую ситуацию в выявленной общей
динамике, сообщить ей перспективу, предоставить обоснование и глубин-
ное членение, которые она позволяет вывести из потока истории, воспри-
нятого сначала в его целостности посредством воображения, затем мыслен-
но разделенного на уже неоднократно упоминавшиеся категории, а потом
вновь сведенного воедино, исходя теперь из более ясных представлений.
Данный подход можно применить к политике; так надлежит изучать собы-
тия, происходящие в сфере культуры, те или иные периоды времени, эпо-
хи, течения, отдельные личности, проблемы; на этой основе нужно строить
свою позицию по отношению к представляющимся существенными вопро-
сам современности.
Тем самым метод задан. Как однажды было сказано, все мы сегодня —
феноменологи и универсалисты. Конечно, в крайне упрощенном и ненауч-
ном смысле слова так оно и есть, а именно постольку, поскольку вопросы,
которые воспринимаются ныне как насущные, неизменно касаются жизни
в целом, всегда предполагая наличие некоей концепции этой целостности
как основополагающей реальности, настоятельно требующей уяснения,
контроля и проверки с помощью науки. В результате нас в то же время го-
раздо меньше, чем ранее, интересует обнаружение частных взаимосвязей,
анализ отдельных явлений, — собственно говоря, лишь в той мере, в какой
они способствуют постижению общего и относительно быстро опять сво-
дятся к усовершенствованным представлениям о целом. Таким образом, мы
трактуем разграничение в строго определенном смысле — только как вре-
менную меру, используемую в процессе мышления, как первую ступень к
решению нашей непосредственной задачи, понимаемой целиком в соответ-
ствии с тенденцией к синтезу. Но раз именно в исследованиях по социоло-
гии истории и культуры, каким бы узкоспециальным проблемам они ни
были посвящены, нужно постоянно руководствоваться интуицией, направ-
ленной на постижение целого, и заранее заданными представлениями об
50
общем характере и сущности эпохи, исторического этапа жизни, — идет ли
речь при этом, скажем совершенно наугад, об английском романтизме,
французских физиократах, феномене Бальзака и его времени, о политичес-
ких направлениях в современной Франции или о чем бы то ни было еще,
— то ни размытые и произвольные дедуктивные умозаключения, выведен-
ные из такого рода «показа явлений», ни работа, предпринятая по аналогии
с более строгим методом феноменологического «созерцания сущности», не
являются, как я полагаю, социологическими, т.е. плодотворными с точки
зрения наших замыслов. Не говоря уже о полных заблуждений теориях, в
безнадежной путанице непрерывно смешивающих некие рассматриваемые
якобы с точки зрения универсального подхода социологические сущност-
ные понятия с продиктованными сердцем житейскими постулатами и тем
самым преграждающих путь любому разумному анализу, любой хоть сколь-
ко-нибудь объективной всесторонней исторической интерпретации. Более
того: всеобъемлющее изображение материала, относящегося к сфере исто-
рического бытия эпохи, его разделение и соединение по группам, происхо-
дящее в соответствии с основными намеченными мною категориями или
же в связи с ними, освещение тем самым феноменов, которые надлежит
понять, их толкование, исходя из подвергнутого такому аналитическому
рассмотрению стечения всех обстоятельств, и далее — их включение в усо-
вершенствованную, исправленную посредством частного анализа целост-
ную картину — такова, думаю, в общем окажется последовательность эта-
пов деятельности, которая в каждой отдельной работе и в их совокупном
звучании способна привести к формированию углубленного и расширенно-
го представления о ходе истории в целом и его динамике.
Очевидно, этот метод базируется на интуиции и синтезе. Но одновре-
менно он осознанно аналитический. Впрочем, он столь же сознательно
не имеет ничего общего с попыткой какого бы то ни было исчерпываю-
щего исторического объяснения, основанного на причинно-следствен-
ных связях, пусть даже это объяснение заключено только в индивидуа-
лизирующем композиционном построении всей совокупности фактов и
отдельных причин или осознанно либо неосознанно прослеживаемых
обособленно друг от друга одиночных каузальных рядах более общего
свойства и анализе их значения. Здесь абсолютно несущественно, как
каждый из нас вообще относится к проблеме каузальности и к способу
обоснования посредством причинно-следственных связей, из которых
последний в настоящее время подвергается жесткой критике в том, что
касается его статуса и роли в изучении неживого Космоса, — а прежде
это была главная область его применения, — при том, что в постижимом,
живом, а это означает также историческом мире, он, по-видимому, все-
гда останется методологическим средством интерпретации. Ибо действу-
ющие в этом мире познаваемые целевые установки, аффекты, инстинк-
тивные побуждения, желания, если рассматривать их именно в качестве
«причин» происходящего, представляют собой наилучший способ его
постижения. Но невзирая на то, что это так и есть, здесь, в этих опытах
исследования социологии истории и культуры, мы нигде не предприни-
маем попытки разделить на составляющие этот, как его назвал Трёльч,
каузально-генетический движущий механизм исторического процесса,
это неимоверно запутанное плетение, проследить его отдельные нити и
51
на такой основе заново воссоздать целостную картину. Этот метод, при-
менение которого в определенных границах, несомненно, оправдано
там, где речь идет об уяснении относительно простых, например, эконо-
мических фактов; который худо-бедно, в сильно сокращенном и огруб-
ленном виде и в значительной мере произвольно, должен как-нибудь
использовать также историк, для того чтобы ориентироваться самому, и,
может быть, для создания изображения (с употреблением обозначенно-
го так Максом Вебером «каузального помологического повседневного
знания») в процессе исследования исторических единичных процессов и
отдельных судеб, — этот метод проявил бы свою полную несостоятель-
ность, если бы с его помощью довелось так, как здесь, объясняя, вплот-
ную приблизиться к универсальному ходу истории, изучать целостные
исторические комплексы, их облик, излучаемую ими энергию, возмож-
ности и типологические черты происходящего в них жизненного процес-
са. Здесь непосредственное, интуитивное постижение может быть допол-
нено, скорректировано, расширено и углублено только с помощью ана-
лиза, сосредоточенного на значительных совокупностях фактов, которые
к тому же сами имеют в высшей степени комплексный характер, и их
взаимодействии, на сложных по структуре феноменах, которые по их
сущности, своеобразию, особенностям их содержания и формы движе-
ния, тем не менее, непосредственно проявляют себя как элемент исто-
рического процесса в целом. Было бы излишним разлагать на отдельные
акты процесс цивилизации, коль скоро он однажды был осмыслен как
константа, т.е. постоянная составляющая исторического развития, и от-
крыт как феномен. Речь идет только о том, чтобы осмыслить его в его
сути, его необратимости, тенденции к концентрации того, что он в себе
заключает, экспансионистской направленности его влияния; чтобы с той
или иной исторической точки зрения уяснить непосредственно опреде-
ляемые его сущностью общие условия его развития как целостности либо
в какой -нибудь отдельной области и содержание этапа, какого он дос-
тиг и откуда продолжает движение, — тем самым оказывается установ-
лен один из компонентов анализа. Сходным образом рассматривают и
прочие компоненты, хотя и с некоторыми вариациями. Исследуют соци-
альную структуру той или иной сферы истории, эпохи, народа; способ,
каким имманентные потоку жизни природные силы инстинктивных по-
буждений и воли облекаются в единообразные формы; снова задают воп-
рос об условиях, позволяющих это уяснить, о тенденциях движения, пре-
образования и т.д. При этом на каждом шагу сталкиваешься с воздей-
ствиями технического аспекта процесса цивилизации, который предос-
тавляет в наше распоряжение внешние средства формирования, но, с
другой стороны, также и с формотворящими принципами, заданными
душой и духом, т.е. с воздействием сферы культуры. Глубинная связь
всех трех сфер проявляет себя каждое мгновение, что не препятствует их
раздельному изучению. В конечном счете, сферу культуры — и это обна-
руживается тотчас несмотря на все разграничения — вообще удается по-
нять лишь как стремление души и духа к самовыражению и созиданию
на основе материала, предоставленного прочими двумя сферами, совер-
шаемому в форме приумножения бытия, которую — дабы образовать ка-
кое-нибудь «техническое» понятие — можно обозначить как «концент-
52
рация жизни». Данное понятие подразумевает в таком случае не только
окружающий физический мир, определяемый формой общества и техни-
цизмом, но и по крайней мере столь же важную область наполняющих
бытие объектов духа и интеллектуальных озарений. В смысле такого раз-
деления — это мир довольно странных образований, подобных соединя-
ющим две стихии амфибиям, представляющий собой результат выраже-
ния духовного аспекта процесса цивилизации, достигнутой стадии внут-
реннего и формально-внешнего осознания, по большей части морфоло-
гически неразрывно связанный с итогами былого воплощения культуры,
с религиозной, метафизической, художественной, мыслительно-идеаль-
ной структурой прошедшей эпохи. Таким образом, осуществить анализ
третьей сферы, сферы культуры, и реализовать ситуацию, которая для
этого предоставляется, посредством какого-то действительного обособ-
ления или же прослеживания причинных связей в последовательном
ряду побудительных мотивов внутри самостоятельной области развития
еще менее возможно, нежели в двух других сферах. Скорее наоборот —
если вообще удалось однажды постичь сущность проявлений культуры
как динамику движения в промежуточной области между субстанцией
души и исторически уже в определенной форме расцвеченным, наподо-
бие инкрустации, фактами и толкованиями или же оставшимся неприк-
рашенным приумножением жизни, становится очевидно: процесс циви-
лизации и его результаты можно с грехом пополам мысленно обособить,
поскольку эти результаты всегда, как это свойственно делать человеку,
бывают отвлеченными, поскольку они, в человеческом понимании, не-
обходимы, и вне их исторического контекста они тоже существуют лишь
сами по себе. Наподобие того, как при желании можно просто свести
значение всей истории человечества к обеспечению условий для едино-
го, охватывающего весь земной шар, заключенного в самом себе посту-
пательного развития цивилизации. Уже социальную структуру и соци-
альный процесс, если понимать их как фактор ограничения и формиро-
вания мира побудительных импульсов и волеизъявлений, всегда можно
обособить только мысленно и никогда — с точки зрения их результата,
области их подлинных форм, так как данная область совершенно неза-
висимо от определенного, внешне представляющегося высоким, уровня
цивилизации, в каждой исторической ситуации, очевидно, является, как
уже отмечалось, также итогом обусловленных душой и духом многооб-
разных внутренних побуждений, свойственных предшествующему либо
исследуемому периоду. Необходимо лишь вспомнить о западноевропей-
ском «капитализме», «городской экономике», «поместном землевладе-
нии». Но в данном случае, по крайней мере, их можно хотя бы как-ни-
будь, пусть даже применительно к строго определенным периодам вре-
мени, совершенно конкретным историческим регионам и участкам рас-
смотреть как сосредоточенные в самих себе и тем самым исследовать
тенденцию становления устойчивых внешних очертаний, направление и
характер движения. Однако анализ сферы культуры, очевидно, состоит
исключительно в наглядном прояснении ситуации, при которой посто-
янно хранящая в себе творческое начало сила человеческой души, с ее
потребностью в созидании форм, настойчиво стремящаяся соединить
«•душу» и «мир» — пытаюсь хотя бы приблизительно выразить то, что на
53
самом деле можно истолковать, пожалуй, только метафизически, — зак-
лючена в жизненной субстанции, которая требует предварительного ис-
следования для уяснения ее цивилизанионного и социального, а также
культурно-исторического характера.
Надлежит уяснить именно социологическую расстановку сил и ее из-
менения в процессе исторического развития. С точки зрения методики
это достигается, повторю еще раз, посредством констатации функцио-
нальных взаимосвязей больших, внутренне единых областей жизни, ко-
торые рассматриваются как феномены, осознаются как феномены; и
лишь на основе их понимания и интерпретации в качестве универсаль-
ных феноменов оказывается возможным приблизиться к познанию их
эволюции и движения, что впоследствии позволит точно исследовать их
облик и объяснить их в контексте условий их бытия. Таким образом,
причинно-следственное истолкование не встречается нигде.
5
Чего мы достигнем и стремимся достичь? Нигде ничего иного, кроме
понимания, возведенного на уровень более или менее обоснованной
очевидности. Понимания чего?
Как уже говорилось, понимания универсально-исторического процесса
в его частностях, дополненного общими представлениями о его целостно-
сти. Но теперь, после обсуждения метода, становится ясно: при этом на пе-
редний план выходит и являет себя как непосредственная цель интерпрета-
ции то, что можно было бы обозначить как определяемый сочетанием со-
циологических обстоятельств облик культуры какого-либо периода време-
ни, той или иной эпохи, исторической сферы, всеобщей истории народа.
Это понятие нельзя трактовать чересчур узко, но, с другой стороны,
от его использования в ориентированных на постижение исторических
изысканиях тоже не следует ожидать слишком многого и сводить такие
изыскания целиком к данному понятию или какой-нибудь сходной с
ним результирующей социологического рассмотрения. Оно охватывает
собой созидание форм универсального или частного свойства либо от-
сутствие формирования жизненной субстанции эпохи из ее душевного
центра, т.е. осуществляемое из этого средоточия становление облика
предоставляемого эпохой материала, анализируемого как реальное при-
умножение жизни. Само собой разумеется, это следует понимать всесто-
ронне, это можно и нужно прослеживать с точки зрения политической
и экономической, равно как и религиозной, художественной, идейной,
метафизической и т.д. Любой отдельно взятый образ, любая частная воз-
можность данного времени вплетены в его канву наряду с каждой вели-
кой личностью и великой возможностью; с точки зрения приведенных
здесь размышлений они существуют в нем с самого начала как составля-
ющий элемент, значимый или не столь важный единичный признак.
При этом частичный анализ, предпринятый по отношению к какому-
нибудь отдельно взятому образованию, представляющему политику,
культуру в узком смысле слова, социальную структуру или какую-то
иную область, только оказался бы вынужден снопа и снова разрабатывать
54
здесь такой подход. Социологическая работа состоит в том, чтобы рас-
познать одиночный признак эпохи и методологически точно определить
его место — теперь мы верно понимаем это — в ее целостном облике.
При этом мы не умаляем самостоятельного значения, возможностей
отдельной исторической личности, отдельного события, судьбы как ис-
тории в подлинном ее понимании. С другой стороны, в той же мере это
касается «природы», даже если воспринимать ее отныне как определяю-
щий условия бытия окружающий мир, как склонности, характер и спо-
собности народов и расово-этнических групп, каждого человека. Проис-
ходит не что иное, как вычленение лежащего между заданными приро-
дой условиями и множеством исторических образов «промежуточного
мира», т.е. осуществленного в том или ином виде процесса формирова-
ния массовых воплощений жизненной субстанции, который, как я ска-
чал ранее, и без того уже учитывает в своих изысканиях историк, рас-
сматривающий всякое историческое мгновение и феномен как «предла-
гаемые историей обстоятельства» и как сферу, заключающую в себе не-
кие собственные закономерности — только делает это не руководствуясь
точным методом, а частью интуитивно, частью достаточно произвольно,
а отчасти опираясь на прежние, «полученные по наследству» обобщения,
относящиеся к структуре и значению этой области.
Что касается при этом природных условий, более чем очевидно: вся-
кая историческая жизненная материя формируется в совершенно опре-
деленных естественных рамках, заданных индивидуальными свойствами
местности, климата и т.д. Одновременно она состоит из вполне конкрет-
ной этнической субстанции. Значение обоих этих аспектов невозможно
переоценить. Нельзя помыслить, чтобы кто-нибудь вознамерился понять
мир античной Греции, не исследовав хотя бы в некоторой степени при-
родные условия бассейна Эгейского и Средиземного морей, как и непов-
торимую гениальность эллинских племен того времени. Но речь вовсе не
об этом; существо дела заключается в следующем: если пытаться подойти
к рассмотрению феномена греческой античности с помощью наших
средств, надлежит спросить, каким образом проникающий собой исто-
рию, движущийся вперед поток цивилизации, созидающие форму соци-
альные тенденции и более древняя субстанция культуры соединились
там в определенный период в некую совокупность, из которой в данных
естественных рамках благодаря той самой гениальности единственный
раз в истории возникло столь уникальное явление, которое мы как раз и
именуем античной Грецией, — т.е. именно этот облик культуры.
Повторяю: несомненно, это не имеет ничего общего с попытками ка-
кого-либо исчерпывающего причинно-следственного объяснения. Мы
намереваемся осветить облик культуры, как хочется надеяться, в не-
сколько более удачной форме, исходя из более точного изучения как уже
выявленных, так и дополнительно поименованных условий. Да и сам
этот облик не следует трактовать как нечто большее, нежели феномен.
Он никогда не бывает причиной чего бы то ни было, но выступает как
способ выражения и рамки, в которые помещается единичное явление.
Каждая его эманация представляет собой его элемент, его отличитель-
ную черту. Сам он, в таком роде, мог появиться лишь однажды в исто-
рии, поскольку стал итогом совершенно определенного, уникального
55
стечения обстоятельств, чьи историко-социологические составляющие
нам как раз и надлежит уяснить.
Тем самым сохраняют свое значение отдельная историческая лич-
ность, судьба, существенно важная с исторической точки зрения «слу-
чайность», собственно «происходящее». Их лишь помещают во вполне
конкретную структуру бытия, в которой они действуют, из которой вы-
растают и которой многим обязаны. Однако нигде не предпринимается
попытка сформулировать что-нибудь наподобие универсального прави-
ла, касающегося отношения великой, созидающей и действующей лич-
ности к массовой субстанции истории, к массовым историческим усло-
виям и их результату. В зависимости от общего облика того или иного
исторического периода это отношение будет всякий раз разным и, ко-
нечно, неодинаковым с точки зрения характера и задач наиболее значи-
мых сил. Вероятно, попытка сгруппировать встречающиеся здесь вари-
ации стала бы весьма захватывающим предприятием. Здесь не может су-
ществовать единого правила, и это столь же верно в отношении истори-
ческого облика, свойств и характера человеческой одаренности. Однако
такая одарсмшость, за исключением самых простых случаев, обретает
значение только в результате конкретизации, выявляющей индивидуаль-
ные черты, подобно тому как и наиболее выдающаяся личность всегда
мыслима, а в определенном отношении постижима только в связи с об-
щим обликом эпохи, ее более широким либо узким компонентом.
Мы не намереваемся отрицать роли исторической случайности или, если
взглянуть глубже, того таинственного начала, которое проявляет себя в ис-
торических судьбах. Происходит только одно: подобно тому как великая
сила исторической индивидуальности, формирующаяся из имеющегося в
наличии природного материала и поставленная в естественные условия, при
совершенно неодинаковых масштабах ее деятельности в качестве единич-
ной силы, все-таки непременно бывает сопряжена с той более крупной
структурой общего характера, которую мы хотим подвергнуть анализу, —
так и всякая случайность, какой бы прихотливой она ни была, всякий, даже
самый неповторимый поворот судьбы, есть элемент той самой целостнос-
ти, к чьим характерным особенностям она вынуждена приспособиться, так
что воплощенная в ней затейливая череда событий сильнее или слабее вы-
ражает и подчеркивает сущность этой целостности. В противном случае она
с исторической точки зрения не имеет никакого значения.
Мы не знаем, что стало бы с Германской империей Бисмарка, если бы
неразрешимая путаница личностных и вещественных реальных факторов,
соединившихся в некоторой степени будто случайно, достигнув высокой
степени концентрации, не вызвала к жизни ситуацию, которая сложилась
в начале 1914 г. Но все они оказались бы не в состоянии создать такую си-
туацию, когда бы не имелось в наличии совершенно определенное истори-
ческое стечение обстоятельств, определенный облик Европы в целом, кото-
рый вообще один только и придал этой ситуации значимость и историчес-
кую действенность. Именно этот облик мы, социологи, призваны устано-
вить, подвергнуть точному анализу и объяснить. Стечение обстоятельств,
лежащее в основе становления такого облика, в некотором смысле само «на-
ходит» свои случайности и происшествия, творящие его участь, которые без
него не наступили бы либо остались несущественными. И в сколь сильно
56
измененном виде разни нал ся бы тот вариант исторических событий, если бы
не образовалось и не стало значимым такое сочетание якобы случайных
факторов, которые надлежит изучать историку, — мы намереваемся уяснить
факт, что данное сочетание сумело обрести важность, и понять, каким воз-
действиям оно этим обязано.
Бисмарк основал Германскую империю. Одно из великих исторических
деяний, сильнейшим образом предопределенное свойствами личности, со-
вершенное созидающей в масштабах мировой истории, индивидуалистичес-
кой по характеру великой державой. Все это, взятое в целом, — историчес-
кая «случайность». Как могла произойти подобная «случайность»? Что стало
бы с этой потенциально великой державой отчетливо индивидуалистичес-
кого свойства, когда бы не стечение очень и очень многих, в самых общих
чертах историко-социологически обусловленных обстоятельств? К приме-
ру, что было бы, если бы не оказался созван Объединенный ландтаг 1847 г..
где эта сила немедля выплеснулась, словно в созданное специально для нее
русло, чтобы с того момента сделаться исторически значимой? Или возьмем
этого, ранее неведомого истории инспектора плотин на Эльбе и юнкера,
который, после того как отрезал для себя все позволявшие достичь влияния
в государстве пути, какие только могла предоставить в его распоряжение
прежняя система, имел, как известно, все шансы закончить свои дни вели-
ким чудаком?2* Совершенно сходным образом осуществление возможнос-
ти войти в историю для каждой великой личности так или иначе обуслов-
лено и определено стечением социологических и исторических обстоя-
тельств. Тем более это касается также самых великих случайностей предмет-
ного характера. Последнее нетрудно было бы подтвердить примерами.
Л постижение сущности духовного течения, отдельной личности и тех
проявлений индивидуального, какие встречаются в истории? Оно всегда —
прорыв к центру средоточий, деяние интуиции. Но не исключено, что здесь
на помощь можем прийти мы, социологи. И не только при осмыслении
коллективных феноменов (духовных течений и т.д.), интерпретация кото-
рых как элементов культурного облика и без того имеет прямое отношение
к нашей профессии, но порой даже при изучении тех или иных личностей,
что, собственно говоря, нас, казалось бы, вовсе не касается.
Как бы мы сумели, например, вполне понять Бисмарка, если бы не уяс-
нили, что здесь речь идет о чрезвычайно сильной душе, органично соеди-
ненной с могучим, но притом бесконечно сложным и противоречивым
«движущим механизмом» как изначальной внутренней субстанцией жизни,
какую эта душа пыталась преобразовать и с которой неизменно боролась
вопреки всем новым реальным обстоятельствам; о душе, заключающей в
себе два исторических типа культуры, один из которых, можно сказать, по-
чти не претерпев изменений, уходит корнями приблизительно в XIII в. (гру-
бо говоря, он унаследован от отца), а другой, по материнской линии, отно-
сится к рубежу XVIII-XIX вв. Как бы сильно ни отторгался последний, он
все же был налицо и, вероятно, именно вследствие такого неприятия ощу-
щался постоянно. Гротескное внутреннее противоречие, обнаруживающее
себя в непосредственно данной материи бытия, одно только и сообщающее
этой личности человека борющегося присущие ей черты, а именно зыбкость
системы ценностей, скептицизм, но одновременно способность совершен-
но непоколебимо верить, напоминающую о феодальной эпохе, и при всем
57
том — склонность к оправданию своих подчас весьма жестоких поступков,
словно выплескивающуюся из разломов так никогда и не обретенной этим
характером целостности облика созидаемых форм объективной реальности.
Всю эту комплексность, при которой не только замысел и побуждения бо-
рются между собой, но и личностно обусловленный, таящийся в глубине
души центр порождает противоречащие друг другу культурные формы ов-
ладения субстанцией жизни, нельзя понять просто с историко-биографи-
ческой точки зрения или, по меньшей мере, понять столь же ясно, как с по-
мощью детального включения ее проявлений в более широкий контекст
общей ситуации.
И, как я считаю, социологическое осмысление приумножения жизни, из
которого вырастают исторический феномен, направление в культуре, да и
отдельный человек, всегда будет способствовать постижению такой комп-
лексности, действуя наподобие «духовного окружения». Тот, кто продвинет-
ся на этом пути как можно дальше, заложив со всех сторон систему тран-
шей, легче и надежнее проникнет в крепость. При том, что в противном
случае он, вероятно, вообще ограничится пребыванием на подступах к ней,
либо, оказавшись внутри, не будет знать, что это, собственно говоря, за со-
оружение и каковы структурные элементы его облика.
Ибо являющийся обычно единственно возможным критерий достовер-
ного постижения сущности — непосредственная очевидность представлен-
ного изображения, обусловленная его способностью не порождая противо-
речий вписаться в контекст и более глубоким уяснением всех, воспринима-
емых как «существенные» (т.е. значимые с точки зрения сущности), отдель-
ных черт, основанным на их рассмотрении из некоего центра, — имеет, в
принципе, тот недостаток, что он опасным образом тяготеет к тавтологии.
Ведь то, что имеет значение с точки зрения сущности, т.е. существенно, в
конечном итоге поддается определению всегда только исходя из самого спо-
соба понимания сущности, иными словами, оно просто коррелируется с
таким пониманием. Тем самым оказывается возможным выдвинуть вперед
или оттеснить на задний план самые разные единичные признаки, и сделать
это, в зависимости от объекта исследований, в большей или меньшей сте-
пени, но нередко крайне произвольно. Именно данным обстоятельством во
многом вызвано то ощущение тревоги, какое оставляют все исторические
интерпретации. Насколько безоговорочно можно, в определенной области,
принять такой критерий, — в той мере, в какой постижение сущности оз-
начает погружение в глубину и потому зависит от самых разных успешно
осуществляемых в данной области изысканий, — настолько, следовательно,
мало допустим методологический педантизм в отношении всякого гениаль-
ного достижения, имеет ли оно отношение к общему ходу событий, отдель-
ным личностям или чему бы то ни было еще; настолько, с другой стороны,
представляется желательным преодолеть чреватую многими проблемами
тавтологию, связанную с упомянутым выше критерием. А этого, как я по-
лагаю, легче будет достичь с помощью охарактеризованного выше социоло-
гического «окружения», собственно говоря, только и позволяющего всеце-
ло уяснить жизненную субстанцию, где действует и обнаруживает себя не-
повторимая сущность исторического явления, которая в той степени, в ка-
кой она относится к сфере культуры, в конце концов неизменно коренит-
ся в свойствах дуй!и.
58
6
По-видимому, ясно: то, что я пытаюсь сделать на охарактеризованном
здесь в общих чертах основании, заранее подвергнув скрупулезному ана-
лизу и сознательно ограничив материал и задачи исследования, в силу
самых разных, имеющих решающее значение обстоятельств, принципи-
ально отличается от великого произведения Макса Вебера.
1. Социология истории Макса Вебера — единственное несомненно
великое свершение, опирающееся на овладение всей полнотой совре-
менного исторического материала, — ориентирована на обретение чис-
того знания. Здесь же наблюдается сознательный подход к истории с точ-
ки зрения проблем современности при отчетливом понимании, что след-
ствием тому в некоторой степени может стать вероятное ограничение
научной значимости результатов. Там речь идет исключительно и всеце-
ло о деятельности, направленной на последовательное приумножение
человеческих знаний вообще, какими бы ни были при этом индивиду-
альные побуждения. Поэтому повсеместно возникает предельно конк-
ретно сформулированный вопрос о достижении «объективности», всеоб-
щей, подчас почти принудительной применимости результатов. При том,
что в конце концов везде опять и опять странным, парадоксальным об-
разом являет себя «точка зрения» как принцип формирования знания, а
«предмет исследования» в значительной степени оказывается тем самым
в некотором роде чем-то «искусственно сконструированным», зависи-
мым от постановки вопроса. В этом состоит творимое собственными ру-
ками трагическое несоответствие такому стремлению к объективности,
поскольку «объективность» призвана быть чем-то большим, нежели тя-
готеющий к сфере относительного способ созидания форм уже установ-
ленных фактических обстоятельств.
В определенном смысле мы сознательно отказываемся от намерения
достичь результатов, обладающих столь непререкаемым научным досто-
инством. Не всякий и не во всем стремится обнаружить что-либо безус-
ловно применимое. Прежде всего в том, что касается интерпретаций об-
щего характера, удается добиться всего лишь более или менее ясного
представления. Наличие четких доказательств необходимо только там,
где речь идет об основополагающих признаках, таких, например, как
структура общества, достигнутая ступень процесса цивилизации и т.д.
В конечном итоге это происходит потому, что мы считаем объектив-
ность в духе Макса Вебера, т.е. абсолютную «точность», не способной
простираться на нечто большее, чем построение каркаса именно таких,
упомянутых выше, основных данных, по отношению к которым можно
поставить вопрос, случилось ли это именно так или как-либо иначе. Вся-
кую сложную структуру бытия, обусловленную по преимуществу — или
в том числе — душой и духом; всякую менее ясную жизненную взаимо-
связь, — и это, кстати, признал бы также Макс Вебер, — всегда можно
осмыслить и понять, только «вчувствовавшись» в материал. В связи с
этим он приходит к выводу об увеличении достоверности чисто эмоци-
онального постижения и интуиции, что. впрочем, в конечном итоге при-
менительно к обширным областям жизни ведет на деле к отрицанию
интуитивного восприятия даже как способа познания. Для нас, как сви-
59
детельствуют все изложенные выше рассуждения, оно представляет со-
бой основополагающий подход, только подлежащий проверке и коррек-
тировке с помощью аналитического и синоптического метода. Нам пред-
ставляется более важным хоть сколько-нибудь адекватно осветить всю це-
лостность либо те или иные феномены как ее элементы, нежели в угоду ана-
литическому знанию претворить эту целостность в устойчивые определе-
ния, тем самым подвергну» ее разрушению. Но именно такое знание воз-
никает, и именно им сознательно ограничивается Макс Вебер. А это, не-
сомненно, легко может привести к тому, что в качестве конечного резуль-
тата мы овладеем совокупностью крайне важных понятийных схем и столь
же значительным числом воображаемых или реальных причинно-след-
ственных связей, соединяющих части жизненного целого, — но не более
того. Ценность предоставленного Максом Вебером понятийного аппарата
социологии, изложенного в «Экономике и обществе», поистине огромна;
настолько же очевидным кажется тот факт, что этот аппарат, будучи создан
с целью формирования (посредством преувеличений и обособленного рас-
смотрения) понятий, способных как можно яснее отобразить «идеальные
типы», во многих своих частях представляет собой сеть, ячейки которой не-
сколько широковаты для того, чтобы уловить и упорядочить материал, если
использовать термины для характеристики чего-либо совершенно конкрет-
ного. В социологии религии отображен в виде разрозненных элементов
мощный поток жизни в его взаимосвязях, — во многом благодаря преодо-
лению автором собственных методологических принципов. Но с нашем точ-
ки зрения. Максу Веберу удалось бы полностью раскрыть все богатство этих
единственных в своем роде обзорных исследований только в случае, если бы
он во имя «объективности» либо по иным причинам при формулировании
умозаключений в конце концов каждый раз сознательно не ограничивал
себя изучением отдельных сторон процесса, прежде всего такой его сторо-
ны, как «рационализация».
Только малая доля того, что можно установить с помощью описанно-
го здесь метода, способна, как уже упоминалось, достичь «ледяных вы-
сот» объективности, к которой там обращены все помыслы. Говоря о том
же самом иными словами, это основано — по меньшей мере, поскольку
принимается во внимание вся сфера культуры, — на абсолютной ценно-
стной обусловленности научных свершений, которым предстоит добить-
ся признания у тех, кто в той же мере ощущает себя связанным ценнос-
тной ориентацией. Всякое суждение о «величии», «сущности», «совер-
шенстве» предполагает такой подход. Правда, добрая часть «философии
отождествления», хотя не совсем в духе Шеллинга, но все-таки придер-
живающаяся существующего только в воображении разделения единства
бытия, какое, однако, может быть восстановлено в рамках мыслимого, —
видимо, в этом и состоит понятие очевидного, — впрочем, находится при
этом в некотором роде на заднем плане, что здесь не представляется воз-
можным осветить подробнее. Это заметно отличается от трансценден-
тальных по характеру, в конечном итоге близких кантианским, убежде-
ний Макса Вебера, которые при свойственном ему стремлении к объек-
тивности с необходимостью привели его в гносеологическом отношении
к чрезвычайно осознанному предпочтению рациональной стороны
объекта интерпретации, что прослеживается во всех его трудах.
60
2. Сданным отличием сопряжено и другое, касающееся представленного
у Макса Вебера прикладного метода социологической индивидуализации,
который освещает структуру общества и ее развитие и, наконец, посколь-
ку они оказались привлечены к исследованию, также надперсональные об-
стоятельства жизни с точки зрения социальных устремлений, установок и
реакции отдельных личностей. Здесь такой метод для нас неприменим.
Смешно было бы отвергать его только из-за несовпадения мировоззрений.
С его помощью, полагаю, удалось бы много сделать для уяснения экономи-
ческих взаимосвязей. Несомненно, Макс Вебер избрал его не в силу своих
мировоззренческих позиций, но ради достижения методологической точно-
сти. Однако применить его здесь мы не можем, так как намереваемся по-
казать объединенные внутренними взаимосвязями целостные феномены в
их комплексности, сознательно трактуя их при этом как нечто единое — ибо
наш замысел полностью направлен на более или менее отчетливое понима-
ние нерушимых, по своей сути совершенно иррациональных исторических
сообществ в их единстве, на постижение великих, обладающих сложной
структурой универсальных феноменов, пронизанных бесконечным множе-
ством индивидуальных по характеру причинно-следственных рядов, отли-
чающихся крайней неоднородностью, которые мы не рассматриваем. В та-
кой мере — и на самом деле именно постольку — мы действуем здесь на ос-
нове универсалистского подхода. Разумеется, не формулируя при этом ни-
каких суждений по поводу того, оказываем ли мы на идеальном уровне
предпочтение принципам индивидуалистической либо коллективистской
ориентации в реальной жизни.
7
От Эрнста Трёльча, второго на сегодняшний день великого исследовате-
ля социологии истории, и его способа рассмотрения — здесь имеются в
виду не его сочинения по социологии религии, где он следует по стопам
Макса Вебера, а его труды, посвященные историзму, в которых он все-
цело раскрывает себя, — при том что его интерес равным образом на-
правлен на культурную проблематику современной жизни, — нас, в об-
щих чертах, отделяет приблизительно следующее.
1. Здесь не может служить отправной точкой его религиозность, в конеч-
ном итоге, христианско-мистического толка, его, можно сказать, религиоз-
ная ограниченность, вследствие которой он, несмотря на расширение науч-
ного горизонта, неизбежно оказывается вынужден истолковывать историю
как процесс, обретающий завершенность в христианстве, ошибочно посчи-
тав обязательным для себя предписанием осуществить наконец этические
постулаты этого учения, как он их понимает. Насколько принятый там спо-
соб рассмотрения полностью проникнут западноевропейской системой
ценностей, настолько прочно он должен быть связан с пониманием, что та-
кая ценностная ориентация представляет собой только одну из форм выра-
жения, существующую наряду со многими другими равноценными форма-
ми. В этом состоит основа всякого анализа.
2. В связи с этим нельзя признать правильными также воззрения Трёль-
ча на динамику исторического процесса. Трёльч имеет здесь дело с насле-
61
дием немецкого идеализма, с дуализмом духа и прИпоЧМ, который на деле
ведь так никогда окончательно не разорвал сущест|Юва1*ше^ с момента его
зарождения исконной связи с областью религии. Q§e ^тегории восприни-
маются как силовые компоненты истории, что, естест1*енн0, повсеместно
вызывает вопрос: каким образом вознесенный в своем реличии высоко над
миром природы дух оказывается, собственно говоря Спосо^ен воздейство-
вать на естественный движущий механизм, названный Шелером реальны-
ми факторами жизни? Но это, как ни парадоксально, пеДет к материалис-
тической постановке вопроса5 и постоянным компром!1ССам с историчес-
ким материализмом, каковыми проникнуты все работы Трёльча. Ведь, со-
гласно его взглядам, сделать дух реальной силой способен только некий
«прорыв», ориентированное на Божьи заповеди устремление воли. Напро-
тив, коль скоро мы неизменно руководствуемся здесь основополагающим
представлением о душе и субстанции бытия, то это никоим образом не
предполагает непременного наличия каких-нибудь религиозных убеждений
либо какой-нибудь философии. Мы исходим из событий реальной жизни
и пребываем в них. В истории и исторических образованиях мы прослежи-
ваем тот же процесс, какой ежедневно испытываем сами или наблюдаем у
других. Это процесс, обладающий изначально присущей ему динамикой; на
его вкратце охарактеризованных мною предпосылках, относящихся к обла-
сти философской проблематики, нет необходимости останавливаться под-
робнее. Ведь здесь, в преддверии перехода к эмпирическому анализу, от-
нюдь не возникает проблемы истолкования характера взаимоотношений
этих двух сфер, лишь с трудом поддающегося объяснению посредством ус-
тойчивых понятий. Скорее, между ними существует непосредственная, пря-
мая связь. Если налицо стремление разделить ее натуралистически-матери-
алистический и идеалистический аспекты, то там, где удал ось достичь это-
го посредством души и духа, везде одерживает верх идеалистический под-
ход к изложению истории. Я прибавляю здесь слово «духовный» в том
смысле, что ради осуществления своей функции созидания форм душа дол-
жна использовать интеллектуальные средства. Тем самым «дух» в данном
случае обозначает освещенную и проникнутую интеллектом сферу души.
Таким образом, натуралистически-материалистический способ формирова-
ния всюду преобладает там, где по каким-то причинам не происходит оп-
ределяемого душой и духом постижения субстанции. Насколько «бездуш-
ными» могут быть действия отдельно взятого человека, если он руководству-
ется исключительно жаждой власти, алчностью, сексуальными побуждени-
ями, настолько это касается итого или иного народа, периода времени, эпо-
хи. В таком случае, например, политика, как уже говорилось, представляет
собой лишь борьбу за власть и источники доходов, сдерживаемую одной
только природой. Будучи подчинена культурным формам, она также вклю-
чает в себя и это содержание, но так же отличается от политики в подлин-
ном смысле слова, как то, что мы в Западной Европе доныне именовали
«любовью», отличается от элементарного сексуального влечения6.
3. Дуализм духа и природы, с его религиозно-этической основой, пре-
допределяет у Трёльча также то, чего он стремится достичь с помощью
всей своей социологии истории, а именно преодоления только статично-
го, релятивистского историзма, освобождения пространства для новых,
позитивных устремлений в культуре в наше время, до предела насышен-
62
мое знаниями из области истории культуры. Правда, опять странно па-
радоксальным образом. Его постулат осуществления «синтеза культур»,
соединения всего наиболее значимого, что есть в предшествовавших
культурах (отметьте себе: для него как христианина речь идет только о
Европе), очевидно, призван стать новым «духовным прорывом», возмож-
ным в силу непосредственного отношения к Богу, т.е. духу, действующе-
му в истории. Все равно, сколь широкое влияние могло бы оказать тако-
го рода настоятельное обращение, если бы оно не было заключено в тес-
ные рамки научного труда объемом около семисот пятидесяти печатных
страниц, а, согласно его истинной природе, оказалось бы распростране-
но, скорее, как вдохновенная свободная проповедь, — обращение, отве-
чающее нашей принципиальной точке зрения, звучало бы иначе — уже
по своему наиболее общему содержанию. Ведь если культура — выраже-
ние души и духа, то более ранние воплощения культуры были бы, веро-
ятно, способны установить масштаб7, с помощью которого можно было
бы определить уровень совершенства такого выражения по отношению
к исторически заданной жизненной субстанции, но сами они никогда не
сделались бы материалом для «синтеза». Как бы то ни было, греческая
античность, римская классика, христианство представляют собой уни-
кальные исторические формы выражения. Мы можем соразмерять с
ними наши идеальные устремления и в их сферах бытия укрыться от
ощущения упадка. Мы в состоянии, если удастся, попытаться жить да-
лее, например, по законам христианства. Но если мы вознамеримся свя-
зать их воедино в их завершенности, результатом будут, по-видимому, —
и всякий, кто на это настроен, уяснит это уже инстинктивно, — только
«символы, служащие целям образования», не обладающие преобразую-
щей жизненной силой. Пожалуй, величайший пример тому — вторая
часть «Фауста», которая не претворяет мир, а конструирует его по пра-
вилам «синтеза культур», т.е. сообразно целям образования. Или, что еще
хуже, мы получим одну лишь мешанину, скрывающую в конечном ито-
ге только неодолимую склонность к собиранию музейных коллекций.
Если мы стремимся к чистоте замысла, то не сделаем этого. Возможно,
какая-либо грядущая великая творческая личность, которая в будущем
соединит в некий сплав проявления жизни и сообщит ей иные очерта-
ния, воплотит все эти более ранние конечные формы выражения как
вкрапления, как своего рода материал, в новую целостность — возника-
ющий в воображении акт творения грандиозных масштабов. Нам, живу-
щим ныне, надлежит произвести только то, что мы и без того делаем или
должны делать день за днем — черпать силы и возвышать себя, приоб-
щаясь к исполненным совершенства чистым формам, созданным в пре-
жние времена. И тем самым нам видится иным также более частное спе-
циализированное содержание нашего обращения с точки зрения совре-
менных практических деяний духа. Оно может звучать только так: уме-
ние ясно представить себе историческую обусловленность нашего бытия,
то, что покуда кажется в ней неизбежным, и то, что, очевидно, поддает-
ся воздействию. И в то, и в другое надлежит вникнуть исходя из уровня
знаний и форм «высокого совершенства», какие предоставляют нам ве-
П1 кие образы истории. Необходимо постоянно сознавать: творчество в
сфере культуры, тяготеющее к объективности, не может являться резуль-
63
татом заранее заданных взаимосвязей. Это великий акт зарождения но-
вого. Для отдельно взятого человека подготовка к нему состоит в опре-
делении индивидуальной позиции и намерений и в преобразовании,
пусть в ограниченных масштабах, подлежащего воздействию материала
в направлении, соответствующем этим намерениям.
8
Также Макс Шелер, третий, о ком надлежит, наконец, сказать несколько
слов, — поскольку он, прежде всего в своем труде «Формы познания и об-
щество», излагает важные элементы общей социологии истории, — делает
этот дуализм природы и духа базисом своего исследования, хотя и с иным
философским обоснованием, которое, впрочем, еще не получило известно-
сти в его завершенной форме. При этом обнаруживается итоговый резуль-
тат такого способа рассмотрения применительно к области социологии —
мы можем говорить о нем лишь в связи с данной областью. Реальные фак-
торы (природа) и идеальные факторы (дух) проходят в истории подобно
двум параллельным линиям, лежащим одна по;ше другой; правильнее ска-
зать — факторы первой линии оказываются в некотором роде подчинены
второй. Дух, в его высиди сфере представляющий собой неподвижный мир
абсолютных идей, не способен — только здесь ясно сформулирован такой
вывод — непосредственно воздействовать на реальные факторы, принадле-
жащие к совершенно иному миру, по отношению к которому он по своей
сути изначально не имеет связующих органов. Для того чтобы выразить себя
в истории, ему необходима своего рода «случайная» ситуация, «открытие
шлюза», которая для его проявления принимает вид определенного сочета-
ния реальных факторов. Это, в конечном итоге, несомненно, социологичес-
кая форма прежней идеи откровения, против содержания которой, что столь
же очевидно, нельзя выдвинуть никаких возражений. Наверно, не будет
подвергнуто отрицанию то обстоятельство, что в обращенных к миру либо
отворачивающихся от него исторических периодах совершенных выраже-
ний души обнаруживается что-то таинственное, некая конечная сущность,
разумеется, именно поэтому, с нашей точки зрения, не поддающаяся объяс-
нению посредством понятий — это, скорее, не требующий слов априорный
факт нашей жизни. Мы в состоянии уяснить характер такого «свершения»
как уникального феномена и тем самым понять исконные ценности исто-
рии и вообще жизни иным способом, нежели рациональным, неизменно
обнаруживающим на заключительном этапе свою несостоятельность, лишь
на основе достигаемого большей частью вполне непосредственным образом
согласия в отношении данного явления, простого наличия того, что обре-
ло завершенность, в некоторые моменты истории, — а именно, просто кон-
статируя существование единства мнений по поводу его содержания. Но
здесь речь идет лишь о признанных данных, находящихся в крайне сложной
взаимосвязи, допускающей с философской точки зрения, как показывает
опыт, разные интерпретации, из которых я в общих чертах осветил ту, ка-
кая мне ближе. С позиций социологии нам следует — я уже упоминал об
этом выше — исходить из факта стремления души к созиданию форм, че-
рез которое только и проявляют себя тенденции движения к совершенству
64
и все, что им сродни, и в котором они находят завершение — т.е. в неко-
тором роде из первозданного, наиболее глубокого эмпирического плас-
та, где мы и обнаруживаем их в качестве действующих факторов или,
иными словами, того, что крайне динамичным образом вторгается в мир
реалий. Поскольку место основополагающих идей, которым теория «от-
крытия шлюзов» соответствует еще отчетливее, нежели созданная Трёль-
чем «теория прорыва», оказывается тем самым занято несколько иными
представлениями, некоторым образом придающими всему социологи-
ческому анализу другую направленность (не стану повторяться), по-
стольку почти каждый отдельный результат, полученный в социологии,
обретает, разумеется, иную форму, а отчасти иное содержание. Здесь мы
можем только констатировать это, не забывая слов благодарности в ад-
рес книги Шелера за те крайне увлекательные и исполненные глубоко-
го смысла перспективы, какие она открывает.
И, наконец, единственное замечание: сформулированный Контом
закон трех стадий развития человеческого общества (религиозный, мета-
физический, позитивистский периоды) преобразуется Шелером — это
происходит в определенной степени на уровне аксиом, — в постоянно
существующий параллелизм ориентации духа и форм исследования и
знания; тема, о которой мы, руководствуясь нашим подходом, могли бы
сказать чрезвычайно много, ибо в этих трех постулируемых «формах зна-
ния» мы с необходимостью усматриваем совершенно разные функции,
какие надлежит исполнить человеку, и общие феномены бытия, которые
нельзя проецировать на эту плоскость. Но в том, что касается основной
социологической идеи: знаменует ли собой интересно прослеженная
связь позитивистской формы знания с феноменом буржуазно-капитали-
стической формы общества, с точки зрения обособливающего способа
рассмотрения, собственно говоря, что-то большее, нежели очередную
попытку ограничить себя историческими рамками, созданными матери-
ализмом в духе Маркса? Не думаю, несмотря на весь дуализм природы и
духа, и, повторяю, — именно из-за него.
Мы считаем: только благодаря изысканиям, в ходе которых с позиций
социологии истории наконец-то будет решительно отвергнут этот дуализм
природы и духа в его прежней форме, нам удастся преодолеть представляв-
шееся порой очень ценным и значимым, а ныне ставшее столь ужасающе
неплодотворным Марксово наследие, а именно — проблематику базиса и
надстройки, в которой мы уже слишком долго движемся по кругу. Явления
духа и культуры — не «надстройка», а, поскольку они принадлежат соб-
ственно к сфере культуры, — скажу об этом напоследок еще раз. — суть вы-
ражение приумножения жизни и способ отношения к нему. Чисто гносео-
логически они включены в их собственную, а именно цивилизационную.
область науки, имеющую свои, достаточно подробно освещенные законо-
мерности развития. Здесь нет и следа базиса и надстройки.
Воэможно, применительно к сложной динамике истории даже пред-
ставленная здесь схема мысленного структурного деления покажется
весьма простой. Полагаю, что по сравнению с былым альтернативным
толкованием это принесет пользу и, пожалуй, ощущение освобождения
— все равно, разделит ли кто-нибудь со мной данные идеи, разработает
их дальше либо претворит в новую форму.
3Зак. 3073
65
Часть I
Принципиальные замечания
i
Социологическое понятие культуры8
Есть очень простой способ уяснить себе единство всех исторических со-
бытий, связь происходящего в сфере культуры с прочими фактами жиз-
ни и попытаться таким образом разрешить проблему становления исто-
рико-социологического взгляда на культуру, а именно — мысленно ох-
ватить всемирную историю во всех ее частях как эволюционное раскры-
тие некоего принципа, его постепенную реализацию в мировом процессе
развития. По существу безразлично, подходить ли при этом к истории,
руководствуясь телеологическим и тем самым неизбежно в большей или
меньшей степени религиозным, либо причинно-следственным и, значит,
в целом механистическим способом рассмотрения; все равно, считать ли
ее вслед за Августином осуществлением Божественной идеи, civitas Dei4
в природном мире, или, как Гегель, отвечающим Божественному замыс-
лу прогрессом в осознании свободы, или, подобно Сен-Симону и пози-
тивистам, происходящим шаг за шагом высвобождением человеческого
мышления из традиционных религиозных и метафизических форм, или,
как Лампрехт, процессом поэтапного освобождения индивида, или, по
примеру исторических материалистов, поступательным развитием про-
изводительных сил человека. При этом каждый раз совершается одно и
то же: все отдельные факты истории, поскольку они оказываются соот-
несены с единственной причиной или единственной целью, всегда нани-
зываются друг за другом на единую нить мышления и ставятся в крайне
незамысловатую внутреннюю связь. Тем самым история и вследствие
этого весь процесс становления человеческой жизни воспринимаются
весьма несложным образом как целостность. Думаю, однако, что в на-
шем чувстве что-то неизменно восстает против этой переработки исто-
рического бытия в столь простой продукт, против такой его мысленной
конденсации. Что-то в нас противится тому, чтобы видеть отдельные
факты жизни утратившими самостоятельное значение, усматривать в них
вспомогательные звенья, механические части стоящей выше них по со-
держанию и притом мысленно познаваемой единой целостности — в то
время как мы совершенно ясно чувствуем их самоценность и уникаль-
ность и можем только ощущать их как выраженное в тысяче разных
форм многообразие бессознательно воспринимаемого как нечто беско-
нечное потока, чьего назначения и цели мы не поймем никогда и чьи
смысл и сущность мы способны, самое большее, предугадать, но чей
прекраснейший дар узнаём именно в беспредельной и неисчерпаемой
множественности его обликов. И во-вторых: в связи с этим мы тогда чув-
ствуем, что все эти способы рассмотрения, соотнося отдельные явления
Жизни, в том числе жизни культуры, с познаваемым принципом. одно-
Град Божий (.-шт.).
66
временно лишают их внутреннего бытия, отнимают у них завершен-
ность, целостность, полноту предметного содержания, превращая эти
отдельные явления в ступени процесса раскрытия индивидуальности,
развития сознания, интеллектуального господства или чего бы то ни
было еще. Даже если мы при этом, чтобы избежать упрощения, будем
вместо одного принципа рассматривать несколько потоков, синхронно
разворачивающихся в истории, это не поможет. Ибо мы вполне отчетли-
во ощущаем, будто что-то отнимаем даже у мельчайших отдельных явле-
ний жизни, коль скоро трактуем их не исключительно как нечто инди-
видуальное, а как структурную форму тех или иных, пусть очень слож-
ных, универсальных образований; и в еще большей мере это примени-
мо к самым замечательным феноменам, великим культурным свершени-
ям и великим характерам. Если Гегель пытается спасти великие индиви-
дуальные деяния и отдельные великие явления, утверждая, будто обна-
руживающий себя в истории мировой дух использует страсти этих людей
для того, чтобы двигать вперед историческое развитие, и если он на этой
основе создает великолепное изображение того, как с помощью заклю-
ченных в этих великих людях страстей — даже всецело эгоистических, в
обычном понимании плохих, — творится новое; насколько они при этом
необходимы как идеи и формы эволюционного саморазвития мирового
духа, орудие Господа и раскрытие им самого себя, — то мы на мгновение
оказываемся зачарованы такой картиной, но все-таки опять возвращаем-
ся к мысли, что любой такой подход — интерпретирует ли он великое
явление только как способ раскрытия мирового сознания или как выра-
жение иных принципов, пусть даже самых сложных, — тем не менее вся-
кий раз таким образом принижает его и лишает его прекраснейшего зна-
чения. Динамическое рассмотрение жизни, призванное сделать ее куль-
турные эманации доступными нашему чувству, должно способствовать
тому, чтобы мы постигали все вещи по образу мира идей Платона в их
неповторимой красоте и чистоте, их высокой, как горные вершины, обо-
собленности от других философских представлений современности, и
при этом все же ощущали, что они произрастают из самой жизни, в не-
драх которой они находились; оно должно вознести перед нами Давида
Микеланджело в его несравненной нежности, глубине и мощи, поста-
вить его выше всех прочих подобных творений эпохи, — столь высоко,
как ныне стоит над городом на площади Микеланджело его изображе-
ние, — и в то же время вполне отчетливо дать ощутить жизненные кор-
ни, питавшие в том числе и его рост; короче говоря, ему надлежит вос-
принимать великое в его уникальности и при этом уметь поместить его
в систему взаимосвязей жизни. Именно этого мы требуем от теории
культуры, которая оказалась бы способна всецело удовлетворить нас.
Я намереваюсь задать следующий вопрос: может ли существовать та-
кой социокультурный теоретический способ рассмотрения? Каково со-
путствующее ему понятие культуры и что означают по сравнению с ним
предшествующие попытки социологического обобщения исторических
и, может быть, культурных событий?
Наша душа такова, что мы пребываем как бы в двух совершенно раз-
ных мирах: с одной стороны, в космосе всеобщих предметных данностей,
какие мы, правда, усваиваем в индивидуальном порядке, содержание
67
которых мы к тому же, вероятно, способны расширить, но куда не в си-
лах привнести ничего из свойств нашей индивидуальности, так как этот
мир всецело состоит из чисто объективной и внеличпостной субстанции,
из элементов такого содержания, по поводу которых мы можем сказать
«да» или «нет», констатировать их истинность либо ложность, но кото-
рые мы бы исказили, пожелай мы дополнить их чем-то индивидуальным.
И с другой стороны, в духовном отношении мы находимся в таком мире,
где все существует лишь потому, что оно целиком произрастает из
свойств нашей индивидуальности, что оно прошло через что-то лично-
стное, самое личностное в нас; мире, где все имеет индивидуальный цвет
и оттенок и становится тем действеннее и реальнее, чем сильнее оно по-
гружено в область индивидуального. Поскольку в одном мире все обре-
тает значимость, так как имеет объективный и всеобщий, сформирован-
ный совершенно независимо от жизненной участи того или иного чело-
века характер, постольку в другом это происходит прямо противополож-
ным образом, т.е. в той мере, в какой отображает эту участь, в какой яв-
ляет собою вследствие этого нечто совершенно конкретное и особенное
— притом, что может сделаться чем-то всеобщим, но в абсолютно ином,
символическом смысле универсально значимого.
Оба мира содержат в себе в переработанном виде изначальный сырой
материал наших переживаний, оба они, создавая его структуру, опирают-
ся на «приводной механизм» нашей психики, отношения действия и от-
ветного действия, связующие нас с окружающим миром. Но в то время
как в одном мире пробужденная активность рассматривала материал пе-
реживаний в его универсальных интеллектуально постижимых отноше-
ниях, разделяла его на его общие объективные элементы и на их основе
концентрировала его в психические объекты; в то время как она, иными
словами, претворяла здесь все в интеллектуальные воззрения, понятия и
формы мышления и тем самым возводила такие, состоящие из совер-
шенно далеких от судеб людей общих представлений, конструкции, как
созданное Кантом учение о категориях, теорема Ньютона и т.д., — со-
оружения, в чьих сводах гаснет всякий субъективный звук, — то в дру-
гом мире все отдано во власть чувству, не только вырастает на почве чув-
ства, но и благодаря ему уплотняется до предметных образований психи-
ки, получает от него свое содержание, свою сущность и форму. Мы на-
ходимся в поставленном над нами всеобщем, созданном интеллектом
мире неизбежного и необходимого постольку, поскольку нами владеет
технически-абстрактная форма мышления; и мы пребываем в исполнен-
ном особенностей, сотворенном чувством мире, где никогда не может
существовать ничто всецело универсальное, но только что-то имеющее
большее или меньшее значение, так как все единичное важно в нем
лишь в той степени, в какой представляется значимым породившее его
чувство.
И подобно тому как мы, с одной стороны, будем так или иначе счи-
тать порождением эмоциональной сферы все то, что формируется в на-
шем бытии нами и нашей психикой, что обладает самобытностью и мно-
гообразием, мы также предположим, что все универсальное и необходи-
мое, поставленное благодаря усилиям нашего духа над нами как неким
космос, проистекает из деятельности интеллекта.
68
Мы применяем это к истории и осуществляемой в ней последователь-
ной переработке жизненного материала, чему как раз и посвящены пре-
жние теории истории. Если историческая теория намерена утверждать,
будто в процессе переработки материала жизни и в нашей определяемой
jtiim исторической судьбе мы заключены в некие ряды объективной не-
обходимости, если она собирается убедить нас в существовании опреде-
ленной заранее познаваемой цели, к которой мы неминуемо движемся,
если стремится представить собою учение об эволюции в общепринятом
ныне упомянутом выше смысле, выскажем предположение, что она до
сих пор уделяла внимание только интеллектуальному развитию челове-
ка и повествовала исключительно о нем, т.е. лишь об одной половине
бытия нашего духа.
На самом деле, посмотрите: все великие учения об эволюции доны-
не сосредоточивались на факте интеллектуализации, все они — парафраз
одного обстоятельства, а именно такого, что человек, поскольку в интел-
лектуальной сфере он созидает из самого себя всеобщие и необходимые
духовные образования, в результате развития этой сферы оказывается
помещен в рамки неизбежных и неотвратимых закономерностей; неко-
торые из этих учений уделяют большее внимание предпосылкам нашей
интеллектуализации, некоторые — развитию сознания либо его формам
и содержанию, и в зависимости от точки зрения они прослеживают раз-
ные направления. Так, учение Фихте и Гегеля, гениальное, выдающее-
ся учение о неизбежном прогрессе в осознании свободы, достигаемом
человечеством, поэтапно движущимся от состояния бессознательного
следования инстинктам к совершенно разумному овладению бытием,
выводит на передний план — если отделить его от его метафизической
основы — не что иное, как развитие сознания и его последствия для наи-
более глубинного, личностного состояния Я, т.е. великий процесс ум-
ственного проникновения, который должен привести нас к сознательно-
му внутреннему возвышению над природным зависимым бытием. Обра-
тимся к другому примеру: придерживающееся, казалось бы, совершен-
но противоположного философского взгляда на мир учение Сен-Симо-
на и Конта, согласно которому всемирная история есть преобразование
религиозно и метафизически воспринимаемого и формируемого жиз-
ненного материала в такой, каким овладевают и какому придают образ
посредством позитивной науки, означает не что иное, как рассмотрение
того же самого процесса умственного проникновения применительно к
более внешней принадлежности Я к системе мира. И если Маркс, опи-
раясь на эти учения, затем растворяет весь мировой процесс в поступа-
тельной рациональной эволюции производительных сил, это просто вы-
ражает собой рассчитанное стремление использовать интеллектуализа-
цию для овладения силами природы, сделать это единственным движу-
щим механизмом и путем его невероятно одностороннего толкования
вывести из этой одной стороны интеллектуального процесса всю миро-
вую историю. По-видимому, это совершенно ясно. Но то же касается и
Спенсера. Как известно, он усматривает закономерное и необходимое в
историческом процессе в усилении альтруизма, переходе человеческого
общества от военного к меркантильному типу и превращении самого че-
ловека из человека, склонного к насилию, в человека сострадающего.
69
Если мы ощущаем это как констатацию необходимой и неизбежной пос-
ледовательности развития, — а что-нибудь из этого мы на самом деле
почувствуем таким образом, — итак, поскольку мы воспринимаем это
как что-то в таком роде, мы снова обнаруживаем в этом подтверждение
тому воздействию, какое оказывает на нас процесс нашей интеллектуа-
лизации: все черты альтруизации человеческого общества и отдельного
человека, проистекающие из идей, мировоззрения, религии и этических
предписаний, сколь бы несомненным ни было их присутствие и какое
бы значительное место они ни занимали в нашей душе благодаря хрис-
тианской морали сострадания, все же ощущаются нами как нечто такое,
чему мы повинуемся отнюдь не безвольно, что мы можем отвергнуть,
что, кстати, и намеревались в современный период упразднить новые
творцы мировоззрений. Но ни Ницше, ни какой-нибудь иной пророк не
в силах освободить нас от одной определенной стороны этого процесса,
а именно той, что восходит к росту осмысленности нашего внешнего и
внутреннего поведения, что делает для нас невозможной бездумную же-
стокость, специфическую жестокость ребенка, свойственную также всем
периодам примитивного существования, так как рефлексия освещает все
более обширные области нашей жизни и жизни других людей и тем са-
мым побуждает нас отныне сопереживать страданиям, которых мы преж-
де не чувствовали, поскольку не знали их, относиться к ним как элемен-
ту нашего внутреннего мира, сделать их одним из факторов образования
форм нашего бытия. Постижение новых сфер нашего бытия с помощью
мышления, возвышение неэгоистических врожденных инстинктов до
уровня сознания, активизация в нас этих альтруистических инстинктов
и определяемые ими деликатность и участливость в поведении — таков
и здесь процесс, чьих последствий нам никоим образом не избежать, где
и как бы ни формировалось наше мировоззрение. И так далее: если дру-
гие говорят нам, что имманентно присущий истории принцип состоит в
постепенном освобождении индивида от власти стоящих над ним объек-
тивных духовных сил, которым он был изначально подчинен, то в этом
мы ощутим как необходимое и неизбежное то, что сопряжено с ра зруше-
нием традиционных, не подвергнутых проверке, не объективированных
посредством рефлексии данностей. Но мы совершенно не в состоянии а
priori ничего сказать о том, не идет ли историческое развитие в таком на-
правлении, что взамен этих прежних, непроверенных, связующих челове-
ка обязательств и ограничений возникнут новые, возможно, еще более
сильные, принятые им на себя добровольно, а вместо уз, налагаемых тради-
цией, — цепи, которые он выковал себе сам. Мы и здесь воспримем транс-
формацию бессознательного состояния в осмысленное, преобразование
нашего существования благодаря внутреннему процессу интеллектуализа-
ции как необходимое проявление воздействия человеческого развития.
И так повсюду. Коль скоро наш интеллект хотя бы раз осветил какую-
либо сферу нашего бытия, коль скоро он — если использовать порядком
обветшалый, но понятный образ, — совлек покровы с его сумрачных глу-
бинных основ, нам не удастся сделать так, будто этот мрак никогда не
озарялся светом и будто мы ничего не видели. То. что мы узрили, уже
здесь, оно вошло в нашу жизнь и становится элементом нашего суще-
ствования. И если что-нибудь оказалось однажды возведено на уровень
70
освещения посредством сознания, наша психика облекает это в образ
интеллектуального мышления, благодаря этому расширяет и делает бо-
лее совершенным космос данностей нашего внутреннего и внешнего
интеллектуального аппарата; тем самым она создает внутри и вокруг нас
мир объективного, который станет нашей жизнью — тоже станет ею. И
поскольку прогресс нашего мышления, способствующий тому, что раз-
витие сознания распространяется на все новые области, никак не сдер-
жать, как не остановить движение сознания ребенка к взрослому состо-
янию, поскольку это вкупе с совершенствованием и улучшением интел-
лектуального овладения постигнутым совершается как автоматический
процесс, который мы не в силах затормозить, постольку мы подчинены
этим последовательным процессам альтруизации и индивидуализации,
внутренней рационализации нашего бытия в той же мере, что и процес-
сам внешней механизации и облечения в интеллектуализированные ап-
паратные формы. Таково позитивное содержание, какое мы можем из-
влечь из более ранних теорий, то, что они предоставляют нам с точки
зрения нашего видения истории.
Но здесь и их граница. У нас есть удачное выражение, которое мы в
действительности, хотя и полусознательно, применяем ко всем этим
процессам интеллектуализации: мы говорим о внешнем развитии циви-
лизации, если у нас перед глазами находится процесс поступательного
овладения природой, который есть не что иное, как внешний процесс
интеллектуализации и рационализации нашей жизни; и говорим о внут-
ренней цивилизации, о цивилизованности в противоположность варвар-
ству, если мы думаем о внутренней интеллектуализации, о том, что по-
ступки, которые примитивный человек совершает бессознательно, для
нас невозможны: присущая ему жестокость нам уже несвойственна, вла-
девшие им представления не будут более нас подчинять. Прежние тео-
рии анализируют, устанавливая всеобщие ряды и правила, фактически,
только процесс цивилизации: мы, постигая его в каком-либо конкретном
пункте истории и осознав его, сразу же воспринимаем его как неизбеж-
ность. Мы ясно ощущаем, например, что способность к рефлектирован-
ности и альтруизации в поздней античности могла быть отброшена на
столетия назад из-за вторжения новых людей: эта способность могла ут-
рачиваться в жизни самой античности в известных слоях населения; ее
развитие с точки зрения мировой истории в нашей сфере цивилизации
всем этим только задерживалось, но было и нечто вроде давления с ог-
ромной высоты, которое охватывало новые массы людей или не затрону-
тые цивилизацией слои населения в форме христианства; эта способ-
ность к рефлексии всегда приходила к новому человеческому материалу
в изменившихся обстоятельствах на той или на другой, более высокой,
чем ранее, ступени, и при этом на более широкой основе. Мы чувству-
ем: наш инструментарий, внешнее рационализирование, могли прийти
в течение истории к замедлению развития или частично забываться; они
могли в силу общественных обстоятельств даже упрощаться, но всегда
снова приходило в движение все построение, всегда более позднее раз-
витие логически присоединялось к уже существующему, всегда утерян-
ное снова замещалось теми или иными адекватными формами, всегда
космос, уже как бы преформирующпйся, прежде чем он возникнет вов-
71
не, существуя в нас, снова выстраивался в мире — постоянно на более
широком основании и более совершенным образом. Все это в известной
мере существующая в нас жизнь, которую мы, хотя и медленно, но не-
обходимо приводим к раскрытию.
Но по своим корням и сущности жизнь, развивающаяся через про-
цесс цивилизации, в своих истоках есть не более чем продолжение био-
логических рядов развитии человечества. Ибо все это опирается просто на
биологический прогресс процесса мышления, на схватывание-вокруг-
себя мыслительной переработки психического материала, на процесс,
который позволяет показать, как он, идя от данных от природы связей
человека, создает и востребует внешний мир; биолог сразу заметит, что
он регулируется совершенно теми же принципами приспособления, что
и развитие психофизической субстанции во всех формах. Это есть про-
должение биологического развития и — в более широком смысле этого
слова — сам биологический процесс по своему содержанию и воздей-
ствию: подобно тому как мыслительный аппарат и раскрытие предпри-
нятых им переработок происходят от необходимости приспособления и
востребованы ею, содержание подобной мыслительной переработки
жизненного материала должно являться как продукт, предлагаемый че-
ловеку для лучшего «оснащения» человека в борьбе за существование,
лучшей адаптации в окружающем мире... Рефлективное постижение,
внутренняя интеллектуализация и внешнее рационализирование наше-
го существования — просто техническое оформление материала жизни,
наподобие того, как овладевают чем-то внешне и внутренне в более лег-
ких формах, деятельное проявление себя в нашем бытии, благодаря чему
мы поднимаемся над нашими чисто животными биологическими данны-
ми до специфически биологических человеческих; пусть при этом в ка-
кой-то точке мы придем к угрозе нашему существованию — мы неверо-
ятно раздвигаем пределы нашей внутренней и внешней сферы господ-
ства в жизни, но посредством этого мы сохраняем и расширяем только
наше природное существование. И все, что сделано до сих пор для эволю-
ционного обобщения истории, в сущности относилось просто лишь к
нашему биологическому развитию, к нашей эволюции в качестве есте-
ственнонаучного вида, к нашему природному потоку жизни.
Но сегодня мы чувствуем, что над всем этим стоит культура, что мы
под развитием культуры понимаем нечто иное, нежели тот или иной
биологический процесс, нечто отличное от расширения наших жизнен-
ных возможностей, от формирования их необходимости и полезности с
точки зрения целесообразности этого процесса. Мы чувствуем, культуры
нет в течении этого природного потока, мы никогда не сможем понять
ее или найти в нем. Да, культура в известном смысле начинается только
там, где прекращается непосредственное воздействие этого потока, где
наше существование обретает образ посредством целеполагания, которое
в биологическом смысле надцелесообразно или нецелесообразно и кото-
рое не может быть выведено, с-точки зрения продолжения существова-
ния и лучшего обеспечения нашей природной жизни, из биологическо-
го пребывания человека в окружающем мире. Мы чувствуем: одним из
самых больших и плоских упрощений последнего времени было то, чго
этих фактов не замечали, культуру и природную жизнь смешивали друг
72
с другом, говорили о развитии культуры, лишь когда просто улучшалась
природная жизнь, когда усовершенствовали паровую машину, т.е. обучи-
ли одного человека вместо восьми обслуживать ткацкий станок, когда
начали летать с двигателем внутреннего сгорания в воздушном простран-
стве и при помощи рентгеновских лучей расширили возможности физи-
ческого зрения, одерживали все новые победы в борьбе с бациллами,
опасными для жизни. Все это факты невероятной важности, вещи и ус-
пехи, завораживающие нас по праву, ибо они завоевывают для нас но-
вый мир или открывают еще неведомые силы в старом, возвышая нас от
мелкого и ограниченного, недолговечного и окруженного со всех сторон
угрозами вида до торжествующего победу, в значительной мере стояще-
го над болезнями и опасностями; но все эти факты, хотя и дарят нам но-
вую жизнь, пока не дали ничего, кроме натуралистического нового суще-
ствования, изнутри совершенно неоформленного, внутренне еще не под-
веденного к каким-либо последним принципам и внутренне не возвы-
сившегося над самим собой. Только тогда, когда это произойдет, когда
жизнь от своей необходимости и полезности придет к стоящему над
ними образу, только тогда будет существовать культура.
Я думаю, мы снова сегодня чувствуем и понимаем, что в целеполага-
ниях биологически-природной жизни нет таких, которые связывают су-
ществование со стоящими над ним принципами и создаваемым изнутри
формированием, не найдем мы и несущие их силы в психологическом и
биологическом механизме, построенном природной жизнью, интеллек-
туальные преобразования которых до сих пор рассматривали интеллек-
туалистические теории истории. Да, мы поймем, что вообще не сможем
найти эти силы в видимом мире, поскольку используем для этого интел-
лектуальные формулы и стремимся, исходя из них, открыть ими же со-
зданные закономерности. Ибо эти формулы и законы — лишь осадок
рационально сформированного мира понятий, того духовного мира, в
котором мы пребываем, мира, ограниченного господством необходимого
и полезного в нашем бытии, духовным постижением нашего чисто био-
логического существования, для более глубокого понимания которого, как
вскоре будет ясно, этих формул и законов недостаточно. И мы должны
за созерцаемым таким образом миром в его зримости доходить до транс-
цендентального в чисто интеллектуальном смысле, до метафизической
основы, если мы хотим постичь, что такое культура, и включить ее во
всеобщие явления жизни.
При этом не имеет особого значения, какую из различных метафизи-
ческих мыслительных конструкций мы изберем, чтобы найти в этой ос-
нове пункт, из которого проистекают все наши действия в сфере культу-
ры. Ведь все метафизические конструкции необходимы лишь для того,
чтобы мысленно уточнить нечто в своей сущности недоступное мыслям
и понятиям, ибо оно находится вне созерцаемого мира, из которого мы
их строим. Это только путь аналогий и пояснений, а не истинная речь о
чем-то подлинном, где путь и форма не важны. Но совершенно ясно:
если мы хотим понять, что такое культура и культурная деятельность, то
существует пункт, где нечто становится понятным хотя бы в виде наме-
ка; из этого пункта мы и придем к тому, чтобы действовать в известном
смысле сверхбиологично, возвышаясь над целесообразностью в природ-
73
ном смысле, даже противоположно целесообразности; действовать
сверхцелесообразно не только с точки зрения личности и сохранения ее
существования, ибо эти возвышающиеся над целесообразностью дей-
ствия, позволяющие нам служить государству или классу, сколь это ни
удивительно, входят в природную жизнь; они существуют повсюду — уже
в биологическом процессе поведение, посредством которого биологичес-
кая жизнь длительно сохраняется, есть метафизическая основа этих дей-
ствий. Но мы поступаем нецелесообразно и жертвуем личностью, как
уже было сказано, ради чего-то, что для продолжения жизни является из-
лишним, но тем не менее ощущаем это как ее высший смысл, то. ради чего
она дана: ради мысли, которая в своей реализации, быть может, уничто-
жит самую жизнь и, тем не менее, порождает у нас чувство, что стоит
жить и умереть; ради произведения искусства, которое может поколебать
все формы и принципы жизни, может действовать разлагающе и разру-
шающе, но чье существование мы все-таки ощущаем как более высокое
и живое, нежели все здоровое, которое оно разрушает.
Я говорю — достаточно безразлично, какую метафизическую вспомо-
гательную конструкцию основания мы используем, чтобы найти исход-
ный момент и сделать все понятным. Я не хочу объяснять здесь, почему
я следую за Шопенгауэром, а только хочу из соображения удобства рас-
суждать вместе с Шопенгауэром. Итак, я говорю об основании нашего
действия, о глубочайшем основании нашего бытия, которое уходит за
пределы разделения мира на субъект и объект, об основании нашего бы-
тия, которое — называть ли его волей или как-нибудь иначе — из-за
того, что оно уходит корнями за пределы этого разделения мира, за пре-
делы того рубежа, которые сознание проводит через все сущее разделе-
нием субъекта и объекта, сообщает нам волю как глубочайший после-
дний импульс нашего действия, чтобы преодолеть этот principium
individuationis*, в который мы заперты, чтобы сломать, взорвать про-
странственно-временные границы нашей личности и создать синтез са-
мого себя и объективного мира — и тогда будем растворены — он в нас,
а мы в нем. Это есть момент, исходя из которого то личное сверхцелесо-
образное биологическое действие, самоотречение отдельного для чего-то
всеобщего, действие, которое служит опорой самой жизни, становится в
последней инстанции понятным; на это со своей стороны намекает ес-
тествоиспытатель, говоря, что непосредственной внутренней целью жиз-
ни является поддержание вида. Но это значит только, что силы, которые
несут биологические действия, находятся за пределами индивидуально-
го: они есть воля, которая принуждает эти индивидуации к разрешению
в жизнь. Это и есть момент, исходя из которого мы поймем наше куль-
турное действие и сущность культуры — именно тогда, когда мы это при-
нуждение и волю к синтезу не будем мыслить только на уровне нашего
витального бытия, только между видом и биологическим субъектом и
только для круга чувств и волеизъявлений, которые их охватывают, но
будем мыслить на тех высотах нашего бытия, где встречаются мир и ду-
ховная личность, т.е. все объективное содержание бытия во времени и
наше внутреннее бытие, когда мы мыслим отношение единства воли ко
Принцип индивидуации (jam).
74
всем тем содержаниям, которые, если они встречаются, бывают заклю-
чены в них как совокупность. То, что возникает в таком случае, что со-
здает единство воли нашей метафизической экзистенции, когда оно на-
правлено на обретение целостности нашего собственного внутреннего
бытия вместе с целостностью всего внешнего мира, который противосто-
ит ему, и что представляет синтез личности и мира, — это и есть культура
и культурное деяние.
Это может, видимо, происходить только посредством втягивания всех
вещей в центр нашего бытия и одновременной отдачи этого центра миру,
посредством деяния и воплощения, при котором объективный мир по-
гружается в нас, а в личном действии, в том же процессе, погружается в
сформированный мир и личность; в определении этого действия какие-
либо целесообразности не участвуют; они исчезают, потому что в круге
тех вещей, которые при этом образуют нечто единое, теряет свое значе-
ние сохранение вида, и собственные цели больше не существуют. И про-
цесс, о котором идет при этом речь, может — это видно и без лишних
усилий — получить для себя разрешение лишь с двух сторон и объектив-
но лишь в двух формах: или личность впитывает в себя мир, которому
она отдается, и заключает его в форму свободно сотворенного продукта,
переплавляя себя с ним, рождает из себя мир в образе объективации: в
них изначально пребывает единство, которое личность ищет, — так возни-
кает художественное произведение. Либо она, втягивая в себя все объектив-
ное, формирует в себе образ мира, единство, внешне еще не существующее,
воплощаемое в мире только ею самой, которому она и должна придавать
жизнь и образ. Отсюда возникает то, для чего личность должна жертвовать
собой, — идея. Нет иной формы предметно объективного воплощения куль-
туры, нежели художественное произведение и идея, и нет иного продуктив-
ного носителя культуры, нежели художник и пророк.
Однако личность и не нуждается в объективировании вовне в вещное.
Она может совершить это и в себе. Синтез — то единство, к чему она
стремится, — она может осуществить в себе, в своей чистой экзистенции,
она может его просто пережить; и при этом безразлично, переживает ли
она единство, которое творит сама, или же, подобно огромной массе
людей, переживает чужое единство, синтез, созданный художником или
пророком.
В обеих формах есть центр, в который мы втягиваем мир объектив-
ного, горнило, в котором мы его расплавляем и видоизменяем, центр
нашего чувства, т.е. наше чувство жизни. В обоих случаях вещи, которые
мы творим, помещены ли они нами во внешний мир или же остаются в
конечном счете в нас, созданы чувством, однако не так, будто это после-
дний импульс, позволяющий им возникнуть, в то время как интеллект
придает им форму, а так, будто свершается творение, созидание образа,
уплотнение посредством чувства. В обоих случаях это предметы иного
психического мира, о котором мы говорили вначале. В том и другом слу-
чае мы наполняем мир не всеобщим, а конкретным, если мы все пере-
житое воплощаем не в художественном произведении, не в субъектив-
ном бытии, а в том, что так часто и неверно называют мыслью — в фор-
мировании идеи. Мы можем, воплощая ее в образе, вынужденно рабо-
тать с понятиями, которые предлагает нам интеллектуальная переработка
75
жизненного материала, можем вообще поместить идею в созерцании в
оболочку таких понятий: она всегда есть то, что она есть, и все же нечто
другое, она, в конечном счете, всегда есть порождение нашего чувства,
она всегда вырастает из материнской почвы общего восприятия жизни.
Идеи, как и все связанное с культурой — выражение чувства, не абстрак-
тное общее понятие, а совершенно конкретная вещь. Это, можно ска-
зать, те самые конкретные вещи в жизни, которые имеют значение все-
общего, не только как нечто фактическое, которым обладает и каждый
значительный биологический факт. Мы ощущаем их как ценность, ради
которой мы любим жизнь и историю, ибо они представляют в ней нечто
большее ее самой, то, благодаря чему и сами мы можем стать большим,
чем мы есть. Задача социологически ориентированного культурологичес-
кого исследования состоит ныне в том, чтобы объяснить из жизни дина-
мическое вырастание конкретностей, которые мы обозначаем как куль-
туру; их сущность и понятийная установка по отношению к прочим фак-
там жизни уже описаны. При этом должна быть очевидна ее сущностная
основа, возникновение и динамическое значение чувства жизни, совер-
шенно конкретной почвы, на которой все эти вещи произрастают. Этим
должно будет заниматься каждое социологическое культурно-теорети-
ческое исследование. Мы не можем больше следовать за материальным
направлением в теории культуры при существующем понятийном разно-
бое. Остается еще сказать следующее. Как бы ни сложилось ощущение
времени, ощущение творческого духа этого времени, из скольких раз-
личных компонентов оно бы ни строилось, — а в действительности оно
создается всегда из многих старых и новых компонентов, — один его
компонент должна составлять природная жизнь, к которой оно непос-
редственно относится, в которой оно возникает и которая участвует в его
становлении, и оно всегда будет новым и иным, вместе с изменением
жизни. И таким образом из каждого изменения жизни, из которой оно
вновь вырастает и к которой оно относится, должна возникнуть новая
задача возвысить его от бесформенного состояния, в которое оно вновь
попало, до другого — оформленного и культурного.
Жизнь меняется. Это вызывается уже ее биологической природой,
стремлением экспансии сил, действующих в ней и создающих бесконеч-
ный круговорот народов, государств, классов, семей и отдельных людей.
Это вызывается также уже упомянутым, всегда прогрессирующим про-
цессом интеллектуализации и цивилизации, который непрерывно при-
дает этому стремлению к экспансии сил новые формы рационализации
и новые возможности деятельности; этот процесс непрерывно сдвигает
условия отдельных областей жизни в их борьбе, меняет реальное поло-
жение и соотношение сил, постоянно смещает общие предпосылки
внешнего бытия, преобразует общий взгляд на жизнь извне, подобно
тому как он в своем внутреннем развитии непрестанно трансформирует
и воззрение на мир изнутри, бытие, как оно созерцается изнутри. Фак-
тически мы пребываем внутри процесса, который все время длится, где
быстрее, а где медленнее, в некоторых моментах истории и Земли как
будто непрерывно, в других — вероятно, только с перерывом в тысяче-
летия, но всегда мы перед новым бытием, перед новой субстанцией, ко-
торые мы должны выразить в образе. Стремление выразить их в образе.
76
сколь бы сложно оно ни было в своих истоках и оттенках, стремление,
формируемое (оставляя в стороне непосредственно пережитое и созер-
цаемое бытие) меняющимися склонностями людей, культурными, рели-
гиозными, метафизическими основами, которыми обладает любое вре-
мя, а свое собственное особенно, — перед ним новое бытие и ставит но-
вые задачи в обновляющемся времени.
Очевидно, культурный процесс может, с этой точки зрения, и не быть
процессом развития в обычном смысле, в нем не заложено материально
данное конечное содержание, нет содержательно поставленной после-
дней цели в себе, он не стремится к раз и навсегда данной форме бытия
и к последнему содержанию бытия, созерцаемому в конкретности. Его
задача становится, в значительной мере в результате преобразования и
прогресса самой природной жизни, всегда новой и всегда выраженной в
иной форме. Его суть может быть только следующей (по крайней мере,
насколько мы. люди, можем понять его путь): всегда заново пытаться
поднять в вечном потоке бытия эту жизнь до вечности и абсолютного;
мы ощущаем, что они вознесены над жизнью и все-таки находятся в ней,
и поднимаемся до абсолютного, ибо наше культурное чувство и действие
не имеют ничего общего с относительностью, они стремятся к вечному.
Но возвышенное, прекрасное и доброе или то, что мы при этом хотели
бы считать истиной, есть не материально раз и навсегда данное, это —
диадема, к которой мы прикасаемся и которую любое время пытается
водрузить себе на голову; каждый раз она сияет не только над совсем раз-
личными ликами, но и сама всегда иная, и это разным временам удает-
ся понять по-разному. В этом нет прогресса.
Утверждали даже, будто условия для такого понимания, для преобра-
зования представления о вечности в нашей жизни становились все хуже;
трагичность культурного процесса состоит якобы в том, что мы, пытаясь
воздействовать на формирование культуры, привносим тем самым в
жизнь объективации, которые нас самих в конце концов разрушают, по-
тому что они обретают бытие по своим собственным законам, и ему мы
должны подчиниться, вместо того чтобы воплотить его в образе.
При этом большая часть попавших в поле зрения объективации (го-
сударство, право, экономика и все другие формы общественных инсти-
тутов, которыми нам надлежит наполнить нашу жизнь) являются преж-
де всего продуктами процесса цивилизации, чисто биологическими об-
разованиями. Это не объективации культуры, они созданы и сохранены
стремлением к существованию, его расширением и его борьбой, от него
они получают подлинный первоначальный, внутренний и необходимый
образ, и от тех средств, которыми оно пользуется для своего осуществле-
ния, образованных посредством интеллектуализации. Эти объективации
и построение жизни общества, совершенно произвольно таким образом
помещенное в бытие, становятся предметом (так как культура означает
придавать жизни форму), которому культура сообщает свой образ, стано-
вятся, возможно, величайшим, важнейшим, во всяком случае значитель-
ным, предметом. Тенденции цивилизации и цели культуры сталкивают-
ся в своих требованиях и встречаются в них. Вез сомнения, нужно счи-
тать громадным счастьем возможность формирования образа времени,
если общественные образования не настолько фиксированы создавшим
77
их стремлением к жизни, чтобы затруднить их переработку в форме
культуры. Это было счастьем всех ранних времен, которые еще облада-
ли более слабой рационализацией и потому в известной мере — не зас-
тывшими пластическими созданиями цивилизации. Сегодня мы стоим
перед проблемой, когда естественные основания этой биологической
жизни принимают в больших областях, в экономике, государстве, фор-
мы, которые структурно настолько фиксированы, что, как представляет-
ся, в них исключено всякое личное воздействие. Однако эта естествен-
ная форма не создана волей культуры, а эти объективации изначально не
проистекают из нее самой, и они не превосходят простую жизнь, кото-
рую культура только должна еше воплотить в образ, точно так же в этом
отсутствует и трагичность развития культуры, которое бы само себя
уничтожило. Ситуация такова, будто мы для наших культурных преобра-
зований из плодородного и богатого окружающего мира, данного приро-
дой, перемещены в бедный, скалистый, скудный неподатливый мир, с
пригодной для нас земли на неудобную. В этом заключен рост притяза-
ний к нам, усложнение задач, которые мы должны решить, и больше
ничего. Но существование культуры и ее задач в наше время от этого не
зависит. В этом, быть может, состоит даже момент, усиливающий волю
культуры и совершенно несомненно чувство культуры. Ибо человек, по-
мещенный в высокоорганизованную, каменную, скудную, наполненную
машинами среду нашего сегодняшнего бытия, является, как любой из
его предшественников, не только исчисляющим и изъявляющим волю,
но и чувствующим субъектом, он, как любой другой, преисполнен мета-
физическим стремлением преобразовать это бытие, чтобы оно стало еди-
ным с его чувством. Чем менее это чувство обнаружит сегодня в природ-
ных формах бытия удобный для себя материал, чем больше они ему со-
противляются, тем более мощно это чувство перейдет в потребность
культурного преобразования этих форм, тем более подчеркнуто оно дол-
жно ценить все культурные явления и с тем большей ясностью оно сно-
ва поймет специфическую природу всего связанного с культурой. Мы
ощущаем это сегодня повсюду. Если, однако, мы в глубине души, нако-
нец, вновь узнаем, что, вопреки обывательскому, свойственному циви-
лизации обожествлению интеллектуализма и форм его существования,
культуру создает наше чувство, когда мы познаем, что игнорирование
этого факта было основной опасностью прошедшего и настоящего вре-
мени, когда постигнем, что из-за смешения нашего метафизического
чувства с ratio, или разумом, мы стали считать чисто технические сред-
ства жизни и их понятийные образы ее высочайшим содержанием, что
этим история поставила нас на колени перед фетишами не живыми, а
мертвыми, тогда опасность, что мы будем задушены этими фетишами,
будет преодолена, ибо тогда мы, действительно, могли бы сказать им, по-
знанным нами: «Прислуга, выйди вон!». Когда мы переживем образование
новых внутренних понятий, которое, вместо рациональных, для внешней
жизни необходимых общих представлений и понятий, наполнит нас конк-
ретными значениями всеобщего, символами чувства, тогда, исходя из них,
поскольку всякая внешняя форма бытия всегда есть только проецирован-
ный вовне внутренний мир, и наша слабость состоит сегодня в том, что мы
еще не содержим в себе надрационального внутреннего мира форм, то, го-
78
ворю я, тогда мы преодолеем этим новым миром форм и внешнюю форму,
мир современной механизации, преодолеем в культуре.
Если же конструировать периоды развития культуры, то было докар-
тезианское время (сколь несомненно в нем еще существовали следы схо-
ластики!), в котором создаваемое в культуре образование понятий было
еще вполне конкретным, рационально не разложимым, внутренняя
жизнь была полна образов и, подобно языку, полна картин; внешне вос-
принятая, она полностью сохраняла внутренне прочувствованную фор-
му, преисполненную живой крови, как каждое слово Шекспира или каж-
дое изваяние Микеланджело; затем наступило картезианское время, в
котором вследствие внутренней рационализации и обобщения все поте-
ряло свою окраску, каждый внутренний образ медленно улетучивался, а
внешний — приобретал общую форму; это продолжалось столь долго,
что, в конце концов, внутренне система сложилась из мертвых формул,
а вовне мир — из пустых механизмов. За этим последует посткартезиан-
ское время, за рациональным — пострациональное время и период куль-
туры, когда еще будут познавать и использовать эти формулы и механиз-
мы, но когда мир полнокровной действительности, создаваемый извне,
несомненно, также и этими формулами и механизмами, но внутренне
основанный на совсем иных принципах, этот иной мир составит наше
внутреннее содержание. Так же, как Декарт пережил тот день, когда он
понял, что он разрушил свой старый внутренний мир и должен заменить
его другим, и каждый из нас переживет день, когда начнет строить в себе
новый мир.
II
Социология культуры и толкование смысла истории9
Существует такой способ отношения к миру, природе, жизни и истории,
который стремится увидеть за предметами и процессами их «смысл»,
воспринимая этот «смысл» не путем прозрений и интуитивно как нечто
невыразимое, а как ясное осмысление, что-то, поддающееся определе-
нию. При этом способе отношения мир, в конечном итоге, должен иметь
своим средоточием интеллектуальный дух, Логос, который излучает
энергию, к которому приближаются и который даже в своих последних,
глубинных слоях, в своем центре, сродни человеческому интеллекту, так
что последний способен его постичь и, следовательно, им овладеть. Там,
где с позиции религиозного мировоззрения помещается Бог, пребывает,
при таком подходе, духовное начало, которому человеческий дух иденти-
чен по характеру и структуре, а значит, в том, что касается путей его дви-
жения, познаваем и объясним. Согласно таким представлениям, осоз-
нать — значит оказаться в середине мира, освободиться от пут только
фактического бытия. Это мировоззрение, при всем его весомом ценно-
стном содержании, всегда будет разворачиваться в плоскости, лежащей
за миром явлений, будет стремиться понять и интерпретировать много-
образие вещей с позиции пребывания «по ту сторону» от них и рассмат-
ривать ход истории в некотором роде как поступательное движение духа
79
и тем самым почти неизбежно как «прогресс», т.е. как развитие, которое,
с точки зрения свойственного данному взгляду на мир рационализма,
доступно изучению и заключается в ценностно обусловленном целенап-
равленном движении. При таком подходе единичным явлениям угрожает
опасность утратить самостоятельное значение и «уступить» его познава-
емому «смыслу» целого. Это мировоззрение воспринимает абсолютную
сущность без какой бы то ни было отстраненности, непосредственно как
нечто, всецело поддающееся понятийному выражению.
С точки зрения второго способа отношения к бытию эта абсолютная
сущность как совокупность мирового и исторического процессов не по-
стижима с помощью человеческого разума и также не может быть понята
как некий доступный восприятию «рассудок» вещей. «Говорить об абсо-
лютном в теоретическом смысле невозможно» (Гёте)" — «Куда Я иду, вы
не можете прийти»4'. Это совершенно справедливо для этого второго
взгляда на мировой процесс, при том даже, что с ним отнюдь не обяза-
тельно связывать то религиозное по характеру отношение к глубинной
сути данного процесса, из какого проистекают последние слова. Приня-
тые человеком категории разума и рассудка, возникшие в гесных рамках
его бытия, не адекватны мировому процессу и его сущности, они не мо-
гут до него возвыситься. Они столь же мало способны охватить «смысл»
мирового целого, насколько наши мировоззренческие категории не в
состоянии объять Вселенную в ее пространственном и временном изме-
рениях. С позиции такого подхода вопрошать о смысле мирового и ис-
торического процесса означает для человеческого разума нечто «транс-
цендентное». Все, что берет начало в последней и глубочайшей сфере
бытия и вовлекает в нее человеческий разум, люди именуют «судьбой».
К этой судьбе, которую нельзя постичь, ведет только мостик чувства, ду-
шевной связи. Это единственный путь к трансцендентному. Такой иод-
ход к бытию, если он не имеет окончательным результатом веру в откро-
вение либо более не способен окончательно ею удовольствоваться, дол-
жен искать абсолютную сущность и освободиться от приверженности
исключительно фактам в подчиненном абсолютному мире ценностей
там, где есть непосредственная связь души с абсолютным, т.е. там, где
оно переходит в трансцендентную ему область явлений. Абсолютное же
трансцендентно выражает себя в явлении в доступной человеку форме
там, где оно принимает совершенные очертания, облик, какой человек
может воспринять исходя из своих глубинных душевных устремлений,
посредством которых он ощущает себя слитым воедино с Вечностью.
Подобным способом абсолютное может трансцендировать в чем-то воз-
вышенном, священном, прекрасном, во всем идеальном, в каждом вели-
ком и совершенном образе. Человек, придерживающийся такого подхода
к бытию, привержен именно образу. В мире преходящих вещей после-
дний видится ему подобием и олицетворением абсолютной сущности.
Я признаю себя сторонником этого последнего подхода и задаю воп-
рос: какой уклад жизни из него проистекает в такое время, когда в сфе-
ре собственной культуры прекратилось, казалось бы, всякое определяе-
мое душой созидание образа современности, когда исчерпали себя и сде-
лались чуждыми былые, более ранние формы воплощения, когда облик
души к тому же утратил наивную непосредственность и естественность
80
как способ выражения; «явление», в каком обнаруживает себя абсолют-
ная и вечная сущность, выступая в неслыханном множестве видов, вос-
ходящих ко всем эпохам и всем регионам, теснит сферу эмпирии, реаль-
но пережитого, и мир символов истории обступает нас подобно огром-
ному многоголосому хору; когда, следовательно, форма выражения абсо-
лютного обретает относительный характер и само абсолютное тем самым
кажется упраздненным с позиций человеческого познания, если только
не будет все же предпринята попытка двигаться тем, отвергнутым как
невозможный, путем, который предписан нам с точки зрения первого
способа отношения к бытию, и уяснить «смысл» абсолютного в его ос-
новных чертах и его сущности, самим перейдя в лежащую по ту сторону
явления область трансцендентного. Не завершится ли это время сумяти-
цы форм, пансциентизма и панисторизма, — коль скоро оно не станет в
метафизическом смысле панлогистическим. — неизбежным душевным и
духовным релятивизмом, сопряженным с психологическим ощущением
утраты родины, а в личностном отношении — неразборчивым потреби-
тельством, бесхарактерной неустойчивостью и слабостью и, таким обра-
зом, признанием закономерности наступления всеобщего распада форм?
На этот, задаваемый снова и снова, вопрос, который предстоит ста-
вить еще не раз, есть лишь один ответ, коренящийся в итоге в опыте
жизни совершенно индивидуального свойства. Но ответ такой, какой
допустимо применить и к сфере всеобщего и который поэтому приводит
к умозаключениям, направленным на духовную познавательную деятель-
ность, — умозаключениям, о которых мне надлежит коротко сказать.
Ответ на вопрос о наличии хотя бы какой-нибудь точки опоры, кото-
рый в условиях релятивистской путаницы, множественности образов и
наружной зыбкости очертаний возникает в определенный момент у вся-
кого, кто вопрошает самого себя, — это осознание справедливости муд-
рых слов Гёте о неодолимости «собственного закона»: «Ты — это только
ты, не что иное»5'. Сущность того, кто ты есть, предопределена. Но, бу-
дучи однажды уяснено, это относится не только к индивиду, который
испытывает это непосредственно и к которому обращены данные слова,
но в той же мере к эпохам и культурам. Это только кажется, что в про-
цессе познания и в стремлении понять существование чужих народов,
прошедших времен и определяющих их облик форм утрачиваешь само-
го себя. На самом деле воспринимается из этого лишь то, что уже дано
в «вероятной реальности», т.е. виртуально. Все, имеющееся налицо в ус-
ловиях нерешительных колебаний между двумя видами реальности и
ощущения своей «относительности» применительно к адекватному спо-
собу выражения собственного бытия, способному быть ориентиром, и
собственному подобию и символу, в каком видят и изображают вечность,
сводится к осознанию того, что мы живем в период неразвитости форм
собственного существования и, пребывая в таком состоянии, с тоской
ищем избавления в чуждых способах выражения. Именно это, а не мно-
гообразие и полнота воплощений, служит причиной представлений о
мнимой относительности сущего, распространяемых затем на сферу аб-
солютного. В действительности чужую форму выражения бытия и в та-
ком случае не понять до конца. Эта форма сохраняет адекватность только
в отношении существования иных народов и иного времени. Но она пи-
81
чуть не утрачивает из-за этого абсолютного характера, более того, она
как раз поэтому обретает его. Ибо абсолютное являет себя на Земле толь-
ко через конкретную (такую, которая в ее конечной, чуждой нам сущно-
сти недоступна восприятию), неповторимую исключительность индиви-
дуальных способов выражения существования отдельных народов и эпох.
По крайней мере, для такого типа людей, которые в состоянии увидеть
абсолютное только «в образе» и которым недостаточно создаваемых с
этой целью интеллектуальных формальных построений, дело обстоит
именно так.
Релятивизм, свойственный нашей панисторической и пансциентис-
тской эпохе, есть, следовательно, не что иное, как симптом собственной
слабости, невозможности реализовать свою способность созидать формы
и тем самым жить в сфере абсолютного. Эта эпоха не в силах представить
и увидеть вечное в образах, рожденных родной землей, и вот она скита-
ется по полям брани всех времен и народов и, дрожа в ознобе, укрыва-
ется то среди руин, запечатлевших очертания былого, то в складках оде-
яний чужих богов.
Наша эпоха стремится так или иначе освободиться от этого состоя-
ния. Она немедля достигла бы этого, будь ей предоставлена счастливая
возможность творить символический образ. Пока ей этого не дано, она
в отчаянии вопрошает: какие необходимы для этого условия? В чем при-
чина собственной отверженности, тяготеющей над ней подобно каино-
вой печати, и где основная предпосылка большей мощи других эпох и
исторических образований? Но затем все чудесные образы и прочие на-
роды, служившие до сих пор средством сокрытия собственной души и
исполненной тоски мимикрии, с этого момента вдруг обращаются в не-
что иное. Из суррогата реальных переживаний они внезапно становятся
материалом познания, с помощью которого пытаются ориентироваться.
И в этот момент совершается то, к чему мне здесь надлежит кратко под-
вести свои рассуждения: возникает5 новая наука; возникает повсеместно,
вырастая так или иначе из этого основополагающего события; ею начи-
нают заниматься в одно и то же время и ученые, и непрофессионалы;
охватывая всю соЕюкупность данных истории и опыт современности, она
стремится найти ответ на вопрос об условиях формирования символи-
ческих образов на Земле, о закономерностях становления наделенного
спасительной силой мира явлений. Все равно, как именовать эту науку:
социологией культуры, морфологией культуры или как-нибудь иначе.
Применительно к истории и миру созданных человечеством образов ее
насущные задачи аналогичны тем, какие в свое время ставил перед со-
бою Гёте в отношении образов природы*. Она стремится разрушить ог-
раничения, которые содержит в себе система Линнея6', рамки только
фактического и как бы разложенного по отдельным отсекам бытия бес-
конечного мира исторических явлений, уловить то неизъяснимое соеди-
няющее начало, из которого он произрастает в его многоликости, про-
никнуть взглядом его субстанцию, покуда она находится в некотором
роде в жидком состоянии и тем самым обнаруживает свои взаимосвязи,
на этой основе уяснить условия, определяющие различные способы ее
' Это правильно понял и выразил Шпенглер.
82
кристаллизации, и в итоге получить в свои руки ключ к многообразию
мира явлений, к формам его движения, периодам его расцвета и упадка —
ради того, чтобы дать ответ на тот названный мною ранее, решающий
для его судьбы вопрос.
Ее подход отличается от философского. Она не пытается вывести дви-
жение истории, феноменологию бытия из постижения «смысла», нахо-
дящегося по ту сторону вещей. Таким путем должно было бы подойти к
проблеме охарактеризованное в самом начале отношение к бытию как
творению Логоса. Но здесь мы сознательно придерживаемся идеи, что
переживаемый нами образ есть то последнее, что доступно восприятию;
что человеческое познание неизменно определяется явлением и подчи-
нено ему. Путь истолкования может лишь эмпирически и интуитивно
идти от явлений очевидных, лежащих на поверхности, к явлениям глу-
бинным, от результирующих феноменов к первичным, от сложного об-
раза к более простому. Это путь, каким следовал Гёте, изучая природу;
мы ступили на него ради постижения истории.
Чего мы достигнем на этом пути? Говоря вполне открыто и непред-
взято, даже в наиболее читаемых новых книгах, авторы которых намере-
вались продемонстрировать его результаты, и прежде всего именно в
них, этим путем, я полагаю, доныне никто не шел. Если, следуя таким
путем, охватить на нем все человечество, — а иначе идти по нему нельзя,
— он откроет почти безграничные перспективы. Но не эти перспективы,
а понимание вполне конкретных периодов расцвета и упадка, существо-
вавших в человеческой истории, возникновения совершенных форм вы-
ражения и великих людей в абсолютно конкретных исторических обра-
зованиях и в конкретные эпохи, — именно это он должен предоставить
в качестве ответа на настоятельно требующий своего решения вопрос о
переживании. Чересчур поспешный ответ на данный вопрос, несомнен-
но, хуже, нежели его отсутствие, и при любом ответе следует иметь в
виду, что его задачей никоим образом не должно быть составление пред-
сказаний на будущее. Ни один эмпирический способ рассмотрения ни-
когда не в состоянии будет этого сделать. Он способен всегда только по-
казать то уникальное и неповторимое, что содержит в себе всякая, в том
числе теперешняя, ситуация, и лишь определить, какое место мы зани-
маем во всеобщем ходе истории в целом, помещая в рамки этого, нео-
братимо развивающегося, необозримого единства как прочие историчес-
кие процессы, так и нынешний. Этот способ рассмотрения не в состоя-
нии предречь, что с нами будет, но, вероятно, он может дать нам при-
мерное представление о том, каковы наши возможности и задачи, пока-
зывая нам картину могучего потока, в котором мы находимся и который
в его собственном движении тоже участвует в формировании устремле-
ний нашей воли и устанавливает их границы.
Как бы то ни было, — не предпринимая здесь попыток рассуждать
далее, — таков первый результат, получаемый даже при непродолжитель-
ном движении новым путем и касающийся его перспектив для человече-
ства, — это общее представление о едином процессе человеческой циви-
лизации, который проникает собой историю, понимаемую как целост-
ность, и поступательно в ней развивается, следуя законам логики. Он
являет собой постепенно выдвигающийся на передний план внутренне
83
взаимосвязанный интеллектуальный Космос, соединяющий в себе прак-
тическое знание и зависимые от него средства и методы созидания вне-
шних форм бытия и подчинения природы; теоретических воззрений и
обусловленного ими последовательного становления и совершенствова-
ния образа мира и собственного Я; озарений мысли и порождаемой ими
формы все усиливающегося духовного овладения бытием; — нечто, пред-
стающее перед человеком, где бы он ни был, наподобие априорно суще-
ствующего в уравновешенном состоянии мира; то, что в ходе истории
человек все полнее раскрывает перед собой, что в своих уже выявленных
структурных элементах распространяется далее на все человечество, вов-
лекается в его существование и простирается между ним и природой на-
подобие обширной, духовной и материальной, промежуточной области
знаний и вещей. К нему как единому процессу развития, протекающе-
му в истории, вполне применимо то, чему учит философия, говоря о
«прогрессе» человечества в целом, если только показать его здесь, совер-
шенно не акцентируя ценностных представлений, и рассматривать с чи-
сто фактической стороны в качестве феномена, — ощущая его, коль ско-
ро мы вообще облекаем его в одеяния человеческих чувств, скорее, как
«судьбу», которой человек обрек себя, совершив свое прометеево дея-
ние*, — при том, что с точки зрения его ключевой сути невозможно с оп-
ределенностью установить, послужило ли это ему на благо или во зло.
Исходя из нового способа рассмотрения, именно в этот поток разви-
тия и его поступательное движение погружены обособленные друг от
друга различные крупные исторические образования человечества. Они
возникают в нем как самобытные структуры с их собственной участью,
они растут, стареют и перестают существовать. Эти исторические обра-
зования конструируют свое социальное предметное воплощение теми
средствами, какие им всякий раз предоставляет всеобщий поток цивили-
зации, ее уровень, достигнутая ею ступень развития. Они строят его в
особой форме, сообразной их географическим, климатическим услови-
ям, направлению их исторического развития, и созидают его в соответ-
ствии с особенностями их судьбы, так что происходящий в них «соци-
альный процесс», как мы намереваемся его именовать, обнаруживает в
каждом из них собственные закономерности, даже если в большей час-
ти этих образований он демонстрирует в значительной мере типичные,
повторяющиеся линии и формы развития.
Но этот социальный процесс, как показывает дальнейшее рассмотре-
ние, находится в определенного рода динамическом взаимодействии с
духовными преобразованиями общего характера, какие вызывает к жиз-
ни проникающий собою, подобно потоку, все исторические образования
и нарастающий в них процесс цивилизации. И эта динамика служит
предпосылкой становления и поступательного движения третьего нача-
ла: сферы культуры, которая по своему типу и способу выражения все-
цело определяется рамками того или иного исторического образования
и зависит от его участи; которая основана на стремлении души выразить
себя в этих образованиях и для которой предметное, социальное, как и
духовное, сопряженное с развитием цивилизации, «приумножение жпз-
' Удачное определение, найденное Фрайером и «Прометее».
84
ни», уже имеющееся налицо в каждом из них, представляет собой лишь
субстанцию, материал, которому надлежит, руководствуясь побуждени-
ями души, придать некую форму и по возможности возвысить его до
символического образа.
Когда же удастся создать этот символический образ, когда он подни-
мется до отображения трансцендентного по своему характеру, т.е. отно-
сящегося к сфере непреходящего, содержания абсолютной сущности в
особом материале, особой форме выражения того или иного историчес-
кого образования в ту или иную эпоху, когда он станет там реальным
свершением либо воплотится в некую определенную личность, — на этот
жизненно важный вопрос, из-за которого мы и ступили на данный путь,
надлежит со всей осторожностью и при тщательном исследовании все-
го исторического материала ответить новому учению. То, что я пытался
здесь наметить, предоставляет ему необходимый для этого инструмента-
рий. При этом, что вполне очевидно, данное учение должно подвергнуть
анализу, касающемуся каждого исторического образования и разных пе-
риодов его бытия, сложившуюся там социологическую ситуацию, соот-
ношение типа и стадии становления общества и общественного движе-
ния, развития цивилизации и устремлений в культуре, для того чтобы
впоследствии уяснить и истолковать периодичность и ритм наблюдаемо-
го в нем движения культуры. Таким образом, оно, вероятно, также ока-
жется способно, если оно заглянет в своих изысканиях достаточно глу-
боко и сведет воедино уже исследованные потоки, достигнув при этом
нынешней эпохи, дать представление о положении в сфере культуры и
о задачах сегодняшней ситуации.
Здесь только необходимо, совершенно независимо от какого бы то ни
было особого результата, сказать следующее. Со всей очевидностью на-
прашивается вывод: в то время как учение о прогрессе человечества це-
ликом справедливо также для упомянутого выше процесса цивилизации
как образования и дальнейшего непрерывного совершенствования опре-
деляемой интеллектом формы бытия человека, в области культуры, пред-
ставляющей собой отображение абсолютного начала в душе, прогресс
невозможен. Здесь существуют только свершения и неудачи, периоды
расцвета и упадка в зависимости от того, насколько глубоко душа про-
никнет в субстанцию бытия и переработает ее и обретет ли эта последняя
в той или иной форме символический образ — обращенный к миру или
отрешенный от мира, художественный или пророческий, — смотря по
обстоятельствам. Этот вывод кажется «пессимистическим» только тому,
кто полагает, будто смысл бытия не заключен в конечном итоге в реаль-
но пережитом совершенном явлении, кто оказывается вынужден еще
доискиваться до лежащего по ту сторону явлений, воплощенного в сис-
теме понятий логического смысла. Для любого другого это звучит утеши-
тельно; ибо в таком случае всякое новое приумножение жизни опять
выдвинет задачу созидания форм и снова откроет возможность преодо-
ления «образа» и выражения души в трансцендентной для нее сфере яв-
лений.
85
Часть II
Осколки идей
i
Конституционное или парламентское правление в Германии?10
Внутриполитическая ситуация в Германии и международное положение
страны в последнее время настолько интересуют всех и каждого, что это,
я бы сказал, вызывает некоторые подозрения. Пространно рассуждать на
эту тему ныне начинают не только вечно недовольные ворчуны и песси-
мисты. Сильнее обычного волнения, вызванные событиями в Марокко,
и напряженность, какой сопровождались последние выборы в рейхстаг
и которая далеко превосходила реальную значимость породившей ее не-
посредственной причины, стали двумя симптоматическими признаками
одной и той же странной ситуации, которую в самых общих чертах, ве-
роятно, можно охарактеризовать следующим образом: представляется,
что существует некое несоответствие, проявляющее себя в области внеш-
ней политики как расхождение между вполне обоснованными намерени-
ями страны и тем полем деятельности, какое ей оставляют политические
обстоятельства, а также обнаруживающее себя во внутренней политике
как несовпадение справедливого стремления населения к самоопределе-
нию и той степени самостоятельности, которая оказывается для него до-
стижима в силу весьма своеобразного соотношения в сфере разделения
власти внутри страны. Но вместе с тем нельзя не почувствовать, что воп-
рос внутренней организации, осуществления властных полномочий в
Германии связан с вопросом внешнеполитического господства. Между-
народное положение Германии было бы, вероятно, совсем иным, если бы
страна являлась демократической; но совершенно не подлежит сомнению,
что натянутость, существующая в сфере внешних сношений, оказывает
вполне определенное тормозящее воздействие на развитие страны и тем са-
мым углубляет внутриполитическую напряженность. Таким образом, ны-
нешнее внутриполитическое и международное положение Германии пред-
стает как единая проблема, а именно проблема стагнации или дальнейше-
го нарастающего становления, которая кажется особенно странной на фоне
быстрого внешнеполитического усиления большинства других стран мира
в условиях поднимающейся со всех сторон и омывающей «утес германско-
го консерватизма» волны демократии, стимулирующей сегодня также уско-
ренное внутреннее развитие прочих государств.
Настоятельный характер данной проблемы и порождаемую ею напря-
женность теперь ощущают в Германии даже там, где в течение последних
десятилетий «делали политику», т.е. в лагере консерваторов и в прави-
тельстве. Одним из наиболее существенных результатов этого является
наметившаяся в настоящее время странная тенденция к объединению
консерваторов и либералов. Необходимость разрешения проблемы чув-
ствуют и в настоящее время уже ищут — и в этом заключается характер-
ная особенность — средства защитить себя.
Остроумные статьи Шмоллера, опубликованные третьего и четвертого
86
числа этого месяца в «Новой свободной прессе», по своему уровню, несом-
ненно, существенно превосходят простую аналогию; они держатся в рамках
связанного с длительной исторической перспективой, опирающегося на
многочисленные сопоставления с другими странами анализа основ внеш-
неполитического положения и внутренней структуры современной импе-
рии. Они многому научат всякого читателя вне зависимости от его полити-
ческих пристрастий. Однако статьи написаны не ради интересной истори-
ческой перспективы и аналогий; также не из-за всецело верных замечаний,
касающихся международного положения и скромной цели германской
внешней политики. Напротив, они учитывают названную «проблему» и за-
думаны здесь как апологетическое сочинение. Они формулируют эту «про-
блему» как вопрос: необходим ли переход от прежней бюрократической си-
стемы правления к министерствам, состав которых определяется партиями?
Либо, что, очевидно, значит то же самое, надлежит заменить существующий
в настоящее время так называемый конституционный режим7* парламент-
ским правлением? Статьи Шмоллера — попытка опровергнуть такую необ-
ходимость и возможность.
Конечно, достаточно интересно и то обстоятельство, что сторонники
сохранения прежнего положения дел сегодня вообще оказываются вы-
нуждены затрагивать все эти вопросы применительно к Германии. Но
рассуждения Шмоллера обретают особое значение еще и потому, что
причины, побудившие его отвергнуть для Германии парламентскую фор-
му правления и выступить в защиту конституционализма, не специфи-
чески германские, а имеют всеобщий характер; что их, за исключением
Англии, надлежало бы применить почти ко всем странам, и особенно к
Австрии, и что их справедливость тем самым становится делом не толь-
ко Германской империи, а касается практически всех. Пусть это послу-
жит оправданием, если здесь — снова в самой тесной связи со специфи-
ческими проблемами Германии — предпринята попытка дать несколько
иную картину, опять-таки не для того, чтобы внести отдельные исправ-
ления в концепцию Шмоллера, — она в этом не нуждается, — но чтобы
показать, что при другом подходе даже отдельные факты сочетаются
между собой иначе, вследствие чего картина в целом предстает совер-
шенно иной.
i
Тому, кто намеревается понять конституционное развитие современной
Пруссии-Германии, надлежит — как это ни банально — вспомнить, что
империя была создана только после того, как потерпела неудачу попыт-
ка воздвигнуть ее на демократической основе, после того даже, как было
окончательно сломлено демократическое движение — первоначально в
его самой общей форме в 1848 г., затем во второй раз, с еще большей на-
стойчивостью, в его буржуазной форме в эпоху конфликтов8*. Корона
вкупе с армией и чиновничеством — таковы были одержавшие верх фак-
торы господства в стране, когда Бисмарк заключил с правым крылом ли-
бералов компромисс, результатом которого стала конституция Германс-
кой империи. Так в Германии возникло то, что ныне именуют комсти-
87
туционализмом. Это означает, следовательно, что изъявление политичес-
кой воли остается прерогативой прежних авторитарных властей и что
парламент, несмотря на то, что он обладает правом законодательной
инициативы, на деле оттеснен на пассивные роли. Тот факт, что выра-
жающий политическую волю орган государственной власти, а именно
правительство, формируется не на основе парламента, а представляет
собой группу доверенных лиц престола, которой надлежит каждый раз
каким-либо образом согласовывать преследующую конкретные цели по-
литику короля или императора с фракциями парламентского большин-
ства, отражающими различные направления волеизъявления народа,
служит тому только внешним проявлением.
Является ли эта система, которая так долго господствовала и в Авст-
рии, воистину «системой», т.е. действительно окончательным решением
проблемы конституционного устройства, способной в качестве «другой
формы» стать наравне с совершенно ясным решением, выраженным в
парламентской системе, которая переносит политическое волеизъявле-
ние в парламент и оттесняет монарха — по меньшей мере в сфере внут-
ренней политики — в общем и целом на пассивную роль?
Как я говорил, в парламентской системе волеизъявление осуществляется
парламентом, в конституционной — авторитарной властью. Эту мысль мож-
но выразить также следующим образом: в первом случае оно в руках наро-
да, во втором — нет. Правда, в 1873 г., когда Ласкер1)\ выступая в парламен-
те, впервые противопоставил «народ» авторитарной власти и сказал о сосре-
доточенной в парламенте воле народа, с которой следует считаться, Бисмарк
в своей получившей широкую известность речи с чрезвычайной решимос-
тью утверждал, что монарх, он сам, его министры, все чиновники и армия
также принадлежат к «народу», поэтому такого противопоставления не су-
ществует. Тем не менее ясно, что это меткое высказывание только удачно
скрывает вполне очевидный антагонизм и что горячность, с какой оно было
произнесено, обусловлена тем. что здесь как раз оказалась задета ахиллесова
пята всей системы конституционализма. Ибо как парламенту, так и наро-
ду отведена в ней пассивная роль.
Но кому же вверяет народ отнятую у него функцию формирования
политической воли? Существует ли вообще в конституционной системе
поддающийся определению пункт, где происходит такое становление
воли, есть ли предусмотренная законом форма, в какой оно воплощает-
ся? На это приходится отвечать, что таковых нет и что в этом заключа-
ется лреотоу фе06о^ всей теории конституционализма. До сих пор форми-
рование политической воли в Германии было прерогативой двух, после-
довательно сменивших друг друга у власти, государственных деятелей. До
1890 г. это был Бисмарк, затем — отправивший его в отставку император.
Таким образом, несмотря на пока недолгое существование империи, ис-
точник определения политической воли в государстве однажды уже сме-
нил свое идеальное местоположение. Если предположить, что грядущий
венценосец не будет наделен политической энергией и инициативным
характером, а окажется натурой пассивной, функция формирования
воли, очевидно, снова должна будет перейти в другие руки. Кому же она
Первоочередная обязанность {грсч.).
88
в таком случае достанется? Стоит только задаться этим вопросом, чтобы
осознать несостоятельность всей теории. Ибо чиновничество, знать, ар-
мия, т.е. все сконцентрированные вокруг престола факторы авторитариз-
ма, повидимому, вовсе не располагают легитимными формами, в каких
происходило бы становление политической воли, — не говоря уже о том,
что ныне они ни при каких условиях не могут на законных основаниях
стать ее основным источником. Они, наряду с монархом, могли бы им
быть в феодальном или абсолютистском государстве, при отсутствии ка-
кого-либо механизма принципиального урегулирования дел. Но сегодня
ни один политически зрелый народ, имеющий конституцию, очевидно,
не может в такой степени предоставить формирование собственной по-
литической воли игре случая, который в силах даровать ему в качестве
руководителей выдающихся людей, но также способен сделать его пред-
метом игры ни на что не годных своекорыстных группировок. Итак, кон-
ституционная система отнюдь не является решением проблемы.
п
Ведь даже в двух относительно благоприятных сочетаниях, в каких доны-
не существовала в Германии эта система, она не зарекомендовала себя
как решение проблемы. Как при Бисмарке, так и при теперешнем режи-
ме, несмотря на то, что текст конституции оставался неизменным, ни на
мгновение не стихала борьба за пересмотр ее внутреннего содержания.
Ведь наделе парламент ни вначале, ни потом не позволил оттеснить себя
на отведенную ему, по существу пассивную роль; он поступил так пото-
му, что, будучи выразителем активных устремлений воли народа, не мог
поступить иначе. Примерами служат некоторые этапы непрекращаю-
щейся борьбы между правительством и рейхстагом — борьбы, от которой
страдает империя.
В 1873 г. Бисмарк, отвечая на запрос Вирхова10', заявил, что в Прус-
сии из-за раскола партий «до настоящего времени» нет возможности со-
здать партийные министерства. Одновременно он резко выступил в рей-
хстаге против тезиса Ласкера о «воле народа» и ее значении. Но в нача-
ле 1878 г., когда он вернулся из отпуска с новыми идеями, касавшими-
ся налоговой и экономической политики империи, и обнаружил, что на-
ционал-либералы11' по численности почти образовали парламентское
большинство, он начал с ними получившие широкую известность пере-
говоры о привлечении парламента к формированию кабинета мини-
стров, ставшие не чем иным, как кульминационным пунктом непрестан-
ной скрытой борьбы между ним и партией, и потерпевшие неудачу от-
нюдь не вследствие доктринерской узости взгляда либералов на эконо-
мическую политику, как утверждалось недавно, а из-за проблемы, содер-
жание которой можно выразить вопросом: быть или не быть парламен-
тской системе? Ибо Беннигсен12' требовал создания кабинета, образован-
ного действительно на основе национал-либеральной партии и сформи-
рованного по существу им самим, в то время как Бисмарк стремился все-
го лишь включить в него некоторых либеральных лидеров в качестве сво-
его рода заложников правительственного курса. Ведь парламентский ре-
89
жим, не состоявшийся просто в силу того, что Бисмарк, как тотчас совер-
шенно правильно отметил Трейчке13*, превосходил всех как личность, и
без того был бы наверняка снова сметен шедшим из России потоком тер-
роризма, ознаменовавшим свой путь покушениями, и последующей вол-
ной реакции. Но, и это представляется важным, система конституциона-
лизма, теория и практика которого, собственно говоря, только теперь
окончательно сложились в Германии, не оправдала себя. Спустя десять
лет после великого перелома, в 1890 г., основоположник этой системы
оказался вовсе не способен управлять далее сообща с парламентом, ка-
ковой он, из-за непрерывных изменений в структуре парламентского
большинства, буквально бросал из стороны в сторону, так что он, чело-
век, создавший конституцию, начал измышлять план преобразования
этой конституции посредством государственного переворота. Как ныне
установлено, именно это и стало истинной причиной его отставки.
То, что последовало за крушением первой фазы развития конститу-
ционной системы, представляло собой сначала неопределенную атмос-
феру всеобщего примирения; в этой атмосфере, характеризовавшейся
унаследованным от режима Бисмарка неудовлетворительным, вследствие
их раскола, состоянием представленных в рейхстаге партий, постепенно
стала обретать все более четкие очертания вторая фаза конституциона-
лизма, ознаменованная переходом функции формирования политичес-
кой воли непосредственно к монарху при продолжавшемся оттеснении
парламента на пассивные роли. Итогами же этой второй фазы были пол-
ный распад всех устойчивых партийных группировок, концентрировав-
шихся вокруг правительства; фактическое превращение всех партийных
образований в оппозиционные партии, которые, не считаясь с прави-
тельством, выдвигали резкие безапелляционные требования, так что пра-
вительству удавалось осуществлять свои задачи только вступая с ними в
тайные переговоры, т.е. не следуя четкой программе — так называемый
«зигзагообразный курс», означавший повторный крах идеи конституци-
онализма. Затем приблизительно с 1900 г., при нынешнем рейхсканцле-
ре14*, на авансцену снова выдвинулась система установления долговре-
менных контактов правительства с определенными партиями, формаль-
но получившая воплощение в попытке создать состоящее из клерикалов,
консерваторов и национал-либералов парламентское большинство, с ко-
торым не удалось, однако, достичь согласия относительно принятия оп-
ределенной программы, — тем самым тогдашний конституционализм
уронил бы свое достоинство; поэтому сохранять единство такого боль-
шинства приходилось за счет того, что ему втайне предоставляли воз-
можность оказывать некоторое воздействие на подготовку проектов пра-
вительственных постановлений. При этом считалось, что правительство
смогло очень удачно выйти из положения в установлении степени вли-
яния парламента — парламента, который между тем ввиду непрерывно-
го оттока из него талантов дошел до небывалого упадка своего духовно-
го значения и которому только для того, чтобы вывести его из состояния
агонии, нашедшего выражение в затянувшейся неспособности прини-
мать решения, пришлось в конце концов прийти на помощь и одобрить
выделение средств на своего рода инъекцию камфоры — оплату присут-
ствия на заседаниях. И все-таки даже по отношению к этому парламен-
90
ту не удалось правильно оценить соотношение сил, и конституционная
идея оказалась поверженной. Ведь так называемые партии большинства,
не получившие никаких обещаний относительно возможности осуществ-
ления каких-либо конкретных пунктов программы, тоже ощущали себя
ничем не связанными в своем поведении. В особенности наиболее силь-
ная из них, партия Центра, вовсю наслаждалась как законными радостя-
ми, обусловленными ее статусом правящей партии, так и запретными,
выпадавшими на долю оппозиции; она украдкой, но вполне настойчиво
оказывала воздействие на дела правительства и при этом публично клей-
мила перед всем миром это правительство за спровоцированные ею же
самой колониальные конфликты.
Тем самым оказалась доведенной до абсурда и эта форма конституци-
онного правления; произошел крах и этой фазы конституционализма —
недавний поворот означает именно это, а не является простой сменой
курса. В настоящий момент Германия переживает период, когда она сно-
ва настолько приблизилась к осуществлению идеи парламентаризма, что
правительство составило собственную программу на основе требований
определенных партий и руководитель делами государства ради того, что-
бы поистине сохранить большинство за правящими партиями, обязался
реализовать эту программу и тем самым в значительной степени связал
с ней свою личную судьбу. Такова новая ситуация, ставящая нас, по мне-
нию Шмоллера, перед вопросом: идет ли речь о чиновничьем или
партийном кабинете министров?
ш
Вполне очевидно, что при охарактеризованном так общем ходе развития
дальнейшее становление парламентаризма кажется неизбежным, заранее
предопределенным результатом. Почему же Шмоллер все-таки отверга-
ет такую неизбежность? По его словам, две сильные партии, представля-
ющие на самом деле две крупные, сросшиеся между собой благодаря
родственным связям группировки знати, у которых к тому же нет глубо-
ких, принципиальных политических разногласий и которые поэтому без
особой борьбы снова и снова могут сменять друг друга в правительстве,
создают единственно постижимую с исторической точки зрения, но,
впрочем, обреченную на упадок и не способную возродиться более ниг-
де предпосылку, на которую теперь, как и в прежние времена, опирает-
ся парламентский режим в Англии — из всех когда-либо существовавших
форм парламентаризма он один функционировал хорошо. Там, где эти
предпосылки отсутствуют, парламентское правление невозможно либо,
по меньшей мере, оно действует плохо. Следовательно, оно не является
решением проблемы прежде всего там, где, как в Германской империи,
царит партийный раскол, и оказывается всецело непригодным там, где
— опять-таки как в Германской империи — партии в их развитии транс-
формировались в классовые. Франция, Италия и т.д., с их сменяющими-
ся то и дело кабинетами министров, не успевающими полностью рас-
крыть свои возможности, — вот служащий нам предостережением при-
мер основанного на партийном расколе парламентского способа правлс-
91
ния; однако парламентаризм, основанный на господстве классовых
партий, вообще совершенно немыслим.
Попытаемся и на сей раз ответить на эти дискуссионные высказыва-
ния не теоретически, а с помощью конкретных рассуждений. Сначала о
такой причине, как партийная раздробленность. Разве стремление ста-
вить созданный на такой основе ныне действующий во Франции демок-
ратически-республиканский, т.е. чисто парламентский режим по его ка-
честву ниже тех, что существуют в прочих странах, не знаменует собой
явного произвола? Разве не способен этот режим поставить себе в заслу-
гу, можно сказать, блестящие успехи, которых достигла Третья респуб-
лика за 36 лет своего развития — создание огромной колониальной им-
перии; по-прежнему остающееся весьма влиятельным и даже, несмотря
на утрату двух провинций и отсутствие прироста населения, усиливаю-
щееся международное положение? Разве он не преуспел в реализации
великих замыслов также во внутренней политике — в осуществленной
Ферри15* секуляризации школы, которая в Германии пожинает плоды
клерикализма, поскольку там он до сих пор не изжит; в проведенном на
этой основе отделении государства от церкви и т.п.? Что значат по срав-
нению с этим и кратковременность существования министерств, и неиз-
менно интерпретируемое как недостаток отсутствие решительной нало-
говой реформы, которая в силу возросшего налогового бремени, обус-
ловленного поенной историей Франции и ее долговыми обязательства-
ми, без сомнения, настоятельно необходима, но в то же время, что столь
же несомненно, именно поэтому оказывается сопряжена с особыми
трудностями? Представляется очевидным, что хорошее парламентское
правление, опирающееся на демократические партии и партийную раз-
дробленность, тоже возможно, и именно Франция, проводящая ныне
политику создания блоков, нашла для этого технические средства, так-
же всецело отличные от английского образца.
А классовый характер современных партий, якобы не позволяющий
их лидерам прийти к власти в качестве министров? Здесь тоже можно
было бы сослаться на пример Франции, где разложение партий вслед-
ствие их превращения в классовые зашло почти столь же далеко, как в
Германии. Но, по-видимому, неплохо было бы снова вернуться непос-
редственно к сути нашего вопроса. Правительство, сформированное на
чисто парламентской основе с учетом того, кому при нынешнем соотно-
шении сил в Германии принадлежит большинство, представляло бы со-
бой, по причине родства политических позиций, консервативно-клери-
кальный кабинет министров, т.е. было результатом соединения партии
определенного класса с неким конфессионально-консервативным кон-
гломератом. Разве это по содержанию не было бы тождественно тому,
как если бы в Англии партия тори правила сообща со святейшей церко-
вью и в немалой степени в интересах этой последней? Такое правитель-
ство отличалось бы значительным единством и при этом, что наиболее
важно, ни в коей мере не было бы классовым. Шмоллер утверждает: не-
мецкий народ не потерпел бы консервативно-клерикального правления.
Тем лучше; единственным и к тому же совершенно надежным средством
от появления такого правительства стала бы — если бы она сложилась —
коалиция левых сил начиная с Бассерманак,\ подобная той, что в виде
92
блока уже существовала в Бадене; в свою очередь, она, представляя боль-
шинство, на основе которого комплектуются министерства, образовала
бы правительство, которое во всех важных вопросах культуры выступа-
ло бы по существу согласованно; конечно, оно тоже было бы результа-
том сочетания классовых партий, но, с другой стороны, определенно не
классовым кабинетом. То же касается и всякой другой вероятной комби-
нации. Пусть современные партии стали или становятся классовыми —
за исключением некоторых выпадающих из их общего ряда радикальных
идей это служит для интеллектуалов необходимостью и благом, — при
парламентской системе это никоим образом не приводит к формирова-
нию классового правительства; но любое правительство, опирающееся
на парламент, в Германии, как и повсюду, непременно должно было воз-
никнуть на основе нескольких классовых партий, представлять точку
зрения различных классов, т.е. поистине являться правительством, опре-
деляющим политику, — точно таким, какое ныне существует в Англии,
только опирающимся на представителей иных партий, имеющих более
ясную политическую позицию.
Если это столь очевидно, почему бы не осуществить в Германии пере-
ход к парламентской системе, которая позволила бы оправиться от неудач,
преследовавших империю со дня ее возникновения? Системе, способной —
в этом не сомневается даже Шмоллер — снова вывести на арену политичес-
кой жизни наиболее одаренных представителей народа и осуществить тем
самым то важнейшее, в чем в политическом смысле так нуждается великий
народ? Почему бы нет? — Отчего возникает тихая недоверчивая усмешка,
которой, наверно, уже повсеместно сопровождается чтение последних при-
веденных здесь доводов? Ответить приходится так: нельзя не ощутить, что
вопрос становления в Германии конституционной или парламентской си-
стемы на деле не связан просто с логическими обоснованиями и теоретичес-
ким осмыслением, что его, по всей вероятности, не разрешить посредством
одних только высказываний «за» или «против». Мы имеем дело с вопросом
о степени влияния разных политических факторов в государстве, и его ре-
шение будет зависеть от продолжающегося и в какой-то момент, по-види-
мому, еще более упорного их противоборства, потому что ведь именно эти
попытки померяться силами до сих пор и составляли реальное содержание
всего процесса развития.
Но для чего же тогда вообще рассматривать данный вопрос в теоре-
тическом аспекте? На это замечание надлежит ответить следующим об-
разом: ведь идеи в конце концов служат облаченным властью обществен-
ным и политическим группировкам чем-то вроде вспомогательного от-
ряда, и потому представляется все-таки важным выразить их ясно. До-
ходчивое и предельно четкое изложение мысли не только создает сред-
ства, необходимые для действия, но и раскрывает его цели. Но это нача-
тое Шмоллером разоблачение, как мне кажется, сегодня необходимо для
того, чтобы разрешить опять ставший актуальным вопрос о системе
правления, имеющий особое значения для Германии. Ибо то, что каса-
ется некоторых целей политической деятельности, можно было бы по
отношению к нам, немцам, выразить еще и так: «Кто страшится идеи,
утрачивает и понятие»17'. Всякий честно мыслящий человек согласится с
тем. что такой исход нежелателен.
93
II
Теодор Моммзен*
Жизнь и личность ученого в общем представляются в его биографии чем-
то не заслуживающим подробного описания. Достаточно перечислить его
свершения, т.е. труды, за которыми, согласно теории «объективной науки»,
его индивидуальность должна как бы исчезнуть, стать неразличимой. Ему не
подобает обнаруживать себя в своих произведениях, и по большей части его
не стоит там «искать», т.е. стремиться изучить самого человека. По отноше-
нию к Моммзену и в том, и в другом случае дело обстоит иначе. Он как лич-
ность присутствует в собственных трудах; и всякий, кто хотя бы мельком
виделся с ним, чувствовал как будто легкий «удар бича» — импульс, порож-
даемый соприкосновением с незаурядным человеком. Каждый ощущал: это
было что-то необычное. Что именно?
Раскройте любые несколько страниц «Римской истории» — все равно
какие. Через некоторое время и здесь появляется ощущение «удара током»,
сопровождающее встречу с чем-то необыкновенным. В первый момент воз-
никает стремление отнести это ощущение на счет стиля. Но скоро замеча-
ешь, что стиль этот чрезвычайно прост, ровен и ясен. Начинаешь сознавать,
что способность данного текста во многих местах запечатлеваться в памя-
ти подобно кинжальной насечке объясняется отнюдь не формой изложе-
ния, более того — чувствуешь себя всецело увлеченным содержанием. От-
чего же так захватывающе действует содержание этой чуждой нам истории,
описанной Моммзеном? Нас поражает небывалая предметность реконст-
рукции ушедшей жизни. Образы действующих лиц, которые в традицион-
ной историографии остаются схематичными, предстают нам в их рельефно-
сти как определенные типы характеров. По прочтении кажется, будто эти
господа с римского форума столь хорошо нам знакомы, что мы могли бы
заранее сказать, как они повели бы себя, будь они перенесены в нашу эпо-
ху. Это осуществленное во всей полноте новое пробуждение жизни из руин
и завалов прошлого — величайшее достижение, на какое в художественном
смысле вообще оказывается способен историограф, — по-видимому, еще не
увлекло бы нас так сильно, в конечном итоге только бы заинтересовало.
Скажу больше. На самом деле римская история Моммзена захватывает нас
как потрясающей глубины огромная трагедия, как наша собственная участь.
В некоторой степени дело тут, несомненно, в самом материале. Ведь по су-
ществу, вероятно, немного найдется столь же значимых тем, как становле-
ние и расцвет этого явившегося основой всех государств величайшего из
народов, который растратил самого себя, решая эту грандиозную задачу. Но
лишь благодаря Моммзену мы в состоянии ощутить это в полной мере, ибо
только с момента выхода в свет его «Римской истории» мы это видим, воо-
чию воспринимаем мощнейшую эволюцию, при которой экономические,
коллективно-социальные и индивидуальные силы народа неотвратимо вос-
ходят к точке кульминации и столь же неотвратимо в грандиозном и роко-
вом по своим последствиям процессе внутреннего разложения движугся к
Из журнала «Die пене Gesellschaft» («Новое общество»), изд. Генрих Браун и
Лили Браун, 10.12.1906.
94
разрушению, обращаясь в некие «продукты распада», которые и послужи-
ли основанием нашей нынешней культуры. Такова одна сторона вопроса,
которая нас привлекает. На каждой странице римской истории мы ощуща-
ем подоплеку этой сильнейшей взаимосвязи, которая повергает нас в тре-
пет. Здесь нет ничего мелочного, второстепенного, случайного, необяза-
тельного — повсюду только этот мощный процесс. Но, кроме того, мы вос-
принимаем этот процесс с его периодами расцвета и упадка во всех его пре-
вращениях как связанный со средоточием нашей личности, тем наивысшим
и глубинным, к чему мы стремимся и на что уповаем, теми наиболее интен-
сивными эмоциями, на какие мы способны — не такими, что отражают рас-
хожую мораль, но озаряющими нас подобно внутреннему пламени. Мы не
просто видим перед собой людей из плоти и крови, не только фандиозную
историческую взаимосвязь, в условиях которой они действуют. О них и этой
взаимосвязи нам повествует человек, с пылким неравнодушием восприни-
мающий то великое и по-людски мелочное, что совершается там, человек,
который, возводя нас, с одной стороны, на уровень непредвзятых оценок и
понимания неизбежности происходящего, в то же время со всей силой стра-
сти убеждает нас, что «глубина человеческого сердца» не уступает могуще-
ству пролагающей свой путь судьбы.
Такова индивидуальность, которая ощущается за страницами этого
произведения; человек, одаренный фантазией и богатством чувств поэта,
способный на великий замысел, наделенный силой и страстью духа,
присущими незаурядной и, без ложной скромности, великой личности.
Возникающее у нас особенное чувство непосредственно порождено
именно тем, что к нам обращается такая личность.
Таким образом, становится ясно, что биофафию Моммзена нельзя пи-
сать «невзирая на человека». Поэтому Людо Мориц Гартман в некрологе на
смерть Моммзена, помещенном в «Биографическом ежегоднике», руковод-
ствуется представлением, что сочинения Моммзена, в отличие от трудов
исключительно «кабинетных» ученых, можно понять только исходя из
свойств его личности. Проследим немного за его рассуждениями. Только
что мы попытались вкратце осветить индивидуальные особенности этого
«ученого мужа». Но коль скоро мы намереваемся постичь самые неповто-
римые черты характера Моммзена, нам нужно идти дальше. Ибо наиболее
примечательное и самобытное свойство этой личности состоит в том, что
упомянутые выше качества поэта, человека страстного и вдохновенного,
теснейшим образом связаны с элементами совсем иного рода, формирую-
щими «ученого» в узком смысле слова, и что эти последние элементы вы-
ражены еще много сильнее, нежели первые.
В этом человеке, наделенном фантазией и страстью, критический
склад ума, способность и стремление к анализу оказываются столь силь-
ны, что он, будучи еще гимназистом, страшится собственного аналити-
ческого механизма и стремится ограничить его ради спасения своего
«вдохновения». Эта склонность, побудив его идти в науку самым, веро-
ятно, «безжизненным» путем, путем занятий юриспруденцией, впослед-
ствии приводит к тому, что он в возрасте 26 лет обращается к наиболее
именитым представителям исторической науки с требованием призна-
ния нового метода, состоящего в глубоком и детальном исследовании
фактов. Этот метод обрекает его на почти непосильную, определившую
95
все его дальнейшее существование работу по критическому анализу ма-
териала; с другой стороны, в жизни он до такой степени отражается на
его личности, что всякому, кто знал его недавно, именно сарказм и иро-
ния могли казаться самыми характерными чертами этого человека, в
душе которого неизменно присутствовали, как некий свет, необыкно-
венная теплота и почти по-женски нежная чувствительность.
А вот еще один «краеугольный камень» его личности, по отношению
к которому критический склад ума служит в некоторой степени только
формой выражения: это самое распространенное и менее всего поддаю-
щееся объяснению свойство ученого — инстинктивное безоговорочное
неприятие всего непознанного, неясного, неопределенного; неприятие,
которое, будучи обращено на созидание, знаменует собой постоянное
внутреннее стремление к анализу действительности, с этической точки
зрения соотносимое с использованным Гартманом понятием «достовер-
ности»; по отношению к такому человеку, как Моммзен, это стремление
являет собой нечто подобное снова и снова сжимающейся сама собою
пружине, которая, распрямляясь, сообщает ему энергию, необходимую
для движения к вершинам научной деятельности. Вспомогательным
средством при этом служит невероятная работоспособность, которая в
лучшие годы его жизни позволяла ограничиваться пятью часами сна;
благодаря ей он, например, после почти двухлетнего пребывания в Ита-
лии оказался в состоянии написать в течение одного года полсотни ста-
тей, опубликованных Институтом истории.
И наконец, мостом, связующим научные задатки с поэтическими,
служит присущая ему способность проявлять инстинктивную научную
интуицию и создавать предугадывающие реальность гипотетические по-
строения, — способность, которая обнаруживается у него столь сильно,
что позволяет молодому человеку чуть старше 20 лет от роду после пер-
вых попыток изучения разрозненных, подобных древним руинам, источ-
ников по истории Рима увидеть там, будто в некоем озарении, наиболее
существенные структурные элементы, с помощью которых он спустя 50
лет работы снова восстановил перед нашим взором римскую жизнь. Это
и есть, наряду со всеми прочими «особенностями», еще один, в таком
сочетании просто феноменальный талант ученого.
Исходя из этого, Гартман — без сомнения, вполне оправданно, —
выявляет в судьбе Моммзена как научного деятеля два лейтмотива: с од-
ной стороны, две эти разные по характеру склонности, как бы подталки-
вая одна другую, помогают достичь выдающихся результатов, а с другой
— они противоборствуют друг с другом, порождая тем самым страдание
и необходимость самоотречения, на какие они, будучи соединены в од-
ном человеке, обрекают своего носителя. Неодолимая жажда истины и
критическое умонастроение, как я говорил выше, побуждают молодого
исследователя, делающего в своей науке только первые шаги, тотчас выд-
винуть требование, ниспровергающее основы прежнего способа научной
работы, — требование собрать воедино и просмотреть все документы,
имеющие отношение к римской традиции, и прежде всего приступить к
составлению corpus inscriptionum', т.е. свода всех, подлежащих критичес-
' С под надписей (.tarn)-
96
кому изучению, надписей римской эпохи, обнаруженных в бассейне
Средиземного моря; сам Моммзен оценивал их число приблизительно в
80 тыс.; впоследствии оказалось, что их более 160 тыс. Ради этого, вме-
сто того чтобы «творить, наслаждаясь драгоценной свободой», он вынуж-
ден самоотверженно, на свой страх и риск, не пользуясь ничьей поддер-
жкой, исполнять эту гигантскую работу, т.е. должен, по его словам, «вме-
сто того чтобы строить дома», «обжигать черепицу» для других. Только
счастливый случай, а именно неоднократные настоятельные просьбы
двух видных издателей, временами отвлекает его от этого занятия. Так,
на манер интермеццо в чисто научной деятельности, создается величай-
ший труд его жизни, в котором в наивысшей мере оказались раскрыты
его силы и возможности, — его «Римская история». Следует уточнить,
что она выходит в свет, не будучи завершена. После того как его вызы-
вают в Берлин, чтобы он уже в официальной должности продолжил ра-
боту над сводом надписей, он опять оказывается поглощен изучением
материалов источников, перерастающим в ассоциативную деятельность
высочайшего уровня, в ходе которой он как руководитель подразделения,
насчитывающего множество сотрудников, отнюдь не парит в небесах, а
самостоятельно выполняет наиболее скрупулезную, черновую работу,
вплоть до составления указателей и чтения корректуры.
Он еще раз прерывает ее, чтобы в трех монументальных томах, посвя-
щенных римскому государственному праву, подвести итог своим обшир-
ным кропотливым изысканиям, по крайней мере в том, что касается по-
нятийных структур, характеризовавших общественную жизнь римлян.
Но текущая работа с источниками снова увлекает его, побуждая двигать-
ся дальше. Критическая направленность мышления, свойственная Мом-
мзену, служит причиной составления исправленного издания источни-
ков, принадлежащих к римской традиции, в том числе тех, что были
опубликованы ранее; обработки материалов по нумизматике и нашед-
ших там отражение документов; дальнейшего пересмотра и проверки
подлинности данных источников, в частности таких, которые относятся
к периоду перехода от римской эпохи к германской. В возрасте 58 лет он
еще издает том дополнений к «Римской истории», где представляет об-
ширное резюме своей, учитывающей мельчайшие детали, работы над
материалами по истории римских провинций времен Империи, по мень-
шей мере до Диоклетиана; достигнув 81 года, он в своем сочинении о
римском уголовном праве завершает анализ понятийных конструкций,
характеризовавших жизнь Рима. Однако «три львенка» — три тома, по-
вествующие о событиях римской истории вплоть до смерти Цезаря, ко-
торые Моммзен начал писать в 36 лет и закончил 38-летним, так и не
получают продолжения. «Мне уже недостает пылкости, которая нужна,
чтобы изобразить гибель Цезаря». — считает он. Мы же вслед за Гартма-
ном полагаем: необоримое стремление подвергать действительность кри-
тическому анализу и присущее «истинному ученому» чувство долга одер-
жали верх в этой невероятно насыщенной трудами жизни, не оставив
этому «историку с душой поэта», отличавшемуся, быть может, уникаль-
ным сочетанием дарований, времени писать. Таким образом, произведе-
ния, составившие его наследие, при всем их колоссальном объеме — все-
го насчитывается 1513 публикаций — и вместе с тем незавершенности,
4 Знк. 3073
97
присущей наиболее прекрасному из них, делаются ясными для того, кто
понял его как личность.
Кроме того, его индивидуальность — ключ к его деятельности иного
рода, не связанной с научными исследованиями. Именно в этой облас-
ти силы его личности, которые в науке оказались оттеснены на второй
план в ходе «борьбы противоположных элементов», к счастью, в течение
всей его жизни проявляли себя весьма интенсивно. Здесь, в сфере обще-
ственной и политической жизни, в нем до последнего дыхания всецело
преобладал великий человек с могучими страстями. Но, как ни странно,
именно здесь, в буржуазных кругах, к которым он обращался, его при
жизни понимали менее всего, и многие даже заявляли, что он ни на что
не способен; и все же именно в этой сфере постоянно оживавшие в его
памяти грандиозные исторические перспективы и богатство историчес-
кого опыта, воспринятые всем сердцем — средоточием его личности, —
проецировались на осмысление современного ему хода событий, так что
его общее суждение об этом процессе, пусть и не во всех частностях, слу-
живших ему обоснованием, несомненно, скорее всего заслуживало бы
того, чтобы заставить каждого задуматься.
Чем далее Моммзен наблюдал развитие новой Германской империи,
тем сильнее ощущал себя склонным к безнадежному «пессимизму». Не
приходится говорить, что этот пессимизм не имел ничего общего с оже-
сточением немолодого человека, которому не довелось увидеть, как осу-
ществляется именно та форма политических идеалов, какие в пору юно-
сти и зрелости он отстаивал всем своим существом, — как известно, в
1848 г. он являлся редактором и «подлинным» борцом за свободу, а в
годы реакции, в профессорском звании, подвергся дисциплинарному
взысканию, — и который не сумел преодолеть в себе неприязни по от-
ношению к одержавшим верх иным политическим принципам, олицет-
ворением которых стал Бисмарк. Из-за глубокого расхождения во взгля-
дах ему, как и всем либералам, заслуживающим этого имени, признание
грандиозного свершения Бисмарка далось нелегко; но в 70-е годы он не
стал отрицать этого свершения. Отнюдь; его оценка процесса развития
в целом, которая начиная с 80-х годов делалась все резче, основывалась
на размышлениях общего характера, не затрагивавших конкретных лиц.
Может быть, сегодня и в среде буржуазии его понимает более широкий
круг людей, нежели при его жизни.
Развитие новой Германии, каким оно представлялось Моммзену, он
чаще всего обозначал словами «дегуманизация» и «возвращение к эпохе
варварства». Казалось, он видел — и, вероятно, первым выразил это в
столь общей форме, — что в новой империи органы духа нашего народа
начинают изменяться, а именно — становиться менее восприимчивыми;
что самобытное сочетание внутренних свойств и интересов, определяе-
мых степенью образованности, ранее служившее основанием великих
свершений немцев в области культуры, — т.е.»тип гуманиста» и его вли-
яние,;— исчезает и на смену ему идет гораздо более обыденное, даже
просто заурядное соединение качеств, исходя из которых первейшей
личной и конечной практической целью деятельности служит отстаива-
ние материальных интересов средствами «реальной политики» и которые
наиболее ярко выражают себя в беспринципном оппортунизме и образе
98
поверхностного и бездушного «аппаратчика» (Apparatmenschentum). Как
раз это имел в виду Моммзен, говоря о существующей в нашу эпоху тен-
денции к дегуманизации, которая, по его мнению, своей неубедительно-
стью и недостоверностью подтачивала самую способность немцев созда-
вать культурные ценности.
Именно такими представлениями было обусловлено появление при-
влекших всеобщее внимание заявлений, сделанных им в последние годы
жизни, пламенный протест в защиту непредвзятости научных исследо-
ваний, т.е. той самой научной достоверности, в «деле Шпана»19", а также
обращенный к буржуазии призыв поддержать социал-демократию в свя-
зи с нападками Кардорффа20*. Но уже его первое, в ту пору абсолютно не
понятое широкими кругами буржуазии выступление против специфи-
ческого «режима Бисмарка», установленного в конце 70-х годов, было
обусловлено именно этими соображениями. Все, что он делал в 1881 г.,
когда назвал курс Бисмарка «политикой не только самых низменных
интересов, но даже прямой лжи», произрастало на глубинной основе та-
ких убеждений. Говоря так, он ощущал себя защитником «условий суще-
ствования» немецкой нации, «роковым образом вынужденной отстаивать
эти условия перед лицом человека, которого она с полным правом име-
нует своим спасителем и в некотором смысле даже своим творцом». Ве-
роятно, среди представителей буржуазных кругов никто другой не чув-
ствовал так тонко, как он, совершенно новый, изменяющий бесконечно
многое дух наступившей тогда эпохи. И он воспринимал его как некое
дуновение, которое погубит прекраснейшие цветы нашей культуры.
Когда мы, более молодое поколение, ныне окидываем взором бес-
плодную пустоту, которой отмечены важнейшие сферы художествен-
ной, а теперь и научной деятельности, нехватку у нас незаурядных
личностей, которых должна была бы породить последняя треть XIX в.,
скудость молодой поросли выдающихся лидеров, способных стать во
главе политической и духовной жизни; когда сегодня наблюдаем все-
общий политический упадок, который в области международных от-
ношений испытывает объединенная в империю немецкая нация, не-
смотря на наступивший здесь расцвет капитализма, на повышение
уровня ее жизни, на ее блистательную, с чисто внешней и техничес-
кой точки зрения, государственную и хозяйственную организован-
ность, — упадок, сопровождающийся уменьшением ее культурного
значения за рубежом; и если у некоторых из нас в эпоху «капитана из
Кёпеника»21* временами возникает острая боль там, где предположи-
тельно находится сердце, то это, по-видимому, именно те ощущения,
какие предугадал «старик Моммзен», говоря о дегуманизации, возвра-
те к варварству, и на вершине мнимого подъема предрекая близящий-
ся регресс.
Тот факт, что теперь мы, может статься, объясняем вызывающую
у нас подобные ощущения ситуацию несколько иначе, чем это делал
он, не слишком меняет сути дела. Он, выросший в условиях прежне-
го либерализма и сохранивший ему верность, видел прежде всего на-
ступление периода господства материальных интересов, то, что он на-
звал бы осуществляемым руками Бисмарка подчинением государства
интересам коалиции «алчущих добычи», созданной в соответствии с
99
политикой «запретительных пошлин»; он наблюдал, как эта коалиция
становится средством разрушения бюргерства. И пока это представля-
лось ему достаточным обоснованием справедливости его суждения о
скором закате. Сегодня среди мыслящих людей, какие только могли
появиться в нынешних условиях, наверно, найдутся лишь немногие,
не замечающие, что истинные причины происходящего находятся
глубже, и не сознающие, что эти последние коренятся в поражении
демократического развития в Германии, в способах, какими на базе
такого разгрома оказалась создана империя, в огромном превосход-
стве сил авторитаризма, явившемся в новой империи следствием та-
кого хода событий. И, по-видимому, только немногие не ощущают,
насколько углубились все эти проблемы в результате одновременно-
го переноса центра тяжести нашего политического и культурного раз-
вития из региона, издавна служившего основой становления нашей
культуры, в северогерманские земли, некогда освоенные в процессе
колонизации; переноса, за который как за абсолютную политическую
необходимость, каковой он и представлялся на первый взгляд, всеми
силами и всей душой ратовало предыдущее поколение и в том числе
Моммзен. Но раз уж мы в ходе анализа и поиска доказательств, может
быть, смещали акценты на иные моменты, нежели у Моммзена, нам
не следует забывать, насколько рано и насколько глубоко этот чело-
век, который считался не более чем «лириком в политике», осознал
всю эту сложную взаимосвязь и сказал о ней в кругах буржуазии, того
бюргерства, которое до сих пор по большей части не замечает его и в
своих дворцах, выстроенных в столь любимом ими громоздком «сти-
ле», не ощущает собственной духовной деградации. И в той же мере
нельзя забывать, что последние годы жизни он отдал тому, чтобы ука-
зать этому бюргерству то, «что оно еще в состоянии спасти».
Но это именно тот великий, наделенный сильными страстями чело-
век, создавший в сфере науки как бы «пронизанную внутренним светом»
«Римскую историю», который проявляет себя и здесь, в попытках сжато
описать и предсказать участь нашей нации, и который после того, как
был разрушен прежний бюргерско-буржуазный идеал, оказался един-
ственно способным незадолго до конца сказать решающее слово. Толь-
ко он мог столь непреклонно стоять на своем, рекомендуя такой путь;
ибо этот путь знаменовал собой бесследное исчезновение бесчисленных
милых сердцу старых идей и, в принципе, отказ от целой системы взгля-
дов на мир и жизнь.
Важной заслугой Гартмана является то, что в написанной им биогра-
фии Моммзена он, невзирая на искушение осветить огромные научные
достижения этого человека, обращаясь исключительно к ученым, изоб-
разил его как личность, исследовав его деятельность и индивидуальную
судьбу с теплой любовью, неизменным сочувствием и почтением, при-
сущими истинному другу, и показал, что именно свойства личности, из
которых самым замечательным и основным было горячее стремление к
достоверности, определили как выдающийся феномен все его «творче-
ство» и жизнь; тем самым Гартмам создал памятник духа, который в то
же время может служить великим предостережением. Пускай же его ус-
лышат многие".
100
Ill
Тип культуры и его изменения12
Не знаю, ощущает ли еще в наши дни образованный человек, что он тво-
рит тип культуры своего времени, и то, каким образом это происходит; со-
хранилась ли у него хотя бы малая толика того упоения и понимания высо-
ты собственных задач и возможностей, какие были присущи его «предтече
в истории», человеку культуры Возрождения, созидавшему самого себя в
смысле осознанного стремления придать себе некую форму и тем самым
стать примером для других; жив ли в нем еще хоть отблеск взгляда челове-
ка на самого себя как на «произведение искусства», т.е. то прекраснейшее
наследие Ренессанса, которое ради нас снова вызволил из небытия Бурк-
хардт, — или же «польза», а точнее банальное стяжание, до уровня которо-
го оказалась низведена так называемая «образованность» с тех пор, как со-
временное бюрократическое государство признало ее предпосылкой овла-
дения профессией и достижения «положения в обществе», заслонила отбра-
сываемой ею широкой тенью те видимые высокие достоинства, сопряжен-
ные с образованностью в подлинном значении этого слова. Не знаю, как с
этим обстоит дело, хотя применительно к нынешней прагматически настро-
енной Германии, отличающейся ярко выраженной интенсивной склонно-
стью в духовном отношении оказывать предпочтение мелкой «разменной
монете», я опасаюсь самого худшего. Но пусть с ней происходит то, к чему
она стремится, пусть истинное предназначение образования теперь совер-
шенно скрыто от массы образованных людей, — остается фактом, что харак-
тер восприятия образованным человеком самого себя, его представление о
том, каким ему надлежит себя сделать, его культурное сознание ныне име-
ют для развития культуры столь же фундаментальное значение, что и рань-
ше. Этот характер восприятия создает усредненный тип культуры народа,
творит его сегодня отчасти иными, в первую очередь более сложными пу-
тями, не с помощью простого подражания, а еще и такими, обращенными
к сознанию народа, средствами, как пресса и тому подобные вещи, и создает
его в рамках абсолютно других организаций, чем прежде. Но и теперь, как
ранее, культурное сознание образованного человека само по себе действи-
тельно представляет массовый по характеру основополагающий элемент
развития культуры в целом, ту почву, где прорастают и откуда черпают силы
новые идеи и их овеществленные формы, коль скоро им уготована судьба
обрести непреходящее значение для их эпохи.
Мы, немцы, вступили в XIX век, обладая универсальным и глубоким
самосознанием, которому, без сомнения, могут позавидовать многие
времена и народы, не будучи в состоянии его достичь. Породившая нас
«эпоха бездействия», как назвал ее Бисмарк, одарила нас способностью
к самоанализу, возможностью обнаружить в нас самих целые миры и
антимиры и связать с ними содержание каждой из существовавших в ис-
тории человечества культур, т.е. наделила талантом постигать вещи из-
нутри и одновременно с тем все же дистанцироваться от них и самих
себя — талантом, перед которым мы, обнаруживая его следы, например,
в переписке того времени, застываем в изумлении как перед чуждым нам
чудесным миром. В том, что касается слоя образованных людей, мы в
101
начале XIX столетия, безусловно, были народом не просто всесторонне
образованным, но таким, у представителей которого элементы культуры
стали неотъемлемой частью индивидуальности и характера, разверзли в
их душах глубины, сформировали сочетания образов, вызвали к жизни
противоречия, раскрыли огромное изобилие чувств. Пусть возникший в
результате этого «тип романтика» с его ощущением неслыханного богат-
ства культуры прошлого, которое он наряду с прочими проявлениями
человеческой культуры был способен оживить в собственной душе во
всей его полноте и с чрезвычайной интенсивностью, обнаруживал край-
нюю беспомощность в своем отношении к действительности, прежде
всего действительности политической; пусть он не имел склонности к
упрощенным демократическим представлениям своего времени и поэто-
му на практике преимущественно придерживался реакционных убежде-
ний, т.е. в политическом смысле был бесплоден. Но подобно тому как он
обнаружил для себя прошедшее и все его величие, он, с его способнос-
тью сильно чувствовать внутреннюю взаимосвязь всех форм выражения
человеческой натуры, столь же ясно ощутил необходимость «всесторон-
него развития» и, наконец, на деле «открыл политику», которая для пред-
шествовавшей эпохи была еще чем-то «трансцендентальным».
От этого универсального и вместе с тем сложно структурированного
типа личности, типа, которому подчас удавалось — о чудо небес и природы!
— претворить «образованного немца» в подвижную, одухотворенную, даже
остроумную натуру, — от него и лежавшего в его основе культурного созна-
ния мы проделали к настоящему времени весьма странный путь развития,
шедший в направлении непрерывного отчуждения и упрощения, если не
сказать примитивизации. Это пока не чувствуется в следующей из склады-
вавшихся форм, в младогерманском типе. Ибо хотя он утратил многочис-
ленные, свойственные предыдущему периоду, облачения фантазии и хотя
отчасти именно поэтому он видит реальные вещи гораздо яснее, видит он
их такими не за счет оскудения внутреннего мира. Создавая формы этих
вещей, он еще использует все изобилие имеющихся в наличии элементов
культуры. Подобно романтику, он пока ощущает возникающие на этой ос-
нове, но при этом углубляющиеся антиномии; его самосознание сохраня-
ет комплексный характер и тем самым остается причастным культуре. Но
сколь незамысловат уже тип немца образца 1848 г., появившийся в период
перехода политических проблем в область практики; его восприятию ока-
зались не свойственны внутренние противоречия, подобные бездне, кото-
рая разверзлась в душе романтика, страстно стремившегося перенять все так
или иначе доступные ему элементы культуры, и перед которой он останав-
ливался с удивлением, а иногда и с чувством беспомощности. Эта бездна
затянулась плотной коркой. И после того как исчезли все связанные с этим
проблемы и вся обусловленная этим многогранность личности, человек,
ныне предстающий перед нами, стал казаться нам все же поверхностным,
невзирая на окутывающее его облако красивых фраз; он невольно видится
нам состоящим из двух простых половин: одна ориентирована на публич-
ное бытие и подчинена добросовестно усвоенной и прямолинейно понятой
либеральной идее, и другая, сфера частной жизни, где доминирует воспри-
нимаемый в целом уже только как предмет литературы и более не оказыва-
ющий влияния на становление личности идеал «классического образова-
102
ния», погруженный в атмосферу бюргерского «чувства семьи» — человек,
вероятно, «достойный всяческой любви», но более не способный разрешить
ни единого из великих вопросов нашей культуры, потому что он больше не
ощущает их глубинной сути.
Заглянем чуть дальше. Мы находимся в преддверии грандиозных пре-
образований и становления порожденного ими нового типа личности,
который, можно сказать без обиняков, был создан Бисмарком. То, что с
нами произошло, можно выразить следующим образом: в обеих областях
нашего бытия, публичной и частной, в некотором роде переворачивают
«вывеску», и в политической сфере либерализм сменяется консерватив-
ным оппортунизмом под маркой «реализма», а в личной обнаруживает
себя, вместо идеалистического, реалистический, т.е. учитывающий лишь
ближайшие интересы, подход к жизни. С тех пор мы не только сделались
поверхностными, мы снова обрели заурядность. Ибо вкупе с «идеализ-
мом» оказались утрачены и последние остатки нашего прежнего мира
идей, его культурные проблемы и взгляд на личность, его «способность
мыслить и слагать стихи»; перед глазами изумленного мира встает осво-
божденный от одеяний былых эпох, более уже не терзаемый сомнения-
ми и угрызениями совести, в физическом и духовном смысле «коротко
стриженный», энергичный, обладающий организаторскими способнос-
тями реалист неогерманского толка, человек, «вернувшийся в состояние
варварства», как о нем с болью говорил Моммзен.
Но этим дело не заканчивается. Сегодня мы видим перед собою нечто
совершенно иное. Этот восходящий к Бисмарку тип обладал хотя и ориен-
тированным на самые простые представления, но все же исключительно
сильным чувством общности. Общественно значимые дела, воспринимае-
мые им как вид организации национального господства, были для него об-
ластью, какой он уделял немало сил и заинтересованного внимания с той же
безоговорочностью, как это, исходя из задач борьбы за свободу личности и
национальную культуру, делал прежний тип либерала. Правда, это была
лишь основа без каких-либо более гонких нюансов, но она тем не менее все
еще имела две стороны: публичную наряду с частной. Однако интерес к об-
щественной жизни был прочно укоренен в национальных достижениях. Эти
достижения устарели. Новых не было, и интерес стал угасать. И в результате
мы очутились на пороге последнего решающего переворота. «Обществен-
ная» сторона нашего типа культуры уменьшается. Он трансформируется в
тип «делового человека», реализующего себя во всех сферах бытия, дельца
как в экономике, так и в других областях профессиональной жизни; не важ-
но, где именно. В политике он предельный реалист; он похваляется, что на-
учился этому у Бисмарка; но его «реалистическая политика» в существен-
ной мере направлена только на овладение самыми простыми вещами, а ведь
это в конечном счете знаменует собою ориентацию на его собственные, уз-
коиндивидуалистические интересы. Прежний тип еще отличался величием,
а этот мелочен, порою даже обыден. Этот тип, который ныне у нас на гла-
зах множится, как грибы после дождя, являет собой последний «славный»
продукт нашего векового развития. Он настолько незамысловат и ограни-
чен, что ему даже оказалось не под силу пропустить через шлюзы своей,
ставшей очень узкой, души весь ноток нашей национальной культуры.
Часть этого потока устремилась в другое русло. В итоге мы наблюдаем те-
103
перь, как наряду с ним получает все большее распространение его антаго-
нист — новый, в той или иной мере существующий всегда, но в разные пе-
риоды обнаруживающий себя, в зависимости от состояния здоровья, с нео-
динаковой интенсивностью, тип «эстета от культуры», — тип, который при-
совокупил к осознанному пренебрежению политическими и иными обще-
ственными интересами, роднящему его с дельцом, еще и презрительное от-
ношение к свойственной последнему деловитой озабоченности, и который
ныне, устраняясь от реальной жизни, с надменной гордостью посвящает
себя оставшимся без родины эстетизированным художественным интере-
сам.
Трезвомыслящий, ограниченный деловой человек и этот эстет от
культуры — вот то, чем мы располагаем. Если кто-то усомнится в этом,
пусть спросит у иностранцев. Они преисполнятся изумления — как все-
гда, изумления — по поводу наших экономических достоинств, нашего
прилежания, нашей энергии, нашего организаторского таланта, нашей
надежности, дисциплины и т.д. Но стоит задать вопрос о бросившихся
им в глаза качествах более высокого порядка, как они придут в смуще-
ние и, если они честны, ответят так, как мой знакомый русский: иност-
ранцу-де иногда кажется, будто современный немец утратил «четвертое
измерение». Тем самым поистине совершенно правильно определена
одна сторона происходящего. К этому следует только добавить, что ныне,
в наступивший у нас период всеобщей специализации, это ставшее бес-
приютным «четвертое измерение» тоже имеет своих особых представи-
телей, у которых, правда, обычно отсутствуют остальные три измерения.
Несомненно, движение к этому состоянию было неизбежным. Оно
было необходимым не только с точки зрения чисто внешних причинно-
следственных связей, но и в более широком смысле, означающем, что
мы не могли ставить перед собою иных целей, кроме тех, что вызвали к
жизни эти причинно-следственные связи. При узости географического
пространства, на котором мы обитаем, после того как начался стреми-
тельный рост населения, мы были не в состоянии поступить иначе, не-
жели как признать экономические цели первоочередными, стать наро-
дом, который должен был вкладывать свою энергию в работу и уяснение
ее ценности, вкладывать столь долго — да он вынужден делать это по сей
день, — пока не обеспечит себе устойчивого положения и определенных
экономических функций среди прочих наций. Ибо по сравнению с дру-
гими нациями природа предоставила нашему народу не более чем скром-
ное пристанище, над которым он вынужден искусственно надстраивать
выступающие в разные стороны этажи. Равным образом мы не имели
другой возможности, кроме как сделать организованность, дисциплину
и т.д. доминирующими факторами также во всех остальных сферах обще-
ственной жизни. Ибо справедлива неоднократно повторенная мудрая
фраза: при нашем международном положении мы только благодаря
сплоченности и организованности действительно сумеем далее суще-
ствовать как самостоятельное государство. Вследствие этого, коль скоро
мы являлись здоровым, сознающим свои насущные жизненные потреб-
ности народом, у нас должна была непрерывно расти значимость всех
упомянутых качеств, характеризуемых как реалистически направленные
деловые способности, а сложившийся на их основе тип человека призван
104
был все заметнее выдвигаться на передний план. Все изменения, о кото-
рых я говорил, лишь выражают в завуалированном виде этот процесс.
Но мы вынуждены сказать, что это было, к сожалению, необходимо. И
наступает пора несколько поразмыслить по поводу этого изъявления сожа-
ления. Ибо если бы суть проблемы исчерпывалась сказанным ранее, дело
обстояло бы не столь плохо, как это есть на самом деле. В таком случае мы
как народ с гордых высот духовного лидерства, где мы находились в начале
XIX столетия, конечно, спустились бы на уровень экономически полезно-
го и политически значимого члена интернационального сообщества наро-
дов. Но ведь мы могли со смирением, исполненным достоинства, удоволь-
ствоваться этой более простой ролью, посчитав ее вполне хорошей. Одна-
ко все обстоит иначе также и в другом отношении. Поскольку всякий тип
образованного человека подвержен копированию и обобщению, — отчасти
он именно для того и существует, — и поскольку он вследствие этого в не-
котором роде каждый раз «влачит за собою» свою тень, которая может стать
его карикатурным изображением, но в любом случае только и раскрывает
полностью его значимость или отсутствие таковой, то это, естественно, ка-
сается и преобладающих ныне у нас двух типов. Их значение для культуры
мы способны полностью оценить только на основании того, какую тень они
отбрасывают на наше бытие. А тени эти таковы: тип «недалекого эпикурей-
ца», который все чаще встречается в определяемой принципом полезности
реалистической атмосфере узкой деловой или профессиональной специали-
зации, и тип «болтуна с претензией на аристократизм», возникающий на
почве эстетского подхода к культуре. Оставим этого последнего без внима-
ния, потому что на него просто следовало бы натянуть шутовской колпак.
Поговорим о первом. В среде буржуазии это массовый тип, и ныне нам гро-
зит опасность производить его на свет во все большем числе; его становле-
ние служит объяснением тому факту, что сегодня за границей — скажем об
этом спокойно, хоть это причиняет боль — начинают презирать нас. Поис-
тине: взгляните на эту разновидность людей, которых мы каждые полгода,
в каждый сезон путешествий, выпускаем за пределы наших рубежей; по-
смотрите, каков он за границей, где его характерные черты отчетливо выде-
ляются на фоне чужеродного окружения и существующих наряду с ним
иных типов, порожденных другими нациями; ощутите с душевным страхом
специфику этих черт: сочетание исключительной дородности с простовато-
стью и грубой заносчивостью, соединение абсолютной тривиальности
внешнего облика и внутреннего содержания, с ужасающе серьезным отно-
шением к житейским мелочам и удовольствиям материального свойства.
Ощутите это, и вы тогда многое поймете; вы более не станете удивляться
тому, что сегодня некий француз в новой, столь высоко превозносимой
книге, где он вознамерился, проявив любезность, ближе познакомить сво-
их соотечественников с современной Германией, оказался способен пред-
ставить этим соотечественникам в качестве естественных отличительных
черт нашего характера «материализм народа, пристрастие к еде и питью,
недостаток такта, безыскусный реализм в любви». Мы скажем человеку, пи-
шущему такое, что он еще не научился отличать у нас повара от официан-
та, что ему следовало бы подождать два десятка лет. покуда он не уяснит, что
немец и выскочка германского происхождения — два разных явления. Но
все-таки мы его поймем. И коль скоро мы честны, то ощутим, что находим-
105
ся будто на краю пропасти, что существующая ныне у нас в среде образо-
ванных людей атмосфера «утилитарности», то сделавшееся ограниченным
культурное сознание, более не освещающее скрытой подоплеки бытия ради
того, чтобы отчетливо воспринять его видимую сторону, то, не осуществля-
емое более, претворение вещей в элементы своего внутреннего мира во имя
того, чтобы, сообщив им реалистическую, предметную форму, тем легче
использовать их для овладения жизнью, — что в целом такое состояние,
ныне с неизбежностью порождая у нас из себя самого этот тип узкого спе-
циалиста в деловой и профессиональной областях, также само по себе по-
рождает его зеркальный оттиск — эпикурейца, и что тем самым нам как на-
роду грозит опасность, вследствие особой конфигурации сферы, объемлю-
щей собою образованных людей, запечатлеть на своем челе как неизглади-
мый знак те отталкивающие черты выскочки, которые нам надлежало бы
изживать.
Как же нам выйти из этой унижающей наше достоинство ситуации?
Если хоть что-нибудь из сказанного выше соответствует истине, то сделать
это можно только так: посредством формирования нового культурного со-
знания прослойки образованных людей и нового видения самих себя. Ко-
нечно, этому нельзя научить, и новый тип, в котором мы нуждаемся, не
может появиться из каких -либо описаний и менее всего — из сочинения
некоего профессора. Его нужно почувствовать, увидеть, испытать. Но, с
другой стороны, столь же очевидно, что он не может возникнуть, пока мы
не уясним себе некоторые вещи, исходя из которых нам только и удастся так
или иначе обрести новый взгляд на самих себя и которые имеют решающее
значение с точки зрения возможности вообще «испытать» нечто новое. Это
новое не может возникнуть без сделавшегося осознанным ощущения бес-
конечного внутреннего оскудения, в какое нас вверг характерный для XIX
столетия ход развития; без интенсивного и страстного стремления преодо-
леть такое оскудение; без осмысленного желания вобрать в себя утраченные
и рассеянные элементы нашей культуры и к ним впридачу — еще и новые
черты, с некоторых пор поистине сделать эти элементы внутренними фак-
торами формирования нашего облика и, исходя из новой центральной точ-
ки, обеспечить на основе нового реализма, ставшего частью нового коллек-
тивного сознания, их невиданный ранее синтез. А до тех пор пока это не
произойдет, будет только на благо, если мы, как ведь уже однажды сказала
Рахиль Варнхаген22*, «удобрим» ниву нашего самосознания «отчаянием —
коль скоро оно искренно».
IV
Чиновник13
Все, о чем надлежит здесь сказать, обращено не к той с неизбежностью все-
гда многочисленной массе людей, с точки зрения которых хорошая упоря-
доченность бытия, каким бы оно ни было, означает вместе с тем некую пос-
леднюю и высшую его суть; которые, коль скоро они возносятся к верши-
нам философии, видят в этой упорядоченности предначертанную Богом
систему жизни, а в случае, если они остаются в сфере повседневного, нащу-
пывают теплое местечко, которое там уготовано не столько для других,
106
сколько для самих себя. Скорее, мои слова можно адресовать — но, вероят-
но, их тоже не поймут, — второй категории людей, тем, кто, будучи нату-
рами сильными, хотят этого доброго порядка не для самих себя, а потому,
что усматривают в нем, как им представляется, основу расцвета культуры,
либо — и таких сегодня становится все больше — возможно, всего лишь га-
рантию приобщения более слабых слоев населения к культуре, и поддержи-
вают «порядок», каков бы он ни был, именно с таких позиций. То, что сле-
дует здесь констатировать, говорится в расчете на людей, чувствующих со-
вершенно иначе, ощущающих, что источником величия жизни и истории,
всего того, что совершает отдельный человек, и другого, созидаемого общ-
ностью людей, служит не некий механизм, а свободное действие сил. Ска-
занное здесь всецело поймут — я имею в виду, поймут не только формаль-
но — лишь те, кто ощущает, что великие достижения одного человека и со-
общества людей к тому же всегда некоторым образом связаны между собой,
что даже ни с чем не сравнимые уникальные творения в некотором смыс-
ле все-таки наделе представляют собой вершину раскрытия коллективных
сил; те, кто, даже если они пока не ведают, каким путем это происходит,
как, собственно говоря, случилось, что полное проявление сил нации и по-
рожденных ею великих личностей внутренне сопряжены друг с другом, все
же — поскольку они признают наличие взаимозависимости обоих этих эле-
ментов — считают психическое самовыражение каждой из частей целого
важным, а духовную гибель какой-либо из этих частей — опасной.
Перед людьми, чувствующими так — речь доныне идет об общем для
них чувстве культуры и не более того, — возникает сегодня огромная про-
блема. Они видят, как в нашей жизни громоздится гигантский аппарат, как
он обнаруживает тенденцию к тому, чтобы все сильнее перекрывать собою
— скажем так пока без дополнительных объяснений — сформировавшиеся
ранее свободно и естественно области нашего существования, втискивать их
в свои отсеки, ящички и отделения; они ощущают, как он источает при
этом яд схематизации, умерщвления всей чуждой ему, индивидуальной, са-
мобытной жизни, как он помещает на ее место гигантское математически
рассчитанное нечто, такую систему, которая распространяет присущую ей
безжизненную очередность элементов, фрагментарность соединений, свои
бездушные взаимосвязи на всякий труд, всякое творчество. И если они при
этом твердят себе, что, дескать, все же возможно внутренне дистанцировать-
ся от этой новой формы бытия и, оставаясь внешне тесно связанными с
ней, преодолеть ее по меньшей мере изнутри благодаря духовной отстра-
ненности, они с ужасом наблюдают, как душа народа приспосабливается к
этому «аппарату», как она пробирается в его отсеки, ящички и отделения,
уютно устраивается там на удобных теплых местечках, как она карабкается
по лестницам, ведущим от одного теплого местечка к другому, как она сжи-
мается, ограничиваясь страстными упованиями на обеспеченное существо-
вание за счет аппарата и стремление сделать в нем карьеру.
Они видят перед собою поглощение сил мертвым механизмом — и
ощущают, что только ничем не стесняемое действие сил во имя свобод-
ной жизни является предпосылкой всякого грядущего, всякого мысли-
мого дальнейшего созидания в сфере культуры.
Здесь надлежит обсудить только один аспект связанной с этим огром-
ной проблемы, да и то лишь отчасти. Нам нужно рассмотреть не устрой-
107
ство и внутреннюю форму нового механизма, а исключительно вопрос о
возможности как-либо спасти себя от него, т.е. такой вопрос, изучение
которого переходит от этого механизма к лежащим вне его основам куль-
туры, определяющим нашу жизнь. Да и этот вопрос предстоит осветить
лишь постольку, поскольку речь идет о значении включения в назван-
ный механизм средних и верхних слоев населения, тех слоев, которые он
втягивает в себя и в результате такого рода вовлечения создает нынеш-
нюю бюрократизацию общества. Ибо бюрократизация общества ведь
есть не что иное, как превращение высших его слоев в чиновников.
i
У нас уже давно существовали организованные в гигантские формы
структуры общества. Они были воплощены в государстве и церкви. И в
течение долгого времени, начиная с XIV и XV столетий, эти таким обра-
зом организованные части общества также представали нам как уже ус-
тоявшиеся рациональные организмы. И до тех пор пока они сохраняли
у нас такой вид, мы имели также некий «аппарат», который затем создает
их «становой хребет», скрепляет их изнутри в единое целое, дает им воз-
можность двигаться и функционировать; и поскольку у нас был такой
аппарат, мы имели систему учреждений и тем самым бюрократизацию.
Но этот рациональный механизм, чье воздействие было ограничено
рамками наиболее универсальных основ бытия, в ту пору простирался
над жизнью как слабое, сооруженное из тонких прутьев перекрытие, в
определенной степени лишь как нечто такое, что только в самых общих
чертах касалось поверхности жизни, не затрагивая ее частных проявле-
ний. Все активное существование, всяческое экономическое созидание,
всяческая общественная деятельность, все единичные поступки, совер-
шаемые в сообществе, весь повседневный труд оставались, невзирая на
попытки бюрократического аппарата регулировать также их, по своей
внутренней сути и непосредственному содержанию все же совершенно
ему не доступны. Эта деятельность не была ему подвластна, так как осу-
ществлялась в формах, не подверженных бюрократизации: организован-
ная в малые структуры, не поддающаяся расчету, определяемая не эко-
номическим принципом, а комплексом эмоций, отношениями кровно-
го родства и соседства, она, подобно не возделанной еще земле, находи-
лась в некотором роде в глубокой долине, еще всецело за пределами ка-
кого бы то ни было механизма и ниже зоны его воздействия — механиз-
ма, стремившегося включить ее в свое движение.
Если социологическая наука впоследствии однажды спросит себя, что
явилось самым грандиозным историческим преобразованием, ознамено-
вавшим собою приспособление человека к жизни, таким преобразовани-
ем, которое привело к глубочайшему перевороту в содержании его бы-
тия, она без сомнения неизменно снова и снова будет изображать про-
цесс, послуживший мостом от той ситуации к нынешней, от «раститель-
ного» состояния к рационально организованному — процесс, представ-
ляющий собою подлинную социальную революцию XIX столетия. Его
первый, более продолжительный этап, охвативший все это столетие
108
вплоть до последней его четверти и имевший результатом ярко выражен-
ную трансформацию жизни, связанную со становлением крупного про-
изводства, сегодня видится нам всем завершившимся; а второй, недавно
начавшийся этап этого процесса ныне окружает нас со всех сторон и со-
здает проблему бюрократического перерождения, о котором я говорю.
Это был единый гигантский процесс рационализации, приведший к
изменению последовательности различных сфер жизни в соответствии с
особенностями формирования облика крупного производства, какие мы
ныне в области техники именуем господством манит и разделения тру-
да, а в области экономики — «капиталистическим обществом». Он выр-
вал людей, принадлежавших у нас к низшим слоям населения, из пре-
жних, свободных условий бытия и безжалостно бросил их как простую
рабочую силу в те серые, безотрадные, однообразные корпуса, в какие
ныне заключен фундамент нашей сферы жизни. Все то, что мы до сих
пор называли «социальным вопросом», есть не что иное, как отражение
этого процесса в содержании жизни и жизненной участи поглощенных
таким образом этим механизмом низших слоев.
Это все подошло к концу — или почти подошло к концу. Однако то,
что ныне дальше разворачивается перед нами и о чем мы должны гово-
рить, — это совершенно явный рост рационалистических форм органи-
зации как в области экономики, так и во всех прочих сферах нашего бы-
тия, и их переход во вторую фазу, в которой эти достигшие более высо-
кой ступени развития формы теперь перемещают вверх уже сложивши-
еся на низших ступенях экономические механизмы, последовательно
соединяют их в целостные гигантские организмы и, наконец, в период
монополизации замыкают их на самих себя.
Эти действия выражают внешнюю особенность, внешний облик совре-
менной фазы развития, а его внутреннее предназначение при этом состоит,
разумеется, в следующем: отнять свободу существования еще и у средних и
высших слоев общества, включить и их в качестве рабочей силы в большой
рациональный механизм и согласно их природе (т.е. параллельно тому, ка-
кими видами труда некогда занимались эти люди, покуда они сохраняли
свободу существования) использовать их как такой персонал, который, ис-
полняя функции технических и торговых специалистов, делопроизводите-
лей и управляющих, образует бюрократическую вершину целого.
Это процесс, который благодаря современным формам, в каких он
протекает, только наружно связан с нынешним капитализмом: он явля-
ется результатом некогда столь гениально обнаруженной Сен-Симоном
универсальной интеллектуализации всей нашей практически ориентиро-
ванной деятельности, следствием неотвратимой необходимости, тяготе-
ющей над человечеством, — необходимости мыслить и в процессе мыш-
ления определять повсюду меру наименьших затрат сил, необходимых
для совершения действия, на основании чего он в свое время открыл
принцип разделения труда. То обстоятельство, что капитал сегодня при-
меняет эту интеллектуализацию как средство извлечения прибыли и тем
самым претворяет в жизнь новые формы организации, представляет со-
бою «историческую случайность» — с не меньшим успехом (как это ведь
отчасти и было на самом деле) всеобщую рационализацию могло осуще-
ствить государство. Но то, что новые формы организации уже сложились
109
у нас, приводит теперь к универсальной бюрократизации. И дополни-
тельные проблемы, прибавившиеся в социальном вопросе к уже суще-
ствовавшим ранее, суть не что иное, как отображение данного процесса
в затронутых им средних и высших слоях, которые в ходе такого разви-
тия теперь тоже оказались частью этого механизма.
Мы действительно наблюдаем у себя этот процесс и эту бюрократиза-
цию. Припомним хотя бы следующее: система транспорта, представляющая
собой сложную сеть гигантских механизмов, то, что, преодолев прежние
малые структурные формы организации общества, внезапно стремитель-
ным рывком первым воздвиглось на фундаменте новой техники, теперь, как
известно, служит здесь основой всего нашего существования. Итог: в ны-
нешней Германии в этом аппарате должны быть заняты не менее 150 тыс.
функционеров-бюрократов наряду с полмиллионом рабочих. Произведен-
ный продукт: над нашими прежними структурами крупного промышленно-
го производства возвысились, подобно кристаллизованным чудовищным
порождениям фантазии, такие устойчивые формирования, как картели,
синдикаты, тресты, которые, создав неслыханную массовую концентрацию
сил, благодаря своей унифицированной организации заслонили собою по-
добно переходящим одна в другую горным цепям чрезвычайно обширные
части этой сферы. Каков оказался результат? Мы располагаем теми восемью
с половиной миллионами собственно наемных рабочих, которые трудятся
в промышленности; но одновременно не менее чем 686 тыс. человек (в 1882
г. их было еще только 90 тыс.) заняты в качестве служащих и чиновников,
ставших частью бюрократического сооружения, которое ныне громоздится
над массой простых тружеников как некая надстройка. И т. д. Те 50 тыс.
«служащих и чиновников», работающих в банках, — это представители дей-
ствующих в немногих центральных учреждениях огромных аппаратов, ко-
торые, как государство в государстве, оставляют свой след на всем пути дви-
жения нашего капитала. Но не будем говорить об этом. Нам совершенно
ясно: напоминающие мамонтов унифицированные организации более уже
не хотят ограничиваться пребыванием в какой-нибудь одной сфере хозяй-
ственной жизни; нет, они комбинируют совсем разные сферы и, перекры-
вая их, заключают их одна в другую; унифицированные организации — не
важно, остаются ли они сегодня в руках частных лиц, принадлежат ли госу-
дарству либо (что встречается все чаще) соединяют в себе публичные и ча-
стные элементы; результатом неизменно является бюрократизация. Напри-
мер, в Германии, если представить этот результат одной цифрой: еще 25 лет
назад как государственными, так и частными бюрократическими аппарата-
ми у нас были поглощены чуть более 700 тыс. человек. Сегодня их прибли-
зительно 2 млн (860 тыс. в государственной, 1120 тыс. в частной сфере). Это
означает не что иное, как следующее обстоятельство: свобода бытия, кото-
рая в средних и высших слоях общества прежде была правилом, ныне уже
деградировала до уровня вторичного, даже почти что исключительного яв-
ления. Ибо статистика далее сообщает нам, что в неаграрном секторе не-
мецкой экономики на средних и крупных предприятиях выделяется уже
только от двух до трех сотен мест, предназначенных для свободного пред-
принимательства. Вывод состоит в том, что средние и высшие классы обще-
ства теперь тоже превратились в слои, ведущие зависимое существование в
мертвом механизме.
НО
II
Это была небывалая революция, полная конвульсивных содроганий и
боли, когда то же самое начало происходить в утрачивавших свою само-
стоятельность низших слоях. Они яростно громили машины, усматривая
в них похитителей такой самобытности. В экономических смутах, в по-
пытках ввести социализм, в политическом насилии они выражали свое
стремление отвоевать то, чего они лишились. И только учение, сказав-
шее им, что именно ход развития сам по себе в конце концов проведет
их через эту полную рабской зависимости жизнь к прекрасной свободе,
собственно говоря, и дало им силы более или менее спокойно перено-
сить это состояние.
У высших слоев этот процесс, будучи по своему содержанию все-таки
тем же самым, совершился тихо, почти беззвучно. Он происходил, да и
ныне происходит, по-иному, потому что внешне он несравнимо менее
жесток, потому что он не сопряжен с социальным деклассированием, с
обнищанием, обусловленным применением машин, с выталкиванием в
область полной неуверенности в дальнейшем существовании, а, напро-
тив, означает обретение больших удобств, большей надежности жизни и
даже во много раз большего социального престижа на предоставленных
взамен свободного образа жизни зависимых рабочих местах. Разве из-за
этого он стал не столь глубоким, не столь решающим? Счастлив тот, кто
может быть так слеп, чтобы это подумать. Коль скоро то, что у низших
слоев населения отняли свободу самостоятельно определять формы их
трудовой жизни, уже было чудовищным деянием, сколь пагубным дол-
жно оказаться, что эта же участь постигла теперь и верхние слои. Ибо
насколько более значимыми представляются ценности, определяющие
свободу выражения личности и воплощенные в самых современных до-
стижениях этих верхних слоев, настолько больше мы утрачиваем. Конеч-
но, плохо, что самоуважение достопочтенного мелкого производителя,
ремесленного мастера, сделалось ненужным в этой жизни, так как он
стал служащим, смотрителем в фабричном цехе; что у него и его подма-
стерьев исчезло чувство радости от законченной работы, так как его дело
более ему не принадлежало. И ничто никогда не возместит этой утраты,
затронувшей трудовую жизнь массы людей. Но что же случится, если ха-
рактерная для более узкого слоя населения, но, несомненно, более вы-
сокая степень самоуважения, свойственная более крупному предприни-
мателю, перестанет ныне существовать как фактор формирования наци-
онального характера? Если, безусловно, более мощное силовое излуче-
ние, позволявшее ему организовывать свой труд в им самим установлен-
ных формах, растворится в учрежденческом схематизме? Разве это менее
важно? Вынуждены сказать: поскольку определение форм трудовой и
профессиональной деятельности высшего слоя общества причастно к
становлению типологического облика этого слоя и поскольку этот типо-
логический облик являет собой нечто значимое для жизни нации — а
это, конечно, так и есть, ибо эти верхние слои, как уже повелось, суть
носители культуры народа, — поскольку это так, то в целом пока не
представляется возможным уяснить значение того, что ныне из трудовой
жизни также этих верхних слоев вычеркиваются все те элементы незави-
111
симости и свободной зрелой мужественности, ничем не стесняемого
проявления сил, деятельности, несущей ответственность только перед
самою собой, — т.е. все те вещи, исключение которых из их трудовой
жизни некогда вызвало у масс стремление перевернуть с ног на голову
социальную пирамиду.
Низшие слои населения сумели спасти свою человеческую сущность
из обломков их разрушенных ценностных представлений о труде тем, что
они стали относиться к утратившей свою значимость профессии, рабо-
те, которую они делают, как к чему-то такому, чем она теперь только и
продолжает быть — как к некоей «данности» и не более того; в осталь-
ном они дистанцируются от нее и переносят духовный центр тяжести
своего бытия за пределы рабочего механизма, в котором они пребывают;
они ищут в жизни то, чего больше нет, — или что пока еще присутству-
ет только отчасти, — в их труде: индивидуальность и свободу. Все то, что
ныне в них заключено — бодрость, сила и нерастраченная энергия, ка-
кие они сохранили несмотря на не приносящую им более удовлетворе-
ния работу, их открытость всему, что составляет понятие культуры, их
политическое здравомыслие, их готовность пожертвовать собою в борь-
бе, их удивительно мощное, горячее стремление к тому, что они счита-
ют благим, справедливым и прекрасным, вся присущая им крепость духа
и характера, даже их работоспособность и строгая обязательность в са-
мом труде, — все проистекает из этого источника. Они спасли себя, спас-
ли в себе людей, когда, лишившись одного мира, обрели для себя другой.
Но что случилось со средними и верхними слоями общества, транс-
формировавшимися в чиновников и служащих?
Всеми имеющимися в распоряжении средствами их пытаются привя-
зать к аппарату и профессии, так чтобы они растворились в них. Им дают
уверенность в завтрашнем дне, комфортное существование взамен бес-
покойной, полной неопределенности борьбы в потоке жизни; но в свою
очередь требуют от них связать всю свою жизнь с аппаратом и «повино-
ваться» ему. Им позволяют подниматься от одного места к другому в
этом аппарате, открывают перспективу сделать карьеру и обрести в бу-
дущем немалое влияние — но в качестве возмещения настаивают на том,
чтобы все их силы были отданы работе. Им предоставляют почет и дос-
тойное положение в обществе, если речь идет о государстве или самоуп-
равляемой коммуне — но взамен намереваются получить в придачу к ра-
бочей силе целиком всего человека, т.е. его «душу».
Но как ведут себя люди, вовлеченные таким образом в аппарат?
Ответим на такой вопрос позже. Скажем для начала: есть опасность,
что они забудут совершить то, что сделали гораздо менее образованные,
но более крепкие низшие слои, — что они забудут дистанцироваться от
аппарата, — и что они, скорее всего, начнут считать существование,
предлагаемое им этим аппаратом, истинной жизнью; произведенную
ими в рамках разделения труда и системы предписаний работу — по-на-
стоящему высоким достижением; заинтересованность в результатах труда
и определяемом ими продвижении вверх в этом механизме — подлин-
ным жизненным интересом: а мертвый и бессодержательный дух аппа-
рата — духом времени. Такая опасность налицо; она представляет собой
последнюю решающую проблему, о которой нам следует сказать.
112
Сначала еще несколько слов. Сегодня так много говорят о децентра-
лизации, придании аппарату большей гибкости, о гарантиях самоуправ-
ления и т.д.; по-видимому, с помощью всего этого надеются хоть кое-
где, в государственной либо частной сфере, в некоторой степени избе-
жать всеобщего процесса бюрократизации, снизить его интенсивность
или вовсе воспрепятствовать его развитию. Все такого рода упования в
большом почете; считается, будто более гибкая структура, обеспечиваю-
щая на нижних ее ступенях большую свободу, возможность самостоя-
тельно принимать решения и осуществлять индивидуальные действия,
лучше, нежели безукоризненно организованное централизованное обра-
зование. Однако лучше ли? Жизнь и практическая деятельность ответят
на данный вопрос утвердительно: да, лучше, если она функционирует так
же хорошо, точно, быстро и с такими же незначительными затратами,
как и всякая другая. Насколько это ограничит ее влияние на нашу жизнь!
Ибо, как свидетельствует практика, поистине все совершенно строжай-
шим образом подчиненные экономике сферы на самом деле окажутся
неподвластны этой структуре. Но предоставим ей больше простора, сде-
лаем ее шире, где только возможно. Это так или иначе означает, что мы
тем самым привнесем в аппарат некоторые, пусть даже не столь много-
численные, «человеческие» черты. Но можно ли тем самым избежать ста-
новления аппарата? Необходимо ясно видеть: нам никуда от него не уйти,
если только мы не сменим всецело рациональное государственное устрой-
ство менее рациональным; такое, что основано на доведенном до совершен-
ства разделении труда, другим, где это разделение выражено слабее; про-
грессивное — не столь прогрессивным. Ибо если социальное образование
обрело достаточно широкие масштабы, если у него возникла потребность
овладеть определенным количеством внутренней энергии, то изменение
формы его элементов должна будет осуществлять некая крупная структура;
ничто, в том числе максимально четко организованный государственный
механизм, не в состоянии уберечь общество от того, что функции управле-
ния, упорядочения и контроля окажутся в нем обособленными от чисто тру-
довой деятельности и что они, будучи однажды обособлены, тоже становят-
ся «бюрократическими» в топ мере, в какой мы используем для их выпол-
нения рационализированную, а это значит хорошо обученную рабочую
силу. Этого можно избежать, если отказаться от рационализации как тако-
вой. И, конечно, именно поэтому Шмоллер совершенно оправданно всегда
и везде подчеркивает, что бюрократизация с технической точки зрения про-
сто служит симптоматичным признаком высокоразвитого общественного
устройства. В развитом обществе бюрократизации никак не миновать. —
Теперь скажем об опасностях.
ш
Размеры опасности поглощения населения аппаратом совершенно раз-
личны в зависимости от характера населения и свойственных ему типич-
ных форм выражения, обусловленных в той или иной стране сто природ-
ной склонностью и историей.
Существуют народы, чей темперамент уже сам по себе не позволяет
113
им утонуть в недрах аппарата. Их натура такова, что на любой однозвуч-
ный шум работающих механизмов они реагируют негативно и стремят-
ся дистанцироваться от них. Француза, каким бы хорошим чиновником
он ни мог стать, — даже если он пока таковым не является, — никогда не
удастся представить простым бюрократом. Ибо «месье», вероятно, умеет
очень ловко калькулировать, формулировать, декретировать, даже париро-
вать. Но он, пожалуй, никоим образом не сможет раствориться в аппарате,
потому что ему, как правило, на все это «наплевать», это вызывает в нем
скуку, и он чувствует потребность в ином: в тепле, смене впечатлений, со-
стоянии возбуждения; жить по-другому он не в состоянии. Именно вслед-
ствие этого он не может утонуть в глубинах аппарата.
Я далек от того, чтобы полагать, будто среди нас, немцев, — живем ли
мы с замкнутой или открытой душой — нет элементов, реагирующих на
аппарат если не точно так же, то сходным образом. Бисмарка дважды
пытались «впрячь» в него; его темперамент реагировал так, что он вся-
кий раз вырывался оттуда, притом делал это весьма грубо; и в течение
всей своей жизни он не утратил чувства отвращения к этому, по его вы-
ражению, «усыханию всех соков в конторе». Но все-таки, много ли у нас
таких людей? Насколько сильны волны нашей природной сущности, ко-
торые во встречном движении отражают натиск этого монотонно роко-
чущего и наводящего скуку гигантского механизма? Будем откровенны.
Внутреннее родство, существующее между столь значительной инертно-
стью нашего эмоционального восприятия и бесчувственной недвижно-
стью аппарата, страшно велико, чересчур велико, чтобы не создавать у
нас опасности вовлечения нашей духовной энергии в механизм. Это то,
чего мы боимся в первую очередь — природной предрасположенности.
Что касается истории: есть народы, чьи формы выражения, обуслов-
ленные их исторической участью, гораздо лучше оберегают их от погло-
щения аппаратом, нежели присущий нам характер личности; народы, у
которых процесс становления культурного облика их высших слоев был
отмечен благосклонностью провидения, потому что им рано было суж-
дено создать в лице этих высших слоев массовый тип, свободный от ме-
лочности и ограниченности во взглядах; столь рано, что они, вступая в
опасный с точки зрения развития культуры период социальных револю-
ций, охвативший собою XIX в., уже могли располагать им как чем-то
достаточно прочно слаженным и опирающимся на широкий фундамент.
Эти народы, у которых рано совершилось национальное объединение, с
XVI по XVIII в. сумели стать крупными центрами культуры, отличающи-
мися высокой численностью населения. Таковы французы, таковы анг-
личане; в их столицах в XVII-XVIII вв. сложился характерный для боль-
ших городов универсальный тип культуры, сформированный из элемен-
тов древней аристократии, буржуазного духа предпринимательства и
придворной утонченности, который породил в обеих странах и у обоих
народов такой образ, в соответствии с которым строят жизнь; на него
ориентируются в жизни ныне, как и тогда, пусть даже его внутреннее
содержание уже стало иным. По своему воздействию он подобен «золо-
тым перилам», защищающим от вызванного слепым рвением соскальзы-
вания в пропасть профессионального отупения.
С другой стороны, существуют народы, которые до прихода револю-
N4
ционной волны XIX в. нигде не преодолели малых форм организации
бытия и у которых вследствие этого названный тип отсутствует — как,
например, у нас, немцев. Это означает, что в результате разрушения при-
дворной жизни единственной широко распространенной массовой фор-
мой или, скорее, массовой разновидностью деформации, свойственной
стремившейся взять на себя руководство обществом буржуазии, был тип
профессионального филистера, крепкого обывателя, добропорядочного
супруга «под башмаком» у жены. Это народы, чья судьба, если можно так
выразиться, не позаботилась о том, чтобы заранее подготовить их к борь-
бе с наступающей эпохой бюрократии.
Это следует видеть достаточно ясно и рассматривать с разных сторон.
Несомненно, тот затхлый дух старинного мещанства, аромат комфорта и
самодовольной ограниченности так до конца никогда не рассеялся даже
у тех, других народов, чье существование под влиянием ancien regime*
уже обрело некоторые черты величия и свободы. Он сохранился там даже
невзирая на дальнейшее освобождение, совершившееся в XIX в. в про-
цессе революционного преобразования экономики, общества и государ-
ства. А порождаемые новым механизмом тенденции возврата ко всему
ограниченному, источающему тепло, податливому, к «пенсионному
страхованию жизни» все еще в состоянии обнаружить в духовной атмос-
фере тех народов такие «химические элементы», с помощью которых им
можно попытаться снова увлечь человека в рай добропорядочной огра-
ниченности. Однако нужно заметить: их так немного и они уже настоль-
ко разложились! Оставим в стороне Диккенса, Теккерея и прочих юмо-
ристов и сатириков. Не станем также смешивать деловые качества и вы-
сокую работоспособность с ограниченностью и усердием. Мы увидим: в
этот рай всего мелочно-благополучного уже нельзя безоговорочно поме-
стить не только Руже, Бридо, Гранде — этих злодеев, изображенных
Бальзаком, — но и других мелких буржуа этих стран. Все они вкусили
хлеба с древа времени и плодов познания и постижения, которые навсег-
да отвратили их от простой добропорядочности.
Напротив, то, что описывает у нас Зейдель, соответствует действи-
тельности. В нашей жизни так хорошо сохранились элементы той былой
атмосферы, столь незначителен урон, какой она понесла в недолго про-
должавшуюся эпоху расшатывания и распада всех вещей в процессе кон-
куренции, окна нашего бытия действительно оказались приоткрыты
лишь слегка и на столь короткое мгновение, что нам грозит опасность:
мы, ничуть не меняясь, спокойно перейдем из затхлой тесноты прежнего
пространства в затхлую тесноту нового пространства; ничуть не мечтая о
лучшем, удовлетворенно переберемся из теплых душных комнат пре-
жних малых форм организации в хорошо отапливаемые, так удачно об-
ставленные, но затянутые той же пеленой духовного угара помещения
новых крупных организационных структур бюрократического характера,
и тем самым сменим былую мелочность души и страх перед реальной
жизнью на новые. Ибо нам недостает того, что мог бы предоставить
сформировавшийся в высших классах устойчивый тип, того стремления
к свободе, которое вызывает такую симпатию и жажду подражания и,
* Старый порядок {франц.).
115
наконец, делает всяческие проявления «узости» бытия нестерпимыми
для «среднего человека».
Пойдем дальше и с другой стороны: в ходе грандиозных преобразова-
ний XIX столетия у всех народов упростился облик личности — всех их
просто принудили к этому. Ибо крушение всех прежних структур; необ-
ходимость заново строить то, что оказалось разрушено; привлечение для
этого новых средств, поступающих отовсюду и принимающих все новые
формы; трудности, связанные с правильным их освоением; начавшаяся
в то же время под влиянием этого процесса борьба всех против всех; не-
бывалые массы людей, будто внезапно исторгнутые из чрева Земли —
Европы; наконец, идея демократии, противопоставившая в некоем по-
единке низшие слои этой массы высшим слоям и одни народы -- дру-
гим, — все это, что принято считать обычным явлением, обусловленным
ростом значимости экономических и политических интересов, и что с
точки зрения философии позволяет прийти к справедливому выводу о
наступлении эпохи, управляемой волей людей, — это должно было по
мере своего становления повсюду обнаружить тенденцию к тому, чтобы
направить духовные силы из сферы глубинного в сферу внешнего бытия
ради того, чтобы уменьшить груз духовности в борьбе за существование,
ограничить себя областью практически применимого, сделаться проще.
Все народы, которых увлек за собою этот поток, вынуждены были посту-
пить — и поступили — именно так. В этом истинная причина того, что
столь глубокая и всеобъемлющая душа культуры XVIII столетия повсю-
ду столь заметно сжалась. Поистине: развитие всех народов, относящих-
ся к нашей цивилизации, было и остается омрачено явлением грозного
призрака, предостерегшего от опасности превратиться в только «делово-
го человека», т.е. исключительно в материал для медленно поднимающе-
гося ныне из волн эпохи смут и заблуждений общественного аппарата,
подчиняющегося просто экономическим принципам. Этот призрак стоял
и продолжает стоять перед всеми нами. Но скажу опять: вероятно, ни у
какого другого народа развитие в этом направлении не зашло столь да-
леко, как у нас. Мы увидели, что нам не хватило позитивных черт, свой-
ственных универсальному по характеру типу, который по крайней мере
сумел бы сдержать процесс упрощения. С другой стороны, над нами
сильнее, нежели над прочими народами, тяготели задачи, настоятельно
требовавшие решения; т.е. мы вынуждены были заново строить не толь-
ко экономику, но и государство. Кроме того, элементы этого нового, оп-
ределяемого экономическими принципами бытия оказались у нас в не-
котором роде плотнее сконцентрированы и сильнее, чем где бы то ни
было, выдвигались на передний план; ибо мы, чтобы еще успеть обрес-
ти кажущееся утраченным, должны были создавать организационные
структуры нашей новой жизни на невероятно тесном пространстве и с
огромной быстротой. Таким образом, эта новая жизнь просто с небыва-
лой силой побуждала нас к работе, к подчинению дисциплине, короче
говоря, к такому поведению, которое соответствовало или могло соответ-
ствовать потребностям практического существования. Оно представля-
лось единственным средством удержать наши собственные позиции в
мире, хотя и сильные, но всецело искусственные, не основанные на ес-
тественном ходе развития. В результате мы как бы в пароксизме просто
116
отбросили прочь определявший нашу индивидуальность багаж утончен-
ной культуры, сосредоточенный пусть не в устойчивом, универсальном
массовом типе, но во многих, порою бесконечно богатых единичных ти-
пах личности, те элементы присущего нам остроумного критицизма, об-
наруживающей замечательное богатство фантазии, все же глубоко обо-
снованного идеалистического оптимизма и еще столь многого, — отбро-
сили все подряд в придорожные рвы истории... пока перед нами не воз-
ник немец наших дней, тот наиболее поразительный и наиболее стран-
ный «реалист», какого только видела история. Он выглядит современ-
ным, но тем не менее внутренне преисполнен древнейшей примитивной
субстанции, старинного добродушия, поверхностной добропорядочнос-
ти и духовной узости. Именно в таком человеке нуждается этот новый
бюрократический механизм, ориентированный, с одной стороны, на «ре-
ализм», с другой — на честолюбивую ограниченность. В одном из своих
писем Ибсен говорит, что евреи сегодня потому представляют собой вы-
дающийся в культурном отношении народ, что аппарат нынешней жиз-
ни — хотя они и стоят за прилавками магазинов -- в целом все же оттор-
гает их, не допускает их внутрь себя и тем самым, как правило, вынуж-
дает их вести индивидуализированное, сложное, отличающееся разнооб-
разием ситуаций, принимаемых решений и тем самым — внутренним
богатством существование. Воистину мудрое замечание, если принять во
внимание, как растет у нас число существ, которые столь элементарны,
что уже не ощущают того, как все их бытие принимает формы, неволь-
но вызывающие в памяти датские горки для катания. В самом начале,
над выездными воротами, там стоит загадочное слово «Matura»*; и от
этих ворот начинается стремительное движение вверх-вниз по прочно
уложенным рельсам. Путешествие завершается на ровном участке трас-
сы, где находятся другие большие ворота, над которыми золотыми бук-
вами начертано: «Господин тайный советник».
IV
Во-вторых: размеры опасности оказаться поглощенным аппаратом так-
же неодинаковы в зависимости от сообщаемой ему духовной энергии и
проявляемой им в соответствии с этим силы внушения. Прежде всего это
касается государственного аппарата; сразу приходят на ум огромные раз-
личия в положении, которое он занимает в той или иной стране, отно-
сящиеся не столько к масштабам его распространения вовне, сколько —
и главным образом — к влиянию, духовной значимости, какие отведены
ему в жизни. Мы подумаем, что в демократическом или парламентском
государстве, где аппарат служит инструментом в руках того или другого
большинства, того или другого президента, он никак не может претен-
довать на ореол величия, какой у него все же есть в прочих странах, где
провозглашена либо реально существует государственная власть, способ-
ная сказать о себе, что она представляет собою государство, его подлин-
ный «становой хребет». Мы подумаем, сколь явно в данном случае в этих
" Экзамен на аттестат зрелости (и Аистрии. Шнеицарии).
117
странах ориентированы на чиновников нее очерченные этим ореолом
ценности, связанные с возвышением личности, как легко они им доста-
ются единственно на основании их положения в обществе, рода занятий,
профессии, и сколь велика тогда должна быть сила внушения и энергия,
вынуждающие их всецело посвятить себя «службе». И таким образом мы
снова увидим проистекающую отсюда исключительную опасность для
судеб немцев — правда, увидим ее в полной мере только в том случае,
если примем во внимание еще и некоторые особенные, свойственные
нам одним черты, о которых пойдет речь ниже.
Если посмотреть внимательно, у нас, во-первых, происходит то же са-
мое, что во всех автократически-бюрократических государствах: человек,
который в других странах — если даже он так или иначе принадлежит к го-
сударственному аппарату — обретает значимость в обществе не вследствие
этого, а благодаря тому, что он собою представляет как личность, у нас ни-
чуть не ценится как индивидуальность и становится всем как чиновник; при
обращении к нему непременно упоминают его титул, его место в обществе
всецело обусловлено занимаемой им должностью, ему оказывают уважение
сообразно званию; жизнь не ведает, каков он с другой стороны. А если не-
счастный однажды попытается освободиться от этой роли и явиться пред
нами просто человеком, ему, скорее всего, придется тогда весьма несладко.
Как бы то ни было, везде, где имеет место такой процесс, кому-нибудь вся-
кий раз да удается тем или иным способом спасти себя от бесповоротного
соскальзывания на положение человека, представляющего собою лишь оли-
цетворение своей профессии. Но наряду с этим мы имеем вторую особен-
ность: у нас налицо не только совершенно «вульгарный» бюрократический
ореол и излучаемая им одним энергия, но и то, что Макс Вебер метко на-
звал «метафизикой чиновничества», что, возможно, лучше было бы обозна-
чить как обожествление чиновника, идеальное претворение его субстанции
в абсолютную сущность. Столь сильно пока ощущение искусственной обус-
ловленности нашего бытия организованными структурами, столь велико
чувство благодарности за все те элементы, которые, воплотившись в госу-
дарстве, содействовали становлению этих структур, что это породило у нас
такие настроения и на их основе — такое учение, которое можно абсолют-
но точно охарактеризовать именно с помощью приведенных выше понятий
и которое — скажем откровенно — есть не что иное, как идолопоклонство
по отношению к чиновничеству, т.е. то, чему предаются многие из лучших
наших теоретиков государственного права, самых уважаемых историков,
наиболее влиятельных экономистов этого направления. Настоящее идоло-
поклонство! Но поскольку каждый из них неизменно руководствуется ин-
тересами дела — или по меньшей мере стремится к этому, — то существо-
вание подобного учения означает, что наделе возвышается и усиливается не
отдельно взятый чиновник, а поистине именно аппарат; что его пытаются
представить чем-то мистически-чудесным, окутать его в высшей степени
странным туманным облаком, наделить его силой, какой он обычно все же
не обладает даже в бюрократических государствах. А это, в свою очередь,
служит выражением того, что отдельный чиновник оказывается все полнее
и безнадежнее целиком вовлечен в него и окутан им. Именно такие мисти-
ческие настроения, вызывающие к жизни сознание бесконечно возрастаю-
щего авторитета организационных структур и потребность в таком автори-
118
тете, мы ощущаем у себя каждый день; настроения, из которых возникают
боязливое стремление всех групп чиновничества сплотиться перед лицом
внешнего мира и представляющаяся необходимым условием «непогреши-
мости» иллюзия «единства»; настроения, которые далее порождают тенден-
цию к разрушению отдельных частей целого, практический упадок самоуп-
равления и случаи отставки бургомистров, перемещения учителей на дру-
гое место работы и т.д. Уясним себе, что именно та же самая сила стремит-
ся целиком подчинить единой власти спрессованный таким образом в уни-
фицированную массу людей чиновничий аппарат, связует чиновника все-
общей клятвой верности не только на службе, но и вне ее и в итоге вырас-
тает до того, что требует от него совершенно определенной «тональности»,
ясной каденции всего существования; сила, которая карает его, коль скоро
ему однажды придет на ум открыто воспротивиться ее воздействию. Толь-
ко уясним все это, и мы начнем понимать.
Все это касается лишь государственного аппарата. Но суть дела тем са-
мым не исчерпывается. Это «создание», возникшее в одной из областей, а
именно наиболее важной, наиболее заметной в социальном отношении об-
ласти нашей жизни, излучает свою энергию также на прочие имеющиеся у
нас организационные структуры и на производимую ими работу. «Функци-
онирование», абсолютная преданность профессии, растворение человека в
чуждой ему, существующей независимо от его сознания деятельности, ис-
чезновение индивидуальности в процессе такой деятельности, — все это
получило у нас универсальное «освящение», не объяснимое с точки зрения
только религиозного фактора, который и в других странах сообщает этому
оттенок святости и ныне еще продолжает действовать в таком направлении
также у нас; мы найдем ему объяснение лишь в случае, если ощутим, какие
клубы фимиама курятся над алтарями государственного чиновничества и
как они проникают собою всю нашу жизнь. У нас жертвуют собой и при-
носят в жертву других, где бы ни обнаруживалась такая возможность. Ибо
везде, где находят эту жертву, ощущается присутствие языческого идола —
государственного чиновника.
«Люди приносят себя в жертву»? Нет: их внутренний мир сжимается.
На самом деле результатом является «Йобст, праведный гребенщик», эта
гениальная проекция совершенно ссохшейся чиновничьей души на ка-
морку ремесленника. Это человек, который изрекает: «Да, что касается
политики (с тем же успехом он мог бы сказать — искусства, жизни во-
обще), то она дело неплохое, если ты любишь ею заниматься». Это чело-
век, каждый раз вопрошающий себя, а стоит ли вся жизнь того чистого
белья, которое приходится износить за это время; это раб своей малень-
кой бессмысленной работы и, наконец, — это честолюбец.
Так обстоит дело на нижних ступенях. Л на верхних встречается тот
тип человека, «сознающего свои обязанности», который жертвует собой
во имя отечества и нации и, принося такую респектабельную жертву, ка-
кой он напрямик везде и постоянно требует от всех и каждого, совер-
шенно не помышляет о том, что ведь как раз вследствие этого, столь же-
ланного для него принесения в жертву индивидуальности, в конце кон-
цов должен будет в духовном отношении перестать существовать сам
объект подобной жертвенности — нация.
Но довольно об этом. Мы — народ, не оберегающий ни своей при-
119
родной сущности, ни обретенного им исторического облика от погруже-
ния в разверзающуюся перед ним бездну отупляющего бесчувствия; на-
род, украсивший эту самую бездну цветами и гирляндами, своею волей
предоставивший ей почти неограниченную власть над собой, восторга-
ющийся теми, кто тонет в ней. Мы — народ, поистине достойный совер-
шить нечто более значительное. — Поговорим об этом.
v
Конечно, нам никоим образом не уйти от бюрократической организа-
ции. Все равно, отдадим ли мы глубинные основы и насущные потреб-
ности нашей жизни, те из них, что нуждаются в организационном офор-
млении, в руки государства и его подразделений или вверим их тому, кто
в качестве организатора и частного предпринимателя возьмется за дело
и сумеет это использовать в собственных финансовых и иных целях. В
любом случае результатом является тот же самый механизм, та же гиган-
тская конструкция, в чьих многочисленных пустынных помещениях,
будто в подземных катакомбах ее бытия, умирает наша душа. Все равно,
кто сооружает такую конструкцию и кто ею владеет, — клетка оказыва-
ется построена; теперь именно она определяет нашу судьбу.
Наша цель проста: мы хотим спастись от аппарата, спастись как
люди, как личности, как носители жизненной энергии. — Хорошо. Итак,
давайте сначала разрушим ореол, каким он сегодня у нас осенен. По-
смотрим на него трезво как на техническую данность бытия, абстрагиру-
емся от какого бы то ни было благоговейного чувства, с каким мы при-
украшиваем, прежде всего, его «государственный» элемент, короче гово-
ря, лишим его той метафизики, которая его ныне окружает. Более того,
будем мужественны, последовательны, активны и честны. Пойдем далее
и совлечем стесняющую наши движения ложную метафизическую обо-
лочку с того, что составляет глубинную основу явления в целом, — с про-
фессии как таковой.
Свойственное нам представление о профессии, как мы сегодня одно-
значно признаем, возникло на основе той мирской аскезы, на какой на-
стаивает пуританство. Самопожертвование, которого оно требует, стрем-
ление с головой уйти в свое дело независимо от его содержания и невзи-
рая на собственное бытие произросли на почве веры, которая считала
всю жизнь и существование в земном мире лишь испытанием и подго-
товкой к иной жизни. Исходя из такого основополагающего подхода, эти
идеи, как и бытующее ныне представление о профессии, являлись все-
цело рациональными. Но с точки зрения человека, которому та, иная
жизнь уже кажется не вполне реальной, это представление утрачивает
смысл. Всякий, кто по-прежнему требует от этого человека без колеба-
ний употребить жизнь на то, чтобы отречься от своей самобытности ради
некоего — неважно какого — дела, не имеющего для него непосредствен-
ного значения, просто для того, чтобы тем самым испытать себя, — глу-
пец. И поскольку это так, прежняя основа представления о профессии и
само это представление, го, чго ранее составляло его содержание, ныне
разрушены. Создаваемое им сегодня крайнее неблагополучие в культу-
120
ре усугубляется к тому же всей присущей ему гротескной внутренней
бессмысленностью.
Значит, долой это представление? Вовсе нет. Очевидно, нам надлежит
создать ему новую основу, новое содержание и новые рамки существования.
По-видимому, именно эти новые рамки важнее всего остального. Стоящая
перед нами задача заключается в следующем: коль скоро то, другое учение
намеревалось спасти человека от жизни во имя мира небесного, то мы те-
перь спасаем его от порожденного этим учением представления о профес-
сии во имя жизни и мира земного. Но ведь спасение достигается не разру-
шением, а созиданием. Чувство долга и труд, творчество во имя целого, все
те тысячи нитей, связующих нас с большой жизнью, — смешно думать, буд-
то мы хотели бы или могли бы их упразднить. Но столь же смешно полагать,
что сегодня мы нуждаемся для них в прежнем богословском обосновании.
Какова бы ни была причина, но наше бытие непрестанно, следуя внутрен-
ней необходимости, со всех сторон выдвигает перед нами эту задачу — воз-
можно, в меньшей степени перед сильными мира сего, но, несомненно,
перед нами, широким средним слоем, который имеет немаловажное значе-
ние и чья жизнь ориентирована на труд, — пусть не в такой мере, как у низ-
ших слоев, но все же достаточно сильно для того, чтобы «обязать» нас ис-
полнять наш долг. Ведь наша жизнь тоже состоит в такого рода труде и тоже
определяется той совершенно элементарной, как бы «изначальной», биоло-
гической моралью, носителями которой мы являемся и которая сама фор-
мирует у нас обширную шкалу проявлений чувства общности, воплощенно-
го на наиболее высоком уровне в национальном чувстве и общечеловечес-
ких ценностях, в свою очередь побуждающих нас работать в интересах це-
лого. То, в чем мы нуждаемся, — не принуждение к труду и исполнению
обязанностей; по сравнению с этим оно имеет более глубокий смысл, каким
мы можем наполнить нашу задачу и каким в состоянии руководствоваться
в процессе ее осуществления, и устанавливает степень необходимой для это-
го самоотдачи. И какой смысл! По-видимому, он снова заключается — и,
пожалуй, всегда будет заключаться — в том, чтобы личность утверждала себя
в жизни посредством своей деятельности в жизни. Но сегодня мы говорим:
утверждать себя следует личности, а не тому или иному вероисповеданию
или той или иной вещи; именно личности как последней и единственной
основе, единственной силе бытия, единственному источнику всех великих
дел, ради которого мы могли бы пожертвовать собой. Ибо мы стремимся к
жизни, исполненной великих дел, и ни к чему иному. Но коль скоро целью
является раскрытие личности в профессиональной деятельности, это одно-
временно будет означать для нас допустимый предел всяческого самоотвер-
женного служения профессии.
То, о чем здесь говорится, не ново и, к счастью, несложно. Однако
порой, может быть, весьма хорошо вернуться к тому, что представляет-
ся очевидным, и на такой основе формулировать выводы, имеющие от-
ношение к действительности. Пожалуй, нам следует когда-нибудь при-
нять всерьез все те многочисленные слова о ценности личности и от ис-
ключительно метафизического исследования ее «предназначения» идти
дальше к конкретному рассмотрению профессии и индивидуальности и
спросить себя, каким образом мы могли бы связать их воедино либо от-
делить одну от другой. Если мы это совершим, го незамысловатое, само
121
собою разумеющееся нечто, какое мы в жизни человека ставим выше
работы, а самого человека -- выше его профессии, и тот факт, что мы
считаем эту последнюю только одним из многих способов раскрытия че-
ловеческой личности, сразу обретает очень важное значение для совре-
менной действительности. Ибо поскольку мы знаем, что подчиненным
аппарату профессиональным занятиям надлежит отдавать лишь малую
долю нашей «человеческой сущности», но отнюдь не великие ценности
человека, из этого следует, что смысл профессиональной деятельности
отныне может состоять лишь в том, чтобы она служила одним из многих
и, несомненно, далеко не самым важным проявлением нашей жизнен-
ной энергии в нашем бытии и могла стать еще одним, и при этом вто-
ростепенным, способом выразить себя.
Поймите это правильно. Мы сохраним всякой работе ее достоинство.
Нам известно, чего это стоит — день за днем, преодолевая внутреннее и
внешнее сопротивление, непрерывно заниматься именно тем, что в глу-
бине души тебе совершенно чуждо, и как это закаляет волю. И нам не
хотелось бы отказываться от этой функции укрепления воли, представ-
ляющей собою в то же время последний остаток прежнего содержания
труда, его летучий призрак, благодаря которому мы ныне отдаем дань
общественности. Но мы будем воспринимать этот труд как предпосыл-
ку нашей жизни, но вовсе не как ее цель, как нечто естественное, о чем
умалчивают, что-то вроде норм морали в узком смысле, которым следу-
ют «просто так». И, оценивая человека, мы не станем допытываться у
него о его работе, о ее содержании, но, может быть, самое большее,
спросим о том, как он ее исполняет, утрачивает ли он в ней свою инди-
видуальность или же он, при том что хорошо с ней справляется, все-таки
в духовном отношении сохраняет независимость от нее, или, что то же
самое, остается ли он живым человеком. И то, насколько он остается та-
ковым, вероятно, будет тем эталоном, «золотым локтем»23*, который по-
служит нам мерой.
Если мы когда-нибудь к этому придем, это будет означать, что мы
изменили самые основы; тогда все прочие вещи окажутся с точки зрения
целого лишь последствиями, правда, очень важного свойства.
Значительным результатом будет, если вследствие созданной заново
системы оценки жизненной энергии человека, вследствие возникнове-
ния на такой основе новой атмосферы бытия окажется разрушено лож-
ное метафизическое облачение чиновника. Это неизбежно произойдет;
ибо ведь оно базируется на простом перенесении всех ценностных пред-
ставлений в сферу объективного, которое в таком случае окажется нару-
шено. И, разрушаясь, оно непременно увлечет за собою очень многое, и
в первую очередь, что особенно важно для нас, того языческого идола,
какого в ином случае была бы в силах устранить только демократическая
революция; — немецкого «обожествленного» бюрократа.
Проявим снисходительность — устранить не его самого, а только его
поддельную, заемную королевскую мантию, это образование, сотканное
из заслуг былых времен и чаяний нынешних романтиков от политики.
Распад данного образования, без сомнения, будет многое значить, ибо он
внутренне высвобождает человека, в котором мы нуждаемся, из его бю-
рократической оболочки, возвращает его нам. И происходит это именно
122
в той области, где человек доныне был наиболее плотно окутан ею и по-
глощен своей профессией. Тем самым, такой распад вообще разрушает
непосредственно самый очаг вовлечения человека в мертвый механизм
в обществе в целом.
Но этого недостаточно. Если мы хотим снова обрести перед собой
человека, мы должны разбить цепи, сковывающие его также снаружи, и
реальным образом освободить его от аппарата. Это больше и сложнее
того, о чем говорилось ранее. Это непросто и чревато серьезными по-
следствиями, так как снова поднимает вечный вопрос истории — вопрос
о противостоянии прав личности и государственной и общественной не-
обходимости — и с иной стороны, нежели та, что представляется нам
первичной, показывает всю борьбу, прежде разворачивавшуюся в сфере
власти и управления, и, конечно, универсальные основополагающие
проблемы общественной жизни.
Просто это, скорее, несколько второстепенные, хотя и важные вне-
шние характеристики. Если у нас спросят, не следует ли нам еще в бо-
лее широком масштабе вверить дальнейшие области нашей жизни цен-
тру, осуществляющему наше включение в профессиональную деятель-
ность, т.е. государству и его подразделениям, и тем самым укрепить узы
обязательств, наиболее тесно сковывающих человека, мы теперь, веро-
ятно, без колебаний ответим: нет. Пусть муниципализация, национали-
зация и т.д. обладает теми или иными преимуществами, пусть ведет к
большему комфорту и безопасности для функционеров, более высокому
уровню обеспеченности масс, — опасность умирания личности в нашей
жизни в настоящее время столь велика, настолько превосходит все ос-
тальное, что нам сегодня вполне хватит сложившейся у нас ныне формы
бытия, которая наиболее отчетливо выражает эту опасность.
Но это нечто исключительно внешнее. К этому прибавляется следующее
обстоятельство: во-первых, огромные массы людей поглощены у нас теперь
государственным аппаратом. Как с ними быть? И далее: в том. что касает-
ся остальных, которых мы должны отдать в распоряжение его более крот-
кого «брата» — частного аппарата, тоже существует проблема: каким обра-
зом дать им свободу в рамках внешней правовой формы организации их
жизни? Именно эта проблема, поставленная применительно к рабочим,
доныне служила содержанием наших размышлений, именно она привела
там к возникновению сложной системы права, предусматривавшей разгра-
ничение обеих сфер бытия: личности и профессии. Нынешняя проблема та
же самая, только затрагивает она новую область — чиновничество; правда,
вследствие этого она оказалась помещена в очень изменившиеся условия,
наполнена существенно иными тенденциями, ориентирована, по-видимо-
му, на принципиально близкое, но по своим конкретным особенностям
неизбежно иное и, конечно, еще много более сложное решение, нежели
там. Сначала необходимо увидеть проблему в целом. Стремление немедлен-
но разрешить ее до конца отдавало бы самонадеянностью. Сейчас возмож-
ны только высказывания самого общего характера; и в связи с этим хочу
лишь заметить следующее.
Во-первых: с моей точки зрения, не подлежит сомнению, что следу-
ющей эпохе, да и нам самим в этих новых условиях будет не понять, что
существовал такой период современным образом организованных отно-
123
шений в сфере власти и управления, когда государство могло подобно
тому, как оно поступает сейчас, сказать чиновнику: ты мой, потому что
ты некогда продал мне себя; я могу способствовать твоему продвижению
по службе, а ты не в силах повлиять на этот процесс; я в состоянии на-
полнить твой труд содержанием или отнять у него это содержание, а ты
не в силах повлиять на этот процесс; ты — ведь именно это до сих пор
утверждает административное право нашего «современного» государства
— мой вассал. Нам будет не понять, как нынешнее государство оказалось
способно сказать это сотням тысяч человек, которые имеют поистине
только такой предоставленный им здесь кусок хлеба, да и могут иметь
только его в силу необходимости в течение всей жизни учиться своей
профессии. Вероятно, покажется еще менее понятным, что все, не раз-
мышляя далее об этом, спокойно взирали, как в процессе национализа-
ции и муниципализации в обществе получили возможность множиться
толпы людей, живущих в подобных обстоятельствах, как их число мог-
ло возрастать до того, что они все в большой степени образовывали тип,
характерный для целостных больших классов общества. Мы осознаем,
что только в отношении нескольких функций, находящихся в ведении
государственного аппарата, ему необходим человеческий материал, от-
данный ему в полное распоряжение, но что речь при этом идет лишь о
немногих древнейших функциях, которые вообще имеются у него: о по-
лицейской службе и обеспечении правопорядка. При этом все те обшир-
ные новые сферы и функции, которые впоследствии вверила ему исто-
рия, такие, в которых находит выражение забота о состоянии экономи-
ки, о воспитании и физическом здоровье, никоим образом не требуют
этой, напоминающей рабскую зависимость, коммендации24* человека
аппарату. Окажется, что среди тех новых сфер найдется несколько таких,
которые, наружно являя собою общественно необходимую предпосылку
нашего нынешнего существования, со своей стороны, возможно, тоже
требуют чуть сильнее детализированного права для своих служащих, но
есть и такие, что просто исполняют наиболее рутинную работу в нашей
жизни, не нуждаясь в каком-либо «особом положении». Мы увидим, что
в отношении всех этих обширных и, пожалуй, все еще увеличивающих-
ся областей и роста численности занятых там функционеров надлежит
таким образом сначала создать некое «право», такое, которое предостав-
ляет этим функционерам «права человека», вызволяет их из состояния
пожизненного рабства и возвращает им способность оказывать влияние
на собственную жизнь. Воистину, это грандиозное чудесное деяние. Это
поймут, и такого рода право будет создано.
И второе: мне представляется несомненным тот факт, что все эти го-
сударственные функционеры однажды найдут общий язык с частными.
Все трансформированные в процессе бюрократизации слои нашего сред-
него класса, которые продолжают расширяться по мере перехода наше-
го бытия на все более высокие ступени механизации и рационализации,
комплекс инженеров, техников, специалистов в области торговли и т.д.,
принадлежащих к аппарату и ныне делающих там, вероятно, наиболее
важную и актуальную работу, — пес они сегодня уже организованы, и их
организация, призванная заложить основу их нового положения в жиз-
ни, когда-нибудь станет центром притяжения также для организаций.
124
которые объединяют государственных чиновников. Тогда возникнет, как
действительно завершенное, целостное образование, чрезвычайно мно-
гочисленный, обширный средний слой населения, уже названный одним
из современных писателей «государством будущего», — слой, который
затем иным путем, нежели это происходило до сих пор, когда-нибудь
придет к осознанию своего единства, важности и значения, какими он
обладает. Было бы удивительно, если бы тогда он не оказался вынужден
вспомнить самого себя и свою силу, ту гигантскую силу, какой он дей-
ствительно располагает в обществе; и если вместо того, чтобы умолять
государство о пенсионном обеспечении и прочих вещах, чем он занят
сегодня, он в таком случае должен будет решиться взять свою судьбу в
собственные руки и сделать тот важный шаг, который мы намереваемся
здесь именовать правовой эмансипацией чиновника — как государствен-
ного, так и частного. Если такой момент настанет, — а он однажды на-
станет, — если, следовательно, этот новый класс тем самым сбросит не
только внутренние, но и — в допустимых пределах, установленных неиз-
бежными обязательствами и жизнью в сообществе, «подчиняющей нас
всех своим законам», — внешние оковы, то перед нами откроются почти
безграничные перспективы; пожалуй, это бесспорно.
Предоставим здесь слово истории. С нашей позиции стороннего на-
блюдателя отметим: для нас даже такой шаг — не более чем подготовка.
Мы считаем его таковым, чтобы субстанция становления культуры, ко-
торая уже виделась нам гибнущей в недрах механизма, могла явиться
перед нами окончательно спасенной и чтобы мы были в состоянии на-
деяться, что высшие классы общества в будущем, возможно, снова од-
нажды обнаружат величие чувств и тем самым — величие жизни и твор-
чества. Ведь культуру не «создают», как ныне, вероятно, полагают глуп-
цы, — она растет. Лучшее, что мы способны совершить, — это действо-
вать в том направлении, чтобы почва, которая должна питать ее, не пе-
ресохла окончательно и чтобы наше «духовное тело» еще продолжало
жить ради грядущего «танца».
V
Значение духовных вождей в Германии14
Стоит попытаться уяснить духовные преобразования в Германии на
примере роли ее духовных вождей. В их участи неизбежно находят от-
ражение некоторые черты судеб нашего духа в целом. Не только взды-
мающиеся к ним и концентрирующиеся в их высказываниях волны, а,
напротив, волны, которые способны от них исходить, значение, какое
они смогли обрести в современную им эпоху, общий облик, который
был присущ или ныне присущ самим этим вождям, призваны свиде-
тельствовать о том, какими мы были и какие мы есть. Мы намерева-
емся на этот раз рассмотреть наше духовное бытие с этой конкретной
точки зрения, с точки зрения его концентрированного выражения в
том, какое положение отведено у нас силам, играющим в духовном
отношении ведущую роль.
125
I
Совершенно бесспорно, что значимость такого рода людей и тем самым
важность духовных ценностей, носителями которых они являются, за
последние 100 лет у нас в Германии снизилась почти неслыханным об-
разом; мы сказали бы, она оказалась разрушена словно в некоей катаст-
рофе, когда бы не примечательная особенность, состоявшая в том, что
эта потеря значимости свершилась не внезапно, а осуществлялась неко-
торым образом поэтапно, почти систематически. Никто из интеллекту-
алов, играющих у нас в настоящее время ведущую роль, вероятно, не от-
важится притязать на общенациональное значение и стать причастным
к формированию судеб народа в той степени, какой в эру Гёте и освобо-
дительных войн25* обладали Кант или Фихте, Гегель или Гумбольдт или
из тех, кто был всецело ориентирован на практическую деятельность, —
Штейн26* или Шарнхорст27*. И все-таки было бы неверным или, по мень-
шей мере, упрощенным представление, будто такое падение влияния ду-
ховных вождей как силы, практически имеющей решающее значение,
произошло как единовременный акт или оказалось обусловлено вполне
конкретной ясно обнаружившейся несостоятельностью, как, например,
той позицией, какую заняли профессора, собравшиеся в церкви св. Пав-
ла28*, или появлением Бисмарка, т.е. неким историческим событием, в
некотором роде интеллектуальной катастрофой. Еще в эпоху Бисмарка
мы в лице Шопенгауэра и Ницше, Маркса и Лассаля, Трейчке и других
имели такую духовную силу, которая вместе и наравне с Бисмарком ока-
зывала определяющее, отчасти в высшей степени определяющее воздей-
ствие на наше практическое существование.
Правда, стоит лишь сопоставить их положение в нашей жизни и их
влияние с теми, какие имели духовные лидеры эпохи освободительных
войн, как мы увидим своеобразный процесс систематического спада. По
сравнению с вселенским, универсальным характером, отличавшим этих
последних, все они имели в определенном смысле только частное значе-
ние. Причина не в том, что сами они без исключения стали менее уни-
версальными по содержанию их идей, свойственной им широте взгляда
— никто не возьмется утверждать такое о Шопенгауэре и Ницше, — ско-
рее, изменилась их общая социологическая позиция в сфере нашего бы-
тия; их высказывания относились уже только к фрагментам нашей жиз-
ни, а не к целому. К тому же они говорили уже не с высоты увереннос-
ти и беспристрастности, с какой обращались к нам их предшественни-
ки и с какой они тем не менее могли — в этом их особенность — выска-
зываться так широко и весомо, как они это делали. Если сравнивать тех,
первых, с этими их прешественниками, ощущаешь вполне отчетливо,
что они, — жившие в период, ближе отстоящий от нас, — какие бы ве-
ликие истины они подчас ни изрекали, все без исключения говорили так.
будто они находятся в «плену» у жизни, т.е. уже не как свободные люди,
но как всецело вовлеченные в эти коллизии и в результате такого вовле-
чения поставленные лицом к лицу с теми вещами, по поводу которых
они выносят суждение. Если попытаться выразиться предельно ясно,
они вели речь о проблемах, но более не об идеях общего характера.
И в этом заключена еще более значительная особенность нынешне-
126
го положения. Те ведущие умы, которые сегодня можно принимать все-
рьез, не дают решений, всеобъемлющих и несущих нам освобождение
ответов, а освещают некие «вопросы». Какими только вопросами, начи-
ная с социального, мы ни занимались последние полвека: женским воп-
росом; вопросом об алкоголизме; вопросом воспитания; конституцион-
ным вопросом и т.д. — исключительно насущные задачи, за которыми
кроются различные мировоззрения и общий подход к жизни. Но это
сплошь частные проблемы.
А где при этом пребывают наши вожди? Каждый занимается одним
из этих вопросов, собирает относящиеся к нему материалы и предостав-
ляет их нам, высказывает точки зрения и пытается нам их разъяснить.
Однако наша жизнь не состоит из такого рода вопросов. Она не комп-
лекс вопросов, а целостность. А воспринимать ее как целостность, кон-
струируемую, формируемую и организуемую из некоего центра, — отне-
стись к ней таким образом вряд ли осмелится кто-либо из нынешних
выдающихся умов.
Те, кто предпринимает подобную попытку и стремится выявить такие
универсальные воздействия — это в массе своей люди, презираемые
«специалистами», и презираемые по праву, ибо они почти всегда обла-
дают недалеким умом, оперируют давно устаревшими расхожими пред-
ставлениями и не достойны того, чтобы уделять им внимание. Либо это
более или менее усердные, отчасти охочие до сенсаций комбинаторы,
которые выдают ускоренную деятельность и выраженное в потоках слов
стремление осчастливить мир за истинное постижение. Но подлинно
глубокие и честные умы, ныне еще пытающиеся стать лицом к лицу с
целостностью, — одинокие люди, чей голос не слышен нации, которые,
опасаясь неправильного и искаженного понимания, вообще избегают
обращаться со своими суждениями к общественности, — неведомые
миру пророки.
п
Такова ситуация, какую надлежит ясно увидеть и о которой следует от-
крыто говорить невзирая на достигнутые нами значительные внешнепо-
литические успехи. Вследствие чего она возникла?
Ответ, который, вероятно, лучше других раскрыл бы ее общую подо-
плеку, будет таким: она проистекает из неизбежно формирующегося об-
лика современной жизни, ее целостной внутренней и внешней структу-
ры, а именно — из механизации, подчинения аппарату, массового харак-
тера бытия, обособленности его формаций от того, что произрастает ес-
тественным путем, а также из изменения форм всех структурных обра-
зований бытия и превращения их в унифицированные конструкции,
организованные согласно принципу практической целесообразности и
основанные на денежных отношениях, так что бытие утрачивает опреде-
ляемое душой содержание и обладает только ограниченным радиусом
практического действия: что в этом оказывается заключена почти един-
ственная субстанция жизни рыхлой, лишенной корней, наскоро собран-
ной воедино массы, — что еще могло там развиваться, кроме матерпали-
127
зации и, с точки зрения духа, хаотической изломанности? Что в такой
ситуации остается духу человека зрячего и способного созидать формы,
кроме как произносить проповеди среди мертвых стен? Коль скоро он
стремится к практическому действию, то он фантаст? Я полагаю, никто
из тех, кто пытался критически исследовать нашу эпоху в ее целостнос-
ти и при этом испытал чувство отчаяния, вызванное исчезновением в
ней проявлений души, не будет отрицать, что в таких замечаниях полу-
чило выражение наиболее тяжелое впечатление, связанное с ее характе-
ром и тем, какие возможности она открывает воздействию духовных сил.
Следует все-таки добавить: это не заключает в себе ничего абсолютного,
исчерпывающе описывающего ее сущность наподобие догмы, но только
условное. Такой анализ, с учетом различных его оттенков и различного
уровня интенсивности, справедлив для самых разных народов. И наибо-
лее примечательное состоит в том, что ни к одному из прочих народов он
не применим в столь сильной степени — по крайней мере, если взгля-
нуть со стороны, — и настолько абсолютно, как к немцам.
Должен сказать несколько слов о том, как обстоят дела у наших про-
тивников. Это не касается их так называемой «идеи», которой они, по их
утверждению, руководствуются в противоборстве с нами. То, что я думаю
о ней, будет, по крайней мере в косвенном виде, представлено в другом
месте. Здесь я только совершенно формально рассуждаю о социологичес-
ких вещах, в некотором роде о внешнем факте управления обществен-
ным мнением со стороны сил, находящихся в руках интеллектуалов, т.е.
о духовном руководстве.
Я при этом говорю не о России, этой «обетованной земле» интеллек-
туалов или, по крайней мере, земле, которая ранее образовывала широ-
кую сферу их влияния; во-первых, потому, что она в некотором смысле
еще не была цивилизованной, да и остается таковой и тем самым пред-
ставляет собою не самый лучший объект для сравнений; а, во-вторых,
еще и потому, что ныне она слишком хаотична для того, чтобы прини-
мать ее во внимание. Но Англия! Силы, связующие воедино современ-
ную Англию и правящие ею, по своему содержанию, несомненно, не
принадлежат к чисто идеологическому типу. Не хочу анализировать их
более подробно. Речь идет о следующем: пусть мы, немцы, воспринима-
ем вождей, сосредоточивших в своих руках эти силы и выражающих их
интересы, как мнимых интеллектуалов, надевших маску духовности, под
которой они обнаруживают в значительной мере чисто практические ус-
тремления, — эта страна изобилует личностями вождей такого духовно-
го склада, которые и сегодня в состоянии подчинить своему влиянию
народ так, как это происходило во времена Кромвеля или Карлейля. В
значительно преобладающем большинстве областей ею снова и снова
управляли лидеры, опосредствовавшие свое воздействие сферой духов-
ного. Пусть пылкий, красноречивый человек, ныне стоящий там во главе
страны29*, исходя из наиболее общих аспектов истории является, пожа-
луй, скорее трибуном, нежели великим государственным деятелем. Все
его идеалы были и остаются отражением присущих его социальному
слою позиций, занимаемых в борьбе с иными социальными классами
или прочими группами нашей жизни. И все же индивидуальные каче-
ства, благодаря которым он руководит нацией, по преимуществу не
128
практического, но, по способам их воздействия, духовного свойства. Они
реализуются посредством слова и убеждения, они характерны не исклю-
чительно для человека дела, но для того, кто способен будоражить души,
т.е. для духовного вождя.
И насколько сильнее представлен этот вид интеллектуального господ-
ства или, по меньшей мере, причастности к господству в романских
странах! Конечно, я отнюдь не намереваюсь высказаться в защиту слы-
вущего столь компетентным правительства «адвокатов», представляюще-
гося нам в Германии нежелательным, либо господства итальянской
piazza', производящего на свет потоки слов, — вообще не собираюсь го-
ворить об Италии. Но то, что в некоторых других областях романского
мира знаменует собой большей частью только форму или, по крайней
мере, нечто близкое форме, не несущей в себе никакого содержания, т.е.
жизнь под властью определенных слов и идей, в одной стране являет со-
бою горькую реальность, побуждающую народ к неслыханному самопо-
жертвованию: во Франции. Трижды, — говорит Баррес:,(,\ который, что
бы ни думали о нем лично, был в существенной мере одним из творцов
такой духовной реальности, — трижды вы. французы, благодаря своему
духовному потенциалу налагали отпечаток на облик мира: во времена го-
тики, при Людовике XIV и в эпоху революции-1*. Вернитесь к своим ис-
токам, своей стране и своей мистике, и вы в четвертый раз обнаружите
в себе духовное пламя мирового господства. Если вы победите своего во-
сточного соседа, вы одолеете количество при помощи качества, экстен-
сивность — при помощи формы, массу — при помощи вашей духовнос-
ти, и будете опять действовать цементирующе. Эти и подобные им идеи
вызвали у населения Франции волну воодушевления — волну, способ-
ствовавшую развязыванию войны; волну, без которой эта война никог-
да не сделалась бы возможной и которая ныне ощущается французским
народом, полагающим, будто в духовном направлении его вели в верном
направлении, как кровоточащая рана.
Я мог бы также сказать об Америке, этом в чистейшем виде самом
деловом народе мира, где, тем не менее, отмечается странное обстоятель-
ство, что ныне, в период войны, им руководит ученый32*, умеющий про-
будить у них настроения, подобные тем, что испытывали крестоносцы.
Но мне было важно только констатировать, пожалуй, лишь структурно
обусловленный факт: степень влияния принявших интеллектуальную
форму сил.
И, вероятно, должны существовать особые причины, породившие
странную ситуацию, что ныне мы в Германии более не вверяем свою
судьбу такого рода руководству, — духовному руководству. — что мы,
даже если наши действия имеют духовную направленность и глубокую
внутреннюю основу, все же не хотим повиноваться этому руководству,
что нашу участь по некоторым причинам нельзя — или нельзя было бы
— сформировать таким образом. Все, что можно высказать, т.е. слова и
идеи, как и их носители, ныне не способны определять собою нашу
жизнь подобно тому, как это происходит у других народов.
При этом было бы совершенным заблуждением полагать, будто ду-
Площлль («та.!.).
5 Зак.3073
129
ховные силы у нас, скажем, находятся в состоянии большего упадка и не
столь сильны, как в прочих странах. Наоборот. Какая почти неслыхан-
ная по своей интенсивности самоотверженная духовная работа затрачи-
вается на частные вопросы и проблемы жизни, о которых я сказал выше.
И какая потрясающая, невиданная сила души и жертвенность проника-
ют собою всю обширную область каждодневной профессиональной де-
ятельности. И какую неустанную и чрезвычайно многостороннюю про-
дуктивность духа, обнаруживающуюся в вопросе о нашей сущности и
наших внутренних задачах, раскрыла в нас эта война невзирая на то, что
мы ведь очевидным образом вынуждены вести ее в первую очередь един-
ственно ради нашего существования. Кроме того, у нас достаточно много
индивидуальностей, которые, по моему убеждению, ни в чем не уступа-
ют тем, кто располагает столь значительным влиянием за океаном. Но
все-таки наша практическая жизнь в ее целостности протекает, на пер-
вый взгляд, независимо от всех этих чисто духовных сил. Возникает впе-
чатление, что в своих отдельных задачах, становлении наружного обли-
ка ее организации, заботе о составляющих ее элементах она опирается на
созидаемую этими силами глубинную основу души и движется благода-
ря ей; но кажется также, будто по своей сущности, своим формообразу-
ющим целям, по тому, чем она на деле руководствуется, наша жизнь не
подвержена влиянию этих сил. Представляется даже, что в ходе этой вой-
ны, сопровождавшейся сильнейшими душевными потрясениями, она в
той мере, в какой ее развитие не предопределено само собой разумею-
щимися внешними обстоятельствами и необходимостью повиноваться
власти, в духовном отношении почти всецело определяется факторами,
которые уже сделались историческими и всегда присутствовали в жизни
немцев: ставшим объективной реальностью всеобъемлющим сознанием
своего долга, универсальными представлениями о верности и чести, чув-
ством товарищества, стремлением личности всецело соответствовать и
подчиняться простому, почти патриархальному взгляду на общее благо.
Мнится, будто наша жизнь, ведомая инстинктом самосохранения, отвер-
гает все новые, неиспытанные идеи духовного свойства, считая их диле-
тантскими, до некоторой степени подозрительными и, возможно, не
адекватными тяжкому бремени ответственности и опасностям, с какими
сопряжено всякое действие. Она кажется идущей далее по прежнему, за-
ранее предначертанному пути, а новые духовные силы лишь порхают,
подобно падающим легким листьям, вокруг массивного тела.
ш
Теперь ничего не стоит без долгих размышлений увидеть в данной ситу-
ации, как это часто и происходит, признак ограниченности и несовер-
шенства присущей нам, немцам, практической сферы, возложить вину
на тип нашего немецкого прагматика и сокрушаться по поводу его узо-
сти, ограниченности, его мнимой недальновидности. Ведь можно без
колебаний назвать весьма убедительные причины свойственного нам
стремления погрузиться в практическую деятельность, связанного с на-
стоятельной необходимостью разрешить задачи, которые последние пол-
130
века стоят перед нами как народом, создающим развитые государство и
экономику. Но что касается незначительного влияния сферы духа на
практику, не мешает однажды спросить, не заключала или не заключа-
ет ли в себе сама эта сфера некоторых своеобразных особенностей, при-
ведших к тому, что она столь очевидным образом уподобилась только
зыбкому туману, обволакивающему у нас, немцев, основу нашего бытия.
Как парадоксально это ни звучит: первая и наиболее существенная при-
чина неспособности этой сферы воздействовать на практику состоит в ее
большей глубине, в том, что по сравнению с существующим в других стра-
нах миром идей она яснее увидела и открыто признала проблемы, сомни-
тельные и с трудом поддающиеся идейному обоснованию стороны совре-
менной структуры бытия. С позиции других народов вся эта нынешняя
структура бытия, современный аппарат цивилизации и его содержание со
всеми вытекающими отсюда последствиями не только внешне, но и по сво-
ей важности и внутренней значимости представляют собою некую дан-
ность, что-то бесспорное и наряду с этим в то же время некое образование,
охватывающее собою все возможные ценности, за пределами которого нет
ничего более возвышенного. Стремление посягнуть на святость и универ-
сальный характер этой цивилизации в принципе означает, с их точки зре-
ния, только что-то вроде парадоксов Честертона3-*, с какими можно ознако-
миться за утренним кофе, листая «Дейли ньюс». И в принципе они не по-
нимают, отчего мы, немцы, не довольствуемся безоговорочно их понимани-
ем дела, отчего продолжаем говорить о «культуре», начиная это слово с тре-
бовательной, жесткой немецкой литеры «к»34*, отчего, произнося его, мы,
видимо, намереваемся свергнуть с престола как раз эту цивилизацию со все-
ми ее достижениями и тем самым, как представляется, обозначить свой-
ственные ей проблемы.
Точно так же нынешняя политическая форма выражения этой совре-
менной цивилизации, западная демократия, предстает в глазах других наро-
дов чем-то последним, высшим и незыблемо данным, и, невзирая на от-
дельные слабости, которые, возможно, обнаружат историки и социологи,
некоей неоспоримой догмой, явившейся в мир благодаря пуританизму, аме-
риканской войне за независимость или французской революции, — все рав-
но, — по отношению к которой всякий не верящий в нее или сомневаю-
щийся в ней в любом случае провозглашается варваром. Но с нашей точки
зрения она тоже означает проблему. Мы видели и видим, что она, вероят-
но, представляет собою программу, но отнюдь не реальность, что вместо
прежних, разрушенных ею отношений господства она всюду создавала не
свободу и равенство, а иные, нежелательные для нее самой, по своему зна-
чению совершенно сомнительные новые отношения господства. Более того:
это такая программа, перед основополагающим принципом которой — воз-
вещением равенства — в замешательстве останавливаются наше чувство
действительности и наша честность, ибо оно кажется нам, может быть, не-
ким постулатом, но далеко не во всех случаях — истинным выражением
сущности проявлений жизни. Здесь у нас тоже возникают сомнения и воп-
росы, и мы, несомненно, делаем это на основе большей свободы духа и бо-
лее глубокого проникновения в проблему.
Такое поведение духа было и остается немалой заслугой, гак как зак-
лючает в себе смелость усомниться. Но все же станет ясно, что оно. во-
131
первых, должно иметь следствием определенную беспомощность сферы
духа, неумение действовать, неспособность преодолевать практические
вещи, как нам представляется, находящие отражение в ряде вопросов,
глубинной сути которых не прозревали и тогда, когда все же не хотели
безоговорочно принимать свойственные этим вещам принципы и конеч-
ную направленность.
Но как мы действовали в такой ситуации? Ведь мы не могли себе по-
зволить постоянно пребывать в ней. Нам надлежало тем или иным обра-
зом пройти через заключавшую в себе проблемы субстанцию и достичь
такой точки, где бы мы заняли по отношению к ней собственные проч-
ные позиции и были в состоянии самостоятельно устанавливать крите-
рии; нам следовало найти некий центр, исходя из которого нам удалось
бы овладеть этой субстанцией, осмыслить ее в общих чертах, взять ее в
свои руки как целостность и подчинить ее новому руководству.
Здесь начинает обнаруживаться наша слабость. Мы вправду не столь
многого достигли и не справились с переданным в наше распоряжение
материалом. И самое странное состоит в следующем: в данном случае у
нас снова возникает ощущение, что это было необходимо, что в этот пе-
риод, охвативший последние 40 или 50 лет, у нашего интеллекта и наше-
го духа не оказалось не только сил, но и настойчивости, т.е., говоря
трансцендентально, стремления исполнить свою миссию и полностью
разрешить порученную нам проблему, сказать о ней больше чем полсло-
ва и овладеть субстанцией.
Я не могу попытаться здесь тем или иным способом действительно
исчерпывающе изложить этот решающий факт, основной тезис, который
мне хотелось бы объяснить и подтвердить применительно к поистине
главной его области, а именно области отношения нашего духа к совре-
менной форме жизни. Я стремлюсь только наметить здесь следующее:
наша задача, из-за которой мы наполовину инстинктивно противопос-
тавили слово «культура» слову «цивилизация» и столь резко отрицатель-
но восприняли проявления этой цивилизации, что проложили в нагро-
мождении связанных с нею проблем глубокие шахты и старались распоз-
нать материю и природу ее частной проблематики; — наша задача дол-
жна была бы заключаться в том, чтобы спросить, что мы в принципе,
собственно говоря, имели в виду, противопоставляя оба эти понятия;
было ли это противопоставление случайным словоупотреблением либо,
поскольку так не бывает — ибо речь на самом деле служит по отношению
к вещи не дающим искажений зеркалом, — не могло ли это зеркало по-
казать нам, что с помощью одного из этих слов мы действительно стре-
мились очертить совсем иной мир, нежели с помощью другого, и выя-
вить их взимную противоположность? Описать одним из слов, быть мо-
жет, сегодняшний, проистекающий из борьбы за существование, интел-
лектуально-механический способ формирования бытия, который по сво-
им целям сводится к более совершенному и полному подчинению бытия
знанию и рационально обусловленному умению, однако в своей облас-
ти существования ограничивается созданными для этого элементами и
не в состоянии справиться ни с чем иным, кроме как с тем. что требуется
сделать исходя из таких принципов и что достижимо с их помощью. Дру-
гому слову мы при этом сообщаем абсолютно иное содержание: мы пме-
132
ем в виду попытку совершаемого посредством души всеобъемлющего
постижения того же самого материала жизни и осуществляемое на этой
основе формирование данного материала, настойчивое желание органи-
зовать бытие исходя из этого центра души, т.е. изнутри, а не руковод-
ствуясь внешними целями. Мы отсюда попали бы в совершенно иную
плоскость, где все, относящееся к сфере культуры, развивается в проти-
вовес всем проявлениям цивилизации. Мы достигли бы права первород-
ства, примата мира культуры. И здесь мы, вероятно, обнаружили бы та-
кую точку, исходя из которой сумели бы преодолеть современный меха-
ницизм, обрести новую веру и послать в жизнь эфебов этой новой веры,
чтобы поступать там в соответствии с нею, а, может быть, оказаться ею
сломленными.
Никто в Германии не сможет утверждать, будто мы предпринимали
такие попытки. Мы начали критиковать псевдокультурные формы выра-
жения исключительно механического способа организации бытия, на
деле не имеющего отношения к культуре. Мы ощутили у них отсутствие
стиля, единства, чувства подлинности, чистоты и ясности линий. Наша
тенденция состояла в том, чтобы дистанцироваться от всего этого, уст-
ранить все назойливое, вычурное, подобное кричащей рекламе, всячес-
кие искажения, какие во все стороны распространяли вокруг себя эти
формы. Мы попытались вымести груду бессодержательных, являвших
собою только наружную оболочку форм выражения, окружающих нас.
Всякий, кто в последние годы обращал внимание на новые кварталы на-
ших городов, наши фабрики и здания деловых центров, на обстановку в
наших домах, наши предметы потребления, на всю сферу деятельности
«Союза производителей»3'*, или наблюдал за развитием свойственных
нам художественных форм выражения в театре и иных областях, не
возьмется оспаривать того, что здесь мы многого добились и что здесь
поистине произошло сильное отторжение лишенных содержания форм
и отмеченного печатью распада мнимого созидания. Но не более того.
Все это пока не имело черт проникновения к чему-то конечному, дей-
ствительно высшему в душевном отношении, что было бы новым по сво-
ему внутреннему содержанию. Когда мы говорили о «новом стиле», то
реально всегда имели в виду лишь ясность, правильную организацию
пространства, неподдельность; когда речь шла о «новых формах», то мы
при этом все-таки только осуществляли улучшенное использование пре-
жних форм. Но стиль неизменно представляет собой новый язык форм,
возникающий на основе совершенно нового, обновленного мироощуще-
ния. И именно это преображение души, способное создать новые цент-
ральные позиции по отношению ко всему ныне существующему, деяние,
которое одержало бы победу над сегодняшним миром и распахнуло пе-
ред нами ворота в по-настоящему иной мир, — это деяние не сверши-
лось. Нам не хватило именно такого деяния как универсального дости-
жения нации.
Это еще яснее обнаруживает себя в нашем поведении по отношению
к наиболее важной форме практического выражения современной циви-
лизации — к нынешней демократии. Оно, пожалуй, наилучшим образом
освещает нашу странную половинчатость и наши слабости и позволяет
уяснить также их непосредственную физическую предпосылку.
133
Наши духовные лидеры бесконечно часто подвергали критике и, раз-
деляя на элементы, анализировали эту современную демократию, идеей
которой руководствовался мир, выступив ныне против нас. Они много
раз показывали истинную сущность ее склонного к фальсифицирова-
нию, приводящего к господству нежелательных сторон действительнос-
ти начала; имеющий к нему отношение зарубежный опыт повторно ис-
следовался и дополнялся. Мы в Германии не просто прочитали Токви-
ля, Тэна и Острогорского36*, но и восприняли их труды как нечто прак-
тически применимое; мы не только осмыслили, но и по достоинству оце-
нили опыт критики английского парламентаризма, предпринятый Сид-
ни Лоу. Мы осознали, что власть капиталистической прессы, демократи-
ческих клик, стоящего за их спиной необыкновенно могущественного
финансового капитала представляет собою не просто сопутствующее яв-
ление и незначительный порок, а выражает сущность всей этой крити-
чески рассматриваемой нами системы, которая уничтожает прежние от-
ношения господства, со своей стороны не предлагая взамен других от-
ношений, закономерно вытекающих из нее самой. Мы расценили поли-
тический синдикализм как естественную реакцию, проявление неизбежно-
го отчаяния, вызванного несостоятельностью системы в целом. И мы так-
же поняли эту систему как необходимое следствие общего взгляда на жизнь,
как перенесение в область практики отношения к бытию, усматривающе-
го в отдельно взятом человеке не что иное, как некую единицу, каждая из
которых подобна другой, наделена теми же правами, свободно участвует в
формировании большинства, является по своей природе механической и не
признает никакой иной силы, кроме механического численного преимуще-
ства. Таким образом, мы восприняли западную демократию всецело как
выражение современного цивилизованного космоса.
Но теперь, действуя таким образом, мы, очевидно, также должны были
бы, исходя из стремления определить свое отношение к ней и найти точку
приложения сил, требуемых для ее дальнейшего формирования, взяться не
за нее, а за сам этот цивилизованный космос как нечто целостное. Нам над-
лежало бы воспринять его в его целостности как некую форму жизни и про-
следить ход его развития. И если мы намереваемся оказывать на какое-либо
из его проявлений, а значит, в том числе на современную демократию, пре-
образующее практическое воздействие, нам сначала следовало бы устано-
вить степень подверженности влиянию, то неизбежное и относительное,
необходимое и возможное, что характеризует именно его тенденции и
принципы. Лишь в результате этого мы отвели бы современной идее демок-
ратии подобающее ей место в общей структуре сегодняшней жизни. И толь-
ко таким образом удалось бы, пожалуй, обнаружить точку, где могло заро-
диться то, что переросло бы ее рамки.
Пройдем же, чтобы пояснить это, хотя бы несколько шагов по тако-
му пути.
Развитие современной цивилизации с ее механизацией, рационали-
зацией, атомизацией и т.д. имеет внутренний, психический аспект, т.е.,
если угодно, душу. Если сама она в своих внешних формах срослась с
борьбой за существование — а это. пожалуй, очевидно. — то все механи-
стические и рационалистические образования, которые она порождает
ради такой борьбы, по существу представляют собой только наружную
134
проекцию внутреннего процесса, глубинного процесса рационализации,
усиливающейся проницаемости нашего бытия для всяческого «просве-
чивания», которое посредством размышления сначала упраздняет все
данные нам только на основании традиции, только исторически или в
какой-нибудь иной агрегатной форме непосредственно переживаемые
объекты как объекты духа и претворяет их в преобразованную сознани-
ем, сильнее поддающуюся управлению со стороны его сил форму. Раз-
витие цивилизации, если взглянуть изнутри, — это процесс все прогрес-
сирующего просветления сознания, вовлекающего в сферу своего воз-
действия все новые объекты и перевоплощающего их в свои рациональ-
ные формы. В таком смысле оно неизбежно; оно просто приводится в
действие активностью мыслительного процесса человека и неминуемо
пойдет дальше, в своем поступательном движении будучи для человече-
ства в целом столь же естественным явлением, как и просветление созна-
ния в ходе индивидуального развития человека от ребенка к взрослому.
Этот процесс расширения сознания теперь в какой-то момент охва-
тывает — если его развитие не тормозится религиозными или иными
подобными суевериями — также представление человека о самом себе
как элементе общественной и политической структуры в целом. Он стре-
мится претворить в рациональную форму также это отношение. Если
смотреть с точки зрения идеи, то данный процесс тем самым в результате
разрушения всех исключительно традиционных и исторически обуслов-
ленных связей развивается в то, что наши философы назвали «движени-
ем к осознанию свободы». Но по форме выражения его содержания, по
характеру становления представлений об общественной и политической
стуктуре и способу индивидуального включения в нее он сначала, по-
скольку он проистекает из рационального источника, воплощается далее
в рациональные методы мышления и тяготеет к построению рациональ-
ных воззрений, неизменно развивается в направлении создания механи-
стической и атомистической структуры общества, основанной на свобо-
де, равенстве и договоре социальной системы, являющей собою един-
ственное политическое образование, какое можно сконструировать на
фундаменте свободы и самоопределения исходя из индивидуального са-
мосознания посредством чисто рациональных форм мышления. Этот
процесс превращается в современную идею демократии. Эта идея — в
какую бы форму она ни оказалась облечена и каковы бы ни были послед-
ствия ее дальнейшего развития, — с необходимостью произрастает из
внутренней, психической стороны процесса цивилизации, обнаружива-
ющей себя тогда, когда он проникает собою массы населения; столь же
неминуемо, как прогрессирует и охватывает массы само просветление
сознания, как оно обусловливает возникновение притязании на самооп-
ределение, как отсюда в рамках такого самоопределения проистекает ра-
венство прав как неизбежное умозаключение массового сознания. Сво-
ими корнями он сам укреплен в корнях эволюции сознания.
Существует ли в таком случае, коль скоро его область духа находит-
ся там, некий уровень рассмотрения, исходя из которого то, что в демок-
ратической идее представляется неприемлемым по своим практическим
последствиям и порочным с точки зрения политической организации
бытия, можно отвергнуть не только путем конкретно!! частной критики.
135
но и принципиально и в то же время конструктивно, ссылаясь на новые
факты и изменившиеся предпосылки? На это надлежит ответить: такой
уровень рассмотрения можно обнаружить, если проникнуть через наруж-
ную цивилизационную оболочку данной идеи и притом стремиться обо-
собить в ней то, что знаменует собой естественный и необходимый ре-
зультат лежащего в ее основе просветления сознания, от того, что обус-
ловлено глубиной ее погружения в слой определяемых цивилизацией
очертаний и форм выражения. Следует отделить элементы демократи-
ческой идеи, произрастающие просто из развития самосознания челове-
ка, от тех, что возникли из комплекса рациональных средств цивилиза-
ционного мышления и способа видения. И нужно пройти уровень это-
го комплекса средств и достичь изначального взгляда на все живущее,
выявить некие первичные обстоятельства жизни, возвысить их до систе-
мы воззрений и попытаться связать их с основными положениями де-
мократического мироощущения. Тогда появится нечто новое.
Непосредственно следующие из развития самосознания, в ходе исто-
рической эволюции раз и навсегда установленные демократические по-
стулаты гласят: самоопределение и сопряженное с ним всеобщее равен-
ство прав. Они представляют собою не что иное, как выражение «свобо-
ды», увиденной с точки зрения индивидуального сознания масс. Одна-
ко облечение этого равного самоопределения в формы простого сумми-
рования числа прав самоопределения, придание ему вида политическо-
го образования, основанного исключительно на отношениях большин-
ства, незыблемое стремление политического воображения считать такое
образование единственным и высшим практическим воплощением де-
мократии обусловлены чисто рационалистической системой взглядов и
предопределены ею. Это представляет собой общую проекцию прав са-
моопределения на плоскость сосредоточенного на том, что поддается
исчислению, мира понятий и воззрений, их полное преобразование в
агрегатную форму цивилизационно-рациональной сферы представлений
и их насильственное вовлечение в конструируемый на ее основе комп-
лекс практических средств. Если мы проникнем сквозь эту агрегатную
форму и этот комплекс средств, то обнаружим некоторые первичные об-
стоятельства и формы жизни, представляющиеся политически значимы-
ми — и в общем, и с позиции построения демократии. Мы уясним тот
факт, что при всяком самоопределении и всяком равенстве прав любое
политическое действие неизбежно обусловлено отношениями лидерства
и подчинения лидеру, что оно, как всякое деяние массового характера,
раз и навсегда заключено в такие рамки и ограничено их содержанием.
Мы обнаружим уже созданную ранее соответствующую этому структуру
жизни, то обстоятельство, что бытие предоставляет в наше распоряжение
личности прирожденных вождей и прирожденных «подданных», следу-
ющих за вождями. Ни одно политическое действие, использующее в ка-
честве исходных факторов самоопределение и равенство прав, не в со-
стоянии свершиться без дарованного цивилизацией комплекса средств,
без механизма голосования, результаты которого отражают волю боль-
шинства. Но было бы заблуждением усматривать в таком механизме го-
лосования и его функционировании сущность демократии, поскольку
эта сущность заключена, скорее, в новом отношении к основополагаю-
136
щему факту существования управления, в новом типе взаимоотношений
между вождями и ведомыми, в иной степени влияния ведомых и вождей
и, наконец, главным образом в новом способе выбора вождей и новом их
подходе к подчиняющейся им массе как сущностно важному централь-
ному пункту и содержанию всяческого политического самоопределения.
Мы сразу сознаём, что прежняя демократия с ее пристрастием к насаж-
дению цивилизации, ее духовной ориентацией на использование меха-
ницистских средств не заметила этого обстоятельства. В своем развитии
она упустила из виду основополагающий факт наличия политического ли-
дерства и совершившегося в Новое время преобразования его форм, знаме-
новавшего собою существенную проблему демократии. И в этом состоит
причина того, что при формальном равенстве прав и самоопределении ей
довелось расчистить путь нелегитимным, не признанным ею самой отноше-
ниям лидерства и господства — и даже создать эти отношения.
Таким образом, надлежит ясно обозначить факт лидерства и подчи-
нения лидеру как основную политическую форму, определить ее место
в мире самоопределения и всеобщего равенства прав, в созидаемых им
атмосфере и условиях, в системе отношений между вождями и ведомы-
ми, какие пока допустимы на основе такого равенства, т.е. осуществить
синтез этих условий, притязаний на самоопределение и всеобщего рав-
ноправия, с одной стороны, и необходимого вовлечения в систему руко-
водства и нового способа выбора вождей — с другой. При том, что в ка-
честве нового факта по сравнению с различными механически создава-
емыми ложными обликами надлежало выявить и включить сюда также
структурное деление самой жизни как материал для демократического
формообразования, наличие в ней прирожденных лидеров, осуществля-
емое ею предоставление средств практической организации и построе-
ния политической системы.
Здесь не имеет значения, какими способами и в каких формах мож-
но было бы перейти от осознания необходимости нового космоса демок-
ратии, призванной опираться на такого рода двойной синтез, на более
высокий уровень реальности и жизненности. Во всяком случае, свой-
ственное нам, немцам, критическое и конструктивное мышление не до-
стигло даже простого понимания этого обстоятельства. Мы разработали
множество антидемократических, так называемых «органических» тео-
рий государства, которые в сопоставлении с индивидуалистическим ра-
ционализмом западной демократии практически сослужили хорошую
службу, в своего рода взаимодействии с демократической волной сооб-
щив прежнему авторитарному государству социально ориентированное
мышление, побудив его разработать меры по поддержке больных и сла-
бых и создав также системы приобщения к государственной власти про-
будившихся от сна широких масс, заявивших притязания на самоопре-
деление. Но в том, что касается стремления масс к подлинному самооп-
ределению, эти теории неизменно обнаруживали здесь свою несостоя-
тельность. Желая подчеркнуть необходимость «лидерства» в политичес-
кой жизни и защитить его интересы, все они настойчиво придержива-
лись прежнего понятия «авторитет», не ощущая, что в мире, в котором
развивается современное сознание, это понятие умерло раз и навсегда,
потому что оно оказалось упразднено нетрадиционным по своему харак-
137
теру мышлением, самим процессом цивилизации, и что всякая теория
государства, воздающая ему почести, остается синтетическим продуктом,
комнатным растением, не способным существовать в атмосфере демок-
ратии, так как оно не может там дышать. Таким образом, они не обна-
ружили области духа, где берет начало всякое новое, всякое возможное
современное учение о государстве. И, с другой стороны, отстаивая необ-
ходимость «неравенства» в политической жизни, они всегда останавли-
вались на том, что защищали некую историческую данность, некое со-
зданное историей деление на касты и классы, и пытались так или иначе
обосновать его, ссылаясь на исторические права или историческую це-
лесообразность. Они нигде не достигли раскрытия не просто фактичес-
ки существующей и случайной, но данной раз и навсегда и поэтому спо-
собной найти выражение в идеях — ибо она сотворена самой основой
жизни — формы членения политической структуры. А именно, они ниг-
де не добрались до проявлений самой жизни, чьи незыблемые инстан-
ции и формы они могли бы действительно и действенно противопоста-
вить сопутствующему цивилизации рационализму. Вследствие этого они
никогда не умели привлечь на свою сторону сознание и веру масс. Ибо
это сознание и мироощущение никогда не в силах развиваться вне свой-
ственной им демократической атмосферы и никогда не признают то слу-
чайное и изменчивое тем, чему бы они в течение долгого времени пови-
новались, элементом чего они бы сделали свою свободу и самостоятель-
ность и чему бы подчинили их. Они бы оказались на это способны, если
показать им саму первозданность и ее необходимую форму структуриро-
вания и если они воспримут это как нечто заново осмысленное и притом
такое, что не отменяет их самоопределения, а лишь облекает его в свои
устойчивые формы. Лишь на такой основе могла бы произрасти поисти-
не новая, но притом не антидемократическая, а только постдемократи-
ческая политическая вера народа.
Мы не обрели такой веры. Должно быть, нам не хватило близости
к проявлениям жизни, необходимой, чтобы создать эту веру и найти
ее духовную область, не хватило целенаправленного стремления поис-
тине по-новому в духовном смысле овладеть массами, субстанцией
бытия как таковой. Вероятно, оказалась разрушена настойчивая по-
требность всесторонне осмыслить и подчинить себе целостность —
иначе мы не остановились бы на полпути, как сейчас. Наконец, у нас,
должно быть, прежде всего отсутствовало непосредственное представ-
ление о первооснове, а именно целостный взгляд на нее, опыт ее це-
лостного восприятия; отсутствовало горячее желание постичь ее в ее
неподдельности и честно и эффективно сообщить ей образ и форму.
Может статься, нам не достало обращенных к жизни слов: «Не отпу-
щу тебя, пока не благословишь меня»37*, которые бы позволили нам
разбить панцирь ложных облачений цивилизации, в борьбе против
рационального начала оставить в стороне исторические реминисцен-
ции и элементарную данность и во имя нового, к которому мы стре-
мимся, обратиться к изначальным формам. Такова должна была быть
психическая предпосылка, определившая нашу несостоятельность и
слабость не только здесь, но и во всем нашем противостоянии циви-
лизации.
138
IV
Конечно, у нас теперь есть веские основания искать причины такой не-
состоятельности просто в структуре и организации, а также в насыщен-
ности содержания нашей духовной сферы. Бесспорно, в духовной жиз-
ни — как чисто духовной, так и духовно-политической, — нам заметно
не хватало необходимого выбора сильных личностей, особенно в том. что
касается выдвижения более ярких талантов, приходящих «из низов». Кто
еще у нас родом из широких слоев населения? Да, кто хотя бы происхо-
дит из низших слоев среднего сословия — подобно многим фигурам вож-
дей эпохи ancien regime', которая на деле проявляла здесь много боль-
шую демократичность? Далее, у нас вообще отсутствовали обязательная
связь духовной жизни с политической и общественной, необходимые
промежуточные ступени и переходы, ведущие от одной из них к другой,
их внутренняя подвижность, способные расчистить путь тем, кто от при-
роды наделен универсальными способностями, для того чтобы они мог-
ли стать признанными, гармонично сочетающими духовную и практи-
ческую деятельность вождями народа. Стена правовых предписаний, вся
последовательность карьеры отграничивали одну область от другой и к
тому же еще и разбивали различные области изнутри на отсеки. Они от-
деляли правительственного и административного чиновника от публи-
циста, публициста от ученого, ученого от артиста или художника и всех
вместе — от представителей народа в парламенте, который должен был
являть собою обширный резервуар и механизм осуществления выбора,
но, как признали открыто, оказался тупиком, опасным для всякого та-
ланта, всякого несомненно одаренного человека, так как в условиях раз-
дробленности целостного образования на секции он не способен был
обеспечить выдвижения на решающие, по-настоящему руководящие
должности. Наконец, серьезные недостатки и закоснение упрочились
также в собственной структуре чисто духовной сферы. Наша система
воспитания, служившая нам в некотором смысле — прежде всего в том,
что касается народных школ, — предметом гордости, на более высоких
ступенях, т.е. в высшей школе и университетах, — следует сказать об
этом со всей определенностью, — страдала и теперь страдает от бессодер-
жательности, бюрократизации, безжизненной черствости и отсталости,
которые не сообщают избираемым сильным личностям понимания не-
обходимых взаимосвязей предлагаемого материала и его действительного
погружения в широкий идеальный контекст всякого хорошего образова-
ния. Избранные силы выходят из этой системы настолько не связанны-
ми ни с большой жизнью, жизнью общества, ни с духовными движени-
ями эпохи, что они, как только оказываются свободны в своих действи-
ях, при поступлении в университет, т.е. на полпути, отбрасывают прочь
как обременительный груз не ориентированные на практику, т.е. миро-
воззренческие и культурные, элементы их так называемой образованно-
сти и на свой манер ищут духовного контакта со всеобщим либо, что еще
хуже и что характеризует способы «подготовки лидеров», принятые как
раз слоями, на самом деле приходящими к власти, они вовсе отказыва-
" Старый режим {франц.).
139
ются от такого духовного контакта и осуществляют свое «вступление в
жизнь общества» в безнадежной духовной ограниченности, через не отя-
гощенные духовным содержанием учреждения, где делают карьеру — и
предаются возлияниям. Поэтому перед войной, несомненно, с полным
правом — поскольку свободное и мобильное продвижение вверх натал-
кивалось на препятствия, поскольку был затруднен переход из одной
сферы жизни в другую, поскольку душевная полнота и духовные устрем-
ления на путях развития педагогики оставались без внимания, даже мно-
гократно пересыхали, — можно было говорить о своего рода обескровли-
вании, анемии сферы идей в Германии, тенденции относиться к духов-
ной деятельности как простому ремеслу.
После войны нам потребуется приложить очень большие усилия, что-
бы изменить это. Но поскольку я говорю об этом, не имея практических
намерений, мне не нужно далее прослеживать всю эту линию. Здесь до-
статочно сказать: все эти вещи — структура и организация сферы духа и
ее содержание, связь с жизнью общества, выбор сильных личностей и т.
п. — конечно, социологически, т.е. исходя из определенного уровня при-
чинно-следственных связей, все эти вещи очень важны, но если взгля-
нуть глубже, они представляют собою лишь симптомы, промежуточные
способы выражения и промежуточные позиции, проистекающие из бо-
лее первичных, лежащих в их основе причин и побудительных мотивов.
Если такие первичные основы преобразуются, все эти вещи разрушают-
ся, упраздняются, изменяются. Эти основы, определяющие собою как
сами вещи, так и все их последствия, неизменно заключены в двух обсто-
ятельствах: в характере нации или ее судьбе.
Бесспорно, присущие немцам дарования и характер нашего народа ныне
заслуживают упрека прежде всего в том, что они не обладают способностью
и силой всякий раз воспринимать бытие в чертах его первозданное™, его
простых жизненных проявлениях и его чистоте, освобождать его от оболоч-
ки условностей и демонстрировать миру как нечто новое с точки зрения
души. Истинная сущность всех наших великих людей всегда состояла имен-
но в том, что они умели это делать, заново постигали изначальные формы
жизни и возводили их на уровень нового мировоззрения. То, что именно на
этот раз и применительно к сегодняшним задачам нам не удалось совер-
шить прорыв, не может корениться в нашем характере и наших способно-
стях, но только в участи нашей нации.
Я полагаю, в этом заключена причина также всей нашей несостоятель-
ности. В чем состояла задача, которую нам надлежало решить? Речь шла о
том, чтобы увидеть новую целостную форму проявлений жизни, образовать
на ее основе новую коллективную форму бытия и заменить ею прежнюю,
отмершую и наносящую нам урон форму. Эта задача касалась не только
преодоления и дальнейшего построения осознанно формируемого обще-
ственного и политического бытия, прежде всего проблемы демократии, но
и в той же самой мере осуществляемого по всей линии общего прорыва ци-
вилизационных механизмов. Ибо везде в центре внимания была необходи-
мость обрести новый целостный взгляд на силы жизни, которые определя-
ют собою это механистическое начало цивилизации и в то же время нахо-
дятся над ним, т.е. увидеть новый живой космос. Это видение могло воз-
никнуть в какой-либо области, у какого-либо народа только благодаря не-
140
коему откровению, опыту постижения подлинного, зримого живого уни-
версума. А представления о народе как целостности мог достичь только он
сам на основе жизненного опыта самопознания. Он способен был получить
такое представление только в результате определяющего его судьбу погру-
жения в его собственную сущность, в ходе которого он, совлекая с себя все
случайное, наружное, все внешние оболочки, встает лицом к лицу с самим
собою как некоей целостностью.
Прочие великие мировые нации обрели такой опыт восприятия самих
себя в такое время, о котором они сегодня уже почти забыли, — в ходе их
становления как национально-государственных образований или в связи с
каким-либо иным великим процессом их истории, когда им удалось «уви-
деть» себя как целостность. У американцев этот опыт восприятия был при-
рожденным, данным с момента их возникновения как народа, создавшего
государство. Тогда они представлялись себе носителями демократического
освобождения и демократической справедливости исходя из одного того,
каким образом в ходе войны за независимость сложилось их государство, в
период которой, согласно их «взгляду на вещи», сообщество, основанное на
самоопределении, впервые в новой истории противостояло образованиям,
опирающимся исключительно на насилие; они и доныне считают себя на-
родом, призванным исполнить в мире такую миссию. Французам из-за ран-
него развития их самосознания и их мирового воздействия не раз было дано
ощутить свое предназначение: благодаря grand siccle*, благодаря обстоятель-
ствам Великой революции. Созерцая самих себя словно в некоем озарении,
они видели тогда и видят теперь себя как нацию, созидающую духовный
облик мира, народ, предназначенный к тому, чтобы найти идеи и образы
мышления и действия, заключающие в себе эталонную форму, классичес-
кое выражение всего человеческого — пусть в действительности эти формы
во множестве случаев представляют собою не что иное, как интеллектуал и-
зированное упрощение чужих мыслей. Наконец, англичане, с тех пор как с
их острова начался небывалый поход, направленный на овладение миром,
со времен Елизаветы и Кромвеля отличаются совершенно непоколебимой
верой в то, что им уготовано определять судьбу мира, и свойственными каж-
дому представителю их народа вплоть до простого мальчишки — разносчика
газет представлениями и взглядами на самих себя; они считают себя груп-
пой людей, коей заранее предначертано на основе самоконтроля и ответ-
ственности перед собой осуществлять контроль над миром и нести ответ-
ственность перед миром. И это абсолютно наивное самосознание благода-
ря любым историческим событиям, будь то совершившееся в XVII-XVIII вв.
покорение мира за пределами Европы, нейтрализация на этом пути всех
соперников, устранение Наполеона в происходившей столетие назад вели-
кой борьбе, переросло в незыблемое и прочное убеждение, будто они одни
наделены душой. Оно, проникая собою всякий их поступок как притязание,
устремление воли, требование, ясно отображает их сущность.
До начала нынешней войны история не даровала нам, немцам, ничего
подобного такого рода постижению нашей сущности и наших задач как
имеющей завершенный облик всеобщности. Мы нередко воспринимали
целостность всего человеческого в содержательных, свойственных именно
Великая эпоха, пел и кии пек {франц.).
141
нам формах и создавали ее облик из такого восприятия. Но тогда мы вся-
кий раз познавали ее в отдельном человеке и как деяние освобождения от-
дельно взятой души, и в соответствии с этим идеальным образом воплощали
и осуществляли ее в концепции личности и в индивидуальном мировоззре-
нии, но не в наших представлениях о самих себе как о чем-то цельном, как
нации. Когда мы, тем не менее, стремились в эпоху Фихте усвоить такие
воззрения и сообщить им форму, тогда, когда Гёте, одолеваемый сомнени-
ями, увещевал нас, что нам-де никогда не удастся это совершить, мы воис-
тину сумели реально создать одну только веру, идею, тень нашего нацио-
нального единства, но не смогли достичь его зримого воплощения и под-
линного постижения его сущности, что получается только вследствие удав-
шегося формообразования. Мы возвысились до реального существования
как государственная нация не сами по себе, т.е. благодаря тому, что оказа-
лись в состоянии найти характерный для нас облик, руководствуясь наши-
ми собственными представлениями. Такое сотворение нас как нации госу-
дарственной оказалось нам даровано. Оно стало деянием великого челове-
ка, пришедшим «сверху». Даже после этого — как бы решительно мы ни
приступили к работе, направленной на создание нашей структуры, и каких
бы заметных успехов при этом ни добились, — мы в душе все же продолжа-
ли тяжко страдать от недостатков в развитии, связанных с так и не осуще-
ствившимся постижением нашей собственной сущности, и от внутреннего
разделения на разные миры. Антагонизм классов настолько сделался у нас
общенациональным, что у нас не происходило свободного внутреннего дви-
жения в рамках определяемого душой, существующего равным образом для
всех единства, обретения соответствия и подчинения единой воле и единому
образу. Можно сказать, что до того момента, где могло бы начаться осуще-
ствляемое душой постижение нашей сущности, наше единение до некото-
рой степени оставалось чисто внешним обстоятельством. А то, что затем
было нам предложено в качестве духовного возмещения такого единения,
в качестве «идеи сущности немецкого характера», весь этот создававшийся
с самыми благими намерениями конгломерат расово-биологических пред-
ставлений, ложно понятого романтизма и философии установления внеш-
него господства, то, что предположительно должно было бы образовать суб-
страт организованной в государство, повинующейся сильной власти новой
немецкой нации, — все это было, скорее, пародией, «наносным материа-
лом», несомненно, чем угодно, но только не исполнением наших глубин-
ных чаяний.
Только после того как началась война, после того как наше существо-
вание оказалось возможно спасти только на основе самоотдачи и полно-
го раскрытия нашей сущности в ее наиболее глубинных, наиболее пота-
енных чертах, выявления нашей природы как нации и целостного сооб-
щества, только после того как на этот акт отстаивания нашего существо-
вания и нашей природы ответили небывалым ранее непониманием
именно этой природы, невиданным до сих пор отграничением другого
мира от бытия нашей души и духа, с тех пор как утверждение своего пра-
ва на жизнь обрело в то же время форму самого непосредственного и ре-
шительного отстаивания сущности нации в противоборстве со всем ми-
ром — только после этого мы как народ обрели опыт постижения само-
го себя, вообще увидели себя как целостность. Только после этого мы
142
окажемся в силах узнать, в чем будет состоять наша задача, и на основе
целостного восприятия самих себя получить представление обо всех жиз-
ненных проявлениях вообще в новой форме целостности.
Тем самым мы лишь наверстываем то, что ранее было даровано дру-
гим великим государственным нациям в иных формах и по иному пово-
ду. Но то, что мы это наверстаем в такой момент, когда это будет озна-
чать для нас только последний шаг к тому, чтобы в борьбе против все
искажающего мира ложных облачений цивилизации, который, зародив-
шись из возникшего у других видения самих себя, распространился по
всему земному шару; то, что это происходит в момент, когда в противо-
борстве с ним мы вынуждены искать способную помочь нам противопо-
ложную ему инстанцию и когда оказываемся в силах найти ее, лишь воз-
звав ко всему живому, — все это, пожалуй, может означать, что мы бла-
годаря обретаемому при этом с таким трудом образному представлению
о самих себе, — при том, что оно, как это всегда случается с такого рода
образами, воплощает в себе признаки целостного взгляда на жизнь во-
обще, — в то же время осуществляем прорыв к изначально данному, в
чем мы ныне нуждаемся и что открывает нам доступ к новому высоко-
му положению души, к которому стремится все человечество.
От нового поколения будет зависеть, осуществится ли это и что из
этого получится. Но каким бы ни был итог грядущих духовных битв, по-
видимому, ясно одно: эпоха вождей малого масштаба, чей интерес был
обращен только на половину или на четверть всех проявлений жизни,
обсуждавших наполовину или на четверть значимые вопросы, уйдет в
прошлое. В результате этой войны нация превратилась в единое духов-
ное пространство. Она требует идей, мыслей и слов, представляющихся
достаточно великими для того, чтобы наполнить собою это простран-
ство, и способных в его рамках привести в движение народ как внутрен-
не единую целостность. Она наделена силой духа, необходимой, чтобы
разрушить социальные и иные преграды, воспрепятствовать их возник-
новению и уделяемому им всеобщему благосклонному вниманию. Мож-
но надеяться, что у нее найдутся люди, которые во имя предначертанных
историей свершений станут ее вождями.
VI
Дух и политика*
Я не буду говорить о духе Локарно3**. Я также не имею в виду какую-либо
иную конкретную форму, в которой столь подвижное, летучее и одновре-
менно все-таки столь серьезное творение, каким является дух, могло или
должно было бы стать — или уже стало — ближе медлительным, здраво-
мыслящим государственным мужам нашей эпохи. Я поступлю всецело
как профессор. Я спрашиваю: что вообще такое дух в политике? Как ему
удается там существовать? Но я говорю об этом вполне в практическом
смысле, а не теоретически.
' Из: «Die Neue Rundschau» («Ноиое обозрение»), апрель 1926 г.
143
У нас в Германии сделалось в некоторой степени «общим местом»,
что политика и дух, если понимать здесь последний как компас, с помо-
щью которого ориентируется наша сущность, — ныне имеют друг с дру-
гом не так много общего, кроме случайных встреч; что наши политичес-
кие лидеры не являются нашими духовными вождями; что наши духов-
ные вожди не попадают в политику, а если это порой происходит, то в
эпоху смут они даже рискуют собственной жизнью! Кажется, будто ка-
кой-то злой рок отделяет сферу духа от политики, низводит политику в
той мере, в какой ей надлежит быть практически эффективной, до дело-
витой изворотливости, лукавой хитрости и взаимного обмана.
Если не ошибаюсь, такие ощущения ныне характерны прежде всего
для большей части молодежи, тех, кто после крушения прежнего бытия
страстно стремился к ярким проявлениям жизни, чему-то увлекательно-
му и захватывающему, к поистине одухотворенному новому; тех, кому
недостаточно происходящих лишь от случая к случаю соединений духа с
политикой и кто, в особенности применительно к Германии, с упреком
говорит о настоящем расколе между духом и политикой, о глубокой сла-
бости и неподвижности политики.
Думаю, все мы согласимся с тем, что политика никогда — по крайней
мере в том, что касается каких-либо ее практических проявлений в на-
стоящем и грядущем, — не может стать тем, чем ее намеревался сделать
Платон в своем «Государстве», т.е. истинным воплощением духа, формой
господства мудрецов. Это был неземной идеал, возникший в воображе-
нии этого великого человека, терзаемого отчаянием из-за того, что ясно
обнаружился распад формы политического бытия греков — полиса; по-
пытка представить себе, к чему можно было бы применить его выражен-
ный в образной форме идеал, дух строгого, определяемого калокагати-
ей39\ преданного служения целому, и каким путем он бы оказался спо-
собен созидать форму политического сообщества; сознательная утопия,
такой характер которой позже признал он сам, внеся в своих «Законах»
реалистические коррективы. Дух и политика с тех пор, как произошло
разграничение различных сфер жизни — религиозной, политической,
экономической, научно-интеллектуальной, — разграничение, совершив-
шееся не во всех исторических областях, отсутствовавшее, например, в
Китае, Индии, догреческой античности, но в ясной, пока что оконча-
тельной форме осуществленное в Западной Европе эпохи Ренессанса, —
итак, дух и политика с этих пор стали будто брат и сестра, которые мо-
гут стоять друг против друга с приязнью или враждой, подобно тому, чем
являются друг для друга экономика и политика, религия и государство.
С этого времени речь идет о характере синтеза или противостояния, о
том, что в состоянии сделать политика по отношению к духу, а дух по
отношению к силам природы, т.е. в первую очередь силам реализации
политического господства. Всякая политическая воля, и этого не утаить
от самих себя, не предаваясь самообману и не вводя себя в заблуждение
с помощью слов, неизменно уходит несколькими наиболее мощными
корнями в стремление к власти, которое так или иначе имеет значение
не только здесь, т.е. не только в экономике, но и везде, даже в самых
личных отношениях между людьми. Будем достаточно порядочны, что-
бы это признать. Это вездесущий побудительный мотив. Не следует все-
144
цело сосредоточиваться на том, чтобы искоренить его. Naturam expellas
furca40* и т.д. — совершенно независимо от того, что жизнь из-за этого
станет беднее. В центре внимания может быть только то, чтобы сделать
его элементом некоего подхода к бытию, в котором тогда, правда, конеч-
ным принципом формообразования будет признано нечто более высокое
в душевном отношении — а именно сфера духа.
Теперь говорят: всякое созидание политических форм неминуемо
приносит с собой определенный дух, который с ним соединен.
Как представляется, это имеет в виду уже Монтескье, когда говорит
о связи аристократии и самообладания, демократии и доблести. Хотя,
если посмотреть пристальнее, здесь перед нами не простая констатация,
а общий для существования той и другой формы духовный постулат. Од-
нако Токвиль в самом деле связывал аристократию с энтузиазмом, жела-
нием славы и блеска, а демократию — с потребностью в достижении сча-
стья, невозмутимой заурядностью и законопослушанием как неизбежно
возникающими имманентными им духовными позициями. С тех пор
точно так же или подобным же образом мыслили многие другие. Это зат-
рагивает нас не только потому, что ныне мы на каждом шагу сталкива-
емся с вопросом о демократии либо иного рода политическом формооб-
разовании. Скорее, эта проблема имеет для нас более общий и в то же
время непосредственный характер, потому что мы должны знать, надле-
жит ли нам в условиях определенной формы политического бытия на
деле фаталистически подчиняться обретающим определенный облик
структурам духа и определенной оценке возможностей проявления при-
сущих человеку достоинств или нет.
Я утверждаю, что подобные воззрения не соответствуют действитель-
ности. Любая политическая аристократия — если свести все к простому
противопоставлению — с тем же успехом может означать господство за-
урядной, бездуховной посредственности, так же как демократия допус-
кает, чтобы в ее рамках возобладали качества духовного аристократизма
и наполнили ее своим духом.
Венецианская аристократия, несомненно, одна из наиболее могуще-
ственных и изысканных в истории, правившая этим государством около
тысячи лет, поистине неизменно была хоть и жестокой и подчас веро-
ломной, но одновременно возвышенной аристократией духа, которой
благодаря соединению в ней бесстрашия, готового поставить все на кар-
ту, и выдержки с невероятной мудростью и выдающимися дипломати-
ческими качествами каждый раз снова и снова удавалось сохранить свои
обширные колониальные владения и свое положение в мире. Не случай-
но венецианские дипломатические донесения представляют собой для
современного историка важнейший кладезь материалов по дипломатии
и собственно политике стран Европы периода Нового времени; они, так
сказать, служат техническим выражением высокого уровня духовного
развития, необыкновенной наблюдательности и способности выносить
суждения, сопряженных с присущей этой аристократии способностью
суверенного овладения обстоятельствами. Аристократия старой Пруссии
— за истекшие 100 лет Пруссия поистине являла собою политическую
аристократию, по меньшей мере, в той же степени, что и монархию, —
эта прусская аристократия, которая в начале XIX в. одновременно была
145
еще и аристократией духа, сумела стать основой возникновения и носи-
тельницей романтизма и впоследствии сохранила нашедшее отражение
в пиетизме свойственное ей хотя простое, но вместе с тем глубокое эти-
ческое начало, в последней четверти XIX в. — неважно по какой причи-
не — резко изменилась, так что ее представители образовали средоточие
посредственностей на придворной и дипломатической службе, посред-
ственностей, обнаруживших свою полную несостоятельность перед ли-
цом великих политических задач, которые тогда, как и в любую другую
эпоху, были равно и задачами духовными; превратились в сборище зау-
рядных и часто недалеких людей, которые прямо-таки приводили в ужас
даже благожелательно настроенных иноземных дипломатов и способ-
ствовали нашей изоляции в Европе. — Афинская демократия эпохи Пе-
рикла и Кимона, из которых один представлял ее народное, другой —
консервативное направления, боровшиеся между собой, являла собой
вместе с тем наиболее замечательную политическую аристократию духа
из тех, что когда-либо существовали. При этом с точки зрения ее харак-
тера как политической демократии совершенно не имеет значения, что
в ее рамках продолжали существовать определенные, не меняющие ее
сути элементы привилегированности и что в городах ее реализация была
основана на труде рабов. Несмотря на укоренившуюся в ней впослед-
ствии демагогию и невзирая на исполненные негодования высказывания
современных историков в адрес ее главного представителя Клеона (им
скорее следовало бы обратить свой гнев против непостоянного темпера-
мента афинян), такая аристократия духа еще сохранялась до эпохи стол-
кновений с Филиппом, до Демосфена с его выдающимся влиянием.
Прочитайте речи Демосфена, представьте себе духовный уровень, на ко-
торый они рассчитаны, и вы ощутите, насколько интенсивно в этом уже
дряхлеющем теле афинской демократии еще циркулировала живая кровь
духа предшествующей эпохи. Напротив, политическая аристократия
Рима, — ведь при всех изменениях его государственного строя периода
республики Рим тем не менее оставался именно такого рода аристократи-
ей, — в ту пору даровавшая миру совершенно неслыханное число людей, от
природы являвшихся аристократами духа, — от Сципиона до Юлия Цеза-
ря, — начиная с эпохи Августа представляла собой, по описанию Георга
Брандеса, — в целом, несомненно, верному, хотя, может быть, содержащему
некоторые преувеличения, — консорциум частью продажных и склонных к
расхитительству, частью, если они остались незапятнанными, весьма без-
дарных посредственностей, недалеких стоиков; хотя политически она и в то
время еще продолжала играть заметную роль.
А что же ныне? У нас есть современные демократии, где преоблада-
ет выраженная склонность к духовному упрощению при существующем
наряду с тем чрезвычайно искреннем стремлении следовать нескольким
очень убедительным, простым идеям, — стремлении, сопряженном с
тоже весьма действенной заботой о материальном благосостоянии, биз-
несе и зарабатывании денег, — хорошо известное американское сочета-
ние качеств. Есть и другие, например во Франции, которые в своем по-
ступательном движении обрели абсолютно современную, высокоразви-
тую, свободную и живую духовность и единый в своей завершенности
подход к действительности, т.е. достигли уровня, свойственного их госу-
146
дарственным деятелям, который вполне соизмерим с теми или иными
практико-политическими свершениями прежних эпох и форм государ-
ства. С другой стороны, имеются такие, как в Англии, где при всех из-
менениях, постигших политическую форму, сохранился традиционный
тип государственного деятеля — аристократа духа, по крайней мере уча-
ствующего в принятии политических решений; но и здесь, конечно, в
своеобразном сочетании с нередко грубоватым, но тем не менее неиз-
менно остающимся на довольно высоком уровне стремлением представ-
лять деловые интересы. Мне не хочется прибегать к несложной форму-
ле: дескать, как при демократии, так и при аристократии все зависит от
выбора слоя вождей. Ибо ведь каждая из них может придерживаться со-
всем разных принципов избрания. Я не намереваюсь подробно рассмат-
ривать здесь эту простую формулу. Хотя она не является ложной, но сама
по себе она слишком поверхностна и потому недостаточна. Отношение
духа к политике гораздо сложнее. Духовная атмосфера, традиции, исто-
рия, интенсивность духовной жизни, устремления духа нации в целом
при том или ином способе выбора вождей по меныией мере столь же
значимы с точки зрения его качества и духа, который он воплощает, ха-
рактеризуя тем самым нацию и определяя облик политики, как и несом-
ненно достаточно важный, в некотором смысле технический принцип
выбора, внешний фактор формирования слоя вождей.
Речь идет о следующем: пусть технические принципы выбора, соци-
альная структура, фактические элементы духа там и здесь имеют более
решающее значение, — как бы то ни было, фатальной зависимости ду-
ховного качества политического образования от его формальной полити-
ческой структуры не существует, будь то аристократия, демократия или
что-нибудь другое в этом роде. Решающая роль принадлежит не полити-
ческой форме, а способу соединения сферы духа со сферой политики.
Представляется возможным, преисполнившись надежды, сделать от-
сюда следующий шаг к нынешнему положению. Можно сначала, не счи-
таясь ни с чем и, следовательно, не принимая во внимание никаких
принципов политического деления, в том числе принципа демократии,
а если ты демократ, то, не нанося ей урона, констатировать во взаимо-
отношениях духа и политики все негативное, что вообще существует в
настоящее время и в чрезвычайно острой форме проявляет себя в осо-
бенности в Германии. В сущности, эти негативные стороны хорошо из-
вестны: подчинение господствующей воли в политике чуждым духу эко-
номическим силам; подверженность этой чисто политической господ-
ствующей воли так или иначе обоснованному бездуховному, экспансив-
ному национализму; искажение созданных духом исходных концепций
и в душевном смысле благородной национальной идеи. И т. п.
К тому, что есть повсеместно, у нас еще добавляются особые препят-
ствия, парализующие политическое воздействие духа.
У нас нет замкнутого слоя вождей, способного стать носителем доны-
не сохраняющей жизнеспособность великой политической традиции,
такой, например, какой, несмотря на все совершавшиеся со времен Фок-
са и Питта изменения, располагает Англия, или такой, которая была нео-
бычайно талантливо создана во Франции в рамках Третьей республики
после окончательного поражения Наполеона. Ведь именно этот суше-
147
ствовавший у французов слой вождей, использовав все сделанные нами
после ухода Бисмарка дипломатические ошибки, бездуховность и теат-
ральную экзальтированность, свойственные всем нашим политическим
деятелям, игравшим в ту пору решающую роль, объявили нам мат и изо-
лировали нас в Европе, пока мы после этой неудачи не ввязались с бес-
толковым шумом в войну. Действительно, накануне войны мы жили в
условиях ужасающего с точки зрения истории и, может быть, уникаль-
ного раскола между духом и политикой. Становой хребет нашего слоя
вождей был перебит неодолимо сильной волей Бисмарка. С момента со-
здания немецкого Национального объединения41* у нас началось станов-
ление слоя вождей, являвшихся в одно и то же время духовными и по-
литическими. Но в своих последних, ставших по большей части консер-
вативными, остатках этот слой закоснел и сделался бесплодным, слом-
ленным и беспомощным, при том даже, что в нем сохранились элемен-
ты мужественности и он не исполнял на манер лакея некие прихоти, так,
как поступают иные люди, которым соответственно место не в полити-
ке, а, скорее, в комнате для прислуги. Возместить такого рода утрату за
короткое время, без сомнения, непросто.
Ибо это усугубляется другими имеющимися у нас препятствиями,
сдерживающими воздействие духовной сферы на политику: отсутствием
древней политической традиции, которая вобрала бы в себя элементы
духа, сделав их привычными для политической практики. У нас нет сим-
волического воплощения такой традиции, выражения национального
духа в совершенно определенных, четко сформулированных идеях, кото-
рые, указуя на общечеловеческую миссию, в стремлении к ней ломали
бы узкие рамки исключительно национального и вели к тому, что прак-
тическая политика становилась одухотворенной — пусть даже формаль-
но. Она делалась такой, какова она, например, прежде всего в тех же
Англии и Франции. В Англии после «славной» революции 1688 г. это
нашло отражение в идее веротерпимости, свободы и самоуправления; во
Франции начиная с 1789 г. — в известном революционном «тройствен-
ном призыве»42": великие магические средства, с помощью которых обе
эти страны еще и поныне оказывают влияние на народы, связуют у себя
дух и политику. Революция 1848 г. в Германии не противопоставила иде-
ям великой Революции и их сложившимся во Франции формулировкам
иначе организованные привлекательные идейные формы и зримый сим-
волический принцип. Насколько явно она была глубже во многих отно-
шениях, ибо мыслила не просто рационально, но в то же время истори-
чески образно, и насколько очевидно заключала в себе искавшее в ней
своего духовного выражения огромное богатство, состоявшее в уходящей
корнями в историю культуры национальной идее, идейном наследии ро-
мантизма, во имя практического осуществления которого она впервые
боролась. Ответ на вопрос, что такое нация, который позже дал Ренан,
сказав, будто она есть «плебисцит, отражающий сегодняшнюю ситуа-
цию», как бы он ни был обоснован, представлялся поверхностным по
сравнению с историческими глубинами, об адекватном политическом
выражении которых и шла речь в 1848 г. Но в ходе этой революции, ко-
торая ведь и сама потерпела неудачу, все это не обрело какой бы то ни
было завершенной в понятийном или образном отношении, подчинен-
148
ной духу, равной по своему значению символам формы, обладающей
универсальным воздействием. Олицетворявшее такую форму выражения
черно-красно-золотое знамя было знаком единства немцев. Но это каса-
лось одной только Германии, и не более того. Сравните с ним «Марсе-
льезу» и то влияние, какое она оказала на мир, — и вы поймете все.
Все это не состоялось. У нас даже не было лидеров, способных за не-
имением объективных символов служить образцом индивидуальности, —
лидеров, на которых можно было ориентироваться в той же степени, как
и на четко сформулированные идеи; таких, кем являлись для американ-
цев Вашингтон и Линкольн, для французов — Гамбетта или его предше-
ственники, для итальянцев — Гарибальди и Мадзини, для англичан —
Питт, Дизраэли, Гладстон. Бисмарк, который с точки зрения истории
был, несомненно, много более грандиозной фигурой, бесконечно более
гениальной личностью, нежели все они, все-таки остается единственным
в своем роде гигантом, одиноким витязем, на какого можно смотреть
снизу вверх как на героя, но который тем не менее стоит за рамками лю-
бых принципов и всяческих универсально применимых политических
формул. Когда же его попытались сделать примером для подражания и
на таком основании вывести подобную формулу, получилась карикату-
ра. Спустя четверть века после его ухода мы в связи с канонизацией его
стремления к легитимности и намерением копировать его реалистичес-
кую политику с ужасом ощутили разрушение свойственной нам инстин-
ктивной потребности в самоуправлении и устранение духа.
И коль скоро нам тем самым оказались недоступны все дары, каки-
ми история наделила прочие великие европейские нации в противовес
наблюдаемому ныне подчинению политики экономике и исчезновению
духа из сферы политики, как дополнительная особенность прибавилось
то, что история в качестве наследия нашей политической раздробленно-
сти и богатства нашего духа, раскрывшегося вследствие этой раздроблен-
ности во всем его многообразии, также отказала нам в таком способе ду-
ховной организации, какой представлялся бы наиболее целесообразным
с точки зрения самого эффективного воздействия духа на политику, а
именно в концентрации духа как раз в том центре, где сосредоточена
политика, в свободном и непосредственном контакте обеих сфер, — вы-
ражаясь современным языком, хочется сказать: отказала им в местной
телефонной связи в единой, в одно и то же время политической и духов-
ной, столице. Всякий, кто осведомлен о технической стороне существу-
ющего и поныне взаимодействия духа и политики — такого, например,
как во Франции; кому знакома способность их обоих в критических и
новых ситуациях идти друг другу навстречу и находить общий язык со-
вершенно без какого бы то ни было принуждения извне; кто имеет пред-
ставление о влиянии такой способности, тот весьма высоко оценит этот
последний, и без того очень известный пункт негативной характеристи-
ки условий, в какие мы помещены. В ином случае умело осуществлен-
ная в последнее время французской политикой смена убеждений, пере-
ход от присущей Пуанкаре и иже с ним «узколобости» к общеевропейс-
кой деятельности, не могла бы совершиться подобным образом, а имен-
но как подчиненная дисциплине политическая и духовная перемена
фронта, так сказать, кавалерийской атаки.
149
Мы все это знаем. Следует ли нам отчаиваться по такому поводу? Для
этого были бы основания только в случае, если бы мы оказались не спо-
собны ставить цели, которые бы не представлялись заведомо фантасти-
ческими и неосуществимыми.
И здесь прежде всего о следующем: если тщательно взвесить и при-
нять во внимание все исторически обусловленные недостатки, все свя-
занные с ними трудности в том числе практического свойства, то ситу-
ация была бы непоправимой лишь тогда, когда бы духовное начало яв-
лялось у нас так жестко организованным, так далеко продвинулось бы на
пути становления его определяемых идеей форм, что нам тут ничего не
оставалось бы делать, и если бы обнаружилась невозможность оказать
влияние на политику.
Я знаю то, что известно каждому: существующий у нас после нашего
крушения, построенный в соответствии с прежней системой партий олигар-
хически структурированный слой вождей, который ныне на самом деле во
многом определяет нашу участь и который, впрочем, — поскольку мы пред-
ставляем собою современную массовую демократию, — с чисто технической
точки зрения неизбежно должен быть стуктурирован как олигархия, — этот
слой вождей, который сегодня, можно сказать, сплошь и рядом состоит из
политических деятелей, достигших влияния еще до войны, почти во всех
партиях с неизменным и тайным упорством противится приходу нового
поколения на руководящие должности в политике. И противится в общем
успешно. Большая духовность, иная духовность либо делопроизводственная
рутина и слаженная техника — не приходится сомневаться, какой их этих
двух элементов, призванных в их взаимопроникновении дополнять друг
друга, ныне в целом одержит таким способом верх. Но я спрашиваю: поис-
тине ли молодое поколение, которое по-прежнему не допускают к руковод-
ству, которое сетует на раскол между духом и политикой и должно было бы
обеспечить приток свежих сил в старые окопы, сделало все возможное для
того, чтобы овладеть этой крепостью?
Я знаю: во всех партиях есть организации молодого поколения. И я
считаю это чрезвычайно нужным и значимым делом. Ибо тот, кому в 20
лет предстоит участвовать в выборах, поистине самое позднее в 18 уже
должен начать ориентироваться в политике. Но слишком часто случает-
ся, что молодому поколению просто обрушивают на голову некий
партийный шаблон, только слегка видоизмененный, несколько подправ-
ленный в соответствии с присущей молодежи подвижностью, — молодо-
му поколению, которое для того, чтобы ему оказалось под силу стать но-
вым ферментом и носителем уже названных мною задач, следует, невзи-
рая на то, что внешне оно уже очень рано вынуждено ориентироваться
на ту или иную партию, по возможности заранее оградить от какой бы то
ни было четко очерченной программы, главным образом всякой партий-
ной программы, и которое во имя своего непосредственного существо-
вания, вероятно, само должно создать себе пусть не особые организаци-
онные формы — это немаловажный, но не первоочередной вопрос, — но
все же духовно-политический принцип жизни.
Поясню: я выступил бы за то. чтобы, например, демократическая мо-
лодежная организация предоставляла у себя слово не только демократам,
но в той же мере и еще более представителям Народной. Социал-демок-
150
ратической, Немецкой национальной партий и партии Центра и т.д. И
наоборот, чтобы так же поступали все остальные. Это служило бы выра-
жением существования «до всякой программы» — но тоже в значитель-
ной степени исключительно внешним.
Его подлинное содержание должно было бы состоять в общем для
всех опирающихся на духовную основу, политически заинтересованных
организаций молодого поколения целеполагании. Абсолютно не являет-
ся пустой фантазией, что молодежи вполне под силу осуществить это на
собственном опыте благодаря последовательному самовоспитанию, что
все представители молодого поколения, к какому бы направлению — де-
мократическому или антидемократическому — они ни принадлежали,
привыкнут требовать от всех вождей, которые при демократии неизбеж-
но существуют так же, как где бы то ни было еще, совершенно опреде-
ленной аристократической духовной позиции или, скажем так, для на-
чала хотя бы определенного уровня. Демократический лидер, не наде-
ленный такими качествами, для меня лично ничуть не лучше антидемок-
ратического, а возможно, даже хуже. Ибо он дискредитирует демокра-
тию, приверженцем которой я являюсь. Как бы то ни было, только в слу-
чае, если лидеры партий всех направлений окажутся вынуждены придер-
живаться таких позиций, если исключить самую возможность того, что
свое положение сохранит какой-нибудь лидер, не обладающий таким
уровнем, — только тогда будут созданы предпосылки эффективного воз-
действия духа на политику. С другой стороны, если будет происходить
такого рода остракизм, это сразу гарантирует некоторую довольно значи-
тельную степень его влияния. Ибо человек, отличающийся определен-
ной, безоговорочно требуемой внутренней позицией, не может суще-
ствовать, не имея сильной духовной опоры.
Без сомнения, это трудно, но не вполне невозможно. Если молодые
представители всех партий уяснят себе масштаб личного благородства, ко-
торый совершенно не зависит от партийной программы, но которого они
станут требовать от всех вождей своей партии, указывая, что в противном
случае откажутся следовать за ними и прямо «объявят забастовку» собствен-
ной партии, то это, по крайней мере, одно из возможных средств. Я знаю,
что у нас в Германии это звучит невероятно ново. Ибо нигде, кроме как у
нас, не считают партийную принадлежность чертой характера, не воспри-
нимают другого человека как «плохого» только потому, что он придержива-
ется противоположных политических убеждений, и именно в результате
этого разрушают всяческие представления о масштабе духовного аристок-
ратизма личности, не зависящие от мнения партии, и ставят программную
оценку выше оценки индивидуального уровня.
Здесь прежде всего следует указать: разграничение представлений о
масштабе личности и партийного убеждения, именно это разделение и
его осмысление представляются мне специфической задачей нынешне-
го нового поколения немцев — его первейшей задачей.
И все же нельзя пытаться успешно разрешить эту первую задачу, если
не присовокупить к ней второй, а именно, — разработки и утверждения
глубоко содержательной, четко охарактеризованной нормы духовного
аристократизма. В общем-то, одно это и дает основание для подобного
разграничения, и только это объясняет его.
151
Я не думаю, будто такую норму можно было бы установить посред-
ством понятий либо вообще поместить в рамки жестко очерченных вер-
бальных структур или даже, пожалуй, «изобрести» ее. По своей сущнос-
ти она, конечно, есть непосредственный результат жизненного опыта и
ее как таковую нельзя выдумать. Но такого рода жизненный опыт суще-
ствует. И все-таки есть определенные, выраженные с помощью слов ха-
рактеры, способные служить нормой, — характеры, на которые можно
ориентироваться и по поводу которых можно достичь взаимопонимания.
Поступать по-рыцарски или не по-рыцарски, быть лживым в духовном
отношении или же наоборот, — все это абсолютно ясные вещи. Но так-
же быть терпимыми и в духовном смысле объективными либо проявлять
непримиримую враждебность; аргументировать, обращаясь к сфере духа
и интеллекта, либо эмоционально и жестко; говорить банальными фра-
зами либо безыскусно и деловито, что никогда не бывает банальным. Все
это, концентрируясь вокруг коренящейся в опыте жизни нормы духов-
ного аристократизма, всецело постижимо как ее внешние симптомати-
ческие признаки. Если мы дальше продвинемся на этом пути, мы, прав-
да, никогда не придем к тому, чтобы описать все великое и гениальное,
не говоря уже о том, чтобы содействовать его возникновению. По-види-
мому, само собою разумеется, что это неизменно оказывается даром и
велением судьбы. Но мы, вероятно, достигнем того, чтобы возрос сред-
ний уровень наших вождей — тех, в ком мы каждый день нуждаемся.
Такой «усовершенствованный» средний человек готов распахнуть
двери подлинно великим личностям, вождям в собственном смысле сло-
ва. Речь здесь неизменно идет о следовании традиции в условиях олигар-
хии. Если традиция плоха, а средний человек зауряден, такая олигархия
будет кооптировать одних посредственностей и в случае выборов, прово-
димых с целью пополнить ее ряды, предлагать их кандидатуры, тем са-
мым еще сильнее снижая собственный уровень. Точно так же, как это
происходит при кооптации или при составлении предложений прави-
тельству в университете на факультете, уровень которого упал ниже оп-
ределенного показателя. Социологический тип здесь целиком тот же са-
мый. В одном случае олигархия — а всякий факультет с необходимостью
всегда является таковой, он по своей сути призван быть воплощающей
аристократизм духа олигархией, — представляет одного из новых ее чле-
нов правительству, в другом, если иметь в виду партию, — общественно-
сти для утверждения посредством избирательных бюллетеней. Внешний
способ утверждения неодинаков, сущность во многом та же самая.
Партийное руководство тоже неизбежно представляет собою олигархию
и в демократическом массовом государстве должно постоянно ею оста-
ваться. Иначе правительство было бы не в состоянии исполнять свои
функции. Технический принцип избрания и личная связь с массами,
обладающими правом голоса, несомненно, могут осуществляться в раз-
ных формах, в узких рамках или более свободно. Но если относящаяся
к этому слою вождей традиция предусматривает контролирование сред-
него уровня избираемых лиц, т.е. является хорошей, одерживает верх
тенденция к пополнению его как можно более сильными индивидуаль-
ностями, только в общении с которыми возникает ощущение благополу-
чия и убеждение, что единственно с их помощью можно разрешить свои
152
задачи. Одновременно появляется стремление к возможно более тесно-
му соединению со сферой духовного бытия. Всякая широта духа, служа-
щая предпосылкой терпимости и объективности, сама по себе приводит
к такому образу действий; совершенно невзирая на все правила наличия
ума, которые при избрании слоя вождей согласно их качеству, разумеет-
ся, легче претворить в жизнь.
Я полагаю, что мы, старшее поколение, не вполне способны сформу-
лировать и выразить словами эти идеи, даже если мы живо ощущаем их.
Я уже неоднократно высказывался по этому поводу. Сделать это — в пер-
вую очередь задача молодежи, в чью душу великие основополагающие
переживания, на которых базируется наша теперешняя эпоха, проника-
ют как в доселе не возделанную, но способную приносить новые плоды
ниву. Но в то же время я говорю: не стоит бранить политику и исключи-
тельно старшее поколение, если мы считаем сегодняшние обстоятельства
— и, как мне представляется, по праву, — недостаточно хорошими и в
значительной степени безрадостными. Мы будем содействовать господ-
ству духа в политике не посредством политической революции, а благо-
даря поступательному развитию духа в направлении его приобщения к
новым идеям; не путем насильственного устранения принадлежащих к
старшему поколению лидеров, без которых не обойтись, а благодаря от-
вечающему принципам духовного аристократизма контролированию из-
брания и пополнения состава, как я пытался его изобразить.
Без сомнения, мы как народ стоим на пороге переворота в мировой
политике. Не важно, как расценить вступление в Лигу Наций, всю ны-
нешнюю новую ситуацию. Эта ситуация такова, что она с почти небы-
валой доселе в политике резкой определенностью ставит перед нами воп-
рос: подчиниться в духовном отношении или утвердить свое равенство.
Эпоха индивидуальной дипломатии, внешнеполитических переговоров в
будуарах ушла в прошлое. Ныне не обойтись исключительно вооружени-
ем или исключительно дипломатическими ухищрениями. На становя-
щемся теперь поистине все более значимым форуме европейской и меж-
дународной политики в будущем сильнее, чем когда-либо, начнут сра-
жаться не только с помощью ума, но и посредством идей, т.е. духа. По-
этому дух сегодня как никогда нужен политике.
VII
Немцы в духовном пространстве Европы15
Какой смысл будет заключаться в том, что я по случаю вступления не-
мецкой секции в международный «Союз по сотрудничеству в области
культуры» добавлю своей речью еще кое-что к груде накопившегося в
конце лета словесного материала, касающегося свершившегося наконец
духовного единения Европы?
По-видимому, ни малейшего.
Если мы, интеллектуалы разных стран, намерены по возможности
навести мосты между по большей части весьма отдаленными друг от дру-
га массивами духа тех или иных наций, нам, как мне представляется,
153
сначала надлежит попытаться вскрыть служащую фундаментом первич-
ную породу наших отличий, со всеми ее ущельями, расселинами, трещи-
нами и разграничительными линиями. Мы должны быть фанатиками
безоговорочной прямоты, иначе мы окажемся ничем, пустыми фразера-
ми, имеющими не более ценности, нежели воздух, который мы сотряса-
ем. Мы не пропагандистское общество, более того, если я понимаю пра-
вильно, мы аудитория, объединившая здравомыслящих людей, стремя-
щихся уяснить и обсудить то, что их разделяет, в той же степени как и то,
что их сближает и объединяет, полагая, будто только так можно будет
плодотворно приумножать эти последние факторы и обеспечить их уси-
ливающуюся взаимосвязь.
Отсюда следует: вступая в ваше общество, мы, немцы, знаем, что в
духовном отношении вы, другие, за небольшими исключениями, теснее
связаны между собой, нежели с нами. Так обстояло дело уже перед вой-
ной; но это имеет место — скажу откровенно — согласно самой приро-
де вещей, вероятно, даже более того. Это предопределено исторической
участью, а может быть, изначальным своеобразием психики немцев. Как
бы то ни было, это факт, с которым нам нужно считаться, первый, какой
следует уяснить.
Мне известно: к одной ветви немцев сказанное не имеет отношения. По
своей сути она издавна связана с миром, обрела светский характер в резуль-
тате прекрасного духовного и социального воспитания, полученного ею
благодаря своему императорскому дому43*. Именно ей мы обязаны тем, что
собрались здесь, в великолепных залах этого несокрушимого, невзирая на
все превратности судьбы, европейско-экуменического города. Я не ставлю
перед собою задачу высказываться по поводу этой, австрийской, ветви нем-
цев, которая уже с колыбели являлась «Европой» и с которой вы, другие, с
самого начала были соединены в этом сообществе.
Я говорю о той, остальной, Германии, лежащей будто безмолвная,
тяжелая, необозримая и непостижимая масса в центре этого европейско-
го и европеизированного мира, оставаясь все-таки чуждой ему, — мало
любимой, подвергаемой осмеянию уже начиная с XHI в., которую в оп-
ределенной степени всякий раз считали в социальном отношении непол-
ноценной; об этих немцах, которые поистине не принадлежат всецело к
западной цивилизации, даже не хотят безоговорочно принадлежать к
ней. Народ, который в силу такого рода оговорок оставался, с точки зре-
ния всех прочих, в некотором смысле «варварским»; поэтому даже в пе-
риод, когда он оказывал наибольшее духовное воздействие на мир, гос-
пожа де Сталь описывала его как образец отдаленной, сумрачной терри-
тории, изобилующей великолепнейшими, но также и чрезвычайно от-
талкивающими феноменами. Об этой Германии, подобной «неведомой
Африке», я собираюсь сказать несколько слов.
Сказать вовсе не о том, что мы могли бы предложить вам. Привычка
представлять и восхвалять самих себя, пусть довольно распространенная
ныне в первую очередь у современных наций, свидетельствует об отсут-
ствии такта. К тому же это напрасное начинание. Ибо мы как нация
столь же мало понимаем, чем мы являемся и чем могли бы стать по своей
глубинной сущности, как отдельный человек понимает это в отношении
самого себя. Мы познаем себя на основании того, как складывается наша
154
судьба, и благодаря суждениям других людей. И то, и другое воспитыва-
ет, просвещает, непрерывно преобразует нас. Но ни то, ни другое не рас-
крывает перед нами нашей конечной ontos on*, не говоря уже о наших
грядущих возможностях, нашем внешнем облике и жизненной силе, ко-
торую мы когда-нибудь окажемся в состоянии излучать. Но это пред-
ставляется единственно важным с точки зрения того, что мы можем зна-
чить для вас, — это, но отнюдь не те имеющие исключительно антиквар-
ную ценность вещи, какие вам все еще удастся обнаружить в столь мно-
гочисленных книгах под видом саморефлексии, обращенной к «немец-
кому духу», «немецкой душе», «миссии» или какому-нибудь другому
свойству немцев; на самом деле это мертвая осадочная порода, шлаки,
змеиная кожа, сброшенная нами на предначертанном нашей судьбою
пути.
Речь пойдет о чем-то совершенно ином! Это значит, о той точке, где
мы, согласно нашему ощущению, ныне пребываем в духовном отноше-
нии, притом не оглядываясь назад, а, скорее, ориентируясь на наши на-
правленные в будущее устремления воли и поступки. Пожалуй, имеет
смысл говорить об этом, — конечно, совершенно откровенно.
Теперь хочу сказать: мы, немцы, всегда — это началось уже накану-
не войны, но, как нетрудно понять, наиболее явно обнаружилось в свя-
зи с наступившими по ее окончании тяжкими душевными потрясения-
ми, — имели некие, назовем их так, видения.
Например: нам казалось, будто мы воочию видим земной шар разде-
ленным политически и, что еще страшнее, духовно на два гигантских
образования, поглотивших его; с одной стороны, колосс западной циви-
лизации, в период войны прочно сросшейся в единую целостную струк-
туру. Мы чувствовали, что из Лондона и Нью-Йорка на нас очень рассу-
дочно и холодно смотрят глаза великих мировых финансовых держав;
между тем Париж, а временами Рим мы со всей интенсивностью ощуща-
ли как средоточие интеллекта, место встречи духовных сил. Эта гранди-
озная целостная структура, с позиций которой Европа, а тем паче кро-
шечный клочок земли, именуемый Германией, представлялись более не
существующими, изготовился к битве со вторым Левиафаном, Левиафа-
ном Востока, голова которого, как нам мнилось, находилась в Москве, а
тело тем временем, разрастаясь, захватывало Азию, чьи обширные реги-
оны надлежало вобрать в себя и мобилизовать во имя этого противобор-
ства. А посередине были мы. Под влиянием этого видения мы не толь-
ко заново ощутили, что старый, роковой для нас исторический вопрос,
вопрос пребывания между Востоком и Западом, благодаря самому суще-
ствованию Европы и сосредоточенной в ней энергии противостояния
представляется теперь в его прежней форме почти невинным. Отныне он
явился перед нами неприкрашенным, ужасающим, не сулящим никаких
надежд, не сглаживаемым с помощью каких-либо промежуточных сил, в
следующей форме: предстоит ли нам стать рабами Востока или Запада,
одновременно полем сражения между ними и. может быть, однажды об-
ратиться в пустыню?
В этой ситуации мы, как я уже говорил в Милане, научились как ни-
4 Сущность вещем, субстпнинм (греч.).
155
когда осознанно любить Европу. В мыслях мы воссоздали ее, собрали ее
из осколков как драгоценный сосуд, в котором мы должны пребывать,
если нам суждено существовать далее как нации, как самостоятельному
народу среди других народов. Теперь, когда обнаружилось, что восста-
новление Европы необходимо также вам, другим, разум, — если не ма-
териальный интерес, — заповедует нам: там, где объединяются ради того,
чтобы трудиться во имя этой реконструкции, мы, немцы, — едва ли нуж-
но напоминать об этом, — являемся европейцами, как и всякий другой
народ этого континента.
Но что сегодня означает Европа в духовном отношении? — Здесь воз-
никает второе видение, которое терзало нас еще до войны, ныне почти
что самое тяжкое.
Европа была восстановлена, как мы знаем, экономически и полити-
чески, потому что в мире полагают, что лучше сохранить ее как эконо-
мическое и политическое образование, так как в случае, если бы ее ос-
тавили покрываться ледяной коркой и мы, немцы, пропали бы в одной
из ее ледниковых трещин, результатом бы стали обнищание, деградация,
смуты в обширных, возможно, наиболее важных регионах земного шара.
Понимание этого стало исходным пунктом поворота к лучшему. Но
останется ли еще живой и действенной в духовном мире Европы про-
никнутая переходящими одно в другое экономическим и политическим
началами субстанция романо-германо-славянской Европы, предназначе-
но ли ей в будущем усиливаться? Ее нельзя искусственно сложить из ос-
колков, пробудить к жизни с помощью композиционных построений.
Она, должно быть, еще существует, только засыпана обломками, и ждет
появления восстановленного сосуда, внутри которого она сможет опять
расти как живое органическое образование. И она пустит новые побеги
только в случае, если по-прежнему будет иметь перед собой оставшиеся
неразрешенными, неотделимые от нее, свойственные ей в силу ее сущ-
ности задачи в космосе данных духовных условий.
Мы отвечаем: духовного пространства Европы, каким оно было во
времена наших отцов, Европы как четко определяемого географическо-
го понятия, в духовном отношении больше не может существовать. В
духовном смысле ныне нет больше ничего, кроме мира белой расы, ко-
торый распространен на Земле столь же широко, как сама эта раса, и в
огромном новом пространстве подчинен наряду с ней тем же самым ду-
ховным принципам жизни. А Европа, то, что мы именуем духовной Ев-
ропой, — скажем вслед за Полем Валери, — присутствует повсюду там,
где в рамках такого пространства продолжают жить основные элементы
европейской истории, т.е. античная Греция, Рим и христианство, т.е.
традиция европейской духовности.
Но мы спрашиваем — и здесь начинается наше видение: какова судь-
ба народов древней географической Европы в этом мире охватившего
весь земной шар европеизма? Этих более не молодых народов, которые
уже выразили свою сущность в великих произведениях своих поэтов, ху-
дожников, философов, в широких религиозных систематизациях, кото-
рые, кажется, перешагнули свой зрелый возраст, может быть, подобно
поздней античности, приблизились к черте, за которой — бесплодность;
которые, вероятно, находятся на грани закоснения в обретших подавля-
156
ющую силу механистических формах, какие им более не под силу про-
никнуть собою в духовном отношении, напитать их свежей кровью но-
вого содержания? Закат Европы. Мне известно, что это второе видение
сегодня более не является специфически немецким и наполняет собою
также французскую, английскую, испанскую литературу, а возможно,
литературу других наций. Но в его всеохватности и тяжести, как предмет
горячих обсуждений и исследований, оно овладело, по-видимому, только
нами, немцами, уподобясь темному облаку, откуда заключенные в нем
проблемы исторгаются, как разъедающая мучнистая роса, на нашу волю,
которая в ином случае, может статься, была бы устремлена в будущее. Я
не помышляю о том, чтобы ответить здесь на ваши вопросы.
Скорее, я веду речь — и тем самым, кстати, намечаю в некоторых чер-
тах такой ответ, — о третьем и четвертом видениях, повествование о ко-
торых имело бы для вас, коль скоро вы намерены сотрудничать с нами,
большее значение, поскольку они ориентированы на нечто позитивное.
В Германии ныне выходят книги с такими заглавиями, как, напри-
мер, «В преддверии новой эпохи»16. Досточтимые патриархи нашей ду-
ховной жизни чувствуют себя обязанными говорить о новой эре, знаме-
нующей собою переход не только в иное столетие, но и тысячелетие. В
случае, если это не просто обозначено в общих словах, а оказывается на-
сыщено конкретными представлениями, это звучит так: все окружающие
нас проявления духа сегодня становятся для нас, человечества, преиспол-
ненного европейских воззрений, свершений и ценностей, чем-то новым,
помещенным не только в иное географическое, но и новое духовное про-
странство, изменившимся по своей сути и содержанию в силу некоей
таинственной взаимосвязи. Начиная с представлений об устройстве Все-
ленной (Эйнштейн), через основополагающие формы воззрений и поня-
тия, посредством которых мы познаем космос, до стиля мышления, эти-
ки, искусства, прочих способов духовной организации бытия, — все пре-
терпевает грандиозную, проникающую собою все области, объемлющую
все как единое целое метаморфозу. Иными становятся не только наруж-
ная оболочка бытия, но и средства его духовного постижения, проблемы его
души, задачи овладения ими, его объективации и эманации, попытки воз-
высить его до уровня вечности. Они настолько видоизменяются, что мы
полагаем, будто нам надлежит обратиться назад, к перелому, ознаменован-
ному трудом Коперника, и далее — к возникновению христианства — ради
того, чтобы обнаружить исторический переворот той же силы, оказаться
посреди столь же мощного процесса движения, распада и зарождения но-
вого, как в те эпохи, и ощутить себя вовлеченными в них.
Не приходится говорить, что я разделяю это третье видение, первое,
являющееся действительно плодотворным, из тех, о которых я пове-
ствую. Сегодня есть такие люди, о каких можно сказать, «что они свои-
ми глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разуме-
ют»44*, потому что не замечают свершившегося превращения, в центре
которого, несущем в себе зачатки нового, они тем не менее находятся.
Пусть еще не явился тот, кто всеобъемлющим и, вероятно, уже способ-
ным созидать формы словом усмирил бы существующий хаос, но мы,
прочие, все-таки ощутили: прежние полярные противоположности, не-
когда плодотворные антагонизмы, в которых находило выражение наше
157
духовное противостояние, ушли в прошлое. Старые формулы, посред-
ством которых старались преодолеть напряжение бытия, уже представля-
ются недостаточными. Прежние пути формообразования заносит пес-
ком; дорога к спасению, по которой пытались выйти к свету, погружает-
ся во тьму. Все стало иным.
В свою очередь, мне не стоит стремиться к тому, чтобы отважиться
говорить здесь о скрытых, подспудно происходящих в действительности
процессах. Я лишь указываю на абсолютно внешние симптомы, прояв-
ления совершающегося на гораздо большей, может быть, не вполне до-
стижимой для нашего сознания глубине превращения, — такие, что на-
ходятся всецело на виду.
Изменения в мире хозяйственных и общественных форм. Сегодня —
говорю без обиняков — уже невозможно по-прежнему усматривать фун-
даментальную экономическую и социальную проблему общественного
строительства в противоречиях между капитализмом и социализмом. В
Европе их место заняли прочие антагонизмы: анатагонизм между орга-
низованными, объединенными при капитализме по принципу ассоциа-
ции экономическими силами и духовным влиянием государства; а в гло-
бальных масштабах — борьба между еще существующими империалис-
тическими экспансионистскими устремлениями этого нового капитализ-
ма и, трезво рассуждая, ни в коей мере не социалистическими, более
того — воплощенными в самые разные образы и играющими этими об-
разами противоположными ему формами. Представляется устаревшим
стремление по-прежнему искать решающую напряженность в политике
в отношениях между демократией и консервативно-легитимистскими
структурами. Легитимизм умер (значение и функции еще сохранивших-
ся, в политическом отношении существующих как бы в полумраке дина-
стий при этом не рассматриваются). Живое противоречие состоит в сле-
дующем: демократия либо диктатура цезаристского толка. И поскольку
основу культуры хотят видеть именно в сложившейся в условиях свобо-
ды сплоченности народа, перед демократией стоит задача не уступать
своей сопернице по качеству выбора вождей, мобильности, способнос-
ти ее технического аппарата изъявлять ее волю, действовать и принимать
решительные меры.
Что касается религии. Не умаляя значения древних церковных институ-
тов, не намереваясь и не стремясь ослабить их влияние на жизнь, скажем
очевидное: конфессиональным различиям более не под силу разверзнуть
пропасть между людьми. Современные люди заключают в себе большее со-
держание, нежели то, что формировалось прежними институтами или даже
предписывалось ими как догма. Преодолевая эти рамки, они живут новой,
открытой широкому миру жизнью, в которой они встречаются как люди,
борются как люди, объединяются, овладевают бытием, облекая его в создан-
ные ими формы, пытаются за пределами вероисповедания взрастить новое
единение, новую телесную субстанцию духа.
Чего они добиваются? Было бы преждевременным непрестанно заг-
лядывать через замочную скважину в мастерскую творца истории. Но я
говорю о том. что можно заметить и так: в процессе становления нахо-
дится новое естествознание, чьи очертания ясно распознаются в стрем-
лении отодвинуть на второй план прежние порожденные мышлением
158
гипотезы, в том, что сделавшиеся с давних пор привычными средства
восприятия подвергаются сомнению как высшие категориальные формы
представлений с точки зрения их применимости для разрешения чрезвы-
чайно конкретных новых проблем, чье уяснение на новых путях позна-
ния происходит тогда поразительно быстро; постижение природы, кото-
рое, например, связует пространство и время в единую форму мышле-
ния, снимает противоречие между конечным и бесконечным и т.д. Воз-
никают новая философия и метафизика, для которых прежние, отчасти
уже обветшавшие за тысячелетия антитезы, такие, например, как номи-
нализм и реализм, позитивизм и идеализм, релятивизм и признание аб-
солютной истины, будут отслужившими свое, ставшими излишними
вспомогательными средствами в их плавании к новым берегам. Они, ко-
ренясь в ином опыте переживания, руководствуясь изменившимся ми-
ровоззрением, будучи насыщены иными вопросами, станут искать пре-
образованных, соответствующих этим вопросам средств мышления. Нет
ничего более характерного, нежели то, что в упомянутой выше книге
древнейшее исходное понятие всей западноевропейской научной фило-
софии, apeiron45* Анаксимандра, это не поддающееся изучению, непос-
тижимое, представляющее собою первооснову и конечную цель всех ве-
щей, не проясненное и не прояснимое нечто снова начинает претендо-
вать на роль одной из основных категорий философии и естествознания.
Можно вообразить, будто на этом сумрачном фоне, как это уже проис-
ходило две с половиной тысячи лет назад, спустя новые столетия или
тысячелетия, вероятно, отчетливо обозначатся в новом поле зрения яс-
ные очертания новых философских противоречий и умозаключений —
великий второй акт человеческого мышления.
Конечно, также новый мир идей. Философия, тем паче метафизика
без него — половинчатый нонсенс. Мы пока не в состоянии высказать
здесь решающие умозаключения (может быть, потому, что еще не дос-
тигнута соответствующая универсальная форма бытия, может быть, от-
того, что новый опыт переживания еще простирается недостаточно глу-
боко, что он пока не имел возможности испытать на себе формирующее
воздействие великой личности, так чтобы мы оказались способны в вы-
разимом словами и тем самым действенном виде внедрить исходящие
отсюда устремления воли, естественное средоточие всякого нового мира
идей, в хаос в качестве формообразующей силы). И все-таки появление
этого нового мира идей ощутимо как некая атмосфера, в которой считав-
шиеся прежде высшими противоположности, определявшие философс-
кую позицию, — такие, скажем, как тезис Канта о человеке как конеч-
ной самоцели либо присущее противникам кантианства представление о
человеке как структурном элементе и материале для построения стоящей
превыше него «священной» объективной формы и организации бытия,
ранее являвшиеся практически неоспоримыми противоречия, обрели
относительный характер, более не оказывают друг на друга взаимоиск-
лючающего действия и в таком виде уже кажутся ненужными, потому
что на смену им приходит нечто новое, знаменующее собой новый ан-
тагонизм.
Гибель, переход к чему-то новому, вероятно, нигде более не обнару-
живают себя столь прямо и очевидно, как в искусстве. Нигде более этот
159
переход не воспринимается причастными к нему людьми, чьи органы
чувств пытаются уловить непостижимое, выразить несказанное, с таким
горячим неравнодушием, а нередко с куда более сильным страхом; ниг-
де более он не проявляет себя подчас с такой беспощадностью. Конеч-
но, и в данном случае мы, немцы, снова оказываемся на переднем крае,
если угодно, посреди поля брани. Но коль скоро сегодня есть такая ли-
тература, поэзия, изобразительное искусство, чьи смысл и содержание
состоят, кажется, не просто в разрушении, нет, а в осмеянии и издевке
по отношению ко всем старым формам, всем прежним законам вырази-
тельности, — то я склонен думать, что они представляют собою нечто
вроде пузырьков, образующихся над гигантским живым существом, ко-
торое покуда находится под водой, но однажды всплывет на поверхность.
Правда, нам не известно, какой у него будет облик, какие очертания, ка-
кие побуждения к действию. Мы не имеем понятия о том, что получит-
ся в итоге.
Это то самое видение, картина распада мира прежних форм и содер-
жания и процесса зарождения нового мира, при том, что пока не обрел
спасительной формальной завершенности ни один из элементов этого
мира, ни единый, который был бы создан из его собственного материа-
ла, наполнен его собственным бытием; еще не возникло ни одного тако-
го элемента, в котором могла бы насладиться полуденным отдыхом наша
душа, а мы, я сказал бы, почувствовали себя на своем месте.
Но у нас есть и четвертое видение. Мы созерцаем людей — здесь я
опять говорю о Германии, так как недостаточно сведущ в том, что про-
исходит у вас. Мы, те, кто принадлежит к старшему поколению, замеча-
ем среди неясности и зыбкости форм, устремленных к чему-то непозна-
ваемому, нечто, уже начинающее обретать определенный облик, то, чему
мы по мере того, как лучше узнаем его, все сильнее доверяем, — новое
поколение.
Я не отношу себя к тем, кто привычно расточает похвалы в адрес не-
мецкого молодежного движения, к сообществу людей, любящих фими-
ам, который кое-кто из них воскуряет у сооруженных ими себе во славу
алтарей и собственных изображений. Эта часть молодежного движения,
занимающаяся самолюбованием, непрестанно теоретизирующая о самой
себе как предмете, предающаяся саморефлексии вплоть до растворения,
как мне кажется, последней клеточки тела, на деле представляет собою
«старческое» движение молодежи; оно служит разновидностью бесплод-
ного гипертрофированного саморазложения и интеллектуального само-
оправдания, сообщающих приведенной выше картине гибели некото-
рые, пусть даже ограниченные, черты достоверности. Его подточенная
самоанализом юность есть не что иное, как старческая немощность. Я
говорю о молодых людях, и охотнее всего о тех, кто вообще постигает
себя просто на основании собственного труда и исходя из своей формы
существования.
Что я вижу? На пути к мосту навстречу вам потоком движется поко-
ление немцев, которых пережитое ими воспитало таким образом, что
они всецело ощущают своеобразие немецкого народа, его уникальность,
даже не вполне преодоленную чужеродность вашему миру. т.е. они на-
ционально самобытны до мозга костей и все же испытывают потребность
160
в расширении горизонта, остро чувствуют, что Германии надлежит либо
сделаться частью мира, либо прийти в упадок, не приемлют никакой узо-
сти, благодушного филистерства и тупого упрямства, какое ранее обык-
новенно демонстрировали в пивных. Соответственно, это люди, хотя и
знающие, что не только в экономике и политике, но и в сфере духа су-
ществуют не устранимые из мира противоречия, но воспринимающие их
скорее как стимул для духовного соперничества, как ферменты плодо-
творного взаимовлияния, как основополагающие обстоятельства, внося-
щие оживление в противоборство характеров различных народов. По
своим устремлениям они обращены ко всему миру и этим напоминают
былых представителей нашего идеализма и нашего романтизма. И все-
таки они отличаются от этих последних, представляются совершенно
иными потому, что пытаются осуществить синтез идеализма и реализма,
хотят быть идеалистами, не утратившими понимания значимости опы-
та и одновременно лишенными выспренности — может быть, за исклю-
чением пафоса отстраненности, — т.е. являются реалистами, сознающи-
ми, что все реалистические факторы важны лишь с технической точки
зрения. Это поколение немыслимо без Ницше, своего наставника; по-
этому оно обладает тем чувством телесного, тем основанным на устойчи-
вой и одухотворенной материальности самосознанием, какие он раньше
всех прочих пытался возродить в Европе, где люди деградировали в ис-
ключительно рассудочный тип, сверх меры были погружены в чисто че-
ловеческие, будничные дела. Это не «белокурые бестии», но, во всяком
случае, не бестолковые увальни, не «ученые в квадрате», мыслящие па-
раграфами; это люди, наделенные, как хочется надеяться, определенны-
ми достоинствами, которые, если несколько перефразировать замеча-
тельные слова Ницше, «будут чересчур великими для того, чтобы их име-
на оказались у всех на слуху»46*. Я вижу этих людей. И, глядя на них, я все
же перехожу к повествованию о том, что мы, по моему разумению, спо-
собны предложить вам.
Чего мы хотим от вас, являясь к вам с такими людьми?
Не только новых импульсов, расширения кругозора, приобщения к
раздробленной великой европейской традиции, разного рода объектив-
ных элементов, какие вы в состоянии дать. Мы стремимся к общему делу.
Что же доныне привнесли в ваши отношения между собой про-
странственное сближение народов, обретение понимания их особен-
ностей и сущности? Они разожгли взаимную ненависть, породили
взаимные обвинения. Это качества плебеев, отравляющие собою мир
и делающие его как никогда низменным. Не думаю, чтобы в полити-
ке когда-нибудь вошел в обычай бытовавший у французов старинный
рыцарский принцип, какому следовали в сражении: Messieurs les
Anglais, tirez les premiers!'. Но отчего бы ему не стать для нас нормой
духовной жизни? Отчего мы не хотим здесь отряхнуть от пыли забве-
ния тот подход, который предоставляет право первого шага другим,
так как сознает свою самоценность, свою силу, не заявляя об этом во
всеуслышание? Почему бы нам не выбраться наконец из атмосферы
низости? Подлинное достоинство аристократии духа — восхищение
Госпола англичане, стреляйте первыми! {франц.).
6 Зак. 3073
161
друг другом. Не то восхищение, что тождественно безудержной, не-
критической самозабвенной увлеченности; скорее, такое, которое при
ясном понимании существующей между нами дистанции, элементов
отчужденности, непостижимости другого, тем не менее и как раз по-
этому превозносит превалирующие в его характере черты и нежности,
и силы; отзывается о них как о неведомых, почти недоступных горных
вершинах, меж которых виднеются пропасти, но которые всякий раз
снова потрясают мощью своих очертаний, своим непроницаемо таин-
ственным и неисчерпаемым величием. Пусть это станет нашей пози-
цией. Не будем осыпать друг друга пустыми комплиментами. Но по-
смотрим друг на друга, говоря словами Гегеля, как на удивительней-
шим образом разные мысли и высказывания мирового духа, с какими
он обращается к самому себе, чтобы посредством их духовного соеди-
нения возвысить и усилить себя. Тем самым мы, невзирая на все по-
рожденные настоящей эпохой проблемы поможем заложить на разва-
линах былого фундамент подлинно необходимого нового здания — от-
личающейся большим благородством духа Европы.
Примечания
1 Вслед за посвященным Трёльчу сочинением О.Гинце этот образ использовал
Шелер — Historische Zeitschrift, Bd. 135. 1927.
2 Впервые в докладе, прочитанном на Втором съезде социологов Германии в 1912 г.
3 Принципиальные замечания к социологии культуры //Архив социальных наук,
т.47 (Prinzipielles zur Kiiltiirsoziologie //Arcliiv fur Sozialwissenschaften imd
Sozialpolitik. Bd.47).
4 Говорю так, не стремясь умалить дух и огромное для современной истории зна-
чение труда Шпенглера.
5 Данная постановка вопроса представляется решающей и у Отто Гинце, который
также признает этот дуализм, хотя трактует его не мистически, а, насколько воз-
можно, только психологически.
* Тем самым преобразуется, как мне кажется, и столь популярная сейчас пробле-
ма «полярной противоположности» власти и идеальных сил, которая, прежде
всего в результате обусловленного мировой войной крушения теории «чистой
власти», до сих пор, особенно в том, что касается политики, подчиняет своему
влиянию такие тонкие умы, как Ф.Мейнеке и О.Гинце. «Полярной противопо-
ложности» здесь нет и в помине, так же как и (по формулировке Гинце) возни-
кающего время от времени совпадения интересов мира идей и власти, здесь во-
обще нет «реальных факторов». Речь идет о бессилии средоточия души по отно-
шению к природной, движимой инстинктами, субстанции жизни; тогда наступа-
ют периоды политики исключительно «с позиции силы» или же — большей ча-
стью одновременно — материализма. Либо говорят о способности этого средо-
точия души к постижению и созданию форм; в таких случаях имеют место пери-
оды не то чтобы чуждые всякой власти — вероятность их появления столь же
мала, как само существование где-либо жизни, не знающей «стремления к гос-
подству», — а. скорее, признающие приоритет культуры и «умиротворенные».
Именно таким этапом была для Запада не получающая ныне большого призна-
ния, ставшая в духовном отношении несовременной первая половина XIX сто-
летия, в ее открытой и добропорядочной, несколько простовато-неуклюжей фор-
ме. На совершенно иной манер, гораздо более наивный и непоследовательный,
свободный и рискованный, являлся такой эпохой и XVI11 век и т.д.
162
7 Выражение, которое употребляет также Трёльч, правда, не совсем в строгом
смысле. См. по этому поводу Отто Гинце, там же.
х Доклад на торжественном вечере, организованном в рамках II съезда социоло-
гов Германии 20 октября 1912 г.
4 Из журнала «Der Neue Merkur» («Новый Меркурий»), изданного Эфраимом
Фришем в декабре 1923 г. (одновременно опубликовано у О.Рейхля в «Светоче»
(«Der Leucliter»), Дармштадт). Несмотря на не вызывающее симпатий повторение
приведенных во введении и иных разделах основополагающих классификаций,
это сочинение снова печатается без сокращений, для того чтобы сохранить его
идейную целостность.
'" Статья, опубликованная 21 апреля 1907 г. в «Новой свободной прессе» («Neue
freie Presse») в связи с сочинением Густава Шмоллера, выражающим противопо-
ложную точку зрения. Дискуссию продолжил Еллинек на страницах «Новой сво-
бодной прессы».
11 Правда, для этого нужно, чтобы издательство опубликовало биографию отдель-
ным изданием. Впрочем, было бы непостижимо, если бы оно не сделало этого в
отношении биографии, вызывающей всеобщий интерес и к тому же основанной
на многочисленных, доступных только автору материалах.
12 По изд.: «Heidelberger Akademischer Almanach» («Гейдельбергский академичес-
кий альманах Свободного содружества студентов»), 1909-1910 гг.
13 Из «Die Neue Rundschau» («Новое обозрение») С.Фишера, октябрь 1910 г. Не-
которые акценты этого сочинения сегодня стали беспредметными. Тем не менее,
вычеркивать их было бы лишено смысла.
14 Из: «Die Neue Rundschau» («Новое обозрение»), октябрь 1918 г. Анализ пред-
ставленных здесь данных с собственно политической точки зрения, который в
годы войны казался неуместным —доклад был прочитан в начале 1918 г. — при-
веден в моем сочинении «Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa»
(«Кризис современной государственной мысли в Европе»), Berlin, 1925.
15 Обращение к участникам третьего годового собрания «Союза по сотрудниче-
ству в области культуры» («Verband fur kulturelle Zusammenarbeit»), прочитанное
18 октября 1926 г. в Церемониальном зале венского дворца Хофбург. Впервые
напечатано в журнале «Europaische Revue» («Европейское обозрение»), издавае-
мом Карлом Антоном Роаном, в феврале 1927 г.
16 Kuntz. W. Vor den Toren der neuen Zeit. Leipzig, 1926.
Примечания переводчика
'" Гёте И.В. Избранные произведения в двух томах. Т.П. М., 1985. С.189.
:* Имеется в виду Отто фон Бисмарк (1815-1898).
■'" Неточная цитата из: Goethe J.W. Maximen und Reflexionen//Kunsttheoretische
Schriften und Ubersetzungen: Schriften zur Literatur. Teil II. Berlin: Aufbau-Verlag,
1972. S.512. Vom Absoluten in theoretischem Sinne wag ich nicht zu reden...
4" Иоанн, 13,33. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. meine Wege sind nicht
eure Wege.
s" Гёте И.В. Избранные произведения в двух томах. Т.П. М., 1985. С.189.
''' Карл Линней (1707-1778) — шведский естествоиспытатель, первый президент
Шведской Академии наук (с 1739 г.), почетный член Петербургской Академии
наук. Создал систематизацию живой природы, основанную на подробной клас-
сификации различных родов и видов флоры и фауны и последовательном при-
менении принятой по сей день бинарной номенклатуры, т.е. способа обозначе-
ния всякого растения и животного с помощью двух латинских слов, первое из
которых служило названием рода, второе — вида. Являлся сторонником учения
163
о сотворении мира и придерживался теории постоянства видов, отвергая тем са-
мым внутривидовую эволюцию.
7* Имеется в виду конституционная монархия.
к* Имеется в виду «конституционный конфликт» 1860-1866 гг. в Пруссии между
королем и правительством, с одной стороны, и ландтагом — с другой. Поводом
послужил правительственный проект военной реформы, на выделение бюджет-
ных средств для осуществления которой необходимо было согласие парламента.
В обмен на такое согласие либеральное парламентское большинство потребова-
ло от монарха ряда уступок, например, расширения своих прав в области распо-
ряжения бюджетом. Конфликт был разрешен Бисмарком, назначенным в сентяб-
ре 1862 г. премьер-министром Пруссии. Использовав бюджетные деньги без сан-
кции парламента, он реорганизовал армию, которая после этого в Австро-прус-
ской войне 1866 г. одержала верх над войском Габсбургов. Это побудило ланд-
таг одобрить задним числом все действия Бисмарка начиная с 1862 г., в том числе
затраты на нужды армии, что нашло выражение в принятом парламентом в от-
ношении премьер-министра «постановлении об ограждении от ответственности».
г Ласкер Эдуард (1829-1884) — немецкий юрист и политик, представитель либе-
рализма. Один из основателей Национально-либеральной партии Германии
(1867). В 1862-1879 гг. был депутатом прусского ландтага, в 1867-1884 гг. — рей-
хстага. Последовательно критиковал внутреннюю и внешнюю политику Бисмар-
ка, в частности, установление им «запретительных пошлин», введение «законов
против социалистов» и «борьбу за культуру», что обусловило в 1880 г. разрыв Лас-
кера со своей партией, поддержавшей правящий режим.
,0" Вирхов Рудольф (1821-1902) — немецкий врач, ученый, политик. С 1849 г. —
профессор медицины в Вюрцбурге, с 1856 г. — в Берлине. Руководитель Берлин-
ского Института патологии, председатель Немецкого общества антропологии,
этнологии и первобытной истории. Один из основателей Немецкой партии про-
гресса (1861). В 1862 г. избран в прусский ландтаг. В период «конституционно-
го конфликта» в Пруссии был противником Бисмарка, однако после 1871 г. под-
держал предложенную рейхсканцлером «борьбу за культуру». В 1880-1893 гг. —
депутат рейхстага.
"' Национально-либеральная партия Германии (1867-1918) — праволиберальная
буржуазная партия. Поддержала проводимую Бисмарком политику объединения
Германии «сверху», обеспечившую Пруссии главенствующую роль по отноше-
нию к другим немецким княжествам. После создания Германской империи
(1871) — одна из опор правящего режима.
1Г Беннигсен Рудольф фон (1825 -1902) — немецкий юрист и политик, выходец
из нижнесаксонской знати. Придерживался либеральных убеждений. Один из
основателей Национально-либеральной партии Германии (1867). Будучи членом
Палаты депутатов Ганновера (с 1856 г.), выступал за объединение немецких зе-
мель по «малогерманскому» типу, т.е. без Австрии, под руководством Пруссии.
В 1867 г. избран в прусский ландтаг и рейхстаг, где до 1883 г. возглавлял нацио-
нал-либеральную фракцию. Проявил себя как сторонник Бисмарка в «борьбе за
культуру», но критиковал его политику «запретительных пошлин» и преследова-
ния социал-демократии, что стало причиной последовавшего в 1883 г. разрыва
с рейхсканцлером и отказа Беннигсена от депутатского мандата. В 1887 г. снова
вошел в парламент, однако не достиг прежнего политического влияния.
,v Трейчке Генрих фон (1834-1896) — немецкий историк, публицист, политичес-
кий деятель. С 1863 г. — профессор во Фрейбурге (Брейсгау), в 1866 г. — в Киле,
с 1867 г. — в Гейдельберге, с 1874 г. — в Берлине. В 1886 г. стал официальным
историографом Прусского государства. Действительный член прусской Академии
наук. В 1871-1884 гг. — депутат рейхстага. К концу 70-х годов завершился пере-
ход Трейчке от умеренно-либеральных взглядов к консервативным, что нашло
выражение в его «Германской истории XIX столетия» (1-й том опубликован в
164
1879 г., 5-й, незавершенный, — в 1896 г.). Непримиримый противник социал-де-
мократии, приверженец антисемитизма. Выступал за расширение властных пол-
номочий правительства и ограничение прав рейхстага, был сторонником прове-
дения Германией агрессивной внешней политики и захвата колониальных вла-
дений.
|4' Имеется в виду Бернхард Генрих Мартин фон Бюлов (1849-1929) — немецкий
государственный деятель. С 1874 г. — на дипломатической службе. В 1897 г. на-
значен на должность имперского статс-секретаря иностранных дел. С 1900 г. —
рейхсканцлер и премьер-министр Пруссии. Во внешней политике руководство-
вался стремлением обеспечить немецкой нации «место под солнцем», что озна-
чало активное участие Германии в переделе мира с целью приобретения обшир-
ных колониальных владений. Агрессивный характер германской внешней поли-
тики при Бюлове, нашедший выражение, в частности, в создании сильного во-
енно-морского флота, вызвал немалые опасения у многих европейских стран,
прежде всего у Англии и России, что привело к фактической международной
изоляции Германской империи. Сам Бюлов считал внешнеполитические успехи
залогом внутреннего единства и стабильности немецкого общества, способом
избежать социальных потрясений и глубоких преобразований. В своей деятель-
ности пытался преодолеть сопротивление парламентского большинства, апелли-
руя непосредственно к «большинству населения», а затем противопоставив зани-
мавшим ведущее положение в рейхстаге представителям социал-демократии и
католической партии «Центра» сформированный им консервативно-либераль-
ный блок («блок Бюлова»). Неудача разработанной Бюловом реформы финансо-
вой системы и государственного устройства империи и наступивший вслед за тем
конституционный кризис побудили его в июне 1909 г. подать в отставку с поста
канцлера.
|5' Ферри Жюль (1832-1893) — французский публицист и политик. Придерживал-
ся левореспубликанских убеждений. С 1869 г. —депутат парламента. В 1879-1883 гг.
— министр образования. Осуществил реформу школы с целью придать школь-
ному обучению светский характер, что стало причиной его конфликта с правы-
ми консерваторами, ориентированными на католическую церковь. С 1880 г. —
премьер-министр Франции. Заручившись согласием Бисмарка, проводил коло-
ниальную экспансию в Африке и Юго-Восточной Азии, итогом которой стало
подчинение Туниса (1881) и Северного Индокитая (1883-1885 гг.). Под воздей-
ствием критики со стороны как правых, упрекавших Ферри в излишней привер-
женности республиканской идее, так и левых, видевших в его внешнеполитичес-
ком курсе пренебрежение интересами Франции в континентальной Европе, он
вынужден был в марте 1885 г. подать в отставку.
"'* Бассерман Эрнст (1854-1917) — немецкий юрист и политик. В 1893-1917 гг. —
депутат рейхстага (за исключением 1903-1904 гг.). В 1898 г. возглавил национал-
либеральную фракцию в парламенте, в 1905 г. стал председателем Национально-
либеральной партии Германии. Поборник консолидации всех либеральных сил
в империи. В период существования консервативно-либерального «блока Бюло-
ва» (1907-1909 гг.) выступал посредником между рейхсканцлером и представлен-
ными в парламенте либералами, стремясь предотвратить разногласия и конфлик-
ты внутри коалиции.
|7' Goethe J.W. Maximen und Reflexionen//Kunsttheoretische Schriften und
Ubersetzungen: Schriften zur Literatur. Teil II. Berlin: Aiifbau-Verlag, 1972. S.495.
...Wer sich vor der Idee scheut, hat audi zuletzt den Begriff nicht mehr.
Is' Моммзен Теодор (1817-1903) — немецкий историк и общественный деятель.
Получил юридическое и филологическое образование. С 1848 г. преподавал те-
орию и историю римского права в университете г. Лейпцига, откуда был изгнан
в 1851 г. за деятельное участие в революционных событиях 1848-1849 гг. В 1852
г. стал профессором в Цюрихе, в 1854 г. — в Бреслау. В 1858 г. сделался сотруд-
165
ником (впоследствии секретарем) прусской Академии наук. С 1861 г. — профес-
сор истории Древнего Рима в Берлинском университете. Избирался в прусский
ландтаг (в 1863 г. от Партии прогресса, в 1873 г. — от Национально-либеральной
партии), в 1881-1884 гг. был депутатом рейхстага. Являясь сторонником станов-
ления в Германии единого национального демократического государства, резко
критиковал политический режим Бисмарка. Политические убеждения Моммзе-
на определили тональность его главного научного труда — «Римской истории»
(первый том издан в 1854 г., последний, пятый, — в 1885 г.), принесшей ему Но-
белевскую премию в области литературы. Автор работ по эпиграфике, нумизма-
тике, истории римского права.
|Г Шпан Петер (1846-1925) — немецкий политик, один из лидеров католической
партии Центра. Начиная с 1882 г. неоднократно избирался в ландтаг Пруссии, в
1884-1917 и 1919-1925 гг. был депутатом рейхстага. Принимал заметное участие
в составлении общеимперского свода законов. В политической и государствен-
ной деятельности придерживался консервативных убеждений.
2,г Кардорфф Вильгельм (1828-1907) — немецкий промышленник и политик,
представлявший интересы прусской землевладельческой аристократии и круп-
ной буржуазии. В 1868-1906 гг., будучи депутатом рейхстага от Свободной кон-
сервативной партии, последовательно поддерживал экономическую политику
Бисмарка.
2|* «Капитан из Кёпеника» — прозвище, данное башмачнику Вильгельму Фойг-
ту, совершившему в октябре 1906 г. дерзкое ограбление ратуши в берлинском
районе Кёпеник. Использовав свойственное берлинцам «почтение к мундиру»,
Фойгт в форме капитана «арестовал» бургомистра Кёпеника и вынудил того под
видом конфискации передать ему все деньги городского совета, хранившиеся на
тот момент в сейфах ратуши.
22* Рахиль Варнхаген фон Энзе (1771-1833) (правильнее: Фарнхаген), урожденная
Левин-Маркус — супруга немецкого писателя Карла Августа Варнхагена фон
Энзе, хозяйка одного из наиболее знаменитых литературных салонов Берлина.
Интересовалась историей искусства, что нашло отражение в ее переписке и эссе,
изданных отдельной книгой в 1833 г. Считается одной из основоположниц жен-
ского движения в Германии.
23" Локоть — мера длины, равная приблизительно 0,5 м.
24* Коммендация (от лат. commendare — вверять, передавать) — в раннесредневе-
ковой Западной Европе добровольный переход под покровительство более «силь-
ного», могущественного человека, как правило, светского или духовного феода-
ла. Сообразно статусу лица, переходившего под покровительство, знаменовала
собою установление вассатьных отношений или крестьянской зависимости.
2-т Имеются в виду войны, которые в 1813-1815 гг. коалиция европейских госу-
дарств вела против наполеоновской Франции.
26" Штейн Генрих Фридрих Карл фон (1757-1831) — немецкий государственный
деятель. Стремился соединить традиции немецкого федерализма с умеренным
конституционализмом. В 1804-1807 гг. — министр финансов и экономики в пра-
вительстве Пруссии, в 1807-1808 гг. — прусский премьер-министр. Подготовил
и осуществил ряд реформ, призванных усилить экономику Пруссии и создать
предпосылки для возобновления войны против Наполеона I, в 1807 г. установив-
шего в Пруссии оккупационный режим. Реформы Штейна положили начало ос-
вобождению крестьян из крепостной зависимости, способствовали становлению
городского самоуправления в Пруссии. После последовавшего в ноябре 1808 г.
по личному распоряжению Наполеона снятия с должности премьер-министра
бежал из Пруссии. В 1812-1815 гг. — на российской службе. Участник Венского
конгресса 1815 г.
27" Шарнхорст Герхард Иоганн Давид фон (1755-1813) — прусский генерал и
государственный деятель. Возглавляя с 1807 г. военное ведомство Пруссии.
166
осуществил реформы, направленные на реорганизацию прусской армии для
повышения ее боеспособности в борьбе против Наполеона I. Отменил офи-
церскую привилегию знати, создал прусский Генеральный штаб, предписал
созвать народное ополчение и ввел в Пруссии всеобщую воинскую обязан-
ность. В период освободительных войн — начальник штаба командующего
Силезской армией фельдмаршала Блюхера. В 1813 г. смертельно ранен в сра-
жении под Гроссгершеном.
:к' Имеется в виду Франкфуртское национальное собрание (май 1848 — май 1849
гг.) — созванный с целью подготовки конституции общегерманский парламент,
заседавший в церкви св. Павла во Франкфурте-на-Майне.
2Г Имеется в виду Дэвид Ллойд Джордж (1863-1945) — английский государствен-
ный деятель, лидер Либеральной партии. В 1905-1908 гг. был министром торгов-
ли, в 1908-1915 гг. — министр финансов. В 1916-1922 гг. — премьер-министр
Великобритании.
*'" Баррес Морис (1862-1923) — французский писатель и политический деятель,
один из идеологов французского национализма. В 1889-1893 гг. и 1906-1923 гг.
— депутат парламента. Высказывался за усиление наступательного характера
французской внешней политики, обеспечение Франции лидирующего положе-
ния в Европе.
3|* Имеется в виду Великая французская революция 1789-1794 гг.
з:' Имеется в виду Томас Вудро Вильсон (1856-1924) — президент США в 1913-
1921 гг. от Демократической партии. Инициатор вступления США в первую ми-
ровую войну. В январе 1918 г. обнародовал так называемые «Четырнадцать пун-
ктов» — программу урегулирования спорных вопросов между воюющими держа-
вами с целью последующего заключения между ними мирных соглашений, ос-
нованную на принципах свободы торговли, свободы морей и т.д.
"' Честертон Гилберт Кит (1874-1936) — английский писатель, литературный
критик, эссеист.
34" Kultur (нем.) — в отличие от culture (англ., франц.).
3S" «Немецкий союз производителей» («Deutscher Werkbund») — объединение не-
мецких архитекторов, инженеров, промышленников, ремесленников, созданное
в г. Мюнхене в 1907 г. Деятельность объединения определялась представлением
о позитивной роли индустрии в жизни общества и отдельного человека. Члены
«Союза» занимались разработкой унифицированных стандартов производства,
поиском новых форм его организации и т.д. Упразднен в 1933 г.
-"'■ Острогорский Моисей Яковлевич (1854-1919) — российский общественный
деятель и ученый, специалист по политической философии, истории государства
и права. Занимался теоретическим исследованием проблем демократии. Автор
ряда трудов на русском и французском языках, переведенных впоследствии так-
же на английский и немецкий языки и получивших известность в Европе и
США. В 1906 г. избирался в Государственную думу 1-го созыва.
37" Бытие, 32, 26.
зч' Имеется в виду международная конференция в Локарно (5-16 октября 1925 г.),
в которой приняли участие Германия, Великобритания, Франция, Бельгия, Ита-
лия. Чехословакия и Польша. Была созвана с целью урегулирования ситуации в
Европе и преодоления последствий первой мировой войны. Завершилась подго-
товкой ряда договоров, наиболее значимый из которых — так называемый Рей-
нский пакт, заключенный между Германией, Италией, Францией, Бельгией и
Великобританией. Предусматривал гарантии неприкосновенности западных гра-
ниц Германии и сохранение статуса Рейнской области как демилитаризованной
зоны. Не содержал обязательств Германии в отношении ее восточных границ,
что отражало стремление западных держав обратить возможную внешнеполити-
ческую экспансию Германии на восток.
w Калокагатпм — сформированный древнегреческой философией идеал гармо-
167
ничного сочетания в человеке внешних, телесных, и внутренних, душевных до-
стоинств.
40* Можешь природу хоть вилами гнать...(.-шт.). Начальные слова строки Горация:
«Можешь природу хоть вилами гнать, она все же вернется...».
4Г Национальное объединение (der Nationalverein) — политическая организация,
основанная во Франкфурте-на-Майне в 1859 г. Выступала за объединение Гер-
мании и создание федеративного государства, в котором главенствующая роль
отводилась прусской монархии. В состав организации, насчитывавшей в период
ее наибольшего влияния 30 тыс. человек, входили представители немецкого ли-
берализма (например, Р. фон Беннигсен) и, отчасти, демократического движе-
ния. Упразднена в 1867 г. Послужила предтечей Национально-либеральной
партии Германии.
42* Имеется в виду лозунг «Свобода, равенство, братство».
4У Имеется в виду династия австрийских Габсбургов.
44* Марк, 4, 12.
4S" Бесконечное, беспредельное (греч.). У Анаксимандра — свойство первоэле-
ментов сущего, у Платона и пифагорейцев — синоним понятия «материя».
4Л* ... Menschen, die ...»zu hoch sein werden fur die Vertranlichkeiten der Namen».
Составитель Т. E. Егорова
* * *
Перевод с нем. выполнен Т.Е.Егоровой по изданию: Weber A. Ideen zur Staats-
und Kultursoziologie. Karlsruhe: Verl. G.Braim, 1927. 142 S.
В текст перевода включен фрагмент указанной книги, опубликованный в пе-
реводе Е.И.Кузнецовой и Л.Т.Мильской в кн.: Культурология. XX век: Антоло-
гия. М., 1995. С.503-514 (С. 71-79 настоящего издания). Разделы «Социология
культуры и толкование смысла истории», «Тип культуры и его изменения», «Дух
и политика», опубликованные там же, для данного издания переведены Т.Е.Его-
ровой.
Полностью книга на русский язык переводится впервые.
Германия и кризис европейской
культуры
Девиз:
С мнениями, которые люди реша-
ются высказать, дело обстоит так
же, как с фигурами, передвигаемы-
ми на шахматной доске: их можно
потерять, но они начинают партию,
завершающуюся победой.
Гёте1
Предисловие
Я объединяю здесь три сочинения, представляющие собой этапы
на пути духовного развития послевоенного времени. То из них,
что помещено в начале, знаменует собой итог неуверенных ис-
каний, нашедших отражение в двух предыдущих статьях. Эти
последние, со всей свойственной им противоречивостью, я
ставлю вслед за первой вкупе с выраженным в них отчаянием, порожден-
ным размышлениями о дальнейшем существовании европейской духов-
ности. Это единственно достойный и честный подход. Он позволит каж-
дому пережить поиски границ и содержания нашего нового бытия в Гер-
мании так, как это довелось сделать мне. Вопрос, окажемся ли мы, нем-
цы, целиком и полностью увлечены потоком, хлынувшим с Востока, и
завершится ли история германо-романской Европы, сегодня решен для
меня в том смысле, что я верю в возрождение прежней духовной дина-
мики. Европа опять восстанет из волн. Но с чем в таком случае наш дух
вынужден будет бороться и какие волны снова и снова будут захлесты-
вать нас, возможно, станет ясно из двух более ранних сочинений, содер-
жащих вывод о духовной гибели Европы. Затрагивающая некие сущно-
стные вопросы глубинная связь нас, немцев, с Востоком; с трудом под-
дающаяся интеграции Франция; духовная обособленность англосаксон-
ского мира при одновременном политическом единении с Европой —
все эти ранее тщательнейшим образом разработанные проблемы я по-
прежнему считаю основными для восстановления Европы; то же касает-
ся и особой, прежде всего в метафизическом и политическом отношени-
ях, задачи, которую при этом суждено исполнить нам, немцам. Но мы в
очередной раз осуществим ее в противостоянии с латинской расой, т.е.
так, как это происходило в древней истории Европы. Париж и Рим, с их
имперскими традициями, по-прежнему станут бороться со свойствен-
ным немцам стремлением вширь, будучи в то же время соединены с
ними общностью судеб, обусловленной как духовной, так и. главным
169
образом, экономической и политической нерушимостью европейского
единства. Пусть всякий, кто увидел в более ранних сочинениях контрар-
гументы против «европейского решения», тем сильнее в него уверует.
Как известно, «ретроспективный взгляд» всегда многосторонний. Он
обретает значимость только тогда, когда от двойственности и сомнений
приводит к становлению четких устремлений воли.
Германия и кризис европейской культуры*
С тех пор как творил Руссо, с тех пор как романтизм в Европе искал пу-
тей возврата к германо-романскому средневековью, и с того времени как
Гёте уже в 1825 г. со спокойной и свободной от иллюзий мудростью на-
звал вступающий в период своего расцвета XIX век эпохой богатства и
скорости, но вместе с тем посредственности, — с тех самых пор великие
и малые умы до изнеможения бились над осмыслением итогов этого сто-
летия; появились чувства пресыщения и невозможности дальнейшего
существования; все громче и громче звучало требование героического
преодоления последствий этого века. Уже задолго до начала войны ясно
обнаружились глубинные проблемы, порожденные этим столетием. Это
созданная им самим атмосфера — наряду с высоким совершенством его
технических и интеллектуальных достижений, интенсивным становлени-
ем новых возможностей и форм; это проблематика европейского духа
как такового, его наивысшей зрелости и полноты, — духа, кажущегося
абсолютно не зависящим от судьбы Европы как географического поня-
тия, чье жизненное пространство и создало его.
Совершенно невозможно целиком описать всю многократно обсуж-
давшуюся сущность этих общих проблем, которые в добропорядочных
гостиных стран-победительниц считались только плодом безумной фан-
тазии поверженных немцев, но, тем не менее, присущи и самим этим
странам. Коль скоро я говорю сегодня о Германии и кризисе европейс-
кой культуры, то попытаюсь делать это исключительно в образной фор-
ме, имея в виду историческую Европу и ее судьбы, и намереваюсь спро-
сить, обречена ли эта Европа, в настоящее время испытывающая, несом-
ненно, тяжелейший с момента ее становления как германо-романского
Запада материальный и духовный кризис, надолго обратиться в ничто в
духовном отношении, а с точки зрения внешней стать в будущем толь-
ко географическим понятием, незначительным, маленьким зубчатым
выступом материка Евразии — подобно тому, чем сейчас является для
Европы Древняя Греция. Тогда окажется, что данный способ рассмотре-
ния отличается от общепринятого и что грядущие судьбы Европы в ко-
нечном итоге можно будет предугадать, только осознав, что предстоит
испытать порожденной ею мировой субстанции.
На Земле нет другого такого исторического образования, хотя бы от-
даленно сходного с Европой по излучаемой энергии и уровню мирово-
го влияния, которое в той же степени способствовало бы перерастанию
* Впервые напечатано в апреле 1924 г.
170
изначально единого как по своему характеру, так и в своих частных про-
явлениях процесса развития человеческой цивилизации в действительно
объемлющую весь мир общность людей; образования, которое, взрывая
собственные географические рамки, изменило бы облик земного шара с
помощью созданных им социальных, экономических и политических
институтов, чья культура обладала бы той же силой преодоления всего
чуждого, — не говоря уже о берущих здесь начало людских потоках, зах-
лестнувших в новейшее время все необжитые пространства Земли. Евро-
пейский дух играет революционизирующую роль в мировой истории —
захотим ли мы объяснить это мятежными порывами, свойственными
Фаусту, или, по размышлении более здравом, условиями становления
данного исторического образования, которое со времен Карла Великого2
формировалось на землях вокруг Рейна, как бы на мосту между европей-
ским югом и севером, востоком и западом, включая Альпы на юге и Ла-
Манш на севере, не как разделяющие элементы, а как связующие звенья.
Европа, какой ее тогда создали молодые племена, ассимилировавшие так
и оставшиеся несломленными более или менее древние народы, с самого
начала была не только структурно неоднородной, но по сути своей по-
лярной, заключающей в себе противоречие и снятие этого противоречия.
Она приняла в наследство не только организующее начало христианской
античности, но и присущее язычеству стремление к движению; она
сформировала на основе возрожденной античности общественную сис-
тему, не встречающуюся более в истории и чрезвычайно противоречивую
по своему характеру, в которой город и деревня, ремесло и сельское хо-
зяйство, аристократия и горожане противостояли друг другу и стали, как
нигде более, дополняющими друг друга и все же находящимися в непре-
рывном противоборстве силами. Наконец, она создала, будучи изначаль-
но движимой противоположно направленными силами, еще в рамках
средневековой патриархальной общности, до которой она возвысилась,
некую гармонию, близкую к контрапункту, основанную на непрерывных
глубинных изменениях и преисполненную всегда только с большим тру-
дом сдерживаемой энергии.
Этот европейский дух проходит — с тех пор как его всегда крайне не-
уступчивые, динамичные, самостоятельные силы высвободились из
средневекового единства — три периода развития. Первый — период са-
мовоплощения и столкновения этих сил при одновременном поиске но-
вых структур, связующих их воедино как в частностях, так и в целом —
то, что принято называть началом Нового времени, но что в самом деле
длилось около двух столетий — с 1500 по 1700 г. Второй период, в ходе
которого создаются или, по крайней мере, представляются созданными
новые формы существования Европы, что и воспринимается как предпо-
сылка становления того, что мы можем назвать современной «интеллек-
туальной Европой», — чем-то наделенным душой, целостным, неким
единством, обладающим невиданной доселе силой воздействия на мир.
И, наконец, третий период, в течение которого это духовное начало раз-
рушается, все силы опять разъединяются; в результате этого возникает
кризис, переживаемый нами сегодня; но сущность его становится понят-
на только на основе историко-социологического обзора.
Первый период центробежных устремлений формирует современные
171
европейские государства и под их эгидой — капиталистические произво-
дительные силы, открывает этим силам земной шар, впрочем, еще не
наполняя их европейской субстанцией. Он разрывает прежний замкну-
тый круг представлений об общем существовании, вовлекает людей и
Землю в вихрь движения мыслимого безграничным мира в качестве его
составных частей. Он разрушает в области философии представления о
безусловной вещности предметов, впервые дает людям возможность с
помощью опыта овладеть элементами подвергнутой анализу природы.
Освобождая человеческую индивидуальность, он противопоставляет пре-
жней религии новую веру, ввергает обе в тяжелейшую распрю и в то же
время делает их объектом аналитической интеллектуальной критики. Он
приводит к уничтожению средоточий, преобразованию представлений,
озарению, но одновременно противостоянию и борьбе. И подобно тому
как экономически он вырождается в грубое разграбление мира, а в по-
литике и религии — в кровавую резню, в культуре этот период, пусть еще
проникнутый чудом сохранившейся целостной образностью Ренессанса,
— также борьба, сумрачная по тональности, полная темных страстей.
Каким бы радостным ни казался появившийся тогда барокко, он глубо-
ко эмфатичен3, мрачен и, воплощая в своих очертаниях неизведанное
жизненное пространство, подобное неспокойному морю, исполнен де-
монизма, как и все его время. Это эпоха темных тонов, могущества, но
вместе с тем тоски и стремления освободиться от бремени.
Итогом стало рождение новых тенденций, появившихся как бы вне-
запно начиная с 1700 г. Можно назвать это самообретением, самоуспо-
коением европейского духа на основе нового принципа, нового типа все-
общего равновесия. С тех пор как Вильгельм Оранский4 создал систему
современных европейских государств как систему равновесия, с тех пор
как эта система преодолела все попытки так или иначе нарушить ее, с тех
пор как вследствие этого умиротворение и освобождение устоев суще-
ствования, даже если за этим следовали новые войны, в конце концов
все же стали основными принципами мироощущения, — с этих пор ев-
ропейский горизонт проясняется, а восприятие жизни утрачивает свою
прежнюю сумрачность. То, что назвали Просвещением, что в период
сентиментализма изливалось в переполнявшем душу чувстве врожденной
доброты человеческой природы, — это и было воплощением той самой
ясности. Она заново обрела космическую гармонию в закономерностях
ничем не сдерживаемого круговорота экономических сил. Она привела
к постулату равновесия отпущенных на свободу индивидуальных сил в
государстве и общественной жизни. Понятие «гуманность» наиболее
точно выражает сущность ее идеи. Гуманность и есть европейская идея,
воплощающая эту атмосферу — не иератичности5, а системы равновесия
сил; попытка обнаружить в противоречии гармонию, превратить борьбу,
очень динамичную по своей основе и сущности, из грубой в подчинен-
ную неким правилам; и только люди, не вполне это понимавшие, виде-
ли в этом выражение чисто пацифистского представления о спокой-
ствии.
Ничто так зримо не подверглось уничтожению, как этот идейный
центр Европы. Нельзя описать словами его разрушение, превосходящее
все, что доступно воображению. Рассуждения о гуманности сегодня зву-
172
чат издевательски. Наступил третий период, который по ужасу происхо-
дящего не уступает первому периоду борьбы, длившемуся 200 лет, а по
внутреннему ощущению страха превосходит его, потому что его жесто-
кость не столь очевидна, потому что он затушевывает зло, побуждает об-
ращаться с противником не как с противником, а как с преступником,
вливает во все поры яд самой грязной лжи. Я говорю здесь не об этом
горьком привкусе новой эпохи борьбы, но о ней как о questio facti*.
Предметное содержание и возможности этой эпохи можно уяснить,
только помня о свойственной европейскому духу динамичности и созна-
вая, насколько изменились условия его влияния на мир. Система евро-
пейской гармонии до последней трети XIX в. находилась в безграничном
поле динамического силового воздействия. Она действительно обретала
внутреннее равновесие, постоянно передавая свою избыточную энергию
этому силовому полю. Она была в состоянии беспрерывно делать это до
тех пор, пока Земля практически не имела границ, иными словами: пока
современные средства сообщения не сделали ее свыше чем в 100 мень-
ше. Вслед за первым взрывом европейских сил, вызванным новой орга-
низацией мирового пространства, за окончательным завоеванием земно-
го шара, его освоением и заполнением массами европейцев, его вовле-
чением в технизированную систему европейского хозяйствования, обра-
щения товаров и общей гарантированности, за этим кратким, отмечен-
ным уже печатью духовного измельчания и материалистичности заклю-
чительным периодом, примерно в 1880 г. наступило пробуждение на как
бы уменьшившемся земном пространстве, на котором повсюду сталки-
вались экспансионистские тенденции, вынужденные искать компромис-
са даже там, где раньше они не знали препятствий, а именно — за пре-
делами Европы.
С этого момента начинается Новое время. Было бы слишком просто
назвать его лишь периодом перехода от свободной, экспансионистской
конкуренции к монополизации и перераспределению, слишком повер-
хностно объявить его эрой империализма, стремящегося к переделу мира
с позиции силы. Но, как бы то ни было, столкнув выросшие до гигант-
ских размеров экономические силы в борьбе за передел мира и рынков
сбыта, побудив государство стать вспомогательным средством проведе-
ния такой политики, выдвинув на передний план в государстве и межго-
сударственных отношениях материальные интересы, эта эпоха привела
к таким последствиям, которые сегодня, внешне господствуя над миром,
определяют также внешнюю и внутреннюю судьбу прежних европейских
силовых центров. Без сомнения, было бы само по себе возможно —
прежде всего в сфере материального производства — вовлечь экспанси-
онистские устремления в некое круговое движение; говоря языком эко-
номистов, в мировой круговорот оптимального распределения производ-
ственных сил, возрастания массы продукции, т.е., преодолев противопо-
ложность интересов, свести эти силы воедино в гармоничном взаимодей-
ствии. И несмотря на все то, о чем я скажу ниже, никогда еще не был
достигнут такой прогресс в повышении всеобщего благосостояния и
обеспечении устойчивой безопасности жизни, как в результате подобно-
* Как о факте, требующем исследования (.шт.).
173
го естественного согласования сил в последние десятилетия перед вой-
ной — все равно, хотим ли мы видеть в этом некую положительную ко-
нечную цель или нет. Однако возобладали непосредственные, первооче-
редные интересы отдельных сил в экономике, в борьбе за рынки сбыта
и инвестиций капитала, за укрепление и округление подвластных им
территорий. Потребности такой борьбы опять отдали разрозненные ма-
териальные силы в руки государства, помогли этим силам одержать над
ним верх и подчинили государство и общественную жизнь материаль-
ным интересам. И затронуло это не только государственную, но и, — что
не менее, если не более важно, — духовную жизнь Европы. По мере того
как материальное начало побеждало и борьба за его интересы приобре-
тала решающее значение, исчезала вера в достижение гармоничного рав-
новесия и проникавшая собой мир субстанция европейского духа улету-
чивалась подобно легкому эфиру из разбитой бутыли.
Я не утверждаю, что старое учение о гармонии в новых условиях ос-
талось совершенно правильным. Но на смену ему не пришла новая уни-
версальная идея, которая соответствовала бы этим условиям.
Рассуждениям о ставшем тому причиной европейском кризисе, кото-
рый я здесь рассматриваю не с материальной, а с духовной точки зрения,
нужно предпослать следующее замечание, касающееся материальной
стороны вопроса: во-первых, во всех европейских государствах, которые
широко участвовали в окончательном разделе мира, произошло некое
смещение центра тяжести всей системы. Если одни из них стали поли-
тическими образованиями, чьи уязвимые места и точки пересечения их
интересов с интересами других стран оказались расположены в регионе
от Владивостока до Константинополя, у других государств — на терри-
тории между Персией, Египтом и мысом Доброй Надежды, у третьих —
между Марокко, Мадагаскаром и Тонкином, то это значит, что матери-
альная основа жизни всех этих государств в значительной степени была
вытеснена за пределы Европы. Она переместилась на другие континен-
ты и части света, в область формирования их политической структуры и
обретения господства над ними. Для всех этих по видимости еще евро-
пейских стран Европа стала только регионом, где они могли, как и по-
всюду в мире, разграничить свои интересы, компенсировать их другими
территориальными притязаниями либо на равных вести за них борьбу.
Европа должна была утратить для них самостоятельное значение, стать
пассивным объектом деятельности, шахматной доской, на которой они
выставляли друг против друга фигурки королей, коней, пешек, как и вез-
де. С точки зрения этих государств Европа должна была исчезнуть как
материально единая мировая потенция.
Но эта тенденция развития во второй раз столкнулась с другой, совер-
шенно иного рода. В то время как часть лежащих скорее на периферии
европейских регионов стали империалистическими образованиями,
центр Европы — не только Германия, но целый комплекс, границу ко-
торого можно мысленно провести от Амстердама через Брюссель до
Мюльхаузена, Цюриха, Милана, Вены, Лодзи, Южной Швеции и Дании,
это политически чрезвычайно сложно организованное, экономически
скрепленное тесными внутренними связями территориальное ядро, не
принимавшее участия в широкомасштабном разделе мира, — стал, наря-
174
ду с Англией и Соединенными Штатами, крупнейшим промышленным
центром, который по темпам роста превосходил Англию и не уступал
Америке. Он опирался на природные богатства Рурской области, Лота-
рингии, Бельгии, Саара и на востоке — Силезии и Польши в сочетании
с традиционно хорошо обученной рабочей силой всей высокоразвитой
Центральной Европы. Это индустриальное ядро, объединившее более 20
млн промышленных рабочих, располагало — не говоря уже о примыкав-
ших к нему французских и итальянских землях — тем же потенциалом,
что и промышленность Англии и американских Соединенных Штатов. В
центре этого комплекса находился хорошо организованный народ, кото-
рый — правда, только в материальном, а не духовном отношении — был
истинным носителем его совершенно неимперского развития, прорыва-
ющего все имперские тенденции к разделу мира.
Как должна была сложиться судьба этого по своей экономической
сущности внеимперского европейского силового центра, чьи непопуляр-
ные формы влияния повсюду так охотно односторонне именовали
«penetracion allemande»*? Как должны были сложиться его отношения с
мировым империализмом? Такова была проблема, которая перед войной
в действительности заменила проблему сохранения европейского равно-
весия и регулирования государственной и духовной жизни Европы на
началах такого равновесия.
Мы знаем, что стало следствием такой постановки проблемы, что воз-
никло, правда, не из нее одной, но на ее основе. Одно время казалось
возможным, руководствуясь прежними методами, сменить эту проблема-
тику задачей установления мирового равновесия. Но Европе больше не
хватило духовных сил. Вместо этого в мире сложилась, пожалуй, наибо-
лее парадоксальная ситуация. Коль скоро ныне в результате борьбы са-
мый многочисленный, имеющий самое многообещающее будущее народ
Центральной Европы политически действительно поставлен под опеку,
одновременно став объектом империалистических притязаний со сторо-
ны некоей конкретной континентальной державы6, чьи претензии от-
нюдь не ограничиваются такого рода протекторатом, то на духовной
жизни это сказывается гораздо сильнее, нежели на материальной. Это
означает, что европейский центр при разрушении Европы оказался ду-
ховно в некотором роде отторгнут от нее, отныне стал скорее перифери-
ей мира, какой прежде была, например, Полинезия, где не действовали
законы породненной Европы.
Я задаю вопрос не о том, где следует искать экономический и поли-
тический выход из этого невозможного положения, — это задача госу-
дарственных деятелей и политиков, — я спрашиваю, какой представля-
ется данная ситуация, рассматриваемая как одна из мировых проблем, с
точки зрения, главным образом, широкой перспективы духовного разви-
тия мира. Для этого необходимо исследовать совершившееся преобразо-
вание, как бы выйдя за пределы Европы.
У нас, европейцев, вызывает страх пребывание на сделавшемся мень-
ше земном шаре как в замкнутом пространстве, ограниченном высящи-
мися перед нашими глазами четырьмя стенами. Это как бы знаменует
* «Германское проникновение» {франц.).
175
собой исчезновение последних возможностей для духовной экспансии и
территориальных завоеваний, формирует представления, побуждающие
нас покинуть обжитые и цивилизованные регионы Земли и отправить-
ся на Южный полюс или в Гималаи. Для нас превращение земного шара
в некий огромный, хорошо отлаженный единый механизм, в котором мы
безнадежно заперты, — механизм, определяющий течение нашей жизни
и наш труд в больших городах, на фабриках, в конторах, — создает, по-
жалуй, наиболее существенную внутреннюю жизненно важную пробле-
му, о которой сегодня уже достаточно было сказано. Но давайте посмот-
рим на тот же процесс с точки зрения уже открытых нами стран за пре-
делами Европы: для них это означало переход из грязи и закоснелости,
болезней и безнадежности, интеграцию в новый мир, которому принад-
лежит будущее, приобщение ко всем возможностям по-новому органи-
зовать свое существование. Как бы сильно ни стремился европейский
империализм, насаждающий на всем земном шаре достижения совре-
менной цивилизации, употребить открывающиеся при этом возможно-
сти исключительно в своих интересах и сконцентрировать их в руках ев-
ропейцев и американцев, он все-таки оказался вынужден в то же время
предоставить и другим народам портовые сооружения, железные дороги,
проездные пути, телефон, телеграф, правила санитарии и все прочие эле-
менты современного образа жизни. При этом он натолкнулся не только
на такие малозаселенные регионы, как Америка, где ему пришлось, что-
бы завоевать господство, подчинить себе только несколько островков
древней культуры, но и, как в Азии, на очень старые, устоявшиеся исто-
рические образования, которые он не мог ни разрушить, ни раздробить,
а в других местах, как, например, в Африке, на большие оставшиеся не-
покоренными народы — он смог посредством работорговли сократить их
численность, но не подавить их волю к жизни. Во всех этих регионах
мира, сохранивших расовые особенности и самобытные формы культу-
ры, вовлечение в процесс углубления цивилизации, в систему капитали-
стической экономики, приобщение к европейским знаниям и умениям,
а также к европейским идеям, в сочетании со становлением нового про-
странственного образа Земли, где эти регионы внезапно оказались столь
же удалены друг от друга, как были ранее удалены древние государствен-
ные образования Европы, теперь вызвали к жизни движение, вероятно,
основополагающее для будущего развития мира и, во всяком случае,
имеющее решающее значение для грядущего разделения Земли на обла-
сти, отличающиеся друг от друга характером духовной жизни. Сегодня
почти во всех таких регионах (в Египте, Аравии, Турции, Персии, Ин-
дии, Китае, а скоро к ним примкнет и собственно цветная Африка) уже
осознали возможность в дальнейшем использовать структуры европейс-
кой цивилизации для самоопределения, европейские знания — для до-
стижения технической и духовной самобытности, рациональные формы
экономики — для увеличения собственного экономического потенциа-
ла, европейские политические идеи — для завоевания власти; и все это
ради того, чтобы сделаться из объекта субъектом, стать хозяином своей
судьбы. Всем известный подъем антиимпериалистического движения,
еще далеко не достигший своего апогея, вызванный к жизни саморазоб-
лачением Европы, способен привести к тому, что охваченные этим дви-
176
жением регионы попытаются освободиться от пут европейского импери-
ализма, разрушив капиталистическую форму хозяйствования, и вновь
обрести себя в собственных экономических структурах, что, в крайне
гротескном виде, и составило глубинный смысл проведенной по маркси-
стско-европейским канонам советизации России и Северной Азии. Но
он может также, не затронув системы мировых капиталистических свя-
зей, развиваться, приняв форму борьбы главным образом за политичес-
кое освобождение, обращая каждый из основополагающих европейских
элементов — демократию, самоопределение, равноправие, — против ев-
ропейско-американского господства. Мы не будем подробнее рассматри-
вать этот вопрос. В области духовной жизни развитие, определяющееся
чувством и требованием равноправия, в конце концов всегда имеет ре-
зультатом сосредоточение на существующих исторических, географичес-
ких и расовых особенностях и содержании своей самобытности. Оно ве-
дет к деевропеизации и стремлению возродиться. Если смотреть широ-
ко, этот процесс — не что иное, как национальная идея, какой проник-
нуты народы Европы с того момента, как они обрели собственно евро-
пейский облик, были цивилизованы, объединены экономически и поли-
тически, т.е. с середины XIX в. Проложит себе путь тенденция, состоя-
щая в том, что исторические образования и расы, которые на ставшем
меньше земном шаре оказались порабощенными империализмом, не
только попытаются освободиться от империалистических пут, но, кроме
того, будут стремиться воссоздать самобытные формы духовной жизни,
имеющие им одним свойственные черты. Это может означать только то,
что духовное начало во всем своеобразии его проявлений повсюду посте-
пенно снова одержит верх над механистическим материализмом и стре-
мящимся к всеобщей унификации техницизмом современной европей-
ской культуры. Несомненно, некоторые формы европейского империа-
лизма, в особенности мудрого англосаксонского, по-видимому, еще дол-
гое время призваны будут противодействовать этому распространяюще-
муся по всему миру возрождению самобытности, чтобы предотвратить
прежде всего слишком поспешные попытки самоорганизации и самооп-
ределения, которые могли бы привести к саморазрушению. Это не поме-
шает окончательному распаду сегодняшнего империализма во всем мире.
Облик земного шара в будущем опять станет многообразным; друг под-
ле друга возникнут свободные, духовно самобытные исторические обра-
зования.
Какова перспектива развития Европы и европейского центра? Смеш-
но думать, что это историческое образование может оставаться един-
ственным в мире объектом империалистического господства. Можно в
будущем представить себе старую Европу исчерпавшей себя как истори-
чески, так и политически. Можно мысленно увидеть, как на смену ей
постепенно приходит некая единая в экономическом и духовном отно-
шениях система, иначе организованная и имеющая иные географичес-
кие рамки, куда войдет и европейский центр. Но, какой бы вид это ни
обрело в дальнейшем, европейский центр и его духовное наследие только
в том случае могли бы исчезнуть как важный элемент картины мира, ко-
торый в грядущем опять станет самостоятельным и равноправным, если
бы у этого центра не было материальных условий утверждения своей
177
значимости или если бы его народы изжили себя, словно он оказался
испепеленным. Но, как я уже показал, материальный потенциал евро-
пейского центра лишь искусственно был оттеснен на второй план вой-
ной и ее последствиями. Сами же возможности развития этого центра
обусловлены естественными предпосылками, которые нельзя изменить,
и экономическими устоями и организаторскими свойствами его народов,
также сохранившимися. Материальная, и прежде всего экономическая,
основа существования европейского центра опять возродится из ее ны-
нешнего состояния упадка; это столь же несомненно, как самый факт ее
наличия. Однако развитие европейского центра, его организация, его
возвращение в сообщество равноправных государств в существенной
мере будут зависеть от народа, составляющего его ядро; народа, не одрях-
левшего, не изжившего себя, не опустошенного, но оставшегося моло-
дым именно потому, что он каждый раз оказывался сброшен с вершин в
пропасть, низведен почти до примитивной близости к земле, — будут за-
висеть от нас.
Нередко говорят, что у нас, немцев, в отличие от других европейских
народов, нет непрерывной линии исторического развития, которая сооб-
щила бы нам некие определенные свойства. Мы обладаем достижения-
ми великих людей, но у нас отсутствует прочный каркас нашего духов-
ного бытия, который бы надежно поддерживал нас и в то же время вы-
ражал наши отличительные черты. Но именно этой нашей незавершен-
ности в качестве некоей целостности соответствует воля творить новое,
не присущая в той же степени, пожалуй, никакому другому европейско-
му народу. Ужас, постигший нас, не уничтожил эту волю. Она и не бу-
дет сломлена, ибо она дана нам от природы, т.е. попросту молода. Важ-
но, чтобы мы правильно поняли, ясно увидели перед собой то новое, что
нам предстоит создать, и употребили все силы на то, чтобы воплотить его
в духовные, а затем и материальные формы.
На основании всего сказанного мной можно составить вполне ясное
представление об этом новом. Его осуществление — задача, стоящая перед
Европой и в то же самое время перед Германией. Это европейская задача,
поскольку Европа как историческое образование, какой бы вид оно ни при-
няло, и в духовном, и в материальном отношениях снова должна быть под-
нята из руин. Европе надлежит вновь быть возвращенной европейцам, а не
пребывать — физически либо психологически — под властью неких сопра-
вителей из числа чужеземных народов и держав — все равно, стоят они
выше либо ниже по уровню развития и каковы их характер, расовая принад-
лежность или происхождение. В самой же Европе нужно восстановить рав-
ноправие и свободу. Пусть это произойдет в иных формах, нежели прежняя
находившаяся в состоянии неустойчивого равновесия система государств;
во всяком случае, по сравнению с нынешним упразднением равенства это
будет означать его восстановление.
Народ, чье равноправие сегодня уничтожено в первую очередь и ко-
торый поэтому призван начертать на своем знамени требование осуще-
ствления этой европейской задачи, — мы. Задачи Европы и немецкой
нации совпадают.
В соответствии с присущей нам до сих пор неопределенностью форм,
— следствием нашей политической судьбы, — у нас в отличие от иных
178
великих народов мира — англичан, американцев, французов и других —
до сих пор нет ясно выраженной в строго определенных представлени-
ях национальной идеи, которая всегда означает некую общую миссию,
имеющую также наднациональный смысл. У нас есть национальное чув-
ство — кто это отрицает, не знает нас. Но поскольку это чувство, несмот-
ря на все попытки, предпринимавшиеся со времен Фихте, не обрело
прочной опоры в виде национальной идеи, одновременно объединяю-
щей и равно воодушевляющей и нас, и другие народы, т.е. вместе и на-
циональной, и универсальной, мы, несмотря на все наше стремление к
единству, до сих пор все еще внутренне разобщены, живем пустыми
фантазиями и глубокомысленными рассуждениями о нашей собственной
сущности. Нам недостает того, что помогло бы нам подняться над сами-
ми собой, дав нам возможность реализовать себя; того, что объединило
бы нас с другими во имя осуществления великой духовной и конкретной
материальной задачи. Это состоит в следующем: мы — народ, в крови
которого больше всего разнородных этнических элементов Европы, на-
род, который, оставаясь верен себе и наиболее полно постигая себя, в
силу своего многообразия и неоднородности всегда особенно глубоко, в
определенном роде инстинктивно понимал многообразие Европы и пра-
вомерное стремление европейских народов, при всем своеобразии про-
явлений заключенной в них энергии, свободно сосуществовать и взаимо-
действовать друг с другом. Борьба против такого всепостижения, кото-
рую у нас в последние десятилетия вели приверженцы некого узкого
идейного направления, служит лучшим доказательством тому, сколь
присуща нам эта идеология многообразия. Нам только надлежит осоз-
нать ее, придать ей ясную форму духовного и политического постулата,
чтобы отчетливо увидеть наше национальное призвание, нашу одновре-
менно германскую и европейскую миссию.
Как бы то ни было, все сводится к тому, чтобы мы не посчитали эту
задачу, и прежде всего ее духовный аспект, — коль скоро мы ее осозна-
ли, — слишком легкой. Ледяная оболочка, которой империализм сковал
Европу, оболочка, чье таяние за пределами Европы в конце концов и
дает нам основания надеяться на лучшее будущее, так или иначе однаж-
ды исчезнет. Как это произойдет, сегодня сказать нельзя. Но прежде нам
нужно окончательно уяснить себе внутреннее содержание того, что мы
намереваемся отстаивать. Мы должны знать, как в условиях по-новому
организованной Европы мы используем ее духовные потенции, на кото-
рых она до сих пор основывалась; как нам при этом следует поступить с
динамической энергией европеизма, его стремлением к бесконечности,
с которым он появился на свет в облике германо-романской Европы и
которое характеризует самую его природу — не только его внешние про-
явления, но и внутреннюю сущность. Каждый ощущает, что мы не мо-
жем избавиться от этих динамических свойств нашей европейской сущ-
ности, — сколь бы разрушительно и самоуничтожающе они сегодня ни
действовали на нас, — просто потому, что мы тем самым перестали бы
быть европейцами, оставаться самими собой.
Но мы, европейцы, можем сосуществовать друг с другом и — в каче-
стве исторического образования Европы — с прочими историческими
образованиями в новых условиях земного пространства и бытия только
179
в том случае, если придадим этим свойствам и силам такое направление,
содержание и формы, в которых они перестали бы оказывать разруши-
тельное влияние вовне, но и, будучи обращены внутрь, не разорвали бы
нас самих; т.е. лишь тогда, когда мы снова заключим их в своего рода
замкнутый круговорот, в котором они будут двигать друг друга вперед,
притом не разрушая, а созидая в рамках замкнутого целого. Несомнен-
но, такой круговорот можно воплотить во внешне материальной, преж-
де всего экономической, сфере, если нам удастся установить приоритет
духовного начала над внешними силами, при этом помня об открытых
эпохой гармоничного развития Европы закономерностях и правилах
внешней корреляции и уравновешивания сил, — пусть даже способы
применения и реализации этих закономерностей и правил окажутся
иными. Самое решающее — сделать духовное начало, то, что превыше
всего, столь сильным, чтобы оно вновь направляло ход развития; это зна-
чит — чтобы оно преодолело наш экспансионизм. Но это, по-видимому,
может произойти только тогда, когда мы сумеем обратить внутрь нашу
склонность к внешней экспансии, преобразовать наружное стремление
к бесконечности во внутреннее свойство. Это не означает попытки пре-
вратиться из людей деятельных, активных преобразователей, коими мы
являемся и должны являться по своей природе, в пустых мечтателей, от-
влеченных метафизиков, тяготеющих к саморазрушению, к чему мы,
немцы, с нашими душевными метаниями, имеем опасную склонность. Я
имею в виду именно то, чтобы мы научились использовать нашу энергию
созидания для углубления и непрерывного совершенствования того, с
чем каждый народ приходит в мир как духовная целостность и одновре-
менно в своей особенности, т.е. его природной сущности, коренящейся
в государстве, на его основе и в его рамках. Наше стремление к беско-
нечности и наша тяга к экспансии неизбежно приведут к тому, что мы
используем заключенную в нас энергию динамизма для непрерывной
ассимиляции новых жизненных элементов, способной все время преоб-
разовывать нас самих, — ассимиляции всех нахлынувших на нас реаль-
ностей жизни всего открытого сегодня мира с его непрекращающимися
метаморфозами. Великие люди европейского прошлого, прежде всего
великие люди Германии, благодаря такого рода ассимиляции притекаю-
щих к нам жизненных элементов непрерывно совершенствовали господ-
ствовавшую тогда в Европе индивидуалистическую культуру, не отрека-
ясь при этом от своих самобытных черт, но постоянно обогащая и углуб-
ляя их. Если бы развитие этой эпохи не оказалось прерванным по иным
причинам, они бы, несомненно, продолжили на новом, сделавшемся
меньше земном пространстве это непрекращающееся самообновление
посредством оставшегося безграничным в своих возможностях процес-
са освоения новых и новых элементов — примером может служить, как
это, в эпоху пробуждения нашего интереса к Ближнему Востоку, в ста-
рости сделал Гёте в «Западно-Восточном диване», не случайно воплотив
все это в вечные слова: «Смерть для жизни новой»7. Сегодня мы, зажа-
тые в тесных границах государственных и этнических образований, за-
висящие во всяких, даже самых незначительных жизненных проявлени-
ях от формирований массового характера, должны с помощью и посред-
ством этих духовных общностей подчинить себе материальную энергию
180
масс в нашей жизни — энергию низшего порядка, сташую сегодня сво-
бодной, неуправляемой, опустошительной; должны претворить стремле-
ние нашего духа к бесконечности, наши динамические тенденции в не-
прерывные попытки обновления этих духовных образований, призван-
ные одновременно представлять собой процесс освоения со всех сторон
стремящихся к нам жизненных элементов. Смысл этого может состоять
только втом, чтобы придать духовные силы постоянно обновляющимся,
по своей внутренней сути экспансионистским структурам — нации и
народу и их универсальной надстройке — Европе, — каждому из этих
непрерывно самообновляющихся образований; придать духовные силы
не для того, чтобы ввергнуть во всеобщий хаос все европейские нации и
тем самым Европу, но, напротив, для того, чтобы они оказались в состо-
янии достойно осуществить свою задачу — вернуть Европу европейцам
и каждый европейский народ — самому себе, чтобы они все время заново
обретали себя в дальнейшем ходе истории. Такова цель, которую ставит
перед нами сегодняшний европейский кризис.
Франция и Европа*
Среди европейских народов есть такой, который, с тех пор как он сделал-
ся нацией в современном смысле слова, в периоды своего наивысшего
могущества считал себя преемником Рима, назначенным на эту роль са-
мой историей. Этот народ — французы. Пусть Капитолий в руках италь-
янцев. Что из того? Дух Рима являл себя как универсальное, основанное
на разуме господство над миром, как перелитая в эту субстанцию и кри-
сталлизовавшаяся в ней воля к жизни; он реализовывал себя в структу-
рах государства, а именно — государства централизованного, построен-
ного по принципу разумной целесообразности, и мог существовать толь-
ко так — т.е. как нечто всеобъемлющее. Итальянцы же были территори-
ально разобщены, да и поныне, если совсем сбросить идеологическую
завесу, за которой они укрываются от самих себя, все еще остаются ре-
гионалистами. Пусть волею истории императорская корона — символ
универсальной власти —досталась Германии. Пусть не одно поколение
немецких племенных князей8 снова и снова увлекалось стремлением
увенчать свою главу обручем, в котором, казалось, был заключен весь
мир. Никто из тех, на кого был возложен этот обруч, в действительнос-
ти не овладел миром. Их политика по-прежнему сводилась к укреплению
собственных родовых владений, она только была поставлена на более
широкую основу, оставаясь безнадежно втянутой в свойственное немцам
внутреннее противоборство государственного и духовного начал.
Одна лишь Франция была наследницей Рима. Конечно, утверждение,
будто всякий период новой и новейшей истории, имевший общеевро-
пейский характер, обязан своим обликом французам, представляется че-
ресчур категоричным. Правда, кажется несомненным, что на протяже-
нии всей истории германо-романского мира, каким и является Европа,
' Вперпые напечатано и октябре 1921 г.
181
французы и немцы противостояли друг другу как олицетворение прин-
ципов универсализма и партикуляризма. Германское влияние, если оно
заявляло о себе, всегда имело индивидуальный характер. Всякий раз,
когда развитие Европы определяла Германия, она, так сказать, отверза-
ла свое чрево и, как в эпоху высокого средневековья, непосредственно,
физически выпускала из себя своих детей, одновременно сама обраща-
ясь в состояние сильнейшей раздробленности, либо создавала индивиду-
ального свойства идеи, представления, которые, подобно идее Реформа-
ции, по своей глубинной сути противились какому бы то ни было уни-
фицированию бытия или, как идеология романтизма, возникали на ос-
нове индивидуально-исторического и к нему возвращались — если толь-
ко, на манер немецкого идеализма, сами не делались предпосылкой всех
конкретных форм существования. В этой общеевропейской сфере ста-
новления конкретных форм бытия и жила Франция. И все же такие об-
щеевропейские по содержанию тенденции и периоды исходили не от нее
одной. Хотя первая, самая ранняя и оказавшая наибольшее воздействие
разновидность европейского универсализма — готика — и взаправду, как
бы в силу исторической случайности, еще до того как нации начали обо-
собливаться друг от друга, обрела присущие ей формы в пограничных
областях Франции, эти тенденции и периоды вырастали и на плодород-
ной почве испанского национального духа эпохи контрреформации, и в
Англии времен просвещенного утилитаризма. И все же, воистину: рим-
ский универсализм как деяние духа и форма бытия продолжал жить
только во Франции. На запад от Рейна, в Париже, рос и усиливался та-
кой центр, который, осознав самое себя, опять воспринял латинский
стиль ясной и строго упорядоченной формы мышления; рационализм
сконцентрированного вокруг единой отправной точки и из нее управля-
емого государства; основанное на сложившихся в Римской империи
принципах бытия и действия стремление к экспансии и всеобъемлюще-
му господству. Центр Европы находился там, где продолжала существо-
вать античная традиция «слова», способность с определенностью выра-
зить в четких понятиях и фразах то, что пока не имело формы, т.е. «ри-
торика» — не как развлечение для ума, а как устоявшийся способ овла-
дения сущим. Каждый период великих духовных стремлений здесь сам
собой становился классикой, если понимать ее как проникнутую римс-
ко-латинским духом простоты и симметрии, ориентированную на антич-
ные образцы абсолютную завершенность форм воплощения жизни.
Пластическое выражение сущности римского духа — ясно очерченная
окружность; она господствует в облике Пантеона и Колизея, властно
проявляет себя в «идеальном типе» римского императора и доведенной
до совершенства системности римского права. Она, как некий символ,
осеняет собой Францию. Необходимо воспроизвести эту прозрачную,
тяготеющую к центру округлость в исполненном драматизма контрапун-
ктном звучании жизни, причудливой игре трех элементов целостности,
которую олицетворял уже аппарат управления эпохи Людовика XI9. Эта
окружность вырастает в образ бытия, в центре которого — «король-сол-
нце». Попытки заново построить мир согласно «законам разума» обус-
ловлены ее определяющим воздействием. Тот факт, что ампир, порож-
дение Революции1", при множестве различных способов его интерпрета-
182
ции в каждом из своих значений остается «римским» — не простая слу-
чайность; созданные французской Революцией новые понятия и струк-
туры языка — нечто само по себе более значительное, нежели вербаль-
ная оболочка; Наполеон как наиболее органичное новое воплощение
римского духа — не просто чужак, явившийся во Францию. Франция
призвана оставаться классической, округлой, сосредоточенной вокруг
единого центра, распространяющей из этого центра свое влияние, ины-
ми словами — должна следовать традиции римских цезарей и в этом
смысле быть империалистической, завоевывающей мир. В этом ее суть,
ее «дар», такова разновидность и форма универсализма, который она в
духовной жизни и политике снова и снова демонстрирует Европе. Поже-
лай она того, ей все равно не избежать участи быть наследницей Рима и
действовать по законам такой преемственности. Даже если она, как
ныне, извлекает из склепов своих церквей покровы давно сделавшейся
непривычной готики; если жадно впитывает запах земли своих провин-
ций, чтобы вернуть себе молодость; если в романтической тоске беспо-
щадно исследует самое себя, чтобы стать всецело собой, т.е. чем-то боль-
шим, нежели Париж и его традиция — практическим результатом все-
таки является именно эта традиция, от которой она стремится хоть отча-
сти отступить. Нынешний возврат к политике в духе Наполеона" состав-
ляет глубинную суть Франции.
Какие шансы сулит Франции такой возврат? Существует ли еще для
него духовное пространство? Сохраняется ли пока то историческое обра-
зование, где он способен действовать, которое он может проникнуть со-
бой и подчинить?
Германо-романский период истории завершился. Социальная и ду-
ховная субстанция той Европы, в которой так или иначе циркулировала
кровь Римской империи, распалась; взаимное обогащение латинского и
германского начал, составлявшее принцип ее бытия, оказалось наруше-
но. Такой «латыни» поистине настал конец.
Как сейчас можно увидеть, на смену ей постепенно приходят иные
крупные образования, участвующие в круговороте истории. Что общего
у двухполюсного англосаксонского мира с той, прежней Европой, с Ри-
мом, с какой-либо латынью? Ни Лондон, ни Нью-Йорк не содержат в
себе ее элементов, да они и не в состоянии ничего из этого воспринять.
Не только их происхождение и родство, географическое положение и
современные задачи ставят их и подвластную им сферу целиком за рам-
ки старой Европы, центром которой могла быть Франция: уже по своим
историческим корням англосаксонский дух вырос из чего-то иного, не-
жели противостояние и взаимодействие романского и германского на-
чал, ранее наполнявшее Европу отголосками Рима. Эти отголоски вов-
се не слышны в жизненной практике британских норманнов. Скудость
лексики «Эдды»; энергическое немногословие северного характера; со-
зидание форм бытия посредством действия, предшествующего всякому
слову; обусловленное расовой принадлежностью, скрывающееся за иде-
ологией равенства стремление меньшинства установить господство над
большинством; совершенно новое, не свойственное античности взаимо-
проникновение идеи и действительности — вот отнюдь не характерные
для латыни черты, определяющие облик этого мира с первых дней его
183
существования. Несмотря на прагматический рационализм, который
понемногу попал и сюда, англосаксонский мир по существу непроница-
ем; он, правда, применяет принципы, но сам не подвержен их формиру-
ющему воздействию; он полон противоречий, как тумана, и до самых
глубинных основ представляет собой нечто противоположное классике.
Способ существования, какой с первых дней усвоил норманнский род,
волею судьбы оказавшийся на Сицилии12, — рыцари-крестоносцы, иде-
алисты, но в то же время практически лишенные иллюзий, с некоей ари-
стократической снисходительностью овладевающие чуждым стилем жиз-
ни, но при этом утверждающие собственный стиль; умеющие приспосо-
биться и тем не менее исполненные вдохновенного порыва; господству-
ющие просто благодаря своему присутствию, а не каким-либо устойчи-
вым структурам — одно это, а не обусловленное римской традицией кон-
струирование ясных форм, стало средством, с помощью которого так на-
зываемые англосаксы, где бы они ни появлялись, завоевывали мир, и
которое — наряду с другим волшебным средством — позволило им осно-
вать и упрочить государство, менее всех остальных соответствующее
римскому духу; государство, занимающее большую часть американско-
го континента, где собственное их обиталище наводнено массами при-
шедших издалека мигрантов, организуемых и управляемых англосаксон-
ским незначительным меньшинством. А вот второе средство, позволяю-
щее этого достичь: наряду с созиданием на основе опыта, с прагматиз-
мом как принципом деятельности, проявляется совершенно с ними не
связанное и возникающее по какой-то необъяснимой причине сильное
этическое начало, вторгающееся в жизнь; нимало не заботясь о том, что
оно противоречит тому самому утилитарному рационализму, это начало
предстает в качестве своего рода «второй руки», которая, не согласуясь с
первой, вдруг соединяет чисто эмпирическое действие с чем-то более
значимым — с моральными ценностями. Нет ничего более чуждого ла-
тинскому духу, чем этот способ существования и деятельности. Поляр-
ность, непреодоленные антагонизмы, сосуществование и смена принци-
пов, при которой правая рука часто не должна знать, что творит левая, да
с доверчивым благодушием и не ведает того; совокупность явлений дей-
ствительности, подобная непроходимым зарослям, сквозь которые
стремление к господству, ориентированное равно на разум и этику, будто
случайно пролагает некие тропы, упорядочивающие и организующие
реальность, которые оно, если потребуют обстоятельства, оставляет сно-
ва зарастать и приходить в запустение — нечто прямо противоположное
ясности, округлости, четкой определенности форм. Что делать францу-
зу, что делать латинскому наследию, с его всепроникающей осознанно-
стью, его стремлением к эстетически идеальной правильности, его по-
требностью следовать установленным нормам, в этом мире, сросшемся
вроде лесной чащи, управляемом движущейся окольными путями идеей;
в словно созданном воображением Шекспира мире многообразного зла,
способного принимать иное, ложное обличье простодушного сектантства
— пуританизма, методизма и всех прочих «измок» этического свойства;
в этом англосаксонском мире антагонизмов и подлинных парадоксов
жизни, именно вследствие этого оказавшемся способным преодолеть
противоречия реального бытия и подчинить себе больше половины зем-
184
иого шара? Этот мир совершенно недоступен его формирующему воз-
действию. Здесь он остается иноземцем, облеченным в тогу.
Может, ему следовало бы направить свои универсалистские по-
мыслы на восток Европы и Азии, т.е. на единственный обширный ре-
гион Земли, еще не испытавший на себе англосаксонского влияния?
Ныне там шевелится и распрямляется неясная, темная масса голов и
рук, — существа, протирающие глаза от тысячелетнего сна, с томящей
тоской стряхивающие с себя дурман навязанных Европой схем разви-
тия; такие, кто пережил сокрушительный распад этих схем и теперь
содрогается в конвульсиях, выставляя напоказ свою азиатскую наго-
ту; — далее, народы, борющиеся между собой, прикрываясь, как ли-
чиной, западными националистическими идеями, а на деле следуя в
отношениях друг с другом свойственным молодым нациям грабитель-
ским инстинктам, — и в это вовлечены, от этого страдают немцы, чья
материальная субстанция и чьи силы за тысячелетие срослись с этим
европейским Востоком и примыкающей к нему частью Азии; немцы,
которых раз за разом захлестывали изливавшиеся оттуда потоки и
приводили в смятение происходившие там землетрясения; немцы,
только здесь, в этих необозримых восточных землях, сумевшие по-на-
стоящему широко раскрыть и сформировать свои созидающие и орга-
низующие силы; немцы, чье духовное и практическое влияние там се-
годня повержено, против которых многократно восставали и с кото-
рыми все-таки переплелись так, что без них не прожить, и к которым
в наиболее разрушенных областях опять взывают с любовью и привя-
занностью. Здесь расположен тот сумрачный регион современного
мира, где рождается новое, та Европа-Азия, ныне связанная воедино
общей судьбой — разрушением прежних государственных, хозяй-
ственных и общественных структур, форм, отношений господства, той
же обнаружившейся несостоятельностью содержавшихся в ней эле-
ментов прежнего европейского духа во всех его видах и проявлениях;
регион, содрогающийся от ощущения гибели былой Западной Евро-
пы, но одновременно проникнутый чувством становления, — волею
судьбы нечто еще совершенно беспредельное, скрепленное пока толь-
ко общим для всего земного уделом неизбежного конца и скрытой
борьбой среди руин. Сегодня это историческое образование волнами
пронизывают токи духовных воздействий — их носителями во многом
являются рассеянные по всему миру древневосточные элементы, та-
кие как евреи, однажды уже осуществившие синтез Востока и Запада;
— токи, представляющие собой переплетение предельно эмоциональ-
но выраженных ощущений стремительно близящейся гибели и дохо-
дящего до натурализма, пристрастного анализа основ бытия; токи не-
ясных массовых устремлений, в том числе в литературе, во многом
варварского свойства, с упоением изображающие нагромождение
чувств, напоминающих об эпохе Меровингов13 и Великого переселе-
ния народов14, и, словно в некоей оргии, взрывающие всякую — и в
первую очередь всякую бытовавшую ранее — форму. В этом случае
оболочка ставших теперь неадекватными прежних форм выражения
скрывает — как в политике и общественных отношениях, так и в сфе-
ре духа и культуры — нечто иное, не имеющее четких очертаний, что-
185
то пока в высшей степени двойственное, человечески-бесчеловечное,
какого-то кентавра, соединяющего в себе древнюю высокую гуман-
ность и безжалостную юную жестокость. Независимо от того, сможет
ли появление этого чудища в обозримом будущем привести к станов-
лению чего-то позитивно-созидательного, некоей кристаллизующей
мировой идеи, либо оно в течение длительного времени станет лишь
попирать все своими копытами, порождая только общность хаоса и
распада, — все равно, что делать там Франции? Может, ей стоит по-
пытаться обуздать силы этого подобного кентавру мира и, сжав, об-
лечь их в свои ясные, стилизованные, римско-романские формы?
Фантастическая идея! Если из непрозрачного течения событий здесь
когда-нибудь снова восстанет некая целостная форма, она будет пред-
ставлять собой соединение восточных и западных, а не римских, гер-
манских и кельтских черт. Христианство, которое по своему проис-
хождению было именно таким сочетанием западных и восточных эле-
ментов, воплощенным в формы греческой мистики, некогда сумело
наложить отпечаток на обширные регионы этой мировой сферы. Гре-
ческая античность, сама возникшая из синтеза отдельных сторон во-
сточных дионисийских оргий и присущего Западу стремления придать
всему четкие очертания, скрывающая во всех наиболее совершенных
своих достижениях под тугой оболочкой формы будоражащую энер-
гию их подлинной жизни — пьянящую одержимость, потрясающую до
самых глубин, — ей порой в существенной мере удавалось посред-
ством обуздывающих хаос элементов пластики оказывать на этот ал-
чущий формы мир воздействие, простиравшееся до Индии, даже до
Китая.
Но способна ли на это современная Франция? Трезвая рассудоч-
ность порожденного Римской империей латинского духа, далекого от
метафизики, даже враждебного ей. пожалуй, ныне усилилась вопреки
всем ее внешним проявлениям, на деле стала глубже благодаря куль-
тивированной психологически-эмпирической утонченности, которая
в попытках обрести свои истоки все более впадает в романтическую
сентиментальность и, наконец, возвращается к самой себе. Это чрез-
вычайно изящное, очень хрупкое, сияющее закатной тонкой красо-
той, но совсем утратившее способность к экспансии творение поздне-
го периода развития духа, по своей глубинной сущности всегда оста-
вавшегося чуждым Востоку, — что оно может дать этому вечно древ-
нему и вечно юному Востоку, тому региону, который, будучи старше
Европы, все-таки гораздо больше нее способен, черпая из метафизи-
ческих источников, всякий раз возрождаться, который в неизменно
возобновляющихся порывах вдохновения стремится соединить незри-
мую изначальную сущность с видимыми явлениями внешнего мира, а
теперь к тому же опять повергает в прах так много обыденного, посю-
стороннего? Современный французский империализм, вероятно, в
состоянии обеспечить себе политическое и военное господство в раз-
личных регионах Востока, он может с помощью всяческих ухищрений
усилить там нестабильность, он способен утвердить свое экономичес-
кое и финансовое влияние в некоторых появляющихся там, будто под-
нимающихся из волн, областях капиталистической эксплуатации. И
186
все же эти обширные территории, находящиеся в потоке непрерывных
изменений, где в грядущие столетия может родиться все — или не воз-
никнуть ничего, внутренне близкие скорее метафизической приглу-
шенности Германии, нежели французской ясной завершенности очер-
таний, остаются для Франции столь же мало доступными, как и анг-
лосаксонский мир. Если этот последний отделен от Франции насы-
щенной сжатостью и чужеродностью его собственных форм, то запад-
но-восточный регион — мятежной тревогой и такими глубинами, куда
французский дух, с присущей ему благородной утонченностью мысли,
никогда не осмелится спуститься, застывая подобно ветхому старцу —
хотя он отнюдь не стар и дряхл — перед выражающими их суть вечны-
ми словами: «Смерть для жизни новой»15.
Франция в дальнейшем окажется изолированной. Она будет суще-
ствовать дальше, собирая все силы, заложенные в ее традиции. Возмож-
но, она еще раз попытается упрочить эту традицию, сосредоточив в себе
изначальные силы католической церкви. Но сама эта традиция останется
в руках Франции чем-то безнадежно устаревшим. Сегодня она больше не
располагает универсальными возможностями.
Это означает нечто большее, чем тот смысл, который на первый
взгляд кажется заключенным в данных словах. Обнаружившаяся ныне
неспособность Франции плодотворно воздействовать на становление
духовного облика мира знаменует собой конец периода мировой исто-
рии, продолжавшегося от Карла Великого до наших дней. С крушением
центра римско-германской постантичной традиции завершается не толь-
ко сама эта постантичность, но и былая Европа. На передний план вы-
ходит процесс формирования двух обширных новых мировых сфер, со-
всем разных по характеру и противоположных по своим тенденциям, —
возникающая отныне географическая полярность, указывающая перс-
пективу совершенно нового развития мира. Европейцу нелегко почув-
ствовать и постичь дальнейший ход истории, когда перестанет существо-
вать концентрация сил вокруг Рима как физического и духовного цент-
ра, создавшая его самого как европейца, и когда вместо того по телу Ев-
ропы пройдет рубеж, разделяющий две противоборствующие области
мира. Все-таки я полагаю, что ему доведется не только испытать это бо-
лезненное ощущение, но и суметь вытерпеть его и, сообразуясь с ним,
научиться работать во имя созидания.
Этот эпохальный рубеж проходит в непосредственной близости от
нас, немцев. Нам предстоит спросить себя, к какой из областей мира
мы принадлежим и в чем наша задача? Думаю, на деле у нас не будет
выбора. Рубеж находится западнее нас. Но если мы неминуемо оказы-
ваемся посреди этой обширной, захлестнутой бурными потоками за-
падно-восточной сферы, которая теперь через страдания и боль сно-
ва обретает молодость, мы должны делать это без сентиментальной
оглядки назад, искренне, целиком и полностью; делать независимо от
современных политических и экономических внешних форм и струк-
тур. То, в чем мы там сегодня нуждаемся, обусловлено прежде всего
чисто эмпирическими причинами, оно не затрагивает глубинных ос-
нов бытия, определяется «насущными потребностями» и инстинктом
самосохранения. Но это. впрочем, соответствует устремлениям наше-
187
го духа. Это не может означать, что в духовном отношении мы просто
утонем в хаотическом водовороте этого, переживающего свое станов-
ление, западно-восточного конгломерата. У нас есть собственная ис-
тория, которую мы, если не хотим отречься от самих себя, не вправе
забывать. Наша история свидетельствует, что мы выросли и сформи-
ровались как европейцы и призваны созидать далее на основе древне-
го европейского наследия; что одна из половинок нашей души считает
своей родиной пространство греческой античности, ту самую верши-
ну на границе между Западом и Востоком — Олимп. Мы, народ, не
обладающий отчетливой способностью самим творить собственный
облик, никогда еще так не нуждались в сосредоточенных вокруг этой
вершины созидающих, связующих и определяющих способы выраже-
ния силах, в задающей меру, при всей оргиастичности ее характера,
мощи греческого духа; никогда более, чем теперь, когда утрачивает
влияние другой фактор нашего формирования — Рим, когда, несмот-
ря на сегодняшнюю тягу к религии, исчезает древний, основанный на
христианстве синтез Востока и Запада, и когда мы в то же самое время
глубоко, до состояния внутренней неуправляемости, растревожены воз-
действиями, поступающими и изнутри, и с Востока. Тем не менее, нам
нельзя отгораживаться от этих идущих с Востока волн, которые посте-
пенно размывают прежнюю жизнь и несут с собой новое бытие. Да это
было бы напрасной попыткой — ведь эти волны уже здесь. Не существу-
ет духовных преград, способных противостоять единству судеб и его по-
следствиям. Но сообразно всему, что свершилось и свершается день за
днем, мы связаны общностью судеб именно с Востоком. Мы соединены
с ним в великом и бесконечно малом, пусть даже речь идет только о том,
что мы вместе заперты в одни и те же узкие рамки существования, обра-
зованные чем-то столь внешним, смешным и очевидно нелепым, как
постоянно становящаяся выше стена валютных обязательств, отделяю-
щая нас от Запада. Для сообщества, испытывающего сегодня глубочай-
ший упадок, в этом заключено нечто символическое. С любовью или не-
приязнью, но мы, пребывая в таком состоянии упадка, должны искать
общий язык с Востоком. Лучше, если мы сделаем это с надеждой, нежели
с отчаянием. Правда, я имею в виду не те детские упования, облеченные
в терминологию прежних времен, будто нам принадлежит там некая вве-
ренная Богом «культурная миссия». Не нам судить, кому в грядущем
предстоит исполнить здесь культурную миссию и найдется ли вообще
такой народ — на то не наша, но Господня воля. Как я уже говорил, мо-
жет пройти немало времени, прежде чем кентавр Востока снова потер-
пит на своей спине всадника — созидательную силу любви. И если так
случится, этот созидающий Эрос, по-видимому, не захочет для себя еди-
ных форм. Скорее, он предпочтет многообразие, подчиненное ритму це-
лостности. То, что надлежит делать нам — это оставаться духовно откры-
тыми и при этом не утратить самих себя. Воспринимая мир таким обра-
зом, становишься сильнее — а это сегодня очень важно. Но тому, кто не
в силах вынести напряжения и неизбежно связанного с ним спокойно-
го, преисполненного доверия ожидания — пусть даже оно будет дольше
человеческой жизни — тому окажутся не по плечу задачи эпохи заката
старого и мучительного рождения нового мира.
188
Германия и Восток*
На протяжении всей нашей истории мы, немцы, находились между
Западом и Востоком. Мы являлись колонизаторами и наставниками
европейского Востока до самой границы Азии, помогали защищать
его от набегавших подобно приливу монгольских и турецких полчищ,
были торговцами, создававшими свои фактории в Новгороде, постав-
щиками не только товаров, но и княжеских династий, чиновной, дол-
жностной аристократии и родовой знати, масс крестьян, которые еще
двести лет тому назад селились на предоставленных им землях, про-
стиравшихся от Волги до Крыма, — повсюду проникающий, будора-
жащий, организующий элемент, чей язык служил «мировым наречи-
ем» до Константинополя и в востоку, до озера Байкал; элемент, на
всей этой обширной территории соперничавший лишь с пришедши-
ми туда ранее могущественными силами греческой церкви, несомнен-
но, уступая ей по глубине воздействия, но всегда наравне с ней опре-
деляя новые формы жизни; так, плодотворно созидая и принося свои
дары, мы срослись с этими безграничными пространствами на восто-
ке, этой единственной областью, где мы могли беспрепятственно рас-
крыть собственные возможности и которая даже после постигшей нас
катастрофы до сих пор символизирует это западное, а именно немец-
кое, влияние, воплощенное в сооружаемых по всей бескрайней Рос-
сии колоссальных бюстах Маркса и в увековечивающих память ее му-
чеников и борцов за новый мир мемориальных досках, где наряду с
русскими начертаны, будто непроизвольно, только немецкие имена.
Действительно, после уникального по значению притока сил гречес-
кой церкви именно немецкое влияние было постоянно существовав-
шим фактором возрождения этого Востока.
Однако становление наших собственных новых духовных форм до сих
пор всегда совершалось не здесь, а на землях от Средней Германии до
Рейна. Это образование форм было обращено на запад и юг, во Францию
и Италию, питалось долетавшим с Альп южным ветром, было подверже-
но превратностям, свойственным противоречивому по своему характеру
процессу взаимодействия германского и романского начал, осуществляв-
шемуся через Рейн и Альпы — каркас всей средневековой экумены. С тех
пор как Бонифаций"' и его преемники создали нас, мы, несмотря на все
то, что отдавали Востоку, на размышления, которые ему посвящали, и
деяния, какие там совершали, неизменно оставались частью той, столе-
тиями сиявшей совершенно чудесным многообразием новых и новых
красок духовной вселенной, которая строилась вокруг оси Рейна и была,
пока ее не разрушили, тем единственным, что давало основание считать
Европу чем-то большим, нежели просто географическое понятие. Каза-
лось, наша задача состоит в том, чтобы быть причастными к внутренней
динамике этого образования и, поскольку мы в то же время оказывали
свое влияние на Восток, своими силами направлять туда возникавшие в
центре Европы энергетические потоки, сообщая им присущий нам отте-
Впермые напечатано и апреле 1921 г.
189
нок. Мы являли собой ту область Европы, откуда исходили воздейство-
вавшие на Восток силовые потоки.
Такая динамика и порожденные ею энергетические токи, шедшие
через нас с запада на восток, теперь перестали существовать — с тех пор
как духовная вселенная, именовавшаяся Европой, сама оказалась повер-
жена, германо-романский синтез противоречий завершился и на смену
ему пришла полярность совсем иного рода — противостояние англосак-
сонской мировой сферы и переживающей период становления Европы-
Азии. Тем самым подошло к концу и наше прежнее пребывание между
Востоком и Западом. Мы находимся в принципиально иначе ориентиро-
ванном, сосредоточенном вокруг другого силового центра, омываемом
сталкивающимися течениями иных рек мире. Правда, мы и здесь пока
еще стоим между Западом и Востоком. Но что отныне будет для нас За-
падом, а что — Востоком?
Запад теперь — это англосаксы и их мир. В этой англосаксонской
сфере в настоящее время сосредоточены силы политического господ-
ства всей Земли. В их разнонаправленном движении и уравновешива-
нии сегодня решается политическая судьба мира — решается на осно-
ве пропорционального распределения средств военного подчинения.
Здесь формируется охватывающий весь мир механизм политической и
военной власти, построенный на равноправии обоих занимающих ли-
дирующее положение англосаксонских центров и иерархии включен-
ных сюда менее влиятельных государств. Здесь сконцентрированы су-
щественный экономический потенциал, значительные богатства, с
помощью которых природные силы Земли разрабатываются далее,
организуются и вовлекаются в свойственную капиталистическому хо-
зяйству систему труда. С точки зрения этого крупного мирового цен-
тра, Восток в целом представляет собой не что иное, как огромный,
пока еще недостаточно освоенный резервуар сил, какие только пред-
стоит поставить себе на службу; масс населения, которое еще нужно
будет просветить и побудить к адаптации; еще нуждающихся в преоб-
разовании государственных и хозяйственных структур, для привлече-
ния и использования которых изыскиваются — и будут найдены —
современные образцы и формы. Цивилизация и культура концентри-
руются на линии Лондон — Нью-Йорк, продолженной далее до Чика-
го и американского Запада. Вот новая мировая ось, занявшая место
прежней рейнской оси, вокруг которой обращался капиталистический
мир на начальном, европейском этапе его существования. Подобно
тому как в ходе развития Западной Европы эта рейнская ось пришла
на смену прежнему средиземноморскому региону средоточения ан-
тичного мира, так и теперь, после длительных поисков равновесия,
центр тяжести нового мирового движения окончательно сместился к
этой новой оси. То, что собирается вокруг нее, причастно к ее станов-
лению, увлекается ее вращением — живет; все прочее — только пото-
ки отбрасываемых ею лучей и их отражение. На языке англосаксонс-
кой сферы сегодня говорят в любом портовом городе Земли, ее служ-
ба информации действует повсюду на земном шаре, каждого уголка
Земли можно достичь с помощью созданной ею сети торговли и судо-
ходства; у обоих ее полюсов мы, где бы ни находились на планете.
190
воспринимаем новые ключевые понятия духовного развития Земли.
Из этой англосаксонской сферы, ставшей ныне мировым центром тя-
жести и в то же время крупным целостным образованием, осуществ-
ляется ныне духовное и материальное обустройство мира.
Поглотит ли она в действительности и Восток, так что новая по-
лярность Запада и Востока, о какой я говорил и в которой мы живем,
окажется лишь видимостью? Не думаю. Напряженное стремление к
политическому освобождению, от которого содрогается материальное
тело Азии; то обстоятельство, что за данным стремлением стоит непо-
коренная Россия, которую вряд ли удастся подчинить; соответствие
новых освободительных тенденций официальной идеологии, призван-
ной представлять характер нового мирового господства, — все это,
вследствие материального и технического превосходства обоих англо-
саксонских центров и, кроме того, их исключительной, непосред-
ственно присущей им способности на самом деле, невзирая ни на что,
управлять и властвовать именем Свободы, это, по-видимому, не име-
ло бы решающего значения для определения перспектив грядущего
самостоятельного развития Востока. Никому не ведомо, как обеспе-
чить такую самостоятельность, каким станет политический облик
мира после того, как рассеется туман, наполнявший собой утро нового
столетия, и не случится ли, что очертания этого мира в обозримом
времени будут определяться доминированием англосаксонских сил.
Вероятность этого очень велика. Но здесь речь идет о сфере духа. В
духовном отношении Восток — плотная масса, которую не так легко
поглотить, даже если располагать при этом столь гигантскими матери-
альными силами, какие только имеются где-нибудь на Земле. Безлюд-
ные пространства Австралии, не отличающийся богатством культур-
ной жизни африканский континент, изнуренная и поверженная Юж-
ная Америка, политически и экономически уже в существенной мере
вовлеченные в англосаксонскую сферу влияния, по-видимому, в даль-
нейшем еще сильнее, чем раньше, окажутся подчинены также духов-
но. Возможно, в духовном отношении они в течение долгого времени
будут образовывать периферию обширной новой англосаксонской
империи, отчасти подвергаясь французскому, итальянскому и испан-
скому воздействию; но до сих пор они не только физически, но в зна-
чительной степени и духовно пребывали «невозделанной областью»
мира. Великие древние культуры Востока в их физическом и духовном
воплощениях, однако, стоят уже наравне с западноевропейским ми-
ром древнейшего и древнего периодов его истории, не уступая ему по
значению. Пусть впоследствии они останутся в той или иной форме
политически и экономически зависимыми от влекущего к себе подоб-
но магниту англосаксонского региона Земли, ныне в полной мере рас-
крывшего свои возможности; в духовном смысле они в силу своей
инородности, насыщенности и интенсивности все-таки не могут быть
ни поглощены им, ни даже приспособлены к нему. Ныне все эти об-
ласти знают, что с точки зрения цивилизации они могут заимствовать
у Запада: его машины, его техницизм; они сумеют поставить себе на
службу его политическую идею демократии, адаптируют на свой лад
его экономические структуры, но их культура, насчитывающая от двух
191
до трех тысячелетий; их бесконечно богатый, глубокий и многоликий
мир образов и представлений, выросший из их недр и творивший их
формы; не исчезнувшие духовные силы, которые отсюда произошли и
чье новое пробуждение стало подлинным истоком также нынешних
освободительных политических течений, — это всегда останется наи-
более прочным, непреодоленным и неодолимым рубежом, создавая
противовес, поддерживающий их полярность англосаксонской миро-
вой сфере, не утрачивающий значения, а крепнущий с каждым днем.
Для дальнейшего существования и развития этих великих культурных
миров нынешние, сиюминутные политические успехи не будут опре-
деляющими; наоборот, решающую роль обретут духовная устремлен-
ность к своей земле, ориентация на собственные культурные задачи;
помимо того, немаловажными окажутся географическая близость и
общность судеб с европейским Востоком, который, находясь в сход-
ном положении, борется за себя иными способами, но все-таки, по-
добно им, обратив свой взор на Запад. Всякому, кто имеет хотя бы от-
даленное представление о России, известно: пусть она открывает себя
несущему цивилизацию воздействию Запада, созданным им экономи-
ческим и, возможно, политическим формам и даже, как это происхо-
дит теперь, подчиняется господствующему влиянию западных идей в
том виде, какой они обрели в Германии — но англосаксонского духа,
его сути и представлений она не приемлет, наподобие того как огонь
чурается воды. Она, словно шипя и преисполняясь ярости, будет все-
гда противиться английскому прагматизму и порожденному им типу
человека; для того чтобы избежать с ним соприкосновения, она в ду-
ховном отношении скорее устремится назад, в самые отдаленные
уголки Азии и в степь. Не только по своей участи, но и в самом глу-
бинном смысле по свойствам духа и души она противостоит ему, ис-
ходя из тех же основ, что и вся Азия.
В какой же иной сфере эта Европа-Азия, растущая и развивающаяся
как полярная противоположность англосаксонскому миру, противодей-
ствует ему? Ее можно определить в некотором смысле как осознанно или
неосознанно метафизическую. Англосаксонский дух некогда тоже про-
израстал на той же почве, поскольку он сложился в рамках европейско-
го средневекового мира и его трансцендентного базиса. Благодаря сочи-
нениям Ансельма Кентерберийского, Дунса Скота, Уильяма Оккама и
прочих он так же сильно, как и всякий другой европейский народ, спо-
собствовал становлению той глубинной иерархии вещей, в какой жило
средневековье и для которой мир внешних проявлений был «потусторон-
ним» по отношению к чему-то иному, подлинно сущему. Но ни в одной
из европейских сфер та глубинная первооснова бытия не оказалась впос-
ледствии столь плотно скрыта, даже замурована, как в англосаксонской.
Неважно, свершилось ли это как следствие пуританизма, положившего
предел всяким раздумьям о сущности вещей, исключившего саму воз-
можность таких раздумий, либо в результате эмпиризма Бэкона, чье
«regnum hominis»' уже предвосхищало неприкрытый прагматизм, либо
теории гедонизма — но в Англии все пути вели в область чисто практи-
Царстио челонека {.шт.).
192
ческих житейских устремлений, от умозрения к прагматической целевой
обусловленности мышления и от образа жизни, возносившего над прак-
тическими задачами, к существованию, всецело им подчиненному. Ве-
роятно, ничто так не оттачивало уже наметившееся в общих чертах по-
литическое мастерство этого народа, как такое становившееся отныне
все определеннее пребывание исключительно в сфере практически воз-
можного и благого. Но с тех пор как он сформировался в такого рода ус-
тойчивый тип, засыпал и загородил в своем мире глубже залегающие
пласты духа, ничто не отделяет его столь бесповоротно от регионов Зем-
ли, где еще продолжают жить в тех глубинных ярусах бытия духа и души.
Весь Восток, Россия делают это, и притом вполне определенным
образом, единым для них обоих. Для них обоих бытие повсюду — не-
что дуалистическое; с одной стороны, оно означает пребывание в
мире свободной от всякой цели абсолютной сущности, с другой —
жизнь в атмосфере двойственности, до какой не снизойдет прагматик,
в которой он не способен дышать и которая, если он все же попыта-
ется приспособить ее к себе, сообразуясь с его прочно устоявшимся
характером, только скроит ему под видом целеполагания антропософ-
скую гримасу. Но весь Восток и с ним Россия не ведают целей конеч-
ных вещей; они жадно стремятся освободиться от практических задач;
высший смысл для них состоит в том, чтобы, по возможности достиг-
нув максимума такой свободы, преобразить, как неким трансценден-
тным сиянием, и посюсторонний мир; для них этот «смысл» бытия
более значим, нежели какое бы то ни было практическое дело. Тем
самым они постоянно скованы глубинными узами такого подхода,
сбиты с толку двойственностью целей. Пребывать в бездействии —
благо, совершить поступок — проблема. Тут самые глубокие корни
политической зависимости всей Европы-Азии, ее слабости во внеш-
ней (и отнюдь не только экономической) жизненной практике. Поли-
тика и жизненная практика здесь подчинены изначальной двойствен-
ности бытия, которая затрудняет технически чистое действие, вынуж-
дает его совершать колебания от сферы абсолютного к сфере условно-
го; при такой двойственности абсолютное снова и снова одерживает
верх над практически возможным и каждый раз порождает разруше-
ние, возврат к начальной, на деле не более чем трансцендентной, ос-
нове жизни. В этом заключено постоянно обнаруживающее себя зло-
счастное единство в пределах всей этой обширной сферы.
Однако именно в такую общность судеб вовлечены ныне мы, немцы.
Мы ввергнуты сюда не только внешне, но и, в конечном счете, по тем же
внутренним причинам. Нас отличает та же двойственность существова-
ния, пусть даже она имеет несколько иные формы и иные акценты. Мы,
в наиболее высоком смысле слова, народ деятельный, ориентированный
на достижение цели, выражающий себя вовне как прагматичный реа-
лист. Но в равной и значительной степени мы — народ, которому досту-
пен и тот метафизический, трансцендентный уровень; более того — сре-
ди всех исконно европейских народов мы по тенденции нашего разви-
тия, по облику, какой мы обрели, представляем собой, собственно, един-
ственный этнос, тяготеющий к европейской по духу метафизике. Оба эти
свойства, примечательным образом не связанные между собой, до сих
7 Чак. 3073
193
пор вместе уживались в нас, и притом так близко, что лишь незначитель-
ная часть нашей сущности и нашего глубинного отношения к бытию на-
ходила воплощение в наших практических, целенаправленных поступ-
ках. Мы были в состоянии совершать эти практические поступки в ка-
кой-то мере «по ту сторону добра и зла» и создали для этого в последние
годы нашу собственную теорию, по своей недвусмысленности внушав-
шую ужас прочим народам. Но в более высоком понимании мы не были
способны реально действовать, ибо наша деятельность как таковая про-
текала почти нецелесообразно; в том, что касалось определения и осуще-
ствления ее задач, она не захватила нас всецело и потому затронула толь-
ко некоторые стороны нашего бытия как объект, уже подчинившийся
либо готовый подчиниться ее господствующему влиянию. Такая деятель-
ность, будучи по характеру только технической и частной, совершенно
оставляла в стороне область духа, весь широкий спектр психологических
сил. В отличие от способа действий, свойственного англосаксам, она не
означала непосредственного, целенаправленного освоения всей полно-
ты бытия; и поскольку она не являлась таковым, поскольку она только
до некоторой степени могла овладеть подлинной жизнью, и так как мы
лишь отчасти оказывались в нее вовлечены, она должна была потерпеть
неудачу и отбросить нас от попыток подчинить себе действительность на
тот метафизический, лежащий по ту сторону реальности уровень, где мы,
несмотря на внешнее впечатление, собственно говоря, пребывали всегда
— так же, как Россия и весь Восток.
Теперь мы отброшены туда и ныне даже внешне связаны с этим ми-
ром единой участью. Сейчас, при сложившейся великой полярности
между ним и англосаксонским миром, мы можем понять, к какой из
этих сфер нам предстоит относиться в более или менее отдаленном бу-
дущем.
Пока это не имеет непосредственного значения для нашей грядущей
политической принадлежности. Точно так, как доныне остаются совер-
шенно непостижимыми формы будущего политического устройства Во-
стока — при том, что это все-таки отнюдь не существенно для основопо-
лагающей духовной полярности и ее бытия, — так и направление наше-
го политического развития может быть тем или другим, а его выбор про-
диктован эпохой и нашими возможностями. Не исключено, что в обо-
зримое время рамки нашего существования окажутся заданными поли-
тическими комбинациями западных держав, что мы найдем свое место
в мире, облик которого будет определяться англосаксонской сферой, что
путешествие в англо-американском «маршрутном такси» станет для нас
дорогой к свободе. Но это не окажет решающего влияния на область
духа. Однако судьбы нашего духа, ориентированного на Восток, также
еще ничего не говорят о степени и характере духовного воздействия, ко-
торое приходит к нам с Запада и Востока и которое мы далее передаем
в каждый из этих двух регионов. Благодаря единой основе культуры мы
образуем общность традиций, реалий и понятий, связующую нас с запад-
ным, а следовательно и англосаксонским миром; нас сотворил тот же
европейский дух. мы заключены в сферу единой жизненной проблема-
тики. Наше взаимодействие с этим миром впоследствии тоже станет лег-
че осуществимым и более разнообразным, развиваясь по проторенному
194
пути — хотя впечатления, какие нам предстоит воспринимать с Востока
и передавать ему, пускай не столь частые, будут, вероятно, отличаться
большей глубиной, так как в конечном итоге мы стоим с ним на той же
почве.
Сближающая нас с Востоком общность судеб всего лишь определя-
ет духовную задачу, которую мы ставим самим себе. Эта задача может
заключаться только в том, чтобы преодолеть двойственность бытия,
сломившую нас, но в то же время, подобно Востоку, оставаться в ней
ради сохранения нашей глубинной сути — хотя и в ином смысле; что-
бы несмотря на то, что нам так непросто оставаться самобытными,
наполнить наше существование в рамках неизбежного, почти лишив-
шего нас способности действовать, наиболее весомым внутренним
содержанием, но при этом научиться осознанно воспринимать вне-
шние обстоятельства жизни не только как нечто «другое» — так мы
поступали раньше — но, в их инобытии, как что-то неразрывно свя-
занное с этим способом бытия; совершать те «причинно-обусловлен-
ные» и «возможные» действия, какие заключает в себе и какими на-
сыщено наше существование, не отвлеченно, как что-то всецело ме-
ханическое и не сопряженное с первоосновой, — ибо в таком случае
мы никогда не сумеем овладеть всей деятельной жизнью, потому что
не наполним ее нашим бытием, — а, сознательно отграничивая «при-
чинно-обусловленное» и в повседневном отношении благое, все-таки
жить в динамической взаимосвязи с тем, другим миром, сообразуясь
с ним и им руководствуясь; чтобы, понимая относительный характер
«возможного», все-таки перебросить над пропастью мост, по которо-
му трансцендентность, в какой мы пребываем, вплотную подошла бы
к реальности. Кажущееся почти героическим напряжение исполнен-
ного жизни взаимодействия двух существующих в нас начал, то «упор-
ство противостояния», на основе которого нам надлежит, находясь в
таком поле напряжения, творить облик нашего бытия, как представ-
ляется, станет определять атмосферу нашей духовности и одновремен-
но тот путь, каким мы выйдем из состояния духовной подавленности
и сумеем ближе подступить к внешним формам освоения сущего.
Несомненно, это долгий и вместе с тем новый путь. Он овеян утрен-
ним ветром возрождения и в то же время ведет за собой древнейшую,
насчитывающую тысячелетия жизнь; он знаменует собой обновление,
отнюдь не сопровождающееся забвением, обретение молодости и одно-
временно умудренную зрелость; это обстоятельство, наряду со сходной
задачей перехода от не утраченной нами трансцендентной основы абсо-
лютного к неким способам созидания форм повседневного существова-
ния в рамках обновленной условности, подчиняет нас тому же ритму и
диктует нам то же направление развития, что и пришедшей в движение
Европе-Азии.
Конечно, было бы неразумным полагать, будто при этом методы и
непосредственные задачи в такой по-новому ориентированной миро-
вой сфере останутся неизменными. Европа-Азия — не единое целое,
отличающееся однородностью общественных, хозяйственных и духов-
ных структур, а мир величайшего многообразия; для нее характерны
не того или иного рода общность идей, языка и форм, а. скорее, глу-
195
бочайшие, подобные бездонной пропасти, различия тенденций выра-
жения настроений души, способов предметного воплощения духа и
практических устремлений; это мир разнородных культурно-истори-
ческих образований, частью гигантских по масштабам, сложившихся
в древнейшие времена, а частью до сих пор сохранивших неуловимую
неопределенность и изменчивость, свойственную юности. В некото-
рых таких образованиях все распадается, становится текучим, а зат-
вердевшая субстанция неизбежно переплавляется и отливается зано-
во, словно в доменных печах; в других — налицо необходимость вос-
создать в новых формах обрушившиеся конструкции либо соорудить
их из ничего на сделавшихся почти бесплодными пустынных землях,
а у нас, по-видимому, нужно, не стремясь к существенной наружной
трансформации, преобразовать эти структуры изнутри; иными слова-
ми, у каждого региона — иной характер деятельности и иная задача.
Конечно, детская забава — предаваться теперь осмыслению и поискам
собственной сути, «сути немецкой нации», руководствуясь при этом
ощущением уникальности и неповторимого своеобразия таких притя-
заний. Свое «я» обретают не в результате рефлексии и беспощадного
самоанализа, а сопоставляя его на деле с материальной основой ве-
щей. Но, по-видимому, в не подвластном англосаксам обширном ре-
гионе мира такая деятельность будет, разумеется, в значительной сте-
пени индивидуальной для каждого из народов, т.е. опирающейся на
свойства собственной души, исходящей из собственной субстанции,
осуществляемой собственными методами и к тому же обусловленной
исторической ситуацией и глубинными истоками побуждений воли.
Пусть в англосаксонском мире, покуда он еще не обратился вновь к
глубинным, духовным пластам существования, а остается скорее в об-
ласти целесообразного, принцип ориентации на созидание форм бу-
дет, как и в сфере производства, унифицированным в той мере, в ка-
кой он вообще затрагивает порождения природы и направлен на не-
что большее, чем просто социальная форма. В сфере, не подчиненной
англосаксам, становление этого принципа на основе изначально име-
ющегося там уровня бытия окажется неизбежно сопряжено с поиска-
ми столь многих разнообразных форм материального воплощения,
насколько он пожелает, действуя в рамках того, преисполненного на-
пряжения, отношения между абсолютным и условным, той двойствен-
ности существования, сообразовать всевозможные виды внешней суб-
станции с миром души. Если здесь вообще осуществимо созидание
форм, они будут очень разными по характеру и станут выражать нео-
динаковые тенденции. Сама же задача будет единой: опираясь на со-
хранившийся глубинный пласт бытия, придать ясные очертания тому,
что дано нам в качестве материальной основы бытия и предназначе-
но стать чем-то наиболее современным с точки зрения цивилизации
и экономики. Пусть это будет героической задачей, требующей сверх-
человеческих усилий, — именно она сообщает дыханию жизни, про-
никающему собой данную область, тот терпкий и одновременно насы-
щенный аромат утренней свежести. Впитывая его, мы, как и народы,
обитающие к востоку от нас, сообща встречаем зарю нового дня.
196
Примечания переводчика
1 Es ist mit Meinungen, die man wagt, vvie mit Steinen, die man voran im Brette bewegt:
sie konnen geschlagen werden, aber sie haben ein Spiel eingeleitet, das gewonnen wird.
— Goethe J. W. Maximen und Reflexionen // Idem. Kunsttheoretische Schriften und
Ubersetzungen: Schriften zur Literatur. Teil II. Berlin: Aufbau-Verlag, 1972. S.497.
2 Карл Великий (768-814 гг.) — франкский король, с 800 г. император. Империя
Карла Великого, сложившаяся в результате франкских завоеваний, включала в
себя обширные территории от р. Эбро на западе до Эльбы и Среднего Дуная на
востоке, от Ла-Манша и Балтийского побережья на севере до Адриатики и Пап-
ского государства на юге. Ядром империи были земли, расположенные в бассей-
не р. Рейн. Отсюда начинались военные походы франков. В последние годы
правления Карла Великого резиденцией императора стал Аахен в междуречье
Рейна и Мааса.
I Эмфатичный — эмоционально напряженный, экспрессивный.
4 Вильгельм Оранский (1650-1702 гг.) — статхаудер (правитель) Нидерландов с
1674 г., король Англии с 1688 г. Был инициатором становления важных военных
и политических союзов европейских государств: Аугсбургской лиги 1686 г., объе-
динившей Нидерланды, Швецию, Австрию, Пфальц, Саксонию, Баварию, Ис-
панию, а с 1689 г. также Англию, и Великого союза 1701 г., заключенного в Га-
аге между Нидерландами, Англией и Австрией. Создание этих союзов позволи-
ло приостановить территориальную экспансию Франции — в частности, завер-
шить так называемую войну за Пфальцское наследство (1688-1697 гг.) благопри-
ятным для союзников Рисвикским миром — и способствовало формированию
новой системы межгосударственных отношений в Европе.
5 Иератичный — священнический, жреческий; перен.: считающийся незыбле-
мым, застывший, неподвижный.
6 Имеется в виду Франция.
7 И.В.Гёте. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. М., 1985. С. 192.
* Племенные князья — в средневековой Германии представители высшей свет-
ской знати, возводившие традиции своего господства к германским племенным
герцогствам VIII-IX вв. (Саксония, Бавария, Швабия, Франкония, Тюрингия).
Из числа племенных князей в X-XIII вв. избирались немецкие короли, становив-
шиеся затем императорами Священной Римской империи.
4 Людовик XI Валуа (1423-1483) — король Франции с 1461 г. Присоединил к ко-
ролевскому домену Анжу. Пикардию и некоторые другие территории. Осуществ-
лял политику государственной централизации, с помощью средств дипломатии
и военной силы подчинял себе феодальную знать и в то же время оказывал по-
кровительство городам.
'" Имеется в виду Великая французская революция 1789-94 гг.
II Речь идет об установленном Версальским мирным договором 1919 г. протек-
торате Франции над частью территории Германии.
12 Имеется в виду Сицилийское королевство, созданное норманнами на террито-
рии завоеванных ими в конце XI в. Сицилии и Южной Италии. Норманнская
династия правила Сицилийским королевством до 1194 г.
'- Меровинги — франкский королевский род, происходящий от полулегендарно-
го вождя салических франков Меровея (ум.в 456 г.). В середине V в. власть Ме-
ровингов распространялась на земли в Северо-Восточной Галлии, лежавшие в
устье Рейна, и на запад, до городов Турнэ и Камбрэ. К началу VIII в. подчини-
ли себе территории от Ла-Манша на севере до предгорий Альп на юге. от Тюрин-
гии на востоке до Аквитании на западе. Меровинги фактически правили фран-
кским государством до середины VII в., номинально — до 751 г. Уступили фран-
кский престол Каролингам.
197
14 Великое переселение народов — продолжавшиеся с конца IV до конца V вв.
массовые миграции германских племен, а также аланов и гуннов от прежних
мест обитания на запад, на земли римских провинций. Завершилось падением
Западной Римской империи и становлением в Западной и Центральной Европе,
а также в Северной Африке германских (варварских) королевств.
15 И.В.Гёте. Избранные произведения в двух томах. Т.I. M., 1985. С. 192.
16 Св. Бонифаций — «апостол немцев», англосаксонский монах-бенедиктинец, с
716 г. проповедовавший христианство в Гессене, Тюрингии, Баварии и Фрислан-
дии. В 722 г. возведен в сан епископа, в 732 г. сделался архиепископом и лега-
том римской курии в германских землях. Основал монастыри Фульда, Фриилар,
Таубербишофсхайм, описал границы диоцезов Зальцбурга, Фрайзинга, Пассау,
Регенсбурга, способствовал становлению городов Фрицлара, Эрфурта, Эихштетта
и Вюрцбурга как крупных религиозных и административных центров. В 747 г.
стал епископом Майнцским. 5 июня 754 г. убит язычниками под Доккюмом во
Фрисландии.
Составитель Т.Е. Егорова
•к * *
Перевод с нем. выполнен Т.Е.Егоровой по изданию: Weber A. Deutschland und
die europaische Kulturkrise. Berlin: S.Fischer Verl., 1924. 58 S. Фрагмент «Германия
и кризис европейской культуры» (с. 170-181 настоящей работы) впервые был
опубликован в переводе Т.Е. Егоровой в изд.: Культурология. XX век: Антология.
М., 1995. С.281-296. Полностью книга на русский язык переводится впервые.
Третий или четвертый человек
О смысле исторического существования
Предисловие
Существует ли последнее слово, которое можно сказать о вещи?
Да, поскольку человек смертен, следовательно, он — преходя-
щий элемент потока. — Нет, поскольку эта вещь относится к
существенной стороне потока, и он непрерывно течет, как по-
ток истории в бытии.
«Вещь»-человек и история и изменение человека в ней, что ведь состав-
ляет существенную сторону потока истории и бытия, о которой я хочу ска-
зать то, что для меня будет последним словом, мучает меня с начала века. За
протекшее с той поры полстолетие проблематика этого вопроса в ее пре-
жнем понимании настолько расширилась и прежде всего настолько углуби-
лась, что, размышляя о судьбе сегодняшнего человека, невозможно гово-
рить о ней, не уяснив то, что в нее входит, и то трансцендентное, которое
стоит за ней. В значительной степени для того, чтобы ясно показать, как
можно увидеть эту трансцендентность вне рамок школьной философии,
возникла эта маленькая работа, которая попутно должна содержать также
то, что, резюмируя, можно сказать об общей структуре истории, соединяя
ее внутреннюю и внешнюю сторону. В качестве среднего звена надлежит
показать, как следует рассматривать человека в качестве духовно и характер-
но сформированного существа, которое, с одной стороны, обретает свою
форму благодаря структуре истории, с другой, — является также носителем
трансценденции, пронизывающей космос и историю и одновременно охва-
тывающей человеческую сущность и ее возможности.
Если человек ощутил и осмыслил эту трансцендентность, он может
задать себе вопрос, как ему справиться с условиями, которые история
предлагает его спонтанности, какой вид исторического существования
он хочет создать для себя, какой тип он хочет в нем осуществить и откуда
придет свет факела, который озарит его путь.
То, что он способен осуществить, не есть нечто сверхчеловеческое, но
оно пребывает в свете вечного. И в этом смысле оно — подобие этого
вечного.
Гейдельберг, осень 1953
Альфред Вебер
199
Глава I
Человек и Земля в истории
1. Внешняя структура истории
Нам надлежит проститься с предшествующей историей. Это становится
очевидным, если поставить внутреннюю структуру истории в связь с ее
внешней структурой. Бросив взгляд на внешнюю структуру, мы видим,
что взаимоотношение между человеком и Землей и изменения этого вза-
имоотношения есть тот фактор, который создает конкретное взаимопро-
никновение внешнего и внутреннего образа истории и придает ей вели-
кую, замкнутую в себе периодизацию. Оно ведет к периодизации, в ко-
торой дело не в длительности или в краткости эпох, а в их внутреннем,
решающем для настоящего содержании, и в их сущности.
С тех пор как человечество стало историческим, т.е. приблизительно
с 4000 или 3600 г. до н.э., с конца ледникового периода, оно прошло три
периода, — с одной стороны, три — во взаимоотношении между челове-
ком и Землей, с другой, — в тенденциях социальной структуры и поли-
тики, в процессе прояснения сознания, в мысленном и техническом по-
стижении существования; следовательно, три совершенно различных по
характеру цивилизации и душевно-духовной позиции периода. Эти пе-
риоды различны по своей длительности. Они совершенно различны по
географическому распространению и общему историческому процессу.
Первый, еще почти статический период, длится от 4000 г. до н. э. до
1500/1600 г. н. э. За этим, продолжавшимся пять с половиной тысячеле-
тий периодом следует короткий по времени период — от 1500/1600 до
1900 г. Своим динамическим характером он заложил основу нынешне-
го третьего периода, который, начавшись с великого кризиса, исчисля-
ющегося теперь уже почти пятьюдесятью годами, заставит нас, пройдя
через первоначальный хаос, распрощаться почти со всеми существенны-
ми чертами предшествующей истории.
Я охарактеризую предшествующий сегодняшнему дню длительный
переходный период лишь в той мере, в какой ознакомление с ним необ-
ходимо для познания глубины этого прощания.
Первый длительный период, продолжавшийся пять с половиной ты-
сячелетий, характеризуется тем, что его внутренне и внешне связанная
история, т.е. всеобщая история, ограничивалась географически Еврази-
ей. Во взаимоотношении человека и Земли он отличается тем, что в Ев-
разии происходит постоянное давление переселений, которые идут от
северных равнин Евразии через ее огромную зону горных хребтов и вы-
сокогорных долин, простирающихся от Пиренеев до Маньчжурии, к
плодородным областям Средиземноморья и доходят до долины Хуанхэ.
Оно сопровождается давлением из Аравии на переднеазиатские области
наносных земель. Вызванное тысячелетним высыханием почвы после
ледникового периода и осуществляемое скотоводческими племенами —
сначала владельцами рогатого скота, затем лошадей и верблюдов, — это
200
давление, которое привело к образованию над земледельческим населе-
нием плодородной зоны слоя вторгшихся захватчиков, имело два послед-
ствия.
Во-первых, оно повсюду создало из синтеза занятых земледелием
крестьян и упомянутых скотоводов области древней высокой культуры.
Во-вторых, оно внешне структурировало общую историю длительного
периода таким образом, что существовавшие еще к востоку от Гиндуку-
ша высокие культуры Индии, Китая, а впоследствии и Японии, все вре-
мя оплодотворялись переселениями, хотя при этом до настоящего вре-
мени сохранили свою первичную социальную культуру и душевно-духов-
ную сущность. На Западе вследствие вторжений переселенцев возника-
ли все новые высокие культуры при географическом сдвиге центра тяже-
сти: после Вавилона, Египта, Крита, Трои в качестве первичных культур,
с 1200 г. до н. э. это прежде всего персидская, иудейская, греческая, рим-
ская в качестве самых значительных вторичных культур первой ступени,
а затем с 600 до 800 г. н. э. страны ислама, Россия и Западная Европа в
качестве вторичных культур второй ступени.
Если в первый длительный период посредством свойственного ему
отношения между человеком и Землей создается в качестве результата
членение Земли на исторические тела, то второе его своеобразное свой-
ство состоит в том, что он распадается на два подчиненных ему субпери-
ода, обладающих двумя различными душевно-духовными позициями,
которые действуют по сей день. В этот период входит, во-первых, хтони-
ческий субпериод, датируемый приблизительно 4000-1200 г. до н. э., в
котором связанная с землей душевная позиция народов, занятых сельс-
ким хозяйством, настолько «пробивается» через слой скотоводов, что в
значительной степени магически фиксирует социальную структуру и об-
щее существование исторических образований. Во-вторых, в нем присут-
ствует также второй субпериод, начинающийся с 1200 г. до н. э., когда
вторгшиеся кочевники на лошадях и верблюдах, образующие верхний
слой, оставаясь душевно полностью или частично верными своим взгля-
дам, в размежевании с преднаиденным хтонизмом приступают во всех
больших исторических телах к рассмотрению господствующего в данное
время вопроса о смысле существования и тем самым создают повсюду
трансцендентальные универсальные религии, философии или установки,
существующие еще сегодня, — начиная с даосизма и конфуцианства в
Китае, брахманизма и буддизма в Индии до зороастризма, пророческо-
го иудаизма и трагического и философского толкования бытия греками.
На втором этапе к западу от Гиндукуша распространяется западное и во-
сточное христианство и ислам. Около 1500/1600 г. все это завершается в
конце концов, прежде всего на западе, реформационными волнами ре-
лигиозного универсального толкования бытия.
В развитии сознания и мышления этой продолжающейся до 1500/
1600 г. статической эпохи в ее первый хтонический субпериод преобла-
дает магическое осмысление бытия, во второй, ведущий прежде всего к
универсальным толкованиям, — сосуществование мифологических и
интеллектуальных постижений бытия.
Техническим следствием интеллектуального постижения бытия оста-
ется до конца этой эпохи приспособление к природе, которую в целом
201
оставляют такой, как она есть, господствуя над ней только с помощью
орудий и приручения нужных животных; таким образом, технически все
это длительное время, начиная с полного развития производства орудий
и приемов приручения животных, — что было известно еще до ее перво-
го субпериода и в нем, — характеризуется состоянием стагнации.
Стагнация присуща в значительной степени и созданным в эту эпо-
ху в различных исторических телах подчас очень сложным по своей
структуре социальным формам.
Почти все эти характеристики меняются во второй короткий переход-
ный период. Вследствие открытия Западом различных областей Земли
всеобщая история становится всемирной историей, формирующей в
Америке, Австралии и Южной Африке заморские части в качестве новых
заморских западных исторических тел. Одновременно прекращаются
набеги евроазиатских кочевников, структурировавших до той поры все-
мирную историю, отзвуком которых были набеги маньчжуров и турок.
Свою решающую характеристику в качестве динамического и рево-
люционного по своим результатам переходного периода это 400-летнее
время получает благодаря начавшейся еще до 1500/1600 г., а затем утвер-
дившейся душевно-духовной экстравертности ставшего в этом процессе
ведущим Запада, которой свойственно совершенно изменившееся отно-
шение между человеком и Землей: вместо приспособления к Земле и
миру или ухода от мира утверждается тенденция господства над Землей.
Новое, присущее этому периоду динамическое отношение между че-
ловеком и Землей ведет к тому, что он распадается на время освоения и
объединения Земли и время насыщения, когда все условия начинают
противодействовать продолжению проводившихся до той поры тенден-
ций открытия. Вследствие этого вновь возникает совершенно новое от-
ношение между человеком и Землей, что ведет к внезапному изменению
всех внутренних возможностей и форм структуры, которое разрешается
в хаотических явлениях кризиса, окружающих нас сегодня, и возвещает
совершенно новую, третью мировую эпоху, на пороге которой мы сегод-
ня стоим.
Укажу кратко на в общем хорошо известные характеристики перио-
да открытия, чтобы затем обрисовать в общих чертах период насыщения
и переход к совершенно новой ситуации сегодняшнего дня.
Развивающаяся на Западе с 1500/1600 г. динамичность и экстраверт-
ность цивилизаторски означают для периода времени открытий, продол-
жавшегося до 1880 г., следующее: возникновение современной, эмпири-
ческой, систематически прогрессирующей науки, которая примерно с
1760 г. ведет к стремительному перевороту в современной технике. В со-
циально-структурном и политическом отношении это означает развитие
современного капитализма, который поддерживается возникшим с 1500 г.
рационализированным, современным, свободным от всяких оков, обла-
дающим полной властью государством.
Обладая этими потенциальными возможностями, техника ведет, с
одной стороны, к империалистическому и торговому господству над от-
крытыми областями и набрасывает на всю Землю в рамках мировой эко-
номики сеть обмена, сотканную из империалистического европейского
господства и товарных отношений, в которой существует ряд охваты ва-
202
ющих всю Землю империалистических центров, каковым является преж-
де всего Англия, — сеть, общий центр которой в качестве мирового хо-
зяйства находится на Западе и которая стремится втянуть в себя все ис-
торические тела Земли, проводя тем самым внутреннее преобразование
их коренной социальной структуры. С другой стороны, вследствие сна-
чала незначительной, но впоследствии растущей эмиграции из Европы
одновременно возникают и формируются упомянутые внеевропейские
новые западные исторические тела.
Этот экстравертный период экспансии не означает на Западе в ду-
шевно-духовном, следовательно в культурном, смысле конец попыток
решить вопрос о смысле бытия. Вернее, это в упрощенном определении
означает, что на основе установления господства, оттесняющего маги-
ческие и мифологические верования интеллектуального просвещения,
наряду с новыми философскими системами происходит преобразование
вопроса о смысле бытия. Этот вопрос ставится применительно к отдель-
ному человеку и его включению в общество, следовательно, направлен
уже не на потустороннюю, а на посюстороннюю интерпретацию бытия.
Самый действенный всемирно-исторический по своему значению
ответ на это дан после 1763 г. Руссо посредством решительно сформули-
рованного им представления о естественном, предшествующем всем ис-
торическим установлениям существовании, которое, если это необходи-
мо, следует противопоставить им и которое, основываясь на свободе и
равенстве людей, требует для всех самоопределения. На этой основе
вслед за трансцендентальными религиями возникают три социальные ре-
лигии: одна из них — сегодня распространенная преимущественно в Со-
единенных Штатах — социальная религия свободы и равенства шансов,
принимающая тенденции к фактическому неравенству в современном
капитализме как допустимые; вторая — представленная преимуществен-
но в Европе — социальная религия свободного демократического соци-
ализма того или иного оттенка, которая также рассматривает свободу как
высшее благо, но для осуществления равенства считает неизбежным пре-
образование капитализма, и наконец, известная третья — господствую-
щая в настоящее время в России и пытающаяся воздействовать на мир,
которая ставит выше всего равенство, понимаемое как социальный эга-
литаризм, а свободу отдает для этого во власть тоталитаризма, осуществ-
ляющего этот мнимый социальный эгалитаризм средствами террора.
Таким образом, насыщенный капиталистическими и государствен-
ными властными тенденциями экспансии и указанными социальными
религиями в качестве больших новых возможностей объединения веры
и воли, Запад, достигший господства над объединенной им Землей, всту-
пил в завершающий период насыщения эпохи с 1880 до 1890/1914 г.; в
этот период вследствие такого насыщения сложилось, как было сказано,
совершенно новое отношение между человеком и Землей и наметилось
совершенно новое душевно-духовное и фактическое членение сил. На-
сыщение, явившееся просто следствием ограниченности Земли, обрело
спой особый, всеопределяющий характер посредством цивилизаторско-
го технического результата стремительно развивавшегося, начиная с XIX в.,
прогресса науки и созданной им техники. Техника, прежде всего благо-
даря совершенно новым средствам сообщения и коммуникации, менее
203
чем за полвека превратила Землю в совершенно новую, стремительно
сжимающуюся планету. Научно обоснованный технический прогресс
вместе с основанной на нем гигиене заселил эту «уменьшившуюся» пла-
нету стремительно возрастающим вследствие уменьшения детской смер-
тности числом людей, которое в течение 25-30 лет стало удваиваться, тог-
да как до того оно преимущественно вследствие детской смертности
практически оставалось почти стабильным. То и другое, уменьшение
размеров Земли благодаря средствам коммуникации и стремительный
рост населения, означало полное изменение отношения между челове-
ком и Землей. Разделение земного пространства, которое неизбежно
должно было заменить продолжающееся освоение Земли, привело к обо-
стренной этими двумя обстоятельствами, совершенно новой, ранее не-
известной форме существования, где место свободно связанных друг с
другом, открытых для населения исторических образований заняли
коммуникативно тесно связанные организмы, которые стали ощущать
себя как насыщенные, а на юге и востоке Азии даже как перенасыщен-
ные людьми сосуды, начинающие замыкаться друг от друга.
Все основные явления кризисного периода, в котором мы находим-
ся, прежде всего превращение империалистических войн в мировые вой-
ны с их ужасными последствиями, становятся понятны, исходя из этой
новой ситуации. Понятным становится в его общих чертах и положение
в мире, если добавить следующие моменты духовно цивилизаторской и
душевно-духовной сферы:
1. Посредством цивилизационного прояснения сознания Запад уже в
период открытия новых областей Земли поколебал прочность магически-
мифических культур.
2. Это теллурическое прояснение сознания создало во всем мире эпо-
ху массовизации с присущим ей духовным «восстанием масс», чему спо-
собствовали техническая мобилизация возросшего населения и его гос-
подство над средствами информации.
3. Восстание масс в форме социальной религии равенства, наиболее
простой и примитивной из трех социальных религий, стадо паролем от-
носительно отсталых по уровню цивилизации европейских и внеевро-
пейских регионов, прежде всего России, а вслед за ней Китая, следова-
тельно, регионов, где никогда не было интегрированного в идее свобо-
ды человечества. Восстание масс может возникнуть во всех областях та-
кого рода.
4. Человек, интегрированный в свободе и гуманности двумя други-
ми социальными религиями, под действием пропагандистско-экспан-
сионистской природы этой религии равенства держится своей соци-
альной религии, защищая свое социальное, политическое и духовное
существование.
5. Старые, бывшие ранее магическими исторические тела, почти пол-
ностью сокрушенные, как мы видели, в своей прежней сущности, могут
быть спасены для религии свободы и свободно интегрированного чело-
вечества на всей Земле только посредством быстро проведенной внут-
ренней радикальной социальной реформы.
По этим причинам ранее исторически столь свободно и многообраз-
но расчлененная Земля находится теперь, тесно сжатая, в состоянии так
204
называемой холодной войны. Внутренне же ее раньше столь расточи-
тельно разнообразная душевно-духовная судьба теперь и на обозримое
время скована охватывающей всю Землю альтернативой: будет ли она и
впредь обителью интегрированного в свободе и гуманности человека —
последней формы «третьего человека»! '. Или ее старые исторические
тела должны стать местом пребывания несвободных, находящихся под
властью террора людей, совершенно другого типа, созданного соци-
альным фанатизмом религии мнимого социального равенства? Конкрет-
но: должна ли Земля стать обителью человека как робота бюрократичес-
ки-автократической машины террора, человека с совершенно иными
свойствами, «четвертого человека», как я его определил?
Зависимость всей Земли от этой важной внешней и внутренней аль-
тернативы я называю концом прежней многообразной истории и нача-
лом новой эпохи в истории человечества, которая ставит совершенно
новые, дотоле неизвестные миру внутренние и внешние задачи и разви-
тие которой будет совершенно иным.
2. Новая ситуация применительно к человеку и Земле
Но что практически означает эта основанная на том, что Земля как бы
сжимается, охватываемая упомянутыми факторами, альтернатива, в ко-
торой оказался начинающийся исторический период, в какие рамки дей-
ствия она ставит человечество, станет понятным только тогда, когда мы
конкретнее характеризуем рост населения в качестве одной из причин
этого сжатия и при этом поставим вопрос, в какой мере этот количе-
ственный фактор дополняется, быть может, качественным.
Такова постановка вопроса столь мало исследованной до сих пор в
Германии науки, которая определяется в англосаксонских странах как
экология; это вопрос о потенциальных возможностях Земли, в отноше-
нии к которым находится масса населения. При постановке этого воп-
роса становится очевидной громадная антиномия: безграничное увели-
чение населения, с одной стороны, и почти столь же безграничное
уменьшение находящихся в распоряжении растущего населения потен-
циальных возможностей Земли —с другой. Эта антиномия должна быть
включена в качестве отправного пункта во все исторические исследова-
ния настоящего и будущего. Только в этом случае развитая альтернати-
ва обретет свой особый вес, получит свое лицо.
Население Земли увеличивается в настоящее время в среднем на 1%
в год, в некоторых — причем именно сегодня уже перенаселенных обла-
стях, таких, как Китай и Индия, — даже на 2% и более. При остающей-
ся неизменной рождаемости и уменьшении детской смертности вслед-
ствие дальнейшей гуманизации рост населения станет еще более высо-
ким. В течение всего, обозначенного мной как статический, периода ис-
тории от 4000 до н. э. до 1500/1600 н. э. и далее население Земли оста-
валось практически стабильным. Лишь приблизительно с середины
XVIII в. оно стало увеличиваться в геометрической прогрессии, предос-
терегающе нарисованной на стене Мальтусом, а с 1800 г. (только с это-
го времени существуют статистические данные) до сегодняшнего дня
205
выросло с 500-540 млн. в 5 раз, достигнув приблизительно 2,5 млрд. Если
этот процесс будет продолжаться, то через 50 лет население Земли пре-
высит 3 млрд. К 2150 г. оно составит 20 млрд., т.е. увеличится почти в 7
раз, еще через 100 лет — 45 млрд.; около 2350 г. — 135 млрд.2. Очевидно,
что при продолжении этого процесса население будет расти лавинооб-
разно, вследствие чего через обозримое время какое-либо его соответ-
ствие теперешним условиям и возможностям Земли будет вообще утра-
чено. Задолго до этого, вероятно, еще до того как пройдут 100 лет, — не-
зависимо от того, удастся ли увеличить ресурсы Земли или придется ис-
ходить из ее растущего истощения, — возгорится яростная борьба за ме-
ста, богатые ресурсами, и за плодородные земли, в ходе которой целые
комплексы населения, сотни миллионов, будут радикально истреблены,
чтобы хоть на время предоставить победителям возможность существо-
вания, конечно, при условии, что сегодняшний рост населения будет
продолжаться.
Однако на практике все это обстоит еще хуже. Если человечество не
откажется от ставшей на протяжении истории привычной эксплуатации
Земли, ему уже через несколько десятилетий угрожает ситуация такой
борьбы за ресурсы. Ибо то, что оно совершало до сих пор, есть не что
иное, как необдуманная эксплуатация сил и сокровищ Земли, означаю-
щая продолжающееся уменьшение ее потенциальных возможностей по
отношению к растущему числу населения.
Я оставляю в стороне, что, начиная с последнего переходного дина-
мического периода, вследствие технизации произошел огромный рост
разработок в поисках угля, нефти и всех минералов. Ибо этот процесс
эксплуатации земельных ресурсов, связанный с технизацией, может быть
посредством технических открытий — достаточно указать на атомную
энергию — преобразован таким образом, что неизбежное в конечном
итоге истощение природных ресурсов будет отодвинуто на необозримое
время. Действительную опасность представляет собой использование
живого вегетационного ритма Земли для пропитания человека и обеспе-
чения его древесиной. Вегетативный ритм Земли, дающий древесину и
продукты питания для человека и его скота, был в послеледниковых кос-
мологических условиях приведен к своего рода равновесию, при котором
тот или иной вид леса, тот или иной вид более или менее плодородной
— в экологическом отношении — степи превосходил все остальное на
Земле. Космически обусловленная тенденция к высыханию в послелед-
никовый период в Северной и Центральной Азии, а также в Аравии и
Северной Африке, уже упоминалась, так же, как ее значение для внеш-
ней структуризации первого, еще статичного исторического периода по-
средством вызванных этим волн переселений.
Однако данная тенденция чрезвычайно усилилась уже в первой час-
ти этого периода жизненными привычками кочевников и полукочевни-
ков, формировавших вместе с земледельческим населением, над кото-
рым они стояли, его историю, и распространилась почти на всю терри-
торию исторического региона, охватывающего тогда только Евразию.
Произошло это прежде всего потому, что сохранившиеся в лесах резер-
вуары влаги уничтожались необдуманной вырубкой деревьев, в резуль-
тате чего в умеренной зоне резервы леса остались только в европейско-
206
российской и среднеевропейской областях, находившихся тогда вне ис-
торических событий. Впрочем, эти резервуары вместе с лесами исчезли
не только по всей равнине все равно высыхающей среднеазиатской вы-
сокогорной области, но также в Китае, Передней Азии и во всех странах
Средиземноморья, включая Италию и Испанию. С исчезновением этих
резервуаров влаги установился тот засушливый климат, который свой-
ствен теперь всему этому древнейшему историческому региону. Одно-
временно вследствие смывания возникшего раньше в ходе выветривания
гумуса началась эрозия почвы, усиленная редкими, но безудержными
дождями. Знакомый нам горный скелет, старческий лик Земли, остав-
ленный нам здесь историей, был результатом этого, так же, как продол-
жающееся опустошение и ухудшение орошаемой стекающими водами
низменности.
На двух больших азиатских субконтинентах, в Индии и Китае, этот
процесс не затронул лишь орошаемые приходящими с моря муссонны-
ми дождями джунгли Индии, прежде всего на севере; но уже охватыва-
ющее большую часть страны Деканское плоскогорье отдано во власть
высыхания и вымывания. В Китае, также зависящем от тихоокеанского
муссона, почти полное уничтожение лесов означало, что в лежащей пе-
ред прорывом Хуанхэ области возникновения китайской культуры ог-
ромные древние пласты лёсса настолько разрыхлились, что эрозия дохо-
дит сегодня до 100 м. глубины, огромные массы лёсса в течение несколь-
ких десятилетий уносятся поднятыми ими водами и до 2,5 млрд. т. этой
земли сбрасывается в Желтое море. Вместе с тем вследствие ежегодно
следующих за муссонами очень сильных из-за отсутствия леса северных
ветров в стране происходит выветривание почвы превратившимся в пыль
лёссом, и эрозия, несмотря на террасирование и удобрение, распростра-
няется по всей стране.
Таков дар первого длительного статического периода последующей
истории3.
Но и следующий динамический период 1500-1900 гг. дал не многим
лучшие результаты в новых крупных заморских областях, в Северной,
Центральной и Южной Америке, Австралии и Африке.
Оставим в стороне вообще засушливую и не имеющую большого зна-
чения для общей ситуации Австралию. Африку, достаточно орошаемую
дождями только в северо-восточном горном регионе и в тропической
области Конго, в остальном же являющейся огромным блоком высоко-
горья, сухого и покрытого пустынями, Африку, этот излюбленный
объект колониального господства, лучшие современные экологи называ-
ют экологически умирающим континентом, умирающим и в его более
благоприятных регионах, так как они безрассудно используются под
пашни и пастбища чрезвычайно быстро растущим населением и опусто-
шаются выжиганием степей. В последнее время в связи с земледельчес-
ким конгрессом в Монтевидео такие же предостережения делались в от-
ношении Центральной и Южной Америки, где с ростом населения так-
же производится хищническое уничтожение девственных лесов. И всем
сегодня известно, что агрономически наиболее плодородной и богатой
области Земли, территории Соединенных Штатов, вследствие необду-
манной вырубки лесов в XIX в., начиная с первой четверти настоящего
207
столетия угрожало, и все еще угрожает, превращение все больших частей
громадной центральной равнины, представлявшей собой некогда плодо-
родные земли прерий и лесов, в стерильные, песчаные области, следова-
тельно, в пустыни. И это, несмотря на служащие образцом всему миру
предпринимаемые меры по озеленению, ирригации и систематическому
распределению воды и почвы.
Таким образом, результат истории в двух первых больших перио-
дах сводится для отношения человека и Земли к тому, что она переда-
ла эту Землю с ее — еще сегодня — постоянно сокращающимся аграр-
ным потенциалом в качестве постоянно уменьшающейся природной
основы существования фантастически растущему населению нашего
(третьего) периода, населению, повсюду уже наталкивающемуся на
границы Земли.
Вследствие этого уже сегодня громадные регионы Земли фактически
перенаселены: Китай с его 450 млн. жителей, где на душу населения при-
ходится 0,25 га земли; Япония с 70 млн. населения, где на пять человек
приходится 1,5 га; Индия, где ее приблизительно 400 млн. жителей на-
ходятся, несомненно, в еще худшем положении.
Что же касается Европы, которая в течение периода экспансии, на-
чавшейся с XIX в., обеспечивала свое растущее население преимуще-
ственно обменом промышленных продуктов на продукты питания и сы-
рье всего мира, а сегодня потеряла свои аграрные восточные регионы,
обладающие избытком нужных ей продуктов, от прибалтийских госу-
дарств, Польши и Венгрии до Болгарии и Румынии, уступив их Восто-
ку, то она, конечно, в значительной степени и сегодня зависит для обес-
печения потребности в продуктах питания и сырье своего составляющего
250 млн. населения от остального мира, в котором повсюду, кроме США,
все более уменьшающемуся экологическому потенциалу противостоит
неконтролируемое увеличение населения.
Можно высчитать, на какое, не слишком отдаленное время, хватит
еще имеющихся избытков продуктов питания для населения названных
областей. Это относится при продолжении увеличения населения и к
Соединенным Штатам, столь сознательно стремящимся уже в настоящее
время к экологической стабилизации. Весь исторический регион Запа-
да и все остальные, находящиеся сегодня под его влиянием территории
Земли, следовательно, кроме Америки и Европы, Австралия, Полинезия,
Передняя Азия и Африка, весь этот регион, который представляет собой
единую по своей судьбе общность в великом столкновении между свобо-
дой Запада и несвободой Востока, которое будет господствовать над всем
будущим историческим периодом, может в этот грядущий исторический
период сохраниться под углом зрения «человек и Земля» только, если, с
одной стороны, научится регулировать численность населения, предот-
вращая его увеличение, и, с другой — будет тщательно сохранять посред-
ством экологических мер все, данное Землей, и стремиться восстановить
то, что было утрачено в предыдущие исторические периоды.
Нам приходится уже сегодня предоставить сильно перенаселенным
регионам Земли, Китаю, Японии, Индии, решить, как им посредством
изменения роста их населения не только в сторону приостановления его
роста, но и посредством сознательного его уменьшения, и экологических
208
мер разорвать ужасный порочный круг, угрожающий прежде всего двум
странам, Китаю и Индии, этот circulus vitiosus дальнейшего ухудшения
почвы (ибо ее приходится все больше истощать для удовлетворения по-
требностей все большего числа людей), грозящий бедствием, которое
можно несколько смягчить, но не устранить гуманитарной помощью.
Нам же надлежит задать себе вопрос: как обстоит дело для грядущей
эпохи с отношением человека и Земли в стране, где действует пропаган-
да несвободы с ее по крайней мере начинающими проявляться тенден-
циями коммунистической экспансии, — следовательно, в России, в се-
годняшней Советской России, охватывающей Сибирь, Туркестан и се-
верные и центральные регионы Средней Азии и далее до Владивостока?
Россия, наряду с США, первая в мире обратилась к проблеме эколо-
гии,причем для всей своей огромной в настоящее время территории.
Однако она рассматривает ее не с точки зрения приостановления в бу-
дущем увеличивающейся лавины населения, насчитывающего сегодня
уже 190 млн. Напротив, она из соображений власти стремится к увели-
чению населения. Между тем у России существуют все основания задать
себе вопрос: как она сможет уже через 20 лет удовлетворять потребнос-
ти населения, которое составит к этому времени, вероятно, 230-240 млн.
И даже в том случае, если она откажется в столь далекой перспективе от
попытки поднять жалкий уровень жизни своего населения.
Вследствие климатических условий и характера почвы этой области в
ней сносная, а подчас и очень плодородная, земля находится лишь на
сужающейся к востоку полосе, идущей от Белоруссии и Украины через
Южный Урал и Туркестан к горному массиву Байкала. Условия эксплу-
атации этих земель столь неблагоприятны, что на данном, направленном
к востоку клине уже сегодня на душу населения приходится не более 1 га
пахотной земли, т.е. меньше, чем в США (1,25 га). А из-за неравномер-
ного, только на западе благодаря влиянию Атлантики в некоторой степе-
ни достаточного выпадения дождей в благополучные годы, и непродол-
жительного летнего тепла на этой полосе пахотной земли с короткими
промежутками повторяются неурожайные годы, вследствие чего, несмот-
ря на небольшое население, приходящееся на квадратный метр, уже в
царское время здесь регулярно возникал голод, лишь в некоторой степе-
ни преодолеваемый государственной политикой создания запасов. Это
означает, что Россия будет через 20 лет практически перенаселена, не-
взирая на все экологические меры по сохранению урожайности, которые
в этой стране уже сегодня применяются.
Россия будет перенаселена, если с помощью технического чуда не
будут изменены ее климатические условия, и тем самым способность
удовлетворить потребность ее населения. Это чудо русские действитель-
но стремятся совершить. Оно должно произойти вследствие осуществле-
ния так называемого Давыдовского проекта, посредством которого воды
двух впадающих в Северный Ледовитый океан больших рек, Оби и Ени-
сея, будут остановлены гигантскими плотинами. Таким образом будет
создано на Оби «Сибирское море», равное по величине Западной Герма-
нии, и наполовину меньшее Енисейское море: уровень их воды будет
настолько высок, что большую часть можно будет отвести каналом (че-
рез горный туннель) в Аральское и Каспийское моря, следовательно, на
209
теплый, но сухой юго-запад. Этим было бы создано 100 млн. га новой
орошаемой пахотной земли и одновременно изменен засушливый кли-
мат, что дало бы возможность прокормить дополнительно 200 млн. лю-
дей. Это безусловно гигантский и, если он удастся, преобразующий эко-
номику план.
Но очевидно ли, что он удастся? В нем много не вызывающих уверен-
ности факторов. И даже если он будет осуществлен, то при продолжаю-
щемся росте населения он только отодвинет перенаселение России на 30
лет, следовательно, в целом на 50 лет. И тогда опасное стремление к эк-
спансии, которое вследствие тенденции к увеличению стоит за экспан-
сией коммунистической веры и империалистической политики, обретет
еще большую мощь.
Однако здесь следует указать на решающее соображение, которое, к
счастью, полностью изменяет угрожающие перспективы. Если бы пред-
полагалось использовать рост населения в войнах с целью захвата земель,
то это было бы в любой момент столь же бессмысленно, сколь и практи-
чески невозможно. Ибо Россия окружена перенаселенными, неспособ-
ными принять добавочное население странами: на востоке и юго-востоке
это Китай, Индонезия, Индия, на западе — Европа, на юге — сухое плос-
когорье Передней Азии. Установить там свое господство посредством
распространения обещающего спасение коммунистического учения и
применения политической практики в принципе допустимо. Но заселе-
ны русскими эти страны быть не могут. Попытка же вытеснить коренное
население означала бы конец мирового коммунизма и создание против
России всемирной коалиции, которая задушила бы ее. Невозможно рас-
пространять коммунизм посредством истребления народов, обращаемых
в коммунистическую веру.
Следовательно, раньше или позже Россия будет вынуждена, несмот-
ря на ее гигантские проекты во внутренней политике, прийти посред-
ством изменения своей демографической политики к стагнации населе-
ния. Впрочем, до этого ее привычное стремление к росту населения и
экологические условия, быть может, окажут давление на ее политичес-
кие и коммунистически-империалистические тенденции к экспансии,
вследствие чего она сможет предложить своему населению «хлеб» ком-
мунистических успехов в мире вместо «масла» действительно лучшего
обеспечения.
Таковы, следовательно, перспективы, которые, возникая из нового
отношения человека и Земли, создают поистине не конструированные,
а вполне реальные рамки и основу нового мирового периода, в который
мы вступаем.
Если же мы наконец под влиянием нужды выйдем из чисто природ-
ного отношения человека и Земли и перейдем к новому, рационально
продуманному и сформированному отношению, которое наложит узду
на дикие импульсы к экспансии, то это окажет благотворное воздействие
на всю сферу существования и изменит ее сущность. Возникнут совер-
шенно иной духовный климат и совершенно иные возможности суще-
ствования.
Это следует ясно видеть: опасность, с одной стороны, возможность
спасения — с другой. Опасность: никто, даже обладающий высшим ан-
210
горитетом, не должен, используя догматические уверения, игнорировать
эту ситуацию и предлагать правила поведения, будто не существует опас-
ность, что человечество посредством дальнейшего увеличения окажется
в состоянии пожирающей друг друга стаи саранчи. Никто не имеет пра-
ва делать вид, что он ничего не замечает, и пользоваться своим автори-
тетом, чтобы препятствовать уходу с этого пути.
Если предотвращение опасности действительно удастся, то это будет
означать одновременно конец эры безудержной коммунистической эк-
спансии. Оно означает смягчение и затем конец глобального, становя-
щегося со временем однообразным напряжения между свободой и не-
свободой, в которое сегодня насильственно втянут некогда столь разно-
образный исторический процесс. Этот процесс, который совершился бы
тогда в вещно и духовно очень близких друг от друга, но терпящих свое-
образие друг друга исторических телах, мог бы после духовной замкну-
тости в нынешней напряженности вновь прийти к разнообразию. В то
множество, в котором в разнообразных формах и образах общее могло
быть опять, как раньше, выражено в особенном, общезначимое — в ос-
нованных на географическом и историческом обособлении формах. Мы,
человечество, пришли бы после длительного времени ожидания, в кото-
ром мы должны были спасти самое витальное в витальном, нас самих и
основу нашей свободы, после времени ожидания, которое продлится,
вероятно, еще десятилетия, — наконец пришли бы к самим себе, к фор-
мированию из различия данной сущности. Но до того нам надлежит уви-
деть настоящее и задать себе вопрос, чего оно по-человечески от нас тре-
бует. Для этого следует прежде всего сказать кое-что о самом человеке.
Примечания
1 О понятии и возникновении «третьего человека» см. мою работу
Kulturgeschichte als Kultursoziologie. 2. Aufl.. 1951. Глава первая. Он стоит за вто-
рым человеком, носителем культур «примитивных» народов. Второй же человек
является развитием первого, следовательно, неандертальца.
2 См. Huxley J. Sincl zuviel Menschen aufder Welt?//Der Monat. Hf., 27, 28.
3 См. прежде всего Vogt W. The Road to Survival. N.Y., 1948.
Глава 2
Человек и его изменения
1. Человек
Ипполит Тэн говорит: человека как такового {den Menschen) не суще-
ствует. «Человек» — лишь пустая абстракция. Здесь имеется в виду не
биологический род. И не то, что считают «духовным» своеобразием этого
рода по сравнению с животными, — данная от природы свободная спон-
танность, иное отношение к среде, превращающее ее в духовно достига-
емый мир, и пр. Имеется в виду, что человек не есть действительно еди-
ное существо в том смысле, что, независимо от того, находится ли он на
социально высокой или низкой ступени, принадлежит ли он к тому или
другому классу, независимо от цвета его кожи, его расы, принадлежно-
сти к тому или другому народу, он составляет в каждом индивиде часть
душевно-духовной целостности, как полагаем мы. Мы воспринимаем его
как часть некоей сущности, полагающей в каждый индивид притязание
на осуществление: оно есть нечто заданное, не имеющее ничего общего
с определенной «идеей» человека, и существует в самом человеке, в каж-
дом индивиде как факт, который можно не замечать, обойти молчанием,
скрыть и игнорировать, но нельзя устранить.
На утверждении такой «естественной» заданности человека была ос-
нована Французская революция, провозглашение прав человека и вой-
на Соединенных Штатов за независимость. Для Тэна же, отрицающего
значение Французской революции в своей истории Ancien regime* и
Французской революции, это не что иное, как выражение анализируе-
мой и критикуемой им с ядовитой иронией «доктрины», доктрины, ко-
торая, сложившись из научного рационализма и классицистского упро-
щения, превратила Французскую революцию в историческое бедствие,
каким он ее видит, независимо от того, было ли для этой революции в
качестве реакции против невыносимости Ancien regime исторически до-
статочно оснований.
В сущности то, что для Тэна служило только выражением доктри-
ны, и то, что одновременно происходило в Соединенных Штатах,
было переходом решающего душевно-духовного великого деяния XVIII в.
в политическую и социальную сферу. Это часть той волны, которая от
«нового открытия человека» в этом богатом идеями веке перемести-
лась в политику.
Ж.Ж. Руссо лично был несомненно малоподходящим, а в своей «Ис-
поведи» производившим тяжелое впечатление индивидом для этого от-
крытия. Однако прежде всего в сфере чувств, и отчасти также в сфере
мыслей, он завершил это открытие и превратил его в историческую силу.
В провозглашении прав человека и гражданина в Соединенных Шта-
тах также проявилось общее, возбужденное Руссо, эмоциональное тече-
ние. Однако в качестве такового оно полностью выразилось в значнтель-
" Строго режима (франц.).
212
но более конкретных, коренившихся в англосаксонском мире представ-
лениях. Оно определялось, помимо мыслительных формулировок Локка,
прежде всего никогда не исчезавшим в англосаксонских странах созна-
нием ограниченного значения государства, Commonwealth, по сравне-
нию с неотчуждаемыми правами индивидов, что делало это провозгла-
шение в его исторически особых условиях резко очерченным фактом
большого значения. Однако этот документ никогда бы не вышел по сво-
ему значению за пределы истории Соединенных Штатов, если бы он не
был вскоре введен в эмоциональное течение «нового открытия челове-
ка», которое Руссо если и не создал как общую волну чувств и представ-
лений, то довел до первой его вершины; и совершенно независимо от
того, насколько убедительными или неубедительными были мыслитель-
ные конструкции, в которые эта идея была заключена, она знаменовала
собой общий прорыв человеческого сознания в большую глубину, прорыв
сознания, который de facto' воздействовал прежде всего на вторую поло-
вину XVIII в. как откровение; для самого Руссо уже зарождение этой
идеи носило тот же характер.
То, что происходило с 1760 г. под влиянием «Nouvelle HcloVse» и
«Emile»*\ следовательно, за четверть века до Французской революции,
обычно называют волной «чувствительности», и с точки зрения посети-
телей французских салонов это вполне правильное определение. Одна-
ко эмоциональное течение, провозгласившее «возвращение к природе»,
которое было вызвано новым, понятым в качестве исконного образом
человека в рамках нового, понятого как исконное «естественного» суще-
ствования, было чем-то, совершенно выходящим за пределы салонов.
Это было событием стихийной силы. Не оценив его воздействия на
Францию, также невозможно понять поведение французских аристокра-
тов, которые в августовскую ночь 1789 г. отказались в свободном поры-
ве от всех своих публично-правовых привилегий, как и потрясение в
Германии, выразившееся там около 1770 г. в движении «Бури и натиска»
и достигшее своей вершины в «Вертере». Невозможно понять и общее
воздействие «Вертера» — ведь и Наполеон носил его в кармане. Это воз-
действие основано на том, что в «Вертере» более художественно и глубо-
ко, чем это сделал Руссо, дано как непосредственное переживание по-
стижение «вновь открытого человека» и его естественного существова-
ния, которое для Тэна столетие спустя было просто «доктриной», но в то
время оно охватило в различной окраске Европу и Америку как прорыв
в сознание и как чувство и стало основной, преобразовавшей их идеей.
Политическая и духовная судьба этой идеи была в Штатах, англосак-
сонских странах и в Европе очень различной. В принципе это — рожде-
ние последнего западного типа третьего человека, того, в котором дол-
жны были интегрироваться задатки свободы и гуманности. И таковым
это осталось для Соединенных Штатов, вся политическая история кото-
рых построена на фиксировании прав человека, незыблемых на протяже-
нии всего XIX в. и в настоящее время. Эта неизменность прав распрос-
транилась позже на Англию, несмотря на то что здесь к Французской
" Фактически {.ют.).
" «Новая Элоиза» и «Эмиль* (франц.).
213
революции относились преимущественно отрицательно. Вплоть до сего
дня неизменность этих прав является элементом личного и политичес-
кого формирования всего англосаксонского мира.
В континентальной Европе эта идея пережила тяжкую историю. Нас
завела бы слишком далеко попытка проследить ее судьбу в романтизме
и историзме. Решающим оказалось, что восприятие стихийного характе-
ра ее обусловленного сознанием и чувствами значения было утрачено, и
ее воспринимали, подобно Тэну, как нечто доктринерское, связанное так
или иначе с «рационализмом» XVIII в.; между тем первоначально это от-
крытие было направлено именно против рационализма и лишь в своем
внешнем выражении проявляло известную обусловленную временем
родственность ему. И решающим было далее то, что в континентальной
Европе стали в конечном счете искать в отличие от этого искаженного
«рационалистического» образа нечто ему противоположное — мнимые
факторы несвободы и неравенства людей. Навсегда останется потрясаю-
щим, как эти поиски завершились открытием Гобино неравноценности
человеческих рас и каким невероятным историческим и человеческим
опустошением в виде применения современной расовой теории был их
результат.
Руссо, непосредственное влияние которого на Французскую револю-
цию было несомненным, проплел в своем открытии нового человека два
этапа. В его влиянии были также два различных уровня и различные пе-
риоды. У него всегда необходимо отделять исконный «опыт» от мысли-
тельной конструкции и эмоционального характера, в которые он заклю-
чал опыт под действием личных свойств и свойств времени.
Ни на одном их этих этапов он не говорил, вопреки тому, что ча-
сто утверждается, о природном недифференцированном равенстве
людей, ни на одном из них не говорил о безоговорочной «доброте» ес-
тественного человека, человека, который открылся ему как познанная
им реальность.
Постигнутое им на первом этапе (начало которого относится к
1749 г.) как непосредственный опыт, как откровение, представление
о «естественном человеке» было, как он знал1, чем-то, что в его искон-
ном образе можно только предчувствовать за сформированным исто-
рией и обществом и, по его ощущению, искаженным в своем искон-
ном образе человеком. Нечто, что можно ощутить лишь в известных,
пребывающих до всякого разума движениях души, как, например, дви-
жения самоутверждения (Гатоиг de soi)* , с одной стороны, и сверх-
личностные движения самоотождествления со всем одушевленным и
его страданием (pitic)" — с другой. Этот постигнутый в его исконных,
эгоистической и альтруистической сферах человек для Руссо, когда он
вводит его как образ в историческое развитие и его формирования, —
сознательно лишь доступная чувству и фантазии данность. Это, и ни-
чего больше, для него прежде всего его знаменитый «дикарь», кото-
рый служит ему отправным пунктом. Также лишь относительное зна-
чение истины имеют для него намеченные им ступени историческо-
' Любовь к себе {франц.).
'* Сочувствие (франц.).
214
го развития вместе с самим по себе в целом безусловно правильным
утверждением, что только собственность и закон надстроили над ес-
тественным неравенством людей сложное искусственное членение,
вследствие чего к концу Ancien regime он видит во Франции «горстку
людей, купающихся в изобилии, тогда как «голодающие массы» лише-
ны самого необходимого».
Такова первая ступень его, представленного со страстью, но и с само-
критикой, внутреннего опыта. Он не подвергался из-за этого личным
нападкам, но и не стал вследствие этого больше, чем «знаменитостью».
Иной была вторая ступень его развития, посредством которой он ока-
зался не только творцом сентиментализма, но и протагонистом идуще-
го вширь и вглубь прорыва в последней трети XVIII в., создателем под-
линного нового открытия человека в новом постижении человеческого и
естественного. Эта вторая ступень коренится в упоении чувством, опи-
санным им в «Confessions»*, когда он внезапно увидел нового «естествен-
ного человека» как возможного в настоящем, в потоке охватывающей
людей и природу страсти, полной любви и доброты («Nouvelle HeloTse»),
присутствующим в ребенке, которого можно при определенном воспи-
тании, основанном на внимании к его задаткам и импульсам, развить в
«естественного человека» («Emile»).
Тем самым его открытие достигает величайшего правдоподобия и не
случайно также большого влияния, которое в известной степени дей-
ствительно отчасти реализовало открытие нового человека в отношении
людей друг к другу.
В период этого эмоционального взрыва Руссо уничтожил большую
часть своих политических работ, касающихся вопросов государственно-
го строя, оставив только им самим изданный фрагмент, «Contrat social»".
Опубликованная в 1762 г., почти одновременно с «Emile» (вскоре
после «Nouvelle Heloise»), эта работа, как и «Emile», была осуждена
парижской, а также женевской, находящейся под влиянием церкви,
цензурой, и сожжена; одновременно4был отдан приказ об аресте авто-
ра. Следует указать, что в этой работе не содержится ничего из позже
сформулированных другими прав человека, а практические полити-
ческие выводы, которые в ней были сделаны, вполне могут быть ис-
толкованы и в консервативном смысле (например, монархия — госу-
дарственная форма для больших стран, правление аристократии — для
средних). Эта работа, наиболее далекая от всех его заявлений, связан-
ных с его первоначальным богатым опытом о человеке, стала, как из-
вестно, во Французской революции «mot d'ordre»*** радикального кры-
ла якобинцев прежде всего в трех пунктах: мистическая, преисполнен-
ная энтузиазма идея «volontc gcnerale»"", которая в качестве консти-
туирующего и контролируещего элемента политического сообщества
была понята радикалами как всепоглощающая, тогда как Руссо пони-
мал ее только как нужную для сообщества, включающую, правда, в
" «Исповедь» {франц.).
" Общественный договор (франц.).
'" Девизом (франц.).
"" Обшам воля (франц.).
215
себя свободно определяемую в своих границах часть существования
отдельного человека. Затем революционно толковалась также идея
допустимости ниспровержения государственной власти в соответствии
с выражением volonte generale. И, в-третьих, отказ от разделения вла-
стей и представительной системы, а также от партий, как ограничива-
ющих абсолютность volonte generale.
Эта совершенно непрактичная по своей концепции и чисто теоре-
тически конструированная работа стала вследствие ее роли в револю-
ции весьма противоречивой основой политического аспекта второй
волны всемирного воздействия Руссо, которое и сегодня еще не завер-
шилось. Ибо из трех социальных религий, которые в качестве резуль-
тата развития конца XVIII и середины XIX в. нас окружают, возник-
шая из идеологии якобинцев коммунистическая несомненно коренит-
ся в этом.
Погибшая во Франции в могилах массовых жертв гильотины «дей-
ствительность» открытого Руссо «нового человека» сохранилась на кон-
тиненте в утонченной, хотя и более бледной форме в немецком понима-
нии гуманности. Однако слабость, с самого начала присущая этому по-
ниманию, его несколько ослабленный энтузиазм, не реализующий пол-
ностью мрачные демонические стороны человеческой природы, те сто-
роны, которые сделали возможным террор во Франции, эта слабость по-
служила причиной того, что данное понимание стало просто плоской
понятийностью, идеей гуманности. И таким образом оно действительно
превратилось из познанной действительности в доктрину. К тому же оно
сочеталось в обычном смешении понятий с тем, что по своей сущности
было совершенно иным, исторически связанным с образованностью, а
именно с античным гуманизмом.
Затем последовало романтическое обращение к миру и человеку, ко-
торое продолжало провозглашать общую человечность, но наряду с отно-
шением к бесконечности любовно возрождало для человека в отличие от
прежнего понимания индивидуализированную конкретность истории и
жизни. За этим пришел историзм, наполнивший всю сферу существова-
ния судьбоносной конкретностью государства и народа. Так, идея гуман-
ности могла практически продолжать оказывать воздействие, что и про-
исходило в Европе до конца XIX в. наряду с утверждением национальной
идеи (гуманизация трудовых отношений, Женевская конвенция и т.п.).
Тэн не мог, тем не менее, признать в 70-х годах действительность вновь
открытого человека. И если, исходя из этой действительности, каждому
индивиду отводилось определенное притязание на ее осуществление, то
для Тэна и его времени это с полным основанием оставалось просто док-
триной.
Равенство? Расы не только существовали, но и были исконно различ-
ными, имели различное значение и предъявляли различные требования
к существованию (Гобино). И дело не в равенстве, а в сохранении и гос-
подстве наиболее ценных рас. Таковой была другая сторона также «док-
тринерского» нового представления о человеке, которому Тэн, пользуясь
понятием расы, позволил сложиться, не видя, как почти все, ее опасных
последствий.
После той цены, которую человечество заплатило за эту слепоту и
216
после того, что оно с тех пор испытало от зверских свойств человека,
замаскированных ранее идеей гуманности, которые после уничтоже-
ния прежнего постижения гуманности выступили как единственная
человеческая «действительность», мы, как я полагаю, после 1933 г. и
его последствий вновь, хотя и по-новому, поняли: человек существу-
ет. И не в том, однажды принятом в высоком одухотворении несколь-
ко просветленном образе. Он существует как непосредственно по-
знанная нами в страдании действительность, как действительность и
единство, в котором заключены все градации существа от его высоты
до его глубины, присущие едва ли не каждому индивиду, но как един-
ство, которое в своих высших душевных пластах не может вынести,
если оно в какой-либо своей части насилуется, произвольно уничто-
жается, если в ее экземплярах разрушаются или игнорируются заклю-
ченные в них возможности развития. Это - целостность, существова-
ние которой действительно становится понятным только исходя из
непосредственного постижения трансцендентности. Таким образом,
сегодня для нас вновь существует человек как познаваемая нами дей-
ствительность.
Мы знаем, что среди трети человечества эта действительность сегод-
ня не признается и поэтому насилуется. В других частях Земли мы мо-
жем ежедневно обнаруживать, что уважение к ней практически отсут-
ствует. Мы знаем также и не должны забывать, что в истории долгое вре-
мя существовали большие регионы, где в соответствии с господствовав-
шим там уровнем сознания не помышляли ни о равном для всех уваже-
нии к человеку, ни о равном для всех развитии. И не только там, где гос-
подствовало рабство или кастовая система, но и во многих других, в тех,
например, где существовали феодальные отношения. И это происходи-
ло в то время, когда на Западе христианство уже открыло людям глаза на
понимание их общечеловеческой индивидуальной и коллективной сущ-
ности. Таким образом, XVIII век с его «новым открытием человека»
предстает лишь как секуляризирующее завершение того, что, по крайней
мере в духовной сфере, уже существовало.
Это новое открытие XVIII века, недогматическое и направленное
прежде всего на понимание человека как предназначенное от природы к
свободе и равноправию существо, было прежде всего, хотя оно и опре-
делялось также идейными импульсами, в своей основе достижением но-
вой цивилизационно универсальной ступени сознания. И именно тогда,
когда Запад ввергся в расовом безумии в самоуничтожение и забыл о
нем, это сознание распространилось по всей Земле в виде постулата по-
литической свободы и самоформирования. Сколь ни гротескной — с об-
щей точки зрения — часто представляется его отчасти возникшая из ан-
тиимпериалистической направленности националистическая изоляция,
но и в этом искажении оно не что иное, как подтверждение факта: сегод-
ня даже вне Европы есть единый человек, какое-то ощущение его как
индивидуально и коллективно растущей силы, которая является не док-
триной, а непосредственным знанием, заключающим в себе совершен-
но определенные постулаты свободы и самоопределения. В этом каче-
стве изложенное нами — не что иное, как выявление нового основного
историко-эпохального фактора.
217
2. Изменения человека.
Однако существуют также определенные люди {die Menschen). Люди,
поскольку это нас здесь интересует, не только в их наследственно сло-
жившемся личном и этническом разнообразии, в той фауне, которая ин-
тересует этнолога и биолога. Они существуют прежде всего в смысле из-
менения в рамках их этнического членения, изменения во времени, вез
соматической вариативности, под влиянием социологической и есте-
ственной страты, «условий» подверженной переменам среды.
В исторической действительности друг другу противостоят не раз на-
всегда установленные, изменяемые лишь посредством смешения крови,
этнически многообразные унаследованные данности с особой окраской
спонтанности и формой, с одной стороны, и социологической и есте-
ственной средой — с другой. Противостоят друг другу эта среда и изме-
няемые ею и посредством нее качества спонтанности и характера одина-
ковых этнических данностей. Они изменяемы в форме фиксаций, распа-
да этих фиксаций и образования новых фиксаций особой, наличной в
определенных наследуемых массах и их членениях человечности. Ины-
ми словами, существуют создаваемые меняющейся естественной и соци-
ологической стратой изменения характера в формировании типов и лич-
ностей одинаковой наследуемой массы, которые ничего общего не име-
ют с соматически-биологическим изменением и все-таки очень значимы
душевно и духовно. Мы должны ясно понимать сущность этих измене-
ний, прежде всего потому, что в настоящее время мы находимся, быть
может, перед значительно меняющимся преобразованием человека в его
соматически неизменном облике, следовательно, перед преобразовани-
ем естественного человека.
Сначала немного о фактах.
Эти фиксации, их распад и образование новых являются проходящим
через всю историю и сильнейшим образом участвующим в ее формиро-
вании феноменом.
В другом месте мы говорили о том, как вследствие начавшегося в 1200
г. до н.э. вторжения кочевников произошло духовное обращение боль-
ших частей затронутых этим вторжением человечества, — точнее всех
значительных тогдашних культурных регионов западной и южной Евра-
зии, от китайцев на востоке до греков на западе, — к вопросу о смысле
существования и к разработке универсальных религиозных, философ-
ских и художественных толкований бытия. В работе «Трагическое и ис-
тория» я подробно показал, как это духовное движение начинается и чле-
нится посредством продолжающихся столетиями столкновений и насту-
пившего в конце концов взаимопроникновения двух различно фиксиро-
ванных типов людей; как оно возникло посредством образования слоя
свободных кочевых народов над хтоническим земледельческим кресть-
янским населением, над этими крестьянами, которые, начиная с 3600 г.
до н. э., были государственно организованы проходящими волнами ско-
товодческих племен, но не преобразованы полностью их фиксирующим
магизмом.
То, что здесь с 1200 г. до и. э. духовно сталкивалось друг с другом и
проникало друг в друга, было, конечно, и этнически, следовательно, и в
218
расовом отношении, различными элементами. Однако столкнувшиеся и
боровшиеся друг с другом фиксации свойств не имели ничего общего с
происхождением и расой. С одной стороны, существовала характерная
фиксация стремления к экспансии, к свободному существованию в боль-
шом пространстве «живущих в седле» кочевых народов, одинаковая у
монголов, арийских или дорийских племен; с другой — скованное узос-
тью сознание зависимости аграрных хтонических народов, будь то мао-
ри, жители джунглей, обитатели области Тигра и Евфрата или Нила, пе-
лазги или другие. Воздействующая веками среда наложила свой отпеча-
ток и на одних, и на других; они противостояли друг другу в историчес-
кой борьбе, которая, проходя параллельно, с промежутками, и образуя
сходные этапы, вела к далеким по своему значению результатам, к ос-
новным вариантам всех толкований существования, разрабатываемых во
всемирной истории.
Здесь перед нами, следовательно, исторический процесс решающего
значения, который полностью коренится в фиксирующих характер пре-
образованиях среды и в их последствиях.
Вся остальная история также проникнута связанными со средой фик-
сациями, их преобразованиями и распадами, которые были, возможно,
и не основополагающими, но почти всегда очень значительными.
Римляне эпохи Республики были, несомненно, чрезвычайно сильно
фиксированным типом. Они сложились и непрерывно фиксировались
под влиянием длительных завоеваний, к которым Рим был исторически
вынужден, и эта фиксация легла в основу их завоевания мира. Греки вре-
мени победы при Марафоне, и даже времени Пелопоннесской войны,
представляют собой иной, значительно более мягкий и гибкий, но все-
таки родственный тип, который получил свою фиксацию, — упрощенно
говоря, — благодаря постоянной связи между политическим самоуправ-
лением, агоном, опасностью и духовным досугом при значительном гос-
подстве над Средиземноморьем.
Греки римского времени, которые в качестве домашних учителей и
педагогов подвизались в знатных домах и городах в эпоху Сципионов, а
затем Империи, утратили почти все характерные черты древней фикса-
ции, то, что называли arete, отпечатком мужественной добродетели. Это
были ловкие, услужливые люди без каких-либо претензий на гордость и
твердость характера. Они были выброшены из фиксации греков време-
ни Марафона, как из своей древней формы, преимущественно вслед-
ствие изменившихся социологических условий, в которых им приходи-
лось жить и действовать после подчинения македонцам, а затем римля-
нам; по крови же они были прежними. С другой стороны, римляне ста-
рого типа, которые в 340 г. до н. э. после битвы при Алл и и бесстрашно
ждали в сенате вторгающихся галлов, а после поражения при Каннах в
216 г. до н.э. удивительным образом справились с карфагенцами благо-
даря единству и силе характера, настолько утратили свою фиксацию за
100 лет революции и гражданских войн, продолжавшихся от Гракхов (133
г. до н.э.) до битвы при Акциуме (31 г. до н.э.), что уже император Клав-
дий (41-54 гг.) не мог, как показал Ранке-Граве2, создать гордый и пре-
исполненный достоинства сенат, ибо среди римских семей уже невоз-
можно было найти соответствующее число не склонных к раболепству
219
мужей. Конечно, древние семьи понесли большие потери вследствие вза-
имных истреблений; император мог бы, правда, возвести в сан сенаторов
людей из народа, но изменился и народ. Это изменение произошло тогда
еще не в результате вторжений или расширения гражданских прав, а
вследствие социологического распада римлян старого типа. Основываясь
прежде на необходимости выполнять свой долг и привыкнув к скудно-
му существованию, римский народ после завоевания мирового господ-
ства (особенно после завоевания Древнего Востока, начиная с 150 г. до
н. э.), распался под воздействием полученного богатства как бы в про-
цессе диффузии. Следовательно, здесь произошли, как и у греков, кри-
сталлизация и распад под влиянием иной среды.
Что касается изменения, которое ведет не от кристаллизации, а к ней,
то достаточно указать на известное преобразование типа англичанина,
который после шекспировского времени, когда он был свободен и экс-
пансивен, стал полностью подобен жителю Центральной Европы, прой-
дя через узость пуританства, превратился посредством строгой, религи-
озно окрашенной самодисциплины в джентльмена по своему типу; эта
эволюция предстает нам как исторически ясно прослеживаемая шкала
изменений под действием изменившейся историко-социологической
страты. Или указать на столь сильное воздействие, превратившее блес-
тящего и многообразного по своим свойствам галло-француза Grand
siecle* в несколько упрощенный тип «honnete homme»'*.
Остановимся теперь на распаде фиксаций. Я не хочу подробно гово-
рить об изменениях в характере, которые претерпели в XIX в. не очень
сильно фиксированные немцы, и о распаде этой фиксации, которая с
ужасающей силой произошла в гитлеровское время. Однако все-таки
следует задать вопрос: как стало возможно, что за менее чем полтора сто-
летия в Германии без изменения субстанции народа вместо добропоря-
дочного, мечтательного и добродушного немца, как несколько свысока,
но правильно описала в гётевское время средний тип немца мадам де
Сталь, как вместо среднего типа немца времени «поэтов и мыслителей»
появился вдруг очень реалистичный, духовно жестко упорядоченный,
готовый к действию, отнюдь не мечтательный человек бисмарковской
эры, что в сущности представляет собой коренное изменение типа харак-
тера? И как оказалось возможным, что за этим последовал тот полный
распад, та дезинтеграция всех прежних задатков фиксации в гитлеровс-
кое время, когда — не следует пытаться это скрывать от себя — не толь-
ко «наверху» господствовала бессовестная, занимающаяся массовыми
убийствами клика гангстеров, но, что во всяком случае не менее важно,
в широких бюргерских слоях возникло такое хаотическое изменение на-
родного характера, что никто не мог быть уверен, не будет ли он предан,
даже родители —не будут ли они преданы собственными детьми.
Если уже все ранее названные фиксации представляют собой обус-
ловленные обстоятельствами изменения характера, которые должны
быть как-то связаны со сдвигом задатков, то этот внезапный распад, в
котором, изменяя характер народа, приходят в действие, поднимаясь на
Великого пека (пека Людовика XIV) {франц.).
Порядочного, благовоспитанного человека {франк.).
220
поверхность характеров, погруженные до того в глубокий мрак массы
задатков, — этот распад уточняет поставленный вопрос следующим об-
разом: как все эти обусловленные обстоятельствами сдвиги в характере
и его распад связаны со сдвигами задатков? Какова та динамика, кото-
рую мы должны себе в данном случае представить?
3. Толкование изменений.
Ответ на этот вопрос гласит:
Каждый человек по своим задаткам — существо, состоящее из многих
пластов. И в нем, сменяя друг друга, могут господствовать или отступать, те
или иные задатки. Каждая фиксация какого-либо типа означает, что эта
фиксация складывается посредством господства определенных задатков и
их связи и интеграции с ядром личности. Каждое изменение той или иной
фиксации означает, что она сменяется вследствие ставших рецессивными
ранее решающих задатков и интегрирующего господства тех, которые до сих
пор были рецессивными. И каждый распад без определенной фиксации
указывает на то, что интеграция вокруг бывших доминирующими задатков
распалась и что теперь новые, бывшие рецессивными задатки в соперниче-
стве с теми, которые были до сих пор доминирующими, создают известное
хаотическое состояние характера, которое в зависимости от обстоятельств и
своего типа может иметь самое различное значение.
Каждый народ или каждое развивающееся сообщество обладает опре-
деленной, далеко выходящей за пределы личных изменений огромной
многослойной массой задатков. Господство определенных масс задатков
или сил задатков в различных индивидах, а часто и в различных соци-
альных слоях, и при репрезентативности определенного господства и
связанной с ним интеграции в качестве действительно наличного гос-
подства и рецессии потенций задатков, всегда различно по силе. Из этого
следует известное всем различие индивидов. Но из этого следует также,
что задатки, ставшие вследствие определенного типа фиксации рецес-
сивными, в некоторых индивидах, эвентуально даже в целых слоях, не
становятся полностью рецессивными, а, как и раньше, остаются скрыто
или открыто господствующими. Следовательно, фиксированный тип,
который стал репрезентативным, «относителен». Он всегда только веду-
щий тип, образец, наряду с которым в различных отклонениях существу-
ют индивиды или слои, которым он, может быть, внешне навязан, но ко-
торые в действительности ему не соответствуют или у которых совершен-
но очевидно существует иное членение задатков.
Следовательно, так же как в каждом отдельном человеке фиксация
может быть изменена или устранена посредством устранения интеграции
и переворота в господстве и рецессивности, параллельно этому в целом
народе может идти и идет следующее изменение: репрезентативными
становятся слои народа или личности, которые раньше были незаметны
или лишены влияния, а теперь превращаются в носителей новой возни-
кающей фиксации или распространяют распад каждой фиксации по-
средством структуры своих задатков. Исторически распространение из-
менения фиксации, новая фиксация или распад фиксации чаще всего.
221
хотя и не обязательно, совершается посредством того, что определяющи-
ми становятся такие иначе интегрированные или дезинтегрированные
слои. Достаточно вспомнить о функции так называемых «круглоголовых»
в Англии в возникновении пуританской фиксации. Эта фиксация исхо-
дила от верующих пуритан армии Кромвеля, и эта армия, состоявшая из
«круглоголовых», представляла собой определенный тип задатков, кото-
рый затем, преобразуя общий тип, постепенно утвердился в Англии. Ре-
волюционизация, которая в конечном итоге временно привела у нас к
полной дезинтеграции и к репрезентативности на все способной нефик-
сированности, совершенно очевидно исходила от дезинтегрированных
слоев ландскнехтов, сохранившихся после Первой мировой войны; в
действительности они и до своей победы благодаря Гитлеру никогда не
прекращали заниматься своим ремеслом и в промежуточный период.
Излишне, вероятно, пояснять, какими средствами и каким способом
может распространяться ведущий и служащий образцом тип как фикса-
ции, так и распада. Ясно, что это может происходить самыми различны-
ми способами. Но очевидно также, что шкала прямых средств ведет от
престижа и веры через приспособление из выгоды к опасению понести
ущерб или к страху террора. К этому затем добавляется все многообра-
зие иных воздействий и прежде всего непроизвольное влияние по-ново-
му сформированной среды.
Влияние новой социологической или изменившейся естественной
страты проявляется повсюду в изменениях характера, которые следует
однозначно понимать как изменение в господстве и рецессии задатков.
Для типа, интегрированного в человечности и свободе, с которым мы
познакомились как с заключительной формой третьего человека, эти из-
менения являются возможной «судьбой». Он сам — только человеческая
фиксация господства и рецессивности определенных задатков, которые
стали формировать характер, — что произошло с различной силой и кон-
центрацией в различных группах и слоях народов, прежде всего на Запа-
де. Однако, так как это господство и эта интеграция распадаются и сме-
няются господством других у всех нас существующих, лишь ставших ре-
цессивными задатков или, скажем более отчетливо, господством бру-
тально насильственных и низких задатков, то это постоянно грозит нам
тем, что случившееся в Германии и оказалось, к счастью, только времен-
ным, причем остановленным лишь благодаря внешним факторам, повто-
рится в других местах как единичная или общая судьба.
Будем надеяться, что «переезд через Боденское озеро», состояние, в
котором мы с этой точки зрения находимся, произойдет без таких про-
исшествий. Но надо всегда помнить, что наше человеческое существова-
ние, которое мы под действием ряда сильных ударов истории научились
понимать как нашу «самость», может быть радикально уничтожено сре-
дой в своей внутренней возможности.
Примечания
1 Cp.Discours sur Porigine tie Pinegaliic ties homines. Особенно предислоиие.
: Rankc-Grave R. Ich. Claudius. Kaiser und Gott. Leipzig.
222
Глава 3
Форма современного существования
и ее опасность
1. Третий и четвертый человек
То, что мы назвали четвертым человеком и что в определяющей мир аль-
тернативе между свободой и несвободой, в которой мы сегодня пребы-
ваем, в коммунистической области ведет в настоящее время борьбу про-
тив интегрированного в свободе и человечности западного типа, с ант-
ропологической точки зрения, до которой нам пришлось довести наше
исследование, есть не что иное, как дезинтеграция применительно к за-
даткам. В ней ставшие вследствие наших западных привычек и структу-
ры нашего характера рецессивными слои наших брутальных и элемен-
тарных задатков стали внезапно господствующими и стоят ничем не свя-
занные рядом с нашими более тонкими свойствами, которые также еще
присутствуют, но в общем действовании исключаются. Быть может, они
и остались резервированными для семьи, быть может, для дружбы, тог-
да как общие действия совершаются на основе в значительной степени
примитивно воспринимаемых задатков, в первую очередь на хитрости и
грубости, и, исходя из этого, приводятся в соответствие с превративши-
мися в функцию террористическими действиями, к которым присоеди-
няются, конечно, и другие негативные потенциальные факторы.
Этот дезинтегрированный тип существовал в России в зачатках и до
современного коммунизма, который сегодня столь блестяще его исполь-
зует. Он был заложен в знаменитой русской «широте» и сделал, как из-
вестно, возможным интересное богатство и многогранность прежде всего
образов Достоевского. В настоящее же время он достиг в ведущих слоях
России подлинно виртуозных форм.
И если мы спрашиваем, что сделало возможным такое развитие, то с
чисто технической точки зрения наталкиваемся на доведенный до вели-
чайшей тонкости, законченный террор, спастись от которого невозмож-
но. Он — бюрократически технократическая машина, которая, если это
представляется полезным для ее целей, беспощадно использует одних
людей как воодушевляющий материал, а других, опасных ей, уничтожа-
ет; в слоях же ее функционеров она предпринимает именно упомянутую
дезинтеграцию, отделяя в известной степени соответствующие потенци-
алы их задатков и используя их для своих свободных от всех сдержива-
ющих оценок действий. Остаток же задатков, который ее не интересует,
так как он не может стать для нее опасным, она игнорирует и как бы ос-
тавляет на свободе, впрочем, при подлинном терроре этот остаток чрез-
вычайно сужается. Возникает мир полностью распавшейся, даже погас-
шей человечности, как мы ее сегодня видим рядом с нами.
Как обстоит дело с возможностями ее распространения? Как обсто-
ит дело в целом с опасностями, которые грозят интегрированному в сво-
боде и человечности третьему типу людей? Как обстоит дело с общими
факторами развития, будь то в области цивилизации, социальной струк-
223
туры или культуры, внедрению которых террор должен препятствовать,
так как они могут преобразовать его в «зачаточный продукт» дезинтегри-
рованного типа? Как обстоит дело с защитой его типа, рассматриваемой
изнутри?
Речь здесь идет не просто о распространении сегодняшнего комму-
низма в период сложившегося напряжения в историческом простран-
стве. Этот вопрос относится к другой плоскости, к специальному исто-
рико-социологическому анализу ситуации данного момента, начинаю-
щейся с великой исторической эпохи, в которую мы вступаем: этот ас-
пект рассмотрен мной в другом месте1. Речь здесь идет о более принци-
пиальном и общем, об уяснении социологических условий, внутри кото-
рых идет борьба между третьим и четвертым человеком. И если мы сна-
чала, упрощая вопрос для большей ясности изложения, исходим из того,
что рассеянные по Земле старые идеальные кристаллизации культуры и
грозящая им опасность, о чем мы говорили, известны, и оставляем так-
же в стороне структурные и политические формы, в которые история в
разных местах эти кристаллизации заключила и в которых она довела их
до нас, то в этом упрощенном уяснении следует противопоставить друг
другу в качестве объекта тенденций преобразования и эвентуально нуж-
ных стремлений к сохранению, с одной стороны, человека, рассеянного
историей в ее различных кристаллизациях по Земле и оставленного ею
в разных местах как особый тип, и, с другой — общее, совершенно_совре-
менное цивилизационное и техническое, социально-структурное и ду-
шевно-духовно беспорядочное движение, которое сегодня, разъединяя
прежние формы существования человека и его самого, тендирует к гос-
подству над ним и его поглощению.
Это движение в своей невидимой, в известном смысле верхней части,
покоится на общем прояснении сознания и духовной рационализации су-
ществования. В этой своей высшей, «духовной» части оно тесно связано с
идеальной стороной сегодняшней духовной ситуации, с ее позитивными
культурными течениями, но также — и сегодня преимущественно — с по-
лучившими там развитие тенденциями распада и диффузии.
В практическую жизнь оно привносит те многочисленные механичес-
кие и технические промежуточные звенья, которыми оно обусловлива-
ет социально-структурное формирование. И в существенной для нас
форме оно, многообразно расчлененное, олицетворяется сегодня в со-
временном рациональном и большей частью бюрократическом аппара-
те, который представляет собой только доведенную до предела вершину
кратко охарактеризованного выше технократического аппарата террора,
противостоящего сегодня Западу как непосредственная опасность.
Для судьбы третьего человека решающим является ясное понимание
этих связей, которые простираются от духовной до повседневно техни-
ческой сферы, и не только в общепринятых сегодня оборотах речи для
характеристики современной зависимости от них существования челове-
ка, а вполне конкретно. И для этого мы различаем составленную указан-
ным образом сознательно и идеально духовную сферу и сформирован-
ную другим указанным образом технически социально-структурную сфе-
ру, как некое наверху и внизу, в которое нее больше вводится наше су-
ществование.
224
Чтобы сделать отчетливым для последнего, следовательно, для этого
внизу, его интересующее нас воздействие на человека, целесообразно
различать две технические цивилизационные и социально-структурные
ступени, которые ведут к сегодняшнему состоянию, состоянию общего
утверждения технократического аппарата; во-первых, ступень старой
формы существования, в которой уже заключалась сильная бюрократи-
зация, и, во-вторых, ступень частичной индустриальной и коммуникаци-
онной механизации, которая начинается с современного промышленно-
го переворота и развивается с последней трети XVIII в. Совершив это
различие, легче понять характер структуры, представляющей собой со-
временный технократический аппарат существования и затем связь его
с тенденциями диффузии и распада формы, которые сегодня действуют
на человека с духовной, с «высокой» сферы. Лишь связь с этой сферой,
с состоянием сознания и с душевно-духовной ситуацией, с ее нынешни-
ми тенденциями к распаду, позволит полностью понять сущность угро-
зы, стоящей перед последним типом третьего человека, где бы он сегод-
ня ни находился.
При этом сразу же надо заметить: оба явления, власть аппарата и тен-
денции распада, возникли только с последней трети XIX в. в период, на-
званный нами периодом пресыщения.
2. Старая бюрократия и тенденции свободы
Бюрократический аппарат относится к силам, способствовавшим зарож-
дению исторической цивилизации вообще. При этом он одновременно
является самым старым врагом широкой инициативы и самостоятельно-
го формирования человеческой жизни. Таким он был начиная со свое-
го возникновения в первых культурах Древнего Египта и Вавилона, так
же как в Китае времени ханьской династии; в Египте и Вавилоне бюро-
кратический аппарат основал организованную цивилизацию и культуру,
а в Китае придал ей, опираясь на старые основы, определенный харак-
тер, сохраняемый тысячелетиями. Этот аппарат, а не феодализация, так-
же враждебная свободе, выросшая в соревновании с ним из почти по-
всюду образующего историческое начало господства, является подлин-
ной основой того, что торжественно освященная форма несвободы суще-
ствования стала в сущности общим основным выражением первого дли-
тельного этапа всемирной истории. Почти повсюду это произошло
вследствие того, что между организующим жизнь аппаратом господства
и происходящего из исконной магической культуры иератического нача-
ла было заключено поддерживающее друг друга соглашение2. В Индии
основанная на кастовой системе иератизация была так сильна, что делала
излишним развитие поддерживающей ее господство бюрократии. Иудеи
создали в окончательном формировании господства священнослужите-
лей нечто подобное совершенно иным образом.
Однако существовало — и это было решающим для душевно-духов-
ной судьбы человечества и для формирования типа людей — одно место
во всемирной истории, где жизнь, становясь исторической, принимала
принципиально иную структуру, а именно, область образования гречсс-
8 Зак. 3073
225
ких и римских полисов, начиная с 780 г. до н.э., и их распространения
за пределы Средиземноморья. В возникшей таким образом сфере гречес-
кой истории и позже римской культуры, в сфере, которая вследствие
особого характера этих полисов была в состоянии избежать как бюро-
кратии, так и иерократии, был впервые создан, хотя в последующем раз-
витии здесь основой и служило рабовладение, интегрированный в сво-
боде и гуманности тип третьего человека. Поэтому борьба греков против
волны несвободы и победа над этой несвободой, которая в лице персов
вторглась с востока, навсегда останется подлинным праздником совер-
шеннолетия нашего типа человека в истории.
В этом ничего не меняется от того, что позже Римская империя, тер-
риториально расширяясь и охватывая древние переднеазиатские и вави-
лоно-египетские области несвободы, в конце концов оказалась прони-
занной в своем аппарате управления восточными тенденциями несвобо-
ды. Даже в ее столь сложном последнем периоде в ней, по крайней мере
в духовной позиции и в жизненных привычках, определяющим жизнь
оставался сложившийся в период расцвета образ свободного человека. А
в своей человечности он даже обрел благодаря христианству, возникше-
му в период его плодотворного смешения с Востоком, гармоничность и
глубину, посредством которых он в качестве второго фундамента, наря-
ду с языческой древностью, действовал в дальнейшей истории и форми-
ровал там, где он оказывался, человечность. Но об этом позже.
Для этой дальнейшей истории следует с точки зрения борьбы между
тенденциями свободы и тенденциями несвободы, между бюрократией и
свободным формированием существования, напомнить о следующем:
во-первых, о том, что весь подлинный, как мы видели, бюрократически-
иератический Восток вплоть до вторжения Запада, в сущности вплоть до
настоящего времени, несмотря на волны переселенцев, которые затоп-
ляли в первую очередь Индию и Китай, сохранял свой некогда создан-
ный уклад несвободы. Китай — свой, основанный на власти мандаринов
и бюрократии, Япония — свой феодальный, Индия — свой, основанный
на иерократии уклад. Здесь нигде не сложилось ничего, что способно
было бы соответствовать античным или связанным с античностью хри-
стианским тенденциям свободы. К западу от Гиндукуша из сменивших
античность культур остался только ислам, оккупировавший южную часть
античной экумены; вследствие прочных культово-ритуальных уз он на про-
тяжении всей своей истории оставался феодально-авторитарным, следова-
тельно, лишенным какого-либо политического течения свободы. Две дру-
гие вторичные культуры второй ступени, Россия и европейский Запад, воз-
никшие вслед за позднеантичными волнами переселений, с Византией
между ними в качестве остановившегося в своем развитии остатка антично-
сти до 1453 г., остались как в свой первый период, от 800 до 1500/1600 гг.,
в так называемое средневековье, так и в следующую за ним эпоху, в Новое
время, ввергнутыми в борьбу между свободой и несвободой.
Византия, которая, наследуя Востоку и античности, создала своеоб-
разное смешение иератической бюрократии с античными традициями
свободы и привычками, перенесла в дальнейшую историю, с одной сто-
роны, древний переднеазиатско-египетский государственный аппарат
имеете со связанной с ним государственной метафизикой, с другой —
226
одновременно странным образом сохраняла и излучала благо античной
свободы.
Всемирно-историческим результатом было следующее: Россия, кото-
рая на своих первых, преимущественно феодальных стадиях, а в Новго-
роде отчасти также на стадии свободного города-республики, несомнен-
но обладала тенденциями свободы и взяла у Византии только веру и цер-
ковь, превратилась после «собирания земель русских вокруг Москвы», в
ходе которого она заимствовала в качестве фермента, укрепляющего го-
сударство, византийскую бюрократию и государственную иератику, в
крупный иератически-бюрократический монолит на востоке Европы,
который не зря объявил себя после падения Византии ее преемницей.
Здесь продолжали действовать все древние восточные бюрократические
тенденции несвободы, распространяя их на рядом находящуюся Европу.
Западная Европа, духовно покоящаяся в противоположность России
на общей концепции античности, создала, как известно, после своего
начального феодального периода к югу и северу от Альп свободные го-
родские республики. Однако ее государственные объединения сложились
вместе с рецепцией римского права, воспринятого от Византии, почти
полностью на основе бюрократически-иератического абсолютизма, ко-
торый заимствовал свои духовные опоры (милость Божию), совершенно
так же, как в России, из древних византийско-переднеазиатских источ-
ников, и заменял повсюду, куда он проникал, достигшую известного раз-
вития свободу тенденцией несвободы. Первый большой период совре-
менного государства в Европе является, таким образом, — за исключени-
ем анклавов, подобных Швейцарии и Нидерландам, — временем огром-
ного победного шествия уничтожающей свободу бюрократии, охватив-
шей европейский континент сетью бюрократического господства.
Здесь не место описывать начавшуюся с XVIII в. борьбу за свободу
против расширяющего эту сеть духовно питаемого Древним Востоком
абсолютизма, ни по ее духовным источникам, ни по ходу ее развития.
Только на два момента, важных для судьбы современного человека в
этом историческом процессе, следует обратить внимание: Англия, совер-
шив своевременно государственно-парламентарное преобразование сво-
их властей, как бы чудом, несмотря на начальную бюрократическую на-
правленность, избежала победы абсолютизма. Она развила и сохранила
common law*, основу своего догосударственного правового существова-
ния, и здесь не образовалась государственная бюрократия, получившая
свое развитие в других местах вместе с рецепцией римского права.
Вследствие этого, Англия, как и весь возникший под ее влиянием анг-
лосаксонский западный регион мира, — следовательно, кроме Канады и
Австралии, прежде всего Соединенные Штаты, — никогда не знала тен-
денций несвободы, созданной абсолютизмом бюрократизации. Вплоть
до современной ситуации с ее иными тенденциями эти страны не были
затронуты бюрократизацией и ее психическим воздействием на челове-
ка. Факт, который для западного и современного мира имеет почти та-
кое же, хотя и иное по своим внешним признакам, значение, как спасе-
ние свободы греками в античности.
' Обычное пр;шо (анг.1.).
227
На европейском континенте под влиянием Французской революции
также шла борьба за политическую и духовную свободу. Но за этой револю-
ционной борьбой XIX в. не стоял старый привычный тип свободы, как в
англосаксонских странах. И совершившиеся революции оставили всюду
неприкосновенным старый гнетущий, авторитарный бюрократический ап-
парат господства, созданный абсолютизмом; и там где, как в Центральной
и Восточной Европе, свобода, в известной степени под русским влиянием,
утвердилась лишь наполовину. Таким образом, к началу современной исто-
рии Западная Европа обладала лишь сломленной сферой свободы. В старых
бюрократических абсолютистских областях свобода находилась в состоянии
каждодневной борьбы с издавна унаследованными, защищенными бюрок-
ратизацией тенденциями к несвободе. В дальнейшем мы подробно остано-
вимся на последствиях этого факта для человека.
Сначала еще: старая бюрократия, даже там, где она была вполне раз-
вита, не была сплошной и не пыталась, отклоняя тенденции к свободе,
полностью устранить или изменить господствовавшую в них жизненную
субстанцию. В XIX в. там, где она сохранилась среди тогдашних форм
борьбы между свободой и несвободой, она, даже обладая легитимно-
иератическим признанием, не имела достаточной силы, чтобы полнос-
тью остановить развитие образа человека, созданного движениями сво-
боды и человечности XVIII в., и его влияние на фактическое формиро-
вание существования. Таким образом, в первый большой этап современ-
ной борьбы между свободой и несвободой западный мир был, несмотря
на намеченное здесь разделение, на две части, проникнут прогрессиру-
ющей идеей человека, интегрированного в свободе и человечности.
3. Частичная технизация
Этот период либерализации является с последней трети XVIII и в XIX в.,
как известно, также временем частичной индустриальной и коммуника-
ционной механизации существования, которая вместе с технизирован-
ным капитализмом начала свое движение из Англии в остальной мир.
Если старый бюрократический аппарат с его не сплошным и консерва-
тивным характером был в целом далек от революционного преобразова-
ния существования или придания ему другой формы, если он оставлял
неприкосновенной человеческую жизнь, которую он, правда, лишил сво-
бодного коллективного формирования, в ее прежней замкнутости про-
фессии и труда, то теперь из сферы развивающейся, научно обоснован-
ной и прогрессирующей техники вместе с промышленным и соци-
альным преобразованием, совершенным в ходе так называемого про-
мышленного переворота, было предпринято первое наступление на ста-
рую форму замкнутого на профессии и труде, группированного и крис-
таллизованного человеческого существования. Возникающему промыш-
ленному пролетариату его труд противостоял не только как нечто чуждое,
предложенное ему в трудовом договоре другим слоем, слоем владельцев
средств производства. Он противостоял ему одновременно как нечто, все
более лишаемое технизацией с ее машинным производством и разделе-
нием труда своего предметно-душевного содержания. Работающему про-
228
летарию, социально беспощадно эксплуатируемому в первый период ка-
питализма, характер требуемой от него работы грозил духовным упадком
и душевным опустошением. По мере усовершенствования и развития
технизации посредством современных рационалистических методов ин-
тенсификации труда (тейлоризм, конвейер и т.п.) пролетарий как будто
нее больше превращался в часть технической аппаратуры.
Если из сегодняшнего времени с его полным подчинением существо-
вания аппарату и созданными им опасностями для человека, на которые
мы тотчас укажем, бросить взгляд на период, предшествовавший полной
технизации существования, содержавший как будто — и действительно
содержавший — такую огромную не только социальную, но и душевную
опасность для занятых ручным трудом рабочих, втянутых в технизацию,
то возникает чувство, будто рабочие, унесенные страшным потоком, в
общем вышли из него невредимыми.
Не решена социальная проблема, хотя в целом, по крайней мере в
развитых странах, удалось поставить границы эксплуатации труда благо-
даря реакции объединенных идеей свободы и человечности людей и ре-
акции самих трудящихся, не уменьшена и потеря душевных сил в меха-
нической работе.
Однако общее наступление на человеческую природу рабочего было
все-таки остановлено. Оно могло быть остановлено потому, что рабочий
был в состоянии дистанцироваться от ставшего ему социально и пред-
метно внутренне чуждым, больше не удовлетворявшего его труда, даже
если он хорошо выполнял его. Он мог спасти себя как человека, требуя
одновременно с этим дистанцированием сокращения рабочего времени,
что позитивно означало «свободу от этого труда».
И наступление на рабочих было остановлено благодаря тому, что в
рамках этого относительного освобождения от труда при одновременном
улучшении жизненного уровня на Западе сформировались группы рабо-
чих, провозгласивших этосом своих действий не только улучшение сво-
его положения, но и интеграцию человечества в свободе и гуманности;
эти великие лозунги были взяты из XVIII в., и осуществления их рабо-
чие стали требовать не только в политике, но и на производстве.
На этом кажущемся обнадеживающим фоне опасность, связанная с
третьей ступенью развития, ступенью власти аппарата и полной техни-
зации существования, на которой мы сегодня находимся, и особенность
этой опасности только и могут быть ясно поняты.
4. Полная власть аппарата. Внешняя угроза.
Мы сначала рассмотрим эту опасность, продолжая сказанное, как часть и
следствие внешнего формирования существования, чтобы в известной сте-
пени уяснить ее сосредоточение в центральном для нее месте сегодняшней
социальной структуры. Затем мы попытаемся соединить полученную кар-
тину опасности для человека с воздействием названной нами верхней, «ду-
ховной», сферы, с ее воздействием не только на этот центральный пункт
социальной опасности, о котором пойдет речь сначала, но и на всю атмос-
феру, с последствиями, следовательно, для всего социального тела.
229
Вся сегодняшняя аппаратно-техническая форма существования основа-
на в своей особенности на том, что на возвышающемся над физическим
трудом уровне концентрирована техника, машины и бюрократическая фор-
ма существования. Она основана на том, что совершаемая и здесь, т.е. ду-
ховная, работа насколько это возможно, рационально разделена, технизи-
рована и из этого разделения составлена, следовательно, механизирована и
в этой механизации в значительной степени лишена одушевленности.
Можно сказать, что это устанавливается начиная со «времени пресы-
щения» в период открытия, следовательно, с 1880 г., когда Земля вслед-
ствие развития техники быстро сжалась как планета и в связи с этим на-
чалась подлинная современная массовая эпоха. В этот период техника,
перестав быть частичной, ведет к полной технизации, которая в различ-
ных, всем нам известных формах и обликах, пронизывает всю жизнь,
втягивая ее в свою проволочную сеть. Она создает по всей Земле нахо-
дящиеся в тесной коммуникации технически уменьшившиеся простран-
ства, которые включены в общее, также ставшее маленьким простран-
ство. В этих ставших маленькими пространствах уже описанное внача-
ле увеличение населения могло само по себе посредством новых возмож-
ностей концентрации привести к тенденциям массовизации сегодняш-
него существования. Но к этому прибавилась в качестве второго момента
крупная организаторская деятельность по заполнению этих пространств.
Ибо как само собой разумеющееся заполнение этим новым простран-
ствам соответствует огромная, при некоторых обстоятельствах даже ги-
гантская организация, в которой общая технизация в качестве рацио-
нального принципа ее структуры только и может стать действенной, в
свою очередь усиливая повсюду тенденции массовизации.
Новое формирование допускает также как внешне видимое следствие
сегодняшнюю локальную концентрацию населения, и в концентриро-
ванной технизации оно ведет к возникновению управляющих центров в
новых пространствах, так как для аппаратного манипулирования необ-
ходимы ячейки управления. Эти ячейки управления по своей тенденции
являются также бюрократическими центрами. Но это не центры прежне-
го бюрократического типа, а новые образования, ибо в них рациональ-
но организована стоящая над непосредственным производством продук-
та труда духовная деятельность, разделенная на осуществление функций
распределения и управления. Старая бюрократия отходит на второй
план; оттеснив ее, на первый план выходит вместе с полной технизаци-
ей также технизированная и рационализированная в процессе труда но-
вая бюрократия, которая развивает стоящую над прежним существовани-
ем аппаратную систему для разделения труда на функции выполнения
задания, организованного распределения и центрального управления.
Этот аппарат, который стоит над чисто физическим трудом, имею-
щим дело только с мертвым материалом, занят принятием духовных ре-
шений, а тем самым в целом и судьбой человека. По мере того как рабо-
та по принятию духовных решений превращается в некое механизиро-
ванное, разделенное на части и проведенное таким образом «это», про-
сто в вещь, подчиненную схематическому, соответствующему актам ре-
шению, весь процесс труда пересгает быть человеческим. Возникает
опасность того, что человеческое начало в осуществлении труда больше
230
не участвует, потому что перестают чувствовать и видеть то, что духовно
противостоит труду, а именно человека, с которым связано выполнение
труда; эта работа в бюро становится лишенной всего человеческого, ста-
новится тем, что сегодня обычно называют «бюрократическим».
И к этому добавляется еще один момент. Человек, выполняющий эту
технизированную и механизированную духовную работу новой бюрокра-
тии, не может просто дистанцироваться от своей деятельности, как это
делает рабочий. Ибо его деятельность, поскольку она в качестве духов-
ной работы всегда нуждается в какой-то доле собственного решения,
требует участия, даже фактического отождествления с ней, сколь она ни
механизирована и ни превращена в шаблон. Так, внутри этой механизи-
рованной новой бюрократии и ее аппарата вместе с обесчеловечением
труда возникает та опасность, из которой мы исходили, опасность дезин-
теграции того, кто выполняет этот труд. Этот человек отдает часть свое-
го Я возникшему «это», в создании которого он участвует, тогда как ос-
тальная часть его существования продолжает, дистанцируясь, существо-
вать. Иными словами, тенденция бюрократического аппарата состоит в
том, чтобы, частично функционализируя человека, расщепить его душев-
но и духовно. Это грозит дезинтеграцией человека, которая может пред-
ставлять собой техническую ступень, предшествующую беспощадному
механизирующему террористическому тоталитаризму с его бесчеловеч-
ностью, следующей в ходе логической эволюции.
В противоположность физическому труду здесь, следовательно, про-
истекающее из технизации труда и его бездуховности воздействие на че-
ловеческую сущность и заключающаяся в этом опасность не могут быть
просто устранены собственной реакцией выполняющего работу.
Возникающий таким образом при господстве аппарата духовный
функционализм и связанные с ним тенденции расщепления человека
касаются, как оказывается, прежде всего не широких масс трудящихся,
а слоя, занятого технизированным духовным трудом, следовательно, в
наших понятиях, — слоя служащих и чиновников. Неясной, требующей
еще разъяснения в своих тенденциях в зависимости от условий, остает-
ся подлинная судьба масс, связанная с новой формой существования.
Там, где сегодня организованные рабочие по названным выше принци-
пам спасения свободной гуманной человечности противодействуют тен-
денциям распада их ставшей бездушной профессиональной судьбы, не-
сомненно существует достаточно существенный предел не только, что
известно каждому, социального и духовного порабощения масс, но и об-
щего распространения тенденций духовной дезинтеграции, идущей от
бюрократически функцмонализированных слоев до уровня слоев, сто-
ящих сегодня более низко в социальном отношении.
5. Духовная сфера
Какое значение имеет для воздействия таких тенденций дезинтеграции
сначала на функционализированные слои, а от них эвентуально ниже,
сегодняшнее качество высшей духовной сферы, состоящей из соедине-
ния идейных элементов и осознанно цивилизаторских тенденций? В
231
данное время в этой духовной сфере есть низкий уровень в виде преоб-
разованных в массовые верования социальных религий, верование де-
мократически-либеральное, демократически-социалистическое и сегод-
няшний коммунизм. Высший уровень этой сферы, связанный с общей
идейной ситуацией и с сознанием времени, — продукт так называемых
духовных слоев. Его носителями являются интеллектуалы, как их сегодня
называют.
В нашу задачу не входит анализ сущности и структуры этой духовной
сферы, характера, происхождения и действий ее отдельных частей. Нам
важно установить двоякое: во-первых, социальные религии, находящи-
еся на связанном с жизнью низком уровне, подвержены воздействию
сил, — и как будет показано, — сил распада, которые исходят из высших
частей этого духовного слоя, в очень различной степени в зависимости
от того, насколько они догматизированы. На либерально-демократичес-
кую и демократически-социалистическую установки, оставшиеся если не
в принципе, то практически открытыми, влияние сил, идущих из чисто
духовной сферы, сильно и непосредственно; на коммунистическую,
строго догматизированную, — оно осуществляется только в форме, при-
данной ей слоем функционеров и вождей. Далее: сами эти силы, образу-
ющие мир сознания и идей времени, прошли за последние 200 лет такое
развитие в несущих их «духовных» слоях, которое изменило характер и
степень их воздействия на все существование, а тем самым и на вклю-
ченное в это общее существование человека; поэтому описывать это из-
менение придется по этапам, как мы это делали для технизации и гос-
подства аппарата. Лишь духовное и технически-структурное начала вме-
сте дают культурно-социологическое представление об особенности
внешней и внутренней динамики в позиции современного человека. При
этом следует исходить из Западной Европы и после краткого обзора по-
ложения в мире вернуться к ней.
Западные «духовные слои», те слои, которые — мы видели это внача-
ле — в своеобразно тесной связи с практическим социальным поведени-
ем положили начало, как в Америке, так и во Франции, современным
массовым верованиям, еще в XVIII в. были более или менее прочно уко-
ренены, будь то при дворах, в салонах или иным образом. Однако после
совершенных с их участием великих преобразований в последовавших за
этим социальных дезинтеграциях и политических революциях XIX в. они
все больше социально освобождались и, уподобляясь ставшим самосто-
ятельными облакам, возвысились над социальными и политическими
членениями общества, — отчасти уже в полном обособлении от этого
членения, отчасти еще в известной духовной связи с ним, сохраняя вли-
яние на него. Так обстояло дело вплоть до середины XIX в. С тех пор из-
менилось и это. Последняя четверть XIX в. и начало XX в., следователь-
но, начальная стадия массовой эпохи с ее почти повсюду происходящим
разделением между духом и практической жизнью, духом и политикой,
все больше превращала эти духовные слои в нечто практически и поли-
тически ни с чем не связанное. Превращала их не только в социально, но
и в духовно «свободный», как их называли, слой, который действитель-
но лишь в очень незначительной степени еще находил и искал влияние
на практическую жизнь. Они, эти носители и создатели общей душевной
232
и духовной атмосферы, стали затем, по крайней мере до Первой миро-
вой войны, в такой степени также духовно свободными, что к распущен-
ности политической власти, утверждавшейся на рубеже веков, добавили
часто вполне осознанную распущенность духа. Я пытался это обрисовать
в другом месте посредством социологического анализа XIX и начала XX
в., подчеркивая столь важную роль в этом Ницше\
Здесь следует поставить вопрос, создала ли, — и если создала, то в
какой степени и какого рода, — эта распущенность или, как можно так-
же сказать, этот практически политический абсентеизм носителей духов-
ности, несмотря на отсутствие у них связи с жизнью, или именно поэто-
му, осознанный и душевный флюид и освободила ли она волны воздей-
ствия, которые в качестве общей духовной атмосферы оказывали бы вли-
яние на обрисованную нами форму существования в ее целостности та-
ким образом, что возникшие тенденции диффузии и распада получили
благодаря этой атмосфере форму универсального воздействия.
Надо, следовательно, сказать несколько слов о современных тенден-
циях к распаду ценностей и их влиянии на жизнь.
Источник этого современного распада ценностей находится в Евро-
пе. Но корни его не во Французской революции, вопреки тому, что ча-
сто утверждают. Это заблуждение. Несмотря на все ошибки террора и
тому подобное, это время жило с прочной верой в природу и человече-
ство, наполняющей существование абсолютностью, с верой, о которой
мы говорили раньше. Напротив, распад ценностей происходит в связи с
реставрацией, пытавшейся осуществить ценности, которые в действи-
тельности уже не существовали и защита которых вносила путаницу и
действовала разлагающе. Уже романтическое движение, сколь ни вели-
кое и абсолютно обоснованное обогащение оно принесло, было одновре-
менно и вносящим распад, что не требует доказательства. Легитимизм
был, как все считали, единственной серьезной защитой, вслед за неудач-
ными попытками которого сохранить стабилизацию произошло вытес-
нение трансцендентализма, переход к релятивирующему историзму и к
первой ступени натурализма. Тяготение от всего абсолютного к позити-
визму, к замене подлинно идеального чисто фактическим, т.е. практи-
чески обладающим властью, было сильнее всего именно в легитимист-
ских странах и в тех, где, как во Франции, шла беспрерывная борьба
между легитимизмом и революцией.
Радикальный переворот был скрыт для «буржуазного» мира некри-
тичным сохранением сосуществования старых верований XVIII в.. дей-
ствовавших на протяжении всего XIX в., и развития критически реляти-
вирующего натуралистического реализма, который все более распрост-
ранялся, тогда как на первом плане блистала переходящая в национа-
лизм историзирующая драпировка.
Историческое значение Карла Маркса основано не только на том, что
в своем натуралистическом переворачивании Гегеля он перенял у него
методически догматические части, например диалектический метод, ко-
торый позволил дать возникающему пролетариату замкнутое видение
исторического развития, что, как известно, стало основой так называе-
мою научного социализма и его эсхатологии. Маркс сделал больше: не
придавая значения тому, что посредством крайнего натурализма и одно-
233
временно полного распада ценностей, он в споем вышедшем из матери-
алистического понимания истории «переворачивании» verbatim* устра-
нил самобытность всего идеального, он счел возможным — в противопо-
ложность расплывчатости буржуазного мира, который в своих духовно
критических сферах все больше не мог сказать ни ясного «да», ни ясно-
го «нет» по поводу последнего человеческого, — допустить парадоксаль-
ность и, несмотря на материалистический распад ценностей, сохранить
в качестве отправного пункта эволюционного социалистического учения
заимствованную у XVIII в. категорию «человек» и «самоотчуждение» че-
ловека. Следовательно, в начало его учения было положено нечто иде-
ально абсолютное, которому в конце его эсхатологии соответствует «ос-
вобожденный человек», следовательно, также абсолютное.
Если сравнить эту несомненно противоречивую по мыслям, но пол-
ностью законченную и, несмотря на научное облачение и в значительной
части даже важное научное содержание, в решающей степени рассчитан-
ную на практическое воздействие на массы и их эмоциональные потреб-
ности, в своем роде действительно гениальную conjunctio oppositorum**,
которая здесь была создана и не преминула оказать свое суггестивное
воздействие в истории, если сравнить ее с процессом, проходящим в бур-
жуазной сфере, в уничтожении которой это учение видело свою задачу,
то очевидно следующее:
Во-первых, продолжавшееся очень длительное время непонимание
буржуазной стороной того, что это учение собственно означает в каче-
стве силы исторической эволюции. А оно имело большое значение, не-
зависимо от того, вели ли его многообразные возможности к радикаль-
ному коммунизму или в медленном преобразовании — к сегодняшнему
демократическому социализму, который в качестве наследника этого
учения имеет по крайней мере твердую веру в человечество в качестве
основы.
И далее: как ни отказывался, с конца XIX в. не только социально, но
и духовно ставший свободным слой интеллигенции, который в конечном
счете вышел из буржуазии, отождествлять себя с ней, как ни дистанци-
ровалась от нее особенно во Франции уже со второй половины XIX в.
(богема!) эта интеллигенция в качестве свободных художников и как ни
решительно она, особенно под влиянием Ницше, на рубеже веков, во
время, названное мной временем распущенности духа, стремилась быть
небуржуазной, — хотя она была даже готова в определенных своих тече-
ниях выступать против нищеты масс и реализовать проблемы масс (до-
статочно упомянуть Диккенса, Золя или Герхардта Гауптмана), — она
при этом все-таки оставалась в своей духовной позиции полностью,
можно сказать, вульгарно-либеральной. Она оставалась таковой в своеоб-
разно неясном смысле. В том смысле, что ее бегство от буржуазии каза-
лось ей бегством в некое духовно постигнутое «ego»"*, в котором она пы-
талась спрятать свое внутреннее богатство — историю, искусство, лич-
ную глубину и все, с этим связанное, — только не реальную действитель-
Буквально (лат.).
" Соединение противоположностей (лат.).
'" Я {лат.).
234
ность и практическое поведение в ней, вследствие чего для этого «ego»
терялись самые существенные возможности его глубины.
Важным исключением представляются те движения, которые во
Франции примыкали к бергсоновскому преодолению позитивизма. Од-
нако эти движения завершались после некоторых колебаний преимуще-
ственно восстановлением национализма или католицизма. Так произош-
ло даже с Пеги. Или завершались синдикалистско-активистскими идея-
ми теории социального и политического насилия Сореля. Тем самым
они участвовали в разработке учения об авангардистской элите, которой
все дозволено, и стали одним из факторов как разработанных Лениным
коммунистических идей, так и замаскированного националистическими
лозунгами, в принципе столь же не ведающего предела в своих целях и
методах, европейского фашизма. Следовательно, они создавали под де-
мократическим знаменем основы современной практики и современных
методов нигилизма.
Необычайно тонкая психологическая интуиция русских позволила им
уже в последней трети XIX в. распознать в действующих, разъединяющих
общество, плоских тенденциях вульгарного индивидуалистического ли-
берализма стремление к уничтожению ценностей и определить его глав-
ное качество наименованием «нигилизм». Для Ницше, хотя он уже гово-
рил о преодолении нигилизма, его и последующая эпохи были в целом
временим нигилизма. Удивительно, насколько все эти группы интеллек-
туалов на рубеже веков, находившихся под таким сильным влиянием
Ницше, причем во всей Европе, не замечали, что, как бы они ни пыта-
лись группировать абсолютные ценности вокруг своего ego или переме-
стить их в него, — насколько они не замечали, что с позиции жизни они,
сколь бы они ни вели себя аристократически или иным образом, — в
сущности всегда оставались представителями нигилистического воззре-
ния на жизнь. Они оставались таковыми и действовали так потому, что,
исходя из тех, проецированных в их ego ценностей, они не могли дать
ответ на одновременно вырастающие из распущенности власти полити-
ческие проблемы, окрашенные в то время империалистически, а также
на внутреннюю социальную проблематику жизни, которую теперь все
больше ставили, требуя изменения существования, выступающие под
собственными духовными лозунгами быстро растущие массовые движе-
ния, прежде всего движение рабочих.
В то время в группировавшемся как бы вокруг самого себя духовном
мире интеллектуального слоя почти в каждой стране Европы возникало
много прекрасного. Однако сейсмографическая способность художни-
ков, прежде всего живописцев, уже предвосхищала во всей этой красо-
те грядущее, совершая подобный взрыву революционный отказ от всего,
существовавшего до той поры; на этом мы остановимся позже. И глядя
сегодня на это время, никто не сочтет удивительным, что с Первой ми-
ровой войной действительно наступил конец всего, созданного предше-
ствующей историей. Выросшее таким образом не может быть, как оно ни
дорого, сохранено в ставшей в значительной степени солипсистской ду-
ховной сфере, в буре вырвавшихся на волю брутальных жизненных сил.
С прежним нарциссизмом духовной сферы было покончено после
того как вследствие мировой войны и связанных с ней натуралистичес-
235
ких действий вокруг каждого как бы летали части разрушенного былого
существования. Духовная сфера также должна была теперь обратиться к
требующей своего решения проблематике практического существования,
которое не пришло в равновесие после войны. Однако сколько добрых
советов ни давали в своей значительной части интеллектуалы, эти сове-
ты были по сравнению с неразрешимыми противоречиями и близкой к
кризису неуравновешенности внешней жизни гомеопатическими доза-
ми, которыми пытались воздействовать на бурно стремящиеся воды. Со-
циальная, хозяйственная, политическая развороченность была после
этой, в сущности, не преодоленной Первой мировой войны так сильна,
что все средства спасения, предлагаемые интеллектуалами, поглощались
ею, не принося пользы.
Что касается общей духовной ситуации, то нигилизм оставался вслед-
ствие этого ведущим. Более того, он даже продолжал расти. В своем ро-
сте он принимал самый различный облик. Возникло то, что в соответ-
ствии с сегодняшней модой можно назвать «кафкианством». Кафка пи-
сал в те годы. Он описывал пессимистический страх, вызванный тем, что
человек не способен больше ориентироваться в ставшем ему чуждым су-
ществовании, не может даже найти для себя место в нем. Возникла хо-
лодная разновидность осознанно пессимистического шпенглеризма.
Параллельно ему складывалась преисполненная притязаний, по своим
корням также нигилистическая манера, в задачу которой входило унич-
тожить с трудом созданную после Первой мировой войны верившую в
человечность демократию. Эта точка зрения в сущности не имела соб-
ственной идеальной основы, а просто критиковала, исходя из мнимых
«фактов», за которыми всегда высказанно или невысказанно стояли воп-
росы власти. Подобно ракетам, вздымались в воздух утопические рома-
ны, которые провозглашали как результат исторического развития на-
правляемый техникой функционализированный конец человека и чело-
вечности в духе пророчеств Олдоса Хаксли. Все это привело к тому, что
после победы коммунизма в России, в Испании и Италии мог поднять-
ся фашизм, полностью отвернувшийся от до той поры еще добросовес-
тно, хотя и непроверенно поддерживаемых гуманных демократических
идеалов Запада. И в выросшем из послевоенной неуравновешенности
общем экономическом кризисе мог сложиться не только немецкий на-
цизм со всеми его ложными учениями, но даже в странах старой демо-
кратической традиции стала ощущаться общая «malaise»', готовая духов-
но или практически допустить наряду с собственными идеалами новые
олигархические, даже тиранические данности.
Короче говоря, в самых различных маскировках и нюансах возникло
смятение, в котором наиболее активным проявлением оставалось, с од-
ной стороны, еще наивное, с другой — очень рафинированное практи-
чески чисто нигилистическое преклонение перед силой. Возникающий
в этой духовной атмосфере гитлеризм с его скрытыми за национальны-
ми и иными фразами чисто нигилистическими лозунгами и методами
нашел хорошо подготовленную почву не только в Германии. Он не толь-
ко практически не имел после прихода к власти равного ему противни-
Беспокоистно. неумеренность (франц.).
236
ка, но находил в фашизме и большевизме явные параллели, причем в
первом и возможного союзника, имеющего политически и духовно
очень важное международное значение.
В нашу задачу входило лишь кратко обрисовать духовную сторону
предпосылок ставшей после прихода Гитлера к власти неизбежной ката-
строфы Второй мировой войны. Но если ясно понимать события в этом
аспекте, становится понятным ужасный практический результат всходов
нигилистического посева, понятными бесконечные убийства, никогда
раньше не совершавшиеся в таких размерах, опустошения и испытанное
после всего этого горе.
Раньше я указывал: мы живем на Западе, несмотря на все мрачное,
вновь возникшее после падения гитлеровского режима и наступившее с
1945/46 г. напряжение между Востоком и Западом, — как я полагаю, к
счастью, — еще под влиянием ежедневно возобновляющегося вследствие
событий на Востоке воспоминания о том ужасе, который мы перенесли
в практически нигилистический период гитлеризма и Второй мировой
войны. Благодаря этому мы вновь постигаем забытый, но не вполне ут-
раченный опыт общих обязательств по отношению к человечеству. В ка-
честве непосредственной реакции на то, что произошло и что происхо-
дит, этот опыт, надо надеяться, сегодня вновь живет в каждом человеке
на Западе.
Но преодолели ли мы вследствие того, что основанные на праве и до-
стоинстве человека социальные религии, совершенно иначе, чем раньше
акцентируемые, стали нашим официальным credo*, также и лежащие
«за» этими верованиями в высшей духовной сфере тенденции распада,
которые я кратко характеризовал? Полагаю, что, отрицая это, я не встре-
чу противоречия разве что со стороны догматически верующих или вновь
ставших верующими.
Тот, кто не причастен к официально формулированной вере, должен,
как я считаю, видеть духовную ситуацию примерно следующим образом:
по-человечески обязывающие социально-религиозные массовые верова-
ния обрели сегодня несомненно значительно большее значение, чем
раньше. Однако внутри само собой разумеющейся огромной проблема-
тики, которую должна была оставить и оставила после себя катастрофа
Второй мировой войны, внутри продолжающегося со дня на день гло-
бального преобразования всей жизни, лишь часть которого составляет
напряжение холодной войны, в этом преобразовании и при наличии того
факта, что вследствие этого переворота в масштабе всего мира теперь
едва ли не на всей Земле все старое рушится, а устойчивое новое еще не
достигнуто, отчасти даже не видится, — в видении и чувстве всего этого
в сфере интеллектуалов, представляющей собой духовную основу време-
ни, не исчезает тот пессимизм и негативизм, который был ей свойствен
еще до катастрофы. Теперь он лишь получил другую окраску. Циничный
и легкомысленный негативизм, скрыто или открыто проникающий яд
прежнего времени, не является, по крайней мере в целом, формой вы-
ражения сегодняшнего дня. Но вместо этого осталось чувство мрака и
безысходности, а в нем безучастность и страх, почти подавляемый смут-
' Убеждение {.ют.).
237
ным чувством ответственности за время и за существование. И сегодня
почти каждый интеллектуал, ощущая это бремя, говорит о «хаосе». При
этом он имеет в виду не столько материальную сторону, сколько преж-
де всего хаос душевный, который он сам считает неустранимым.
Наше время не слишком богато писателями большого таланта. Если
это яркие таланты, то само собой разумеется, что они не уклоняются от
изображения того ужаса, который мы пережили и который они еще ощу-
щают повсюду, что они живут с ним и описывают его. Естественно, что
они делают предметом своего изображения ужасное и все бездны жизни
вообще. Мы ведь живем не в мире звуков флейты, а в мире близких или
отдаленных грозных раскатов грома. Может быть, не следует удивлять-
ся тому, что самый большой (во всяком случае самый разносторонний)
талант из них создает философию Бытия и Ничто («L'etre et le neant») и
в своих романах так же не щадит наши нервы, как, например, Хемингу-
эй, Фолкнер, Камю и другие, в том числе немецкие, значительные пи-
сатели. Однако если выдающиеся писатели, имена которых приведены
здесь только в качестве примеров, все-таки имеют мужество во всех этих
ужасах ощущать и как-то показывать скромное сияние позитивного в
жизни, то средние писатели, которые выступают сегодня вслед за ними,
описывая существование и жизнь, вообще не показывают это позитив-
ное в сообщаемом ими ужасе. А сколько лучших из тех, кто представля-
ет нам современную жизнь во всем ее мраке, предлагают нам в качестве
решения то, что представляется многим из нас упрощенным, — обраще-
ние к религии. Все это смятение. Это симптом отсутствия, вновь крис-
таллизующей идеальное концентрации, — в сущности симптом духовно-
го распада.
6. Воздействие на мир
Прежде чем мы обратимся к своеобразному обострению и конденсации,
к которым ведет духовное положение, связанное с описанными опасно-
стями внешней проблематики существования для Запада, скажем не-
сколько слов об их духовном воздействии на мир в целом, которое так-
же нельзя игнорировать при определении сегодняшней позиции третьего
человека. Причем понято это воздействие на мир может быть только ис-
ходя из характера духовного влияния Запада в наши дни на весь земной
шар. В своем обострении на сегодняшний день это конкретно означает
следующее: каким образом происходящие на Западе духовные события,
описанные нами, входят в орбиту большого напряжения, вследствие ко-
торого вся Земля представляется своего рода ареной борьбы между Рос-
сией и Западом. И на этой арене повсюду обнаруживается принадлежа-
щий к тому или иному типу третий человек.
Здесь также не будет дан общий историко-социологический анализ.
Мы исходим из того, что политические и социально-структурные усло-
вия в значительной степени известны, прежде всего построение комму-
низма в России и его влияние. А затем и не остающееся ни для кого
скрытым распространение внешних техническо-цивилизаторских форм
Запада на весь земной шар. Заметить следует только одно: часть Земли
238
вне Запада, за исключением России и примкнувших к ней коммунисти-
ческих по своему типу регионов или собирающихся, как Китай, это при-
соединение осуществить, еще не находятся под такой концентрирован-
ной властью аппарата, как это было показано для Запада. Эта часть зем-
ного шара пребывает еще на достигшей большего или меньшего разви-
тия предварительной стадии, которая образовалась как результат инду-
стриализации почти всех, даже таких отсталых областей, как колониаль-
ная Черная Африка, на стадии, соответствующей описанной нами «час-
тичной технизации» существования.
Причем для распространения русского коммунизма, который по сво-
ей тенденции представляет собой высшую стадию господства аппарата,
большее или меньшее развитие этих стран в техническом или промыш-
ленном отношении не имеет решающего значения. Русский коммунизм
просто апеллирует к социальной нужде крестьянства, эксплуатируемого
в условиях того или иного типа феодализма или феодального бюрокра-
тизма. И он может, как, например, в Китае, где, впрочем, старая бюро-
кратизация создала для этого предварительные условия, повсеместно ут-
вердиться в качестве крестьянской советской власти; ее целью является,
правда, быстрая индустриализация, прежде всего для того, чтобы создать
промышленный пролетариат, но она совершит «освобождение» преиму-
щественно на крестьянской основе, другими словами, набросит на стра-
ну сеть своего господства и своей аппаратной системы.
Мы далеки от того, чтобы прогнозировать, в каких частях Земли ему
это удастся. Нас интересует другое: каков общий тип человека, на кото-
рого сегодня хаотически воздействуют духовные влияния, советское и
западное, и какова будет его судьба?
Россия
Этот вопрос можно поставить и для противоположного Западу полюса,
для самой России, где нынешняя доктрина и в высшей степени метамо-
рально действующий на практике функционер, вероятно, не были бы
возможны в своем сегодняшнем виде без некогда ощущаемого в России
как нигилизм влияния Запада.
Уточненным этот вопрос гласит: в какой степени дезинтегрирован-
ный тип, созданный русским большевистским аппаратом террора, спо-
собен распространиться на весь русский народ, в какой степени он спо-
собен полностью уничтожить его прежнюю форму?
Сегодняшний структурный строй России известен. Этот строй, пос-
ле того как он оказался способен устоять и победить в войне с гитлериз-
мом, консолидирован, по-видимому, в сталинизме с его ярко выражен-
ной иерархически-бюрократической структурой. Опорой ему служат два
слоя: во-первых, созданная посредством отбора по убеждениям партия,
которая (по последним данным) охватывала в 1937 г. до 4 тыс. высших
вождей (генералитет), от 30 тыс. до 40 тыс. руководителей среднего уров-
ня (офицерский корпус) и от 100 тыс. до 150 тыс. унтер-офицеров при
1,9 млн. рядовых членов партии. В настоящее время состав партии в це-
лом составляет 6,3 млн. при 300 тыс.-350 тыс. функционеров. Не многим
больше составляет в качестве слоя функционеров так называемая техни-
239
ческая интеллигенция, обслуживающая весь хозяйственный и государ-
ственный аппарат, внешне господствующая над ним и едва ли не полно-
стью охватывающая все ставшие чиновными духовные силы, следова-
тельно, науку и искусство. Этот второй слой связан с партийной лини-
ей, но отобран не по убеждениям, а по объективным данным. Составляя
сегодня около 10 млн., этот слой представляет собой подлинных функ-
ционеров в узком смысле, причем его структура, как будто завершенная
в своем членении, охватывает в целом 10% взрослого профессионального
населения4.
Казалось бы, этот слой должен быть, несмотря на падающий на него
золотой дождь в виде премий и наград и весьма высокий уровень жизни
с хорошим обеспечением — машины, в высших эшелонах отдельные же-
лезнодорожные поезда и собственные дома, — связан с коммунистичес-
кой системой преимущественно не по убеждениям, а только из сообра-
жений выгоды. Однако предполагать, что, исходя из его отнюдь не про-
летарских интересов, он может или должен когда-нибудь порвать с сис-
темой, т.е. попытаться совершить переворот и свергнуть отнюдь не
пользующуюся любовью и часто весьма неудобную и опасную партий-
ную иерархию и ее аппарат, — ошибка5. Истина заключается, несомнен-
но, в следующем: так же, как противоречия между теорией и практикой
не нанесли ущерб коммунизму в качестве формы веры и убеждения, как
он с помощью своего диалектического эволюционизма справляется с со-
зданным им неравенством, это неравенство в образе связанного с каки-
ми-либо материальными интересами слоя не окажется достаточно силь-
ным, чтобы предпринять какие-либо действия, способные сокрушить
священный центр коммунизма, партию. Переворот в России, если он
окажется когда-либо возможным, может быть также только коммунисти-
ческим, пожалуй, в форме, несколько смягчающей террор. Для того что-
бы быть принятым, он должен проходить под коммунистическими ло-
зунгами. И обрести опору в оставшихся еще здоровыми по прежней фор-
ме своей жизни частях населения он может только в том случае, если ос-
вободит их от террора. Все зависит от того, сохранятся ли или исчезнут
еще имеющиеся остатки прежней формы жизни.
Представители существующей в России системы это вполне понима-
ют. Поэтому они прилагают все усилия, чтобы устранить остатки этой
прежней формы жизни, которые сохранились еще у крестьян в виде соб-
ственных земель и скота внутри колхозов и до сегодняшнего дня суще-
ствовали по всей стране. С этой целью создаются крупные колхозы с со-
вместным поселением крестьян в центрах городского типа. Таким обра-
зом делается попытка полностью превратить крестьян в сельскохозяй-
ственных рабочих фабричного типа. Система, которая посредством ин-
дустриализации свела за период 1926-1939 гг. крестьянство с 82 до 67%
населения, пытается теперь посредством уничтожения все еще кажущих-
ся опасными, сохранивших прежнюю организацию, областей жизни
ясно п однозначно превратить страну в сферу действия функционеров, с
одной стороны, и превратить население повсюду, в том числе и в сельс-
ких местностях, в чистых пролетариев — с другой. Система не опасает-
ся каких-либо враждебных действий со стороны созданного ею слоя
средней и высшей технической интеллигенции, которой внешне была
240
предоставлена буржуазная форма жизни. Не опасается потому, что ин-
теллигенция в качестве слоя функционеров дезинтегрирована, следова-
тельно, является неопасным и пригодным для использования человечес-
ким материалом. И система надеется обрести в пролетариате, не только
и промышленном, но и в создаваемом теперь аграрном, такой же деше-
вый и разъединенный человеческий материал, который нужен ей и каче-
стве основы для продолжения ее существования.
Именно здесь возникает вопрос, вопрос о русском человеке и русском
четвертом человеке как общем типе будущего. Фабричный рабочий Рос-
сии, хотя число этих рабочих было очень невелико, отнюдь не был де-
зинтегрированным четвертым человеком. Он бунтовал как целостный
человек и способствовал в качестве такового вместе с недовольным кре-
стьянином, который также был целостным человеком, победе коммуниз-
ма. Разумеется, прежний тип человека с его русской «широтой», о кото-
ром я говорил выше, был вследствие его фактически слабой личностной
кристаллизации и интегрированности в общем хорошим материалом для
совершающей распад человеческой личности террористической аппарат-
ной системы, к которой он был отчасти подготовлен царской властью,
хотя и бесконечно более либеральной по своему характеру.
Однако только ясновидящий мог бы сказать, не заблуждается ли си-
стема, господствующая в России, полагая, что создала в лице выпесто-
ванного ею пролетариата и функционеров самый пригодный и в силу
своей безопасности лучший человеческий материал, не служит ли имен-
но пролетаризация и связанное с ней (несмотря на все стахановские ме-
тоды) несомненно существующее дистанцирование пролетариев от в
сущности и здесь оставшегося вследствие своих технических форм чуж-
дого ему труда, защитой от полного истребления такой завершенной че-
ловеческой личности. Коммунистическая вера, которая своим провозг-
лашением равенства несомненно пустила очень глубокие корни в суще-
ствование пролетарских масс России, не требует «распавшейся» челове-
ческой личности. В сущности она в соответствии со своей эсхатологией
требует противоположного. Такого распавшегося четвертого человека
требует и производит только сегодняшняя коммунистическая практика,
которая необязательно должна быть единственно возможной для комму-
низма.
Итак, каковым мог бы быть будущий переворот в России, если сис-
тема действительно психологически заблуждается. Он не может идти от
масс. Однако если бы этот переворот произошел подругой причине, на-
пример, вследствие несостоятельности господствующего центра или ут-
раты им своего престижа, то переворот вызвал бы, вероятно, поддержку
масс при условии, как было сказано, что он не затронет коммунистичес-
кую веру, а только устранит террор. Ибо следует предположить, что рус-
ские люди прежнего типа, в той мере, в какой они еще существуют на
широких просторах России, очень тяжело воспринимают террор. Следо-
вательно, хладнокровное исследование вопроса должно считаться скорее
с изменением методов, чем с подлинной контрреволюцией. И подобное
изменение должно было бы произойти тогда, когда, как показано в пер-
вом разделе, растущее перенаселение внутри страны, которое невозмож-
но перевести вовне, заставит перейти к рационализации жизни посред-
241
ством регулирования роста населения, которое несомненно будет озна-
чать переход к более человечной и гуманной позиции, так как она дей-
ствительно будет заниматься человеком и исходить из него. В этот, не
слишком отдаленный момент должно было бы еще достаточно многое
сохраниться от старой русской человеческой личности внутри бывших
несомненно очень действенными тенденциями к дезинтеграции. И тог-
да мы оказались бы перед исторически очень существенным поворотом.
Как было сказано, именно Запад вместе с импортом коммунизма в
Россию передал ему в виде качества своей духовной сферы духовную воз-
можность его нынешних нигилистических методов насилия, идущих от
Сореля. Из соединения марксизма с учением Сореля Ленин создал са-
мую рафинированную в своей моральной безмерности духовную систе-
му из всех когда-либо существовавших в мире. И не случайно — это свя-
зано с происхождением данной системы из созданного на Западе обще-
го идейного состояния и состояния сознания в мире — этой системе по-
средством гениально соединенного с ее моральным нигилизмом упоения
радикальной верой в равенство были даны самые сильные средства про-
паганды, когда-либо существовавшие для внедрения экспансивной веры
в массы.
Остальной мир
Все знают, как в настоящее время это упоение верой в равенство дей-
ствует в мире. Разве Запад, чья столь сильно проникнутая негативизмом
высшая духовная сфера, как мы сказали выше, способен противопоста-
вить в качестве идеала что-либо, хоть отдаленно оказывающее пропаган-
дистски равное действие?
Политическая пропаганда Запада проводится, конечно, в рамках проти-
воположных коммунизму социальных и политических верований масс. Она
взывает, если выразить это упрощенно, к человечности и свободе. Однако,
если говорить о характере и степени действительного влияния Запада и рас-
сматривать динамику, которую оно создало и продолжает создавать на всей
территории огромного промежуточного пространства между Востоком и
Западом, то картина окажется очень сложной. Особенно если, что необхо-
димо, сопоставить ее с идущей из собственных корней судьбой различных
частей этого региона с их социальной, политической и общей историей.
Перед нами будет картина духовной инфильтрации, связанного с ней под-
рыва прежней сущности, ее характера и формы; картина реакции и попы-
ток найти собственную форму в чужом влиянии, а частично и картина рас-
пада, становится ли он подготовкой для внедрения русских идей или создает
полную неопределенность не только политически, но и, что для нас самое
важное, для человеческой личности.
Существует прежнее духовное влияние Запада, которое происходило
в период расцвета его растущей экспансии, примерно с середины XIX в.
и до его последней трети. Оно шло, и частично идет еще сегодня, через
западные университеты, сначала европейские, позже преимущественно
американские.
У него две совершенно различные стороны, одна из них — передача
чисто научных знаний. Импортируется западная эмпирическая позити-
242
нистская картина мира, создававшаяся начиная с XVI в. При этом почти
не замечается, сколько специфических историко-идейных предпосылок
в ней заключено. Она воспринимается как чисто научная картина, полу-
ченная в ходе духовного прогресса цивилизации, чем она в значительной
степени и является. Однако по мере того как она обретает таким образом
универсальную ударную силу, под натиском которой неизбежно рушат-
ся старые полумагические, полумифологические картины мира, она, не-
смотря на видимость передачи чисто научного знания, привносит одно-
временно и то, с чем оно на Западе, откуда оно пришло, было в это вре-
мя связано, а именно, описанную нами неясную, отчасти идеально вос-
принятую позитивистскую интерпретацию мира, даже если она не была
отчетливо прагматически легитимизирована учением, распространен-
ным в Соединенных Штатах.
Результатом этого было, что из западных университетов в общем им-
портировался техницистски ориентированный духовный пласт без ка-
ких-либо глубоких идейных основ. От местных условий зависело, в ка-
кой степени этот пласт становился существенным не только для само
собой разумеющейся передачи созданной на Западе техники, не только
для почти повсеместно не вызывавшего сомнения установления запад-
ного капиталистического развития, но и для инспирируемого Западом
идеального духовного преобразования. Повсюду проникало нечто, что по
своим существенным качествам может быть определено как распростра-
нение технически-эмпирически ориентированной интеллигенции запад-
ного образца, которая воздействовала на жизнь.
Она и была в первую очередь главным носителем второго идущего с
Запада фактора: люди жили, воспринимая и занимаясь наукой, в стра-
нах, в которых демократия была либо чем-то само собой разумеющим-
ся, как в англосаксонских странах, либо находилась в рамках духовной
свободы в процессе борьбы за свое становление. Вторая сторона, прису-
щая наряду с эмпиризмом европейской духовности XIX в., уже извест-
ная нам гуманитарно-свободная, также переносилась в эти страны.
Можно с уверенностью сказать, что подлинная основа западноевропей-
ского демократического развития инстинктивно воспринималась людь-
ми, происходившими из областей, где что-либо подобное осознанно и
идейно еще не получило своего развития как сущность западного чело-
веческого существования. А в империалистически подчиненных облас-
тях это либо игнорировалось, либо передавалось в гуманитарно сужен-
ных или педагогически ограниченных дозах.
Следствием этого было: еще задолго до европейского, а затем по су-
ществу западного падения вследствие разрушений в ходе двух войн, ког-
да та и другая сторона обращались за помощью к порабощенному рань-
ше цветному миру, еще задолго до того существовало «духовное восста-
ние» против Запада, возникшее именно как результат импорта западных
идей, против его власти и его имперского господства. Ганди, учивший-
ся и получивший образование в Англии, вернувшийся затем в Индию
после пребывания в Южной Африке и ставший ярким представителем
движения за освобождение от английского господства и за независи-
мость Индии, является лишь типичным примером необозримого ряда
подобных явлений; в ряде случаев те, кто вернулся после учения в Со-
243
единенных Штатах, сыграли важную роль в событиях, происходивших в
Китае и на Дальнем Востоке.
Полный крах имперского господства, прямо и косвенно осуществля-
емого по всей Земле, наступивший после Первой мировой войны, про-
должавшийся после Второй мировой войны и ощущаемый до сих пор, —
лишь необходимый завершающий акт, который рано или поздно должен
был наступить. И это, воспринимаемое всем внеевропейским миром как
акт освобождения, проявление национального фанатизма следует при-
нимать с ясным пониманием, спокойно, в известной степени предвидя
его развитие, и относиться к нему как к тому, чем он действительно яв-
ляется, как к деформирующему и осложняющему сопутствию того, что
по состоянию международного сознания абсолютно необходимо и под-
готовку чего в нужном направлении следует повсюду производить своев-
ременно, как это удачно совершили англичане в Индии и в принципе
пытаются провести во всех своих колониальных владениях.
Что же касается социальных причин этих событий, то они часто сво-
дятся к наличию широко распространенного крестьянства, эксплуатиру-
емого феодальными или феодально-бюрократическими властителями
внутри устарелой социальной структуры, опиравшейся и опирающейся
на древние магические или культово-ритуальные представления. Как уже
было сказано, это — типичная точка приложения советской пропаганды.
Вернувшаяся с Запада или испытавшая его влияние технико-эмпиричес-
ки ориентированная интеллигенция стоит перед выбором либо, минуя
западноевропейские идеи, прийти к коммунизму, либо связать воспри-
нятые ею тенденции к освобождению с традиционализмом и тем самым
одновременно служить религиозно окрашенному национальному фана-
тизму. Таковы две негативные возможности, которые следует видеть с
позиции Запада и исходя из вопроса о сохранении так или иначе форми-
рованного типа третьего человека, с которым мы могли бы сотрудничать
в сегодняшнем существующем в мире напряжении.
Во всяком случае эта интеллигенция не будет на достаточно широком
пространстве связующим звеном с Западом. Быть может, положительная
сторона этого состоит в том, что описанные в качестве последней фазы
в развитии Запада негативные и нигилистические тенденции не могли
стать предметом экспорта в другие страны мира, кроме России.
Все привнесенное в чужие культуры из ранней западной фазы развития,
которая была собственно временем духовного экспорта, цивилизаторские,
социально-структурные, политические и идейные элементы, были для сво-
ей страны в значительной степени элементами распада. И решающий воп-
рос составляло повсеместно, достаточно ли сильны собственная форма су-
ществования и ее силы, чтобы создать амальгаму, в которой будет сохране-
но то существенное, что таили в себе собственные древние культуры.
Всем известно, как удачно сумели японцы, которые никогда не были
под чужой опекой, привнести чужое в сохраненную ими собственную
форму существования. И это удастся им и теперь, невзирая на их тяже-
лое поражение.
Чтобы понять судьбу Китая, надо ясно представить себе, что там, в про-
тивоположность Японии, собственная идейная конструкция, ставившая
Китай в центр космоса, треснула вслед за падением монархии в 1911 г.,
244
внешне соединявшей старые представления, как поддерживавшийся лишь
магией стеклянный шар. После этого режим соперничающих начальников
провинций уже не мог, как в прежние времена, служить интермедией к
чему-то новому и окончательному. Это не могло быть создано и постоянно
ссылавшимся на Сунь Ятсена, в действительности же авторитарным, кор-
румпированным торговым и финансовым влиянием Запада, правитель-
ством Чан Кайши, неспособным опереться на древние космические пред-
ставления Китая. После того как почти все старое было уничтожено, дей-
ственным при сложившемся взрыхленном состоянии сознания и предель-
но обедневшем крестьянском населении мог быть только исходящий из это-
го положения постулат социального равенства, который, впрочем, провоз-
глашался уже со времени падения монархии и теперь нуждался в том, кто
его осуществит; он нашел его в необычной личности Мао Цзэдуна. Конеч-
но, при идейной, а также практической помощи России.
Двухмиллионный слой связанных друг с другом больших семей, об-
ладавших значительной частью земли, которую они отдавали в аренду на
эксплуататорских условиях, слой, который в значительной степени по-
ставлял представителей в старую бюрократию мандаринов, был «ликви-
дирован», часто при довольно ужасающем ликовании населения. Осталь-
ные высшие слои, прежде всего торговцев, сначала пощадили. Сегодня
в Китае заняты тем, чтобы наряду с партийной элитой создать функци-
онеров по советскому образцу, которые, используя методы террора, смо-
гут без особых усилий постепенно создать и необходимые виды совре-
менной промышленности.
Однако применительно к Китаю, еще в большей степени, чем в при-
менении к России, можно сказать: человеческая судьба широких масс
китайского народа тем самым еще не определена. Пока ясно только, что
слой кули, которые уже раньше при существовавшей плотности населе-
ния не имели применения и некогда совершали краткие челночные на-
езды в другие страны, теперь, когда эта форма деятельности невозмож-
на, очевидно могут быть использованы как пушечное мясо, например, на
корейском фронте. Это не открывает приятных перспектив, но при пра-
вильном поведении Запада не должно привести и к всеобщей войне, хотя
делает вероятными постоянные столкновения на границах Китая.
Индия, этот субконтинент с бесконечными различными народностя-
ми в бесчисленных географически и климатически различных регионах,
был, несмотря на географическую обособленность, чуть ли не менее чем
Китай, способен противостоять вторжениям; но в отличие от Китая Ин-
дия, пройдя через все опасности и влияния, сумела сохранить собствен-
ную сущность и собственную форму. Отторжение чуждого исламского
элемента, совершенное отделением Пакистана, — отчетливый признак
этого. Кастовая система Индии, прежде всего вследствие связанного с
ней представления о переселении душ, имеет, несмотря на модерниза-
цию, столь глубокие корни, а идущее от самого сублимированного до
самого примитивного, встроенное в народ духовное и социальное члене-
ние столь прочно, что до сих пор почти все, даже новейшие влияния со-
скальзывали с ее внутренней структуры совершенно так же, как влияние
ислама после завоевания Индии в 1 100 г.
Индия умеет настолько хорошо пользоваться находящимся теперь в
245
ее власти благодаря приобретенным в период господства Англии навы-
кам современным политическим аппаратом, что при всей социальной
нужде, связанной с перенаселением, она, по крайней мере до сих пор, не
стала сферой коммунистического влияния. Создается впечатление, что
она, хотя и по-иному, чем Япония, умеет ассимилировать нужное ей,
сохраняя свой тип человека, вернее, свои типы человека. Представить
себе Индию объектом преобразования в какой-либо эгалитарный комму-
низм трудно. Скорее уж как регион, который, как некогда в период буд-
дизма, вновь сможет излучать духовное влияние на остальную Южную и
Юго-восточную Азию.
О находящемся к западу от Индии исламском регионе, распространя-
ющемся от Пакистана и Афганистана через Иран и Турцию до Аравии и
северо-запада и севера Африки, можно сказать только одно: что касает-
ся природы человека, то вследствие налагаемых на каждого нерасторжи-
мых религиозно-ритуальных уз ислам в известной степени защищен до
тех пор, пока эти узы сохраняются. А об объективной духовной опасно-
сти для ислама со стороны современности, для ислама, который неког-
да сумел переработать влияние античности, не претерпев при этом ущер-
ба, и развить его в ряде направлений, пока сохраняются религиозно-ри-
туальные узы, также серьезно говорить не приходится. Речь может идти
разве что о сознательно предпринятом преобразовании внешних форм.
Заимствование форм западной цивилизации и социальной структуры
произойдет в странах ислама повсюду, кое-где быстрее и радикальнее,
кое-где медленнее. В находящихся еще сегодня под западным импер-
ским влиянием областях оно происходит в совершенно иной атмосфере,
чем в тех, которые давно или в последнее время от этого влияния осво-
бодились. Сколь ни различно по быстроте и широте распространения это
влияние Запада во внешне радикально перестраивающейся Турции, в
реформирующемся Пакистане, в изолирующейся Саудовской Аравии и
в относительно отсталом Афганистане, — во всех этих не затрагиваемых
сегодня империализмом странах отношение к Западу совершенно одина-
ковое, — они берут от Запада то, что представляется им нужным с точ-
ки зрения их целей, а остальное отвергают.
В имперских или еще затронутых имперскими интересами областях
— достаточно упомянуть Персию, Египет, Тунис или Марокко — господ-
ствуют самые различные, основанные на сильной антизападной настро-
енности, искажения; в ряде регионов вследствие тяжелого положения
крестьянства это предоставляет известные шансы коммунизму. Решение
в интересах Запада здесь возможно только в виде компромиссов, которые
будут защищать действительно существующие, в ряде мест очень серьез-
ные, подлинные жизненные интересы Запада, в остальном же предоста-
вят всю возможную, свободную от внешнего влияния самостоятельность.
Образцом и первым шагом такого рода может служить новое соглаше-
ние, заключенное между Великобританией и Египтом о Судане.
И наконец: нет сомнения в том, что на всем находящемся еще под
господством белых африканском континенте, проникнутом сильным
стремлением черного населения к самостоятельности, пробил час, ког-
да скоро должна быть найдена иная форма совместного существования,
чем существовавшая до сих пор.
246
Итог, по-видимому, таков: спасение всех многообразных человечес-
ких кристаллизации, которые до вторжения Запада не знали политичес-
кой свободы и обладали лишь некоторой духовной свободой, спасение их
от теперешней опасности для их культуры и цивилизации и создание для
них свободного современного существования возможно только посред-
ством самого различного в разных областях амальгамирования местных
древних и современных тенденций. Оно может быть повсюду только ре-
зультатом самостоятельных действий тех, кого этот процесс касается, и
только в действительно отсталых областях, быть может, необходима по-
мощь Запада. Это — процесс, который, впрочем, повсеместно требует
длительного времени.
Однако западный человек должен ясно понимать, что этот процесс, даже
в той мере, в какой он проходит в западных политических формах и в духе
человечности и свободы, вследствие совершенно иной созданной им амаль-
гамы ведет к отличному от Запада, хотя, быть может, частично основанно-
му на его принципах, облику третьего человека. Хотя этот складывающий-
ся во внезападном пространстве новый тип третьего человека в конечном
итоге должен быть основан на компонентах задатков, господство которых
первоначально идет с Запада, он будет сознательно душевно отклоняться от
Запада. Вполне вероятно, что, исходя из чувства душевной особенности, и
под действием воспоминания о прежних империалистических тенденциях,
он будет в борьбе между Востоком и Западом всегда занимать особую поли-
тическую позицию и, насколько это возможно, избегать риска, который мо-
жет последовать из солидарности с Западом, даже если Запад с совершен-
ной очевидностью защищает принципы создания общего типа третьего че-
ловека. Такой процесс уже неоднократно происходил в различных констел-
ляциях на заседаниях Объединенных Наций.
Другими словами: даже если упомянутая выше большая промежуточ-
ная область не попадет в сферу распространения связанного с сегодняш-
ним коммунизмом и представляемого Россией типа четвертого челове-
ка, Запад будет в своей защите человеческого существования для интег-
рированного в свободе и гуманности человека практически одинок. Это
не политический прогноз в собственном смысле слова. И не пессимис-
тическое утверждение, а просто по-возможности объективная констата-
ция фактического состояния, которое следует из исторических и факти-
ческих обстоятельств.
7. Внутренняя опасность для Запада.
I
Тем более важным становится, конечно, вопрос: как же обстоит дело с
человеком западного типа на самом Западе? Другими словами: что озна-
чают описанные общие духовные и структурные опасности, если конк-
ретно рассматривать их в их интенсификации в большом международном
центре, каким для современной формы существования вряд ли вообще
является Запад?
Исходя из духовной сферы и продолжая сказанное раньше: нет со-
247
мнения в том, что ведущий к распаду ценностей негативизм, который
сегодня так легко переходит в ощущение хаоса, является также в значи-
тельной степени результатом неизбежной для обозримого времени бе-
зысходности в напряжении между Западом и Востоком. Именно оно уси-
ливает пресловутые чувства страха за существование, которыми сегодня
занимается достаточно распространенная модная философия.
Однако насколько я вижу, существует и нечто иное, которое, быть
может, психологически усиленное в виде компенсации, лежит в другой,
прямо противоположной плоскости и что мы, западные люди, не долж-
ны, как я полагаю, скрывать от себя.
Когда мы смотрим на западное общество, у нас возникает чувство,
что в нем наличествует значительная пустота, заполняемая суррогатами,
которые надлежит рассмотреть более внимательно, так как они в своем
специфическом ничтожном качестве как будто увеличивают опасности,
о которых идет речь.
Запад не случайно передал миру нечто от своей интеллектуальности,
что сразу же почти повсюду утвердилось в виде технизированного и чис-
то эмпирически ориентированного духовного слоя. Собственная интел-
лектуальность Запада носит сегодня преимущественно такой же харак-
тер, не обладая душевно-духовной глубиной.
Описанный нами, все еще имеющийся связанный с этим нигилизм не-
посредственно влияет на мир чувств и на идейную способность распростра-
нения, присущую продуктивным и рецептивным частям высшей духовной
сферы. Сегодня вследствие этого нигилизма ее идейно позитивная способ-
ность влиять на все социальное тело почти равна нулю. Практический же
результат при отсутствии действенного идейного влияния — господство чи-
стой, хотя внешне и замаскированной и открыто не признанной технокра-
тии, преобладание самой внешней стороны процесса цивилизации над всей
сферой культуры внутри общей формы существования. Более точно: расту-
щее господство аппарата технической цивилизации не только в практичес-
кой области социально-структурных форм, где оно легитимно и не вызыва-
ет сомнения, но и в ранее идейно определяемой, сегодня в значительной
степени ставшей пустой, духовной сфере, задача которой состоит в форми-
ровании характера и души человека.
Это видели и описывали с самых разных сторон. На это указывает
большая часть ранее названных пессимистических в своей трактовке
техники утопий будущего. Макс Пикар метко показал одну сторону
этого в своем тезисе об опустошающем воздействии технически обус-
ловленной, пронизывающей и разлагающей мир дискретности внут-
реннего существования. Симптоматично, что одна из главный целей
всякой техники, требуемое и необходимое для практических целей
усиление скорости процессов, становится самоцелью. Усиление скоро-
сти становится формой всех сторон существования, даже тех, которые
по своей сущности и своему содержанию требуют концентрированно-
го покоя. Мы находимся на пути преобразования и этих сторон суще-
ствования. Примером может служить путешествие вокруг света за 14
дней. Требуемый и необходимый для практических целей рост господ-
ства над природой становится одновременно под очень серьезной, но
ложной маской игрой и спортом.
248
Никто уже не посмеет сказать, что «освоению мирового простран-
ства» посредством создания лунных станций над стратосферой в сущно-
сти место в жюльверновской книге для детей, а не в ответственной дея-
тельности серьезных людей. Считается, что общество астронавтов зани-
мается в своих опытах чем-то чрезвычайно важным и за этим следят с
напряженным интересом. Псевдонаучная суггестивность скрывает то,
что при всех затраченных усилиях, деньгах, эвентуальных рисках и ре-
зультате, достигнутом в совершенно нечеловеческих ситуациях, должно
было бы быть в сущности только игрой воображения.
Результатом такой технократической безудержности становится затем
в жизни господство сенсации.
Сенсацией стала и значительная часть самого по себе легитимного и
хорошего спорта, в котором сегодня буря оваций тысяч, даже сотен ты-
сяч, например при бешеной гонке и падениях мотоциклов, в сущности
является лишь резким выражением внутренней опустошенности.
Сенсационной стала большая часть нашего чтения, лежащих в киос-
ках и кафе развлекательных и поучающих журналов, в которых у нас в
Германии смешанная с небылицами романтизация самых постыдных
эпизодов нашей истории, иллюстрированных отвратительными фотогра-
фиями, направлена, по-видимому, на то, чтобы наполнить широкие пу-
стоты ищущих развлечения или чего-либо худшего душ.
Сенсационными стали, к сожалению, частично и фильмы, во всяком
случае те, которые приходят из Голливуда. Мы видим, как сжигается на
костре раскрашенная Орлеанская дева, и этому сопутствуют бесконеч-
ные изображения обрядов культа.
И наконец, опасность превратиться просто в нагромождение сенса-
ций грозит сегодня путешествиям, совершаемым в автобусах дальнего
следования, когда впечатления от местностей, городов, руин, памятни-
ков, музеев быстро громоздятся друг на друга, как части какого-то рагу,
поглощаемого в дешевом ресторане.
Во всем этом заключена тенденция, согласно которой жизнь делит-
ся на работу и сенсации. Сенсации несомненно и раньше составляли
часть жизни, но теперь они поглотили столько из того, что было неког-
да духовно важным и органически связанным с собственным существо-
ванием, что уподобились чудовищному, буйно проникающему во все ра-
стению или гигантскому колесу, в котором то, что раньше было значи-
тельным, теперь вращается разорванное на ничего не значащие отрезки.
Это — практический нигилизм. В нем заключена тенденция совер-
шить со стороны досуга общий распад человека, раньше замкнутого в
себе, заменить его «плебейской массой» в дурном смысле этого слова,
которая состоит из душевно раздробленных индивидов. Этих индиви-
дов легко подчинить при их внутреннем распаде средствами демаго-
гии и пропаганды и использовать как манипулируемый человеческий
материал. Это совсем иная «масса», чем та, которая также существу-
ет и которую знает каждым, кому приходилось выступать перед орга-
низованными квалифицированными рабочими; та масса недоступна
суггестивности, так как она, несмотря на скопление в ней людей, со-
стоит из оставшихся внутренне замкнутыми, способными иметь свое
суждение, индивидов.
249
II
Этот распад личности в практическом нигилизме в результате сенса-
ций и рекордов происходит одновременно с функционализацией сред-
них и значительной части высших слоев. В этом преобразовании дей-
ствует тенденция совершить внутренний распад и тем самым душевно
уничтожить людей, которые сами по себе не обязательно принадлежат к
широким массам, со стороны их внешнего состояния, их работы. Тогда
яд сенсаций практического нигилизма, без всякого выбора спускаемого
в массы, сочетается с тщательно используемыми тенденциями к дезин-
теграции функционирования. И не случайно в обоих действует тенден-
ция усиливать друг друга в их объединении.
Для характеристики этого процесса не нужны статистические данные.
Сделанных указаний достаточно. Каждый видит и ощущает этот процесс в
непосредственной близости от себя, так же как параллельно ему идущую
рекордоманию. Приведем несколько данных и цифр, свидетельствующих о
его масштабах на Западе. Этот процесс способен посредством разложения
человеческой субстанции превратить в пригодные объекты такого основан-
ного на сенсациях распада не только значительную часть средних, но и часть
высших слоев, и этим увеличить опасность того, что предпосылки появле-
ния четвертого человека возникнут и на Западе.
Названный процесс и связанные с ним тенденции представляет собой
многочленное явление, как и установленное в сущности на всем Западе
господство аппарата.
Высшую социальную точку он находит в функционализации научной
области. Мне уже однажды пришлось (это мне, правда, далось нелегко)
определить как экспонентов этого функционализма ученых в области
естественных наук, производящих без взаимного контроля ответственно-
сти все больше разрушительного оружия. Тем же являются и попытки
конструкции промежуточных станций на пути к Луне, над которой рабо-
тает тот же высший духовный слой общества. Имея в виду опасность для
человечества данной и подобной ей технократической деятельности,
нельзя не вспомнить о таких событиях, как то, которое произошло летом
1952 г. в Фарнборо, когда при совершении скоростных рекордных поле-
тов, несмотря на смертные случаи и многочисленные тяжелые ранения,
эти опасные для жизни попытки были на следующий день, будто ниче-
го не случилось, повторены, ибо они являются волнующим толпу зрели-
щем. Разве это не основанный на сенсации техницизм и в духовно веду-
щих слоях, который, скажем прямо, ведет к грубости и внутреннему рас-
паду личности?
На социально и духовно более низких уровнях само распространение
современной аппаратной системы с ее технизированной бюрократизаци-
ей вместе с дезинтеграцией, проистекающей из самой работы, ведет ме-
нее заметно, но более широко, к грубости и душевному распаду. Эти
слои составляют ближайшую и наиболее опасную социальную почву для
общих тенденций к диффузии и искажению: за последнюю половину
века вследствие господства аппарата в крупных западных центрах циви-
лизации и экономики они выросли лавинообразно, поглощая и транс-
формируя прежние профессионально независимые существования выс-
250
ших и средних слоев. Они растут настолько быстро, что сегодня знаком
времени уже является превращение самостоятельных деятелей не в рабо-
чих, а в функционеров, тогда как число рабочих в обществе, несмотря на
продолжающееся расширение крупных капиталистических организаций,
в процентном отношении не растет. Развивающаяся механизация снижа-
ет в процентном отношении долю ручного труда в производстве продук-
та. Продолжающаяся организационная концентрация с необходимой для
этого бюрократической надстройкой, как в хозяйственной, в целом ос-
тающейся в частном владении, так и в устанавливающей повсюду высо-
кое налогообложение правительственной сфере, нуждается в чиновни-
ках. В рамках аппарата это означает переход от прежнего ручного, совер-
шаемого в независимых организациях труда, к работе в бюро объединен-
ного частного или государственного целого.
С социальной точки зрения это преобразование ручного труда в пись-
менный труд является решающей стороной пресловутой революции ме-
неджеров. Во всяком случае оно составляет в человеческом и психичес-
ком отношении его важную часть.
По статистическим материалам, которыми я располагаю, я могу точ-
но определить темп и размер этого процесса преобразования во всем его
масштабе и эволюции только для одного из крупных западных центров,
а именно для Германии, но не для Соединенных Штатов и Англии. На-
глядное представление об этом процессе дает для Германии следующая
таблица. В Германии самодеятельное население делилось на следующие
группы занятости6:
Из этой таблицы следует, что при уменьшении числа самостоятель-
1882
1950
Самостоятельные
деятели
млн %
4.2 25,4
3.3 15.4
Служащие
млн %
1.2 7.3
4.3 19,7
Рабочие
и чиновники
млн %
8,3 49.4
11,3 51,9
ных деятелей, происходящем при крупнокапиталистическом преобразо-
вании, процент подлинных рабочих растет очень незначительно, вместо
49,4 в 1882 г. он составляет в 1950 г. 51,9. Весь процесс преобразования
выражен в увеличении работников бюро, процент которых вырос с 7,3 в
1882 г. до 19,7 в 1950. Теперь уже не каждый двенадцатый или тринадца-
тый, а каждый пятый работник — функционер.
Для сравнения надо добавить, что эта пятая часть населения, превра-
щенная сегодня в служащих или чиновников, следовательно, в функци-
онеров, в процентном отношении — добавляем это для сравнения — в 2
раза превышает число технической интеллигенции, составляющей, веро-
ятно, десятую часть населения, которая вместе с партийным аппаратом
управляет и правит бюрократической Россией. Двойное ее число в Гер-
мании не является, как показывают цифры, следствием предшествую-
щей бюрократизации Германии.
Вполне точными данными для сравнения с положением в Соединен-
ных Штатах я не располагаю, прежде всего потому, что там в социальном
разделении ценза officials (чиновники) и managers (директоры) помеще-
251
ны в одну колонку с proprietors', вследствие чего число еще сохранивших
самостоятельность существований превышено. С такой модификацией
следующая таблица все-таки очень отчетливо показывает существующую
тенденцию.
1910
1950
Proprietors etc.
млн %
8,5 23,0
9,4 17,0
Клерки
млн %
3.8 10,2
10,4 18,8
Рабочие
млн %
23,0 61,0
30,4 55,7
Если считать, что содержащиеся в первой колонке officials и managers
(чиновники и директоры), — что ниже по своей оценке — составляют 2,1
млн. в 1950 г., то число функционеров в Соединенных Штатах выросло
настолько, что 12,5 млн. охватывают примерно 22,5% занятых произво-
дительной деятельностью, следовательно, уже от 1/4 до 1/5 самодеятель-
ного населения. Даже допуская, что это несколько завышено, — какое
огромное изменение ранее типичной страны свободного самостоятель-
ного труда, в которой сегодня для городской части средних и высших
слоев путь столь же типично ведет в бюро, лабораторию и в помещение
для служащих большого магазина. Самая большая по параметрам своей
организации страна свободной части западного мира нуждается, очевид-
но, для управления своим свободным хозяйством в наибольшем налого-
вом аппарате, который действует параллельно огромному аппарату ши-
роко организованной частной сферы.
И поэтому здесь трансформация средних и большей части высших
слоев в служащих современного аппарата наиболее сильна.
Сегодня Англия, взимающая для центра такие огромные налоги, дол-
жна была бы находиться в сходном положении. И столь же вероятно, что
третий крупный центр, Германия, с ее статистически столь точно дока-
занным преобразованием, и другие западные страны старой бюрократии
представляют собой в данное время еще относительно мягкие формы
этого революционного социального процесса, в котором старая бюрок-
ратия в числовом отношении больше не играет решающей роли.
8. Судьба человека
Для судьбы человека и его формирования в столь функционализиро-
ванном западном мире следует, по крайней мере сначала, провести
различие между новыми бюрократическими странами и странами ста-
рой бюрократии в пользу первых. К недавно бюрократизированным
странам относятся преимущественно англосаксонские регионы Земли.
И здесь, как мы указали раньше, негативным тенденциям господства
аппарата противостоит совершенно иная традиция, чем та, которая
существует в странах старой бюрократии. Только здесь — за исключе-
нием сложившихся не в аналогичных, но в родственных условиях ма-
Собстие пинками (а иг. i.).
252
леньких странах континента, таких, как Швейцария, Голландия и
Скандинавские страны, — мы встречаем действительно прочно крис-
таллизованный длительной традицией и средой, интегрированный в
свободе и человечности тип человека и соответственные ему прочно
укоренившиеся привычки жизни.
В больших областях западного континента с их раздробленной или
противоположной традицией, следовательно, кроме Германии, прежде
всего в Италии, Испании и Франции, этот тип человека не мог утвер-
диться, так же, как и свойственное ему привычное отношение к суще-
ствованию. Нет необходимости в тщательном исследовании, чтобы по-
нять, что тоталитарные перевороты на Западе, нацизм в Германии, фа-
шизм в Италии и Испании, стали помимо всего прочего возможны и
благодаря этому, и что Франция и Италия по тем же причинам сегодня
в значительной степени склоняются к сближению с коммунизмом. В
последний судьбоносный час Запада, к которому привели его нацизм и
фашизм, именно англосаксонские страны с их жизненными привычка-
ми кристаллизованного свободного человека спасли — и, принимая во
внимание силу сопротивления, — только они могли спасти тип свобод-
ного человека. Их общественное мнение и сегодня в справедливом и гор-
дом воспоминании об этом убеждено, что этот тип человека нерушим у
них и благодаря им во всем мире.
Однако в качестве наблюдающего социолога я должен напомнить о
гигантских социально-структурных преобразованиях, которые мы пока-
зали и внутри которых эти страны сегодня находятся так же, как и мы.
У них, конечно, есть — на что я также указывал в другом месте — свое-
го рода отсрочка, в течение которой они могут игнорировать это преоб-
разование с его тенденциями к распаду столь прочных утвердившихся у
них привычек. Однако при чисто объективном рассмотрении следует
признать, что внешние преобразования именно у них сегодня выражены
наиболее сильно. И — это также необходимо сказать — нигде в мире в
настоящее время движение практического нигилизма, растворяющее
внепрофессиональную жизнь в сенсации, не является столь сильным и
интенсивным, как в Соединенных Штатах, величайшей и значительней-
шей англосаксонской стране.
Поэтому представляется уместным высказать предостережение, сле-
дующее из нашего анализа, не только континентальной Европе, но и
всему Западу, в том числе и еще сегодня наслаждающимся уверенностью
в своей свободе англосаксонским странам.
При этом, очевидно, надлежит спросить, на какие социальные слои
в первую очередь, как бы в концентрированной форме, распространяется
эта опасность, в какой социальной динамике эти слои находятся по от-
ношению к другим частям и слоям народного тела и каково значение
этой динамики для распространения опасности.
Рабочие не являются больше в связи с общей технизацией и с уста-
новлением господства аппарата «всепоглощающим» классом, как каза-
лось раньше. Над ними — мы это только что видели — поднимается в
своем социальном значении слой функционеров, тогда как в рабочем
классе возникает стагнация, а иногда, как в Соединенных Штатах, и ре-
гресс. Однако, если исходить из условий Германии и Америки, рабочие
253
все-таки составляют около половины населения. И всем известно, что в
индустриальных, ведущих сегодня областях, рабочие в их организован-
ных подразделениях выступают как самые убежденные и сознательные
представители свободного, будь то либерально-демократического, будь
то социалистически-демократического верования масс.
9. Социальная динамика и возможность вмешательства
В какой общей социальной динамике пребывают рабочие и все обще-
ство? И противостоим ли мы этой социальной духовной динамике, со-
циальной структуре, в которую она входит, как неизбежному явлению
природы, которое развивает в себе свои феномены во взаимной обуслов-
ленности без видимых возможностей вмешательства?
Как во внешней форме существования, так и в сопутствующей и воз-
действующей на нее динамике существует много неизбежного. И нужно
мужество, чтобы представить себе возможность существенного измене-
ния. Однако если внешнее мы можем изменить, по-видимому, лишь в
несущественных частях, то во внутренней духовной динамике обнаружи-
ваются места, исходя из которых правильные действия могут, хотя и мед-
ленно, но, прогрессируя, все-таки оказывать на человека защищающее и
революционизирующее влияние.
Сначала о внешнем. Внешнюю проблематику видят обычно в форму-
лировании отношения человека и техники. Это не ошибка. И можно по-
пытаться, исходя из этого, показать возможности, границы, формы и
образы внешних противодействий, о которых мы здесь предполагаем го-
ворить, используя наши социально-структурные, конкретизирующие
наброски.
Сегодняшняя техника происходит в конечном счете из того, что мы
назвали «духовной сферой». По мере того как она заменила преобразо-
вание и дальнейшее формирование органических сил и тенденций при-
роды ее распадом и механическим использованием вычлененных из нее
сил, направленность и вместе с тем ограничение всего предшествующе-
го технического господства над природой были устранены. Таков был
результат возникшего в эпоху Возрождения механистического толкова-
ния природы и мира. С него начинается в виде такого нового господства
над природой оторванная от потребности человека собственная эволюция
техники, которая основывается на совершенно особой в истории инсти-
туционально обоснованной эволюции эмпирической науки и, грубо го-
воря, вступает в мир в соединении с современным государством и совре-
менным капитализмом.
Эту столь своеобразно обоснованную собственную эволюцию совре-
менной техники надо всегда иметь в виду, чтобы понять возможности
влияния на не естественную, а полностью искусственную, в конечном
итоге технократически обоснованную форму существования, в которой
мы сегодня живем, в сущности в полном отрыве от органической приро-
ды. Подчиняясь собственным эволюционным, технократическим зако-
нам формирования и развития нашего сегодняшнего искусственного су-
шествования, мы зависим от них едва ли не больше, чем капитан от ра-
254
боты машинного отделения его корабля. Ибо механизм, которым мы
пользуемся в нашем сегодняшнем существовании, беспрерывно развива-
ется по собственным законам, основанным на не управляемом нами и не
допускающим препятствий научном прогрессе. Если видеть нашу вне-
шнюю ситуацию, конкретно обрисованную нами в нескольких для нас ре-
шающих чертах, в этой картине, которая, быть может, в некотором преуве-
личении отчетливо демонстрирует ее сущность, импульсы и тенденции раз-
вития, становится сразу очевидным, что внешние возможности влияния и
изменения на созданное и устроенное таким образом искусственное пост-
роение существования могут быть только незначительны.
Его дальнейшее формирование в общем зависит уже не от нас; пово-
рот или выход из этого процесса исключен пока наука, как теперь, дви-
жется в ходе собственной эволюции; созданы факты, изменить которые
невозможно и которые препятствуют выходу из этого процесса. Это —
существование масс, которое получило техническую основу посредством
уменьшения смертности и сокращения пространства. Это — соответству-
ющая новому представлению о пространстве аппаратура, без совершае-
мого которой технического преобразования скорости привыкшие к этим
возможностям массы больше жить не могут и от преодоления которой
пространства и времени они несомненно не отказались бы, даже если бы
это было в их власти. Такова заключенная во всех названных факторах
необходимость техники и ее прогресса, следовательно, далеко идущее
подчинение дальнейшему развитию технократического формирования
жизни. С точки зрения человеческой судьбы в этом искусственно воз-
двигнутом над природой построении, собственной эволюции которого
мы в данное время в значительной степени подчинены, можно, как мне
представляется, исходя из нашего ранее произведенного социологичес-
кого анализа ситуации в западном мире, спросить только следующее:
Во-первых, существует ли в этом явлении, которое приходится при-
нимать вместе с господствующими в нем тенденциями как нечто целое,
возможность ограничить быстрый рост наиболее опасных для людей сло-
ев функционеров или, если это неосуществимо, оградить человека от
связанных с ними тенденций распада?
Во-вторых, можно ли на Западе защитить от этих тенденций разложе-
ния в целом еще не затронутых до сих пор ими рабочих и придать им
большее влияние в качестве человечески и фактически прочной массы?
В-третьих, можно ли так трансформировать духовную сферу, чтобы про-
истекающий в значительной степени из нее практический нигилизм умень-
шился, и она сама стала бы позитивной в том смысле, что иммунизирова-
ла бы ту часть группы функционеров, которую еще можно спасти, и сохра-
нила бы связь с рабочим классом, защищая его и помогая ему?
Прежде всего, известное ограничение значения функционеров и из-
вестные структурные изменения, создаваемые спонтанными противо-
действующими силами среди самих функционеров и вне их, возможны.
Не следует недооценивать, что означало бы такое изменение структурно-
го построения в экономике, которое предоставляло бы инициативе всех
действующих в нем элементов, продвигаясь снизу, от рабочих и низших
служащих, вверх, максимум возможной инициативы и самоопределения.
Это означает прежде всего двоякое: право участия рабочих и служа-
255
щих в принятии решений и стремление к созданию внешней структур-
ной формы, в которой предоставление этого права не превращалось бы
вследствие характера организации в фарс. Мы не можем здесь касаться
серьезной технической проблематики, связанной с осуществлением это-
го требования. В общем — исходя из опыта, полученного вне зависимо-
сти от характера структурного построения, — участие рабочих и служа-
щих в вопросах их личного существования (в первую очередь найма и
увольнения) и в общих хозяйственных вопросах (направление деятельно-
сти предприятия, изменение его характера) на предприятии возможно.
Предоставление равных прав с владельцем капитала в комиссиях по уп-
равлению и по выборам на предприятиях (советы надзора) и равных прав
в самоуправлении (экономические комиссии и т. п.) также может быть
реализовано. По определению рабочих, превращение их из подчиненных
хозяйству в граждан хозяйства вполне возможно.
Далее, если стремиться сделать высокоорганизованную структуру хозяй-
ства более свободной, то возможны и необходимы с точки зрения экономи-
ческой конкуренции не только декартелизация монопольных объединений,
но и понимание того, что сегодняшняя организационная концентрация яв-
ляется в значительной степени чистой концентрацией прибыли и что орга-
низационно-технический и предпринимательско-хозяйственный оптимум
почти повсюду, даже в полумонополистических и полностью монополизи-
рованных основных отраслях промышленности, и именно в них, значитель-
но ниже их фактического объединения. Нужна и возможна такая декарте-
лизация, которая, не затрагивая обмен опытом и общие инстанции иссле-
дования, оказалась бы действительно действенной, только отказываясь от
принципа прибыли и переходя к хозяйству, основанному на социалистичес-
кой конкуренции. Такую декартелизацию можно ввести, не нанося значи-
тельного ущерба. Следовательно, речь идет о том, чтобы создать ряд конку-
рирующих социальных предприятий наименьшей оптимальной величины,
над которыми стал бы излишним аппарат функционеров, необходимый при
нынешней концентрации выгоды. В сведенных к допустимой величине от-
дельных предприятиях проявилась бы инициатива действительно принима-
ющих участие коллективов рабочих и служащих, способных теперь поднять-
ся над своим прежним рабским состоянием. Такова была бы цель.
Соединение этого соучастия с поставленной в определенные грани-
цы свободной социализацией привело бы к достаточно серьезному изме-
нению в сегодняшней структурной форме аппарата, к изменению, кото-
рое дало бы известные шансы очеловечивающим тенденциям посред-
ством устранения границ инициативы и значительной, в сущности недо-
стойной человека, зависимости.
С другой стороны, ясно: масса функционеров сохранилась бы и при
этом преобразовании. И даже там, где это преобразование дает шанс для
изменения роли функционеров и, сверх того, шанс для рабочих поднять-
ся из рабского состояния посредством определяющей их судьбу деятель-
ности, изменение остается ограниченным по своему действию. Оно не
вводит ничего основополагающего в судьбу сегодняшнего внешнего су-
ществования и является скорее его модификацией и коррекцией. И
прежде всего: данные им шансы носят такой характер, что использова-
ние их полностью зависит от человека.
256
Оно зависит от сегодняшнего человека, который в качестве функци-
онера связан с вносящими распад тенденциями аппарата, а в качестве
рабочего может, правда, внутренне дистанцироваться от разлагающей его
личность работы, но функционер ли этот человек или рабочий, он от-
крыт в своем досуге воздействиям практического нигилизма, а во всех
центрах — действию сенсаций, одурманиванию рекордами и т. п. Други-
ми словами, внешнего преобразования недостаточно. Нам нужен чело-
век, который, будучи функционером, обладал бы иммунитетом против
тенденции к распаду в его труде и против практического нигилизма, а
будучи рабочим, не только обладал бы таким же качеством, но одновре-
менно и являлся в сознании и душе носителем новой, обладающей силь-
ным влиянием, человечности.
Даже если расслабление, внесенное в умонастроение рабочих силь-
ной безработицей, сыграло известную роль в несостоятельности органи-
зованных рабочих Германии в критические дни 1933 г., мы пережили эту
несостоятельность. И никогда больше подобное или сходное с ним не
должно стать возможным на Западе под тоталитарным влиянием. Нам
необходимо влияние, достаточно сильное, чтобы произвести иммуниза-
цию функционеров и активизацию рабочих, которое служило бы проч-
ной защитой от дезинтеграции человека, где бы и когда бы она ни воз-
никла. Нам нужна новая кристаллизация человека.
Прежде чем мы приступим к определению характера влияния, кото-
рое ставит это своей целью, несколько слов о месте, в котором это вли-
яние должно прежде всего проявиться в духовной динамике социальной
структуры, и о путях, на которые оно могло бы или должно было бы
вступить, чтобы достичь чего-нибудь в кажущейся неотвратимой рота-
ции всех событий наших дней.
Существует впервые сформулированный Габриэлем Тардом закон
«подражания», правда, как мне кажется, слишком обще примененный к
духовной динамике социального тела. Этот закон гласит, что каждый со-
циально более низкий слой, сторонником каких бы убеждений он себя
ни объявлял, следует тенденции ориентироваться в своем жизненном
поведении и в конечном счете по своему личностному типу на следую-
щий, находящийся над ним, слой, с которым он находится в тесной свя-
зи. Я определил бы это как закон духовной и личностной индукции в
ходе социального соприкосновения. Этот «закон», — конечно, только
тенденция, от которой возможны самые сильные отклонения. Однако он
отражает действительно существующую тенденцию, без которой невоз-
можно понять, например, всепроникающее социальное воздействие типа
джентльмена в Англии, и утверждение многих других фиксаций, о кото-
рых говорилось выше при рассмотрении вопроса об изменении типа че-
ловека.
Если мы в нашем теперешнем обществе рассматриваем высший ду-
ховный слой, функционеров и широкие рабочие массы как динамичес-
ки наиболее значимые силы, то в поисках центра индукции и его влия-
ния на это динамическое целое — крестьянство, ремесло и торговлю мы
здесь сознательно оставляем в стороне — можно, вероятно, без большой
ошибки установить следующее.
У нас, по крайней мере в Европе, есть в слое функционеров чинов-
9 Зак. 3073
257
ничество старой формации, которое в своей ориентации всегда взирает
на духовные слои. У нас на Западе есть повсюду обладающая инициати-
вой часть технической, теперь большей частью преобразованной в функ-
ционеров, интеллигенции, которая всегда находилась или стремилась
находиться в тесной социальной и духовной связи с этими духовными
слоями в узком смысле слова. И у нас есть широкие массы средних
функционеров, которые в духовном, душевном и личностном поведении
всегда преимущественно ориентируются на стоящие над ними слои,
прежде всего на высших функционеров. Таким образом, существует воз-
можность постепенной индукции от духовных слоев на всех функционе-
ров. Этот духовный слой является, без сомнения, центром индукции.
Если допустить, что он вновь обретет сильное позитивное влияние глу-
боко кристаллизующей и активизирующей человечности, которое обно-
вило бы сегодняшнего западного человека в его сущности, то нет сомне-
ния в том, что посредством упомянутой социальной индукции это ока-
зало бы влияние на весь слой функционеров. И я не сомневаюсь, что при
достаточной силе влияния и его осознанной направленности на позитив-
ную цель значительная часть функционеров была бы иммунизирована от
душевного распада и воздействия практического нигилизма.
Но оставим в стороне низший слой функционеров. У нас ведь есть и
рабочие. Сегодня об их возвышающемся слое часто говорят, что он «об-
мешанивается». Конечно, смешно объявлять мещанином и обывателем
каждого рабочего, который хочет иметь собственный дом и сад или, при
больших расстояниях в Соединенных Штатах, машину и приобретает ее,
который к тому же одевается и ведет себя так же, как представители сто-
ящих над ним слоев. Тем не менее существует известная часть рабочего
класса и ряд рабочих, на которых улучшение их существования действует
в сторону обуржуазивания, вследствие чего их образ жизни уподобляет-
ся образу жизни непосредственно стоящего над ними низшего слоя
функционеров. Однако это не преобладает и прежде всего не характер-
но для избранных вождей рабочих. Напротив, сегодняшние рабочие
представляют собой в своей лучшей части и в лице своих руководителей
плодотворную почву для подлинно духовного влияния.
Достаточно представить себе влияние духовного слоя, который бы это
знал и объективно такое влияние использовал, — разве это не служило
бы сильнейшим средством для предотвращения еще самих по себе здо-
ровых масс от дезинтеграции и для усиления их ориентации под действи-
ем вновь воспринятого и узнанного импульса на человечность и свобо-
ду! И разве упомянутые раньше возможности соучастия в профессии и в
хозяйстве, которое, как мы видели, в их фактическом значении полнос-
тью зависели от стоящих за ними людей, не обрели бы здесь концентра-
цию и формирующую силу, которая, исходя из духа, стремится к чело-
вечности, внутренне кристаллизованной и выходящей за пределы про-
стого повторения слов?
Следовательно, решающее значение имеет духовный слой. Все дело в
том, чтобы сделать его позитивным и влияющим в прежней манере, в
понимании новой глубокой человечности. Некогда, в ХУ1П в. «интеллек-
туалы» дали в результате своего душевного и духовного опыта то, что
концентрировалось в представлении о достоинстве и правах человека и
258
в качестве таким образом познанного стояло тогда за возникающими со-
циально-религиозными верованиями масс. Они шли предназначенным
им путем, который вел через ставшее привычным гуманное верование на
словах, через историзм и позитивизм к духовному и практическому ни-
гилизму. Правда, в наступившей катастрофе общество вновь обрело уте-
рянное чувство обязующей человечности. Однако мы видели, как фор-
мирующее и излучаемое влияние духовных слоев, которые больше все-
го ощущают сохранившийся хаос, осталось при этом едва ли не на дос-
тигнутой прежде нулевой точке и что это в конечном итоге означает, не-
смотря на повсюду существующее верование масс.
Разве нет возможности для этих слоев прийти к новому знанию, ко-
торое при сохранении, даже плодотворном применении всех разочарова-
ний и достигнутых глубин привело бы их при сознательном прохожде-
нии через все бездны существования к новому видению, где и первичное
знание, некогда определявшее их современное практическое воздействие
на мир, получило бы в других рамках, хотя и модифицированное, но
прочное место. Таким образом могла бы быть обновлена способность
влияния этого первичного знания и предотвращена опасность того, что
эта способность со временем вновь станет просто верованием на словах.
Ибо тогда она находилась бы в существенно измененном облике и осве-
щении в центре нового видения мира.
Я полагаю, что это возможно и что началом должно быть восстанов-
ление в памяти активизирующего постижения трансцендентности, кото-
рое как таковое большей частью не ощущается, хотя всегда окружает нас;
оно — подлинное постижение трансцендентности и при правильном
видении и понимании открывает путь к освобождающему силы иници-
ативы соединению нынешнего негативизма с позитивным видением.
Примечания
1 Kulturgeschichte als Kultursoziologie. Заключительный раздел.
2 О Египте и Вавилоне см. Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie. 1951.
Заключительный раздел.
3 Ср. мою работу: Abschied von der bisherigen Geschichte. (См. настоящее издание,
с. 375-536.)
4 Achminow G.F. Die Macht im Hintergrund. Grenchen /Ulm. 1950. S. 127, 140.
5 Эту ошибку делает Ахминов.
6 Дано по Sozialtaschenbuch. 1952. Frankfurt/ Main. S. 20. 1882; Deutsches Reich,
1950 Bundesgebiet.
7 Sixteenth Census of the United States 1940 Population. P. 187; 1950 Census of
Population. Preliminary Report. P. 29.
Глава 4
Человек и трансцендентность
1. Постижение
Воспитание, демократическая политическая практика и многое другое, что
обычно приводят, конечно, важны для такой активизации. Однако пости-
жение абсолютного значения таких понятий, как свобода и человечность,
для собственного и социального существования, постижение их как абсо-
лютного, окружающего отдельного человека, делающего его твердым и вос-
пламеняющего его, возможно только в рамках действительно нового пости-
жения такого абсолютного, которое связано с новым воззрением на жизнь.
Это должно быть постижением существования, в котором ничего не
утрачено, ничего не упущено, не оставлено в стороне из всего ужасного,
опасного и мрачного, что было в мире после кажущегося сегодня таким
светлым временем XVIII в., ничего из того, что было с тех пор пережи-
то в страдании, но при этом с мужеством и несломленностью, и что се-
годня придает окраску каждому воззрению на существование. Но вмес-
те с тем это постижение должно сообщить нам новое видение существо-
вания, сильное и позитивное: позитивное не создается все время повто-
ряющимся цитированием ставших из-за слишком частых повторений
недейственными идей; позитивное вследствие непосредственно волную-
щего нового видения, которое, как было сказано, возникает в сегодняш-
нем существовании, в известной степени скрыто присутствует, но из-за
множества понятийных и историзирующих предрассудков не видится и
не ощущается, хотя оно касается очевидной и полной действительности.
Это новое постижение существования, которое одновременно есть
вновь воспринятое, наконец, в отражении сегодняшней экзистенции
старое, может быть обрисовано мной только в его начатках. Я могу быть
не более чем одним из тех, кто прокладывает ему путь. Речь идет о сво-
его рода постижении трансцендентности, которое, как я полагаю, откры-
вает перед нами широкий и воодушевляющий горизонт. И для этого не-
обходимо вспомнить факты, которые именно сегодня не воспринимают-
ся больше как трансцендентные и отвергаются в своей абсолютности,
хотя они, как я уже сказал, всегда суть вокруг нас и правильно увиден-
ные и понятые в своем трансцендентном характере, они способны, как
мне кажется, открыть искомый путь к соединению сегодняшнего нега-
тивизма с позитивным видением.
Попытаемся ближе рассмотреть их.
О трансцендентности можно говорить, и обычно говорят, в самом
различном смысле. Та переплетенность с трансцендентностью, которая,
постигнутая как осознанная, окружающая человека данность, может его
активизировать и в известной степени иммунизировать, — лишь один из
возможных видов отношения человека к трансцендентности. Оно. прав-
да, наиболее непосредственно данное, даже единственное, которое, до-
веденное до сознания, сразу же становится очевидным, но вместе с тем
оно, вероятно, именно полому сегодня обычно не воспринимается как
таковое, разве что в конфессионально религиозном облачении.
260
Здесь речь идет не о постижении трансцендентности как попытки
опосредствования доступа к «бытию» в противоположность существова-
нию, понятому как непосредственно данная нам действительность. Зна-
чительная часть западных философов, начиная с Парменида и Платона,
всегда занимались этой, назовем ее эксманентной, отделенной от непос-
редственно данной «действительности» трансцендентностью бытия или,
как стали в последнее время говорить (Хайдеггер), такого рода сущим, и
пытались показать ее посредством спекуляции. Сколь ни сузившейся по
сравнению с учением Платона представляется нам область, которую пы-
тается показать и приблизить к нашему пониманию экзистенциализм,
оставшийся едва ли не единственным представителем такого постижения
трансцендентности, область, ограниченная потому, что в экзистенциа-
лизме речь идет о почти едва доступных выражению познании и пости-
жении человеческой самости в ее отношении к человеческому бытию, а
не о полной форм и образов, стоящей за действительностью большой
трансцендентной сфере, как у Платона; сколь ни сужено, следовательно,
это сегодняшнее спекулятивное эксманентное постижение по своему
практическому содержанию, именно его имеют в виду, когда сегодня на
языке привычных1 понятий говорят о трансцендентности.
Мы же, говоря здесь о трансцендентности и сплетенности с ней, име-
ем в виду не этот аспект эксманентной трансцендентности. Его уяснение
мы предоставляем философии и ее логическим дедукциям, которые, ос-
новываясь на связанных со временем и с личностно различными услови-
ями, в целом ведут к самым различным результатам.
Мы говорим здесь о трансцендентности, которая находится в много-
образной, меняющейся в своих формах непосредственно данной дей-
ствительности существования — понимая это существование как духов-
но и физически предметно данное; о трансцендентности, которая при
этом, несмотря на меняющиеся формы ее явления, абсолютна и поэто-
му находится вне существования в качестве — как ни противоречиво это
кажется в логическом понимании — неизменной основы и составной
части этих форм явлений; о трансцендентности, которая познается как
сила и как действенно связанная с существованием; она даже участвует
в построении этого существования в его меняющихся формах непосред-
ственно через вхождение в эти формы, — она едина с ним, поскольку
одновременно есть в нем и вне его.
Что эта трансцендентность и связь с ней всегда присутствовала в той
или иной форме в представлении людей на протяжении всей их истории
и они все время обращались к ней, мы тотчас покажем. И тем самым то.
что я теперь пытаюсь выразить в общей форме, станет, как я надеюсь, в
своей конкретной форме более понятно и приемлемо.
Сначала несколько поясняющих примеров.
На протяжении всей своей истории люди, если они не были испор-
чены понятийным мышлением, воспринимали то, что они называли
«красивым», как направляющую на них свои лучи силу, обладающую
тенденцией действовать, исходя из источника излучения, в том, кто ее
воспринимает. Люди знали, что существуют самые различные виды кра-
соты, очень многообразные, богатые ее вариации. Однако она сама в ка-
честве излучающей силы или могущества есть нечто абсолютное, кото-
261
рое находится в излучающем источнике и формирует его. То же относит-
ся к «безобразному», которое люди также, если они не были испорчены
дискурсивным мышлением, никогда не считали только отсутствием кра-
соты, а видели в нем также излучение силы, которая хочет иметь свою
форму и создает ее; эту форму называют и ощущают безобразной, хотя
при определенных обстоятельствах она может даже вызывать симпатию.
Совершенно так же обстоит дело и в практической, или как обычно
слишком узко ее определяют, в моральной сфере. «Доброе» всегда познается
и ощущается как воплощение силы или могущества, которое в качестве
«блага» или иным образом также обладает способностью излучения. А то,
что в целом определяют как злое, тоже познается не как простое отсутствие
доброго, а как обширная, очень многообразная, сходная с целым арсеналом,
область воплощения излучающих и воздействующих сил.
Это же относится к возвышенному и низкому, к благородному и пре-
зренному и т.п.
В своем мышлении и умозрении люди стремились логически постиг-
нуть и систематизировать то, что познается во всех этих областях и что
они обозначают названными здесь и иными терминами. Однако познан-
ное, форма и действующие феномены, о которых здесь идет речь, про-
сто суть и остаются, независимо от того, удается ли ввести их в какие-
либо логические дефиниции. Они существуют до этих попыток и позна-
ются до всякого логического членения как результат совершенно непос-
редственной, предшествующей всякой рефлексии позиции. Я утверж-
даю: то, что мы здесь познаем как динамическую силу и могущество, во-
обще ни в одной из названных областей не может быть логически рас-
членено и введено в какие-либо определения или подведения под поня-
тие. Не может быть потому, что речь здесь всегда идет о сложных обла-
стях феноменов, образов, форм, сил и власти, которые противостоят нам
и одновременно воздействуют на нас в качестве потенциалов и в качестве
возможностей присутствуют в нас самих. Это силы и феномены того, что
определяется как красивое, безобразное, доброе, злое, возвышенное,
низкое, благородное, презренное и т.д. всегда представляют нам только
одну бросающуюся в глаза сторону, которую мы подобным определени-
ем как бы освещаем прожектором. Между тем с этими сторонами связа-
ны другие, которые остаются в тени и не входят в это определение. И эти
другие стороны только и придают упомянутым нами сторонам их логи-
чески нерасчленяемую, вполне конкретную окраску. Говоря ad
hominem*: красота может выступать чистой или, правильнее, как будто
чистой, например, в нашей человеческой перцепции цветов. Для неко-
торых перцепций в этой красоте есть и практические стороны, придаю-
щие ей определенную окраску. Но красота может также, что почти все-
гда бывает и у людей, и у животных — находиться в неразрывной связи
с различными другими силами, такими, как эротическое воздействие,
быть может, коварство, даже жестокость, и только от них получать свою
логически не отделяемую окраску. И окраска, которую она при этом в
качестве таковой получает, в конечном единстве настолько гетерогенна,
что каждый эстетик, который стремится к большему, чем к простому ус-
Применительно к человеку {.кип).
262
тановлению этого феномена, и пытается определить его в каком-либо
логизме, не может не вызывать сожаления. Пробуйте сказать что-либо
логическое об улыбке Моны Лизы! То же, та же невозможность возникает
при попытке определить «доброту», «доброе» и «злое» и т.п.
В основе всех этих феноменов лежат почти всегда сложные нерастор-
жимые силы, и в качестве форм выражения таких сил они всегда суще-
ствуют вне нас как излучающие на нас воплощения и в нас существую-
щие как потенции или задатки, на которые эти воплощения посылают
свои лучи и действуют активизирующе. Эти задатки могли стать в нас
рецессивными, могут пребывать в дреме или быть задавлены и скрыты
условностями. Они выведены как антенны, посредством которых для нас
становятся действенными течения и силы. И тогда происходит совмест-
ное действие находящегося вне нас объективно структурированного,
имманентно трансцендентного мира и нас; ибо он действует в нас, и мы
можем участвовать в нем посредством имеющегося в нас потенциала.
Такова основополагающая связь между нашей структурой из меняю-
щихся комплексов задатков и этими силами, силами имманентной
трансцендентности вне нас и в нас.
Это — силы, с которыми мы связаны мысленным образом, не теряя
при этом нашей спонтанной свободы и свободного решения. Мы можем
отдаваться каждой из них и предоставить ей захватить нас, но можем и
противостоять этому, если мы достаточно сильны благодаря тренировке
или суждению.
По действию, которое эти охватывающие нас в столь сложных вари-
антах силы оказывают на нас, мы делим их на позитивные и негативные.
Позитивными мы называем их, когда они выводят нас из нашей лично-
стной скованности и, мы утверждаем это с осторожностью — нас осво-
бождают. Негативными — поскольку они втягивают нас в нашу замкну-
тость внутри себя и унижают нас в нашем собственном чувстве. И если
мы спросим, откуда то и другое, то окажется: позитивно познаваемые
силы — универсализирующие и тем самым освобождающие. Они ведут
нас в некую даль, освобождают и спасают нас этим от замкнутости в на-
шей объективной узости. Негативные же носят партикуляризирующий
характер. Они сужают и изолируют нас и пробуждают в этой узости и
изолированности, поскольку они являются практически существенными
силами, наши задатки к насилию, к ненависти и разрушению.
Это лишь общая схема; здесь я еще не исследую чрезвычайную раз-
ветвленность этого представленного в намеренном упрощении осознава-
емого мира феноменов и не касаюсь этой разветвленности в ее включен-
ности в общее видение существования.
По сравнению с распространенным сегодня исследованием рассмат-
риваемых здесь областей все сказанное может показаться несколько не-
привычным; непривычным прежде всего потому, что речь здесь все вре-
мя идет о трансцендентных силах, воплощенных вне нас и одновремен-
но существующих и действующих в нас в качестве задатков, о силах,
очень активных самих по себе и постоянно требующих решений. Здесь
дано видение очень живого мира, тогда как современный философству-
ющий логик в целом полагает, что можно спокойно следовать понятий-
ным различиям мысленно прекрасно упорядоченного и совсем не самого
263
по себе возбужденного мира «ценностей», как он это называет. Он дей-
ствует таким образом, хотя едва ли не все великие поэты видели эту по
своей сущности в высшей степени живую область примерно так, как я ее
пытаюсь показать, и говорили о ней как о большом, активном, противо-
стоящем им предмете. Что происходит, например, в пьесах и трагедиях
Шекспира? Что в них живое? Из-за чего там борются? Как уже сказал
Фридрих Гундольф, борются «силы», именно те силы имманентной
трансцендентности, о которых говорили мы. И не только в «Макбете»,
где эти силы частично выступают зримо как ведьмы в мифологическом
образе, но также в «Короле Лире», в «Гамлете», «Отелло» и во всех дру-
гих более поздних произведениях. Они присутствуют во всех лицах в ка-
честве невидимых, самих по себе безличных сил, которые могут быть
полностью или частично воплощены в героях произведений и служат во
всяком случае судьбоносным фоном. В греческой трагедии, другом дос-
тупном нам примере художественного выражения этих сил, они еще пре-
обладающе пребывают в мифическом облачении в качестве богов, про-
рочицы Пифии, в качестве демонов и т.д. Однако это обличье уже здесь
непрочно, служит просто символом и ничего не меняет в объективной
значимости, с которой эти силы повсюду выступают и действуют, начи-
ная с Прометея, Клитемнестры и Эдипа до вакханок Еврипида.
Прежде чем мы обратимся к более сложному и разветвленному виду,
в котором мы познаем их сегодня, несколько слов о длинном ряде пред-
шествующих видов постижения и понимания этих сил на протяжении
всей человеческой истории, правда, несколько отличающемся по своей
форме от возможной сегодня. Может быть, мы тогда яснее поймем, о
какой, раньше большей частью магически и мифологически облеченной
области, идет речь, области, которую нам сегодня надлежит констатиро-
вать совершенно немифологически, совершенно трезво, чисто объектив-
но; не замечая ее, мы теряем придающий нам прочность фон, тогда как
ее постижение нам этот фон дает.
2. Ряд предшествующих типов постижения
Несколько слов о наиболее важных регионах Востока, в первую очередь
о Китае и Индии.
В Китае, где человек всегда ощущал себя частью космоса, этот кос-
мос был полон не только функциональными богами, имевшими значе-
ние для отдельных сторон человеческой жизни, но и безличными, хотя
и ощущаемыми живыми трансцендентными силами, с которыми человек
был тесно связан и с динамически ощущаемой полезной или вредной
сущностью которых он должен был считаться, если не хотел понести
ущерб. Янь и Инь были не какие-либо, полученные убивающей абстрак-
цией свойства всегда космически воспринимаемой среды. Они ощуща-
лись как вполне живые, введенные в эту среду силы. Они могли быть
фиксированы географически (к востоку, западу, югу и северу) и нахо-
диться в таинственном отношении к цветам и временам года. Это были
силы, с которыми человек должен был посредством определенного пове-
дения установить связь; мы сказали бы, посредством такого поведения
264
предложить им единение с потенциалом своих задатков или, защищаясь,
противостоять им, чтобы открыть доступ одним и предотвратить проник-
новение других, негативных, сил. Очевидно, что здесь магически и кос-
мологически облеченным познается то, о чем мы говорили. Поскольку
все царство сил было посредством этого космического встроения лише-
но частично своей чисто спонтанной власти, сложилась вера в не упоря-
доченные таким образом, влияющие на повседневность «мелкие силы»,
Квей, вера в своего рода дейзи-демонию, — суеверие, которое является,
по-видимому, только обратной стороной попытки в известной степени
дедемонизировать великие стоящие над существованием силы и рацио-
нально встроить их в космос.
Иной процесс с иными следствиями предстает нам в Индии. Здесь че-
ловек пытался духовно и экзистенциально преодолеть космос и заклю-
ченный в нем мир существования и воздействия и растворить свою ин-
дивидуацию в метакосмической сфере. Это преодоление космоса дости-
галось, как известно, практикой йоги; причем в различных формах и с не
вполне тождественной целью. Сложившийся в Северной Бенгалии отно-
сительно трезвый древний буддизм, рассматривавший в качестве искон-
но чистого буддизма весь космос как окутанную и окутывающую при-
чинной сетью действительность, освободиться от опутывающих причин
которой можно только посредством определенного, опирающегося на
йогу поведения, ставил перед собой радикальную цель достичь в конце
концов освобождающего от индивидуации возвышения в надкосмичес-
ком состоянии, называемом нирваной, в котором исчезают все страда-
ния существования и жизни. Другой, возникший в Центральной и Севе-
ро-Западной Индии, примыкающей к древнему брахманизму, путь к са-
моосвобождению, изложенный преимущественно в более поздних Упа-
нишадах, был не столь радикален, не столь враждебен космосу; он пы-
тался соединить космическое и надкосмическое. И при этом произош-
ло нечто для нас существенное. Ибо прежде всего в знаменитой Чхандо-
гье Упанишаде впервые в истории было постигнуто нечто подлинно им-
манентно-трансцендентное. В поисках единения атмана с Сат, с быти-
ем, натолкнулись на факт всеобщей связи человека, представляющей со-
бой одновременно вне- и внутри-бытие, тат-твам-ази, «мы», «это-ты».
Тем самым была достигнута освобождающая человека из его эгоистичес-
кой замкнутости плоскость имманентно трансцендентной сферы сил, та
плоскость, к углубленному изучению которой как к фактору позитивных
сторон трансцендентности мы еще вернемся. Поскольку в этом индий-
ском, будь то буддистском или ином постижении существования речь
шла только о самоосвобождении от страдания существования, это глубо-
ко основополагающее познание осталось вне связи с проясняющим по-
стижением мрачной, злой стороны мира сил, участвующей в построении
существования. Вся эта мрачная сторона жизни была передана «мифу».
И таким образом мы имеем в качестве индийского наследия в Пуранах,
в записях этого мифа, движущегося в примитивных, с точки зрения по-
нятийного рассмотрения, формах, полный бесчисленных образов рассказ
о беспрерывной борьбе божественных и демонических сил во все время
повторяющиеся периоды мира. Величественное, но совершенно нечело-
веческое видение и этой стороны трансцендентности почти чудовищно
265
по своим масштабам. Оно не связывается с человеческой судьбой в ка-
ком-либо определенном понимании. Таким образом, и здесь остается
факт глубокого и сегодня сохранившегося постижения рассматриваемого
нами содержания трансцендентности; однако не существует формы, в
которой оно могло бы обрести в своей тотальности валентность для нас.
Совершенно иной характер этого мы обнаруживаем в не оставшейся
без влияния Индии соседней ей Передней Азии. Мы говорили: наиболее
близка нашим возможностям постижения и переживания античная гре-
ческая непосредственная форма постижения мира сил, прежде всего
форма греческой трагедии, хотя она и облечена мифологическим покро-
вом. Но практически охватывающей и нашу сегодняшнюю повседнев-
ность является переднеазиатская форма постижения, от Зороастра и
иудеев до христианства.
Сегодня даже для тех, кто не может больше придерживаться форму-
лы веры, стало едва ли не само собой разумеющимся понимать боже-
ственное и мрачно-демоническое, спасительные и разрушительные силы
трансцендентности, как не только проникающие весь космос, но и фор-
мирующие его. Этим воззрением античные греки времен трагедии не
обладали. Это было введено в греческий мир Платоном вслед за испытав-
шими влияние Передней Азии орфиками. Грекам времен трагедии был
известен после Гесиода хаос и генеалогия богов и хтонических образов
гигантов, которые в борьбе друг с другом превратили мир в космос. Од-
нако боги этого греческого космоса не были всесильны, еще менее были
таковыми, конечно, темные и светлые демоны, которые ощущались на-
ряду с богами, присутствующими и воздействующими на жизнь. Извес-
тно, что эти боги, наряду с воплощенными в них силами, не были одно-
значно ни добрыми, ни злыми. Они просто были в своем созерцаемом
многообразно меняющемся образе, как было и непосредственное суще-
ствование господствующих сил, которые они представляли. А над ними
стояло нечто необъяснимое, именуемое Мойрой, которая определяла
судьбу всего и всех.
Надо ясно представлять себе этот характер исконной религиозности
времени Гомера и заключенного в ней и в ее дальнейшем развитии в тра-
гедии имманентного постижения трансцендентности, этого постижения,
которое впоследствии революционно опроверг Платон. Надо попытать-
ся пережить в целом это представление в греческом мире до Платона как
реальное постижение действительности; и, может быть, тогда удастся
наконец освободиться от шаблонного представления о политеизме как
примитивной ступени, предшествовавшей монотеизму. Тогда мы, может
быть, сможем воспринять то, что при всем своем громадном универсаль-
ном значении все-таки является исторически особенным, что, исходя из
зороастризма и иудейства, получило в конечном счете свое завершение
в Передней Азии в христианстве и с тех пор окружает нас. Нам предстоит
теперь перейти к изложению универсальных содержаний, прежде всего
христианства, для нашего сегодняшнего видения существования. Одна-
ко как особое историческое явление в трансцендентальном воззрении на
существование оно вместе с персидскими и иудейскими представлени-
ями Передней Азии находится между индуизмом и греками в качестве
того, что я в другом месте («Трагическое и история») назвал «морализа-
266
цией космоса», транспонированием морально рассмотренных имманен-
тных трансцендентных сил в космос. В этом представлении космос вы-
ступает как наполненный в непосредственно познаваемой нами в по-
вседневности борьбой добра и зла, в которой мы участвуем.
Подобного соединения судьбы космоса с судьбой человеческого рода
и одновременно с его моральным поведением нигде в истории больше не
было. Китайцы рассматривали космос как масштаб и регулирующее пра-
вило для всего человечества. Однако придавать каким-либо его сторонам
моральные качества было им столь же чуждо, как индийцам, которые
видели в нем то, что приносит страдание и освободиться от чего можно
только посредством уничтожения индивидуации. В Индии никто не по-
мышлял морально оценивать или классифицировать эти силы. Это не
совершали, как было сказано, и греки до Платона, за исключением на-
ходящихся под влиянием переднеазиатских верований орфиков.
Тяжкая судьба народов Передней Азии, вызванная прежде всего раз-
рушительными набегами, угрозой и насильственным установлением гос-
подства, привела, сначала у персов (до их ставших историческими дея-
ний) в зороастризме к возникновению дуалистического представления о
мире, к представлению о едином боге, который создал мир и в качестве
морально доброго предназначен господствовать над миром; однако чело-
век должен помогать ему в его борьбе с противоположной силой, с Ари-
маном, воплощением зла, будущим дьяволом; эта судьба привела их к
представлению о награде, которая ждет после смерти воинов, сражав-
шихся за добро. И особенное, проходящее в постоянной борьбе с более
сильными народами, преисполненное страданий, подчас отчаяния, су-
ществование, — таковой была судьба древних иудеев, — способствовало
настолько интенсивному проникновению в иудаизм представления о
боге и мире зороастрийского дуализма, что он стал затем основным кос-
мологическим догматом христианства; правда, в сочетании с многими
другими более ранними переднеазиатскими мистериями, которые, как,
например, ранний гносис формально еще до христианства, ввели в эту
картину мира и существования идею спасения. Таким образом, христи-
анство с исторически космологической и метафизической точки зрения
сложилось как в своей естественной среде в дуалистических морализаци-
ях мирового процесса с присущей им идеей спасения.
По душевному содержанию своего постижения христианство выходит
за пределы всех этих еще полумагических представлений. И если спра-
ведливо говорят об исторически единственном по своему типу открове-
нии, которое христианство дало человечеству, то следует сказать, не пре-
уменьшая значения всех профессионально-догматических интерпрета-
ций, что с историко-социологической точки зрения откровениие состав-
ляет это его новое душевное содержание постижения. В нем находится,
конечно, учение о возвещении благой вести, великая идея страдания
Бога, взявшего на себя грехи людей ради их спасения. Это подлинно бла-
гочестивая, т.е. связанная с определенной религиозной верой, сторона
христианства. Однако в его особом душевно-духовном постижении есть
также содержание, находящееся абсолютно вне всякой зависимости от
какого-либо особого характера благочестия. Это — сходный, имеющий-
ся уже в Упанишадах, но всемирно-исторически более значительный,
267
прорыв в позитивную сферу имманентно-трансцендентного, прорыв в
понимание универсальной всеобщей связи людей. Он был доведен — и
это стало переворотом в мировой истории — до понимания всеобщей
активизирующей связи людей. «То, что вы делаете по отношению к нич-
тожнейшему среди вас, вы делаете мне».
Этим человечество достигло совершенно новой ступени сознания.
Вскоре она получила свое выражение в христианской caritas*, которая в
качестве созидательного элемента сыграла решающую роль в победе хри-
стианства в Поздней Римской империи. Эта решающая часть постиже-
ния позитивной стороны имманентной трансцендентности и сегодня, к
счастью, вновь стала, несмотря на ее секуляризацию, действенной. И мы
ясно видим, что основное человеческое постижение, которое присутству-
ет сегодня в международной напряженности западного мира, есть пости-
жение трансцендентности. Ибо доходящая до активного самопожертво-
вания связь людей, заключенная в этом постижении и вначале высказы-
ваемая в религиозном облачении, возможна и совершенно независимо от
определенной веры, она просто исходит из постижения трансцендентно-
сти, которая есть в нас и вне нас в каждом другом человеке, становящем-
ся посредством нее единым с нами, частью нас.
Негативные трансцендентные силы, которые христианство, примы-
кая к иудаизму и зороастризму, видело воплощенными в сатане, оста-
лись, как известно, очень живыми в обеих следующих за античностью
культурах, в русской и западной. Применительно к Западу достаточно
вспомнить дантовский «Ад» и Лютера. В третьей следующей за антично-
стью культуре, в исламе, который возник также под влиянием христиан-
ства и иудаизма, эта сторона вследствие ориентации ислама на посюсто-
ронность, с самого начала получила меньшее значение, а затем практи-
чески исчезла. Более подробно это нас здесь не интересует.
Если пытаться проследить ряд предшествующих постижению транс-
цендентности явлений, о которых мы пытались напомнить, вплоть до
запутанной и сложной сегодняшней ситуации, то следует прежде всего
избегать одной ошибки. А именно, будто сложившаяся в «Новое время»,
т.е. во всемирно-историческую переходную эпоху, точная эмпирическая
наука, в которой при ее механистических каузальных методах, конечно,
нет места для такого «суеверия», как постоянное присутствие имманен-
тно трансцендентных сил, — будто единственно эта наука была тем, что
сокрушило «идолы» такой «мифологии сил». Эти силы, разумеется, не
находят пристанища в современной научно-эмпирической «области зна-
ния». Однако эта область не могла бы получить охватывающее все сто-
роны существования значение, если бы она не обрела поддержку со сто-
роны, о которой мы до сих пор намеренно не говорили, о которой, од-
нако, хотя бы вскользь, следует сказать: я имею в виду философские по-
стижения бытия.
Восприняв и сформировав позднеантичное христианство, Запад по-
лучил противоречивое наследство, поскольку вместе с христианством
была воспринята связанная с ним языческо-античная философия и дру-
гие стороны античной культуры, так что можно с полным правом гово-
Милосердпе {.шт.).
268
рить о «рецепции» всей античности, которая затем, как известно, сделала
возможными не воспринимаемые как противоречащие христианству
«возрождения» античности.
Из этого для видения мира сил сначала следовало нечто позитивное.
Поскольку Запад в рамках этой истории проходил периоды, в которые по
различным причинам уменьшилось влияние церкви и ее значение в жиз-
ни, в своего рода душевной и духовной дедогматизации могли внезапно
оживиться, хотя и в измененной форме, как классическое античное ощу-
щение существования, так и отдаленно сходное с античной классической
установкой видение вместе с возможностью воспоминания о первона-
чально недогматическом постижении античностью этих сил. Мы уже
приводили произведения Шекспира как величайший пример этого. И
сколь ни христианским было мировоззрение Данте, творившего в нача-
ле величайшего из этих возрождений, так же, как и мировоззрение Ми-
келанджело, который его постоянно читал, — творения обоих требуют
для того, чтобы понять ту нюансировку демонического, которую они от-
части эксплицитно, отчасти имплицитно в столь значительной степени
содержат, — достаточно вспомнить Моисея Микеланджело и многие
сцены в «Чистилище» Данте, — творения обоих требуют, чтобы в них,
наряду с христианским, непосредственно ощущали и языческо-античное
постижение трансцендентности.
Однако после Реформации и контрреформации это было утрачено.
Величественное воплощение темных демонических сил в сатане мильто-
новского «Потерянного рая» уже редогматизировано. А следующий пе-
риод отказа от догматизации, XVIII век, с его, невзирая на весь культ ра-
зума, глубочайшим недогматическим новым открытием человека и мира,
не видел уже, в отличие от Шекспира, включенность человека в игру де-
монических сил. Шиллеру, например, это была настолько чуждо, что он,
несмотря на его перевод «Макбета», в целом духовно исходил из проти-
воположности морального и природного мира как сил, определяющих
поступки людей. При всем богатстве нового недогматического постиже-
ния мира и человека его глубины не хватало для непосредственного пе-
реживания мира сил. Даже у Гёте, который видел и выражал область демо-
нического, демонический мир сохраняет черты известной безобидности.
Все это и исчезновение чего-то, подобного видению «сил» вообще, ста-
новится вполне понятным, если ясно представить себе в качестве второго
решающего момента огромное значение философской интерпретации мира
и ее качество, исключающее видение и признание этого мира сил.
Западная интерпретация мира, которая, несмотря на ее кажущееся
подчинение церкви и сужение в схоластике, в сущности шла собствен-
ным путем и пребывала в собственной плоскости параллельно церкви,
была, как мы уже сказали, по своему основному стремлению «толкова-
нием бытия» или «постижением бытия». Находилась ли она под влияни-
ем широко воспринятого интеллектуализма Аристотеля, толковала ли
Платона и даже Парменида, отца западного панлогизма, или отходила от
них в большую гносеологическую глубину, эта интерпретация — мы рас-
сматриваем ее только в аспекте ее обшей, важной для нас сущности, и не
касаемся полученных ею результатов — оставалась грандиозной попыт-
кой средствами человеческой логики, понимаемой как рассудок (интел-
269
лект) или как выходящий за его пределы разум, сказать последнее об ис-
тинном «бытии» и как следствие этого о существовании и о его постиже-
нии. Эти попытки движутся зигзагообразно и ищут для логического по-
стижения сущего и его выражения в существовании различные исходные
точки, настолько в конечном счете несовместимые, что на одном конце
возникает сенсуалистически логистическое, неизбежно переходящее в
нигилизм постижение бытия и существования, на другом — проверка
средств логического познания, при этом всегда диалектически выходя-
щая за свои пределы. Так или иначе, логический процесс был в обоих
случаях, не только последним критерием, что само собой разумеется, он
был путем к постигаемому, логически расчленяемому и синтезируемому
содержанию. Оно оставалось последним, единственным путем к пости-
жению познанного данного. Quid поп est in logicis, поп est in mundo*.
Такова, начиная с Парменида, лишь частично исключая даже Плато-
на, до Аристотеля, а затем Декарта, Лейбница и всех последующих вели-
ких мыслителей, сущность интерпретации бытия и существования, со-
путствующая всей западной истории и в значительной степени духовно
ее определяющая. Добавим сразу же: это составляет и ее границу. Тради-
ционной вере, недоказуемость которой в логическом рассмотрении, аб-
сурдность, как утверждал уже Ансельм Кентерберийский, в целом позна-
ется и признается, предоставлялось, если ей не давали иного толкования,
логически не доказуемое, в значительной степени неприкосновенное
убежище, — если оставить в стороне панлогистский позитивизм. Ирра-
циональное несомненно существовало в познании психических реакций.
В толковании мира и существования ему не было места.
Можно при желании обнаружить у величайшего и самого гениально-
го из этих панлогистских философов, у Канта, что означало открытие
вторжения столь иррационального, как человеческая свобода и каузально
не мотивируемое «доброе», в мысленно рационально сформированный
мир. Это вторжение устанавливалось как особое трансцендентное чудо;
однако только для того, чтобы придать ему чисто логическую форму ка-
тегорического императива. По отношению к изначально злому соверша-
лось в сущности то же самое. Кант признает его наличие, но не находит
возможности ввести его в свою мотивацию как нечто непосредственно
действующее. Оно превращается по отношению к человеческим поступ-
кам в нечто зависимое от суждения, и тем самым лишается своей сущ-
ности. Никто не станет подвергать сомнению духовную высоту «Крити-
ки способности суждения», в которую логически вводится и где расчле-
няется также эстетическая сфера. Но кто, при всей психологической вер-
ности интерпретации возвышенного, не ощутит, что уже применение
категорий целесообразности к чуду прекрасного и безобразного, которые
лежат здесь в основе, отчетливо обозначает границы такого рода пони-
мания существования. Это вообще границы панлогистского толкования,
присущие всему западному мышлению.
Эти границы позволяют, правда, значительно более поверхностным
сенсуалистам, таким, как Дэвид Юм и Адам Смит, принимать и ирраци-
ональные проблемы как таковые и понимать их несколько более широ-
* То, чего нет в логике, нет п мире {.ют.).
270
ко. Однако поскольку и здесь иррациональное интерпретируется чисто
логически и тем самым отделяется от его трансцендентной непостигае-
мой основы, постижение подлинной имманентной трансцендентности
как логически непознаваемого, хотя повсюду присутствующего и все
проникающего региона сил, не происходит. Видение, которое в нем со-
держится, вообще не принимается во внимание. Оно скрадывается по-
пыткой логического уяснения всего в действительности сплетенного и
динамически сросшегося. И поскольку при этом оно должно быть отде-
лено от его логически непостижимой основы, вся сфера, в которой оно
находится и из понимания которой оно только может быть сознательно
постигнуто, исчезает для познания как несуществующая.
Таковы границы. И даже такой волюнтарист, как Шопенгауэр, сде-
лавший во многом величайшие открытия в философии, остается в фор-
ме своего мышления замкнутым в эти границы, поставленные всей ло-
гистической философской традицией Запада непосредственному пости-
жению существования, сложившемуся в XVIII в. Посредством победив-
шего в XIX в. позитивизма с характеризующей его и связанный с ним
историзм пристрастностью к petits faits' духовные преграды, закрываю-
щие доступ перцепции ко всему миру сил, о котором мы говорим, ста-
новятся даже еще выше и как бы удвоенными в своей плотности.
До сегодняшнего дня лишь немногие из западных интерпретаторов
существования полностью преодолели их. Они происходят, подобно в
буквальном смысле слова отмеченному Богом Гёльдерлину или борю-
щемуся с опытом зла Бодлеру, в конечном итоге большей частью из
оставшейся активной жизненной области традиционной христианс-
кой веры. Кьеркегор, вновь провозгласивший credo quia absurdum"
Ансельма, не может быть причислен к преодолевшим эти преграды,
так же как, к сожалению, и подчеркивающий свое происхождение из
его учения экзистенциализм, который отвергает, правда, системати-
ческий панлогизм, но в последнем изолированном самопонимании
все-таки остается в логистических границах. Как мне представляется,
и тогда, когда он для своего постижения бытия призывает на помощь
«коммуникацию» с «Ты».
Именно непосредственный опыт не только помогающего в интеллек-
туальном отношении «Ты», но и связанной с «Мы» самости и связанно-
го с «Мы» человечества, опыт, который, как я полагаю, мы сегодня ежед-
невно переживаем вследствие со-страдания судьбе людей под властью
охватывающего треть земного шара режима террора, стремящегося раз-
рушить каждую самость, так же, как и вследствие воспоминания о всем
ужасном, случившемся с нами самими, с немцами, — именно эти фак-
ты, быть может, способны вновь открыть нам путь к этому погрузивше-
муся в небытие, но исконному древнему видению существования. Ибо
то, что происходит или происходило, можно непосредственно понять и
постигнуть только исходя из вторжений подспудных разрушительных
коллективных сил. При этом следует заметить, что мы ничего не перени-
маем у мифологизирующих или магических форм перцепции, которые
Мелкие факты {франц.).
Верю, потому что абсурдно (.iam.).
271
раз и навсегда оставлены позади нашей ступенью развития. Слишком
ретивые авторы романов и литераторы, развивающие в нашем новом по-
ложении целые демонологии, далеки от того, чтобы оживить новое-древ-
нее в адекватной настоящему форме. Они вредят новому складывающе-
муся познанию, ибо сближают его с суеверным обскурантизмом, с кото-
рым оно не имеет ничего общего. Это познание по своей природе трез-
во, оно просто констатирует те факты, которые представляются ему нео-
провержимыми. Оно пытается и должно пытаться довести эти факты до
сознания простым, отнюдь не мифологизирующим или мистифицирую-
щим языком посредством использования самой обычной повседневной ло-
гики, связать их, насколько это возможно, внутренне друг с другом и с
нами. Для этого ему следует пользоваться самой простой средой.
3. Призыв
Итак, пусть здесь будет сказано! Допустим, что современная наука не
преграждает путь к тому пониманию трансцендентности, о котором мы
говорим, — позже будет показано, что это не так, — как обстоит с нами
дело при таком толковании существования? К кому я обращаюсь, пыта-
ясь своими слабыми силами сформулировать то, о чем здесь идет речь?
Мне нечего сказать тем людям, которые пребывают в твердой вере в
христианскую или другую, данную в откровении, религию спасения, и
разделяют ее догматизированные, твердо установленные представления
о характере и образе непосредственно трансцендентных сил и властей,
окружающих человека. Для них, если они христиане, действенная фик-
сация задатков личности в свободе и человечности, которые нам здесь
важны в первую очередь, дана, как я полагаю, по крайне мере при сегод-
няшнем состоянии сознания, интерпретацией этой веры посредством
этой веры и в ней самой.
То же относится, конечно, ко всем, кто может посредством обраще-
ния найти спасение от сегодняшнего нигилистического хаоса в вере.
Я обращаюсь к тем, кто больше не обладает христианской верой и
неспособен совершить обращение в этой форме. Я думаю, их достаточ-
но много, тех, кто полагает, что в нынешнем нигилистическом хаосе они
утратили почву абсолютного и вследствие этого не имеют больше проч-
ной трансцендентной опоры, а также опоры для их фиксации в свободе
и человечности, — к ним я, как мне кажется, могу обратиться:
Вспомните о вашем, упомянутом уже мной, опыте, который вы испы-
тываете в вашей жизни, и имейте мужество сделать из него выводы. Вы
узнаёте, как я уже упоминал, вы точно знаете, что прекрасно и что безоб-
разно, и для того, чтобы вынести суждение, вам не нужны научные ин-
терпретации. Вы узнаёте, что красота и безобразие — таинственная сила,
удивительным образом привнесенная во внешний мир, сила, которая
осуществляется в природе, в растении, в животном и в человеке. Вы по-
чувствуете излучение и воздействие на вас, а это означает, что коррес-
пондирующая этому сила задатков в вас затрагивается, делается бодр-
ствующей и сильной. Думаю, что вы согласитесь с этим, как только оно
будет вами осознано.
272
То же относится к области практического, прежде всего морального,
к области, где вы, быть может, легче всего и быстрее всего становитесь
скептиками. Однако вы совершенно непосредственно чувствуете и зна-
ете, что хорошо, что возвышенно, что благородно, что дурно, что низко
и подло. Всякая интерпретация этого всегда следует за вашей непосред-
ственной позицией и вашим суждением, которое может зависеть от вос-
питания и опыта. И здесь, совершенно так же, как в эстетической сфе-
ре, вы узнаете все воплощения вокруг вас и ощущаете их излучение. Это
излучения сил, которые в виде задатков существуют и в вас, даже если
эти задатки, быть может, рецессивны и не осуществляются в своей по-
тенции, пока не будут пробуждены.
Вы ежедневно узнаете в носителях и излучениях таких сил, что они
редко совершенно чисто осуществлены in concreto', а почти всегда нахо-
дятся в сложном соединении с другими задатками и излучениями. Что
они часто, если это позитивные, универсализирующие и освобождающие
задатки, смешаны с тянущими вниз, партикуляризирующими, следова-
тельно, негативными задатками. Поэтому занять определенную практи-
ческую позицию, поскольку вы не можете полностью одобрить или про-
сто отвергнуть воплощенные сращенности, часто трудно. Однако эта
сложность сращенного, в котором трансцендентное являет нам себя, ни-
чего не меняет в абсолютности его качества и сущности, подобно тому
как женщина остается не менее прекрасной от того, что она коварна и
жестока.
Используя тот же пример прекрасного, следует сказать, что вас не
должно беспокоить, если нюансировка реакции другого отличается от
вашей. Существует много разновидностей красоты и соответствующего
свойства восприятия. Не следует никоим образом смущаться тем, что,
например в практической области определенные народы, если и не пря-
мо одобряют определенные задатки, например, коварство, то практичес-
ки считают допустимым их соединение с добротой и благородством и не
видят в них, исходя из этого, нечто негативное. Господствующее смеше-
ние задатков очень различно как среди отдельных людей, так и истори-
чески среди народов. И при этом может быть такой уровень сознания,
когда в абсолютном рассмотрении задатки, оценивать которые и судить
о которых безусловно следует негативно, либо уже, либо еще не воспри-
нимаются и не ощущаются в их подлинном качестве, ибо вследствие ис-
торического формирования характера они достигли господства в слож-
ном соединении с высоко ценимыми и действительно абсолютно поло-
жительными задатками.
Все это относится к достаточно новой, под нашим углом зрения еще
не написанной характерологии народов, в которой должна быть показана
огромная способность характеров к изменениям и к смещению суждений
в рамках очень широкой амплитуды вариационности абсолютных сил
при сложном и меняющемся типе , в котором они воплощены, и при
маскировке сознания, во власть которой они отданы. В абсолютности
этих непосредственно ощущаемых динамически данных сил, которые
создают и психически формируют человека в комбинации, господстве
' Конкретно (.тт.).
273
рецессивности, сознании, бессознательности и в маскировке сознания,
это ничего не меняет.
И мы, сегодняшние люди, можем сказать, что уровень человеческо-
го сознания, впервые достигнутый посредством отчасти еще мифологи-
ческого видения этих сил греками, рассматривавшими форму характера,
к которой должны стремиться люди, как господство интеграции свобо-
ды и человечности, этот уровень сознания, который затем посредством
имеющейся в человеке в виде задатков трансцендентной активной обще-
человеческой связи был углублен и усилен христианством до взрываю-
щейся активной доброты, доходящей подчас до мученичества, этот уро-
вень сознания и его фиксация в характере человека существует и дей-
ствует независимо как от мифологического покрова греков, так и от дог-
матического учения о спасении, которое связало с ним христианство.
Эти силы тем тверже и тем более укрепляют человека, чем больше в зна-
нии о его связанности с трансцендентностью интеграция в этих универ-
салистских силах ощущается как освобождающая человека и конститу-
ирующая его в его высшей концепции. Человек действительно интегри-
рует в себе трансцендентные силы, если он формирует себя в свободе и
человечности; и он может, будучи сформированным в полном сознании,
исходя из чувства последней абсолютности того, что он представляет,
действенно противостоять в себе и в мире борьбе остальных сил, кото-
рые также существуют. Таково предлагаемое здесь основное понимание.
Однако хорошо бы включить это непосредственное понимание в об-
щее видение существования, которое также полностью рефлектировано.
Прежде всего следует еще сказать:
Вы спрашиваете, где же находится критерий абсолютности познанно-
го? Здесь могут быть самые различные мнения. Я не собираюсь в этой
связи возвращаться к пресловутой ясности и однозначности логической
очевидности. Ибо подобные ясность и однозначность в качестве крите-
рия существуют только в рамках логической постигаемости содержаний.
Я указываю на внутреннее и также объективно устанавливаемое дей-
ствие. Конечно, иллюзии также могут иметь освобождающе универсали-
зирующее и рабски партикуляризирующее действие. Однако поскольку
несколько фантастическое добавление является свойством каждого чело-
веческого понимания, это не приносит вреда; подлинно иллюзионистс-
кие представления обладают, как известно, свойством сталкиваясь с тем,
что мы называем грубой действительностью, лопаться или раскрывать
свое кажущееся содержание. Если, например, говорят, что самый край-
ний национализм всегда ощущался теми, кто его придерживался, как
универсализирующий и освобождающий в своей области. Правильно!
Однако при столкновении с действительностью он всегда обнаруживал
свое партикуляризирующее и разрушающее свойство.
И если вы говорите: иллюзия свободы, ведь она на 90% является хи-
мерой в реальной жизни! То ответ гласит: универсальный цивилизатор-
ский уровень сознания, представляющий собой основу постулата свобо-
ды, охватывающего политическую и социальную область, постулата, ко-
торому соответствует образ человека совершенно определенной глубины,
этот уровень сознания не становится «ложным» от того, что в пандемок-
ратическом движении, которое сегодня является его следствием, он о\-
274
ватывает и такие области, где личностные и душевные условия его реа-
лизации еще, быть может, несовершенны, а быть может, принимая во
внимание степень зрелости личностного суждения, вообще еще отсут-
ствуют. Он представляет собой тогда определенно неминуемую задачу,
для выполнения которой при известных обстоятельствах требуется пре-
одоление множества трудностей и длительное время. Военная диктатура,
являющаяся в так называемом «свободном мире» обычным следствием
отсутствия этих условий, так же не опровергает демократическую идею,
как не опровергает ее реализацию, например, советская система терро-
ра, которая тоже может быть следствием отсутствия необходимых для
этого условий. Так называемые «консервативные революции», которые,
оперируя только данностями, игнорируют притязания человечества, суть
не что иное, как плохо замаскированные разрушительные партикуляри-
зации власти. Habeant sibi*.
Вы говорите: Допустим, что во всех этих содержаниях, действующих
в нас как силы, пробудится к жизни, универсализируя или партикуляри-
зируя, абсолютное, — разве при этом не произойдет «конфликт обязан-
ностей», как вы это называете? Совершенно неразрешимое противоре-
чие между одним и другим, которое, требуя, выступит в нас как такое
абсолютное? Я уже указывал на то, что пробуждающиеся в нас силы,
причем именно позитивные, также могут запутать нас в противоречиях;
другими словами, мы колеблемся, какой из объявившихся сил нам надо
следовать, так как при каждом нашем решении мы можем или должны
совершить несправедливость, разрушая этим жизнь или развитие проти-
востоящей, вполне позитивно оцениваемой действительности, или воз-
можной действительности. Общий ответ таков: Жизнь не арифметичес-
кая задача. Мы таинственным для нас образом, будучи, как было пока-
зано, трансцендентно сплетены, находимся одновременно в непроница-
емом для нас целом сил существования, которые и в качестве позитив-
ных, в качестве, скажем, «добрых», настолько срослись друг с другом, что
для правильного понимания находящейся всегда перед нами ситуации
надлежит видеть нечто значительно более общее, чем этот так называе-
мый конфликт обязанностей. Это всеобщее, это непроницаемое скреще-
ние, имеется в виду в выражении «действующий всегда бессовестен», но
во всей своей темной глубине оно этим полностью даже не охвачено. Его
следовало бы расширить, например, так: каждое наше решение, желая
строить и строя, одновременно что-то разрушает. Большая часть этого
фактического положения остается для нас скрытой во тьме. Но иногда
оно выступает перед нашим взором освещенным, и мы вынуждены ради
чего-то душевно более универсального, ибо более значительного, разру-
шать душевно ценное, даже самое ценное.
С этой подготовкой мы можем теперь попытаться определить в его
звучании и сущности связанный с «Мы» образ человека, который имен-
но потому, что он «свободен», связан также с мраком и глубиной. На
неосвещенном фоне, на котором он находится, и в сфере власти, в кото-
рой он в своей свободе всегда должен себя чувствовать замкнутым, он и
сам есть нечто многослойное — и не только в своем индивидуальном
* Пусть с этим и остаются {.тт.).
275
ядре, но и в окружающем его сочетании задатков, — нечто непроницае-
мое. Iiidividuum est ineffabile*. Но понятый в качестве связанного с «Мы»,
он во всех своих, даже темных, свойствах и в своих опасных слоях ока-
зывается в качестве каждого единичного связан с каждым другим. Мы
составляем единство с каждым индивидом, так как и мы виртуально со-
держим в себе те же силы, которые формируют другого в его особенно-
сти. Поэтому и в этом смысле Клитемнестра также может стать для нас
«героиней», той, с которой мы вместе страдаем.
Эта всесвязанность и это всепонимание не есть всепрощение. Но это
— мост, по которому мы, не теряя себя, можем погрузиться в глубины
человека и существования и, не отказываясь, не отрекаясь от себя, вве-
сти их в собственное бытие. Они суть то, что только и дает образу суще-
ствования и человека подлинную окраску. И лишь в их сфере мы нахо-
дим тот свет, который скрытым пребывает во мраке. Он сияет — это ча-
сто высказывалось иным образом — ярче, он сильнее в своем действии,
если мы ищем его не в слабом свете дня, а находим его в этих простран-
ствах и в этой тени.
Обнаружение света в образе человека и существования дает ощуще-
ние счастья. И я полагаю, что тому, кто этот свет откроет, он способен
сообщить новую силу излучения. Чем глубже бездны, тем ярче должен
быть свет, способный их озарить. И отнюдь не розовый оптимизм — счи-
тать, что из этой тени ежедневно извлекается позитивное, то позитивное,
в котором мы, как нам представляется, ощущаем, что оно, собственно,
есть.
Таков конец своего рода проповеди. Думаю, что она была вполне
трезвой и соотнесенной с жизнью.
Однако мы не должны останавливаться на призыве. На сегодняшнем
уровне сознания ни от одного духовного слоя общества нельзя требовать,
чтобы он принял установку к существованию, которая не дает одновре-
менно прошедшую через рефлексию картину существования. А для этого
данная установка должна быть введена или по крайней мере допускать
свое введение в то, что мы можем сегодня рассматривать как научную
картину нашего существования.
Как все приведенное выше относится к картине сегодняшнего мира
и существования, в той мере, в какой мы ее имеем, и как оно относится
к сопутствующей ему философии?
Примечание
1 Это относится и к Хайдеггеру, хотя он и исходит из существования.
Инлишш неиыразим (.шт.).
276
Глава 5
Отношение к философии и науке
Все предложенное до сих пор было просто доведенным до сознания не-
посредственным опытом. Научное мышление может добавить к этому
понимание в двойном смысле:
во-первых, на основании логической проверки и с помощью спеку-
лятивных соображений;
во-вторых, на основании установления эмпирических фактов, при
соединении этих фактов в убедительно связанное в себе целое.
Первый путь — путь философии, второй — путь точного эмпиричес-
кого позитивизма.
1. Логическая проверка и философская спекуляция
Я не собираюсь говорить о материальном отношении спекулятивной
философии к нашим, с ее логицистской точки зрения, в известном
смысле донаучным определениям.
В той мере, и какой философия занимается трансцендентностью и
утверждает что-либо о постижении трансцендентного и его сущности,
она говорит сегодня о трансцендентности бытия, которая возвышается
над существованием как над чисто эмпирическим миром в качестве чего-
то совсем иного. Так было всегда в философии трансцендентности, на-
чиная с Парменида. И наиболее ясно это выражено в являющейся сегод-
ня как бы последним словом экзистенциальной философии1, которая в
той или иной форме, всегда логическо-диалектически очень сублимиро-
ванной, ищет доступ к «бытию».
Мы же занимаемся только очевидным существованием, и трансцен-
дентность, о которой мы говорили и говорим, это трансцендентность в
нем непосредственно встречающаяся, ему имманентная.
Для нас в философии существенна только ее логическая проверка
констатированного нами. Ибо даже если бы мы должны были утверждать
и устанавливать, что обнаруженное нами в существовании как душевно-
духовная трансцендентность в той мере имеет метафизическое качество,
в какой встречающиеся в нем феномены логически нерасчленяемы, то
уясняем мы эти феномены все-таки логически. Возникает вопрос: допус-
кает ли вообще философская теория познания констатацию таких фено-
менов?
Ответить на это надо следующим образом: да, если я правильно ин-
терпретирую достигнутое и последнее время состояние теории познания.
Еще для Канта логические категории наших человеческих представлений
имели общезначимый и тем самым в известном смысле стоящий над
действительностью характер; именно они были для него, по крайней
мере частично, родственны трансцендентному, поскольку оно есть абсо-
лютно значимый «разум». При этом для него человеческая свобода, ко-
торая по рассудочным категориям каузальности, как он их понимал, дол-
жна была представляться противоречащей разуму, была наряду с матема-
277
тикой и ее положениями вторым основным феноменом и великими вра-
гами к практическому разуму, становившемуся в своих последних осно-
ваниях трансцендентной областью.
Сегодня, если я правильно сужу, о сверхчеловечески общезначимом
характере нашего аппарата представления и мышления речь больше не
идет как о чем-то необходимом. Он как таковой есть нечто человеческое
и мыслится, если следовать Бергсону, как возникшее в историческом
развитии и свойственное человеку. Мы не знаем, какая доля этого при-
суща животному и чего оно лишено. Познавая это, становится понят-
ным, что Кант определял как апории, как необъяснимые противоречия
универсально представленного аппарата созерцания и мышления, кото-
рый он проверял, чтобы прийти к установлению общего характера разу-
ма, означавшего для него нечто неметафизическое, но одновременно
выходящее за пределы рассудка. Если мы действительно не можем мыс-
лить пространство в соответствии с представлением, посредством кото-
рого мы его постигаем, ни конечным, ни бесконечным, и если это отно-
сится также ко второму основному элементу мира нашего представления,
ко времени, то сегодня мы можем признать, что разработали наши пред-
ставления о времени и пространстве только как средства, чтобы ориен-
тироваться в ограниченном, окружающем нас мире, но не как средства
толкования универсума, — и тогда становится ясной присущая им апо-
рия. У них тем самым есть свои внутренние границы.
И тогда может существовать и то, что находится вне этих границ, вне
пространства и времени, а именно трансцендентное, которое все-таки
присутствует и действует, но уловить которое мы нашим привычным со-
зерцательным аппаратом представления неспособны.
В современном естествознании наши представления о пространстве
и времени, о свойствах которых так много философствовали после Берг-
сона, также отчасти трансформируются посредством понятийного кон-
ституирования континуума пространства и времени при невнимании к
сущностному различию между пространством и временем, отчасти игно-
рируются в их данной для нас аподиктичности в данном для нас качестве
посредством отрицания бесконечности и утверждения ограниченного
пространства и столь же ограниченного, зависящего от него времени,
или устраняются. Тем самым наши представления о пространстве и вре-
мени лишаются своего значения всеохватывающего, в которое все дол-
жно быть введено. Они могут рассматриваться только как средства чело-
веческой перцепции, имеющие свои границы. Основополагающее след-
ствие этого таково: все, что мы воспринимаем в их форме, есть, очевид-
но, лишь определенный нашей способностью к перцепции фрагмент су-
ществующего. И в этом пространственно-временном представлении мо-
жет и должно находиться — как, впрочем, заставляет нас верить весь наш
опыт, который теперь становится и понятийно доступным, — существу-
ющее для нас как «действительность» и скрытое в этом пространствен-
но-временном представлении внепространственно-временное, а именно
имманентно-трансцендентное. Действительность, которая есть одновре-
менно в пространственно-временных явлениях и вне их. Таков первый
теоретико-познавательный путь к нашему пониманию.
Вторым камнем преткновения была для Канта возможность челове-
278
ческой свободы в мире, который мы по нашим мыслительным категори-
ям должны представлять себе подчиненным каузальности, следователь-
но, как он полагал, огромным, детерминистски фиксированным целым.
Однако нам известен, прежде всего также благодаря Бергсону, феномен
спонтанности, следовательно, феномен сил, и потенций, которые высту-
пают из себя и в качестве причин вторгаются в общую детерминацию,
без того, чтобы можно было обнаружить их собственную причину. Бер-
гсон называл их elan vital*, имеющий всеобщие последствия, прежде все-
го для человека. Но то же мы находим у каждого растения, каждого жи-
вотного, причиной форм и образов которых являются необнаруживае-
мые, спонтанные силы. Следовательно, существует не только механичес-
кая каузальность, но и спонтанно обусловленная.
И если посредством познания первого, а именно человеческих границ
и узости мира наших пространственно-временных представлений, был
открыт путь к признанию существования и действия не устанавливаемых
в пространстве и во времени сил, то здесь нам открывается путь к пони-
манию характера их каузального действия, как подвид которых мы по-
знаем развитую в сознательную свободу спонтанность человека.
Следовательно я считаю, что не ошибусь, утверждая, что сегодняшнее
состояние теории познания допускает как возможность постижение не-
посредственной трансцендентности и сплетенности человека с трансцен-
дентностью, о которых мы говорили. Действительностью они, конечно,
становятся только посредством убедительности самого опыта, о чем я
также говорил.
2. Позиция естествознания
Удивительно, что по крайней мере часть точных позитивных наук, а
именно естественные науки, сегодня на пути к тому, чтобы разорвать
для их научной интерпретации узость человеческих повседневных
пространственно-временных представлений, можно вполне сказать,
трансцендировать их, и что они также как будто вынуждены перейти
от механистического понятия каузальности к другому понятию. Тем
самым со стороны тех наук, от которых этого меньше всего можно
было ожидать, дается в известной степени указание, что констатиро-
ванное нами, исходя из непосредственного опыта, для душевно-духов-
ной сферы, находит свое продолжение в достигнутом сегодня состо-
янии научной интерпретации биологически живого, даже области,
называемой ранее неживой природой.
Само собой разумеется, что говорить о том, что здесь имеется в виду,
я могу только кратко. Однако это настолько важно в качестве опоры для
всего нашего рассмотрения, что я вынужден попытаться дать несколько
указаний.
Прежде всего я хочу обратить внимание на то, что и в этой области,
вплоть до химии и физики, при каузальной интерпретации в основе все-
гда лежит спонтанность и форма ее выражения. И, во-вторых, я хочу ука-
* Жизненный порьт (франц.).
279
зать, как для ее постижения приходится отказываться от прежнего меха-
нистического представления и модифицировать рамки прежнего толко-
вания.
Господствующее сегодня, т.е. со времен Галилея и Ньютона, есте-
ствознание первоначально представляло собой гигантскую попытку све-
сти в количественном постижении космоса заключенные в нем процес-
сы и формы к массе и движению. Вследствие этого данные процессы и
формы в значительной своей части получили математическое выраже-
ние. Огромные успехи этого метода, который сводил все к массе и дви-
жению, известны. И для макрофизического мира достигнутое математи-
ческое постижение его процессов и форм в целом сохраняет свое значе-
ние и сегодня.
Но есть два момента: во-первых, уже в конце XIX в. выяснилось, что
предпринятая Дарвином и Геккелем попытка перенести количественно-
механические методы объяснения в качестве квазиквантитативных на
живой мир не удалась. Оказалось, что он по своей сущности может быть
понят как в своих формах, так и в значительной части своих процессов
только квалитативно. А витализм школы Дриша, в котором это было по-
казано и доказано, заменил прежнее квантитативно-механистическое
объяснение квалитативным, понимая живые системы как формы явле-
ния действующих в них энтелехий. А что такое энтелехии, если не спон-
танные силы? И так как физически их нельзя обнаружить, то это имен-
но трансцендентные силы в нашем понимании. Представлять ли энтеле-
хию как формирующий и определяющий процессы фактор или просто и
прямо говорить о «силах», которые представляют собой «внутреннюю
сторону» внешнего явления, как это, например, делает Вольтерек в его
онтологии живого, нам представляется безразличным. Все попытки ис-
ключить волюнтаристские факторы для понимания живого, как это еще
сегодня совершает, например, Паскуаль Жордан, — пусть даже эти гипо-
тезы в своих отдельных пунктах интересны, — в принципе в целом уста-
рели. И таким образом, наше воззрение на имманентно трансцендент-
ные силы с совершенной очевидностью вошло в большую область при-
роды, в область живого.
Странно, как до сих пор не замечали, — и это второе, на что следует
обратить внимание, — что все по видимости чисто механистические
квантитативные формулы, посредством которых, начиная с Галилея и
Ньютона, пытались «объяснить» неживую природу в физике и химии,
также содержали волюнтаристически спонтанные факторы, отношение
которых к формированию только математически описывалось, что эти
формулы, следовательно, были не «объяснениями», а лишь описаниями,
облегчающими духовное овладение процессами (что, впрочем, Ньютон
знал). Когда говорили или говорят о силе тяготения и ее законах, то в
сущности только описывают процесс действия и формирования, — про-
цесс, который рассматривается здесь как мироформирующий — некоей
силы, а именно силы тяготения. Но это сила, происхождение которой
остается совершенно неизвестным, даже если ее действие выражают в
математических формулах, и которая, рассмотренная каузально, пред-
ставляла и представляет собой чудо, как и сказал Ньютон. Это же отно-
сится, конечно, и к силам притяжения и отталкивания элементов, кон-
280
статируемым химией. И здесь это — имманентно трансцендентные фак-
торы закономерностей в действии и формообразовании, которые мате-
матически описывают и, упрощая, делают доступными духовно. И не
более того: просто заключенные в математические формулы чудеса суще-
ствования и закономерностей формообразования такой имманентно
трансцендентной силы и ничего другого.
Ясно, что при этом в принципе ничего не меняет, если сегодня, ис-
ключая представление об эфире, через который сила тяготения якобы
космически действовала вдаль, помещают находящиеся между массами
«гравитационные поля», в которых действуют те же макрофизичсские за-
кономерности. В новой же химии, сохраняя полную необъяснимость
притяжений и отталкиваний элементов, сделали только одно — постро-
или ряды этих элементов, по их атомному весу и числу электронов, со-
держащихся в их атомах; при этом их объединяют по свойствам притя-
жения и другим качественным свойствам в поперечные группы, вслед-
ствие чего элементы распределяются по так называемым периодам.
Первая часть наших утверждений, а именно, что каузальная интер-
претация мира природы никогда не сводится в современном точном ес-
тествознании к чисто механистическому определению, а всегда лишь ус-
танавливает закономерность того, как действуют так или иначе представ-
ляемые, спонтанные факторы и силы, следовательно, создает математи-
чески исчисляемую сеть действий, в которую они заключены в своем
функционировании в мире явлений, — это принципиально очень важное
утверждение представляется мне таким образом доказанным. Оно сбли-
жает эти спонтанные факторы, факторы витально биологические и силы
так называемого неживого мира, с тем, что было нами констатировано
для душевно-духовного мира. Современное естествознание при правиль-
ном его понимании само указывает путь к спонтанности и имманентной
трансцендентности как к последней инстанции. Оно само открывает до-
ступ и к признанию их научной точности.
То же оно совершает — и это следующее указание — для познания
ограниченности наших повседневных представлений о пространстве и
времени и о включенности в них каузального действия спонтанных фак-
торов. Здесь речь идет о выводах теории относительности, с одной сто-
роны, и о следствиях микрофизической квантовой теории о границах
определяемости поведения мельчайших частиц, строящих материю, — с
другой.
Что касается теории относительности, то я хочу только напомнить,
что для установления точно исчисляемых закономерностей движения
частей массы материи эта теория была вынуждена отказаться от каче-
ственного различия наших повседневных представлений о пространстве
и времени, а именно от необратимости времени в противоположность
обратимости в пространстве и рассматривать мир в исчислении как че-
тырехмерный пространственно-временной континуум. При этом здесь
одновременно игнорируется логический постулат бесконечности про-
странства, так же, как и времени, поскольку говорится об ограниченной
в себе «искривленной» тотальности и возможном начале мира во време-
ни. Оба эти представления не могут быть приняты сложившейся у людей
повседневной логикой и ее аппаратом, так как в соответствии с этой ло-
281
гикой всегда задается вопрос: что же существует вне этого представляе-
мого ограниченным мира и что было до его возникновения? Это означа-
ет, по моему мнению, что естествознание, чтобы достигнуть точной ма-
тематической исчисляемости больших космических процессов, должно
было отказаться от наших, созданных только для нашего ограниченно-
го повседневного мира опыта, категорий представления о пространстве
и времени, и заменить их чисто мыслительной, не связанной больше с
представлениями и с осуществлением картиной. Другими словами, есте-
ствознание выходит из пространственно-временного мира, данного нам
как повседневная категория, и переводит совершаемое ею постижение
целостности космоса в лежащую вне нашего пространственно-временно-
го мира сферу, отказывается, следовательно, в космической физике, при
постижении мира в большом масштабе от повседневного пространствен-
но-временного понимания.
К сходному результату пришла микрофизика при исследовании мель-
чайших элементарных частиц материи. И она еще дополнила это в кван-
товой теории и основанном на ней гейзенберговском соотношении нео-
пределенностей посредством преобразования материи в атомарно свя-
занную энергию. Эта энергия достигаема лишь в рамках действующих
квантов определенной величины, следовательно, не делима свободно до
конца, как того требует обычная логика. С одной стороны, атом не при-
надлежит больше пространственно-временному миру, а только понятий-
ному, так называемому пространству конфигурации, которое больше не
следует представлять себе созерцаемым. И характер движения элемен-
тарных частиц не может быть предвиден, он произволен, насколько об
этом можно судить. Следовательно, мы вновь наталкиваемся на необъяс-
нимую спонтанность как на нечто последнее.
Это не отказ от представления о каузальности вообще, как полага-
ли, а ее сведение к спонтанной каузальности, которая дает статисти-
ческую закономерность только в среднем результате бесконечной мас-
сы единичных актов ее отдельных частиц. Это закономерность, кото-
рую мы до сих пор совершенно неверно понимали в так называемых
законах макрофизики как механически каузально детерминированную
в лежащих в ее основе единичных актах. Мы видим, что и современ-
ная физика вынуждена прорывать пространственно-временные пред-
ставления для постижения как космоса в целом, так и лежащих в его
основе мельчайших элементарных единств, вернее, она трансцендиру-
ет их. И используя для действия своих элементарных частиц каузаль-
ность спонтанности, она открывает возможность для признания ду-
шевно-духовных сил, которые /ж/кж^трансцендируют пространствен-
но-временную повседневность и обладают той же внепространствен-
но-временной спонтанностью, что и последние мельчайшие, также не
постигаемые в пространстве и времени, элементарные частицы, о ко-
торых в физике сегодня говорят и которые, судя по громадным воз-
действиям их открытия, очевидно, существуют.
Я считаю неправильным утверждать, что все это, как считали, ведет
естествознание к религиозной трансцендентности2. Естествознание на-
ходится на пути признания фактором существования, трансценлирующих
пространство и время. Ни познание биологических витальных факторов
282
в качестве в конечном итоге внепространственно-временных, следова-
тельно, трансцендентных, ни познание спонтанного поведения также по
крайней мере квазивнепространственно-временных элементарных час-
тиц атомного мира не содержит акцентирования ценности и тем самым
душевно-духовной, следовательно, также религиозной или квазирелиги-
озной релевантности. То, что происходит сегодня, это лишь великое пре-
образование научной перспективы в понимании природы существова-
ния. Раньше в нем все ошибочно сводилось к каузально механическому
действию мельчайших частиц материи. Сегодня, когда материя превра-
тилась в особую форму энергии, в ту, в которой ее спонтанные элемен-
тарные частицы в атоме таинственным образом заключены в выравнен-
ный тип динамической статики, так же, как излучаемые этими частица-
ми движущие силы мироздания как будто заключены в несколько более
понятную систему равновесия, — сегодня, когда, следовательно, даже
материя должна быть рассмотрена как составленная из спонтанно дина-
мических сил, весь мир так называемой материи все более являет себя
человеческому познанию3 только как самая низкая ступень, на которой
при известных условиях, известных нам лишь для Земли, выстроился
полный спонтанных сил живой мир. И наконец, посредством мутации в
качестве высшего образования в живом мире возникает человек с при-
сущей только ему свободой, с душевно-духовными, помимо витальных и
атомных, силами в качестве «внутренней стороны» его существования.
Животные, а быть может, и весь растительный мир, также содержат в
себе подобные заряженные ценностью силы. Однако заряженные ценно-
стью душевно-духовные силы, обладающие подобным весом и способ-
ные к развитию в духовную свободу такого типа, в животном отсутству-
ют. Они указывают человеку на его возможности, одновременно консти-
туируя обязательство, как в рамках такого развивающегося, сплошь про-
никнутого спонтанными силами существования ему надлежит правиль-
но понимать самого себя.
Примечания
1 Так и у Хайдеггера, несмотря на иную видимость.
2 Так Bavink В. Die Naturwissenschaft auf dem Wege zur Religion. Oberursel i.Ts.,
1947.
■' О границах человеческого познания см. следующую главу.
Глава 6
К вопросу об объективной структуре области
имманентной трансцендентности
1. Возможности перцепции
Можно ли сказать что-либо нами постигаемое о факторах трансцендент-
ности, выходящих за пределы пространства и времени, которые мы
встречаем в действительности, об их качестве и их совместном действии,
иными словами, об объективной структуре области имманентной транс-
цендентности, на которую мы наталкиваемся?
Мы пребываем в мире сил, который все время доводится до нашего
сознания внутренним и внешним опытом таким образом, что одну его
часть мы непосредственно постигаем душевно-духовно, если уделяем ей
внимание. Другая же часть такова, что на нее указывает рассмотренное
нами утверждение науки.
В обоих случаях факторы трансцендентности, на которые мы натал-
киваемся, для нас в сущности непроницаемы. Поэтому, исходя из уровня
постижения действительности, о котором здесь идет речь, мы вынужде-
ны говорить о вполне осознанном агностицизме. Однако что означает
при этом сообщаемое нам наукой и рефлексией, если мы зададим воп-
рос, что же оно все-таки открывает нам в объективной структуре облас-
ти имманентных сил? Остановимся на ряде главных моментов.
Эта область сил противостоит нам встроенной в образования и фор-
мы, которые в неживом мире принадлежат преимущественно системам
равновесия, в живом обладают доступным устанавливанию внутренним
круговоротом и ритмом возникновения, гибели и трансформирования в
новые индивидуаиии.
Мы можем расчленить оба эти мира. Как в живом, так и в неживом
мире наука показывает нам в построении мельчайшие, состоящие из
элементов, образования. Если мы проследим в неживом мире это пост-
роение до атомов, последних конституирующих единств, то, как показа-
ли новейшие научные исследования, и в этих мельчайших образовани-
ях силы находятся в кажущемся равновесии и обладают свойством при
нарушении этого равновесия в атомном ядре производить дальнейшие
разрушения образований, уничтожая существовавшее до сих пор равно-
весие и вводя в действие огромные мощности, пребывавшие раньше как
бы скованными в этом равновесии.
Эта обнаруживаемая как в живом, так и в неживом мире встроенность
сил в системы временного или длительного внутреннего равновесия есть
в общем выражении единое основополагающее великое объективное ка-
чество области имманентной трансцендентности, которое само по себе
совершенно не обязательно нам встречается, — устанавливаемое каче-
ство, которое и агностик должен признать как констатируемость и вне-
шнюю особенность окружающих нас непроницаемых образований в том
виде, в каком они существуют.
284
Второе качество, которое здесь, где речь идет об общей характеристи-
ке, следует подчеркнуть, выступает как определенным образом сформи-
рованное продолжение первого. Оно состоит в исчисляемом движении
внутри наблюдаемых систем равновесия и в ритмически исчисляемых в
них закономерностях. В качестве таковых перед нами выступают в боль-
шом количестве прежде всего доступные нам образования неживого
мира, которые строят космос. Он окружает нас как целое, состоящее из
частично видимых, частично невидимых, находящихся в ритмическом
движении или в равновесии тел или содержаний наших впечатлений. И
эти содержания впечатлений позволяют, если подойти к ним в формах
их движения и ввести в качестве носителя движения количественное уп-
рощающее понятие «массы», установить отношение между массой и дви-
жением и между лежащими в основе рядов впечатлений (оптических,
акустических и т. д.) «силами». Механика, астрономия, астрофизика,
оптика, акустика и т. д. суть в своей основе не что иное, как установле-
ния этих отношений равновесия и ритма имеющихся в космосе, находя-
щихся за рядами впечатлений сил, которые приводятся в связь с отноше-
ниями массы. Система равновесия «звездного неба» привела, как изве-
стно, после ее открытия к преобразованию «воззрения на мир».
Таким образом, второй областью объективности будет и для агности-
ка устанавливаемое™ и установление встроенности по крайней мере оп-
ределенных сил в исчисляемые формы движения. При этом агностик
должен признать объективной данностью и последние сделанные выво-
ды этого учения о движении, а именно сведение субстанциально мысли-
мой «материи» и ее поведения к определенным образом связанным
скоплениям и квантам энергии.
К этому в качестве третьего, существенного в данном случае объек-
тивного феномена структуры добавляется установление родственности
или отсутствия родственности между факторами построения космоса,
названными «элементами». Членение самих этих элементов по родствен-
ности или отталкиванию может быть установлено; а они сами могут быть
сведены к числовому смешению последних преднайденных в них эле-
ментарных частиц, вследствие чего, сдвигая элементарные частицы,
можно переводить строящие элементы друг в друга. Таким образом, к
сведению материи и ее движений к отношениям энергии добавляется
сведение ее построения к определенным числовым отношениям мель-
чайших элементарных частиц.
Во всех этих указанных здесь трех направлениях присутствует объек-
тивное свойство структуры последних необъяснимых спонтанностей или
сил, которое должен признать и агностик, сил, строящих в различной
окраске как живой мир впечатления и выражения, так и неживой мир.
2. Границы перцепции
Что все эти, называемые обычно «силами», мощности, о которых здесь
идет речь, являются необъясненными и для нас, очевидно, необъясни-
мыми спонтанностями, должно быть понято и реализовано — также и
для как будто неживой сферы. Сила тяготения или, как ее сегодня назы-
285
вают, «поля энергии» и родственность элементов суть, это следует еще
раз подчеркнуть, чистое «чудо». И они стати отнюдь не меньшим чудом,
после того как была открыта математическая исчисляемость состояния
их равновесия, их ритмического поведения, их встроенности в отдельные
образования. Даже если сегодня не было бы ясно, что великие космичес-
кие законы движения и ритмизации в конечном итоге также покоются
на спонтанном поведении мельчайших элементарных частиц, имеющих
очевидно только «тенденцию» пребывать в таком состоянии, чтобы сум-
ма их поведения составляла примерно стопроцентную вероятность, ко-
торую мы до сих пор определяли как космический «закон», даже в том
случае, если бы здесь вместо подобной «тенденции» действительно суще-
ствовали закономерные способы принуждения характера движения, то
лежащие тогда уже в основе закона, а не тенденции, силы всегда были бы
спонтанными силами удивительного рода, которые во внешней стороне
явления сообщают только свое исчисляемое действие. Но само по себе
это действие такой исчисляемостью не дано. Сила, которая его создает,
существует в формах явлений и все-таки вне их, следовательно, она им-
манентно трансцендентна.
Таким образом, повсюду, где мы говорим об «объективной» структу-
ре состоящего из спонтанностей трансцендентного мира сил, мы пости-
гаем только доступный нашей перцепции покров, а не сущность спонтан-
ностей, которая в своей последней глубине нам недоступна. Мы расчле-
няем, как мы затем сказали, мир сил, в соответствии с нашей перцепци-
ей, как будто объективно, на неживую и на витальную сферы, которые
в соответствии с нашей перцепцией построены друг на друге и ведут нас
к человеку. И мы связываем, как также было сказано, различные в сво-
ей доступности нам и в своем действии на нас построенные друг над дру-
гом сферы посредством предположения развития, которое, проходя че-
рез мутации, ведет от неживого к доступному нам иным образом живо-
му и ступеням его развития. Так возникает приведенная картина того как
будто стремящегося к человеку построения объективной по своей види-
мости структуры известного нам мира сил. В философии существуют,
как известно, онтологии, построенные на этом представлении, которые
на вершине помещают человека в качестве сильнейшего носителя этой
«духовной сферы», к которой все стремится. Однако надо ясно видеть,
что все это — проявление антропоморфизма и человеческого тщеславия,
мыслится ли оно универсально-бытийно или только космически. В сущ-
ности же мы посредством нашей перцепции так мало постигаем мир
трансцендентных сил и их объективную структуру, что смешно, когда
мы, имея их в виду, говорим об ориентированном на нас и на дух, я хочу
сказать на человеческий дух, построении.
Мы постигаем лишь часть покрова мира сил. На низшей, неживой
ступени попытка сделать его математически постигаемым посредством
создания большого, очень тонкого инструментария и его математическо-
го использования дала нам бесконечно расширившиеся данные, приве-
ла, например, к открытию громадной шкалы оптических и акустических
волн, о которых мы до того не имели понятия. Это непрерывно ведет к
открытию неизвестных до того «сил излучения», в частности сил косми-
ческого излучения невероятной энергии, которые приходят из мирозда-
286
ния, откуда именно, мы не знаем, и о которых мы вплоть до недавнего
времени также не имели понятия. Вся атомная физика — открытие не-
известного нам ранее мира, доступного нам лишь при величайших уси-
лиях и, очевидно, только в определенных границах.
Свет являет себя нам то как волна, то расчлененным на «корпуску-
лы», следовательно, на тела.
Какие же общие выводы следует сделать, например, из последнего
факта? Очевидно то, что мы постигаем как свет, — лишь известные ма-
тематически постигаемые для нашей перцепции его проявления, кото-
рые в зависимости от ситуации находятся в физическом противоречии.
Почему? Этого мы не знаем. Но мы знаем, что в этом выражено: в этих
проявлениях мы постигаем часть его покрова. Его сущность же этим во-
обще не открывается. Ее стремился обнаружить Гёте. Поэтому он откло-
нял толкование света, исходя из его математически постигаемых прояв-
лений, как заблуждение.
Однако из этой противоположности при правильном ее понимании
нам становится ясным и большее. Сущность света, как ее понимал Гёте,
есть в своем разделении на цвета разделение по качествам. Качества же,
как они здесь понимаются, суть нечто в известной степени внепростран-
ственное, и они не могут быть сведены, подобно колебаниям или другим
явлениям, к пространственным процессам. Для Гёте в его стремлении к
пониманию сущности света решающим было душевно-духовное, то, что
мы делаем из колебаний или корпускул, попадающих в наши глаза, в пе-
ремещении физического в духовное. Но мы это не делаем. Физический
процесс в нас и в Солнце есть лишь внешний носитель трансцендентной
силы, которая существует в нас рецептивно, в Солнце продуктивно.
Именно это выражено в словах Гёте, что мы не могли бы видеть свет, «не
будь наш глаз солнечным».
Это вновь свидетельствует о частичности нашей перцепции и, как
доказывают последние исследования посредством расширения именно
этих перцепций, об их в целом лишь частично разъясняющем значении.
Общий вывод, который можно сделать о значении нашего знания об
объективных структурах мира сил, гласит:
Посредством нашей перцепции мы всегда познаем лишь доступную
нам часть, математизируемую часть покрова сил. Так же, как мы ежед-
невно посредством известного расширения этой области постигаем лишь
часть самих имеющихся сил. Другими словами, мы познаем вообще толь-
ко незначительную часть действующих в существовании факторов, при-
чем преимущественно в их математическом аспекте. За пределами это-
го лишь частично постигнутого нами мира мы ищем еще схватываемое
за существованием «бытие». Но к тому, что философы определяют как
такое «бытие», мы, исходя из эмпирии, вообще не имеем доступа.
Эмпирия может нас научить пониманию «объективности» и, с другой
стороны, невероятной ограниченности нашего доступа к ней, если мы пра-
вильно понимаем то и другое, а также кое-чему о мнимой антиномии между
нашим так называемым естественно-научным и духовным познанием.
Наше естественнонаучное знание говорит нам о космосе, в котором
мы, находясь на крошечной планете в сущем мироздании, играем мизер-
ную роль, о «мировом смысле» которой, исходя из этой плоскости, спра-
287
шивать бессмысленно. Однако наша духовная интерпретация доступно-
го нам членения объективной структуры мира сил, создающей этот кос-
мос, как будто «ведет» к человеку; и наше духовное понимание как бы
превращает нас в центр космоса. Или точнее: не как бы, а действитель-
но делает нас таковыми. Эта представляющаяся неразрешимой антино-
мия, которую несомненно чувствовал каждый человек и которая тысячу
раз так или иначе высказывалась, очевидно может быть смягчена не толь-
ко тем, что каждое существо, пытающееся постичь окружающую его «то-
тальность», всегда неизбежно делает себя до известной степени ее центром,
ибо рассматривает тотальность с позиции и под углом зрения собственно-
го существования. Однако от этого можно освободиться. И то, что мы со-
вершаем в космологии естествознания, и есть такая попытка.
По моему мнению, на базе наших размышлений это противоречие
может быть и объективно смягчено, если ясно понять: мы познаем
только, как было сказано, покров «сил» и тем самым лишь частицу их
самих. И то, и другое зависит от нашей познавательной способности.
Мы совершенно не знаем, как выглядит мир для другого существа,
свободного от представлений о границах пространства и времени, ко-
торые мы постоянно пытаемся поколебать, но преодолеть которые не
можем. А тем более для такого, которое могло бы ближе подойти к
«сущности» сил или постигнуть большие части их покрова. Если мы
сегодня, например, при попытке более широкого и глубокого пости-
жения существования пытаемся преодолеть или сдвинуть в естествоз-
нании созданные нами для постижения мира средства пространствен-
но-временного представления и если в связи с этим наука приходит к
объявлению «конечности» мира, используя при этом неудачные кар-
тины нашего собственного представления для наглядного изображе-
ния этой конечности, или если мы в подобном стремлении утвержда-
ем, что можем вычислить начало «мира» во времени1, то это намере-
ние свидетельствует только о том, что мы пытаемся поколебать грани-
цы способности нашей перцепции и необходимо создаваемую ей кар-
тину мира, чтобы выйти из заключения. Но для мыслящего человека
совершенно ясно, что это нам не удается. Ибо категории представле-
ния нашей перцепции требуют, чтобы за пространственной границей
находилось бы еще что-то. Ничто не входит в нашу перцепцию пред-
ставлений. И до начала также должно было быть что-то, ибо время в
качестве нашей категории представления необходимо бесконечно.
При этом единственно очевидно следующее: здесь надлежит признать
границы мира представлений нашей перцепции, как это сделал Кант в
своих апориях.
Однако после всего здесь сказанного ясно также следующее: эти гра-
ницы существуют только для нашей человеческой перцепции и для
структуры сил тотальности, которую мы посредством перцепции можем
познать. Так же, как космос несомненно преисполнен мирами сил, ко-
торые нам недоступны, он может быть преисполнен и другими существа-
ми, хотя мы и не можем обрести о них какое-либо понятие. Более того,
может даже быть, что его познанные нами членения составляют лишь
часть существа, которое может воспринимать его совсем иным образом
и которое также существует.
288
Что может означать при наличии таких предполагаемых перспек-
тив противоположность между нашей «духовной», ориентированной
на человека, интерпретацией и объективным безразличием космоса по
отношению к направленному на человека толкованию смысла? Оче-
видно, только то, что мы ничего не знаем о правильности той или дру-
гой интерпретации. Обе они — соединения частичных перцепций. И
для другого существа с другой познавательной способностью они не-
сомненно в таком виде не существовали бы. И только при знании
всей целостности наполняющих космос сил и их сущности можно
было бы сказать что-либо о «направленности» его строения или его
развития.
О том, какое значение это имеет для вопроса о смысле истории и ис-
торического существования, будет сказано позже.
3. Витальные и сверхвитальные силы
Прежде всего нам следовало бы несколько сдвинуть в нашей ограничен-
ной области границы агностицизма применительно к объективной
структуре, вследствие чего мы натолкнемся, правда, на новые «чудеса».
Напомним о следующем: доступная нам вообще часть объективной
структуры мира сил обладает в границах способности нашей перцепции
различной степенью доступности, связанной с членением мира сил на
«живые и «неживые» сферы. По отношению к неживому мы можем толь-
ко «констатировать», по отношению к живому мы можем в известных
границах «понимать». На неживом повсюду лежит покров объективнос-
ти, — даже когда мы восхищаемся гармонией космоса.
В живом для нас этот покров, по крайней мере частично, поднят. В
той мере, в какой наше сознание позволяет нам постигнуть действующее
в нас самих живое в его мотивациях, мы постигаем также испытываю-
щий те же или сходные мотивации животный и в известной степени ра-
стительный мир. Правда, понимаем мы лишь очень незначительную его
часть. Подобно тому как мы знаем что-либо понятное лишь о незначи-
тельной, доступной нашему сознанию части нашего собственного суще-
ствования. Эта часть относится в общем только к поведению живого об-
разования, но не к самому этому образованию и его возникновению.
Здесь мы вновь можем только констатировать. Силы, которые их осуще-
ствляют, даже если мы, расчленяя, проследим их до клеток, генов, хро-
мосом и т.п., а также до генеративно строящегося и физиологического
круговорота их поведения, — для нас совершенно такое же «чудо», как те
чудеса, которые строят космос в целом или его последние единства.
Однако одну важную объективную грань структуры мы можем, во вся-
ком случае в мире живых сил, схватывая, констатировать и одновремен-
но, по крайней мере частично, понимать.
В строении и поведении живого, как одновременно и в нашем соб-
ственном поведении, мы обнаруживаем сначала лишь целесообразные
силы, служащие сохранению жизни и витальному распределению тяже-
сти. Сколь ни удивительны формы, в которых они выступают, их виталь-
ное поведение нам сразу же понятно по аналогии с нашим собственным,
10 3ак. 3073
289
понятно даже в действиях плотоядных растений. И на сколь беспощад-
ную жестокость мы не наталкиваемся по отношению «к другому» в по-
ведении витальных сил этого мира — в нем ведь брутальная борьба за
существование содержится не только как принцип, а как основа его
строения и совершающихся в нем процессов буквального пожирания
друг друга (жестокость чего мы большей частью даже отчетливо не вос-
принимаем, ибо сами живем этим), — сколь ни ясно должно быть все это
нам, мы все-таки понимаем это, отчасти потому, что и сами действуем
так же для сохранения нашей жизни, отчасти же потому, что виртуаль-
но ощущаем в себе те же задатки жестокости.
Эта жестокая сторона мира витальных сил в качестве одного из эле-
ментов его структуры настолько несомненна для нас, что сложились се-
рьезные научные теории, получившие, к сожалению, большое всемирно-
историческое значение, которые интерпретировали, исходя из этого как
из смысла жизни, все существование, включая человеческое, и требова-
ли соответствующих, вытекающих из этого, по их мнению, действий. Во
всяком случае эта a potiori* связанная с насилием часть объективной им-
манентной структуры трансцендентности существования столь несом-
ненно выступает перед нами, ежедневно требуя от нас решений, потому,
что мы сами в бессознательной и сознательной сферах нашей жизни со-
ставляем часть ее и поэтому вынуждены принимать решения на этом
уровне.
Каждое полностью ориентирующее и интерпретирующее исследо-
вание живого целого сил при наличии таких вздорных теорий, пост-
роенных на этой витальной назойливости, и этих действительно име-
ющихся a potiori властных частей витальной сферы, должно указывать
на следующее: брутальной стороне борьбы за существование противо-
стоят очень важные иные стороны, — отчасти связанные с витальной
целесообразностью, отчасти чисто надцелесообразные факторы струк-
туры. Эти факторы могут быть истолкованы только исходя из внеси-
ловых сторон имманентной трансцендентности. Частично они нам
понятны per analogiam**, частично же представляют собой новую об-
ласть объективных «чудес».
В чисто витальной сфере у человека и, как известно, также у жи-
вотных, действуют доходящие до самопожертвования альтруистичес-
кие «инстинктивные факторы», такие, как отношение родителей к де-
тям, отношения между «товарищами». При этом в государствах мура-
вьев и пчел самопожертвование доходит до создающего даже физичес-
кое дифференцирование включения в сформированный надиндивиду-
альной общей волей образ. Обозначенное нами как связь — «мы» са-
мопознание человека основано на подобных витальных по своему
происхождению надиндивидуальных формированиях, которые у чело-
века сочетаются со свободой собственного решения. Они могут про-
двигаться в сознании по ступеням к расширенному и углубленному
постижению себя и сущности, которое позволяет человеку развернуть
в себе это сочетание Я и над-Я в свободную человечность, как мы ее
По преобладающему признаку, преимущественно (.шт.).
" По аналогии {.шт.).
290
характеризовали. По своему происхождению все это относится уже к
объективному строению структуры витальной трансцендентности. В
своем дальнейшем развитии оно находится, правда, внутри другой, вто-
рой, до сих пор оставленной без внимания, чисто надцелесообразной
стороны области живых сил, которая участвует в построении всего
живого.
Трудно понять, как некогда можно было игнорировать преиспол-
ненную художественной фантазии, надвитальную волю «природы» к
формированию и пытаться толковать необозримое многообразие мира
форм и красок, которое предстает нам, как следствие борьбы за суще-
ствование и необходимости приспособления и отбора. Здесь суще-
ствует лишь слабо связанный с целями витального продолжения пре-
избыток продуктивности, который в прекрасном, в безобразном, в
формах выражения добродушия, зла, коварства значительно превосхо-
дит все доступное человеческой фантазии и в противоположность ей
с абсолютной уверенностью рисует бесконечно многообразный шифр
намеренного надцелесообразного выражения. По богатству красочной
композиции, по точности и полноте контуров эта продуктивность со-
вершенно недосягаема. Подчас она доходит даже до капризности.
Существует ли более совершенное и вместе с тем прекрасное выраже-
ние гордости, чем павлин? И можно ли объяснить его образ только
как выражение полового инстинкта? Однако преизбыток продуктив-
ности существует и там, где он никогда не предстает при свете дня.
Пережить это может каждый, кто бросил взор в батисфере в морские
глубины, заселенные преднамеренно отвратительными и преднаме-
ренно прекрасными образами. Чарующе красочно обрисованная, про-
зрачная рыба может здесь вызвать восхищение лишь отвратительной
каракатицы. «Но прекрасное блаженно в себе самом». Эти слова сле-
дует применять и к необозримым вариациям земной флоры и фауны,
которые здесь, в животном и растительном мире, также почти всегда
представляют собой непревзойденную по своей силе форму выраже-
ния особого характера.
Посмеет ли кто-либо, осознав все это, еще сомневаться в действии
надцелесообразных сил, которые проявляют свою волю в формировании
тела, придавая инертности и добродушию неуклюжесть, тонкой красоте
грациозную форму, добавляют жаждущей добычи хищности гриву или
выражают свою фантастическую способность к выразительности в оча-
ровательном оперении птиц? И будет ли тот, кто все это воспринял,
еще удивляться тому, что надцелесообразные силы формирования при-
сутствуют и в неживой природе? Они участвуют в создании кристаллов.
Кристалл — не «случайный продукт». Человек сегодня способен, создав
определенные условия, вызвать рост этого неживого продукта. Эти силы
участвуют также, если даны соответствующие условия, и в формирова-
нии силуэта гор, в которых мы так часто ощущаем присутствие чего-то
большего, чем случайность. И внепространственная и вневременная
мощь этих сил столь велика, что, предоставив им действовать без како-
го-либо вмешательства, мы увидим, что они могут превратить в симфо-
нию красок флору целой местности, доказательством чего служит каж-
дая высокогорная поляна.
291
4. Положение человека
Универсализирующе спасающее и партикуляризирующе тянущее вниз
начала действуют, следовательно, в качестве трансцендентной силы
вплоть до так называемой неживой природы и повсюду участвуют в со-
здании ее живого богатства.
Где же в этой объективной структуре, в этом смешении в живом ви-
тальных и надвитальных сил место человека?
Само собой разумеется, что это смешение распространяется и на
него. Оно присутствует в дарованной ему телесной форме. Присутству-
ет также в предоставленной ему в отличие от животного свободной спон-
танности части его поведения. Неважно, как ему вместе с его сознани-
ем была дарована данная свобода. Неважно также, что он, появившись
на свет «незавершенным», предназначен к осознанно спонтанному по-
ведению в значительно большей степени, чем все животные, появляю-
щиеся на свет значительно более завершенными и со значительно более
многочисленными инстинктами; призванный во всяком случае к само-
стоятельному формированию своего существования с помощью данной
ему способности свободного решения, человек строит свое существова-
ние в известных, ранее намеченных, разнообразных формах, способных
развивать эти формы жизни в ходе прогресса цивилизации и к тому же
придавать им надцелесообразый образ и мыслительное и художественное
выражение. При этом витальные и надцелесообразные силы, содержа-
щиеся в нем как части космоса, создают самое различное смешение. Он
получает историю и становится историческим, если рассматривать это на
первом плане, прежде всего вследствие борьбы его чисто витальных сил,
которые в своем синтезе способствуют возвышению и гибели его различ-
ных этнических и социальных структур. О том, что находится за первым
планом в этой истории, которая рассматривалась здесь в различных ас-
пектах, можно ли и каким образом познать в ней постигаемую для созна-
ния цель и постигаемый для сознания смысл, будет сказано в следующем
разделе.
Здесь, где речь идет о включении человеческого существования и че-
ловеческого поведения в объективную структуру мира сил, надлежит
прежде всего установить следующее:
Все физические и духовные действия человека и связанные с ними
организации, рассмотренные с точки зрения структуры мира трансцен-
дентных сил, суть ответы на призыв воплощенных в человеке в различ-
ном смешении сторон этого мира сил. Эти стороны борются в нем и за-
ставляют его принимать решения. Они грозят его «свободе» преодолени-
ем и известным ограничением. Они побуждают его этим к основанной
на природе и использующей ее силы ему одному предоставленной про-
дуктивности, конкурирующей с продуктивностью природы. И они тре-
буют от него, помимо всего прочего, анализирующего проникновения в
природу и духовного господства над ней. а также надцелесообразных
действий. О том, как соответственно этому формируется его существо-
вание, уже говорилось, и здесь нас это больше не интересует.
Однако следует ясно понять: его подверженная таким нападкам, всту-
пающая в соперничество с природой собственная продуктивность всегда
292
и конечном итоге является ответом на обращенный к нему и совершаю-
щийся в нем призыв мира сил. И эта продуктивность, рассмотренная под
углом зрения структуры мира этих сил, отражает их смешение в нем. Это
смешение формирует созданные им витальные, следовательно, в первую
очередь социально-структурные образования, которые помимо техничес-
кого аспекта содержат благодаря этому совершенно так же, как природ-
ные образования, полученный от лежащего в основе мира сил придаток
надцелесообразного (прекрасного, безобразного, доброго, злого). Это
смешение формирует также духовные эманации человека. И таким обра-
зом мы находим мир сил, который его окружает и воплощен в нем, так-
же в его надцелесообразной продуктивности, по крайней мере в ее кор-
нях. Вплоть до самых сублимированных сфер человека, как будто полно-
стью отвергающих витальную близость, в этом мире сил содержатся от-
веты на призыв чисто витальных сил в человеке или ответы на стеснен-
ность ими.
Человек в своей духовной продуктивности, в которой он ищет толко-
вание бытия, в решениях, которые он принимает на религиозном или
философском уровне, как будто полностью поднимается над витальным
уровнем. И он может в своей свободе дойти до того, что ищет и прини-
мает решения, которые означают устранение всех воплощенных в нем
витальных сил и их требований к нему в пользу надцелесообразного уни-
версального фактора (аскеза). Он может в стремлении к уничтоже-
нию своей индивидуации стремиться к возвышению над опутывающим
его миром сил (йога). Однако все, что он совершает в этом смысле, есть
в конечном итоге ответ на витальные силы в нем. И лишь в очень ред-
кие моменты он, полностью отстраняясь от своей индивидуальной судь-
бы, просто в поисках смысла констатирует охватывающую его имманен-
тно трансцендентную игру сил и, в известной степени объективируя ее,
преступает через нее (как, например, в трагическом видении существо-
вания). Там, где он, логически интерпретируя существование, пытается
перейти к «бытию», возникает длинный философский, метафизический
ряд интерпретаций, которые всегда в конечном итоге пытаются занять
определенную позицию по отношению к призыву витальных сил суще-
ствования.
Правда, человек обладает одной линией продуктивности, которая по-
зволяет ему в соревновании с природой и, следуя ей в стремлении най-
ти и выразить синтез между собой и миром, отдаться чисто надцелесо-
образному. Это — линия искусства. В своем происхождении и эта линия
полностью проникнута размежеванием с непосредственно взывающими
к человеку витальными силами. Ибо человек создает музыку, пластику,
картины и поэзию прежде всего, чтобы преодолеть витально угрожаю-
щие ему силы. И когда и где он освобождает свой творческий порыв из
этой замкнутости, возникают прежде всего и надолго великие религиоз-
но универсализирующие преодоления мира витальных сил, возвышаю-
ще и символически выраженные в музыке, картинах или поэзии. В кон-
це концов человек сбрасывает и эти оковы и создает, подражая природе
или превосходя и ломая ее формы, образы, которые, если они не просто
игра, всегда обладают каким-либо жизненным содержанием, следова-
тельно, означают введение в творческом синтезе в художественное выра-
293
жение универсализирующих или партикуляризирующих, имманентно
трансцендентных сил. В своем продуктивном соревновании с природой
человек здесь, в области искусства, — в этом особенность искусства — не
связан формами, существующими в природе. В музыке, правда, есть из-
вестная параллель с природой (например, пение птиц) — об этом еще будет
сказано, — однако она полностью от этого отличается. В архитектуре и ее
формах искали напоминания о пещерах. Но греческий храм, готический
собор, буддистская ступа и т. д. не имеют ничего общего с подражанием
природе. Противоположность духовного мира природе, выраженная в лите-
ратуре во всех ее формах, даже не требует констатации.
Свободны ли эти области творческой способности, которая соединяет
человека и мир в особой форме, от структуры мира имманентно-транс-
цендентных сил? Дело обстоит прямо противоположно. Однако у нас нет
объективных признаков, кроме универсализирующего, освобождающе-
го или сознательно желаемого обратного действия, в котором мы можем
познать связь с подспудным миром сил.
Нет других признаков? Но ведь существует одна область искусства,
которая позволяет, хотя бы частично, проникнуть в тайну связи или уча-
стия в объективной имманентно-трансцендентной структуре. Она суще-
ствует в первую очередь в непредметной сфере творения музыки посред-
ством неповторимого значения, которое здесь математическая структу-
ра имеет как основание, а в своем развитии может иметь и вплоть до вы-
сочайших вершин. В других же искусствах все логически рационализи-
руемое и математически постигаемое, скажем ритм, пропорция и т. д.,
значительно меньше затрагивает сущность и может представлять собой
лишь необходимый элемент формулы, который, как в литературе, даже
в ряде случаев отбрасывается, — только рамки, которыми мир трансцен-
дентных сил может воспользоваться или не воспользоваться.
5. Математика и трансцендентальный катарсис
О роли математики. Мы научились познавать математическую структу-
ру как покров, в котором мы, анализируя, постигаем формы и движения
сил в неживой природе и посредством изучения которого мы способны
открывать доступные нам части ее строения и членения, даже влиять на
них, использовать их и в известных рамках производить в них перемеще-
ния. Этот покров структуры, который мы, констатируя, постигаем, не
будучи при этом способны проникнуть в своем понимании в сущность
сил, выступает, как уже было сказано, в космосе в состоянии равновесия,
гармонией которого в распределении массы и движения мы в удивлении
восхищаемся, анализируя этот покров математически. В его мельчайших
доступных нам частях он покоится, как было указано, на спонтанностях
и представляет в воспринимаемых нами явлениях переход энергии в мас-
су, свет, звук и т. д. Физик и химик, если он хочет приблизиться к это-
му в своем анализе, должен быть, по словам Эйнштейна, «любителем
приключений». Это значит, что он работает с гипотезами, которые до-
пускают математическое улавливание и упрощенное выражение.
Что математическая формула открывает объективный элемент струк-
294
туры, следует не только из ее экспериментальной плодотворности, по-
шоляющей увеличивать господство над природой, но и из того, что по-
средством совместного действия эксперимента и математики постигают-
ся до сих пор неизвестные структурные связи, которые, в свою очередь,
позволяют расширение этого господства. Математика может быть здесь
часто «умнее человека» только потому, что она в качестве математичес-
кого покрова есть постигаемая часть объективной структуры.
Математически открываемая структура проникает, конечно, также и в
живую природу, поскольку она построена на элементах или частицах эле-
ментов неживой природы. Однако, как уже было сказано, круговорот и раз-
витие живого носит особый характер. И математический покров здесь мож-
но обнаружить лишь постольку, поскольку для надцелесообразного, которое
мир сил здесь также создает в форме и цвете посредством композиционных
пропорций и гармоний и т. д. вплоть до распределения энергии и числа ко-
лебаний, конечно служат основой математически формулируемые факторы,
без того, однако, чтобы это было для нас осязаемо.
Укажем на поразительное явление: там, где в искусстве человек вступа-
ет в соревнование с продуктивностью природы, создавая в свободном над-
целесообразном творении синтез между собой и миром, там в музыке суще-
ствует та великая область, которая исконно математизирована и величай-
шие очищающие творения которой, во всяком случае в одном из ее направ-
лений, кажутся допуском гения для его вдохновений в объективно имеюще-
еся рационализированное математическое структурное пространство, пре-
доставляющее ему средства выражения. В качестве неспециалиста я могу
лишь намекнуть на это. То, что я высказываю в формах выражения, важных
для наших точек зрения, связано с беседами с Вальтером Рицлером2, мно-
го лет занимающимся проблемами философии музыки; известным он стал
после публикации его биографии Бетховена.
Насколько я правильно понимаю, — в музыке в рамках известных ма-
тематически постигаемых основ существует ряд совершенно различно
структурированных миров, которые, полноправно пребывая друг подле
друга по своему очищающему качеству, рассчитаны на самую различную
рецептивную потребность. Они пребывают рядом, не исключая друг дру-
га по своей рецептивной способности. Наша математически высоко ра-
ционализированная западная музыка, развивавшаяся начиная со второй
половины XVII в. до последних столетий, составляет определенную сту-
пень, но вместе с тем и определенный тип музыки наряду с той, которая
раньше на Западе основывалась на более простых математических гармо-
нических отношениях, скажем, прежде всего наряду с музыкой, в осно-
ве которой лежит трезвучие. Но существует и иной музыкальный строй,
различные виды которого распространены по всей Земле и которые се-
годня с появлением додекафонической системы начинают играть роль и
на Западе. Все это с музыкальной точки зрения вполне равноправно.
Следовательно, в музыкальной сфере господствует также объективно
математически обоснованное различие, которое, впрочем, даже в своих
гармонических частях не сплошь рационализируемо математически. Од-
нако именно в величайших созданных творениях, которые сообщают
нам о борьбе светлых и темных сил в мире наших чувств и возвышают ее
до катарсиса, гений творит в той математически рационализированной
295
сфере, в которой дарованные ему темы и их вариации разрабатываются
им с помощью предоставленных ему здесь специфических математичес-
ких средств.
Так, как здесь, силы нигде больше не дозволяют заглядывать им в
карты. Ни в надцелесообразной, в известной степени художественной
части живой природы, ни в самом искусстве. Несмотря на то что худож-
ник должен как-то вступить в связь с глубокой сферой этих сил структу-
ры и с ее тайнами и получить оттуда благословение, он хочет достигнуть
действия катарсиса, будь то посредством красоты, прелести или эвенту-
ально посредством грозной возвышенности.
В пропорциональности и других математических свойствах, которые
можно исчислить в греческом храме, где монументальная архитектура
как будто больше всего приближается к математической постигаемости,
все это воспринимается лишь как сопутствующий фактор осуществления
возвышенно-прекрасного — в Пестуме, Сегесте или Парфеноне. Их вы-
раженная иным образом организация пространства в его отношении к
окружающей среде во всяком случае не менее важна. Столь же важна как
противоположная организация пространства с совершенно противопо-
ложным отношением к окружающей среде в готических соборах. Раци-
онально постигаемое — минимум в объективной структурированности им-
манентно трансцендентного, которое в обоих случаях нам открывается.
Несомненно, пропорции в пластике, симфонии красок и иное в жи-
вописи важны, однако для открытия действительно необходимого это
всегда имеет второстепенное значение. Пракситель не был Фидием, не-
смотря на то что применял установленные Поликлетом пропорции. Не
был потому, что в связанной с именем Фидия монументальной пласти-
ке открывается нечто, далеко превосходящее Поликлета и статуи Олим-
пии, говорящее о такой высоте и глубине, которая была уже неведома
Праксителю, — о трагической судьбе мира как объективной структуре
существования. В каждой скульптуре времени Фидия, например в
скульптурах Парфенона, заключена красота и возвышенность, совершенно
такие же, как в параллельно складывающейся трагедии (Людвиг Курциус).
Именно в трагедии можно видеть, что и в литературе постигаемая и ана-
лизируемая форма несомненно имеет значение для возможного перехода
трансцендентного в человеческое слово и действие, но что подлинная внут-
ренняя структура этого трансцендентного, в которой выражено содержание
его катарсиса, этим полностью не постигается, так же, как в каноне внеш-
ней формы в изобразительном искусстве. Трагедия стала возможной фор-
мой для вопрошающего постижения смысла трагической структуры суще-
ствования после того как Эсхил придал ее внешней форме совершенство и
гармонию. И она лишь с несущественными изменениями служила трем ве-
ликим трагикам — Еврипида также, несмотря на все, следует причислить к
ним — для вопрошающего постижения смысла структуры трагического бы-
тия. В этом состоит связь трагедии с трансцендентностью. Уже когда Ари-
стотель писал свою «Поэтику» эти вопросы и следующие за ними открове-
ния трансцендентности давно исчезли, хотя произведения в форме трагедии
еще появлялись. В противном случае его «Поэтика» не была бы столь сухой
книгой, в которой присутствует лишь бледная тень действительно глубоких
вопросов и откровений. В формальном построении, в ритме, рифме и т. п..
296
часто имеющем музыкальное звучание и внутренне с ним связанном, про-
никновение имманентно-трансцендентного происходит в другом разде-
ле литературы, связанном по природе своего проявления именно с этими
формами. Гомер без гексаметра, Данте без его ритмики немыслимы. Но и
здесь этот мир форм, правда, важная и необходимая, но не главная часть
структуры откровения, совершенно иначе, чем в музыке. Сколь бесконеч-
но многое от этого откровения находится в одном случае в речах и действи-
ях людей, в другом — в работающей с совершенно иными формальными
элементами композиции. Даже говоря о песне, об этом никогда не следует
забывать. А литература как будто может вообще освободиться от большин-
ства структурно регулирующих моментов формы и все-таки сообщать
трансцендентное.
Все это приводится лишь для того, чтобы подчеркнуть чрезвычайно
узкую область, в пределах которой мы можем что-либо предположить
даже об элементах внешней структуры имманентно трансцендентной
области. Но одновременно и для того, чтобы ясно показать, что именно
эта область открывается, если гению удается посредством высшей мило-
сти допустить наше проникновение посредством катарсиса в сферу бе-
зусловного и в его сущность.
Делались попытки наметить не только для прекрасного, но и для воз-
вышенного, а также для комического, рамки условий, внутри которых
происходит это раскрытие. Мы не откажемся от того, чтобы по крайней
мере для возвышенного, отношение которого к подобному раскрытию и
к безусловному должно быть очевидным, сопоставить нашу интерпрета-
цию с более ранней и, по моему мнению, наиболее существенной, с ин-
терпретацией Шиллера2 .
Для идеализма Шиллера, который вслед за Кантом отделяет «интел-
лигибельный мир», доступный человеку благодаря свободе, от мира при-
роды как мира чувственности, красота — часть чувственно познаваемо-
го мира, возвышенность, утверждающаяся в своей несокрушимости по
отношению к отвратительному и в своем превосходстве в хаотичном, —
часть интеллигибельного мира. Однако при этом Шиллер в наиболее
важных местах своей работы говорит о «демонической свободе» и о «чи-
стом демоне» человека, открывающемся в возвышенном. Если оставить
в стороне идеалистические конструкции с их разделением мира приро-
ды и мира идей, то остается воззрение, которое видит возвышенность в
непререкаемом превосходстве по отношению к страшнейшим смятени-
ям судьбы или к непроницаемости путаницы и страданий, создаваемых
природой. Я полагаю, что мы можем согласиться с этими условиями, в
которых демонически превосходящее видится как возвышенное. С тем
различием, что, по нашему мнению, эта превосходящая сила является не
«идеей», а имманентно трансцендентной действительностью.
Как очевидно, различие в форме воззрений на феномен не препятству-
ет значительной степени согласия в характеристике самого феномена.
И то же относится к словам Шиллера, сказанным в той же работе: с этой
точки зрения (возможного характера превосходства человека), и только с
этой, всемирная история для него — возвышенный объект. Мир как «пред-
мет истории — в сущности не что иное, как конфликт между силами при-
роды и их конфликт со свободой человека». «О результатах этой борьбы нам
297
рассказывает история». Причем результат, достигнутый самостоятельным
разумом, отождествляемым здесь со свободой, по отношению к действиям
сил природы, к которым причисляются и все аффекты людей, очень незна-
чителен. Многое в этой интерпретации истории, к более подробному изло-
жению которой мы еще вернемся, окажется предвосхищением нашего даль-
нейшего изложения, что, однако, не заставляет нас разделять теоретические
аспекты воззрения, лежащие в основе их формулировки.
Примечания
1 «Сотворение мира» два или пять миллиардов лет тому назад!
2 Я попытаюсь изложить здесь взгляды Вальтера Рицлера в области философии
музыки его собственными словами и в его исторической перспективе.
Материал музыки, тон, т.е. фиксированный определенной «частотой» (числом
колебаний) «звук» (даже если считать его предшествующей ступенью пение птиц),
— творение человека. Он производится человеком, сначала в пении, затем, уже очень
рано, что доказывают пребывающие на очень примитивных ступенях «первобытные
народы», с помощью очень примитивных инструментов. Происхождение звука свя-
зано, очевидно, с душевной взволнованностью. Однако человек уже на очень ранних
стадиях своего развития уверен в том, что в звуке скрыта находящаяся вне челове-
ка и над человеком сила, которая каким-то таинственным способом проникает в
него, посредством которой он вступает в совершенно особую связь с «миром». От-
сюда и исконная связь музыки с религией и культом, отсюда и вера в магическую
силу музыки, которая в отличие от волшебства картины не уничтожает, а создает
жизнь (Орфей) и может даже воздействовать на природу.
Однако человеческий дух овладел звуком еще совершенно иным образом. Пи-
фагор открывает соответствие между основными отношениями звуков и чисел:
исходя из отношения колебаний струн различной длины, он устанавливает про-
порции 1:2 (октава), 1:3 (квинта), 1:4 (кварта) (тетрактида*, связанная с прино-
шением высшей клятвы пифагорейцев) и создает тем самым основу гаммы, од-
новременно также того, что позже стаю называться «гармонией». И в этих чис-
то рационально-математических пропорциях он видит скрытой космическую
тайну, «гармонию мира». Понадобилось более тысячелетия, чтобы из этого воз-
зрения развилась вся система нашей «гармонии».
Только очень постепенно эти рациональные законы проникли в царство зву-
ков. Если до того в «церковных ладах» решающей была мелодическая линия, в
сочетании звуков, правда, подчиненная закону «трезвучия» как совершенного
консонанса, то теперь в нашей «системе мажора-минора» весь гармонический
процесс закономерно основан на основных переходах от I (тоники) к 1У (субдо-
минанте) и У (доминанте), следовательно, на познанный в своем первостепен-
ном значении уже Пифагором квинтовый круг в движении басов, что обеспечило
«функциональную» связь гармоний. Все относится теперь к так называемой «ка-
денции», которая до того была обязательной только для завершения музыкаль-
ного построения. Это произошло лишь в течение XVII в.; одновременно музы-
ка достигает значительного развития в ставших теперь возможными «крупных
формах», которые, начиная с Иоганна Себастьяна Баха, достигают своей верши-
ны в сонатах и симфониях так называемой «классической» эпохи (следователь-
но, в период от 1780 до 1830 г.), а затем до 1900 г. ведут к новым великолепным
" Тетрактида — сумма первых четырех чисел, символическое выражение музы-
кально-числовой структуры космоса — Прим. перев.
298
достижениям в «романтической» музыке. Это — единственный случай совершен-
ного порядка в царстве звуков, без сомнения связанного с общей тенденцией
Возрождения к рациональному постижению мира; она же лежит в основе появ-
ления линейной перспективы в живописи. Тем самым, правда, дана возможность
совершенно «земной», поверхностной, лишенной всякой трансцендентности
музыки, которой вне этого порядка никогда не было, но вместе с тем было со-
здано громадное богатство возможностей выражения, которые, несмотря на ра-
циональную основу в творениях великих мастеров, несомненно относятся там,
где обычно говорят о «глубине» музыки, к царству трансцендентности. То, что
называют «глубиной» в музыке, есть не что иное, как непосредственное откры-
тие «трансцендентности», невозможность чисто рационального «понимания», так
же как связи с чисто человеческим «чувством» — непоколебимая уверенность,
что слышатся звуки, идущие к человеку откуда-то, из внечеловеческой и сверх-
человеческой области. Следует заметить, что Бетховен в своих последних произ-
ведениях время от времени чувствует потребность освободиться от рациональных
уз (»Благодарность выздоравливающего Божеству») и вернуться к церковным
ладам, (в одном из последних квартетов, в плане «Симфонии в старых ладах» и
другое), чтобы таким образом приблизиться к трансцендентности.
Постепенное ослабление рационально-тональных уз в музыке после 1900 г.
несомненно связано с одновременным сокрушением чисто рационально упоря-
доченного образа мира, но вместе с тем служит в самостоятельности «диссонан-
сов» также симптомом исчезновения веры в «гармонию мира» и в центральное
положение человека в этом мире, и прежде всего симптомом отказа от господ-
ства нашей западной культуры. Только теперь пробуждается понимание много-
образной чужой культуры, возникает серьезный интерес к «ступеням, предше-
ствующим» нашей западной музыке от григорианского одноголосья до полифо-
нического искусства музыки, предшествовавшей 1600 г., следовательно, ко вре-
мени «церковных ладов», которыми пользуются как образцом для собственного
творчества. В этом расширении горизонта, в этом признании внутреннего зна-
чения (по видимости «примитивной») музыки различного рода, я вижу суще-
ственное в том новом, что произошло в нашем отношении к музыке в течение
последних десятилетий. Конечно, не все, создаваемое сегодня, можно будет оце-
нить как «возврат к чистой трансцендентности». Никогда еше напряжение между
высокой и низкой, глубокой и пошлой, благородной и низкой музыкой не было
так велико, как теперь. Многое еще только эксперимент, только попытка ново-
го обоснования музыки, — это прежде всего додекафоническая система, которая,
будучи по своим законам чисто рациональной, все-таки оставляет талантливым
музыкантам достаточно свободы, чтобы писать подлинно живую музыку (Альбан
Берг!). И вообще еше сегодня, во время брожения и поисков, возникает «великая»
музыка: ранние произведения Хиндемита, кое-что из написанного Стравинским,
почти все творения Белы Бартока, великого венгра, в музыке которого неповтори-
мым образом соединяется трансцендентность народной музыки Балкан с музыкаль-
ной культурой Запада. При этом, однако, не следует игнорировать опасность, воз-
никающую для музыки от утраты прочных уз. Следует признать, что после смерти
Бартока (1945) и поздних произведений Стравинского в «абсолютной» музыке во
всяком случае не создавалось ничего действительно значительного. Тем не менее
разговоры о «конце музыки» не обоснованы, даже если ясный путь дальнейшего
развития не очевиден. Можно только сказать, как я полагаю, одно: не следует ждать
«возврата» к законам классическо-романтической музыки, т.е. периода 1650-1900 гг.,
так же, как и конца «трансцендентности в музыке».
NB (Связь рассмотренной здесь современной музыки в творениями современно-
го изобразительного искусства будет показана подробно в заключительной главе.)
1 Ср: Schiller. Ober das Erhabene.
299
Глава 7
Ритмизация истории и толкование ее смысла
1. Результаты истории и витальные силы.
Каждая универсализирующе толкующая историко-социологическая ин-
терпретация, стремящаяся пояснить судьбу сегодняшнего последнего
типа третьего человека и, как это был сделано в последних главах, отчет-
ливо показать решающие черты видения, в котором может быть утверж-
дено его существование, должна одновременно пытаться дать картину
того, в каком освещенном изнутри, историческом процессе ему надле-
жит видеть себя и какое значение этот процесс имеет для его существо-
вания и самоосуществления.
Все это было вначале сказано в известной степени сжато и как бы ос-
вещено извне. Однако при более пристальном рассмотрении возникает
ряд дискуссионных вопросов, которые не подведут итог всему нашему
исследованию, но все-таки могут служить в известной степени осново-
полагающими выводами.
Речь идет о смысле истории для сегодняшнего человека.
Есть ли во всемирной истории нечто большее, чем своего рода ритми-
зация, которая позволяет возникнуть в ней чему-то осмысленному для
типа человека, представляемого нами? Существует ли, как утверждалось
в более ранних, преимущественно в философских, а также в социологи-
ческих интерпретациях, общий смысл в ее процессе? Или, если исходя
из человеческих возможностей, это не может быть обнаружено в фактах,
способен ли человек внести в чисто фактический исторический процесс,
в котором он пребывает в целом как некая данность, осмысленные осу-
ществления? И в каких областях истории он может это совершить? Ка-
ково это осуществление смысла?
Ясны два момента: если и поскольку в истории существует смысл, то
в этом находит свое выражение нечто метаисторическое в ней, которое,
правда, не должно быть совершенно внеисторичным, но должно коре-
ниться вне ее релятивистского процесса, в области абсолютного. Выра-
женное в нашей терминологии, это может быть только осуществлением
универсализирующих, ведущих к катарсису имманентно трансцендент-
ных сил. Это может быть лишь следствием того, что данные силы иног-
да преобладают или играют роль в исторических действиях людей.
Ясно, во-вторых: Чтобы обнаружить проявление действия этих сил в
истории и получить таким образом ответ на ранее поставленные вопро-
сы, не следует принимать во внимание только какие-нибудь общие по-
ложения. Истории надо задавать вполне конкретные вопросы; и к тому
же открыто и ясно совершать по отношению к данному то, что общая
философия истории или социология обычно, не признаваясь в этом пря-
мо, не совершали. (Исключение составляет очень точный в понятийном
определении Шиллер). Надо исходить из результатов, которые совокуп-
ность исторических событий предлагает наблюдателю во время его на-
блюдения, чтобы затем проследить образование этих результатов вплоть
300
до их познаваемых корней и, суммируя, получить общее воззрение на их
осуществление.
То, что мы до сих пор пытались совершить в этой работе, относится
к такого рода исследованию. Для сведения результатов воедино необхо-
димы лишь некоторые дополнения, чтобы затем поставить общей карти-
не вопросы о толковании смысла или возможности смысла.
Я не повторяю поэтому сказанное раньше и говорю о некоторых до
сих пор еще не затронутых результатах.
Очевидно следующее: вопрос, в какой степени в историческом про-
цессе различимо нечто осмысленное, принимает такую форму: в какой
степени человеческие действия вводят в исторический процесс универ-
сализирующие тенденции трансцендентности и как это происходит?
Прежде чем мы перейдем к этому решающему вопросу, уже затрону-
тому нами раньше с другой стороны, нам следует, как было сказано, ло-
яльно, с возможной остротой выделить из большой массы окружающих
нас исторических результатов еще несколько, которые по крайней мере
сегодня дополнительно к уже рассмотренным опасностям для человека и
человечности в наибольшей степени свидетельствуют против осмыслен-
ности истории.
Что значит, если столь опасная человеку в его внутренней замкнуто-
сти техника предоставляет ему сегодня в качестве результата историчес-
кого развития оружие, уже одно из которых, водородная бомба, будучи
применено, уничтожило бы целую область со всем ее населением? Что
означает, если при современном напряжении в мире несомненно гуман-
ный президент Соединенных Штатов считает необходимым, невзирая на
ужас привлеченных к этому физиков, создавать на обнесенной колючей
проволокой, изолированной различными способами территории своей
страны при полной секретности подобное страшное оружие, потому что
прежнее средство уничтожения, полностью разрушающее целые города,
урановая бомба, теперь вследствие предательского сообщения тайн тех-
нологии также производится соревнующейся с США страной? Что озна-
чает это ужасное наваждение, решающий результат войны, в которой
ответственным за нее народом в лице его правящей клики были сожже-
ны в газовых камерах и иным образом уничтожены миллионы согнанных
из всей Европы евреев (мужчин, женщин, детей), в которой в союзе с
Россией была уничтожена вся польская интеллигенция? Что все это зна-
чит в такое время, когда затем от 11 до 12 млн. этого народа были изгна-
ны из их 700 лет тому назад завоеванной родины в никуда и были вынуж-
дены осесть в разоренной области Германии, где в значительно большей
степени, чем фабрики, были уничтожены массированными бомбовыми
ударами почти все большие города с их невозвратимыми произведения-
ми искусства. О чем это свидетельствует в такое время, когда блок совет-
ских государств приговаривает к принудительному труду и медленной
смерти 10-20 млн., среди которых несомненно есть сотни тысячи немец-
ких военнопленных? В такое время, когда во многих областях, в том чис-
ле и в одном из фрагментов Германии, давление террора столь велико,
что тысячи людей, невзирая на все проволочные заграждения, ежеднев-
но бегут оттуда, оставляя все свое имущество, в результате чего всей зоне
грозит обезлюдение, и это в конце концов завершается явно безнадеж-
301
ным отчаянным сопротивлением? И все это только связанный со Второй
мировой войной чрезвычайно отчетливый симптом значительно более
общего положения. Бремя террора и взаимная национальная и конфесси-
ональная вражда настолько возросли в нынешний, начавшийся в 1914 г.
исторический период, что его следует назвать временем величайших ис-
торических переселений и сдвигов по всей Земле, перемещения масс,
вызванного страхом и нуждой, вследствие чего во всемирной Организа-
ции Объединенных Наций пришлось создать большой отдел, задача ко-
торого регулировать и смягчать нужду в беспрерывном теллурическом
потоке беженцев. Я прекращаю краткое описание присущего этой новой
исторической эпохе страшного, выпестованного ею варварства.
Что означает оно, если не полное банкротство истории в данную эпо-
ху, которое не могут скрыть все гуманные меры по смягчению сложив-
шейся ситуации, — тогда как история ведь должна была быть, как пола-
гали, подлинным развитием человечности?
Можно, конечно, толковать все это как болезненные явления перехо-
да к третьему большому мировому периоду, в начале которого мы в дан-
ный момент находимся. Но это ничего не меняет в том, что они пред-
ставляют собой по сравнению со всем предшествующим в истории в уве-
личенной до гигантских размеров мерзости один из очевидных «резуль-
татов» предшествующего исторического развития.
Но как выглядят очертания нового мирового периода, к которому мы
движемся, проходя уже почти полстолетия подобное чистилище? Хотя о
грядущей реальности будущего мы, конечно, ничего не можем знать, эти
очертания проступают в виде силуэта возможного страшного столкновения
двух гигантских могущественных образований, которые рьяно к этому
столкновению готовятся; и если оно действительно произойдет и будет со-
вершено с применением имеющихся сегодня средств разрушения, то там,
где эти средства будут применены, от человечества и существующих благ
культуры и цивилизации ничего не останется. Трудно требовать от жителя
страны, от которой, вследствие ее промежуточного положения между дву-
мя сражающимися гигантами при таком столкновении почти ничего не ос-
танется, ни от ее истории, ни от ее населения, чтобы он ощущал это разре-
шение сегодняшнего напряжения в мире как прогресс культуры. Даже если
он согласится с тем, что его страна и его народ должны быть принесены в
жертву на алтарь мировых событий, он, глядя сквозь столбы своей уже раз-
дробленной отчизны, вынужден опасаться, что принесенная жертва окажет-
ся в историческом смысле бесполезной. Ибо даже если страна одного из мо-
гущественных противников осталась бы неразрушенной, общие послед-
ствия, которые во всем их масштабе предвидеть невозможно, были бы в гло-
бальном смысле таковы, что выжившей области не доставит радость ее по-
беда на разрушенной вплоть до целых континентов и пропитанной ненави-
стью Земле. Окруженная горечью, она стояла бы буквально перед концом
истории и перед необходимостью начать все сначала — перед трудностями,
которые представить себе сегодня невозможно.
Когда мы в данной работе говорили о конце истории, то в основе все-
го сказанного лежала предпосылка, что этот жуткий технологический
конец не произойдет. И либо, — хотя это, к сожалению, не слишком ве-
роятно, — в будущей решающей борьбе самые страшные, грозящие ги-
302
белью виды оружия не будут применены, либо — из этого предположе-
ния мы действительно исходили — само существование этого оружия,
поскольку оно, хотя и в различной степени завершенности, имеется у
обеих сторон, служит своего рода защитой от начала этой решающей то-
тальной войны, ибо риск гибели стал слишком велик для обеих сторон.
Рассмотрим это как исторический результат, останавливаясь на фак-
тах прошлого.
Представить себе, что нынешнее состояние соревнования в вооружении,
не завершающееся войной, станет длительным, означает предположить, что
существование мира будет длительной жизнью на краю бездны. В этом есть
что-то верное, поскольку нынешнее напряжение в сочетании со всеми сред-
ствами уничтожения сохраняется. Современное психическое состояние в
Соединенных Штатах, вынужденных нести наибольшее бремя «на свобод-
ной стороне», лишь с трудом, с большим трудом, мирится с этой ситуаци-
ей. И совершенно очевидно, что другие страны, находящиеся на той же сто-
роне, должны сделать все возможное, чтобы несколько облегчить это бре-
мя. Если они это сделают, то могут считать, что существование на краю без-
дны с тех пор, как возникло напряжение, — во всяком случае поскольку
речь идет о Германии, первой жертве катастрофы, — уже с конца войны яв-
ляется их существованием. И что они учатся жить таким образом, даже если
они не находятся в положении, подобном положению жителей Берлина, где
население более чем в 2 млн., мужественно, без всякой надежды на изме-
нение ситуации продолжает свое существование, хотя в буквальном смыс-
ле слова с петлей на шее.
В некоторой перспективе в эпоху, когда проблема сокращения роста
населения станет по своему значению острее проблемы напряжения,
можно рассчитывать на то, что острота этого напряжения в известной
степени спадет, — если население Запада не утратит самообладания.
Не следует надеяться на то, что в этом случае наступит такое умирот-
ворение в мире и возможность столь радикальной его организации, ко-
торая исключит дальнейшее вооружение. Сколь ни необходима при тех-
нической унификации Земли и будущем единстве ее судьбы всемирная
организация, которая в виде Объединенных Наций уже существует, хотя
и сталкивается с большими трудностями, сколь ни желательно и возмож-
но ее усиливающееся влияние, надо было бы не иметь никакого понятия
о действии витальных сил в мире и в истории, чтобы верить в возмож-
ность с помощью каких-либо чудесных средств остановить их действие.
Если удастся постепенно ослабить разжигаемую восточной стороной не-
нависть и раздуваемые там эсхатологические надежды посредством по-
нимания общего интереса в предотвращении мировой катастрофы и до-
биться участия в совместных действиях, этого хватит только для избав-
ления от постоянной угрозы самого страшного, но не приведет к готов-
ности подчиниться чужой воле, которая была бы способна осуществить
полный действенный контроль. Мир изменится, но не настолько, чтобы
он превратился внезапно в место пребывания послушных детей. Он из-
менится таким образам, что на том или ином пути возможность общей
мировой катастрофы станет все менее вероятной. Я не вижу практичес-
кого пути, несмотря на все чрезвычайно желательные соглашения о со-
кращении вооружений, полностью исключить возможность катастрофы.
303
Я питаю лишь надежду на то, что она постепенно будет в какой-то мере
замирать. Соперничество же сил, поскольку они витальны, сохранится.
Тем самым вновь приблизится то же состояние, правда, на другом
уровне, которое всегда было в истории, насколько она нам известна. В
опасности люди жили всегда. В первый длительный период она состоя-
ла в постоянном вторжении потока переселенцев при беспрерывно воз-
никавших сражениях в перенаселенных областях. Ara pads Августа была
на тогдашнем Западе едва ли не иронически воспринимаемым символом
достигнутого и ожидаемого длительного мира, внутри которого вскоре в
несколько иных формах возникли и продолжались не только внешние,
но и внутренние войны. В переходный период с 1500/1600 гг. Европа, ее
основная область, пребывала в кровавой борьбе между возникающими
современными государствами, которой сопутствовали не только мирные,
но и жестокие насильственные завоевания по всей Земле. В XVIII в., во
второй его половине, удалось как будто достигнуть своего рода мирной
передышки, психологическое действие которой Гёте хорошо описал в
«Поэзии и правде». За ней, однако, вскоре последовала революционная
борьба и наполеоновские войны. А когда в 70-х годах XIX в. после вой-
ны между Францией и Германией, которой предшествовала почти соро-
калетняя передышка до Крымской войны, также наступило положение,
похожее по крайней мере на — пусть даже вооруженную — передышку,
выступил Ницше и бросил клич психической опасности доместикации.
Он не предвидел, что непосредственно вслед за этим с 1880 г. наступит
заключительный акт борьбы за капиталистический раздел мира, этот зак-
лючительный акт, который явится прелюдией к бойне мировых войн.
На рубеже веков Шиллер, провозвестник истории как развития гуман-
ности, уже в 1802 г. писал под впечатлением Французской революции и в
разгар наполеоновских завоеваний: мир как предмет истории есть в сущно-
сти не что иное, как арена постоянного конфликта между силами природы
и их борьбы со свободой человека. Во всяком случае, если мы принимаем
для объективного толкования смысла истории в качестве главного значение
постоянно присутствующих в человеке и в истории чисто витальных сил, то
мы должны, как в конечном итоге честно признал и этот идеалист, сказать:
существование на краю бездны в ожидании войны есть историческое суще-
ствование человека. Правда, сегодня мы живем в особенной, никогда ранее
не существовавшей опасности, грозящей этому существованию. Однако
окажется ли при уменьшении существующего напряжения сдерживающая
всемирная организация сильнее или слабее, историческое существование
останется тем же. Ибо витальные силы, которые служат одним из его усло-
вий, всегда остаются неизменными.
2. Возможная осмысленность истории
А осмысленность истории? Космос также имеет свою историю, и неко-
торые современные естествоиспытатели дерзают даже вычислить началь-
ную дату его существования (относя ее, как мы уже говорили, к 2 млрд.
лет тому назад). Однако что космическое развитие есгь «событие», а не
история, должно быть само собой разумеющимся для каждого. И столь
304
же само собой разумеющимся должно быть, как мы уже указывали, то,
что мы, люди, не имеем никакого понятия о смысле и сущности этого
события. Мы не имеем об этом никакого понятия и не можем называть
это историей, так как, исходя из «понимания», мы не имеем доступа к
нему. История же существует только там, где такое понимание есть.
Из этого далее следует: Естествознание учит нас, что человек возник,
вероятно, 500 тыс. лет тому назад в ходе развития жизни. Наши исследо-
ватели предистории вместе с палеонтологами констатируют, производя
поразительные раскопки, что примерно 60 тыс. или 20 тыс. лет тому на-
зад в ледниковый период существовал человек ориньякской, а затем кро-
маньонской культуры, который соматически и психически уже представ-
лял собой сегодняшний тип человека. Его в некоторой своей части вы-
сокое художественное наследие и его поведение свидетельствуют, пожа-
луй, о том, что мы здесь уже действительно имеем первый тип сегодняш-
него, т. е. третьего человека. Вся же масса существующих сегодня так
называемых примитивных народов принадлежит очевидно преимуще-
ственно к одной или нескольким предшествующим ступеням развития,
которые я, упрощая, называю ступенью второго человека. Можно с до-
статочным основанием говорить об этом как о доистории, следователь-
но, как о чем-то, что относится ко времени до истории в подлинном
смысле.
Основанием для этого служит то, что обнаруживаемый нами еще у
примитивных народов второй человек, несомненно находился неког-
да в каком-то развитии своего существования, но в этом существова-
нии действовали такие тенденции, которые завершались так или ина-
че обусловленной, обычно магически детерминированной неизмен-
ной фиксацией. Эта фиксация в целом дошла до нас, вероятно, в ста-
рой форме и в большинстве случаев привела к неустойчивости соци-
ального и духовного существования, вследствие чего данные народно-
сти растворились в процессе западной цивилизации. Лишь у боль-
шинства индейцев, малайцев, эскимосов, негров и нескольких других
народов осталось в этой фиксации столько витальности, что эти наро-
ды могли продолжать существовать и трансформироваться в совре-
менных условиях. Как бы то ни было, истории в подлинном смысле
слова у этого второго человека еще не было. Его существование во
времени не без основания изображается в современной науке как воз-
вышение друг над другом и следующее из этого смешение кристалли-
зующихся форм существования и культуры, которые несколько спор-
но назвали «всемирной историей каменного века». Это, конечно, ин-
тересный сдвиг, но это не история.
Истории не имели и ступени ледникового периода третьего человека
ориньякской, кроманьонской культуры и т. д., ибо их наследие может
быть научно истолковано по такой же схеме.
Теодор Моммзен сказал, что для него культура начинается ab urbe
condita'. Это должно в общей форме означать: она начинается тогда, ког-
да присутствует понятный, внутренне продолжающийся процесс собы-
тий и одновременно сознание пребывания в нем. Момент, когда это про-
' С осноиания города (т. е. Рима) {.тт.).
305
изошло, конечно, как мы теперь знаем, не время основания Рима, одна-
ко, как бы мы его ни отодвигали вследствие раскопок и других данных,
этот момент относится только к периоду возникновения первых высоких
культур, сложившихся вследствие организации земледельческого населе-
ния самых ранних южных евро-азиатских плодородных областей ското-
водческими кочевниками в форме государственных объединений. Это —
процесс, в котором шла внешняя борьба за власть и происходил внутрен-
ний синтез, связанный с цивилизационным, социально-структурным и
духовным, следовательно, историческим развитием. Одновременно в со-
знании господствующих слоев возникало понимание того, что они созда-
ли нечто исторически движущееся. С документов этого сознания, кото-
рыми мы располагаем и которые можем теперь расшифровать, начина-
ется человеческая история. Благодаря этим документам и ставшим жи-
выми вследствие возможности их прочесть памятникам наше историчес-
кое сознание удлинилось вплоть до 4000/3600 до н. э., до начала первой
большой намеченной нами исторической эпохи.
Тем самым у нас в прошлом 5 тыс.-6 тыс. лет действительно челове-
ческой истории, которую мы способны сознательно воспринять как ос-
вещенную изнутри документами и видением людьми себя и о которой
мы можем спросить, сколько в ней смысла и какой смысл содержится
или иногда проявляется в ней.
Это очень долгий период в соизмерении с возможностью попытки
вообще осуществить в истории смысл, выйти без всяких вопросов про-
сто за принятую фактичность столкновений чисто витальных сил и со-
знательно придать образ чему-то надцелесообразному, душевно-духовно-
му. Но 5 тыс.-6 тыс. лет — очень короткий срок в рамках 500-тысячелет-
него существования отдаленно сходного с нами типа человека. А тем бо-
лее в сравнении с 2 млрд. лет, которыми исчисляют существование се-
годняшнего космоса; и в сравнении с существованием космоса, и с ис-
торией Земли эти неполные 6 тыс. лет — лишь мгновение. Кажется весь-
ма вероятным, в сущности неотвратимым, что вся человеческая «дан-
ность истории» — не более чем эпизод в великой игре существования.
Мы говорили об апории, возникающей из этого для человеческого
сознания. Рассмотренная в данном аспекте, она означает, что душевно
ощущаемое человеческое «время» и рассматриваемые астрономически и
космогонически периоды времени очень отличаются друг от друга. Ибо
духовное значение даже единственного момента человеческого опыта
вообще не входит в астрономическое и космогоническое течение време-
ни. А для нас это означает: ни одно человеческое историческое мгнове-
ние или период не может утратить для нас значение оттого, что оно ас-
трономически или космогонически, быть может, совершенно эфемерно.
А это, в свою очередь, означает и с этого начинается значительное, — что
чисто внешнее течение времени и его преходящесть не может при пра-
вильном понимании этого лишать нас мужества. Каждый подлинно ис-
торический момент сам по себе имеет значение совершенно независимо
от его астрономической продолжительности. Сохраним же мужество,
которым окружающая нас природа обладает в каждое мгновение, и не
будем измерять совершаемое нами надцелесообразное его выражением
во времени. Если абсолютные силы, стоящие за существованием и при-
306
сутствующие в нем, дают надцелесообразному, например прекрасному,
даруемому ими существованию и нам, прекрасному, которое мы хотели
бы видеть вечным, лишь такую же длительность жизни, как совершен-
но безразличному, а подчас и отвратительному, только витальному, — не
говоря уже о неживой природе, имеющей в этом несомненные преиму-
щества, — то по какому праву можем мы требовать для себя иных мас-
штабов?
Конечно, мы охотно говорим о вечных ценностях, создаваемых или
представляемых нами. И мы имеем на это право, поскольку нам дано
иногда познавать абсолютное, которое в духовном видении неотъемле-
мо, а эвентуально и доводить его до осуществления. Однако вечность от-
носится при этом только к получившему выражение абсолютному, а не
к форме выражения во времени. У всех нас есть достаточная причина,
спрашивая о смысле истории, по возможности не затрагивать, говоря о
его возникновении, вопрос продолжительности и прежде всего не слиш-
ком подчеркивать тему «прогресса», следовательно, возрастания во вре-
мени такого осмысленного существования в истории. Ибо ничто не вы-
зывает такого сомнения, как возможность предсказать усиление или
уменьшение осуществления освобождающего абсолютного в историчес-
ком процессе. И ничто так не дерзко, как желание предлагать такого рода
прогнозы на будущее.
Далее нам надлежит установить, как в каждом человеке, в каждом на-
роде существуют и действуют имманентные силы трансцендентальнос-
ти, силы лишь витальные, партикуляризующе разрушительные, и уни-
версализирующе освобождающие, как они столь совершенно несомнен-
но действуют во всем историческом процессе, который складывается из
совместных действий всех участвующих в нем индивидов и народов. И
вопрос, задаваемый нами истории, если он правильно поставлен, толь-
ко гласит: как обстоит дело со смешением действий всех этих сил в исто-
рии? И так как мы интересуемся смыслом, который при этом появляет-
ся, — как обстоит дело при обозрении предшествующей истории с этим
проявлением и исчезновением смысла в историческом процессе? Суще-
ствуют ли полосы истории, которые служат основой не для образования
смысла всего исторического процесса, — такой вопрос был бы выраже-
нием гордыни — но которые, быть может, дозволяют время от времени
внедрение смысла именно в эти полосы, появляющиеся в истории? Мо-
жем ли мы, таким образом, при наличии в ней противоположных, так-
же живых тенденций развития, спасти человеческий смысл посредством
этих полос и в них? Где место этого спасения во взаимодействии сил,
господствующих над ними?
3. Мыслительное постижение и процесс сознания в истории
Характер и возможности появления такого объективно осмысленно ос-
вобождающего, без сомнения, в трех больших исторических периодах
очень различны.
Долго длящийся первый период, когда в центральной, южной, а поз-
же и северной Евразии различные мало связанные друг с другом тела
307
либо, как на востоке, находились рядом друг с другом, либо, как на за-
паде, следовали под влиянием происходящих переселений друг за другом
в виде относительно мало связанных друг с другом в группы образова-
ний, этот период создавал совсем иные условия для внедрения смысла в
существование, чем следующий за ним унифицирующий переходный
период. А глубоко раздробленный и вместе с тем технически объединен-
ный мир, возникающий сегодня, должен также иметь в этом отношении
другой характер.
Валентность же чисто витальных сил, следовательно, прежде всего
политических и социальных факторов власти, была несомненно почти
одинаковой во всех трех периодах. Однако возможность воздействия
этой валентности чрезвычайно изменилась и возросла с конца второго
периода до нашего времени уже вследствие того, что сегодня в распоря-
жении этих чисто витальных сил находится мощный технический аппа-
рат со всеми его средствами, причем в такой степени, что эти средства
разрушения способны, как было указано, уничтожить целые страны и
привести к исчезновению частей их населения. Из этого с витальной сто-
роны превосходящего все, ставшего в негативном смысле огромным,
потенциала мы вполне оправданно и исходили. Он только и дает нам
правильную точку отсчета, отправляясь от которой мы должны рассмат-
ривать возможную осмысленность происходящего в наши дни. Для обо-
их более ранних периодов, прежде всего для длительного первого, этот
вопрос не возникал. Не было сжимающего, ставшего тесным географи-
ческого пространства, не допускающего сегодня создания собственной
судьбы отдельных стран, которой исторические тела обладали в качестве
отчасти действительно осуществленной возможности. Из этой собствен-
ной судьбы исходит, как известно, теория исторического круговорота,
новейшей из которых, основанной на пространных знаниях и наиболее
остроумной, является теория Арнолда Тойнби с ее представлением о 21
параллельно существующим рядом друг с другом и вслед друг за другом
исторических телах, о возникновении, росте и гибели которых в ней го-
ворится. Эта теория настолько абсолютно духовно противоречит все-
му проведенному здесь исследованию, которое, признавая значение са-
мостоятельного существования, тем не менее видит общее историческое
развитие в мощном едином внутреннем и внешнем процессе, что гово-
рить здесь о недостатках этой и других теорий круговорота нет необхо-
димости. Однако все эти теории круговорота представляют собой попыт-
ку ввести в общее воззрение то, что лучше всего называть внутренним
Ьшпмом истории в рамках этого единого процесса. И поскольку все эти
•еории исходят из значительной самостоятельности судьбы различных
исторических тел, которая в первый период существовала не только как
возможность, но и как действительность, они могут служить для этой
нпохи своего рода ключом к пониманию такой ритмичности, в опреде-
ленной мере даже для переходного периода, но меньше всего для наших
;1ней.
Но что такое этот ритм с нашей точки зрения, с точки зрения значе-
ния осмысленности истории?
Его пределом служит, очевидно, все то, что необратимо проходит че-
нез историю человечества. Следовательно, все связанное с цивилизаци-
30cS
ей и, за исключением технического развития, в первую очередь общее
расширение горизонта сознания и связанное с этим осмысление бытия.
Говоря об этом мыслительном движении и о связанном с ним движении
сознания, следует напомнить, что здесь в историческом процессе маги-
ческое, мифическое и интеллектуальное осмысление существования пре-
бывают рядом друг с другом и следуют друг за другом. Затем надо указать
на то, что сложившееся таким образом и следующее по ступеням разви-
тие сознания самым тесным образом связано, исходя из общей локаль-
ной и временной социологической констелляции, с идеальными, следо-
вательно, с душевно-духовными факторами. Благодаря этому оно и по-
лучает свою историческую специфику.
Кратко характеризуя, следует сказать: основные восточные истори-
ческие тела вследствие их общей социологической константности оста-
вались с точки зрения духовной концепции всего их существования в
сущности всегда связанными с магическими и мифическими представ-
лениями. И несмотря на то, что они достигали высокого уровня интел-
лектуальности. Не только Индия, в высших слоях общества которой уро-
вень религиозной и философской рациональности был очень высок, но
и Китай, где после Лао-цзы и Конфуция уже вторая половина тысячеле-
тия до н. э. была временем расцвета очень рациональной философии.
На Западе вслед за магически окрашенными культурами Древнего
Египта и Вавилона уже на первой ступени его вторичных культур, сле-
довательно, прежде всего в иудейской, персидской культурах и в культу-
ре средиземноморской античности, формы магического постижения ос-
лабли, хотя полностью не исчезли. Здесь господствующим на долгое вре-
мя становится мифологический тип сознания и постижения, который
завершается, с одной стороны, освященными жрецами и догматически
фиксированными религиями, с другой — внутренне богатым и свобод-
ным мифологическим пониманием существования греками, а затем и
римлянами.
В ионийской философии Великой Греции на Западе впервые возни-
кает немифологическое по своей сущности постижение бытия и суще-
ствования, введенное примерно около 430 г. софистами, которое иссуша-
ет в великих философских школах мифологическое постижение, не при-
водя к исчезновению в народе его остаточных следов. Эллинистическое
и римское единение средиземноморской античности с Передней Азией
приводит в конце концов вновь к слиянию, — или во всяком случае к
взаимному оплодотворению, — ставшего символическим переднеазиат-
ского восточного с западным логистическим постижением существова-
ния. И в этот заключительный период на этой основе, наряду с форми-
рованием великих интеллектуальных, теперь этических философских
систем, с одной стороны, развивается логистически символическое пре-
образование мифологических систем спасения в гносисе и неоплатониз-
ме и в качестве их низшей народной ступени мифическая религиозность
и вера в мистерии, с другой — христианству передается догматическое
оружие как увенчание и возвышенный синтез мыслительно окрашенного
мифически религиозного постижения смысла существования. Мы рас-
сматриваем все это прежде всего только под углом зрения, каким обра-
зом развитие сознания в его мыслительной, следовательно, мифологи-
309
ческой и интеллектуальной форме, постепенно посредством повсюду
констатируемой связи с идеальным душевно-духовным началом превра-
щается в основу существования.
Продолжая рассмотрение под этим углом зрения, чтобы получить об-
щее представление о сохранении связи или о разделении в ходе истори-
ческого процесса мифологически и интеллектуально формированного
мыслительного постижения, находящегося в основе существования, мы
обнаруживаем, что происходившее на Западе во вторичных культурах
второй степени оказывается отчетливым продолжением достигнутого на
вершине интеллектуального сознания, но также и сохранивших свое
влияние старых форм мифологического постижения существования,
присущих первым ступеням вторичной культуры Запада. Ибо позднее,
интеллектуально и мифологически, изначально сильно эсхатологически
окрашенное христианское видение существования становится, как изве-
стно, в соединении с достигнутой в античности высотой мышления ду-
ховной основой трех возникающих вторичных культур второй ступени —
Запада, России и ислама; в противоположность первой ступени вторич-
ной культуры они заимствовали в своем происхождении душевно-духов-
ные элементы в соединении с интеллектуальными в качестве основы по-
стижения своего существования. В христианстве это произошло непосред-
ственно на Западе и в России, но опосредствованно и в исламе, ибо его про-
роческое возвещение сознательно основано на уровне интеллектуального
сознания и на мифологическом содержании христианства, ведь он относит
к числу своих пророков также Иисуса и иудейских пророков.
Конкретнее это выглядит так:
Через Византию Россия принимает от античности ставшее там сакра-
ментальным, сильно магически окрашенное христианство со всеми ло-
гическими добавлениями к его догматам; языческие же добавления не
принимаются. Для характеристики осознания это означает, что, посколь-
ку воспринятое содержание понимается относительно несложно, то, не-
взирая на глубокую набожность, продуманное развитие сознания там за-
держивается.
Ислам, воспринявший найденную им на завоеванной территории
значительную часть античного язычества как элемент «знания», сумел
благодаря своему чрезвычайно развитому ритуалу так изолировать эти
усложняющие его элементы, что они не оказывали большого воздей-
ствия на сознание и не будоражили его; таким образом, с этой точки зре-
ния, т. е. со стороны сознания, он также оставался в некоторой степени
стагнирующим.
С другой стороны, вряд ли нужно указывать на то, какое значение для
собственного развития, даже для революционизированния сознания,
имело на Западе восприятие этих языческих античных, все время посту-
пающих из Византии элементов в соединении с собственным серьезным
отношением ко всем содержавшимся в христианстве мифологическим
глубинам сознания. Следствием было то, что примерно в 1500/1600 гг.,
когда Россия еще дремала, Запад прошел уже две ступени развития ин-
теллектуального сознания: ступень связанной с полным постижением
христианства высокой схоластики, вершиной которой были Альберт Ве-
ликий и Фома Аквинский, и ступень грандиозной поздней схоластики Ни-
310
колая Кузанского и всех неоплатонических интеллектуальных течений ита-
льянского Возрождения, параллельно которому проходили подобные, хотя
и более проникнутые набожностью движения к северу от Альп.
Заряженный взрывчатой силой древней интеллектуальности, которая
нашла свое самое яркое выражение в освободившемся от догматов новом
видении мира, Запад мог теперь с наступившей экстравертностью начать
свое историческое движение к совершенно новым духовным целям при по-
стоянно меняющихся новых будоражащих осмыслениях бытия. Тем самым
он двинулся к тем последним мыслительно обоснованным ступеням созна-
ния, из которых мы исходили, и к тому основанному на них типу человека,
о котором мы говорили и к которому мы еще в конце вернемся.
Мы совершенно отчетливо видим: под углом зрения развития мысли-
тельного, включающего в себя мифологические и магические моменты
сознания, вся история, начиная со времени пирамид, предстает как пос-
ледовательность покоящихся друг на друге ступеней, которые на Западе,
по крайней мере в одном его месте, вели к революционной цели, тогда
как в остальном мире она похожа на остановленный плотинами, частич-
но даже загнивающий поток.
4. Формирование бытия посредством толкований смысла
Если мы теперь зададим вопрос о периодизации с точки зрения проры-
ва освобождающегося смыслового содержания, то мы натолкнемся на два
совершенно различных момента: во-первых, на попытку человечества
постигнуть смысл существования, который оно, будь то в религиозном,
будь то в философском понимании, накладывает на существование. Во-
вторых, на кажущиеся непреднамеренными художественные толкования
смысла, которые, однако, сколь они ни кажутся непреднамеренными,
все-таки в конечном итоге представляют собой ответ на вопросы суще-
ствования и посредством таких ответов оказывают в результате несом-
ненное, хотя и не определенно высказанное, смысловое влияние на него.
О великих попытках человечества дать толкование смысла мы уже го-
ворили, как о социологическом происхождении этих попыток и его от-
несении к определенному времени, так и в связи с вопросом об отноше-
нии человека к его сплетенности с трансцендентностью, о том, что каса-
ется ее типизации.
Как же обстоит дело, надлежит нам теперь спросить, с соответствую-
щими этим попыткам образованиями смысла существования, следова-
тельно, с тем, что посредством них действительно придавало истории ее
отпечаток?
Этот отпечаток, происходящий из универсального содержания смыс-
ла, легче всего удавался с внешней стороны там, где он мог быть соеди-
нен с оставшимися в мыслительном отношении магическими структура-
ми сознания, следовательно, во всех странах Востока. Китай, какие бы
религиозные и духовные течения в нем ни возникали со времен Лао-цзы
и Конфуция, приблизительно с 500 г. до н. э., и какие бы социальные и
политические формы в нем ни устанавливались, для мышления и пони-
мания своих духовных слоев, представители которых с 200 г. после н. э.
311
в качестве мандаринов получив власть, действительно в значительной
степени формировали это мышление, оставался совершенно объективно
по своему смыслу центром космоса, космоса, приспосабливаться к кото-
рому он должен был в своих государственных и частных деяниях. Китай
оставался, следовательно, что бы с ним под влиянием витальных сил ни
происходило, все время восстанавливающим объективным образом
смысл существования. По крайней мере до тех пор, пока постигнутые
таким образом универсальные силы оставались незатронутыми и не-
сломленными, силы, которые Китай впервые увидел в этой форме и со-
ответственно которым он принял свой образ. Индия еще и сегодня пред-
стает как магическая инкрустация развитого ею в последнее тысячелетие
до н. э. толкования смысла бытия, соответственно которому человек,
проходя разные ступени, очищаясь, освобождается от витальной опутан-
ности и поднимается до высшего, в конечном итоге метакосмического
существования. (Конечно, этой внешней констатацией ничего не сказа-
но о глубине созерцания человеком постижения его смысла.)
В области западной истории, в которой победившие в конце концов
завершающие религиозные толкования представляют собой везде резуль-
тат очень многообразных духовных сочетаний самых различных форм и
для которой несомненную роль играет ее членение на вторичные куль-
туры первой и второй ступени, все обстоит более сложно.
Проще всего это в имаме: нельзя отрицать, что он в качестве религии
второй ступени вторичной культуры сумел так соединить и связать религи-
озно и ритуально различные течения, из которых он возник, что они еще
сегодня образуют построение, которое охватывает в культовом смысле все
существование и придает ему вполне определенный смысл. Однако при
всем почтении к этому следует все-таки сказать, что это — упрощающее
построение, что оно в значительной степени исключает проблематику суще-
ствования, которую Запад видел, и видение чего является его заслугой, но
вместе с тем оно не слишком сковывает витальные силы.
Весь обычно называемый христианским Запад обрел в христианстве
столь глубокое по смыслу и столь многослойное, открытое по многим
направлениям толкование существования, что наряду с его центральным
содержанием, с указующим на потусторонний мир откровением, в нем
могла возникнуть выросшая из христианства полнота человеческих фор-
мирований существования; к тому же в лице церкви и ее орденов явилась
образовавшаяся из связи с наукой организация, в которой могло найти
прибежище и наиболее существенное из языческого античного наследия.
Само по себе чуждое могло таким образом найти себе место, и, в отли-
чие от России, которая, как было сказано, приняла только сакраменталь-
но разработанную мысль о спасении, Запад ничего не утратил из толко-
ваний смысла в тех письменных источниках, которые сохранились пос-
ле эпохи Великого переселения народов или были позднее переданы ему
Византией в качестве сохранившейся трансформированной античности.
Богатство толкований смысла, разработанных в античности, каждое
из которых придавало существованию образ, соответствующий его кон-
цепции, было чрезвычайно велико. Ведь оно представляет различные
ступени истории. Первом ступенью были переднеазиатские толкования,
которые уже в иудейской Книге Книг дали Западу тысячелетиями не мс-
312
черпываемое, реципированное христианством сокровище множества
последних постижений бытия. Не следует забывать также о поднятых в
гносисе до космогонически спекулятивной высоты постижениях суще-
ствования и бытия, которые, формируя, таили в себе известным образом
логически символизированный завершающий экстракт всего духовного
существования стран Передней Азии, сложившегося не без некоторого
влияния индийцев. Христианство пришло к окончательному очищению
своего догматического толкования бытия лишь в длительной борьбе с
этими постижениями. Наряду с ними ему противостояла вся совокуп-
ность результатов толкования, возникших в средиземноморской язычес-
кой античности, в которой заключались два, вернее три, пласта различ-
ного осмысления существования. Первый сложился в трагическую эпо-
ху1; благодаря требованиям высокого героизма ему все же удалось, прав-
да, ненадолго, создать соответствующее ему понимание смысла жизни.
За ним следовали этико-философские толкования смысла, а за ними —
синтез того и другого, который в первую очередь продолжал действовать
в римском стоицизме, формируя жизнь. В поздней античности форми-
рование смысла жизни имело тысячу форм. В ней действовало неверо-
ятное напряжение между киниками, скептиками или эпикурейцами
вплоть до более или менее стоически настроенных неоплатоников, кото-
рые в известной степени впитали влияние Передней Азии. Юлиан От-
ступник не мог бы пытаться лишить христианство власти над формиро-
ванием жизни, если бы он не обладал в некоторой степени трагически-
героическим духом, воплощенным в стоической этике. Ничто из того, что
здесь лишь поверхностно намечено, не исчезло полностью в качестве фор-
мирующего жизнь элемента. Христианство стало в Византии и вне Визан-
тии тем каркасом, который пронес этот элемент через всю историю.
Самому христианству в период поздней античности удалось лишь час-
тично утвердить в жизни подлинное формирование смысла в своем пони-
мании, хотя оно ввело в него совершенно новый элемент — практику
caritas*, которая, вероятно, вообше сыграла решающую роль в его победе.
Часто не решаются называть то, что было создано и долго существо-
вало в Византии в обличье церковной пышности, подлинно христианс-
ким формированием смысла. Мы уже указывали на то. каким странным
образом Византия одновременно с христианством сохраняла языческие
элементы (цирк, культ императора и т. п.). не говоря уже о языческом
античном знании и его отношении к существованию, которые она затем
постепенно сообщала Западу (римское право, греческие источники). Это
было явлением sui generis" не только практически, но и в принципе.
То, что произошло вместе с новым утверждением христианства, на-
чиная приблизительно с 1000 г., на возникающем теперь Западе, было по
своему формированию жизни чем-то совершенно иным. Понять это не-
возможно без проникновения в сущность христианства и в непосред-
ственное осуществление его смысла в римской церкви, — явление, кото-
рое больше никогда в истории не повторялось, ни в Китае, ни в Индии,
ни в Передней Азии, ни в исламе.
* Милосердие (jam.).
** Особого роли (lam.).
313
Изначально христианское понимание существования было как будто
направлено на потусторонний мир. Однако уже в первых словах Иисуса
и в письмах апостолов, которые, утверждая или отрицая, определяли
свое отношение едва ли не ко всем властям, содержится значительно
большее. Это отношение определялось, начиная от слов «Блаженны чи-
стые сердцем» и «Любите друг друга» до пессимистического «дела и ча-
яния человека злы от юности его». И известно, что из этой шкалы утвер-
ждений и отрицаний сложилось бесчисленное множество различных
концепций бытия. Наряду с монашеской глубокой верой в потусторон-
нее существование возникало столь же глубокое, отчасти светское, напо-
ловину посюстороннее осмысление существования в различных брат-
ствах. Возможным стало развитие терпимости по отношению к витальным
влечениям в виде церковно-сакраментальной практики милосердия, кото-
рая в период ее вырождения почти напоминала язычество. В лютеранстве
при допущении притязаний на власть в политике мог развиться в значи-
тельной степени фиксирующий светскую жизнь профессиональный этос. И
наконец, в пуританстве возникло ужасное учение о предопределении и из-
бранности к спасению в сочетании с посюсторонним доказательством этой
избранности посредством успехов на капиталистическом поприще; и еще
многое другое возникло на широком просторе возможных христианских
формирований смысла. И все это со ссылками на изначальные источники
веры или на церковную традицию — весьма пестрый веер.
Европейское средневековье и его церковь рассматривают обычно как
время подлинно христианского формирования смысла существования. И
в известном смысле справедливо. Однако, чтобы полностью понять ре-
зультат того, что тогда, в период, начиная приблизительное 1000 г., про-
исходило, понять, что существовавшее тогда действительно глубокое по-
стижение христианства заложило основу, выходя за пределы своего вре-
мени, для конституирования типа западноевропейского человека вплоть
до наших дней, необходимо принять во внимание ряд факторов, которые
я наметил лишь в их психологическом аспекте2.
В христианстве осознанный, тончайший и богатейший, но и поздней-
ший, продукт античного постижения существования, продукт, который в
сущности постулировал ломку и преодоление всех витальных жизненных
влечений ради пребывания в потустороннем мире, противостоял при се-
рьезном отношении к этим постулатам, как это было свойственно преж-
де всего клюнийцам и цистерцианцам, совокупности совершенно не-
сломленных, стремящихся к осуществлению жизненных влечений. В это
перенасыщенное целое вторглось, начиная с монашеской аскезы, новое
учение, причем таким образом, что это вторжение не ограничилось ас-
кетической сферой, а оказывало на жизнь формирующее влияние. Реша-
ющим для состояния человека было не то, что последовало за этим в виде
возрожденной монашеством борьбы пап с императорами и что большей
частью заполняет исторические книги. Решающим было то, что монаше-
ство попыталось, и отчасти этого достигло, трансформировать в христи-
анском духе социально родственное ему рыцарство, в значительной сте-
пени фактически и духовно определяющий слой тогдашнего общества.
Монашеская аскеза с ее серьезным отношением к христианству все
время проявлялась в истории в самой крайней форме, например, в Егип-
314
те, или на горе Атос, или вскоре после принятия христианства в древнем
русском Киеве (где монахи замуровывались под землей в глубоких
штольнях). Однако в самой России существовала лишь народная набож-
ность, несомненно глубокая, но лишенная какой бы то ни было тенден-
ции к преобразованию жизни. Именно к такому преобразованию пыта-
лось прийти вдохновленное новым монашеством христианство, утвер-
дившееся на Западе начиная приблизительно с 1000 г.
Этим оно оказывало давление на жизнь, в результате чего воздвига-
лись устремленные ввысь соборы; и ему удалось внушить до той поры
почти не ограниченной в своей витальности знати при посвящении в
рыцари, в сущности при Diu Maaze, христианские чувства, которые в
некоторой степени стали господствовать и превратились для рыцаря в
идеал; их мы имеем в виду, употребляя слово «рыцарское». Однако в це-
лом христианская идея потусторонности, препятствовавшая необуздан-
ному прожиганию жизни или во всяком случае модифицировавшая его,
вела еще ко второму, совершенно общему фактору, наложившему затем
свой отпечаток на тип западного человека. Витальные влечения проры-
вались иным образом, результатом чего была душевная динамизация, ко-
торая с тех пор стала признаком западного человека. Социально она не
была связана с каким-либо слоем общества. Эта динамизация и соответ-
ствующий ей тип человека является основным фактом, без которого не-
возможно понять роль христианства в формировании человека и бытия
Запада. Уже созданное упомянутым образом рыцарство было взрывным
фактором. Все, что происходило начиная со спонтанного первого рыцар-
ского крестового похода в Испанию, через официально провозглашен-
ные продолжавшиеся столетиями сражения крестоносцев со сторонни-
ками ислама, до исторически, быть может, чреватого самыми серьезны-
ми последствиями акта, совершенного рыцарями вместе с остальным
населением, акта, который привел их из центра Европы на становящий-
ся европейским восток и завершился далекоидущей германизацией этих
областей, — в основе всего происходившего в этот рыцарский период,
лежала в конечном итоге скопившаяся и находившаяся под психическим
давлением витальность.
Говорить о существовании, действительно проникнутом христианс-
ким смыслом, подобном той реализации смысла, которая удалась в об-
ластях высокой культуры Востока, невозможно без значительной пере-
интерпретации фактов. Ибо совершаемые под маской христианства дей-
ствия должны быть, по крайней мере при должном освещении их смыс-
ла, названы ложно понятым христианством.
Так, на Западе все это продолжалось в странном смешении витально-
го и осмысленного. Именно витальные процессы, — что я подробно
здесь показать не могу, — странным образом соединенные с попытками
формирования смысла, превратили последующий период городского хо-
зяйства к северу от Альп в так называемое для этой области позднее
средневековье, в период, поистине преисполненный восстаниями и од-
новременно отличающийся глубокой религиозностью. В Италии же в это
время витальным силам была предоставлена полная свобода. Надо пол-
ностью отказаться от конвенционального представления, будто тогда,
когда на севере и на юге поячинным носителем исторического развития
315
стало городское бюргерство, только север был в целом консервативно
христианским. Конечно, когда на юге как выражение сильнейшей вита-
лизации были достигнуты первые стадии капитализма, — для Флоренции
это около 1300 г. с карающим гневом описал Данте, — север был преис-
полнен интенсивнейшим волением, испытываемым прежде всего бюр-
герством, прийти к новому христианскому постижению бытия. Однако
страх перед существованием, который прежде всего в пластике ищет
вместе с набожностью своего выражения, был не чем иным, как удара-
ми волн существования, преисполненного и здесь борьбой социальных
слоев, тех первых восстаний крестьян и цеховых ремесленников, в кото-
рых нашла свое выражение социальная, а в конечном итоге и духовная
борьба за свободу на Западе. В ходе этой борьбы, в которой в качестве
витального знака одновременно возникли и первые стадии развития тех-
ники, — благодаря ей Запад, обладая оружием, компасом и т. д., получил
превосходство над остальным миром, — и с развитием современной на-
уки, с распространением капитализма на север, что вскоре последовало,
были заложены основы его экстравертности.
Этот период экстравертности, который, пока ощущалось веяние Воз-
рождения, возродил в преобразованной теоретической форме почти все
античные попытки осмысления бытия и продолжал развивать их в сво-
их философских школах, очень скоро привел, как известно, в Реформа-
ции и Контрреформации к возрождению попыток христианского фор-
мирования смысла существования.
Эти попытки, прежде всего там, где они решительнее всего были
направлены на формирование витальных сил, как в капитализирую-
щейся пуританской Англии, были с самого начала воинственными.
Особенно воинственными же были проводимые практически на про-
тяжении веков сословными, а позднее государственными властями
нововведения, осуществляемые Реформацией и Контрреформацией.
Воинственны вообще экспансивные, светские власти современного
государства, вбирающие в себя витальные силы капитализма и ис-
пользующие их. Кровавая эпоха начинающихся религиозных войн со-
провождалась вне Европы вызванным жаждой золота и серебра разру-
шением открытых новых культур, а затем продолжающейся борьбой за
едва ли не каждый, представляющийся ценным клочок земли на осво-
енном теперь земном шаре.
Такова витальная основа, созданная преимущественно вырвавшими-
ся на свободу жизненными силами барочной эпохи, когда в Европе во
всех возникающих современных государствах пытались создать амальга-
му из привлеченной ко двору аристократии и абсолютизма; при этом под
власть приобщенной ко двору знати передавались в виде возмещения за-
висимые крестьяне, а города, обладавшие до того самоуправлением, ли-
шались власти и в результате теряли свое прежнее значение. Эта тенден-
ция не победила, как мы видели, лишь в нескольких странах континен-
та, в освободившихся Нидерландах и в Швейцарии. Она была сломлена
прежде всего — это мы также видели — свободой Англии. Своеобразие
этой тенденции выразилось в том. что Россия, которая до того шла спо-
им путем, превратилась в образец для ряда регионов Европы, и это уси-
лило тенденции несвободы как смысла существования. Таково, следова-
316
тельно, странным образом искаженное зеркальное изображение практи-
ческого осмысления существования.
И тем не менее время распространения этих тенденций утверждения
несвободы, которые не затронули Англию и Нидерланды и способство-
вали воздействию в новых формах перешедших от античности сил сво-
боды, было временем возникновения великих современных философс-
ких систем, охватывавших в противоположность сегодняшним и практи-
ческий смысл существования. Тем самым в это время появились первые
ростки совершенно нового формирования этого смысла, которое затем
и XVIII в., оттеснив церковную догматику, впервые привело к толкова-
нию разума, а затем к интерпретации человечности; это привело к тому,
что в Соединенных Штатах и во Франции было поднято знамя свободы
и равенства над преисполненным величайшей мощи новым осмыслени-
ем существования.
В данной работе мы с различных сторон рассмотрели судьбу этой са-
мой универсальной и революционной после христианства попытки ос-
мысления, прежде всего, чтобы ясно показать сложившееся в XIX в. от-
ношение к бытию как предшествующую стадию сегодняшнего распада
бытия, и одновременно способствовать пониманию XIX в. со стороны
содержащихся в нем технических, социально-структурных и политичес-
ких факторов, вызвавших преобразование бытия, наряду с его истори-
ческой особенностью в качестве итога всего бывшего раньше и вместе с
тем его могилы. Полагаю, что по этому, к сожалению, вызванному необ-
ходимостью поверхностному обзору можно лишь приблизительно пред-
ставить себе, как обстояло дело с осмыслением истории, качестве разви-
вающегося внедрения надвитального смысла в мир чисто витальных сил.
По-видимому, это осмысление впервые удается там, где уровень со-
знания и мыслительное постижение бытия допускают магическое сковы-
вание сил существования в посюстороннем мире. Следовательно, мы
здесь оставляем в стороне первые великие, древние культуры Египта и
Вавилона на стадии, предшествующей попыткам решить вопрос о смыс-
ле существования, а также сохранившиеся в сегодняшней и непосред-
ственно во вчерашней жизни магически окрашенные культуры, культу-
ру Китая и особенно Индии. Подобное осмысление происходит и там,
где магия превратилась в ритуальную форму жизни, как у евреев, а так-
же в исламе. При этом не следует забывать, насколько незначительно на
Востоке и в исламе были скованы витальные силы, как они наряду с ос-
мыслением жизни доводили до жестокости.
Однако повсюду, где полностью, также только на Западе, утвержда-
ется мифологическое видение существования, особенно где вслед за
этим и наряду с этим распространилось интеллектуально окрашенное
толкование смысла, следовательно, именно там, где, по крайней мере
формально, особенно укоренились постижение мышления и расширение
сознания и глубокого понимания смысла, больше не было завершенно-
го осмысления существования. Вернее, есть либо грандиозное освеще-
ние его смысла, как в античной греческой классике и в стоицизме, а за-
тем вновь в Возрождении. Или даже там. где вследствие интенсивного
внедрения в жизнь смысла, как на христианском Западе, делается по-
пытка регулировать влечения, давление на них завершается в известной
317
степени противоположным результатом, а именно динамизацией укло-
няющихся от давления влечений. Эти поздние осмысления к тому же
настолько проникнуты в своем обрамлении прежним интеллектуальным,
даже мифологическим, толкованием смысла, что, как только происходит
ослабление давления такого внедренного в существование смысла, это
толкование раскрывается как богатое собственное бытие, которое может
быть прекрасным, но если вообще допускает попытку осмысления суще-
ствования, то лишь по видимости или в пуританской узости.
Таков исторический фон нашего положения, покончившего с вели-
чайшим последним, связанным с постижением нового образа человека,
формированием смысла в XVIII в. и одновременно допустившего воз-
никновение в XIX в. социальных и политических конденсаций этого ос-
мысления вместе с отчуждением от него, и рассмотренные нами пробле-
матические следствия этого.
В целом исторически следует констатировать: во-первых, это как буд-
то неизбежное ослабление шансов на общее осмысление содержащихся
в истории сил существования, — по мере того как заключающиеся в ней
содержания смысла становятся богаче и полнее, а грани интеллектуаль-
ного освещения существования многообразнее, — наполняя горизонт со-
знания все более глубоким и сложным содержанием, является суще-
ственным свойством истории. Как будто существует некое требование
дани, заставляющее приносить в жертву общему осмысленному члене-
нию богатство созданных в самой истории осмыслений, требование, ко-
торое в XIX в. с его техникой становится опасным.
Но, с другой стороны, вплоть до начала XIX в., особым образом на-
рушившего это соотношение, человечество не уставало пытаться истори-
чески осмысленно формировать свое существование в рамках истории
общего бытия или, если это оказывалось невозможным, придать смысл
своему существованию в героически трагическом видении и вести себя
соответственно. Такое внедрение смысла или толкование смысла в этой
включающей в себя практические следствия позиции поистине необхо-
димы человеку в его историческом существовании.
5. Надцелесообразые толкования смысла и их распространение
Представить себе значение этих двух моментов для истории и для нашего
поведения сегодня можно только, если мы обратимся ко второму назван-
ному способу как будто непреднамеренного толкования смысла суще-
ствования, которое тем не менее оказывает воздействие на него, к худо-
жественному произведению. Тем самым мы подходим к тому, что можно
в собственном смысле назвать ритмизацией истории.
Все попытки постигнуть смысл или смысловые акты существования
всегда каким-либо образом оставляли в художественном творчестве па-
мятники, которые в самих себе или для себя представляют собой второе
выевитальное царство, осмысленное, ретроспективное воздействие кото-
рого на существование не следует ни переоценивать, ни игнорировать.
Этот художественный ряд осмысленного, соответственно подъемам и
падениям которого пытались выявить ритм истории, не полностью, но
318
несомненно связан, если исходить из его периодизации, с последова-
тельностью ступеней исторической жизни, требующей все новой душев-
ной продуктивности, — что, конечно, имеет место; однако прежде все-
го и специально развитие искусства связано с процессом осознанного
постижения ступеней мышления, которые всегда создают новые душев-
ные соприкосновения, будь то со старым, будь то с новым существова-
нием.
На первой стадии, стадии художественного творчества просто как
своего рода корреспондирующей душевной функции жизни, его перио-
дизация в целом проходит в остающихся более или менее магическими
исторических телах. Здесь она довольно строго связана с временными
периодами, в которых стремящемуся к полному формированию суще-
ствования магическому или полумагическому осмыслению удается в не-
которой степени одолеть партикуляризирующие и разрушающие тенден-
ции витальных сил. Поэтому в Египте и Вавилоне, в первичных культу-
рах такого типа, важные периоды создания великих памятников культу-
ры, которые не только дошли до нас, но и могут быть благодаря расшиф-
ровке письменности интерпретированы, в целом параллельны консоли-
дации и распаду этих стран. Так, в Египте первое великолепное песси-
мистическое, интерпретирующее жизнь произведение, «Разговор утом-
ленного жизнью со своей душой», которое наряду с шумеро-вавилонс-
ким эпосом о Гильгамеше представляет собой первую в истории интер-
претацию смысла жизни, является реакцией на упадок первого велико-
го периода. Поэтому в Китае периоды великой художественной продук-
тивности всегда, в эпоху Тан, Сун, Мин и позже, возникали, когда там
ощущалась прочная космогоническая устойчивость его центра. С другой
стороны, все духовные основы его осмысленного вхождения в космос
прежде всего посредством дискуссий о дао, пути к небу, были заложены
во время распада, когда надеялись вновь обрести утраченное, как пола-
гали, вследствие распада прочное осмысление существования. Такая пе-
риодизация становится почти незаметной в Индии. Здесь два великих
толкования бытия, ставших в различных нюансах исторически сущност-
ными, толкование буддизма и содержащаяся в Упанишадах основа инду-
изма, развивавшегося, принимая многообразные прежние, преимуще-
ственно матриархальные представления, относятся, подобно великим
китайским универсальным учениям, к переходным периодам. Буддизм —
к воспринимаемому почти как эпизод времени соперничества мелких
государств на Ганге, Упанишады — к странному периоду феодального
преобразования лежащего между Индом и Гангом региона Мадъядека,
где находится нынешнее Нью Дели. Однако подобно тому как ведущие
в метакосмическое ступени существования были тогда уже заложены,
хотя на Ганге менее прочно, — там они утвердились позже, — вся индий-
ская, ведущая к катарсису, художественная продуктивность, которая ведь
могла вполне свободно развиваться только до мусульманского завоева-
ния около 1000 г., ощущается как бы встроенной в эту прочную после-
довательность ступеней, не допускавшую подлинной периодизации, так
как она никогда не модифицировалась и не разрушалась. Поэтому почти
как эпизод воспринимается возникший под греческим влиянием при
победившем в правление Ашоки буддизме единственный период веду-
319
щей к катарсису архитектуры и изобразительного искусства, когда воз-
никли изображения Будды и ступы. Почти эпизодом представляется и
великий период индийской драмы, достигшей наибольшей высоты в
произведениях Васантасены и Калидасы при Гуптах в 330-455 гг. И как
в непрерывном росте возникли наряду с этим в этой стране, постоянно
вводящей новое в старое, ее два великих эпоса: Махабхарата, где содер-
жится поразительная интерпретация существования Бхагавадгиты, в ко-
торую, однако, в течение веков вносилось множество различных умозре-
ний; то же относится, хотя и в меньшей степени, к также любимой наро-
дом Рамаяне; свое завершение индийская философия обрела около 800 г.,
хотя датировка и здесь воспринимается почти как случайная, у Шанка-
ры в его учении о Майе. А матриархальность, с годами все больше выс-
тупающая в религиозной жизненной практике, находит свое архаическое
дополнение в приверженности древнему мифу рационально столь обра-
зованными брахманами, блестяще характеризованными Генрихом Цим-
мером в его интерпретации Пуран-.
Подлинная периодизация почти невозможна в этом фантастическом
построении жизни и культуры, в котором новые интерпретирующие
смысл образования — лишь немногие из них здесь названы, — почти
беспрерывно возникают в любой ситуации, как яркие плоды в неизме-
няющейся листве; после столетий господства мусульман, покрывших
страну мечетями, и невзирая на последующую интермедию британско-
го правления, Индия сегодня пребывает, отчасти в новых внешних фор-
мах, внутренне неизменной. Она есть и остается плодом особого субкон-
тинента со своими внутренними законами.
Ритмизирующая периодизация возможна и в древней иудейско-изра-
ильской художественной продуктивности. Она блестяще проведена в ли-
беральном анализе Библии. К сожалению, мы не можем повторить его
здесь. Только благодаря этому анализу становится понятным, как случи-
лось, что этот народ подарил миру в единственной книге наиболее суще-
ственное в его судьбе и, несмотря на искажения, внесенные его священ-
нослужителями, также удивительные произведения своей литературы, в
которой отражены усилия понять смысл бытия пророками, Иовом и в
великолепных, особенно в поздних, псалмах. И становится также понят-
ным, как оказалось возможным, что к этой книге выходцами из того же
народа был присоединен христианский миф, обладающий, быть может,
еще большим значением. Таким образом, человечество могло на протя-
жении веков черпать из обеих книг, совершенно независимо от их рели-
гиозного содержания, чисто литературно существенную часть своей ду-
ховной пиши.
Покажем теперь кратко и только на отдельных выдающихся приме-
рах второй тип ритмизации, свойственный западному региону в широ-
ком смысле. Здесь продуктивность, помимо новых внешних жизненных
процессов, существенно обусловлена и вторжением душевных факторов,
связанных с осознанным мыслительным постижением бытия каждого
образа существования. Вопрос надо поставить здесь следующим образом:
когда и по какой причине понимание бытия настолько углубилось пол
влиянием существующего положения, что стало различимо и получило
свое выражение прошлое человеческого существования? При строгом
320
рассмотрении этого вопроса число художественных произведений, кото-
рые следует принять во внимание, очень сокращается.
Гомер, поздний продукт первой ионическо-аристократической фор-
мы существования, стал возможен в исторический момент, когда раннее
историческое мифологически-героическое постижение существования
озарилось сложившимся на ионийском побережье более древним и вы-
соким по уровню своего развития переднеазиатским интеллектуальным
сознанием. Благодаря этому возникло неповторимое сочетание как бы
увиденной в новом свете ранней мифологической стадии жизни с дове-
денной до предельной тонкости человечностью, что, наряду с другими
качествами, дало Гомеру бессмертную славу. Это то же сочетание, из ко-
торого более столетия спустя выросли духовно столь удивительные по
своей смелости образы ионийской философии, которую мы здесь рас-
сматривать не будем, а также и значительная часть ранней греческой ли-
рики. Возникновение классики в Афинах и возможность уходящей туда
своими корнями великой трагической эпохи, чему я, как мне представ-
ляется, посвятил достаточно обстоятельное исследование4, также являет-
ся результатом духовного соприкосновения, а именно сочетания сложив-
шегося в Элладе крестьянского хтонизма с его исконной и в ее первона-
чальном смысле уже больше не понимаемой, едва ли не всеохватываю-
щей мифологизацией существования, ужасной по своему потрясающему
воздействию, и вершины сознания, достигнутой на всей греческой пери-
ферии, как ионийской, так и возникшей после греко-персидских войн в
Великой Греции. Ибо такое сочетание создало возможность того, что в
воспринявших этот уровень сознания Афинах сложились условия, в ко-
торых образовалось классическое трагическое видение. Утонченная че-
ловечность и растущая интеллектуальная просвещенность почти внезап-
но осветили мощные образы и события мифа, начиная от Клитемнест-
ры, Ореста до Эдипа и др. В таком видении они говорили с роковой не-
умолимостью об основных образах бытия и освещали в этой неумолимо-
сти глубочайшие бездны человеческих переживаний и высочайшие вер-
шины происходящего. Человек воспринимается в рамках его существо-
вания и в его божественно-демонических коллизиях. И одновременно с
пониманием и сочувствием. До тех пор пока в великих трагедиях и па-
раллельно возникающих произведениях изобразительного искусства это
сохраняется, в них изображается высокая стойкость в неизмеримо тяже-
лых обстоятельствах; а вокруг — также ставшая осознанной богатая и
прекрасная флора. Это — одна из вершин понимания человеком смыс-
ла, сопровождаемая ярчайшим сиянием жизни, возникшая именно из
указанного сочетания.
Все созданное в последующие периоды развития высокого искусства
античности — в той или иной степени лишь отзвуки этого. Трудно най-
ти общую формулу для возникновения вновь поднимающегося до пора-
зительных достижений, преимущественно на побережье Малой Азии,
эллинистического искусства, таких, как Венера Милосская или милет-
ские рыночные ворота. Можно только сказать, что здесь, очевидно, про-
изошло вторжение в сознание новых жизненных сил посредством чужо-
го, следовательно нереднеазиатского, влияния.
Вершина римской литературы, архитектуры, живописи, пластики и
11 Зак. 3073
321
искусства портрета в правление Августа и в послеавгустовское время яв-
ляется в сущности первым возрождением греческой культуры, соприкос-
новением греческого духа с ясным и мощным римским духом. Большое
всемирно-историческое значение Рима не во всем основано на его соб-
ственном потенциале. Римскую живопись можно сравнить по ее значе-
нию, например, с позднеегипетским фаюмским портретом, а в области
пластики — с развивающимся параллельно искусством Сасанидов (Таки-
Бустан). Римская литература, несмотря на творчество Вергилия и после-
дующих авторов, не проникает уже, в отличие от творений писателей
классической Греции, в последние темные глубины бытия. По сравне-
нию с греческой литературой она остается «уравновешенной образован-
ностью», так же, как и римский стоицизм. Однако эта образованность,
выйдя из упомянутого соприкосновения, достигла такой удивительной
сжатости и ясности формы выражения человеческих чувств, что мы еще
сегодня живем ей. В этом отношении она несомненно равноценна эл-
линской глубине.
Возникающий, а также развивающийся Запад все время впитывал во
все новых возрождениях оба эти художественные осмысления, по мере
того как он в значительно большей сложности, а в целом и тяжеловесно-
сти своего сознания, искал не только ясное и близкое ему мышление, но
и художественное выражение. Запад испытывал помимо этого и другие
влияния, становившиеся для него плодотворными по своему художе-
ственному смыслу. О том, что происходило таким образом в готике, уже
говорилось в связи со смысловым формированием существования в це-
лом. Однако в тот же период высокой готики именно возникшее новое
ощущение бытия столкнулось с сознанием, связанным с идущей из Ир-
ландии и скандинавского севера древней эндогенной, явно героической
мистики. Обработка легенды о святом Граале, Парсифаль, Роман о розе,
Тристан и Изольда, а также Песня о Нибелунгах, Песня о Гудрун, Эдда
и Велуспа — все это документы такого соприкосновения.
За только намеченным здесь богатством первого великого периода
соприкосновения Запада с другими культурами, которое в пластике со-
боров знаменовало собой и первое возвращение к античности — эта пла-
стика, наряду с самими соборами, относится к самому глубокому и веч-
ному из всего созданного этим временем, — за этим богатством и этой
глубиной следуют упомянутые выше иные по своему типу ступени созна-
ния бюргерского позднего средневековья в областях к северу от Альп и
новая встреча с христианством. На художественных последствиях этого,
о которых уже шла речь выше, я останавливаться не могу, однако всем
известно, что они в конечном итоге привели к основанной на мистике
вершине в виде поздних соборов и картин Ван Эйка и Мемлинга.
Все это набожный христианин наших дней может чтить как после-
днее художественное воплощение христианской интерпретации бытия,
превзойти которое вряд ли возможно. Мы же, другие, должны объектив-
но признать, что нашему пониманию смысла ближе то, что приходит с
юга как подлинное Возрождение. Ибо то, что развивалось здесь в тече-
ние многих веков, достигая все большей высоты в посюстороннем по
своему характеру изображении христианской мифологии и ее символи-
ческих образов в живописи и пластике, представляет собой воплощение
322
столь тонкой, вечной человечности — достаточно вспомнить о произве-
дениях, посвященных Деве Марии, — что мы не хотим утерять этот свет
на нашем пути. И это, несмотря на то, что мы знаем: возникающее те-
перь не пребывает больше в непосредственном осмысленном отношении
к полностью принимаемому существованию. Смысл искусства и факти-
ческое существование идут с тех пор на Западе своими путями. Не будем
повторяться. Однако укажем, что Данте, названный нами первым в ряду
одиноко стоящих великих людей, которые теперь следуют друг за другом
в утратившем свою прочность общем существовании, воплощает собой
единственную великую полемику со своим временем. И несмотря на то
что он по его собственному сознанию сохраняет еще христианское пони-
мание смысла существования, в котором он видит задачу своей жизни,
его творчество является одновременно результатом новой встречи с ан-
тичностью. Вергилий, который служит ему проводником в большей ча-
сти Commedia*, является (быть может, неосознанно для Данте) одновре-
менно выразителем присущего Данте античного трагического ощущения
человека. Без этого не было бы многих прекрасных сцен «Purgatorio»** и
«Ада». Все произведение, это впечатляющее зеркало, стало бы просто
проповедью. Для двух других великих людей Возрождения, которые еще
говорят последнее, значимое осмысленное для нас сегодня, для Микел-
анджело и Шекспира, — о других я умалчиваю, — их время внутренне
означает не многим больше, чем повод к творчеству, а мифология, хри-
стианская и античная, — в общем лишь внешнюю оболочку, в которую
они вводят свои высказывания. Это — мысли героически-монументаль-
ного характера, с тех пор в истории больше не появлявшиеся. И возник-
ли они полностью в соприкосновении с античностью.
Рембрандта, который по своей всеобщности и глубине своих выска-
зываний о бытии был наиболее близок им, и безусловно не идет от ан-
тичности, называли специфически нордическим, христианским худож-
ником. В действительности же он является величайшим представителем
нового соприкосновения столь многообразного в своих движениях Запа-
да. Без постижения бесконечности в возникшем в 1500/1600 западном
видении мира и без легко различимой, находящейся в корреляции с ним,
ступени сознания, достигшей своей вершины в Декарте и Паскале, Рем-
брандт не может быть ни понят, ни истолкован. Из этого соприкоснове-
ния с бесконечностью возникает тот идущий из неведомой дали свет,
соединяющийся во всех его наиболее значительных картинах почти в
мистическом сиянии с изображаемыми жизненными событиями, кото-
рые, в свою очередь, проникнуты изнутри упомянутым новым соприкос-
новением. Предметом своей озаряющей светом, нежной и одновремен-
но величественной утонченности, которая еще способна оставаться в
символике мифической картины, он избрал, как известно, иудейскую
легенду.
Конечно, не следует забывать, что почти одновременно во Франции
произошел расцвет ее классики, которая являет собой наиболее ярко
выраженную на Западе параллель между художественным и завершен-
' «Комедии» (ипии.).
" Чисти, шиш (ипии.).
323
пым политическим и социальным формированием и одновременно на-
ходит в этом свой предел, ибо вследствие этого не проникает в целом
совершенно новым образом в основы бытия.
Соприкосновение в творчестве Рембрандта душевной интенсивности с
питаемыми универсумом и Я новыми источниками света в сознании, это —
совершенное уже в XVII в. вступление к тому, что в результате сделанных
затем в XVIII в. открытий в естествознании и философии привело к ново-
му освещению существования и сознания; как следствие этого в литерату-
ре, зодчестве и музыке возникают богатейшие осуществления смысла —
последние подлинно великие, созданные европейским Западом.
Как поднимающаяся с середины XVII в. великая волна музыки свя-
зана с притягивающим бесконечность в посюсторонность развитием ба-
рокко в архитектуре, показал Рихард Бенц. Этот великий XVIII век при-
вел затем, как мы видели, к самому решающему после христианства от-
крытию человека и человечества в мышлении и сознании, следствием
чего были соответствующие достижения в области литературы и искус-
ства. При этом рост душевных сил нигде не встретил столь длительно
остававшейся необработанной душевной и духовной почвы, как в Герма-
нии. И отставшая во внешнем существовании Германия могла возвы-
ситься до того, что мы, немцы, ощущаем, наряду с Реформацией, как
наше второе достижение мирового значения.
XIX век, который мог по-своему в известной степени подвести итог
истории развития и осознанно его подвел, не был временем художе-
ственного осуществления смысла в такой степени, как это произошло в
XVI, XVII и XVIII вв. Даже несмотря на такие явления, как Гёльдерлин
и Байрон, ибо оба они по существу относятся к XVIII в. В той мере, в
какой XIX век стремился создавать художественно осмысленное, он под
нашим углом зрения пребывает в плену удивительной парадоксальнос-
ти. С одной стороны, он своей техникой и социальными и политически-
ми преобразованиями беспрерывно ломал старое, существовавшее до
того, обнажая по мере своего продвижения реально и духовно чисто ви-
тальные глубины бытия со всеми их расщелинами и с борьбой в них при-
родных сил, создавал, следовательно, возможности новых глубоких со-
прикосновений. Но, с другой стороны, в нем отсутствовала способность
— и это даже несмотря на Ницше — полностью пройти, понимая, через
эти глубины. Ницше беспрестанно говорит об ужасах его непосредствен-
ного видения, однако он был настолько занят уничтожением якобы от-
живших и опасных маскировок, что восхищался увиденным злом едва ли
не как вновь открытым сокровищем, не познавая его в его ужасающей
сущности. Поэтому он действовал in praxi* совершенно непонятно, преж-
де всего с точки зрения какого-либо нового универсального осуществле-
ния смысла, которое он мог бы дать. В находившееся под его влиянием
время до 1914 г. он был, как я уже сказал, всегда на устах интеллектуа-
лов. Они стремились как бы патетически жить над бездной, не помыш-
ляя о том, чтобы реалистически действительно устранить из жизни эту
бездну со всеми ее последствиями.
Поскольку весь этот век, таким образом, почти бессознательно с
Па практике {.шт.).
324
внутренней необходимостью вел к историческому освобождению разно-
го рода сил, те художественные толкования существования, которые в
самом деле подозревали о наличии глубин, следует рассматривать как
наиболее существенные по своему смыслу для этого времени. В услови-
ях распада выражения бытия в архитектуре, который был выражением
распада единства бытия, при снижении уровня музыки, когда за Шубер-
том пришел гениальный, но романтически театральный и выспренний
Вагнер, когда в литературе, в ряду блестящих романов, которые объек-
тивно описывали характер времени, некоторые иногда проникали и
глубже, и в живописи, которая в импрессионизме в конце концов все-
таки проникла в глубину и сущностность, в этих условиях можно на-
звать, как это сегодня уже очевидно, несколько человек, мучимых пред-
видением бездны; это Бодлер, в меньшей степени уже позитивистски
настроенный Флобер, может быть, Мередит и ряд других, говорящих о
действительно непреходящем. Но подлинно великого соприкосновения
с новой, ясно осознанной ступенью сознания, которое боролось бы за
высокое художественное выражение или даже нашло бы его, в этом веке,
насколько нам сегодня представляется, не произошло.
6. Последовательность исторических ступеней и поставленная задача
Остановимся на том, что нам позволит сказать решающее: эпохи или ве-
ликие явления художественного постижения смысла входили в движение
истории преимущественно, как было показано, благодаря соприкоснове-
нию того или иного преобразующего видение сознания с новым или по-
новому увиденным посредством сознания бытием. Это эпохи и явления,
которые находились в меняющемся отношении к никогда не прекращаю-
щейся борьбе людей за общее понимающее и г/юрмирующее осмысление сво-
его существования. Даже наивысшие достигнутые универсальные толкова-
ния и формирования жизни, основанные на стремлении осуществить
смысл, — мы это видели — даже там, где они в истории как будто, если рас-
сматривать их трезво, завершились практической реализацией, все-таки
представляют собой только тенденции к осуществлению смысла. Это отно-
сится к тем осуществлениям смысла, которые направлены на прямое фор-
мирование существования. Но еще больше, разумеется, к художественным,
которые ограничиваются озаряющим воздействием.
Поток витальности всегда и повсюду остается исторически подлинно
мощным. Под его воздействием связанные с трансцендентностью уни-
версальные толкования, стремящиеся придать ему смысл, создают на да-
леком Востоке строения, стоящие тысячелетиями. Но и там, где он не
так, как на Западе, разрушает их в сравнительно короткие сроки, он дви-
жется среди них и в них по своей собственной воле. Подлинная жизнь,
невзирая на все смысловые ограничения, в целом повсюду определена
только волей, точнее, нерушимо сильно брутальным началом, которое
нигде не может быть действительно уловлено, а лишь иногда, как это
совершается на Западе, динамизируется посредством излучающего
смысл давления в непредвиденном направлении, в котором витальное
все равно, хотя и иным образом, находит свое выражение.
325
Особенность переходного периода с 1500/1600 г. состоит только в
том, что эти всегда наличные витальные силы и их борьба, которая обыч-
но действует в виде повсюду существующих поднимающихся и падаю-
щих волн, превращаются в мощные эволюционные факторы, действую-
щие по собственным законам. Таков современный капитализм в соци-
ально-структурной сфере, такова основанная на развивающейся эмпири-
ческой науке современная техника; оба эти фактора привели современ-
ное массовое общество к результатам, анализируемым нами в данной
работе. Мы не скрыли, напротив, пытались показать, что развитие при-
вело в той или иной форме все человечество в его политической и духов-
но свободной сфере посредством дезинтегрирующего техницизма, с од-
ной стороны, и посредством присущих ему методов в соединении со свя-
занным с этим распадом ценностей и смысла и с сопутствующим этому
практическим нигилизмом — с другой, к краю бездны, до сих пор чело-
вечеству в его истории неведомому.
Что может служить опорой тому, на что мы указывали как на возмож-
ное позитивное и спасительное в этой опасной ситуации, если мы видим
его в великой исторической перспективе, в перспективе установления
смысла и распада смысла в истории?
Ответ кажется по сравнению с властью чисто фактических историчес-
ких сил мало утешительным. Но он все-таки не вполне лишен значения.
В своей последней основе этот ответ прост: наряду с мыслительными
средствами происходящего процесса сознания, о котором мы говорили,
и наряду со связанной с ним технократической частью процесса цивили-
зации, которые совместно проходят по ступеням истории, существует в
качестве глубочайшего ядра процесса цивилизации подлинная сфера раз-
вития сознания; в ней сознание, рожденное просто из непосредственно-
го опыта, действует как свет, освещающий все большие части внутрен-
него и внешнего существования, и придает ему форму рефлексии, при-
нятой самостью. Ступени сознания, которые создаются в ходе такой рас-
ширяющейся, связанной с непосредственным опытом рефлексии, не яв-
ляются полностью ступенями мышления. Они, правда, несомненно
таковы в значительной степени, а именно поскольку эволюция интел-
лектуального, а также диалектически логического мышления отражает-
ся и на состояниях рефлексии, которые ощущаются мысляще рефлекти-
рующим как существенное по своему жизненно или бытийно экзистен-
циальному значению.
Однако как единичный человек рефлектирует не только исходя из
переданных ему или возникших в нем ясно сформулированных состоя-
ний мышления и становится «старше» в смысле большей способности к
рефлексии, а становится таковым прежде всего и совершенно непосред-
ственно и непрестанно благодаря своему переживанию, выражающемуся
в непосредственном опыте, которому мышление лишь помогает, — так
и человечество.
Правда, говорят, что история, т. е. опыт, ничему человечество не учит.
Это, конечно, верно в том смысле, что и отдельного человека опыт мо-
жет ничему не учить, даже если он повышает уровень его способности
рефлектировать. Всегда возникает вопрос, могут ли и каким образом мо-
гут быть сублимированы, отклонены или заглушены витальные силы за-
326
датков, которые при действии следующей из опыта рефлексии озаряются
сознанием. Все-таки, хотя человек и не учится ничему, способному по-
давить чисто инстинктивное влечение, существует разница между убий-
ством, совершаемым ребенком, не обладающим ни ясным сознанием, ни
пониманием того, что он делает, и сознательно — взрослым человеком.
То же относится и к каждому народу и ко всему медленно развивающе-
муся сознанию всего человечества. Следовательно, существует то, что мы
можем назвать в значительной степени независимыми от развивающего-
ся процесса мышления исконными глубинами сознания. Человечество в
этом отношении несомненно расчленено. Оно совершенно различно по
своему, так сказать, «историческому» возрасту сознания. В этом смысле
можно сказать, что существуют более молодые, более развитые и более
отсталые его части. И каждый народ так же в своих различных слоях, ра-
зумеется, и индивидах, стоит на совершенно различных по своему раз-
витию ступенях сознания. Поэтому определение народов как молодых и
как старых справедливо постольку, поскольку в зависимости от времени
вступления и историю, и особенно от судьбы и жизни народа, достигну-
тая благодаря опыту высота сознания, прежде всего его глубина и широ-
та, даже при одинаковом уровне мышления совершенно различны.
То, что процесс человеческого сознания проходит как расчлененный
и движущийся по ступеням, от всего этого не меняется. Прежде всего
ничего не меняет в сущности этого факта то, что какая-либо исконно
достигнутая в движении ступень сознания, получившая благодаря мыс-
ленной формулировке способность быть заимствованной, может, не-
смотря на разницу в сознании, молниеносно получить универсальное
распространение, так же, как какие-либо элементы чисто цивилизатор-
ского или чисто технического характера. Примером может служить се-
годняшняя пандемократия, которая в своих мыслительных формулиров-
ках не обращает внимания на подлинный уровень сознания.
Если ясно представить себе это, то становится очевидным двоякое:
во-первых, само по себе каждое такое расширение и углубление созна-
ния, следовательно, каждая достигнутая ступень сознания, есть чистая
фактичность без собственного смыслового содержания. Она может ос-
таваться таковой, даже если кажется, что она связана с каким-то смыс-
ловым содержанием, которое, однако, получает способность к распрос-
транению только посредством убедительной мыслительной формулиров-
ки без соответствующего внутреннего опыта; в этом случае она реципи-
руется как нечто техническое, в известной степени механически. Я скло-
нен определять это как автоматизированное изменение сознания, кото-
рое не обязательно связано с углублением и внутренним расширением,
но может быть, пожалуй, ступенью, ведущей к нему. Подобное автома-
тизированное, преимущественно внешне мысленно переданное измене-
ние сознания может быть использовано для искажения исконно данно-
го чистым подлинного содержания сознания, как мы это в гигантской
степени видим в нынешнем террористическом советизме; под мысли-
тельно фальсифицированным знаменем эгалитарной пандемократии он
использует углубление сознания, создавшего в XVIII в. новое понимание
человечности, для обоснования новой по видимости ступени сознания,
которая на практике означает величайшую опасность для человечества.
327
Во-вторых, ясно, и это для нас наиболее важно, следующее: каждое
углубление и расширение степени сознания, в которое вводится новый
образ человека и его существования, может быть и было в великом исто-
рическом процессе посредством того или иного соприкосновения с це-
лостностью жизни отправным пунктом либо нового толкования смысла
всего существования, либо хотя бы попыткой внесения в него смысла.
Ибо каждое такое расширение и углубление приводит в человеке к но-
вому действию комплекс универсализирующих сил, содержащихся в об-
щем комплексе сил существования, частью которых является и он.
В этом смысле история есть все новое и все более глубокое проник-
новение этих универсализирующих сил в человека со стороны сознания,
которое ведет к констатированным нами все новым попыткам осуществ-
ления в ней смысла; на краях этих попыток как бы рассыпаны художе-
ственные реализации смысла, и это погружение приводит, как мы можем
теперь сказать, человека к более глубокому и одновременно более высо-
кому уровню, покоящемуся на предшествующих ступенях, на котором
человек может теперь потенциально продолжать существовать.
Таким образом как намеченный здесь процесс все новых попыток
универсального осмысления бытия, так и те своеобразные соприкосно-
вения, к которым мы преимущественно сводили катарсис художествен-
ной ритмизации, получают понятное членение по ступеням и толкова-
ние; находящийся на последней достигнутой ступени человек, если он
свободен и достаточно объективен, не может не обозревать этот в изве-
стной степени ведущий к нему процесс.
В это видение ему надлежит ввести свой рассмотренный нами рань-
ше непосредственный трансцендентный опыт. И это воспринятое таким
образом членение на ступени вместе с его непосредственным трансцен-
дентным опытом сообщает человеку его сегодняшнюю задачу.
Мы, люди Запада, не имеем права формулировать эту задачу для всего
человечества. Мы даже не можем, вероятно, требовать, чтобы членение
на ступени, в конце которого мы видим себя, виделось бы во всем мире
в совершенно тех же очертаниях, которые сегодня различаем мы. Предо-
ставим поэтому Востоку видеть членение на ступени и сегодняшнюю
ситуацию по-своему. И поймем вместе с тем, что повсюду, куда прони-
кает советизм, первоначально достигнутый на Западе уровень сознания
становится в автоматизированном мыслительном искажении первона-
чально заложенных в него душевных возможностей величайшей явной
опасностью для всего мира. Для тех же, кто принадлежит подлинному
Западу, следовательно, прежде всего для нас, западных европейцев, эти
ступени и заключенная в них историческая задача, как мне кажется,
ясны и неизбежны.
Ступени сознания, которые ведут нас к выполнению нашей сегод-
няшней задачи, упрощенно говоря, — да простят мне повторение, — яв-
ляются выражением впервые достигнутого в поздней античности в соче-
тании с христианством озарения светом себя и своего существования, в
тени которого находится переданная нам ранее достигнутая греками вер-
шина трагического видения бытия. Оно возродилось на фоне достигну-
того в европейском западном христианстве нового уровня человеческо-
го сознания в упомянутых великих людях эпохи Возрождения. После-
328
дняя же великая, продолжающая христианство ступень нового видения
человечности была достигнута в XVIII в.
Мы должны любым способом, минуя падающее развитие человече-
ства в XIX в. и ужас, последовавший за этим падением, пытаться устано-
вить связь с озарениями и углублениями сознания того времени.
Именно это мы и пытались наметить в данной работе. Теперь мы ви-
дим, что стоим перед этой попыткой, продуманной нами, на созданной
развитием человеческого сознания последовательности ступеней исто-
рии, которая взывает к нам, желая в нас продолжаться.
Нам неизвестно, куда приведет эта попытка в сочетании с другими ве-
ликими течениями в историческом процессе, с которыми она должна всту-
пить в связь. Однако позорным было бы в тревожной ситуации, сложив-
шейся из фальсифицирующей автоматизации сознания в сегодняшнем со-
ветском эгалитаризме и в его пропагандистской войне, прятать голову в пе-
сок. Так же, как, с другой стороны, слишком дешевой была бы попытка
провозгласить в условиях описанных функционалистских социоструктур-
ных и технократических тенденций к распаду, даже к уничтожению, в тепе-
решнюю эпоху массовизации какой-либо глобальный призыв к спасению,
например, такого рода, как «спасение посредством духовного господства над
техникой». Мы находимся в мире, непоправимо искаженном самим чело-
векам. Нам надлежит реалистически ориентироваться перед лицом этой
опасности и, насколько это возможно, устранить ее.
Однако подлинной несостоятельностью является делать вид, как это
сегодня часто бывает, будто мы не знаем, что предпринять. Надо спасать
смысл существования посредством внедрения этого смысла в витально
ренатурализованную и ставшую очень брутальной жизнь. При этом в
первую очередь надо спасать человека и придать ему силу воздействия.
Эту поистине однозначную задачу внедрения смысла ставит перед нами
сегодня наша сложная история. Сказанное здесь должно способствовать
мобилизации всего повседневного внутреннего и внешнего опыта и, на-
сколько это удастся, положить его в основу и усилить им очень древнее
воззрение человека на сущность бытия; это воззрение надлежит ввести
в общее, соответствующее сегодняшней ситуации видение существова-
ния, в котором человек рассматривается в своем единстве и своей слож-
ности со всеми присущими ей безднами.
Следует совершить абсолютное по своему характеру действие. Одна-
ко оно представляет собой не более чем результат одной ступени в оза-
рении сознания, которое сама история определяет как осуществляемое.
Оно дает прочную и в принципе очерченную возможность действия. И
этого достаточно. Задание состоит в том, чтобы действовать в рамках
этой возможности. Короче говоря, чтобы видеть существование и одно-
временно человека в его правильно понятой многослойности, глубине,
но и в имманентных ему возможностях возвышения и освобождения так,
чтобы утверждалась вся сложность со всеми ее безднами. И при этом,
добавим скромно, проявить немного мужества в этой охватывающей все
названные бездны сфере, при по-человечески открытом поведении, вы-
казывая мягкость по отношению к другим и строгость по отношению к
себе, — мри выполнении этого, как нам кажется, доброго и закаляюще-
го нас задания.
329
7. Следствие
Выведем по крайней мере практическое следствие из этого.
Мы пребываем в борьбе массовых религий. Наше место в ней дано
однозначно. И находимся ли мы на стороне свободного демократическо-
го социализма или трансформированного демократического либерализ-
ма, мы не должны увиливать. Никто не должен!
Но этого недостаточно. Смысловая задача нашей ступени сознания
состоит не только во внешнем спасении человечества в его свободных и
внутренне связанных существованиях, но и в том, как нам эту задачу по-
нимать; иначе все окажется только словами, погружающимися в гущу
массового существования; наша задача — очеловечение масс. Если гово-
рить о массе и элите — и с достаточным основанием, — то именно та-
кова сегодняшняя задача элиты. Конечно, это трудная социальная, поли-
тическая и прежде всего воспитательная задача. Ибо очеловечение озна-
чает не только усиление и возвышение духовной компетенции и не толь-
ко того или другого человека, а всех. Оно означает также не только уст-
ранение массовой нищеты, не только создание наибольшей прочности
существования и повышение уровня жизни всех вплоть до последнего
работающего человека, но прежде всего, с точки зрения жизни, раскры-
тие, даже спасение, способности к инициативе, которой сегодня вслед-
ствие технизации грозит, если она сохранится, большая опасность в мас-
сах; спасение возможно, помимо прочих мер, также посредством участия
масс в профессиональных решениях. А это означает, поскольку речь идет
об элите, что ее поведение будет отличаться благородством, позволяя и
более слабым, а не только сильным, выразить себя в жизни, в профес-
сии, прежде всего в общественном мнении (следовательно, публично и
особенно в прессе).
Важные задачи! Грубо говоря, быть может, важнейшие. Однако мы
уже обращали внимание и на другое: как новому образу человека и но-
вому видению существования, которые мы считаем неминуемыми, стать
в витальном аспекте практически действенными? Мы говорили, чтобы
не разглагольствовать впустую, о «социальной индукции» и о роли духов-
ных слоев, следовательно элиты, в спасении типа человека посредством
указанной нами динамики, существующей в социально рассмотренной
духовной структуре. Поскольку многое понятно само собой, подчеркнем
еще раз следующее: в Англии эпохи джентльменов, которая, впрочем,
еще не прошла, для определения общего типа человека говорилось: «Ка-
кова элита, такова и масса». Сегодня есть, как нам хорошо известно,
очень много факторов — интересы дела, классовые доктрины и т. п., ко-
торые могут способствовать тому, что динамика градуированного соци-
ального контакта полностью перестанет функционировать. Поэтому мы
поставили перед духовной элитой задачу установить контакт хотя бы с
неиспорченной, к счастью, в своих профессиональных организациях,
совершенно недогматической и бесконечно способной к восприятию
рабочей массой. Здесь несомненно заключены большие возможности
при чисто человеческом поведении. С другой стороны, мы не знаем, на-
сколько сильно было бы действие, если бы духовная элита оказалась спо-
собна оказывать в качестве образца влияние на техническую интеллиген-
330
цию, которая ведь духовно и по своим привычкам в целом ориентируется
на элиту, и оказать на нее такое воздействие, чтобы она — мы можем это
спокойно сказать, — «следуя хорошему тону,» не способствовала даль-
нейшему проникновению яда практического нигилизма и, быть может,
сумела наложить узду на деловых людей. Мы в этом отношении отнюдь
не оптимисты, ибо здесь будут играть роль очевидные деловые интере-
сы. Однако если вспомнить о способности к преобразованию, проявлен-
ной прежде всего, например, в Соединенных Штатах, то полностью те-
рять надежду не следует. Можно представить себе, что когда-нибудь ут-
вердится джентльменское поведение и будет изгнана страсть к сенсаци-
ям. Это не осталось бы без влияния и оказалось бы первым шагом, за
которым последовали бы другие.
Все то, о чем мы говорим, — в конечном счете дело душевно-духов-
ного влияния. А это, конечно, полностью связано с вопросом, что же та-
кое элита? Она сегодня несомненно уже нигде не является столь замкну-
тым социальным слоем, каким были джентльмены или рыцари. Однако
каждый человек, который не полагает, как это модно сегодня, что он
«брошен», а знает, о чем идет речь и что поставлено на карту, и соответ-
ственно действует, есть силовой центр. Он действует, видя себя как Я,
связанное с Мы, и помогая этим не только спасти тип сегодняшнего че-
ловека, но и преобразовать его. И действовать он несомненно будет со-
вершенно определенным образом. Но прежде всего он сможет совершен-
но определенным образом быть. И это, вероятно, самое главное.
Мы предоставляем одиноким мыслителям их место. И мы желаем
также, чтобы в целом одинокие художники имели по возможности боль-
ше жизненного пространства. Но и мы, другие, можем себе сказать, что
каждый из нас что-то означает, и означает в общей судьбе. Не только
своими действиями, хотя и этим тоже, а прежде всего образом своего
существования. Множество источников света приносят свет. И множе-
ство источников тепла приносят тепло. Вы мерзнете и испытываете страх
в сегодняшнем существовании. Изменить это зависит от вас, от каждо-
го из вас.
Примечания
1 Ср.: Das Tragische und die Geschichte.
2 Подробный анализ см. в Kulturgeschichte als Kultursoziologie.
3 Zimmer H. Maya, der indische Mythos. 1936.
4 Das Tragische und die Geschichte.
Глава 8
Свидетельство изобразительного искусства
Посвящается Эмилю Преториусу.
1. Впечатление
Может ли на нынешней ступени сознания научить нас чему-нибудь в
понимании себя и существования вообще, что для нас важно, искусство
наших дней?
Изобразительное искусство, включая архитектуру, было всегда самым
ярким документом того, как человеческое существование воспринимало
себя и свое бытие. Изобразительное искусство в его исторических фазах
можно использовать прямо как каталогизацию последовательности вос-
приятий человеком посюсторонности или потусторонности своего суще-
ствования и себя в нем.
Такова причина особого положения, в котором мы сегодня пребыва-
ем по отношению к изобразительному искусству. В архитектуре и изоб-
разительном искусстве в узком смысле слова произошел перелом чрез-
вычайной глубины и радикальности, на нем мы кратко остановимся. И
по отношению к этому перелому существует непримиримое до сих пор
Да или Нет столь же чрезвычайной радикальности. Эти Да и Нет пред-
ставляют собой не просто непосредственное выражение согласия или
отрицания. Оно заряжено на обеих сторонах принципиальными воззре-
ниями. И полемическая литература, накопившаяся почти за полстоле-
тия, полна не просто теоремами. В этих теоремах отчетливо и почти пре-
обладающе содержится то, что мы прежде назвали бы мировоззренчес-
кими позициями, а в терминах современного языка может быть опреде-
лено как экзистенциально различные воззрения на бытие. И если сегод-
ня говорят об изобразительном искусстве, в том числе и об архитектуре,
то надо ясно понимать, что сказанное воспринимается не просто по его
фактически имеющемуся ввиду, отраженному в словах смысле. Одновре-
менно, если не преимущественно, оно ощущается и оценивается как оп-
ределенная позиция. И так как в каждом, предполагаемом как чисто ори-
ентирующее, высказывании содержится своего рода позиция, — она зак-
лючена уже в постановке вопроса, — представляется наилучшим пред-
послать попытке осветить имеющиеся в данное время феномены по их
значению для нашего воззрения на жизнь и существование, пусть даже
очень осторожно и сознавая несомненную опасность и предваритель-
ность подобного толкования, нечто, представляющее собой при очерта-
нии феноменов в ясно выраженной постановке вопроса одновременно и
однозначное пртнанис\ исключающее всякое сомнение в собственной
позиции.
Для пояснения этого я приведу сказанное мной в качестве краткого
социологического обзора к вопросу об «Образе человека в современном
искусстве» в докладе, прочитанном на Дармштадтских собеседованиях
1950 г. Это просто ориентирующий доклад. И я полагаю, что то немно-
332
roe, что я могу извлечь для понимания нашей экзистенциальной ситуа-
ции из феноменологии сегодняшнего изобразительного искусства, наи-
более понятно, если отправляться от этого доклада.
Под названием вопроса об образе человека в современном искусстве
речь в сущности шла о значительно более общем а именно, о том, сохра-
няется ли в современном искусстве человеческое начало или ему угрожа-
ет опасность, даже предопределена гибель. Повторяя в этом докладе ска-
занное мной и в других местах, я исходил из того, что все представлен-
ное в искусстве, будучи синтезом личности и мира, всегда является по-
своему качеству документом. А это означает, что художественный «об-
раз» — всегда не просто образ, а очень яркое выражение того, как худож-
ник воспринимает и видит человеческое и сущее. При этом нам, соци-
ологам, для понимания характера, а это значит завершенности или не-
завершенности образа сегодняшнего человека и непосредственного зна-
чения фактов сегодняшнего бытия, надлежит скорее учиться у современ-
ных художников, чем им у нас или у представителей какого-либо другого
научного толкования этого вопроса. Что касается меня, то я в принци-
пе ощущаю себя, сказал я, на том пути, о котором говорит выдающийся
историк искусства наших дней Ганс Зедльмайр в своей известной рабо-
те «Потеря центра».
Правда, продолжал я, в интерпретации симптоматики современного
изобразительного искусства мы с ним в значительной степени расходим-
ся. Я не могу безусловно воспринимать хаотическую картину, которую,
по крайней мере внешне, являет собой искусство нашего времени по
сравнению с прежним, как болезнь в медицинском определении. В не-
сомненно путанной и ниспровергающей феноменологии современного
искусства я вижу очень отчетливый, ибо оптически зримый в художе-
ственной концентрации, симптом общей историко-социологической
ситуации. И мне представляется, что в последние годы стало всеми осоз-
нано и признано, что эта ситуация является ситуацией перелома, време-
ни кризиса и перехода такой глубины, что отражает конец продолжавше-
гося тысячелетиями, точнее с 3500 до н. э., исторического процесса и
места человека в нем. Нам приходится проститься с прежней историей и
задать всему, окружающему нас, следующий вопрос: Каково его значение в
качестве симптома этого прощания? И в какой степени мы можем видеть в
нем признак нового, вернее, начало вхождения этого нового в нашу старую,
теперь глубоко по-новому понятую человеческую природу?
Я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы вынести, исходя
из этой универсально-исторической социологической точки зрения, ка-
кое-либо оценочное суждение о современном художественном творче-
стве. Пусть это сделают другие, более компетентные люди. Я же, как уже
было сказано, только спрашиваю: Что означает это творчество для интер-
претации нашей человеческой природы в данное, понятое нами таким
образом, время?
И здесь я подхожу к самому главному: с 1914 г. мы пережили взрыв-
чатую силу внешних и внутренних преобразований и исторических за-
вершений теллурического характера, под действием которых мы все еще
пребываем. В холодной войне, охватившей весь земной шар и окружаю-
щей нас, ставится вопрос не только о внешнем, но и о духовном суще-
333
ствовании и о будущем типе человека. Сегодня это чувствует каждый.
Ряд пророческих натур уже задолго до настоящего времени предсказы-
вали эту катастрофу, тогда как общество в целом игнорировало их пред-
сказания. Однако художники, подобно сейсмографам, уже с 1890 г. пред-
видели грядущее изменение и его значение. С Сезанна и после него ху-
дожники отказываются от прежней перспективно упорядоченной карти-
ны жизни. Они отвергают тщательно развиваемые столетиями, даже ты-
сячелетиями, средства выражения пространственно упорядоченного ви-
дения человеческого существования и сознательно ищут новых форм
выражения. А это означает, что у них теперь иное, новое видение мира,
которое они пытаются передать. Если они при этом часто как будто воз-
вращаются к примитивизму, то это означает, что внутренне они не чув-
ствуют себя больше продолжателями предшествующей истории. Парал-
лельно происходит сознательная революционизация архитектуры, которая
после робких попыток так называемого стиля модерн, утверждается около
1910 г. Отбрасывается весь использованный тысячелетиями язык форм,
корни которого для западного полушария уходят, как известно, в Египет и
который дополненным, расширенным и преобразованным сохраняется в
своих основных элементах до начала XX в. Язык этих форм отбрасывается
как пустой, ставший лживым, как формальный хлам. Подчеркиваю: это
было действием душевного очищения, освобождения и углубления. И заме-
чание, что в этом акте очищения архитектонической «новой объективнос-
ти» речь идет о вторжении «фабричного мышления», несправедливо по от-
ношению к внутреннему качеству этого явления. Это было прежде всего
душевным актом. Он был и действовал, как сигнал того, что нечто, долго
продолжавшееся, старое окончилось и следует предпринять нечто совер-
шенно новое как выражение новой внутренней и внешней ситуации. Этот
сигнал прозвучал до того, как все старое существование действительно рас-
палось в Первой мировой войне. Это было предвидением.
Можем ли мы и далее обнаружить этот характер предвидения в обла-
стях изобразительного искусства в узком смысле слова, которое до сих
пор в качестве живописи, графики и пластики занималось образом чело-
века и его введением в архитектуру, природу и космос? Причем обнару-
жить таким образом, чтобы эти художники непосредственно сказали нечто
об образе человека нашего времени и его отношении к нему, что социолог,
который в отличие от художника не предвидит, а задним числом констати-
рует, не увидел бы отчетливо без этой помощи? Думаю, что можем.
Первое впечатление каждого, кто обратится к современному изобрази-
тельному искусству, — живописи, графике и скульптуре, — всегда удивле-
ние, даже недоумение. Это впечатление огромного, почти необъятного
взрыва и вырывающегося из него многообразия, в ряде сторон которого со-
храняются, хотя и со значительным изменением, старые средства выраже-
ния и цели; наряду с ними есть и другие направления и линии развития, в
которых не только в большей или меньшей степени отбрасываются прежние
средства выражения, но и цели выражения становятся частично или полно-
стью совершенно иными. Из трех форм искусства — живописи, графики и
пластики — наибольшие изменения приносит этот взрыв в живопись, тог-
да как обе другие формы, о которых будет сказано позже, больше связаны
материалом и средствами выражения.
334
Рамки вариаций в живописи, полностью отказавшейся сегодня от
перспективы, с 1907 г. чрезвычайно расширились; многие значительные
художники еще продолжают сохранять прежнее отношение к предмету
природы, живому или неживому, в его прежней гармоничной и замкну-
той предметности, правда в экспрессионистской форме, а именно так,
что предмет рассматривается как сжатое варьированное выражение сущ-
ности его внутреннего образа. От этого в известной степени консерва-
тивного крыла вариационное движение идет как бы влево, переходя к
чему-то совершенно новому. Здесь создается целая шкала отклонений, в
которых предмет, прежде всего человек, ломается и распадается, как это
происходит в кубизме или как в сюрреализме, где вместо этого создаются
фантастические образы. Далее это движение доходит в абстрактной жи-
вописи до отказа от предметно данного и в качестве возмещения вводит-
ся красочная композиция более или менее конструктивных элементов
предмета для создания как бы чисто музыкального живописного выраже-
ния. Эмиль Преториус однажды сказал, что это конец прежнего изобра-
зительного искусства, сущностью которого всегда было противостояние
человека и принятого как данный предмета природы. Следовательно,
здесь констатируется такое же радикальное завершение и такой же пере-
лом, как те, которые мы признали в архитектуре.
Однако ведь живописцы продолжают писать. И что происходит, если
мы спросим по поводу происходящего, о симптоматике, которая выра-
жена в нем по отношению к лежащему в основе образу человека?
Я не владею, конечно, огромным материалом живописи и в значи-
тельной степени вынужден ограничиваться репродукциями. Однако я
считаю нужным указать на два обстоятельства: во-первых, сказать об об-
щем впечатлении, которое я всегда испытываю от таких картин, и, во-
вторых, указать в нескольких словах на действительно испытанное худо-
жественное восприятие, которое, как мне кажется, определенным обра-
зом подтверждает это впечатление.
По поводу первого пункта я хочу сказать: когда задают вопрос о чув-
стве человеческой сущности и человеческой судьбы в современной жи-
вописи, то перед вопрошающим встают три противоположных и все же
родственных момента:
Во-первых, в происходящем, начиная от кубизма до абстрактного ис-
кусства, распаде замкнутой индивидуальности, в конечном итоге объек-
та, совершенно отчетливо выступает симптом вторжения технической
эпохи со всеми ее известными, рассмотренными выше последствиями
для целостности и замкнутости прежней интегрированной, гармоничес-
кой и спонтанной человеческой личности. Говоря об этом как о дегума-
низации искусства, совершают ошибку, поскольку это очевидно является
выражением дегуманизации общего бытия, его технизации и обратного
ее воздействия на человека. Технизация видит в человеке часть техничес-
кой эпохи и ее аппарата и сознательно рассматривает человека и его су-
ществование в рамках тенденций распада, отчасти применяя средства
этих тенденций. Художник может внутренне ощущать это просто как ре-
алистическую констатацию. Но это может также означать, причем преж-
де всего в абстрактном и гектонизирующем искусстве, во-первых, при-
нятие технического мира, но, во-вторых и прорыв к чему-то человечес-
335
ки-душевному в рамках этого мира, в известной степени в его границах,
следовательно, нечто, совершенно противоположное дегуманизации, а
именно проецирование человеческого на технизированный мир.
Вторым противоположным, совершенно иным, моментом является
подчеркивание диссонансов бытия, вплоть до ужасного и демоническо-
го, а иногда до обычного, низкого. Здесь также речь может идти о кон-
статации и в этой констатации об обвинении. Большая часть ужасного,
созданного прежде всего после Первой мировой войны (Гросом, Кирх-
нером и др.), была таким обвинением. Это было отголоском страшной
бесчеловечности нашей эпохи, эпохи кризиса, ее отголоском в неслом-
ленной человечности обвиняющих художников.
Само собой разумеется, что и ужасное может превратиться в мучи-
тельно ощущаемую часть собственной души художника, — это я ощу-
щаю, например, у Бекмана. Однако по отношению ко всему этому зна-
чим вопрос: разве темные стороны современного бытия не должны от-
разиться и в искусстве как человеческая ситуация, отразиться в создава-
емом им образе человека?
В-третьих, я все больше ощущаю в современном искусстве чрезвы-
чайно очищающую концентрацию, влияющую именно на центр челове-
ческой природы, на то, что Преториус назвал бы «исконным». В по воз-
можности упрощенном, убедительном виде представляется типическое в
общечеловеческой душевной ситуации — в заботах, размышлениях, ropje,
а также в освобождающем монументально-прекрасном. При этом я имею
в виду не только крупных скульпторов, таких, как Барлах, Лембрук
вплоть до Герхарда Маркса, не только образцовых современных графи-
ков, но и выдающихся художников, таких, как в Германии, например,
Карл Хофер. В этой концентрации на существенном могут быть примене-
ны и близкие кубизму средства, и тогда в изображенной местности воз-
никают тектонически разработанные фантастические изображения —
архитектура, связанная с людьми, человеческими фигурами и ситуаци-
ями. При этом не случайно в изображении человека, несмотря на интен-
сивное подчеркивание душевного содержания, его лицо, индивидуаль-
ные черты в значительной степени исчезают, а типические черты обре-
тают нечто подобное маске, что по замыслу должно иметь символичес-
кий характер.
Само собой разумеется, что это конструктивно типизирующее изоб-
ражение сущности ситуации и человека является промежуточным звеном
по отношению к занимающему крайне левую позицию крылу, которое
заменяет данный предмет конструктивно воплощенной красочной ситу-
ацией, выражающей душевно человеческое, — следовательно, по отно-
шению к абстрактной живописи.
И здесь мне в завершение следует обратиться ко второму пункту, а
именно, сделать признание о впечатлении, произведенном на меня ря-
дом художественных произведений. Я посетил выставку «Баухауза» в
Мюнхене, где экспонировались работы художников Kpaiinero левого
крыла -- абстрактное искусство Кандинского и Клее и внутренне близ-
кое им тектонизирующее искусство Шлеммера, Фейнингсра и их после-
дователей. Должен признаться, что общее впечатление от картин этих ху-
дожников, глубоко осознанно утверждающих современное видение бы-
336
тия и использующих его, было отрадным и освобождающим. В светлой
симфонии красок виделась и ощущалась здесь как бы сквозь решетку
техники лежащая за ней душевно-человеческая основа. Пережив это,
можно мечтать о растворении техники и ее элементарных факторов в че-
ловеческом. Однако это, конечно, предвосхищение. То, что удалось здесь
художникам, отнюдь не реализовано еще в жизни и в работе.
И с этим связано мое заключение: по моему мнению, совершенно
неверно говорить о дегуманизации современного искусства. Даже там,
где в нем человек, более того, предмет исчезает, в нем господствует глу-
бокое стремление выразить сущностное в душе человека и в человечес-
ком бытии. Так же, как искусство, отбросив старые формы в архитекту-
ре, предвосхитило великое историческое крушение старого, оно предвос-
хищает или выражает в многочисленных формах изобразительного ис-
кусства в узком смысле слова наше стремление достигнуть в современ-
ном хаосе исконной, подлинно человеческой сущности, как во внешнем
техническом устройстве, так и в преодолении внутреннего расщепления.
То, что мы в данный момент еще не можем говорить о завершенном об-
разе человека, прежде всего о новом завершенном его образе, возникаю-
щем из хаоса и помогающем преодолеть его, — не вина искусства. В этом
оно ничего не может изменить, и оно отчетливо это показывает. Оно —
многообразное и богатое выражение нашего стремления. И в качестве
такового оно велит и помогает нам надеяться.
2. Попытка анализа
Предшествующие рассуждения были, что очевидно, прежде всего при-
знанием, введенным намеренно в очень грубо и просто построенную
интерпретацию художественного процесса, наблюдаемого нами в глубо-
ком преобразовании современного изобразительного искусства, которое
мы и далее будем рассматривать только в качестве изобразительного ис-
кусства в узком смысле слова, следовательно, живопись, графику и пла-
стику1.
Делались попытки — и это, как мне кажется, излюбленный, наряду с
философскими, психологическими и другими интерпретациями, ход
мыслей нашего времени —рассматривать происходящее в наши дни пре-
образование как колебание маятника в общем процессе развития искус-
ства. Проводится различие между искусством как отражением и как сим-
волом и указывается2, что в истории художественного творчества движе-
ние шло периодически или локально от одного к другому. В этом толко-
вании доходят до палеолита и справедливо указывают на то, что откры-
тое в большом количестве в Африке и в Европе в целом чисто шифро-
ванное искусство неолита (6000-2000 до н. э.), которое столь резко отли-
чается от восхищающей нас натуралистической пещерной живописи
неолита и мезолита - достаточно вспомнить знаменитого бизона из Аль-
тамиры, — основано на совершенно иной воле формирования. Искусст-
во неолига стремилось прежде всего к запечатлению шифров магических
заклинаний в наполненном духами существовании крестьянскою мира,
тогда как поразительная верность природе в раннем искусстве представ-
337
ляет собой в совершенстве примененное древними охотничьими народа-
ми средство применения чар с помощью аналогии. Это совершенно вер-
но. И нет сомнения в том, что отклонение от природы всегда означало в
истории искусства сознательное воление, а не, как поверхностно счита-
ли, неспособность верно изобразить природу. Великое египетское искус-
ство начинает — и это можно убедительно исторически доказать — с по-
добной сознательно переходящей от отражения к символу стилизации.
Китайское, японское, исламское искусства не могут быть поняты, если
не исходить из такого трансформирующего или оттесняющего природу
воления стилизации. Позднероманскую скульптуру с ее часто невероят-
но сильной символически благочестивой выразительностью также следу-
ет оценивать, исходя прежде всего из этой воли, а не объяснять ее неуме-
нием по сравнению с греческой, римской и иной пластикой.
Не сталкиваемся ли мы в современном преобразовании искусства с
чем-то подобным? Наиболее близким этому можно считать известное,
чрезвычайно удивительное происшествие в поздней античности, когда
параллельно установлению господства христианства там в ходе измене-
ния выражения телесность в искусстве сначала как бы застывает — при-
знаком этого служит уже большой величественный бюст Констатина на
римском форуме, он в сущности символическая маска3, — а затем почти
полностью отбрасывается и в конце концов уступает место мозаике.
Здесь в самом деле символ вытеснил отражения, которые в качестве ес-
тественных телесных фигур раньше также в значительной степени обла-
дали характером символов, однако в ходе преобразования образа мыслей
утратили его. Не находимся ли и мы сегодня в условиях подобного пре-
образования?
Кажется, это действительно так. Однако то, что теперь происходит, —
все-таки нечто иное, значительно более сложное, если толковать его ис-
ходя из его подлинного содержания.
Что наше искусство находится на пути к отказу от отражения, очевидно.
Однако существует ли сегодня, как это было во все прежние времена и во
всех прежних местах, которые можно привлечь для сравнения, «символ»,
способный заменить исчезнувшее отражение? Это сомнительно.
То, что существует на пути от отражения, ухода от него, есть не на-
личное, как во все более ранние времена, а искомое. Короче говоря, про-
исходят поиски основы или основ предметного. Только если видеть вещи
так, если, следовательно, выражая это нашим языкам, познать, что перед
нами поиски имманентной трансцендентности, которая находится в ве-
щах и за ними, становится понятной нынешняя ситуация во всем ее от-
личном от прежней истории своеобразии.
Наивно было бы стремиться установить определенные каузальные
связи, при которых возникают констатируемые, исходя из общей исто-
рической констелляции, синхронность и равнонаправленность; для их
действия в изобразительном искусстве можно установить лишь порази-
тельное сейсмографическое качество художника, придающее ему по от-
ношению к внешним событиям характер предвидения.
Мы стремились показать, что начиная с 1880 г. время гигантскими
шагами вело во всей исторической сфере Запада от частичной техниза-
ции к полному господству аппарата над жизнью людей. Мы показали, к
338
каким следствиям и опасностям для человека вел этот факт в сочетании
с релятивистски-позитивистским опошлением сознания, прежде всего
для тех, кто занят в практической сфере. Художники в области изобра-
зительного искусства, которые в качестве таковых, как и все подлинные
художники, немыслимы без сохранения в целостности душевной суб-
станции, протестовали против продолжающегося опошления уже в XIX
в., еще в период ведущего к общему распаду позитивизма, протестовали
против этого в импрессионизме, правильно понять который можно толь-
ко как предпринятую и увенчавшуюся большим успехом попытку заме-
нить сущностно увиденной действительностью ее воспринятую по тради-
ции внешне отпечатавшуюся картину. Формально этот импрессионизм
мог еще быть «натуралистическим», ибо он находился, — воспользуюсь
этим выражением, — в здоровом и несломленном отношении к предмет-
ному миру.
Период же после 1880 г., о котором выше шла речь, чрезвычайно бы-
стро разрушил прежнее само собой разумеющееся отношение. Он быс-
тро ввел полностью технизированное и целеорганизованное существова-
ние вместо того, которое до того имело, правда, технизированные эле-
менты, но в целом представляло собой еще в своем предметном мире ес-
тественные и привычно данные, по-человечески упорядоченные рамки.
Трогательно видеть, как последние еще следовавшие природе художни-
ки, прежде всего Ван Гог и Сезанн, которые, как все импрессионисты,
стремились к непосредственному выражению сущности, чувствуя изме-
нение мира, искали одиночества и теряли уверенность в старом предмет-
ном мире с его данностью в человеке как центре. И потрясает, как одно-
временно на севере Эдвард Мунк впервые изображает человека, оказав-
шегося одиноким в том мире, каким этот мир стал.
Следовательно, отправной точкой нового воления искусства стано-
вится крушение старого предметного мира; отношение к предмету, к ха-
рактеру и способу противостояния, выраженного в этом волении, — под-
линной художественной темой. Мы утверждаем: искусство пытается про-
никнуть за предметный мир и оттуда сказать кое-что о противостоянии,
которое оно представляет.
При этом речь идет не об исторической последовательности, в ходе
которой искусство отошло от понимания предмета как отражения. Для
нас все дело в том, что оно полагало найти за предметом и в сущности
того, что оно при этом выражает.
Не занимаясь какой-либо критикой, мы должны спросить: в каких
регионах того, что мы называли имманентно-трансцендентной основой
мира, движется при этом искусство? Что может оно постигнуть из слож-
ной действительности на пройденном пути, скажем, на образном плас-
те основы, внутри которого оно движется? Что оно выигрывает, чем жер-
твует при этом? Существует ли вообще для него прочный путь?
Отвечая совершенно ясно на этот вопрос, следует сказать: однознач-
но данного пути не существует. Мы видели раньше, что для образования,
обладающего формой, и для значения его содержания природа в качестве
трансцендентного мира сил не позволяет искусству в такой мере загля-
дывать ей в карты, как при структурном, не имеющем формы построе-
нии в музыке. Изобразительному искусству она дает в форме и краске,
339
в композиции, пропорции и т. п. элементы структурного построения, но
сохраняет в своем ведении ключевые тайны, доступ к последнему и ре-
шающему, к сложной сфере значения образов, особенно в той мере, в
какой они обладают жизненной формой.
Художник, который хочет сегодня проникнуть в решающую тайну,
чтобы выразить заключающееся в ней душевно-духовное, — а все совре-
менные художники, отказываясь от отражения предметного мира, дела-
ли подобные попытки, выражая это различным образом даже в своих
программах4, — такой художник видит перед собой в сущности два пути,
которые, как мне кажется, в качестве таковых бесспорны и ведут к ряду
пересечений.
Художник может попытаться исходить из названных объективных
элементов, ощутимых в качестве факторов построения, а от них прони-
кать различным образом к формированию того, что выражает душевно-
духовное. При этом его радикальность по отношению к освобождению
от предметного мира может быть различной. Художник может попытать-
ся игнорировать этот предметный мир, не открывающий, — что худож-
ник, быть может, не признает, — свои последние тайны, и объявить его
(Клее)5 концом формирования, присущего формирующим силам, кото-
рые находятся за ним и которые можно в собственном вдохновении ис-
пользовать и иным образом. Тогда возникает беспредметная живопись,
обладающая, впрочем, собственной теорией. Более подробно я этого ка-
саться не буду. Но художник может попытаться и сам, исходя из осново-
полагающих сил формы и красок, построить предметный мир, освещая
его в его формообразующей сущности со стороны его построения. Тогда
возникает кубизм или коструктивизм. Другие, насколько я могу судить,
не оказавшиеся столь существенными попытки, которые, подобно футу-
ризму, пытаются ввести в виде факторов построения elan vital", или мо-
мент времени, я оставляю в стороне.
В обоих случаях позиция искусства заключается в том, что оно как бы
вспоминает о своем вхождении в космос и использует и проверяет пре-
доставленные ему этим элементарные факторы по отношению к своей
сущности, своему богатству и заключающимся во всем этом возможно-
стям. Это привело, насколько я могу судить, к чрезвычайному обогаще-
нию мира красок и форм и их композиционного использования в понят-
ных только из самих себя выражениях образа. Сферы красоты, открытые
абстрактной живописью, были ранее неизвестны. И полученная в созна-
тельном использовании элементарных факторов построения выразитель-
ность — напомню хотя бы об известном тигре Франца Марка — ранее не
достигалась.
Но, с другой стороны, надо ясно понимать, что при построении, ко-
торое исходит из объективных элементарных факторов, неизбежен от-
каз от ряда возможностей выражения. Абстрактная живопись способна
достигать выражений настроения большой глубины и неизвестного ра-
нее многообразия. Постоянно говоря о «звуке» (как Кандинский) и в са-
мом деле используя краски и формы в качестве средств, подобно тому
как в музыке используются звуки, художники-абстракционисты вслед-
" Жизненным порыв {франц.).
340
ствие значительно более простой природы красок и форм (несмотря на
утверждения Кандинского), не сумели создать ни такую амплитуду вы-
разительности, ни такую ее глубину, которая отразила бы, с той полно-
той и в той нюансировке, как это происходит в музыке, многослойность
и сложность человеческом природы во всей ее проблематичности. От та-
кой сложности и глубокой проникновенности абстрактная живопись
должна отказаться.
Вместе с тем кубизм и конструктивизм в живописи могут даже по от-
ношению к человеку и его судьбе доходить до больших, ранее неизвест-
ных возможностей выражения; достаточно вспомнить такие работы ку-
бистского направления, как «Плачущая женщина» Пикассо, его «Герни-
ка», и много выразительных, написанных с применением новых средств
картин немецких художников. Однако, если эта живопись несет красо-
ту, она, поскольку красота выражена здесь кубистскими средствами, дол-
жна либо достигать такого уровня, который обладает большой тонкостью
настроения и очень высок по своему мастерству, как, например, работы
Брака, но при этом все-таки проходить мимо сложности и судьбоности
человеческой природы в целом, — есть, правда, исключения, например,
у Фейнингера и Шлеммера, — ибо человеческую сущность следует тол-
ковать, исходя из ее собственной сложности, которая по самой своей
природе находится по ту сторону всякой конструкции и всех средств вы-
ражения, используемых кубизмом. Либо мастера абстрактной живописи
должны в известной степени упрощать эту сложность и вместо понятий-
но нерасторжимого символа, выражающего ее, давать близкую к парабо-
ле, едва ли не поучающую символизацию, как делает гениальный Пикас-
со (Женщина у моря, Joie de vivre*, Похищение Европы).
И наконец, если сложность человеческой природы изображается чи-
сто кубистскими средствами, возникают те сломленные фигуры, которые
посредством мертвых элементарных факторов, используемых кубизмом,
в сущности издеваются над живым или пытаются показать его отчаян-
ную печаль и пустоту, — примеры этого у Пикассо и др. Никто не име-
ет права давать советы художнику, которого принуждает к этому «внут-
ренняя необходимость» (Кандинский). Однако объективно следует кон-
статировать: пусть даже здесь высказывается нечто впечатляющее, одна-
ко это происходит посредством того, что объективные элементарные
средства выражения, с помощью которых художник пытается символи-
чески открыть и выразить предметный мир, исходя из его основы, в из-
вестной степени перенапрягаются.
С нашей точки зрения, с точки зрения возможности постижения этих
поистине имманентно-трансцендентных основ, следует сказать, что по-
стижение пребывающих в неживом основ, которые в кубизме добавля-
ются к краске как своего рода стереометрический фон, может дать пло-
дотворное освещение и в некоторых специфических случаях также фак-
торы выражения для живого, но они неспособны исчерпать тайны это-
го построения, маскируемого природой. Попытка открыть природу ис-
ходя из этого наталкивается, сколь ни плодотворна эта попытка, на гра-
ницы, которые в конечном итоге налагают на то. что может быть дано та-
Радость жизни {франц.).
341
ким образом, требования отказа, основанные на сущности живого в его
свойстве как части имманентно-трансцендентной области, которая та-
ким путем не может быть раскрыта как целое.
Принципиально иной путь современного искусства, который направ-
лен на то, чтобы проникнуть вместо утратившего сущность, исчезнувше-
го повседневного предмета в подлинный предмет и его основу, можно,
хотя он и пересекается с описанным построением, исходя из объектив-
ных элементарных факторов, определить как путь субъективных поисков
сущности. На этом пути художник ищет в образе предметного мира сущ-
ностью являющееся, не заботясь уже о точном отображении.
Экспрессионизм, если понимать этот термин достаточно широко, ох-
ватывает таким образом не только всю следующую на этом пути за им-
прессионизмом живопись. Он охватывает также и графику. Охватывал до
появления новейших направлений, на которых я останавливаться не
могу (в первую очередь это Генри Мур и его школа), пластику, где воз-
никли уже названные значительные творения (Барлах, Лембрук и др.).
Принцип здесь, если вообще можно говорить об общем принципе в
самом по себе столь многообразном вследствие различной духовной на-
правленности процессе, состоит в том, чтобы упрощать данное, сводя его
к сущностно являющемуся; эвентуально возвышать его до сущностного
и подчеркивать определенные черты, выходя за пределы данного, чтобы
сообщить сущностное; или, чтобы вообще транспонировать для этого
само по себе данное, погрузить его в соответствующее внутреннему на-
мерению собственное образное выражение формы и краски. Я не считаю
нужным говорить здесь о больших успехах, достигнутых экспрессиониз-
мом за последние 50 лет; о том, что графика, после того как она обрела
благодаря Эдварду Мунку не только способствующие большей глубине
тенденции упрощения, но и техническую возможность плоскостной
резьбы по дереву, достигла по своей выразительности и точности непрев-
зойденного уровня. Не буду говорить и о том, что, выбирая произволь-
но что-либо из произведений современной живописи для сравнения с
более ранними работами, нельзя не признать, что, например, картина
Бекмана «В ложе» по новой концентрации и революции в живописных
приемах совершенно очевидно превосходит картину Мане на ту же тему.
Не буду говорить и о художниках, особым образом производящих сгуща-
ющуюся концентрацию, таких, как Кубин или Кокошка. Не останавли-
ваюсь я и на возможностях, которые эта освободившаяся от простого ре-
алистического воспроизведения предмета живопись привнесла в сюрре-
ализм для изображения грезящегося (Шагал, Леже, Макс Эрнст и др.).
Спрашивая, исходя из нашей точки зрения, сколько из находящего-
ся в основе жизни изображается на полотне или иным образом, мы дол-
жны сказать: именно этот метод, в целом названный нами экспрессио-
нистским, посредством которого вещи представляются в их сущностно
ощущаемой концентрации, дал искусству не только новые глубины, но
и, по крайней мере в произведениях талантливых художников, никогда
ранее не достигнутую широту интерпретирующего схватывания действи-
тельной основы существования. Области ужасного, мрачного и низкого,
которые со времен Босха, Брейгеля, Гойи, в известной степени Домье, в
целом не проникали больше в живопись, стали благодаря этому с боль-
342
шой, часто мучительной, ибо выросшей из мук силой, предметом изоб-
ражения. Пикассо, который, несмотря на Мунка, Кандинского и одно-
временно работавших немецких художников Клее, Марка, Фейнингера,
Шлеммера, Нольде, все-таки должен быть признан пролагающим путь
чемпионом в использовании прежде всего кубистских, а затем и иных
новых приемов, больше всех остальных использовал полученную широту
выражения, и в зависимости от своей потребности периодически, а
иногда одновременно, применял самые различные новые методы; при
этом он доходил до того, что у постороннего наблюдателя могло иногда
сложиться впечатление игровых попыток.
Ищущий и часто удававшийся эксперимент, который у гениальных
мастеров подчас приводил к совершенно непредвиденному результату,
но не замкнутый новый стиль, который в качестве такового можно срав-
нивать с чем-либо стилистически законченным, существовавшим ранее,
— таково рассматриваемое с художественной точки зрения то совершен-
но особенное, достигнутое сегодня в искусстве. Это исключает возмож-
ность говорить о развитии стиля в обычном понимании на протяжении
полустолетия, последовавшего за взорвавшим прежний мир прорывом.
Но несомненно можно говорить о растущем взаимном плодотворном
влиянии различных направлений, отколовшихся от привычного. Сегод-
ня, прежде всего в пластике, открываются дальнейшие новые пути, ко-
торые в некоторой своей части кажутся настолько странными, что здесь,
где речь не идет об эстетическом суждении, их можно не касаться. В жи-
вописи создается впечатление, как и всегда при новых экспериментах,
что очень многое не превышает среднего уровня и представляет собой
просто работы попутчиков, которые должны быть и будут изъяты как не
имеющие ценности. Там, где господствует подлинное переживание, а
вследствие этого и качество, создается впечатление, что и в тех направ-
лениях, которые ближе всего к реальному предмету, мы наталкиваемся
на входящую в него и тем самым широкую для возможности противосто-
яния ступень сущностной прозрачности, которая происходит от оплодот-
ворения новыми «идеями»; в переводе на наш язык эта прозрачность оз-
начает, что поиски имманентно-трансцендентной основы вещей, харак-
терные для всего нового искусства, открыли позиции, исходя из которых
поверхностный предмет и поверхностное видение предметного мира оза-
ряется светом и тогда, когда они в живописном отношении как будто по
своему оптическому впечатлению почти не меняются.
Соответственно попытке анализа, предпринятой в этой работе, по-
стижение всегда находящегося в трансцендентности сущностного может
распространяться только на элементы его построения в объективной фор-
ме, как мы это назвали, так что либо краске и форме предоставляют го-
ворить самим, либо структурируют и сжимают предмет, исходя из объек-
тивно общей формы. Для открытия сущностного в его живой, дифферен-
цированной, прежде всего судьбоносной человеческой сложности всегда
следует идти путем субъективных поисков и схватывания. Однако совре-
менное искусство как будто учит нас: поиски основ при этом не тщетны.
Знание и внимание к тому, что они суть, и проникновение этого знания
в сознание помогает, углубляет, изменяет.
Не должны ли — таково обращение к нам современного искусства —
343
это знание и этот опыт помочь нам в жизни? В этом смысле то, что оно
дает, все-таки символ, даже если оно, так же, как расширившийся сегод-
ня поток жизни, не обладает больше твердо обозначенными символами,
в которые оно может облечь свое познание глубин. Nascetur quidquam ex
absconditis*.
Примечания
1 Ср. Приложение об архитектуре: Зодчество в наши дни.
2 Ср. Horch. Sinnbild und Abbild.
• Ср. Curtius L. Griechische Kunstgeschichte.
4 Kanclinsky. Das Geistige in der Kunst. 4. Aufl.1952.
■ Klee P. Ober die modeme Kunst. 1945.
Дополнение
к «Принципам истории и социологии культуры»
1
Необходимо ли дать в дополнительном сообщении формулировки пред-
лагаемого в настоящей работе ответа на комплексы вопросов, оставших-
ся открытыми в опубликованном мною учении о принципах истории и
социологии культуры? Быть может, этого требует оправданный, скажем,
научный, обычай.
Речь идет, во-первых, о вопросе внешней структуры истории, следо-
вательно, о социологическом каркасе представлений, в который надле-
жит ввести внутренний структурный процесс истории, чтобы полностью
охватить, анализируя ее социологически, историческую действитель-
ность.
Во-вторых, об антропологических или квазиантропологических рам-
ках, в которые должна быть помешена главная задача этой социологии
истории, а именно формирование человека и его судьбы как человека
социологическими условиями, прежде всего в сторону изменения его
типа.
И наконец, в-третьих, о внеисторической, я хочу сказать, о трансцен-
дентной основе, без которой какое-либо социологическое суждение об
историческом процессе и его членении, сколь бы позитивистским это
суждение ни было, так же невозможно, как понимание смысла челове-
ческих действий в историческом процессе.
* Родится нечто втайне (.шт.).
344
Добавлять что-либо к двум последним комплексам вопросов, попытка
объяснить которые проходит через всю работу, как я полагаю, не нужно.
Уж скорее это необходимо для учения о внешней структуре, которое,
правда, имплицитно дано, но в отчетливой понятийности не сформули-
ровано.
Основной тезис здесь состоит в том, что внешние исторические
структурные события, насколько их можно видеть социологически упо-
рядоченными, покоятся на отношении человека и Земли. Какая перио-
дизация из этого следует, сначала в виде структурированного переселе-
ниями продолжительного первого периода, затем времени открытия За-
падом различных областей Земли и ее концентрации в период, назван-
ный мною переходным, и, наконец, начинающейся сегодня эпохи, осно-
ванной на технически осуществленной концентрации Земли и одновре-
менно ее коммуникативном уменьшении, что ведет к совершенно ново-
му феномену глобального напряжения между носителями власти, а в буду-
щем и напряжения населения по отношению к возможностям Земли —
я, как мне кажется, достаточно ясно показал.
Теоретически следует добавить: в первый период, период «наслое-
ний», природа выступает в истории в качестве данности Земли еще в из-
вестной степени непосредственно. В своих климатических изменениях
(прежде всего сказавшихся в высыхании мест обитания кочевников) она
в качестве двигателя развития имеет столь же большое значение, как со-
циально-психологические факторы, заключенные в самом стремлении
кочевников к странствованиям. Возникающие исторические образова-
ния следует понимать в их внутреннем развитии и формировании из син-
теза между поселившимися кочевниками и слоем коренного населения,
в рамках которого совершается зарождение и развитие внутрисоциоло-
гических движений. Внешнесоциологические процессы, сосуществова-
ние, борьба и гибель, победа или сохранение возникших исторических
образований, еще в значительной степени непосредственно обусловле-
ны в своих импульсах условиями Земли. Это относится ко всем истори-
ческим событиям этого периода, за исключением борьбы греков с пер-
сами и их победы, что может быть полностью понято лишь с привлече-
нием внутренних факторов. Исчерпывающе истолковать экспансию ис-
лама также невозможно без внимания к внутрисоциологическому фак-
ту новой веры; так же, как возникшие в ответ на это крестовые походы
и одновременную германизацию Центральной и частично Восточной
Европы, сколь ни значительную роль играли, как мы видели, в этом вы-
тесненные витальные факторы. Общий структурный характер этого пе-
риода как времени напластований (Рюстов). происходящих в сущности
по витальным причинам, от этого не меняется.
Совершенно иным является время экспансии Запада. Отношение че-
ловека и Земли здесь другое. К началу своей экспансии Запад не был пе-
ренаселен. В нем сказывались первые результаты позитивной науки на-
ряду с частично уже научно обусловленным прогрессом (шарообразность
Земли, астролябия, компас, порох), возникал поддерживаемый государ-
ством Нового времени капитализм. В своей экстравертности и одновре-
менно техническом и экономическом превосходстве он начал свое в ко-
нечном итоге революционное освоение Земли. Следовательно, внутри-
345
структурные изменения стали здесь играть и внешнеструктурную роль, и
чем дальше, тем решительнее. И когда в XIX в. последовало массовое
движение населения в относительно пустынные области вне Европы —
в Северную и Южную Америку, в Австралию, — которые вместили мил-
лионы людей, это уже не было, как на всех предыдущих стадиях пересе-
лением целых народов с последствиями в виде напластования над корен-
ным населением, формирующим синтезом между пришельцами и ис-
конными жителями, над которыми они наслоились. Это было эмиграци-
ей отдельных, хотя и многих людей, следствием чего было вытеснение и
отчасти истребление воспринимаемого как inferior* местного населения.
Характер этого движения сохранился и тогда, когда, прежде всего во вто-
рой половине XIX в., к этому несомненно добавилось в качестве еще од-
ной причины перенаселение Европы.
В принципе все это время освоения Земли и насыщения характери-
зуется преобладанием внутриструктурных условий, последовавших за
полностью изменившимся отношением человека к Земле как к его есте-
ственным рамкам. С этих пор решающей для общего структурирования
истории стала внутренняя социологическая структура различных облас-
тей, а не непосредственные данности Земли в качестве внешних факто-
ров структуры. Взаимодействие данных извне факторов и внутренней
структуризации изменилось таким образом, что первые становятся уже
не непосредственно действующими потенциями, а только рамками,
правда, не лишенными значения, внутри структурных, ставших динами-
ческими факторов. В этом с общесоциологической и теоретической то-
чек зрения и состоит большое изменение.
Свою кульминацию и завершение это изменение находит в нашу эпо-
ху. Конечно, в нем, как вообще в истории, в образующих его каркас ис-
торических телах действуют такие же витальные силы, как повсюду в ис-
тории. И совсем не лишено вероятности представление, что внешние
силы этих исторических тел могут в будущем, грозящем нам глобальном
кризисе перенаселения, эмансипироваться в качестве давления, ведуще-
го к переселениям, и таким образом привести как бы к своего рода воз-
вращению прежних исторических форм, заменив ими возникшие позже
тенденции. А это означало бы не только разрушение этих форм, но и гибель
всей истории в море крови — следовательно, нечто совсем иное по своим
результатам, чем то, к чему приводили прежние эпохи переселений.
Мы исходили в данной работе из того, что этот процесс в свете обо-
зримых сегодня фактических данных маловероятен, и указывали на при-
чины этого. И если мы затем при рассмотрении нынешней эпохи, перед
которой несомненно чисто витально в далекой перспективе встанет гло-
бальная демографическая проблема, считали рациональное решение при
определенных условиях наиболее вероятным, то поэтому мы могли, рас-
сматривая характер новой эпохи, в которую мы вступили, исходить из
того, что определяет ее как допускающую сравнение с предшествующи-
ми эпохами. При таком видении наша эпоха предстает сегодня как отли-
чающаяся чрезвычайным усилением значения внутрисоциологических
факторов для внешнего структурирования истории. Ее своеобразие зак-
Более низкого {.ют.).
346
лючается в том, что в рамках прогрессирующей цивилизаторской унифи-
кации Земли амальгама потенций веры и социальной структуры служит
знаком, под которым пребывает взятое в целом внешнее формирование
структуры и, вероятно, не малое время будет пребывать. Сегодня в про-
тивоположность переходному периоду, когда данности Земли использо-
вали и эксплуатировали еще очень наивно, после того как экспансии и
войны на тесном, ставшем унифицированным, земном шаре приняли ха-
рактер гражданских войн, они этим своим характером в известной сте-
пени медиатизированы в своем воздействии. В этой медиатизации они
больше не обладают признанной ролью во внешнем структурировании,
однако их внешнее структурирующее значение отнюдь не исчезло. Дос-
таточно вспомнить о нефти, о больших международных морских пере-
возках и многом другом. Но в той мере, в какой они признаются, они
имеют лишь дополнительное значение, если же они не признаны, то ве-
дут лишь тайное существование. Если, говоря об общей структуре истории,
утверждают, что внешнее структурирование превратилось сегодня в функ-
цию внутреннего структурирования, которое действует в виде борьбы фор-
мирований веры и жизни, это нельзя считать совершенно неверным. Это не
полная неправда. Ибо даже проникнутое извращениями, основанное на
них, каким является сознание сегодняшней большой советской сферы, не
может существовать, не опираясь на провозглашенные им доктрины веры.
Следовательно, эти доктрины, невзирая на маскировки, какими они явля-
ются, суть подлинная потенция действительности. Таким образом, мы жи-
вем сегодня в мире, в котором частично подлинные, частично ложные, но
и в ложности обладающие жизненной силой внутренние факторы структу-
ры несут на себе и внешнее структурирование.
и
Исходя из этого теоретического анализа, можно занять принципиальную
позицию по отношению к единственной известной социологической
попытке получить на основе многообразия истории с определенной точ-
ки зрения видение ее единства. Конкретно я говорю о работе Александ-
ра Рюстова в примечании (см. примечание в конце главы). Эта попытка
носит совершенно иной характер, чем наша, так как в ней не столько
идет речь о конкретном многообразии и его возможном несломленном
включении в общий процесс, сколько преследуется направленность на
единство, а именно, на прорыв разворачивающейся свободы в истории.
Против такой попытки, в целом далекой от изображения конкретно-
го, и против применения для этого представлений и понятий, которые
■' по своей природе первоначально образованы вблизи от действительно-
сти, в транспонированной форме, в принципе ничего возразить нельзя
в том случае, если такого рода применение представляется необходимым
в качестве средства важных перспектив. Право рассматривать для этих
целей все культуры, в которых не достигнут «прорыв к свободе» в запад-
ном понимании, по метолу Рюстова, как «средневековые», а социально
структурно как феодальные, должно быть, следовательно, допущено. Это
может быть необходимо пли целесообразно, чтобы ясно и однозначно
347
осветить несомненно существующую историческую однократность про-
рыва свободы в средиземноморской античности и начиная с нее. То, что
все высокие культуры, существовавшие до греко-римской культуры и
наряду с ней, в Египте и Вавилоне, в Китае, Индии, Персии, у иудеев и
т. д., отличались иерократически бюрократическим, а в Индии и у иудеев
почти чисто иерократическим членением, тогда как феодализация вела
у них к спаду и явлениям разложения, игнорируется. Это следует при-
нять, хотя тем самым собственно социологически особенное в средизем-
номорской античности, то. что в ней никогда не было ни иерократии, ни
бюрократии и что она не нуждалась в них, выпадает из поля зрения. В
принципе нельзя ничего возразить и по поводу расширения представле-
ния о напластовании, которое Рюстов применяет в конечном итоге к
каждому социальному отношению господства, даже к каждому распро-
странению господства любой формы. Все эти перенесения и упрощения
служат пояснению основного тезиса, и поэтому они оправданы.
Однако надо ясно понимать: подобный ярко выраженный теорети-
ческий конструктивно-социологический метод исследования принципи-
ально отличен от того, который, открывая общие перспективы, что, ко-
нечно, должно быть его подлинной целью, при этом по возможности
старается не отходить от конкретности формообразования и выводит от-
крываемое им общее из совершенно конкретно очередной исторической
формы. Эта социология, которую представляю я, конечно, не менее тео-
ретична, чем другая. Но ее теория по возможности имманентна. Она со-
знательно стремится использовать в самих вещах источники света, так
как история представляется ей слишком многообразной, чтобы ее мож-
но было постигнуть без опасности для существа дела со слишком боль-
шого расстояния или при значительном упрощении.
Однако тот и другой тип социологического исследования является
попыткой понять общее, исходя из самой истории, и они в конечном
итоге близки. И в обоих следует ясно понимать все значение метаисто-
рической основы, необходимой для их исследования. Без соотнесения с
такой основой обнаруживаемое ими общее и глубокое заключенное в
нем значение беспочвенны.
И во-вторых: оба вида социологии истории в равной степени стре-
мятся к тому, чтобы быть наконец принятыми в официальную науку как
ее легитимные части. И чтобы при этом они правильно понимались в их
отношении к общей социологии. Если признать, а мне это кажется не-
избежным, что социология всегда есть структурное учение о чем-то, что
в качестве исторического целого находится в вечном течении, то долж-
но быть ясно: анализ общей структуры этого исторического целого, ко-
торый производит социология, не может быть просто придатком, а слу-
жит общими рамками, в которых заключена всякая другая социология,
будь то чистая социология современности или та, которая принимает во
внимание и исторические перспективы. Из такого видения общих исто-
рико-социологических рамок социология исходила при ее возникнове-
нии. И общая социология истории, данная Марксом, — как бы ни оспа-
ривать ее и прежде всего ее искажения. — имеет сегодня всемирно-ис-
торическое значение. Не следует ли задать ряд вопросов. — в каких не-
марксистских формах структуры история и ее развитие, рассмотренные
348
как целое, могут дать отвег на наши вопросы? В каких членениях мож-
но, задавая сегодня этот вопрос, понимать ее как несущую нас? И что
является тем местом в открывающейся перед нами последовательности
ступеней истории, на котором мы можем познать наши сегодняшние за-
дачи, происходящие в конечном счете из регионов метаистории, но in
concreto всегда сформированные самой историей? Задать такие вопросы
имело бы все-таки, как мне кажется, смысл.
Примечание.
В своей большой работе' Рюстов исходит, как было сказано, из универ-
сально-исторического аспекта, освещая и анализируя историю в целом
как область глобальной борьбы между господством несвободы и свобо-
дой. В этой работе рассматривается прежде всего происхождение несво-
боды из процессов напластования, которые мной рассматривались как
факторы внешнего структурирования первой большой исторической
эпохи, чья внутренняя структурная функция составляет одну из основ
предшествующих анализов культуры во всех моих работах, начиная от
«Kulturgeschichte als Kultursoziologie», до настоящей работы. В социоло-
гическом освещении истории, проведенном Рюстовом, где история рас-
сматривается исходя из само собой разумеющейся позиции свободы, все
«культуры напластования», следовательно, все древние высокие культу-
ры, определяются как средоточия покоящегося на формировании социо-
логического членения господства, которое ввиду своих последствий рас-
сматривается как «грехопадение истории»; в этих своих преобладающих
негативных последствиях оно прослеживается в первом томе работы.
Единственное место истории, от которого путь ведет к свободе, — осво-
бодительная борьба греков и средиземноморская античность. Условия
этого неоспоримого факта и его значение рассмотрены мной здесь и в
более ранних работах несколько иначе, чем это делает Рюстов. Смелое
решение, данное в основанной на убедительной аргументации и боль-
ших знаниях работе покоится на том, что автор последовательно прово-
дит под этим углом зрения освещение и членение всего исторического
материала и особенно во втором томе, рисующем путь свободы, освещает
с критической позиции весь исторический процесс, причем главным ис-
точником тепла его изложения служит его страстное суждение.
Если считать главным в работе Рюстова последовательное и концен-
трированное намерение осветить процесс свободы решающими для него
сильными душевными импульсами, то сразу же становится очевидным
иной характер освещения и членения истории при нашей исходной по-
зиции. Рюстов вообще касается исторической конкретности — и это при
его концепции понятно — лишь там, где этого требует его основная
мысль, путь свободы, — мы сказали бы путь к интегрированному в сво-
боде и человечности типу третьего человека. Второй том, в котором про-
слеживается этот путь в истории античности и Запада, конкретен по сво-
ему построению. Я счел бы мелочным подчеркивать имеющиеся там не-
правильности толкования — подчас очень значительные — при сопостав-
лении их с подъемом и полнотой всей книги.
Riistow A. Ortsbcstimnunig dor Gegenwart. Bd 1-2. 1950-1951.
349
Первый том, где речь идет о «грехопадении», ведущем к членению
господства в высоких культурах, и о его последствиях в целом, за исклю-
чением с большой тонкостью исследованной предистории, конструкти-
вен. Должен со всей откровенностью сказать, что затрудняюсь полнос-
тью принять конструктивное идеально-типическое толкование сущнос-
ти этих напластований и следующих из них культур господства потому,
что не могу рассматривать столь полную громадным содержанием все-
мирно-исторически сущностную историю этого времени и этих истори-
ческих тел только с точки зрения Рюстова. Но об этом в тексте.
Приложение
I. Наука и жизненный уклад
То, что мы сегодня видим как точную науку вокруг нас, если не в нас, по
своим результатам, является движущимся по собственным закономернос-
тям, разветвленным образованием, импульсы развития которого не исклю-
чительно, но преимущественно доверены людям, для которых прогресс на-
учного знания есть своя специализированная профессия. Профессия, для
осуществления которой они назначены и которой они занимаются — не
только в области естественных наук, но и в большинстве наук о духе — в со-
зданных для этого институтах. Собранная в общедоступных или присоеди-
ненных к этим институтам библиотеках масса накопленного научного зна-
ния разрабатывается в принципе сообщаемом исследовании, распростра-
ненном сегодня по всей Земле таким образом, что каждое в любом месте
полученное знание проверяется повсеместно с точки зрения его пригодно-
сти в качестве основы для дальнейшей работы и тем самым становится — на
своем пути через весь научный аппарат — общим достоянием. Отклонение,
которое в данное время возникло в этом отношении из-за железного зана-
веса, следует в принципе игнорировать.
Следовательно, независимо от характера целей и движущих сил, ко-
торые в разных местах и вообще в каждой точке всего аппарата опреде-
ляют развитие научного исследования, этот аппарат представляет собой
зримое для всех, действующее в масштабах Земли объективное целое,
единое деяние которого движется по ступеням в соответствии с соб-
ственной, хотя и различной в разных местах, закономерностью.
Поскольку ученые, действующие в этом внешне и внутренне объек-
тивированном, основанном на разделении труда целом являются в сво-
ем большинстве назначенными чиновниками особого рода, честолюбия
этих конкурирующих в рамках своей профессии и продвигающихся на
основе этой конкуренции ученых было бы достаточно для постоянного
прогресса в научной работе и в том случае, если задать вопрос, имеет ли
с общей точки зрения работа отдельного ученого и отдельное знание
смысл сами по себе или смысл для практической и душевной жизни и
для ее формирования.
Не желая что-либо сказать, предлагая подобную гипотезу, о суще-
ствующих мотивах и о значении достижений ученых, нельзя не выска-
350
зать предположение, что при господстве аппарата в целом и функцио-
нальной роли в нем большого числа действующих ученых может про-
изойти — и для определенной части естественных наук это действитель-
но произошло, — что деятельность ученых окажется отчужденной от зак-
лючающегося в ней смысла, и функционирующие ученые будут исполь-
зованы для целей, жизненный смысл которых сомнителен, более того,
чрезвычайно опасен. Что касается наук о духе, то может случиться, что
данный аппарат станет конституировать проблемы, которыми он зани-
мается, в стороне от жизни и продолжать двигаться в рамках им самим
созданной, сомнительной по своему значению проблематики, уподобля-
ясь существовавшему два тысячелетия тому назад александрийскому ап-
парату знания, чуждость жизни которого стала поговоркой.
Александрийская чуждость жизни и опасный для жизни техницизм —
таковы два очевидно негативных отношения к жизни и жизненному ук-
ладу, которые в качестве возможности заключены в сегодняшнем сбли-
жении науки с аппаратом и в ее отчасти автоматическом продвижении на
основе коммуникации, разделения труда и честолюбия профессиональ-
но занятых в ней ученых.
Нет сомнения в том, что первоначальный импульс этой осуществля-
емой в рамках аппарата науки, становящейся, пожалуй, чуждой или
враждебной жизни, был тем, что мы привыкли называть чистым стрем-
лением к знанию или поисками истины. Однако если обратиться к ис-
точникам связанного с аппаратной системой и разделением труда про-
цесса познания в развитии Запада, — ибо только на Западе возникло та-
кое организованное в виде аппарата, основанное на разделении труда и
конкуренции научное предприятие, — то мы натолкнемся на определен-
ное отношение его к жизни. Сложившиеся после Возрождения эмпири-
ческие естественные науки современности несомненно возникли из ори-
ентированной по-новому воли к познанию, заменившей библейско-дог-
матически-спекулятивный образ мира образом эмпирически обоснован-
ным посредством применения и дальнейшего развития возрожденных
античных математических и астрономических знаний. Один из отцов
эмпирических принципов естествознания, которое затем со времен Га-
лилея и Ньютона достигло таких огромных успехов, сказал еще до воз-
никновения мирового значения эмпирического естествознания: «Знание
— сила». Другими словами, это означает господство над укладом жизни
или возможное его преобразование. И в самом деле мотивы такого рода
существенным образом причастны к возникновению современного, ос-
нованного на аппарате и конкурирующем разделении труда знании. Со-
временное государство, исходя из совершенно конкретных интересов
господства над жизнью, основывало университеты или способствовало
их развитию; в университетах под влиянием этих импульсов к старому
каноническому квадривиуму — геология, философия, грамматика и ри-
торика — были добавлены практические по своей направленности науки
— юриспруденция и камералистика, сегодня мы сказали бы — соци-
альные науки. Они должны были дать государству усиление и стабили-
зацию политической и экономической власти. Под действием практи-
ческих мотивов также были созданы сначала примитивные лаборатории,
служившие основой естественным наукам, на основе которых, начиная
351
с последней трети XVIII в., развивалась новая, научно обоснованная тех-
ника.
Поэтому, утверждая, что современная наука есть просто поиски ис-
тины, следует проявлять осторожность. Она несомненно такова в ряде ее
старых областей, таких, как философия и филология. Однако столь же
несомненно, что в целом ряде своих новых ответвлений, таких, как ес-
тественные науки или нынешние юриспруденция и социальная наука,
по определяющим их и их аппаратуру импульсам она одновременно осу-
ществляет организованное и преднамеренное влияние на жизненный
уклад. Так, в проходящем свою эволюцию, основанном на разделении
труда, огромном теле современной науки перед нами — и в своих дей-
ствиях вокруг нас — возникло в значительной степени связанное с жиз-
нью и относящееся по своему происхождению и своей сущности к жиз-
ни целое.
Что это означает для науки и жизненного уклада сегодня? Для отве-
та на этот вопрос надлежит ясно представить себе две опасности, под уг-
розой которых происходит сегодня эволюция науки: для наук о духе это
опасность завершиться чуждым жизни подобием александрийской уче-
ности; для естественных наук — возможность завершиться враждебнос-
тью к жизни.
Полагаю, что обе опасности велики и что, сколь они ни кажутся нам
противоположными, там, где эти опасности появляются, их основа ока-
зывается одной и той же, а именно слишком большой утратой всей орга-
низованной сегодняшней наукой связи с жизнью и одновременно с
трансцендентностью.
В последние сто лет много говорят о беспрерывно растущей, уничто-
жающей универсальность науки специализации, происходящей из диф-
ференциации и разделения труда в современной науке. Тысячу раз ука-
зывалось на то, что и почему постоянно увеличивающаяся специализа-
ция является неизбежной оборотной стороной расширяющейся и углуб-
ляющейся научной эмпирии. Тысячу раз высказывалось сожаление по
этому поводу; однако эти сожаления сводились, как мне кажется, толь-
ко к красивым оборотам речи, не предлагая какой-либо подлинный путь
избежать этого. Я же достаточно еретичен, чтобы сказать: всякую специ-
альную научную работу, в которой отсутствует важное для жизни соот-
несение с универсальным, — а под этим я понимаю также метафизичес-
ки или трансцендентно универсальное, — надо ликвидировать или пре-
образовать. Это можно выразить и по-другому: каждая научная работа,
сколь бы специальной она ни была, должна совершаться в сознании и
ясном понимании ее связи с универсальностью такого рода. Только это
дает ей жизнь, тепло, оправдание. Только этим можно предотвратить,
чтобы тот, кто занимается наукой, не стал, будучи облачен в пышную
мантию искателя истины, в действительности просто функционером
движущейся в пустоте духовной аппаратуры.
При чтении некоторых научных журналов часто возникает ощущение
банальности и полной незначительности. Это признак того, что здесь на-
рушена граница отношения к существенному для жизни универсально-
му, что универсальное соотнесение с жизнью заменено работой и дис-
куссиями по самими созданной, реально вообще не существующей про-
352
блематике, схоластическим подобием александрийской учености, кото-
рое надо устранить, если невозможно вновь придать ему подлинное со-
отнесение с жизнью.
Это одно. Может быть, это когда-либо приведет к ревизии использо-
вания государственных средств или, вернее, к распределению государ-
ственных средств между различными дисциплинами наук о духе. При
этом, быть может, выяснилось бы, что существуют дисциплины, которые
можно если не изъять, то во всяком случае ограничить, просто потому,
что в них отсутствует новый, требующий разработки фактический мате-
риал, и нет никакого смысла продолжать в прежнем объеме ставшие
чуждыми жизни схоластические дискуссии и интерпретации. Одновре-
менно станет очевидным, что в других областях большая масса фактов и
проблем осталась, особенно у нас в Германии, почти неразработанной;
или что там, где синтез, требуемый проблематикой сегодняшней жизни,
который следовало бы поручить методически подготовленным людям,
преимущественно предоставляется дилетантам.
Вследствие недостаточного понимания этого мы оказались сегодня
из-за автоматически развивающейся специализации в науках о духе пе-
ред наступлением подлинной «новой эры» в ориентации, требующей
упомянутых изъятий новых построений, если мы не хотим, чтобы наша
работа завершилась чуждостью жизни, которая со временем нанесет тя-
желый удар уже сегодня падающему уважению к наукам о духе, а тем са-
мым и. им самим.
Постоянные сетования на падение уважения к науке безусловно не от-
носится к естественным наукам. После их первого великого успеха, начав-
шегося с Ньютона и достигшего своей кульминации во второй половине
XIX в., они были в последние 50 лет преобразованы, их открытия и их го-
ризонт расширены, что привело к практическому преобразованию жизни.
Что означают все эти открытия энергии, явившиеся результатом со-
временного учения об электронах и атомах, знает каждый. Те, кто в не-
которой степени осведомлен о достигнутых успехах, знают также, что
следствием их было изменение существовавших со времен Ньютона и
Галилея основ современной физики, а также химии. Поэтому сегодня
возникает вопрос, не будет ли весь квантитативный по своей сущности
естественнонаучный, развивающийся, начиная с Возрождения, характер
исследования более или менее скоро заменен исследованием квалитатив-
ным по своему характеру, которое отчасти примкнет к прежним, ранее
отвергнутым воззрениям, и уж во всяком случае сбросит материалисти-
ческое облачение современного естествознания. Это — невероятное из-
менение: не только снимается первое положение прежнего естествозна-
ния — natura non facit saltum', не только одухотворяется в известной сте-
пени понимание важнейшего предмета естествознания, материи, превра-
щающейся в особую сжатую энергию, но и если не устраняется, то
трансформируется наш прежний образ пространства и времени вместе со
связанной с ним каузальностью.
Есть ученые-естественники, которые утверждают, что их наука нахо-
дится вследствие этого сегодня на пути к религии. Мне это представля-
Прпролп не делает скачко» {.ют.).
12 3ак. 3073
353
ется неверно понятым или неверно сформулированным. Но наука дей-
ствительно находится на пути к новому видению трансцендентности и ее
сил как последних пронизывающих и формирующих также наш матери-
альной мир потенций. Весь созданный нами, ставший прежде всего в
XIX в. позитивистским, образ мира требует ревизии — ревизии, которая
до сих пор еще удовлетворительно не проведена. Ибо мировоззренческие
выводы, сделанные большинством естественников, почти сплошь недо-
статочно соответствуют гносеологическому и онтологическому уровню,
достигнутому западной философией, и поэтому опрометчивы. Так, гово-
рят, например, об устранении представления о каузальности или катего-
рий пространства и времени и строят на этом целое учение о космосе.
С другой стороны, мне представляется, что наши ученые в области
наук о духе и наши философы еще недостаточно восприняли основопо-
лагающие преобразования в естественнонаучном познании и не оцени-
ли создаваемое ими видение жизни и мира. Это видение также могло бы
обновиться, если бы оно не останавливалось на проблеме: бытие и чело-
век, бытие и существование. Во всяком случае сегодня именно есте-
ственные науки дали толчок в направлении нового сближения наук о
духе с жизнью и укладом жизни.
Таков наиболее позитивный аспект, предлагаемый сегодняшней си-
туацией в науке с точки зрения ее значения для уклада жизни; следует
признать, что он указывает на сильное изменение в развитии науки. Он,
правда, уравновешивается или во всяком случае находит свою противо-
положность в том, что эта же ступень естественнонаучного знания слу-
жила тому, чтобы открытые, лежащие за формированной материей и в
ней силы природы были бы использованы как средства уничтожения
жизни. Атомная бомба — лишь одно из таких средств. Новая химия мо-
жет разработать тысячи других.
Здесь в сущности та же ситуация, хотя и с совершенно иными прак-
тическими следствиями, как в науках о духе. Высокоспециализирован-
ное естествознание стало, по крайней мере с точки зрения применения
его открытий, чуждым жизни. В нем всегда ставился вопрос о формаль-
ной, в сущности математической, познавательной ценности, о решаю-
щей проблему математической формуле, и при этом забывалось о посто-
янном обратном действии, которое каждая найденная познавательная
ценность в той же мере, в какой она способствует духовному господству
над природой, может в своем техническом применении оказывать вли-
яние на жизнь.
Если наукам о духе сегодня может быть поставлен вопросе, в какой
степени вы еще повсюду воздействуете на плодотворную почву, то воп-
рос к естественным наукам, также поставленный исходя из жизни, гла-
сит: в какой мере вы высвобождаете вашими формальными знаниями
демонические силы? Действуете ли вы всегда с полным сознанием сво-
ей ответственности по отношению к жизни? Конечно, необходимо, что-
бы вы знакомили с вашими основополагающими открытиями обще-
ственность. Однако если вы готовы вступить на трудный и связанный с
большими расходами путь их разработки и угрожающего жизни техни-
ческого применения, то не надлежит ли вам подумать о создании ин-
станции, отвечающей за вашу работу, инстанции, которая располагала
354
бы контролем над практическим применением ваших открытий и соот-
ветственно бы действовала?
В настоящий момент это, действительно, самый настоятельный воп-
рос, который следует задать науке под углом зрения ее отношения к жиз-
ненному укладу. В принципе этот вопрос надо будет задать и тогда, когда
станет уже совершенно ясным, что благоприятный момент для разруше-
ния посредством применения атомного оружия упущен. И тогда, когда
станет также очевидным, что свободный Запад, к которому сегодня толь-
ко и можно обратиться с подобным призывом, посредством определен-
ных мер, быть может, прекратит разработку определенных способов раз-
рушения, направленных против Востока. Вероятно, было бы совершен-
но достаточно использовать возможности, имеющиеся на основе обре-
тенного знания, и довести их до практической возможности разрушения,
лишь в том случае, если окажется, что Восток готов к этому прибегнуть.
Втайне такая практическая подготовка сегодня оставаться не может, при-
мером этого служит наличие атомной бомбы у России. И все время сле-
дует, что само собой разумеется, делать все возможное для создания ин-
станции, охватывающей Запад и Восток, которая несла бы ответствен-
ность за реализацию существующих возможностей.
В заключение остается только заметить, каким опасным симптомом
для нашей цивилизации является то, что завершить в настоящее время
описание состояния науки и жизни можно только напоминанием науке
о необходимости щадить жизнь и жизненный уклад.
И. Университет и историческая ситуация
I
Карл Левит во введении к недавно прочитанному им докладу сказал: се-
годня мы должны для нашей ориентации распрощаться не только с
«предшествующей историей», но и с историей вообще. При этом здесь
несомненно имелось в виду, что для такой ориентации нам нужен над-
исторический, т. е. трансцендентный аспект.
С этим я готов согласиться всем сердцем и разумом.
Университет также нуждается в трансцендентном аспекте как в пос-
ледней точке ориентации его деятельности и построения. Это следует
сразу сказать. Однако вместе с тем надо добавить: сегодня он не распо-
лагает такой точкой ориентации, которая была бы обшепризнана даже в
его собственных кругах.
Тем самым мы опять подошли к тому, что ужасало Карла Левита в
качестве исходной точки нашей ориентации, к исторической ситуации.
Независимо от того, правильно ли мы его поняли, не дадим ввести
нас в заблуждение. Именно потому, следовательно, что основа универ-
ситета должна быть в конечном итоге трансцендентной, будем исходить
в нашей сегодняшней ориентации по отношению к нему из историчес-
кой ситуации, которую надлежит осветить лучами прожектора.
^Последним важным этапом в истории немецкого университета был
этап, относящийся к рубежу XVIII и XIX вв. и к связанной с ним рефор-
355
ме, произведенной Гумбольдтом. Она была проведена в связи с важным
историческим поворотом и должна была соответствовать новой истори-
ческой ситуации.
Если стремиться назвать то, что в этом изменении было в новой ис-
торической ситуации наиболее важным для внутренней организации
университета, то это следует — по крайней мере на привычном мне язы-
ке — определить как новое открытие человека в великом XVIII в. и как
попытку сделать из этого выводы для ориентации университета.
«Высшее счастье детей Земли — личность» , — начертано с той поры
в качестве тайного или открытого девиза на каждом, затронутом духом
Гумбольдта, университете. И этот девиз, как и выводы из него, прежде
всего отрицание всякой веры в авторитеты, стали для университета столь
же неоспоримы, как то, что корни университета уходят в классическую
древность, гуманистически понимаемую в качестве исторического источ-
ника, из которого вышло представление о свободной человеческой лич-
ности в жизни и в идее, выраженное в бессмертных творениях.
Однако достаточна ли еще идея этого девиза сегодня? Не нуждается
ли она в дополнении и новом не только историческом, но и надистори-
ческом обосновании? Надисторической основой гумбольдтовской эпохи
была вера, ощущаемая не как потусторонне-трансцендентная, а как им-
манентная миру, вера, которая господствовала во второй половине XVIII
в. и сделала его столь достойным любви, но и практически преходящим,
двойная вера в предустановленную гармонию, как в космосе, так, при
правильном понимании, и в человеческом существовании, в действиях
согласно доброй воле. И далее, вера в такую силу добра и доброго нача-
ла в рядовом человеке, что достаточно лишь предоставить ему возмож-
ность свободного формирования с определенными ограничениями, что-
бы он в этих рамках, в рамках наступившей гармонии, мог посвятить
свои усилия полному раскрытию личности. В этом формировании дол-
жен в качестве принципа участвовать и университет.
Это была вера, имманентная миру, что, правда, не всегда знали и выс-
казывали, вера в действительное, в нечто пред-данное, которое надо толь-
ко открыть, в трансцендентальность имманентного миру типа. Я говорю о
том, что можно в известной степени назвать точкой зрения common sense*.
Я не касаюсь всех остальных философски сформулированных, в сущ-
ности трансцендентных типов идеализма, которые существовали наряду
с этим и имели очень большое значение, хотя и не всеми признавались.
XIX век пытался в ряде важных проникающих его тенденций, а имен-
но в тенденциях гуманного и либерального характера, вывести из этой
веры практические и, правда, в меньшей мере, духовные заключения.
Незадолго до середины этого столетия проявилось стремление реализо-
вать их в политических правах на свободу, охватывающих и духовную
свободу. И несмотря на все то, что впоследствии произошло, очень зна-
чительная часть этих реализаций сохранилась. Свобода мысли, свобода
прессы и прочие основные права — наследие тех времен.
Вместе с тем в XIX в. возникло историческое движение, которое ли-
шило эту веру в гармонию природного, прежде всего живого, и челове-
Злраиого смысла (англ.).
356
ческого существования ее предпосылок, фактически опровергло и духов-
но подорвало ее.
Из множества симптомов этого явления назову лишь те, которые в
общем известны. Сегодня мы видим: происходящие как бы в единой
цепи, политически выношенные или молча осуществляемые революции,
которые привели либерализм в формировании существования к победе,
повсюду происходящее включение политических постулатов свободы в
тенденции национального единения и самоопределения, — а также про-
возглашенное и в значительной степени осуществленное превращение
Земли в свободное координированное мировое хозяйство, не стали в об-
щественно структурной сфере, как они ни важны сами по себе, решающим
новым и воздействующим фактором. Напротив, значительным было то, что
не увиденное теорией гармонического образа мира, возникшей в XVIII в.,
вошло в нее из несломленной сферы силы в существовании.
Это означает, во-первых, что во внутренней социальной структуре
произошел расцвет фабричного капитализма с его социальной эксплуа-
тацией и социальными конфликтами, которые отнюдь не предвиделись
в грезах о гармонии мира. Во-вторых, что в политической структуре про-
изошло стремительное преобразование изначально идеально ориенти-
рованных национальных единений вследствие вхождения в них старых
сохранившихся элементов власти, которые превратили их в средоточия
экспансивного национализма и расизма. И, в-третьих, что в комбина-
цию капиталистических и государственных элементов власти посред-
ством возникшего из этого экспансивного империализма вошло нечто,
пронизавшее, даже заменившее, экономически свободные отношения в
мировой экономике разделом Земли.
Одновременно посредством цивилизаторски-технического прогресса,
наряду с вызванным им капиталистически-индустриальным преобразо-
ванием, происходит, с одной стороны, в ускоренном темпе рост населе-
ния Земли, с другой — стягивание линий общения и коммуникаций. Оба
эти явления в ходе образования эпохи массовизации привели к тому, что
люди оказались на сжатой планете и вместо прежних полупустых, нахо-
дящихся в свободной связи друг с другом социальных тел теперь тесно
примыкали друг к другу набитые людьми области, находящиеся в состо-
янии, близком к конфликту и трениям, внутри которых вызванное рево-
люцией в средствах коммуникации преобразование масс разрушило ста-
рые исторические структурные формы жизни.
В этих рамках произошел душевно-духовный отказ от гармонически
абсолютно обоснованного образа человека и мира и его разрушение по-
средством историзирующих, релятивизирующих и натуралистических
разоблачений, которое в конце концов завершилось уверенностью в том,
что даже для человека вплоть до его личной позиции значимый душев-
но-духовный ключ отношения к миру и истории находится в дарвинис-
тской борьбе за существование. Это было развитием, которое достигло
своей высшей точки в выступлении Ницше за срывание масок, несом-
ненно с полным основанием ощущаемом как освобождение от буржуаз-
ных условностей, а своей логической цели и кульминации — в парал-
лельно идущем развитии им самим диагностированного нигилизма.
Безобидный человек доброй воли, тот прежний образ, превратился
357
теперь в образ от природы прежде всего злого человека, в котором под
влиянием опьянения ницшеанской идеей антидоместикации видели ве-
дущий, быть может, к сверхчеловеку идеал. Даже если все это странным
образом вновь маскировалось на рубеже веков своего рода оптимисти-
ческой духовной распущенностью и течениями более глубокого пости-
жения человеческой природы, которое в интеллектуальных слоях прак-
тически большей частью завершалось возрождением аристократизма или
романтизма, — это было, — что сегодня нам в исторической перспекти-
ве уже ясно, — не просто основой распущенности власти, предшествую-
щей с 80-х годов мировым войнам. Это было основой внешне лишь с
1914 г. прорвавшимся свойством первой половины XX в. с его еще не за-
вершившимся двумя мировыми войнами общим ниспровержением.
II
Можем ли мы, считаю я нужным спросить, пройти мимо положения
университетов, которые в Германии в их современной форме были осно-
ваны, и в принципе основаны сегодня, на гармоническом образе чистой
культуры личности и ее проникновении в область образования посред-
ством участия в исследовании в гуманистической форме в рамках сво-
бодно избранной специальной и общей подготовки, можем ли мы прой-
ти мимо этих исторических коренных изменений, будто они не затраги-
вают центральных задач университета? Таков поставленный нам вопрос.
На него, даже с чисто внешней стороны, следует ответить — это не-
возможно.
Невозможно потому, что глубина изменений привела в университе-
тах к революционным преобразованиям уже в самом сообщении знаний.
Она находит свое революционное выражение в том, что возникающие из
стремительной эволюции предметного и духовного характера расшире-
ние и уточнение в областях и проблемах знания создают в университе-
тах перегрузку материалом, от которой они сегодня задыхаются. Эта пе-
регрузка привела к отчетливому расхождению между человеческой спо-
собностью восприятия и тем, что студентам необходимо, с одной сторо-
ны, для чисто специального образования, и что, с другой стороны, тре-
бовалось бы для формирования их личности в прежнем понимании. За
три или четыре, иногда за пять лет занятий, — рассматриваемых раньше
как приобретение знаний посредством участия в исследовании, — к
тому, что следует из этого расширения материала в виде предъявляемых
требований, вызванных не только прогрессом знания, но прежде всего
его связью с продолжающимся преобразованием существования, не мо-
жет быть просто в силу границ усвоения добавлено еще и то, что было бы
необходимо для достаточного формирования личности. Такова вызыва-
ющая постоянные обсуждения, происходящая именно из перегрузки мате-
риалом специализация университетов. Она — при более глубоком рассмот-
рении — является в значительной степени следствием постоянного преоб-
разования существования, присущего эпохе массовизации и совершающе-
гося в ней. Она — в известной степени чисто специальная сторона, способ,
которым сегодняшняя эпоха массовизации подрывает массовостью постав-
ленных ею проблем идеал образования личности в университетах.
358
Этому соответствует столь же угрожающее воздействие этой эпохи в
личностном аспекте.
Университет гумбольдтовского времени и первой половины XIX в.
был небольшим образованием с само собой разумеющейся связью меж-
ду учителем и учеником. В Гёттингене к началу XIX в. было 800 студен-
тов, примерно столько же в других университетах. Еще в 1914 г., после
уже значительно возросшей новой проблематики, на рубеже веков чис-
ло студентов всех западногерманских университетов составляло 24 тыс.
В 1952 г. их было уже 77 тыс.(в 11 университетах маленьких городов вме-
сте — 4600, в 4 больших — 31 тыс.). В самых больших университетских
городах насчитывалось 10 тыс. студентов и больше.
И это нельзя назвать фактически необоснованным переполнением.
Оно в сущности основано на том, что в новой эпохе массовизации с мно-
жеством новых проблем возникли массовые новые организации, занятые
решением этих проблем, которые в значительно большей степени, чем
прежние, нуждаются в академических должностях. Медиков сегодня
слишком много. Иное положение в естественных науках, где, как гово-
рят, например, в области химии недостает не меньше 5 тыс. специалис-
тов. Такова же потребность в экономическом и социальном секторе. Об
учителях, недостающим числом которых вообще пренебрегают, я уже не
говорю.
Однако этому безудержному росту учеников, а следовательно, и сту-
дентов, отнюдь не соответствует увеличение преподавательского соста-
ва. В 1853 г. на 100 ординарных и экстраординарных профессоров при-
ходилось 1800 студентов. В 1951 г. на 100 ординарных и 120 экстраорди-
нарных профессоров — 56003. Почти в 4 раза меньше, как мы видим.
Справедливо говорили, что раньше в университетах связь между препо-
давателями и студентами существовала не только в рамках изучаемого
предмета, но устанавливались и личные отношения между ними. Сегод-
ня, когда преподаватель часто вынужден работать со 100 и более участни-
ками своего семинара, необходимый личный контакт отсутствует, а тем са-
мым и важнейшая предпосылка прежних занятий, передача знаний посред-
ством участия в исследовании. К этому добавляется, что профессор настоль-
ко перегружен экзаменационными работами, проверкой прилежания, при-
суждением степеней и делами управления, что уже поэтому не может уста-
навливать контакт со студентами, а тем более серьезно заниматься с ними
исследованием. Разве что он разрушает свое здоровье, ибо 90% профессо-
ров, особенно экстраординарных, настолько материально не обеспечены,
что не могут даже оплатить необходимый отдых.
Перечисляя все это, я устанавливаю лишь известные факты, которые
рассматривались на всех конференциях по вопросам высшей школы,
особенно на очень тщательно и широко проведенной в августе 1952 г.
конференции в Хинтерцартене. Я не могу останавливаться здесь на всех
проблемах, прежде всего на проблеме кадров, которые там со всей осно-
вательностью рассматривались. Передо мной сегодня стоит только задача
показать, что основой названных центральных проблем — перегрузки
профессиональным обучением, внутренней стороной чего является спе-
циализация, разрастания университетов в огромные организации при
о^рутствии соответствующего пополнения преподавательского состава —
359
служит изменившееся историческое положение в эпоху господства масс.
Исходя из этой исторической ситуации, рассмотренной здесь лишь по
своим внешним последствиям, мне надлежит занять определенную по-
зицию по отношению к касающимся этих центральных проблем тща-
тельно продуманным реформам, отчасти впервые поставленным в Хин-
терцартене, отчасти вновь рассмотренным там.
Сразу же становится несомненным, что прежде всего следует обра-
тить внимание на внутреннюю сторону новой исторической ситуации, а
именно на изменение типа самих учащихся и на следствия этого изме-
нения. Однако сначала надо кратко, но убедительно, охарактеризовать
чисто количественную сторону этого положения, о которой спорить,
собственно говоря, невозможно, и вопрос здесь состоит только в том, в
каких границах она может быть изменена при нынешнем финансовом
положении.
Если сегодня, как мы видели, вследствие неизбежных условий эпо-
хи массовизации и массовости проблем на одну преподавательскую еди-
ницу приходится в 3 , 4 раза больше студентов, чем прежде, то, предот-
вратить утрату университетом своего в принципе до сих пор сохраняемо-
го характера в качестве сообщества по воспитанию и по передаче знаний,
посредством участия студентов в исследовательской работе и контакта с
профессорами, можно только увеличив тем или иным способом состав
преподавателей примерно в 3 раза. Этого можно достигнуть либо увели-
чением числа экстраординарных профессоров и оплачиваемых приват-
доцентов, что одновременно послужит совершенно необходимой подго-
товкой кадров, либо увеличением числа ординарных профессоров. Оче-
видно во всяком случае одно: так же, как невозможно сохранять у нас, в
Германии, в народной и общеобразовательной школе сложившееся по-
ложение, когда на одного учителя приходится в среднем от 45 до 48 уче-
ников — в Голландии и Бельгии, а также в России — 25, если мы не хо-
тим плестись в хвосте по уровню образованности народа, совершенно
исключено, что можно оставить неизменным соотношение между чис-
лом учащихся и преподавателей в университетах; в противном случае
нам придется открыто отказаться от образцового ранее уровня наших
университетов как духовно ведущих образовательных и исследовательс-
ких учреждений, ибо мы настолько превысим силы преподавательского
состава, что профессора не смогут серьезно заниматься исследовательс-
кой работой, и одновременно пожертвуем образовательным уровнем сту-
дентов, от которого в значительной степени зависит и духовное состоя-
ние нашей ведущей сферы. Все это, разумеется, очевидно и всем ясно. И
каждый, кто выступает перед немецкой публикой по вопросу об универ-
ситете и исторической ситуации, будет виноват, если не напомнит на-
шим политикам и правительствам об этой неотложной задаче во всей ее
простоте, но и необходимости. Этому служит и сказанное здесь.
Однако мы должны задать себе следующий вопрос об университете:
не произошли ли вследствие изменившейся исторической ситуации,
кроме названных, сравнительно внешних и хорошо известных угрожаю-
щих изменений и другие, внутренние, существенные для характера уни-
верситета перемены, которые следует принять во внимание, если мы хо-
тим полностью понять главную проблематику университета в наши дни
360
и отнести разработанные конференциями предложения реформ к той
сфере, к которой они действительно относятся.
Я вижу здесь прежде всего один решающий духовный факт, который
надлежит принять во внимание, потому что он относится к основному
смыслу сложившегося в гумбольдтовское время понимания роли универ-
ситетов и заставляет задать вопрос, будет ли предпринята, а если да, то
как, модификация прежней идеи господства личности и универсализма
в университетах.
Полагаю, что надо ясно понять: чисто универсалистски понимаемый
идеал знания, формирующийся из самого себя, стал в совершенно иной
духовной атмосфере нашей эпохи проблематичен. Фаустовская настро-
енность: «Но знанья это дать не может, И этот вывод мне сердце гложет»*
и связанный с этим соблазн прибегнуть к склянке с ядом сегодня отсут-
ствуют. Если сказать отчетливо: очарование универсального знания, воз-
высившее в XIX в. едва ли не безгранично престиж науки, сегодня, ког-
да познано и стало общим ощущением, что наука может, правда, дать
более широкие и глубокие условия для познания бытия и господства над
ним, но ответить на подлинно ориентирующие последние вопросы ми-
роздания неспособна, это очарование нарушено. И если, как известно
каждому, вместе с этим снизилось духовное значение университета, то
это значит, что и стремление студентов достаточно высокого среднего
уровня к возможной личностной гармоничности посредством приобре-
тения знаний ослабло, а у студентов низкого среднего уровня оно мини-
мально по сравнению с прежним. Не упрекая никого, нам следует сна-
чала просто констатировать и понять это. Ибо это существенная основа
возможной будущей программы, столь же существенная, как требуемое
конференциями облегчение материала по специальным предметам и ре-
форма экзаменов, что, впрочем, и я считаю необходимой внешней пред-
посылкой возрождения интереса к общим проблемам и возможного уча-
стия в расширенном studium generale".
Ответ на это возможен только исходя из очень общих соображе-
ний, ибо духовная атмосфера, о которой здесь идет речь, определяет-
ся исторической ситуацией в целом и в принципе соответствует суще-
ствованию. Есть в наше время пророки несчастья. Они считают, что
наша эпоха является концом всего, и призывают к набожности как к
лучшему и единственному средству. И к тому, чтобы духовно подгото-
виться к грядущему.
Упомянутое безразличие ведет к вопросу: может ли быть сохранена
идея личности? Следует ли изменить идеал нашего образования? Долж-
но ли заменить его идеалом специального знания и как объединить оба
направления?
По этому поводу я скажу — мне представляется это необходимым —
совершенно открыто. Я, конечно, не могу и не хочу удерживать кого-
нибудь от того, чтобы видеть и ощущать наше время таким образом и
делать для себя указанные выводы. Однако тогда я счел бы правильным
совершенно однозначный практический девиз, и он гласил бы: «Иди в
Переиод Б .Л. Пастернаки.
'" Общем знании {ют.).
361
монастырь». При такой позиции это было бы единственным действи-
тельно последовательным ответом.
Что же касается меня лично, то моя позиция иная. Все нынешние
пессимисты, лишь наиболее радикальным типом которых являются упо-
мянутые сторонники эсхатологии, видят, безусловно не без основания,
в равнодушии по отношению к универсальным вопросам симптом рас-
пространяющегося в нынешней исторической ситуации чувства возмож-
ной или действительной бессмысленности, даже абсурдности, нашего
существования. Эту бессмысленность или абсурдность мы должны, бес-
страшно констатируя, признать — такова моя точка зрения.
И если мы при этом поняли, — я не могу конкретнее показать, что и
как это происходит, — в чем скрывается эта бессмысленность, каковы ее
причины, в чем состоит связанная с ней опасность и каковы трудности,
которые надлежит преодолеть, и придать существованию иные структур-
ные формы вместо существующих бессмысленных, тогда наша задача,
какую бы позицию мы ни занимали, состоит в том, чтобы попытаться
спасти человечество в его столь поставленном под угрозу существовании
и этим спасением человечества вновь придать смысл его утратившей
смысл структуре.
Спасти же человечество означает по-прежнему спасти личность.
Правда, следует иметь в виду, что современное человечество - нечто со-
всем другое, чем некогда во времена Гёте и Гумбольдта, когда из всех ве-
ликих людей, которые тогда жили, пожалуй, только Гёте в старости пред-
чувствовал приближение чего-то нового, опасного.
Постигнуть человечество сегодня, в эпоху массовизации, означает вве-
сти в полученный образ человека очень многое из распространенного три-
виального, заурядного, даже низкого. Однако это не значит, как полагают
многие, ставшие слишком современными пророки, дистанцироваться от
масс и, беспрестанно жалуясь, говорить об ужасах массовизации. Это деше-
во, глупо, снобистски и неплодотворно, как всякий снобизм.
Постигнуть современное человечество означает совершить прорыв
сознания от старого изолированно воспринимаемого сознания личнос-
ти к новому — впрочем, уже однажды в XVIII в. частично ощущавшего-
ся — «связанному с Мы» сознанию личности. Это означает использовать
эту связь с Мы, чтобы преодолеть ложное представление о массе, мыс-
лимой как стадо. Конечно, Лебон прав, существует ставшая стадом де-
персонализированная, эмоционализированная и эмоционализируемая
масса, в которой каждый индивид опускается ниже своего уровня. Но это
не единственная форма массы. Существуют и духовно связанные массы,
держащиеся ясного общего суждения. И существует возможность пре-
вращения масс одного типа в массы другого типа.
Понять современное человечество и внутренне постигнуть его озна-
чает познать, что и масса состоит из индивидов. Означает видеть нашу
главную задачу в очеловечении, индивидуализации, персонализации
массы.
Я не могу здесь даже намекнуть на огромные, вполне конкретные, в
значительной степени решаемые задачи, которые из этого следуют. Го-
воря об университете и исторической ситуации, о связанном с этим воп-
росом формировании личности в университете, мне надлежит только
362
пояснить: во-первых, при конфронтации университета, его старых прин-
ципов и идей, с исторической ситуацией мы не должны отказываться от
этих принципов и идей. Напротив, мы должны их подчеркивать. Я лич-
но не стану ниспровергателем университета, хотя я и вынужден ясно об-
рисовать ниспровергающую его историческую ситуацию и указать на
конфронтацию с ней университета.
Но во-вторых, и столь же ясно, должно быть сказано: Мы должны
освободить старый идеал личности от солипсизма, в который он мог по-
пасть посредством либеральных теорий и их практики. Личности, кото-
рые мы воспитываем и формируем, должны быть связанными с Мы.
Только они могут в эпоху массовизации стать личностями, соответству-
ющими ей, и способствовать персонализации массы.
С точки зрения будущего университетского преподавания и обсуж-
денных необходимых для него главных реформ это означает, — причем
я могу остановиться лишь на самом очевидном и понятном, предостав-
ляя все более конкретное решению участников компетентных дискуссий,
— как мне кажется, следующее:
Во-первых, если мы стремимся для возможности сообщать универ-
сальное знание сократить объем специального знания, то целью этого
общего должна быть одновременно подготовка формируемого в универ-
ситете человека к связи с Мы; причем в том смысле, чтобы эта связь с
Мы становилась ему ясной из его растущей осведомленности о месте,
которое он занимает в исторической ситуации. Тогда сразу становится
очевидным, что из универсального знания следует ввести в освобожден-
ное от специального знания место. Очевидно, все то, что способствует
научно понятой ориентации в современном положении. Правильно, сле-
довательно, характеризовать для общей ориентации в расширенном
studium generale ступень сегодняшнего общего понимания мира людей и
предметов, причем как с точки зрения естественных наук, так и наук о
духе. Правильно конкретное расширение общего знания о связи с исто-
рико-социологически интерпретированным сегодняшним существова-
нием. Правильно политически-социологическое дополнение этого зна-
ния для будущих действий в сфере Мы. Правильно и каждое другое су-
щественное дополнение, соотнесенное с нынешним общим характером
существования.
Вы, быть может, удивитесь, что я как интеллектуал, говоря об общем
знании, не подчеркнул необходимость включения в него философии, что
раньше считалось едва ли не обязательным дополнением к специально-
му образованию. Это не свидетельствует о недостаточном уважении к
современной философии. Напротив. Дело в том, что современная экзи-
стенциальная философия, — ведь речь в сущности идет о ней, — на-
столько сублимированно, даже в известной степени утонченно, направ-
лена на освещение проблемы бытия, что у меня возникает вопрос, мож-
но ли по-прежнему постулировать для каждого проникновение в ход
этих мыслей. Общую же, прежде всего историческую, ориентацию в фи-
лософской проблематике и ее развитии я считаю вообще, и именно для
нынешних естественников, в качестве дополнения к специальным зна-
ниям совершенно необходимой.
Все это, конечно, каждый должен модифицировать в соответствии со
363
своими особыми интересами. Предлагаемое мной — лишь список жела-
емых дополнений, которые можно ввести в освободившееся от специаль-
ных предметов место.
Это одно.
Второе, по крайней мере столь же важное, в сущности в предметном
и внутреннем рассмотрении более существенное, состоит в пробуждении
интереса, в значительной мере, как было сказано, утраченного, к обще-
му знанию, дополняющему специальное образование.
Здесь следует подчеркнуть: пробуждение такого интереса будет сопут-
ствовать тому, как при сокращении специальных знаний будет отбирать-
ся материал, направленный на понимание сущностного. В этом отборе,
если он правильно совершается, уже заключена новая ориентация в про-
веденной научной подготовке таким образом, что она ведет к основным
вопросам, без ответа на которые в сущности невозможно глубокое пони-
мание бытия.
Это, следовательно, означает, что упомянутый отбор дает то, что не-
обходимо, имея в виду аналогичную, названную мною раньше задачу
формирования человека и личности и соответствующего ему видения
существования. Тот, кто будет действовать таким образом, сразу пробу-
дит и интерес, ибо правильно понятое общее всегда интересно.
Все чисто техническое, вернее, все, что можно легко самостоятельно
усвоить для удовлетворительно выполняемой профессиональной дея-
тельности из занятий, позже из книг или посредством наблюдения, сле-
дует устранить, чтобы освободить место для духовного знания. Начиная
с сегодняшнего дня университет должен ограничиваться существенным
в отдельных специальных вопросах и в вопросах общего существования.
В такой форме нам надлежит, как мне представляется, сблизить уни-
верситет с исторической ситуацией и сохранить в действительно револю-
ционной новой ситуации университет с его прежними принципами и
идеями, придать ему в новой ситуации новый образ, исходя из центра
модифицированного формирования личности.
III. Зодчество в наши дни4
Современное зодчество, наряду с современным изобразительным искус-
ством, прежде всего с живописью, я считаю наиболее явным, бросаю-
щимся в глаза каждому выражением громадного исторического преобра-
зования нашего существования сегодня. Подобно тому как современное
изобразительное искусство на рубеже веков, как бы взрываясь, отброси-
ло тысячелетием разрабатываемые средства выражения, например, пер-
спективу, более того, даже цель выражения — воспроизведение приро-
ды, и современное зодчество одновременно внезапно отказалось в ходе
происходившей в нем революции от тысячелетиями разрабатываемого
при различных душевных отклонениях языка форм, который складывал-
ся в западном мире, начиная от Древнего Египта до стилей рококо и ам-
пир (колонны, капители, фронтоны, карнизы), от всех архитектоничес-
ких способов выражения вместе с относящимся к ним орнаментом.
Зодчие пытались создать теперь нечто совершенно другое, работая в
364
принципе лишь со связанным с предметом формированием простран-
ства, иногда с краской, нечто полемически противоположное прежнему,
что каждый должен ощущать как в корне от того отличное, ибо под воп-
рос ставятся даже окна, предшествующий тип кровли, короче говоря,
весь существовавший до сих пор предмет архитектуры в его основной
прежней структуре.
Тем самым это новое зодчество провело цезуру, которая не имеет ни-
чего общего с тем, что было раньше просто изменением стиля, всегда
лишь преобразовывавшего и дополнявшего существующий мир форм.
Здесь же при отказе от этого мира форм и всех прежних традиций дела-
лась попытка создать нечто совершенно новое в воле и выражении фор-
мирования, совершенно так же, как это происходило в живописи и
скульптуре.
Я считаю то и другое самым явным выражением основополагающе-
го преобразования существования, в котором мы пребываем; оно — это
очевидно по всем симптомам — завершает тысячелетний исторический
континуум и вводит совершенно новый исторический период.
В то время когда в Германии еще шла борьба за права и признание
нового зодчества, я выступил в 1928 г. на заседании «Веркбунда»* в Мюн-
хене с интерпретацией нового зодчества как экзистенциального выраже-
ния новой возникающей исторической формы существования и пытал-
ся характеризовать новое зодчество как неизбежное его выражение. Од-
новременно я определил принятые в то время самоинтерпретации это-
го зодчества как недостаточно исчерпывающие, как ту, которая видела в
новой манере просто следствие применения новых материалов, стекла,
стали, бетона, так и ту, которая непосредственно связывала его с массо-
вой культурой, и наконец и прежде всего, самую излюбленную интер-
претацию, которая рассматривала новый стиль как выражение вновь об-
ретенной после ряда ошибок ориентации на «сущность зодчества» и, ис-
ходя из этого, определяла его как «новую предметность», представляю-
щую собой соответствие своей задаче и правильное ее решение в отли-
чие от прежних методов.
Все эти толкования нельзя назвать неверными, но все они частичны
и недостаточны, и каждое в отдельности, и все они в своей совокупнос-
ти, для понимания революционного по своему характеру феномена но-
вого зодчества. Мне казалось тогда и кажется теперь, что свое подлинное
значение такая интерпретация может получить лишь в том случае, если
рассматривать этот революционный характер зодчества как отражение
нынешнего преобразования существования в понимании и осуществле-
нии задачи зодчества, как новое постижение этой задачи, с одной сторо-
ны, и как новую интерпретацию средств, которыми для этого располага-
ют, — с другой. Основополагающим служит следующее: новое зодчество
— результат нового чувства жизни, которое выросло из современного
преобразования существования и продолжает все время расти из него в
сходной окраске и сходным образом. Это зодчество, как и любое другое,
есть формирование и концентрация пространства для определенных це-
' Объединение архитекторов, мастером декоративного искусства и промышлен-
ником. Оснонан п Мюнхене и 1907 г. — Прим. персе.
365
лей и определенных душевных содержаний, возникающих из данного
чувства жизни. Спрашивается: какие цели и какие содержания выступа-
ют на первый план в этом преобразовании, исходя из нового чувства
жизни, в формировании пространства? Какую общую окраску принима-
ет вследствие этого архитектурная организация пространства? И как она
относится к прежнему языку форм и к прежней организации простран-
ства, т. е. какие средства выражения ей приходится применять и какие из
них в этом преобразовании отбрасываются, и почему?
Не повторяя здесь полностью анализ, предложенный мной на заседа-
нии «Веркбунда», укажу лишь на некоторые пункты, поясняющие общий
характер нового зодчества и его связь с преобразованием существования.
Организация пространства в новом бытии, когда о Земле толкуют как
о столбе афиш, когда нет больше ни полностью замкнутых в себе близ-
ких, ни недостижимо далеких пространств, сдвинула все связанное с
землей и местом строительства, которое ведь всегда есть одновременно
определенная эмоциональная концентрация пространства, таким образом,
что в значительной степени ослабила, если не устранила, внутреннюю и
внешнюю связь здания с землей и местом.
Она эмоционально и фактически почти расторгла «замкнутость роди-
ной», присущую прежнему зодчеству, стерло его прежний «отечествен-
ный характер» и утвердила тенденцию преобразования архитектурного
произведения в находящуюся в больших, расширившихся пространствах,
более или менее чистую, свободную от сильной эмоциональной окрас-
ки концентрацию места пребывания, формирование которого, поскольку
оно не носит эмоциональной окраски, в целом совершают, или считают
необходимым совершать, в общем по существу рационально.
Складывающаяся в этом преобразовании форма жизни усилила в зод-
честве свойственную ей тенденцию ослабления и распада тем, что рас-
торгла или во всяком случае релятивизировала в возникших новых про-
странствах связи в прежнем привычном, духовном мире объектов и в
связанном с ним мире чувств и переживаний. Новая жизнь, нагромож-
дая посредством своего пансциентизма и панисторизма в огромных —
теперь и во временном отношении — пространствах многообразные,
равноправные, находящиеся в близости друг от друга переживания, ра-
сторгает связь с абсолютностью и неповторимой единичностью в пре-
жнем, значительно более ограниченном мире чувств и постижений.
Тем самым в значительной степени устраняются все прежние тради-
ции и заменяются, выражая это со всей резкостью, разнообразными по-
стижениями на случай, для которых пришлось устанавливать новые ду-
ховные связи, покоящиеся на возникновении нового духовного мира
объектов и постижений. Заменив таким образом в душевно-духовном
отношении связь с традицией относительностью, даже склонностью к
нигилизму, новое бытие и внутренне устранило в строительстве, в архи-
тектуре традиционную замкнутость и сделало для форм ее выражения
весь прежний язык бессодержательным, более того, настолько неприме-
нимым, что утвердилась тенденция просто выбросить его на помойку и
творить в мире нового психического и внешнего пространства совершен-
но по-новому в совершенно новых формах.
Причем самым решающим третьим было следующее: достигнув та-
366
ким образом новой ступени сознания и переживания, ступени, несом-
ненно открывавшей новые измерения глубины, и таившей в себе новые
возможности постижения, архитекторы, пройдя через все виды реляти-
визации и нигилизма, в новых душевных и фактических пространствен-
ных отношениях остановились перед надцелесообразными, надрацио-
нальными конкретными душевными движениями, которые они хотели
выразить, как перед неким ничто, перед еще непостигаемым, — во вся-
ком случае тогда, когда они стремились заключить это еще непостигае-
мое в новые концентрации пространства и ввести его в мир новых форм.
Архитекторы оказались со своим чувством жизни в новых душевных
и внешних пространствах поистине беспомощными, не обладая больше
прочной опорой в виде традиции и ее языка форм, имея только, с одной
стороны, природу, в которой они душевно ощущали себя по-иному, и
новую технику — с другой, по отношению к которой архитектор, совер-
шающий концентрацию внешнего пространства, должен был ощущать,
что именно эта техника играет решающую роль в новом типе строитель-
ства, по крайней мере во внешнем характере введения в пространство, и
одновременно не мог не понимать, что она предоставляет ему иные, чем
раньше, возможности концентрации пространства.
Эти кратко резюмированные прежние соображения я хочу дополнить
следующим: когда архитектор стоял беспомощным между природой и тех-
никой и ощущал ситуацию как совершенно новую, отличную от всего пре-
жнего, образовались три характерных для нового зодчества свойства:
Во-первых, подчеркнутый и носящий полемический характер отказ не
только от старого языка форм, но и от прежней выразительности. Возник
пуризм крайнего типа, который искал новых форм для архитектурных тво-
рений, что стало особенной характерной чертой нового зодчества.
Во-вторых, возникло связанное с этим пуризмом внутреннее ограни-
чение выразительных средств рациональностью и целенаправленностью,
неведомых прежнему зодчеству. Ибо оно всегда было в своей вырази-
тельности, даже в своих намерениях, при всем соответствии предмету,
свободной игрой надцелесообразных душевных сил фантазии, которая
полностью проявлялась в языке форм вплоть до орнамента. Все это но-
вая архитектура отклоняла и, следует добавить, продолжает отклонять. Вме-
сто этого она страстно подчеркивает трудовую деловитость, которая — это
характерно — отождествляется с рациональностью и целенаправленностью,
исключающими всякие излишние украшения, даже орнамент.
В-третьих, как только прежние средства выражения были устранены,
техника, оставшаяся наряду с природой единственной опорой, предло-
жила новые средства, и в ней действительно проявились новые возмож-
ности чрезвычайного расширения различных видов концентрации про-
странства, прежде всего благодаря использованию стали и стекла.
Оба материала предоставили возможность осуществить присущую
новому чувству пространства и жизни тенденцию освобождения архитек-
туры от прежней связи с землей. Достаточно вспомнить освещающую,
начиная с Парижской всемирной выставки 1899 г., дальнейший путь
Эйфелеву башню или возникшие сначала в Нью-Йорке небоскребы в
качестве гениального применения новой техники еще до развития тео-
ретизирования в новом зодчестве.
367
Далее: стекло и сталь предоставили совершенно новые средства для вы-
ражения содержащейся в новом чувстве пространства и жизни связи с при-
родой, которое соединилось в стеклянных стенах и просторных помещениях
с одновременно возникающей тенденцией гигиенического характера.
Все это привело к тому, что зодчество, с одной стороны, отказавшись
от прежнего, ориентированного на камень языка форм, почувствовало
себя особым образом связанным с новым материалом, даже прикован-
ным к нему и к возможностям его использования, и что оно, с другой
стороны, усилило, укрепило и догматически теоретизировало целенап-
равленную рациональность собственного архитектурного выражения.
В прочитанном в период борьбы докладе я поставил три вопроса, но
намеренно не дал на них ответа. Я сомневался в том, что новое зодчество
достигло уже какой-либо близкой стилю фиксации формы. Я характери-
зовал его как нечто, большое значение чего заключается в плодотворном
экспериментировании, но что именно поэтому еще носит характер чего-
то незавершенного, в известном смысле предварительного. И я оставил
открытым вопрос, может ли из данного зодчества в его собственном по-
нимании развиться монументальная форма и форма выражения репре-
зентативных архитектурных целей.
Одновременно я затронул проблему, следует ли разрешать новому
зодчеству при его радикальной, пребывающей еще в стадии эксперимен-
та инаковости и его полемическом пуризме «вторгаться» в замкнутые
архитектурные сферы мира старых форм, или как установить связь меж-
ду старым и новым.
По поводу этих трех комплексов я хочу сегодня, почти четверть века
спустя, кое-что сказать. При этом я соединяю два первых вопроса: воп-
рос о завершенности формы и о решении задачи репрезентативности и
монументальности.
Сегодня — как и тогда, в 1928 г., — при моем отношении к новому
зодчеству как к необходимому выражению существования речь может,
конечно, идти не о том, следует ли, исходя из нынешнего чувства жиз-
ни, применять на новых основах новые методы строительства, а только
о том, как это делать. Вопрос состоит в следующем: какая воля и прису-
щее ей формирование существует сегодня в архитектуре? Правильно ли
и достаточно ли полно видят, исходя из этой воли, задачи архитектуры?
Какие идеи и какое применение средств возможны в архитектуре в рам-
ках преобразования существования, в котором мы пребываем?
Другими словами, какие задачи могут быть удовлетворительно реше-
ны посредством новых архитектурных форм и если решены могут быть не
все, то нуждаются ли сегодняшние идеи в архитектуре и их самоинтер-
прстация в сегодняшней доктрине — ибо современное зодчество связа-
но с доктриной — в дополнении или прорыве и можно ли в нынешнем
психическом состоянии и положении действительно совершить этот
прорыв, преступить сегодняшнюю границу?
Следует ли считать, что для действительно репрезентативного зодче-
ства это не только нужно, но и возможно в теперешней ситуации?
Со времен своего возникновения новое зодчество прошло различные
стадии, которые не внесли в него, однако, каких-либо существенных из-
менений.
368
Первая стадия относится к рубежу веков и была, насколько я могу су-
дить, европейской, причем впереди шла Голландия; в Германии новое
зодчество развилось из стиля модерн, первым отказавшимся от языка
старых форм, но в творчестве своих великих мастеров еще вступавшим
в компромисс с другими, например барочными, элементами.
Затем после Первой мировой войны наступает вторая, также еще ев-
ропейская эпоха, когда архитектура, отбросив все элементы старых
форм, стала строго пуристской, как я описал это в 1928 г. При этом в
последовательном использовании новых идей в архитектуре сохранилась
градация от щадящего сохранения формы и членения прежнего строения
до полной их замены совершенно новыми формами, следовательно, до
конструкций, известных нам по школе «Баухауза»* Гропиуса, по Мису
ван дер Роэ, а в романских странах по Корбюзье.
После международной выставки архитектуры в Вашингтоне в 1932 г.
вслед за фактически уже раньше примененными новыми архитектурны-
ми методами при строительстве небоскребов произошло их принципи-
альное внедрение и их победное шествие по Соединенным Штатам, а
тем самым и по всему миру. При этом сильнейшими импульсами разви-
тия радикальных новых архитектурных форм и их многообразия служи-
ли различные климатические и иные предпосылки и условия в отдель-
ных штатах и действующая там техническая фантазия.
Одновременно повсюду перешли к тому, чтобы применять новые ар-
хитектурные методы не изолированно, а в рамках большой общей про-
странственной композиции; осуществить их пытались повсюду, исходя
из нового свободного чувства жизни и пространства, посредством ис-
пользования всех современных технических средств, руководствуясь не
только гигиеническими соображениями, но и красотой членения и вве-
дением здания в природную среду.
Вследствие этого мы располагаем архитектурой, которая в своем
радикальном и, насколько мы можем судить, все усиливающемся кры-
ле следует тенденции не только в строительстве фабрик, что само со-
бой разумеется, но и учреждений — больниц, школ, административ-
ных зданий — и наконец, жилых домов, разрушать прежнюю форму
зданий с их привычным вертикальным членением и одновременно
отказываться от связи строения с землей, то ли посредством того, что
средний этаж помещается на высокие столбы, заменяющие нижний
этаж, освобождая место для парковки или иных целей, то ли посред-
сгвам того, что этот этаж выступает вперед в виде навесного экрана
или иным образом; кровля же, прежде охватывавшая сверху вниз и
фиксировавшая в определенном месте часть строения, может быть
использована, если она теряет значение как самостоятельная струк-
турная часть здания, для самых различных целей, например, в каче-
стве доступного с помощью наклонного въезда автопарка, находяще-
гося уже не под зданием, а на нем. Разнообразным результатом этого
может быть следующее:
для фабрик, прежняя фронтальная форма домов которых была дей-
" Высшая школа строительств и художественного конструирования, основанная
п 1919 г. и Веймаре. — Прим. перев.
369
ствительно нелепостью, — замкнутое прямоугольное строение с соответ-
ствующими цели проемами для доступа света и с большими стеклянны-
ми стенами вместо окон;
для учреждений, следовательно, больниц, школ и административных
зданий, — соответствующая цели разнообразная форма зданий, которые,
если они предназначены для школ или больниц, где делится не только
фронтальная линия домов, но и сами здания, превращаются как бы в
пронизанные светом и воздухом помещения; для административных зда-
ний и исследовательских институтов построение прямоугольных коробок
без окон с большими стеклянными стенами;
для жилых домов, поскольку речь идет о виллах, применяется фанта-
стическая, включенная в природную среду многообразная форма зданий,
где много стекла и террас вплоть до своеобразных, похожих на панора-
му домов с огромной стеклянной фронтальной стеной на этаже, служа-
щем жилым помещением, который покоится на легких столбах.
В многоквартирных домах — если не создаются замкнутые места посе-
ления с расчленением на жилье и свободное пространство с застекленны-
ми и иными проемами на внутренней стороне зданий при отсутствии окон
на внешней стороне, — следовательно, во включенных в проездную трассу
многоквартирных зданиях, прежняя форма окон и кровли, по крайней мере
в Европе, в некоторой степени сохраняется; однако при стремлении к уси-
ленному доступу света и воздуха фронтальность домов, сформированная со
строго пуристских точек зрения, требующих устранения всех прежних форм
и всякого орнамента, осуществляется таким образом, что возникает хорошо
известная сегодня каждому горизонтальная и вертикальная, большей частью
надоедливая последовательность домов, окрашиваемых на европейском
континенте обязательно в белый цвет.
В Соединенных Штатах пытаются избежать этой довольно безрадостной
картины посредством отодвигающих фасад домов структурирований или
расположения этажей уступами при использовании краски и достигают чле-
нения, очень приятного по своему эстетическому оформлению.
Таким образом, сегодняшняя новая архитектура, и именно она, носит
строго доктринерский пуристский характер и ведет, поскольку речь идет
об очень существенном фронтальном строительстве домов, к своего рода
чистой, еще усиленной белым цветом домов абстрактности в архитек-
туре. Если оставить с стороне строительство вилл и поселков, являю-
щихся особыми комплексами, то не только жилые дома, но и здания для
учреждений и прочих коллективных целей строятся в форме кубических
и прямоугольных коробок, в которых доступ света и воздуха, затруднен-
ный в прежних закрытых зданиях, достигается посредством больших
стеклянных стен и проемов, а связь с землей устраняется созданием опор
в виде столбов и выступающих друг над другом в виде навесных экранов
и перекрывающих друг друга прямоугольных коробок.
Сущность этого направления — продуманная, по возможности чис-
тая, соответствующая цели форма, его душевный характер — отчетливая,
в целом преднамеренная трезвость. Этот характер может привести к слу-
чайной монументальности, как это произошло вследствие недостатка
места из соображений чистой целесообразности в Нью-Йорке при созда-
нии небоскребов; впрочем, там благодаря башнеобразно заостренной
370
форме большинства небоскребов сознательно или бессознательно вво-
дится почти надрациональный романтический элемент формы, усилива-
ющий эстетическую грандиозность.
Очевидная связь строительства небоскребов с новой техникой может
быть использована и в применяющей ее приемы сознательной, наднаци-
ональной монументальности, классическим примером чего служит уже
упоминавшаяся Эйфелева башня.
Ведущая в надрациональное, освобождающая красота может быть со-
здана и в чисто рационально обусловленном строительстве больших це-
левых зданий посредством новейшей техники, как, например, при стро-
ительстве многих стальных современных мостов с их великолепным раз-
махом или современных амфитеатров с их крупными, создающими ощу-
щение душевной свободы, формами. Я считаю, например, что берлинс-
кий стадион в своем роде так же прекрасен, как Колизей. (Впрочем, мо-
сты и амфитеатры, следовательно, чисто целевые строения, относятся к
самым выдающимся художественным архитектоническим сокровищам,
дошедшим до нас от римской античности).
Однако помимо тех случаев, когда вследствие внезапной идеи или це-
левой природы задачи неожиданно происходило возвышение современ-
ной архитектуры до надцелесообразной, освобождающей вследствие
эмоциональной возвышенности сферы, она в целом остается в органи-
зации пространства и членении заключенной в эстетически ритмизиро-
ванную чистую рациональность; выражением этого служит господство
формы, расчлененной посредством различного расположения прямоу-
гольных коробок, которая там, где она вследствие местных условий не
поднимается вверх, создавая небоскребы, являет собой в целом унылую
прямоугольную горизонтальность.
Следствием этого оказывается, что строения коллективного назначе-
ния с их по своей природе надцелевым содержанием в сущности ничем
не отличаются от чисто целевых построек, что, например, новейшее ве-
ликолепное здание музея в Соединенных Штатах выглядит совершенно
так же, как расчлененное по современным принципам здание хозяй-
ственного управления, что строятся ратуши, ничем не отличающиеся от
любого другого административного здания, что воздвигается здание пар-
ламента — как, например, в Бонне, — которое кажется огромной, со-
зданной для каких-то полезных целей оранжереей.
Надцелевое душевное коллективное содержание исчезает, и возника-
ет не «предмет архитектуры», а просто хорошо выполненная постройка.
Ибо всякое подлинное произведение архитектуры основано на выраже-
нии его особого душевного содержания посредством надцелесообразных
архитектурных форм. Достаточно вспомнить преступно разрушенный
берлинский дворец, в котором изумительное членение его фронтонов
колоннами так же не имеет ничего общего с целевым формированием,
как и его великолепный купол.
Современное строительство ориентируется в решении своей задачи
на эстетически пропорционально проведенную гигиенизацию жилья и
на правильно члененную рационализацию его предметно понятых дан-
ностей. Принципиально это было подчеркнуто и на последнем заседании
Союза немецких архитекторов в Дармштадте. Мое возражение вызвало
371
бурный протест. Повторяя критическое замечание Ганса Меллера в бер-
линской «Актион» по поводу ганноверской выставки произведений ар-
хитектуры, замечание, которое относилось и к демонстрируемой там
внутренней отделке, скажу, что современное строительство является воз-
двигнутым эстетическим минимизмом.
Этому воздвигаемому минимизму совершенно необязательно захо-
дить так далеко, чтобы из-за отсутствия более глубокого второго душев-
ного измерения в формах выражения и вследствие господства нумерации
и деперсонализации, которой ведомо лишь более или менее целесообраз-
ное «пространство для кого-то» (»man-Raum»), человек ощущал безвы-
ходное отчаяние, как говорит о своем состоянии Ганс Меллер. В Соеди-
ненных Штатах этого удается в значительной степени избежать посред-
ством индивидуализированной структуризации, посредством почему-то
столь презираемого теперь у нас использования окраски зданий и отка-
за от существующего у нас магического подчинения требованию приме-
нять наиболее современные материалы. Франк Ллойд Райт, самый вли-
ятельный архитектор в Штатах, разработал для всего богатого деревом
Запада, в южной части которого необходима также защита от солнца,
комбинацию из стекла и дерева и посредством члененных, уступами вы-
ступающих террас и плоских деревянных кровель достиг в тамошнем
зодчестве такой эстетизации, которая близка к подлинному стилю и
иногда напоминает упрощенную деревянную китайскую архитектуру.
Однако принципиальный минимизм и боязливая приверженность к
определенной структуре сковывали у нас даже подлинно гениальных ар-
хитекторов, таких, например, как Отто Бартиинг, который в своих пре-
красных церквах, в строениях, где невозможно не искать архитектони-
чески особенного, соответствующего душевному содержанию, образа
вынужден был держаться определенного материала и структуры. Вместе
с тем его проекты, целиком разработанные, исходя из структуры матери-
ала, как, например, знаменитый проект так называемой «Звездной цер-
кви», показывают, какие возможности для современного репрезентатив-
ного и монументального строительства заложены в новых материалах,
если использовать их в свободном полете фантазии для надцелесообраз-
ных содержаний в развитии структуры.
Предпосылкой для такого репрезентативного и монументального
строительства было бы: во-первых, чтобы измерение надцелесообразного
душевного содержания, которое каждое репрезентативное здание долж-
но выражать по-своему, стало бы вновь всеми открыто и осуществлено
как общая задача строительства и там, где она не столь очевидна, как при
постройке церквей; чтобы архитектура освободилась от скованности
только задачами жилья и местопребывания и серьезно боролась за выра-
жение в структуре здания надцелесообразных коллективных душевных
содержаний. Для этого нужно мужество в двух направлениях. Надо по-
нять, что душевные содержания такого рода, взывающие к структурной
выразительности, покоятся на налрациональных движениях души и что
эти душевные движения не могут быть выражены в чисто прямоугольных
формах, что эти формы надо, следовательно, сломать.
При этом, во-вторых, ошибочно снизываемый сегодня с творческой
деятельностью гипноз материала должен быть ослаблен. Следует веном-
372
нить, что прежний язык форм, от которого отказались, следуя тезису
«справедливость по отношению к материалу», действительно возник со-
всем не вследствие обусловленности материалом, что каменный купол
образовался не из каменных построек и что отброшенный язык форм ка-
менных построек относился изначально — от колонны до фронтона и кар-
низа — не к камню, а к развивающейся в свободном полете фантазии дере-
вянной архитектуре. Поэтому связывать язык форм исключительно с мате-
риалом и развивать его, исходя из материала, — неверная установка.
Почему же сегодня движения души, которые ищут специфическое,
независимое от материала архитектоническое выражение, должны быть
менее допустимы? Почему они сегодня должны, вплоть до орнамента,
означать меньше, чем раньше?
Существуют, по-видимому, две причины, которые законным образом
здесь ограничивают и действуют против освобождения в выражении ду-
шевных движений. Это, во-первых, страх перед возможностью возврата
прежней безвкусицы, я хочу сказать, перед бездушным применением
ставших бессодержательными форм и, во-вторых, ощущение, что в фак-
тических и предметных данностях новой архитектуры все еще отсутству-
ют задатки свободного, надцелесообразного развития фантазии.
То и другое отчасти оправдано.
Устранение нынешней чистой целенаправленности в архитектурных
формах может быть совершено только при сохранении эмоционально
данной теперь линии в осуществлении архитектурного пространства, т.е.
должно проистекать из следующих из этого структурных возможностей,
исключающих всякое применение ставших бездушными элементов фор-
мы, следовательно, безвкусицы.
С другой стороны, новые нетрадиционные структурные возможнос-
ти, прежде всего новейшие материалы, еще далеко не исчерпаны. Непо-
нятно, почему, например, для выражения, по крайней мере в одном на-
правлении, универсального душевного содержания здания Объединен-
ных Наций не использована ведущая в волшебную сверхдействитель-
ность структурная форма легкого центрального здания с проемами со
всех сторон, как это сделано в гениальном проекте «Звездной церкви»
Бартнинга, вместо того чтобы придавать ему форму коробкообразного
небоскреба, вследствие чего прежде всего бросающееся в глаза здание
бюро производит впечатление коробки сигар. Здание в целом обладает в
лучшем случае эстетическим качеством Рокфеллерского центра и никак
не указывает на надцелесообразное душевное состояние, которое следо-
вало выразить архитектонически.
До тех пор пока все это и другие подобные меры не будут приняты и
чисто прямоугольные формы сегодняшней архитектуры не будут устра-
нены и заменены новыми, возможными именно при использовании но-
вого материала структурными формами, выражающими особый душев-
ный склад коллективных содержаний, у нас не будет действительно но-
вых репрезентативных зданий, а будут лишь целесообразные, в извест-
ных границах даже красивые, внутренне и внешне правильно оформлен-
ные полезные постройки, но не новая архитектура.
Вероятно, правильно видеть в происходящем изменении в конечном
итоге следствие свойств нашего времени как революционного переход-
373
ного периода, их распространение и на архитектуру. Это период, в кото-
ром беспрестанно идет борьба за жизнь и ее душевное витальное ново-
образование и в котором поэтому нет ни времени, ни настроения, а,
быть может, и внутренней возможности для того, чтобы дать возникаю-
щим в нем и изменяющим его великим душевным коллективным содер-
жаниям действительно новые структурные формы выражения; даже на-
прашивающимся, зарождающимся новым теллурическим содержаниям.
Итак, если новая архитектура остается по существу структурным це-
левым строительством, то пусть она со своей заключенной и в эстетиза-
ции трезвостью, которая в Германии еще усиливается едва ли не культо-
вым пристрастием к белой стене, не вторгается в центры старых городов,
сохранившихся в хорошем состоянии. Эти городские центры всегда об-
ладают архитектонически определенным душевным настроением и, как
правило, известным общим колоритом.
В той степени, в какой они из-за полного разрушения или каких-либо
иных причин не нуждаются в новом формировании, их следует щадить от
посягательств новой архитектуры. Применение ее теоретически и догмати-
чески проводимых целевых форм должно быть ограничено регионами, не
относящимися к центру этих городов. При новых постройках в уцелевших
старых центрах и их ремонте необходимо сохранять их стиль. Это может и
должно быть осуществлено в рамках современных требований. Если при
этом удается достигнуть выражения окружающего настроения собственны-
ми структурными средствами — хорошо. Если же для этого нехватает фан-
тазии и продуктивности, то введение нового элемента должно совершаться
посредством осторожного применения структурных средств для передачи
настроения, присущего имеющимся зданиям.
При этом окажется, что современный пуризм, отрицающий все
структурные средства выражения прежнего душевного движения, пре-
увеличивает необходимость отрицания прежних средств выражения. Он
может, как нам кажется, и применяя элементы барокко, стиля бидермей-
ер или ампир, достичь своих целей, т. е. создавать внутренне и внешне
правильные и красивые здания, вполне современные по своей сущнос-
ти и своему содержанию.
Примечания
1 Напечатано впервые в «Deutsche Rundschau», 1952, Febr.
2 Доклад в университете летом 1953.
3 Ср. Hess H. Hochschulreform unci kein Ende. Ruperto Carola, Dez. 1952.
4 Доклад в Дармштадтской академии языка и поэзии (Darmstadter Akademie fur
Sprache und Dichtung).
Перевод с немецкого яз. выполнен М.И. Левиной по изданию: Weber A. Der
dritte oder der vierte Mensch. Vom Sinn des geschichtlichen Daseins. Munchen, 1953.
На русский яз. переводится впервые.
Прощание с прежней историей.
Преодоление нигилизма?
Предварительные замечания
Зта маленькая работа написана в последние годы войны, когда
стало ясно, что война становится событием, которое в корне
преобразует дальнейшую историю. Можно ли было тогда пра-
вильно оценить все границы и все содержание этого преобра-
зования, сомнительно. Однако сущность и душевно-духовное
его содержание были, вероятно, уже в некоторой степени постигнуты. О
судьбе же нашей родины, о судьбе Европы, мы, немцы, и сегодня еще
ничего окончательно не знаем.
Будем надеяться на то, что те, от кого сегодня это зависит, станут не
только искать виновных, не только наказывать и требовать исправления
ошибок, требование, которое они, конечно, должны нам предъявить, но
подумают также о том, что в историческом пространстве существуют
тела, которые нельзя безнаказанно расчленять и безнаказанно держать
необозримое время в военной и политической изоляции. Нельзя потому,
что при общей связи экономики и жизни этим наносят вред самим себе
и потому, что внутренне связанному живому организму нельзя длитель-
но препятствовать выступить вовне при представившейся возможности.
Будем надеяться, что те, от кого это зависит, установят, если не сегодня,
то завтра, такой мир, который будет действительно миром, т. е. даст
внутренне умиротворение всем. Пусть этот мир будет сначала жестоким,
но он должен в обозримом времени предоставить всем народам, даже
наиболее контролируемым, а к таковым сегодня относится немецкий
народ, будущее. Плохо, если мне когда-нибудь придется сожалеть, что я
написал эту книгу, которая поистине не щадит мой народ. Плохо не для
меня, а потому, что это означало бы. насколько каждая попытка содей-
ствовать подлинному оздоровлению мира стала бессмысленной.
Судьба мира сегодня в руках очень немногих, столь немногих, как
еще никогда не было в истории. Справятся ли они с этой огромной за-
дач ей?
С другой стороны, поймет ли сегодня немецкий народ, этот столь
любящий порядок и, что ведь никто не станет оспаривать, смелый, в це-
лом очень одаренный народ, сегодня в значительной своей части полно-
375
стью отчужденный от самого себя, что с ним, собственно, произошло?
Не с внешней стороны. Здесь и слепые смогут осязать страшную логику
всех событий, когда они узнают подлинные факты, которые от них до
сих пор в значительной степени скрывали или доводили до них в иска-
женном виде. Понять не с внешней стороны, а как духовное тело! Смо-
жет ли он, будет ли у него достаточно душевного величия, чтобы в стра-
дании и нужде, под чужим давлением и чужим господством свести сче-
ты с самим собой? Будет ли он способен, погружаясь в себя, вновь от-
крыть собственные человеческие глубины, найти там новую почву, из
которой проистекают освобождающие источники? Вместо того чтобы,
искажая или забывая чудовищные события, в которых он виновен, изво-
дить себя в горькой реакции или, что еще хуже, в ненависти к жестоким
исполнителям им самим призванной судьбы? Устоит ли он в этой про-
верке, предназначенной в истории великому народу, так, чтобы оказать-
ся победителем? Победителем собственной тени. Откроет ли он, в борьбе
с самим собой, в новом свете свое внутреннее богатство. Это позволило
бы ему вновь стать равным по достоинству каждому народу Земли.
Альфред Вебе р.
В феврале 1945.
Приложение
Просматривая после конца войны в Европе эту работу, я не вижу, не-
смотря на все то, что произошло за это время, основания менять ее со-
держание, а тем более ее общую позицию. В волнах ненависти, обрушив-
шейся на все, связанное с немецким народом, ненависти, которая пос-
ле всего случившегося не скоро иссякнет, мы виноваты сами. Из после-
дней главы книги явствует, как следует относиться к ужасным фактам,
которые за это время были открыты или только теперь стали очевидны
в своем значении, а также к степени нашей общей ответственности за
них. Эта ответственность несомненна, хотя мы и не знали о всех ужасах
происходившего. Хочу напомнить, что последняя глава книги написана
до разоблачений, сделанных после войны.
Глубина бездны, на которую там указывалось, теперь еще очевиднее.
Очевиднее, как я надеюсь, и задача, стоящая перед нами, независимо от
того, облегчат ли или затруднят нам ее победители.
Альфред Вебер
Июнь 1945
Введение
О чем вдет речь
После пережитой и еще переживаемой нами катастрофы мы находимся,
что должно быть ясно каждому, кто способен видеть, несомненно перед
концом прежней истории, истории, которая в сущности определялась
Западом.
Как показано в моей «Истории культуры как социологии культуры»,
после естественнонаучных открытий и технических преобразований пос-
леднего времени мы находимся уже не на нашей милой, привычной,
столь обширной, предоставляющей бесконечные пространства и переме-
ны старой Земле, а на новой планете, которая странным образом соеди-
няет прежнюю геометрическую широту, ее полноту и многосторонность,
с полностью изменяющими существование сокращениями и постоянны-
ми всеобщими контактами. Совсем не одно и то же услышать через пол-
года, как это было прежде, что «где-то далеко в Турции сражаются наро-
ды,» или ежедневно непосредственно участвовать в борьбе народов за
власть, в полемике о ней, охватывающей весь земной шар и мгновенно
влияющей на все планы и действия; узнавать о каждом акте, каждом
высказывании, где бы это ни происходило, почти сразу же, как будто это
происходит в том же городе, едва ли не в том же помещении. Короче го-
воря, существовать в мире, оставшемся в ходе преодоления пространства
большим и одновременно превратившемся в крошечный. И совсем не то
же самое считать звуки, краски, миры сил и теплоты, а также шкалу фи-
зического и химического воздействия, единственно существенным в
мире человека, природы и практики, или считать научно доказанным, и
вообще знать, что это лишь небольшой фрагмент необозримо многих,
быстро действующих в космосе факторов, в излучении сил которых мы
пребываем и которые мы используем, фрагмент лучей, волн, квантов,
полей, преобразующихся в звуки, силы, лучи света, невидимых акусти-
ческих и оптических призраков, проникающих и прозревающих каждое
облако, каждую стену и доводящих до нас ранее неизвестные соответ-
ствия в космосе. Узнать, что «прочная материя», с которой мы сталкива-
емся, не что иное, как недоступная нам в своей сущности маскировка
энергии всех таинственных электрических, магнитных, радиоактивных и
иных сущностей, на которые, если исходить из материи, распался кос-
мос; что наш бедный рассудок настолько мало может понять сущность
этой маскировки сил, что способен выразить постоянно происходящее
вокруг нас и в нас только в формулах вероятности действия спонтанно-
стей, в формулах, которые к тому же по своему содержанию не могут
быть соединены друг с другом, приведены к одному знаменателю (на-
пример, корпускулярная форма и волновое движение света); что суще-
ствует не бесконечность и вечность в понимании наших отцов, о чем мы,
несмотря на Канта, все еще говорили или что привыкли себе представ-
лять, а множество равноправных типов представлений об этом привыч-
ном, окружающем нас мире: и если мы хотим проникнуть за материаль-
ный процесс их тайн, то должны располагать рядом таких независимых
друг от друга представлений; короче говоря, все казавшееся до сих пор
377
несомненным как будто разносится в разные стороны, сталкиваясь друг
с другом, лишь только мы пытаемся схватить хотя бы только окружаю-
щий нас мир вещей, и вместе с тем этот мир вещей одновременно ока-
зался благодаря этим открытиям настолько в нашей власти, что в нем как
будто не существует больше расстояния, не существует пребывающей са-
мой по себе неприкасаемой, непреодолеваемой для нас в ее разделах
сферы звуков, красок и материала.
Поистине это образование без непреодолимого расстояния, без раз-
деленных миров восприятия и действия, в сущности без основы в виде
старой, столь прочной, протяженной материи, которую мы раньше счи-
тали телом всего этого, стало чем-то в корне таинственным, тем, что при
внешне прежней величине сжалось для деятельности и переживания в
маленький шар и теряется для мышления в тысяче непредвиденных зад-
них планов и постоянных превращений; чем-то, материальные условия
которого представляются практически изменяемыми и используемыми
посредством трансформации действующих в нем факторов, тогда как те-
оретически его тело, материя, стало в известной степени прозрачным,
превратилось в нечто вроде покрова, через который сквозит имманент-
но в нем находящееся трансцендентное. Быть может, еще говорят о тя-
готении, о сродстве элементов, говорят об энтелехиях, биологически рас-
крывающихся в живом, знают о коллективных, чисто биологических и
душевных силах, обладающих на этой по-новому воспринимаемой и
подчиненной Земле огромной валентностью. Но сознают ли при этом -
проницательные люди осознали это давно, — что все это только слова по
поводу совершенно недоступных нам, отчасти даже непонимаемых нами
по своей сущности сил; аббревиатуры, посредством которых мы полага-
ем, что объясняем, но в которых скрывается лишь наше невежество и
нечто непосредственное, повсюду и всегда присутствующее трансцен-
дентное; задача не в том, чтобы просто до известной степени практичес-
ки овладеть материальными комбинациями условий, посредством кото-
рых оно действует, надо наконец увидеть его как активное, единственно
активное и спонтанно имеющееся, чтобы соответственно этому схватить
свой образ мира и, поскольку речь идет о душевно-духовном в человечес-
кой природе, также и то, чего надо держаться, по отношению к чему най-
ти ориентацию, с помощью которой сегодня можно действительно пре-
одолеть господствующий в ориентации повседневности и в общей зада-
че нигилизм; преодолеть этот нигилизм, являющийся наиболее глубокой
причиной - высокие умы заметили это уже раньше - катастрофическо-
го исторического крушения, которое мы, западные люди, особенно мы,
европейцы, привнесли в мир и которое так же надлежит преодолеть, как
и возникшее из старых отброшенных пространственных отношений, ко-
ренящееся в них историко-социологическое понимание возможных вне-
шних структурных форм человеческого существования, понимание, ис-
ходя из которого мы сегодня действовали так, будто все еще находимся
на старой Земле, и посредством таких действий превратили последней
войной наше прежнее существование в груду развалин.
Проведем совершенно предварительно несколько как будто внешних
линий, касающихся этого предшествующего строя нашего существования,
того, как он был разрушен и что это, сначала чисто внешне, означает.
378
Историческое существование людей было больше, чем 5 тыс. лет, со
времени образования в Египте, Вавилоне, на севере Индии и затем в
Китае первых высоких культур, расчленено на замкнутые государствен-
ные, экономические и духовные исторические тела, которые представля-
ли собой в первые тысячелетия покоящиеся в себе, неэкспансивные, как
правило, расположенные вдоль регулируемых рек образования.
Начиная приблизительно с 1200 г. до н. э., вследствие набегов коче-
вых народов, эти образования были на востоке, в Индии и Китае, пре-
образованы в подлинные крупные организации, которые, поскольку речь
идет о Китае, иногда даже стремились к экспансии. В целом они отчас-
ти по географическим, отчасти по причинам их душевно-духовного со-
стояния оставались покоящимися в себе, без меняющего их сущность
исторического развития, подверженными лишь процессу продуктивно-
го изменения и повторения своего бытия. Напротив, на западе, т. е. к за-
паду от Гиндукуша, с приходом кочевых племен возникла «история»,
обособление государств, империй и сфер культуры, которые в чуждом
друг другу бытии сменяли друг друга посредством захватов, подчинений
и разрушений; при этом они занимались обменом и оказывали плодо-
творное влияние друг на друга, хотя одновременно в течение тысячеле-
тий, с 1200 г. до н. э. до 1800 г. н. э., следовательно, на протяжении трех
тысячелетий, находились в постоянном соперничестве; в соперничестве,
завершению которого всегда в качестве последнего средства служила
война и целью которого были никогда полностью не осуществляемые
всеохватывающие империи, никогда в тщетных усилиях не достигаемые,
беспрестанно ведущие к новым тотальным преобразованиям и новым
членениям господства с новыми содержаниями культуры. Эта велико-
лепная игра, которую под впечатлением ее вечного изменения вплоть до
Ранке и после него только и называли на Западе «всемирной историей»,
отодвигая в сторону весь восточный мир с его иным характером, после
неудачи последних попыток основать империи, предпринятых римляна-
ми, затем арабами и германским племенем франков, завершилась двоя-
ко: громадным завоеванием Земли Европой, а в самой Европе в качестве
носителя завоеваний созданием системы самой себя регулирующей вза-
имной уравновешенности великих находящихся в ней государственных
и хозяйственных тел, системы, странным образом недавно изобретенной
Англией как будто для ее пользы и названной системой европейского
равновесия. Сколь ни несомненно, что Великобритания в значительной
степени вследствие своей военной недосягаемости стала, не затрачивая
никаких средств, обладательницей всех преимуществ этого равновесия и
получила большие преимущества для господства над различными реги-
онами Земли и создания мировой империи, столь же очевидно, что эта
система была единственным средством установить в некоторой степени
мирное сосуществование экспансивных, государственно организованных
военных и экономических сил, стремящихся к господству в Европе.
После неудачных попыток создать европейские империи и прекраще-
ния их санкций, при душевно-духовной настроенности родившихся из
духа кочевых наездников европейских государств с их ненасытным вол-
чьим голодом, единственно мыслимой формой была установленная меж-
дународным правом, определяющая конвенциональные правила поведе-
379
ния в мире и войне и стремящаяся по крайней мере к временному мир-
ному состоянию «система». Это был последний, предоставляющий неко-
торый покой Европе и Земле в целом тип внешнего политического суще-
ствования, сохранявшийся до конца XIX в. Позже будет сказано, посред-
ством каких сдвигов в экономическом и политическом существовании и
в рамках какого душевно-духовного изменения была подорвана, начиная
с последней трети XIX в., эта система. Погибли ее корни. А это означа-
ет, что надо было найти новую не только европейскую, а новую, охваты-
вающую всю Землю систему.
В истории мы всегда познаем только внешние условия с содержащи-
мися в них возможностями и использование этих возможностей посред-
ством спонтанных действий. То, что происходит, случайно, это - осуще-
ствление одной из многих возможностей в созданных таким образом
рамках.
При таком видении можно сказать: возможно, что в ситуации до Пер-
вой мировой войны посредством правильного введения экономически
очень экспансивного, неспокойного европейского государства с расту-
щим весом, политически, правда, достаточно глупо управляемого и счита-
ющего себя в качестве империи обойденным, посредством введения Герма-
нии в систему новых, равных по значению, соперничающих государств воз-
никла бы возможность придать действительно устаревшей европейской си-
стеме равновесия форму равновесия больших имперских тел мира, следо-
вательно, форму мирового равновесия. Эта возможность была упущена по
чьей бы то ни было вине. Следствием явилась мировая война.
Поскольку исторические возможности, как и все возможности вооб-
ще, однократны и, будучи упущены, допускают в соответствии с весом
последующего лишь иное формирование, то теперь стало возможным
только нечто совершенно новое. Последовала попытка объединения го-
сударств в организацию на основе очень широкого, по крайней мере по
форме, равновесия. Попытка, которая из-за неприсоединения Америки
и в течение длительного времени также России и вследствие странной,
недостаточно принимающей во внимание вес государств конструкции,
исключала действенное осуществление поставленных целей, даже зат-
рудняла принятие необходимых решений; в результате этого решения
всех важных жизненных вопросов оставались только на бумаге и сама эта
организация становилась своего рода кулисой, за которой прежняя, ос-
нованная на соперничестве политика шла своим чередом, разве что не-
сколько менее прозрачно и несколько видоизмененно вследствие прове-
дения дискуссий, которые, правда, отчасти препятствовали ее остроте, но
практически изменить ее не могли.
Тем не менее и на этой основе, особенно после того как в эту орга-
низацию была введена Германия, могла еще сложиться приемлемая по-
литическая форма в мировом масштабе, которая объединяла бы все еще
соперничающие государства, если бы не — известно ведь, что соверши-
ли в Германии, используя глубокую обиду и тяжелое экономическое по-
ложение, — бессовестные новые правители и их сторонники. После того
как была захвачена Чехословакия, совершено допущенное Англией на-
падение на Польшу и в неслыханно дерзкой форме развязана мировая
война, которая, несмотря на кажущийся частный повод, необходимым
380
образом обрела, как и все современные большие войны, теллурический
характер, возвращение к прежним формам стало невозможным. Эта вой-
на, которую известные ее вдохновители едва ли не восхваляли в качестве
«тотальной войны» как грядущее, стада тотальной, т. е. разрушительной
или ставящей под вопрос при ее повторении существование накоплен-
ных в течение тысячелетий культурных ценностей ввергнутого в нее че-
ловечества; она убедительно показала, что современная война не может
затронуть только отдельные государства столь уменьшившейся Земли,
что в своем неистовстве она не останавливается ни перед чем, не оста-
навливается даже перед самым ценным, что почти во всех прежних стол-
кновениях и войнах со времен самого дикого варварства считалось не-
прикосновенным. Вместе с тем эта война стала вследствие своих ужаса-
ющих технических средств настолько иной, чем прежние войны, что яв-
ляется уже не «войной», а изощренно совершаемым систематическим
взаимным уничтожением, поистине убийством друг друга людьми в во-
енных мундирах; одновременно она показала, что при таком взаимном
уничтожении на ставшей теперь маленькой Земле при ограниченных в
теллурическом рассмотрении альтернативах в конечном итоге необходи-
мым образом останутся лишь две объединенные воюющие стороны, бо-
рющиеся за решение; она настолько ясно показала все это, всю сущность
современной войны как общего самоубийства, что после нее должна
была вновь возникнуть совершенно новая, никогда раньше не существо-
вавшая мировая организация. В настоящее время ее еще невозможно
полностью предвидеть. Ей придется проходить промежуточные стадии,
и она лишь медленно достигнет своей окончательной формы. Однако ее
основной принцип должен быть ясно понят в условиях, которые необхо-
димо преодолеть и которые имеются на маленькой Земле с ее немноги-
ми альтернативами. Он может быть только следующим: решить эту аль-
тернативу таким образом, чтобы, насколько это в человеческих силах,
новая «война» , новое общее самоубийство, которое при наличии пред-
полагаемых новых средств примет сегодня вообще еще непредставимые
гигантские размеры уничтожения и, вероятно, приведет к уничтожению
целых народов, стало невозможным. А это означает, что все формы со-
перничества властей, которые - по словам Клаузевица - несут в себе
войну как продолжение мирной политики, должны быть, насколько это
возможно, искоренены в своей основе. Это, в свою очередь, означает,
что принцип свободной конкуренции, уже давно исключенный из хозяй-
ственной жизни и замененный принципом кооперации, должен быть
устранен и из внешней политики государств, и важные мировые вопро-
сы должны решаться руководимым несколькими крупными государства-
ми комитетом, в который в той или иной форме войдут и маленькие го-
сударства.
Таков, это следует ясно понять, прежде чем вообще приступать к ка-
кой-либо проблеме сегодняшнего существования, как первое и важней-
шее, необратимый результат того факта, что на сжавшейся в своих раз-
мерах Земле нашелся кто-то, достаточно дерзкий и слепой, чтобы развя-
зать угрожающую всем людям Земли вплоть до последних истоков их
жизни всепоглощающую войну, результат безудержной необузданности,
когда-либо существовавшей в истории. Эта война, неотвратимые ос ре-
381
зультаты навек изменили облик Земли. Прежняя система, основанная на
свободном соперничестве больших и малых, сравнительно свободно су-
ществующих друг подле друга государств, привнесенная около 1200 г. до
н. э. в мир кочевниками, закончена.
Об очень многом, исчезнувшем вместе с ней, можно горевать. При-
знаюсь, я отношусь к тем, кто это чувство испытывает. Ибо в известном
смысле соперничество многих больших и малых государственных обра-
зований открывает в очень простой форме понимание сущностного. По-
добное соперничество может проложить путь правильному агону, как его
некогда понимали греки; оно может породить спонтанность, самопожер-
твование и храбрость. Об этом тысячекратно говорилось, и если не в ты-
сяче, то по крайней мере в ста случаях это было верно. Утрата такого
само собой разумеющегося при подобном соперничестве прекрасного
мужества в свободной жертвенности жизнью, тяжко для достаточно
больших, de facto4 в будущем зависимых, если вообще не исключенных
из сферы большой политики, частей Земли. Первостепенная задача бу-
дущего времени — каким-либо образом возместить эту утрату игравшим
до сих пор духовную и политическую роль народам более тонкими фор-
мами жертвенной борьбы.
Ибо вместе с этим отпадет больше, чем только прежняя форма выра-
жения свободного, содержащегося в политике стремления к соперниче-
ству, игравшему главную роль на Западе и в бывшей некогда ведущей
Европе. Правда, влечение к масти останется так же, как и ее стремление
найти свое выражение в значении государства и в его экспансии. При-
рода не может быть изменена. Однако это влечение станет в большой
политике преимущественно монополией очень немногих, едва ли не
пяти теллурических властных колоссов, носителей мирового политичес-
кого агрегата. И их влечение к власти, их неустранимое соперничество
между собой должны сдерживаться идеальными или вполне реальными
силами иначе, чем какое-либо прежнее влечение к власти того или иного
государства, чтобы уничтожение их сосуществования и возникновение
между ними войны не привело к чему-то подобному концу света.
Это значит: как более или менее зависимые от этих колоссов прежние
свободные государственные образования в сущности не будут более пол-
ноправными государствами в прежнем понимании, свободными власт-
ными образованиями, не будут более действительно суверенными, а в
подлинном смысле в известной степени фактически или юридически
контролируемыми в большей или меньшей степени участвующими в
контроле международными инстанциями, так и объединенные в синди-
кат мамонты должны будут принять для их объединенного управления
Землей, для участия меньших государств и прежде всего для их собствен-
ных взаимоотношений, наряду с очень сильными, общими для этого
объединения, интересами, общую идейную основу и добровольно при-
держиваться ее принципов; в противном случае после распада блока раз-
разится третья мировая война с ее непредсказуемыми последствиями —
в результате будет во всяком случае создание нового объединения на еще
сохранившихся развалинах человеческого существования. Каким бы ни
' Фактически (.шт.).
382
было дальнейшее развитие истории, старое свободное, суверенное сопер-
ничающее государство прежнего типа с его большими и малыми свобод-
но сосуществующими властными образованиями пришло как общий тип
политического формирования к своему концу.
История уже в 1914 г. первым теллурическим столкновением на но-
вой технизированной маленькой Земле довела его ad absurdum*, и оно
уже тогда служило только маской для крупных формаций совершенно
другого рода. Второе столкновение, в конце которого мы находимся, по-
казало и его полную внутреннюю слабость. «Государства» как самосто-
ятельного, пусть даже маленького властного образования, в этой форме
в будущем, наступит ли оно сразу или завершит последующую еще более
страшную катастрофу, в качестве ведущего типа политического суще-
ствования больше не будет.
Исторически в этом нет ничего удивительного, ибо в сущности было уже
чем-то невероятным, и объяснялось только отсутствием равных внеевро-
пейских противоположных политических сил, что в период с XV до XVII вв.
это государство было в Европе de facto, а с 1800 г. вследствие пагубных ге-
гелевских фантазий по поводу государственной власти, также идейно, затем,
следуя тенденциям так называемой исторической школы, последовавшей за
Ранке, сознательно, поставлено вне общей морали, другими словами, вне
всякого идейного контроля его деятельности. Таков большой и основопо-
лагающий фех, который Запад совершил по отношению к самому себе. Об
этом мы еще поговорим. За этот фех Запад заплатил дорогой ценой. Ибо
тем самым каркас общей жизни, который до того в средневековье был ос-
вящен санкциями, в соответствии с которыми он только и мог предоставить
отдельному человеку его бытие, его счастье, его духовое существование, пре-
вратился в произвольное образование; под воздействием мира гуманитар-
ных идей он, правда, в XVIII в. вошел, хотя бы внешне, в определенные,
уважающие человечность формы, но впоследствии со ссылкой на «нацио-
нальный интерес» отбросил всякое, именно всякое, представление о прили-
чии и чести, — о чести там, где это слово было всегда на устах — вплоть до
самоустранения возможности подобных, мнимо оправданных «свободных
от морали» действий, ибо они, как показывает нынешняя война и круше-
ние, с ней связанное, неминуемо ведут к неизбежному концу свободной су-
веренной государственности.
Современное государство, которое в будущем будет встроено прежде
всего в формы приличных человеческих действий, понесет значительные
утраты, об этом будет сказано ниже, не в области внутреннего управле-
ния, но в приданной ему со времен Бодена внешней суверенности; как
большие, так и малые государства будут вынуждены уступить свои пра-
ва частично стоящим вне прежней государственности международным
организациям и формам, частично надгосударственным, рассмафиваю-
щим политические вопросы, подлинно политическим объединениям.
Придет время совершенно новых политических форм, настолько же от-
личных от тех, которые развивались в Европе с XV в., насколько те от-
личались от предшествовавших им, в сущности логосударственных сред-
невековых образований.
"До пбсурлп (.ют.).
383
В эту иную политическую структуру войдет другой социально-струк
турный, следовательно, прежде всего хозяйственный и социальный, дру
гой цивилизационный, т. е. научно обусловленный, и другой душевно-
духовный, следовательно, культурный, мир. Обо всем этом речь пойдет
в дальнейшем. Здесь же надлежит сначала сказать:
В этих преобразованных социально-структурных формах, оставляя в
стороне Россию и демагогическую внутреннюю политику национал-со-
циализма, который удерживал массы в наброшенной на них сети толь-
ко с помощью постоянных материальных и эмоциональных уступок, со-
вершенно иной вес будут иметь массы. Новый мир, поскольку в нем не
будет никаких привилегий, даже неприкосновенности крупной соб-
ственности, а существенным лейтмотивом широкого плана действий ста-
нет обеспечение труда и существования, по возможности и благососто-
яния масс, будет в той или иной форме социалистическим в самом ши-
роком смысле этого слова. При наличии градуализирующих тенденций
крупных организаций, которые будут господствовать в новом по своей
форме пространстве, он не сможет обойтись - в крупных организациях
это обязательно - без ведущих слоев или постоянного отбора управляю-
щих, элиты. Это новое, как и любое, общество, будет существенно опре-
деляться синтезом душевно-духовной позиции своих ведущих слоев с
миром чувств его превратившейся во влиятельную массу душевной осно-
вы, находя в этом свое культурное, характерологическое и физиогноми-
ческое выражение. Каким бы ни было это выражение, результатом по-
всюду будет возникновение нового типа среднего человека, и всегда будет
происходить отбор, который в сущности, в той мере, в какой он практи-
чески влияет, представляет собой экстракт, возвышение, решающую ок-
раску этого типа человека. Таким образом, вопрос одновременно гласит:
какого типа человек будет задавать тон в новом мире ставшей маленькой
Земли?
Каким будет этот тип, несомненно обусловлено сегодня, как и всегда,
в значительной степени историко-социологически, и прежде всего в са-
мом сильном уже названном смысле, как всегда, цивилизационно-тех-
нически. Однако внутри данных условий это является и результатом на-
шей спонтанности, нашего воления, понимания открывшихся нам глу-
бин, которые определят будущее существование нового человека.
Эти глубины, которые, если стремиться к высокой форме человека,
могут быть, как основы всех таких форм в истории, лишь трансценден-
тными, и которые, выйдя из разверзшихся бездн страшного, пережива-
емого нами перехода, вновь могут открыться перед нами в своих общих
очертаниях, я в силу моих возможностей только укажу, лишь фрагмен-
тарно их намечу. Фрагментарно также потому, что они металогичны,
следовательно, не могут быть заключены в систему, и одновременно, за-
меняя старую мифологию, логически рассмотренные, в сущности проти-
воречивы. Рассмотрение их в достаточно абстрактном членении составит
вторую часть данной работы. Это должно быть не Vademecum*, а своего
рода вспрыскиванием, которое заставит продвигаться к проведению ис-
следования, облегчит доведение его до сознания и его продумывание.
Путеводитель (лат.).
384
Этому предшествует первая часть историко-социологически рассмот-
ренного прощания с прежней историей. Оно в сущности также транс-
цендентно обосновано и задумано: видение непосредственно данного
безусловного в историческом обличье, быть может, как его выражение,
адекватнее пониманию, чем вторая часть. Первая часть необходима и
существенна также потому, что новое не падает с неба, наподобие метео-
ра, а использует старое как элемент своего обусловленного временем
покрова. И потому, что для постижения нашего нового душевно-духов-
ного видения безусловного возникают основные вопросы: что еще зна-
чит для нас старое? Каково отношение к нему нашего нового видения?
И особенно: что означает для нас XIX век, представляющий собой как
начало распада, так и некое завершение предшествующей истории? Как
смешано в нем то, что надо отбросить, устаревшее, как смешано в нем
указание на грядущее с возникающим нигилизмом, внутри которого мы
сегодня пребываем? В том, что мы должны преодолеть и что можем ис-
пользовать, XIX век может быть понят только как результат 800 лет,
предшествовавших ему с того времени, когда Запад пришел к самому
себе. Из этих 800 лет, в течение которых Запад стал в истории руководя-
щим, одновременно выращивая в себе ростки своего распада, из этих 800
лет, которые в определенном смысле соответствуют 350 годам, пережи-
тым греками от эпохи Гомера до вторжения нигилизма софистов, следо-
вательно, с 750 до 430 г., нам важно только существенное и особенное в
западном развитии, его переход от невероятно сложной, в сущности па-
радоксальной, начальной ситуации или твердо установленной теологи-
ческой и философской догматики к духовной свободе и возможности
прорыва к недогматическому человеческому бытию. И далее, именно эти
прорывы и их носители могут, освещая, указывать нам путь для нашей
ориентации в глубинах. Так. работа тематически делится следующим об-
разом:
I. Прощание с предшествующей историей. 1. Сущность Запада и лич-
ностные прорывы к указующим путь недогматическим видениям глубин
с 1000 до 1800 г. 2. XIX век, его отношение к XVII и XVIII вв.; его дина-
мика; путь к нигилизму. 3. Сегодня. Преодолим ли нигилизм?
II. Фрагменты к непосредственной трансцендентности.
13 3ак. 3073
Первая глава
Особенность Запада
1. Пробуждение в догматике, характер динамизма
Что говорит нам история об историко-социологической особенности Запада
и его развитии, которые подробно рассмотрены мной в другом месте?
Маленький полуостров Евразии, находящийся сегодня вместе со всем
тем, что восприняло его влияние, примерно в таком же кризисе, какой не-
когда испытывало еще меньшее его также многообразное ответвление, Гре-
ция, после великих решающий событий в Средиземноморье, Пелопоннес-
ской войны, войны с персами и Карфагеном, превративших Македонию, а
затем Рим в господствующие факторы, — таков, по-видимому, будущий
образ господствовавшей некогда над миром и определявшей его историю
Европы в теперешнем теллурическом пространстве. Образ крошечной по-
терянной частицы, которой после утраты власти грозит падение до уровня
средоточия передаваемой другим «образованности», носителями которой
были в Риме греки. Сравнение это не вполне неверно, и все-таки оно об-
манывает, если стремиться видеть в правильном свете особую сущность
прошлого Европы, ее экономически обусловленную политическую и ду-
шевно-духовную роль, и понять условия ее грядущей судьбы.
Позже мы остановимся на внешних условиях, превративших Европу
с ее двумя центрами капиталистической экономики, Англией и Герма-
нией, в индустриальный центр мира, равным по значению которому
были лишь Соединенные Штаты; остановимся на ее своеобразно сло-
жившейся из английского, французского, итальянского, бельгийского,
голландского империализма и свободного обеспечения мира капиталом
и промышленными товарами господствующей экономической позиции,
в которой центром экономической интеграции континентальной Евро-
пы, обеспечивавшим мир в первую очередь средствами промышленно-
го производства, продуктами выдающегося научного уровня и высокой
трудовой квалификации, была Германия. Затем мы перейдем к считав-
шейся в последние годы эфемерной, в действительности же преиспол-
ненной выдержки и тенденции к восстановлению экономической, поли-
тической, теллурической позиции Европы, аналогией которой нельзя
считать ни положение Греции в какой-либо период античности, ни во-
обще что-либо во всей мировой истории. Нас прежде всего интересуют
свойства воли и духовные стороны, которые привели к этой господству-
ющей позиции, и ее будущее.
Волевая и духовно обоснованная всемирно-политическая роль Евро-
пы определялась ее динамизмом. Посредством этого никогда ранее не
встречавшегося в истории динамизма Европа, начиная с 1500 г., завое-
вывает мир и ставит его в зависимость от себя, — подобное Греция ни-
когда не была способна совершить по отношению к небольшому среди-
земноморскому пространству. Из Европы шла эмиграция, вследствие
которой два континента и южная часть третьего стали европейскими по
своей расе. На этой основе Европа не только способствовала созданию
мирового капитализма, но одновременно создала духовно то, что лучше
386
всего определить как «мировой Запад», подлинно теллурическое, нелег-
ко устранимое образование. Ибо к этому мировому Западу в том смыс-
ле, что там господствует исконный тип европейского человека и с изве-
стными психическими отклонениями создает там общее с европейским
духовное пространство, относятся сегодня Северная и Южная Америка,
а также Австралия и Южная Африка. Но не области «белого человека» в
Передней Азии и России. Ибо не только Передняя Азия, регион арабов,
персов и турок, но и Россия не входят в мировой Запад, невзирая на ду-
ховное, экономическое и политическое соприкосновение с ним. Это дру-
гие духовные миры. Они лишены европейского динамизма, симптома
особой душевной и духовной сущности европеизма, которая стада осно-
вой стиля западной жизни во всем мире.
Только Европе, еще до последнего полного проявления ее динамиз-
ма, ведома лишь им объясняемая последовательность ступеней соци-
альных структур, которая в конечном итоге привела к всемирному взры-
ву в развитии капитализма и в служащей ему технике. Переднеазиатский
и североафриканский белый мир, как и индийский и китайский, после
великих завоеваний арабов и частичной рецепции античной культуры
еще сегодня сохранили почти неизменной прежнюю форму, консерви-
ровали, насколько это возможно при европейском влиянии, особенность
социальных отношений, фиксированную в господстве шейхов и султа-
нов. Подобно этому, хотя иным образом, некогда средиземноморская
античность, даже под властью Римской империи, никогда полностью не
отказывалась от охватывающей ее жизнь структуры полисов, городов и,
наконец, муниципального устройства. Россия, пережившая столько пе-
реворотов, в действительности оставалась до большевизма почти не зат-
ронутой каким-либо влиянием, огромной по своей территории, в целом
примитивной крестьянской страной с различными формами господства
и эксплуатации при наличии некоторого индустриального проникнове-
ния, но без какого-либо поступенчатого развития.
Поступенчатое развитие, прежде всего в социальной области, вырвав-
шееся отсюда едва ли не в форме кризиса преобразование, из которого
в конце концов прорвался экспансионистский капитализм, —такова не-
сравненная, здесь лишь констатируемая сущность Европы. Этот процесс
преобразовали в общие теории экономических ступеней, ограничиваясь
применением его к Европе. Не существует общих ступеней экономики,
кроме цивилизационных приспособлений новых технических открытий.
Но в Европе существовало неповторимое, далеко идущее преобразование
оставшихся от античности форм денежного хозяйства и крупного рабо-
владельческого владения в хозяйственно и политически крайне сложных
и многообразных, основанных на труде зависимых людей крупных и
мелких образований своеобразного полунатуральнохозяйственного, по-
луденежнохозяйственного феодализма. Внутри феодализма происходи-
ло развитие занимающихся только торговлей и ремеслом европейских
городов в качестве частей общей хозяйственной системы, происходило
преобразование созданных этими городами, основанных на функциони-
ровании денег, городских хозяйств, появление современных государств,
крупных образований с постоянной армией и чиновничеством, стоявших
над этими отдельными областями и стремившихся силой политической
387
власти к объединению; и наконец, прорыв развивавшегося уже в городах,
и особенно в государствах, капитализма с его известными ступенями раз-
вития и переформирующим мир воздействием.
Каждая из этих ступеней, которые воспринимаются как передвигае-
мые на сцене кулисы, несет в себе не только новое душевно-духовное
пространство. Этим ступеням всегда соответствуют новые виды людей,
новые типы, которые становятся формирующими. Не только так, что за
рыцарем следует ремесленник-бюргер, за ним придворный феодал, а за
ним капиталистический предприниматель и рабочий. А таким образом,
что каждый раз образуется совершенно новый мир человеческих типов.
Наряду с рыцарем существовал очень своевольный и гордый, хоть и за-
висимый, но жаждущий свободы крестьянин, который вместе с ремес-
ленником-бюргером делает попытку, восстав, освободиться от господ-
ства феодала; наряду с придворной знатью существует приниженный
пассивный крестьянин — его описал Лабрюйер, — доведенный до уров-
ня простого обывателя, утративший прежнее городское самоуправление
ремесленник, раннекапиталистические смелые торговые предприниматели,
патрициат и образованный слой от священника через получившего важное
значение профессора до ученого чиновника. И т. д. Создалось большое мно-
гообразие миров, не только следующих друг за другом, но и сосуществую-
щих в один и тот же период, проходя в пестрой смене через века. Это неиз-
вестно ни одному другому региону Земли. Неизвестно и такое извержение
вулкана, которое не только покрывает половину Земли, другие народы и
области, но и насильственно преобразует и населяет их.
Каковы основы этого динамизма и его разнообразия? Они заключа-
ются в парадоксальности, с которой история сформировала душевно-ду-
ховные истоки Запада. Молодые народы, германцы и возникающие ро-
манские народы, были введены в область старой, работающей превосхо-
дящими их средствами интеллектуальности и — при правильном пони-
мании - в невероятной степени взрывчатой веры. То и другое было спе-
кулятивно развитым и уже зачерствевшим в крайней догматике к тому
моменту, когда они стали душевной пищей возникающих молодых наро-
дов. Они реципировали то, что бесконечно превосходило их уровень по
своему содержанию. И по мере того как эти народы становились внут-
ренне живыми, это жадно впитывалось, наполнялось новыми соками,
омолаживалось и все-таки оставалось древним. Этим история ввела в
начало развития Запада состояние, находившееся в других случаях, на-
пример, в предшествовавшей античной истории, в конце, — пребывание
с самого начала в сплетении установленных духовным миром сверхрефлек-
тированных казуистических правил, велений и границ: внутри них соб-
ственная мифология, с которой другие начинали, чтобы только в конце пре-
образовать или отбросить ее, погибла, как в чуждом душевном течении.
Это было состоянием, насыщаемым этикой, в сущности суровой, до
сих пор вяло воспринимаемой поздней душевной сущностью. Эта этика,
отвернувшаяся от посюсторонности, требовала для свежих душевных сил
поворота витальных влечений. И такой поворот оставался единственным
выходом, если он принимался серьезно свежими, витально мощными
силами в момент молодого душевного пробуждения. Он стал основой
европейского динамизма, решающим ключом его особой природы. На-
3cS8
чиная с фантастического взрыва крестовых походов и сурового нового
монашества, невозможно понять продолжающиеся духовные вспышки,
которые с тех пор, т. е. примерно с 1000 г., происходят в Европе, ее тен-
денцию к беспрерывным, не только материально, но и идейно опреде-
ленным революциям, а также ее научно обоснованные эволюции и от-
крытия в технике и, наконец, ее внедрение капитализма в мире, если не
исходить из этого поворота витальных сил, если не видеть повсюду про-
исходящее при этом повороте действие намеренно используемого, ведо-
мого в определенном направлении преизбытка этих сил, которым у дру-
гих народов предоставлено спокойно идти своим естественным путем.
Здесь же все напряжено, концентрировано, заряжено, ищет путь ра-
дикального преобразования внутри или взрывчатого действия вовне.
Первое великое напряжение Запада было между ставшей благочестивой,
но затем вновь соскользнувшей к властным тенденциям церковью и им-
ператорской властью, действующей по сравнению с церковью почти ес-
тественно в качестве хотя и освященной духовенством, но посюсторон-
ней власти; далее это напряжение проявилось в борьбе религиозно освя-
щенного рыцарства и феодалов с крестьянами и городами, в освободи-
тельной борьбе крестьян и городов со знатью и князьями, которая в Ита-
лии была успешной, а на севере пришла к концу вместе с установлени-
ем территориальной власти, но в качестве полярности между несвободой
и свободой все время потрясала и внутренне определяла политический
строй Европы; это напряжение и эта полярность, как и все другие вплоть
до принципиально и сознательно революционного расхождения между ли-
шенным привилегий народом и привилегированными высшими слоями,
выросли, буйно разрастались на плодородной почве той первой парадок-
сальной антитезы между молодой, прямолинейной несломленностью и тен-
дирующими к аскезе, повороту и ломке витальными влечениями.
Христианство и его дериваты реципировались и в других местах мо-
лодыми народами, на востоке прежде всего в культурной сфере арабов и
русских. Но формировавший арабов исламский дериват был в себе самом
уже настолько реалистически приспособлен, оставляя свободное про-
странство инстинктам, что вследствие этой приспособленности к жизни
и сопутствующего ей и формирующего ее культа там сложилось нечто
совершенно противоположное динамизму, а именно наиболее сильный
наряду с дальневосточными культурами, сегодня еще существующий не-
сломленным традиционализм. В России после рецепции византийского
христианства все обстояло совершенно иначе. Настроение носило там
антидинамичный характер, ибо вначале были восприняты только суеве-
рие и христианская магия, и глубокая набожность возникла лишь в от-
дельных кругах. Жизнь в целом оставалась огромным телом, лишь час-
тично проникнутым более глубокими чувствами, по существу языческо-
природной исконностью.
И чтобы завершить характеристику природы Запада с ее напряженно-
стью и дезинтегрирующим воздействием, укажем: языческая античность
с ее развитой философской спекуляцией и с полнотой еще проникающей
в античное христианство мифологии, с ее обращенностью к жизни и
формирующей посюсторонность властью было воспринято постепенно
черствеющей арабской культурой как временно оживляющее и двигаю-
389
щее вперед начало, вскоре, однако, введенное в замкнутые границы. В
Россию с рецепцией христианства ничего существенного из античной
культуры не проникло, разве что сильно трансформированное выраже-
ние в изобразительном искусстве и архитектонике; что-либо антихрис-
тианское, что противоречило бы христианству в решении вопросов бы-
тия, не было принято всерьез: Запад же, напротив, полностью всасывал
вместе с христианской и языческую античность, введенную в конце рим-
ской древности посредством утвердившегося там синкретизма. Язычес-
кая античность обрела там авторитет наряду с христианством, и так же
как христианство в своей целостности. Чем лучше ее понимали, чем
больше о ней через посредство Византии узнавали, чем больше она вос-
принималась в переживании, тем больше утверждалось наряду с исходя-
шей от христианства измененной инстинктивностью и связанной с ней
душевной установкой далеко выходящее за вначале обычное принятие
античных мифов и оборотов речи формирование влечения и души, ут-
верждался новый второй мир, в котором жили, и в котором склонны
были спасаться, желая освободиться от христианских стремлений к из-
менениям. Это и ни что другое объясняет, глядя изнутри, непрекраща-
ющуюся последовательность возрождений античности в истории Запада.
Это и ни что другое лежит в основе того, что в известной степени с са-
мого начала, исходя из первоначальной констелляции и возрастая с уси-
лением влияния античности, постоянно говорится об усилении двой-
ственности западной души, о христианском обращении к потусторонно-
сти и питаемой античностью радости посюсторонней жизни, о напря-
женности и полярности, которые привнесло уже само христианство, о
преизбытке параллельно действующих и противостоящих друг другу сил,
которым подвластна сущность Запада, и чем дальше, тем больше, и в ка-
честве единственной на Земле.
Если многоплановость, подчиненность различным силам составляет
сущность испытывающей влечения душевно-духовной структуры всех
людей, где бы и какими бы они ни были, то у европейца эта многопла-
новость достигла чрезвычайной степени, поистине хаотического сплете-
ния различных сил, в котором оказывался каждый, живущий полной
жизнью, прежде всего каждый выдающийся человек, если он хотел сле-
довать своим влечениям, занять определенную позицию и проявить себя.
Если он не спасался, оберегая свою глубину, внешне в сравнительно бе-
зопасную, играющую на поверхности двуличность, в которой от а до z
все живущие в нем буквы алфавита, каждая, говоря своим языком, спо-
койно сосуществуют, — это был широко применяемый выход, — то он
оказывался перед стеной различных сложившихся в нем вследствие про-
исхождения Европы и ее истории догм, теологических, философско-спе-
кулятивных, как будто античных освобождающих и все-таки строго под-
чиняющих догм, которые ему надлежит отодвинуть или пройти через
них, чтобы достигнуть находящегося за догматизмом исконного, свобод-
но постигаемого ядра существования, созерцать его без чужих добавле-
ний и выразить символически или иным образом.
Одно пришло ему на помощь. Европа, как ни одна другая область,
принимая с молодым энтузиазмом христианство, была проникнута бе-
зусловностью. Кроме столь иного по своему характеру буддизма и учения
390
йоги ни одна из великих мировых религий — буквально — не обладает
такой безусловностью, как христианство. И эта безусловность озаряет,
как ни одна другая религия, посюстороннее существование, формирует
жизнь, предъявляет характерные притязания высочайшей степени и про-
буждает поэтому ищущие безусловность, сдвигающие горы энергию и
активность душевных основ. Все другие позиции бытия, так же облада-
ющие безусловностью в качестве своего ядра, оказывавшие действие на
европейца, пробуждались им, его активностью, из заспанности своего
бытийного абсолютизма, их безусловность также активизировалась. А
это значит: поскольку стоящий между всеми этими пробужденными бе-
зусловными видами догматизма человек духовного величия мог самосто-
ятельно найти выход только посредством ему самому свойственного про-
рыва в глубину недогматизированного существования, то, собственно
говоря, с момента обретения Европой духовной самостоятельности пе-
ред всеми великими людьми Запада встал вопрос этого основанного на
собственных силах прорыва. Существует догматическая духовная исто-
рия Европы. Но подлинной духовно-душевной историей Европы явля-
ется то, что ее духовно великие люди видели в недогматически абсолют-
ных содержаниях, чего они держались, как они эти содержания понима-
ли и варьировали. Это и причина того - с чем мы еще познакомимся, —
что Европа, когда она наряду с догматической безусловностью отказалась
и от безусловности недогматической или не следовала ей больше по-пре-
жнему, в XIX в. при большой внешней полноте возможностей отдалась
во власть медленно утверждающегося, уничтожающего ее глубокие пол-
ные тона, власть мелодий в глубине ее существования, нигилизму.
Нам надлежит наметить характер прорыва, совершенного нескольки-
ми репрезентативными великими людьми на пути Европы через восемь
веков ее истории, чтобы найти уже упомянутых указующих нам путь лю-
дей, за которыми мы должны следовать, если хотим найти выход из кру-
шения, из душевно-духовного ничто, хотя бы направление в сторону
предоставляющего нам ориентацию, полученного из глубины постиже-
ния бытия. Начиная с того времени, когда историко-социологическая
динамика стала также решительно определять материальные и духовные
проблемы настоящего и ситуацию настоящего, нам придется принимать
во внимание и ее. Но все дело в том, чтобы эта проблематика и внешний
аспект сегодняшнего дня были озарены тем, что по крайней мере для
нас, немцев, имеет в данное время наибольшее значение, неотъемлемо-
стью прошлой и, как мы надеемся, вновь доступной в будущем душевной
установки и душевного опыта. Этому посвящен в дальнейшем сравни-
тельно подробный анализ.
Совершенно ясно, почему путь Европы от традиционно очерченных
начал к радикально непосредственному постижению существования дол-
жен был быть настолько продолжительнее, чем путь Греции; именно по-
тому, что у ее колыбели стояли преисполненные спекуляций фиксации,
тогда как греки, пробудившись, оказались свободными в густом облаке
мифического, в отдельных вопросах и в целом поддающегося изменени-
ям толкования бытия, в облаке, которое сначала, до того как его озарил
свет ясного сознания, становилось даже все гуще, но которое легко раз-
веял вихрь философской и наконец рациональной софистической спеку-
391
ляции. В Европе каждый шаг и сторону от догматического пути был не
только труден, несмотря на унаследованное молодое самотолкование, он
был, ибо почти всегда этим затрагивалось догматически-церковно уста-
новленное, в течение очень долгого времени также весьма опасен, ибо
грозил отлучением от церкви и объявлением вне закона, а вскоре инкви-
зицией и смертью. Это требовало мужества или, что в первое время
обычно происходило, средством служил как будто безобидный, исполь-
зуемый как способ выразить собственное глубокое видение, союз с язы-
ческой античностью, терпимой церковью как в сублимированном пони-
мании также реципированной вместе с христианством.
Выявление непосредственно постигнутого безусловного, исконно
сущностного, которое в греческой древности также несомненно было
всегда делом отдельных великих людей, но вместе с тем допускало все-
общее и непротиворечивое признание, в Европе приводило, если не к
внешне явному, то к внутренне отделенному бездной от обычного мне-
ния одиночеству. Поэтому внутренне одинокие великие люди стоят, как
маяки, указывая нам искомые пути.
Только о них, о наиболее великих и значительных из них, мы и будем
говорить.
2. Гомеровский период Европы (1000-1250)
В первый период, период пробуждения и переработки субстанциально-
го человеческого содержания христианства, когда возникло великое мо-
нашество клюнийцев и цистерцианцев, позже Франциска и Доминика,
во время, когда выросло религиозно освященное рыцарство, в период,
который грубо можно датировать 1000-1250 гг., в ранней и поздней схо-
ластике развилась параллельно спекулятивная духовная деятельность,
которая, конечно, стала крайним выражением догматизма; одновремен-
но наряду с религиозными импульсами, выразившимися в готике и в
литературных произведениях, таких, например, как Парсифаль, возник-
ла и непосредственная, даже критическая по отношению к церкви, по-
зиция. Непосредственно она выражена у трубадуров и в поэзии стран-
ствующих монахов. Критический характер она носит - не говоря уже о
ересях и подобном, в таких произведениях, как «Тристан» Готфрида.
Вновь поднимается даже языческое доцерковное видение, видение эпи-
ческо-трагическое, и находит свое выражение у ряда выдающихся по-
этов, в Германии — в столь замечательной, хотя и слишком подчеркива-
ющей ужасную сторону событий. Песни о Нибелунгах.
Однако все это, как и многое другое, рожденное и возрожденное, ос-
тается наивным, наивным, как все создававшееся во время Гомера элли-
нами; констатирующим, но не содержащим полностью осознанного, са-
мостоятельно достигнутого толкования бытия. Как ни прекрасны свер-
шения этого периода, сколь ни многое из них осталось для нас суще-
ственным как символизирующее бытие, но указания пути, спасающего
от наших бед. бед вопрошающего бытия, мы здесь найти не можем, не
встречаем мы здесь и одиноко стоящих людей, указывающих нам для
этого путь.
392
Вторая глава
Смягчение догм и прорыв в глубину
1. Данте
Смягчение и прорыв начинаются очень странным, почти парадоксаль-
ным образом с уже овеянного начинающимся Возрождением конца XIII в.
в Италии, причем с самого одинокого из всех западных пророков, с Дан-
те. Парадоксально, ибо именно Данте по своему осознанному волению
и мощному художественному мастерству является последним великим
выразителем и фантастически гениальным художественным созидателем
догматизированной, предельно спекулятивно разработанной картины
великой единой христианской концепции бытия. Можно, конечно, при
желании видеть в его творчестве отражение большей части средневеко-
вого мышления предшествовавших ему трех веков, так же, и последних
душевно релевантных сублимаций античной догматической философии.
Однако, несмотря на это, он дает и хочет или должен, вольно или не-
вольно, сказать помимо этого и нечто иное, новое, несредневековое, веч-
ное для Запада. Здесь речь идет не о той поразительной пластике пред-
лагающей нам вплоть до солнечных лучей и их теней реалистическое со-
зерцание дантовской средневековой картины потустороннего мира. Эту
конкретность, образы которой превращают чтение «Божественной коме-
дии» в тонкое художественное наслаждение, несмотря на ее часто абст-
рактные, чужеродно действующие схоластические части, мог создать
лишь свободный человек античной культуры, человек Возрождения. И
не только, хотя уже в большей степени, из-за неповторимой, столь утон-
ченной, озаренной вполне земным, но сколь возвышенным светом, че-
ловечности, которая объединяет ведущие фигуры, поэта и его хранитель-
ницу Беатриче, Вергилия, или Сорделла, другого руководителя и спутни-
ка, их всех, с несчастными, осужденными на муки, и придает этому тво-
рению значение душевного космоса высшего ранга. Решающее для нас
то, что этот космос пронизан для поэта непосредственно воспринимае-
мыми им как данности бытия совершенно недогматическими боже-
ственными и темными силами. Он знает о них, он вводит их и внешне в
смысл бытия в своем христианско-догматическом понимании, и в его про-
цесс возмездия. Однако он одновременно видит их, какие они суть сами
по себе, как просто данные бытием, и настолько сочувствует им, даже
если они вызывают отвращение и обладают лишь искрой благородства,
настолько ощущает связь с их человеческими представителями, что, со-
вершенно не скрывает эту связь, более того, рыдает над теми, кому они
уготовили такую судьбу, и посвящает подчас самые прекрасные страни-
цы своего творения именно этим отвергнутым, Франческе и Малатесте,
Уголино и др. Это первое великое западное видение исконно противоречи-
вых, непостигаемых трансцендентных сил бытия, погруженных в человеч-
ность, поднятых еще в полной парадоксальности в совсем иное толкование
смысла бытия; вследствие чарующей исконности непосредственного по-
стижения — межевой камень и первый указатель пути для Запада.
393
2. Леонардо и Микеланджело
В конце длившегося несколько веков пути, который вел к расцвету ита-
льянского Возрождения, широко отдернувшего догматический занавес и
открывшего видение недогматического, стоят два других, равных Данте
по значению человека: Леонардо и Микеланджело.
Леонардо, неразрешимая загадка чарующей сложности, но несомненно
пример совершенно свободного от иллюзий, решительного проникновения
в глубины. По широте реалистического знания и умения того времени ник-
то не выдерживает сравнения с ним. Неповторим он одновременно и в том,
как в величайших своих творениях он показывает за покровами трансцен-
дентно-имманентные силы бытия, то изображая посредством пронизанной
метафизическим озарением местности их действие на явления действитель-
ности, то, как в святой Анне с Марией и младенцем Христом или в Моне
Лизе, делает эти силы непосредственно объектом изображения. Подлинная
тема Моны Лизы - улыбка сфинкса, в которой растворяются с подкупаю-
щей сладостью темные силы. Эта улыбка настолько концентрирована, что
с момента создания этого символа людей, подобно неведающим мухам, вле-
чет к ней непостижимое стремление под действием чего-то тайно в них са-
мих присутствующего.
Чтобы сказать необходимое, относящееся с данной точки зрения к Ми-
келанджело, который уже рано концентрировал в себе подобные глубины
европейского видения мира и передал их в своем творении совершенно
иным образом, в пространстве многообразного отражения, достигавшего в
своих образах иногда только открытия смысла, но не совершенства, надо, в
сущности, написать книгу. Натура чрезвычайной природной многослойно-
сти, он при этом преисполнен в своем видении глубин многочисленных и
разнообразных символов христианской и языческой античности; он спосо-
бен превращать эти символы в образы и зримые существа так, как искон-
но существующее со своими конфликтами и изломами никогда более гран-
диозно в истории живописи и пластики не изображалось.
Микеланджело ощущает себя благочестивым христианином, не толь-
ко в старости, но, судя по его сонетам, уже значительно раньше; однако
находится также под сильным влиянием платонизма и неоплатонизма, и
проявляет античную непосредственность в переживаниях и их выраже-
нии. Мир античных символов для него столь же действителен, как хри-
стианский и предшествующая ему ступень - древний иудаизм. Внутрен-
не он борется с приступами демонической одержимости телесной красо-
той, будь то мужской или женской. Микеланджело пребывает до глубо-
кой старости во власти этого подлинно объективного демонизма, господ-
ствующего над ним. Однако наряду с этим, он знает, постигает, форми-
рует, исходя из собственных глубин, правда, всегда в обличье красоты,
хор совершенно иных, несущих жизнь сил в их до сих пор не открытых
основах. Заботливый сын и брат, никогда не перестающий помогать род-
ным, он заключает в себе всю широту связи общечеловеческого бытия,
которую он с такой полнотой изобразил в своих святых семействах и в
своих держащих Христа на руках Мадоннах: в высшем же выражении он
пережил это с тревожным демоническим оттенком в изображении мате-
ри, которую сосет ребенок. (Мадонна, собрание Медичи). Властитель и
394
практически борец за свободу своей родины и за свободное управление
ею, он ведает о силах надличностно мужественного, что позволяет ему
создавать не только удивительные фигуры борцов, начиная с того, дей-
ствительно идущего из трансцендентного, но посюстороннего воплоще-
ния юного, рукой духа созданного, выраженного в телесной силе излу-
чаемого Давидом господства. Эта мужественность раскрывается ему
чрезвычайно многообразно, она воплощается в дико перепутанных, пла-
стически прекрасных в своей напряженности группах, борющихся, пол-
зающих, в концентрированном формировании личности нам даруемых,
концентрируется в личностном символе и портрете; достаточно вспом-
нить Брута, типы обоих властителей в гробнице Медичи, мощного, со-
единяющего в себе страшные сверхъестественные силы, усмиряющего
молнией своих лучей слабость жалкого человечества законодателя Мои-
сея, и возвышение всего этого в творящем суд Христе в день Страшно-
го суда до сверхдемонического вершителя судеб всех существ. Его дару-
ющая формы из сверхчеловеческих регионов и измерений сила бьет клю-
чом в образах Сикстинской капеллы, в которых волшебно погруженный
в нечто серебряно-серое, в полностью нам принадлежащий и все-таки
полностью над нами возвышающийся мир, мир, полный всем собствен-
но нашим, неописуемо всесильный и все-таки в нас содержащийся, об-
ращается к нам из расстилающейся над нашим бытием горней высоты.
Но свои самые глубокие чувства Микеланджело выражает в фигурах,
воплощающих Утро и Вечер, День и Ночь в гробнице Юлия; каждая из
них говорит о том, что он сам испытал, познавая невидимые силы и их
борьбу, в страдании всегда пронизанного этим существования, и что
сдерживается им, — здесь ощущается, как замедляются движения молота
над наковальней. Закованность мрачными демоническими силами наи-
более просто и однозначно выражена в фигурах рабов, которые в каче-
стве человеческих образов тщетно стремятся освободиться от предназна-
ченного им скрытыми силами, и едва способны даже разорвать хотя бы
держащий их в своей власти мертвый материал. Повсюду трансценден-
тная сила неповторимым образом заключена в зримую телесность.
Если выразить в целом, что становится в мифических символах как
бы прозрачным, что становится зримым в недогматическом, немифоло-
гическом видении и постижении, то это — формирование человеческо-
го несущим его трансцендентным слоем, который Микеланджело симво-
лически схватывает в человеческом единичном существовании, вопло-
щает в существовании групповом и общем, полностью выражает в его
объективно зримой власти в образах и фигурах и одновременно направ-
ляет в сверхчеловеческое. Не в потусторонний мир, нет, в воплощение,
в игру посюсторонне действующих сил, столь глубоко им пережитых, что
почти все его фигуры превращены ими в пронизанное глубочайшей че-
ловечностью сверхчеловеческое. Эти фигуры, как ни сдержаны они по-
чти всегда в своем выражении, пронизаны этими трансцендентными си-
лами, ни одна из них не проста, но все они, где бы они ни появлялись в
мощной власти своих эмоций, и почти всегда преисполненные сладост-
ной грустью, сложны, и в своем соответствии действительности всегда
без промежуточных звеньев пугающи и захватывающи. Близкая и тем не
менее мощно возвышающаяся мелодия бытия.
395
Темные и светлые силы, диссонанс, басовый тон жизни и обертоны
всегда смешаны; но их единение потрясает и освобождает. Ибо все они
сформированы основной силой, воплощение которой в мире явлений,
там, где Микеланджело видел и пережил его, всегда, как он сам говорит,
приводит его в состояние бурного возбуждения, «превращая каждую ис-
кру в пожирающее пламя»2: в пламя красоты, легко обнаруживаемое сме-
шение которой с жестокостью он знает и глубоко болезненно ощущает.
Эта сила для него не то или другое, она для него позитивная, трансцен-
дентная основная власть бытия, вынести которую в ее полной открыто-
сти мы вследствие нашей слабости не можем.
Der Himme/...denn wirtun ihm Leid,
Urn unser sterblich Leben nicht zu storen
Lcifit alter Schonheit...
Nur ein Teil in unsere Sichtbarkeit'4
Она - объективная сила, вбирающая себя в самое себя, в свой транс-
цендентный слой, чтобы вновь сиять.
Weil deiner Reize zeitlicher Ertrag
Ewig in Weltall vorluilt, ganz besfimmt,
Glaub ich, da/J die Natur das wiedernimmt,
Was dir entzogen wird mitjedem Tag,
Es aufbewahrt, dafi sie verinnerlicht
Ein grofieres Herz zu Besserm draus begabe,
Und dies nochmals Gestalt sei — und habe
Dein englisches he lies Angesicht*'4
Но его самого эта сила может так захватить, что он восклицает:
Wer ist s der mit Gewalt mich zu dirfiihrt:
О wehe, welie, wehe,
Gefesseltfest, ich bin doch lose nicht?
Wenn deine Macht mich ohne Schnur verschniirt
Небо... ибо ему нос жсиь,
Чтоб не нарушить нашу смертную жизнь,
Позволяет нам видеть
Лишь часть красоты.
Если переводчик стихов не указан, дан прозаический перевод, сделанный М.И.
Левиной. Немецкий перемол стихов Микеланджело принадлежит P.M. Рильке.
Временное выражение твоего очарованья
Вечно пребывает в мире, и я уверен.
Что природа вбирает в себя все то,
Что отнимается у тебя ежедневно.
Сохраняет его, придает ему глубину,
Создает ее.шкое сердце, способное к лучшему,
И вновь придает ему образ — и этот образ
Имеет твой светлый ангельский лик.
396
Unci ohne Hand unci Anne mich umflicht,
Wer wircl mich schiitzen wider dein Gesicht?"
Из потрясения, вызванного этой силой, возникли все его фигуры,
даже самые страшные и мрачные. И только в одном поэтическом фраг-
менте он однажды изобразил ужасные силы, которые трансцендентный
слой отпускает в человеческую жизнь, не взывая при этом к помощи кра-
соты.
Ein Riese ist noch, iiber a/les grofi,
Uns unten hiersehn seine Augen nicht,
Oft stiirst er Stcidte urn mit einem Stofi,
Die seine Sohle zudeckt und zerbricht.
Zur Sonne Icifit er seine Tiirme los,
Erreicht und sieht dock nicht des Himmels Licht;
Denn seine m Korper, die sen starken Massen,
Ward nur ein Aug in Absatz eingelassen...
Und eine grofi e Alte schwer und trdg
Gibt ihm die Brust und sdugt das Ungeheuer...
Ganzfahl und gelb trdgt sie im schweren Schofi
Den Stem pel einzig ihres einen Herrn.
Wird schwach von Gliick, у от Elend anderer grofi
Und hart nicht auf, den Frafi in sich zu zerrn"*.
Это открытое признание ужаса, высказанное творцом сверхчелове-
чески прекрасной Ночи в гробнице Медичи. О ней он сам сказал:
Кем я к тебе нааиьно приведен
Увы! увы! увы!
На вид без пут, но скован цепью скрытой?
Когда без рук ты всех берешь в полон!
А я, без боя, падаю убитый, —
Что ж будет мне от глаз твоих защитой ?
Перевод А. М. Эфроса.
Есть исполин: он ростом столь высок,
Что человек очам его не явлен,
И уж не раз стопою этих ног
Был целый город сплющен и раздавлен;
Но все же неба тронуть он не смог,
Хоть башен строй был к солнцу им направлен,
За не на весь его огромный стан
Один есть зрак — и тот лишь пятке дан...
Ленивая при нем старуха есть,
Кормилица и нянька глыбы этой...
Бескровная и желтая, она
На грузной груди знак владыки носит;
Она людским страданием жирна,
Но вечно ест и вечно пищи просит...
Перевод А. М. Эфроса.
397
Schlafist mir /ieb, cinch t'iber alles preise
ich Stein zu sein. Wercl Schancle unci Zerstoren
nenn ich es Gliick: nicht sehen unci nicht /wren
Drum wage nicht zu wecken. Ach sprich leise\
Разоблачения ужасного, демонического, принесенные Возрождени-
ем, в такой же степени не прошли мимо этого величайшего художника,
как и потрясающие силы красоты, которые несли этот мир пробуждения
всех свободных сил посюсторонности. Надо быть слепым, чтобы не ви-
деть повсюду у Микеланджело потрясение от непосредственно присут-
ствующей, совершенно недогматической трансцендентности, грандиоз-
ное выражение которой служит причиной того, что почти все его симво-
лические фигуры христианской, иудейской и античной мифологии в из-
вестной степени освобождаются от своего происхождения и восприни-
маются в своей чистой человечности независимо от их мифологическо-
го смысла.
3. Шекспир
О Шекспире, находящемся также в догматически еще свободном про-
странстве Возрождения в Англии и создающем свой мир судеб и образов,
которые свободно провозглашают то, или подобное тому, что молча со-
общают нам фигуры Микеланджело, о Шекспире, которому мы должны
уделить большее внимание, ибо он в чрезвычайной широте видения че-
ловечества воплощает в себе существенное для нас, решающее сказал
Фридрих Гундольф7.
В творчестве Шекспира есть два периода, разделенных эпохальными
для него, отраженными в «Сонетах» личными переживаниями в возрас-
те тридцати-сорока лет (следовательно, в десятилетие до 1600 г.); один
период более эпический, как его определяет Гундольф, другой — траги-
ческий. В первый, в который возникают исторические хроники, а затем
на полной силы и приятия мира вершине жизни — «Ромео и Джульетта»
и примыкающие к «Сну в летнюю ночь» комедии; жизнь с действующи-
ми в ней силами еще в целом принимается такой, как она есть, еще без
постановки принципиального вопроса о ценности и смысле. Второй пе-
риод, начинающийся с «Юлия Цезаря» и ведущий затем к «Гамлету»,
«Отелло», «Лиру», «Макбету», «Антонию и Клеопатре», «Кориолану»,
«Тимону Афинскому», и завершающийся «Бурей», проникнут все время
поднимающимся до ужаса постижением именно сомнительности несу-
щих бытие сил, которое иногда, как в «Троиле и Крессиде» и в «Тимоне
Афинском», принимает форму язвительно иронического искажения; в
качестве своего высшего достижения Шекспир создает высочайшие
* Отрадно спать - отрадней камнем быть.
О, в этот век — преступный и постыдный —
Не жить, не чувствовать — уде.1 завидный...
Прошу: молчи — не смей меня будить.
Перевод Ф. И. Тютчева.
398
мрачные трагедии, а затем мастер, устав, в отчасти сладостном, отчасти
грустном, мрачном тоне ломает в «Буре» свой жезл, которым он властво-
вал над видением мира, над всеми его духами и силами, над его судьбой
и образом и придавал прозрачность непосредственно имманентно транс-
цендентному в них.
Нас здесь интересует эта способность сознательно видеть и формиро-
вать, следовательно, вершина второго периода. Но важно: сколь ни пла-
стичны и непосредственно присутствующи, сколь ни неповторимы и ис-
ключительны все герои Шекспира, он никогда не представляет их как
носителей только своего Я. Все эти Я и их судьбы в их исключительном
формировании личности суть всегда «очеловечение могуществ, сил в раз-
личных напряжениях, красках, мерах» (Гундольф). И возникли все они
властью творчества Шекспира «из всеединства сущности, в которой мы
в качестве человечества изначально пребываем», чтобы ясным, воплоща-
ющим словом «показать во многих образах единичность как многообра-
зие отдельных Я», ибо «в каждом подлинном человеке присутствует все
человечество, дремлет в нем обычно немым и слепым, за исключением
бодрствующего особого Я, в том, отмеченном милостью Я оно движет-
ся во многих образах» (Гундольф). Оба эти фактора, неповторимость че-
ловека и всеобщая связь, из которой единичный человек, даже самый
могущественный, поднимается только как конкретность, имеющаяся по-
всюду в подводном течении - и как воплощение сверхличностных, пре-
бывающих в связи с общечеловеческой основой сил, их напряжения и их
борьбы в явлении, представленных в сплетении и противостоянии друг
другу всех, даже особых по своему характеру отдельных людей: это в са-
мом деле ключ к трансцендентности, исходя из которой Шекспир творил
во второй период, ясно видя (в первый как бы грезя) ключ к всемирно-
му, глубочайшему, будоражащему глубочайшие человеческие возможно-
сти действию, которое Шекспир всегда показывал в изображенных им
судьбах и образах. В его творениях мы все время вновь постигаем и мо-
жем еще сегодня постоянно постигать великие объективные силы, по-
средством которых личная судьба преобразуется в общую. Шекспир по-
стигает и всегда изображает эту судьбу как общую всем нам, в своей глу-
бине освобожденную от всякой общественной формы и тем самым объе-
диняющей каждого с другим, так как в нем и в его основе каждый с каж-
дым другим поднимается из одного и того же потока.
Шекспир всегда рисует сферу человеческой судьбы, наполненную
силами, не просто воздействие и взаимодействие индивидуальных харак-
теров, а всегда - это Гундольф также показал - сферу судьбы и образ та-
инственно как единое. Если судьба и не персонифицирована мифически
как образ, а большей частью воплощена в сплетениях ситуаций и обра-
зов, то совершенно неверно говорить при этом о событиях, определяе-
мых только характерами, в мнимой противоположности античной траге-
дии. Напротив, подобно тому как личности являются носителями и воп-
лощениями сил, так и ситуации служат символами их общей переплетен-
ности в бытии. Это присутствует уже в первый период. И начинается с
исторических хроник. Нельзя полностью понять «Ричарда III», ни про-
исходящие в этой трагедии события, ни то, что в Ричарде воплощено,
если не видеть в нем последнее возвышение и концентрацию всех тех
399
злых сил, которые поднялись в Англии в борьбе Ланкастеров и Йорков
и потрясали страну на протяжении многих поколений. Эта судьба, омра-
ченная вырвавшимися на свободу темными силами, в которой возбуж-
денное честолюбие и взаимная ненависть ведут ко все новым убийствам,
рисуется особенно ярко в трех частях «Генриха VI». Эта же судьба опре-
делила преждевременное появление на свет Ричарда III, его горбатую
фигуру; и в нем все страшные силы как бы достигают сознания самих
себя. После того как они в знаменитом монологе вступления оправда-
лись перед собой в своих действиях тем, что природа совершила, придав
уродство их воплощению, Ричарду, они достигают в нем зловеще совра-
щающего, демонически насыщенного духовного превосходства и отчет-
ливости, в которых освещают теперь огромной духовной силой жуткую
конечную сцену борьбы двух родов, представляя ее как апокалиптичес-
кую гибель. Прежние королевы, потерявшие своих мужей и детей, вели-
колепная Маргарита и другие, сопровождают происходящее предрекаю-
щим проклятье пением, напоминающим античный хор, и в конце кон-
цов все таинственно разрешается появлением в ночи перед Ричардом и
его добродетельным противником Ричмондом всего ряда убитых; вопло-
щенная же в Ричарде злая сила, как бы намекая на то, что, уходя, она
продолжит свою деятельность в другом месте, в гордой независимости
беспрерывно восклицает, вновь и вновь требуя, чтобы ей дали для ее спа-
сения коня. Таково величайшее изображение борьбы злых сил в сложных
поворотах судьбы.
А разве высшее творение еще светлого промежуточного периода в
творчестве Шекспира, «Ромео и Джульетта», не выражает то же, лишь
перемещенное в озаренную солнцем область, где господствует любовь?
Здесь вновь раздоры родов, вновь предреченная с самого начала судьбой
гибель, которую несет объективно господствующая над любящими сила,
и спастись от нее они, попав вместе в безжалостную мельницу этого раз-
дора, не могут.
Однако Шекспир, вероятно, все-таки еще не осознает изображаемую
им трансцендентную основу. Его рукой повсюду движет лишь гениаль-
ное вдохновение.
В то время, когда возникли его сонеты, во всяком случае их вторая
часть, он в отношениях между собой, в сущности жестоко обращающим-
ся с ним аристократическом другом и любимым, и связанной с ним и с
его любимым «черной дамой», по-видимому, совсем не прекрасным, а
злобно соблазняющим существом, которому он непонятным образом
физически и духовно подчинен, — в это время Шекспир настолько по-
стиг ужас объективно трансцендентных сил, суверенно властвующих
даже над самым сильным, создающих сложности и неописуемые страда-
ния, что он, подобно Микеланджело, только еще более мрачно (сонет
150) , в отчаяньи восклицает:
Von welcher Kraft hast clu die
nuichtige Kraft,
Dafi Unvollkommenheit
mein Hen. regiert ?..
Woher nimmst dufiirs
400
Schlechte Wohlgestalt,
Dafi noch sogar im Abhub
cleiner Tat
So wie/ Gewahr von
Kunst ist unci Gewalt:
Mein Geist dein Schlimm
Mehr alsjecl gut bejaht?..*
Потрясающе искренне отчаянное восклицание человека, пойманно-
го в вихрь безжалостного насильственного танца.
Вероятно, сведения о дворе, окружавшем величественную, но едва ли
не извращенную в своей потребности любви и в своем тщеславии Ели-
завету, об этом дворе, преисполненном честолюбием, интригами, доно-
сами и запахом казней, эти в непосредственной близости воспринятые
данные о душевных тайниках внешне столь славной для Англии эпохи,
наряду с чисто личными переживаниями, довели до сознания Шекспи-
ра мир легче всего постигаемой посредством темных сил основы транс-
цендентного бытия, о чем свидетельствует его видение сквозь внешние
покровы того, что представлено в трагедиях высшего периода его твор-
чества. Теперь ему ведома та сфера сил, которая формирует человека и
движет им «как созданным из материала для грез». Его переживания та-
ковы, что, хотя ему еще известны радость, тепло, солнце, вплетенные в
человеческие грезы, хотя он почти повсюду изображает не только мрач-
ные, ведущие к отчаянию, но и светлые, освобождающие группы сил, ос-
новной мелодией все-таки остается доведенная до глубочайшей мелан-
холии грусть о человеческом бытии; душевный нюанс познания жизни
— личностная и глубокая особенность Шекспира, от которой, однако,
можно и должно отделять общее в этом познании трансценденции, ко-
торое как таковое допускает и иное звучание. Общее в недогматическом
постижении трансцендентности и особенное, обусловленное личной
судьбой и судьбой времени, — не одно и то же. Не существует другого
столь высокого примера воплощения наглядно в слове и образе видения
мира, как это, принадлежащее величайшему из всех недогматических
пророков. Для Шекспира изображаемый им трансцендентный слой да-
леко выходит в качестве заднего плана и основы за человеческую сферу.
Этот слой связан с формой существования самого космоса. Это не про-
сто сценическое открытие, а пояснение связи того, что превосходит че-
ловека, что является исторически или душевно решающим, с космичес-
кими силами, когда при величайшем историческом событии, которое
Шекспир изображает, при убийстве Цезаря, космос возвещает свою
взволнованность, и вполне трезвый участник заговора, Каска, ночной
порой говорит:
Что силою тебя такою наделяет.
Что можешь ты влиять так сильно на меня?...
Откуда ты берешь те чары обаянья,
Которые влекут и придают твоим
Всем недостаткам вид такой очарованья,
Что каждый мне из них становится святым?
И ере иол II. В. Гербеля
401
А ты спокоен, если вся Земля
Заколебалась вдруг, о, Цицерон,
Я видел, как от бури расщеплялись
Дубы ветвистые, как океан
Вздымался гордо, пенясь и бушуя,
До угрожающих туч достигая;
Но никогда до нынешнего дня
Я бури огненной такой не видел,
Иль там, на небесах междуусобье...
Затем мой меч еще в ножны не вложен —
У Капитолия я встретил льва.
Взглянув свирепо, мимо он прошел,
Меня не тронув; там же я столкнулся
С толпой напуганных и бледных женщин,
Они клялись, что видели, как люди
Все в пламени по улицам бродили...
Юлий Цезарь, акт I, сцена 3.
Перевод М. Зенкевича.
То же с несколько другим оттенком говорит Кальпурния ночью при
раскатах грома и молнии, предупреждая Цезаря о грозящей ему опасно-
сти на следующий день; но Цезарь после краткого колебания, несмотря
на ее мольбу, на разгул стихий, на все указания авгуров и предсказате-
лей, идет в полном сознании грозящей ему опасности в сенат, чтобы ос-
таваться Цезарем и умереть Цезарем.
Все это означает, хотя все события и приведенные представления не
следует понимать буквально, что громадное воплощение сил бытия, ко-
торое представляет собой Цезарь, не может погибнуть, не приводя в по-
трясение сами эти силы.
То же происходит и в «Короле Лире»: разразившаяся гроза, когда
Лиру открывается безграничное бессердечие Реганы и Гонерильи, сви-
детельствуют не только о бесчеловечности, с которой обе дочери равно-
душно отказываются от старого отца, и выбрасывают его в ночную бурю
как ненужный предмет, стоящего уже из-за них на пороге безумия отца,
который подарил им свое царство. Этот разгул стихий, на фоне которо-
го дана сцена безумия изгнанного отца и благодетеля, — также не слу-
чайное, усиливающее театральное впечатление дополнение, а глубочай-
шее потрясение мира, содрогание сил мира, отпустивших Лира в его
страшную для человека судьбу.
В «Макбете» тема трагедии — подвластность самого по себе хороше-
го и благородного человека, но таящего в себе также темные силы, в ко-
тором эти силы пробуждаются, становятся господствующими вследствие
встречи с их таинственными представительницами. Они дважды появля-
ются в решающем месте. Однако не только Геката и ведьмы играют глав-
ную роль в этом произведении. В волнение приходят все силы мирозда-
ния. Кони убитого короля Дункана сожрали, как говорят, друг друга. Все
это служит более сильным и значительным, чем имеющее меньшую
объективную реальность появление духа Банко, выражением таинствен-
ной связи на заднем плане всех событий, придающей этому произведе-
402
нию жуткую атмосферу, в которой судьба Макбета и леди Макбет, хотя
они мучаются укорами совести за свои деяния, — все-таки только наи-
более впечатляющий, выразительный пример того, как Шекспир видел
взаимодействие объективных сил судьбы и задатков человека. Приговор,
знак трансцендентной силы, появляется, и человек, в котором эта сила
в виде задатка присутствует, настолько оказывается в ее власти, что, пол-
ностью сознавая весь ужас, всю противоположность его прежней сущно-
сти, всю бесчеловечность того, что он собирается совершить и соверша-
ет, не может устоять. Эти темные силы и насильственно подчиненные им
светлые представлены не только внешне, но и внутренне как совершен-
но реально имеющиеся. В своей решающей внутренней борьбе Макбет
говорит:
И состраданье, как нагой младенец,
Несомый ветром, или херувим
На скакуне незримом и воздушном.
Пахнет ужасной вестью всем в глаза,
И бурю ливень слез прибьет к земле...
Макбет, акт I, сцена 7.
Перевод Ю. Корнеева
Это, конечно, не просто эвфуизм, предназначенный для выражения
сущности сострадания в барочной форме, оно реально выведено из глу-
бокой основы бытия. Так же как и слова леди Макбет, быстрее поддав-
шейся соблазну этих сил и еще скорее ставшей жертвой их позорящего
ужаса:
Припав к моим соскам, не молоко,
Л желчь из них высасывайте жадно,
Невидимые демоны убийства,
Где б ъгу вы ни служили.
Макбет, акт I, сцена 5.
Перевод Ю. Корнеева.
Совершенно точно названная и таким образом определенная здесь
сущность непосредственно трансцендентного слоя, из которого происхо-
дят действия, размышления шекспировских образов и они сами, присут-
ствует во всех его главных произведениях. Она присутствует в лицах тра-
гедий и в их тождественной им судьбе. И она присутствует как связан-
ное с силами этой судьбы воплощение задатков в самих лицах и их дей-
ствиях.
Отелло - не просто ставшая классической драма ревности, это, как
уже сказал Гундольф, в сущности и в подлинном своем смысле произве-
дение, трактующее о гордом, прославленном «чужеземце», против кото-
рого восстают, стремясь его погубить, силы той сферы существования, к
которой он не относится. Яго - не сложившийся во всех своих индиви-
дуальных качествах подлец, как другие подлецы у Шекспира. Он — «па-
лач» (Гундольф), точнее, палач, вырастающий из этого пространства для
того, чтобы поразить Отелло там и исходя из того, где он глубже всего и
403
одновременно невероятным образом прочно укоренен в чуждом ему про-
странстве, в преисполненной любви связи с белой прекрасной женщи-
ной, высшим человеческим выражением этого пространства. Будучи по-
ражен здесь, он должен в этом пространстве погибнуть, уничтожить ее и
себя:
Но потерять сокровищницу сердца,
Куда сносил я все, чем был богат,
Но увидать, что отведен источник
Всего, чем был я жив.
Но знать, что стал он лужею, трясиной
Со скопищем кишмя кишащих жаб ...
Терпенье, херувим светлейший рая,
Стань ада грозной фурией теперь!
Отелло, акт IV, сцена 2.
Перевод Б. Пастернака.
Все остальное второстепенно; это - место, куда точно попал палач
судьбы, которому надлежит вызвать ревность Отелло, почти не завися-
щую от его характера, происходящую только из сложившейся ситуации,
и уничтожить его. Это действие сил и их влияние на судьбу людей мож-
но было бы показать также на примере «Антония и Клеопатры» и «Ко-
риолана». Но в этом нет необходимости.
Яснее и очевиднее всего то, о чем здесь идет речь, выражено в двух
внутренне самых глубоких и далеко распространяющих свое влияние
произведениях Шекспира: в «Гамлете» и «Короле Лире».
В «Гамлете», по своему внешнему характеру почти античном произ-
ведении о действии судьбы, в известной степени совершенном продол-
жении трагедии Ореста, Шекспир с такой силой показывает огромное,
доходящее до границ внутреннего крушения, бремя его видения того, как
под покровом событий ведут свою игру силы, что сердце замирает. Гам-
лет по своей природе не слабый, неспособный на решительные действия
человек. Он очень ловко подготавливает разоблачение развратного коро-
ля и своей матери, так же, как замаскированное возвращение из Англии,
куда его отправили в изгнание, что привело бы к его гибели. Он как ре-
шительный человек соглашается на поединок, сражается смело и выхо-
дит победителем. Однако потрясающее появление его отца, которое он
бесстрашно выносит, подтверждающее с неотвратимостью его смутные
подозрения, внезапно открывает ему глубину непостижимых сил, разби-
вающих его существование и одновременно ведущих к крушению мира.
Это ожесточает его и делает вместе с тем демонически видящим всю от-
носительность того, что — как он теперь чувствует - его окружает, напо-
добие масок в этой тайной игре сил. С трудом вынося собственную про-
зорливость, он прячется для совершения возложенного на него деяния
под покров скрывающего его намерения и безумия его самого, из кото-
рого чистое чувство прорывается только в его отношении к доверенно-
му, участвующему в его замыслах другу, Горацио: в своем отчаянии он
разрушает то, что ему наиболее дорого, Офелию, которая, очевидно, пре-
вратилась для него только в тень, а в разговоре с матерью так погружа-
404
стся в пережитый им ужас, что поставить ему в этом границы вынужден
дух отца. Он настолько подавлен чудовищностью, открывшейся ему в
путанице существования, что вынужден беспрерывно размышлять о
смысле и содержании сил, управляющих им и бытием. Достаточно
вспомнить сцену с могильщиками. Правда, он еще может создать нуж-
ную основу для своих действий посредством отчасти сочиненной им, ра-
зоблачающей короля пьесы. Однако он упускает представившуюся ему
возможность, когда внезапно застает короля молящимся в раскаянии. Он
упускает эту возможность потому, что в ходе рефлексии его действие
приобрело для него в своем символическом выражении такую величину
и концентрацию, что акт его отмщения и совершенное преступление
должны предстать в своем крайнем выражении, как в известном смыс-
ле равные по своему значению.
Назад, мой меч, узнай страшней обхват,
Когда он будет пьян, или во гневе,
Иль в кровосмесных наслажденьях лежа;
В кощунстве, за игрой, за чем-нибудь;
В чем нет добра. Тогда его сшиби.
Гамлет, акт III, сцена 3.
Перевод М. Лозинского.
В блестящей скептической, острой, как нож, иронии, отличающейся
таким тоном, такой быстротой, которые нигде больше в равной силе у
Шекспира не встречаются, здесь слишком тяжелое бремя видения под-
земных сил разрешается в застывшее действие. Походя он закалывает
«как крысу» Полония; и походя, уже погибая, совершает, наконец, воз-
ложенный на него акт отмщения королю.
Бремя видения того, что лежит за явлением, может быть настолько
тяжело, что превращает самую нежную, благородную натуру в тонкую,
острую сталь, способную только ранить, колоть и ослепительно блестеть
и неспособную уже ощущать человеческие чувства и нанести в нужное
время требуемый от него прямой удар. Примерно это говорит здесь о
собственном сердце великий писатель.
В «Короле Лире» он говорит обратное: неспособность видеть злые
жуткие силы, скрывающиеся за миром явлений, означает, что достаточ-
но некоторого тщеславия, необдуманного вспыхнувшего гнева и его по-
следствий, чтобы полностью сломить самого царственного человека, что-
бы показать ему в безумии скрытую ужасную истину мира, грозящую не
только ему, но и всем людям. Таково грандиозное содержание «Лира».
Однако показанная здесь истина - это при всем ужасе остается в проти-
воположность «Гамлету» возвышающим, в «Лире» - не просто мрачная,
но во всем мраке все-таки светлая, теплая истина. Никогда еще злобно
демонические силы не воплощались столь однозначно, столь личностно
присутствующими, как в обеих духовно близких сестрах, Регане и Гоне-
рилье, готовых ради утверждения своей власти и своего удобства вытол-
кнуть отца в ничто, на гибель; это же выражено в Эдмунде, который рав-
ным образом поступает по отношению к своему брату Эдгару, и с холод-
ным расчетом приносит своего отца в жертву своему честолюбию и бсз-
405
граничной брутальности обеих сестер. Темные силы, конечно, притяги-
вают друг друга и образуют паутину, в которую попадают и гибнут тон-
кие и благородные силы. Но никогда еще эти светлые, терпящие внеш-
нее поражение силы не изображались с такой проникновенностью,
вследствие чего они вечно стоят перед миром; это гордая, нежная, зам-
кнутая в горечи, но смелая в своем проявлении любовь Корделии; муже-
ственно свободная, готовая к беспредельному терпению преданность
Кента Лиру; прекрасно разыгранное в виде маски безумие Эдгара, внут-
ренне преодолевающего ничто, в которое он ввергнут подобно Лиру,
способного в собственном отчаянии помочь нежно проявляемым пре-
восходством своему слепому отцу, руководить им, как другой отец; и на-
конец, что не наименее важно, непоколебимая привязанность шута к
Лиру; в извергаемом им неописуемом смешении бессмысленности, ко-
торой он хочет несколько развеселить повергнутого в отчаяние короля,
содержится также желание внушить ему трезвый здравый смысл, выве-
сти его из состояния гнева и слепой дикости.
Все эти фигуры, описанные с преизбытком поэтической фантазии,
принадлежат как бы иной сфере, едва ли не святых, добрых сил. И так
как они в их затаенной способности к любви и теплой, открытой готов-
ности жертвовать собой существуют в жизни в качестве некоего второ-
го, в качестве другой мелодии, наряду с ледяной застыл остью разруша-
ющих символическую фигуру Лира, победоносно взвивающихся из ада
злых сил, и так как они способны устоять в страшном возмущении чело-
веческих и космических сил, можно сказать, что никогда, правда, не по-
нятийно чисто, но все-таки в общем видении, имеющаяся двойствен-
ность трансцендентных сил мира, протекающих через человеческое су-
ществование, формируя образ и судьбу, не была так ярко показана, как
постигаемая действительность, и так раскрыта в своем невысказанном
сущностном содержании, как в этом произведении. Вздрагивая и ужаса-
ясь, мы познаем сущность темных сил не только как изгоняющих сер-
дечное тепло дуновением зимы; мы познаем как их ядро и их основу эго-
истическую, замкнутую в собственном Я узость, которая удивительно
символично получает свое выражение в том, что каждая из охваченных
мрачным эгоизмом сестер сразу же пытается любыми средствами заво-
евать третью, родственную им силу, Эдмунда, и в своем жадном голоде
они в конце концов пожирают друг друга: одна отравляет из ревности
другую, а, увидев, что все это напрасно, кончает с собой. И кто же не
почувствует в расширяющем и возвышающем Я, в согревающем в мрач-
ном ужасе событий душу, дыхание других сил и их во всех внешних по-
ражениях победоносную сущность. Лир и Корделия, которые должны
вскоре умереть, — несмотря на это, победители, когда оба они в конце
находятся в заключении, и Лир, обнимая дочь, говорит:
... Пускай нас отведут скорей в темницу,
Там мы, как птицы в клетке, будем петь.
Ты станешь под мое благословенье\
Я на колени стану пред тобой,
Моля прощенья. Так вдвоем и будем
Жить, радоваться, песни распевать,
406
И сказки сказывать, и любоваться
Порханьем пестрокрылых мотыльков.
Там будем узнавать от заключенных
Про новости двора и толковать
Кто взял, кто нет, кто в силе, кто в опале,
И с важностью вникать в дела Земли,
Как будто мы поверенные Божьи.
Мы в каменной тюрьме переживем
Все лжеученья всех великих мира,
Все смены их, прилив их и отлив.
Король Лир, акт V, сцена 3.
Перевод Б. Пастернака.
Сиянье чистой человечности, находящейся в союзе с теплыми серд-
цем силами, столь волшебно и захватывающе, что по сравнению с этим
тюрьма и смерть обоих представляются почти не имеющими значения.
Власть темных сил тем самым в действительности сломлена; и нигде то,
как они преодолеваются, не показано так тонко и вместе с тем незабы-
ваемо, как здесь.
Этому великому писателю были ведомы, когда он это писал, характер
и сущность сил трансцендентного слоя, борющихся друг с другом в на-
шем существовании, формируя нас. И в своей глубокой печали о мире и
его смятении, из страстного опыта которой возник «Лир», он, несмотря
на все, видел превосходящую, ибо освобождающую Я и мир, силу свет-
лых, благородных и теплых сил, не подверженных в конечном итоге слу-
чайным внешним событиям.
Завещание, которое Шекспир оставил в «Буре», в произведении, где
дух света как бы шутливо ведет за нос, делая его безвредным, бестолко-
вое, низкое, хитрое, подлое, и воплощается в лице выдающегося челове-
ка в виде живой силы, совершенно равной другим силам; это завещание
является не только грустной улыбкой прощания, с которой мастер сам
ломает свой волшебный жезл; в нем также, только в более светлых крас-
ках, говорится о характере, ранге и внутренней власти сил, которые стро-
ят человеческую жизнь и в окружении которых эта жизнь способна по-
бедоносно достигнуть своей душевной и духовной высоты. Такова зак-
лючительная черта в сущности трансцендентной мудрости бытия у Шек-
спира, отчетливый призыв к нам: Разве вы не видите? Вот то высшее и
вот то низшее, которое пребывают за всем.
Прибавить можно, пожалуй, еще: пласт трансцендентного бытия все-
гда создает у Шекспира фигуры как завершенные, дышащие жизнью,
присутствующие неповторимые личности; однако ядро их сущности на-
столько родственно, как кажется, сложной, но однозначно господствую-
щей над ними силе задатков, что они часто остаются в памяти почти как
отдельные примеры ее воплощения. Однако при более внимательном
рассмотрении это оказывается верным едва ли не только в изображении
подлецов в его произведениях, от Ричарда III, Яго до Эдмунда и Корну-
олла в «Короле Лире», развратного короля Клавдия в «Гамлете». Почти
во всех подлинно великих героях Шекспира заключены противополож-
ные силы бытия, которые, возбужденные их судьбой, борются в них друг
407
с другом. И прекраснейшие из его даров сообщаются нам часто именно
этой борьбой; не только в «Гамлете», где это служит основной темой, не
только в «Антонии и Клеопатре», где она, менее ведущая в бездны и ме-
нее ярко выраженная, составляет ядро столкновения между двумя любя-
щими; но и в других произведениях, причем поистине волнующе и оп-
ределяя душевное содержание всего произведения, например, в борьбе
Брута в «Юлии Цезаре», благородного по своей природе человека, кото-
рый постоянно разрывается между своей любовью к Цезарю и властным
требованием свободы Рима; и гибнет он в сущности из-за этого, а не в
силу внешних обстоятельств. Шекспир знал и совершенно отчетливо
показал это в одном из своих творений, в Макбете; при таких поворотах
судьбы вступают в действие рецессивные задатки, превратившиеся в гос-
подствующие, а те, которые были до того господствующими, как бы по-
гружаются на дно. Следовательно, происходят изменения характера. Бла-
городный, чистый по своим намерениям Макбет оказывается в конце
трагедии диким убийцей, едва ли не подлецом. Ведьмы знали, что в нем
дремлет сила честолюбия, которая совершит в нем эту перемену. Им
были ведомы таинственные средства, которыми эту силу можно пробу-
дить в нем пророчествами власти и далее питать до тех пор, пока им не
удастся ввергнуть в бездну леди Макбет, его импульсивное alter ego', и
его самого. После первого вторжения в его душу он еще борется; одна-
ко в сущности он почти непосредственно изменился уже после этого
первого пророческого вещания именно потому, что между ним, неизве-
стными силами в нем и тем, что, фосфоресцируя, явилось ему извне, су-
ществует связь, так что он как будто почти бессилен в борьбе с собой и
становится жертвой изменения характера; точнее и более теоретически,
— жертвой соединения темных, вызванных в нем задатков, с ядром его
сущности, которые вытесняют из соединения с его сущностью другие,
чистые и благородные задатки.
Позже станет ясно, что подобные, как будто педантически субтиль-
ные формулировки имеют общее значение; ибо целые народы, целые
эпохи могут пасть жертвой такой судьбы, судьбы Макбета, и она освеща-
ется этими формулировками в своей трансцендентной и одновременно
характерологической основе.
Великими и одновременно постоянно находящимися на краю бездны
шекспировские образы становятся потому, что при овладении ими поко-
ящимися в них задатками они полностью принимают это, полностью и
решительно соединяя захватившие или подчинившие их силы с ядром
своего существа. Если эти задатки сами суть нечто спонтанное, совер-
шенно отличное от мира явлений со всеми его конкретными обусловлен-
ностями, которые становятся для них материалом воплощения и выра-
жения. — следовательно, нечто предусловленное, нечто абсолютное, в
конечном итоге трансцендентное, то образы Шекспира, связано ли ядро
их сущности с самого начала с такими задатками или они связывают его
избирательно в связи с вопросом судьбы, в обоих случаях возвышаются
насыщенными трансцендентностью. Они становятся, сколь они ни ин-
дивидуальны, одновременно воплощением трансцендентных безуслов-
' Другое Я (.шт.).
408
ностей. Они, поскольку это относится почти ко всем из них, становятся
областью, в которой мы можем обнаружить сущность господствующих в
человеке трансцендентных сил, если мы способны чувствовать и видеть;
гак же как мы одновременно, и именно это великолепно, почти во всех
творениях Шекспира ощущаем основу общечеловеческого, над которым
пребывают в нас эти силы, соединяющий всех людей пласт трансценден-
тности и его животворное позитивное дыхание, в котором происходит
это возвышение и борьба, ощущаем глубокое и неисчерпаемое простран-
ство человечности.
4. Сервантес
Горячую человечность и безусловность в такой же незабываемой искрен-
ности возвещал в эпоху Возрождения еще только один человек, помес-
тивший их, правда, в качестве жертвы комическому на острие своего ко-
пья и как будто отдавший их на посмеяние: это Сервантес. Неповтори-
ма идея - представить миру коренящуюся в трансцендентном безуслов-
ность, а также человечность во всем ее величии, придав ей карикатурно
преувеличенное обличье ранней догматизации, но вместе с тем такую
силу, что она способна привязать к себе даже принципиального предста-
вителя повседневной обусловленности, трезвой и эгоистической повсед-
невности, и протащить за собой через бездну приключений. Дон Кихо-
ту, выражающему в романе свою глупость, сопутствует вследствие про-
изводимого им на Санчо Панса влияния, вследствие его постоянной
жертвенности тень второго Дон Кихота, великодушного, доброго, благо-
родного человека, способного на громадные жертвы ради действительно
важного; его, нарисованного нам писателем с таинственной силой, его
образ в сущности истинного человека мы и запоминаем, и нет более ус-
лаждающей сердце и увлекательной книги, более воспроизводящей силу
человеческого тепла и последней самоотверженности, чем эта, кажуща-
яся карикатурой всей человечности и безусловности.
Первое смягчение догм, первый свободный взгляд в открытое чело-
веческое существование, в свободное от догм и норм понимание расщеп-
ляющих и расторгающих человеческую жизнь и все-таки объединяю-
щихся подземных сил: при этом сила молодости, способная видеть и
высказывать это, — таково то, что возвещения открывшейся тем самым
для человечества истины непосредственно трансцендентного видения
существования, возвещения, которые никогда не будут превзойдены,
были дарованы в это время дальнейшей истории Запада. Столь часто об-
виняемая в индивидуализме эпоха Возрождения, которой действительно
был свойствен впервые в Европе появившийся, если не индивидуализм
среднего уровня, то безграничный персонализм с его легко разрывающи-
ми жизнь последствиями, вследствие тою, что для глубоко проникающих
в суть вещей великих людей внезапно стало зримым в качестве объеди-
няющего общее всего человечества, и его связь с силами непосредствен-
ной трансцендентности, что оно стало предметом их формирования и
высказывания, высказывания об одушевляющих и господствующих над
ними величайших надличностных объективностей. — вследствие всего
409
этого эпоха Возрождения становится в истории Запада эпохой трансцен-
дентного откровения; откровения того трансцендентного, которое над-
лежит все вновь и вновь освобождать от его догматических покровов,
чтобы найти основу возвещения, необходимого нам сегодня.
Эти основы еще не полностью увидены. Им еще недостает очень су-
щественного, их постижение подготавливается в два последующих века
нового догматического сокрытия в большей рефлектированности; позже,
будучи внутренне понятыми, хотя сначала еще под догматическим по-
кровом, они становятся основополагающим лейтмотивом западного ду-
шевно-духовного действования.
Выявим эту большую рефлектированность и данности ее среды, ко-
торые уже в значительной степени подготавливают условия сегодняшней
общей проблематики бытия, и проследим духовную горечь и болезнен-
ную утонченность, наступившие вследствие большего осознания на пути
к тем более принципиальным, несмотря на догматическое сокрытие, и
тем самым более сущностно всеобщим постижениям XVIII в.
Третья глава
Редогматизация, рефлексия, одиночество
1. Редогматизация и натурализация существования
Наряду с выходящими из незатронутых областей христианской веры дог-
матическими религиозными проникновениями в бытие, следствием чего
были великие религиозные войны XVI и XVII вв., с начала XVII в. из все
новых тенденций напряжения и констелляций западноевропейской ди-
намики, более подробный анализ которой не является здесь нашей зада-
чей, как бы в виде следствия дедогматизации и освобождения сил одно-
временно выступают три, в сущности натуралистические, господствую-
щие с этого времени над существованием во взаимной поддержке и свя-
зи, мощные в своей эволюции силы; все более возвышаясь из прорван-
ных догматических покровов, они, несмотря на редогматизацию, заклю-
чают жизнь частично в чисто биологический, частично в чисто интеллек-
туальный, не охватываемый больше единым душевно-духовным течени-
ем каркас: это - современное государство, современный капитализм и
современная наука. Как они возникли и как они, если не по происхож-
дению, то в своем развитии внутренне связаны, показано мной в другом
месте. Во всемирно-историческом значении они в своей взаимной под-
держке означают, что в качестве фактической и духовной основы среды
существования за всем и над всем историческим развитием Запада те-
перь стоят чисто витальные эманации сил, не подвластных больше ка-
кой-либо санкции и не признающих ее, и что этим на Западе в душев-
но-духовное движение вводится раскол, несущий в себе при внешнем
захвате мира внутреннюю опасность, которая привела в конечном ито-
ге к нигилизму и к нынешней катастрофе. Чисто биологические силы и
410
принципы, говорю я, вместе с теми тремя силами эволюции, сколько бы
они ни украшали их душевно-духовными тенденциями или пытались
спрятаться за ними, стали господствующими над процессом западной
истории. Знание, т.е. теперь современная эволюционирующая наука, —
сила, сказал Бэкон. И совершенно неважно, что и сколько других фак-
торов способствовали появлению и дальнейшему развитию его форми-
рующегося как сила царства познания. Капиталистическое хозяйство,
проистекающее из естественного стремления к наживе и следующее из
него, сначала медленно, а затем стремительно развивающееся преобра-
зование жизни, — также не что иное, как проявление чисто витальных
сил. А современное государство? Ничто больше не покрывалось таким
количеством маскировок надбиологического характера. Напрасно. Не-
сомненно, каждая политическая форма господства по существу и преж-
де всего есть властное образование, является ли оно уже с самого нача-
ла в момент своего возникновения продуктом насилия, как до рассмат-
риваемого здесь периода происходило почти по всей Земле, или сложи-
лось как конфедерация, как это произошло, например, в античности,
продолжалось в городах-государствах Возрождения, в Швейцарской кон-
федерации, североальпийских городах и повторилось затем в образова-
нии Североамериканских штатов. Начало и сущность политического гос-
подства всегда сила, возникает ли она из насилия или из добровольной
договоренности, она - тот сосуд, куда вносится все, что предполагается
впоследствии при наличии политического господства формировать, за-
щищать или создавать, право, свобода, богатство, благополучие или вне-
шняя экспансия. Это - тривиальная истина. Однако в Европе, ядре воз-
никающего Запада, все политические формирования складывались в пе-
реплетении и братстве с надбиологическими силами, будь то санкциони-
рованными церковью, будь то силами феодальной верности и связи. Вся
территория Европы была покрыта политическими образованиями, вы-
шедшими из такого рода сплетений и в целом охваченными церковны-
ми санкциями. Государства как чисто властного образования, как биоло-
гического образования ради концентрации и экспансии здесь в большом
масштабе не было, до того как оно сложилось в эпоху, к рассмотрению
которой мы переходим, сменившую итальянские города-государства
Возрождения вследствие расторжения прежних ленных и имперских свя-
зей. В результате этого объединенная ранее высшей санкцией Европа
распалась на соперничающие друг с другом большие и маленькие поли-
тические разбойничьи образования; все они притязали на неограничен-
ный суверенитет вовне и внутри, на право не подчиненной какому-либо
высшему смыслу, какой-либо душевно-духовной инстанции насиль-
ственной деятельности, которую они вскоре перевели в беспокойное
стремление к экспансии. Возникла идея «государственного интереса».
Об этом можно говорить очень глубокомысленно. И это с полным осно-
ванием делали4. Если сорвать теоретический покрои, то государственный
интерес в Европе означает в сущности насыщение волчьего голода воп-
лощенных в те времена в абсолютном правителе сил современного госу-
дарства, возникшего вместе с капиталистическим хозяйством, насыще-
ние голода, требующею все большего и большего владения, будь го ев-
ропейскими, будь то внеевропейскими территориями и народами. Ко-
411
нечно, возникли до того неизвестная концентрация и рациональная кон-
солидация права, а позже благотворительность; прежде всего, слабо за-
маскированная династически-придворными притязаниями на наследо-
вание, безудержная тенденция к экспансиям и войнам, распространив-
шийся по Европе, а затем и по всему миру политический биологизм вла-
сти, внедряющий во внеевропейских странах всемирное господство За-
пада, не считаясь с тем, что было там создано раньше, а в самой Европе
сдерживаемый в своем стремлении к тирании и рабству только соперни-
чеством различных возникающих в качестве «современных государств»
центров.
Современный капитализм и современная наука пестуются в этих по-
литических образованиях, родственных формах и прежде всего средствах
усиления власти этого нового, приходящего к господству над существо-
ванием политико-биологического «звериного мира». Ибо надо ясно по-
нимать, это биологический, звериный мир, мир Левиафанов, как его
правильно назвал Гоббс, преисполненный стремлением к деньгам и к
интеллектуальным тенденциям власти, которые поддерживают его в ка-
честве слуг и помощников; так, поток душевно-духовного развития За-
пада проходит с этого времени в рамках чисто витальных сил и их рас-
крытия, замкнутый в них, как в стенах; правда, иногда он вздымается,
стремясь одолеть эти стены, но прежде всего, чтобы поразить их удиви-
тельными образованиями своих высоких, в конечном счете трансценден-
тных видений, часто впадая при этом в самообман.
Лишь исходя из этого, из ясного понимания созданного этим глубо-
кого разлада и связанной с ним двойственности дальнейшей историчес-
кой динамики, может быть понята дальнейшая судьба сотворенного Ев-
ропой и постепенно охватившей всю Землю целостности, неслыханный
подъем Запада и также его сегодняшнее крушение.
Нам надлежит здесь выявить только то, что касается Европы, прежде
всего развития в ней рефлектирующего постижения душевно-духовных сил
и сил воли, которые отсюда исходят и становятся действенными. Для нас
имеют значение три большие душевно-духовные группы. Первая, относя-
щаяся к XVI1 в., и две последующие, складывающиеся в XVIII в.
2. XVII век
Редогматизация, и прежде всего церковная, шла в этом веке параллель-
но кратко намеченной нами выше, предпринятой государством натура-
лизации существования. Это, с одной стороны, должно означать стяги-
вание завес, скрывающих от непредвзятых взоров глубины человеческого
существования, в которые эпоха Возрождения столь смело глядела и чьи
глубины она измерила силами своих великих представителей. Если
Мильтон великолепно сочиняет и говорит о безднах бытия и о темных и
светлых демонических силах, которые в них находятся, то он уже не ис-
пользует старые религиозные формы просто как обличье. Он внутренне
одухотворен догматическими образованиями, созданными христиан-
ством, парафразируя и возвещая с величайшим пафосом это догматичес-
кое видение. И ом только самый яркий пример. Догматически железно
412
регулируемая великая традиция христианства повсюду утверждена как
основа всех мировоззрений.
Однако наряду с этим: поддерживаемая государством современная
наука была астрофизически-математическим объяснением мира. В нем
царила тенденция почти сразу же ликвидировать своими математически-
ми формулами и законами всё утвердившееся в редогматизации. Религи-
озная догматика могла пытаться в той или иной вновь фиксированной
разновидности ввести практическое существование и видение мира в ее
тесно сплетенные петли и с помощью инквизиции и государственной
власти внешне насильственно набросить эту сеть; но сразу же выпесто-
ванное тем же государством в своем лоне научное математическое мыш-
ление настолько разрывало все прочные сплетения, что колебалась и
бледнела не только прежняя теологическая картина мира, но менялось и
внутреннее видение мира, поскольку его постижение было преисполнено
основными аксиомами этого геометрически-математического видения
мира, движущегося между точкой и бесконечностью. Я, человек, также
стал точкой в бесконечности. Тот человек, которого редогматизация пы-
талась ввести в целое посредством совершенно иного квалитативного
воззрения, человек, которого и Возрождение оставило еще полностью
ощущаемым как личность, связанную с миром, стал теперь точкой, ато-
мом в созерцаемом целом.
Так наступило новое: Я, ощущавшее себя как точка в бесконечности,
стало спрашивать: Реален ли я сам, как я могу знать, что я есмь и что я,
познавая, постигаю другое? Так Декарт, набожный человек в этом вновь
ставшем набожном времени, вынужден был задавать такой вопрос о себе
и о мире, открыв этим шлюзы толкованию человеческой сущности и ее
форм, которое исходило из почти абстрактного и понимаемого только
как мыслящее существо индивида, толкованию, которое вошло в исто-
рию как параллель астрофизического толкования мира. Это толкование
человека медленно, как бы магнетически притягивает все уже существо-
вавшие силовые волны также в конечном итоге индивидуалистического
постижения бытия, религиозные, античные естественно-правовые и др.
Такой далекоидущий процесс, последствия которого для самопонимания
западного человека и его политико-практического воления необозримы
и стали в сущности под угрозой самоубийства для Запада неотъемлемы-
ми. Неотъемлемыми потому, что как только Я, средний индивид, вслед-
ствие наполнения теми или иными индивидуалистическими силовыми
волнами перестал быть, как вначале, лишь отправной точкой постиже-
ния, а медленно становился вновь качественно наполненной самостью и
человеческой сущностью; поскольку ведь этот индивид в чистом виде-
нии пребывал в центре существования, из этого должна была произой-
ти необозримая душевно-духовная и в конце концов практическая и по-
литическая революция.
В XVII в. до этого было еще далеко. Однако внутреннее потрясение,
которое принес этот исконно математический аспект существования и
человеческого бытия, пусть даже во внешних формах жизни оно остава-
лось скрытым, было огромным. Оно было огромным там. где восприни-
малось глубокими и великими умами времени, подлинными провозвес-
тниками будущего. Правда, связанные с новой догматизацией полити-
413
ческие властные образования в своих достигших посредством государ-
ственной концентрации большей отдаленности друг от друга духовных
сферах могли именно тогда посредством подавления городской и крес-
тьянской свободы и привлечения к дворам аристократии создать осно-
ванную на интенсивной аристократизации жизни культуру. Правда,
ставшее внешним центром существования новое государство, могло, как
это было, например, в Испании, заменить прежде допускаемую свобод-
ную небрежность резко напряженной по духу и форме классикой Каль-
дерона, которая находила свое выражение в большом, преисполненном
набожностью измерении. Веласкес мог заполнить это новое измерение
своей великолепной реальностью. И одновременное и более позднее го-
сударство Франции могло собрать вокруг двора как центра все творчес-
кие силы, которые из Лувра, из Версаля, из творчества Корнеля, Расина,
Мольера и даже из государственных институтов сияли honncte homme*
как его возвышенное отражение в качестве образца для всей Европы. Это
было образцом такой же привлекающей силы, как некогда готическое ры-
царство. Однако проблематика глубины, поставленная математической кар-
тиной мира в сопоставлении с существованием человека и его средой, ко-
торая подрывала условности вновь сформированного, сознательно напоен-
ного редогматизированным христианством классицистского и барочного
общества, более того, даже ставила под вопрос христианскую и любую дру-
гую догматику, исходя из совершенно нового постижения собственного
бытия и собственной сущности, — эта проблематика глубины осталась.
Упомянутая высокая культура лишь в известной степени маскировала и
скрывала ее. Душевное начало, носившее общественный отпечаток, даже
там, где затрагивалось глубоко человеческое, — такова была сфера, куда все
входило и где оно должно было разыгрываться и высказываться. «Мирозда-
ние у него отсутствует», — сказал француз Суарес в конце XIX в. о Расине.
Это относится даже к Мольеру, несмотря на то что он так много внимания
уделяет чисто человеческому. Мироздание прорывается только как смутная
греза у Кальдерона. Даже у Веласкеса, хотя оно и ощущается за всем его ве-
личием, оно отчетливо не выражено.
Но совершенно отчетливо оно выражено у двух величайших предста-
вителей этого времени, идущих от упомянутой исходной проблематики:
Я и мироздание. Парадоксальный ответ дает один из них; еще сегодня
нас потрясающий, трагический -другой. Оба, Паскаль и Рембрандт, го-
ворят, исходя из вызванного математизацией напряжения между беско-
нечностью и Я. Этим они осуждены на никогда ранее еще не существо-
вавшее одиночество Я. Оба они чувствуют, что стоят перед непостижи-
мо безграничным, перед связанной с этим опасностью падения в ничто.
Таково то новое, что, сияя в их творчестве, оказывало влияние в течение
веков и еще сегодня затрагивает наше существование, приводит его в
движение. Глубоко волнует, когла Паскаль, практически принимая все
формы окружающей его жизни, все-таки вынужден сказать: все обще-
ство, так же. как государство, не что иное, как coutume*. дурной ком-
промисс, чтобы избежать хаоса. И когда он, рассматривая за этой услов-
П о ряд очный чел о не к (франц.).
" Обычаи (франц.).
414
ностью мироздание и человечество, пишет: «Весь зримый мир лишь не-
заметная складка на покрове мироздания, никакие понятия не прибли-
жают нас к нему. Мы можем раздуть наши мысли и вывести их за пос-
ледние темные сферы; то, что мы покажем, — лишь ничтожность, полу-
ченная ценой действительности вешей». А когда затем он спрашивает:
Что такое человек? Он вынужден ответить: «Ничто по сравнению с беско-
нечным, всеполнота по сравнению с ничто, середина между ничто и всепол-
нотой». Душевное следствие этого: «Тот, кто будет так созерцать себя, пре-
исполнится страхом перед самим собой, и если он представит себе самого
себя выраженным в массе, предоставленной ему природой между безднами
бесконечного и ничто, он вздрогнет в страхе перед созерцанием своих зага-
док». Затем эти загадки, психологически рассмотренные: «Что за химера
человек, что за чудо, что за раб противоречия. Судья над всем — слабый зем-
ной червь, сокровищница истины - кладезь незнания, гордость и позор
мироздания: когда человек хвастается, я усмиряю его, когда он склоняется,
я поднимаю его, и так далее, пока он не поймет, что он непостижимый аб-
сурд». Но дальнейшее свойство этой абсурдности? Об этом среди прочего
говорится: «Человек не что иное, как притворство, ложь и ханжество, при-
чем как перед самим собой, так и по отношению к другим». И далее: «Если
бы все люди знали, что одни из них говорят о других, то на Земле не было
бы и четырех друзей». Моральная ориентация: «На гавань ориентируются
те, кто находится на корабле, но где нам найти этот пункт в морали»? От-
вет: «Мода определяет как удовольствие, так и справедливость». «Спра-
ведливость есть то, что значимо. Поскольку справедливость нельзя было
насильственно сделать, сделали справедливым насилие, чтобы справед-
ливость и насилие шли рука об руку». «Следовательно, справедливостью
называют то, что вынуждены соблюдать». «Нет почти ничего правого и
неправого, что с изменением части света не изменило бы свою природу».
«Воровство, кровосмешение, убийство детей, отцеубийство, — все это
уже когда-либо относилось к добродетельным деяниям». «Самое верное:
ничто не справедливо само по себе, если следовать только разуму, все
колеблется вместе со временем». «Таким образом Я в сущности достой-
но ненависти». И: «Единственная истинная добродетель, следовательно,
ненавидеть самого себя». При наличии иных по своей нюансировке, не
приведенных здесь высказываний, в целом это - небывалый пессимизм
и невероятный, основанный на рефлексии страх перед глубиной бездны
нигилизма. Спасенье от него он видит лишь в том же парадоксе, который
в XIX в. Кьеркегор счел необходимым для себя: переход к христианской
набожности и к проповедуемой ею догматике. Он, Паскаль, великий ма-
тематик, изобретатель суммирующей машины, велит вшить мемориал в
свой сюртук, запись его просветления верой и спасения в понедельник
23 ноября 1654 г.; эту запись он хранит как талисман, как вернейший
вывод, необходимый для преодоления всех уничтожающих наблюдении
над человеком и существованием, при несостоятельности «raison»', для
подтверждения единственно спасительных для него и, как он провозгла-
шает, для человечества, «veritcs du coeur»".
* Разума {франц.).
Истин сердца (франц.).
415
3. Рембрандт
Эти vcritcs du coeur оказываются спасительными и для Рембрандта, ко-
торый в другом, в протестантском свете, сначала нерефлектированно,
затем подчиняясь рефлектирующей силе мысли, в качестве художника в
своем охватывающем мир постижении и выражении в конце концов, со-
вершенно как Паскаль, ощущает себя стоящим одиноко перед бесконеч-
ностью и озаренным опасным кругом ее вопросов. Правда, у него совер-
шенно иное решение проблемы брошенности и вплетения Я в мирозда-
ние. Это вплетение Я, одиночество перед бесконечностью, создает у него
неповторимое трансцендирующее качество clair obscure', свойственный
его картинам характер света. Он создает глубину выходящего из таин-
ственного источника, как пучок лучей, освещения, падающего в полный
мрак или в полумрак людей и вещей. Принцип света Рембрандт мог
взять и у других, но только в зрелые годы, после многих тяжелых пере-
живаний, после смерти Саскии в 1642 г. и сложностей, грозивших его
материальному существованию с 1657 г., этот принцип получил свое
полное метафизическое значение: противопоставление бесконечности и
ничто, между которыми находится освещенный трансцендентным све-
том, сформированный в зримую действительность мир человека и ве-
щей. Следовательно, в своей глубине параллельно Паскалю.
Однако насколько иной здесь результат! Рембрандт способен устоять
в этом одиноком промежуточном положении человека между всеполно-
той и ничто. Он не сдается. Душевный процесс, возложенный на него
жизнью, от продажи с молотка его имущества в 1657 г. до последнего
убежища в торговом доме произведений искусства, принадлежащем его
возлюбленной и сыну, вплоть до его смерти (1669), изображен им с по-
трясающий силой. Ступень за ступенью воспроизводил он этот процесс
в своих автопортретах, содержащих сознательно данную автобиографию;
они завершаются изображениями лица, в которые вписаны все бездны
жизни (автопортрет в Экс-ан-Провансе); в последнем же автопортрете
отражена едва ли не насильственная старческая улыбка над всем тем, что
омрачает существование (автопортрет в Кёльне)". Ни один художник до
него не сделал ничего подобного, не дал в своих картинах такое отчетли-
вое биографическое изображение постепенно все более охватывающего
его одиночества во мраке жизни. Но в отличие от Паскаля Рембрандт,
несмотря на это, остается в посюсторонней трудной жизни. Он год за
годом все больше видит ее пропасти и ужас, но и содержащиеся в них
нежные, тонкие небесно-мягкие, отраженные в его картинах, тона чело-
вечности и сострадания; а также, что следует добавить, видит их в кра-
соте чувственности, которая - этим он сходен с Шекспиром - введена
в глубокое напряжение его существа и тогда, когда он уже в горьком зна-
нии борется с мраком жизни. Он обращается к античности, иудейской и
христианской мифологии, использует пейзажи, даже жанровые сцены
для выражения почти необозримой шкалы полноты его в конечном итоге
всегда соотнесенного с бесконечностью и все-таки всегда полностью
пребывающего в посюсторонности опыта, всегда овеянного столь род-
" Спетого и ь (франц.).
416
ственной Шекспиру и все-таки столь иной во внутреннем одиночестве
Рембрандта жизненной печалью, даже преисполненного ею.
Здесь невозможно даже наметить это богатство. В качестве решающе-
го нюанса следует лишь сказать: как для Шекспира и Гёте, так и для Рем-
брандта, всякий миф, каким бы он ни был, остается лишь особенным,
возвышающим до общей ситуации и высказывания средством выраже-
ния, что совершенно противоположно пониманию его современника
Мильтона. И поэтому не случайно, что истории и легенды Ветхого Завета
с их столь личностной и все-таки часто столь неисчерпаемо метафори-
ческой жизненной мудростью служили ему. и особенно в зрелом возра-
сте при все усиливающемся внутреннем потрясении, хотя он и не вос-
принимал их мифически субстанциально, материалом его наиболее зна-
чительных по своему внутреннему содержанию картин. Незабываема
«Жертва Маноя»12 в его мистической покорности непостижимому, «Да-
вид и Авессалом»13 в ее грандиозном королевском величии, «Видение
пророка Даниила у реки Улай» с ее нежной прелестью14, с которой он тол-
кует чудо появления овна, «Иаков, благословляющий своих внуков»15 — в
великолепной полноте гонкой человечности его личности, и, наконец,
две, быть может, самые значительные «Давид, играющий на арфе перед
плачущим Саулом»16, и «Иаков, борющийся с ангелом»17; последняя кар-
тина столь магической красоты, что касаться ее тайны не следует, и мож-
но, пожалуй, только сказать, что здесь стерты все грани по отношению
к южной красоте форм, ибо она полностью вошла в единство этой кар-
тины, и что в этой картине совершенно субъективно возвещается соб-
ственная мрачная судьба.
Не случайно также, что в христианской мифологии высшим являются
для него крайние душевные ситуации: «Бичевание Христа»1*. И с полным
основанием постоянно вызывающее восхищение «Возвращение блудно-
го сына»14.
Не случайно, далее, что в незабываемых мифологических картинах он
наряду с замечательным, многознаюшим царем Давидом20 мог написать
картины из жизни Христа, полные такой таинственной, выросшей из
жизни печали, как никто другой до него или после него21; что он пере-
дает тайну бытия и в таких сценах, как «Пилат умывает руки»22 или в
мифических воплощениях лиц (например, Павел )21 или «Ангел диктует
евангелисту Матфею»24, в сильнейшей охватывающей личность проник-
новенности. Тайна бытия индивидуальной человечности для него повсю-
ду важнейшее. Она и вообще его излюбленная тема, атмосферой которой
таинственно полны такие знаменитые групповые картины, как «Ночной
дозор»25 и особенно столь удивительно нежная так называемая «Еврей-
ская невеста»2'1. Вместе с тем он, совсем как Шекспир, и в свои поздние
усталые годы проявляет себя в «Синдиках»27 как суверенный властитель
величайшей отчетливости и трезвости.
Если он, совершенно как Шекспир, видит и представляет не только
бездны и тайны, но и сияющую полноту жизни., то в одиночестве Я его
отличает от Шекспира, и от Микеланджело. которому он вполне равен
по силе выражения, то, что происходит именно из этого его непосред-
ственно противопоставленного бесконечному одиночества Я. Отличает
то, что у него и всеобщее в формировании мифа с его метафоричностью
14 3ак. 3073
417
и символичностью, которыми он так прекрасно владеет, все-таки почти
всегда исходит из единичного Я, есть в известном смысле превосходящее
всеобщее высказывание Я как последней силы и источника страдания,
высказывание сильнейшего универсального значения, в котором, одна-
ко, единичный человек всегда непосредственно противостоит общему;
противостоит не так, как это отчетливо выражено у Микеланджело и у
Шекспира, не помещенный в промежуточную область сил существова-
ния, в область объективных, окружающих его трансцендентных сил, ко-
торые, борясь друг с другом, проходят через него, воздействуют на него,
могут потрясти и уничтожить, но могут и возвысить его. Одиночество Я
и всеполнота — это его контрапункты. Между ними нет ничего.
Это не просто специфически протестантская черта. Это показывает
Шекспир, у которого объективно существующие силы присутствуют, и
как могущественно! У Рембрандта они исчезли, их изгнала общая атмос-
фера нового математического видения бытия. Они рассеяны. А ставший
одиноким и лишенный родины человек должен, освещенный светом
бесконечности, мужественно пребывать в трудно переносимом clair-
obscure в своем промежуточном положении, как бы на краю ничто.
Таков подлинный ключ к сказанному этим великим художником в
его понятийно столь беспощадно и жестко очерченном Паскалем суще-
ствовании. Великое, почти чрезмерно тяжкое высказывание, которое
можно вынести только с помощью нежной, бесконечно тонкой человеч-
ности, сияющей из затерянного в безграничном мироздании Я, как из
чудесным образом самого себя питающего тепла. Это, как мне представ-
ляется, самое по-человечески глубокое, решающее высказывание XVII в.,
который со своей математикой и своей волей к власти в сущности раз-
рушил всю недогматическую, объективную душевно-духовную трансцен-
дентность и вхождение Я в глубокую силу ее решения28.
Глава четвертая
Догматика и пророческие видения
1. XVIII век
Эта трудность XVIII в. уже не беспокоила. И ему не нужно было больше
ее чувствовать. Этот век стоял на тех же основах соперничества между
государствами и постоянного размежевания со старыми церковными и
новыми философскими догматизациями. тем самым в духовном про-
странстве, где действовало сильное препятствие возврату к истокам, но
с совершенно иными политическими, а тем самым и душевно-духовны-
ми условиями существования. Ибо сдерживание или по крайней мере
известное регулирование волчьего голода в политике государств посред-
ством введенной Вильгельмом Оранским системой равновесия, в кото-
рой вскоре стали видеть новый, как будто вечный, заменяющий пре-
жнюю надбиологическую санкцию принцип существования Европы и
418
Запада, хотя он был лишь паллиативом при ненасытных инстинктах, на-
правленных на взаимный грабеж, это сдерживание позволило проник-
нуть связанным с чувством равновесия представлением о гармонии во
все существование. Был второй путь и второе содержание по сравнению
с XVI и XVII вв., по которому проникало астрофизически-математичес-
кое представление о мире в интерпретацию жизни и душевно-духовное
существование. Это тенденция к представлениям об основанной на рав-
новесии всеобщей гармонии, которую можно считать девизом нового
постижения бытия. И со значительно большим основанием, чем, как
обычно полагают, апофеоз разума.
Постижение бытия разделилось в названный век на два, точнее, три
больших потока совершенно различного способа выражения; из них
один оставался изолированным, тогда как два других соединялись друг с
другом.
Первый поток - ему до сих пор не уделяли достаточного внимания
при рассмотрении великого времени, которое представляет собой этот
век, — возник уже в конце XVII в. Его происхождение связано с отзву-
ками потрясающего переживания Тридцатилетней войны. Это было не-
посредственное эмоциональное течение, которое шло от простых вели-
чавых церковных песнопений Пауля Герхардта к Себастьяну Баху и Ген-
делю; эмоциональное течение, которое затем изнутри охватило транс-
цендирующее начало в пробудившемся в католической сфере барокко и
не только отождествилось с внешней сферой его существования, но в из-
вестном смысле и преобразовало мир его форм, выразив его в вечной
значимости. Существенным выражением этого течения была новая, про-
никнутая бесконечностью музыка, которая в своей структуре и движении
ее полифонической сущности, как будто приходя из других миров и пре-
бывая в другом мире, сделала вновь непосредственно ощутимой погру-
женную в человеческое чувство борьбу трансцендентных сил. Эту музыку
можно вслед за Рихардом Вагнером определить как «вечную», достигаю-
щую вершины последней красоты западную музыку, которая затем у
Бетховена и Шуберта все возвышалась, достигая небывалых измерений.
Я не призван говорить о ней. Могу только сказать: тот, кто, понимая,
воспринимает немецкую барочную архитектуру, которая, возникнув око-
ло 1690 г., сначала несомненно под влиянием юга и запада, затем все
больше создавая собственной силой здания немецкого барокко — боль-
шая заслуга Винкельмана и других, что мы сегодня действительно спо-
собны это понимать - воспринимает с их величественно замкнутым вне-
шним аспектом, которые и внутри во дворцах уже в лестничной клетке,
в церквах в нефе и клиросе, создают впечатление распространения в без-
граничность, которые затем в своих куполах и потолках расширяются до
разрушения пространства, а в проемах окон сообщают о таинственной
бесконечности, тот, кто это полностью воспринимает, переходит из
внешне гармонически замкнутого порядка во внугреннюю сферу, повсю-
ду стремящуюся сообщить прорыв в бесконечность; сообщить его в по-
лете каждой линии, в положении и складках экстатических фигур, став-
ших указующими в безграничность шифрами, в бурном вскипании все-
го интерьера в мелодию, завершающуюся наверху в невыразимо неопре-
деленном. Тот, кто понимает эту архитектуру, обнаружит пойманную в
419
посюсторонность бесконечность, одновременно действительно и в под-
линном смысле ставшую камнем и краской звучащей музыкой. Это на-
чинается уже с конца XVII в. В первой трети XVIII в. до середины века
оно возрастает; с самого начала этому сопутствует очаровательно утон-
ченное ответвление в рококо, которое примерно около 1760 г. начинает
перерастать и оттенять величественное, ведущее в бесконечность, преле-
стной игрой пребывания в посюсторонности.
Кажется, что мощные звучания Баха и Генделя, обоих протестантов
в этих католических сферах, в то время, когда они еще строги, раскры-
лись, как будто в них зазвучала чистота Глюка, ясность Гайдна, будто их
наполнила играющая взволнованность Моцарта и будто Бетховен и Шу-
берт гигантским борением того таинственного, что почти до предела на-
полняет их музыку, становятся совершающимся в звуках возвышением
мощного, адекватного этой архитектуре, нового открытого языка чело-
вечества. Это одна великая линия, одно вечное свершение конца XVII и
всего XVIII в. Она означает раскрытие сферы недогматического, всю глу-
бину души вмещающего и отдающего себя завершенного языка, к кото-
рому человечество, все человечество, — ибо после короткого периода оз-
накомления он становится понятным всем, — может и будет постоянно
возвращаться, так как он открывает шлюзы к самым общим глубинам и
изливает в потоках напоенное трансценденцией чувствование. Возник-
нув, этот язык, как ничто другое, созданное человечеством, не связан ни
со временем, ни с местом, ибо он свободен от всего понятийного и осо-
бенного. Непреодолима по внутреннему прикосновению, будоражению,
расторжению, освобождению и неисчерпаемая символика того транс-
цендентного пласта, о котором мы говорим.
Правда, у непреодолимого есть граница, граница его собственного вида
универсальности. Постижение области трансцендентных сил, борьбы в ней
и ее перекрытия гармонией в этих великих музыкальных образованиях ос-
тается в известном смысле неодолимым, недоступной определению связью
человека с космосом. Это постижение не может предоставить конкретный
язык, дать ответы на вполне конкретные вопросы. Оно неспособно покрыть
в гармонии своим сводом практическое существование и его борьбу, как ни
удивительно оно для себя разрешает все в гармонии.
Так в XVIII в. произошло, что универсальный язык человечества, ко-
торый данное постижение дало этому веку, не мог оказать влияния на
характер сознательного улавливания его душевно-духовных движений,
не мог освободить вторую и третью духовные линии, идейную и поэти-
чески-провидческую, от догматических оков, в которые они были заклю-
чены. Освобожденный и получивший сильнейшую власть, сообщающий
человечеству содержание поток музыки величественно протекал своим
путем, а схватывание заключенных в словах тех же человеческих содер-
жаний шло обособленно, отдельно своим путем.
Эти схватывания в понятиях и словах XVIII в. обычно определяют та-
кими наименованиями, как просвещение, деизм, пристрастность разума,
рационализм, оптимизм, обожествление природы, данное Руссо, буря и
натиск, немецкий идеализм и т. п. Что же стоит за этими словами из ис-
конно и непосредственно трансцендентных содержаний, имеющих здесь
значение?
420
Об оптимизме XVIII в. следовало бы говорить с осторожностью. Ко-
нечно, в той степени, в какой ослабло страшное бремя брутальной борь-
бы за власть XVII в. и уже до того как проведение на практике, а затем
идея равновесия сил, стала возвещаться как своего рода освобождающее
Евангелие, в великой системе и в теодицее Лейбница в мир вступил ос-
нованный на старой религиозной основе и все-таки проникнутый новым
духом сложный оптимизм; одновременно в Англии появилось вдохнов-
ленное неоплатонизмом, ярко и с энтузиазмом изложенное учение
Шефтсбери о всеохватывающей красоте мира и его частей; позже в мо-
ральных философиях Янга и Адама Смита мрачный пессимизм Паскаля
как будто растворился, правда, отнюдь не в столь плоском, но все-таки
в позитивистском акцентировании основного понимания врожденных
симпатий как основ совместной жизни людей. Но как резко и язвитель-
но выступил вслед за Пьером Бейлем, великим противником Лейбница,
Вольтер, также объявивший в «Кандиде», что моральное врожденно, «как
наши члены», против деистски-пантеистических представлений о суще-
ствующем мире как лучшем из миров, и с каким горьким сарказмом про-
должает он эти размышления в других своих произведениях, как, напри-
мер, в «Zadig ou la destince»*. Великий Хогарт начинает свои зарисовки
с известных сатирических циклов о человеке. И не существует больше-
го издевательства над человеком, чем йеху в изображении Свифта. Сле-
довательно, так остро ощущаемые в XVII в. бездонные мрачные стороны
природы человека не забыты и в XVIII в. Не забыты они и во второй по-
ловине века после пессимистически оптимистического перехода Руссо к
обожествлению природы. В гердеровских «Идеях к философии истории»
<человечества. — перев.> 1784 г., на позитивной стороне которых мы
скоро остановимся, сказано: «Что это за судьба, которая продала челове-
ка, поставив под ярмо его собственного рода, под слабый или безумный
произвол его братьев». И далее: «Это заставляет нас думать, что на нашей
Земле побеждает дикая власть и ее сестра, злобная хитрость». Здесь, как
мы видим, ничего не скрыто. Правда, Кант, констатируя существование
«изначального зла», полагает: «Злонравие человеческой природы есть не
столько злостность в строгом значении этого слова, как настроенность...
принимать в качестве мотива в свою максиму зло как злое (ибо это дья-
вольское намерение), сколько извращение сердца, что мы, по следстви-
ям этого также называем злым сердцем»2'*. Это, конечно, очень большое
ослабление и некоторое понятийное притупление бездонных измерений
трансцендентных глубин, так как здесь силы злых задатков в человеке не
рассматриваются и не признаются как таковые, как особые сущности, а
могут быть поняты только как «оборотная сторона» нравственного по-
рядка человеческих мотивов, как следствие и коррелят фанатического
следования ортодоксальности учения о категорическом императиве как
единственной данности.
Мы уже видели: в XVII в. в его математизированном, логизированном
мышлении, как ни сильно в нем сохранялось видение темного, как ни
погружен был в него Паскаль, — об этом говорилось подробно, — не
было больше места для каких-либо непосредственно воспринятых.
" Чадпг или судьба (франц).
421
сверхсубъективных метарациональных сил. Именно там, где, как, напри-
мер, в учении Спинозы, которое оставалось надиндивидуалистичным и
величественно исходило из концепции целого, зло, поскольку иначе оно
было логически непостижимо, и не могло быть включено в число пози-
тивных атрибутов Божественного целого, становилось просто отрицани-
ем. Дьявол превратился в ничто, как определенно говорится. Логическая
догматизация вытесняет существовавшее прежде непосредственное ви-
дение металогических основ существования и жизни. От этого осново-
полагающего сокрытия и маскировки XVIII век, за исключением его ве-
ликих художников, музыкантов, писателей и поэтов, не освободился,
когда он пытался охватить своим толкованием существование и, мысля,
открыть его основы. Начиная от Теодицеи Лейбница с ее в сущности
гротескным оправданием зла, через Вольтера, рассматривающего темную
сторону существования и все низости, по существу, как нелепые пре-
вратности бытия, и Руссо, просто проецировавшего эти превратности в
общество, до Канта, для которого изначальное зло также было в конеч-
ном итоге лишь понятийной негативностью, способной привести к из-
вращению сердца, и следующих за Кантом мыслителей вся мрачно-де-
моническая сфера, даже там, где происходит проникновение в трансцен-
дентность, не входит в общее истолкование, не входит потому, что транс-
цендентное стремились тогда заключить в логические категории и все до
основания истолковать логически. Совершая это, приходилось с необхо-
димостью понятийно формализовать и разрежать позитивные трансцен-
дентные силы, связывать брызжущий богатством, пестрый мир красоты
с голым понятием целесообразности («Критика способности суждения»,
в которой в остальном многое прекрасно), а там, где в эксперименте и
мысли совершался великий акт, постигать то, что мы можем назвать об-
ластью совершаемого из спонтанной свободы «доброго», как таинствен-
ное вторжение объективно трансцендентного в механистически-каузаль-
но понятое движение мира «феноменов», как это сделал Кант в «Критике
практического разума»; тогда не остается ничего другого, как формали-
зовать также это, понятое и переданное в его непосредственности всеми
великими провидцами, и превратить в максиму извне наложенного долга
на свое волен ие (склонность). Само собой разумеется, следовательно, что
не только здесь, но и повсюду, оторванному от своих корней, лишенно-
му своей сочности и полноты миру светлых и освобождающих сил, мир
темных сил мог противостоять только как их тень, что и было у Спино-
зы. Даже там, где этот мир по крайней мере упоминался, как в учении
Канта, он был обременен внутренней тенденцией к исчезновению,
склонностью, поскольку он понимался чисто негативно, становиться не-
полноценным, или даже неувиденным. Таким образом, идеи и мысли-
тельные образования XVIII в., и там, где они, подобно немецкому транс-
цендентализму, проникали и большие глубины, отличаются тем, что они
не полностью видят существование, не охватывают его в его пластичес-
кой форме, в его многослойности и противоречивости, а видят его толь-
ко с одной стороны. Такова действительно получившая большое призна-
ние тенденция к бескровной рациональной сухости и оптимистической
плоскости, во всяком случае у менее значительных умов.
Тенденция, которая ввиду того, что вся форма мышления этого века
422
основывалась на математизирующем логизме XVII в., при всем своем
постижении глубин человека содержала опасность того, что и постигну-
тый человек, индивид, будет идейно формализован и идеализирован и
что, как это было в XVII в., на место непосредственного видения «инди-
вида и общности» в качестве естественного отношения взаимной помо-
щи и обусловленности будет поставлена паралогических противополож-
ностей; при этом в игру этой пары противоположностей переведут изве-
стные воззрения о государственном договоре и введут в этот формализм
в метафизическом рассмотрении глубоко оправданные постулаты есте-
ственного права, подчеркивая, исходя из человека, индивидуальное пра-
во и несомненно слишком сильно при этом рационализируя, а часто и
опустошая, природу государства. Прежде всего при постижении приро-
ды государства, столь же, как и раньше, преисполненного тенденций к
власти, направленный на светлое и ясное полет времени слишком легко,
как и при постижении субъективно индивидуального, оставлял вне сво-
его внимания неизмеримые силы и их отношение к формированию иде-
ала. Быть может, самая слабая черта XVIII в. — то, что он не преодолел
глубочайший разрыв между его рожденными из чистой человечности
идеальными тенденциями преобразований жизни и государства и бру-
тальным индивидуализмом власти государств этого времени. Этому
стремлению государств к власти идейно почти не была наложена узда30.
Ему предоставляли, не освещая его глубоко, пребывать в границах по-
средством случайно примененного механизма системы европейского
равновесия, которая, прежде всего во второй половине века, с 1763 до
1792/93 г., действительно привела к случайному промежуточному пери-
оду лучезарного света, неомрачаемого облаками войн и власти.
В этот период могли полностью развернуться всемирно-исторические,
ставшие решающими тенденции времени; казалось, что можно действи-
тельно перейти к постижению и формированию существования, исходя из
человека, из отдельного человека. В этот период утвердился опасный, но и
величайший по своей плодотворности оптимизм, сделавший этот век бес-
смертным. Он заключается в представлении о способности человека к усо-
вершенствованию посредством того, что называли «просвещением».
«Просвещением» называет Кант в 1784 г.31 путь от несовершенноле-
тия к совершеннолетию, иными словами, от несвободы к свободе; при
этом он прежде всего постулирует свободу мысли, он одновременно уже
тогда добавляет: «Она подготавливает гражданина к тому, чтобы завое-
вать свободу действий, а правительство к тому, чтобы прийти к заключе-
нию, что с человеком, который больше чем машина, следует обращать-
ся согласно его достоинству». Более смело это выражено в 1793 г. в тре-
бовании основанной на свободе, «взаимной зависимости» и равенстве
конституции, «которая исходит из первоначального (государственного)
договора», лучше всего в виде основанного на свободе представительного
устройства. Очевидно, что это естественно-правовые постулаты Локка и
конституционные идеи Монтескье; отражение великого, проходящего
через XVIII в. движения за свободу и его всемирно-исторического взрыва
во Французской революции, отзвуки ее очень далеко от происходящей
бури в одинокой комнате ученого на пребывающем в мире абсолютист-
ских форм востоке Германии.
423
Просвещение, свобода, равенство! Очарование этих слов и идей, в
поэтапном возрастании будораживших XVIII в., происходит не из педан-
тизма ученых или научных констатации, не из несомненно существую-
щей социальной проблематики. Оно заключено в восстании приходяще-
го в себя, к своим прежним душевным содержаниям после страшного
опыта XVII в., возвращающегося с новой ступени сознания и пережива-
ния западного человечества в восстание против давления брутального
внутриполитического натурализма деспотического государства. Нелепая
и опасная мода видеть вслед за Гегелем или романтиками в этом мощном
взрыве, как это любят в Германии, плод свойственного Западу «атомис-
тического», «индивидуалистического» рационализма. Это было нечто
совсем другое, а именно вновь ставшая зримой старая, западная, преж-
де всего германская исконная каменная порода, которая предстала, прав-
да, в новом освещении, приданном тенденциями просвещения и новым
пониманием человечества. Локк, основатель «нового естественного пра-
ва», которое высвободило революционные тенденции, говорил, выступая
против реакционного якобинства и патриархальности, которая идет от
времен Адама, о человечестве, созданном Богом свободным и равным,
т.е. с равными притязаниями на право, о глубокой религиозной основе.
Возникший из оптимистического вдохновения природой и из пессими-
стического неприятия существующего общества эмоциональный взрыв в
творчестве Руссо, который в contrat social' требует полной отдачи для
конституирования политического целого и его воли, создания volontc
generate" — essentier* полная противоположность в своем рациональном
облачении рациональному атомизму. А формулировки прав человека,
которые в практически действительно возникающих посредством дого-
вора североамериканских отдельных штатах, начиная с 1775 г. были фик-
сированы сначала как догосударственно сущие, затем гарантированы го-
сударством, в своей душевной основе, были, как у Локка, религиозного
происхождения'2. Эти права были созданы и записаны в качестве зако-
нов людьми, которые несли в себе древнегерманские представления о
свободе, об ограниченной сфере действия государства.
Все подробности здесь безразличны, и конкретное ограничение, и
связанные с определенными представлениями и понятиями обличья, в
то время применявшиеся. То, что лежало в основе душевно-духовного
течения, которое привело к столь необычайному событию, как Француз-
ская революция с ее последствиями, дурными и хорошими, было в сущ-
ности совершённым практическим потоком жизни прорывом в новый,
трансцендентный глубинный слой человека. Он был совершен и оказал
практическое воздействие в упоении оптимизмом с его представления-
ми о совершенствовании. Однако если сегодня даже биолог- определя-
ет человека как, в противоположность животному, рожденного для сво-
боды носителя жизни, то следует наконец понять, что способность пра-
вильно применять свободу и видовая определенность, вследствие кото-
рой эта способность будет когда-либо достигнута, — не одно и то же, и
В общественном договоре {франц.).
" Обшей поли (франц.).
По существу (франц.).
424
что заслуга XVIII в. состоит в том, что эта видовая определенность чело-
вечества была осознана и открыта. Быть может, оптимистично и в ряде
случаев опрометчиво было верить в непосредственное осуществление
свободы, невзирая на то, что духовно великие мыслители этого времени,
такие, как Монтескье, а также Кант, очень осторожно говорили об этом.
Решающим было то, что человек был увиден по-новому. Он был понят
по-новому, исходя из его видовой определенности.
Большая, глубокая волна нового постижения человечества была дос-
тигнута на новом уровне одновременно и именно там, где в XVIII в. при-
менительно к политическим постулатам свободы царила сдержанность и
узость: в Германии. Здесь в движении «бури и натиска» поток смыл
прежде всего старые душевные и духовные условности. Но для того, что-
бы затем подняться и очиститься. Сегодня пришло время правильно уви-
деть великолепие, широту, глубину и разветвленность немецкой гумани-
стической идеи XVIII в.; этой идеи, которая будто бы столь затаскана и
запылена, хотя то, что произошло после ее исчезновения и что происхо-
дит сегодня, показало и могло бы быть увидено даже слепым, что озна-
чает ее исчезновение. Кто, читая такую книгу, как «Идеи к философии
истории» Гердера, не ощутит веющее здесь дыхание, кто не почувствует,
что здесь более глубокое видение человека дано в первом, преисполнен-
ном набожностью и все-таки экстатическом обращении волнующего со-
зерцания к намерениям природы и провидения в уже внутренне истин-
ной форме, тот и сам еще ничего не ведает о глубине созерцания чело-
века, названной в конце этого столетия в Германии человечностью. Се-
годня мы, вероятно, больше не склонны постигать человека, подобно
Гердеру, в оптимистическом благоговении перед природой как своего
рода промежуточную ступень по отношению к существу высшего рода и,
исходя из этого, объяснять его незавершенность, его несовершенство,
тщетные попытки и ужасы его истории в известном смысле как прома-
хи. Для этого человек вел себя с тех пор слишком плохо. Однако кто не
ощутит, насколько здесь одухотворенно указано, как и почему человек, в
качестве единственного существа Земли обладает свободой выбора между
добром и злом, как он подчинен на Земле только одному закону, тому, ко-
торый он возлагает на себя сам. Время, о котором идет речь, поняло это
впервые, оно погрузило это в переживание общечеловеческой связи и об-
щечеловеческого богатства, и из этого вышли сегодня почти непостижимые
законченность, полнота и гармоническая красота его творений.
Нам незачем спрашивать, где здесь границы и что здесь не было уви-
дено. То, что это время видело, было действительно откровением. Исхо-
дя из этого откровения, Шиллер мог найти такие слова, как сказанные
им о правах, которые пребывают неотчуждаемыми наверху, мог созда-
вать такие драмы, как «Вильгельм Телль», прославляющие это конкрет-
но, другие, как «Валленштейн», показывающие всю сложность челове-
ческой природы; его полет мог в триумфе соединиться в конце Девятой
симфонии со столь глубоко омраченной, столько бездн охватывающей
музыкой Бетховена, и мог в говорящей в образах силе формирования со-
здать из своей поднявшейся в понятийные вершины душевной взволно-
ванности тысячу форм, которые с тех пор воздействуют и будут вечно
воздействовать на нашу жизнь.
425
О величайшем из людей того времени, о Гёте, нам надлежит сказать
здесь только следующее: его величие и его вечное значение состоят
именно в том, что начиная со времени бури и натиска он, борясь с эле-
ментами образования своего времени и, как правильно выражает это
Гундольф, в значительной степени формируя его, беспрерывно занятый
проблемами образования, следовательно, совершенствования, и в конце
концов предлагая определенную программу образования, все-таки бес-
конечно возвышается над всем этим и есть непостижимо большее, так
как он, едва ли не единственный тогда, близок истокам и непосредствен-
ному видению сущности своего времени и состоянию его сил. Он видит
свое время, подобно ранним великим мыслителям, непосредственно и,
не колеблясь, выражает его в символике того или иного, христианского,
языческого и другого материала. Он одинаково подлинно понимает его
в «Ифигении» и в «Фаусте». Он превращает темные сплетения совершен-
но сознательно увиденных сил судьбы без всякого мифологического об-
лачения в свой с глубоким волнением и красотой изображенный пред-
мет, как в «Избирательном сродстве». В своих известных высказывани-
ях о демоническом он не побоялся документально изложить, хотя и в
некотором соответствии с «формулировками образования» своего време-
ни, часть непосредственно им увиденного и пережитого. В нем, следова-
тельно, мы имеем последнего великого человека, который в свободном
отношении к фантазии, к образованности и к ее религиозному облаче-
нию с догматической свободой высказывает совершенно прямо и непос-
редственно полученный опыт, последнего и единственного, кто, твердо
сохраняя абсолютные содержания старого постижения глубин, погружая
их в постижения нового человечества, еще на 32 года переходит как оди-
нокий факельщик в XIX в. Свой век он превзошел.
Но этот век велик и без него. Он нашел в музыке новый всеохваты-
вающий язык человечества и довел его до кульминации. В конкретизи-
рующих областях чувства он открыл новое, значительно расширенное
постижение высказываемой, активно сообщаемой, переходящей в дей-
ствия человечности. В мире идей, основанном на этом, в его представ-
лениях о назначении человечества и о свободе он разработал вечные ис-
тины. Этот век ощущал свое содержание как совершенно замкнутое.
Там, где под натиском его новых идей еще не прогнившие старые обще-
ственные образования держались и были достаточно гибкими, чтобы
принять новое видение человека, и где почти столетие лежавшая под па-
ром эмоциональная почва могла быть перепахана, в Германии, это виде-
ние человека доведено до неповторимого великолепия не только в музы-
ке, но и в идейных схватываниях бытия, прежде всего в поэзии, и оно
сохраняет свое значение и для нас, людей сегодняшнего дня. Этот век
совершил гигантское; стоя в конце длившегося века развития рефлексии,
следовательно, во времена высокого сознания, он не допустил распада
абсолютного в своем мышлении и видел свою задачу именно в том, что-
бы всей силой своего инстинкта и со связанным с ним сознанием выс-
казывать абсолютное и так, как ему казалось возможным, мысленно его
обосновывать. Это было, поскольку при этом совершалось отделение
последней абсолютности человеческого от историко-мифического, кон-
кретного представления о спасении и от догматического в христианстве
426
посредством такого достигнутого подлинного соединения развертывае-
мого содержания и душевных открытий христианства и античности, в
известном смысле решением духовной задачи Запада, которое вряд ли
можно было превзойти. Тип человека высших слоев, возникший в это
время, обладал широтой, силой и тонкостью чувства и сочувствия, неве-
домых еще ни одному времени, способностью все воспринимать, не раз-
лагая на хаотическое ничто; он был способен органически соединять
воспринятое с собственным содержанием, изменяя его, впитать, — та-
ким образом, этот тип человека достиг последней возможной высоты.
XVIII век заплатил за личностную и формирующую высоту даже его
великих людей многим, что исчезло в его освещениях или вошло в них
в значительном сокращении, подчас слишком догматическими и упро-
щенными фиксированиями нового, которое этот век позитивно постиг
и стремился осуществить в человечестве. Однако его слабостью была не
вера в прогресс, которая в отличие от такой веры решающих слоев XIX в.,
была не пошлым следованием процессу цивилизации, а удивительно ок-
рыленным волением, потребностью в совершенствовании, происходя-
щей из высокого видения человека. Его слабость заключалась, как уже
нами было показано, в том, что непосредственное видение сверхсубъек-
тивных трансцендентных сил, светлых и темных, уже скрытых математи-
ческим мышлением XVII в., распылялось в его идеальном постижении,
что оно тем самым превращалось из непосредственно пережитого в от-
деленные от основы бытия мыслительные образования, которые — на-
сколько легко, мы вскоре увидим, — могли стать пустыми и призрачны-
ми или орудием произвольной диалектики. Постижение нерасторжимой
связи трансцендентности светлых и темных жизненных сил вытеснил
слишком легко достигаемый полет идей, который, не связанный с дол-
жной резиньяцией, — Гёте сказал бы, отречением, — не мог противосто-
ять горьким реальностям бытия.
Так, практически наиболее существенное достижение XVIII в., «рели-
гия свободы», как назвал ее Бенедетто Кроче34, предстало перед XIX в.
как идея в слишком легком, эфирном покрове. Она вполне могла выз-
вать одушевление. Однако при первом же практическом шаге оказыва-
лась несостоятельной. И если она все-таки возродилась и стала одной из
самых значительных сил XIX в., то его воздух должен был стать ей опас-
ным тогда, когда он обрел известный реалистический холод, опасным
потому, что она с самого начала не была облечена поэтическим покро-
вом видения человека и толкования бытия, напоенным большим содер-
жанием действительности.
2. Переходный период
Этому XIX веку предшествует замечательный, богатый и все-таки путан-
ный переход, который доходит до 1830 г. и не может быть оставлен без
внимания, так как без него не будут поняты фронты XIX в. и так как
только посредством него можно увидеть, в каком месте и в какой момент
этот век сворачивает на своем пути к нигилизму.
Французская революция, наряду с которой позже такое же значение
427
имело основание Соединенных Штатов, первое всемирно-историческое
великое деяние религии свободы, возникшее до XIX в., разрушила в Ев-
ропе старые исторические образования и заложила основание к их рас-
паду посредством постулатов свободы и равных прав. Она закончилась
насилием, а в явлении и действиях Наполеона превратилась в угрозу
полного преобразования и униформирования многообразной и преис-
полненной напряжения Европы. Душевно-духовное воздействие таких
неведомых ранее европейской истории событий было чрезвычайным.
Параллельно революции, сознательно или бессознательно направлен-
ное против всего догматизма XVIII в., в Германии возникло - питаемое
эмоциональными течениями ее великой музыки, как мы сегодня знаем,
— бесконечно многостороннее образование, которое, обобщая, называ-
ют романтизмом. Романтизм ощущал напряжение между Я и бесконеч-
ностью совершенно иным неабстрактным образом, чем всегда склоняю-
щаяся к рационально догматическому тенденция XVIII в., более рас-
плывчато и неопределенно, но одновременно и с меньшей угрозой опу-
стошения, с большей образностью. В своем подчеркнутом чувстве то-
тальности и индивидуально исторического многообразия романтизм
вследствие принципиально иного понимания действительности сильнее
и сознательнее, чем названные нами недогматические течения XVIII в.,
затронул корни математически-рационального мышления XVII и XVIII
вв. Однако это новое понимание действительности, которое как коррек-
ция рационального понимания пульсировало, возникнув в Германии, по
замерзшим областям Западной Европы, как поток теплой крови, было,
несмотря на то, что многие его мыслители, например Фридрих Шлегель,
уже понимали, что надо говорить не об «идеях», а о «силах», и несмотря
на то, что ряд великих людей предполагали и воспевали силы, увиден-
ные, исходя из недогматического трансцендентного, было в целом недо-
статочно глубоко и слишком расщеплено, чтобы привести к действитель-
но великому, внутренне связанному, новому непосредственному пости-
жению трансцендентности и освободить ранее инстинктивно восприня-
тые духовные глубины от скованности понятиями XVII и XVIII вв. Пред-
ставители этого направления, за исключением нескольких мыслителей,
видели, как Э. Т. А. Гофман, фантастические призрачные миры вместо
темных групп сил, определяющих наряду со светлыми силами жизнь,
или кончали рецепцией мифической фантазии христианской догматики.
И, становясь все более завершенным, единым, в конечном итоге прак-
тическим, последнее сверхпонятийное супертрансцендентальное образо-
вание XVIII в., гегелевская система, выступила наряду с повсюду возни-
кавшими после Наполеона рационально и эмоционально питаемыми
волнами свободы и против них. После того как власть догматизации ка-
залась сломленной и ослабленной, мог установиться в качестве сильней-
шего волнореза, способного охватить по крайней мере Восточную и Цен-
тральную Европу и направленного против религии свободы, сверхдогма-
тизм, догматизм всесильного государства, несвободы отдельного челове-
ка и одновременно предоставление полной свободы государству, которое
не должно встречать препятствия со стороны «всяких филантропических
бредней и подобных нелепостей». Исторически это — полный парадокс.
Однако здесь, несмотря на все, была выражена единая мыслительная
428
позиция, противоположная Французской революции, значительно более
принципиальная, мысленно более радикальная, чем романтизм и оказы-
вавшая всестороннее влияние, позиция, с которой мог кристаллизовать-
ся весь опыт, связанный с феноменом Наполеона и его воздействием.
Под действием этих трех факторов, как в сильном беспорядочном
вихре, возникали новые фронты или окрашивались иначе старые, утра-
тившие свою прежнюю наивность. Наполеон — факт невероятной влас-
ти и силы — сбросил идеи свободы с небес на Землю. Корни прежнего,
вялого династического многообразия Центральной, Южной и Восточной
Европы внезапно были затронуты идеями свободно интегрированных
государственных национальных образований, которыми Запад практи-
чески обладал и которые теперь постулировали повсюду национальное
моление свободы. Прежняя идея гражданства мира была этим искорене-
на и находила убежище лишь в уголке мировой литературы, которую пе-
стовал и к которой стремился Гёте. Старый, династически случайно об-
разовавшийся государственный порядок, восстановленный после Напо-
леона, страстно взывал о помощи под угрозой этой свободной нацио-
нальной идеи. И он получил ее, отчасти из кругов романтиков, из пони-
мания индивидуальности которых можно было с достаточным основани-
ем выводить исторически сложившиеся государственные идеи с соб-
ственной культурной субстанцией и защищать их формирование как
ставшее «органическим»; отчасти же и прежде всего эту помощь пре-
жний государственный порядок получил от легитимирования Гегелем
государства и власти. Старое в качестве так называемого принципа леги-
тимности выступило против ставших в национальных идеях по-новому
плотью и кровью идей свободы, которые в этой новой форме грозили
преобразованием большей части Европы. Такова была новая «форма»
старого европейского противостояния между несвободой и свободой,
которое в качестве политического в XIX в. в значительной степени выс-
тупало на переднем плане. Оно большей частью подчеркивается истори-
ками как фактор завершения этого процесса.
В более тонких регионах душевной и духовной глубины, которые нас
здесь интересуют, произошло нечто более общее, два момента чего мы
укажем. В глубоких личностных переживаниях более молодого поколе-
ния, рождение которого относилось ко времени после 1770-1780 гг., по-
коления, пережившего революцию, ее последствия, ее падение и Рестав-
рацию в виде первых впечатлений, в этих невероятных переворотах сво-
еобразная наивность XVIII в., еще сохранявшаяся даже в ее отрицании
и в преобразующих ее идеях, была утрачена. Это поколение видело то,
что оно видело, критически и одновременно, так как оно не чувствова-
ло себя укрытым в совершенно безопасной крупной форме-5, с известной
душевной неуравновешенностью, которая могла даже становиться экс-
центричностью. И хотя оно, несмотря на свой реализм, не отказывалось
от важных идей XVIII в., в нем звучал — и это второе, что мы отмечаем,
— наряду с прежней понятийностью другой тон, означавший своеобраз-
ное, бессознательное ощущение непосредственного постижения транс-
цендентности, иначе и более подчеркнуто, чем мы видим это под покро-
вом понятий у великих мыслителей XVIII в. То и другое, нарушение рав-
новесия и характер демонизации, могло принимать самую разную окрас-
429
ку, но создавало своеобразную, обусловленную временем, нюансировку
великих толкующих существование явлений, вследствие которой они
кажутся странно сломленными по сравнению со спокойным полным то-
ном предыдущего века и предлагаются суждению XIX в. духовно отчас-
ти непонятыми, отчасти в неправильном ракурсе. Имена, не имеющие
универсального европейского значения и действия, будут здесь опуще-
ны. Однако следует сказать: преувеличенное и часто намеренно насиль-
ственное в творчестве гениального по душевной потенции и силе выра-
жения Генриха Клейста относится сюда. Это, так же как его влюбленная
в смерть судьба, не только отклоняющиеся от нормы задатки, хотя и это
было, и не только следствие отсутствия своевременного признания. В
этом совершенно отчетливо звучит то нарушение равновесия, которое не
находит выхода или не хочет его найти из разладов времени; своим осо-
бенным типом демонизации оно делает Клейста одиноким, и способ-
ствует тому, что он создает величайшее в преувеличенном, неистовом
развитии страсти, как это сделано в «Пентезилее», а сам исчезает в на-
меренном резком диссонансе к своему времени.
Этот диссонанс со временем становится, можно сказать, основой воз-
вышения, достижения проникнутого светлой демонией божественного у
Гёльдерлина. Как он отталкивается от повседневности своей эпохи, по-
казывает «Гиперион», где письмо о невыносимости повседневной не-
мецкой жизни составляет импульс всего произведения, импульс форми-
рования проникнутого божественным мира; повседневный мир отчетли-
во противостоит ему как полный мрачных сил и должен быть отвергнут.
То же выражено в прекрасном величественном фрагменте «Эмпедокл».
Одушевленный и вдохновенный некогда богами, владевший сверхлично-
стными силами великий человек не может продолжать жить, потеряв во-
лею богов силу и будучи отвергнут демонией темных сил масс, даже если
народ вновь зовет его. Он бросается в Этну, как жрец природы, «упоен-
ный последним вдохновением». Это не пессимистично, это дистанциру-
ющее, позитивное высокое чувство и отстранение мрачной, полной де-
мон ии повседневности, то же высокое чувство, которое в поздних стихах
излилось в полноте сияющих видений природы, вершины истории и
ощущаемой теперь как часть природы, воспринимаемой как бы с высо-
ты птичьего полета освобожденной от ее мрака повседневности.
Совершенно иным предстает второе универсальное явление, вырос-
шее из демонического отталкивания от своего времени: Байрон. Почти
все, написанное Байроном в зрелые годы, с поднятым или опущенным
забралом полемично с демоническим побуждением. Открыто полемичен,
представляющий собой отчасти веселую, отчасти горькую сатиру на глу-
по реакционное, ханжеское, группировавшееся после поражения Напо-
леона вокруг Веллингтона английское общество времени Реставрации,
гениальный «Дон Жуан»; из-за всепроникающей полемики в нем мож-
но читать только немногие прекрасные сцены любви, но в действитель-
ности он — тайный глубокий отказ от жизни, вызванный видением ее
темных пластов. Этот же отказ от жизни становится очевидным в мисте-
риях и завершается в самом значительном, зрелом произведении, в
«Манфреде». Даже если в «Манфреде» выражено чисто личное пережи-
вание, это произведение остается самой потрясающей, когда-либо напи-
430
санной жалобой на человеческое существование как часть бытия. Это
человеческое существование как часть бытия не дает забвения запутав-
шемуся в его демонии, а тому, кто в рамках этой демонии ощущает себя
отмеченным собственным действием, не дает и возможности бегства,
спасения, как он ни молит все ее силы. Следовательно, лучше не быть,
конец.
Неудивительно, что эта позиция отказа от общества, поднятая в
«Манфреде» до грандиозного дистанцирования от бытия вообще, пози-
ция этого одержимого демонией гениального человека, который к тому
же имел идеалы и мог умереть за них, стали эпохальными. Следы его
влияния мы находим в Италии (Леопарди), а также в России (Пушкин),
не говоря уже о том, как мировая скорбь проявлялась в поведении рядо-
вых людей.
На пороге века, который мы узнаем как время воли и освобождения
тенденций власти, стоит сформированный всем этим, еще напоенный
объективным содержанием предшествовавших столетий, в борьбе с ре-
альностью вопрос: следует ли нам говорить «да» всему переживаемому
нами? Это в философском углублении вопрос Шопенгауэра, во всяком
случае практическая сторона его вопроса. Его философия, прозрачная по
форме, в ее обращении к Канту и в своей как будто дальнейшей спеку-
лятивной разработке его трансцендентности все-таки в сущности скорее
прочувствованна, чем каким-либо образом доказуема. И это его заслуга.
Ибо здесь впервые вызванная атмосферой наступающего после Наполе-
она века видится спонтанно схватываемая сила, которую Шопенгауэр
наделяет шифром «воля» и постигает как сущность мира объектов, как
«само по себе» бытия. Этим отчетливо приводится в движение другим и
более глубоким образом, чем в схоластическом мышлении Гегеля, рас-
крытие всего того, что лежало за мыслительными фиксациями XVIII и
предшествующего XVII в. в качестве непосредственно данного. Хотя но-
вое видение мира у Шопенгауэра и введено в несостоятельную антитезу
«представления» как представленный мир и «волю» как вещь саму по
себе, здесь движущееся, спонтанное, схваченное как трансцендентная
основа, пусть определение «воля» и несовершенно, философски впервые
постигнуто таким образом. И это схватывание оказалось подземным по-
током, который подспудно протекал в неметафизическом и становящим-
ся позитивистским XIX в. и мог во второй половине века плодотворно и
освобождающе воздействовать на некоторых духовно действительно вы-
дающихся людей.
Для начала века и его первой половины эта возвращающаяся к кан-
товской трансцендентности, дополненная индийской мудростью фило-
софия, сколь ни обусловлено временем было ее появление и сколь она,
как и все высказывания великих этого переходного периода, ни придер-
живалась объективного содержания XVIII в., прежде всего его содержа-
ния гуманности, была из-за ее оформления несвоевременной. Желая в ту
пору отойти от Гегеля и его схоластических понятий, обращались к по-
нятийно неясно образному и индивидуальному в романтизме, а не к но-
вому постижению глубины бытия, которое, правда, по-своему вводило
именно допонятийное, но заключало его в точные общие логические
трансцендентные формы. Так случилось, что великий, подчеркивающий
431
ночную сторону бытия философ воли, появившийся в начале XIX в., не
был признан именно этим веком воли. Все значительные явления этого
переходного периода, проникавшего столькими предчувствиями в глуби-
ны, которые касались его подчиненных демонии и напоенных страдани-
ем, — говоря словами Ницше в его поздний период, — касались его дио-
нисийских основ существования, не оказали длительного влияния на
этот век в его начинающемся движении.
Пятая глава
Полнота и разрушение: XIX век.
1. Осуществление
XIX век, век воли, как мы его назвали, рассмотренный в ряде аспектов,
является временем осуществления чаяний всех предшествующих веков
западной истории. Осуществилось в XIX в. исходящее из Европы миро-
вое господство Запада. В конце этого века два континента были заселе-
ны европейцами, третий поставлен в зависимость и также частично за-
селен, Восток был открыт и господствующие позиции занял в нем Запад.
Громадный поток людей, сотни тысяч, ежегодно изливался из Европы в
открытые теллурические пространства, поток, который наполнял эти
присоединенные территории живой кровью. В сложившемся таким об-
разом, охватывающем земной шар целом работала огромная, увеличива-
ющая каждым оборотом радиус своего действия ротационная машина,
мировой капитализм, который расселял людей, открывал области, обла-
дающие ресурсами, подвозил туда товары и вкладывал инвестиции; кор-
релятивно этому он накапливал в своих основных развивающихся инду-
стриальных центрах, английском, расположенном вокруг Германии
среднеевропейском и североамериканском, растущие массы людей во все
больших скоплениях; им он вновь предоставлял в ходе дальнейшего рас-
ширения областей сырья и эмиграции работу и обеспечение, все время
увеличивая приток людей внутри страны и расширяя экспансию, причем
одно всегда служило основой продвижения другого; и так продолжая in
infinitim*. Таким образом возникло фантастически динамическое, непов-
торимое жизненное целое, являющееся осуществлением и все-таки чем-
то совершенно новым на той Земле, которую капиталистические и госу-
дарственные силы открывали начиная с XVI в., медленно продвигаясь из
Европы, на той Земле, уезжая в туманные дали которой еще во времена
Гёте Алексис трогательно, как навек, прощался с Дорой. Возникла не
новая планета, но по сравнению с прежним значительно меньшая, тех-
нически и организационно охваченная сетью доместикации Земля. Ибо
XIX век осуществил и мечту науки, ставшей со времен Бэкона честолю-
бивой, которая посредством связи с капитализмом и государством не
только создала эту целостность Земли, но и вообще стала технически и
До бесконечности (.ют.).
432
организационно сопутствовать каждому событию жизни. XIX век предо-
ставил науке такую позицию, которая казалась всепоглощающей. Испол-
нением грезы о власти было, когда она, распадаясь на необозримое ко-
личество специальных областей, стала заносить в свой нескончаемый
каталог новые данные и исправления, не только относящиеся к есте-
ственной истории и истории Земли, не только к мирозданию и его са-
мым отдаленным частям, не только к биологическим формам, не толь-
ко к существованию человека до последних фибр его физических и пси-
хических качеств, нет, не только это, но и все, происходившее где бы то
ни было и когда бы то ни было. Расширением власти было, когда при
наличии одного института возникал другой специальный институт с
большим числом исследователей. А профессор, который решался, выхо-
дя за границы своей специальности, разрабатывать некий синтез и ста-
вить в нем общие проблемы, был близок к тому, чтобы выступить в ка-
честве проповедника, философа и поэта-провидца.
Осуществление, казалось, дал этот век, особенно во второй его поло-
вине, также возникшим в XVIII в. как результат западной истории, оп-
ределяющим человечество идеям, гуманности и свободе. Там, где хватало
определяющих сил, защищались минимальные требования гуманности;
устранены были крепостничество и рабство, делалась также попытка ус-
тановить социальный минимум для труда в капиталистическом индуст-
риальном аппарате, посредством всеобщего обязательного обучения дать
каждому основу для большей ориентации и самоопределения. И если
политическая свобода и самоуправление могли быть осуществлены в
этих старо-легитимистских регионах Европы лишь частично, то в исто-
рии не было такого времени и периода, кроме антично-греческого, ког-
да бы господствовала столь неограниченно духовная свобода и почти
полная свобода передвижения. В этом отношении мир был целостнос-
тью. И несправедливым было бы не видеть полноту спонтанности, дос-
тупную едва ли не всем слоям населения. Никогда раньше не было такой
разнородной литературы, как в XIX в., никогда такой развернутой худо-
жественной, в том числе музыкальной продукции, такой полной рецеп-
тивности, у некоторых людей охватывающей часто всю Землю и ее исто-
рию, и едва ли когда-нибудь было так много безобидной полу-продук-
тивности, которая находила свое выражение в бесчисленных союзах и
объединениях для тысячи целей. Короче говоря, под определенным уг-
лом зрения этот век был осуществлением и одновременно переходом к
подготавливающемуся в нем превращению Земли в новую планету.
2. Взрывной динамизм. Духовный разрыв. Утрата глубины
Однако обо всем этом -- также и духовно ценном, выросшем из полно-
ты этого существования, связанном со временем и исчезнувшем вместе
с ним, мы здесь говорить не будем. Для нас вопрос состоит в следующем:
в какой степени и из-за чего этот во всех отношениях столь особенный
век стал лоном сегодняшней идущей с Запада и из Европы, охватываю-
щей весь мир катастрофы? Какие силы определили это? Если это было
переходом к превращению Земли в новую планету, то почему этот про-
433
цесс завершился, и как было возможно, чтобы он завершился ужасаю-
щей борьбой и страшными разрушениями, когда-либо происходившими
на Земле; как стало возможным, что XIX век и почти все, чего он, как счи-
талось, достиг, лежит в руинах и вряд ли сможет когда-либо возродиться в
своих позитивных сторонах? Лишь решив эти вопросы, мы можем считать,
что пребываем по отношению к сегодняшнему дню на верной почве.
Мы попытаемся подойти к их решению, уяснив своеобразие динами-
ки, созданной XIX в., причем должны быть полностью приняты во вни-
мание также душевно-духовные силы импульсов и дан ответ на вопрос о
дальнейшем действии этих сил вплоть до наших дней. И затем мы попы-
таемся выявить душевно-духовное наследие, оставленное нам XIX веком.
Это выражено в вопросе: как мы можем сегодня использовать это насле-
дие? И если ответ будет преимущественно негативным, то что нам надо
вспомнить, к чему взывать, чтобы вновь обрести позицию, силу и волю,
позволяющие нам противостоять проблемам, которые сегодня ставит
перед нами бытие?
Лишь после этого может быть в общих чертах обрисована внешняя
проблематика, которая перед нами стоит.
Мы поставили слово «воля» над XIX в. как символический знак. В
психологическом понимании это значит энергия и разрядка энергии, а
в социологическом - бурная стремительная динамика. В самом деле: в
переходе всех заложенных длинной западноевропейской историей, свя-
занных с его напряжением эволюции, переходящих в темп стремитель-
ных собственных эволюции, которые странным образом происходят по
собственным законам, ведущим при слиянии и взаимном усилении двух
или нескольких из них к продолжающимся преобразованиям, — в этом
переходе мы видим внешний признак XIX в. Гонимые беспрерывными
преобразованиями, мы все точно не знали, что с нами происходит и где
это кончится. Сегодня, после страшного, не независимого от этих пре-
образований крушения, мы кое-что, прежде всего одно, видим вполне
отчетливо:
Вся предшествовавшая история была сравнительно вялым, медлен-
ным течением, проникнутым переселениями, завоеваниями, которые
большей частью вели к продолжительно сохранявшимся новым концен-
трациям. Основа была подвижной, но постоянной. Население Земли на
протяжении известных нам тысячелетий увеличивалось медленно. Высо-
кая рождаемость, фантастическая и для наших дней, но при огромной
детской смертности, от трети до половины и больше, ранняя смерть муж-
чин в лучшем производительном возрасте и способных к деторождению
женщин, часто при родах, потери в войнах и смерти от болезней, все это
вело к тому, что число людей в ряде мест на протяжении тысячелетий,
вообще не росло, в других росло лишь при благоприятных обстоятель-
ствах, что обычно бывало временно, и происходило медленно. И еще
одно: царство техники, этим относительно константным числом людей
поставленное между собой и природой, было скорее постоянным, чем
развивающимся. Развитие, которое вело к каждому решающему продви-
жению, происходило через столетия, часто даже через тысячелетия. Это
промежуточное царство было к тому же в известной степени прозрач-
ным, тонким; оно не отделяло человека от природы, а соединяло с нем
434
только соответственно своему желанию и не освобождало его от ее рит-
ма. Еще вплоть до второй половины XVIII в. техника не была в своей ос-
нове иной, чем в античности или в любой части земного шара. На этих
двух основах поднялись толчками создаваемые переселениями, завоева-
ниями и борьбой новые политические образования господства с кон-
стантной в целом и обычно тщательно сохраняемой социальной струк-
турой; от этого отличается только Запад со свойственным ему напряже-
нием в развитии от ступени к ступени его структуры. Но как медленно
и с какой каждый раз скрываемой в себе новой кристаллизацией чередо-
вались эти большие ступени: феодализм, городское хозяйство и торговое
государство!
Мир идеи нигде, за исключением Запада, где в нем помимо прочего
содержалось напряжение между свободой и несвободой, не претерпевал
длительных преобразований социальной структуры, даже в Элладе и
Риме, так как фундамент существования, рабовладение, в них не затра-
гивался и речь шла только о покоящейся на нем надстройке. Во всемир-
но историческом рассмотрении все политические и социальные идеи до
возникновения стран Запада, и даже с короткими промежутками в них,
еще опирались на утверждающие санкции, если не магического, то ре-
лигиозного или трансцендентного содержания. Идейное было в преоб-
ладающей степени не революционно, а консервативно по своему харак-
теру, осталось почти повсюду чрезвычайно укрепляющим средством со-
хранять реально существующее.
Все это внезапно меняется в принимающем наследие предшествую-
щих веков XIX в., как с реальной, познавательно духовной, так и идей-
ной стороны: будто внезапно разрядились накопленные в прежние эпо-
хи массы взрывчатого вещества. Идейное лежало в качестве огромного
взрывчатого материала уже на его пороге, уже в XVIII в. впервые разря-
дившаяся революционная идея свободы, которая вела в своем развитии
не только к отмене привилегий, но и через требование равных прав к де-
мократии, а в социальной области могла быть повернута и в эгалитаризм
и анархизм. Подобно цепи трещащих выстрелов следуют друг за другом
в XIX в. революции, за которыми всегда стоит социальная революция. И
во второй половине века революции маскируются радикальным рефор-
мизмом; это означает только, что социальная революционность ищет
своих собственных путей: путч, террор, убийства и собственная скрытая
или открыто проведенная подготовка переворота. А в реальности? Обе
исторические жизненные основы, число людей и техническое промежу-
точное царство внезапно приходят в тревожное движение. Наука и гума-
нитарное гигиеническое вмешательство придают посредством снижения
детской смертности и увеличения продолжительности жизни сначала в
Европе, затем и на всей Земле, неведомый ранее темп росту населения;
приходится исходить из равномерного удвоения в течение 20 лет, из тен-
денции к росту населения, которая уже на рубеже веков заставила Маль-
туса высказать мысль о сокращении предметов питания по отношению
к росту в геометрической прогрессии числа людей. Население Европы,
включая Россию, увеличилось за 100 лет от 180 до 450 млн.; население
Соединенных Штатов с учетом 32 млн. эмигрантов из Европы от 5,5 до
76. Нынешнее перенаселение Индии (352 млн.) и Китая (440 млн.) —
435
также в значительной степени результат гигиенических преобразований
и связанного с ними внезапного разливающегося потока людей по всей
Земле. К этому присоединился в качестве практически существенного
продукта науки начавшийся с последней трети XVIII в., стремительно
развивающийся с середины XIX в. технический переворот, ставящий
между быстро растущей массой людей и природой все более плотные и
замкнутые рычаги и каркасы уже не вводящего в природу, а отделяющего
от нее промежуточного царства, которое создает совершенно новый по
технике труда машинный мир и открывает неслыханные возможности; и
так как то и другое совершается толчками во все новых вспышках, чело-
веческому потоку предлагается в короткие промежутки другая, новая,
Земля и новая, другая среда; и в конце концов люди оказываются в наше
время вследствие исчезновения значения пространства действительно
перемещенными на другую, почти полностью покрытую этим промежу-
точным царством планету. И здесь действуют те две как будто независи-
мые друг от друга и все-таки с определенного момента близкие эволю-
ции, стремительная эволюция ставшего механизированным развитого
капитализма, который в его уже кратко намеченном нами, все время рас-
ширяющем свои возможности ротационном движении впитывает поток
людей, распределяет их по Земле, размещает их в своих основных инду-
стриальных центрах и постоянно перемещает, все время вновь револю-
ционизируя при этом классовое расслоение на протяжении всего века. И
долгое время недостаточно принимаемая во внимание, но не менее важ-
ная, — импульсивно развиваемая эволюция теперь полностью технизи-
рованного, другими словами, втянутого в технические преобразования
милитаризма, которая преобразовала армию, раньше служившую только
орудием государства, в самостоятельный политический фактор, посте-
пенно переходящий к ведению собственной политики и заключению
собственных союзов с собственными экспансивными тенденциями к
власти и со все более чудовищным аппаратом уничтожения. И наконец,
во все более быстром темпе, в конце концов с быстротой ветра охваты-
вающая Землю империалистическая эволюция, которая, помимо других
факторов, основывалась прежде всего на союзе ставшего взрывным ка-
питализма с также ставшим взрывным милитаризмом, и с определенного
момента, с момента, когда Земля стала тесна, привела мир к эпохе охва-
тывающих всю Землю конфликтов. И существует еще множество других
эволюции, принявших форму и тип более или менее будоражащих воз-
действий; перечислить их все мне не хватает места, между тем и они спо-
собствуют усилению беспокойства в этом столетии.
Все эти эволюции обладают своими импульсами и своим ритмом дви-
жения. На стадии своего происхождения и первоначального движения
они как бы не видят друг друга. Но затем они проецируют свои револю-
ционные результаты друг на друга, взаимно усиливая этим друг друга. Л
примерно с середины века они на основе уничтожающей пространство
техники движения в рамках полностью развившегося теперь, ставшего
крайне экспансивным капитализма вторгаются друг в друга, увлекая за
собой рост населения и военную технику, так что существовавшие источ-
ники превращаются в вздымающийся, омывающий всю Землю потоп,
меняющий за десятилетие ее облик. На того, кто обладал бы сверхчело-
436
веческим слухом и сверхчеловеческой силой восприятия, весь XIX в.,
особенно его вторая половина, должен был бы воздействовать наподобие
все сильнее бурлящих несущихся волн, которые когда-нибудь, каким-
либо образом могут столкнуться и создать условия для всеохватывающей
неописуемой катастрофы.
Были люди с тонким слухом, обращавшие внимание на самый гроз-
ный, яснее всего различимый результат власти этого потока, на беспре-
рывное выбрасывание масс людей в состояние пролетарской бесправно-
сти, на распадение бывших до того стабильными социальных слоев. О
таких проницательных людях следовало бы сказать несколько слов. Од-
нако процесс в целом от их понимания не изменился. Он беспрерывно
шел, и с середины века вел после преобразующего взаимодействия его
частей и импульса его сущности к первому неведомому в истории резуль-
тату, к не повсюду одинаково установившемуся, но в решающих местах
полностью осуществившемуся и ставшему предметом пропаганды распа-
дению народов на два пребывающих друг над другом душевно-духовных
царства, не соприкасающихся друге другом. Социальная иерархия в пре-
жние века и в прежних культурах была, материально рассмотренная, зна-
чительно более напряженной, в Индии от исключенного от участия в
культе чандала и парии до брахмана-полубога; в античности от превра-
щенного в вещь раба до свободного человека. Тем не менее эти напря-
женные отношения перекрывались всегда душевным единством, в Ин-
дии — верой в возможность возрождения в высших кастах, в античнос-
ти - подлинным вхождением рабов в духовное царство господ, получив-
шим свое выражение в широкой практике отпуска на свободу и в связан-
ном с этим подъеме вольноотпущенников. Духовные сферы зависимых
крестьян, ремесленников, патрициев, знати в ранней истории Запада
были позже, правда, разделены гуманистической образованностью; но в
поведении и образе жизни они были согласованы и даже при наличии
сильного напряжения вследствие социального давления все-таки соотне-
сены друг с другом. Даже в России превращенное в продаваемые души
крестьянство не было низшим слоем, было близко к тому, чтобы притя-
зать на собственный, недоступный другим слоям духовный мир.
Это притязание на собственный, недоступный другим классам душев-
ный и духовный мир тех, кто был сброшен в пролетарское ничто капи-
тализмом, оказалось неповторимым, использованным Марксом и Эн-
гельсом в качестве основы деятельности орудием для соединения всех
социальных сил преобразования на Западе, начиная с середины века, с
возникновения пролетариата, когда пролетарий превратился в добавле-
ние к его ставшей товаром и отбрасываемой как товар рабочей силе; без-
радостно с утра до ночи он трудился у машины, дома, в одном из постав-
ленных в ряд строений (как в Англии) или в нескольких комнатушках
флигеля (как на континенте) нал похожим на колодец двором его ждут
недовольная жена и плохо накормленные дети; этот пролетарий не имел
лаже спокойного свободного воскресенья, каких-либо органически свя-
занных с жизнью или владением удовольствий, и поэтому всегда испы-
тывал соблазн отдохнуть в трактире и пропить там скудное жалованье,
нужное жене и детям. Возникновение в этой начальной острой форме
существования таких, поистине брошенных в бездну пролетариев, чьих
437
жен также эксплуатировали на работе, чьих детей не стеснялись в ран-
нем возрасте истощать непосильным трудом — такова была питательная
почва, комплекс условий, в рамках которого в 1847 г., незадолго до ре-
волюции, Маркс и Энгельс совершили в «Коммунистическом манифес-
те» всемирно-исторический акт: с одной стороны, объяснили всю исто-
рию как связанную и определяемую эволюционным развитием и владе-
нием средств производства борьбу классов, с другой, — сказали возника-
ющему промышленному пролетариату: вы последняя, решающая ступень
этой эволюции, вы, вытолкнутые, должны ее завершить, отделившись
политически, экономически и духовно и организовавшись посредством
захвата в будущем политической власти, обладая которой вы на основе
общего владения средствами производства устраните всякое классовое
расслоение. Вам нечего терять, кроме своих цепей, а завоевать вы можете
весь мир. Объединяйтесь.
Следовательно, в начинающемся эволюционном общем подъеме XIX
в., в международном рассмотрении при зарождении вследствие этого
подъема величайшего преобразования жизни, когда-либо существовав-
шего в истории, здесь, при тревожном вытеснении пролетариев, перед
лицом грядущих реальных и духовных возможностей выброшенных из
мира, говорят: вы, единственный будущий мир, только вы, если завою-
ете этот мир для себя. Само развитие дает вам для этого оружие. Неза-
чем говорить, что до Маркса и Энгельса были социологические интер-
претаторы принесенного новым веком преобразования, такие, как Сен-
Симон и Конт, а также ориентированные на практическую деятельность
социалисты достаточной силы и веса, как, например, Прудон, стремив-
шиеся влиять на возникающие пролетарские слои, или социалистичес-
ки настроенные реформаторы, как Сисмонди. Но все они карлики — по
сравнению с этой пропагандистской концепцией, в которой небывалым
до сих пор образом сплетен научный анализ эволюции и мощный при-
зыв к действию. В научном анализе эволюции, который Маркс стремил-
ся разработать в последующие десятилетия, почти все несостоятельно.
Остается одно, а именно, первое понимание основанного на современ-
ной технике и росте населения современного капитализма как постоян-
но разворачивающего и расширяющего свои условия ротационного ме-
ханизма с накоплением капитала как центром и мотором. И еще одно:
пропагандистское действие связанного с новым учением призыва к вы-
толкнутым массам, разделившего железным занавесом душевно и духов-
но замкнувшийся рабочий класс, в той мере, в какой он принял эту
весть, и остальные слои общества. Это принятие нового учения проис-
ходило постепенно и отнюдь не повсеместно. Так, оно не завоевало ан-
глосаксонский мир, который шел своим путем. Но в целом оно означа-
ло—о том, в какой степени это повлияло и на Англию, свидетельствует
сказанное Дизраэли о «Two nations»*, его утверждение, что Европа начи-
нает распадаться на две духовные сферы, из которых нижняя, пролетар-
ская, считает ценности, принятые в верхней сфере как всеобщие и пос-
ледние, частными, выражением интересов господствующего слоя, пола-
гая, что в принятых пролетариями частных ценностях содержатся буду-
*Две нации (англ.).
438
шие всеобщие ценности. Следовательно, произошел не только разрыв в
обществе, но и утвердилась относительность всех объективных душевно-
духовных содержаний, которые с тех пор стали определять как «идеоло-
гии», другими словами, как скрывающие экономические интересы ложные
образования. В духовном понимании это было ударом по корням всех
трансцендентных взглядов и позиций XVIII в.
К этому могло привести только то, что эти взгляды и позиции были
сформированы как продолжение математизирующего логизма XVII в. в
виде висящих в воздухе понятийностей, чьи питающие источники оста-
вались вне внимания. Вследствие этого после крушения последнего
имевшего повсеместное действие трансцендентального образования, ге-
гелевской философии, начиная с 30-х годов релятивизм, натурализм,
позитивизм, психологизм, даже физиологизм были в начинающемся
преобразовании жизни, создавшем все более сложные водовороты, наря-
ду с огрубленным или утонченным утилитаризмом Бентама, еще до по-
явления марксизма повсюду требуемыми и защищаемыми «реалистичес-
кими» заменами прежних, более глубоких исследований бытия. И расту-
щий историзм, принимал ли он ту или другую форму, был ли он проник-
нут теми или иными мыслительными и идейными элементами в своем
понимании действительности, нес в себе, чем тоньше и разработаннее,
чем честнее по отношению к самому себе он становился, в рамках пози-
тивистского толкования бытия полную релятивизацию всех до того еди-
нообразно охватывающих существование содержаний; как ни недоста-
точно отчетливо он долгое время сам понимал это. Неразбериха могла
даже очень рано завершиться последовательным субъективизмом, как
его выражает, например, Штирнер; или, как у Кьеркегора, вести из чув-
ства пребывания перед «ничто» к более плоскому построению парадок-
сального паскалевского обращения к вере. Распад универсального идей-
ного содержания бытия у тех, кто продолжал его придерживаться доста-
точно поверхностно и не видел его основ, — что постоянно происходи-
ло, - или у тех, кто, глядя глубже, сомневался в этом содержании, этот
распад был во всяком случае общим душевно-духовным подспудным яв-
лением. Однако ничто не содействовало в такой степени распаду духов-
ной целостности европейского Запада, как последовательно провозгла-
шавший изнутри непреодолимое обособление и отделение марксистский
релятивизм, выводящий из принципиальных позиций принципиальные
следствия, на которые образованный буржуазный мир долгое время не
обращал внимания, тогда как под его буржуазным уровнем существова-
ния непрерывно расширялся, опираясь на эти следствия, принципиаль-
но ему недоступный второй духовный мир. Этот мир, который, когда его
нельзя было больше игнорировать, после Первой мировой войны втор-
гся в высший и посредством своих последних следствий, а именно, об-
щественной релятивизации не только идей, но и мышления и познания,
довел в социологической сверхсофистике духовное смятение, по крайней
мере в Германии, до высшей точки.
Так в духовной сфере выглядел результат волны, которая вышла из
манифеста 1847/48 г.
В реальном аспекте почувствовали, что произошло, значительно
раньше и значительно сильнее. В Англии и англосаксонских странах
439
вторжение марксизма или родственных ему идей по особым причинам
очень долго задерживалось. Но в целом именно в период подъема капи-
талистического преобразования, следовательно, в 60-х, 70-х и 80-х годах,
за захватывающим земли миром экспансии сразу же вставала темная
тень, угрожавшая уничтожением, которая не только называла себя его
палачом, но, несмотря на марксистскую оболочку, — марксизм ведь при-
знавал историческую задачу - пользовалась любой возможностью кри-
зиса, пытаясь способствовать своим влиянием совершению террористи-
ческих актов и поколебать существующее и возникающее.
Озаренным тревожным, несущим бурю светом, светом того, что поз-
же, умаляя фактическое положение, стали называть «социальным вопро-
сом» и в чем проницательные люди с самого начала видели революцион-
ное следствие безграничной жажды наживы, а политики ощущали как
постоянно существующую опасность «переворота», технически-капита-
листически-буржуазный, как будто столь розовый, прогрессирующий
мир оставался, если видеть вещи правильно, и тогда, когда этот прогрес-
сивный мир вследствие открытия новых регионов Земли действительно
принес, хотя и после ряда тяжелых кризисов, после 50-60-х годов, общий
рост благосостояния, улучшение положения пролетариев; тогда вслед за
Англией предпринимались попытки посредством признания борьбы
профсоюзов за повышение доли дохода рабочих и посредством соци-
альных мер предосторожности каким-либо образом «реформистски» вве-
сти пролетариат в капитализм. Мы увидим, что, и почему, в период до и
после рубежа веков это реформистское введение и вне англосаксонских
стран, следовательно, вообще на Западе, действительно имело опреде-
ленные шансы на успех! Однако тем не менее верно, что весь XIX в.,
если понимать его как совершенно особое бурное, эволюционирующее
время длительного преобразования жизни, можно считать не только по-
литически революционным, но, исходя из социальных следствий этого
преобразования жизни и его духовного воздействия, по своей сущности
хронически социально революционным. Взрывная революционность
жизни и радикально эгалитарная социальная революционность являются
социологически самыми яркими чертами этого времени, исторически по
крайней мере столь же решающими, как более или менее общее утвер-
ждение свободы и демократии, как образование национальных госу-
дарств и колебание между гуманностью и политикой диктата, космопо-
литизмом и национализмом, которое столь охотно подчеркивает исто-
рик, сколь ни несомненно, что все это придало XIX веку очень характер-
ные черты. XIX век - прежде всего революционный кратер. В его бурной
революционности могли наступать периоды спокойствия, в которые эгали-
тарная революционность, казалось, не имела шансов на успех. Сущность
его от этого не менялась. Только казалось, что он спит. Невероятные кри-
зисы и катастрофы, наполняющие первую половину XX в., являются откры-
тием и в известном смысле осуществлением этой сущности. Они стали воз-
можны только на почве того дуализма преобразования, который показывал,
что бурно идущая эволюция все время искала выход, все время создавала
новые ситуации, которые, обостренные в данный момент спонтанными
действиями, в конце концов могли или должны были привести к катастро-
фам, открывавшим путь революционности, эгалитаризму.
440
Однако попасть в созданные таким образом условия спонтанные ис-
кры могли только на основе духовного движения XIX в. и как его резуль-
тат. Все сказанное нами до сих пор было бы пустым, если бы то, что мы
хотим сообщить о духовном движении, которое ведет к нигилизму, мы
отобрали бы из полноты прошлого не под следующим углом зрения: как
и почему оно находится в связи с показанным здесь характером преоб-
разования и тем самым одновременно с общественным, цивилизацион-
пым и душевно-духовным крушением, в котором мы пребываем, а так-
же с проникновением наших взоров в глубину, возможность чего нам,
быть может, даст это крушение.
3. Периоды
Пели бросить взгляде середины XIX в., около 1848-1850 гг., назад, и впе-
ред до 1914 г., -до этого времени фактически и душевно-духовно дохо-
дит это столетие, а духовно в его внешних преобразованиях оно начина-
ется с 20-х и 30-х годов, то обнаруживаются две эпохи, в корне различа-
ющиеся не только по начинающемуся с 1850 г. преобразованию Земли,
но и по душевно-духовному характеру и его изменениям. Если до 1850 г.
в практическом преобразовании жизни почти все еще попытка, непри-
вычное начинание, толчея населения в ставших слишком тесными про-
странствах, то душевно-духовная сфера того времени — еще отчасти от-
звук переходного периода, отчасти первые, изумленные попытки и обна-
ружение нового видения, в целом беспокойное брожение в оставшемся
еще небольшим по своему пространству европейском бытии. Вторая по-
ловина, мощная эпоха распространения и взрыва, внезапно открывает
большие пространства и действительно новое существование с совер-
шенно иным видением. Она, и ее поздний отрезок, в начале которого
стоит Ницше, нам наиболее важны, ибо в это время непосредственно
возникли внутренние условия кризиса.
О первой половине века скажем лишь немногое. Общее в ней то, что
пролетарский мир еще не оторвался от буржуазного мира, а затем следу-
ющее: центром экономического и технического развития является Анг-
лия, где оно началось уже в XVIII в. и до середины века, в течение 30-40
годов, сохраняет преимущество. Но как только оно переходит на конти-
нент, прежде всего во Францию, духовный центр перемещается из Анг-
лии в Париж. Париж становится духовным образцом для Европы; конеч-
но, не только вследствие этих преобразований и вторжения свободного ка-
питализма, не только вследствие пароля Луи-Филиппа enrichissez-vous\ но
и на этой основе. Это едва ли не еще больше относится к 30-м, чем к 40-м
годам, которые носят повсюду в Европе различную окраску.
В Париже 30-х годов царила многообразная неразбериха, в которой
влияние романтического течения смешивалось с реализмом, духовно
питаемым развитием естественных наук (Кювье, Жоффруа Сент-Илер)
и их обаянием, и также восприятием капиталистических жизненных
принципов и их воздействия. Великие литературные представители того
'Обогащайтесь (франц.).
441
и другого — Виктор Гюго и Бальзак, оба характерны для восприятия про-
блематики бытия XIX веком, а именно, либо отправляясь от общего иде-
алистического влияния великих идей XVIII в., человечности и свободы,
которые становятся критически непроверенными существенными эле-
ментами их деятельности, или из сознательно эмпирической, вследствие
преобразования общества, в своей основе социальной реальности, над
которой, обычно мало связанные с ней, витают религиозные или мета-
религиозные идеалистические идеи. Бальзак — самый великий, во вся-
ком случае первый представитель второго типа. Он вырос из водоворо-
тов того enrichissez-vous 30-х годов, которыми вместе с политической и
социальной, но прежде всего естественнонаучной духовной сумятицей
эпохи проникнуто его творчество. Обуреваемый социологическим стрем-
лением точно описать свою эпоху, вдохновенный желанием по возмож-
ности реалистично видеть вещи, охотно играя словом «физиологично»,
тогда как в сущности он в качестве великого писателя обладал даром
предвидения и обобщающим воображением, он впервые на Западе со-
знательно и программно изобразил рядовых людей как героев эпохи, ох-
ватывая в своей «Comedie humaine»* человеческую жизнь на всех ее сту-
пенях; правда, рядовых людей, типизированных в качестве носителей и
представителей преобладающих человеческих страстей, причем изобра-
жение реальности enrichissez-vous, жажды денег и свободы половых от-
ношений удавалось ему значительно лучше и убедительнее, чем принад-
лежащие, по его мнению, также к действительности в качестве более глу-
бокого или высокого слоя магия и мистика. И все-таки: даже Стендаль,
также великий реалист, и отличающийся значительно большей художе-
ственной зрелостью и последовательностью, теряется вместе с другими,
Мюссе, де Виньи, не говоря уже о Дюма, в тени этого феномена, который
с такой намеренной реалистичностью, пусть она смешана с влиянием На-
полеона, реакционным монархизмом и набожностью, в самом деле вводит
духовную эпоху, эпоху европейского литературного натурализма, которая
здесь впервые проявляется вместе с натурализмом философским.
Как трубач, провозглашающий в романтическом облачении старые
идеалы XVIII в., по историческому значению в какой-то степени равный
ему, стоит рядом с ним Виктор Гюго, величайший из всех риторических
гениев, гениально владеющий языком Франции, продолжая, несмотря
на изгнание и опалу, провозглашать вплоть до второй половины века по-
стулаты гуманности и свободы; между тем, как известно, первым своим
историческим влиянием он был обязан романтическим произведениям
30-х годов, отличающимся своеобразной склонностью к гротеску. Он и
Бальзак являются инициаторами дальнейшего развития XIX в.
40-е годы этого столетия уже имеют другое звучание, нежели 30-е,
духовным центром которых была Франция, где господствовало своеоб-
разное сосуществование находящегося под влиянием естественных наук
и социальных условий натурализма и питаемого историей романтизма.
На пороге этого периода угрожающе стоит первая политическая органи-
зация рабочего класса, принимающая только рабочих, направленный на
радикальное проведение демократии английский чартизм, восстание
«Человеческой комедии» {франц.).
442
сторонников которого в 1839 г. было после отклонения их требований
кровавым образом подавлено; и только при особо сложном, проникну-
том консервативными тенденциями развитии Англии это движение мог-
ло там в условиях улучшения положения рабочих — отмены законов о
зерне, разрешения профсоюзов и пр. — исчезнуть, вернее, перейти в спо-
койную, реформистскую демократизацию посредством расширения из-
бирательного права. Однако сигнал оказал свое действие. Внезапно вы-
ступили темные стороны основанного на массовой технике преобразова-
ния хозяйства, и 40-е годы, когда столь многие технические изменения
только намечались, которые приняли позже иные, более широкие и при-
емлемые рамки, являются временем, когда в еще тесных рамках стала с
потрясением ощущаться конфронтация с воздействием на людей обще-
го преобразования, с пауперизмом, как тогда называли обособление про-
летариата. Это было временем, когда отпущенный на свободу натурализм
ставшей свободной, связанной с техникой жажды наживы ощущался еще
в высшем образованном слое как чуждый, опасный, тайно вторгшийся
враг, которого даже в Англии призывали жалить скорпионами (Кар-
лейль) или с горечью изображали в несколько смягченной юмором сати-
ре, как это делал Диккенс; в это время умные анархические идеалисты,
как Бакунин, могли, выжидая подходящих возможностей для путча,
разъезжать по Европе, тогда как только в Париже действительно проводи-
лась важная социально-критическая работа, например, благодаря сильному
духовному порыву Прудона, и действительно совершались попытки путча
(1839 — первое восстание, возглавляемое Бланки). Это был период не толь-
ко политического, но и сильного социального внутреннего воздействия
мощности и произвольности большого реалистического переворота, одно-
временно период, когда под действием со всех сторон наступающей новой
жизни растворился не только романтизм, но с грохотом обрушилась и геге-
левская схоластическая трактовка истории, а с ней было поколеблено и все
понятийное и научное построение немецкого идеализма. Более тонкие,
проницательные люди, такие, как упомянутый уже Кьеркегор, — на это мы
уже указывали — вывели из этого заключение, что, поскольку основанные
до сих пор на идеализме объективные трансцендентные, содержания бытия
утратили свою опору, возникает опасность оказаться лицом к лицу с нич-
то, и выходом является упомянутый вывод Паскаля перейти в область ме-
талогического строго и интенсивно понятого христианства. Более грубые
люди сначала не ощущали беспокойства, их удовлетворяло смутное смеше-
ние историзма и идеализма, которое теперь возникло. Или же они обраща-
лись, если искали более радикальной ясности, к натурализму Людвига Фей-
ербаха, в котором идеальное и духовное воспринималось только как приро-
да и с которым можно было соединить, и соединяли, наивную веру в ста-
рые идеи гуманности и свободы.
Этот симбиоз сохранился и у Карла Маркса и Фридриха Энгельса в
их пропаганде, пафос, который исходил полностью из старых идей гу-
манности и свободы, хотя с появления разработанного в «Коммунисти-
ческом манифесте» материалистического понимания истории все это,
как и вообще все идеальное, в сущности было отвергнуто, ибо эта теория
все релятивизировала, а это означает — обесценивала. В этом втором,
медленно строящемся, фактически и духовно полностью отделенном от
443
буржуазии марксистском царстве пролетариата, — оно ведь нуждалось
прежде всего в практическом размахе - все происходило отнюдь не ло-
гично. Поскольку, под давлением обстоятельств в течение длительного
времени объектами интереса оставались интерпретация собственного
положения, собственные надежды на будущее, тактика и характер дей-
ствий, а не какие-либо дальнейшие духовные образования, нам надлежит
рассматривать это царство с точки зрения медленного развития, осно-
ванного на пропаганде и процессе социального преобразования все бы-
стрее распространяющегося в рамках буржуазного устройства, духовно от
него отгороженного революционного потока; из него время от времени
высоко поднимались гейзеры, например, во французской коммуне 1871 г.,
но в целом революционные действия были отложены до того времени,
когда вследствие общей эволюции этот поток станет более мощным, по
тогдашней формуле: до того времени, когда экспроприация экспропри-
аторов станет легко достижимой вследствие их уменьшившегося числа
из-за конкуренции или в ходе большого окончательного кризиса капи-
тализма. Тем самым отложенная на определенный срок социальная и
политическая революция была целью рабочего унтергрунда в обществе.
Такова была, следовательно, ситуация, на основе которой должно
было происходить фактическое и духовное развитие высших слоев, отре-
заемых все больше во второй половине века там, куда достигало это те-
чение, от социально уходящих в глубину корней. В сущности это была
непоправимая ситуация. Непоправимая не только фактически, но и ду-
шевно-духовно. Это сразу же очевидно. Фактически она прошла две ста-
дии: одну, существовавшую до 80-х годов, когда положение нового обще-
ства внешне становилось все более блестящим, испытывая, однако, все
большую угрозу быть подточенным снизу, и вторую, когда социальная
угроза по причинам, которые будут рассмотрены ниже, как будто осла-
бевала.
Период 1850-1880-х годов — время открытия земного шара с помо-
щью новых средств сообщения, поток европейских эмигрантов и това-
ров, завоевание и захват территорий за территориями, что прежде всего
привело к созданию огромной английской империи и заложило фунда-
мент империй Франции и России, время концентрации растущего насе-
ления в рабочих кварталах огромных индустриальных городов и метро-
полий, увеличения идущей из Европы охватывающей мир кредитной и
банковской сети, сопутствующего средствам сообщения роста информа-
ции и т.п., короче говоря, начальная эпоха совершаемой капиталисти-
ческим хозяйством овладения всей Землей, — над этим периодом про-
гресса технического господства духовно возвышался сияющий девиз
«безграничного престижа науки», вернее, позитивной науки. Речь идет
о таких именах, как Дарвин, Герберт Спенсер или Джон Стюарт Милль;
последний был, правда, глубже, но он также участвовал в открытии пути
позитивизму, который Спенсер превратил в плоский механистический и
социологический эволюционизм. Позитивная наука включала и исто-
рию, и там, где были так требовательны к внутренней ориентации на
простые формы механистического объяснения природы и общества, про-
изошло наполнение фантазии, ищущей материал для ориентации, по-
средством исторических образов. Это была, можно сказать, героическая
444
эпоха исторического исследования, в Германии - представленная Ран-
ке, Моммзеном, более ранним историком, Иоганном Густавом Дройзе-
ном; во Франции — Эрнстом Ренаном, затем Тэном. Все они, работали
ли они под влиянием исторических идей, как Ранке, рисовали ли блес-
тящую социологическую и характерную картину, как Моммзен, или пси-
хологически опирались на воображение, как Ренан, одержимые ли зна-
чением petits faits*, и создавая тем не менее великолепные изображения
личностей, как Тэн, сообщали в своих тщательно обоснованных описа-
ниях одновременно общие значительные импульсы; эти импульсы заме-
нили прежние рационально обоснованные философские интерпретации
бытия, но при этом, что характерно, во всяком случае в это время осно-
вывались на великих завоеваниях XVIII в., на гуманности и свободе, по-
нятых так или иначе. Все это время, как в своих медленно обособляю-
щихся политических сферах, так и в сфере буржуазной образованности,
продолжало жить, используя фонд постижения и переживания велико-
го предшествующего века, истощая его без нового переживания как на-
следие и ведя почти к его полному поглощению.
Поразительно, что в сфере буржуазной образованности с тех пор как
в ходе завоевания мира началось экспансивное экономическое процве-
тание, и рабочий класс также экономически оказался в несколько луч-
шем положении и вследствие профсоюзного движения как будто внеш-
не стал входить в капитализм, что в этой сфере быстро забылось так глу-
боко потрясавшее еще в 40-е годы, — зрелище освободившейся голой
жажды наживы и ее следствий. После революции 1848 г., в 50-е годы, эта
картина еще не совсем исчезла из памяти. Теперь же она медленно за-
бывалась как нечто странное. Освобождение жажды наживы рассматри-
валась теперь как нечто само собой разумеющееся, и опасность, что на-
ряду с этой славной буржуазной эволюцией может или должен возник-
нуть другой, ей и ее сфере образования недоступный духовный мир, чьи
надежды ставят под вопрос сохранение собственного мира, принята как
данность. Нельзя сказать, что «рабочий вопрос» в его внешней пробле-
матике не замечали. Напротив, он был, во всяком случае на континен-
те, как бы вновь открыт в своей конкретности. И это вело повсюду к про-
грессирующей гуманизации условий труда рабочих посредством законо-
дательства и допущения актов непосредственной самообороны рабочего
класса. Так, в Германии это привело, правда, при трудной духовной
борьбе буржуазных кругов внутри «Союза социальной политики», к ос-
нованию политически влиятельного общества, целью которого было ус-
корение необходимого гуманного введения рабочего класса в общество.
Но духовно? Только в Англии можно было считать, что опасность
предотвращена, так как вследствие большого экономического подъема,
энергичной своевременной поддержки рабочих посредством социальных
мер и продолжающейся демократизации при консерватизме и сохранив-
шемся престиже ведущих слоев удалось предотвратить не только духов-
ное, но и политическое обособление рабочего класса. А в Германии?
Национальный союз, пропагандистски занимавшийся единением Герма-
нии, объявил Лассалю, просившему о коллективном принятии его рабо-
Мелкие факты {франц.).
445
чего союза, что для него нет рабочего класса. А Давид Фридрих Штраус
мог еще в 1872 г. считать естественным решением рабочего вопроса, за-
висящим только от интеллигентности рабочих, их возвышение до буржу-
азии. Здесь вместе с внешним единством духовное отделение пролетари-
ата, обостренное еще «Исключительным законом», стало принципиаль-
ным настолько, что «Союз социальной политики», организация, которая
занималась включением рабочих в народное единство, долгое время не
мог и надеяться на то, чтобы принять в свои ряды представителей рево-
люционных рабочих. Не имела тогда такой остроты, вследствие большей
естественной и политической демократизации жизни, а также ввиду от-
сутствия столь сильных милитаристских тенденций, как в Германии,
жизнь во Франции, Италии и остальных странах континента. Но заквас-
ка требуемого марксизмом строго духовного обособления рабочих была
достаточно сильна, чтобы проникнуть и туда. Поразительно и психоло-
гически до известной степени постижимо, быть может, только примени-
тельно к Англии, насколько, несмотря на всю проводимую подрывную
деятельность, буржуазный слой общества мог предполагать в общем упо-
ении прогрессом этого периода экспансии, что его мир всегда будет
единственно существующим и что он содержит в себе автоматически все
мыслимое человеческое совершенство. Сильнее и завершеннее всего это
мнение господствовало тогда в Англии, где викторианская эпоха придала
буржуазному облику символический образ исконно аристократического
общезначимого, неизменного типа джентльмена, долгое время скрывав-
шего переданную ему буржуазную сущность как бы за чужими стенами.
В Германии происходило своего рода душевное свертывание, так как
размах национального единения, заменивший внутреннее богатство
внешними успехами, опьянил и, без сомнения, опошлил образованный
слой буржуазии, а средние и мелкобуржуазные слои сильно исказил шо-
винизмом. Великое немецкое историческое исследование превратилось
преимущественно в национально вдохновенную историографию; появ-
ление такой работы, как озаренная еще поздним отсветом социально-ре-
волюционного видения 1840 — 1850 гг. римская история Моммзена с ее
великолепным описанием вековой римской революции, в Германии вто-
рой половины 60-х или 70-х годов вряд ли можно себе представить. Как
одинокая колонна действительно универсального, направленного на ду-
ховное исторического синтетического созерцания и описания стоял в 70-х
и 80-х годах, одиноко возвышаясь в немецкой сфере, Якоб Буркхардт,
неимперский немец. И наконец, национальное одушевление немецкого
образованного слоя не позволило даже ясно осознать, что был сломлен
его политический хребет после военного конфликта 1861/62 г., затем
после отказа Бисмарка в парламентаризации в 1877 г. и вследствие ха-
рактера его последующих действий, и что действующая аргументация и
продолжение его «реально-политической позиции» безнадежно разорва-
ли в Германии дух и политику, образованный слой и ответственные по-
литические действия. Таким образом, у образованного слоя немецкой
буржуазии было отнято не только укоренение в основе, которое буржу-
азия всегда сохраняла в Англии, но и политическое самоопределение его
существования, покоившееся в Англии на этой же основе; он был фак-
тически душевно-духовно сведен к положению зрителя, наблюдающего
446
за жизненным потоком, не замечая, что его оттеснили в угол. Следствия
этого были неизмеримы. Ибо ни основанное на фразах вильгельмовское
правление, ни последующее насильственное правление в Германии без
этого были бы невозможны.
Во Франции, которая после правления Наполеона III была глубоко
потрясена поражением в 1870 — 1871 гг. и где с этого времени произош-
ла стагнация населения, а вследствие потери капиталистически развитых
восточных регионов наступила и обусловленная общим положением не-
обходимость выйти из прогрессирующей экспансии, дело обстояло ина-
че. Несмотря на прежние революционные настроения, во Франции не
было такого подрыва устоев и, поскольку, в отличие от Германии, там
отсутствовал традиционный легитимизм, не произошла и кастрация бур-
жуазии. При ярко выраженной и все больше фиксируемой буржуазной
жизненной позиции душевно-духовная сфера, все время пребывающая
в контакте и под влиянием политики, оставалась меняющейся, выступа-
ющей с большими универсальными притязаниями и сохраняющей дей-
ствительно большое влияние. И эта духовная сфера в ее большой под-
вижности и наполненности позволила возникнуть наряду с буржуазной
и пролетарской третьей душевно-духовной сфере, сознательно стоящей
вне всякой буржуазной жизненной установки, — определением «богема»
она слишком узко очерчена, но все-таки как-то этим термином опреде-
ляется. Ее влияние испытывали в заключительный период перед миро-
вой войной, начиная с 1890 — 1900 гг., и другие страны; в соединении с
другими факторами она кратко и эфемерно показала на континенте один
раз контуры многообразно меняющегося, нового, наднационального,
мерцающего в различных отражениях, во всяком случае надбуржуазно-
го общего постижения бытия.
Прежде всего, чтобы понять возникшие духовные противоположные
или сопутствующие движения: как использовала образованная сфера
буржуазии, пребывающая в своем существе, горизонте и постижении в
жизненном потоке капиталистической экспансии, прорвавшиеся, начи-
ная с 50-х и 60-х годов и не позволявшие предвидеть свои обозримые
границы и казавшиеся призванными преобразовать Землю, данные ей
возможности бытия? Как она связывала новое со старым душевно-духов-
ным содержанием? Как она пыталась ввести их в него? Сегодня каждый
знает: образованный буржуазный слой этого времени оставил нам
страшные каменные могилы приращенных колец наших крупных горо-
дов в виде представительных строений и церквей чудовищной безвкуси-
цы, в виде картин, погруженных в знаменитый конвенциональный ко-
ричневый цвет, частично исторический, частично политический, частич-
но сентиментальный товар средней руки, в науке - достаточно высокий
профессионализм, в литературе - только произведения, лучшее в кото-
рых описания времени и местности, но за пределами этого вряд ли спо-
собные вызывать сегодня общий интерес. О викторианской Англии это
можно было бы сказать и сегодня. О Германии это было впервые сказа-
но и беспощадно показано времени его отражение молодым Ницше в его
обоих первых «Несвоевременных размышлениях» 1873/74 г. Он видит
ставшую после войны самодовольной Германию, гордую своей «образо-
ванностью» и тем, чего она достигла по сравнению с предшествующими
447
веками. Видит, сорвав маску, только толпу «филистеров от образования»,
людей, уже ничего не ищущих, перенасыщенных, сознательных эпиго-
нов, которые «в своем на длительное время обоснованном варварстве
спасаются от энтузиазма с помощью исторического сознания». И даже
если они не все с такой физиономией, в стиле бидермейер, как справед-
ливо разруганный в качестве типичного представителя крайнего самодо-
вольства Давид Фридрих Штраус, буквально разделяют «культуру» и
«жизнь», так что первая ощущается и определяется как место отдыха для
второй, в которой они «двигаются, как в музее восковых фигур», разду-
тые от возвышенного чувства - «так мы живем, так мы прогуливаемся,
счастливые», — то в среднем, т. е. как «современные люди», они являют
собой преисполненные историческим знанием и фактами «ходячие эн-
циклопедии» всех чуждых нам времен, нравов, искусств, философий,
религий, знаний, «сборники внутренней образованности при внешнем
варварстве», излучающие хаотическое отсутствие стиля; а так как они
двигаются в «космополитическом карнавале богов, нравов и искусств»,
результате «их постоянных исторических внутренних выставок мира»,
они становятся «бумажными душами, неспособными к какому-либо
большому творческому подъему, слабыми личностями, солидными по-
средственностями, становящимися все посредственнее, до отвращения».
И как может философский дух, взывает молодой Ницше, сохраняться в
народе, «который распадается на образованных с искаженным и совра-
щенным внутренним чувством и необразованных с недостаточной внут-
ренней жизнью, который, следовательно, утратил единство природы и
души народа». И хотя он уже тогда не мог правильно видеть социальную
проблему и ее реальность, что следует из другого его замечания, он все-
таки пишет: «Здесь должно быть со всей точностью засвидетельствовано,
что речь идет о единстве немецкого духа и жизни, об уничтожении про-
тиворечия между формой и содержанием, внутренним чувством и услов-
ностью». Практически или, если угодно, очень непрактически, это затем
высказывается таким образом: спасение посредством великого художни-
ка, философа, святого.
Только в одном месте духовной области Германии был тогда намек на
такую надежду, в творчестве великого музы канта-поэта, который в 1849 г.
вынужден был в качестве революционера бежать из Германии, и из сво-
его добровольно продолженного изгнания подарил миру наряду со сво-
ими программными работами большие музыкальные драмы; они долж-
ны были в соединении музыки, поэзии и (в исполнении) также изобра-
зительного искусства быть поняты как новое произведение, объединяю-
щее различные виды искусства и посредством своей философской осно-
вы оказывать также глубокое мировоззренческое воздействие. Эстетичес-
кое суждение об искусстве Рихарда Вагнера, в котором архаически-исто-
ризирующая фантазия и реализм выражения очень своеобразно вплавле-
ны в чувственную, подчас доходящую до напыщенности театральность,
предоставим специалистам. У Вагнера несомненно есть произведения,
«Тристан» и «Мейстерзингеры», и ряд разделов в других, где по-новому
звучат и формируются вечные тона. Столь же несомненно, однако, что
созданное на совершенно осознанной основе «универсальное произведе-
ние», очень углубленное в сравнении с буржуазной пошлостью и осно-
448
ванное на своеобразном пессимистическом мировоззрении Шопенгауэ-
ра, могло вызвать множество возражений, — но могло также, как это
произошло позже, иметь громадный успех. Творчество Вагнера не мог-
ло подняться до репрезентативного и посредством внутренней силы реп-
резентативности освобождающего душевного выражения единства наро-
да, единства, которого не было и которое не могло быть создано его сред-
ствами; оно не могло осуществлять функцию, подобную функции гре-
ческой трагедии в трагическую эпоху греков. Объявить его таковым, ви-
деть в том, чего не было, не отсутствие предпосылки, а художественный
результат, и провозгласить, исходя из этого, славу Вагнера было выраже-
нием благородного молодого порыва Ницше и его нетерпеливого стрем-
ления изменить свое время. Им было верно и глубоко понято особенное
положение Вагнера в условиях пребывающего в довольстве и оптимис-
тическом удовлетворении немецкого буржуазного образованного мира.
Но к этому следует добавить, что это особенное специфически немецкое.
Ибо только в Германии новой империи, среди обломков всех великих
немецких духовных традиций было возможно, чтобы человек мог высту-
пить и притязать на то, что он нашел пророка, который в своих произ-
ведениях станет единственным одиноким создателем новой немецкой и
одновременно всей западной культуры. Феномен, который роковым об-
разом повторился в самом Ницше.
Во Франции того времени, от 50-х до начала 80-х годов, где также
сложилась особенно интенсивная буржуазность, но духовная жизнь об-
разованного слоя не была оторвана от политических решений и полити-
ческих сфер, толкование бытия художниками никогда не было так тес-
но связано с буржуазностью, как в Англии и Германии. Не происходи-
ло там и такого пророческого ниспровержения буржуазного мира, как в
Германии. Французская форма этого ниспровержения, названная, как
мы указали, богемой, охватывала очень многое и различное и вместе с
тем была повсюду связана промежуточными ступенями с миром нор-
мального буржуазного существования. В этом возвышении духовного
над только буржуазным во Франции уже в правление Наполеона III, во
время сильнейшего капиталистического и буржуазного развития, удалось
не только дать интимную и остроумную критику буржуазного мира в вы-
сокохудожественных произведениях, но и проникнуть широким фрон-
том в общую, утраченную и замаскированную исконную человеческую
проблематику и впервые, и едва ли не единственными овладеть ею в ее
исконном видении. Флобер обрисовал с величайшей внутренней дистан-
цированностью и художественной остротой проблематические качества
буржуазного мира, в частности в их обывательском преломлении в низ-
ших слоях общества. И уже в правление Луи Филиппа французская бур-
жуазная жизнь находила свое отражение в неисчерпаемой выдумке вели-
кого Оноре Домье, в его незабываемых карикатурах. Этот бедный лито-
граф, который всю свою жизнь зарабатывал на хлеб, участвуя в журна-
лах «Caricature» и «Charivari» и поместил там 4 тыс. работ, был одним из
выдающихся мастеров, предвосхитившим многие достижения экспрес-
сионистов; в наполеоновскую эру он не только захватывающе показал
трудную жизнь пролетариев и нужду людей, занимающих в обществе
маргинальное положение, фокусником и им подобных, но и незабывае-
15 3ак. 3073
449
мо отразил общечеловеческие глубокие ситуации и типы, - достаточно
вспомнить его картины эмигрантов, Дон Кихота и Санчо Пансы.
Прорыв к душевно-духовным исконным феноменам и фактам — та-
ково свершение поразительного для этого в целом опошляющего време-
ни явление Бодлера, который в своих постижениях и переживаниях жут-
ким образом соприкасался со слоем трансцендентных объективных сил.
Он пережил их власть в превратившемся в город мира Париже. Исклю-
чительно тонко воспринимающий, меланхоличный мечтатель, он позна-
комился с их властью в эротической, точнее в сильно окрашенной сек-
суальностью области. Он познал их темную демоническую власть и вос-
пел ее в «Fleurs du mal»\ To, что здесь дано, в сущности является проры-
вом к очень общему. Стефан Георге, равный ему по теме и форме, более
поздний немецкий поэт, совершенно прав, говоря, что Бодлер дал по-
эзии новые, он мог бы прибавить, глубокие, области; и он прав, утвер-
ждая, что Бодлер, исходя из этой глубины, пронизывал горячей духовно-
стью самые неприступные сюжеты. Этот опоенный потусторонностью
поэт мог сказать о «силах»:
Я ведаю, в стране священных легионов,
В селеньях праведных, где воздыханий нет,
На вечном празднике Небесных Сил и Тронов,
Среди ликующих воссядет и поэт!
Перевод Эллиса.
Этот одержимый красотой поэт мог в стремящееся к субъективизму
время держаться трансцендентной объективной силы красоты как спасе-
ния из мрака:
Над круглой шеею, над пышными плечами
Ты вознесла главу; спокойными очами
Уверенно блестя,
Как величавое ты шествуешь дитя!
Перевод Эллиса.
Это как бы фигура Микеланджело, поднимающаяся из непосредствен-
ного постижения трансцендентности как спасающий символ. И это в такое
время, когда символ и глубина казались полностью забыты. В самом деле:
поэзия Бодлера кажется неповторимым взглядом в разверзнутые глубины,
которые затем вновь закрываются. В замечательном в своем роде, совер-
шенно небуржуазном, если не антибуржуазном натурализме Золя и в уди-
вительно реалистической обрисовке характеров у Мопассана, который сам
касался темных сторон, эти бездны уже полностью отсутствуют. И прекрас-
ные стихи антинатуралистической школы, Малларме, Рембо, Верлена.
сколь они, особенно стихи Верлена, ни захватывающи, все-таки не прони-
кают через ту почву, на которой мы, смертные, пребываем, даже тогда, когда
нас потрясают видения из совсем других миров.
Но Франция вступила и указала в это буржуазное время еще и на дру-
' «Циетах зла» (франц).
450
гой внебуржуазный духовный путь, который, исходя как будто из нату-
рализма — конечно, из правильно понятого, — должен был в своем дви-
жении через него и за него, следовательно, также вести к поискам искон-
но сущностного, что уже без каких-либо претензий мелькает у Домье. Я
имею в виду путь первого поколения импрессионистов - почти все его
представители рождены между 1830 и 1840-ми годами - группировав-
шихся с середины 60-х годов вокруг Мане; ощущая себя школой, они
отказались в своей технике от прежней работы в ателье и заменили ее
plein air', отвергли все условности, стремились увидеть только непосред-
ственно данное в свете без каких-либо подступов к этому или фальсифи-
каций и своим кажущимся натурализмом сначала вызвали возмущение;
странным образом их друг Золя, человек, который хотел постигнуть сущ-
ность вещей посредством накопления многих мелких «голых фактов»,
считал их своими попутчиками и в качестве таковых, понимая их совер-
шенно неверно, защищал. Конечно, внешне они писали свои картины,
используя petits faits", как будто растворяя вещи в их отражении в свете.
Однако с какой силой они искали за этим сущность и наиболее краткий
и проникновенный способ ее выражения. Вряд ли возможно дать более
классически молодую, еще сдерживаемую настроенность, чем это сде-
лал Мане в своем Dejeuner dans l'atelier*", показать несколькими гени-
альными штрихами сущность среднего французского города более
ярко, чем это сделал Писсарро в гравюре Pont de pierre"*' в Руане, или
выразить дыхание тогдашнего Парижа, чем дано в его «Взгляде сверху
на бульвар Монмартр», где в море сияющих красок шум и движение
толпы не остается индивидуальным и целое изображено в высшей сте-
пени конкретно.
Это лишь примеры художников, в общем оставшихся по своей тема-
тике близкими буржуазной жизни. Ведущий отшельническое существо-
вание в Экс-ан-Провансе Сезанн, принадлежащий к тому же направле-
нию художник, который при жизни не выставил почти ни одной карти-
ны; он постоянно пребывал в борьбе за выражение исконно сущностного
центрального в человеке (портрет жены) , в ситуации (Les joueurs ), ме-
стности, горы (Mont St. Victoire ) и создал на своем пути такие карти-
ны, как Achille Empereur \ которые относятся к самому глубокому и
неповторимому в высоком искусстве. От него уже прямой переход к по-
стимпрессионистам, к относящемуся к ним с конца XIX в. Ван Гогу, в
известной степени разорвавшему в последнем своем упоении цепи, по-
средством которых импрессионисты в поисках существенного чувствова-
ли себя связанными его конкретной мерой выражения в природе; он
вызвал этим грандиозную революцию в живописи, которая, к сожале-
нию, затем дала достаточно жалкие результаты в виде экспрессионизма;
* Плейер (франц.).
" Мелкие факты (франц.).
'" Завтрак в мастерской (франц.).
"" Каменный мост (франц.).
Игроки в карты (франц.).
Гора Сен-Виктуар (франц.).
Царь Ахилл.
451
однако это выходит за центральный вопрос, которым мы здесь занима-
емся, и об этом мы говорить не будем.
Таким образом, во Франции и в духовно наиболее угрожаемый период,
в период подлинного прогресса этого века, наряду с опошленной буржуаз-
ной и обособляющейся пролетарской сферами, всегда действовали силы как
бы третьей духовной сферы, и при попытке образованного буржуазного
мира в конце века преодолеть собственные границы эти силы могли полу-
чить известное, по крайней мере симптоматическое, значение.
Между тем историко-социологическая динамика шла по всей Евро-
пе, а из Европы по всей Земле своим железным шагом. С начала 80-х го-
дов она вступила в новую стадию. Она более или менее быстро создава-
ла новые фактические ситуации, в которых ставшие бурными эволюци-
онные силы не только преображались, но и противостояли друг другу;
по-новому окрашенные, более брутальные коллективные миры обрета-
ли вес и тенденцию амальгамироваться с этими эволюционными сила-
ми и привнести в мир охватывающую всю Землю атмосферу конфлик-
тов, даже войны. Возникали грозовые облака, которые, правда, время от
времени как будто рассеивались и заменялись ясным солнечным светом;
во всяком случае они все время оттеснялись в сознании и вряд ли кем-
нибудь были поняты в полноте их тяжести. Это было время, когда по до-
статочно очевидным причинам будущее и судьба Германии стала своего
рода показателем мировой ситуации и когда - поразительным образом
- одновременно в ставшем зрелым Ницше вырос духовный колосс, со-
здавший, правда, общие освобождающие от прежней буржуазной узос-
ти формулы, но в своих последующих формулировках нагромоздивший
целый арсенал взрывчатых веществ, который, как только он был популя-
ризован, начал действовать вширь и восприниматься буквально, и
вспыхнув, стал угрожать всему западному духовному миру гибелью.
Остановимся сначала на изменении социальных условий и связанных
с этим душевно-духовных преобразованиях. Идущая с 1850 г. экспансия
цивилизации и капитализма, перед которой открывались как будто бес-
конечные пространства и возможности, быстро охватила весь земной
шар. С 1880 г. люди стали встречаться в самых различных местах, как бы
на другой стороне Земли. Распространение господства и поток товаров
сталкивались там друг с другом. То, что представлялось ареной бесконеч-
ной свободной конкуренции, оказалось ограниченным. Вместо призыва
открывать, все больше открывать новые пространства Земли, все внезап-
но стали требовать деления и распределения, распределения простран-
ства Земли и ключевых позиций в сферах интересов.
Так как выторговать эти сферы интересов и колониальные владения
или договориться по этому вопросу могли только государства, капита-
лизм, который раньше всячески противился вмешательству государства,
теперь обратился к его помощи; интервенция государства во внешней
экономике, или сохранение внутреннего рынка, гарантия пересечения
интересов или ключевые позиции, компромиссы, значительные для всей
Земли, если не охватывающие всю Землю, конгрессы. Начиная с Бер-
линского конгресса 1878 г., который пытался регулировать отношении
властей на Ближнем Востоке и на Балканах, что ему полностью не уда-
лось, через конголезскую конференцию 1884/85 г., на которой был со-
452
вершен раздел Африки, тянется рад таких конгрессов, организованных
боявшимся конфликтов Бисмарком и завершившихся Гаагской мирной
конференцией, на которой уже испуганные государственные мужи, к
сожалению, не понятые Германией, настаивали на разоружении и под-
судности третейскому суду.
Эти настроения не были беспочвенны. Ибо после того как в 1882 г.
под Александрией загремели английские пушки с целью захвата Суэцко-
го канала как жизненного нерва Британской империи, империалисти-
ческие конфликты не прекращались. С 1894 г. они вели в теллурическом
рассмотрении с короткими промежутками сначала к локальным войнам,
от японо-китайской, американо-испанской, через суданский поход, со-
бытие в Фашоде, войну с бурами, русско-японскую, итальяно-турецкую
к Балканским войнам, за фасадом которых в действительности сталки-
вались имперские интересы России и Австрии. Складывалась чрезвычай-
но опасная ситуация для Европы, которая динамически все еще была су-
щественным центром или источником мировых событий. Ее система
равновесия, достаточно долго так или иначе функционировавшая, стала
терять свое значение, так как интересы не только Англии, но и наиболее
значительных континентальных государств — России, Франции, Италии
и, наконец, даже Германии, — переместились на территории вне Евро-
пы и так как одновременно внутри государств возникли течения, кото-
рые, следуя империалистическим тенденциям Европы, с трудом держав-
шейся во второй половине XIX в. компромисса между ставшей государ-
ственной национальной идеей и исторической формой (Австро-Венг-
рия), должны были внутренне погубить Европу. Из неисчерпаемого ис-
точника мнимо естественно-научных биологических и натуралистичес-
ких теорий возникла расовая теория. Со специальной точки зрения, за-
вязшие еще в нерешенных контроверзах и являвшиеся для человека, осо-
бенно для духовно-душевного в человеке, в сущности не более чем рам-
ками, наполненными свободной фантазией, фантастические представле-
ния этой теории о виде, его преобразовании и сохранении, без сомне-
ния, относились к реальным, очень важным комплексам фактов. Пре-
жние обобщающие представления о человеке, утверждалось в этой тео-
рии, их не замечали, несмотря на их очевидность и несмотря на то, что
указание на неравенство человеческих рас, как казалось представителям
этой теории, дает очень простой, открывающий все необъяснимое, ключ
к пониманию истории и человечества. Тенденциозный интерес совпал с
мнимой очевидностью фактов; и мигом появилась готовая популярная
теория, ни одно из утверждений которой, — как, например, о вреде ра-
совых смешений, что во всем мире считается предрассудком, — не мог-
ло быть, правда, проверено, а при серьезной проверке подтверждено, ибо
все существующие расы и народы возникли из совершенно очевидных
смешений. Однако чем менее эта теория была доказуема, тем фанатич-
нее в нее верили, так как она соответствовала определенным инстинктам
и как будто делала доступными несомненно существующие факты точ-
ного, соответствующего этим инстинктам, постижения. При имеющих-
ся общих тенденциях к демократизации она соответствовала аристокра-
тическому инстинкту, представители которого всегда придавали большое
значение «виду», хотя до сих пор не унижались до расовой теории. Дос-
453
таточно было ей найти опору в смешивающем себя с аристократическим
инстинктом самомнении, особенно еще неуверенных в своем самосозна-
нии народов, и дать едва возникшим или ожидающим боевого крещения
народам и малым нациям своего рода свидетельство о рождении, чтобы
она соответствовала психологической потребности, с одной стороны,
германских, с другой, — только поднимающихся славянских народов, и
ее влияние было утверждено, причем практически в ошеломляющем зна-
чении. Ибо это учение совершило свое сочетание, свое всемирно-исто-
рическое губительное сочетание, с оставшимися неудовлетворенными
национальными инстинктами там, где они были, что превратило пре-
жнюю исторически и культурно окрашенную национальную идею в
разъедающий современный национализм. Но прежде всего это учение
соединилось с повсюду дремлющим империализмом, особенно с импе-
риализмом германских и славянских народов. И она совершила это, в из-
вестной степени незаконное, тайное соединение со связанными с импе-
риализмом и получившими частичную самостоятельность милитаристс-
кими силами.
Здесь не место прослеживать изменения и историю исходящего вна-
чале от западных славян, подхваченного русскими славянофилами, за-
вершившегося переходом в русло милитаристски окрашенного царско-
го империализма и идущего к милитаризму панславизма, так же как и
значительно более просто и прямо завершающегося идеей чистого расиз-
ма, уже с 1870 г. питаемого антисемитизмом пангерманизма. Известен
исполненный страха прогноз рано предчувствовавшего ход событий
Грильпарцера о движении от гуманности через национальность к звер-
ству. И склонность к насилию, ненависть, примитивные, ведущие к по-
громам инстинкты, действительно вели к созданной обоими движения-
ми атмосфере или были ее последствиями. В общеевропейском и всемир-
но-историческом масштабе решающим стало следующее: оба движения,
единые в своей ненависти друг к другу, содействовали не только преобра-
зованию европейского востока и юго-востока; они способствовали прежде
всего разрушению Австро-Венгрии, а тем самым уничтожению необходи-
мого краеугольного камня еще возможного равновесия Европы, которая в
противном случае неминуемо должна была распасться вследствие разделе-
ния ее на сферы имперских интересов, что и произошло.
Бисмарк, который предвидел это, стремился в своей реалистической
прозорливости сохранить полученную кристаллизацию государств и пре-
дотвратить опасность сложной системой союзов и взаимных обяза-
тельств своей, в самом деле необходимой для единения Германской им-
перии политикой «железа и крови», дал прокатившийся по всей Европе
mot d'ordre* стоящей теперь именно под этим знаком эпохи: власть и еще
раз власть. Большинство немецких профессоров, которые — справедли-
вости ради надо сказать - не всегда бывали так слепы, преклонились пе-
ред этим фетишем, как перед посланным Богом спасителем. А каждое
соединение идеального содержания с интересами власти — нечто неиз-
бежное в жизни, так как интересы власти в качестве основных жизнен-
ных факторов всегда играют известную роль едва ли не в каждом, даже
Пароль {франц.).
454
в самом идеальном действии, полностью же во всех государственных ак-
тах — стало с тех пор на немецком официальном жаргоне называться об-
маном, cant*. Люди хотели власти, задуманной как совершенно чистая.
При этом не предвидели, какое взрывчатое вещество привносится в мир
^той абсолютизацией уже самого по себе в любой форме облачения и ог-
раничения мощного натуралистического импульса к действиям. Это
взрывчатое вещество бросили в ежедневно становящуюся более опасной
вследствие явно намечающихся конфликтов и действующих за ними им-
периалистических милитаристских организаций ситуацию, не обращая
внимания на тихо высказанное Якобом Буркхардтом предостережение:
власть сама по себе зла,это означает, что этим словом нельзя пользовать-
ся в пропагандистских целях. Это совершали, не замечая, как такими
пропагандистскими действиями приближали тучи над Германией (что
Бисмарк пытался предотвратить) которые, сгустившись, привели к буре
небывалой силы.
Казалось бы, если уж теоретики власти в Германии были глухи и сле-
пы, то в широкой общественности, не только у предусмотрительных по-
литиков, но и во всем обществе, должна была возникнуть озабоченность
от того, что группировавшийся вокруг Европы теллурический порядок
может быть всем этим поколеблен, что все больше ставится под вопрос
само существование Европы. Однако характерной чертой 24-летней эпо-
хи, от 1890 г. до начала войны 1914 г., во всем этом звучании войны и
пропаганды было странным образом обратное. Причиной является
прежде всего своеобразная сущность и внутренняя динамика господству-
ющего в эту эпоху в мире капитализма. Никогда еще капиталистическое
мировое хозяйство не пожинало таких плодов, как в эту четверть века.
Беспрерывная экспансия стала замедляться, но прежний, анализирован-
ный Марксом, основанный на эксплуатации масс, круговорот был заме-
нен новым, гармоническим капиталистическим круговоротом. Он опи-
рался на повысившуюся потребительскую способность масс, которая
была связана с объединением рабочих в профсоюзы и усилена теллури-
чески и технически — организационно обусловленным удешевлением
жизни. Если завоевание новых рынков и становилось труднее, то рост
сбыта в открытых хозяйственных регионах продолжался; сложилась удач-
ная уравновешенность внутренней и внешней экономики при росте ем-
кости внутреннего европейского рынка вследствие выросшей покупа-
тельной способности масс. Возник, следовательно, новый круговорот,
основанный на росте благосостояния и уровня жизни в центрах мировой
промышленности и на росте благосостояния регионов внешних интере-
сов и власти. Создан был вид здорового хозяйственного круговорота, ко-
торый без необходимости постоянного дополнительного открытия новых
областей Земли и без прежней эксплуатации как будто гарантировал бу-
дущее капитализма и содействовал повышению уровня жизни всех сло-
ев. Никогда еще с начала промышленного переворота не было такого
спада экономических кризисов, которые до того вследствие роста
сверхинвестиций и последующего уменьшения занятости сотрясали че-
рез каждое десятилетие XIX век и безжалостно выбрасывали рабочих на
" Ходячим словом (англ.).
455
улицу. С 1890 г. движение волн превратилось в размеренный прилив и
отлив. Никогда еще пролетариат под действием общего подъема не был,
несмотря на распространение марксистского учения и организации,
практически так близок реформистскому вхождению в капиталистичес-
кий мир, так близок действительному отказу от своей революционно-ду-
ховной обособленности. И никогда еще чувство с необходимостью при-
внесенной цивилизаторскими и капиталистическими силами доместика-
ции мира не было столь сильным, столь общими фактическая беспрепят-
ственность личного общения, возможность проникать в отдаленнейшие
уголки Земли для наблюдения и наслаждения, рассмотрение земного
шара как большого единого пространства, для пересечения которого тог-
да в сущности даже не нужен был заграничный паспорт.
Это упрочение и совершенствование цивилизационного и капитали-
стического единения мира при одновременном росте общего благосос-
тояния и уменьшении социального напряжения создавало чувство уве-
ренности, несмотря на обсуждение империалистических проблем на всех
перекрестках и повседневное бушевание национализма, состоящего по-
средством идеи расы в союзе с милитаристскими и империалистически-
ми кругами и превратившегося в фермент распада. «Ведь не рискнут же
взорвать этот основанный на взаимности, столь тесно внутренне связан-
ный мир благосостояния и духовного обмена, превратив призрачное
мелькание элементов беспокойства в выстрелы пушек, пойти на безум-
ство военного эксперимента» - таково было ощущение, усыплявшее
слишком серьезное отношение к существующему напряжению. И далее,
против того, кто слишком много говорит об экспансии и власти, о рис-
ке и занимается угрожающей политикой, против него все должны при-
нять меры, должны объединиться против него. Такова была следующая
из этого, медленно утверждающаяся максима, результатом которой ста-
ло опасное, ибо только увеличивающее напряжение, окружение неудов-
летворенного и ищущего удовлетворения центрального очага междуна-
родного беспокойства, Германии. Сложилась ситуация, когда достаточ-
но было искры в одном месте, чтобы вызвать взрыв на всей Земле и по-
губить в огромном пожаре уверенную доместикацию, сплетение интере-
сов, благосостояние и благополучную жизнь.
Шестая глава
Ницше и катастрофа
1. Ницше
В этой ситуации всемирно исторически напряженнейших противоречий,
при угрозе величайшей опасности, непосредственно перед начальными
стадиями ее постепенного развития, появилась личность колоссальных
возможностей, о которой мы уже говорили, упоминая о молодом Ниц-
ше. В зрелости Ницше с полным пониманием своей задачи счел себя
призванным произвести переоценку всех ценностей. Этот человек, обла-
456
давший особой силой выражения высокого духовного ранга, мог оказать
решительное влияние на поворот колеблющейся чаши весов в ту или
другую сторону. Хотя сам он не чувствовал себя немцем и сознательно
отстранялся от всего немецкого, вырос он из немецкой проблематики.
Он вырос на ставшем благодаря сложившейся констелляции историчес-
ки решающем месте, в известном смысле на шве истории, можно ска-
зать, в центре кратера разрастающегося очага мировой опасности.
Мы не помышляем о том, чтобы дать полную характеристику фено-
мена Ницше, столь сложного и многообразного, как вряд ли какой-либо
другой. Не помышляем мы и о том, чтобы полностью проникнуть в эту
фосфоресцирующую, пылающую, в тысяче нюансировок сияющую, саму
себя отражающую душевно-духовную массу, которой он является в каче-
стве феномена, или довести зондирование этой самой личностной из
всех личностей, самого обремененного судьбой из всех духовных судьбо-
носных людей до его последнего индивидуального сущностного ядра, как
иногда пытались. Первое для нас невыполнимо, второе запрещает нам,
помимо всего другого, уважение к его в самом деле невероятной, бро-
шенной демонией времени в сумерки, судьбой. Для освещения суще-
ственных сторон его исторического значения, его, как буря, проясняю-
щего ситуацию, в определенных пластах освобождающего и возвышаю-
щего, но в широком масштабе разрушающего воздействия, мы считаем
необходимым сказать следующее:
I
С ним в эпоху, когда образованный слой общества, в частности в Герма-
нии, духовно сломленный, привык, принимая духовно и практически
важные решения, предаваться резиньяции, когда он фактически без соб-
ственной воли отходил на позиции рефлектирующего наблюдения, вы-
ступила духовная воля, которая говорила и умела говорить с этим обра-
зованным слоем. Личностное духовное явление Ницше кажется химерой:
он говорит, как поэт, как большой художник, движимый пружиной ог-
ромной неспокойной воли; и вместе с тем обладает способностью тон-
чайшего мыслительного расчленения и психологического анализа и спо-
собностью испытывать неутолимую, все время ищущую радость от афо-
ристического формулирования.
В своей реакции на филистерство немецкой образованности и ее узкое,
хаотическое бескультурье Ницше сначала в молодые годы искал, как мы
видели, спасения в творениях Рихарда Вагнера, надеялся создать, опираясь
на них, начала некоей единой культуры на основе углубленного видения
мира в духе Шопенгауэра. Это молодое упоение было коротким, хотя если
не близкая дружба, то почитание Вагнера сохранялось. После этого перио-
да увлечения Вагнером Ницше должен был искать другую великую цель и
завоевать в противоположность своему времени царство могущественного
воления. И после периода его тяжелой болезни, после описанного им самим
промежуточного периода сознательного скептического отказа от старых
идеалов, когда он провозглашает девиз Вольтера («Человеческое, слишком
человеческое» 1876/78, «Странник и его тень» 1879), следует с 1880 г. крис-
таллизация идей, опыта и знания в возникающем в нем, в своем будущем
457
образе, сначала еще ему не вполне ясном новом. Этот процесс изложен в
«Утренней заре», там он оказывается «на пути». Затем в августе 1881 г. вне-
запно возникает своего рода озарение, время вполне сложившегося нового
видения, нового образования и проясненного великого воления, когда воз-
никает главное произведение этого периода «Так говорил Заратустра»,
1883/85, существенные духовные шаги к которому даны до того в собрании
афоризмов («Веселая наука» 1881/82). «Заратустра» был дан ему как откро-
вение, и по крайней мере при написании трех первых книг он находился в
своего рода экстазе. Так как это произведение представляется нам наиболее
характерным для Ницше сообщением своих мыслей, поэтически возвышен-
ным, мы будем в нашем описании наиболее существенного в его творчестве
держаться этой работы. Необходимое дополнение без поэтических досто-
инств дано в работах «По ту сторону добра и зла» (1885/86), в V книге «Ве-
селой науки», а также в ряде предисловий 1886 г. и в полемической работе
«К генеалогии морали» (1887). Неопубликованные, но большей частью си-
стематизированные им афоризмы «Воли к власти» свидетельствуют о той же
духовной высоте. Однако здесь становятся одновременно очевидными и
большие ошибки, которые превратили эту работу в ее популярном понима-
нии или непонимании в пороховую бочку. Об этом следует сказать подроб-
нее. Мы можем спокойно оставить вне нашего рассмотрения быстро следу-
ющие друг за другом работы 1888 г. «Случай Вагнера» «Сумерки богов»,
«Антихристианин», ибо они лишь развивают прежние положения. Но не-
задолго до смерти возникшая работа «Ессе homo»* необходима как свиде-
тельство Ницше о самом себе.
II
Как выражение общей концепции «Заратустра» не имеет в литературе
аналогов, он неповторим. В форме прихода пророка или мудреца, спус-
кающегося из своего одиночества на высоко расположенной над морем
горе в южной местности, или временного пребывания на острове, нового
возвращения в одиночество и нового появления среди друзей, в его об-
ращениях к ним, монологах, происшествиях, грезящихся переживаниях
и видениях дана весть и борьба с возвещением и действием невероятной
жизненной силы. Весть о твердости, «львиной» силе. Однако над ней
парит большое внутреннее волнение, нежность, аромат, а также печаль.
Здесь рассыпаны страницы удивительной поэтичности, все полно фан-
тазии и созерцания в неведомых до сих пор ритмике и характере немец-
кого языка. То, что может иногда показаться слишком интенсивным са-
мосозерцанием, в сущности большое и поэтому уходящее вширь, с тру-
дом достигнутое и горькое признание, в котором ощущаемое как новое
и преобразующее содержание вести, все время повторяясь, поворачива-
ется разными сторонами. Это обращение часто доходит в своем выраже-
нии до крайности. И хотя это можно трактовать как средство усиления
впечатления, чувствуется вся опасность этого человека, которую мы поз-
же полностью покажем, ибо, несмотря на его великий акт освобождения,
он оказался невероятной опасностью.
" «Се человек» {.шт.).
458
Для понимания сущности и смысла этой вести, ее освободительного дей-
ствия и ее опасности, содержащейся в характере ее выражения, следует
подчеркнуть три момента: 1. То, что можно назвать великим отталкива-
нием Ницше, комплекс фактов жизни и бытия, от которых он дистанци-
ровался и которые надеялся преодолеть. Именно исходя из этого, мож-
но понять направленность его вести. 2. Общие условия времени и общие
условия существования в это время. Это не только определило понятий-
ные определения, границы и односторонность его видения, но и осно-
вы его последующих ошибок. 3. И наконец, тип его личности и судьбы.
Именно эти моменты позволяют проникнуть в ядро и сущность его ве-
сти, ее нюансы, но и познать то, что можно назвать в ней крайним и эк-
сцентричным, ее преодолением границ. В нашем кратком изложении все
это дано то отдельно, то в переходе в друг друга.
Всем известно, Ницше и сам все время подчеркивал существенное в
своем возвещении, что человек есть нечто, что должно быть преодолено,
следовательно, весть о сверхчеловеке; и как сдержанно сообщаемый им
фон — видение «вечного возвращения одинакового», внутри которого
наступит время, провозглашенное им как «великий полдень,» время яв-
ления сверхчеловека.
Оставим сначала в стороне последнюю в известной степени эзотери-
ческую часть. То, что человек должен быть преодолен, полностью понят-
но только из «великого отталкивания» Ницше. Оно направлено прежде
всего против его эпохи и человека его, буржуазного, времени, XIX в.; за-
тем оно расширяется и углубляется до того, что можно назвать его дио-
нисийским переживанием, отвержением человека в его достигнутом
высшем образе вообще. О том и другом резко говорит Заратустра. О че-
ловеке времени буржуазной образованности, усиливая то, что уже было
сказано в прежний период, говорится: Вы — «родина всех горшков кра-
сок», «пестро раскрашенные, неспособные верить». «У того, кто снимет
с вас покров и покрывало, устранит краски и жесты, останется только то,
что может служить пугалом для птиц». «Горечь моя в том, что я не выно-
шу вас ни голыми, ни одетыми, вас, современные люди». Ибо, так мож-
но резюмировать, вы несете в себе и создаете человека, «который уже не
может родить звезду», «последнего человека», «который все делает мел-
ким, род которого неистребим, как блоха». Эти последние люди хотят
«тиканья маленького счастья», хотят удовольствия. «Добродетель для них
то, что делает скромным и ручным. Так они превращают волка в собаку,
а человека - в лучшее домашнее животное человека». Еще хуже: «Эти
учителя покорности! Всюду, где мелко и болезненно, они ползают, как
вши! Только отвращение мешает мне раздавить их. Ведь самое злое в них
столь мелко, подумал я». Но они «ядовитые пауки», «тарантулы, преис-
полненные мести против всего, имеющего власть». Они «проповедники
равенства», а при этом в сущности «скрытые мстители», которые много
говорят о справедливости, «и если они называют самих себя добрыми и
справедливыми, то не забывайте, для того чтобы быть фарисеями, им не
хватает только власти». «Сегодня мелкие людишки стали господами, все
они проповедуют покорность и смирение, разумность и прилежание и
длинный перечень многих мелких добродетелей». «Все, что происходит
от бабьего, от рабского рода и особенно всякая чернь, все хочет стать гос-
459
полином человеческой судьбы - о отвращение, отвращение, отвращение.
Они спрашивают и спрашивают и не устают спрашивать, как человеку
сохранить себя наилучшим образом, наиболее продолжительно и прият-
но? Благодаря этому они господа сегодняшнего дня». А из этого неиз-
бежно следует другое: образованные устают от мира. «Кто многому учит-
ся, теряет всякую способность сильно желать, так шепчут сегодня на всех
темных улицах». «Мудрость утомляет, она ни к чему не ведет: не надо
желать». «Не стоит, вы не должны желать». — «Но это весть рабства. — И
вот стоит челн — он ведет, быть может, в великое ничто». Следователь-
но, страх перед цивилизаторской доместикацией, перед демократией
черни, перед рождением усталости от мышления и мира, в конечном
итоге перед нигилистическим пессимизмом и слабостью воли; к этому,
следовательно, пришло, обостряясь и углубляясь, первоначально возник-
шее из критики хаотически историзирующей буржуазной неразберихи в
образовании, обусловленное временем отталкивание Ницше, которое от-
казывается теперь и от собственной веры в Шопенгауэра в прошлом.
Однако он проникает глубже. Оставляя позади себя реакцию на на-
строения fin de siccle*, на поднимающуюся демократию, мнимое успоко-
ение в мире и связанное с этим как будто торжество посредственности,
он видит: существуют проповедники смерти, проповедники для слишком
многих: «Это те страшные, которые несут в себе хищников; у них толь-
ко один выбор: наслаждение или саморастерзание».
«Вот страждущие души, едва родившись, они начинают умирать и
жаждут учений усталости и отречения ... Жизнь - страдание, говорят
другие... сладострастие — грех, говорят одни, проповедующие смерть...
Позвольте нам уйти и не рождать детей. Рождать мучительно, говорят
другие. Да и к чему? Рождают ведь только несчастных». «Сострадание не-
обходимо, говорят третьи. Возьмите все, что я имею, возьмите меня. Тем
меньше я буду привязан к жизни... Они хотят освободиться от жизни: что
им до того, что они еще сильнее связывают других своими цепями и да-
рами! И вы также, для кого жизнь - трудная работа и беспокойство: раз-
ве вы не устали от жизни?.. Вы ведь с трудом выносите себя. Повсюду
звучат голоса тех, кто проповедует смерть, и Земля полна теми, кому
надо проповедовать смерть». И к тому еще «отродье»}\ «Всему чистому
я благоволю, но не могу видеть ухмыляющиеся морды и жажду нечистых.
Они вперяют взор в колодец: из колодца сияет только их противная
улыбка. Они отравили святую воду своим сладострастием; и когда они
называли свои грязные сны радостью, они отравляли и слова». «Я повер-
нулся спиной к господствующим, увидев, что они теперь называют гос-
подствовать, — торговаться и спорить за власть с отребьем. И зажав нос,
я мрачно прошел через все вчера и сегодня: поистине дурно пахнут пи-
шущим отребьем все вчера и сегодня».... Следовательно, отребье власти,
пишущее и наслаждающееся. «И не это душит меня, что сама жизнь
нуждается во вражде, в смерти и крестах мучеников. Я спросил некогда
и почти задохнулся от этого вопроса: Как? Жизни и отребье нужно? Раз-
ве отравленные колодцы и вонючее пламя, и оскверненные сны, и девы
относятся к хлебу жизни?»
" Конца века (франц.).
460
Здесь перед нами весь объем и вся глубина отталкивания Ницше. Чело-
век, с которым все это связано, отвечает Ницше, должен быть преодолен,
как в своей временной, исторической форме, которая становится господ-
ствующей, так и вообще. Нельзя оста нашиваться на удобстве и осторожном
замешивании яда учеными, которые «сидят в прохладной тени и хотят быть
только зрителями». Весь Заратустра в противоположность этому — призыв
к волению, к мужеству, к полету ввысь, к новому человеку.
Как из волнующегося моря, поднимается при этом идея сверхчелове-
ка из «дионисийского видении бытия». Дионисийское видение бытия -
Ницше говорит это в тысяче мест - противоположно христианскому и
каждому трансцендентному видению в принятом смысле. Оно ничего не
хочет знать о мечтающих о другом мире, которые за существующим ми-
ром грезят» о бесчеловечном человеческом мире, о небесном ничто». -
«Оно должно свободно нести свою земную голову, которая создает смысл
мира». Ибо, говорит Ницше, «я считаю злым и враждебным людям все
это учение об Едином, Полном и Неподвижном, Сытом и Непреходя-
щем. Все непреходящее только символ. И поэты слишком много лгут. Но
о времени и становлении должны говорить наилучшие символы; они
должны быть хвалой и оправданием всякой преходящести». Такого рода
посюстороннее видение бытия, если оно обладает дионисийским изме-
рением, ведает, что жизнь по своему существу необходимо полна наря-
ду со счастьем и светом, ужасом и страданием, что она беспрестанно яв-
ляется преодолением и становлением, а это значит, разбивается и стро-
ится. «Смотри, — сказала мне жизнь, — я то, что все время должно само
преодолевать себя». «Насколько глубоко человек видит жизнь, настоль-
ко глубоко он видит и страдание.» «И чем больше человек стремится
ввысь и в свет, тем сильнее его корни стремятся в землю и вниз, в тьму,
в глубину — в зло». И «во всем невозможно одно — разумность». «Немно-
го разума, правда, семя мудрости рассыпано между звездами - эта зак-
васка замешана во все вещи», — говорит он; и далее: «Чтобы ваша боязнь
не отравила мне охоту видеть злое. Я блаженствую, видя чудеса, которые
производит горячее солнце: тигров, и пальмы, и гремучих змей. И сре-
ди людей есть прекрасное порождение горячего солнца и много достой-
ного восхищения в злых. Поэтому «говорите враг, но не злодей, больной,
но не подлец, глупец, говорите, но не грешник»; ибо «убийца хотел кро-
ви, а не грабежа, он жаждал счастья ножа». И наконец, «дух есть жизнь,
которая сама наносит жизни удар ножом: на собственном мученье рас-
тет собственное знание — знаете ли вы это? А счастье духа быть помазан-
ным слезами, освященным в качестве жертвы — знали ли вы это?» И на-
конец, «все, что добрые называют злым, должно соединиться, чтобы
была рождена истина». Так над Заратустрой может парить песня: «О, че-
ловек, внимай/тому, что говорит глубокая полночь/Я спал, я спал./Я
проснулся из глубокого сна/Мир глубок./И глубже, чем мыслился день
/Глубока боль -/Радость — еще глубже, чем скорбь./Боль говорит: прой-
ди/Но радость всегда жаждет вечности/- Жаждет глубокой, глубокой
вечности». — Такова дионисийская песнь.
Но каков этот преодолевающий человека сверхчеловек, несущий в
себе и утверждающий эту противоречивую, глубоко увиденную действи-
тельность, о которой поется в этой песне, дионисийскую действитель-
461
ность с ее светом и тьмой? Или скорее: какова следующая ступень чело-
века, к которому следует стремиться?
Ибо это должен быть новый человек, способный все это объединить
в себе, вдохнуть и выдохнуть. Только новый человек может вообще быть
смыслом бытия, дать ему этот смысл. «Человек и Земля людей все еще
неисчерпаемы и не открыты».
Чтобы полностью ощутить, что Ницше при этом видит и возвещает,
надо самому читать Заратустру. Здесь можно дать лишь несколько пояс-
нений. Этот новый человек должен быть носителем «большого здоро-
вья». «За твоими мыслями и чувствами стоит могущественный власте-
лин, незнакомый мудрец - его имя Само. Он живет в твоем теле, он есть
твое тело. В твоем теле больше разума, чем в твоей лучшей мудрости. Кто
знает, для чего твоему телу твоя наилучшая мудрость. Созидающее тело
создало себе дух как длань своей воли». Поэтому: «Советую вам следо-
вать невинности чувств... Того, кому целомудрие трудно, не следует при-
зывать к нему... Познавая, тело очищается, прибегая к знанию, оно воз-
вышается; для познающего все влечения освещаются; у возвысившего-
ся становится радостной душа». «Пусть ваш дух и ваша добродетель служат
чувству Земли., и пусть ценность всех вещей будет по-новому установлена
вами. Будьте поэтому борющимися. Будьте поэтому созидающими».
Но для этого необходимо то, что Ницше в другом месте назвал пафо-
сом дистанции и почтением к самому себе. «Беги, мой друг, в одиноче-
ство». «Держись вдали от мух рынка». «Не о ближнем говорю я вам, а о
друге. Да будет вам друг праздником Земли и предчувствием сверхчело-
века». И нежным нужно быть к другу: «Пусть друг будет мастером в раз-
гадывании и молчании: не старайся все увидеть... Пусть догадка будет
твоим сочувствием, узнай сначала, хочет ли твой друг сочувствия». При
этом, уходя в одиночество, ты должен сначала спросить себя: «Являешься
ли ты новой силой и новым правом? Первое движение есть самокатяще-
еся колесо; можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг тебя?» «Ты
называешь себя свободным. Я хочу услышать твою господствующую
мысль, а не то, что ты убежал от ярма». И ты должен знать: «Одинокий,
ты идешь путем к самому себе. И твой путь ведет мимо тебя самого и
твоих семи дьяволов»... «Ты идешь путем сгребающего', ты хочешь создать
себе Бога из твоих семи дьяволов». Однако тот, кто так видит тяжелое,
должен быть одновременно весел и легок. «Беззаботными, насмешливы-
ми, насильственными - такими хочет нас видеть мудрость. «Но тот, кто
хочет стать легким и птицей, должен любить самого себя».
При этом в общей форме и иначе сказанное: жить по собственному
закону и самому создать его. «Чтобы ваша добродетель была ваша са-
мость, а не чуждое, кожа, покров». И: «Если у тебя есть добродетель и это
твоя добродетель, то она у тебя не совместно с кем-нибудь». «Твоя доб-
родетель должна быть слишком высока для доверительности имен». Поз-
же в работе «По ту сторону добра и зла» о «благородном человеке» гово-
рится, что его добродетели, поскольку из них вырастают обязанности,
могут быть общими только с теми, кто равен ему. В «Заратустре» же даль-
ше в призыве к воле и характеру собственного чувства говорится: «Этот
новый щит я ставлю над вами: будьте тверды». «Ах, поймите мои слова:
делайте всегда, что хотите - но будьте сначала такими, кто может хо-
462
теть. Любите всегда ближнего вашего, как самого себя, но будьте сна-
чала такими, кто любит самого себя, любит большой любовью, любит с
большим презрением». «Новое сотворит благородный, новую доброде-
тель»... «Но опасность для благородного не в том, что он станет добрым,
а в том, что станет дерзким, издевающимся, уничтожающим». Поэтому:
«Там, где вихри бороздят море и хобот гор пьет воду, там каждый должен
когда-нибудь провести для проверки и познания дневное и ночное бде-
ние. Познано и проверено должно быть, моего ли он рода и происхож-
дения - господин ли он строгой воли, молчалив ли, даже когда говорит,
следовательно, уступчив ли, принимая даруемое». Ибо «Где сердце ши-
роко и полно, подобно потоку, благословение и опасность ближайшим,
там истоки нашей добродетели. Если вы выше похвалы и порицаний, и
ваша воля хочет приказывать всему как любящая воля, там истоки вашей
добродетели... Вы, подобно мне, стремитесь к дарующей добродетели».
«Будьте неприступны в принятии, покажите этим, что вы принимаете,
это я советую тем, кто ничего не может подарить». И далее: «Благород-
ный велит себе не смущать. Он велит себе смущение перед всем страж-
дущим. Поистине я не люблю их, сострадающих, блаженных в своем со-
страдании: они слишком лишены смущения». «Но худшее - мелкие
мысли. Поистине лучше мыслить зло, чем мелко». «Тому же, кто одер-
жим дьяволом, я говорю на ухо: лучше, если ты вырастишь твоего дья-
вола. И для тебя еще есть путь к величию». А другим: «Если у вас есть
враг, не воздавайте добром за зло, ибо это вызвало бы смущение. Дока-
жите, что он сделал вам добро. И лучше гневайтесь, чем смущайте... И
если вы испытали большую несправедливость, быстро прибавьте к ней
пять мелких.. Разделенная несправедливость - наполовину справедли-
вость... Небольшая месть более человечна, чем отсутствие мести». Для
правдивых: «Свободная от равенства рабов, освобожденная от богов и
молений, бесстрашная, ужасная, великая и одинокая: такова воля прав-
дивых». «Голодающей, насильственной, одинокой, безбожной, такой хо-
чет быть воля льва». О войне и военных, мыслимых в общем, дальше го-
ворится: «Если вы не можете быть святыми знания, то будьте по крайней
мере его воинами». «Вы должны искать ваших врагов, должны вести
вашу войну, сражаться за ваши идеи. И если ваша идея побеждена, то
ваша справедливость должна торжествовать». «Война и мужество совер-
шили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не Baiue сочувствие,
а ваша храбрость спасала попавших в беду». И в том же смысле призыва
к воинственности далее говорится: «Восстание - благородство рабов.
Пусть вашим благородством будет послушание. Пусть сами ваши прика-
зы будут послушанием». «Но вашу высшую идею вы должны услышать
как мой приказ - и он гласит: человек есть нечто, что должно быть пре-
одолено».
Это попытка пояснить тип или, вернее, характер и уровень многооб-
разия типов, которое Ницше представляет, призывает и требует в каче-
стве следующей ступени. В работе «По ту сторону добра и зла» она еще
раз обрисована с ряда сторон таким образом: «Жить с невероятно гордым
спокойствием. - Произвольно иметь и не иметь свои чувства, свои за и
против, снисходить до них; садиться на них, как на коней или как на ос-
лов — ибо надо уметь пользоваться как их глупостью, так и их огнем.
463
Сохранять свои 300 главных оснований, также и черные очки; ибо быва-
ют случаи, когда никому нельзя смотреть нам в глаза, а тем более в наши
«основания». И избрать себе в сообщество тот лукавый и веселый порок,
вежливость. Оставаться господином своих четырех добродетелей: Муже-
ства, понимания, сочувствия, одиночества. Ибо одиночество есть для нас
добродетель, высшая склонность к чистоте, которая предвидит, как при
соприкосновении человека с человеком - в «обществе» неотвратимо дол-
жно быть нечисто. Каждое сообщество делает как-либо, где-либо, когда-
либо «пошлым».
Этот тип, который в работе «По ту сторону добра и зла» определяет-
ся как благородный человек, уже в «Заратустре» видится как продукт -
таков термин - «воспитания и культивирования». Воспитание как уси-
ление собственной воли, а самовоспитание и культивирование мысли-
мое, как по возможности сознательное распространение и усиление его
результата: «Любите Землю ваших детей».
Усматривается уже также членение общества и задача, основа кото-
рой и здесь воля к власти: «Там, где я находил что-либо живое, я слышал
разговоры о послушании. Все живое есть послушное. И второе: приказы-
вают тому, кто не может сам себя слушаться. Таков характер живого. А
это третье, что я услышал: приказывать труднее, чем слушаться». Глуб-
же: «Там, где я находил живое, я находил волю к власти; и даже в воле
служащего я находил волю быть господином. Чтобы более слабое служи-
ло более сильному, его убеждает воля, которая хочет быть господином
над еще более слабым. Без этого бремени оно не может обойтись. И так
же как меньшее отдается большему, чтобы оно находило в нем наслаж-
дение и власть, так и величайшее отдается и рискует ради власти жиз-
нью». Однако следующее этому полаганию воли членение общества ока-
зывается в опасности. Ибо существует «огненный пес» и «все те дьяво-
лы извержения и разрушения, которых боятся не только старые бабы». И
об этом далее: «Вы умеете рычать и засыпать пеплом! Вы лучшие хвас-
туны и научились искусству нагревать тину. Там, где вы, всегда должна
быть поблизости тина, много губчатого, ноздреватого, защемленного, и
оно жаждет свободы. Свобода! Так вы все любите реветь, но я разучил-
ся верить в великие события, когда вокруг них много рева и дыма.» - От
государства, «этого самого холодного из всех холодных чудовищ», по
Ницше, нечего ожидать. Также и от патриотов и подобных им: «Идите
своим путем. И пусть народ и народы идут своим! Правда, это темные
пути, на которых не сияет ни одна надежда». Далее Ницше пророчит:
«Вскоре возникнут новые народы, и новые ручьи, журча, побегут в новые
глубины. Землетрясение — оно засыпает многие колодцы, приносит мно-
го страданий, но поднимает внутренние силы и освещает тайны. Земле-
трясение открывает новые источники. При землетрясении старых наро-
дов возникают новые источники. И вокруг того, кто воскликнет: гляди,
здесь источник для многих жаждущих, сердце для многих страждущих,
воля для многих орудий, соберется народ. Это значит — много пытаю-
щихся. Здесь испытываемая, кто может приказывать, кто должен слу-
шаться». И далее: «Мог прийти великий властитель, ловкий изверг, ко-
торый своей милостью и немилостью извратил бы и действительно из-
вратил все прошлое: чтобы оно стало для него мостом, предзнаменова-
464
нием, герольдом и пением петуха. Но это внутренняя опасность и мое
другое сострадание: память того, кто принадлежит к черни, доводит до
деда, а с деда время прекращается. Следовательно, это отказ от всего
прошлого. Ибо могло бы когда-нибудь случиться, что чернь станет гос-
подином и утопит время в мелких водах. Поэтому, о братья, необходи-
ма новая аристократия, которая будет противником черни и насильствен-
ного господства и напишет на новых скрижалях слово: «Благородно».
Нужны многие благородные и разнообразные благородные, чтобы была
аристократия. Или, как я сказал символически: «Божественность заклю-
чается именно в том, что есть боги, но не Бог».
Наряду с пророческим предвидением, наряду со страхом перед влас-
тью черни, мы видим концепцию и задачу создания нового благородно-
го, который мыслится как новая аристократия в иерархическом обще-
стве, как подлинно предназначенный приказывать.
Однако для того чтобы эта новая аристократия могла утвердиться,
выявить свой характер и выполнить свою задачу, необходима переоценка
ценностей, о чем решительно было сказано уже в «Заратустре». Само со-
бой разумеется, что христианская вера и ожидание спасения отвергают-
ся. «Поистине существовали более великие и более высоко-рожденные,
чем те, кого народ называет спасителями, эти увлекающие бурные вет-
ры! И еще более великими, чем были все спасители, вы, братья, должны
быть спасены, должны найти путь к свободе». Вернее: «Некогда говорили
— Бог, когда смотрели на далекие моря; теперь же я научил вас говорить
— сверхчеловек». «Бог - предположение; я же хочу, чтобы ваше предпо-
ложение было ограничено мыслимостью ...Вы должны додумать до конца
ваши собственные чувства. И то, что вы называли миром, должно быть
сначала создано вами: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь
должна стать им. И поистине к вашему блаженству, вы, познающие!»
«Ибо вы созидающие, и вопрос состоит в том: можешь ли ты сам дать
тебе твое зло и добро и повесить над тобой свою волю, как закон? Мо-
жешь ли ты сам быть твоим судьей и мстителем твоего закона? И при
этом вы должны знать: древнюю волю к власти разглашает мне то, во что
народ верит как в добро и во что как в зло. Доброго и злого, которые
были бы непреходящи, не существует. Оно должно все время преодоле-
вать себя, исходя из себя самого». «И тот, кто должен быть творцом в
добре и зле, поистине должен быть сначала разрушителем и уничтожать
ценности...» «Следовательно, высшее зло относится в высшему добру,
оно же есть творческое». «Сначала человек вкладывал в вещи ценности,
чтобы сохраниться, — он создал смысл вещей, человеческий смысл». «И
изменение ценностей есть изменение созидающих. Тот, кто должен быть
творцом, все время уничтожает». «Любящие были такими всегда и сози-
дающие, они создавали добро и зло. Пламя любви пылает во всякой доб-
родетели, имена и пламя гнева». Но сегодня: «О, братья, разве теперь все
не течет? Разве не упали все земли и тропы в воду? Кто же держится еще
добра и зла? Следовательно, проповедуйте, братья, по всем улицам». «Но
я говорю, то, что падает, надо еще толкнуть».
В этом смысле в противоположность принятой морали он учит:
«Ваша любовь к ближнему — дурная любовь к вам самим. Вы убегаете к
ближнему от самих себя и хотите сделать из этого новую добродетель, но
465
я вижу насквозь вашу «самоотверженность». «Ты» древнее Я. Ты объяв-
лено святым, а Я еще нет. Поэтому человек стремится к ближнему». Так
же при сострадании: «Так говорит всякая большая любовь, она преодо-
левает прощение и сострадание... Ах, где на свете совершаются большие
глупости, чем сострадающими? Горе всем любящим, кто не возвышает-
ся над своим состраданием. Большая любовь всегда выше сострадания;
ибо она еще хочет создать любимое. Самого себя приношу я в дар моей
любви — и моего ближнего вместе со мной — так звучит речь всех созида-
ющих. Но все созидающие жестоки. И так «о прежних трех злах», о сла-
дострастии, властолюбии, себялюбии среди прочего говорится: «Сладо-
страстие: только для увядающего оно сладостный яд, для обладающего
же львиной волей оно великое усиление сердца и благоговейно сберега-
емое вино всех вин». «Сладострастие, — но я поставлю ограды вокруг
моих мыслей, а также моих слов: чтобы в мои сады не вторглись свиньи
и мечтатели». Властолюбие: «Страшная учительница великого презре-
ния, проповедующая городам и царствам: «Прочь, чтоб тебя не было!» -
пока из них самих что-то само не восклицает: «Прочь, чтоб меня не
было!» «Властолюбие: оно, соблазняя, поднимается и к чистым и к оди-
ноким и возвышается до самоудовлетворенных высот, пылая, подобно
любви, рисующей пурпурное блаженство на небесах... О, кто может най-
ти подлинное название и добродетельное наименование такой жажды.
«Дарующая добродетель» назвал некогда неназванно неназываемое Зара-
тустра. И тогда же он объявил блаженным себялюбие, цельное, здоровое
себялюбие, проистекающее из могущественной любви». «Своими слова-
ми о хорошем и дурном себялюбие ограждается как священными леса-
ми; именем своего счастья оно отгоняет от себя все презренное, изгоняет
все трусливое; оно говорит: плохое — это трусливое. Ему ненавистен
вечно заботящийся, вздыхающий, жалкий, собирающий даже мельчай-
шие преимущества... Ненавистен и отвратителен тот, кто не хочет обо-
роняться, кто проглатывает ядовитые плевки и злые взгляды, слишком
терпеливый, все терпящий, всем довольный: это рабское поведение.
Стал ли кто-либо раболепным перед богами или, вследствие божествен-
ных пинков, перед людьми и их мнениями, всякое раболепие оно опле-
вывает, это блаженное себялюбие!»
Эта в своем роде замечательная анти-Нагорная проповедь, которая
позже была психологически, теоретически, историко-философски-поле-
мически обоснована и расширена, связана в «Заратустре» с двумя волну-
ющими моментами: во-первых, с тем намеченным, постоянным прихо-
дом, уходом и возвращением, означающим борьбу с собственным возве-
щением; во-вторых, с постоянно описываемым, странным образом про-
никнутым состраданием, прощанием с теми людьми, вернее современ-
никами, которые уже отстранились или отвернулись от того, что опреде-
ляется словом чернь, прощанием с так называемыми «высшими людь-
ми». Приводятся различные типы этих людей, два короля, папа a.D.\ ча-
родей, т. е. поэт и артист, совестливый духом, предоставляющий пияв-
кам впиваться в него, чтобы узнать свойство их мозга и говорящий о
себе: «Лучше ничего не знать, чем знать многое наполовину»; «самый
" Anno Domini — в такой-то год от Рождества Христова (jam.).
466
гнусный человек», который убил Бога, и говорит: «Бог, который все ви-
дел, также и человека, такой Бог должен был умереть. Человек не может
примириться с тем, что такой свидетель живет»; ибо «он видел глубину
и основания человека, весь его скрытый стыд и его уродство»; затем
«добровольный нищий», бежавший к коровам, который говорит о себе:
«Что же погнало меня к беднейшим, разве не отвращение перед наши-
ми богатыми? Но что к коровам? Похотливая жадность, желчная зависть,
угрюмая жажда мщения, гордость черни, все это бросалось мне в глаза.
Неправда, что нищие блаженны, царство небесное у коров»; наконец,
собственная тень Заратустры, которая говорит ему: «С тобой я утратила
веру в слова и ценности и великие имена». «Нет ничего истинного, все
дозволено, говорила я себе. Я решительно бросалась в самые холодные
моды». «Что же мне осталось? Сердце, усталое и наглое, неустойчивая
ноля, сломанный спинной хребет». «Где мой дом, спрашивала, искала я
и не находила его. О, вечное повсюду, о, вечное нигде, о, вечное напрас-
но». Всех этих «высших людей», которые, как мы видим, суть оттолкну-
тые и преодоленные части самого Ницше, принимает Заратустра и дарит
им учение об истинном, высшем человеке и о дионисийском видении
бытия, утверждающем страдание и зло.
Однако, понять дальнейшее, где даны своеобразные сцены, следует
так, — эти сегодняшние высшие люди не могут полностью понять его.
«Слушающее ухо отсутствует в их членах» и «в них еще есть скрытая чернь».
В конце концов, прогоняя их, к его ногам ложится смеющийся львенок,
вокруг которого порхают голуби, и это значит: «Итак, лев пришел, мои
дети близко, Заратустра становится зрелым, мой час пришел. Это мое
утро, мой день начинается, поднимись, поднимись, великий полдень!»
Великий полдень, допускающий это экстатическое завершение, мож-
но полностью понять только из сознательно таинственного рассмотре-
ния скрывающегося за этим учения о вечном возвращении, ощущаемом
Ницше как его основное переживание. Научное обоснование этого уче-
ния, которое, как известно, было изложено уже в 1881 г., вскоре после
первого откровения36, здесь нас не интересует. В самом «Заратустре», где
в двух местах37 в драматической маскировке, подчеркивающей его труд-
ность в полускептической форме, очень чувствуется, что душевный вес
этого учения состоит для Ницше в мыслительном понимании, а именно:
«И разве все вещи не связаны таким образом, что это мгновение тянет за
собой все грядущие вещи. Следовательно, и самого себя». «Узел причи-
ны возвращается, узел, в который я вплетен, — это воссоздаст меня»; од-
нако прежде всего это заключается в возможности сказать, ломая каждое
эсхатологическое видение бытия, с его точки зрения, с которой все про-
исходящее есть воля к власти: «Я сам отношусь к причинам возвраще-
ния... я вернусь, чтобы вновь сказать о великом полдне Земли и людей,
чтобы вновь возвестить людям сверхчеловека». Великий полдень есть,
следовательно, в этом видении мира та временная точка, когда учение о
сверхчеловеке может и должно быть возвещено в круговороте вещей, ис-
ходя из воли к власти; и это «может» и «должно» здесь, разумеется, по-
нятийно не противоречат друг другу, а едины.
Мы не будем рассматривать всю проблематику, которая здесь дана, а
также всю душевную проблематику, которую Ницше, очевидно, полно-
467
стыо осознает. Нам надлежит лишь немногое сказать по поводу работ
«По ту сторону добра и зла» и полемического сочинения «К генеалогии
морали», которые возникли непосредство вслед за «Заратустрой», в 1885/86
и 1887, и социологически, историко-философски и психологически обо-
сновывают и углубляют его учение: в них в самой резкой форме акцен-
тируется отталкивание Ницше от всех тенденций демократизации и гу-
манизации его времени, исходя из его видения жизни: «Жизнь есть в
сущности присвоение, нарушение, преодоление чуждого и более слабо-
го, подавление, жесткость, навязывание собственной формы, захват и по
крайней мере, это самое мягкое, эксплуатация...» «так как жизнь есть
воля к власти. Эксплуатация — не свойство испорченного или прими-
тивного общества: она относится к сущности живого как основная орга-
ническая функция, она — следствие подлинной воли к власти, которая и
есть воля к жизни. Допустим, что как теория это новшество; как реаль-
ность это исконный фактор всей истории. (Надо быть хоть настолько че-
стным перед самим собой)». В «Генеалогии морали» сказано: «Если гос-
подство и рабство — неотвратимый исконный жизненный факт, то мо-
раль следует понимать как учение об отношениях господства, которым
подчинен феномен жизни». Она относительна. Существует «мораль гос-
под» и «мораль рабов». И здесь излагается ставшее знаменитым учение
о восстании рабов морали и о психологическом значении такой морали,
исходя из этого восстания. Повторять его здесь нет необходимости. Надо
только напомнить, что восстание рабов морали началось, по Ницше, не
с христианства, оно было известно уже иудейским пророкам и продол-
жается в демократическом движении, «наследии власти христианства».
Это наследие создает мораль объявленного автономным стада, «вплоть до
отмены понятий господин и слуга; — ni Dieu, ni maitre, как гласит соци-
алистическая формула». Это — мораль животного стада, которая, как го-
ворит Ницше, сегодня господствует в Европе, характеризуется в «Гене-
алогии морали» как мораль обиды из «котла гнева» против господствую-
щих, которая создает понятие «злой», тогда как раньше друг другу про-
тивостояли представление о хорошем, как удачном, благородном, могу-
щественном, и о «плохом», как неудачном, низком и слабом. Она, эта
стадная мораль, именно потому, что она идет от «слабого», есть мораль
сочувствия и участия. И здесь наряду с волей к аристократизации высту-
пает страх Ницше перед доместикацией и его дионисийское видение бы-
тия. Он говорит: все эти представители морали животного стада, счита-
ющие ее единственной, не только «едины в религии сочувствия и учас-
тия в чувстве, жизни, страдании (вниз до животного и вверх до Бога -
доведение сочувствия до Бога относится к воззрению демократической
эпохи)». «Они все едины также в криках и нетерпении сочувствия, в
смертельной ненависти к страданию вообще, в почти женской неспособ-
ности оставаться при этом зрителем, предоставить страдать. Они едины
в недобровольном омрачении и изнеженности, под властью которых Ев-
ропе грозит новый буддизм. «Но тем самым возникает опасность полно-
го вырождения человека, сведения его к тому, что сегодня представляет-
ся человеком будущего в качестве идеала социалистическим дуракам и
тупицам, — вырождения и низведения человека до совершенного стад-
ного животного (или, как они говорят, до человека свободного обще-
468
ства). Это превращение человека в животное, в карликовое животное
равных прав и притязаний возможно — в этом нет сомнения. И при этом,
учит Ницше, исходя из своего дионисийского видения, «Человек, самое
храброе и привычное к страданиям животное, сам по себе не отрицает
страдание; он хочет его, он сам ищет его при условии, что ему показы-
вают смысл этого, некое К чему страдания. Аскетический идеал средне-
вековья — не что иное, как выражение этого. Как христианин человек
мучился представлениями о первородном грехе, вине, укорах совести.
Все это сублимация рабской морали и такая же длительная пытка чело-
вечества, двухтысячный ложный путь».
Первоначальная господская мораль, которую повсюду утверждали слои,
устанавливающие господство и порядок, по времени предшествовавшая
тому, что после двухтысячелетнего ложного пути понимают под моралью,
«была неповинна в том, что соответствующее этому господству стали иден-
тифицировать с хорошим как душевно возвышенным, благородным, высо-
кородным, душевно привилегированным, а дурное — как не относящееся к
этой морали, т. е. подлое, вульгарное, низкое. Она была моралью людей,
которые ради созданной ими замкнутости и пребывания в мире общности,
вовне, вне этой общности все время отступали в невинность совести хищ-
ников, как ликующие чудовища... после позорных действий, убийств, под-
жогов, осквернений, пыток, будто это не более чем студенческая продел-
ка»... «В основе всех этих аристократических рас нельзя не увидеть хищни-
ка, великолепную жаждущую добычи и победы похотливую, блуждающую
белокурую бестию... Эта скрытая основа требует время от времени разрядки.
Животное должно выйти и опять уйти в заросли: — римская, арабская, гер-
манская, японская аристократия, гомеровские герои, скандинавские викин-
ги, — в этой потребности они все одинаковы».
К этой «доморальной» морали Ницше хочет, — быть может, не пол-
ностью, — вернуться. Он все время говорит об этом: «Дайте мне взгля-
нуть на нечто совершенное, до конца удавшееся, страшное, могуще-
ственное, торжествующее, внушающее страх». «Мы предчувствуем, что
пускаемся в нечто более глупое, добродушное, посредственное, равно-
душное, китайское, христианское, — человек, в этом нет сомнения, —
становится все лучше. В этом и состоит злая судьба Европы». И поэто-
му «вид человека утомляет. Что же сегодня нигилизм, если не это. Мы
устали от человека. Через это надо пройти». И далее: «Мы, настроенные
иначе, напротив, полагаем, что жесткость, жестокость, рабство, опас-
ность на улице и в сердце, скрытость, стоицизм, искусство соблазните-
ля и коварство разного рода, что все жестокое, страшное, тираническое,
хищное и змеиное в человеке, так же служит возвышению вида челове-
ка, как противоположность этого, — сказав это, мы еще недостаточно
сказали, и находимся... на другом конце всей современной идеологии и
стадных желаний, быть может, в качестве их антиподов».
Все дело в том, что был создан тот, кого Ницше называет «благород-
ным человеком», называет его как того, кто придает смысл бытию и слу-
жит ступенью к сверхчеловеку. И если Ницше в работе «По ту сторону
добра и зла» вновь рисует уже намеченный в «Заратустре» облик, то чув-
ствуется, как его контуры определены страхом перед доместикацией и
демократизацией и озабоченностью тем, что темные стороны, стороны
469
страдания, дионисийско двусторонне понятой жизни будут намеренно
исторгнуты. Очень многое, рожденное не из реакции, душевно и духов-
но тонкое, говорится при этом в разделе «Что означает благородное?» в
«По ту сторону добра и зла» и в «Заратустре». Прежде всего то, что уже
резюмировано в приведенных словах о жизни «с невероятно гордым спо-
койствием» по ту сторону своих аффектов. И психологически тонко ска-
зано в другом месте о вероятном мученичестве, об изнутри идущей опас-
ности гибели для благородных душ и в этой связи о Христе: «Возможно,
что в священной легенде и маскировке жизни Христа скрыт один из са-
мых горьких случаев знания о любви, самого невинного и жаждущего сер-
дца, которому всегда не хватало человеческой любви, которое требова-
ло любви, хотело быть любимым, с твердостью с безумием, со страшны-
ми взрывами негодования против тех, кто отказывал ему в любви. Или,
если далее среди прочего говорится: «Глубокое страдание делает благо-
родным - оно разделяет».
Однако если внутреннее обособление превращается в характерную
черту благородного человека вообще, в социально обоснованный «пафос
дистанции», и вместе с тем все время требуется, чтобы пропасть между
господствующими благородными и ведомыми и подчиненными «стадны-
ми людьми» не уменьшалась, а увеличивалась, то чувствуется, как в по-
истине слишком уничижительной характеристике социализма и демок-
ратии, в язвительной стигматизации широких слоев населения просто
как «стадной массы», которой странным образом приписываются «тен-
денции к изнеженности», выступает питаемое враждебностью, едва ли не
болезненное преувеличение Ницше его страхов, связанных с отталкива-
нием, проявляющихся почти в каждой написанной им строке. И эти же
страхи ведут к тому, что в своей самой по себе великолепной утверждающей
страдание и одновременно не исключающей «капли доброты и сладостной
духовности» дионисийской концепции ее бог Дионис говорит: Я часто ду-
маю о том, как мне продвинуть его (человека) и сделать его сильнее, злее и
глубже, чем он есть, — сильнее, злее и глубже? испуганно спросил я? Да,
повторил он: сильнее, злее и глубже, еще прекраснее».
«Гений сердца», тот, которым обладает «великий скрытый, бог-иску-
ситель и прирожденный крысолов совести», бог, который заставляет нас
наряду с позитивной стороной жизни утверждать и страдание, полагает,
следовательно, по Ницше, что для продвижения человека его нужно сде-
лать также злее. Это понятно, только исходя из своеобразной, над всем
господствующей концепции антидоместикации. Ибо ясно, сделать злее —
нечто иное, чем сделать более утверждающим и превосходящим страда-
ние, что и есть подлинный и исконный смысл содержания дионисийс-
кого понимания бытия.
И здесь, прежде чем мы двинемся дальше, надо сразу же заметить. Если
дионисийская весть, которая сама по себе была при буржуазном видении
бытия во вторую треть XIX в. весьма необходимым восстановлением утра-
ченной глубины постижения и утверждения жизни, двусторонней, неотвра-
тимо несущей светлое и темное, переоценивалась и переводилась таким
своеобразным способом человеком, желающим стоять по ту сторону добра
и зла в моральную сферу, в требование принципиального утверждения мо-
рального, оценивавшегося до того негативно, тогда, если обозреть то, что я,
470
намечая, напоминал, одновременно выступает следующее: при чрезвычай-
ной субъективации и релятивизации акцентов моральной ценности проис-
ходит их частичная связь с объективно абсолютным. В сущности Ницше не
может оставаться последовательным.
Во второй половине XIX в. повсюду, где историзм и преклонение пе-
ред властью принимали всерьез, следовательно, прежде всего в Герма-
нии, за занавесом сознательно оставленного неясным по своему проис-
хождению морализма - «моральное всегда понятно само собой», говорил
Фридрих Теодор Фишер, — для каждого, кто наблюдал пристальнее, мо-
раль оказывалась в ее основе релятивизирована и субъективирована. Так
происходило в образованном слое буржуазии. Для поднимающегося про-
летарского мира, который в своем пропагандистском этосе все еще очень
наивно жил абсолютными этическими идеалами XVIII в., все эти идеа-
лы, следовательно, и моральные, были в принципе «разоблачены маркси-
стским историческим материализмом как классовая идеология, следова-
тельно, также релятивизированы. Как ни мало Ницше интересовался
марксизмом, его «Генеалогия морали» имеет сходство с марксизмом, ибо
и он утверждает, что существуют только классы, или, как он говорит,
мораль господ и мораль рабов, — релятивизированная мораль, близость
которой к XVIII в. он страстно стремится отрицать. И к тому же это, по-
видимому, крайне субъективистская мораль. Для слоя господ, который
должен быть носителем новой «внеморальной морали», здесь вновь указы-
ваются позже получившие дальнейшее развитие социальные условия: уже
названные воспитание и культивирование. Однако их мораль или характер
не даются, по Ницше, сами собой, не являются механическим продуктом их
социального положения, но, так как вся жизнь, будучи внутренней волей к
власти, основана спонтанно волевым образом, мораль есть желаемое волей,
проповедуемое ей Ницше установление. Она состоит из ценностей, новых
ценностей, которые создают новые благородные «созидатели». И «вокруг
создания этих новых ценностей таинственно и молча вращается мир».
И все-таки, сохраняется ли эта волюнтаристская субъективация? Нет!
Ибо уже в «Заратустре» применительно к провозглашенному необходи-
мым злу сказано о «дьяволах», которыми кто-либо может быть одержим
и эвентуально должен быть одержим. А в работе «По ту сторону добра и
зла» говорится о ненависти, зависти, жадности, властолюбии, следова-
тельно, об абсолютных качествах как обусловливающих жизнь «злых»
чувствах. С другой стороны, «чистота» души и интеллектуальная «поря-
дочность» восхваляются не только как благородные добродетели, но как
абсолютные импульсы пронизывают все творчество Ницше и подчеркну-
то определяют всю его личную судьбу. Кто не погряз в релятивизме и
субъективизме, увидит здесь следующее: в сущности за творчеством
Ницше ясно различимы также объективные содержания, которые утвер-
ждаются и отрицаются, «объективные силы», по нашей терминологии,
позитивная власть которых, их Да и Нет, воплощены в нем. А его пере-
оценка ценностей в сущности означает следующее: сдвиг акцентирова-
ния ценностей и сильная их нюансировка применительно к имеющим-
ся в человеке объективным силам, прежде всего к тем, которые допуска-
ют существенную, социальную вариативность и индивидуальное подчер-
кивание или игнорирование. Существуют несомненно два различных
471
вида сочувствия, как все время указывает Ницше. То, которое идет из
переполненного сердца, и его он принимает, и то, которое лишено внут-
реннего импульса и выступает как моральный долг, — и его он отверга-
ет. И человеческое общество может быть в совершенно различной степе-
ни преисполнено тем и другим. Но совершенно надличностное, объек-
тивное основание каждой истинной способности сострадания, а именно
всеобщая трансцендентная связь людей, этими релятивированностями
совершенно не затрагивается. Возникает вопрос, какое раскрытие и ка-
кого рода раскрытие придают ее силе. Конечно, представлению о «бла-
городстве» можно придать ценностный акцент, подчеркивающий пафос
дистанции и ту с насильственным рвением созданную Ницше «пропасть»
по отношению к широким слоям; она будет, следовательно, предельно
мало содержать то, что мы называем человечностью. Однако благород-
ство и подлинная человечность суть сами по себе обратное противопо-
ложностям. Вся великая греческая трагедия - единый пример борьбы
благородства, основанного на человечности, с судьбой. А то, что мы оп-
ределяем как рыцарское или рыцарство, не что иное, как сохраняемый,
к счастью, до сего дня идеал джентльмена, синтез благородства и актив-
ной человечности, принесенный в мир христианством.
Но принципиально об этом позже. Сначала двинемся дальше.
III
Ницше, которого мы пытались охарактеризовать выше, — тот, кто в тече-
ние десятилетий оказывал влияние на молодое поколение конца 80-х, на-
чала 90-х годов XIX в.; на молодое поколение того времени, к которому мы
как к духовно богатому и противоречивому, доходящему до 1914 г., завер-
шающему периоду XIX в., к этому периоду, предшествовавшему Первой
мировой войне, первой европейской всемирной катастрофе, мы должны
будем еще вернуться; и прежде всего вернуться к тому, как Ницше, публи-
ковавшийся уже в его начале, Ницше, о котором мы только что говорили,
участвовал в формирования молодого поколения, воздействовал на него.
Однако Ницше оказал еще второе, иное по своему характеру, воздей-
ствие, поднял волну, которая достигла своей вершины только между
Первой и Второй мировыми войнами. И в этом, можно прямо сказать,
чрезвычайно опасном влиянии на народ особое значение имели практи-
ческие соображения, высказанные в опубликованной из наследия в на-
чале XX в., через 13—18 лет после рассмотренных здесь произведений,
в «Воле к власти»; она еще значительно превосходит все столь преувели-
ченное, что содержится в его называемых безудержными работах после-
дних месяцев перед болезнью, следовательно, в «Сумерках идолов» и в
«Антихристианине» которые мы поэтому как capita mortua* оставляем в
стороне.
«Воля к власти» — оставшееся незаконченным произведение, в значи-
тельной части написанное им и дополненное на основе его оставшихся
записей попечителями его литературного наследия. Мы не знаем, не
внес ли бы он перед публикацией смягчающие дополнения или смягча-
' Здесь нечто, не имеющее существенного знамения (.кип.).
472
ющие оттенки. Однако произведение в целом содержит настолько еди-
ную концепцию, привносит такое углубление философского и принци-
пиального характера в его учение и доводит, очевидно, совершенно на-
меренно, на этой основе сказанное им раньше до последних выводов, что
ее приходится считать в целом аутентичным выражением его замысла.
Связанные с этой работой сохранившиеся дионисийские дифирамбы по-
зволяют ощутить, как он душевно боролся с этим в самом деле предель-
ным содержанием данной работы, завершением которой он, очевидно,
хотел праздновать то, что он называет своим «седьмым одиночеством»
(Легко, как серебряная рыба, плывет мой челнок) и к первому видению
чего относится сказанное: «Из далеких далей медленно падает на меня,
сияя, созвездие». Он сам подробно говорит об этом произведении во вре-
мя интенсивной работы над ним (весна 1888)3S: «Мне удавалось почти
ежедневно на два часа достигать необходимой энергии, чтобы обозревать
всю мою концепцию сверху вниз: передо мной рельефно и ясно лежало
невероятное богатство проблем». Это действительно огромный план и,
представляя его себе, он мог с полным основанием сказать в предисло-
вии: «Великие проблемы требуют, чтобы о них либо молчали, либо гово-
рили величественно: величественно означает цинично и в невинности».
Если мы вынуждены показать, как опасно было многое из сказанного в
этом заключительном произведении Ницше, — правильно ли или непра-
вильно понятое, — и как главное в нем, хотя оно заключалось уже и в
сказанном ранее, все-таки в данной здесь форме следует решительно
считать ошибочным ходом, который должен был оказать опасное воздей-
ствие этого произведения, задуманного как указующее «на тысячелетия»
и по своему содержанию и разработке из всех произведений Ницше наи-
более обусловленного временем, то хорошо бы не забывать при этом об
упомянутом в предисловии намерении говорить цинично и «в полной
невинности», считать ли это намерение хорошим или опасным.
Произведение внутренне строго едино, его теоретическое ядро - ин-
терпретация нашего постижения того, что мы называем «миром». Под-
робно показано, что бытия не существует, и в качестве единственной
возможной для нас интерпретации «мира» существует только становле-
ние. Далее, что становление представляет собой беспрерывную борьбу
средоточий силы, называемых также квантами силы. При этом сила мыс-
лится не как механическая сила научной физики или химии, а как нечто
квази-живое, а именно как центр или квант воли к власти. Все эти цен-
тры власти, из которых состоит «мир», беспрерывно борются друг с дру-
гом, побуждаемые волей к экспансии, волей одного преодолеть другого.
Жизнь - лишь особенный, связанный с процессом питания случай тако-
го борения. Каждое жизненное образование есть иерархия такого рода
центров власти или силы. Человек как особый биологический случай -
нечто незаконченное, незаконченное животное. Его своеобразие, созна-
ние, совершенно периферийно по отношению к бессознательно в нем
действующей иерархии борющихся центров сил, из которых он состоит.
Все центры, в том числе и бессознательные, совершают перспективные
интерпретации существования. Сознательная человеческая интерпрета-
ция существования - также лишь один случай из множества интерпре-
таций. Существует только перспективное познание, которое по своей
473
природе всегда есть воля к власти, экспансия, расширение горизонта и
трансформация интерпретированных содержаний постижения в логис-
тическое, т. е. в формы вещи и причинности, в представления бытия и
движения. В действительности бытия не существует, существует только
замкнутое в борении силовых центров становление. Поскольку всякое
познание перспективно, нет. следовательно, и истины, истины в обыч-
ном до сих пор смысле. «Истина — характер интерпретации, без которой
определенный вид живого существа не мог бы жить». Условия нашей
жизни проецированы для нас как предикаты бытия, «каузальность», «те-
леология» и «механическая необходимость» не существуют; правило до-
казывает только, что одно и то же событие не есть другое событие. А это
значит, — не другой вид борения воли к власти, а только этот один вид.
Будет существовать учение об аффектах, в соответствии с которым
воля к власти есть «первичная форма аффекта» и все «остальные аффек-
ты» — лишь ее развитие. Чувства удовольствия и неудовольствия преж-
де всего не суть нечто первичное, они вторичны, язык знаков того, что
воля к власти подтверждает или отрицает нечто для живого. «Удоволь-
ствие и неудовольствие - лишь сопутствующие явления — то, что чело-
век хочет, что хочет каждая мельчайшая часть живого организма, есть
плюс власти. В стремлении к этому возникает как удовольствие, так и не-
удовольствие; исходя из этой воли, человек ищет противодействия, ему
нужно что-либо противостоящее ему... Следовательно, неудовольствие
как препятствие его воле к власти — нормальный факт, нормальная со-
ставная часть всего органически происходящего. Человек не избегает его,
напротив, оно нужно ему; каждая победа, каждое чувство удовольствия,
каждое событие предполагает преодоленное сопротивление». Затем сле-
дует решающее, сказанное, как мы видели, уже раньше: все ценности, на
которые человек ориентируется в своих действиях или которые он чув-
ствует, не суть нечто объективно данное, они полностью созданы им, со-
зданы как формы существования его воли к власти. И более обостренно:
«Следовало бы произвести опыт, нельзя ли перенести научный порядок
ценности на шкалу чисел и мер силы. Все остальные ценности — пред-
рассудки». «Чем измеряется ценность? Только квантом усиленной и
организованной власти». И это одновременно понимается чисто физи-
ологически: «Наши самые священные убеждения, наши преобразования
применительно к высшим ценностям - лишь суждения (мышц)».
Перед нами строго замкнутая, ставшая в крайне обостренной форме на-
туралистической и релятивистской, интерпретация мира и существования,
которая с постоянной полемической резкостью направлена против понима-
ния мира как бытия, особенно против всякого лежащего за «становлением»
трансцендентного мира бытия. Но мы видим также, как эта натуралистичес-
ки-релятивистская интерпретация мира, невзирая на то. что она стремится
заменить естественнонаучный механизм, детерминизм и каузальность
единственно существующим «становлением», тождественным борению
концентраций воли к власти, все-таки, обращаясь к категориям больших
или меньших квантов силы, к стремлению к экспансии и увеличению кван-
тов силы или власти, в сущности вновь возвращается к применению отвер-
гнутых естественнонаучных категорий в качестве форм основных воззрений
общей интерпретации. Ибо что такое квант, увеличивающийся квант, если
474
не заимствованное из отвергнутой естественной науки своего времени ме-
ханистическое понятие меры. Однако в понимании Ницше вообще позна-
ния качеств не существует, существует только познание количеств, которые
для него всегда количества воли к власти.
В это ужасающе лишенное душевности видение мира вводится в ка-
честве его теоретически наиболее существенной для Ницше части уже
известная нам моральная теория, представляющая собой центр предпо-
лагаемой переоценки ценностей; ведь для Ницше едва ли не всякая пре-
жняя оценка, каждый «идеал» содержали явно или скрыто моралистичес-
кое ядро. В сущности он совершает в этом произведении по отношению
к морали нечто двойственное. С одной стороны, он доводит до крайно-
сти ее предпринятое уже в предшествующих произведениях «разоблаче-
ние». Моральные ценности, говорит он, — этим он продолжает сказан-
ное о ценностях вообще - «суть мнимые ценности по сравнению с фи-
зиологическими ценностями». Следовательно, они теперь полностью
биологизируются вместе с их разоблачением. С другой стороны, теперь
точка зрения такова: мораль была до сих пор — т.е. до ее разоблачения
Ницше и провозглашенного им явления сильных людей, которые созна-
тельно живут без нее, даже вопреки ей, — необходимой ложью. Ибо «мо-
раль - это зверинец, ее предпосылка состоит в том, что железные прутья
могут быть полезнее свободы, даже для заключенных в клетки, что суще-
ствуют укротители, не боящиеся страшных средств — умеющие применять
раскаленное железо». И, говорится далее, «чтобы правильно мыслить о мо-
рали, мы должны поставить на ее место два зоологических понятия: укроще-
ние бестии и выведение определенного вида». Да, «наша духовная свобода
в существенной степени достигнута вивисекцией совести. Следовательно,
глубокая благодарность за то, чего мораль до сих пор достигла; однако те-
перь (она) - только бремя, которое может стать опасностью. Она сама зас-
тавляет понимать как добросовестное действие отрицание морали».
Это, если обратиться к выводам Ницше, духовно действительно чис-
то выметенная, вычищенная, но очень упрощенная почва. Вокруг пост-
роено то, что Ницше, человеку воли, важнее всего, практически направ-
ленная интерпретация времени и также практически направленное про-
рочество.
Интерпретация времени, — данная преимущественно в предисловии
к этому произведению, — является теорией и историей европейского
нигилизма, пророчество же, тема последнего раздела, представляет собой
также учение о действиях. Имплицитно многое из сказанного здесь со-
держится в предшествующих работах. Однако достигший полной зрело-
сти Ницше дает и здесь в ряде отношений новое; прежде всего в конце
посредством полностью иерархизированной теории воли к власти —
крайние практические преувеличения, для понимания возможности ко-
торых следует исходить из его первичных отталкиваний.
Анализ времени полностью ими определен. Ницше характеризует
свое время как время существующего или наступающего нигилизма, сло-
во, которое, как известно, Фридрих Генрих Якоби впервые применил в
1799 г. к Фихте и ответвлением которого является русское понятие ни-
гилизма. Ницше называет этим словом повсюду возникающее или суще-
ствующее душевно-духовное стояние перед ничто, как мы определили
475
бы ситуацию сегодняшнего времени. «Что означает нигилизм?» — спра-
шивает он. «Что высшие ценности обесценились. Отсутствует цель, от-
сутствует ответ на вопрос, для чего». Поскольку моральные оценки сто-
ят за всеми прочими высокими ценностями и поскольку он, Ницше,
считает их уничтожение главной задачей своей жизни, он сам видит себя
тем, кто способствует утверждению нигилизма, или, как он говорит: в
определенный момент он понял, что сам до сих пор был нигилистом.
Следовательно, он сам совершенно сознательно и активно связан с про-
цессом распада, который он описывает как сущность возникающего в
XIX в. нигилизма; далее мы увидим, как он представляет себе его пре-
одоление или его дальнейшее развитие.
Такой процесс распада он видит на различных уровнях. В области
ценностей, как цитировано выше, — в утрате своего значения всеми выс-
шими идеями, в которые верили до сих пор, являющимися, по его мне-
нию, следствием влияния христианства и его, вызвавшего столь острые
нападки Ницше, морального учения. В области общей структуры бытия
в развивающейся цивилизации и доместикации вообще. Он говорит о
дезорганизующих принципах нашей эпохи: железная дорога, телеграф,
централизация множества интересов в одной душе, которая к тому же
должна быть очень сильной и способной к изменениям. «Газета вместо
ежедневных молитв». Поэтому: «Сегодня больше всего затронуты ин-
стинкт и воля к традиции». А это означает: «Напряженность воли на про-
тяжении длинных временных пространств, выбор состояний и оценок,
которые позволяют предвидеть будущие века, - именно это в высшей
степени немодно». Заменой служат: «Переутомление, любопытство и со-
чувствие — наши современные пороки!» Наступает своего рода приспо-
собление к этому избытку впечатлений — человек разучается действо-
вать. Он реагирует только на возбуждения извне. Он использует свою
силу отчасти на усвоение, отчасти на защиту, отчасти на сопротивление.
Глубокое ослабление спонтанности. Вследствие этого «в качестве противо-
положности внешней подвижности наступает известная тяжесть и
сильная усталость». К тому же в социальном аспекте «чрезмерное раз-
витие промежуточных инстанций и опосредствующих личностей», кото-
рые «делают государству бессмысленно толстый живот»; «кроме действи-
тельно работающих еще их представители: например, кроме ученых еще
литераторы, кроме страдающих слоев народа еще болтающие хвастливые
бездельники, которые «представляют» это страдание, — не говоря уже о
профессиональных политиках, которые, благоденствуя, красноречиво
«представляют» в парламенте бедственное положение народа». В резуль-
тате возникают люди, «изнеженные культурой, и уроды по сравнению с
арабом или корсиканцем. Китаец - удавшийся тип, он выносливее ев-
ропейца». Вырождение цивилизации и доместикации, следовательно. Но
еще хуже обстоит дело в социальной области: «Что дискредитировано?
То, что отделяет высшего человека от низшего, создающие пропасти
влечения». «Позор всем социалистическим теоретикам, которые счита-
ют, что могут быть такие обстоятельства, когда порок, болезнь, преступ-
ление, проституция не будут возрастать. Это означает вынести приговор
жиши». «Общество, которое имеет силу, должно создавать отбросы и от-
ходы. Но современное общество — не общество, не тело, а больной кон-
476
iломерат чандала - общество, не имеющее больше силы выделять отхо-
ды». Это декаданс. «Социальный вопрос — следствие декаданса». «То,
что до сих пор считали причинами декаданса, — его следствия». При
зтом: «Сам декаданс не есть то, с чем следует бороться: он абсолютно
необходим и присущ каждому времени и каждому народу. Бороться всей
силой следует с введением contagium* в здоровые части организма. Дела-
ют ли это? Делают обратное. Именно поэтому заботятся о гуманности».
А «социализм в качестве доведенной до завершения тирании ничтожней-
ших и глупейших, т. е. самых поверхностных, завистливых и на три чет-
верти актеров, — есть ... следствие современных идей и их латентного
анархизма... Христианство, гуманность, Французская революция и соци-
ализм - одно и то же». А поэтому наступило «царство небесное бедных
духом, — Промежуточные ступени между буржуа (parvenu" вследствие
наличия денег) и рабочих (вследствие наличия машины)».
Эта ситуация, в которой старые идеальные ценности уничтожены, в
которой цивилизация унижает человека, а расслабляющая демократия и
движение гуманности еще усиливают это унижение, необходимо созда-
ет, по мнению Ницше, время пессимизма и, если последовательно это
продумать, нигилизма. — Однако, говорит он, «нигилизм всегда двой-
ственен». Есть нигилизм как возросшая сила духа, активный нигилизм,
и нигилизм как упадок и гибель духа, пассивный нигилизм. Если упро-
стить многогранное, частично лишь намеченное и как будто противоре-
чивое, можно видеть в сказанном анализ последних веков с точки зрения
этих двух видов нигилизма. Однако, говорит Ницше, и здесь он вступа-
ет на совершенно другую колею, и в эти дни проявляются «знаки усиле-
ния», которые надо понимать как симптомы, представляющие собой ра-
достную промежуточную ступень активного нигилизма силы. «Те же
причины, которые ведут к умалению человека, ведут более сильных и
редких к величию!» «Здоровье усиливается; познаются и постепенно со-
здаются условия сильного тела, аскетизм становится объектом иронии».
И «если что-либо достигнуто, то это безобидное отношение к чувствам,
радостная гётевская настроенность по отношению к чувственности, а
также гордое ощущение познания, так что «круглый дурак» «не встретит
веры». Затем следует подробное описание большей естественности чело-
века - в обществе, в познании, в морали («принципы стали смешны»),
в политике («мы видим проблемы власти, квант власти по сравнению с
другим квантом... ощущаем все права как захват»), в оценке великих лю-
дей («мы рассматриваем страсть как привилегию, не считаем великим то,
что не связано с преступлением». «В сумме: существуют признаки того,
что европеец XIX в. меньше стыдится своих инстинктов». Мы видим, как
здесь с тонким чувством и со свойственными Ницше нюансами характе-
ризуется время возникающего после бисмарковской эры, в самом деле
связанного с большей «естественностью» реализма, который каждый из
нас, кто постарше, еще пережил.
Однако Ницше идет дальше. Он доходит до прогноза желаемого им
кризиса как результата всего этого. Осмеивая «национализм рогатого
" Заразы (.шт.).
Парвеню, выскочка (франц.).
477
скота», он приветствует возникающий милитаризм, даже анархизм. «Я
радуюсь милитаристскому развитию Европы, а также внутреннему рос-
ту анархизма... С бледным ханжеством покончено. В каждом из нас ут-
верждается варвар и дикое животное. Именно это ведет к успеху фило-
софии. Наступит время, когда Кант станет огородным пугалом». О соци-
ализме под тем же углом зрения сказано: «В качестве беспокойного крота
под почвой пребывающего в глупости общества социализм может ока-
заться полезным и целительным: он задерживает наступающий «мир на
Земле» и чувство полного спокойствия стадного демократического жи-
вотного, заставляет европейцев сохранять дух, а именно хитрость и ос-
торожность, не совсем отказываться от мужской военной добродетели,
он пока еще защищает европейцев от грозящего им marasmus femininusY
А в остальном: «Дрессируемость человека в демократической Европе
очень выросла, люди, которые легко учатся, легко подчиняются; стадное
животное, даже весьма разумное, подготовлено. Тот, кто способен при-
казывать, находит готовых к послушанию». К тому же: «Духовное просве-
щение - безошибочное средство сделать людей неуверенными, слабо-
вольными, нуждающимися в связи и опоре, короче говоря, способ раз-
вить в человеке стадное животное. Самообман в этом пункте, например
в демократии, очень ценен: унижение человека и управляемость им рас-
сматривается как прогресс»! Однако именно это Ницше одобряет (к это-
му мы еще вернемся).
Ибо это создает «эпоху величайшей глупости, брутальности и ничтожно-
сти масс и высших индивидов». С явной хитростью затем говорится: «По ту
сторону добра и зла, — но мы требуем обязательного сохранения стадной
морали». При этом надо «с многим мириться, ибо внешне наступит эпоха
невероятных войн, взрывов, внутренне - все большей слабости людей (т. е.
масс)». И «я не боюсь кое-что предсказать, и, быть может, вызвать этим
причину войн». «Страшное воспоминание (ожидается от него) об ужасном
землетрясении: с новыми вопросами». «Это время великого полдня, страш-
ного прояснения: мой вид пессимизма. Великий отправной пункт».
Мы видим - в 80-х годах XIX в.! — в рамках анализа времени и по-
истине односторонней критики времени - великое пророчество. И осо-
бенность здесь в том, что содержание этого пророчества и этот песси-
мизм ощущается и излагается не как то, что надо по возможности отвра-
тить, как нечто тяжкое, а как необходимое лечение, как переход к «вели-
кому здоровью», в наступлении которого Ницше сам хочет участвовать.
Это с еще большей ясностью показывает другая, практическая часть про-
изведения, последняя, которая содержит ведущие в жизнь выводы или на-
мечает их. Здесь, в этой части, где столь тонкий по своей духовной органи-
зации Ницше почти исчезает за очень грубыми и во всех отношениях стран-
ными социальными конструкциями, совершенно серьезно выдвигаются
положения и подходы, частично уже во введении, частично в теоретической
части, — положения или, вернее, основоположения, преисполненные бес-
пощадности и брутального экстремизма. Речь идет, говорится там, о «типе»:
«Человечество — только материал для опыта, огромный избыток неудавше-
гося: груда развалин». И «народы и расы — лишь тело для создания отдель-
" Женского маразма (мил.).
478
ных ценных индивидов, которые продолжают процесс». «Смысл стада дол-
жен господствовать в стаде, но не выходить за его пределы. Вожди стада
нуждаются в корне отличной оценке их собственных действий, также неза-
висимые или хищники». И в таком духе далее. Требуется удивительный ма-
киавеллизм, полный внутренней неправды. «Новую добродетель (т. е. гос-
подствующих) следует ввести под наименованием старой». Ибо, говорится:
«макиавеллизм pur, sans melange, tout veil, dans toute sa force, dans toute aprete*
сверхчеловечен, божествен, трансцендентен, люди никогда его не достига-
ют, в лучшем случае они его касаются».
В заключительных практических разделах об «Обществе и государ-
стве» и «О воспитании и культивировании»39 сделаны последние выводы.
«Ранг (в социальной иерархии) определяется квантом власти, которым
ты являешься. Остаток - трусость». Масса же - «сумма слабых». «К мас-
се мы должны относиться беспощадно, как природа. Они сохраняют
вид». «На нужду массы мы взираем с иронической грустью: мы хотим
чего-то, что мы можем». При этом все-таки говорится: «Рабочие должны
научиться чувствовать, как солдаты: гонорар, оклад, но не оплата». В ос-
тальном: «Рабочие должны когда-нибудь жить так, как теперь живут бур-
жуа; но быть выше их, отличаться нетребовательностью, как высшая ка-
ста, следовательно, быть беднее и проще, но в обладании властью». В
высшей касте или в высшем виде все дело. Рабочие - только «передаточ-
ный материал». А средние слои? Здесь представление неясно. С одной
стороны, продолжая ранее сказанное, указывается, что «социальная пу-
таница» и цивилизация XIX в. с необходимостью ведет к «торжеству чер-
ни» и к связанному с этим возвращению старых ценностей, к посред-
ственности, к заурядности, к «общему типу будущего европейца», в ка-
честве «интеллигентного раболепного животного, очень трудолюбивого,
в сущности очень скромного, до крайности любопытного, многообраз-
ного, изнеженного — космополитическое смешение аффекта и интелли-
гентности». Так что Ницше в отчаянии восклицает: «Где же варвары
(имеются в виду спасительные варвары) XX века»? «Очевидно, они по-
явятся и консолидируются только после глубоких социалистических кри-
зисов». С другой стороны, в совершенно ином тоне говорится о создан-
ной цивилизацией средней массе как необходимом фундаменте, на ко-
тором будет стоять новая аристократия, о выделении из этого среднего
слоя такой аристократии, как «избытка роскоши». «Принижение челове-
ка должно долго быть единственной целью: ибо надо создать широкий
фундамент, чтобы на нем могли стоять люди более высокого типа». «Аб-
сурдный и презренный идеализм желать, чтобы посредственность не
была посредственна, и вместо того чтобы торжествовать по поводу ис-
ключительного бытия, возмущаться трусостью, лицемерием, ничтожно-
стью и подлостью. Не следует желать другого. Результат этого также
только следующий: «Сделать пропасть шире». «Надо заставить высший
вид обособиться посредством жертвы, которую он должен принести сво-
ему бытию». При этом как будто, но только как будто, несколько смяг-
чая, добавляется: «Главная цель в том, чтобы создавать дистанции, но не
' Чистый, без примеси, совершенно здоровый, во всей своей силе, во всей сво-
ett резкости {франц.).
479
противоположности. Отделять средние образования и уменьшать их вли-
яние — главное средство сохранения дистанции». Ибо самое важное:
«Учение, создающее пропасть: оно сохраняет высший и низший тип (оно
уничтожает средний)». И, говорится дальше, «растущее принижение че-
ловека и есть движущая сила, позволяющая мыслить о выведении более
сильной расы... уравненный вид нуждается, как только он достигнут, в оп-
равдании: он служит более высокому и суверенному виду, который на
нем стоит, и только стоя на нем, может возвыситься до своей задачи.
(Это) не только раса господ, задача которой исчерпывается тем, что она
правит: это раса с собственной сферой жизни, с избытком силы для кра-
соты, храбрости, культуры, манеры поведения вплоть до духовной обла-
сти, утверждающая раса, которая может позволить себе любую роскошь,
— достаточно сильная, чтобы не нуждаться в тирании императива доб-
родетели, достаточно богатая, чтобы не нуждаться в бережливости и пе-
дантизме, она по ту сторону добра и зла».
Этот новый слой господ, который мыслится как возникший из обрат-
ного торжеству посредственности движения и о котором говорится, что
он должен стать «оранжереей для особых, изысканных растений», делит-
ся на два господских типа: на «пастуха» и «господина», первый — сред-
ство для сохранения стада, второй - цель, для которой стадо существу-
ет. Новый слой господ должен в обеих разновидностях обладать назван-
ными свойствами характера «благородного человека», который ведь яв-
ляется для Ницше ступенью к сверхчеловеку, следовательно, ступенью,
выходящей за пределы человека.
Эта программа социального построения, которая не только антиде-
мократична и аристократична, но своеобразно смешана с лицемерием и
макиавеллизмом; там, где не только рабочий, но и все «среднее» служит
только материалом, вводится в категории воспитания и культивирова-
ния; здесь выступает видение будущего общего аспекта общества, совер-
шаются очень странные прогнозы и в сущности делаются лишь после-
дние выводы из главной мысли произведения, из теории количества воли
к власти как принципа существования. - Ницше поясняет: существует
только аристократия по рождению и аристократия по крови, при этом он
добавляет: «Я говорю не о словечке "фон" и Готском календаре: вклю-
чение в него важно для ослов». Но существенная основа аристократии
есть наследование, наследование в самом широком смысле. Оно носит у
Ницше форму веры в наследование достигнутых качеств и влияний тра-
диций. Однако желая создать такую аристократию, он задает себе вопрос:
«Можем ли мы предвидеть благоприятные условия, при которых возник-
нут существа высшей ценности?» И он отвечает, исходя из своей точки
зрения: «Это связано с тысячекратной сложностью, и вероятность неуда-
чи очень велика: поэтому стремление к этому не вдохновляет. Скепсис.
«Однако (в этом ядро его учения о наследственности) мы можем усилить
мужество, понимание, твердость, чувство независимости, ответственно-
сти, рафинировать тонкость весов и ждать, что нам помогут благоприят-
ные обстоятельства». Несмотря на то, что с этой духовной точки зрения,
в соответствии с которой очевидно наиболее важным считается воспита-
ние, Ницше должен был бы его поставить на первый план, причем имен-
но духовное воспитание, — ведь он хочет вообще сделать брак зависимым
480
от заключения врача, «в котором должны быть даны ответы на опреде-
ленные вопросы обрученных и врачей (история семьи)»: и за каждый брак
«должно нести ответственность определенное число доверенных лиц общи-
ны», он должен быть делом общины, — нечто, к чему до сих пор пришел
только национал-социализм. Своим сильным или высшим людям он и во-
обще дает предписания, вполне соответствующие сегодняшним событиям
и Германии: «Будущее (говорит столь духовный по своей настроенности
Ницше) таково: строгое политехническое образование, военная служба, что-
бы в среднем каждый человек из высшего сословия был офицером, кем бы
он ни был вне этого». Л новые формы моральности его избранных должны
быть следующими: «Клятвенное обещание в союзах о том, что они будут де-
лать и чего избегать, совершенно определенный отказ от многого. Провер-
ка, готов ли данный человек к этому». Чему учит эта суровая школа (кото-
рую он желает)? Слушаться и приказывать.
На этой основе, в которой, не говоря уже о духовной свободе, ни сло-
ва не сказано и о политической свободе, вырисовывается повсюду, и при
характеристике «благородного человека», решающий идеал великого
«синтезированного человека», «человека» указующего, как далеко про-
двинулось человечество до сих пор» «по мере того как растет напряжение
противоположности в существовании,» что является предпосылкой вели-
чия человека. Что человек должен стать лучше и злее — моя формула этой
неизбежности». Поэтому в качестве средства сохранить сильный тип че-
ловека среди прочего требуется «оказываться в таких условиях, в которых
нельзя не быть варваром».
Завершает эту практически постулирующую и одновременно проро-
чески мыслимую часть странное видение «господ Земли», «великого че-
ловека», «высшего человека как законодателя будущего». О «господах
Земли» и их миссии говорится: «Неотвратимо, медленно, страшно, как
судьба, приближается великая задача и вопрос: Как управлять Землей в
целом? И для чего должен быть воспитан и подготовлен человек как це-
лое, а не народ, не раса?» Главным средством для этого служат законо-
дательные моральные предписания, и необходима такая мораль, которая
из безусловной воли к власти и к превосходящей власти утверждает, что
для возвышения типа человека необходимы «опасность, жесткость, на-
силие, опасность на улице и в сердце, неравенство прав, скрытность,
стоицизм, искусство искусителя, коварство разного рода, короче говоря,
противоположность всем стадным пожеланиям». Мораль, «посредством
которой человек будет воспитан для высшего, а не для удобного и сред-
него, мораль, цель которой воспитать правящую касту будущих господ
Земли, — должна, чтобы ее усвоили (так опять говорится с явным лице-
мерием) примыкать к существующему нравственному закону и быть вы-
ражена в его терминах и намерениях».
Об общей форме общества, которая должна служить основой этим
духовно столь своеобразно подготовленным господам Земли, замечено:
«Теперь будут существовать благоприятные предпосылки для широких
господских образований, равных которым еще не было. И это еще не са-
мое главное: становится возможным возникновение международных со-
юзов родов, которые ставят собой задачу воспитать расу господ, будущих
«господ Земли», выдающуюся, опирающуюся на строжайшее собствен-
ник. 3073
481
ное законодательство аристократию; в этом законодательстве воле фило-
софствующих насильников и тиранов от искусства будет положен предел
на тысячелетия: высший тип людей будет в своем превосходстве в воле-
нии, знании, богатстве и влиянии пользоваться демократической Евро-
пой как самым послушным и гибким орудием, чтобы завладеть судьба-
ми Земли, чтобы в качестве художника формировать человека. В общем,
приходит время, когда в вопросах большой политики придется переучи-
ваться. Большой политики? — вынуждены мы задать вопрос. Разве в ос-
нованных на родстве, легитимистских княжеских союзах, правивших
вплоть до проклинаемой Ницше демократии не было в Европе уже од-
нажды именно этих «господ Земли?» Так ли хорошо выполняли они
свою задачу? Или понадобилось именно демократическое орудие, чтобы
при управлении новых господ Земли получить лучшие результаты?
Затем следует «великий человек», второй член завершающего виде-
ния. Этот человек «будет обладать величайшим числом влечений и в ве-
личайшей силе, которую еще можно вынести». «Он необходимо скептик
(этим не сказано, что он должен был бы им быть), допуская, что это со-
ставляет величие: хотеть что-либо великое и средства для этого. Свобо-
да от всех видов убеждений относится к силе его воли». «Ему не нужно
сочувствующее сердце, ему нужны слуги, орудия, в общении с людьми
он всегда исходит из того, чтобы сделать из них что-либо. Он непосред-
ственно знает себя: он считает безвкусным быть доверительным, и он
обычно им не бывает, когда его таковым считают. Если он не говорит
сам с собой, он носит маску. Он предпочитает лгать, чем говорить прав-
ду, это требует больше духа и воли». «Над ним нет никакой инстанции,
и его сущность в том, чтобы обрести ту громадную энергию величия, ко-
торая позволит ему воспитанием, а также уничтожением миллионов не-
полноценных, создать будущего человека и не погибнуть от причиняемо-
го страдания, равного которому никогда не было». В связи с этим сказа-
но: «В этом великом человеке достигают величайших размеров специфи-
ческие свойства жизни - несправедливость, ложь, эксплуатация. Но по-
скольку они воздействовали подавляюще, их сущность в том, чтобы быть
неправильно понятыми и интерпретированными как добро».
Над этой специфически характерно для Ницше окрашенной карти-
ной, которая заставляет нас почувствовать, насколько страшной она мог-
ла, вернее, должна была стать, стоит «образ высшего человека как зако-
нодателя будущего». Этот законодатель, как и у Платона, но в решитель-
ной полемике с ним, философ. Однако этот новый философ «может воз-
никнуть лишь в связи с господствующей кастой, как ее высшее одухот-
ворение. Большая политика, управление Землей вблизи». До сих пор
«полностью отсутствуют принципы этого», но основная мысль такова:
«Сначала должны быть созданы новые ценности. Следовательно, фило-
соф должен быть законодателем. И воспитателем!» «Воспитатель (одна-
ко) никогда не говорит то, что он думает о каком-либо предмете, а все-
гда только то, что он думает по отношению к тому, кого он воспитыва-
ет. Его притворство не должно быть разгадано, его мастерство в том, что-
бы в его честность верили. Он должен владеть всеми средствами воспи-
тания: некоторые натуры он заставляет двигаться вперед лишь с помо-
щью язвительной насмешки. Другие, вялые, неуверенные, трусливые,
482
тщеславные — быть может, только с помощью преувеличенной любви.
Такой воспитатель находится по ту сторону добра и зла, но никто не дол-
жен это знать». Он должен «создавать обстоятельства, в которых нуж-
ны сильные люди, а они, в свою очередь, нуждаются в морали (вернее, в
духовно-телесной дисциплине, придающей силу,) и, следовательно, по-
лучат ее». Он должен научиться «жертвовать многими и настолько серь-
езно относиться к своему делу, чтобы не щадить людей... Допускать для
себя применение строгой дисциплины, а в войне — насилия и хитрости».
Очевидно, о нем также сказано «Римский кесарь с душой Христа». О его
возникновении говорится: После длинного ряда затрат добродетели и
дельности, прилежания, самоукрощения, счастливых и разумных браков,
а также счастливых случайностей возникает «в конце концов человек,
чудовище силы, требующий чудовищной задачи. Ибо нами располагает
наша сила». А о внешней позиции всего этого рода философов говорит-
ся: «В стороне от господствующих, свободные от всех уз, живут высшие
люди, и господствующие служат им орудиями». И один такой человек
может подчас «оправдать целые тысячелетия... полный, богатый, вели-
кий цельный человек по сравнению с бесчисленными обломками лю-
дей». «Кто определяет ценности и направляет волю тысячелетий тем, что
ведет за собой высшие натуры, тот высший человек». «Я думаю (говорит
Ницше), что мне удалось угадать кое-что в душе высшего человека, быть
может, каждый, кто угадает его, погибает. Но тот, кто видел его, должен
помочь сделать его возможным. Не человечество, а сверхчеловек — цель».
«Come l'uom s'etema» (Inferno XV, 85)*.
Я дал столь подробно эти грандиозные, заряженные таким неслыханно
сильным взрывчатым материалом высказывания, вместе с тем кажущиеся
в их открыто высказанном лицемерии почти наивными, — ибо ведь наивно
доверять печати задуманное преимущественно эзотерически, — я дал столь
подробно эти высказывания, которые в конечном итоге завершаются столь
потрясающим личностным прогнозом, в значении воздействия которого
сегодня невозможно больше сомневаться, чтобы быть по возможности
справедливым к Ницше и его пылающей личностной страсти.
С этой точки зрения, как мне представляется, могут быть правильно
поняты и две следующие за этой кульминацией заключительные части
работы о «Дионисе и вечном возвращении». Сами по себе они не дают
ничего нового; однако дионисийское видение существования и его связь
с учением о вечном возвращении, т. е. с самой общей основой отноше-
ния Ницше к миру, как и все, созданное в поздние годы при сохранении
еще полного духовного самоконтроля, окрашенное крайне резким теоре-
тизированием, свойственным Ницше времени «Воли к власти», отчасти
очень личностью, отчасти крайне обострено. Очень личностью служащая
всему основой известная фраза: «Дионис против Распятого: вот вам про-
тивоположность. Различие не в мученичестве, но одинаковое имеет раз-
личный смысл. Сама жизнь, ее ужас и возвращение обусловливает стра-
дание, разрушение, волю к уничтожению»... «Сам разрезанный на кус-
ки Дионис - это "предсказание" «жизни: он будет вечно возрождаться и
приходить из гибели». О своей философии, которой надлежит преодо-
' Как человек восходит к жизни вечной. Перевод М. Лозинского (Ад XV, 85).
483
леть нигилизм, которая хочет, следовательно, довести его до «обратного
другого», до дионисийского Да миру, как он есть, того Да «без отступле-
ния, исключения и выбора», о философии, желающей вечного кругово-
рота по формуле «amor fati»\ об этой утверждающей философии затем в
крайнем обострении говорится: к ней относится «понимать до сих пор
отрицаемые стороны существования, не только как необходимые, но и
как желанные: и не только как желанные по отношению к до сих пор ут-
верждаемым сторонам, как их дополнение или предварительное условие,
но и ради них самих как более могущественных, грозных, истинных сто-
рон существования, в которых более отчетливо выражает себя его воля».
Поэтому: «Рост плодотворности человека следует понимать как явление,
сопутствующее росту культуры». «Человек есть неживотное (Untier) и
сверхживотное (Ubertier), высший человек есть нечеловек и сверхчело-
век. С каждым возрастанием человека в величину и высоту он выраста-
ет также в глубину и ужас: не следует желать одно без другого (или, вер-
нее, чем основательнее желают одного, тем основательнее достигают
именно другого)... Полная, могущественная душа не только справляет-
ся с болезненными, даже страшными утратами, лишениями, презрени-
ем, она выходит из такого ада с большей полнотой и большим могуще-
ством и, что самое существенное, с новым ростом в блаженстве любви».
«Гётевский взгляд, полный любви и доброй воли, как результат».
Здесь мы видим подлинную глубину ницшевской прозорливости, его
муку и причины его экстремизма. И при этом, быть может, возникает
ощущение мембраны, которая у него посредством мыслительного при-
нуждения приводит в движение возложенное на него учение о вечном
возвращении, это учение, знание которого, по его мнению, получило
благодаря ему «свое место в истории как центр» и о котором он задает
себе вопрос, как оно может быть использовано «в качестве избиратель-
ного принципа на службе силы (и варварства!!!) и «достаточно ли зрело
человечество для него». При этом в качестве средства вынести это учение
он называет, кроме переоценки всех ценностей, постоянное творческое
начало — «уже не воля к сохранению, а воля к власти, не смиренный обо-
рот речи ивсе только субъективно", а это наше творение, будем же гор-
диться им». Правда, он полагает: «Не следует удивляться, что понадобят-
ся несколько тысячелетий, чтобы вновь найти связь - несколько тыся-
челетий не имеют большего значения». И в завершение, резюмируя:
«Знаете, ли вы, что для меня мир?.. Чудовище силы без начала и без кон-
ца, твердая, железная величина, полная силы... охваченная ничто как
своей границей, не нечто расплывающееся, расточаемое, не бесконечно
распространенное, а определенная сила, заключенная в определенное
пространство, и не в пространство, где-либо пустое, а как сила везде, как
игра сил и волений сил, одновременно одно и многое, здесь увеличива-
ясь, там уменьшаясь, море в самой себе бурлящей и вздувающейся силы;
вечно меняясь, вечно возвращаясь, с невероятными перерывами в воз-
вращении, с приливами и отливами его образов, стремясь из простейших
в многообразнейшие, из самого тихого, застывшего, холодного в пламен-
ное, дикое, самому себе противоречащее, а затем вновь возвращаясь из
" Любовь к судьбе (лат.).
484
полноты к простому, из игры противоречия к радости единения, самого
себя утверждая в этом равенстве своих путей и годов, благословляя само-
го себя как то, что вечно должно возвращаться, как становление, кото-
рому неведомы пресыщение, скука, утомление — этот новый дионисий-
ский мир вечного самого себя созидания, вечного самого себя разруше-
ния, этот таинственный мир двойственного наслаждения, как мое «По ту
сторону добра и зла» без цели, если цель не в счастье круга, без воли,
если кольцо не имеет к самому себе доброй воли: Хотите ли вы знать на-
звание этого мира? Решение всех его загадок? Света и для вас, вы. самые
скрытые, сильные, бесстрашные, полуночные? — Этот мир есть воля к
власти - и ничего, кроме этого. И вы сами также являетесь этой волей к
власти — и ничего, кроме этого».
Если к этому наполовину физическому, наполовину, — да простят
мне эти слова, — метафизическому или, если угодно, экзистенциально-
му признанию40 присоединить почти одновременно возникшие «Дифи-
рамбы Дионису», такие содержащиеся в них слова, как «Твое счастье все
иссушает вокруг, делает бедным в любви - засушливая земля» или «зна-
ток себя — палач себя» и «вина необходимости! Высшее созвездие бытия!
— Его не достигнет ни одно желание, не запятнает ни одно Нет, вечное
Да бытия, я вечно твое Да: Ибо я люблю тебя, о вечность», — тогда мож-
но почувствовать, из какой раздвоенности, какой страстно рвущейся в
разные стороны основы возникло все то, что мы здесь наметили.
IV
Мы здесь не будем искать эту основу. Каждое творение стоит в мире как
творение, оказывает свое воздействие и имеет свое, из него самого про-
истекающее значение, свое собственное бытие.
Если бы то, что мы здесь излагали, было чистой теоремой, фантази-
ей и выражением чувств любого человека или если бы Ницше остановил-
ся на «Заратустре» и высказываниях этого периода, которые также уже
достаточно односторонни, то можно было бы, как происходило в пред-
шествующий период и как, если быть откровенным, считал некогда и
сам автор данной работы, остановиться на том, чтобы просто восхищать-
ся великолепной концепцией произведений этого человека, брать из их
богатого содержания то, с чем можно согласиться, и отстраняться от
того, не обращать внимания на то, что вызывает несогласие. Можно
было бы предпринять ту выборочную рецепцию, которая обычно скла-
дывается из того, что мы читаем. Но к Ницше это неприменимо. Преж-
де всего неприменимо к позднему Ницше периода «Воли к власти». И
прежде всего это неприменимо сегодня, когда мы узнали, какое воздей-
ствие оказал Ницше, как он был понят или не понят, что он означает
сегодня как элемент существования, когда диктаторы террора дарят друг
другу в качестве утешения в беде его произведения в роскошных издани-
ях. Сегодня Ницше получил всемирноисторическое значение. Он действи-
тельно содействовал тому, что он сам прогнозировал как свое действие в
Ессе homo*, а именно делению мировой истории на две части.
' Се человек (лат.).
485
После того как это произошло, стало однозначно необходимо решитель-
но и полностью определить свое отношение к нему. Каковы его творение,
его воздействие? При чтении его произведений следует отвлечься от всего
эстетического очарования, от всей притягательности его духа и его вырази-
тельности, прежде всего от отражения в них его личной судьбы. Что пред-
ставляет собой его творчество? К чему его следует отнести и где чисто фак-
тически его место? Отправным пунктом при ответе на эти вопросы должна
служить «Воля к власти», его теоретически самая разработанная в своих вы-
водах работа. Следовало бы принципиально различать две стороны: то, что
можно считать абсолютным в Ницше и его творчестве, и то, что относится
к условиям времени, является интерпретацией времени. Однако Ницше
настолько проникнут отталкиванием от своего времени, настолько движим
им в своей страстности, уже этим в известной степени релятивизирован, что
полностью отделить в нем абсолютное и обусловленное временем невоз-
можно, тем более что именно абсолютное полностью, по нашему мнению,
возникло из его отталкивания от его времени.
Это абсолютное есть то, что он определяет как дионисийское видение
существования. Невероятная пошлость буржуазного образованного мира
того времени, с которой он почти в одиночестве боролся и которую
разъяснял, была причиной того, что этот образованный мир не замечал,
не хотел замечать темных, по нашей терминологии, темно-демоничес-
ких сторон существования. Мы назвали тех немногих, которые в XIX в.
после Шопенгауэра что-либо знали об этих сторонах, что-либо говори-
ли о них. Даже лучшие представители среднего слоя этой эпохи утрати-
ли чувство этого. В поверхностном понимании именно тогда Гёте как
манекена образованности они не видели того, что он в своей, правда,
несколько смягченной манере, оставил по этому вопросу. С полной бес-
печностью пропагандировали «политику власти» — мы видели это; ста-
новились «реалистами» бисмарковской эры, для которых ставшие изно-
шенными и стертыми идеалы XVIII в. постепенно поблекли. Только
Якоб Буркхардт «знал». Остальные оставляли тревожные темные и опас-
ные свойства существования без всякого внимания.
И совершенно верно было также, если Ницше взывал к своему вре-
мени, это относится и к ставшему реалистическим времени 80-х годов,
что оно не хочет знать и признавать, что страдание относится к сущно-
сти жизни, что процесс становления живого всегда одновременно пред-
ставляет собой страдание и разрушение. То, что Ницше это видел и с ог-
ромной силой все время повторял своему поверхностному времени, яв-
ляется его бессмертной заслугой. Ибо это свидетельствует о видении глу-
бин бытия, свойственном эпохе Данте, Микеланджело и Шекспира, в
известной, также указанной, несколько иной форме в XVII в. Паскалю
и Рембрандту; это означает, что такое видение бытия, которое после
XVIII в. сначала с энтузиазмом маскировалось, затем в преобразующем
вихре прогресса XIX в. было вообще почти утрачено, теперь вновь обре-
тено человеком, лучше увидевшим свое время и свою эпоху из им самим
избранного или навязанного судьбой одиночества; и увидено в такой
форме, которая требовала мужества, чтобы отчетливо понять это и не
пасть духом. — Сегодня мы переживаем страшное. И сегодня поистине
нет необходимости пояснять нам, что страдание и ужас относятся к жиз-
486
ни как таковой, как неизбежное. Но поразительным было, что кто-то
увидел и высказал это в пошлое время и одновременно требовал выдер-
жать это. с тем мужеством, в котором мы и сегодня очень нуждаемся.
Заслугой было также требовать естественности существования и од-
новременно строгого духовного воспитания. Естественность! Сегодня ее
у нас слишком много. И Ницше, быть может, несет некоторую вину за
лот сегодняшний излишек естественности. Однако в душном воздухе
того престарелого буржуазного образованного мира, который застал
Ницше, мира, наполненного узкой, непроверенной по своим свойствам
и границам омещанившейся моралью, тем воздухом, из которого подни-
малась допускаемая в искусстве, но не в жизни, в своей основе нездоро-
вая или слащавая эротика, — в этом воздухе проповедь контролирующе-
го самого себя здоровья была действительно фактом освобождения и
выздоровления. Эта проповедь помогла заменить с конца XIX в. нервное,
замкнутое в сфере образованности поколение другим, выросшим на
вольном воздухе, и контролируя, утверждающим свои естественные вле-
чения, первым поколением тех, окружающих нас сегодня людей, есте-
ственным физическим выражением которых является физическая сила и
спорт, ибо это поколение обладает излишком здоровья, и его душевно-
духовное качество, если оценивать его справедливо, было первоначаль-
но определено во время первого периода влияния Ницше отказом от пу-
стых, преувеличенных фраз, во всяком случае тогда.
Более того: нам еще придется говорить о том, как своеобразно время
незадолго до и после рубежа веков стало для образованного слоя време-
нем не только углубленного понимания существования при естествен-
ном выздоровлении, но и временем подъема духовной продукции и тре-
бований к собственному характеру, в соединении с душевным и духов-
ным расширением горизонта, неведомого предшествующему узкому вре-
мени. Нет сомнения в том, что ницшеанский постулат лишенного пред-
рассудков «благородного человека» и притязаний, который тот предъяв-
ляет самому себе, что выход Ницше за пределы существовавшего душев-
но-духовного пространства сыграл в этом существенную роль. Если была
опасность душевного и духовного усреднения, а она действительно была, и
если эта опасность, прежде всего в Германии после рубежа веков, была в
значительной степени остановлена, то первой и решающей духовной силой,
устранившей эту опасность, было творчество Ницше; воздействие Ницше,
в котором кипела ненависть к любой посредственности и который пресле-
довал ее язвительно-страстными насмешками. Эта заслуга велика. Ибо это
означает, что благодаря ему была не только вновь познана глубина бытия,
но одновременно на основе естественности и выздоровления в подлинно
новом виде стали зримы душевные и духовные высоты.
Однако - следует беспощадно спросить - какой ценой? Ценой все-
го того, что было исключено требующей, обусловленной временем пози-
цией Ницше, всего, что он в состоянии борьбы видел в ложном свете, что
из-за этого оказалось экстремистски искажено или, будучи ценным и по-
человечески основополагающе важным, было разрушено под ударами его
писательского рвения.
Обусловлено временем в Ницше все натуралистически-релятивистс-
кое и субъективистское обрамление, в котором он предлагает свое пере-
487
живание жизни. Он сам определяет свои познания и постулаты как «на-
туралистические», даже «физиологические», и облекает их в заимство-
ванную из естественных наук совершенно невозможную форму борьбы
между квантами силы или власти, которая должна, по его мнению, слу-
жить ключом к формам и изменению ценностей существования, даже
ключом к миру, А и О' интерпретации мира. Это - самый дурной и от-
сталый XIX век! Совершенно неадекватная, отчуждающая и лишающая
душевности, несохраняемая им самим при устанавливаемых духовных
постулатах оболочка вещей, лежащих значительно глубже. К тому же эта
оболочка связана у него с поистине крайним субъективизмом, который
также обусловлен временем. Правда, Ницше отверг бы определение
«субъективизм», так как, по его мнению, все должно представлять собой
интерпретацию, перспективно открытую объективную борьбу концент-
раций власти. Однако, если присмотреться, эта борьба недостаточна,
чтобы вывести из нее образ ницшеанского «благородного человека», не
говоря уже о всех его других качественных позициях, постулатах и вызы-
вающих фантазиях. Если все ценности, как учит Ницше, должны быть
созданы человеком, причем без какой-либо трансцендентной, объектив-
ной основы содержания или сил, то эти ценности не существуют как
объективно данные, а являются субъективным продуктом. Лишь таки-
ми видел их Ницше, хотя он сам с его поистине абсолютными постула-
тами чистоты и интеллектуальной добропорядочности, и с его в целом
поистине этическим пафосом и не придерживался этой точки зрения. В
основе всех его сознательно столь подчеркнутых утверждений и отрица-
ний лежали результаты духовного распада Европы в XIX в. Они были
щепками крушения мира идеалистических ценностей, крушения без ка-
кого-либо возмещения вне религии. Они были, признаем это спокойно,
непреодоленным нигилизмом, который — это Ницше верно и муже-
ственно продумал до конца и до конца вел с этим борьбу — был духов-
ным результатом историзаций и релятивизаций этого века.
Ницше не преодолел нигилизм, как он полагал и к чему стремился.
Он не мог его преодолеть. Ему не дано было сломить его, ибо он сам
именно в этом отношении был слишком обусловлен временем. Из-за
этой обусловленности временем он застревал при такого рода попытке в
отчуждающем натурализме и релятивизирующем субъективизме, кото-
рые он хотел преодолеть и все-таки сознательно представлял. Он, как и
его время, не вышел за пределы понятийностей XVII и XVIII вв., даже
когда эти понятийности были уничтожены, так как полагал, что вместе
с уничтожением формирования мира идеальных понятий XVIII в. или с
доказательством мнимой относительности, прежде всего относительно-
сти узко понятой церковно-христианской морали, окажутся разрушен-
ными и сломленными абсолютные, имманентно трансцендентные потен-
ции, скрытые за миром идеальных понятий и за формулировками норм
христианско-церковного мира. Какое заблуждение! Официальная цер-
ковно-христианская мораль, — мы вынуждены все время подчеркивать
это, — не что иное, как формализованное акцентирование ценностей,
вышедшее из допонятийного фундаментального переживания, которое
' Альфа и Омега.
488
лежит в основе христианства, из переживания трансцендентной связи
всех людей и несомненно односторонне страстного преувеличения это-
го переживания в его первоначальной форме. Я сознательно повторяю
здесь сказанное раньше, потому что это очень важно. Активная человеч-
ность христианства, впоследствии секуляризованная, лишь хилым отро-
стком которой была вызвавшая такие насмешки Ницше «гуманность» XIX
в., не перестает быть — потому, что она может быть односторонне преуве-
личенной или плоско понятой, — выражением постижения некогда откры-
той и с тех пор неотъемлемой, непосредственно трансцендентной власти,
которая с момента ее открытия стоит за всем человечеством. Мы ведь виде-
ли, что все ставшие стертыми и изношенными или даже опасные идеалы
XVIII в., на которые так нападает Ницше, являются, в сущности, несомнен-
но отчасти предвосхищающими, отчасти слишком упрощающе сформули-
рованными постулатами и акцентировками ценностей непосредственного,
особым образом впервые осознанного постижения, постижения действую-
щих в человеке трансцендентных сил. Только вследствие чрезмерной поня-
тийности и неспособности больше видеть темные демонические противо-
положные им силы стали они столь стертыми и ветхими, как будто столь да-
лекими от действительности, что оказались неспособны противостоять бли-
зорукому реализму XIX в., в частности в Германии.
Конечно, существуют различные акцентировки ценностей и вслед-
ствие этого их меняющиеся комбинации, которые, по выражению Ниц-
ше, могут быть «повешены над человеком». Но все они означают лишь
обусловленные временем сдвиги акцентов и различия видения, относя-
щиеся ко все время представляемому в этой работе как решающему для
бытия объективно имеющемуся, имманентно трансцендентному миру
сил, который нас создает. Только тогда, когда мы вновь увидим этот мир
сил и будем готовы и способны внутренне познать его в нас и занять по
отношению к нему определенную позицию, тогда только мы окажемся
на пути преодоления нигилизма, который ни на одном другом пути пре-
одолен быть не может. Что при этом акцентировки ценностей и их сдви-
ги, которые мы захотим совершить, находятся в нашей власти и что от-
клонение различий оценок объективных сил может быть при этом боль-
шим, очевидно. Об этом речь будет идти в другом месте41. Самым ярким
примером того, как велики могут быть эти сдвиги ценностей, является
сам Ницше с его попыткой переоценки.
Однако сколь обусловлена временем и каким своеобразным фобиям
подчинена и насколько зависима от них предпринятая Ницше «пере-
оценка», т. е. сдвиг акцентирования ценностей объективно имеющихся
в нас сил! Есть фобия цивилизации и доместикации! Цивилизация, по
его мнению, не только ведет к посредственности, но и изнеживает, при-
чем, что самое странное, создает «слабость» именно масс, стадного жи-
вотного. Нет сомнения в том, что общей механизации существования
наших дней свойственна тенденция к посредственности, прежде всего к
душевному опустошению. Какая значительная часть работы, осуществ-
лявшаяся раньше спонтанными силами и под собственной ответственно-
стью, перешла теперь к душевно опустошенному техническому процес-
су и к рациональной, также душевно опустошенной организации фабри-
ки. И какая смертельно скучная работа бюро взгромоздилась над этим в
489
государстве и в промышленности! Такова судьба современного общества,
жестокая судьба, даже если не забывать, что внутри этой механизации и
аппаратизации сохранились или все время возникают достаточно значи-
тельные секторы свободного самостоятельного решения и собственной
ответственности, значительные секторы спонтанных изобретений, а на
высших и низших уровнях управляющей деятельности также секторы,
полные внутреннего жизненного значения. Тем не менее здесь суще-
ствуют утраты, большие утраты. И они все время возрастают, с тех пор
как началась тейлоризация едва ли не всякого труда, даже духовного, не
говоря уже о массовой деятельности рабочих.
Но изнеженность и слабость витальных импульсов и сил? Надо пло-
хо знать массы и новые средние слои, чтобы бояться этого. Что касает-
ся рабочих, то уже вследствие их профессиональной судьбы с ее особой
проблематикой и характера их деятельности они не могут быть изнеже-
ны. И разве могут быть названы изнеженными новые средние слои Гер-
мании, которые в последнее десятилетие были главными носителями ее
поистине не щепетильной политики, которую нам пришлось пережить?
Очевидно, верно противоположное.
Поистине страх Ницше перед цивилизацией и доместикацией под
углом зрения «слабости» и «изнеженности» был более чем излишним. И
нам представляется, что на основании последних опытов не следует за-
ботиться о том, чтобы разжигать и возбуждать «злое», темную сторону
жизни, которое имеет в виду Ницше, все, что он называет «оклеветанны-
ми» противовесами жизни. Мы испытали теперь столько коварства, хит-
рости, клеветы и всех восхваляемых Ницше макиавеллистских «доброде-
телей» вплоть до «подлости», что это, надо надеяться, на ряд веков изба-
вит нас от представления о необходимости культивировать зло для урав-
новешения слишком уютного существования. - А призыв к войне в ка-
честве время от времени необходимого нам тонического средства под-
крепления! Даже если бы современная война, так прекрасно, можно
только сказать эвфемистически, названная тотальной войной, войной,
жертвами которой становятся преимущественно женщины и дети, не
превратилась бы в хорошо нам известную зверскую оргию, не опустилась
бы до того уровня, когда все бывшие рецессивными инстинкты достига-
ют в своей превосходной степени пышного расцвета, если бы она не
уничтожала без остатка там, куда она приходит, человечество и культу-
ру, а носила бы еще характер прежних войн, которые сегодня относятся
к некоему мифическому времени, — и тогда нам не нужна была бы война
как противоядие от изнеженности. Этому нас может научить именно
последняя война. Ибо разве столь пацифистски настроенные англичане
и американцы, которые в одной только воздушной войне и в отрядах па-
рашютистов тысячами пали жертвой, сражались хуже, чем кто бы то ни
было в этой страшной бойне? Ницше, который, впрочем, как и большая
часть человечества до 1914 г., представлял себе войну еще в ее прежнем
виде, еще можно извинить, как и всех представителей некогда столь рас-
пространенного военного героизма, если он все время восхваляет и
объявляет необходимым этого «отца всех вещей»'. Сегодня же такое вос-
* По-немецки война (der Krieg) мужского рода
490
хваление было бы просто фривольным. И мы знаем также, к счастью, по
своему опыту, что для сохранения душевных и духовных сил человече-
ства в этой инъекции воинственности нет необходимости. Больше ска-
зать здесь об этой проблеме нечего.
Однако Ницше поставил и другие проблемы. Например, — и это так-
же обусловлено временем, ибо в 70-х и 80-х годах XIX в. начали ощущать
давление снизу — его страх перед «восстанием масс» и перед демократи-
ей. Кто может сомневаться в том, что восстание масс в той или иной
форме является нашей судьбой? Однако Ницше и сам, принявший в
свой более поздний период демократию как макиавеллистское средство,
говорит в другой связи, что смешно с эмфатическими жестами воскли-
цать в ожидании неизбежного: О горе! горе! Современная цивилизация
ведет к массовизации. И надо быть социологически наивным - а что Ниц-
ше был таков, отрицать, к сожалению, невозможно, — веря, что массы,
оснащенные грамотностью, газетами и современными средствами ком-
муникации, могут быть сохранены в состоянии «стадных животных с па-
стухами» или даже в социальных структурах, со стоящим над ними ари-
стократическим слоем знати, обладающим исключительной властью.
Здесь речь идет не о формах, в которых находит свое выражение факт
массовизации, и не о формах, в которые он может быть направлен. Од-
нако сегодня каждое правительство, не только демократическое, но и то,
которое хочет установить или сохранить диктаторскую или террористи-
ческую форму, de facto зависит от настроения, от инстинктивного Да или
Нет, короче говоря, от волевых импульсов масс. Даже в отношении со-
циального уравнивания как продолжения массовизации правительство
террористическое, диктаторское или квазидиктаторское значительно
сильнее, чем то, которое основано на политической свободе и свободной
поддержке масс. Все то, чего оно лишает масс в области политической и
духовной свободы и самоопределения, оно должно компенсировать в со-
циальной сфере, эвентуально вплоть до устранения каких-либо привиле-
гированных благодаря образованию и традиции высших слоев. Не суще-
ствует, — чего Ницше не видел, — более верного средства против одно-
стороннего господства масс, чем свобода и демократия. Ибо для того,
чтобы быть дееспособными, им необходимо социальное членение с са-
мостоятельно выбранным и признанным руководством, которое затем
автоматически возвышается как качественно отобранное, и как таковое
признается, ибо оно основано на функционировании самоопределения
и на ощущении масс, что слой избранных и социально привилегирован-
ных добровольно создан ими.
Таков вывод из спокойного, не полемического рассмотрения. Массофо-
бия же Ницше была в сущности - и это существенно — обоснована не по-
литически и не социально, а психологически. В эту массофобию он внес все
свое отвращение к посредственности, весь свой страх утраты духовного бла-
городства, определенного уровня и лишь во внешнем и внутреннем одино-
честве достигаемых душевной и духовной глубины и высоты, следователь-
но, все, что определяла его общая волевая направленность. Она требует обо-
собления, строжайшего обособления от опошления, которое он - ведь с
массами и их подлинной духовной сущностью он в сущности не соприка-
сался, — обнаруживал в окружающих его представителях образованного
491
слоя. Это отталкивание и обособление он проецирует в совершенно иное по
своему типу существование масс и его проблематику.
Так он приходит к своему идеалу «благородства», для которого он все
время требует пафоса дистанции. Так и к своему постоянно повторяемо-
му требованию по возможности более широкой «бездны», которая дол-
жна отделить тех высших, кого он мыслит сильными, от масс, называе-
мых им «стадом». И это самый опасный пункт и самое опасное quid pro
quo* всего его страстного воления, пункт, где возникает и вопрос об ос-
мысленности его идеи сверхчеловека.
Мы вновь будем рассуждать чисто социологически без всякого акцен-
тирования ценностного момента. Во-первых, в истории всегда средний
тип человека, народа, эпохи, складывался из душевного и духовного фор-
мирования его избранного слоя посредством его влияния на массы. Это
относится ко всем историческим телам и эпохам, относится даже к кас-
товой системе Индии, на которую Ницше несомненно взирает иногда с
известной завистью, относится к аристократии и т. п. Отбор создает ду-
шевно-духовный флюид, а масса иерархическим или неиерархическим
образом формирует из этого общий средний тип. Что может быть опас-
нее, именно с точки зрения отбора определенного уровня, опаснее, чем
в эпоху поднимающегося влияния масс, какой является наша эпоха, про-
поведовать элите пафос дистанции и бездны. В такое время это — про-
поведь самоубийства элиты. При таких условиях она будет рано или по-
здно взорвана социальной динамикой так же, как это происходило с пре-
жней привилегированной аристократией, с легитимной монархией и
всем, связанным с ней, с конца XVIII в. Не реабилитация ancien regime,
скрытая или открытая, как говорит в свой поздний период Ницше, а со-
ответствующие динамически окрашенному отношению между массой и
избранным слоем, единственные сегодня еще возможные позиция и
форма, представляющие собой новый синтез массы и свободно из нее
образующейся элиты, — этого требует сегодня не только реалистичность.
И это единственный путь как к душевно-духовному подъему масс, так и
к удерживаемой высоте элиты.
Да, также к душевно-духовному подъему масс! Ибо самым опасным
заблуждением, самой опасной ошибкой Ницше было вводить эти массы
в его концепцию существования как простой «передаточный материал»,
как нечто душевно и духовно безразличное. Масса — динамический и
поэтому активный, требующий активной оценки фактор каждого исто-
рического и культурного процесса. И насколько сильно именно в сегод-
няшнем процессе! Только фантазер может это не замечать.
И еще одно: Выбор «благородных людей», «властителей Земли» и нако-
нец, «высшего человека» - этих продуктов, предшествующих сверхчелове-
ку! Я спрашиваю: существует ли для нас, людей, вообще возможность пред-
ставлять себе высших людей и есть ли смысл желать более великих людей,
чем те, которых нам до сих пор дарила судьба? Можем ли мы по-человечес-
ки представить себе кого-либо, превышающего, назовем лишь нескольких
великих людей западного мира, —Данте, Микеланджело, Шекспира, Рем-
брандта, Гёте? Сознаюсь, мне представляется это дерзким. Эти люди обла-
' Смешение, путаница (.шт.).
492
дают такой полнотой внутреннего напряжения, связи противоречивых сил,
самодисциплины, силы и роста жизни и страдания, что все программные
описания Ницше великого или высочайшего человека бледнеют перед
ними. «Люди-вехи», которых Ницше ищет и которых он хочет создать, к
счастью, были. И нам надлежит познавать их таковыми, использовать их в
качестве маяков, как я их назвал, которые помогут нам найти нашу внутрен-
нюю ориентацию, если мы не обрели ее иным образом.
Для этого нам нужны, правда, постижение и видение объективных
содержаний и сил, которые нашли в них свое осуществление и с которы-
ми они боролись, — именно путь к этому мы пытались показать в нашем
предшествующем изложении.
Ницше этим видением не обладал. Поэтому сверхчеловек возникает
у него как продукт будущего воления, который еще должен быть создан
человеком. Поэтому желаемое в его концепции элиты, его мыслимых как
«благородные» или как «господа Земли» высших людей, столь искажаю-
щее его духовный мир представление о намеренно созданной пропасти
и о намеренной дистанции, возникает у него не из постижения даннос-
ти объективных сил и их воплощения, которому мы можем способство-
вать лишь воспитанием и образом жизни. Отсюда, наконец, — и это дол-
жно быть в завершение сказанного особенно отчетливо подчеркнуто, —
измена Ницше душевно-духовным силам, открытым и привнесенным в
мир Западом, силам активной человечности в их союзе со свободой.
Они сопутствовали западноевропейской истории тысячелетиями, и
ничто так, как они, не придало этой истории ее определенный характер.
Одно идет от христианства, другое происходит из собственных народных
корней и все время усиливается повторяющимся влиянием античности.
XVIII век воспринял то и другое как заключенные в человеке трансцен-
дентные силы. И это его незабываемая заслуга. Неважно, что тогда это
могло быть воспринято только в допонятийной форме или, во всяком
случае, только в таком качестве было введено в практическую пропаган-
ду. Во второй половине XIX в. это открытие трансцендентности стало
практически достаточно действенным, но одновременно вследствие от-
сутствия нового собственного постижения глубин оно постепенно все
больше теряло свои корни. В последней трети XIX в. стало принятым,
даже в известной степени «изысканным», говорить об идеях 1789 г. пре-
зрительно, видеть только их несовершенство и недостатки, которые в
действительности были лишь оборотной стороной их реализации и час-
тично ее опрометчивым совершением. И насколько же это было неспра-
ведливо! Какими бы ни были слабости Французской революции и анг-
ло-американской веры в демократию, их поверхностность и нежелатель-
ные побочные следствия, вера, служившая им основой, является един-
ственной практически-политической универсальной верой человечества,
которую в мир принес Запад, и в ее корнях, точнее в ее трансцендентных
корнях, это - подлинная вера в посюстороннее назначение человека,
ставящего перед всеми одухотворящую задачу. И мелочным было бы из-
за неудач и трудностей в выполнении этой задачи отказываться от нее
или колебаться в возможности ее осуществления. Эта вера, иначе гово-
ря, постижение и понимание человечества, которые лежат в ее основе, не
означает в своей сущности сдвиг, уменьшающий значение отбора элиты
493
или даже слоя великих людей. Напротив, она придает вопросу отбора и
образования элиты внутри тотального понимания формирования чело-
века и народа его подлинный смысл. Ибо осмысленно — в универсаль-
ном смысле — возвышение избранного слоя над широкими слоями толь-
ко, и именно тогда, когда оно ведет также к возвышению уровня масс. И
осмысленно видение великих людей только тогда, когда в них видят вы-
сокие гребни волн поднимающего их волнующегося моря жизни.
Только так отбор и великие люди могут быть, наряду с массой, вве-
дены в будущую желаемую нами жизнь как не только практическое, но
и внутренне, душевно-духовно возможное образование. Образование,
возможное без судорожности. Все, что сделал, увидел и сказал Ницше,
несет на себе при всей его страстности, при величии его концепции, чи-
стоте его воления черты подобной судорожности. Его роком было то, что
в борьбе против отсутствия должного уровня и за возвышение этого
уровня он участвовал в разрушении его основы, широкой, живой жизни,
западно-европейской жизни в ее исконных идеалах. Результаты этого мы
видим сегодня. Уменьшать значение в этом Ницше было бы неуместным
стремлением недооценивать его.
2. Период кажущегося успокоения (1890-1914) и катастрофа
Однако прежде чем мы попытаемся обрисовать эти результаты в их кон-
кретном образе и наше отношение к ним, напомним вкратце о тех эта-
пах, которые начиная с последней трети XIX в. к ним вели; рассмотрим
это под углом зрения того, как выглядит общая социальная и духовная
динамика, которая определила, точнее, сделала возможными, не только
возникновение, но и контуры того положения, в преддверии которого и
в котором мы сегодня находимся.
Зрелость Ницше относится к периоду сильных напряжений в мире,
на которые он, начав действовать, неминуемо должен был влиять не ус-
покоительно, а обостряя их, с определенного момента даже усиливая
опасность взрыва. Момент такого, очевидно опасного, воздействия на-
ступил после Первой мировой войны. Он наступил в смутной напряжен-
ной атмосфере после нее, следовательно, одновременно с готовящейся,
потрясшей нас катастрофой. То, что он наступил так поздно, объясняет-
ся своеобразным характером периода 1880-1914 гг. и становящейся тог-
да воздействующей части ницшевских мыслей, — с одной стороны, со-
вершенно иным характером первого послевоенного времени, тем, что те-
перь стало оказывать влияние из идей Ницше и что означал популяри-
зованный Ницше для того времени, - с другой.
Мы не будем повторять сказанное о первом из этих двух периодов и
не собираемся подробно описывать период между двумя мировыми вой-
нами. Многое из этого известно теперь каждому по собственному опы-
ту; а многое и сегодня не может быть познано в необходимой историчес-
кой перспективе, т. е. с достаточного отдаления. Для нашего понимания
сегодняшнего дня должно быть достаточно следующее.
Период 1880-1914 гг., заряженный упомянутым большим напряжени-
ем, маскируемым чувством уверенности, позволяет понять, что означа-
494
ло в своем общем воздействии то, ранее упомянутое, разделение между
духом и политикой, которое мы рассмотрели для Германии, но которое
в качестве общего явления времени должно было суггестивно влиять и на
другие страны, сколь ни иным было их внутреннее устройство.
Существенным следствием этого разделения духа и политики была
распущенность как в духовной сфере, так и в политике, а это означает —
в сфере власти.
Политика и власть были после этого разделения и в его рамках лише-
ны всякого духовного, я хочу сказать, душевно-духовного контроля. Кон-
кретно говоря: после проведенного в Германии Бисмарком, быть может,
и не намеренно, этого разделения в лишенном с 1877/78 г. действитель-
ной власти рейхстаге, не обладавшем практически осуществимой волей
для проведения ответственного управления, еще некоторое время засе-
дали представители духовной Германии, преемники столь обруганного
вследствие незнания фактов так называемого «профессорского парла-
мента» 1848 г. в церкви св. Павла; в общем с уже сломленным хребтом.
Затем они из рейхстага исчезли. В буржуазной среде выступили заинте-
ресованные в таможенных тарифах на зерно и спиртные напитки арис-
тократы восточных земель и западные промышленники, а также их бо-
лее или менее одаренные представители, синдики и т. д., наряду с осо-
бым образом ориентированными представителями католических интере-
сов и представителями рабочего класса. Над этим органом уже не было
единого духовного свода. Господствующими стали частные интересы и
частные точки зрения. В Австрии в это время столь поносимые либера-
лы — так называемые привилегированные «представители посредствен-
ности», по определению Ницше, — тщетно сопротивлялись, проявляя
отнюдь не посредственный политический инстинкт против навязывае-
мого Бисмарком Австро-Венгрии на Берлинском конгрессе данайского
дара — Боснии и Герцеговины, которые посредством привнесенных ими
стремлений к власти стали троянским конем, приведшим позже к распа-
ду Австро-Венгрии. После этих очень разумных либералов к власти при-
шли представители различных националистических и империалистичес-
ких пан-измов, вследствие чего рейхстаги и ландтаги все время парали-
зовались чудесным парламентским средством обструкции, империя рас-
шатывалась и в конце концов произошел легкомысленно экономически
и психологически обоснованный конфликт из-за Боснии и Герцеговины
с Сербией. В Германии Вильгельм II, не обремененный прежней духов-
ной традицией, рассыпался в претенциозных речах и тирадах, а ставший
послушным рейхстаг в качестве органа определенных интересов предо-
ставлял полному благих намерений, но совершенно неопытному в поли-
тических вопросах Тирпицу деньги для строительства его оказавшегося
в мировой войне совершенно бесполезным флота43, риск чего был поис-
тине слишком большим, причем для Германии, а не для Англии, кото-
рой он был предназначен. Это было рождением идеи власти. Рейхстаг
утвердил затраты на оборону. Ведь это приносило доходы, вместе с дру-
гими мероприятиями — дополнительные доходы. Происходил распад
политической власти. Во Франции по крайней мере парламент держался
еще на определенном духовном уровне. Но что при чрезвычайно напря-
женном международном положении президентом мог быть такой мили-
495
тарист и интриган, как Пуанкаре, имевший как личность очень большое
влияние, свидетельствовало о том, что и там связь между духом и поли-
тикой была значительно ослаблена; между тем именно во Франции после
политики Буланже, и прежде всего после позорного дела Дрейфуса, чи-
сто властные политические устремления должны были быть в некоторой
степени сдержаны притоком теплой духовной крови. О других странах,
прежде всего о царской России и Великобритании, мы умолчим. Экспан-
сия власти в России, обеспечение власти в Великобритании были само
собой разумеющимся, господствующим над всем паролем. Следователь-
но, повсюду распущенность в вопросах власти при отсутствии морально-
го или духовного контроля.
А качество душевно-духовной сферы? Остановимся на Франции и
Германии, решающих в духовном отношении для этого времени странах.
Франция обладала в этот период, несмотря на возникшую около рубежа
веков по сложным причинам духовную malaise*, крупным философом в
лице Бергсона.
Устранение Бергсоном механистического взгляда на мир, его учение
о возвращающем спонтанным видам их право elan vital были необычным
достижением и освобождением новых сил, волны которых достигали
Германии. Те, кто, как утверждалось, пролагал путь44 новой Франции,
Пеги, Суарес и другие, которые играли известную роль в последней зна-
чительной эпохе французской литературы и к тому же в усилении про-
явленной ей в 1914 г. воли к жизни, вышли из учения Бергсона. И все-
таки духовная распущенность! Тот же источник питал Жоржа Сореля,
относившегося к предшествующему поколению, дружного с названны-
ми людьми, по своему общему духовному складу отнюдь не ниспровер-
гателя, мятежного автора книги «Sur la violence»". Эта книга посредством
введения в рамках марксизма практически и духовно совершенно ново-
го активного социализма дала к концу XIX в., наряду с работами Ницше,
величайший взрывной материал; этот взрывной материал способствовал
тому, что рабочее движение превратилось из эволюционного, т. е. в сущ-
ности реформистского, в насильственное и революционное. Паролями
его стали: парламент — учреждение для доместикации; он должен быть
заменен «мифом» активной революционности и подлинным, надеющим-
ся только на себя рабочим движением; action directe*", созданная и про-
пагандируемая передовым отрядом, следовательно, элитой; пропаганди-
стское влечение масс к «прямому действию». За укрытием по-своему еще
неопасного средства этого «прямого действия» Сореля, профсоюзной
общей забастовки, здесь была заложена основа очень точно, в букваль-
ном смысле воспринимающего слово violence революционного учения,
преобразующего идеи авангардизма в тенденцию к диктатуре. И это ре-
волюционное учение породило совершенно новые волевые силы, бесце-
ремонно выбросившие за борт все прежние западноевропейские идеалы
и преграды. Нет необходимости говорить, какие два противостоящие
друг другу, как враждебные, ненавидящие друг друга братья, движения,
* Беспокойство (франц).
" «О насилии» {франц.).
Прямое действие (франц.).
496
получившие с 1917 — 1921 гг. мировое значение, вышли из побуждений
в сущности далекого от мира человека, который еще в старости привет-
ствовал создателя одного из этих движений, Ленина; в своем спокойном,
в сущности, существовании он не подозревал, или не мыслил о том, чем
он готов пожертвовать ради своего призыва к насилию из совсем не толь-
ко буржуазных, но и иных благ; такая пропаганда, последние практичес-
кие результаты которой не продуманы, является типичным примером
духовной распущенности этого времени успокоения 1880/1890 - 1914 гг.
Другой характерной чертой его было то, что в образованных кругах бур-
жуазии подобная пропаганда с полным спокойствием обсуждалась и до-
пускалась как просто «интересные» построения, как нечто также имею-
щее право на существование.
То же, в сущности в еще более своеобразном смешении, при еще боль-
шем обособлении духовной сферы от ответственных действий практическо-
го существования, мы обнаруживаем в Германии. Германия становилась тог-
да все богаче. Она впервые окружила свою предпринимательско-капитали-
стическую сферу подлинным leisure class*. Она переживала бессознательно,
а если сознательно, то по-иному продолжая свою великую духовную тради-
цию, «обновление», которое разрывало замкнутость, пошлость и узость бур-
жуазной образованности и одновременно прекратило прежнее некритично-
оптимистическое приятие расторгающих элементов стремящегося в беше-
ном темпе механизма цивилизации. Немецкая литература, рассмотренная
как репрезентативный симптом всего остального: если предшествующий
период был историчен и в видении проблематики существования социаль-
но связан, — ибо как бы, например, Густаву Фрейтагу пришло в голову за-
дать вопрос существованию как таковому? — если литература этого време-
ни у ее лучших представителей, таких, как Теодор Фонтане или держащийся
несколько в стороне Готфрид Келлер, в целом оставалась в пределах любов-
ного и благожелательного описания среды, характеров и их следствий, то те-
перь появилось нечто другое, действительно изображающее сущностные
черты существования, — романы, как, например, роман Томаса Манна, и
прежде всего лирика, черпавшая из постижения вневременной основы су-
ществования и выражавшая ее в совершенно новом тоне и новой форме.
Ряд немецких поэтов создали на французский манер наряду с миром бур-
жуазии и пролетариата собственный, внешний мир, богему. Это событие,
сколь оно ни носит внешний характер, символично. Никогда еще в Герма-
нии не было такого осознанного отсутствия конвенциональности наряду с
сохранением старых благих условностей жизни, такой по-человечески осоз-
нанной открытости всему значительному. Никогда со времен нашей клас-
сической эпохи не было такого приближения к идущему из глубины всеох-
ватыванию существования.
Без влияния Ницше, влияния ницшевского Заратустры, невозможно
представить себе атмосферу этого периода в Германии. Ницше действи-
тельно сломал все ограничения, освободил, во многом существенном уг-
лубил понимание бытия.
Однако что произошло, если рассматривать все это с точки зрения обще-
го существования! В отдельных местах создавались духовные очаги, осуше-
' Классом, обладающим досугом (анг.1.).
497
ствлявшие сильное взаимное влияние, полные внутреннего богатства и от-
крытые человеческим отношениям, насыщенные духовным универсализ-
мом и утонченностью. Однако ни один из них, в том числе и ни один из
находящихся в столице, не имел ни малейшего отношения к политике и
практическому бытию, не имел ни малейшего влияния на них. Стена чуж-
дости разделяла их. Там правил, — собственно, кто там правил, эти духов-
ные круги вообще большей частью точно не знали. В лучшем случае они
могли высмеять какие-либо проявления этого правления в хорошем юмо-
ристическом журнале, оставляя все на практике, как оно есть. Так же они
большей частью не знали или не хотели знать, что следует предпринять с
жизнью и жизненными проблемами масс. Конечно, были группы, занимав-
шиеся включением рабочих масс в общество, следовательно, социальной
политикой. К сожалению, с точки зрения достаточно многих, чувствовав-
ших себя духовно выше этого, заимствовавших свою установку из ницшев-
ского пафоса дистанции, это было, в сущности, не имеющим значения низ-
ким, если не просто глупым занятием. Демократия и социализм? Ученики
поэтически, правда, не самого значительного, но во всяком случае самого
волевого из тогдашних поэтов, Стефана Георге, должны были составлять
«избранную группу», и они чувствовали себя таковой. Они предавались об-
рядам посвящения и занимались созданием программ «господства» и «слу-
жения», вместо того чтобы понять и заняться серьезно и реалистически по-
ставленными вопросами о будущем всего общества и в том числе будущем
масс в его возможностях. Таковы были объяснимые только отделением все-
го духовного от сферы действительно значительных практических действий,
разделением духа и политики, течения времени, следствия которых снача-
ла проявлялись духовно, а затем и на практике. Даже там, где не были столь
слепы и ограничены, оставалось, с одной стороны, чувство, что при общем
благоденствии предпринять что-либо против бахвальства Вильгельма II и
механизма его правления невозможно. С другой - и здесь существовала не-
кая инертность. Все жили с чувством уверенности, полагали, что могут не
только разрешить себе безграничное всепонимание, largesse* в самом благо-
родном смысле, но и видеть в этом свою высшую обязанность. Никто не
подозревал, что и это всепонимание было, если видеть дух и практический
мир в одном, в действии, сколь ни благородно это всепонимание мысли-
лось, чем-то оставленным в стороне, распущенностью, правда, внутренне
очень утонченной.
За этим и соответственно всему этому, росла в общем историческом
понимании, превращая все это в духовный эпизод, если не низводя до
театра марионеток, ясно отчасти различимая, как через трещины в сте-
не, лишь несколькими выдающимися людьми, заряженная опасностью
распущенность политики в русле интересов власти; выступали облачен-
ные смешным дипломатическим декором пришедшие в стремительное
эволюционное движение, ведущие к конфликту, заряженные взрывча-
тым материалом, реальные тенденции, которые усиливались тогда еще
скрытой от взора эволюцией военной машины: империализм, национа-
лизм и милитаризм тесно кооперировались на заднем плане.
Внезапно, из-за нескольких произведенных где-то выстрелов, при-
* Широту (франц.).
498
шла война, пришла беда. То, что до сих пор то отодвигалось, то прибли-
жалось дипломатическими тонкостями или дипломатическими неловко-
стями, как нечто опасное и чудовищное, уже ощутимое всеми около двух
лет в грозовой духоте, внезапно вышло на сцену. Грезы были внезапно
развеяны, весь обособленный от практики душевно-духовный мир раз-
рушен. Он распался не только в Германии; он был разрушен на всей
Земле как бы ударом гигантского молота.
Никогда еще человечеству не приходилось испытывать нечто столь
нежеланное и непреднамеренное для понимающих, обладающих духов-
ностью людей. Никогда еще последствия как бы выпущенных из заточе-
нья подземных мрачных сил природы не были столь страшными. Сегод-
ня, когда мы находимся в средоточии их бешенства и испытываем ре-
зультат второго этапа их освобождения, мы еще не знаем, можно ли бу-
дет действительно как-нибудь остановить их.
Остались руины, оказывающие душевное и духовное воздействие на
мир, средоточием которых, реально говоря, стала потерявшая людей и
материальные ценности Европа, прежде всего Германия, а вокруг нее
вплоть до России, до Италии, Франции, Бельгии, Голландии и не в пос-
леднюю очередь Англии, руины, в которых, вероятно, погребены 12-20
млн. лучших людей; где остались бесчисленные раненые, матери, жены,
дети павших в боях, раненных и потерявших родину; и не только разру-
шенные города, но и древнейшие, считавшиеся неприкосновенными и
вечными памятники и документы европейской культуры, как в чудовищ-
ном костре, над которым развеваются клубы ненависти.
Вопрос, что нам делать среди этого невероятного разрушения челове-
ческой истории, задан нам и, будучи немцем, приходится признать — за-
дан нам, немцам; сегодня окруженные ненавистью, непосредственные
виновники - это мы не можем отрицать - этих чудовищных разруше-
ний, пусть даже, когда они начались, мы уже находились — правда, не без
собственной вины — в цепях террора. Трусостью и низостью было бы не
поставить этот вопрос со всей возможной глубиной, беспощадностью и
широтой, духовным дезертирством было бы считать это виной одного
человека, который как личность поистине не заслуживает снисхождения,
и его клики. Один человек со своей кликой, пусть он даже обладает чу-
довищной силой элементарного влияния, властью над темными силами,
рафинированной одаренностью, отсутствием укоров совести в своем во-
лении и едва ли не сомнамбулическим умением манипулировать масса-
ми, может совершить столь чудовищное, только если он встречает усло-
вия, которые собирают вокруг него силы и превращают его действия, где
бы он их ни совершал, в нечто возможное, внешне и духовно в извест-
ной степени подготовленное. Об этих условиях мы и говорили - о вне-
шних, лишь кратко их наметив, о душевно-духовных подробнее.
Мы должны начать с нового душевно-духовного воления, чтобы по-
нять и изменить внутренние, а затем внешние условия нашего сведенно-
го почти к нулю существования, если мы хотим попытаться духовно, —
а это возможно только духовно, — когда-нибудь вновь обрести место и
значение среди народов.
499
Глава седьмая
Сегодняшний день и наша задача
Более чем десять лет тому назад я писал: только новое универсальное
переживание нашего существования может спасти нас от вторгающего-
ся хаоса. Тем временем этот вторгшийся хаос сам дал нам, по крайней
мере мне, как я считаю, это универсальное переживание, охватывающее
все существование, весь наш существенный опыт, о котором идет речь.
Для того чтобы это переживание, этот опыт, обрели значимость по
отношению к поставленным проблемам, они должны быть новыми. Но
что значит в данном случае новыми? Внутреннее постижение, доступное
без предшествующей спекуляции, как внезапно открывшееся перед на-
шим взором проникновение за пределы окружающих нас внешних собы-
тий, является в качестве непосредственно полученного таким, которое
должно ретроспективно прояснить наше мышление и сделать его частью
нашего критически проверенного понимания. Однако оно нечто в прин-
ципе другое, чем то, которое обретено философски, — чем постижение
«пограничной ситуации», по терминологии Ясперса, которое может быть
только результатом интенсивной философской спекуляции. Наше пости-
жение, которое также следует критически-мыслительно проверить, нахо-
дится как непосредственно данное в начале процесса. Такое постижение,
поскольку бытие в своих основах неизменно и лишь в своем выражении
подвижно, не может быть новым в подлинном смысле. Оно может быть
только более или менее глубоким, схватывать больший или меньший
слой непосредственно доступной трансцендентности. И таким образом,
это постижение - лишь новая окраска непосредственно нам данного,
новое, которое следует из вариации поверхности исторического образа,
из «становления,» а оно есть не что иное, как изменение переднего пла-
на. Как в каждом проникающем в метафизическую область видении, и
здесь в полном и сознательном противоречии к совершенно неметафи-
зическому учению о становлении у Ницше, выросшему из неметафизи-
ческого периода XIX в. и носящему его черты, это - характер и граница
каждого возможного, неизменного в своей глубине постижения бытия,
его возможного нового выражения. Оно может быть только повторным
прорывом или открытием старого, давно познанного; «ново» оно только
постольку, поскольку оно получает от состояния сознания и постижения
социально-исторической ступени, от констелляции временного момен-
та свой особый облик и оттенок. Иными словами, это постижение дол-
жно идти из тех же глубинных слоев, что и прежние, и сущность транс-
цендентного слоя или слоев, которых оно касается, должна быть, даже
если способ выражения здесь иной, такой же, как сущность прежних.
Поскольку дело обстоит таким образом, мы говорили о предшеству-
ющих, недогматических, непосредственных постижениях и схватывани-
ях трансцендентности Запада, определили их представителей как маяки
и для сегодняшнего дня и извлекли из насыщенного догмами XVIII в. то,
что являет собой сверхдогматический прорыв, а не спекуляцию, т. е. не-
посредственно очевидное постижение и схватывание. Ни одно из этих
постижений и схватываний, ни те, о которых говорит Микеланджело, ни
500
те, о которых говорит Шекспир или Рембрандт, даже Гёте, не могут быть
сегодня приняты нами буквально. Они — маяки или путевые знаки: «Вы-
соко на старой башне стоит благородный дух героя»; они «приветствия
духов», как писал Гёте, посланные нам, сегодняшним, а это значит тем,
кто остался молодым, или молодым людям наших дней.
Я говорю при этом только как интерпретатор или посредник и обра-
щаюсь в сущности лишь к этим оставшимся молодыми или к молодым
людям наших дней, к тем из них, кто субстанциально постиг то, о чем я
говорю, или кто с пробудившимся вниманием готов и способен переме-
стить свое внешнее постижение в то, которое достигает их душевной глу-
бины, а это всегда означает — и в этом состоит моя задача — в трансцен-
дентную глубину, и мысленно прояснить ее; для тех, кто готов и спосо-
бен сделать из этого решительные выводы, прежде всего личностные.
Впрочем, я говорю не о тех, кто сознательно пребывает в одиночестве
среди этой молодежи: их значение, конечно, велико, но в выполнении
огромной задачи, задачи формирования, которая стоит перед нами и зак-
лючена в необходимых выводах, они пока вряд ли могут быть приняты
во внимание. Пусть они будут сохранены как высоко ценимые райские
птицы для другой эпохи!
Я не знаю, какая часть оставшихся молодыми и молодежи или вооб-
ще молодое поколение в среднем, выросшее в период Первой мировой
войны и чувствовавшее себя в промежуточный период с 1919 г. слабым,
поколение, на которое затем события, начиная с 1930 — 1933 гг. нахлы-
нули, как новый мир, — быть может, как первый подлинный мир, — ис-
пытало то, о чем я говорю, и готово сделать выводы, которые делаю я.
Первые мои впечатления в 1933 г. не были очень вдохновляющими. Впе-
чатления более молодого, выросшего с тех пор поколения были преиму-
щественно неопределенны. Однако отрезанность и невозможность пря-
мого общения в период террористического правления, из которого мы
вышли, могли породить известные привычки или ограничения углублен-
ного размышления, по крайней мере такого, из которого можно сделать
практические выводы. Ту своего рода в сущности позорную атмосферу,
когда возникает вопрос: «Все обстоит именно так, неужели же мне быть
столь безвкусным, чтобы восставать против этого?»; подозреваю, что эта
атмосфера была очень распространена и что тех, кто занял такую пози-
цию, быть может, нельзя полностью в этом винить. И вообще, ощуща-
ло ли в своей массе и более молодое духовное поколение и молодежь,
оставляя в стороне известные нам славные исключения и жертвы, ощу-
щала ли молодежь в своей массе это террористическое правление как то,
чем оно действительно было, как то, каким его ощутило бы каждое пре-
жнее поколение в нашей истории - позором, уничтожающим собствен-
ное достойнство? Не знаю.
Тем не менее я пытаюсь высказать то, что воспринято мной как уни-
версальное в большой концентрации опыта. И скажу это по возможно-
сти просто.
Прежде всего: Сущностью того, что происходило с 1933 г., было не
искоренение предрассудков и замена их чем-то подлинным, не отказ от
опустошенных идей, практически больше неспособных воздействовать
на существование, и появление новых содержаний, которые устранили
501
бы их, не уничтожение действительно мертвого мира миром новым, жи-
вым. Все это было только фасадом. Об этом свидетельствует сегодняш-
ний нулевой пункт.
Никогда бы не дошло до этого, если бы с 1880 г. по приведенным
нами причинам не поднялась бы та, противоположная прежнему духу
Запада волна, не произошел бы тот отказ от прежней глубины западно-
го мира и не выступил бы в качестве сокрушителя нигилизма, в действи-
тельности оказавшийся высшей его точкой, популяризованный Ницше,
то поистине антидуховное, которое наряду с аристократической распу-
щенностью в духовной сфере и брутальной распущенностью власти бу-
шевало, поднимаясь на все более высоких волнах в различных течениях
натурализма, империализма и национализма. Вступившая в историю со
всей своей кровью и низостью расовая идея с ее элементарным представ-
лением о наследственности, наложенной как гротескная схема на совер-
шенно непроясненную, как теперь, так и раньше, тайну наследования,
является лишь демагогически широко развернутым пустым и плоским
массивом; высота, достигнутая Западом после полного отказа от глуби-
ны, на которой только гримасничают рожи, там, где раньше был, прав-
да, не вполне различимый, но неизмеримо богатый духовный рост, — это
конец, больше ничего.
Я не намереваюсь скрывать слабые стороны устраненного у нас в Гер-
мании в 1933 г. порядка, его опасную приверженность тогдашней прак-
тической несостоятельности победивших в 1918 г. государств, не столько
ослепленных успехом, нет, и пребывавших в состоянии парализации
чувства реальности; на основе западной сферы, казалось, прочно стоял
наш тогдашний порядок, но она тем не менее отказывала ему в каком бы
то ни было утверждении своего престижа, пока не стало слишком по-
здно. Не буду я скрывать и внутренне конституционные слабости нашего
тогдашнего строя, который посредством избирательной системы по
спискам превратил свой центральный орган в обеспечение по старости
выслуживших функционеров всех видов и направлений, а посредством
пропорционального избирательного права — в борьбу групп интересов
при полном исключении из сферы политического влияния свежих моло-
дых сил; и это в момент, когда выбор нового способного правительства
должен был быть самой неотложной задачей каждого действительно от-
ветственного самоуправления народа, утратившего, Бог весть уже сколь-
ко времени, эти навыки. Я не собираюсь защищать все исторически лож-
ное сращение того, что в принципе следует принимать и что потом прак-
тически оборачивается неудачей. Все это я достаточно, пока еще, каза-
лось, для этого было время, публично критиковал, хотя, быть может, и
недостаточно жестко для заткнутых ушей, которым это было предназна-
чено. Во всяком случае несомненно одно: этот строй поистине не мог
вызвать у молодежи и более молодого поколения чувство, что здесь с
морского дна поднялась страна будущего.
Я знаю также, какое значение имело то, что все послевоенное устрой-
ство к тому же оказалось экономически и социально несостоятельным и
после происшедшего вследствие поразительной слепоты победителей
катастрофического кризиса 1929/30 г. оставило безнадежный упадок ми-
рового хозяйства и едва ли не непреодолимую безработицу. Что также
502
непохоже было на появление поднявшейся с морского дна страны буду-
щего.
Все это верно. Поиски, попытки нащупать путь, а также юношеское
опрометчивое согласие принять слишком дешево предложенное новое,
понятно; тем более в такой стране, которая, как Германия, попала сна-
чала душевно и духовно, а затем и материально под колеса мировой ма-
шины, в стране, ощущавшей себя в обладании несломленными виталь-
ными силами. Однако — вслед за тем и даже сегодня!
Дело не во внешних данных. Тот, кто хочет узнать, чего может пол-
ностью достичь тотальное террористическое правление, применяющее
контроль над порабощенным населением вплоть до последних жизнен-
ных фибр, контроль, умело использующий при этом самые примитивные
инстинкты, террористическое правление, опытное в массовой психоло-
гии и в выборе средств, если оно дает терпеливому и склонному к вяло-
му мышлению, любящему порядок и привыкшему к порядку населению
порядок и хлеб; причем население не подозревает, что этот хлеб мог быть
ему предоставлен только вследствие лихорадочной подготовки к войне,
следовательно, только как предвоенная закуска; кто хочет все это узнать,
может подробно познакомиться с первым периодом этого правления. А
кто хочет узнать, как затем ловко осуществляют свои замыслы и, нару-
шая торжественно данные обещания, ведут захватническую войну, в ко-
торой ведущая клика видит свое превосходство в вооружении и военной
силе, войну, которая могла закончиться только как мировая война; кто
хочет видеть, как эту войну превращают в дурман безграничной экспан-
сии с невиданной брутальностью; кто хочет ознакомиться с тем, как
можно принудительно использовать выдающиеся военные качества сво-
его народа так, чтобы он ради интересов не желаемой широкими масса-
ми правительственной клики, в конечном итоге ощущаемой ими как
враждебная, жертвовал последней каплей крови и едва ли не уничтоже-
нием собственного существования, — тот может тщательно изучить не-
обходимые тайные документы второй фазы этого правления, в той мере,
в какой они сохранились.
Здесь речь идет о душевно-духовном мире, замкнутом в эти события
или проявившемся в них. И следует установить: как к первой, так и ко
второй фазе этой окружающей нас сегодня действительности, становя-
щейся все страшнее, несомненно привели, используя в существующих
условиях различные возможности, личностные спонтанные факторы.
Однако как ни стремились создатели этой действительности всегда быть
освещенными светом рампы, все мы, как я полагаю, ощущали еще нечто
другое, причастное к происходящему.
Часто это выражают следующим образом: личная инициатива, кото-
рая ко всему привела, пала на очень плодородную почву. Однако этим
только повторяют указание на социальные условия. Но здесь было еще
нечто большее. Из почвы как бы вырастали силы; жаждущие власти, лу-
кавые гиганты действия, ранее неизвестные, возникали как бы из посе-
янных зубов дракона. И была непредставимая внутренняя готовность в
широких средних слоях населения, воодушевление которых, можно ска-
зать, оказалось вначале носителем этих сил. Ворвалось нечто неопреде-
ленно объективное, которое как общая душевная волна смыла все то, что
503
до сих пор считалось само собой разумеющимся и непоколебимо достиг-
нутым. Скрытая и скованная коллективная сверхличностная сила вне-
запно вырвалась из своего заключения. Она была отпущена, она подсте-
гивалась всеми средствами и затопила практически все.
Можно, конечно, пытаться толковать это методами коллективной или
индивидуальной психологии, связывая это с суггестивной способностью
и всеми ее условиями и предпосылками.
Однако подлинная сущность этого события тем самым не постигает-
ся. Что спокойные ранее, быть может, не слишком компетентные, но
безобидные люди внезапно превращались в бесчувственных крикунов,
которые не только предавались в дурмане воодушевлению ненависти, но
и искали в реалистически-циничном размышлении оправдания своих
ненавистнических инстинктов, даже участвовали в убийствах, кровавых
грабежах и преследованиях; что порядочные в прошлом люди оправды-
вали каждую, самую низкую ложь и насилие, даже ликовали в радостном
воодушевлении, что они сами находили трезво взвешенные меры для
брутального насилия над другими людьми и не только одобряли столь
глубоко лживые, низкие действия, но и поддерживали их практически,
в чем даже не было необходимости, интригами, доносами и клеветой, не
ощущая при этом собственной подлости, — это названными причинами
объяснить нельзя. Что люди, которые раньше отнюдь не были героями
в гражданской жизни, но все-таки сочли бы противоестественным пре-
смыкаться перед кем-нибудь, теперь не только участвовали в этом, но и
готовы были подозревать каждого, кто считал эту оргию раболепия по-
стыдной и не хотел принимать в ней участие; причем не в состоянии бе-
шенства, а после рафинированного холодного обдумывания отдавая тех,
кто мыслил иначе, часто собственных родственников, на расправу, — и
все это не как единичные случаи, а как выражение ставшего типичным
поведения - это распространение неописуемой низости с уже упомяну-
той внезапно возникшей готовностью спокойно взирать на страшней-
шую брутальность и подлость, если не участвовать в них, и сколь многое
другое, что раньше считалось невозможным, а теперь стало массовым
явлением, — было не просто следствием массового внушения. Это было
появлением, конечно, психологически стимулируемых, конечно, в осо-
бых условиях пробужденных, но коренящихся в больших, чем в психо-
логических глубинах сил. Это было подобно внезапно наступившему за-
темнению, в котором ощущался таинственный взмах крыльев неких сил,
о действии которых раньше читали в исторических книгах как о душев-
ных массовых эпидемиях, но реальность которых, тем более в собствен-
ном народе, никогда не казалась возможной. Взмах крыльев темных де-
монических сил: не существует другого выражения для определения их
сверхличностного и вместе с тем трансцендентного характера.
Ибо это были не длительное время оттесненные и скрытые воспита-
нием элементарные примитивные грубые силы, которые внезапно вновь
проявились, силы, следовательно, которые как соединяющее нас с хищ-
ником звено, следует предполагать в глубине нашей души. Для этого они
были в негативном смысле слишком душевно квалифицированы приме-
нительно к человеку, слишком, выражая эту квалификацию, низки.
Пусть «никто не жалуется на подлость, ибо она могущественна, что бы
504
о ней тебе ни говорили», — пишет, как известно, Гёте. Но ему, сказав-
шему это, было ведомо и демоническое, хотя он здесь и не связал это
непосредственно с названным. Мы пережили таинственную внутреннюю
сложность этих сил. Мы видели, как они умело настолько переплетались
с оправданными и одобряемыми требованиями жизни и убедительно со-
здавали целое, которое должно было вызывать отвращение и стыд, тог-
да как одновременно приходилось, по крайней мере вначале и в принци-
пе, утверждать связанные с ним жизненные требования. Мы видели лич-
ностное воплощение всего этого, которое обладало потрясающим двой-
ственным ликом подлого и оправданного и которое прежде всего вслед-
ствие этого сплетения ввергло мир в самую страшную для него катастро-
фу. Мы, зная и воспринимая, выстрадали все это.
Неужели мы будем настолько пошлыми, чтобы не заметить то глубо-
кое, что во всем этом присутствует, ведомый нам некогда пласт транс-
цендентного и метафизического, лишь одна сторона которого из многих
превратилась перед нашим взором на известное время в господина суще-
ствования? И если мы схватим этот пласт, хотя бы коснемся его снача-
ла в этой отправной точке, не будет ли это универсальным переживани-
ем существования, допускающим установление связи с прежними време-
нами через глубокую нигилистическую бездну?
Эта связь и следующая из нее ориентация не моральна, а трансцен-
дентна. Она не носит частный характер, напротив, будучи основана на
схватывании объективных сил, она, насколько распространяется круг
познающих, общесвязывающа. Она неудобна, ибо ставит нас перед ре-
шениями и каждый день требует от нас таких решений. И она связана со
схватыванием и внутренней реализацией еще более глубоких слоев
трансцендентности, о которых мы, впрочем, уже говорили, тех, которые
мы уже некогда, а именно в XVIII в., правда, в догматическом искаже-
нии или в большом упрощении, сознательно называли своими собствен-
ными.
На протяжении всей этой работы я называл непосредственной транс-
цендентностью то, что в настоящее время было познано со страшной
негативной стороны, в образе темной комбинации сил, и что сегодня
может быть сознательно постигнуто и духовно усвоено. Эта непосред-
ственная трансцендентность и весь напрашивающийся глубинный слой
существования имеет, это должно стать уже ясным, как свой второй лик
божественные черты, однако это не значит, что в рассматриваемый здесь
слой должен быть введен личностный Бог. Это трансцендентность есть
одновременно экзистенция, комбинация и действие сил, возвышающих
и очищающих, поднимающих нас и человеческое существование над
ними самими и поэтому рассматриваемых как божественные. Здесь не
преследуется цель довести до открытия и понимания какой-либо демо-
нологии. Мрачно демоническое, действие которого мы все ощутили, дает
нам как бы только краешек, потянув за который мы можем поднять за-
весу со всеохватывающей, всерасчленяющей, всеприсутствующей сферы
находящихся за миром явлений, в известной степени ближайших нам
метафизических сил.
Воспроизвести эту сферу в каком-либо систематическом членении
так же невозможно, как познать ее в непротиворечивом единстве и по-
505
вторить это постижение без логических противоречий. Ибо она метало-
гична. То, что может быть сказано о ней в общем, по возможности вне
какой-либо эмоции, с которой ведь всегда происходит ее исконное пости-
жение, может быть лишь фрагментарным указанием. И такие фрагмен-
тарные указания даны в последнем разделе данной работы.
Здесь же, рассказывая, мы продолжаем спрашивать.
Посмеет ли еще сегодня кто-либо утверждать, что мы можем отка-
заться от достижений XVIII в., от универсальной активной человечнос-
ти и свободы, которые мы отвергали? Речь идет не о тогдашней их фор-
ме, а о субстанции. Возник ли человек, человечество в данной ему «оп-
ределенности вида» из общего трансцендентного слоя, что следовало из
тогдашнего видения просто в качестве постижения без всяких спекуля-
ций? Является ли человечество как целое, правда, не единым существом,
как говорилось в красивых метафорах, но настолько связанным, что
только из этой в конечном счете единственной трансцендентной связан-
ности можно вообще понять исконное общее участие, понять, как про-
исходит концентрация этого участия в том, что мы называем дружбой,
уважением, любовью и т. п. Можно ли понять подобные сверхиндивиду-
альные, исконные связи, получающие в реальности многочисленные
кульминации и формы, но в действительности врожденные, лишь откры-
ваемые нами в их проявлении, что совершило христианство для универ-
сальной связи людей, для их общего единения в любви; можно ли понять
подобную глубинную интенсивность и подобные силы, которые надо
лишь довести до сознания, чтобы они действовали как всегда имеюща-
яся подпочвенная влага и регулировали бы как ставшая осознанной оче-
видность наши действия? В качестве очевидности! Ибо эта пробужден-
ная реализация человеческой связи не есть нечто искусственно в нас
привнесенное, выученное, когда эта реализация человеческой связи дей-
ствительно подлинна, т. е. возникает вследствие непосредственного про-
рыва или сама просачивается. Она существует как часть нас самих, точ-
нее, основы нашей сущности и поэтому она действующая и живая. (См.
также часть II.)
Мы видели, как весь этот трансцендентный сущностный слой может
быть засыпан, как он может быть настолько скрыт каменной пустыней
брутальности и холодной низкой подлости, что трудно поверить, что в
одних и тех же людях присутствует позитивная общечеловеческая сущ-
ностная основа и что все они вышли из одного объединяющего всех
трансцендентного слоя. Между тем это так. Люди многослойны. Понять
их можно, только если знать это и делать необходимые выводы в пред-
ставлении о господствующих и рецессивных задатках, которые создают
человека и могут действовать в нем попеременно; к этому нам еще при-
дется вернуться.
И далее. В XVIII в. знали, что человек как таковой рожден в своей
трансцендентной сущности для свободы. И каждый современный прони-
цательный естественник и биолог45, вводящий человека в мыслях и пред-
ставлениях в общую жизнь и в космос, может определить духовную осо-
бенность человека, его особое положение в общей жизни, только видя в
нем созданный для свободы вид и излагая это.
Мы не касаемся здесь того, что под данной свободой следует пони-
506
мать в философском или гносеологическом смысле. Фактом является
следующее: человек, только он среди всех существ, создает в меняющих-
ся решениях помимо естественных искусственные, им самим свободно
сформированные условия существования. И создает он их из своей сво-
боды. Поэтому только у него есть развитие цивилизации и меняющаяся,
им самим создаваемая история. Разве не правы были, следовательно, ве-
ликие поэтически вдохновенные провидцы XVIII в, видя в своей поис-
тине трансцендентной интерпретации природы и истории особое назна-
чение человека в обращенном к человечности собственном развитии по-
средством свободы? Или не прав был трезво мыслящий Кант, когда он
говорил, что цель в том, чтобы прийти от несовершеннолетия, а это зна-
чит от неумения пользоваться свободой, к совершеннолетию, т. е. к ее
самоконтролируемому применению? Не думаю. Они, зная, смотрели в
глубину, какими бы ни были покровы, в которые они облекали свое не-
посредственное постижение. Думаю только, что, как поэтические про-
видцы, так и философы еще не видели проблему самоформирования че-
ловека посредством свободы во всей ее трудности, еще не могли ее ви-
деть таковой.
Эта проблема подготовки человека для самоусовершенствования по-
средством свободы и самоуправления в свободе встает во всем своем зна-
чении и всей своей трудности только после того, как она применяется к
свободе масс. Как распространено и как будто подтверждено событиями
сегодня суждение о неспособности масс к свободе и самоопределению.
Ставшие знаменитыми книги, как, например, книга Лебона46, и громад-
ный опыт — о нашем последнем опыте в Германии я говорить не буду -
как будто обосновывают и подтверждают эту установку. И все-таки: вся
суггестивность масс, все возникновение в них общих демонических сил,
исключающих всякое самоусовершенствование и самоконтроль, наряду
с большой их некомпетентностью в суждениях по сложным вопросам,
нельзя считать решающими, — в качестве общего толкования такое нега-
тивное суждение было бы предрассудком. Ход событий, несомненно, за-
висит от темперамента людей, от традиции, от наличия эмоционально
принятого массой, исходящего из обстоятельств и правильно расценива-
ющего настроения масс и регулирующего его слоя вождей; следователь-
но, удастся ли преодолевать неизбежные недостатки масс в опасные мо-
менты, зависит от соответствующего обеим задачам психологического
влияния на массы и владения ситуацией, выбора элитарного слоя и от
лиц, которые выступят из него в трудные моменты. Но самое решающее
и важное - и это следует вопреки всем распространенным предрассуд-
кам подчеркнуть - качество характера массы в среднем, т. е. отдельных
составляющих ее людей.
Что значит здесь качество характера? Ответ: непоколебимая воля
иметь собственное суждение и твердая решимость действовать соответ-
ственно этому суждению даже во вред себе.
В Германии мы видели, к чему ведет отсутствие того и другого. Мы
были свидетелями того, как некогда в период расцвета городов, в пери-
од революционного движения в Германии и Реформации XVI в., упря-
мые в своем самосознании и столь же упрямо стремящиеся иметь соб-
ственное суждение немцы, те немцы, которые затем, уже укрощенные
507
длительным существованием государственной власти, все-таки еще
вплоть до революции 1848 г. были способны проявлять прежние чувства,
были после муштровки в течение трехлетней военной службы прусско-
го слепого повиновения и т. п., настолько деформированы, что превра-
тились в наши дни в кротких, подчиненных существующему порядку
овечек, неспособных ощутить даже спонтанное желание свободы, не го-
воря уже о том, чтобы предпринять какие-либо действия для ее завоева-
ния. Некогда они совсем не были таковыми, напротив, в том, что каса-
лось утверждения самоопределения, совсем иными.
И недопустимая узость делать общие выводы, исходя из этого или из
часто приводимой в качестве примера России, которая, впрочем, могла
бы претерпеть очень значительное изменение, или из опыта суггестив-
ности масс в стране с темпераментным населением и уничтоженным
слоем вождей, какой является Франция. Каждый, кто читал английский
роман об этой войне, в котором идет речь о психологии английских ра-
бочих, или имеет представление об установках или внутренних само со-
бой разумеющихся предпосылках существования американца - даже со-
вершенно рядового из массы, -- знает, с какой силой он проводил бы в
жизнь свое суждение (этим еще ничего не сказано о существующей там
подчас неотесанности, а иногда даже грубости). Кто не знает, что self-
control и self-government* — не лозунги, а вырастающие из формирования
характера свойства англосаксов, тот не поймет полностью сущность после-
дней войны и пусть поэтому воздержится от суждения о ней. Но ему не сле-
дует и делать какие-либо общие заключения о неспособности масс к свобо-
де. Он во всяком случае не должен стоять на пути тех, кто понимает, что
свободное правление в массовом обществе — прежде всего вопрос форми-
рования характера; и его дальнейшая предпосылка — соответствующее об-
разование избранного слоя. Облегчается это древней традицией и несом-
ненно не слишком зависящим от настроения темпераментом.
Некоторые, — не только сторонники высокомерного пафоса дистан-
ции, — придерживаются такой точки зрения: «Оставьте массы в покое,
оставьте их такими, как они есть. Там, где они остались незатронутыми
в своем историческом развитии, не надо их возбуждать; все дело в том,
чтобы воздействовать на тех немногих, кто практически или духовно ру-
ководит ими». На это следует возразить: никто не помышляет или не
должен помышлять о том, чтобы там, где еще сегодня сохранились спо-
собные к сопротивлению, не исчезнувшие, несмотря на цивилизаторс-
кое, экономическое и политическое влияние Запада, великие культуры,
которые вводят человека в бытие как его часть совершенно иначе, чем
Запад, не пробуждаемым в неутрачиваемом Я, а полностью погружен-
ным в космическое единение, — как в прежнем Китае, или метакосми-
чески предназначенным на своих высочайших вершинах к самораспаду,
как в Индии — никто не должен помышлять о том, чтобы вводить в эти
культуры практические европейские требования свободы; сколь ни не-
обходимо и здесь отстаивать, как это совершается применительно к пер-
вобытным народам, связывающие всех минимальные требования гуман-
ности. Вполне может быть, и это даже вероятно, что другие великие, ду-
" Самоконтроль и самоуправление (анг.1.).
508
шевно-духовно и сознательно иначе построенные исторические тела по-
стигают трансцендентную сущность человека иначе, чем мы, люди Запа-
да, и поэтому приходят к отклоняющимся от наших выводов осуществ-
лениям. Но разве наши западные массы не были взбудоражены и разве
они пребывают в других прочных формах постижений сущности транс-
цендентности? Нет! Они были грубо выброшены из некогда существо-
вавшего постижения трансцендентности в западном мире, присутство-
вавшего в догматических формах уже в христианстве, а затем в значи-
тельной степени были внутренне секуляризованы. У них отняли родину,
они были разбросаны и перемешаны; достаточно вспомнить, что поми-
мо общих капиталистических катаклизмов происходило в Германии за
последние 12 лет. Они материализованы, если оставить в стороне немно-
гие сохранившиеся неприкосновенными церковные анклавы. Их систе-
матически лишали высшего слоя людей, настаивая на возможном созда-
нии эксклюзивного расового продолжения рода и мнимого все решаю-
щего, хотя никогда не существовавшего сообщества народа. Короче го-
воря, они были унижены и превращены в стадо.
Неужели мы оставим их в этом состоянии? И имеем ли мы на это
право?
Я обращаюсь только к людям духовного склада. Мы, люди духовно-
го склада, хотим ведь свободы, духовной свободы. Мы ведь точно знаем:
без нее наша спонтанность будет сломлена, и мы будем беспомощно
порхающими, пойманными птицами, клюющими корм в клетках, и
больше ничем, будем отчуждены от самих себя. Но возможна ли сегод-
ня духовная свобода не на основе политической свободы? И возможна ли
сегодня политическая свобода там, где разбросанные, лишенные всех
традиций, материализованные массы пробудились и ревностно требуют
своих прав и своего признания, возможна ли сегодня политическая сво-
бода не как политическая свобода масс, что означает самоуправление
масс? Безусловно, нет.
Следовательно, самоуправление масс! И оно может означать, сколь-
ко ни варьировать это, практически только одно: там, где массы очевид-
но не по своей вине, а вследствие исторических условий, остались недо-
статочно компетентными для самоуправления, не только из-за узости го-
ризонта, составляющего основу их суждений, но и из-за недостаточно-
го формирования характера, необходимо стремиться устранить оба эти
изъяна, узость суждения и недостатки в формировании характера. Обу-
чение масс, обучение, которое дает жизнь, - ибо лучше всего усваивает-
ся то, что приходится постоянно повторять, и то, которое дается измене-
нием воспитания.
И здесь мы вновь после короткого отступления возвращаемся к тому,
на что мы раньше указывали как на возможность образования и преоб-
разования людей, а следовательно и масс. Прежде всего: отбор, не толь-
ко тех, кто квалифицирован для политического и практического руко-
водства, но и вообще людей высокого душевного и духовного уровня,
значительных по своему характеру, которые затем почти бессознательно
могут стать образцами и становятся ими; подобный отбор, ведущий к
духовному руководству, несомненно столь же важен во всех областях, как
и преобразование масс. Не существует более важной и более связанной
509
с преобразованием масс задачи. Ибо несомненно следующее: существу-
ют отбор и образование элиты и должно существовать образование эли-
ты, состоящей из духовно одиноких людей. Для них, —их не надо пред-
ставлять себе как совершенно обособленных, а видеть в них людей вы-
сокого духа, излучающих из своей исконной одинокой сферы плодотвор-
ное влияние, которое охотно принимается, без того, чтобы возникала
неизбежная проблематика, обычно связанная с образованием отборно-
го круга и преобразованием масс в их взаимоотношении друг с другом,
— для этих носителей действия, проистекающего из их бытия, из влия-
ния врожденных свойств, поведения и привычек, для этих духовно оди-
ноких существенны известные основы образования и возможности
внешнего существования. Однако сколь ни важно спасение посредством
этих одиноких людей, по своей внутренней сущности и своим ближай-
шим прямым задачам оно непосредственно не имеет ничего общего с
преодолением наступившей катастрофы. Иначе обстоит дело с другой
частью отбора элиты, которая в новую эпоху должна стать практически
и политически ведущей. Перед ней эта катастрофа, по крайней мере в
Германии, ставит огромную задачу, безусловно, задачу времени: для того
чтобы немецкий народ был спасен от полного неизбежно надвигающе-
гося на него экономического и политического крушения, для того что-
бы он помимо скудного хлеба видел цель, ради которой стоит жить, эта
цель может быть - в совсем ином смысле, чем говорил Ницше, — толь-
ко страной его детей, подготовить создание которой он помогает. Однако
эту страну своих детей должен создать народ внутренне преобразован-
ный, вернувшийся к самым древним глубинам; исходя из них, он - в той
мере, в какой не действуют старые церковные традиции, - должен спо-
собствовать появлению народа, по-новому воспринимающего свое суще-
ствование. Не организационно запатентованные взаимозаменяемые
люди, а народ, по-новому постигший трансцендентный смысл своего
существования, гордый тем, что он живет ради из глубины постигнутой
и поэтому не схематизированной, а многообразной и пестрой человеч-
ности. Живет в единении из трансцендентно обоснованной свободы, но
- чего в Германии еще никогда не было - ведущей отсюда в практичес-
кую и политическую свободу.
Так много говорят или говорили о культуре и о том, что будет совер-
шено или намереваются совершить в области культуры. Об этом уж луч-
ше молчать; тем более что в результате такой болтовни и всех прекрас-
ных намерений культурные свершения не возникают. Они суть, когда
приходит тому срок, — дар неба и времени. Говорить следует о челове-
ке и думать о нем как о человеке, в том числе и об отдельном человеке в
массах. Ибо из отдельных людей и состоят массы.
Единичный же человек, как было сказано, многослоен вследствие
совокупности воплощенных в нем задатков. В нем существуют домини-
рующие и рецессивные силы, они могут сменять друг друга в своем гос-
подстве. И они это делают.
Народ, массы народа и их характеры не только сосуществуют в одно
и то же время, но вследствие различных комбинаций задатков они раз-
личны - в известной степери различны в вертикальном сечении: но
прежде всего во временном развитии, следовательно в известном смыс-
510
ле горизонтально, так как каждый человек массы имеет рецессивные и
доминирующие задатки, господство и оттеснение которых меняется во
времени, — меняется и подвергается влиянию. Это изменение столь под-
вержено влиянию, что общий характер в среднем может стать почти не-
узнаваемо изменившимся.
Поскольку задатки суть воплощения сверхличностных, объективных,
душевно-духовных или биологически-элементарных сил, изменение мо-
жет происходить как бы в виде эпидемии, привнесенной извне такими
объективными силами в качестве доминирующих над существованием
людей. Однако это изменение может быть совершено и изнутри посред-
ством воспитания и образа жизни. То, что мы определили как ужасаю-
щие, господствовавшие в последнее время изменения характера немцев
среднего типа, вызванные вторжением темных демонических сил, при-
шло извне. Задатки, бывшие рецессивными, стали доминирующими и,
изменяя и чудовищно искажая, охватили значительную часть немецко-
го народа. От второго такого вторжения нам следует защититься, мы дол-
жны стремиться возродить и вновь сделать доминирующими те задатки,
которые почти исчезли в немце среднего типа, те, которые действовали
в нем раньше, действовали так же как неодолимое стремление к свобо-
де, как характерная зависимость от самого себя, как собственное опре-
деление своего бытия.
Если мы это совершим, если мы вновь разбудим силы универсальной
человеческой связи, которые были забыты, мы создадим будущее Герма-
нии, ее душевно-духовный фонд и тем самым нового немца, в котором
мы возродим основы прежнего немца.
Разве это не важная, не стоющая задача создать тип нового человека!
Первейшая, самая настоятельная задача отбора в Германии!
Конечно, решающим фактором будет также внешний образ жизни,
привычка к политическому и, насколько это возможно, к экономическо-
му и социальному самоформированию и управлению, активизация все-
го этого. Однако если нет личностного стимула, спонтанно работать не-
возможно. А личностный стимул должен сложиться с юности, благода-
ря воспитанию.
И необходимо констатировать: то, что в последние десятилетия пред-
принял, и с ложными целями, и только внешне достиг в Германии наци-
онал-социализм, а также то, что в Советской России удалось посред-
ством воспитания превратить лишенного всякой активности, вялого му-
жика во взыскательного, деятельного, восприимчивого промышленного
рабочего, показало чего можно достигнуть в преобразовании человека
при правильном подходе к молодежи и соответствующем воспитании.
Несомненно, активизация чистой рационализации или примитивных
националистических инстинктов легче, чем стоящая перед нами задача
создания большей духовной глубины, которая всегда должна иметь
трансцендентальную основу. Однако то, что произошло, свидетельству-
ет об открывающихся больших возможностях, которые могут быть поня-
ты, исходя из наших представлений, что воспитание, будь то школой или
жизнью, может быть действенно направлено на то, чтобы превращать
доминирующие или рецессивные задатки в одном случае в господству-
ющие и фиксирующие характер, в другом - чтобы оттеснить их на зад-
511
ний план. Никто не может прыгнуть выше головы. То, что должно быть
сделано и фиксировано господствующим образом жизни и воспитанием,
должно потенциально присутствовать. Речь идет только о том, чтобы
поднять его из глубины и придать ему важное, господствующее, опреде-
ляющее характер значение. Виртуально необходимые нам задатки в нем-
цах, также и в массах, присутствуют. А это значит, что их необходимо все
время подчеркивать, а для этого достаточно бросить взгляд на немцев
прежних времен.
Это не грозит тем, что подобное интенсивное воздействие на форми-
рование жизни или воспитание может и должно привести к однообраз-
но схематизированным образам или типам. Такое представление совер-
шенно необоснованно, ибо в человеке скрыто присутствует необычайное
многообразие задатков. Что поднятые на поверхность, эти задатки созда-
дут одинаково сформированных, уравненных людей, исключено, во вся-
ком случае там, где формирование жизни и воспитание направлены на
развитие и применение трансцендентно обоснованной свободы. Нет ни-
чего более неисчерпаемого, чем покоящееся на смешении имеющихся в
каждом человеке наследственных задатков многообразие индивидуаль-
ностей. И если сегодня они в массах, особенно в используемых аппара-
том массах, в целом ведут не к тому, что можно назвать развитой лично-
стью, а, напротив, к фрагментам людей, к живым частицам с тривиаль-
но одинаковыми в среднем потребностями, однотипными тривиальны-
ми влечениями к отдыху и едва ли не со схематизированно исчисляемой
реакцией, к начальным стадиям тех пугающих картин людей типа «белых
муравьев», то очевидно, какие трудности заключены в том, чтобы при
механизирующем воздействии аппарата вообще спасти в людях их Я,
которое должно действовать в них. И это спасение — наша величайшая
гуманная социальная проблема в духовной области.
Но если вообще можно что-то спасти в этом стиснутом в организаци-
онной машине современного аппарата человечестве, то лишь посред-
ством пробуждения в людях их природной спонтанности, а это значит
посредством культивирования и поощрения их задатков к свободе, осо-
бенно посредством политической свободы и возможного практического
самоуправления.
Делать непосредственные практические предложения о форме совре-
менной организации рабочих, инспирированные различными точками
зрения на развитие свободы и индивидуальности, которая во всяком слу-
чае так же важна, как развитие индивидуальности посредством полити-
ческой свободы, выходит за рамки данной работы и в значительной сте-
пени превосходит также фактические знания автора в этой области. Дать
здесь какой-либо ценный совет можно только при наличии детального
знания современного процесса труда, меры и границ его эластичности,
а также возможностей размещения в нем рабочих. Однако утешительным
может служить то, что ни «тейлоризированный» и «фордизированный»
американский, ни английский рабочий не утратили свою личность, не-
смотря на все противоположные представления. Оба они, несмотря на
чрезвычайное господство аппарата, обладают самостоятельным суждени-
ем и ревностно охраняют пользование своей самоопределяющей свобо-
дой, что на нашем языке означает — своей трансцендентно обоснован-
512
ной человечностью. Следовательно, неизбежной утрата личности быть не
может. Не может быть она и там, где духовный паралич сегодня еще зна-
чительно сильнее, во всяком случае в Германии, чем в рабочей среде, а
именно у служащих, которые вследствие очень сложных причин в сред-
нем превратились в духовной сфере поистине в стадных животных; раз-
рушенному теперь правлению они служили в таком своем состоянии
подлинной опорой. В других странах эти слои без какого-либо ущерба
поглощены обществом. Должны быть средства, насколько это необходи-
мо, преобразовать их душевно-духовно и пробудить в них также спонтан-
ность с направленностью на самоопределение и свободно углубленное
самоформирование.
Далее, что касается пользования свободой в собственном практичес-
ком существовании и одновременно его связи с трансцендентно обосно-
ванной сущностной свободой: сколь ни несомненно, именно в массах
при узких внешних жизненных рамках самоуправляемая свобода преж-
де всего нацелена на расширение этих внешних рамок жизни, следова-
тельно, преимущественно на ее материальную сторону (оплата труда,
рабочее время и т. д.), это самоопределение в таком выражении одновре-
менно является символом. Символом безнадежно потерянного в суще-
ствовании в качестве рабочей силы самостоятельного бытия человеком.
Над каждым выступлением рабочих за улучшение своего существования,
над каждой возникающей вследствие этого борьбой рабочих и каждой
почти всегда связанной с этим угрозой их материальному существова-
нию, на стороне рабочих всегда парит как гений воля к свободной чело-
вечности. Он возвышает это борение, эту борьбу и освящает поставлен-
ное этим под удар существование.
Конечно, свободная борьба за материальные интересы, следовательно
хозяйственная свобода, как общее требование, в принципе не имеет ниче-
го общего с субстанциально трансцендентной свободой, о необходимости и
возможности развития которой мы говорим. Все глубоко ложные отрицания
мнимо устаревших принципов свободы происходят вследствие смешения
действительно устаревшей сегодня экономической свободы, которая явля-
ется делом случая, с трансцендентно обоснованной свободой сущности че-
ловека, по-человечески конститутивной. Следовательно, хотя борьба за эко-
номическую свободу как таковую в принципе не обладает тем упомянутым
нами освящением, но над борьбой рабочих, как будто направленной толь-
ко на их материальные интересы, над борьбой рабочих, существование ко-
торых всегда находится под угрозой, сияет, как нечто особенное, свет борь-
бы за свободу, за свое бытие человеком. Здесь действия в защиту матери-
альной свободы следует оценивать иначе, чем в рамках общей экономи-
ческой свободы.
Тем самым мы получаем из вполне конкретной жизненной ситуации
отчетливое указание на границы и подтверждение сущности того, что мы
здесь определили как необходимую, по крайней мере в развитии запад-
ного сознания, ужасным образом в Германии утраченную, трансценден-
тно обоснованную свободу, влияющую на практику и политику, свобо-
ду, которую мы должны вновь обрести, чтобы выполнить наше челове-
ческое назначение. Пользованию этой свободой, ее внутреннему и внеш-
нему построению, нам придется долго учиться.
17 3ак. 3073
513
Ясно, однако, и как освещающее день и ночь это надо всегда иметь
перед глазами: наша задача состоит в преобразовании немецкого массо-
вого человека из терпеливого и послушного стадного животного в тип
самостоятельного, прямого, самосознательного, ревностно защищающе-
го свои права на свободу человека. И такая задача, если направленное на
это, интенсивное воспитание создаст должную подготовку и будет пре-
доставлена возможность заниматься практической и политической нами
самими определенной деятельностью, не является невыполнимой.
Правда, при нынешнем положении дел, после того как мы провали-
лись в бездну, внешне в значительной степени будет зависеть не от нас,
а от других, будет ли и как будет предоставлена нам эта возможность. Что
без такой возможности немецкий народ в своей массе не может быть
«преобразован», — а это означает, что без нее другие, имеющиеся в нем
задатки не смогут стать господствующими и вытеснить те, которые се-
годня находятся на переднем плане, задатки только послушного, готово-
го повиноваться человека, — должны бы понимать и победители. Не бес-
конечное военное управление, не оккупация, не полицейские меры и
политическое порабощение, а связанный с интенсивным воспитанием
доступ к свободному самоуправлению, — только это может способство-
вать названному преобразованию и здоровому, прочному, теллурическо-
му вхождению немецкого народа в мировое сообщество. Следовало бы
знать, что какой бы контроль ни сочли необходимым на обозримое вре-
мя - есть только один путь достигнуть одновременно трех результатов:
собственной безопасности, к которой естественно, стремятся все, успо-
коения Европы и мира и, наконец, необходимого по человеческим и мо-
ральным причинам, естественного, не искаженного, поэтому длительное
время действующего введения великого старого культурного народа, ка-
ким являются немцы, в новую создаваемую теллурическую целостность.
Нам же в связи с нашей собственной задачей следует еще иметь в
виду следующее: необходимо наметить и избрать элиту высокого уровня,
способную осуществлять практические, политические и иные реальные
функции управления. Ту элиту, на личностные результаты которой мо-
гут в духовной и личностной сфере ориентироваться как на синтезиру-
ющее дополнение массы. До сих пор у нас фактически нет никаких при-
знаков действительного проведения подобного отбора. То, что можно
было рассматривать как подступы к этому или остатки прежних возмож-
ностей, тех возрождающих надежду в молодом поколении, кто муже-
ственно противился диктаторским тенденциям и мерам и по возможно-
сти практически действовал соответственно этому, этот режим устранил,
просто говоря, уничтожил. Он был изобретателен в формах «решения»
без шума, изобретателен в устранении опасности, которая заключалась
для него в этих остатках элиты и ее возможностях. Ведь эти люди были
единственными, кто мог эвентуально прийти им на смену. Теперь была
создана tabula rasa*. Произошла страшнейшая безмолвная трагедия. В
будущем, помимо известных имен, будут названы еще многие другие,
забывать которые мы не должны. Сегодня приходится создавать почти из
ничего. И всем пожилым людям, которые вернутся из других стран или
Чистая доска, здесь отсутствие каких-либо препятствии (.шт.).
514
как-то сумели спастись внутри страны, тем из них, кто сразу же или поз-
же будет привлечен к руководству или правлению, следует со всей стро-
гостью сказать: после страшного несчастья, последовавшего за так назы-
ваемым «периодом действия системы», вам необходимо по крайней мере
так же заботиться о вашей смене, о механизме и содержании группы лю-
дей высокого духовного уровня для выполнения практических и полити-
ческих функций, как о том, чтобы несчастный, измученный немецкий
народ был бы в ближайшее время обеспечен работой и хлебом и обучен
самоуправлению. Если вы не совершите это удовлетворительно и пра-
вильно, прежде всего не эгоистически, в готовности своевременно усту-
пить место способной молодежи, то вы достигнете лишь того, что за
правлением некомпетентных людей последует очередная катастрофа.
Cavete!*
Людей такого отбора, такой элиты, мы представляем себе, конечно,
как действующих прежде всего в практической, в политической сфере,
обладающих практическими знаниями, открывающими перед ними по
возможности широкий горизонт современности и истории, но, в первую
очередь, знающих, что высшей ценностью жизни является человек и его
развитие и что это развитие, в глубоком понимании, может распростра-
няться на повседневность, на рядового, среднего человека лишь при по-
стижении трансцендентального плана человеческого и общего существо-
вания; и этот трансцендентальный план только и дает указание, как об-
ращаться с людьми и к чему для них стремиться, дает необходимое каж-
додневное решение, как вести себя в борении сверхсубъективных и
объективных сил бытия, как в нем ориентироваться и вместе с этой ори-
ентацией и видением объективного, требующего от нас Да и Нет каче-
ства этих сил, — спасение от сегодняшнего витализма, беспочвенного
релятивизма и субъективизма, спасение от нигилизма.
Этим можно было бы закончить в такое время, в которое, как будто
превосходя все внутренние проблемы, перед нами не стояла бы, как
страшный призрак, проблематика внешнего существования, где все раз-
говоры о душевно-духовном и его целях могли бы потонуть в преиспол-
ненном отчаяния или ненависти распаде собственного народа, и перед
этим народом вновь не возникла бы угроза, хотя, быть может, иначе, чем
прежде, быть ввергнутым в бездну.
Это надо ясно понимать и одновременно знать: вынести невероятную
тяжесть своего существования, в которое немецкий народ был легкомыс-
ленно ввергнут вследствие катастрофы на многие годы и десятилетия,
смириться с невосстановимым разрушением своей родины, с бедностью
и унижением после ухода из жизни, вероятно, наиболее значительных
его представителей, большей части молодых мужчин, после уничтожения
ценнейших памятников его культуры и утраты его печатных духовных
резервов, — перенести свое не только политическое, но и социальное, и
экономическое жалкое состояние, сокращение его человеческих и вне-
шних духовных возможностей, преодолеть это «разрушение Карфагена»,
ставшего его судьбой, необходимость компенсировать потери других на-
родов, что долгое время будет мешать ему восстанавливать свою эконо-
* Берегитесь! {.шт.).
515
мику и культуру, преодолеть все это он сможет только в том случае, если
перед ним в его физическом и витальном состоянии будет стоять общая,
не только внешняя, но и душевно-духовная цель. У него должен быть
серьезный импульс воления, а этот импульс может состоять только в
большой надежде. Мы попытались здесь показать душевные рамки и,
насколько это нам дано, элементы душевно-духовного содержания такой
надежды.
Попробуем еще кое-что добавить; быть может, оно даст некую мате-
риальную основу надежде. Сегодня нелепо представлять себе страну, на-
род, духовно или материально, иначе, чем в рамках великих теллуричес-
ких условий, которые возникнут в качестве результата этой войны, об
очертаниях которых шла речь в начале данной работы, поскольку они
являются решающими для всего грядущего.
Как материальное теллурическое особое образование Европа в пре-
жнем ее понимании равных по своему значению конкурирующих госу-
дарств перестанет существовать. Как конкретно распределится сфера
власти между русским востоком и англо-американским западом, которые
вторгнутся в Европу и будут держать ее, прежде всего Германию, под
контролем - и, по нашему опыту, под военным контролем, — еще, не-
смотря на схематично известные планы образования высших инстанций,
теллурических и европейских комиссий, неясно. Это должно отчасти за-
висеть от установления новых больших сфер власти и от степени, в ко-
торой они внутренне готовы подчиниться единому, гуманитарно дей-
ствующему контролю. Всякие пророчества здесь тщетны.
Несомненно для Германии лишь следующее: внешне материальное и
имеющее непосредственное влияние на материальное духовное. Если
уже прежняя система конкурирующих государств как таковая вообще
устарела, и конкурировавшие раньше государства будут неминуемо вве-
дены в контролирующую систему совместно действующих больших
групп, следовательно, окажутся в лучшем случае полусуверенными и ста-
нут в ходе исторического процесса, исходя из важности своих задач,
крупными или мелкими административными органами, то Германии, во
всяком случае в первое время, не будет предоставлено даже право на соб-
ственное управление. К тому же она будет сначала лишена почти всех важ-
ных в смысле новых установлений элементов управления. Исторически
после предшествующего ужаса понятно, что ее промышленный потенциал
будет взят под контроль во избежание возможного повторения.
Есть, быть может, одна спасительная возможность устранить необхо-
димость унизительного для немецкого народа контролирования, прежде
всего отторжения и разрушения необходимых для его существования до-
стигших высшего экономического уровня отраслей промышленности, а
именно: огосударствление или, еще лучше, превращение ряда решаю-
щих, военных по своему потенциалу, отраслей промышленности (тяже-
лой промьииленности, химической промьииленности) в корпоративные
государственные предприятия под контролем международных организа-
ций44. Тем самым было бы удовлетворено и справедливое желание ис-
ключить политическое злоупотребление частного капитала, которое со-
вершалось в этих отраслях промышленности, а также потребность в по-
стоянном надзоре.
516
В этой связи следует сказать: надо надеяться, что союзные державы не
совершат, несмотря на понятную ненависть и волну народных инстин-
ктов, такую ошибку, не отделят от Германии связанные с ней по языку,
культуре и внутреннему чувству области. Этим они с самого начала пре-
секли бы возможность духовного процесса выздоровления и преобразо-
вания Германии, который ведь служит предпосылкой общего мира. И,
во-вторых, следует иметь в виду: основные потенциальные природные
ресурсы тяжелой промышленности Германии сгруппированы вокруг ее
центра на границах. Германия, которую лишили бы их, чей внутренний
промышленный круговорот был бы этим безнадежно нарушен, чьи рабо-
чие были бы вследствие нарушения этого круговорота лишены хлеба,
превратилась бы в гниющий, неизлечимый, заразный рассадник голод-
ного тифа в центре прежней Европы. Ибо Европа, сколь фундаменталь-
но она не изменит или не утратит свою прежнюю политическую струк-
туру и свое значение, необходимо будет вынуждена в какой-то мере вос-
становить свою прежнюю экономическую структуру для процветания
своего густого населения. Всем известно, что Италия не может существо-
вать без поставок из Германии угля и изделий тяжелой промышленнос-
ти, с одной стороны, и без экспорта в Германию избытка своих фруктов
— с другой, что Балканские страны будут испытывать большие затрудне-
ния без обмена своего табака и зерна на промышленные изделия Герма-
нии и т. д. Все это примеры экономической интеграции Европы, зави-
симости благосостояния одной ее части от другой, необходимым компо-
нентом чего является находящаяся в центре Европы Германия, с ее гус-
тым населением и большой производительной силой. Без поставок и по-
купательной способности Германии невозможны в полном объекте по-
ставки и покупательная способность других частей Европы, лежащих
вокруг Германии, в силу экономической и климатической необходимо-
сти экономически с ней интегрированных регионов и населений.
Эта экономическая интеграция, оказавшаяся способной, несмотря на
все препятствия, восстановиться даже в столь изменившейся после рас-
пада Австро-Венгрии Европе после Первой мировой войны, выступает
как основной европейский феномен. В тяжелые послевоенные годы она
почти полностью восстановилась в прежнем виде и силе.
Поскольку эти факты европейской экономики основополагающи и
стоят над всей политической раздробленностью, указывая способ введе-
ния Европы в мировую экономическую целостность будущего, они
были, как только стали обозримы после мировой войны, подробно ис-
следованы по моему предложению и под моей редакцией49. Обе возник-
шие таким образом работы о «европейской промышленности после вой-
ны» и об «экономической интеграции Европы» показали, что под дан-
ным углом зрения следует различать, не обращая внимания на полити-
ческие границы, индустриальную центральную Европу и преимуществен-
но аграрную окраинную Европу, в первую входят помимо Англии, Герма-
нии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Швейцарии прежде всего
Восточная Франция и Северная Италия, а также Австрия и Чехослова-
кия; во вторую — остальные лежащие вокруг них регионы. При этом со-
средоточение промышленности в центре Европы произошло, что оче-
видно, не вследствие случайных исторических причин, а обусловлено
517
наличием в этих странах или окружающих их регионах потенциальных
факторов тяжелой индустрии и сырья и разрабатывающих их шахт и
предприятий; между ними или вблизи от них преимущественно возни-
кали ориентированные на рабочую силу промышленные предприятия,
нуждающиеся в угле и т. п. Глядя на оживленную циркуляцию в этом
экономическом теле Европы, становится несомненным, как показывает
вторая работа, что для оставшихся по преимуществу аграрными окраин-
ных частей Европы ее индустриальный центр служит рынком сбыта, а
они вывозят оттуда промышленные товары. (Первое в 1930 г. в среднем
80%, второе - 83%.) Эти окраинные области, совершенно очевидно, еще
не достигли полного промышленного развития или представляют собой
в силу природных условий и общих обстоятельств не предназначенные
для этого регионы экономического тела Европы, полностью зависящие
в своем сбыте и поставках от благосостояния ее индустриального цент-
ра. Сам же центр Европы - по своей тенденции очень своеобразно ин-
тегрированное и входящее в мировую экономику образование. Он, не-
смотря на все трудности, после Первой мировой войны остается интег-
рированным в происходящие индустриальные процессы телом вслед-
ствие прорывающейся тенденции, соответствующей естественно предоб-
разованной и данной действительности. Различные части ядра Европы
являются взаимно лучшими потребителями, обменивающими друг с дру-
гом почти половину своего экспорта. И этот обмен наполовину состоит
из промышленного сырья и полуфабрикатов, следовательно, представля-
ет собой движение внутри интегрированного в себе процесса производ-
ства; причем различные стадии этого процесса распределяются по луч-
шим местам его совершения и, обмениваясь, дополняют друг друга до
полного изготовления товара. Половину своих промышленных продук-
тов центр Европы поставляет странам внутри Европы, причем незначи-
тельную часть - окраине Европы из-за ее относительно слабого разви-
тия и низкого уровня потребления; вторую часть товаров европейский
центр направляет в страны вне Европы, откуда он получает более 30%
продуктов питания, которые он оплачивает товарами, транспортными
услугами и процентами с инвестированных там капиталов. Очевидно,
что бывшая столь расщепленной политически Европа является по своим
природным условиям и своей истории экономически тесно связанным,
особенно в ее центре, единством, части которого для полного осуществ-
ления своих возможностей зависят друг от друга. И эта констатация
включает в себя и входящую в Британскую империю Англию, которая
еще в 1930 г. направляла 32,1% своего экспорта в Европу, а также импер-
скую, как будто столь независимую от ввоза Францию, поставлявшую
туда 64%. Европа - это тело, интегрированное индустриальное ядро ко-
торого теснее связано посредством сбыта сырья, продуктов питания и
готовых товаров с внеевропейскими странами, чем с экономически от-
носительно слабыми окраинными областями Европы; однако и они,
Средняя и Северная Италия, Греция, Испания, Скандинавия и т. д., а
также — это надо прежде всего подчеркнуть — центральные, прилегаю-
щие к Германии или связанные с ней области, не могли бы благоден-
ствовать, если бы она экономически пришла в упадок, запустела или за-
хирела.
518
После Первой мировой войны интегрированное экономическое тело
Германии в сущности оставили, несмотря на тяжелые контрибуции, не-
затронутым. Это послужило основой не только относительно быстрого
восстановления Германии (остановившегося вследствие прерванного из-
за глубокого кризиса кредитования), но и всей Европы. Вес Европы в
мировой торговле также упал под влиянием политических и психических
факторов, связанных с этой войной (с 37,0 до 30,6%), быстрее, быть мо-
жет, чем это произошло бы само собой под действием роста значения
капиталистически более молодого мира.
Противники Германии должны, несмотря на оправданные, к сожале-
нию, в данном случае репарации, которые они возложат на Германию,
понимать, что в их собственных интересах им не следует экономически
разорять Германию. От этого в значительной степени зависит восстанов-
ление всей Европы и, как следствие ее сохраняющегося значения, всего
мира. Так же как психологически было бы неправильно поставить вслед-
ствие понятного возбуждения Германию в условия, которые ведь долго
продлиться не могут, они этим нарушили бы одновременно собственные
правильно понятые материальные интересы. Не экономический очаг
гниения и нужды в центре Европы, заразный для других, может служить
в будущем интересам Германии и Европы и мира, а оставшееся в своих
естественных условиях жизнеспособным, хотя и выполняющим неиз-
бежные обязательства, экономическое тело Германии.
Оно, вероятно, на длительное время утратило свое прежнее самокон-
тролирующее государственное существование. Германия должна рас-
сматривать это как неизбежное следствие того, что принесли в своем не-
исправимом безумии миру и самой Германии ее последние правители.
Даже если когда-нибудь Германия вновь вступит в нормальные внешне-
политические отношения, она больше не будет входить в число главных
великих держав мира. Надо надеяться, что она займет соответствующее
ее рангу положение в консультативном совете Европы, следовательно,
будет участвовать в синдикальном управлении Европой при сохраняю-
щемся контроле над ее потенциальным вооружением. Суверенным, сво-
бодным, конкурирующим государством в прежнем смысле она посред-
ством этого не станет. С ее существованием в прежнем смысле поконче-
но. Таково наше прощание с предшествующей историей.
Культурные нации прежде всего с духовно свободной суверенностью,
но уже не свободно соревнующиеся государства, и комиссии, состоящие
из синдикалистских инстанций, которые будут проводить их экономи-
ческую и общую политику, — таков новый исторический тип.
Европа, и особенно ее центр, Германия, должны организоваться на
свободной демократической основе, представляющей человеческое дос-
тоинство и человечность, как только ей предоставят для этого свободу
действий. И для этого Германия должна, как здесь было указано, присту-
пить, наряду с внешне необходимыми мерами к внутренне наиболее не-
обходимому, к воспитанию масс в духе политической свободы и к под-
готовке отбора ведущих деятелей, к образованию элиты. Наряду с сохра-
нением своего экономического единства, Германия должна больше всего
стремиться к сохранению суверенности в своем воспитании, без которой
она не может даже ставить себе задачу духовного обновления и измене-
519
ния. И всем чуждым властям также должно быть ясно: дух нельзя при-
нудить, он веет где и как он хочет. Эти власти должны доверить самому
немецкому народу его духовное возрождение и преобразование его ха-
рактера. Все остальное дало бы только надежду на реванш и желание
протиснуться в какие-либо щели синдикалистского формирования мира
и другие опасные чаяния, что может привести лишь к самому дурному.
Добрая воля к самовозрождению и самопреобразованию обнару-
жится в Германии после страшных опытов, связанных с существовав-
шей духовной установкой и с собственной чудовищной бесхарактер-
ностью, если только для этого ей будут предоставлены необходимые
атмосферные условия. Формировать в Германии людей с прямым ха-
рактером, желающих самостоятельно управлять собой, которые по-
средством необходимого расширения горизонта и обучения, посред-
ством ежедневного самостоятельного толкования своего образа жиз-
ни научатся иметь свое суждение, это, может быть, и будет тогда ве-
ликим само собой разумеющимся желанием немецкого народа после
его страшного падения.
Уяснить несколько внутренних целей для исполнения этого желания,
которому придется бороться с величайшей внешней ясностью матери-
ального существования, показать глубокую трансцендентную основу это-
го желания, таково было, наряду с изображением внешних социальных
преобразований общих условий, намерение автора данной работы. Она
написана прежде всего для тех, кто, действуя в духовной сфере, хочет
посвятить себя в качестве элиты осуществлению этого желания. Наши
прежние воспитатели и наш прежний отбор оказались несостоятельны-
ми. Так обратимся же к новому типу воспитания и иному вдохновенно-
му характеру отбора. То и другое внутренне связано. Мы будем нищен-
ски бедны, у нас будет сначала немного воспитателей, действительно
пригодных для того, чтобы заниматься новой великой задачей преобра-
зования народа, в целом мы будем следовать прежним привычным путем
воспитания и отбора элиты. Если мы хотим наметить путь к интенсив-
ному преобразованию характера и к расширению способности суждения
уже в процессе воспитания, нам следует вспомнить, что в якобы отста-
лой в культурном отношении России установлена норма 20 учеников —
учеников народных школ! — на одного учителя, и этим кое-что достиг-
нуто. Идти в народ и проводить преобразование характера его суждений
посредством интенсивного воспитания, это стремление должно проник-
нуть в души нашей существующей или складывающейся духовной эли-
ты. Есть ли что-либо более прекрасное и ценное, чем еще не испорчен-
ный молодой человек, человек, в которого можно внедрить новый иде-
ал? Дерзкой нелепостью было желание создать сверхчеловека, призрак
ростка духовной роскоши; создадим сначала человека посредством из-
влечения ставших рецессивными и оттеснения бывших до сих пор гос-
подствующими задатков из его врожденной многослойности.
Это надлежит начинать в широком смысле и в большом масштабе.
Перед нами две огромные, но вполне выполнимые задачи: заменить се-
годня шний тип среднего немца другим средним типом и сегодняшнюю,
по преимуществу жалкую бездуховную элиту иной. Да, человек суще-
ствует для того, чтобы быть преодоленным. Однако не каким-либо фан-
520
томом, который в своей заносчивости требует пафоса дистанции, а чело-
веком, который, действуя в массах, проявляет сильный характер и обла-
дает свободой, а действуя в элите, — преисполнен глубиной, имманент-
но-трансцендентной глубиной, которую некогда видели и ощущали ве-
ликие, лишенные догматичности прежние люди Европы.
Тогда этот человек сможет выносить свои решения; сможет сам ска-
зать Да или Нет; тогда в нем будет заключено ясное однозначное чувство,
даже если он настолько сложен, насколько он должен быть таковым в
качестве развернутого явления. Тогда он может жить как свободный
гражданин, ощущая свое человеческое достоинство, как бы он ни был
беден и лишен всех материальных благ. Это то, что нам нужно. В этом
наше будущее.
Фрагменты к непосредственной трансцендентности
Преамбула
То, что здесь предлагается читателю, не есть, как было сказано в тексте,
философское, т. е. логически доказанное познание. Это - только фраг-
менты толкования ряда постижений, которые касаются основ внешне
эмпирического, следовательно, ищут метафизического толкования.
В основе этого толкования лежит происходящее из опыта познание о
существенном различии двух, конституирующих внешний и внутренний
опыт факторов, о различии между происходящей из невидимых, непос-
тижимых основ спонтанности как несхватываемой в своем происхожде-
нии силы, и того, в чем она осуществляется. Мы называем второе сово-
купностью условий, в которой происходит это осуществление и в кото-
рой оно получает свое конкретное выражение.
Это различие, сколь оно ни дуалистично, не имеет ничего общего с
различием между духом и природой или духом и материей, которые суть
постоянно оспариваемые, понятийно дедуктивно выведенные противо-
положности. Наша же противоположность следует из непосредственно-
го постижения, в соответствии с которым в природе и в материи действу-
ют активные спонтанные силы, а то, что называют духом, в нашем по-
нимании есть лишь особая форма выражения пронизывающей все суще-
ствование спонтанности44.
Все дальнейшее последует из сообщаемых фрагментарых толкований
нашего постижения.
521
1. Непосредственная трансцендентность (сущность и постижение):
трансцендентность в неживом
Непосредственной или имманентной трансцендентностью мы будем на-
зывать то, что в мире явлений и в нас самих, поскольку мы его часть,
предстает перед нами как непосредственно познанное, когда мы задаем
себе вопрос, что мы не можем понять из совокупности условий этого
мира явлений.
При каждом анализе явлений как внешнего, так и собственного внут-
реннего мира , мы обнаруживаем, что никогда не можем постигнуть как
логически дискурсивно понятное и формулируемое подлинные причины
воспринимаемого нами, а постигаем только условия и комбинации усло-
вий, среди которых всегда действуют, правда, входящие в эти комбина-
ции условий, но по своему характеру совершенно иные, в своей сущно-
сти таинственные для нас власти или силы.
Когда физик старого склада формулировал законы силы тяготения и по-
лагал, что этим он «объясняет» движение небесных тел, то лишь вследствие
наших мыслительных привычек мы не понимали, что этим уясняется толь-
ко комбинация условий, в которых остающаяся нам по существу совершен-
но таинственной сила, сила тяготения, выражает себя в мире явлений.
Подобное происходило или происходит, когда химик разлагает «матери-
алы» нашего мира явлений на элементы и наряду с композиционным пост-
роением материалов констатирует и представляет в формулах сродство или
несродство элементов. При этом сродство для нас также нечто таинствен-
ное, только констатируемое, в качестве такового недоступное понимание,
для выражения которого в мире явлений мы лишь устанавливаем в постро-
ении элементов комбинацию условий, в которых она действует.
Нам нет необходимости, следовательно, обращаться к современной
физике, которая в попытке постигнуть последние действующие элемен-
тарные частицы мира явлений оказалась вынужденной отбросить его
пространственно-временное облачение, другими словами, прорвать мир
явлений с его созерцаемостью, и затем находить искомое в нефиксиру-
емой точно условиями неопределенности, которую она пытается охва-
тить вероятностными исчислениями. Нам не нужно следовать путем этих
выдающихся исследований, придавших всему миру явлений в его эмпи-
рическом освещении известную прозрачность, сделав для нас в извест-
ной степени постигаемым невидимое в качестве факторов построения
мира; можно сказать, что эти исследования способствовали тому, чтобы
уже в построении как будто самого нетрансцендентного, «материи»,
сквозила трансцендентность. Этот способ постигать трансцендентность
в мире явлений, доступный только на сложных путях и не непосред-
ственно, мы можем оставить в стороне. Уже старый, привычный, срав-
нительно совсем простой способ, объясняющий нам процессы неживо-
го мира, оказывается при ближайшем рассмотрении анализом, при ко-
тором мы вводим в мир явлений в качестве причин трансцендентные,
имманентно в нем действующие силы (тяготение, сродство); для них мы
констатируем в наших математических формулах, отражающих процес-
сы действительности, совокупность условий их действия, и не более того.
522
Таким образом, мы уже в неживом, пытаясь постигнуть его функциони-
рование в математической закономерности как чисто механическое, ока-
зываемся окружены чисто трансцендентными силами или властями в ка-
честве подлинных причин происходящего. Непосредственная, имманен-
тная трансцендентность предстает нам уже в неживом.
2. Непосредственная трансцендентность в чисто витальном.
(Биологическая трансцендентность)
Уже в той биологии, где последовательность ступеней в развитии живо-
го рассматривалась преимущественно как следствие влияния среды, т. е.
окружающих условий, и как его механически понятая реакция на среду,
живое оставалось таинственным по своей сущности, таинственным, со-
вершенно отличным от мира условий, значение которого констатирова-
лось, чем-то в отличие отданных механистического каузального анали-
за трансцендентным. Ибо если рассматривать пластичность, спонтан-
ность и целесообразную направленность непосредственно воспринима-
емых нами свойств каждого носителя жизни как механические реакции
(химическую и т. п.), мы просто сводим эти свойства к другим абиоти-
ческим, непосредственно трансцендентным факторам. Но прежде всего:
это никоим образом не объясняет их подлинную сущность, которая по-
всюду проявлялась в незримо содержащихся в них собственных интен-
циях и использовании для них материи.
Современная биология, которая, понимая это и отказываясь от меха-
нистического толкования, в качестве витализма (Дриш и его сторонни-
ки) или в другой форме (например, Р. Вольтерек50) исходит из понима-
ния носителей живого как самоорганизующихся единств; они имеют
внутреннюю и внешнюю сторону (Вольтерек) и заключают в себе незри-
мые «силы», формирующие по определенно направленным интенциям
свою внешнюю сторону, свою материю, как аппаратуру и используют ее
для своего выражения; этим современная биология, что несомненно, ох-
ватывает помимо совокупности условий материи осознанно или неосоз-
нанно живое как непосредственно, имманентно трансцендентное, с чего
достаточно сдернуть покров, чтобы увидеть его в качестве такового, при
условии, что вообще сложилась привычка внутренне его постигать.
Последовательность ступеней в развитии живого понимается в новей-
шей онтологии живого у Вольтерека как последовательность все новых,
возникающих в невидимой глубине носителей жизни, истоков определи-
телей сущности, все новых становящихся все более дифференцирован-
ными «образов вида», которые затем вовне достигают осуществления;
тем самым совершенно очевидно понимается как последовательность
ступеней развития непосредственной, таинственно происходящей из не-
видимого, но имманентно осуществляющейся в материи трансцендент-
ности живого. Для того чтобы в некоторой степени истолковать матери-
альное выражение этого трансцендентно живого, констатируется полно-
та действующих в глубине каждого носителя жизни невидимых «сил».
Несущественно, мыслится ли трансцендентно живое в определителях
523
сущности локализованным или нелокализонанным по месту и времени,
в первом случае оно характеризуется как заряженная невидимыми «си-
лами» внутренняя глубина несущих жизнь субъектов, чтобы, как полага-
ют, привлекать для толкования по возможности меньше метафизических
объяснений. Подобная внутренняя глубина носителей жизни как комп-
лекс определяющих сущность невидимых сил, очевидно, — столь же та-
инственная трансцендентность, как не связанная с местом и временем
энтелехия Дриша, которая «подобно душе» входит в материю и опреде-
ляет живое существо, вместе с его органическим строем, стремлением,
реакцией и т. д. В обоих способах рассмотрения, которые пытаются от-
дать должное только спонтанности живого, его совершенно иное транс-
цендентное качество противостоит использованным как средство выра-
жения, превращенным в «аппаратуру» комплексам условий материи,
представляющих собой внешнюю сторону.
Как непосредственно лежащий за ней, повсюду имеющийся другой,
определяющий сущность, образ и выражение слой51, мы постоянно ощу-
щаем присутствующее, бросающееся в глаза трансцендентное.
Своеобразие этого слоя в том, что он не только формирует отдельные
субъекты, но и объединяет конципированные им виды, представляющие
образ и сущность его «видовой идеи» в целостности, о сохранении кото-
рых как единства он постоянно заботится. Вид природе важнее, чем ин-
дивид, утверждал, заметив это, биолог прежнего времени. И в рамках
расточительного и вместе с тем рафинированно сложного метода обес-
печения продолжения рода бросается в глаза как выражение сверхсубъ-
ективных биологических сил известное самопожертвование родителей
ради потомства и многое другое. Он, этот трансцендентный слой, совер-
шает и большее. Он создает внутри видов или их подгрупп коллективные
субъекты, как государства животных, в которых индивиды могут быть
низведены не только функционально, но и телесно до частично специ-
ализированных членов самого себя продолжающего вида. Ярким приме-
ром может служить коллективный организм муравьев. Следовательно,
слой непосредственной трансцендентности в живом отчетливо сверх-
субъективен. Он — носитель коллективных сил, определяющих сущ-
ность, образ и сочетание отдельных субъектов.
3. Непосредственная душевно-духовная трансцендентность
На этой основе станет понятным, что мы понимаем под душевно-духов-
ной непосредственной или имманентной трансцендентностью и в каком
образе она нам предстает, если мы постигли ее существование и ее сущ-
ность. Такое постижение в отличие от существующего сегодня душевно-
духовного нигилизма - конечно, наша главная задача.
Силы трансцендентного слоя по своему чисто биологическому свой-
ству носят играющий характер. Они суть приспособленные к данной со-
вокупности условий очень разнообразные виды, иногда поразительной
разносторонности, — так они создают, например, 6 млн. видов насеко-
мых. В своей продуктивности они подчас попадают в тупик, порождая
виды одностороннего сверхразвития, как, например, динозавров, кото-
524
рые впоследствии вымирают. Они могут достигать видов, как человек, в
котором в ходе ступенчатого развития возникают такие органы, как го-
ловной мозг и глаза, органы, являющиеся в своей комбинации услови-
ями совершенно новой, направленной внутрь, основанной на сознании
линии развития. Так что биолог считает возможным говорить об изме-
нении фронта рассмотренного им как последовательность ступеней про-
цесса образования видов, о его обращении к душевно-духовному52.
Однако имеющиеся в трансцендентных слоях и действующие из них ду-
шевно-духовные силы не являются продуктами лишь позднего развития.
То, что мы обнаруживаем их лишь в ходе развития человеческого сознания,
не свидетельствует об их наличии только в человеке. Постигнув их, мы по-
всюду видим знаки их действия и замечаем, что они повсюду примешаны
к слою чистого витально живого, как элемент формирования, более того,
что их действие простирается, быть может, и на неживое и космическое.
Ибо в сфере формирования живого повсюду действуют силы, которые
как бы играючи превращают виды, порожденные чистым влечением к
витальности, столь же играючи, в носителей и выражения надвитально-
го и по своей сущности иного, которое предстает в них перед нами и ко-
торое мы адекватно можем определить только как нечто душевно-духов-
ное. Павлин, гордо несущий свой хвост, носитель этого, знает ли он об
этом или нет. Он - выражение чего-то большего, чем просто витальное.
Ядовитую гадюку понять только витально уже в ее внешнем явлении, не
говоря уже о ее сущности и повадках, невозможно. Верную собаку, гор-
дого всадником коня также. И т. д. Постигнутые в биологии определи-
тели сущности содержат, перекрывая, формируя и изнутри образуя в
красоте, уродстве, злобе, коварстве, мужестве, привязанности, далеко
оставляющие за собой сферу человека, надвитальные качества, выходя-
щие за пределы витального завершения и являющиеся не чем иным, как
выражением душевно-духовных, входящих вместе с витальными силами
в носителей жизни и формирующих их сил. Эти силы формируют изнут-
ри совершенно так же, как формируют чисто биологически целесообраз-
ные и стремящиеся только к целесообразному завершению силы, но вы-
ходя за подобный вид завершенности. Для них также совокупность усло-
вий материи есть «аппаратура» их проявления и, если они хотят стать
зримыми, средство для этого. Только так можно понять красоту и урод-
ство, изнутри, исходя из трансцендентного слоя, из которого они происхо-
дят; только так можно понять и в своей сущности остающееся чисто внут-
ренним душевно-духовное, выдающее себя, впрочем, большей частью сво-
им выражением. Для понимания этого не нужна научная физиогномика.
Каждый действует и ориентируется ежеминутно на это в своем общении с
другим. Так он постигает в этом другом конкретно открывающееся объек-
тивное. Он касается душевно-духовной силы трансцендентного слоя в ее
явлении, которая в качестве основы столь же сверхсубъективна в человечес-
ком выражении, столь же сверхличностна в этой эманации, как в своих
формирующих жизнь чисто витальных манифестациях. Субъект есть мес-
то ее пребывания, ее посредник для внешнего или лишь косвенно по пове-
дению постигаемого вхождения в явление, совершенно так же, как это про-
исходит с чисто витальными сверхэнтелехиями Дриша при их вступлении
в материю и действии в ней.
525
В этих фрагментах не может и не должна быть сделана попытка дать
обзор всей доступной нам области этих входящих в материю и в нас са-
мих как ее часть и, будучи постигнутыми, непосредственно встающих
перед нами, сверхличностно объективных, повсюду выступающих по
ступеням душевно-духовных сил. Лишь следующее надо сказать об их
отличной от чисто биологических, надсубъектных сил сущности и об их
сплетенности с ними по широкому фронту. При этом мы повсюду ста-
вим на первый план форму их явления, их развитие и способ их пости-
жения в человеке, не забывая при этом, что они суть эманации трансцен-
дентного слоя всего живого, что они, как было сказано, быть может, не-
ким по существу недоступным нам транспонированным способом дей-
ствуют также в неживом и космическом.
1. Их сущность. Они отличаются от чисто витальных имманентно
трансцендентных сил тем, что, представая перед нами во внутреннем
опыте или внешнем явлении, требуют от нас Да или Нет, позиции, сле-
дующей из того, что мы чувствуем себя благодаря ей свободными, пре-
ступившими свои границы и возвысившимися или стесненными, замк-
нутыми и устрашающе оттесненными в свое Я. При этом мы повсюду
ощущаем тайную коммуникацию между нами и ими, в каждом образе, в
котором они выступают. Так, будто посредством их постижения мы
вследствие известных находящихся в нас возможностей можем быть
трансформированы в нечто им родственное, стать частью объективной
сферы сил, которая предстает нам в них. Мы ощущаем их как объектив-
но находящихся вне нас и вместе с тем, по крайней мере как возмож-
ность, воплощенными в нас. И наше Да и Нет, сказанное им, кажется
одновременно, по крайней мере временно, совершенным нами преобра-
зованием в нас, посредством которого мы в зависимости от его качества
чувствуем себя освобожденными и эвентуально над собой поднятыми
или стесненными и изолированными в страхе, даже в ужасе оттолкнуты-
ми в себя.
То, что мы сегодня называем «ценностями», охватывает очень мно-
гое и различное. Однако часть таких, признанных во всяком случае
раньше объективными, ценностей несомненно есть абстрагированное
выражение намеченных здесь данных. Религии всегда знали, что ос-
нову этих ценностей составляют силы существования, и темные
страшные силы были для них столь же действительными, как светлые,
освобождающие. При этом то, что не имело ценности, оставалось для
них выражением имеющихся активно действующих, трансцендентных
сил. Они никогда не впадали в ошибку многих философских систем,
которые понимали отсутствие ценностей только как понятийный кон-
траст или обратную сторону позитивных, в действительности получен-
ных посредством абстракции из постижения трансцендентных сил
ценностей, которые понимаются ими односторонне как единственная
область самостоятельного происхождения ценностей. В этом главная
ошибка всех видов ценностно-нормативного идеализма. Он видит
только отражение позитивных сил и смешивает их понятийное выра-
жение с исконно постигнутой силой. Впрочем, это, как сказано в ис-
торической части данной работы, понял и высказал остро мыслящий
Фридрих Шлегель.
526
2. Сложность сущности. Эти силы в качестве душевно-духовных
очень сложны. В их непостижимой сложности и мнимой взаимопереп-
летенности они могут быть поняты нами как многообразно переливаю-
щийся мифологический символ, а чисто логически вообще поняты быть
не могут. То, что мы называем прекрасным, уродливым, добрым, злым,
низким, коварным, подлым, возвышенным и т. д., почти никогда не вхо-
дит в явление обособленным, чистым как выражение трансцендентной
силы или комплекса трансцендентных сил, но почти всегда в постоянно
меняющемся сплетении с другими душевно-духовными или биологичес-
кими силами. Где к тому, что мы называем прекрасным, не добавлено и
другое, нераздельно с ним связанное как сила в его действии на нас?
Конечно, лишь в редких случаях, и в целом, быть может, только в сия-
нии красоты цветов. И разве уродство не выступает достаточно часто как
аура определенного рода освобождающей духовной ясности? И т. д. Лю-
бовь и самопожертвование Антигоны, совершенно очевидное выражение
действующей в ней трансцендентной силы, едины - и не в некоторых
случаях, но в своей сущности — с безжалостной жестокостью к сестре.
Так, часто рисуемая глубоко видящими поэтами внутренняя сплетен-
ность любви и ненависти - не психологический феномен смены чувств,
а сущность двух или большего числа добрых и мрачно-демонических сил.
Больше половины кажущихся столь удивительными психологических
открытий Ницше теряют при таком рассмотрении связанное с ними ис-
кажение. Его знаменитая враждебность, т. е. «обратная сторона» его вле-
чения к власти, несомненно может сочетаться с полной и щедрой любо-
вью и добротой. Становится ли она тем самым просто враждебностью?
И не недопустимое ли психологическое упрощение, если Ницше при
всей его отточенной тонкости повсюду находит извращения и разные
повороты одного и того же, воли к власти, вместо того чтобы видеть дей-
ствительную сложность сил и ту многообразность и переливчатость про-
являющегося в мире человеческих чувств трансцендентного слоя, кото-
рый мы повсюду встречаем в истории и существовании?
Все наши определения ценности и ее отсутствия — не что иное, как
понятийные декларации, которые мы связываем с определенными сто-
ронами открывающихся в мире явлений трансцендентных сил, которые
мы накладываем на их открывающую в своем изменении одновременно
и совершенно иные стороны сущность, на их логически не постигаемый
характер и переплетенность с другими силами существования, и ничего
больше. Целостность их сущности остается для нас таинственной, непо-
стижимой в своем синтезе. Она может ощущаться как бурное волнение,
лишь вершину которого мы способны увидеть и духовно постигнуть при
его открытии в мире явления.
И там, где явление как будто наиболее просто, в растительном мире,
где мы полагаем, что воспринимаем чистую красоту и чистое уродство,
это может быть, если принятая здесь точка зрения правильна, следстви-
ем только того, что здесь мы не можем, как у животного, непосредствен-
но переживать и ощущать практическую сторону явления. Она остается
для нас внутренне скрытой. Внешне же красота здесь с совершенной
очевидностью часто предстает связанной с практически биологическими
силами, силами продолжения рода, хотя они и не объясняют форму ее
527
выражении. О неживом мы можем только предполагать. Однако если мы
уже в живом удивительным образом постигаем стремящуюся к выраже-
нию красоты силу как раздельно являющуюся и все-таки соединяющую,
например, в симфонически настроенном ковре флоры альпийской доли-
ны, где эта сила соединяет раздельное по индивидуальностям и видам;
если мы, следовательно, ощущаем ее как в сущности свободно парящий,
формируя проникающий в явление, задний план, то нам кажется, что
она часто охватывает и неживое, превращает целое, возвышая его в ок-
раске и выразительности линии, в мелодию. Достаточно вспомнить, на-
пример, некоторые горы, как их чувствовал Сезанн. Совершенно то
же происходит в мрачном и злом. Ил и отвратительные, опасные жи-
вотные внутренне непостижимо связаны; и по-иному связаны краски
летнего дня с относящимися к нему жаворонками и др. И когда в яс-
ную звездную ночь перед нашим взором открывается зримый нам кос-
мос, мы, ощущая в нем некую возвышенную волю, приходим к мыс-
ли, что система нашего Млечного пути создана еще чем-то, кроме
констатируемых в нем физикой математически доступных источников
силы, движения и скорости света или электромагнитных полей и ли-
ний. Это другое может звучать в нас только как звон колокола. Оно
указывает на некую универсальность того трансцендентного слоя фор-
мирования и сил душевно-духовного вида, которая в качестве основы
предстает перед нами не только в живом, но во всем, на что мы не-
предвзято взираем и что мы непосредственно воспринимаем; а его
полное открытие непосредственно доступно нам изнутри в человечес-
ки-живом. Доступно изнутри: это означает как бы из адекватной бли-
зости к невидимой и нелокализованной природе пребывающих на зад-
нем плане сил. Однако это не свидетельствует о том, что они находят-
ся только здесь, в этом, доступном нам месте.
3. Структура сущности субъектов, ядро сущности, задатки как вопло-
щенные силы.
Биолог называет констатируемые им витальные силы заднего плана
«определителями сущности» субъектов. Он уже знает, что сущность есть
нечто большее и иное, чем сумма задатков. То, что Дриш называет эн-
телехией, есть понятийно не постигаемый, но узнаваемый центр, кото-
рый в качестве ядра сущности организует целостность. Уже слой чисто
биологической тенденции пребывает, как было сказано, надсубъектно за
совокупностью условий материи. Используя в каждом субъекте материю
в качестве своей аппаратуры, он упорядочивает многообразные «силы»,
именно так называемые биологом, как факторы, формирующие субъек-
та, вид и жизнь вообще, воплощает их, следовательно исходя из надсубъ-
ектного основания в субъектах. Совершенно то же относится к душевно-
духовным приращениям слоя заднего плана.
В каждом живом существе есть образованное не только чисто виталь-
ными, но и душевно-духовными силами нерасчленяемое ядро, которое
мы ощущаем как нечто ему свойственное и при наличии необходимой
дифференциации структуры как неповторимо индивидуальное, таин-
ственно вышедшее из слоя заднего плана. И как витальные задатки пред-
ставляют собой группированные в различном отборе и смешении, нахо-
дящиеся в распоряжении этого индивидуального ядра сущности, став-
528
шие формирующими факторами воплощения надсубъектных сил, так же
и душевно-духовные задатки в своей массе.
Чем дифференцированнее и сложнее по своему составу будет сфор-
мированное жизненным влечением строение вида, тем более противоре-
чивые, не только не связанные, но как будто противоречащие друг дру-
гу витальные и душевно-духовные задатки будут воплощены вокруг ядра
сущности. Витальные и душевно-духовные реакции рыбы просты. Внут-
ренняя жизнь собаки, кошки, лошади по сравнению с этим уже тайна; ее
покоящиеся на совершенно других воплощенных задатках проявления
часто не могут разгадать или предвидеть их хозяин или хозяйка.
4. Особенность человека. Сознание как направление взора внутрь ос-
новано - это уже было указано - по-видимому, на совместной деятель-
ности совершенного глаза и развитой коры головного мозга53. Дозволяя
человеку противопоставлять себе произвольные и меняющиеся картины
как части внешнего и внутреннего мира, следовательно, как «объекты»,
сознание создает огромное и одновременно полное изменений разверты-
вание мира духовных объектов и проекцию части его в меняющуюся, не-
завершенную по своим возможностям, созданную самим человеком вне-
шнюю промежуточную сферу, им самим сотворенную среду. Все, что
сказано о «сущности» человека, исходя из этого или других основ, нас не
касается. Нам здесь нужны несколько простых, иным образом уже в ос-
новном тексте сделанных установлений.
Если говорить об особой трансцендентной идее вида человека, о
свойственном ему особом виде повсюду в живом существующей спон-
танности, то эта идея ведет очевидно к тому, что мы называем «свобо-
дой». Свобода, которая прежде всего есть следствие предстающих в ме-
няющихся формах его сознанию образов, следовательно, чисто внешне
констатируемая свобода. По мере того как по видимости произвольно
поставленные перед сознанием образы объектов комбинируются, фор-
мируются и проецируются вовне, создается свойственная человеку про-
межуточная сфера54, человек как будто свободно участвует в создании
совокупности условий, внутри которых он пребывает в своем существо-
вании. Он во все большей степени - сегодня мы видим, с какой стреми-
тельностью это может происходить - становится постоянным преобра-
зователем совокупности условий своего существования, как будто беско-
нечно вводя в материальную действительность все новые комбинации
условий для этого существования. Следующее из этого цивилизационное
и социально-структурное преобразование среды, все вновь и вновь со-
здающее ему новый, измененный, требующий внутреннего преодоления
мир в качестве меняющейся и в целом расширенной аппаратуры суще-
ствования, внутри которой он также дает все новые душевно-духовные
объективации себя, есть не что иное, как выражение и внешний знак его
развившегося из связанной спонтанности в свободную подвижность су-
щества. Такова его свобода, рассмотренная в известной степени извне.
Та свобода, которая в ходе постоянных вариаций и изменений, превра-
щает его в «незавершенное животное», как назвал его Ницше.
Этому соответствует внутренняя сторона следующей из сознания и
направления взора вовнутрь свободы. Ясность сознания означает, что
для человека становится объектом также его собственное витальное и его
529
душевно-духовное качество, причем все время увеличивающееся в исто-
рическом движении по широте и глубине. Какие бы пути он при этом,
постигая свой душевно-духовный образ, ни избрал, религиозные, мифо-
логические, свободно спекулятивные, когда-либо и где-либо, в какой бы
форме он это ни высказал, он должен открыть себя как определенный в
своей сущности и сформированный тем трансцендентным глубинным
слоем, который, соединяя биологическое и душевно-духовное, создал из
их спонтанности его и идею его вида. Тогда он откроет как отличающую
его от животного существенную черту этой идеи, а именно свободу, сво-
боду в самом широком смысле как порождающую чисто витальные,
практические интенции, как создающую душевно-духовные определен-
ные суждения, но выносящую и практически релевантные решения и
преобразующую посредством них чисто витальные интенции. Человек
видит, следовательно, себя, глядя в себя, духовно свободным существом,
обладающим самоопределением формирования и самоопределением
притязания, исходя из трансцендентности своей сущности. И тогда его
не может удовлетворить, если некоторые философы, рассматривая раз-
витие и расширение сознания в истории человечества, говорят о про-
грессе в сознании свободы, но при этом его самого как результат этого
прогресса в странном диалектическом извороте хотят подвергнуть при-
нуждению и лишению самоопределения. Нет, самоопределение, причем
именно практическое, а это сегодня означает прежде всего политическое,
является существенной целью; она предстает ему, когда он посредством
прорыва сознания в непосредственную глубину своего существования
соприкасается с трансцендентным глубинным слоем, из которого он
спонтанно вырос, когда ему становится ясной «идея», из которой он был
сформирован спонтанностью этого слоя.
Сталкиваясь с этим глубинным слоем и осознавая его, он никогда не
ощущает себя одиноким, изолированным субъектом. Он не может здесь
чувствовать себя таковым, как и при рассмотрении всей совокупности
живого, когда он в качестве биолога, постигая сущность какого-либо но-
сителя жизни, сразу же наталкивается при этом не только на индивида,
но почти в такой же близости на целостность «вида» или на его надсубъ-
ектные нижние ступени. Иными словами: познающий и постигающий
себя свободным в своей сущности человек познает себя свободным ин-
дивидом только как одну сторону медали, на другой ее стороне он обна-
руживает себя включенным в целостность. Он свободен и есть часть це-
лостности или концентрических кругов таких целостностей. Но посколь-
ку свобода есть трансцендентное ядро его сущности, такое включение,
если он осознал себя в этом виде ядра своей сущности, может совер-
шиться только на основании его свободы. Его свобода стремится глубо-
ко изведать, каким-либо образом понять это ее включение.
На витально-биологическом уровне это совершается большей частью
без затруднений; во всяком случае вплоть до кругов целостности, непос-
редственно практическое значение которых может ежедневно ощущать-
ся, особенно потому, что эти круги целостности всегда познаются не
просто биологически, а в семье, народе и т. д., всегда пропитаны в каче-
стве ферментов душевно-духовным, — пиететом, традициями, языком и
другими судьбоносными силами.
530
Прошло много времени, пока человечество, у которого «в крови» эти
витально обоснованные целостности вообще, и по крайней мере в изве-
стных их частях, и личностная свобода, стало сознательно понимать и
искать сплав обеих и делать полностью выводы из него, следовательно,
стремиться к свободному построению замкнутых, надличностных цело-
стностей народа и государства. Всем известно, что лишь в Древней Гре-
ции прийти к всемирно историческому решающему сознанию этого и к
действиям во имя его. В исторической части работы мы видели, как хри-
стианство также стало решающим для сознания активной всечеловечес-
кой связи.
Связь этой очерченной таким образом человечностью и свободой видо-
вой определенности человека с объективными трансцендентными силами,
которые в нем действуют и между которыми он, борясь и принимая реше-
ния, пребывает, также была нашей подробно рассмотренной темой.
И наконец, стало ясным, что понимать направленность характера,
даже его изменение, — если познавать трансцендентные силы в их воп-
лощении в человеке, как определяющие его многослойность - следует
как превращение в господствующий или рецессивный того или иного
слоя таких сил в нем. Очевидно, что это практически утешительный ас-
пект в ситуации, в которой все зависит от преобразования человека.
Тем самым стала, вероятно, очевидна внутренняя связь кратко пока-
занного здесь видения имманентно трансцендентного со всеми суще-
ственными пунктами, которые мы пытались ясно показать в основной
части работы.
5. Абсолютность и относительность. Чтобы избежать неправильного
понимания, следует еще добавить следующее: воплощающиеся силы на-
ходятся по ту сторону мира явлений, они приходят из сферы, которой
неведомы условия этого мира, они абсолютны. Так как изменения нам
известны только в геологической, биологической и в человеческой про-
межуточной сфере совокупности условий и так как только для нее зна-
чимы пространство и время, эти силы, будучи надпространственными и
надвременными, должны быть неизменными, как и все трансцендент-
ные глубинные слои, следовательно, в человеческом смысле вечными.
Поэтому им должна быть, по-видимому, присуща тенденция открывать-
ся всегда в одном и том же виде, в одних и тех же формах, образах,
стремлениях.
Так и происходит.
Однако первое впечатление иное. То, что мы называем в открываю-
щихся силах добрым и злым, прекрасным и уродливым и т. д., даже его
содержание, — это мы обнаруживаем в истории - меняется в зависимо-
сти от места и времени, от народа, от исторического тела и в известной
степени от периода. Характер и содержание подвержены не легким ко-
лебаниям, наподобие дрожания магнитной иглы, напротив, то, что жи-
тель Восточной Азии или индиец воспринимает как прекрасное и урод-
ливое, полностью отличается от воплощения красоты в понимании сред-
него европейца; восприятие европейца в готическое средневековье - от
восприятия его духовного предтечи, грека и римлянина; мы привели
лишь наиболее очевидные примеры и оставляем в стороне все более тон-
кие отклонения, изучаемые историком искусства, которые доходят до
531
различия личностных идеалов красоты у отдельных художников. То же
обнаруживается на уровне значимости так называемых практических
оценок. Китаец еще сегодня, правда, не в деловых отношениях, в кото-
рых ему можно полностью доверять, но в своей жизненной практике,
считает совместимым с «благородным» характером не только лгать, но,
когда дозволяют обстоятельства, и перехитрить другого. Русские в сред-
нем и до революции, несмотря на чрезвычайную доброту и готовность
оказать помощь, считали — если доверять описаниям - совершенно ес-
тественным, например, в такой степени быть виновным в гибели став-
шего неудобным старого или надоевшего соседа, что невольно возника-
ет мысль о хладнокровном убийстве. А немецкий народ! Разве значитель-
ная его часть не считала на протяжении больше десяти лет, что коварный
способ «кончать» с людьми был выражением благородного характера,
соответствующего роду и крови, тогда как другие народы стыдились это-
го как непомерной низости?
Есть ли, следовательно, нечто более относительное, чем идеи и пред-
ставления о прекрасном и уродливом, добром и злом?
Однако последние грубые примеры с совершенной очевидностью
свидетельствуют для непредвзято чувствующего и постигающего об од-
ном: существуют как самомаскировки, так и притворство сознания. Вто-
рое следует из недостаточной ясности сознания (китайцы, русские), пер-
вые состоят в самообмане по поводу сущности ставших господствующи-
ми, бывших прежде рецессивными задатков (немцы), а это ведет к не-
способности видеть или к просто ложным определениям. Абсолютное
качество действий и сил остается этим незатронутым и для каждого,
объективно его рассматривающего, непосредственно очевидным.
В принципе ближе данной проблеме и в конечном счете решающим
является другое: то, что намеченные релятивизирующие нюансировки
выражения безусловно относятся к трансцендентно одинаковым задат-
кам. Ключ для понимания этого таков: абсолютные силы испытывают
нечто, что лучше всего определить как варьирование воплощения, кото-
рое происходит при их проявлении и открытии в соответствующее вре-
мя и при соответствующей совокупности условий. Если идеал красоты и
нравственный идеал совершенно независимо от господства или рецес-
сивности задатков просто как таковой выражен у японца иначе, чем у
китайца, а тем более у европейца, — этот ряд каждый может продолжить,
— то это означает: абсолютные и безусловные сами по себе силы могут
проявляться только в условиях определенного времени и определенно-
го народа. И эти условия исторически, территориально, климатически,
генетически и т.д. различны. Следовательно, эти силы всегда получают
свое особое выражение в зависимости от того места в истории, в котором
мы их находим. Так как они, эти глубинные силы, не просты, а очень
сложны и логически однозначно уловлены быть не могут, они предста-
ют в зависимости от времени и места в самых различных выражениях
возможности своего явления. Такова их историческая вариативность, ко-
торая, однако, совершенно не затрагивает стоящие за ней абсолютность
и безусловность сил.
Они в действительности не относительны, не субъективны и пр.; они
варьируются в своей абсолютности при вхождении в явление.
532
Однако существуют понятийно неустанавливаемые, но фактически
имеющиеся границы их вариативности. И прежде всего: существуют веч-
ные содержания и формы их выражения, которые, будучи однажды от-
крыты, могут быть вновь утеряны, а затем вновь открыты, так же, как
существуют ступени выражения с более простым и более совершенным,
большим содержанием. Немецкая музыка, от барокко до Шуберта, —
остановимся на этом примере, — служит выражением вечного и общедо-
ступного характера для человеческого понимания55. В противном случае
она не могла бы сегодня быть реципирована и понята Восточной Азией
при ее совершенно ином характере выражения. Так называемое класси-
ческое, античное выражение красоты должно иметь в значительной сте-
пени тот же характер. Иначе ему не удалось бы завоевать Восток вплоть
до Китая, не удалось бы оказать благотворное влияние на высшей степе-
ни пластичные формы выражения готики XII и начала XIII в.
Таковым был прорыв христианства к активной человечности, как мы
говорим, в действительности - осознанное открытие великого, универ-
сального, трансцендентно обоснованного слоя задатков в человеке. Здесь
открыто универсально абсолютное в человеке, которое может из господ-
ствующего стать рецессивным, но все-таки остается столь же абсолют-
ным, вечным человеческим содержанием. Так можно продолжать до бес-
конечности. Каждое развитие сознания есть или может быть прорывом
к такому неподвижному в человеческом понимании вечному слою задат-
ков. И если этот прорыв произошел, то работу и действие этих сил в са-
мих себе никогда нельзя остановить. Даже в том случае, если их всячес-
ки перекрывают. Можно это выразить и так: кто совершил грех, никог-
да не сможет больше стать наивным.
6. Естественный компонент общего бытия. Напомним еще одно: груп-
пы витальных и душевно-духовных сил создают, смешиваясь и перепле-
таясь, многослойность человека. Те и другие неукоснительно содержат-
ся в известных своих частях во всех внутренних действиях. Естествен-
ные, чисто витальные, инстинктивные компоненты нашего внутренне-
го и следующего из него внешнего действия мы можем в известной сте-
пени ограничить и, насколько возможно, облагородить душевно-духов-
ными силами. Изгнать и уничтожить их мы не можем.
Это относится особенно к самому сильному, наряду с голодом и сек-
суальным влечением, витальному стремлению, — к влечению к власти.
Оно неизбежно присутствует в больших или меньших дозах во всех, даже
в «благородных» наших действиях. Единственно подобающее — признать
это и оценивать соответственно этому свои поступки.
И если это относится к частному существованию, то еще значитель-
но больше к публичному, особенно государственному, которое ведь в
своей сущности на протяжении всей истории являет собой воплощенное
влечение к власти. Лучшее, что в истории удалось до сих пор достигнуть,
— то, что государственной власти было отказано в душевно-духовной
санкции в какой-либо действенной форме, прежде всего в религиозной,
если государственная власть переходила определенные границы, наруша-
ла правила игры, формы и условия. Худшим же было, что Запад в своем
предполагаемом высшем культурном развитии придал действиям госу-
дарства полную свободу, не требующую санкций; он только попытался
533
связать государство с определенными, впрочем, неосуществимыми фор-
мами декларированного идеала, так называемого международного права,
которое в критические моменты теряло для всего существенного свое
значение. Именно это приводит сегодня к упадку Запада.
Пагубным следствием наивной, саму себя обманывающей, далекой
от действительности идеальной установки следует считать попытку
построить после Первой мировой войны необходимый теллурический
новый порядок в виде Лиги Наций так, будто и в мирное время не су-
ществует соперничества властей, будто меньшее и маленькое государ-
ство, зависящее от защиты большого, и в международных делах не
предоставит крупному государству решающее слово, которое свяжет и
его в его действиях.
Если после этой войны будет создана новая теллурическая организа-
ция, то при этом будут, очевидно, руководствоваться реальностью и че-
стным признанием несомненного влияния в этой организации властных
отношений. Будущая мировая синдикалистская организация должна
быть — это уже подчеркивалось во введении к данной работе - органи-
зована таким образом, чтобы малые и самые малые «власти» могли выс-
казать свое мнение, но необходимые выполнения и предшествующие им
решения они бы открыто уступали крупным участникам мирового син-
диката, которые своей кровью должны отвечать за мир. При этом не сле-
дует скрывать, что между этими крупными участниками обязательно воз-
никнут различия в интересах и связанная с ними борьба за власть. Лишь
при полной честности и открытости можно надеяться на то, что эти раз-
личия перед страшной угрозой новой войны будут мирно урегулированы
посредством переговоров и новой катастрофы с ее угрожающим всем
уничтожением можно будет избежать. Тот, кто спекулирует на разногла-
сиях между крупными властями синдиката или даже пытается привести
к ним, — преступник.
Правда, крупные государства, которые одни теперь принимают реше-
ние, должны знать: устойчив лишь такой раздел власти на Земле, над ко-
торым возвышаются в качестве последних и решающих определений ду-
ховные и моральные принципы и который сам ставит себе границы и
предоставляет более слабым или совсем беспомощным — в том числе и
побежденным - жизненное пространство, духовную свободу и достоин-
ство для практических и политических действий. Все остальное было бы
лишь промежуточным актом к худшему.
И наконец: если соединение человечности и свободы определяет вид
человека, то из этой связи должны формироваться все новые, по возмож-
ности возвышающие, выражения сущности, и отсутствие условий для
обеих должно восприниматься объединением людей, ощущающим общ-
ность в другом, как уничтожение условий собственной свободы и чело-
вечности. Это можно называть трансцендентно данным выражением че-
ловеческого достоинства. В нем содержится во всяком случае полнота
душевно-духовных импульсов и социальных и политических постулатов,
которые в каждой форме существования, в том числе и в наступающей
теперь, действуют как согревающее пламя.
534
Примечания
1 Если Герман Кейзерлинг показывает в своей гениальной, к сожалению, до сих
пор не опубликованной книге движение «от мышления к творческим истокам»,
то там освещено нечто другое, чем данное в нашей работе, основанное на исто-
рическом материале Запада явление прорывов к непосредственным трансценден-
тным основам, которые находятся на более близкой явленному образу плоско-
сти, чем сообщаемый Германом Кейзерлингом опыт.
2 Justi С. Michelangelo. Neue Beitrage. В. 1909. S. 372.
3 Michelangelo Dichtungen. Ubertragen von R. M. Rilke. Leipzig. 1936, S. 29.
4 Ibid., S. 28.
5 Ibid., S. 14.
* Ibid., S. 228.
7 Gundolf F. Shakespeare. Sein Wesen und Werk. Bd 1-2. В., 1928.
N Свободный перевод Стефана Георге // Shakespeare. Sonette. В., 1909.
9 Meinecke F. Idee der Staatsraison.
10 Rembrandt-Gemalde. 1931. N 58.
11 Ibid., N61.
12 Ibid., N 509.
13 Ibid., N511.
14 Ibid., N 519.
15 Ibid., N 525.
" Ibid., N 526.
17 Ibid.. N 528.
IS Ibid., N591.
19 Ibid., N 699.
20 Ibid., N611.
21 Ibid., N 622-24.
22 Ibid., N 595.
23 Ibid., N612.
24 Ibid., N614.
25 Ibid.. N410-13.
2*Ibid., N416.
27 Ibid., N415-17.
28 Ничего не изменил в этом и Спиноза. Ибо его трансцендентность чисто догма-
тична, и, к тому же, он идет на уступки натурализму власти. Достаточно указать на
его теолого-политический трактат, особенно гл. 16 и «Этику», особенно ч. 4.
29 Kani I. Die Religion innerhalb derblossen Vernunft. Erstes Stuck.
30 Даже Кант, видя и решительно исследуя эту проблему в трактате «К вечному
миру», не ощущает силу натурализма власти, которую следует принимать во вни-
мание при таком мире и вводить в него. «Природа» якобы заботится посредством
роста взаимной торговой и финансовой зависимости о постепенном угасании
возникающих из злонамеренности тенденций к войне и делает возможным веч-
ный мир как цель расширяющегося сообщества государств. Это своеобразное
предвосхищение столь неверного социологически эволюционного тезиса Спен-
сера о замене войны торговыми отношениями предлагается здесь как практичес-
кая основа решения проблемы. Что бы сказал Кант, если бы он дожил до страш-
ных взрывов демонии властей в эпоху развитого капитализма, причем именно
наиболее тесно связанных с торговыми и финансовыми интересами! Все дело в
том, что он не видел демоний.
31 Kant I. Beantwortung der Frage:was ist Aufklarung?
32 Cp. Ellineck G. Die Erklarung der Menschen- und Burgerrechte. Leipzig. 1895.
33 Woltereck R. Ontologie des Lebendigen; подробнее см. Приложение.
535
34 См. Сгосе В. Geschichte Europas im neunzehnten Jahrhundert. Zurich, 1935.
" Я намеренно пользуюсь здесь удачным термином Рудольфа Касснера.
зь Все выделения слов в цитатах из произведений Ницше принадлежат Ницше.
" Die ewige Wiederkunft. Stuttgart, 1921.
,K «Vom Gesicht tind Riitsel» и «Der Genesende».
■w Nachbericht. Bd IX. S. 535 (Volksausgabe).
40 Я опускаю замечания о работе «Воля к власти как представление и искусство»,
ибо они не имеют здесь значения.
41 Так это должен понимать Карл Ясперс, который в своей столь серьезной про-
странной работе: Nietzsche. Eine Einfull rung in das Verstandnis seines Phi-
losophierens. В., 1936 анализировал Ницше с этой точки зрения.
42 Подробнее об абсолютности и относительности см. «Фрагменты» V.
43 Строительство важного подводного флота было, как известно, задержано.
44 Так их называет Эрнст Роберт Курциус.
45 Например, Woltereck R. Ontologie des Lebendigen. Stuttgart, 1940.
46 Le Bon G. Psychologie der Massen. Obersetzung von R. Eisler. Leipzig, 1908.
47 Послевоенное добавление: Если решительно отказаться от идеи синдикатов, к
чему, по-видимому, склоняются американцы, то остается только рассматривать
эти корпорации как public utilities, наподобие железных дорог, почты и т. п., ко-
торые легко контролировать. Подлинное «огосударствление» для этого не нужно.
4К Schlier О. Aufbau der europaischen Industrie nach dem Kriege; Gaedicke H., von
Eynern G. Die produktionswirtschaftliche Integration Europas. B. 1932/33. Для обеих
работ Гейдельбергскому Институту социальных и государственных наук была
предоставлена временная ссуда Рокфеллеровским фондом.
44 Каждое иное постижение и основанное на нем философское толкование сохра-
няет на это свое право.
50 Woltereck R. Ibid.
51 Термин «слой» принят с полным сознанием его неадекватности. Он символи-
зирует в образном выражении нечто по своей сущности недоступное созерцанию,
находящееся по ту сторону времени и места; здесь делается попытка довести это
до постижения, хотя бы таким образом.
52 Woltereck R. Ibid.
53 Так полагает и Вольтерек.
54 Это слово употреблено здесь в несколько ином смысле, чем в уже упомянутой,
еще не опубликованной работе Г. Кейзерлинга: Keyserling H. Vom Denken zuin
schopferischen Ursprung.
55 Таковой ее справедливо видит и Р. Бенц.
Перевод с немецкого языка выполнен М.И. Левиной по изданию: Weber A. Ab-
schied von der bisherigen Geschichte. Uberwindung des Nihilismus? Bern, 1946. 262 S.
На русский язык переведено впервые.
Ю.Н. Давыдов
Альфред Вебер
и его культурсоциологическое
видение истории
Ю.Н. Давыдов
Альфред Вебер
и его культурсоциологическое
видение истории
Альфред Вебер (1868-1958), видный немецкий социолог культу-
ры, широко мыслящий экономист и политолог, принадлежал к
тому довольно распространенному типу немецких ученых-гума-
нитариев, чья внешняя биография находилась в контрапункти-
ческом отношении к биографии внутренней, так сказать, умо-
постигаемой. С одной стороны, долгая и в общем-то относительно бла-
гополучная жизнь (особенно если взять ее на фоне тех катаклизмов, ка-
кие пережила в тот же период Германия — Первая мировая война и на-
цистское умопомрачение, Вторая мировая война и послевоенная разру-
ха) властителя студенческих дум: профессор Пражского (1904- 1907 гг.)
и Гейдельбергского (с 1907 г. и почти до своей кончины) университетов;
в период временного отстранения нацистами от преподавательской де-
ятельности он смог целиком посвятить себя фундаментальным научным
исследованиям. С другой стороны, весьма драматическая «духовно-ду-
шевная» (как выразился бы он сам, не противополагавший дух душе)
жизнь, исполненная метаний и конфликтов, начиная глубоким мировоз-
зренческим конфликтом с его братом Максом и кончая весьма сложны-
ми отношениями с некоторыми из собственных более ранних воззрений,
особенно тех, что он усвоил в «пражский» период своей идейной эволю-
ции, — с ними ему приходилось сводить счеты всю последующую жизнь.
Причиной этих внутренних борений было разнообразие, если не ска-
зать, гетерогенность идейных источников, из которых он черпал в ходе
этой эволюции свой «мыслительный материал». С одной стороны, это
была умеренно рационалистическая идеология классического либерализ-
ма, возникшего на английской почве, но впоследствии совершившего
свой «опасный поворот» (к радикализму и революционизму) на ниве
французского просветительства. Но с другой — это была противополож-
ная и всякому либерализму, и вообще просвещению (немыслимому без
рационализма) линия философского иррационализма, ведущая свое на-
чало от Шопенгауэра и заканчивающаяся французским бергсониан-
ством, немецкой философией жизни и экзистенц-философпей. Метания
молодого Альфреда Вебера нашли свое внешнее выражение в том, что,
начав научную карьеру в качестве экономиста, и затем довольно быстро
подтвердив свое реноме строго сциентистски ориентированного иссле-
539
дователя сугубо специальной работой, посвященной проблеме размеще-
ния немецкой промышленности, — он чуть ли не одновременно начина-
ет переключаться на проблематику социологии культуры, которую к тому
же толкует настолько расширительно, что она уже явно не отвечала тре-
бованиям научной строгости, признаваемым не только учеными-эконо-
мистами, но и социологами, настроенными здесь гораздо менее пурист-
ски. И, что особенно показательно, при всем этом А.Вебер не отказался
и от дальнейших исследований, связанных с экономической проблема-
тикой размещения промышленности.
В процессе формирования культурсоциологической концепции А. Вебе-
ра отчетливо фиксируется, кроме названных выше влияний, также им-
пульсы, идущие от Ницше и О.Шпенглера (которого Т.Манн назвал «ум-
ной обезьяной» автора «Заратустры»). Впрочем, как дает понять А.Вебер,
некоторые из идей шпенглеровского «Заката Европы» были предвосхи-
щены им в ходе его ранней идейной эволюции, — что вполне вероятно,
если учесть общность ницшеанской составляющей в мировоззренческой
родословной обоих социальных мыслителей. В числе современников,
чьи идеи также оставили свой след в культурсоциологическом построе-
нии А.Вебера, нельзя не упомянуть и Макса Шелера, выстраивавшего
свою версию антропологически ориентированной социологии в полеми-
ке с М.Вебером. Это также не удивительно, если учесть общность шо-
пенгауэровского импульса, явно сыгравшего определенную роль в миро-
воззренческом развитии как М.Шелера, так и А.Вебера. Роднит их и об-
щее ревнивое (так сказать, полемически-состязательное) отношение к
Максу Веберу, особенно отчетливо сказавшееся в творчестве обоих уже
после его смерти, когда и Шелер, и А.Вебер сочли необходимым подчер-
кнуть мировоззренческую несовместимость собственных социологичес-
ких устремлений с веберовскими: в ее основе лежало решительное не-
приятие социологического номинализма Макса Вебера, которому каждый
из них поспешил противопоставить ту или иную, более (как у М.Шеле-
ра) или менее определенную (как у А.Вебера с его диалектикообразным
синкретизмом) версию социологического реализма.
Альфред Вебер и Макс Вебер:
мировоззренческие расхождения
и теоретико-методологические разногласия
Совершенно очевидно, что разногласия А.Вебера со своим старшим бра-
том были гораздо глубже и острее прочувствованы и сыграли гораздо бо-
лее серьезную роль в формировании его собственной версии культурно-
исторической социологии, чем разногласия с кем бы то ни было из сво-
их современников. И в целом же можно утверждать, что внутренний,
«глубинно-психологически» окрашенный спор Альфреда Вебера с Мак-
сом, продолжавшийся (без малого сорок лет!) уже после его кончины,
сыграл решающую роль не только в общемировоззренческом, но даже и
в узко методологическом самоопределении А.Вебера, определив, в ко-
нечном счете, и то, что принято называть его социокультурной диагнос-
тикой нашего века. Личностно окрашенный «экзистенциально»-теорети-
540
ческий спор А.Вебера с родным братом, год от года заострявшийся, пос-
ле преждевременной кончины М. Вебера получал все более «сублимиро-
ванный» вид, возгоняясь на высшие ступени абстракции.
В итоге подобного «трансцендирования» биографически-личностных
условий и обстоятельств этой коллизии, А.Вебер оказался, пожалуй, са-
мым первым, хотя далеко не единственным из авторитетных социальных
мыслителей нашего века, «определявшим себя», свою версию социоло-
гии, свое социологическое видение современности в многолетних спо-
рах с М.Вебером, все равно — очных или заочных. А «объект» столь про-
дуктивного полемического отношения (причем, со стороны не одного
лишь А.Вебера, но и целого ряда других видных социологов) — уже по
этой причине — можно было бы отнести к числу основоположников со-
циального мышления XX столетия. Мышления «насквозь» полемичного
и все время ищущего себя в непрерывных спорах с другими: типами со-
знания, эпохами и «культурами». Однако именно в споре А.Вебера с
умершим братом, в котором даже умолчания звучали порой красноречи-
вее открыто и прямо заявленных возражений, наиболее выразительно
проступили парадигматические черты гораздо более общего «спора с
М.Вебером», каковой оказался в конечном счете одним из способов са-
моопределения и саморазвития едва ли не всей западной социологии в
наш век, обреченный на драматические поиски собственного лица и «ус-
тоев».
«...То, что я пытаюсь сделать, — пишет А.Вебер во Введении к книге
«Идеи к проблемам социологии государства и культуры» (первой, опуб-
ликованной им после смерти брата), — ...принципиально* отличается от
великого творения Макса Вебера»1. И отличается прежде всего потому,
что сам автор книги утверждал в ней «сознательный подход к истории с
точки зрения проблем современности», тогда как «социология истории
Макса Вебера... ориентирована на обретение чистого знания», на «пос-
ледовательное приумножение человеческих знаний вообще, какими бы
ни были при этом индивидуальные побуждения»(там же). Отвешивая
почтительный реверанс лежащему в основе этой ориентации брата (уже
лишенного возможности возразить ему) стремлению к достижению
объективного знания, А.Вебер тут же заостряет проблему достижимости
такого рода «объективности» вообще, равно как и его «всеобщей, подчас
почти принудительной применимости»2. Проблему, решение которой
осложняется (если не исключается вовсе) тем, что, как это получалось
уже у самого М.Вебера, «в конце концов везде опять парадоксальным
образом являет себя «точка зрения» как принцип формирования знания,
а «предмет исследования» в значительной степени тем самым оказыва-
ется в некотором роде чем-то «искусственно сконструированным», зави-
симым от постановки вопроса»3.
Этим ходом мысли, критически направленным против М. Вебера,
А.Вебер обосновывает свое стремление, — «релятивировав» противо-
положность рационального и иррационального моментов в познава-
тельном процессе, — ограничить притязания рационального позна-
ния, во всяком случае в области социологии. С тем, чтобы освободить
Здесь и далее выделено мною. —Ю.Д.
541
место для «вчувствования» — постижения посредством «чувства», удо-
стоверяющего истинность исторического феномена, с каким, согласно
А.Веберу, и имеет дело /су./7б/?/>>/?социология. «...Мы считаем объектив-
ность в духе Макса Вебера, т.е. абсолютную «точность», — решитель-
но утверждает он, — неспособной простираться на нечто большее, чем
построение каркаса... основных данных (таких, например, как струк-
тура общества, достигнутая ступень цивилизации и т. д. — Ю.Д.), по
отношению к которым можно поставить вопрос, случилось ли это
именно так или как-либо иначе. Всякую сложную структуру бытия,
обусловленную по преимуществу — или в том числе — душой и духом;
всякую менее ясную жизненную взаимосвязь... всегда можно осмыс-
лить и понять, только «вчувствовавшись» в материал»4. Отстаивая пра-
ва такого рода «интуитивного восприятия» как единственно адекват-
ного «способа познания» более крупных социокультурных целостно-
стей («применительно к обширным областям жизни»), А.Вебер пишет:
«Для нас... оно представляет собой основополагающий подход, только
подлежащий проверке и корректировке с помощью аналитического и
синоптического метода. Нам представляется более важным хоть
сколько-нибудь адекватно осветить всю целостность, либо те или
иные феномены как ее элементы, нежели в угоду аналитическому зна-
нию претворить эту целостность в устойчивые определения, тем са-
мым подвергнув ее разрушению. Но именно такое знание возникает (в
результате подобного подхода. — Ю.Д.), и именно им сознательно ог-
раничивается Макс Вебер»5.
Как видим, аналитическая социология М.Вебера, отмеченная
стремлением к достижению картезианской «ясности и отчетливости»
своих основополагающих понятий, этих «идеальных типов», позволя-
ющих логически непротиворечивым образом фиксировать цепочки
причинных зависимостей между различными социальными явления-
ми, решительно отвергается его братом в пользу социологии, которую
можно было бы назвать «синтетической», а, вернее синкретической.
Синкретической хотя бы уже потому, что она апеллирует к «феноме-
нам», целостность которых удостоверяется лишь «интуитивно», ибо
ничто, кроме заверяющего «Я так чувствую!», не может гарантировать,
что речь в каждом данном случае идет о внутренне (и в этом смысле
объективно, независимо от «ощущений» наблюдателя) целостном об-
разовании, а не о чем-то самопротиворечиво-гетерогенном, имеющим
лишь внешнюю видимость цельности.
Впрочем, для А.Вебера, примкнувшего (опять же в пику старшему
брату с его «чрезвычайно осознанным» предпочтением «рациональной
стороны объекта»6) к антикартезианской линии в философии и гносео-
логии, понятийная «ясность и отчетливость» познания свидетельствовала
скорее о его радикальной ограниченности, чем о неоспоримых достоин-
ствах и преимуществах. Причем истинность и справедливость этого по-
лемически заостренного выбора он отстаивал до конца своих дней, под-
водя под него все более широкие социально-исторические и культурфи-
лософекпе основания. Правда, делал это не в форме прямого противопо-
ставления маньеристского синкретизма классически ориентированному
аналитизму, а косвенно — путем «снятия» противоположности аналити-
542
ческого и синкретического подходов. «Снятия», все время заставляющего
вспоминать о гегелевской диалектике, реабилитированной (после ее не-
безосновательной критики неокантианцами баденской школы) модным
в 1920-е годы неогегельянством.
Взятая же в более широком аспекте, описанная теоретико-методо-
логически контроверза двух братьев выступает как противополож-
ность социологического реализма, которого — фактически, а не на
словах — придерживался А.Вебер, социологическому номинализму
Макса Вебера. Хотя и в данном случае эта контроверза оказалась
скрытой своеобразным (историзируюшим) диалектиктизмом А.Вебе-
ра, уже в 20-х годах объявившего ее устарелой точно так же, как и все
остальные традиционные гносеологические и теоретико-методологи-
ческие противоположения классически ориентированного мышления.
Причем дихотомия номинализма/реализма оказалась первой, которую
он принес в жертву «подлинно современному» мышлению, отмечен-
ному именами двух основоположников теории относительности
(Фридриха Ницше, утвердившего принцип релятивизма в этике, и
Альберта Эйнштейна, распространившего тот же принцип на область
естествознания). Затем в его перечне «исторически исчерпавших» себя
противоположностей следовали дихотомии идеального/реального,
эмоционального/рационального и т.п. Тем не менее по сути дела на-
званные противоположности так и остались непреодоленными в тео-
ретически ответственном мышлении нашей эпохи, как и, соответ-
ственно, в мышлении самого А.Вебера (тщетно пытавшегося преодо-
леть на пути «отмены» гносеологических и теоретико-методологичес-
ких противоположений «антиномизм» своего брата, вовсе не лишен-
ный эвристической ценности). Да и сам он продолжал ориенти ро-
ваться в области теории отнюдь не без помощи этих традиционных
дихотомий, — фактически придерживаясь в своих обобщающих куль-
турсоциологических построениях скорее социологического реализма
Конта и Маркса, Спенсера и Дюркгейма (правда, предпочитая имено-
вать его «универсализмом»), чем социологического номинализма
М.Вебера, опиравшегося на идиографизм баденской школы неоканти-
анства.
В этом отношении А.Вебер представлял своим творчеством скорее
тенденцию теоретико-методологической реставрации, наступившей пос-
ле решительного переворота, совершенного Г.Зиммелем, М.Вебером и
другими сторонниками «методологического индивидуализма» (которые
не просто заострили антиномию «номинализма/реализма», но и социо-
логически «операционализировали» ее), — а не продуктивное преодоле-
ние отмеченной антиномии. Застарелая оппозиция к моральному риго-
ризму Канта, равно как и неокантианскому аксиологизму, каковые пер-
сонифицировались в глазах младшего брата обобщенным образом его
старшего брата, неизменно толкала А.Вебера в сторону философии жиз-
ни с ее откровенным аморализмом и экзистенц-философии с ее метафи-
зически сублимированным эстетизмом. Настойчиво подчеркивая, что
его собственный подход «заметно отличается от трансцендентальных по
характеру, в конечном итоге близких кантианским, убеждений Макса
Вебера»7, А.Вебер противополагал его тесно связанному с ними «при-
543
кладному методу... социологической индивидуализации», «представлен-
ному у Макса Вебера»8.
Не отрицая того, что этот подход позволяет осветить «структуру об-
щества и ее развитие и, наконец... также надперсональные обстоятель-
ства жизни с точки зрения социальных устремлений, установок и реак-
ции отдельных личностей»9, А.Вебер считает его неприемлемым для себя
именно в силу самой этой «точки зрения» — как видим, последователь-
но номиналистической. Такой подход, который, по его словам, «Макс
Вебер избрал... не в силу своих мировоззренческих позиций, но ради до-
стижения методологической точности»10, представляется ему неприемле-
мым в силу особенностей задачи, какую он поставил перед собой и ка-
кую собирался решить в рамках проектируемой им новой, а именно куль-
турно-исторической версии социологической дисциплины. Задача эта
заключалась в том, чтобы «показать объединенные внутренними взаимо-
связями целостные феномены в их комплексности, сознательно трактуя их
при этом как нечто единое»11. «...Ибо, — как тут же разъясняет А.Вебер, —
наш замысел направлен на более или менее отчетливое понимание неруши-
мых, по своей сути совершенно иррациональных исторических сообществ в
их единстве, на постижение великих, обладающих сложной структурой уни-
версальных феноменов, пронизанных бесконечным множеством индивиду-
альных по характеру причинно-следственных рядов, отличающихся край-
ней неоднородностью, которые мы не рассматриваем»12.
Иначе говоря, А.Вебер с самого начала выносит за скобки то, что
было предметом пристального интереса его брата, который вообще свя-
зывал научность социологии именно с ее ориентацией на принцип кау-
зальности, с требованием установления причинных зависимостей каждо-
го из явлений, исследуемых ученым. Более того, как раз подобное «от-
влечение» от принципа причинности оказывается у А.Вебера условием
возможности предлагаемого им «универсалистского подхода». И хотя он
тут же оговаривается, что, «разумеется», последний не предполагает «при
этом никаких суждений по поводу того, оказываем ли мы на идеальном
уровне предпочтение принципам индивидуалистической либо коллекти-
вистской ориентации»13, т.е. не связывает ученого никакими обязатель-
ствами практически -политического порядка, тем не менее в общем-то
не упускает случая подвергнуть культурно-исторической критике соци-
ологические предпосылки номиналистически-рационалистического ме-
тода. Причем в конце концов эта критика выливается в развернутое
культурсоциологическое построение, в рамках которого дается крайне
негативная оценка рационалистически ориентированного интеллектуа-
лизма и органически связанной с ним цивилизации. Она в его изображе-
нии не столько инструмент, и даже не столько оппонент, сколько самый
могущественный, а потому тем более опасный противник культуры. (Вы-
вод, который заставляет вспомнить о концепции Л.Клагеса, получившей
лозунговое выражение в названии одной из самых популярных его работ:
«Дух как противник души».) Так что читателю сочинений А.Вебера их ав-
тор — пусть не так часто, но все-таки напоминает о тех пагубных куль-
турно -исторических последствиях, к каким привел тот рационалисти-
чески-номиналистический тип сознания, к которому тяготел в свое вре-
мя Макс Вебер.
544
Альфред Вебер и Освальд Шпенглер:
составляющие культурсоциологической конструкции
Учитывая сказанное выше, легче понять общую схематику универсально-
исторической социологии культуры А.Вебера, которую он впервые деталь-
но эксплицировал в своем главном труде «История культуры как культур -
социология»14, изданном за пределами нацистской Германии (в Лейдене) в
1935 г., а в самой Германии (в Мюнхене) лишь в 1951 г. — через 15 лет после
первого издания и 6 лет после разгрома нацизма. Речь идет о том способе
схематизации социокультурной реальности, которого он придерживался на
протяжении всей своей идейной эволюции, внося в него лишь непринци-
пиальные изменения. Уже в самом названии этого труда обращает на себя
внимание программно заявленное отождествление истории культуры с ее —
социологической — теорией и наоборот: социологии культуры с ее истори-
ей. Причем в роли «медиатора» выступает социология, одинаково (хотя и по
разным основаниям) причастная и истории с ее непреодолимой временно-
стью, и культуре, взыскующей вечного и неизменного и являющей его ис-
торическому миру.
«Воля к отождествлению», заявившая о себе уже в названии осново-
полагающего труда А.Вебера, отражает его монистическое стремление
постичь историю человечества как нечто единое и целостное, взглянув на
нее «с птичьего полета»... Но — не самой же Истории, как того хотел бы
сам Шпенглер, у которого мы и заимствовали слова в кавычках, а Куль-
туры. Культуры, отождествленной А.Вебером с Историей, — однако так,
чтобы при необходимости можно было бы отменить эту идентификацию,
или, по крайней мере, «релятивизировать» ее. Обратив особое внимание
на то, что в культуре являет себя лишь сущностно-смысловая («душевно-
духовная», согласно излюбленному словосочетанию А.Вебера) суть ис-
торического процесса, а не его социологическая «фактура». И, стало
быть, первоначальное отождествление истории человечества и его куль-
туры, с каким мы сталкиваемся уже в заголовке основополагающего ве-
беровского труда, следует понимать всего лишь как предварительно-
»пропедевтическое». Ибо, оставаясь в границах этого простого, — диа-
лектически нерефлектированного, то есть не включившего в себя свое
отрицание, — отождествления истории и культуры, А.Вебер рисковал бы
повторить ошибку автора «Заката Европы» (с которым явно сближался в
ряде исходных пунктов своего рассуждения), потеряв единство истории
человечества во множестве «культур»: столь же неповторимых, сколь и
самодостаточных, столь же уникальных, сколь и замкнутых на себя,
столь же самобытных, сколь и непроницаемых друг для друга).
А эта опасность грозила ему тем более, чем более он был убежден,
подобно Шпенглеру, в том, что подлинный «смысл» (у автора «Заката»
это «прафеномен», прообраз) культуры открывается лишь творческой
интуиции особо одаренных созерцателей ее сущности. Да и то — лишь
фрагментарно: в мгновенных озарениях, освещающих человеческий мир
в его «минуты роковые», — что никак не могло бы уберечь от ее реляти-
вистской плюрализации, так мало похожей на постижение общечелове-
ческой целостности культуры как таковой. Восстановлению целостного
образа Культуры, идентифицированной с общечеловеческой Историей, уже
18 3ак. 3073
545
рассыпавшегося, как это случилось у того же автора «Заката», на осколки в
наспех извлеченном из ее «материала» наборе «малых» культур (каждой из
которых, как мы хорошо помним, он отвел тысячу сто лет жизни), не помог-
ли и в общем инородные «вкрапления» в общую культурфилософскую кон-
струкцию, когда Шпенглер пытался социологически расшифровать отдель-
ные звенья постулированной им витальной ритмики культуротворческих
циклов. Однако именно в том пункте, где он остановился, потерпев неуда-
чу в своей попытке как-то связать свою идею уникальности «культур» (ис-
кусственно обособленных им друг от друга) с принципом единства Истории
(от которого при всем желании не мог избавиться), А.Вебер попытался спа-
сти положение. То, что имело у автора «Заката» характер логически непра-
вомерных вкраплений в его общую конструкцию исторического процесса,
понятого как процесс творчества «культур», он возвел на уровень одного из
трех исходных постулатов собственного построения, позволившего ему
преобразовать шпенглеровскую купътурфилософию истории в свою куль-
турсоциологию истории.
А.Вебер выделил в качестве этих постулатов три если не равноценных, то
равнозначимых «момента» (или аспекта, или измерения) тотального истори-
ческого процесса: культурный, цивилизационный, и собственно соци-
альный, каждому из которых отводится особая роль в общем процессе.
Культура выполняет в нем смыслообразующую роль (или функцию). Циви-
лизация, — которую А.Вебер, в отличие от О.Шпенглера, рассматривает не
как нисходящую фазу эволюции каждой из «культур», а одно из трех изна-
чальных (и в этом смысле равноправных) определений исторического про-
цесса, — обеспечивает преемственность и поступательность исторического
процесса, осуществляемую непрерывным развитием техники и науки, ухо-
дящей в нее своими корнями. Наконец, социальный аспект истории явля-
ет собой ее телесную фактуру, — тот самый материал, из которого она «вы-
страивается» в процессах жизнедеятельности людей, приводящих ее в дви-
жение, чаще всего не представляя, куда течет этот социально-исторический
поток и какое место в нем занимают они в каждый данный «миг» его тече-
ния. Однако в этом своем качестве телесной субстанции истории социаль-
ность выполняет объединяющую роль, сводя вместе «уникализирующую»
тенденцию культуры, вечно устремленной ввысь в неизреченную сферу
трансцендентного, являющего себя в неповторимых творениях человеческо-
го гения, и цивилизации, преследующей приземленно-практические цели
рационального устройства эмпирического существования людей. Отсюда то
особое место, которое отводится социологии культуры в заголовке «главной
книги» А.Вебера.
Впрочем, если быть совсем уж точными в изложении общей схемы А.Ве-
бера, то следует оговориться, что социальность играет в его построении роль
соединительного звена между культурой и цивилизацией не потому, что
она, взятая сама по себе, осуществляет их связь, а потому что является ус-
ловием возможности таковой. Сама же эта связь реализуется в момент судь-
боносной «встречи» всех трех измерений структурных моментов историчес-
кого процесса (непременным участником которой является и социальность
— как определенным образом оформленное общение людей). Речь идет об
уникальном сочетании гетерогенных социально-исторических факторов,
судьбоносное взаимодействие которых уже М.Вебер, настроенный доста-
546
точно рационалистически, был склонен определять с помощью понятия
«констелляции», заимствованного из астрологии. Он использовал его в тех
случаях, когда ему казалось недостаточно корректным определять взаимо-
действие разнородных явлений в понятиях причины/следствия, но в то же
время он не собирался сдавать позиции социологии приверженцам инде-
терминизма. У А.Вебера же, которого судьба причинного объяснения как
важнейшего признака научности социологии мало беспокоила, тем боль-
шую роль играло понятие констелляции, явно заменяющее категорию при-
чинно-следственного отношения в ее объяснительной функции.
Более того: оно явно становилось важнейшим системообразующим
понятием, с помощью которого выстраивалась вся культурсоциологичес-
кая конструкция А.Вебера, получала свое объяснение связь между куль-
турой, цивилизацией и социальностью. Констелляция означала у него
столь же неповторимое, сколь и непредсказуемое «стечение обстоя-
тельств», возникших во всех трех измерениях исторического процесса и
сошедшихся в одной единственной пространственно-временной «точке»
(у М.М.Бахтина она получит назание «хронотопа»). И если, вводя наря-
ду с вертикальным культурным измерением истории, еще и горизонталь-
ную «ось» цивилизации, А.Вебер получает возможность нанизать на нее
столь же вечные, сколь и неповторимые образы культуры, утверждая таким
образом преемственность исторического развития, а подставляя под две
первые «оси» еще и третью — социальную, очерчивает предметно-«теле-
сную» область, которая подлежит культивированию и цивилизации, то по-
стулируя принцип констелляции, он пытается описать механику «встречи»
всех трех разноприродных устремлений, а, вернее, как-то обойти «неудоб-
ный» вопрос, с фатальной неизбежностью возникающий в самой сердцеви-
не его культурсоциологического построения.Как и почему этим столь раз-
личным «осям» все-таки удавалось время от времени «сходиться» друг с дру-
гом вопреки радикальной противоположности их векторов? Отсутствие
удовлетворительного ответа на этот вопрос лишний раз свидетельствовало
о синкретическом характере веберовского построения.
Альфред Вебер и Фридрих Ницше:
культурсоциология истории как инструмент социальной диагностики
Однако, судя по всему, логические просчеты общего построения А.Вебе-
ра не были предметом его особой озабоченности. Он вообще мало бес-
покоился по поводу теоретической строгости концептуальных построе-
ний, относящихся к области философии или социологии истории. Об
этом достаточно выразительно говорило, в частности, его отношение к
шпенглеровскому «Закату Европы», значимость которого он явно пере-
оценил вопреки неоспоримым доказательствам теоретической несосто-
ятельности этой претенциозной книги, приведенным признанными спе-
циалистами из самых различных научных областей. Причиной столь не-
адекватной оценки А.Вебером ее сомнительных достоинств было то, что
он ощутил в авторе «Заката» родственную душу — человека, который,
следуя за Ф.Ницше, попытался «операшюнализировать» традиционную
философию истории, использовав ее в целях социокультурной диагнос-
547
тики, для распознавания роковой болезни «современности» — эпохи, в
какую довелось жить и творить ему самому. Это была операция, с помо-
щью которой эксплицировалась изначальная (хотя и не всегда и не все-
ми мыслителями декларируемая) интенция любой философии истории,
в особенности же философии истории скончавшегося XIX и начавшегося
XX века. Тем самым Шпенглер, не только не скрывавший этой главной
интенции своего культурфилософского построения, но и готовый пожер-
твовать ради нее исторической «аутентичностью», некоторым образом
осуществил давнишний замысел А.Вебера, подспудно вызревавший у
того под влиянием Ницше. Таким образом, у истоков культурфилософ-
ских исканий первого из них и культурсоциологических второго оказался
один и тот же мыслитель, диагностировавший свою эпоху как после-
днюю фазу «европейского нигилизма», вызвав в начале нашего века це-
лый поток литературы на тему «кризиса культуры», «кризиса цивилиза-
ции» и прочих глобальных кризисов.
А.Вебер уже давно, очевидно, еще во времена ранних увлечений ниц-
шевым «Заратустрой» и «Волей к власти», пришел к мысли, которую со
всей ясностью и отчетливостью сформулировал в своей книге «Проща-
ние с прежней историей. Преодоление нигилизма?», написанной в са-
мом конце Второй мировой войны и вышедшей сразу же после разгро-
ма гитлеризма15. В большом разделе этой книге, посвященном автору
«Воли к власти», он писал: «...То, что Ницше, человеку воли, важнее все-
го: практически направленная интерпретация времени и так же практи-
чески направленное пророчество»16. «Интерпретация времени, — данная
преимущественно в предисловии к этому произведению, — является те-
орией и историей европейского нигилизма, пророчество же, тема после-
днего раздела, представляет собой также учение о действиях»17. Как ви-
дим, слово «пророчество» вовсе не несет здесь негативного оттенка, тем
более что его смысл тесно сопрягается с «интерпретацией времени», ко-
торая выступает в качестве его предпосылки. Сама же «интерпретация
времени» — это, согласно убеждению А.Вебера, сложившемуся еще в
1920-е годы, и есть социальная диагностика, осуществляемая с помощью
средств, которыми располагает философ истории, отдающий себе отчет
об основной интенции собственной деятельности: прежде всего «познать
самого себя», поняв эпоху, в какую он живет и творит, и наоборот — по-
нять собственную эпоху, «пропустив» ее через самого себя.
Диагностировать же эту «болезнь эпохи» можно, согласно А.Веберу,
только одним-единственным способом: определив ее (эпохи) «место» в
общем потоке истории, прослеженном до его изначальных истоков. При-
чем сам этот поток рассматривается как единое целое, ни один из мо-
ментов которого не может быть адекватно постигнут вне тотальности
исторического процесса. Самое главное — это не терять из виду всеобъ-
емлющую и и всеопределяющую целостность, сколь бы неповторимо-
своеобразной она ни представала в каждый данный момент, являющий
собой лишь одну из ее бесчисленных граней. А достичь этого можно,
лишь воссоздав в акте интуитивного озарения единый и единственный
образ Истории, подытоженный в современности, окружающей осмысля-
ющего ее Историка, то есть философа (вернее, психолога) истории, каким
осознавал себя Ницше, или социолога истории, каким считал себя А.Ве-
548
бер. Не размениваясь при этом на мелочь отдельных «деталей» и не от-
влекаясь на гелертерское прослеживание изолированных друг от друга
причинно-следственных цепей. Ибо лишь на высветляющем фоне то-
тальности Истории может быть адекватно понята и Современность, под-
водящая итоги всему приведшему к ней историческому процессу, отбра-
сывая его к своему началу и тем самым циклически замыкая его на себя.
Лишь понятая как такой процесс обновляющего возвращения к соб-
ственным первоистокам, История может открыть судьбоносную тайну
Современности, природу заболевания новейшей эпохи и тем самым ее
отличие от всех других, через какие прошло человечество, чтобы придти,
наконец, к той, в какой обречены жить нынешние европейцы.
Как видим, особая нагрузка на образности культурфилософского
(точнее, культурпсихологического), как у Ницше, либо культурсоциоло-
гического, как у А.Вебера, постижения Современности через Историю и,
наоборот, Истории через Современность обнаруживает свою отнюдь не
случайную связь с ницшеанской идеей «вечного возвращения одного и
того же». Но при всем этом решающим мотивом, побуждавшим А.Вебера
выдвигать в качестве предпочтительного инструмента философского по-
стижения человеческой Истории, взятой в качестве Культуры, именно
эмоционально переживаемый «образ («облик») эпохи», а не ее понятий-
но артикулируемый смысл, было его убеждение в том, что один лишь «об-
раз» способен адекватно репрезентировать ее целостность, взятую в ее
максимально индивидуализированном воплощении. Причем «реалистичес-
кий» (в средневеково-схоластическом смысле) мотив явно доминировал
в этом его стремлении «преодолеть» противоположность номинализма и
реализма. Ведь все равно идет ли при этом речь об Истории, взятой как
единая и единственная культурная тотальность, или «облике эпохи»,
высветляемом на живом пульсирующем фоне такой «душевно-духовной»
целостности, — это, по А.Веберу, нечто в принципе неразложимое на
отдельные «части», «фрагменты», «отрезки». В обоих случаях атрибут
индивидуального принадлежит целому, а не его составляющим, которые
бесследно исчезают в нем или «снимаются» на гегелевский манер (ска-
жем, ссылаясь на то, что общечеловеческая история, взятая в целом, —
это ведь тоже нечто абсолютно индивидуальное и неповторимое: аргу-
мент, который А.Вебер мог бы вполне выдвинуть против сторонников
«догматического взаимообособления» реализма и номинализма). И в об-
щем индивидуальное в точном смысле оказывается не просто невырази-
мым и непостижимым. Его здесь либо нет вовсе, либо оно оказывается
этикеткой, прикрывающей пустоту. Это ли не окончательное торжество
реализма над номинализмом?
Однако обратимся к собственным высказываниям А.Вебера, который
еще в 20-е годы наталкивался на подводные камни своего стремления
ликвидировать все традиционные философские дихотомии, имевшего
явно неогегельянский привкус, на путях замены понятия «образом» (или
«обликом»). А для этого ему потребовалось радикально «деонтологизиро-
вать» его содержание, заявив, что «облик культуры» (или «облик эпохи»)
«никогда не бывает причиной чего бы то ни было»1*, и вообще пребывает
по ту сторону каузальных отношений (в установлении каковых, напом-
ним, М.Вебер усматривал основную научную задачу социологии). В целом
549
же, согласно симптоматичной оговорке А.Вебера, «этот облик не следует
трактовать как нечто большее, нежели феномен»19, который, будучи обра-
щенным не вовне, а внутрь себя самого, оказывается совсем не тем, чем он
представляется извне, сбивая с толку черезчур рационалистически ориенти-
рованных «объективных наблюдателей» истории. А это уже можно рассмат-
ривать как шаг навстречу феноменологическому толкованию «образа» (тен-
денция, кстати сказать, характерная для неогегельянства с его синкретичес-
кой диалектикой).
Однако при всей кажущейся эфемерности «феномена» у А.Вебера,
специально подчеркнувшего, что он всего лишь некая являемость и ни-
чего более, последний толкуется им не только как «способ выражения»,
но и как «рамка», в какую «помещается единичное явление»20, лишь здесь
раскрывающее свою подлинную — жизненную, «душевно-духовную» —
подоплеку. (Правда, — при условии, что в границах этой «рамки» «ниг-
де не предпринимается попытка сформулировать что-нибудь наподобие
универсального правила, касающегося отношения великой, созидающей
и действующей личности к массовой субстанции истории»21. Подоплека
эта неизмеримо более глубокая (то есть изначальная и, если хотите, фун-
даментальная), чем тот «смысл», что «фиксируется» при рациональной
констатации причинно-следственных связей того же «единичного явле-
ния». Как видим, своеобразная веберовская «феноменологизация» куль-
турсоциологического постижения исторического процесса предстает
здесь как попытка заставить Историю заговорить человеческим языком,
раскрыв свою последнюю тайну тому, у кого, пользуясь метафорой Ниц-
ше, выросли уши, чтоб ее услышать. Ибо глубины (повторимся: челове-
ческой, «душевно-духовной») исторической жизни уже «по определению»
не могут быть постигнуты с помощью бездушных и безжизненных раци-
онально обструганных понятий. История раскрывает себя философски
(или психологически, или социологически) искушенному мыслителю —
он же визионер и пророк — лишь в «образах», «обликах», «феноменах»,
преисполненных «живой жизни».
Отсюда его поразительная власть над умами и, что гораздо важнее,
душами людей. Вот откуда, по убеждению А.Вебера, проистекала проро-
ческая мощь произведений Ницше, — и даже автора «Заката», чьи идеи
были всего лишь отражением озарений гениального безумца, которые не
могли не разрывать скрежещущую железную цепь мертвящих логических
умозаключений и выкладок. Прежде всего это относится к «заглавной»
идее книги Шпенглера — идее «заката Европы», родившейся «из духа»
ницшевой «истории европейского нигилизма». Заметьте: истории, взятой
так, как ее «увидел» философски умудренный психолог (или психологи-
чески искушенный философ) — автор «Воли к власти», поместивший в
«рамку» своего «образа» истории «европейского (у Шпенглера «фаустов-
ского») человечества» и современную ему эпоху. Так что суть дела вовсе
не в логических огрехах и несуразицах Шпенглера, а в том «духе музы-
ки», из которого она черпала свое вдохновение. И суггестивное воздей-
ствие «Заката Европы» на читателей этой книги (которая тщетно стреми-
лась стать столь же «невозможной», как и произведения самого Ницше)
было вовсе не теоретически-абстрактным, но практически-жизненным
— по давным-давно известному принципу: «слова учат, примеры — вле-
550
кут». Вот с чем связан «прогностический потенциал» и шпенглеровских
видений, и всех подобных ему «самоосуществляющихся пророчеств» (как
назвали бы их наши нынешние прогнозисты), игравших достаточно дву-
смысленную роль «влекущих примеров», задрапированных под философ-
ское «постижение Истории».
Но так или иначе он, этот потенциал призывного «заклинания буду-
щего», все-таки не раз позволял в наш век, не только «пронзительным»
(как сказал бы Федор Карамазов) философам истории масштаба Шпен-
глера, но и их гораздо более мелким подражателям не раз и не два одер-
живать победы над более трезво мыслящими философами и социолога-
ми, к резонам которых А.Вебер во второй половине 1930-х годов стал
более внимательно прислушиваться, чем до того. По мере того, как на-
ционал-социализм демонстрировал, что означает ницшеанский «диони-
сизм» на практике, он обнаружил склонность, подобно М. Веберу, ско-
рее одергивать себя, когда перед ним развертывали «широкомасштаб-
ные» картины Будущего, представавшего в виде «поэмы экстаза», требу-
ющей от ее исполнителей «активного нигилизма» и «героического пес-
симизма». От подобных «побед» самоосуществляющейся прогностики и
попытался А.Вебер предостеречь своих немецких читателей в книге, ко-
торую заканчивал в год окончательного разгрома гитлеровской Герма-
нии22. Хотя, судя по шестой главе этой книги с выразительным названи-
ем «Ницше и катастрофа», в его предостережениях, отмеченных мотива-
ми «интеллектуального покаяния», вскоре получившими название «ком-
плекса 1946 года», были расставлены далеко не все точки над «i». Дело в
том, что вполне справедливо ставя проблему преодоления нигилизма, с
которым немцам (да и всем европейцам) предстояло «проститься», как и
со всей «прошлой историей», он — в целом ряде существенно важных
пунктов — продолжал попрежнему толковать этот нигилизм «в духе»
Ницше. Между тем как одним из важнейших «условий возможности» та-
кого преодоления был именно решительный отказ от подобного толко-
вания, немыслимый без последовательной критики самого этого «духа».
Потребовалось еще несколько лет, чтобы А.Вебер определился здесь
более четко. Что и получило отражение в его книге 1953 г. «Третий или
четвертый человек. О смысле исторического бытия»2'. Обратите внима-
ние: здесь идет речь именно о смысле, а не об «образе» (или «облике»).
Причем, как свидетельствует заключительная глава этой книги, стоящая
особняком, повествуя о самам главном, смысл этот обретается именно в
отношении к трансценденции. Хотя и толкуемой, — в чем можно услы-
шать отголосок раннего диалектического синкретизма А.Вебера, — как
имманентная трансценденции. Многозначителен в этой, во многих отно-
шениях итоговой, книге А.Вебера также и факт очередного обращения
автора к теме, которая была введена в широкий научный оборот имен-
но его братом Максом. Речь идет о парадоксе «рациональности» и «раци-
ональной бюрократии», осмысляя который на свой манер, А.Вебер кон-
статирует факт рождения совершенно нового антропологического типа
человека. Человека, целиком и полностью сформированного новейшим
бюрократическим аппаратом по своему образу и подобию. Встраивая его
в свою общую культурсоциологическую схему истории человечества,
А.Вебер назвал его «четвертым» человеком, указав на опрасность для все-
551
го человечества его достаточно вероятной победы над «третьим челове-
ком», которому было обязано всеми своими достижениями «европейское
человечество». Тем самым получило новую, культурсоциологическую
интерпретацию ницшево видение «последнего человека», приписанное
Заратустре.
Не ссылаясь на А.Вебера (которого, как это ни парадоксально, они
считали еще более «правым», чем Макса Вебера), новые левые, начиная с
Г.Маркузе, закрепили за этим новейшим социальным типом название
«одномерного человека», фактически удостоверив таким образом пра-
вильность этого общего диагноза братьев Веберов, до сих пор сохраняю-
щего свою прогностическую ценность.
Примечания
1 Ideen zur Staats- und Kultursoziologie. Karlsruhe, 1927. S. 34 (C. 59 настоящего из-
дания.
2 Ibidem. (Там же).
3 Ibid., S. 35 (С. 59).
4 Ibidem. (Там же).
s Ibid., S. 36 (C. 59-60).
* Ibidem. (Там же).
7 Ibid., S. 37 (C. 60).
* Ibid., S. 38 (C. 61).
4 Ibidem. (Там же).
10 Ibidem. (Там же).
11 Ibidem. (Там же).
12 Ibidem. (Там же).
11 Ibidem. (Там же).
14 Kulturgeschichte als Kultursoziologie. Leiden, 1935.
|S Abschied von der bisherigen Geschichte. Oberwindung des Nihilismus? Bern, 1946.
16 Kulturgeschichte als Kultursoziologie. S. 95.
17 Ibidem.
IK Ideen zur Staats- und Kultursoziologie. S.28 (C. 55).
Iv Ibidem. (Там же).
20 Ibidem. (Там же).
21 Ibidem. (С. 56).
22 Abschied von der bisherigen Geschichte. Oberwindung des Nihilismus?
2- Der dritte oder vierte Mensch. Vom Sinn des geschichtlichen Daseins. Munchen,
1953.
Библиография трудов Альфреда Вебера*
Hausindustrielle Gesetzgebung und Sweating-system in der Konfektionsindustrie:
Inaug.-Diss. Leipzig, 1897. 35 S.
Uber den Standort der Industrien. Bd. 1: Reine Theorie des Standorts. Tubingen, 1909.
246 S. (Engl.: Theory of the Location of Industries. Transl. by Friedrich C.J. Chicago,
1957. 256 p.)
Religion und Kultur. 1912.
Zwei Vortrage uber die gelben Gewerkschaften, gehalten am 26. April 1913. Berlin,
1913. 32 S. (In Zusammenarbeit mit Heinemann H.)
Arbeitswilligenschutz?.. Munchen, 1914. 30 S.
Die Not dergeistigen Arbeiter. Munchen; Leipzig, 1923. 54 S.
Deuschland ubd die europaische Kulturkrise. Berlin, 1924, 57 S.
Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa, 1925.
Ideen zur Staats- und Kultursoziologie. Karlsruhe, 1927. 142 S.
Das Ende der Demokratie?.. Berlin, 1931. 23 S.
Kulturgeschichte als Kultursoziologie. Leiden, 1935. 423 S.
Das Tragische und die Geschiclite. 1943.
Abschied von der bisherigen Geschiclite: Oberwindung des Nihismus? Bern, 1946. 262 S.
Prinzipien der Geschichts- und Kultursoziologie. 1951.
Der Dritte oder der Vierte Mensch: Vom Sinn des geschichtlichen Daseins? Munchen,
1953, 275 S.
Литература об Альфреде Вебере
Alfred Weber als Politiker und Gelehrter: Die Referate des 1. Alfred-Weber-Kongresses
in Heidelberg, 28-29 October, 1984. Stuttgart, 1986.
Eckert R. Kultur, Zivilisation und Gesellschaft: Die Geschichtstheorie Alfred Webers.
Tubingen, 1990.
Kruse V. Soziologie und «Gegenwartskrise»: Die Zeitdiagnosen Franz Oppenheimers
und Alfred Webers. Ein Beitrag zur historischen Soziologie der Weimarer Republik.
Wiesbaden, 1990.
Luoma V. Die drei Spharen der Geschiclite: Systematische Darstellung und Versuch
einer kritischen Analyse der kultursoziologischen inneren Striikturlehre der Geschiclite
von Alfred Weber. Helsinki, 1959.
Soziologische Studien zur Politik, Wirtschaft und Kultur der Gegenwart: Alfred Weber
gewidmet. Potsdam, 1930.
Vasoldt F. Die webersche Standorttheorie der Industrie im Lichte ihrer Kritiken. Berlin,
1937.
Библиография выборочная
553
Указатель имен
Август Гай Юлий
Цезарь Октавиан
Августин Блаженный Аврелий
Альберт Великий, Альберт
фон Больштедт
Анаксимандр Милетский
АнсельмКентерберийский
Аристотель
Ахминов Герман Ф.
Ашока, царь
Бальзак Оноре де
Байрон Джордж Ноэл Гордон
Бакунин Михаил Александрович
Барлах Эрнст
Баррес Морис
Бартнинг Отто
Барток Бела
Бассерман Эрнст
Бах Иоганн Себастьян
Бахтин Михаил Михайлович
Бейль Пьер
Бекман Макс
Бентам Иеремия
Беннигсен Рудольф фон
Бенц Рихард
Берг Альбан
Бергсон Анри
Бетховен Людвиг ван
21, 146,304,322
66
310
159, 168
192,270,271
269, 270, 296
259
320
51, 115,442
324, 430
443
336, 342
129, 167
372, 373
299
92, 165
298,419,420
547
421
336, 342
439
89, 164, 168
324,536
299
40, 278, 279, 496
295, 299,419,420,425
Бисмарк Отто Эдуард
Леопольд фон Шёнгаузен 56,57,87-90,98,99, 101, 103, 114,
126, 148, 149, 163-166,446,453-455,
495
554
Бланки Луи Огюст
Блюхер Гебхард Леберехт
Боден Жан
Бодлер Шарль
Бонифаций (Винфрид)
Босх (Бос ван Акен) Иероним
Брак Жорж
Брандес Георг
Браун, Генрих и Лили
Брейгель Питер Старший
Буланже Жорж
БуркхардтЯкоб
Бэкон Фрэнсис
Бюлов Бернхард
Генрих Мартин фон
Вагнер Рихард
Валери Поль
Ван Гог Винсент
Ван Эй к Ян
Варнхаген фон Энзе Карл Август
Варнхаген Рахиль
Антония Фредерика,
урожд. Левин-Маркус
Васантасена
Вашингтон Джордж
Вебер Альфред
Вебер Макс (Карл Эмиль
Максимилиан)
Веласкес (Родригес де Сильва
Веласкес) Диего
Веллингтон Артур Уэсли
Верлен Поль
Вергилий Марон Публий
Вильгельм I Оранский
Вильгельм II, имп.
Вильсон Томас Вудро
Винкельман Иоганн Иоахим
Виньи Альфред де
Вирхов Рудольф
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ)
Вольтерек Рихард
Габсбурги, династия
Гайдн Йозеф
Галилей Галилео
443
167
383
271,325,
189,198
342
341
146
94
342
496
40, 446,<
192,411,
165
325,419,
156
339,451
322
166
106,166
320
149
539-552
450
155, 486
432
448, 449
40,52,59-61, 118,
551,552
414
430
450
322, 323
172, 197,
495, 498
167
419
442
89, 164
421,422,
523,536
164,168
420
280, 351
418
457
457
-544, 546, 549,
555
Гамбетта Леон Мишель
Ганди Мохандас Карамчанд
(Махатма)
Гарибальди Джузеппе
Гартман Людо Мориц
Гауптман Герхардт
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
Геккель Эрнст
Гёльдерлин Иоганн
Христиан Фридрих
Гендель Георг Фридрих
Георге Стефан
Гербель Николай Васильевич
Гердер Иоганн Готфрид
Герхардт Пауль
Гесиод
Гёте Иоганн Вольфганг
Гильгамеш
Гинце Отто
Гитлер Адольф
Гладстон Уильям Юарт
Глюк Христоф Виллибальд
Гоббс Томас
Гобино Жозеф Артюр де
Гойя Франсиско де
Гомер
Гораций, Квинт
Гораций Флакк
Готфрид Страсбургский
Гофман Эрнст Теодор Амадей
Гракхи, Тиберий и Гай
Гропиус Вальтер
Грильпарцер Франц
Грос (Эренфрид) Георг
Гумбольдт Вильгельм фон
Гундольф Фридрих
Гупты, династия
Гюго Виктор
Данте Алигьери
Дарвин Чарлз Роберт
Декарт Рене
Демосфен
149
243
149
95-97, 100
234
33,34.40,66,67,69, 126, 162, 233,
424,429,431
280
271,324,430
419,420
450, 498,535
401
425
419
266
80-83, 126, 142, 163, 169, 170, 180,
197, 198, 269, 287, 304, 362, 417, 426
427,429,432,487,492,501,505
319
162, 163
222, 237
149
420
412
214,216
342
266, 297, 385, 392
168
392
428
219
369
454
336
126, 356,362
264, 398, 399, 403, 426
320
442
269, 297, 317, 323, 393, 394, 486, 492
280, 444
79,270,323,413
146
556
Дизраэли Бенджамин,
граф Биконсфилд
Диккенс Чарлз
Диоклетиан
Доминик (Гусман)
Домье Оноре
Достоевский Федор Михайлович
Дрейфус Альфред
Дриш Ганс Адольф Эдуард
Дройзен Иоганн Густав
Дуне Скот
Дюма (отец) Александр
Дюркгейм Эмиль
Еврипид
Елизавета I
Еллинек Карл
Жордан Паскуаль
Жоффруа Сент-Илер Этьенн
Зедльмайр Ганс
Зейдель Генрих
Зенкевич Михаил Александрович
Зиммель Георг
Золя Эмиль
Ибсен Генрик
Иоанн Дуне Скот
Йорки, династия
Калидаса
Кальдерон де ла Барка Педро
Камю Альбер
Кандинский Василий Васильевич
Кант Иммануил
Кардорфф Вильгельм
Карл Великий
Карлейль Томас
Каролинги, династия
Касснер Рудольф
Кафка Франц
Кейзерлинг Герман
Келлер Готфрид
Кимон
Кирхнер Эрнст Людвиг
149,438
115,234,443
97
392
342,449,451
223
496
280,523-525, 528
445
см. Иоанн Дуне Скот
442
543
264, 296
141,401
163
280
441
333
115
402
543
234,450,451
117
192
400
320
414
238
336,340,341,343
15,20,27,33,68, 126, 159,270,277,
278, 297, 377, 421-423, 425, 431, 478,
535,543
99, 166
171, 187, 197
128,443
197
536
236
535,536
497
146
336
557
Клавдий, имп.
Клагес Людвиг
Клаузевиц Карл
Клее Пауль
Клейст Генрих фон
Клеон
Кокошка Оскар
Конт Огюст
Конфуций (Кун-цзы)
Коперник Николай
Корбюзье
Корнеев Юрий Борисович
Корнель Пьер
Кромвель Оливер
Кроче Бенедетто
Кубин Альфред
Курциус Эрнст Роберт
Кьеркегор Серен
Кювье Жорж
Лабрюйер Жан де
Лампрехт Карл
Ланкастеры, династия
Лао-цзы
Ласкер Эдуард
Лассаль Фердинанд
Лебон Гюстав
Лёвит Карл
Леже Фернан
Лейбниц Готфрид Вильгельм
Ле Корбюзье (Шарль Эдуард
Жаннере)
Лембрук Вильгельм
Ленин Владимир Ильич
Леонардо да Винчи
Леопарди Джакомо
Линкольн Авраам
Линней Карл
Ллойд Джордж Дэвид
Лозинский Михаил Леонидович
Локк Джон
Лоу Сидни
Луи Филипп, король
Людовик XI
Людовик XIV
Лютер Мартин
219
544
381
336, 340, 343
430
146
342
33, 65, 69, 438, 543
309,311
157
см. Ле Корбюзье
403
414
128, 141,222
427
342
296, 536
271,415,439,443
441
388
34,66
400
309,311
88, 89, 164
126,445
362,507
355
342
270,421,422
369
336, 342
49, 235, 242, 497
394
431
149
82, 163
167
405, 483
423, 424
134
441,449
182,197
129,220
268
558
Мадзини Джузеппе
Малларме Стефан
Мальтус Томас Роберт
Мане Эдуар
Манн Томас
Мао Цзэдун
Марк Франц
Маркс Герхард
Маркс Карл
Маркузе Герберт
Мейнеке Фридрих
Меллер Ганс
Мемлинг Ханс
Мередит Джордж
Меровинги, династия
Меровей, король
Микеланджело Буонаротти
Мильтон Джон
МилльДжон Стюарт
Мис ван дер Роэ Людвиг
Мольер (Жан Батист Поклен)
Моммзен Теодор
Монтескье Шарль Луи де Секонда
Мопассан Ги де
Моцарт Вольфганг Амадей
Мунк Эдвард
Мур Генри
Муссолини Бенито
Мюссе Альфред де
Наполеон 1 Бонапарт
Наполеон III (Луи
Наполеон Бонапарт)
Николай Кузанский
Ницше Фридрих
Нольде (Хансен) Эмиль
Ньютон Исаак
Оккам Уильям
Острогорский Моисей Яковлевич
149
450
205, 435
342,451
497, 540
245
340,343
336
33,65,69, 126, 233,348,437,438,
443, 455, 543
552
162
372
322
325
185,197
197
67, 79, 269, 323, 394-396, 398, 400,
417,418,450,486,492,500
412,417
444
369
414
94-100, 103, 165, 166, 305, 445, 446
145,423,425
450
420
339, 342, 343
342
49
442
141, 147, 166, 167, 183,428-431,442
447, 449
311
70, 126, 161,233-235,304,324,357,
432, 441, 447-449, 452, 456-464, 467-
473, 475-483, 485-494, 496, 497, 500,
502, 510, 527, 529, 536, 540, 543, 547-
551
343
68,280,351,353
192
134, 167
559
Парменид из Элей
Паскаль Блез
Пастернак Борис Леонидович
Пеги Шарль Пьер
Перикл
Пикар Макс
Пикассо (Руис) Пабло
Писсарро Камиль
Питт Уильям Младший
Пифагор Самосский
Платон
Пленге Иоганн
Поликлет из Аргоса
Пракситель
Преториус Эмиль
Прудон Пьер Жозеф
Пуанкаре Раймон
Пушкин Александр Сергеевич
Райт Франк Ллойд
Ранке Леопольд фон
Ранке-Граве Р.
Расин Жан
Рейхль О.
Рембо Артюр
Рембрандт Харменс ван Рейн
Саския, урожд. ван Эйленбург
Ренан Эрнест Жозеф
Рильке Райнер Мария
Рицлер Вальтер
Роан Карл Антон
Руссо Жан Жак
Рюстов Александр
Сасаниды, династия
Свифт Джонатан
Сезанн Поль
Сен-Симон Клод Анри де Рувруа
Сервантес Сааведра Мигель де
Сисмонди Жан Шарль
Леонар Сисмонд де
Смит Адам
Сорель Жорж
Спенсер Герберт
Спиноза Бенедикт
Стендаль (Анри Мари Бейль)
261, 269, 270,277
323,414-416,418,421,442,486
361,404,407
235, 496
29,31, 146
248
341,343
451
147, 149
298
43,67, 144, 168,261,266,267,269,
270, 482
35
296
296
332, 335
438, 443
149
431
372
379, 383, 445
219
414
163
450
323, 324, 414, 416-418, 486, 492, 501
416
148,445
396
295, 298
163
170,203,212-216,420,422,424
345, 347-350
322
421
334,339,451,528
33,34,66,69, 109,438
409
438
270,421
235, 242, 496
34, 69, 442, 535, 543
422, 535
442
560
Стравинский Игорь Федорович
Суарес Франсиско
Сунь Ятсен
Сципион Публий Корнелий
Африканский
Сципионы,род
Тард Габриэль
Теккерей Уильям
Тирпиц Альфред фон
Тойнби Арнолд Джозеф
Токвиль Алексис
Трейчке Генрих фон
Трёльч Эрнст
Тэн Ипполит Адольф
Тютчев Федор Иванович
Фейербах Людвиг Андреас
Фейнингер Лионель Шарль
Ферри Жюль
Фидий
Филипп II Македонский
Фихте Иоганн Готлиб
Фишер Самюэль
Фишер Фридрих Теодор
Флобер Гюстав
Фойгт Вильгельм
Фокс Чарлз Джеймс
Фолкнер Уильям
Фома Аквинский
Фонтане Теодор
Фриш Эфраим
Франциск Ассизский
Фрейтаг Густав
Хайдеггер Мартин
Хаксли Олдос Леонард
Хемингуэй Эрнест
Хиндемит Пауль
Хогарт Уильям
Хофер Карл
Цезарь Гай Юлий
Циммер Генрих
Чан Кайши
Честертон Гилберт Кит
299
414,497
245
146
219
257
115
495
308
134, 145
90, 126, 164
22,40,51,61,62,65, 162
134,212-214,216,445
398
442
336,341,343
92,165
296
146
33,34,69, 126, 142, 179
163
471
325, 449
166
147
238
311
497
163
392
497
261,276,283
236
238
299
421
336
97, 146
320
245
131, 167
561
Шагал Марк Захарович
Шанкара
Шарнхорст Герхард
Иоганн Давид фон
Шекспир Уильям
Шелер Макс
Шеллинг Фридрих
Вильгельм Йозеф
Шефтсбери Антони Эшли Купер
Шиллер Фридрих
Шлегель Фридрих
Шлеммер Отто
Шмоллер Густав фон
Шопенгауэр Артур
Шпан Петер
Шпенглер Освальд
Штейн Генрих Фридрих Карл фон
Штирнер Макс
Штраус Давид Фридрих
Шуберт Франц
Эйнштейн Альберт
Эллис (Л.Л. Кобылинский)
Энгельс Фридрих
Эрнст Макс
Эсхил
Эфрос Абрам Маркович
Юлиан Флавий Клавдий, Юлиан
Отступник
Юм Дэвид
Якоби Фридрих Генрих
Янг(Юнг)
Ясперс Карл
342
320
126,166
79, 184, 264, 269, 323, 398-401, 403-
405, 407-409, 416-418, 486, 492, 501
48,62,64,65, 162,540
60
421
269, 297, 300, 304, 425
428, 526
336,341,343
86,87,91-93, 113, 163
74, 126, 271, 431, 449, 457, 460, 539
99,166
40, 82, 162, 540, 545, 546, 548, 550,
551
126, 166
439
446, 448
325,419,420,533
157,294,543
450
437, 438, 443
342
296
397
313
270
475
421
500,536
Содержание
Принципиальные замечания к социологии культуры.
Общественный процесс, процесс цивилизации
и движение культуры. Перевод МЛ Левиной 7
Идеи к проблемам социологии государства
и культуры. Перевод и примечания Т.Е. Егоровой 41
Предисловие 41
Введение 42
Часть I. Принципиальные замечания 66
I. Социологическое понятие культуры 66
II. Социология культуры и толкование смысла истории 79
Часть П. Осколки идей 86
I. Конституционное или парламентское правление в Германии? 86
II. Теодор Моммзен 94
III. Тип культуры и его изменения 101
IV. Чиновник 106
V. Значение духовных вождей в Германии 125
VI. Дух и политика 143
VII. Немцы вдуховном пространстве Европы 153
Примечания 162
Примечания переводчика 163
Германия и кризис европейской культуры. Перевод Т.Е. Егоровой 169
Предисловие 169
Германия и кризис европейской культуры 170
Франция и Европа 181
Германия и Восток 189
Примечания переводчика 197
Третий или четвертый человек. О смысле исторического
существования. Перевод МЛ. Левиной 199
Предисловие 199
Глава I. Человек и Земля в истории 200
1. Внешняя структура истории 200
2. Новая ситуация применительно к человеку и Земле 205
Глава 2. Человек и его изменения 212
1. Человек 212
563
2. Изменения человека 218
3. Толкование изменений 221
Глава 3. Форма современного существования
и ее опасность 223
1. Третий и четвертый человек 223
2. Старая бюрократия и тенденции свободы 225
3. Частичная технизация 228
4. Полная власть аппарата. Внешняя угроза 229
5. Духовная сфера 231
6. Воздействие на мир 238
Россия 239
Остальной мир 242
7. Внутренняя опасность для Запада 247
8. Судьба человека 252
9. Социальная динамика и возможность вмешательства 254
Глава 4. Человек и трансцендентность 260
1. Постижение 260
2. Ряд предшествующих типов постижения 264
3. Призыв 272
Глава 5. Отношение к философии и науке 277
1. Логическая проверка и философская спекуляция 277
2. Позиция естествознания 279
Глава 6. К вопросу об объективной структуре области имманентной
трансцендентности 284
1. Возможности перцепции 284
2. Границы перцепции 285
3. Витальные и сверхвитальные силы 289
4. Положение человека 292
5. Математика и трансцендентальный катарсис 294
Глава 7. Ритмизация истории и толкование ее смысла 300
1. Результаты истории и витальные силы 300
2. Возможная осмысленность истории 304
3. Мыслительное постижение и процесс сознания в истории 307
4. Формирование бытия посредством толкований смысла 311
5. Надцелесообразные толкования смысла и их распространение 318
6. Последовательность исторических ступеней и поставленная задача .. 325
7. Следствие 330
Глава 8. Свидетельство изобразительного искусства 332
1. Впечатление 332
2. Попытка анализа 337
Дополнение к «Принципам истории и социологии культуры» 344
Примечание 349
Приложение 350
I. Наука и жизненный уклад 350
II. Университет и историческая ситуация 355
III. Зодчество в наши дни 364
Прощание с прежней историей.
Преодоление нигилизма? Перевод М.И. Левиной 375
Предварительные замечания 375
Приложение 376
Введение. О чем идет речь 377
Первая глава. Особенность Запада 386
564
1. Пробуждение в догматике, характер динамизма 386
2. Гомеровский период Европы (1000-1250) 392
Вторая глава. Смягчение догм и прорыв в глубину 393
1. Данте 393
2. Леонардо и Микеланджело 394
3. Шекспир 398
4. Сервантес 409
Третья глава. Редогматизация, рефлексия, одиночество 410
1. Редогматизация и натурализация существования 410
2. XVII век 412
3. Рембрандт 416
Глава четвертая. Догматика и пророческие видения 418
1. XVIII век 418
2. Переходный период 427
Пятая глава. Полнота и разрушение: XIX век 432
1. Осуществление 432
2. Взрывной динамизм. Духовный разрыв. Утрата глубины 433
3. Периоды 441
Шестая глава. Ницше и катастрофа 456
1. Ницше 456
2. Период кажущегося успокоения (1890-1914) и катастрофа 494
Глава седьмая. Сегодняшний день и наша задача 500
Фрагменты к непосредственной трансцендентности 521
Преамбула 521
1. Непосредственная трансцендентность (сущность и постижение):
трансцендентность в неживом 522
2. Непосредственная трансцендентность в чисто витальном.
(Биологическая трансцендентность) 523
3. Непосредственная душевно-духовная трансцендентность 524
Примечания 535
Ю.Н.Давыдов. Альфред Вебер и его кулыурсоциологическое
видение истории 539
Альфред Вебер и Макс Вебер:
мировоззренческие расхождения
и теоретико-методологические разногласия 540
Альфред Вебер и Освальд Шпенглер:
составляющие культурсоциологической конструкции 545
Альфред Вебер и Фридрих Ницше:
культурсоциология истории как инструмент социальной диагностики. 547
Примечания 552
Библиография трудов Альфреда Вебера. Составитесь Т.Е. Егорова 553
Указатель имен. Составитесь Е.Н. Балашова 554
Альфред Вебер
Избранное:
Кризис европейской культуры
Корректор Н.С. Сотникова
Компьютерная верстка Ю.В. Балабанов
Лицензия ЛР № 071351 от 23.10.96
Подписано в печать 2.12.97. Гарнитура Тайме
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Усл. печ. л. 35 Уч.-изд. л. 45,2
Тираж 3000 экз. Заказ №3073.
Издательство Фонда поддержки науки и образования
«Университетская книга»
Санкт-Петербург, ул. Моисеенко. д. 10
Отпечатано с готовых диапозитивов
в АкадемичсскоП типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург 9 линия, 12
ИНИОН РАН
и издательство
«Университетская книга»
Серия «Российские Пропилеи»
М.Гершензон
Образы прошлого: Избранное.
В 3-х томах
Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) —
историк русской литературы и общественной
мысли, философ, публицист, переводчик. В
первый том вошли такие работы, как «Ключ
веры», «Переписка из двух углов», «Кризис
культуры». Во второй том — «Мудрость Пуш-
кина», «Гольфстрем», «Статьи о Пушкине». В
третий том — «Тройственный образ совершен-
ства», «Исторические записки», «Грибоедовс-
кая Москва», «Печерин», «Чаадаев» и др. В на-
чале XX в. ярко проявились пушкиноведчес-
кие интересы Гершензона, для которого по-
эзия и весь склад художественного мышления
Пушкина есть некий неповторимый носитель
стремления целостно воссоединить в себе ис-
торическое и вечное, национальное и общече-
ловеческое. Широта исследовательских инте-
ресов позволила Гершензону ввести в оборот
множество материалов по истории культурной
элиты пушкинской эпохи. Издание работ
М.Гершензона, давно ставших библиографи-
ческой редкостью, открывает еще один важ-
нейший культурный пласт истории культуры.