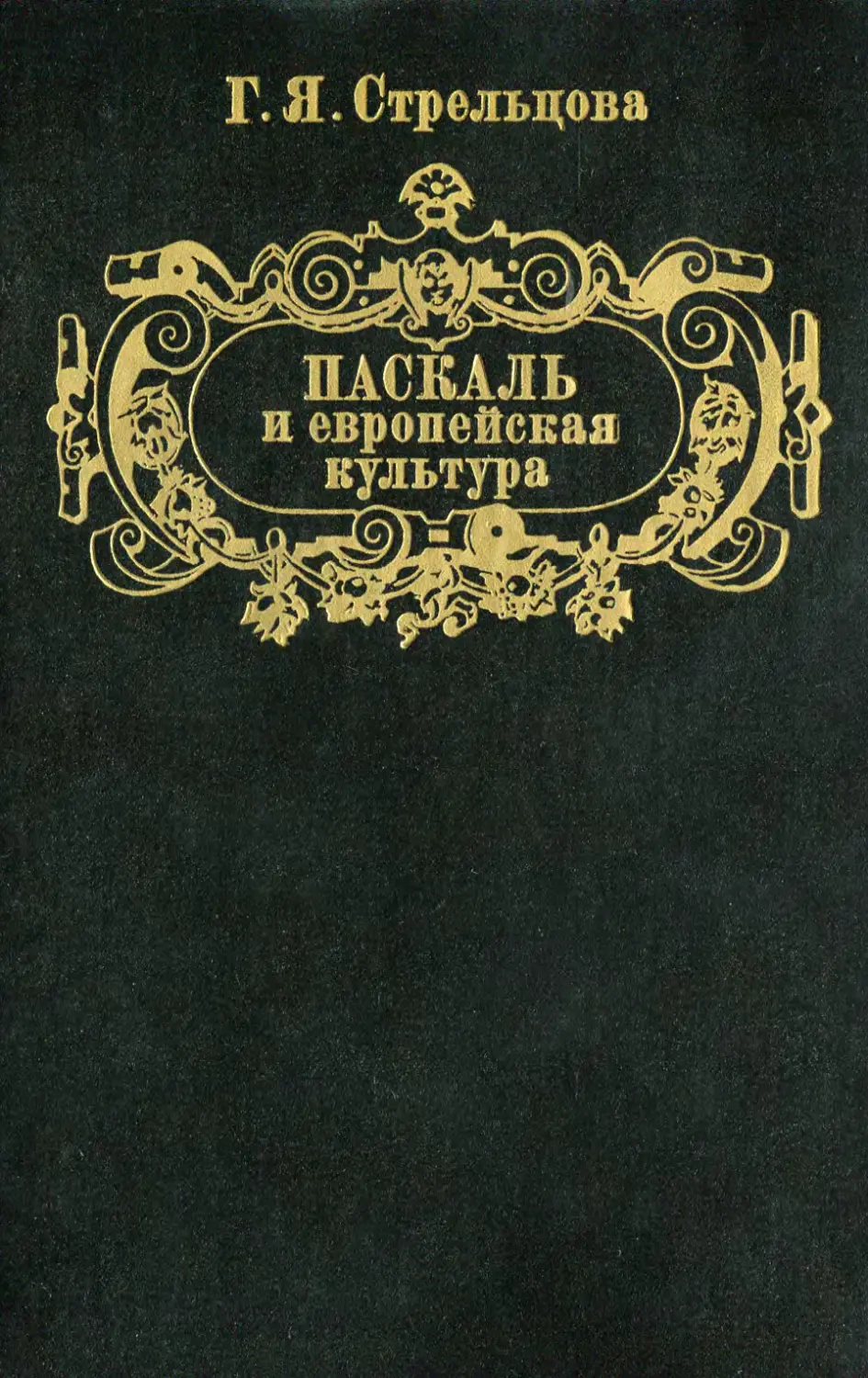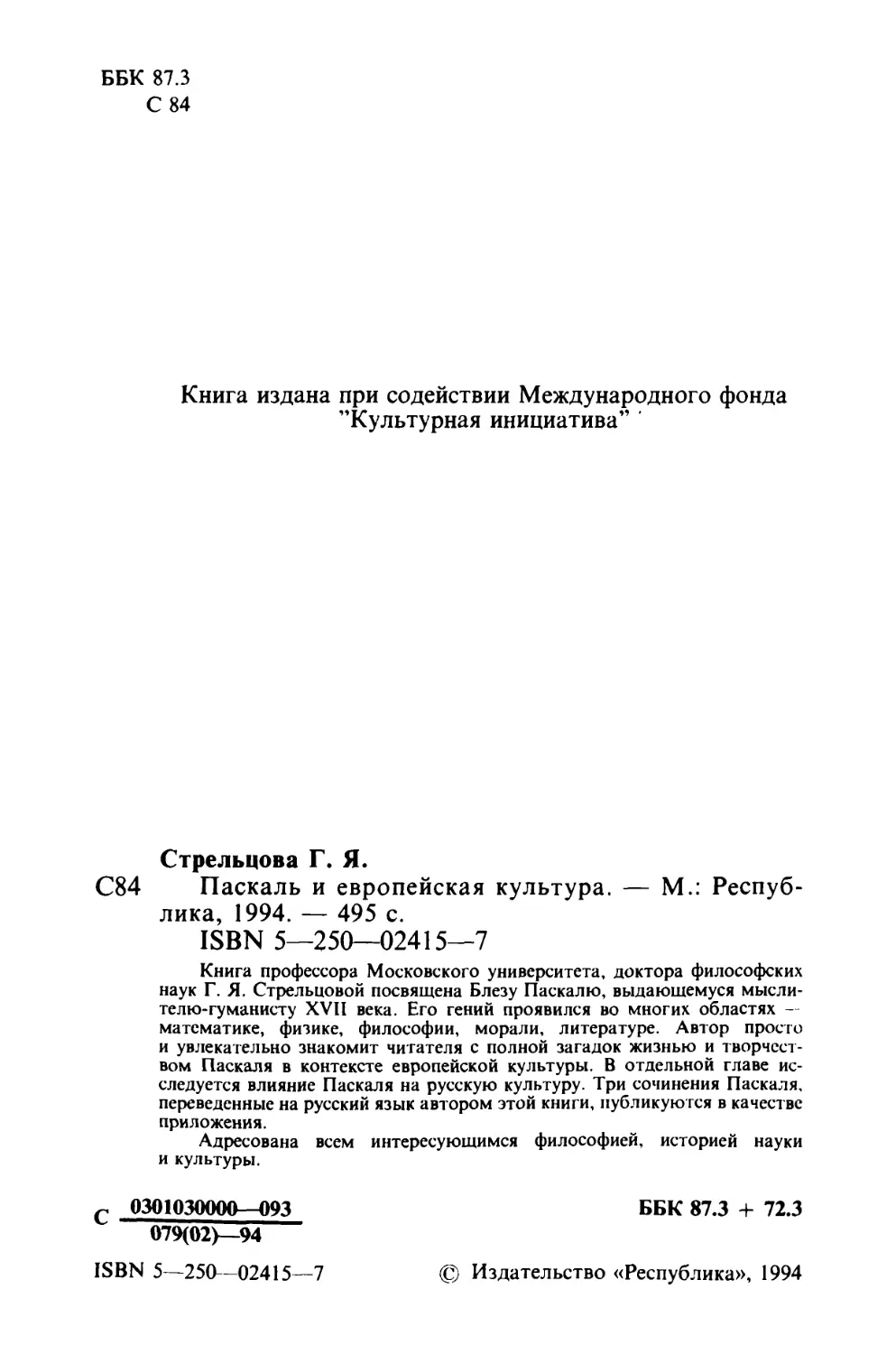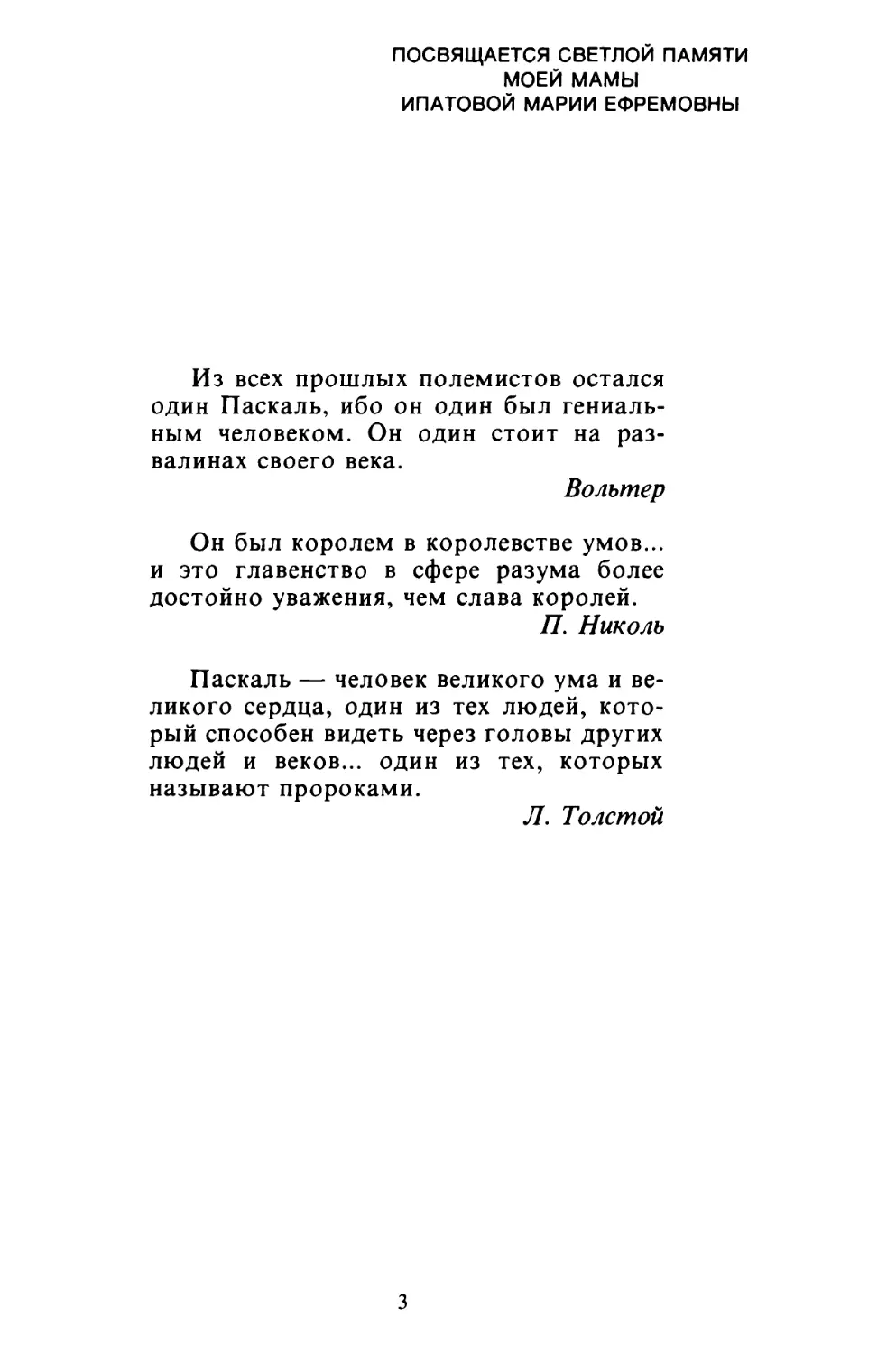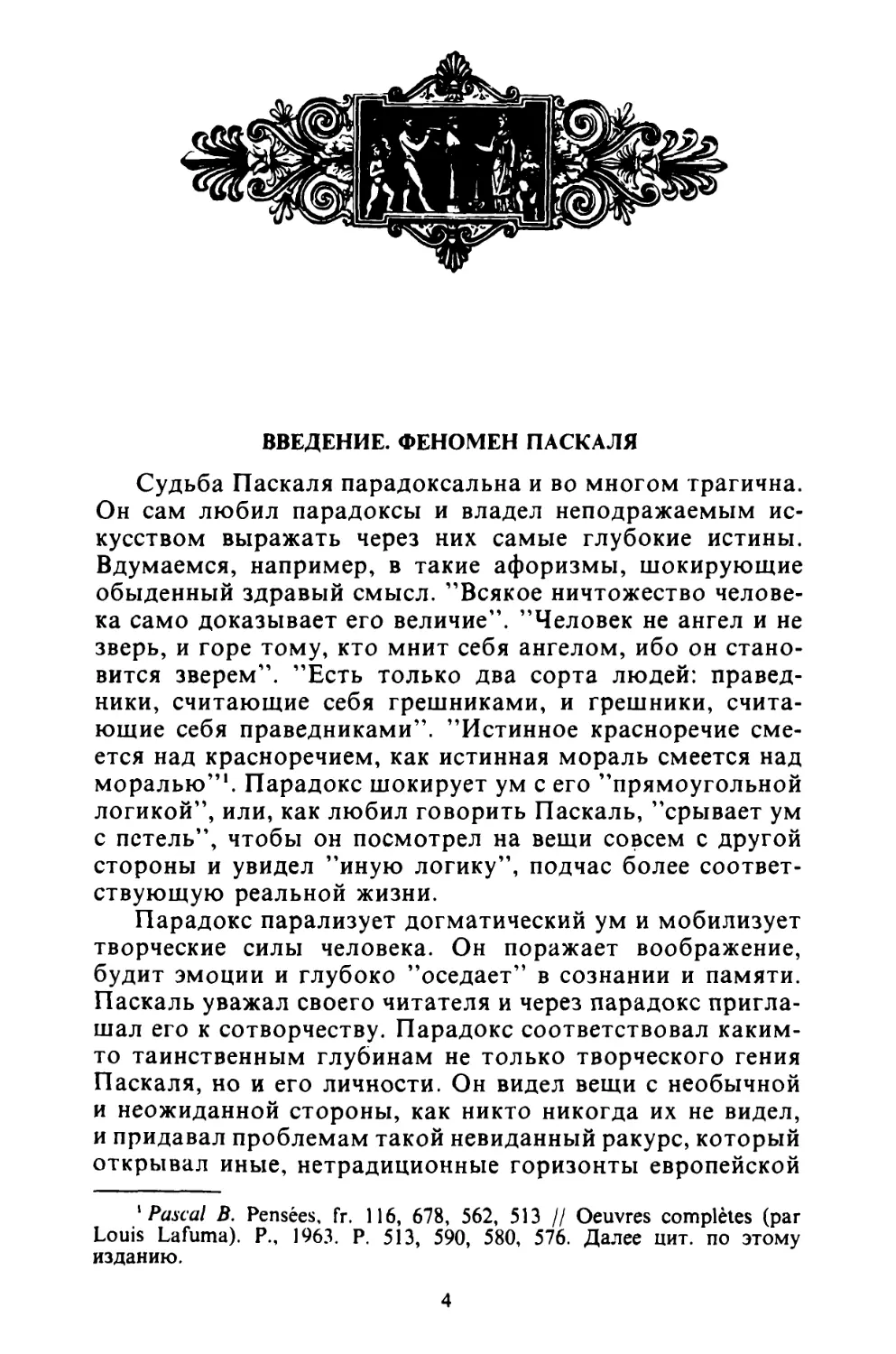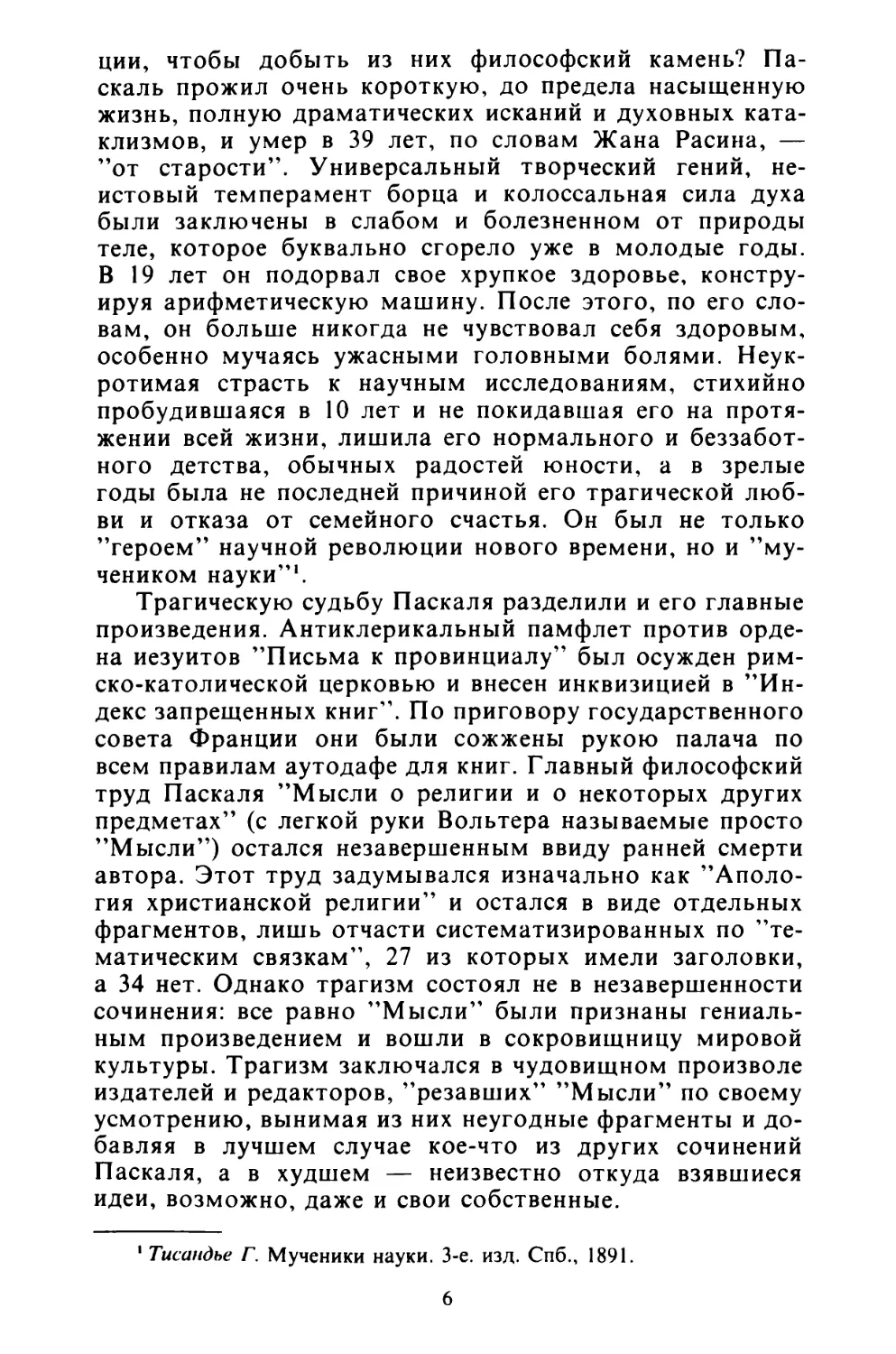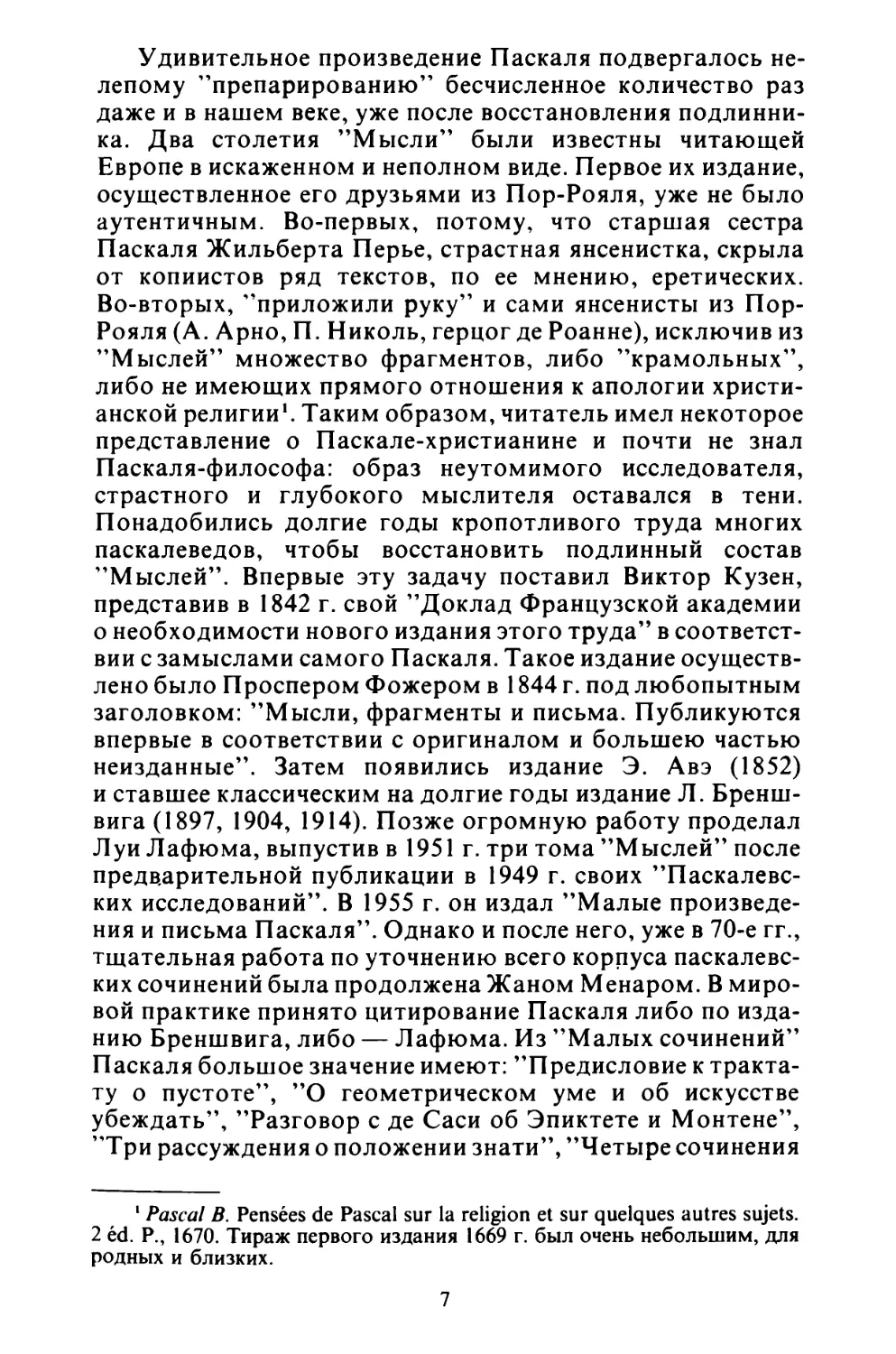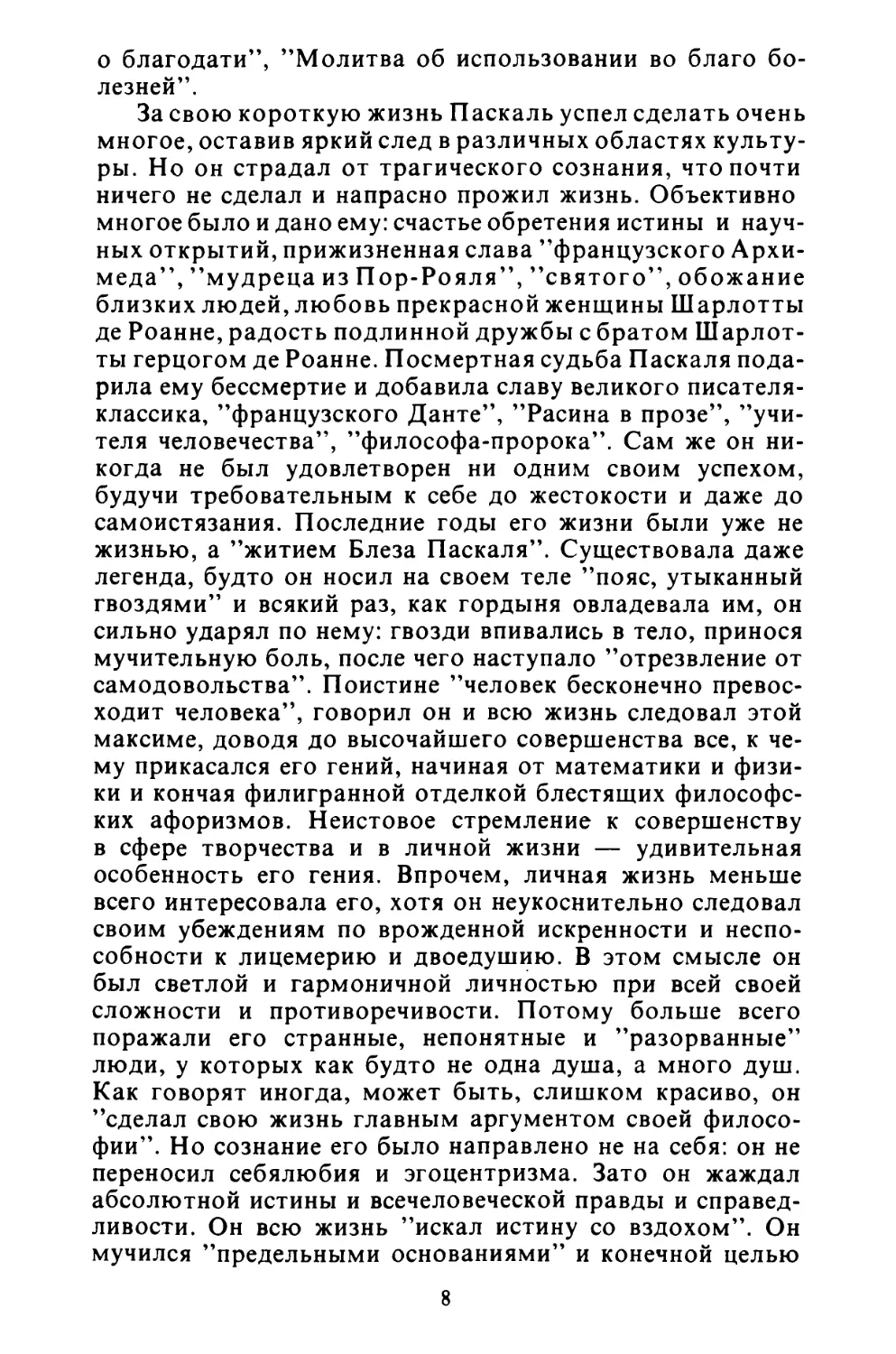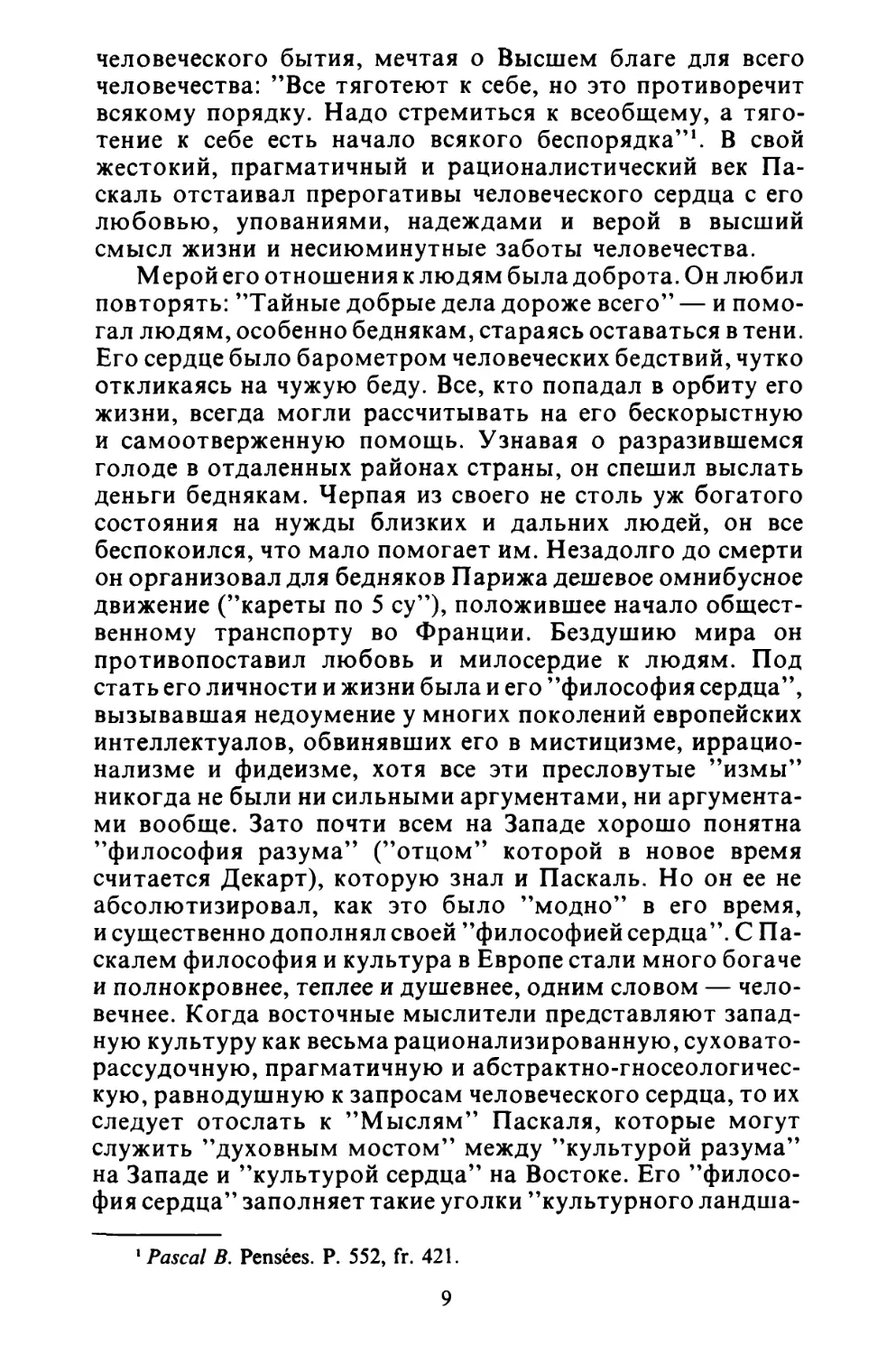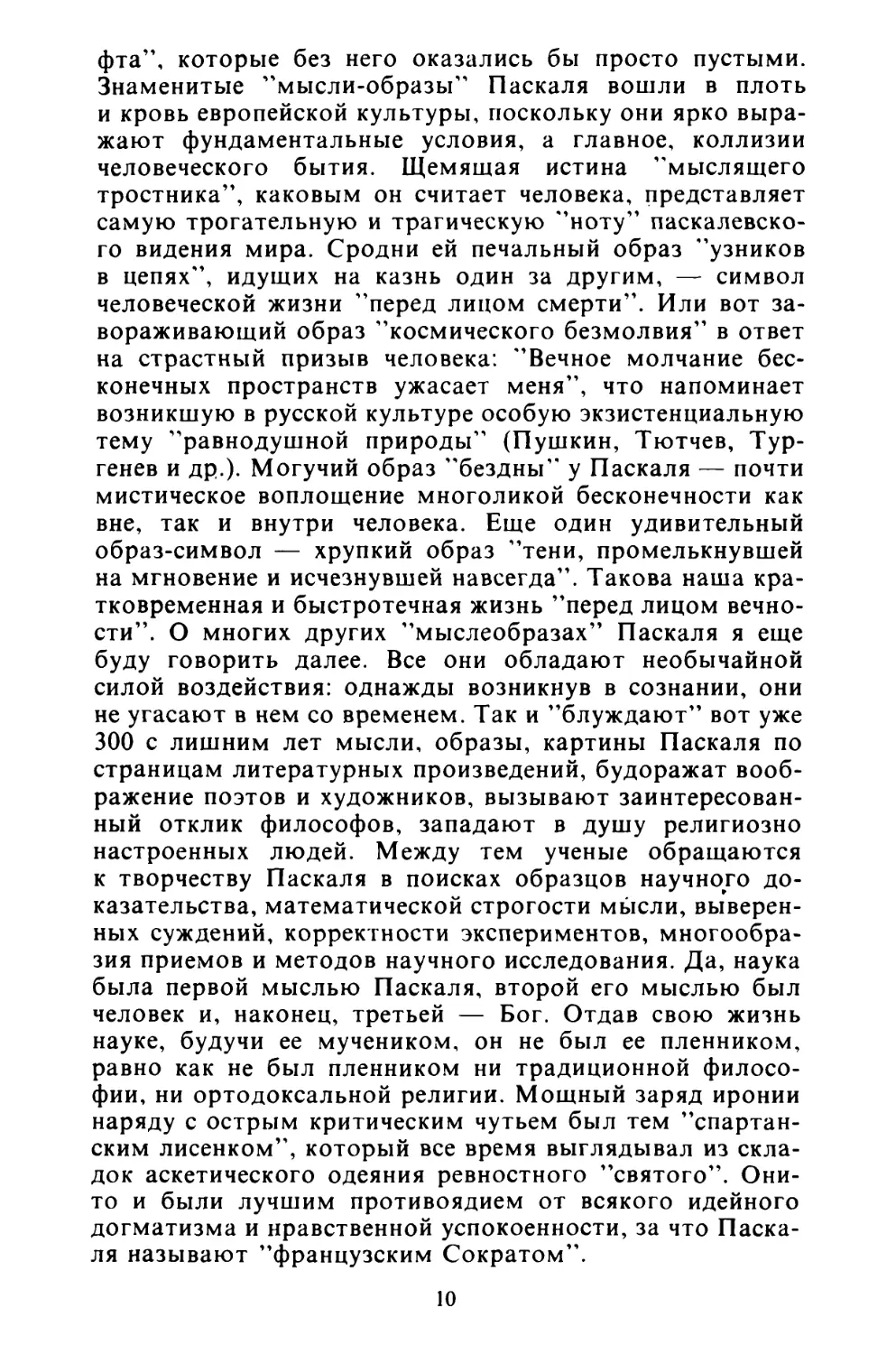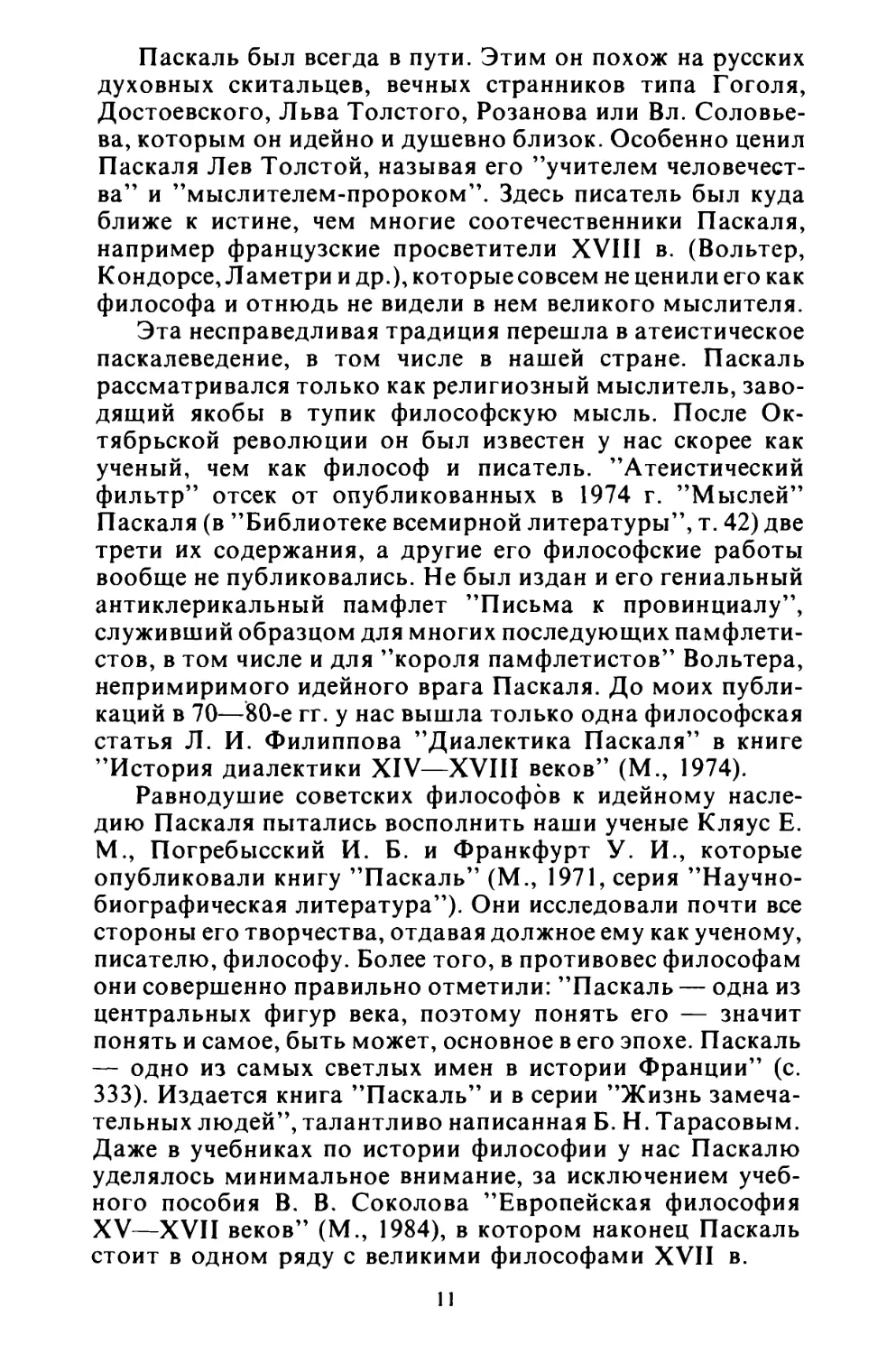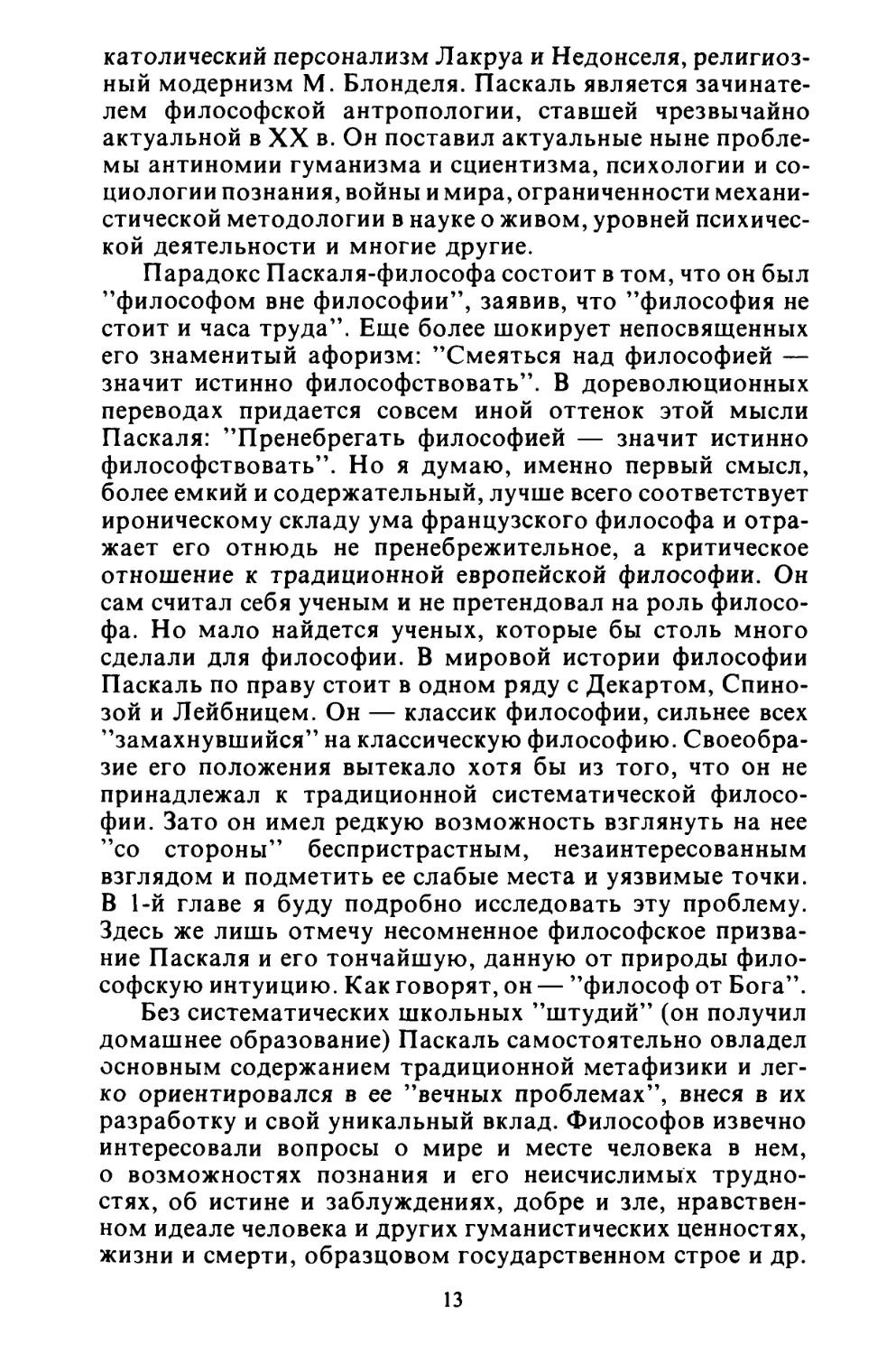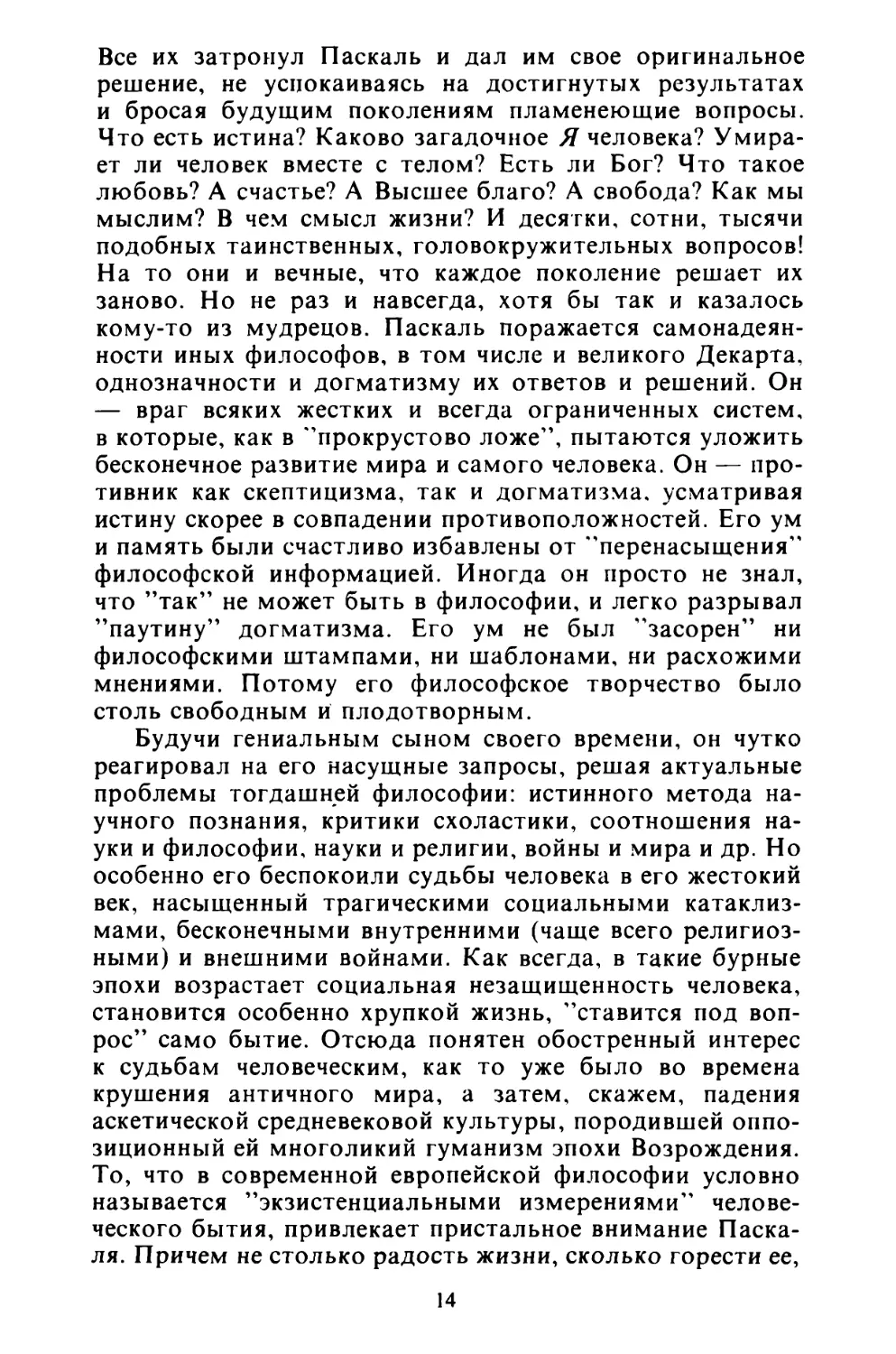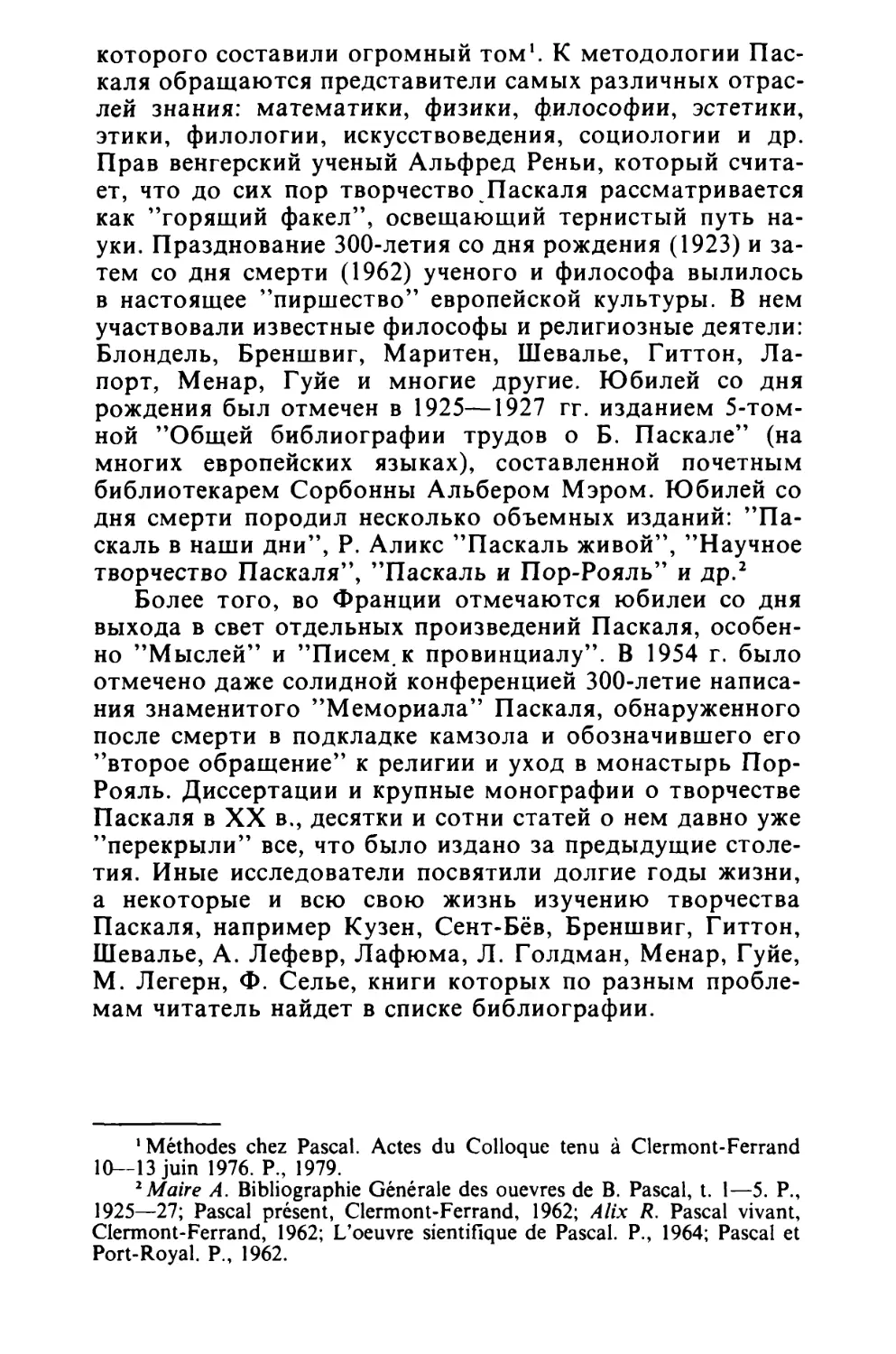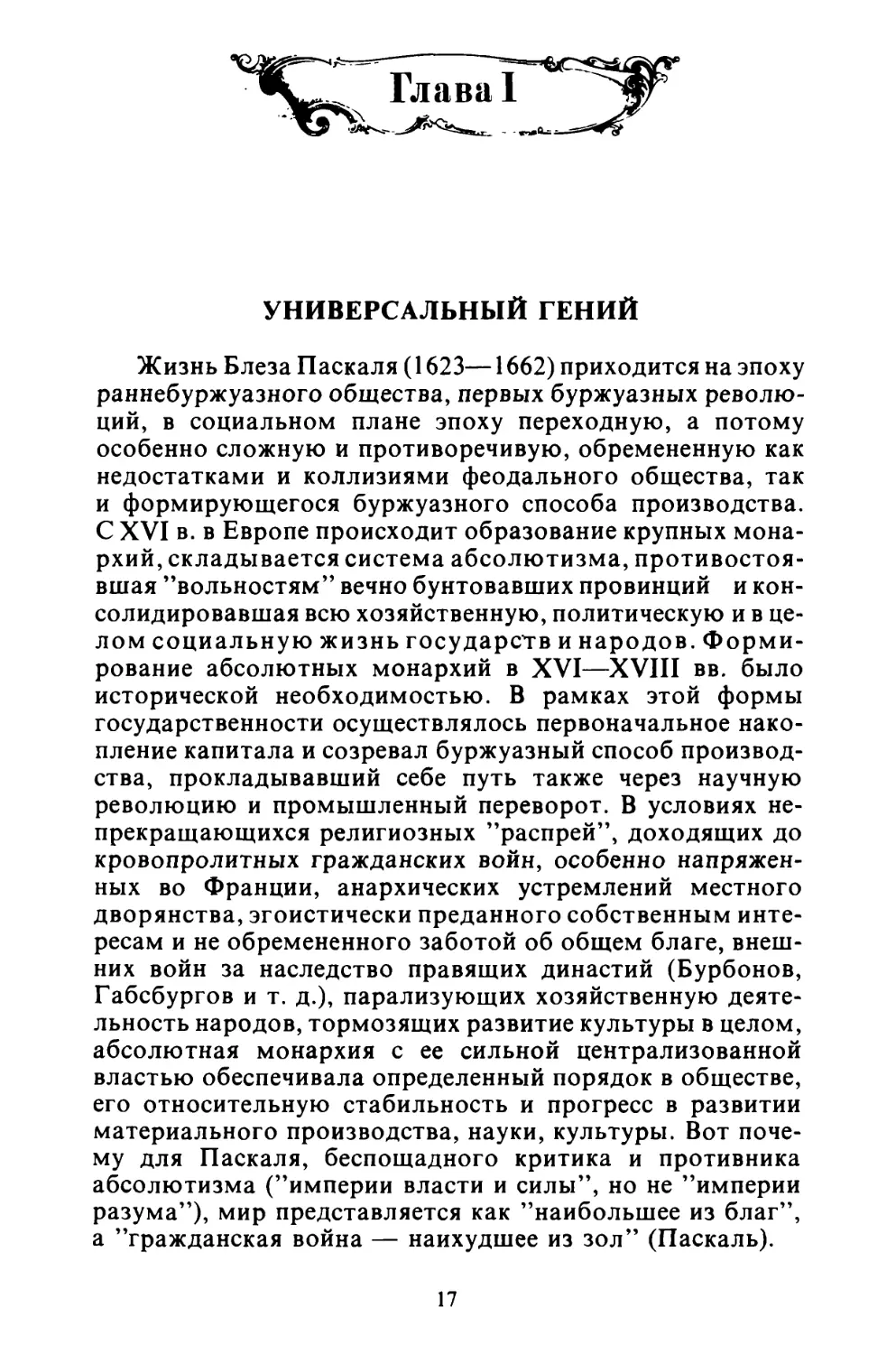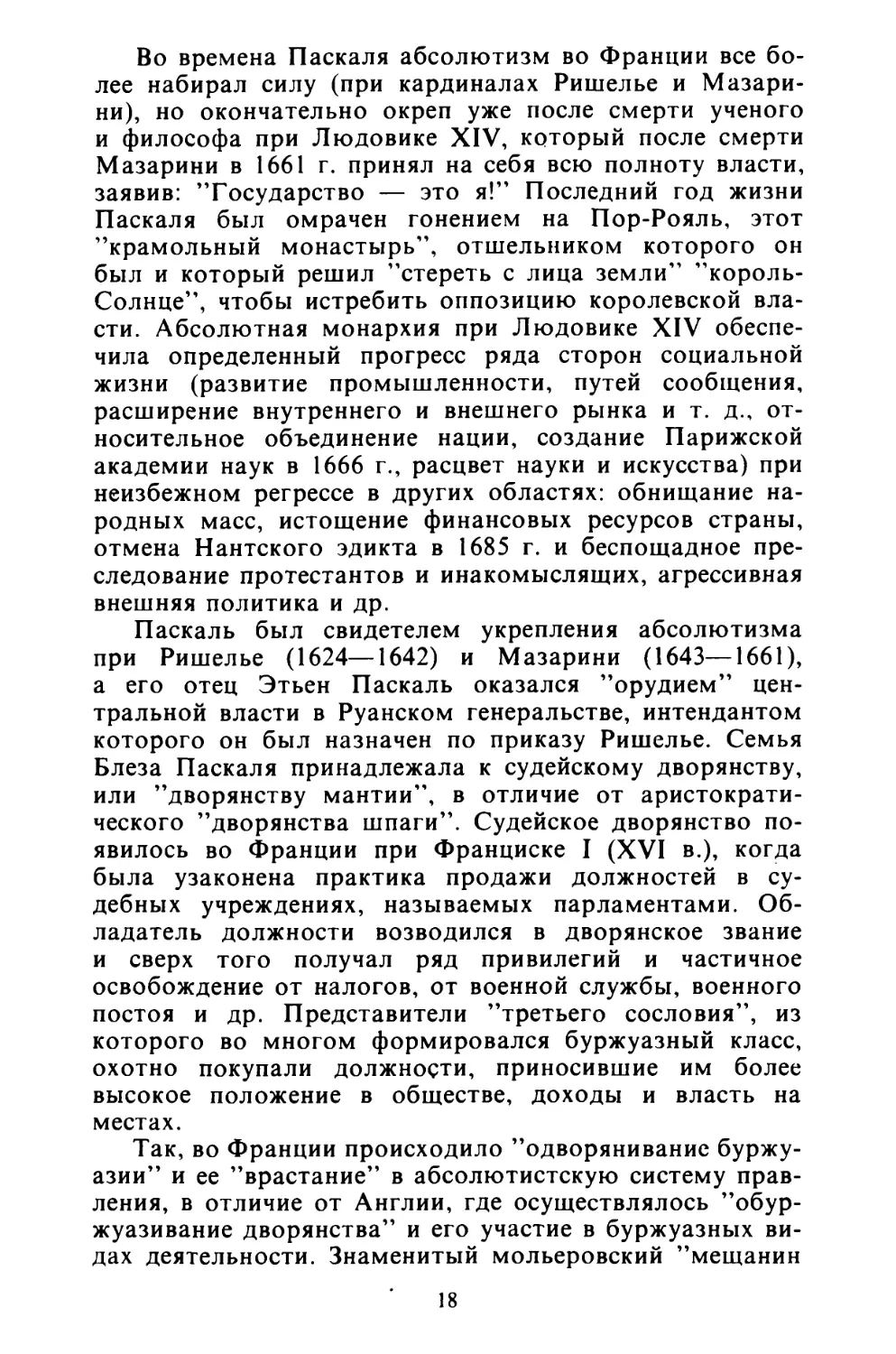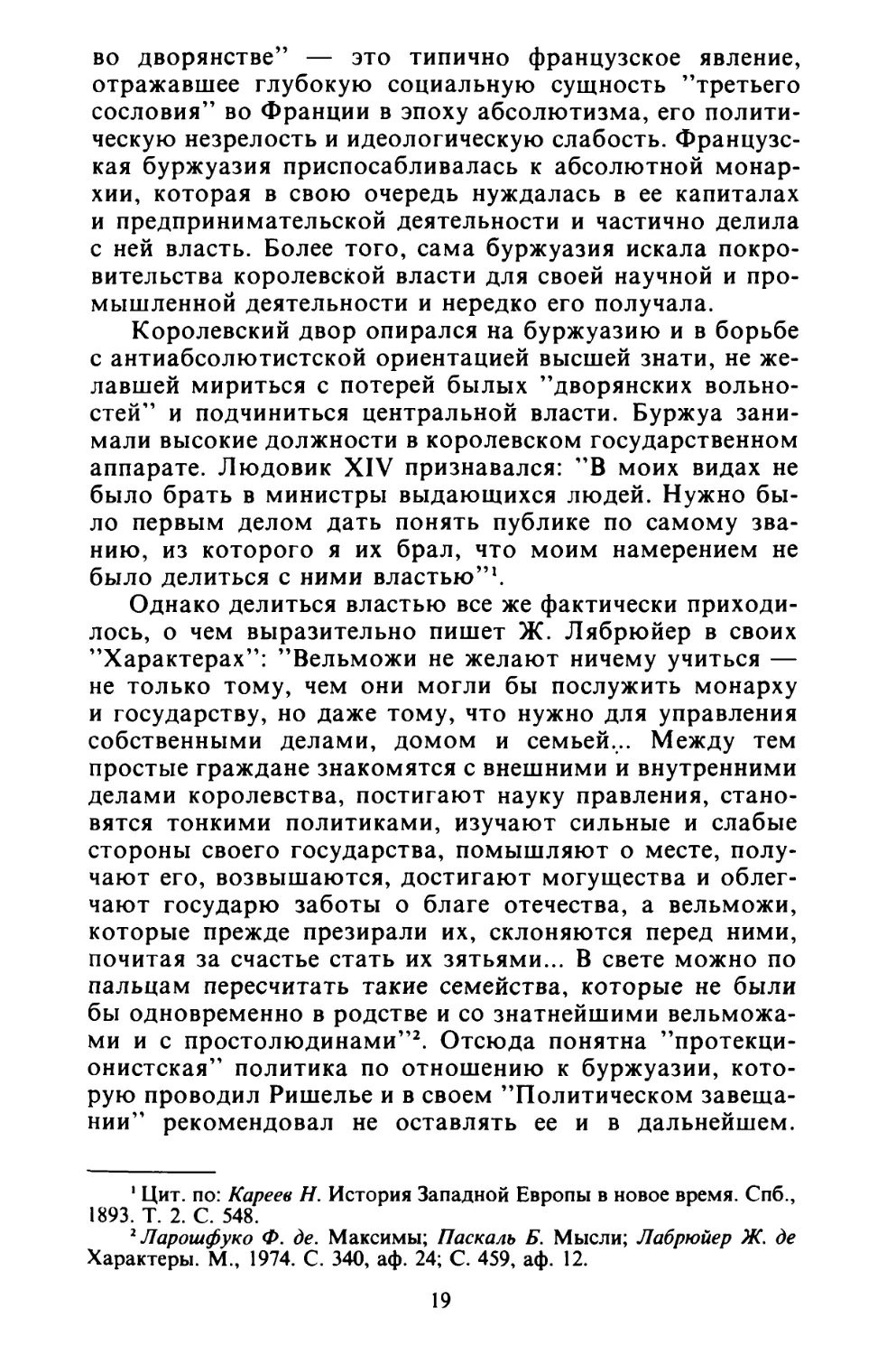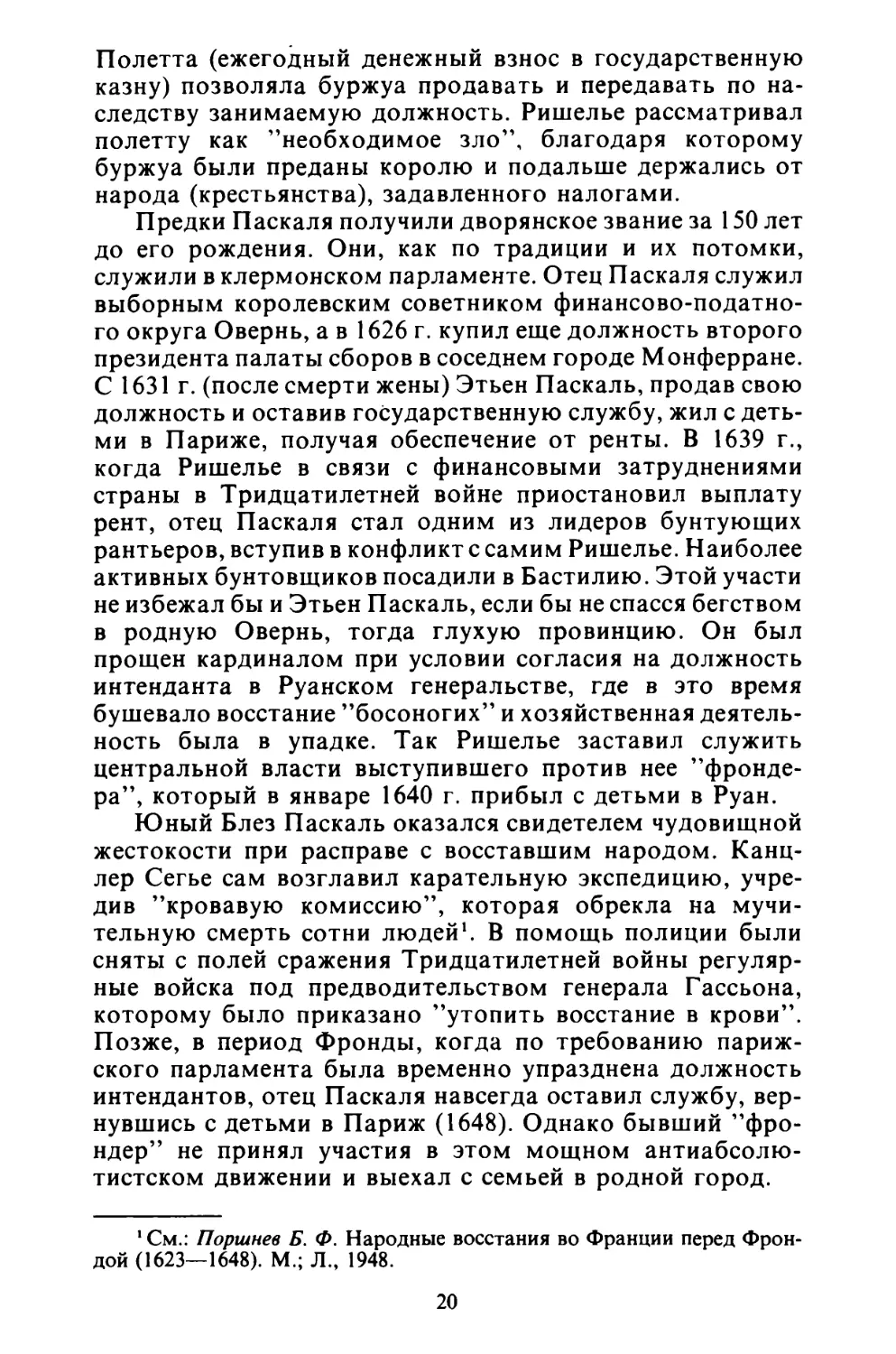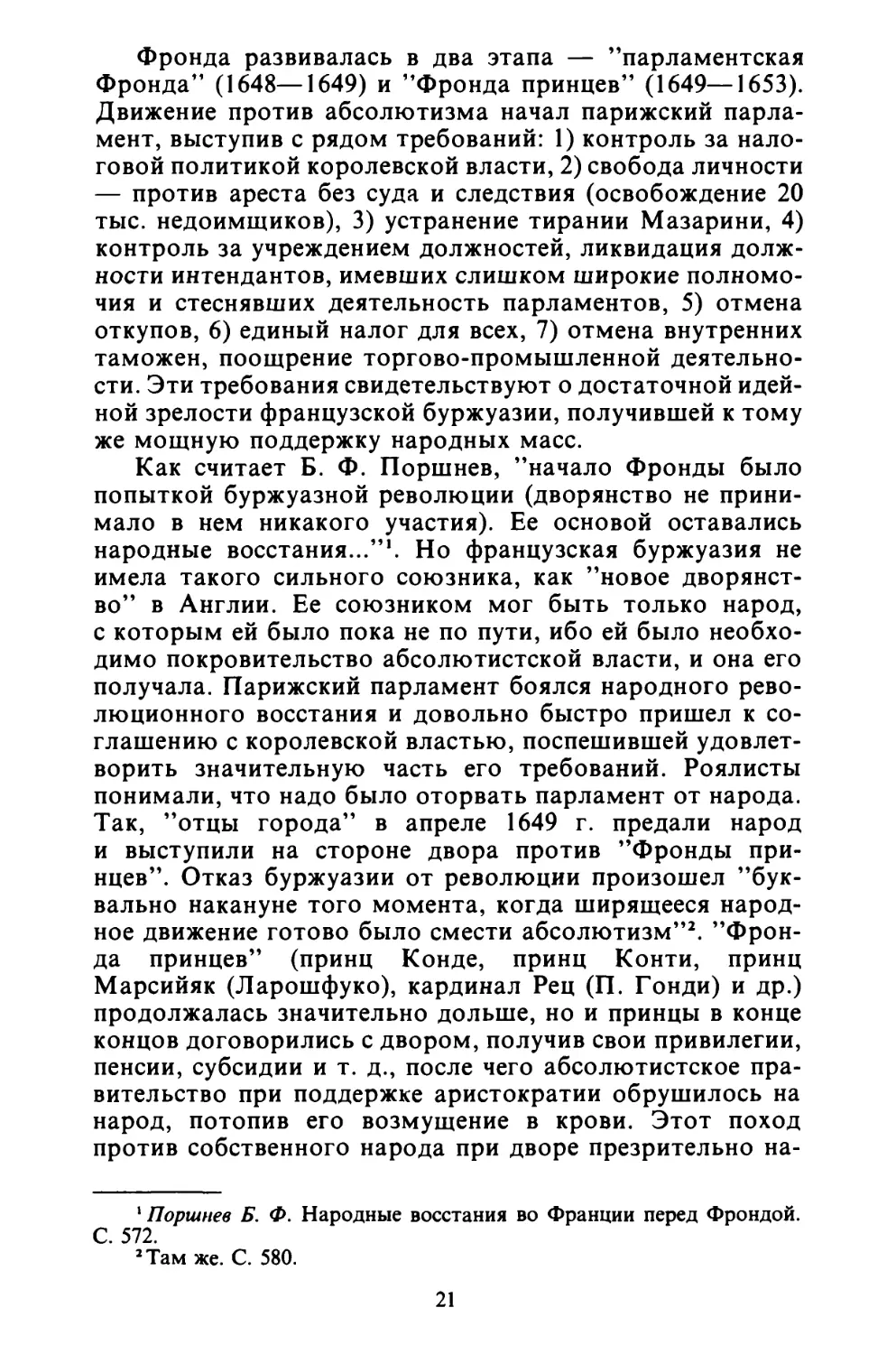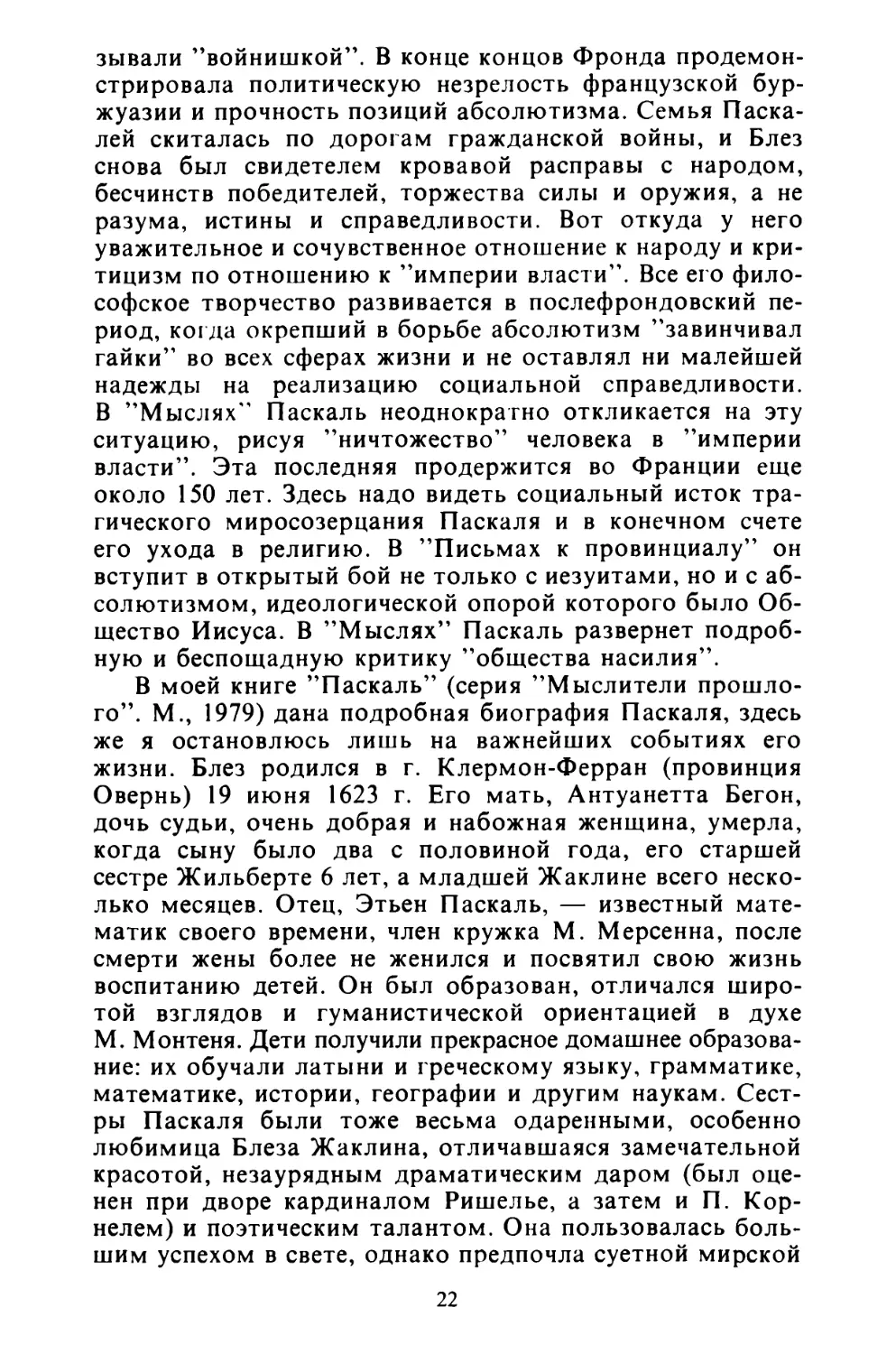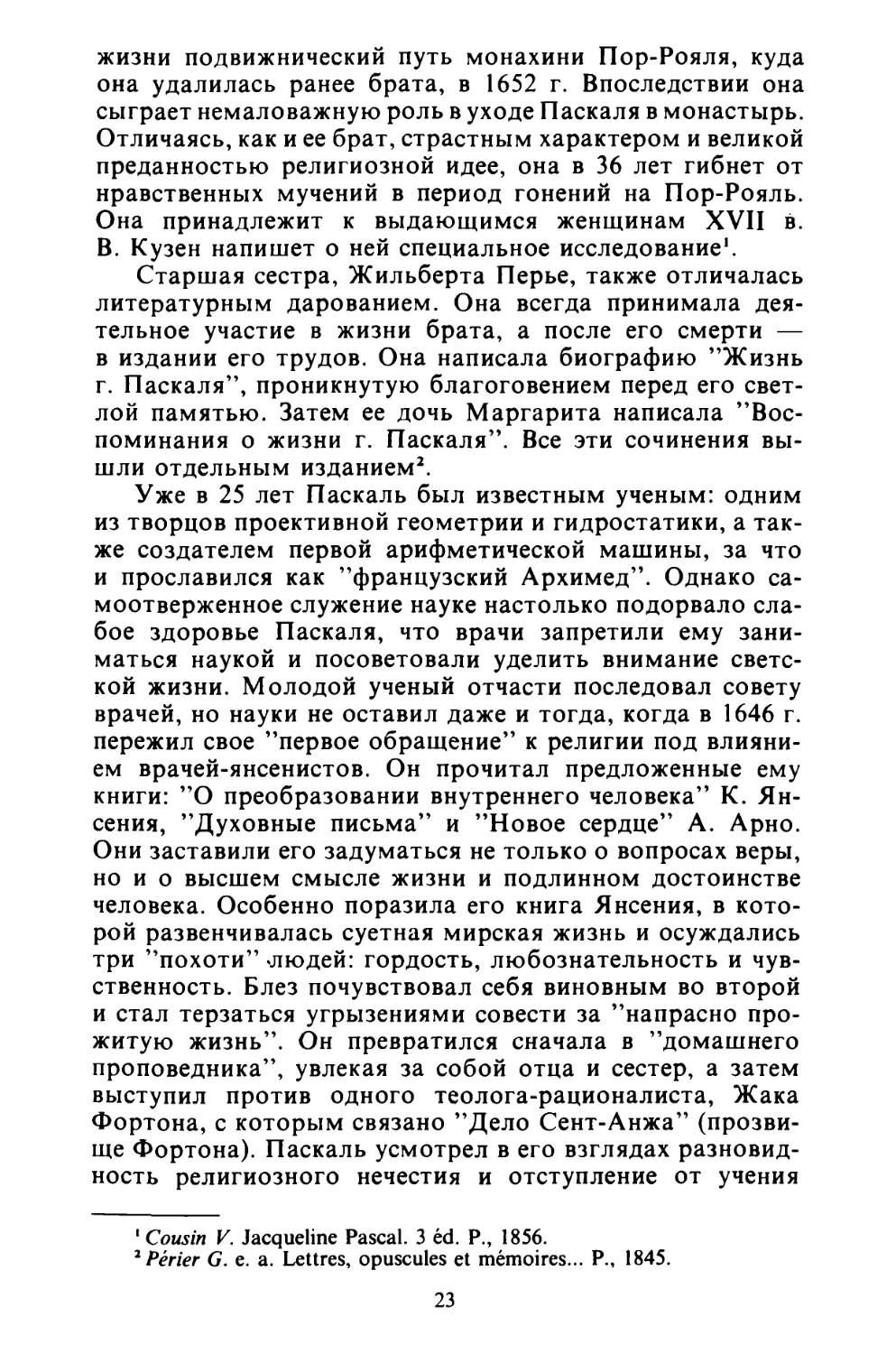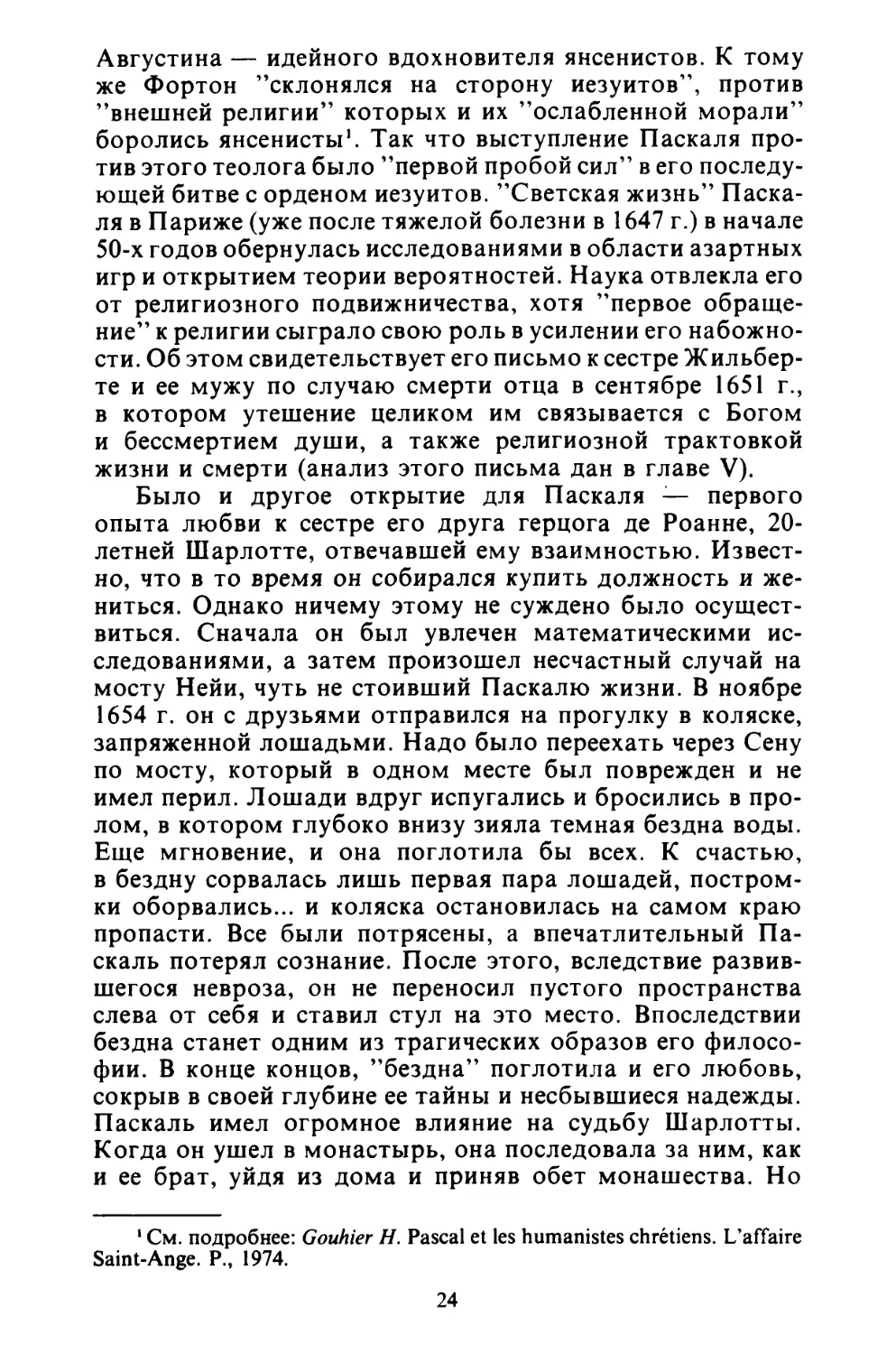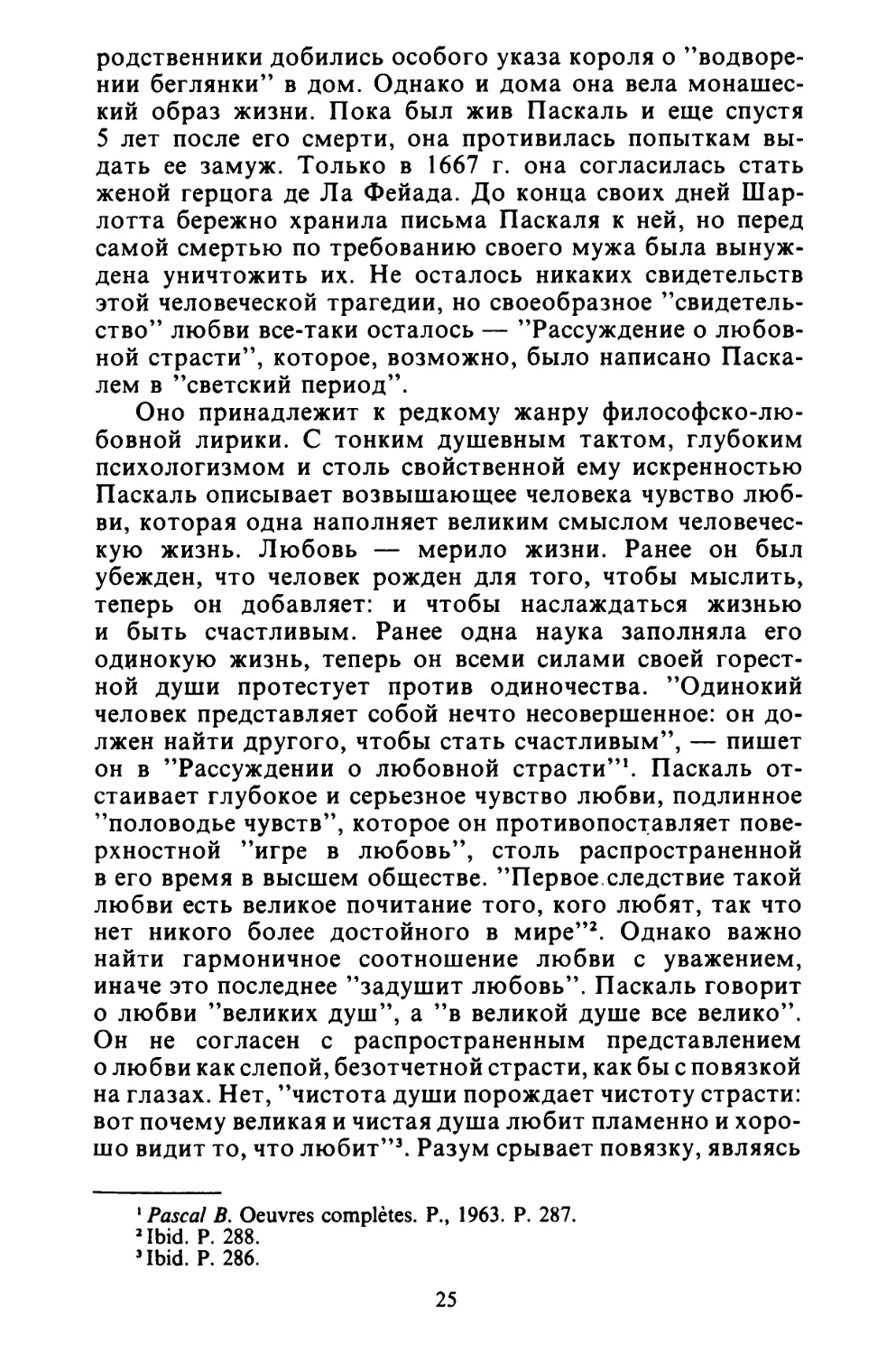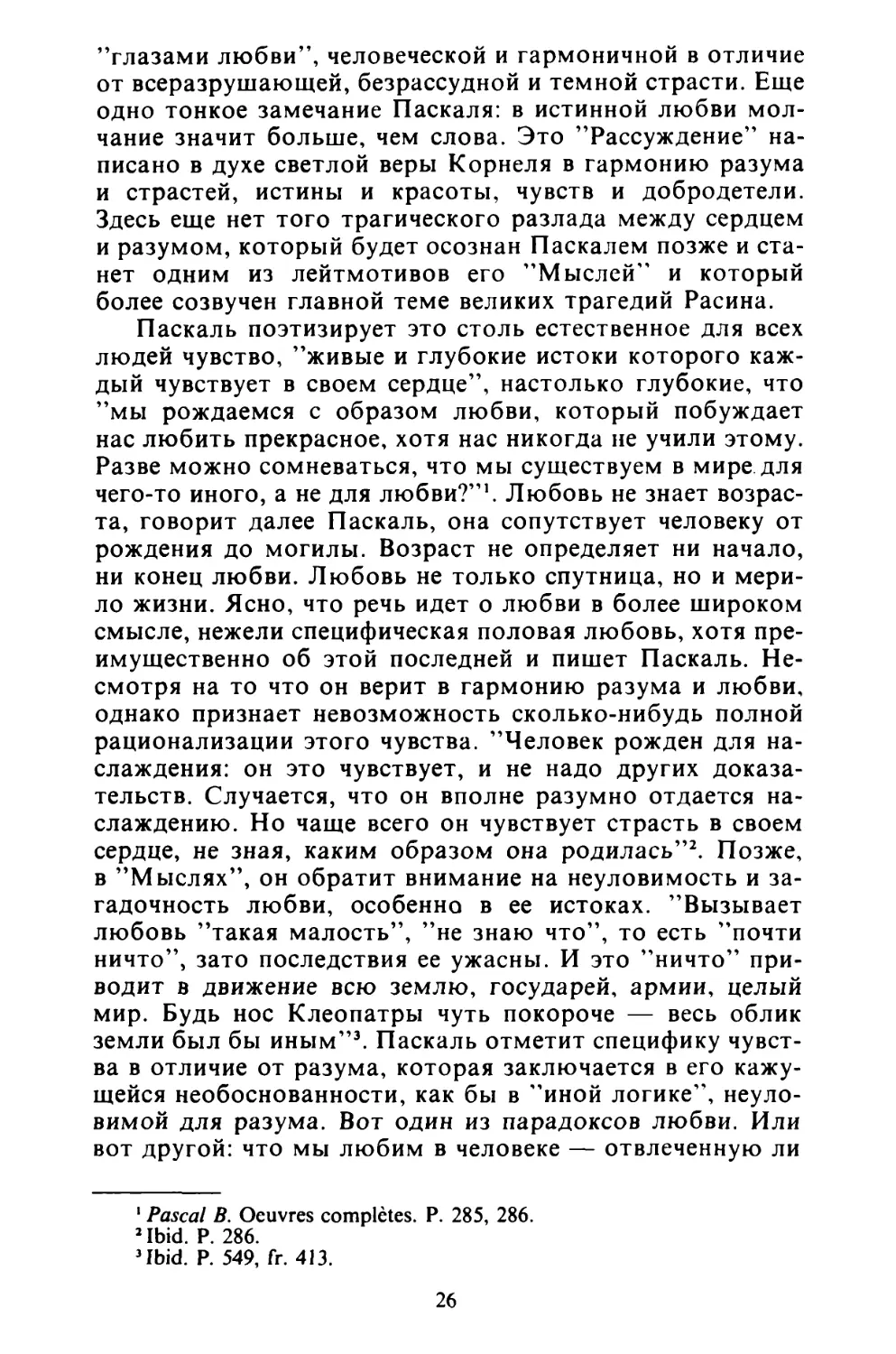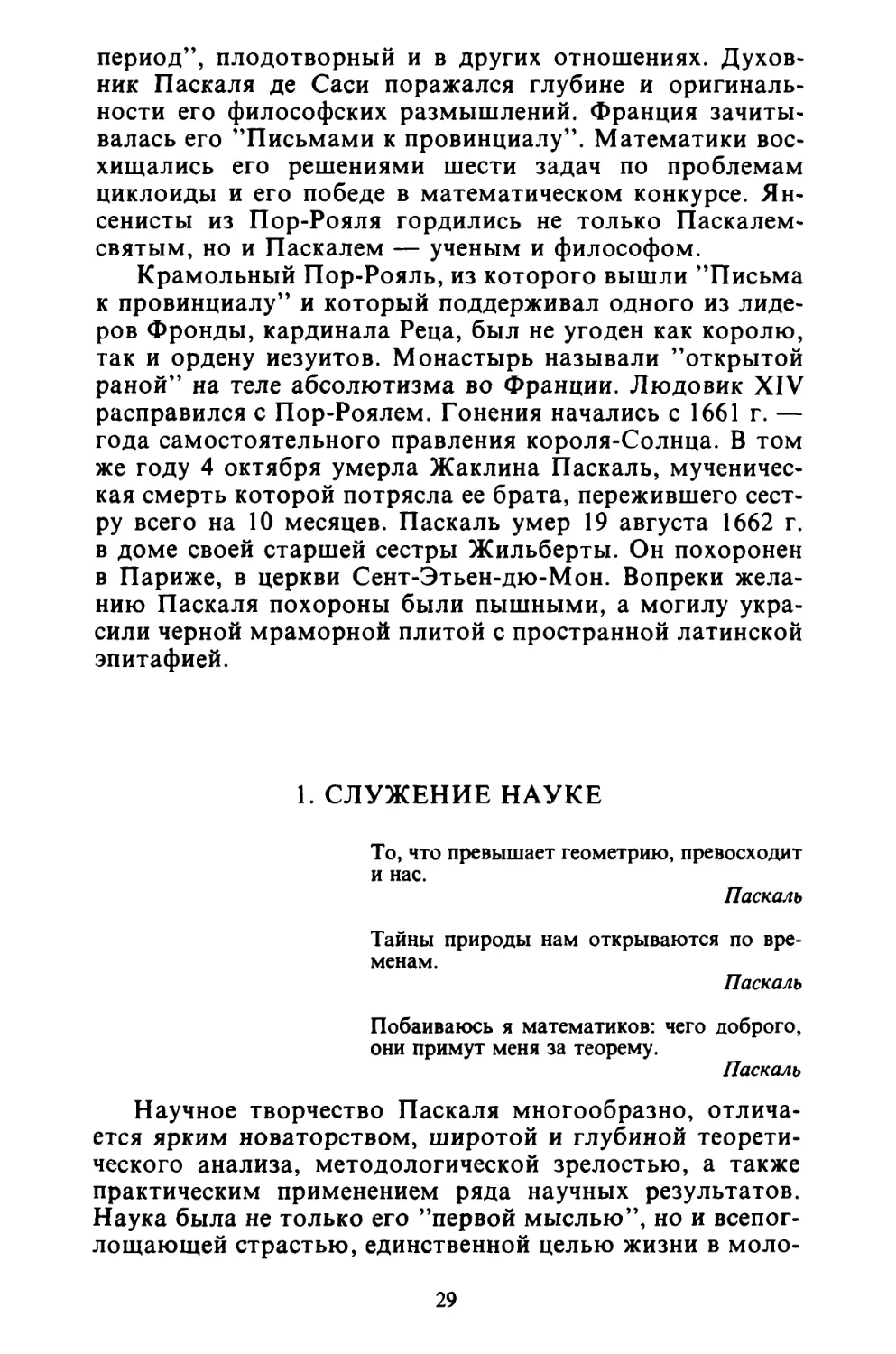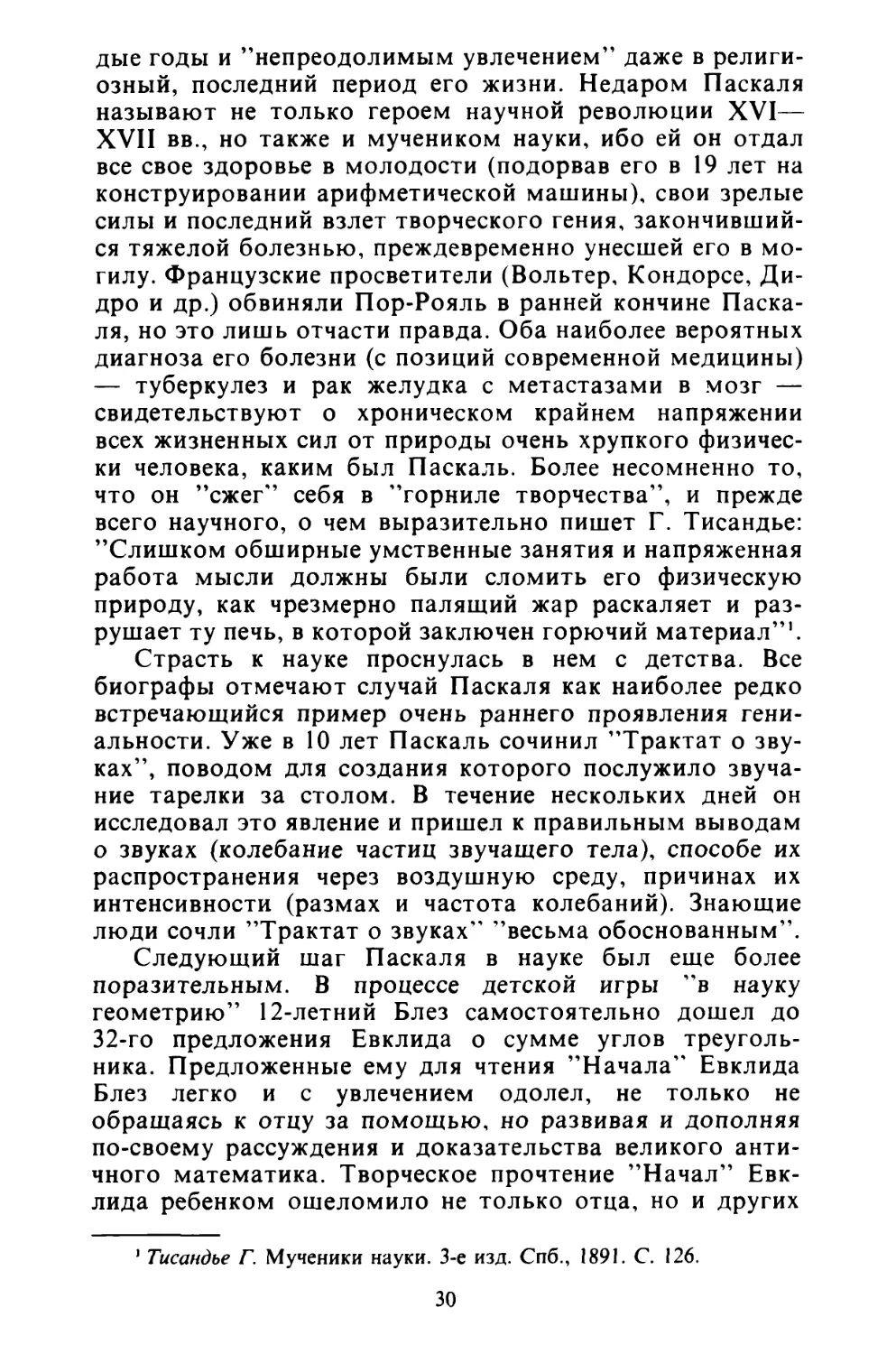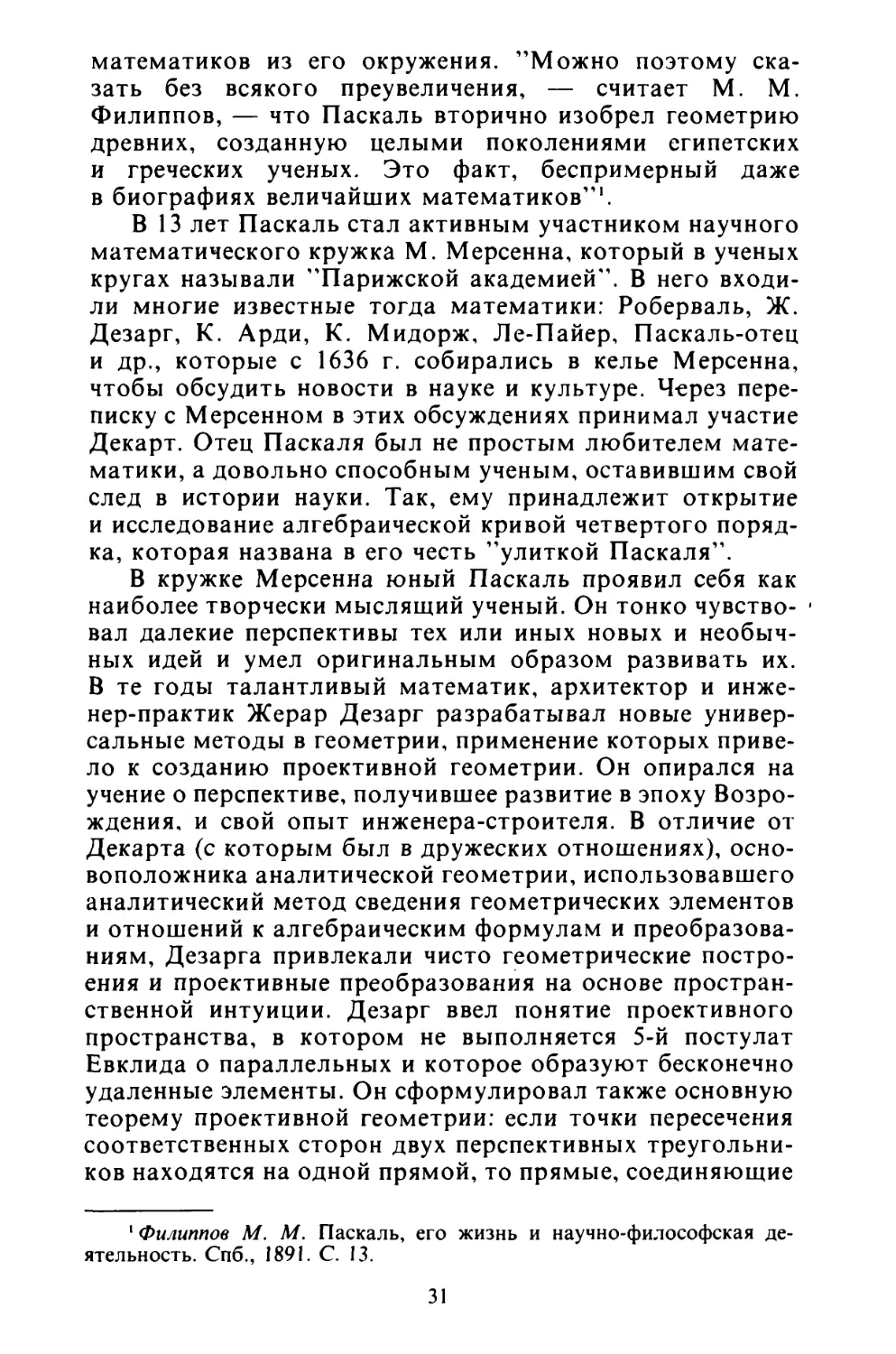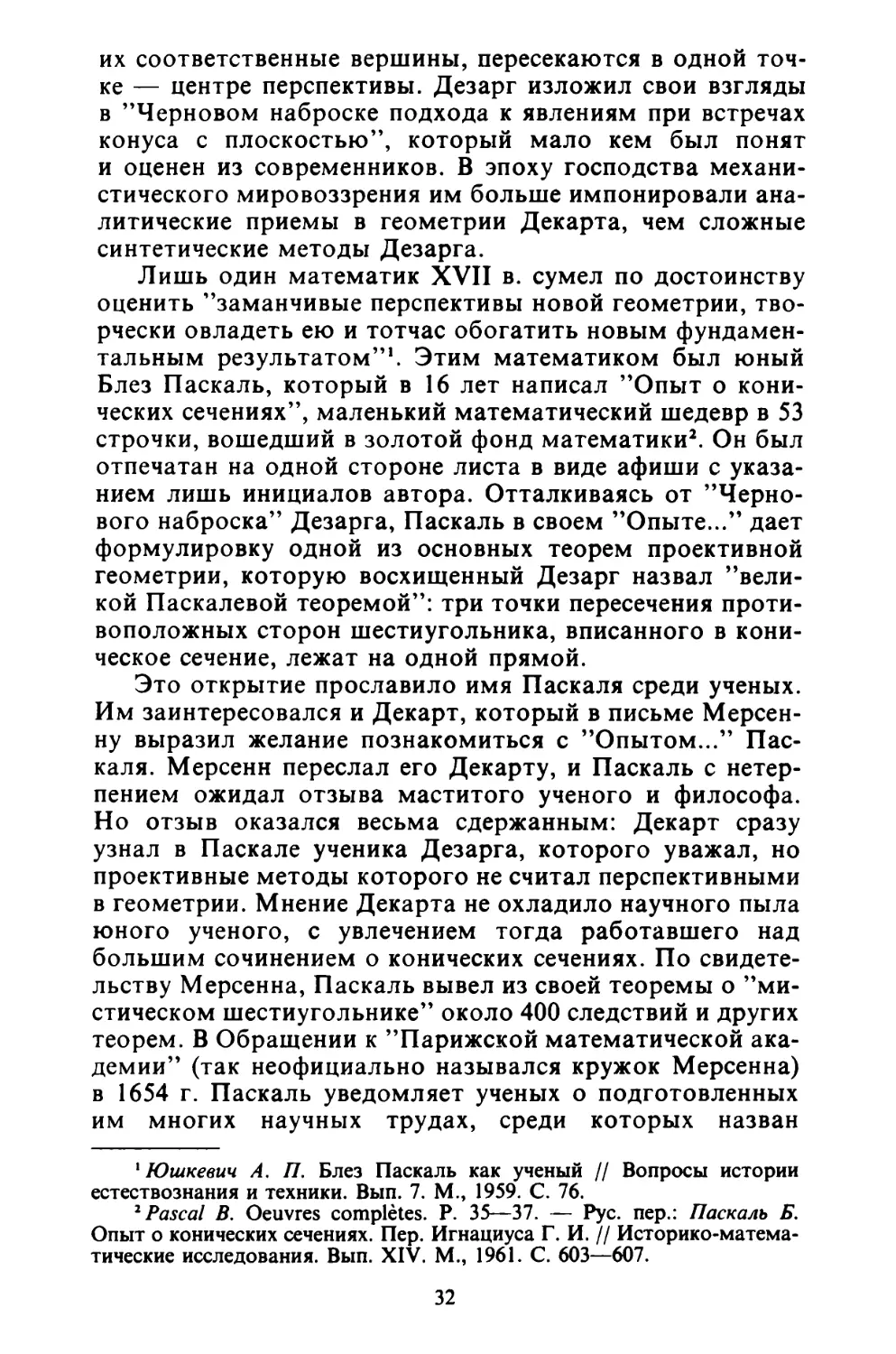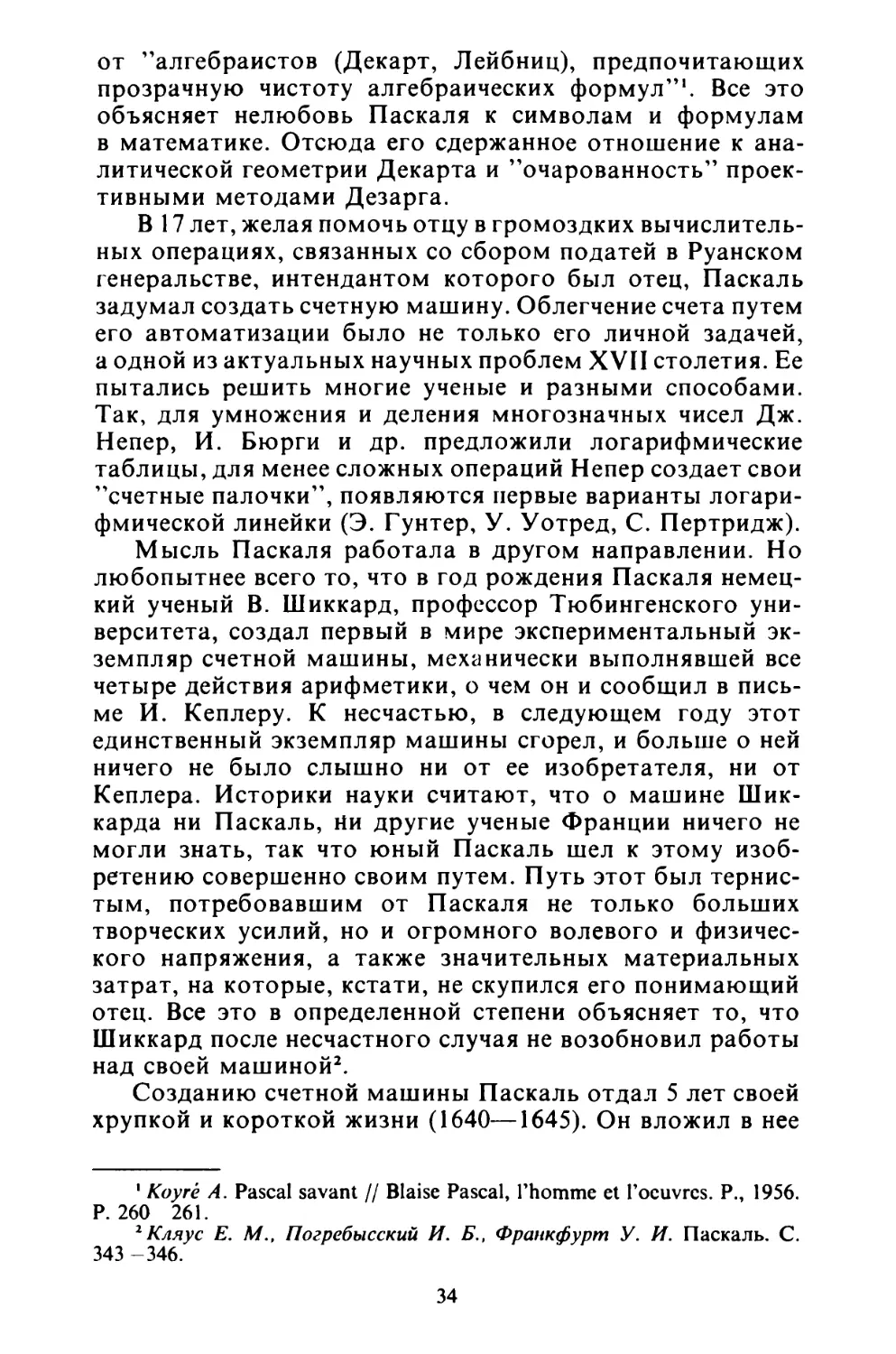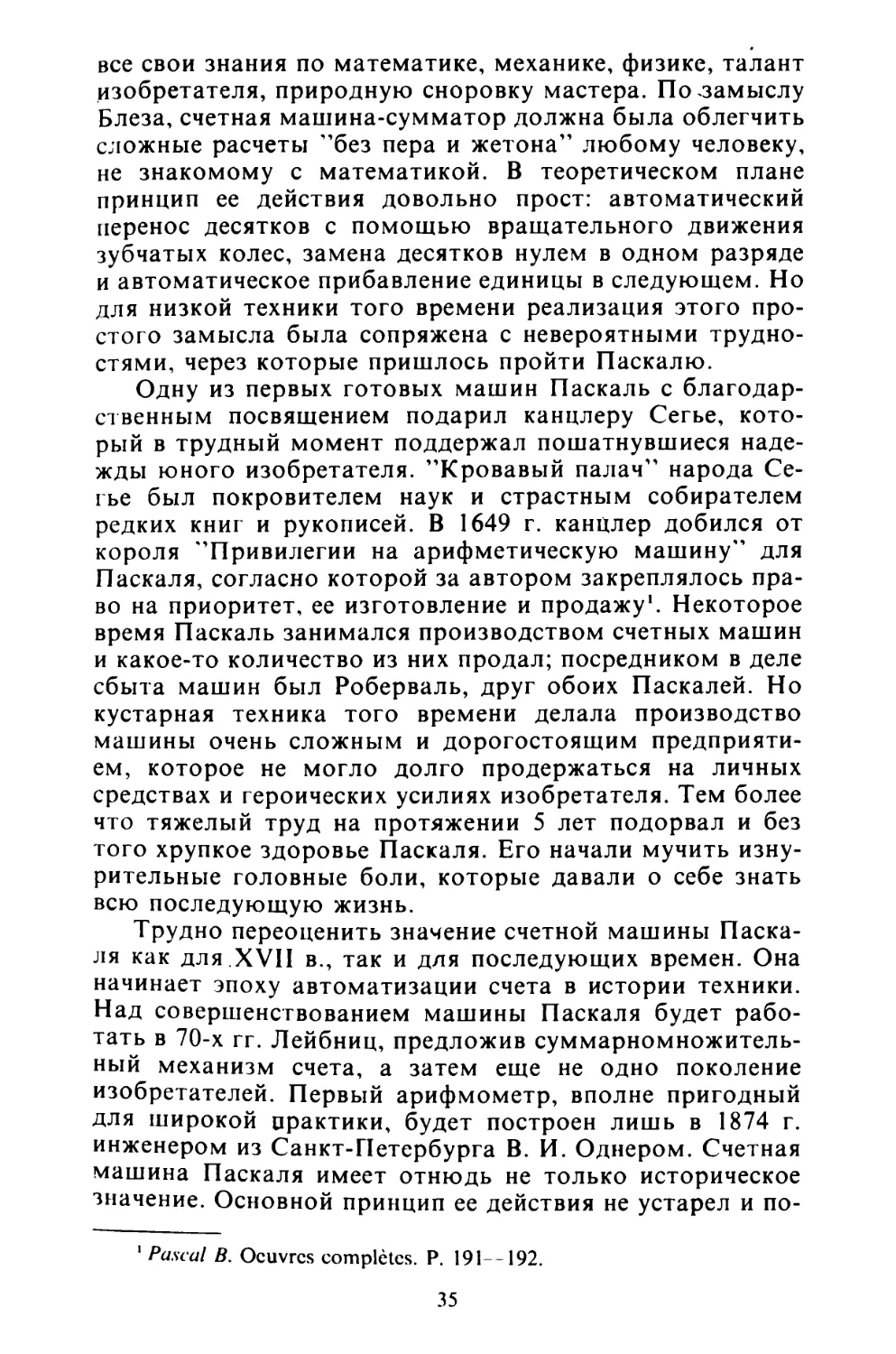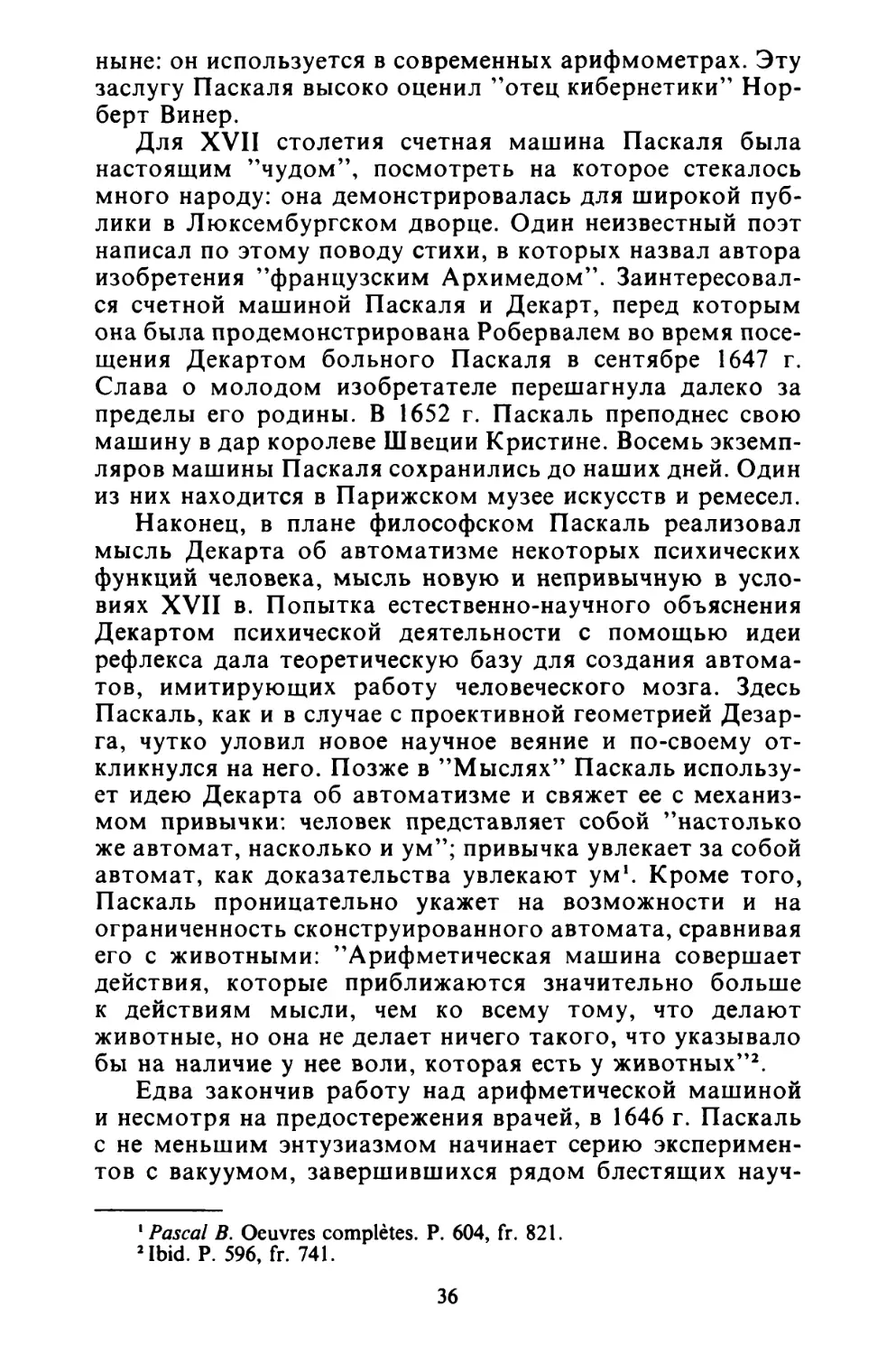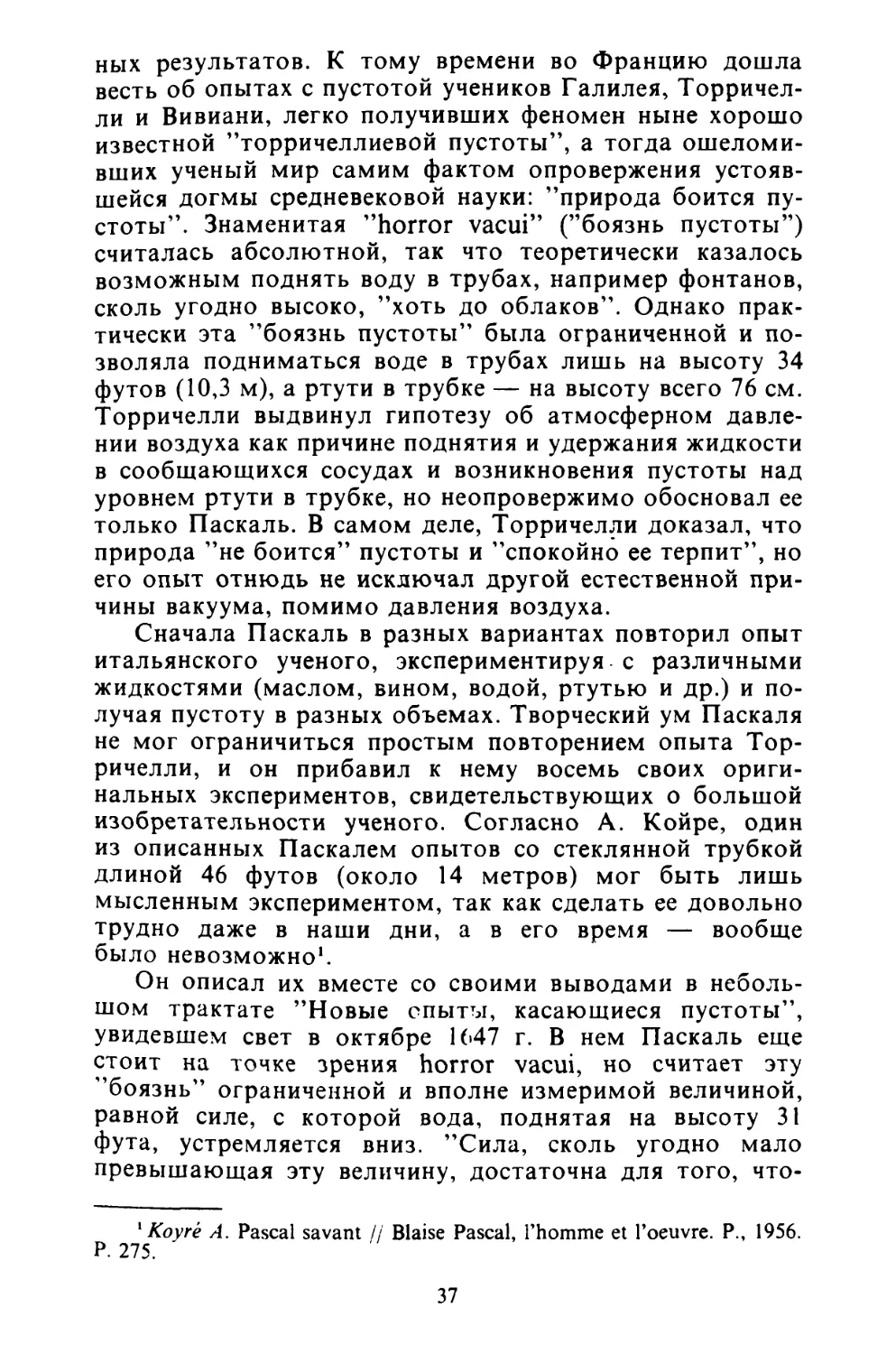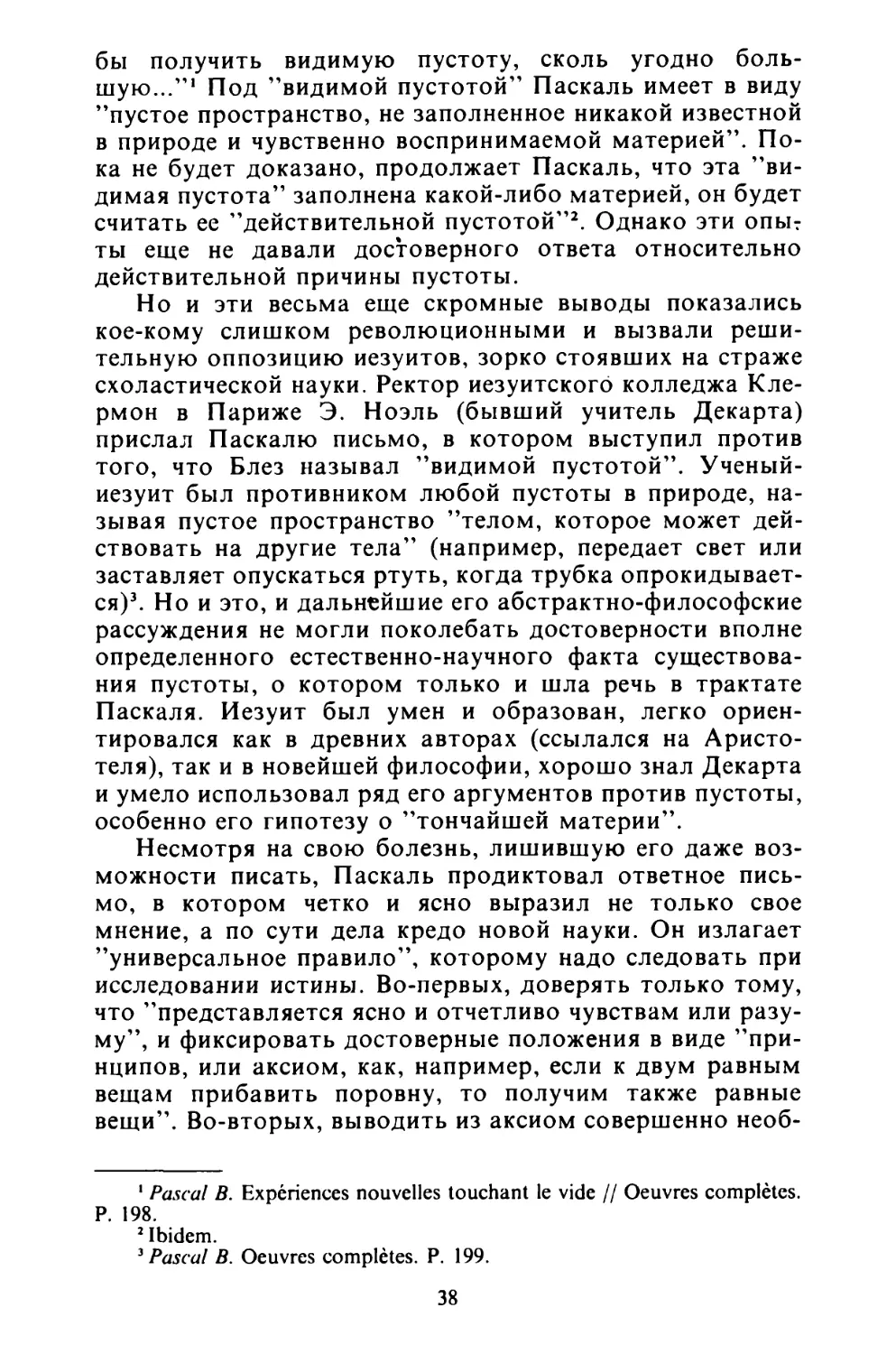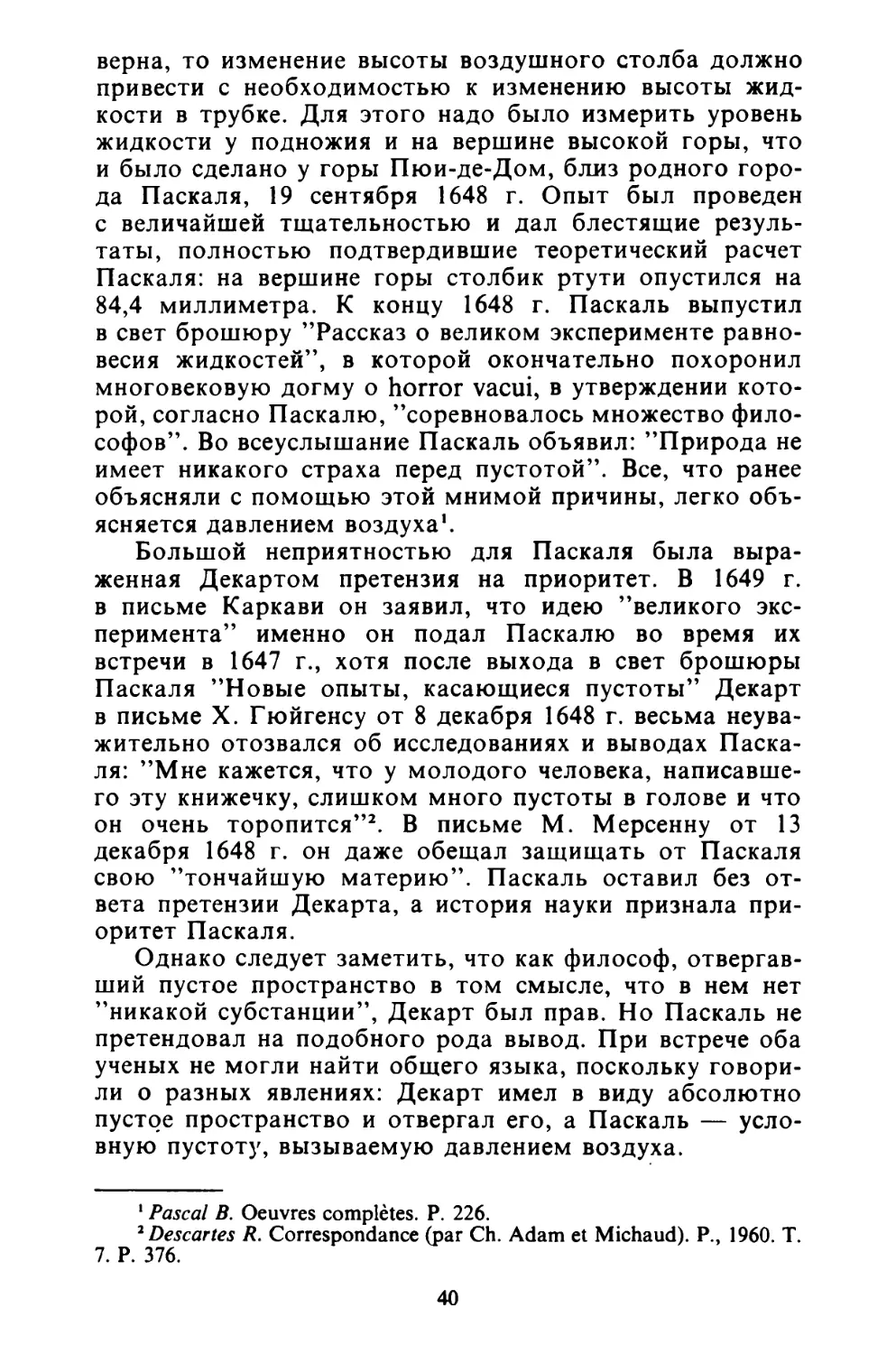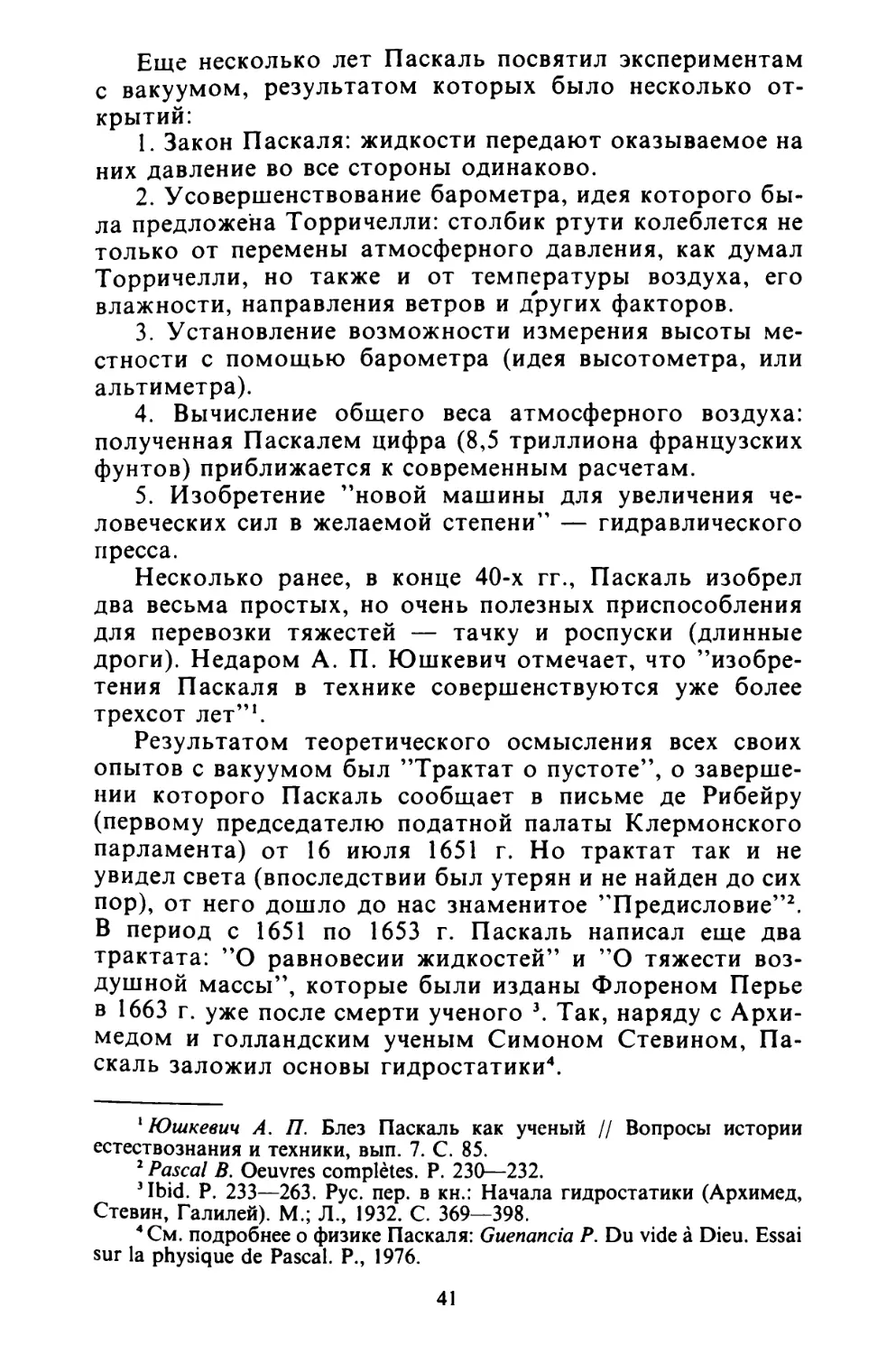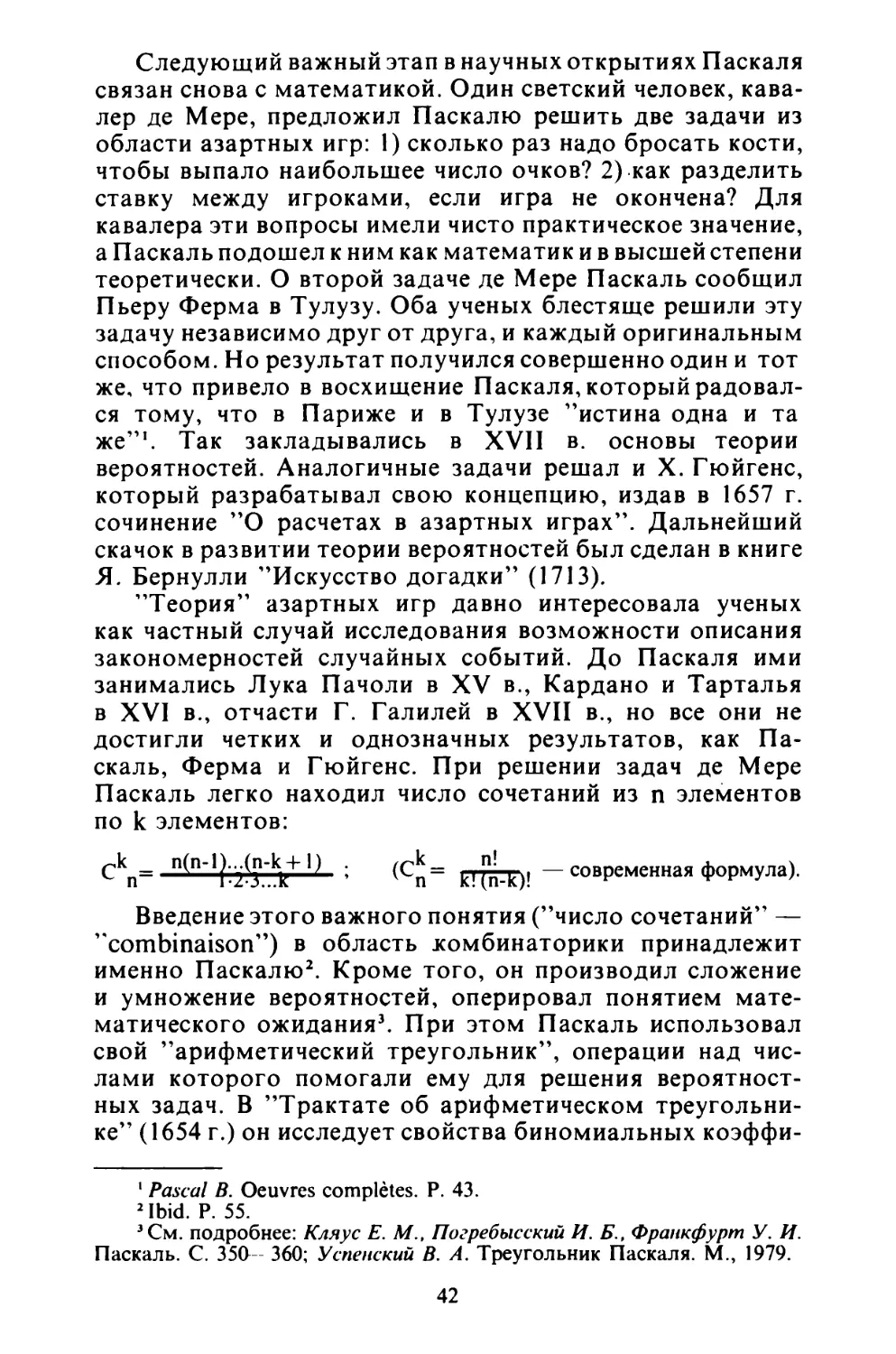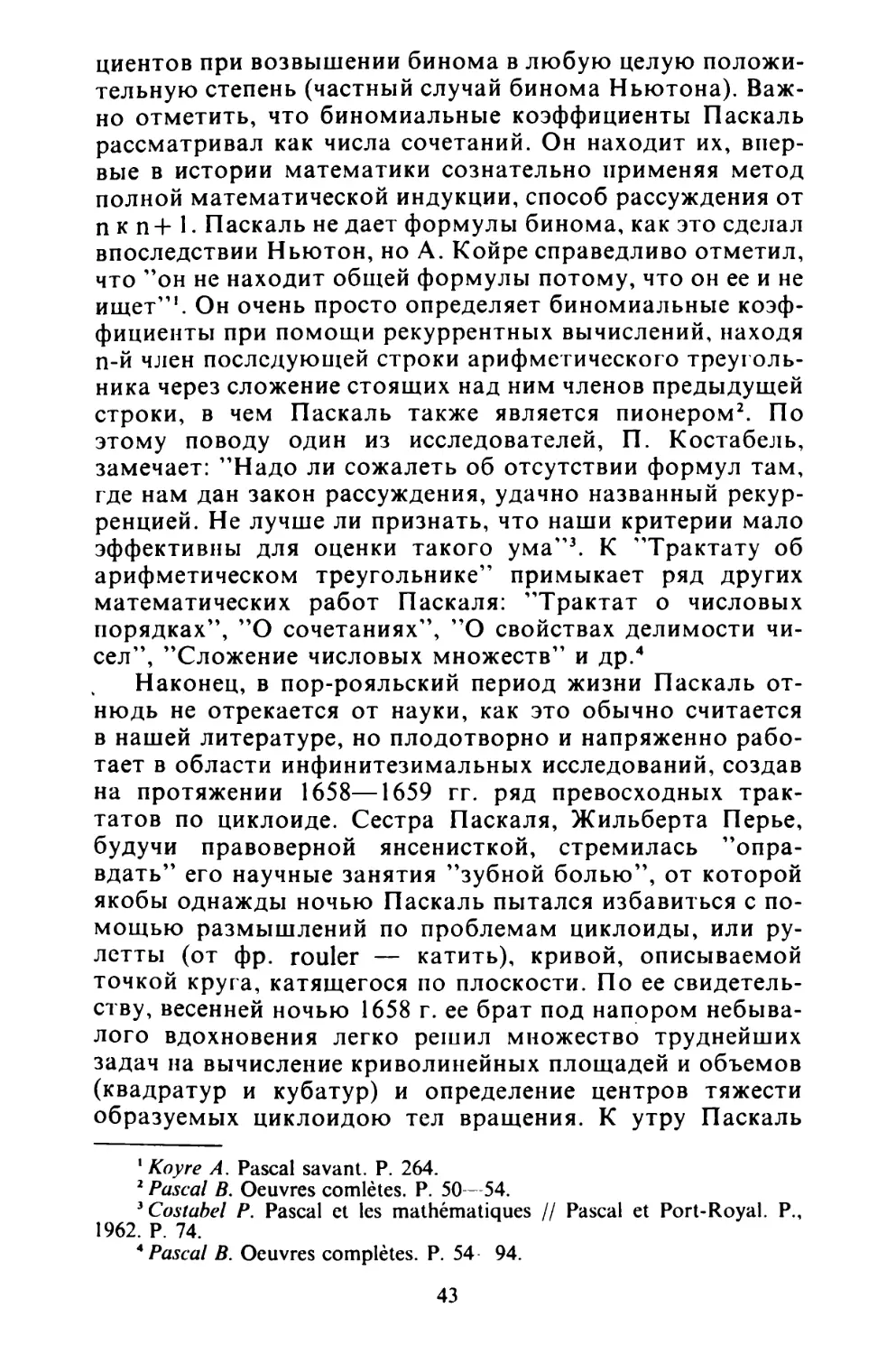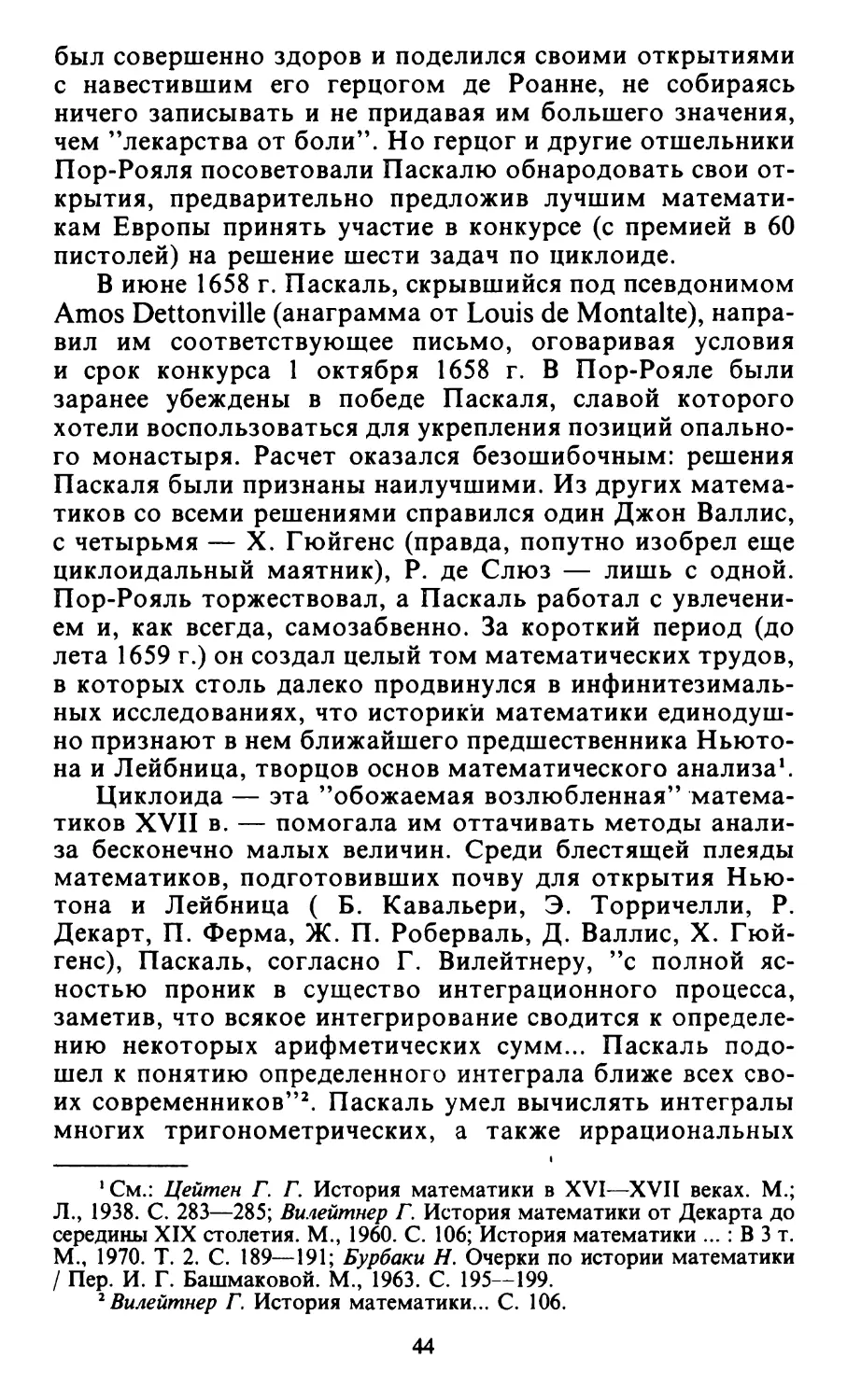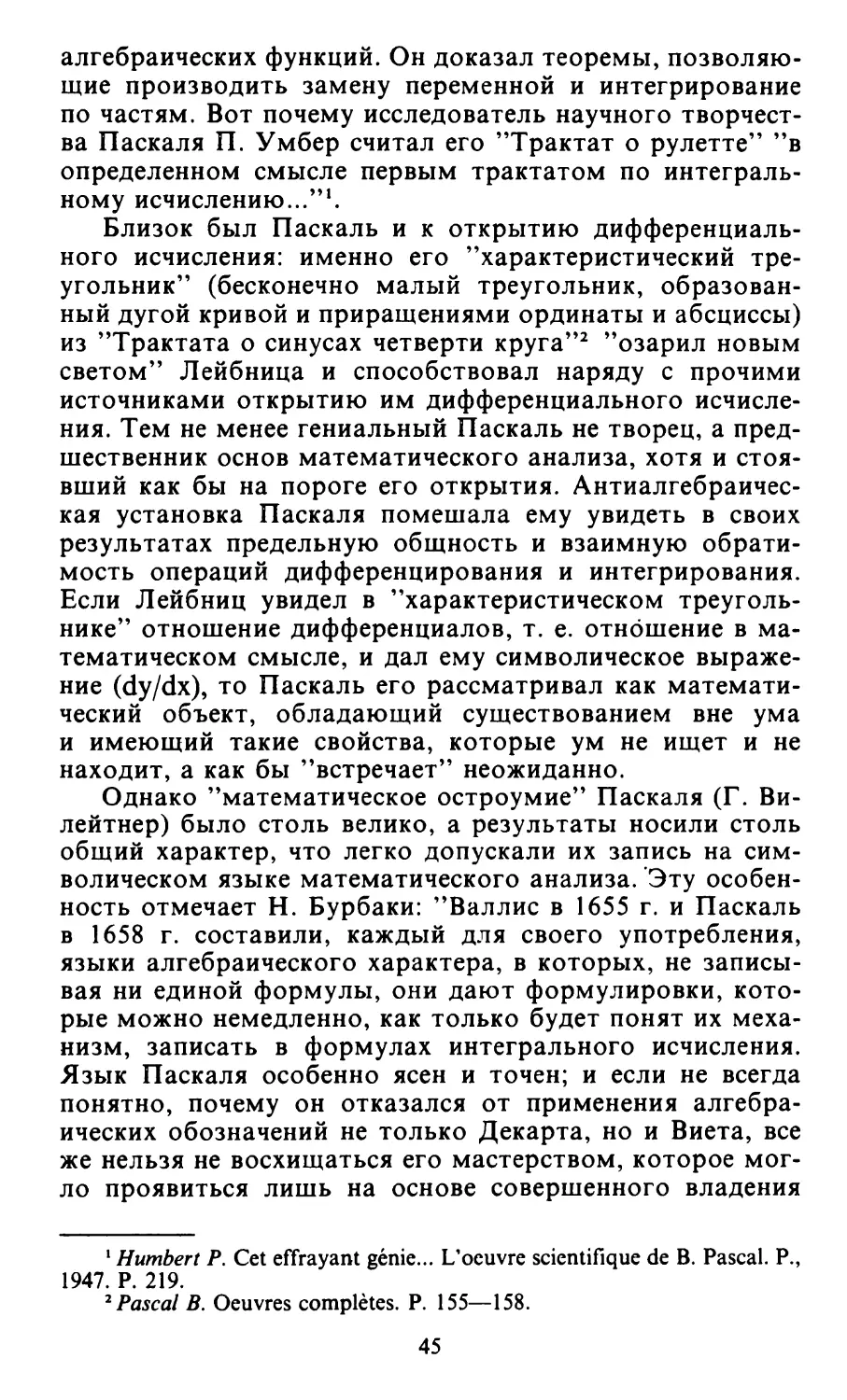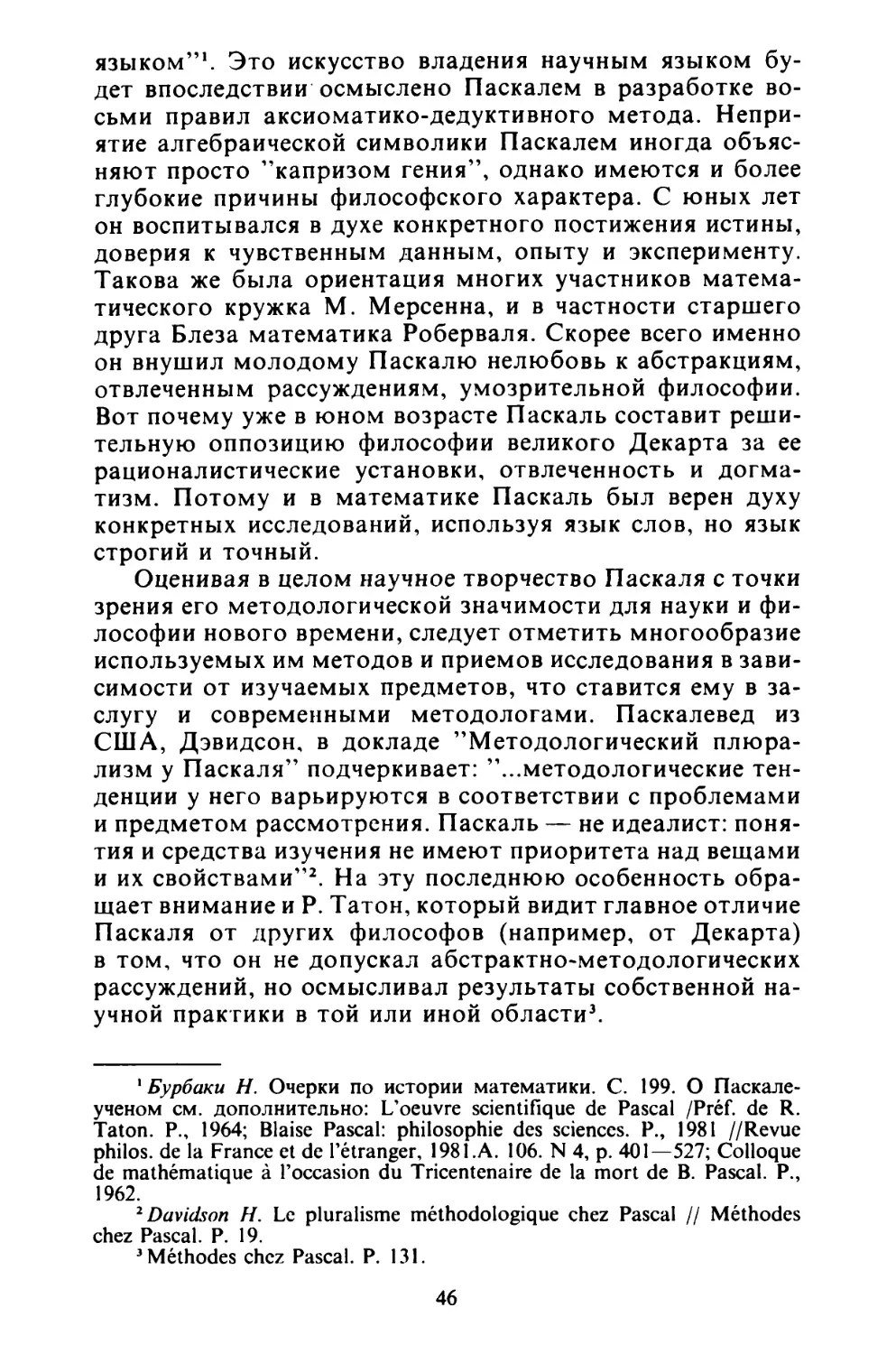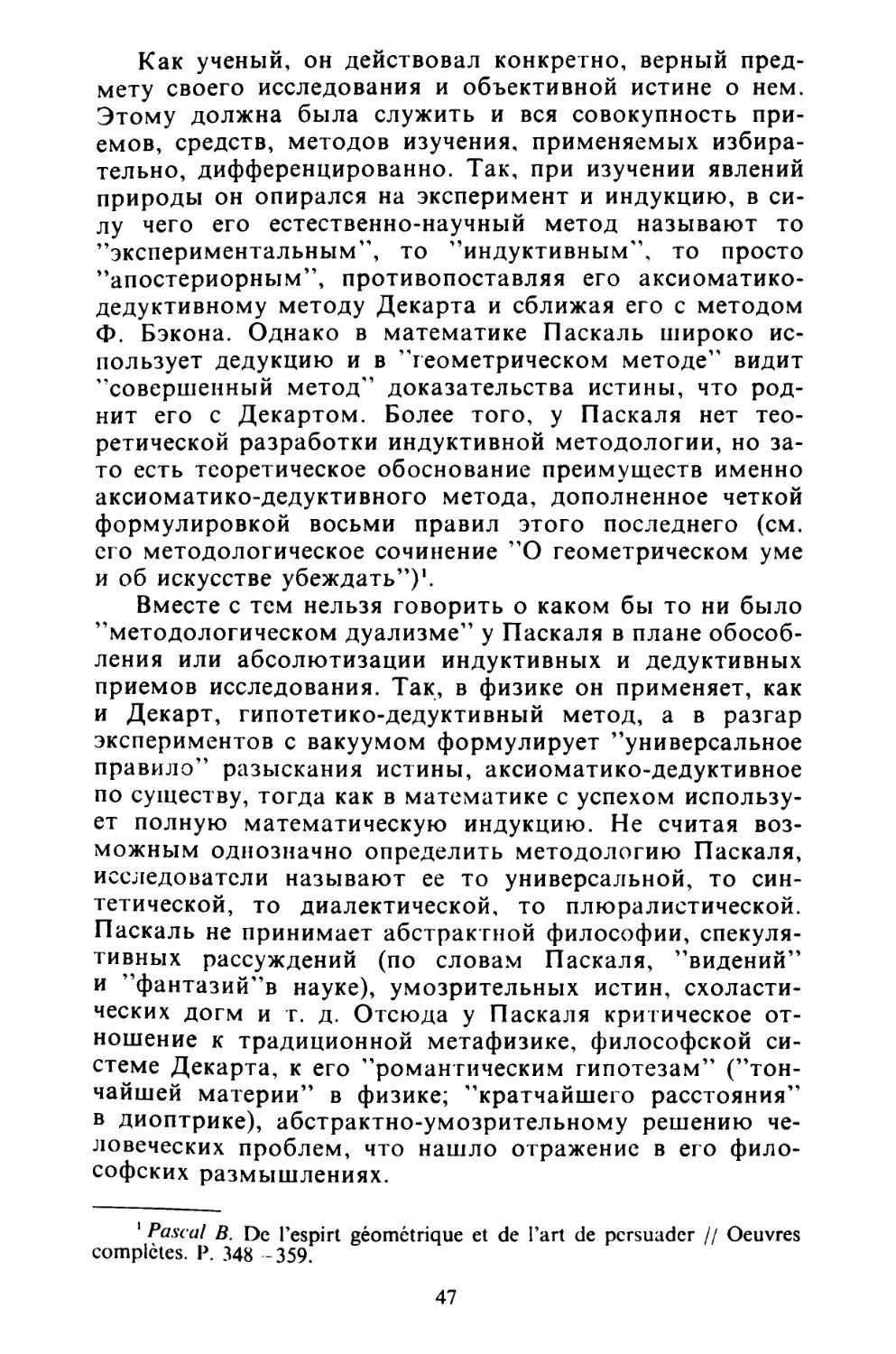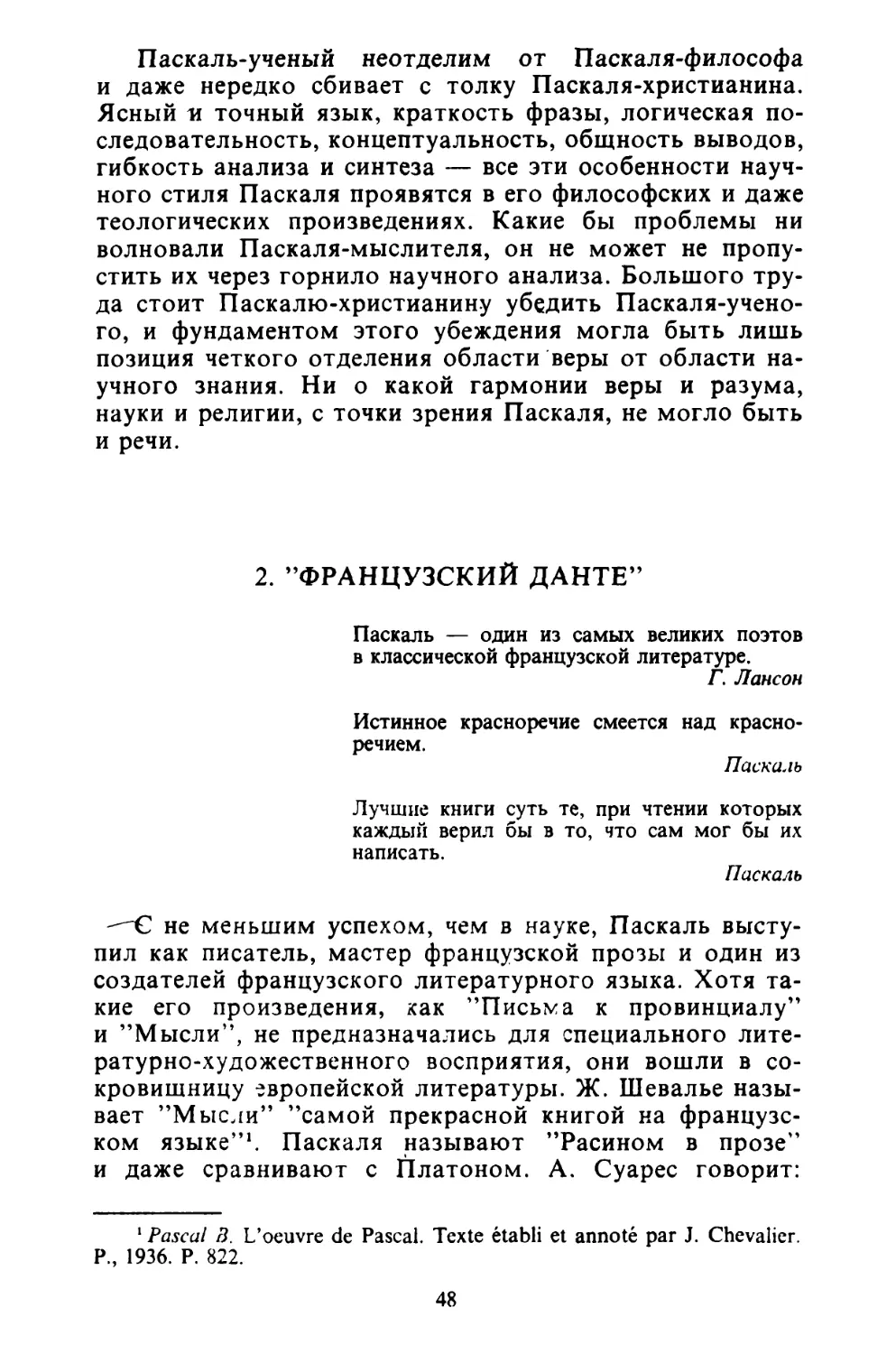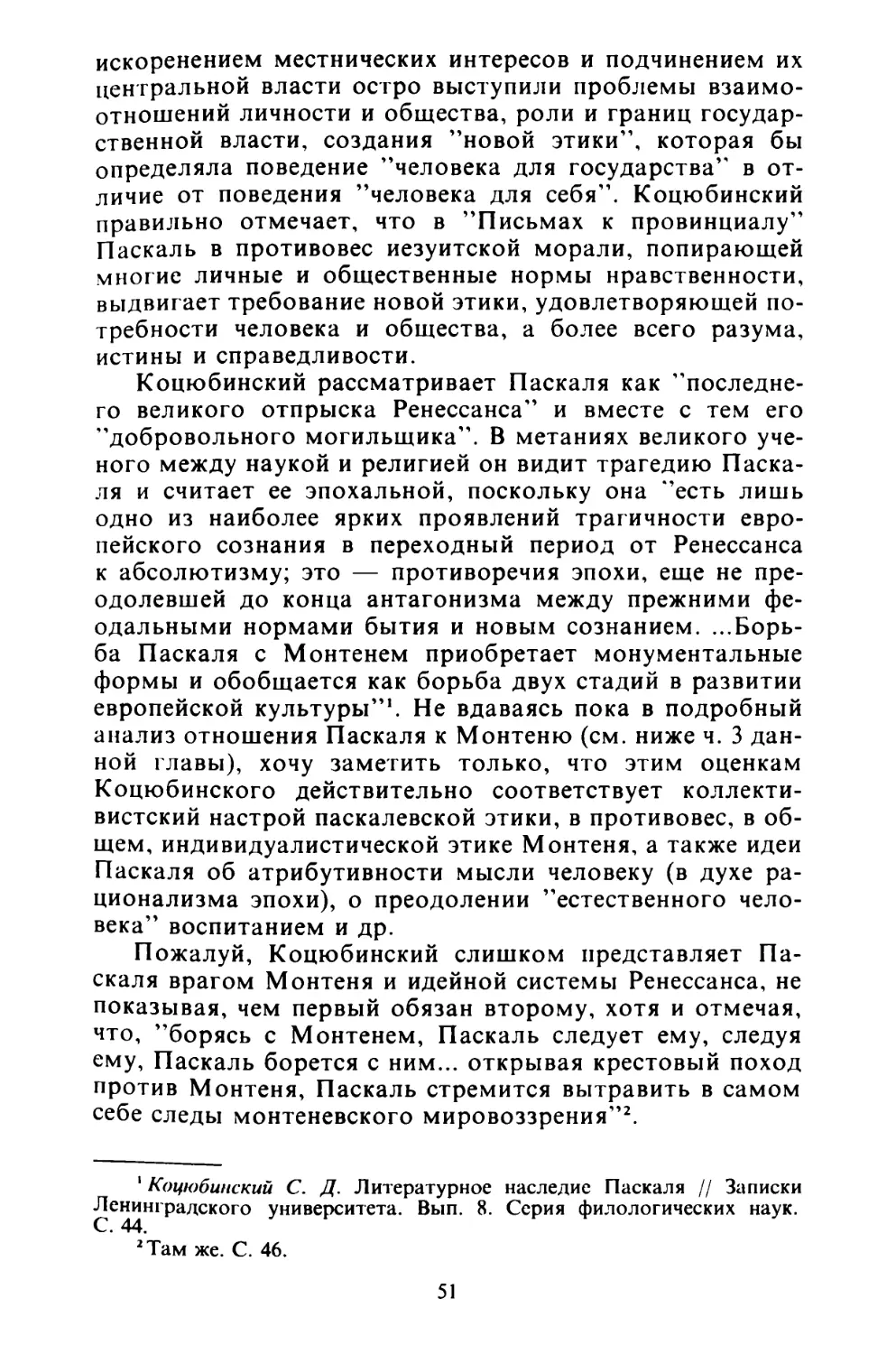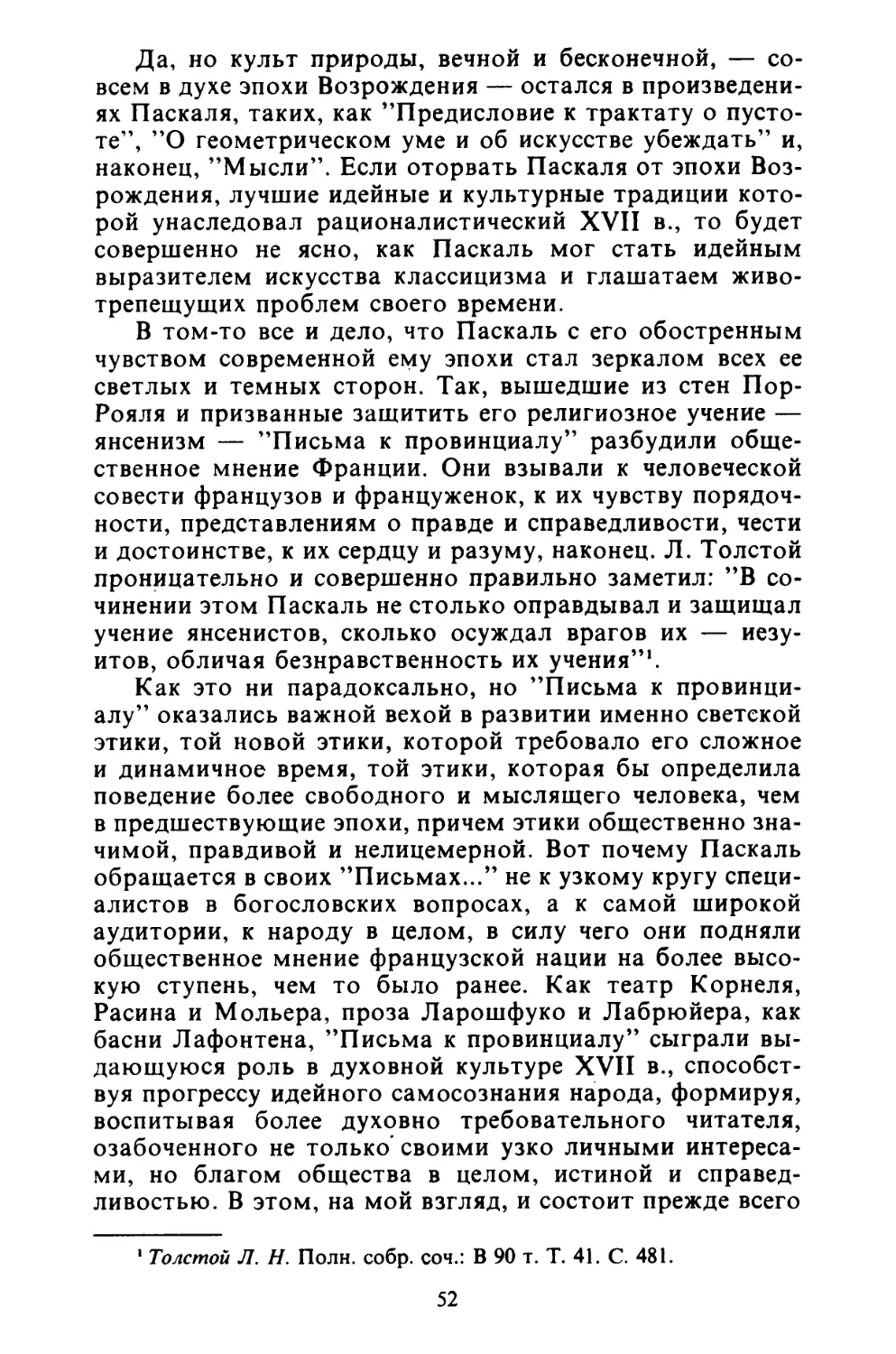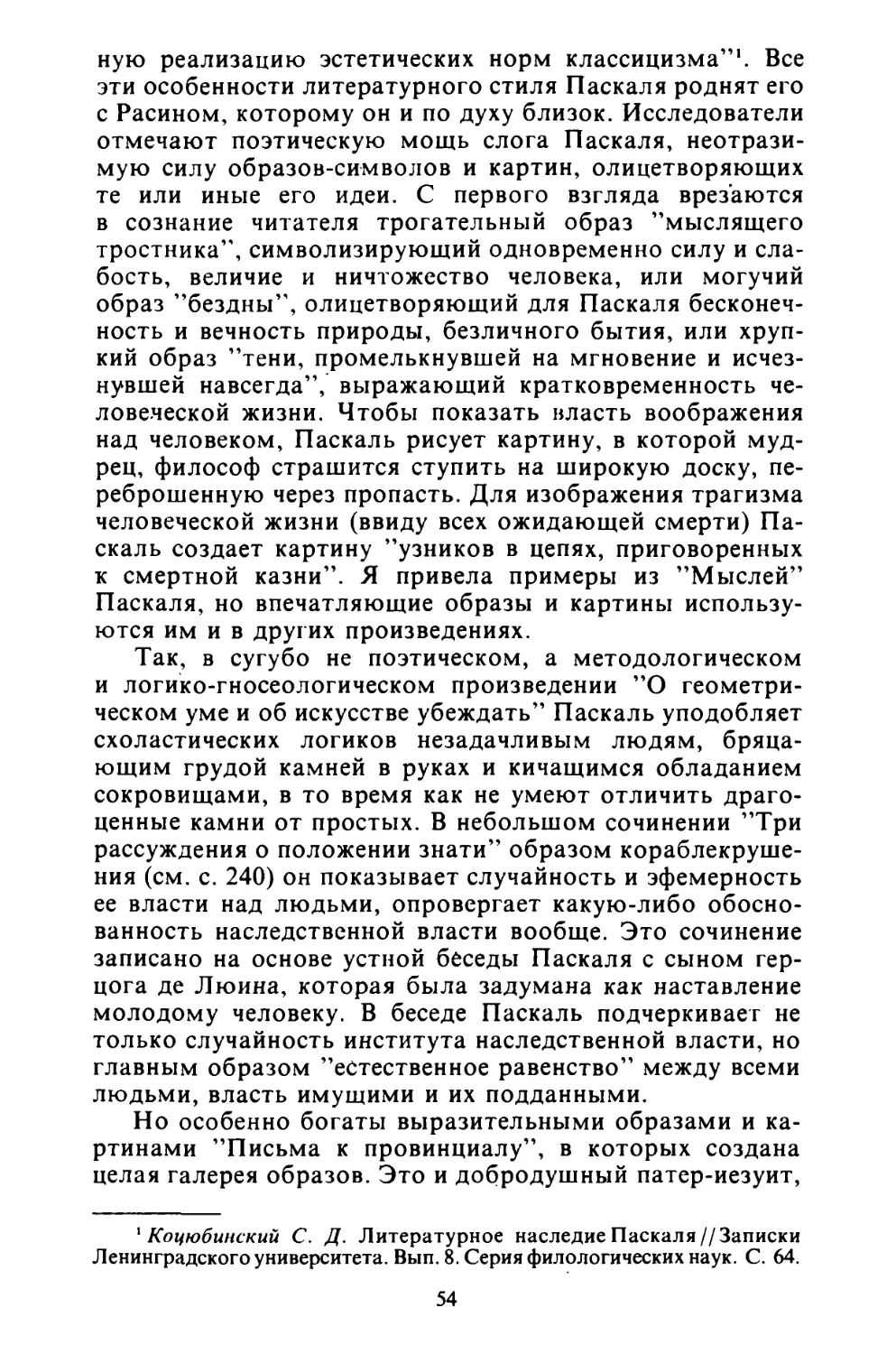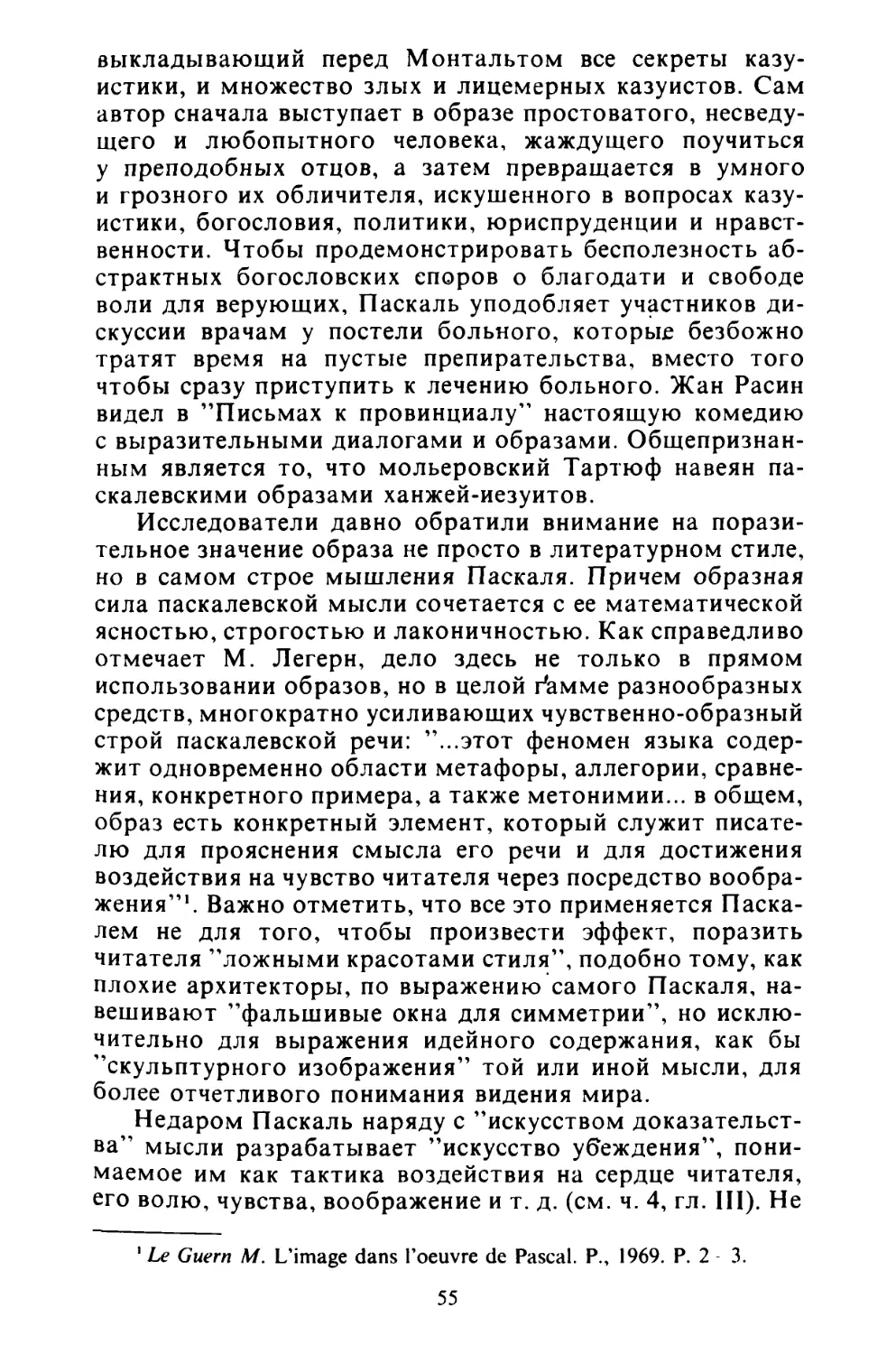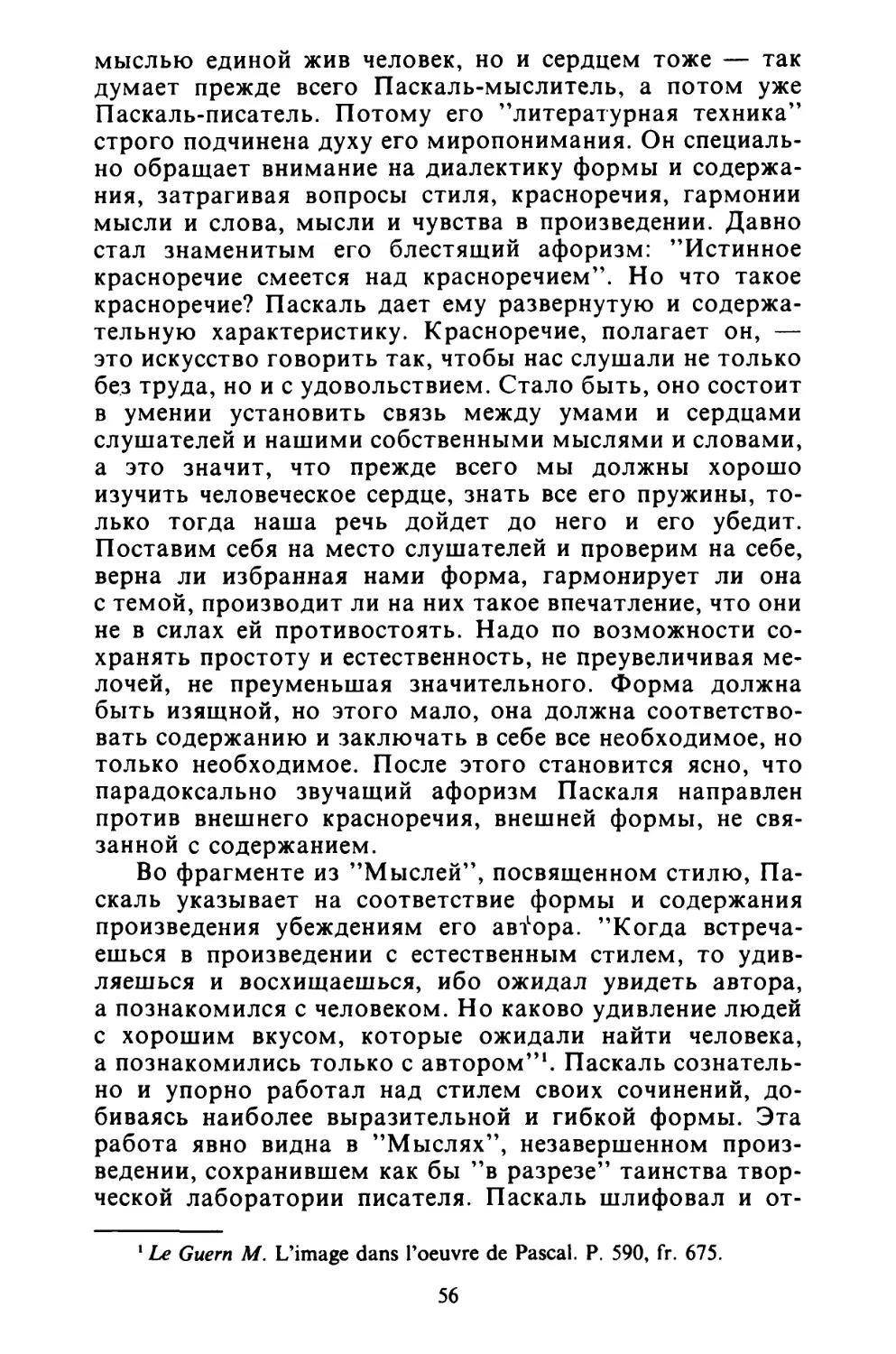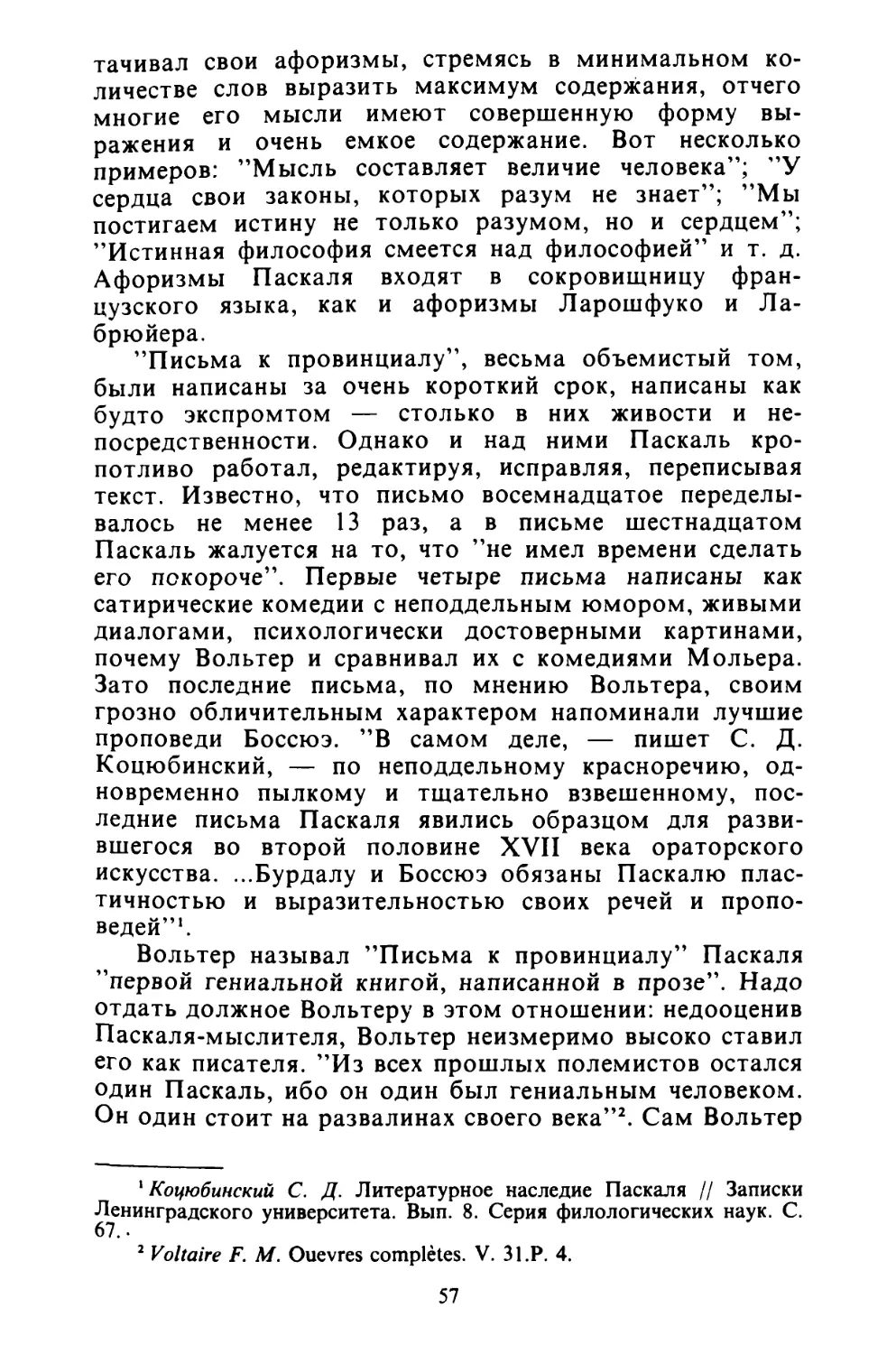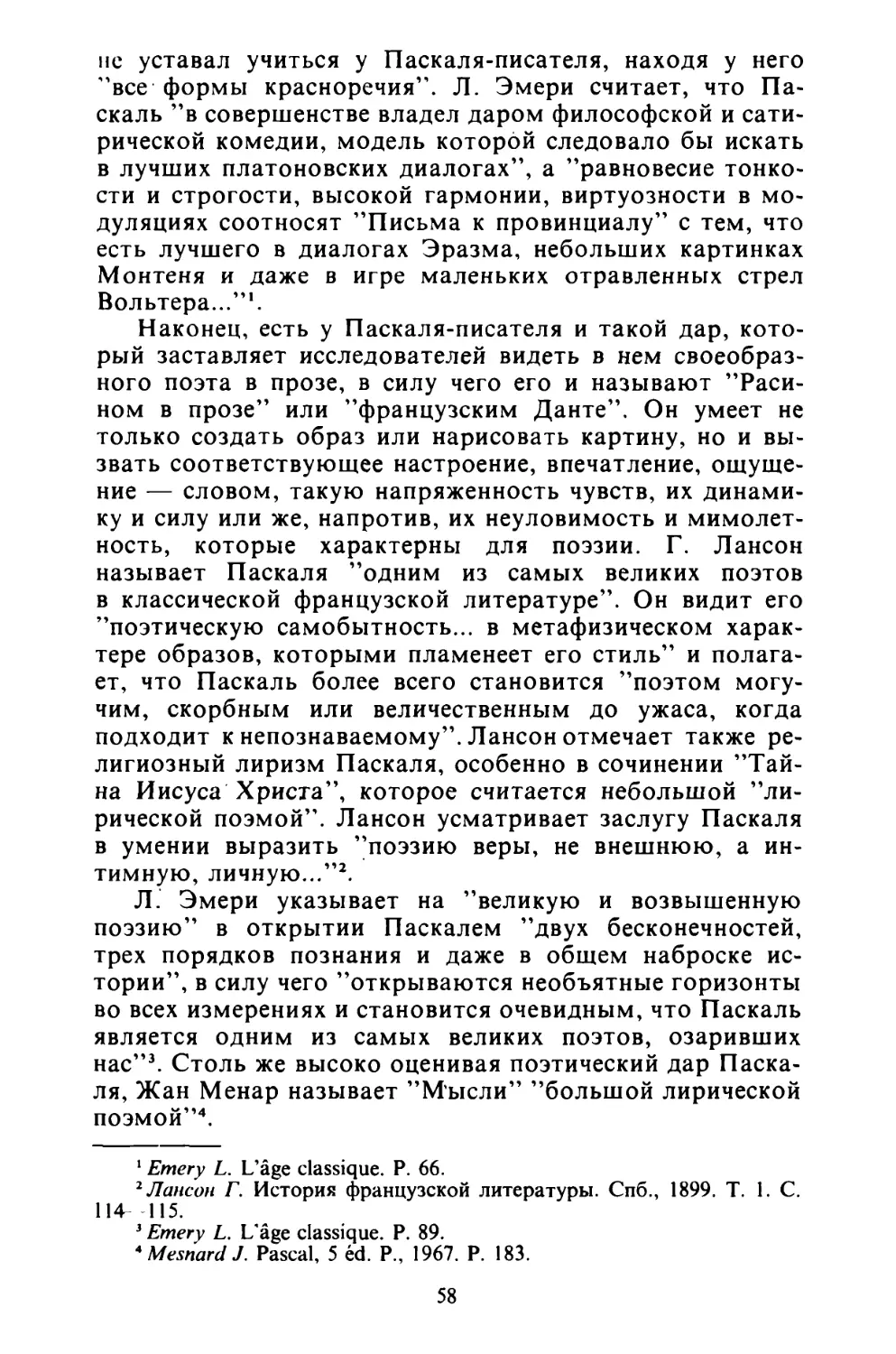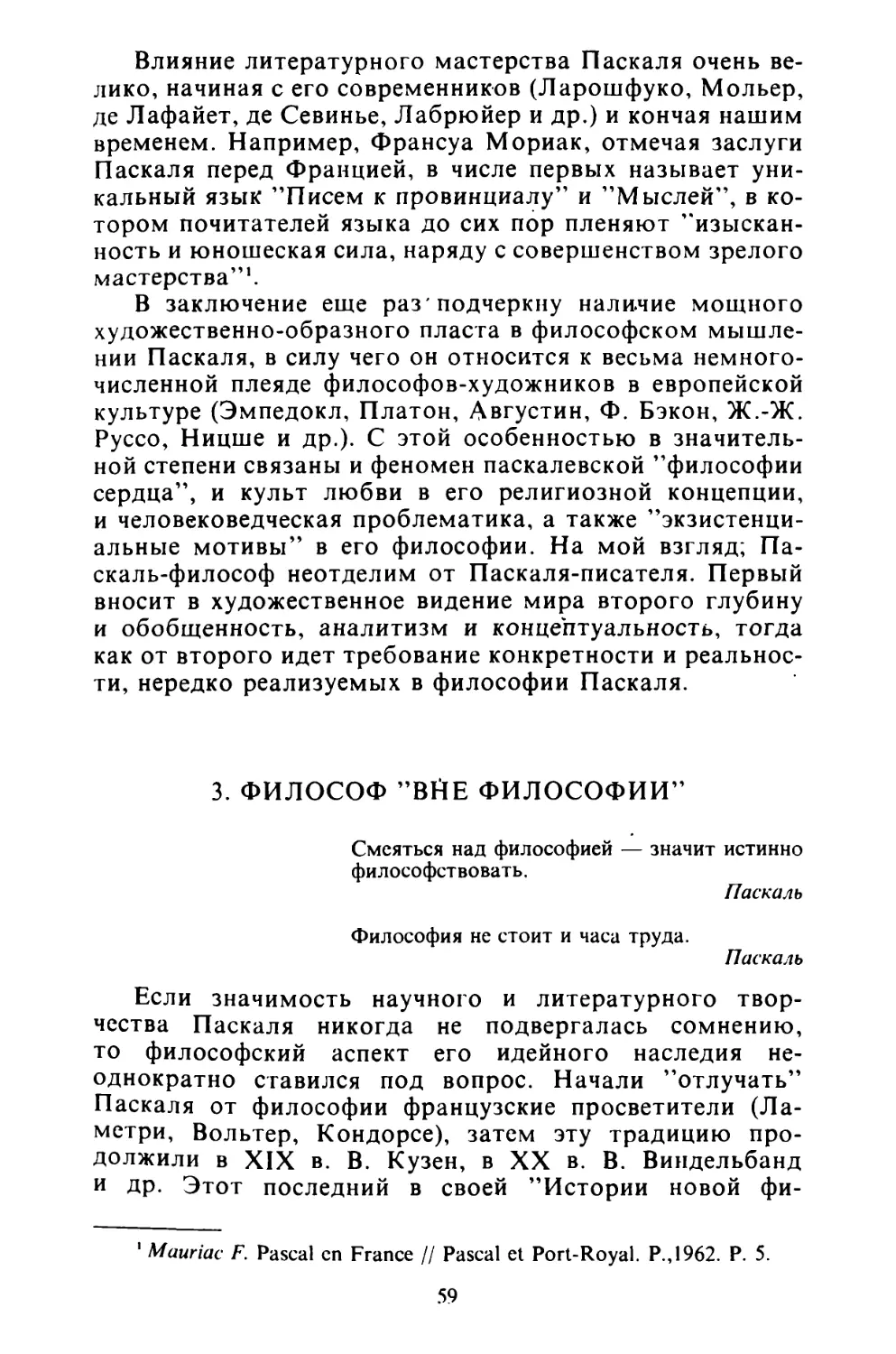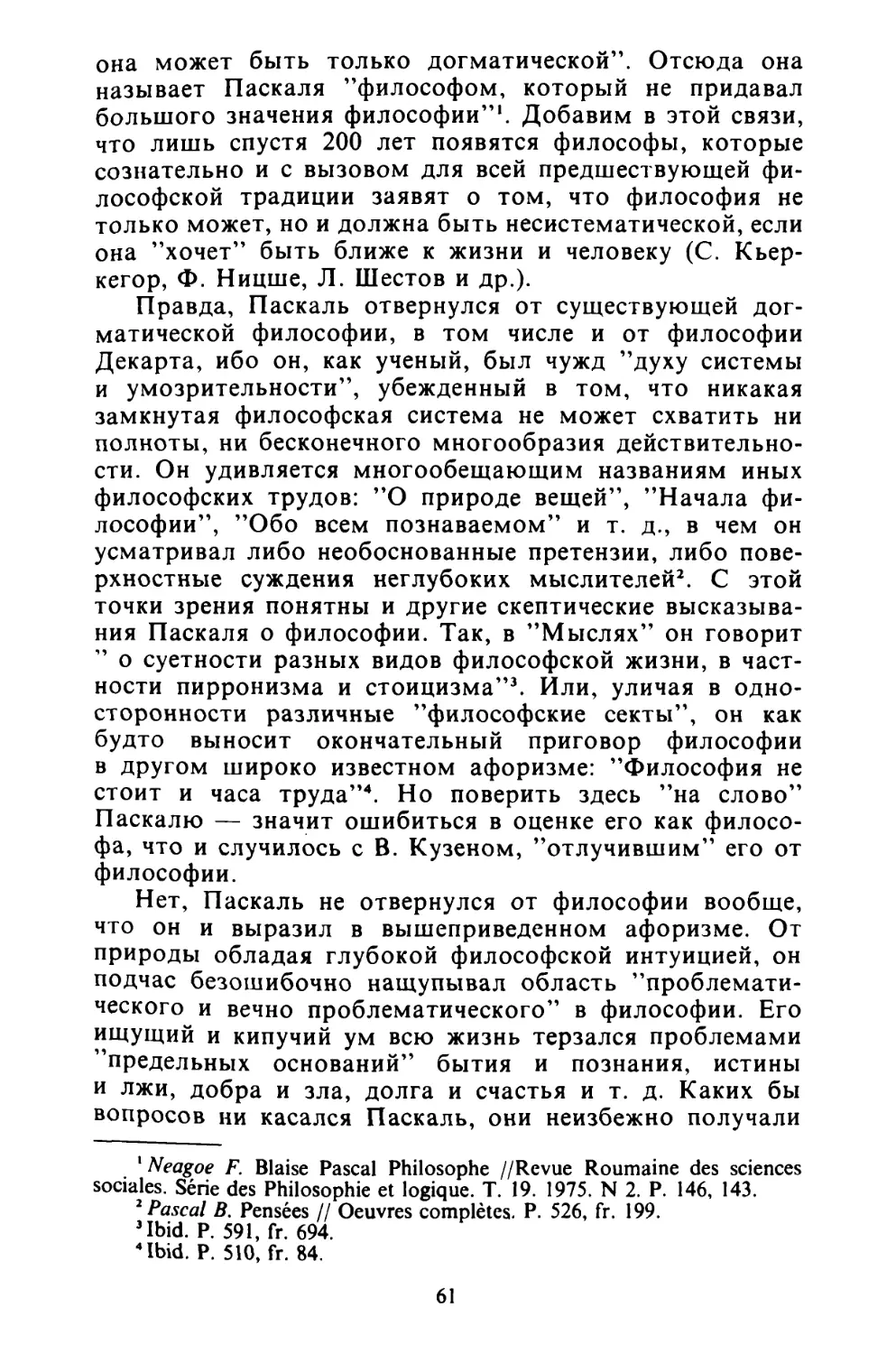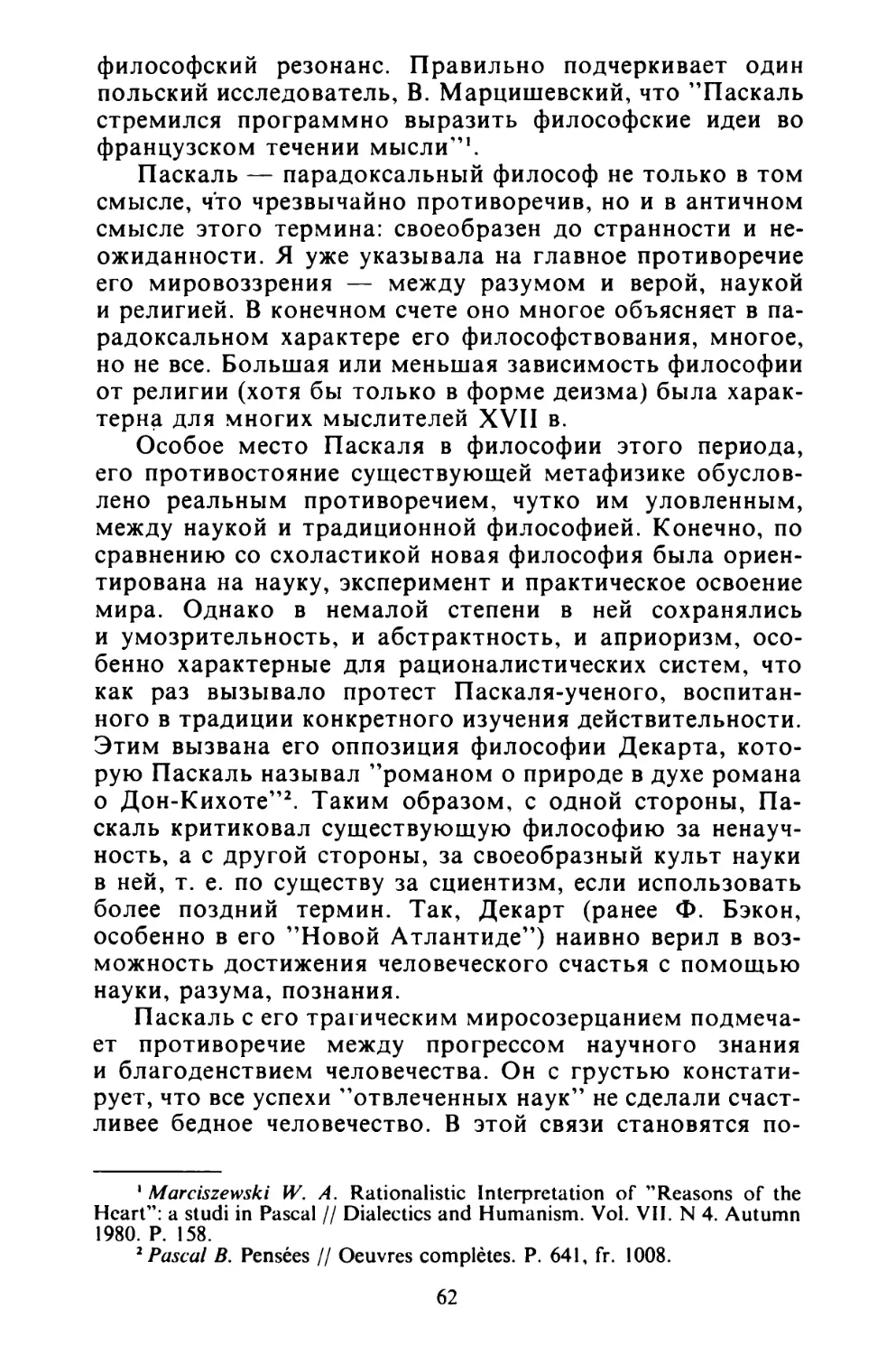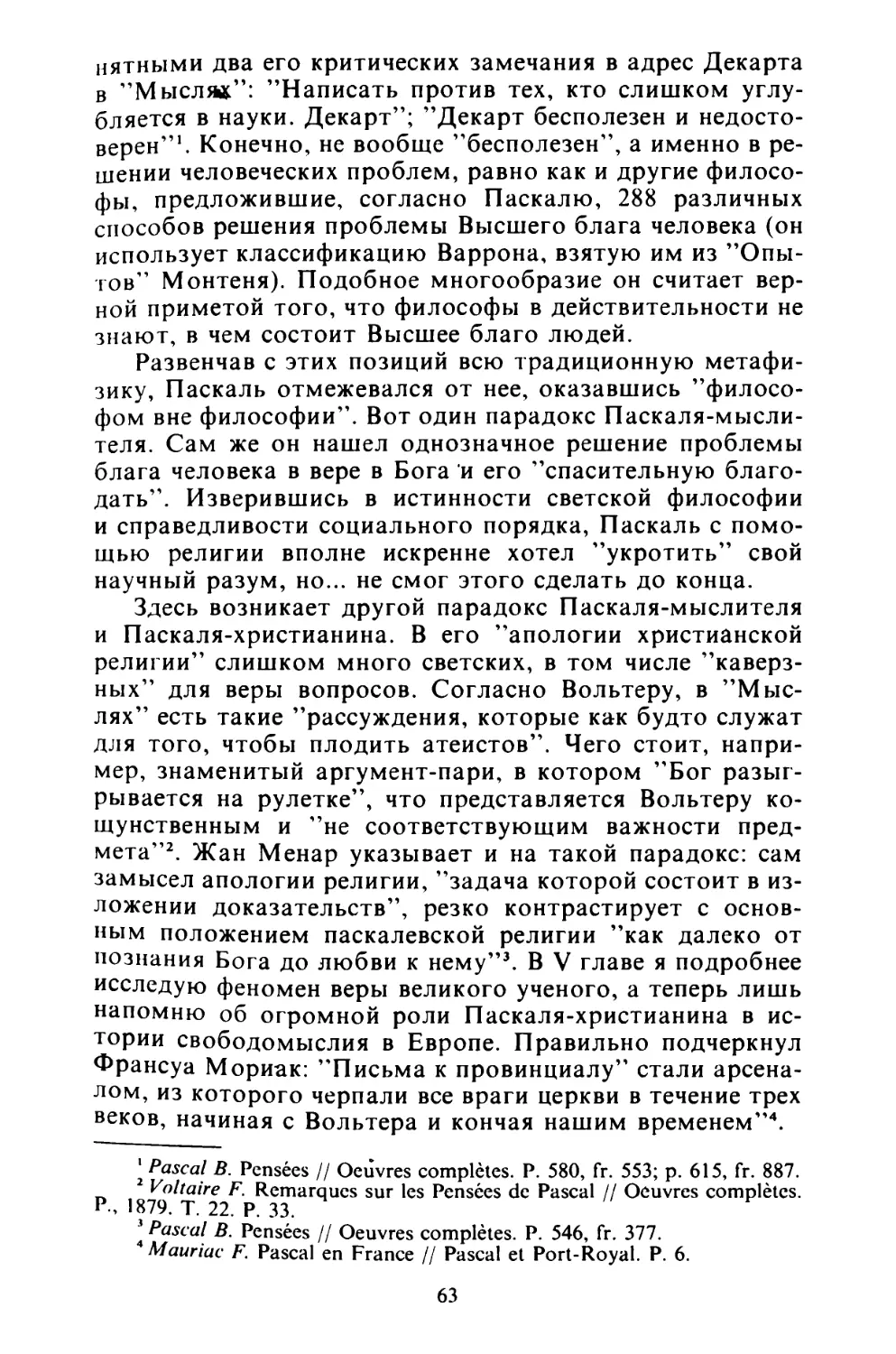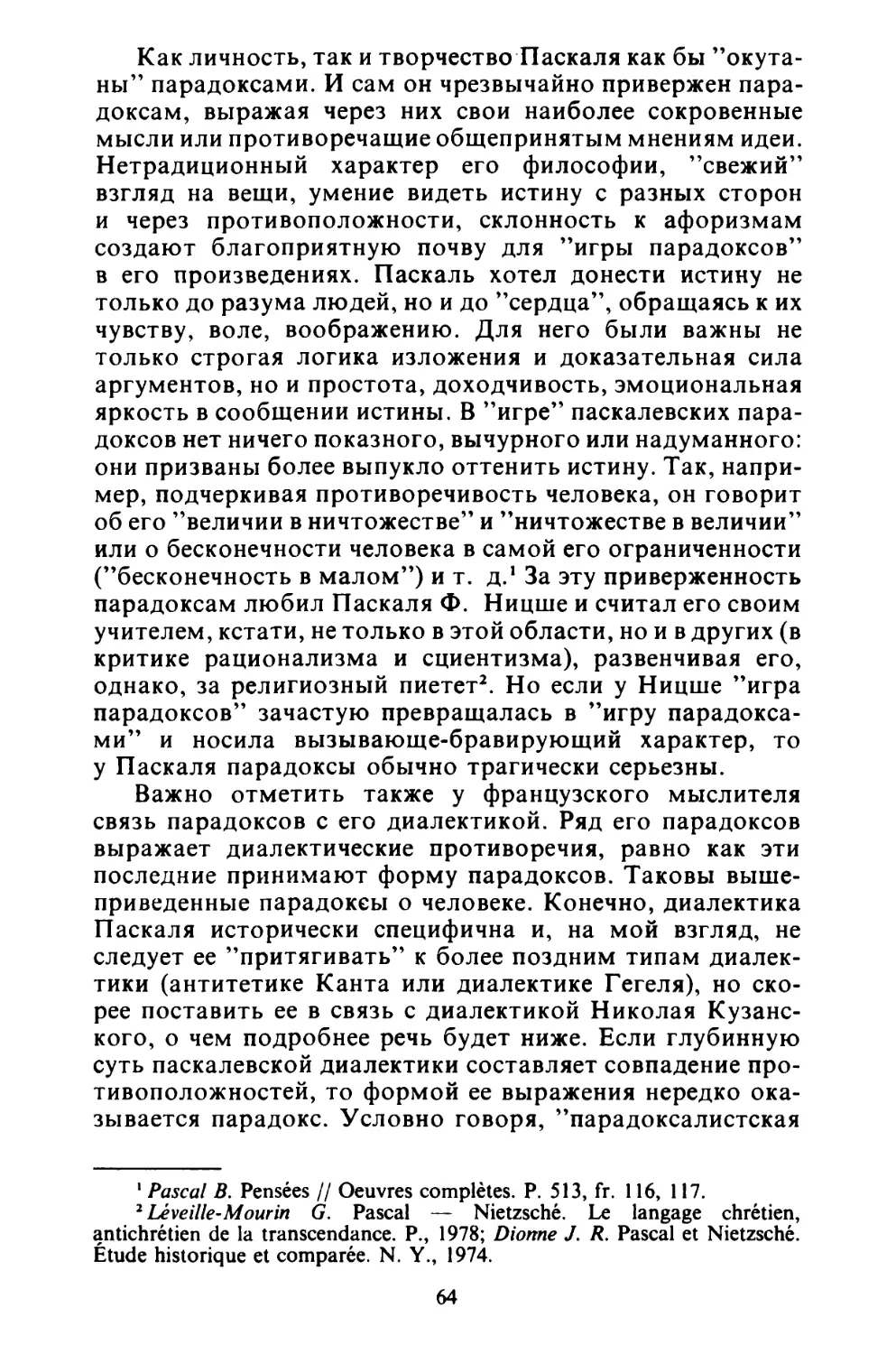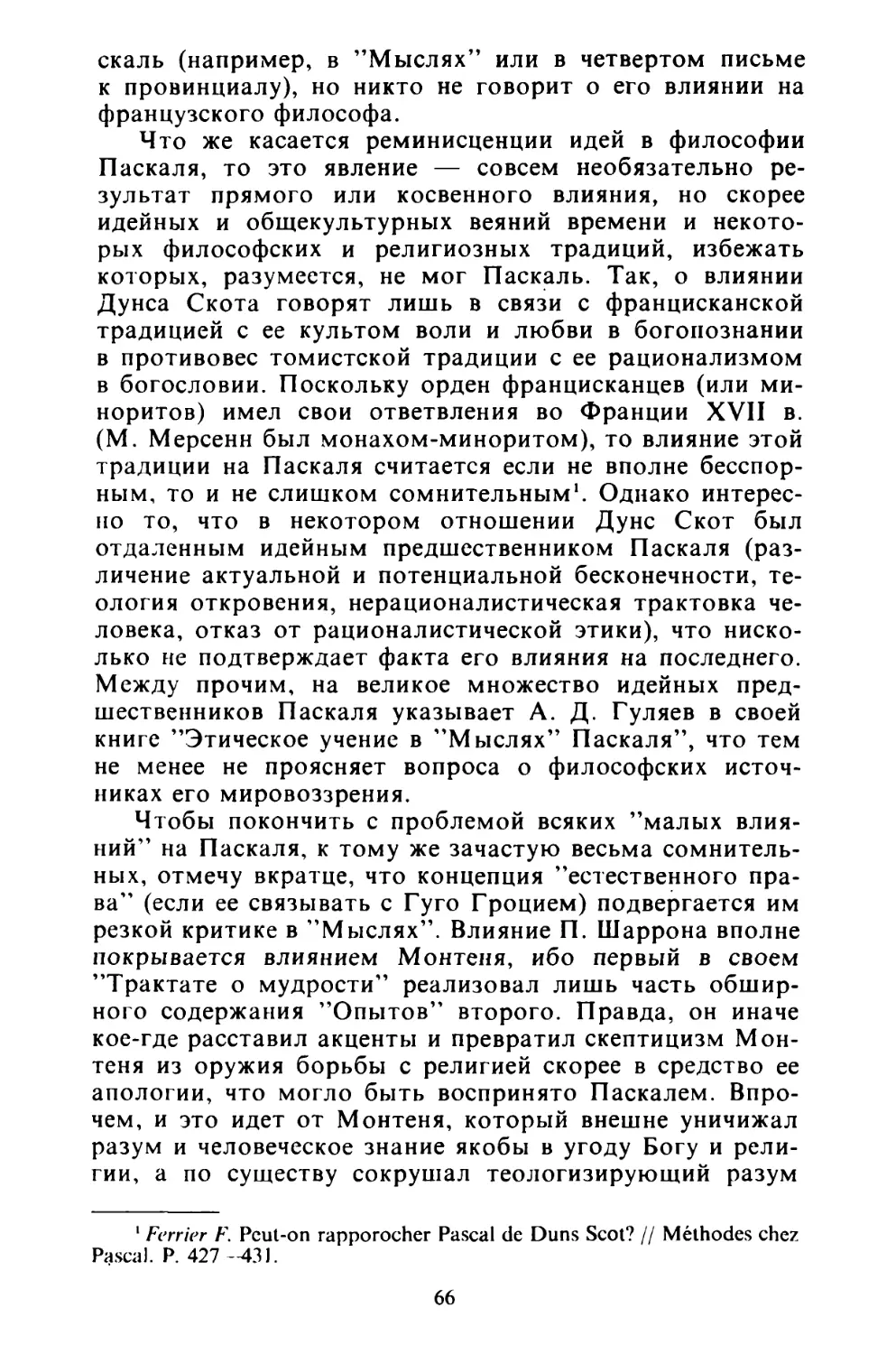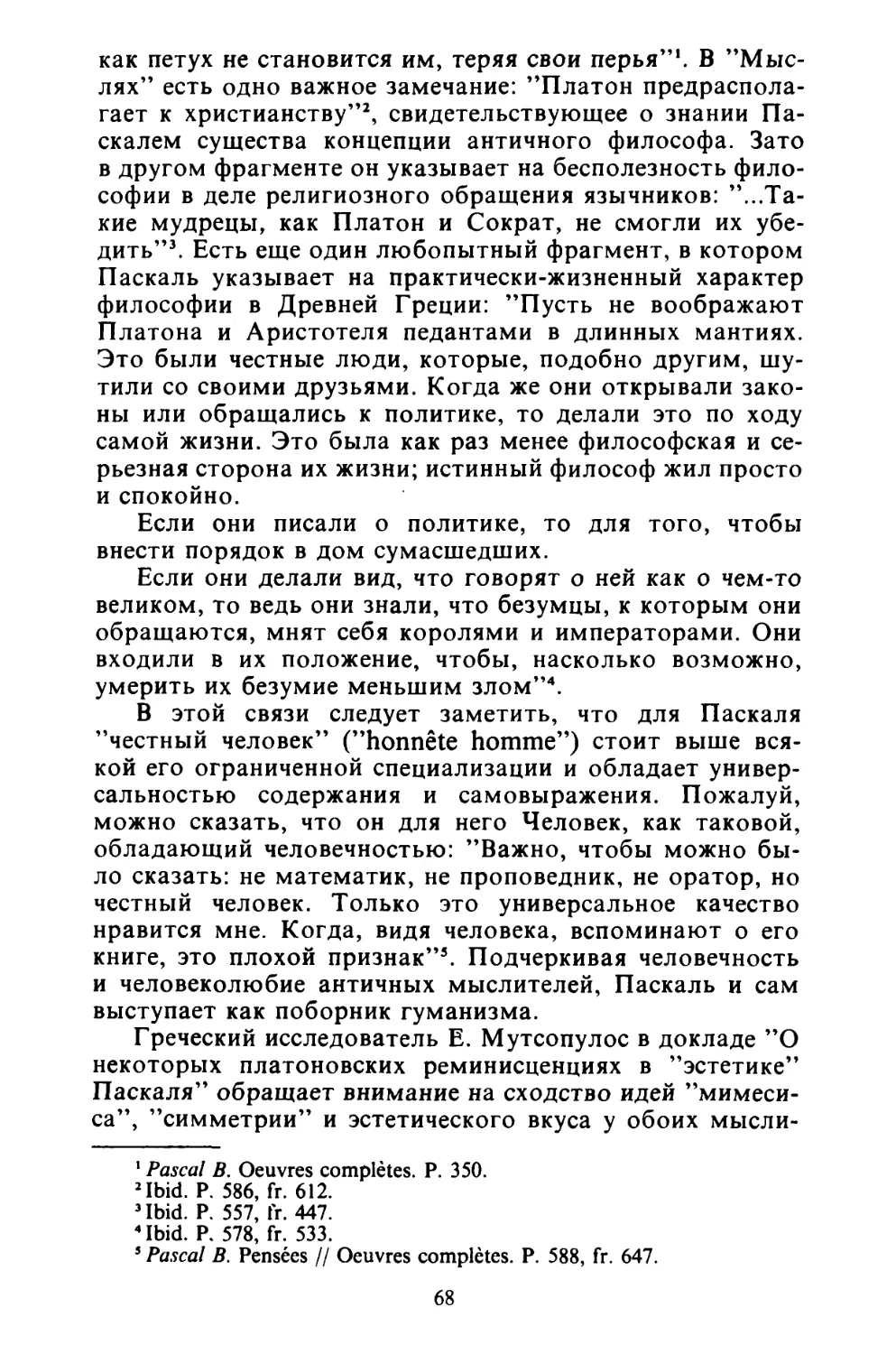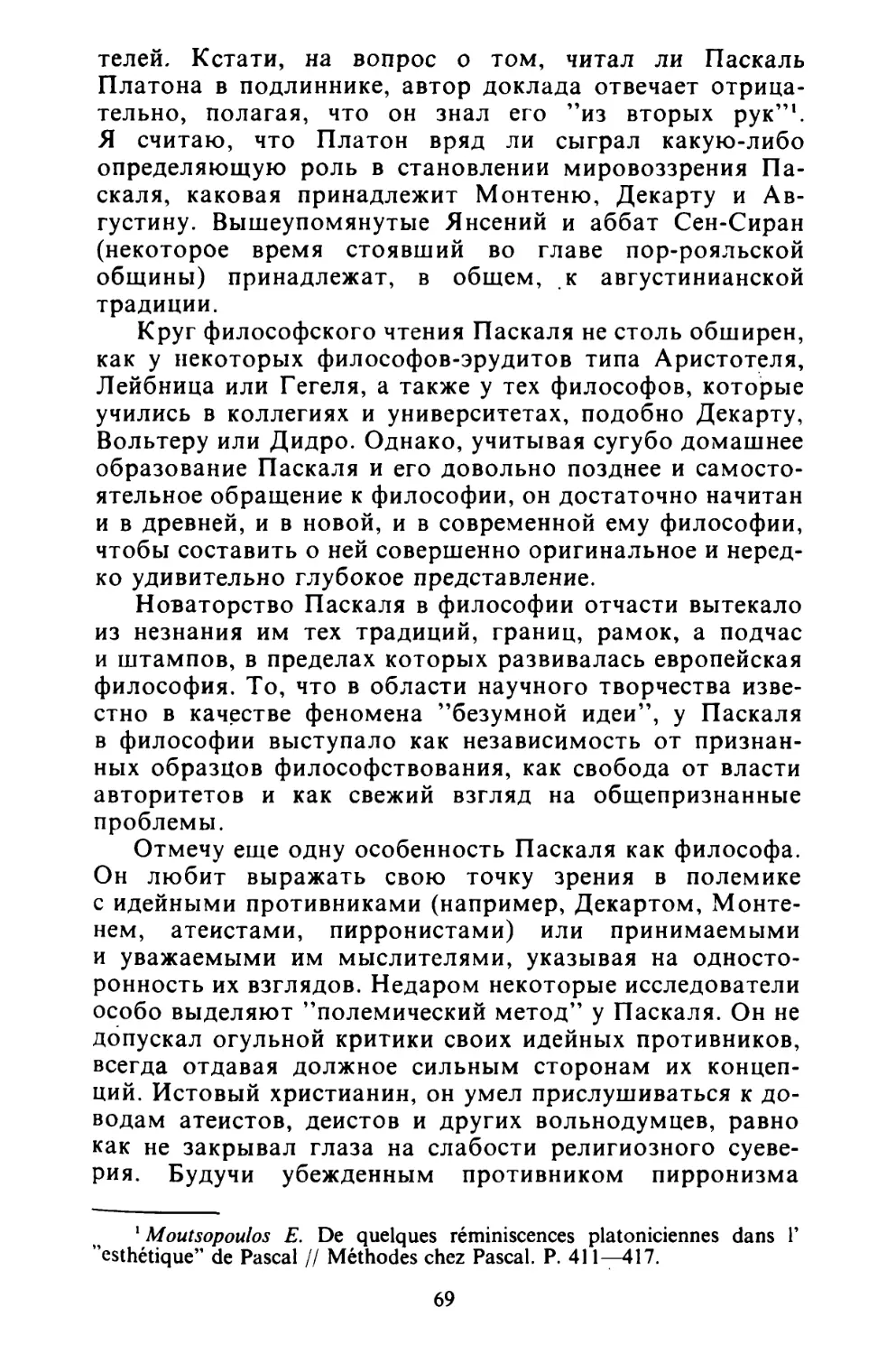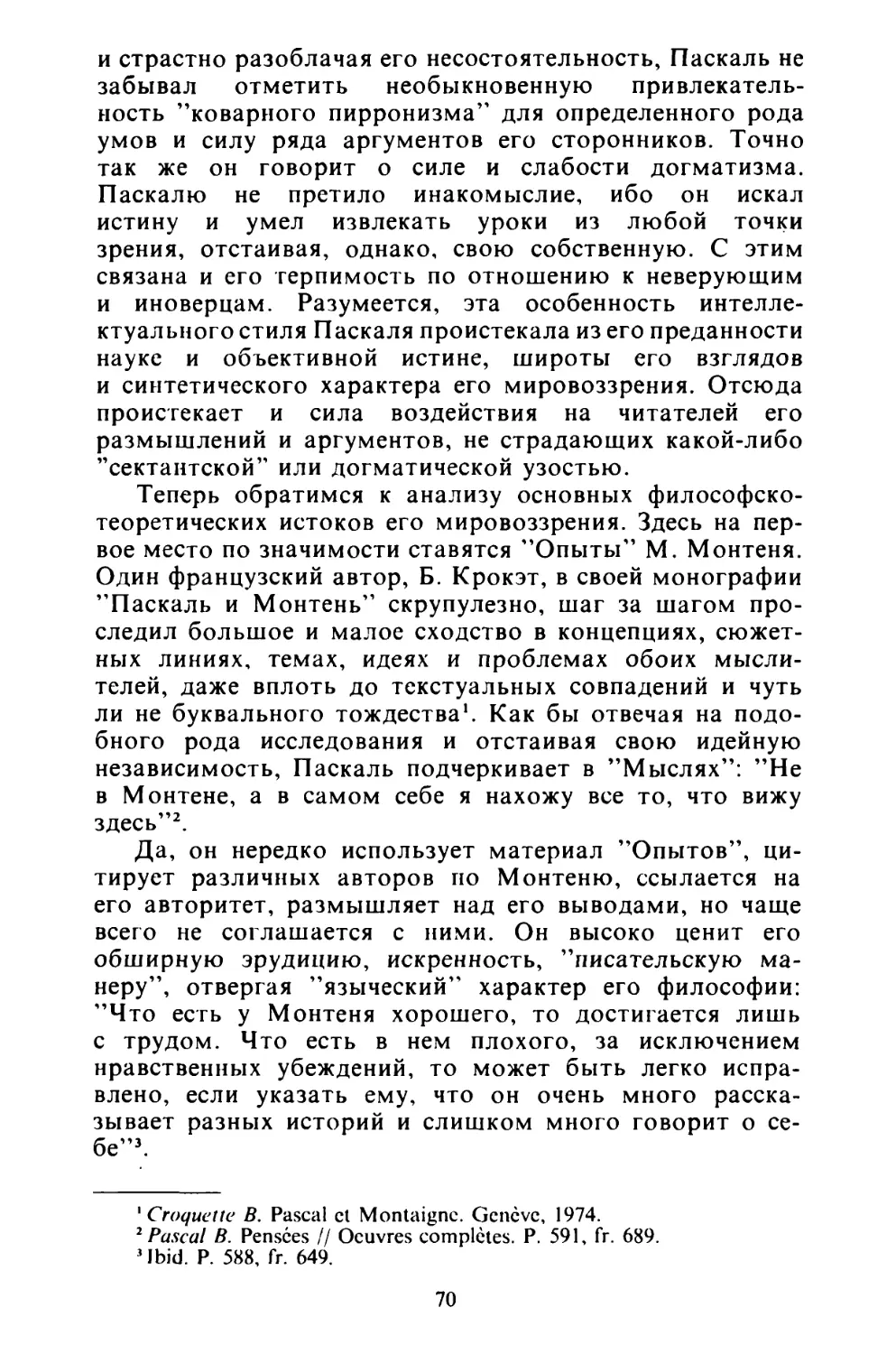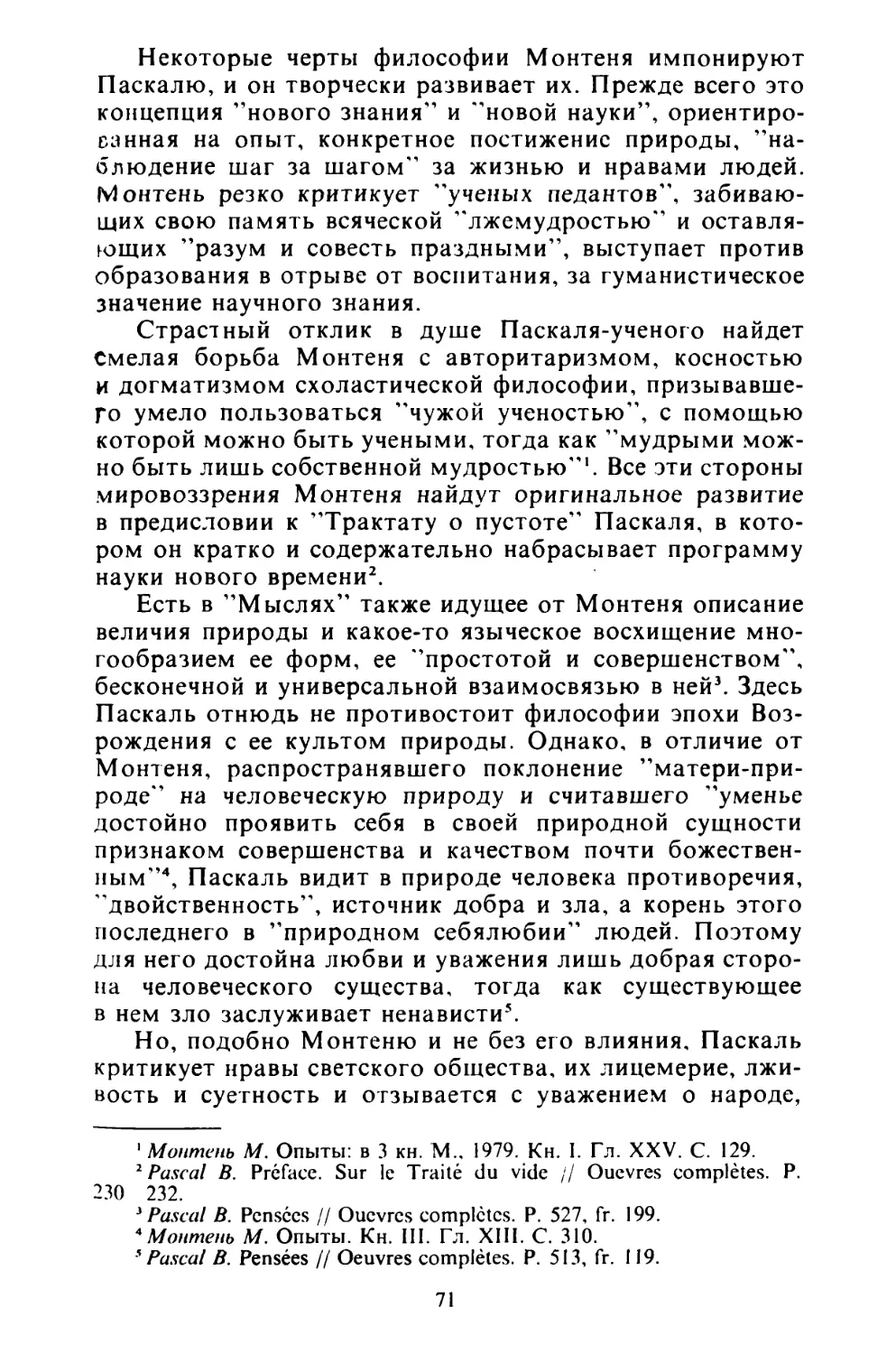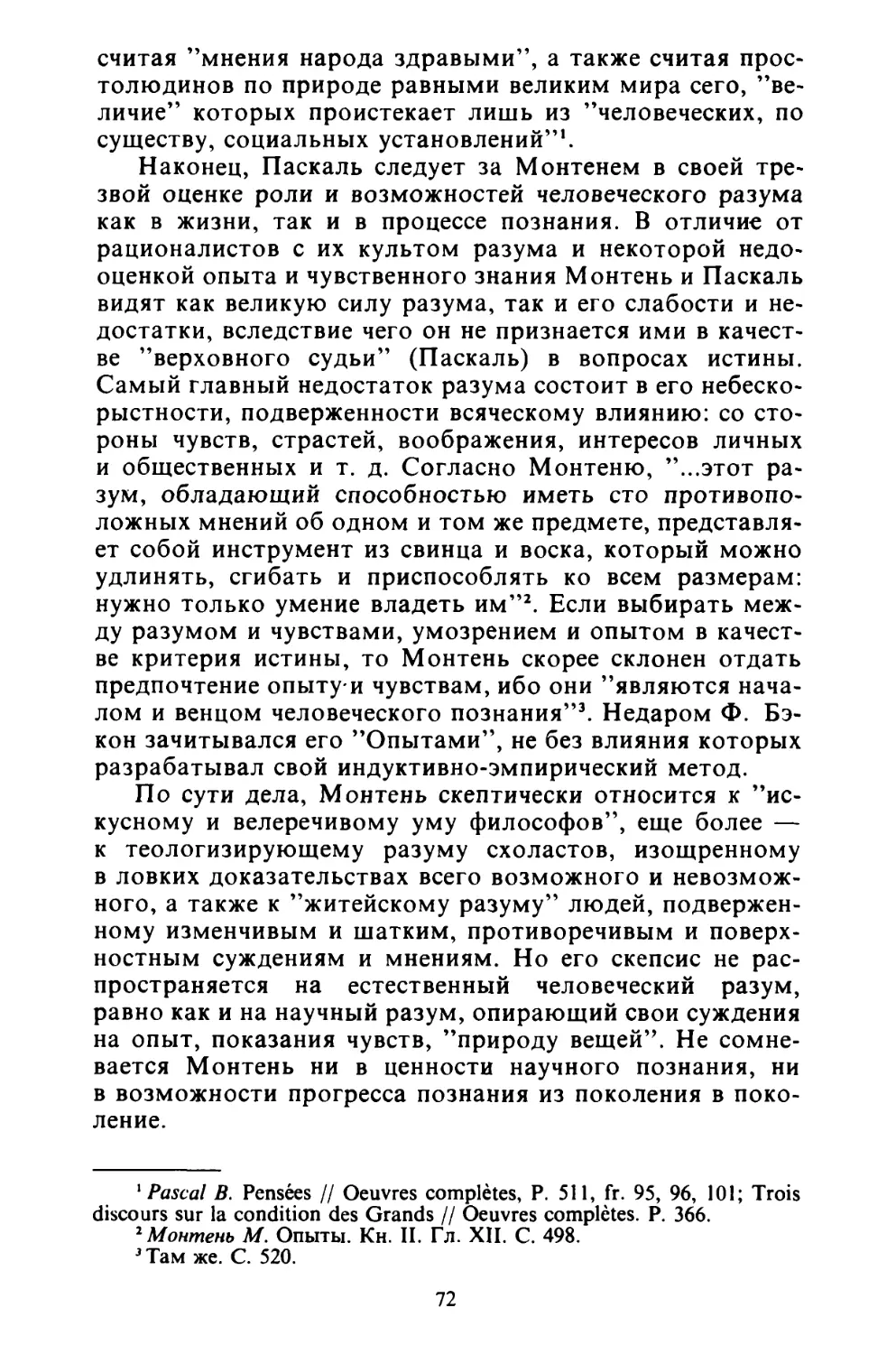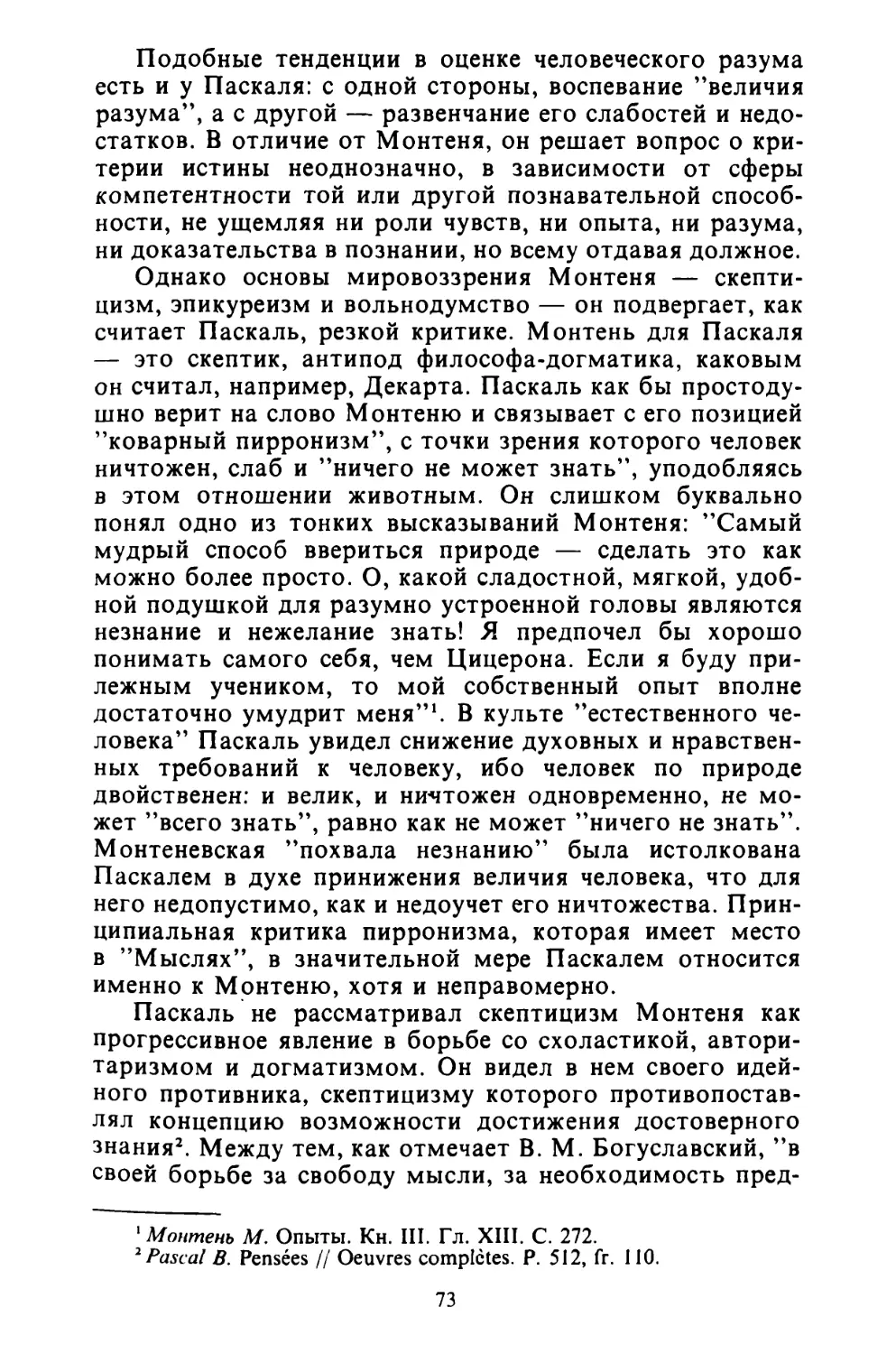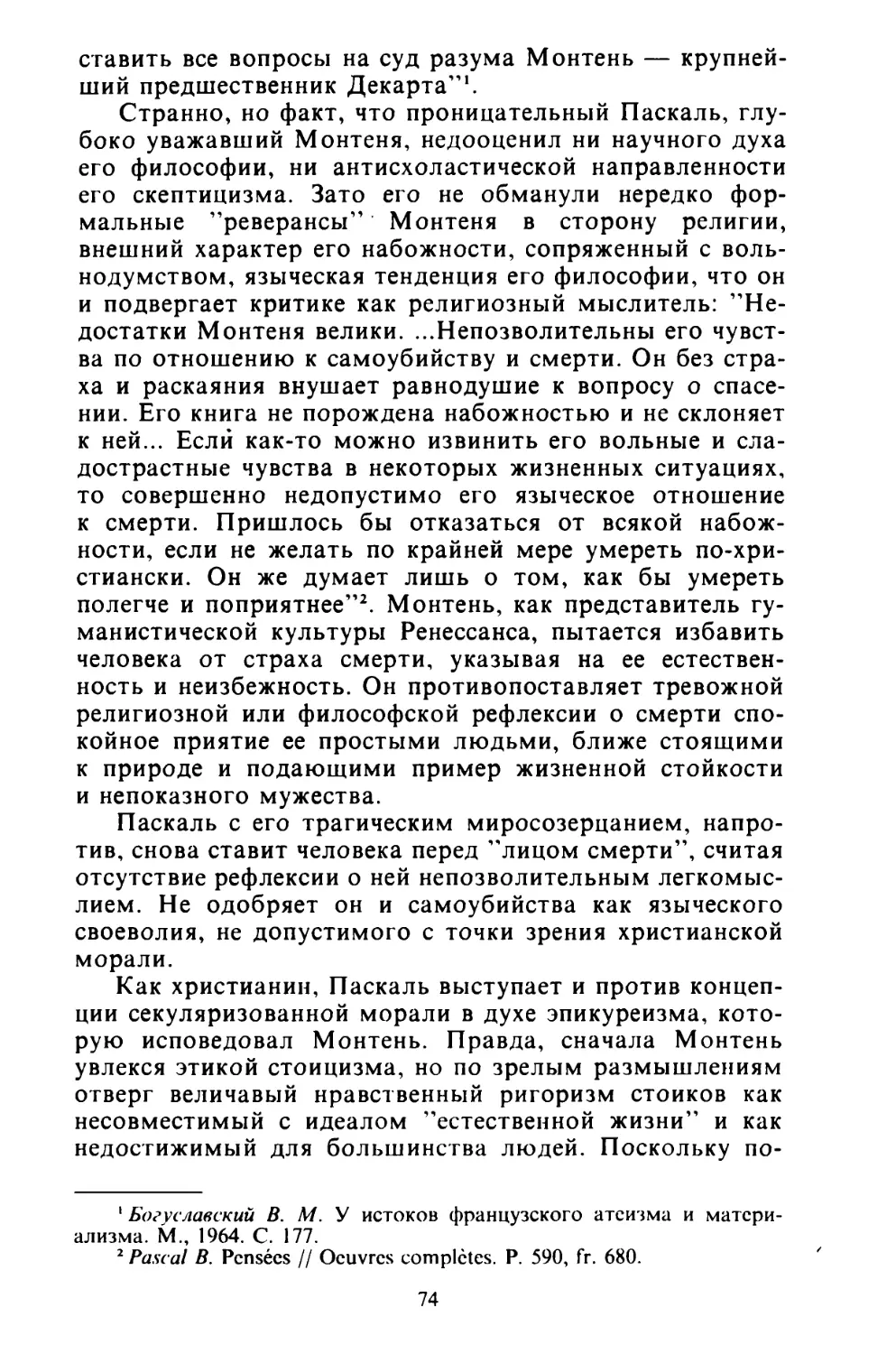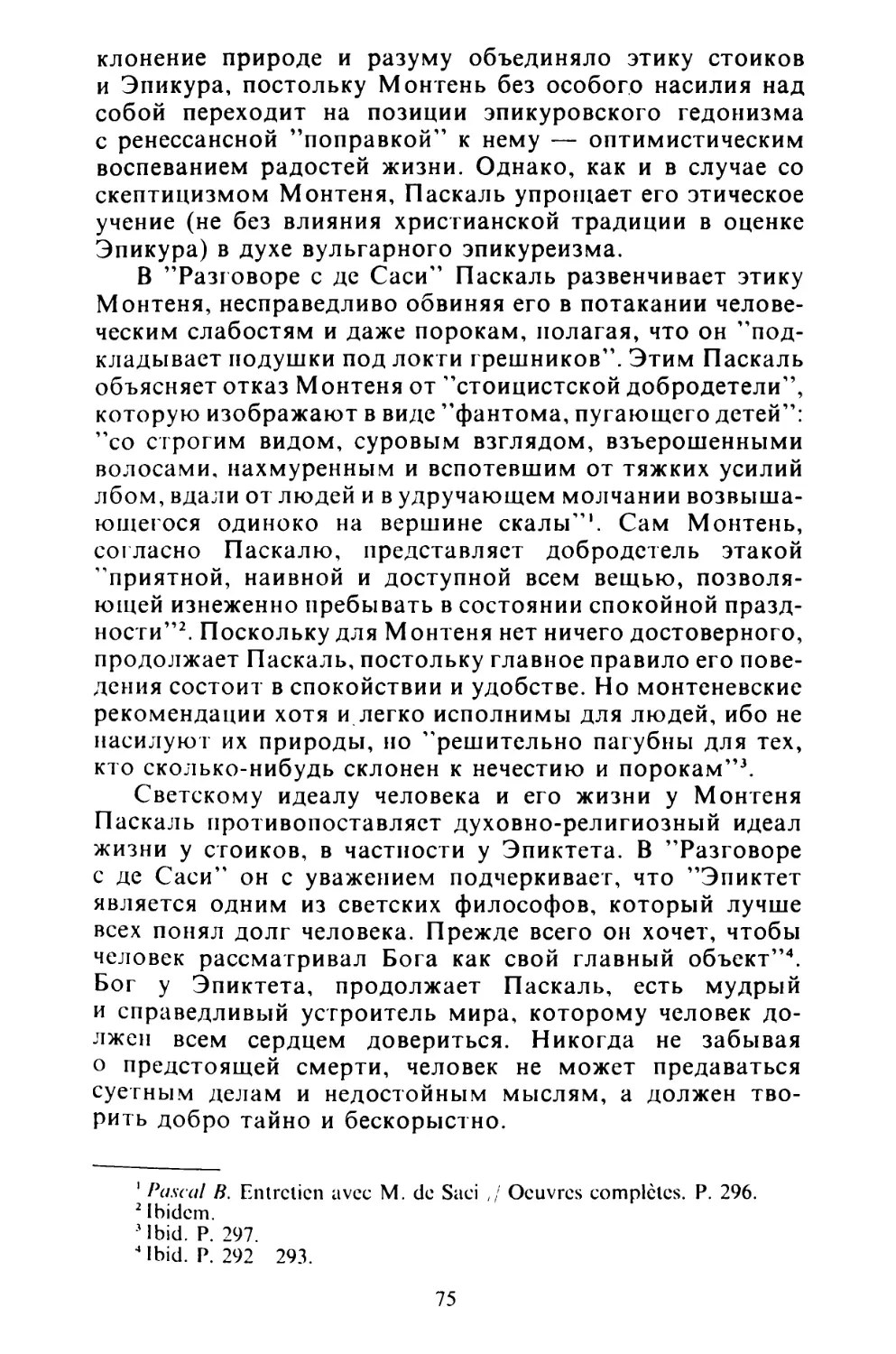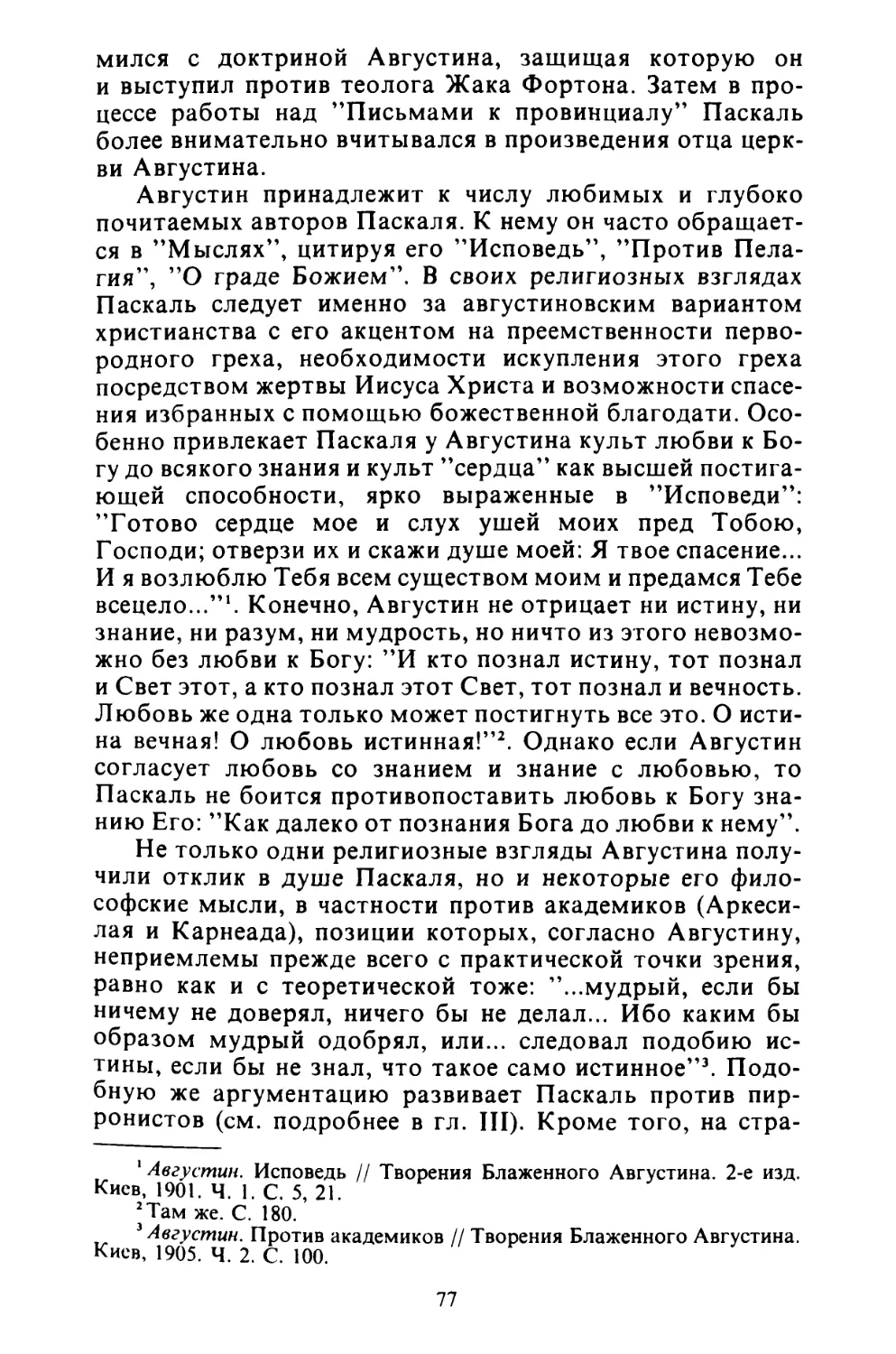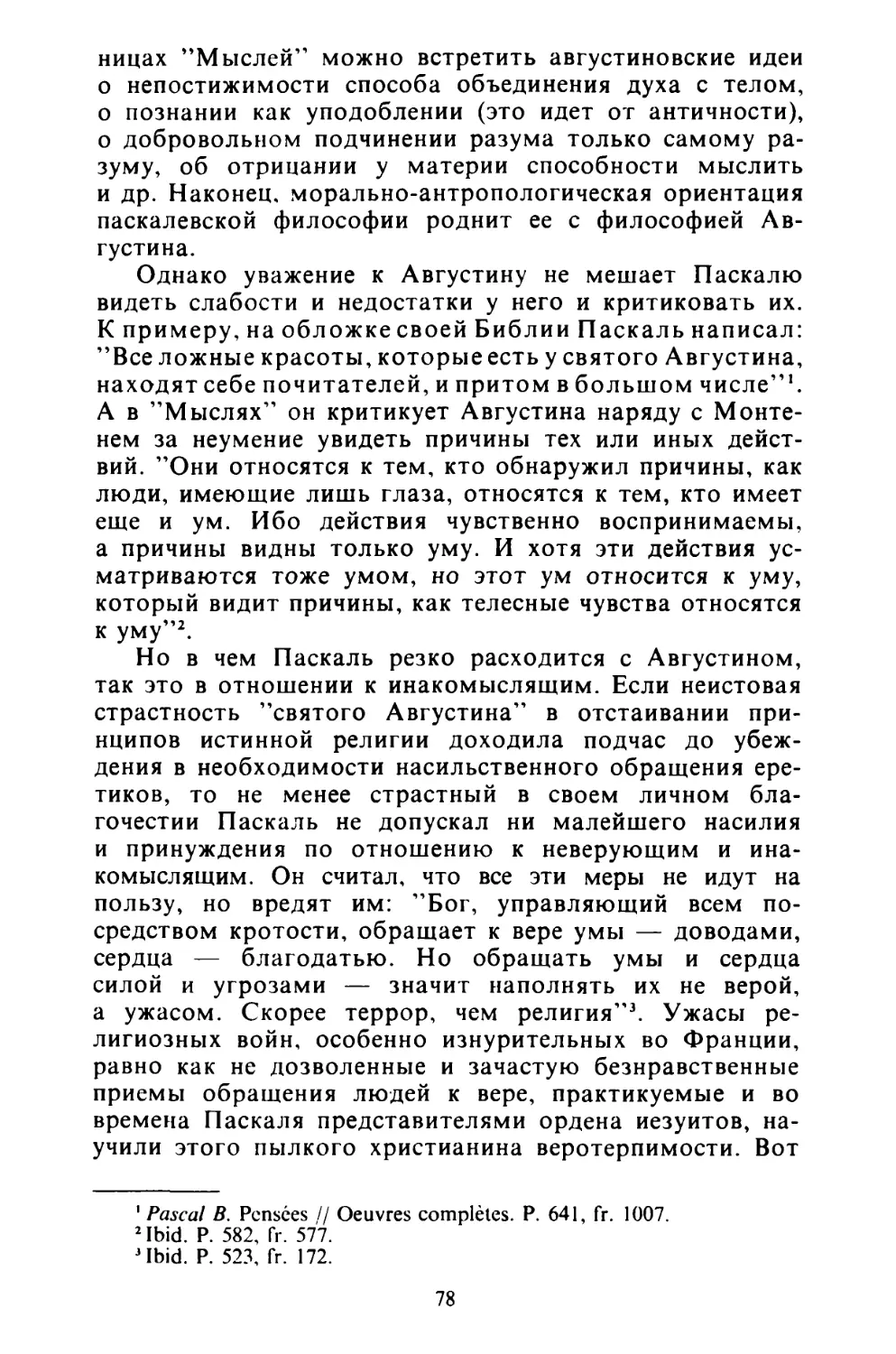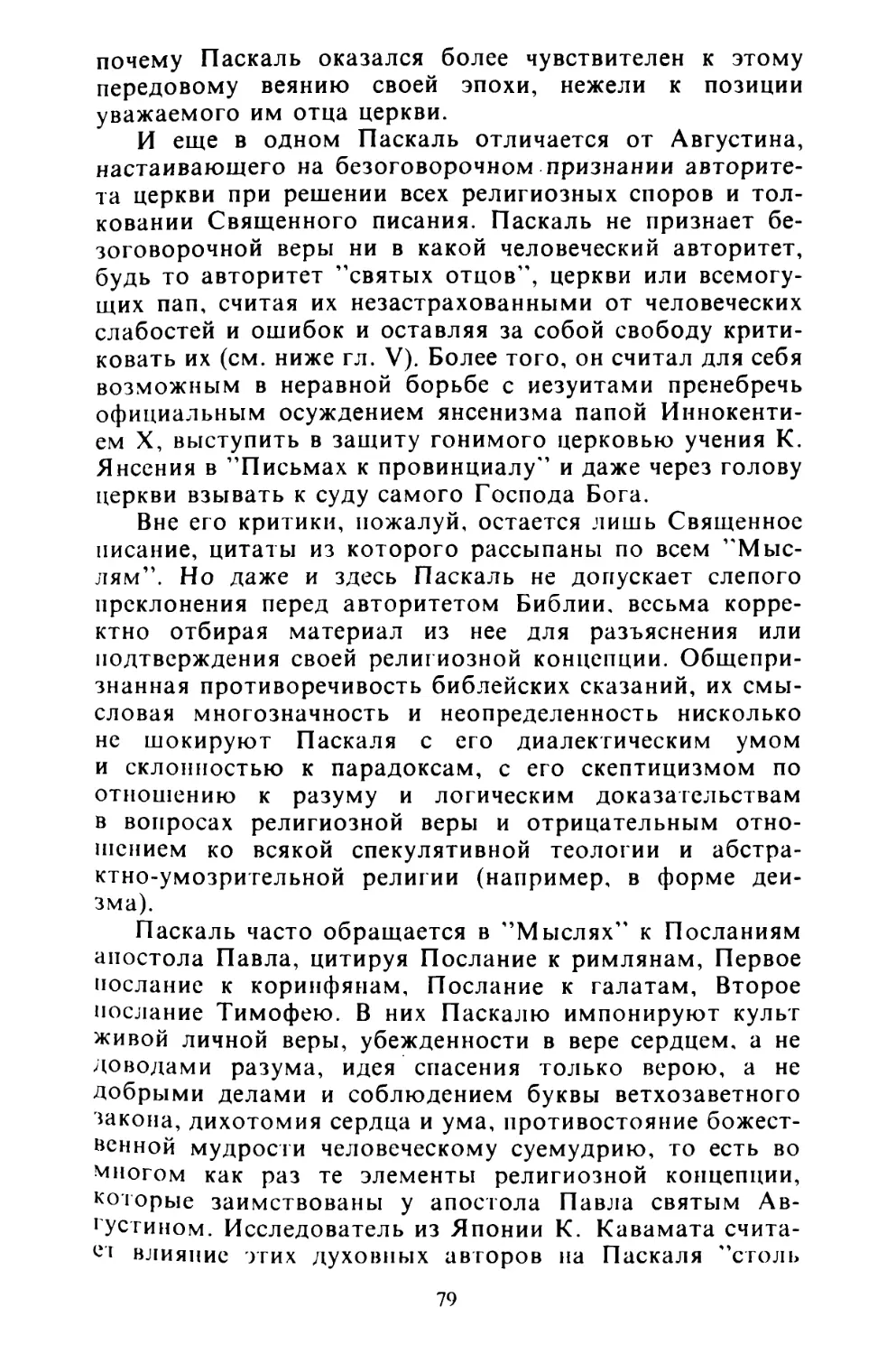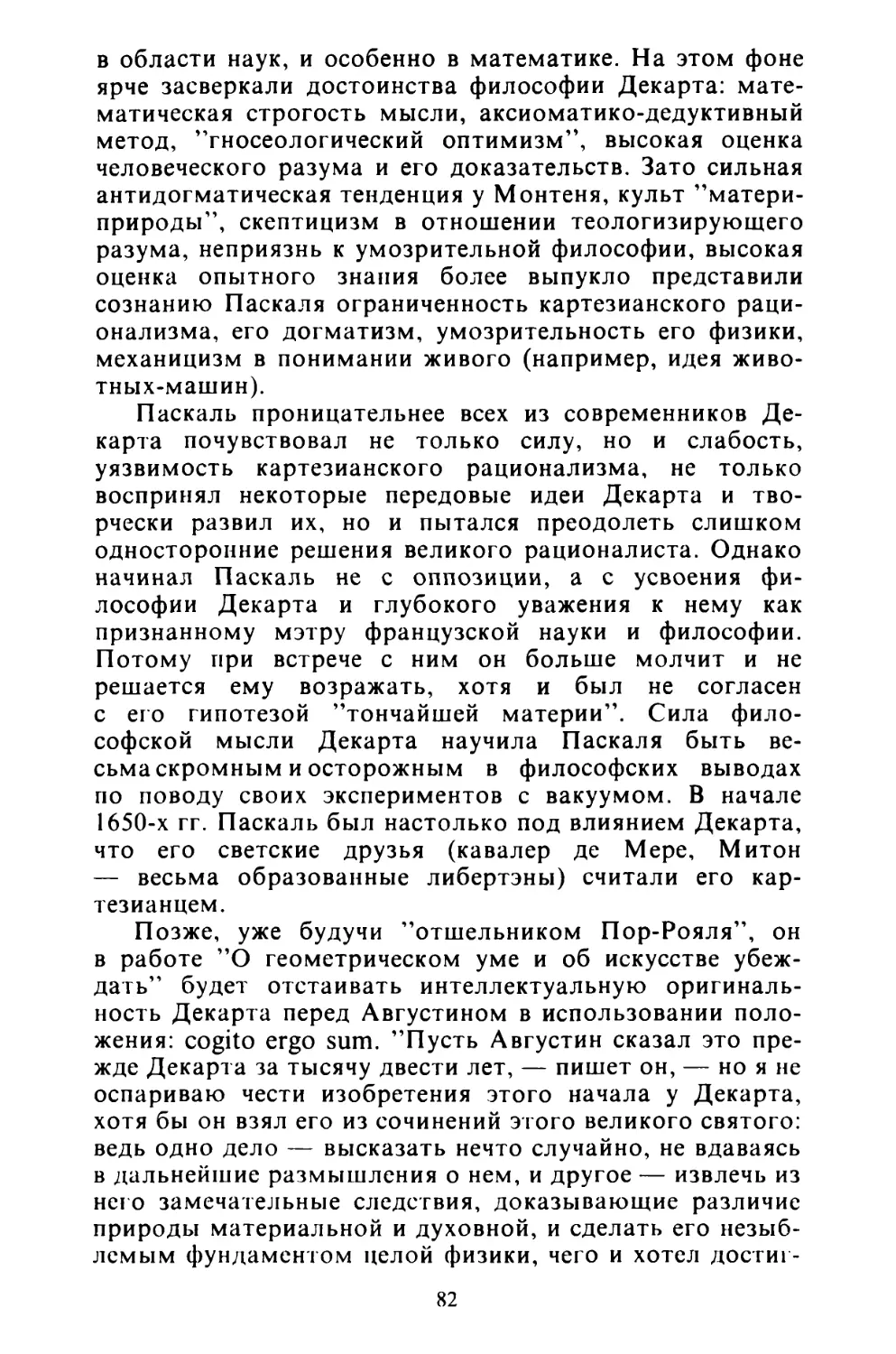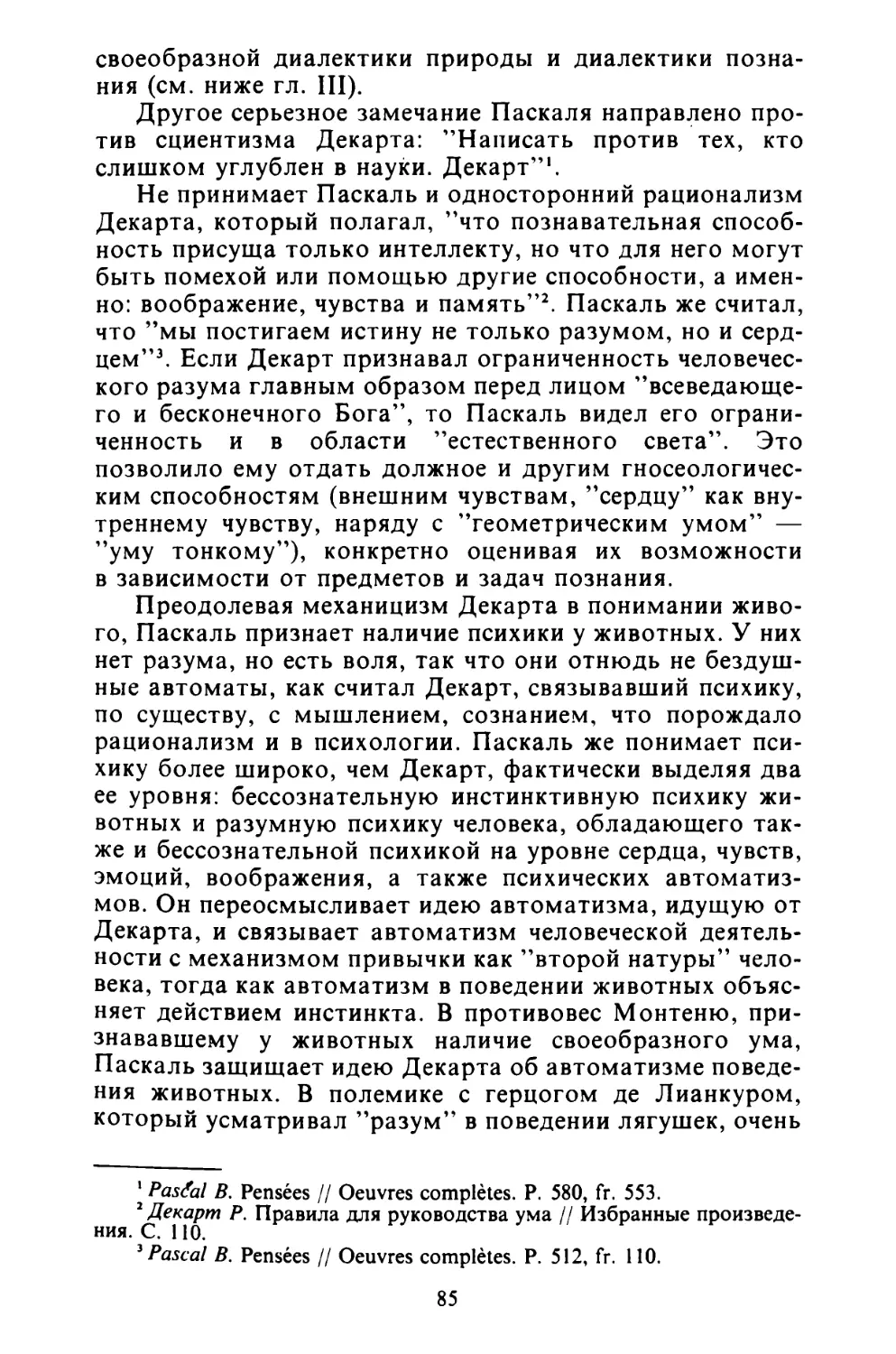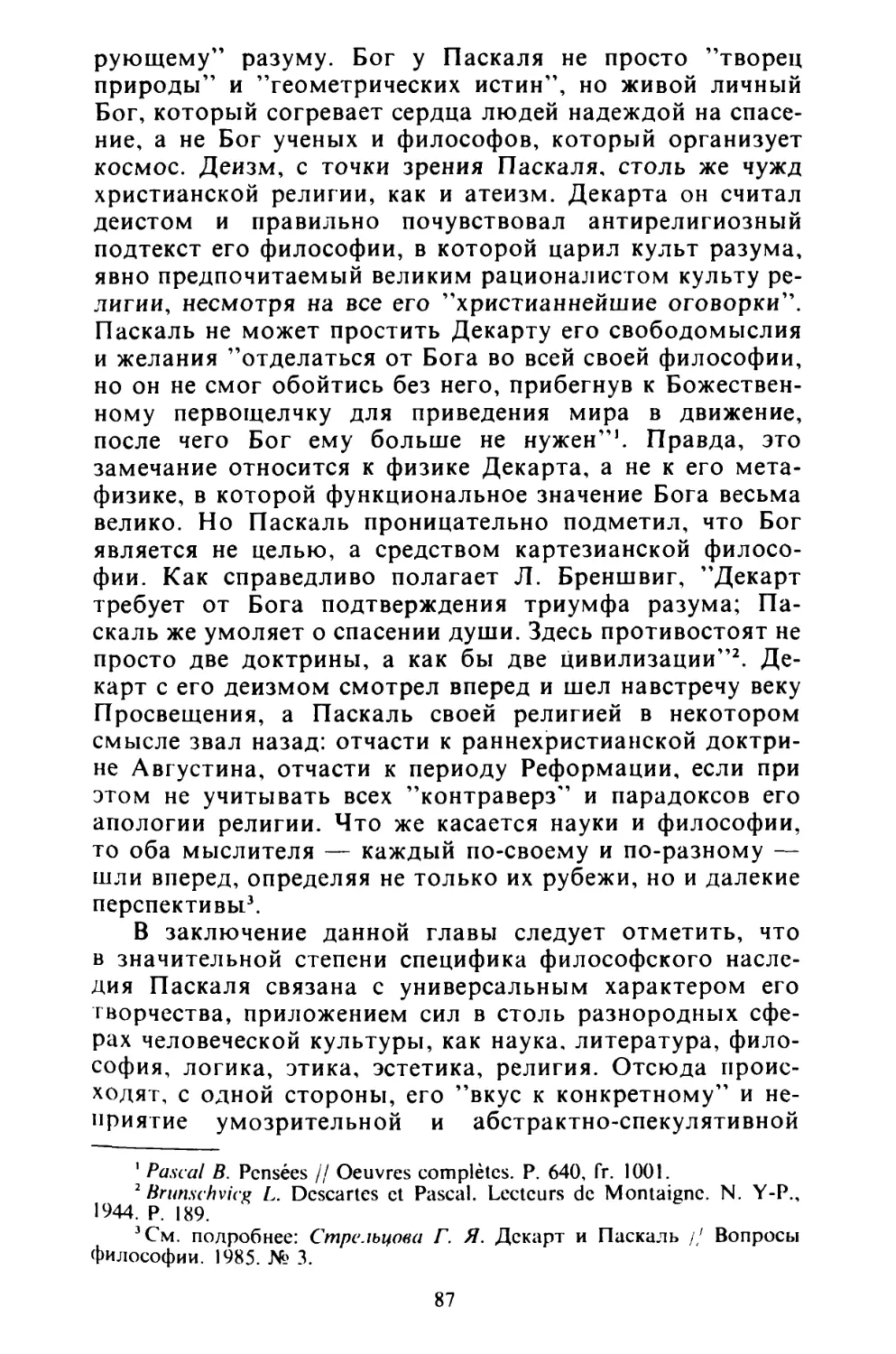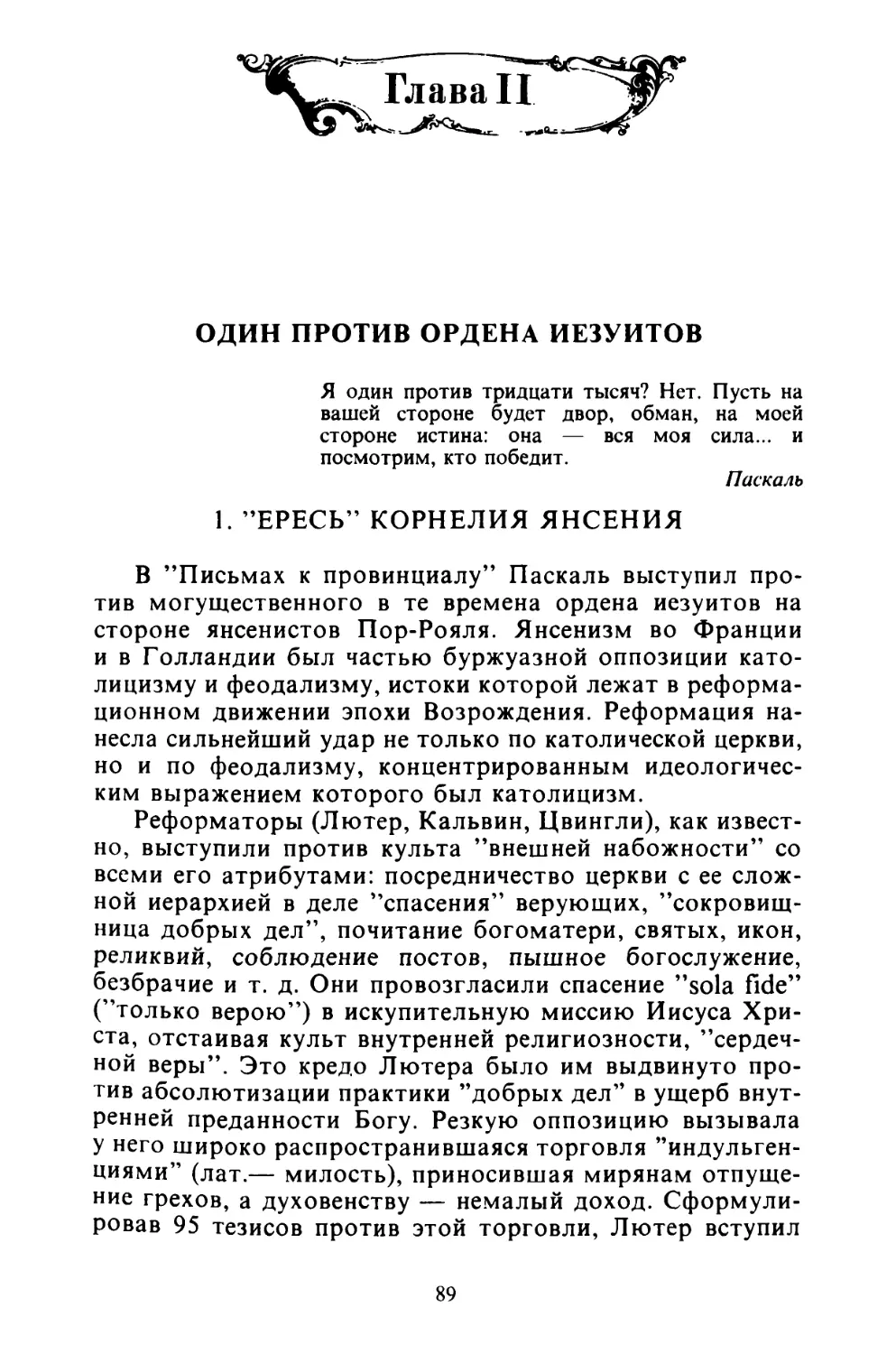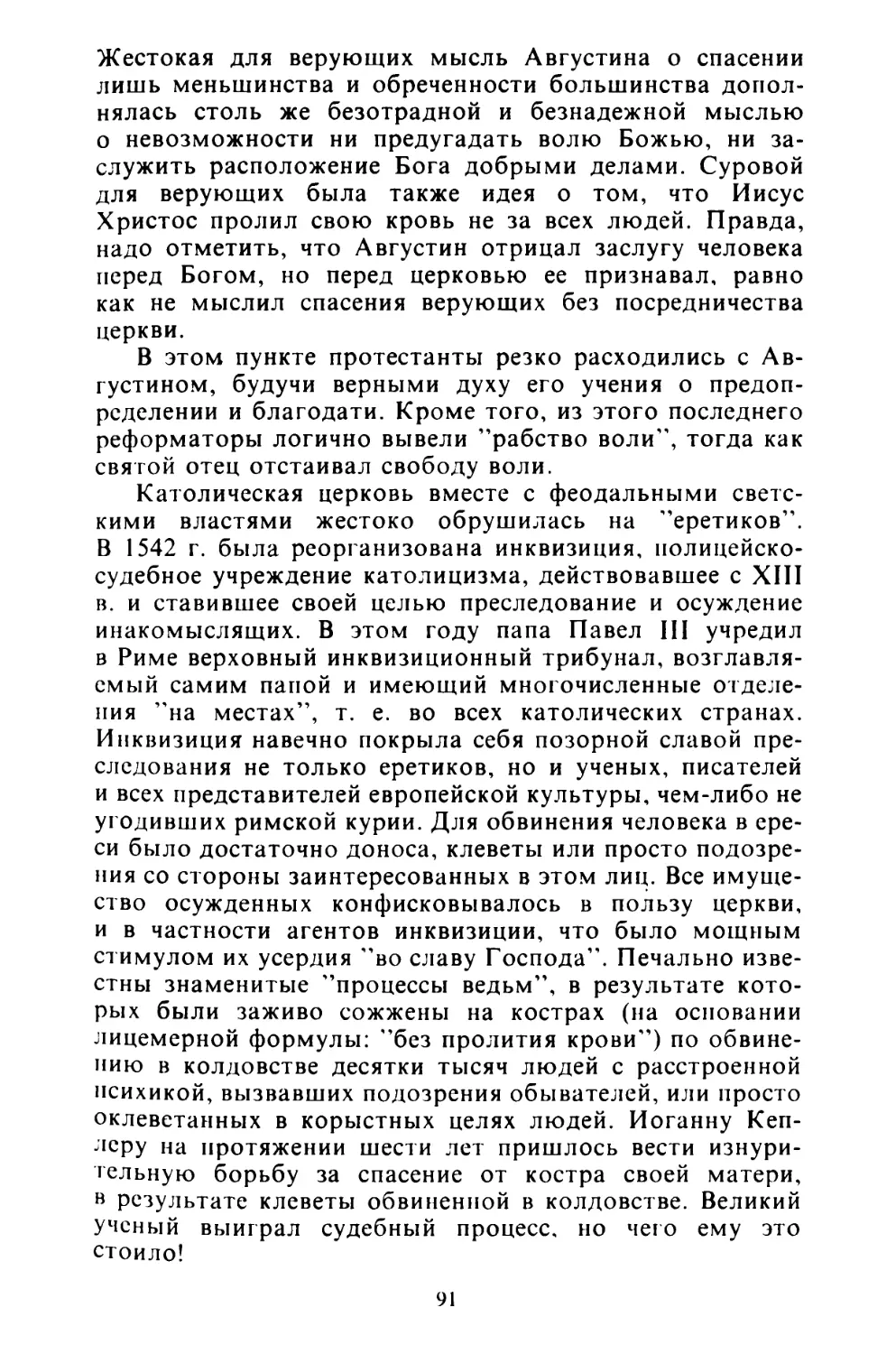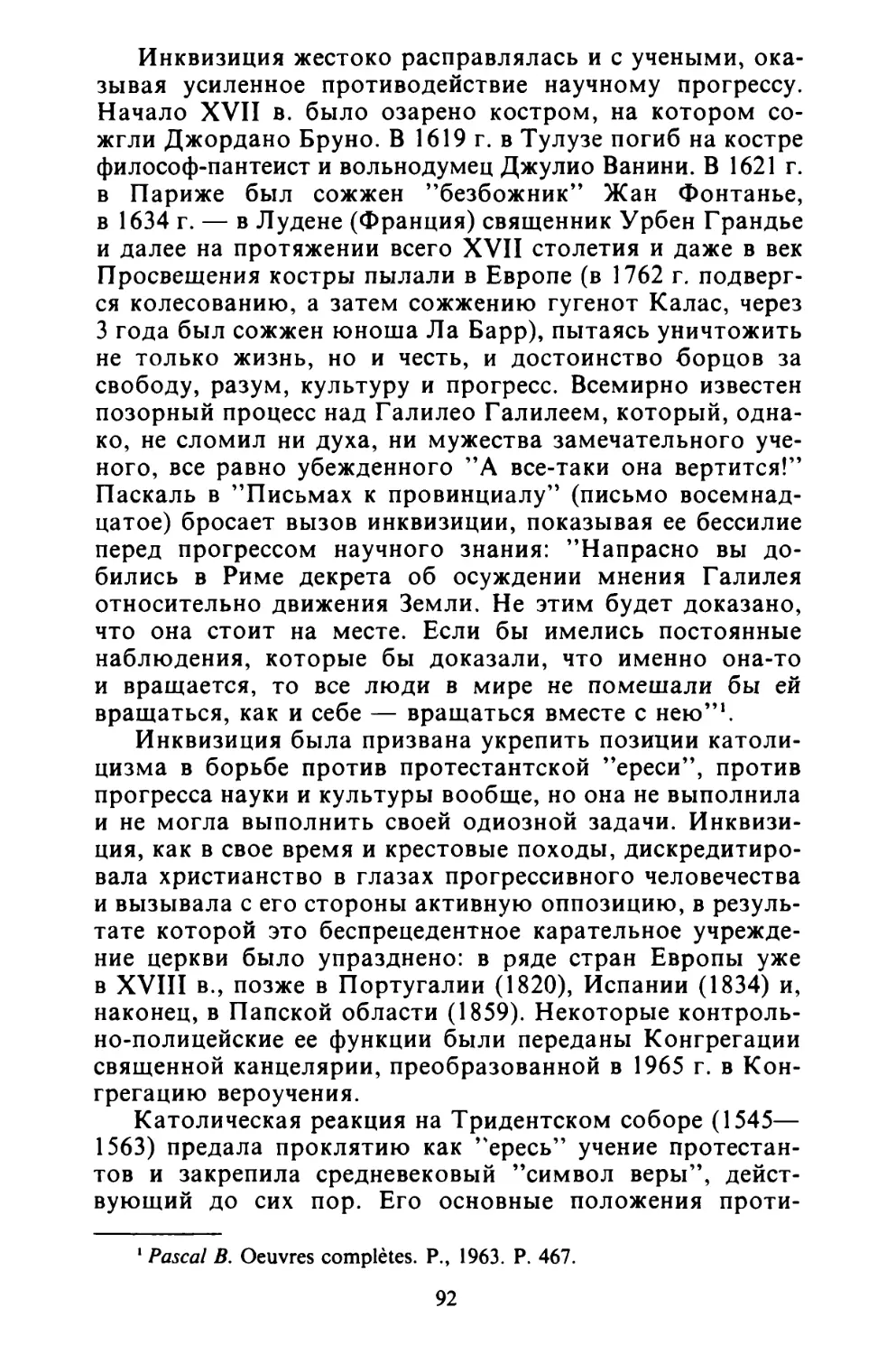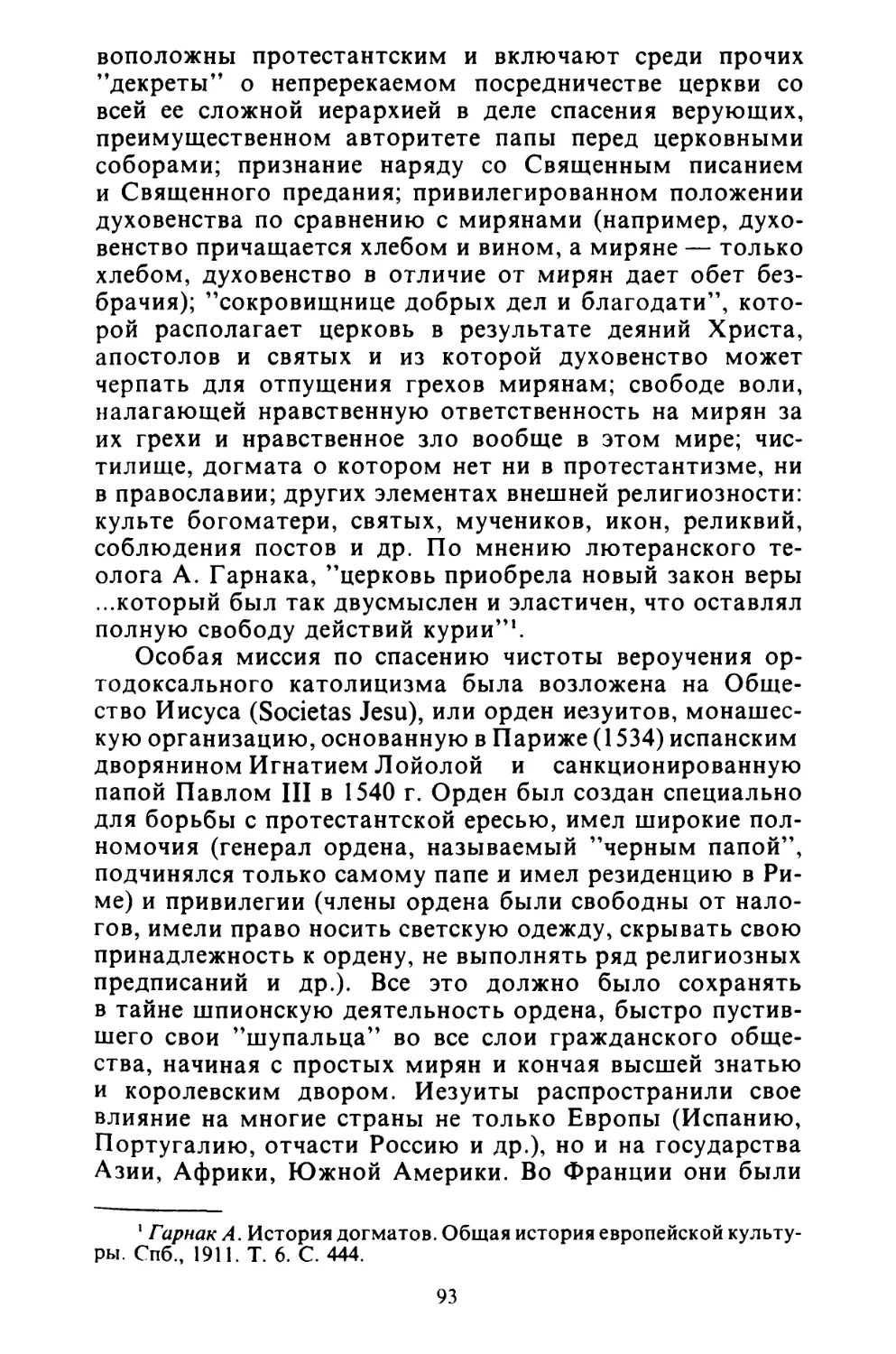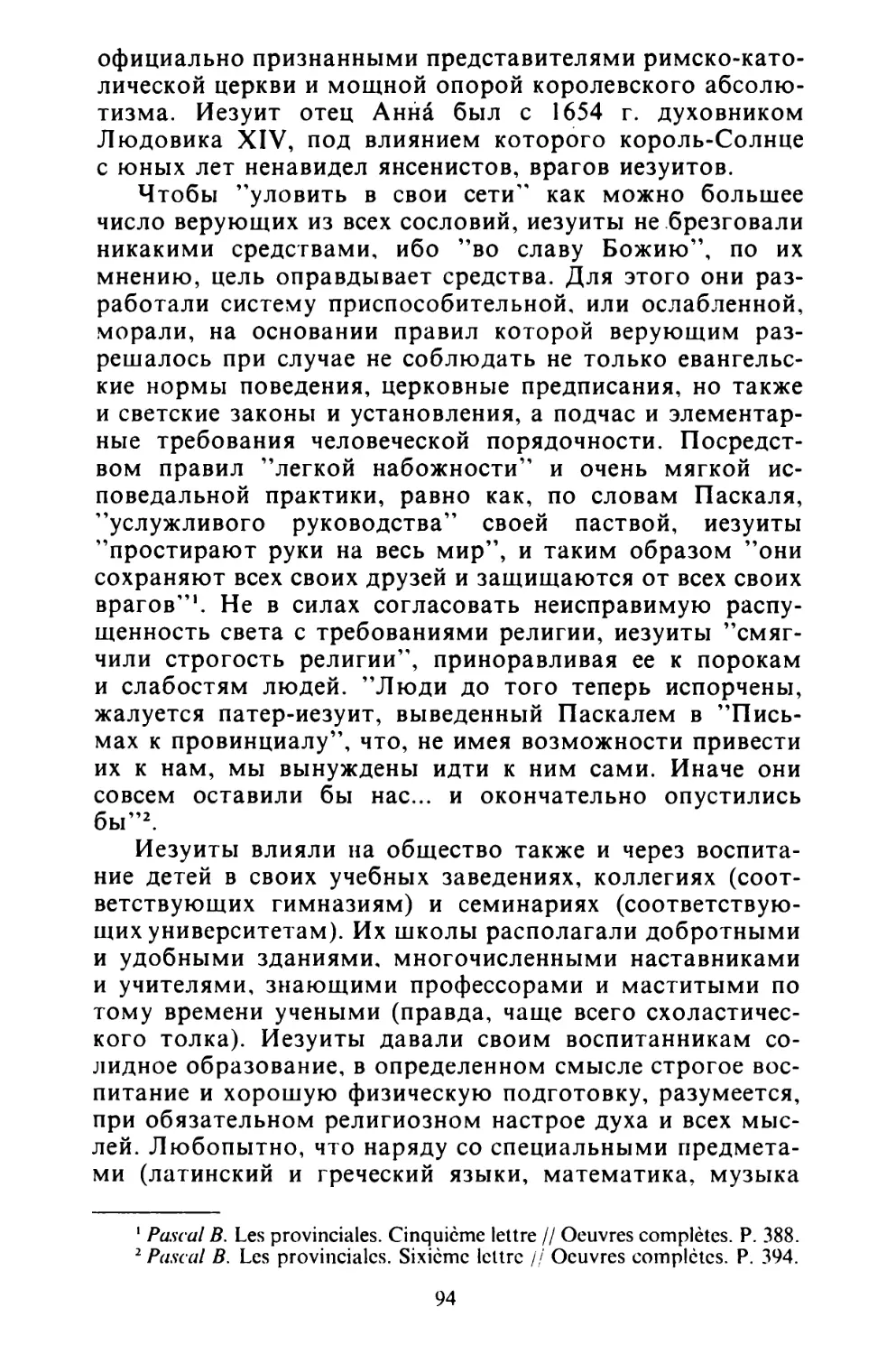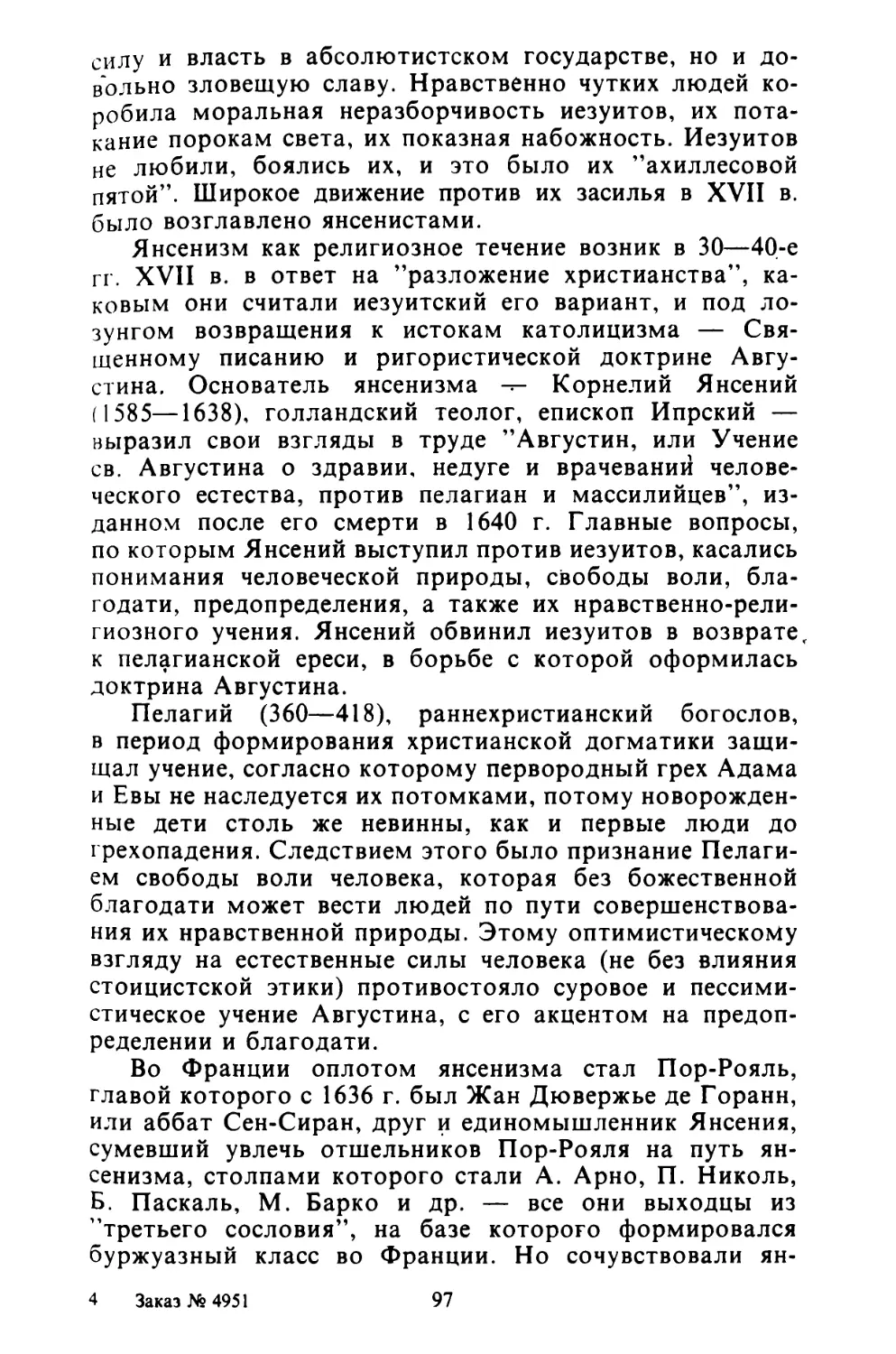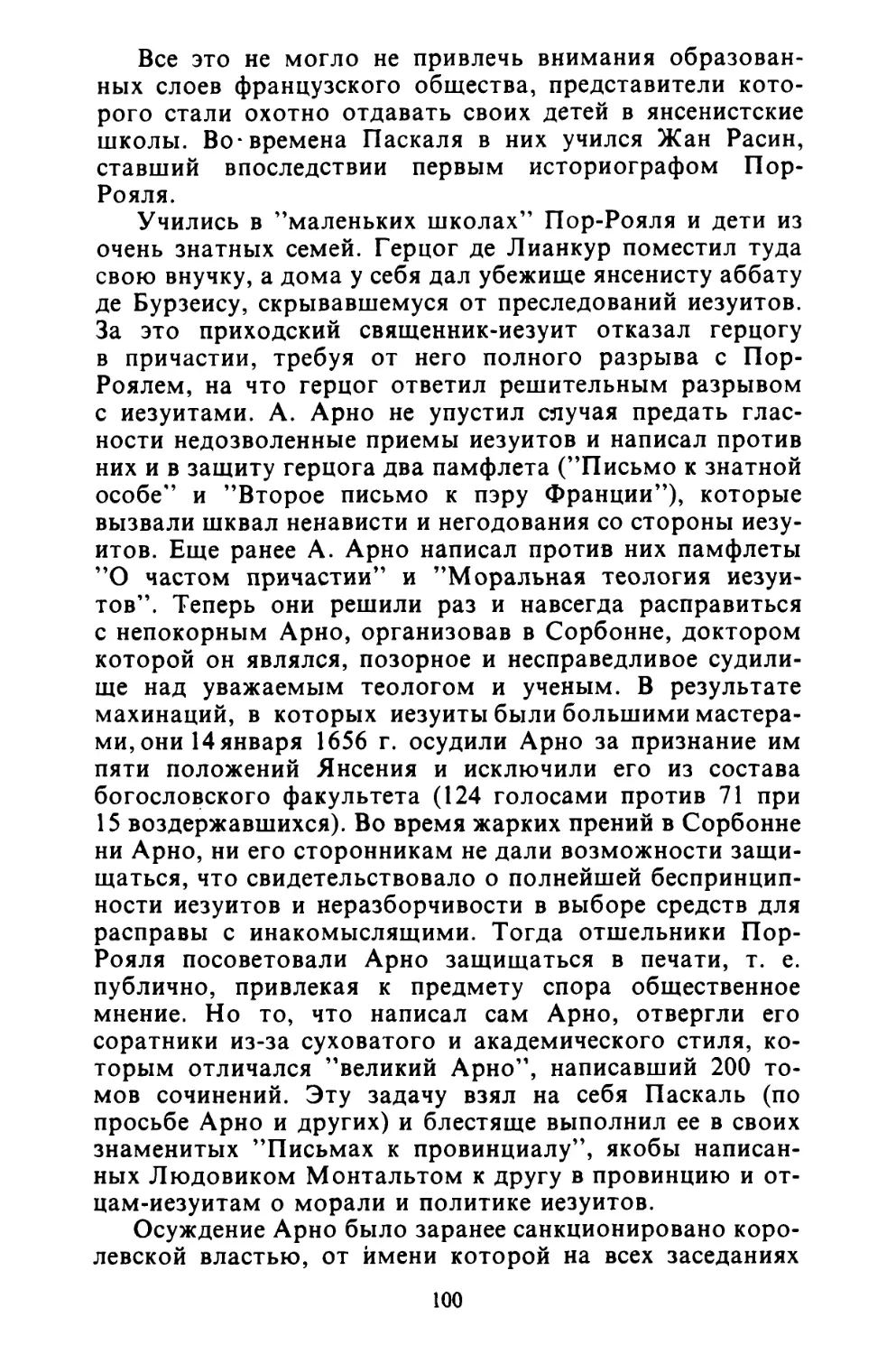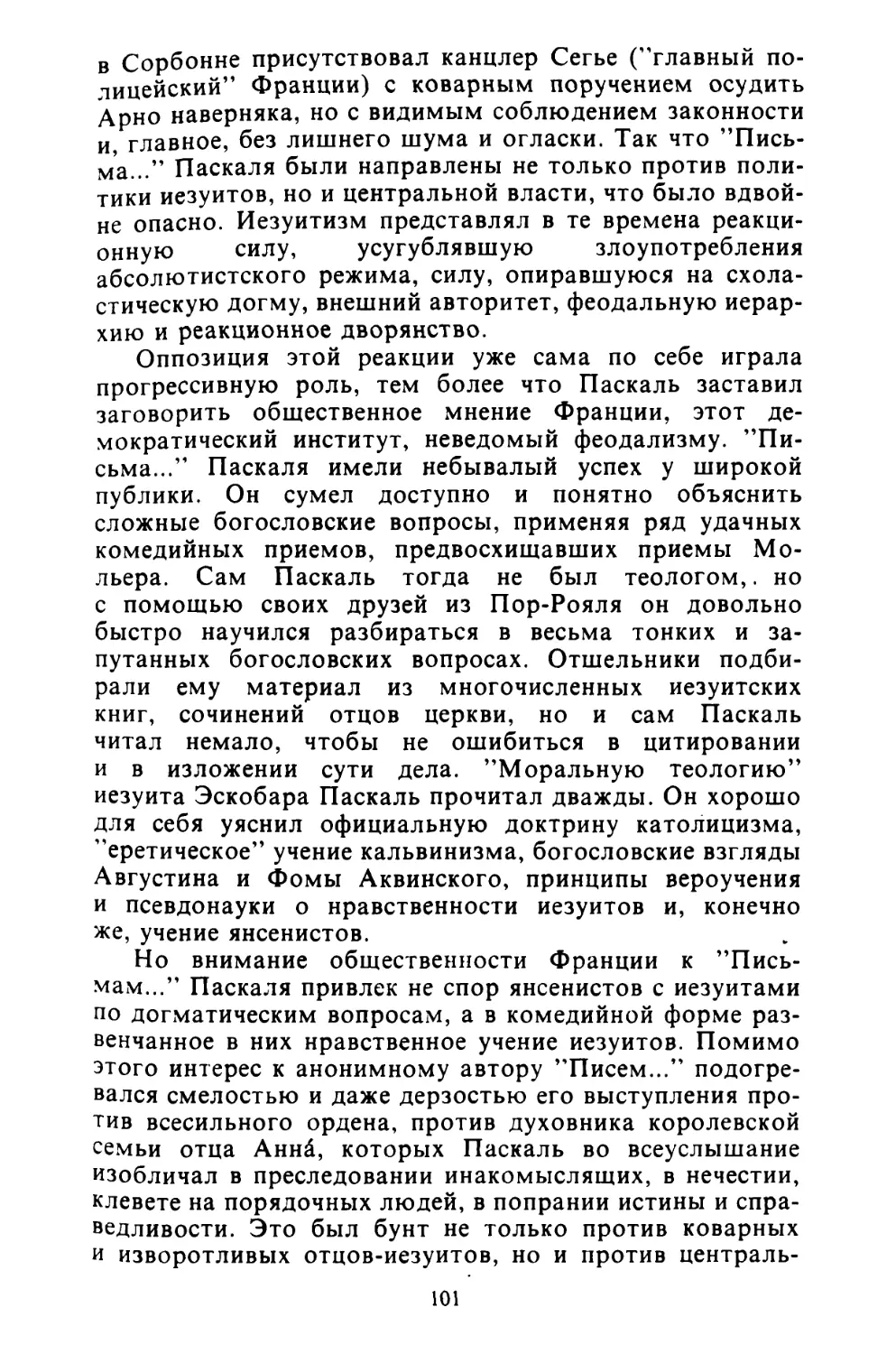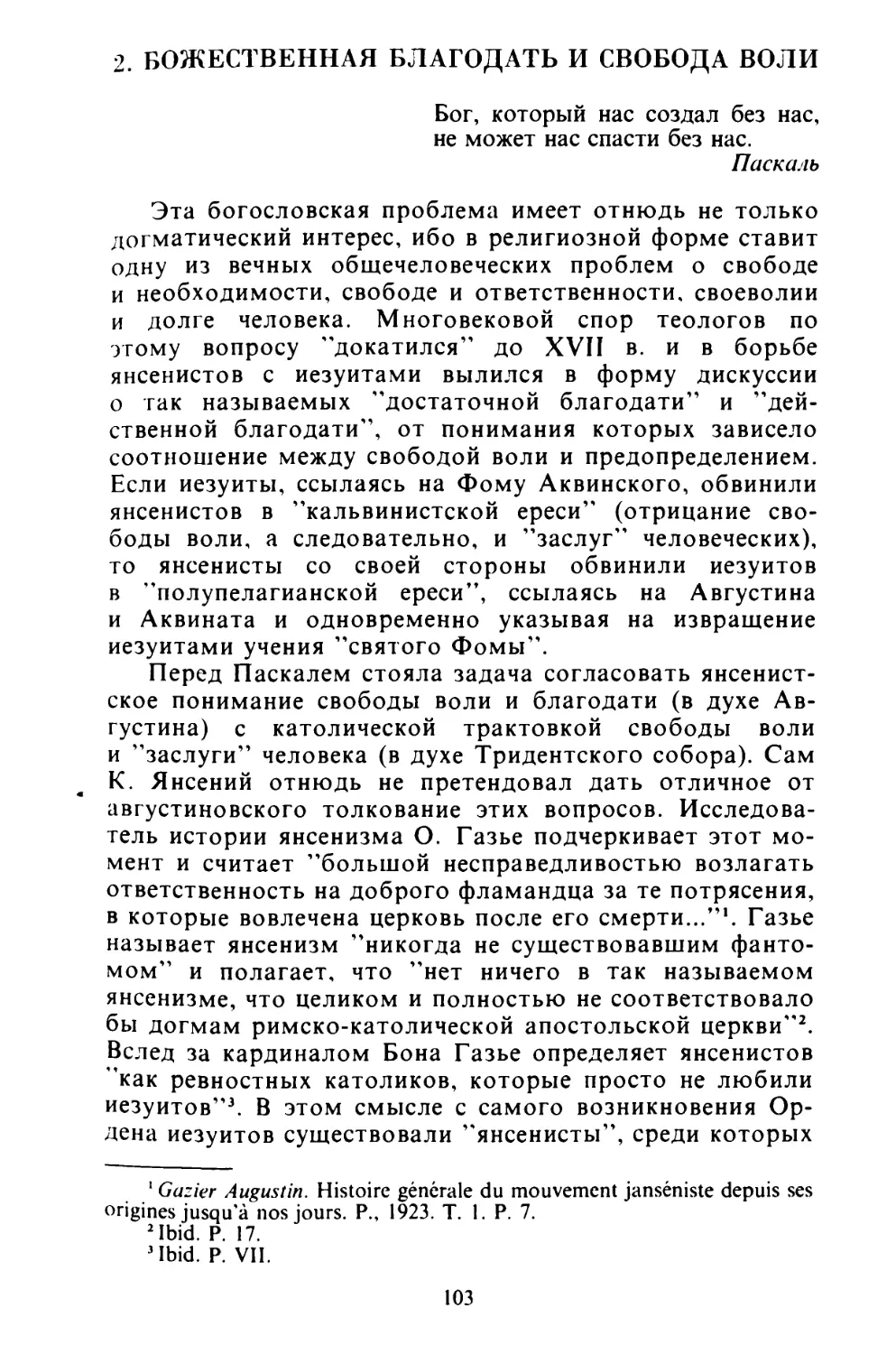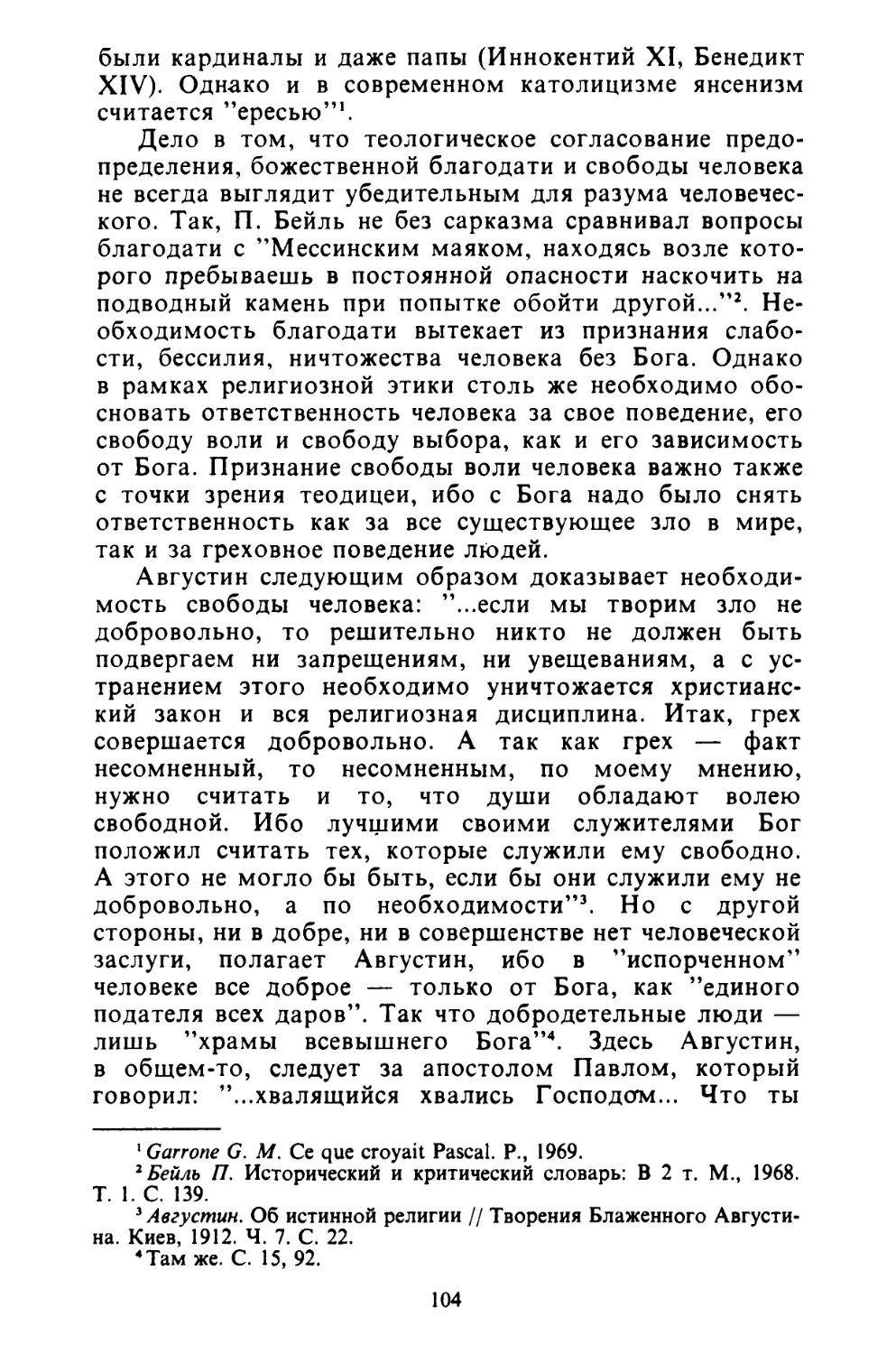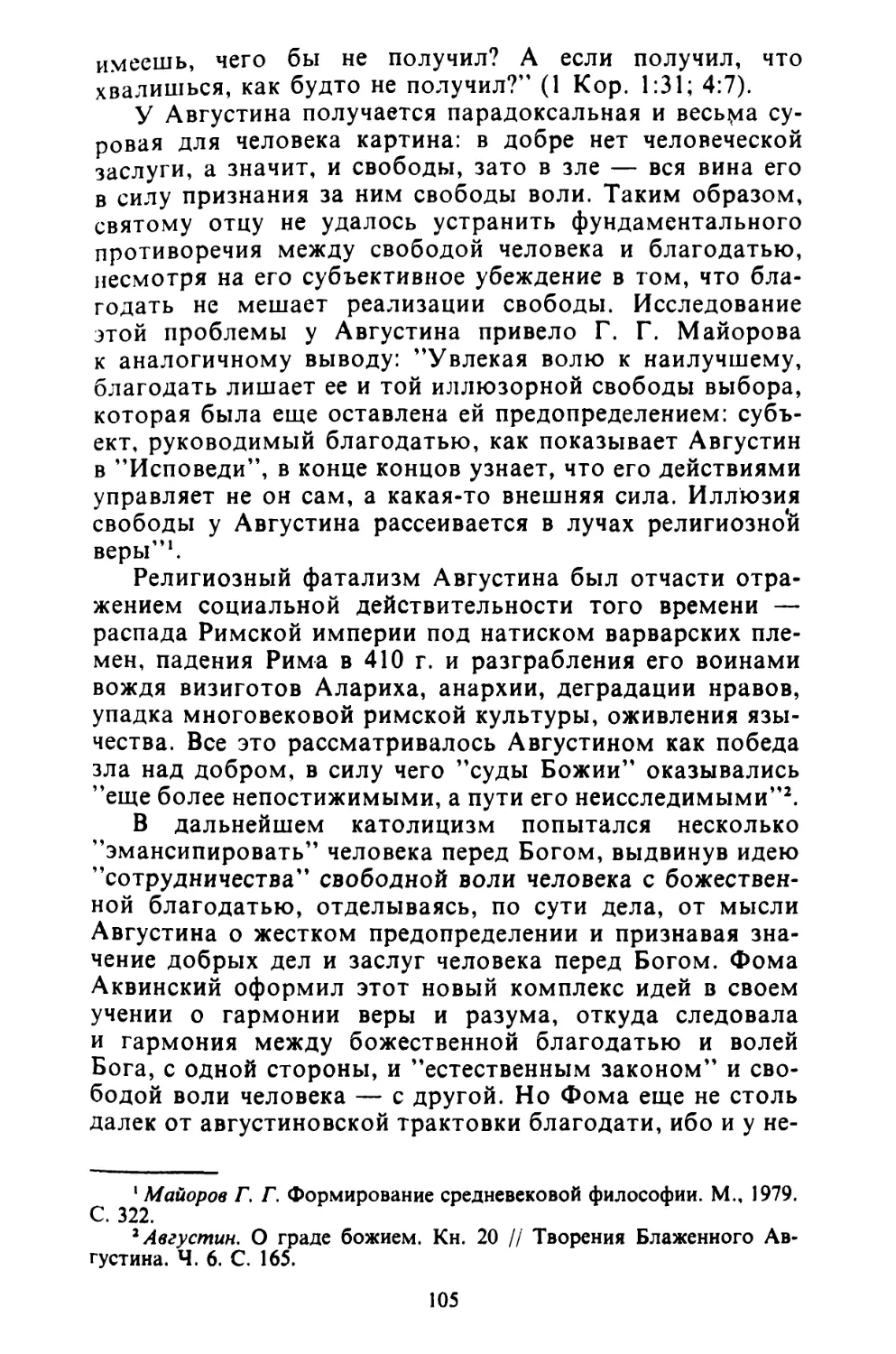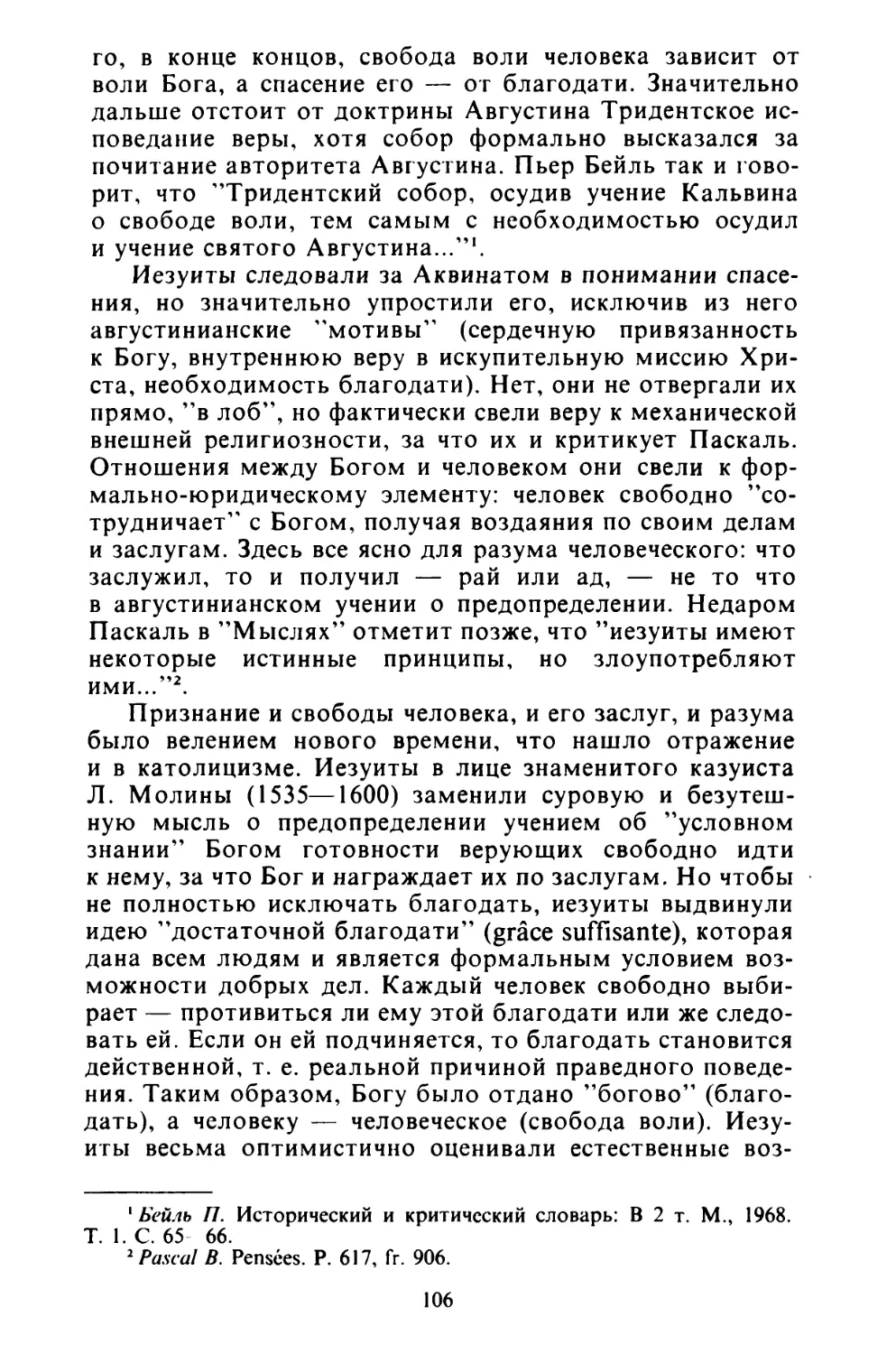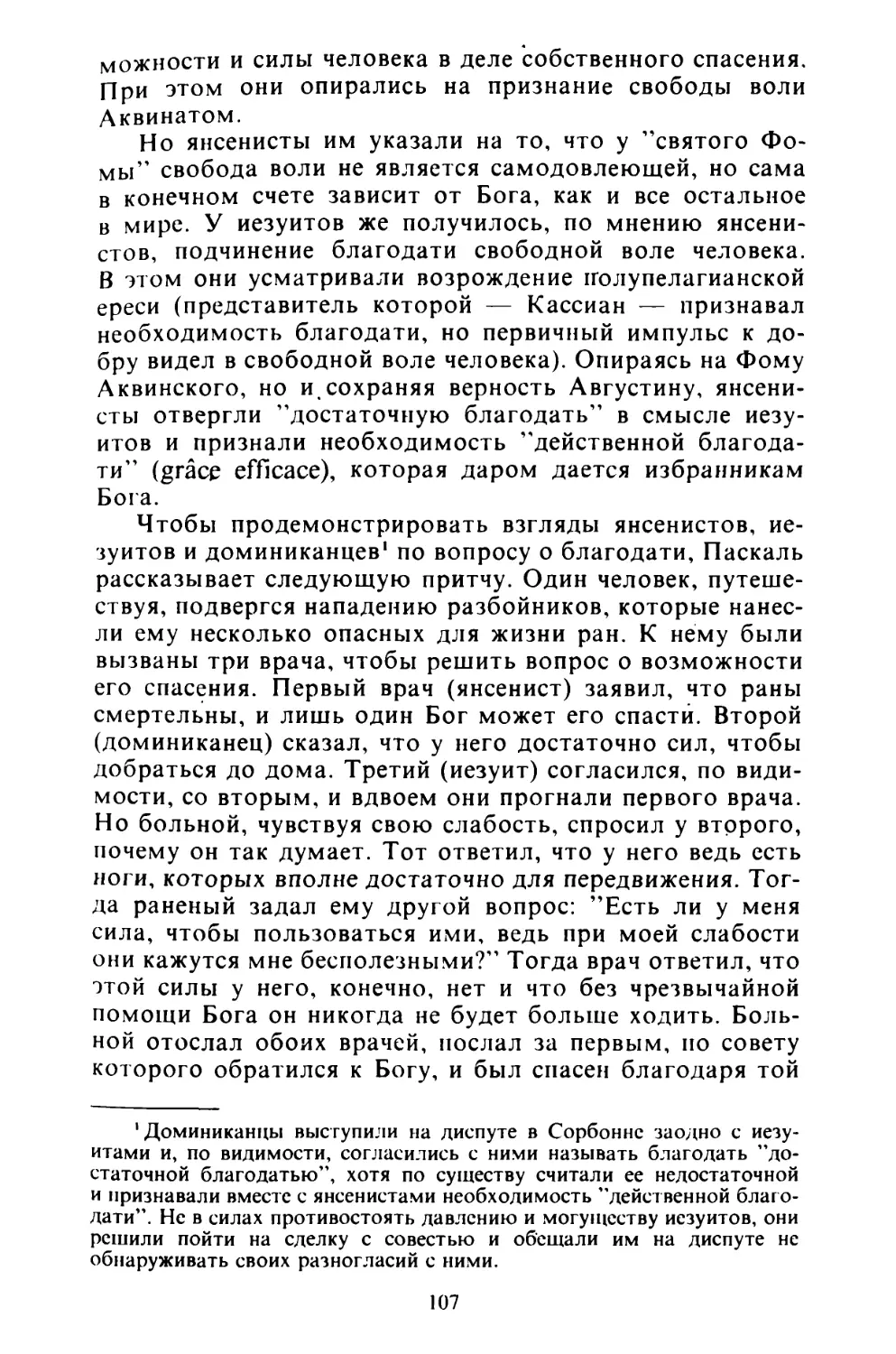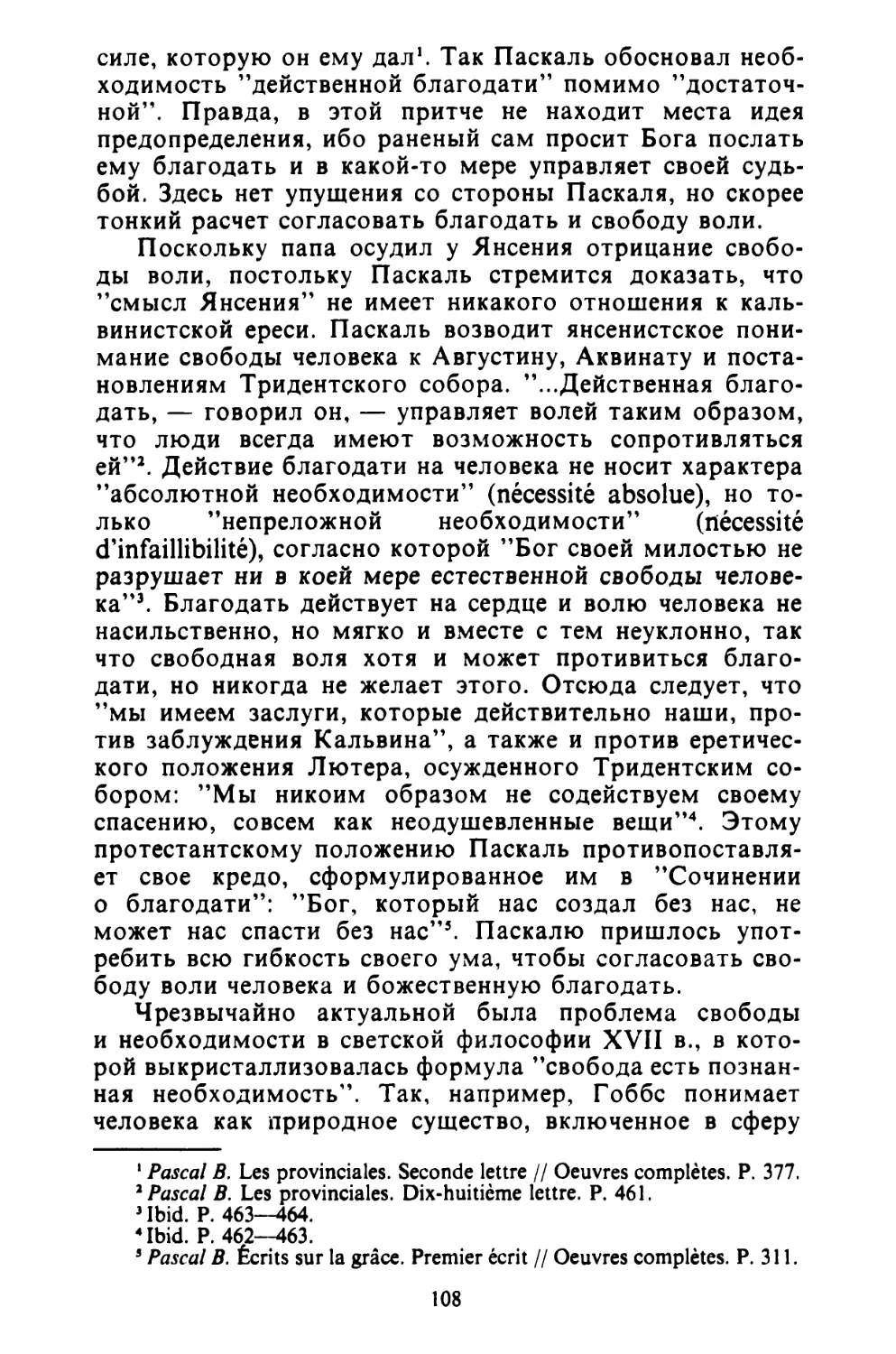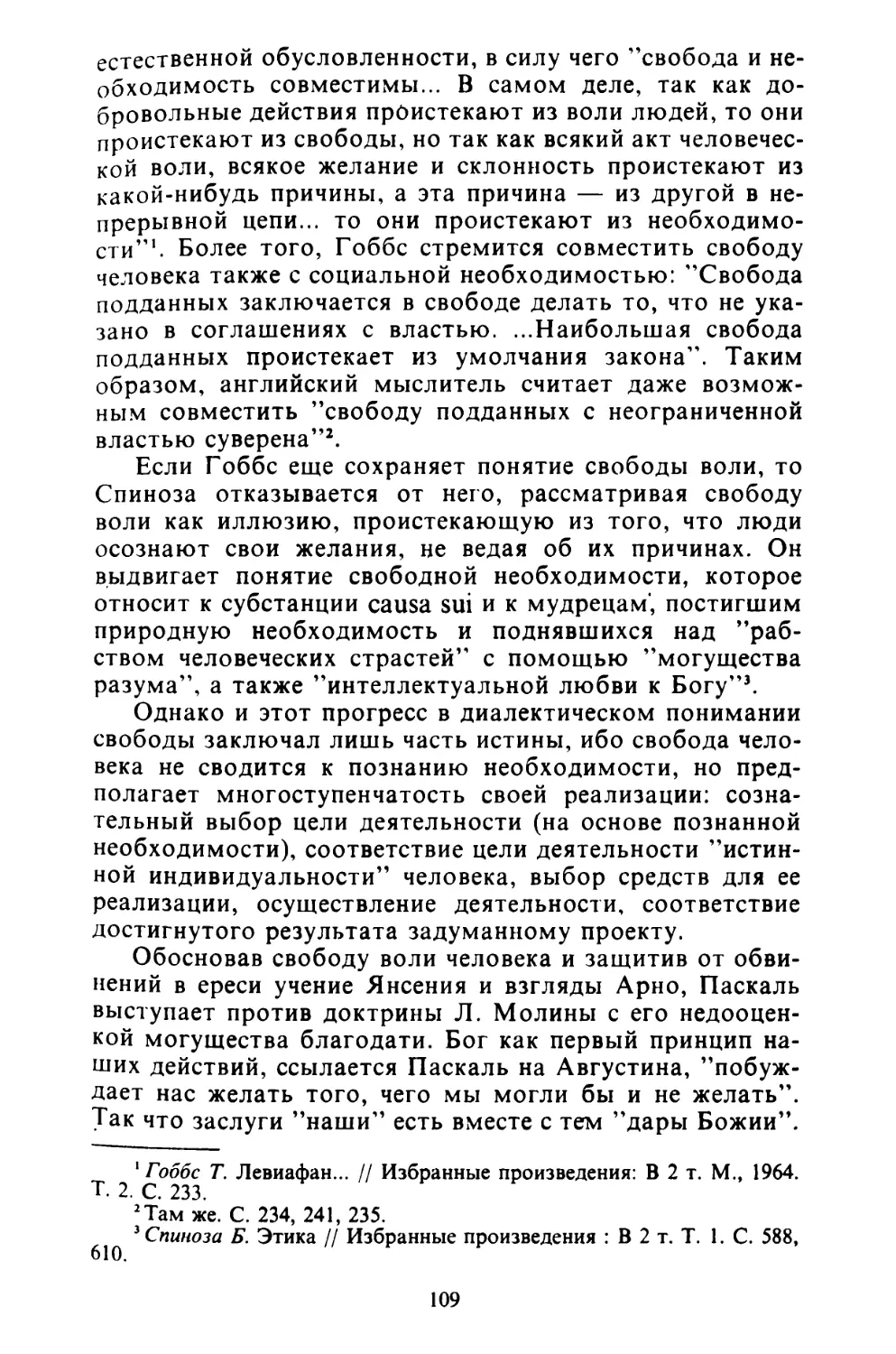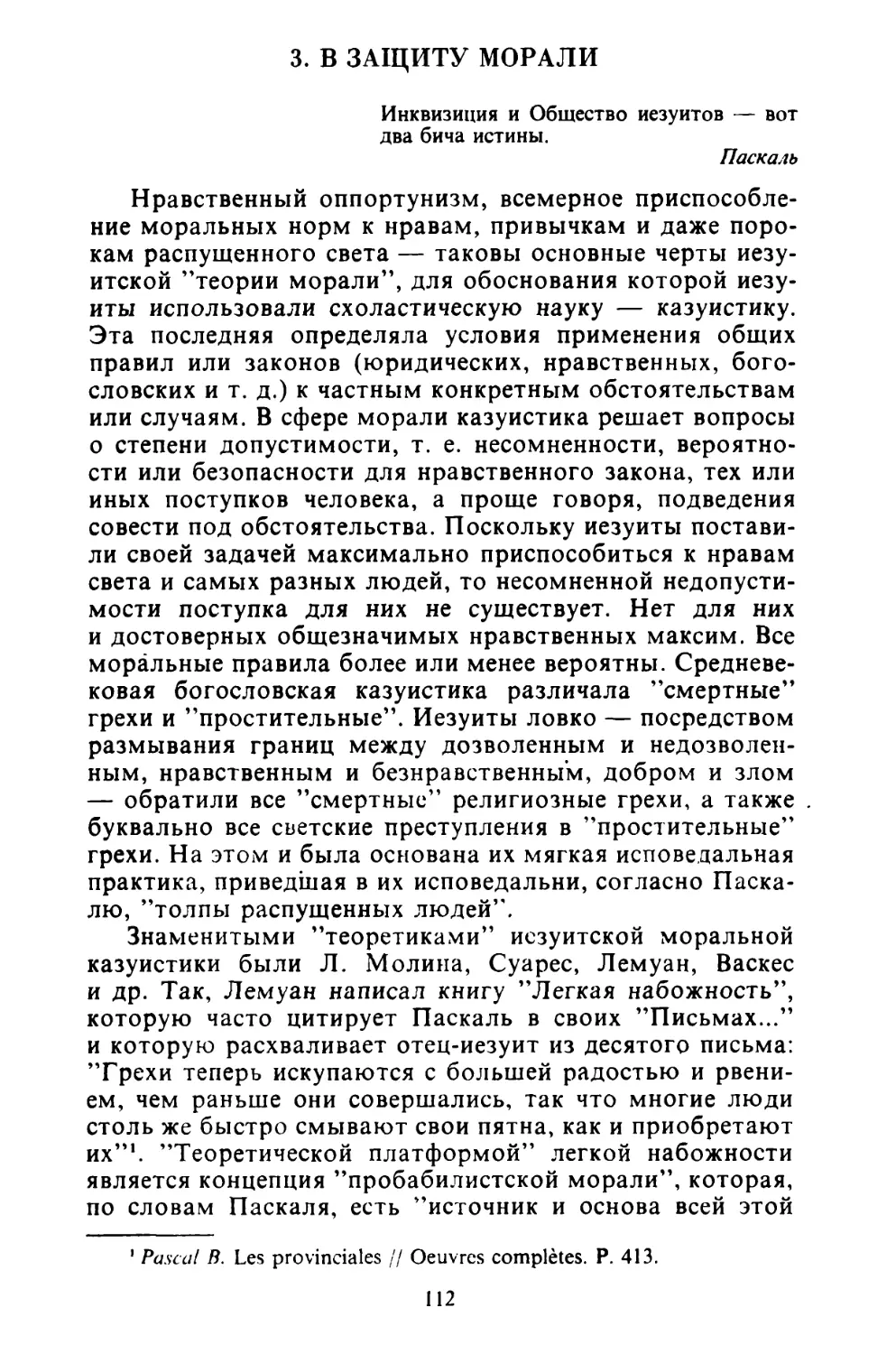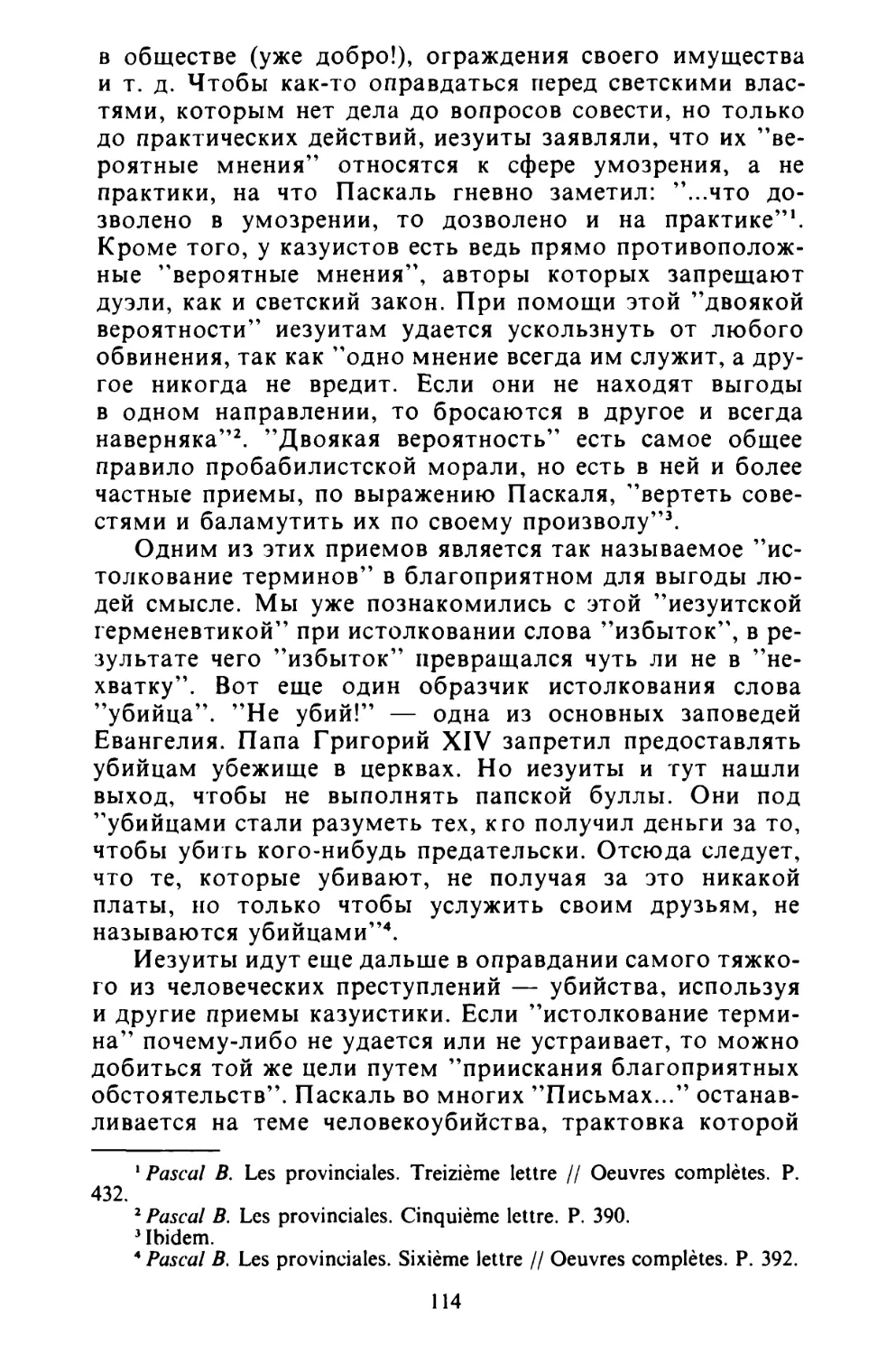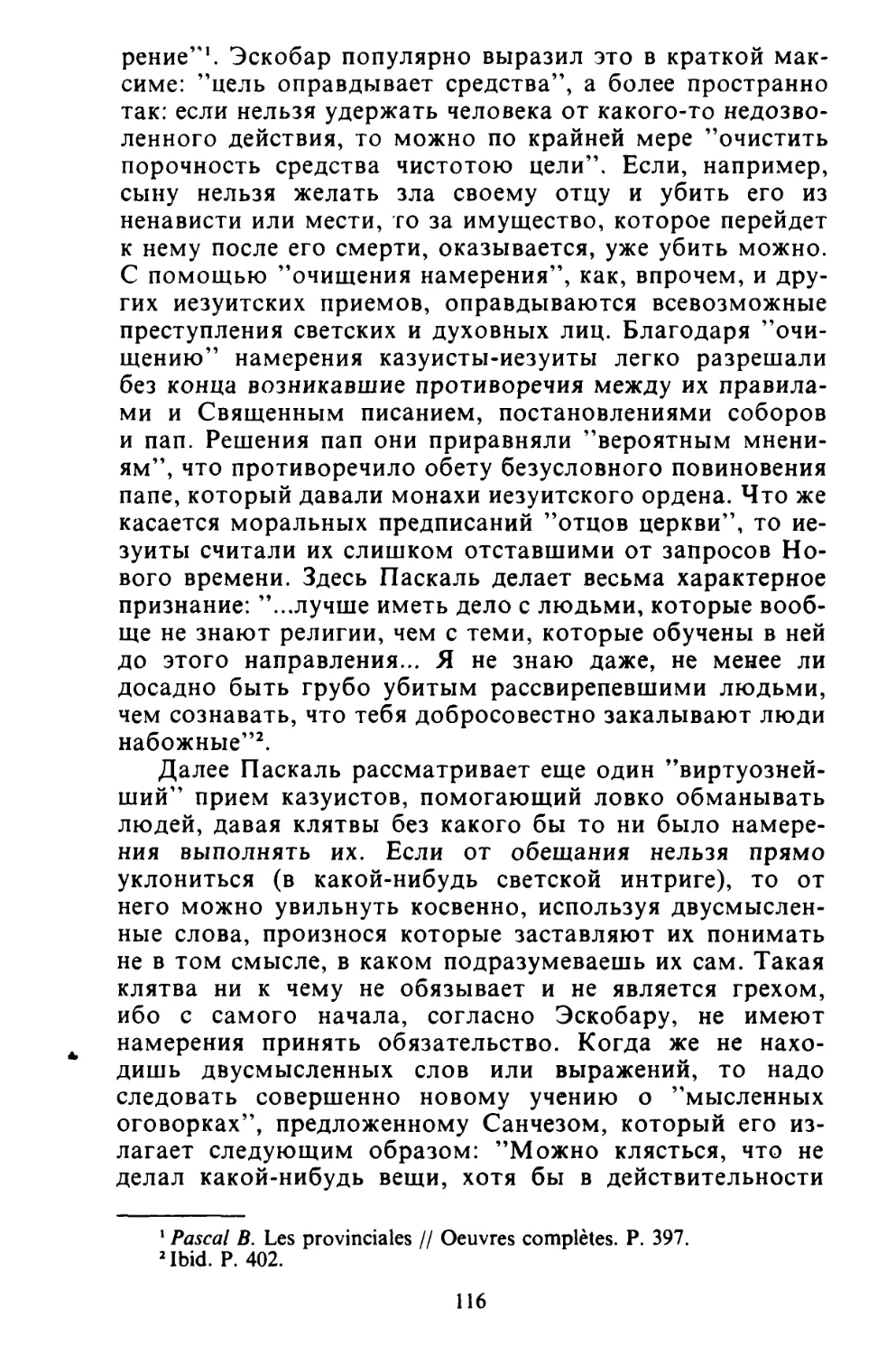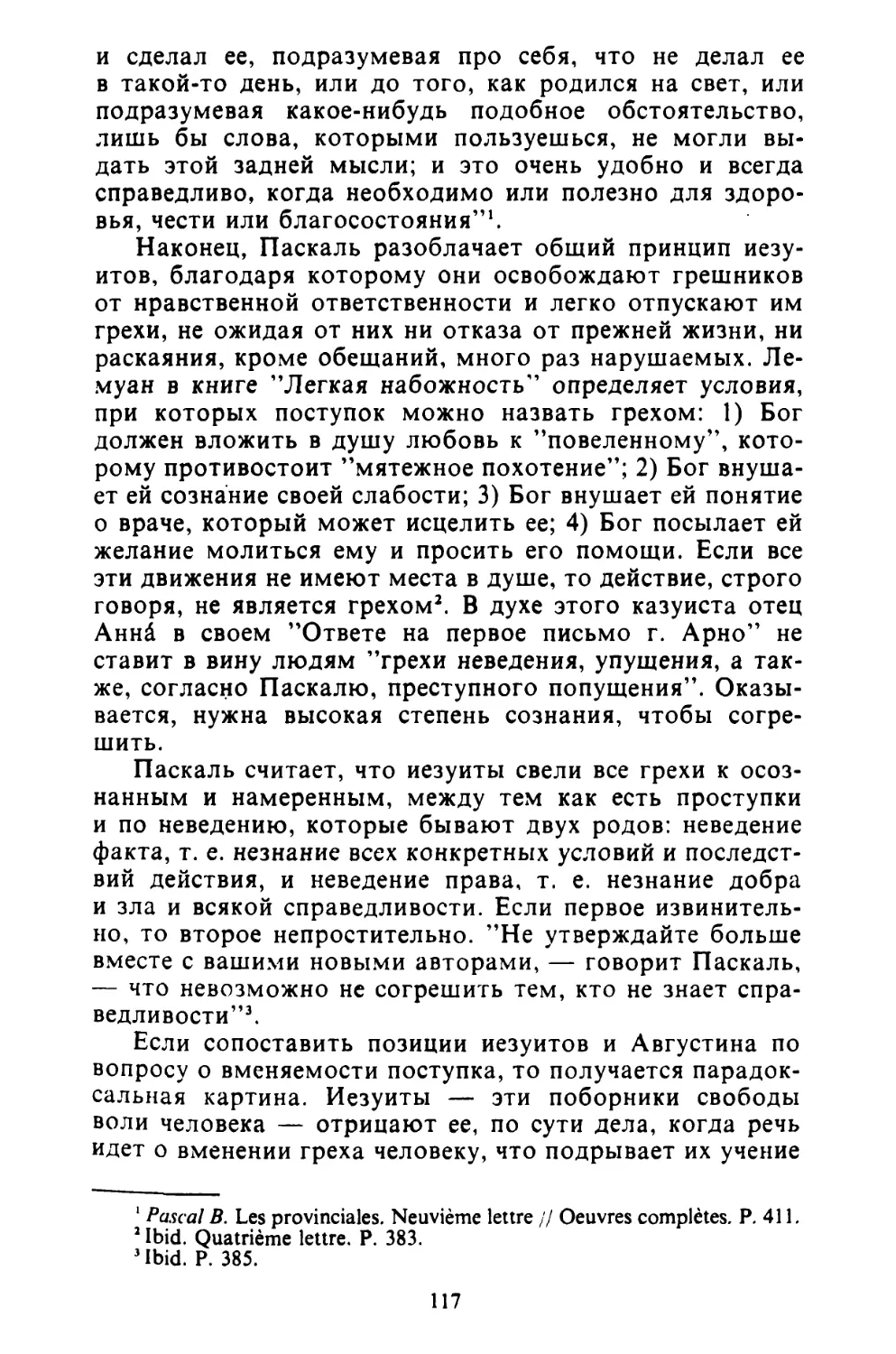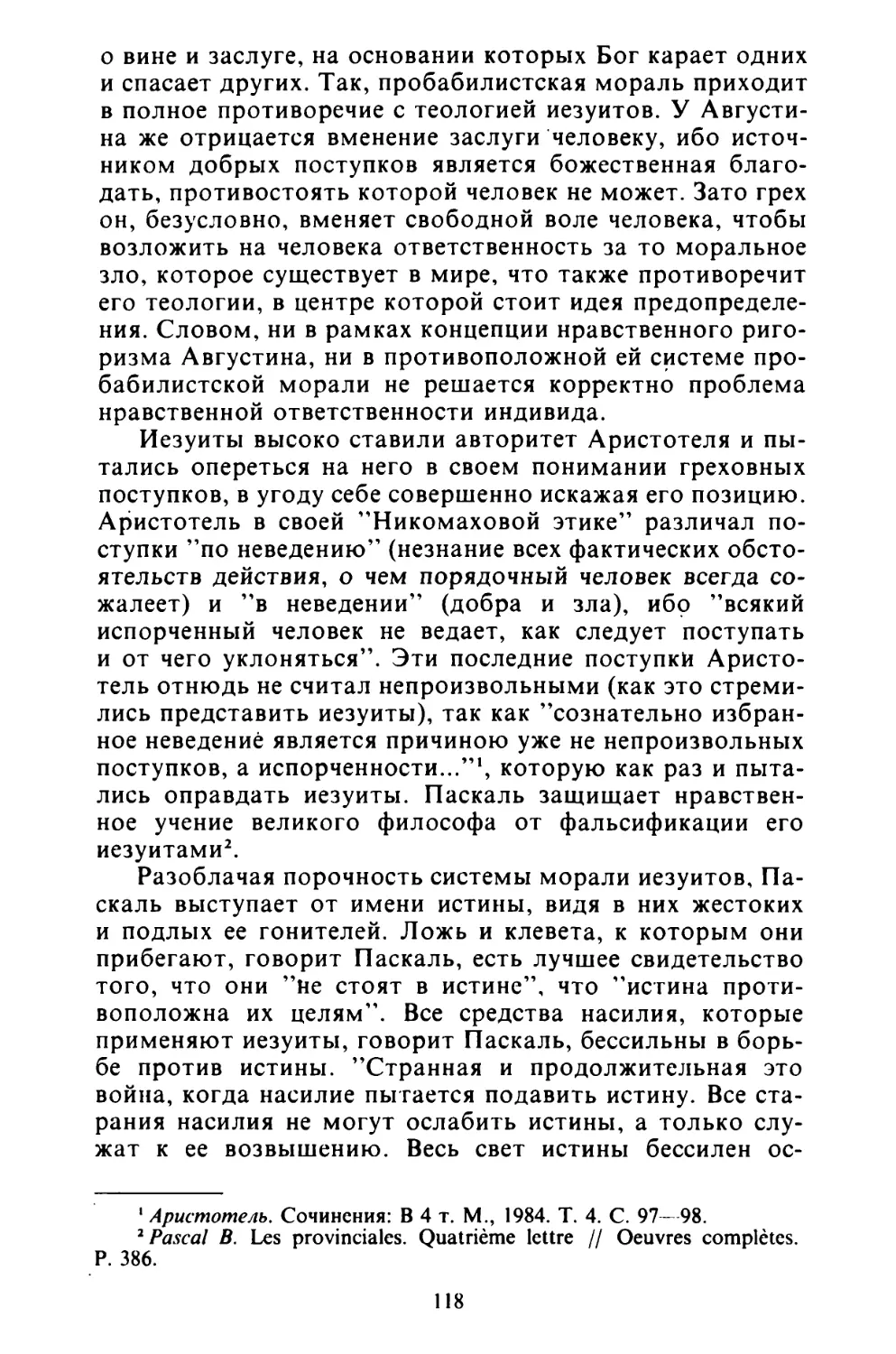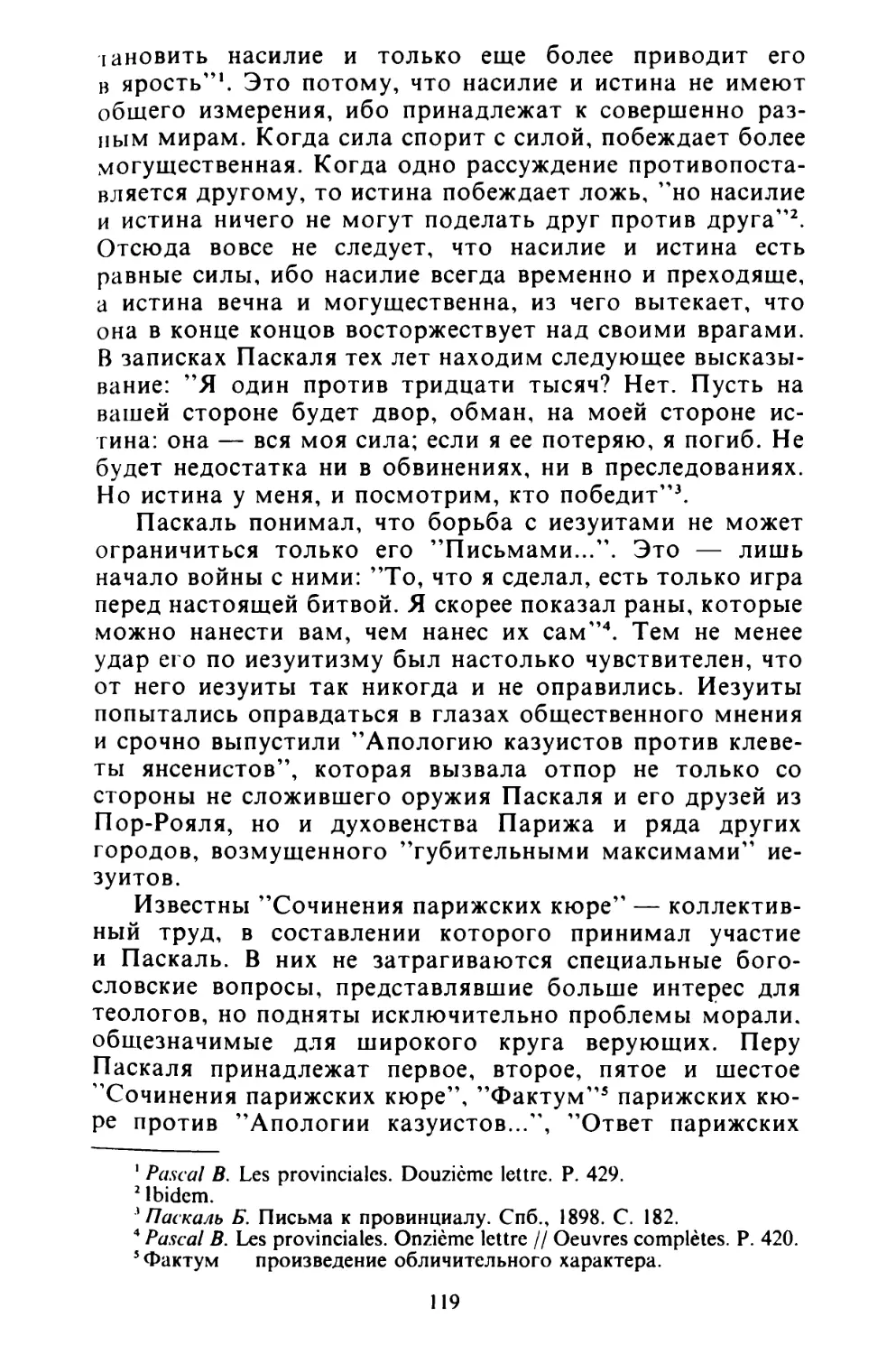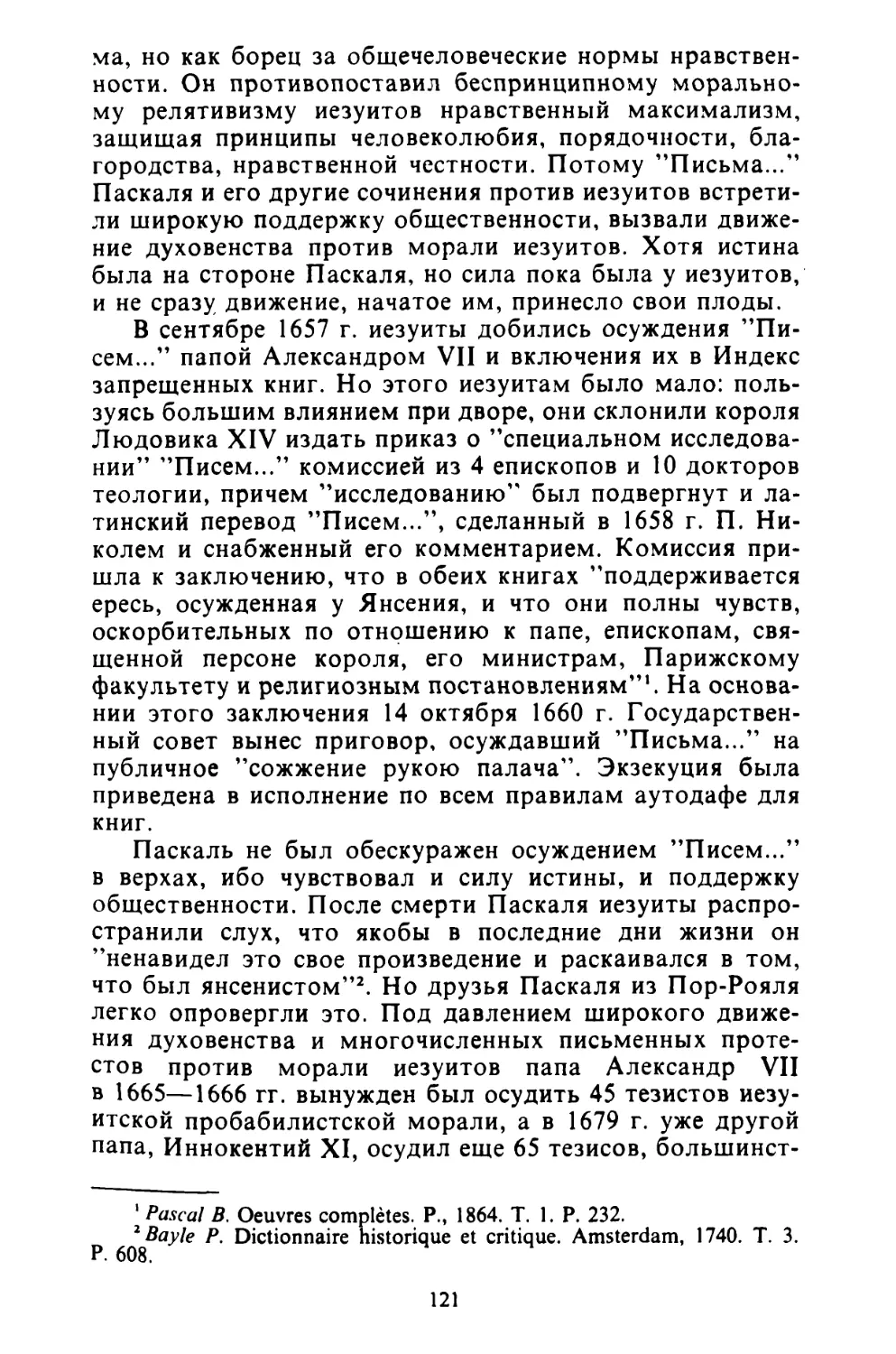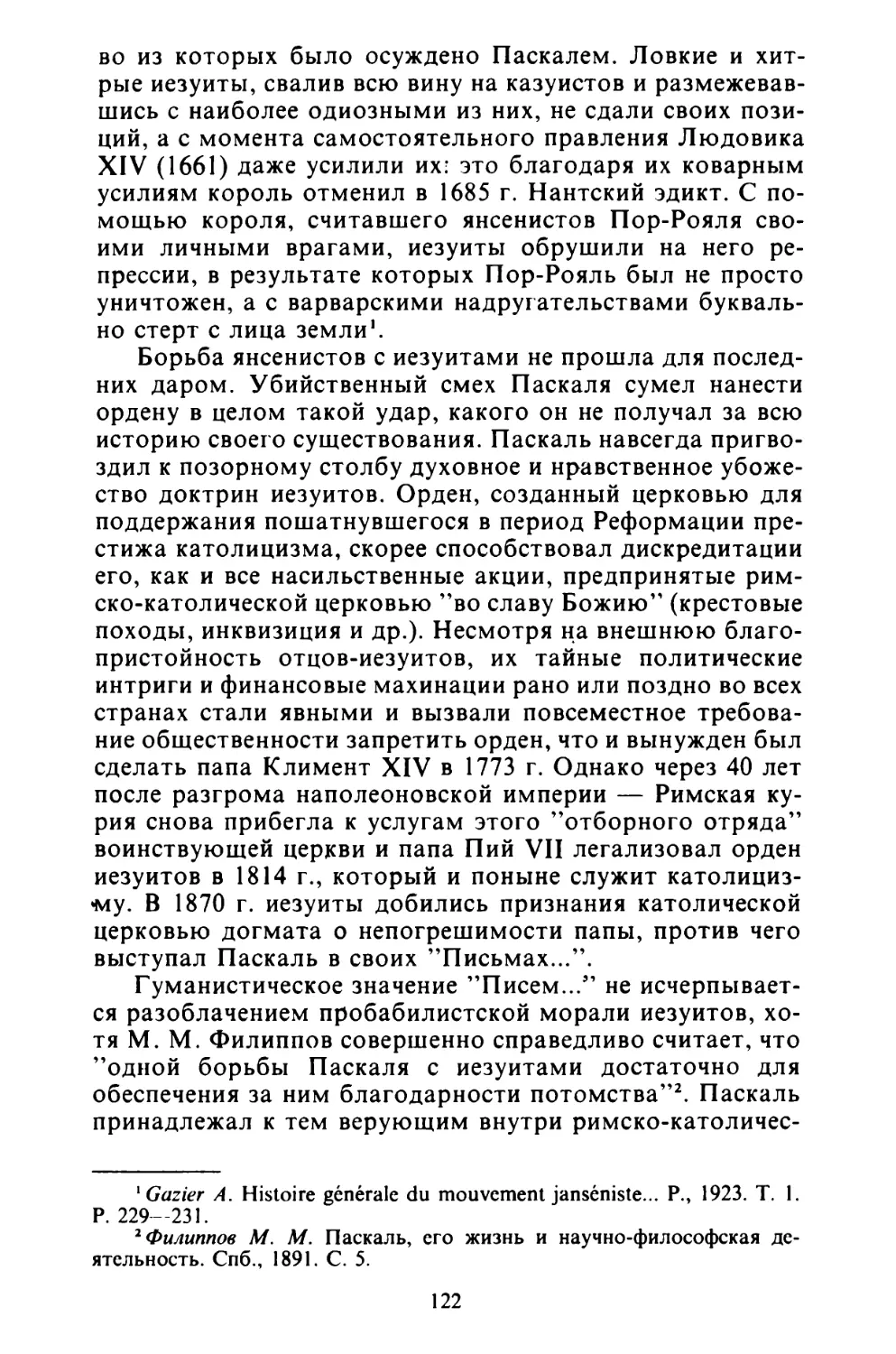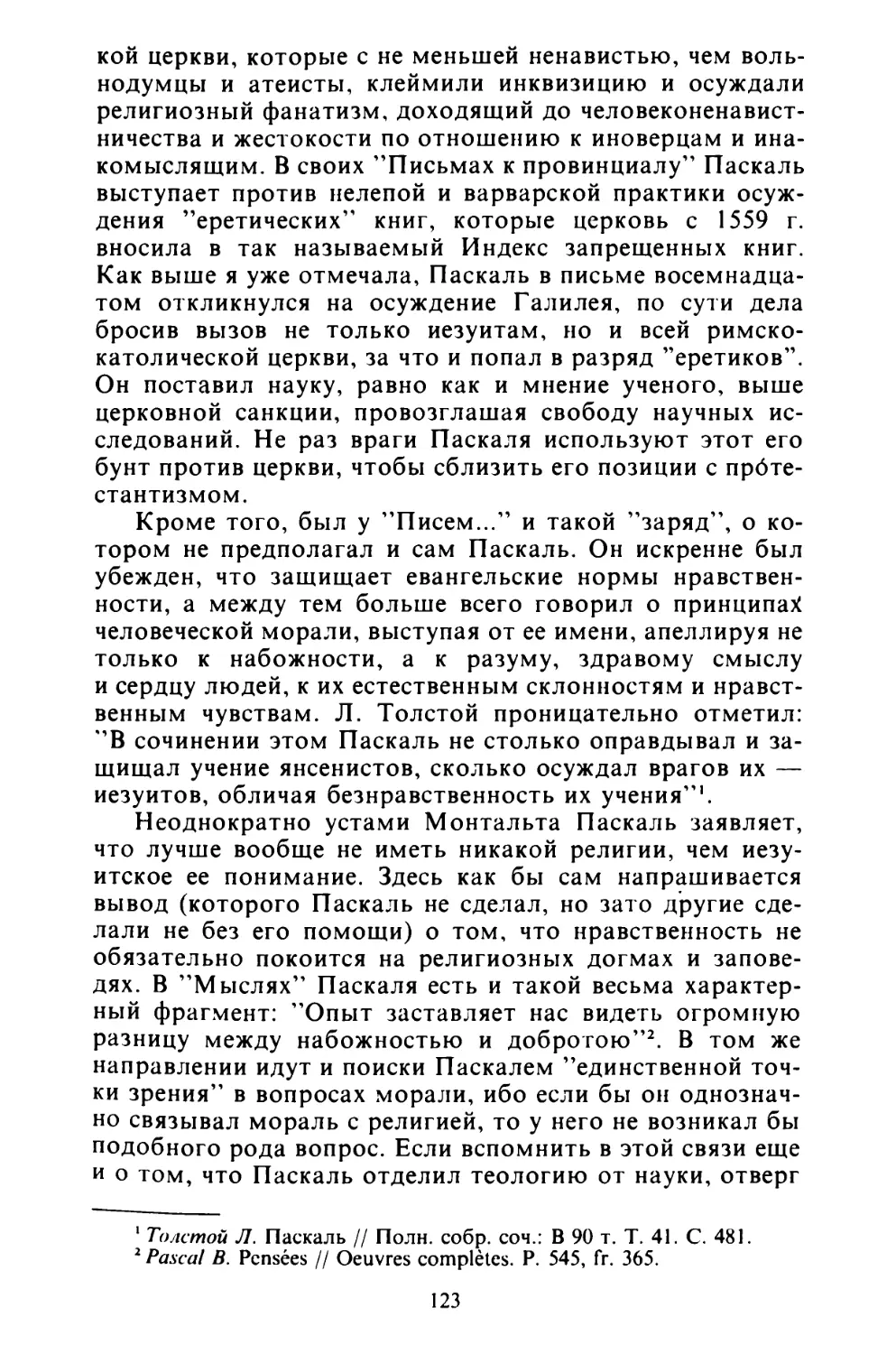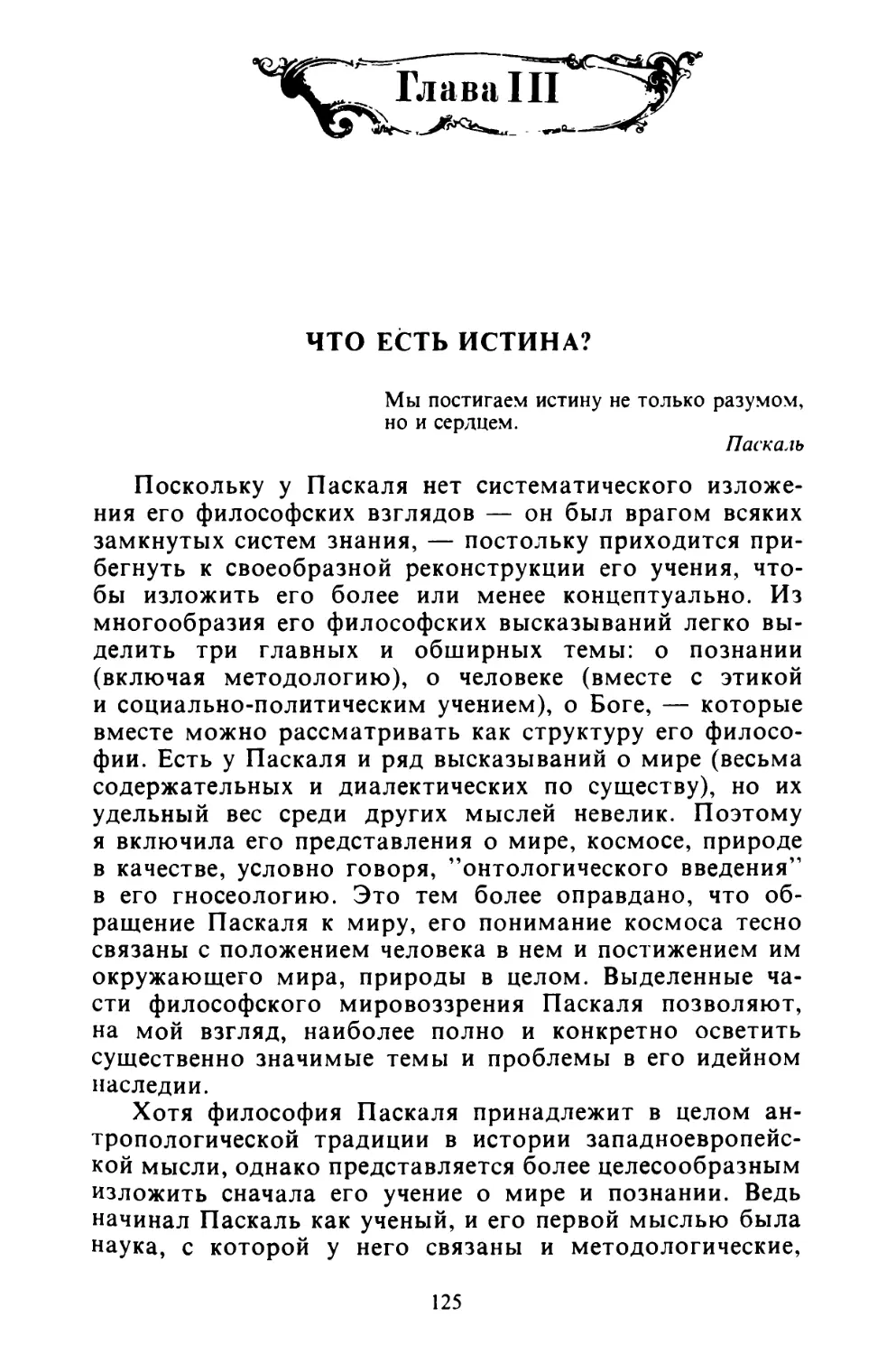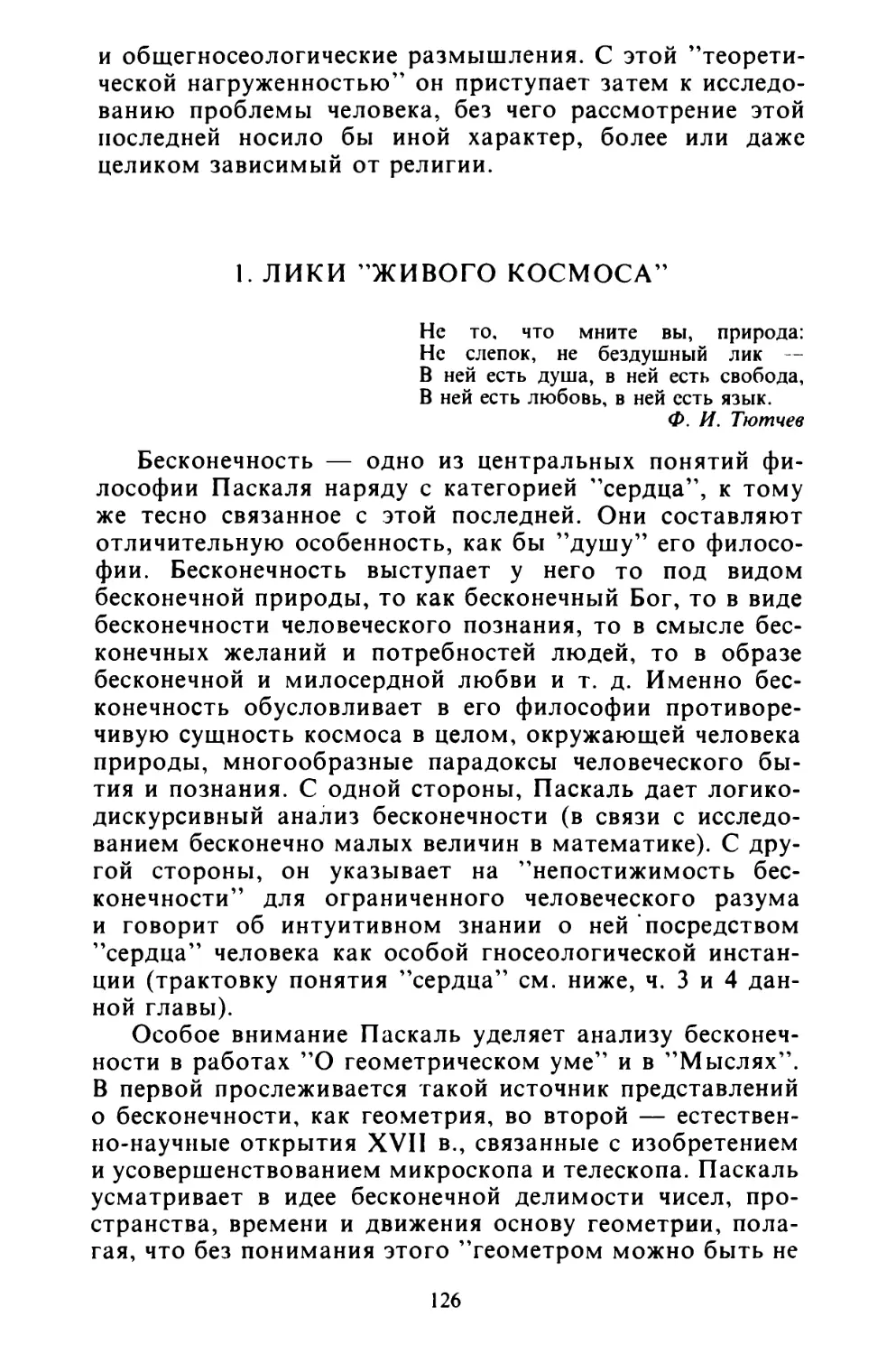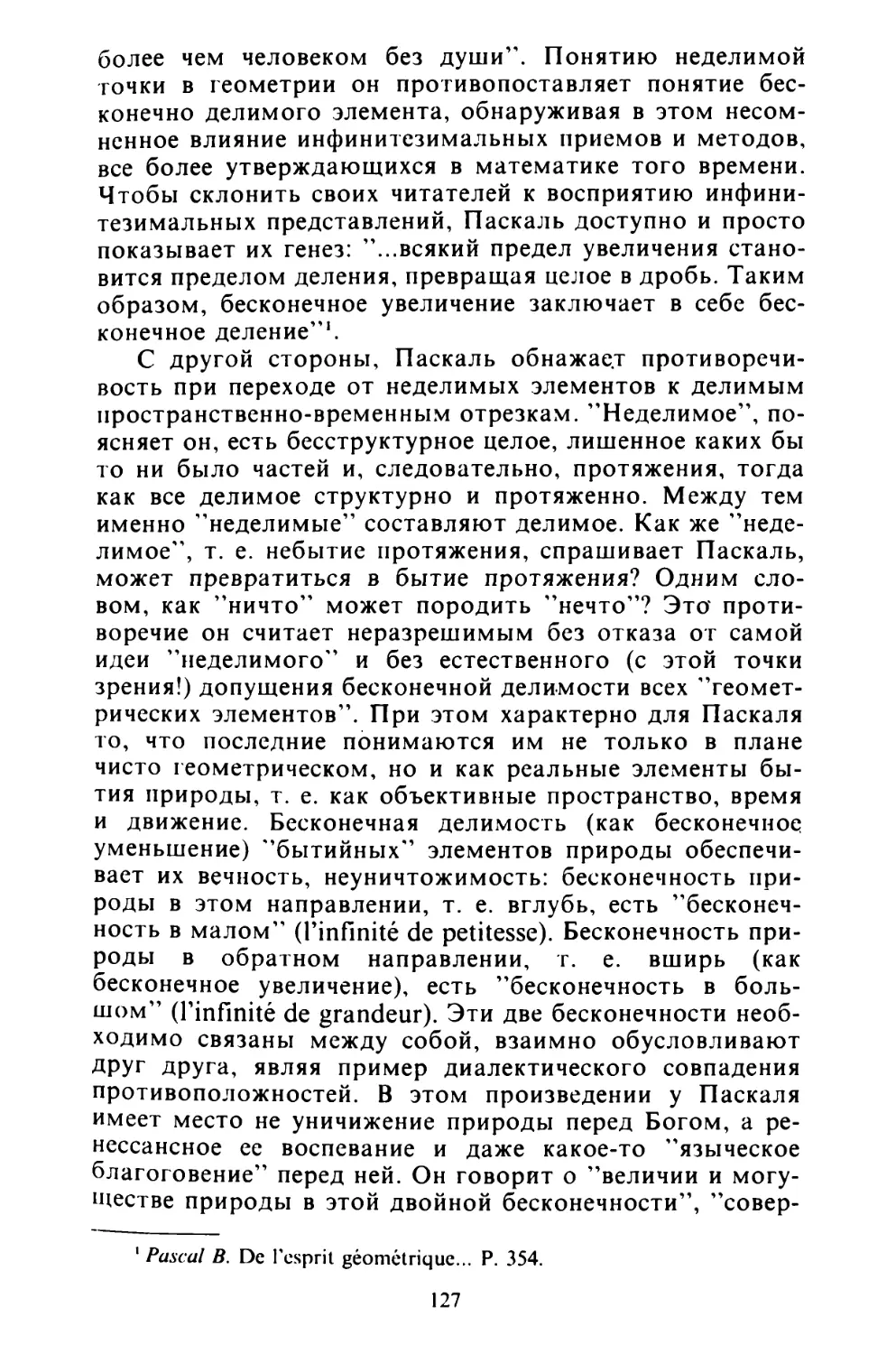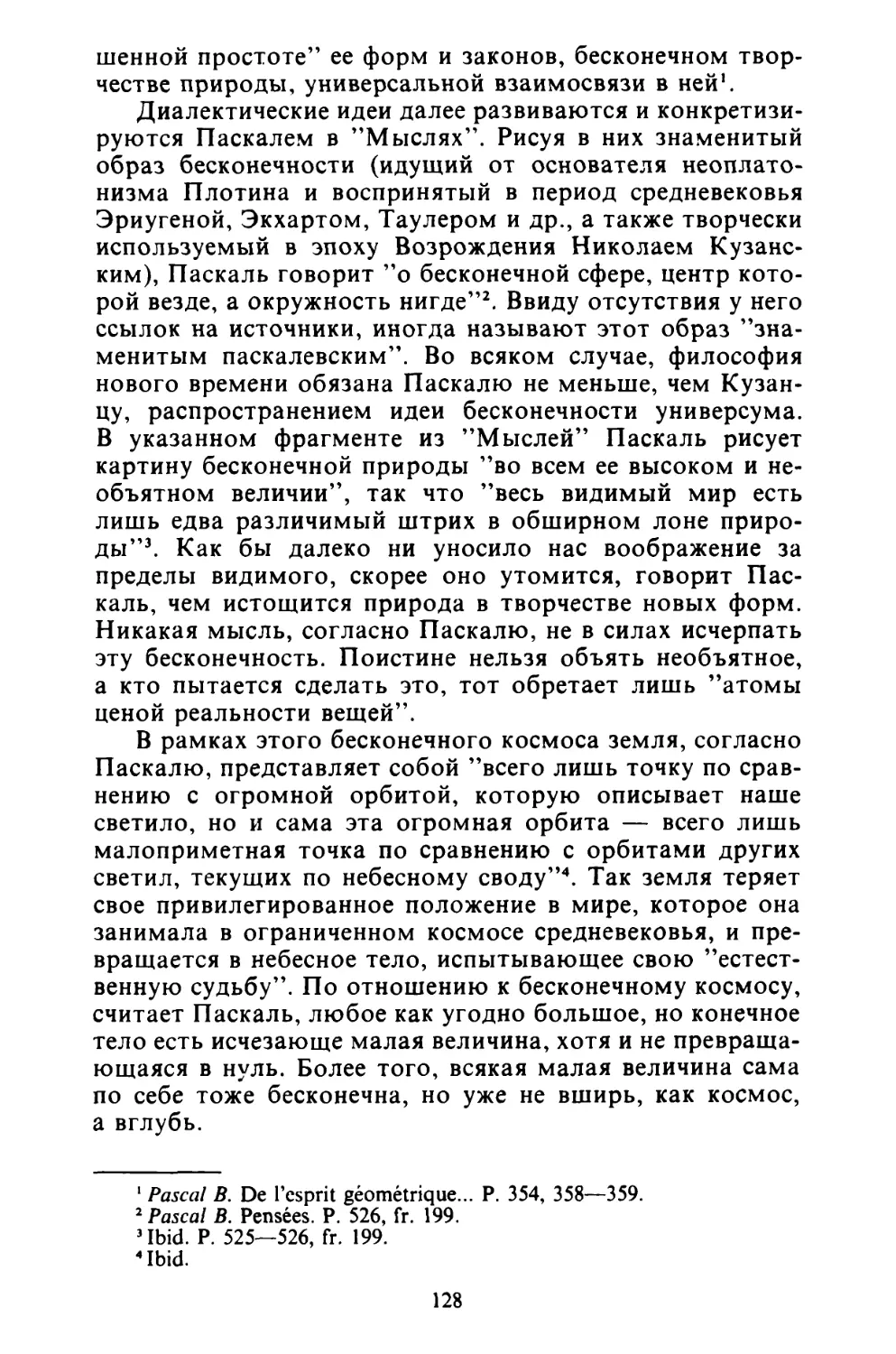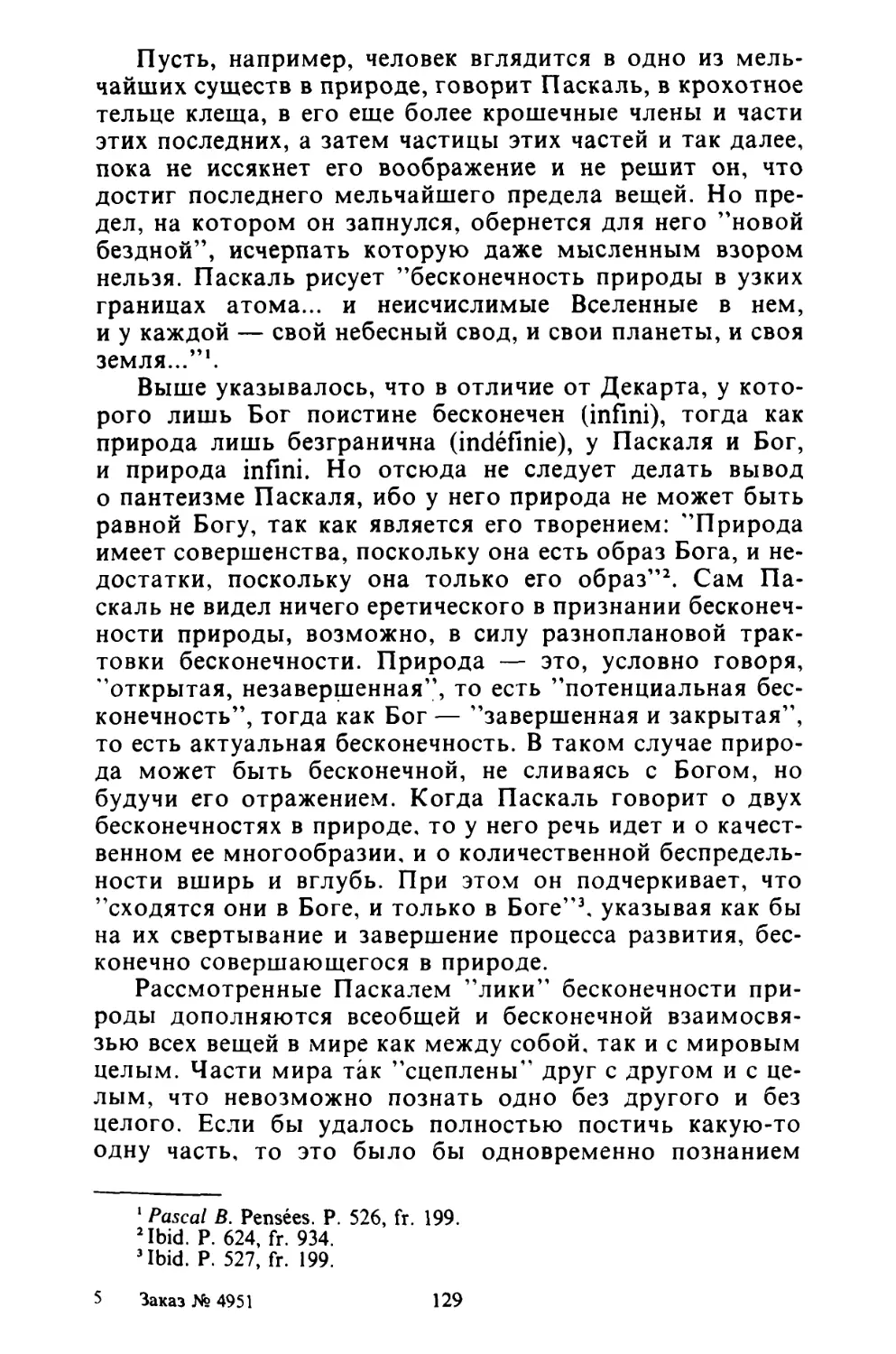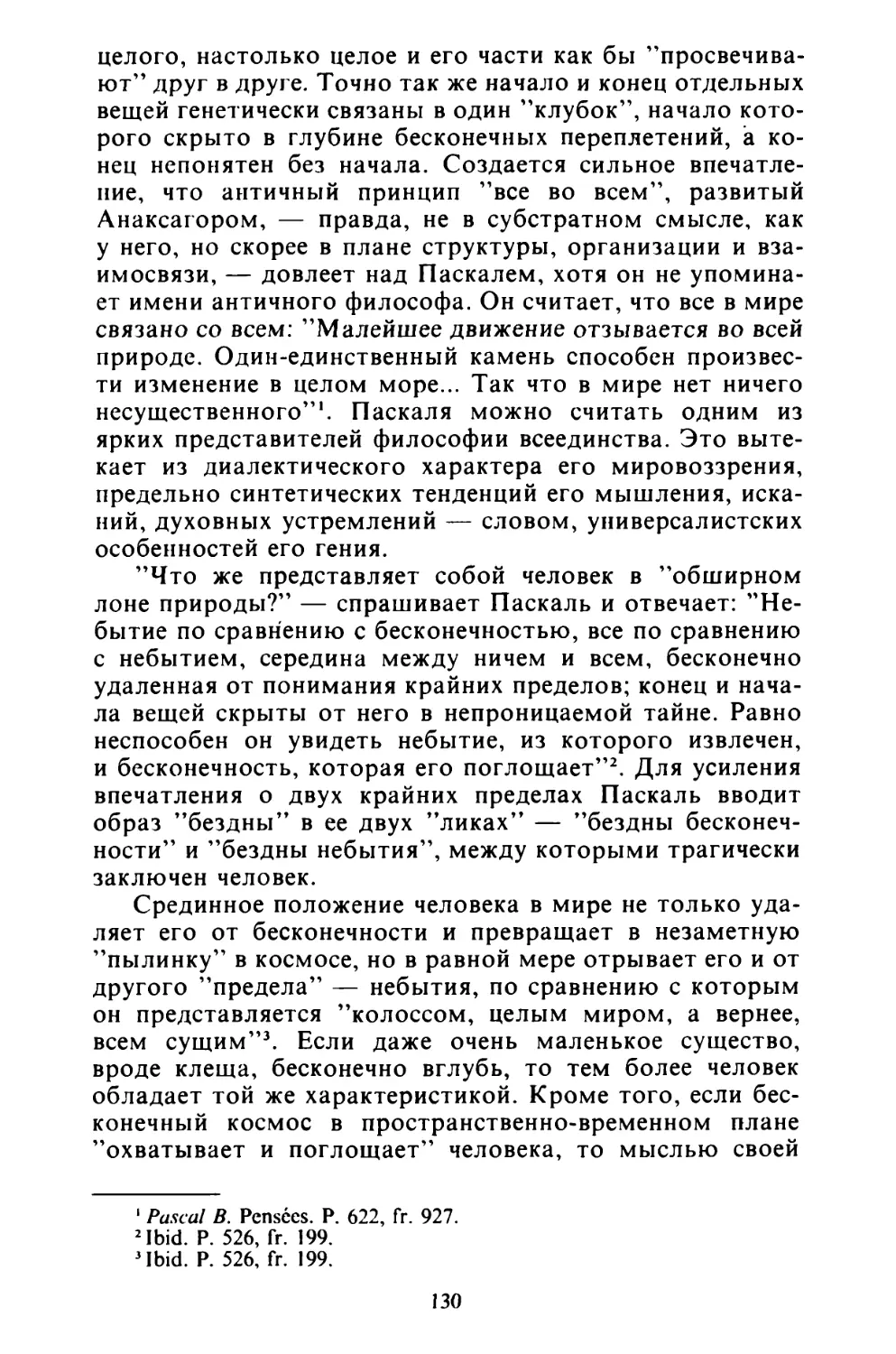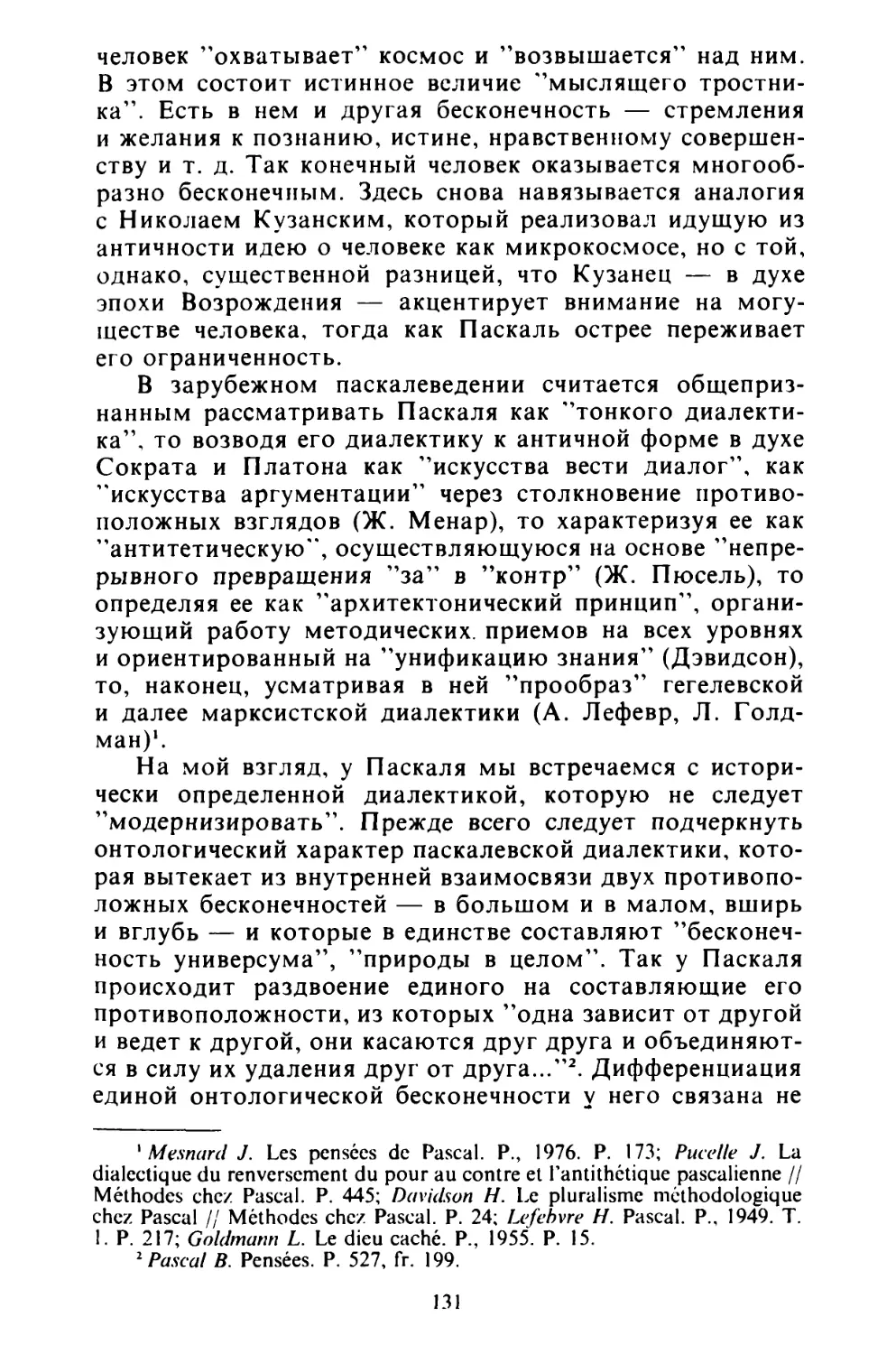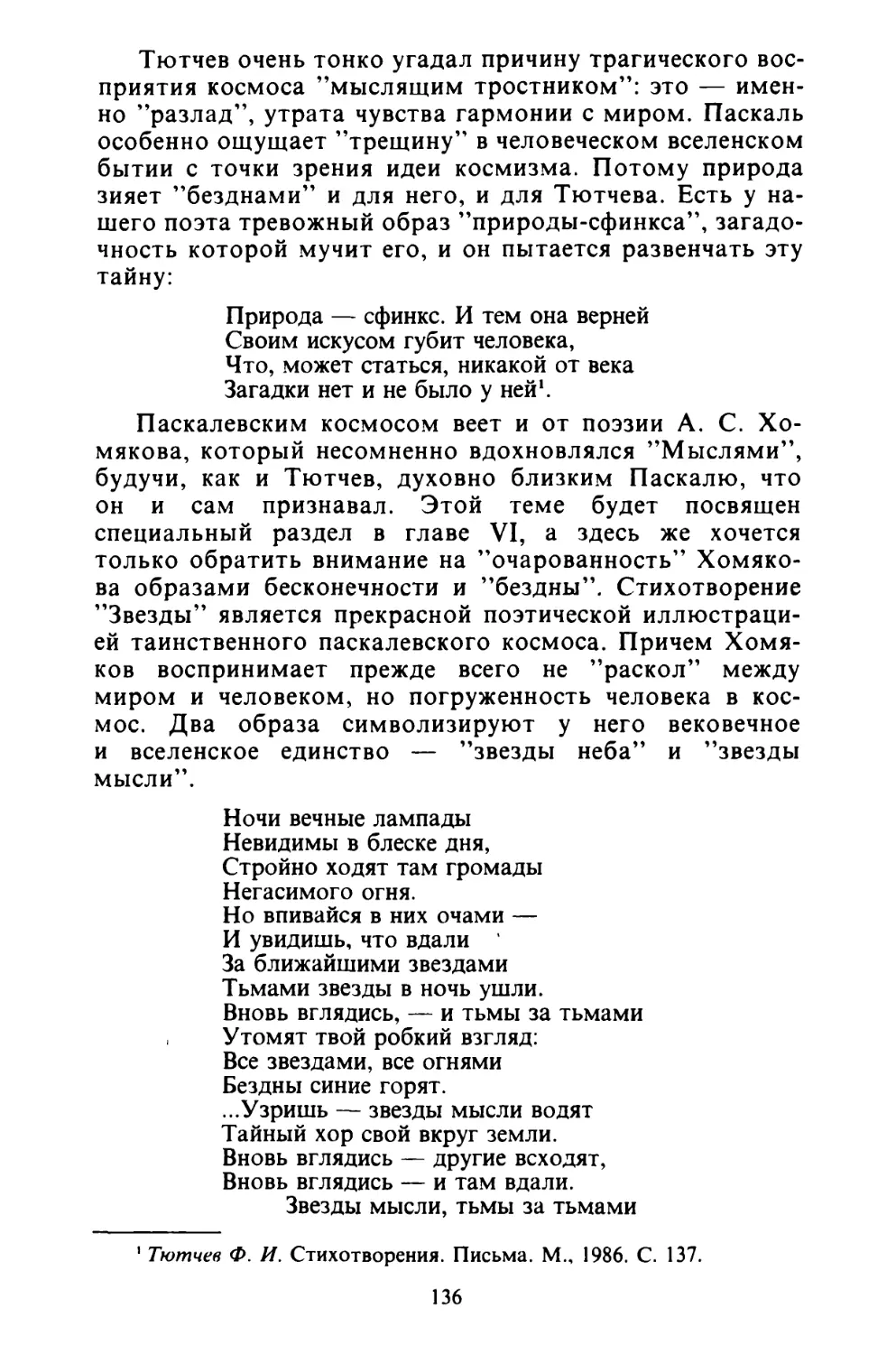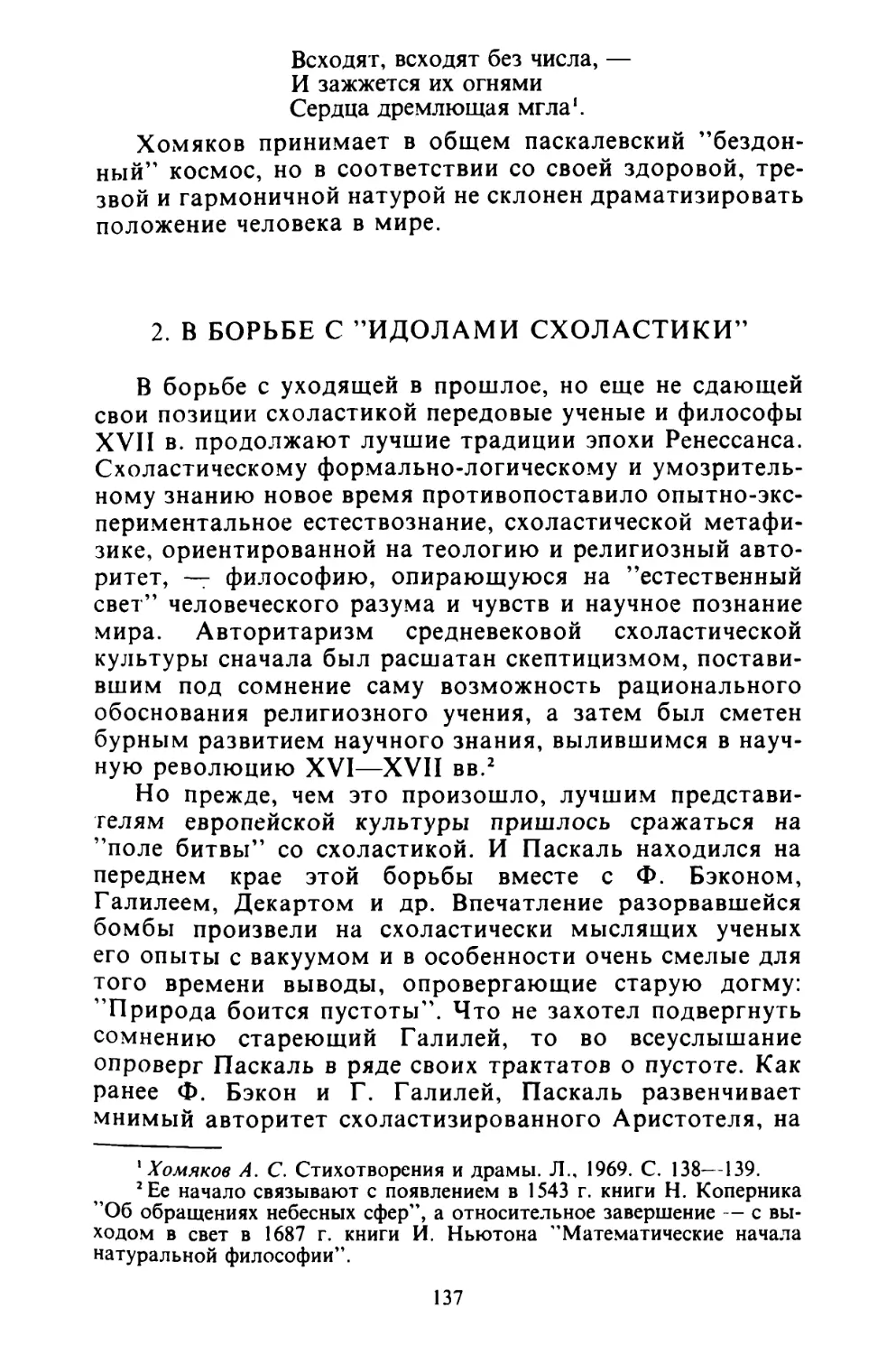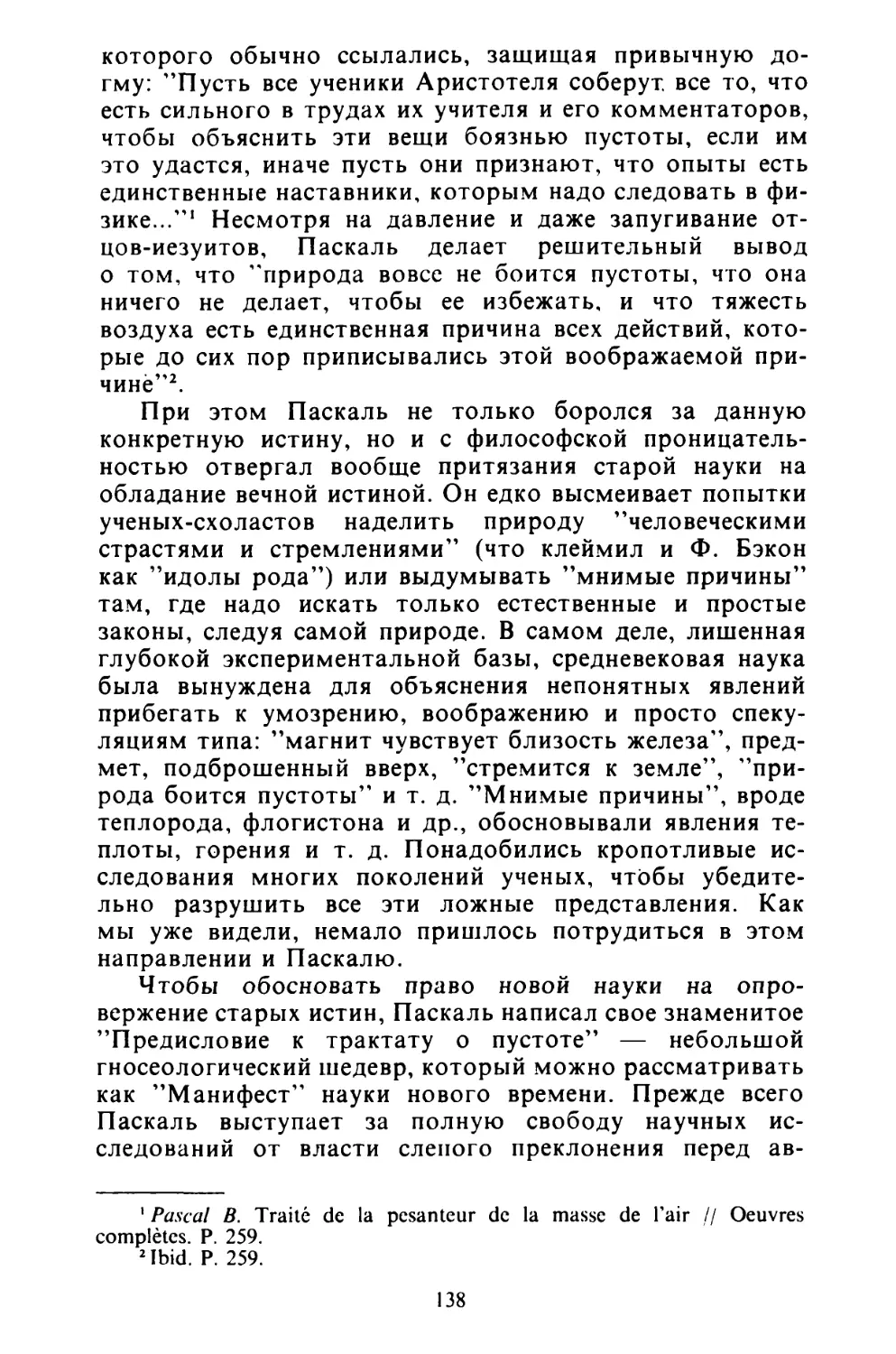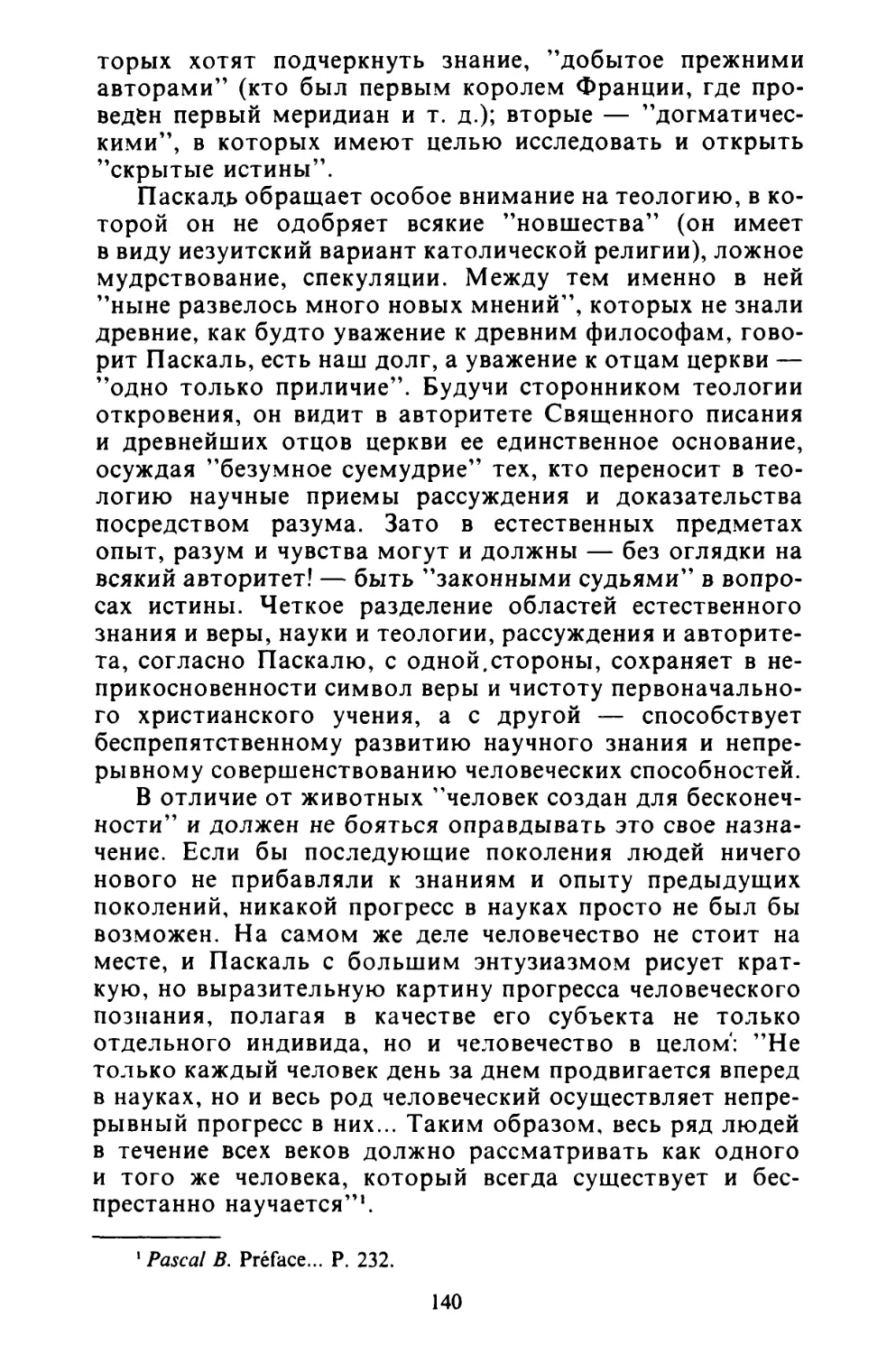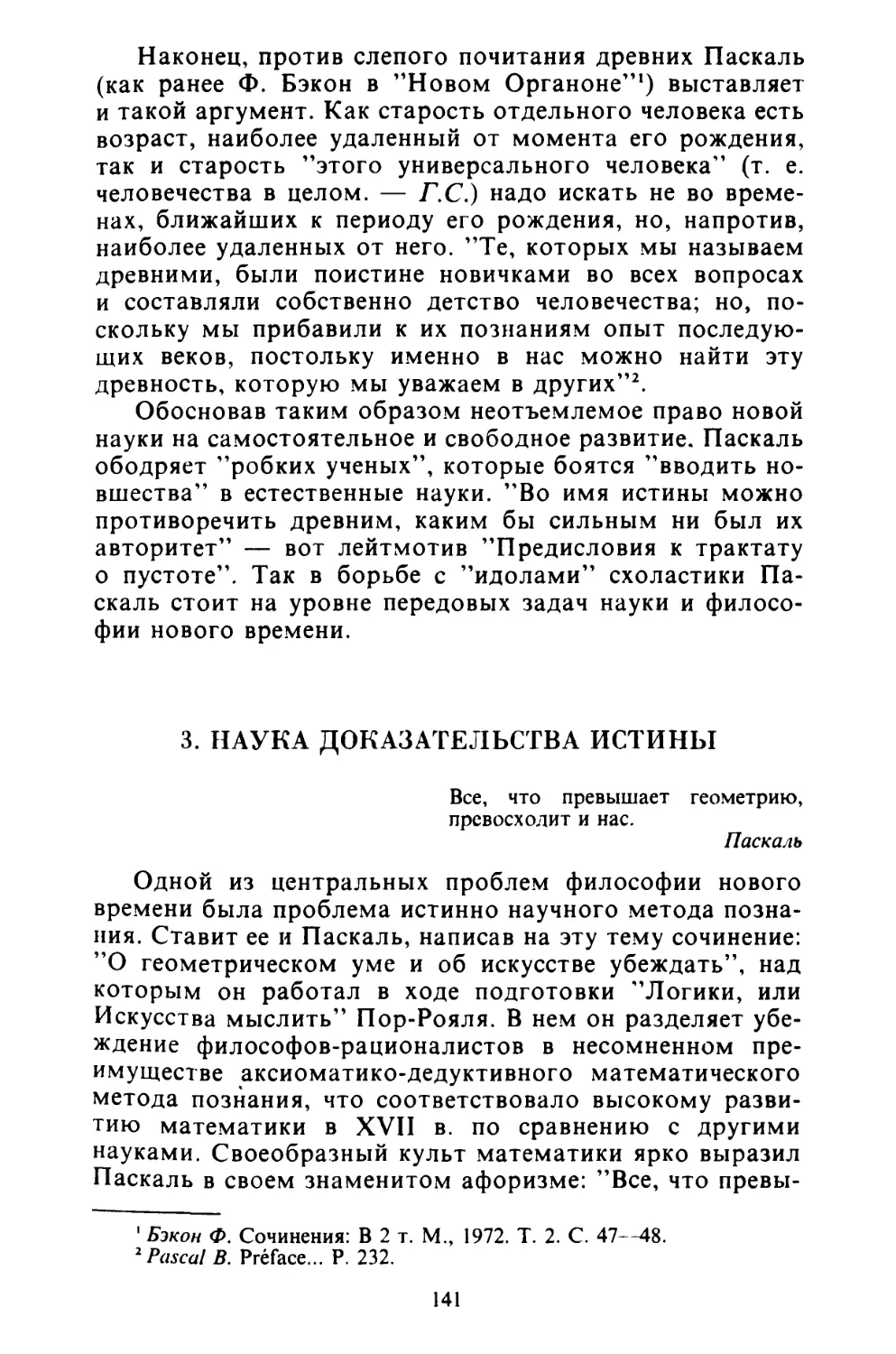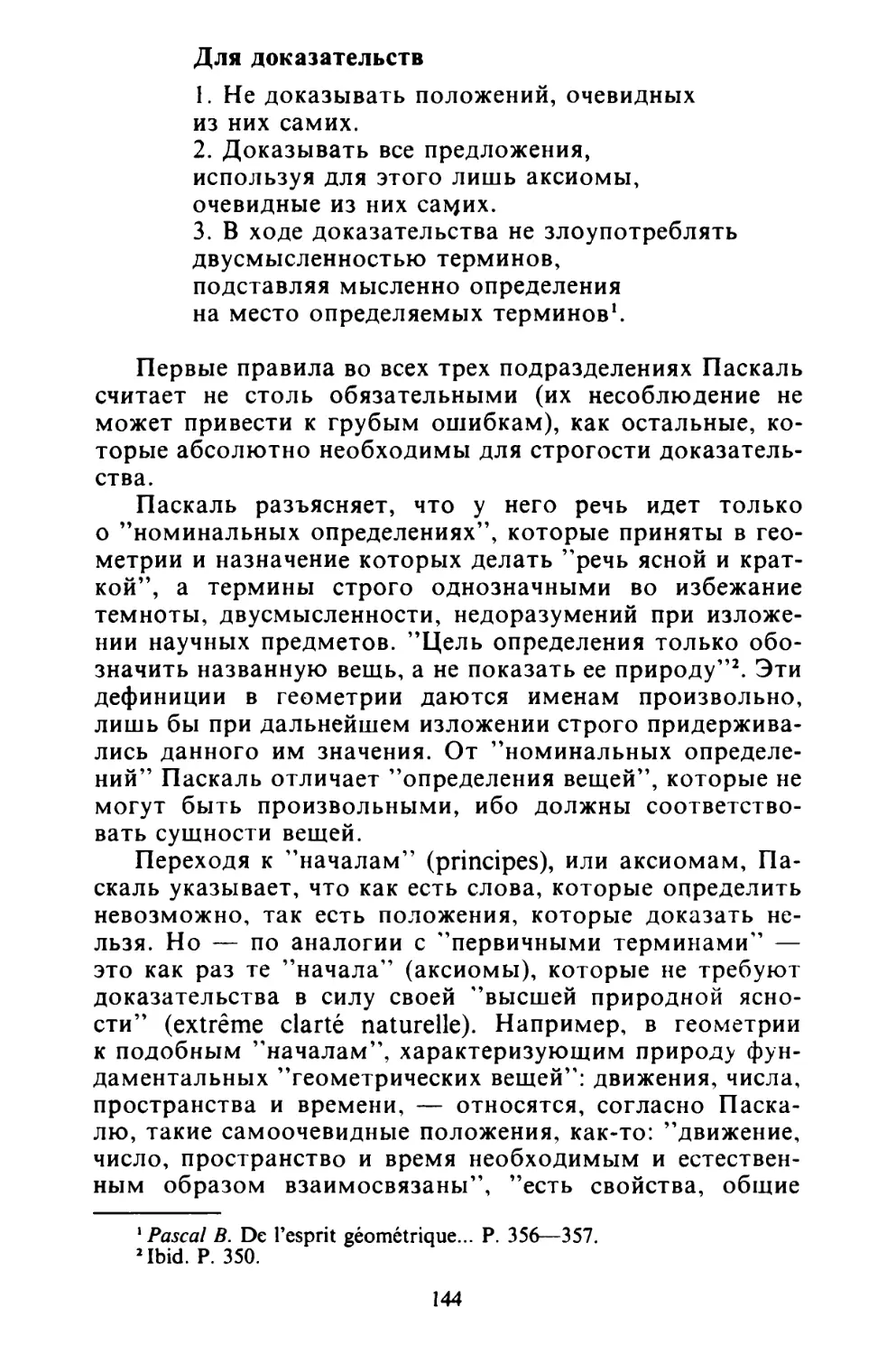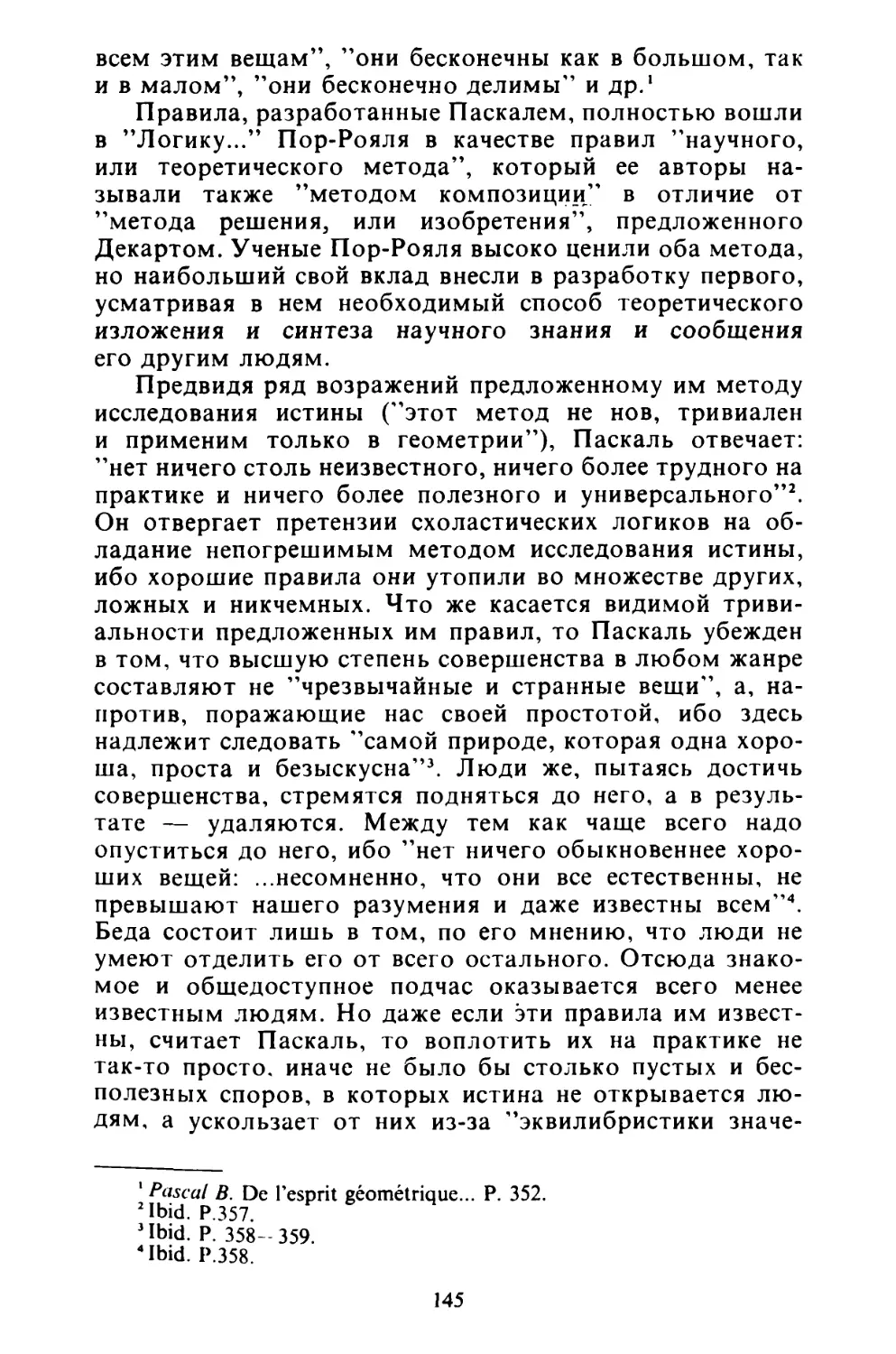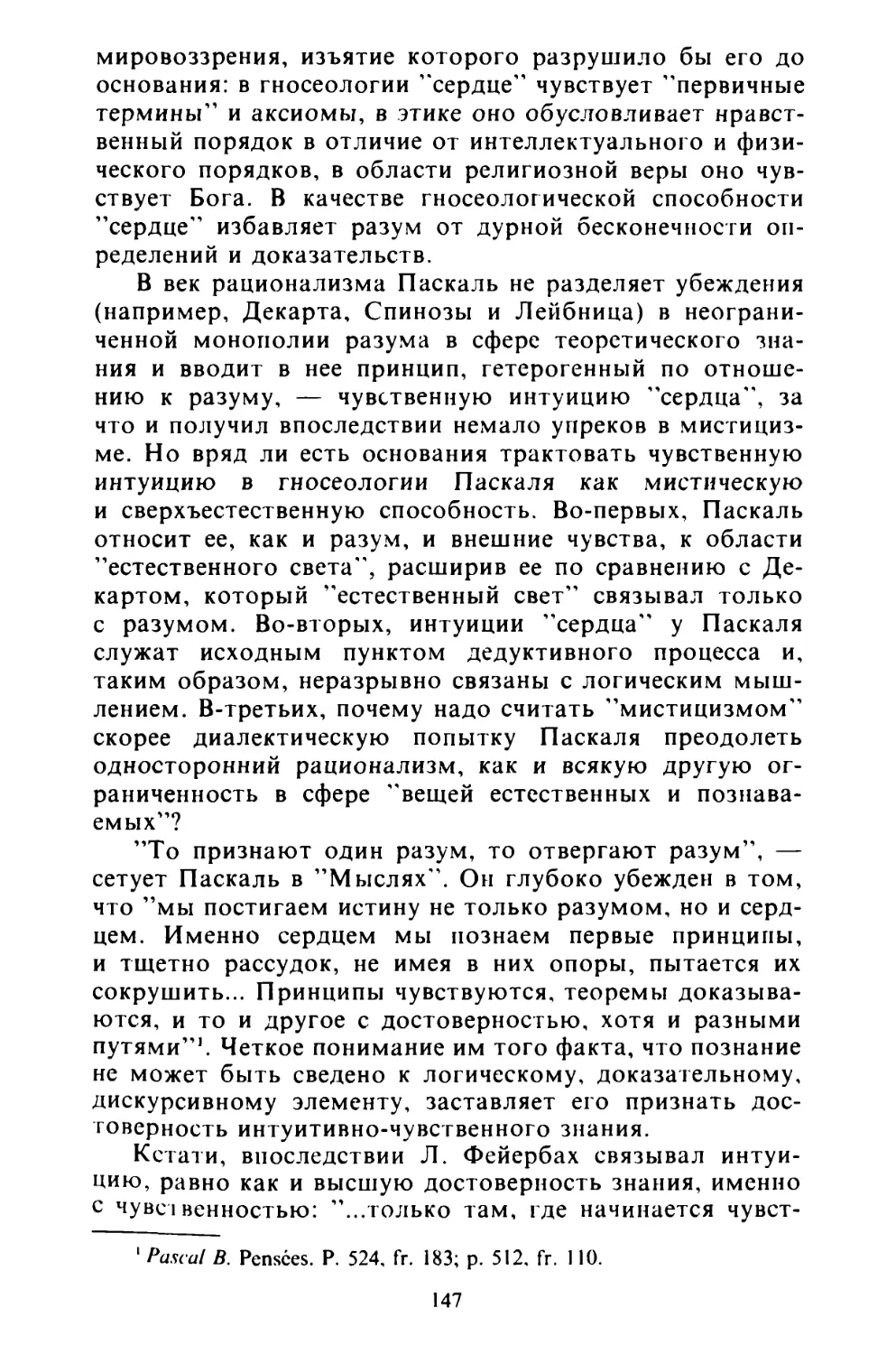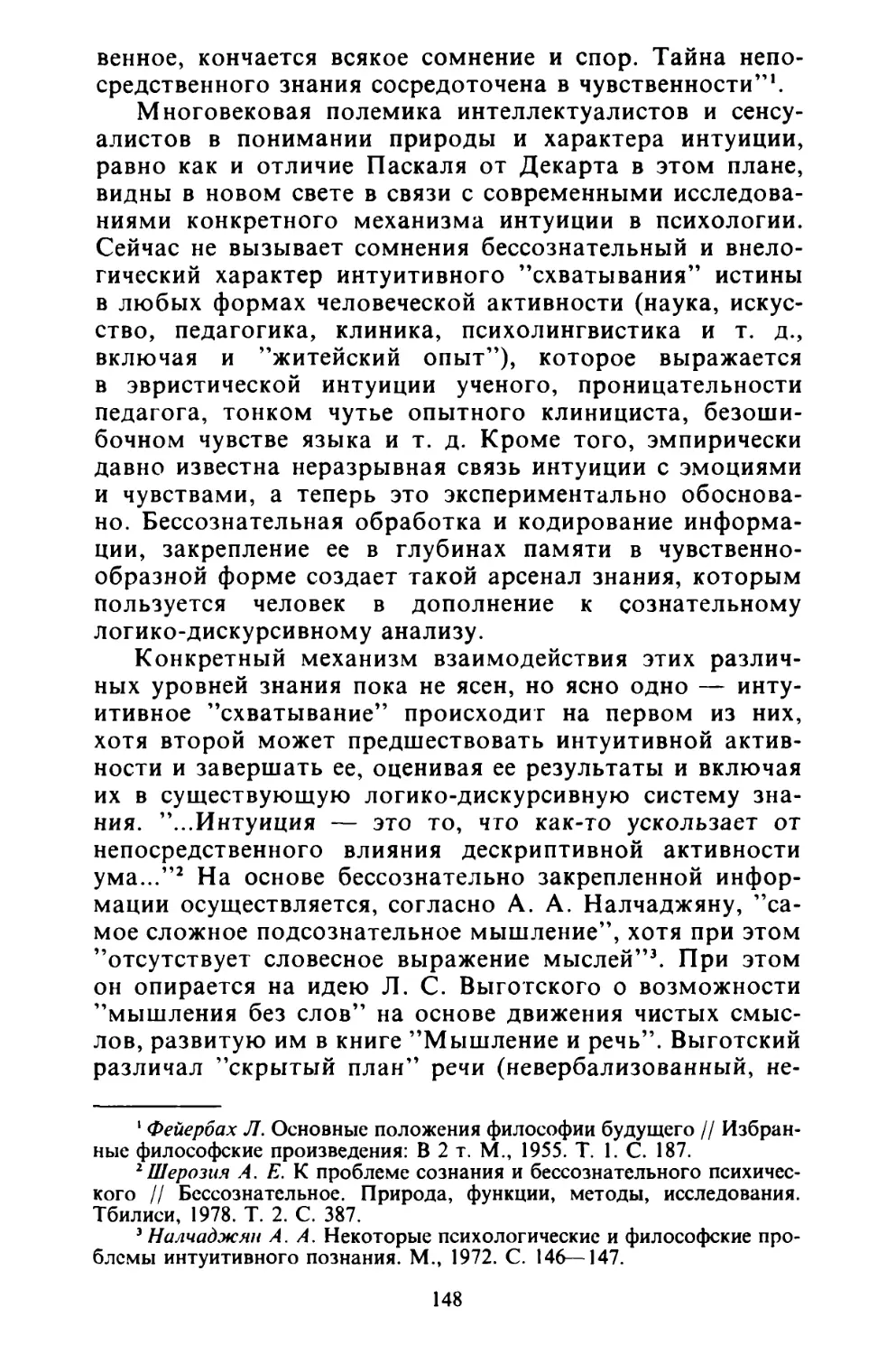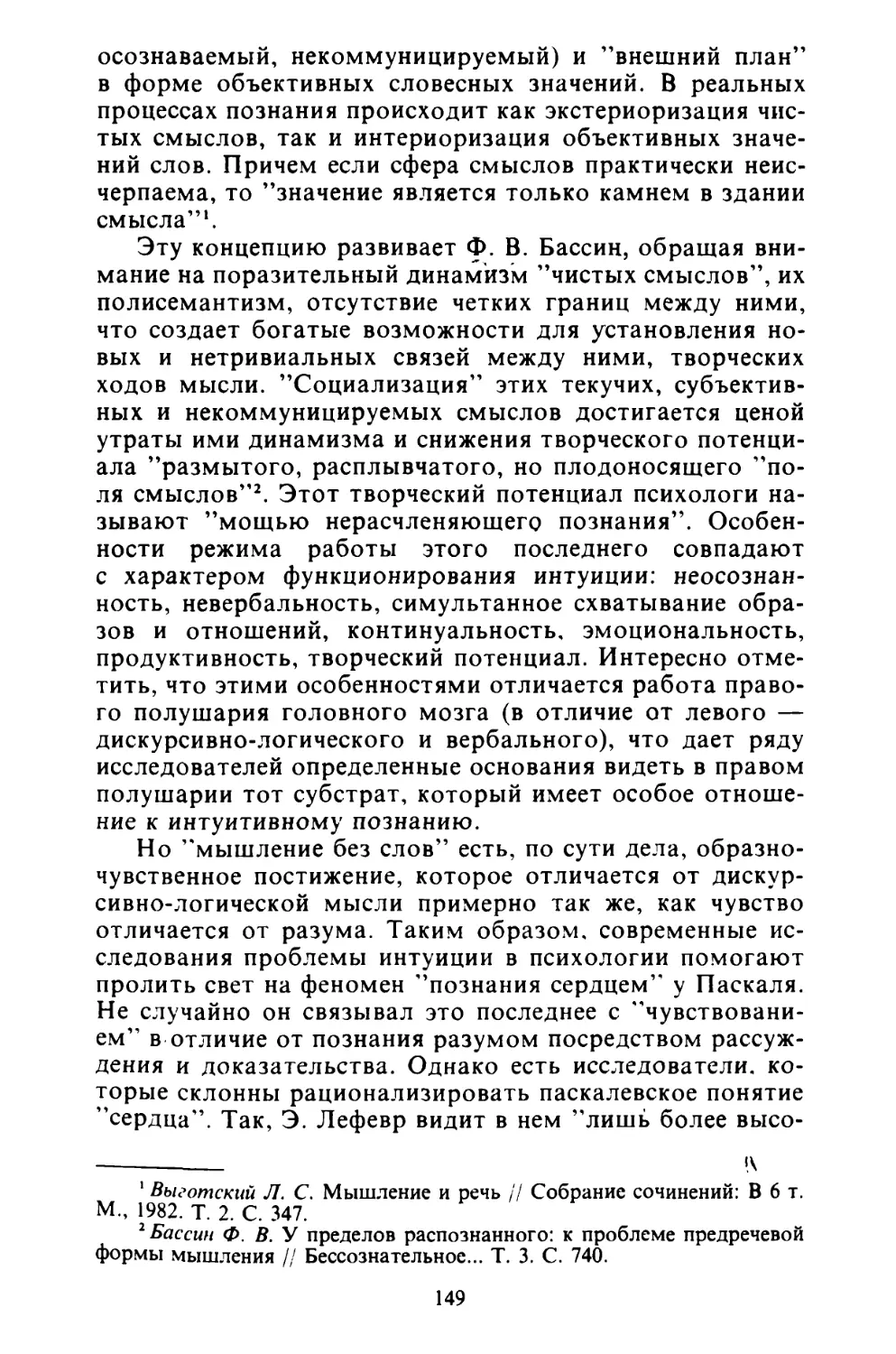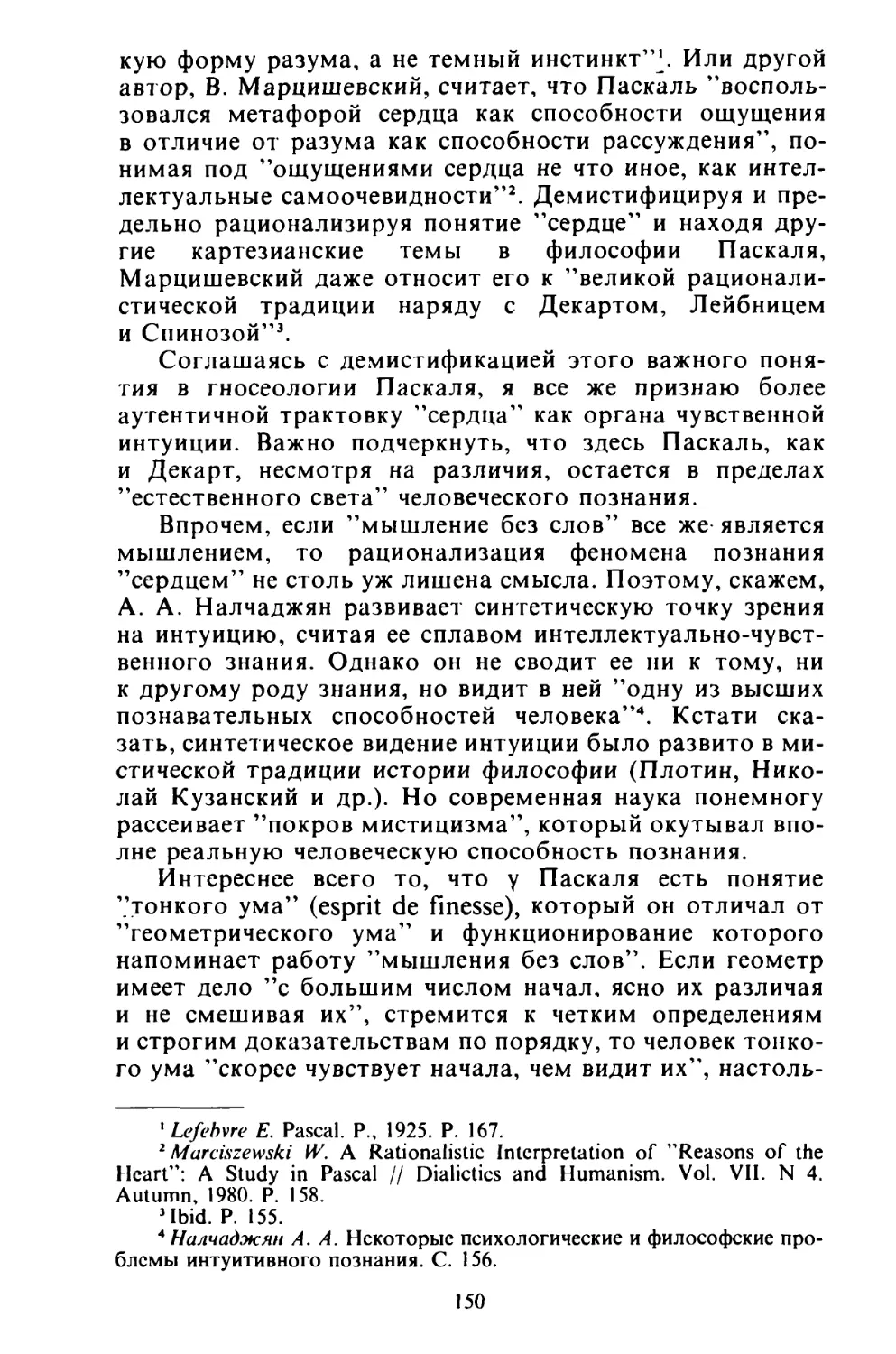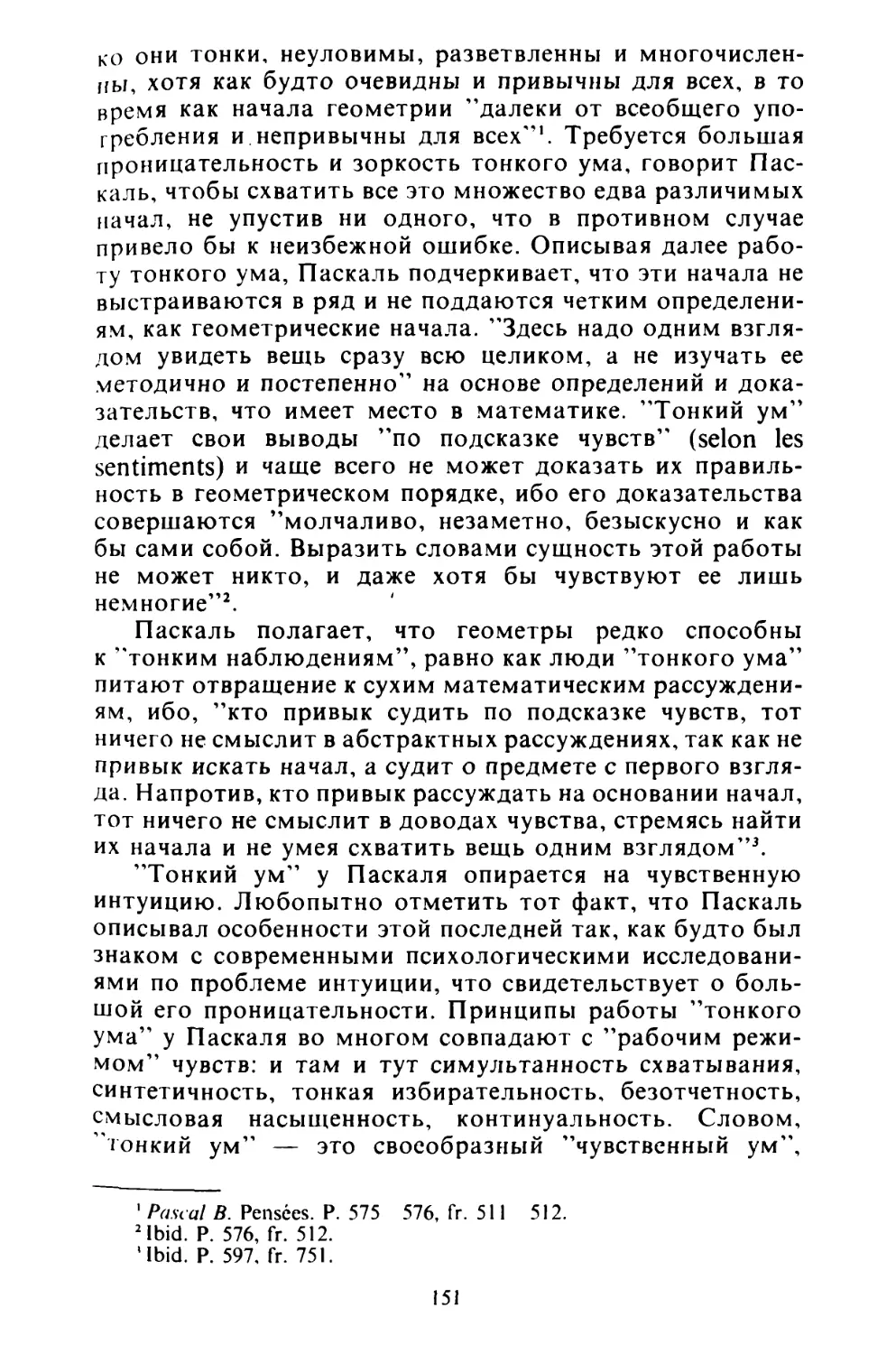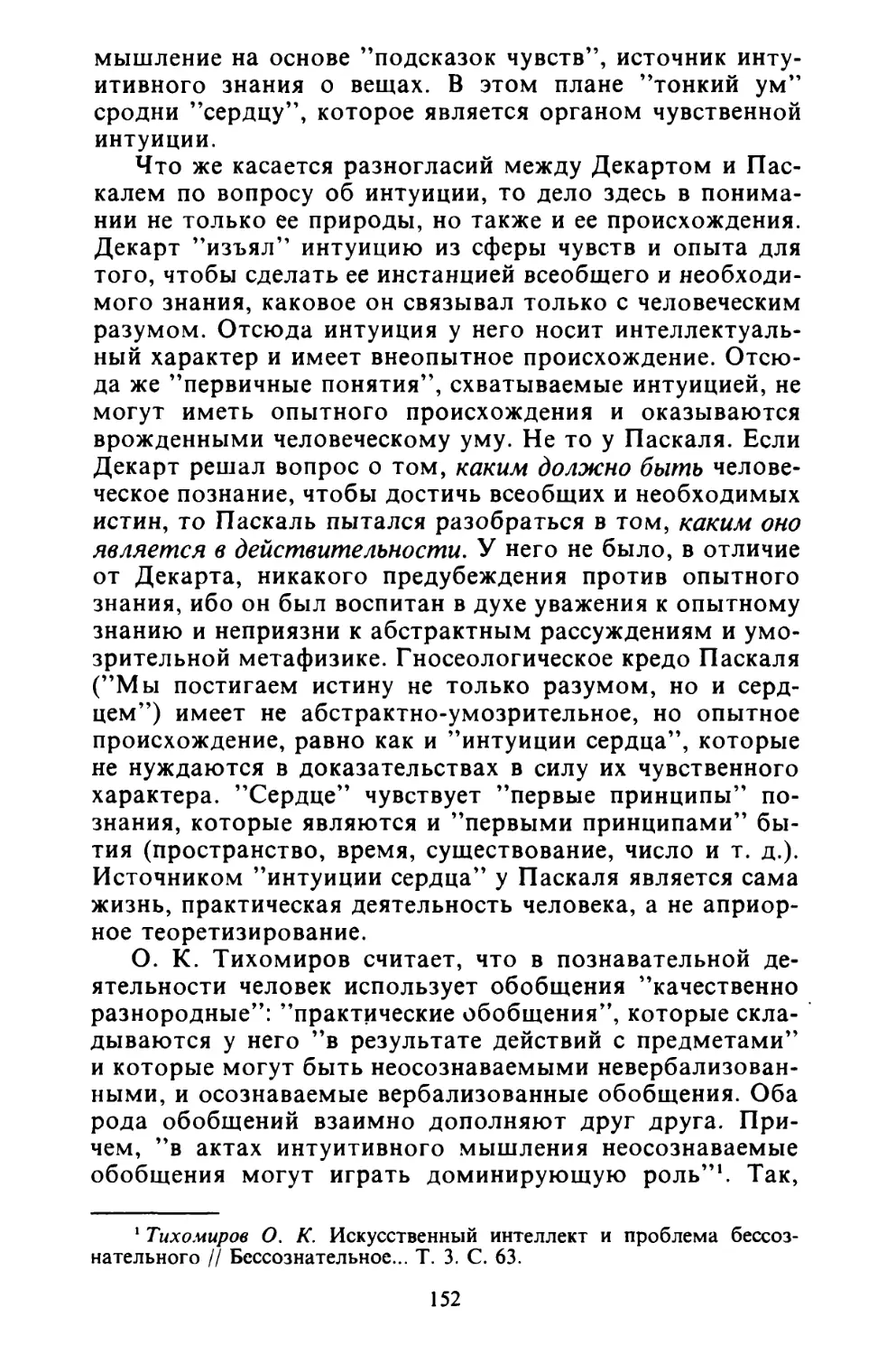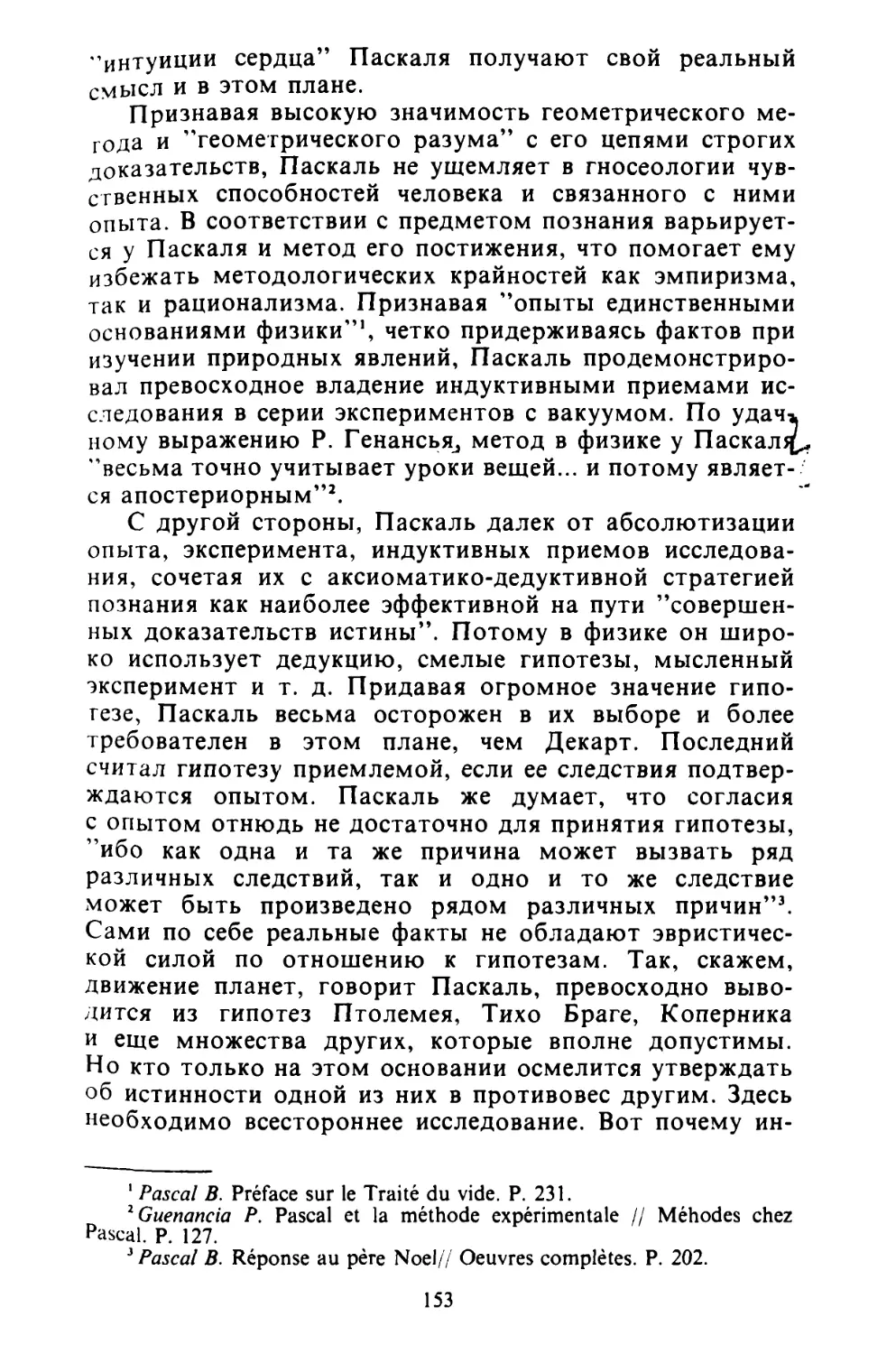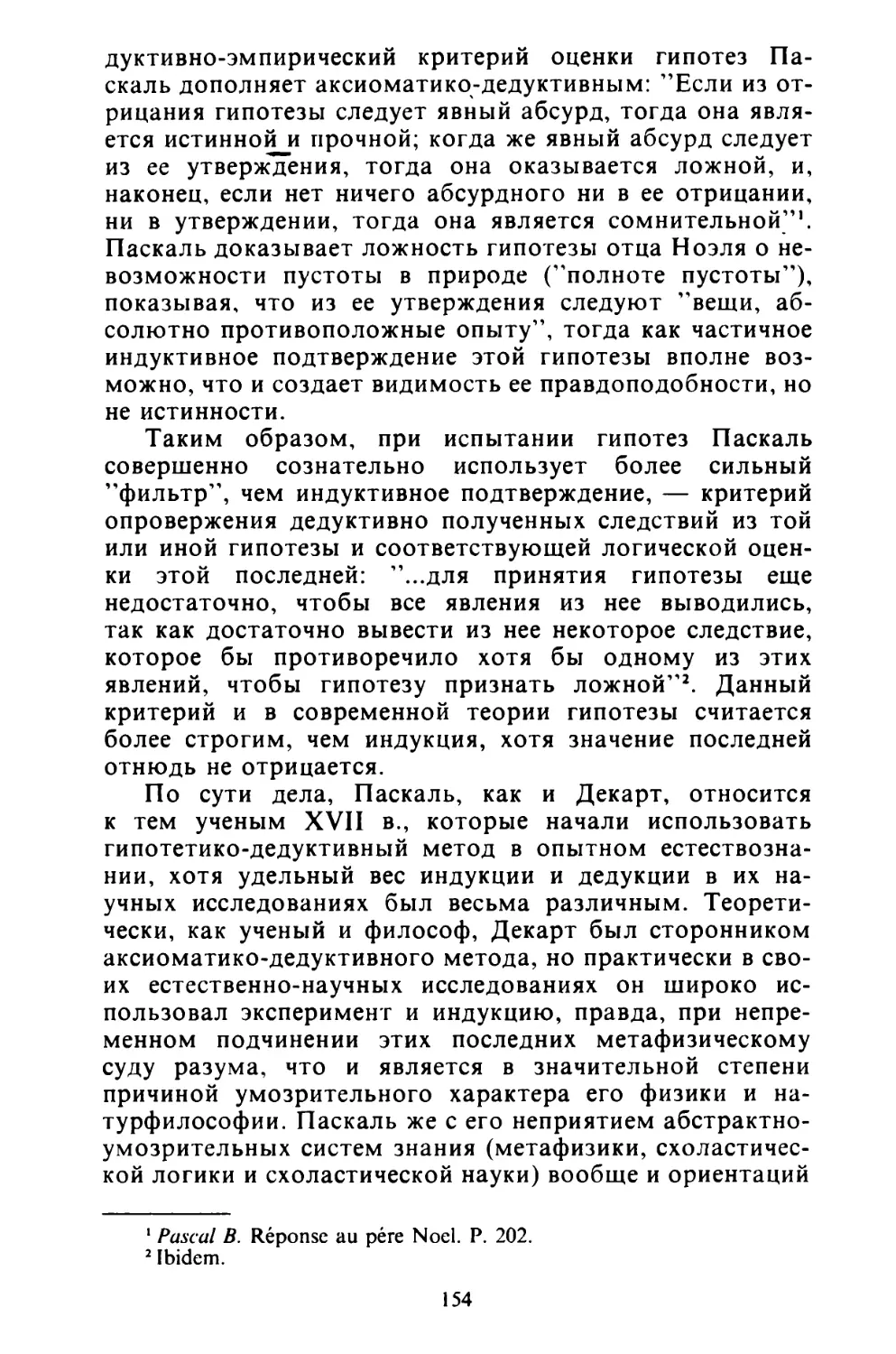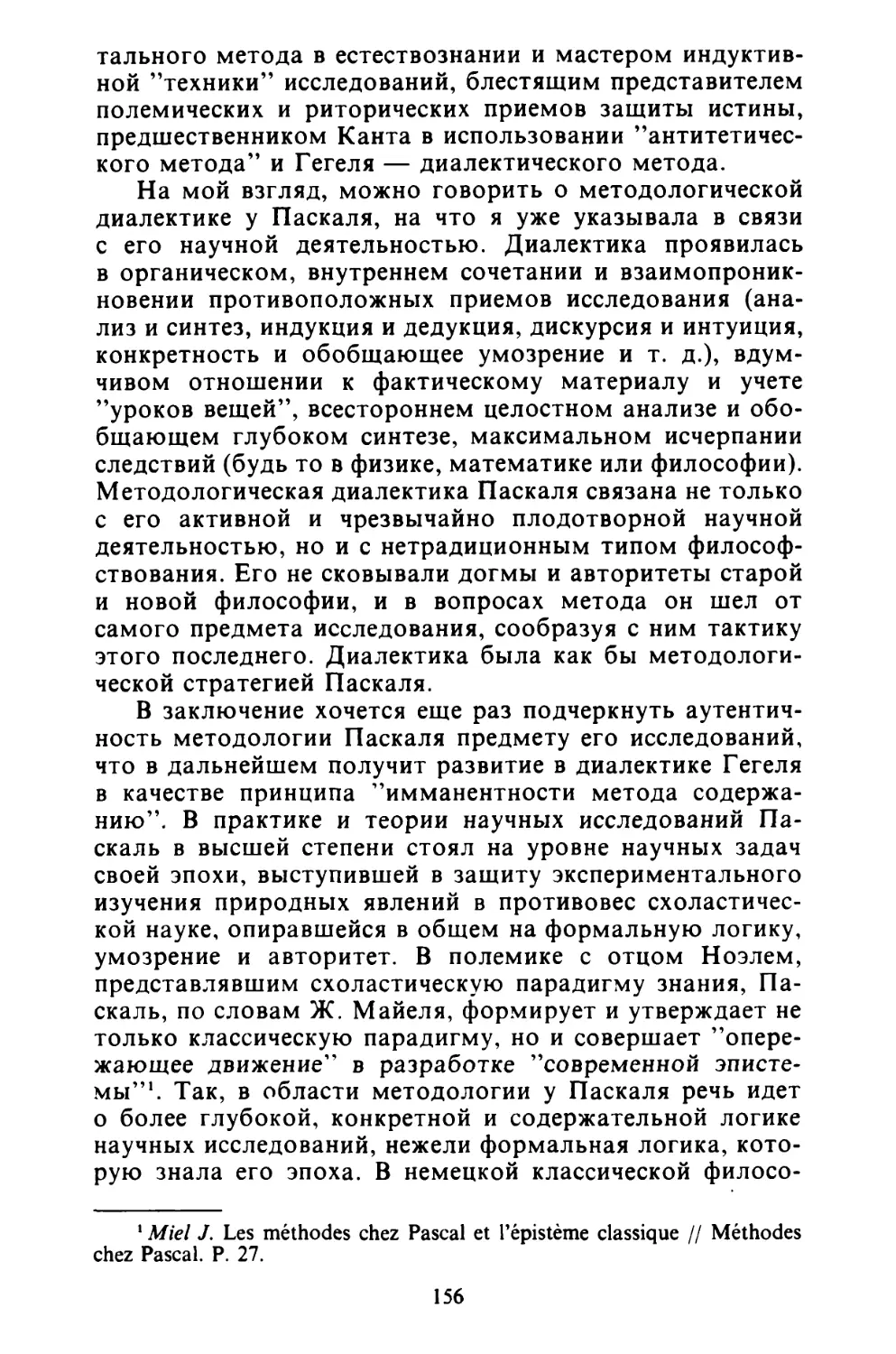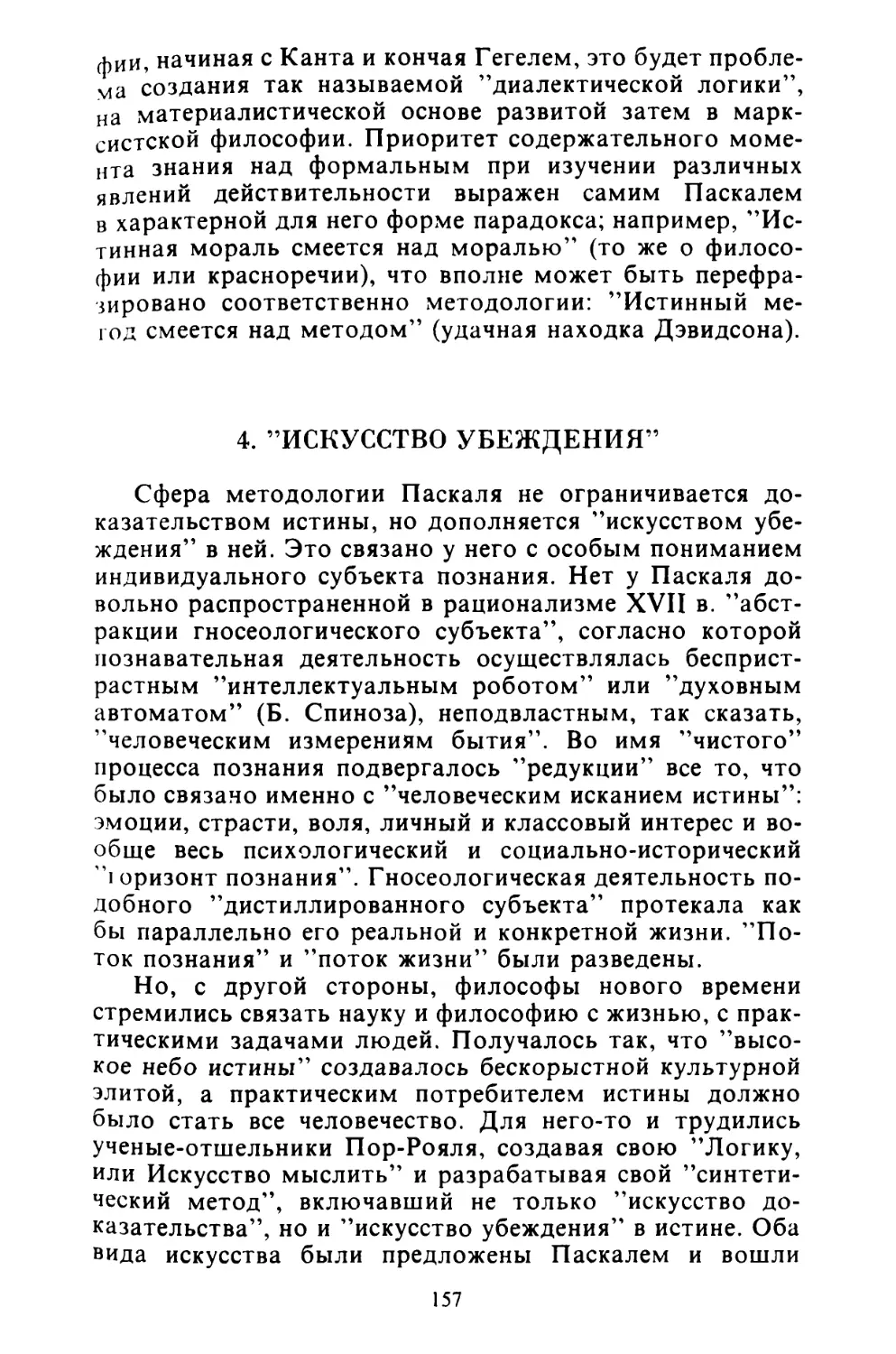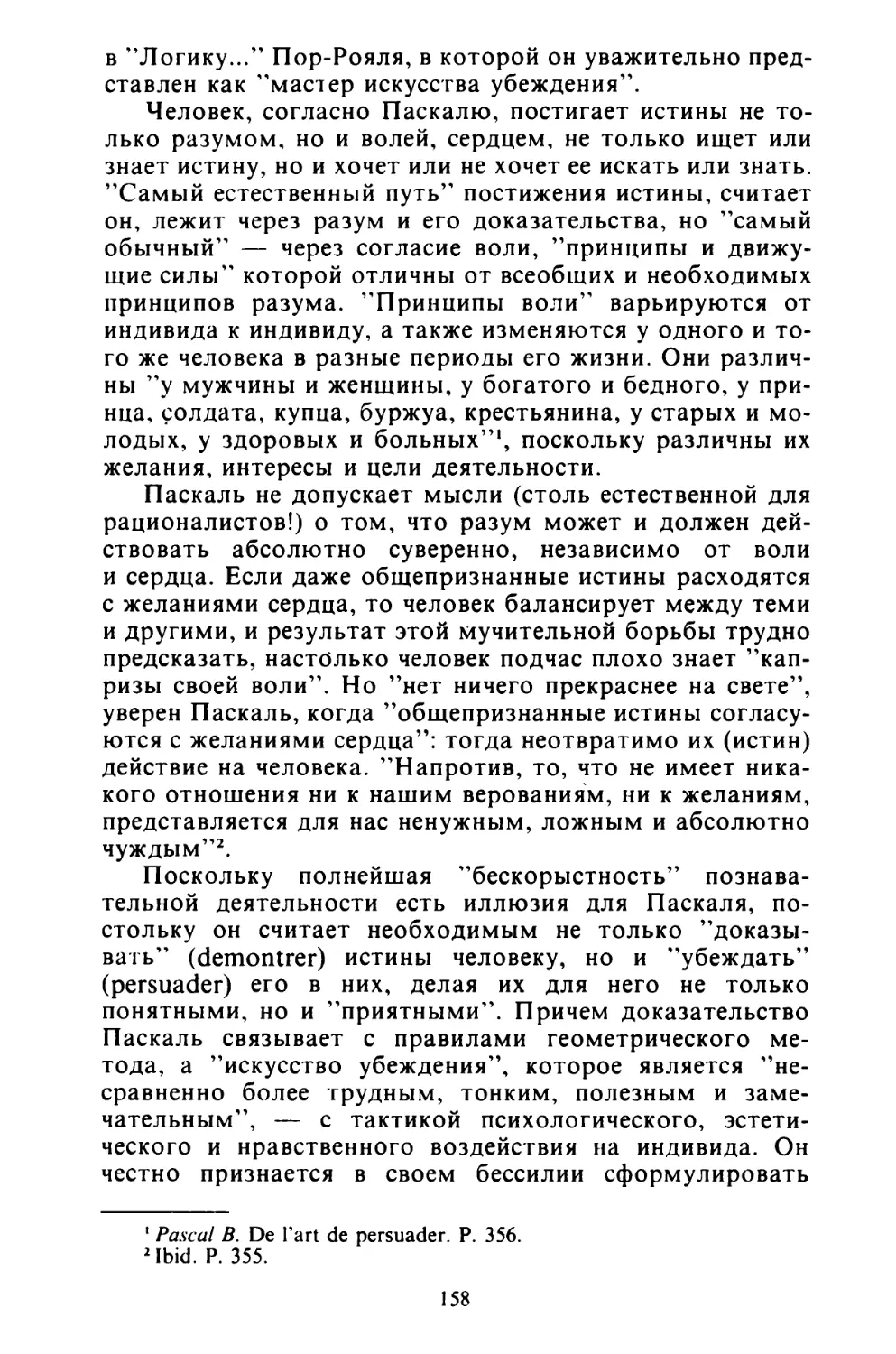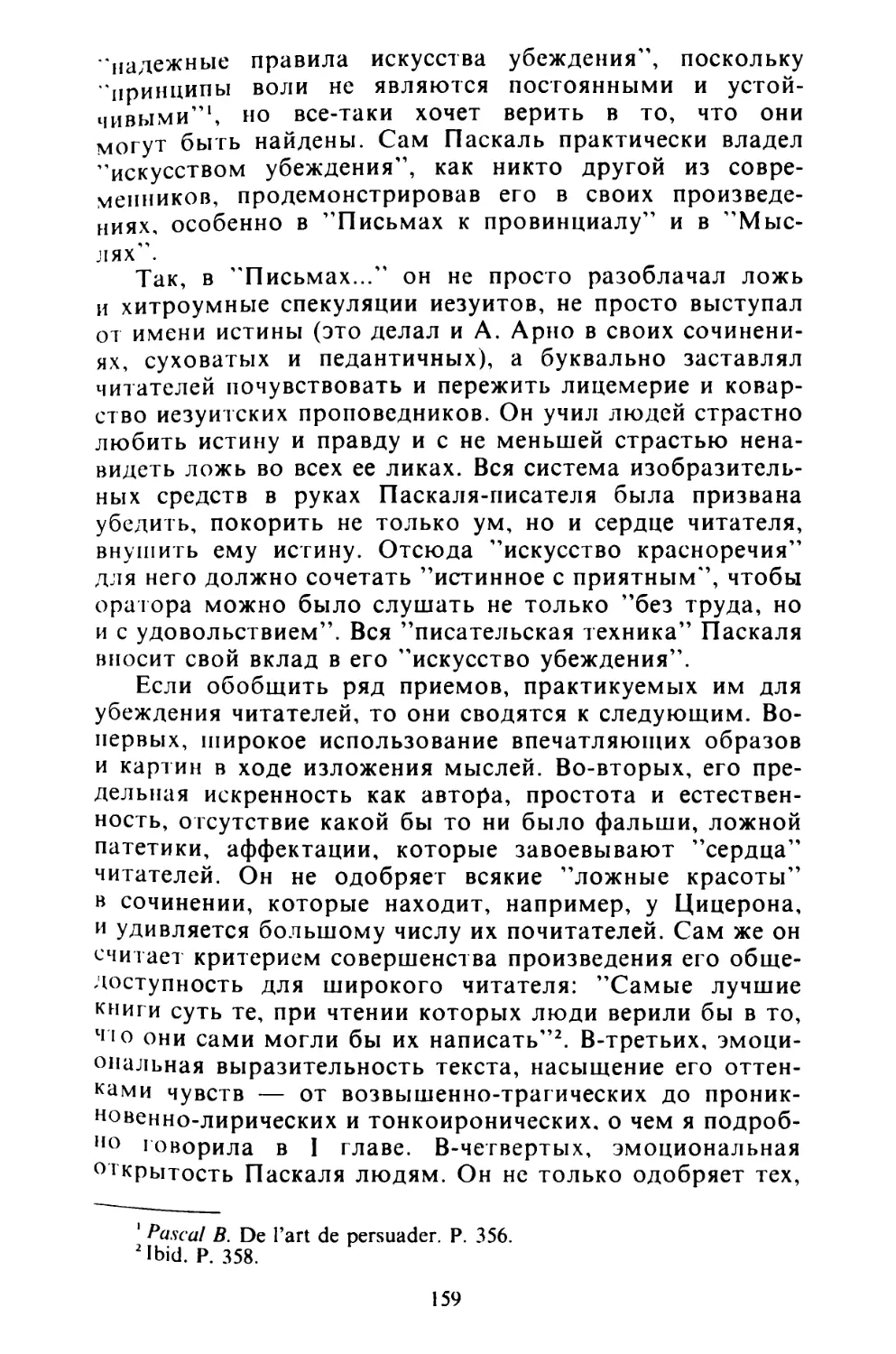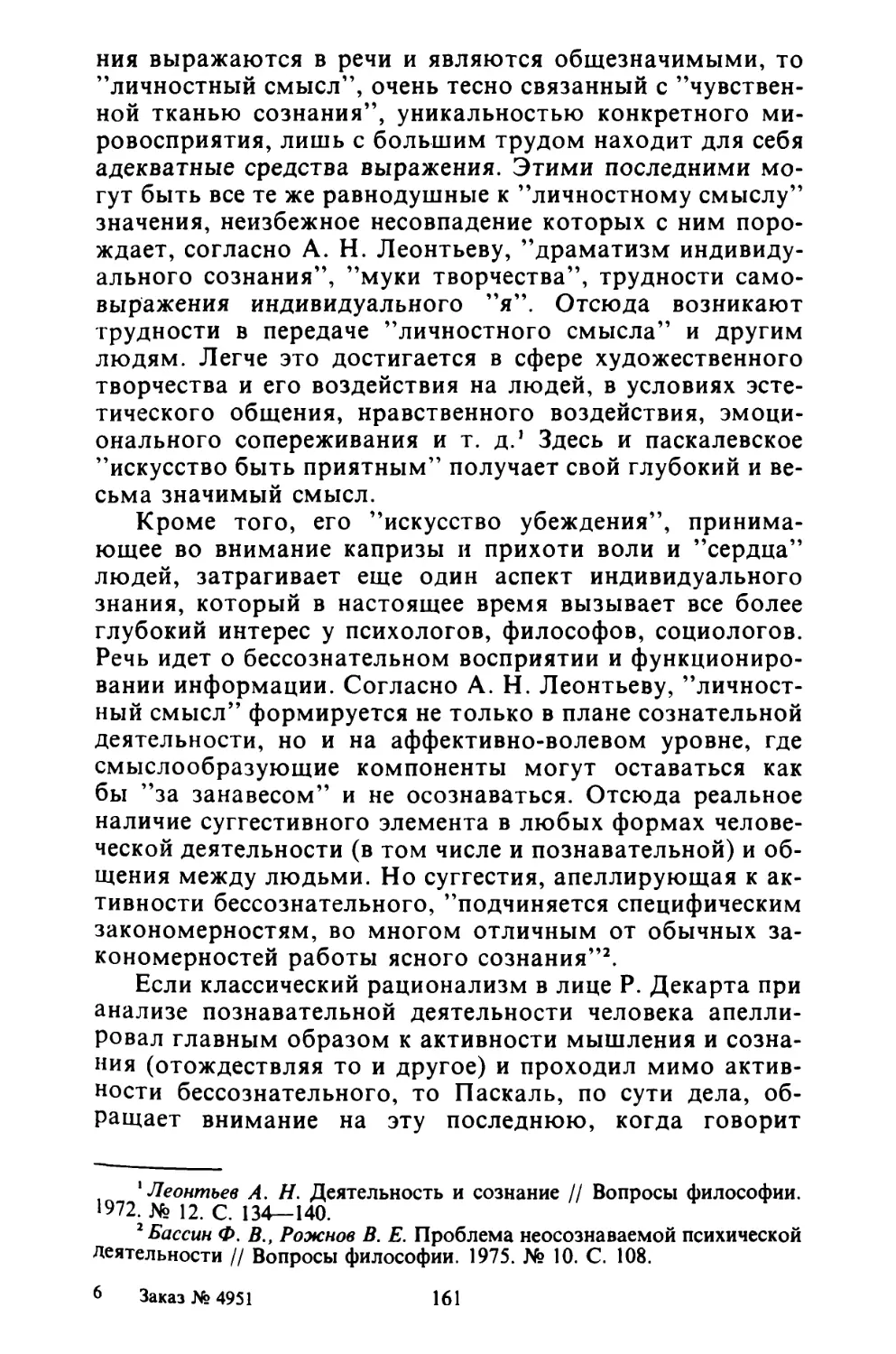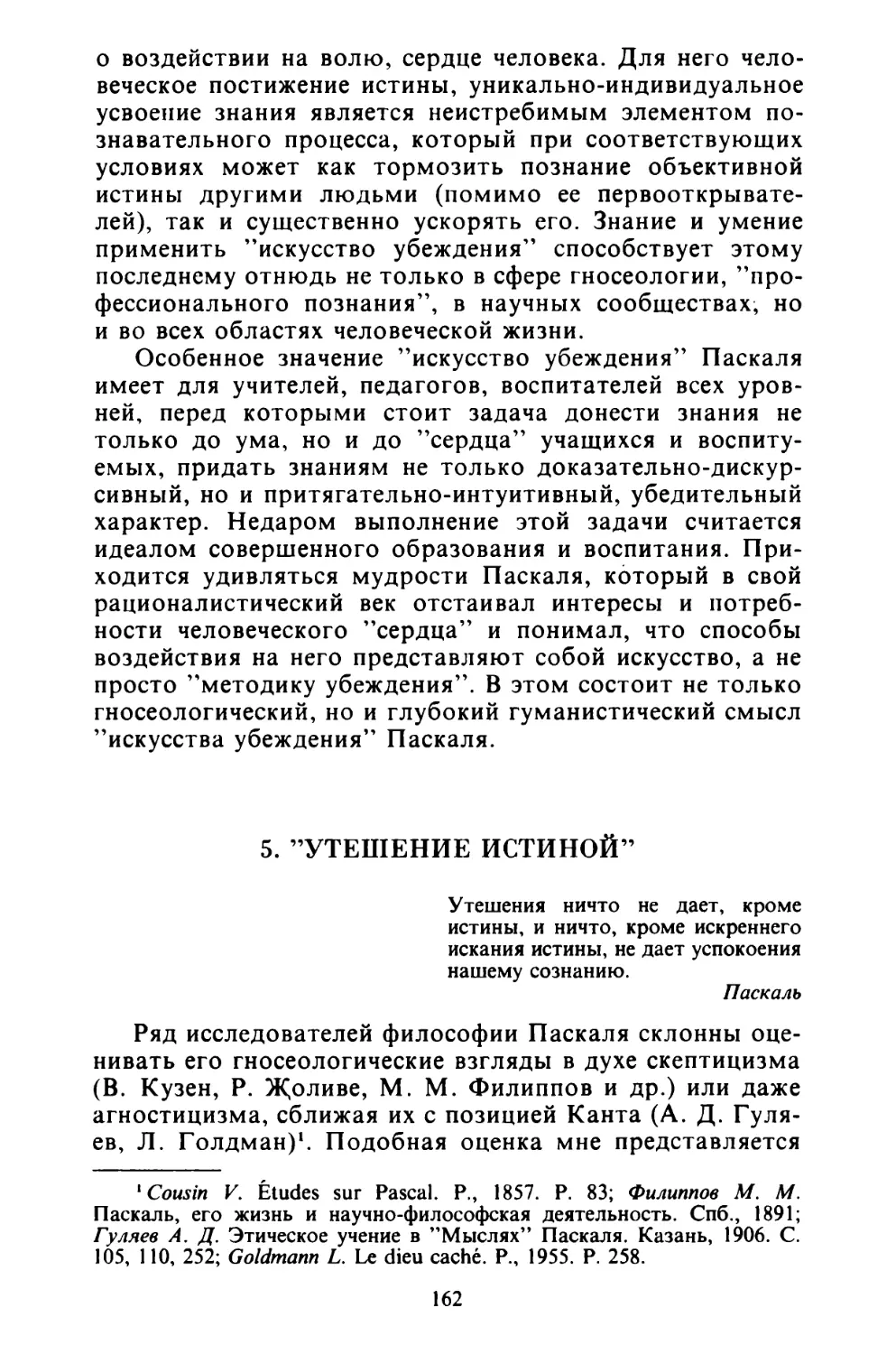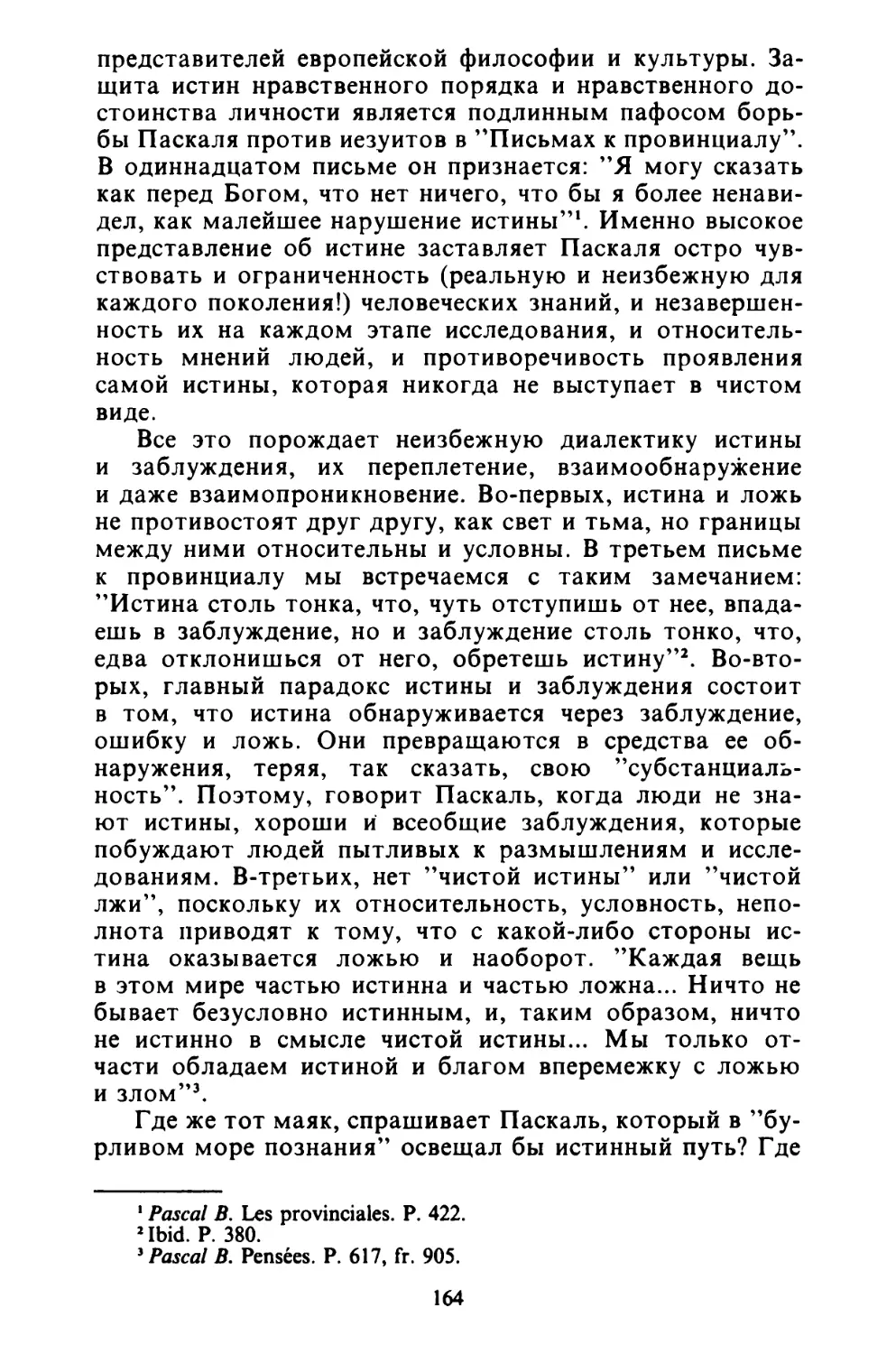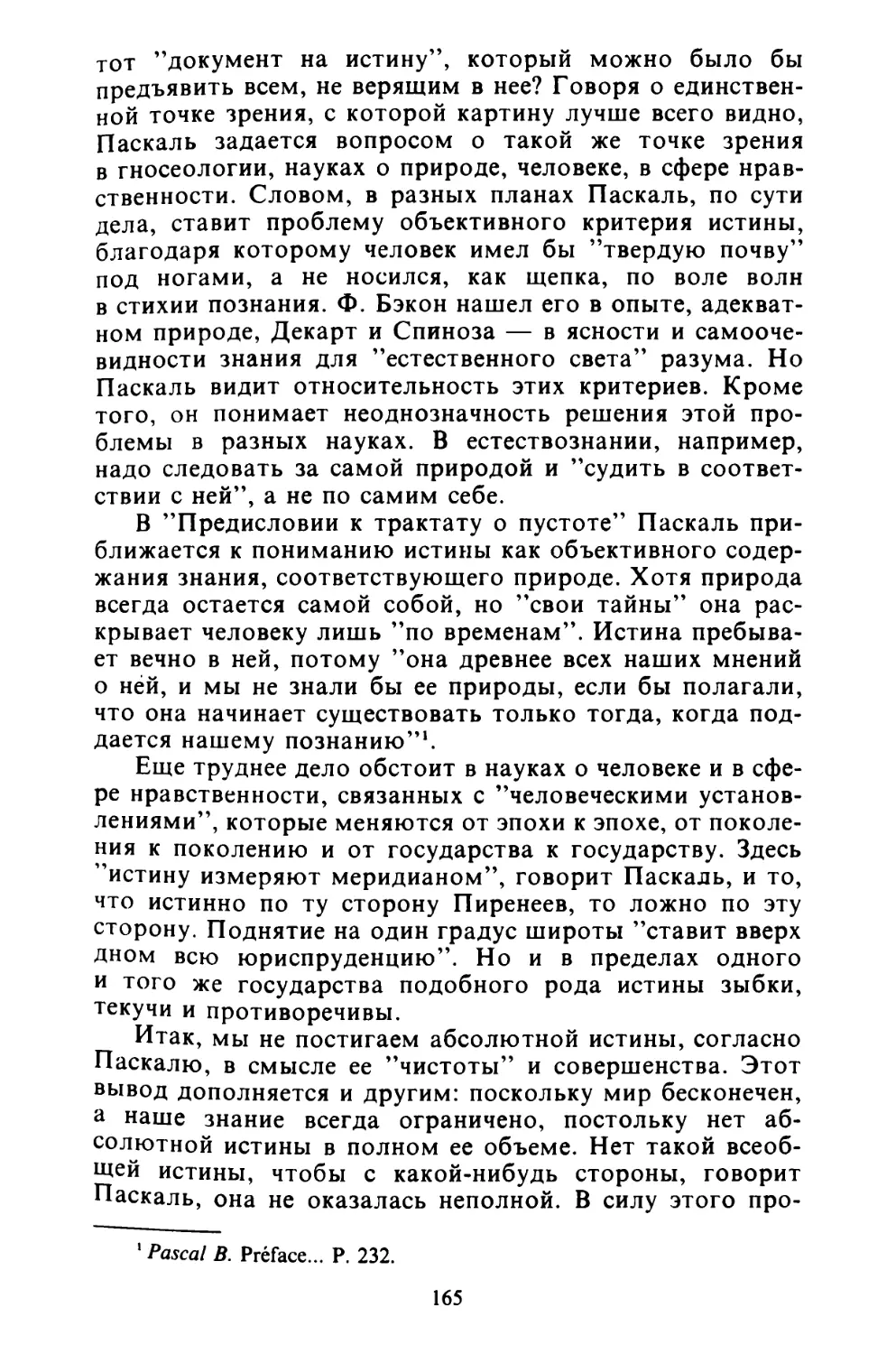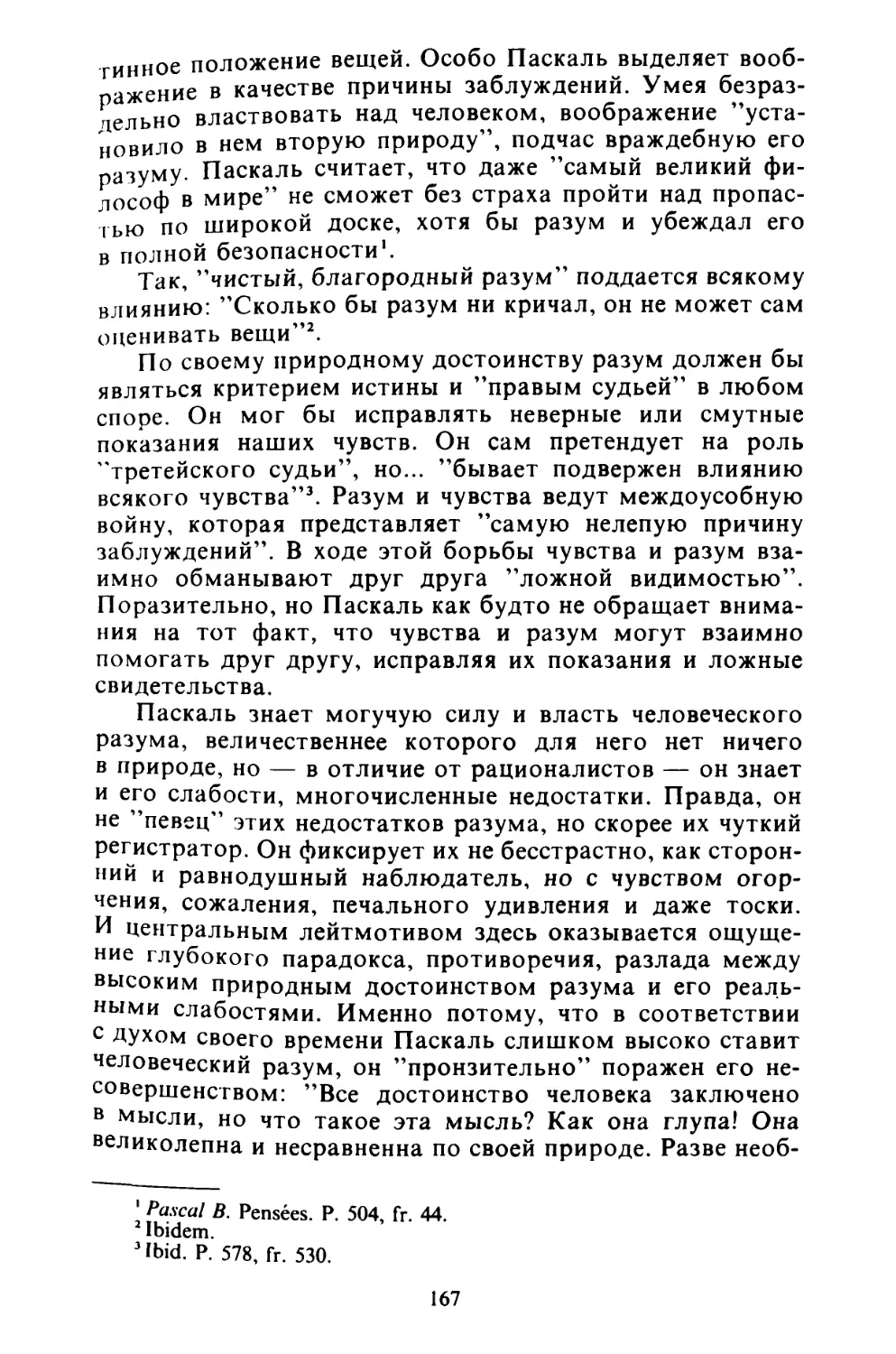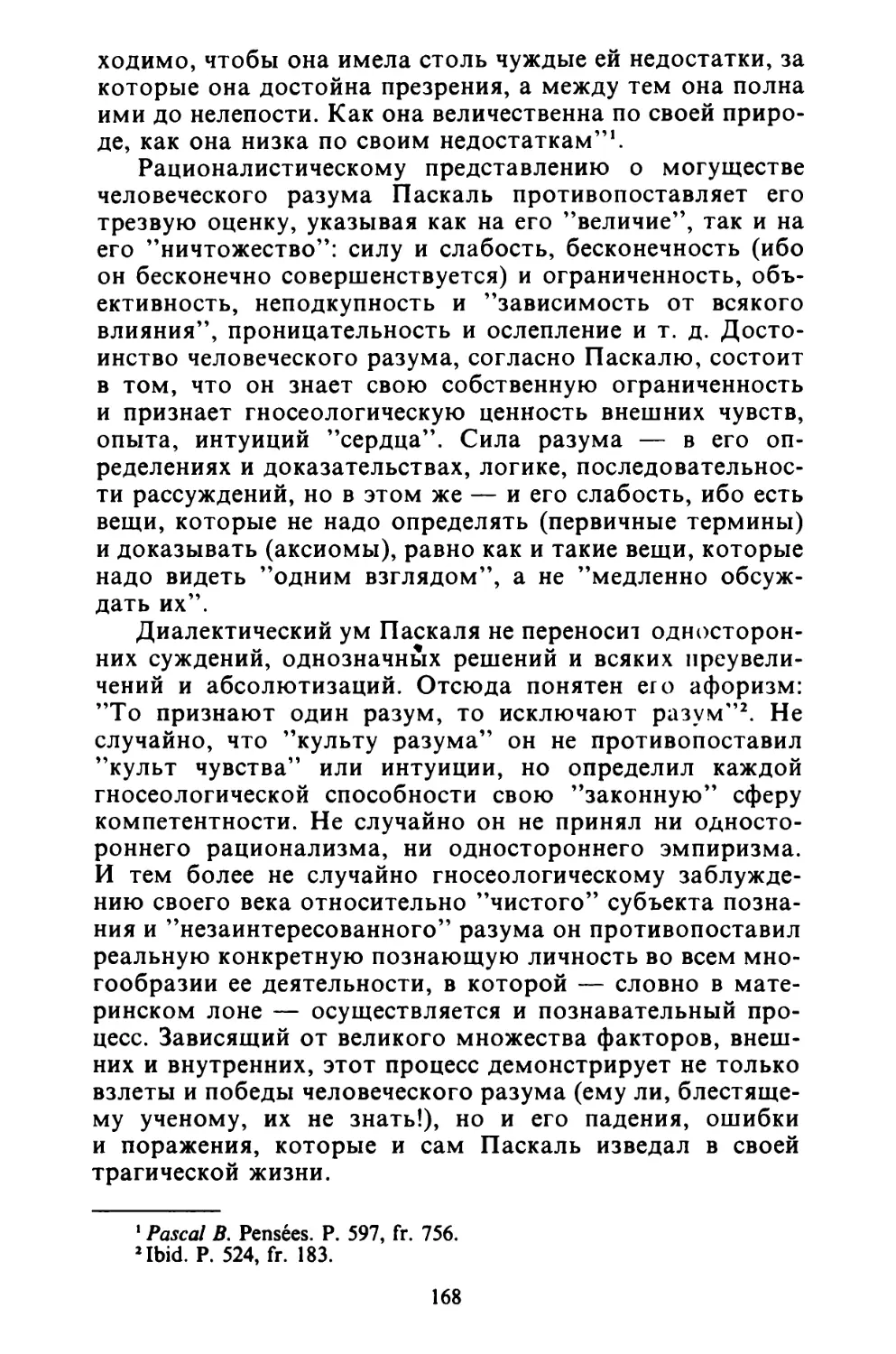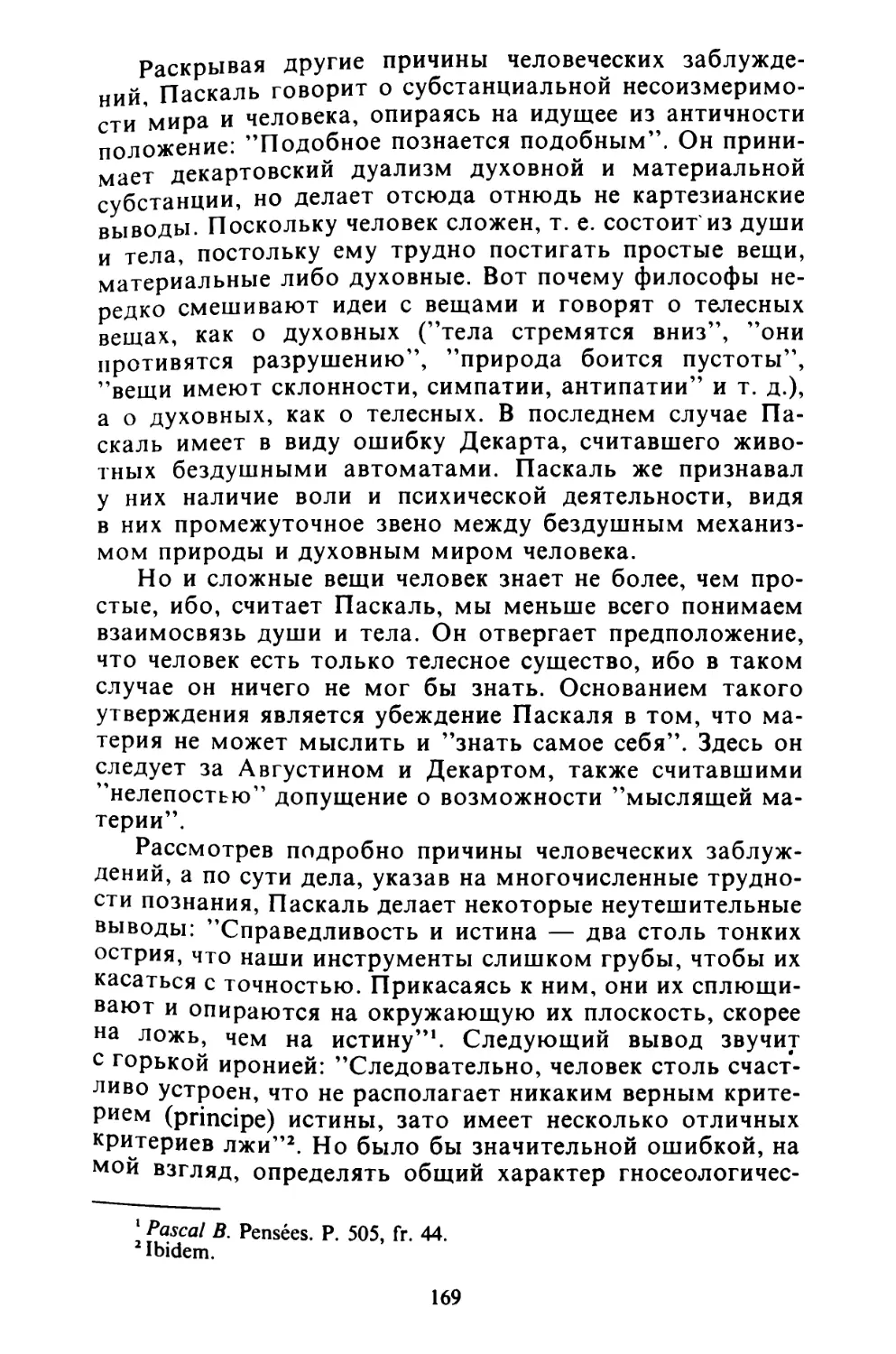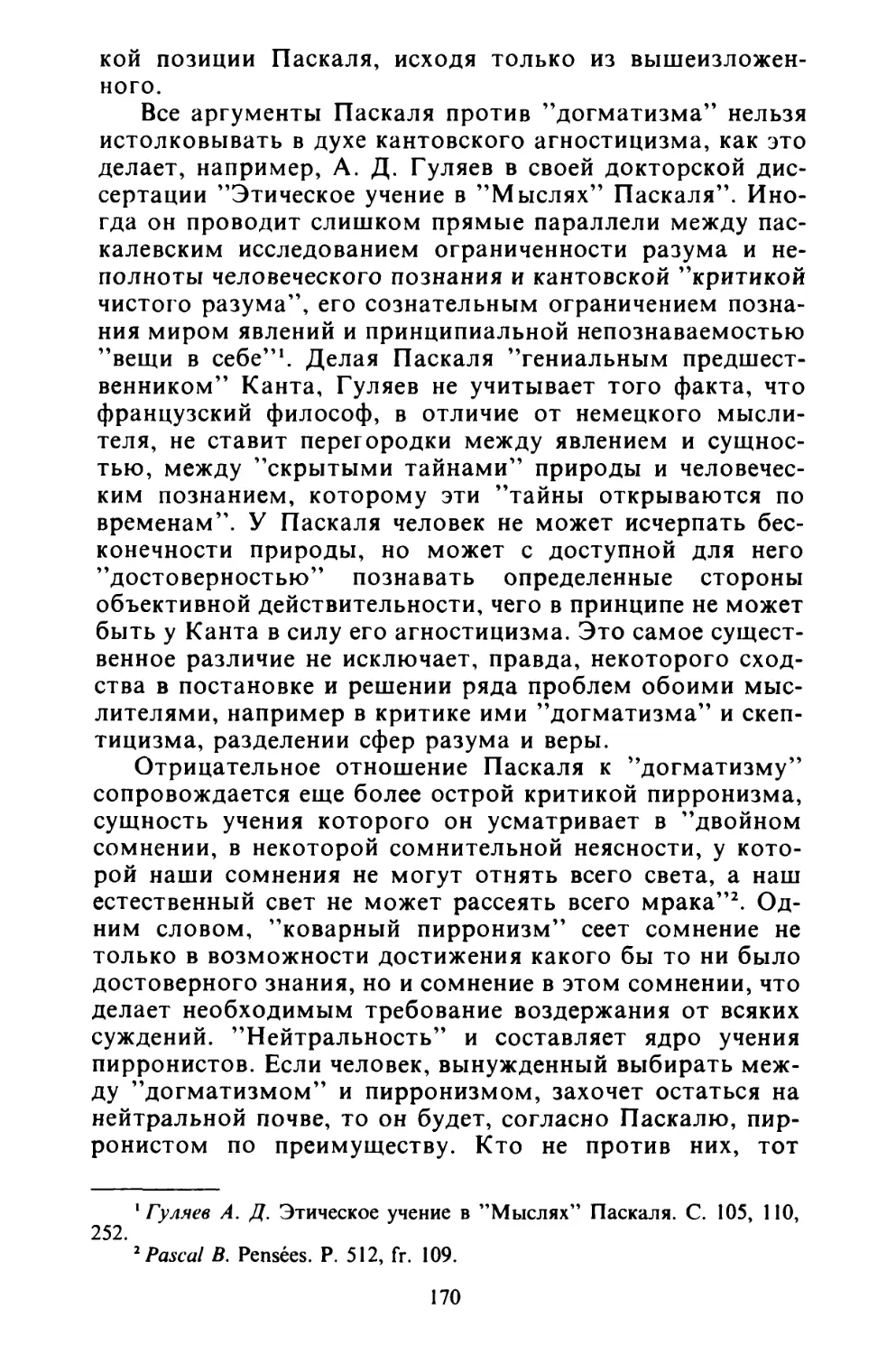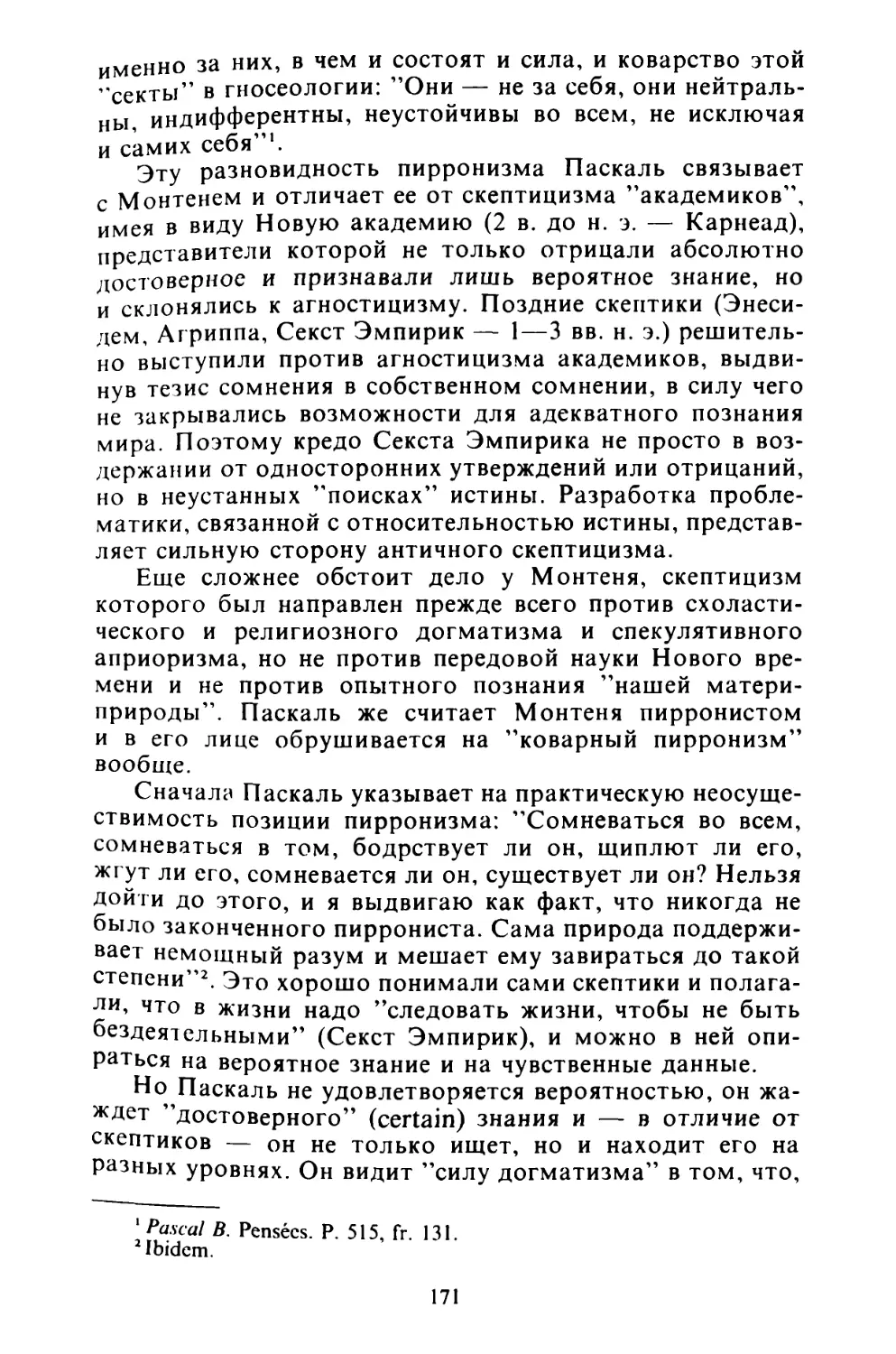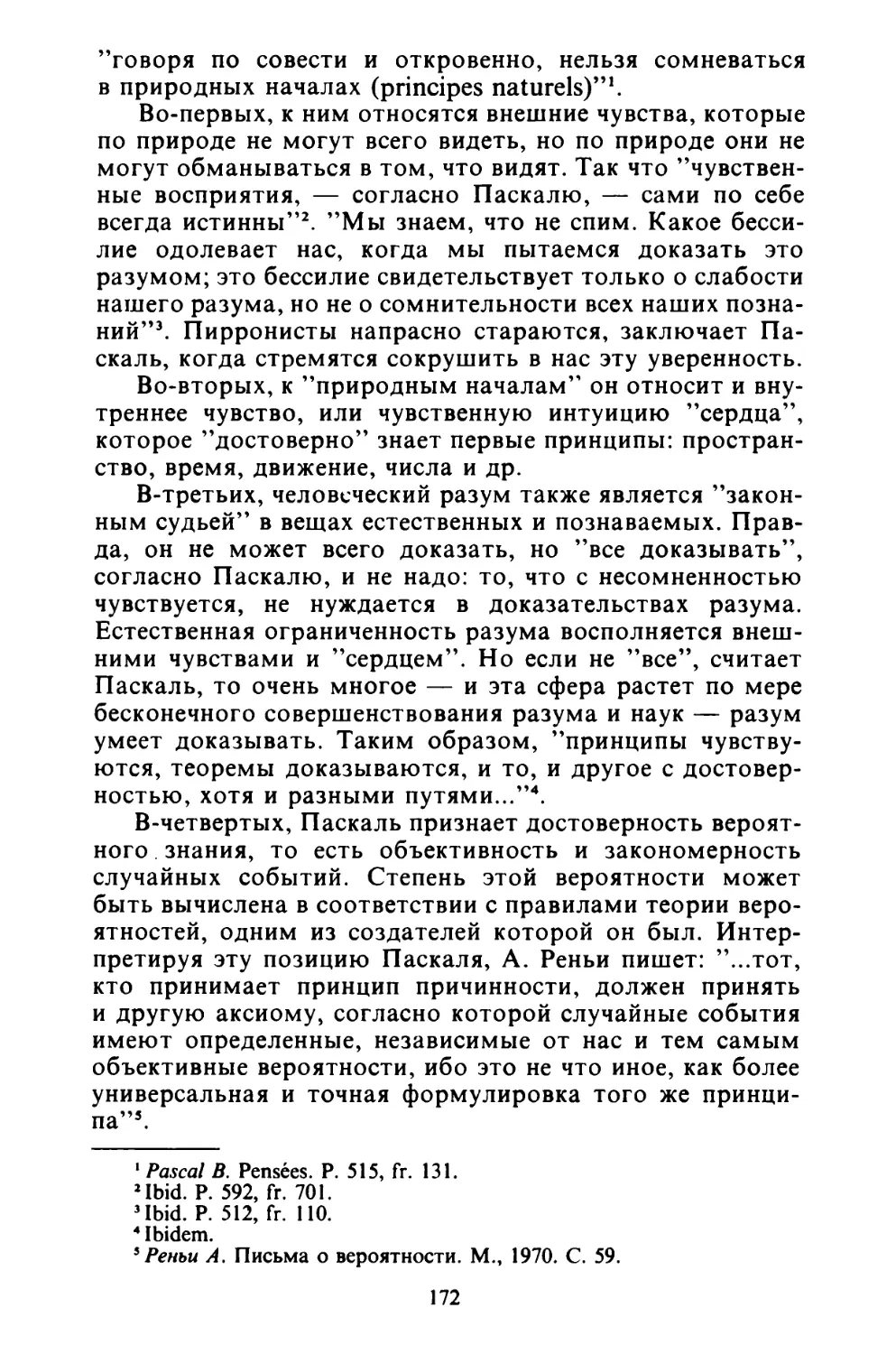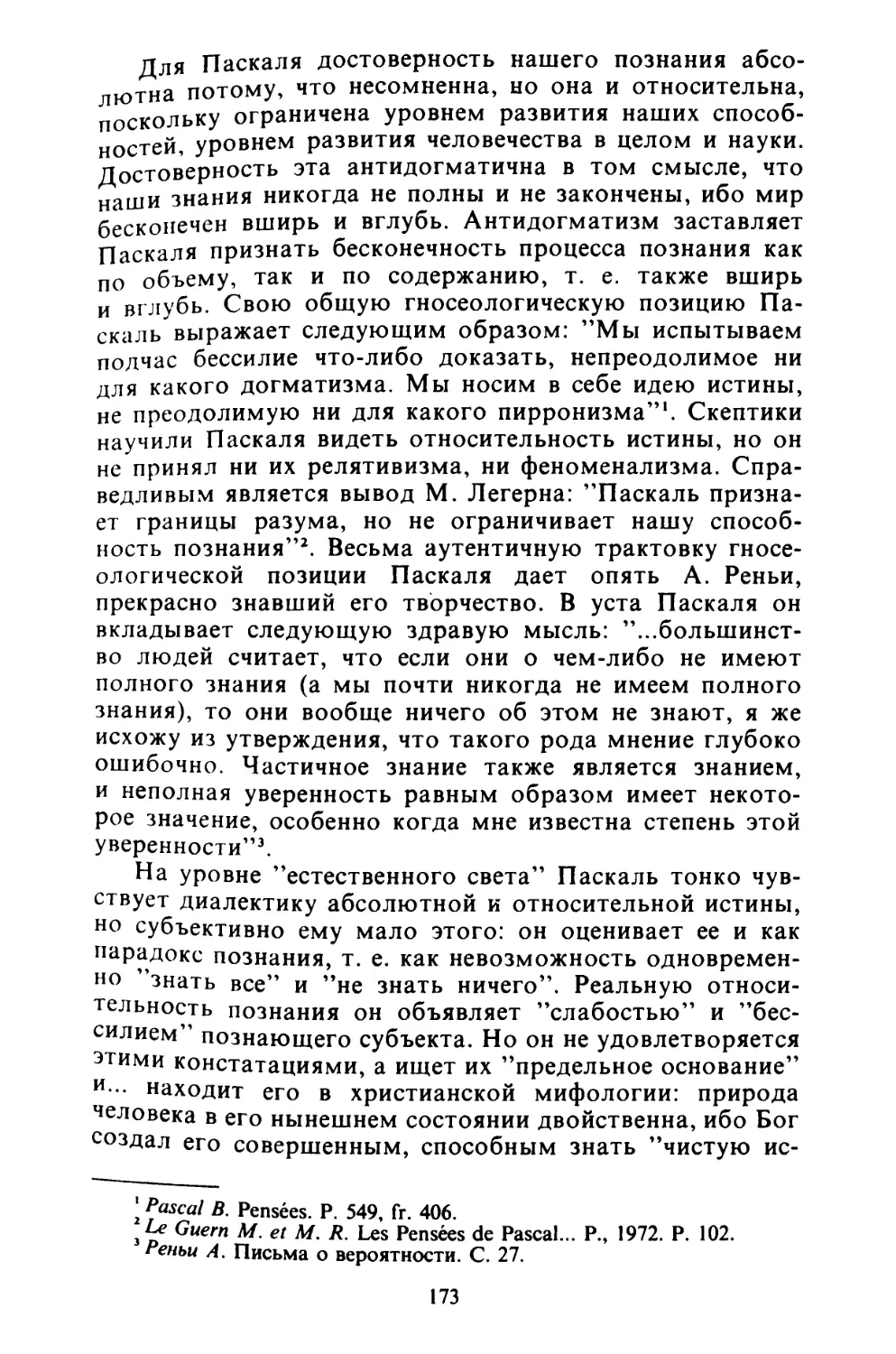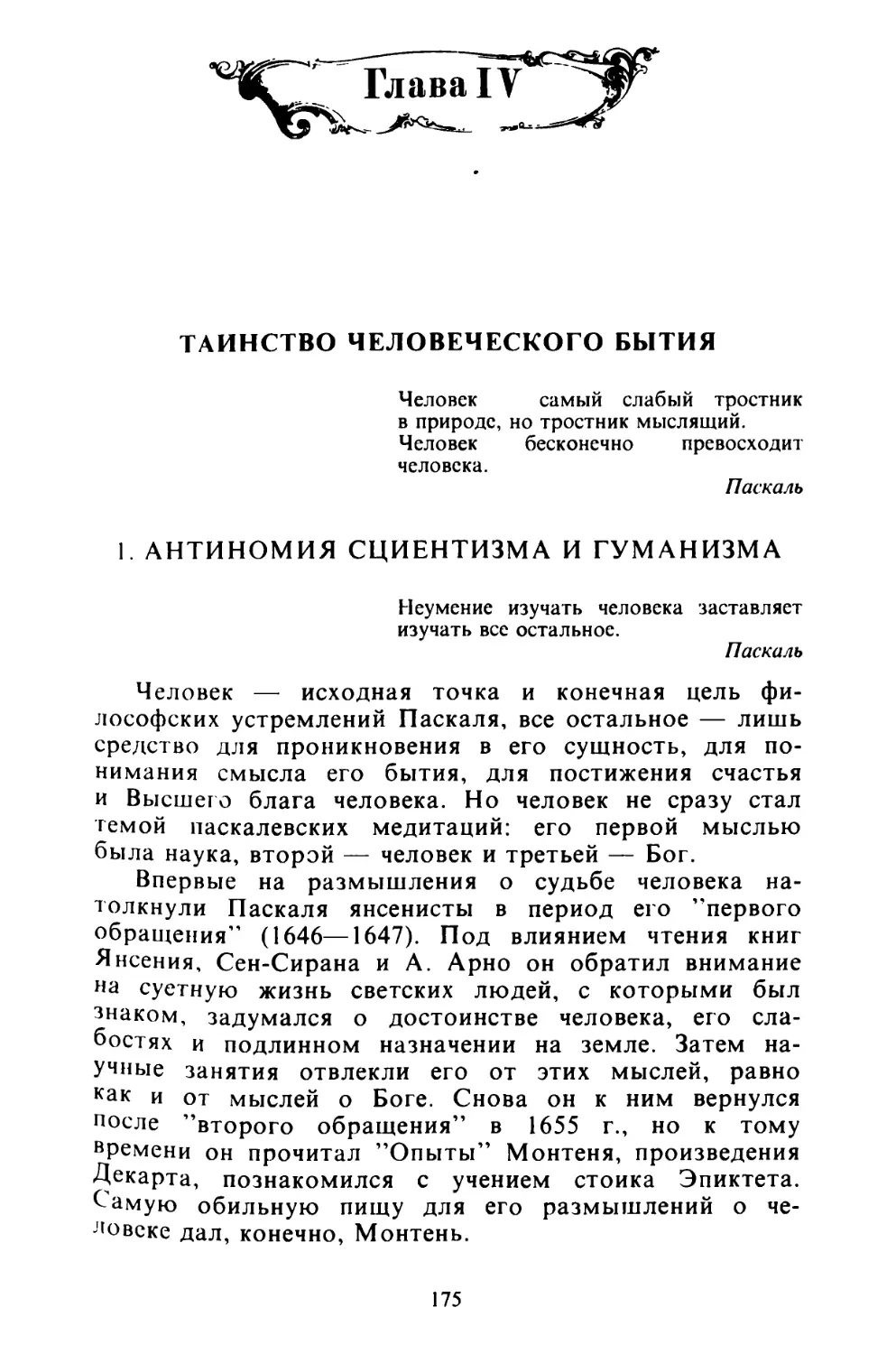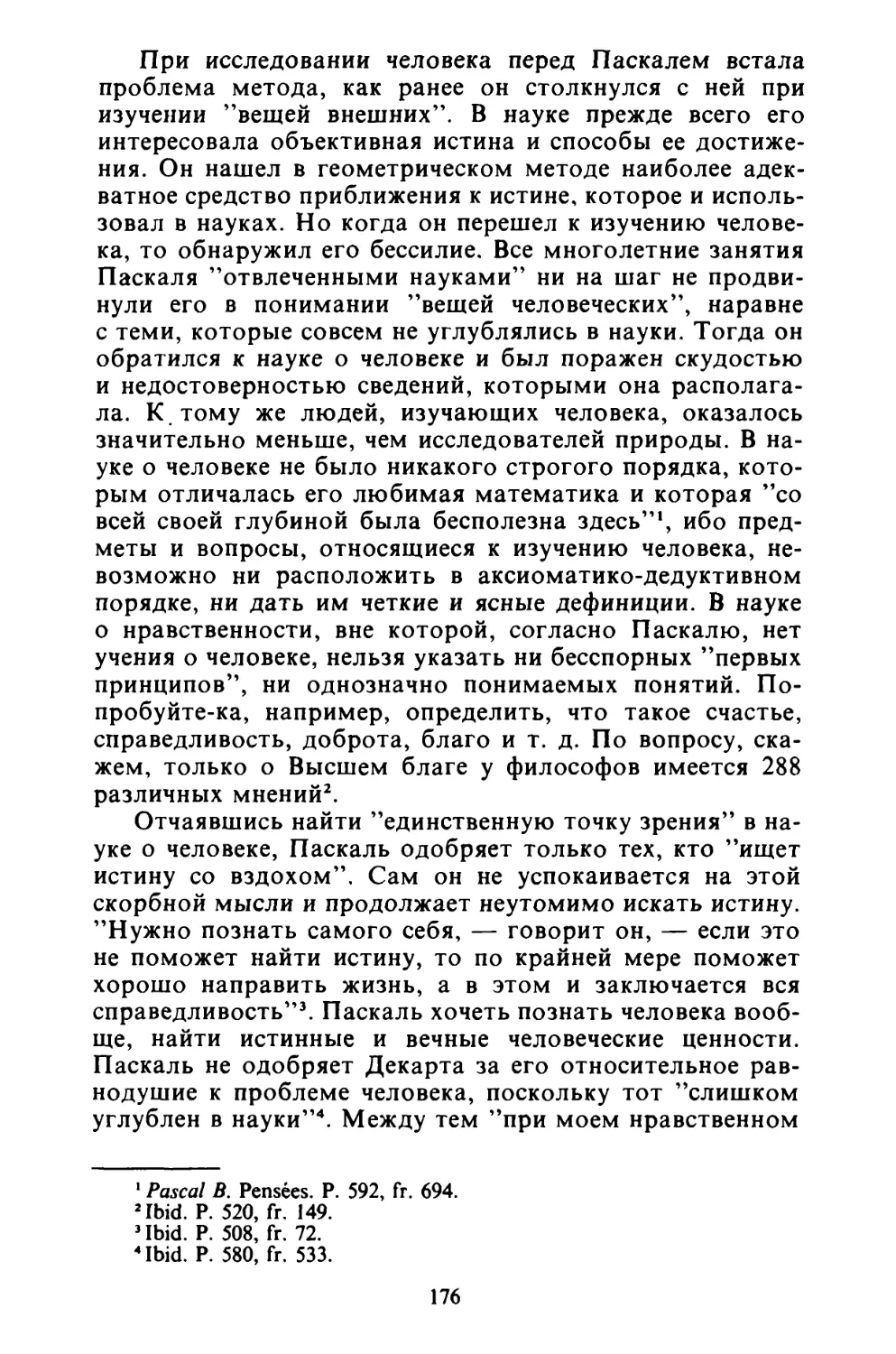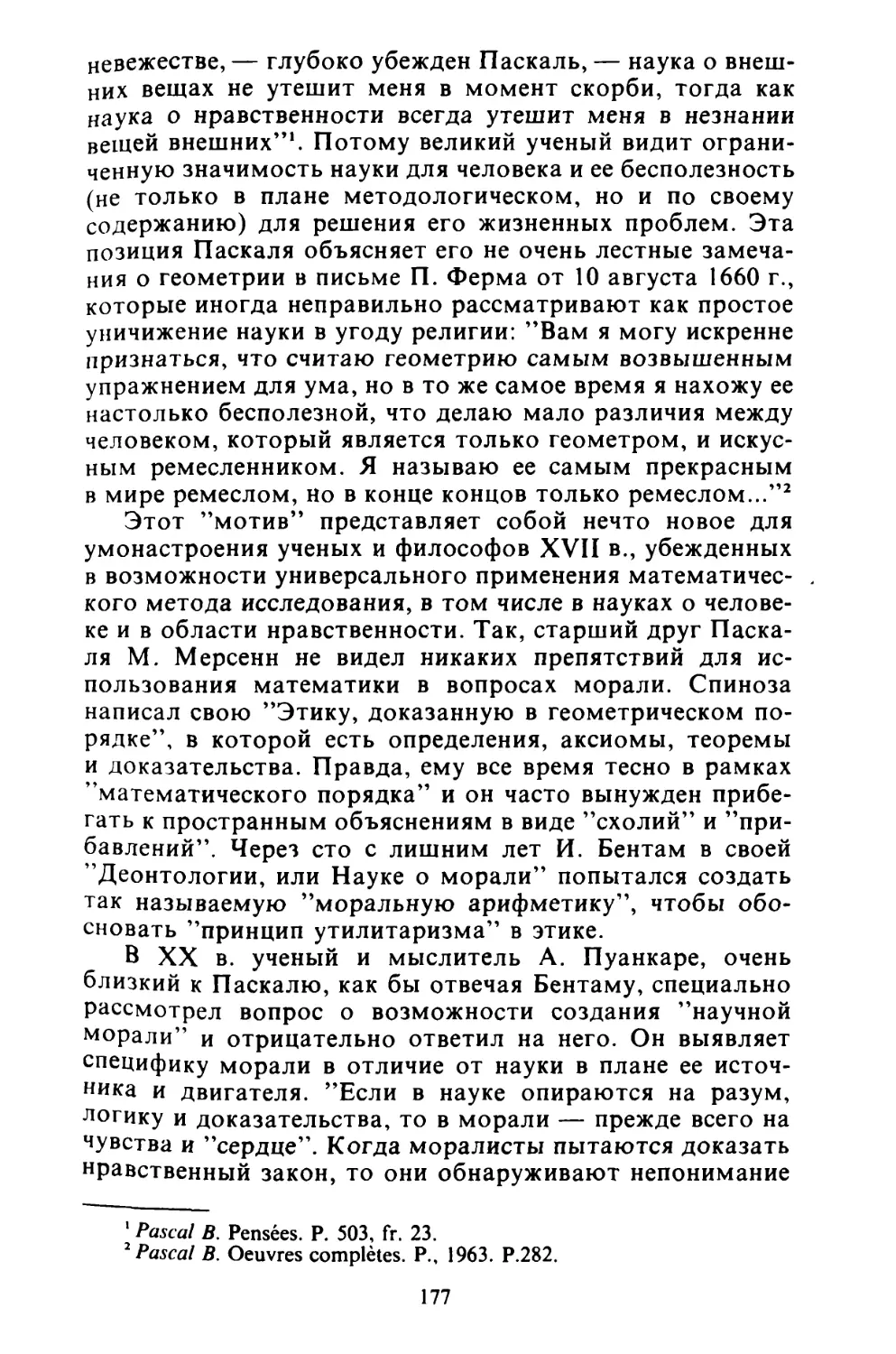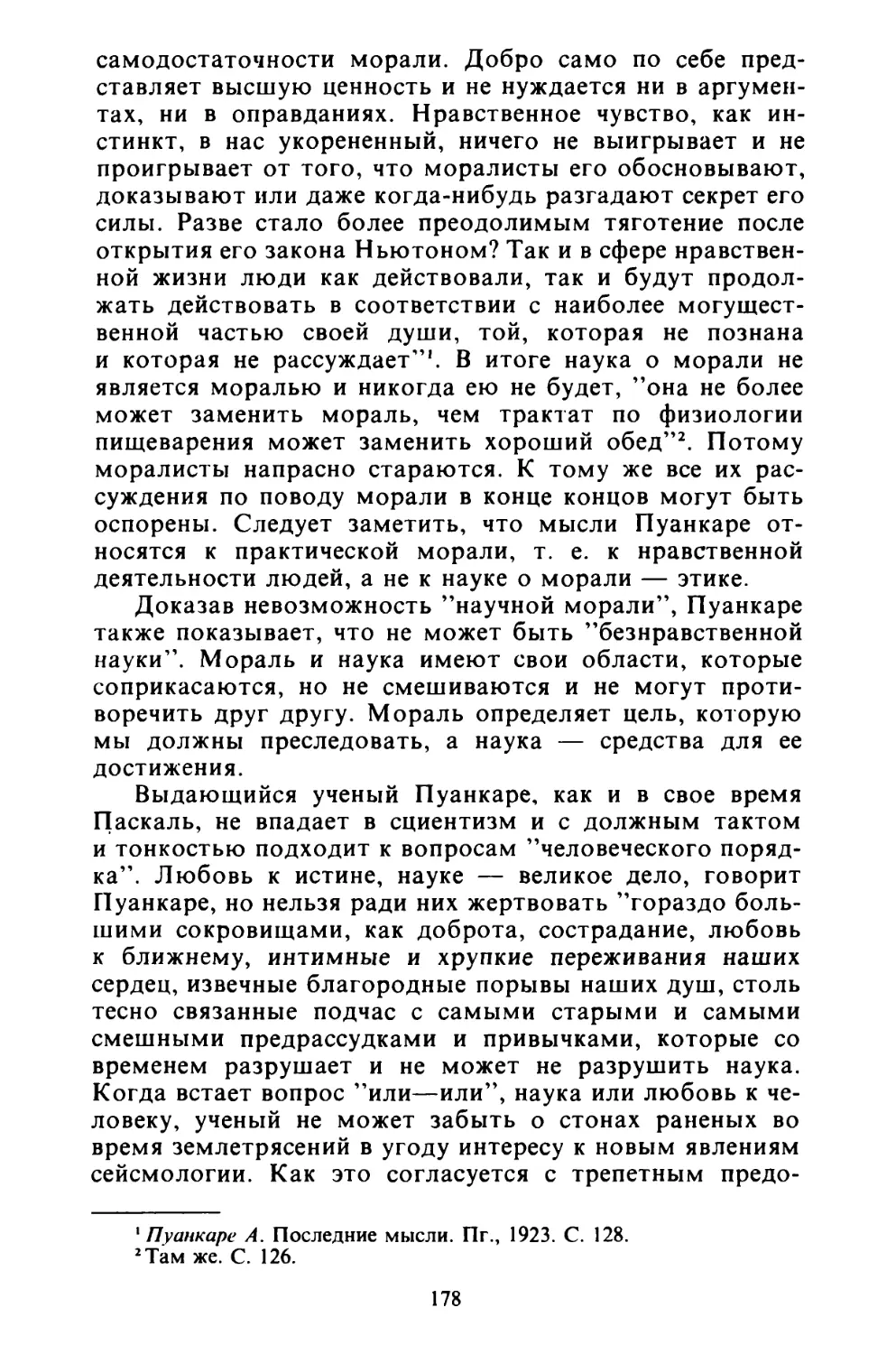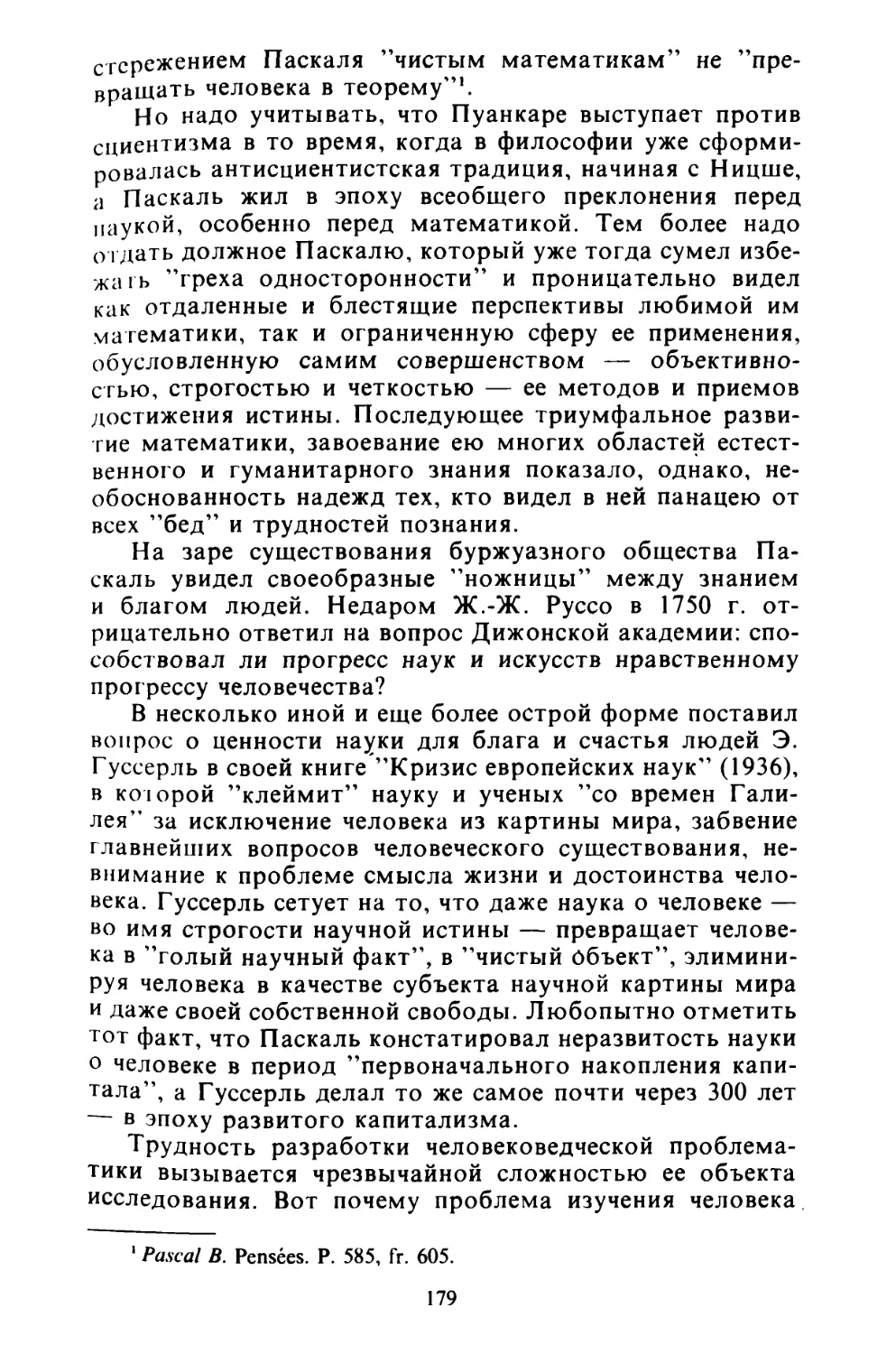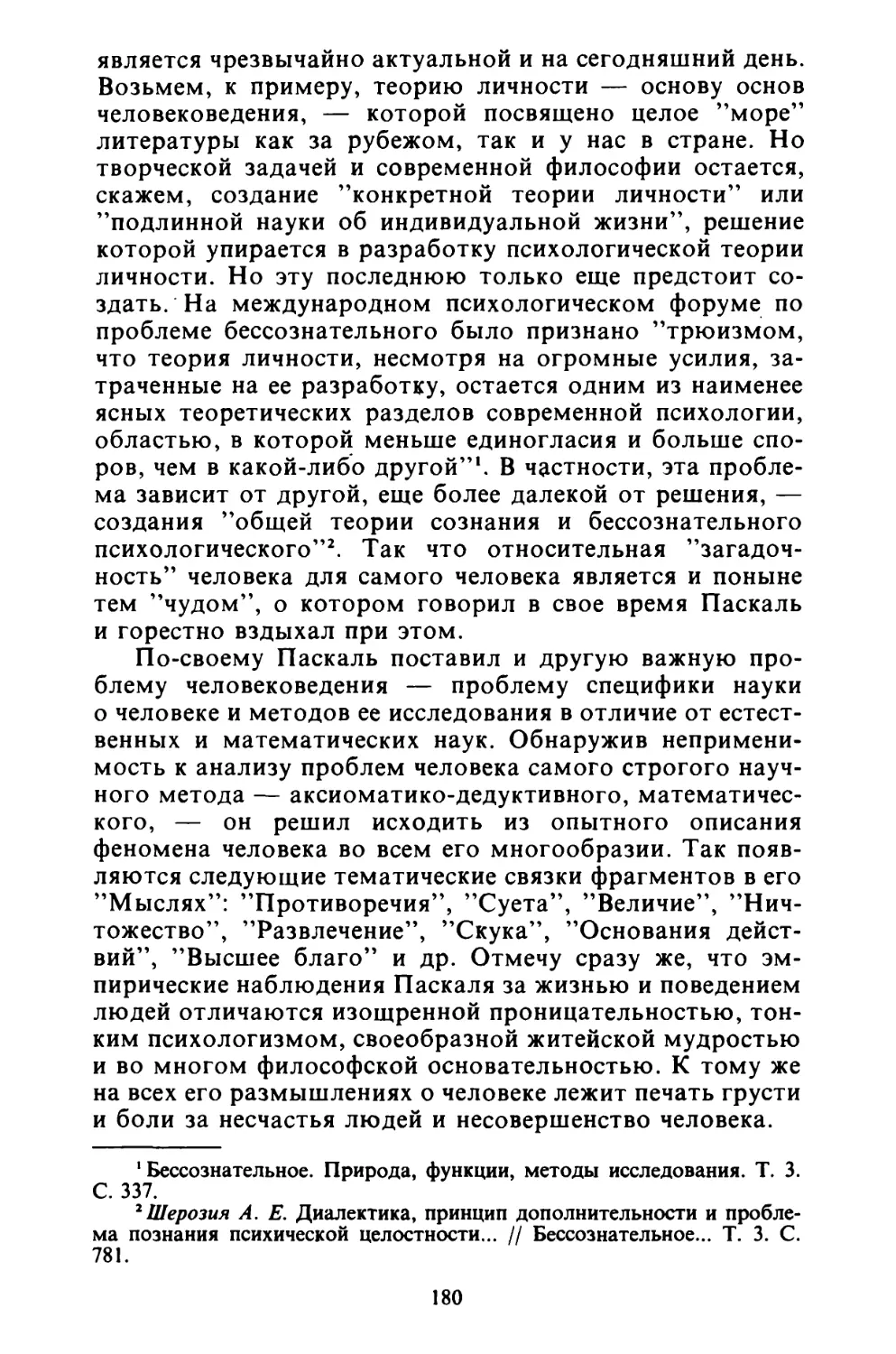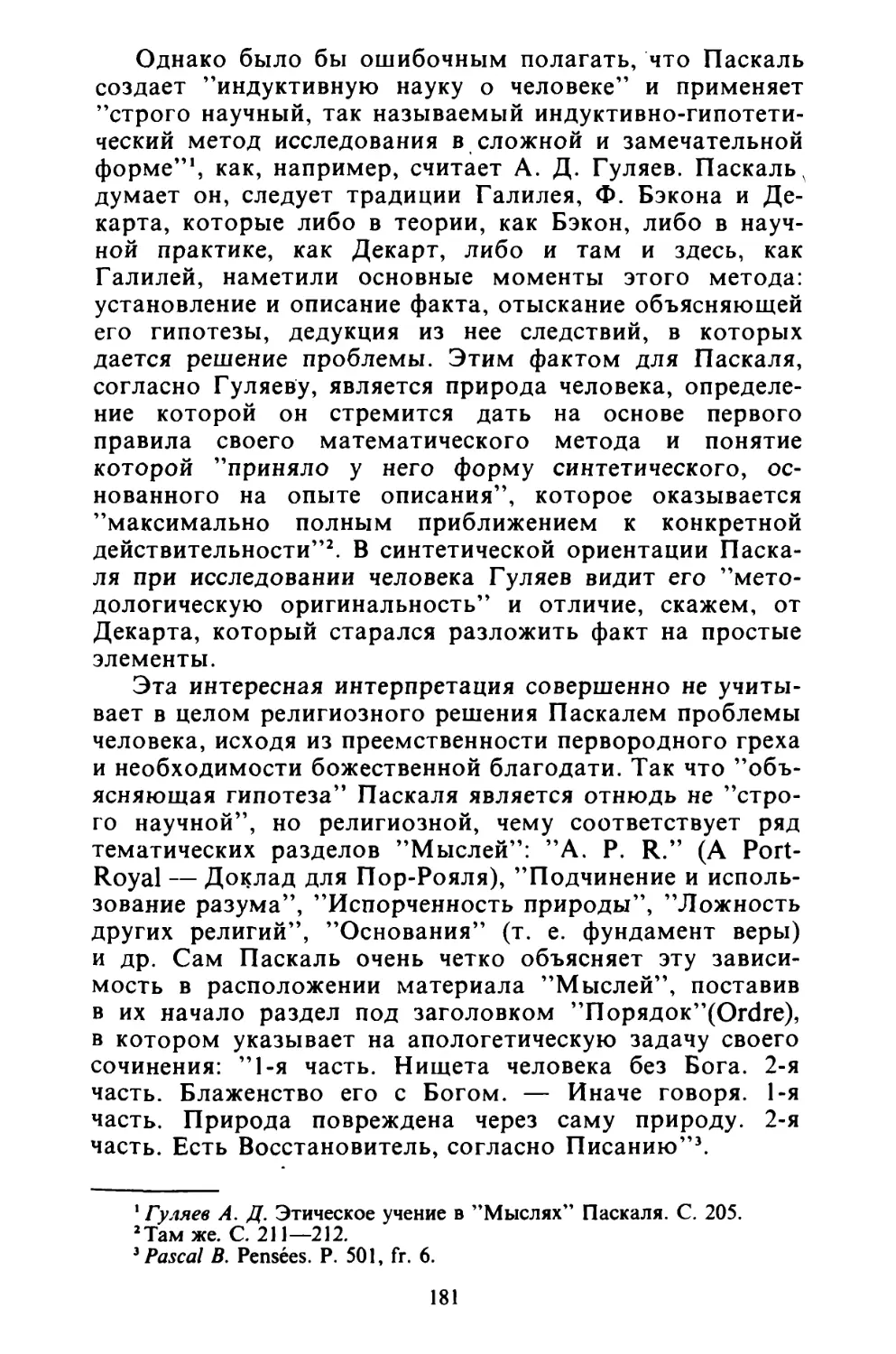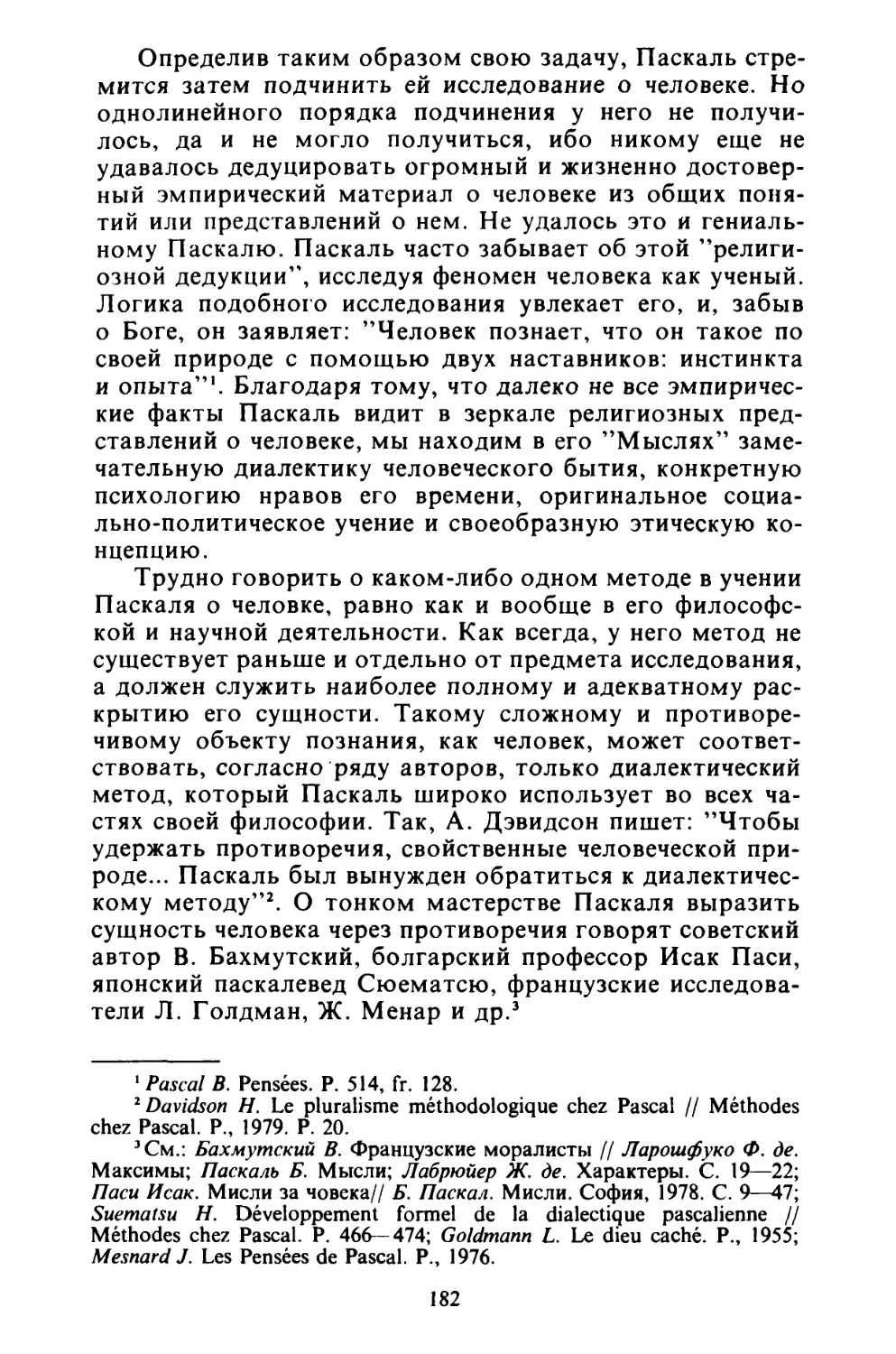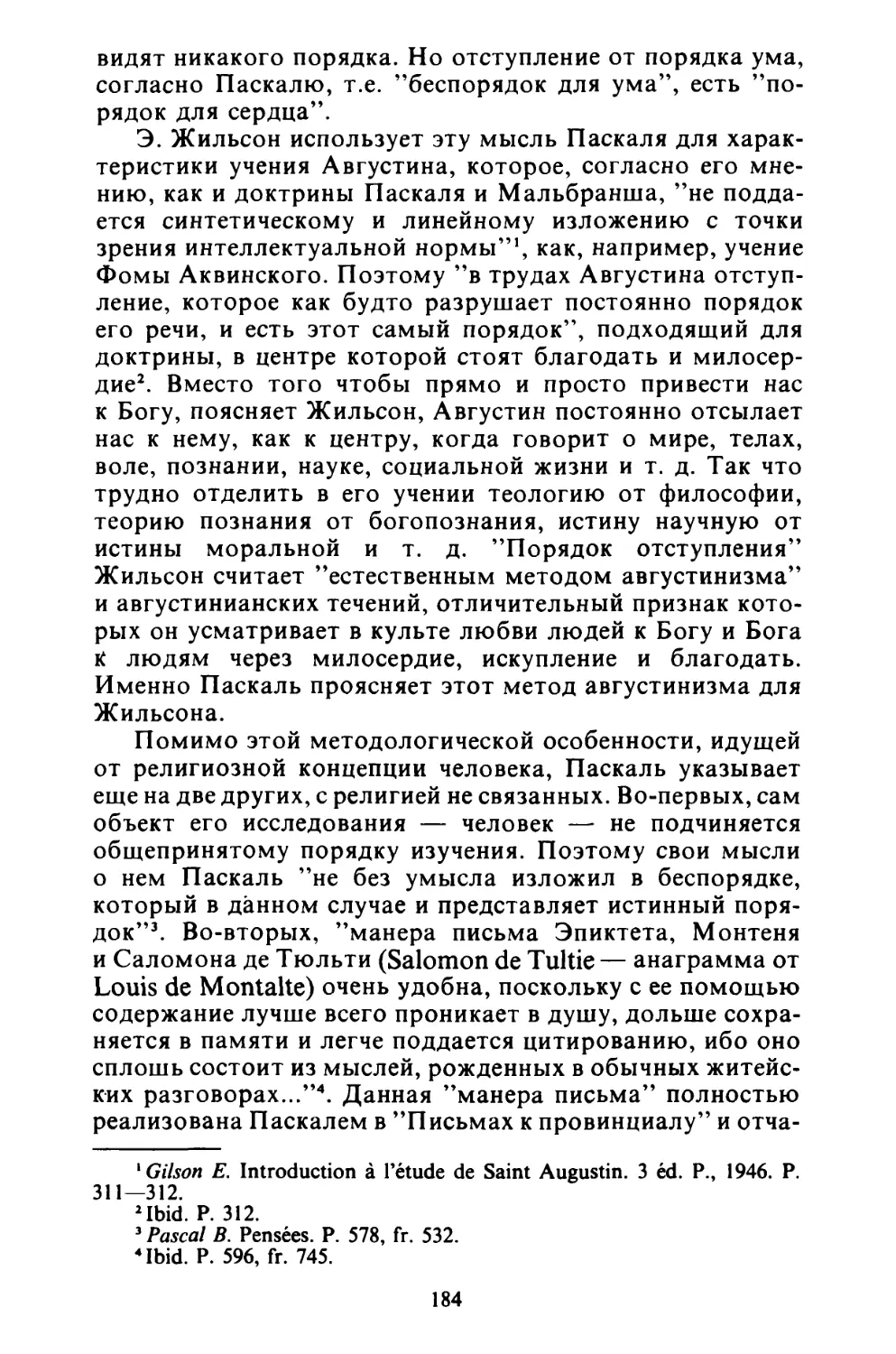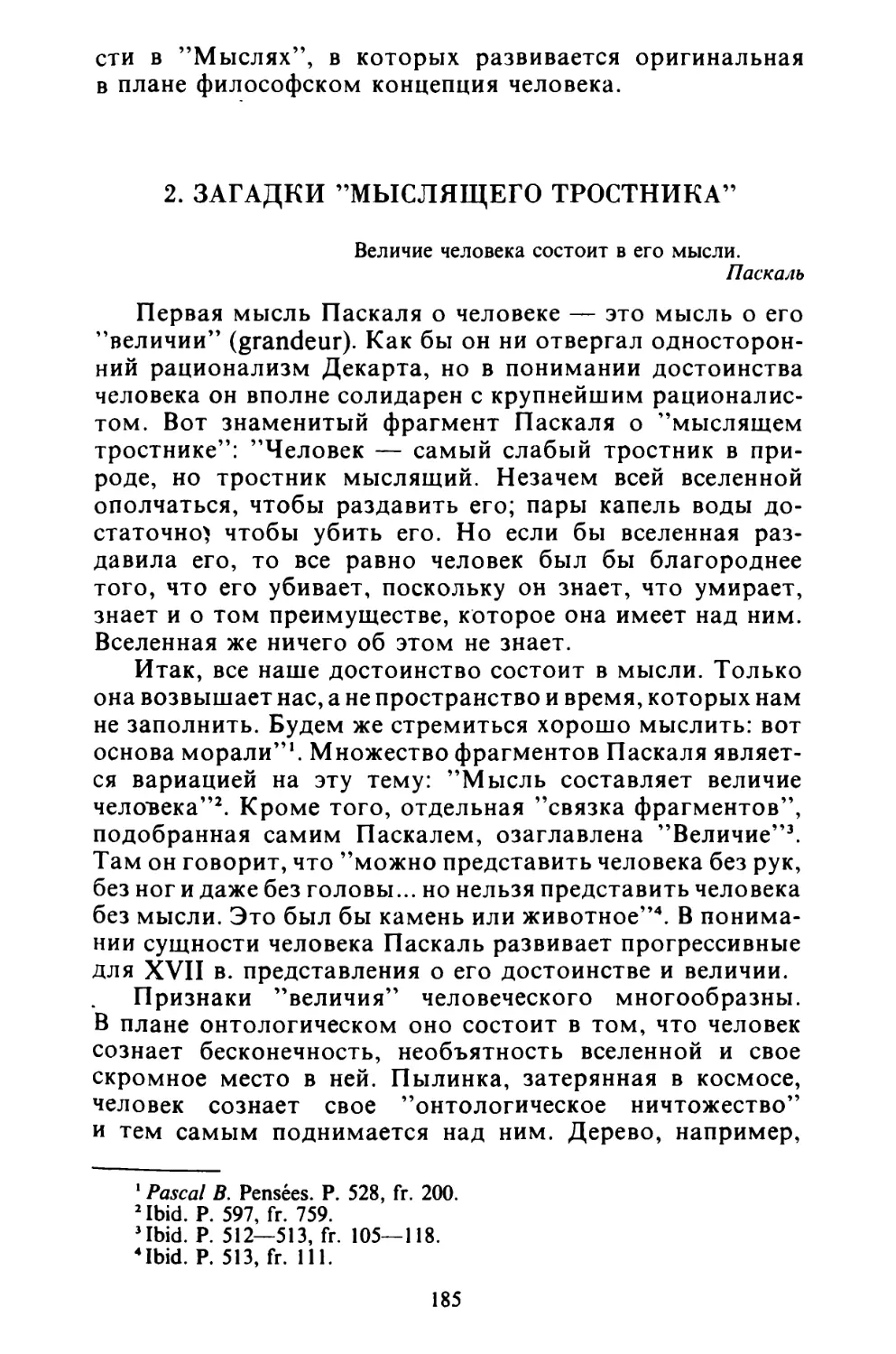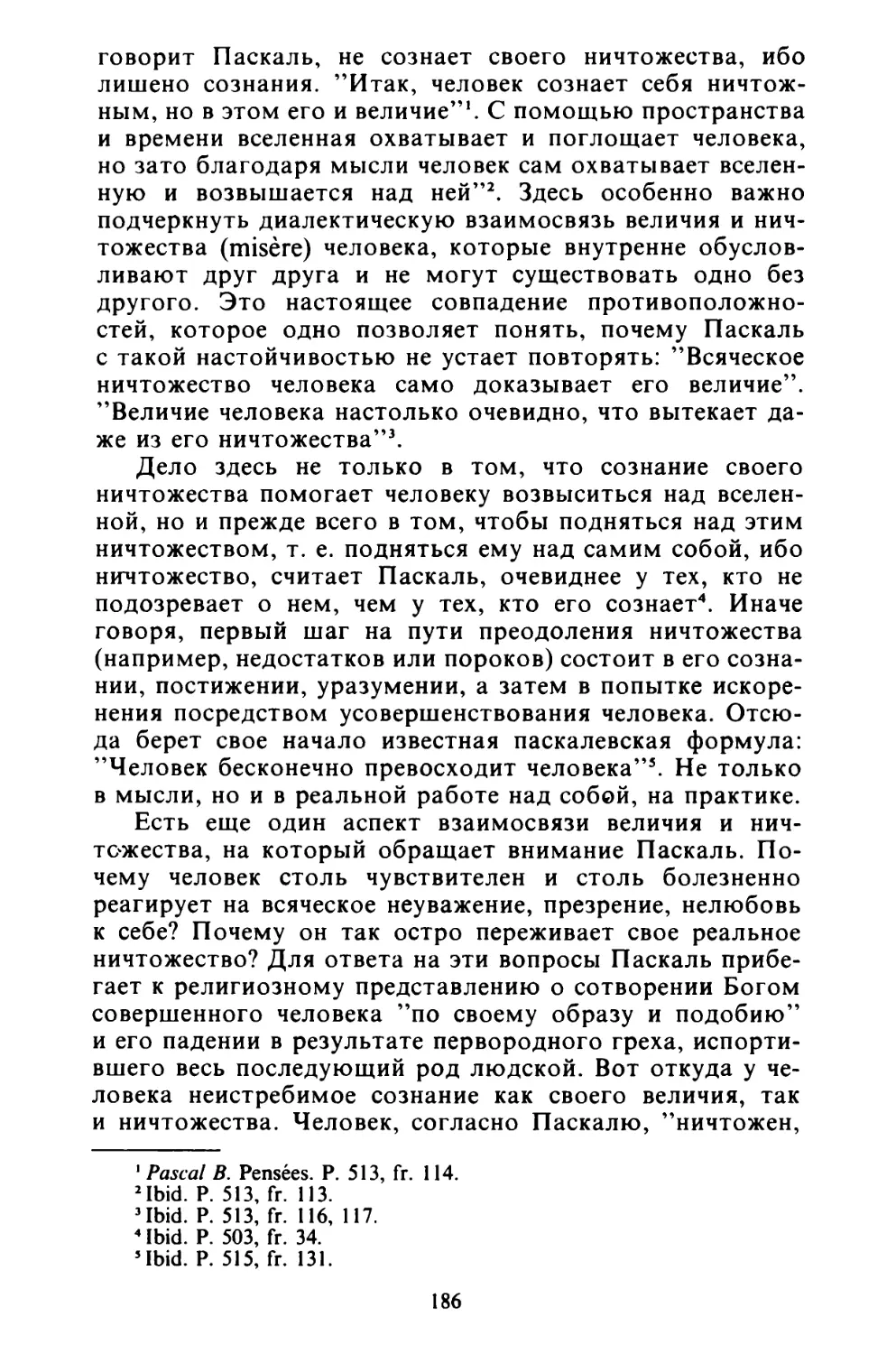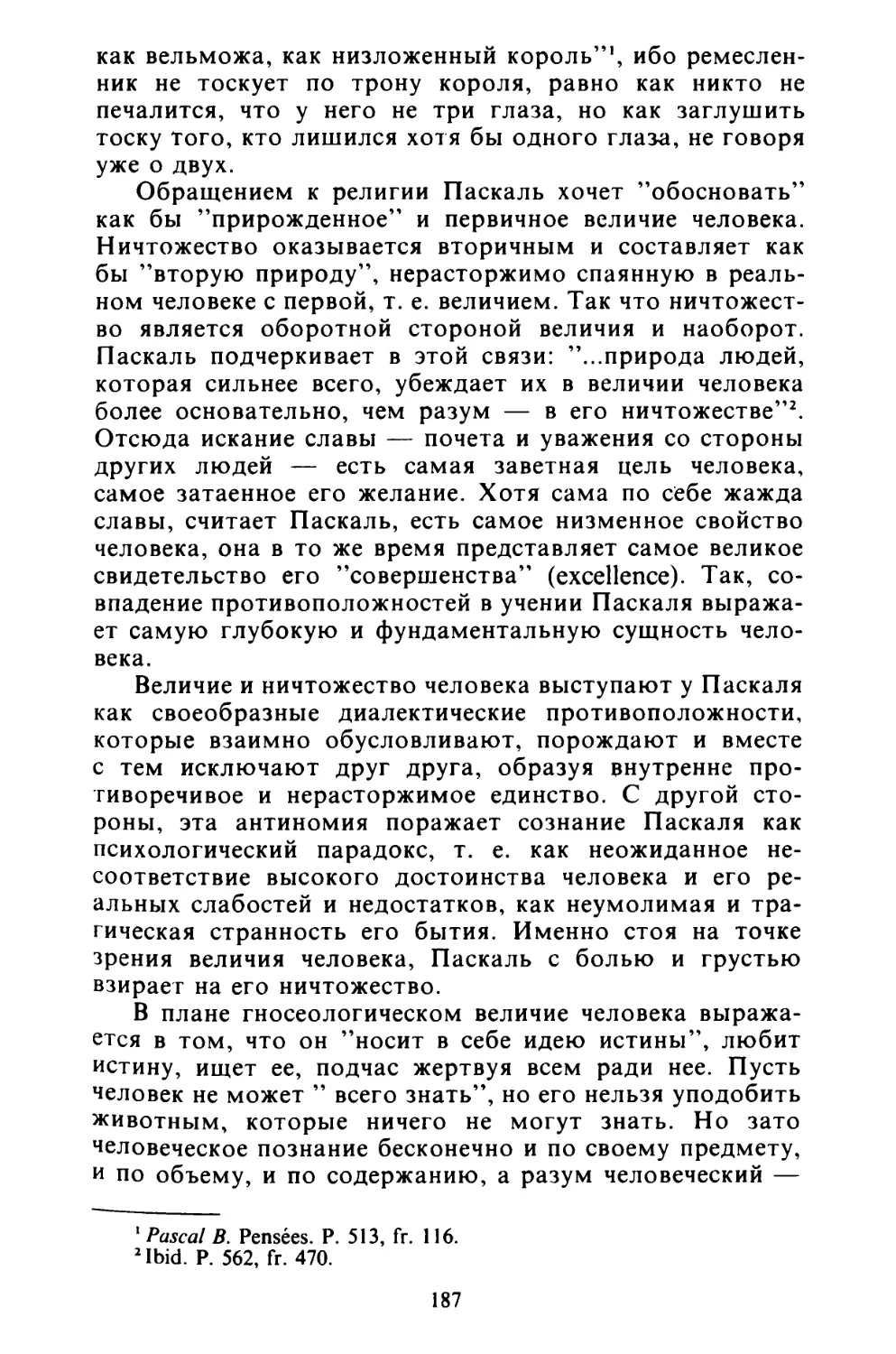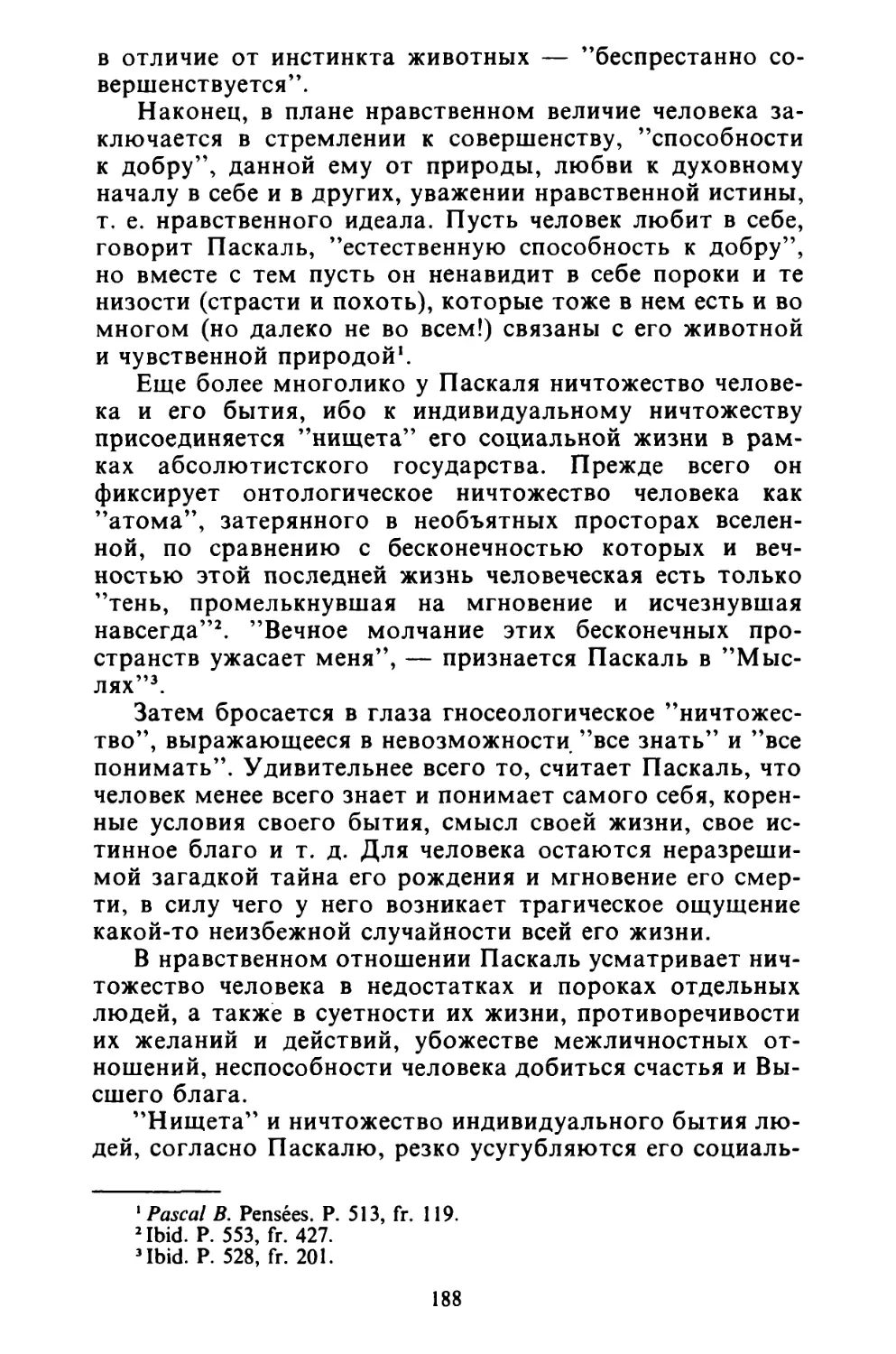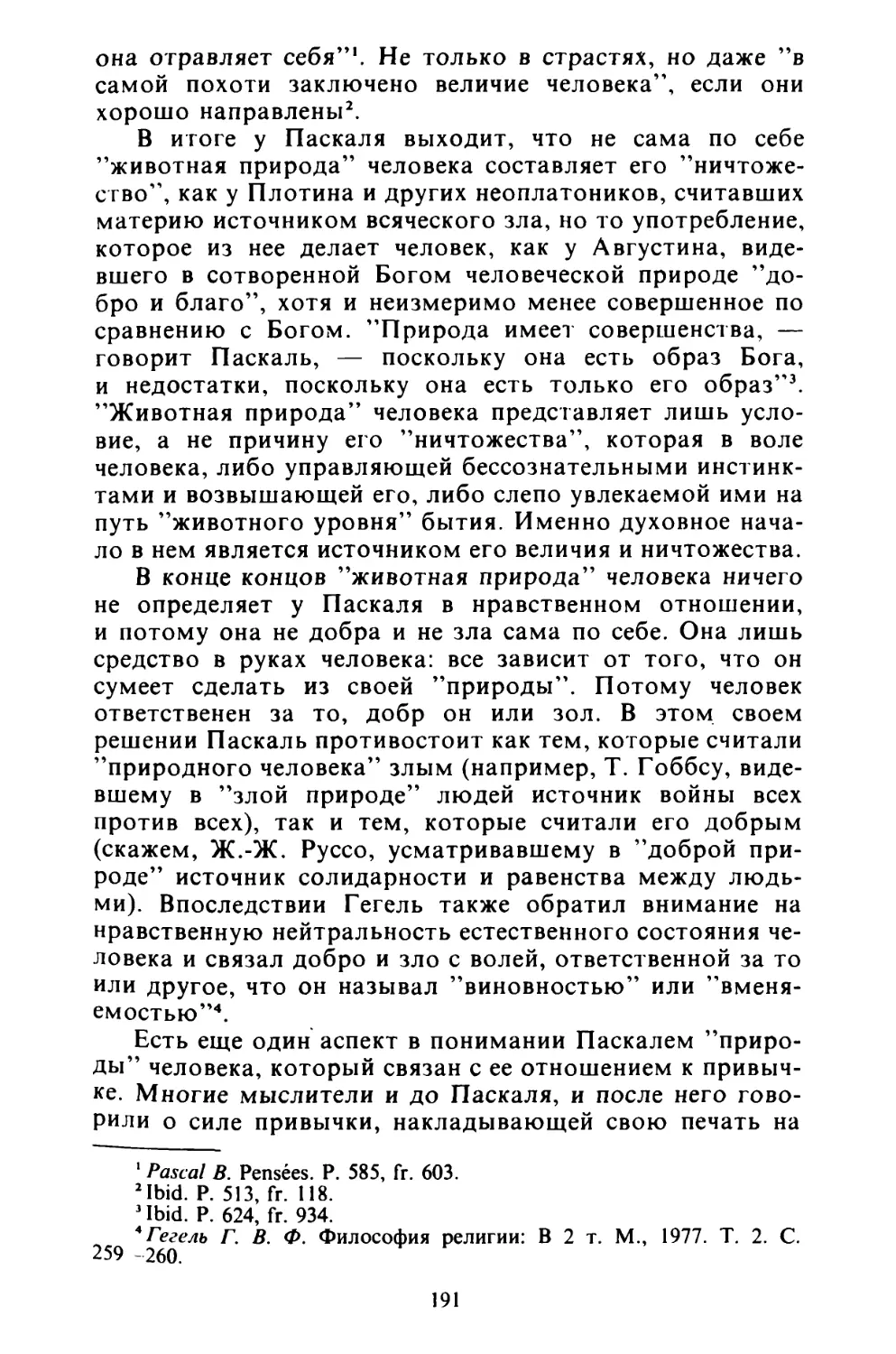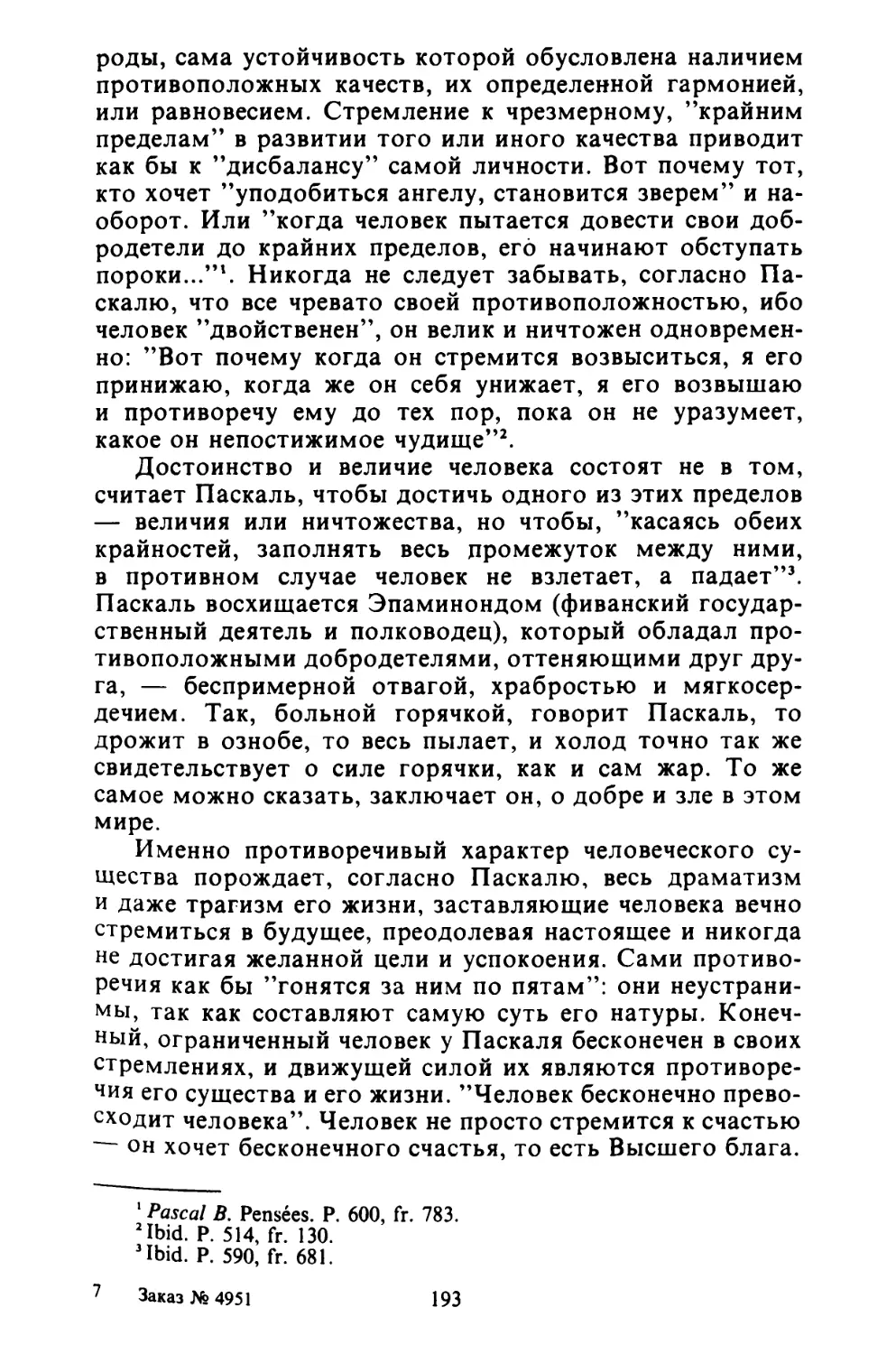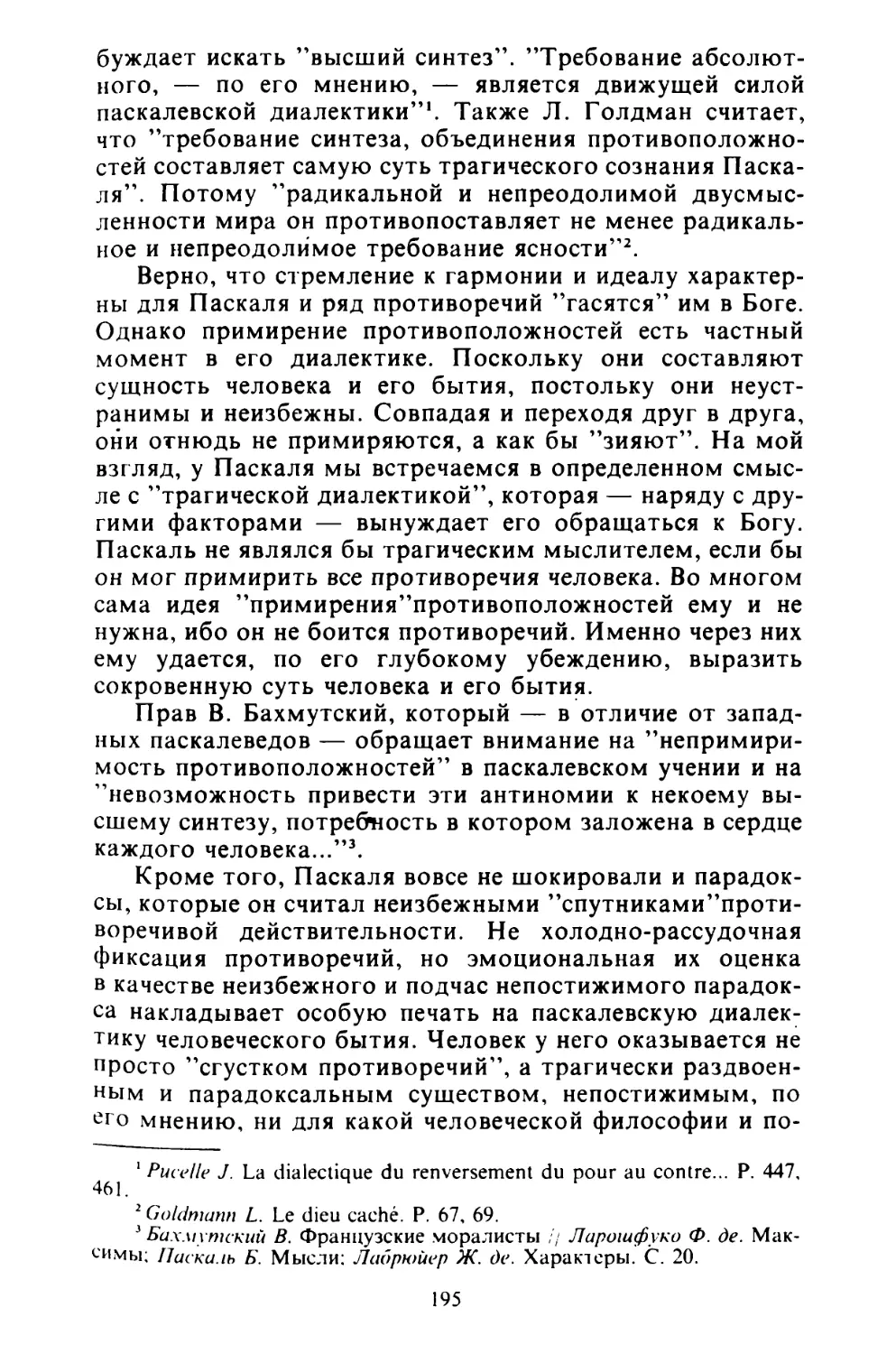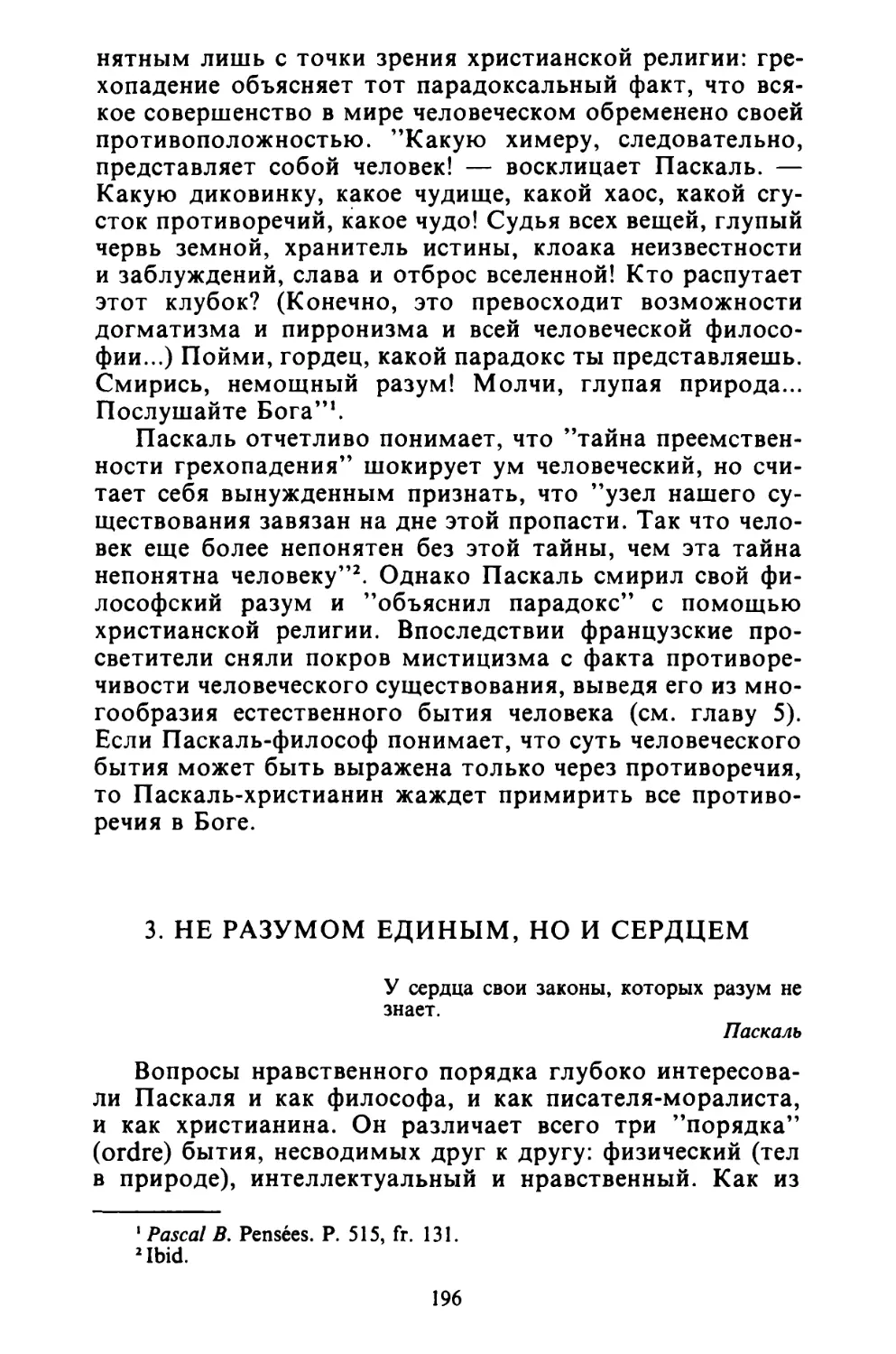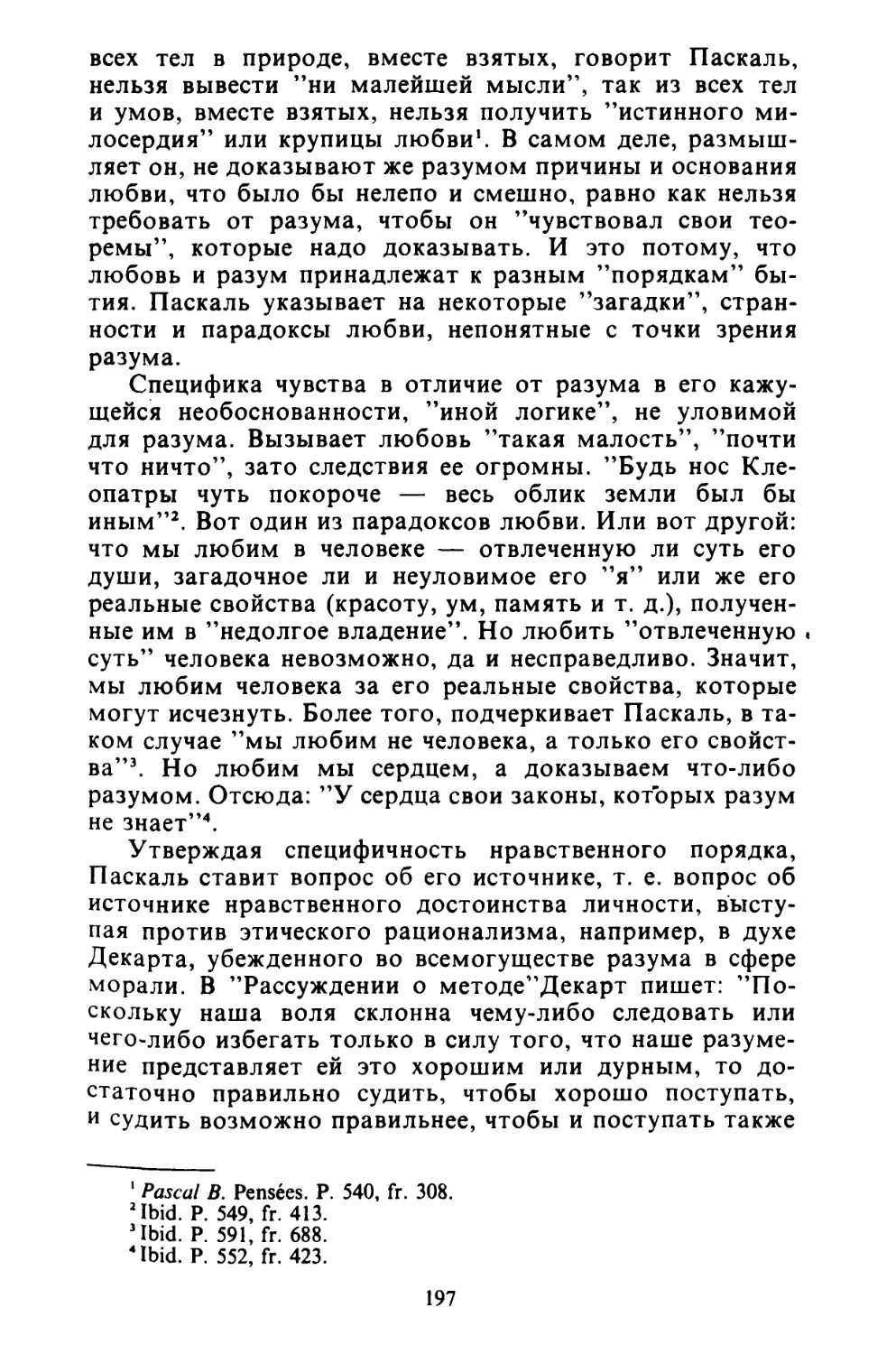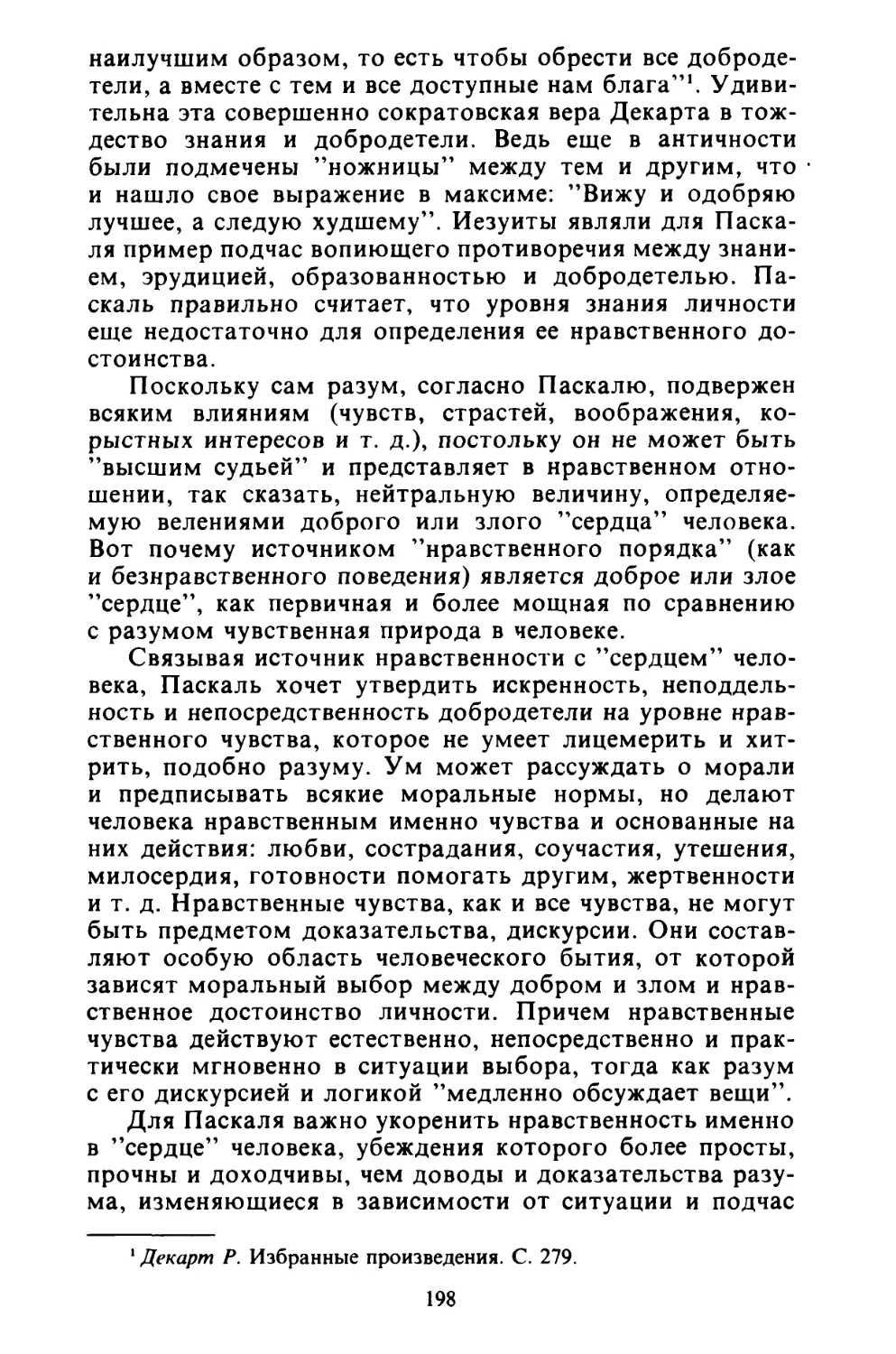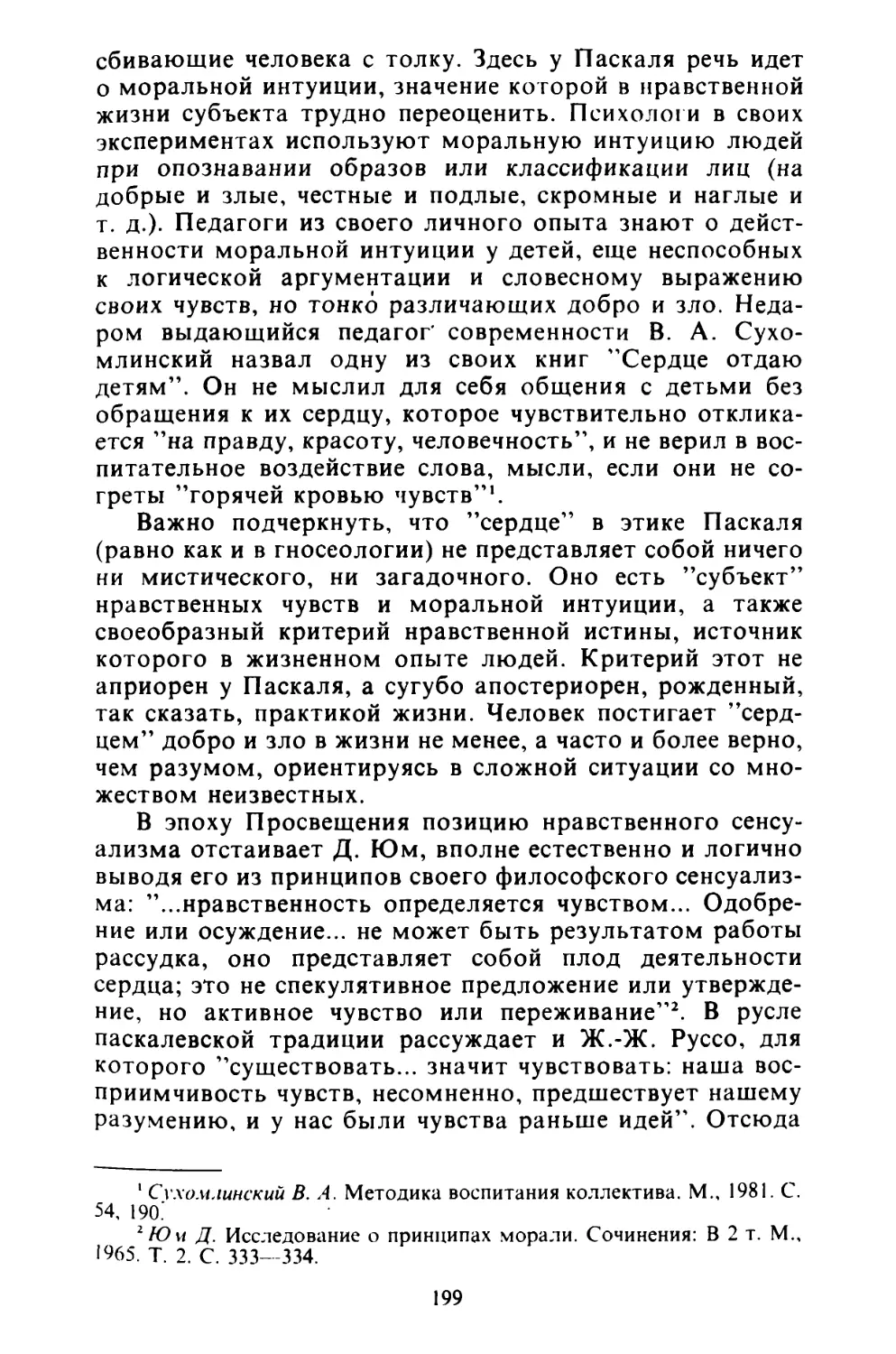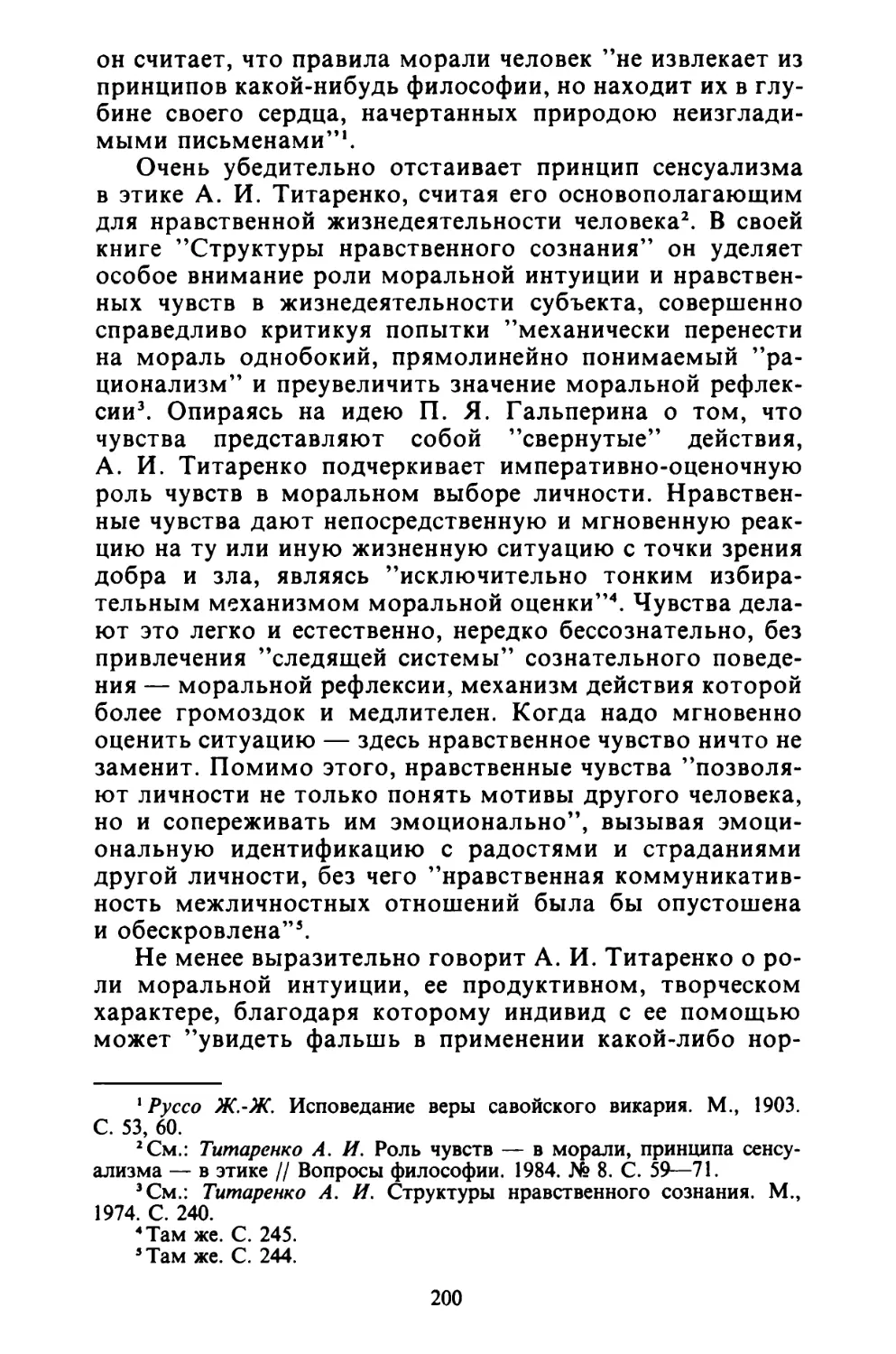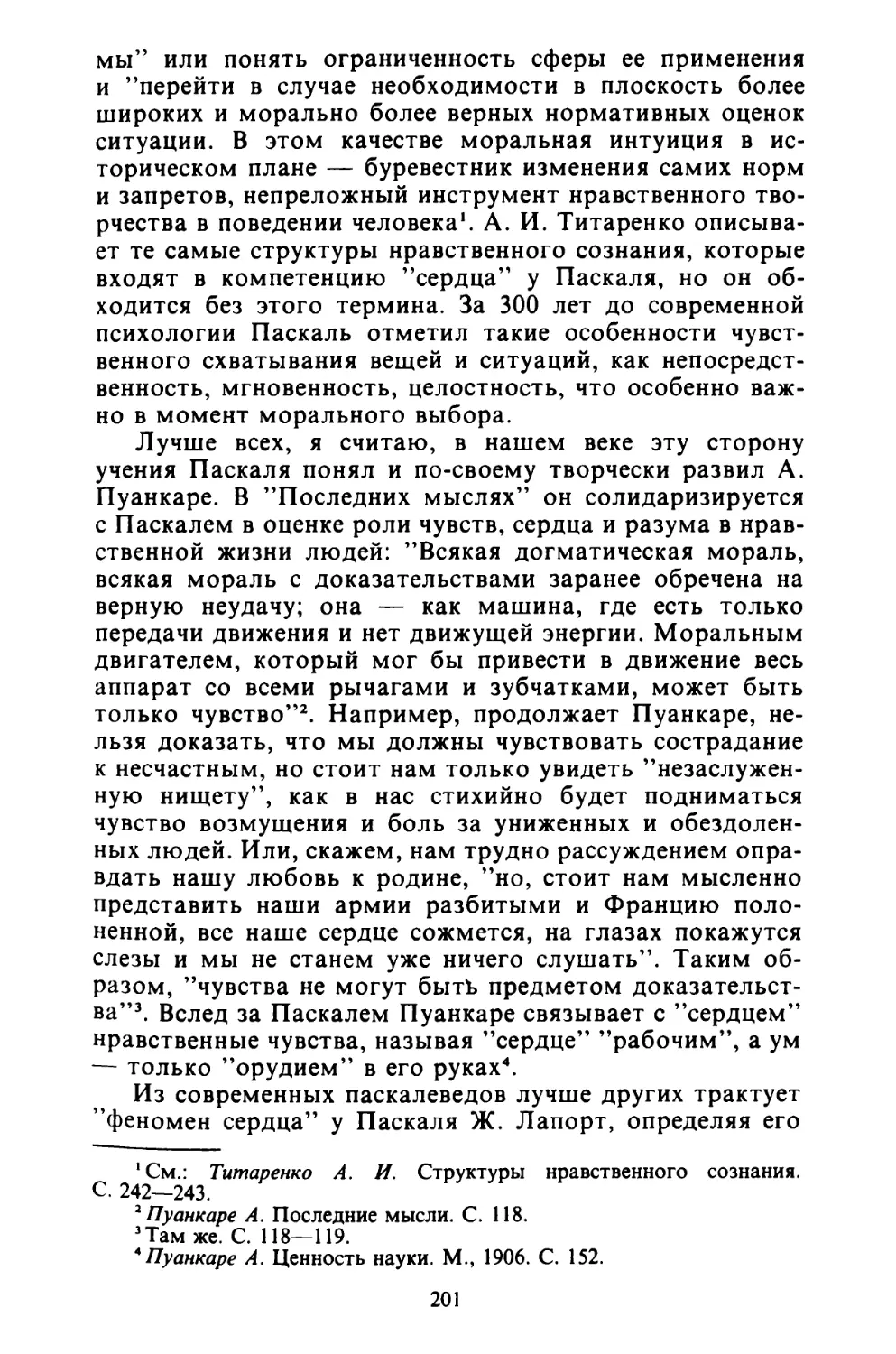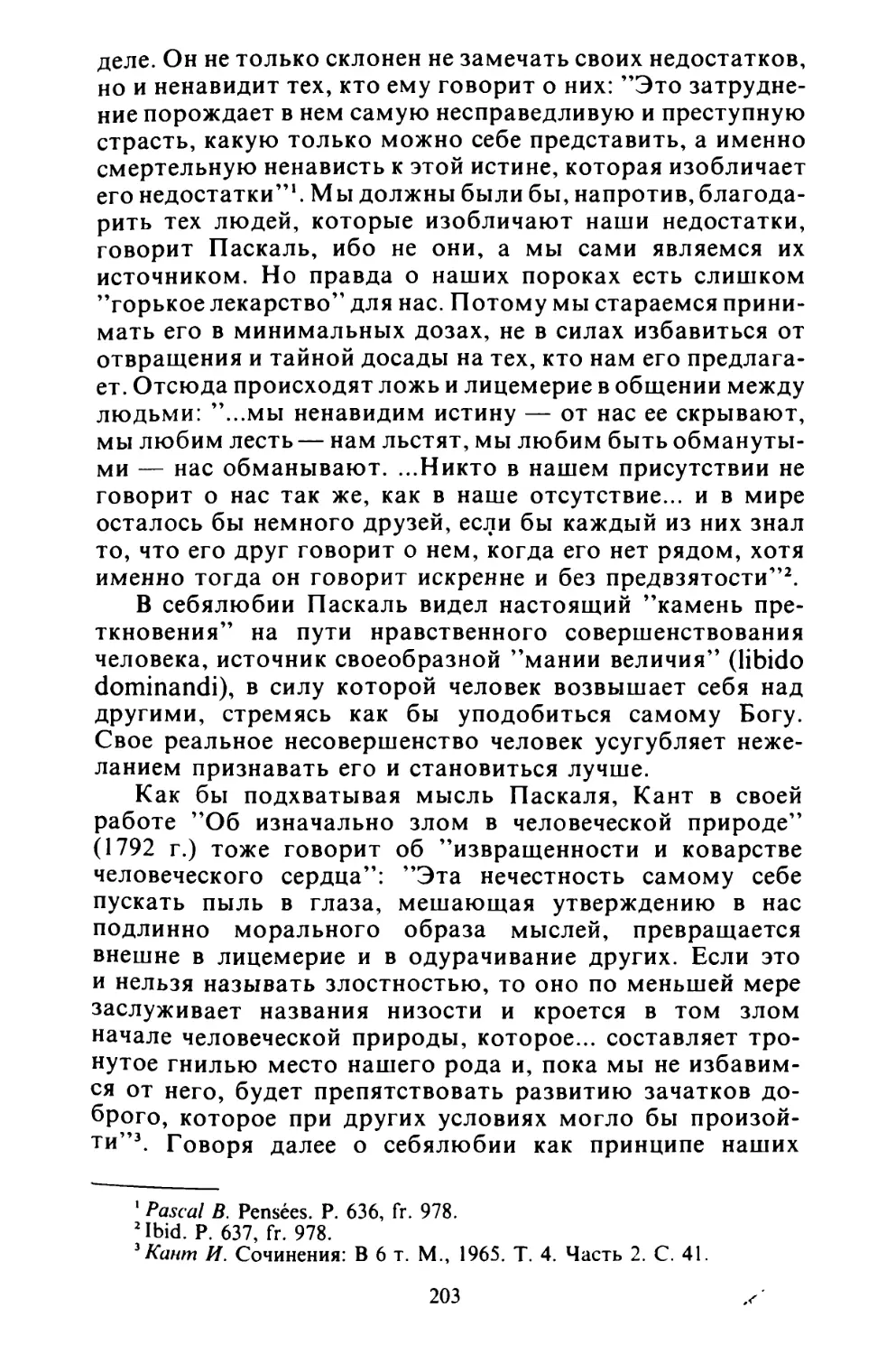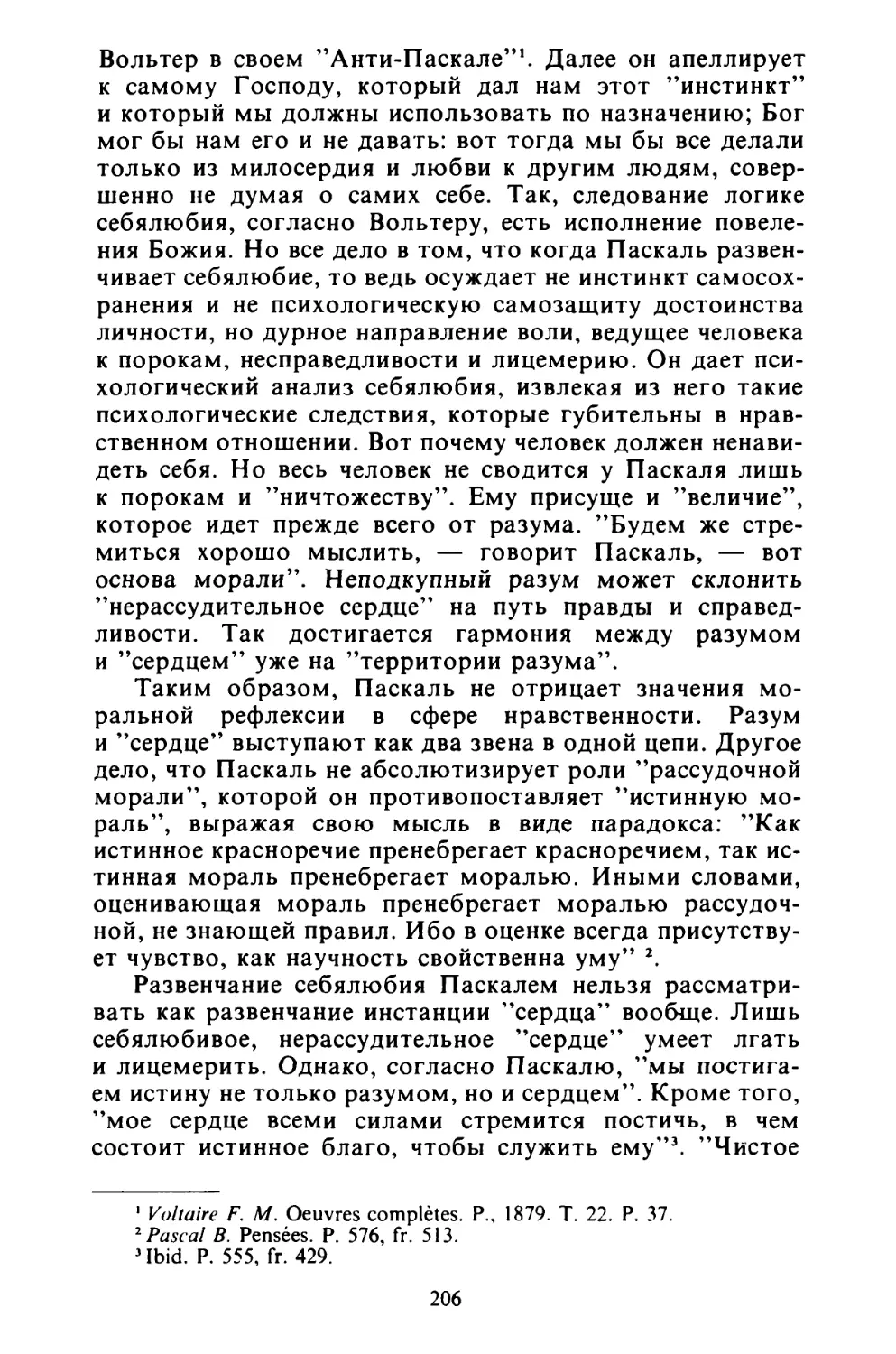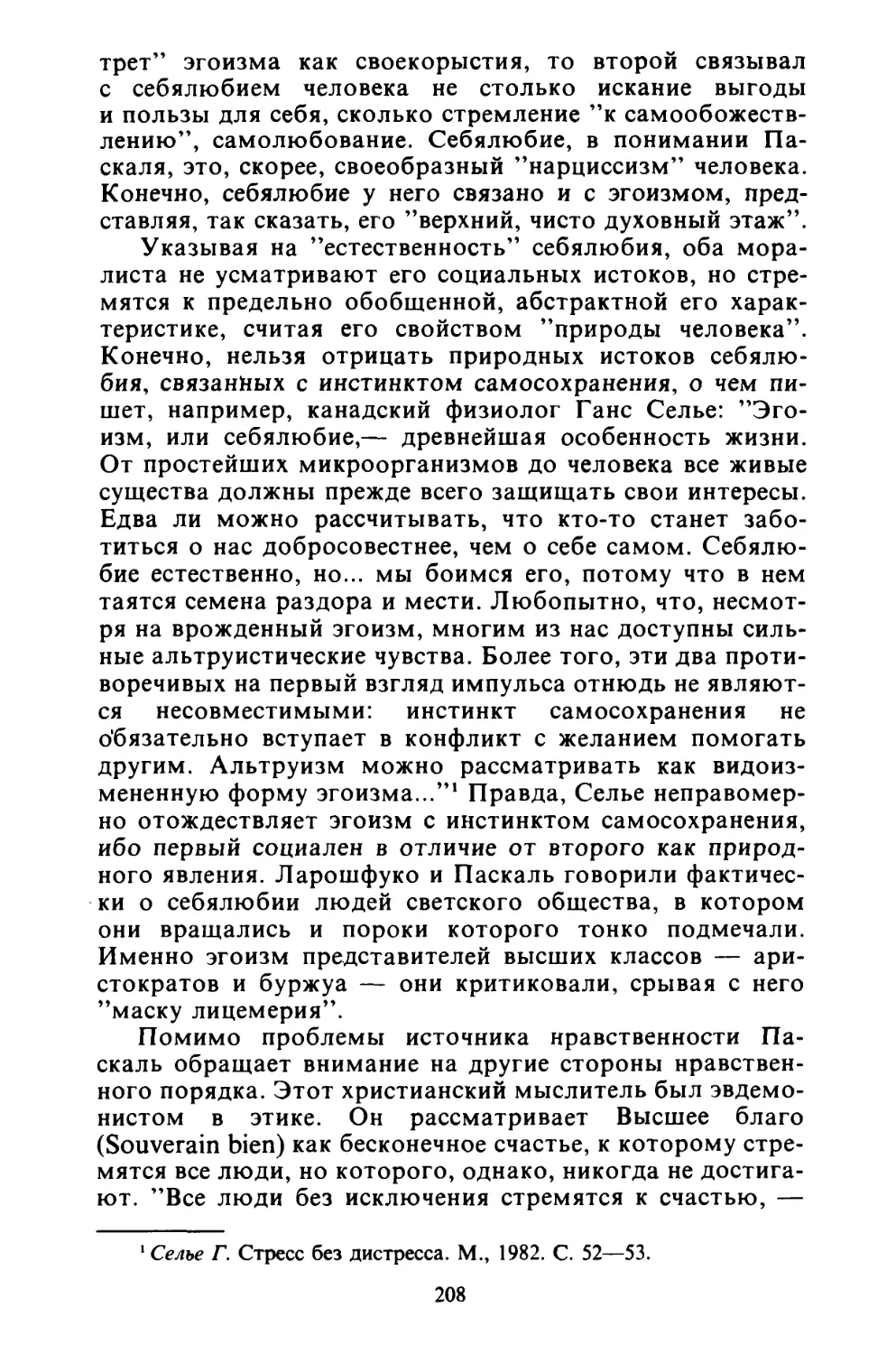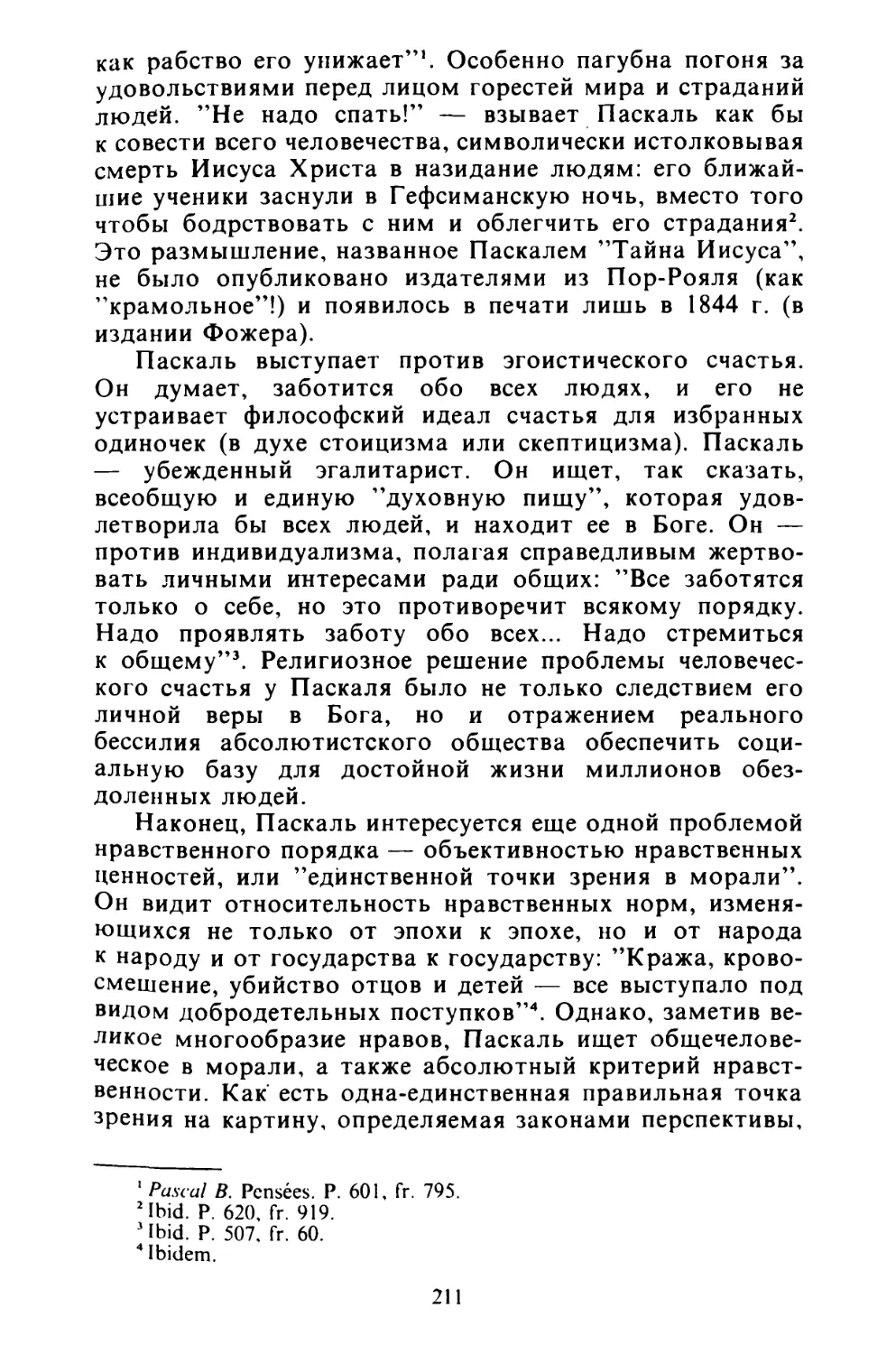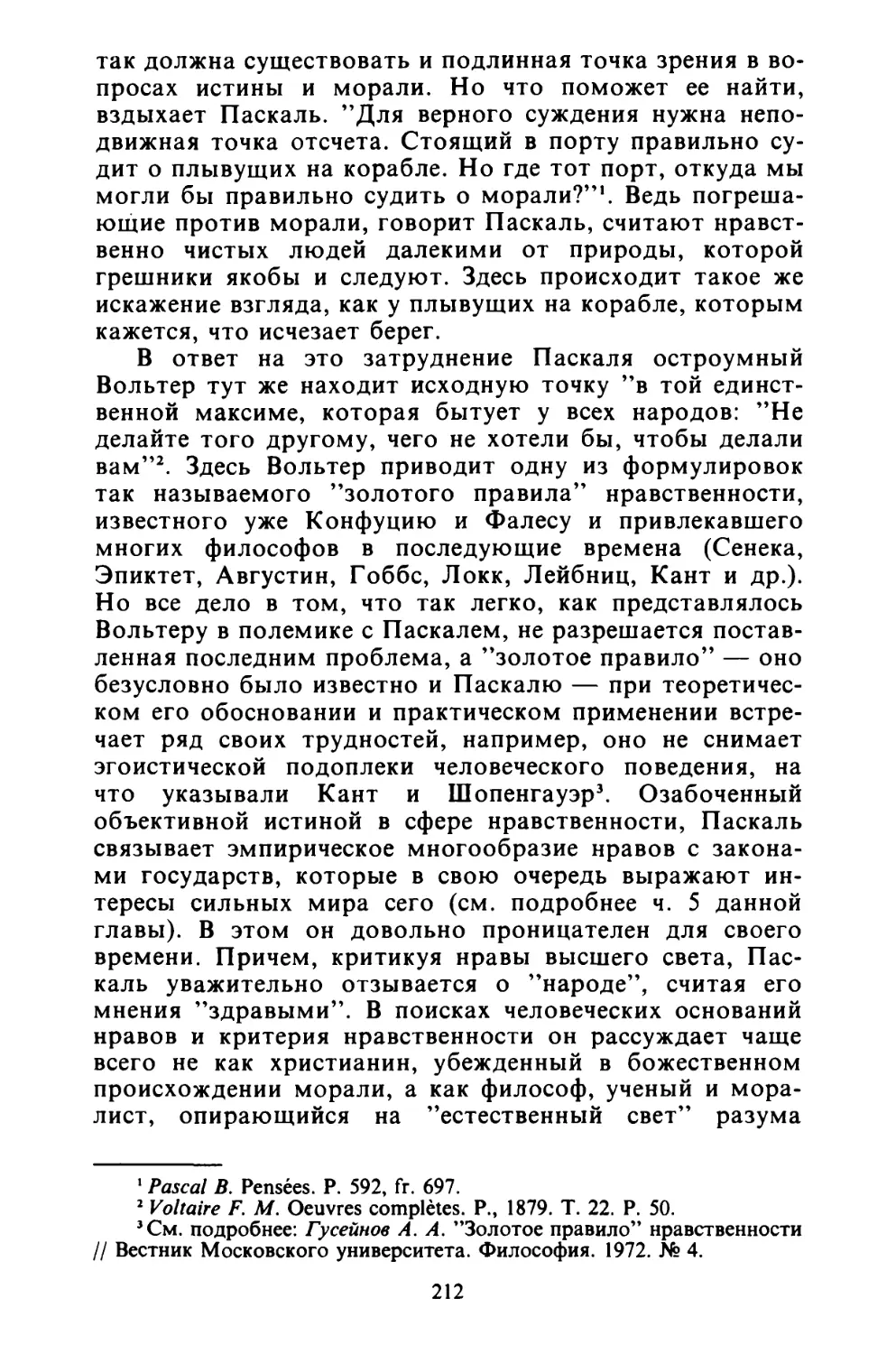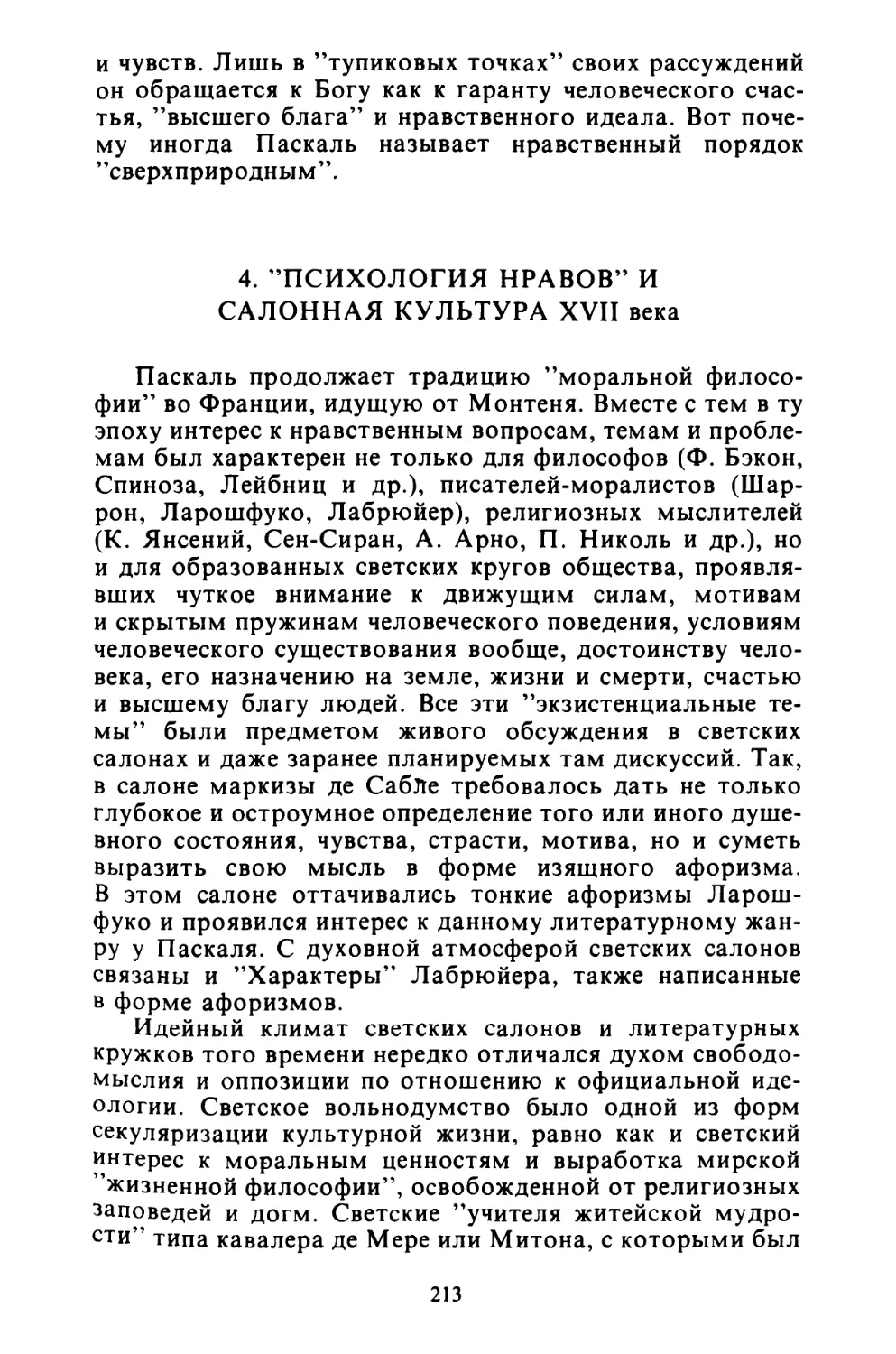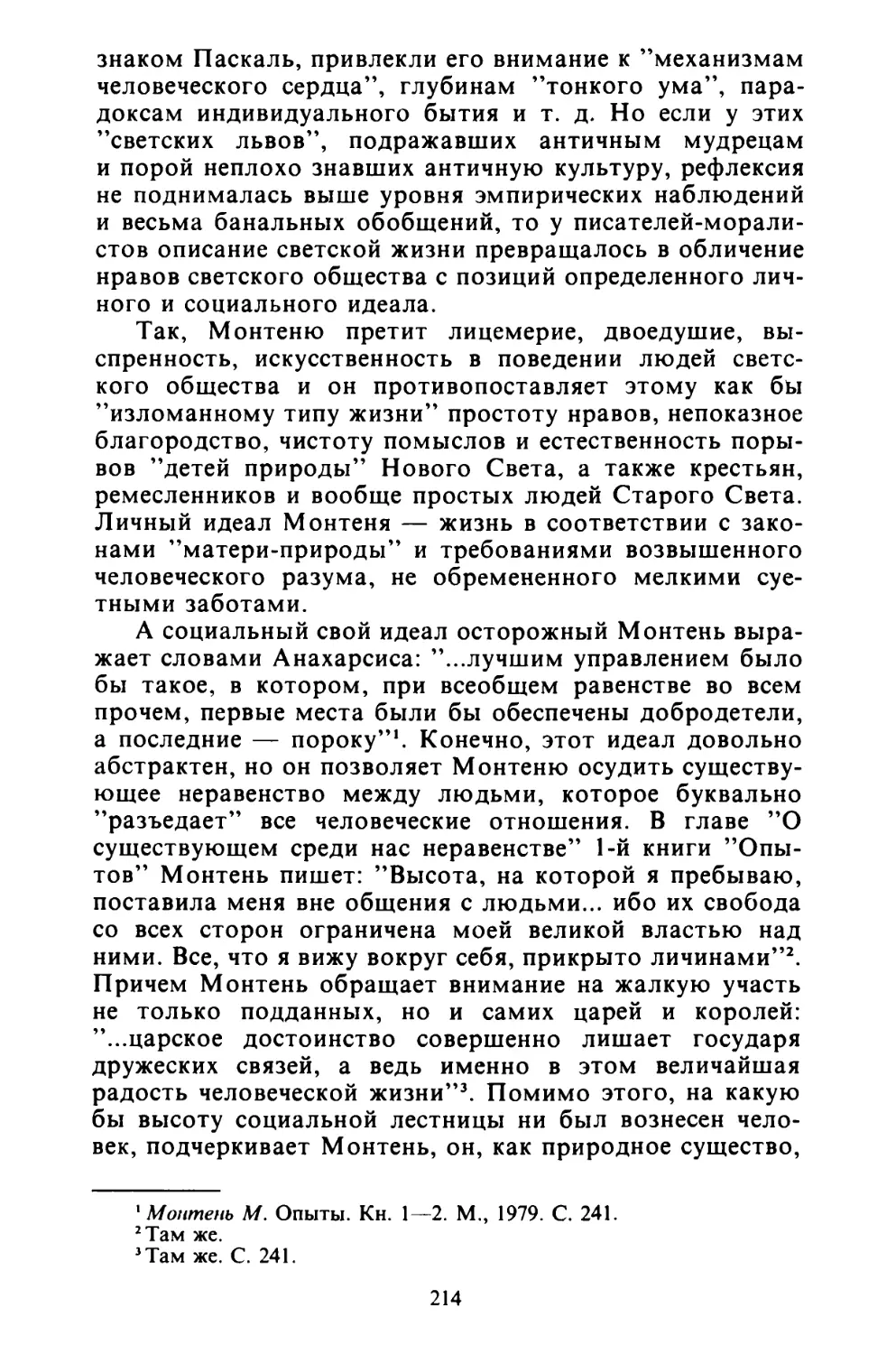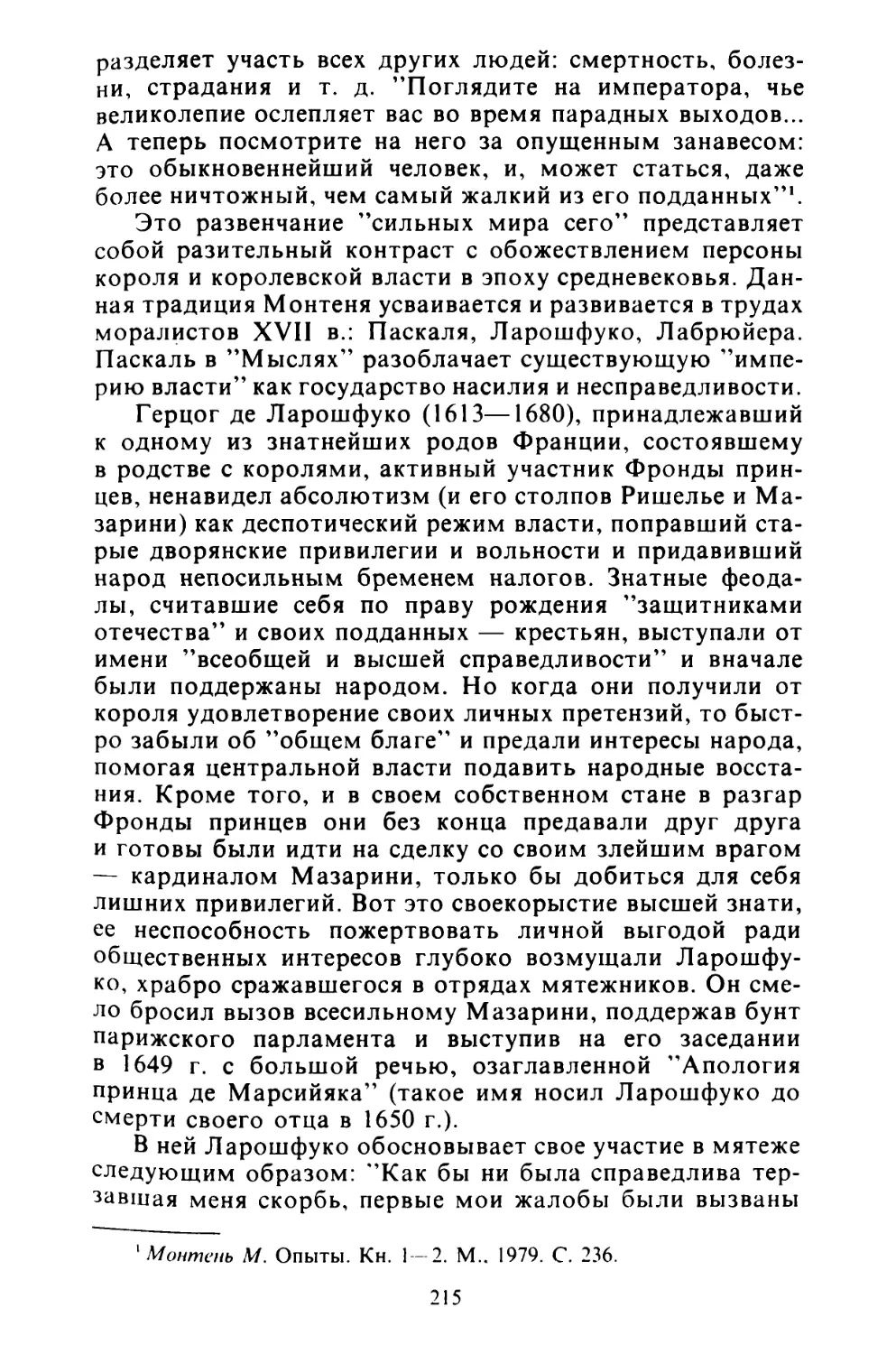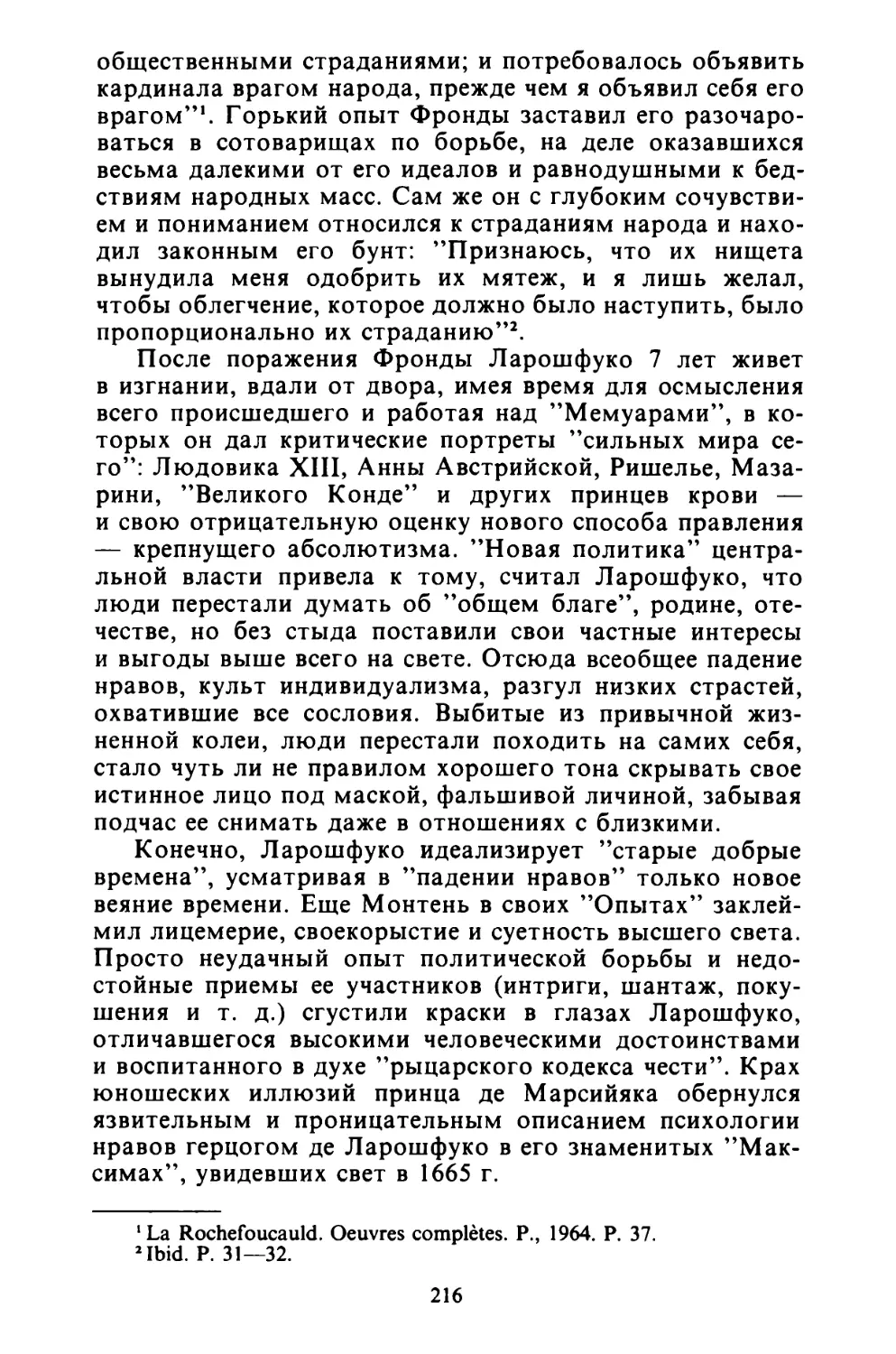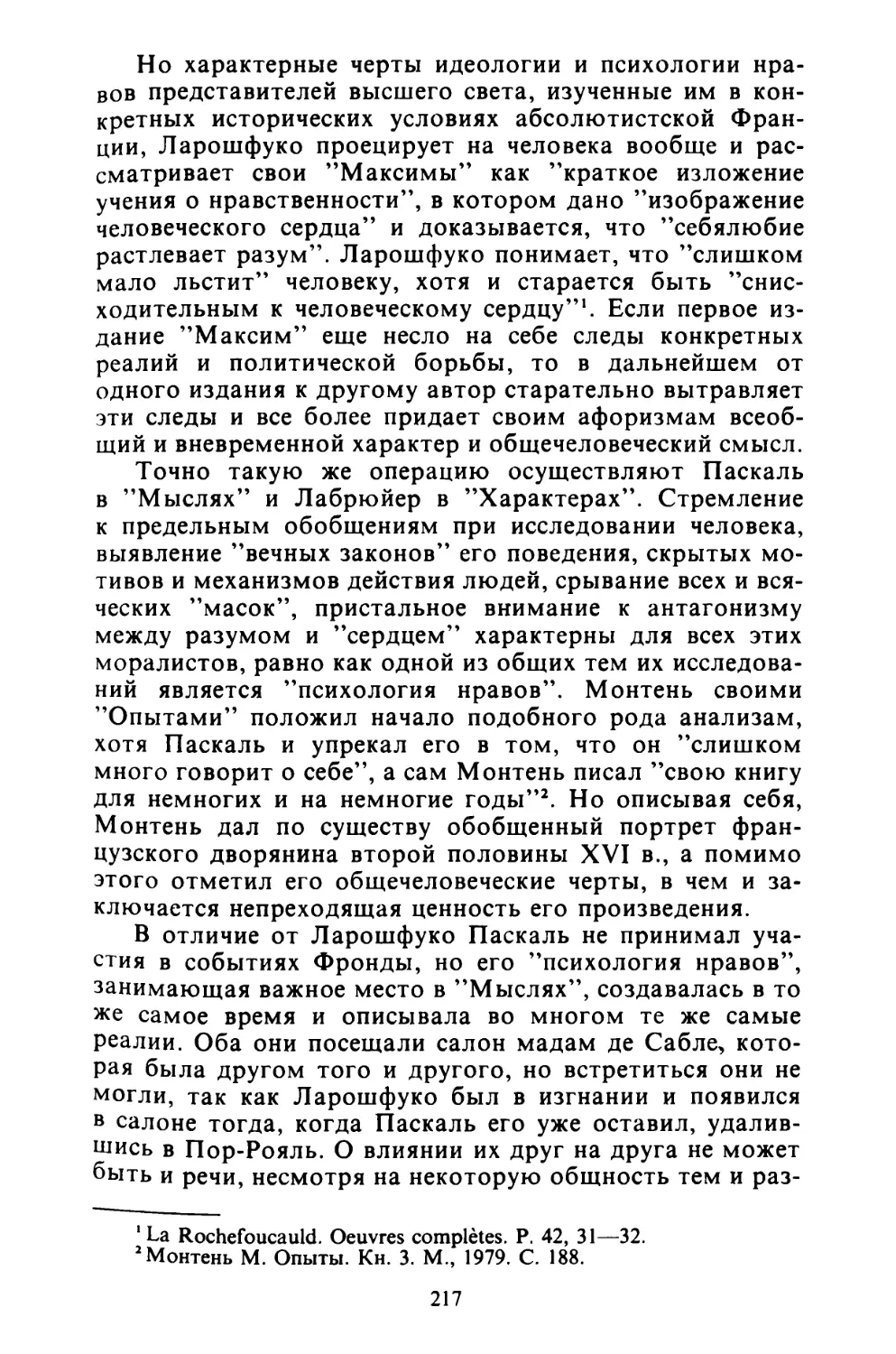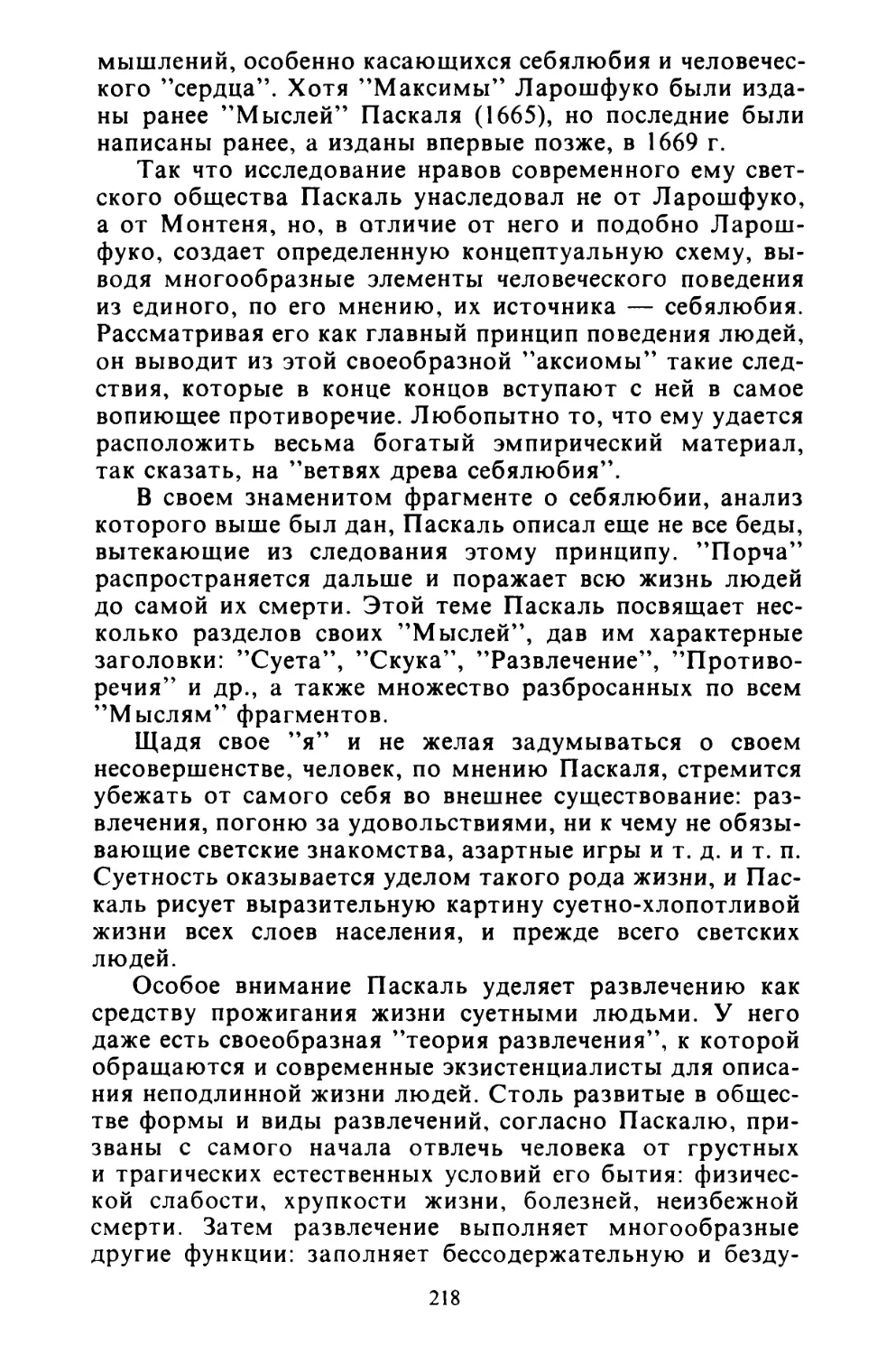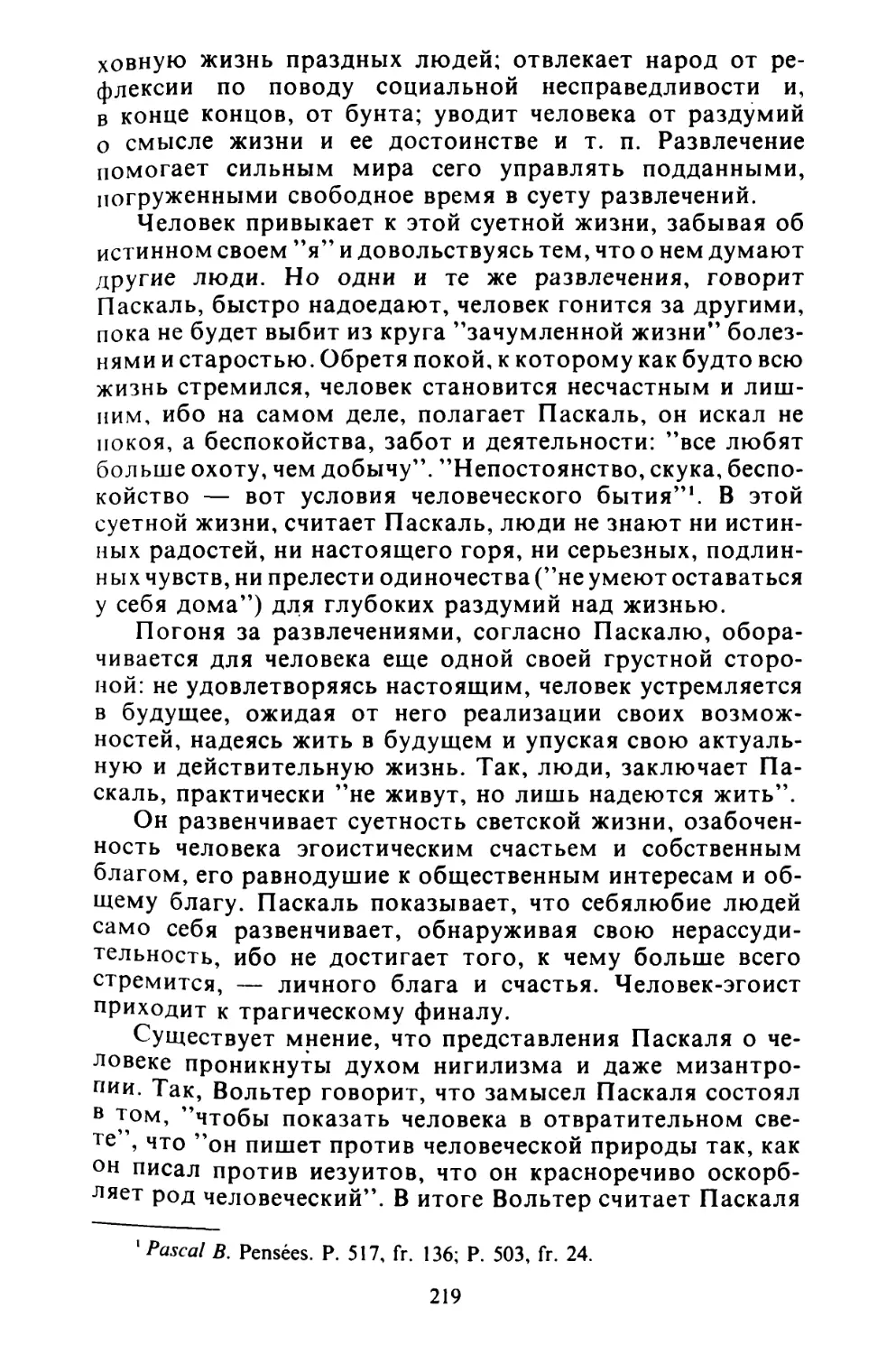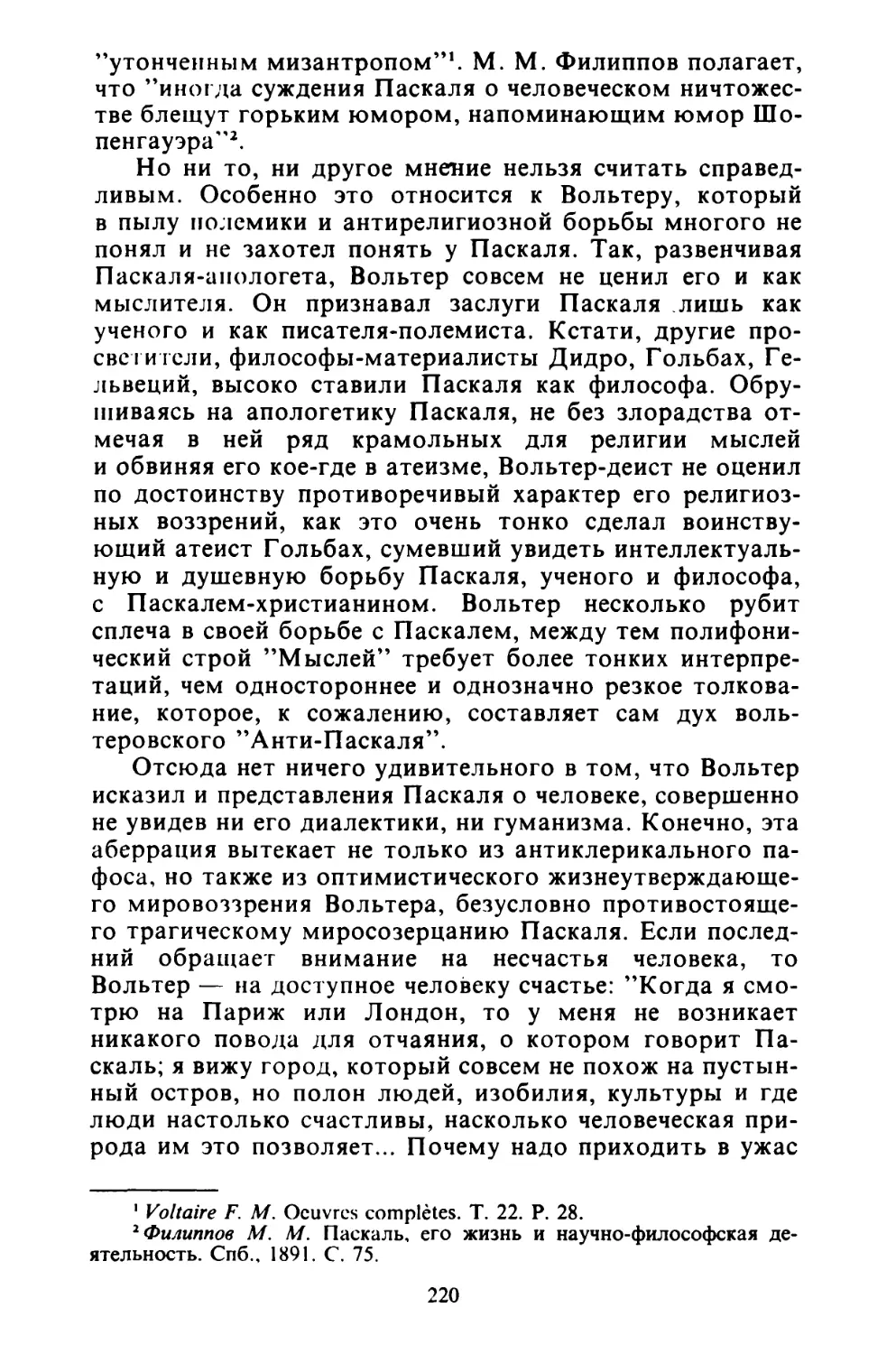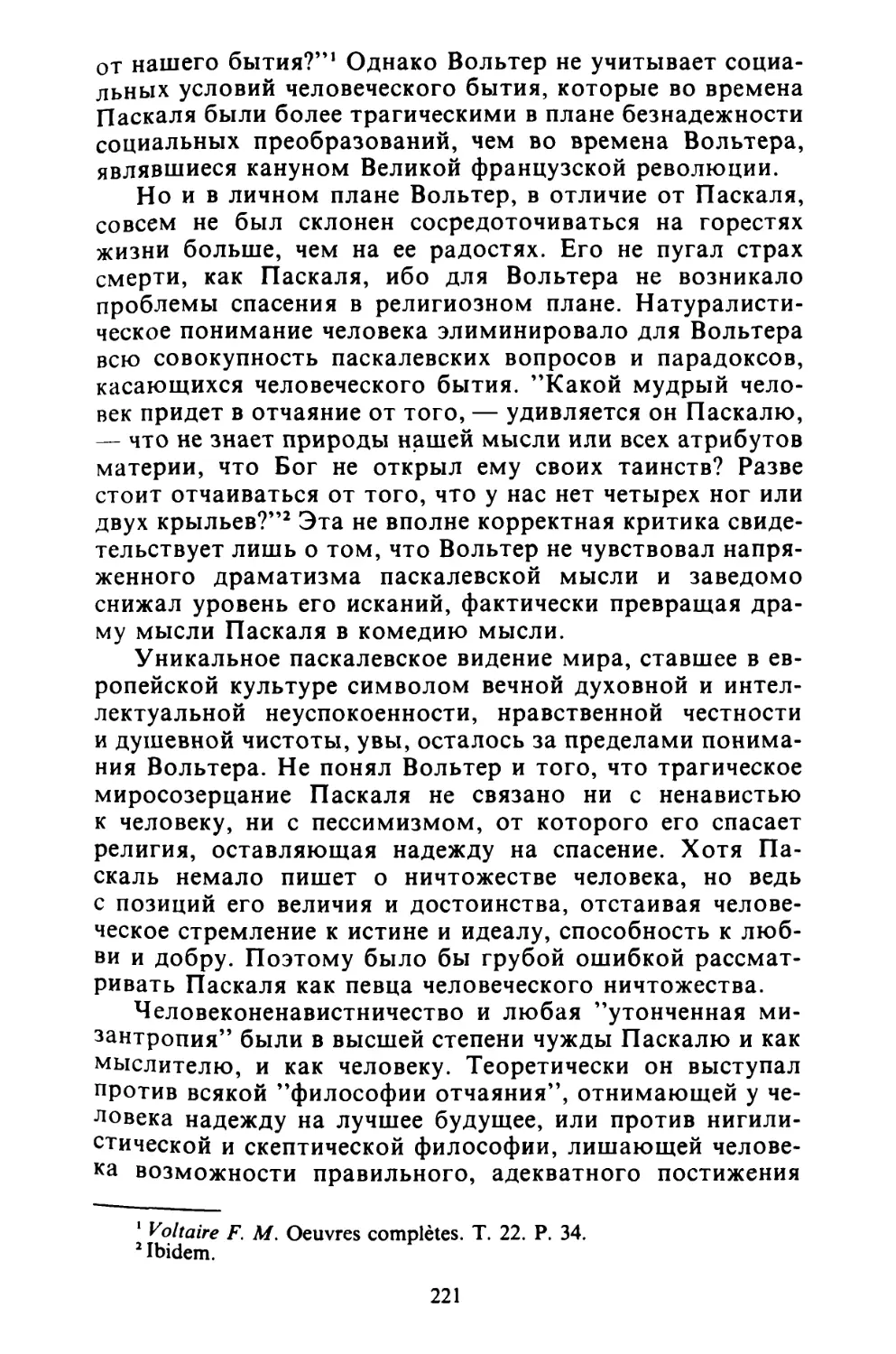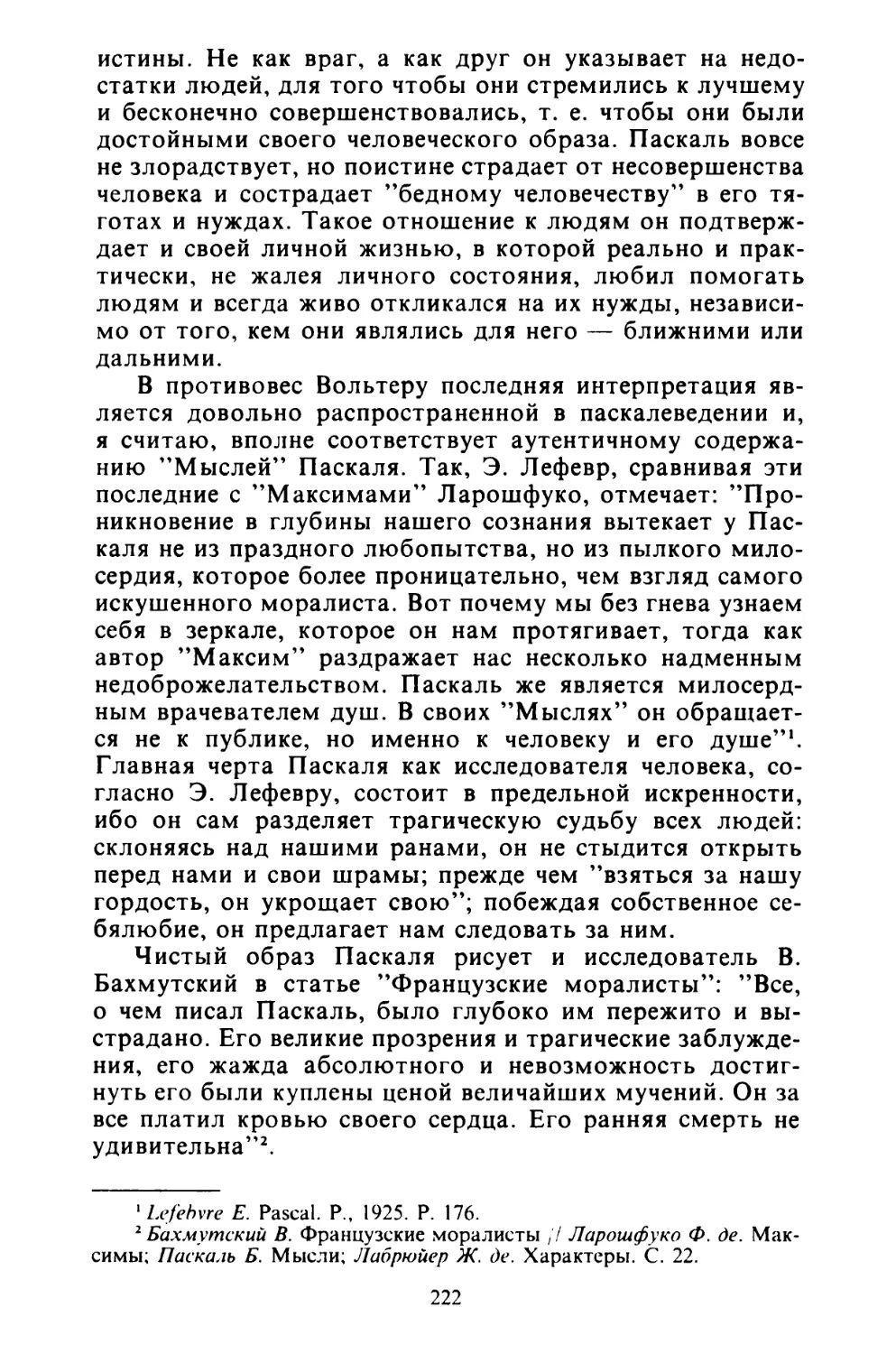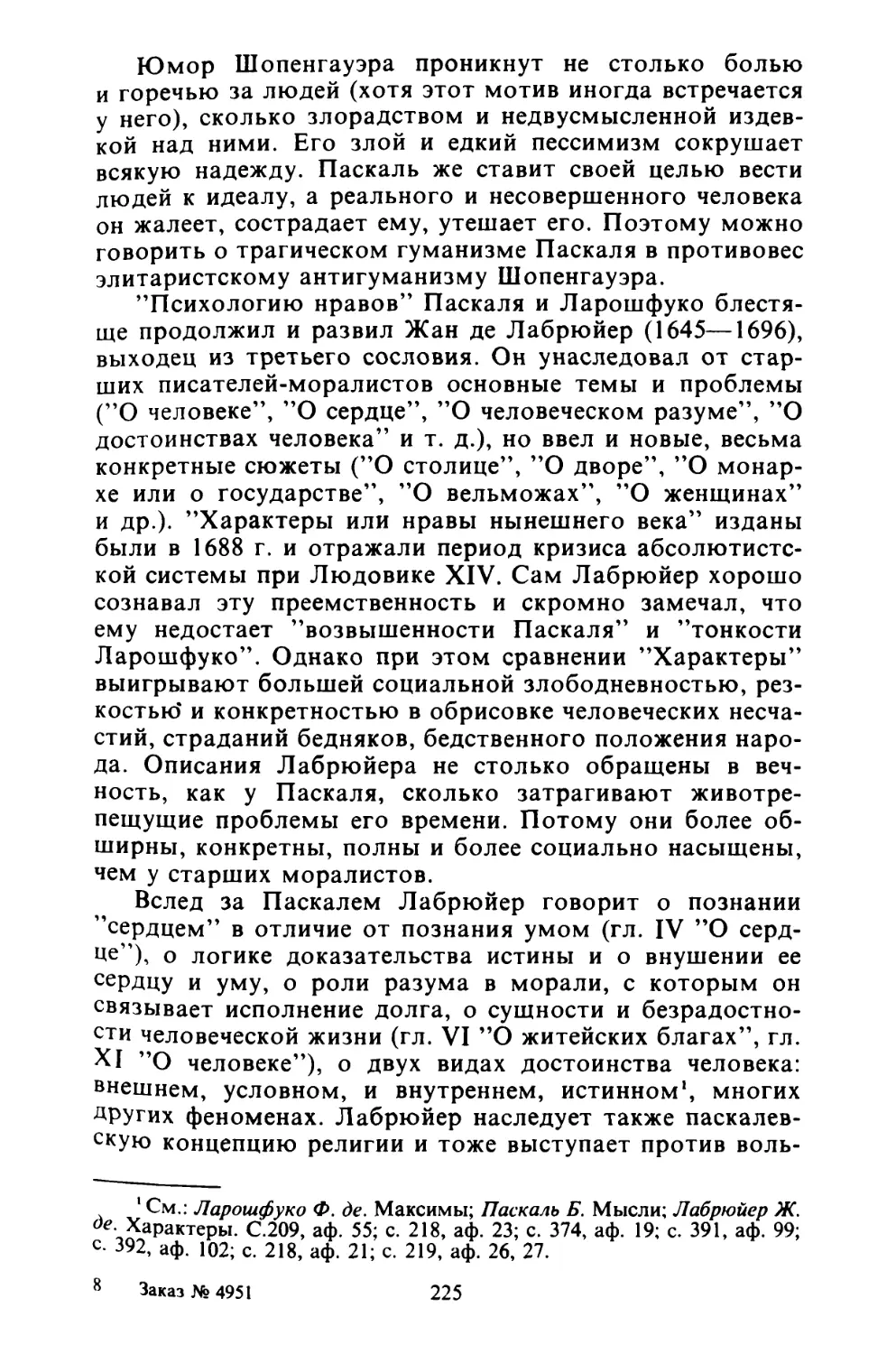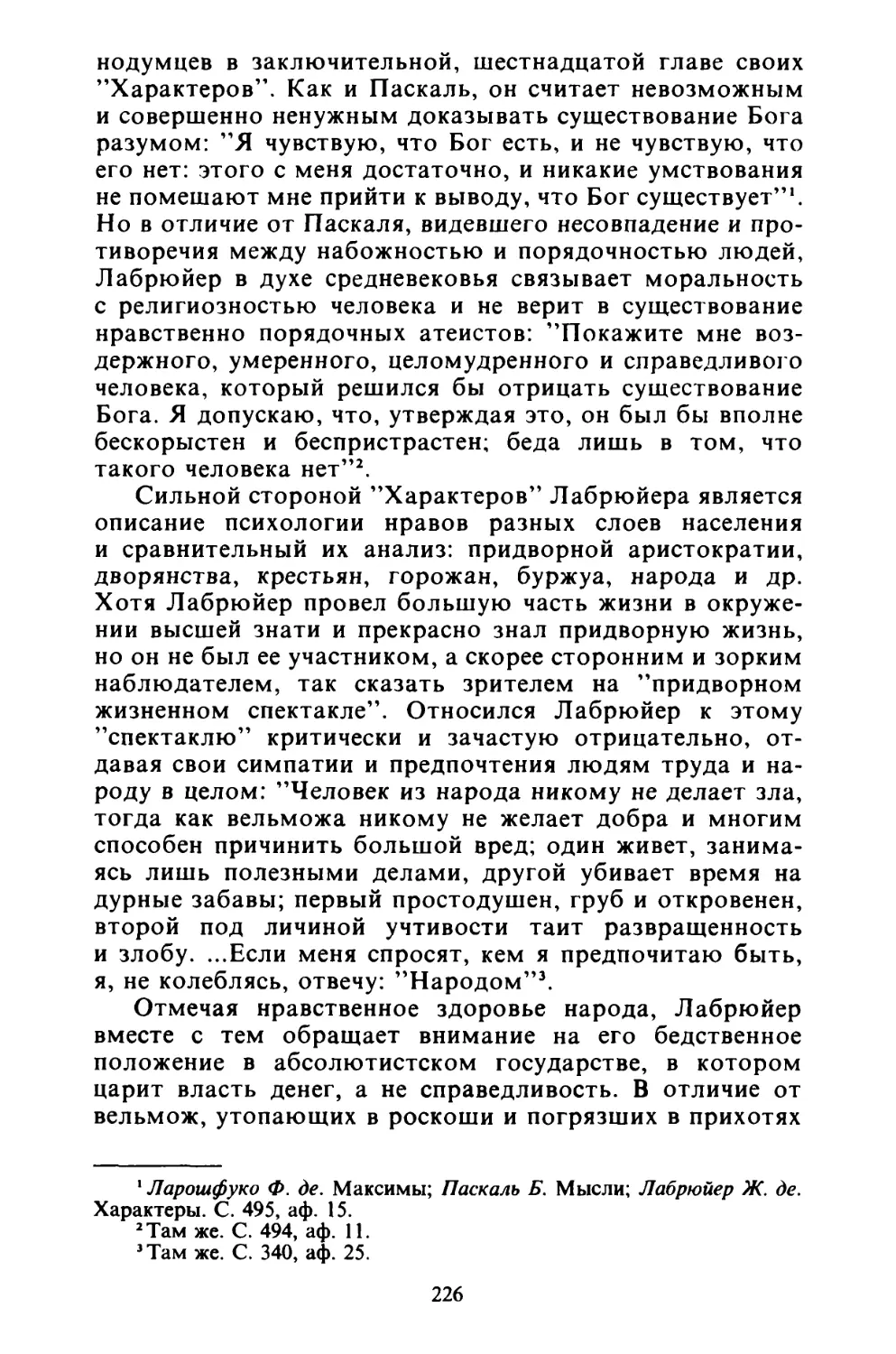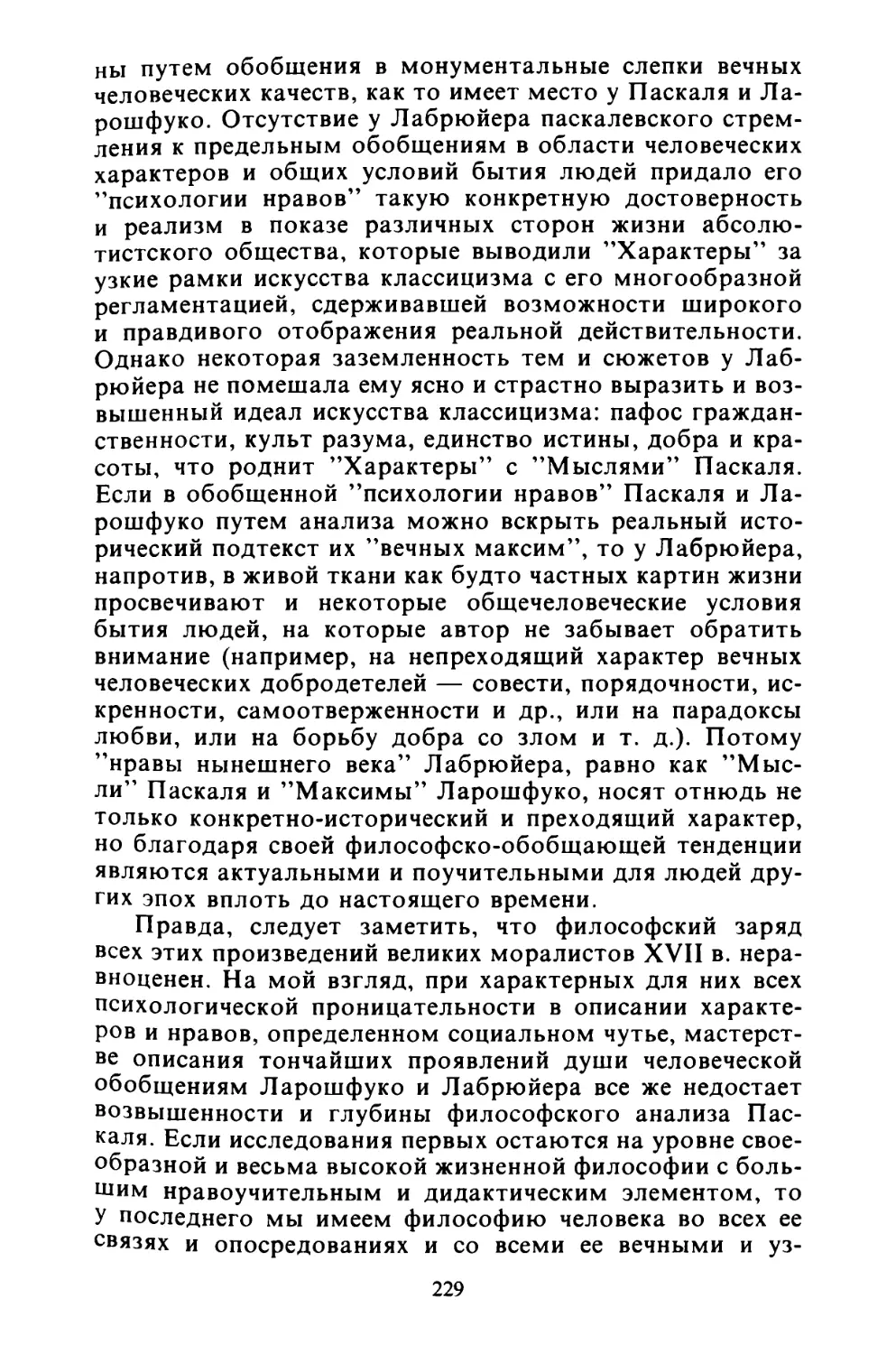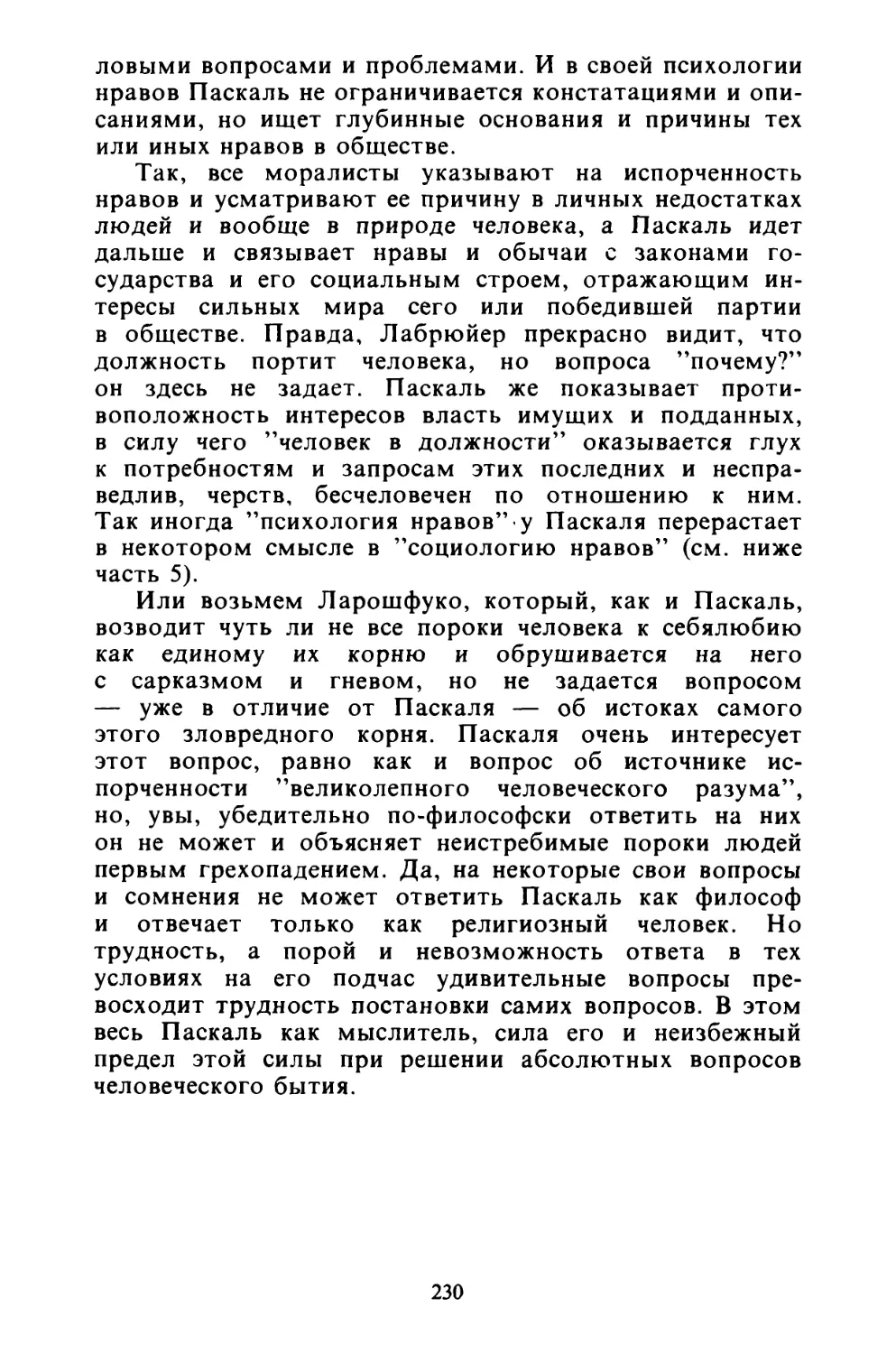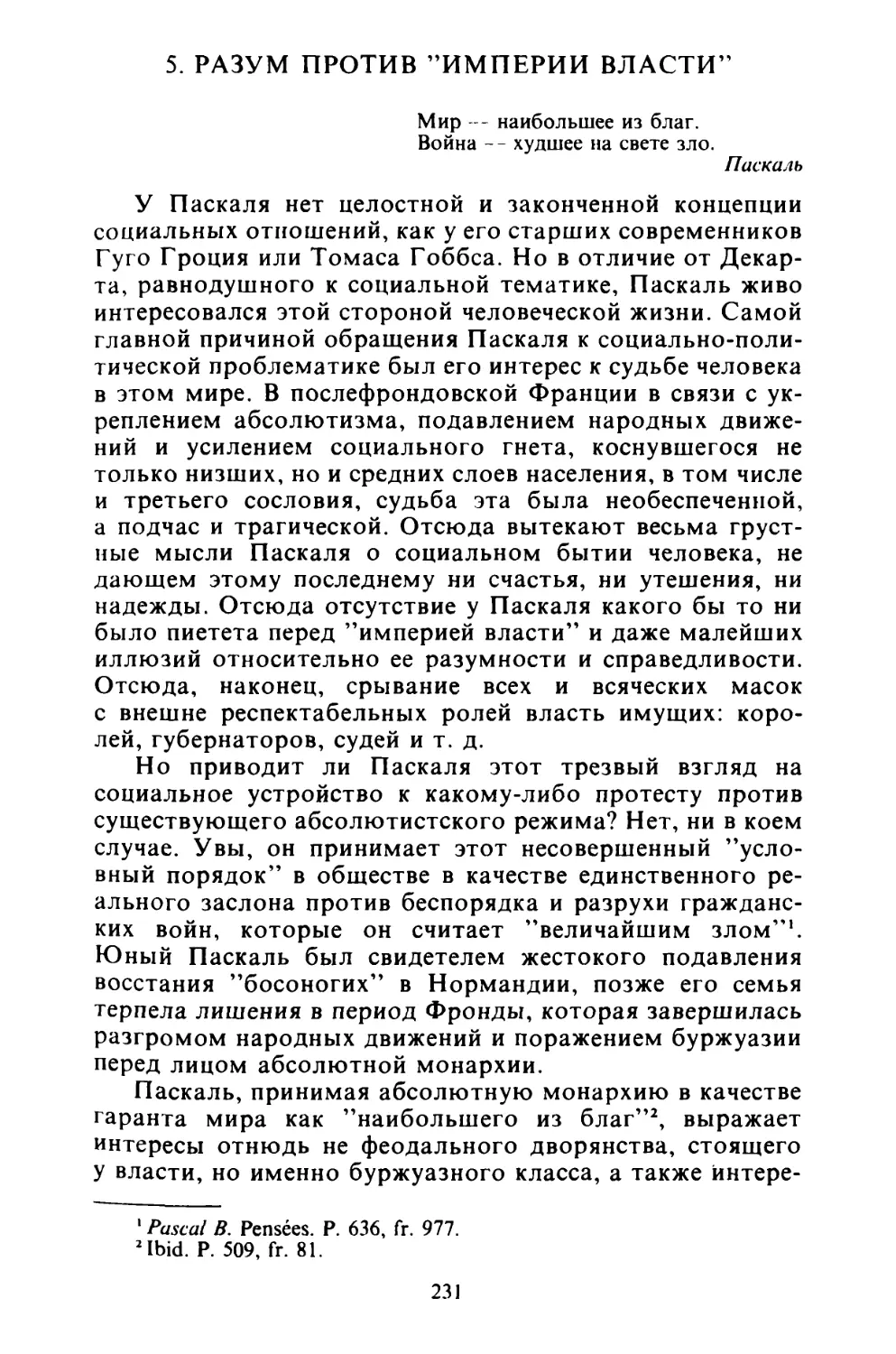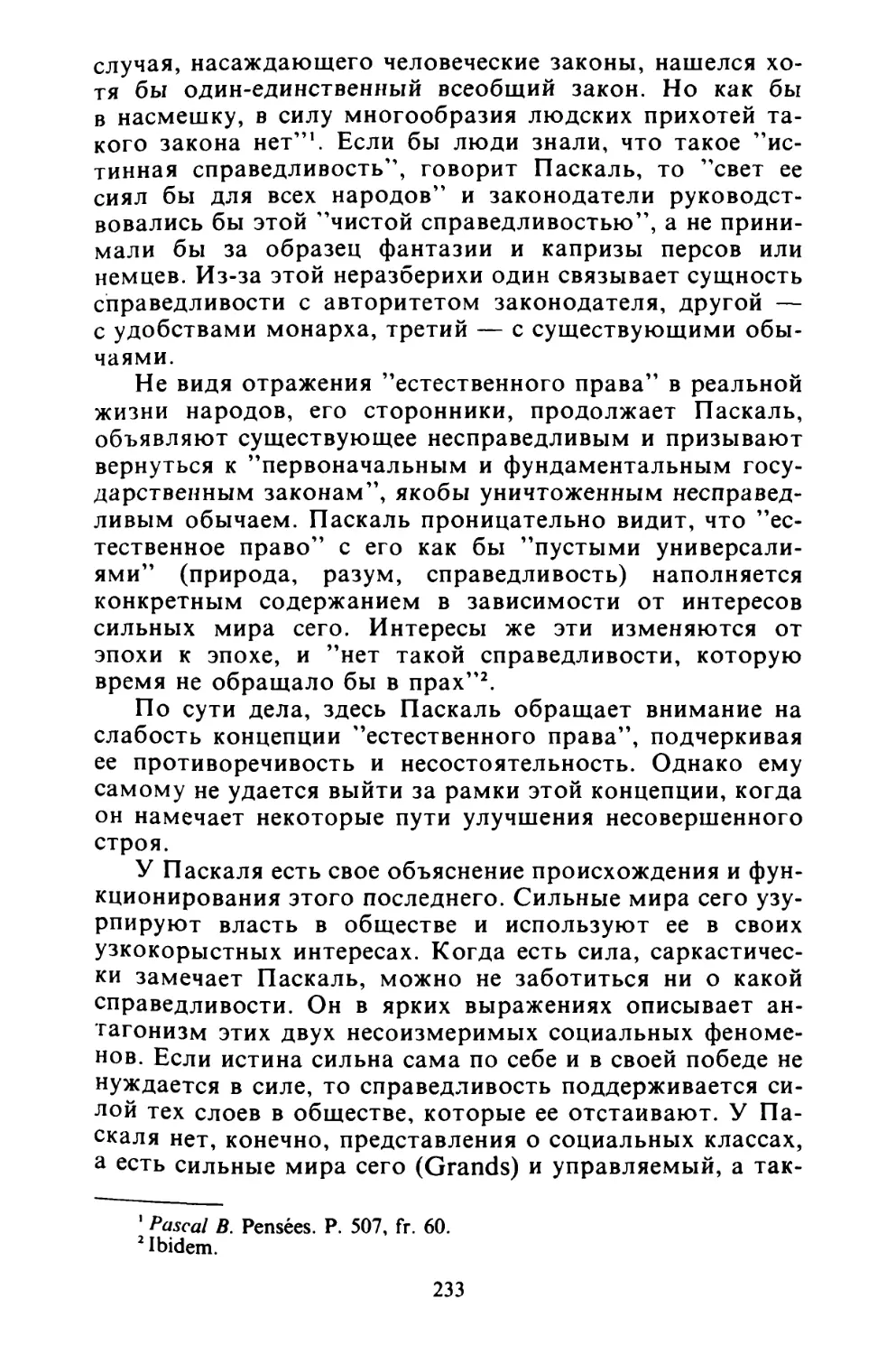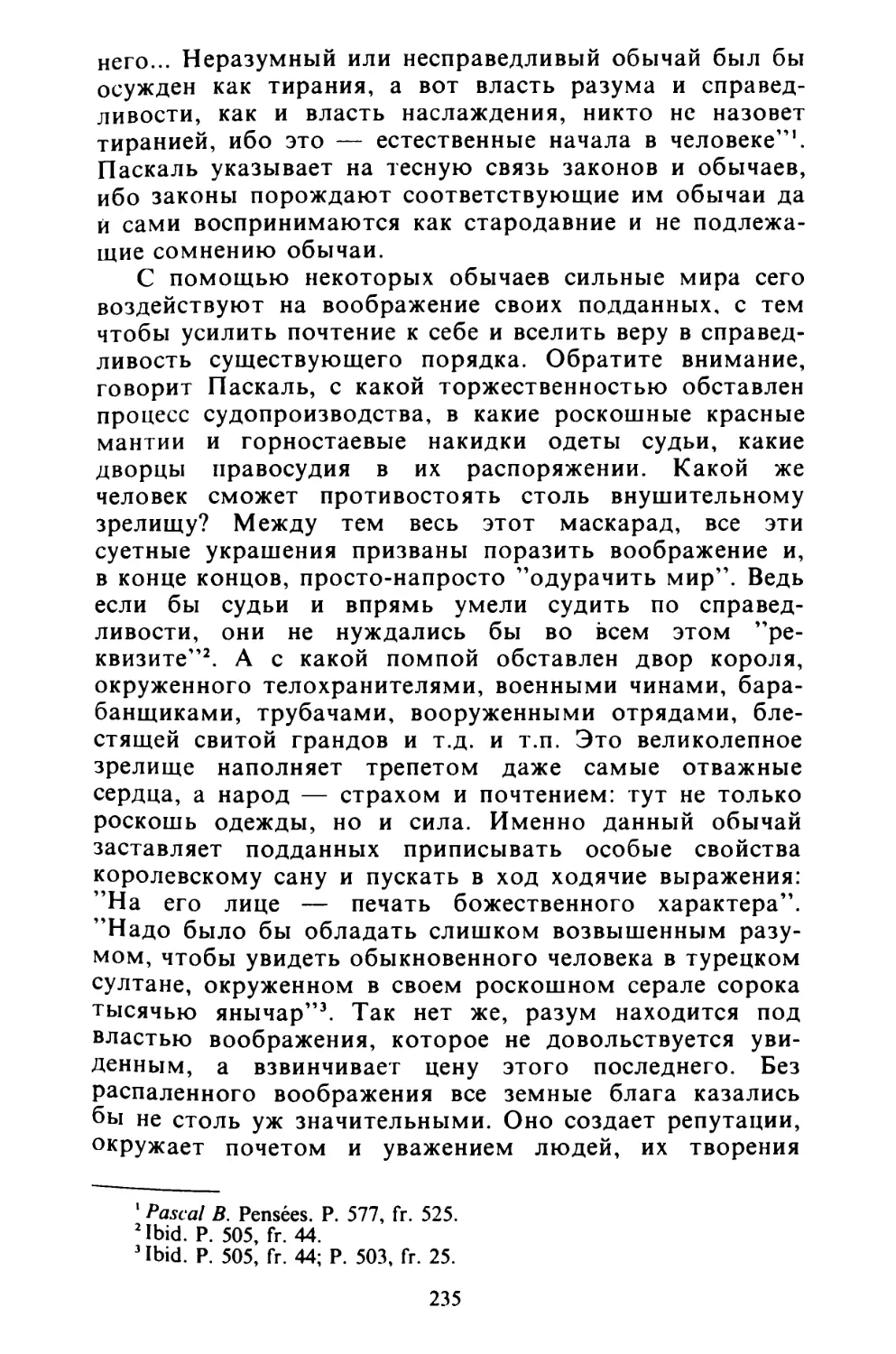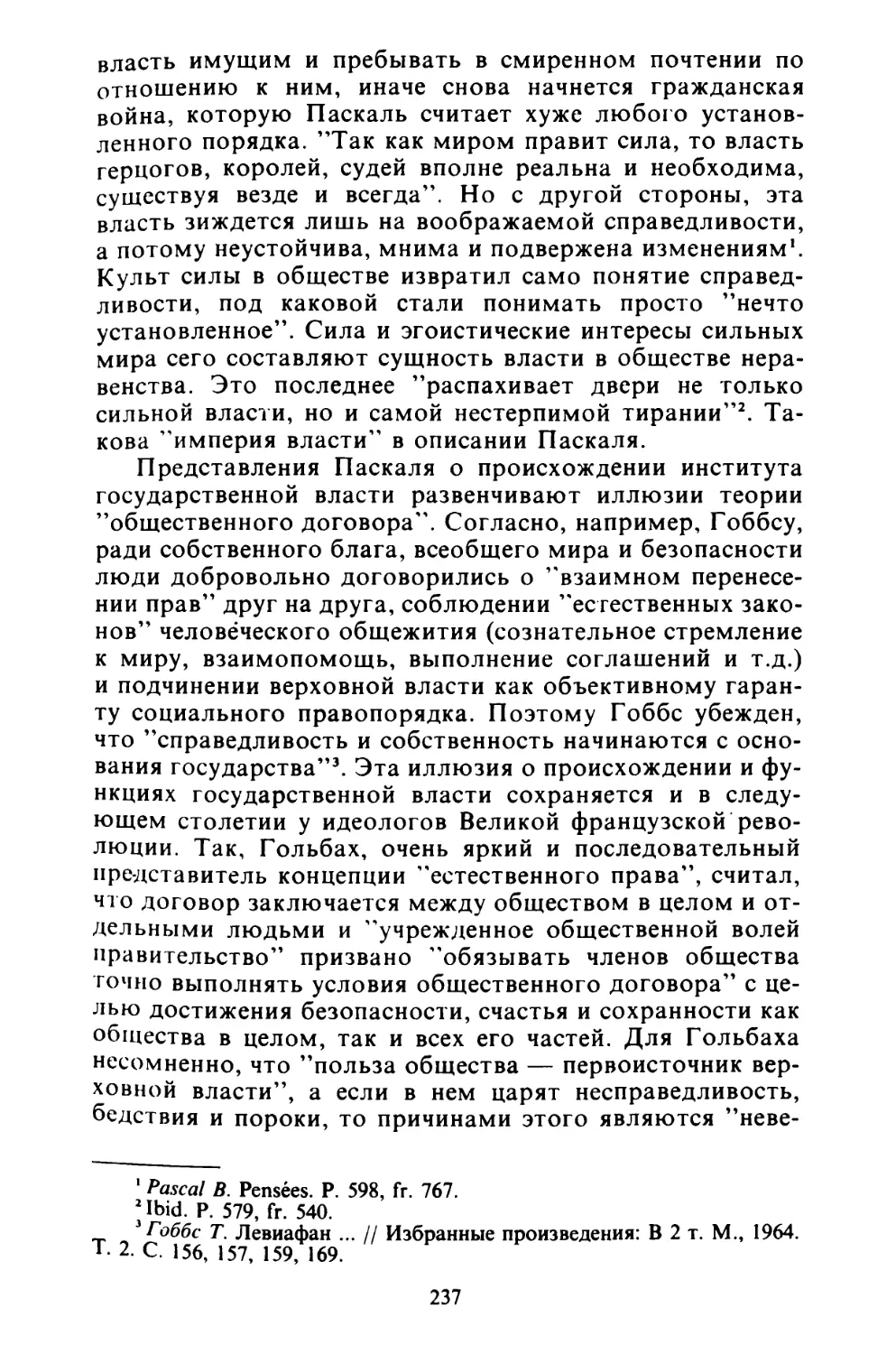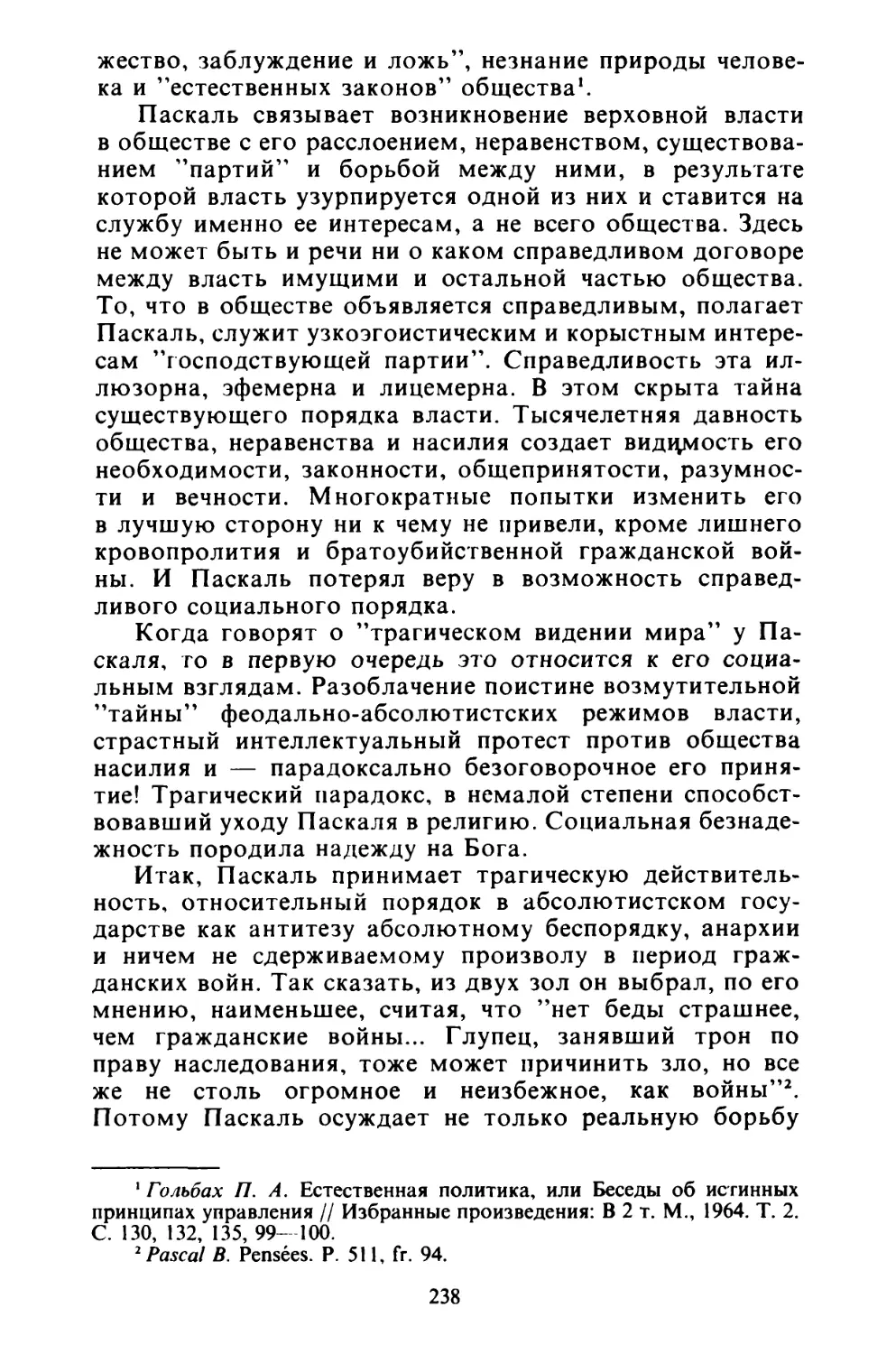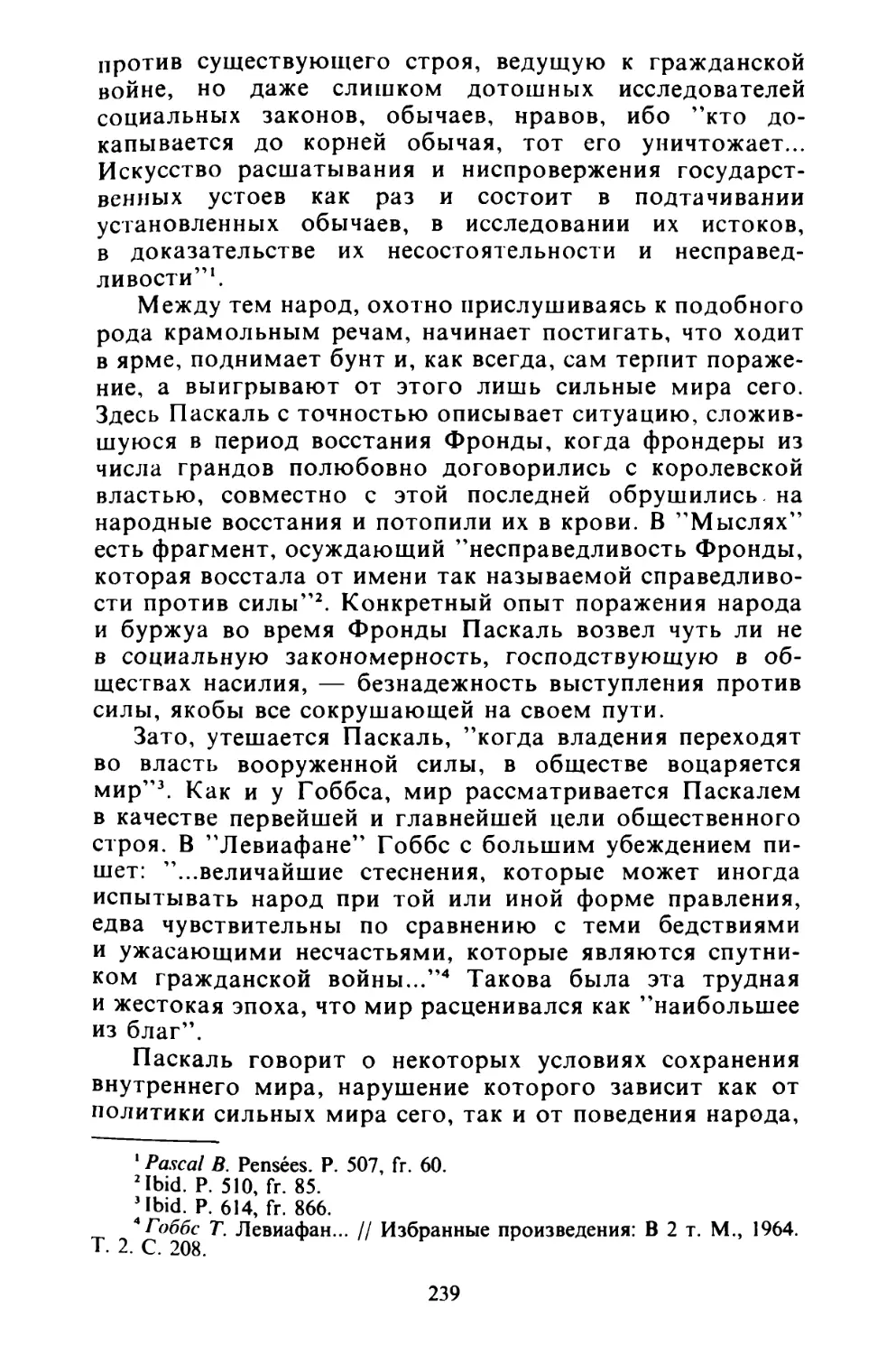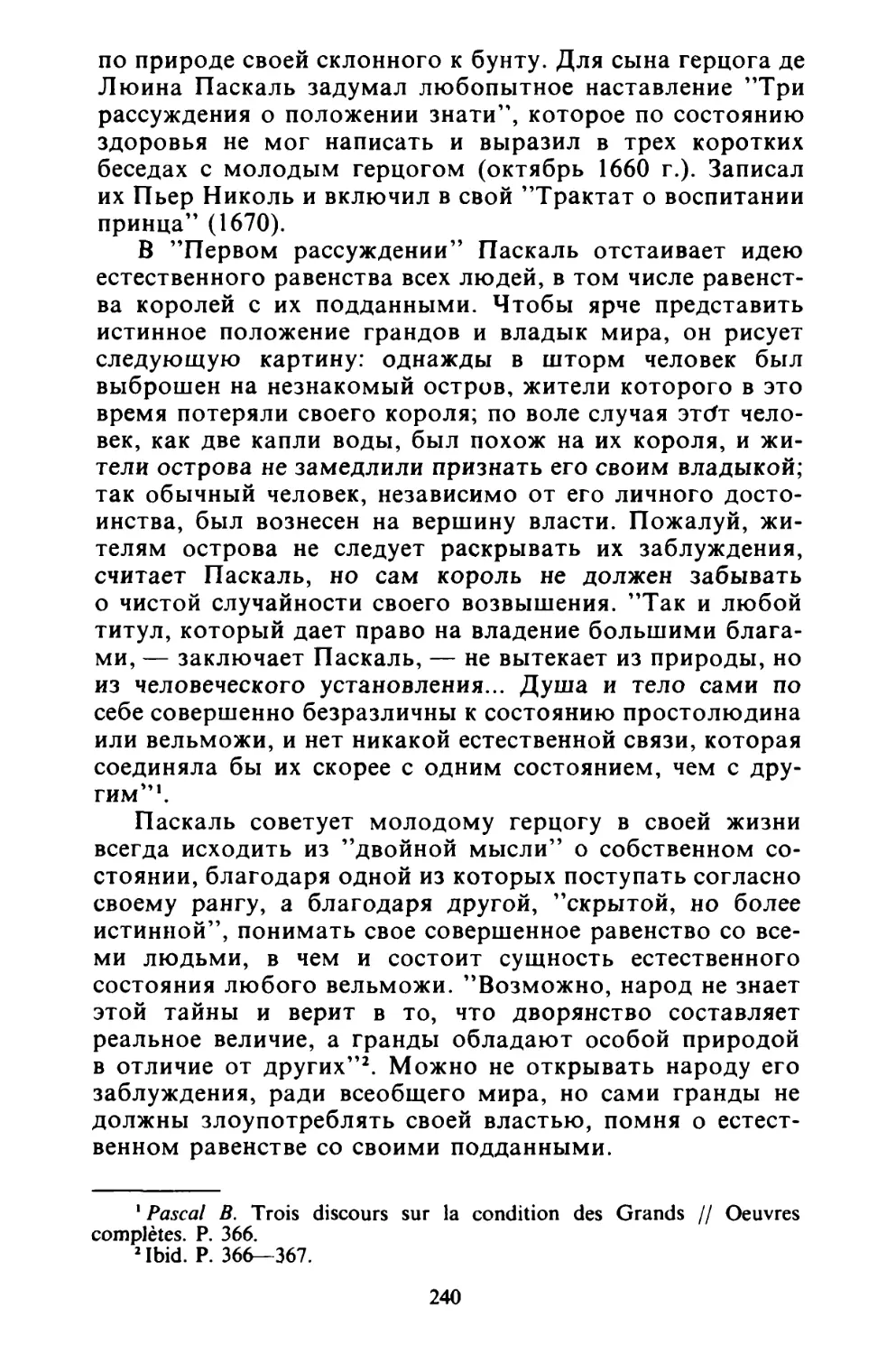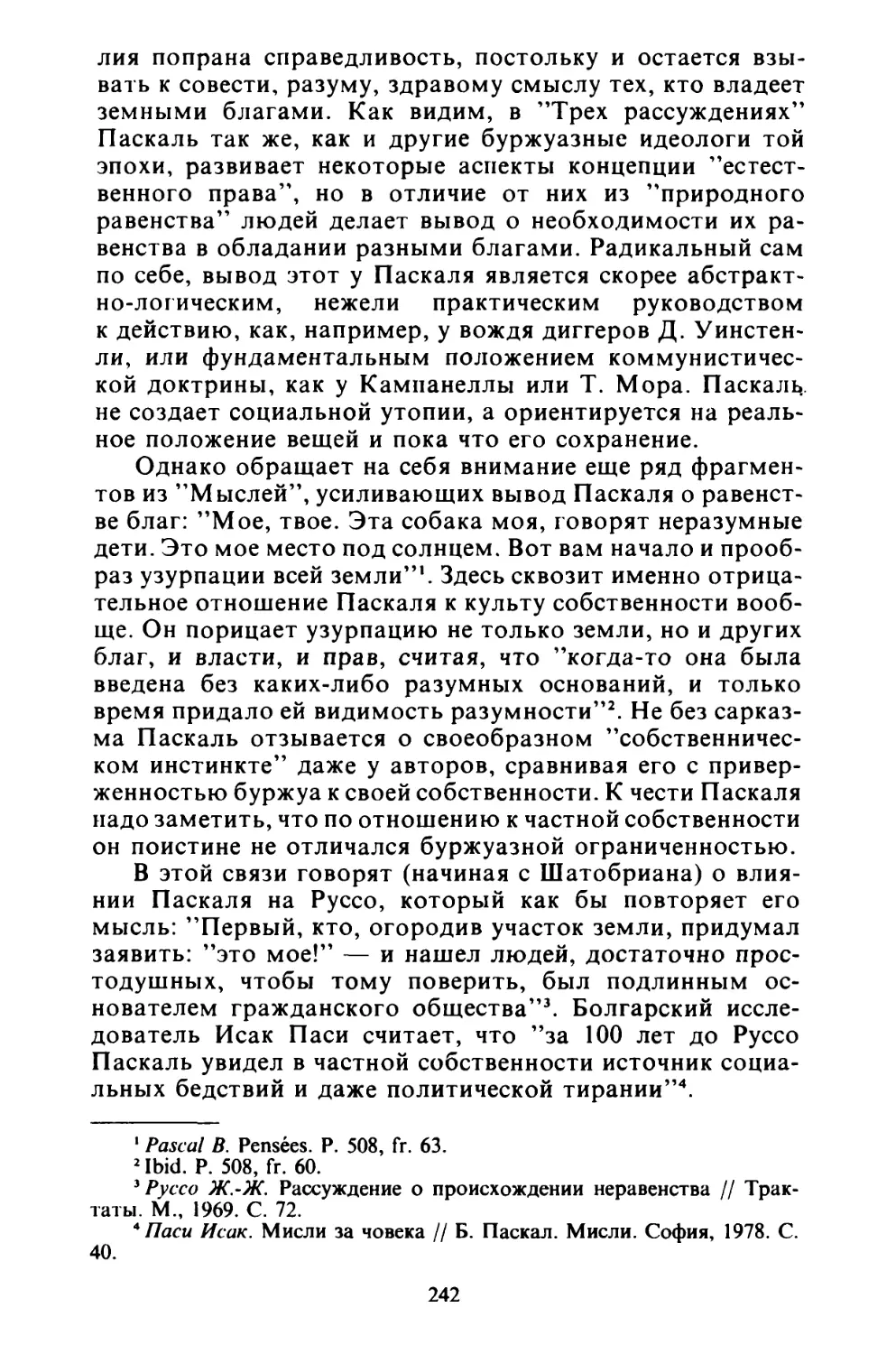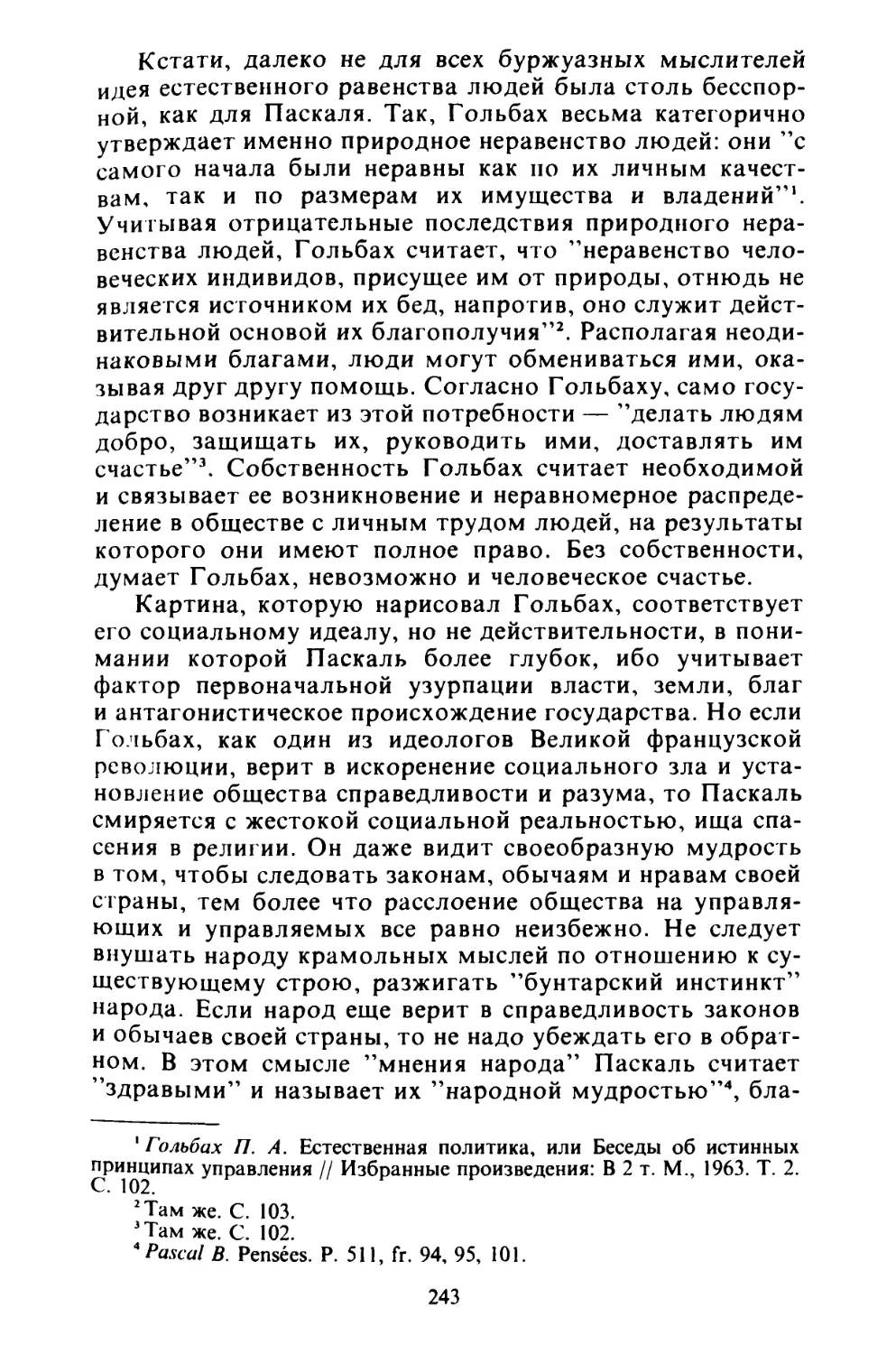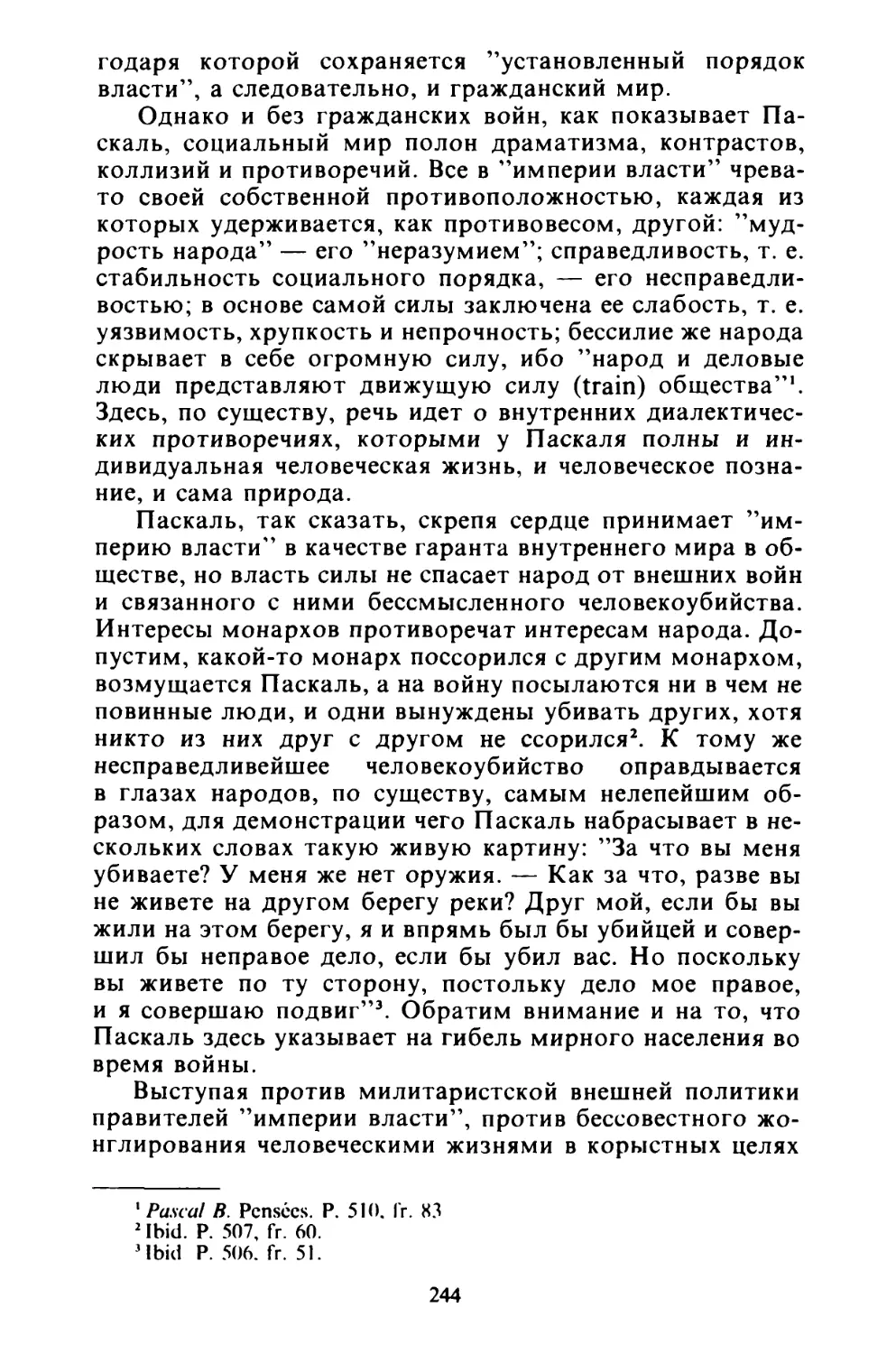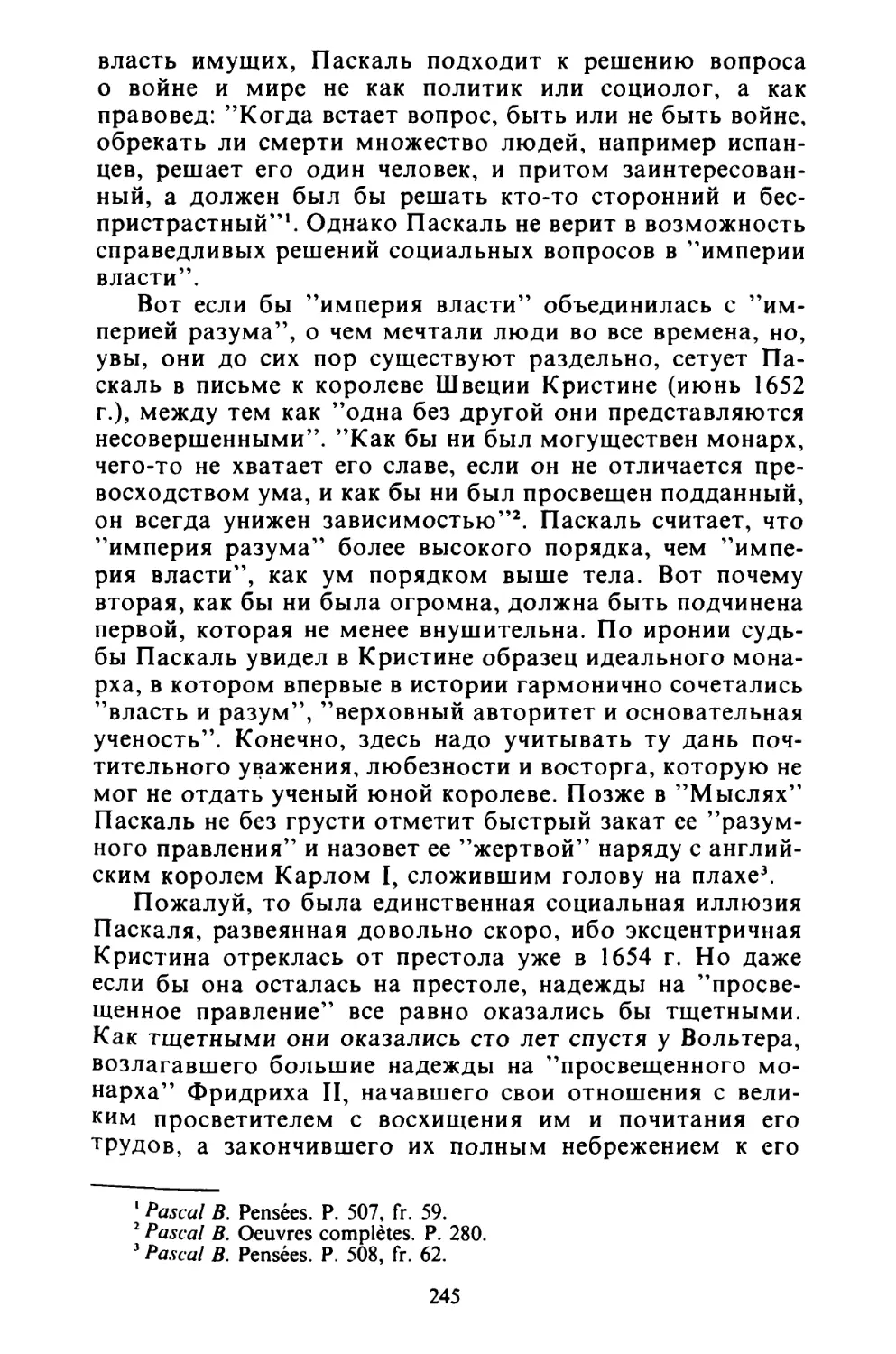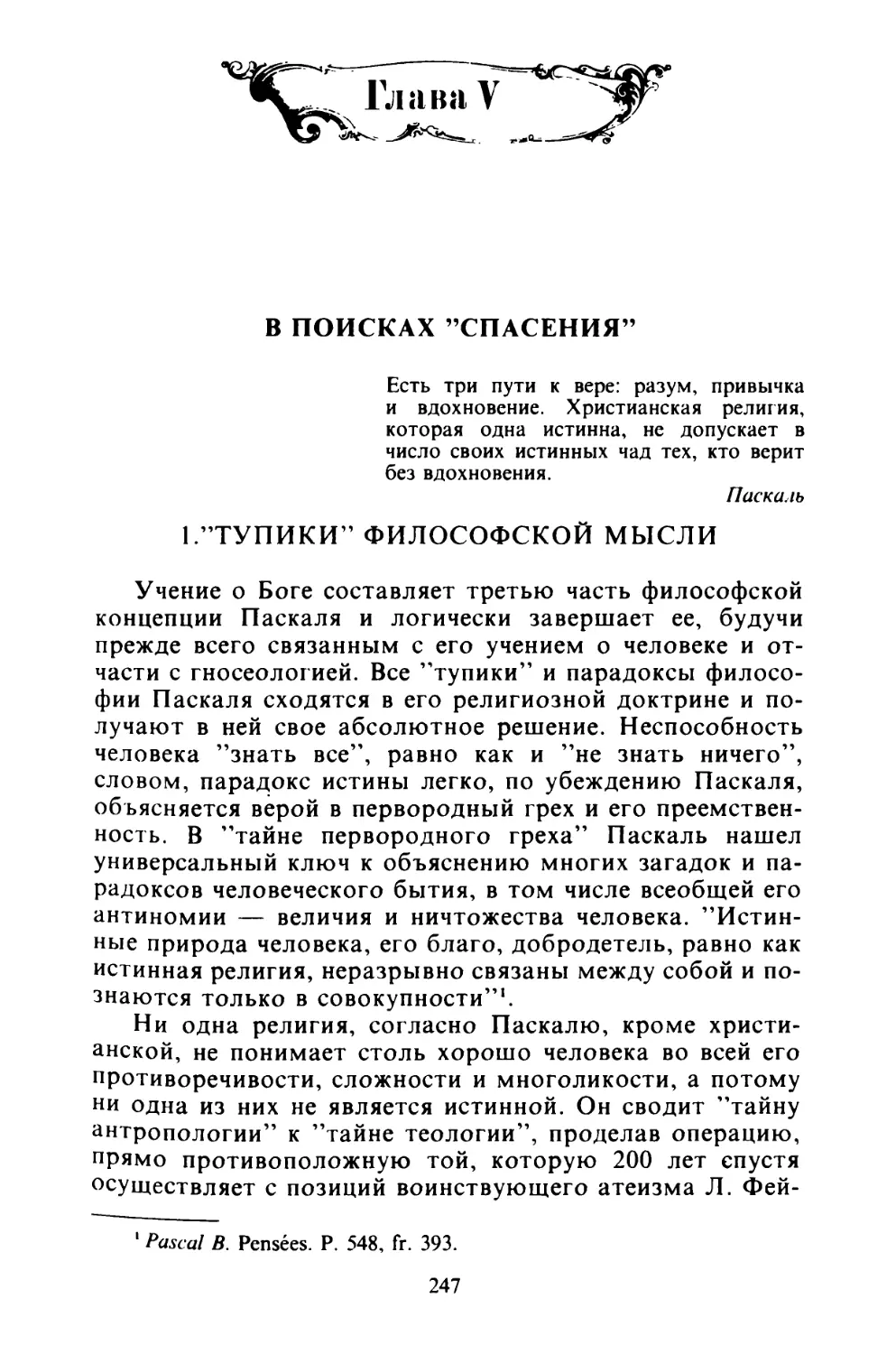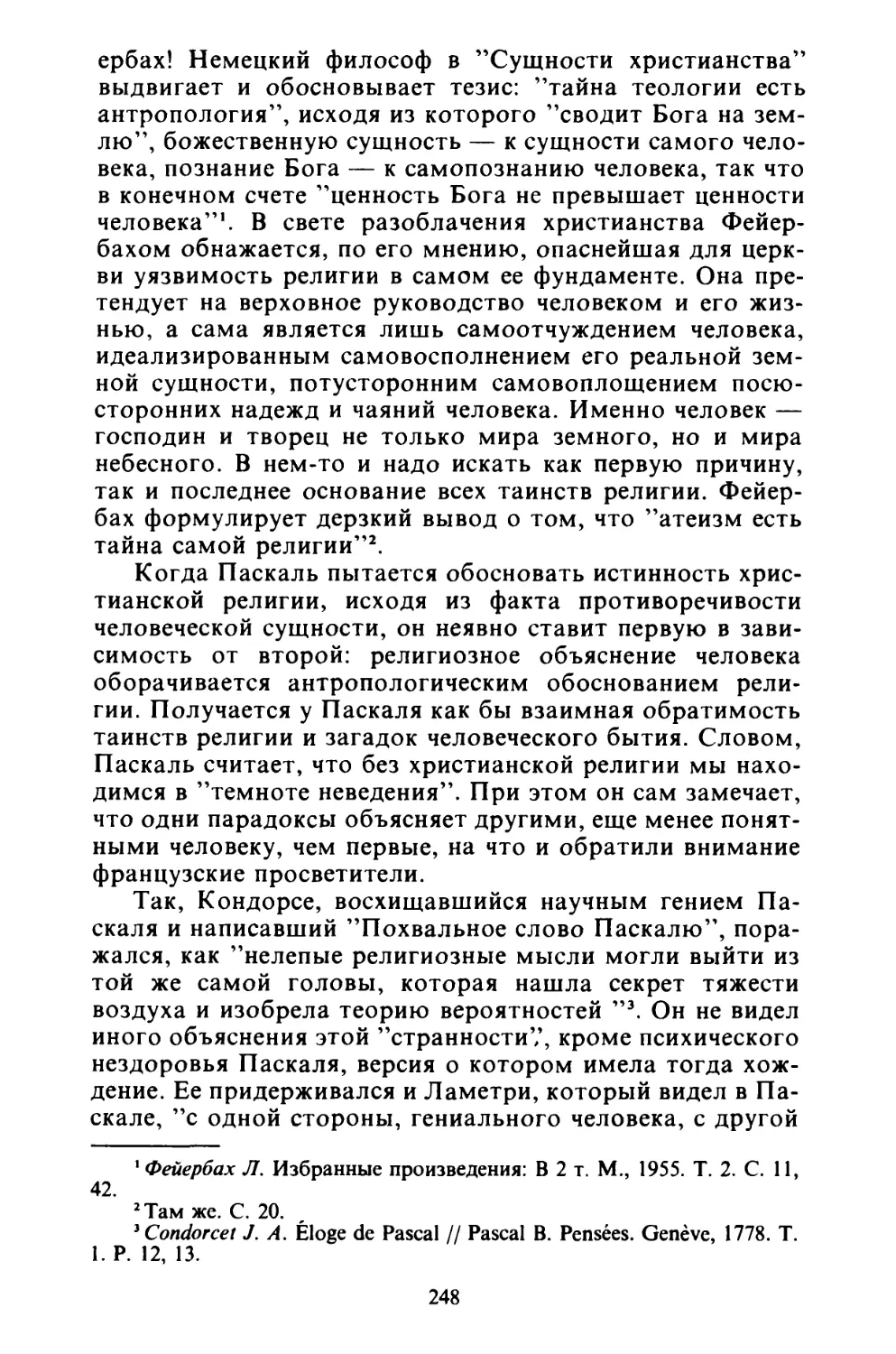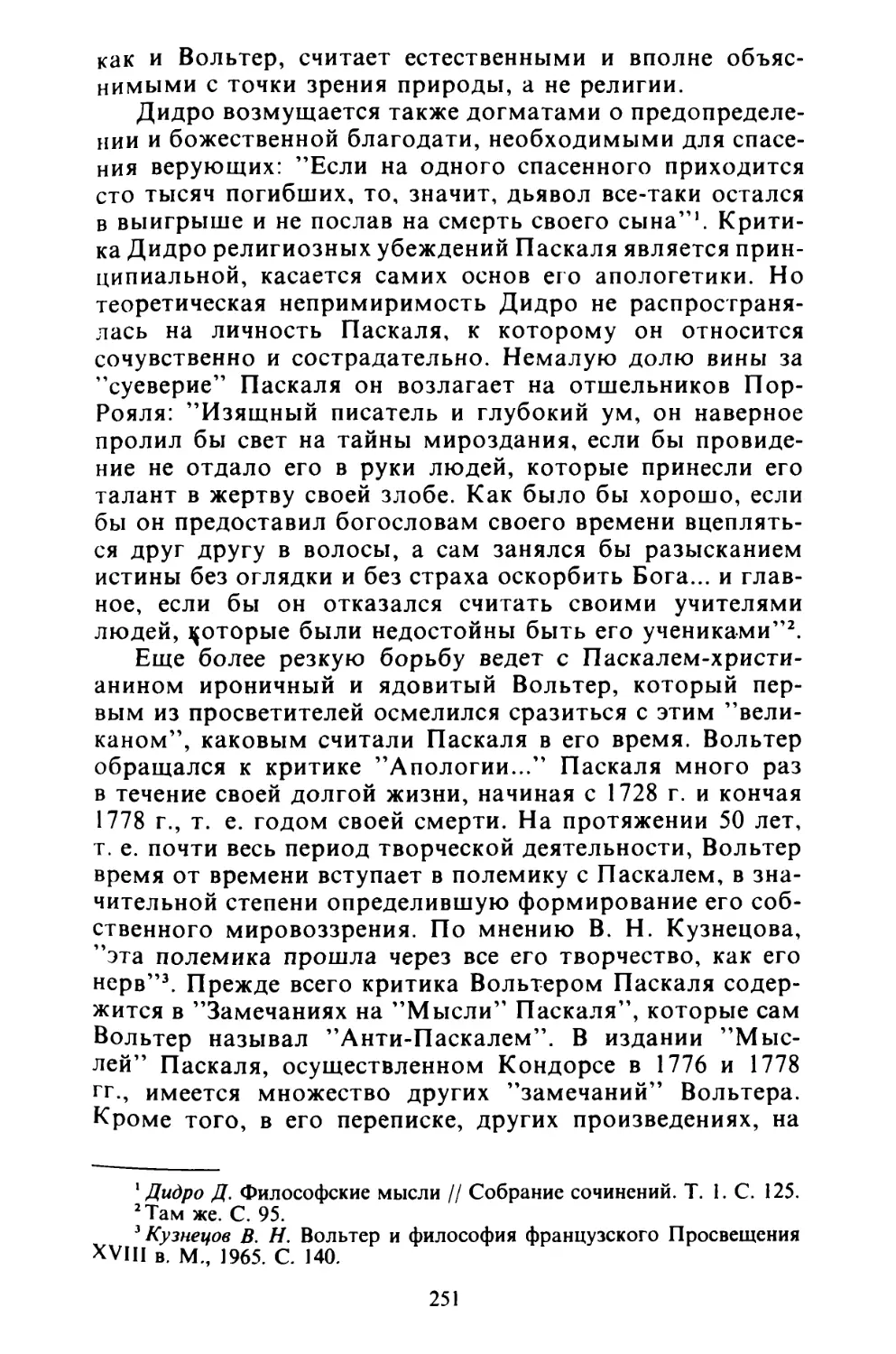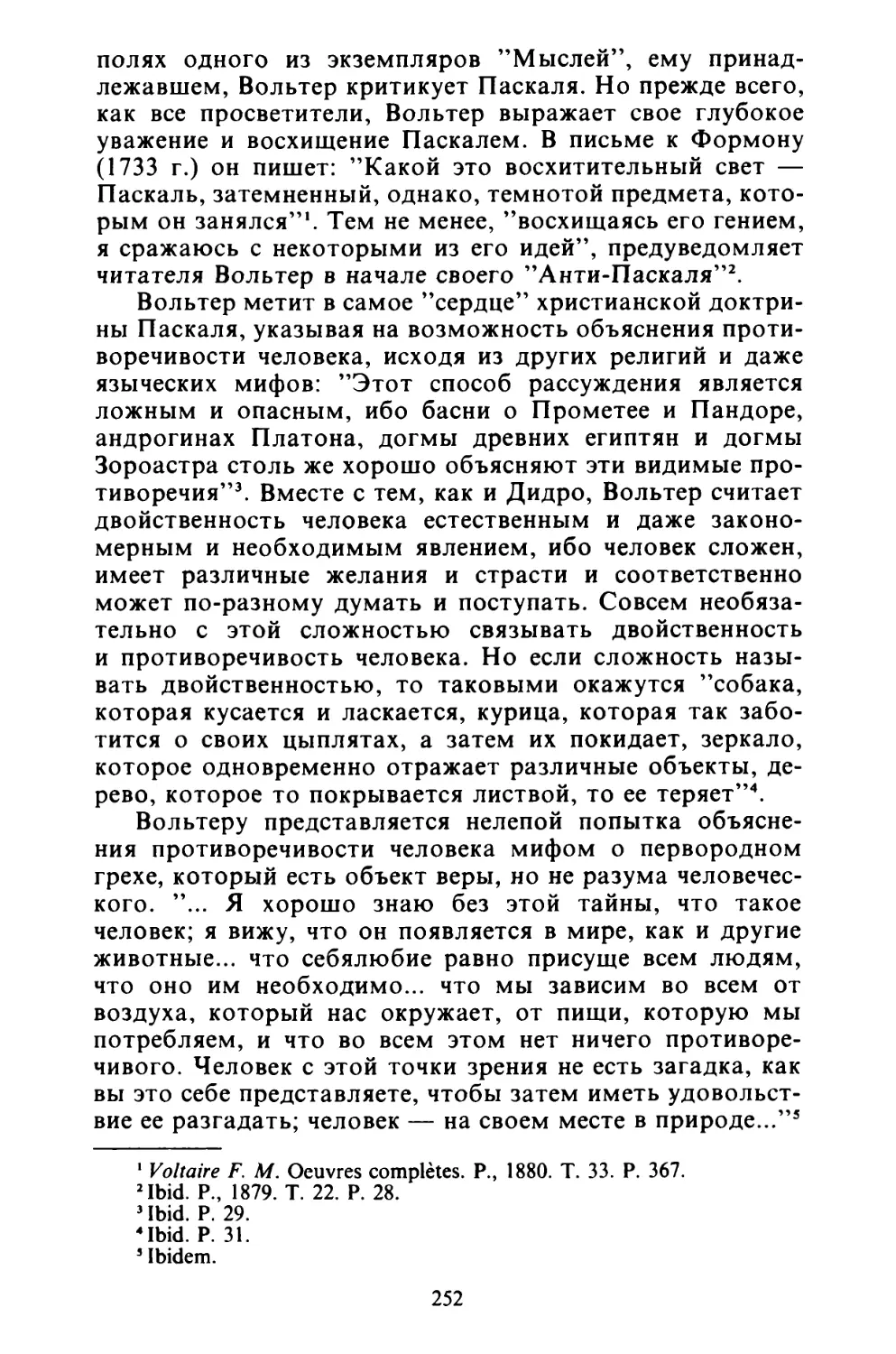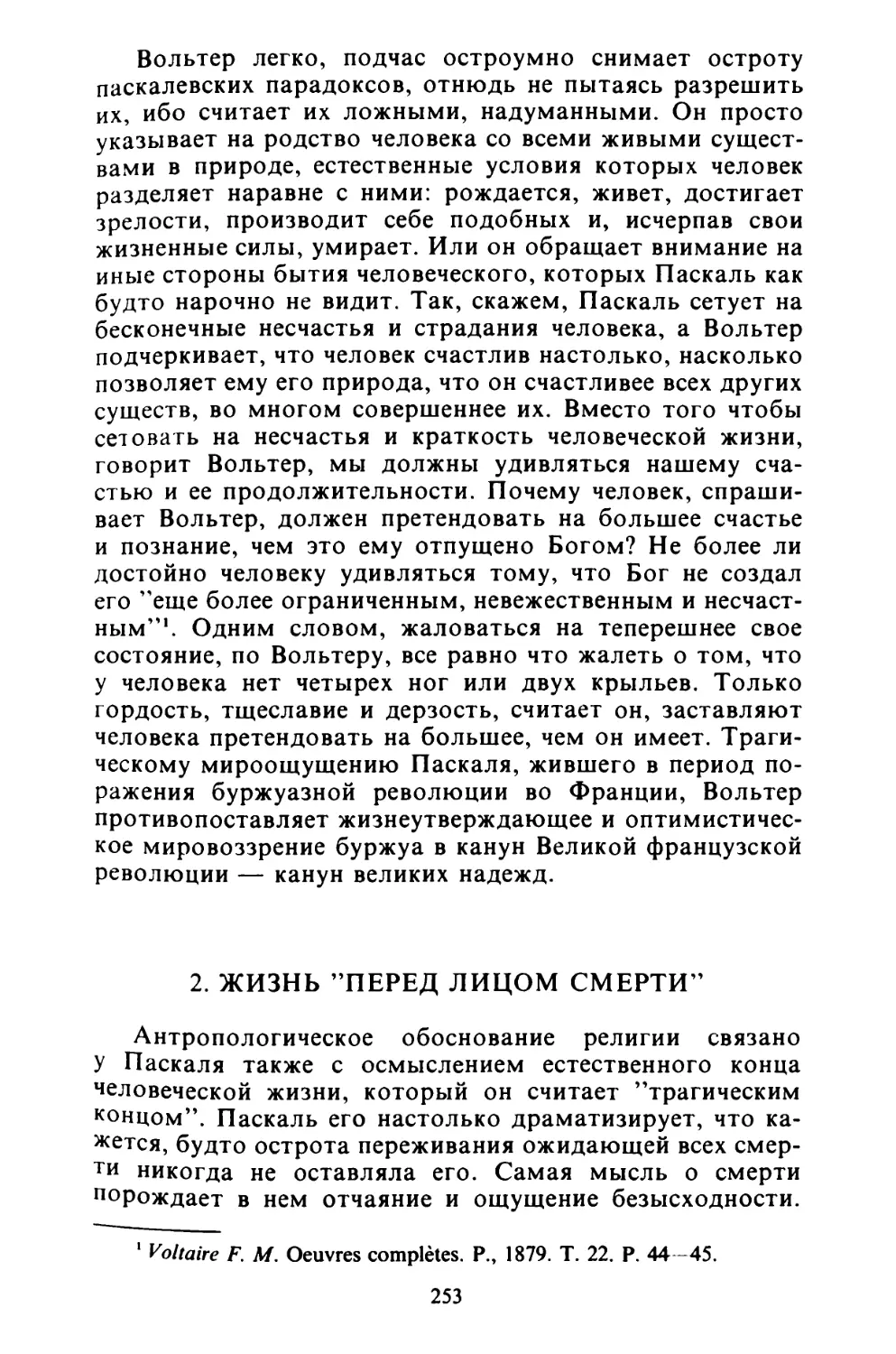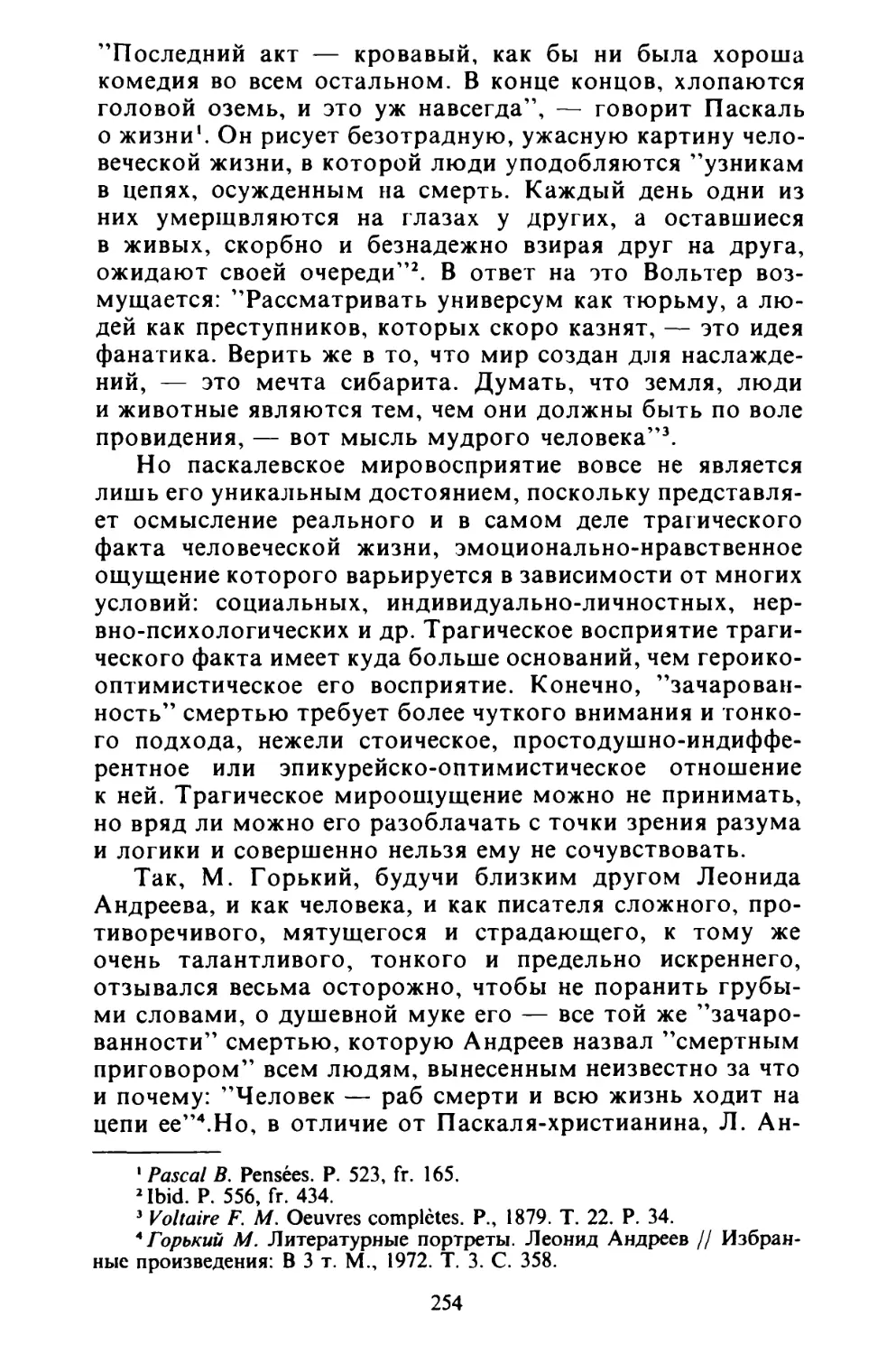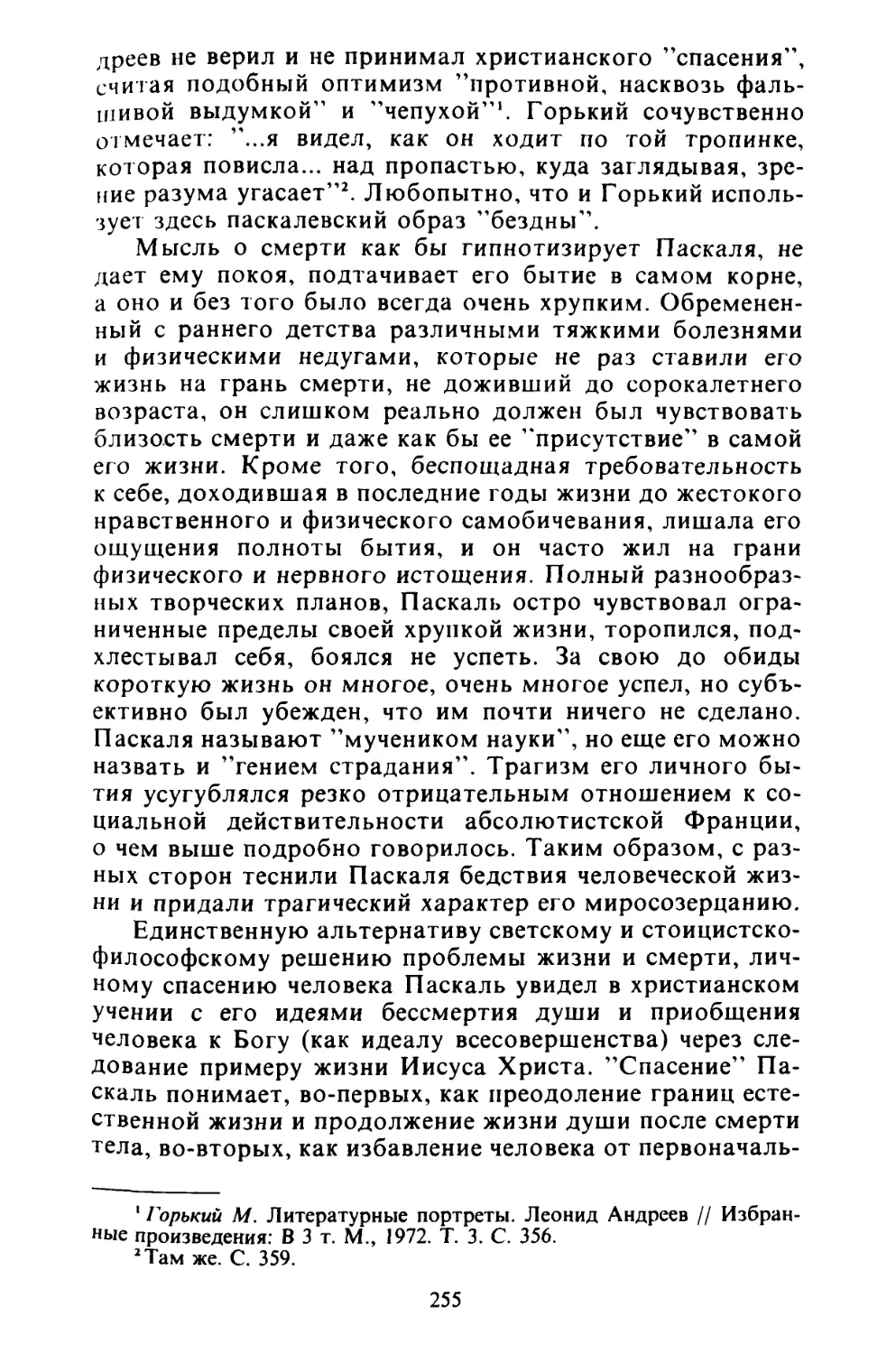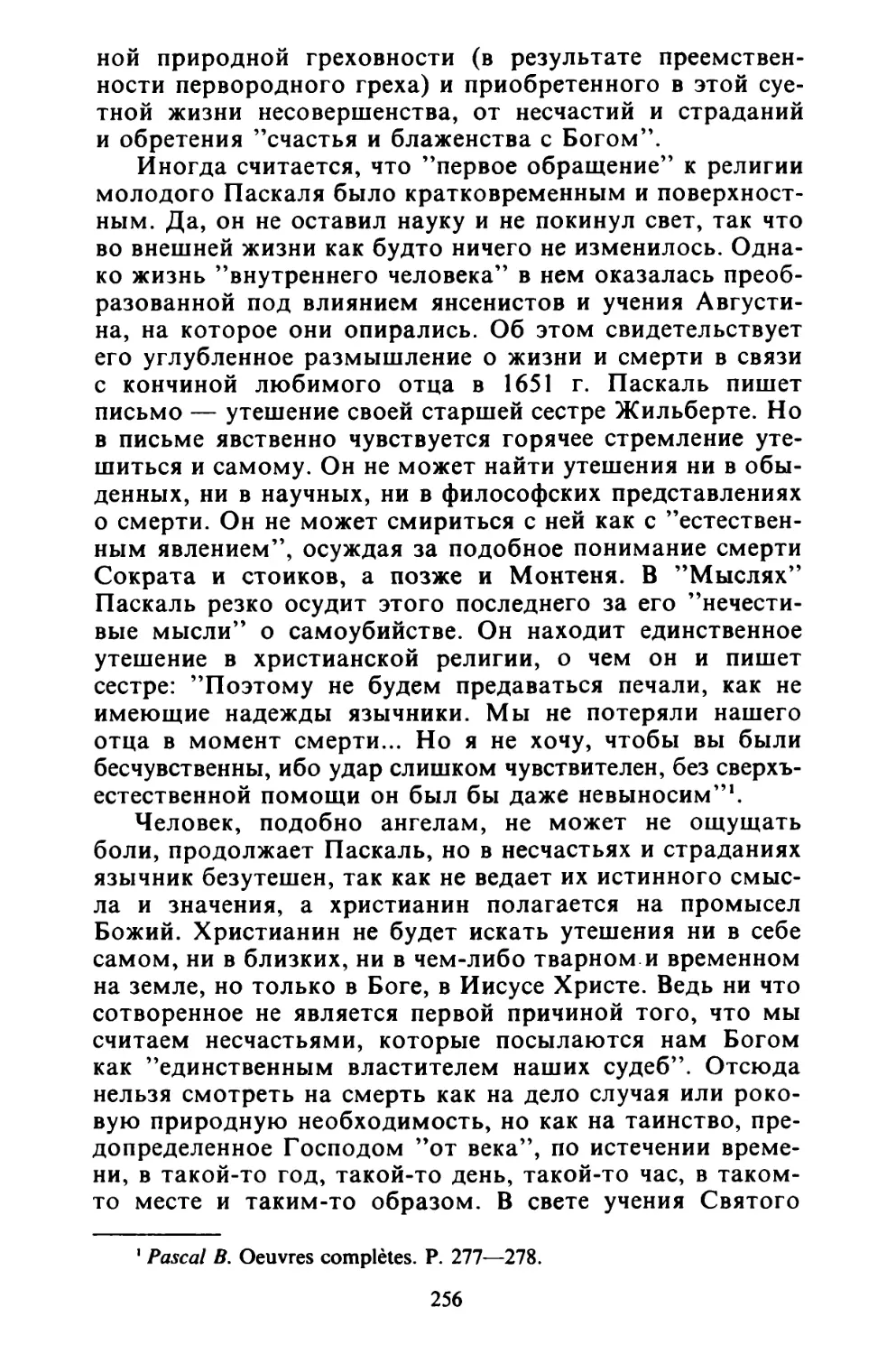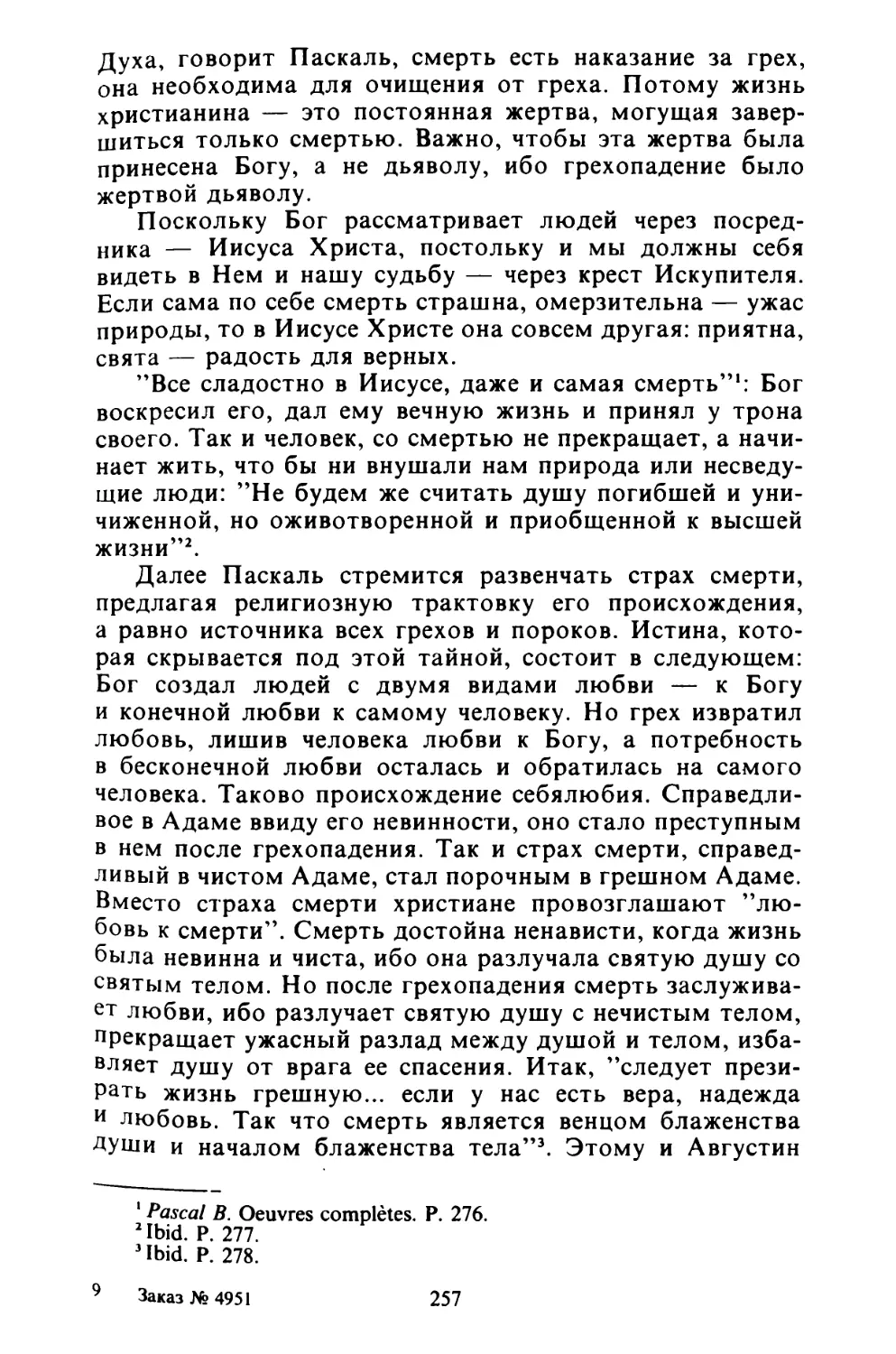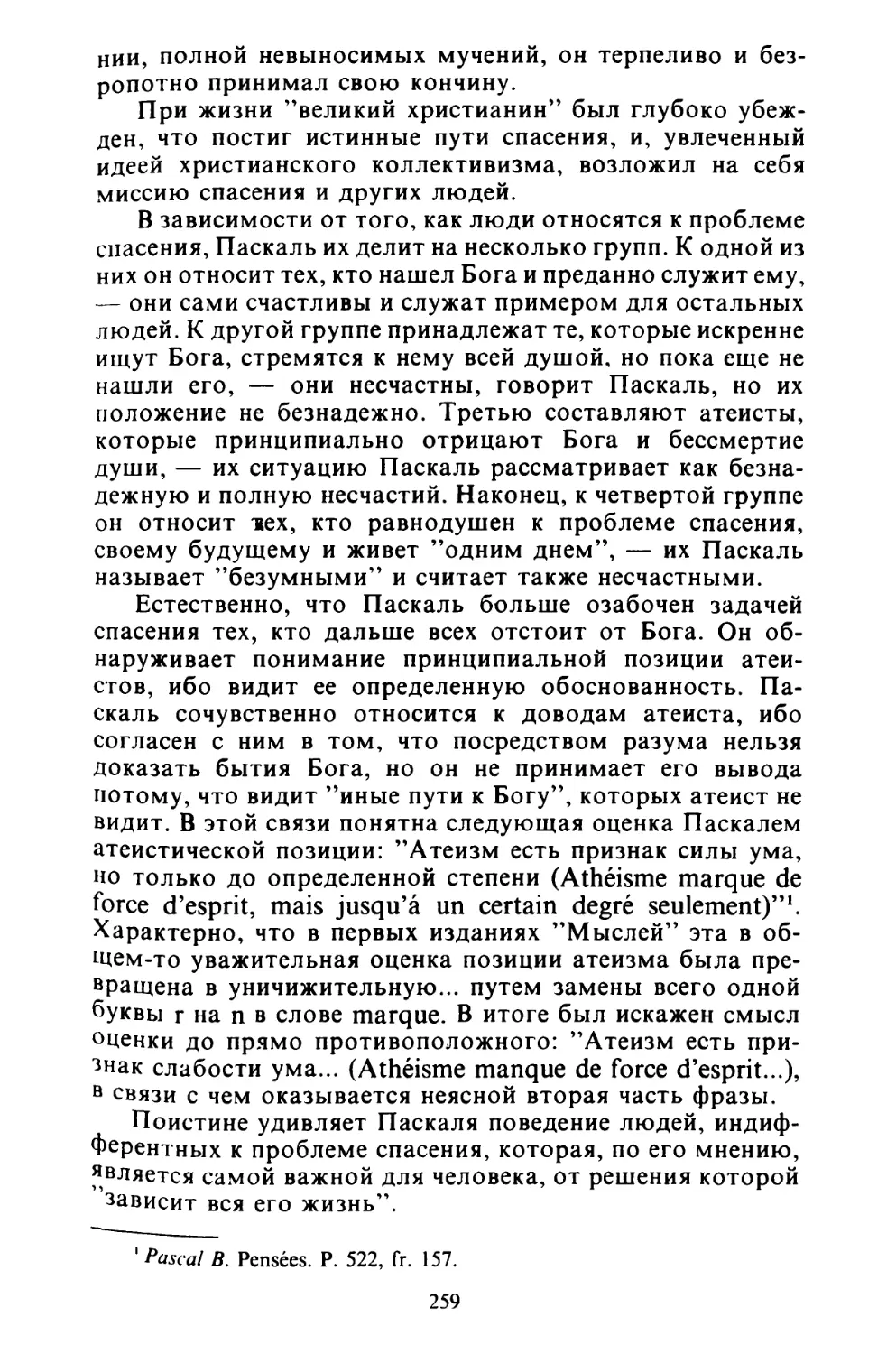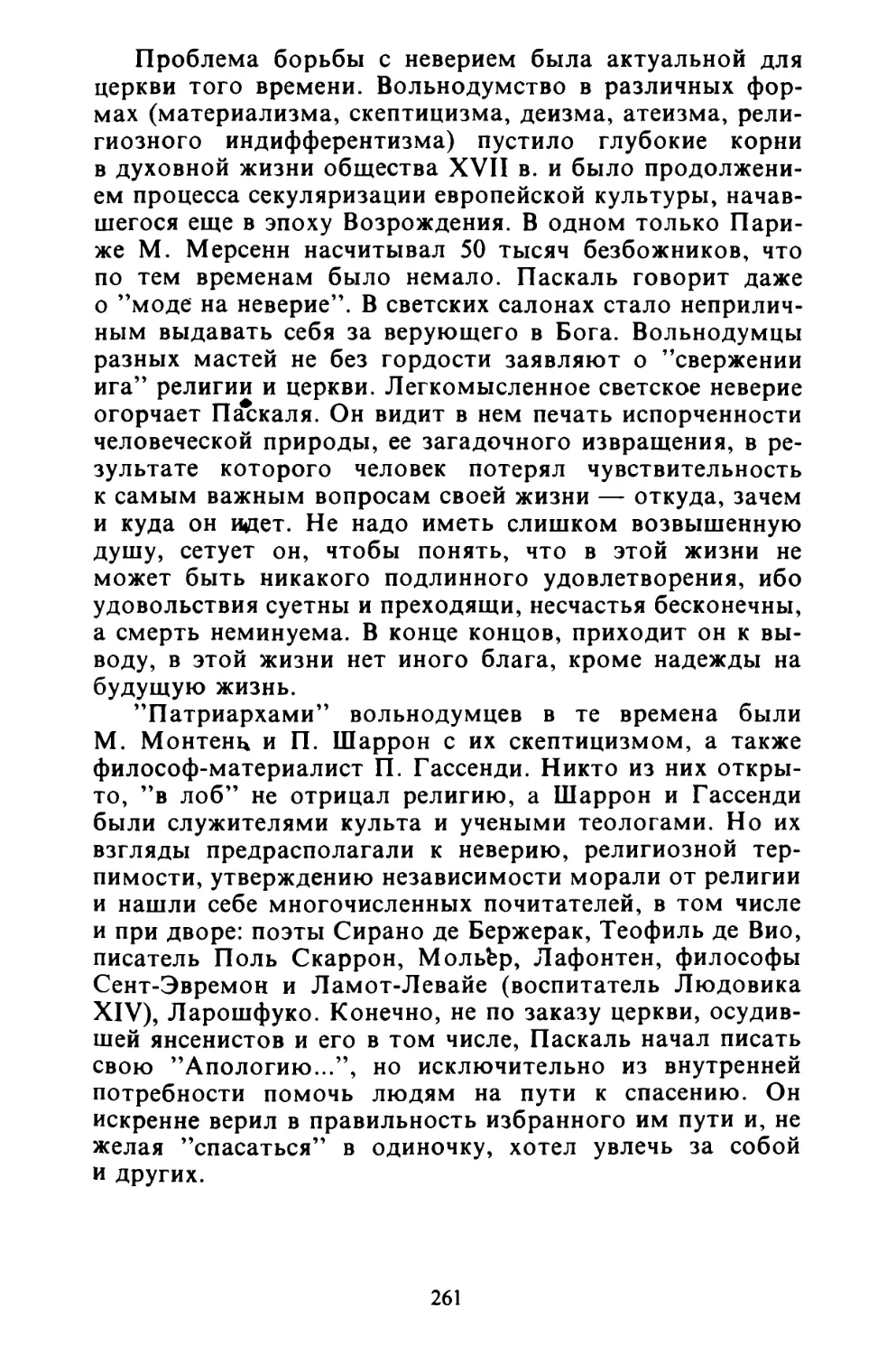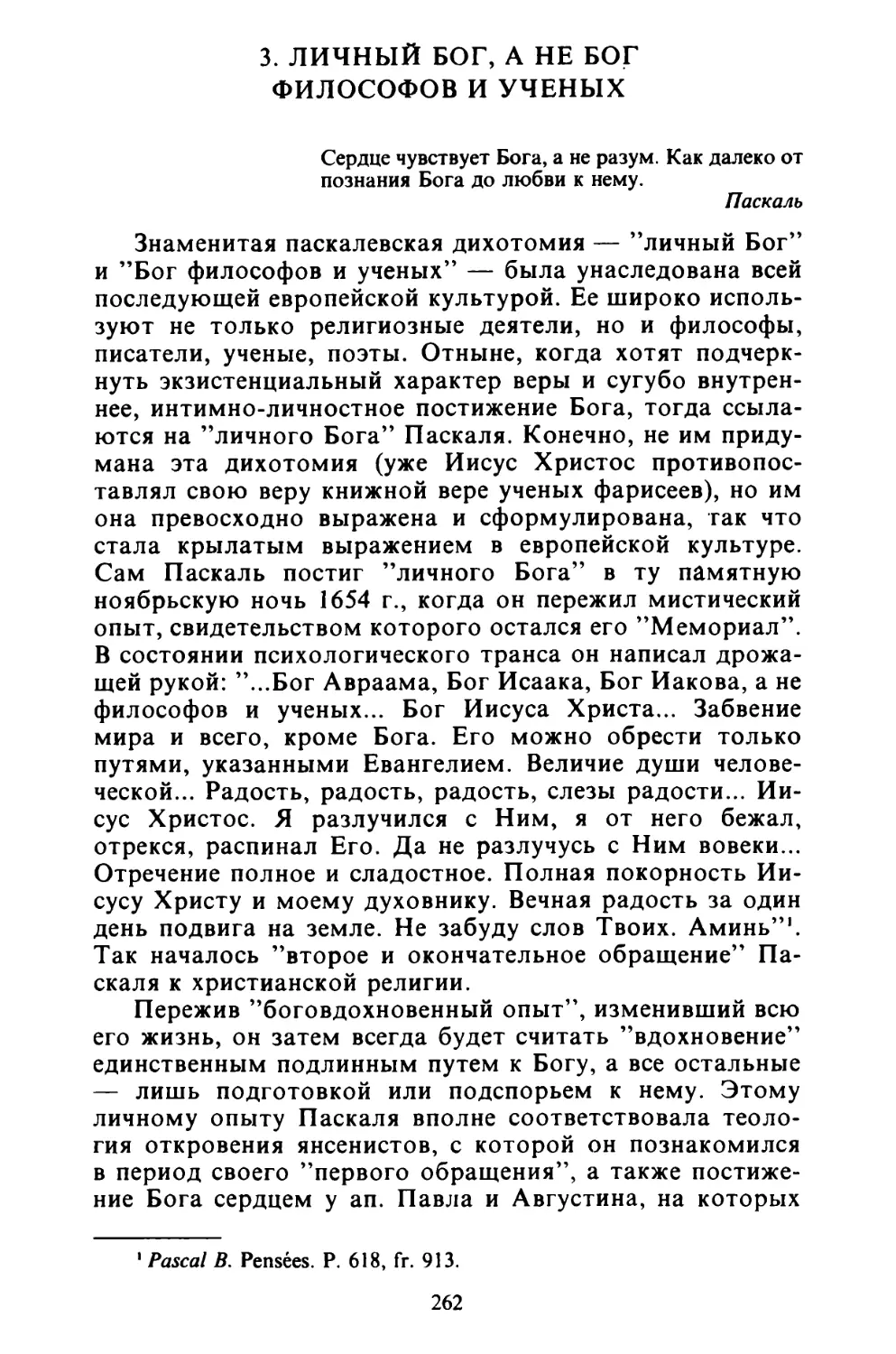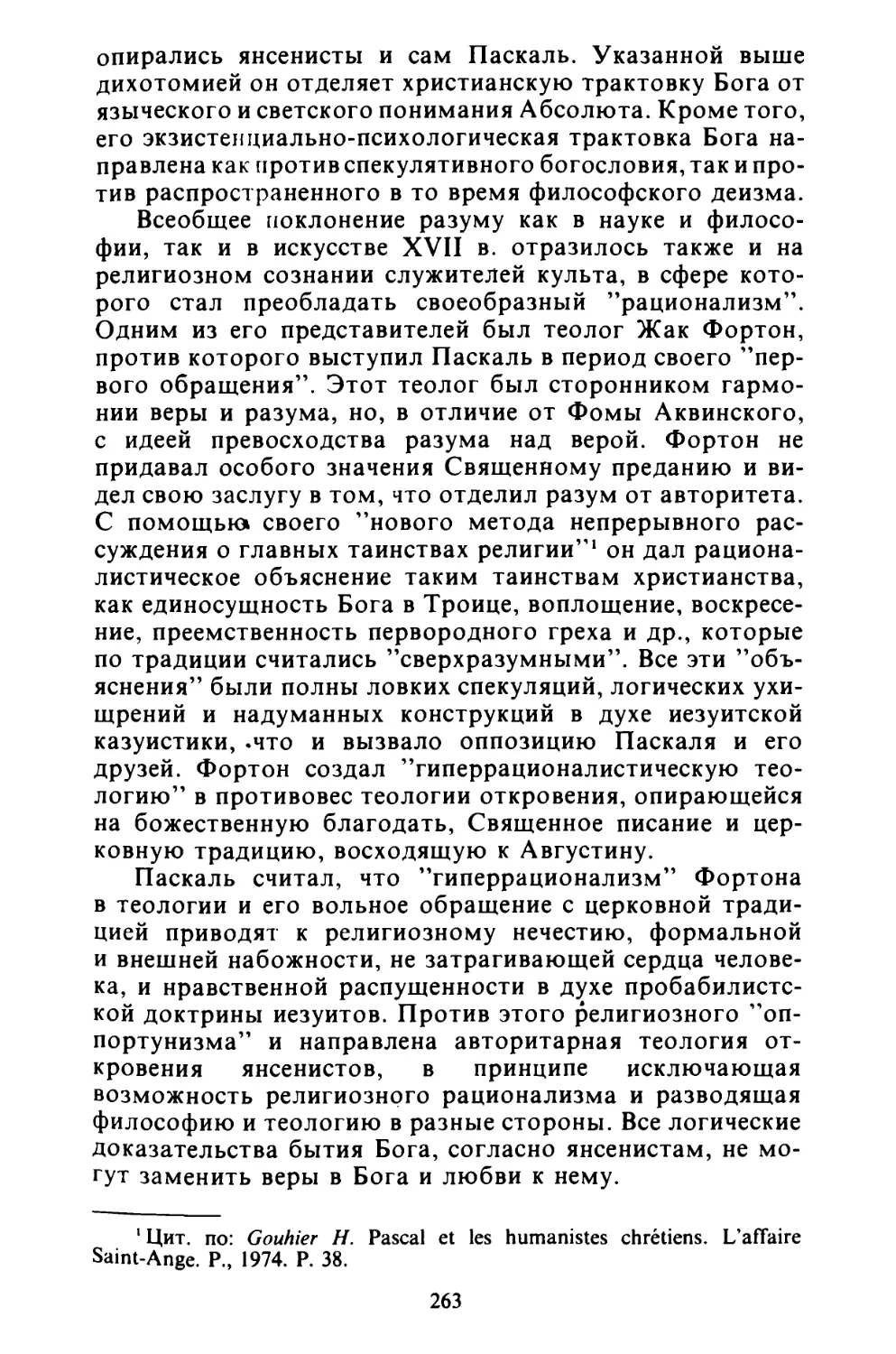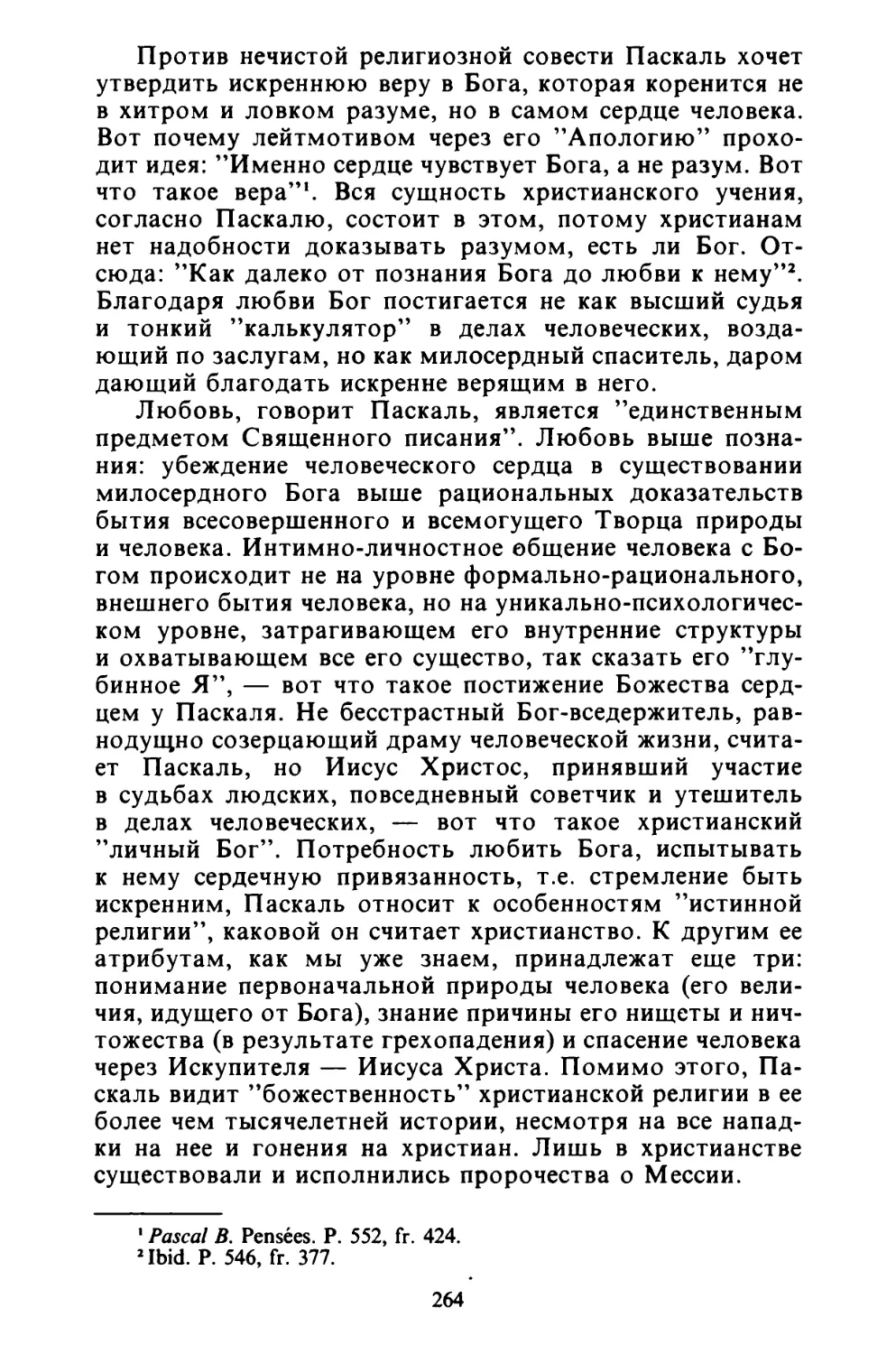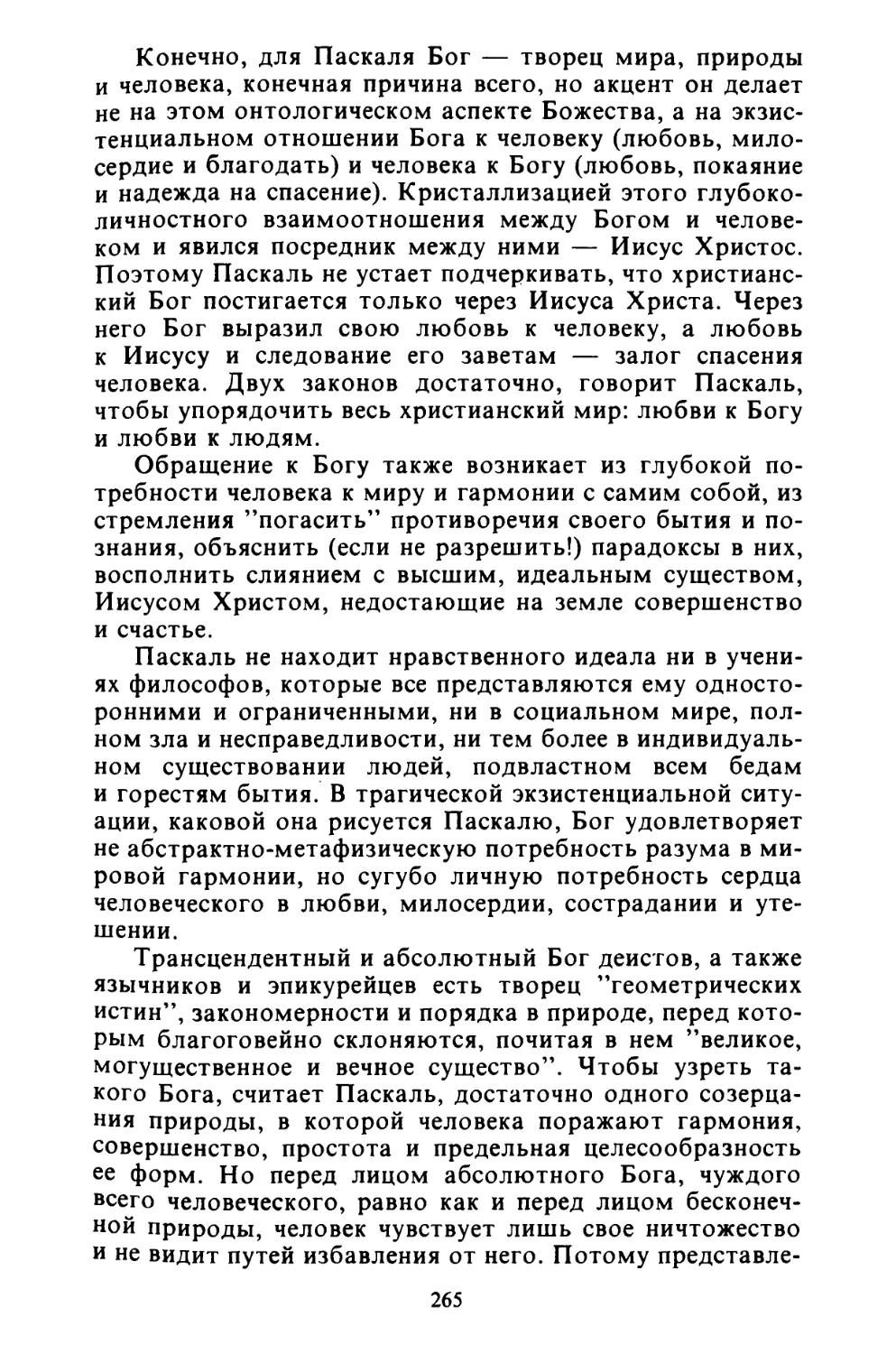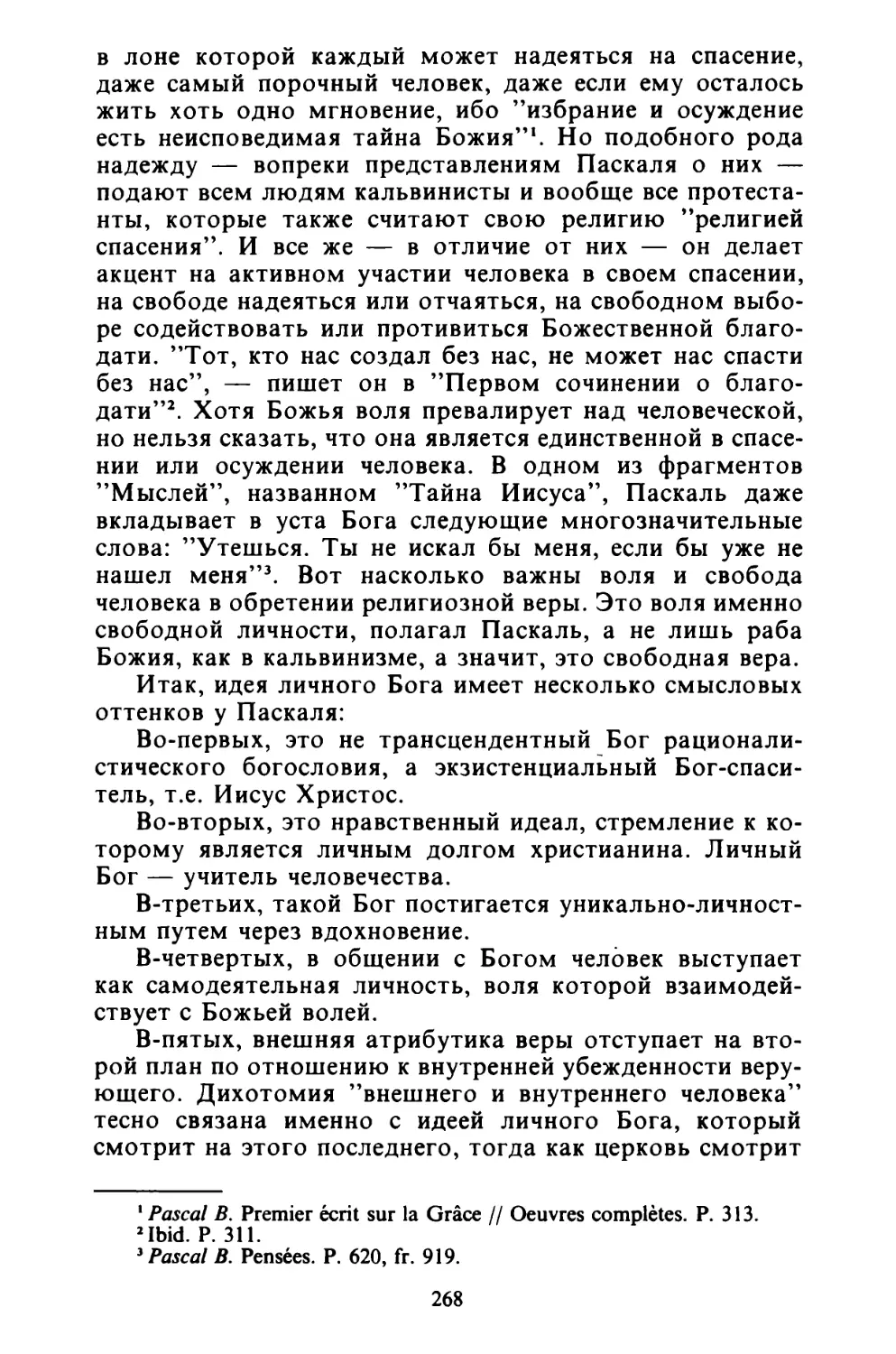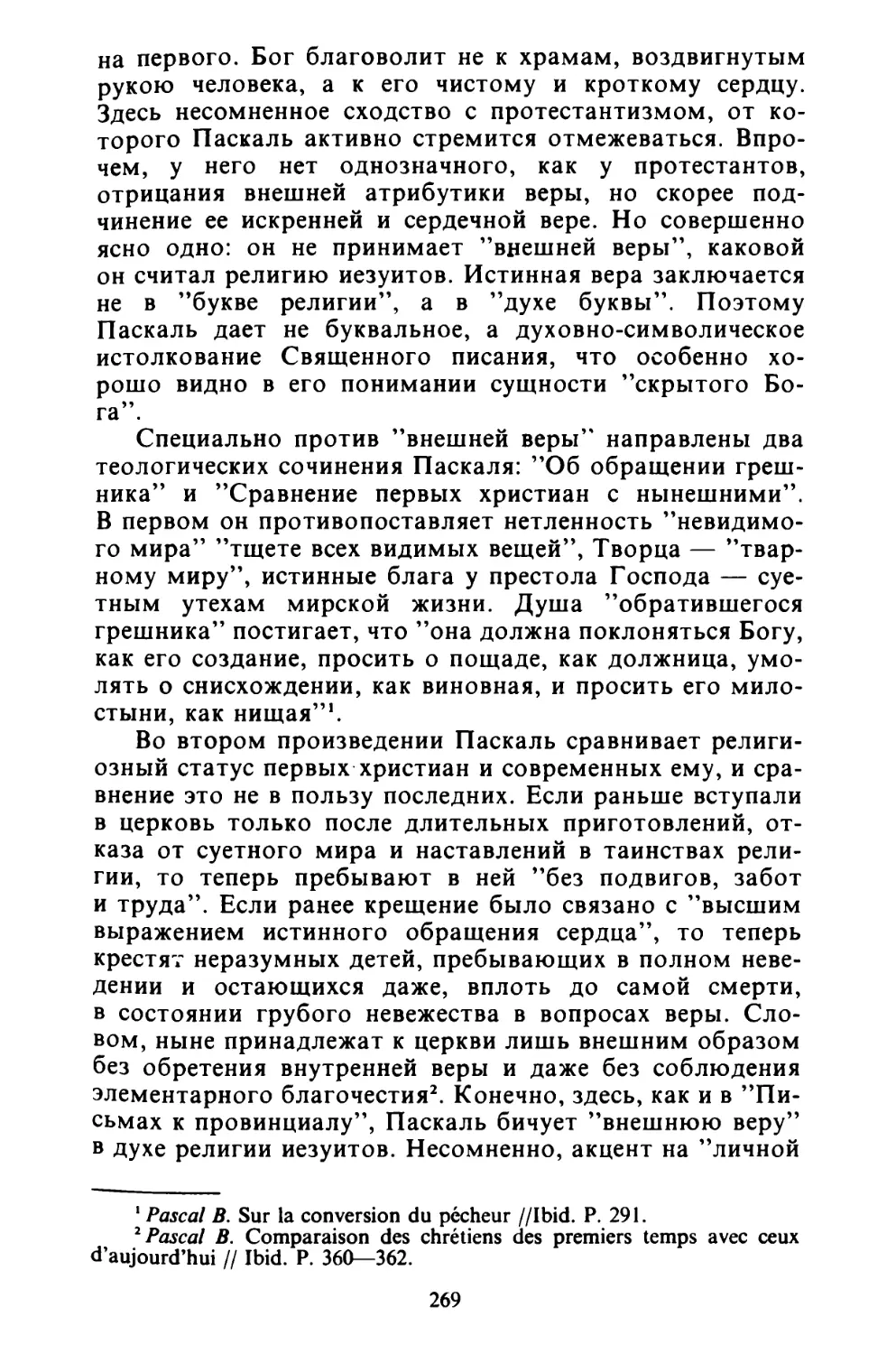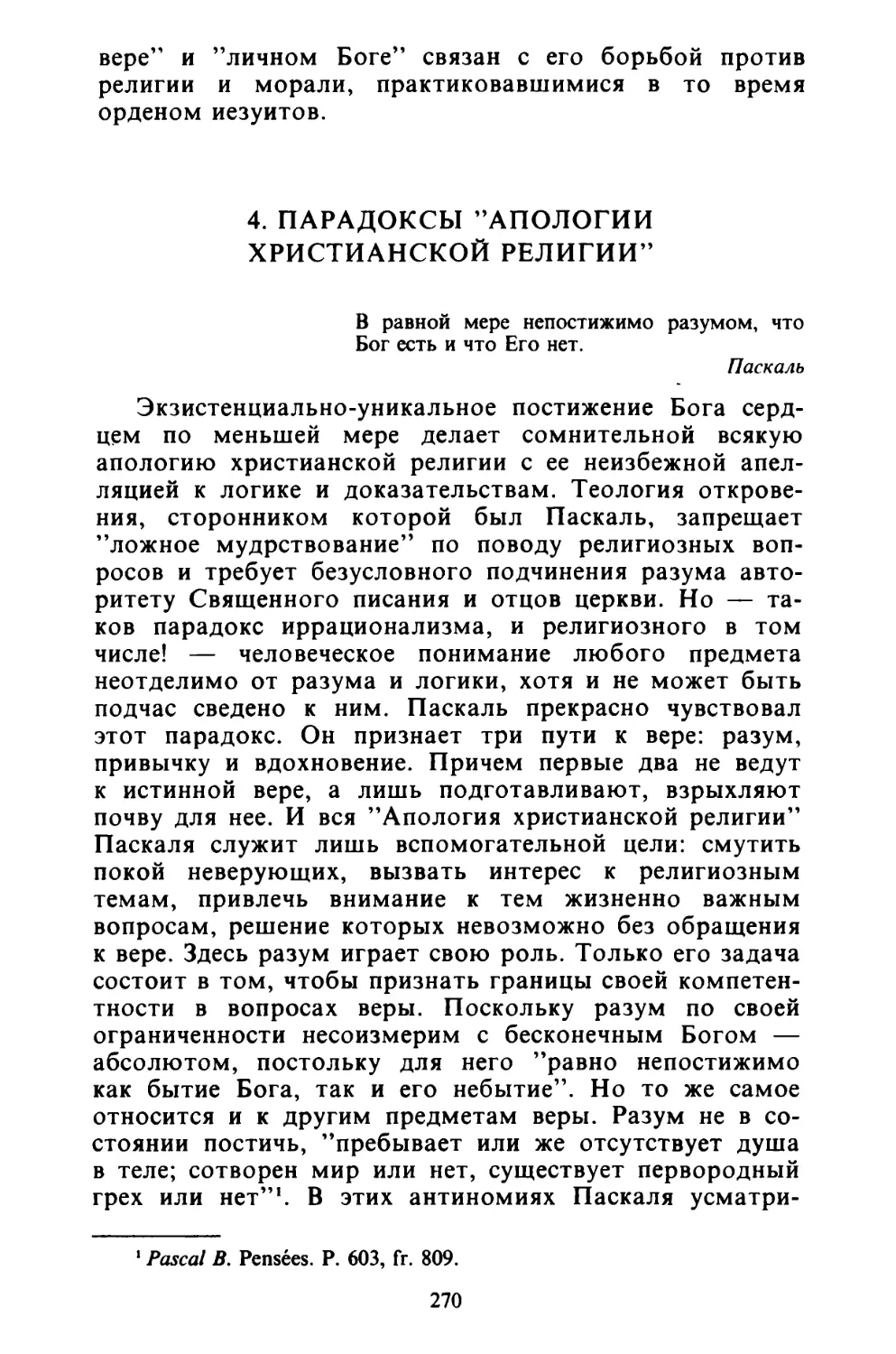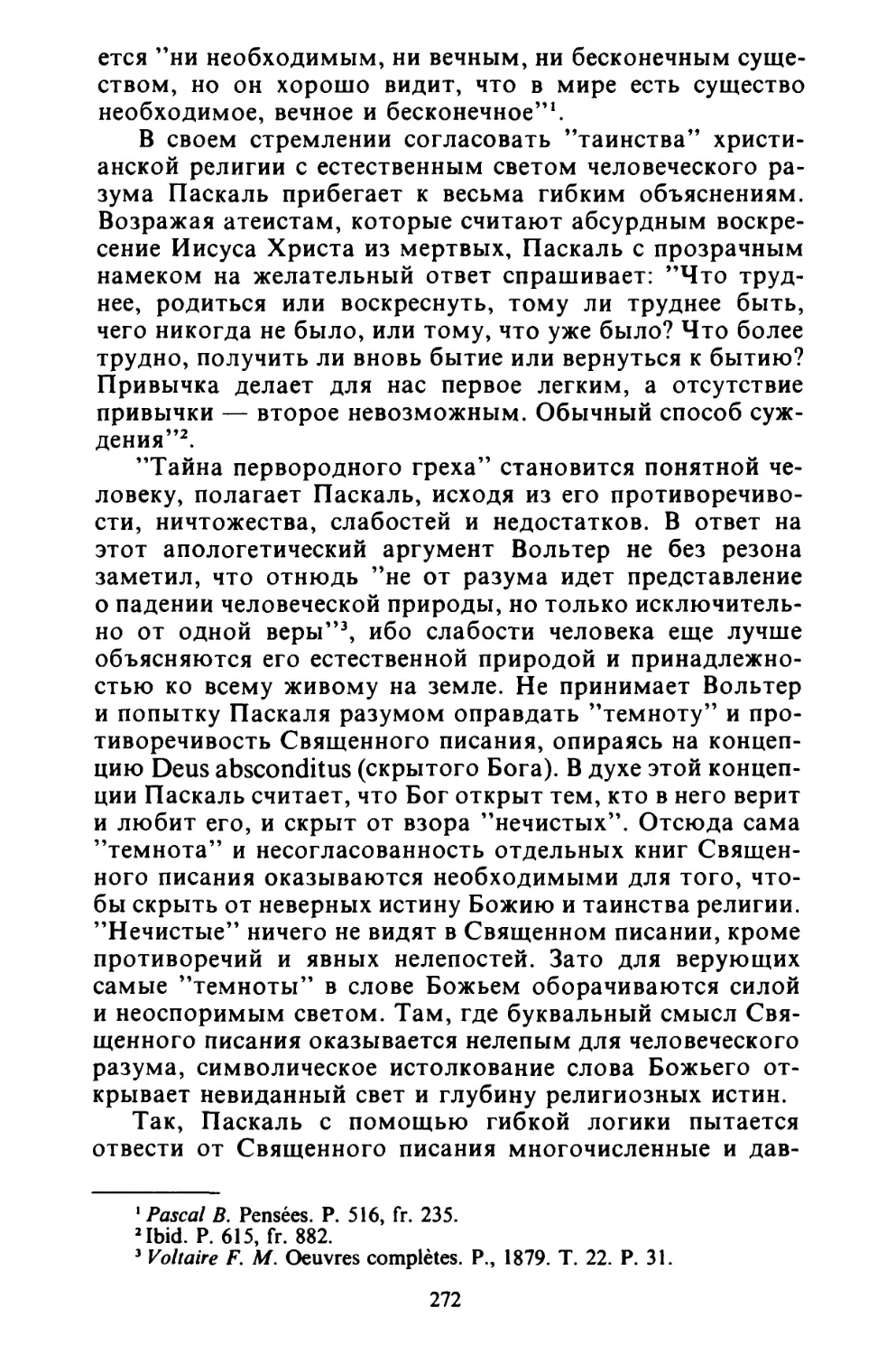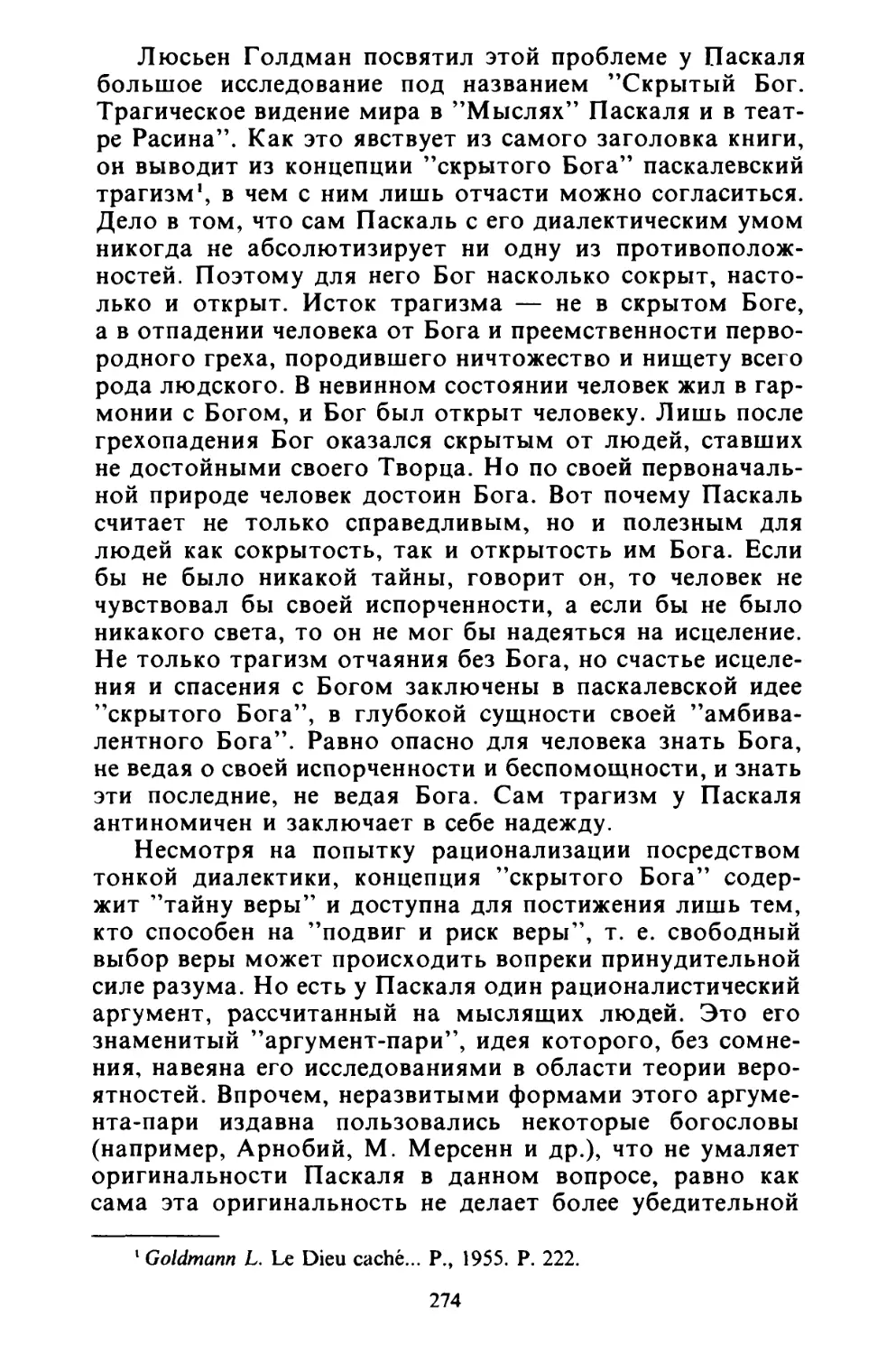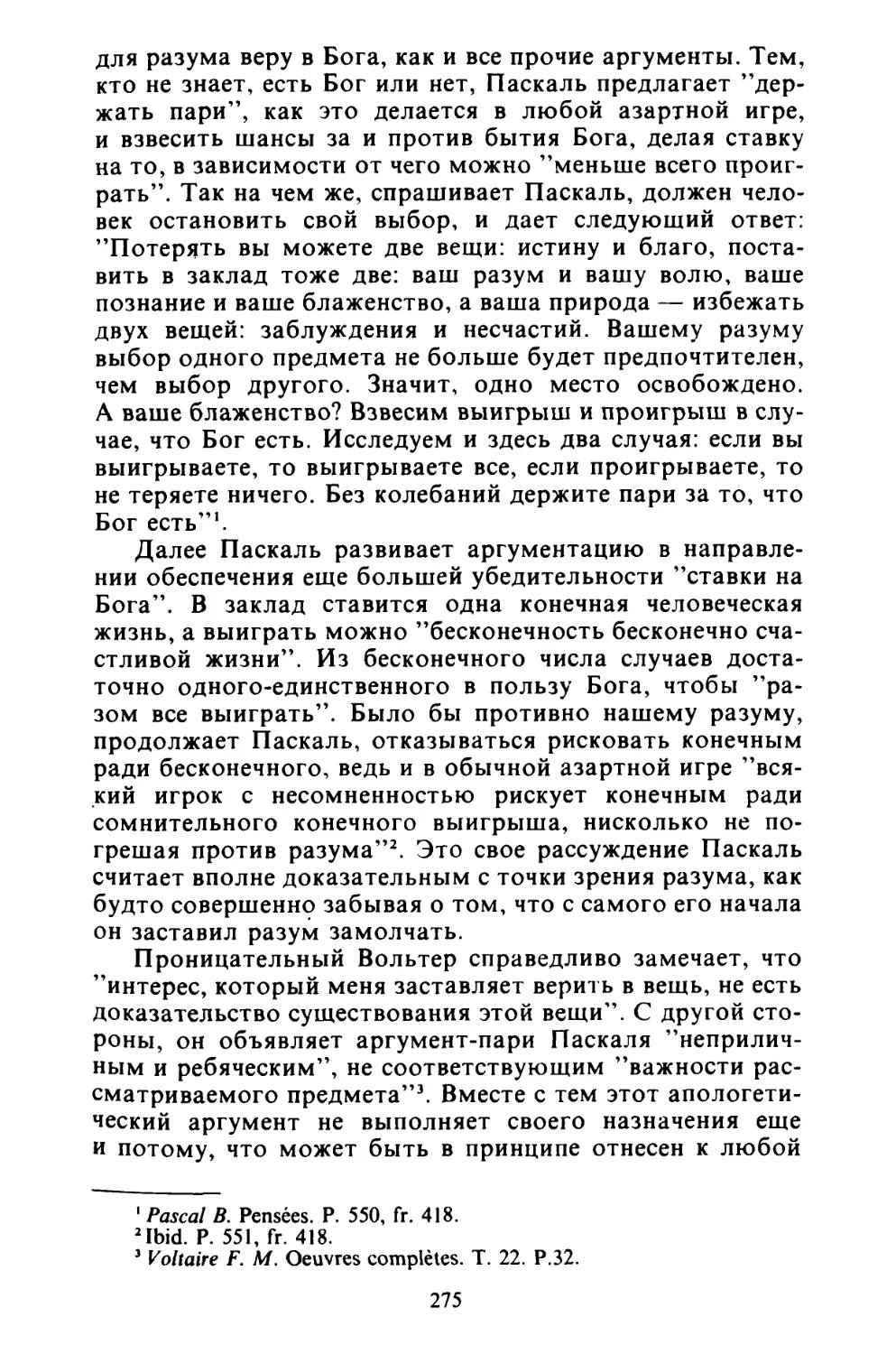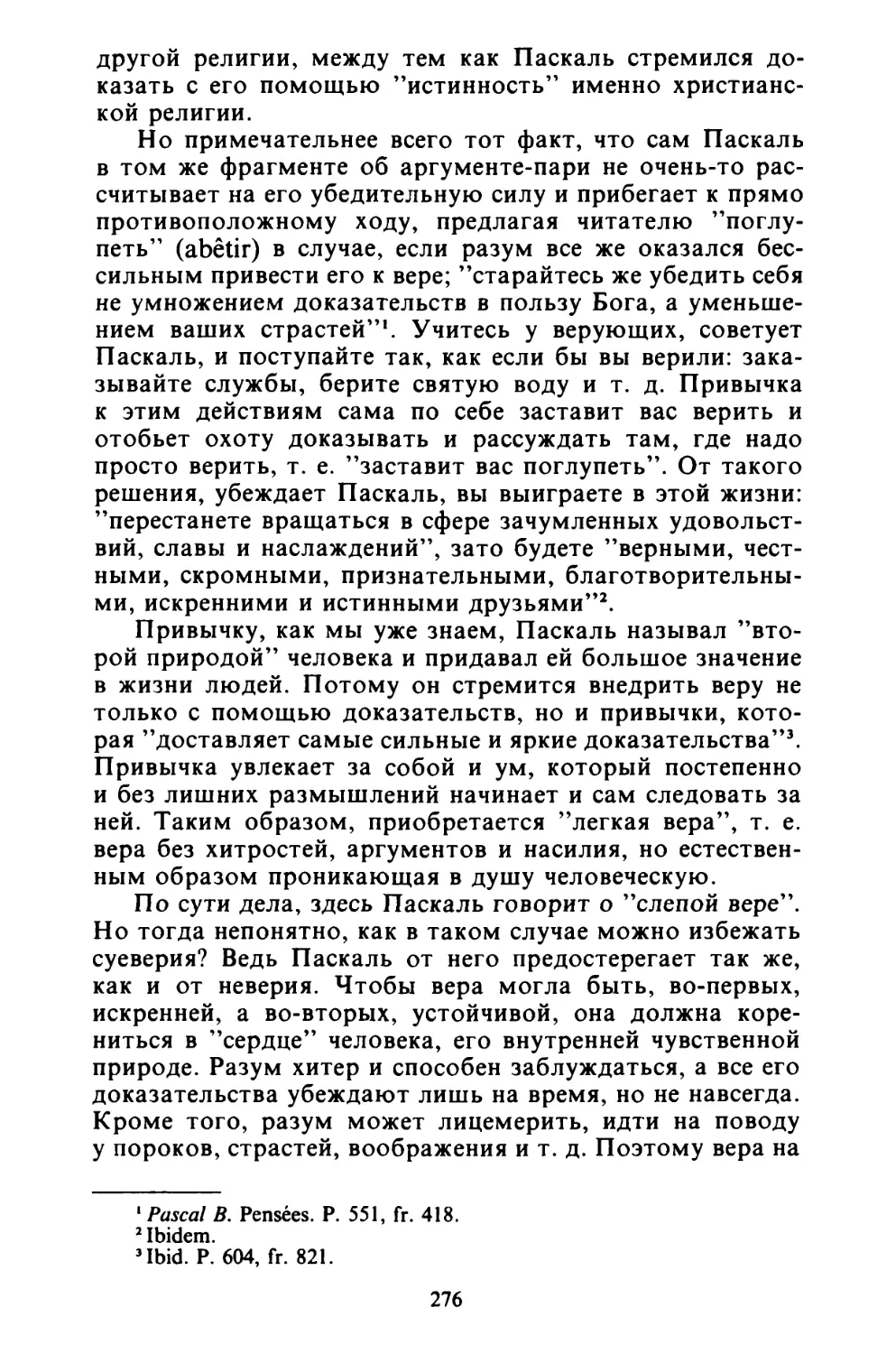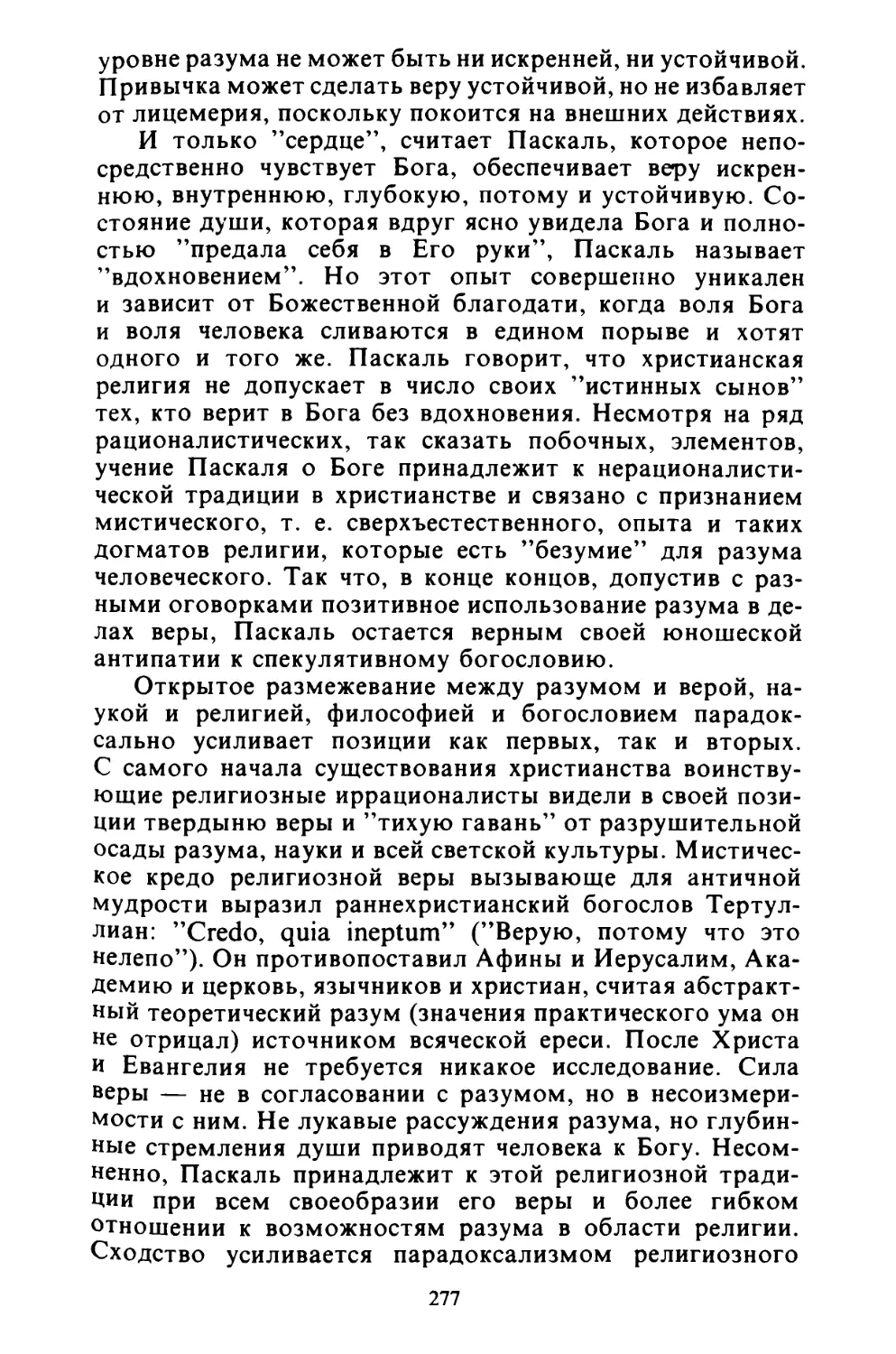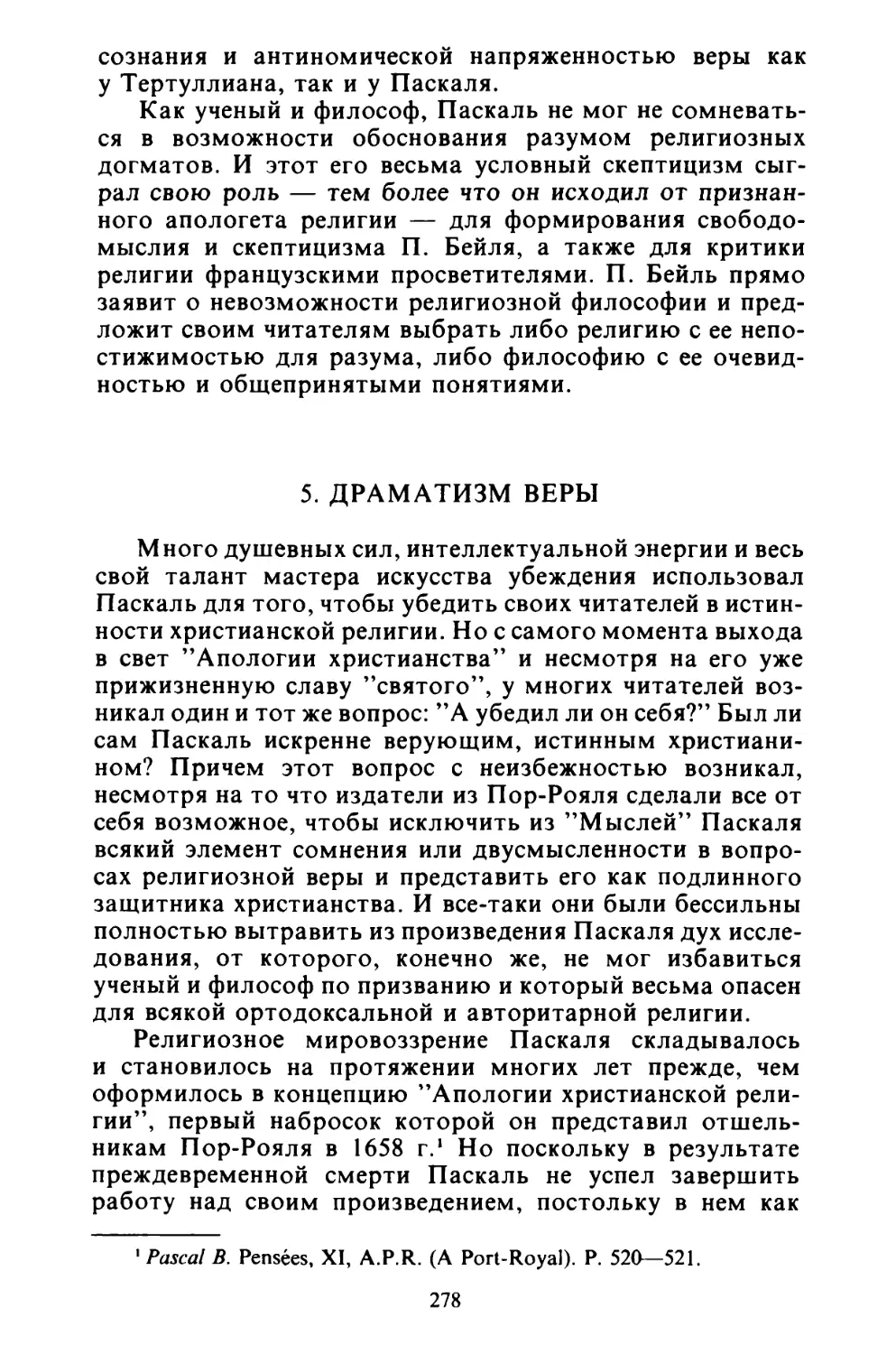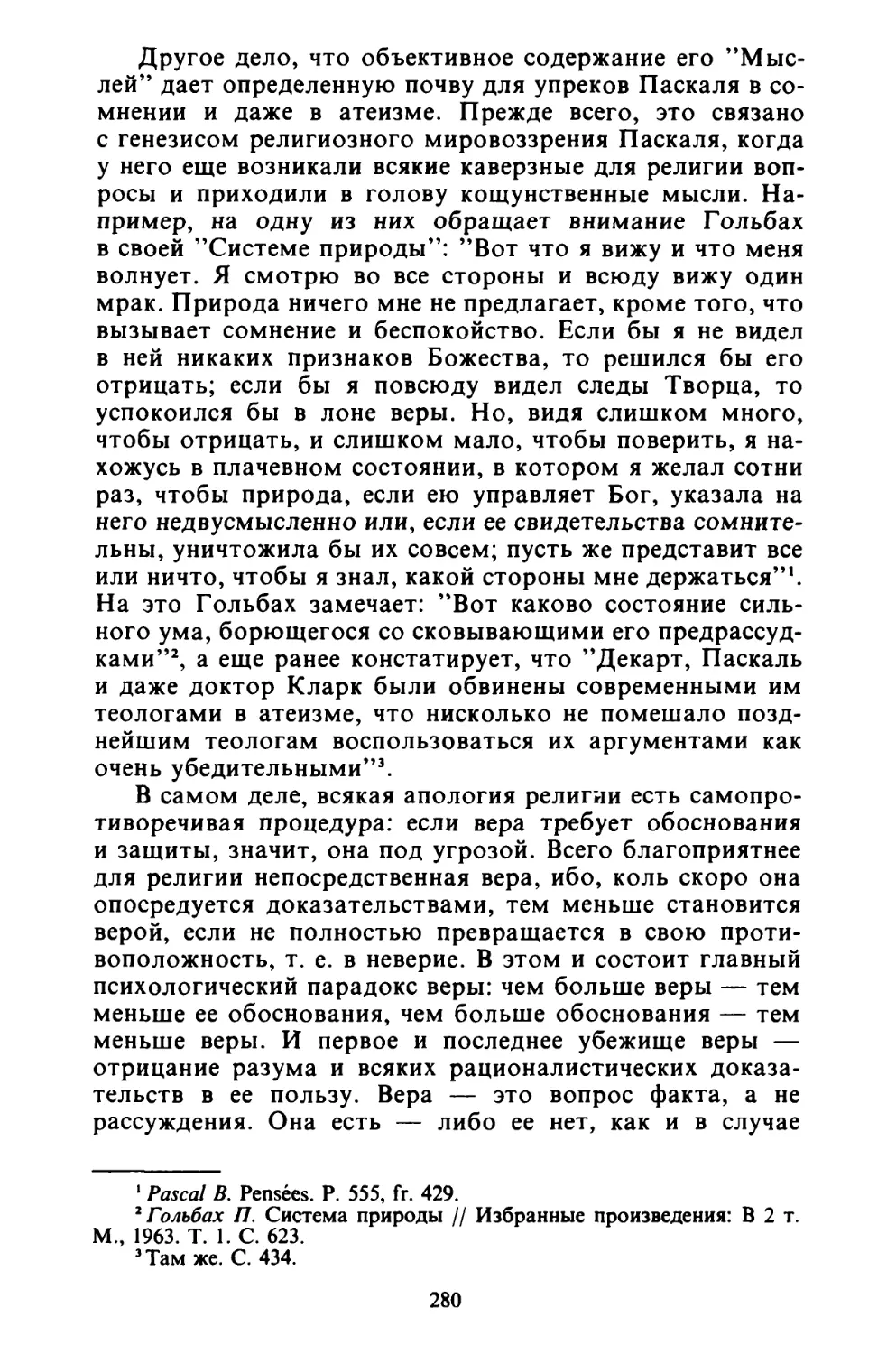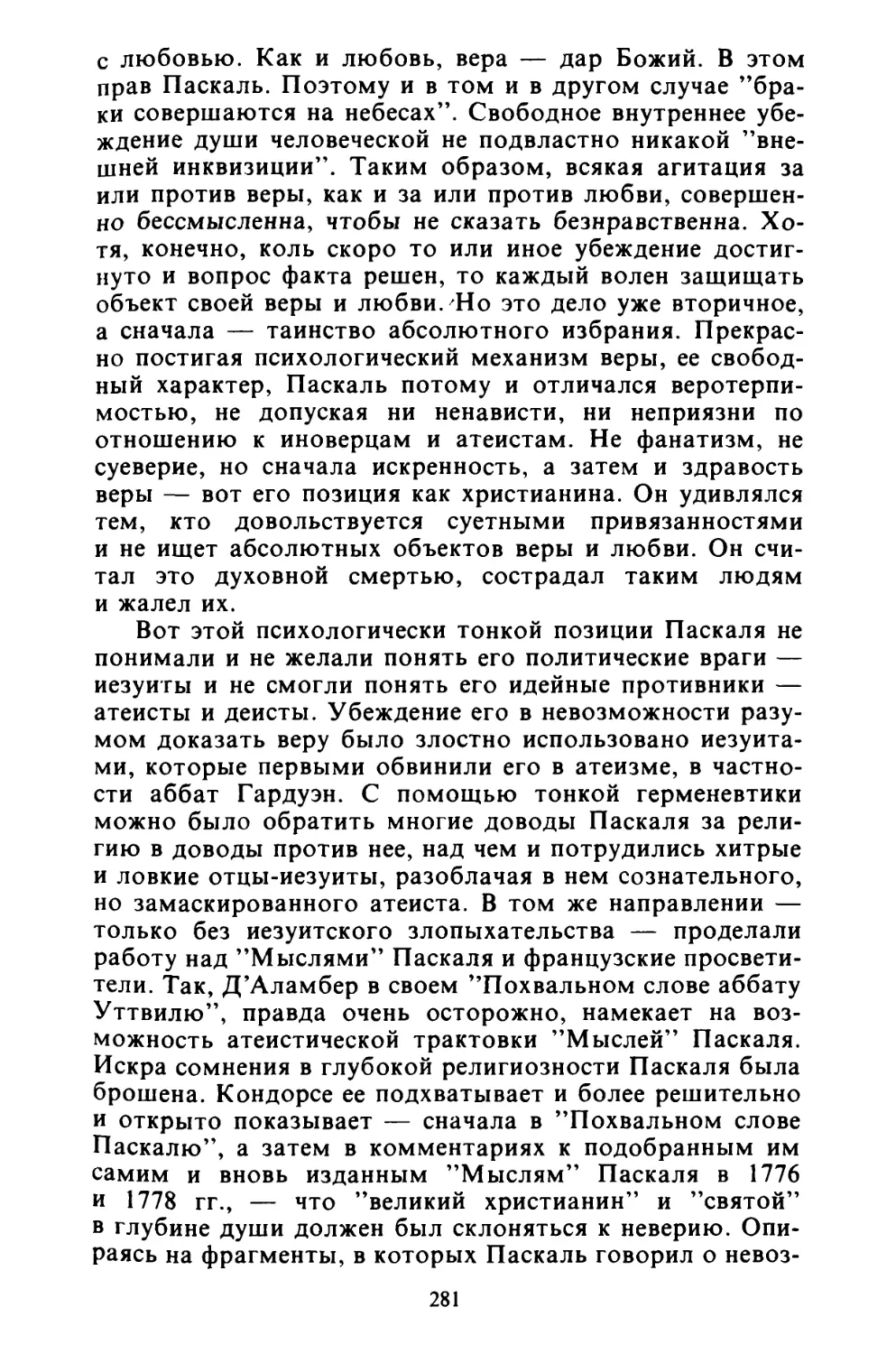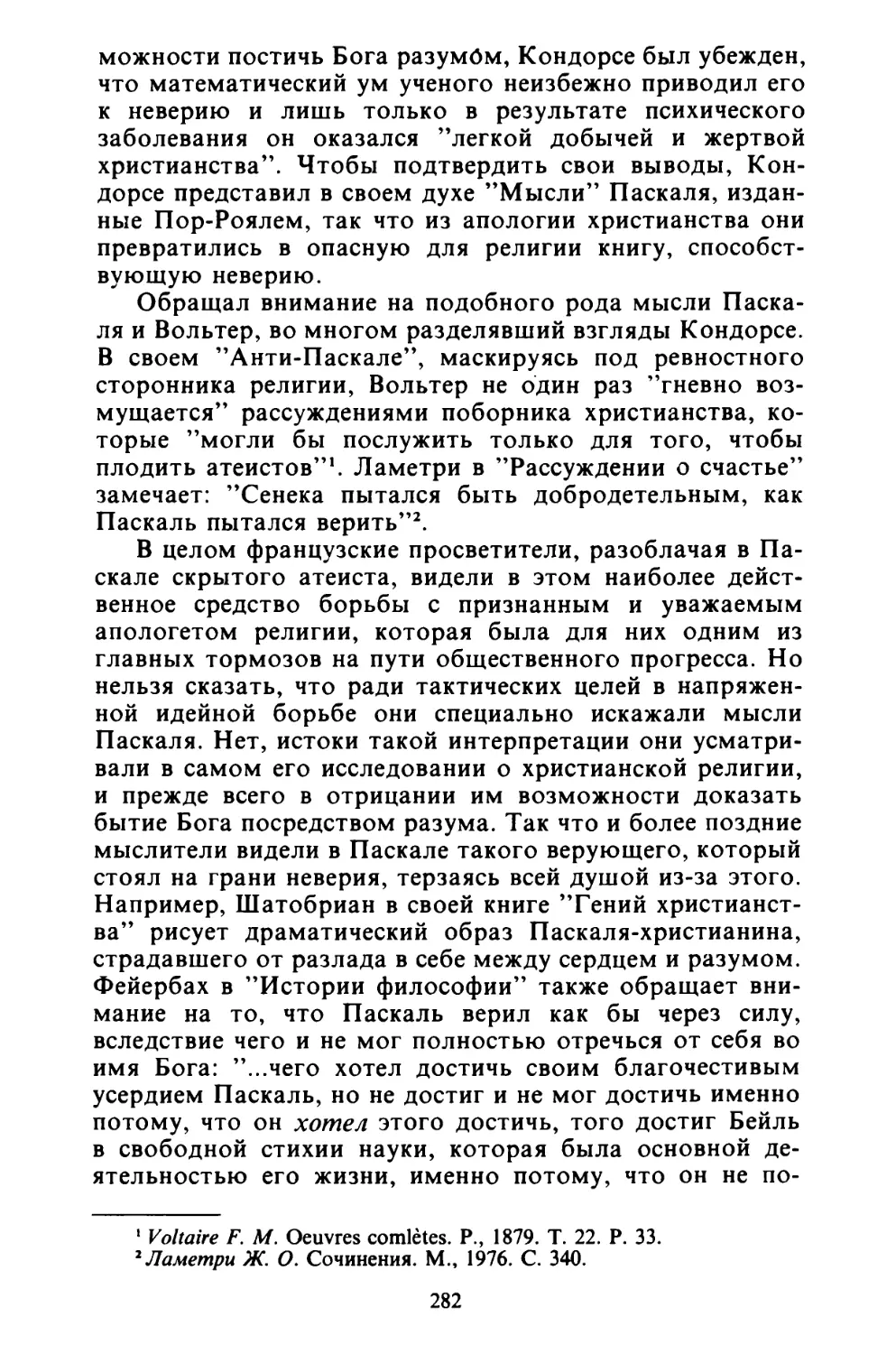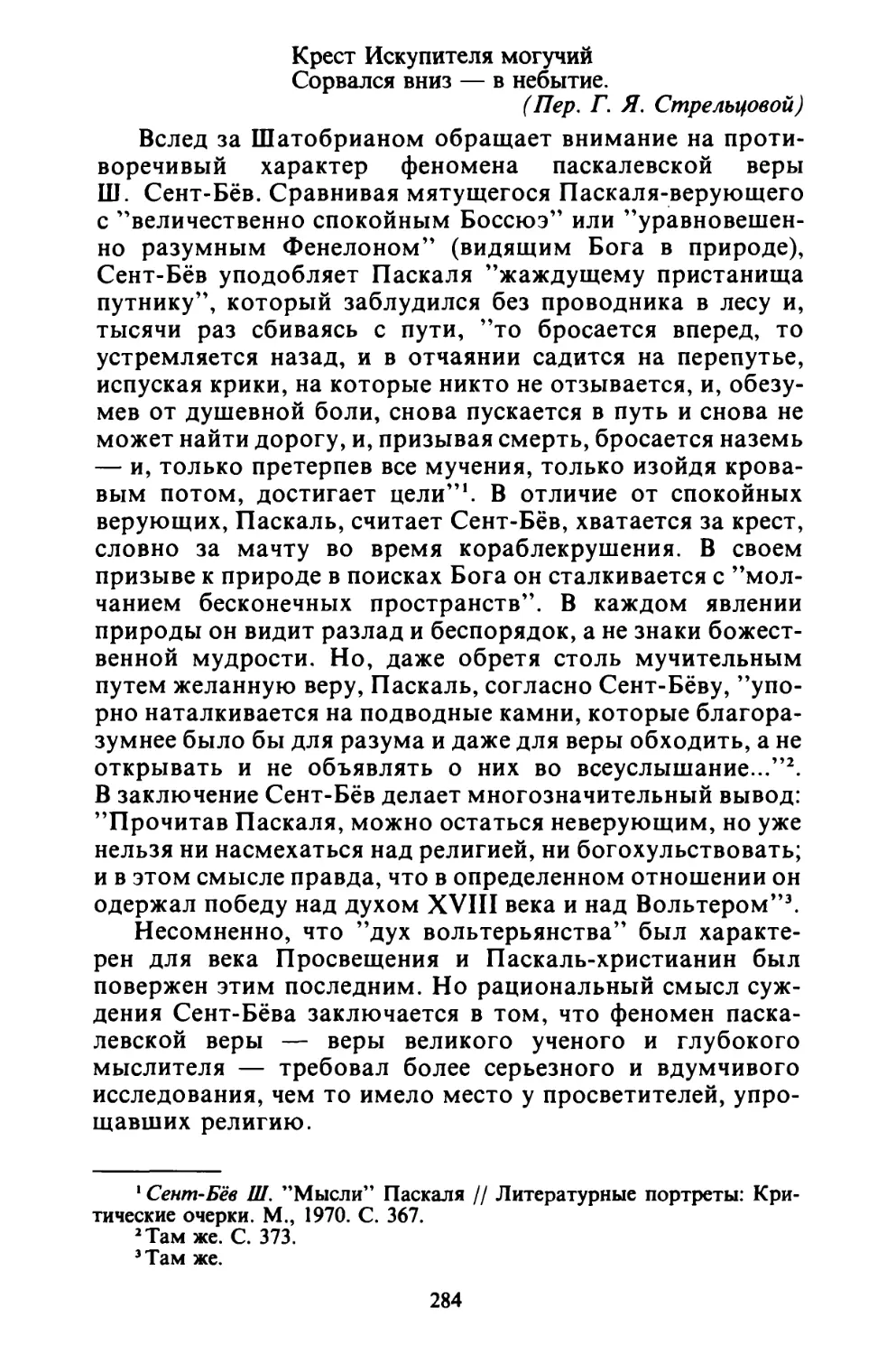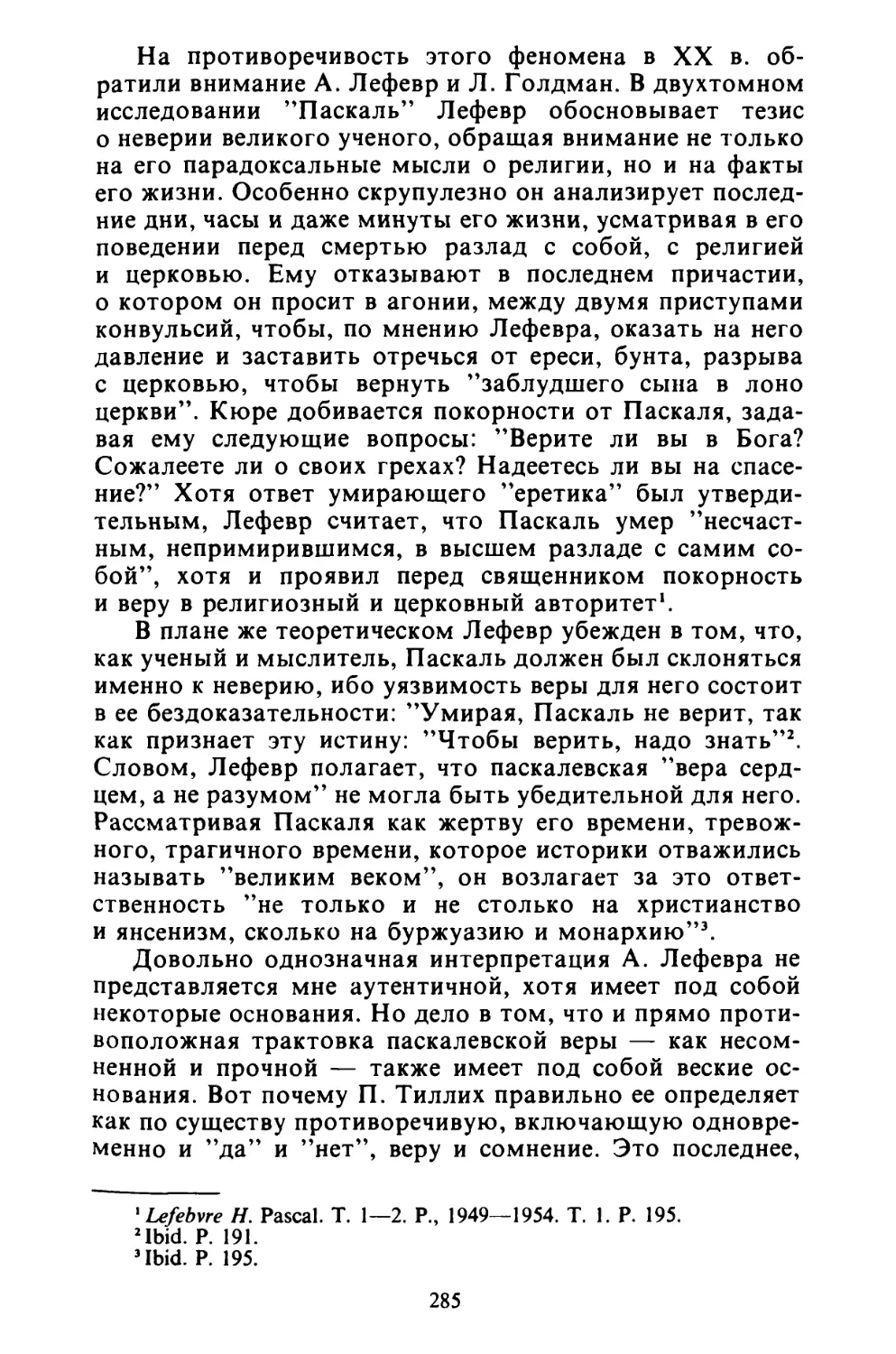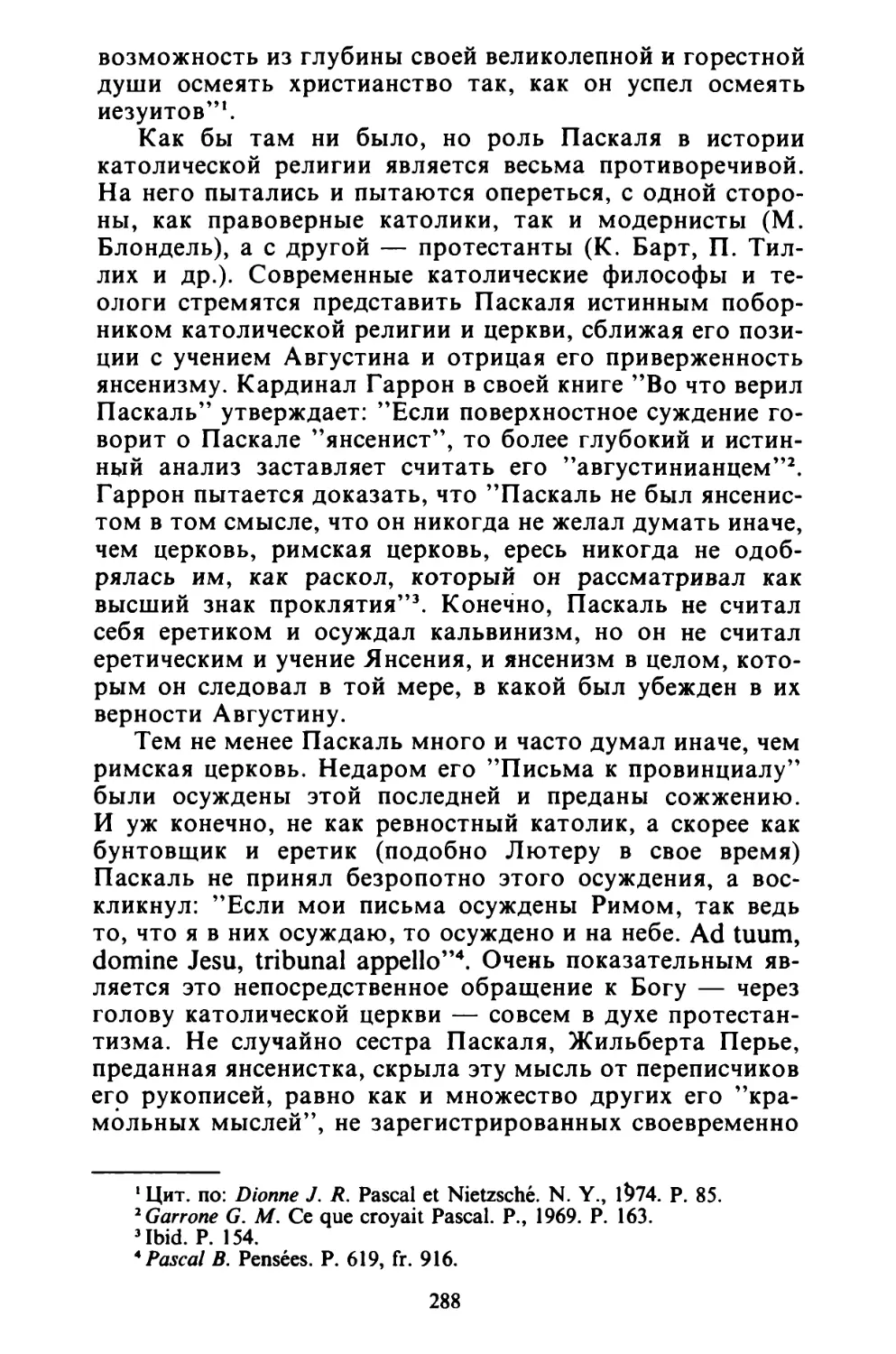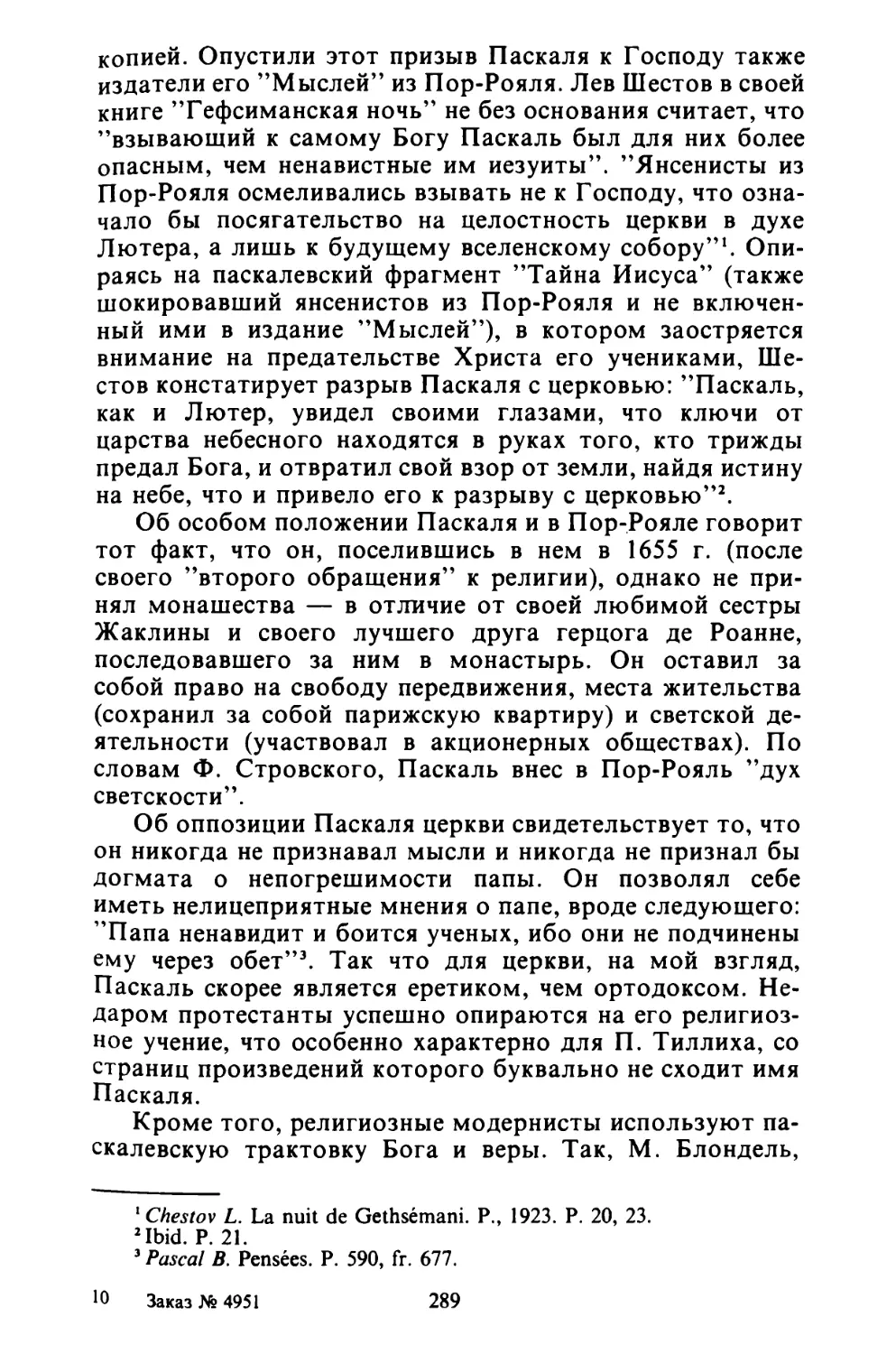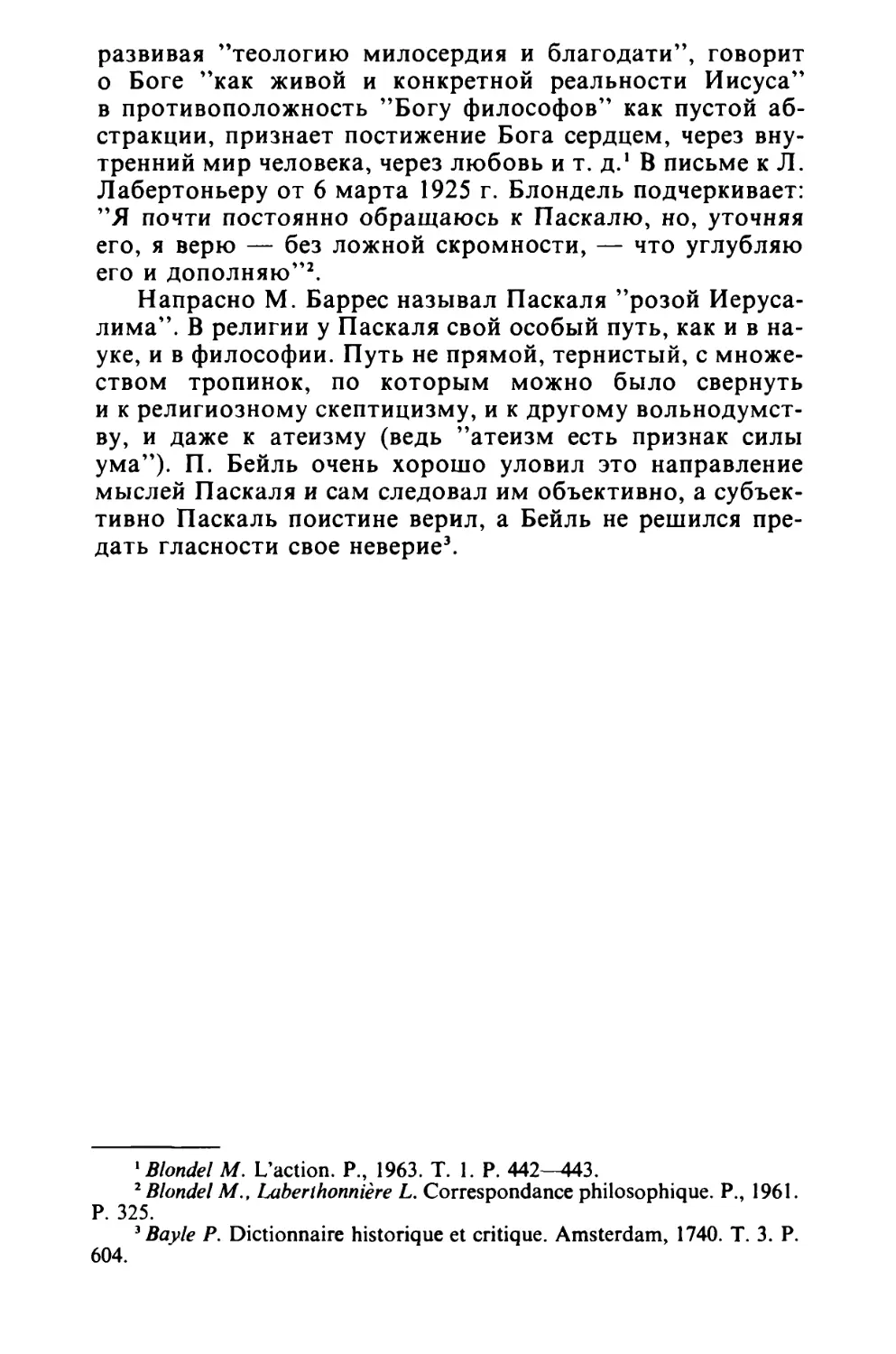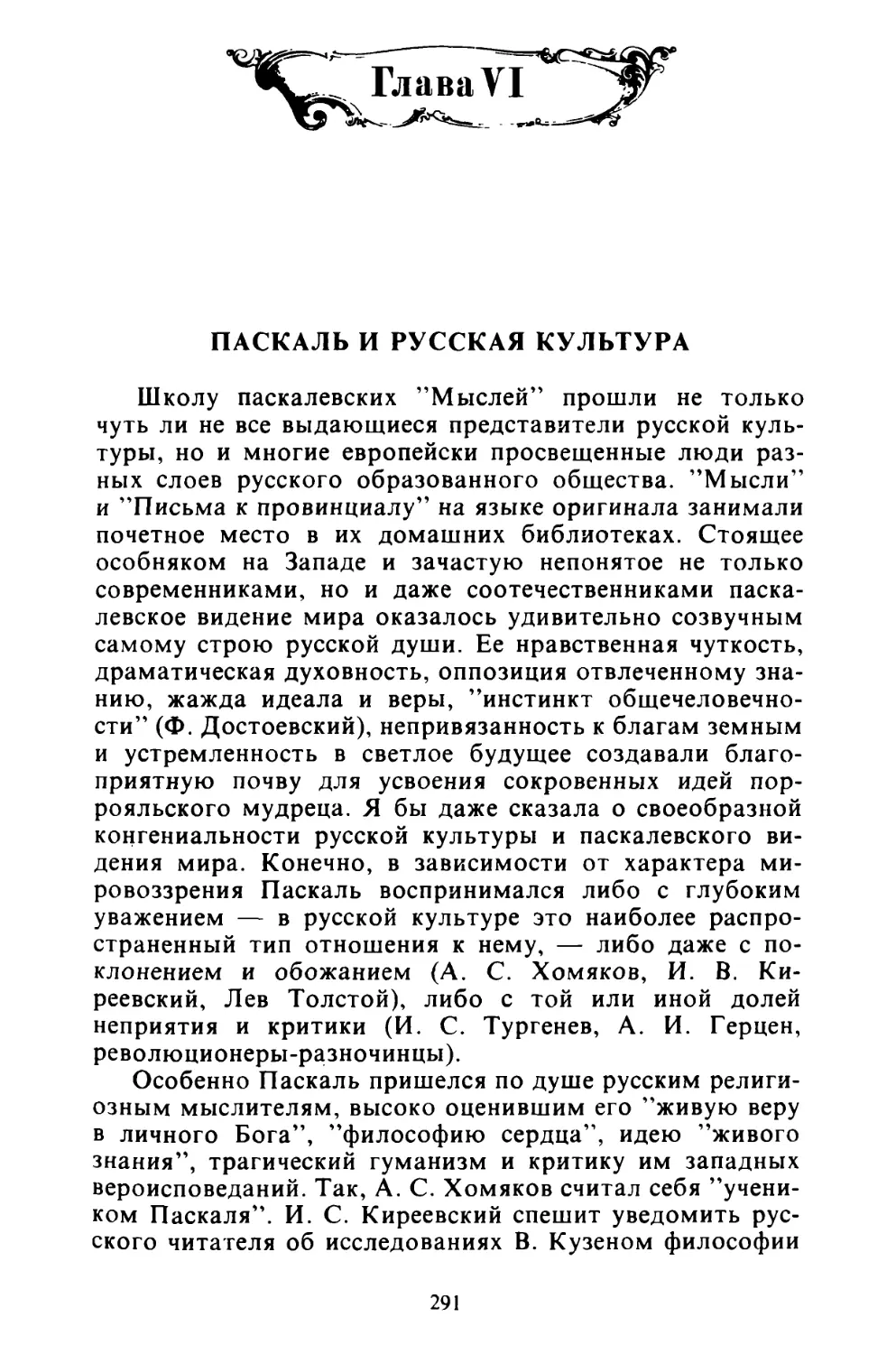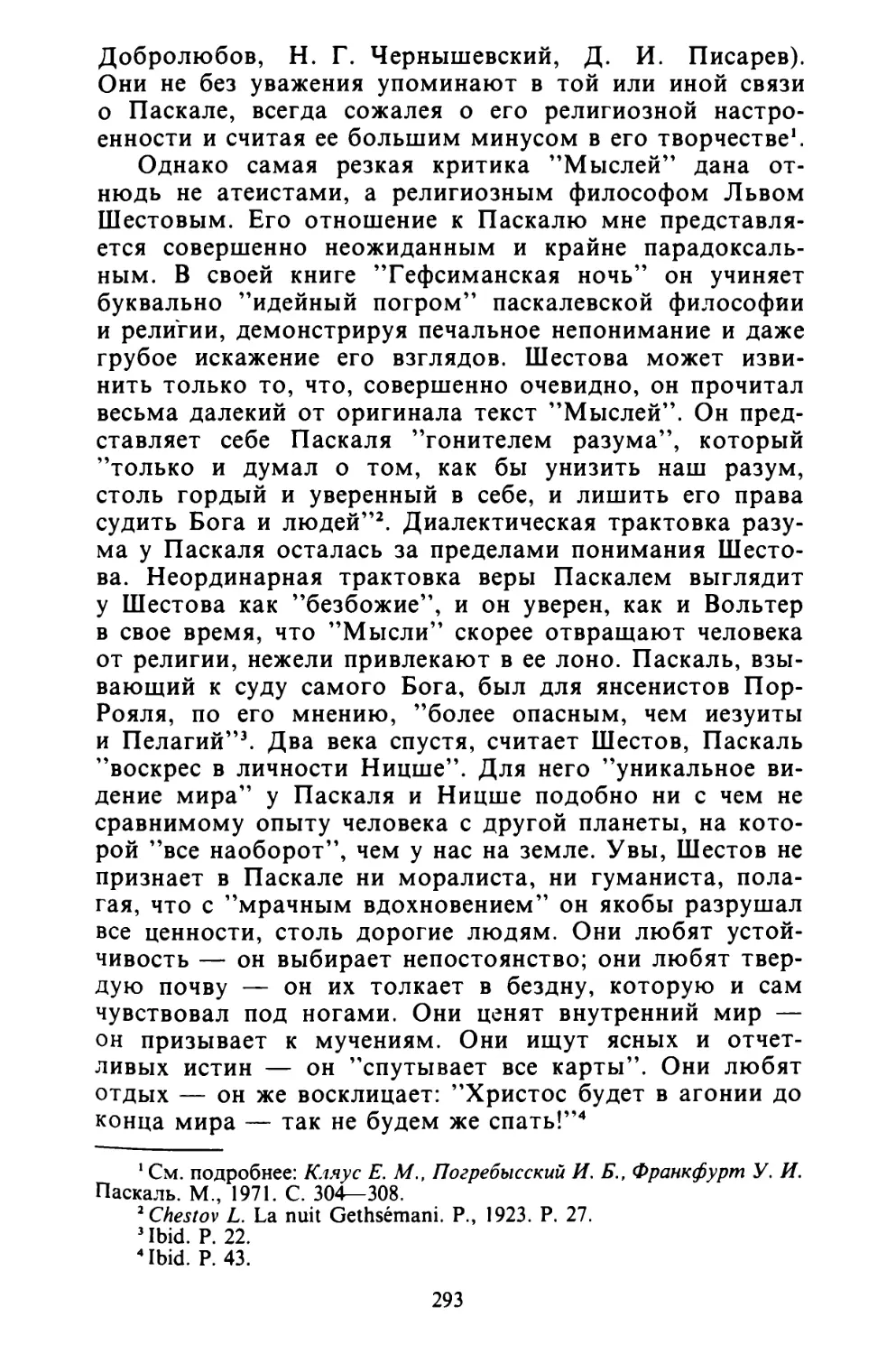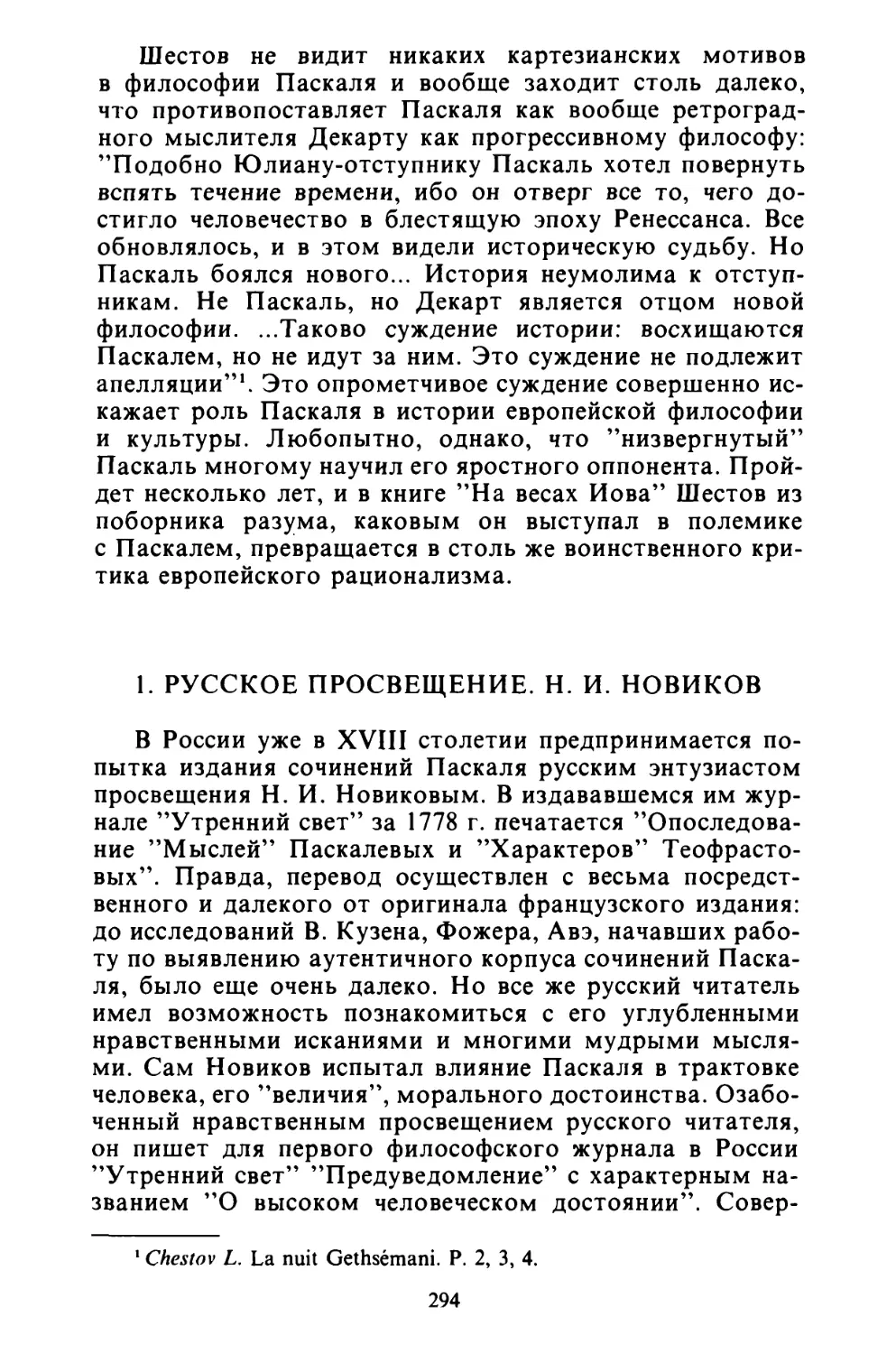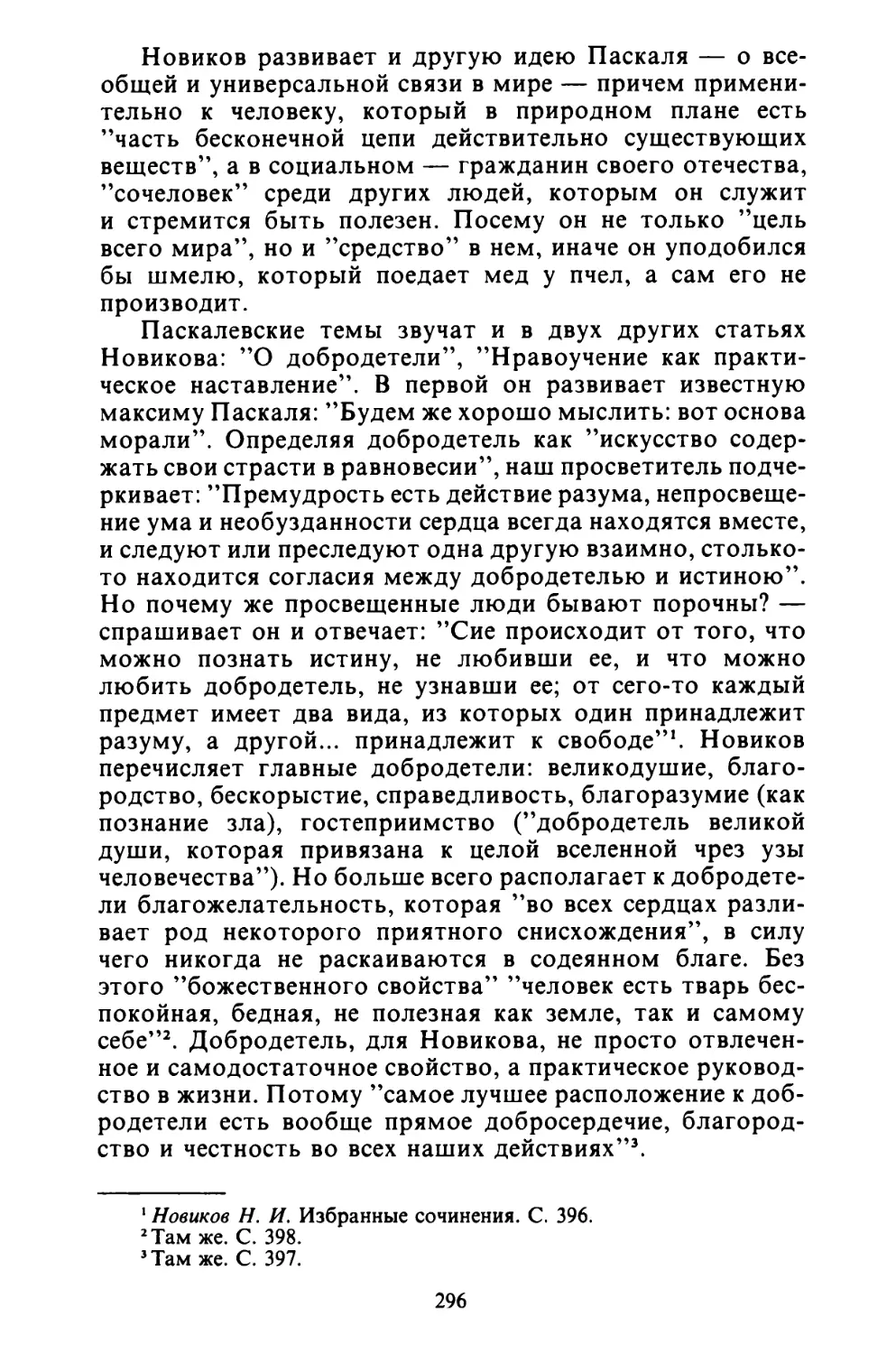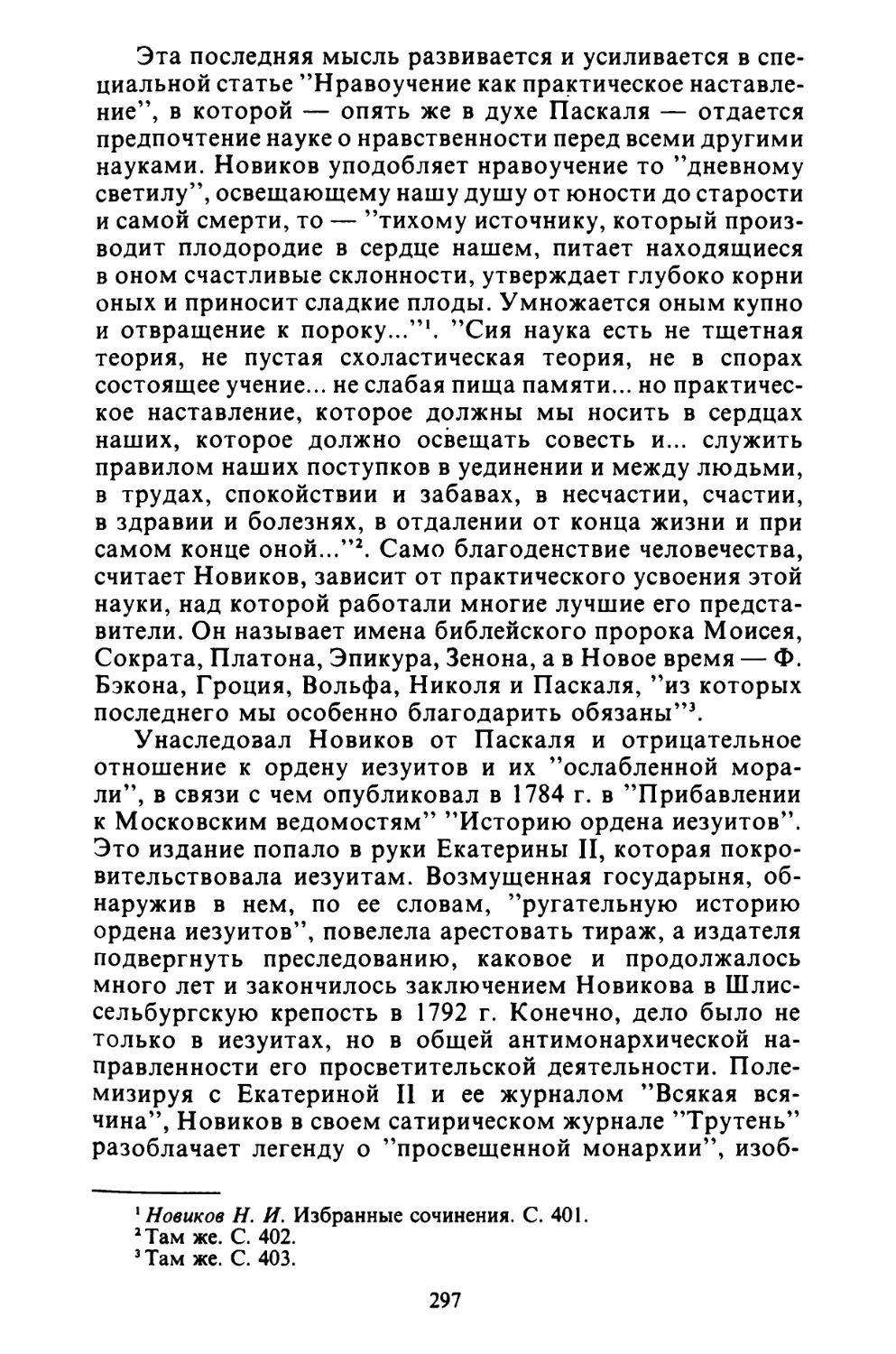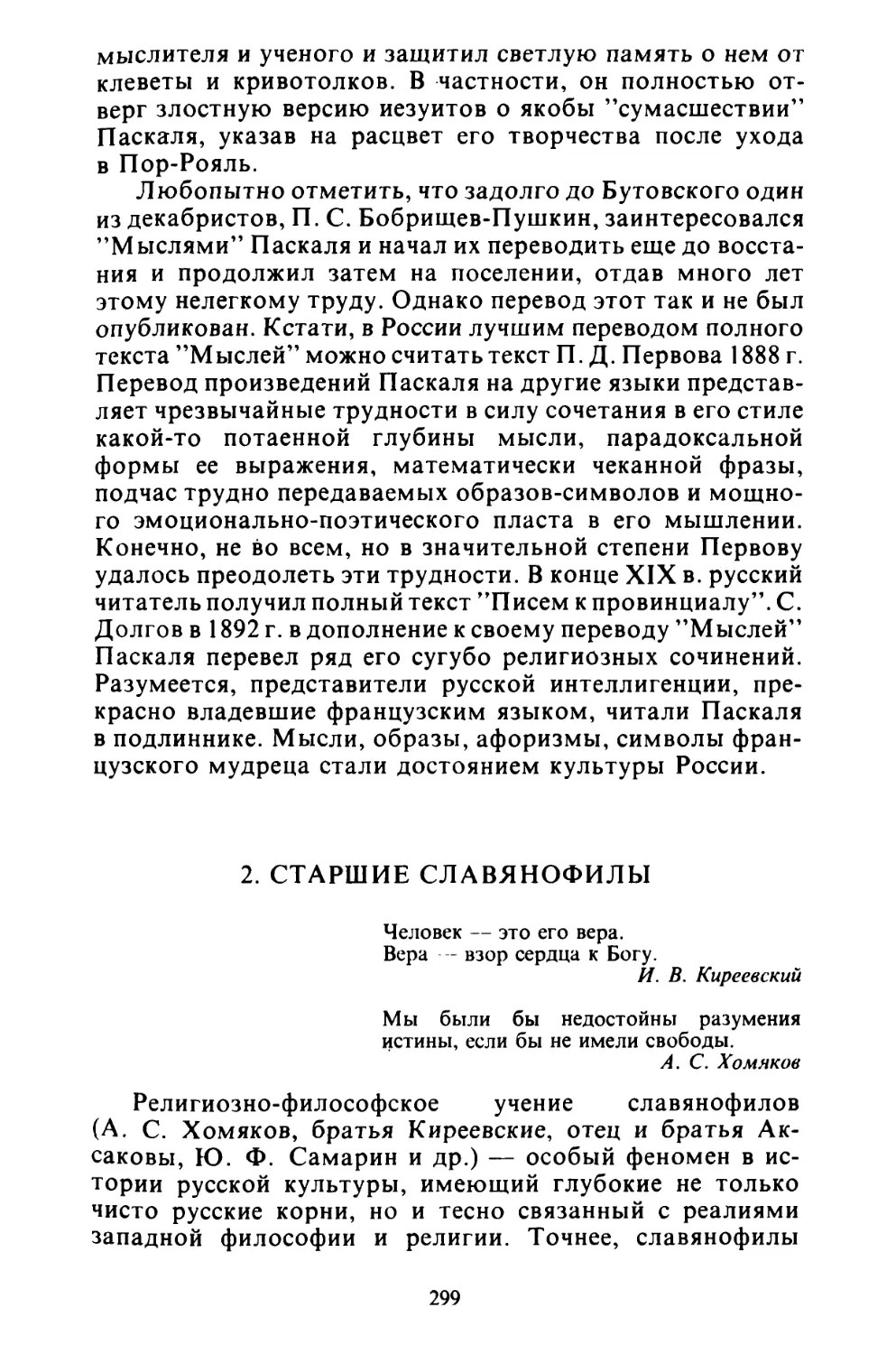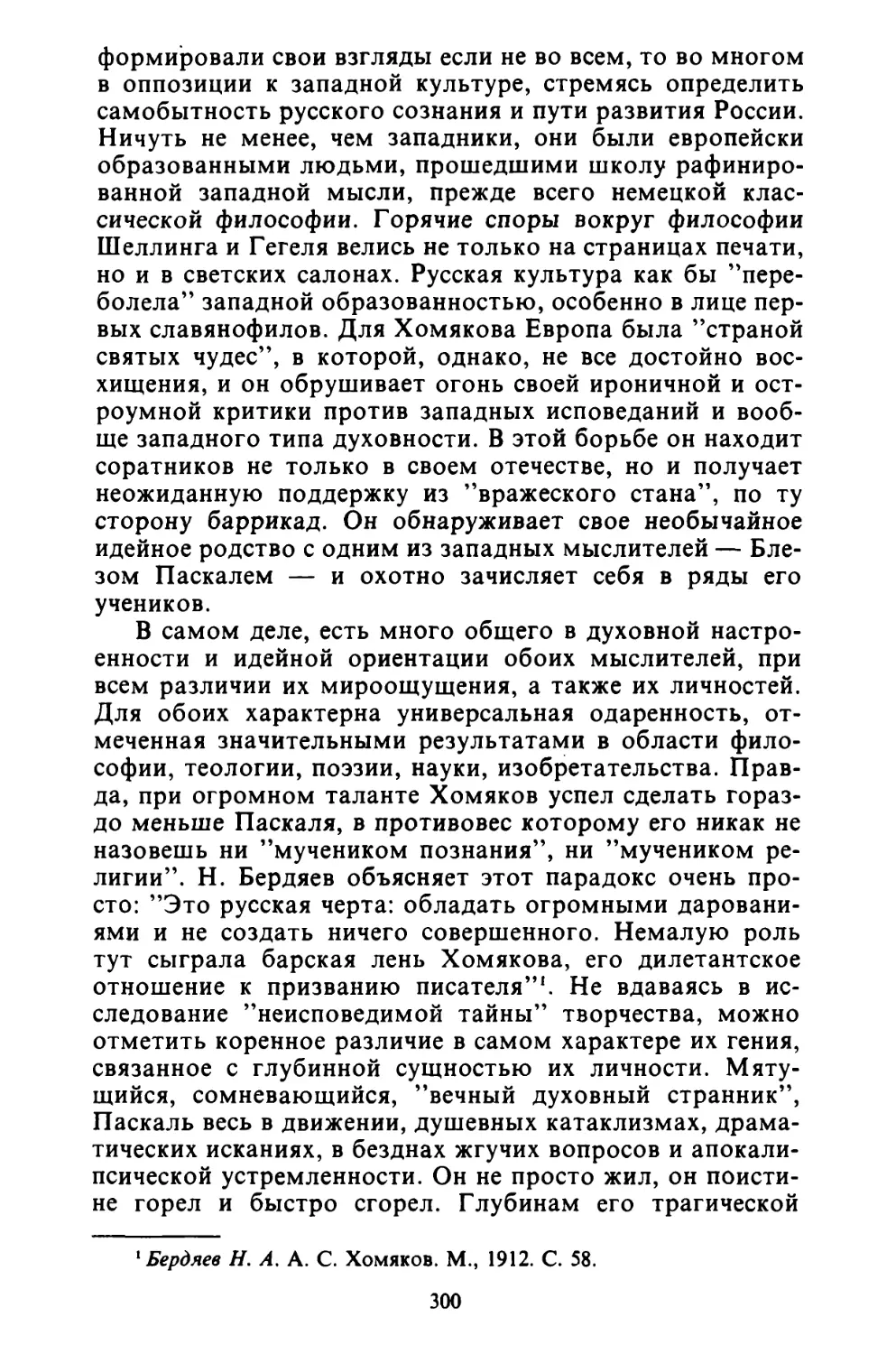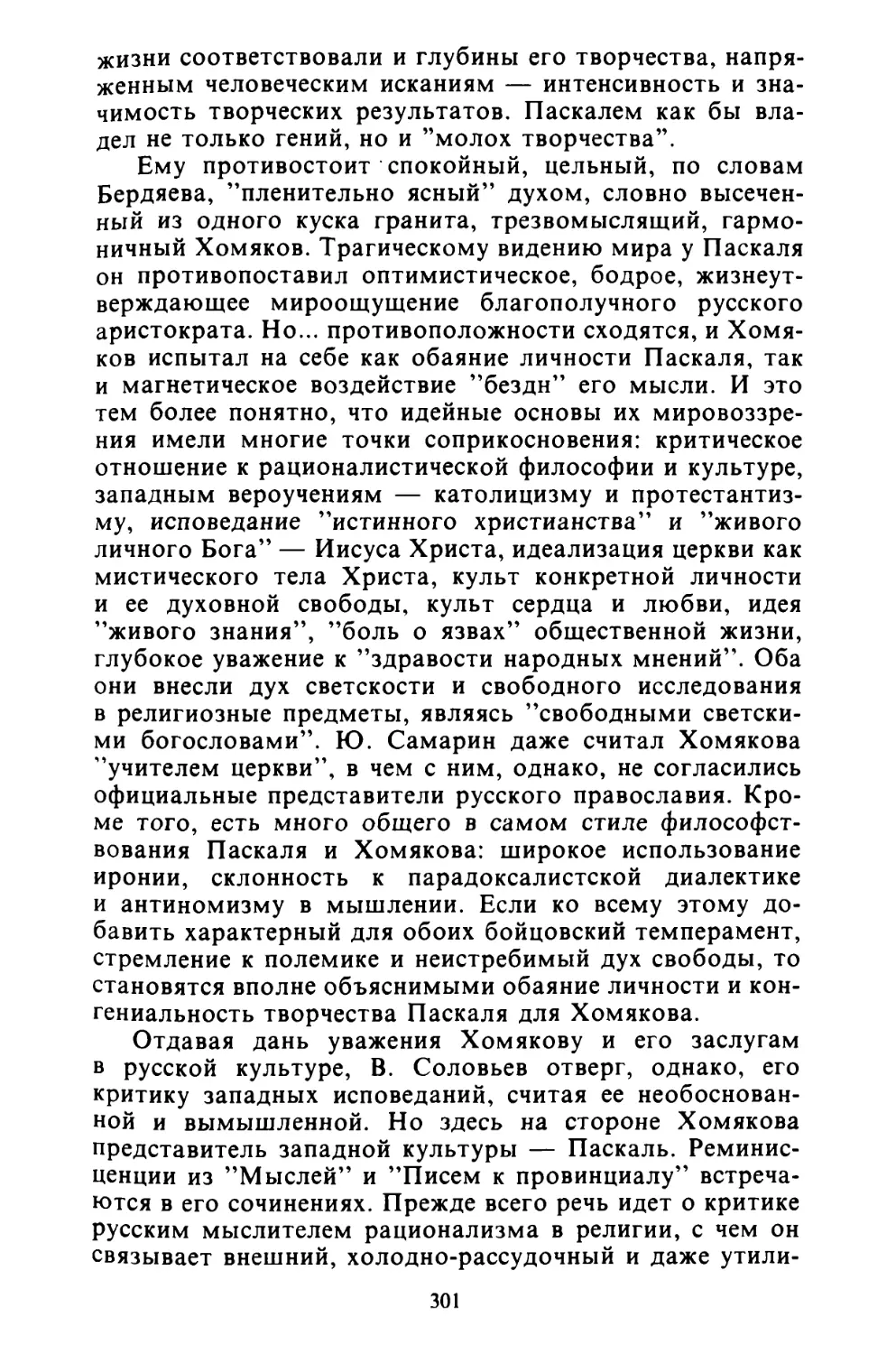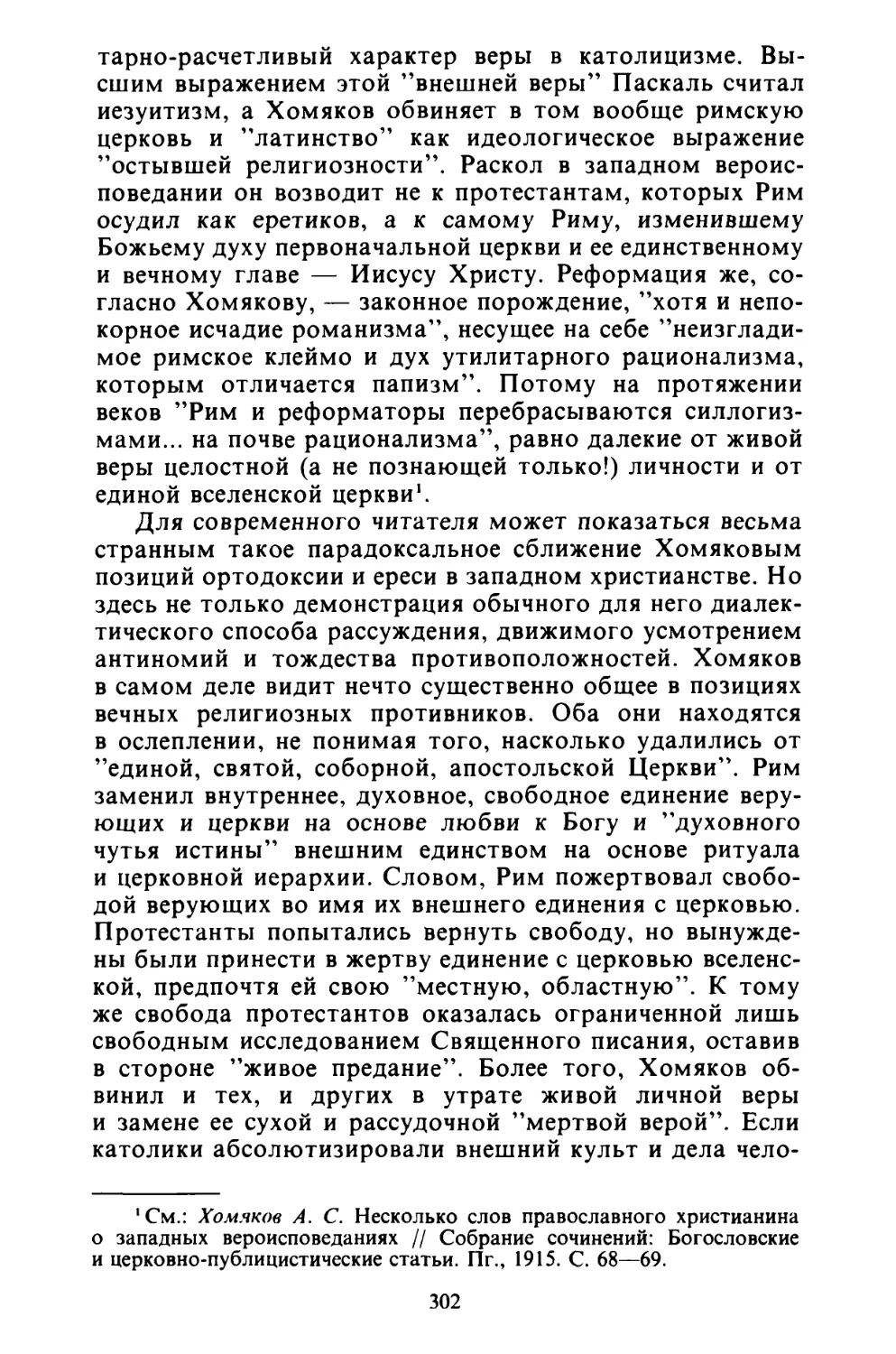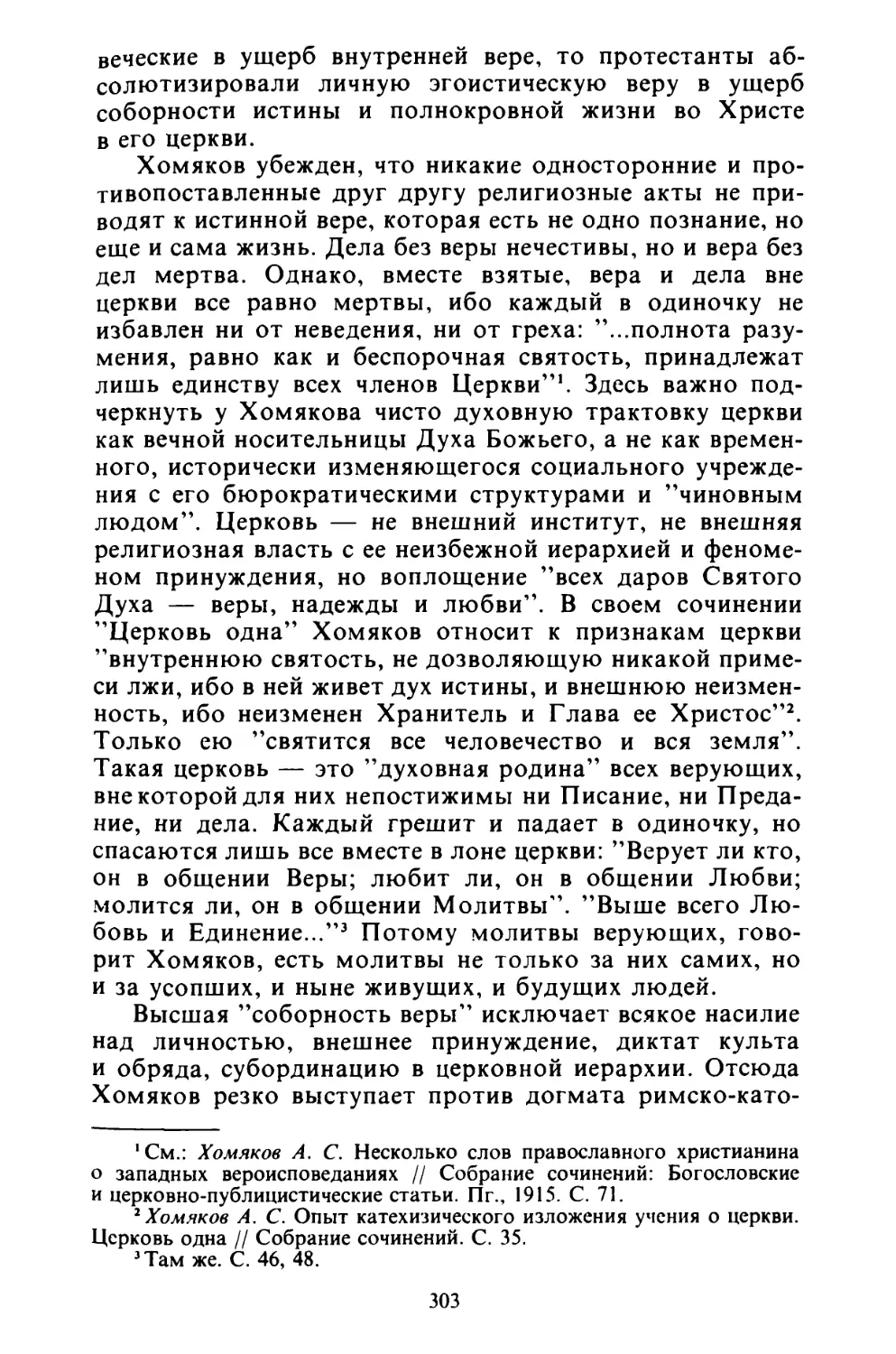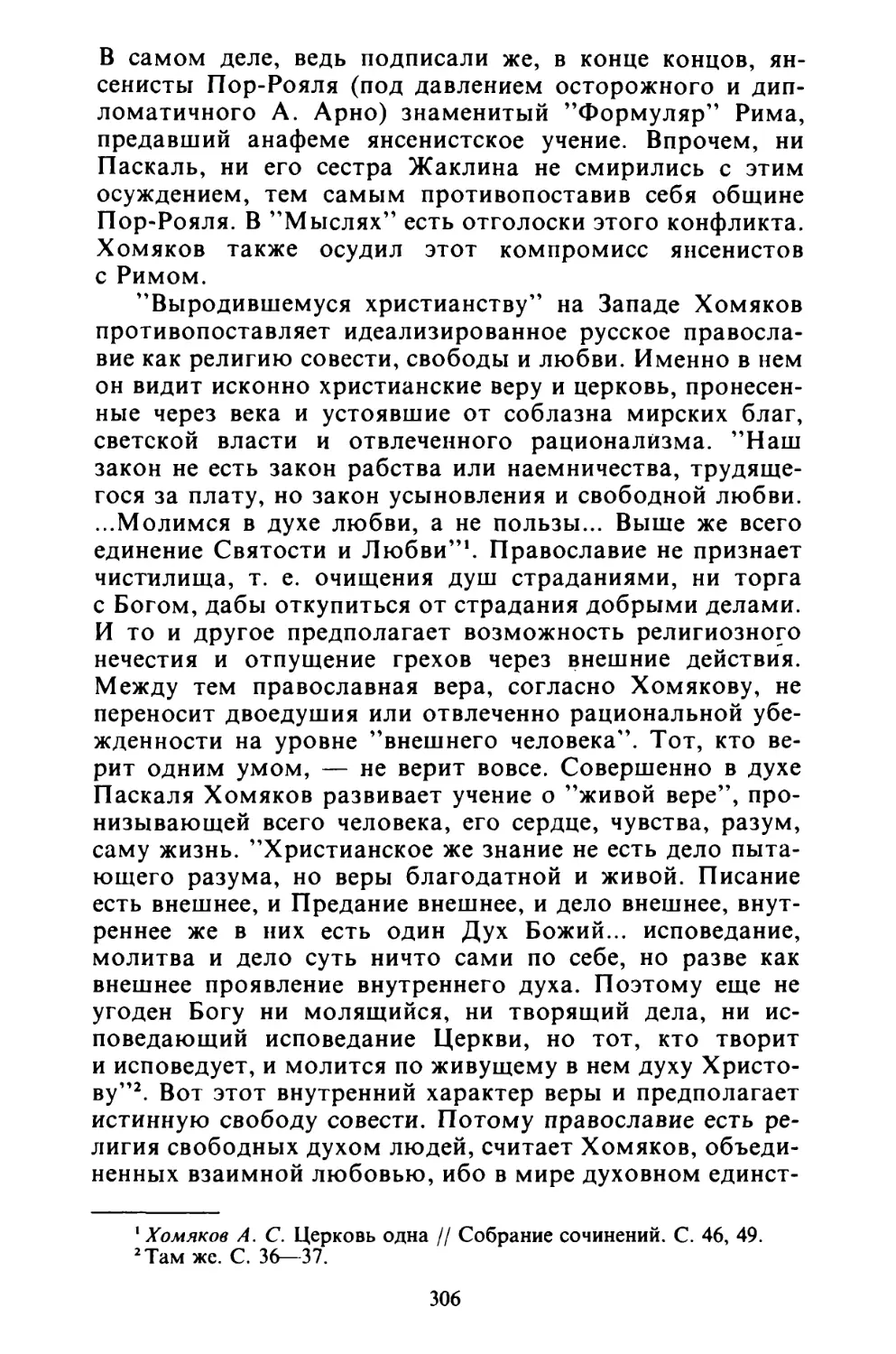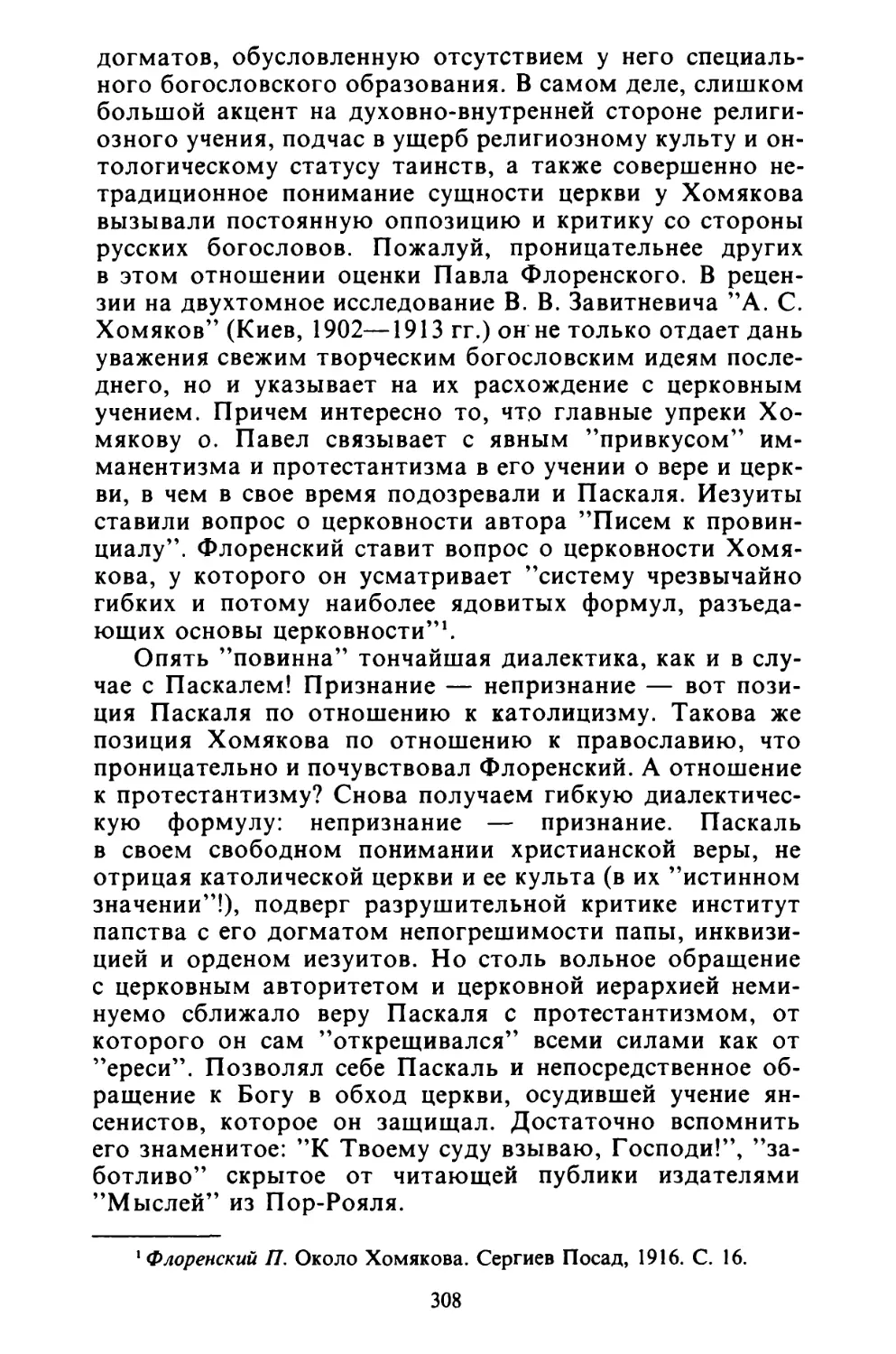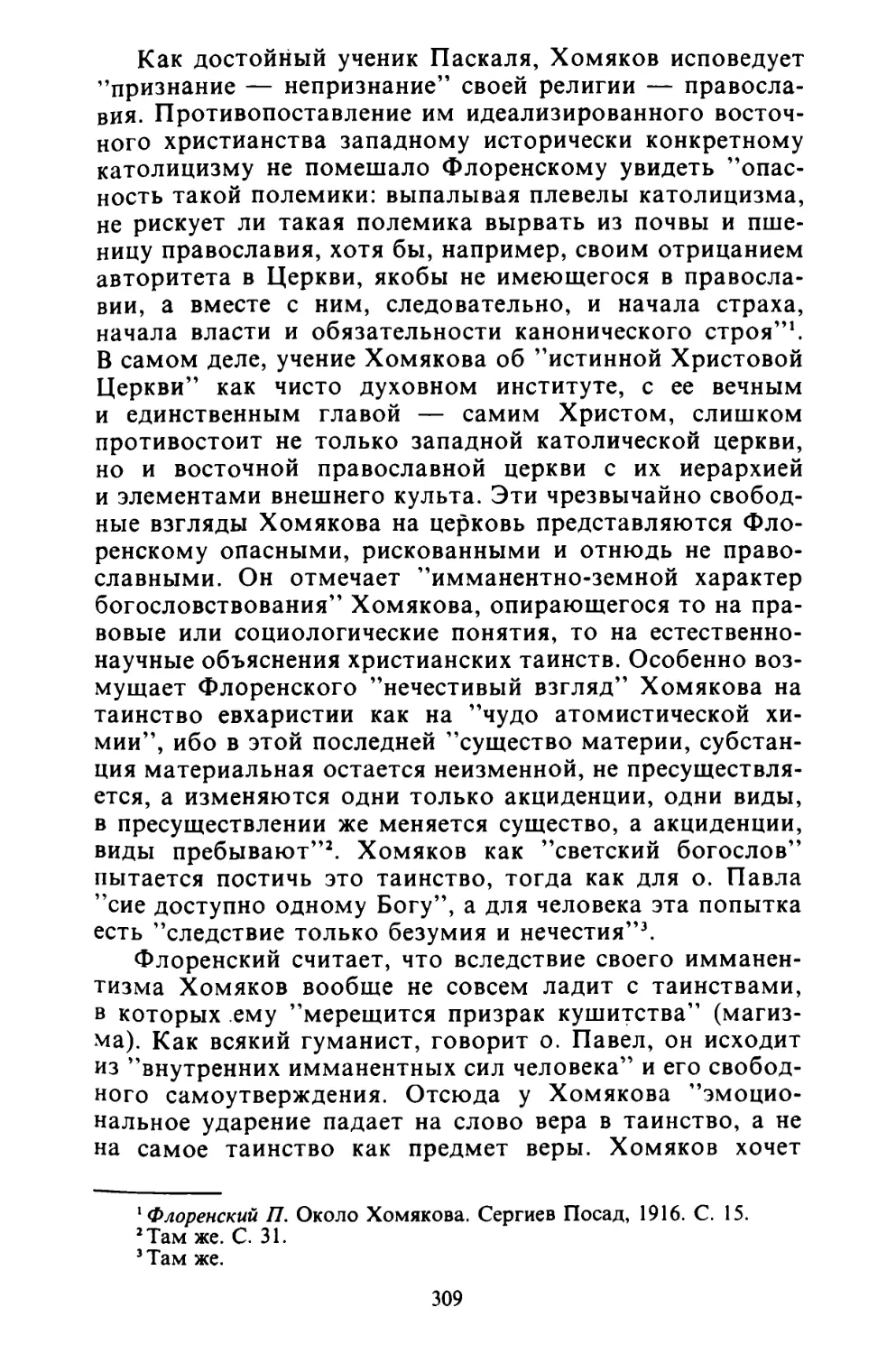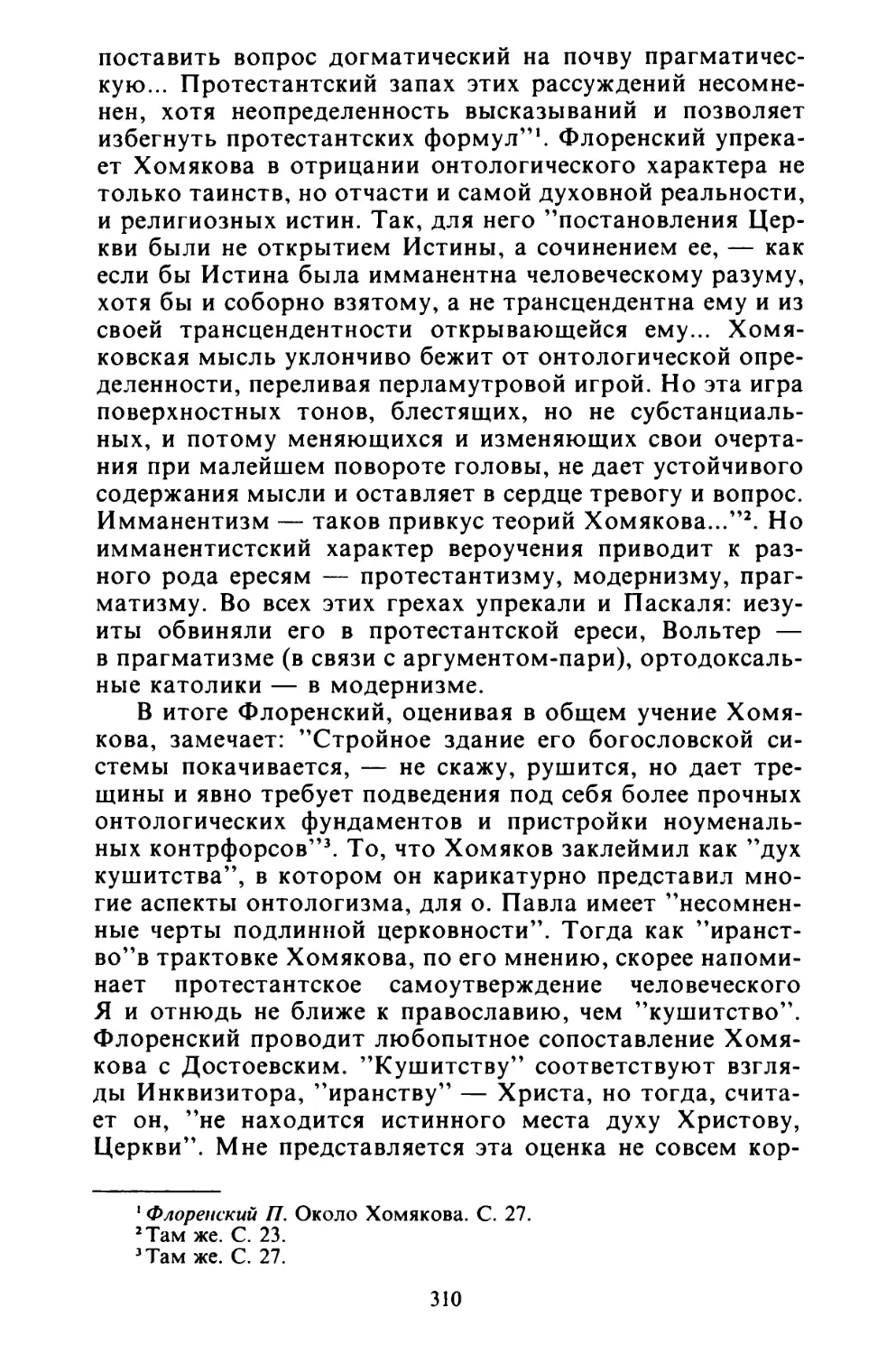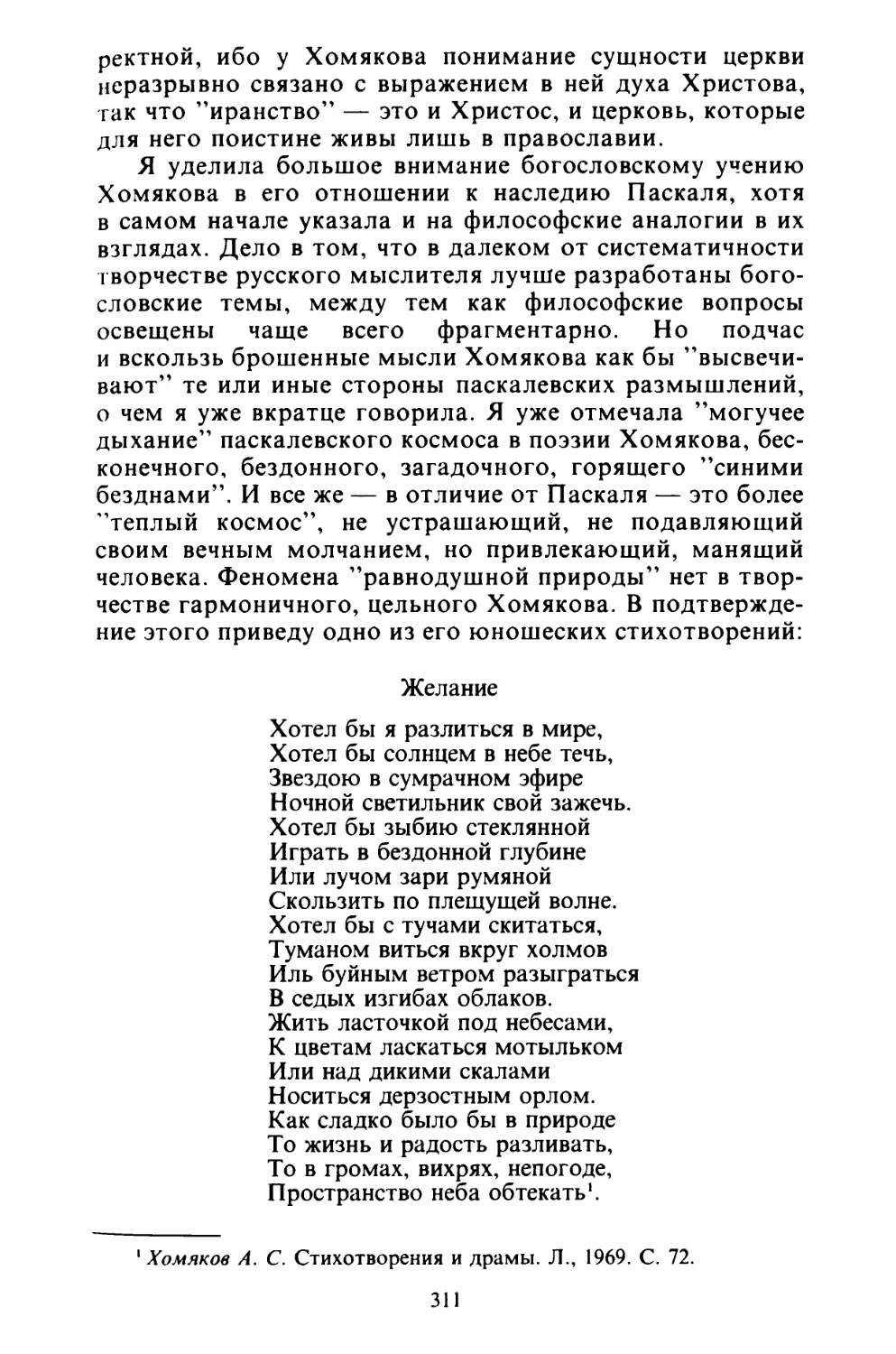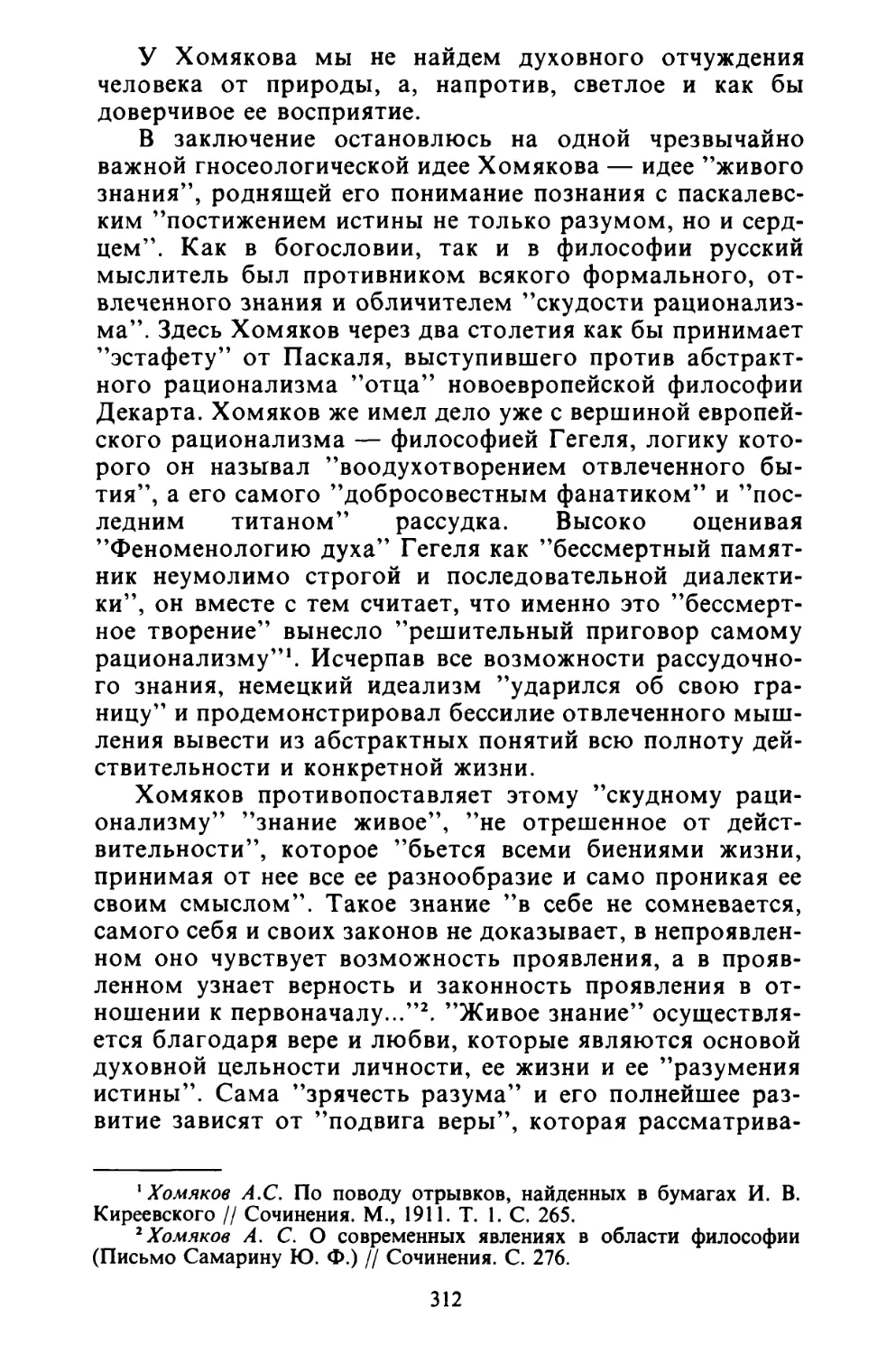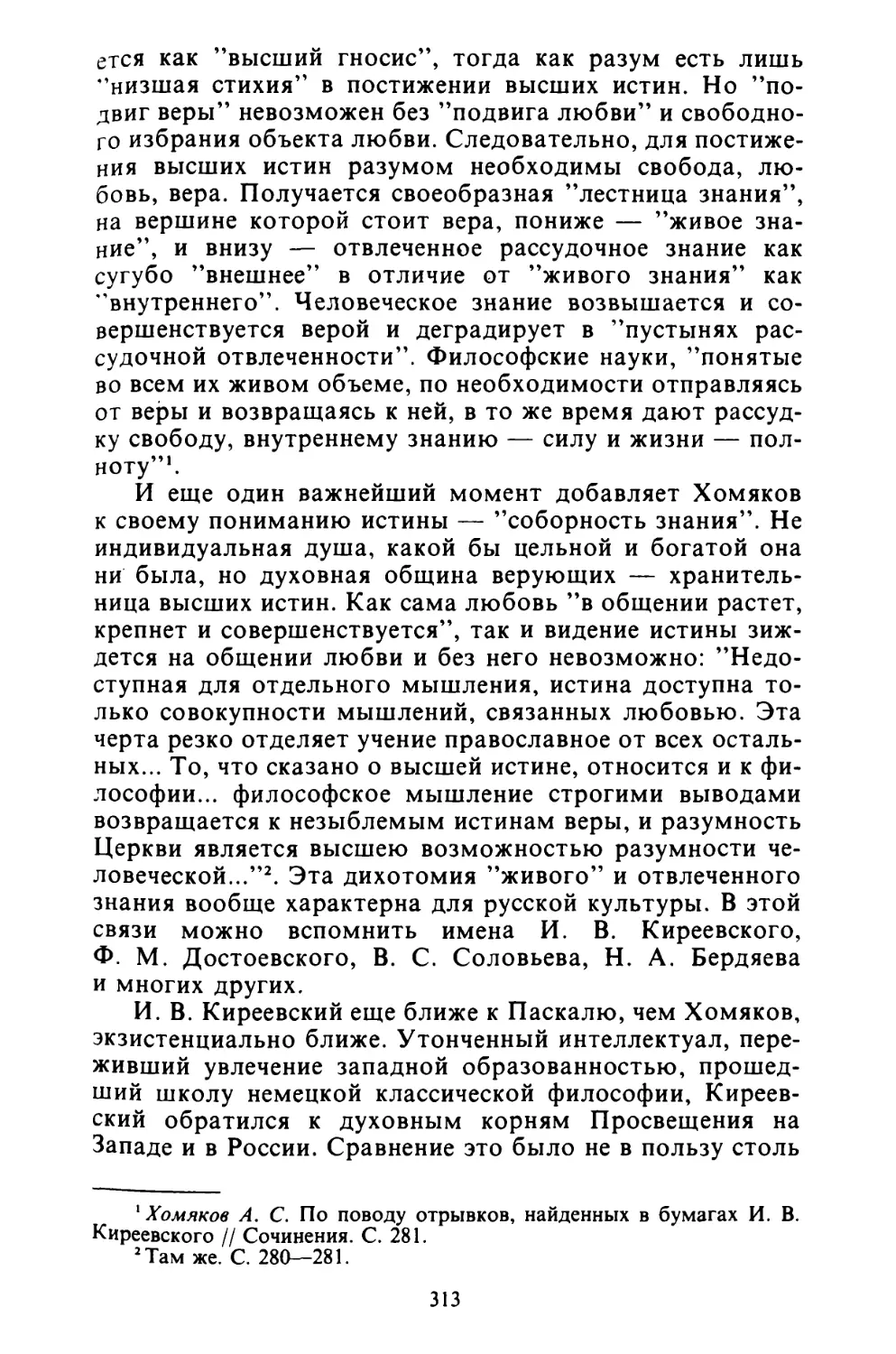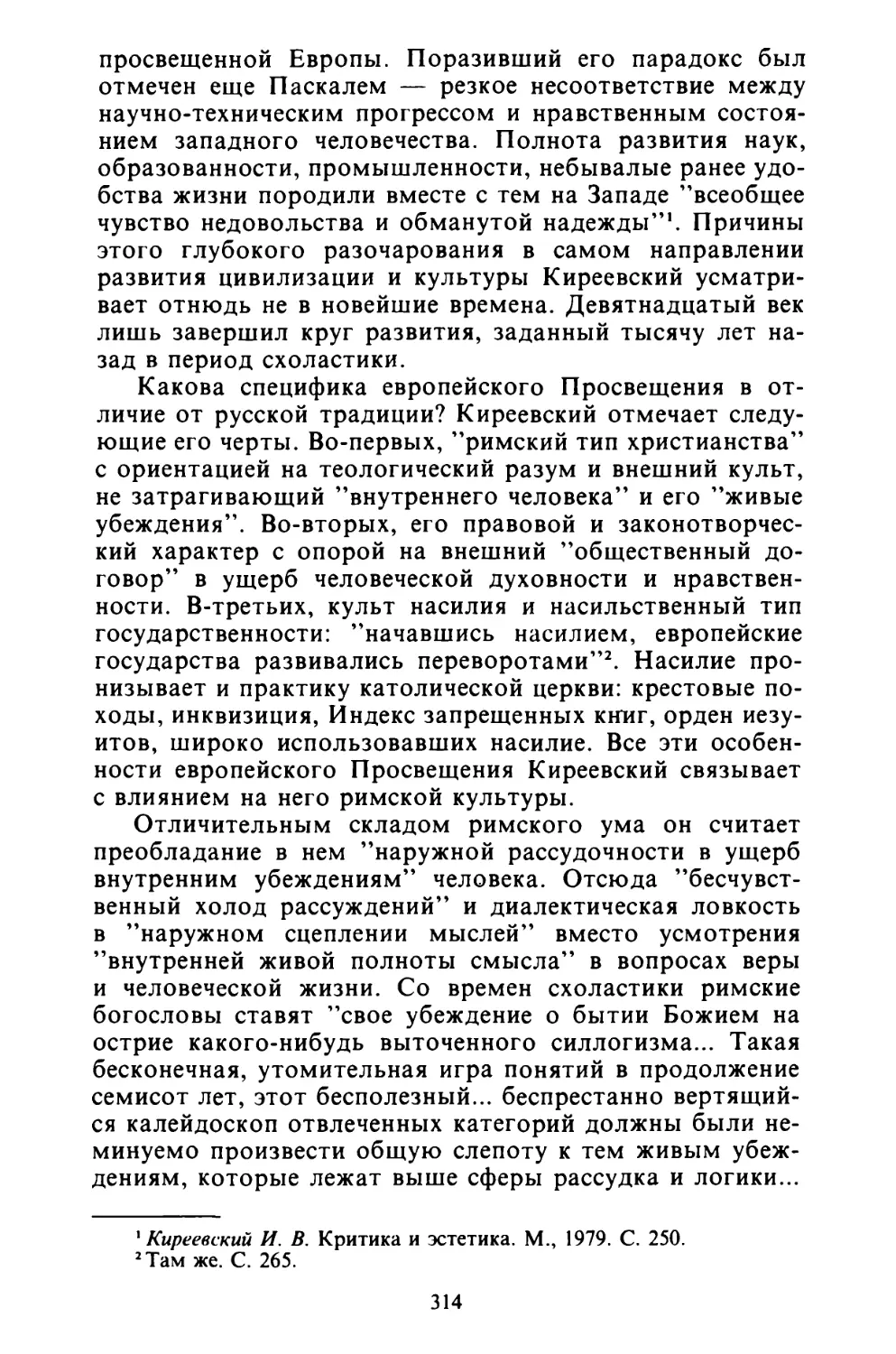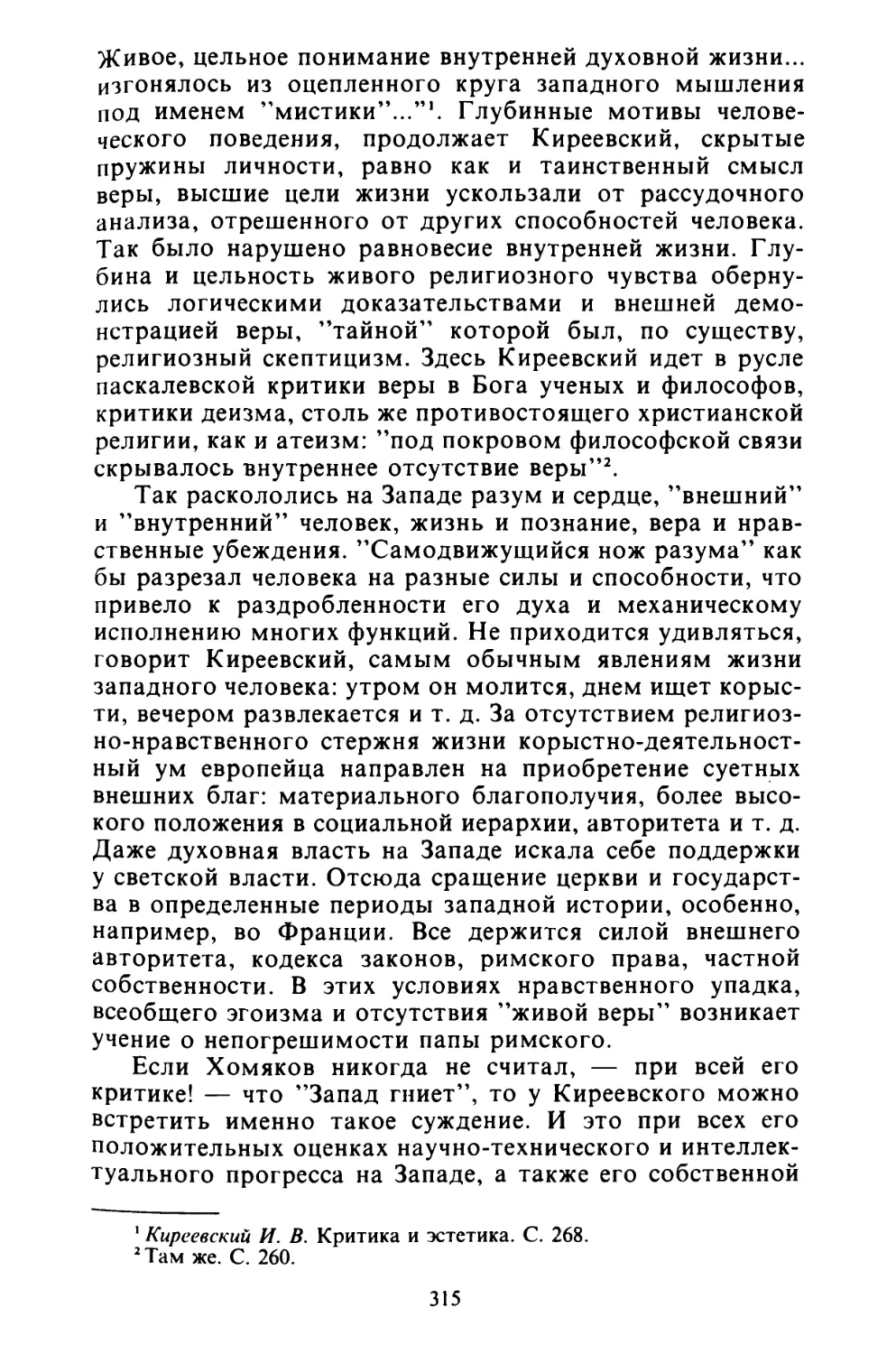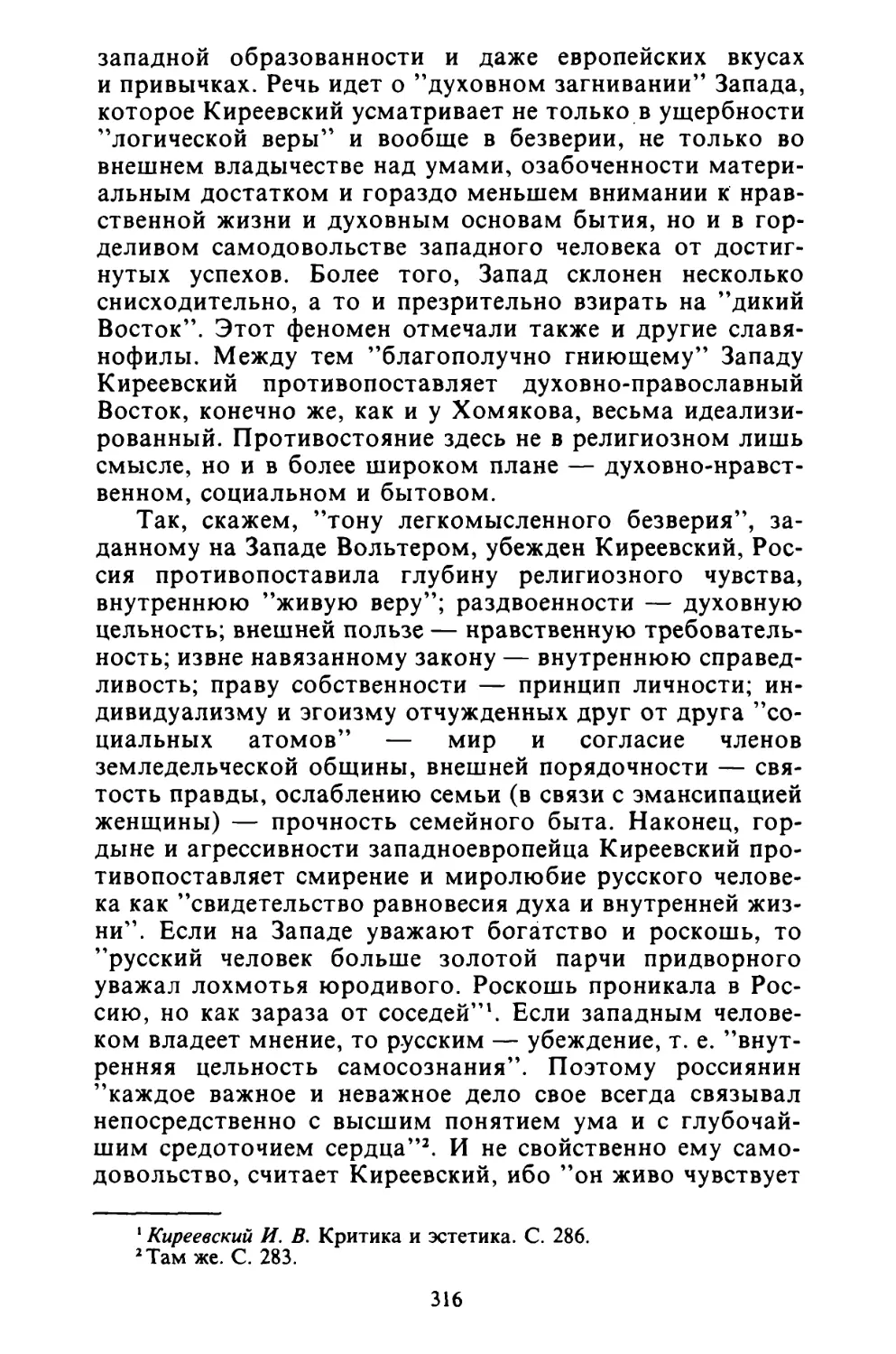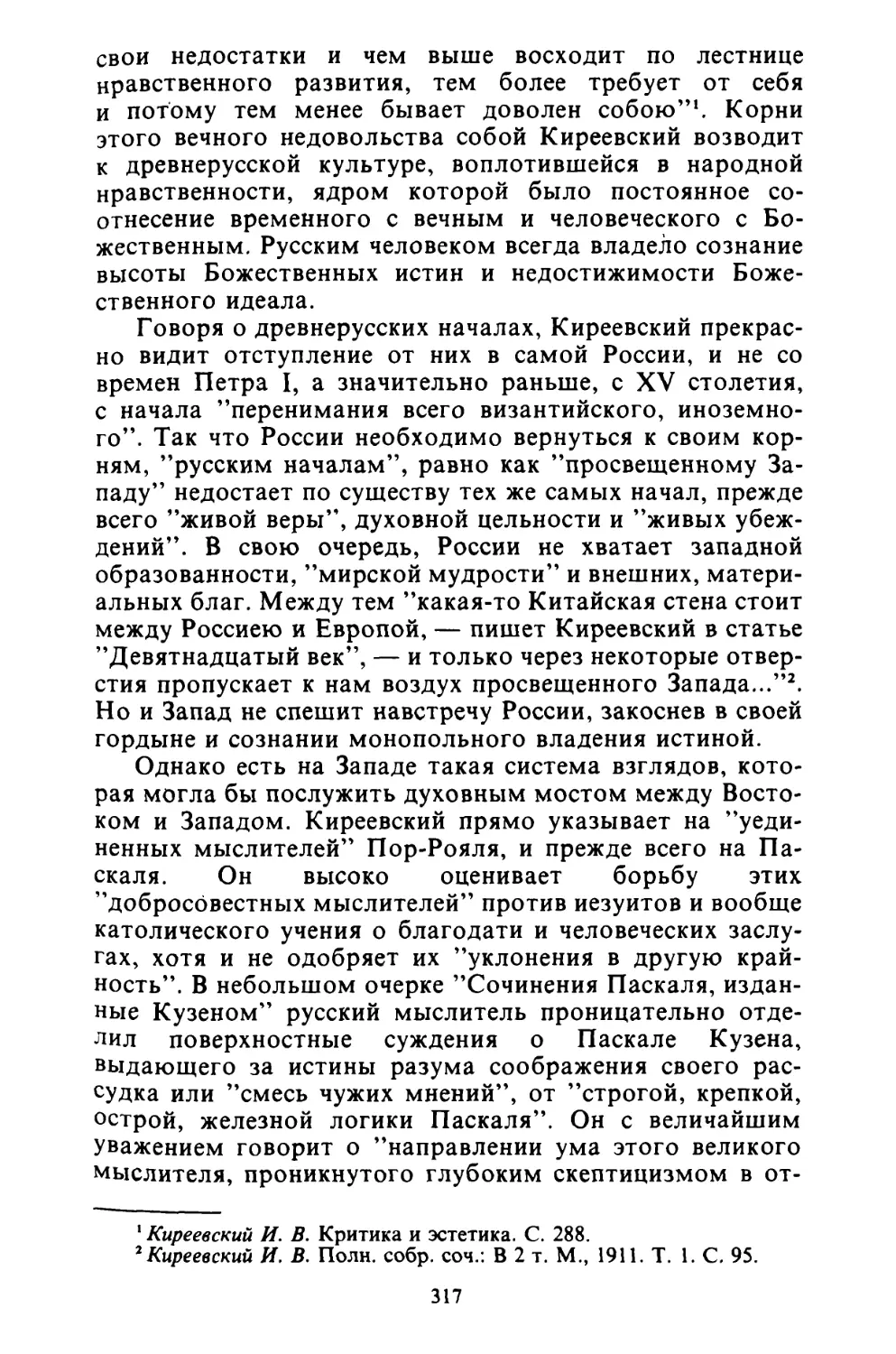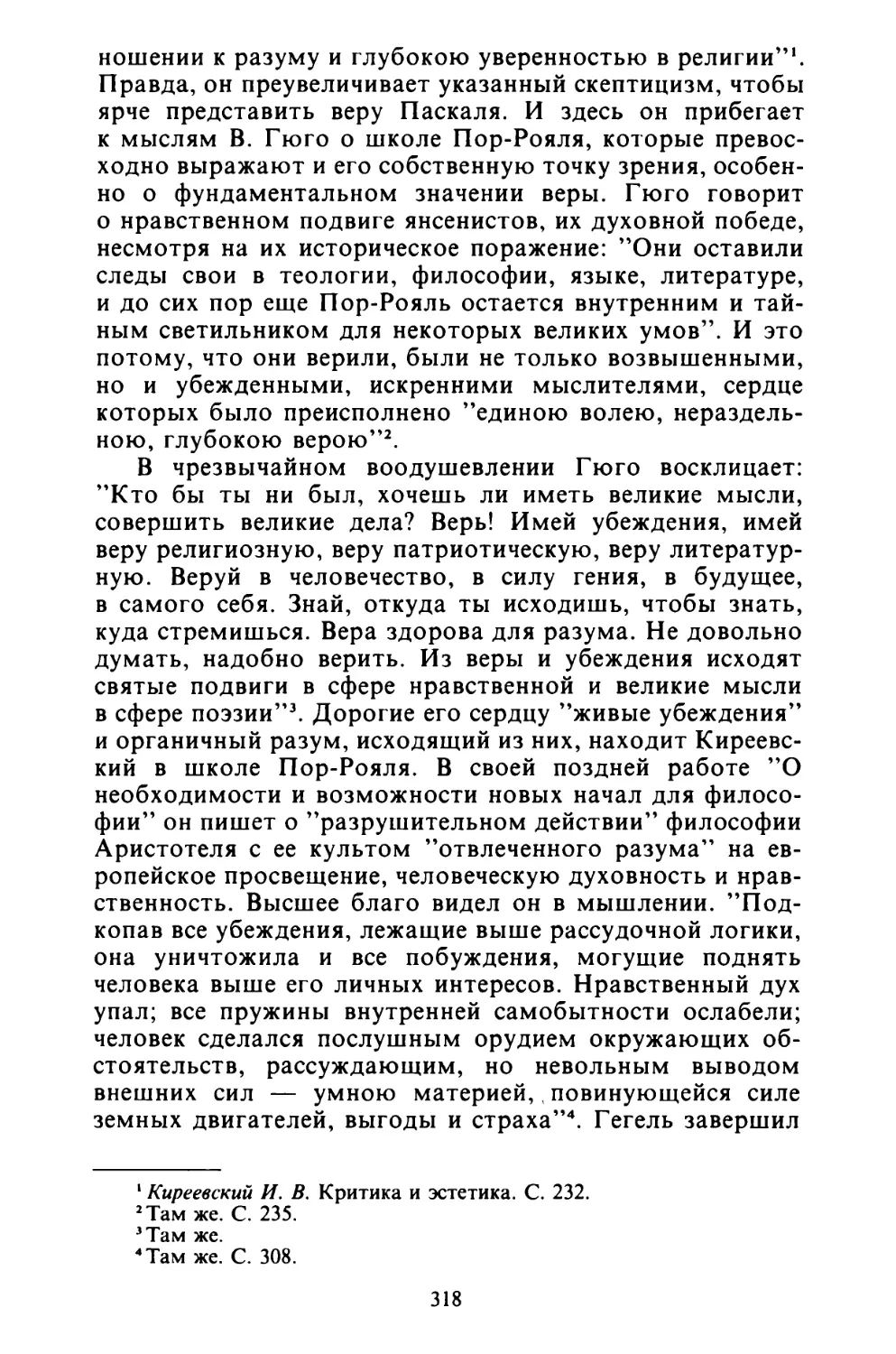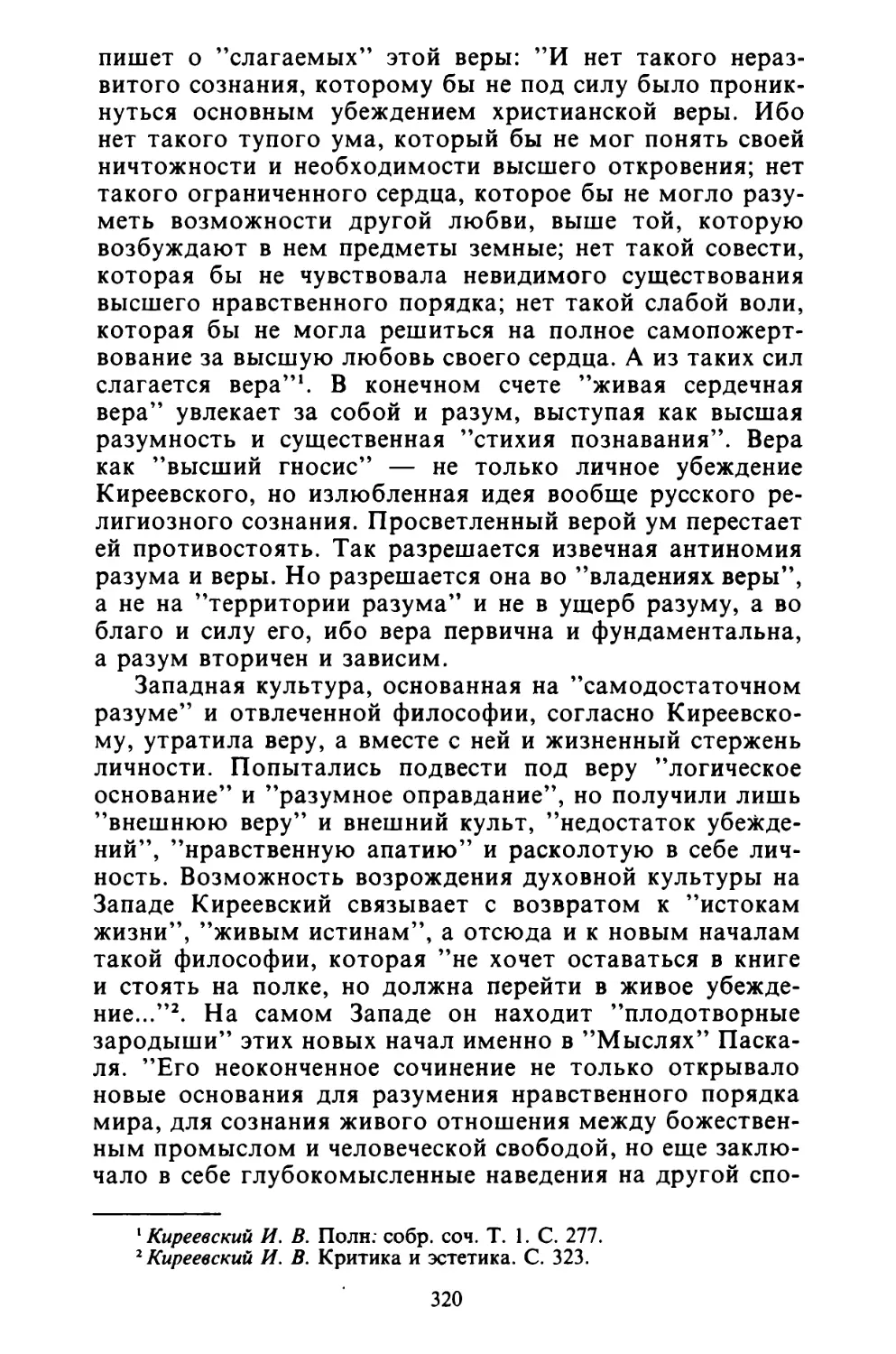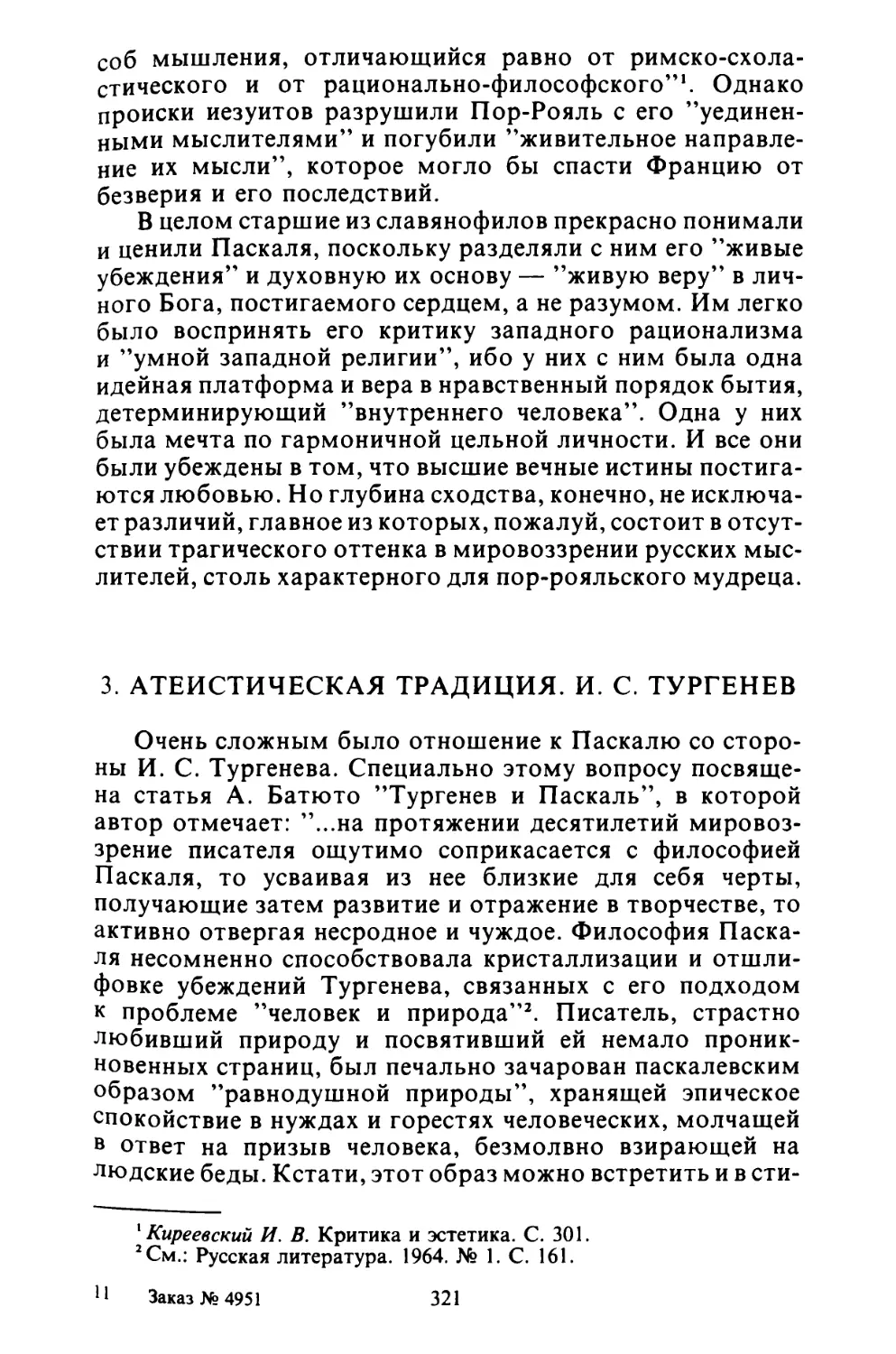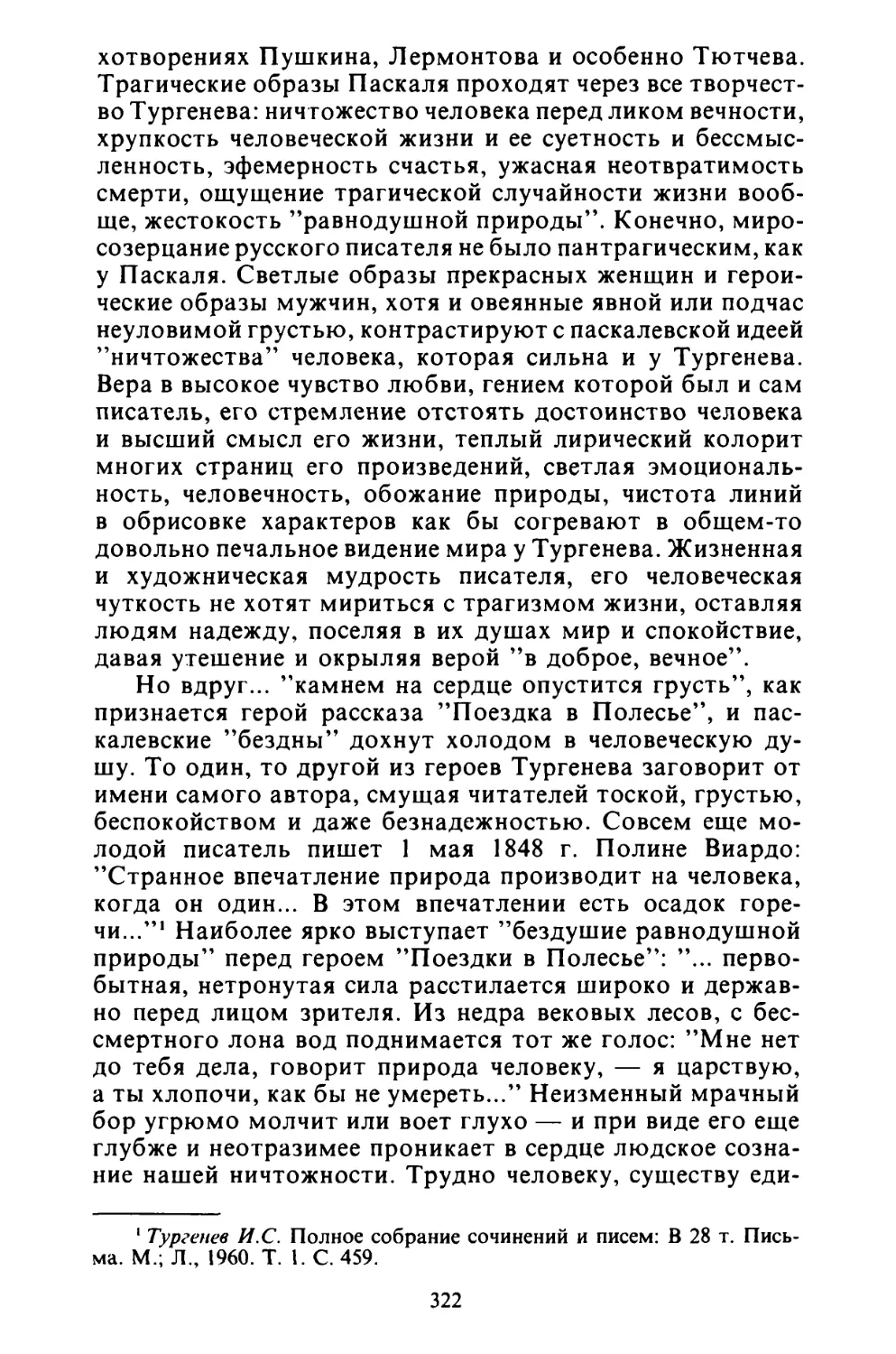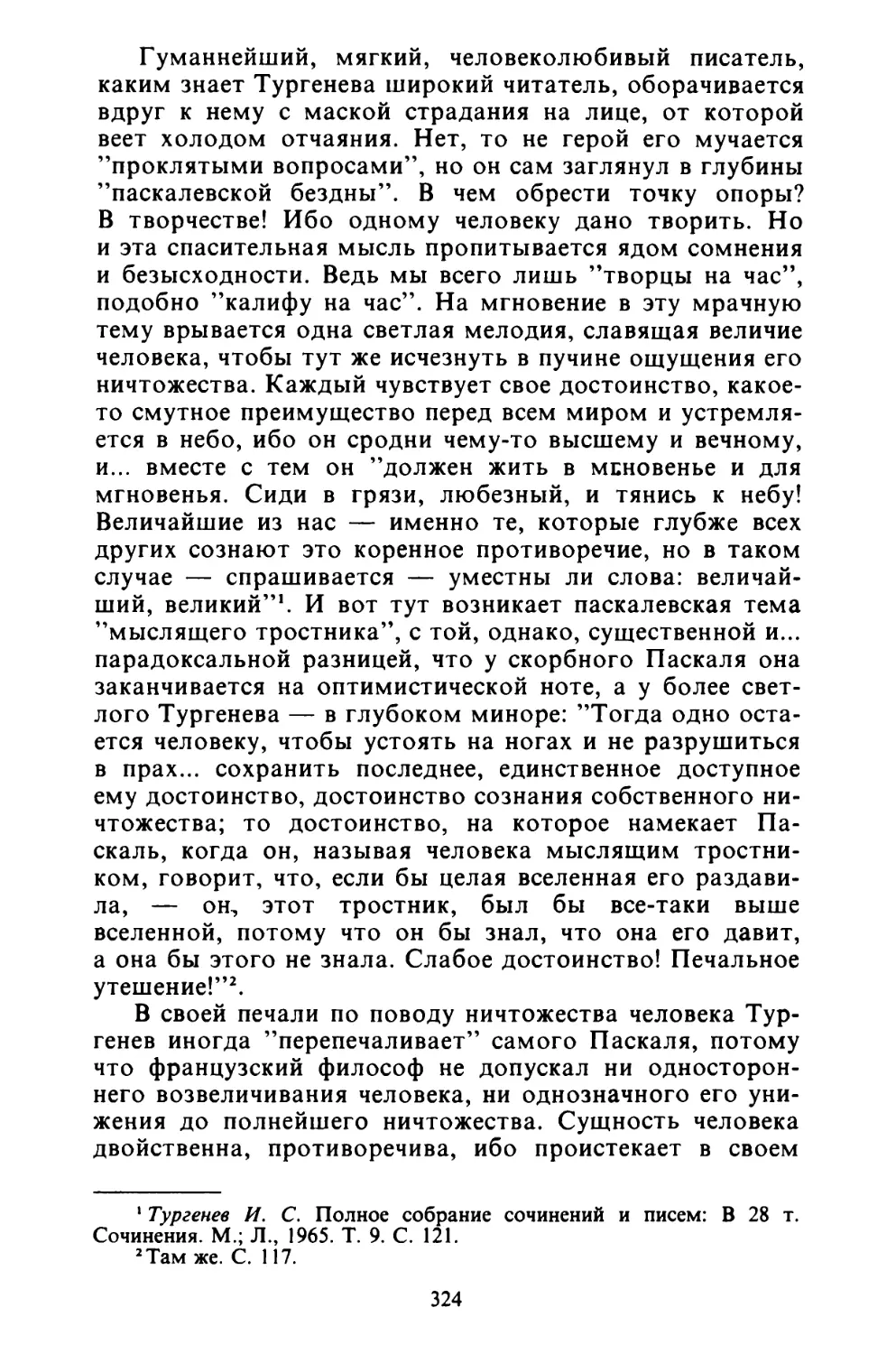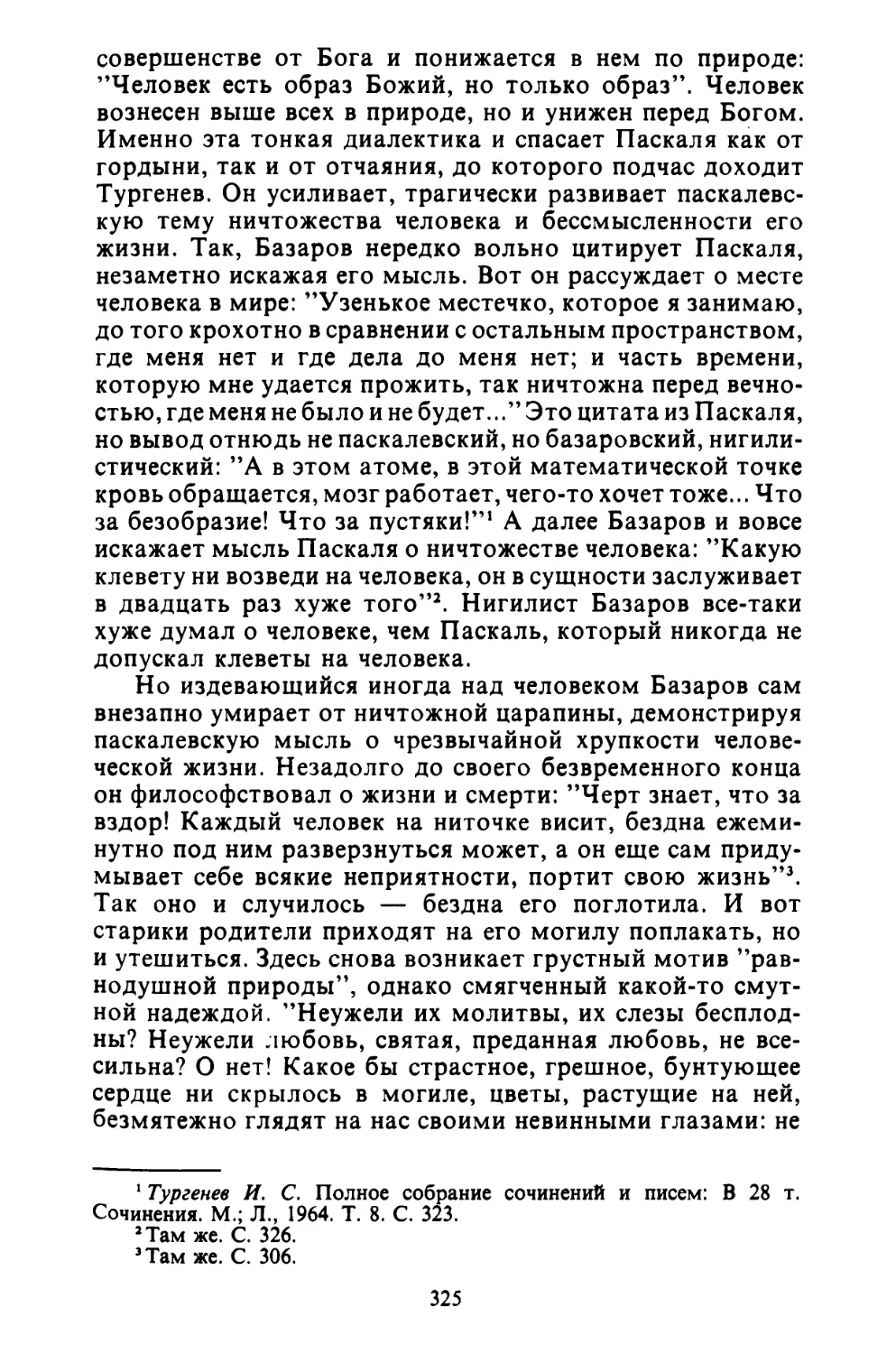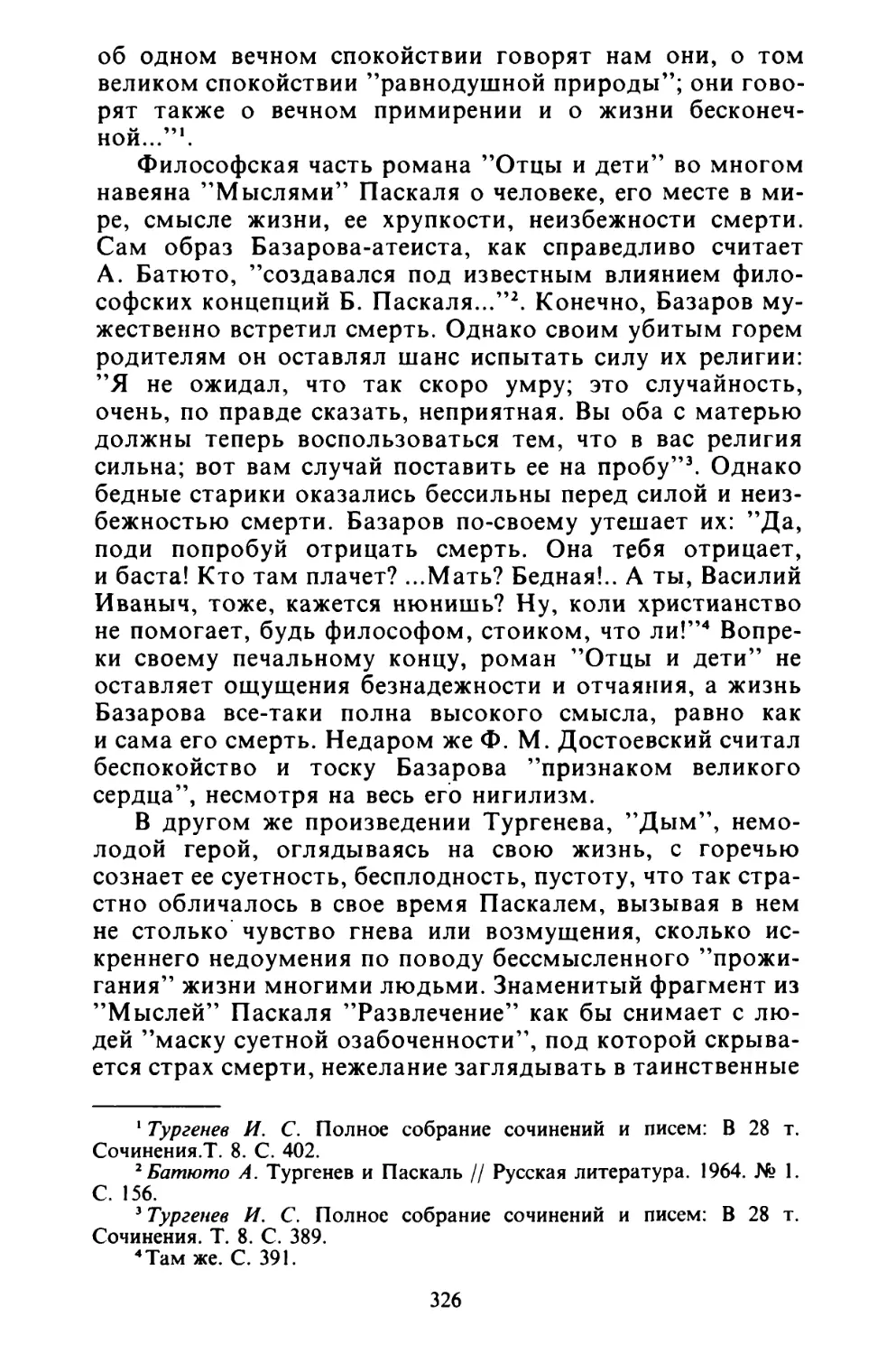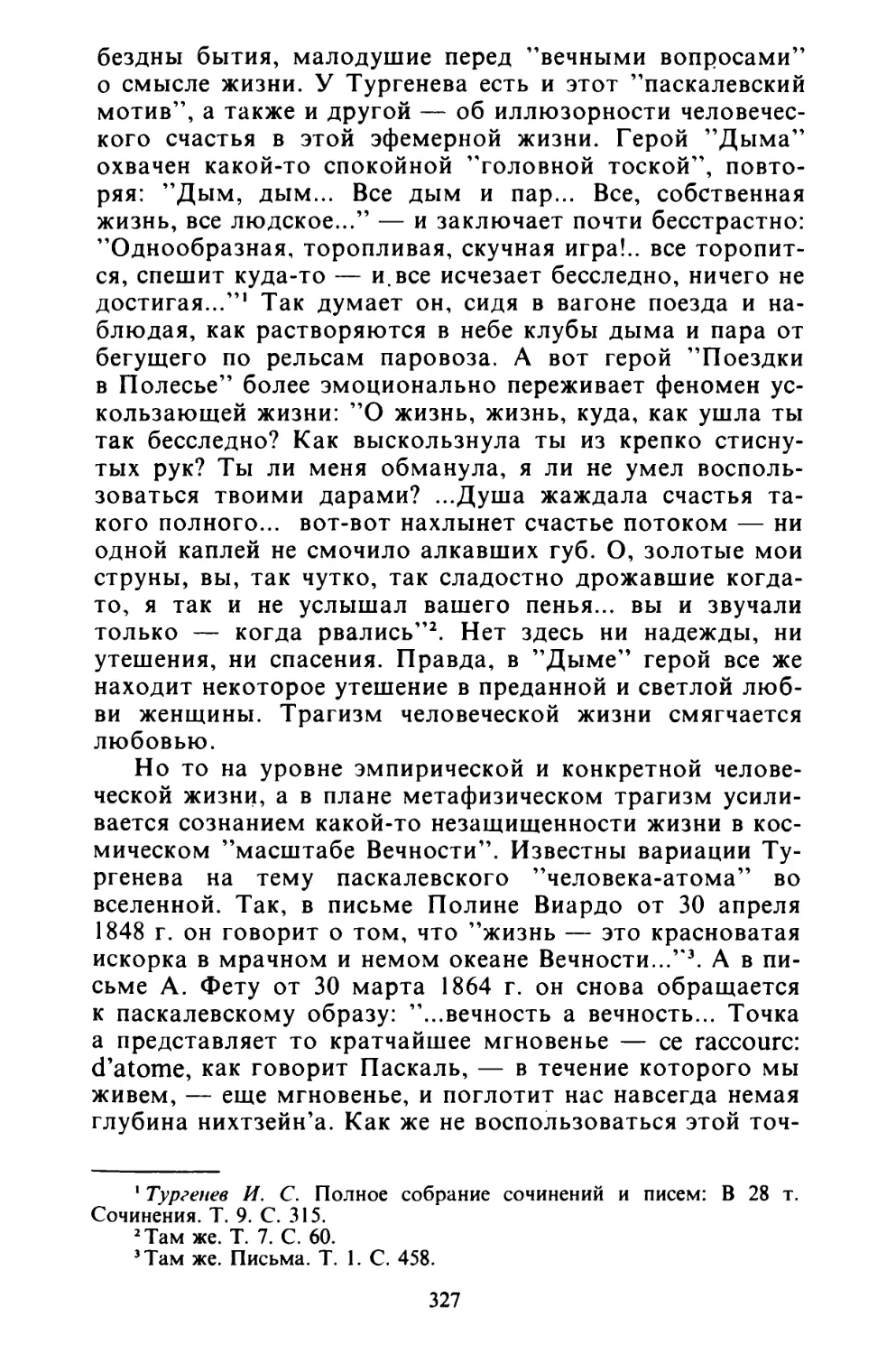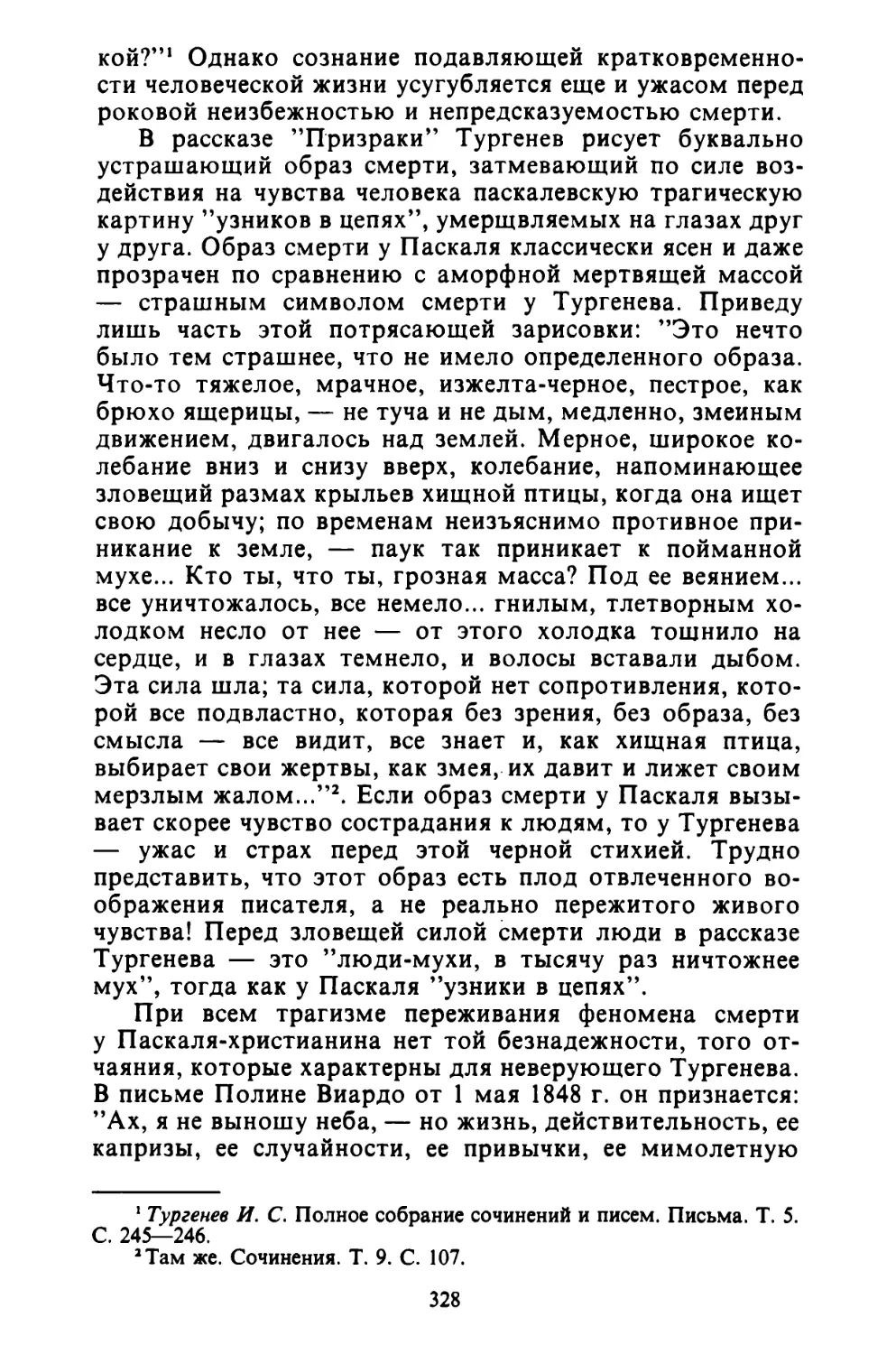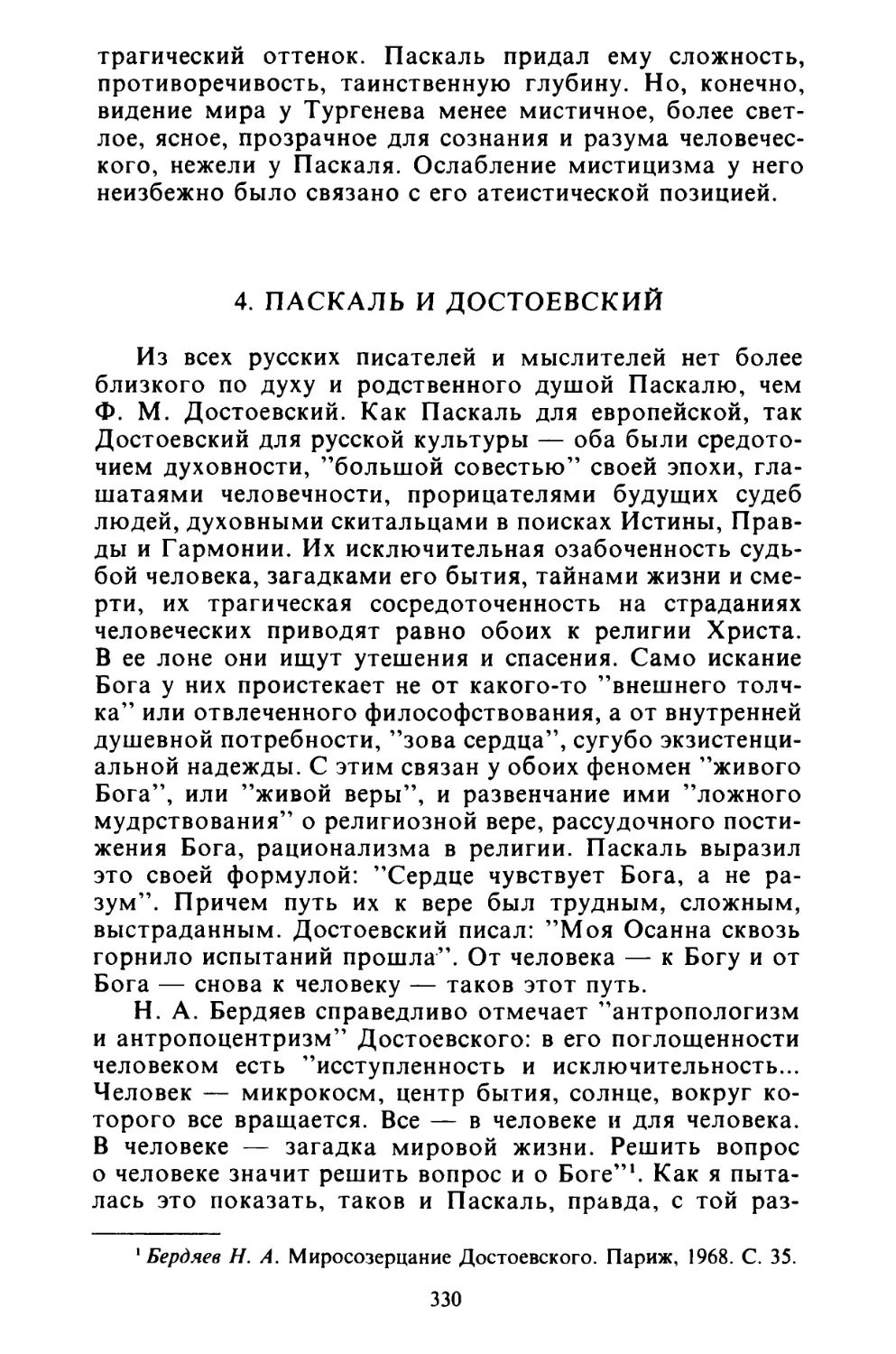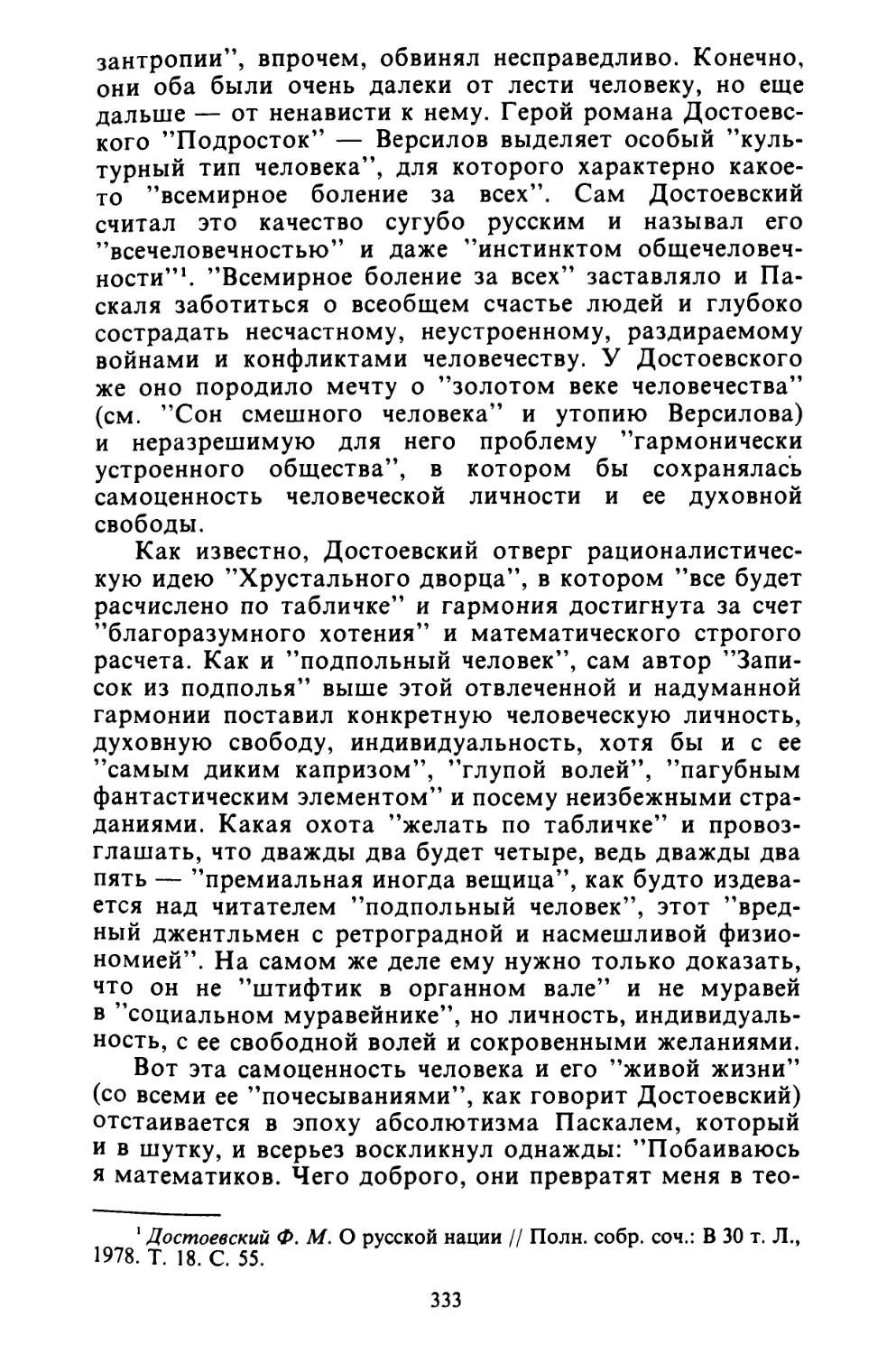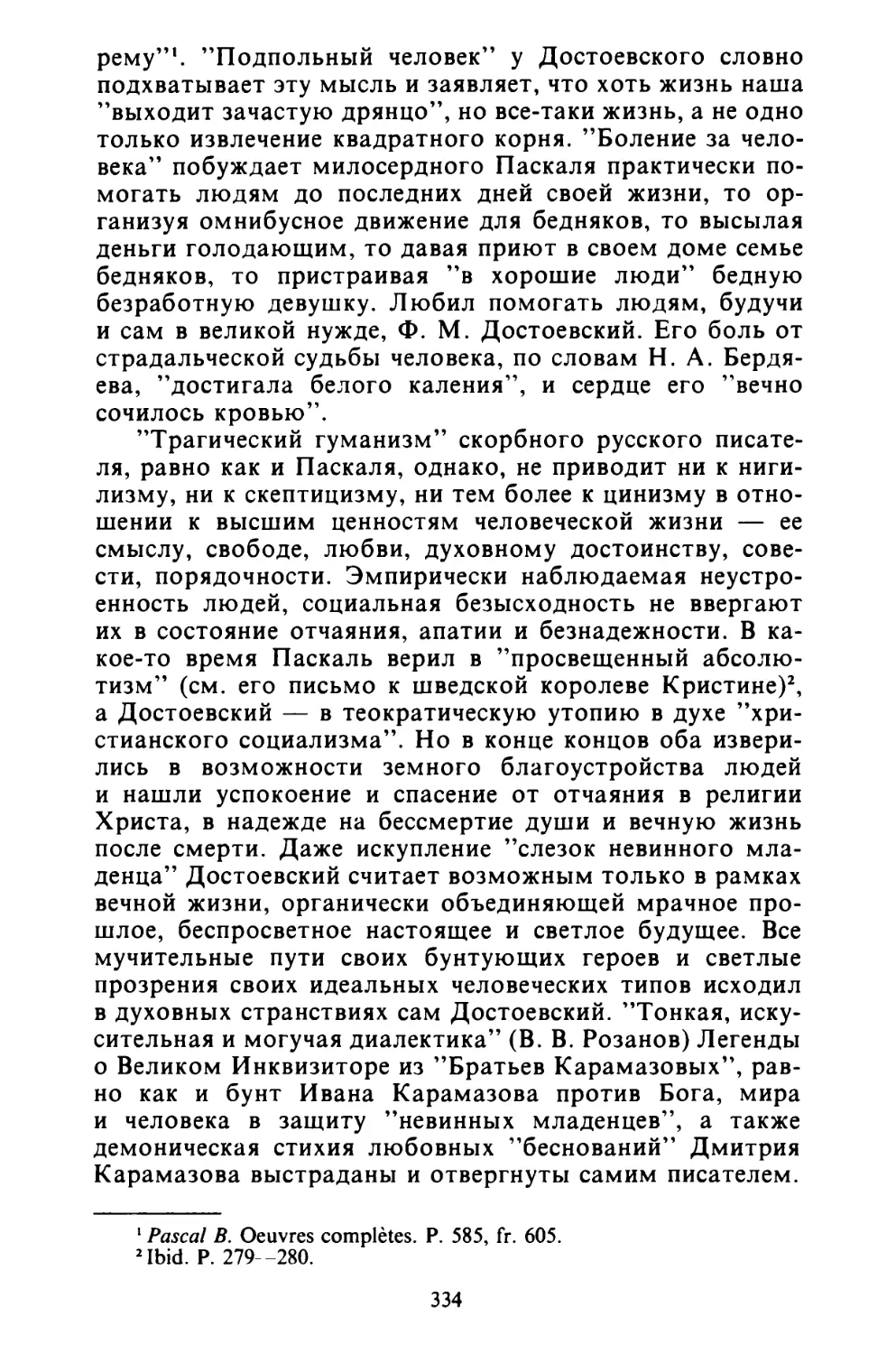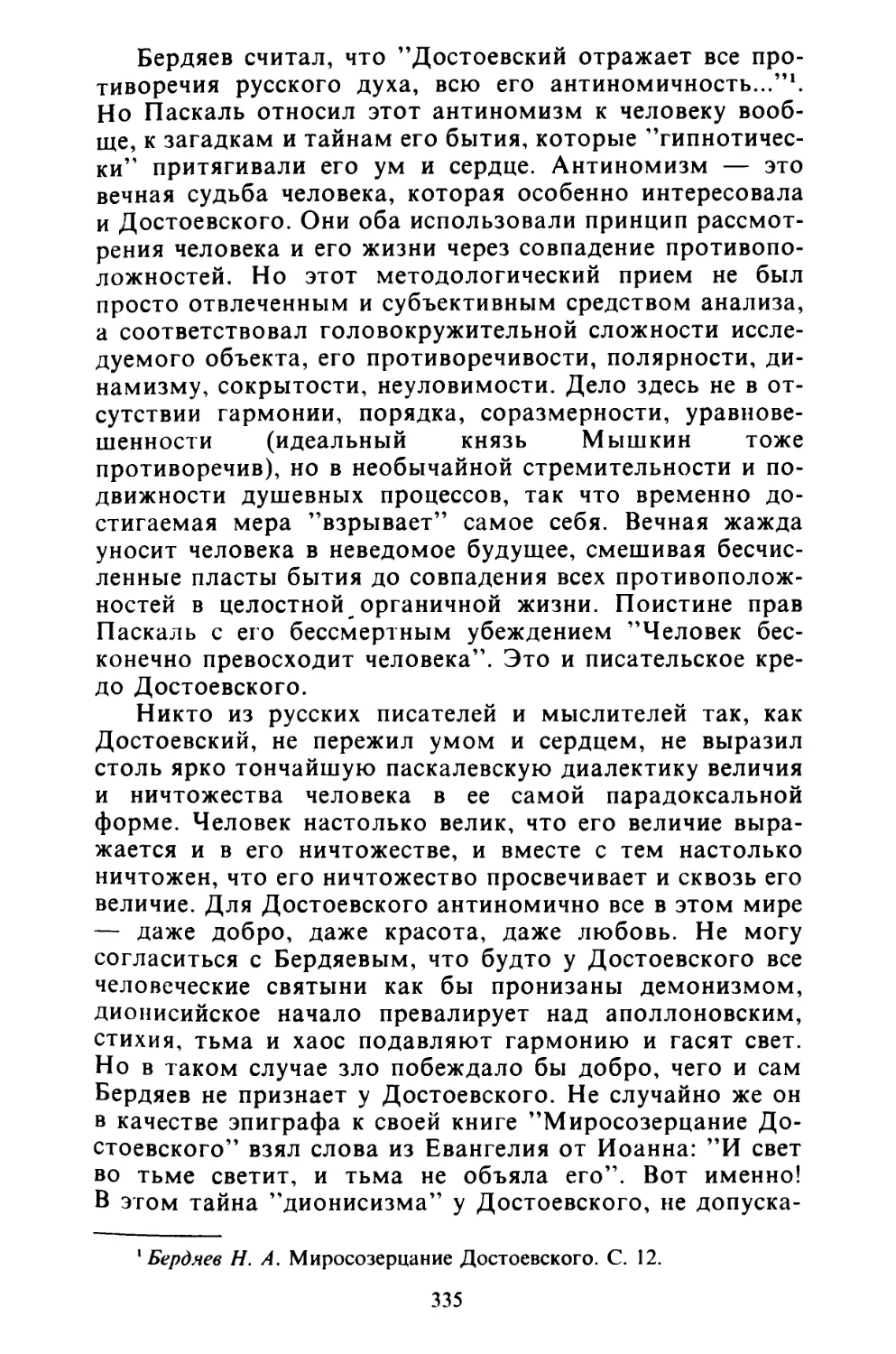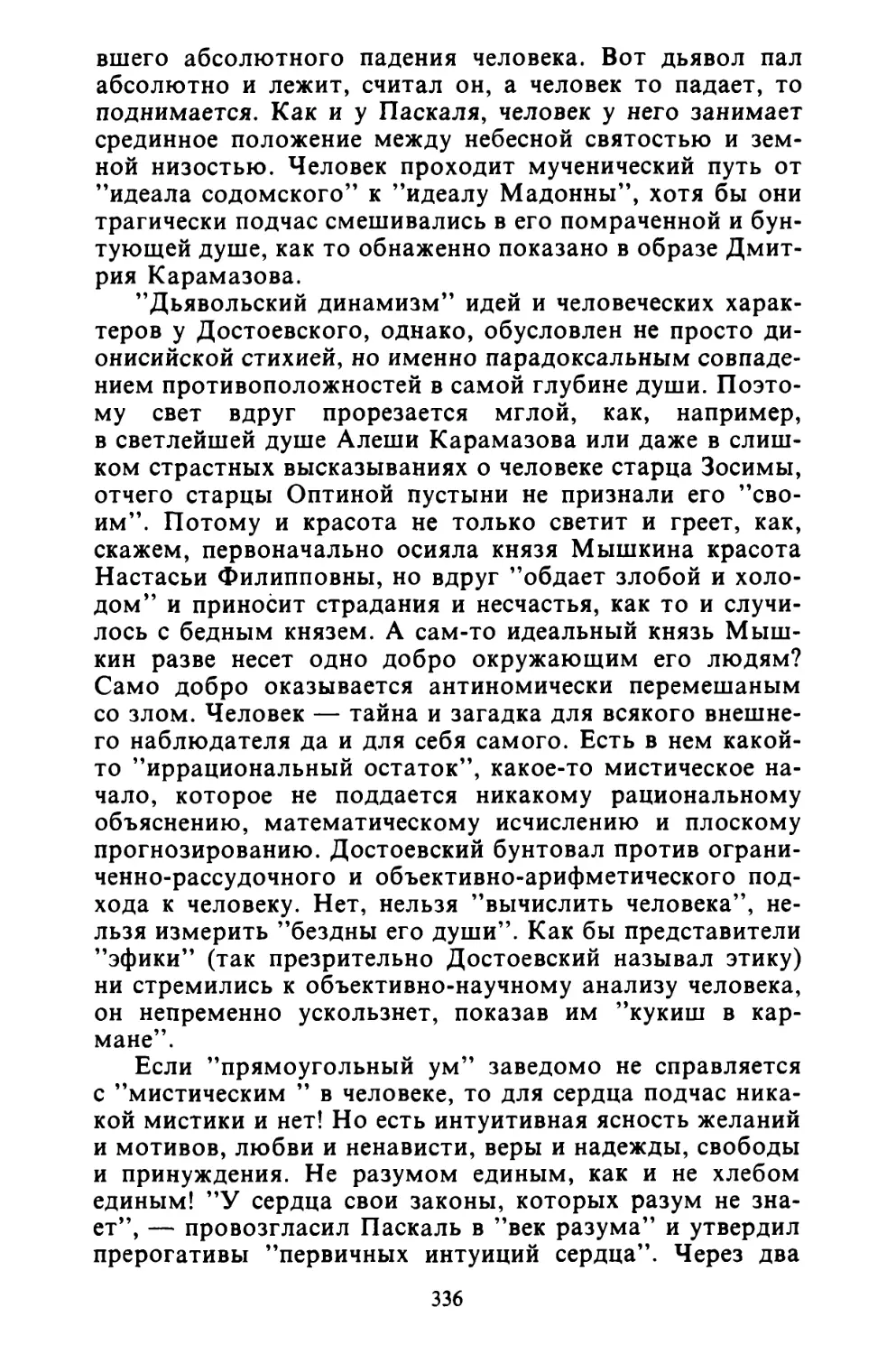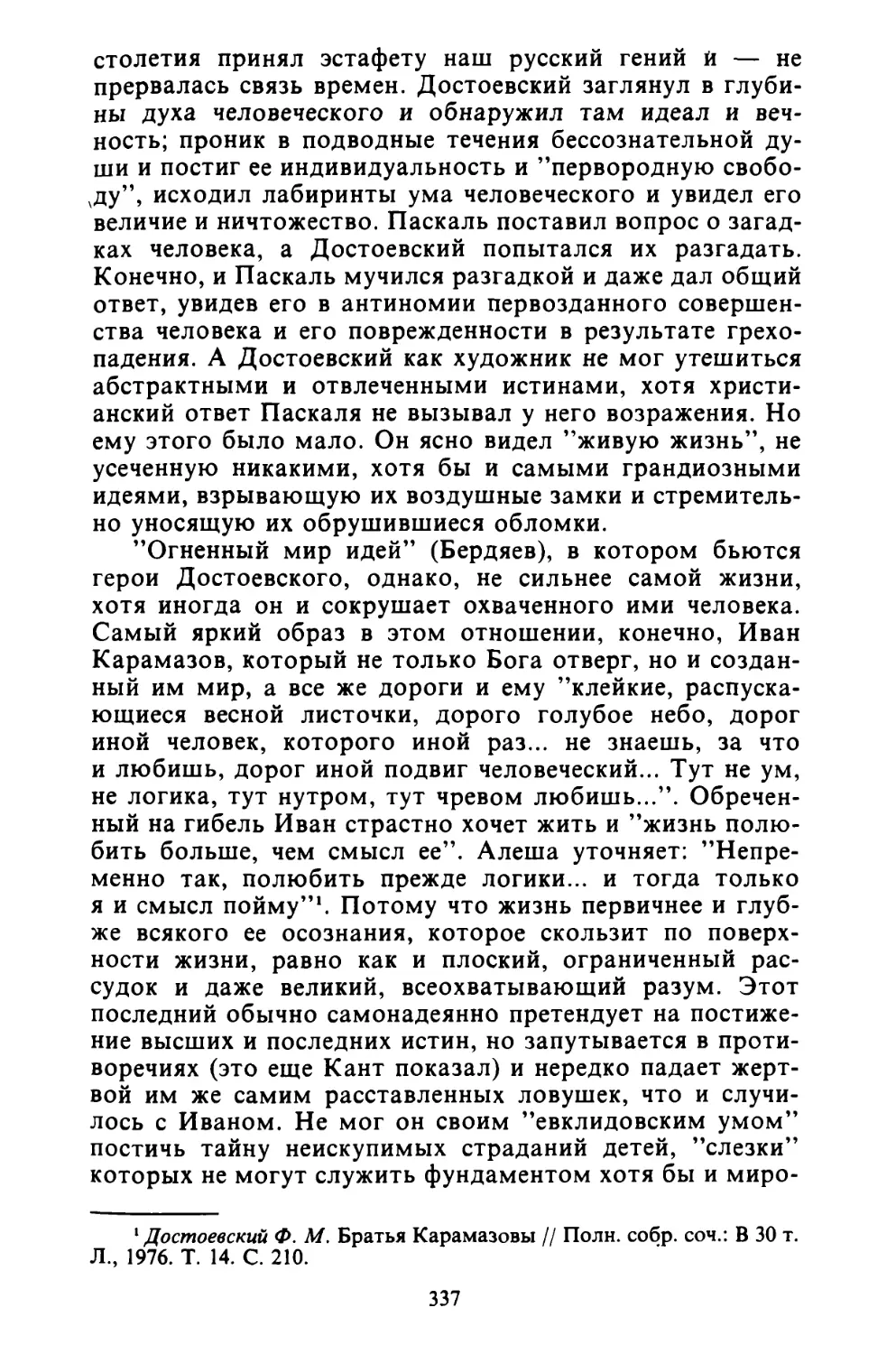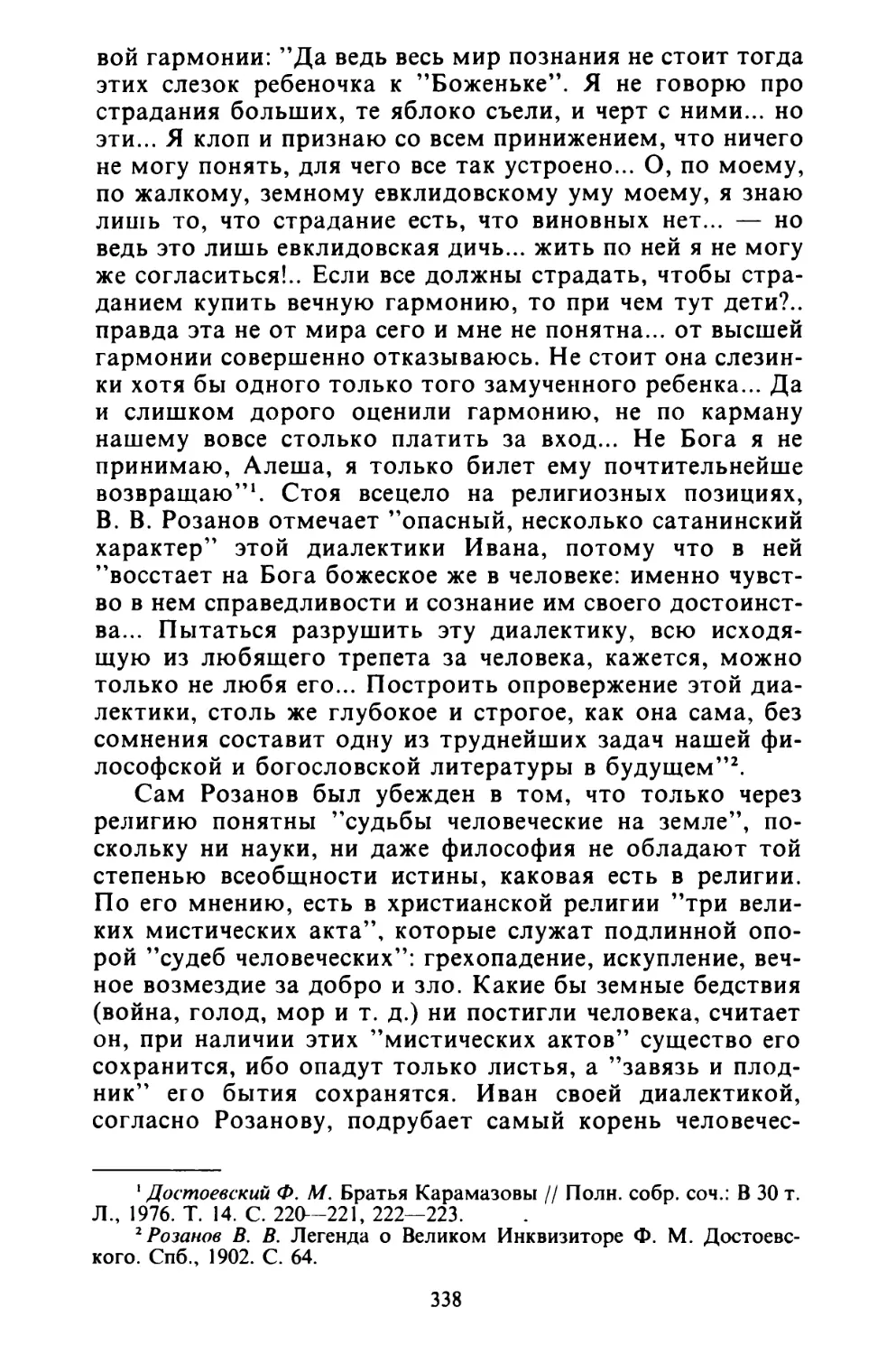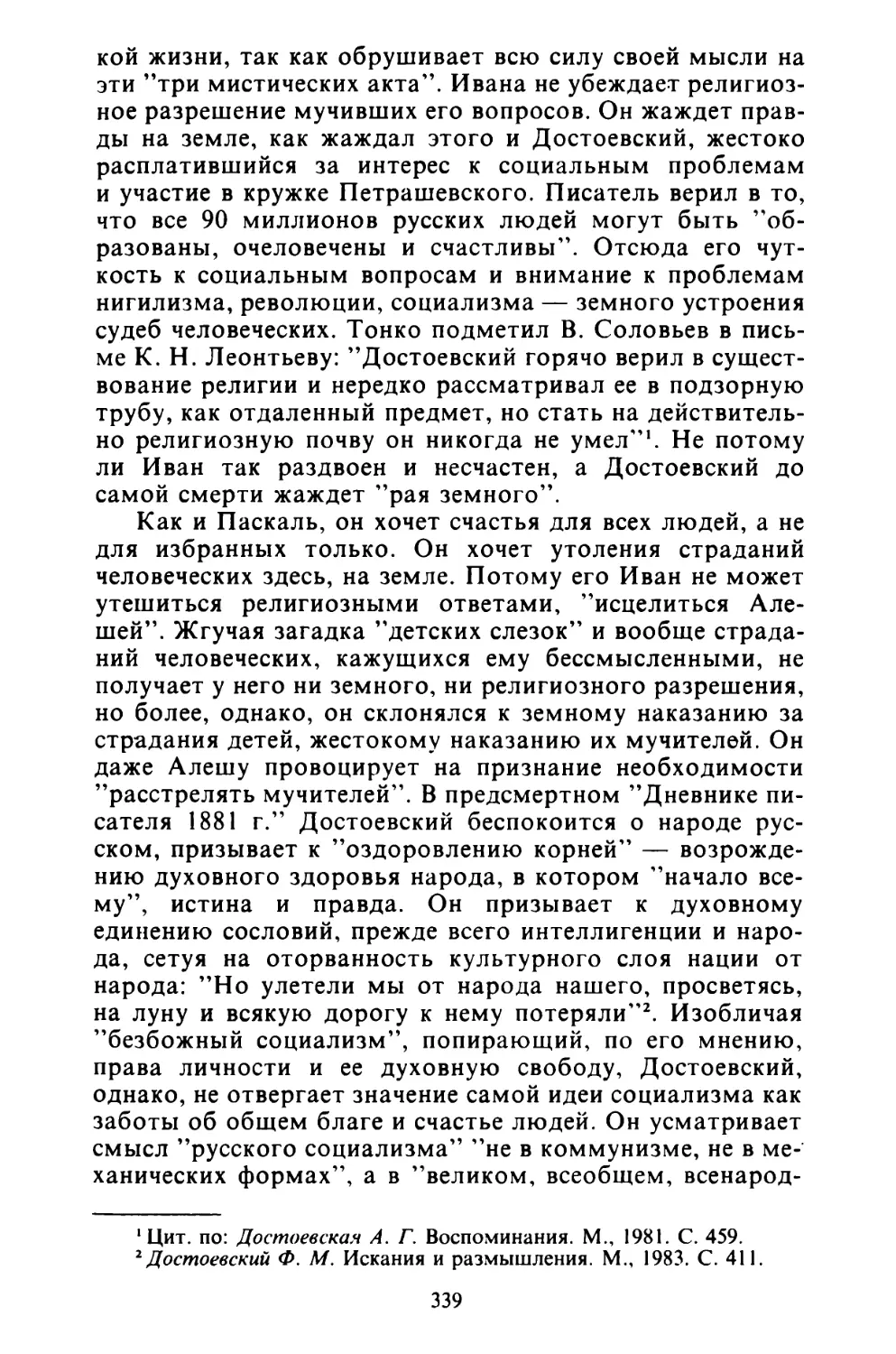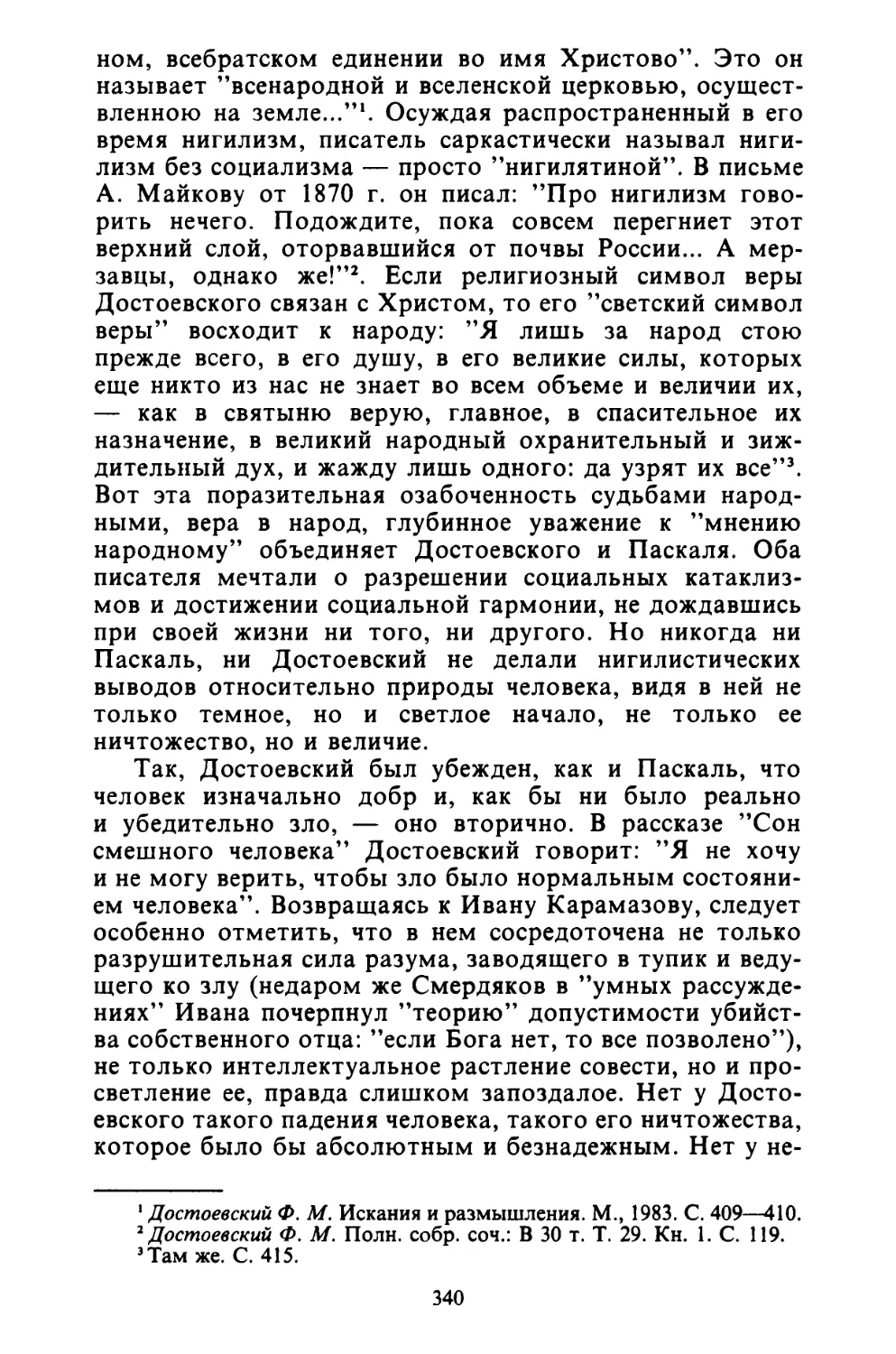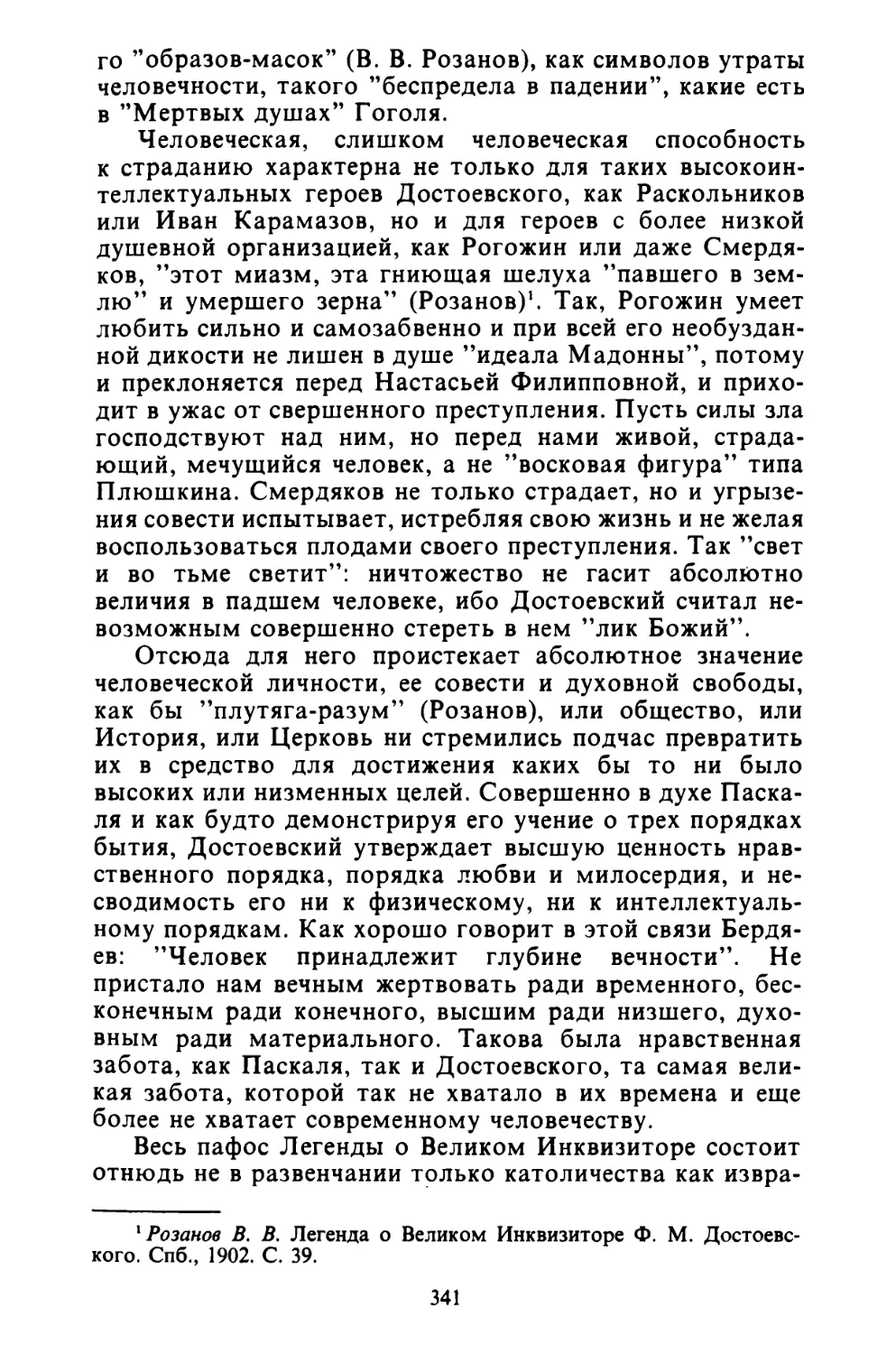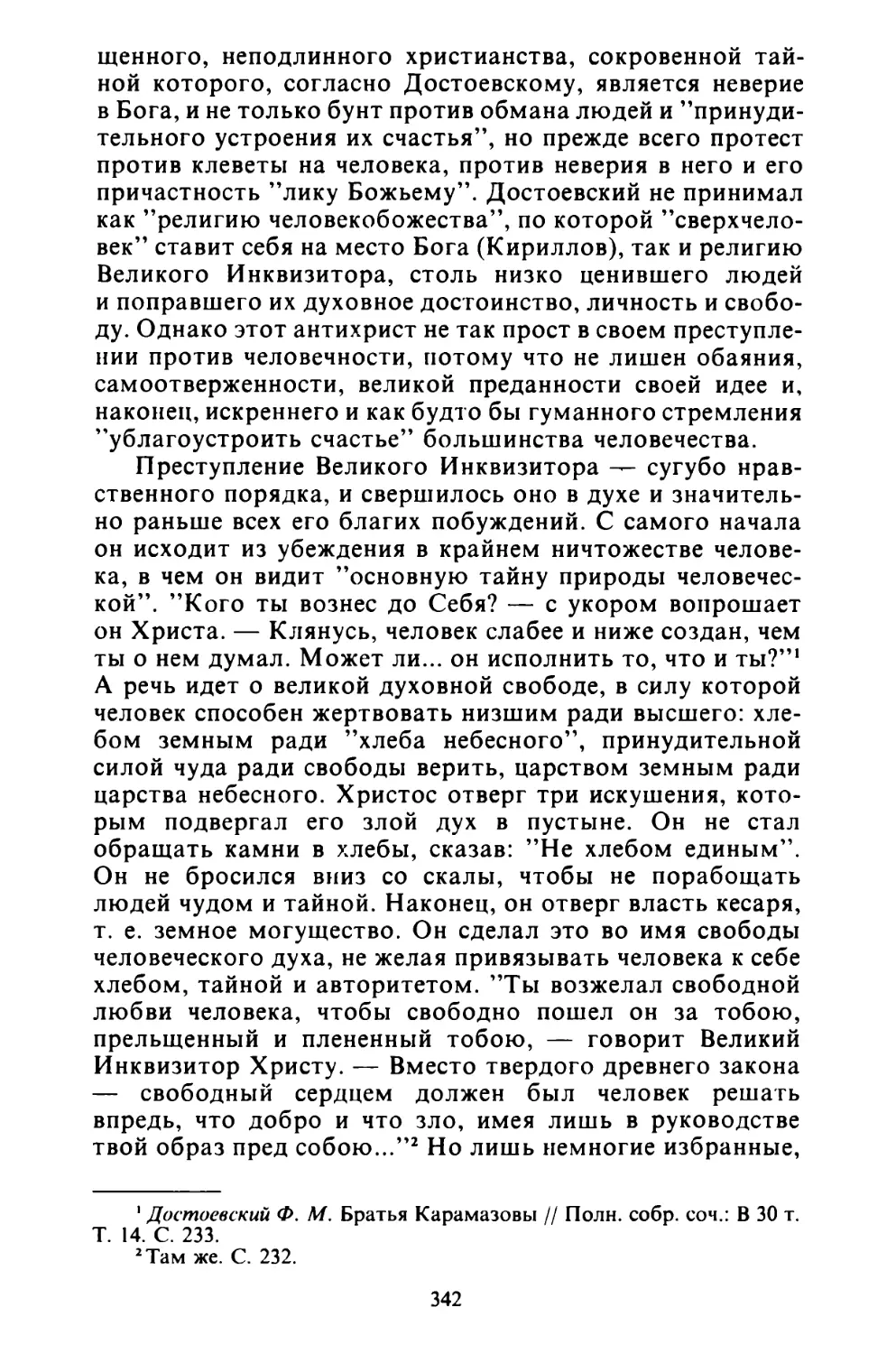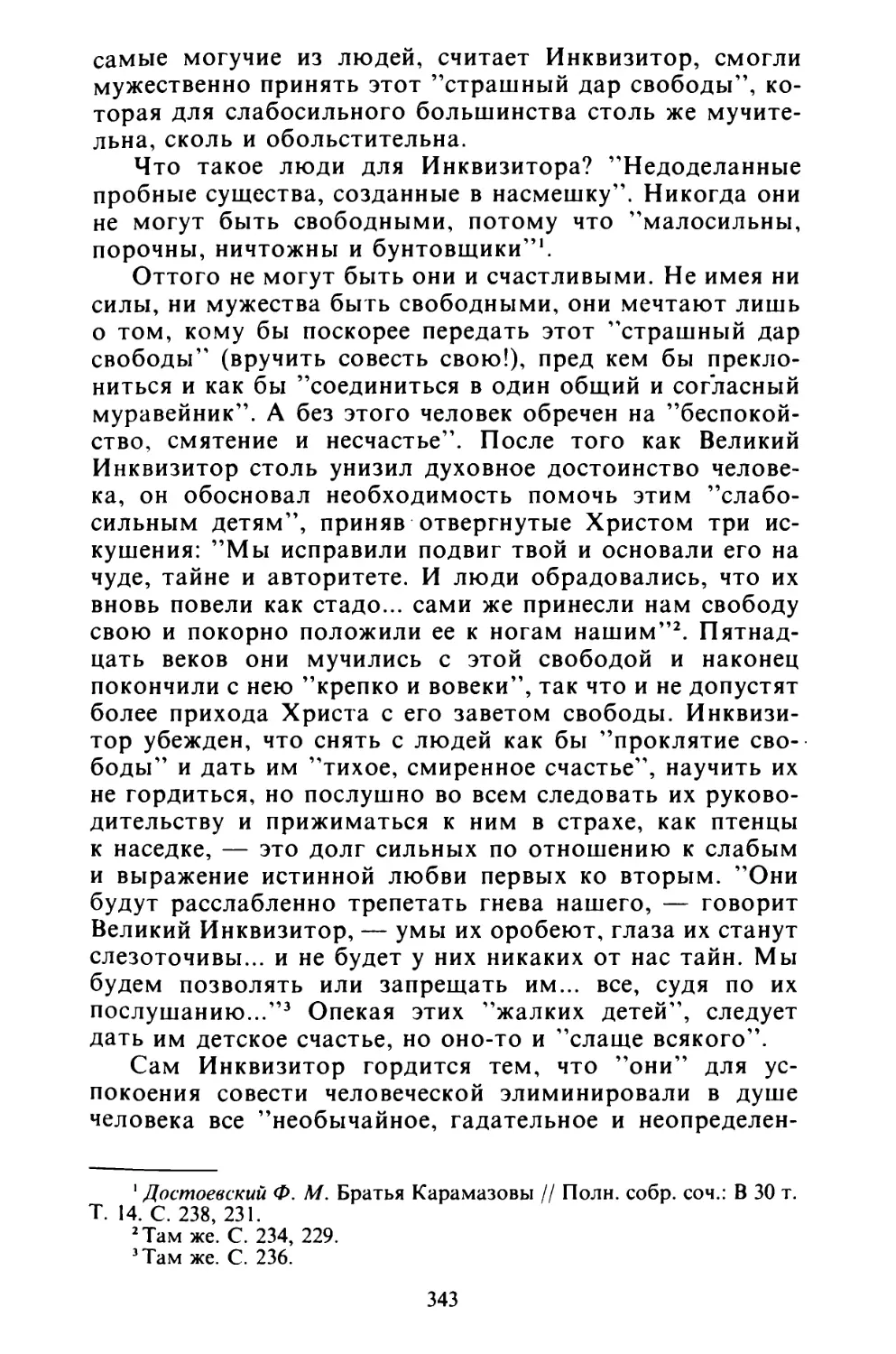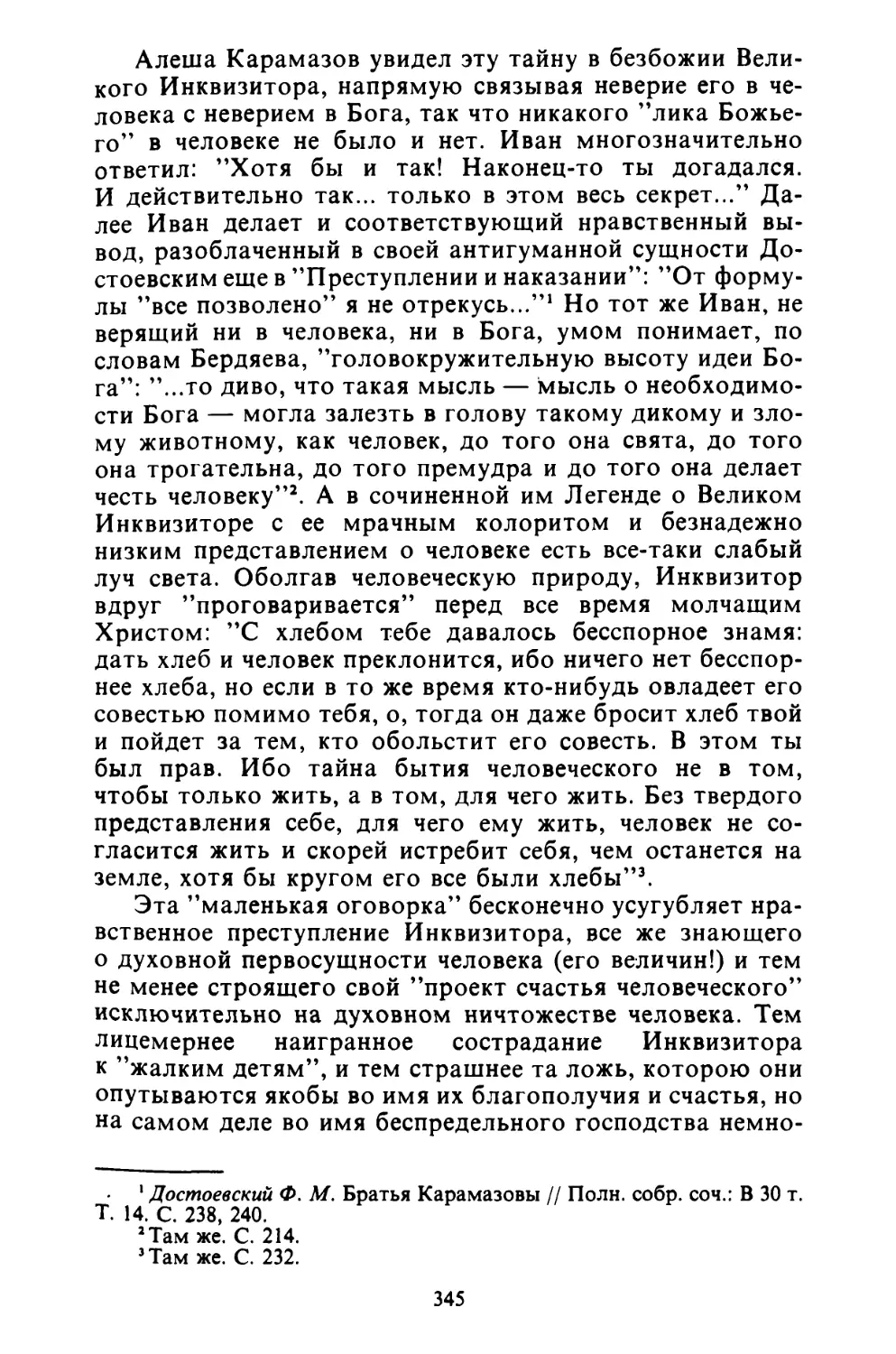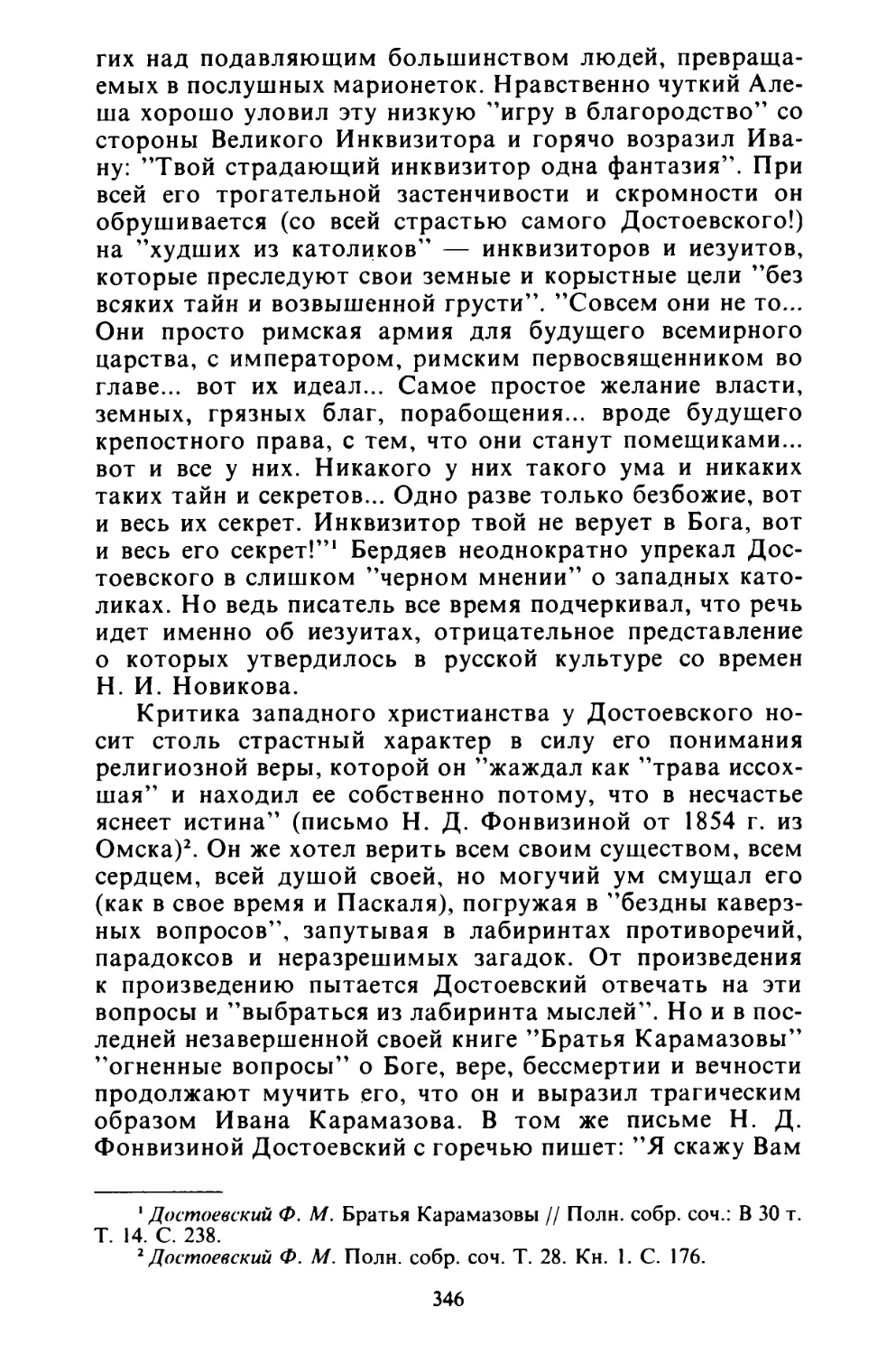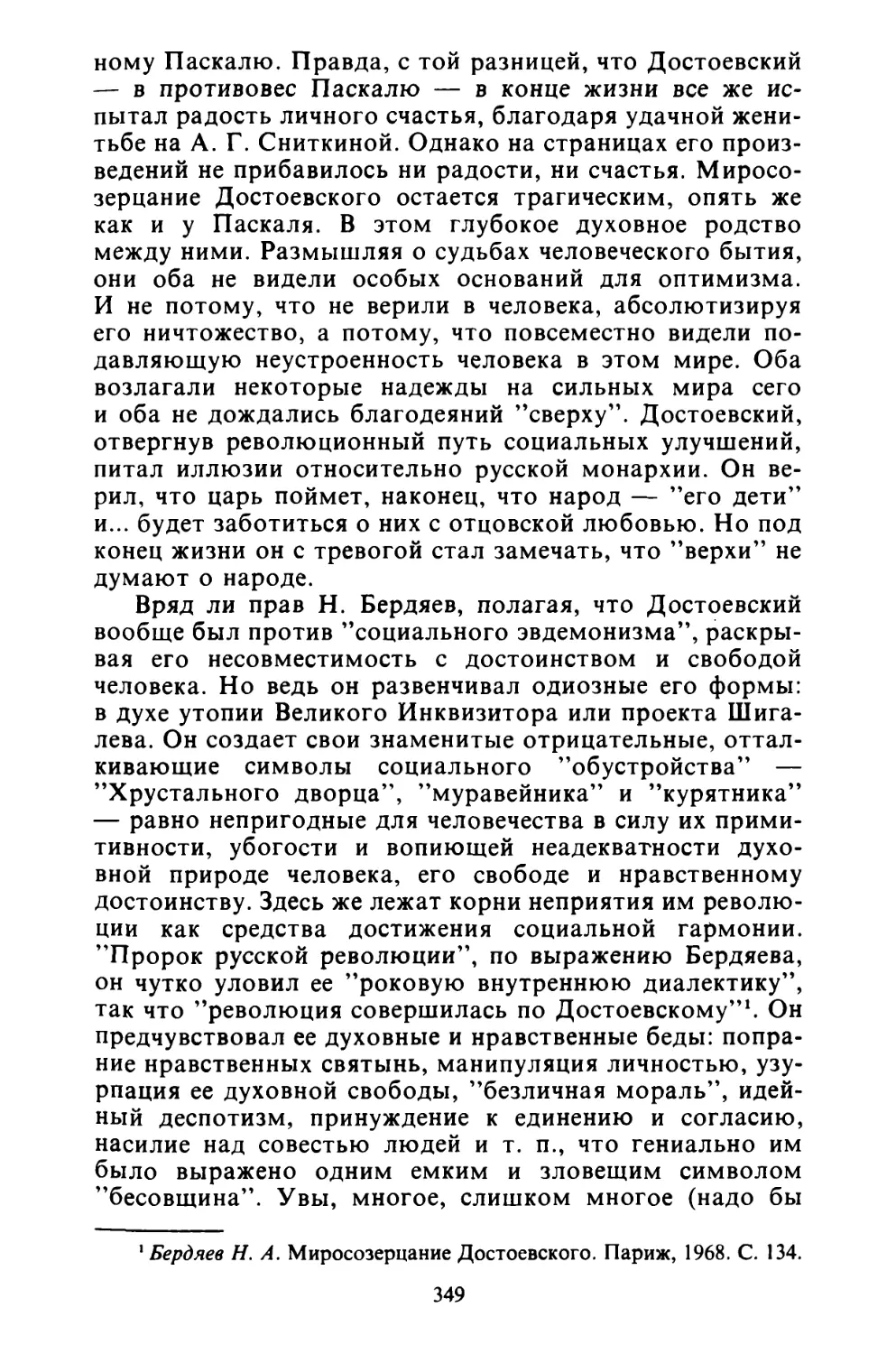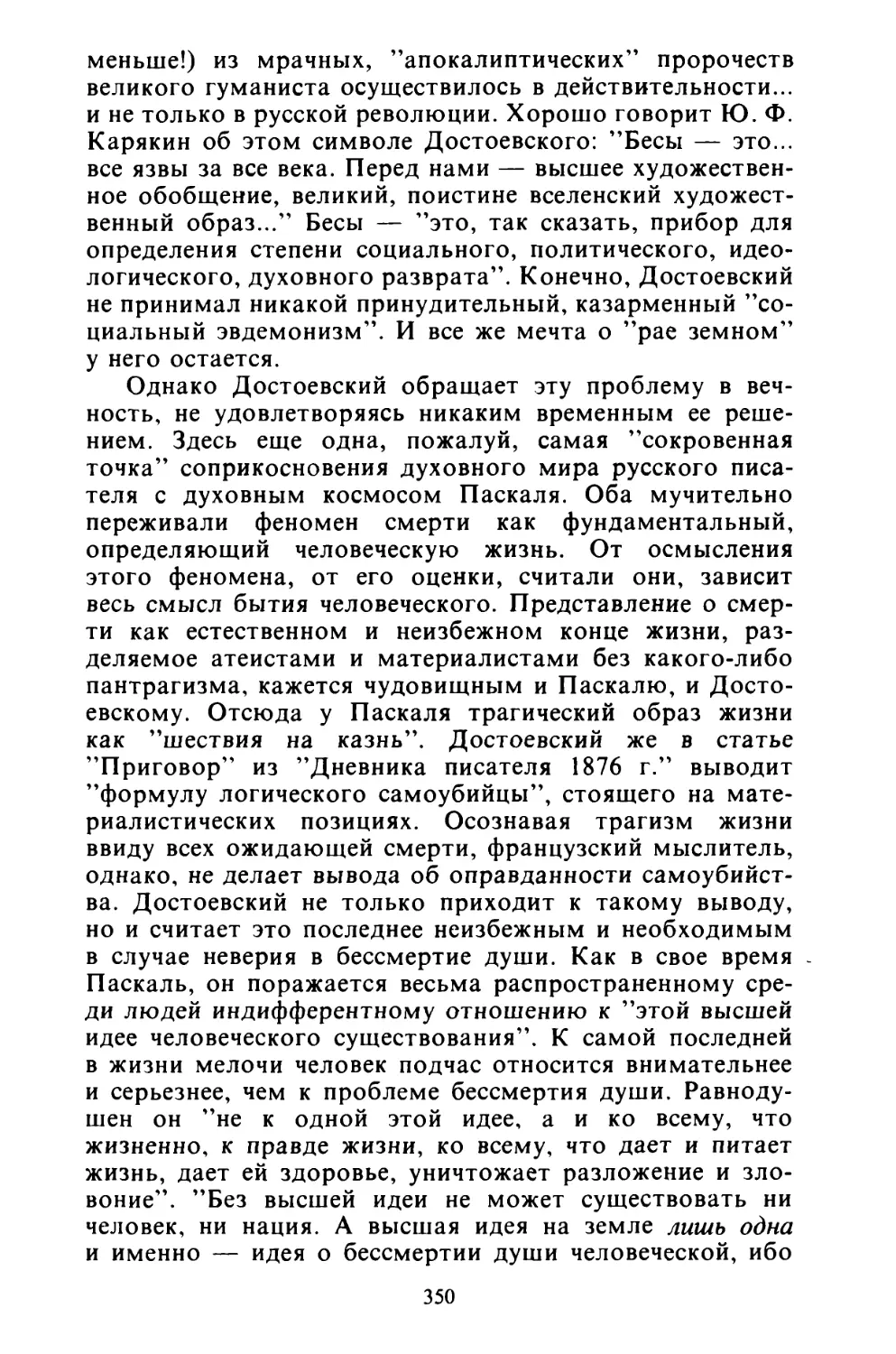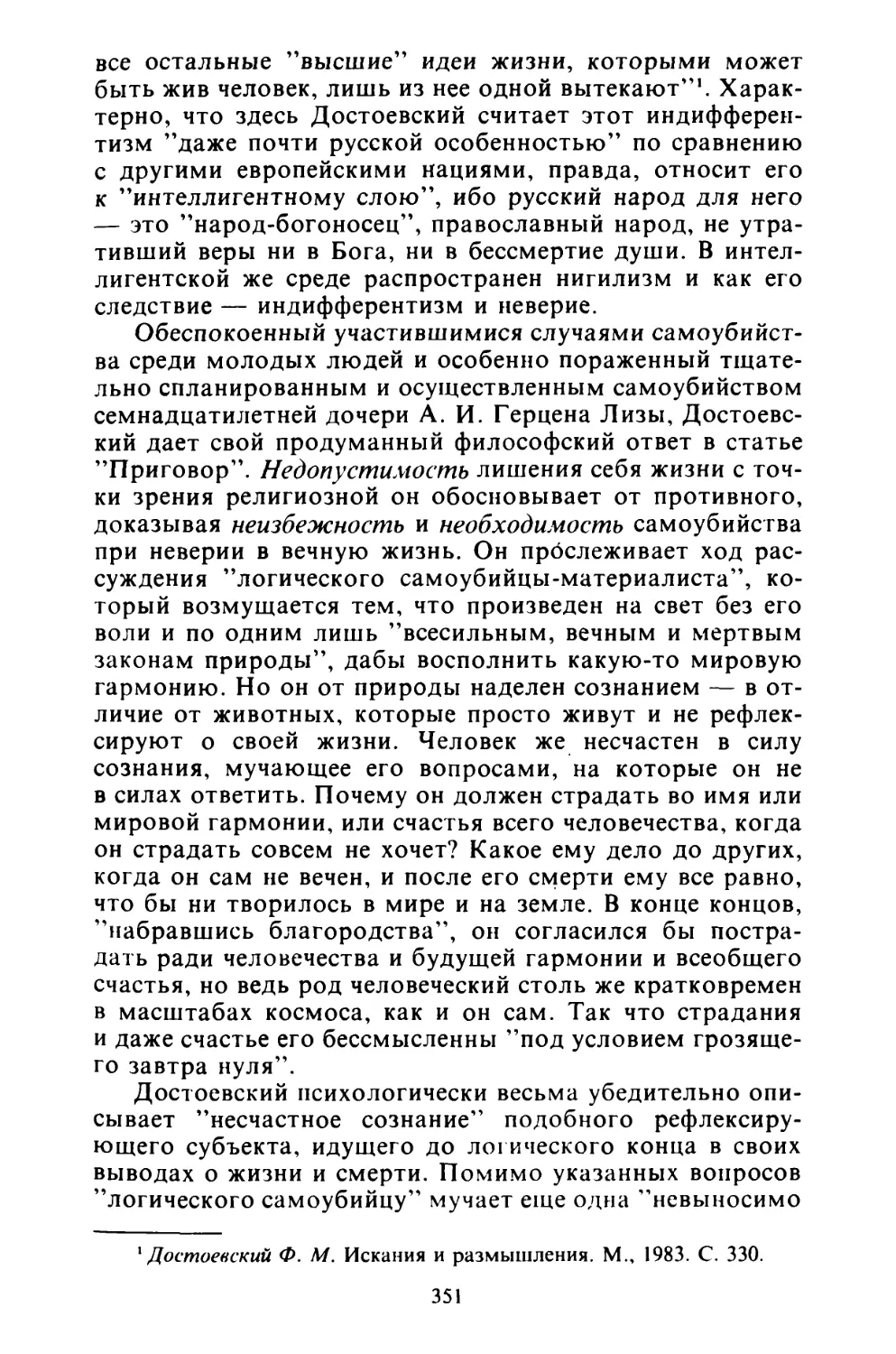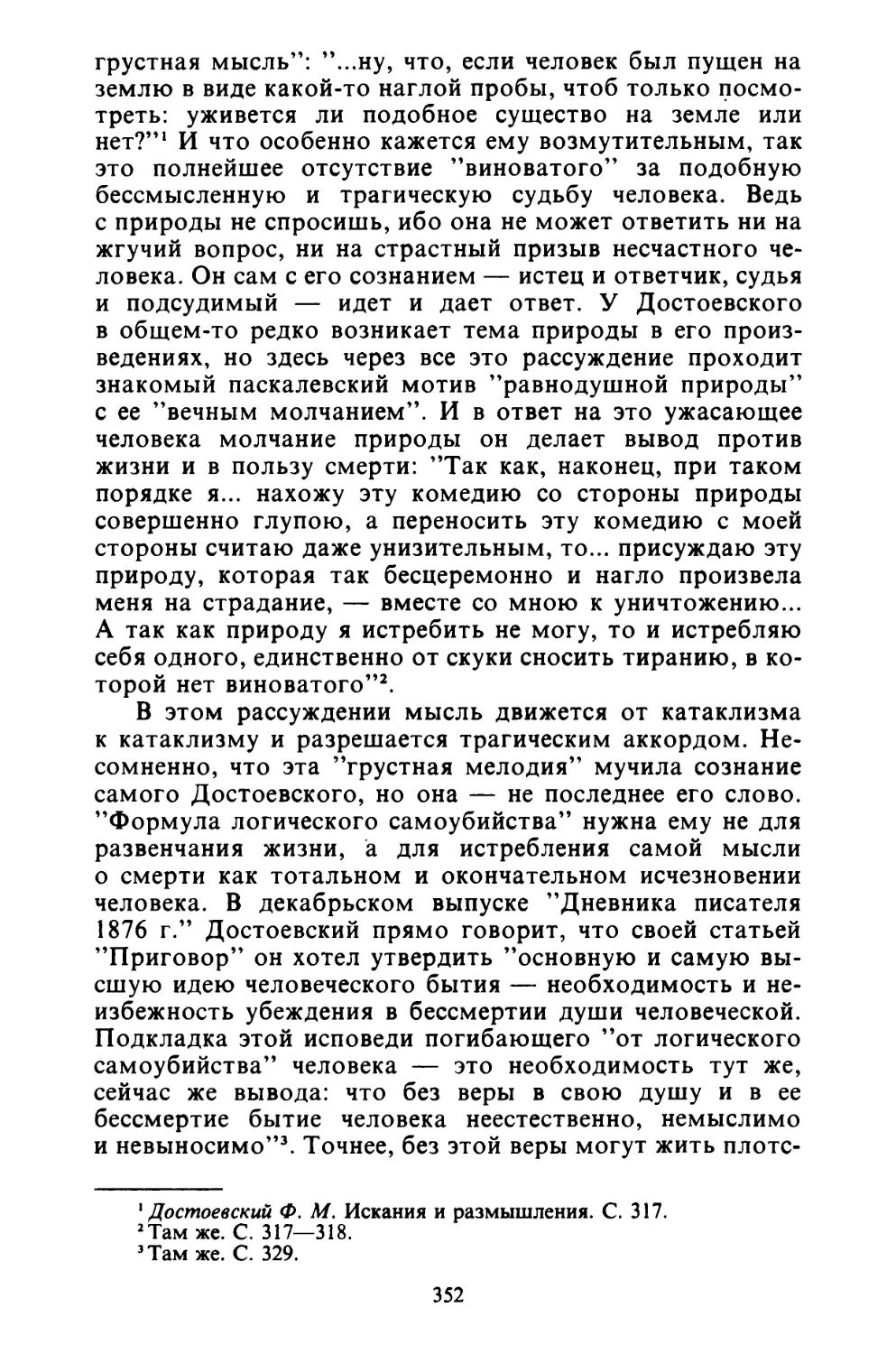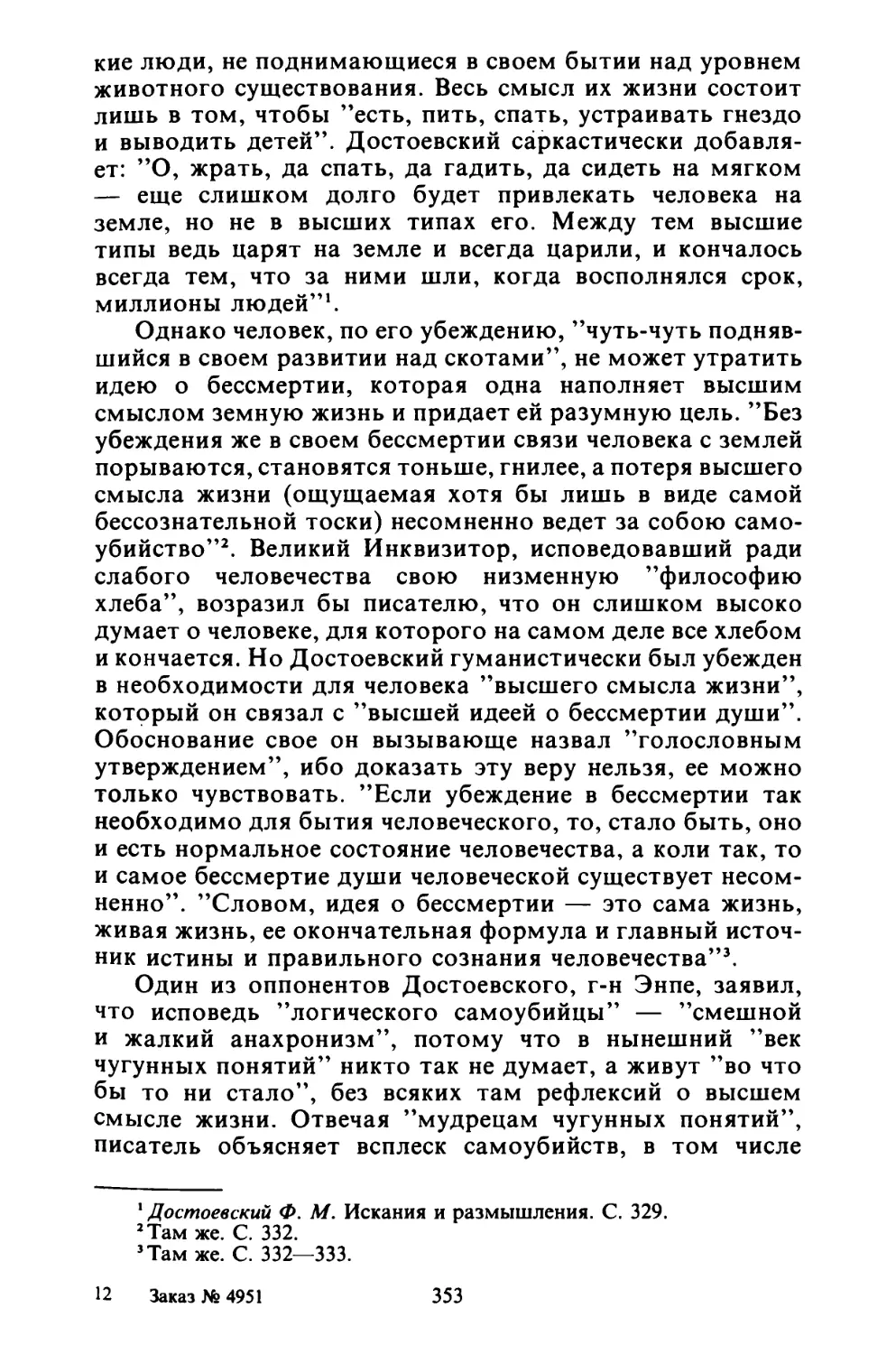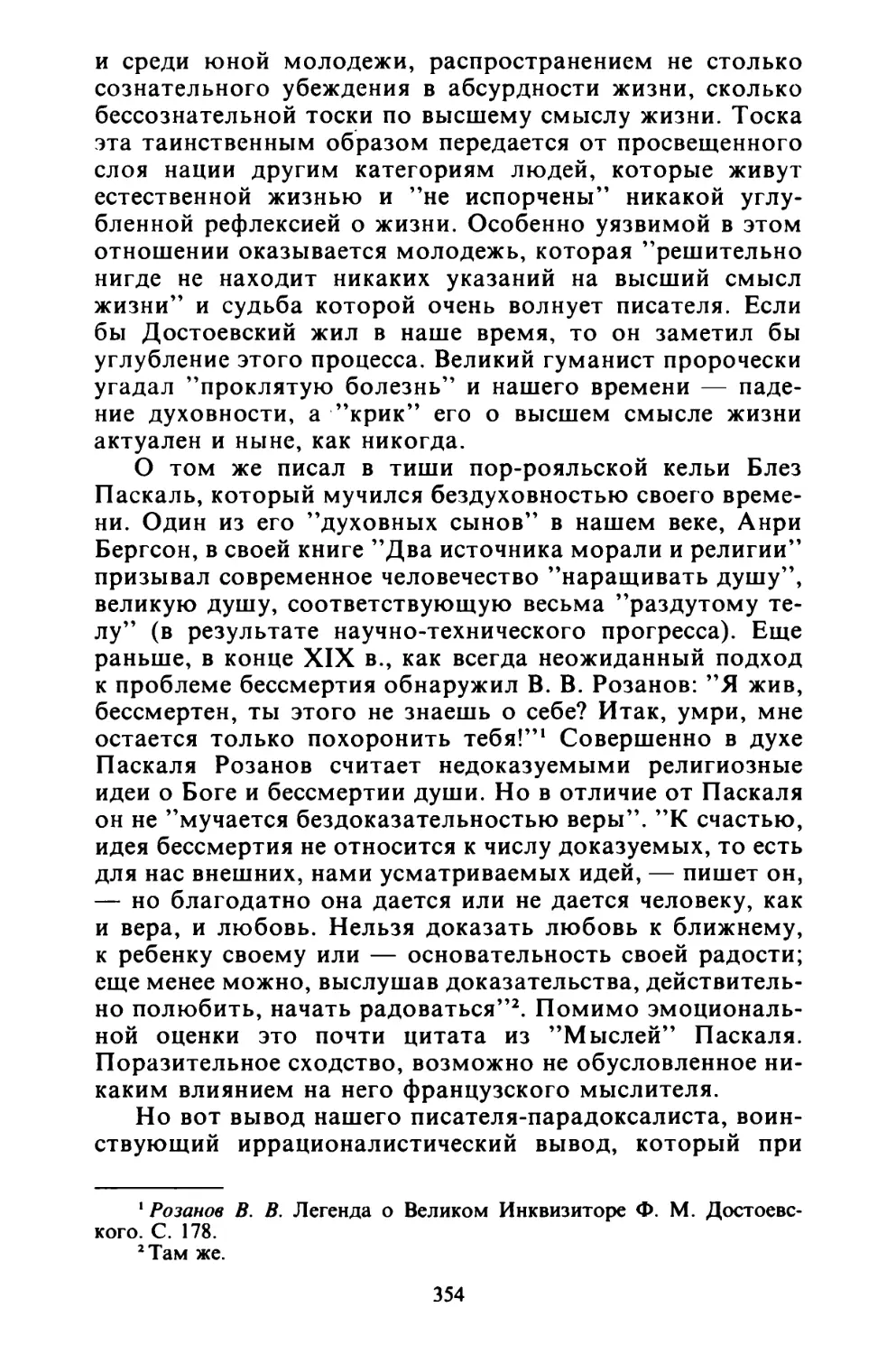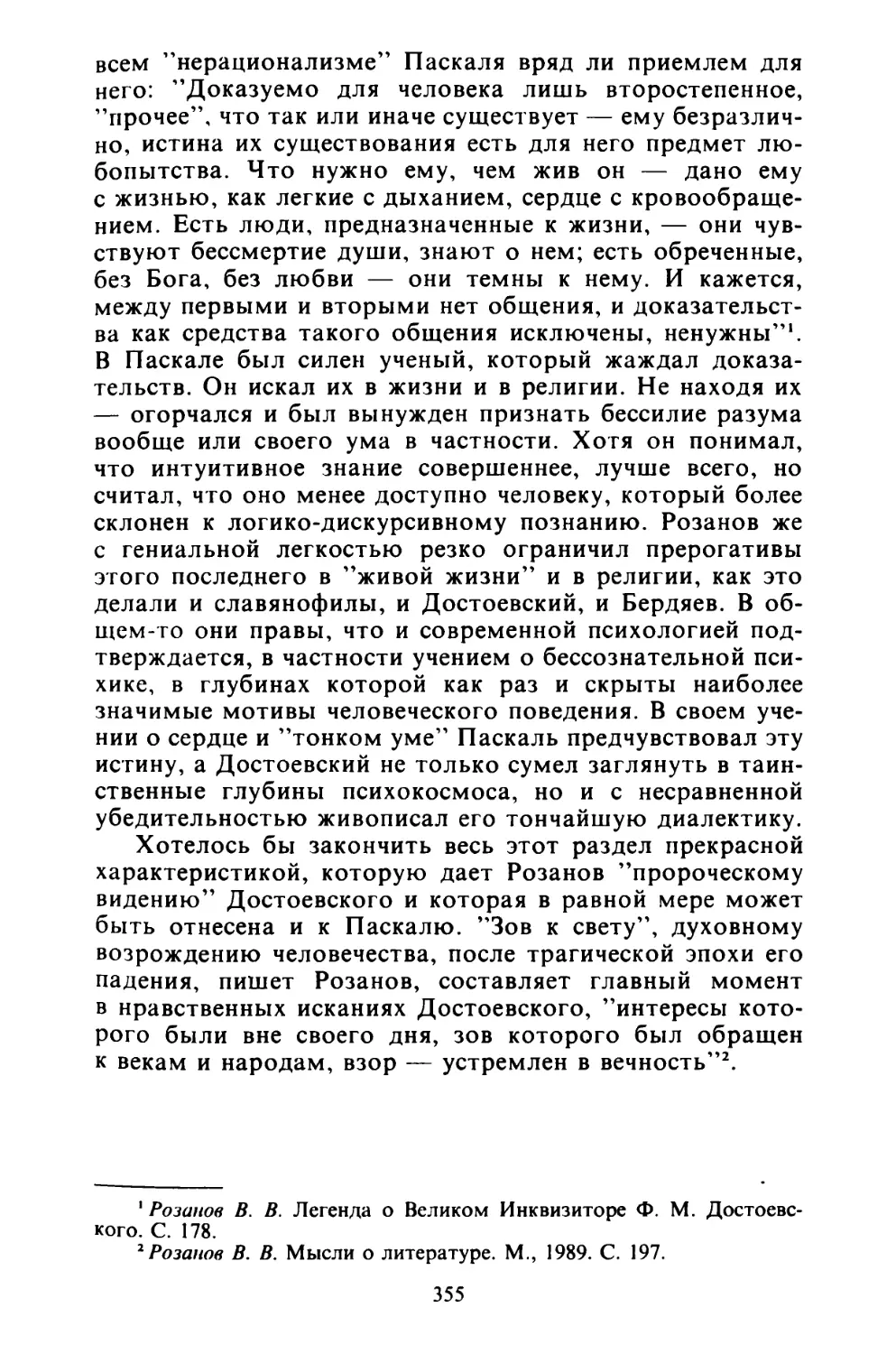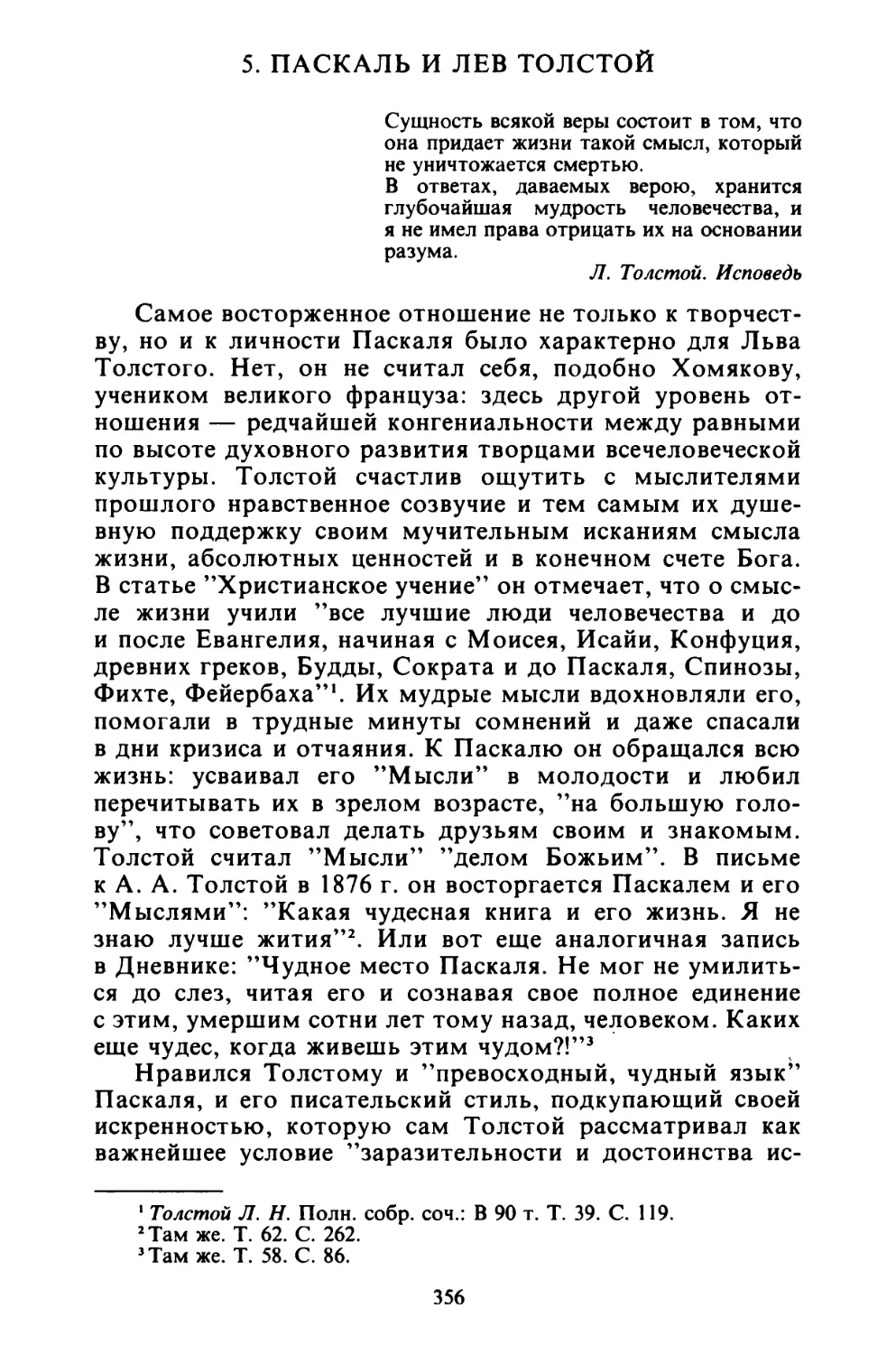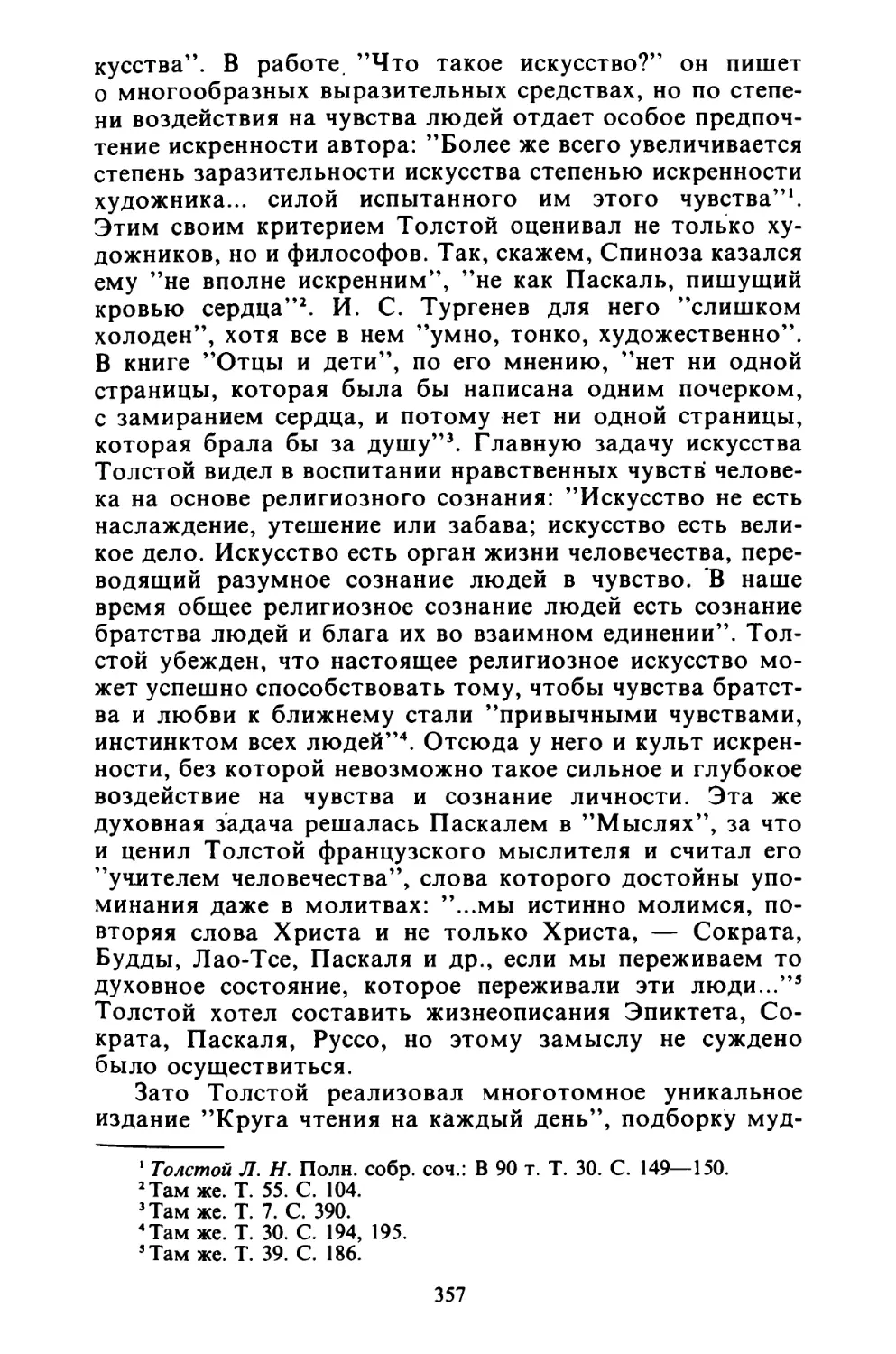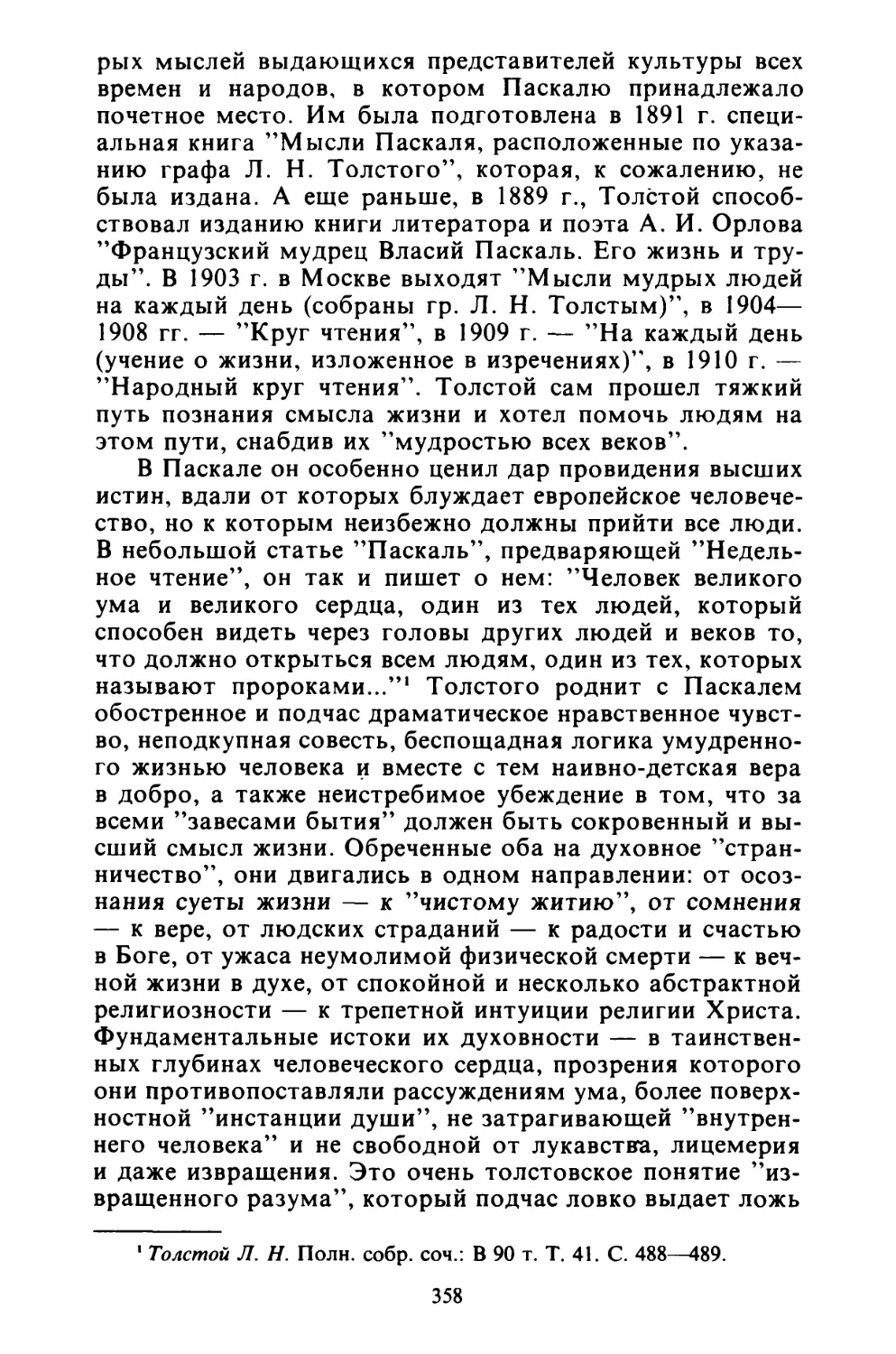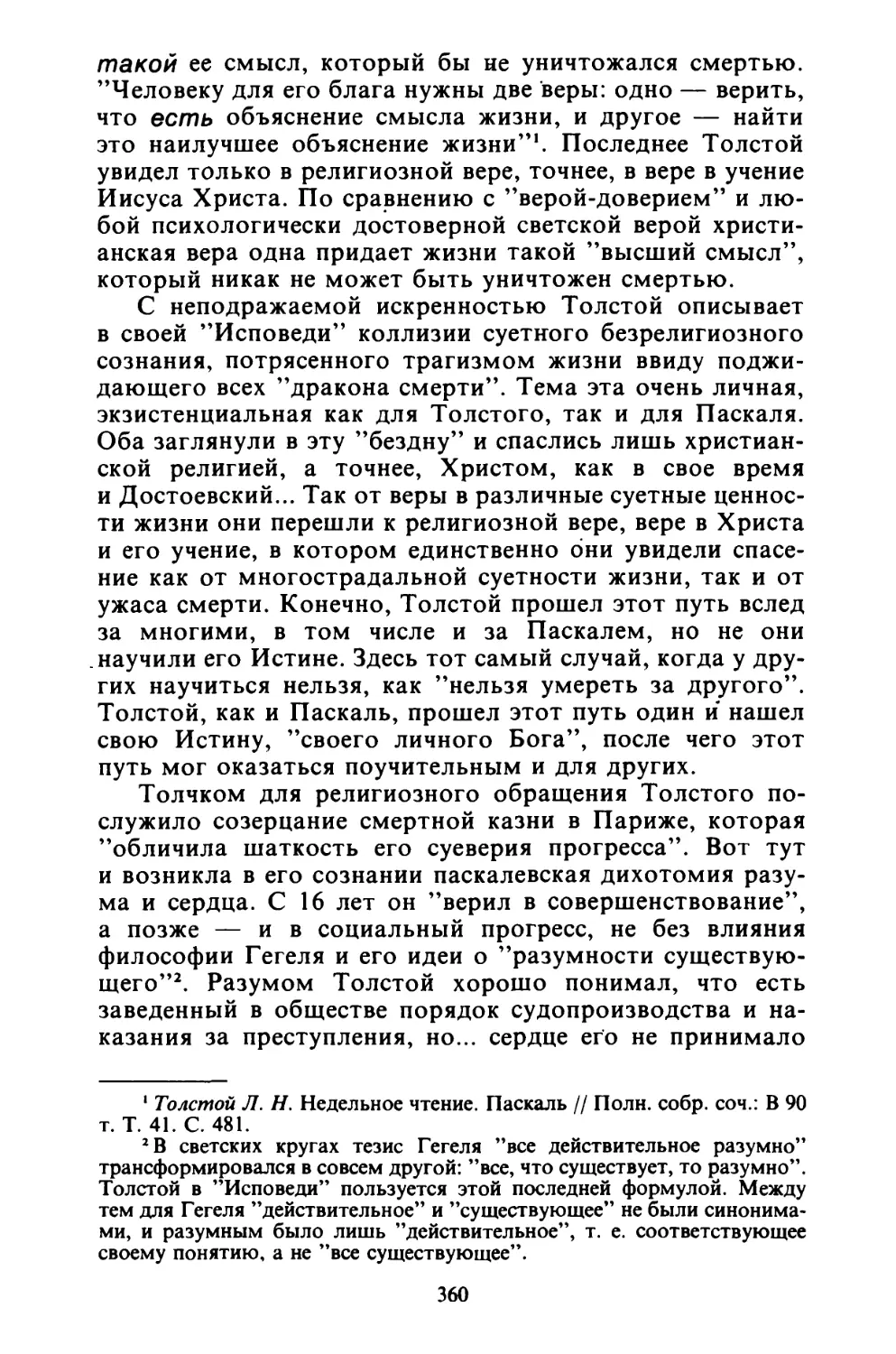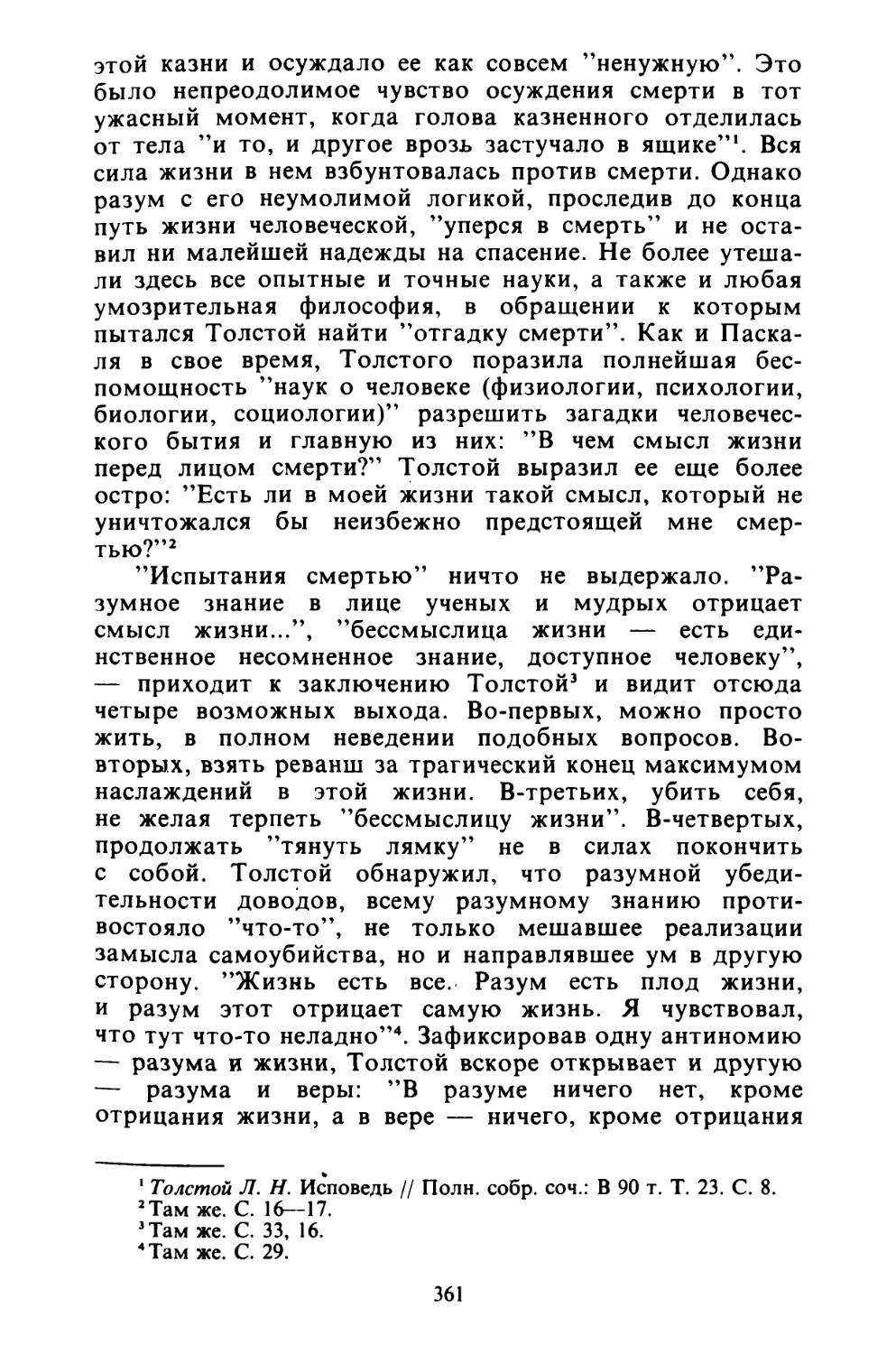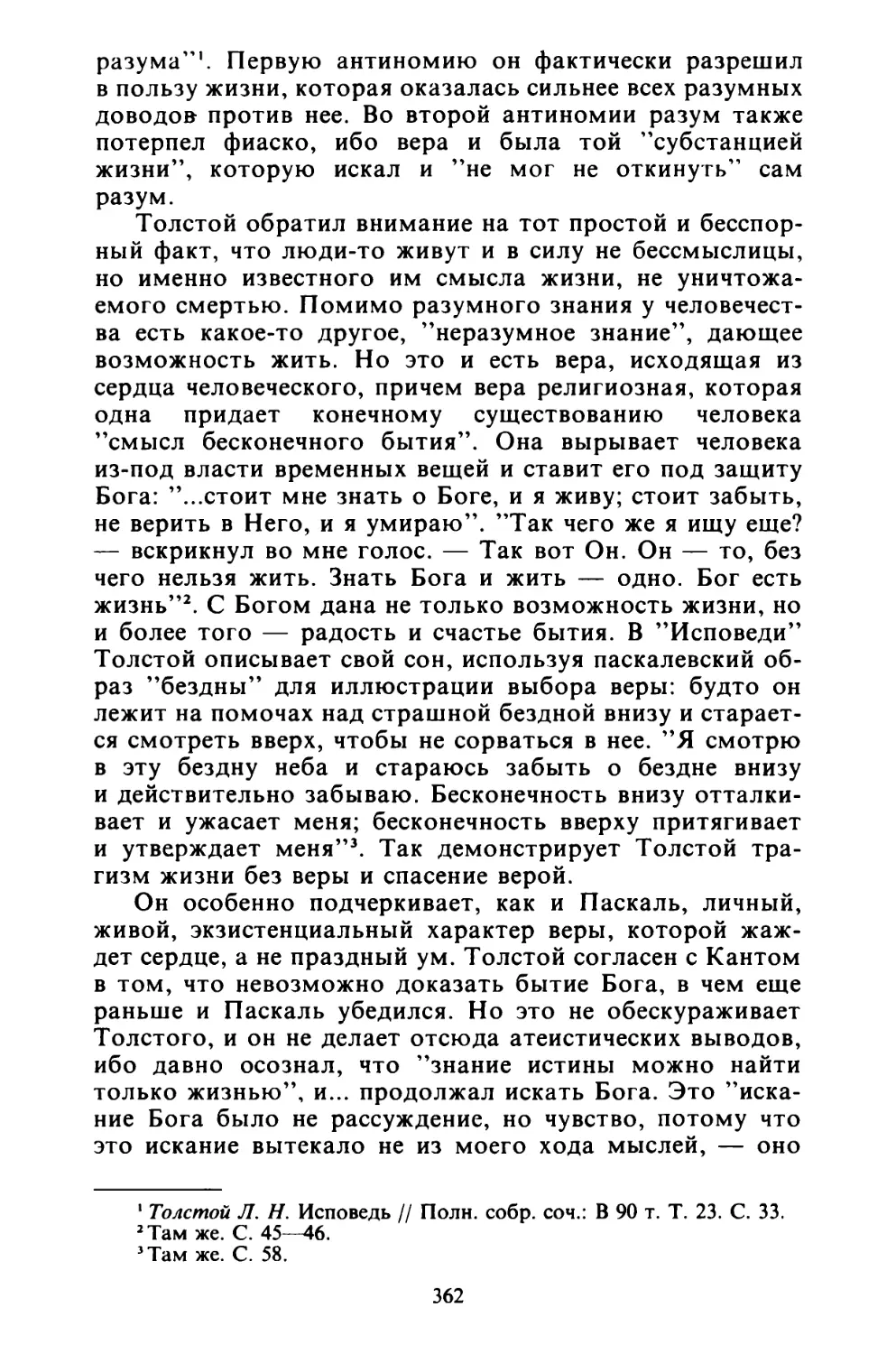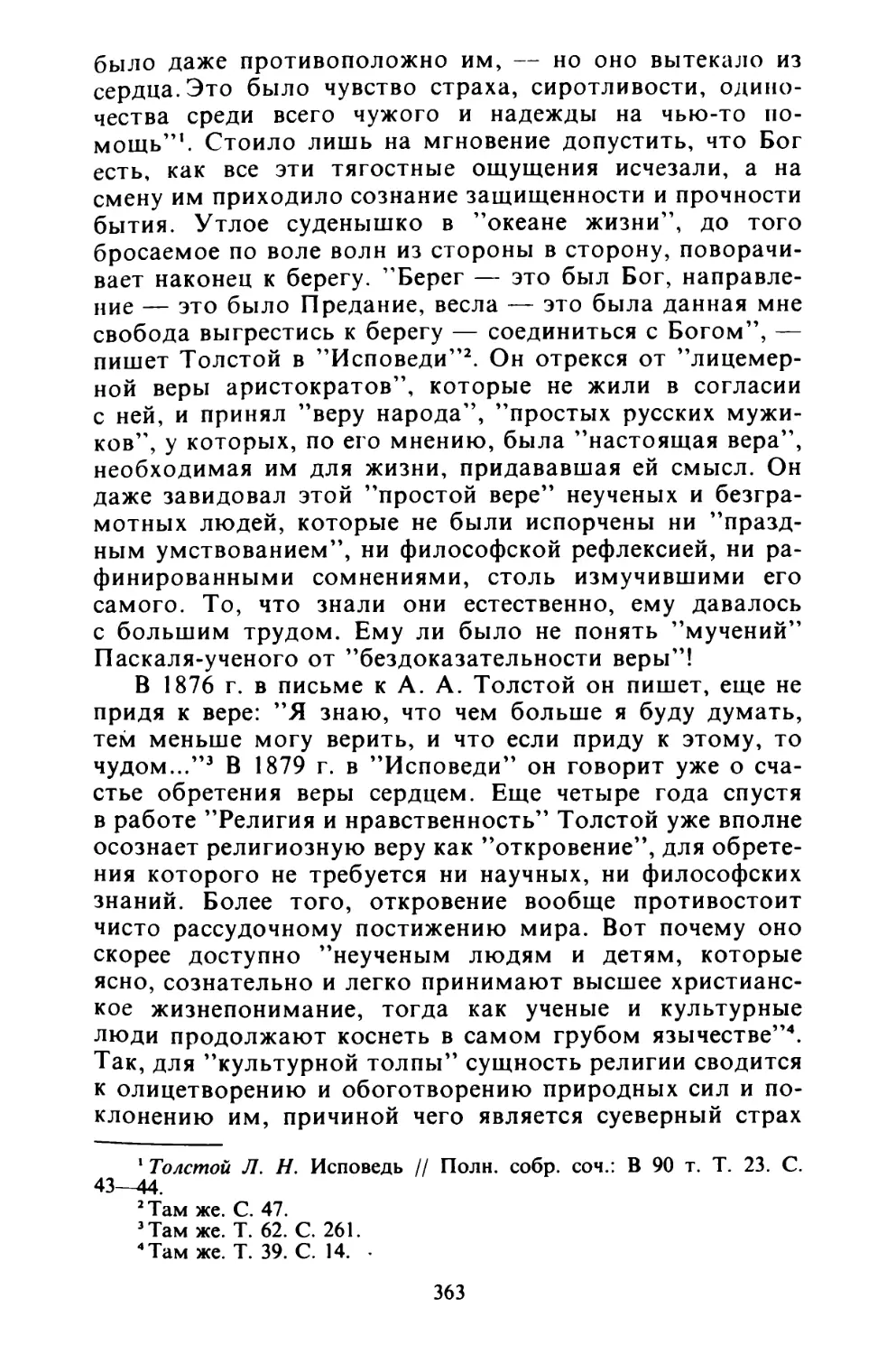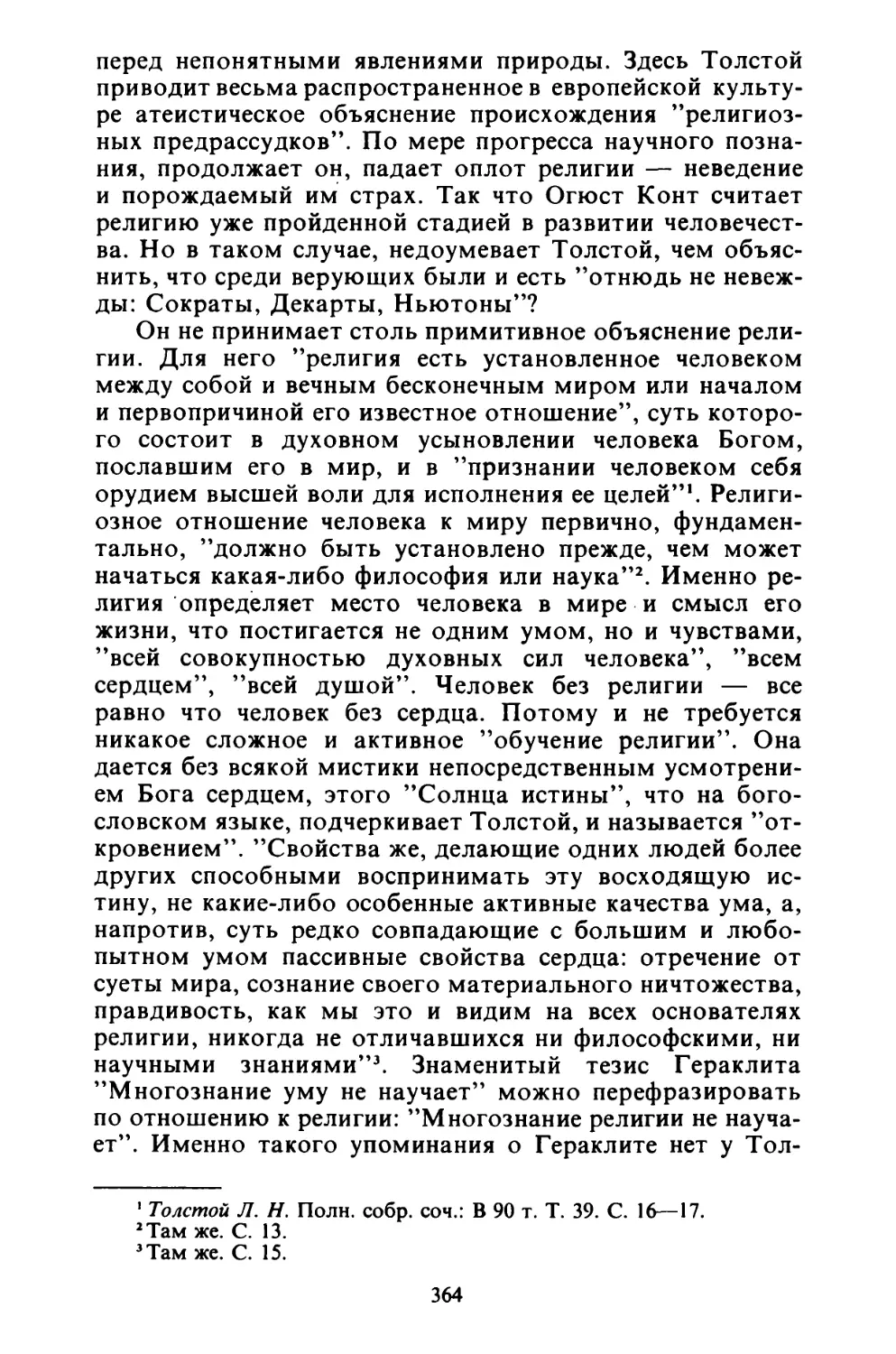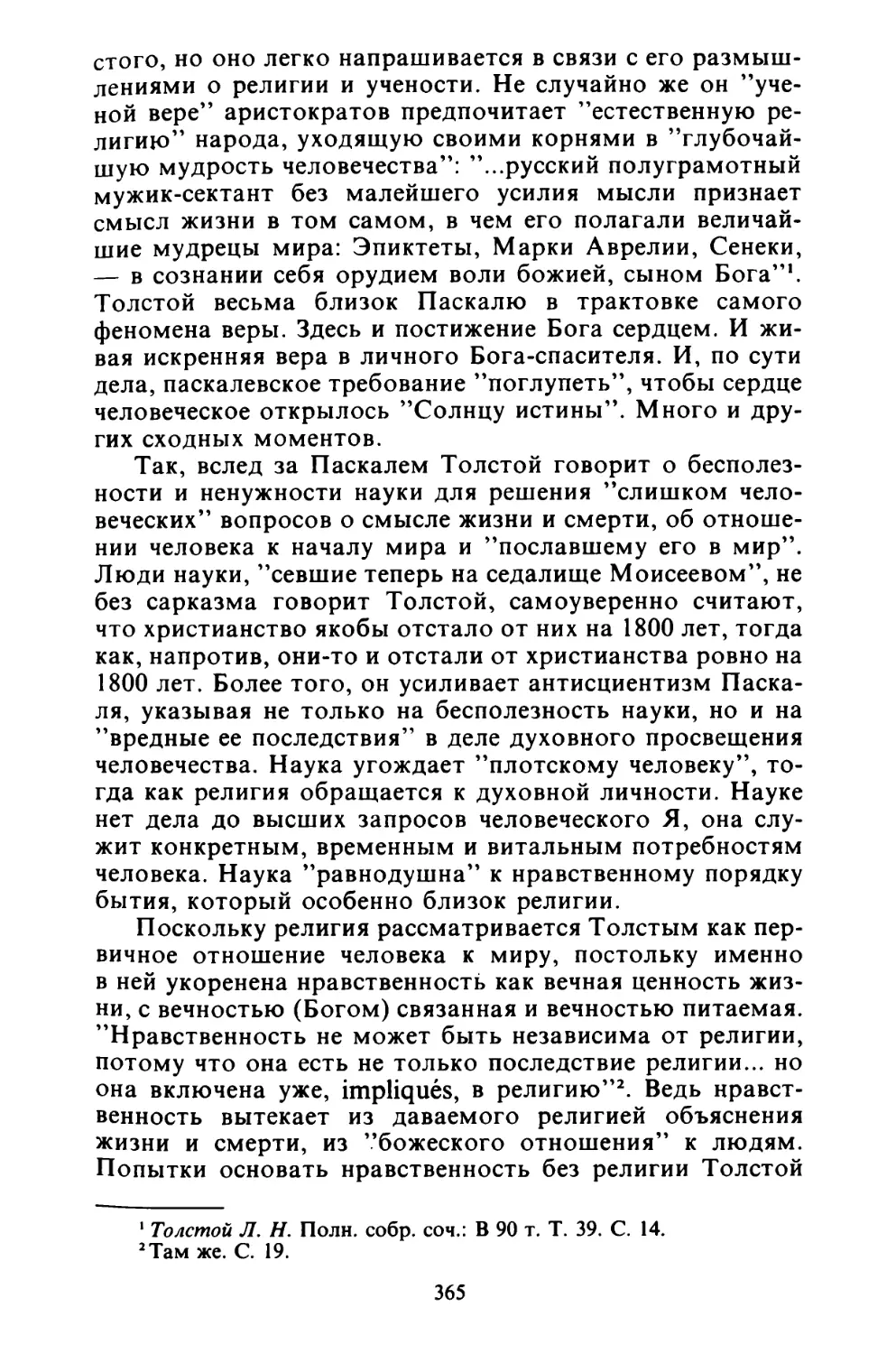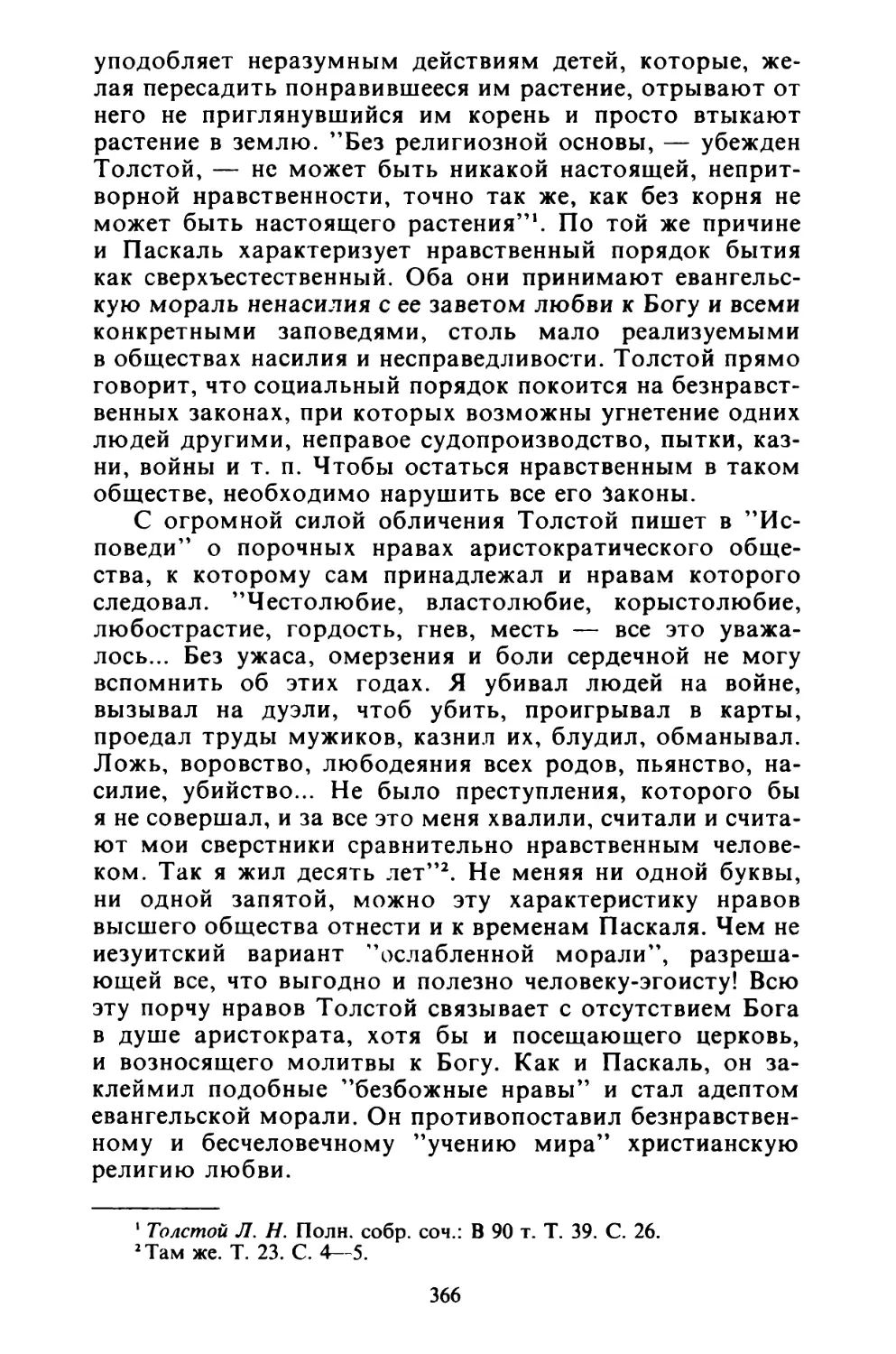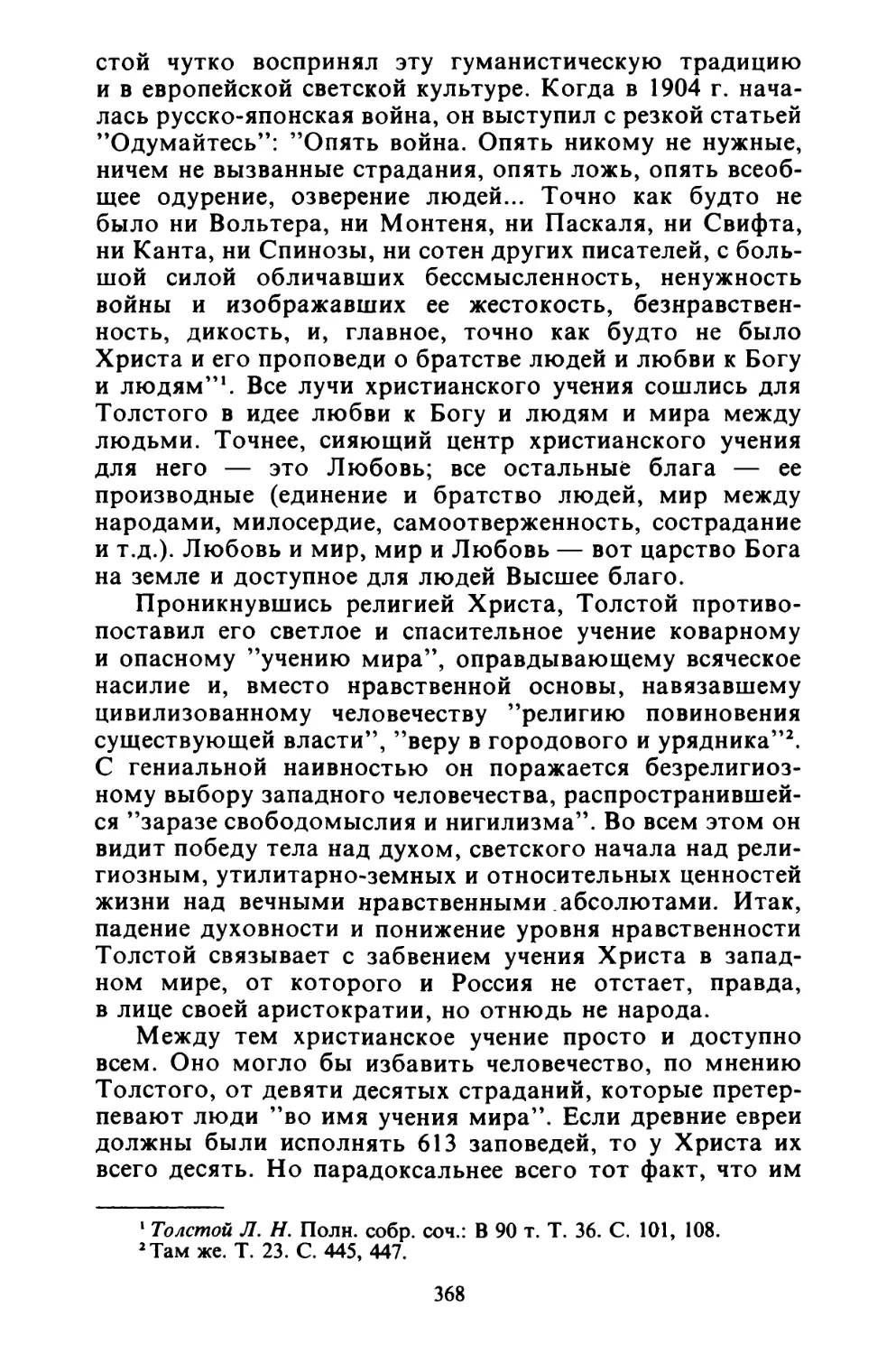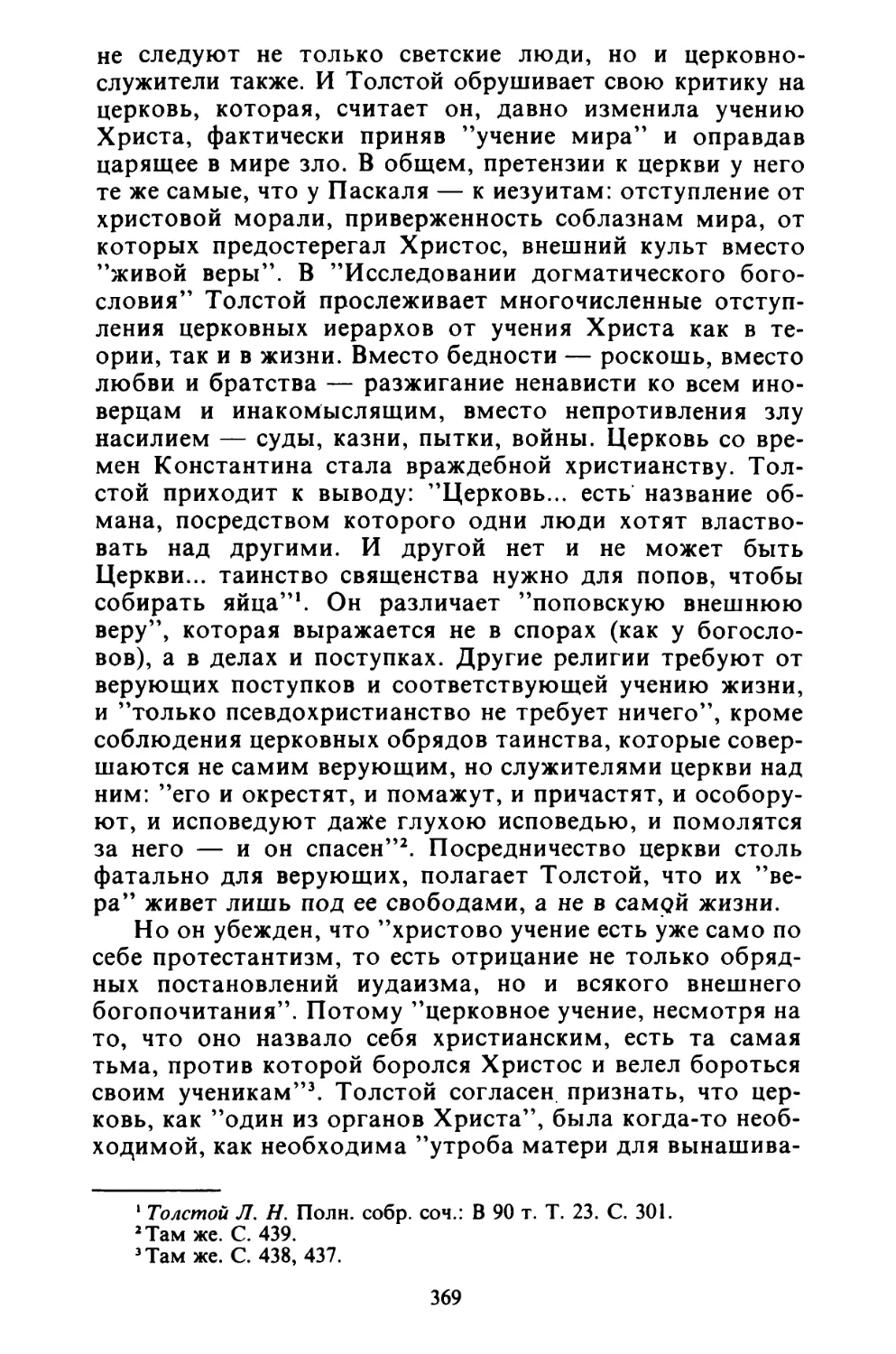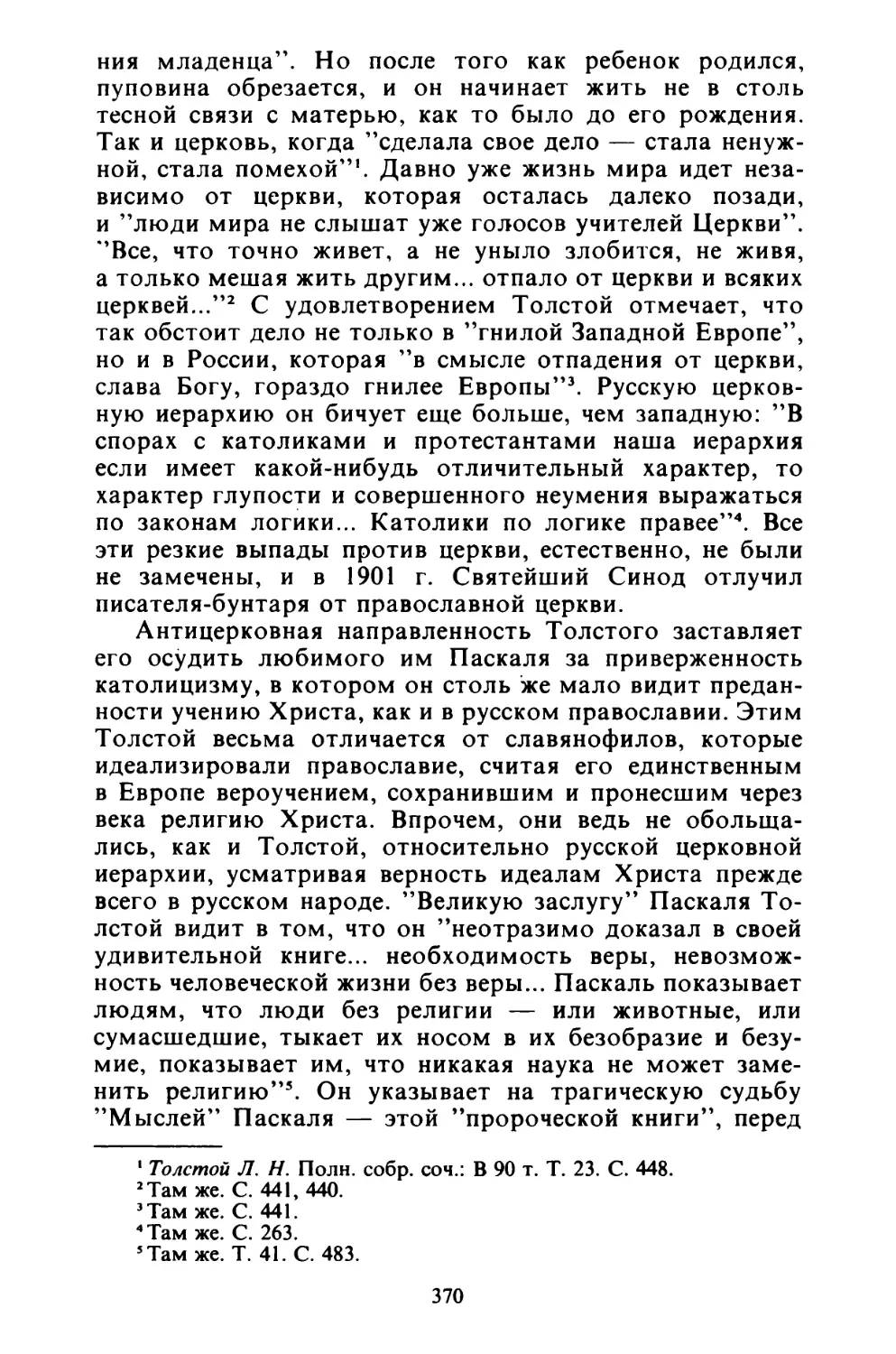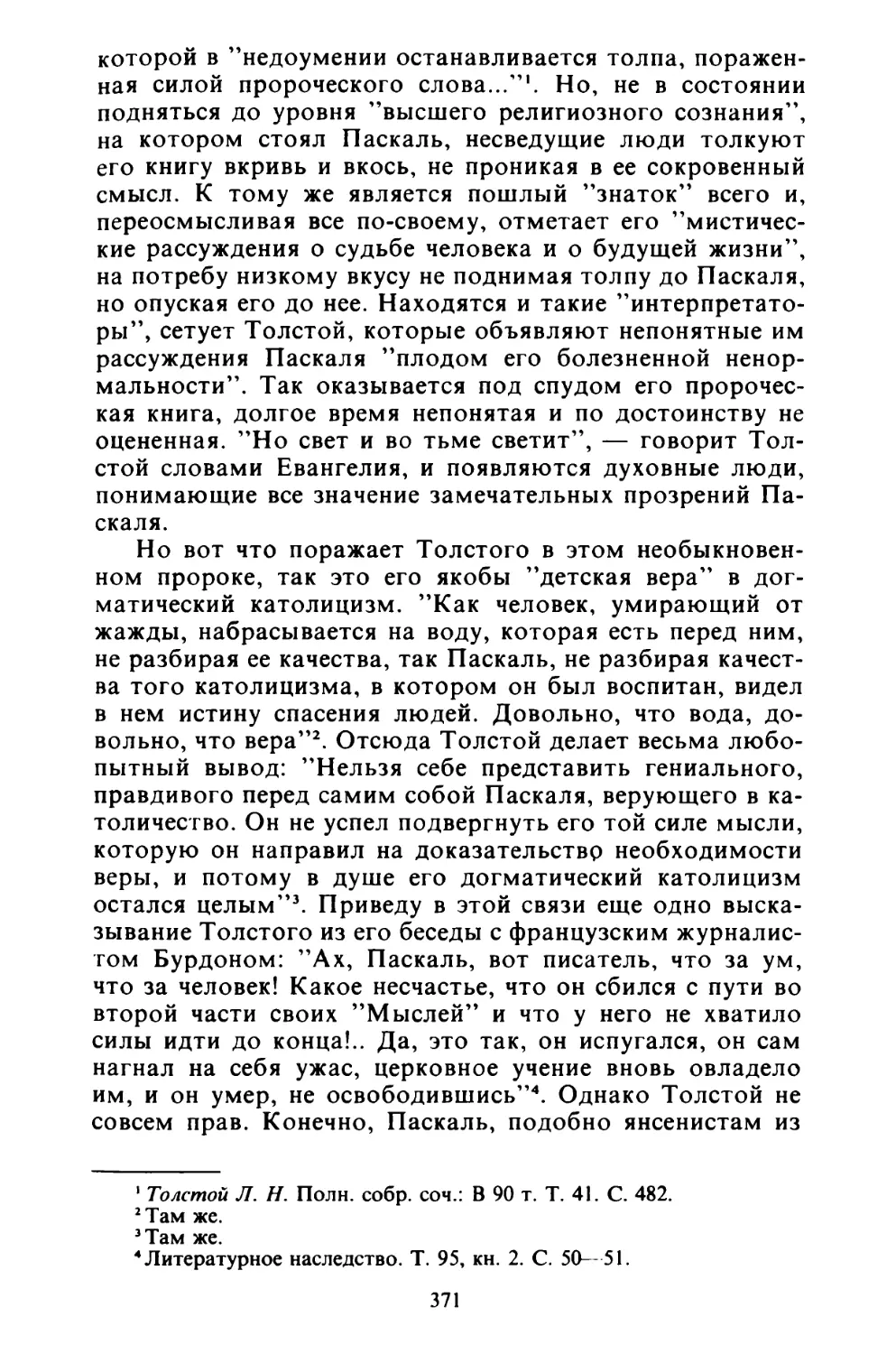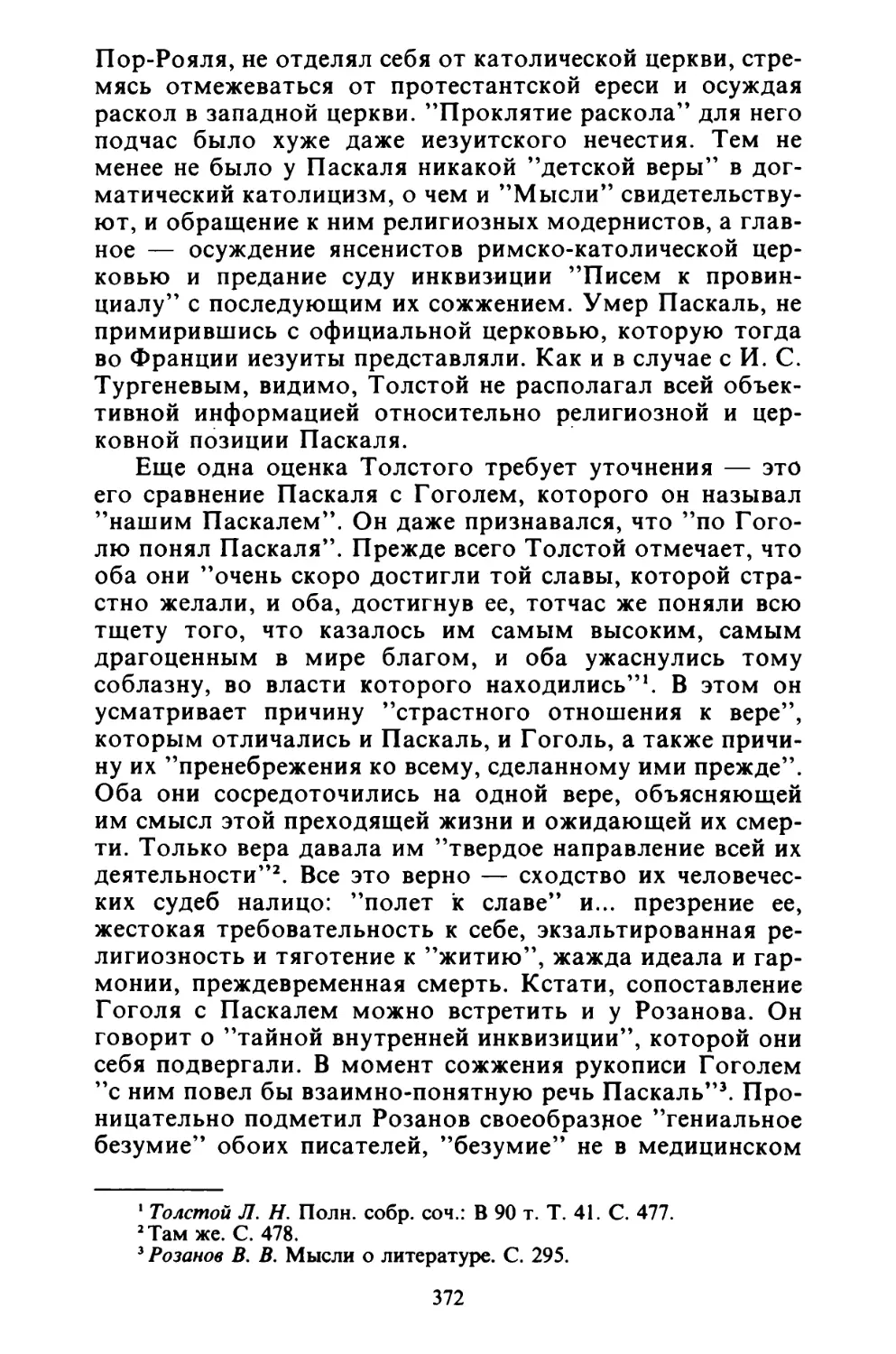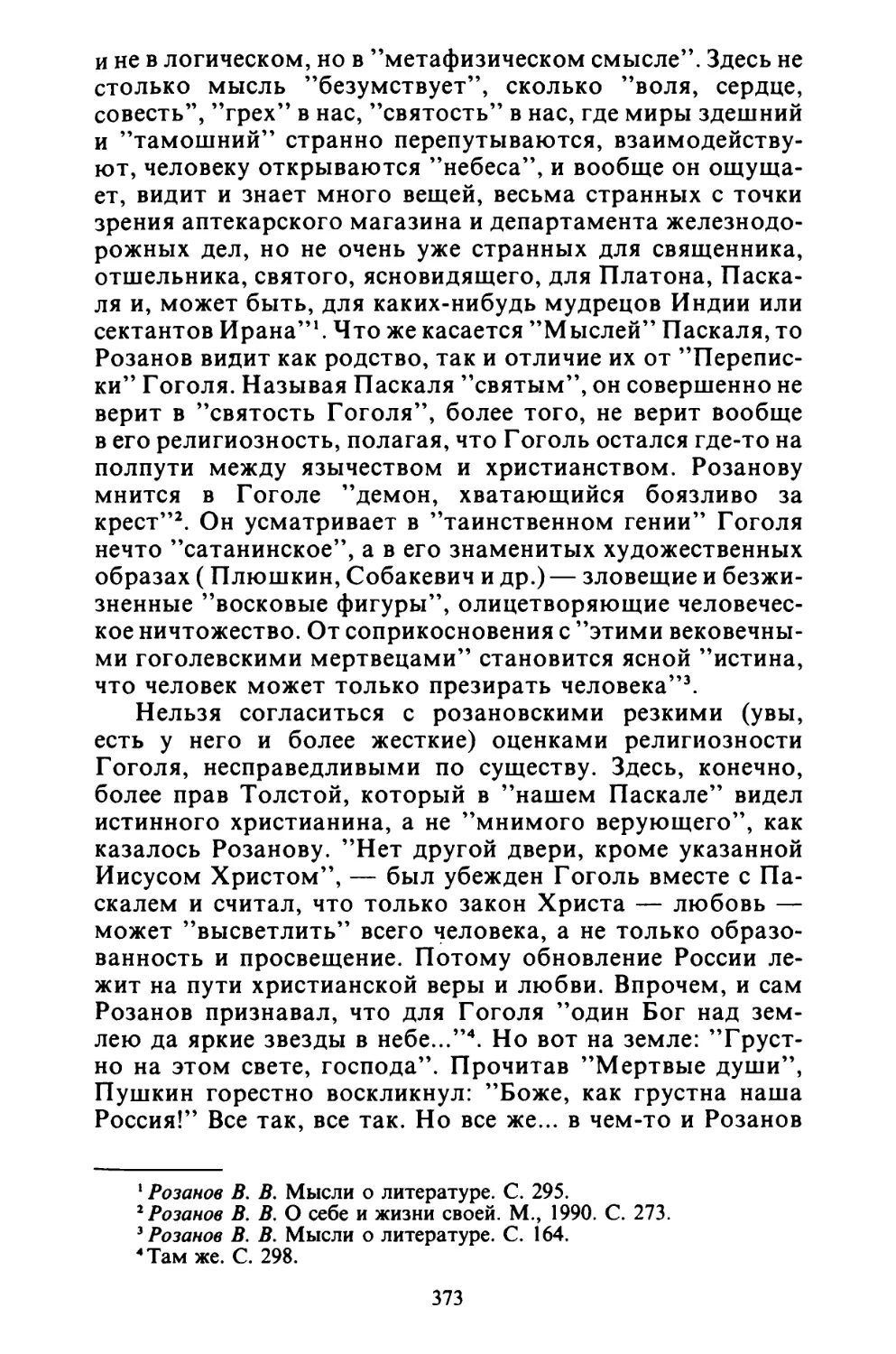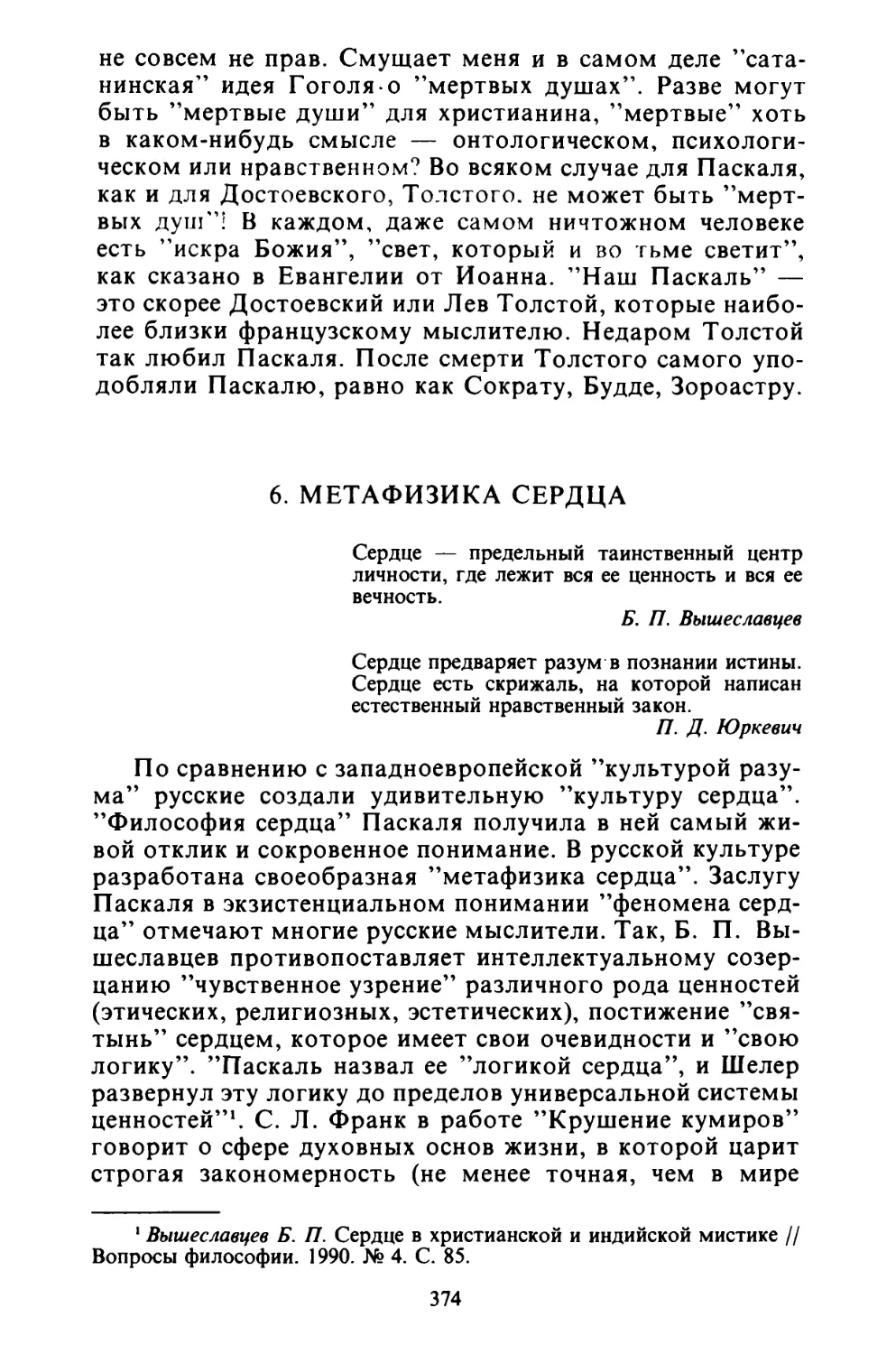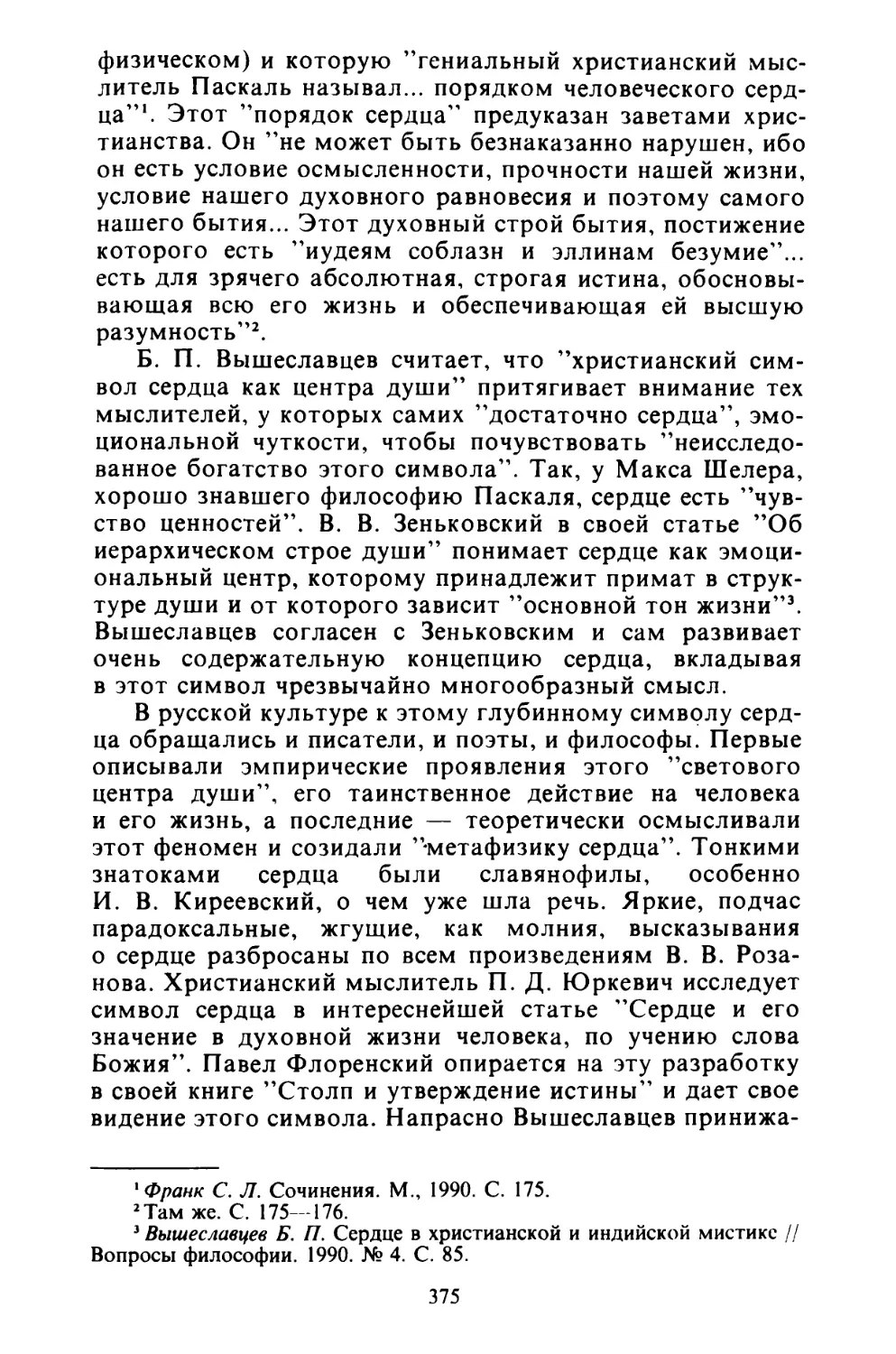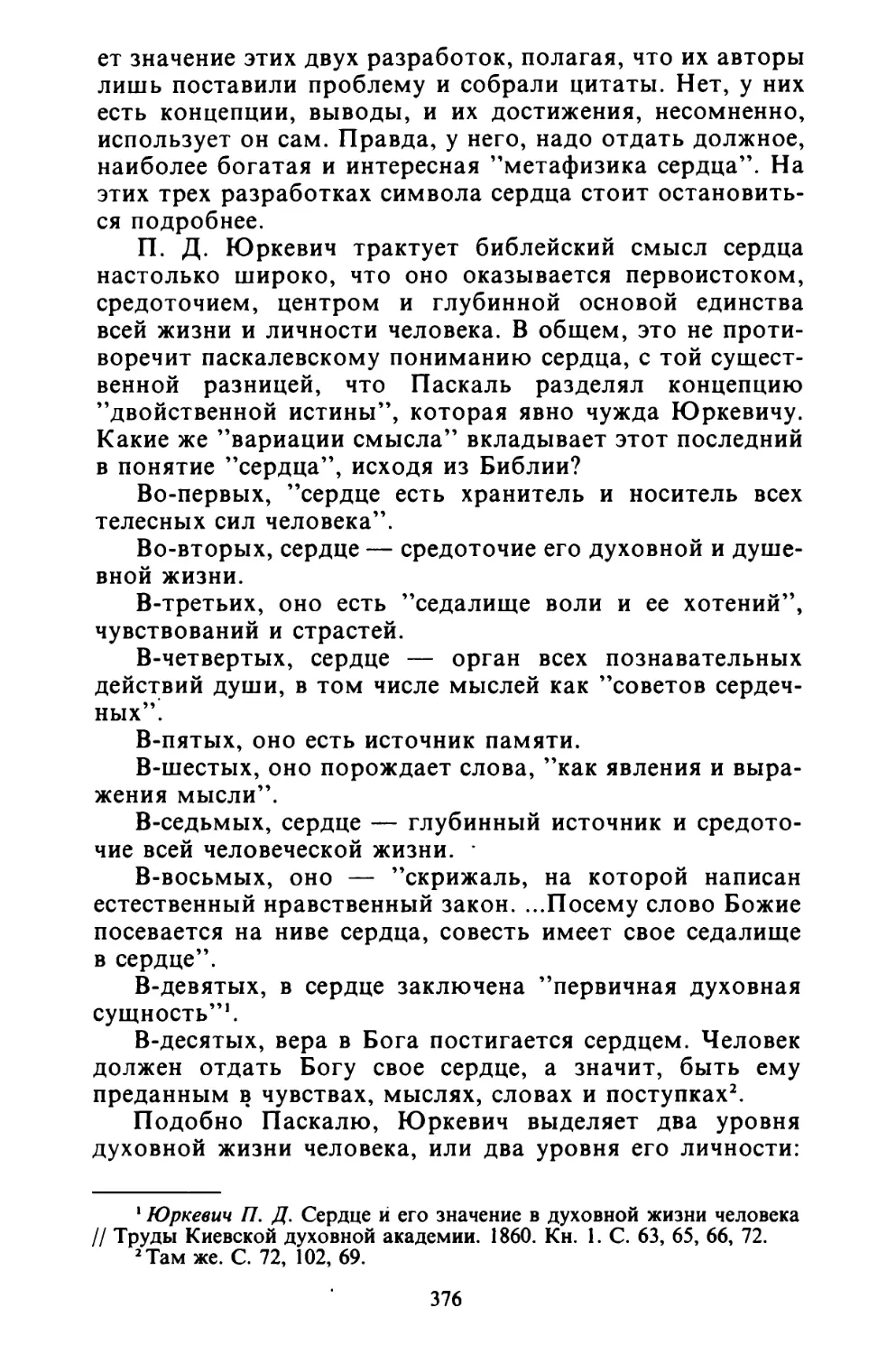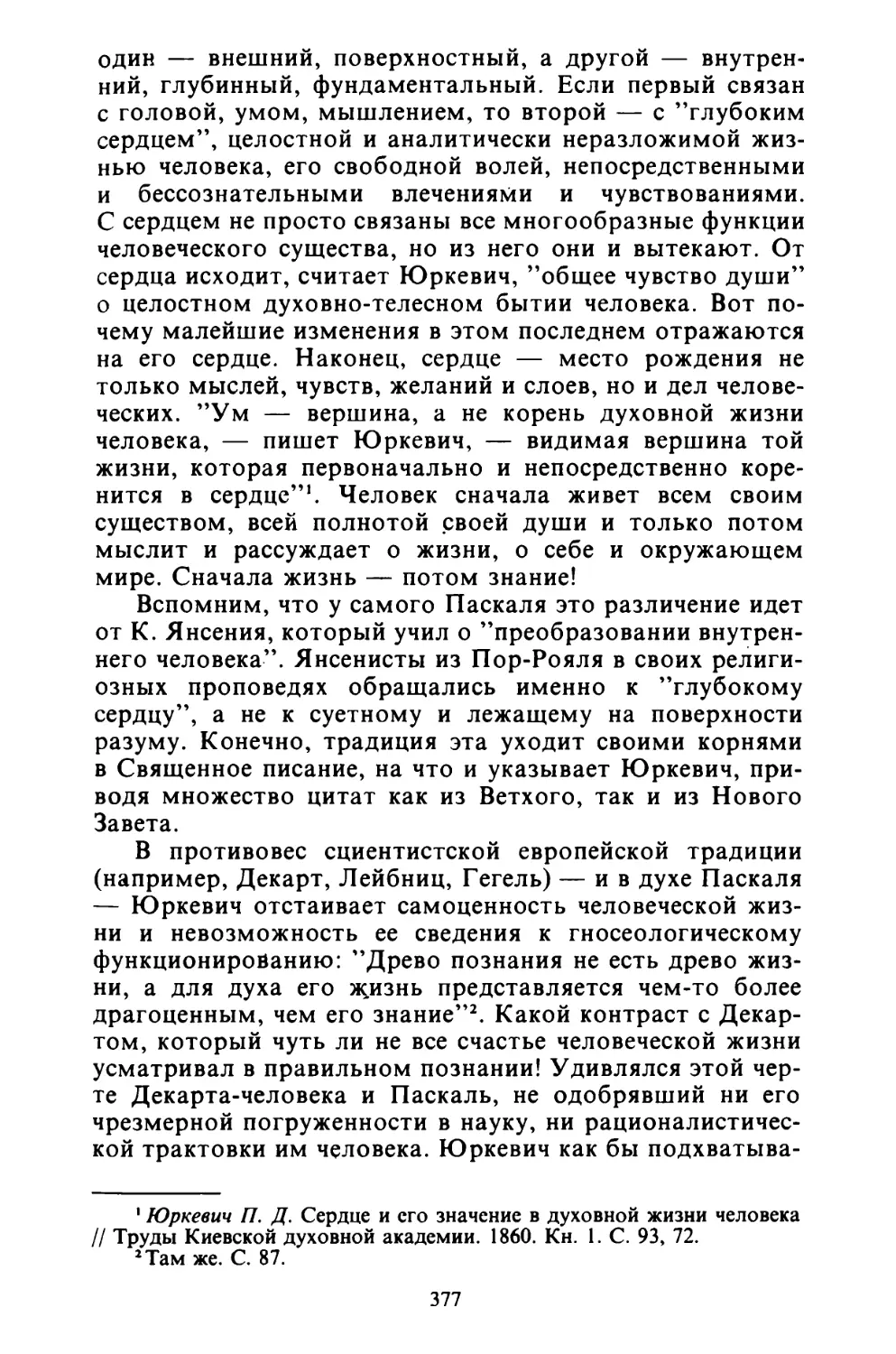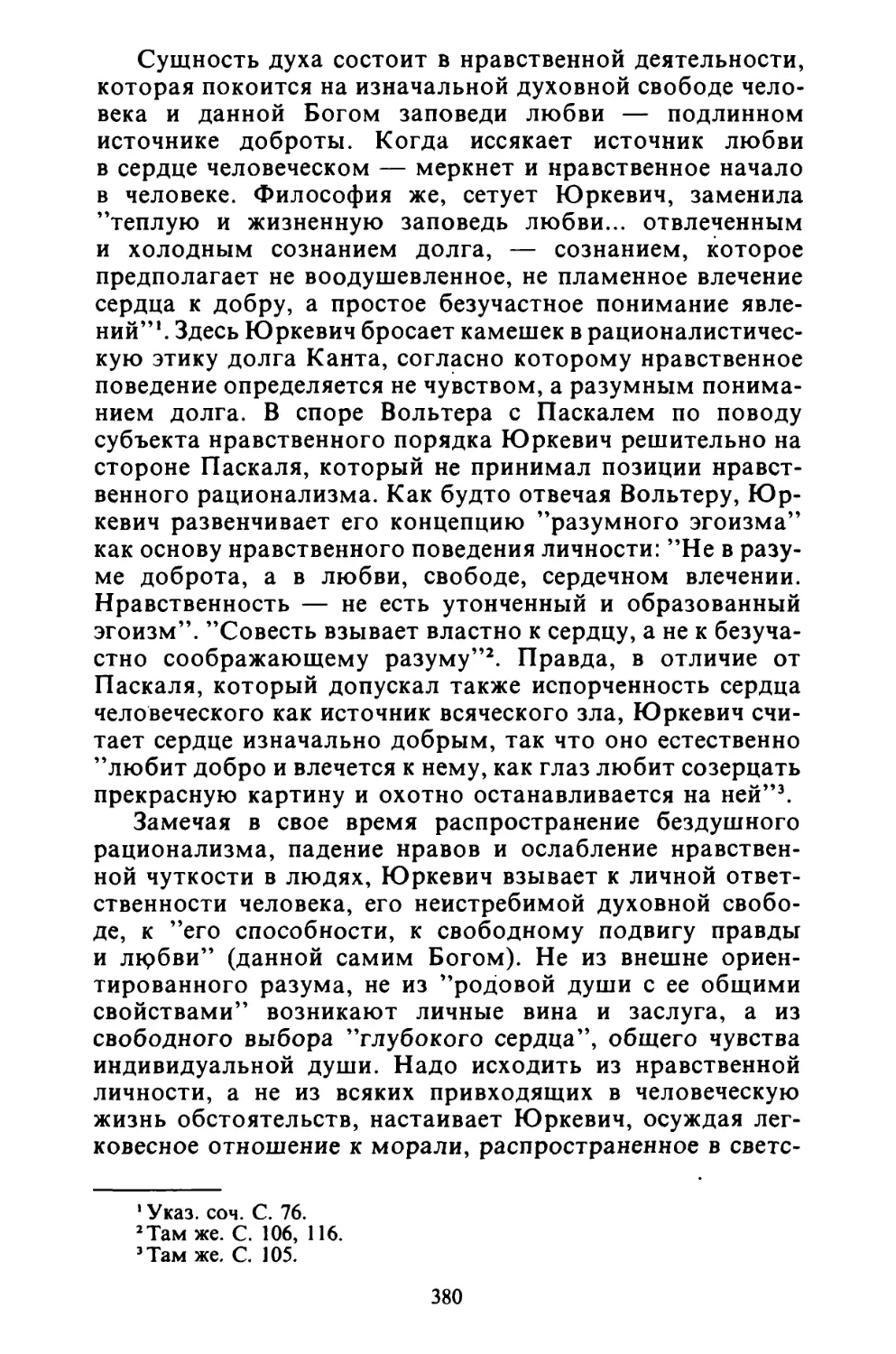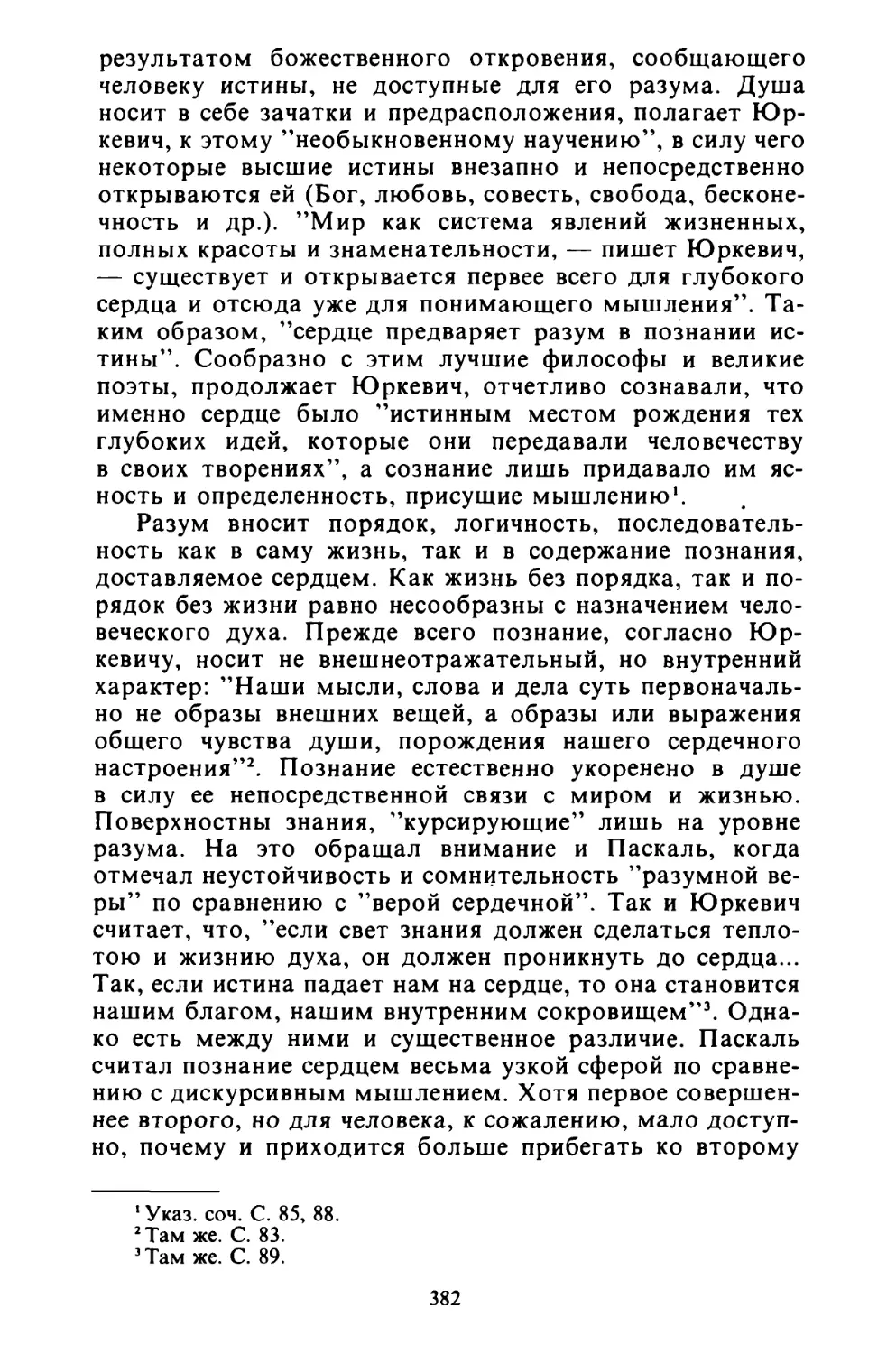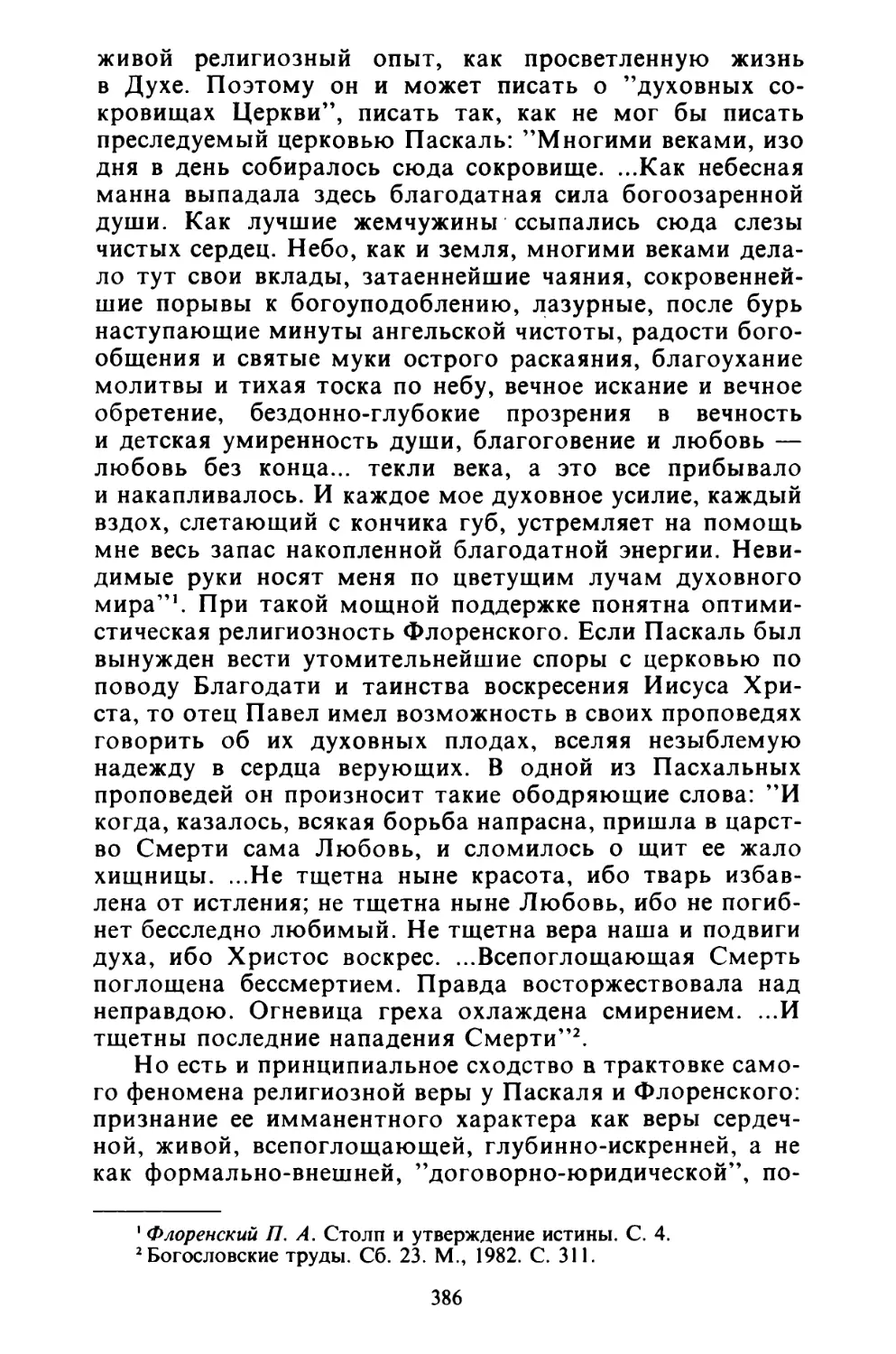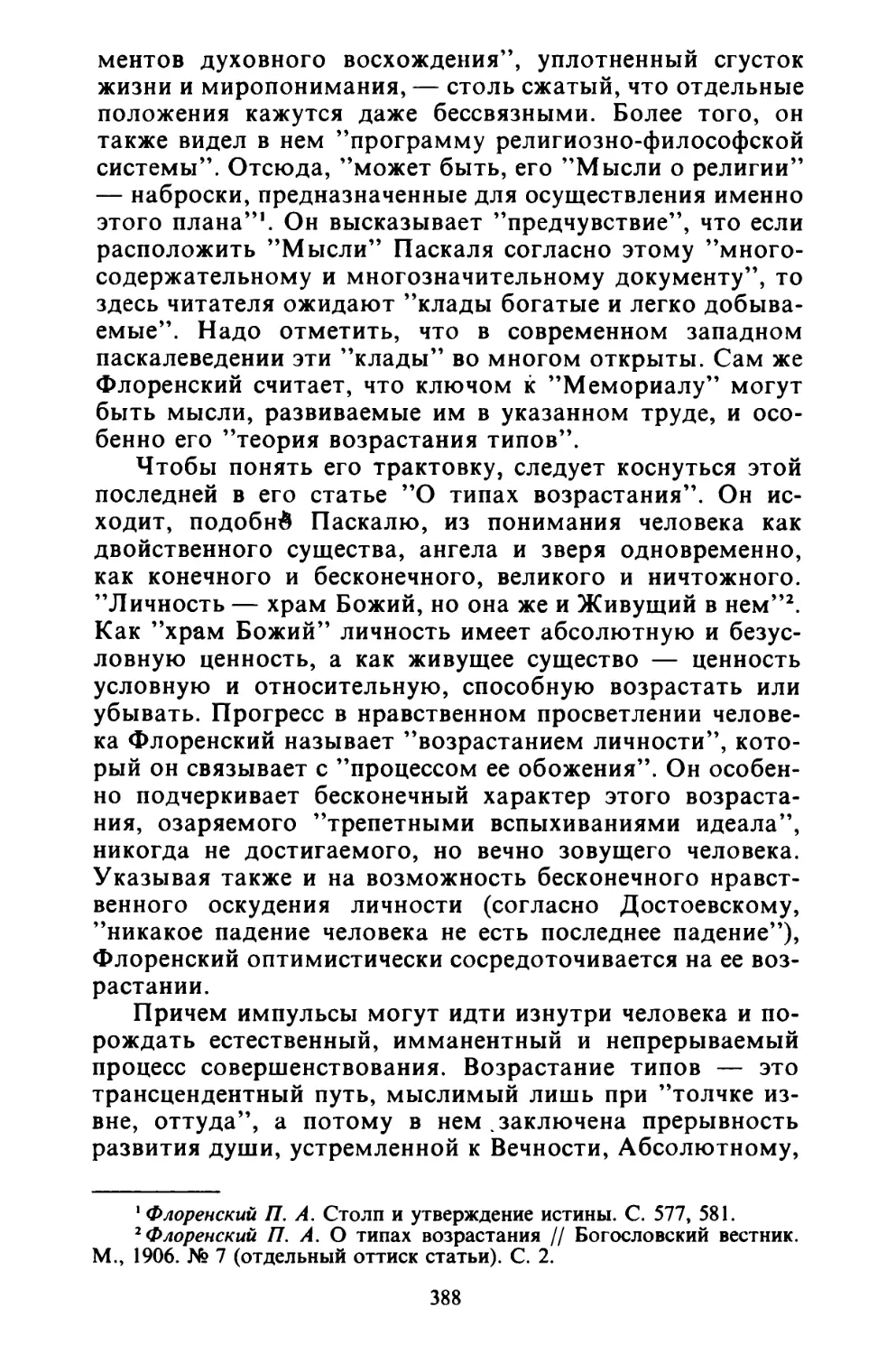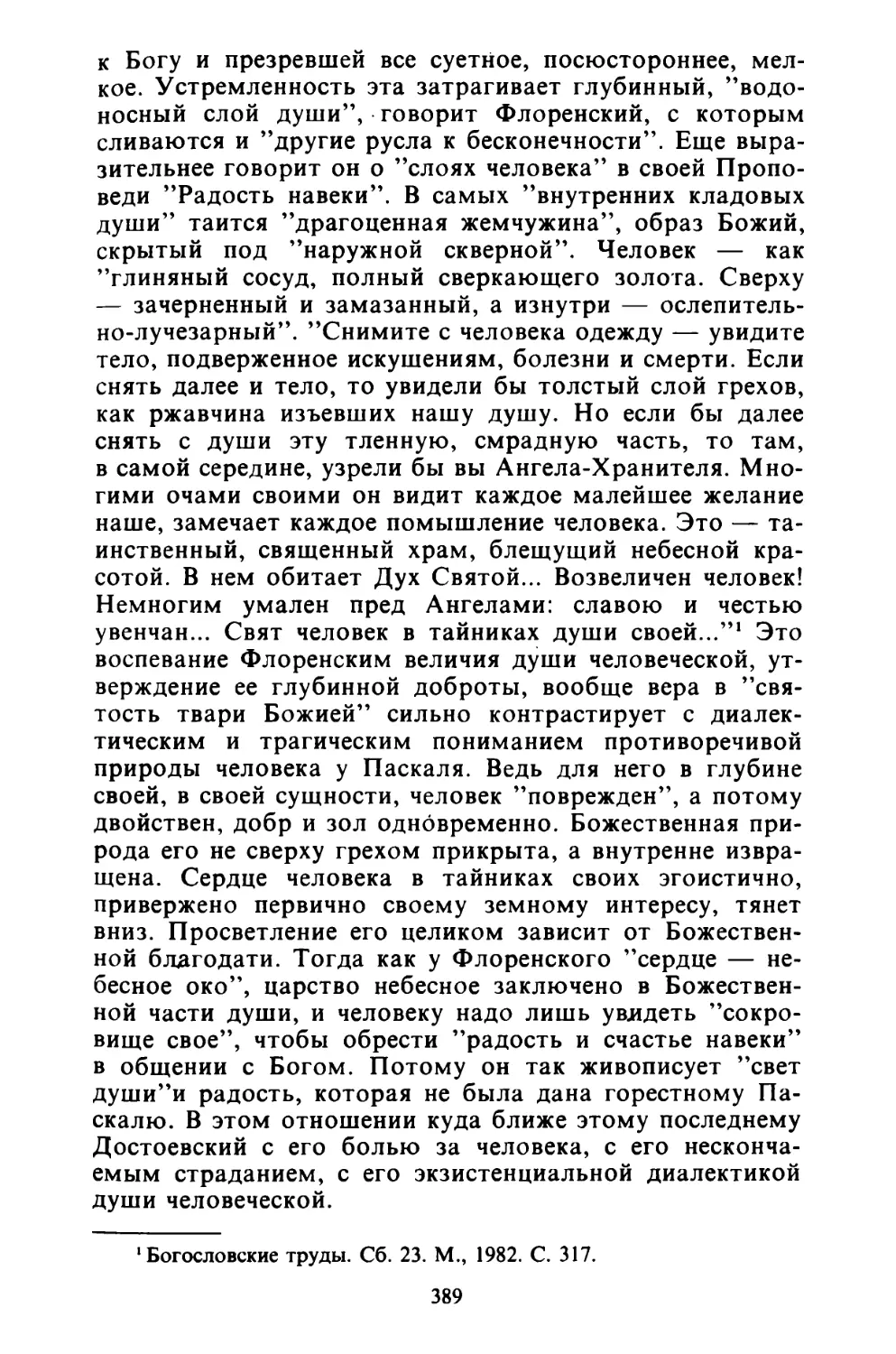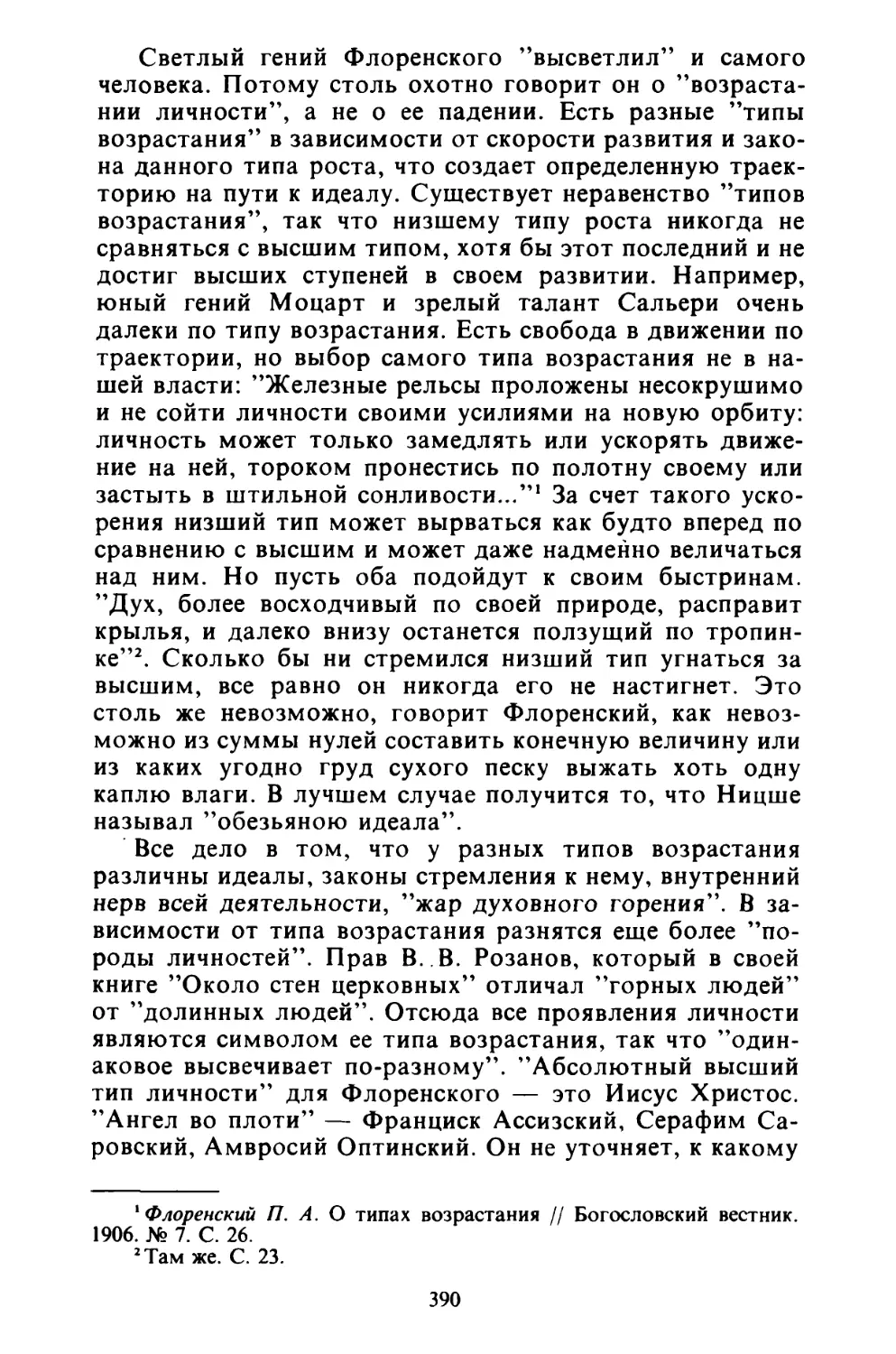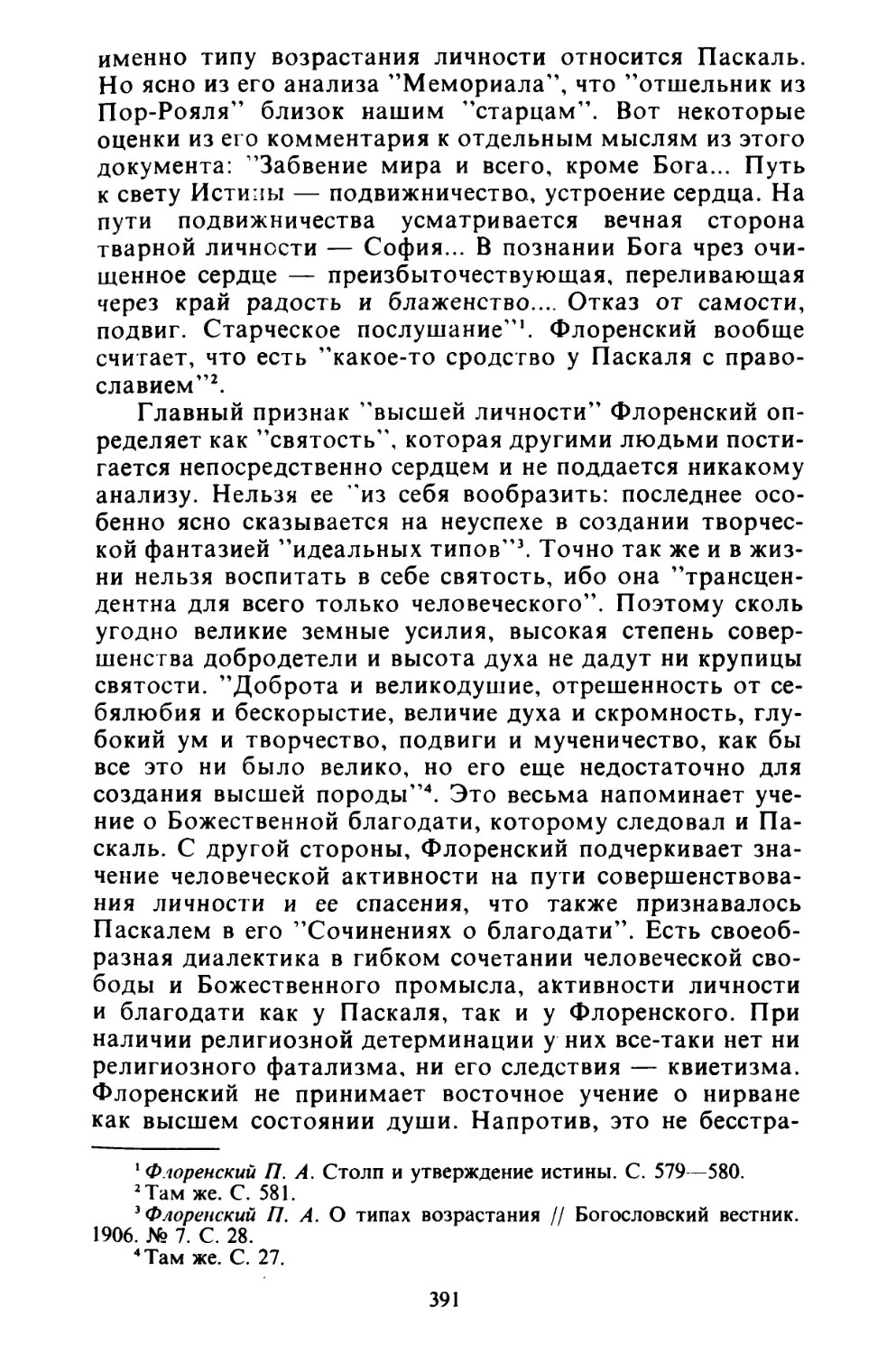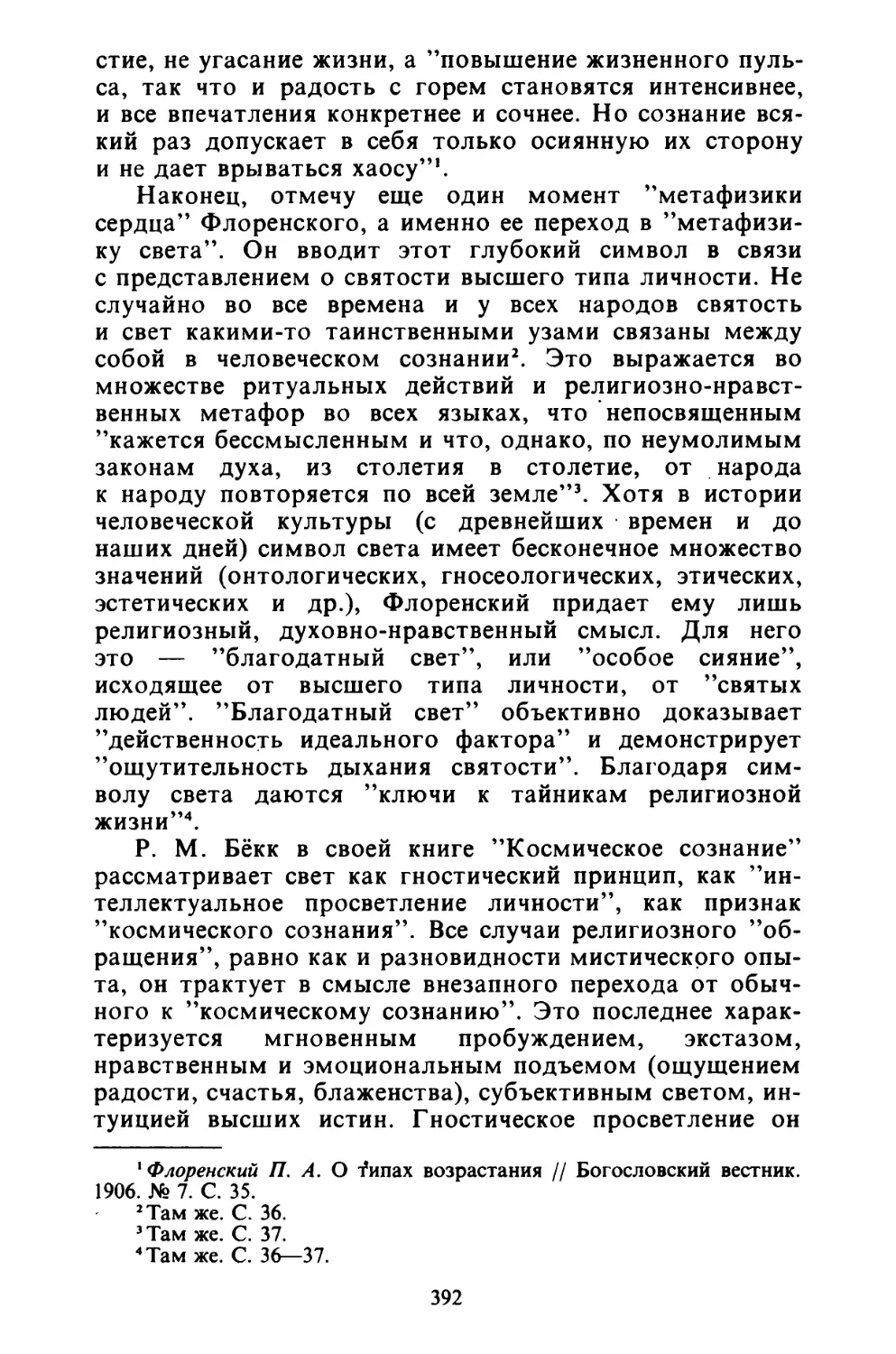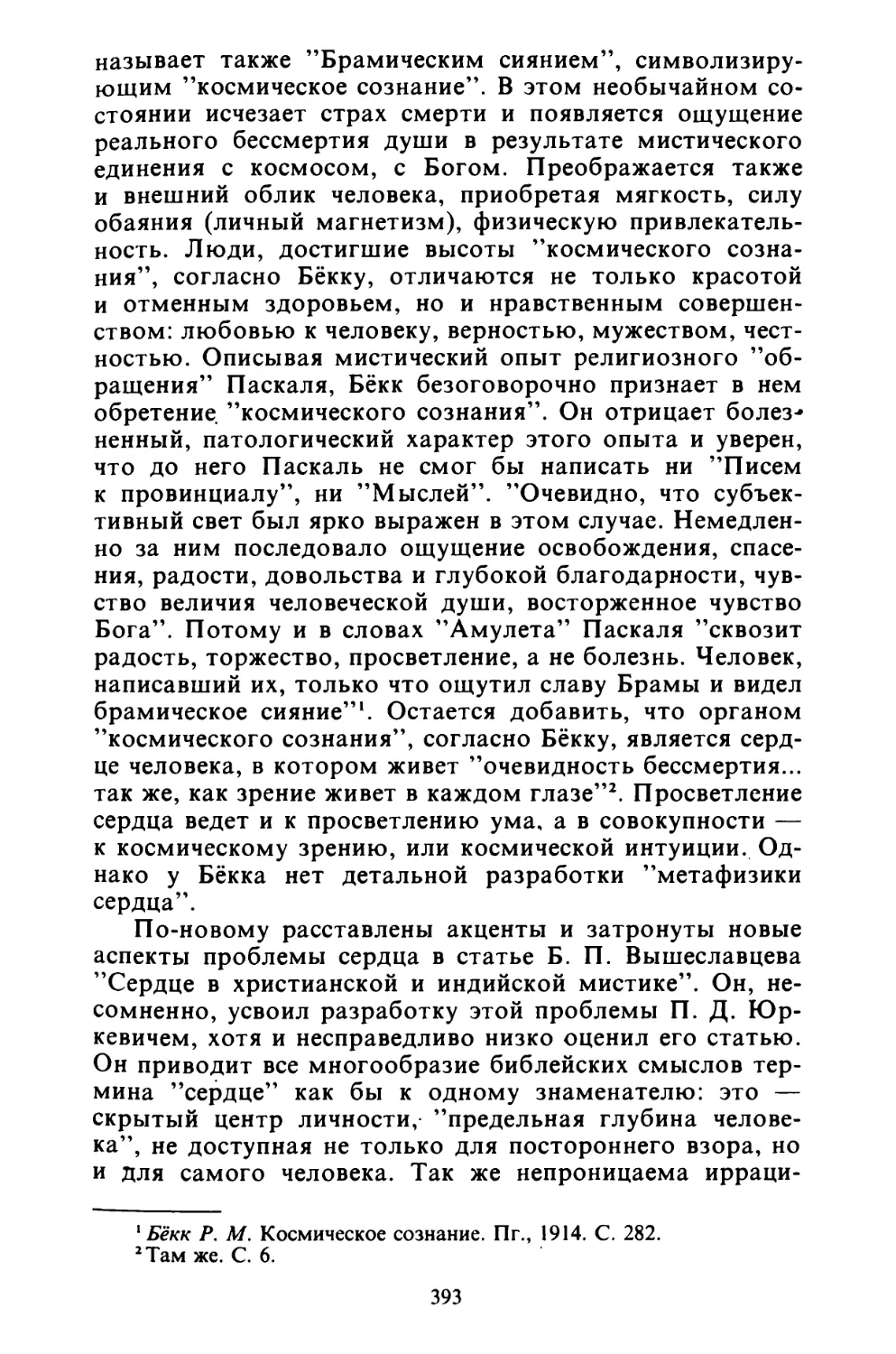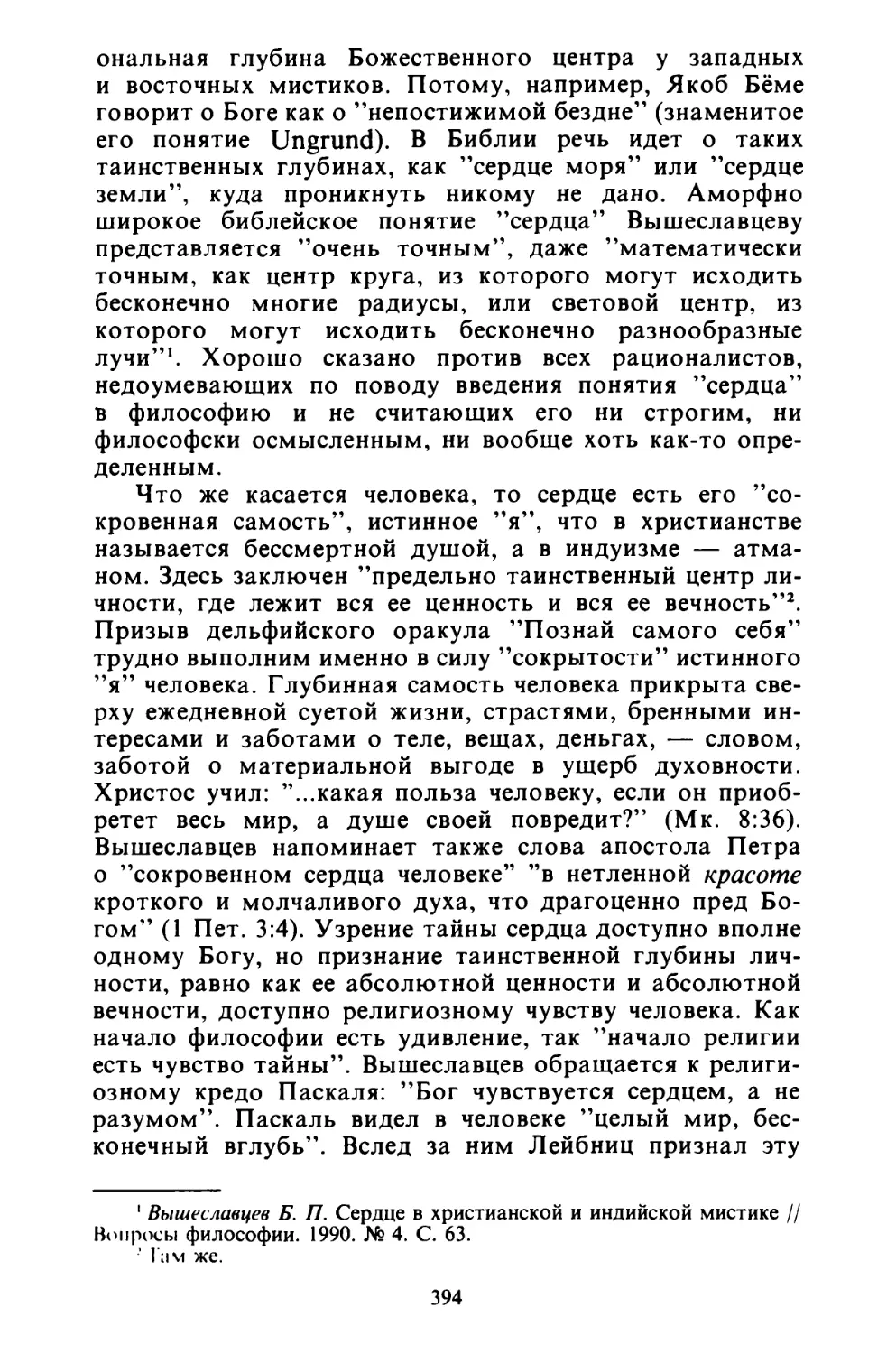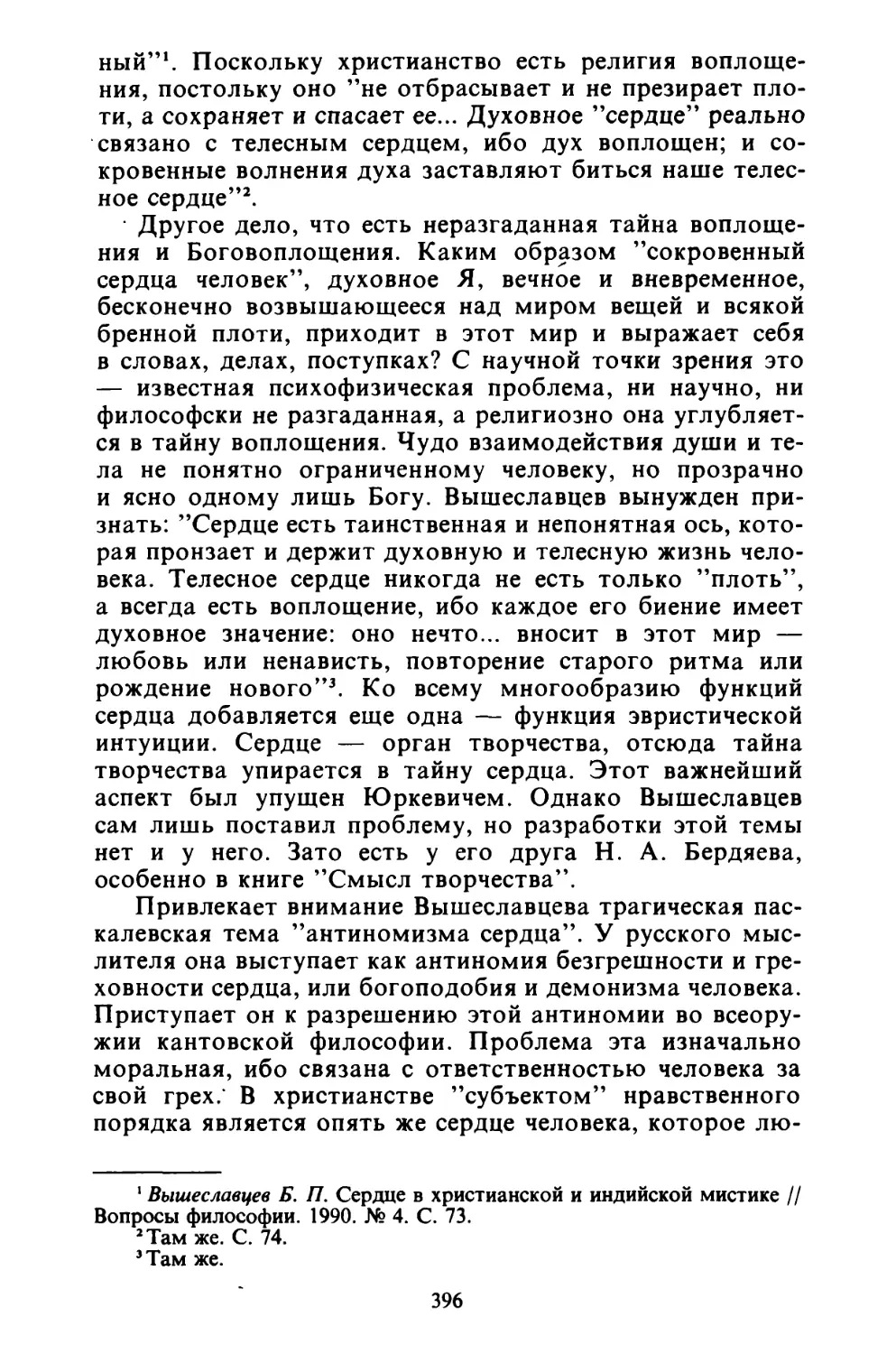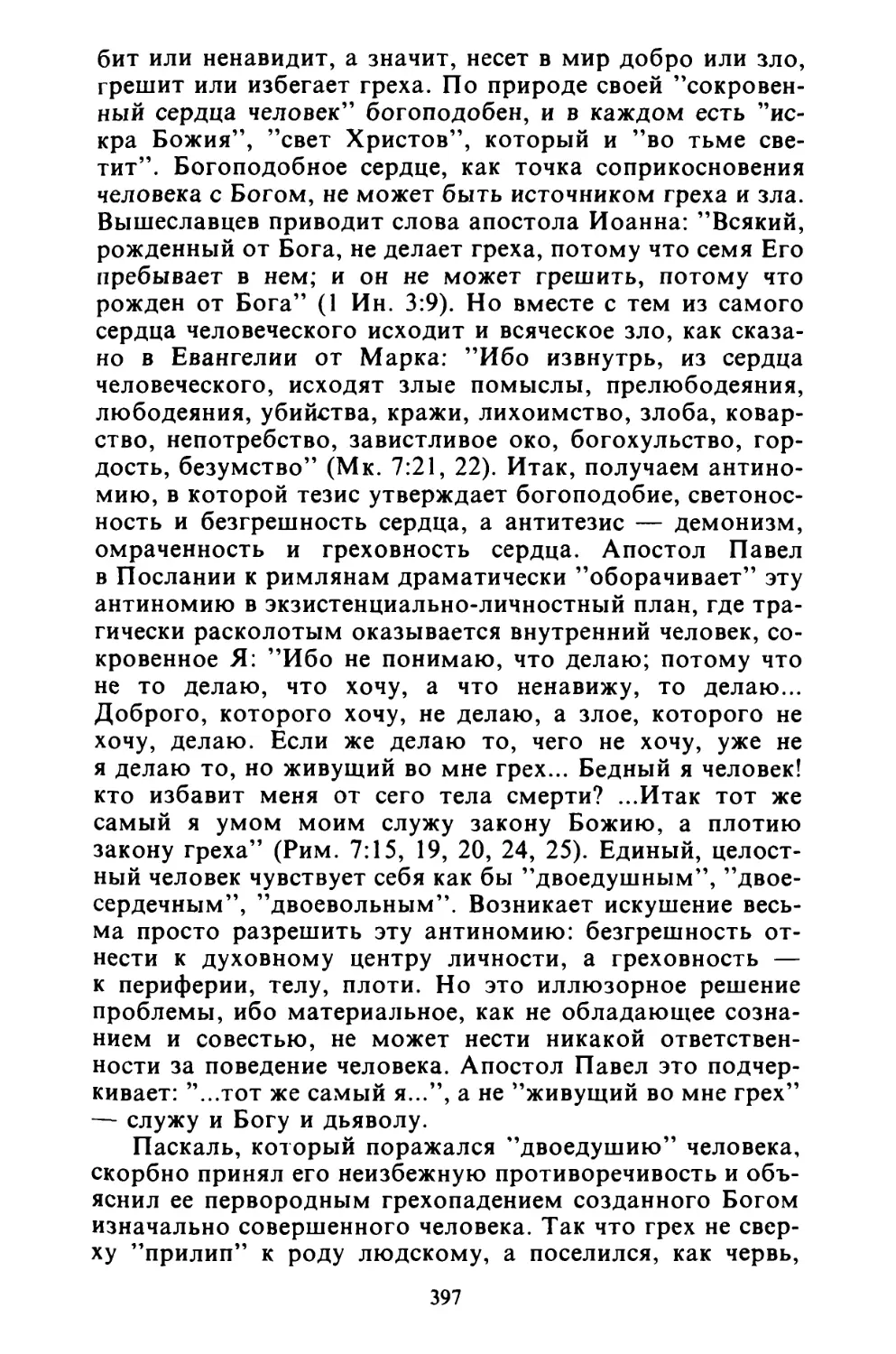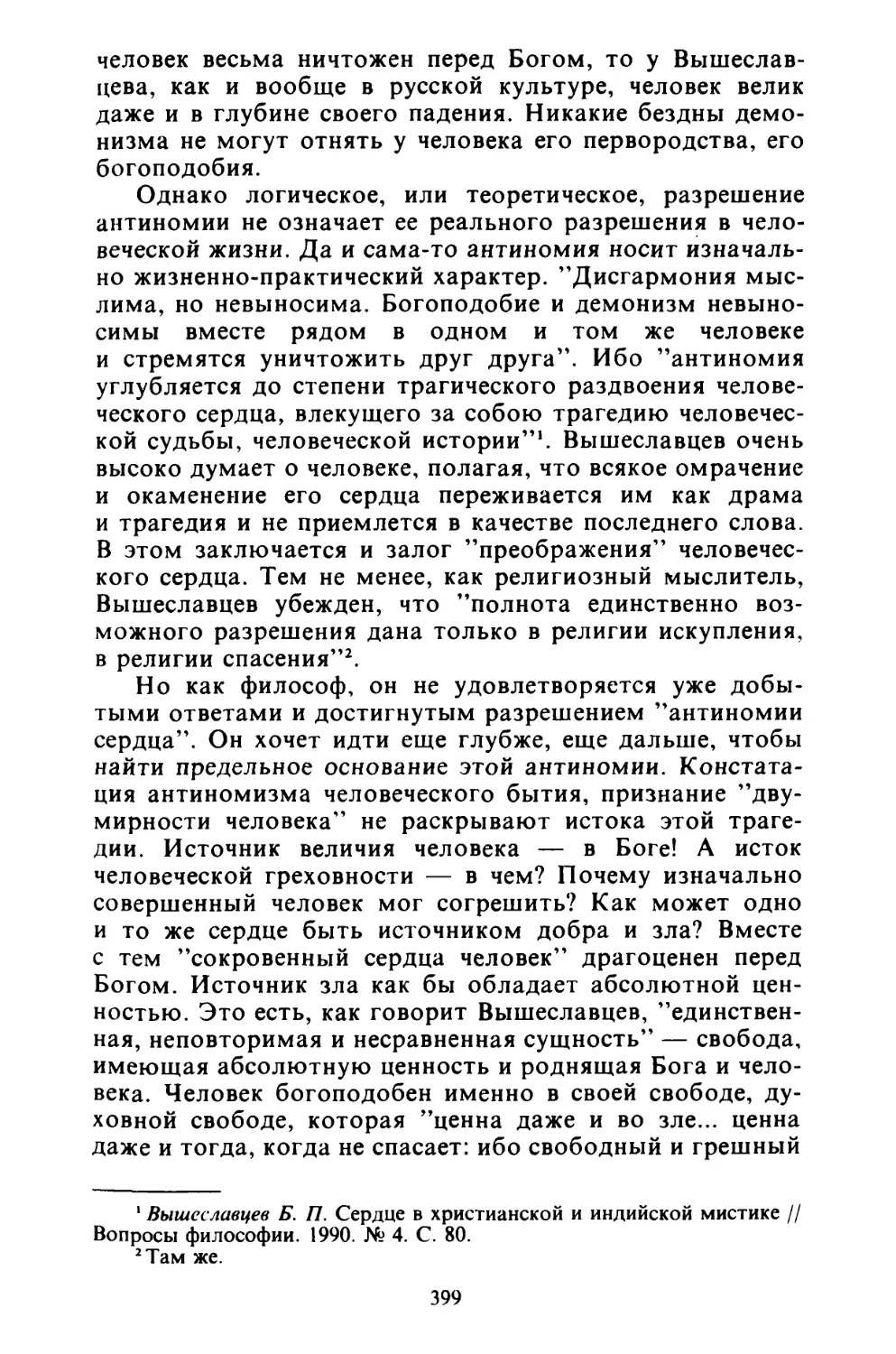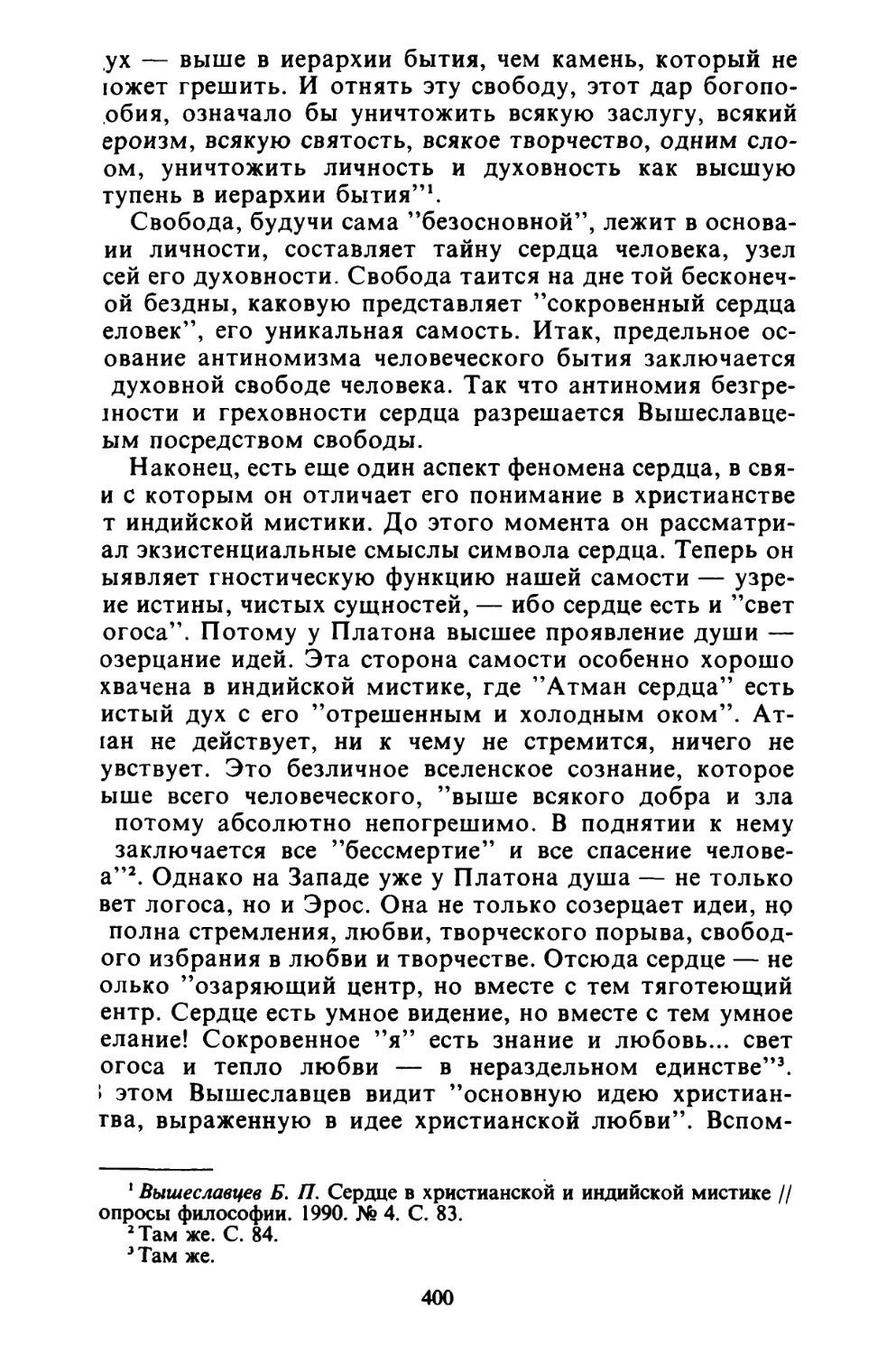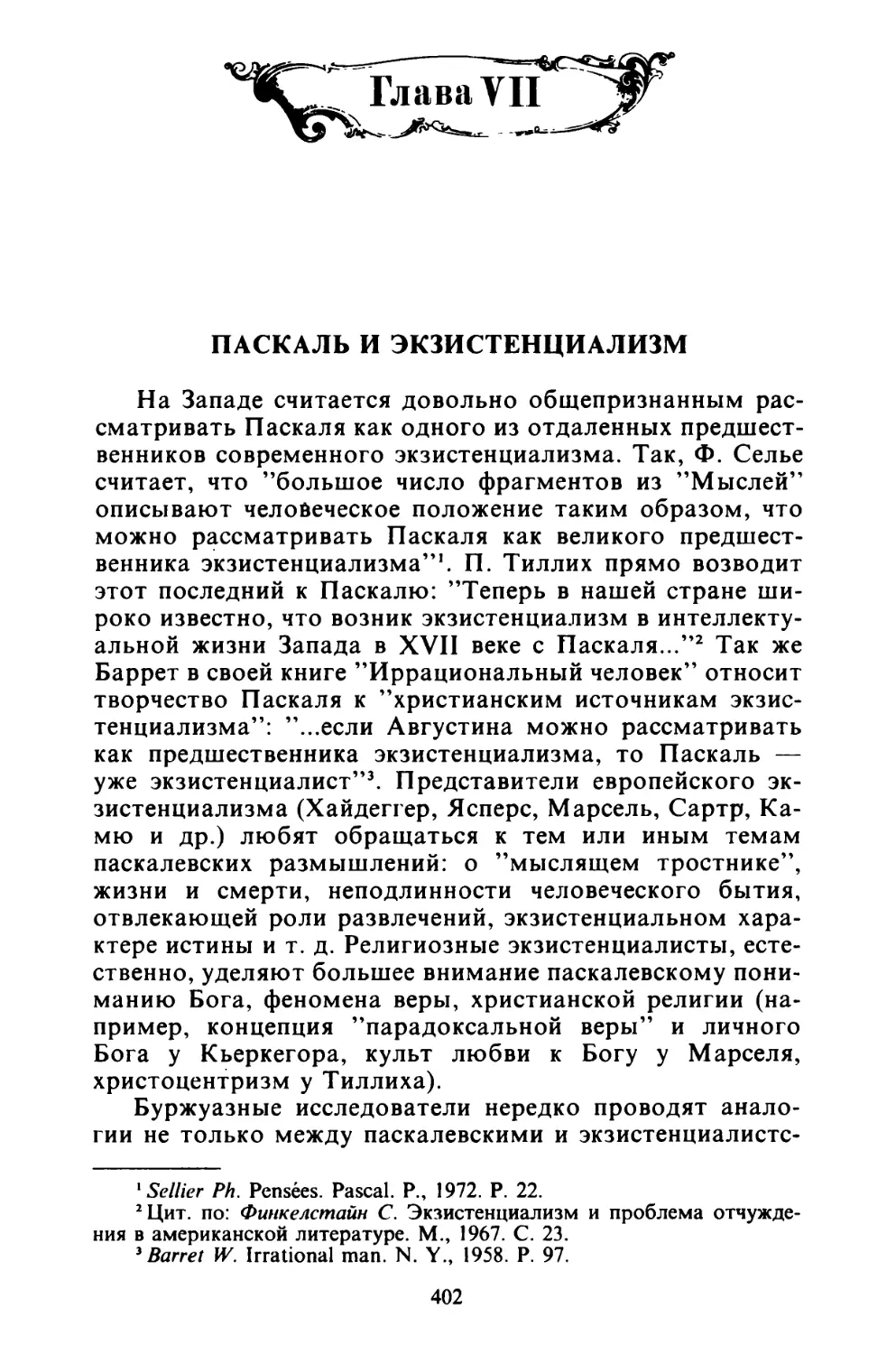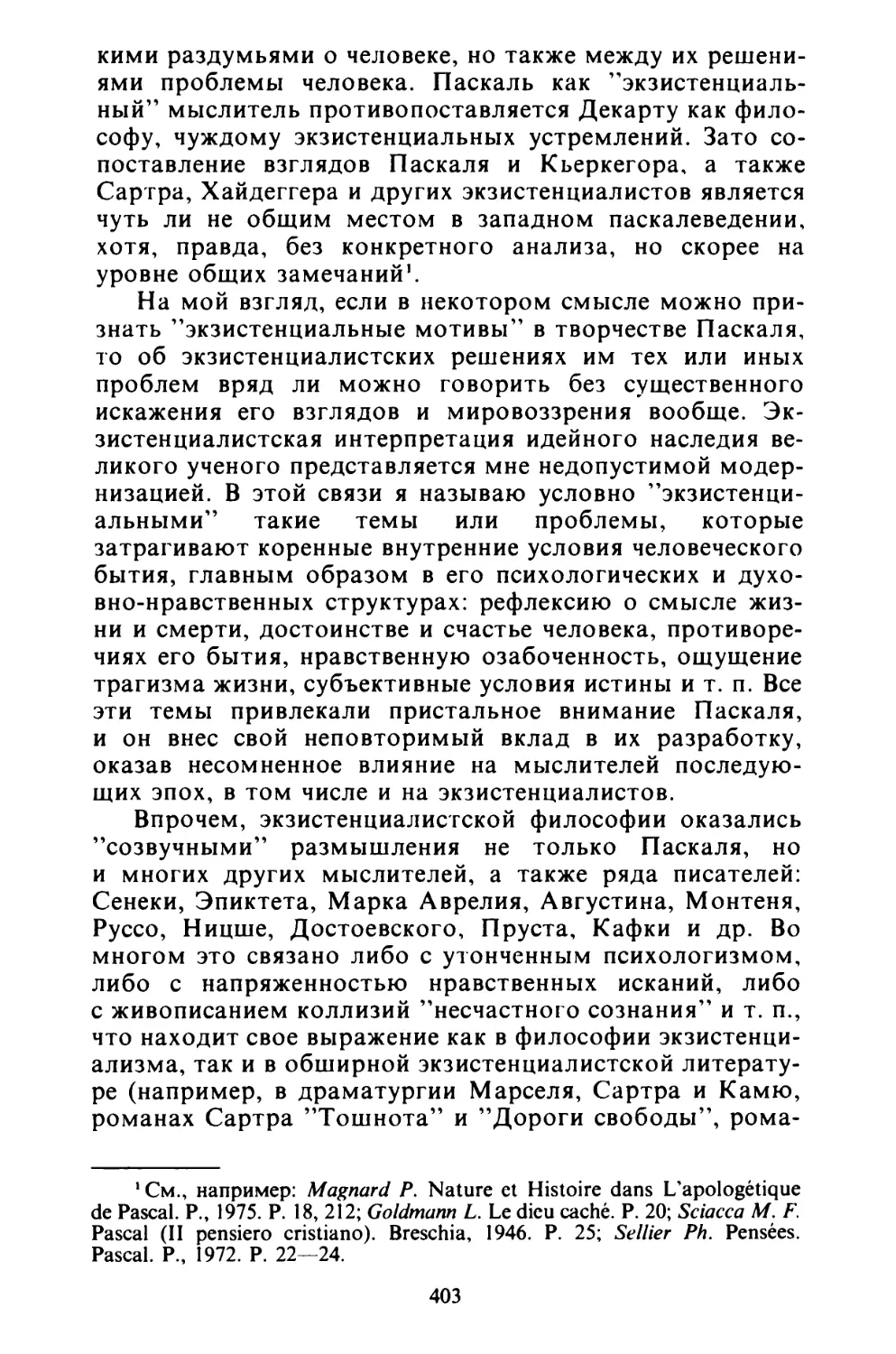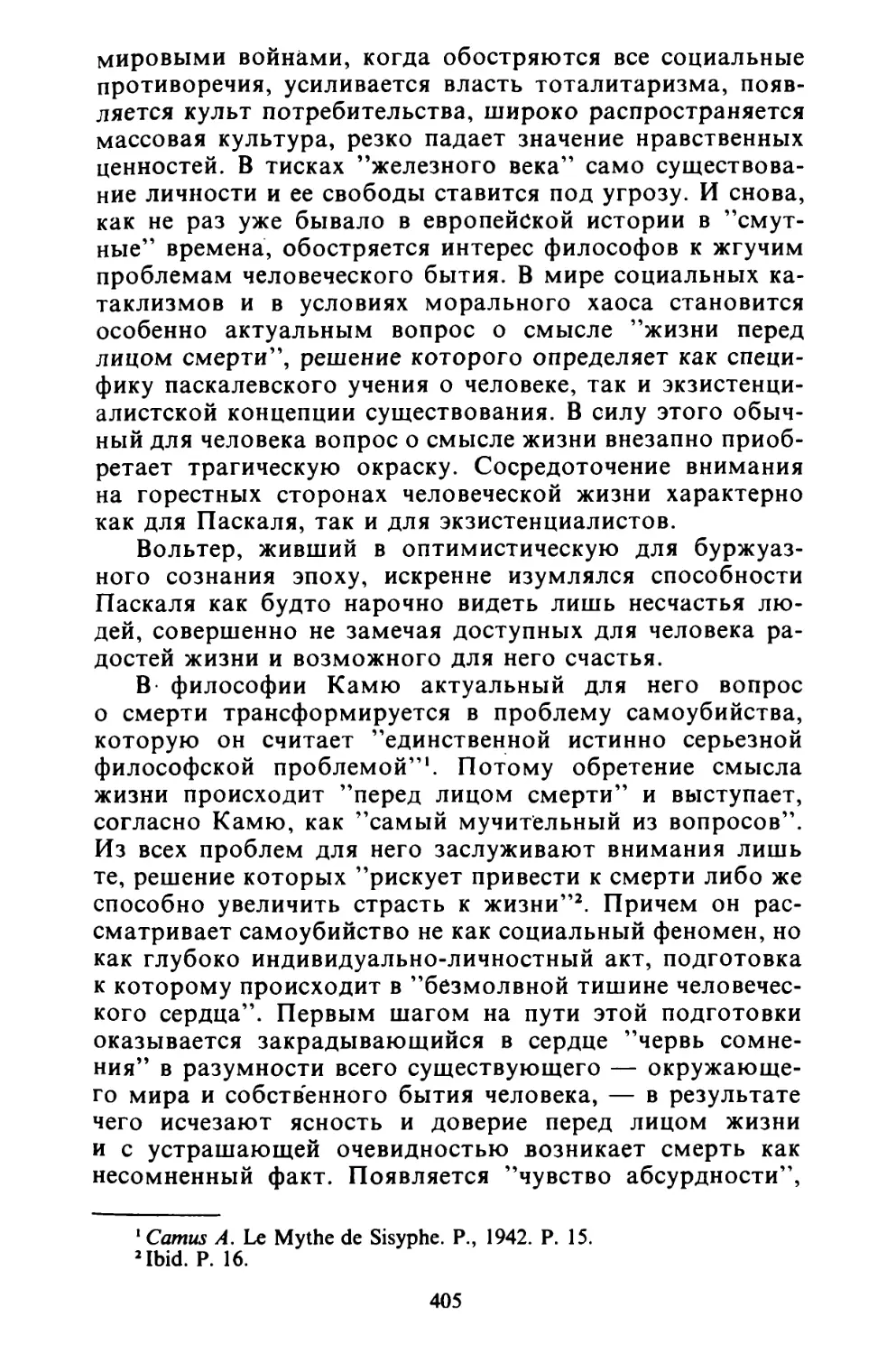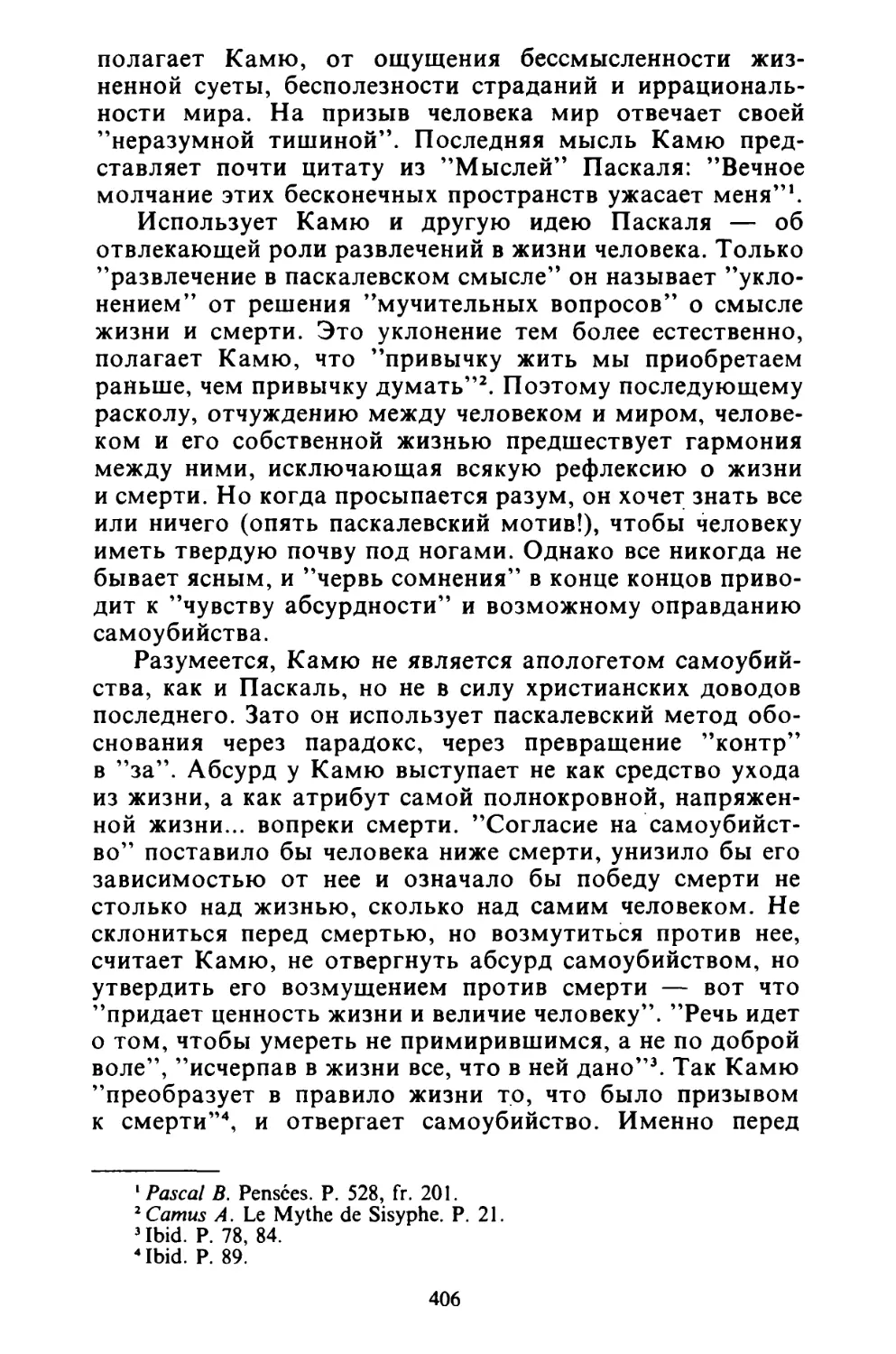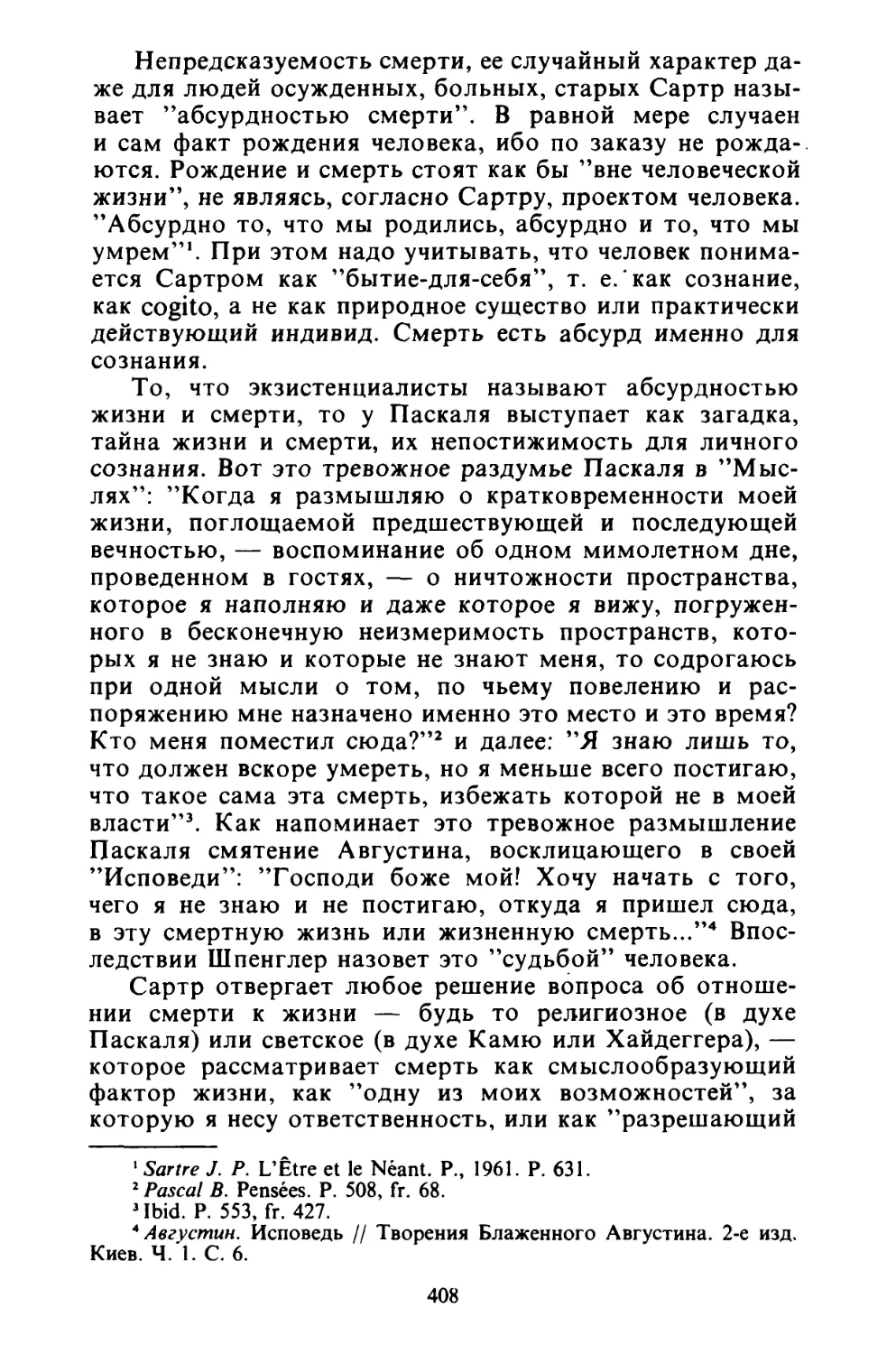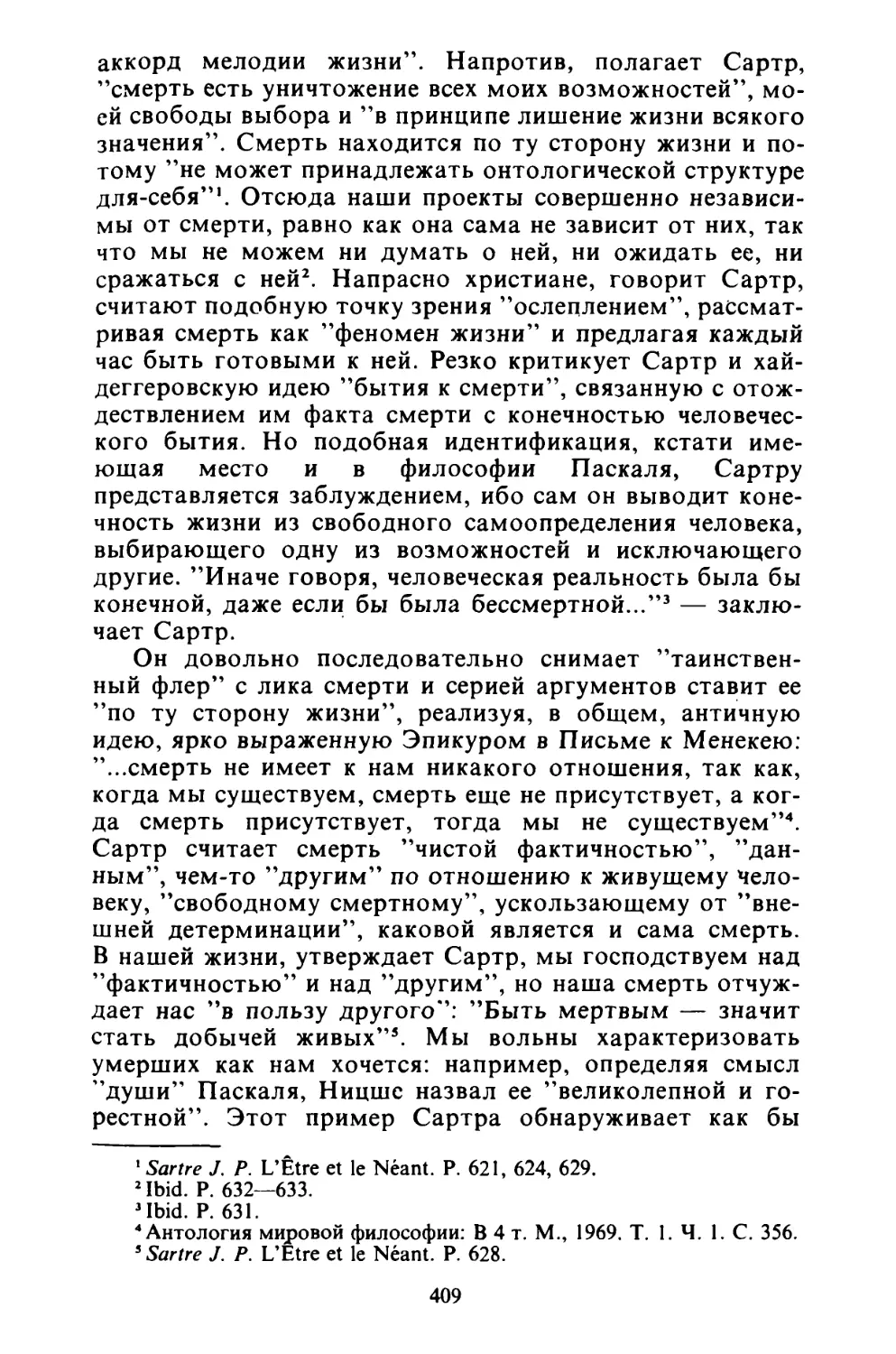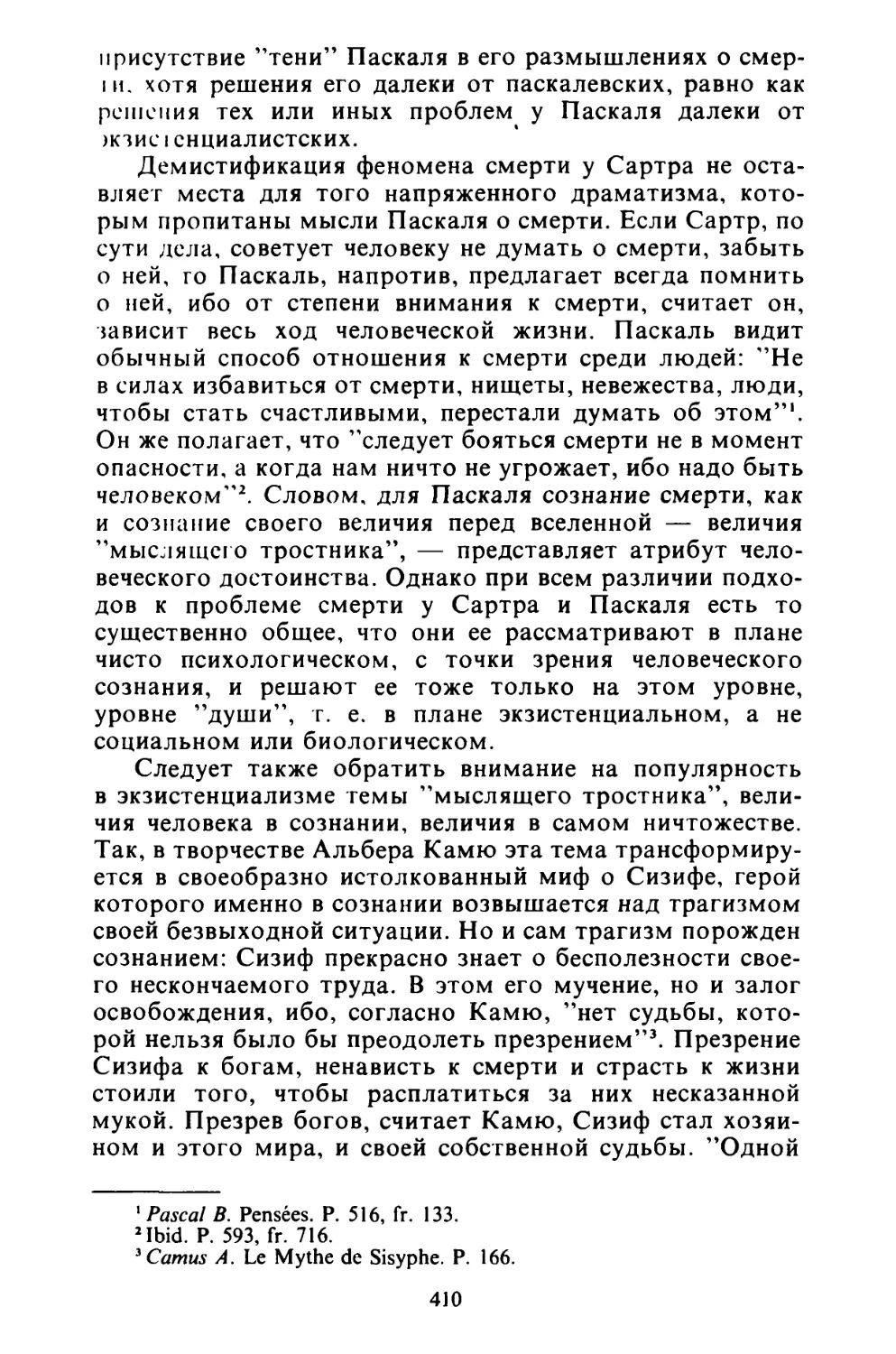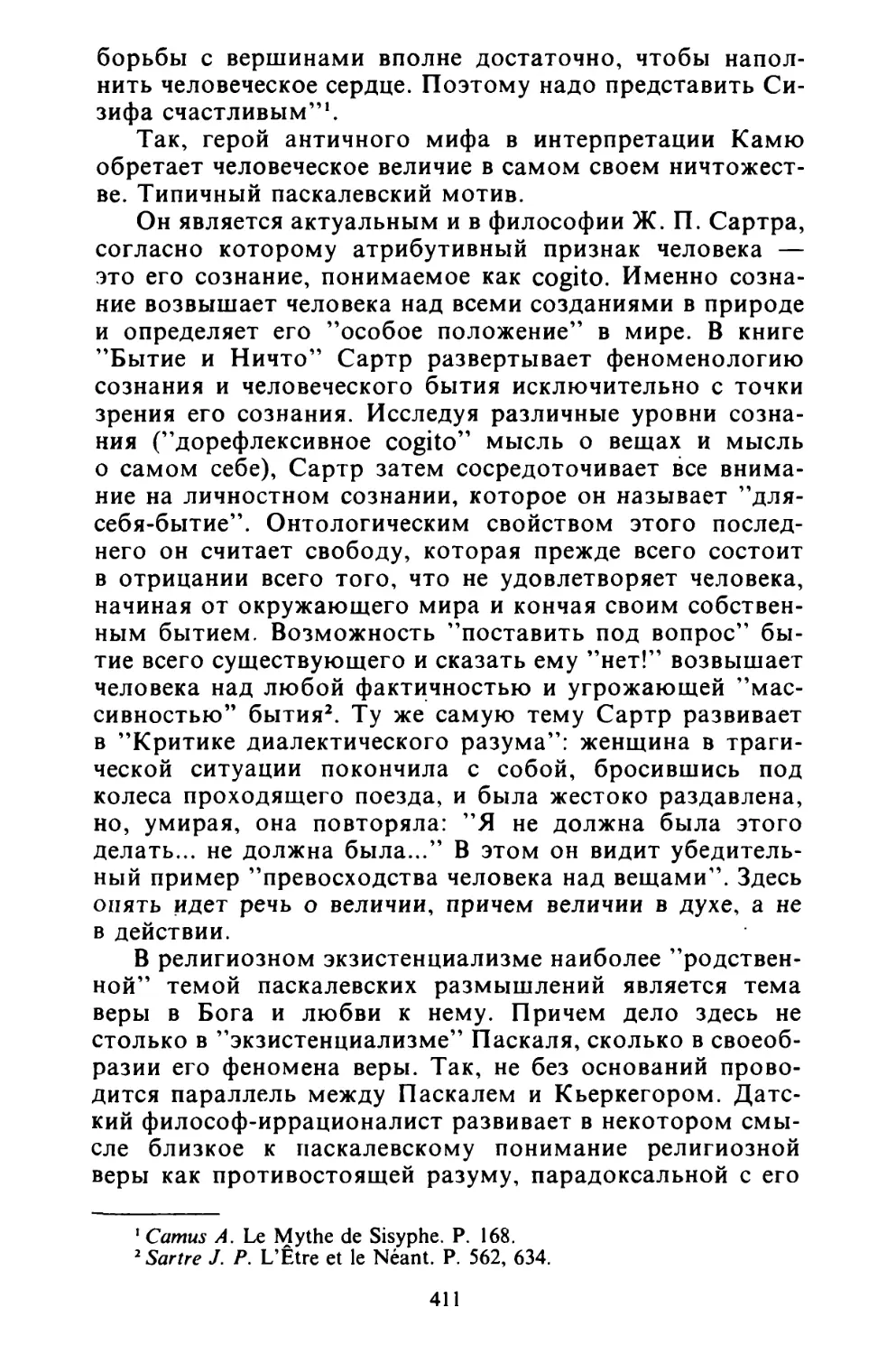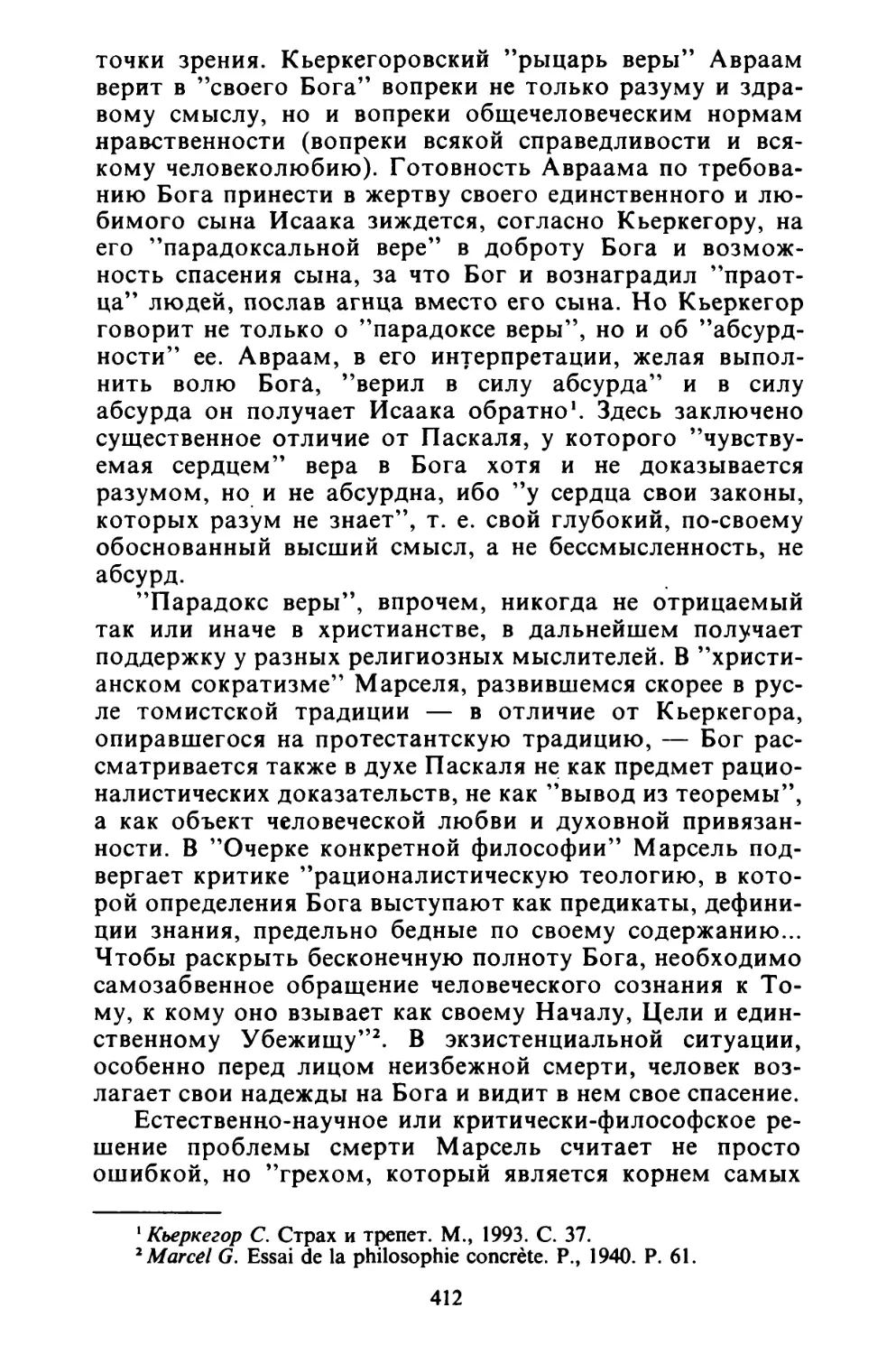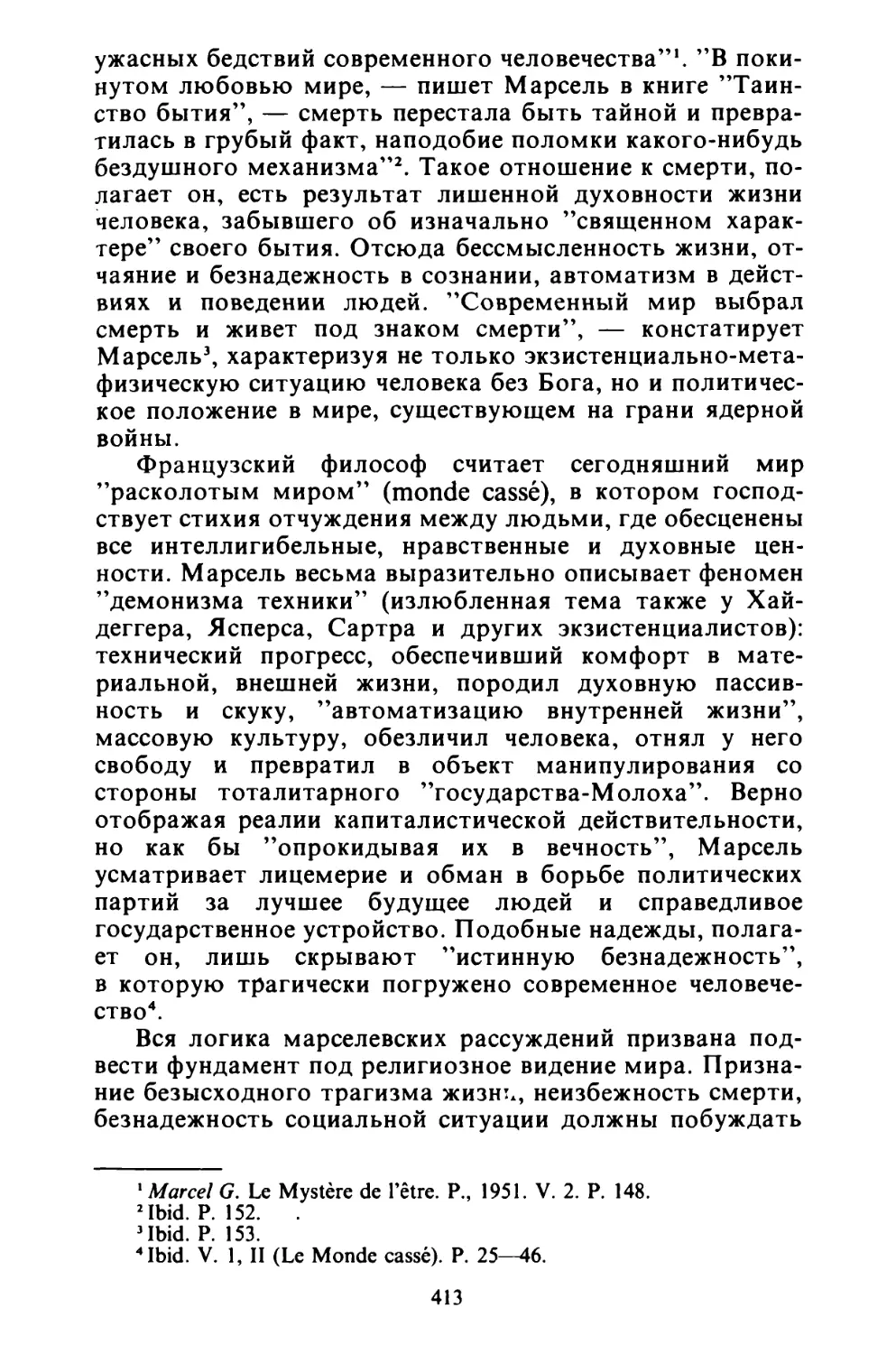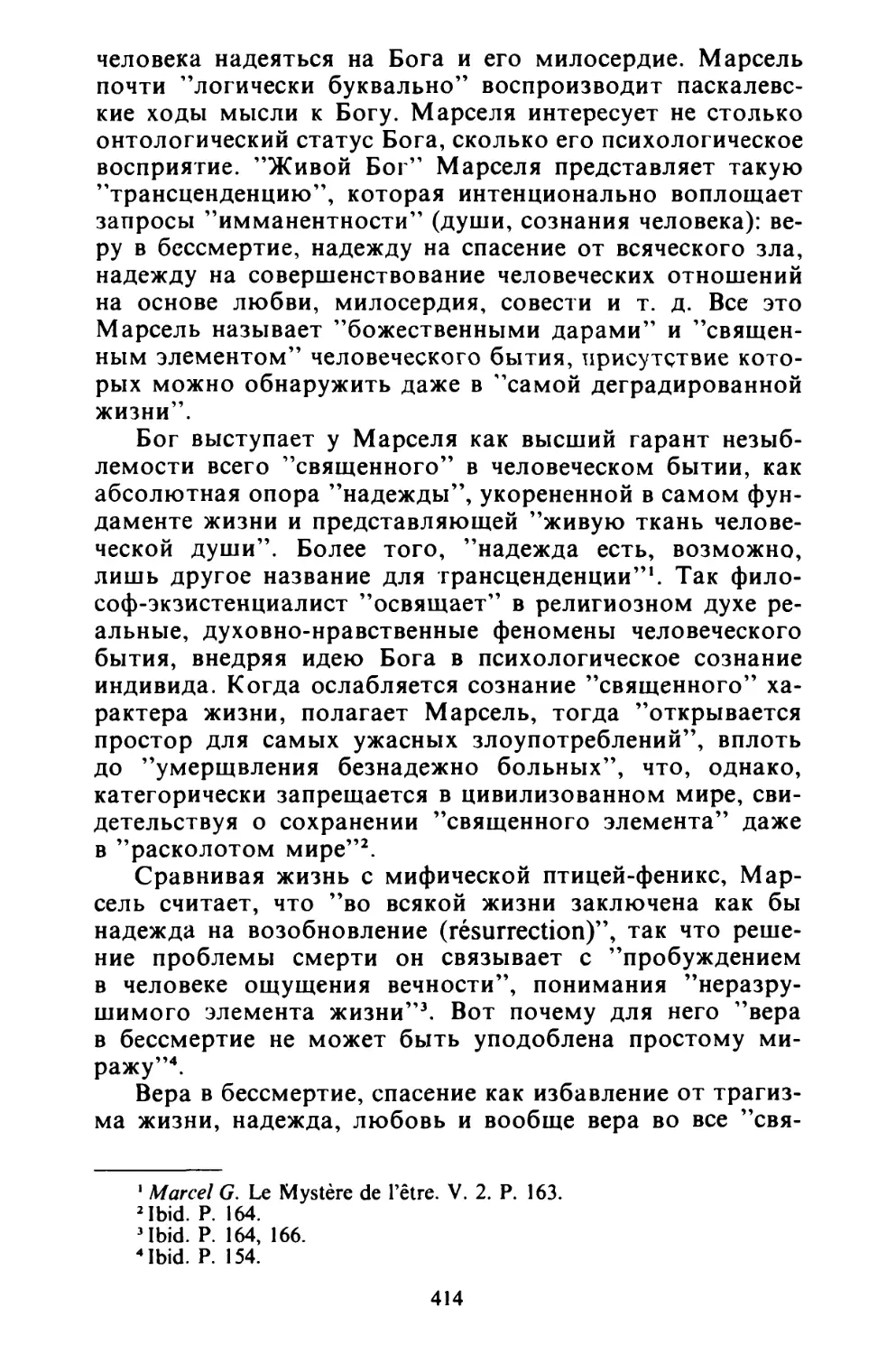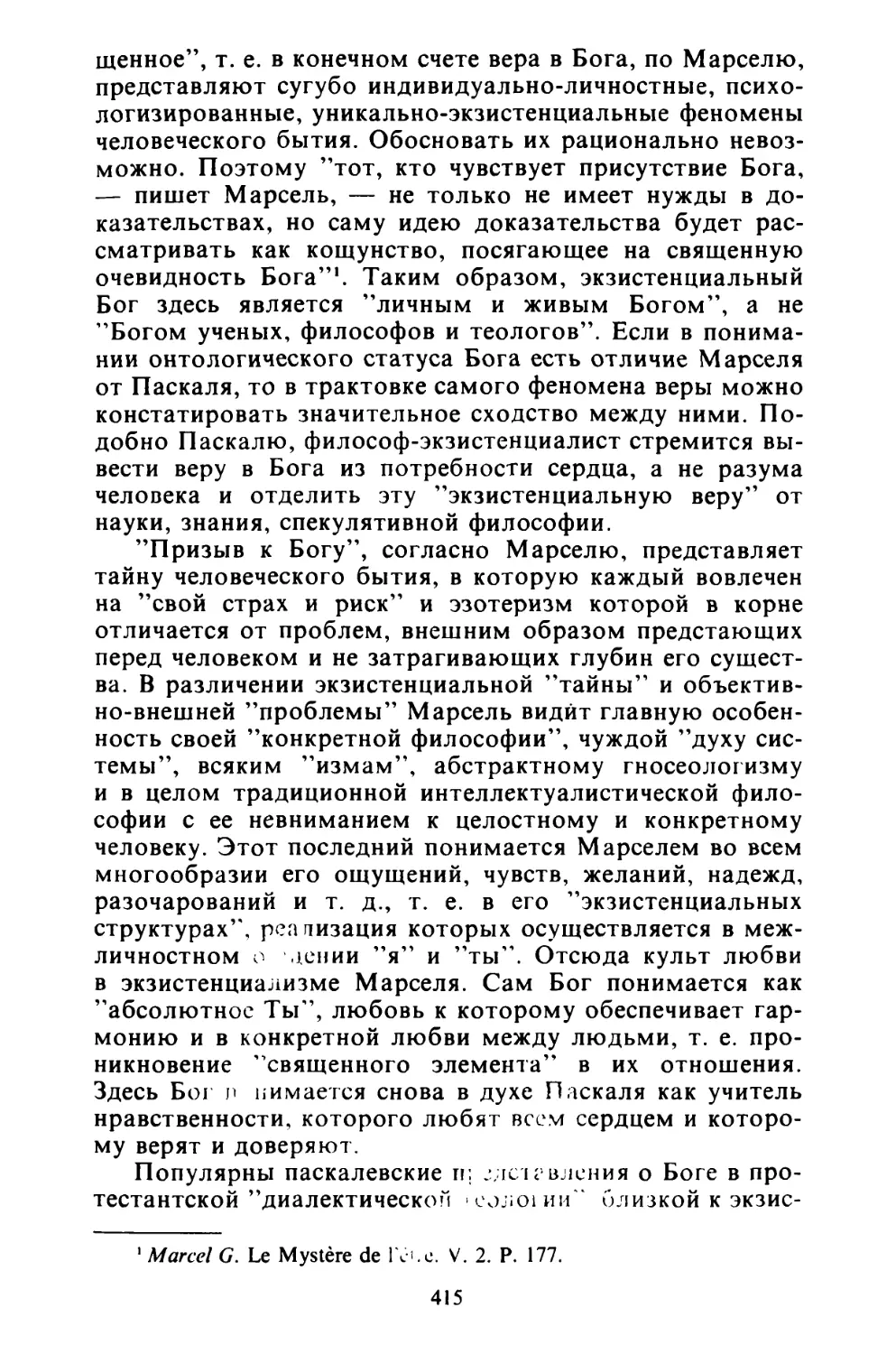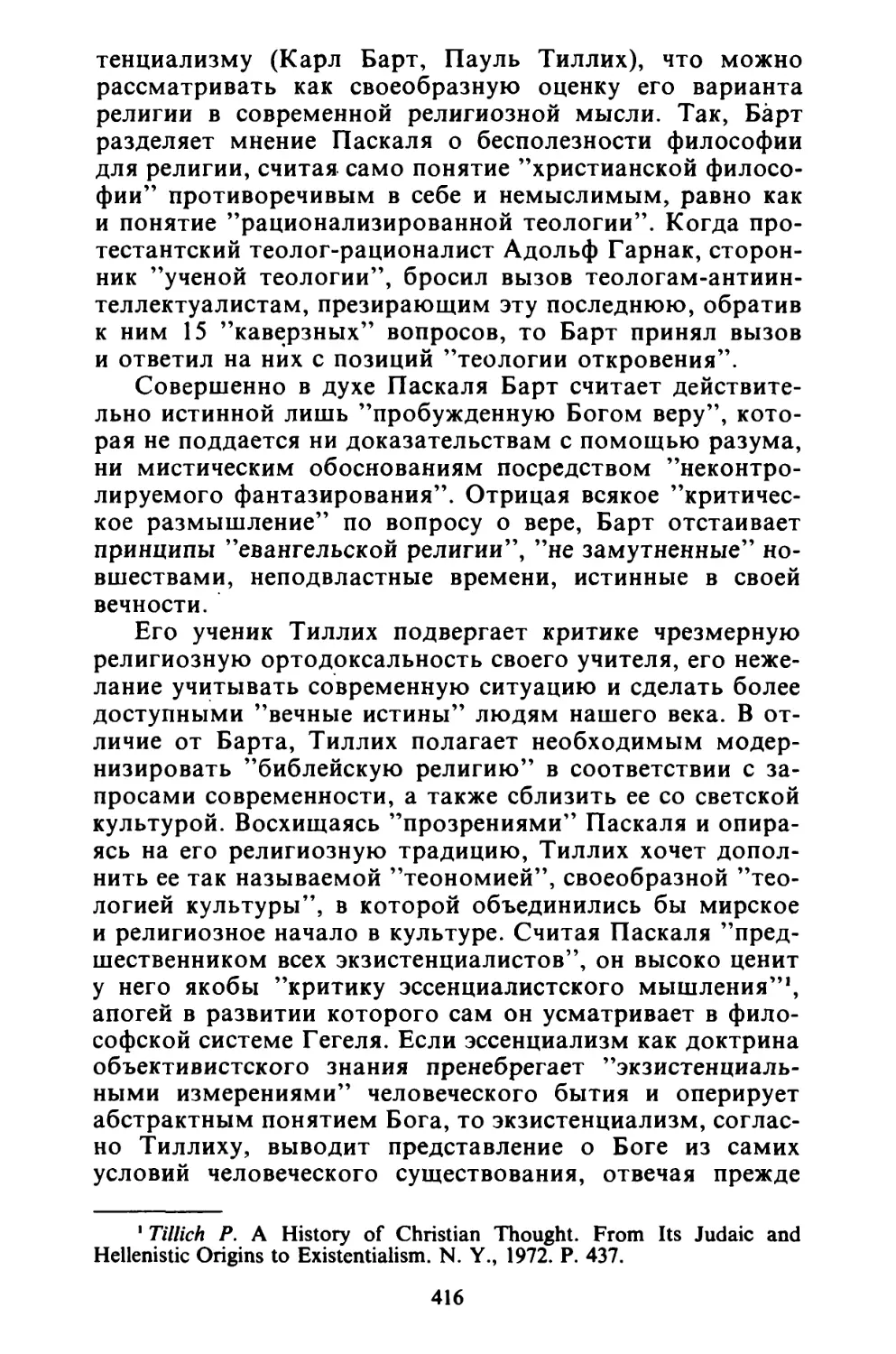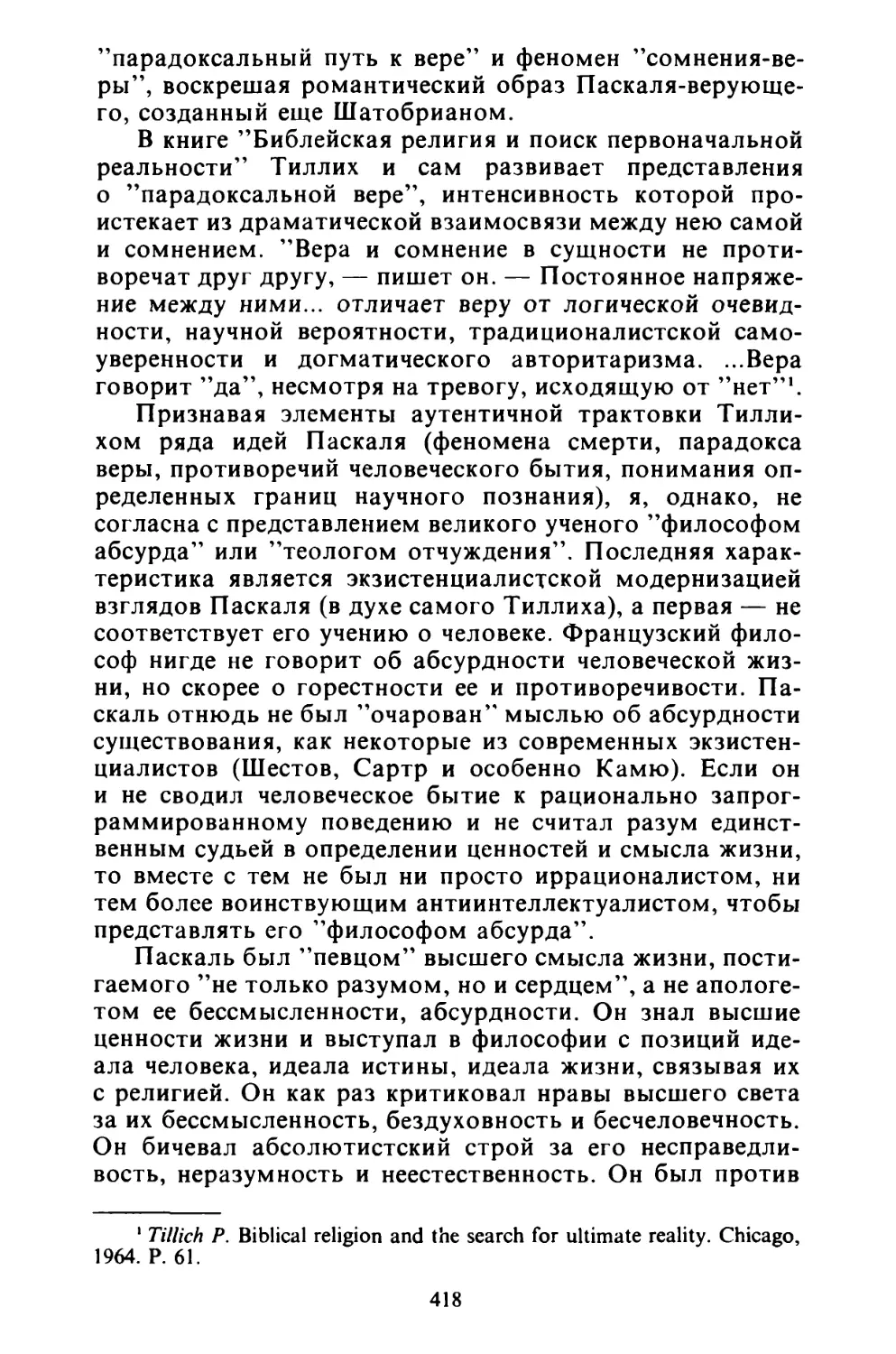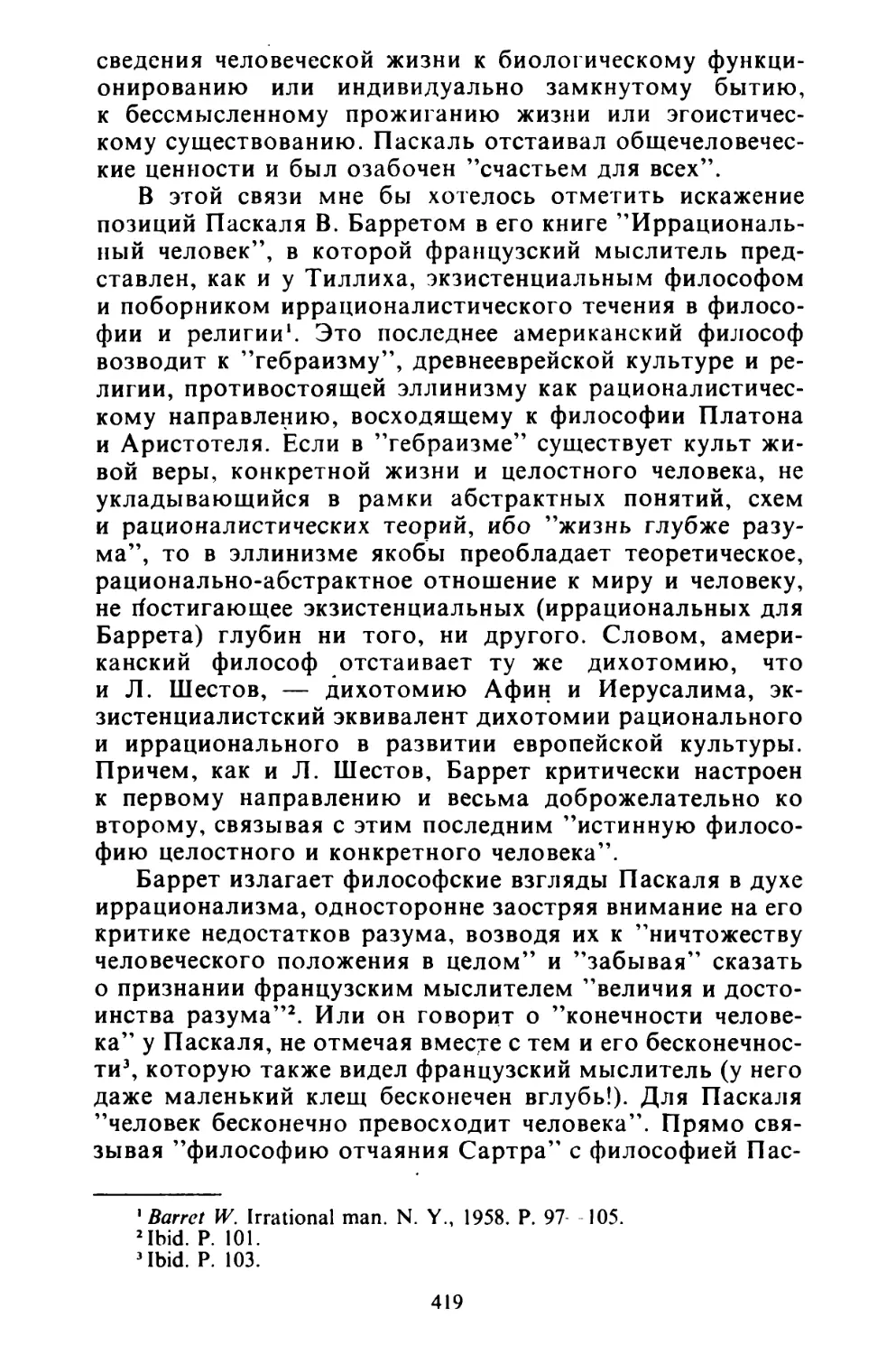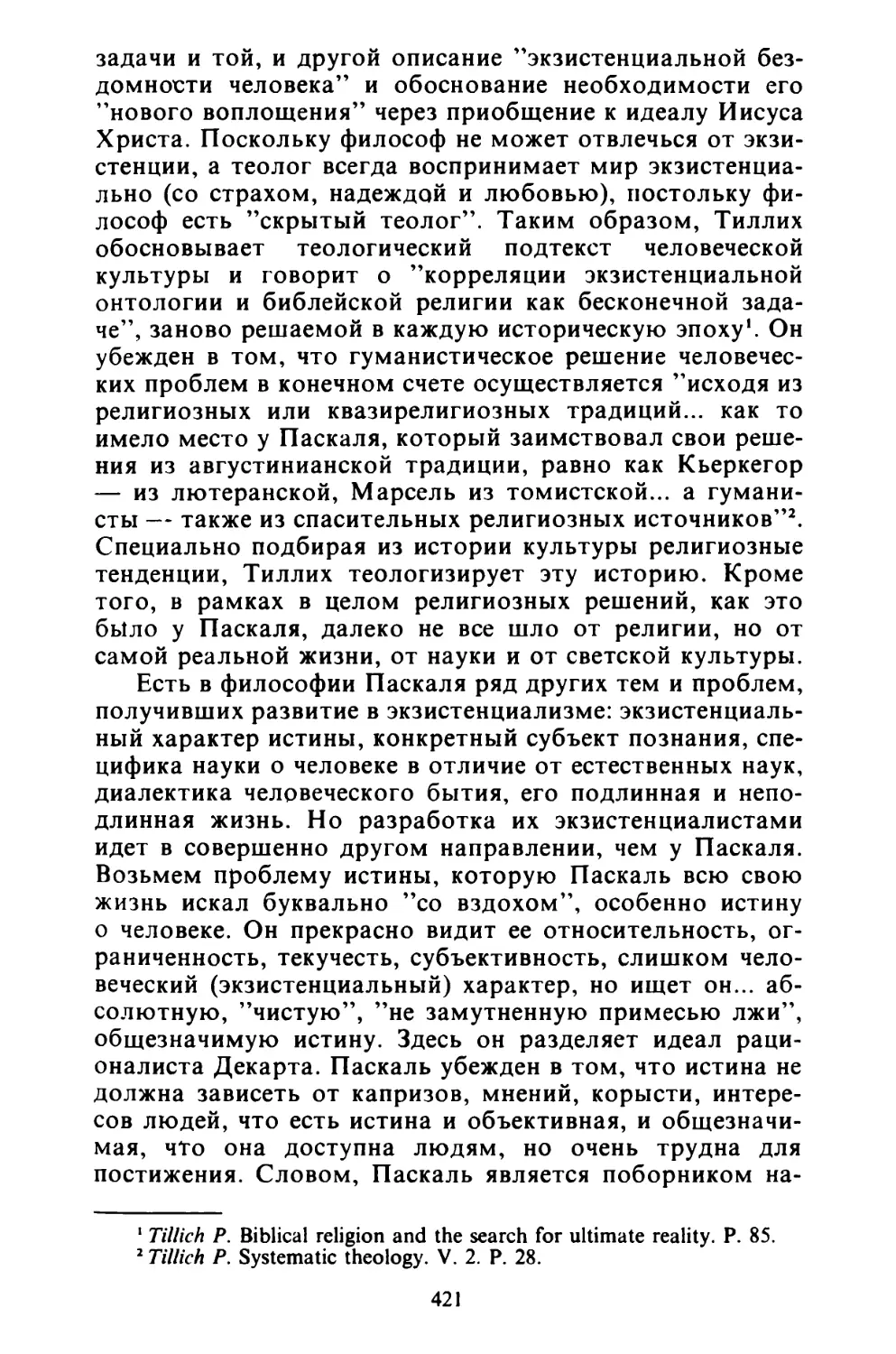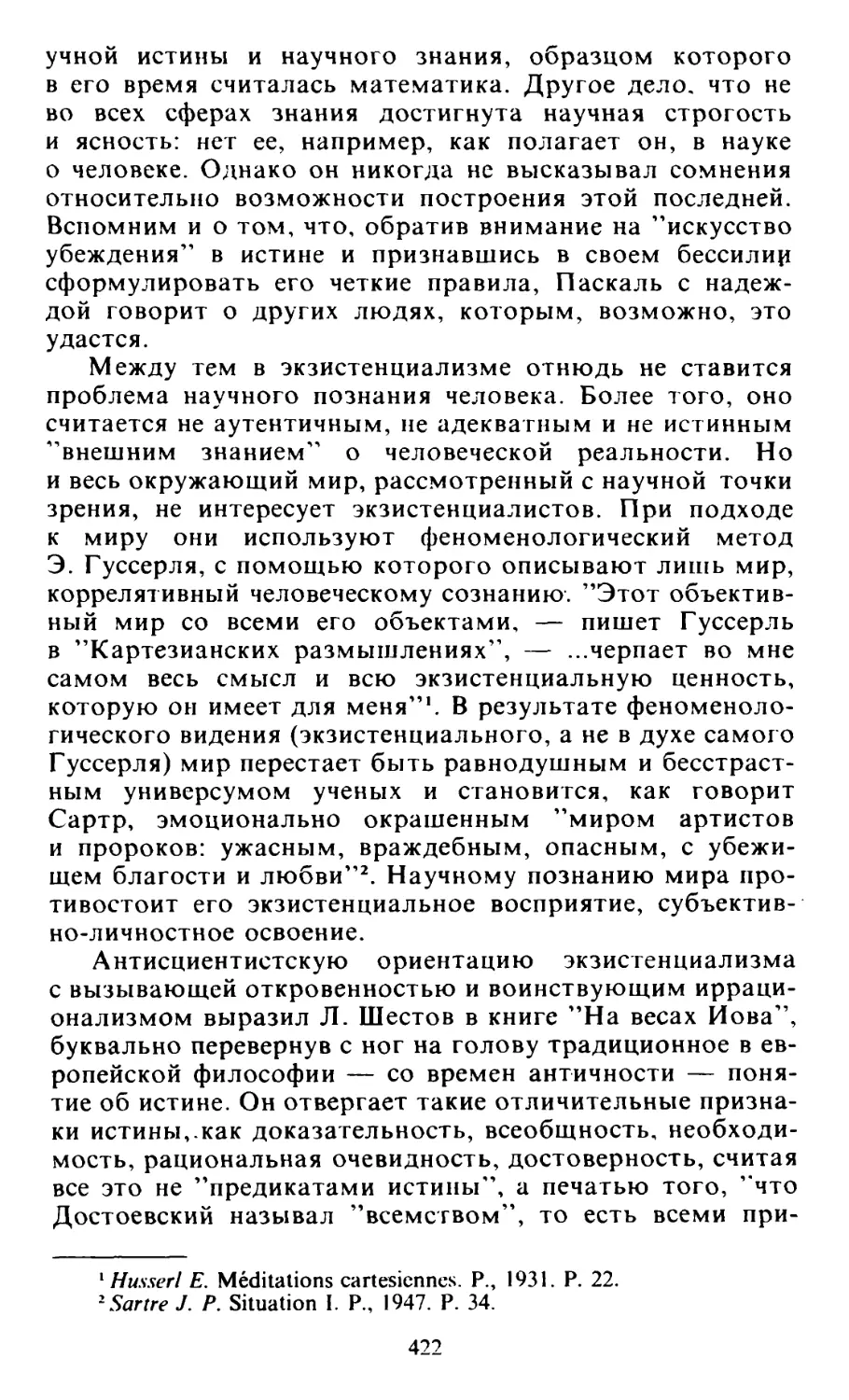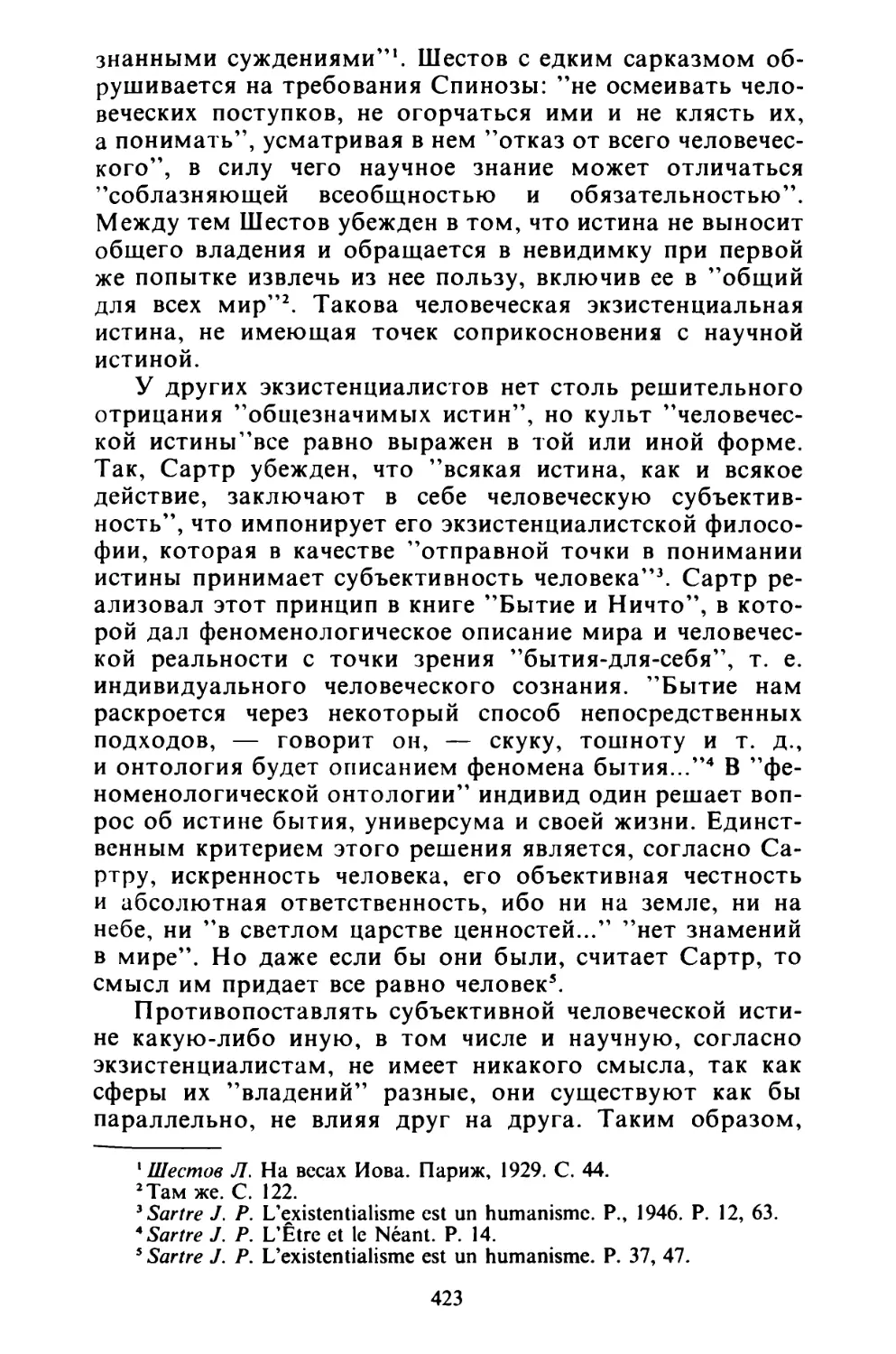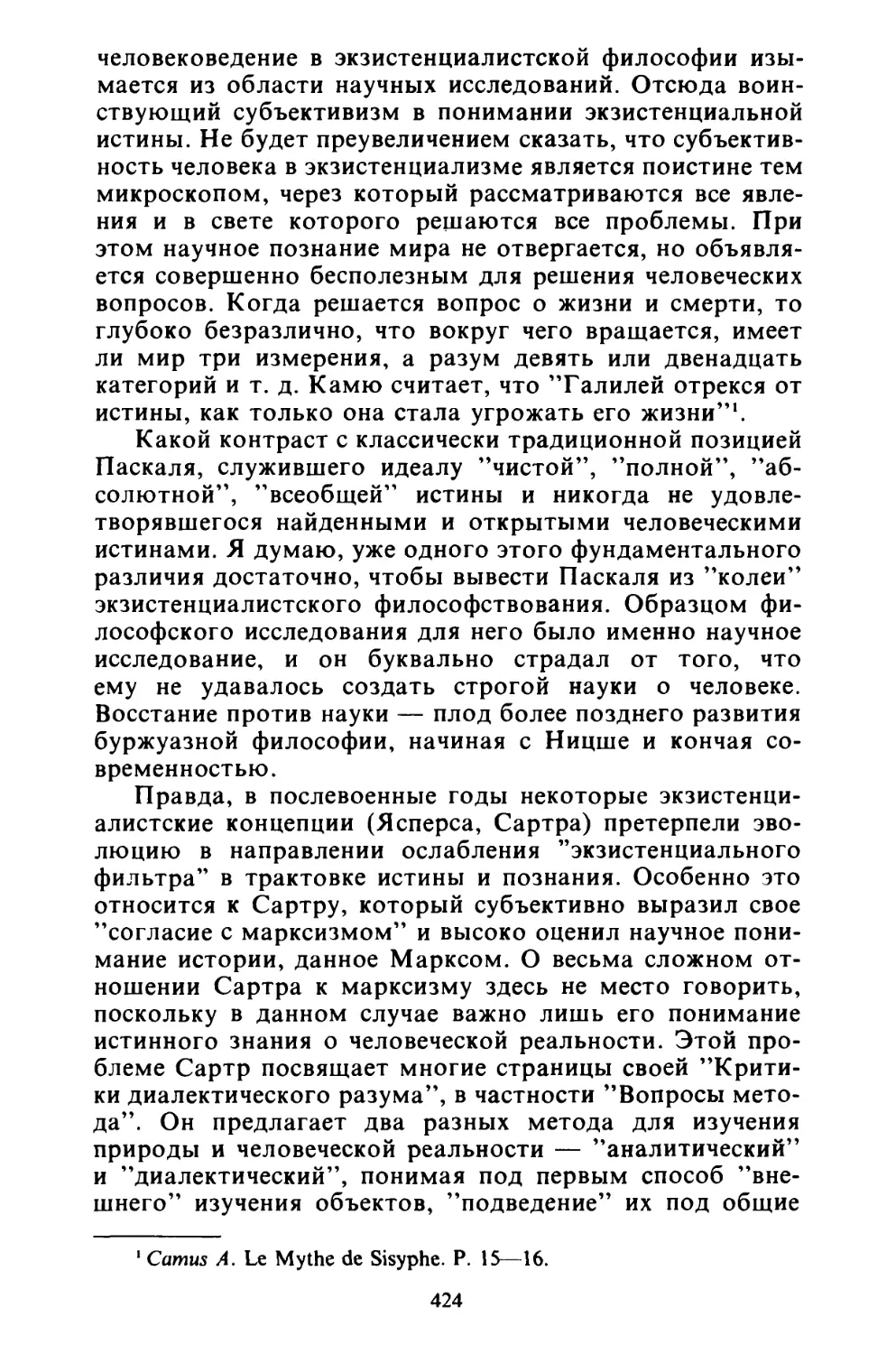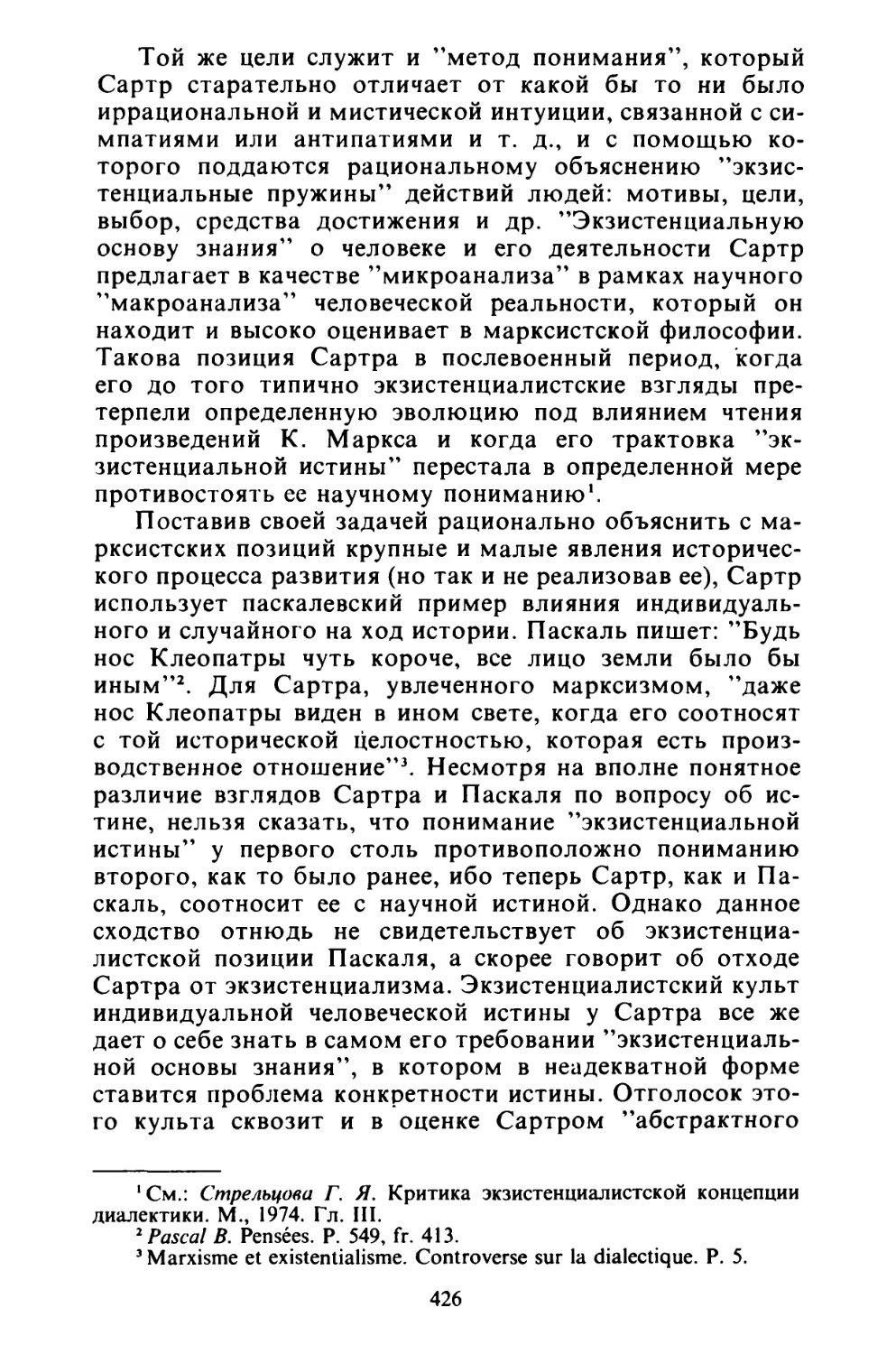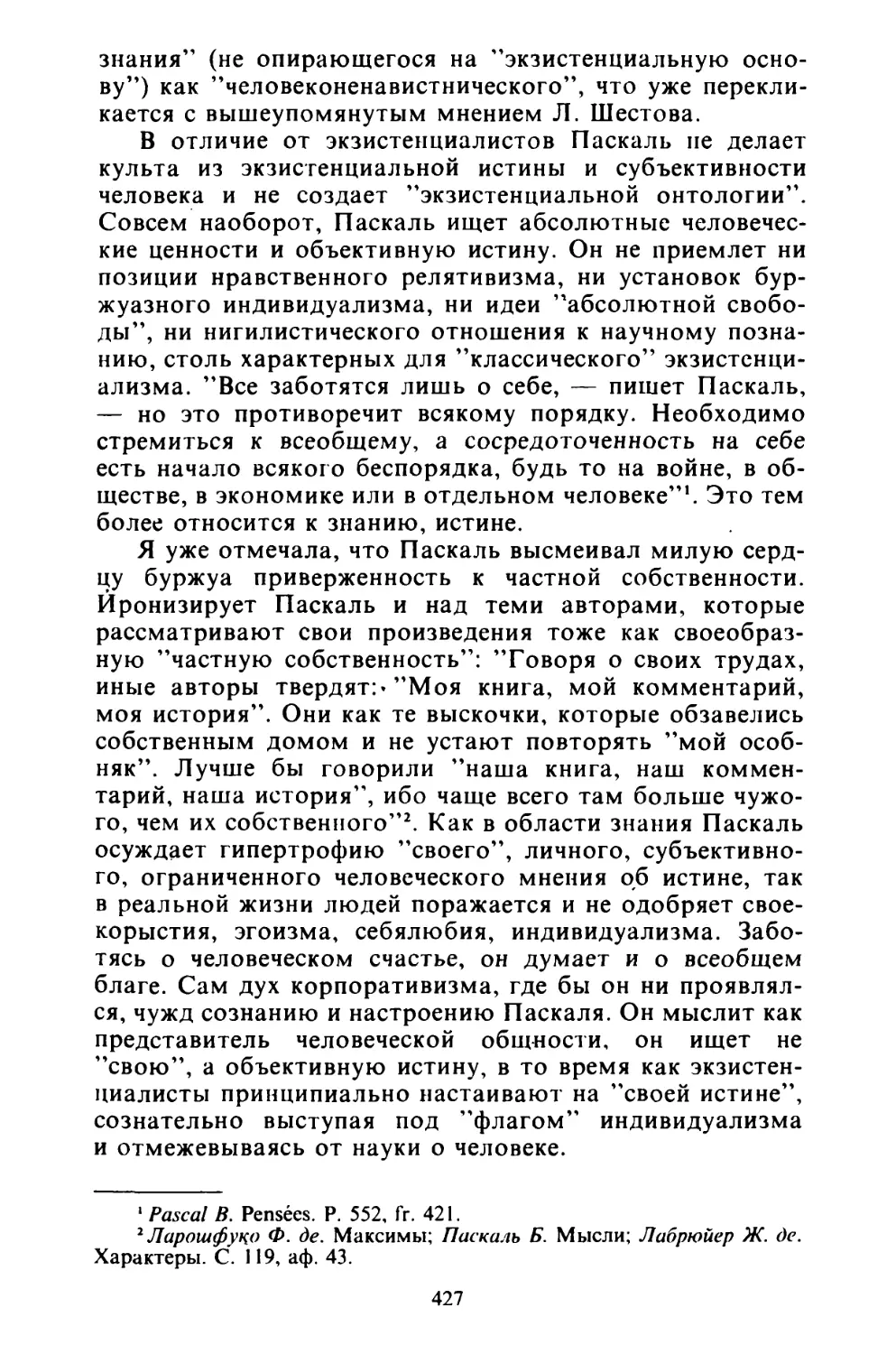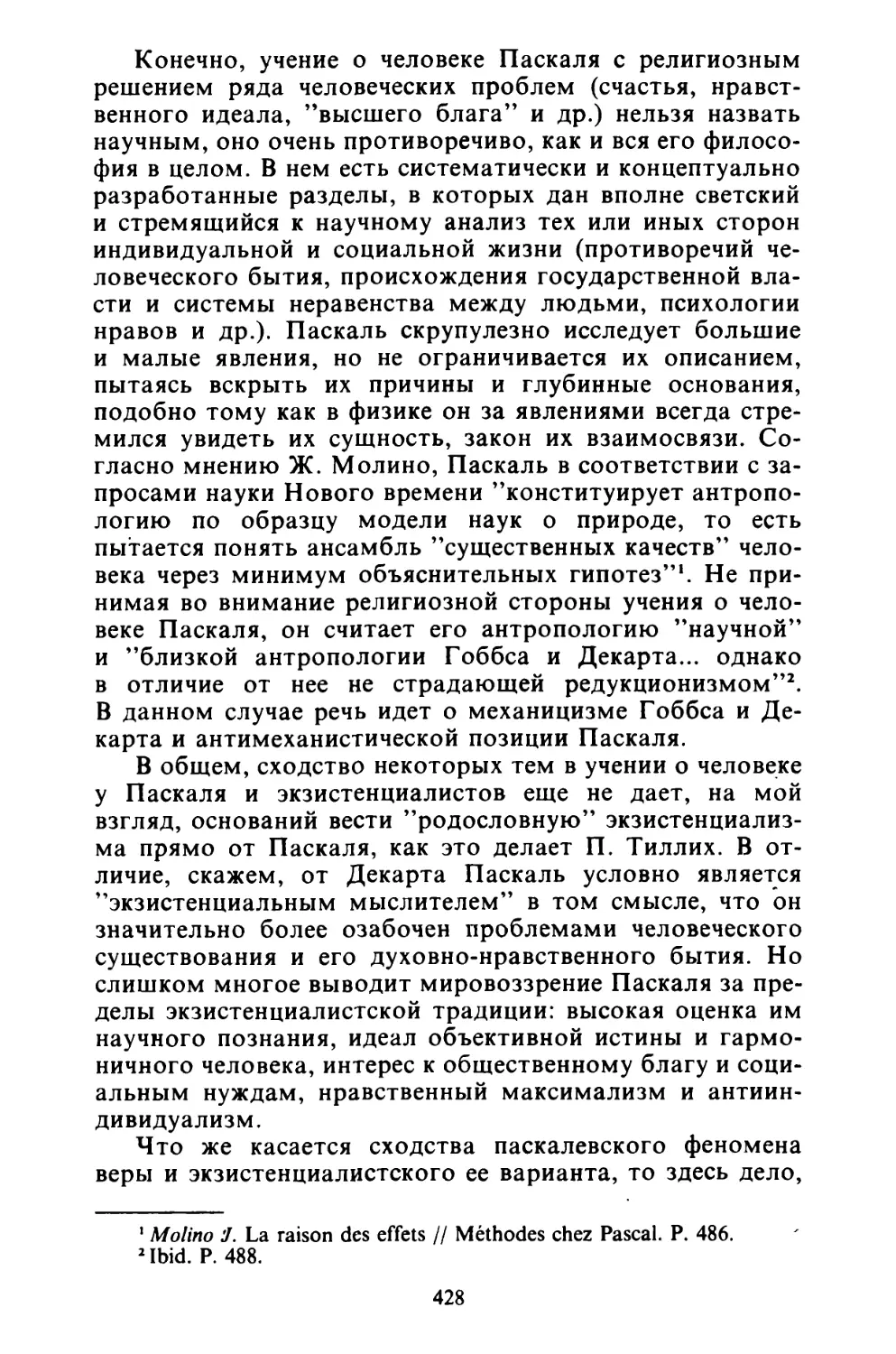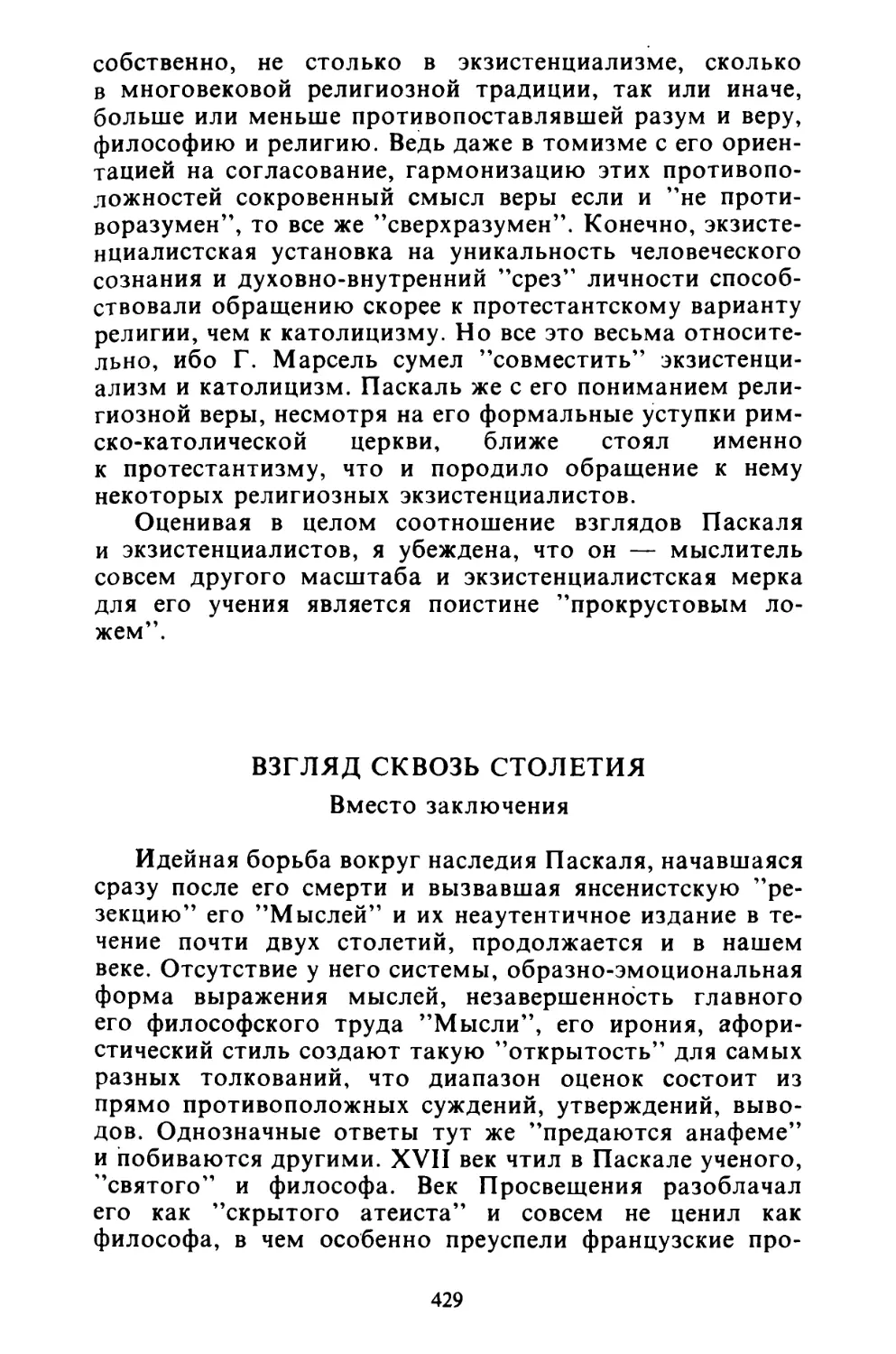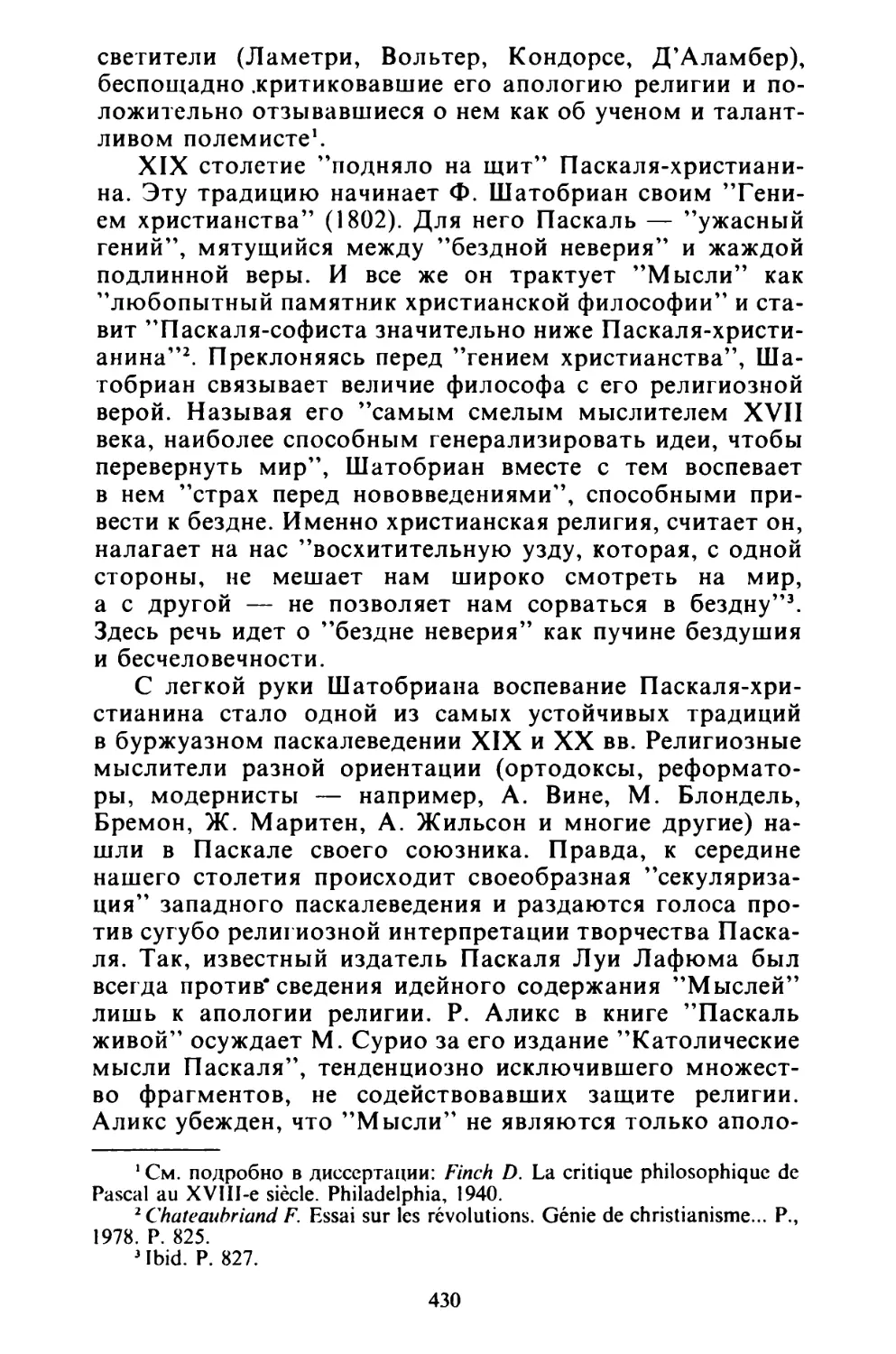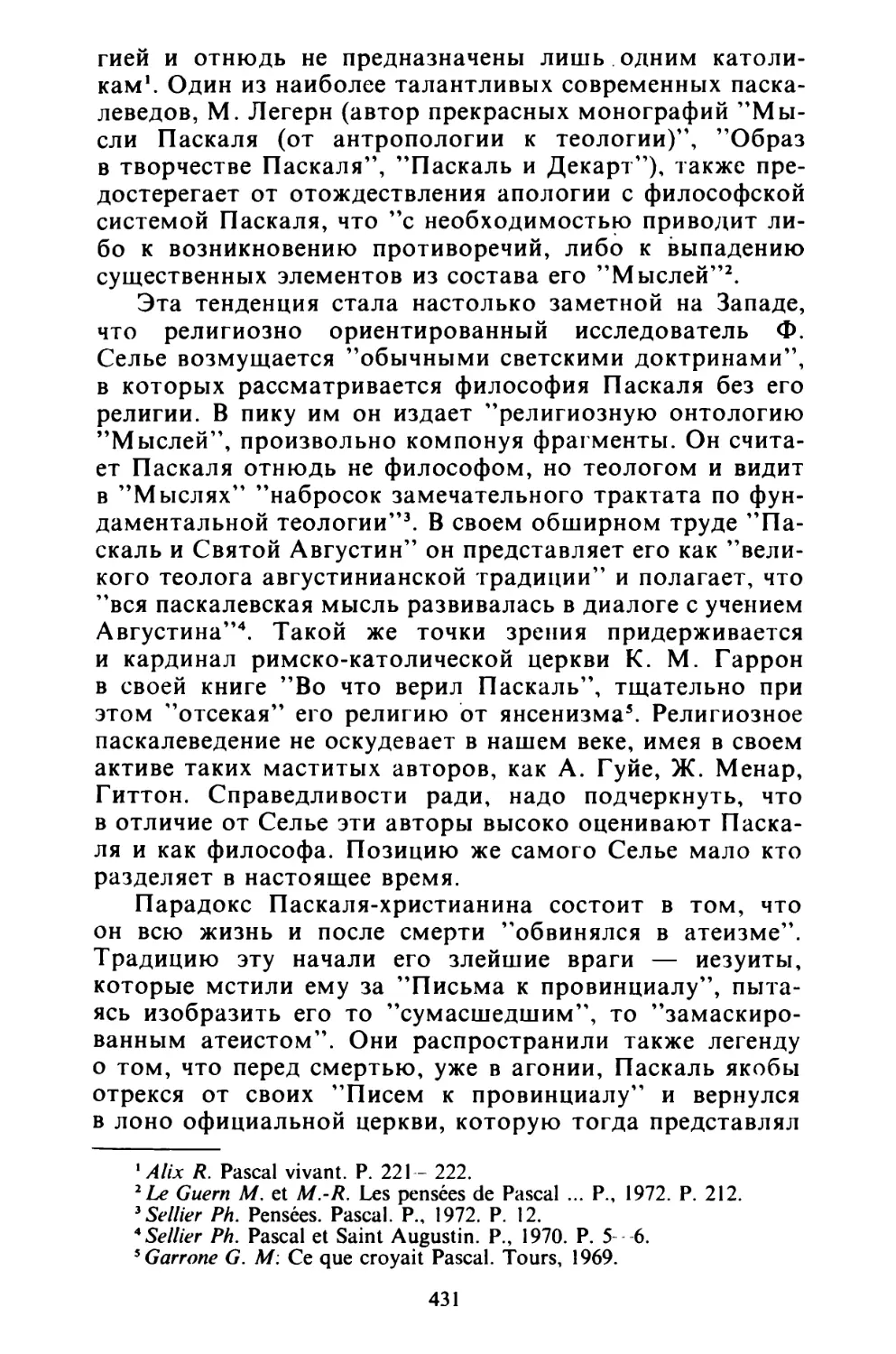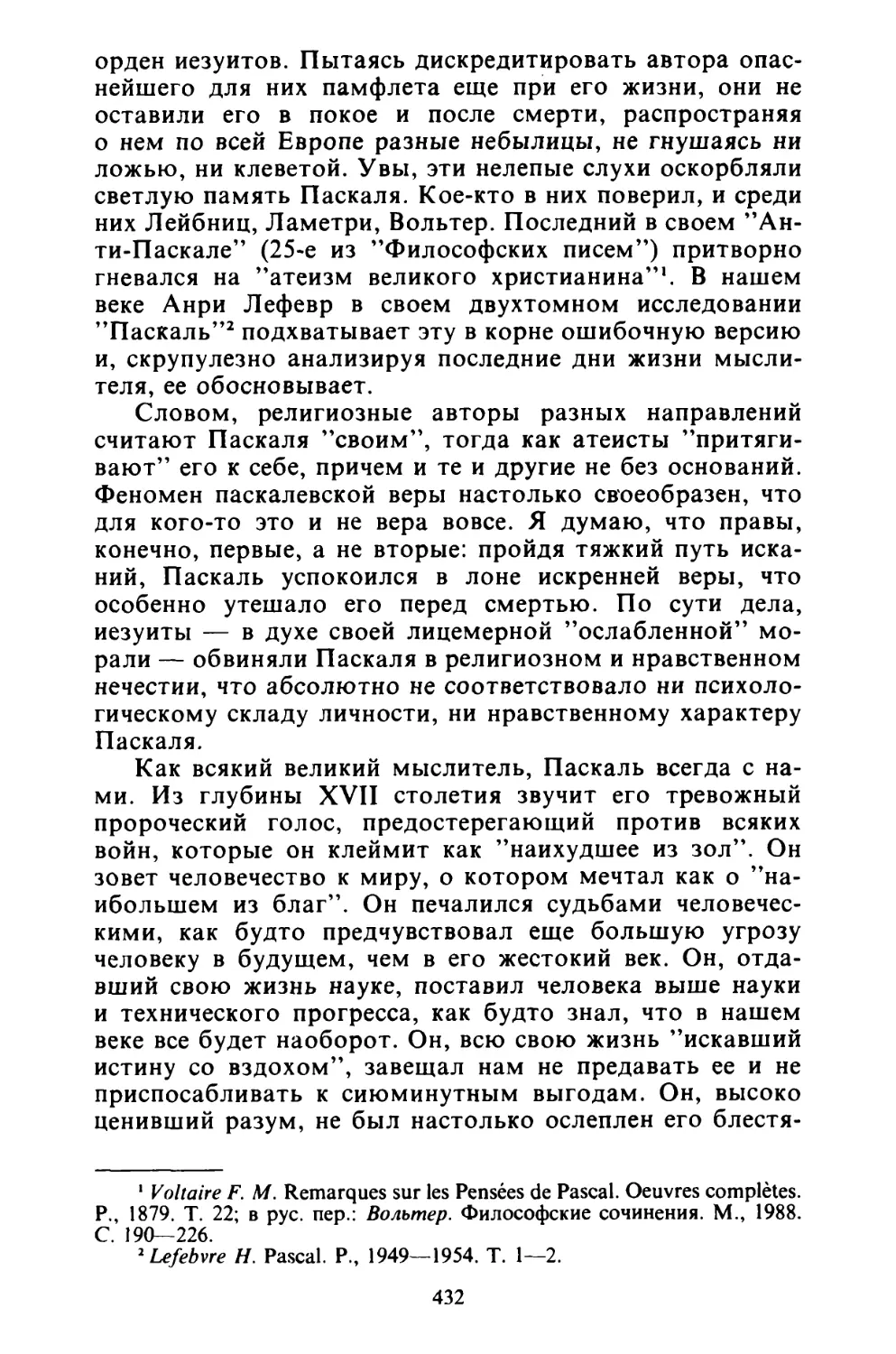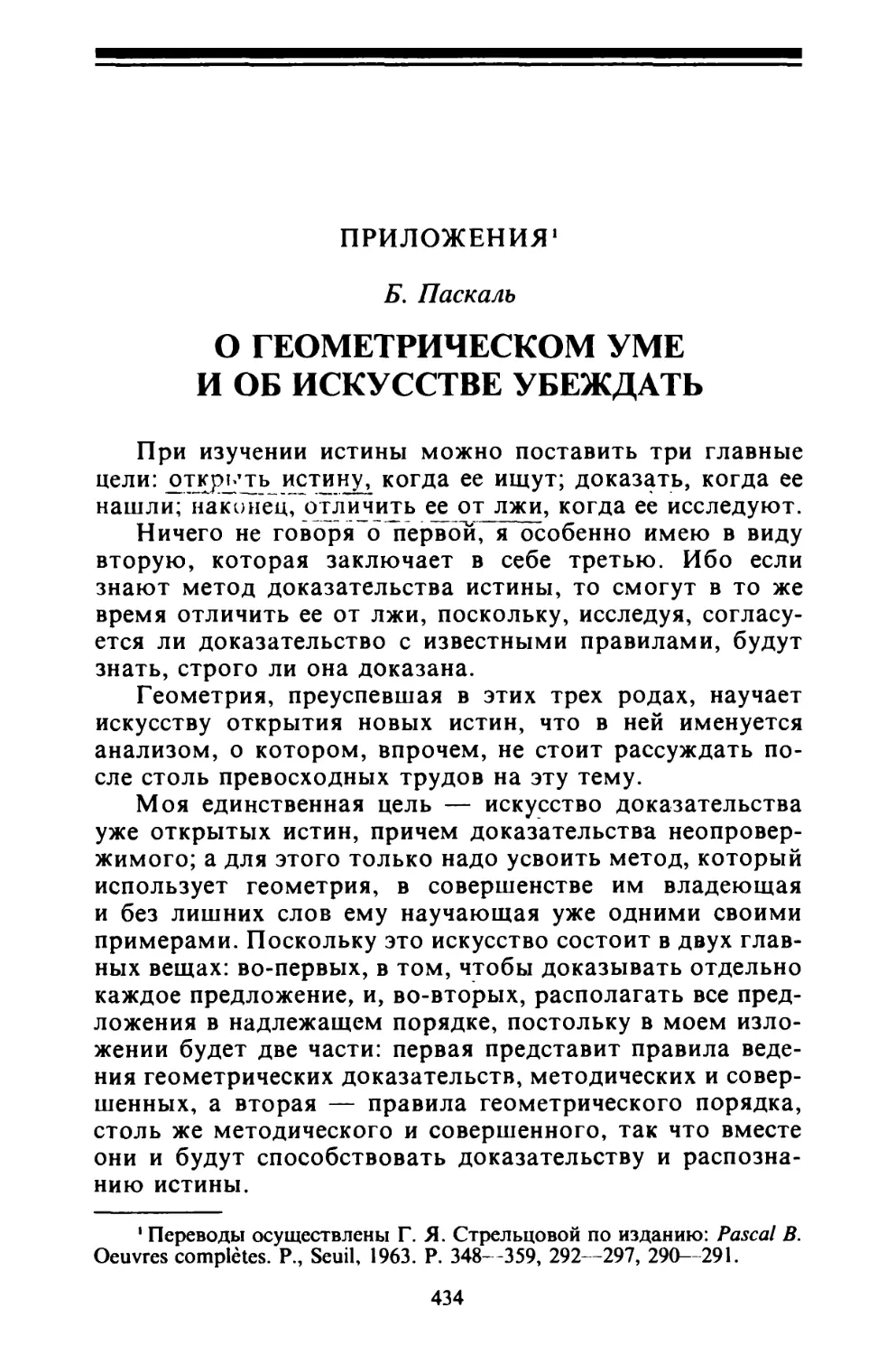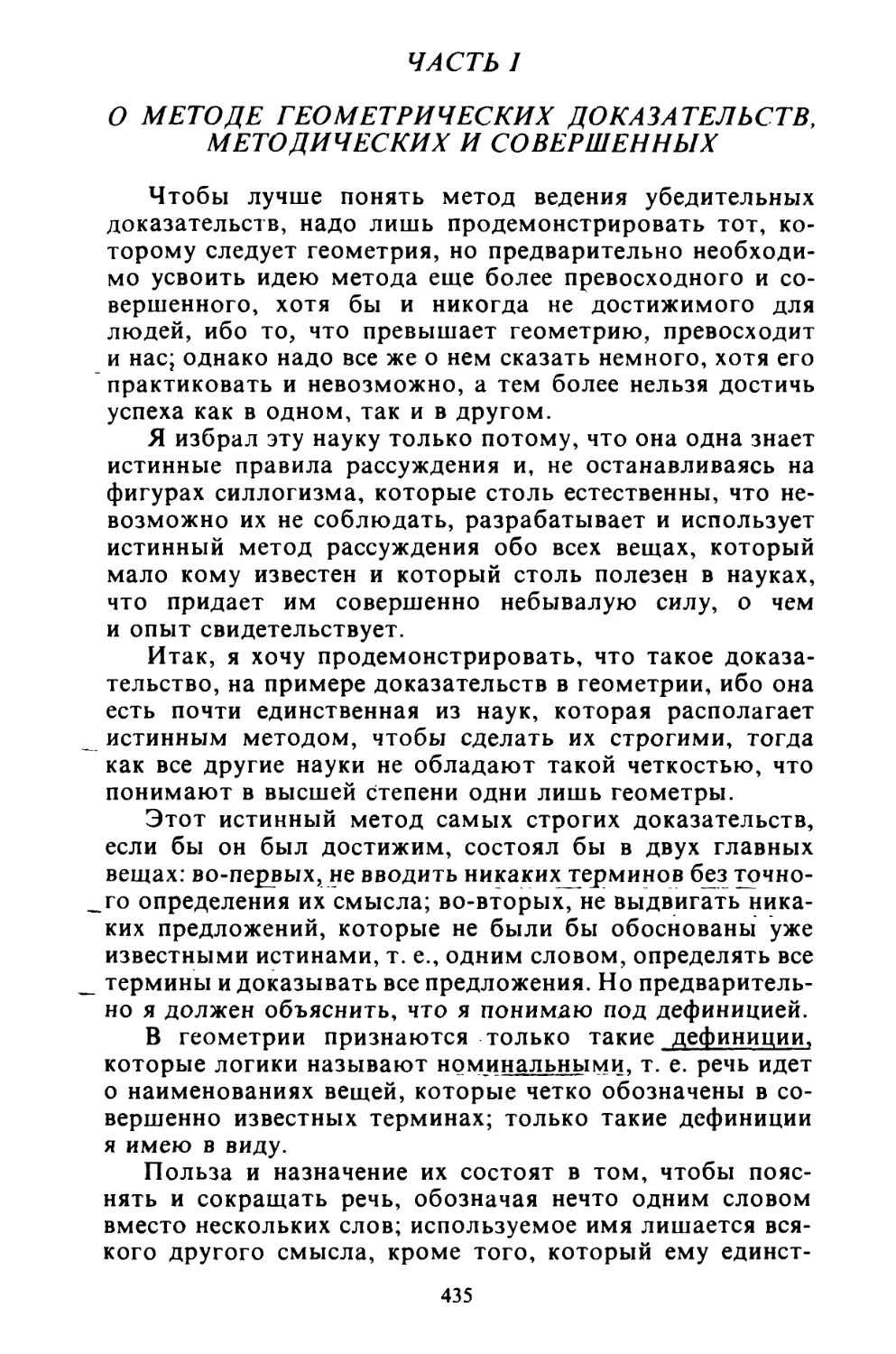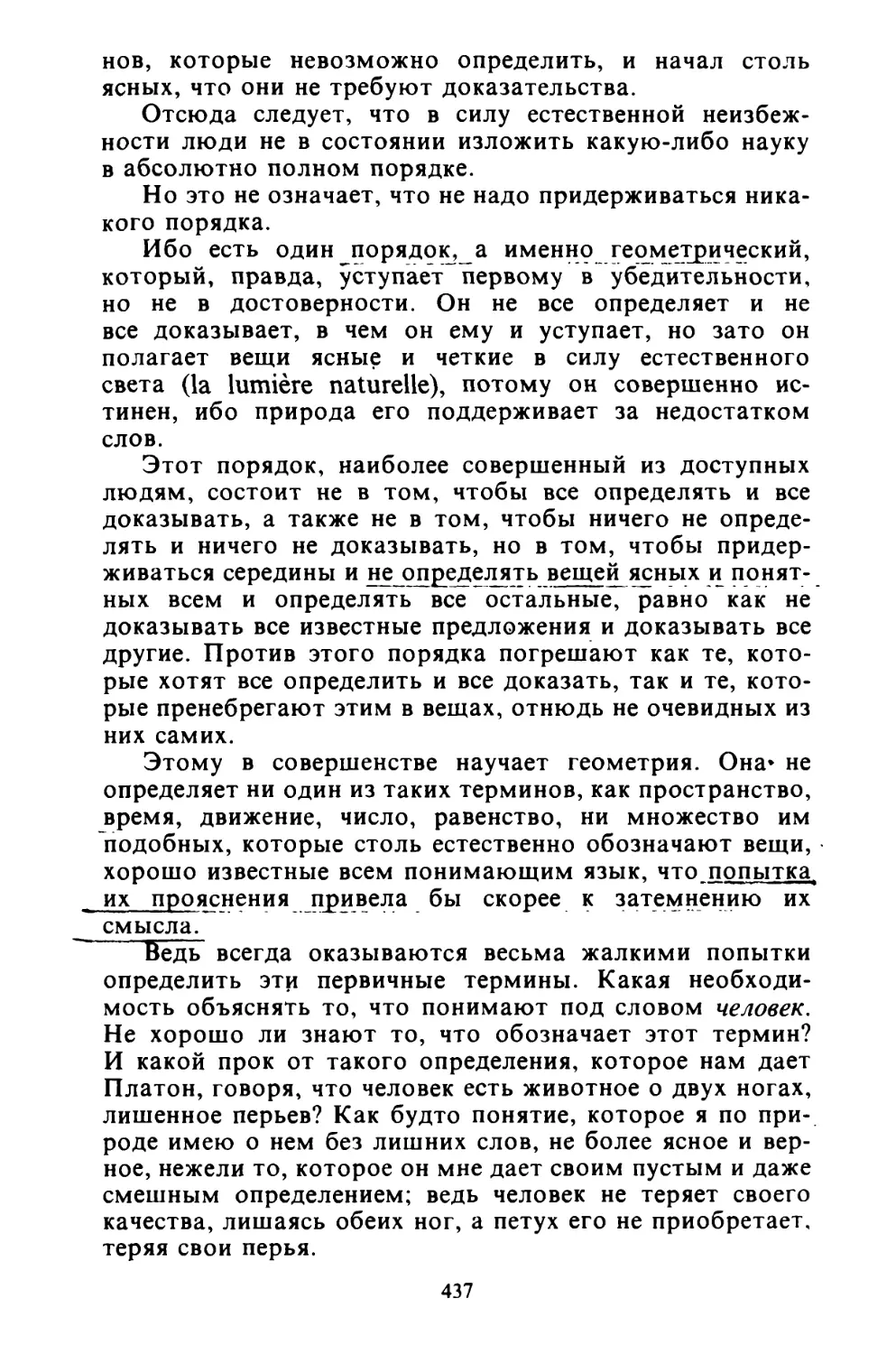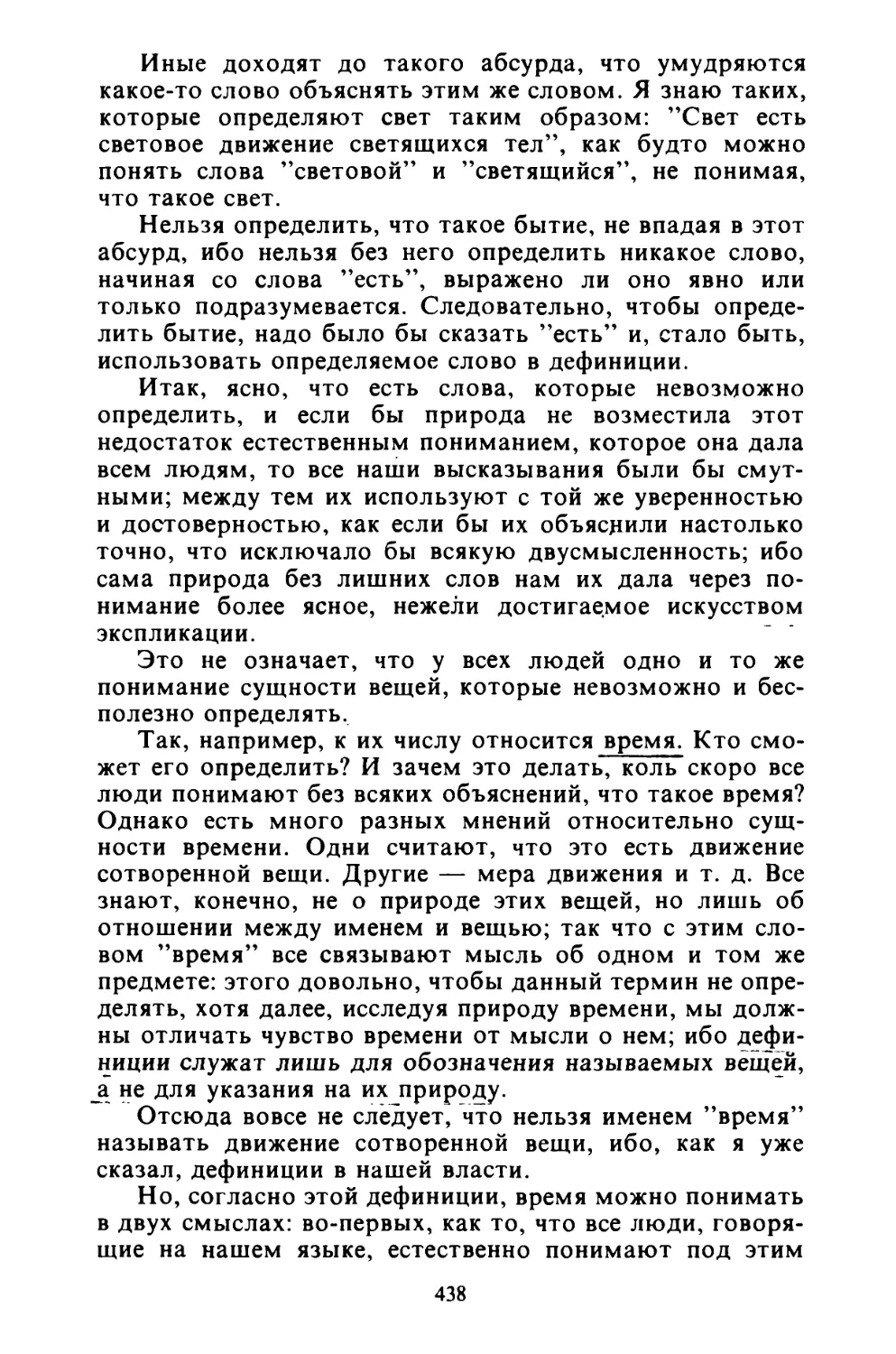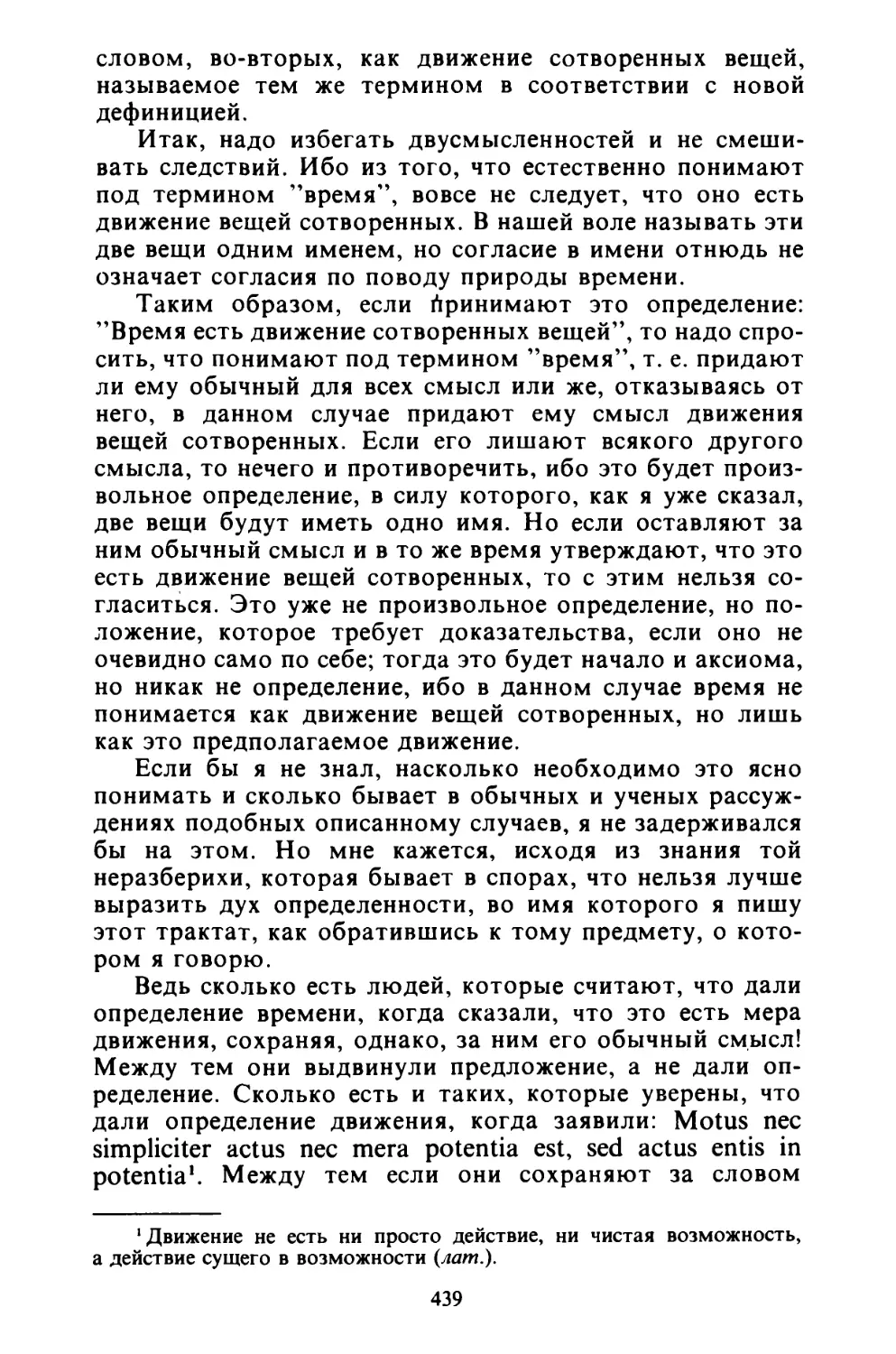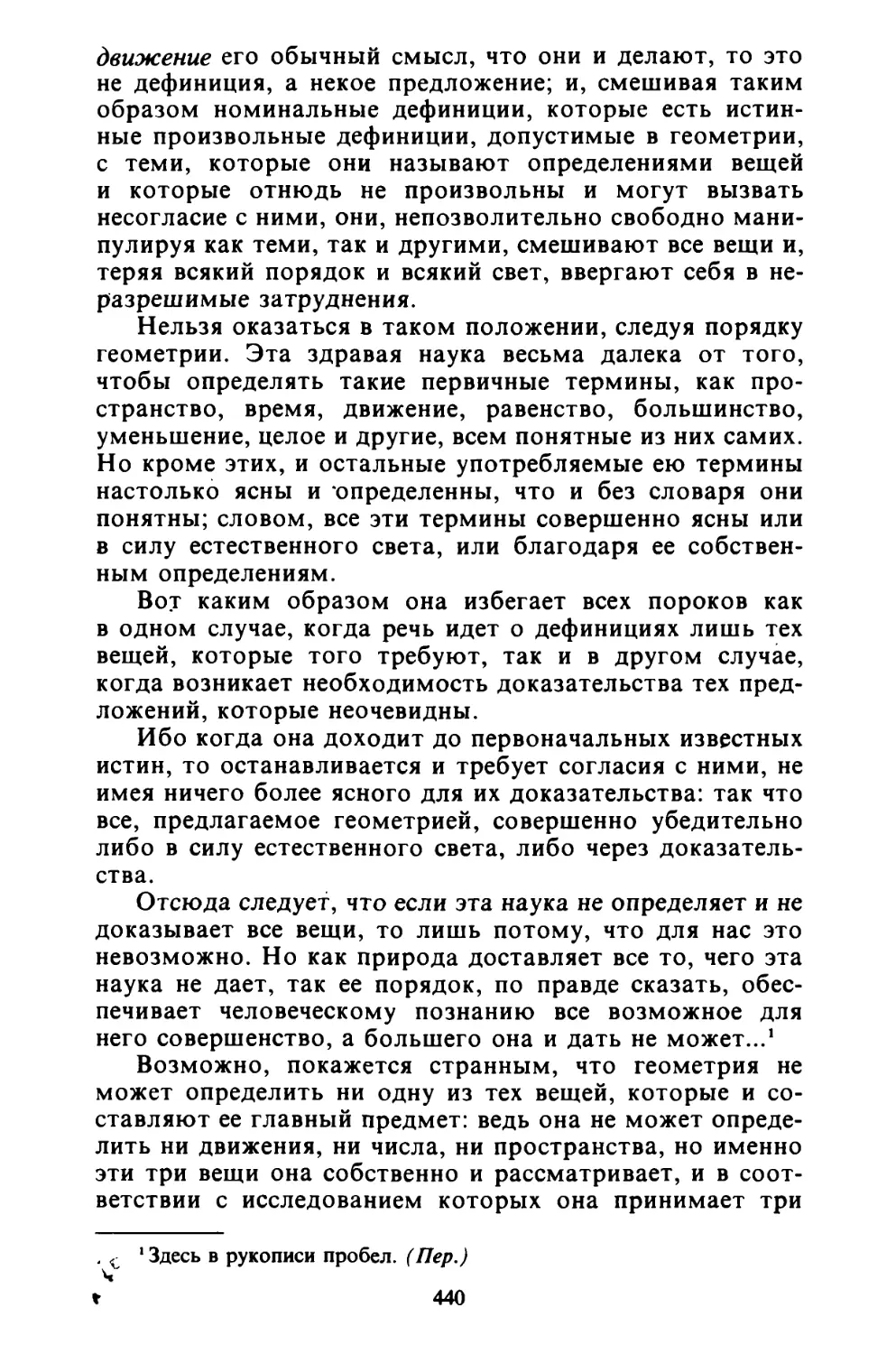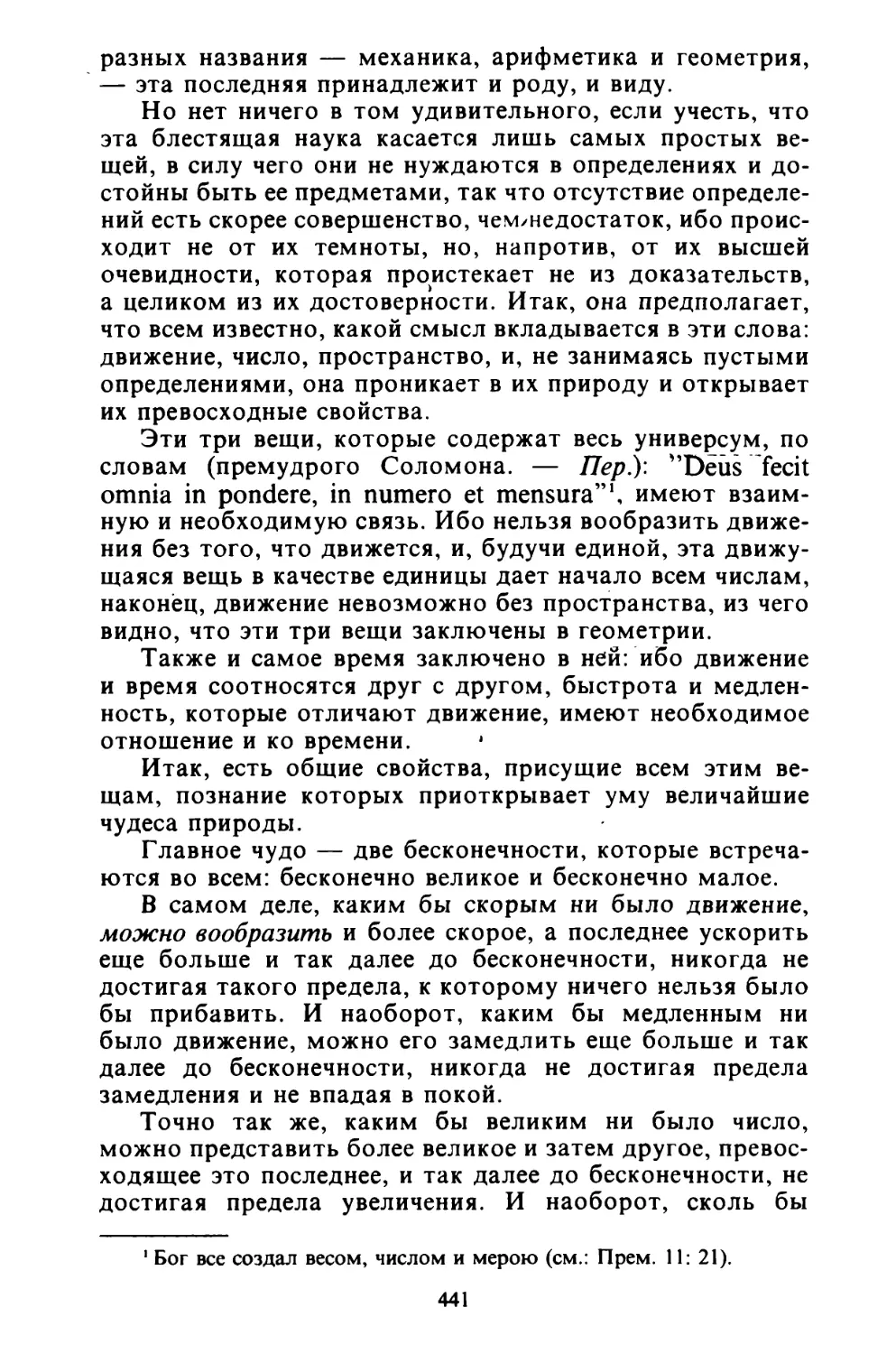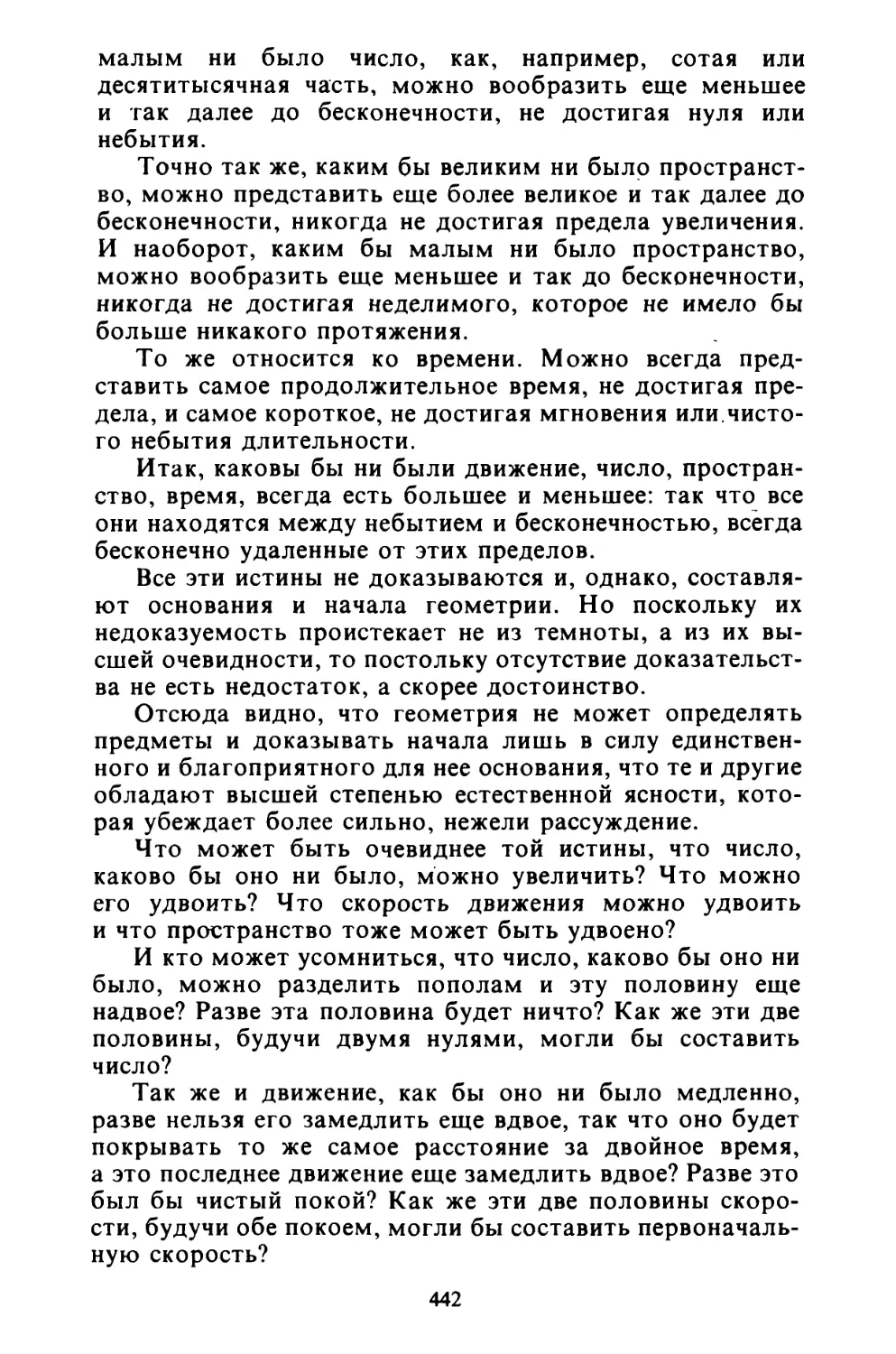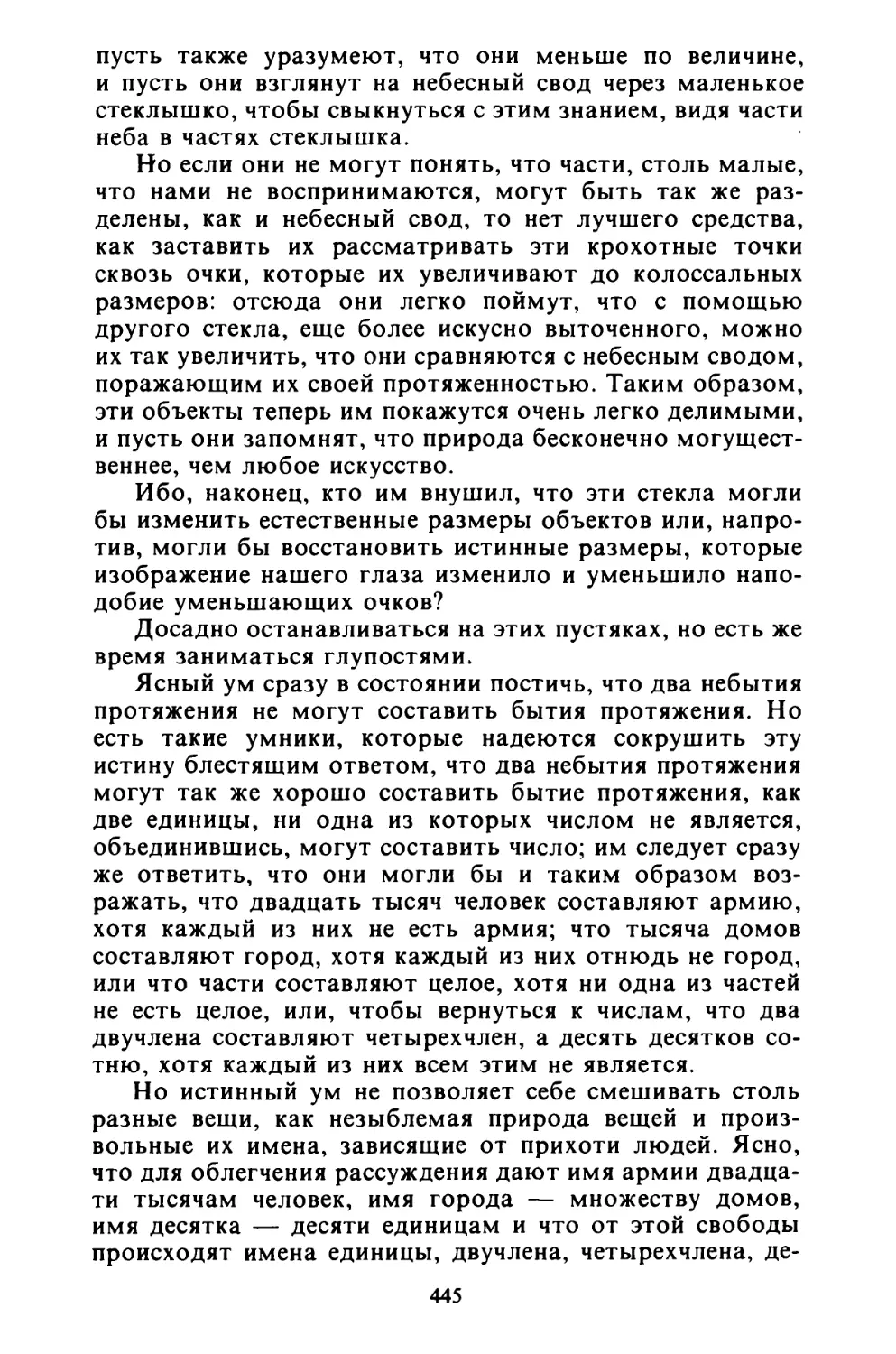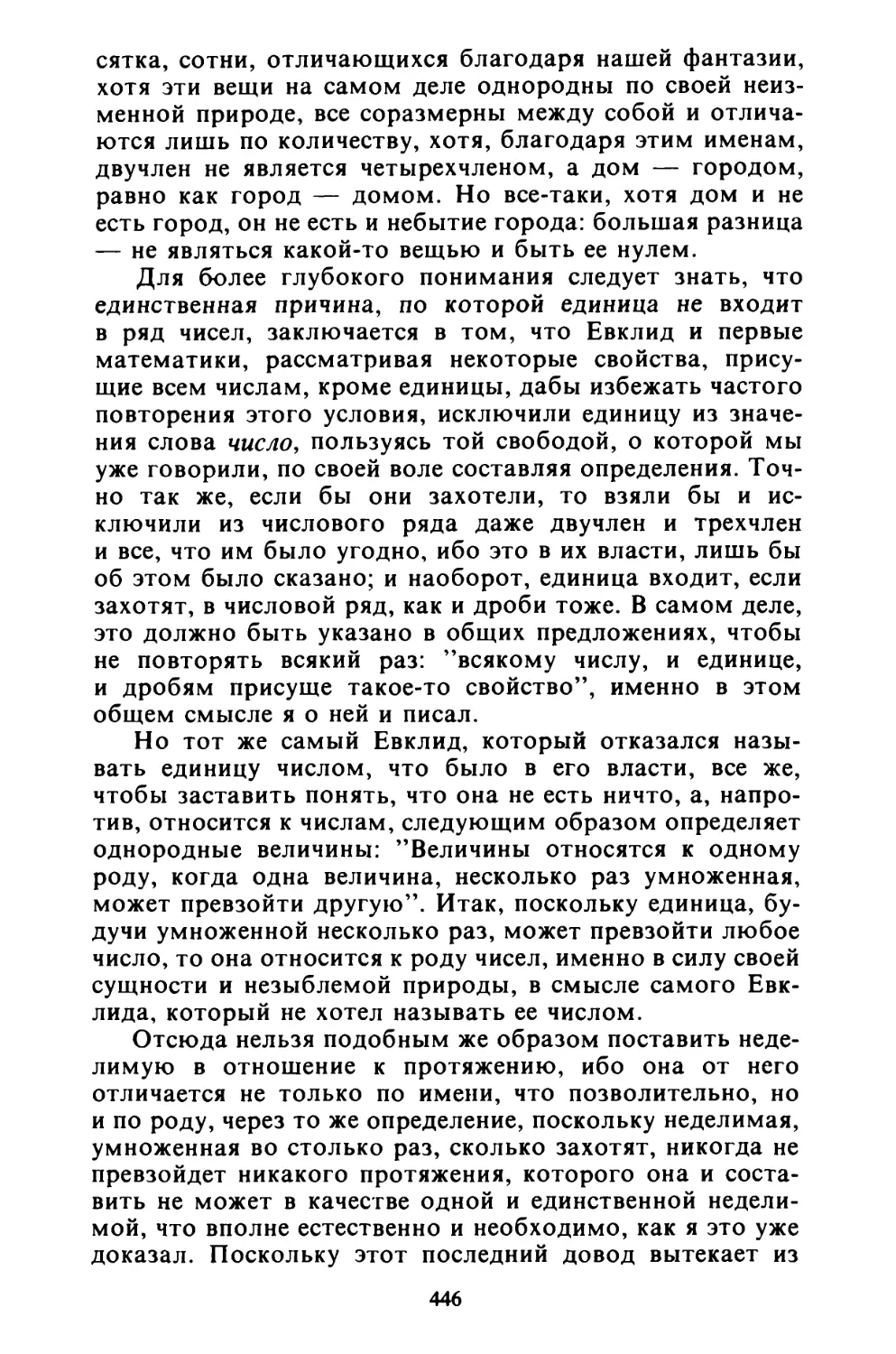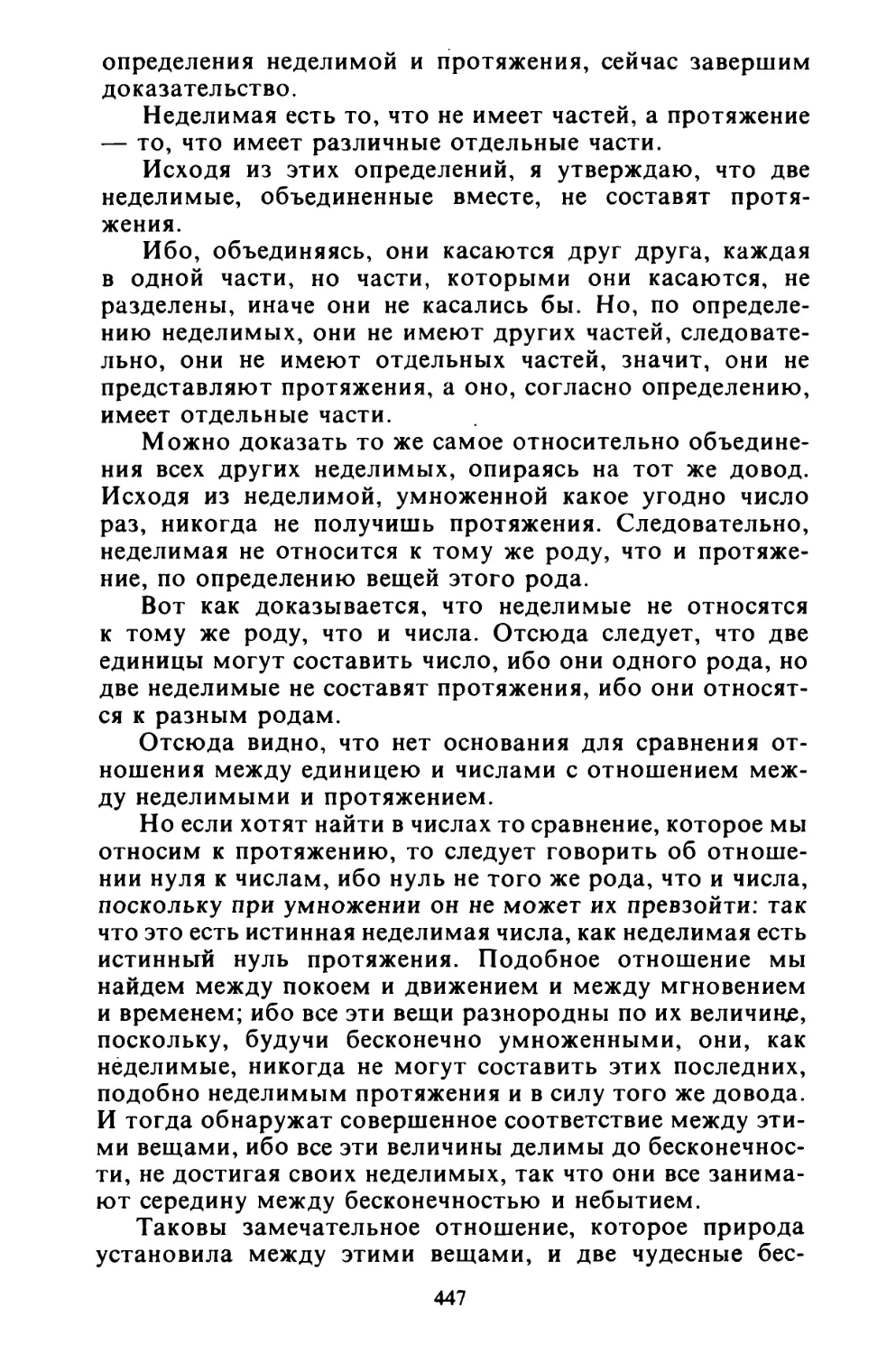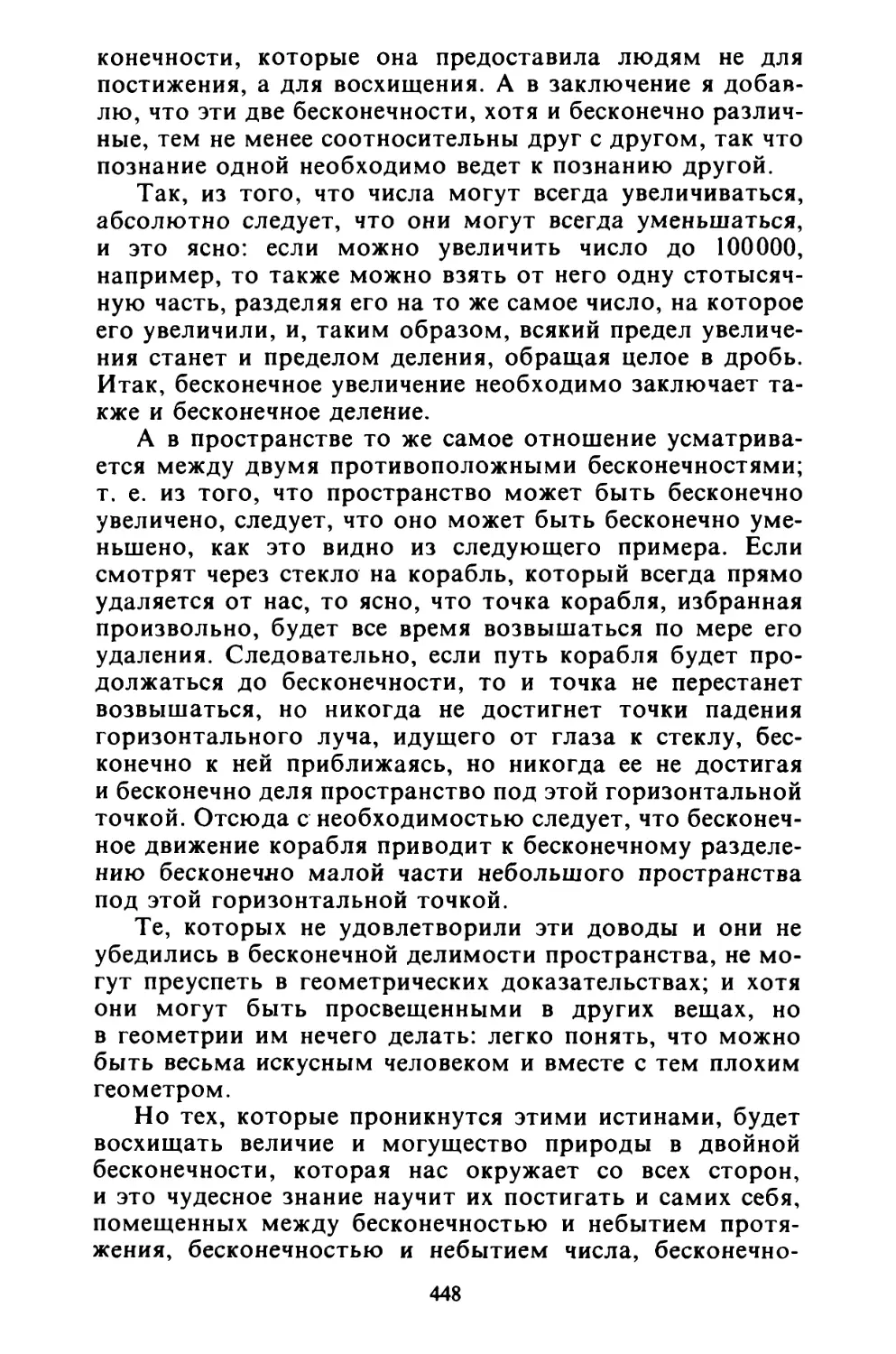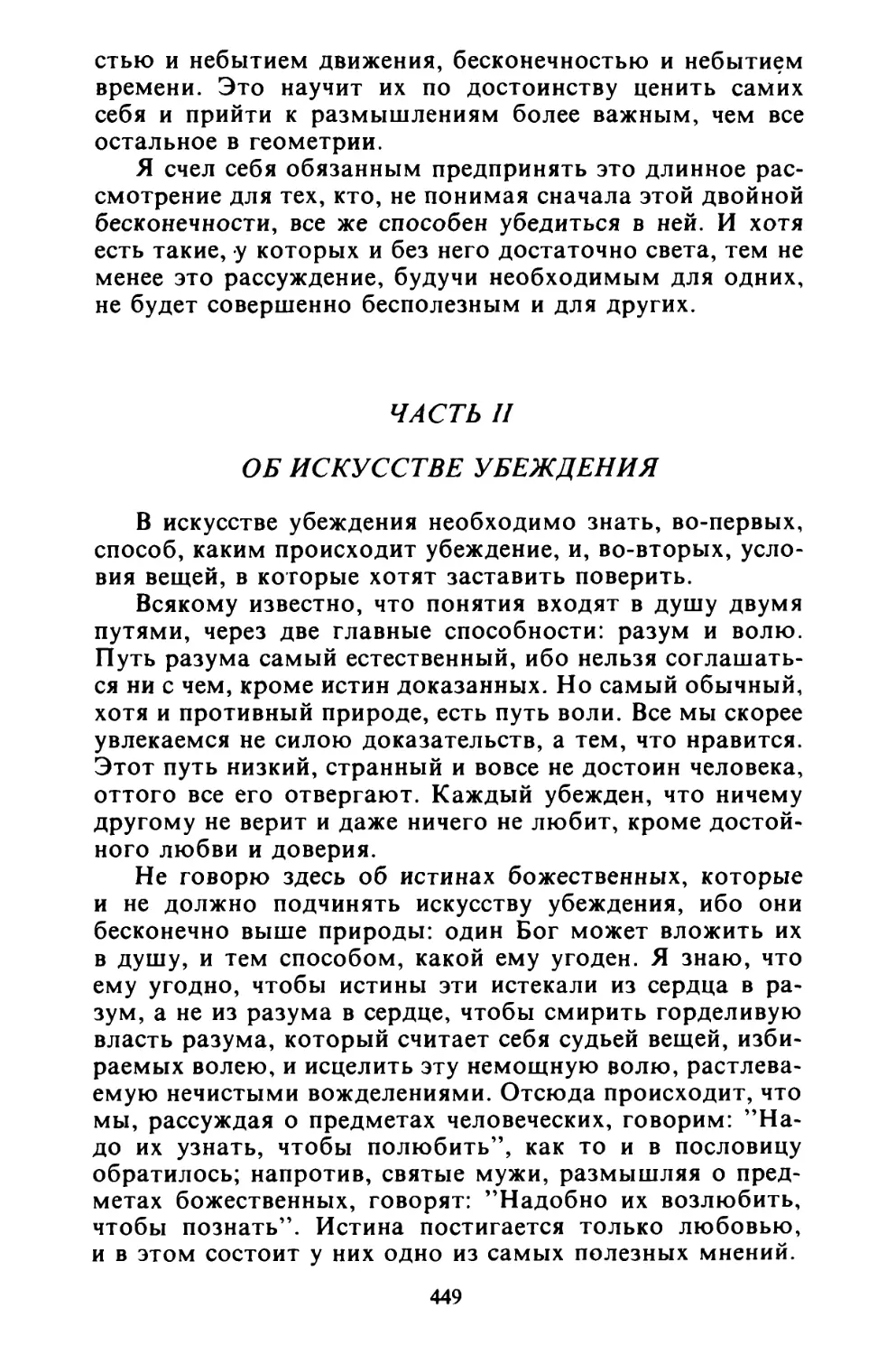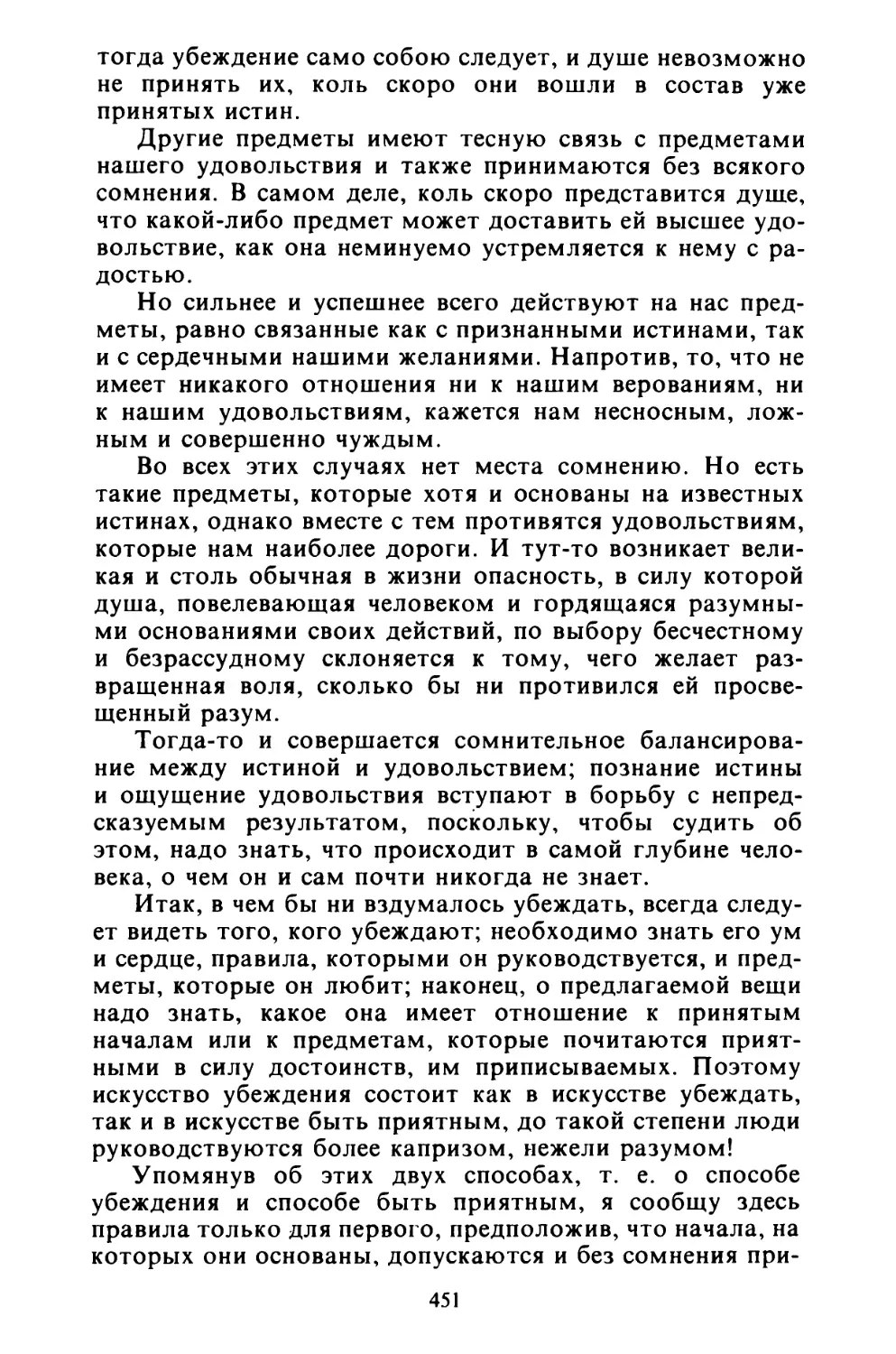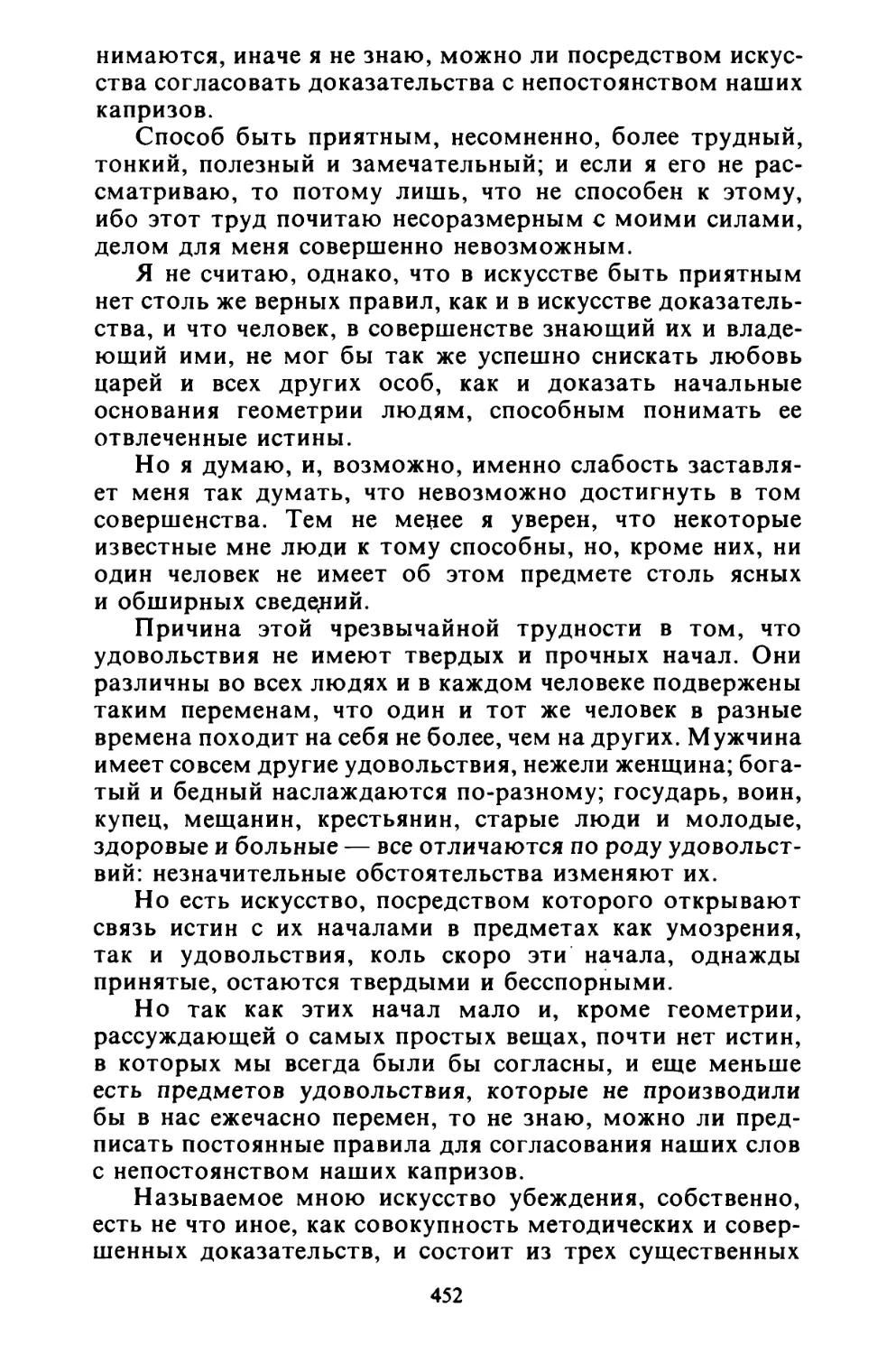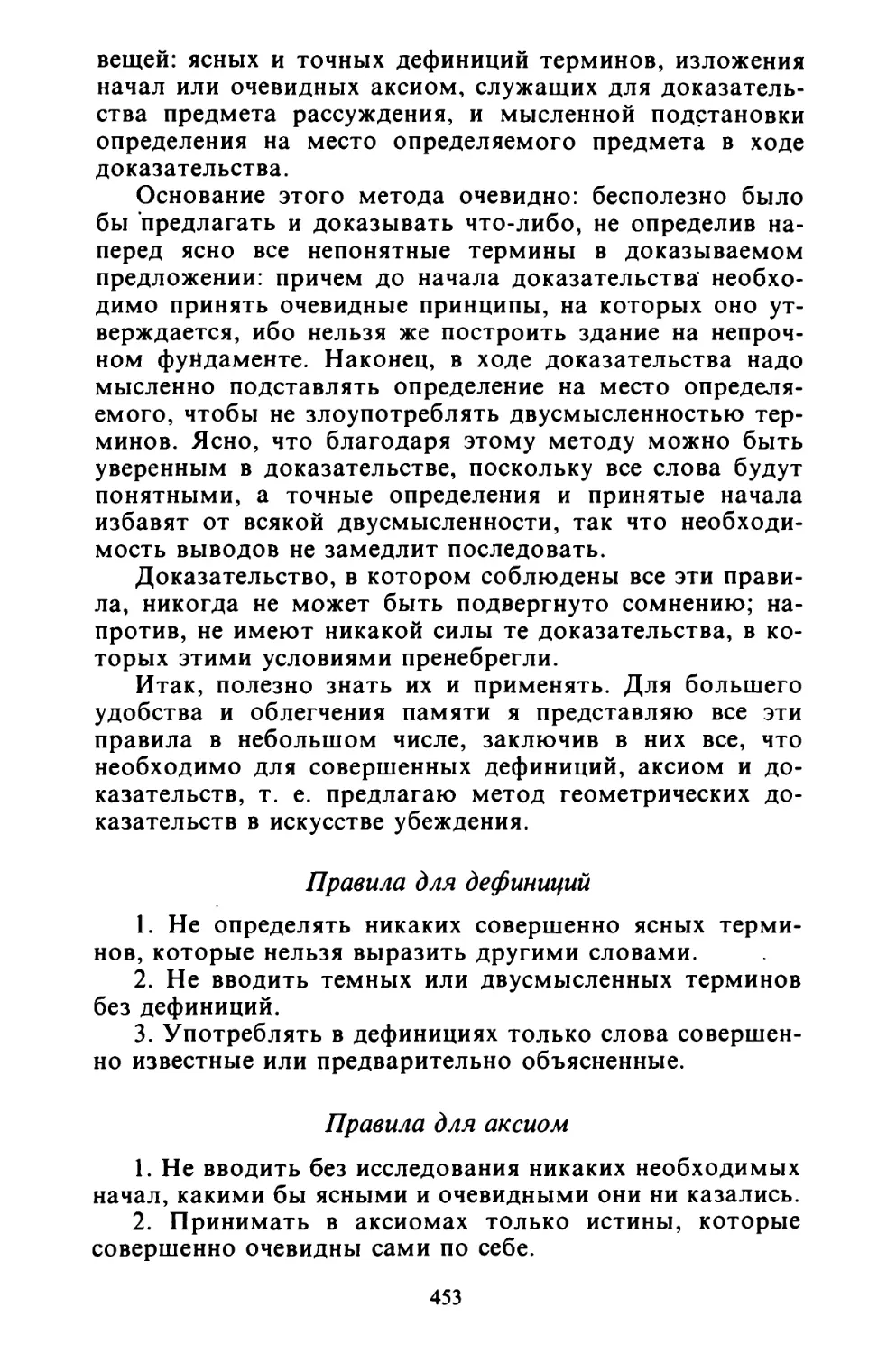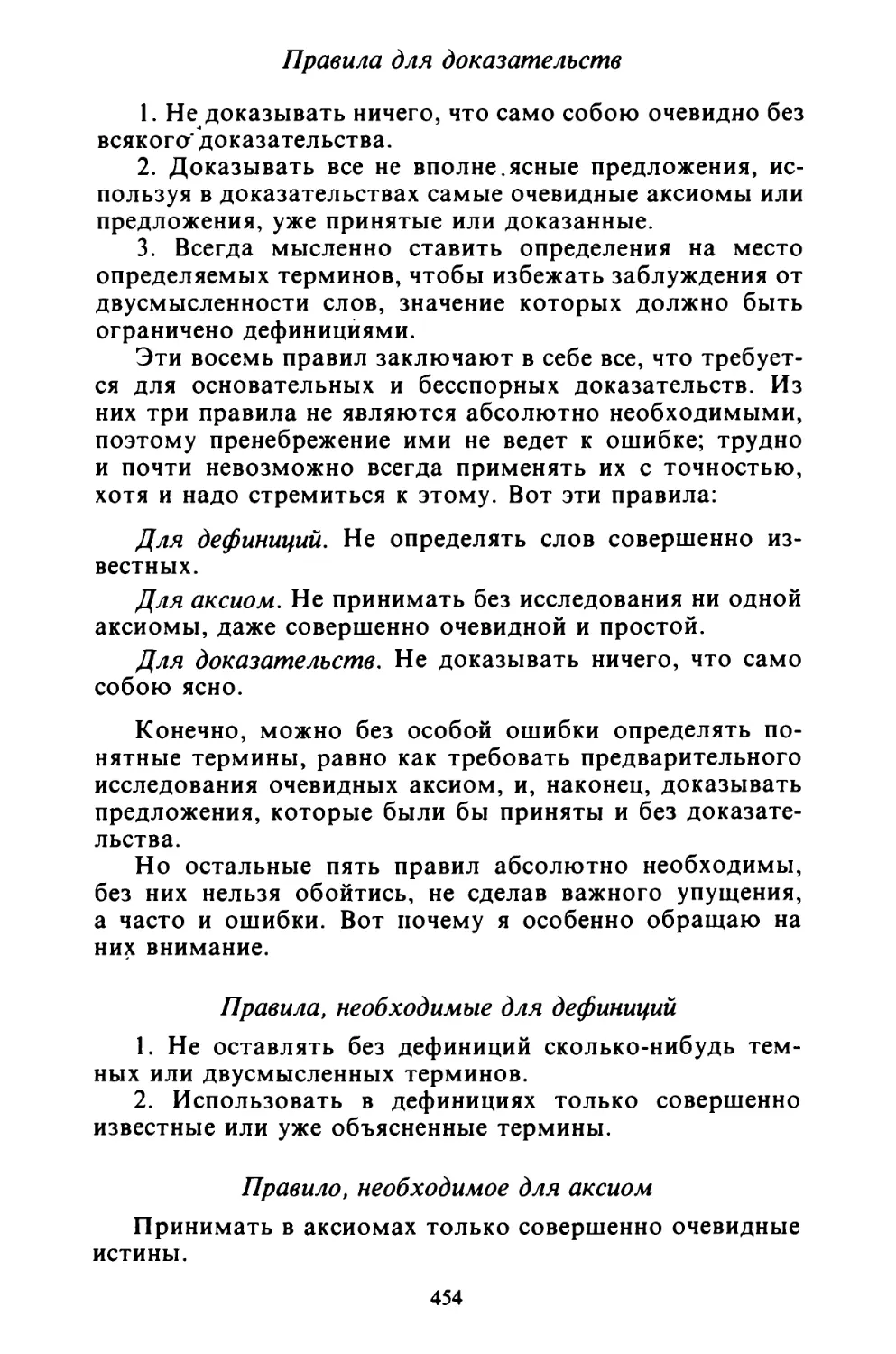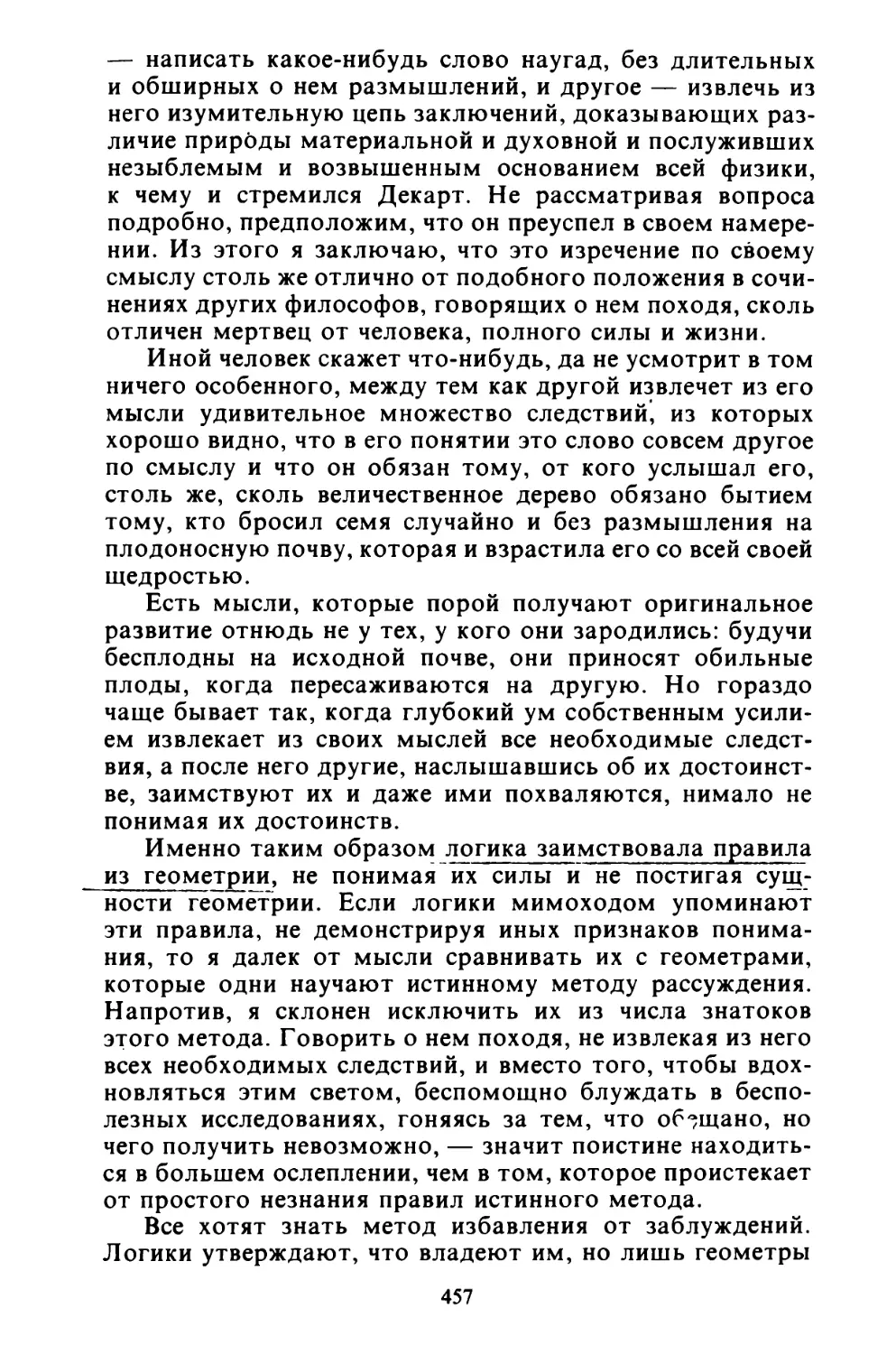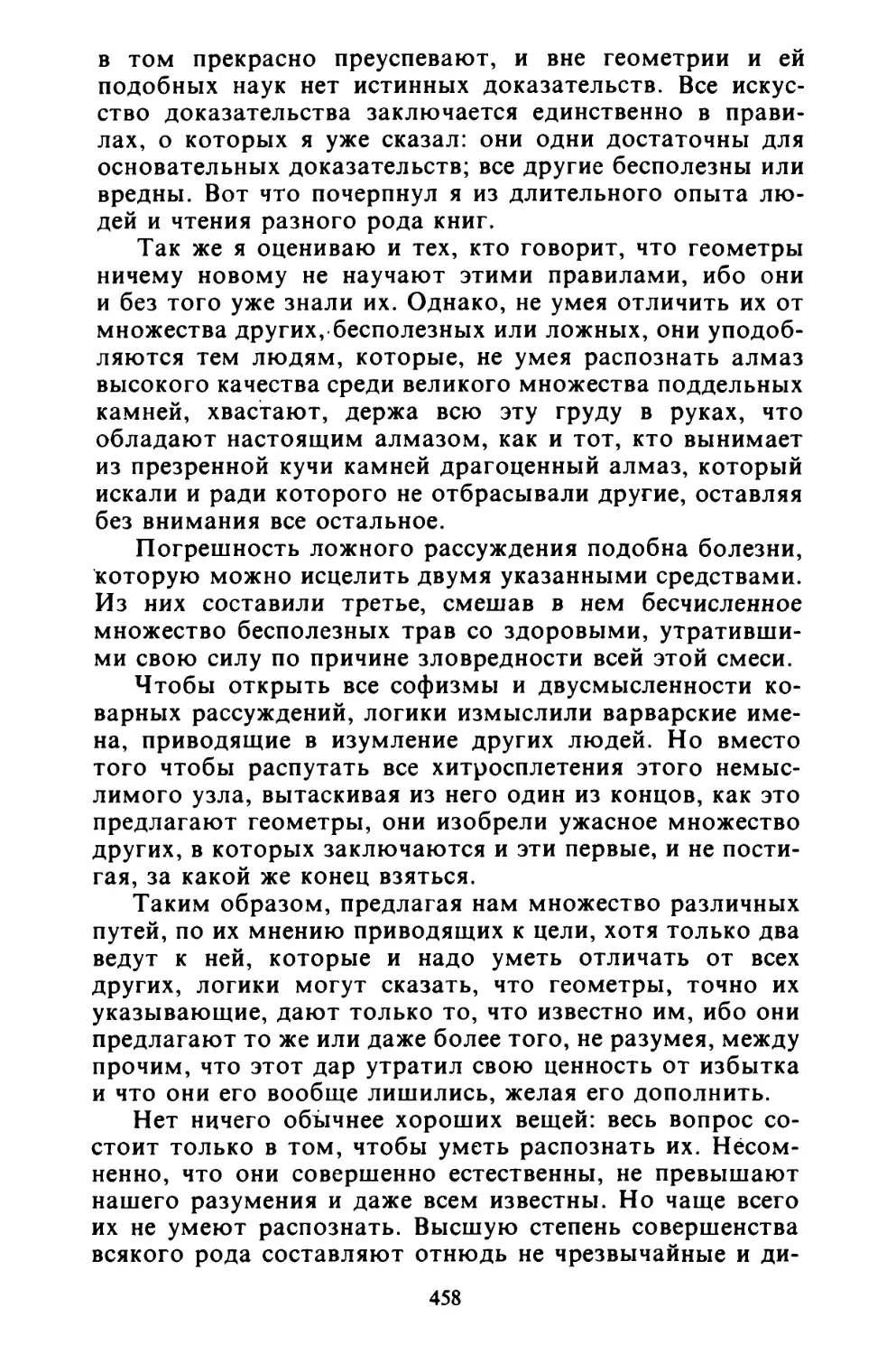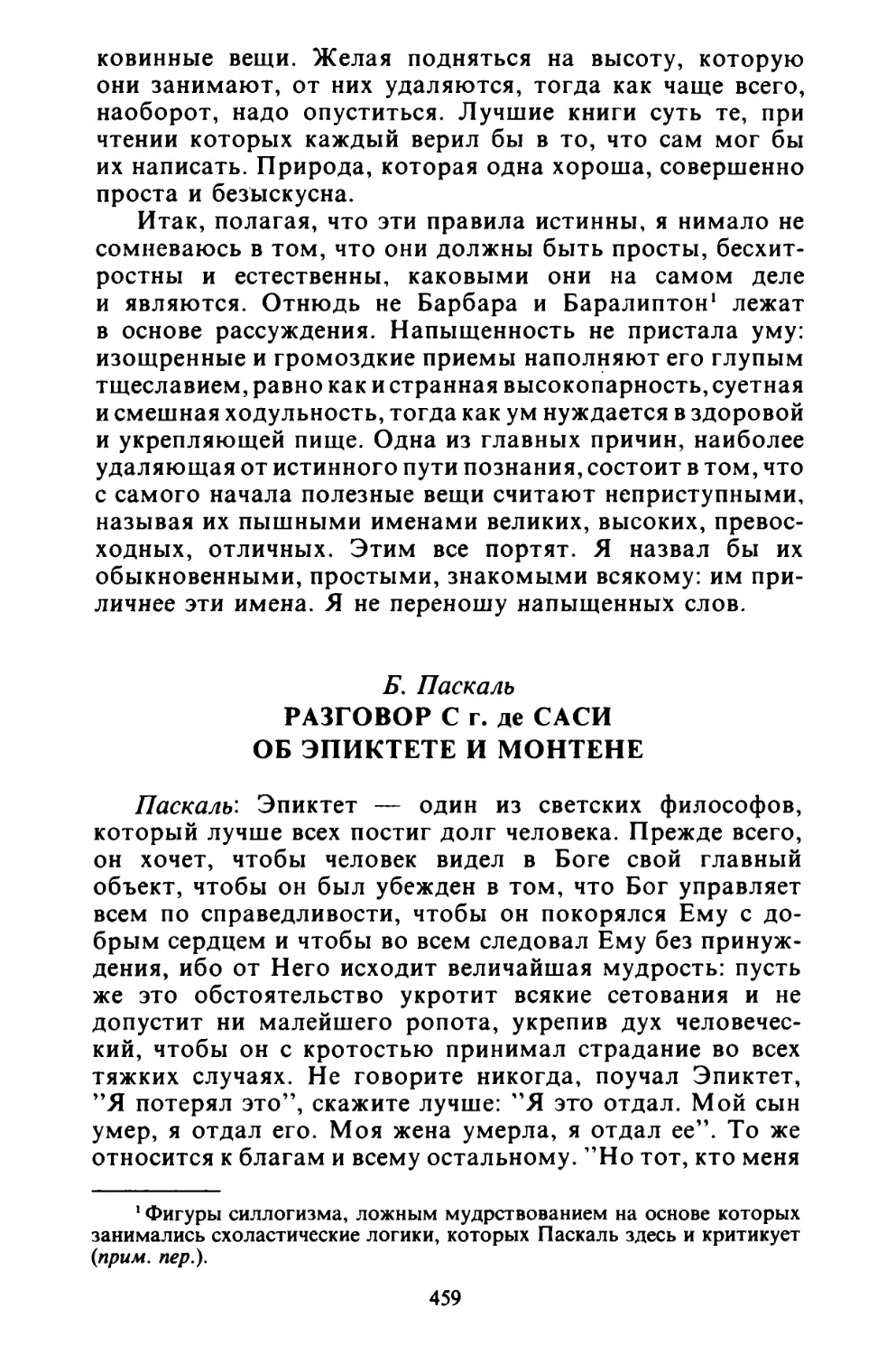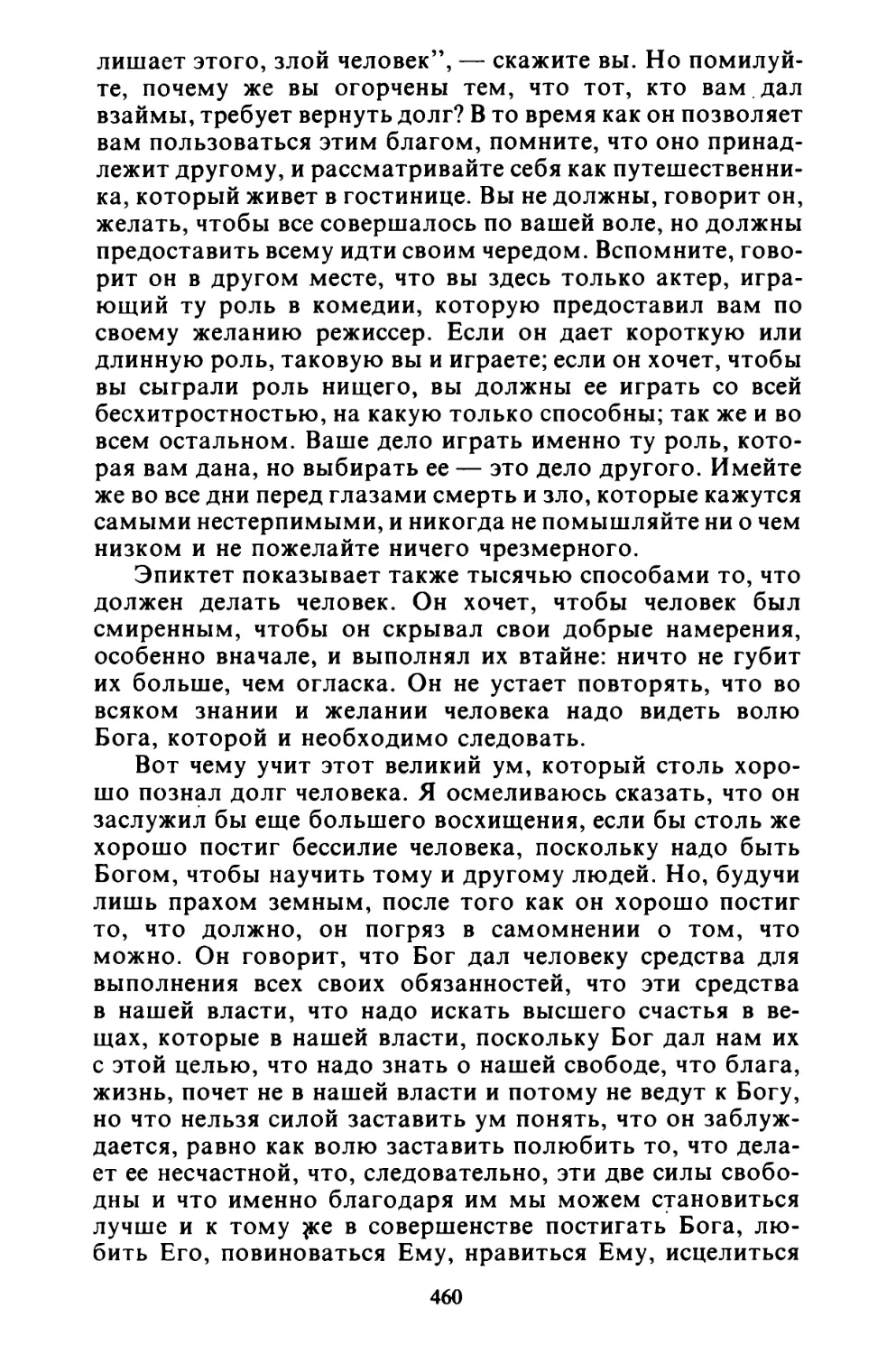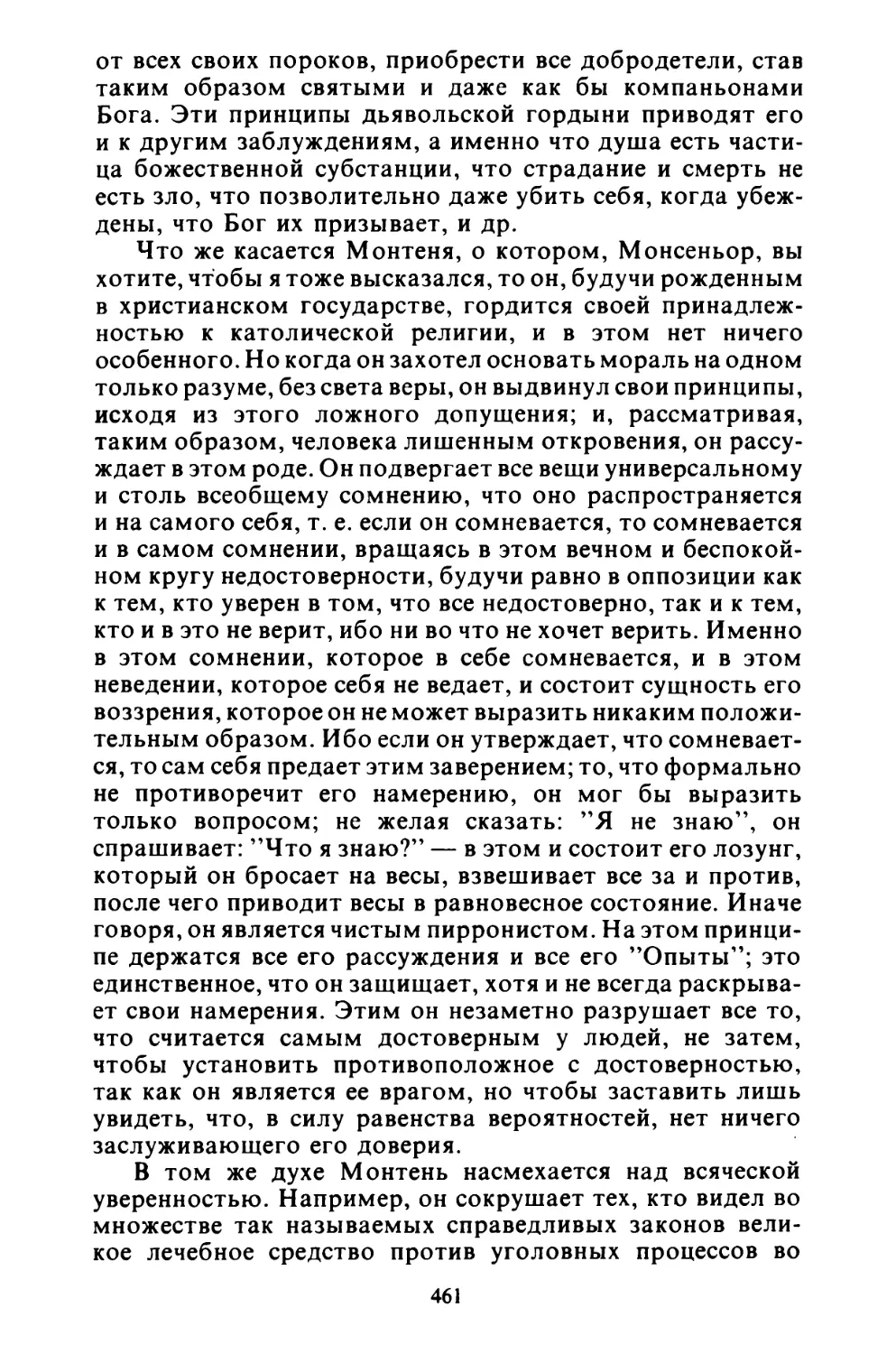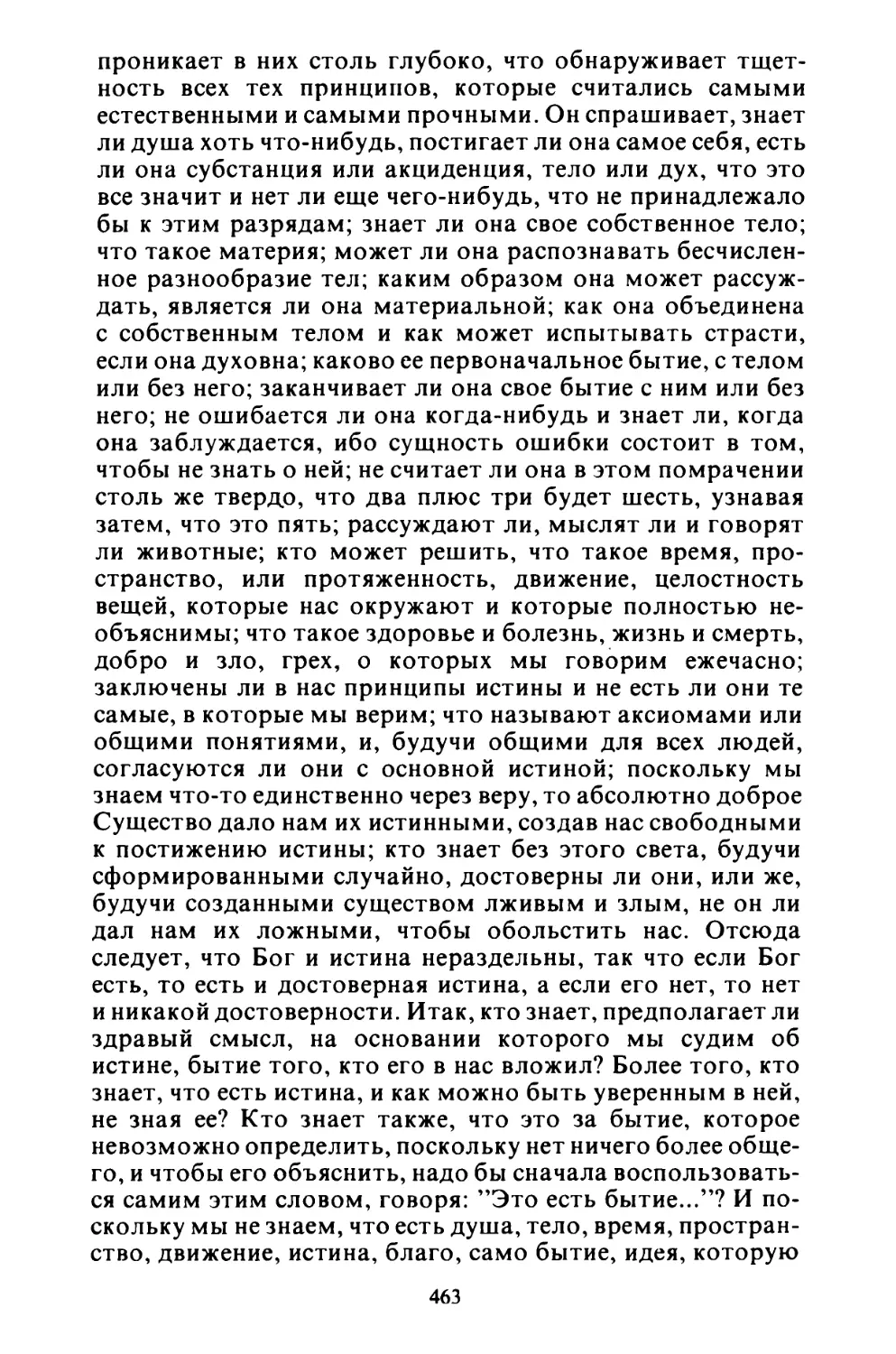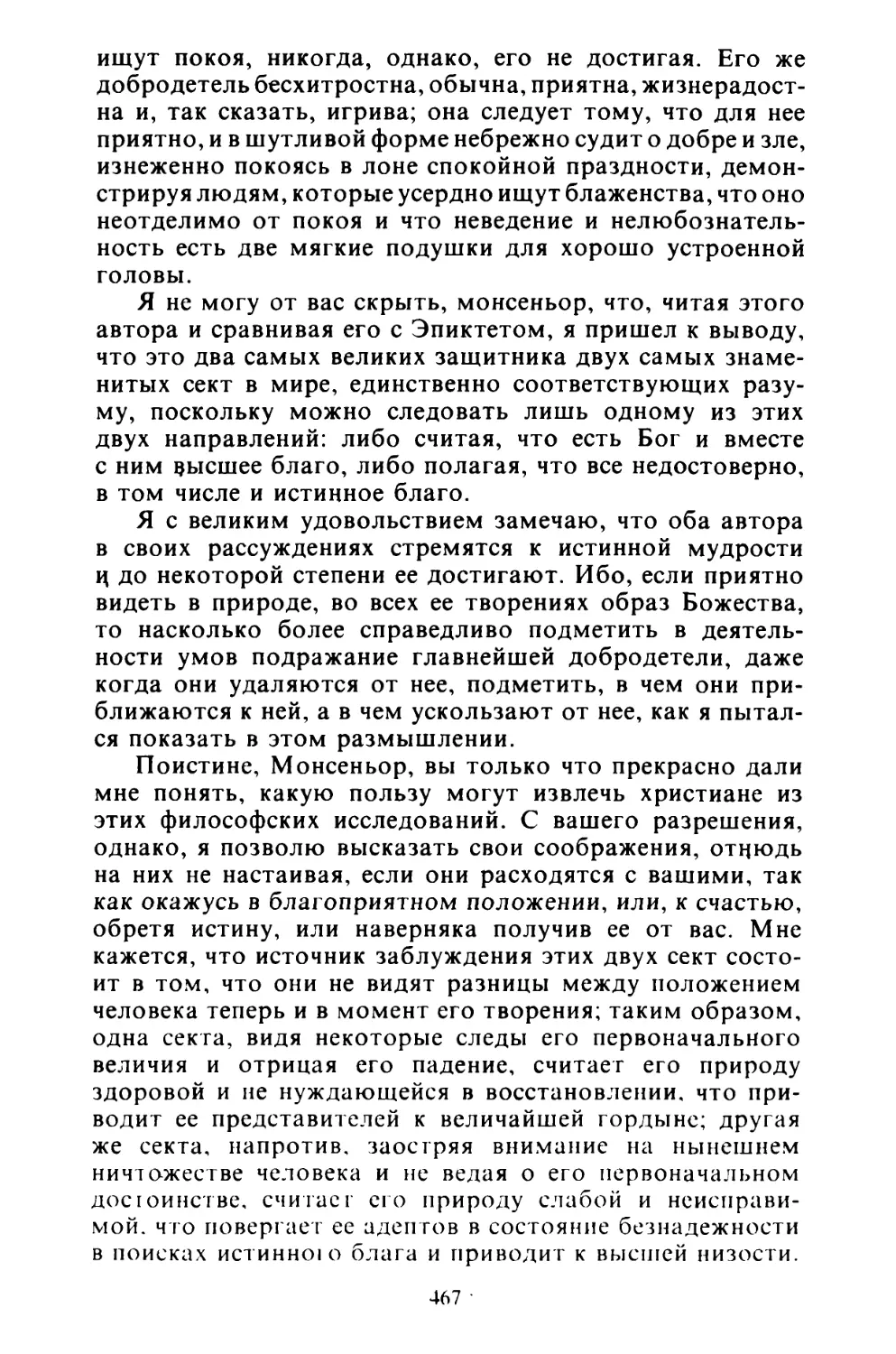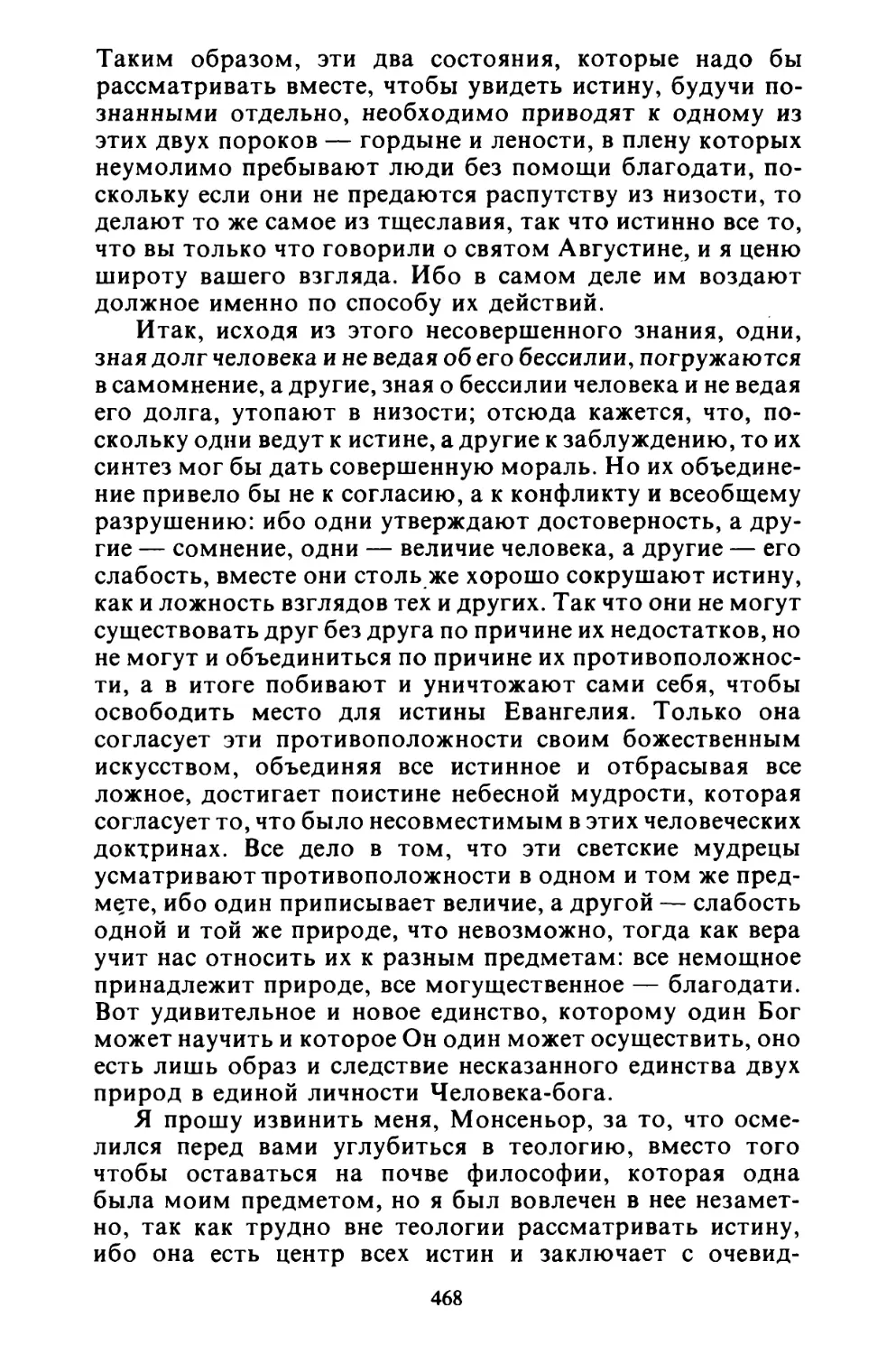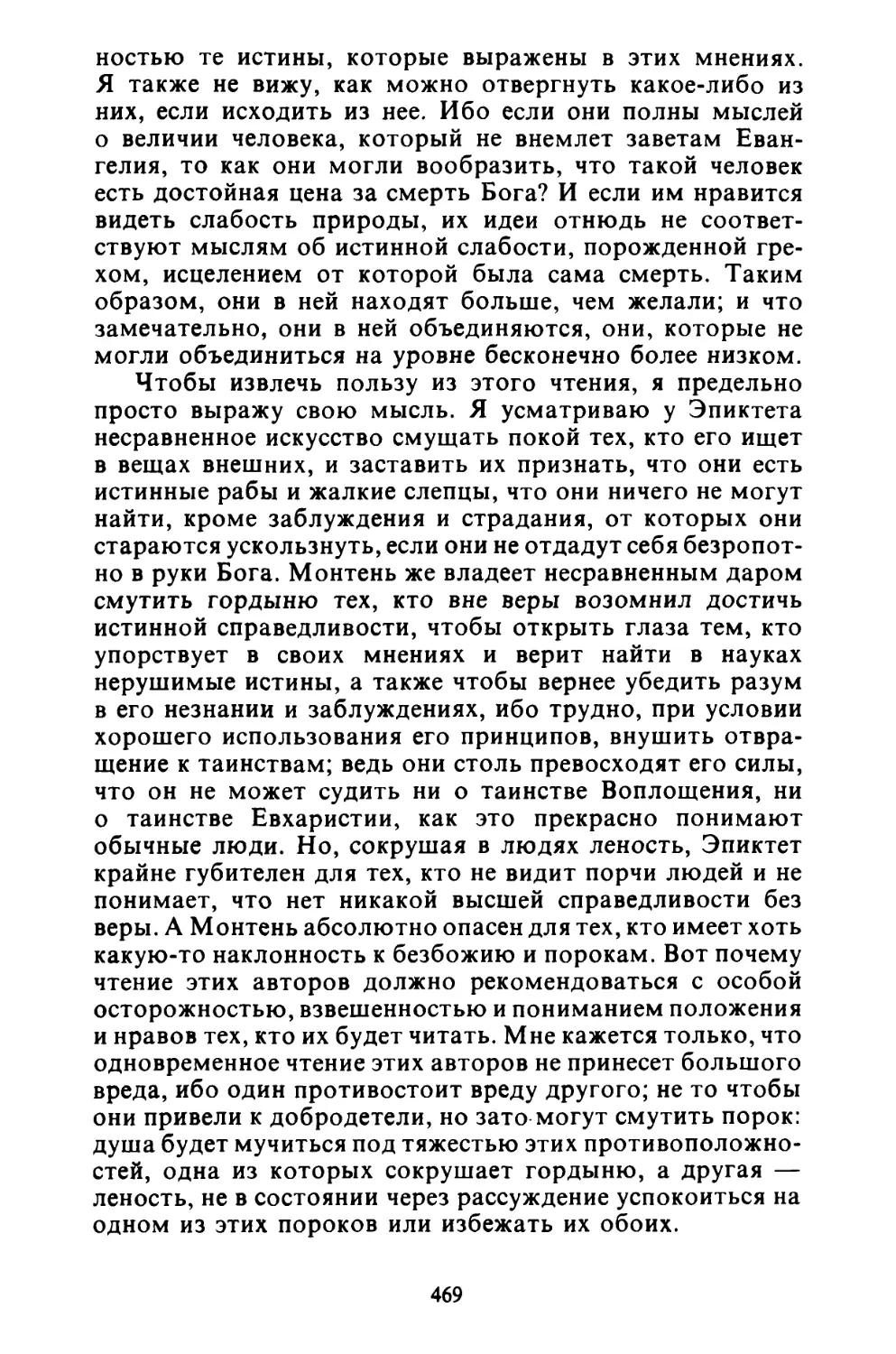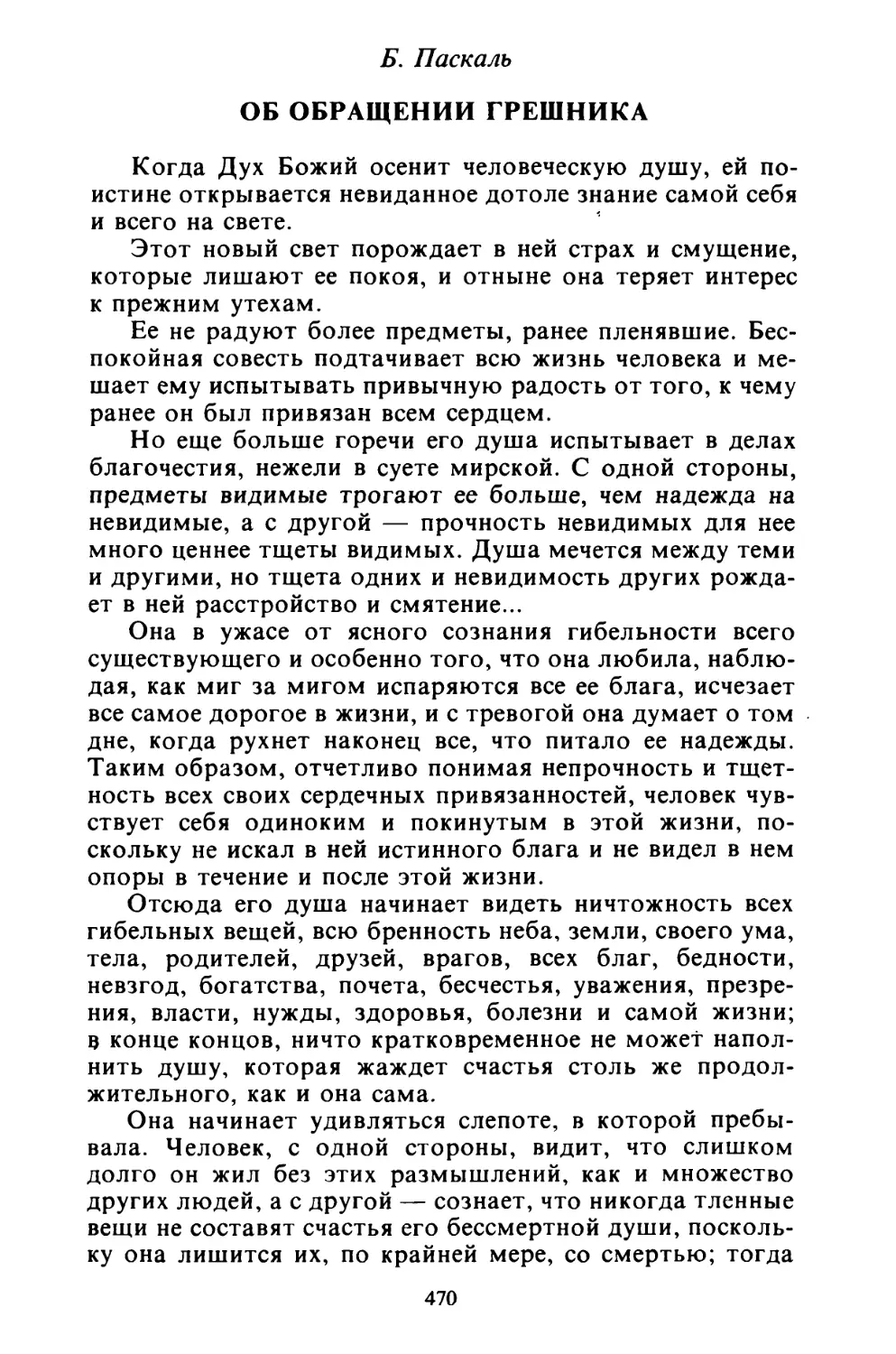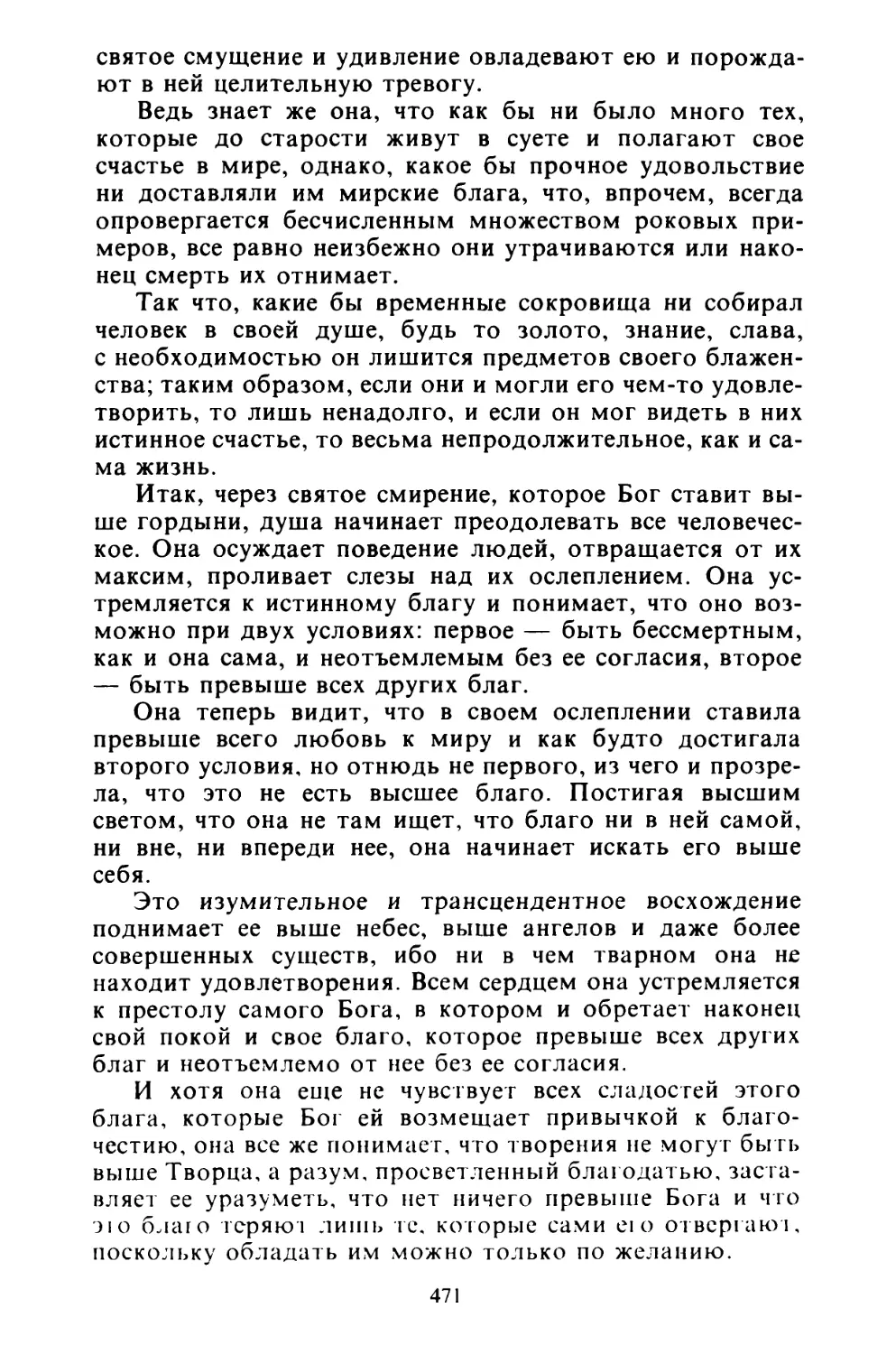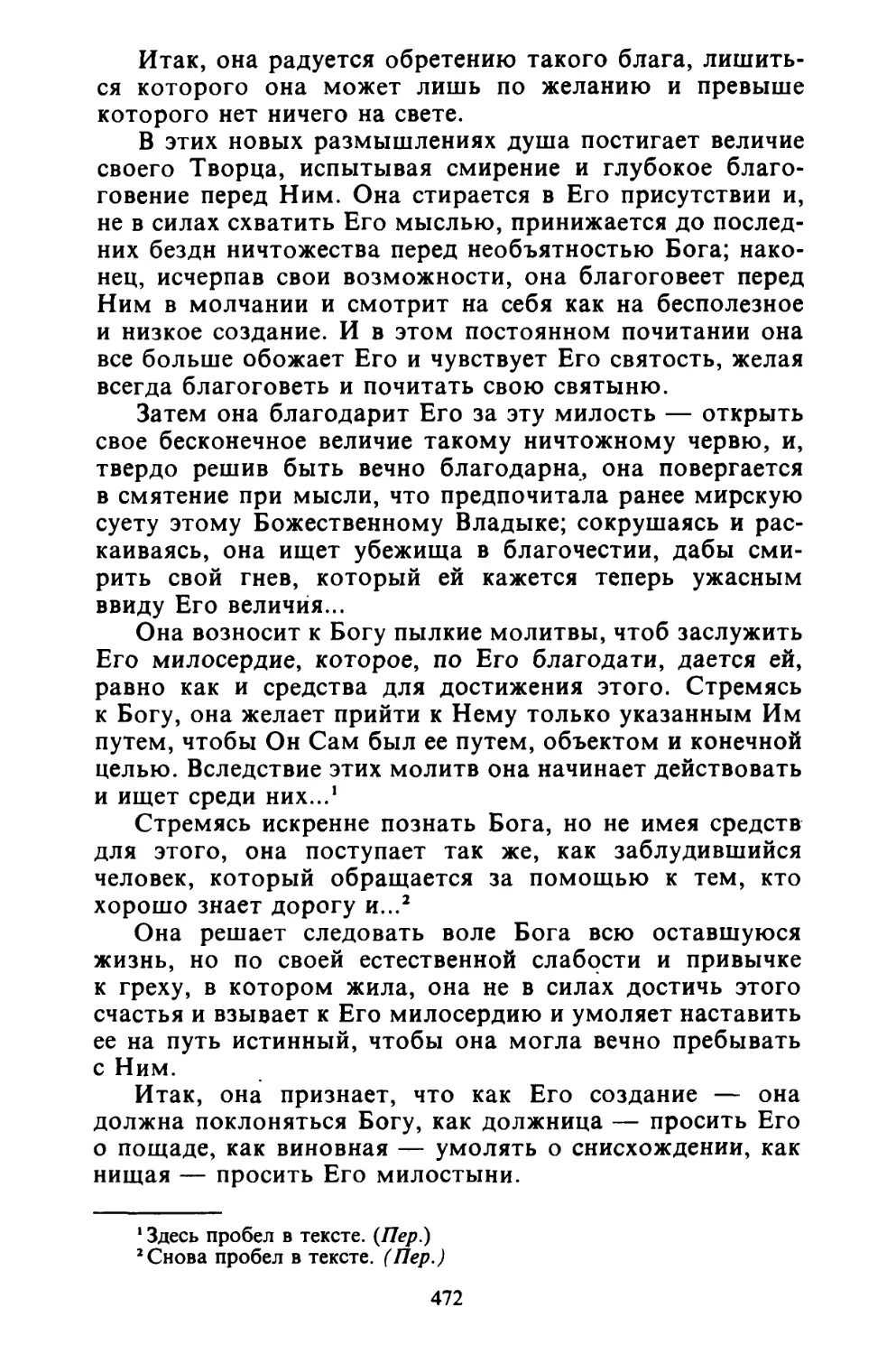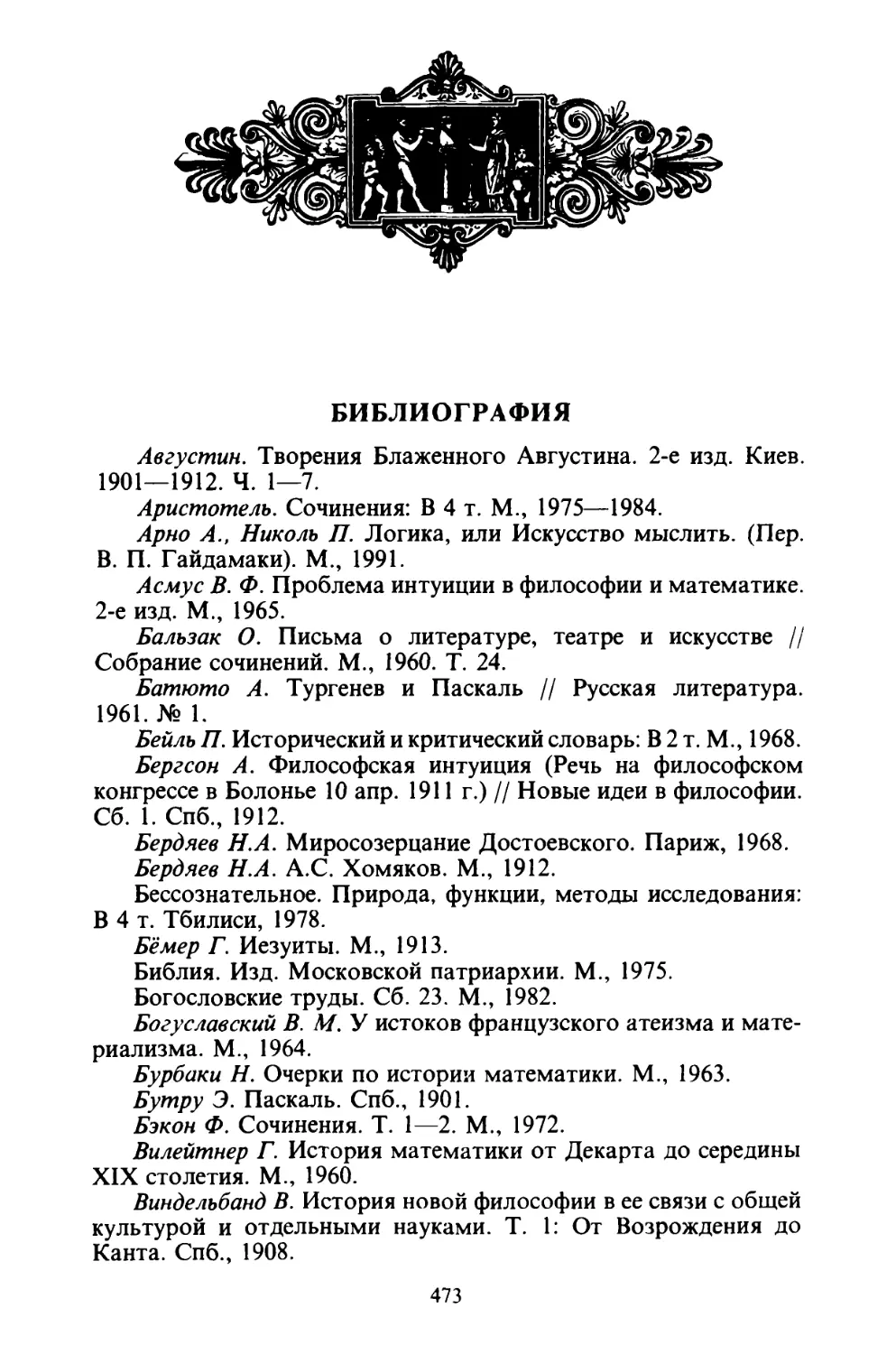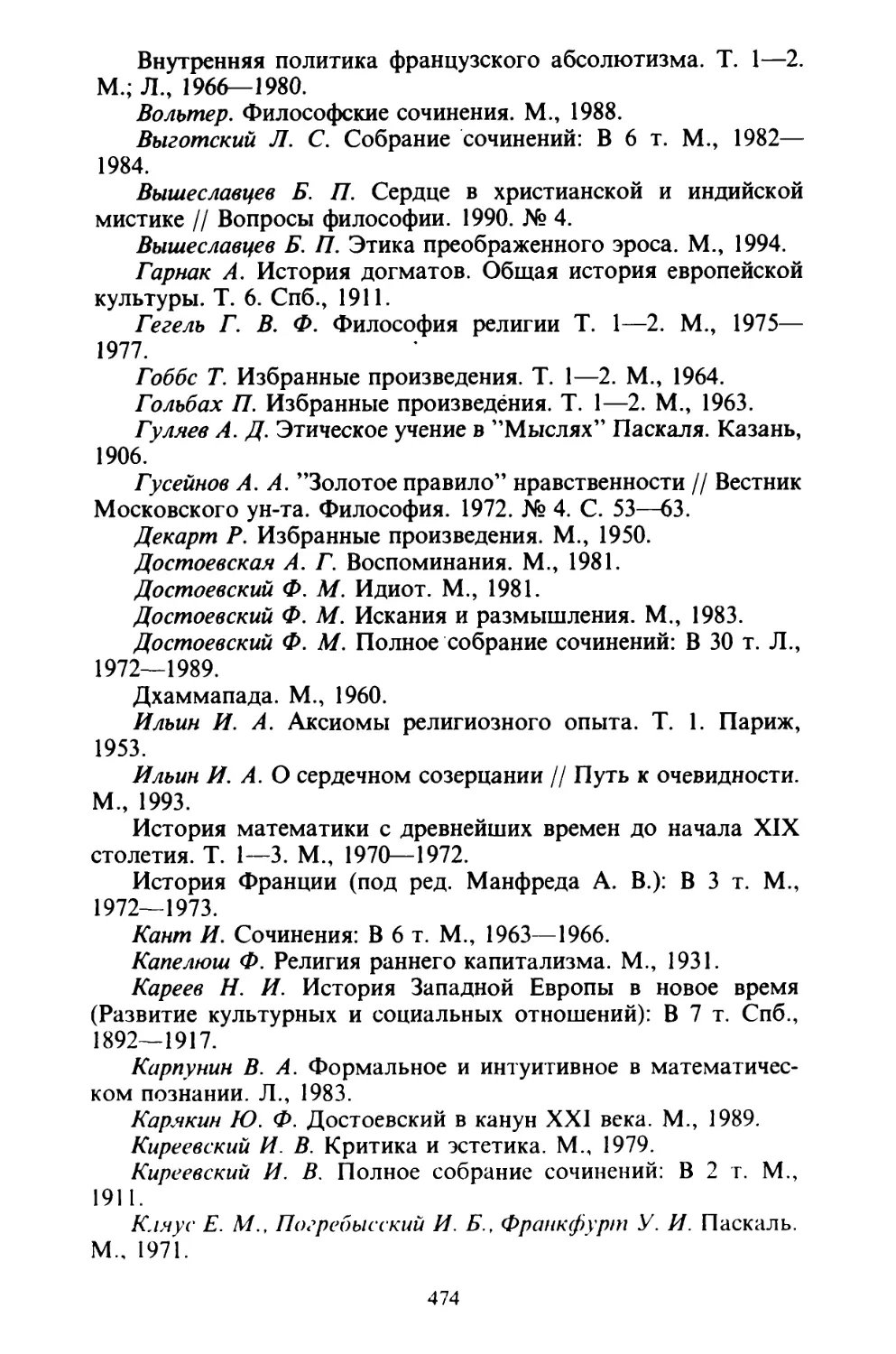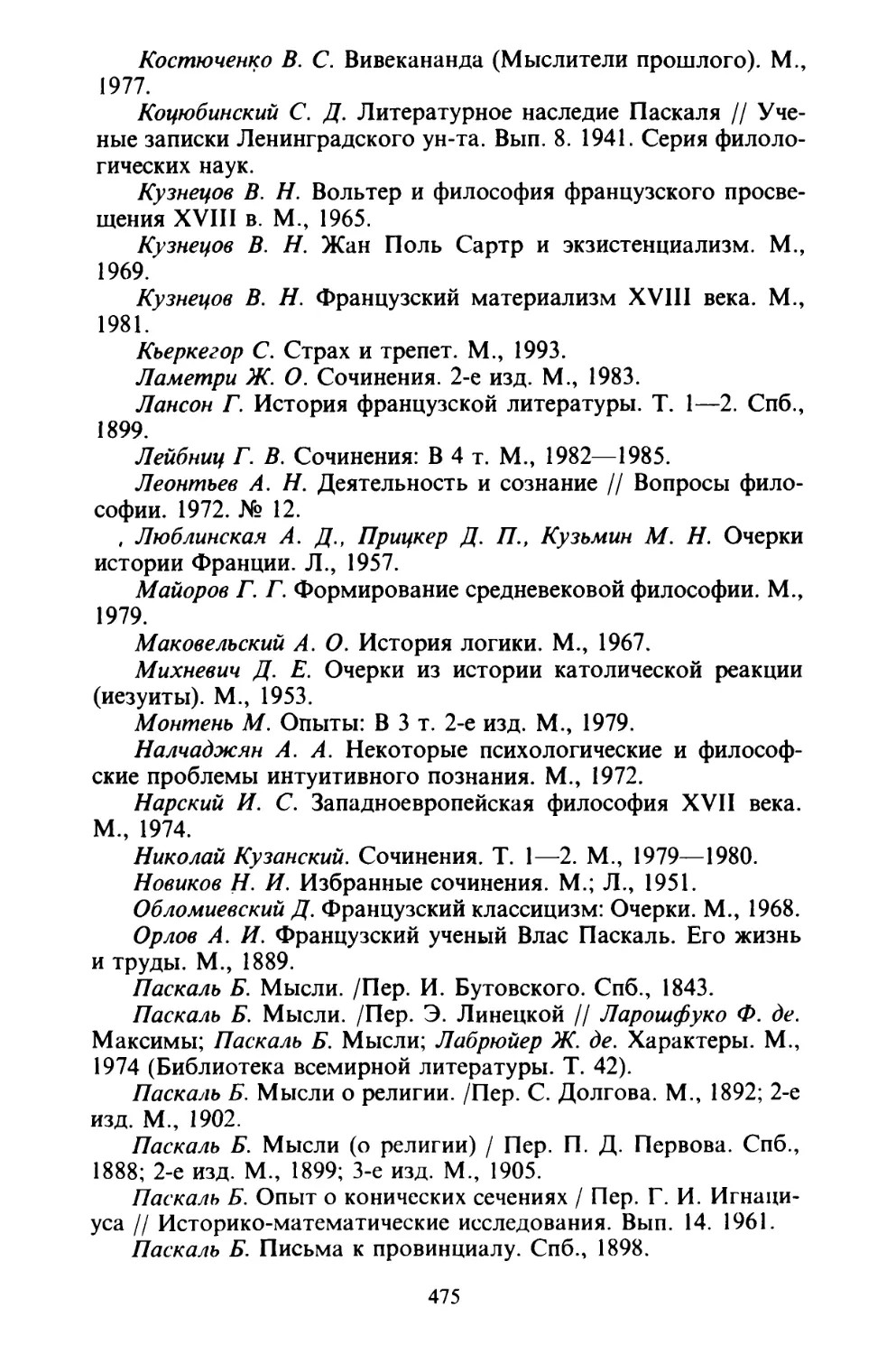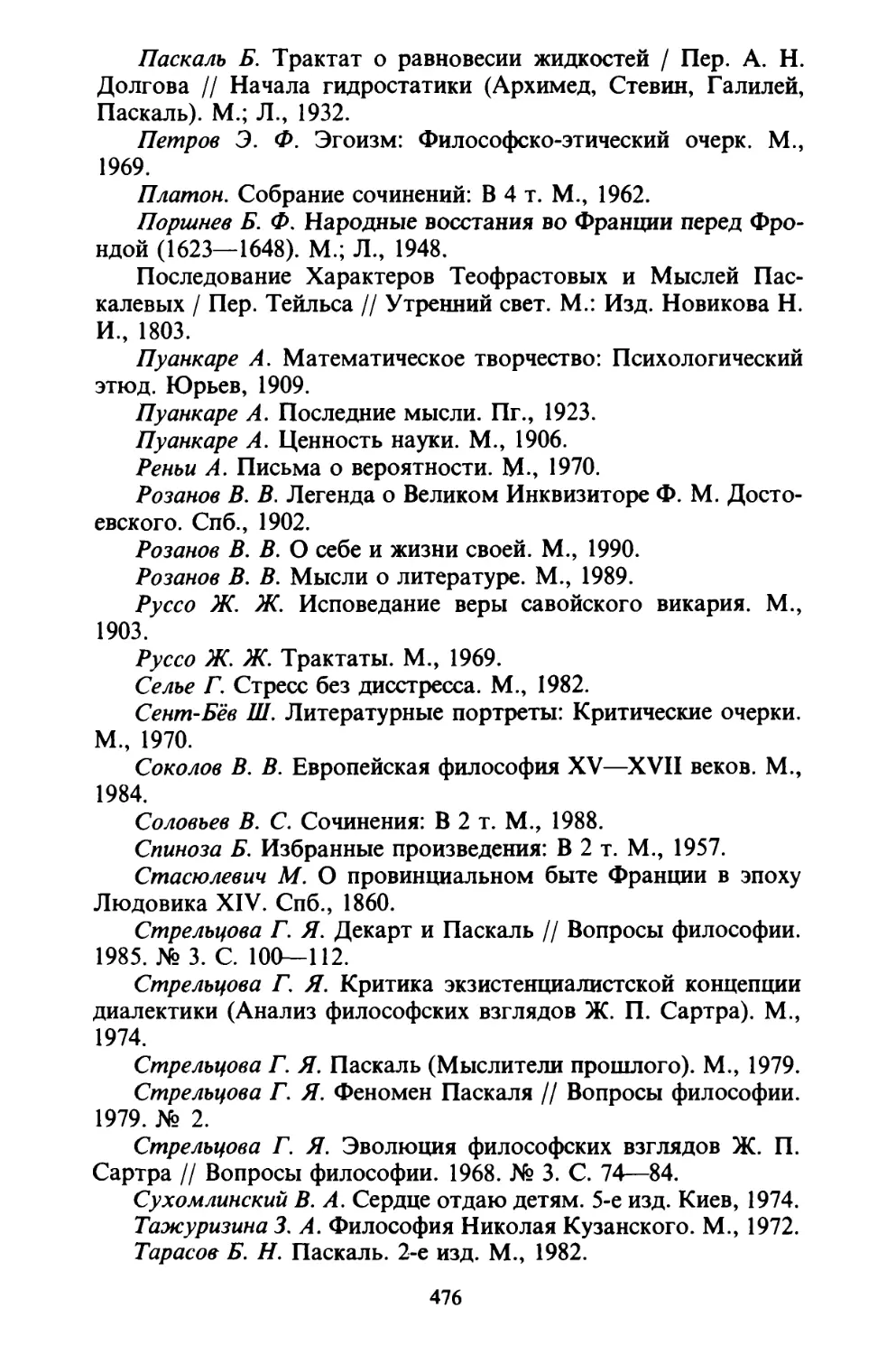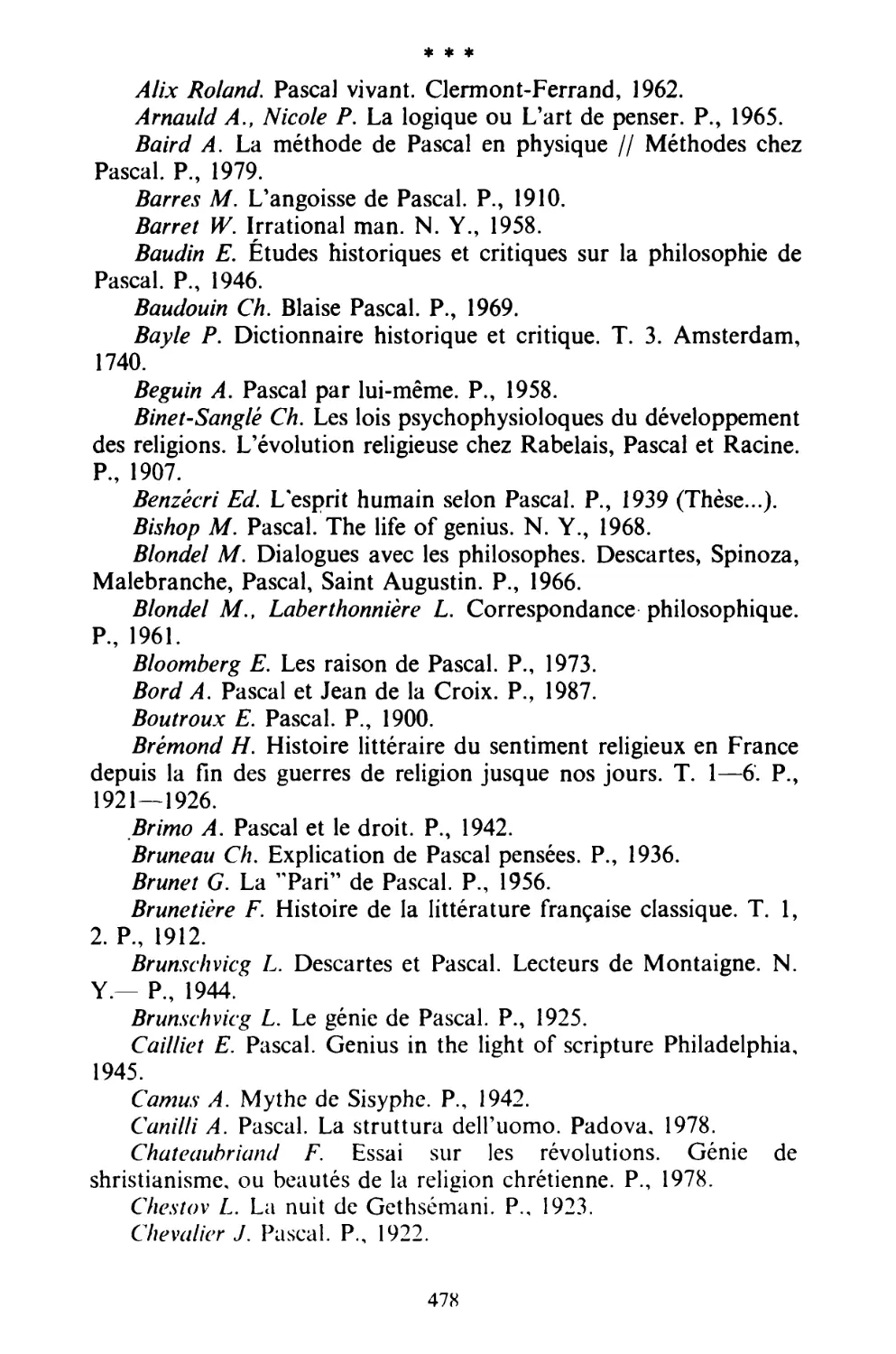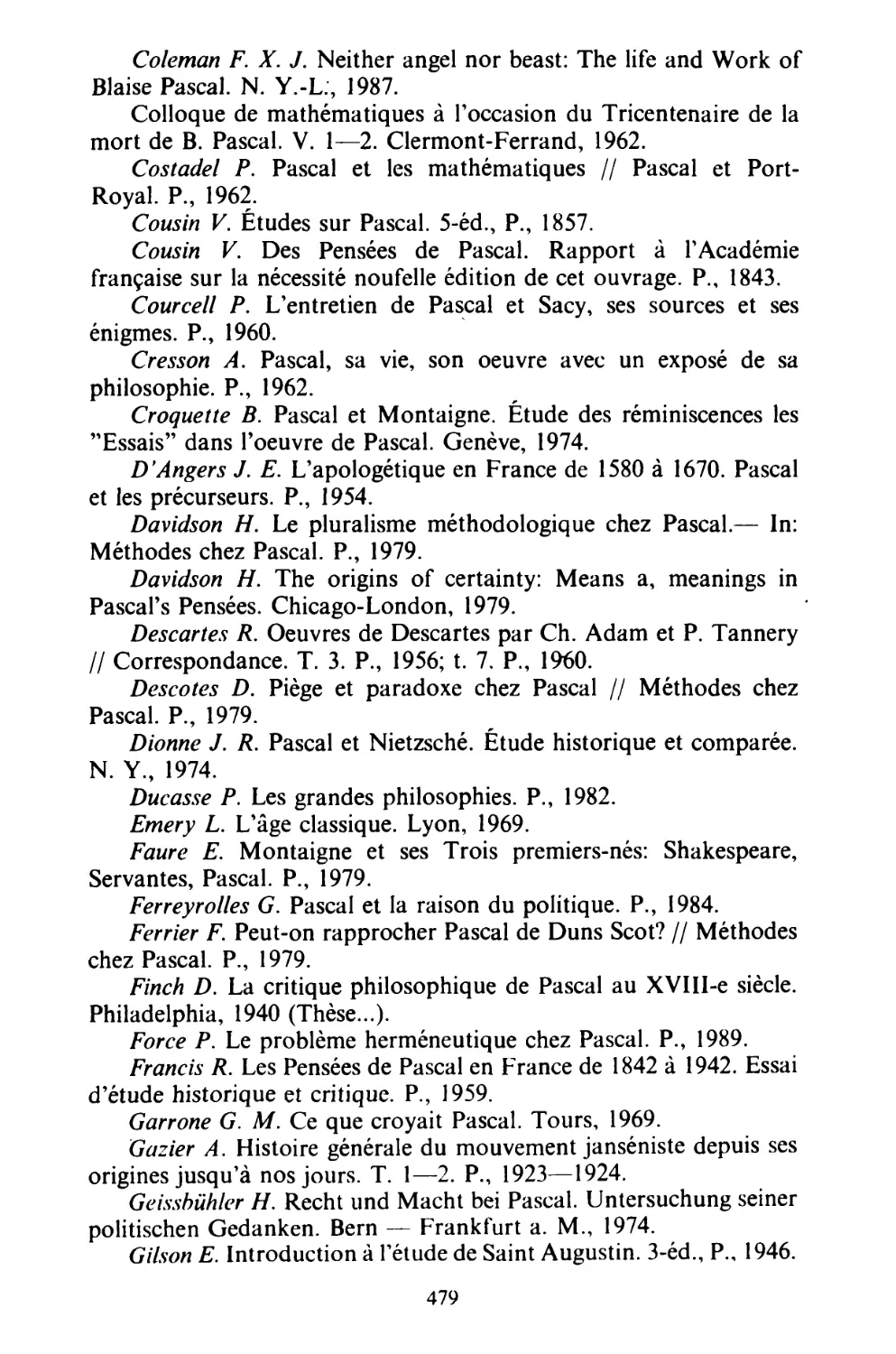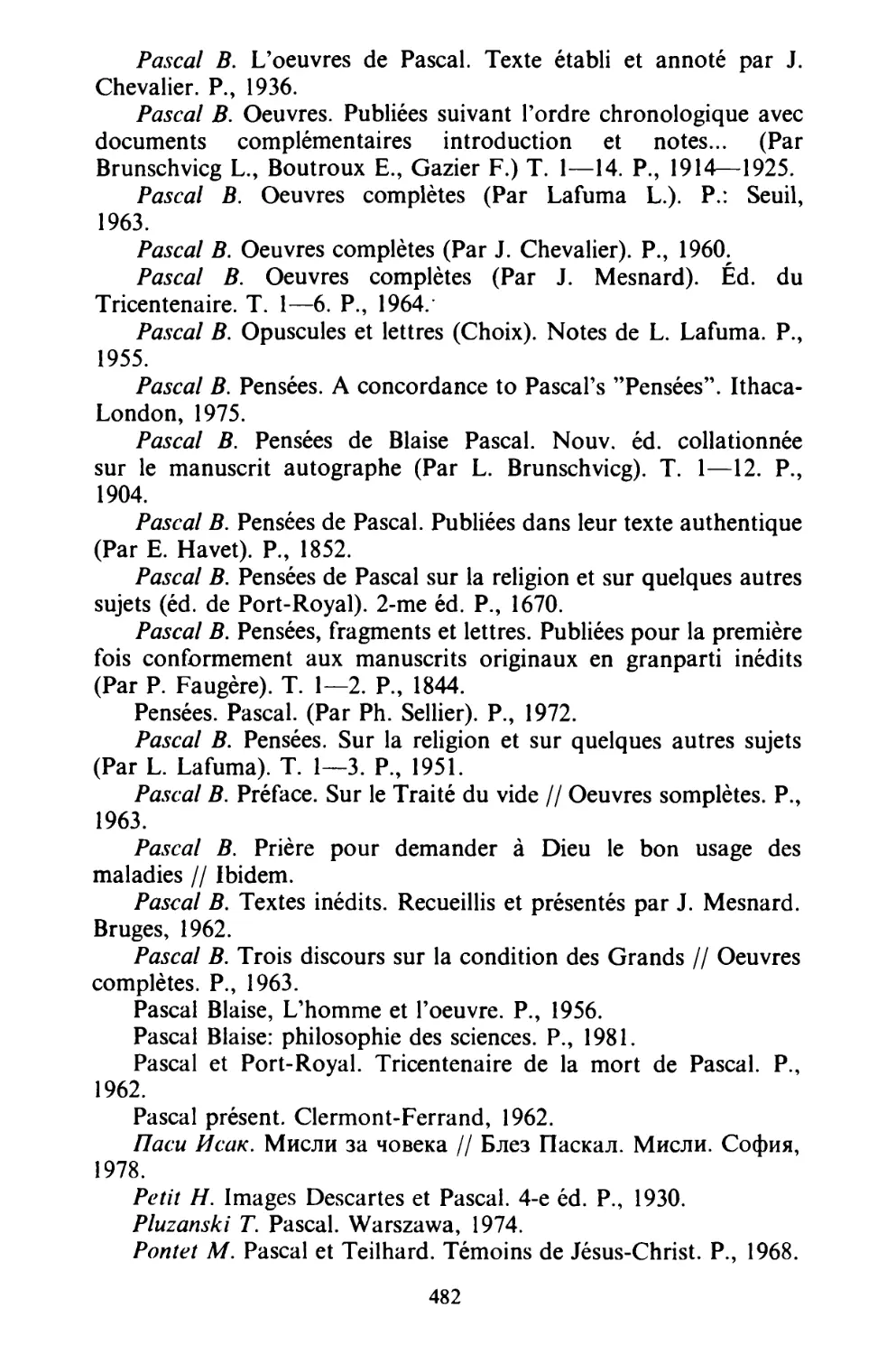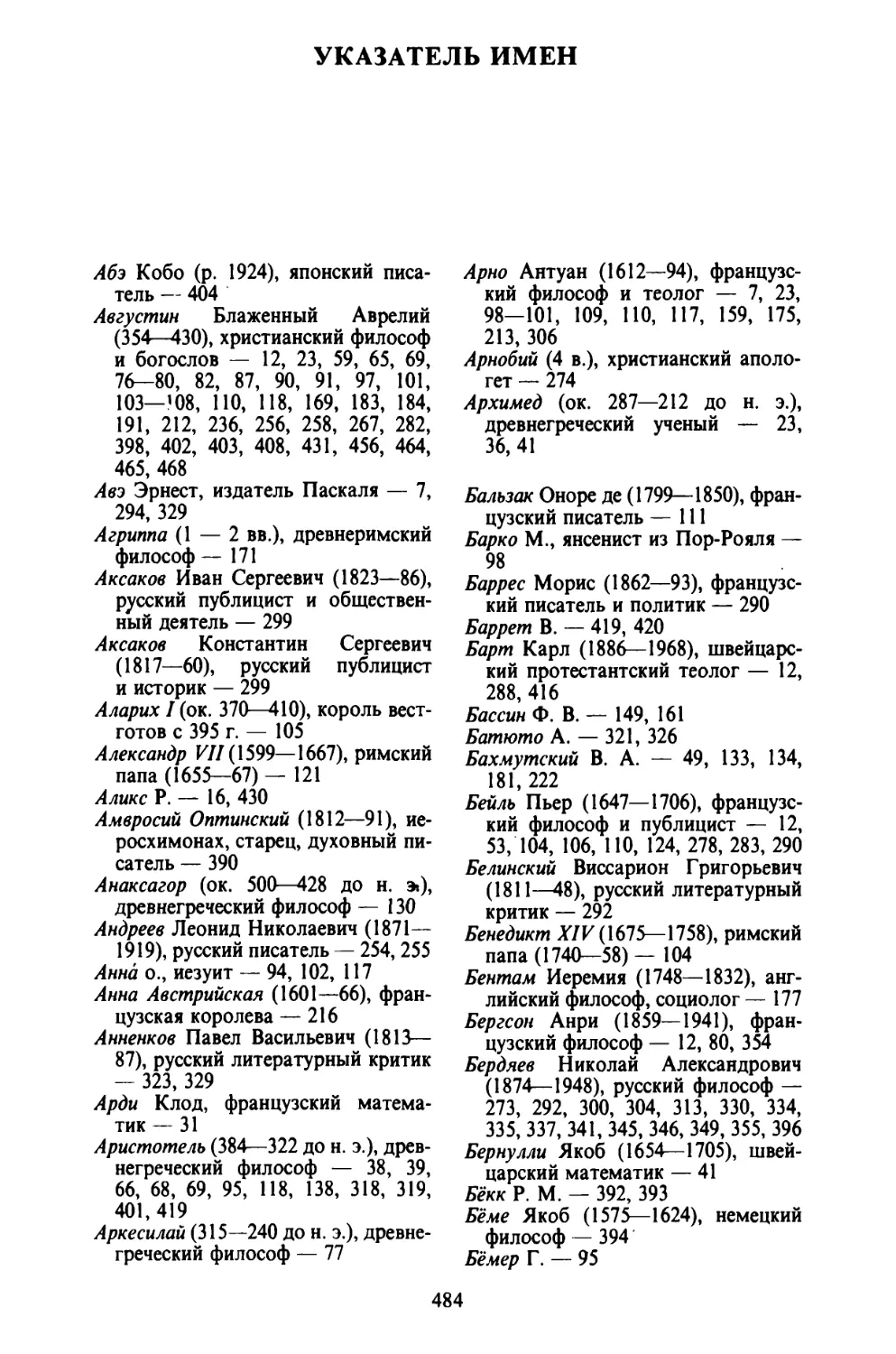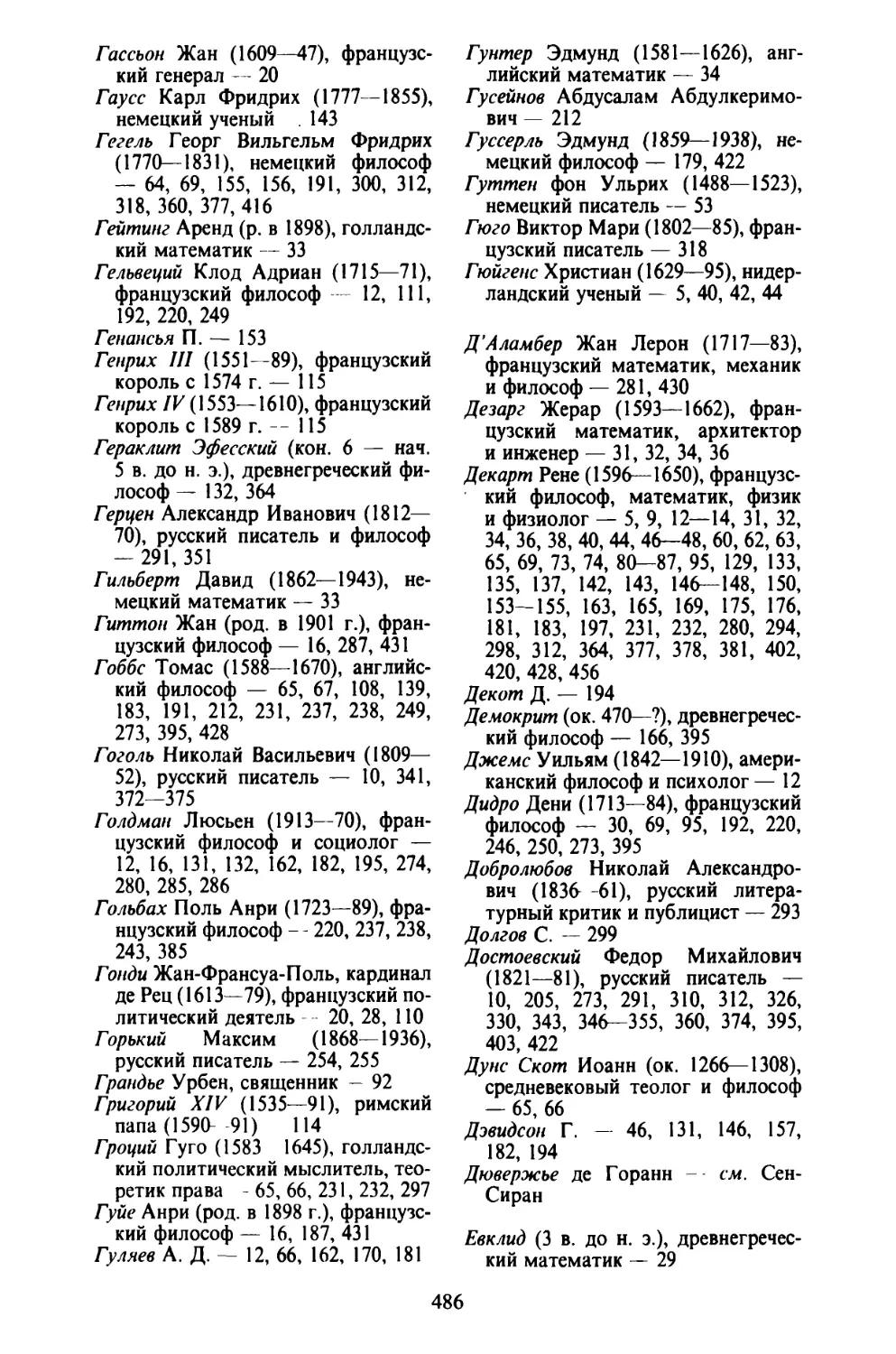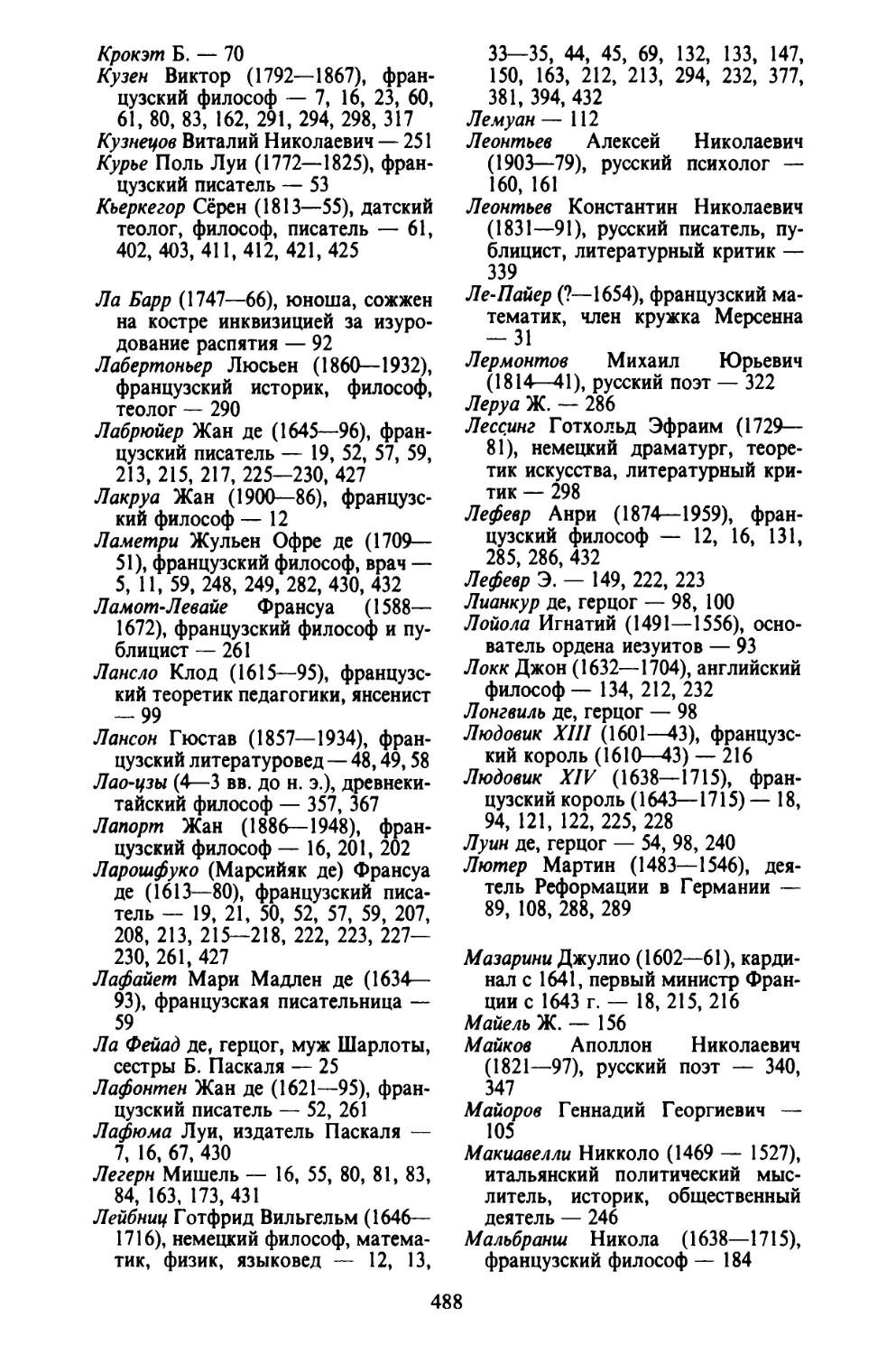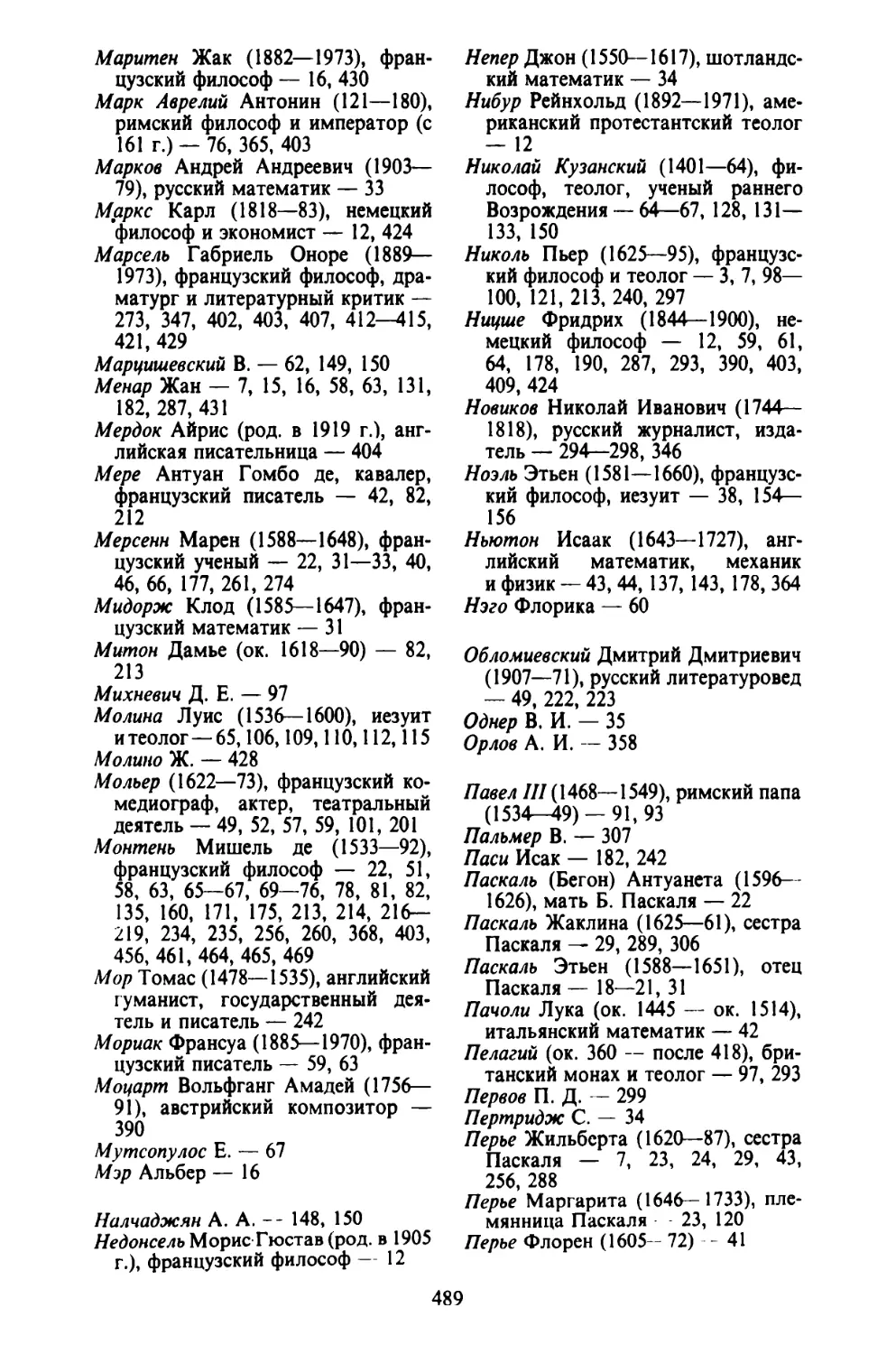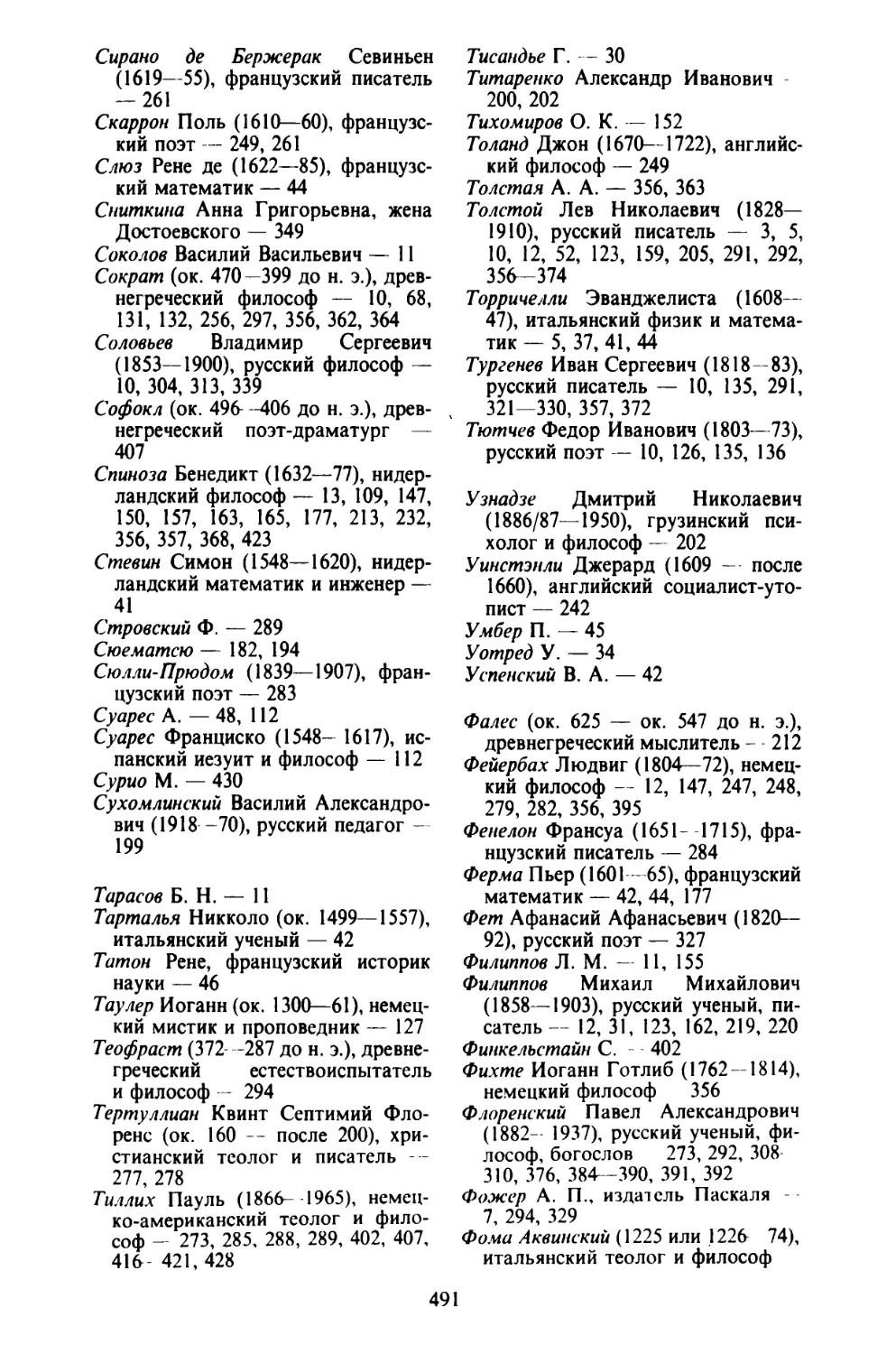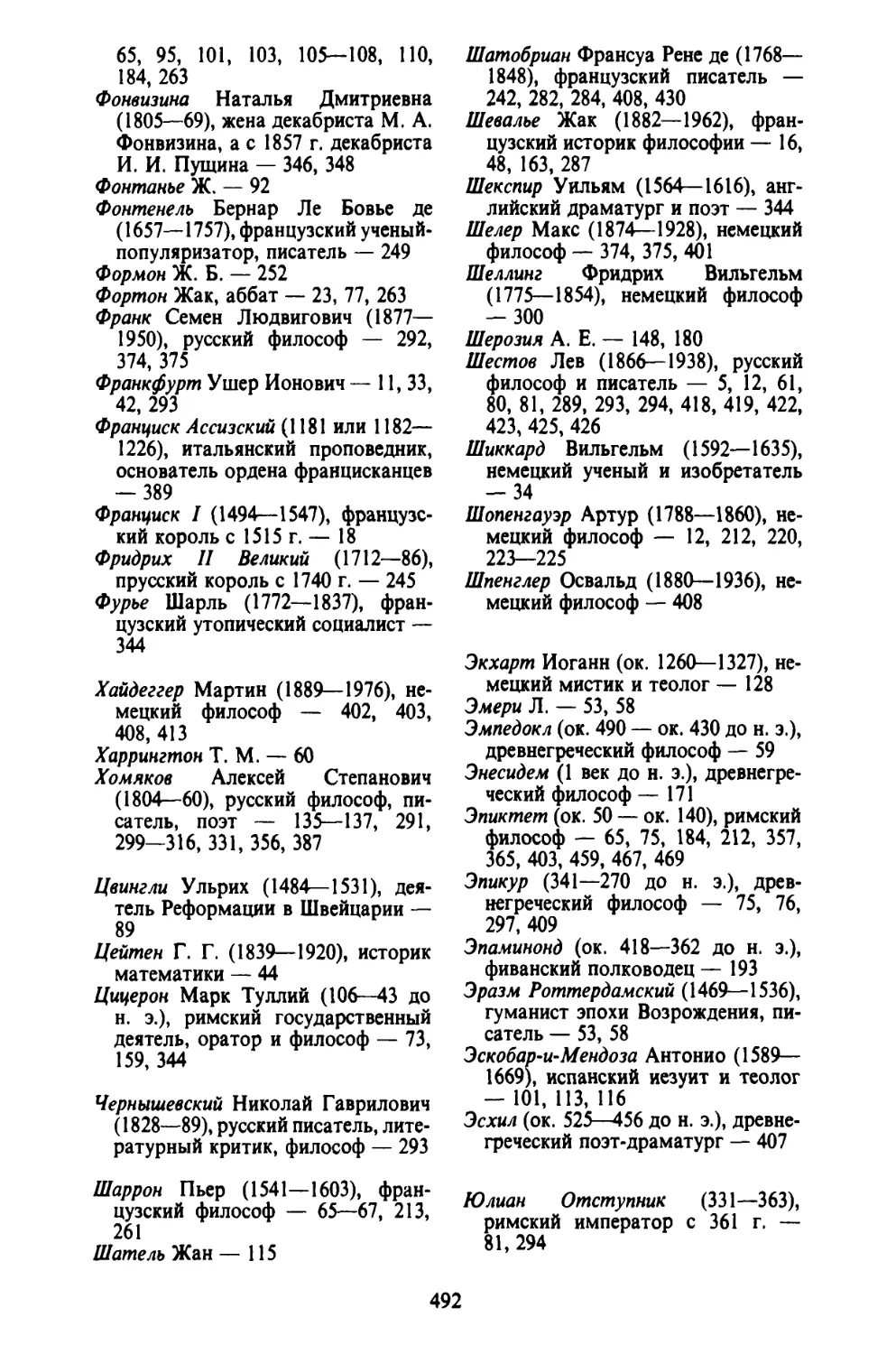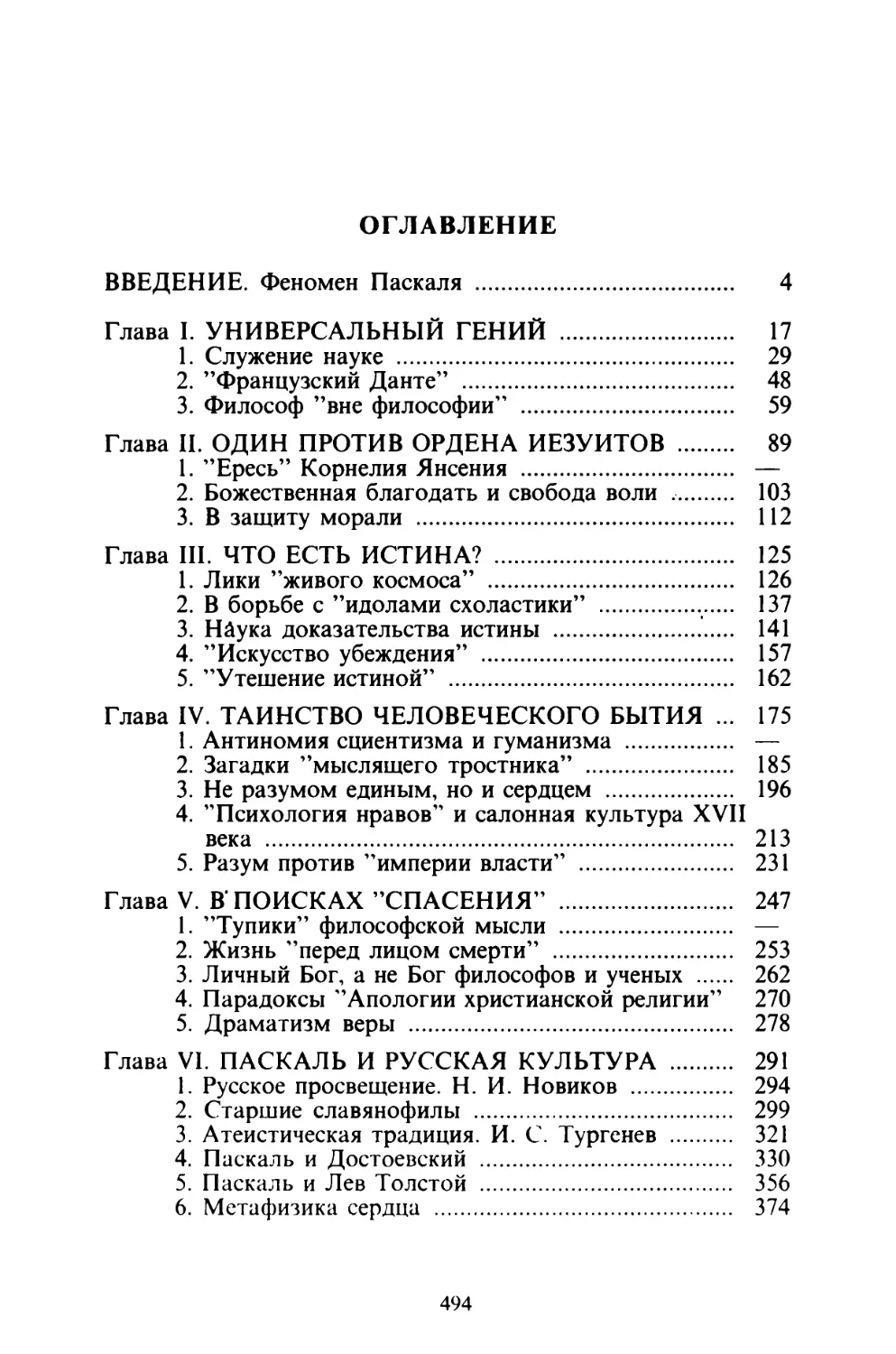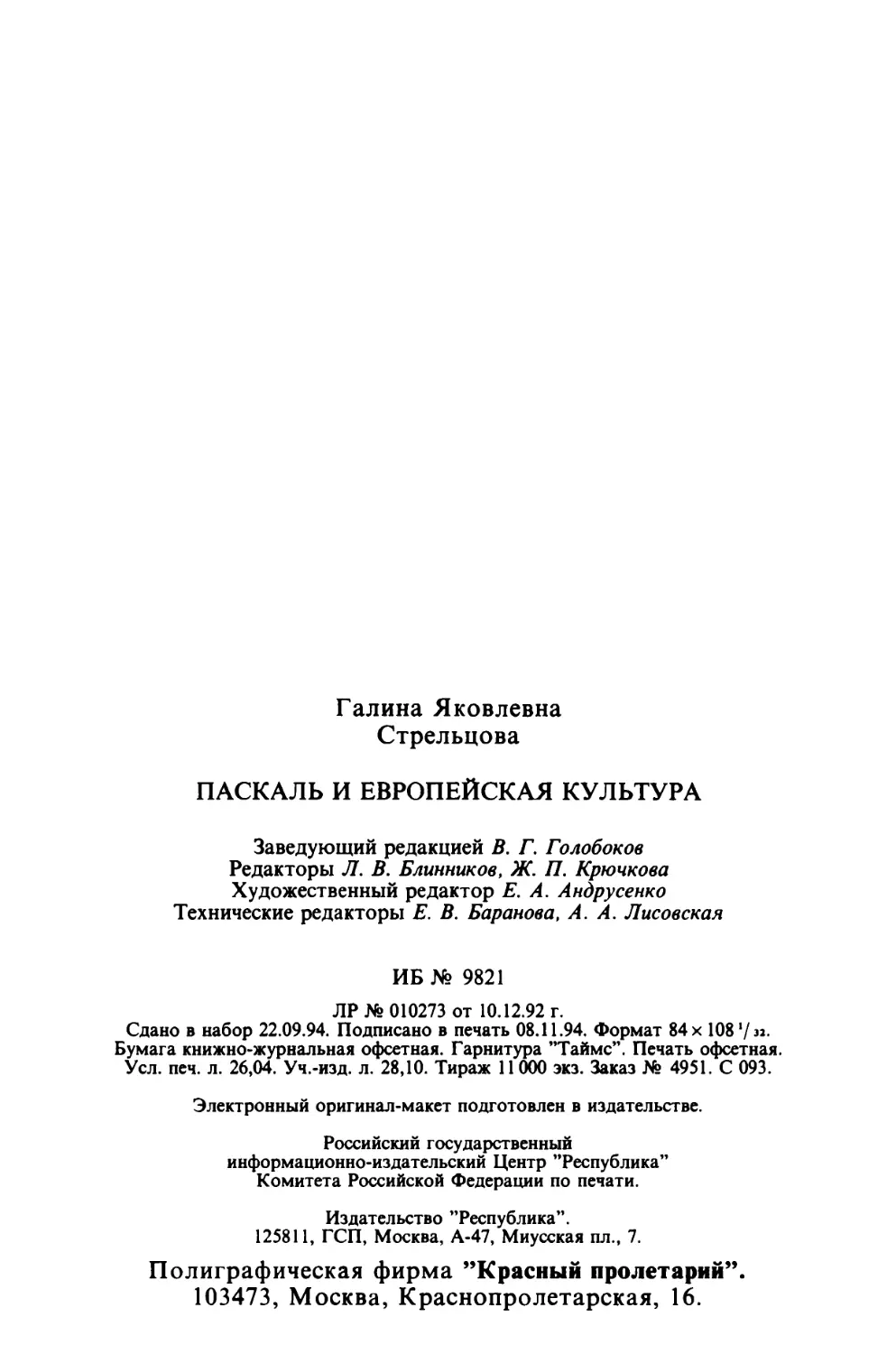Текст
Г.Я.Стрельцова
ПАСКАЛЬ
и европейская
культура
Москва
Издательство "Республика"
1994
Стрельцова Г. Я.
Паскаль и европейская культура. — М.:
Республика, 1994. — 495 с.
ISBN 5—250—02415—7
Книга профессора Московского университета, доктора философских
наук Г. Я. Стрельцовой посвящена Блезу Паскалю, выдающемуся
мыслителю-гуманисту XVII века. Его гений проявился во многих областях —
математике, физике, философии, морали, литературе. Автор просто
и увлекательно знакомит читателя с полной загадок жизнью и
творчеством Паскаля в контексте европейской культуры. В отдельной главе
исследуется влияние Паскаля на русскую культуру. Три сочинения Паскаля,
переведенные на русский язык автором этой книги, публикуются в качестве
приложения.
Адресована всем интересующимся философией, историей науки
и КУЛЬТУПЫ.
ISBN 5—250—02415—7
© Издательство «Республика», 1994
ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
МОЕЙ МАМЫ
ИПАТОВОЙ МАРИИ ЕФРЕМОВНЫ
Из всех прошлых полемистов остался
один Паскаль, ибо он один был
гениальным человеком. Он один стоит на
развалинах своего века.
Вольтер
Он был королем в королевстве умов...
и это главенство в сфере разума более
достойно уважения, чем слава королей.
77. Николь
Паскаль — человек великого ума и
великого сердца, один из тех людей,
который способен видеть через головы других
людей и веков... один из тех, которых
называют пророками.
Л. Толстой
3
ВВЕДЕНИЕ. ФЕНОМЕН ПАСКАЛЯ
Судьба Паскаля парадоксальна и во многом трагична.
Он сам любил парадоксы и владел неподражаемым
искусством выражать через них самые глубокие истины.
Вдумаемся, например, в такие афоризмы, шокирующие
обыденный здравый смысл. "Всякое ничтожество
человека само доказывает его величие". "Человек не ангел и не
зверь, и горе тому, кто мнит себя ангелом, ибо он
становится зверем". "Есть только два сорта людей:
праведники, считающие себя грешниками, и грешники,
считающие себя праведниками". "Истинное красноречие
смеется над красноречием, как истинная мораль смеется над
моралью"1. Парадокс шокирует ум с его "прямоугольной
логикой", или, как любил говорить Паскаль, "срывает ум
с петель", чтобы он посмотрел на вещи совсем с другой
стороны и увидел "иную логику", подчас более
соответствующую реальной жизни.
Парадокс парализует догматический ум и мобилизует
творческие силы человека. Он поражает воображение,
будит эмоции и глубоко "оседает" в сознании и памяти.
Паскаль уважал своего читателя и через парадокс
приглашал его к сотворчеству. Парадокс соответствовал каким-
то таинственным глубинам не только творческого гения
Паскаля, но и его личности. Он видел вещи с необычной
и неожиданной стороны, как никто никогда их не видел,
и придавал проблемам такой невиданный ракурс, который
открывал иные, нетрадиционные горизонты европейской
х Pascal В. Pensées, fr. 116, 678, 562, 513 // Oeuvres complètes (par
Louis Lafuma). P., 1963. P. 513, 590, 580, 576. Далее цит. по этому
изданию.
4
мысли и духовной культуры в целом. Парадоксальной
была и слава Паскаля. Он — едва ли не самая легендарная
личность нового времени. Подобно античным
философам, его прославляли уже при жизни как "мудреца из
Пор-Рояля". И вместе с тем за ним "тянулся шлейф"
одиозной славы "безумца" и "сумасшедшего", которую
распространяли о нем враги его — иезуиты. Сам Паскаль
проницательно и не без грусти как-то заметил, что как
низшая, так и высшая степень ума вызывает нарекания
в "безумии". Он был "философом-пророком", который
видел далеко вперед, "через головы других людей и веков"
(Л. Толстой), а его считали подчас "ретроградным
мыслителем" (Ламетри, Вольтер, Лев Шестов и др.). Он был
оригинальным философом, а его до наших дней
"отлучают от философии". Он был страстным сторонником
достоверного знания, а его считали "скептиком". Он был
искренне верующим христианином, а его вечно обвиняли
в атеизме. Он знал цену человеческому разуму, а его
клеймили как иррационалиста. Его сердце было полно
любви к людям, а его считали "возвышенным
мизантропом" (Вольтер). Он предавался аскезе, подобно
средневековым мученикам, о нем же ходили слухи, что он склонен
к чревоугодию и разврату. Подобно титанам эпохи
Возрождения, он внес уникальный вклад в сокровищницу
европейской культуры, сказав свое слово в науке, философии,
логике, эстетике, ораторском искусстве, моралистике,
литературе, языкознании, религиоведении и поэзии. Но
в XIX в. за ним оставили лишь славу "великого
христианина", забыв обо всем остальном и даже его научные
открытия "распределив" между Торричелли, Декартом
и Гюйгенсом.
Да, до загадочности странен и многим непонятен был
этот "монах" из Пор-Рояля, не принявший монашества.
Этот "кроткий отшельник" с несгибаемой волей бойца.
Этот преданный христианин, впавший в "ересь" и
взбунтовавшийся против церкви. Этот трепетный гуманист
с беспощадной требовательностью к людям. Этот
трагический мыслитель с неподражаемым даром иронии и
тонким чувством комического. Этот великий математик,
вдруг развенчавший любимую науку как "бесполезное
ремесло". Наконец, этот всемирно известный ученый,
мечтавший остаться в неизвестности и умолявший
близких даже не обозначать имени на его могиле.
Кто же был он, кости которого, согласно легенде,
приказали откопать в год Великой французской револю-
5
ции, чтобы добыть из них философский камень?
Паскаль прожил очень короткую, до предела насыщенную
жизнь, полную драматических исканий и духовных
катаклизмов, и умер в 39 лет, по словам Жана Расина, —
"от старости". Универсальный творческий гений,
неистовый темперамент борца и колоссальная сила духа
были заключены в слабом и болезненном от природы
теле, которое буквально сгорело уже в молодые годы.
В 19 лет он подорвал свое хрупкое здоровье,
конструируя арифметическую машину. После этого, по его
словам, он больше никогда не чувствовал себя здоровым,
особенно мучаясь ужасными головными болями.
Неукротимая страсть к научным исследованиям, стихийно
пробудившаяся в 10 лет и не покидавшая его на
протяжении всей жизни, лишила его нормального и
беззаботного детства, обычных радостей юности, а в зрелые
годы была не последней причиной его трагической
любви и отказа от семейного счастья. Он был не только
"героем" научной революции нового времени, но и
"мучеником науки"1.
Трагическую судьбу Паскаля разделили и его главные
произведения. Антиклерикальный памфлет против
ордена иезуитов "Письма к провинциалу" был осужден
римско-католической церковью и внесен инквизицией в
"Индекс запрещенных книг". По приговору государственного
совета Франции они были сожжены рукою палача по
всем правилам аутодафе для книг. Главный философский
труд Паскаля "Мысли о религии и о некоторых других
предметах" (с легкой руки Вольтера называемые просто
"Мысли") остался незавершенным ввиду ранней смерти
автора. Этот труд задумывался изначально как
"Апология христианской религии" и остался в виде отдельных
фрагментов, лишь отчасти систематизированных по
"тематическим связкам", 27 из которых имели заголовки,
а 34 нет. Однако трагизм состоял не в незавершенности
сочинения: все равно "Мысли" были признаны
гениальным произведением и вошли в сокровищницу мировой
культуры. Трагизм заключался в чудовищном произволе
издателей и редакторов, "резавших" "Мысли" по своему
усмотрению, вынимая из них неугодные фрагменты и
добавляя в лучшем случае кое-что из других сочинений
Паскаля, а в худшем — неизвестно откуда взявшиеся
идеи, возможно, даже и свои собственные.
1 Тисандье Г. Мученики науки. 3-е. изд. Спб., 1891.
6
Удивительное произведение Паскаля подвергалось
нелепому "препарированию" бесчисленное количество раз
даже и в нашем веке, уже после восстановления
подлинника. Два столетия "Мысли" были известны читающей
Европе в искаженном и неполном виде. Первое их издание,
осуществленное его друзьями из Пор-Рояля, уже не было
аутентичным. Во-первых, потому, что старшая сестра
Паскаля Жильберта Перье, страстная янсенистка, скрыла
от копиистов ряд текстов, по ее мнению, еретических.
Во-вторых, "приложили руку" и сами янсенисты из Пор-
Рояля (А. Арно, П. Николь, герцог де Роанне), исключив из
"Мыслей" множество фрагментов, либо "крамольных",
либо не имеющих прямого отношения к апологии
христианской религии1. Таким образом, читатель имел некоторое
представление о Паскале-христианине и почти не знал
Паскаля-философа: образ неутомимого исследователя,
страстного и глубокого мыслителя оставался в тени.
Понадобились долгие годы кропотливого труда многих
паскалеведов, чтобы восстановить подлинный состав
"Мыслей". Впервые эту задачу поставил Виктор Кузен,
представив в 1842 г. свой "Доклад Французской академии
о необходимости нового издания этого труда" в
соответствии с замыслами самого Паскаля. Такое издание
осуществлено было Проспером Фожером в 1844 г. под любопытным
заголовком: "Мысли, фрагменты и письма. Публикуются
впервые в соответствии с оригиналом и большею частью
неизданные". Затем появились издание Э. Авэ (1852)
и ставшее классическим на долгие годы издание Л. Бренш-
вига (1897, 1904, 1914). Позже огромную работу проделал
Луи Лафюма, выпустив в 1951 г. три тома "Мыслей" после
предварительной публикации в 1949 г. своих "Паскалевс-
ких исследований". В 1955 г. он издал "Малые
произведения и письма Паскаля". Однако и после него, уже в 70-е гг.,
тщательная работа по уточнению всего корпуса паскалевс-
ких сочинений была продолжена Жаном Менаром. В
мировой практике принято цитирование Паскаля либо по
изданию Бреншвига, либо — Лафюма. Из "Малых сочинений"
Паскаля большое значение имеют: "Предисловие к
трактату о пустоте", "О геометрическом уме и об искусстве
убеждать", "Разговор с де Саси об Эпиктете и Монтене",
"Три рассуждения о положении знати", "Четыре сочинения
1 Pascal В. Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets.
2 éd. P., 1670. Тираж первого издания 1669 г. был очень небольшим, для
родных и близких.
7
о благодати", "Молитва об использовании во благо
болезней".
За свою короткую жизнь Паскаль успел сделать очень
многое, оставив яркий след в различных областях
культуры. Но он страдал от трагического сознания, что почти
ничего не сделал и напрасно прожил жизнь. Объективно
многое было и дано ему: счастье обретения истины и
научных открытий, прижизненная слава "французского
Архимеда", "мудреца из Пор-Рояля", "святого", обожание
близких людей, любовь прекрасной женщины Шарлотты
де Роанне, радость подлинной дружбы с братом
Шарлотты герцогом де Роанне. Посмертная судьба Паскаля
подарила ему бессмертие и добавила славу великого писателя-
классика, "французского Данте", "Расина в прозе",
"учителя человечества", "философа-пророка". Сам же он
никогда не был удовлетворен ни одним своим успехом,
будучи требовательным к себе до жестокости и даже до
самоистязания. Последние годы его жизни были уже не
жизнью, а "житием Блеза Паскаля". Существовала даже
легенда, будто он носил на своем теле "пояс, утыканный
гвоздями" и всякий раз, как гордыня овладевала им, он
сильно ударял по нему: гвозди впивались в тело, принося
мучительную боль, после чего наступало "отрезвление от
самодовольства". Поистине "человек бесконечно
превосходит человека", говорил он и всю жизнь следовал этой
максиме, доводя до высочайшего совершенства все, к
чему прикасался его гений, начиная от математики и
физики и кончая филигранной отделкой блестящих
философских афоризмов. Неистовое стремление к совершенству
в сфере творчества и в личной жизни — удивительная
особенность его гения. Впрочем, личная жизнь меньше
всего интересовала его, хотя он неукоснительно следовал
своим убеждениям по врожденной искренности и
неспособности к лицемерию и двоедушию. В этом смысле он
был светлой и гармоничной личностью при всей своей
сложности и противоречивости. Потому больше всего
поражали его странные, непонятные и "разорванные"
люди, у которых как будто не одна душа, а много душ.
Как говорят иногда, может быть, слишком красиво, он
"сделал свою жизнь главным аргументом своей
философии". Но сознание его было направлено не на себя: он не
переносил себялюбия и эгоцентризма. Зато он жаждал
абсолютной истины и всечеловеческой правды и
справедливости. Он всю жизнь "искал истину со вздохом". Он
мучился "предельными основаниями" и конечной целью
8
человеческого бытия, мечтая о Высшем благе для всего
человечества: "Все тяготеют к себе, но это противоречит
всякому порядку. Надо стремиться к всеобщему, а
тяготение к себе есть начало всякого беспорядка"1. В свой
жестокий, прагматичный и рационалистический век
Паскаль отстаивал прерогативы человеческого сердца с его
любовью, упованиями, надеждами и верой в высший
смысл жизни и несиюминутные заботы человечества.
M ерой его отношения к людям была доброта. Он любил
повторять: "Тайные добрые дела дороже всего" — и
помогал людям, особенно беднякам, стараясь оставаться в тени.
Его сердце было барометром человеческих бедствий, чутко
откликаясь на чужую беду. Все, кто попадал в орбиту его
жизни, всегда могли рассчитывать на его бескорыстную
и самоотверженную помощь. Узнавая о разразившемся
голоде в отдаленных районах страны, он спешил выслать
деньги беднякам. Черпая из своего не столь уж богатого
состояния на нужды близких и дальних людей, он все
беспокоился, что мало помогает им. Незадолго до смерти
он организовал для бедняков Парижа дешевое омнибусное
движение ("кареты по 5 су"), положившее начало
общественному транспорту во Франции. Бездушию мира он
противопоставил любовь и милосердие к людям. Под
стать его личности и жизни была и его "философия сердца",
вызывавшая недоумение у многих поколений европейских
интеллектуалов, обвинявших его в мистицизме,
иррационализме и фидеизме, хотя все эти пресловутые "измы"
никогда не были ни сильными аргументами, ни
аргументами вообще. Зато почти всем на Западе хорошо понятна
"философия разума" ("отцом" которой в новое время
считается Декарт), которую знал и Паскаль. Но он ее не
абсолютизировал, как это было "модно" в его время,
и существенно дополнял своей "философией сердца". С
Паскалем философия и культура в Европе стали много богаче
и полнокровнее, теплее и душевнее, одним словом —
человечнее. Когда восточные мыслители представляют
западную культуру как весьма рационализированную, суховато-
рассудочную, прагматичную и
абстрактно-гносеологическую, равнодушную к запросам человеческого сердца, то их
следует отослать к "Мыслям" Паскаля, которые могут
служить "духовным мостом" между "культурой разума"
на Западе и "культурой сердца" на Востоке. Его
"философия сердца" заполняет такие уголки "культурного ландша-
1 Pascal В. Pensées. Р. 552, fr. 421.
9
фта", которые без него оказались бы просто пустыми.
Знаменитые "мысли-образы" Паскаля вошли в плоть
и кровь европейской культуры, поскольку они ярко
выражают фундаментальные условия, а главное, коллизии
человеческого бытия. Щемящая истина "мыслящего
тростника", каковым он считает человека, представляет
самую трогательную и трагическую "ноту" паскалевско-
го видения мира. Сродни ей печальный образ "узников
в цепях", идущих на казнь один за другим, — символ
человеческой жизни "перед лицом смерти". Или вот
завораживающий образ "космического безмолвия" в ответ
на страстный призыв человека: "Вечное молчание
бесконечных пространств ужасает меня", что напоминает
возникшую в русской культуре особую экзистенциальную
тему "равнодушной природы" (Пушкин, Тютчев,
Тургенев и др.). Могучий образ "бездны" у Паскаля — почти
мистическое воплощение многоликой бесконечности как
вне, так и внутри человека. Еще один удивительный
образ-символ — хрупкий образ "тени, промелькнувшей
на мгновение и исчезнувшей навсегда". Такова наша
кратковременная и быстротечная жизнь "перед лицом
вечности". О многих других "мыслеобразах" Паскаля я еще
буду говорить далее. Все они обладают необычайной
силой воздействия: однажды возникнув в сознании, они
не угасают в нем со временем. Так и "блуждают" вот уже
300 с лишним лет мысли, образы, картины Паскаля по
страницам литературных произведений, будоражат
воображение поэтов и художников, вызывают
заинтересованный отклик философов, западают в душу религиозно
настроенных людей. Между тем ученые обращаются
к творчеству Паскаля в поисках образцов научного
доказательства, математической строгости мысли,
выверенных суждений, корректности экспериментов,
многообразия приемов и методов научного исследования. Да, наука
была первой мыслью Паскаля, второй его мыслью был
человек и, наконец, третьей — Бог. Отдав свою жизнь
науке, будучи ее мучеником, он не был ее пленником,
равно как не был пленником ни традиционной
философии, ни ортодоксальной религии. Мощный заряд иронии
наряду с острым критическим чутьем был тем
"спартанским лисенком", который все время выглядывал из
складок аскетического одеяния ревностного "святого". Они-
то и были лучшим противоядием от всякого идейного
догматизма и нравственной успокоенности, за что
Паскаля называют "французским Сократом".
10
Паскаль был всегда в пути. Этим он похож на русских
духовных скитальцев, вечных странников типа Гоголя,
Достоевского, Льва Толстого, Розанова или Вл.
Соловьева, которым он идейно и душевно близок. Особенно ценил
Паскаля Лев Толстой, называя его "учителем
человечества" и "мыслителем-пророком". Здесь писатель был куда
ближе к истине, чем многие соотечественники Паскаля,
например французские просветители XVIII в. (Вольтер,
Кондорсе, Ламетри и др.), которые совсем не ценили его как
философа и отнюдь не видели в нем великого мыслителя.
Эта несправедливая традиция перешла в атеистическое
паскалеведение, в том числе в нашей стране. Паскаль
рассматривался только как религиозный мыслитель,
заводящий якобы в тупик философскую мысль. После
Октябрьской революции он был известен у нас скорее как
ученый, чем как философ и писатель. "Атеистический
фильтр" отсек от опубликованных в 1974 г. "Мыслей"
Паскаля (в "Библиотеке всемирной литературы", т. 42) две
трети их содержания, а другие его философские работы
вообще не публиковались. Не был издан и его гениальный
антиклерикальный памфлет "Письма к провинциалу",
служивший образцом для многих последующих
памфлетистов, в том числе и для "короля памфлетистов" Вольтера,
непримиримого идейного врага Паскаля. До моих
публикаций в 70—80-е гг. у нас вышла только одна философская
статья Л. И. Филиппова "Диалектика Паскаля" в книге
"История диалектики XIV—XVIII веков" (М., 1974).
Равнодушие советских философов к идейному
наследию Паскаля пытались восполнить наши ученые Кляус Е.
М., Погребысский И. Б. и Франкфурт У. И., которые
опубликовали книгу "Паскаль" (М., 1971, серия "Научно-
биографическая литература"). Они исследовали почти все
стороны его творчества, отдавая должное ему как ученому,
писателю, философу. Более того, в противовес философам
они совершенно правильно отметили: "Паскаль — одна из
центральных фигур века, поэтому понять его — значит
понять и самое, быть может, основное в его эпохе. Паскаль
— одно из самых светлых имен в истории Франции" (с.
333). Издается книга "Паскаль" и в серии "Жизнь
замечательных людей", талантливо написанная Б. Н. Тарасовым.
Даже в учебниках по истории философии у нас Паскалю
уделялось минимальное внимание, за исключением
учебного пособия В. В. Соколова "Европейская философия
XV—XVII веков" (М., 1984), в котором наконец Паскаль
стоит в одном ряду с великими философами XVII в.
11
Между тем в дореволюционной России авторитет
Паскаля-мыслителя был чрезвычайно высок и школу его
"Мыслей" прошли все выдающиеся представители русской
культуры, которой паскалевское видение мира оказалось
более конгениальным, нежели западноевропейской и даже
самой французской культуре. Вышли в свет две добротные
монографии о творчестве Паскаля — известного ученого
M. М. Филиппова и казанского профессора А. Д. Гуляева.
Была переведена книга Э. Бутру "Паскаль". (Подробнее
о судьбе Паскаля в русской культуре см. гл. VI.)
Прав Лев Толстой в оценке пророческого дара Паскаля.
Если образно представить его мировоззрение в виде
"философского древа", то корни его уходят в глубины античной
культуры, а могучие ствол и ветви прорастают все пласты
последующей культуры вплоть до современности. Никак
нельзя согласиться с мнением Льва Шестова, высказанным
в его книге "Гефсиманская ночь", будто в противовес
Декарту— "отцу" новоевропейской философии — Паскаль
является ретроградным "мыслителем-отступником",
смотрящим не вперед, а назад. Это до некоторой степени
можно отнести лишь к религии Паскаля, опиравшейся на
раннехристианское учение Августина, что, однако, не
помешало религиозным модернистам нашего века обращаться
к нему за идейной поддержкой. Что же касается философии,
Паскаль, по сравнению с Декартом, преодолевает
распространенные в то время рационализм, механицизм,
догматизм и во многом антидиалектический способ мышления
и намечает такие перспективы философского развития,
которые реализовались лишь в последущие времена и в
нашем веке. Под его влиянием формировались
диалектическое видение мира у Лейбница, скептицизм и вольнодумство
П. Бейля, антиклерикализм Вольтера, учение о природе
и привычке Гельвеция, деизм Жан Жака Руссо, "теория"
житейской мудрости Шопенгауэра, философия человека
Фейербаха, антисциентизм и парадоксализм Ницше.
Кроме того, Паскаля считают предшественником Канта в
исследовании проблем возможностей человеческого
познания, соотношения философии и науки, науки и религии (А.
Г. Гуляев), а также Гегеля — в разработке диалектики (Л.
Голдман) и Маркса — в предвосхищении идей
диалектического материализма (А. Лефевр). Из философов XX в. он
оказал наибольшее влияние на философию жизни А.
Бергсона, этическое учение А. Пуанкаре, концепцию У.
Джемса, "диалектическую теологию" К. Барта, Р. Нибура,
экзистенциализм П. Тиллиха, А. Камю, Ж.-П. Сартра,
12
католический персонализм Лакруа и Недонселя,
религиозный модернизм М. Блонделя. Паскаль является
зачинателем философской антропологии, ставшей чрезвычайно
актуальной в XX в. Он поставил актуальные ныне
проблемы антиномии гуманизма и сциентизма, психологии и
социологии познания, войны и мира, ограниченности
механистической методологии в науке о живом, уровней
психической деятельности и многие другие.
Парадокс Паскаля-философа состоит в том, что он был
"философом вне философии", заявив, что "философия не
стоит и часа труда". Еще более шокирует непосвященных
его знаменитый афоризм: "Смеяться над философией —
значит истинно философствовать". В дореволюционных
переводах придается совсем иной оттенок этой мысли
Паскаля: "Пренебрегать философией — значит истинно
философствовать". Но я думаю, именно первый смысл,
более емкий и содержательный, лучше всего соответствует
ироническому складу ума французского философа и
отражает его отнюдь не пренебрежительное, а критическое
отношение к традиционной европейской философии. Он
сам считал себя ученым и не претендовал на роль
философа. Но мало найдется ученых, которые бы столь много
сделали для философии. В мировой истории философии
Паскаль по праву стоит в одном ряду с Декартом,
Спинозой и Лейбницем. Он — классик философии, сильнее всех
"замахнувшийся" на классическую философию.
Своеобразие его положения вытекало хотя бы из того, что он не
принадлежал к традиционной систематической
философии. Зато он имел редкую возможность взглянуть на нее
"со стороны" беспристрастным, незаинтересованным
взглядом и подметить ее слабые места и уязвимые точки.
В 1-й главе я буду подробно исследовать эту проблему.
Здесь же лишь отмечу несомненное философское
призвание Паскаля и его тончайшую, данную от природы
философскую интуицию. Как говорят, он — "философ от Бога".
Без систематических школьных "штудий" (он получил
домашнее образование) Паскаль самостоятельно овладел
основным содержанием традиционной метафизики и
легко ориентировался в ее "вечных проблемах", внеся в их
разработку и свой уникальный вклад. Философов извечно
интересовали вопросы о мире и месте человека в нем,
о возможностях познания и его неисчислимых
трудностях, об истине и заблуждениях, добре и зле,
нравственном идеале человека и других гуманистических ценностях,
жизни и смерти, образцовом государственном строе и др.
13
Все их затронул Паскаль и дал им свое оригинальное
решение, не успокаиваясь на достигнутых результатах
и бросая будущим поколениям пламенеющие вопросы.
Что есть истина? Каково загадочное Я человека?
Умирает ли человек вместе с телом? Есть ли Бог? Что такое
любовь? А счастье? А Высшее благо? А свобода? Как мы
мыслим? В чем смысл жизни? И десятки, сотни, тысячи
подобных таинственных, головокружительных вопросов!
На то они и вечные, что каждое поколение решает их
заново. Но не раз и навсегда, хотя бы так и казалось
кому-то из мудрецов. Паскаль поражается
самонадеянности иных философов, в том числе и великого Декарта,
однозначности и догматизму их ответов и решений. Он
— враг всяких жестких и всегда ограниченных систем,
в которые, как в "прокрустово ложе", пытаются уложить
бесконечное развитие мира и самого человека. Он —
противник как скептицизма, так и догматизма, усматривая
истину скорее в совпадении противоположностей. Его ум
и память были счастливо избавлены от "перенасыщения"
философской информацией. Иногда он просто не знал,
что "так" не может быть в философии, и легко разрывал
"паутину" догматизма. Его ум не был "засорен" ни
философскими штампами, ни шаблонами, ни расхожими
мнениями. Потому его философское творчество было
столь свободным и плодотворным.
Будучи гениальным сыном своего времени, он чутко
реагировал на его насущные запросы, решая актуальные
проблемы тогдашней философии: истинного метода
научного познания, критики схоластики, соотношения
науки и философии, науки и религии, войны и мира и др. Но
особенно его беспокоили судьбы человека в его жестокий
век, насыщенный трагическими социальными
катаклизмами, бесконечными внутренними (чаще всего
религиозными) и внешними войнами. Как всегда, в такие бурные
эпохи возрастает социальная незащищенность человека,
становится особенно хрупкой жизнь, "ставится под
вопрос" само бытие. Отсюда понятен обостренный интерес
к судьбам человеческим, как то уже было во времена
крушения античного мира, а затем, скажем, падения
аскетической средневековой культуры, породившей
оппозиционный ей многоликий гуманизм эпохи Возрождения.
То, что в современной европейской философии условно
называется "экзистенциальными измерениями"
человеческого бытия, привлекает пристальное внимание
Паскаля. Причем не столько радость жизни, сколько горести ее,
14
страдания и неизбежные печальные стороны близки его
скорбному сознанию. С позиции самых высоких
представлений о "величии" человека он поражается его
реальным недостаткам и порокам, противоречивости и
дисгармоничности его существа, низости его желаний и
устремлений, что он определяет как его "ничтожество". Эта
знаменитая паскалевская дихотомия "величия и
ничтожества человека" составляет суть его трагического
гуманизма. Индивидуальное "ничтожество" людей усугубляется
их социальными бедствиями, что побуждает Паскаля
исследовать их ближайшие и отдаленные причины.
Существующие режимы он клеймит как "империи власти" с их
насилием, несправедливостью, вопиющими
антагонизмами, гибельным для государства общественным
неравенством, их бесконечными войнами за корону, наследство,
территории, "истинную веру" и т. д. Паскаль —
беспощадный критик абсолютизма и насильственной системы
власти, мечтающий об "империи разума", которая
давала бы гарантии защищенности, свободы и счастья для
всех людей. Эта проблема актуальна и для наших дней:
антиномия насилия и социальной справедливости.
"Ренессанс" творчества Паскаля приходится на XX в.,
причем как на Западе, так и на Востоке. Любопытный
факт: один из японских исследователей, Йохи Маеда,
в течение более 10 лет писал на каждый из фрагментов
"Мыслей" Паскаля подробный комментарий, который
известный французский паскалевед Ж. Менар считает
"лучшим на японском языке". О колоссальном интересе
к творчеству Паскаля свидетельствуют представительные
международные форумы, приуроченные к различным
юбилейным датам, в которых принимают участие паска-
леведы из Франции, Англии, США, Греции, Испании,
Италии, Германии и других стран мира. Ученых
интересует буквально все в творчестве Паскаля: его учение
о человеке, диалектика, научная картина мира, трактовка
разума и сердца, понимание бесконечности, своеобразная
концепция развлечения, система изобразительных
средств, эстетика, "искусство убеждения", мысли о Боге
и вообще феномене религиозной веры и т. д. до
бесконечности. Достаточно полно изученное, его творчество
оказалось поистине неисчерпаемым, являясь неотъемлемой
и существенной частью мировой культуры.
Так, скажем, лишь по одной проблеме методов у
Паскаля в его родном городе Клермон-Ферране состоялся
в июне 1976 г. международный коллоквиум, материалы
15
которого составили огромный том1. К методологии
Паскаля обращаются представители самых различных
отраслей знания: математики, физики, философии, эстетики,
этики, филологии, искусствоведения, социологии и др.
Прав венгерский ученый Альфред Реньи, который
считает, что до сих пор творчество Паскаля рассматривается
как "горящий факел", освещающий тернистый путь
науки. Празднование 300-летия со дня рождения (1923) и
затем со дня смерти (1962) ученого и философа вылилось
в настоящее "пиршество" европейской культуры. В нем
участвовали известные философы и религиозные деятели:
Блондель, Бреншвиг, Маритен, Шевалье, Гиттон, Ла-
порт, Менар, Гуйе и многие другие. Юбилей со дня
рождения был отмечен в 1925—1927 гг. изданием
5-томной "Общей библиографии трудов о Б. Паскале" (на
многих европейских языках), составленной почетным
библиотекарем Сорбонны Альбером Мэром. Юбилей со
дня смерти породил несколько объемных изданий:
"Паскаль в наши дни", Р. Алике "Паскаль живой", "Научное
творчество Паскаля", "Паскаль и Пор-Рояль" и др.2
Более того, во Франции отмечаются юбилеи со дня
выхода в свет отдельных произведений Паскаля,
особенно "Мыслей" и "Писем, к провинциалу". В 1954 г. было
отмечено даже солидной конференцией 300-летие
написания знаменитого "Мемориала" Паскаля, обнаруженного
после смерти в подкладке камзола и обозначившего его
"второе обращение" к религии и уход в монастырь Пор-
Рояль. Диссертации и крупные монографии о творчестве
Паскаля в XX в., десятки и сотни статей о нем давно уже
"перекрыли" все, что было издано за предыдущие
столетия. Иные исследователи посвятили долгие годы жизни,
а некоторые и всю свою жизнь изучению творчества
Паскаля, например Кузен, Сент-Бёв, Бреншвиг, Гиттон,
Шевалье, А. Лефевр, Лафюма, Л. Голдман, Менар, Гуйе,
М. Легерн, Ф. Селье, книги которых по разным
проблемам читатель найдет в списке библиографии.
'Méthodes chez Pascal. Actes du Colloque tenu à Clermont-Ferrand
10—13 juin 1976. P., 1979.
2 Maire A. Bibliographie Générale des ouevres de B. Pascal, t. 1—5. P.,
1925—27; Pascal présent, Clermont-Ferrand, 1962; Alix R. Pascal vivant,
Clermont-Ferrand, 1962; L'oeuvre sientifique de Pascal. P., 1964; Pascal et
Port-Royal. P., 1962.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ
Жизнь Блеза Паскаля ( 1623— 1662) приходится на эпоху
раннебуржуазного общества, первых буржуазных
революций, в социальном плане эпоху переходную, а потому
особенно сложную и противоречивую, обремененную как
недостатками и коллизиями феодального общества, так
и формирующегося буржуазного способа производства.
С XVI в. в Европе происходит образование крупных
монархий, складывается система абсолютизма,
противостоявшая "вольностям" вечно бунтовавших провинций и
консолидировавшая всю хозяйственную, политическую и в
целом социальную жизнь государств и народов.
Формирование абсолютных монархий в XVI—XVIII вв. было
исторической необходимостью. В рамках этой формы
государственности осуществлялось первоначальное
накопление капитала и созревал буржуазный способ
производства, прокладывавший себе путь также через научную
революцию и промышленный переворот. В условиях
непрекращающихся религиозных "распрей", доходящих до
кровопролитных гражданских войн, особенно
напряженных во Франции, анархических устремлений местного
дворянства, эгоистически преданного собственным
интересам и не обремененного заботой об общем благе,
внешних войн за наследство правящих династий (Бурбонов,
Габсбургов и т. д.), парализующих хозяйственную
деятельность народов, тормозящих развитие культуры в целом,
абсолютная монархия с ее сильной централизованной
властью обеспечивала определенный порядок в обществе,
его относительную стабильность и прогресс в развитии
материального производства, науки, культуры. Вот
почему для Паскаля, беспощадного критика и противника
абсолютизма ("империи власти и силы", но не "империи
разума"), мир представляется как "наибольшее из благ",
а "гражданская война — наихудшее из зол" (Паскаль).
17
Во времена Паскаля абсолютизм во Франции все
более набирал силу (при кардиналах Ришелье и Мазари-
ни), но окончательно окреп уже после смерти ученого
и философа при Людовике XIV, который после смерти
Мазарини в 1661 г. принял на себя всю полноту власти,
заявив: "Государство — это я!" Последний год жизни
Паскаля был омрачен гонением на Пор-Рояль, этот
"крамольный монастырь", отшельником которого он
был и который решил "стереть с лица земли" "король-
Солнце", чтобы истребить оппозицию королевской
власти. Абсолютная монархия при Людовике XIV
обеспечила определенный прогресс ряда сторон социальной
жизни (развитие промышленности, путей сообщения,
расширение внутреннего и внешнего рынка и т. д.,
относительное объединение нации, создание Парижской
академии наук в 1666 г., расцвет науки и искусства) при
неизбежном регрессе в других областях: обнищание
народных масс, истощение финансовых ресурсов страны,
отмена Нантского эдикта в 1685 г. и беспощадное
преследование протестантов и инакомыслящих, агрессивная
внешняя политика и др.
Паскаль был свидетелем укрепления абсолютизма
при Ришелье (1624—1642) и Мазарини (1643—1661),
а его отец Этьен Паскаль оказался "орудием"
центральной власти в Руанском генеральстве, интендантом
которого он был назначен по приказу Ришелье. Семья
Блеза Паскаля принадлежала к судейскому дворянству,
или "дворянству мантии", в отличие от
аристократического "дворянства шпаги". Судейское дворянство
появилось во Франции при Франциске I (XVI в.), когда
была узаконена практика продажи должностей в
судебных учреждениях, называемых парламентами.
Обладатель должности возводился в дворянское звание
и сверх того получал ряд привилегий и частичное
освобождение от налогов, от военной службы, военного
постоя и др. Представители "третьего сословия", из
которого во многом формировался буржуазный класс,
охотно покупали должности, приносившие им более
высокое положение в обществе, доходы и власть на
местах.
Так, во Франции происходило "одворянивание
буржуазии" и ее "врастание" в абсолютистскую систему
правления, в отличие от Англии, где осуществлялось "обур-
жуазивание дворянства" и его участие в буржуазных
видах деятельности. Знаменитый мольеровский "мещанин
18
во дворянстве" — это типично французское явление,
отражавшее глубокую социальную сущность "третьего
сословия" во Франции в эпоху абсолютизма, его
политическую незрелость и идеологическую слабость.
Французская буржуазия приспосабливалась к абсолютной
монархии, которая в свою очередь нуждалась в ее капиталах
и предпринимательской деятельности и частично делила
с ней власть. Более того, сама буржуазия искала
покровительства королевской власти для своей научной и
промышленной деятельности и нередко его получала.
Королевский двор опирался на буржуазию и в борьбе
с антиабсолютистской ориентацией высшей знати, не
желавшей мириться с потерей былых "дворянских
вольностей" и подчиниться центральной власти. Буржуа
занимали высокие должности в королевском государственном
аппарате. Людовик XIV признавался: "В моих видах не
было брать в министры выдающихся людей. Нужно
было первым делом дать понять публике по самому
званию, из которого я их брал, что моим намерением не
было делиться с ними властью"1.
Однако делиться властью все же фактически
приходилось, о чем выразительно пишет Ж. Лябрюйер в своих
"Характерах": "Вельможи не желают ничему учиться —
не только тому, чем они могли бы послужить монарху
и государству, но даже тому, что нужно для управления
собственными делами, домом и семьей... Между тем
простые граждане знакомятся с внешними и внутренними
делами королевства, постигают науку правления,
становятся тонкими политиками, изучают сильные и слабые
стороны своего государства, помышляют о месте,
получают его, возвышаются, достигают могущества и
облегчают государю заботы о благе отечества, а вельможи,
которые прежде презирали их, склоняются перед ними,
почитая за счастье стать их зятьями... В свете можно по
пальцам пересчитать такие семейства, которые не были
бы одновременно в родстве и со знатнейшими
вельможами и с простолюдинами"2. Отсюда понятна
"протекционистская" политика по отношению к буржуазии,
которую проводил Ришелье и в своем "Политическом
завещании" рекомендовал не оставлять ее и в дальнейшем.
1 Цит. по: Кареев Н. История Западной Европы в новое время. Спб.,
1893. Т. 2. С. 548.
2 Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де
Характеры. М., 1974. С. 340, аф. 24; С. 459, аф. 12.
19
Полетта (ежегодный денежный взнос в государственную
казну) позволяла буржуа продавать и передавать по
наследству занимаемую должность. Ришелье рассматривал
полетту как "необходимое зло'\ благодаря которому
буржуа были преданы королю и подальше держались от
народа (крестьянства), задавленного налогами.
Предки Паскаля получили дворянское звание за 150 лет
до его рождения. Они, как по традиции и их потомки,
служили в клермонском парламенте. Отец Паскаля служил
выборным королевским советником
финансово-податного округа Овернь, а в 1626 г. купил еще должность второго
президента палаты сборов в соседнем городе Монферране.
С 1631 г. (после смерти жены) Этьен Паскаль, продав свою
должность и оставив государственную службу, жил с
детьми в Париже, получая обеспечение от ренты. В 1639 г.,
когда Ришелье в связи с финансовыми затруднениями
страны в Тридцатилетней войне приостановил выплату
рент, отец Паскаля стал одним из лидеров бунтующих
рантьеров, вступив в конфликт с самим Ришелье. Наиболее
активных бунтовщиков посадили в Бастилию. Этой участи
не избежал бы и Этьен Паскаль, если бы не спасся бегством
в родную Овернь, тогда глухую провинцию. Он был
прощен кардиналом при условии согласия на должность
интенданта в Руанском генеральстве, где в это время
бушевало восстание "босоногих" и хозяйственная
деятельность была в упадке. Так Ришелье заставил служить
центральной власти выступившего против нее
"фрондера", который в январе 1640 г. прибыл с детьми в Руан.
Юный Блез Паскаль оказался свидетелем чудовищной
жестокости при расправе с восставшим народом.
Канцлер Сегье сам возглавил карательную экспедицию,
учредив "кровавую комиссию", которая обрекла на
мучительную смерть сотни людей1. В помощь полиции были
сняты с полей сражения Тридцатилетней войны
регулярные войска под предводительством генерала Гассьона,
которому было приказано "утопить восстание в крови".
Позже, в период Фронды, когда по требованию
парижского парламента была временно упразднена должность
интендантов, отец Паскаля навсегда оставил службу,
вернувшись с детьми в Париж (1648). Однако бывший
"фрондер" не принял участия в этом мощном
антиабсолютистском движении и выехал с семьей в родной город.
1 См.: Поршнев Б. Ф. Народные восстания во Франции перед
Фрондой (1623—1648). М.; Л., 1948.
20
Фронда развивалась в два этапа — "парламентская
Фронда" (1648—1649) и "Фронда принцев" (1649—1653).
Движение против абсолютизма начал парижский
парламент, выступив с рядом требований: 1) контроль за
налоговой политикой королевской власти, 2) свобода личности
— против ареста без суда и следствия (освобождение 20
тыс. недоимщиков), 3) устранение тирании Мазарини, 4)
контроль за учреждением должностей, ликвидация
должности интендантов, имевших слишком широкие
полномочия и стеснявших деятельность парламентов, 5) отмена
откупов, 6) единый налог для всех, 7) отмена внутренних
таможен, поощрение торгово-промышленной
деятельности. Эти требования свидетельствуют о достаточной
идейной зрелости французской буржуазии, получившей к тому
же мощную поддержку народных масс.
Как считает Б. Ф. Поршнев, "начало Фронды было
попыткой буржуазной революции (дворянство не
принимало в нем никакого участия). Ее основой оставались
народные восстания..."1. Но французская буржуазия не
имела такого сильного союзника, как "новое
дворянство" в Англии. Ее союзником мог быть только народ,
с которым ей было пока не по пути, ибо ей было
необходимо покровительство абсолютистской власти, и она его
получала. Парижский парламент боялся народного
революционного восстания и довольно быстро пришел к
соглашению с королевской властью, поспешившей
удовлетворить значительную часть его требований. Роялисты
понимали, что надо было оторвать парламент от народа.
Так, "отцы города" в апреле 1649 г. предали народ
и выступили на стороне двора против "Фронды
принцев". Отказ буржуазии от революции произошел
"буквально накануне того момента, когда ширящееся
народное движение готово было смести абсолютизм"2.
"Фронда принцев" (принц Конде, принц Конти, принц
Марсийяк (Ларошфуко), кардинал Рец (П. Гонди) и др.)
продолжалась значительно дольше, но и принцы в конце
концов договорились с двором, получив свои привилегии,
пенсии, субсидии и т. д., после чего абсолютистское
правительство при поддержке аристократии обрушилось на
народ, потопив его возмущение в крови. Этот поход
против собственного народа при дворе презрительно на-
1 Поршнев Б. Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой.
С. 572.
2 Там же. С. 580.
21
зывали "войнишкой". В конце концов Фронда
продемонстрировала политическую незрелость французской
буржуазии и прочность позиций абсолютизма. Семья
Паскалей скиталась по дорогам гражданской войны, и Блез
снова был свидетелем кровавой расправы с народом,
бесчинств победителей, торжества силы и оружия, а не
разума, истины и справедливости. Вот откуда у него
уважительное и сочувственное отношение к народу и
критицизм по отношению к "империи власти". Все его
философское творчество развивается в послефрондовский
период, когда окрепший в борьбе абсолютизм "завинчивал
гайки" во всех сферах жизни и не оставлял ни малейшей
надежды на реализацию социальной справедливости.
В "Мыслях" Паскаль неоднократно откликается на эту
ситуацию, рисуя "ничтожество" человека в "империи
власти". Эта последняя продержится во Франции еще
около 150 лет. Здесь надо видеть социальный исток
трагического миросозерцания Паскаля и в конечном счете
его ухода в религию. В "Письмах к провинциалу" он
вступит в открытый бой не только с иезуитами, но и с
абсолютизмом, идеологической опорой которого было
Общество Иисуса. В "Мыслях" Паскаль развернет
подробную и беспощадную критику "общества насилия".
В моей книге "Паскаль" (серия "Мыслители
прошлого". М., 1979) дана подробная биография Паскаля, здесь
же я остановлюсь лишь на важнейших событиях его
жизни. Блез родился в г. Клермон-Ферран (провинция
Овернь) 19 июня 1623 г. Его мать, Антуанетта Бегон,
дочь судьи, очень добрая и набожная женщина, умерла,
когда сыну было два с половиной года, его старшей
сестре Жильберте 6 лет, а младшей Жаклине всего
несколько месяцев. Отец, Этьен Паскаль, — известный
математик своего времени, член кружка М. Мерсенна, после
смерти жены более не женился и посвятил свою жизнь
воспитанию детей. Он был образован, отличался
широтой взглядов и гуманистической ориентацией в духе
М. Монтеня. Дети получили прекрасное домашнее
образование: их обучали латыни и греческому языку, грамматике,
математике, истории, географии и другим наукам.
Сестры Паскаля были тоже весьма одаренными, особенно
любимица Блеза Жаклина, отличавшаяся замечательной
красотой, незаурядным драматическим даром (был
оценен при дворе кардиналом Ришелье, а затем и П. Кор-
нелем) и поэтическим талантом. Она пользовалась
большим успехом в свете, однако предпочла суетной мирской
22
жизни подвижнический путь монахини Пор-Рояля, куда
она удалилась ранее брата, в 1652 г. Впоследствии она
сыграет немаловажную роль в уходе Паскаля в монастырь.
Отличаясь, как и ее брат, страстным характером и великой
преданностью религиозной идее, она в 36 лет гибнет от
нравственных мучений в период гонений на Пор-Рояль.
Она принадлежит к выдающимся женщинам XVII в.
В. Кузен напишет о ней специальное исследование1.
Старшая сестра, Жильберта Перье, также отличалась
литературным дарованием. Она всегда принимала
деятельное участие в жизни брата, а после его смерти —
в издании его трудов. Она написала биографию "Жизнь
г. Паскаля", проникнутую благоговением перед его
светлой памятью. Затем ее дочь Маргарита написала
"Воспоминания о жизни г. Паскаля". Все эти сочинения
вышли отдельным изданием2.
Уже в 25 лет Паскаль был известным ученым: одним
из творцов проективной геометрии и гидростатики, а
также создателем первой арифметической машины, за что
и прославился как "французский Архимед". Однако
самоотверженное служение науке настолько подорвало
слабое здоровье Паскаля, что врачи запретили ему
заниматься наукой и посоветовали уделить внимание
светской жизни. Молодой ученый отчасти последовал совету
врачей, но науки не оставил даже и тогда, когда в 1646 г.
пережил свое "первое обращение" к религии под
влиянием врачей-янсенистов. Он прочитал предложенные ему
книги: "О преобразовании внутреннего человека" К. Ян-
сения, "Духовные письма" и "Новое сердце" А. Арно.
Они заставили его задуматься не только о вопросах веры,
но и о высшем смысле жизни и подлинном достоинстве
человека. Особенно поразила его книга Янсения, в
которой развенчивалась суетная мирская жизнь и осуждались
три "похоти" «людей: гордость, любознательность и
чувственность. Блез почувствовал себя виновным во второй
и стал терзаться угрызениями совести за "напрасно
прожитую жизнь". Он превратился сначала в "домашнего
проповедника", увлекая за собой отца и сестер, а затем
выступил против одного теолога-рационалиста, Жака
Фортона, с которым связано "Дело Сент-Анжа"
(прозвище Фортона). Паскаль усмотрел в его взглядах
разновидность религиозного нечестия и отступление от учения
1 Cousin V. Jacqueline Pascal. 3 éd. P., 1856.
2 Périer G. e. a. Lettres, opuscules et mémoires... P., 1845.
23
Августина — идейного вдохновителя янсенистов. К тому
же Фортон "склонялся на сторону иезуитов", против
"внешней религии" которых и их "ослабленной морали"
боролись янсенисты1. Так что выступление Паскаля
против этого теолога было "первой пробой сил" в его
последующей битве с орденом иезуитов. "Светская жизнь"
Паскаля в Париже (уже после тяжелой болезни в 1647 г.) в начале
50-х годов обернулась исследованиями в области азартных
игр и открытием теории вероятностей. Наука отвлекла его
от религиозного подвижничества, хотя "первое
обращение" к религии сыграло свою роль в усилении его
набожности. Об этом свидетельствует его письмо к сестре Жильбер-
те и ее мужу по случаю смерти отца в сентябре 1651 г.,
в котором утешение целиком им связывается с Богом
и бессмертием души, а также религиозной трактовкой
жизни и смерти (анализ этого письма дан в главе V).
Было и другое открытие для Паскаля — первого
опыта любви к сестре его друга герцога де Роанне, 20-
летней Шарлотте, отвечавшей ему взаимностью.
Известно, что в то время он собирался купить должность и
жениться. Однако ничему этому не суждено было
осуществиться. Сначала он был увлечен математическими
исследованиями, а затем произошел несчастный случай на
мосту Нейи, чуть не стоивший Паскалю жизни. В ноябре
1654 г. он с друзьями отправился на прогулку в коляске,
запряженной лошадьми. Надо было переехать через Сену
по мосту, который в одном месте был поврежден и не
имел перил. Лошади вдруг испугались и бросились в
пролом, в котором глубоко внизу зияла темная бездна воды.
Еще мгновение, и она поглотила бы всех. К счастью,
в бездну сорвалась лишь первая пара лошадей,
постромки оборвались... и коляска остановилась на самом краю
пропасти. Все были потрясены, а впечатлительный
Паскаль потерял сознание. После этого, вследствие
развившегося невроза, он не переносил пустого пространства
слева от себя и ставил стул на это место. Впоследствии
бездна станет одним из трагических образов его
философии. В конце концов, "бездна" поглотила и его любовь,
сокрыв в своей глубине ее тайны и несбывшиеся надежды.
Паскаль имел огромное влияние на судьбу Шарлотты.
Когда он ушел в монастырь, она последовала за ним, как
и ее брат, уйдя из дома и приняв обет монашества. Но
1 См. подробнее: Gouhier H. Pascal et les humanistes chrétiens. L'affaire
Saint-Ange. P., 1974.
24
родственники добились особого указа короля о
"водворении беглянки" в дом. Однако и дома она вела
монашеский образ жизни. Пока был жив Паскаль и еще спустя
5 лет после его смерти, она противилась попыткам
выдать ее замуж. Только в 1667 г. она согласилась стать
женой герцога де Ла Фейада. До конца своих дней
Шарлотта бережно хранила письма Паскаля к ней, но перед
самой смертью по требованию своего мужа была
вынуждена уничтожить их. Не осталось никаких свидетельств
этой человеческой трагедии, но своеобразное
"свидетельство" любви все-таки осталось — "Рассуждение о
любовной страсти", которое, возможно, было написано
Паскалем в "светский период".
Оно принадлежит к редкому жанру философско-лю-
бовной лирики. С тонким душевным тактом, глубоким
психологизмом и столь свойственной ему искренностью
Паскаль описывает возвышающее человека чувство
любви, которая одна наполняет великим смыслом
человеческую жизнь. Любовь — мерило жизни. Ранее он был
убежден, что человек рожден для того, чтобы мыслить,
теперь он добавляет: и чтобы наслаждаться жизнью
и быть счастливым. Ранее одна наука заполняла его
одинокую жизнь, теперь он всеми силами своей
горестной души протестует против одиночества. "Одинокий
человек представляет собой нечто несовершенное: он
должен найти другого, чтобы стать счастливым", — пишет
он в "Рассуждении о любовной страсти"1. Паскаль
отстаивает глубокое и серьезное чувство любви, подлинное
"половодье чувств", которое он противопоставляет
поверхностной "игре в любовь", столь распространенной
в его время в высшем обществе. "Первое следствие такой
любви есть великое почитание того, кого любят, так что
нет никого более достойного в мире"2. Однако важно
найти гармоничное соотношение любви с уважением,
иначе это последнее "задушит любовь". Паскаль говорит
о любви "великих душ", а "в великой душе все велико".
Он не согласен с распространенным представлением
о любви как слепой, безотчетной страсти, как бы с повязкой
на глазах. Нет, "чистота души порождает чистоту страсти:
вот почему великая и чистая душа любит пламенно и
хорошо видит то, что любит"3. Разум срывает повязку, являясь
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P., 1963. P. 287.
4bid. P. 288.
4bid. P. 286.
25
"глазами любви", человеческой и гармоничной в отличие
от всеразрушающей, безрассудной и темной страсти. Еще
одно тонкое замечание Паскаля: в истинной любви
молчание значит больше, чем слова. Это "Рассуждение"
написано в духе светлой веры Корнеля в гармонию разума
и страстей, истины и красоты, чувств и добродетели.
Здесь еще нет того трагического разлада между сердцем
и разумом, который будет осознан Паскалем позже и
станет одним из лейтмотивов его "Мыслей" и который
более созвучен главной теме великих трагедий Расина.
Паскаль поэтизирует это столь естественное для всех
людей чувство, "живые и глубокие истоки которого
каждый чувствует в своем сердце", настолько глубокие, что
"мы рождаемся с образом любви, который побуждает
нас любить прекрасное, хотя нас никогда не учили этому.
Разве можно сомневаться, что мы существуем в мире для
чего-то иного, а не для любви?"1. Любовь не знает
возраста, говорит далее Паскаль, она сопутствует человеку от
рождения до могилы. Возраст не определяет ни начало,
ни конец любви. Любовь не только спутница, но и
мерило жизни. Ясно, что речь идет о любви в более широком
смысле, нежели специфическая половая любовь, хотя
преимущественно об этой последней и пишет Паскаль.
Несмотря на то что он верит в гармонию разума и любви,
однако признает невозможность сколько-нибудь полной
рационализации этого чувства. "Человек рожден для
наслаждения: он это чувствует, и не надо других
доказательств. Случается, что он вполне разумно отдается
наслаждению. Но чаще всего он чувствует страсть в своем
сердце, не зная, каким образом она родилась"2. Позже,
в "Мыслях", он обратит внимание на неуловимость и
загадочность любви, особенно в ее истоках. "Вызывает
любовь "такая малость", "не знаю что", то есть "почти
ничто", зато последствия ее ужасны. И это "ничто"
приводит в движение всю землю, государей, армии, целый
мир. Будь нос Клеопатры чуть покороче — весь облик
земли был бы иным"3. Паскаль отметит специфику
чувства в отличие от разума, которая заключается в его
кажущейся необоснованности, как бы в "иной логике",
неуловимой для разума. Вот один из парадоксов любви. Или
вот другой: что мы любим в человеке — отвлеченную ли
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 285, 286.
4bid. P. 286.
3 Ibid. P. 549, fr. 413.
26
суть его души, загадочное ли и неуловимое его Я или же
его реальные свойства (красоту, ум, тело и т. д.),
полученные им в "недолгое владение"? Но любить "отвлеченную
суть" человека невозможно, да и несправедливо. Значит,
мы любим человека за его реальные свойства, которые
могут... исчезнуть, как, например, красота после оспы.
Так не смейтесь же над теми, кто кичится своими постами
и должностями, ибо любят лишь за недолговечные
качества. Но что же в самом деле в нас любят? И что такое
наше Я, которое отнюдь не исчезает с утратой отдельных
наших качеств? Но если нас любят за реальные, столь же
реальные, сколь и недолговечные, свойства, которые не
тождественны моему Я, то, стало быть, нас-то никто и не
любит"1. Может быть, из неуловимости нашего Я,
несводимости его к видимым свойствам и отдельным
качествам проистекает и неуловимость любви, и
неподвластность ее рациональному "вычислению". "У сердца свои
законы, которых разум не знает" — вот кредо более
зрелого Паскаля. Своей юношеской вере в гармонию
разума и чувств он теперь противопоставляет их
трагический разрыв. Но дело и не только в этом. Он постигает
качественную специфику различных "порядков" в мире
— физического "порядка тел", интеллектуального
"порядка умов" и нравственного "порядка любви и
милосердия", несводимых друг к другу. Итак, любовь и разум
принадлежат к различным "порядкам бытия". Как из
всех тел в природе, вместе взятых, нельзя вывести "самой
маленькой мысли", так из всех тел и умов, вместе взятых,
нельзя получить ни крупицы любви, ни капли
милосердия2, этих высших ценностей нравственного порядка.
В самом деле, говорит Паскаль, не доказывают же
разумом причин и оснований любви, что было бы нелепо
и смешно, равно как не менее смешно было бы требовать
от разума "чувствования его теорем" вместо их
доказательств. Какой контраст с его юношеской идеей о том,
что разум представляет собой "глаза любви"! Но зато
какая зрелость и проницательность — поставить любовь
и милосердие выше всего в жизни! Этому кредо он не
изменит до конца дней своих. Пройдя впервые через опыт
любви, Паскаль от "науки о внешних вещах" обратит
свой взор к человеку и вскоре сделает его предметом
своих философских размышлений.
1 Pascal В. Pensées. Р. 591, fr. 688.
2Ibid. P. 540, fr. 308.
27
Случай на мосту Нейи имел и другое трагическое
следствие. Иезуиты использовали невроз Паскаля и
объявили его "сумасшедшим". Ш. Сент-Бёв в своем "Пор-
Рояле" подробно останавливается на этих слухах о
"безумии" Паскаля и справедливо отвергает их1. Главное
и бесспорное опровержение — его последующая
плодотворная деятельность уже после ухода в Пор-Рояль:
"Письма к провинциалу", "Мысли", все теологические
работы, ряд небольших по объему, но совершенно блестящих
по содержанию и форме философских сочинений ("О
геометрическом уме и об искусстве убеждать", "Три
рассуждения о положении знати", "Разговор с де Саси об
Эпиктете и Монтене") и, наконец, победа в Европейском
математическом конкурсе в 1658 г. и написание большого
тома работ по анализу бесконечно малых величин.
Словом, почти все наиболее значимое для науки, философии
и культуры содержание его творческого наследия,
отмеченное глубиной и ясностью мысли, теоретической
зрелостью и подкупающей выразительностью и изяществом
формы, было создано после случая на мосту.
Сам Паскаль увидел в нем "чудесное спасение",
"призыв Господа" и решил оставить свет и посвятить себя
служению Богу. В этой мысли его окончательно укрепило
еще одно "чудо", которое произошло в ночь с 23 на 24
ноября 1654 г. Он пережил необычайный опыт "боговдох-
новения", результатом которого было написание в ту ночь
загадочного документа, небольшого текста религиозно-
экстатического содержания. Сначала он был написан
дрожащей рукой на клочке бумаги, а затем Паскаль переписал
его на пергамент и оба документа зашил в подкладку своего
камзола. С этой "памяткой" он никогда не расставался,
и ни одна душа не знала о ней. Лишь после его смерти она
была обнаружена и была названа "Мемориалом"2. Кондо-
рсе впервые опубликовал его в 1778 г. и назвал "Амулетом
Паскаля". Однако более верно видеть в "Мемориале"
программу последних лет жизни, которой он
безукоризненно придерживался. Он оставил "суетный свет" и в начале
1655 г. удалился в Пор-Рояль без пострижения в монахи, но
с очень строгим исполнением всех религиозных обрядов.
Нет, Пор-Рояль "не убил в нем ученого", как считали
французские просветители, потому что расцвет его
математического творчества приходится на "отшельнический
'Saint-Beuve Ch. Port-Royal. P., 1888. T. 3. P. 362—365.
2 Pascal B. Pensées. P. 618, fr. 913.
28
период", плодотворный и в других отношениях.
Духовник Паскаля де Саси поражался глубине и
оригинальности его философских размышлений. Франция
зачитывалась его "Письмами к провинциалу". Математики
восхищались его решениями шести задач по проблемам
циклоиды и его победе в математическом конкурсе. Ян-
сенисты из Пор-Рояля гордились не только Паскалем-
святым, но и Паскалем — ученым и философом.
Крамольный Пор-Рояль, из которого вышли "Письма
к провинциалу" и который поддерживал одного из
лидеров Фронды, кардинала Реца, был не угоден как королю,
так и ордену иезуитов. Монастырь называли "открытой
раной" на теле абсолютизма во Франции. Людовик XIV
расправился с Пор-Роялем. Гонения начались с 1661 г. —
года самостоятельного правления короля-Солнца. В том
же году 4 октября умерла Жаклина Паскаль,
мученическая смерть которой потрясла ее брата, пережившего
сестру всего на 10 месяцев. Паскаль умер 19 августа 1662 г.
в доме своей старшей сестры Жильберты. Он похоронен
в Париже, в церкви Сент-Этьен-дю-Мон. Вопреки
желанию Паскаля похороны были пышными, а могилу
украсили черной мраморной плитой с пространной латинской
эпитафией.
1. СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
То, что превышает геометрию, превосходит
и нас.
Паскаль
Тайны природы нам открываются по
временам.
Паскаль
Побаиваюсь я математиков: чего доброго,
они примут меня за теорему.
Паскаль
Научное творчество Паскаля многообразно,
отличается ярким новаторством, широтой и глубиной
теоретического анализа, методологической зрелостью, а также
практическим применением ряда научных результатов.
Наука была не только его "первой мыслью", но и
всепоглощающей страстью, единственной целью жизни в моло-
29
дые годы и "непреодолимым увлечением" даже в
религиозный, последний период его жизни. Недаром Паскаля
называют не только героем научной революции XVI—
XVII вв., но также и мучеником науки, ибо ей он отдал
все свое здоровье в молодости (подорвав его в 19 лет на
конструировании арифметической машины), свои зрелые
силы и последний взлет творческого гения,
закончившийся тяжелой болезнью, преждевременно унесшей его в
могилу. Французские просветители (Вольтер, Кондорсе,
Дидро и др.) обвиняли Пор-Рояль в ранней кончине
Паскаля, но это лишь отчасти правда. Оба наиболее вероятных
диагноза его болезни (с позиций современной медицины)
— туберкулез и рак желудка с метастазами в мозг —
свидетельствуют о хроническом крайнем напряжении
всех жизненных сил от природы очень хрупкого
физически человека, каким был Паскаль. Более несомненно то,
что он "сжег" себя в "горниле творчества", и прежде
всего научного, о чем выразительно пишет Г. Тисандье:
"Слишком обширные умственные занятия и напряженная
работа мысли должны были сломить его физическую
природу, как чрезмерно палящий жар раскаляет и
разрушает ту печь, в которой заключен горючий материал"1.
Страсть к науке проснулась в нем с детства. Все
биографы отмечают случай Паскаля как наиболее редко
встречающийся пример очень раннего проявления
гениальности. Уже в 10 лет Паскаль сочинил "Трактат о
звуках", поводом для создания которого послужило
звучание тарелки за столом. В течение нескольких дней он
исследовал это явление и пришел к правильным выводам
о звуках (колебание частиц звучащего тела), способе их
распространения через воздушную среду, причинах их
интенсивности (размах и частота колебаний). Знающие
люди сочли "Трактат о звуках" "весьма обоснованным".
Следующий шаг Паскаля в науке был еще более
поразительным. В процессе детской игры "в науку
геометрию" 12-летний Блез самостоятельно дошел до
32-го предложения Евклида о сумме углов
треугольника. Предложенные ему для чтения "Начала" Евклида
Блез легко и с увлечением одолел, не только не
обращаясь к отцу за помощью, но развивая и дополняя
по-своему рассуждения и доказательства великого
античного математика. Творческое прочтение "Начал"
Евклида ребенком ошеломило не только отца, но и других
' Тисандье Г. Мученики науки. 3-е изд. Спб., 1891. С. 126.
30
математиков из его окружения. "Можно поэтому
сказать без всякого преувеличения, — считает M. М.
Филиппов, — что Паскаль вторично изобрел геометрию
древних, созданную целыми поколениями египетских
и греческих ученых. Это факт, беспримерный даже
в биографиях величайших математиков"'.
В 13 лет Паскаль стал активным участником научного
математического кружка М. Мерсенна, который в ученых
кругах называли "Парижской академией". В него
входили многие известные тогда математики: Роберваль, Ж.
Дезарг, К. Арди, К. Мидорж, Ле-Пайер, Паскаль-отец
и др., которые с 1636 г. собирались в келье Мерсенна,
чтобы обсудить новости в науке и культуре. Ч-ерез
переписку с Мерсенном в этих обсуждениях принимал участие
Декарт. Отец Паскаля был не простым любителем
математики, а довольно способным ученым, оставившим свой
след в истории науки. Так, ему принадлежит открытие
и исследование алгебраической кривой четвертого
порядка, которая названа в его честь "улиткой Паскаля".
В кружке Мерсенна юный Паскаль проявил себя как
наиболее творчески мыслящий ученый. Он тонко чувство- ■
вал далекие перспективы тех или иных новых и
необычных идей и умел оригинальным образом развивать их.
В те годы талантливый математик, архитектор и
инженер-практик Жерар Дезарг разрабатывал новые
универсальные методы в геометрии, применение которых
привело к созданию проективной геометрии. Он опирался на
учение о перспективе, получившее развитие в эпоху
Возрождения, и свой опыт инженера-строителя. В отличие от
Декарта (с которым был в дружеских отношениях),
основоположника аналитической геометрии, использовавшего
аналитический метод сведения геометрических элементов
и отношений к алгебраическим формулам и
преобразованиям, Дезарга привлекали чисто геометрические
построения и проективные преобразования на основе
пространственной интуиции. Дезарг ввел понятие проективного
пространства, в котором не выполняется 5-й постулат
Евклида о параллельных и которое образуют бесконечно
удаленные элементы. Он сформулировал также основную
теорему проективной геометрии: если точки пересечения
соответственных сторон двух перспективных
треугольников находятся на одной прямой, то прямые, соединяющие
1 Филиппов M. М. Паскаль, его жизнь и научно-философская
деятельность. Спб., 1891. С. 13.
31
их соответственные вершины, пересекаются в одной
точке — центре перспективы. Дезарг изложил свои взгляды
в "Черновом наброске подхода к явлениям при встречах
конуса с плоскостью", который мало кем был понят
и оценен из современников. В эпоху господства
механистического мировоззрения им больше импонировали
аналитические приемы в геометрии Декарта, чем сложные
синтетические методы Дезарга.
Лишь один математик XVII в. сумел по достоинству
оценить "заманчивые перспективы новой геометрии,
творчески овладеть ею и тотчас обогатить новым
фундаментальным результатом"1. Этим математиком был юный
Блез Паскаль, который в 16 лет написал "Опыт о
конических сечениях", маленький математический шедевр в 53
строчки, вошедший в золотой фонд математики2. Он был
отпечатан на одной стороне листа в виде афиши с
указанием лишь инициалов автора. Отталкиваясь от
"Чернового наброска" Дезарга, Паскаль в своем "Опыте..." дает
формулировку одной из основных теорем проективной
геометрии, которую восхищенный Дезарг назвал
"великой Паскалевой теоремой": три точки пересечения
противоположных сторон шестиугольника, вписанного в
коническое сечение, лежат на одной прямой.
Это открытие прославило имя Паскаля среди ученых.
Им заинтересовался и Декарт, который в письме Мерсен-
ну выразил желание познакомиться с "Опытом..."
Паскаля. Мерсенн переслал его Декарту, и Паскаль с
нетерпением ожидал отзыва маститого ученого и философа.
Но отзыв оказался весьма сдержанным: Декарт сразу
узнал в Паскале ученика Дезарга, которого уважал, но
проективные методы которого не считал перспективными
в геометрии. Мнение Декарта не охладило научного пыла
юного ученого, с увлечением тогда работавшего над
большим сочинением о конических сечениях. По
свидетельству Мерсенна, Паскаль вывел из своей теоремы о
"мистическом шестиугольнике" около 400 следствий и других
теорем. В Обращении к "Парижской математической
академии" (так неофициально назывался кружок Мерсенна)
в 1654 г. Паскаль уведомляет ученых о подготовленных
им многих научных трудах, среди которых назван
1 Юшкевич А. П. Блез Паскаль как ученый // Вопросы истории
естествознания и техники. Вып. 7. М., 1959. С. 76.
2 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 35—37. — Рус. пер.: Паскаль Б.
Опыт о конических сечениях. Пер. Игнациуса Г. И. // Историко-матема-
тические исследования. Вып. XIV. М., 1961. С. 603—607.
32
и "Полный труд о конических сечениях"1. С этим
последним познакомился Лейбниц в Париже в 1676 г. и очень
советовал тогда срочно его опубликовать, о чем и
написал в письме Этьену Перье, племяннику Паскаля. Но это
так и не было сделано, а позже этот труд был утерян и не
найден до сих пор. Лишь незначительная его часть
сохранилась благодаря копии, сделанной тогда Лейбницем2.
Между тем это сочинение содержало ряд таких решений
и теорем, которые обгоняли свое время на 100—150 лет.
Кроме того, принцип построения, или
конструирования, а также преобразования математических объектов на
основе интуиции, использованный Паскалем в
проективной геометрии, найдет широкое применение почти через
300 лет в математическом интуиционизме (Брауэр, Вейль,
Гейтинг, Клини и др.) и в советской школе
конструктивной математики (А. А. Марков и его группа). Таким
современным было математическое творчество юного
Паскаля. Кстати, здесь же отметим, что позже Паскаль
разработал метод полной математической индукции,
сыгравший большую роль в становлении интуиционистской
математики "как орудие интуитивных математических
рассуждений"3 и как принцип порождения потенциальной
бесконечности, или абстракции потенциальной
осуществимости. В противовес математическому формализму
(Гильберт и его последователи) интуиционисты
опираются на содержательную математику, что было характерно
и для математического творчества Паскаля. "Вкус к
конкретному", содержательному анализу в математике и
недоверие к абстракциям, символам и формулам
определили как замечательные достижения Паскаля в математике,
так и границы его творчества, особенно в инфинитези-
мальных исследованиях, которыми он занимался в
последние годы своей жизни. "Вкус к конкретному" был
привит Паскалю в кружке М. Мерсенна, особенно его
старшим другом Робервалем, презиравшим
спекулятивную философию и схоластическую умозрительность в
науке. Эта ориентация в науке соответствовала и характеру
математического гения Паскаля, которого А. Койре
относит к "геометрам", обладающим "даром видеть в
пространстве, опираясь на мощное воображение" в отличие
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 101 — 103.
2 Ibid. P. 37-^2.
* Кляус E. M., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль. М.,
1971. С. 343—346.
2 Заказ №4951
33
от "алгебраистов (Декарт, Лейбниц), предпочитающих
прозрачную чистоту алгебраических формул"1. Все это
объясняет нелюбовь Паскаля к символам и формулам
в математике. Отсюда его сдержанное отношение к
аналитической геометрии Декарта и "очарованность"
проективными методами Дезарга.
В 17 лет, желая помочь отцу в громоздких
вычислительных операциях, связанных со сбором податей в Руанском
генеральстве, интендантом которого был отец, Паскаль
задумал создать счетную машину. Облегчение счета путем
его автоматизации было не только его личной задачей,
а одной из актуальных научных проблем XVII столетия. Ее
пытались решить многие ученые и разными способами.
Так, для умножения и деления многозначных чисел Дж.
Непер, И. Бюрги и др. предложили логарифмические
таблицы, для менее сложных операций Непер создает свои
"счетные палочки", появляются первые варианты
логарифмической линейки (Э. Гунтер, У. Уотред, С. Пертридж).
Мысль Паскаля работала в другом направлении. Но
любопытнее всего то, что в год рождения Паскаля
немецкий ученый В. Шиккард, профессор Тюбингенского
университета, создал первый в мире экспериментальный
экземпляр счетной машины, механически выполнявшей все
четыре действия арифметики, о чем он и сообщил в
письме И. Кеплеру. К несчастью, в следующем году этот
единственный экземпляр машины сгорел, и больше о ней
ничего не было слышно ни от ее изобретателя, ни от
Кеплера. Историки науки считают, что о машине Шик-
карда ни Паскаль, Ни другие ученые Франции ничего не
могли знать, так что юный Паскаль шел к этому
изобретению совершенно своим путем. Путь этот был
тернистым, потребовавшим от Паскаля не только больших
творческих усилий, но и огромного волевого и
физического напряжения, а также значительных материальных
затрат, на которые, кстати, не скупился его понимающий
отец. Все это в определенной степени объясняет то, что
Шиккард после несчастного случая не возобновил работы
над своей машиной2.
Созданию счетной машины Паскаль отдал 5 лет своей
хрупкой и короткой жизни (1640—1645). Он вложил в нее
1 Koyrè A. Pascal savant // Biaise Pascal, l'homme et l'ocuvres. P., 1956.
P. 260 261.
2 Кляус E. M., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль. С.
343-346.
34
все свои знания по математике, механике, физике, талант
изобретателя, природную сноровку мастера. По замыслу
Блеза, счетная машина-сумматор должна была облегчить
сложные расчеты "без пера и жетона" любому человеку,
не знакомому с математикой. В теоретическом плане
принцип ее действия довольно прост: автоматический
перенос десятков с помощью вращательного движения
зубчатых колес, замена десятков нулем в одном разряде
и автоматическое прибавление единицы в следующем. Но
для низкой техники того времени реализация этого
простого замысла была сопряжена с невероятными
трудностями, через которые пришлось пройти Паскалю.
Одну из первых готовых машин Паскаль с
благодарственным посвящением подарил канцлеру Сегье,
который в трудный момент поддержал пошатнувшиеся
надежды юного изобретателя. "Кровавый палач" народа
Сегье был покровителем наук и страстным собирателем
редких книг и рукописей. В 1649 г. канцлер добился от
короля "Привилегии на арифметическую машину" для
Паскаля, согласно которой за автором закреплялось
право на приоритет, ее изготовление и продажу1. Некоторое
время Паскаль занимался производством счетных машин
и какое-то количество из них продал; посредником в деле
сбыта машин был Роберваль, друг обоих Паскалей. Но
кустарная техника того времени делала производство
машины очень сложным и дорогостоящим
предприятием, которое не могло долго продержаться на личных
средствах и героических усилиях изобретателя. Тем более
что тяжелый труд на протяжении 5 лет подорвал и без
того хрупкое здоровье Паскаля. Его начали мучить
изнурительные головные боли, которые давали о себе знать
всю последующую жизнь.
Трудно переоценить значение счетной машины
Паскаля как для.XVII в., так и для последующих времен. Она
начинает эпоху автоматизации счета в истории техники.
Над совершенствованием машины Паскаля будет
работать в 70-х гг. Лейбниц, предложив суммарномножитель-
ный механизм счета, а затем еще не одно поколение
изобретателей. Первый арифмометр, вполне пригодный
для широкой практики, будет построен лишь в 1874 г.
инженером из Санкт-Петербурга В. И. Однером. Счетная
машина Паскаля имеет отнюдь не только историческое
значение. Основной принцип ее действия не устарел и по-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 191-192.
35
ныне: он используется в современных арифмометрах. Эту
заслугу Паскаля высоко оценил "отец кибернетики" Нор-
берт Винер.
Для XVII столетия счетная машина Паскаля была
настоящим "чудом", посмотреть на которое стекалось
много народу: она демонстрировалась для широкой
публики в Люксембургском дворце. Один неизвестный поэт
написал по этому поводу стихи, в которых назвал автора
изобретения "французским Архимедом".
Заинтересовался счетной машиной Паскаля и Декарт, перед которым
она была продемонстрирована Робервалем во время
посещения Декартом больного Паскаля в сентябре 1647 г.
Слава о молодом изобретателе перешагнула далеко за
пределы его родины. В 1652 г. Паскаль преподнес свою
машину в дар королеве Швеции Кристине. Восемь
экземпляров машины Паскаля сохранились до наших дней. Один
из них находится в Парижском музее искусств и ремесел.
Наконец, в плане философском Паскаль реализовал
мысль Декарта об автоматизме некоторых психических
функций человека, мысль новую и непривычную в
условиях XVII в. Попытка естественно-научного объяснения
Декартом психической деятельности с помощью идеи
рефлекса дала теоретическую базу для создания
автоматов, имитирующих работу человеческого мозга. Здесь
Паскаль, как и в случае с проективной геометрией Дезар-
га, чутко уловил новое научное веяние и по-своему
откликнулся на него. Позже в "Мыслях" Паскаль
использует идею Декарта об автоматизме и свяжет ее с
механизмом привычки: человек представляет собой "настолько
же автомат, насколько и ум"; привычка увлекает за собой
автомат, как доказательства увлекают ум1. Кроме того,
Паскаль проницательно укажет на возможности и на
ограниченность сконструированного автомата, сравнивая
его с животными: "Арифметическая машина совершает
действия, которые приближаются значительно больше
к действиям мысли, чем ко всему тому, что делают
животные, но она не делает ничего такого, что указывало
бы на наличие у нее воли, которая есть у животных"2.
Едва закончив работу над арифметической машиной
и несмотря на предостережения врачей, в 1646 г. Паскаль
с не меньшим энтузиазмом начинает серию
экспериментов с вакуумом, завершившихся рядом блестящих науч-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 604, fr. 821.
4bid. P. 596, fr. 741.
36
ных результатов. К тому времени во Францию дошла
весть об опытах с пустотой учеников Галилея, Торричел-
ли и Вивиани, легко получивших феномен ныне хорошо
известной "торричеллиевой пустоты", а тогда
ошеломивших ученый мир самим фактом опровержения
устоявшейся догмы средневековой науки: "природа боится
пустоты". Знаменитая "horror vacui" ("боязнь пустоты")
считалась абсолютной, так что теоретически казалось
возможным поднять воду в трубах, например фонтанов,
сколь угодно высоко, "хоть до облаков". Однако
практически эта "боязнь пустоты" была ограниченной и
позволяла подниматься воде в трубах лишь на высоту 34
футов (10,3 м), а ртути в трубке — на высоту всего 76 см.
Торричелли выдвинул гипотезу об атмосферном
давлении воздуха как причине поднятия и удержания жидкости
в сообщающихся сосудах и возникновения пустоты над
уровнем ртути в трубке, но неопровержимо обосновал ее
только Паскаль. В самом деле, Торричелли доказал, что
природа "не боится" пустоты и "спокойно ее терпит", но
его опыт отнюдь не исключал другой естественной
причины вакуума, помимо давления воздуха.
Сначала Паскаль в разных вариантах повторил опыт
итальянского ученого, экспериментируя с различными
жидкостями (маслом, вином, водой, ртутью и др.) и
получая пустоту в разных объемах. Творческий ум Паскаля
не мог ограничиться простым повторением опыта
Торричелли, и он прибавил к нему восемь своих
оригинальных экспериментов, свидетельствующих о большой
изобретательности ученого. Согласно А. Койре, один
из описанных Паскалем опытов со стеклянной трубкой
длиной 46 футов (около 14 метров) мог быть лишь
мысленным экспериментом, так как сделать ее довольно
трудно даже в наши дни, а в его время — вообще
было невозможно1.
Он описал их вместе со своими выводами в
небольшом трактате "Новые опыты, касающиеся пустоты",
увидевшем свет в октябре 1647 г. В нем Паскаль еще
стоит на точке зрения horror vacui, но считает эту
"боязнь" ограниченной и вполне измеримой величиной,
равной силе, с которой вода, поднятая на высоту 31
фута, устремляется вниз. "Сила, сколь угодно мало
превышающая эту величину, достаточна для того, что-
1 Koyrè A. Pascal savant // Biaise Pascal, l'homme et l'oeuvre. P., 1956.
37
бы получить видимую пустоту, сколь угодно
большую..."1 Под "видимой пустотой" Паскаль имеет в виду
"пустое пространство, не заполненное никакой известной
в природе и чувственно воспринимаемой материей".
Пока не будет доказано, продолжает Паскаль, что эта
"видимая пустота" заполнена какой-либо материей, он будет
считать ее "действительной пустотой"2. Однако эти опыт
ты еще не давали достоверного ответа относительно
действительной причины пустоты.
Но и эти весьма еще скромные выводы показались
кое-кому слишком революционными и вызвали
решительную оппозицию иезуитов, зорко стоявших на страже
схоластической науки. Ректор иезуитского колледжа Кле-
рмон в Париже Э. Ноэль (бывший учитель Декарта)
прислал Паскалю письмо, в котором выступил против
того, что Блез называл "видимой пустотой". Ученый-
иезуит был противником любой пустоты в природе,
называя пустое пространство "телом, которое может
действовать на другие тела" (например, передает свет или
заставляет опускаться ртуть, когда трубка
опрокидывается)3. Но и это, и дальнейшие его абстрактно-философские
рассуждения не могли поколебать достоверности вполне
определенного естественно-научного факта
существования пустоты, о котором только и шла речь в трактате
Паскаля. Иезуит был умен и образован, легко
ориентировался как в древних авторах (ссылался на
Аристотеля), так и в новейшей философии, хорошо знал Декарта
и умело использовал ряд его аргументов против пустоты,
особенно его гипотезу о "тончайшей материи".
Несмотря на свою болезнь, лишившую его даже
возможности писать, Паскаль продиктовал ответное
письмо, в котором четко и ясно выразил не только свое
мнение, а по сути дела кредо новой науки. Он излагает
"универсальное правило", которому надо следовать при
исследовании истины. Во-первых, доверять только тому,
что "представляется ясно и отчетливо чувствам или
разуму", и фиксировать достоверные положения в виде
"принципов, или аксиом, как, например, если к двум равным
вещам прибавить поровну, то получим также равные
вещи". Во-вторых, выводить из аксиом совершенно необ-
1 Pascal В. Expériences nouvelles touchant le vide // Oeuvres complètes.
P. 198.
2 Ibidem.
3 Pascal B. Oeuvres complètes. P. 199.
38
ходимые следствия, достоверность которых вытекает из
достоверности аксиом. Это двойное правило, согласно
Паскалю, предостерегает от всяких "видений, капризов,
фантазий" и т. д., которым не должно быть места
в науке1.
Довольно легко Паскаль "разбивает" аргументы
иезуита против существования пустоты. Гипотеза о
"невидимой, неслышимой, не воспринимаемой никакими
чувствами материи" вызывает у него больше сомнений, чем
веры в нее. Если позволено придумывать и изобретать
"материи и качества", говорит Паскаль, специально для
того, чтобы легко выходить из трудных ситуаций в науке,
то ни о какой объективной истине не может быть и речи.
Но мнимое решение научных проблем не продвигает нас
в понимании сущности исследуемых явлений:
"тончайшая материя" ничего не объясняет в явлениях, связанных
с вакуумом.
По поводу авторитетов (особенно схоластизирован-
ного Аристотеля) Паскаль решительно заявляет свой
протест против слепого преклонения перед ними: "Когда
мы цитируем авторов, мы цитируем их доказательства,
а не их имена"2. Юный Блез Паскаль заставил старого
иезуита отказаться от многих своих возражений; правда,
у того не было недостатка в новых. В вопросах истины
Паскаль бескомпромиссен, смел и решителен, а
спекулятивная изворотливость иезуита не мешает ему видеть
"слабость защищаемого им мнения, как и силу его ума".
В конце письма Паскаль опасно откровенен (иезуиты
были сильны и влиятельны) и не отказывает себе в
удовольствии высказать своему оппоненту то, что он о нем
думает: "Несомненно, что та ловкость, с которой вы
доказывали невозможность пустоты, легко заставляет
предположить, что с не меньшим успехом вы бы
защищали и противоположное мнение, опираясь на то
преимущество, которое придают ему опыты"3. *
Но полемика эта не прошла для него бесследно: перед
ним очень остро встала проблема более строгого
обоснования своих выводов о возможности пустоты и
обнаружения ее действительной причины. Прежде всего Паскаль
решил проверить гипотезу Торричелли о тяжести воздуха
как причине удержания жидкости в трубке. Если она
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 201.
2Ibid. P. 202.
3 Ibid. P. 204.
39
верна, то изменение высоты воздушного столба должно
привести с необходимостью к изменению высоты
жидкости в трубке. Для этого надо было измерить уровень
жидкости у подножия и на вершине высокой горы, что
и было сделано у горы Пюи-де-Дом, близ родного
города Паскаля, 19 сентября 1648 г. Опыт был проведен
с величайшей тщательностью и дал блестящие
результаты, полностью подтвердившие теоретический расчет
Паскаля: на вершине горы столбик ртути опустился на
84,4 миллиметра. К концу 1648 г. Паскаль выпустил
в свет брошюру "Рассказ о великом эксперименте
равновесия жидкостей", в которой окончательно похоронил
многовековую догму о horror vacui, в утверждении
которой, согласно Паскалю, "соревновалось множество
философов". Во всеуслышание Паскаль объявил: "Природа не
имеет никакого страха перед пустотой". Все, что ранее
объясняли с помощью этой мнимой причины, легко
объясняется давлением воздуха1.
Большой неприятностью для Паскаля была
выраженная Декартом претензия на приоритет. В 1649 г.
в письме Каркави он заявил, что идею "великого
эксперимента" именно он подал Паскалю во время их
встречи в 1647 г., хотя после выхода в свет брошюры
Паскаля "Новые опыты, касающиеся пустоты" Декарт
в письме X. Гюйгенсу от 8 декабря 1648 г. весьма
неуважительно отозвался об исследованиях и выводах
Паскаля: "Мне кажется, что у молодого человека,
написавшего эту книжечку, слишком много пустоты в голове и что
он очень торопится"2. В письме М. Мерсенну от 13
декабря 1648 г. он даже обещал защищать от Паскаля
свою "тончайшую материю". Паскаль оставил без
ответа претензии Декарта, а история науки признала
приоритет Паскаля.
Однако следует заметить, что как философ,
отвергавший пустое пространство в том смысле, что в нем нет
"никакой субстанции", Декарт был прав. Но Паскаль не
претендовал на подобного рода вывод. При встрече оба
ученых не могли найти общего языка, поскольку
говорили о разных явлениях: Декарт имел в виду абсолютно
пустое пространство и отвергал его, а Паскаль —
условную пустоту, вызываемую давлением воздуха.
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 226.
2 Descartes R. Correspondance (par Ch. Adam et Michaud). P., 1960. T.
7. P. 376.
40
Еще несколько лет Паскаль посвятил экспериментам
с вакуумом, результатом которых было несколько
открытий:
1. Закон Паскаля: жидкости передают оказываемое на
них давление во все стороны одинаково.
2. Усовершенствование барометра, идея которого
была предложена Торричелли: столбик ртути колеблется не
только от перемены атмосферного давления, как думал
Торричелли, но также и от температуры воздуха, его
влажности, направления ветров и других факторов.
3. Установление возможности измерения высоты
местности с помощью барометра (идея высотометра, или
альтиметра).
4. Вычисление общего веса атмосферного воздуха:
полученная Паскалем цифра (8,5 триллиона французских
фунтов) приближается к современным расчетам.
5. Изобретение "новой машины для увеличения
человеческих сил в желаемой степени" — гидравлического
пресса.
Несколько ранее, в конце 40-х гг., Паскаль изобрел
два весьма простых, но очень полезных приспособления
для перевозки тяжестей — тачку и роспуски (длинные
дроги). Недаром А. П. Юшкевич отмечает, что
"изобретения Паскаля в технике совершенствуются уже более
трехсот лет"1.
Результатом теоретического осмысления всех своих
опытов с вакуумом был 'Трактат о пустоте", о
завершении которого Паскаль сообщает в письме де Рибейру
(первому председателю податной палаты Клермонского
парламента) от 16 июля 1651 г. Но трактат так и не
увидел света (впоследствии был утерян и не найден до сих
пор), от него дошло до нас знаменитое "Предисловие"2.
В период с 1651 по 1653 г. Паскаль написал еще два
трактата: "О равновесии жидкостей" и "О тяжести
воздушной массы", которые были изданы Флореном Перье
в 1663 г. уже после смерти ученого 3. Так, наряду с
Архимедом и голландским ученым Симоном Стевином,
Паскаль заложил основы гидростатики4.
1 Юшкевич А. П. Блез Паскаль как ученый // Вопросы истории
естествознания и техники, вып. 7. С. 85.
2 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 230—232.
3 Ibid. P. 233—263. Рус. пер. в кн.: Начала гидростатики (Архимед,
Стевин, Галилей). М.; Л., 1932. С. 369—398.
4 См. подробнее о физике Паскаля: Guenancia P. Du vide à Dieu. Essai
sur la physique de Pascal. P., 1976.
41
Следующий важный этап в научных открытиях Паскаля
связан снова с математикой. Один светский человек,
кавалер де Мере, предложил Паскалю решить две задачи из
области азартных игр: 1) сколько раз надо бросать кости,
чтобы выпало наибольшее число очков? 2) как разделить
ставку между игроками, если игра не окончена? Для
кавалера эти вопросы имели чисто практическое значение,
а Паскаль подошел к ним как математик и в высшей степени
теоретически. О второй задаче де Мере Паскаль сообщил
Пьеру Ферма в Тулузу. Оба ученых блестяще решили эту
задачу независимо друг от друга, и каждый оригинальным
способом. Но результат получился совершенно один и тот
же, что привело в восхищение Паскаля, который
радовался тому, что в Париже и в Тулузе "истина одна и та
же"1. Так закладывались в XVII в. основы теории
вероятностей. Аналогичные задачи решал и X. Гюйгенс,
который разрабатывал свою концепцию, издав в 1657 г.
сочинение "О расчетах в азартных играх". Дальнейший
скачок в развитии теории вероятностей был сделан в книге
Я. Бернулли "Искусство догадки" (1713).
"Теория" азартных игр давно интересовала ученых
как частный случай исследования возможности описания
закономерностей случайных событий. До Паскаля ими
занимались Лука Пачоли в XV в., Кардано и Тарталья
в XVI в., отчасти Г. Галилей в XVII в., но все они не
достигли четких и однозначных результатов, как
Паскаль, Ферма и Гюйгенс. При решении задач де Мере
Паскаль легко находил число сочетаний из п элементов
по к элементов:
Введение этого важного понятия ("число сочетаний" —
"combinaison") в область комбинаторики принадлежит
именно Паскалю2. Кроме того, он производил сложение
и умножение вероятностей, оперировал понятием
математического ожидания3. При этом Паскаль использовал
свой "арифметический треугольник", операции над
числами которого помогали ему для решения
вероятностных задач. В "Трактате об арифметическом
треугольнике" (1654 г.) он исследует свойства биномиальных коэффи-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 43.
Mbid. P. 55.
3См. подробнее: Кляус E. M., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И.
Паскаль. С. 350 360; Успенский В. А. Треугольник Паскаля. М., 1979.
42
циентов при возвышении бинома в любую целую
положительную степень (частный случай бинома Ньютона).
Важно отметить, что биномиальные коэффициенты Паскаль
рассматривал как числа сочетаний. Он находит их,
впервые в истории математики сознательно применяя метод
полной математической индукции, способ рассуждения от
пкп+1. Паскаль не дает формулы бинома, как это сделал
впоследствии Ньютон, но А. Койре справедливо отметил,
что "он не находит общей формулы потому, что он ее и не
ищет"1. Он очень просто определяет биномиальные
коэффициенты при помощи рекуррентных вычислений, находя
п-й член последующей строки арифметического
треугольника через сложение стоящих над ним членов предыдущей
строки, в чем Паскаль также является пионером2. По
этому поводу один из исследователей, П. Костабель,
замечает: "Надо ли сожалеть об отсутствии формул там,
где нам дан закон рассуждения, удачно названный рекур-
ренцией. Не лучше ли признать, что наши критерии мало
эффективны для оценки такого ума"3. К "Трактату об
арифметическом треугольнике" примыкает ряд других
математических работ Паскаля: "Трактат о числовых
порядках", "О сочетаниях", "О свойствах делимости
чисел", "Сложение числовых множеств" и др.4
Наконец, в пор-рояльский период жизни Паскаль
отнюдь не отрекается от науки, как это обычно считается
в нашей литературе, но плодотворно и напряженно
работает в области инфинитезимальных исследований, создав
на протяжении 1658—1659 гг. ряд превосходных
трактатов по циклоиде. Сестра Паскаля, Жильберта Перье,
будучи правоверной янсенисткой, стремилась
"оправдать" его научные занятия "зубной болью", от которой
якобы однажды ночью Паскаль пытался избавиться с
помощью размышлений по проблемам циклоиды, или ру-
летты (от фр. rouler — катить), кривой, описываемой
точкой круга, катящегося по плоскости. По ее
свидетельству, весенней ночью 1658 г. ее брат под напором
небывалого вдохновения легко решил множество труднейших
задач на вычисление криволинейных площадей и объемов
(квадратур и кубатур) и определение центров тяжести
образуемых циклоидою тел вращения. К утру Паскаль
1 Koyre A. Pascal savant. P. 264.
2 Pascal В. Oeuvres comlètes. P. 50—54.
iCostabel P. Pascal et les mathématiques // Pascal et Port-Royal. P.,
1962. P. 74.
4 Pascal B. Oeuvres complètes. P. 54 94.
43
был совершенно здоров и поделился своими открытиями
с навестившим его герцогом де Роанне, не собираясь
ничего записывать и не придавая им большего значения,
чем "лекарства от боли". Но герцог и другие отшельники
Пор-Рояля посоветовали Паскалю обнародовать свои
открытия, предварительно предложив лучшим
математикам Европы принять участие в конкурсе (с премией в 60
пистолей) на решение шести задач по циклоиде.
В июне 1658 г. Паскаль, скрывшийся под псевдонимом
Amos Dettonville (анаграмма от Louis de Montalte),
направил им соответствующее письмо, оговаривая условия
и срок конкурса 1 октября 1658 г. В Пор-Рояле были
заранее убеждены в победе Паскаля, славой которого
хотели воспользоваться для укрепления позиций
опального монастыря. Расчет оказался безошибочным: решения
Паскаля были признаны наилучшими. Из других
математиков со всеми решениями справился один Джон Валлис,
с четырьмя — X. Гюйгенс (правда, попутно изобрел еще
циклоидальный маятник), Р. де Слюз — лишь с одной.
Пор-Рояль торжествовал, а Паскаль работал с
увлечением и, как всегда, самозабвенно. За короткий период (до
лета 1659 г.) он создал целый том математических трудов,
в которых столь далеко продвинулся в инфинитезималь-
ных исследованиях, что историки математики
единодушно признают в нем ближайшего предшественника
Ньютона и Лейбница, творцов основ математического анализа1.
Циклоида — эта "обожаемая возлюбленная"
математиков XVII в. — помогала им оттачивать методы
анализа бесконечно малых величин. Среди блестящей плеяды
математиков, подготовивших почву для открытия
Ньютона и Лейбница ( Б. Кавальери, Э. Торричелли, Р.
Декарт, П. Ферма, Ж. П. Роберваль, Д. Валлис, X.
Гюйгенс), Паскаль, согласно Г. Вилейтнеру, "с полной
ясностью проник в существо интеграционного процесса,
заметив, что всякое интегрирование сводится к
определению некоторых арифметических сумм... Паскаль
подошел к понятию определенного интеграла ближе всех
своих современников"2. Паскаль умел вычислять интегралы
многих тригонометрических, а также иррациональных
1 См.: Цвйтен Г. Г. История математики в XVI—XVII веках. М.;
Л., 1938. С. 283—285; Вилейтнер Г. История математики от Декарта до
середины XIX столетия. М., 1960. С. 106; История математики ... : В 3 т.
М., 1970. Т. 2. С. 189—191; Бурбаки Н. Очерки по истории математики
/ Пер. И. Г. Башмаковой. М., 1963. С. 195—199.
2 Вилейтнер Г. История математики... С. 106.
44
алгебраических функций. Он доказал теоремы,
позволяющие производить замену переменной и интегрирование
по частям. Вот почему исследователь научного
творчества Паскаля П. Умбер считал его "Трактат о рулетте" "в
определенном смысле первым трактатом по
интегральному исчислению..."1.
Близок был Паскаль и к открытию
дифференциального исчисления: именно его "характеристический
треугольник" (бесконечно малый треугольник,
образованный дугой кривой и приращениями ординаты и абсциссы)
из "Трактата о синусах четверти круга"2 "озарил новым
светом" Лейбница и способствовал наряду с прочими
источниками открытию им дифференциального
исчисления. Тем не менее гениальный Паскаль не творец, а
предшественник основ математического анализа, хотя и
стоявший как бы на пороге его открытия.
Антиалгебраическая установка Паскаля помешала ему увидеть в своих
результатах предельную общность и взаимную
обратимость операций дифференцирования и интегрирования.
Если Лейбниц увидел в "характеристическом
треугольнике" отношение дифференциалов, т. е. отношение в
математическом смысле, и дал ему символическое
выражение (dy/dx), то Паскаль его рассматривал как
математический объект, обладающий существованием вне ума
и имеющий такие свойства, которые ум не ищет и не
находит, а как бы "встречает" неожиданно.
Однако "математическое остроумие" Паскаля (Г. Ви-
лейтнер) было столь велико, а результаты носили столь
общий характер, что легко допускали их запись на
символическом языке математического анализа. Эту
особенность отмечает Н. Бурбаки: "Валлис в 1655 г. и Паскаль
в 1658 г. составили, каждый для своего употребления,
языки алгебраического характера, в которых, не
записывая ни единой формулы, они дают формулировки,
которые можно немедленно, как только будет понят их
механизм, записать в формулах интегрального исчисления.
Язык Паскаля особенно ясен и точен; и если не всегда
понятно, почему он отказался от применения
алгебраических обозначений не только Декарта, но и Виета, все
же нельзя не восхищаться его мастерством, которое
могло проявиться лишь на основе совершенного владения
1 Humbert P. Cet effrayant génie... L'oeuvre scientifique de B. Pascal. P.,
1947. P. 219.
2 Pascal B. Oeuvres complètes. P. 155—158.
45
языком"1. Это искусство владения научным языком
будет впоследствии осмыслено Паскалем в разработке
восьми правил аксиоматико-дедуктивного метода.
Неприятие алгебраической символики Паскалем иногда
объясняют просто "капризом гения", однако имеются и более
глубокие причины философского характера. С юных лет
он воспитывался в духе конкретного постижения истины,
доверия к чувственным данным, опыту и эксперименту.
Такова же была ориентация многих участников
математического кружка М. Мерсенна, и в частности старшего
друга Блеза математика Роберваля. Скорее всего именно
он внушил молодому Паскалю нелюбовь к абстракциям,
отвлеченным рассуждениям, умозрительной философии.
Вот почему уже в юном возрасте Паскаль составит
решительную оппозицию философии великого Декарта за ее
рационалистические установки, отвлеченность и
догматизм. Потому и в математике Паскаль был верен духу
конкретных исследований, используя язык слов, но язык
строгий и точный.
Оценивая в целом научное творчество Паскаля с точки
зрения его методологической значимости для науки и
философии нового времени, следует отметить многообразие
используемых им методов и приемов исследования в
зависимости от изучаемых предметов, что ставится ему в
заслугу и современными методологами. Паскалевед из
США, Дэвидсон, в докладе "Методологический
плюрализм у Паскаля" подчеркивает: "...методологические
тенденции у него варьируются в соответствии с проблемами
и предметом рассмотрения. Паскаль — не идеалист:
понятия и средства изучения не имеют приоритета над вещами
и их свойствами"2. На эту последнюю особенность
обращает внимание и Р. Татон, который видит главное отличие
Паскаля от других философов (например, от Декарта)
в том, что он не допускал абстрактно-методологических
рассуждений, но осмысливал результаты собственной
научной практики в той или иной области3.
1 Бурбаки Н. Очерки по истории математики. С. 199. О Паскале-
ученом см. дополнительно: L'oeuvre scientifique de Pascal /Préf. de R.
Taton. P., 1964; Biaise Pascal: philosophie des sciences. P., 1981 //Revue
philos, de la France et de l'étranger, 1981.A. 106. N 4, p. 401—527; Colloque
de mathématique à l'occasion du Tricentenaire de la mort de B. Pascal. P.,
1962.
2 Davidson H. Le pluralisme méthodologique chez Pascal // Méthodes
chez Pascal. P. 19.
3 Méthodes chez Pascal. P. 131.
46
Как ученый, он действовал конкретно, верный
предмету своего исследования и объективной истине о нем.
Этому должна была служить и вся совокупность
приемов, средств, методов изучения, применяемых
избирательно, дифференцированно. Так, при изучении явлений
природы он опирался на эксперимент и индукцию, в
силу чего его естественно-научный метод называют то
"экспериментальным", то "индуктивным", то просто
"апостериорным", противопоставляя его аксиоматико-
дедуктивному методу Декарта и сближая его с методом
Ф. Бэкона. Однако в математике Паскаль широко
использует дедукцию и в "геометрическом методе" видит
"совершенный метод" доказательства истины, что
роднит его с Декартом. Более того, у Паскаля нет
теоретической разработки индуктивной методологии, но
зато есть теоретическое обоснование преимуществ именно
аксиоматико-дедуктивного метода, дополненное четкой
формулировкой восьми правил этого последнего (см.
его методологическое сочинение "О геометрическом уме
и об искусстве убеждать")1.
Вместе с тем нельзя говорить о каком бы то ни было
"методологическом дуализме" у Паскаля в плане
обособления или абсолютизации индуктивных и дедуктивных
приемов исследования. Так, в физике он применяет, как
и Декарт, гипотетико-дедуктивный метод, а в разгар
экспериментов с вакуумом формулирует "универсальное
правило" разыскания истины, аксиоматико-дедуктивное
по существу, тогда как в математике с успехом
использует полную математическую индукцию. Не считая
возможным однозначно определить методологию Паскаля,
исследователи называют ее то универсальной, то
синтетической, то диалектической, то плюралистической.
Паскаль не принимает абстрактной философии,
спекулятивных рассуждений (по словам Паскаля, "видений"
и "фантазий"в науке), умозрительных истин,
схоластических догм и т. д. Отсюда у Паскаля критическое
отношение к традиционной метафизике, философской
системе Декарта, к его "романтическим гипотезам"
("тончайшей материи" в физике; "кратчайшего расстояния"
в диоптрике), абстрактно-умозрительному решению
человеческих проблем, что нашло отражение в его
философских размышлениях.
1 Pascal В. De l'espirt géométrique et de l'art de persuader // Oeuvres
complètes. P. 348 -359.
47
Паскаль-ученый неотделим от Паскаля-философа
и даже нередко сбивает с толку Паскаля-христианина.
Ясный и точный язык, краткость фразы, логическая
последовательность, концептуальность, общность выводов,
гибкость анализа и синтеза — все эти особенности
научного стиля Паскаля проявятся в его философских и даже
теологических произведениях. Какие бы проблемы ни
волновали Паскаля-мыслителя, он не может не
пропустить их через горнило научного анализа. Большого
труда стоит Паскалю-христианину убедить
Паскаля-ученого, и фундаментом этого убеждения могла быть лишь
позиция четкого отделения области веры от области
научного знания. Ни о какой гармонии веры и разума,
науки и религии, с точки зрения Паскаля, не могло быть
и речи.
2. "ФРАНЦУЗСКИЙ ДАНТЕ"
Паскаль — один из самых великих поэтов
в классической французской литературе.
Г. Лансон
Истинное красноречие смеется над
красноречием.
Паскаль
Лучшие книги суть те, при чтении которых
каждый верил бы в то, что сам мог бы их
написать.
Паскаль
-"€ не меньшим успехом, чем в науке, Паскаль
выступил как писатель, мастер французской прозы и один из
создателей французского литературного языка. Хотя
такие его произведения, как "Письма к провинциалу"
и "Мысли", не предназначались для специального
литературно-художественного восприятия, они вошли в
сокровищницу европейской литературы. Ж. Шевалье
называет "Мысли" "самой прекрасной книгой на
французском языке"1. Паскаля называют "Расином в прозе"
и даже сравнивают с Платоном. А. Суарес говорит:
1 Pascal 3. L'oeuvre de Pascal. Texte établi et annoté par J. Chevalier.
P., 1936. P. 822.
48
"Паскаль — это наш Данте"1. Выражая общепринятую
на Западе точку зрения и разделяя ее, С. Д. Коцюбинский
пишет о том, что по самому строгому счету Паскаль
принадлежит к "пантеону классиков", занимая во
французской литературе "место, близкое к вершине... из всех
его современников только Расин первенствует над ним
в виртуозности стиля и только, может быть, Мольер
превосходит его своим художественным кругозором
и широтой восприятия действительности"2.
Французские литературоведы (Ш. Сент-Бёв, Ф. Брю-
нетьер, Г. Лансон) относят творчество Паскаля к эпохе
классицизма, поскольку оно противостояло "прециоз-
ной" и "бурлескной" литературе того времени,
поднимало важнейшие общественные и нравственные вопросы
и было обращено к широкому читателю. Так, Брюнетьер
видит в Паскале учителя и предшественника Расина,
противопоставляя их рационалистической традиции,
а Лансон, напротив, подчеркивает его верность идеалам
разума3.
В нашей литературе этой французской традиции
следует также В. Я. Бахмутский, отмечая "особое место"
"Мыслей" в литературе классицизма, но все же
"принадлежащих этому художественному течению"4.
Но есть и противники данной точки зрения.
Например, Д. Обломиевский в книге "Французский
классицизм" критикует указанных французских
литературоведов за насильственное сближение позиций Паскаля с
идеалами классицизма. Он не находит у него ни культа
разума, ни героики, ::и «оспевания человека и его
достоинства, столь характерных для высоких жанров
классицизма, и прежде всего трагедии. Если классицизм
продолжал некоторые традиции Ренессанса (почитание человека,
его разума и достоинства, преклонение перед античной
классикой), то Паскаль, согласно Обломиевскому, "по
направленности своего творчества резко враждебен
традициям Ренессанса и классицизма", ибо "подчеркивает
1 Suarès A. Les puissances de Pascal. P., 1923. P. 6.
2 Коцюбинский С. Д. Литературное наследие Паскаля // Записки
Ленинградского университета. Вып. 8., 1941. Серия филологических
наук. С. 31.
3 BruneHère F. Histoire de la littérature française classique. P., 1912. T.
2. P. 357—359; Лансон Г. История французской литературы. Спб., 1899.
Т. 1С. 104—105.
4 Бахмутский В.Я. Французские моралисты // Ларошфуко Ф. де.
Максимы. Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С.
28 (Библиотека всемирной литературы. Т. 42).
49
в человеке его слабость, его безволие, акцентирует в нем
страсть, им владеющую"1.
Противопоставляя паскалевское трагическое
мировоззрение героическому корнелевскому оптимизму с его
культом гармонии разума и чувств, Обломиевский
вместе с тем отмечает его большую близость
мировосприятию Расина, в трагедиях которого, как и в "Мыслях"
Паскаля, человек обладает более сложным внутренним
миром, чем герои Корнеля, умевшие подчинять свои
страсти "неподкупному разуму". Расин вслед за
Паскалем и Ларошфуко описывает драму внутренней борьбы
между разумом и страстями, кончающуюся поражением
гордого человеческого разума. Расин видит силу
бессознательного в душе человека, ее подчас сокрушительную
мощь, отчего коллизии в его трагедиях отличаются
большой напряженностью и взрывчатой силой, сметающей на
своем пути все рационально принятые решения человека.
Однако Обломиевский считает, что Расин умел
отстоять наследие эпохи Возрождения — достоинство человека,
а потому не изменял и основному принципу классицизма
— апологии человека, тогда как Паскаль был озабочен
больше апологией Бога2. Но представить Паскаля просто
врагом Ренессанса и классицизма Д. Обломиевскому все
же не удалось, и он сам указывает на своеобразный
гуманизм Паскаля, на его "психологизм, сближающий его
и с классицизмом, с Корнелем..."3. Если же учесть
диалектическую противоречивость и необычайную сложность
мировоззрения Паскаля, сочетавшего в себе идеи величия
и ничтожества человека, борьбы его разума и страстей,
если учесть духовное родство с Расином, пусть и не без
различий, то приходится признать более правильной
старую традицию, в соответствии с которой
Паскаль-писатель является мастером именно литературы классицизма.
На мой взгляд, более близок к истине С. Д.
Коцюбинский, опирающийся на французское литературоведение
и видящий в Паскале не только блестящего стилиста
эпохи классицизма, но и виднейшего выразителя
идейного содержания искусства классицизма, и прежде всего
той его стороны, которая отражала общественные
запросы своего времени. В связи с укреплением абсолютизма,
1 Обломиевский Д. Французский классицизм. Очерки. М., 1968. С.
119—120.
2См. там же. С. 141—145.
3Там же. С. 129.
50
искоренением местнических интересов и подчинением их
центральной власти остро выступили проблемы
взаимоотношений личности и общества, роли и границ
государственной власти, создания "новой этики", которая бы
определяла поведение "человека для государства" в
отличие от поведения "человека для себя". Коцюбинский
правильно отмечает, что в "Письмах к провинциалу"
Паскаль в противовес иезуитской морали, попирающей
многие личные и общественные нормы нравственности,
выдвигает требование новой этики, удовлетворяющей
потребности человека и общества, а более всего разума,
истины и справедливости.
Коцюбинский рассматривает Паскаля как
"последнего великого отпрыска Ренессанса" и вместе с тем его
"добровольного могильщика". В метаниях великого
ученого между наукой и религией он видит трагедию
Паскаля и считает ее эпохальной, поскольку она "есть лишь
одно из наиболее ярких проявлений трагичности
европейского сознания в переходный период от Ренессанса
к абсолютизму; это — противоречия эпохи, еще не
преодолевшей до конца антагонизма между прежними
феодальными нормами бытия и новым сознанием.
...Борьба Паскаля с Монтенем приобретает монументальные
формы и обобщается как борьба двух стадий в развитии
европейской культуры"1. Не вдаваясь пока в подробный
анализ отношения Паскаля к Монтеню (см. ниже ч. 3
данной главы), хочу заметить только, что этим оценкам
Коцюбинского действительно соответствует
коллективистский настрой паскалевской этики, в противовес, в
общем, индивидуалистической этике Монтеня, а также идеи
Паскаля об атрибутивности мысли человеку (в духе
рационализма эпохи), о преодолении "естественного
человека" воспитанием и др.
Пожалуй, Коцюбинский слишком представляет
Паскаля врагом Монтеня и идейной системы Ренессанса, не
показывая, чем первый обязан второму, хотя и отмечая,
что, "борясь с Монтенем, Паскаль следует ему, следуя
ему, Паскаль борется с ним... открывая крестовый поход
против Монтеня, Паскаль стремится вытравить в самом
себе следы монтеневского мировоззрения"2.
1 Коцюбинский С. Д. Литературное наследие Паскаля // Записки
Ленинградского университета. Вып. 8. Серия филологических наук.
С. 44.
2 Там же. С. 46.
51
Да, но культ природы, вечной и бесконечной, —
совсем в духе эпохи Возрождения — остался в
произведениях Паскаля, таких, как "Предисловие к трактату о
пустоте", "О геометрическом уме и об искусстве убеждать" и,
наконец, "Мысли". Если оторвать Паскаля от эпохи
Возрождения, лучшие идейные и культурные традиции
которой унаследовал рационалистический XVII в., то будет
совершенно не ясно, как Паскаль мог стать идейным
выразителем искусства классицизма и глашатаем
животрепещущих проблем своего времени.
В том-то все и дело, что Паскаль с его обостренным
чувством современной ему эпохи стал зеркалом всех ее
светлых и темных сторон. Так, вышедшие из стен Пор-
Рояля и призванные защитить его религиозное учение —
янсенизм — "Письма к провинциалу" разбудили
общественное мнение Франции. Они взывали к человеческой
совести французов и француженок, к их чувству
порядочности, представлениям о правде и справедливости, чести
и достоинстве, к их сердцу и разуму, наконец. Л. Толстой
проницательно и совершенно правильно заметил: "В
сочинении этом Паскаль не столько оправдывал и защищал
учение янсенистов, сколько осуждал врагов их —
иезуитов, обличая безнравственность их учения"1.
Как это ни парадоксально, но "Письма к
провинциалу" оказались важной вехой в развитии именно светской
этики, той новой этики, которой требовало его сложное
и динамичное время, той этики, которая бы определила
поведение более свободного и мыслящего человека, чем
в предшествующие эпохи, причем этики общественно
значимой, правдивой и нелицемерной. Вот почему Паскаль
обращается в своих "Письмах..." не к узкому кругу
специалистов в богословских вопросах, а к самой широкой
аудитории, к народу в целом, в силу чего они подняли
общественное мнение французской нации на более
высокую ступень, чем то было ранее. Как театр Корнеля,
Расина и Мольера, проза Ларошфуко и Лабрюйера, как
басни Лафонтена, "Письма к провинциалу" сыграли
выдающуюся роль в духовной культуре XVII в.,
способствуя прогрессу идейного самосознания народа, формируя,
воспитывая более духовно требовательного читателя,
озабоченного не только' своими узко личными
интересами, но благом общества в целом, истиной и
справедливостью. В этом, на мой взгляд, и состоит прежде всего
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 41. С. 481.
52
идейный вклад Паскаля в искусство классицизма, в
культуру вообще и в частности в ее демократизацию. Поль
Луи Курье, отмечая эту заслугу Паскаля, пишет: "...в
народной памяти Паскаль пребывает великим не за свои
ученые труды, изобретение счетной машины и опыты,
а благодаря именно памфлетам, этим летучим листкам"1.
Еще один парадокс. "Великий христианин" Паскаль
"Письмами..." вписал свою яркую страницу в историю
свободомыслия в Европе вместе с Эразмом
Роттердамским, У. фон Гуттеном, П. Бейлем, Вольтером. Л. Эмери
называет "Письма..." Паскаля "подрывными
листовками" и записывает их "в актив либерализма его времени"2.
"Мысли" Паскаля по сравнению с "Письмами к
провинциалу" сыграли противоречивую роль в истории
европейской культуры. И все же есть такое бесспорное
содержание тысячу раз оспоренных "Мыслей", которое
роднит его с идейным арсеналом искусства классицизма.
Это мысли о величии человека и его разума, об
атрибутивности разума человеку (образ "мыслящего
тростника"), нравственно-дидактическая тенденция, идеи о
борьбе разума и страстей, силы и справедливости в
социальном мире, пристальное внимание к душе и сердцу
человека, тонкий психологический анализ разнообразных
феноменов человеческой жизни (скука, суета,
развлечения, себялюбие и т. д.).
Если есть большие разногласия по вопросу об оценке
идейной направленности "Мыслей", то их превосходный
литературный стиль ни у кого не вызывает сомнений,
равно как и художественное совершенство "Писем к
провинциалу". Паскаль — общепризнанный мастер слова
и замечательный стилист, умело использующий все
выразительные средства литературно-художественного
изображения, в силу чего произведения его считаются
шедеврами французской литературы. Коцюбинский дает
следующую характеристику стиля Паскаля: "Предельная
логика слова, удивительная по силе и красоте
конструкция фразы, точный и безошибочный синтаксис, огромный
диапазон художественно-изобразительных средств —
сравнение, гипербола, парафраза, риторическое
обращение, уменье вовремя прибегать к убедительным
образам... Простота, ясность и лаконичность его слога
позволяют квалифицировать его произведения как закончен-
1 Курье П. Л. Сочинения. Ч. I. Спб., 1897. С. 351.
2 Emery L. L'âge classique. Lyon, 1969. P. 65.
53
ную реализацию эстетических норм классицизма"1. Все
эти особенности литературного стиля Паскаля роднят его
с Расином, которому он и по духу близок. Исследователи
отмечают поэтическую мощь слога Паскаля,
неотразимую силу образов-символов и картин, олицетворяющих
те или иные его идеи. С первого взгляда врезаются
в сознание читателя трогательный образ "мыслящего
тростника", символизирующий одновременно силу и
слабость, величие и ничтожество человека, или могучий
образ "бездны", олицетворяющий для Паскаля
бесконечность и вечность природы, безличного бытия, или
хрупкий образ "тени, промелькнувшей на мгновение и
исчезнувшей навсегда", выражающий кратковременность
человеческой жизни. Чтобы показать власть воображения
над человеком, Паскаль рисует картину, в которой
мудрец, философ страшится ступить на широкую доску,
переброшенную через пропасть. Для изображения трагизма
человеческой жизни (ввиду всех ожидающей смерти)
Паскаль создает картину "узников в цепях, приговоренных
к смертной казни". Я привела примеры из "Мыслей"
Паскаля, но впечатляющие образы и картины
используются им и в других произведениях.
Так, в сугубо не поэтическом, а методологическом
и логико-гносеологическом произведении "О
геометрическом уме и об искусстве убеждать" Паскаль уподобляет
схоластических логиков незадачливым людям,
бряцающим грудой камней в руках и кичащимся обладанием
сокровищами, в то время как не умеют отличить
драгоценные камни от простых. В небольшом сочинении "Три
рассуждения о положении знати" образом
кораблекрушения (см. с. 240) он показывает случайность и эфемерность
ее власти над людьми, опровергает какую-либо
обоснованность наследственной власти вообще. Это сочинение
записано на основе устной беседы Паскаля с сыном
герцога де Люина, которая была задумана как наставление
молодому человеку. В беседе Паскаль подчеркивает не
только случайность института наследственной власти, но
главным образом "естественное равенство" между всеми
людьми, власть имущими и их подданными.
Но особенно богаты выразительными образами и
картинами "Письма к провинциалу", в которых создана
целая галерея образов. Это и добродушный патер-иезуит,
1 Коцюбинский С. Д. Литературное наследие Паскаля//Записки
Ленинградского университета. Вып. 8. Серия филологических наук. С. 64.
54
выкладывающий перед Монтальтом все секреты
казуистики, и множество злых и лицемерных казуистов. Сам
автор сначала выступает в образе простоватого,
несведущего и любопытного человека, жаждущего поучиться
у преподобных отцов, а затем превращается в умного
и грозного их обличителя, искушенного в вопросах
казуистики, богословия, политики, юриспруденции и
нравственности. Чтобы продемонстрировать бесполезность
абстрактных богословских споров о благодати и свободе
воли для верующих, Паскаль уподобляет участников
дискуссии врачам у постели больного, которые безбожно
тратят время на пустые препирательства, вместо того
чтобы сразу приступить к лечению больного. Жан Расин
видел в "Письмах к провинциалу" настоящую комедию
с выразительными диалогами и образами.
Общепризнанным является то, что мольеровский Тартюф навеян па-
скалевскими образами ханжей-иезуитов.
Исследователи давно обратили внимание на
поразительное значение образа не просто в литературном стиле,
но в самом строе мышления Паскаля. Причем образная
сила паскалевской мысли сочетается с ее математической
ясностью, строгостью и лаконичностью. Как справедливо
отмечает М. Легерн, дело здесь не только в прямом
использовании образов, но в целой грамме разнообразных
средств, многократно усиливающих чувственно-образный
строй паскалевской речи: "...этот феномен языка
содержит одновременно области метафоры, аллегории,
сравнения, конкретного примера, а также метонимии... в общем,
образ есть конкретный элемент, который служит
писателю для прояснения смысла его речи и для достижения
воздействия на чувство читателя через посредство
воображения"1. Важно отметить, что все это применяется
Паскалем не для того, чтобы произвести эффект, поразить
читателя "ложными красотами стиля", подобно тому, как
плохие архитекторы, по выражению самого Паскаля,
навешивают "фальшивые окна для симметрии", но
исключительно для выражения идейного содержания, как бы
''скульптурного изображения" той или иной мысли, для
более отчетливого понимания видения мира.
Недаром Паскаль наряду с "искусством
доказательства" мысли разрабатывает "искусство убеждения",
понимаемое им как тактика воздействия на сердце читателя,
его волю, чувства, воображение и т. д. (см. ч. 4, гл. III). Не
1 Le Guern M. L'image dans l'oeuvre de Pascal. P., 1969. P. 2 3.
55
мыслью единой жив человек, но и сердцем тоже — так
думает прежде всего Паскаль-мыслитель, а потом уже
Паскаль-писатель. Потому его "литературная техника"
строго подчинена духу его миропонимания. Он
специально обращает внимание на диалектику формы и
содержания, затрагивая вопросы стиля, красноречия, гармонии
мысли и слова, мысли и чувства в произведении. Давно
стал знаменитым его блестящий афоризм: "Истинное
красноречие смеется над красноречием". Но что такое
красноречие? Паскаль дает ему развернутую и
содержательную характеристику. Красноречие, полагает он, —
это искусство говорить так, чтобы нас слушали не только
без труда, но и с удовольствием. Стало быть, оно состоит
в умении установить связь между умами и сердцами
слушателей и нашими собственными мыслями и словами,
а это значит, что прежде всего мы должны хорошо
изучить человеческое сердце, знать все его пружины,
только тогда наша речь дойдет до него и его убедит.
Поставим себя на место слушателей и проверим на себе,
верна ли избранная нами форма, гармонирует ли она
с темой, производит ли на них такое впечатление, что они
не в силах ей противостоять. Надо по возможности
сохранять простоту и естественность, не преувеличивая
мелочей, не преуменьшая значительного. Форма должна
быть изящной, но этого мало, она должна
соответствовать содержанию и заключать в себе все необходимое, но
только необходимое. После этого становится ясно, что
парадоксально звучащий афоризм Паскаля направлен
против внешнего красноречия, внешней формы, не
связанной с содержанием.
Во фрагменте из "Мыслей", посвященном стилю,
Паскаль указывает на соответствие формы и содержания
произведения убеждениям его автора. "Когда
встречаешься в произведении с естественным стилем, то
удивляешься и восхищаешься, ибо ожидал увидеть автора,
а познакомился с человеком. Но каково удивление людей
с хорошим вкусом, которые ожидали найти человека,
а познакомились только с автором"1. Паскаль
сознательно и упорно работал над стилем своих сочинений,
добиваясь наиболее выразительной и гибкой формы. Эта
работа явно видна в "Мыслях", незавершенном
произведении, сохранившем как бы "в разрезе" таинства
творческой лаборатории писателя. Паскаль шлифовал и от-
1 Le Guern M. L'image dans l'oeuvre de Pascal. P. 590, fr. 675.
56
тачивал свои афоризмы, стремясь в минимальном
количестве слов выразить максимум содержания, отчего
многие его мысли имеют совершенную форму
выражения и очень емкое содержание. Вот несколько
примеров: "Мысль составляет величие человека"; "У
сердца свои законы, которых разум не знает"; "Мы
постигаем истину не только разумом, но и сердцем";
"Истинная философия смеется над философией" и т. д.
Афоризмы Паскаля входят в сокровищницу
французского языка, как и афоризмы Ларошфуко и Ла-
брюйера.
"Письма к провинциалу", весьма объемистый том,
были написаны за очень короткий срок, написаны как
будто экспромтом — столько в них живости и
непосредственности. Однако и над ними Паскаль
кропотливо работал, редактируя, исправляя, переписывая
текст. Известно, что письмо восемнадцатое
переделывалось не менее 13 раз, а в письме шестнадцатом
Паскаль жалуется на то, что "не имел времени сделать
его покороче". Первые четыре письма написаны как
сатирические комедии с неподдельным юмором, живыми
диалогами, психологически достоверными картинами,
почему Вольтер и сравнивал их с комедиями Мольера.
Зато последние письма, по мнению Вольтера, своим
грозно обличительным характером напоминали лучшие
проповеди Боссюэ. "В самом деле, — пишет С. Д.
Коцюбинский, — по неподдельному красноречию,
одновременно пылкому и тщательно взвешенному,
последние письма Паскаля явились образцом для
развившегося во второй половине XVII века ораторского
искусства. ...Бурдалу и Боссюэ обязаны Паскалю
пластичностью и выразительностью своих речей и
проповедей"1.
Вольтер называл "Письма к провинциалу" Паскаля
"первой гениальной книгой, написанной в прозе". Надо
отдать должное Вольтеру в этом отношении: недооценив
Паскаля-мыслителя, Вольтер неизмеримо высоко ставил
его как писателя. "Из всех прошлых полемистов остался
один Паскаль, ибо он один был гениальным человеком.
Он один стоит на развалинах своего века"2. Сам Вольтер
1 Коцюбинский С. Д. Литературное наследие Паскаля // Записки
Ленинградского университета. Вып. 8. Серия филологических наук. С.
67. •
2 Voltaire F. M. Ouevres complètes. V. 31.P. 4.
57
не уставал учиться у Паскаля-писателя, находя у него
"все формы красноречия". Л. Эмери считает, что
Паскаль "в совершенстве владел даром философской и
сатирической комедии, модель которой следовало бы искать
в лучших платоновских диалогах", а "равновесие
тонкости и строгости, высокой гармонии, виртуозности в
модуляциях соотносят "Письма к провинциалу" с тем, что
есть лучшего в диалогах Эразма, небольших картинках
Монтеня и даже в игре маленьких отравленных стрел
Вольтера..."1.
Наконец, есть у Паскаля-писателя и такой дар,
который заставляет исследователей видеть в нем
своеобразного поэта в прозе, в силу чего его и называют
"Расином в прозе" или "французским Данте". Он умеет не
только создать образ или нарисовать картину, но и
вызвать соответствующее настроение, впечатление,
ощущение — словом, такую напряженность чувств, их
динамику и силу или же, напротив, их неуловимость и
мимолетность, которые характерны для поэзии. Г. Лансон
называет Паскаля "одним из самых великих поэтов
в классической французской литературе". Он видит его
"поэтическую самобытность... в метафизическом
характере образов, которыми пламенеет его стиль" и
полагает, что Паскаль более всего становится "поэтом
могучим, скорбным или величественным до ужаса, когда
подходит к непознаваемому". Лансон отмечает также
религиозный лиризм Паскаля, особенно в сочинении
"Тайна Иисуса Христа", которое считается небольшой
"лирической поэмой". Лансон усматривает заслугу Паскаля
в умении выразить "поэзию веры, не внешнюю, а
интимную, личную..."2.
Л. Эмери указывает на "великую и возвышенную
поэзию" в открытии Паскалем "двух бесконечностей,
трех порядков познания и даже в общем наброске
истории", в силу чего "открываются необъятные горизонты
во всех измерениях и становится очевидным, что Паскаль
является одним из самых великих поэтов, озаривших
нас"3. Столь же высоко оценивая поэтический дар
Паскаля, Жан Менар называет "Мысли" "большой лирической
поэмой"4.
1 Emery L. L'âge classique. P. 66.
2 Лансон Г. История французской литературы. Спб., 1899. Т. 1. С.
114-115.
3 Emery L. L'âge classique. P. 89.
*MesnardJ. Pascal, 5 éd. P., 1967. P. 183.
58
Влияние литературного мастерства Паскаля очень
велико, начиная с его современников (Ларошфуко, Мольер,
де Лафайет, де Севинье, Лабрюйер и др.) и кончая нашим
временем. Например, Франсуа Мориак, отмечая заслуги
Паскаля перед Францией, в числе первых называет
уникальный язык "Писем к провинциалу" и "Мыслей", в
котором почитателей языка до сих пор пленяют
"изысканность и юношеская сила, наряду с совершенством зрелого
мастерства"1.
В заключение еще раз'подчеркну нали.чие мощного
художественно-образного пласта в философском
мышлении Паскаля, в силу чего он относится к весьма
немногочисленной плеяде философов-художников в европейской
культуре (Эмпедокл, Платон, Августин, Ф. Бэкон, Ж.-Ж.
Руссо, Ницше и др.). С этой особенностью в
значительной степени связаны и феномен паскалевской "философии
сердца", и культ любви в его религиозной концепции,
и человековедческая проблематика, а также
"экзистенциальные мотивы" в его философии. На мой взгляд;
Паскаль-философ неотделим от Паскаля-писателя. Первый
вносит в художественное видение мира второго глубину
и обобщенность, аналитизм и концептуальность, тогда
как от второго идет требование конкретности и
реальности, нередко реализуемых в философии Паскаля.
3. ФИЛОСОФ "ВЙЕ ФИЛОСОФИИ"
Смеяться над философией — значит истинно
философствовать.
Паскаль
Философия не стоит и часа труда.
Паскаль
Если значимость научного и литературного
творчества Паскаля никогда не подвергалась сомнению,
то философский аспект его идейного наследия
неоднократно ставился под вопрос. Начали "отлучать"
Паскаля от философии французские просветители (Ла-
метри, Вольтер, Кондорсе), затем эту традицию
продолжили в XIX в. В. Кузен, в XX в. В. Виндельбанд
и др. Этот последний в своей "Истории новой фи-
1 Mauriac F. Pascal en France // Pascal et Port-Royal. P., 1962. P. 5.
59
лософии" выносит о "Мыслях" следующее неглубокое
суждение: это произведение "привлекает не как
философия, а как личная исповедь и производит впечатление не
великой работы мысли, а великой личности..."1.
Подобного рода мнения время от времени заставляли паскале-
ведов отвечать на вопрос "Философ ли Паскаль?", и,
естественно, отвечать положительно, ибо исследование
его идейного наследия обнаруживало его философскую
глубину и оригинальность, равно как отрицательное
решение этого вопроса скорее было связано с простым
незнанием его философии. Хотя в настоящее время это
давно пройденный этап в паскалеведении, некоторые
авторы до сих пор считают своим долгом вернуться к
"апологии" Паскаля-философа.
Так, исследователь из США Т. М. Харрингтон в
докладе (на международном симпозиуме в 1976 г.)
"Паскаль и философия" подвергает анализу известный па-
скалевский афоризм "Смеяться (se moquer) над
философией — значит истинно философствовать". Он полагает,
что Паскаль считал достойной осмеяния не только
схоластическую, но и всякую другую философию, которая
мнит себя наукой, по существу таковой не являясь.
Паскаль и Декарта критикует за проект создания
философии как "универсальной математики". Отвергнув
традиционную метафизику за абстрактность, Паскаль,
согласно Харрингтону, связывает "истинную философию
скорее с чувством и тонким умом, чем с геометрическим
разумом и его правилами"2. Подчеркивая то, что
философские принципы у Паскаля отнюдь не исходят из
религии или теологии, Харрингтон видит в нем прежде
всего "великого философа" и лишь потом религиозного
мыслителя3.
Другой автор, Флорика Нэго из Румынии, в статье
"Блез Паскаль-философ" связывает главную причину его
оппозиции традиционной философии с ее догматизмом
и систематизацией: в те далекие времена "ему и в голову
не могло прийти, что может быть другая философия,
помимо догматической и систематической. Именно
поэтому Паскаль, который имел абсолютное призвание
к философии, устранился от нее, убежденный в том, что
1 Виндельбанд В. История новой философии. Спб., 1908. Т. 1. С. 297.
2 Harrington T. M. Pascal et la philosophie // Méthodes chez Pascal. P.
38.
3 Ibid. P. 41.
60
она может быть только догматической". Отсюда она
называет Паскаля "философом, который не придавал
большого значения философии"1. Добавим в этой связи,
что лишь спустя 200 лет появятся философы, которые
сознательно и с вызовом для всей предшествующей
философской традиции заявят о том, что философия не
только может, но и должна быть несистематической, если
она "хочет" быть ближе к жизни и человеку (С. Кьер-
кегор, Ф. Ницше, Л. Шестов и др.).
Правда, Паскаль отвернулся от существующей
догматической философии, в том числе и от философии
Декарта, ибо он, как ученый, был чужд "духу системы
и умозрительности", убежденный в том, что никакая
замкнутая философская система не может схватить ни
полноты, ни бесконечного многообразия
действительности. Он удивляется многообещающим названиям иных
философских трудов: "О природе вещей", "Начала
философии", "Обо всем познаваемом" и т. д., в чем он
усматривал либо необоснованные претензии, либо
поверхностные суждения неглубоких мыслителей2. С этой
точки зрения понятны и другие скептические
высказывания Паскаля о философии. Так, в "Мыслях" он говорит
" о суетности разных видов философской жизни, в
частности пирронизма и стоицизма"3. Или, уличая в
односторонности различные "философские секты", он как
будто выносит окончательный приговор философии
в другом широко известном афоризме: "Философия не
стоит и часа труда"4. Но поверить здесь "на слово"
Паскалю — значит ошибиться в оценке его как
философа, что и случилось с В. Кузеном, "отлучившим" его от
философии.
Нет, Паскаль не отвернулся от философии вообще,
что он и выразил в вышеприведенном афоризме. От
природы обладая глубокой философской интуицией, он
подчас безошибочно нащупывал область
"проблематического и вечно проблематического" в философии. Его
ищущий и кипучий ум всю жизнь терзался проблемами
"предельных оснований" бытия и познания, истины
и лжи, добра и зла, долга и счастья и т. д. Каких бы
вопросов ни касался Паскаль, они неизбежно получали
1 Neagoe F. Biaise Pascal Philosophe //Revue Roumaine des sciences
sociales. Série des Philosophie et logique. T. 19. 1975. N 2. P. 146, 143.
2 Pascal B. Pensées // Oeuvres complètes. P. 526, fr. 199.
3 Ibid. P. 591, fr. 694.
4 Ibid. P. 510, fr. 84.
61
философский резонанс. Правильно подчеркивает один
польский исследователь, В. Марцишевский, что "Паскаль
стремился программно выразить философские идеи во
французском течении мысли"1.
Паскаль — парадоксальный философ не только в том
смысле, что чрезвычайно противоречив, но и в античном
смысле этого термина: своеобразен до странности и
неожиданности. Я уже указывала на главное противоречие
его мировоззрения — между разумом и верой, наукой
и религией. В конечном счете оно многое объясняет в
парадоксальном характере его философствования, многое,
но не все. Большая или меньшая зависимость философии
от религии (хотя бы только в форме деизма) была
характерна для многих мыслителей XVII в.
Особое место Паскаля в философии этого периода,
его противостояние существующей метафизике
обусловлено реальным противоречием, чутко им уловленным,
между наукой и традиционной философией. Конечно, по
сравнению со схоластикой новая философия была
ориентирована на науку, эксперимент и практическое освоение
мира. Однако в немалой степени в ней сохранялись
и умозрительность, и абстрактность, и априоризм,
особенно характерные для рационалистических систем, что
как раз вызывало протест Паскаля-ученого,
воспитанного в традиции конкретного изучения действительности.
Этим вызвана его оппозиция философии Декарта,
которую Паскаль называл "романом о природе в духе романа
о Дон-Кихоте"2. Таким образом, с одной стороны,
Паскаль критиковал существующую философию за
ненаучность, а с другой стороны, за своеобразный культ науки
в ней, т. е. по существу за сциентизм, если использовать
более поздний термин. Так, Декарт (ранее Ф. Бэкон,
особенно в его "Новой Атлантиде") наивно верил в
возможность достижения человеческого счастья с помощью
науки, разума, познания.
Паскаль с его трагическим миросозерцанием
подмечает противоречие между прогрессом научного знания
и благоденствием человечества. Он с грустью
констатирует, что все успехи "отвлеченных наук" не сделали
счастливее бедное человечество. В этой связи становятся по-
1 Marciszewski W. A. Rationalisée Interprétation of "Reasons of the
Hcart": a studi in Pascal // Dialectics and Humanism. Vol. VII. N 4. Autumn
1980. P. 158.
2 Pascal B. Pensées // Oeuvres complètes. P. 641, fr. 1008.
62
мятными два его критических замечания в адрес Декарта
в "Мысля*": "Написать против тех, кто слишком
углубляется в науки. Декарт"; "Декарт бесполезен и
недостоверен"1. Конечно, не вообще "бесполезен", а именно в
решении человеческих проблем, равно как и другие
философы, предложившие, согласно Паскалю, 288 различных
способов решения проблемы Высшего блага человека (он
использует классификацию Варрона, взятую им из
"Опытов" Монтеня). Подобное многообразие он считает
верной приметой того, что философы в действительности не
знают, в чем состоит Высшее благо людей.
Развенчав с этих позиций всю традиционную
метафизику, Паскаль отмежевался от нее, оказавшись
"философом вне философии". Вот один парадокс
Паскаля-мыслителя. Сам же он нашел однозначное решение проблемы
блага человека в вере в Бога и его "спасительную
благодать". Изверившись в истинности светской философии
и справедливости социального порядка, Паскаль с
помощью религии вполне искренне хотел "укротить" свой
научный разум, но... не смог этого сделать до конца.
Здесь возникает другой парадокс Паскаля-мыслителя
и Паскаля-христианина. В его "апологии христианской
религии" слишком много светских, в том числе
"каверзных" для веры вопросов. Согласно Вольтеру, в
"Мыслях" есть такие "рассуждения, которые как будто служат
для того, чтобы плодить атеистов". Чего стоит,
например, знаменитый аргумент-пари, в котором "Бог
разыгрывается на рулетке", что представляется Вольтеру
кощунственным и "не соответствующим важности
предмета"2. Жан Менар указывает и на такой парадокс: сам
замысел апологии религии, "задача которой состоит в
изложении доказательств", резко контрастирует с
основным положением паскалевской религии "как далеко от
познания Бога до любви к нему"3. В V главе я подробнее
исследую феномен веры великого ученого, а теперь лишь
напомню об огромной роли Паскаля-христианина в
истории свободомыслия в Европе. Правильно подчеркнул
Франсуа Мориак: "Письма к провинциалу" стали
арсеналом, из которого черпали все враги церкви в течение трех
веков, начиная с Вольтера и кончая нашим временем"4.
' Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 580, fr. 553; p. 615, fr. 887.
Voltaire F. Remarques sur les Pensées de Pascal // Oeuvres complètes.
P-, 1879. T. 22. P. 33.
* Pascal B. Pensées // Oeuvres complètes. P. 546, fr. 377.
Mauriac F. Pascal en France // Pascal et Port-Royal. P. 6.
63
Как личность, так и творчество Паскаля как бы
"окутаны" парадоксами. И сам он чрезвычайно привержен
парадоксам, выражая через них свои наиболее сокровенные
мысли или противоречащие общепринятым мнениям идеи.
Нетрадиционный характер его философии, "свежий"
взгляд на вещи, умение видеть истину с разных сторон
и через противоположности, склонность к афоризмам
создают благоприятную почву для "игры парадоксов"
в его произведениях. Паскаль хотел донести истину не
только до разума людей, но и до "сердца", обращаясь к их
чувству, воле, воображению. Для него были важны не
только строгая логика изложения и доказательная сила
аргументов, но и простота, доходчивость, эмоциональная
яркость в сообщении истины. В "игре" паскалевских
парадоксов нет ничего показного, вычурного или надуманного:
они призваны более выпукло оттенить истину. Так,
например, подчеркивая противоречивость человека, он говорит
об его "величии в ничтожестве" и "ничтожестве в величии"
или о бесконечности человека в самой его ограниченности
("бесконечность в малом") и т. д.1 За эту приверженность
парадоксам любил Паскаля Ф. Ницше и считал его своим
учителем, кстати, не только в этой области, но и в других (в
критике рационализма и сциентизма), развенчивая его,
однако, за религиозный пиетет2. Но если у Ницше "игра
парадоксов" зачастую превращалась в "игру
парадоксами" и носила вызывающе-бравирующий характер, то
у Паскаля парадоксы обычно трагически серьезны.
Важно отметить также у французского мыслителя
связь парадоксов с его диалектикой. Ряд его парадоксов
выражает диалектические противоречия, равно как эти
последние принимают форму парадоксов. Таковы
вышеприведенные парадоксы о человеке. Конечно, диалектика
Паскаля исторически специфична и, на мой взгляд, не
следует ее "притягивать" к более поздним типам
диалектики (антитетике Канта или диалектике Гегеля), но
скорее поставить ее в связь с диалектикой Николая Кузанс-
кого, о чем подробнее речь будет ниже. Если глубинную
суть паскалевской диалектики составляет совпадение
противоположностей, то формой ее выражения нередко
оказывается парадокс. Условно говоря, "парадоксалистская
1 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 513, fr. 116, 117.
2 Lèveille-Mourin G. Pascal — Nietzsche. Le langage chrétien,
antichrétien de la transcendance. P., 1978; Dionne J. R. Pascal et Nietzsche.
Étude historique et comparée. N. Y., 1974.
64
диалектика" Паскаля является характернейшей
особенностью его философии наряду с понятиями "сердца"
и бесконечности, а также ее "экзистенциальным
измерением" и принципиальной несистематичностью. Даже
традиционное религиозное содержание его философии (идеи
первородного греха, божественной благодати,
искупительной миссии Иисуса Христа) как бы "тонет" в
оригинальном философском контексте и приобретает
нетрадиционное "звучание". Скорее Паскаль-философ "ведет"
Паскаля-христианина, а не наоборот, равно как ученый
в нем иногда превалирует над философом. Я уже
обращала внимание на тесную связь его философии с
новым временем и по ряду проблем ее устремленность
в будущее, а также на значение его научной и
литературной деятельности для формирования его философских
взглядов. Теперь рассмотрим философско-теоретические
истоки его мировоззрения, которые также обнаруживают
специфику идейных симпатий и антипатий, "проблемное
поле" его исканий.
Общепризнанным в западном паскалеведении
считается влияние на Паскаля Монтеня, Декарта и Августина.
В качестве истоков тех или иных его взглядов называют
также идеи Платона, Эпиктета, Фомы Аквинского, Дунса
Скота, Пьера Шаррона, Гуго Гроция, Гоббса, К. Янсе-
ния, аббата Сен-Сирана. Наконец, в ряде размышлений
Паскаля видят реминисценции идей Николая Кузанского
и Ф. Бэкона, хотя о них он нигде не упоминает. Второй
ряд источников лишь отчасти достоверен, ибо трудно
сказать, читал ли Паскаль Платона, Дунса Скота, Гроция
или знал об их концепциях из вторых рук. Кроме
Платона, никто из них не упомянут Паскалем. Собственно, не
в упоминании дело, а в действительном влиянии.
Скажем, на Фому Аквинского Паскаль ссылается в "Письмах
к провинциалу" и в "Сочинениях о благодати", но в
учении о Боге следует скорее за Августином, не разделяя
концепции Аквината о гармонии веры и разума. Впрочем,
у Фомы Паскаль ищет поддержки в пользу
необходимости божественной благодати (против Л. Молины и моли-
нистов вообще) и, разумеется, находит ее, ибо в
понимании роли благодати в деле спасения людей Фома не так
уж противостоит Августину, на которого сам Паскаль
опирается1. Кстати, Аристотеля иногда упоминает Па-
1 Pascal В. Écrits sur la grâce (Premier écrit) // Ouevres complètes. P.
316—317.
3 Заказ №4951
65
скаль (например, в "Мыслях" или в четвертом письме
к провинциалу), но никто не говорит о его влиянии на
французского философа.
Что же касается реминисценции идей в философии
Паскаля, то это явление — совсем необязательно
результат прямого или косвенного влияния, но скорее
идейных и общекультурных веяний времени и
некоторых философских и религиозных традиций, избежать
которых, разумеется, не мог Паскаль. Так, о влиянии
Дунса Скота говорят лишь в связи с францисканской
традицией с ее культом воли и любви в богопознании
в противовес томистской традиции с ее рационализмом
в богословии. Поскольку орден францисканцев (или
миноритов) имел свои ответвления во Франции XVII в.
(М. Мерсенн был монахом-миноритом), то влияние этой
традиции на Паскаля считается если не вполне
бесспорным, то и не слишком сомнительным1. Однако
интересно то, что в некотором отношении Дуне Скот был
отдаленным идейным предшественником Паскаля
(различение актуальной и потенциальной бесконечности,
теология откровения, нерационалистическая трактовка
человека, отказ от рационалистической этики), что
нисколько не подтверждает факта его влияния на последнего.
Между прочим, на великое множество идейных
предшественников Паскаля указывает А. Д. Гуляев в своей
книге "Этическое учение в "Мыслях" Паскаля", что тем
не менее не проясняет вопроса о философских
источниках его мировоззрения.
Чтобы покончить с проблемой всяких "малых
влияний" на Паскаля, к тому же зачастую весьма
сомнительных, отмечу вкратце, что концепция "естественного
права" (если ее связывать с Гуго Гроцием) подвергается им
резкой критике в "Мыслях". Влияние П. Шаррона вполне
покрывается влиянием Монтеня, ибо первый в своем
"Трактате о мудрости" реализовал лишь часть
обширного содержания "Опытов" второго. Правда, он иначе
кое-где расставил акценты и превратил скептицизм
Монтеня из оружия борьбы с религией скорее в средство ее
апологии, что могло быть воспринято Паскалем.
Впрочем, и это идет от Монтеня, который внешне уничижал
разум и человеческое знание якобы в угоду Богу и
религии, а по существу сокрушал теологизирующий разум
1 Ferrier F. Peut-on rapporocher Pascal de Duns Scot? // Méthodes chez
Pascal. P. 427-431.
66
и схоластическую ученость. Был этот заряд и в книге
Шаррона, но значительно меньшей силы, чем у Монтеня.
Луи Лафюма допускает возможность прочтения
Паскалем книги Гоббса "О гражданине", изданной во
Франции в 1647 г., и видит его влияние в представлениях
французского философа о роли силы в обществе, "праве
шпаги", развиваемых в связке "Основания действий",
а также в умении извлекать из одного принципа или
предложения все возможные следствия и в требовании
исключать лишние слова1. Другие авторы присоединяют
к этому идеи общественного договора (якобы
реализованные Паскалем в "Трех рассуждениях о положении
знати") и вражды людей в естественном состоянии по
причине природного эгоизма2. На мой взгляд, все это
достаточно проблематично. Незачем возводить к Гоббсу
то, что вытекало из собственных научных занятий
Паскаля и его личной проницательности. К тому же в
"Мыслях" он развивает отнюдь не договорную концепцию
общества (см. подробнее гл. IV, раздел 5). Пожалуй,
лишь в оценке силы и гражданского мира, то есть в
осуждении войн, существует действительное сходство во
взглядах обоих мыслителей, что, впрочем, характерно
и для других философов этой эпохи, раздираемой
внутренними и внешними войнами.
К Николаю Кузанскому можно возводить
представления Паскаля о бесконечности, "ученом незнании",
отчасти его диалектические идеи (совпадение
"бесконечности в большом" и "бесконечности в малом"), но никто из
исследователей всерьез не занимался подобным
вопросом. Трудно определенно говорить об этом влиянии на
Паскаля, который нигде не упоминает Кузанца, а
указанные идеи могли, естественно, вытекать из его занятий
наукой, особенно математикой.
Что касается Платона, то Паскаль 4 раза упоминает
о нем. В методологической работе "О геометрическом
уме и об искусстве убеждать" он иронически отзывается
об определении человека, встречающемся в диалогах
Платона: "Человек — это двуногое животное без
перьев". Паскаль показывает бессмысленность подобного
рода определений, обращая внимание на то, что "человек
не перестает быть человеком, лишаясь обеих ног, равно
' Pascal В. Oucvres comlétes. P. 656.
2 Mac Kenna A. L'argument "Infini-Rien" /'/ Méthodes chez Pascal. P.
', 522.
67
как петух не становится им, теряя свои перья"1. В
"Мыслях" есть одно важное замечание: "Платон
предрасполагает к христианству"2, свидетельствующее о знании
Паскалем существа концепции античного философа. Зато
в другом фрагменте он указывает на бесполезность
философии в деле религиозного обращения язычников:
"...Такие мудрецы, как Платон и Сократ, не смогли их
убедить"3. Есть еще один любопытный фрагмент, в котором
Паскаль указывает на практически-жизненный характер
философии в Древней Греции: "Пусть не воображают
Платона и Аристотеля педантами в длинных мантиях.
Это были честные люди, которые, подобно другим,
шутили со своими друзьями. Когда же они открывали
законы или обращались к политике, то делали это по ходу
самой жизни. Это была как раз менее философская и
серьезная сторона их жизни; истинный философ жил просто
и спокойно.
Если они писали о политике, то для того, чтобы
внести порядок в дом сумасшедших.
Если они делали вид, что говорят о ней как о чем-то
великом, то ведь они знали, что безумцы, к которым они
обращаются, мнят себя королями и императорами. Они
входили в их положение, чтобы, насколько возможно,
умерить их безумие меньшим злом"4.
В этой связи следует заметить, что для Паскаля
"честный человек" ("honnête homme") стоит выше
всякой его ограниченной специализации и обладает
универсальностью содержания и самовыражения. Пожалуй,
можно сказать, что он для него Человек, как таковой,
обладающий человечностью: "Важно, чтобы можно
было сказать: не математик, не проповедник, не оратор, но
честный человек. Только это универсальное качество
нравится мне. Когда, видя человека, вспоминают о его
книге, это плохой признак"5. Подчеркивая человечность
и человеколюбие античных мыслителей, Паскаль и сам
выступает как поборник гуманизма.
Греческий исследователь Е. Мутсопулос в докладе "О
некоторых платоновских реминисценциях в "эстетике"
Паскаля" обращает внимание на сходство идей
"мимесиса", "симметрии" и эстетического вкуса у обоих мысли-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 350.
4bid. P. 586, fr. 612.
4bid. P. 557, fr. 447.
4 Ibid. P. 578, fr. 533.
5 Pascal B. Pensées // Oeuvres complètes. P. 588, fr. 647.
68
телей. Кстати, на вопрос о том, читал ли Паскаль
Платона в подлиннике, автор доклада отвечает
отрицательно, полагая, что он знал его "из вторых рук"1.
Я считаю, что Платон вряд ли сыграл какую-либо
определяющую роль в становлении мировоззрения
Паскаля, каковая принадлежит Монтеню, Декарту и
Августину. Вышеупомянутые Янсений и аббат Сен-Сиран
(некоторое время стоявший во главе пор-рояльской
общины) принадлежат, в общем, к августинианской
традиции.
Круг философского чтения Паскаля не столь обширен,
как у некоторых философов-эрудитов типа Аристотеля,
Лейбница или Гегеля, а также у тех философов, которые
учились в коллегиях и университетах, подобно Декарту,
Вольтеру или Дидро. Однако, учитывая сугубо домашнее
образование Паскаля и его довольно позднее и
самостоятельное обращение к философии, он достаточно начитан
и в древней, и в новой, и в современной ему философии,
чтобы составить о ней совершенно оригинальное и
нередко удивительно глубокое представление.
Новаторство Паскаля в философии отчасти вытекало
из незнания им тех традиций, границ, рамок, а подчас
и штампов, в пределах которых развивалась европейская
философия. То, что в области научного творчества
известно в качестве феномена "безумной идеи", у Паскаля
в философии выступало как независимость от
признанных образцов философствования, как свобода от власти
авторитетов и как свежий взгляд на общепризнанные
проблемы.
Отмечу еще одну особенность Паскаля как философа.
Он любит выражать свою точку зрения в полемике
с идейными противниками (например, Декартом, Монте-
нем, атеистами, пирронистами) или принимаемыми
и уважаемыми им мыслителями, указывая на
односторонность их взглядов. Недаром некоторые исследователи
особо выделяют "полемический метод" у Паскаля. Он не
допускал огульной критики своих идейных противников,
всегда отдавая должное сильным сторонам их
концепций. Истовый христианин, он умел прислушиваться к
доводам атеистов, деистов и других вольнодумцев, равно
как не закрывал глаза на слабости религиозного
суеверия. Будучи убежденным противником пирронизма
1 Moutsopoulos Е. De quelques réminiscences platoniciennes dans F
"esthétique" de Pascal // Méthodes chez Pascal. P. 411—417.
69
и страстно разоблачая его несостоятельность, Паскаль не
забывал отметить необыкновенную
привлекательность "коварного пирронизма" для определенного рода
умов и силу ряда аргументов его сторонников. Точно
так же он говорит о силе и слабости догматизма.
Паскалю не претило инакомыслие, ибо он искал
истину и умел извлекать уроки из любой точки
зрения, отстаивая, однако, свою собственную. С этим
связана и его терпимость по отношению к неверующим
и иноверцам. Разумеется, эта особенность
интеллектуального стиля Паскаля проистекала из его преданности
науке и объективной истине, широты его взглядов
и синтетического характера его мировоззрения. Отсюда
проистекает и сила воздействия на читателей его
размышлений и аргументов, не страдающих какой-либо
"сектантской" или догматической узостью.
Теперь обратимся к анализу основных философско-
теоретических истоков его мировоззрения. Здесь на
первое место по значимости ставятся "Опыты" М. Монтеня.
Один французский автор, Б. Крокэт, в своей монографии
"Паскаль и Монтень" скрупулезно, шаг за шагом
проследил большое и малое сходство в концепциях,
сюжетных линиях, темах, идеях и проблемах обоих
мыслителей, даже вплоть до текстуальных совпадений и чуть
ли не буквального тождества1. Как бы отвечая на
подобного рода исследования и отстаивая свою идейную
независимость, Паскаль подчеркивает в "Мыслях": "Не
в Монтене, а в самом себе я нахожу все то, что вижу
здесь"2.
Да, он нередко использует материал "Опытов",
цитирует различных авторов по Монтеню, ссылается на
его авторитет, размышляет над его выводами, но чаще
всего не соглашается с ними. Он высоко ценит его
обширную эрудицию, искренность, "писательскую
манеру", отвергая "языческий" характер его философии:
"Что есть у Монтеня хорошего, то достигается лишь
с трудом. Что есть в нем плохого, за исключением
нравственных убеждений, то может быть легко
исправлено, если указать ему, что он очень много
рассказывает разных историй и слишком много говорит о
себе"3.
1 Croquette В. Pascal et Montaigne. Genève, 1974.
2 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 591, fr. 689.
3Ibid. P. 588, fr. 649.
70
Некоторые черты философии Монтеня импонируют
Паскалю, и он творчески развивает их. Прежде всего это
концепция ''нового знания" и "новой науки",
ориентированная на опыт, конкретное постижение природы,
"наблюдение шаг за шагом" за жизнью и нравами людей.
Монтень резко критикует "ученых педантов",
забивающих свою память всяческой "лжемудростью" и
оставляющих "разум и совесть праздными", выступает против
образования в отрыве от воспитания, за гуманистическое
значение научного знания.
Страстный отклик в душе Паскаля-ученого найдет
Смелая борьба Монтеня с авторитаризмом, косностью
и догматизмом схоластической философии,
призывавшего умело пользоваться "чужой ученостью", с помощью
которой можно быть учеными, тогда как "мудрыми
можно быть лишь собственной мудростью"1. Все эти стороны
мировоззрения Монтеня найдут оригинальное развитие
в предисловии к "Трактату о пустоте" Паскаля, в
котором он кратко и содержательно набрасывает программу
науки нового времени2.
Есть в "Мыслях" также идущее от Монтеня описание
величия природы и какое-то языческое восхищение
многообразием ее форм, ее "простотой и совершенством",
бесконечной и универсальной взаимосвязью в ней3. Здесь
Паскаль отнюдь не противостоит философии эпохи
Возрождения с ее культом природы. Однако, в отличие от
Монтеня, распространявшего поклонение
"матери-природе" на человеческую природу и считавшего "уменье
достойно проявить себя в своей природной сущности
признаком совершенства и качеством почти
божественным"4, Паскаль видит в природе человека противоречия,
"двойственность", источник добра и зла, а корень этого
последнего в "природном себялюбии" людей. Поэтому
для него достойна любви и уважения лишь добрая
сторона человеческого существа, тогда как существующее
в нем зло заслуживает ненависти5.
Но, подобно Монтеню и не без его влияния, Паскаль
критикует нравы светского общества, их лицемерие,
лживость и суетность и отзывается с уважением о народе,
1 Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1979. Кн. I. Гл. XXV. С. 129.
2 Pascal В. Préface. Sur le Traité du vide // Ouevres complètes. P.
230 232.
3 Pascal B. Pensées // Ouevres complètes. P. 527, fr. 199.
4Монтень M. Опыты. Кн. III. Гл. XIII. С. 310.
■* Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 513, fr. 119.
71
считая "мнения народа здравыми", а также считая
простолюдинов по природе равными великим мира сего,
"величие" которых проистекает лишь из "человеческих, по
существу, социальных установлений"1.
Наконец, Паскаль следует за Монтенем в своей
трезвой оценке роли и возможностей человеческого разума
как в жизни, так и в процессе познания. В отличие от
рационалистов с их культом разума и некоторой
недооценкой опыта и чувственного знания Монтень и Паскаль
видят как великую силу разума, так и его слабости и
недостатки, вследствие чего он не признается ими в
качестве "верховного судьи" (Паскаль) в вопросах истины.
Самый главный недостаток разума состоит в его
небескорыстности, подверженности всяческому влиянию: со
стороны чувств, страстей, воображения, интересов личных
и общественных и т. д. Согласно Монтеню, "...этот
разум, обладающий способностью иметь сто
противоположных мнений об одном и том же предмете,
представляет собой инструмент из свинца и воска, который можно
удлинять, сгибать и приспособлять ко всем размерам:
нужно только умение владеть им"2. Если выбирать
между разумом и чувствами, умозрением и опытом в
качестве критерия истины, то Монтень скорее склонен отдать
предпочтение опытуи чувствам, ибо они "являются
началом и венцом человеческого познания"3. Недаром Ф.
Бэкон зачитывался его "Опытами", не без влияния которых
разрабатывал свой индуктивно-эмпирический метод.
По сути дела, Монтень скептически относится к
"искусному и велеречивому уму философов", еще более —
к теологизирующему разуму схоластов, изощренному
в ловких доказательствах всего возможного и
невозможного, а также к "житейскому разуму" людей,
подверженному изменчивым и шатким, противоречивым и
поверхностным суждениям и мнениям. Но его скепсис не
распространяется на естественный человеческий разум,
равно как и на научный разум, опирающий свои суждения
на опыт, показания чувств, "природу вещей". Не
сомневается Монтень ни в ценности научного познания, ни
в возможности прогресса познания из поколения в
поколение.
'Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes, P. 511, fr. 95, 96, 101; Trois
discours sur la condition des Grands // Oeuvres complètes. P. 366.
2 Монтень M. Опыты. Кн. И. Гл. XII. С. 498.
3 Там же. С. 520.
72
Подобные тенденции в оценке человеческого разума
есть и у Паскаля: с одной стороны, воспевание "величия
разума", а с другой — развенчание его слабостей и
недостатков. В отличие от Монтеня, он решает вопрос о
критерии истины неоднозначно, в зависимости от сферы
компетентности той или другой познавательной
способности, не ущемляя ни роли чувств, ни опыта, ни разума,
ни доказательства в познании, но всему отдавая должное.
Однако основы мировоззрения Монтеня —
скептицизм, эпикуреизм и вольнодумство — он подвергает, как
считает Паскаль, резкой критике. Монтень для Паскаля
— это скептик, антипод философа-догматика, каковым
он считал, например, Декарта. Паскаль как бы
простодушно верит на слово Монтеню и связывает с его позицией
"коварный пирронизм", с точки зрения которого человек
ничтожен, слаб и "ничего не может знать", уподобляясь
в этом отношении животным. Он слишком буквально
понял одно из тонких высказываний Монтеня: "Самый
мудрый способ ввериться природе — сделать это как
можно более просто. О, какой сладостной, мягкой,
удобной подушкой для разумно устроенной головы являются
незнание и нежелание знать! Я предпочел бы хорошо
понимать самого себя, чем Цицерона. Если я буду
прилежным учеником, то мой собственный опыт вполне
достаточно умудрит меня"1. В культе "естественного
человека" Паскаль увидел снижение духовных и
нравственных требований к человеку, ибо человек по природе
двойственен: и велик, и ничтожен одновременно, не
может "всего знать", равно как не может "ничего не знать".
Монтеневская "похвала незнанию" была истолкована
Паскалем в духе принижения величия человека, что для
него недопустимо, как и недоучет его ничтожества.
Принципиальная критика пирронизма, которая имеет место
в "Мыслях", в значительной мере Паскалем относится
именно к Монтеню, хотя и неправомерно.
Паскаль не рассматривал скептицизм Монтеня как
прогрессивное явление в борьбе со схоластикой,
авторитаризмом и догматизмом. Он видел в нем своего
идейного противника, скептицизму которого
противопоставлял концепцию возможности достижения достоверного
знания2. Между тем, как отмечает В. М. Богуславский, "в
своей борьбе за свободу мысли, за необходимость пред-
1 Монтень М. Опыты. Кн. III. Гл. XIII. С. 272.
2 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 512, fr. 110.
73
ставить все вопросы на суд разума Монтень —
крупнейший предшественник Декарта"1.
Странно, но факт, что проницательный Паскаль,
глубоко уважавший Монтеня, недооценил ни научного духа
его философии, ни антисхоластической направленности
его скептицизма. Зато его не обманули нередко
формальные "реверансы" Монтеня в сторону религии,
внешний характер его набожности, сопряженный с
вольнодумством, языческая тенденция его философии, что он
и подвергает критике как религиозный мыслитель:
"Недостатки Монтеня велики. ...Непозволительны его
чувства по отношению к самоубийству и смерти. Он без
страха и раскаяния внушает равнодушие к вопросу о
спасении. Его книга не порождена набожностью и не склоняет
к ней... Если как-то можно извинить его вольные и
сладострастные чувства в некоторых жизненных ситуациях,
то совершенно недопустимо его языческое отношение
к смерти. Пришлось бы отказаться от всякой
набожности, если не желать по крайней мере умереть
по-христиански. Он же думает лишь о том, как бы умереть
полегче и поприятнее"2. Монтень, как представитель
гуманистической культуры Ренессанса, пытается избавить
человека от страха смерти, указывая на ее
естественность и неизбежность. Он противопоставляет тревожной
религиозной или философской рефлексии о смерти
спокойное приятие ее простыми людьми, ближе стоящими
к природе и подающими пример жизненной стойкости
и непоказного мужества.
Паскаль с его трагическим миросозерцанием,
напротив, снова ставит человека перед "лицом смерти", считая
отсутствие рефлексии о ней непозволительным
легкомыслием. Не одобряет он и самоубийства как языческого
своеволия, не допустимого с точки зрения христианской
морали.
Как христианин, Паскаль выступает и против
концепции секуляризованной морали в духе эпикуреизма,
которую исповедовал Монтень. Правда, сначала Монтень
увлекся этикой стоицизма, но по зрелым размышлениям
отверг величавый нравственный ригоризм стоиков как
несовместимый с идеалом "естественной жизни" и как
недостижимый для большинства людей. Поскольку по-
1 Богуславский В. М. У истоков французского атеизма и
материализма. М., 1964. С. 177.
2 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 590, fr. 680.
74
клонение природе и разуму объединяло этику стоиков
и Эпикура, постольку Монгень без особого насилия над
собой переходит на позиции эпикуровского гедонизма
с ренессансной ,'пoпpaвкoй,, к нему — оптимистическим
воспеванием радостей жизни. Однако, как и в случае со
скептицизмом Монтеня, Паскаль упрощает его этическое
учение (не без влияния христианской традиции в оценке
Эпикура) в духе вульгарного эпикуреизма.
В ''Разговоре с де Саси" Паскаль развенчивает этику
Монтеня, несправедливо обвиняя его в потакании
человеческим слабостям и даже порокам, полагая, что он "под-
кладывает подушки под локти грешников". Этим Паскаль
объясняет отказ Монтеня от "стоицистской добродетели",
которую изображают в виде "фантома, пугающего детей":
"со строгим видом, суровым взглядом, взъерошенными
волосами, нахмуренным и вспотевшим от тяжких усилий
лбом, вдали от людей и в удручающем молчании
возвышающегося одиноко на вершине скалы"'. Сам Монтень,
согласно Паскалю, представляет добродетель этакой
"приятной, наивной и доступной всем вещью,
позволяющей изнеженно пребывать в состоянии спокойной
праздности"2. Поскольку для Монтеня нет ничего достоверного,
продолжает Паскаль, постольку главное правило его
поведения состоит в спокойствии и удобстве. Но монтеневские
рекомендации хотя и легко исполнимы для людей, ибо не
насилуют их природы, но "решительно пагубны для тех,
кто сколько-нибудь склонен к нечестию и порокам"3.
Светскому идеалу человека и его жизни у Монтеня
Паскаль противопоставляет духовно-религиозный идеал
жизни у стоиков, в частности у Эпиктета. В "Разговоре
с де Саси" он с уважением подчеркивает, что "Эпиктет
является одним из светских философов, который лучше
всех понял долг человека. Прежде всего он хочет, чтобы
человек рассматривал Бога как свой главный объект"4.
Бог у Эпиктета, продолжает Паскаль, есть мудрый
и справедливый устроитель мира, которому человек
должен всем сердцем довериться. Никогда не забывая
о предстоящей смерти, человек не может предаваться
суетным делам и недостойным мыслям, а должен
творить добро тайно и бескорыстно.
1 Pascal В. Entretien avec M. de Saci ,'/ Oeuvres complètes. P. 296.
2 Ibidem.
3 Ibid. P. 297.
4 Ibid. P. 292 293.
75
Однако, хорошо поняв то, "что человек должен",
считает Паскаль, этот философ самонадеянно
заблуждался в том, "что человек может". Эпиктет полагал, что
человек располагает всеми средствами для достижения
высшего совершенства и счастья. Он может стать
святым и даже уподобиться в этом самому Богу. Эти
принципы "дьявольской гордости", говорит Паскаль,
приводят Эпиктета и к другим заблуждениям, в частности
к оправданию самоубийства (здесь он ошибочно
приписывает Эпиктету позицию стоиков вообще). Если Мон-
тень, согласно Паскалю, недооценил величия человека,
то Эпиктет, напротив, недооценил его бессилия и
ничтожества. Таким образом, Эпиктет, "указав людям
верный путь, не смог повести их по нему"1. Это — путь
божественной благодати.
Как и в случае с Монтенем, здесь снова сталкивается
христианская позиция Паскаля с языческой верой
Эпиктета в естественные возможности человека. Потому
в "Мыслях" он объявляет "требования стоиков
неисполнимыми и суетными": уповать на глубины человеческой
мудрости, вместо того чтобы ждать милости от Бога2.
Впрочем, хорошо почувствовав дух стоицистского
оптимизма Эпиктета (в отличие от пессимизма, скажем,
Марка Аврелия), Паскаль не заметил родственных
христианству "мотивов" его учения: зависимость человека от
Бога и, как следствие этого, отрицание самоубийства,
а также признание "его бессилия и несостоятельности
в необходимых вопросах", в чем Эпиктет видит начало
философии3. В отличие от Сенеки он отвергает
недвусмысленно самоубийство: "Люди, подождите Бога. Когда
он даст знак и освободит вас от этого служения, тогда
отправляйтесь к нему. А пока вы должны вынести то, что
вы обитаете в том месте, куда Он вас поставил.
...Останьтесь, не уходите необдуманно"4.
Леметр де Саси, духовник Паскаля в Пор-Рояле,
отметил философскую глубину в его рассуждениях и
удивительную согласованность его религиозных представлений
с концепцией Августина, полагая, что Паскаль
самостоятельно пришел к этим мыслям. Но де Саси ошибался,
ибо еще в период "первого обращения" Паскаль познако-
1 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 518, fr. 140.
4bid. P. 519, fr. 144, 146.
3См.: Эпиктет. Беседы // Вестник древней истории. 1965. № 3. С.
234.
4 Там же. №2. С. 225.
76
милея с доктриной Августина, защищая которую он
и выступил против теолога Жака Фортона. Затем в
процессе работы над "Письмами к провинциалу" Паскаль
более внимательно вчитывался в произведения отца
церкви Августина.
Августин принадлежит к числу любимых и глубоко
почитаемых авторов Паскаля. К нему он часто
обращается в "Мыслях", цитируя его "Исповедь", "Против
Пелагия", "О граде Божием". В своих религиозных взглядах
Паскаль следует именно за августиновским вариантом
христианства с его акцентом на преемственности
первородного греха, необходимости искупления этого греха
посредством жертвы Иисуса Христа и возможности
спасения избранных с помощью божественной благодати.
Особенно привлекает Паскаля у Августина культ любви к
Богу до всякого знания и культ "сердца" как высшей
постигающей способности, ярко выраженные в "Исповеди":
"Готово сердце мое и слух ушей моих пред Тобою,
Господи; отверзи их и скажи душе моей: Я твое спасение...
И я возлюблю Тебя всем существом моим и предамся Тебе
всецело..."1. Конечно, Августин не отрицает ни истину, ни
знание, ни разум, ни мудрость, но ничто из этого
невозможно без любви к Богу: "И кто познал истину, тот познал
и Свет этот, а кто познал этот Свет, тот познал и вечность.
Любовь же одна только может постигнуть все это. О
истина вечная! О любовь истинная!"2. Однако если Августин
согласует любовь со знанием и знание с любовью, то
Паскаль не боится противопоставить любовь к Богу
знанию Его: "Как далеко от познания Бога до любви к нему".
Не только одни религиозные взгляды Августина
получили отклик в душе Паскаля, но и некоторые его
философские мысли, в частности против академиков (Аркеси-
лая и Карнеада), позиции которых, согласно Августину,
неприемлемы прежде всего с практической точки зрения,
равно как и с теоретической тоже: "...мудрый, если бы
ничему не доверял, ничего бы не делал... Ибо каким бы
образом мудрый одобрял, или... следовал подобию
истины, если бы не знал, что такое само истинное"3.
Подобную же аргументацию развивает Паскаль против пир-
ронистов (см. подробнее в гл. III). Кроме того, на стра-
1 Августин. Исповедь // Творения Блаженного Августина. 2-е изд.
Киев, 1901. Ч. 1. С. 5, 21.
2 Там же. С. 180.
3 Августин. Против академиков // Творения Блаженного Августина.
Киев, 1905. Ч. 2. С. 100.
77
ницах "Мыслей" можно встретить августиновские идеи
о непостижимости способа объединения духа с телом,
о познании как уподоблении (это идет от античности),
о добровольном подчинении разума только самому
разуму, об отрицании у материи способности мыслить
и др. Наконец, морально-антропологическая ориентация
паскалевской философии роднит ее с философией
Августина.
Однако уважение к Августину не мешает Паскалю
видеть слабости и недостатки у него и критиковать их.
К примеру, на обложке своей Библии Паскаль написал:
"Все ложные красоты, которые есть у святого Августина,
находят себе почитателей, и притом в большом числе"1.
А в "Мыслях" он критикует Августина наряду с Монте-
нем за неумение увидеть причины тех или иных
действий. "Они относятся к тем, кто обнаружил причины, как
люди, имеющие лишь глаза, относятся к тем, кто имеет
еще и ум. Ибо действия чувственно воспринимаемы,
а причины видны только уму. И хотя эти действия
усматриваются тоже умом, но этот ум относится к уму,
который видит причины, как телесные чувства относятся
к уму"2.
Но в чем Паскаль резко расходится с Августином,
так это в отношении к инакомыслящим. Если неистовая
страстность "святого Августина" в отстаивании
принципов истинной религии доходила подчас до
убеждения в необходимости насильственного обращения
еретиков, то не менее страстный в своем личном
благочестии Паскаль не допускал ни малейшего насилия
и принуждения по отношению к неверующим и
инакомыслящим. Он считал, что все эти меры не идут на
пользу, но вредят им: "Бог, управляющий всем
посредством кротости, обращает к вере умы — доводами,
сердца — благодатью. Но обращать умы и сердца
силой и угрозами — значит наполнять их не верой,
а ужасом. Скорее террор, чем религия"3. Ужасы
религиозных войн, особенно изнурительных во Франции,
равно как не дозволенные и зачастую безнравственные
приемы обращения людей к вере, практикуемые и во
времена Паскаля представителями ордена иезуитов,
научили этого пылкого христианина веротерпимости. Вот
1 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 641, fr. 1007.
Mbid. P. 582, fr. 577.
Mbid. P. 523, fr. 172.
78
почему Паскаль оказался более чувствителен к этому
передовому веянию своей эпохи, нежели к позиции
уважаемого им отца церкви.
И еще в одном Паскаль отличается от Августина,
настаивающего на безоговорочном признании
авторитета церкви при решении всех религиозных споров и
толковании Священного писания. Паскаль не признает
безоговорочной веры ни в какой человеческий авторитет,
будь то авторитет "святых отцов", церкви или
всемогущих пап, считая их незастрахованными от человеческих
слабостей и ошибок и оставляя за собой свободу
критиковать их (см. ниже гл. V). Более того, он считал для себя
возможным в неравной борьбе с иезуитами пренебречь
официальным осуждением янсенизма папой
Иннокентием X, выступить в защиту гонимого церковью учения К.
Янсения в "Письмах к провинциалу" и даже через голову
церкви взывать к суду самого Господа Бога.
Вне его критики, пожалуй, остается лишь Священное
писание, цитаты из которого рассыпаны по всем
"Мыслям". Но даже и здесь Паскаль не допускает слепого
преклонения перед авторитетом Библии, весьма
корректно отбирая материал из нее для разъяснения или
подтверждения своей религиозной концепции.
Общепризнанная противоречивость библейских сказаний, их
смысловая многозначность и неопределенность нисколько
не шокируют Паскаля с его диалектическим умом
и склонностью к парадоксам, с его скептицизмом по
отношению к разуму и логическим доказательствам
в вопросах религиозной веры и отрицательным
отношением ко всякой спекулятивной теологии и
абстрактно-умозрительной религии (например, в форме
деизма).
Паскаль часто обращается в "Мыслях" к Посланиям
апостола Павла, цитируя Послание к римлянам, Первое
послание к коринфянам, Послание к галатам, Второе
послание Тимофею. В них Паскалю импонируют культ
живой личной веры, убежденности в вере сердцем, а не
доводами разума, идея спасения только верою, а не
добрыми делами и соблюдением буквы ветхозаветного
чакона, дихотомия сердца и ума, противостояние
божественной мудрости человеческому суемудрию, то есть во
многом как раз те элементы религиозной концепции,
которые заимствованы у апостола Павла святым Ав-
•устином. Исследователь из Японии К. Кавамата
считает влияние этих духовных авторов на Паскаля "столь
79
обширным и всеобъемлющим, что оно даже не поддается
измерению", и "Паскаль никогда не переставал
признавать и углублять это видение мира"1.
Но это влияние, однако, не следует преувеличивать,
ибо в основном оно было ограничено религиозными
взглядами Паскаля. Никак нельзя согласиться с
исключительно религиозной интерпретацией его творчества па-
скалеведом-католиком Ф. Селье, который в своем
обширном труде "Паскаль и святой Августин" считает, что
"паскалевское видение мира конституировалось шаг за
шагом, исходя из евангельской традиции", и видит "три
источника его жизни и мысли: Библию, святого
Августина и литургию"2. Селье не учитывает ни то, что Паскаль
был ученым, ни то, что его "Мысли" просто фактически
не сводятся лишь к религиозным раздумьям. Этим
автором Паскаль рассматривается только как "один из самых
великих теологов августинианской традиции"3.
На мой взгляд, Паскаль прежде всего ученый, затем
философ и наконец теолог. Что касается его философии,
то здесь ряд авторов справедливо усматривает
преобладающее влияние Декарта. Один из них, Мишель Ле-
герн, в своей монографии "Паскаль и Декарт" выражает
убеждение в том, что "если хотят говорить о философии
Паскаля, то надо сначала допустить, что она создавалась,
исходя из картезианства"4. Этот вдумчивый
исследователь совершенно правильно отвергает давнюю традицию
в истории философии, согласно которой Декарт и
Паскаль рассматривались как два диаметрально
противоположных полюса в развитии французской мысли. К ней
примыкают В. Кузен, Л. Бреншвиг, Л. Шестов, А.
Бергсон и др.
Обычно противопоставляют рационализм,
дедуктивную методологию, "гносеологический оптимизм",
догматизм и в целом своеобразную
"антиэкзистенциальную" направленность философии Декарта мистицизму,
индуктивной методологии, скептицизму и ярко
выраженному "экзистенциальному" характеру мировоззрения
Паскаля. Л. Бреншвиг распространяет "антагонизм между
Декартом и Паскалем не только на их отношение к
религии и философии... но и на их способ действия в науках",
1 Kawamata К. Pascal et Saint-Cyran // Méthodes chez Pascal. P., 1979.
P. 435.
2 Sellier Ph. Pascal et Saint Augustin. P., 1970. P. 5—6.
4bid. P. 5.
4 Le Guern M. Pascal et Descartes. P., 1971. P. 178.
80
ибо в науке, Паскаль как будто ставил своей задачей
разрушить модель, созданную Декартом"1. Л. Шестов
идет еще дальше и в своей книге "Гефсиманская ночь"
противопоставляет Паскаля как вообще "ретроградного
мыслителя" (сравнивая его с Юлианом Отступником)
Декарту как "отцу новой философии": "История
неумолима к отступникам... Таково суждение истории:
восхищаются Паскалем, но отвергают его путь. Это
суждение не подлежит апелляции"2. Однако Шестов явно
"хватил через край", ибо то, о чем он говорит, не относится
ни к религии Паскаля, ни к его философии. Что же
касается "его пути", то здесь Шестов просто фактически
не прав, так как за Паскалем последовали многие, а в
современной Франции создано "Общество друзей
Паскаля".
Увлеченные идеей противопоставления, авторы
подчас слишком однозначно представляют действительные
позиции Декарта и Паскаля. При этом не без успеха
используется ряд критических и отрицательных оценок
Паскалем тех или иных сторон философии Декарта
и оставляется в тени как общность их борьбы на научном
фронте против "идолов схоластики", так и факт идейного
влияния Декарта на Паскаля. Между прочим, о Монтене
тоже достаточно отрицательных замечаний у Паскаля,
однако его влияние на последнего никто не подвергает
сомнению. М. Лагери не без основания полагает, что
Паскаль познакомился с философией вообще именно
через произведения Декарта. К моменту беседы с Декартом
в сентябре 1647 г. Паскаль уже был знаком с
"Рассуждением о методе", "Метафизическими размышлениями"
и "Началами философии" Декарта.
Позже Паскаль прочитал "Переписку" Декарта,
изданную Клерселье в 1657 г. Так что, скорее всего,
"Опыты" Монтеня были прочитаны позже произведений
Декарта и подверглись осмыслению и оценке сквозь призму
картезианских представлений.
Декарт и Монтень в сознании Паскаля должны были
взаимно оттенять достоинства и недостатки друг друга.
Проверив, так сказать, взгляды Монтеня философией
Декарта, он отнес к их недостаткам "коварный пирро-
низм", "невзыскательный эпикуреизм", "невежество"
1 Brunschvicg L. Descartes et Pascal. Lecteurs de Montaigne. N. Y.-P.,
1944. P. 158.
2Chestov L. La nuit de Gethsémani. P., 1923. P. 2—3.
81
в области наук, и особенно в математике. На этом фоне
ярче засверкали достоинства философии Декарта:
математическая строгость мысли, аксиоматико-дедуктивный
метод, "гносеологический оптимизм", высокая оценка
человеческого разума и его доказательств. Зато сильная
антидогматическая тенденция у Монтеня, культ "матери-
природы", скептицизм в отношении теологизирующего
разума, неприязнь к умозрительной философии, высокая
оценка опытного знания более выпукло представили
сознанию Паскаля ограниченность картезианского
рационализма, его догматизм, умозрительность его физики,
механицизм в понимании живого (например, идея
животных-машин).
Паскаль проницательнее всех из современников
Декарта почувствовал не только силу, но и слабость,
уязвимость картезианского рационализма, не только
воспринял некоторые передовые идеи Декарта и
творчески развил их, но и пытался преодолеть слишком
односторонние решения великого рационалиста. Однако
начинал Паскаль не с оппозиции, а с усвоения
философии Декарта и глубокого уважения к нему как
признанному мэтру французской науки и философии.
Потому при встрече с ним он больше молчит и не
решается ему возражать, хотя и был не согласен
с его гипотезой "тончайшей материи". Сила
философской мысли Декарта научила Паскаля быть
весьма скромным и осторожным в философских выводах
по поводу своих экспериментов с вакуумом. В начале
1650-х гг. Паскаль был настолько под влиянием Декарта,
что его светские друзья (кавалер де Мере, Митон
— весьма образованные либертэны) считали его
картезианцем.
Позже, уже будучи "отшельником Пор-Рояля", он
в работе "О геометрическом уме и об искусстве
убеждать" будет отстаивать интеллектуальную
оригинальность Декарта перед Августином в использовании
положения: cogito ergo sum. "Пусть Августин сказал это
прежде Декарта за тысячу двести лет, — пишет он, — но я не
оспариваю чести изобретения этого начала у Декарта,
хотя бы он взял его из сочинений этого великого святого:
ведь одно дело — высказать нечто случайно, не вдаваясь
в дальнейшие размышления о нем, и другое — извлечь из
него замечательные следствия, доказывающие различие
природы материальной и духовной, и сделать его
незыблемым фундаментом целой физики, чего и хотел достиг-
82
нуть Декарт"1. Конечно, следовало бы сказать "всей
метафизики", но в этой неточности заключен глубокий
смысл, ибо для Паскаля-ученого умозрительность
физики Декарта вытекала из его метафизики, в частности из
приоритета cogito и духовной субстанции над
материальной. С этим связана, согласно Паскалю, и идея
необходимости "первощелчка" в физике Декарта.
Не случайно Паскаль столь высоко оценивает
картезианское cogito: здесь заключен важнейший пункт его
согласия с Декартом. Знаменитый его фрагмент о
"мыслящем тростнике" и ряд других о "величии человека
в мысли", безусловно, навеяны чтением Декарта. Это
— далеко не случайная тема в размышлениях Паскаля,
что вынуждены признавать даже сторонники
противопоставления двух великих мыслителей, как, например,
В. Кузен в своих "Этюдах о Паскале": хотя намерение
Паскаля состояло в том, чтобы "развенчать
картезианскую философию", но он усвоил из нее "великий
принцип мысли как знак и доказательство человеческого
существования"2. Эта тема как "эхо картезианского
cogito" многократно усиливается Паскалем в "Мыслях"
и является одной из ведущих в них, а отнюдь не
преходящей "истиной среди других истин", как полагает
Э. Бодэн3.
Есть и другое "общее измерение" между мыслью
Декарта и Паскаля — признание математики и
математического аксиоматико-дедуктивного метода в качестве
образца научной строгости и доказательности при
исследовании истины. Паскаль считает именно
"геометрический метод" наиболее "совершенным" методом
познания и творчески развивает его вслед за Декартом (см.
подробнее гл. III, 3).
Более того, М. Легерн не без основания обнаруживает
влияние Декарта во многих других произведениях
Паскаля, равно как и в других темах его "Мыслей": в "Письмах
о пустоте" (формулировка "универсального правила"
исследования истины), в "Разговоре с де Саси"
(существование истины ставится в зависимость от доброго Бога),
в методологической работе "О геометрическом уме и об
искусстве убеждать" (изложение 8 правил аксиоматико-
' Pascal В. De l'esprit géométrique et de Part de persuader // Oeuvres
complètes. P. 358.
2 Cousin V. Études sur Pascal . P.. 1857. P. 82.
3 Baudin E. Études historiques et critiques sur la philosophie de Pascal.
P., 1946. V. 1. P. 95.
83
дедуктивного метода), а в "Мыслях" находит
картезианскую концепцию универсума, идеи о бесконечном Боге,
дуализме души и тела, мыслящего и материального
начал и многое другое"1.
На мой взгляд, Легерн даже слишком "привязывает"
"Мысли" Паскаля к картезианству и преувеличивает
влияние Декарта на Паскаля. Так, например, картина
мира у Паскаля отличается от декартовского
универсума, который лишь неограничен (indéfinie), ибо один
Бог бесконечен (infini), тогда как Паскаль говорит
о двойной бесконечности мира infinité en grandeur
и infinité en petitesse (бесконечности в большом и в
малом, или вширь и вглубь). Идея бесконечности мира
играет в философии Паскаля настолько
фундаментальную роль, что без нее у него не понятны ни мир,
ни человек, ни познание. У Декарта же она
функционально связана только с Богом, и осторожный
философ опасается отнести к миру этот "божественный
атрибут".
Полемика с Декартом иногда явно, а чаще всего
неявно пронизывает многие разделы "Мыслей" Паскаля.
Особенно знаменитый фрагмент "Дисгармоничность
человека" является как бы ответом на "Начала философии"
Декарта, хотя имя последнего в нем не упоминается, зато
называется это произведение. Самое серьезное замечание
Декарту Паскаль делает в связи с его догматизмом,
проявившимся в наивной претензии на однозначное
и окончательное решение истины. Чего стоят, например,
следующие заявления Декарта: "А этот мир может быть
создан лишь так, как это я вообразил"2; "...нет нужды
искать иных начал, помимо изложенных мною, для того
чтобы достичь высших знаний, какие доступны
человеческому уму..."3. Декарт настолько был уверен, что
добытые им истины окончательны, что полагал, будто они
"устраняют всякое основание для споров, располагая тем
самым умы к кротости и согласию..."4. Паскаль же
убежден в том, что бесконечный мир не может быть постигнут
полностью и до конца никакой конечной системой
философии. Критика эта ведется им не с позиций скептицизма,
который он едко развенчал в "Мыслях", а с позиций
1 Le Guern M. Pascal et Descartes. P., 1971. Parties I, II ch. 2.
2 Декарт P. Трактат о свете // Избранные произведения. M., 1950.
С. 196.
3 Декарт Р. Начала философии // Избранные произведения. С. 418.
4 Там же. С. 423.
84
своеобразной диалектики природы и диалектики
познания (см. ниже гл. III).
Другое серьезное замечание Паскаля направлено
против сциентизма Декарта: "Написать против тех, кто
слишком углублен в науки. Декарт"1.
Не принимает Паскаль и односторонний рационализм
Декарта, который полагал, "что познавательная
способность присуща только интеллекту, но что для него могут
быть помехой или помощью другие способности, а
именно: воображение, чувства и память"2. Паскаль же считал,
что "мы постигаем истину не только разумом, но и
сердцем"3. Если Декарт признавал ограниченность
человеческого разума главным образом перед лицом "всеведающе-
го и бесконечного Бога", то Паскаль видел его
ограниченность и в области "естественного света". Это
позволило ему отдать должное и другим
гносеологическим способностям (внешним чувствам, "сердцу" как
внутреннему чувству, наряду с "геометрическим умом" —
"уму тонкому"), конкретно оценивая их возможности
в зависимости от предметов и задач познания.
Преодолевая механицизм Декарта в понимании
живого, Паскаль признает наличие психики у животных. У них
нет разума, но есть воля, так что они отнюдь не
бездушные автоматы, как считал Декарт, связывавший психику,
по существу, с мышлением, сознанием, что порождало
рационализм и в психологии. Паскаль же понимает
психику более широко, чем Декарт, фактически выделяя два
ее уровня: бессознательную инстинктивную психику
животных и разумную психику человека, обладающего
также и бессознательной психикой на уровне сердца, чувств,
эмоций, воображения, а также психических
автоматизмов. Он переосмысливает идею автоматизма, идущую от
Декарта, и связывает автоматизм человеческой
деятельности с механизмом привычки как "второй натуры"
человека, тогда как автоматизм в поведении животных
объясняет действием инстинкта. В противовес Монтеню,
признававшему у животных наличие своеобразного ума,
Паскаль защищает идею Декарта об автоматизме
поведения животных. В полемике с герцогом де Лианкуром,
который усматривал "разум" в поведении лягушек, очень
^Postal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 580, fr. 553.
2 Декарт P. Правила для руководства ума // Избранные
произведения. С. ПО.
3 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 512, fr. 110.
85
ловко "выклевывающих" глаза у щук при защите от их
нападения, Паскаль замечает: "Они это делают всегда
однообразно и никогда иначе, отнюдь не обладая
разумом"1. Но в противовес Декарту, он не видел в
отсутствии разума у животных отсутствия психики. Выделение
Паскалем в "век разума" двух уровней психики
опередило развитие европейской психологии почти на три
столетия, ибо лишь в современной психологии прочно
утвердилась мысль о невозможности сведения психики к
сознанию и необходимости признания бессознательной
психики не только у животных, но и у человека.
Однако, несмотря на все разногласия Паскаля и
Декарта в философии, равно как и в науке (развивавших
разные направления в математике и физике), они
оставались в пределах "естественного света"
человеческого познания, пока не попадали в "интеллектуальные
тупики", из которых выходили с помощью обращения
к Богу. Декарт это делает при решении проблемы
обретения истины ("Бог не может быть обманщиком")
и достоверности внешнего мира, Паскаль — при
решении проблемы счастья и "спасения" человека. Пока
речь идет о философских функциях Бога, оба мыслителя
перед лицом схоластики выступают как бы "по одну
сторону баррикад".
Другое дело, когда речь идет об исповедуемом ими
типе религии — вот здесь они действительно
противостоят, как деист и рационалист в религии может
противостоять христианину и мистику. Декарт считает
необходимым доказывать бытие Бога и бессмертие души
"скорее посредством доводов философии, чем
богословия", то есть доказывать "эти две истины естественным
разумом"2. Паскаль же убежден в бесполезности
философии для религии. Четко отделяя области веры и
разума, критикуя спекулятивное богословие, он связывает
религиозную веру с откровением, божественной
благодатью, мистическим вдохновением, которые "изливаются"
в сердце человека, понимаемое здесь в качестве
"мистического посредника" между Богом и человеком.
В отличие от Декарта Паскаль прекрасно понимает,
что доказать бытие Бога доводами разума нельзя, в чем
и выразился его скептицизм по отношению к "теологизи-
1 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 596, Гг. 738.
2 Декарт Р. Метафизические размышления // Избранные
произведения. С. 321.
86
рующему" разуму. Бог у Паскаля не просто "творец
природы" и "геометрических истин", но живой личный
Бог, который согревает сердца людей надеждой на
спасение, а не Бог ученых и философов, который организует
космос. Деизм, с точки зрения Паскаля, столь же чужд
христианской религии, как и атеизм. Декарта он считал
деистом и правильно почувствовал антирелигиозный
подтекст его философии, в которой царил культ разума,
явно предпочитаемый великим рационалистом культу
религии, несмотря на все его "христианнейшие оговорки".
Паскаль не может простить Декарту его свободомыслия
и желания "отделаться от Бога во всей своей философии,
но он не смог обойтись без него, прибегнув к
Божественному первощелчку для приведения мира в движение,
после чего Бог ему больше не нужен"'. Правда, это
замечание относится к физике Декарта, а не к его
метафизике, в которой функциональное значение Бога весьма
велико. Но Паскаль проницательно подметил, что Бог
является не целью, а средством картезианской
философии. Как справедливо полагает Л. Бреншвиг, "Декарт
требует от Бога подтверждения триумфа разума;
Паскаль же умоляет о спасении души. Здесь противостоят не
просто две доктрины, а как бы две цивилизации"2.
Декарт с его деизмом смотрел вперед и шел навстречу веку
Просвещения, а Паскаль своей религией в некотором
смысле звал назад: отчасти к раннехристианской
доктрине Августина, отчасти к периоду Реформации, если при
этом не учитывать всех "контраверз" и парадоксов его
апологии религии. Что же касается науки и философии,
то оба мыслителя — каждый по-своему и по-разному —
шли вперед, определяя не только их рубежи, но и далекие
перспективы3.
В заключение данной главы следует отметить, что
в значительной степени специфика философского
наследия Паскаля связана с универсальным характером его
творчества, приложением сил в столь разнородных
сферах человеческой культуры, как наука, литература,
философия, логика, этика, эстетика, религия. Отсюда
происходят, с одной стороны, его "вкус к конкретному" и
неприятие умозрительной и абстрактно-спекулятивной
1 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 640, Гг. 1001.
2 Brunschvicg L. Descartes et Pascal. Lecteurs de Montaigne. N. Y-P.,
1944. P. 189.
3См. подробнее: Стрельцова Г. Я. Декарт и Паскаль /' Вопросы
философии. 1985. № 3.
87
философии, а с другой — синтетическое видение проблем,
целостное и многостороннее их рассмотрение,
открытость его мировоззрения противоположным точкам
зрения и уважительное отношение Паскаля к своим идейным
противникам. Следствием этого является идейная
насыщенность его философского творчества, как бы
многослойная его глубина, связанная с чутким вниманием к
фактам, эмпирическому материалу, конкретным и
целостным предметам исследования, а также к сложной
и подчас запутанной феноменальной картине
действительности, и вместе с тем стремление выйти за рамки
эмпирии, описания явлений и "докопаться" до их
"предельных оснований", многообразных внутренних
взаимосвязей, что уже свидетельствует об их теоретическом
осмыслении. Если писательское мастерство помогает
Паскалю живописать мир явлений, то теоретическая
"хватка" ученого и философа — объяснять их из объективных
условий и оснований.
Кроме того, практическая ориентация Паскаля
(выраженная также в его научно-экспериментальной и
изобретательской деятельности) обращает его философский
взор на реальные проблемы человеческого бытия, войны
и мира, социальной жизни и т. д., что всегда вызывало
особый интерес к его философии. В этом Паскаль был
достойным сыном нового времени.
ОДИН ПРОТИВ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ
Я один против тридцати тысяч? Нет. Пусть на
вашей стороне будет двор, обман, на моей
стороне истина: она — вся моя сила... и
посмотрим, кто победит.
Паскаль
1. "ЕРЕСЬ" КОРНЕЛИЯ ЯНСЕНИЯ
В "Письмах к провинциалу" Паскаль выступил
против могущественного в те времена ордена иезуитов на
стороне янсенистов Пор-Рояля. Янсенизм во Франции
и в Голландии был частью буржуазной оппозиции
католицизму и феодализму, истоки которой лежат в реформа-
ционном движении эпохи Возрождения. Реформация
нанесла сильнейший удар не только по католической церкви,
но и по феодализму, концентрированным
идеологическим выражением которого был католицизм.
Реформаторы (Лютер, Кальвин, Цвингли), как
известно, выступили против культа "внешней набожности" со
всеми его атрибутами: посредничество церкви с ее
сложной иерархией в деле "спасения" верующих,
"сокровищница добрых дел", почитание богоматери, святых, икон,
реликвий, соблюдение постов, пышное богослужение,
безбрачие и т. д. Они провозгласили спасение "sola fîde"
("только верою") в искупительную миссию Иисуса
Христа, отстаивая культ внутренней религиозности,
"сердечной веры". Это кредо Лютера было им выдвинуто
против абсолютизации практики "добрых дел" в ущерб
внутренней преданности Богу. Резкую оппозицию вызывала
у него широко распространившаяся торговля
"индульгенциями" (лат.— милость), приносившая мирянам
отпущение грехов, а духовенству — немалый доход.
Сформулировав 95 тезисов против этой торговли, Лютер вступил
89
в непримиримый конфликт с Римом, был отлучен от
церкви, что и дало толчок Реформации.
Поставив человека в более сильную и внутреннюю
зависимость от Бога, реформаторы взяли на свое
вооружение идеи о жестком предопределении (одних — к
спасению, других — к вечной гибели) божественной благодати
как необходимом условии спасения и "рабстве воли" как
логическом следствии предызбранности. Согласно
Лютеру, ни вина, ни заслуга не происходят от воли
человеческой, которая не свободна и, подобно вьючному
животному, не вольна выбирать себе седока, пассивно подчиняясь
любому из них, Богу или дьяволу. Божественная
благодать дана не всем людям, а только избранным. Но
поскольку никто не знает воли Бога, то каждый может
надеяться на спасение и стараться быть достойным его.
Мирское призвание есть, в конце концов, предначертание
самого Бога, так что успех в мирской деятельности
является некоторым показателем предызбранности к
спасению. Таким образом, оправдывалась перед Богом
активная буржуазная деятельность, а также как бы
реабилитировалась и сама мирская жизнь. В связи с этим
протестанты выступили против института монашества,
а также резкого отделения священнослужителей от
мирян, провозглашая тезис о "всеобщем священстве"
верующих.
Парадоксально, но обновление религиозного
вероучения было одновременно и возвратом назад, к
раннехристианской доктрине Августина с его представлением
о неискоренимой испорченности человеческой природы
в результате первородного греха, который искупается
лишь жертвенной смертью Иисуса Христа, а отнюдь не
добрыми делами самих верующих. Своими силами,
согласно Августину, человек не может ни
совершенствоваться, ни спастись: для этого нужна божественная
благодать, которая дается даром лишь избранным. За великий
грех прародителя, считает Августин, "наказано все его
потомство, которое в нем коренилось, так что от этого
справедливого и заслуженного наказания никто не
освобождается иначе, как милосердною и незаслуженною
благодатью; и род человеческий распределяется таким
образом, что на некоторых открывается вся сила благодати,
на остальных же — вся сила правосудного мщения"1.
1 Августин. О граде Божием. Кн. 21 // Творения Блаженного
Августина. Киев, 1910. Ч. 6. С. 276.
90
Жестокая для верующих мысль Августина о спасении
лишь меньшинства и обреченности большинства
дополнялась столь же безотрадной и безнадежной мыслью
о невозможности ни предугадать волю Божью, ни
заслужить расположение Бога добрыми делами. Суровой
для верующих была также идея о том, что Иисус
Христос пролил свою кровь не за всех людей. Правда,
надо отметить, что Августин отрицал заслугу человека
перед Богом, но перед церковью ее признавал, равно
как не мыслил спасения верующих без посредничества
церкви.
В этом пункте протестанты резко расходились с
Августином, будучи верными духу его учения о
предопределении и благодати. Кроме того, из этого последнего
реформаторы логично вывели "рабство воли", тогда как
святой отец отстаивал свободу воли.
Католическая церковь вместе с феодальными
светскими властями жестоко обрушилась на "еретиков".
В 1542 г. была реорганизована инквизиция, полицейско-
судебное учреждение католицизма, действовавшее с XIII
в. и ставившее своей целью преследование и осуждение
инакомыслящих. В этом году папа Павел III учредил
в Риме верховный инквизиционный трибунал,
возглавляемый самим папой и имеющий многочисленные
отделения "на местах", т. е. во всех католических странах.
Инквизиция навечно покрыла себя позорной славой
преследования не только еретиков, но и ученых, писателей
и всех представителей европейской культуры, чем-либо не
угодивших римской курии. Для обвинения человека в
ереси было достаточно доноса, клеветы или просто
подозрения со стороны заинтересованных в этом лиц. Все
имущество осужденных конфисковывалось в пользу церкви,
и в частности агентов инквизиции, что было мощным
стимулом их усердия "во славу Господа". Печально
известны знаменитые "процессы ведьм", в результате
которых были заживо сожжены на кострах (на основании
лицемерной формулы: "без пролития крови") по
обвинению в колдовстве десятки тысяч людей с расстроенной
психикой, вызвавших подозрения обывателей, или просто
оклеветанных в корыстных целях людей. Иоганну
Кеплеру на протяжении шести лет пришлось вести
изнурительную борьбу за спасение от костра своей матери,
в результате клеветы обвиненной в колдовстве. Великий
ученый выиграл судебный процесс, но чего ему это
стоило!
91
Инквизиция жестоко расправлялась и с учеными,
оказывая усиленное противодействие научному прогрессу.
Начало XVII в. было озарено костром, на котором
сожгли Джордано Бруно. В 1619 г. в Тулузе погиб на костре
философ-пантеист и вольнодумец Джулио Ванини. В 1621 г.
в Париже был сожжен "безбожник" Жан Фонтанье,
в 1634 г. — в Лудене (Франция) священник Урбен Грандье
и далее на протяжении всего XVII столетия и даже в век
Просвещения костры пылали в Европе (в 1762 г.
подвергся колесованию, а затем сожжению гугенот Калас, через
3 года был сожжен юноша Ла Барр), пытаясь уничтожить
не только жизнь, но и честь, и достоинство борцов за
свободу, разум, культуру и прогресс. Всемирно известен
позорный процесс над Галилео Галилеем, который,
однако, не сломил ни духа, ни мужества замечательного
ученого, все равно убежденного "А все-таки она вертится!"
Паскаль в "Письмах к провинциалу" (письмо
восемнадцатое) бросает вызов инквизиции, показывая ее бессилие
перед прогрессом научного знания: "Напрасно вы
добились в Риме декрета об осуждении мнения Галилея
относительно движения Земли. Не этим будет доказано,
что она стоит на месте. Если бы имелись постоянные
наблюдения, которые бы доказали, что именно она-то
и вращается, то все люди в мире не помешали бы ей
вращаться, как и себе — вращаться вместе с нею"1.
Инквизиция была призвана укрепить позиции
католицизма в борьбе против протестантской "ереси", против
прогресса науки и культуры вообще, но она не выполнила
и не могла выполнить своей одиозной задачи.
Инквизиция, как в свое время и крестовые походы,
дискредитировала христианство в глазах прогрессивного человечества
и вызывала с его стороны активную оппозицию, в
результате которой это беспрецедентное карательное
учреждение церкви было упразднено: в ряде стран Европы уже
в XVIII в., позже в Португалии (1820), Испании (1834) и,
наконец, в Папской области (1859). Некоторые
контрольно-полицейские ее функции были переданы Конгрегации
священной канцелярии, преобразованной в 1965 г. в
Конгрегацию вероучения.
Католическая реакция на Тридентском соборе (1545—
1563) предала проклятию как "ересь" учение
протестантов и закрепила средневековый "символ веры",
действующий до сих пор. Его основные положения проти-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P., 1963. P. 467.
92
воположны протестантским и включают среди прочих
"декреты'* о непререкаемом посредничестве церкви со
всей ее сложной иерархией в деле спасения верующих,
преимущественном авторитете папы перед церковными
соборами; признание наряду со Священным писанием
и Священного предания; привилегированном положении
духовенства по сравнению с мирянами (например,
духовенство причащается хлебом и вином, а миряне — только
хлебом, духовенство в отличие от мирян дает обет
безбрачия); "сокровищнице добрых дел и благодати",
которой располагает церковь в результате деяний Христа,
апостолов и святых и из которой духовенство может
черпать для отпущения грехов мирянам; свободе воли,
налагающей нравственную ответственность на мирян за
их грехи и нравственное зло вообще в этом мире;
чистилище, догмата о котором нет ни в протестантизме, ни
в православии; других элементах внешней религиозности:
культе богоматери, святых, мучеников, икон, реликвий,
соблюдения постов и др. По мнению лютеранского
теолога А. Гарнака, "церковь приобрела новый закон веры
...который был так двусмыслен и эластичен, что оставлял
полную свободу действий курии"1.
Особая миссия по спасению чистоты вероучения
ортодоксального католицизма была возложена на
Общество Иисуса (Societas Jesu), или орден иезуитов,
монашескую организацию, основанную в Париже (1534) испанским
дворянином ИгнатиемЛойолой и санкционированную
папой Павлом III в 1540 г. Орден был создан специально
для борьбы с протестантской ересью, имел широкие
полномочия (генерал ордена, называемый "черным папой",
подчинялся только самому папе и имел резиденцию в
Риме) и привилегии (члены ордена были свободны от
налогов, имели право носить светскую одежду, скрывать свою
принадлежность к ордену, не выполнять ряд религиозных
предписаний и др.). Все это должно было сохранять
в тайне шпионскую деятельность ордена, быстро
пустившего свои "щупальца" во все слои гражданского
общества, начиная с простых мирян и кончая высшей знатью
и королевским двором. Иезуиты распространили свое
влияние на многие страны не только Европы (Испанию,
Португалию, отчасти Россию и др.), но и на государства
Азии, Африки, Южной Америки. Во Франции они были
1 Гарнак А. История догматов. Общая история европейской
культуры. Спб., 1911. Т. 6. С. 444.
93
официально признанными представителями
римско-католической церкви и мощной опорой королевского
абсолютизма. Иезуит отец Анна был с 1654 г. духовником
Людовика XIV, под влиянием которого король-Солнце
с юных лет ненавидел янсенистов, врагов иезуитов.
Чтобы "уловить в свои сети" как можно большее
число верующих из всех сословий, иезуиты не брезговали
никакими средствами, ибо "во славу Божию", по их
мнению, цель оправдывает средства. Для этого они
разработали систему приспособительной, или ослабленной,
морали, на основании правил которой верующим
разрешалось при случае не соблюдать не только
евангельские нормы поведения, церковные предписания, но также
и светские законы и установления, а подчас и
элементарные требования человеческой порядочности.
Посредством правил "легкой набожности" и очень мягкой
исповедальной практики, равно как, по словам Паскаля,
"услужливого руководства" своей паствой, иезуиты
"простирают руки на весь мир", и таким образом "они
сохраняют всех своих друзей и защищаются от всех своих
врагов"1. Не в силах согласовать неисправимую
распущенность света с требованиями религии, иезуиты
"смягчили строгость религии", приноравливая ее к порокам
и слабостям людей. "Люди до того теперь испорчены,
жалуется патер-иезуит, выведенный Паскалем в
"Письмах к провинциалу", что, не имея возможности привести
их к нам, мы вынуждены идти к ним сами. Иначе они
совсем оставили бы нас... и окончательно опустились
бы"2.
Иезуиты влияли на общество также и через
воспитание детей в своих учебных заведениях, коллегиях
(соответствующих гимназиям) и семинариях
(соответствующих университетам). Их школы располагали добротными
и удобными зданиями, многочисленными наставниками
и учителями, знающими профессорами и маститыми по
тому времени учеными (правда, чаще всего
схоластического толка). Иезуиты давали своим воспитанникам
солидное образование, в определенном смысле строгое
воспитание и хорошую физическую подготовку, разумеется,
при обязательном религиозном настрое духа и всех
мыслей. Любопытно, что наряду со специальными
предметами (латинский и греческий языки, математика, музыка
1 Pascal В. Les provinciales. Cinquième lettre // Oeuvres complètes. P. 388.
2 Pascal B. Les provinciales. Sixième lettre // Oeuvres complètes. P. 394.
94
и др.), они преподавали так называемую "эрудицию",
в которую включались общие знания по истории,
природоведению, географии, археологии и другим предметам.
Высшим авторитетом в теологии они считали Фому Ак-
винского, а в философии — Аристотеля, разумеется, схо-
ластизированного. Иезуиты воспитывали в своих
учениках сдержанность, беспрекословное послушание старшим,
мягкую и вкрадчивую манеру обращения. Заботливые
родители, в том числе из высшего дворянства и даже
протестанты, считали за честь отдать своих детей в
иезуитские школы. К концу XVII в. иезуиты имели 800 учебных
заведений, в том числе 20 университетов. Кстати,
иезуитские коллегии заканчивали Декарт, Вольтер, Дидро.
Но ряд положительных черт иезуитской методы
воспитания и образования во многом нейтрализовался
удушливой нравственной атмосферой в их школах. Ученики
должны были взаимно шпионить и доносить друг на
друга. В них воспитывались честолюбие, тщеславие и
карьеризм, поощрялось соперничество путем всяких
наград, первых мест и т. д. В иезуитских школах дети были
свидетелями методического и целенаправленного
издевательства над человеческим достоинством провинившихся
или не угодивших чем-либо "начальству" учеников
(позорные наказания, обидные клички и т. д.).
Эта система воспитания подрывала в детях веру в
людей, разрушала солидарность и товарищество между
ними, убивала сострадание и готовность помогать другому
бескорыстно и самоотверженно. Зато она воспитывала
ловких и беззастенчивых приспособленцев, бездушных
лицемеров, готовых не только "во имя Бога", но также
из любой личной корысти предать и продать кого угодно
и что угодно.
Таким образом, иезуиты, по сути дела, пренебрегали
истинно человеческими (во все века непреходящими!)
ценностями, как-то: любовь к ближнему, правдивость,
верность, искренность, сострадание, честность и т. д.
Сколько надо было иметь душевной стойкости и природной
неиспорченности, так сказать интуитивно-внутреннего
вкуса к порядочности, чтобы не сломаться и не позволить
искалечить свой ум и свою душу!
Особенно ярко вся порочность педагогики и низкое
корыстолюбие иезуитов проявились в основанном ими
» XVII в. так называемом иезуитском юсударстве в
Парагвае (1610—1768), население которого -■— индейцы
гуарани — было обращено практически в их рабов. Под
95
видом миссионерской деятельности иезуиты, по
свидетельству апологета их ордена Г. Бёмера, "выдрессировали"
бедных индейцев, "превратив их в настоящие машины",
легко управляемые "начальством", т. е. "благочестивыми
отцами"1.
С помощью тонкой психологической обработки
индейцам вдалбливалось в сознание, что неустанный труд,
равно как и полуголодное существование, и
безоговорочное послушание их "духовным отцам", и безразличное
отношение к родным и близким, "угодны Богу". Кто же
этого не понимал, того на площади всенародно били
плетьми, что и было одним из действенных средств их
"воспитания". В результате жестокой эксплуатации
гуарани ежегодно приносили ордену доход на 3 млн
долларов — это при монашеском-то обете нестяжания. К 1760
г. орден был уже миллиардером, владевшим разного
рода материальными благами.
"Проводники европейской цивилизации" не
постеснялись создать для индейцев невыносимые условия
существования. В редукциях — специальных поселениях для
индейцев — большие патриархальные семьи, состоявшие из отца,
матери, детей, внуков, братьев и сестер, теснились в
хижинах из одной комнаты вместе с кошками, собаками,
мышами, крысами. Здесь же кишели тысячи сверчков
и тараканов. Так выразительно описывает жилище гуарани
тот же Бёмер и замечает: "Новичку скоро становится дурно
от невыносимого смрада этих хижин"2. Между тем сами
колонизаторы обитали в добротных жилищах,
окруженных великолепными садами. Нет ничего удивительного,
что несчастные гуарани очень скоро начали вымирать от
эпидемий, непосильного труда и полуголодного
существования. В целях увеличения рабочей силы лицемерные
святоши ввели такой обычай: ровно в полночь звонил
церковный колокол, призывая людей к исполнению
супружеских обязанностей. Но и эта бессовестная уловка не
помогала, и население редукций катастрофически
сокращалось: от 150 тыс. человек к 1739 г. осталось менее половины
— 74 тыс.3
Кроме того, иезуиты охотно прибегали к услугам
инквизиции, что обеспечивало им не только реальную
1 Бёмер Г. Иезуиты. М., 1913. С. 337—339.
2 Там же. С. 328—330.
3См.: Михневич Д. Е. Очерки из истории католической реакции
(иезуиты). М., 1955. С. 197—207.
96
силу и власть в абсолютистском государстве, но и
довольно зловещую славу. Нравственно чутких людей
коробила моральная неразборчивость иезуитов, их
потакание порокам света, их показная набожность. Иезуитов
не любили, боялись их, и это было их "ахиллесовой
пятой". Широкое движение против их засилья в XVII в.
было возглавлено янсенистами.
Янсенизм как религиозное течение возник в 30—40-е
гг. XVII в. в ответ на "разложение христианства",
каковым они считали иезуитский его вариант, и под
лозунгом возвращения к истокам католицизма —
Священному писанию и ригористической доктрине
Августина. Основатель янсенизма ->- Корнелий Янсений
(1585—1638), голландский теолог, епископ Ипрский —
выразил свои взгляды в труде "Августин, или Учение
св. Августина о здравии, недуге и врачеваний
человеческого естества, против пелагиан и массилийцев",
изданном после его смерти в 1640 г. Главные вопросы,
по которым Янсений выступил против иезуитов, касались
понимания человеческой природы, свободы воли,
благодати, предопределения, а также их
нравственно-религиозного учения. Янсений обвинил иезуитов в возврате,
к пелагианской ереси, в борьбе с которой оформилась
доктрина Августина.
Пелагий (360—418), раннехристианский богослов,
в период формирования христианской догматики
защищал учение, согласно которому первородный грех Адама
и Евы не наследуется их потомками, потому
новорожденные дети столь же невинны, как и первые люди до
грехопадения. Следствием этого было признание Пелаги-
ем свободы воли человека, которая без божественной
благодати может вести людей по пути
совершенствования их нравственной природы. Этому оптимистическому
взгляду на естественные силы человека (не без влияния
стоицистской этики) противостояло суровое и
пессимистическое учение Августина, с его акцентом на
предопределении и благодати.
Во Франции оплотом янсенизма стал Пор-Рояль,
главой которого с 1636 г. был Жан Дювержье де Горанн,
или аббат Сен-Сиран, друг и единомышленник Янсения,
сумевший увлечь отшельников Пор-Рояля на путь
янсенизма, столпами которого стали А. Арно, П. Николь,
Б. Паскаль, М. Барко и др. — все они выходцы из
"третьего сословия", на базе которого формировался
буржуазный класс во Франции. Но сочувствовали ян-
4 Заказ №4951
97
сенизму и были друзьями Пор-Рояля многие светские
люди, противостоящие королевскому абсолютизму и
иезуитам: герцоги де Роанне, де Лианкур, де Люин, де
Лонгвиль, маркиза де Сабле и др. — некоторые из них
друзья Паскаля.
Противоядием для истребления иезуитского
религиозного ханжества и нравственной распущенности Янсений
считал восстановление в первозданном виде сурового
учения Августина. Но к нему же обратились и
реформаторы, порвавшие с римско-католической церковью
и объявленные ею еретиками. Янсений в отличие от
протестантов отнюдь не имел намерения порывать ни
с официальной церковью, ни с католицизмом, сохраняя
в своем учении многие положения этого последнего: о
посредствующей роли церкви, Священном предании,
элементах внешней религиозности и др. Более того, Янсений
в памфлете "Галльский Марс" осудил кардинала
Ришелье и иезуитов за союз с протестантскими государствами
в Тридцатилетней войне. В свою очередь иезуиты
обвинили Янсения в кальвинистской ереси и в своем
альманахе изобразили его с крыльями дьявола, на которых
он улетает в объятия Кальвина. Иезуиты называли ян-
сенистов "лягушками, родившимися в тине женевского
болота" (в Женеве протекала деятельность Кальвина).
Но этим дело не кончилось: опасно было в те времена
задевать иезуитов. Они извлекли из книги Янсения пять
положений и добились их осуждения как еретических
в специальной булле папы Иннокентия X (1653):
1) Некоторые заповеди неисполнимы для праведных
без благодати.
2) Нельзя в падшем состоянии противиться
внутренней благодати.
3) Чтобы в падшем состоянии быть виновным или
иметь заслугу, нет надобности быть свободным от
необходимости, а достаточно быть свободным от принуждения. '
4) Полупелагиане еретики в том, что считают, будто
человек своей волей может подчиниться или
воспротивиться внутренней благодати.
5) Утверждение о том, что Христос пролил свою
кровь за всех людей, есть полупелагианская ересь1.
По свидетельству Ж. Б. Боссюэ, положения были
выбраны весьма удачно, ибо в них заключена "душа всей
1 Цит. по: Паскаль Б. Письма к провинциалу. Спб., 1898. С. XI —
XII.
98
книги". Они в самом деле были близки протестантизму,
так как отрицали свободу воли, признанную Тридентским
собором. Но янсенисты утверждали, что в том виде, как
они сформулированы иезуитами и осуждены папою, этих
положений нет в книге Янсения, и не считали доктрину
своего учителя, равно как и свои собственные взгляды,
отлученными от церкви. Тогда иезуиты добились от папы
осуждения всех сочинений в защиту Янсения (1654).
Но не только идейная борьба подогревала ненависть
иезуитов к Пор-Роялю. Янсенисты оказались их
конкурентами в деле школьного образования, что приносило
иезуитам большой материальный ущерб. С 1643 г. в Пор-
Рояле начали открываться янсенистские "маленькие
школы", в которых на каждого учителя приходилось не более
5—6 детей. Поэтому дети в них получали хорошее
индивидуальное образование и воспитание, сознательно
основанное на принципах, противоположных иезуитским.
Янсенисты были поборниками новых и прогрессивных
методов воспитания, предложенных выдающимся
педагогом того времени Яном Амосом Коменским (1592—
1670), который выступил против схоластических норм
воспитания (формализма, авторитаризма, казуистики
и др., широко используемых иезуитами), за
демократическую реформу школы (совместное обучение детей всех
сословий, учет индивидуальных особенностей и культуры
воспитуемых, опора на опыт и наглядность при обучении
и др.). В противовес иезуитам, насаждавшим в своих
школах догматизм и начетничество, янсенисты старались
развивать в детях способность к самостоятельному и
творческому мышлению. Атмосфере карьеризма и
соперничества в иезуитских школах они противопоставили дух
солидарности и взаимопомощи, "ослабленной морали"
иезуитов — строгую нравственность (правда, не без
сектантской узости), которая, по мысли янсенистов, должна
была удерживать от дурных побуждений "греховную" от
рождения природу человека. Над учебниками для
"маленьких школ" трудились многие ученые Пор-Рояля
(А. Арно, Б. Паскаль, П. Николь, К. Лансело и др.),
издававшие их здесь же в монастырской типографии. Эти
учебники считались лучшими для того времени и
пользовались популярностью не у одного поколения учащихся.
Так, янсенисты издали "Логику, или Искусство мыслить"
А. Арно и П. Николя, "Общую систематическую
грамматику", "Элементарную геометрию", ряд учебников
К. Лансело по методике преподавания языков и др.
99
Все это не могло не привлечь внимания
образованных слоев французского общества, представители
которого стали охотно отдавать своих детей в янсенистские
школы. Во-времена Паскаля в них учился Жан Расин,
ставший впоследствии первым историографом Пор-
Рояля.
Учились в "маленьких школах" Пор-Рояля и дети из
очень знатных семей. Герцог де Лианкур поместил туда
свою внучку, а дома у себя дал убежище янсенисту аббату
де Бурзеису, скрывавшемуся от преследований иезуитов.
За это приходский священник-иезуит отказал герцогу
в причастии, требуя от него полного разрыва с Пор-
Роялем, на что герцог ответил решительным разрывом
с иезуитами. А. Арно не упустил случая предать
гласности недозволенные приемы иезуитов и написал против
них и в защиту герцога два памфлета ("Письмо к знатной
особе" и "Второе письмо к пэру Франции"), которые
вызвали шквал ненависти и негодования со стороны
иезуитов. Еще ранее А. Арно написал против них памфлеты
"О частом причастии" и "Моральная теология
иезуитов". Теперь они решили раз и навсегда расправиться
с непокорным Арно, организовав в Сорбонне, доктором
которой он являлся, позорное и несправедливое
судилище над уважаемым теологом и ученым. В результате
махинаций, в которых иезуиты были большими
мастерами, они 14 января 1656 г. осудили Арно за признание им
пяти положений Янсения и исключили его из состава
богословского факультета (124 голосами против 71 при
15 воздержавшихся). Во время жарких прений в Сорбонне
ни Арно, ни его сторонникам не дали возможности
защищаться, что свидетельствовало о полнейшей
беспринципности иезуитов и неразборчивости в выборе средств для
расправы с инакомыслящими. Тогда отшельники Пор-
Рояля посоветовали Арно защищаться в печати, т. е.
публично, привлекая к предмету спора общественное
мнение. Но то, что написал сам Арно, отвергли его
соратники из-за суховатого и академического стиля,
которым отличался "великий Арно", написавший 200
томов сочинений. Эту задачу взял на себя Паскаль (по
просьбе Арно и других) и блестяще выполнил ее в своих
знаменитых "Письмах к провинциалу", якобы
написанных Людовиком Монтальтом к другу в провинцию и
отцам-иезуитам о морали и политике иезуитов.
Осуждение Арно было заранее санкционировано
королевской властью, от имени которой на всех заседаниях
100
в Сорбонне присутствовал канцлер Сегье ("главный
полицейский" Франции) с коварным поручением осудить
Арно наверняка, но с видимым соблюдением законности
и, главное, без лишнего шума и огласки. Так что
"Письма..." Паскаля были направлены не только против
политики иезуитов, но и центральной власти, что было
вдвойне опасно. Иезуитизм представлял в те времена
реакционную силу, усугублявшую злоупотребления
абсолютистского режима, силу, опиравшуюся на
схоластическую догму, внешний авторитет, феодальную
иерархию и реакционное дворянство.
Оппозиция этой реакции уже сама по себе играла
прогрессивную роль, тем более что Паскаль заставил
заговорить общественное мнение Франции, этот
демократический институт, неведомый феодализму.
"Письма..." Паскаля имели небывалый успех у широкой
публики. Он сумел доступно и понятно объяснить
сложные богословские вопросы, применяя ряд удачных
комедийных приемов, предвосхищавших приемы
Мольера. Сам Паскаль тогда не был теологом,. но
с помощью своих друзей из Пор-Рояля он довольно
быстро научился разбираться в весьма тонких и
запутанных богословских вопросах. Отшельники
подбирали ему материал из многочисленных иезуитских
книг, сочинений отцов церкви, но и сам Паскаль
читал немало, чтобы не ошибиться в цитировании
и в изложении сути дела. "Моральную теологию"
иезуита Эскобара Паскаль прочитал дважды. Он хорошо
для себя уяснил официальную доктрину католицизма,
"еретическое" учение кальвинизма, богословские взгляды
Августина и Фомы Аквинского, принципы вероучения
и псевдонауки о нравственности иезуитов и, конечно
же, учение янсенистов.
Но внимание общественности Франции к
"Письмам..." Паскаля привлек не спор янсенистов с иезуитами
по догматическим вопросам, а в комедийной форме
развенчанное в них нравственное учение иезуитов. Помимо
этого интерес к анонимному автору "Писем..."
подогревался смелостью и даже дерзостью его выступления
против всесильного ордена, против духовника королевской
семьи отца Анна, которых Паскаль во всеуслышание
изобличал в преследовании инакомыслящих, в нечестии,
клевете на порядочных людей, в попрании истины и
справедливости. Это был бунт не только против коварных
и изворотливых отцов-иезуитов, но и против централь-
101
ной власти, под прикрытием которой они действовали,
по определению Паскаля, "нагло и безнаказанно". Двор
негодовал, иезуиты были в бешенстве, канцлер Сегье
буквально слег от безуспешных попыток найти
анонимного автора "Писем...". У Паскаля было много друзей,
которые самоотверженно помогали ему и укрывали.
Беспрецедентная храбрость его борьбы против "великих
мира сего" отмечается всеми биографами. Кроме того, как
пишет сам Паскаль отцу Анна, к нему трудно
подступиться с какой бы то ни было стороны, ибо он находится
вне пределов досягаемости и влияния иезуитов. Потому
он столь решительно мог заявлять в лицо этому
королевскому приближенному: "Я не боюсь вас... От мира
я ничего не ожидаю, ничего не опасаюсь, ничего не
желаю; я не нуждаюсь, по милости Божьей, ни в
богатстве, ни в личной власти... Вы можете затронуть Пор-
Рояль, но не меня. Можно выжить людей из Сорбонны,
но меня нельзя выжить из самого себя. Вы можете
использовать насилие против священников и докторов, но
не против меня, ибо я не имею этих званий"1. Это весьма
характерное заявление Паскаля не было тактической
уловкой в опасной борьбе, но отражало его
действительно независимое положение, в том числе и в Пор-Рояле,
с которым формально он никак не был связан. Он
вступил в борьбу бескорыстно, движимый одним желанием
— защитить истину и справедливость. Причем, в борьбу
эту он внес "дух светскости", выступая не только от
имени религии и богословских догм, но и от имени
разума и нравственного чувства. Защищая религиозное
учение янсенистов о свободе воли и благодати и стремясь
быть более понятным массовому читателю, Паскаль как
бы "переводит" теологический спор на "язык" обычных
жизненных ситуаций.
1 Pascal В. Les provinciales. Dix-septième lettre // Oeuvres complètes. P.
454-^55.
102
2. БОЖЕСТВЕННАЯ БЛАГОДАТЬ И СВОБОДА ВОЛИ
Бог, который нас создал без нас,
не может нас спасти без нас.
Паскаль
Эта богословская проблема имеет отнюдь не только
догматический интерес, ибо в религиозной форме ставит
одну из вечных общечеловеческих проблем о свободе
и необходимости, свободе и ответственности, своеволии
и долге человека. Многовековой спор теологов по
этому вопросу "докатился" до XVII в. и в борьбе
янсенистов с иезуитами вылился в форму дискуссии
о так называемых "достаточной благодати" и
"действенной благодати", от понимания которых зависело
соотношение между свободой воли и предопределением.
Если иезуиты, ссылаясь на Фому Аквинского, обвинили
янсенистов в "кальвинистской ереси" (отрицание
свободы воли, а следовательно, и "заслуг" человеческих),
то янсенисты со своей стороны обвинили иезуитов
в "полупелагианской ереси", ссылаясь на Августина
и Аквината и одновременно указывая на извращение
иезуитами учения "святого Фомы".
Перед Паскалем стояла задача согласовать янсенист-
ское понимание свободы воли и благодати (в духе
Августина) с католической трактовкой свободы воли
и "заслуги" человека (в духе Тридентского собора). Сам
К. Янсений отнюдь не претендовал дать отличное от
августиновского толкование этих вопросов.
Исследователь истории янсенизма О. Газье подчеркивает этот
момент и считает "большой несправедливостью возлагать
ответственность на доброго фламандца за те потрясения,
в которые вовлечена церковь после его смерти..."1. Газье
называет янсенизм "никогда не существовавшим
фантомом" и полагает, что "нет ничего в так называемом
янсенизме, что целиком и полностью не соответствовало
бы догмам римско-католической апостольской церкви"2.
Вслед за кардиналом Бона Газье определяет янсенистов
"как ревностных католиков, которые просто не любили
иезуитов"3. В этом смысле с самого возникновения
Ордена иезуитов существовали "янсенисты", среди которых
1 Gazier Augustin. Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses
origines jusqu'à nos jours. P., 1923. T. 1. P. 7.
Mbid. P. 17.
Mbid. P. VII.
103
были кардиналы и даже папы (Иннокентий XI, Бенедикт
XIV). Однако и в современном католицизме янсенизм
считается "ересью"1.
Дело в том, что теологическое согласование
предопределения, божественной благодати и свободы человека
не всегда выглядит убедительным для разума
человеческого. Так, П. Бейль не без сарказма сравнивал вопросы
благодати с "Мессинским маяком, находясь возле
которого пребываешь в постоянной опасности наскочить на
подводный камень при попытке обойти другой..."2.
Необходимость благодати вытекает из признания
слабости, бессилия, ничтожества человека без Бога. Однако
в рамках религиозной этики столь же необходимо
обосновать ответственность человека за свое поведение, его
свободу воли и свободу выбора, как и его зависимость
от Бога. Признание свободы воли человека важно также
с точки зрения теодицеи, ибо с Бога надо было снять
ответственность как за все существующее зло в мире,
так и за греховное поведение людей.
Августин следующим образом доказывает
необходимость свободы человека: "...если мы творим зло не
добровольно, то решительно никто не должен быть
подвергаем ни запрещениям, ни увещеваниям, а с
устранением этого необходимо уничтожается
христианский закон и вся религиозная дисциплина. Итак, грех
совершается добровольно. А так как грех — факт
несомненный, то несомненным, по моему мнению,
нужно считать и то, что души обладают волею
свободной. Ибо лучшими своими служителями Бог
положил считать тех, которые служили ему свободно.
А этого не могло бы быть, если бы они служили ему не
добровольно, а по необходимости"3. Но с другой
стороны, ни в добре, ни в совершенстве нет человеческой
заслуги, полагает Августин, ибо в "испорченном"
человеке все доброе — только от Бога, как "единого
подателя всех даров". Так что добродетельные люди —
лишь "храмы всевышнего Бога"4. Здесь Августин,
в общем-то, следует за апостолом Павлом, который
говорил: "...хвалящийся хвались Господам... Что ты
1 Garrone G. M. Ce que croyait Pascal. P., 1969.
2 Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М., 1968.
Т. 1. С. 139.
3 Августин. Об истинной религии // Творения Блаженного
Августина. Киев, 1912. Ч. 7. С. 22.
4 Там же. С. 15, 92.
104
имеешь, чего бы не получил? А если получил, что
хвалишься, как будто не получил?" (1 Кор. 1:31; 4:7).
У Августина получается парадоксальная и весьма
суровая для человека картина: в добре нет человеческой
заслуги, а значит, и свободы, зато в зле — вся вина его
в силу признания за ним свободы воли. Таким образом,
святому отцу не удалось устранить фундаментального
противоречия между свободой человека и благодатью,
несмотря на его субъективное убеждение в том, что
благодать не мешает реализации свободы. Исследование
этой проблемы у Августина привело Г. Г. Майорова
к аналогичному выводу: "Увлекая волю к наилучшему,
благодать лишает ее и той иллюзорной свободы выбора,
которая была еще оставлена ей предопределением:
субъект, руководимый благодатью, как показывает Августин
в "Исповеди", в конце концов узнает, что его действиями
управляет не он сам, а какая-то внешняя сила. Иллюзия
свободы у Августина рассеивается в лучах религиозной
веры"1.
Религиозный фатализм Августина был отчасти
отражением социальной действительности того времени —
распада Римской империи под натиском варварских
племен, падения Рима в 410 г. и разграбления его воинами
вождя визиготов Алариха, анархии, деградации нравов,
упадка многовековой римской культуры, оживления
язычества. Все это рассматривалось Августином как победа
зла над добром, в силу чего "суды Божий" оказывались
"еще более непостижимыми, а пути его неисследимыми"2.
В дальнейшем католицизм попытался несколько
"эмансипировать" человека перед Богом, выдвинув идею
"сотрудничества" свободной воли человека с
божественной благодатью, отделываясь, по сути дела, от мысли
Августина о жестком предопределении и признавая
значение добрых дел и заслуг человека перед Богом. Фома
Аквинский оформил этот новый комплекс идей в своем
учении о гармонии веры и разума, откуда следовала
и гармония между божественной благодатью и волей
Бога, с одной стороны, и "естественным законом" и
свободой воли человека — с другой. Но Фома еще не столь
далек от августиновской трактовки благодати, ибо и у не-
1 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М„ 1979.
С. 322.
2 Августин. О граде божием. Кн. 20 // Творения Блаженного
Августина. Ч. 6. С. 165.
105
го, в конце концов, свобода воли человека зависит от
воли Бога, а спасение его — от благодати. Значительно
дальше отстоит от доктрины Августина Тридентское
исповедание веры, хотя собор формально высказался за
почитание авторитета Августина. Пьер Бейль так и
говорит, что "Тридентский собор, осудив учение Кальвина
о свободе воли, тем самым с необходимостью осудил
и учение святого Августина..."1.
Иезуиты следовали за Аквинатом в понимании
спасения, но значительно упростили его, исключив из него
августинианские ,,мoтивы,, (сердечную привязанность
к Богу, внутреннюю веру в искупительную миссию
Христа, необходимость благодати). Нет, они не отвергали их
прямо, "в лоб", но фактически свели веру к механической
внешней религиозности, за что их и критикует Паскаль.
Отношения между Богом и человеком они свели к
формально-юридическому элементу: человек свободно
"сотрудничает" с Богом, получая воздаяния по своим делам
и заслугам. Здесь все ясно для разума человеческого: что
заслужил, то и получил — рай или ад, — не то что
в августинианском учении о предопределении. Недаром
Паскаль в "Мыслях" отметит позже, что "иезуиты имеют
некоторые истинные принципы, но злоупотребляют
ими..."2.
Признание и свободы человека, и его заслуг, и разума
было велением нового времени, что нашло отражение
и в католицизме. Иезуиты в лице знаменитого казуиста
Л. Молины (1535—1600) заменили суровую и
безутешную мысль о предопределении учением об "условном
знании" Богом готовности верующих свободно идти
к нему, за что Бог и награждает их по заслугам. Но чтобы
не полностью исключать благодать, иезуиты выдвинули
идею "достаточной благодати" (grâce suffisante), которая
дана всем людям и является формальным условием
возможности добрых дел. Каждый человек свободно
выбирает — противиться ли ему этой благодати или же
следовать ей. Если он ей подчиняется, то благодать становится
действенной, т. е. реальной причиной праведного
поведения. Таким образом, Богу было отдано "богово"
(благодать), а человеку — человеческое (свобода воли).
Иезуиты весьма оптимистично оценивали естественные воз-
1 Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М., 1968.
Т. 1.С. 65 66.
2 Pascal В. Pensées. Р. 617, fr. 906.
106
можности и силы человека в деле собственного спасения.
При этом они опирались на признание свободы воли
Аквинатом.
Но янсенисты им указали на то, что у "святого
Фомы'' свобода воли не является самодовлеющей, но сама
в конечном счете зависит от Бога, как и все остальное
в мире. У иезуитов же получилось, по мнению янсени-
стов, подчинение благодати свободной воле человека.
В этом они усматривали возрождение гголупелагианской
ереси (представитель которой — Кассиан — признавал
необходимость благодати, но первичный импульс к
добру видел в свободной воле человека). Опираясь на Фому
Аквинского, но и,сохраняя верность Августину,
янсенисты отвергли "достаточную благодать" в смысле
иезуитов и признали необходимость "действенной
благодати" (grâce efficace), которая даром дается избранникам
Бога.
Чтобы продемонстрировать взгляды янсенистов,
иезуитов и доминиканцев1 по вопросу о благодати, Паскаль
рассказывает следующую притчу. Один человек,
путешествуя, подвергся нападению разбойников, которые
нанесли ему несколько опасных для жизни ран. К нему были
вызваны три врача, чтобы решить вопрос о возможности
его спасения. Первый врач (янсенист) заявил, что раны
смертельны, и лишь один Бог может его спасти. Второй
(доминиканец) сказал, что у него достаточно сил, чтобы
добраться до дома. Третий (иезуит) согласился, по
видимости, со вторым, и вдвоем они прогнали первого врача.
Но больной, чувствуя свою слабость, спросил у второго,
почему он так думает. Тот ответил, что у него ведь есть
ноги, которых вполне достаточно для передвижения.
Тогда раненый задал ему другой вопрос: "Есть ли у меня
сила, чтобы пользоваться ими, ведь при моей слабости
они кажутся мне бесполезными?" Тогда врач ответил, что
этой силы у него, конечно, нет и что без чрезвычайной
помощи Бога он никогда не будет больше ходить.
Больной отослал обоих врачей, послал за первым, по совету
которого обратился к Богу, и был спасен благодаря той
'Доминиканцы выступили на диспуте в Сорбонне заодно с
иезуитами и, по видимости, согласились с ними называть благодать
"достаточной благодатью", хотя по существу считали ее недостаточной
и признавали вместе с янсенистами необходимость "действенной
благодати". Не в силах противостоять давлению и могуществу иезуитов, они
решили пойти на сделку с совестью и обещали им на диспуте не
обнаруживать своих разногласий с ними.
107
силе, которую он ему дал1. Так Паскаль обосновал
необходимость "действенной благодати" помимо
"достаточной". Правда, в этой притче не находит места идея
предопределения, ибо раненый сам просит Бога послать
ему благодать и в какой-то мере управляет своей
судьбой. Здесь нет упущения со стороны Паскаля, но скорее
тонкий расчет согласовать благодать и свободу воли.
Поскольку папа осудил у Янсения отрицание
свободы воли, постольку Паскаль стремится доказать, что
"смысл Янсения" не имеет никакого отношения к
кальвинистской ереси. Паскаль возводит янсенистское
понимание свободы человека к Августину, Аквинату и
постановлениям Тридентского собора. "...Действенная
благодать, — говорил он, — управляет волей таким образом,
что люди всегда имеют возможность сопротивляться
ей"2. Действие благодати на человека не носит характера
"абсолютной необходимости" (nécessité absolue), но
только "непреложной необходимости" (nécessité
d'infaillibilité), согласно которой "Бог своей милостью не
разрушает ни в коей мере естественной свободы
человека"3. Благодать действует на сердце и волю человека не
насильственно, но мягко и вместе с тем неуклонно, так
что свободная воля хотя и может противиться
благодати, но никогда не желает этого. Отсюда следует, что
"мы имеем заслуги, которые действительно наши,
против заблуждения Кальвина", а также и против
еретического положения Лютера, осужденного Тридентским
собором: "Мы никоим образом не содействуем своему
спасению, совсем как неодушевленные вещи"4. Этому
протестантскому положению Паскаль
противопоставляет свое кредо, сформулированное им в "Сочинении
о благодати": "Бог, который нас создал без нас, не
может нас спасти без нас"5. Паскалю пришлось
употребить всю гибкость своего ума, чтобы согласовать
свободу воли человека и божественную благодать.
Чрезвычайно актуальной была проблема свободы
и необходимости в светской философии XVII в., в
которой выкристаллизовалась формула "свобода есть
познанная необходимость". Так, например, Гоббс понимает
человека как природное существо, включенное в сферу
1 Pascal В. Les provinciales. Seconde lettre // Oeuvres complètes. P. 377.
1 Pascal B. Les provinciales. Dix-huitième lettre. P. 461.
Mbid. P. 463—464.
4 Ibid. P. 462-463.
3 Pascal B. Écrits sur la grâce. Premier écrit // Oeuvres complètes. P. 311.
108
естественной обусловленности, в силу чего "свобода и
необходимость совместимы... В самом деле, так как
добровольные действия проистекают из воли людей, то они
проистекают из свободы, но так как всякий акт
человеческой воли, всякое желание и склонность проистекают из
какой-нибудь причины, а эта причина — из другой в
непрерывной цепи... то они проистекают из
необходимости"1. Более того, Гоббс стремится совместить свободу
человека также с социальной необходимостью: "Свобода
подданных заключается в свободе делать то, что не
указано в соглашениях с властью. ...Наибольшая свобода
подданных проистекает из умолчания закона". Таким
образом, английский мыслитель считает даже
возможным совместить "свободу подданных с неограниченной
властью суверена"2.
Если Гоббс еще сохраняет понятие свободы воли, то
Спиноза отказывается от него, рассматривая свободу
воли как иллюзию, проистекающую из того, что люди
осознают свои желания, не ведая об их причинах. Он
выдвигает понятие свободной необходимости, которое
относит к субстанции causa sui и к мудрецам', постигшим
природную необходимость и поднявшихся над
"рабством человеческих страстей" с помощью "могущества
разума", а также "интеллектуальной любви к Богу"3.
Однако и этот прогресс в диалектическом понимании
свободы заключал лишь часть истины, ибо свобода
человека не сводится к познанию необходимости, но
предполагает многоступенчатость своей реализации:
сознательный выбор цели деятельности (на основе познанной
необходимости), соответствие цели деятельности
"истинной индивидуальности" человека, выбор средств для ее
реализации, осуществление деятельности, соответствие
достигнутого результата задуманному проекту.
Обосновав свободу воли человека и защитив от
обвинений в ереси учение Янсения и взгляды Арно, Паскаль
выступает против доктрины Л. Молины с его
недооценкой могущества благодати. Бог как первый принцип
наших действий, ссылается Паскаль на Августина,
"побуждает нас желать того, чего мы могли бы и не желать".
Так что заслуги "наши" есть вместе с тем "дары Божий".
1 Гоббс Т. Левиафан... // Избранные произведения: В 2 т. М., 1964.
Т. 2. С. 233.
2 Там же. С. 234, 241, 235.
3 Спиноза Б. Этика // Избранные произведения : В 2 т. Т. 1. С. 588,
610.
109
"...Этим опровергается нечестивое мнение
представителей школы Молины, которые не хотят признавать, что
именно сила самой благодати делает то, что мы
сотрудничаем с ней в деле нашего спасения, отсюда он
разрушает принцип веры, установленный святым Павлом: именно
Бог формирует в нас и волю, и действие"1.
Все эти едва различимые дистинкции заставили Пьера
Бейля назвать теологов "великими комедиантами", ибо,
согласно его мнению, "физическое предопределение"
томистов, необходимость у Августина, Янсения и Кальвина
есть "одна и та же доктрина", между тем томисты
открещиваются от янсенистов, а эти последние — от
кальвинистов2. Исследователь Ф. Капелюш также считает,
что "августианство фактически осуждено церковью под
видом янсенизма", сама же римская церковь
действительно занимает полупелагианскую позицию по вопросу
о свободе воли3.
Получается, таким образом, что церковь вынуждена
была принять на вооружение то, что она осуждала от
имени Августина в первые века существования
христианства. И наоборот, то, что считалось католическим у
Августина, было осуждено ею у протестантов. Распри
янсенистов с иезуитами касались не столько
фундаментальных основ католического вероучения, сколько
акцентов на различных церковных традициях — августи-
анской или томистской, хотя Аквинат не столь уж
далеко отстоит от Августина, что и позволило янсенистам
в равной мере опираться на обе традиции, а также
избежать выводов протестантов.
Взаимные обвинения янсенистов и иезуитов в ереси по
вопросам догмы совершенно неправомерны, поскольку
и те и другие успешно опираются на один и тот же
источник — Священное писание. Даже одно и то же
Послание к римлянам апостола Павла является "тайной
и истоком" августинианства, янсенизма, протестантизма,
томистской философии. Различные нюансы в
истолковании той или иной строчки из его посланий могут дать
многообразие религиозных учений внутри христианства:
"...потому что все согрешили и лишены славы Божией,
получая оправдание даром, по благодати Его, искупле-
1 Pascal В. Les provinciales. Dix-huitième lettre // Oeuvres complètes.
P. 463.
2См.: Бейль П. Исторический и критический словарь. Т. 1. С.
65—66.
3См.: Капелюш Ф. Религия раннего капитализма. M., 1931. С. 121.
ПО
нием во Христе Иисусе... ибо мы признаем, что человек
оправдывается верою, независимо от дел закона". Бог
''воздаст каждому по делам его..." (Рим., 3:23, 24, 28;
2:6).
Спор янсенистов и иезуитов по догматическим
вопросам вуалировал ту реальную и земную почву, на
которой происходила их борьба. Здесь прежде всего надо
указать на различия в политической позиции иезуитов
как оплота феодализма и абсолютизма и янсенистов как,
в общем, буржуазной оппозиции тому и другому. Пор-
Рояль называли "открытой раной на теле абсолютизма".
Этот "крамольный" монастырь давно раздражал
кардинала Ришелье, который в 1638 г. заточил в Венсенскую
крепость его главу аббата Сен-Сирана, выпущенного на
свободу лишь после смерти кардинала в 1642 г. В период
Фронды Пор-Рояль оказывал поддержку одному из
активнейших предводителей этого антиабсолютистского
движения, кардиналу Рецу (П. Гонди). Под маской
аскетизма и набожности, согласно Бальзаку, янсенизм
скрывал "дух революции", так что "Вольтер продолжал дело
Паскаля"1. Немаловажную роль в борьбе янсенистов
против иезуитов играли также конкуренция между ними
в области образования и педагогики, личная ненависть
иезуитов к вождям янсенизма. Паскаль, защищая А. Ар-
но, подчеркивает в "Письмах...", что ересь заключена не
в мнениях г. Арно, а в самой его личности. Он еретик не
за то, что он сказал или написал, а только за то, что он
есть г. Арно. Вот вес, что достойно в нем порицания.
Схоластический спор о соотношении свободы воли
и благодати довольно скоро перестанет волновать
образованное общество. Просветителей будут уже
раздражать эти теологические препирательства, в ответ на
которые Вольтер в письме Гельвецию изобретет весьма
оригинальный способ их разрешения: "Нельзя ли примирить
все противоречия, внеся скромное и благоразумное
предложение — удавить последнего иезуита кишкой
последнего янсениста?"2
Зато борьба янсенистов против "ослабленной"
морали иезуитов будет иметь более значимый
общечеловеческий интерес и далеко идущие последствия для всего
иезуитского ордена в целом.
1 Бальзак О. Письма о литературе, театре и искусстве // Собр. соч.:
В 24 т. М., 1960. Т. 24. С. 116-117.
2 Вольтер. Бог и люди: В 2 т. М., 1961. Т. 2. С. 261.
111
3. В ЗАЩИТУ МОРАЛИ
Инквизиция и Общество иезуитов — вот
два бича истины.
Паскаль
Нравственный оппортунизм, всемерное
приспособление моральных норм к нравам, привычкам и даже
порокам распущенного света — таковы основные черты
иезуитской "теории морали", для обоснования которой
иезуиты использовали схоластическую науку — казуистику.
Эта последняя определяла условия применения общих
правил или законов (юридических, нравственных,
богословских и т. д.) к частным конкретным обстоятельствам
или случаям. В сфере морали казуистика решает вопросы
о степени допустимости, т. е. несомненности,
вероятности или безопасности для нравственного закона, тех или
иных поступков человека, а проще говоря, подведения
совести под обстоятельства. Поскольку иезуиты
поставили своей задачей максимально приспособиться к нравам
света и самых разных людей, то несомненной
недопустимости поступка для них не существует. Нет для них
и достоверных общезначимых нравственных максим. Все
моральные правила более или менее вероятны.
Средневековая богословская казуистика различала "смертные"
грехи и "простительные". Иезуиты ловко — посредством
размывания границ между дозволенным и
недозволенным, нравственным и безнравственным, добром и злом
— обратили все "смертные" религиозные грехи, а также
буквально все сьетские преступления в "простительные"
грехи. На этом и была основана их мягкая исповедальная
практика, приведшая в их исповедальни, согласно
Паскалю, "толпы распущенных людей".
Знаменитыми "теоретиками" иезуитской моральной
казуистики были Л. Молина, Суарес, Лемуан, Васкес
и др. Так, Лемуан написал книгу "Легкая набожность",
которую часто цитирует Паскаль в своих "Письмах..."
и которую расхваливает отец-иезуит из десятого письма:
"Грехи теперь искупаются с большей радостью и
рвением, чем раньше они совершались, так что многие люди
столь же быстро смывают свои пятна, как и приобретают
их"1. "Теоретической платформой" легкой набожности
является концепция "пробабилистской морали", которая,
по словам Паскаля, есть "источник и основа всей этой
1 Pascal В. Les provinciales // Oeuvres complètes. P. 413.
112
распущенности". Посредственный и весьма циничный
компилятор Эскобар в своей книге "Моральная теология"
дает своеобразную хрестоматию иезуитских авторов.
Благодаря "Письмам..." Паскаля этот "учебник" по
безнравственному поведению получил широкую
популярность, так что иезуитам срочно пришлось выпустить его
новое издание. После разоблачений Паскаля во
французском языке появилось слово "escobar", которое означает
"лицемер", а слово "иезуит" стало символом двоедушия,
беспринципности и нравственной неразборчивости.
Паскаль подробно рассматривает основные принципы
пробабилизма в морали — учения о "вероятных
мнениях". Иезуиты-казуисты считают вероятным любое
мнение авторитетного ученого, покоящееся на каких-нибудь
"хороших и достаточных основаниях", лишь бы оно
оказалось приемлемым для религии и церкви. Поскольку
"хорошие и достаточные основания" можно приискать
для всего на свете ("хорошими намерениями дорога в ад
вымощена"), постольку "вероятных мнений" существует
великое множество, причем и прямо противоречащих
друг другу. Каждый человек может по своему вкусу
черпать из этой "сокровищницы" мнений, выбирая для
всякого случая жизни "удобные и полезные мнения".
"Вероятные мнения", согласно Паскалю, — надежный
щит, спасающий как от угрызений совести, так и от
нравственной ответственности. Казуисты разработали
целую систему вероятных мнений для всех классов и
сословий, начиная с высших и кончая низшими. Например,
Васкес в "Трактате о милостыне" с легкостью
освобождает богатых от обязанности помогать бедным (согласно
Евангелию, "давайте милостыню от вашего избытка"),
особым образом истолковывая слово "избыток": "То,
что светские люди откладывают, чтобы возвысить
положение свое и своих родственников, не называется
избытком. Вот почему едва ли когда-нибудь окажется избыток
у светских людей и даже у королей"1.
Моральные предписания иезуитов не раз приходили
в столкновение с государственными законами. Так, дуэли
в дворянской среде были настоящим бичом общества.
Королевским указом они были строжайшим образом
запрещены. Но ловкие казуисты нашли немало способов
разрешить и оправдать дуэли не во имя убийства другого
человека (явное зло!), но в целях защиты своей чести
1 Pascal В. Les provinciales. Sixième lettre // Oeuvres complètes. P. 392.
113
в обществе (уже добро!), ограждения своего имущества
и т. д. Чтобы как-то оправдаться перед светскими
властями, которым нет дела до вопросов совести, но только
до практических действий, иезуиты заявляли, что их
"вероятные мнения" относятся к сфере умозрения, а не
практики, на что Паскаль гневно заметил: "...что
дозволено в умозрении, то дозволено и на практике"1.
Кроме того, у казуистов есть ведь прямо
противоположные "вероятные мнения", авторы которых запрещают
дуэли, как и светский закон. При помощи этой "двоякой
вероятности" иезуитам удается ускользнуть от любого
обвинения, так как "одно мнение всегда им служит, а
другое никогда не вредит. Если они не находят выгоды
в одном направлении, то бросаются в другое и всегда
наверняка"2. "Двоякая вероятность" есть самое общее
правило пробабилистской морали, но есть в ней и более
частные приемы, по выражению Паскаля, "вертеть сове-
стями и баламутить их по своему произволу"3.
Одним из этих приемов является так называемое
"истолкование терминов" в благоприятном для выгоды
людей смысле. Мы уже познакомились с этой "иезуитской
герменевтикой" при истолковании слова "избыток", в
результате чего "избыток" превращался чуть ли не в
"нехватку". Вот еще один образчик истолкования слова
"убийца". "Не убий!" — одна из основных заповедей
Евангелия. Папа Григорий XIV запретил предоставлять
убийцам убежище в церквах. Но иезуиты и тут нашли
выход, чтобы не выполнять папской буллы. Они под
"убийцами стали разуметь тех, кто получил деньги за то,
чтобы убить кого-нибудь предательски. Отсюда следует,
что те, которые убивают, не получая за это никакой
платы, но только чтобы услужить своим друзьям, не
называются убийцами"4.
Иезуиты идут еще дальше в оправдании самого
тяжкого из человеческих преступлений — убийства, используя
и другие приемы казуистики. Если "истолкование
термина" почему-либо не удается или не устраивает, то можно
добиться той же цели путем "приискания благоприятных
обстоятельств". Паскаль во многих "Письмах..."
останавливается на теме человекоубийства, трактовка которой
1 Pascal В. Les provinciales. Treizième lettre // Oeuvres complètes. P.
432.
2 Pascal B. Les provinciales. Cinquième lettre. P. 390.
3 Ibidem.
4 Pascal B. Les provinciales. Sixième lettre // Oeuvres complètes. P. 392.
114
является наиболее зловещей у иезуитов. Они дошли до
того, что точно определили суммы денег, из-за которых
можно убить человека. Одни казуисты считают эти
суммы огромными, но знаменитый Молина "оправдал бы"
человека, который убил бы другого за попытку отнять
у него вещь стоимостью в 6—7 дукатов, "соблюдая
умеренность законной защиты"1, а в другом месте он свел
стоимость жизни человека к одному экю. Защита своего
имущества, согласно казуистам, есть несомненное
"благоприятное обстоятельство", освобождающее от
заповеди "Не убий".
В седьмом письме Паскаль приводит множество
иезуитских предписаний разных авторов, на основании
которых разрешается убийство своих врагов, чтобы
предупредить их возможные удары, оскорбления, пощечины,
покушение на их имущество, честь, положение в обществе
и т. д. и т. п. Причем что позволяется лицам светским, то
разрешается и духовенству. Эти возмутительные правила
являются руководством для иезуитских исповедников,
которые "отпускают грехи" даже и нераскаявшимся
убийцам, лишь бы у тех были всякие "оправдывающие"
обстоятельства. Разгневанный Паскаль заключает в
письме четырнадцатом: "...человекоубийство есть
единственное преступление, которое разом разрушает государство,
церковь, природу и благочестие"2. Кстати, иезуиты
распространили свои "правила об убийствах" и на великих
мира сего, в том числе и на королей, которые могли бы
оказаться неугодными ордену. Так что речь шла не о
"тираноубийстве", но о корыстных интересах иезуитов. Эту
свою теорию они применяли и на практике: Гиньяр Жан
призывал к убийству королей Франции Генриха III и
Генриха IV, в 1594 г. Жан Шатель совершил покушение на
Генриха IV, за что иезуиты были изгнаны из Франции.
Но отличавшийся веротерпимостью Генрих IV разрешил
иезуитам вернуться в 1603 г., за что и поплатился жизнью
в 1610 г., пав от руки Ф. Равальяка.
Продолжая представлять на суд общественного
мнения казуистические приемы иезуитов, Паскаль в письме
седьмом рассказывает об их так называемом "способе
направлять намерение", который откровенный патер
определил как "великий метод". Суть его состоит в том,
"чтобы ставить целью своих действий дозволенное наме-
1 Pascal В. Les provinciales. Septième lettre // Oeuvres complètes. P. 401.
2 Ibid. P. 440.
115
рение"1. Эскобар популярно выразил это в краткой
максиме: "цель оправдывает средства", а более пространно
так: если нельзя удержать человека от какого-то
недозволенного действия, то можно по крайней мере "очистить
порочность средства чистотою цели". Если, например,
сыну нельзя желать зла своему отцу и убить его из
ненависти или мести, го за имущество, которое перейдет
к нему после его смерти, оказывается, уже убить можно.
С помощью "очищения намерения", как, впрочем, и
других иезуитских приемов, оправдываются всевозможные
преступления светских и духовных лиц. Благодаря
"очищению" намерения казуисты-иезуиты легко разрешали
без конца возникавшие противоречия между их
правилами и Священным писанием, постановлениями соборов
и пап. Решения пап они приравняли "вероятным
мнениям", что противоречило обету безусловного повиновения
папе, который давали монахи иезуитского ордена. Что же
касается моральных предписаний "отцов церкви", то
иезуиты считали их слишком отставшими от запросов
Нового времени. Здесь Паскаль делает весьма характерное
признание: "...лучше иметь дело с людьми, которые
вообще не знают религии, чем с теми, которые обучены в ней
до этого направления... Я не знаю даже, не менее ли
досадно быть грубо убитым рассвирепевшими людьми,
чем сознавать, что тебя добросовестно закалывают люди
набожные"2.
Далее Паскаль рассматривает еще один
"виртуознейший" прием казуистов, помогающий ловко обманывать
людей, давая клятвы без какого бы то ни было
намерения выполнять их. Если от обещания нельзя прямо
уклониться (в какой-нибудь светской интриге), то от
него можно увильнуть косвенно, используя
двусмысленные слова, произнося которые заставляют их понимать
не в том смысле, в каком подразумеваешь их сам. Такая
клятва ни к чему не обязывает и не является грехом,
ибо с самого начала, согласно Эскобару, не имеют
намерения принять обязательство. Когда же не
находишь двусмысленных слов или выражений, то надо
следовать совершенно новому учению о "мысленных
оговорках", предложенному Санчезом, который его
излагает следующим образом: "Можно клясться, что не
делал какой-нибудь вещи, хотя бы в действительности
1 Pascal В. Les provinciales // Oeuvres complètes. P. 397.
4bid. P. 402.
116
и сделал ее, подразумевая про себя, что не делал ее
в такой-то день, или до того, как родился на свет, или
подразумевая какое-нибудь подобное обстоятельство,
лишь бы слова, которыми пользуешься, не могли
выдать этой задней мысли; и это очень удобно и всегда
справедливо, когда необходимо или полезно для
здоровья, чести или благосостояния"1.
Наконец, Паскаль разоблачает общий принцип
иезуитов, благодаря которому они освобождают грешников
от нравственной ответственности и легко отпускают им
грехи, не ожидая от них ни отказа от прежней жизни, ни
раскаяния, кроме обещаний, много раз нарушаемых. Ле-
муан в книге "Легкая набожность" определяет условия,
при которых поступок можно назвать грехом: 1) Бог
должен вложить в душу любовь к "поведенному",
которому противостоит "мятежное похотение"; 2) Бог
внушает ей сознание своей слабости; 3) Бог внушает ей понятие
о враче, который может исцелить ее; 4) Бог посылает ей
желание молиться ему и просить его помощи. Если все
эти движения не имеют места в душе, то действие, строго
говоря, не является грехом2. В духе этого казуиста отец
Анна в своем "Ответе на первое письмо г. Арно" не
ставит в вину людям "грехи неведения, упущения, а
также, согласно Паскалю, преступного попущения".
Оказывается, нужна высокая степень сознания, чтобы
согрешить.
Паскаль считает, что иезуиты свели все грехи к
осознанным и намеренным, между тем как есть проступки
и по неведению, которые бывают двух родов: неведение
факта, т. е. незнание всех конкретных условий и
последствий действия, и неведение права, т. е. незнание добра
и зла и всякой справедливости. Если первое
извинительно, то второе непростительно. "Не утверждайте больше
вместе с вашими новыми авторами, — говорит Паскаль,
— что невозможно не согрешить тем, кто не знает
справедливости"3.
Если сопоставить позиции иезуитов и Августина по
вопросу о вменяемости поступка, то получается
парадоксальная картина. Иезуиты — эти поборники свободы
воли человека — отрицают ее, по сути дела, когда речь
идет о вменении греха человеку, что подрывает их учение
1 Pascal В. Les provinciales. Neuvième lettre // Oeuvres complètes. P. 411.
1 Ibid. Quatrième lettre. P. 383.
Mbid. P. 385.
117
о вине и заслуге, на основании которых Бог карает одних
и спасает других. Так, пробабилистская мораль приходит
в полное противоречие с теологией иезуитов. У
Августина же отрицается вменение заслуги человеку, ибо
источником добрых поступков является божественная
благодать, противостоять которой человек не может. Зато грех
он, безусловно, вменяет свободной воле человека, чтобы
возложить на человека ответственность за то моральное
зло, которое существует в мире, что также противоречит
его теологии, в центре которой стоит идея
предопределения. Словом, ни в рамках концепции нравственного
ригоризма Августина, ни в противоположной ей системе про-
бабилистской морали не решается корректно проблема
нравственной ответственности индивида.
Иезуиты высоко ставили авторитет Аристотеля и
пытались опереться на него в своем понимании греховных
поступков, в угоду себе совершенно искажая его позицию.
Аристотель в своей "Никомаховой этике" различал
поступки "по неведению" (незнание всех фактических
обстоятельств действия, о чем порядочный человек всегда
сожалеет) и "в неведении" (добра и зла), ибо "всякий
испорченный человек не ведает, как следует поступать
и от чего уклоняться". Эти последние поступки
Аристотель отнюдь не считал непроизвольными (как это
стремились представить иезуиты), так как "сознательно
избранное неведение является причиною уже не непроизвольных
поступков, а испорченности..."1, которую как раз и
пытались оправдать иезуиты. Паскаль защищает
нравственное учение великого философа от фальсификации его
иезуитами2.
Разоблачая порочность системы морали иезуитов,
Паскаль выступает от имени истины, видя в них жестоких
и подлых ее гонителей. Ложь и клевета, к которым они
прибегают, говорит Паскаль, есть лучшее свидетельство
того, что они "не стоят в истине", что "истина
противоположна их целям". Все средства насилия, которые
применяют иезуиты, говорит Паскаль, бессильны в
борьбе против истины. "Странная и продолжительная это
война, когда насилие пытается подавить истину. Все
старания насилия не могут ослабить истины, а только
служат к ее возвышению. Весь свет истины бессилен ос-
1 Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 97-98.
2 Pascal В. Les provinciales. Quatrième lettre // Oeuvres complètes.
P. 386.
118
гановить насилие и только еще более приводит его
в ярость"1. Это потому, что насилие и истина не имеют
общего измерения, ибо принадлежат к совершенно
разным мирам. Когда сила спорит с силой, побеждает более
могущественная. Когда одно рассуждение
противопоставляется другому, то истина побеждает ложь, "но насилие
и истина ничего не могут поделать друг против друга"2.
Отсюда вовсе не следует, что насилие и истина есть
равные силы, ибо насилие всегда временно и преходяще,
а истина вечна и могущественна, из чего вытекает, что
она в конце концов восторжествует над своими врагами.
В записках Паскаля тех лет находим следующее
высказывание: "Я один против тридцати тысяч? Нет. Пусть на
вашей стороне будет двор, обман, на моей стороне
истина: она — вся моя сила; если я ее потеряю, я погиб. Не
будет недостатка ни в обвинениях, ни в преследованиях.
Но истина у меня, и посмотрим, кто победит"3.
Паскаль понимал, что борьба с иезуитами не может
ограничиться только его "Письмами...". Это — лишь
начало войны с ними: "То, что я сделал, есть только игра
перед настоящей битвой. Я скорее показал раны, которые
можно нанести вам, чем нанес их сам"4. Тем не менее
удар его по иезуитизму был настолько чувствителен, что
от него иезуиты так никогда и не оправились. Иезуиты
попытались оправдаться в глазах общественного мнения
и срочно выпустили "Апологию казуистов против
клеветы янсенистов", которая вызвала отпор не только со
стороны не сложившего оружия Паскаля и его друзей из
Пор-Рояля, но и духовенства Парижа и ряда других
городов, возмущенного "губительными максимами"
иезуитов.
Известны "Сочинения парижских кюре" —
коллективный труд, в составлении которого принимал участие
и Паскаль. В них не затрагиваются специальные
богословские вопросы, представлявшие больше интерес для
теологов, но подняты исключительно проблемы морали,
общезначимые для широкого круга верующих. Перу
Паскаля принадлежат первое, второе, пятое и шестое
'Сочинения парижских кюре", "Фактум"5 парижских
кюре против "Апологии казуистов...", "Ответ парижских
1 Pascal В. Les provinciales. Douzième lettre. P. 429.
Mbidem.
' Паскаль Б. Письма к провинциалу. Спб., 1898. С. 182.
4 Pascal В. Les provinciales. Onzième lettre // Oeuvres complètes. P. 420.
5 Фактум произведение обличительного характера.
119
кюре" на "Опровержение..." казуистов, проект
"Постановления против "Апологии казуистов..."1. По
свидетельству Маргариты Перье, Паскаль считал пятое сочинение
парижских кюре "самым превосходным" своим
произведением. Под всеми этими сочинениями стоит подпись
восьми парижских кюре, взявших на себя
ответственность за них.
Задача "Сочинений парижских кюре" заключалась не
только в том, чтобы осудить мораль иезуитов в
общественном мнении, но и добиться отрицательной цензуры на
"Апологию казуистов..." и осуждения в Риме всех их
вредоносных максим. В "Фактуме..." подчеркивается
значительно большая опасность "ереси в нравах", чем
"ереси в вероучении", ибо первая потакает страстям и
вожделениям человеческой природы, от власти которых
несвободны даже святые, и публично поддерживается
иезуитами. Эта "ересь в.нравах", считает Паскаль, с
помощью дозволенных преступлений "делает всех людей
порочными" и в силу этого "настолько изменила
христианскую мораль и максимы Евангелия, что глубокое
невежество было бы намного предпочтительнее, чем
подобного рода наука..."2. Иезуиты не упустили случая, чтобы
тут же написать "Опровержение..." в ответ на "Фак-
тум..." и обвинить его авторов в поддержке
кальвинистской ереси. Паскаль в пятом "Сочинении парижских
кюре" снова был вынужден "открещиваться" от
кальвинистов и расценивать как самое величайшее зло "раскол"
в церкви, на которые они рискнули. Он даже готов
признать, что иезуиты имеют хотя бы то преимущество
перед кальвинистами, что "не отрезали себя от церкви",
так что ей можно предпринимать усилия в том
направлении, чтобы "просить Бога просветить их" (новый мотив
по сравнению с письмами!). Кальвинисты же находятся
в "столь несчастном состоянии, что для их же блага
следовало бы пожелать, чтобы они оказались на месте
иезуитов"3. Тем не менее никакой мысли о примирении
с иезуитами Паскаль не допускает. Они виновны в тяжких
злоупотреблениях, составляют "стыд и позор церкви",
"ее больные* органы", "отравленный колодец". Паскаль
в этой битве выступает не просто как апологет янсениз-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 471—491.
2 Pascal В. Factum pour les curés de Paris // Oeuvres complètes. P. 473.
3 Pascal B. Cinquième écrit des curés de Paris // Oeuvres complètes.
P. 484.
120
ма, но как борец за общечеловеческие нормы
нравственности. Он противопоставил беспринципному
моральному релятивизму иезуитов нравственный максимализм,
защищая принципы человеколюбия, порядочности,
благородства, нравственной честности. Потому "Письма..."
Паскаля и его другие сочинения против иезуитов
встретили широкую поддержку общественности, вызвали
движение духовенства против морали иезуитов. Хотя истина
была на стороне Паскаля, но сила пока была у иезуитов,
и не сразу движение, начатое им, принесло свои плоды.
В сентябре 1657 г. иезуиты добились осуждения
"Писем..." папой Александром VII и включения их в Индекс
запрещенных книг. Но этого иезуитам было мало:
пользуясь большим влиянием при дворе, они склонили короля
Людовика XIV издать приказ о "специальном
исследовании" "Писем..." комиссией из 4 епископов и 10 докторов
теологии, причем "исследованию" был подвергнут и
латинский перевод "Писем...", сделанный в 1658 г. П. Ни-
колем и снабженный его комментарием. Комиссия
пришла к заключению, что в обеих книгах "поддерживается
ересь, осужденная у Янсения, и что они полны чувств,
оскорбительных по отношению к папе, епископам,
священной персоне короля, его министрам, Парижскому
факультету и религиозным постановлениям"1. На
основании этого заключения 14 октября 1660 г.
Государственный совет вынес приговор, осуждавший "Письма..." на
публичное "сожжение рукою палача". Экзекуция была
приведена в исполнение по всем правилам аутодафе для
книг.
Паскаль не был обескуражен осуждением "Писем..."
в верхах, ибо чувствовал и силу истины, и поддержку
общественности. После смерти Паскаля иезуиты
распространили слух, что якобы в последние дни жизни он
"ненавидел это свое произведение и раскаивался в том,
что был янсенистом"2. Но друзья Паскаля из Пор-Рояля
легко опровергли это. Под давлением широкого
движения духовенства и многочисленных письменных
протестов против морали иезуитов папа Александр VII
в 1665—1666 гг. вынужден был осудить 45 тезистов
иезуитской пробабилистской морали, а в 1679 г. уже другой
папа, Иннокентий XI, осудил еще 65 тезисов, большинст-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P., 1864. T. 1. P. 232.
2 Bayle P. Dictionnaire historique et critique. Amsterdam, 1740. T. 3.
P. 608.
121
во из которых было осуждено Паскалем. Ловкие и
хитрые иезуиты, свалив всю вину на казуистов и
размежевавшись с наиболее одиозными из них, не сдали своих
позиций, а с момента самостоятельного правления Людовика
XIV (1661) даже усилили их: это благодаря их коварным
усилиям король отменил в 1685 г. Нантский эдикт. С
помощью короля, считавшего янсенистов Пор-Рояля
своими личными врагами, иезуиты обрушили на него
репрессии, в результате которых Пор-Рояль был не просто
уничтожен, а с варварскими надругательствами
буквально стерт с лица земли1.
Борьба янсенистов с иезуитами не прошла для
последних даром. Убийственный смех Паскаля сумел нанести
ордену в целом такой удар, какого он не получал за всю
историю своего существования. Паскаль навсегда
пригвоздил к позорному столбу духовное и нравственное
убожество доктрин иезуитов. Орден, созданный церковью для
поддержания пошатнувшегося в период Реформации
престижа католицизма, скорее способствовал дискредитации
его, как и все насильственные акции, предпринятые
римско-католической церковью "во славу Божию" (крестовые
походы, инквизиция и др.). Несмотря на внешнюю
благопристойность отцов-иезуитов, их тайные политические
интриги и финансовые махинации рано или поздно во всех
странах стали явными и вызвали повсеместное
требование общественности запретить орден, что и вынужден был
сделать папа Климент XIV в 1773 г. Однако через 40 лет
после разгрома наполеоновской империи — Римская
курия снова прибегла к услугам этого "отборного отряда"
воинствующей церкви и папа Пий VII легализовал орден
иезуитов в 1814 г., который и поныне служит
католицизму. В 1870 г. иезуиты добились признания католической
церковью догмата о непогрешимости папы, против чего
выступал Паскаль в своих "Письмах...".
Гуманистическое значение "Писем..." не
исчерпывается разоблачением пробабилистской морали иезуитов,
хотя M. М. Филиппов совершенно справедливо считает, что
"одной борьбы Паскаля с иезуитами достаточно для
обеспечения за ним благодарности потомства"2. Паскаль
принадлежал к тем верующим внутри римско-католичес-
1 Gazier Л. Histoire générale du mouvement janséniste... P., 1923. T. 1.
P. 229—231.
2 Филиппов M. M. Паскаль, его жизнь и научно-философская
деятельность. Спб., 1891. С. 5.
122
кой церкви, которые с не меньшей ненавистью, чем
вольнодумцы и атеисты, клеймили инквизицию и осуждали
религиозный фанатизм, доходящий до
человеконенавистничества и жестокости по отношению к иноверцам и
инакомыслящим. В своих "Письмах к провинциалу" Паскаль
выступает против нелепой и варварской практики
осуждения "еретических" книг, которые церковь с 1559 г.
вносила в так называемый Индекс запрещенных книг.
Как выше я уже отмечала, Паскаль в письме
восемнадцатом откликнулся на осуждение Галилея, по сути дела
бросив вызов не только иезуитам, но и всей римско-
католической церкви, за что и попал в разряд "еретиков".
Он поставил науку, равно как и мнение ученого, выше
церковной санкции, провозглашая свободу научных
исследований. Не раз враги Паскаля используют этот его
бунт против церкви, чтобы сблизить его позиции с
протестантизмом.
Кроме того, был у "Писем..." и такой "заряд", о
котором не предполагал и сам Паскаль. Он искренне был
убежден, что защищает евангельские нормы
нравственности, а между тем больше всего говорил о принципах*
человеческой морали, выступая от ее имени, апеллируя не
только к набожности, а к разуму, здравому смыслу
и сердцу людей, к их естественным склонностям и
нравственным чувствам. Л. Толстой проницательно отметил:
"В сочинении этом Паскаль не столько оправдывал и
защищал учение янсенистов, сколько осуждал врагов их —
иезуитов, обличая безнравственность их учения"1.
Неоднократно устами Монтальта Паскаль заявляет,
что лучше вообще не иметь никакой религии, чем
иезуитское ее понимание. Здесь как бы сам напрашивается
вывод (которого Паскаль не сделал, но зато другие
сделали не без его помощи) о том, что нравственность не
обязательно покоится на религиозных догмах и
заповедях. В "Мыслях" Паскаля есть и такой весьма
характерный фрагмент: "Опыт заставляет нас видеть огромную
разницу между набожностью и добротою"2. В том же
направлении идут и поиски Паскалем "единственной
точки зрения" в вопросах морали, ибо если бы он
однозначно связывал мораль с религией, то у него не возникал бы
подобного рода вопрос. Если вспомнить в этой связи еще
и о том, что Паскаль отделил теологию от науки, отверг
1 Толстой Л. Паскаль // Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 41. С. 481.
2 Pascal В. Pensées // Oeuvres complètes. P. 545, fr. 365.
123
возможность рационалистического богопознания, то
становится ясным и вполне логичным его значительное
влияние на формирование свободомыслия Пьера Бейля.
Паскаль, таким образом, относится к тем борцам против
свободомыслия, которые сами в немалой степени
способствовали ему.
Глава III
ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Мы постигаем истину не только разумом,
но и сердцем.
Паскаль
Поскольку у Паскаля нет систематического
изложения его философских взглядов — он был врагом всяких
замкнутых систем знания, — постольку приходится
прибегнуть к своеобразной реконструкции его учения,
чтобы изложить его более или менее концептуально. Из
многообразия его философских высказываний легко
выделить три главных и обширных темы: о познании
(включая методологию), о человеке (вместе с этикой
и социально-политическим учением), о Боге, — которые
вместе можно рассматривать как структуру его
философии. Есть у Паскаля и ряд высказываний о мире (весьма
содержательных и диалектических по существу), но их
удельный вес среди других мыслей невелик. Поэтому
я включила его представления о мире, космосе, природе
в качестве, условно говоря, "онтологического введения"
в его гносеологию. Это тем более оправдано, что
обращение Паскаля к миру, его понимание космоса тесно
связаны с положением человека в нем и постижением им
окружающего мира, природы в целом. Выделенные
части философского мировоззрения Паскаля позволяют,
на мой взгляд, наиболее полно и конкретно осветить
существенно значимые темы и проблемы в его идейном
наследии.
Хотя философия Паскаля принадлежит в целом
антропологической традиции в истории
западноевропейской мысли, однако представляется более целесообразным
изложить сначала его учение о мире и познании. Ведь
начинал Паскаль как ученый, и его первой мыслью была
наука, с которой у него связаны и методологические,
125
и общегносеологические размышления. С этой
"теоретической нагруженностью" он приступает затем к
исследованию проблемы человека, без чего рассмотрение этой
последней носило бы иной характер, более или даже
целиком зависимый от религии.
1. ЛИКИ "ЖИВОГО КОСМОСА"
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф. И. Тютчев
Бесконечность — одно из центральных понятий
философии Паскаля наряду с категорией "сердца", к тому
же тесно связанное с этой последней. Они составляют
отличительную особенность, как бы "душу" его
философии. Бесконечность выступает у него то под видом
бесконечной природы, то как бесконечный Бог, то в виде
бесконечности человеческого познания, то в смысле
бесконечных желаний и потребностей людей, то в образе
бесконечной и милосердной любви и т. д. Именно
бесконечность обусловливает в его философии
противоречивую сущность космоса в целом, окружающей человека
природы, многообразные парадоксы человеческого
бытия и познания. С одной стороны, Паскаль дает логико-
дискурсивный анализ бесконечности (в связи с
исследованием бесконечно малых величин в математике). С
другой стороны, он указывает на "непостижимость
бесконечности" для ограниченного человеческого разума
и говорит об интуитивном знании о ней посредством
"сердца" человека как особой гносеологической
инстанции (трактовку понятия "сердца" см. ниже, ч. 3 и 4
данной главы).
Особое внимание Паскаль уделяет анализу
бесконечности в работах "О геометрическом уме" и в "Мыслях".
В первой прослеживается такой источник представлений
о бесконечности, как геометрия, во второй —
естественно-научные открытия XVII в., связанные с изобретением
и усовершенствованием микроскопа и телескопа. Паскаль
усматривает в идее бесконечной делимости чисел,
пространства, времени и движения основу геометрии,
полагая, что без понимания этого "геометром можно быть не
126
более чем человеком без души". Понятию неделимой
точки в геометрии он противопоставляет понятие
бесконечно делимого элемента, обнаруживая в этом
несомненное влияние инфинитезимальных приемов и методов,
все более утверждающихся в математике того времени.
Чтобы склонить своих читателей к восприятию
инфинитезимальных представлений, Паскаль доступно и просто
показывает их генез: "...всякий предел увеличения
становится пределом деления, превращая целое в дробь. Таким
образом, бесконечное увеличение заключает в себе
бесконечное дeлeниe,,,.
С другой стороны, Паскаль обнажае.т
противоречивость при переходе от неделимых элементов к делимым
пространственно-временным отрезкам. "Неделимое",
поясняет он, есть бесструктурное целое, лишенное каких бы
то ни было частей и, следовательно, протяжения, тогда
как все делимое структурно и протяженно. Между тем
именно "неделимые" составляют делимое. Как же
"неделимое", т. е. небытие протяжения, спрашивает Паскаль,
может превратиться в бытие протяжения? Одним
словом, как "ничто" может породить "нечто"? Это
противоречие он считает неразрешимым без отказа от самой
идеи "неделимого" и без естественного (с этой точки
зрения!) допущения бесконечной делимости всех
"геометрических элементов". При этом характерно для Паскаля
то, что последние понимаются им не только в плане
чисто геометрическом, но и как реальные элементы
бытия природы, т. е. как объективные пространство, время
и движение. Бесконечная делимость (как бесконечное
уменьшение) "бытийных" элементов природы
обеспечивает их вечность, неуничтожимость: бесконечность
природы в этом направлении, т. е. вглубь, есть
"бесконечность в малом" (l'infinité de petitesse). Бесконечность
природы в обратном направлении, т. е. вширь (как
бесконечное увеличение), есть "бесконечность в
большом" (l'infinité de grandeur). Эти две бесконечности
необходимо связаны между собой, взаимно обусловливают
ДРУГ друга, являя пример диалектического совпадения
противоположностей. В этом произведении у Паскаля
имеет место не уничижение природы перед Богом, а ре-
нессансное ее воспевание и даже какое-то "языческое
благоговение" перед ней. Он говорит о "величии и
могуществе природы в этой двойной бесконечности", "совер-
1 Pascal В. De l'esprit géométrique... P. 354.
127
шенной простоте" ее форм и законов, бесконечном
творчестве природы, универсальной взаимосвязи в ней1.
Диалектические идеи далее развиваются и
конкретизируются Паскалем в "Мыслях". Рисуя в них знаменитый
образ бесконечности (идущий от основателя
неоплатонизма Плотина и воспринятый в период средневековья
Эриугеной, Экхартом, Таулером и др., а также творчески
используемый в эпоху Возрождения Николаем Кузанс-
ким), Паскаль говорит "о бесконечной сфере, центр
которой везде, а окружность нигде"2. Ввиду отсутствия у него
ссылок на источники, иногда называют этот образ
"знаменитым паскалевским". Во всяком случае, философия
нового времени обязана Паскалю не меньше, чем Кузан-
цу, распространением идеи бесконечности универсума.
В указанном фрагменте из "Мыслей" Паскаль рисует
картину бесконечной природы "во всем ее высоком и
необъятном величии", так что "весь видимый мир есть
лишь едва различимый штрих в обширном лоне
природы"3. Как бы далеко ни уносило нас воображение за
пределы видимого, скорее оно утомится, говорит
Паскаль, чем истощится природа в творчестве новых форм.
Никакая мысль, согласно Паскалю, не в силах исчерпать
эту бесконечность. Поистине нельзя объять необъятное,
а кто пытается сделать это, тот обретает лишь "атомы
ценой реальности вещей".
В рамках этого бесконечного космоса земля, согласно
Паскалю, представляет собой "всего лишь точку по
сравнению с огромной орбитой, которую описывает наше
светило, но и сама эта огромная орбита — всего лишь
малоприметная точка по сравнению с орбитами других
светил, текущих по небесному своду"4. Так земля теряет
свое привилегированное положение в мире, которое она
занимала в ограниченном космосе средневековья, и
превращается в небесное тело, испытывающее свою
"естественную судьбу". По отношению к бесконечному космосу,
считает Паскаль, любое как угодно большое, но конечное
тело есть исчезающе малая величина, хотя и не
превращающаяся в нуль. Более того, всякая малая величина сама
по себе тоже бесконечна, но уже не вширь, как космос,
а вглубь.
1 Pascal В. De l'esprit géométrique... P. 354, 358—359.
2 Pascal В. Pensées. P. 526, fr. 199.
3 Ibid. P. 525—526, fr. 199.
4Ibid.
128
Пусть, например, человек вглядится в одно из
мельчайших существ в природе, говорит Паскаль, в крохотное
тельце клеща, в его еще более крошечные члены и части
этих последних, а затем частицы этих частей и так далее,
пока не иссякнет его воображение и не решит он, что
достиг последнего мельчайшего предела вещей. Но
предел, на котором он запнулся, обернется для него "новой
бездной", исчерпать которую даже мысленным взором
нельзя. Паскаль рисует "бесконечность природы в узких
границах атома... и неисчислимые Вселенные в нем,
и у каждой — свой небесный свод, и свои планеты, и своя
земля..."1.
Выше указывалось, что в отличие от Декарта, у
которого лишь Бог поистине бесконечен (infini), тогда как
природа лишь безгранична (indéfinie), у Паскаля и Бог,
и природа infini. Но отсюда не следует делать вывод
о пантеизме Паскаля, ибо у него природа не может быть
равной Богу, так как является его творением: "Природа
имеет совершенства, поскольку она есть образ Бога, и
недостатки, поскольку она только его образ"2. Сам
Паскаль не видел ничего еретического в признании
бесконечности природы, возможно, в силу разноплановой
трактовки бесконечности. Природа — это, условно говоря,
"открытая, незавершенная", то есть "потенциальная
бесконечность", тогда как Бог — "завершенная и закрытая",
то есть актуальная бесконечность. В таком случае
природа может быть бесконечной, не сливаясь с Богом, но
будучи его отражением. Когда Паскаль говорит о двух
бесконечностях в природе, то у него речь идет и о
качественном ее многообразии, и о количественной
беспредельности вширь и вглубь. При этом он подчеркивает, что
"сходятся они в Боге, и только в Боге"3, указывая как бы
на их свертывание и завершение процесса развития,
бесконечно совершающегося в природе.
Рассмотренные Паскалем "лики" бесконечности
природы дополняются всеобщей и бесконечной
взаимосвязью всех вещей в мире как между собой, так и с мировым
целым. Части мира так "сцеплены" друг с другом и с
целым, что невозможно познать одно без другого и без
целого. Если бы удалось полностью постичь какую-то
одну часть, то это было бы одновременно познанием
1 Pascal В. Pensées. Р. 526, fr. 199.
Mbid. P. 624, fr. 934.
3 Ibid. P. 527, fr. 199.
5 Заказ № 4951
129
целого, настолько целое и его части как бы
"просвечивают" друг в друге. Точно так же начало и конец отдельных
вещей генетически связаны в один "клубок", начало
которого скрыто в глубине бесконечных переплетений, à
конец непонятен без начала. Создается сильное
впечатление, что античный принцип "все во всем", развитый
Анаксагором, — правда, не в субстратном смысле, как
у него, но скорее в плане структуры, организации и
взаимосвязи, — довлеет над Паскалем, хотя он не
упоминает имени античного философа. Он считает, что все в мире
связано со всем: "Малейшее движение отзывается во всей
природе. Один-единственный камень способен
произвести изменение в целом море... Так что в мире нет ничего
несущественного"1. Паскаля можно считать одним из
ярких представителей философии всеединства. Это
вытекает из диалектического характера его мировоззрения,
предельно синтетических тенденций его мышления,
исканий, духовных устремлений — словом, универсалистских
особенностей его гения.
"Что же представляет собой человек в "обширном
лоне природы?" — спрашивает Паскаль и отвечает:
"Небытие по сравнению с бесконечностью, все по сравнению
с небытием, середина между ничем и всем, бесконечно
удаленная от понимания крайних пределов; конец и
начала вещей скрыты от него в непроницаемой тайне. Равно
неспособен он увидеть небытие, из которого извлечен,
и бесконечность, которая его поглощает"2. Для усиления
впечатления о двух крайних пределах Паскаль вводит
образ "бездны" в ее двух "ликах" — "бездны
бесконечности" и "бездны небытия", между которыми трагически
заключен человек.
Срединное положение человека в мире не только
удаляет его от бесконечности и превращает в незаметную
"пылинку" в космосе, но в равной мере отрывает его и от
другого "предела" — небытия, по сравнению с которым
он представляется "колоссом, целым миром, а вернее,
всем сущим"3. Если даже очень маленькое существо,
вроде клеща, бесконечно вглубь, то тем более человек
обладает той же характеристикой. Кроме того, если
бесконечный космос в пространственно-временном плане
"охватывает и поглощает" человека, то мыслью своей
' Pascal В. Pensées. Р. 622, fr. 927.
Mbid. P. 526, fr. 199.
Mbid. P. 526, fr. 199.
130
человек "охватывает" космос и "возвышается" над ним.
В этом состоит истинное величие "мыслящего
тростника". Есть в нем и другая бесконечность — стремления
и желания к познанию, истине, нравственному
совершенству и т. д. Так конечный человек оказывается
многообразно бесконечным. Здесь снова навязывается аналогия
с Николаем Кузанским, который реализовал идущую из
античности идею о человеке как микрокосмосе, но с той,
однако, существенной разницей, что Кузанец — в духе
эпохи Возрождения — акцентирует внимание на
могуществе человека, тогда как Паскаль острее переживает
его ограниченность.
В зарубежном паскалеведении считается
общепризнанным рассматривать Паскаля как "тонкого
диалектика", то возводя его диалектику к античной форме в духе
Сократа и Платона как "искусства вести диалог", как
"искусства аргументации" через столкновение
противоположных взглядов (Ж. Менар), то характеризуя ее как
"антитетическую", осуществляющуюся на основе
"непрерывного превращения "за" в "контр" (Ж. Пюсель), то
определяя ее как "архитектонический принцип",
организующий работу методических, приемов на всех уровнях
и ориентированный на "унификацию знания" (Дэвидсон),
то, наконец, усматривая в ней "прообраз" гегелевской
и далее марксистской диалектики (А. Лефевр, Л. Голд-
ман)1.
На мой взгляд, у Паскаля мы встречаемся с
исторически определенной диалектикой, которую не следует
"модернизировать". Прежде всего следует подчеркнуть
онтологический характер паскалевской диалектики,
которая вытекает из внутренней взаимосвязи двух
противоположных бесконечностей — в большом и в малом, вширь
и вглубь — и которые в единстве составляют
"бесконечность универсума", "природы в целом". Так у Паскаля
происходит раздвоение единого на составляющие его
противоположности, из которых "одна зависит от другой
и ведет к другой, они касаются друг друга и
объединяются в силу их удаления друг от друга..."2. Дифференциация
единой онтологической бесконечности v него связана не
1 Mesnard J. Les pensées de Pascal. P., 1976. P. 173; Pucclle J. La
dialectique du renversement du pour au contre et l'antithétique pascalienne //
Méthodes chez Pascal. P. 445; Davidson H. Le pluralisme méthodologique
chez Pascal // Méthodes chez Pascal. P. 24; Lefebvre H. Pascal. P., 1949. T.
1. P. 217; Goldmarm L. Le dieu caché. P., 1955. P. 15.
2 Pascal B. Pensées. P. 527, Гг. 199.
131
столько с проекцией на природу математической
бесконечности (бесконечно больших и бесконечно малых
величин), сколько с осмыслением реальных открытий
Галилея, раздвинувших границы видимого мира вширь
и вглубь, а также с пониманием "геометрических начал"
как "бытийных элементов" самого мира.
Печать этой "двойной бесконечности", согласно
Паскалю, лежит на всех вещах и существах природы, так что
любой предмет одновременно является относительно
великим и малым, что он и продемонстрировал на примере
с клещом. Введение "бесконечности в малом" позволило
Паскалю увидеть неразрывную связь двух других
противоположностей, а точнее, основной онтологической
противоположности — конечного и бесконечного, ибо любое
конечное тело в природе, как бы мало они ни было,
оказывается внутренне бесконечным и до начала его
дойти столь же невозможно, как и до начала и конца
вселенной.
Но "лики" бесконечности у Паскаля не
ограничиваются количественной необъятностью вширь и вглубь, а
дополняются качественной бесконечностью,
выражающейся в "творчестве новых форм", на которое столь
изобретательна природа. С другой стороны, качественная
бесконечность присутствует и во всеобщей,
универсальной связи явлений мира, о которой столь выразительно
говорит Паскаль в 199-м фрагменте и к которой не раз
возвращается и в других разделах "Мыслей". Паскаль
проницательно угадывает в бесконечности "форму
всеобщности". Паскалю, несомненно, принадлежит важная
заслуга в разработке диалектики в истории философии.
Те черты диалектического видения мира (всеобщая
связь явлений, принцип непрерывности, индивидуальное
как выражение бесконечного, признание всеобщности
движения в мире), которые были присущи философии
Лейбница, сформировались, по моему глубокому
убеждению, не без влияния идей Паскаля, которого сам Лейбниц
высоко чтил и труды которого читал, будучи в Париже.
Если считать центральной в истории диалектики идею
о единстве и борьбе противоположностей (начиная с
Гераклита и Сократа), то можно говорить об исторически
определенном (а не "современном", как полагает Л. Гол-
дман) типе диалектики у Паскаля. Ведь он уделяет особое
внимание единству противоположностей, причем в форме
их совпадения, как то имело место и у Николая Кузанско-
го. Правда, в учении о человеке и обществе Паскаля
132
удельный вес борьбы противоположностей резко
возрастает и оказывается доминирующим способом отношения
между ними. Но противоречивая действительность
реального человеческого бытия не удовлетворяет Паскаля,
и он прибегает к гармонизации противоречий как
особому способу их разрешения не в результате борьбы, а
посредством их "погашения в Боге".
Паскаль с его видением совпадения
противоположностей и учением о бесконечности природы и ее вечном
движении способствовал — наряду с другими
мыслителями XVII в. (Ф. Бэкон, Декарт, Лейбниц) — расшатыванию
метафизических представлений о замкнутом и
неизменном космосе, распространенных в эпоху средневековья.
В этом я вижу историческую роль диалектики Паскаля.
Своеобразие паскалевской диалектики состоит также
и в том, что в ней единство, тождество
противоположностей выражено часто в форме парадокса в его античном
понимании как мысли неожиданной, нетривиальной,
чуждой общепринятому мнению и резко противоречащей
обычному, как бы "естественному" ходу рассуждения о том
или ином предмете. Умение выразить противоречие через
парадокс и тем самым привлечь к нему внимание, поразив
и озадачив читателя, составляет сильную сторону
"искусства убеждения" Паскаля и его писательского мастерства.
Паскаль не доказывает только логически, как это делает,
например, Кузанец, идею тождества противоположностей
— великого и малого, бесконечного и конечного, — а
выражает ее и через образ "бездны", заключенной в мельчайшем
атоме, и называет это "не меньшим дивом", чем
поражающая воображение "необъятность вселенной" или исчезаю-
ще малые размеры "огромной земли" ("всего лишь точка")
по сравнению с солнечной орбитой и т. д. Недаром он
использует парадоксальный образ бесконечности, —
именно образ, а не понятие! — идущий из античности.
Очень хорошо уловил диалектическую сущность
парадокса у Паскаля В. Бахмутский: "Единственной и
реальной истиной нашего мира кажется Паскалю парадокс —
напряженное отношение противоположных полюсов.
Человек, чтобы оставаться человеком, должен стремиться
к обеим крайностям, а не к одной из них, ибо когда он
касается одной, то неминуемо впадает в
противоположную"1. Через парадокс Паскаль выражает самые глубо-
1 Бахмутский В. Французские моралисты // Ларошфуко Ф. де.
Максимы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. де. Характеры. М., 1974. С. 20.
133
кие свои истины о противоречивой сущности мира,
человека и познания.
В обращении к парадоксу есть и другая сторона паска-
левской диалектики — ее частичная невыразимость диску-
рсивно-логическими средствами. Там, где последние
оказываются бессильными и разум терпит фиаско со своей
способностью постижения, вступает в свои права
интуиция, органом которой у Паскаля является "сердце".
Именно "сердце чувствует бесконечность", перед которой
конечный разум испытывает свое бессилие. "Сердцем"
человек "знает" многие вещи, природа которых непостижима
для разума. К ним относится и бесконечность, которая
протяженна, как мы сами, но не имеет, подобно нам,
границ. Мы с нею соизмеримы и несоизмеримы
одновременно, считает Паскаль, потому мы знаем о ее
существовании, но не постигаем ее природы. Отсюда он выводит
общее правило: "...можно хорошо знать о существовании
какой-либо вещи, не зная ее природы"1. Непосредственное
знание о существовании вещей не менее достоверно,
согласно Паскалю, чем через доказательства разума.
Между прочим, на трудность постижения
бесконечности разумом и логикой указывали не только мистики,
для которых это "естественно", но и, например,
материалист Локк, который не справился с диалектикой
конечного и бесконечного и не так уверенно оперировал
категорией бесконечного, как Паскаль. Отчасти эмпиризм
и сенсуализм мешали Локку чувствовать себя свободно
в сфере высоких абстракций, тогда как у Паскаля "вкус
к конкретному" и доверие к опытному знанию не
доходили до их "культа" и сочетались с таким полетом
чувственно-образного мышления и математических
абстракций, перед которыми отступала и сама бесконечность.
Отсюда у Паскаля не только логико-дискурсивное, но
и образно-интуитивное постижение бесконечности.
Мир Паскаля — это динамичный многокачественный
космос, бесконечный вширь и вглубь, полный
противоречий, но не разорванный, а целостный и единый, творчески
активный и вечно развивающийся, одновременно
очаровывающий и пугающий своим величием, сложностью
и простотой, парадоксальностью, таинственностью и
какой-то непреклонной самодостаточностью, от которой
"мыслящему тростнику" становится не по себе. Словом
— это живой космос, скорее в духе антимеханистических
1 Pascal В. Pensées. Р. 550, fr. 418.
134
представлений эпохи Возрождения, нежели хорошо
заведенная и отлаженная машина в духе Декарта.
Есть один "экзистенциальный мотив" в представлении
Паскаля о космосе, который получил особенное отражение
в русской культуре. Его назвали феноменом "равнодушной
природы". Он вытекает из трагического восприятия
Паскалем космоса, к которому человек обращает свои вопросы,
свой страстный призыв, и... не получает ответа. "Вечное
молчание бесконечных пространств ужасает меня", —
говорит Паскаль в "Мыслях". По сравнению с ограниченным
и гармоничным космосом средневековья, в котором
человек был "царем природы", центром мироздания, космос
нового времени поражает человека своей необъятностью,
бездонной глубиной и таинственной непостижимостью.
Земля потеряла свой "избраннический статус",
привилегированное положение в мире, превратившись в "атом
вселенной", а вместе с нею и человек стал "пылинкой" в ее
бесконечных просторах. Таков космос у Паскаля. Человек
как бы одинок в целом мире. Он чувствует себя неуютно
в этом безмолвном, холодном космосе, который
уподобляется "бездне". "Мать-природа" в "Опытах" Монтеня
превращается в "молчаливую мачеху" в "Мыслях"
Паскаля. "Экзистенциальное" восприятие последним природы
получает живой отклик в русской поэзии, например у А. С.
Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. С. Хомякова, а затем у
И. С. Тургенева. Тютчев весьма близок Паскалю по духу,
мировосприятию и даже интимному душевному складу,
и в его поэзии можно встретить многие паскалевские
образы и мотивы: "бездны", "мыслящего тростника",
жизни и смерти, загадок человеческого Я и др. Вот как
русский поэт развивает тему "равнодушной природы"
в стихотворении "Певучесть есть в морских волнах":
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Дуща не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
И от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне
Души отчаянный протест?'
1 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1986. С. 127—128.
135
Тютчев очень тонко угадал причину трагического
восприятия космоса "мыслящим тростником": это —
именно "разлад", утрата чувства гармонии с миром. Паскаль
особенно ощущает "трещину" в человеческом вселенском
бытии с точки зрения идеи космизма. Потому природа
зияет "безднами" и для него, и для Тютчева. Есть у
нашего поэта тревожный образ "природы-сфинкса",
загадочность которой мучит его, и он пытается развенчать эту
тайну:
Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней1.
Паскалевским космосом веет и от поэзии А. С.
Хомякова, который несомненно вдохновлялся "Мыслями",
будучи, как и Тютчев, духовно близким Паскалю, что
он и сам признавал. Этой теме будет посвящен
специальный раздел в главе VI, а здесь же хочется
только обратить внимание на "очарованность"
Хомякова образами бесконечности и "бездны". Стихотворение
"Звезды" является прекрасной поэтической
иллюстрацией таинственного паскалевского космоса. Причем
Хомяков воспринимает прежде всего не "раскол" между
миром и человеком, но погруженность человека в
космос. Два образа символизируют у него вековечное
и вселенское единство — "звезды неба" и "звезды
мысли".
Ночи вечные лампады
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.
Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали
За ближайшими звездами
Тьмами звезды в ночь ушли.
Вновь вглядись, — и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.
...Узришь — звезды мысли водят
Тайный хор свой вкруг земли.
Вновь вглядись — другие всходят,
Вновь вглядись — и там вдали.
Звезды мысли, тьмы за тьмами
1 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1986. С. 137.
136
Всходят, всходят без числа, —
И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла'.
Хомяков принимает в общем паскалевский
"бездонный" космос, но в соответствии со своей здоровой,
трезвой и гармоничной натурой не склонен драматизировать
положение человека в мире.
2. В БОРЬБЕ С "ИДОЛАМИ СХОЛАСТИКИ"
В борьбе с уходящей в прошлое, но еще не сдающей
свои позиции схоластикой передовые ученые и философы
XVII в. продолжают лучшие традиции эпохи Ренессанса.
Схоластическому формально-логическому и
умозрительному знанию новое время противопоставило
опытно-экспериментальное естествознание, схоластической
метафизике, ориентированной на теологию и религиозный
авторитет, — философию, опирающуюся на "естественный
свет" человеческого разума и чувств и научное познание
мира. Авторитаризм средневековой схоластической
культуры сначала был расшатан скептицизмом,
поставившим под сомнение саму возможность рационального
обоснования религиозного учения, а затем был сметен
бурным развитием научного знания, вылившимся в
научную революцию XVI—XVII вв.2
Но прежде, чем это произошло, лучшим
представителям европейской культуры пришлось сражаться на
"поле битвы" со схоластикой. И Паскаль находился на
переднем крае этой борьбы вместе с Ф. Бэконом,
Галилеем, Декартом и др. Впечатление разорвавшейся
бомбы произвели на схоластически мыслящих ученых
его опыты с вакуумом и в особенности очень смелые для
того времени выводы, опровергающие старую догму:
"Природа боится пустоты". Что не захотел подвергнуть
сомнению стареющий Галилей, то во всеуслышание
опроверг Паскаль в ряде своих трактатов о пустоте. Как
ранее Ф. Бэкон и Г. Галилей, Паскаль развенчивает
мнимый авторитет схоластизированного Аристотеля, на
1 Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 138—139.
2 Ее начало связывают с появлением в 1543 г. книги Н. Коперника
"Об обращениях небесных сфер", а относительное завершение — с
выходом в свет в 1687 г. книги И. Ньютона "Математические начала
натуральной философии".
137
которого обычно ссылались, защищая привычную
догму: "Пусть все ученики Аристотеля соберут, все то, что
есть сильного в трудах их учителя и его комментаторов,
чтобы объяснить эти вещи боязнью пустоты, если им
это удастся, иначе пусть они признают, что опыты есть
единственные наставники, которым надо следовать в
физике...,,! Несмотря на давление и даже запугивание
отцов-иезуитов, Паскаль делает решительный вывод
о том, что "природа вовсе не боится пустоты, что она
ничего не делает, чтобы ее избежать, и что тяжесть
воздуха есть единственная причина всех действий,
которые до сих пор приписывались этой воображаемой
причине"2.
При этом Паскаль не только боролся за данную
конкретную истину, но и с философской
проницательностью отвергал вообще притязания старой науки на
обладание вечной истиной. Он едко высмеивает попытки
ученых-схоластов наделить природу "человеческими
страстями и стремлениями" (что клеймил и Ф. Бэкон
как "идолы рода") или выдумывать "мнимые причины"
там, где надо искать только естественные и простые
законы, следуя самой природе. В самом деле, лишенная
глубокой экспериментальной базы, средневековая наука
была вынуждена для объяснения непонятных явлений
прибегать к умозрению, воображению и просто
спекуляциям типа: "магнит чувствует близость железа",
предмет, подброшенный вверх, "стремится к земле",
"природа боится пустоты" и т. д. "Мнимые причины", вроде
теплорода, флогистона и др., обосновывали явления
теплоты, горения и т. д. Понадобились кропотливые
исследования многих поколений ученых, чтобы
убедительно разрушить все эти ложные представления. Как
мы уже видели, немало пришлось потрудиться в этом
направлении и Паскалю.
Чтобы обосновать право новой науки на
опровержение старых истин, Паскаль написал свое знаменитое
"Предисловие к трактату о пустоте" — небольшой
гносеологический шедевр, который можно рассматривать
как "Манифест" науки нового времени. Прежде всего
Паскаль выступает за полную свободу научных
исследований от власти слепого преклонения перед ав-
1 Pascal В. Traité de la pesanteur de la masse de l'air // Oeuvres
complètes. P. 259.
Mbid. P. 259.
138
торитетом "древних". Уважение к древним до того
дошло, сетует он с самого начала, что "всякую
их мысль считают оракулом", и "текста одного автора
достаточно, чтобы разрушить самые сильные
доказательства"1. Ничего нельзя предложить от себя нового,
продолжает Паскаль, как будто после древних не
осталось истин неоткрытых, как будто человечество
стоит на месте в своем познании и разум не развивается
из века в век. "Не означает ли это унижение
человеческого разума и уподобление его инстинкту
животных, между тем как существенная разница между
ними состоит в том, что действия разума беспрестанно
совершенствуются, тогда как инстинкт всегда равен
самому себе"2.
Подобную ситуацию в науке Паскаль считает
совершенно нетерпимой, но не собирается впадать в
другую крайность, "дабы исправить один порок другим"
и с порога отвергнуть авторитет древних. Нет, он хочет
четко ограничить ту сферу знания и культуры, где
авторитет может быть "светильником". Паскаль
использует идущую от средневековья концепцию
"двойственной истины". В условиях XVII в., когда позиции
церкви в духовной жизни общества, а схоластические
традиции в науке были еще достаточно сильны,
разграничение областей знания и веры, науки и религии,
разума и откровения обеспечивало относительную
свободу научным исследованиям. Поэтому и в
"рационалистический век" данная концепция находит своих
сторонников (Ф. Бэкон, Г. Галилей, Гоббс и др.).
Паскаль является весьма последовательным и
своеобразным ее представителем. Он разделяет науки по предмету
и способу познания: в одних (например, "в истории,
географии, юриспруденции, в языках и особенно в
теологии"), имеющих дело с "простым фактом" или
связанных с "божественными либо человеческими
установлениями", правомочен авторитет; в других,
"основанных на опыте и рассуждении" (например, "в физике,
геометрии, арифметике, музыке, медицине,
архитектуре"), авторитет бесполезен, поскольку в них разум и
чувства одни в состоянии судить об истине3. Первые
Паскаль называет "историческими предметами", в ко-
1 Pascal В. Préface sur le Traité du vide // Oeuvres comlètes. P. 230.
Mbid. P. 231.
Mbid. P. 230.
139
торых хотят подчеркнуть знание, "добытое прежними
авторами" (кто был первым королем Франции, где
проведен первый меридиан и т. д.); вторые —
"догматическими", в которых имеют целью исследовать и открыть
"скрытые истины".
Паскадь обращает особое внимание на теологию, в
которой он не одобряет всякие "новшества" (он имеет
в виду иезуитский вариант католической религии), ложное
мудрствование, спекуляции. Между тем именно в ней
"ныне развелось много новых мнений", которых не знали
древние, как будто уважение к древним философам,
говорит Паскаль, есть наш долг, а уважение к отцам церкви —
"одно только приличие". Будучи сторонником теологии
откровения, он видит в авторитете Священного писания
и древнейших отцов церкви ее единственное основание,
осуждая "безумное суемудрие" тех, кто переносит в
теологию научные приемы рассуждения и доказательства
посредством разума. Зато в естественных предметах
опыт, разум и чувства могут и должны — без оглядки на
всякий авторитет! — быть "законными судьями" в
вопросах истины. Четкое разделение областей естественного
знания и веры, науки и теологии, рассуждения и
авторитета, согласно Паскалю, с одной.стороны, сохраняет в
неприкосновенности символ веры и чистоту
первоначального христианского учения, а с другой — способствует
беспрепятственному развитию научного знания и
непрерывному совершенствованию человеческих способностей.
В отличие от животных "человек создан для
бесконечности" и должен не бояться оправдывать это свое
назначение. Если бы последующие поколения людей ничего
нового не прибавляли к знаниям и опыту предыдущих
поколений, никакой прогресс в науках просто не был бы
возможен. На самом же деле человечество не стоит на
месте, и Паскаль с большим энтузиазмом рисует
краткую, но выразительную картину прогресса человеческого
познания, полагая в качестве его субъекта не только
отдельного индивида, но и человечество в целом': "Не
только каждый человек день за днем продвигается вперед
в науках, но и весь род человеческий осуществляет
непрерывный прогресс в них... Таким образом, весь ряд людей
в течение всех веков должно рассматривать как одного
и того же человека, который всегда существует и
беспрестанно научается"1.
1 Pascal В. Préface... Р. 232.
140
Наконец, против слепого почитания древних Паскаль
(как ранее Ф. Бэкон в "Новом Органоне"1) выставляет
и такой аргумент. Как старость отдельного человека есть
возраст, наиболее удаленный от момента его рождения,
так и старость "этого универсального человека" (т. е.
человечества в целом. — Г.С.) надо искать не во
временах, ближайших к периоду его рождения, но, напротив,
наиболее удаленных от него. "Те, которых мы называем
древними, были поистине новичками во всех вопросах
и составляли собственно детство человечества; но,
поскольку мы прибавили к их познаниям опыт
последующих веков, постольку именно в нас можно найти эту
древность, которую мы уважаем в других"2.
Обосновав таким образом неотъемлемое право новой
науки на самостоятельное и свободное развитие. Паскаль
ободряет "робких ученых", которые боятся "вводить
новшества" в естественные науки. "Во имя истины можно
противоречить древним, каким бы сильным ни был их
авторитет" — вот лейтмотив "Предисловия к трактату
о пустоте". Так в борьбе с "идолами" схоластики
Паскаль стоит на уровне передовых задач науки и
философии нового времени.
3. НАУКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИНЫ
Все, что превышает геометрию,
превосходит и нас.
Паскаль
Одной из центральных проблем философии нового
времени была проблема истинно научного метода
познания. Ставит ее и Паскаль, написав на эту тему сочинение:
"О геометрическом уме и об искусстве убеждать", над
которым он работал в ходе подготовки "Логики, или
Искусства мыслить" Пор-Рояля. В нем он разделяет
убеждение философов-рационалистов в несомненном
преимуществе аксиоматико-дедуктивного математического
метода познания, что соответствовало высокому
развитию математики в XVII в. по сравнению с другими
науками. Своеобразный культ математики ярко выразил
Паскаль в своем знаменитом афоризме: "Все, что превы-
' Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 47—48.
2 Pascal В. Préface... Р. 232.
141
шает геометрию, превосходит и нас"'. Как и Декарт,
Паскаль связывает признак совершенства знания с его
всеобщим и необходимым характером, ясностью,
простотой и самоочевидностью для "естественного света" разума
и — в отличие от Декарта — также и чувств. Но подобног о
совершенства нет в опытных науках, говорит Паскаль,
отмечая недостаточность индукции: "Во всех предметах,
в которых обоснование состоит в опытах, а не в
доказательствах, нельзя допустить никакого универсального
утверждения без всеобщего перечисления всех частностей или
всех различных случаев... так как одного-единственного
случая достаточно, чтобы помешать всеобщему выводу"2.
Только геометрия, считает он, следует истинному
методу познания и располагает искусством "методических
и совершенных доказательств". Метод геометрии больше
всех других приближается к абсолютному, т. е.
"совершенному, превосходному и законченному", методу познания.
Сущность последнего Паскаль формулирует очень кратко:
"определять все термины, доказывать все предложения"
и "располагать все предложения в наилучшем порядке"3.
Но поскольку — вследствие регресса в бесконечность —
этого в принципе нельзя сделать, постольку этот метод
"абсолютно недостижим". Означает ли это, согласно
Паскалю, отказ от всякой достоверности в познании? Нет, не
означает, ибо геометрический метод дает вполне
достоверное — какое только возможно на человеческом уровне
— знание. Метод геометрии приближается к
"совершенному" методу, поскольку определяет и доказывает все
неясные и двусмысленные термины и предложения, но
отличается от него тем, что не делает этого по отношению
к "первичным терминам" и "аксиомам", ясным самим по
себе. Именно эти последние избавляют геометрический
разум от "дурной бесконечности" определений и
доказательств. Геометрия не определяет ни одну из таких вещей,
как пространство, время, движение, число, равенство
и множество других, им подобных. "Эта блестящая наука
связана только с самыми простыми вещами... таким
образом, отсутствие определения есть скорее совершенство,
чем недостаток, ибо не происходит от их темноты, но,
напротив, вытекает из их высшей очевидности..."4.
1 Pascal В. De l'esprit géométrique... // Oeuvres compotes. P. 349.
2 Pascal B. Préface... P. 232.
3 Pascal B. De l'esprit géométrique... P. 348—349.
4Ibid. P. 351.
142
Как и Декарт, Паскаль формулирует правила метода,
но в отличие от него обращает внимание не на момент
открытия истины, а на способ ее доказательства и
отличения от лжи. То, что Паскаль отделяет эвристику от
логики доказательства истины, свидетельствует об его
научной проницательности, ибо в реальном процессе
познания путь открытия истины не совпадает с процессом
ее доказательства и концептуального обоснования. Как
бы ни был сложен первый, второй подчас оказывается
еще сложней. Открыв закон тяготения и придав ему
математическое выражение, И. Ньютон так и не смог
объяснить природы последнего, заявив: "Гипотез я не
измышляю!" Позже Гаусс жаловался на то, что он имеет
теоремы, но не может их доказать, а Риман, напротив,
говорил, что если бы он имел теоремы, то смог бы их
доказать.
Любопытно, что Паскаль, говоря о "методе
геометрических доказательств", связывает открытие истин уже
не с "методом", а с "искусством открытия неизвестных
истин"1, подчеркивая несводимость его приемов к
формальным и строго логическим. Вслед за ним логики
Пор-Рояля высоко оценивали роль интуиции ученого
в процессе поиска и открытия истины, закономерности
которого считали труднодоступными для
математического исчисления.
Паскаль дает три группы правил:
Для дефиниций
1. Не определять никаких совершенно
известных терминов.
2. Не вводить темных или двусмысленных
терминов без дефиниций.
3. Использовать в дефинициях только
известные или уже объясненные термины.
Для аксиом
1. Не принимать без исследования никаких
необходимых принципов, какими бы
ясными и очевидными они ни казались.
2. Фиксировать в аксиомах только
совершенно очевидные положения.
' Pascal В. De l'esprit géométrique... P. 348.
143
Для доказательств
1. Не доказывать положений, очевидных
из них самих.
2. Доказывать все предложения,
используя для этого лишь аксиомы,
очевидные из них самих.
3. В ходе доказательства не злоупотреблять
двусмысленностью терминов,
подставляя мысленно определения
на место определяемых терминов1.
Первые правила во всех трех подразделениях Паскаль
считает не столь обязательными (их несоблюдение не
может привести к грубым ошибкам), как остальные,
которые абсолютно необходимы для строгости
доказательства.
Паскаль разъясняет, что у него речь идет только
о "номинальных определениях", которые приняты в
геометрии и назначение которых делать "речь ясной и
краткой", а термины строго однозначными во избежание
темноты, двусмысленности, недоразумений при
изложении научных предметов. "Цель определения только
обозначить названную вещь, а не показать ее природу"2. Эти
дефиниции в геометрии даются именам произвольно,
лишь бы при дальнейшем изложении строго
придерживались данного им значения. От "номинальных
определений" Паскаль отличает "определения вещей", которые не
могут быть произвольными, ибо должны
соответствовать сущности вещей.
Переходя к "началам" (principes), или аксиомам,
Паскаль указывает, что как есть слова, которые определить
невозможно, так есть положения, которые доказать
нельзя. Но — по аналогии с "первичными терминами" —
это как раз те "начала" (аксиомы), которые не требуют
доказательства в силу своей "высшей природной
ясности" (extrême clarté naturelle). Например, в геометрии
к подобным "началам", характеризующим природу
фундаментальных "геометрических вещей": движения, числа,
пространства и времени, — относятся, согласно
Паскалю, такие самоочевидные положения, как-то: "движение,
число, пространство и время необходимым и
естественным образом взаимосвязаны", "есть свойства, общие
1 Pascal В. De l'esprit géométrique... P. 356—357.
4bid. P. 350.
144
всем этим вещам", "они бесконечны как в большом, так
и в малом", "они бесконечно делимы" и др.1
Правила, разработанные Паскалем, полностью вошли
в "Логику..." Пор-Рояля в качестве правил "научного,
или теоретического метода", который ее авторы
называли также "методом композиции" в отличие от
"метода решения, или изобретения", предложенного
Декартом. Ученые Пор-Рояля высоко ценили оба метода,
но наибольший свой вклад внесли в разработку первого,
усматривая в нем необходимый способ теоретического
изложения и синтеза научного знания и сообщения
его другим людям.
Предвидя ряд возражений предложенному им методу
исследования истины ("этот метод не нов, тривиален
и применим только в геометрии"), Паскаль отвечает:
"нет ничего столь неизвестного, ничего более трудного на
практике и ничего более полезного и универсального"2.
Он отвергает претензии схоластических логиков на
обладание непогрешимым методом исследования истины,
ибо хорошие правила они утопили во множестве других,
ложных и никчемных. Что же касается видимой
тривиальности предложенных им правил, то Паскаль убежден
в том, что высшую степень совершенства в любом жанре
составляют не "чрезвычайные и странные вещи", а,
напротив, поражающие нас своей простотой, ибо здесь
надлежит следовать "самой природе, которая одна
хороша, проста и безыскусна"3. Люди же, пытаясь достичь
совершенства, стремятся подняться до него, а в
результате — удаляются. Между тем как чаще всего надо
опуститься до него, ибо "нет ничего обыкновеннее
хороших вещей: ...несомненно, что они все естественны, не
превышают нашего разумения и даже известны всем"4.
Беда состоит лишь в том, по его мнению, что люди не
умеют отделить его от всего остального. Отсюда
знакомое и общедоступное подчас оказывается всего менее
известным людям. Но даже если эти правила им
известны, считает Паскаль, то воплотить их на практике не
так-то просто, иначе не было бы столько пустых и
бесполезных споров, в которых истина не открывается
людям, а ускользает от них из-за "эквилибристики значе-
1 Pascal В. De l'esprit géométrique... P. 352.
Mbid. P.357.
3Ibid. P. 358-359.
4Ibid. P.358.
145
ний" слов, невыявленных "начал" рассуждений и
шаткости обоснований.
Говоря об "универсальности" своего метода, Паскаль
имеет в виду не только всю совокупность математических
наук и "им подобных", но и полезность применения
этих правил в любом человеческом рассуждении, к какой
бы области знаний оно ни относилось. Здесь речь идет
не просто о формальном их использовании, а о
содержательном преломлении в рассуждении об истине,
через которое эта последняя выступала бы ясно, строго
и доказательно.
Можно даже сказать, что идее "геометрического
метода", как наиболее совершенного в деле доказательства
истины, — с его обязательной конкретизацией к
различным предметам познания (математическим объектам,
физическим телам, человеческой реальности и даже
теологическим предметам) — Паскаль останется верным
всю жизнь. Нельзя не согласиться с мнением
исследователя из США Дэвидсона, который рассматривает
приверженность методу геометрических доказательств как
характерную особенность "стиля мышления" Паскаля,
которому "он никогда не изменял, даже когда ему самому
казалось обратное"1.
Как и у Декарта, главными элементами метода
Паскаля являются интуиция и дедукция. Но интуицию
Паскаль понимает существенно иначе, чем Декарт. У
последнего интуиция и дедукция находятся равно в сфере
интеллектуального познания (ибо разум, и только разум,
согласно Декарту, обеспечивает всеобщий и
необходимый характер знания) и в этом смысле однородны,
несмотря на различие непосредственного (интуиция) и
опосредованного (дедукция) способа усмотрения истины.
У Паскаля же (впоследствии и у Канта) интеллект
понимается скорее как опосредованная, дискурсивная
способность. Поэтому интуиция автоматически исключается им
из области интеллектуального знания. Интуиция
определяется им как особая чувственная способность, которую
он называет то внутренним чувством (в отличие от
внешних чувств), то природой, то волей, то, наконец,
инстинктом, и органом ее он считает сердце человека.
"Сердце" играет в философии Паскаля
фундаментальнейшую роль, представляя поистине тот "кирпичик" его
1 Davidson //. Le pluralisme méthodologique chez Pascal // Méthodes
chez Pascal. P., 1979. P. 20.
146
мировоззрения, изъятие которого разрушило бы его до
основания: в гносеологии "сердце" чувствует "первичные
термины" и аксиомы, в этике оно обусловливает
нравственный порядок в отличие от интеллектуального и
физического порядков, в области религиозной веры оно
чувствует Бога. В качестве гносеологической способности
"сердце" избавляет разум от дурной бесконечности
определений и доказательств.
В век рационализма Паскаль не разделяет убеждения
(например, Декарта, Спинозы и Лейбница) в
неограниченной монополии разума в сфере теоретического
знания и вводит в нее принцип, гетерогенный по
отношению к разуму, — чувственную интуицию "сердца", за
что и получил впоследствии немало упреков в
мистицизме. Но вряд ли есть основания трактовать чувственную
интуицию в гносеологии Паскаля как мистическую
и сверхъестественную способность. Во-первых, Паскаль
относит ее, как и разум, и внешние чувства, к области
"естественного света", расширив ее по сравнению с
Декартом, который "естественный свет" связывал только
с разумом. Во-вторых, интуиции "сердца" у Паскаля
служат исходным пунктом дедуктивного процесса и,
таким образом, неразрывно связаны с логическим
мышлением. В-третьих, почему надо считать "мистицизмом"
скорее диалектическую попытку Паскаля преодолеть
односторонний рационализм, как и всякую другую
ограниченность в сфере "вещей естественных и
познаваемых"?
"То признают один разум, то отвергают разум", —
сетует Паскаль в "Мыслях". Он глубоко убежден в том,
что "мы постигаем истину не только разумом, но и
сердцем. Именно сердцем мы познаем первые принципы,
и тщетно рассудок, не имея в них опоры, пытается их
сокрушить... Принципы чувствуются, теоремы
доказываются, и то и другое с достоверностью, хотя и разными
путями"1. Четкое понимание им того факта, что познание
не может быть сведено к логическому, доказательному,
дискурсивному элементу, заставляет его признать
достоверность интуитивно-чувственного знания.
Кстати, впоследствии Л. Фейербах связывал
интуицию, равно как и высшую достоверность знания, именно
с чувственностью: "...только там, где начинается чувст-
1 Pascal В. Pensées. Р. 524, fr. 183; р. 512, fr. 110.
147
венное, кончается всякое сомнение и спор. Тайна
непосредственного знания сосредоточена в чувственности"1.
Многовековая полемика интеллектуалистов и
сенсуалистов в понимании природы и характера интуиции,
равно как и отличие Паскаля от Декарта в этом плане,
видны в новом свете в связи с современными
исследованиями конкретного механизма интуиции в психологии.
Сейчас не вызывает сомнения бессознательный и
внелогический характер интуитивного "схватывания" истины
в любых формах человеческой активности (наука,
искусство, педагогика, клиника, психолингвистика и т. д.,
включая и "житейский опыт"), которое выражается
в эвристической интуиции ученого, проницательности
педагога, тонком чутье опытного клинициста,
безошибочном чувстве языка и т. д. Кроме того, эмпирически
давно известна неразрывная связь интуиции с эмоциями
и чувствами, а теперь это экспериментально
обосновано. Бессознательная обработка и кодирование
информации, закрепление ее в глубинах памяти в чувственно-
образной форме создает такой арсенал знания, которым
пользуется человек в дополнение к сознательному
логико-дискурсивному анализу.
Конкретный механизм взаимодействия этих
различных уровней знания пока не ясен, но ясно одно —
интуитивное "схватывание" происходит на первом из них,
хотя второй может предшествовать интуитивной
активности и завершать ее, оценивая ее результаты и включая
их в существующую логико-дискурсивную систему
знания. "...Интуиция — это то, что как-то ускользает от
непосредственного влияния дескриптивной активности
ума..."2 На основе бессознательно закрепленной
информации осуществляется, согласно А. А. Налчаджяну,
"самое сложное подсознательное мышление", хотя при этом
"отсутствует словесное выражение мыслей"3. При этом
он опирается на идею Л. С. Выготского о возможности
"мышления без слов" на основе движения чистых
смыслов, развитую им в книге "Мышление и речь". Выготский
различал "скрытый план" речи (невербализованный, не-
1 Фейербах Л. Основные положения философии будущего //
Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 187.
2Шерозия А. Е. К проблеме сознания и бессознательного
психического // Бессознательное. Природа, функции, методы, исследования.
Тбилиси, 1978. Т. 2. С. 387.
3 Налчаджяп А. А. Некоторые психологические и философские
проблемы интуитивного познания. М., 1972. С. 146—147.
148
осознаваемый, некоммуницируемый) и "внешний план"
в форме объективных словесных значений. В реальных
процессах познания происходит как экстериоризация
чистых смыслов, так и интериоризация объективных
значений слов. Причем если сфера смыслов практически
неисчерпаема, то "значение является только камнем в здании
смысла"1.
Эту концепцию развивает Ф. В. Бассин, обращая
внимание на поразительный динамизм "чистых смыслов", их
полисемантизм, отсутствие четких границ между ними,
что создает богатые возможности для установления
новых и нетривиальных связей между ними, творческих
ходов мысли. "Социализация" этих текучих,
субъективных и некоммуницируемых смыслов достигается ценой
утраты ими динамизма и снижения творческого
потенциала "размытого, расплывчатого, но плодоносящего
"поля смыслов"2. Этот творческий потенциал психологи
называют "мощью нерасчленяющего познания".
Особенности режима работы этого последнего совпадают
с характером функционирования интуиции:
неосознанность, невербальность, симультанное схватывание
образов и отношений, континуальность, эмоциональность,
продуктивность, творческий потенциал. Интересно
отметить, что этими особенностями отличается работа
правого полушария головного мозга (в отличие от левого —
дискурсивно-логического и вербального), что дает ряду
исследователей определенные основания видеть в правом
полушарии тот субстрат, который имеет особое
отношение к интуитивному познанию.
Но "мышление без слов" есть, по сути дела, образно-
чувственное постижение, которое отличается от дискур-
сивно-логической мысли примерно так же, как чувство
отличается от разума. Таким образом, современные
исследования проблемы интуиции в психологии помогают
пролить свет на феномен "познания сердцем" у Паскаля.
Не случайно он связывал это последнее с
"чувствованием" в отличие от познания разумом посредством
рассуждения и доказательства. Однако есть исследователи,
которые склонны рационализировать паскалевское понятие
"сердца". Так, Э. Лефевр видит в нем "лишь более высо-
IV
1 Выготский Л. С. Мышление и речь // Собрание сочинений: В 6 т.
М., 1982. Т. 2. С. 347.
2 Бассин Ф. В. У пределов распознанного: к проблеме предречевой
формы мышления // Бессознательное... Т. 3. С. 740.
149
кую форму разума, а не темный инстинкт"^. Или другой
автор, В. Марцишевский, считает, что Паскаль
"воспользовался метафорой сердца как способности ощущения
в отличие от разума как способности рассуждения",
понимая под "ощущениями сердца не что иное, как
интеллектуальные самоочевидности"2. Демистифицируя и
предельно рационализируя понятие "сердце" и находя
другие картезианские темы в философии Паскаля,
Марцишевский даже относит его к "великой
рационалистической традиции наряду с Декартом, Лейбницем
и Спинозой"3.
Соглашаясь с демистификацией этого важного
понятия в гносеологии Паскаля, я все же признаю более
аутентичной трактовку "сердца" как органа чувственной
интуиции. Важно подчеркнуть, что здесь Паскаль, как
и Декарт, несмотря на различия, остается в пределах
"естественного света" человеческого познания.
Впрочем, если "мышление без слов" все же является
мышлением, то рационализация феномена познания
"сердцем" не столь уж лишена смысла. Поэтому, скажем,
А. А. Налчаджян развивает синтетическую точку зрения
на интуицию, считая ее сплавом
интеллектуально-чувственного знания. Однако он не сводит ее ни к тому, ни
к другому роду знания, но видит в ней "одну из высших
познавательных способностей человека"4. Кстати
сказать, синтетическое видение интуиции было развито в
мистической традиции истории философии (Плотин,
Николай Кузанский и др.). Но современная наука понемногу
рассеивает "покров мистицизма", который окутывал
вполне реальную человеческую способность познания.
Интереснее всего то, что у Паскаля есть понятие
"тонкого ума" (esprit de finesse), который он отличал от
"геометрического ума" и функционирование которого
напоминает работу "мышления без слов". Если геометр
имеет дело "с большим числом начал, ясно их различая
и не смешивая их", стремится к четким определениям
и строгим доказательствам по порядку, то человек
тонкого ума "скорее чувствует начала, чем видит их", настоль-
' Lefebvre Е. Pascal. Р., 1925. Р. 167.
2 Marciszewski W. A Rationalistic Interprétation of "Reasons of the
Heart": A Study in Pascal // Dialictics and Humanism. Vol. VII. N 4.
Autumn, 1980. P. 158.
Mbid. P. 155.
4 Налчаджян A. A. Некоторые психологические и философские
проблемы интуитивного познания. С. 156.
150
ко они тонки, неуловимы, разветвленны и
многочисленны, хотя как будто очевидны и привычны для всех, в то
время как начала геометрии "далеки от всеобщего
употребления и непривычны для всех"1. Требуется большая
проницательность и зоркость тонкого ума, говорит
Паскаль, чтобы схватить все это множество едва различимых
начал, не упустив ни одного, что в противном случае
привело бы к неизбежной ошибке. Описывая далее
работу тонкого ума, Паскаль подчеркивает, что эти начала не
выстраиваются в ряд и не поддаются четким
определениям, как геометрические начала. "Здесь надо одним
взглядом увидеть вещь сразу всю целиком, а не изучать ее
методично и постепенно" на основе определений и
доказательств, что имеет место в математике. "Тонкий ум"
делает свои выводы "по подсказке чувств" (selon les
sentiments) и чаще всего не может доказать их
правильность в геометрическом порядке, ибо его доказательства
совершаются "молчаливо, незаметно, безыскусно и как
бы сами собой. Выразить словами сущность этой работы
не может никто, и даже хотя бы чувствуют ее лишь
немногие"2.
Паскаль полагает, что геометры редко способны
к "тонким наблюдениям", равно как люди "тонкого ума"
питают отвращение к сухим математическим
рассуждениям, ибо, "кто привык судить по подсказке чувств, тот
ничего не смыслит в абстрактных рассуждениях, так как не
привык искать начал, а судит о предмете с первого
взгляда. Напротив, кто привык рассуждать на основании начал,
тот ничего не смыслит в доводах чувства, стремясь найти
их начала и не умея схватить вещь одним взглядом"3.
"Тонкий ум" у Паскаля опирается на чувственную
интуицию. Любопытно отметить тот факт, что Паскаль
описывал особенности этой последней так, как будто был
знаком с современными психологическими
исследованиями по проблеме интуиции, что свидетельствует о
большой его проницательности. Принципы работы "тонкого
ума" у Паскаля во многом совпадают с "рабочим
режимом" чувств: и там и тут симультанность схватывания,
синтетичность, тонкая избирательность, безотчетность,
смысловая насыщенность, континуальность. Словом,
'тонкий ум" — это своеобразный "чувственный ум",
1 Pascal В. Pensées. Р. 575 576, Гг. 511 512.
Mbid. Р. 576, fr. 512.
Mbid. P. 597, fr. 751.
151
мышление на основе "подсказок чувств", источник
интуитивного знания о вещах. В этом плане "тонкий ум"
сродни "сердцу", которое является органом чувственной
интуиции.
Что же касается разногласий между Декартом и
Паскалем по вопросу об интуиции, то дело здесь в
понимании не только ее природы, но также и ее происхождения.
Декарт "изъял" интуицию из сферы чувств и опыта для
того, чтобы сделать ее инстанцией всеобщего и
необходимого знания, каковое он связывал только с человеческим
разумом. Отсюда интуиция у него носит
интеллектуальный характер и имеет внеопытное происхождение.
Отсюда же "первичные понятия", схватываемые интуицией, не
могут иметь опытного происхождения и оказываются
врожденными человеческому уму. Не то у Паскаля. Если
Декарт решал вопрос о том, каким должно быть
человеческое познание, чтобы достичь всеобщих и необходимых
истин, то Паскаль пытался разобраться в том, каким оно
является в действительности. У него не было, в отличие
от Декарта, никакого предубеждения против опытного
знания, ибо он был воспитан в духе уважения к опытному
знанию и неприязни к абстрактным рассуждениям и
умозрительной метафизике. Гносеологическое кредо Паскаля
("Мы постигаем истину не только разумом, но и
сердцем") имеет не абстрактно-умозрительное, но опытное
происхождение, равно как и "интуиции сердца", которые
не нуждаются в доказательствах в силу их чувственного
характера. "Сердце" чувствует "первые принципы"
познания, которые являются и "первыми принципами"
бытия (пространство, время, существование, число и т. д.).
Источником "интуиции сердца" у Паскаля является сама
жизнь, практическая деятельность человека, а не
априорное теоретизирование.
О. К. Тихомиров считает, что в познавательной
деятельности человек использует обобщения "качественно
разнородные": "практические обобщения", которые
складываются у него "в результате действий с предметами"
и которые могут быть неосознаваемыми невербализован-
ными, и осознаваемые вербализованные обобщения. Оба
рода обобщений взаимно дополняют друг друга.
Причем, "в актах интуитивного мышления неосознаваемые
обобщения могут играть доминирующую роль"1. Так,
1 Тихомиров О. К. Искусственный интеллект и проблема
бессознательного // Бессознательное... Т. 3. С. 63.
152
"интуиции сердца" Паскаля получают свой реальный
смысл и в этом плане.
Признавая высокую значимость геометрического
метода и "геометрического разума" с его цепями строгих
доказательств, Паскаль не ущемляет в гносеологии
чувственных способностей человека и связанного с ними
опыта. В соответствии с предметом познания
варьируется у Паскаля и метод его постижения, что помогает ему
избежать методологических крайностей как эмпиризма,
так и рационализма. Признавая "опыты единственными
основаниями физики"1, четко придерживаясь фактов при
изучении природных явлений, Паскаль
продемонстрировал превосходное владение индуктивными приемами
исследования в серии экспериментов с вакуумом. По удач*
ному выражению Р. Генансья0 метод в физике у Паскаля^
"весьма точно учитывает уроки вещей... и потому
является апостериорным"2.
С другой стороны, Паскаль далек от абсолютизации
опыта, эксперимента, индуктивных приемов
исследования, сочетая их с аксиоматико-дедуктивной стратегией
познания как наиболее эффективной на пути
"совершенных доказательств истины". Потому в физике он
широко использует дедукцию, смелые гипотезы, мысленный
эксперимент и т. д. Придавая огромное значение
гипотезе, Паскаль весьма осторожен в их выборе и более
требователен в этом плане, чем Декарт. Последний
считал гипотезу приемлемой, если ее следствия
подтверждаются опытом. Паскаль же думает, что согласия
с опытом отнюдь не достаточно для принятия гипотезы,
"ибо как одна и та же причина может вызвать ряд
различных следствий, так и одно и то же следствие
может быть произведено рядом различных причин"3.
Сами по себе реальные факты не обладают
эвристической силой по отношению к гипотезам. Так, скажем,
движение планет, говорит Паскаль, превосходно
выводится из гипотез Птолемея, Тихо Браге, Коперника
и еще множества других, которые вполне допустимы.
Но кто только на этом основании осмелится утверждать
об истинности одной из них в противовес другим. Здесь
необходимо всестороннее исследование. Вот почему ин-
1 Pascal В. Préface sur le Traité du vide. P. 231.
2Guenancia P. Pascal et la méthode expérimentale // Méhodes chez
Pascal. P. 127.
3 Pascal B. Réponse au père Noël// Oeuvres complètes. P. 202.
153
дуктивно-эмпирический критерий оценки гипотез
Паскаль дополняет аксиоматико-дедуктивным: "Если из
отрицания гипотезы следует явный абсурд, тогда она
является истинной_и прочной; когда же явный абсурд следует
из ее утверждения, тогда она оказывается ложной, и,
наконец, если нет ничего абсурдного ни в ее отрицании,
ни в утверждении, тогда она является сомнительной"1.
Паскаль доказывает ложность гипотезы отца Ноэля о
невозможности пустоты в природе ("полноте пустоты"),
показывая, что из ее утверждения следуют "вещи,
абсолютно противоположные опыту", тогда как частичное
индуктивное подтверждение этой гипотезы вполне
возможно, что и создает видимость ее правдоподобности, но
не истинности.
Таким образом, при испытании гипотез Паскаль
совершенно сознательно использует более сильный
"фильтр", чем индуктивное подтверждение, — критерий
опровержения дедуктивно полученных следствий из той
или иной гипотезы и соответствующей логической
оценки этой последней: "...для принятия гипотезы еще
недостаточно, чтобы все явления из нее выводились,
так как достаточно вывести из нее некоторое следствие,
которое бы противоречило хотя бы одному из этих
явлений, чтобы гипотезу признать ложной"2. Данный
критерий и в современной теории гипотезы считается
более строгим, чем индукция, хотя значение последней
отнюдь не отрицается.
По сути дела, Паскаль, как и Декарт, относится
к тем ученым XVII в., которые начали использовать
гипотетико-дедуктивный метод в опытном
естествознании, хотя удельный вес индукции и дедукции в их
научных исследованиях был весьма различным.
Теоретически, как ученый и философ, Декарт был сторонником
аксиоматико-дедуктивного метода, но практически в
своих естественно-научных исследованиях он широко
использовал эксперимент и индукцию, правда, при
непременном подчинении этих последних метафизическому
суду разума, что и является в значительной степени
причиной умозрительного характера его физики и
натурфилософии. Паскаль же с его неприятием абстрактно-
умозрительных систем знания (метафизики,
схоластической логики и схоластической науки) вообще и ориентации
1 Pascal В. Réponse au père Noël. P. 202.
2 Ibidem.
154
на конкретное естествознание и математику, как и
Декарт, видел идеал науки в этой последней и потому
не мог удовлетвориться системой классической
индуктивной логики при анализе опытных данных и
обосновании экспериментальной науки.
В самом начале указанного письма к отцу Ноэлю —
в качестве методологической преамбулы к полемике
с ним по вопросу о пустоте — Паскаль и формулирует
уже рассмотренное выше "универсальное правило"
принятия истины, аксиоматико-дедуктивное по существу, но,
по словам английского ученого А. Бэрда, с "важной
эмпирической модификацией", поскольку то, что
представляется "ясным и отчетливым для чувств", также
считается Паскалем достоверным и истинным'. Сила
Паскаля в полемике с ученым-схоластом заключалась как
в опоре на факты и эксперимент, так и в аксиоматико-
дедуктивном их осмыслении.
В эпоху противостояния эмпиризма и рационализма
в науке и в философии Паскалю, на мой взгляд, удается
избежать односторонности и ограниченности того и
другого и более диалектически решить проблему
"методологической оснащенности" конкретного процесса познания.
В целом в области методологии он стоял ближе к
Галилею с его довольно гибким и разносторонним "резолю-
тивно-композитивным методом", чем к Декарту или Ф.
Бэкону. Поэтому нельзя согласиться, скажем, с выводом
Л. И. Филиппова о том, что научный метод Паскаля
"диаметрально противоположен" декартовскому и
соответствует "разработанному Ф. Бэконом методу
индукции"2. Равной ошибкой было бы однозначно считать
метод Паскаля декартовским, просто аксиоматико-дедук-
тивным, ибо в области "геометрической
компетентности" он опирается и на индукцию, и на интуиции
"сердца", и на пространственную наглядность.
Стремясь определить методологическую "технику"
Паскаля, связанную с многообразием используемых им
средств (методов, приемов, способов и т. д.), авторы
называют ее то "универсальной", то
"плюралистической". Паскаля считают наряду с Декартом творцом акси-
оматико-дедуктивного метода, зачинателем эксперимен-
1 Biùrd Л. La méthode de Pascal en physique // Méthodes chez Pascal.
P 114.
1 Филиппов Jl. И. Паскаль // История диалектики в XIV-XVII вв. М.,
1974. С. 138.
155
тального метода в естествознании и мастером
индуктивной "техники" исследований, блестящим представителем
полемических и риторических приемов защиты истины,
предшественником Канта в использовании
"антитетического метода" и Гегеля — диалектического метода.
На мой взгляд, можно говорить о методологической
диалектике у Паскаля, на что я уже указывала в связи
с его научной деятельностью. Диалектика проявилась
в органическом, внутреннем сочетании и
взаимопроникновении противоположных приемов исследования
(анализ и синтез, индукция и дедукция, дискурсия и интуиция,
конкретность и обобщающее умозрение и т. д.),
вдумчивом отношении к фактическому материалу и учете
"уроков вещей", всестороннем целостном анализе и
обобщающем глубоком синтезе, максимальном исчерпании
следствий (будь то в физике, математике или философии).
Методологическая диалектика Паскаля связана не только
с его активной и чрезвычайно плодотворной научной
деятельностью, но и с нетрадиционным типом
философствования. Его не сковывали догмы и авторитеты старой
и новой философии, и в вопросах метода он шел от
самого предмета исследования, сообразуя с ним тактику
этого последнего. Диалектика была как бы
методологической стратегией Паскаля.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть
аутентичность методологии Паскаля предмету его исследований,
что в дальнейшем получит развитие в диалектике Гегеля
в качестве принципа "имманентности метода
содержанию". В практике и теории научных исследований
Паскаль в высшей степени стоял на уровне научных задач
своей эпохи, выступившей в защиту экспериментального
изучения природных явлений в противовес
схоластической науке, опиравшейся в общем на формальную логику,
умозрение и авторитет. В полемике с отцом Ноэлем,
представлявшим схоластическую парадигму знания,
Паскаль, по словам Ж. Майеля, формирует и утверждает не
только классическую парадигму, но и совершает
"опережающее движение" в разработке "современной эписте-
мы"1. Так, в области методологии у Паскаля речь идет
о более глубокой, конкретной и содержательной логике
научных исследований, нежели формальная логика,
которую знала его эпоха. В немецкой классической филосо-
1 Miel J. Les méthodes chez Pascal et l'épistème classique // Méthodes
chez Pascal. P. 27.
156
фии, начиная с Канта и кончая Гегелем, это будет
проблема создания так называемой "диалектической логики",
на материалистической основе развитой затем в
марксистской философии. Приоритет содержательного
момента знания над формальным при изучении различных
явлений действительности выражен самим Паскалем
в характерной для него форме парадокса; например,
"Истинная мораль смеется над моралью" (то же о
философии или красноречии), что вполне может быть
перефразировано соответственно методологии: "Истинный
метод смеется над методом" (удачная находка Дэвидсона).
4. "ИСКУССТВО УБЕЖДЕНИЯ"
Сфера методологии Паскаля не ограничивается
доказательством истины, но дополняется "искусством
убеждения" в ней. Это связано у него с особым пониманием
индивидуального субъекта познания. Нет у Паскаля
довольно распространенной в рационализме XVII в.
"абстракции гносеологического субъекта", согласно которой
познавательная деятельность осуществлялась
беспристрастным "интеллектуальным роботом" или "духовным
автоматом" (Б. Спиноза), неподвластным, так сказать,
"человеческим измерениям бытия". Во имя "чистого"
процесса познания подвергалось "редукции" все то, что
было связано именно с "человеческим исканием истины":
эмоции, страсти, воля, личный и классовый интерес и
вообще весь психологический и социально-исторический
'юризонт познания". Гносеологическая деятельность
подобного "дистиллированного субъекта" протекала как
бы параллельно его реальной и конкретной жизни.
"Поток познания" и "поток жизни" были разведены.
Но, с другой стороны, философы нового времени
стремились связать науку и философию с жизнью, с
практическими задачами людей. Получалось так, что
"высокое небо истины" создавалось бескорыстной культурной
элитой, а практическим потребителем истины должно
было стать все человечество. Для него-то и трудились
ученые-отшельники Пор-Рояля, создавая свою "Логику,
или Искусство мыслить" и разрабатывая свой
"синтетический метод", включавший не только "искусство
доказательства", но и "искусство убеждения" в истине. Оба
вида искусства были предложены Паскалем и вошли
157
в "Логику..." Пор-Рояля, в которой он уважительно
представлен как "мастер искусства убеждения".
Человек, согласно Паскалю, постигает истины не
только разумом, но и волей, сердцем, не только ищет или
знает истину, но и хочет или не хочет ее искать или знать.
"Самый естественный путь" постижения истины, считает
он, лежит через разум и его доказательства, но "самый
обычный" — через согласие воли, "принципы и
движущие силы" которой отличны от всеобщих и необходимых
принципов разума. "Принципы воли" варьируются от
индивида к индивиду, а также изменяются у одного и
того же человека в разные периоды его жизни. Они
различны "у мужчины и женщины, у богатого и бедного, у
принца, солдата, купца, буржуа, крестьянина, у старых и
молодых, у здоровых и больных"1, поскольку различны их
желания, интересы и цели деятельности.
Паскаль не допускает мысли (столь естественной для
рационалистов!) о том, что разум может и должен
действовать абсолютно суверенно, независимо от воли
и сердца. Если даже общепризнанные истины расходятся
с желаниями сердца, то человек балансирует между теми
и другими, и результат этой мучительной борьбы трудно
предсказать, настолько человек подчас плохо знает
"капризы своей воли". Но "нет ничего прекраснее на свете",
уверен Паскаль, когда "общепризнанные истины
согласуются с желаниями сердца": тогда неотвратимо их (истин)
действие на человека. "Напротив, то, что не имеет
никакого отношения ни к нашим верованиям, ни к желаниям,
представляется для нас ненужным, ложным и абсолютно
чуждым"2.
Поскольку полнейшая "бескорыстность"
познавательной деятельности есть иллюзия для Паскаля,
постольку он считает необходимым не только
"доказывать" (démontrer) истины человеку, но и "убеждать"
(persuader) его в них, делая их для него не только
понятными, но и "приятными". Причем доказательство
Паскаль связывает с правилами геометрического
метода, а "искусство убеждения", которое является
"несравненно более трудным, тонким, полезным и
замечательным", — с тактикой психологического,
эстетического и нравственного воздействия на индивида. Он
честно признается в своем бессилии сформулировать
1 Pascal В. De l'art de persuader. P. 356.
4bid. P. 355.
158
"надежные правила искусства убеждения", поскольку
"принципы воли не являются постоянными и
устойчивыми"1, но все-таки хочет верить в то, что они
могут быть найдены. Сам Паскаль практически владел
"искусством убеждения", как никто другой из
современников, продемонстрировав его в своих
произведениях, особенно в "Письмах к провинциалу" и в
"Мыслях".
Так, в "Письмах..." он не просто разоблачал ложь
и хитроумные спекуляции иезуитов, не просто выступал
от имени истины (это делал и А. Арно в своих
сочинениях, суховатых и педантичных), а буквально заставлял
читателей почувствовать и пережить лицемерие и
коварство иезуитских проповедников. Он учил людей страстно
любить истину и правду и с не меньшей страстью
ненавидеть ложь во всех ее ликах. Вся система
изобразительных средств в руках Паскаля-писателя была призвана
убедить, покорить не только ум, но и сердце читателя,
внушить ему истину. Отсюда "искусство красноречия"
для него должно сочетать "истинное с приятным", чтобы
оратора можно было слушать не только "без труда, но
и с удовольствием". Вся "писательская техника" Паскаля
вносит свой вклад в его "искусство убеждения".
Если обобщить ряд приемов, практикуемых им для
убеждения читателей, то они сводятся к следующим. Во-
первых, широкое использование впечатляющих образов
и картин в ходе изложения мыслей. Во-вторых, его
предельная искренность как автора, простота и
естественность, отсутствие какой бы то ни было фальши, ложной
патетики, аффектации, которые завоевывают "сердца"
читателей. Он не одобряет всякие "ложные красоты"
в сочинении, которые находит, например, у Цицерона,
и удивляется большому числу их почитателей. Сам же он
считает критерием совершенства произведения его
общедоступность для широкого читателя: "Самые лучшие
книги суть те, при чтении которых люди верили бы в то,
1110 они сами могли бы их написать"2. В-третьих,
эмоциональная выразительность текста, насыщение его
оттенками чувств — от возвышенно-трагических до
проникновенно-лирических и тонкоиронических, о чем я подроб-
ио говорила в I главе. В-четвертых, эмоциональная
открытость Паскаля людям. Он не только одобряет тех,
1 Pascal В. De l'art de persuader. P. 356.
2 Ibid. P. 358.
159
"кто ищет истину со вздохом", но и сам "ищет ее,
стеная". Обращаясь к уму и "сердцу" читателей, он
открывал им "бездны" своего ума и глубины своего
"сердца". Вот почему Лев Толстой считал, что Паскаль писал
"кровью своего сердца", чем и располагал "сердца"
читателей. В-пятых, использование некоторых приемов
"доброй устной беседы" (недаром он упоминает об "искусстве
беседы" Монтеня) с ее атмосферой доверия и
доброжелательства, мягким психологическим микроклиматом,
способствующим взаимопониманию. В-шестых, умение
видеть правоту своих идейных противников. Если хотите
переубедить кого-либо, советует он, то прежде всего
уясните, с какой стороны он прав, а затем покажите то, в чем
он не прав: "Обычно люди сердятся не тогда, когда
слышат упрек в том, что они не все видят, а тогда, когда
им указывают на ошибку, ибо по природе своей человек
не может все видеть, но по природе же он не может
заблуждаться в том, что видит..."1 Истина многогранна,
считает Паскаль, и явления ее разнообразны, так что ни
одно из них нельзя упускать, кем бы они ни были
подмечены. Уважительное отношение к мнению других людей
было не только долгом интеллектуальной совести
Паскаля, но и одним из приемов его "искусства убеждения".
Наконец, в-седьмых, его умение выразить истину
через противоречие в форме парадокса. Парадоксы
Паскаля предельно содержательны, семантически емки. Он не
допускал бессодержательного "жонглирования"
антитезами и противоречиями и уподоблял тех, кто это делал,
плохим архитекторам, которые навешивают "фальшивые
окна для симметрии". Важны не сами по себе
противоречия, убежден Паскаль, но истина о вещах, потому
наличие противоречия еще не свидетельствует о
ложности высказывания, равно как отсутствие противоречия не
есть признак его истинности.
С точки зрения современной психологии "искусство
убеждения" Паскаля легко увязывается со спецификой
функционирования объективного знания на уровне
индивидуального сознания. Так, развивая идеи Л. С.
Выготского о двух планах речи, А. Н. Леонтьев проводит
различение между объективными "надындивидуальными
значениями" и "субъективным личностным смыслом"
(значением для субъекта) как показателем
"пристрастности человеческого сознания". Если объективные значе-
1 Pascal В. Pensées. Р. 592, fr. 701.
160
ния выражаются в речи и являются общезначимыми, то
"личностный смысл", очень тесно связанный с
"чувственной тканью сознания", уникальностью конкретного
мировосприятия, лишь с большим трудом находит для себя
адекватные средства выражения. Этими последними
могут быть все те же равнодушные к "личностному смыслу"
значения, неизбежное несовпадение которых с ним
порождает, согласно А. Н. Леонтьеву, "драматизм
индивидуального сознания", "муки творчества", трудности
самовыражения индивидуального "я". Отсюда возникают
трудности в передаче "личностного смысла" и другим
людям. Легче это достигается в сфере художественного
творчества и его воздействия на людей, в условиях
эстетического общения, нравственного воздействия,
эмоционального сопереживания и т. д.1 Здесь и паскалевское
"искусство быть приятным" получает свой глубокий и
весьма значимый смысл.
Кроме того, его "искусство убеждения",
принимающее во внимание капризы и прихоти воли и "сердца"
людей, затрагивает еще один аспект индивидуального
знания, который в настоящее время вызывает все более
глубокий интерес у психологов, философов, социологов.
Речь идет о бессознательном восприятии и
функционировании информации. Согласно А. Н. Леонтьеву,
"личностный смысл" формируется не только в плане сознательной
деятельности, но и на аффективно-волевом уровне, где
смыслообразующие компоненты могут оставаться как
бы "за занавесом" и не осознаваться. Отсюда реальное
наличие суггестивного элемента в любых формах
человеческой деятельности (в том числе и познавательной) и
общения между людьми. Но суггестия, апеллирующая к
активности бессознательного, "подчиняется специфическим
закономерностям, во многом отличным от обычных
закономерностей работы ясного сознания"2.
Если классический рационализм в лице Р. Декарта при
анализе познавательной деятельности человека
апеллировал главным образом к активности мышления и
сознания (отождествляя то и другое) и проходил мимо
активности бессознательного, то Паскаль, по сути дела,
обращает внимание на эту последнюю, когда говорит
1 Леонтьев А. Н. Деятельность и сознание // Вопросы философии.
1972. № 12. С. 134-140.
2 Бассин Ф. В., Рожнов В. Е. Проблема неосознаваемой психической
Деятельности // Вопросы философии. 1975. № 10. С. 108.
Заказ № 4951
161
о воздействии на волю, сердце человека. Для него
человеческое постижение истины, уникально-индивидуальное
усвоение знания является неистребимым элементом
познавательного процесса, который при соответствующих
условиях может как тормозить познание объективной
истины другими людьми (помимо ее
первооткрывателей), так и существенно ускорять его. Знание и умение
применить "искусство убеждения" способствует этому
последнему отнюдь не только в сфере гносеологии,
"профессионального познания", в научных сообществах, но
и во всех областях человеческой жизни.
Особенное значение "искусство убеждения" Паскаля
имеет для учителей, педагогов, воспитателей всех
уровней, перед которыми стоит задача донести знания не
только до ума, но и до "сердца" учащихся и воспиту-
емых, придать знаниям не только
доказательно-дискурсивный, но и притягательно-интуитивный, убедительный
характер. Недаром выполнение этой задачи считается
идеалом совершенного образования и воспитания.
Приходится удивляться мудрости Паскаля, который в свой
рационалистический век отстаивал интересы и
потребности человеческого "сердца" и понимал, что способы
воздействия на него представляют собой искусство, а не
просто "методику убеждения". В этом состоит не только
гносеологический, но и глубокий гуманистический смысл
"искусства убеждения" Паскаля.
5. "УТЕШЕНИЕ ИСТИНОЙ"
Утешения ничто не дает, кроме
истины, и ничто, кроме искреннего
искания истины, не дает успокоения
нашему сознанию.
Паскаль
Ряд исследователей философии Паскаля склонны
оценивать его гносеологические взгляды в духе скептицизма
(В. Кузен, Р. Поливе, M. М. Филиппов и др.) или даже
агностицизма, сближая их с позицией Канта (А. Д.
Гуляев, Л. Голдман)1. Подобная оценка мне представляется
'Cousin V. Études sur Pascal. P., 1857. P. 83; Филиппов M. M.
Паскаль, его жизнь и научно-философская деятельность. Спб., 1891;
Гуляев А. Д. Этическое учение в "Мыслях" Паскаля. Казань, 1906. С.
105, ПО, 252; Goldmann L. Le dieu caché. P., 1955. P. 258.
162
неправильной, поскольку односторонне опирается на
совокупность аргументов Паскаля против догматизма без
учета его решительной оппозиции пирронизму. Более
прав М. Легерн, который — вслед за Ж. Шевалье —
усматривал нечто общее у Декарта и Паскаля в их борьбе
против скептицизма1.
Паскаль понимает под догматизмом такую
гносеологическую позицию, согласно которой человеку доступно
абсолютное и полное познание всего существующего
и обладание объективной "чистой" истиной. Очень ярко
ее выражает Декарт в "Рассуждении о методе": "...нет
ничего ни столь далекого, чего нельзя было бы достичь,
ни столь сокровенного, чего нельзя было бы открыть"2.
Это гордое и оптимистическое заявление Декарта, для
которого реальность была "прозрачной для разума",
опиралось на панлогическое кредо рационализма:
"Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей".
Выдвинутое Спинозой это положение вместе с тем
открывало путь для онтологизации спекулятивных
сущностей, чем и "грешила" подчас рационалистическая
метафизика Декарта. Паскаль же заостряет свое внимание на
том, что действительность неизмеримо шире любой
интеллигибельной конструкции, так что всемогущество
разума в гносеологии есть не что иное, как необоснованная
догма. В отличие от Декарта, Спинозы, Лейбница
Паскаль не является панлогистом.
Кроме того, если Декарт сознательно
абстрагировался от субъективно-человеческих и
социально-исторических условий реального процесса познания (не уделяя
должного внимания относительности истины) и выдавал
конечный результат познающей деятельности
"сублимированного субъекта" за "чистую" и абсолютную истину,
то Паскаль прекрасно понимал экзистенциальный
характер человеческого познания и видел все трудности
перехода от субъективного и относительного знания к
объективной и абсолютной истине.
Образ "вечной и чистой истины" запечатлен в душе
Паскаля как абсолютная ценность, как тот идеал,
самоотверженное служение которому было смыслом и целью
его жизни. Этот идеал, провозглашенный в античности
Платоном, всегда был "высшим светом" для лучших
1 Chevalier J. Pascal. P., 1922. P. 22; Le Guern M. Pascal et Descartes. P.,
• P.161.
2 Декарт P. Избранные произведения. M., 1950. С. 273.
163
представителей европейской философии и культуры.
Защита истин нравственного порядка и нравственного
достоинства личности является подлинным пафосом
борьбы Паскаля против иезуитов в "Письмах к провинциалу".
В одиннадцатом письме он признается: "Я могу сказать
как перед Богом, что нет ничего, что бы я более
ненавидел, как малейшее нарушение истины"1. Именно высокое
представление об истине заставляет Паскаля остро
чувствовать и ограниченность (реальную и неизбежную для
каждого поколения!) человеческих знаний, и
незавершенность их на каждом этапе исследования, и
относительность мнений людей, и противоречивость проявления
самой истины, которая никогда не выступает в чистом
виде.
Все это порождает неизбежную диалектику истины
и заблуждения, их переплетение, взаимообнаружение
и даже взаимопроникновение. Во-первых, истина и ложь
не противостоят друг другу, как свет и тьма, но границы
между ними относительны и условны. В третьем письме
к провинциалу мы встречаемся с таким замечанием:
"Истина столь тонка, что, чуть отступишь от нее,
впадаешь в заблуждение, но и заблуждение столь тонко, что,
едва отклонишься от него, обретешь истину"2.
Во-вторых, главный парадокс истины и заблуждения состоит
в том, что истина обнаруживается через заблуждение,
ошибку и ложь. Они превращаются в средства ее
обнаружения, теряя, так сказать, свою
"субстанциальность". Поэтому, говорит Паскаль, когда люди не
знают истины, хороши и всеобщие заблуждения, которые
побуждают людей пытливых к размышлениям и
исследованиям. В-третьих, нет "чистой истины" или "чистой
лжи", поскольку их относительность, условность,
неполнота приводят к тому, что с какой-либо стороны
истина оказывается ложью и наоборот. "Каждая вещь
в этом мире частью истинна и частью ложна... Ничто не
бывает безусловно истинным, и, таким образом, ничто
не истинно в смысле чистой истины... Мы только
отчасти обладаем истиной и благом вперемежку с ложью
и злом"3.
Где же тот маяк, спрашивает Паскаль, который в
"бурливом море познания" освещал бы истинный путь? Где
1 Pascal В. Les provinciales. P. 422.
4bid. P. 380.
3 Pascal B. Pensées. P. 617, fr. 905.
164
тот "документ на истину", который можно было бы
предъявить всем, не верящим в нее? Говоря о
единственной точке зрения, с которой картину лучше всего видно,
Паскаль задается вопросом о такой же точке зрения
в гносеологии, науках о природе, человеке, в сфере
нравственности. Словом, в разных планах Паскаль, по сути
дела, ставит проблему объективного критерия истины,
благодаря которому человек имел бы "твердую почву"
под ногами, а не носился, как щепка, по воле волн
в стихии познания. Ф. Бэкон нашел его в опыте,
адекватном природе, Декарт и Спиноза — в ясности и
самоочевидности знания для "естественного света" разума. Но
Паскаль видит относительность этих критериев. Кроме
того, он понимает неоднозначность решения этой
проблемы в разных науках. В естествознании, например,
надо следовать за самой природой и "судить в
соответствии с ней", а не по самим себе.
В "Предисловии к трактату о пустоте" Паскаль
приближается к пониманию истины как объективного
содержания знания, соответствующего природе. Хотя природа
всегда остается самой собой, но "свои тайны" она
раскрывает человеку лишь "по временам". Истина
пребывает вечно в ней, потому "она древнее всех наших мнений
о ней, и мы не знали бы ее природы, если бы полагали,
что она начинает существовать только тогда, когда
поддается нашему познанию"1.
Еще труднее дело обстоит в науках о человеке и в
сфере нравственности, связанных с "человеческими
установлениями", которые меняются от эпохи к эпохе, от
поколения к поколению и от государства к государству. Здесь
"истину измеряют меридианом", говорит Паскаль, и то,
что истинно по ту сторону Пиренеев, то ложно по эту
сторону. Поднятие на один градус широты "ставит вверх
дном всю юриспруденцию". Но и в пределах одного
и того же государства подобного рода истины зыбки,
текучи и противоречивы.
Итак, мы не постигаем абсолютной истины, согласно
Паскалю, в смысле ее "чистоты" и совершенства. Этот
вывод дополняется и другим: поскольку мир бесконечен,
а наше знание всегда ограничено, постольку нет
абсолютной истины в полном ее объеме. Нет такой
всеобщей истины, чтобы с какой-нибудь стороны, говорит
Паскаль, она не оказалась неполной. В силу этого про-
1 Pascal В. Préface... Р. 232.
165
цесс познания никогда не может иметь конца: "...все
науки бесконечны по объему их исследований (например,
геометрия может предлагать бесконечное число задач)
и... по числу и неуловимости их принципов..."1 Паскаль
допускает бесконечный прогресс познания, "субъектом"
которого является человечество в целом, в бесконечной
смене поколений. Но бесконечность познания, считает он,
никогда не совпадает с бесконечностью
действительности, оставляя вечно открытыми вопросы о
"первопричинах", "первых началах" и "последних основаниях"
вещей, на однозначное толкование которых претендуют
догматики2. Отсюда Паскаль поражается
самонадеянности и тщеславию иных философов, которые претендовали
на познание "всего существующего". Он осуждает
Демокрита за его стремление "говорить обо всем", Пико
делла Мирандолу за название его 900 тезисов "Обо всем,
что познаваемо". Для Паскаля все это есть выражение
необоснованного "догматизма", представители
которого, преодолев "естественное незнание" (данное человеку
от рождения), не дошли до уровня "ученого незнания",
которого достигают великие души, изведав все, что
можно знать. "Догматики" находятся посередине между
этими двумя крайними пределами знания и, считает
Паскаль, только с виду кажутся знающими3.
Антидогматическую тенденцию носят его
размышления о причинах человеческих заблуждений, их условиях
и даже малейших поводах. Если для Декарта главной
причиной заблуждений было влияние воли на разум, то
для Паскаля — в духе античного скептицизма — их
великое множество. Человек ограничен как по своей
природе, так и по своим способностям. Его чувства и
разум постигают только определенный диапазон явлений.
Так, например, чувства человека не переносят никаких
крайностей: слишком сильный шум нас оглушает,
слишком яркий свет ослепляет, очень далекое и очень близкое
расстояния мешают нам видеть, мы не чувствуем ни
крайнего тепла, ни крайнего холода и т. д.4 Кроме того,
любовь и ненависть, другие страсти души, равно как
и нравственные пороки, личный интерес, болезни тела,
"повреждают" наши чувства и мешают им видеть ис-
1 Pascal В. Pensées. Р. 526, fr. 199.
2 Ibidem.
4bid. P. 509—510, fr. 83.
Mbid. P. 527, fr. 199.
166
тинное положение вещей. Особо Паскаль выделяет
воображение в качестве причины заблуждений. Умея
безраздельно властвовать над человеком, воображение
"установило в нем вторую природу", подчас враждебную его
разуму. Паскаль считает, что даже "самый великий
философ в мире" не сможет без страха пройти над пропас-
тью по широкой доске, хотя бы разум и убеждал его
в полной безопасности1.
Так, "чистый, благородный разум" поддается всякому
влиянию: "Сколько бы разум ни кричал, он не может сам
оценивать вещи"2.
По своему природному достоинству разум должен бы
являться критерием истины и "правым судьей" в любом
споре. Он мог бы исправлять неверные или смутные
показания наших чувств. Он сам претендует на роль
"третейского судьи", но... "бывает подвержен влиянию
всякого чувства"3. Разум и чувства ведут междоусобную
войну, которая представляет "самую нелепую причину
заблуждений". В ходе этой борьбы чувства и разум
взаимно обманывают друг друга "ложной видимостью".
Поразительно, но Паскаль как будто не обращает
внимания на тот факт, что чувства и разум могут взаимно
помогать друг другу, исправляя их показания и ложные
свидетельства.
Паскаль знает могучую силу и власть человеческого
разума, величественнее которого для него нет ничего
в природе, но — в отличие от рационалистов — он знает
и его слабости, многочисленные недостатки. Правда, он
не "певец" этих недостатков разума, но скорее их чуткий
регистратор. Он фиксирует их не бесстрастно, как
сторонний и равнодушный наблюдатель, но с чувством
огорчения, сожаления, печального удивления и даже тоски.
И центральным лейтмотивом здесь оказывается
ощущение глубокого парадокса, противоречия, разлада между
высоким природным достоинством разума и его
реальными слабостями. Именно потому, что в соответствии
с духом своего времени Паскаль слишком высоко ставит
человеческий разум, он "пронзительно" поражен его
несовершенством: "Все достоинство человека заключено
в мысли, но что такое эта мысль? Как она глупа! Она
великолепна и несравненна по своей природе. Разве необ-
' Pascal В. Pensées. Р. 504, fr. 44.
Ibidem.
3 ïbid. P. 578, fr. 530.
167
ходимо, чтобы она имела столь чуждые ей недостатки, за
которые она достойна презрения, а между тем она полна
ими до нелепости. Как она величественна по своей
природе, как она низка по своим недостаткам"1.
Рационалистическому представлению о могуществе
человеческого разума Паскаль противопоставляет его
трезвую оценку, указывая как на его "величие", так и на
его "ничтожество": силу и слабость, бесконечность (ибо
он бесконечно совершенствуется) и ограниченность,
объективность, неподкупность и "зависимость от всякого
влияния", проницательность и ослепление и т. д.
Достоинство человеческого разума, согласно Паскалю, состоит
в том, что он знает свою собственную ограниченность
и признает гносеологическую ценность внешних чувств,
опыта, интуиции "сердца". Сила разума — в его
определениях и доказательствах, логике,
последовательности рассуждений, но в этом же — и его слабость, ибо есть
вещи, которые не надо определять (первичные термины)
и доказывать (аксиомы), равно как и такие вещи, которые
надо видеть "одним взглядом", а не "медленно
обсуждать их".
Диалектический ум Паскаля не переносит
односторонних суждений, однозначных решений и всяких
преувеличений и абсолютизаций. Отсюда понятен его афоризм:
"То признают один разум, то исключают разум"2. Не
случайно, что "культу разума" он не противопоставил
"культ чувства" или интуиции, но определил каждой
гносеологической способности свою "законную" сферу
компетентности. Не случайно он не принял ни
одностороннего рационализма, ни одностороннего эмпиризма.
И тем более не случайно гносеологическому
заблуждению своего века относительно "чистого" субъекта
познания и "незаинтересованного" разума он противопоставил
реальную конкретную познающую личность во всем
многообразии ее деятельности, в которой — словно в
материнском лоне — осуществляется и познавательный
процесс. Зависящий от великого множества факторов,
внешних и внутренних, этот процесс демонстрирует не только
взлеты и победы человеческого разума (ему ли,
блестящему ученому, их не знать!), но и его падения, ошибки
и поражения, которые и сам Паскаль изведал в своей
трагической жизни.
1 Pascal В. Pensées. Р. 597, fr. 756.
4bid. Р. 524, fr. 183.
168
Раскрывая другие причины человеческих
заблуждений Паскаль говорит о субстанциальной
несоизмеримости мира и человека, опираясь на идущее из античности
положение: "Подобное познается подобным*'. Он
принимает декартовский дуализм духовной и материальной
субстанции, но делает отсюда отнюдь не картезианские
выводы. Поскольку человек сложен, т. е. состоит из души
и тела, постольку ему трудно постигать простые вещи,
материальные либо духовные. Вот почему философы
нередко смешивают идеи с вещами и говорят о телесных
вещах, как о духовных ("тела стремятся вниз", "они
противятся разрушению", "природа боится пустоты",
"вещи имеют склонности, симпатии, антипатии" и т. д.),
а о духовных, как о телесных. В последнем случае
Паскаль имеет в виду ошибку Декарта, считавшего
животных бездушными автоматами. Паскаль же признавал
у них наличие воли и психической деятельности, видя
в них промежуточное звено между бездушным
механизмом природы и духовным миром человека.
Но и сложные вещи человек знает не более, чем
простые, ибо, считает Паскаль, мы меньше всего понимаем
взаимосвязь души и тела. Он отвергает предположение,
что человек есть только телесное существо, ибо в таком
случае он ничего не мог бы знать. Основанием такого
утверждения является убеждение Паскаля в том, что
материя не может мыслить и "знать самое себя". Здесь он
следует за Августином и Декартом, также считавшими
"нелепостью" допущение о возможности "мыслящей
материи".
Рассмотрев подробно причины человеческих
заблуждений, а по сути дела, указав на многочисленные
трудности познания, Паскаль делает некоторые неутешительные
выводы: "Справедливость и истина — два столь тонких
острия, что наши инструменты слишком грубы, чтобы их
касаться с точностью. Прикасаясь к ним, они их
сплющивают и опираются на окружающую их плоскость, скорее
на ложь, чем на истину"1. Следующий вывод звучит
с горькой иронией: "Следовательно, человек столь
счастливо устроен, что не располагает никаким верным
критерием (principe) истины, зато имеет несколько отличных
критериев лжи"2. Но было бы значительной ошибкой, на
мои взгляд, определять общий характер гносеологичес-
1 Pascal В. Pensées. Р. 505, fr. 44.
2 Ibidem.
169
кой позиции Паскаля, исходя только из
вышеизложенного.
Все аргументы Паскаля против "догматизма" нельзя
истолковывать в духе кантовского агностицизма, как это
делает, например, А. Д. Гуляев в своей докторской
диссертации "Этическое учение в "Мыслях" Паскаля".
Иногда он проводит слишком прямые параллели между пас-
калевским исследованием ограниченности разума и
неполноты человеческого познания и кантовской "критикой
чистого разума", его сознательным ограничением
познания миром явлений и принципиальной непознаваемостью
"вещи в себе"1. Делая Паскаля "гениальным
предшественником" Канта, Гуляев не учитывает того факта, что
французский философ, в отличие от немецкого
мыслителя, не ставит перегородки между явлением и
сущностью, между "скрытыми тайнами" природы и
человеческим познанием, которому эти "тайны открываются по
временам". У Паскаля человек не может исчерпать
бесконечности природы, но может с доступной для него
"достоверностью" познавать определенные стороны
объективной действительности, чего в принципе не может
быть у Канта в силу его агностицизма. Это самое
существенное различие не исключает, правда, некоторого
сходства в постановке и решении ряда проблем обоими
мыслителями, например в критике ими "догматизма" и
скептицизма, разделении сфер разума и веры.
Отрицательное отношение Паскаля к "догматизму"
сопровождается еще более острой критикой пирронизма,
сущность учения которого он усматривает в "двойном
сомнении, в некоторой сомнительной неясности, у
которой наши сомнения не могут отнять всего света, а наш
естественный свет не может рассеять всего мрака"2.
Одним словом, "коварный пирронизм" сеет сомнение не
только в возможности достижения какого бы то ни было
достоверного знания, но и сомнение в этом сомнении, что
делает необходимым требование воздержания от всяких
суждений. "Нейтральность" и составляет ядро учения
пирронистов. Если человек, вынужденный выбирать
между "догматизмом" и пирронизмом, захочет остаться на
нейтральной почве, то он будет, согласно Паскалю, пир-
ронистом по преимуществу. Кто не против них, тот
1 Гуляев Л. Д. Этическое учение в "Мыслях" Паскаля. С. 105, ПО,
252.
2 Pascal В. Pensées. Р. 512, fr. 109.
170
именно за них, в чем и состоят и сила, и коварство этой
"секты" в гносеологии: "Они — не за себя, они
нейтральны индифферентны, неустойчивы во всем, не исключая
и самих себя"1.
Эту разновидность пирронизма Паскаль связывает
с Монтенем и отличает ее от скептицизма "академиков",
имея в виду Новую академию (2 в. до н. э. — Карнеад),
представители которой не только отрицали абсолютно
достоверное и признавали лишь вероятное знание, но
и склонялись к агностицизму. Поздние скептики (Энеси-
дем, Агриппа, Секст Эмпирик — 1—3 вв. н. э.)
решительно выступили против агностицизма академиков,
выдвинув тезис сомнения в собственном сомнении, в силу чего
не закрывались возможности для адекватного познания
мира. Поэтому кредо Секста Эмпирика не просто в
воздержании от односторонних утверждений или отрицаний,
но в неустанных "поисках" истины. Разработка
проблематики, связанной с относительностью истины,
представляет сильную сторону античного скептицизма.
Еще сложнее обстоит дело у Монтеня, скептицизм
которого был направлен прежде всего против
схоластического и религиозного догматизма и спекулятивного
априоризма, но не против передовой науки Нового
времени и не против опытного познания "нашей матери-
природы". Паскаль же считает Монтеня пирронистом
и в его лице обрушивается на "коварный пирронизм"
вообще.
Сначала Паскаль указывает на практическую
неосуществимость позиции пирронизма: "Сомневаться во всем,
сомневаться в том, бодрствует ли он, щиплют ли его,
жгут ли его, сомневается ли он, существует ли он? Нельзя
дойти до этого, и я выдвигаю как факт, что никогда не
было законченного пиррониста. Сама природа
поддерживает немощный разум и мешает ему завираться до такой
степени"2. Это хорошо понимали сами скептики и
полагали, что в жизни надо "следовать жизни, чтобы не быть
бездеятельными" (Секст Эмпирик), и можно в ней
опираться на вероятное знание и на чувственные данные.
Но Паскаль не удовлетворяется вероятностью, он
жаждет "достоверного" (certain) знания и — в отличие от
скептиков — он не только ищет, но и находит его на
разных уровнях. Он видит "силу догматизма" в том, что,
1 Pascal В. Pensées. Р. 515, fr. 131.
2 Ibidem.
171
"говоря по совести и откровенно, нельзя сомневаться
в природных началах (principes naturels)"1.
Во-первых, к ним относятся внешние чувства, которые
по природе не могут всего видеть, но по природе они не
могут обманываться в том, что видят. Так что
"чувственные восприятия, — согласно Паскалю, — сами по себе
всегда истинны"2. "Мы знаем, что не спим. Какое
бессилие одолевает нас, когда мы пытаемся доказать это
разумом; это бессилие свидетельствует только о слабости
нашего разума, но не о сомнительности всех наших
познаний"3. Пирронисты напрасно стараются, заключает
Паскаль, когда стремятся сокрушить в нас эту уверенность.
Во-вторых, к "природным началам" он относит и
внутреннее чувство, или чувственную интуицию "сердца",
которое "достоверно" знает первые принципы:
пространство, время, движение, числа и др.
В-третьих, человеческий разум также является
"законным судьей" в вещах естественных и познаваемых.
Правда, он не может всего доказать, но "все доказывать",
согласно Паскалю, и не надо: то, что с несомненностью
чувствуется, не нуждается в доказательствах разума.
Естественная ограниченность разума восполняется
внешними чувствами и "сердцем". Но если не "все", считает
Паскаль, то очень многое — и эта сфера растет по мере
бесконечного совершенствования разума и наук — разум
умеет доказывать. Таким образом, "принципы
чувствуются, теоремы доказываются, и то, и другое с
достоверностью, хотя и разными путями..."4.
В-четвертых, Паскаль признает достоверность
вероятного знания, то есть объективность и закономерность
случайных событий. Степень этой вероятности может
быть вычислена в соответствии с правилами теории
вероятностей, одним из создателей которой он был.
Интерпретируя эту позицию Паскаля, А. Реньи пишет: "...тот,
кто принимает принцип причинности, должен принять
и другую аксиому, согласно которой случайные события
имеют определенные, независимые от нас и тем самым
объективные вероятности, ибо это не что иное, как более
универсальная и точная формулировка того же
принципа"3.
1 Pascal В. Pensées. Р. 515, fr. 131.
4bid. Р. 592, fr. 701.
Mbid. P. 512, fr. 110.
4 Ibidem.
5Реньи A. Письма о вероятности. M., 1970. С. 59.
172
Для Паскаля достоверность нашего познания абсо-
ютна потому, что несомненна, но она и относительна,
поскольку ограничена уровнем развития наших
способностей, уровнем развития человечества в целом и науки.
Достоверность эта антидогматична в том смысле, что
наши знания никогда не полны и не закончены, ибо мир
бесконечен вширь и вглубь. Антидогматизм заставляет
Паскаля признать бесконечность процесса познания как
по объему, так и по содержанию, т. е. также вширь
и вглубь. Свою общую гносеологическую позицию
Паскаль выражает следующим образом: "Мы испытываем
подчас бессилие что-либо доказать, непреодолимое ни
для какого догматизма. Мы носим в себе идею истины,
не преодолимую ни для какого пирронизма"1. Скептики
научили Паскаля видеть относительность истины, но он
не принял ни их релятивизма, ни феноменализма.
Справедливым является вывод М. Легерна: "Паскаль
признает границы разума, но не ограничивает нашу
способность познания"2. Весьма аутентичную трактовку
гносеологической позиции Паскаля дает опять А. Реньи,
прекрасно знавший его творчество. В уста Паскаля он
вкладывает следующую здравую мысль:
"...большинство людей считает, что если они о чем-либо не имеют
полного знания (а мы почти никогда не имеем полного
знания), то они вообще ничего об этом не знают, я же
исхожу из утверждения, что такого рода мнение глубоко
ошибочно. Частичное знание также является знанием,
и неполная уверенность равным образом имеет
некоторое значение, особенно когда мне известна степень этой
уверенности"3.
На уровне "естественного света" Паскаль тонко
чувствует диалектику абсолютной и относительной истины,
но субъективно ему мало этого: он оценивает ее и как
парадокс познания, т. е. как невозможность
одновременно знать все" и "не знать ничего". Реальную
относительность познания он объявляет "слабостью" и
"бессилием" познающего субъекта. Но он не удовлетворяется
этими констатациями, а ищет их "предельное основание"
и... находит его в христианской мифологии: природа
человека в его нынешнем состоянии двойственна, ибо Бог
создал его совершенным, способным знать "чистую ис-
[ Pascal В. Pensées. Р. 549, fr. 406.
UGuern M. et M. R. Les Pensées de Pascal... P., 1972. P. 102.
Реньи A. Письма о вероятности. С. 27.
173
тину", но в результате грехопадения человек утратил
это совершенство и вынужден теперь довольствоваться
относительным знанием вперемешку с незнанием. Тем
не менее "образ чистой истины" навсегда запечатлен
в душе человека, в силу чего он и способен отличать
истину от лжи.
ТАИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
Человек самый слабый тростник
в природе, но тростник мыслящий.
Человек бесконечно превосходит
человека.
Паскаль
1. АНТИНОМИЯ СЦИЕНТИЗМА И ГУМАНИЗМА
Неумение изучать человека заставляет
изучать все остальное.
Паскаль
Человек — исходная точка и конечная цель
философских устремлений Паскаля, все остальное — лишь
средство для проникновения в его сущность, для
понимания смысла его бытия, для постижения счастья
и Высшего блага человека. Но человек не сразу стал
темой паскалевских медитаций: его первой мыслью
была наука, второй — человек и третьей — Бог.
Впервые на размышления о судьбе человека
натолкнули Паскаля янсенисты в период его "первого
обращения" (1646—1647). Под влиянием чтения книг
Янсения, Сен-Сирана и А. Арно он обратил внимание
на суетную жизнь светских людей, с которыми был
знаком, задумался о достоинстве человека, его
слабостях и подлинном назначении на земле. Затем
научные занятия отвлекли его от этих мыслей, равно
как и от мыслей о Боге. Снова он к ним вернулся
после "второго обращения" в 1655 г., но к тому
времени он прочитал "Опыты" Монтеня, произведения
Декарта, познакомился с учением стоика Эпиктета.
^амую обильную пищу для его размышлений о
человеке дал, конечно, Монтень.
175
При исследовании человека перед Паскалем встала
проблема метода, как ранее он столкнулся с ней при
изучении "вещей внешних". В науке прежде всего его
интересовала объективная истина и способы ее
достижения. Он нашел в геометрическом методе наиболее
адекватное средство приближения к истине, которое и
использовал в науках. Но когда он перешел к изучению
человека, то обнаружил его бессилие. Все многолетние занятия
Паскаля "отвлеченными науками" ни на шаг не
продвинули его в понимании "вещей человеческих", наравне
с теми, которые совсем не углублялись в науки. Тогда он
обратился к науке о человеке и был поражен скудостью
и недостоверностью сведений, которыми она
располагала. К. тому же людей, изучающих человека, оказалось
значительно меньше, чем исследователей природы. В
науке о человеке не было никакого строгого порядка,
которым отличалась его любимая математика и которая "со
всей своей глубиной была бесполезна здесь"1, ибо
предметы и вопросы, относящиеся к изучению человека,
невозможно ни расположить в аксиоматико-дедуктивном
порядке, ни дать им четкие и ясные дефиниции. В науке
о нравственности, вне которой, согласно Паскалю, нет
учения о человеке, нельзя указать ни бесспорных "первых
принципов", ни однозначно понимаемых понятий.
Попробуйте-ка, например, определить, что такое счастье,
справедливость, доброта, благо и т. д. По вопросу,
скажем, только о Высшем благе у философов имеется 288
различных мнений2.
Отчаявшись найти "единственную точку зрения" в
науке о человеке, Паскаль одобряет только тех, кто "ищет
истину со вздохом". Сам он не успокаивается на этой
скорбной мысли и продолжает неутомимо искать истину.
"Нужно познать самого себя, — говорит он, — если это
не поможет найти истину, то по крайней мере поможет
хорошо направить жизнь, а в этом и заключается вся
справедливость"3. Паскаль хочеть познать человека
вообще, найти истинные и вечные человеческие ценности.
Паскаль не одобряет Декарта за его относительное
равнодушие к проблеме человека, поскольку тот "слишком
углублен в науки"4. Между тем "при моем нравственном
1 Pascal В. Pensées. Р. 592, fr. 694.
2Ibid. Р. 520, fr. 149.
4bid. P. 508, fr. 72.
4Ibid. P. 580, fr. 533.
176
невежестве, — глубоко убежден Паскаль, — наука о
внешних вещах не утешит меня в момент скорби, тогда как
наука о нравственности всегда утешит меня в незнании
вещей внешних'4. Потому великий ученый видит
ограниченную значимость науки для человека и ее бесполезность
(не только в плане методологическом, но и по своему
содержанию) для решения его жизненных проблем. Эта
позиция Паскаля объясняет его не очень лестные
замечания о геометрии в письме П. Ферма от 10 августа 1660 г.,
которые иногда неправильно рассматривают как простое
уничижение науки в угоду религии: "Вам я могу искренне
признаться, что считаю геометрию самым возвышенным
упражнением для ума, но в то же самое время я нахожу ее
настолько бесполезной, что делаю мало различия между
человеком, который является только геометром, и
искусным ремесленником. Я называю ее самым прекрасным
в мире ремеслом, но в конце концов только ремеслом..."2
Этот "мотив" представляет собой нечто новое для
умонастроения ученых и философов XVII в., убежденных
в возможности универсального применения
математического метода исследования, в том числе в науках о
человеке и в области нравственности. Так, старший друг
Паскаля М. Мерсенн не видел никаких препятствий для
использования математики в вопросах морали. Спиноза
написал свою "Этику, доказанную в геометрическом
порядке", в которой есть определения, аксиомы, теоремы
и доказательства. Правда, ему все время тесно в рамках
"математического порядка" и он часто вынужден
прибегать к пространным объяснениям в виде "схолий" и
"прибавлений". Через сто с лишним лет И. Бентам в своей
"Деонтологии, или Науке о морали" попытался создать
так называемую "моральную арифметику", чтобы
обосновать "принцип утилитаризма" в этике.
В XX в. ученый и мыслитель А. Пуанкаре, очень
близкий к Паскалю, как бы отвечая Бентаму, специально
рассмотрел вопрос о возможности создания "научной
морали" и отрицательно ответил на него. Он выявляет
специфику морали в отличие от науки в плане ее
источника и двигателя. "Если в науке опираются на разум,
логику и доказательства, то в морали — прежде всего на
чувства и "сердце". Когда моралисты пытаются доказать
нравственный закон, то они обнаруживают непонимание
1 Pascal В. Pensées. Р. 503, fr. 23.
2 Pascal В. Oeuvres complètes. P., 1963. P.282.
177
самодостаточности морали. Добро само по себе
представляет высшую ценность и не нуждается ни в
аргументах, ни в оправданиях. Нравственное чувство, как
инстинкт, в нас укорененный, ничего не выигрывает и не
проигрывает от того, что моралисты его обосновывают,
доказывают или даже когда-нибудь разгадают секрет его
силы. Разве стало более преодолимым тяготение после
открытия его закона Ньютоном? Так и в сфере
нравственной жизни люди как действовали, так и будут
продолжать действовать в соответствии с наиболее
могущественной частью своей души, той, которая не познана
и которая не рассуждает"'. В итоге наука о морали не
является моралью и никогда ею не будет, "она не более
может заменить мораль, чем трактат по физиологии
пищеварения может заменить хороший обед"2. Потому
моралисты напрасно стараются. К тому же все их
рассуждения по поводу морали в конце концов могут быть
оспорены. Следует заметить, что мысли Пуанкаре
относятся к практической морали, т. е. к нравственной
деятельности людей, а не к науке о морали — этике.
Доказав невозможность "научной морали", Пуанкаре
также показывает, что не может быть "безнравственной
науки". Мораль и наука имеют свои области, которые
соприкасаются, но не смешиваются и не могут
противоречить друг другу. Мораль определяет цель, которую
мы должны преследовать, а наука — средства для ее
достижения.
Выдающийся ученый Пуанкаре, как и в свое время
Паскаль, не впадает в сциентизм и с должным тактом
и тонкостью подходит к вопросам "человеческого
порядка". Любовь к истине, науке — великое дело, говорит
Пуанкаре, но нельзя ради них жертвовать "гораздо
большими сокровищами, как доброта, сострадание, любовь
к ближнему, интимные и хрупкие переживания наших
сердец, извечные благородные порывы наших душ, столь
тесно связанные подчас с самыми старыми и самыми
смешными предрассудками и привычками, которые со
временем разрушает и не может не разрушить наука.
Когда встает вопрос "или—или", наука или любовь к
человеку, ученый не может забыть о стонах раненых во
время землетрясений в угоду интересу к новым явлениям
сейсмологии. Как это согласуется с трепетным предо-
1 Пуанкаре Л. Последние мысли. Пг., 1923. С. 128.
2 Там же. С. 126.
178
стережением Паскаля "чистым математикам" не
"превращать человека в теорему"1.
Но надо учитывать, что Пуанкаре выступает против
сциентизма в то время, когда в философии уже
сформировалась антисциентистская традиция, начиная с Ницше,
а Паскаль жил в эпоху всеобщего преклонения перед
наукой, особенно перед математикой. Тем более надо
отдать должное Паскалю, который уже тогда сумел
избежать "греха односторонности" и проницательно видел
как отдаленные и блестящие перспективы любимой им
математики, так и ограниченную сферу ее применения,
обусловленную самим совершенством —
объективностью, строгостью и четкостью — ее методов и приемов
достижения истины. Последующее триумфальное
развитие математики, завоевание ею многих областей
естественного и гуманитарного знания показало, однако,
необоснованность надежд тех, кто видел в ней панацею от
всех "бед" и трудностей познания.
На заре существования буржуазного общества
Паскаль увидел своеобразные "ножницы" между знанием
и благом людей. Недаром Ж.-Ж. Руссо в 1750 г.
отрицательно ответил на вопрос Дижонской академии:
способствовал ли прогресс наук и искусств нравственному
прогрессу человечества?
В несколько иной и еще более острой форме поставил
вопрос о ценности науки для блага и счастья людей Э.
Гуссерль в своей книге "Кризис европейских наук" (1936),
в которой "клеймит" науку и ученых "со времен
Галилея" за исключение человека из картины мира, забвение
главнейших вопросов человеческого существования,
невнимание к проблеме смысла жизни и достоинства
человека. Гуссерль сетует на то, что даже наука о человеке —
во имя строгости научной истины — превращает
человека в "голый научный факт", в "чистый объект",
элиминируя человека в качестве субъекта научной картины мира
и даже своей собственной свободы. Любопытно отметить
тот факт, что Паскаль констатировал неразвитость науки
о человеке в период "первоначального накопления
капитала", а Гуссерль делал то же самое почти через 300 лет
в эпоху развитого капитализма.
Трудность разработки человековедческой
проблематики вызывается чрезвычайной сложностью ее объекта
исследования. Вот почему проблема изучения человека
1 Pascal В. Pensées. Р. 585, fr. 605.
179
является чрезвычайно актуальной и на сегодняшний день.
Возьмем, к примеру, теорию личности — основу основ
человековедения, — которой посвящено целое "море"
литературы как за рубежом, так и у нас в стране. Но
творческой задачей и современной философии остается,
скажем, создание "конкретной теории личности" или
"подлинной науки об индивидуальной жизни", решение
которой упирается в разработку психологической теории
личности. Но эту последнюю только еще предстоит
создать. На международном психологическом форуме по
проблеме бессознательного было признано "трюизмом,
что теория личности, несмотря на огромные усилия,
затраченные на ее разработку, остается одним из наименее
ясных теоретических разделов современной психологии,
областью, в которой меньше единогласия и больше
споров, чем в какой-либо другой"1. В частности, эта
проблема зависит от другой, еще более далекой от решения, —
создания "общей теории сознания и бессознательного
психологического"2. Так что относительная
"загадочность" человека для самого человека является и поныне
тем "чудом", о котором говорил в свое время Паскаль
и горестно вздыхал при этом.
По-своему Паскаль поставил и другую важную
проблему человековедения — проблему специфики науки
о человеке и методов ее исследования в отличие от
естественных и математических наук. Обнаружив
неприменимость к анализу проблем человека самого строгого
научного метода — аксиоматико-дедуктивного,
математического, — он решил исходить из опытного описания
феномена человека во всем его многообразии. Так
появляются следующие тематические связки фрагментов в его
"Мыслях": "Противоречия", "Суета", "Величие",
"Ничтожество", "Развлечение", "Скука", "Основания
действий", "Высшее благо" и др. Отмечу сразу же, что
эмпирические наблюдения Паскаля за жизнью и поведением
людей отличаются изощренной проницательностью,
тонким психологизмом, своеобразной житейской мудростью
и во многом философской основательностью. К тому же
на всех его размышлениях о человеке лежит печать грусти
и боли за несчастья людей и несовершенство человека.
1 Бессознательное. Природа, функции, методы исследования. Т. 3.
С. 337.
2Шерозия А. Е. Диалектика, принцип дополнительности и
проблема познания психической целостности... // Бессознательное... Т. 3. С.
781.
180
Однако было бы ошибочным полагать, что Паскаль
создает "индуктивную науку о человеке" и применяет
"строго научный, так называемый
индуктивно-гипотетический метод исследования в сложной и замечательной
форме"1, как, например, считает А. Д. Гуляев. ПаскальЛ
думает он, следует традиции Галилея, Ф. Бэкона и
Декарта, которые либо в теории, как Бэкон, либо в
научной практике, как Декарт, либо и там и здесь, как
Галилей, наметили основные моменты этого метода:
установление и описание факта, отыскание объясняющей
его гипотезы, дедукция из нее следствий, в которых
дается решение проблемы. Этим фактом для Паскаля,
согласно Гуляеву, является природа человека,
определение которой он стремится дать на основе первого
правила своего математического метода и понятие
которой "приняло у него форму синтетического,
основанного на опыте описания", которое оказывается
"максимально полным приближением к конкретной
действительности"2. В синтетической ориентации
Паскаля при исследовании человека Гуляев видит его
"методологическую оригинальность" и отличие, скажем, от
Декарта, который старался разложить факт на простые
элементы.
Эта интересная интерпретация совершенно не
учитывает в целом религиозного решения Паскалем проблемы
человека, исходя из преемственности первородного греха
и необходимости божественной благодати. Так что
"объясняющая гипотеза" Паскаля является отнюдь не
"строго научной", но религиозной, чему соответствует ряд
тематических разделов "Мыслей": "А. P. R." (A Port-
Royal — Доклад для Пор-Рояля), "Подчинение и
использование разума", "Испорченность природы", "Ложность
других религий", "Основания" (т. е. фундамент веры)
и др. Сам Паскаль очень четко объясняет эту
зависимость в расположении материала "Мыслей", поставив
в их начало раздел под заголовком "Порядок"(Огс1ге),
в котором указывает на апологетическую задачу своего
сочинения: "1-я часть. Нищета человека без Бога. 2-я
часть. Блаженство его с Богом. — Иначе говоря. 1-я
часть. Природа повреждена через саму природу. 2-я
часть. Есть Восстановитель, согласно Писанию"3.
1 Гуляев А. Д. Этическое учение в "Мыслях" Паскаля. С. 205.
2Тамже. С. 211—212.
'Pascal В. Pensées. Р. 501, fr. 6.
181
Определив таким образом свою задачу, Паскаль
стремится затем подчинить ей исследование о человеке. Но
однолинейного порядка подчинения у него не
получилось, да и не могло получиться, ибо никому еще не
удавалось дедуцировать огромный и жизненно
достоверный эмпирический материал о человеке из общих
понятий или представлений о нем. Не удалось это и
гениальному Паскалю. Паскаль часто забывает об этой
"религиозной дедукции", исследуя феномен человека как ученый.
Логика подобного исследования увлекает его, и, забыв
о Боге, он заявляет: "Человек познает, что он такое по
своей природе с помощью двух наставников: инстинкта
и опыта"1. Благодаря тому, что далеко не все
эмпирические факты Паскаль видит в зеркале религиозных
представлений о человеке, мы находим в его "Мыслях"
замечательную диалектику человеческого бытия, конкретную
психологию нравов его времени, оригинальное
социально-политическое учение и своеобразную этическую
концепцию.
Трудно говорить о каком-либо одном методе в учении
Паскаля о человке, равно как и вообще в его
философской и научной деятельности. Как всегда, у него метод не
существует раньше и отдельно от предмета исследования,
а должен служить наиболее полному и адекватному
раскрытию его сущности. Такому сложному и
противоречивому объекту познания, как человек, может
соответствовать, согласно ряду авторов, только диалектический
метод, который Паскаль широко использует во всех
частях своей философии. Так, А. Дэвидсон пишет: "Чтобы
удержать противоречия, свойственные человеческой
природе... Паскаль был вынужден обратиться к
диалектическому методу"2. О тонком мастерстве Паскаля выразить
сущность человека через противоречия говорят советский
автор В. Бахмутский, болгарский профессор Исак Паси,
японский паскалевед Сюематсю, французские
исследователи Л. Голдман, Ж. Менар и др.3
'Pascal В. Pensées. Р. 514, fr. 128.
2 Davidson H. Le pluralisme méthodologique chez Pascal // Méthodes
chez Pascal. P., 1979. P. 20.
эСм.: Бахмутский В. Французские моралисты // Ларошфуко Ф. де.
Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. С. 19—22;
Паси Исак. Мисли за човека// Б. Паскал. Мисли. София, 1978. С. 9—47;
Suematsu H. Développement formel de la dialectique pascalienne //
Méthodes chez Pascal. P. 466—474; Goldmann L. Le dieu caché. P., 1955;
Mesnard J. Les Pensées de Pascal. P., 1976.
182
В рамках диалектического рассмотрения человека,
допускающего наиболее полное и всестороннее его
исследование, Паскаль использует весь "арсенал"
методологических средств, применяя, где нужно, эмпирическое
описание, индуктивный анализ, элементы своего
математического метода, стремясь, насколько можно
в столь сложной области, к точности и краткости
определений и обоснований. Там, где Паскаль исходит из
реальных (природных и социальных) условий человеческого
бытия, он дает вполне объективный анализ, не только
описывает явления, но пытается найти их причины и
глубокие основания, не только видит отдельные факты, но
стремится к обобщениям и философским
интерпретациям. Здесь он действует и мыслит как ученый и философ.
Все это дает повод исследователям сравнивать учение
о человеке Паскаля с антропологией Декарта или Гоббса,
также создававших "новую науку о человеке"1. Но если
механицизм у этих мыслителей был основой таких
объяснительных гипотез, которые сводили высшее и сложное
к низшему и простому (например, психическое — страсти
— к физиологическому или условия функционирования
тела — к ансамблю механических движений), то Паскалю
чужд редукционизм, и явления психологического порядка
он объсняет причинами того же уровня, т. е.
психологическими основаниями.
С другой стороны, в отличие от Гоббса и Декарта
Паскаль усматривает "высший синтез" при решении
человеческих проблем в религии. И здесь на сцену
выступает другой "принцип сведения" явлений естественного
порядка — к сверхъестественному, например реальных
недостатков земного человека — к следствию
грехопадения первых людей. Такую особенность своих "Мыслей",
как отсутствие в них однолинейного порядка,
характерного для наук о природе или для математики, он сам
объясняет порядком отступления (digression). Суть этого
последнего состоит в том, чтобы, "всегда имея перед
собой конечную цель (то есть Бога), уметь отступать
к тем узловым пунктам учения, которые имеют
отношение к цели"2. Это порядок благодати, а не ума, говорит
Паскаль, ибо Иисус Христос, апостол Павел, Августин
хотели "согреть сердца, а не научить". Такой порядок
имеет и Священное писание, в котором непосвященные не
1 Molino J. La raison des effets // Méthodes chez Pascal. P. 486—488.
1 Pascal B. Pensées. P. 539, fr. 298.
183
видят никакого порядка. Но отступление от порядка ума,
согласно Паскалю, т.е. "беспорядок для ума", есть
"порядок для сердца".
Э. Жильсон использует эту мысль Паскаля для
характеристики учения Августина, которое, согласно его
мнению, как и доктрины Паскаля и Мальбранша, "не
поддается синтетическому и линейному изложению с точки
зрения интеллектуальной нормы"1, как, например, учение
Фомы Аквинского. Поэтому "в трудах Августина
отступление, которое как будто разрушает постоянно порядок
его речи, и есть этот самый порядок", подходящий для
доктрины, в центре которой стоят благодать и
милосердие2. Вместо того чтобы прямо и просто привести нас
к Богу, поясняет Жильсон, Августин постоянно отсылает
нас к нему, как к центру, когда говорит о мире, телах,
воле, познании, науке, социальной жизни и т. д. Так что
трудно отделить в его учении теологию от философии,
теорию познания от богопознания, истину научную от
истины моральной и т. д. "Порядок отступления"
Жильсон считает "естественным методом августинизма"
и августинианских течений, отличительный признак
которых он усматривает в культе любви людей к Богу и Бога
к людям через милосердие, искупление и благодать.
Именно Паскаль проясняет этот метод августинизма для
Жильсона.
Помимо этой методологической особенности, идущей
от религиозной концепции человека, Паскаль указывает
еще на две других, с религией не связанных. Во-первых, сам
объект его исследования — человек — не подчиняется
общепринятому порядку изучения. Поэтому свои мысли
о нем Паскаль "не без умысла изложил в беспорядке,
который в данном случае и представляет истинный
порядок"3. Во-вторых, "манера письма Эпиктета, Монтеня
и Саломона де Тюльти (Salomon de Tultie — анаграмма от
Louis de Montalte) очень удобна, поскольку с ее помощью
содержание лучше всего проникает в душу, дольше
сохраняется в памяти и легче поддается цитированию, ибо оно
сплошь состоит из мыслей, рожденных в обычных
житейских разговорах..."4. Данная "манера письма" полностью
реализована Паскалем в "Письмах к провинциалу" и отча-
lGîlson Е. Introduction à l'étude de Saint Augustin. 3 éd. P., 1946. P.
311—312.
4bid. P. 312.
3 Pascal B. Pensées. P. 578, fr. 532.
4Ibid. P. 596, fr. 745.
184
сти в "Мыслях", в которых развивается оригинальная
в плане философском концепция человека.
2. ЗАГАДКИ "МЫСЛЯЩЕГО ТРОСТНИКА"
Величие человека состоит в его мысли.
Паскаль
Первая мысль Паскаля о человеке — это мысль о его
"величии" (grandeur). Как бы он ни отвергал
односторонний рационализм Декарта, но в понимании достоинства
человека он вполне солидарен с крупнейшим
рационалистом. Вот знаменитый фрагмент Паскаля о "мыслящем
тростнике": "Человек — самый слабый тростник в
природе, но тростник мыслящий. Незачем всей вселенной
ополчаться, чтобы раздавить его; пары капель воды
достаточно) чтобы убить его. Но если бы вселенная
раздавила его, то все равно человек был бы благороднее
того, что его убивает, поскольку он знает, что умирает,
знает и о том преимуществе, которое она имеет над ним.
Вселенная же ничего об этом не знает.
Итак, все наше достоинство состоит в мысли. Только
она возвышает нас, а не пространство и время, которых нам
не заполнить. Будем же стремиться хорошо мыслить: вот
основа морали"1. Множество фрагментов Паскаля
является вариацией на эту тему: "Мысль составляет величие
человека"2. Кроме того, отдельная "связка фрагментов",
подобранная самим Паскалем, озаглавлена "Величие"3.
Там он говорит, что "можно представить человека без рук,
без ног и даже без головы... но нельзя представить человека
без мысли. Это был бы камень или животное"4. В
понимании сущности человека Паскаль развивает прогрессивные
для XVII в. представления о его достоинстве и величии.
Признаки "величия" человеческого многообразны.
В плане онтологическом оно состоит в том, что человек
сознает бесконечность, необъятность вселенной и свое
скромное место в ней. Пылинка, затерянная в космосе,
человек сознает свое "онтологическое ничтожество"
и тем самым поднимается над ним. Дерево, например,
1 Pascal В. Pensées. Р. 528, fr. 200.
2 Ibid. P. 597, fr. 759.
Mbid. P. 512—513, fr. 105—118.
4 Ibid. P. 513, fr. 111.
185
говорит Паскаль, не сознает своего ничтожества, ибо
лишено сознания. "Итак, человек сознает себя
ничтожным, но в этом его и величие"1. С помощью пространства
и времени вселенная охватывает и поглощает человека,
но зато благодаря мысли человек сам охватывает
вселенную и возвышается над ней"2. Здесь особенно важно
подчеркнуть диалектическую взаимосвязь величия и
ничтожества (misère) человека, которые внутренне
обусловливают друг друга и не могут существовать одно без
другого. Это настоящее совпадение
противоположностей, которое одно позволяет понять, почему Паскаль
с такой настойчивостью не устает повторять: "Всяческое
ничтожество человека само доказывает его величие".
"Величие человека настолько очевидно, что вытекает
даже из его ничтожества"3.
Дело здесь не только в том, что сознание своего
ничтожества помогает человеку возвыситься над
вселенной, но и прежде всего в том, чтобы подняться над этим
ничтожеством, т. е. подняться ему над самим собой, ибо
ничтожество, считает Паскаль, очевиднее у тех, кто не
подозревает о нем, чем у тех, кто его сознает4. Иначе
говоря, первый шаг на пути преодоления ничтожества
(например, недостатков или пороков) состоит в его
сознании, постижении, уразумении, а затем в попытке
искоренения посредством усовершенствования человека.
Отсюда берет свое начало известная паскалевская формула:
"Человек бесконечно превосходит человека"5. Не только
в мысли, но и в реальной работе над собой, на практике.
Есть еще один аспект взаимосвязи величия и
ничтожества, на который обращает внимание Паскаль.
Почему человек столь чувствителен и столь болезненно
реагирует на всяческое неуважение, презрение, нелюбовь
к себе? Почему он так остро переживает свое реальное
ничтожество? Для ответа на эти вопросы Паскаль
прибегает к религиозному представлению о сотворении Богом
совершенного человека "по своему образу и подобию"
и его падении в результате первородного греха,
испортившего весь последующий род людской. Вот откуда у
человека неистребимое сознание как своего величия, так
и ничтожества. Человек, согласно Паскалю, "ничтожен,
1 Pascal В. Pensées. Р. 513, fr. 114.
4bid. P. 513, fr. 113.
3 Ibid. P. 513, fr. 116, 117.
4 Ibid. P. 503, fr. 34.
5 Ibid. P. 515, fr. 131.
186
как вельможа, как низложенный король"1, ибо
ремесленник не тоскует по трону короля, равно как никто не
печалится, что у него не три глаза, но как заглушить
тоску того, кто лишился хотя бы одного глаза, не говоря
уже о двух.
Обращением к религии Паскаль хочет "обосновать"
как бы "прирожденное" и первичное величие человека.
Ничтожество оказывается вторичным и составляет как
бы "вторую природу", нерасторжимо спаянную в
реальном человеке с первой, т. е. величием. Так что
ничтожество является оборотной стороной величия и наоборот.
Паскаль подчеркивает в этой связи: "...природа людей,
которая сильнее всего, убеждает их в величии человека
более основательно, чем разум — в его ничтожестве"2.
Отсюда искание славы — почета и уважения со стороны
других людей — есть самая заветная цель человека,
самое затаенное его желание. Хотя сама по себе жажда
славы, считает Паскаль, есть самое низменное свойство
человека, она в то же время представляет самое великое
свидетельство его "совершенства" (excellence). Так,
совпадение противоположностей в учении Паскаля
выражает самую глубокую и фундаментальную сущность
человека.
Величие и ничтожество человека выступают у Паскаля
как своеобразные диалектические противоположности,
которые взаимно обусловливают, порождают и вместе
с тем исключают друг друга, образуя внутренне
противоречивое и нерасторжимое единство. С другой
стороны, эта антиномия поражает сознание Паскаля как
психологический парадокс, т. е. как неожиданное
несоответствие высокого достоинства человека и его
реальных слабостей и недостатков, как неумолимая и
трагическая странность его бытия. Именно стоя на точке
зрения величия человека, Паскаль с болью и грустью
взирает на его ничтожество.
В плане гносеологическом величие человека
выражается в том, что он "носит в себе идею истины", любит
истину, ищет ее, подчас жертвуя всем ради нее. Пусть
человек не может " всего знать", но его нельзя уподобить
животным, которые ничего не могут знать. Но зато
человеческое познание бесконечно и по своему предмету,
и по объему, и по содержанию, а разум человеческий —
1 Pascal В. Pensées. Р. 513, Гг. 116.
4bid. Р. 562, fr. 470.
187
в отличие от инстинкта животных — "беспрестанно
совершенствуется".
Наконец, в плане нравственном величие человека
заключается в стремлении к совершенству, "способности
к добру", данной ему от природы, любви к духовному
началу в себе и в других, уважении нравственной истины,
т. е. нравственного идеала. Пусть человек любит в себе,
говорит Паскаль, "естественную способность к добру",
но вместе с тем пусть он ненавидит в себе пороки и те
низости (страсти и похоть), которые тоже в нем есть и во
многом (но далеко не во всем!) связаны с его животной
и чувственной природой1.
Еще более многолико у Паскаля ничтожество
человека и его бытия, ибо к индивидуальному ничтожеству
присоединяется "нищета" его социальной жизни в
рамках абсолютистского государства. Прежде всего он
фиксирует онтологическое ничтожество человека как
"атома", затерянного в необъятных просторах
вселенной, по сравнению с бесконечностью которых и
вечностью этой последней жизнь человеческая есть только
"тень, промелькнувшая на мгновение и исчезнувшая
навсегда"2. "Вечное молчание этих бесконечных
пространств ужасает меня", — признается Паскаль в
"Мыслях"3.
Затем бросается в глаза гносеологическое
"ничтожество", выражающееся в невозможности "все знать" и "все
понимать". Удивительнее всего то, считает Паскаль, что
человек менее всего знает и понимает самого себя,
коренные условия своего бытия, смысл своей жизни, свое
истинное благо и т. д. Для человека остаются
неразрешимой загадкой тайна его рождения и мгновение его
смерти, в силу чего у него возникает трагическое ощущение
какой-то неизбежной случайности всей его жизни.
В нравственном отношении Паскаль усматривает
ничтожество человека в недостатках и пороках отдельных
людей, а также в суетности их жизни, противоречивости
их желаний и действий, убожестве межличностных
отношений, неспособности человека добиться счастья и
Высшего блага.
"Нищета" и ничтожество индивидуального бытия
людей, согласно Паскалю, резко усугубляются его социаль-
1 Pascal В. Pensées. Р. 513, fr. 119.
4bid. Р. 553, fr. 427.
3 Ibid. P. 528, fr. 201.
188
ным окружением, в котором господствуют сила и
корыстный интерес "великих мира сего", а не разум
и справедливость (см. подробно 5-й раздел данной
главы).
Это отнюдь не стихийно присутствующая
диалектика, но ясно осознаваемый Паскалем принцип изучения
человека через противоречия. Одна из связок "Мыслей"
так и озаглавлена им "Противоречия" (Contrariétés).
Однако было бы неправильно полагать, что этой
связкой, состоящей из 13 больших и малых фрагментов1,
ограничивается применение диалектического принципа.
Нет, в нем состоит самая отличительная особенность
паскалевского стиля мышления вообще и его учения
о человеке в частности. Анализ противоречий как
совпадения и единства противоположностей не сходит
со страниц паскалевских произведений, и прежде всего
"Мыслей". Противоречие для Паскаля как бы таится
в самом лоне человеческого бытия, обусловливая его
драматизм, коллизии, парадоксы, загадки и тайны.
Борьба в человеке разума и страстей, добра и зла,
высокого и низкого, сознательного и бессознательного
начал, природы и привычки, совпадение комического
и трагического, конечного и бесконечного в
человеческом бытии привлекают его внимание и порождают
не только глубокие раздумья, но и целую гамму
эмоций, чувств и страстей: удивление, восхищение, ужас,
скорбь, тревогу, озабоченность, грусть и т. д.
Паскаль говорит о принципиальной и неустранимой
"двойственности" человеческого существа, принимая
идею дуализма души и тела, духовного и животного
начал в человеке, которые связаны с его величием и
ничтожеством. Если, скажем, жизнерадостное искусство
эпохи Возрождения безоговорочно "реабилитировало"
чувственную природу человека и провозгласило в
качестве идеала гармонию души и тела, то Паскаль в духе
августинианской традиции подчеркивает антагонизм
души и тела. Истинное величие человека он усматривает
именно в его духовной природе. "Мы имеем столь
возвышенное представление о человеческой душе, что не
можем не страдать тогда, когда ее презирают, и жаждем
уважения к ней. Все блаженство людей состоит в этом
уважении"2.
'Pascal В. Pensées. Р. 513—516, fr. 119—131.
2Ibid. P. 549, fr. 411.
189
Правда, нельзя сказать, что Паскаль просто
третирует чувственность и предлагает аскетическое истребление
страстей и умерщвление плоти, как неправильно о нем
судил Ницше1. "Междоусобная война" разума и страстей
в человеке создает в нем раздвоенность, говорит
Паскаль, и он постоянно противоречит сам себе: "Если бы
в человеке был один разум без страстей или одни страсти
без разума. Но, имея и то и другое, он не может быть
в мире с одним, не воюя против другого"2. Истребить
страсти невозможно, раз они принадлежат самой
природе человека. Потому "они всегда живы в тех, кто от них
стремится отречься", равно как те, "которые предаются
страстям, не могут заглушить в себе голос разума"3. Нет,
Паскаль с большим пониманием относится к
потребностям этой стороны человеческого существа и осуждает
тех, кто недоучитывает силу страстей и хочет
уподобиться ангелам: "Человек не ангел и не зверь, а несчастье так
устраивает, что тот, кто хочет уподобиться ангелу,
становится зверем"4. Так что одностороннее преувеличение
превосходства человека над животными, абсолютизация
его "величия" приводят, согласно Паскалю, к прямо
противоположному результату. Но не менее опасно,
считает он, впасть в другую крайность и преувеличить
"ничтожество" человека. Это значило бы уподобить его
животным и стереть ту грань, которая отделяет
человеческую жизнь от животного существования5. Вот почему
Паскаль выступает против "служения похоти и
страстям" и превращения плотской жизни в высшую
человеческую ценность. Он говорит об укрощении страстей
и "похоти" с помощью разума и во имя жизни духовной.
"Праведный человек не ищет рукоплесканий мира, но
господствует над своими страстями, говоря одной
"уйди", другой "приходи". Укрощенные страсти суть
добродетели: скупость, ревность, гнев, которые Бог даже
себе приписывает. Они становятся такими же
добродетелями, как милосердие, жалость, постоянство, которые
суть тоже страсти. Надо использовать их, как рабов, и,
предоставляя им пищу, не позволять душе принимать их
пищу. Ибо, когда страсти владеют нами, они суть
пороки, тогда они дают душе свою пищу, питаясь которой
1 Dionne J. R. Pascal et Nietzsche. N. Y., 1974. Ch. III.
2 Pascal B. Pensées. P. 586, fr. 621.
3 Ibid. P. 549, fr. 410.
4 Ibid. P. 590, fr. 678.
5 Ibid. P. 513, fr. 121.
190
она отравляет себя"1. Не только в страстях, но даже "в
самой похоти заключено величие человека", если они
хорошо направлены2.
В итоге у Паскаля выходит, что не сама по себе
"животная природа" человека составляет его
"ничтожество", как у Плотина и других неоплатоников, считавших
материю источником всяческого зла, но то употребление,
которое из нее делает человек, как у Августина,
видевшего в сотворенной Богом человеческой природе
"добро и благо", хотя и неизмеримо менее совершенное по
сравнению с Богом. "Природа имеет совершенства, —
говорит Паскаль, — поскольку она есть образ Бога,
и недостатки, поскольку она есть только его образ"3.
"Животная природа" человека представляет лишь
условие, а не причину его "ничтожества", которая в воле
человека, либо управляющей бессознательными
инстинктами и возвышающей его, либо слепо увлекаемой ими на
путь "животного уровня" бытия. Именно духовное
начало в нем является источником его величия и ничтожества.
В конце концов "животная природа" человека ничего
не определяет у Паскаля в нравственном отношении,
и потому она не добра и не зла сама по себе. Она лишь
средство в руках человека: все зависит от того, что он
сумеет сделать из своей "природы". Потому человек
ответственен за то, добр он или зол. В этом своем
решении Паскаль противостоит как тем, которые считали
"природного человека" злым (например, Т. Гоббсу,
видевшему в "злой природе" людей источник войны всех
против всех), так и тем, которые считали его добрым
(скажем, Ж.-Ж. Руссо, усматривавшему в "доброй
природе" источник солидарности и равенства между
людьми). Впоследствии Гегель также обратил внимание на
нравственную нейтральность естественного состояния
человека и связал добро и зло с волей, ответственной за то
или другое, что он называл "виновностью" или
"вменяемостью"4.
Есть еще один аспект в понимании Паскалем
"природы" человека, который связан с ее отношением к
привычке. Многие мыслители и до Паскаля, и после него
говорили о силе привычки, накладывающей свою печать на
1 Pascal В. Pensées. Р. 585, fr. 603.
Mbid. P. 513, fr. 118.
3 Ibid. P. 624, fr. 934.
^ 4 Гегель Г. В. Ф. Философия религии: В 2 т. М., 1977. Т. 2. С.
259-260.
191
"природу"и в определенной степени изменяющей ее. Он
же повернул эту проблему в совершенно неожиданную
плоскость. "Привычка есть вторая природа, — пишет он
в "Мыслях", — которая разрушает первую. Но что такое
природа? Почему привычка не является естественной?
Я очень боюсь, что эта самая природа есть только первая
привычка..."1 Благодаря внешней привычке, убежден
Паскаль, можно научиться внутренней добродетели.
"Природа" и привычка оказываются у него такими
соотносительными противоположностями, которые как бы
меняются местами, переходят друг в друга. Но в таком случае
нет у Паскаля первоначальной, неизменной, врожденной
"природы" человека, которая бы фатально
обусловливала его характер и последующую жизнь. Врожденное
и приобретенное не противостоят метафизически друг
другу как застывшие противоположности, но являются
результатом опыта жизни. "В человеке все от природы,
— говорит Паскаль, — любое свойство может стать
прирожденным, но и любое природное свойство может
изгладиться"2.
Вера Паскаля в возможность изменения "природы",
ее улучшения посредством воспитания и культуры
встретила живое понимание Гельвеция, глубоко убежденного
во всемогуществе воспитания. "Своеобразие характера
каждого человека есть (как замечает Паскаль) продукт
его первых привычек", — читаем в произведении
Гельвеция "О человеке"3. Однако Гельвеций
абсолютизировал роль среды и привычек в формировании человека,
недоучел постоянство "природы", за что и подвергся
атаке со стороны Д. Дидро, написавшего
"Систематическое опровержение книги Гельвеция "О человеке".
Гельвеций абсолютизировал и мысль Паскаля об
изменчивости "природы", тогда как сам Паскаль прекрасно
понимал "силу природы" (в смысле постоянства), как
и "привычки", равно как и их "слабость", т. е.
неустойчивость, изменчивость.
Нередко Паскаль использует термин "природа"
человека не в смысле "естественного начала" в нем, а в
смысле его глубокой сущности, скрытой от поверхностного
наблюдателя. Вот тогда он не устает подчеркивать
"двойственность", противоречивость человеческой при-
1 Pascal В. Pensées. Р. 514, fr. 126.
4bid. Р. 587, fr. 630.
3 Гельвеций К. А. Сочинения: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 181.
192
роды, сама устойчивость которой обусловлена наличием
противоположных качеств, их определенной гармонией,
или равновесием. Стремление к чрезмерному, "крайним
пределам" в развитии того или иного качества приводит
как бы к "дисбалансу" самой личности. Вот почему тот,
кто хочет "уподобиться ангелу, становится зверем" и
наоборот. Или "когда человек пытается довести свои
добродетели до крайних пределов, его начинают обступать
пороки..."1. Никогда не следует забывать, согласно
Паскалю, что все чревато своей противоположностью, ибо
человек "двойственен", он велик и ничтожен
одновременно: "Вот почему когда он стремится возвыситься, я его
принижаю, когда же он себя унижает, я его возвышаю
и противоречу ему до тех пор, пока он не уразумеет,
какое он непостижимое чудище"2.
Достоинство и величие человека состоят не в том,
считает Паскаль, чтобы достичь одного из этих пределов
— величия или ничтожества, но чтобы, "касаясь обеих
крайностей, заполнять весь промежуток между ними,
в противном случае человек не взлетает, а падает"3.
Паскаль восхищается Эпаминондом (фиванский
государственный деятель и полководец), который обладал
противоположными добродетелями, оттеняющими друг
друга, — беспримерной отвагой, храбростью и
мягкосердечием. Так, больной горячкой, говорит Паскаль, то
дрожит в ознобе, то весь пылает, и холод точно так же
свидетельствует о силе горячки, как и сам жар. То же
самое можно сказать, заключает он, о добре и зле в этом
мире.
Именно противоречивый характер человеческого
существа порождает, согласно Паскалю, весь драматизм
и даже трагизм его жизни, заставляющие человека вечно
стремиться в будущее, преодолевая настоящее и никогда
не достигая желанной цели и успокоения. Сами
противоречия как бы "гонятся за ним по пятам": они
неустранимы, так как составляют самую суть его натуры.
Конечный, ограниченный человек у Паскаля бесконечен в своих
стремлениях, и движущей силой их являются
противоречия его существа и его жизни. "Человек бесконечно
превосходит человека". Человек не просто стремится к счастью
он хочет бесконечного счастья, то есть Высшего блага.
* Pascal В. Pensées. Р. 600, fr. 783.
2 Ibid. P. 514, fr. 130.
3Ibid. P. 590, fr. 681.
Заказ №4951
193
Исследователи видят своеобразие паскалевского
стиля мышления в его феноменальной способности
превращать все "за" в "контр", не только сталкивая
противоположности, но и непрерывно как бы меняя их
местами, заставляя читателя почувствовать силу
противоречия, его неизбежность и значимость для выражения той
или иной истины. Д. Декот считает, что, благодаря
владению "техникой противоречия и парадокса", Паскаль
легко разбивает односторонние точки зрения. "Аргумент-
пари" (в пользу бытия Бога) есть не что иное, по его
мнению, как хитро расставленная "ловушка" для
скептиков, атеистов и вольнодумцев1. Другой французский
автор, Ж. Пюсель, говорит о "повсюду присутствующей
антитетике у Паскаля, как об инфраструктуре его
мысли"2. Японский исследователь диалектики Паскаля Сю-
ематсю также отмечает у него превращение "за"
в "контр" (например, знания в ученое незнание), правда,
не как "основной демарш", но как один из аргументов
в его обосновании истины3.
Западные паскалеведы ставят вопрос о способе
разрешения противоречий в диалектике Паскаля. Так,
Дэвидсон выделяет в нем "две фазы: негативную и
позитивную". Первая позволяет Паскалю "отождествлять,
развивать и блестяще выражать парадоксы и противоречия,
сталкивая их с ошеломляющим эффектом: в негативной
фазе происходит непрерывное превращение "за"
в "контр". В позитивной фазе осуществляется
"примирение противоположностей" через "синтезирующий
термин", в отношении к которому проясняется истинный
смысл антитез, выступающих в качестве лишь частичного
выражения всеобщей истины 4. Дэвидсон убежден, что
"конечная цель Паскаля состоит именно в примирении
противоположностей" (например, двух бесконечностей —
в Боге)5. Ж.Пюсель усматривает у Паскаля
"непреодолимое стремление ускользнуть от противоречия", что не
позволяет ему успокоиться на фиксации антиномий и по-
1 Descotes D. Piège et paradoxe chez Pascal // Méthodes chez Pascal. P.
509—524.
2 Pucelle J. La dialectique du renversement du pour au contre et
l'antithétique pascalienne // Ibid. P. 446.
3 Suematsu H. Dévelopement formel de la dialectique pascalienne // Ibid.
P. 472.
4 Davidson H. Le pluralisme méthodologique chez Pascal // Méthodes
chez Pascal. P. 20—21.
s Ibid. P. 26.
194
буждает искать "высший синтез". "Требование
абсолютного, — по его мнению, — является движущей силой
паскалевской диалектики"1. Также Л. Голдман считает,
что "требование синтеза, объединения
противоположностей составляет самую суть трагического сознания
Паскаля". Потому "радикальной и непреодолимой
двусмысленности мира он противопоставляет не менее
радикальное и непреодолимое требование ясности"2.
Верно, что стремление к гармонии и идеалу
характерны для Паскаля и ряд противоречий "гасятся" им в Боге.
Однако примирение противоположностей есть частный
момент в его диалектике. Поскольку они составляют
сущность человека и его бытия, постольку они
неустранимы и неизбежны. Совпадая и переходя друг в друга,
они отнюдь не примиряются, а как бы "зияют". На мой
взгляд, у Паскаля мы встречаемся в определенном
смысле с "трагической диалектикой", которая — наряду с
другими факторами — вынуждает его обращаться к Богу.
Паскаль не являлся бы трагическим мыслителем, если бы
он мог примирить все противоречия человека. Во многом
сама идея "примирения"противоположностей ему и не
нужна, ибо он не боится противоречий. Именно через них
ему удается, по его глубокому убеждению, выразить
сокровенную суть человека и его бытия.
Прав В. Бахмутский, который — в отличие от
западных паскалеведов — обращает внимание на
"непримиримость противоположностей" в паскалевском учении и на
"невозможность привести эти антиномии к некоему
высшему синтезу, потребность в котором заложена в сердце
каждого человека..."3.
Кроме того, Паскаля вовсе не шокировали и
парадоксы, которые он считал неизбежными "спутниками"проти-
воречивой действительности. Не холодно-рассудочная
фиксация противоречий, но эмоциональная их оценка
в качестве неизбежного и подчас непостижимого
парадокса накладывает особую печать на паскалевскую
диалектику человеческого бытия. Человек у него оказывается не
просто "сгустком противоречий", а трагически
раздвоенным и парадоксальным существом, непостижимым, по
его мнению, ни для какой человеческой философии и по-
1 Puce/le J. La dialectique du renversement du pour au contre... P. 447,
2 Gotdmann L. Le dieu caché. P. 67, 69.
3 Бахмутский В. Французские моралисты //' Ларошфуко Ф. де.
Максимы; Паскаль Б. Мысли: Лаорктер Ж. де. Характеры. С. 20.
195
нятным лишь с точки зрения христианской религии:
грехопадение объясняет тот парадоксальный факт, что
всякое совершенство в мире человеческом обременено своей
противоположностью. "Какую химеру, следовательно,
представляет собой человек! — восклицает Паскаль. —
Какую диковинку, какое чудище, какой хаос, какой
сгусток противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, глупый
червь земной, хранитель истины, клоака неизвестности
и заблуждений, слава и отброс вселенной! Кто распутает
этот клубок? (Конечно, это превосходит возможности
догматизма и пирронизма и всей человеческой
философии...) Пойми, гордец, какой парадокс ты представляешь.
Смирись, немощный разум! Молчи, глупая природа...
Послушайте Бога"1.
Паскаль отчетливо понимает, что "тайна
преемственности грехопадения" шокирует ум человеческий, но
считает себя вынужденным признать, что "узел нашего
существования завязан на дне этой пропасти. Так что
человек еще более непонятен без этой тайны, чем эта тайна
непонятна человеку"2. Однако Паскаль смирил свой
философский разум и "объяснил парадокс" с помощью
христианской религии. Впоследствии французские
просветители сняли покров мистицизма с факта
противоречивости человеческого существования, выведя его из
многообразия естественного бытия человека (см. главу 5).
Если Паскаль-философ понимает, что суть человеческого
бытия может быть выражена только через противоречия,
то Паскаль-христианин жаждет примирить все
противоречия в Боге.
3. НЕ РАЗУМОМ ЕДИНЫМ, НО И СЕРДЦЕМ
У сердца свои законы, которых разум не
знает.
Паскаль
Вопросы нравственного порядка глубоко
интересовали Паскаля и как философа, и как писателя-моралиста,
и как христианина. Он различает всего три "порядка"
(ordre) бытия, несводимых друг к другу: физический (тел
в природе), интеллектуальный и нравственный. Как из
1 Pascal В. Pensées. Р. 515, fr. 131.
4bid.
196
всех тел в природе, вместе взятых, говорит Паскаль,
нельзя вывести "ни малейшей мысли", так из всех тел
и умов, вместе взятых, нельзя получить "истинного
милосердия" или крупицы любви1. В самом деле,
размышляет он, не доказывают же разумом причины и основания
любви, что было бы нелепо и смешно, равно как нельзя
требовать от разума, чтобы он "чувствовал свои
теоремы", которые надо доказывать. И это потому, что
любовь и разум принадлежат к разным "порядкам"
бытия. Паскаль указывает на некоторые "загадки",
странности и парадоксы любви, непонятные с точки зрения
разума.
Специфика чувства в отличие от разума в его
кажущейся необоснованности, "иной логике", не уловимой
для разума. Вызывает любовь "такая малость", "почти
что ничто", зато следствия ее огромны. "Будь нос
Клеопатры чуть покороче — весь облик земли был бы
иным"2. Вот один из парадоксов любви. Или вот другой:
что мы любим в человеке — отвлеченную ли суть его
души, загадочное ли и неуловимое его "я" или же его
реальные свойства (красоту, ум, память и т. д.),
полученные им в "недолгое владение". Но любить "отвлеченную •
суть" человека невозможно, да и несправедливо. Значит,
мы любим человека за его реальные свойства, которые
могут исчезнуть. Более того, подчеркивает Паскаль, в
таком случае "мы любим не человека, а только его
свойства"3. Но любим мы сердцем, а доказываем что-либо
разумом. Отсюда: "У сердца свои законы, которых разум
не знает"4.
Утверждая специфичность нравственного порядка,
Паскаль ставит вопрос об его источнике, т. е. вопрос об
источнике нравственного достоинства личности,
выступая против этического рационализма, например, в духе
Декарта, убежденного во всемогуществе разума в сфере
морали. В "Рассуждении о методе"Декарт пишет:
"Поскольку наша воля склонна чему-либо следовать или
чего-либо избегать только в силу того, что наше
разумение представляет ей это хорошим или дурным, то
достаточно правильно судить, чтобы хорошо поступать,
и судить возможно правильнее, чтобы и поступать также
1 Pascal В. Pensées. Р. 540, fr. 308.
2 Ibid. P. 549, fr. 413.
3 Ibid. P. 591, fr. 688.
4 Ibid. P. 552, fr. 423.
197
наилучшим образом, то есть чтобы обрести все
добродетели, а вместе с тем и все доступные нам блага"1.
Удивительна эта совершенно сократовская вера Декарта в
тождество знания и добродетели. Ведь еще в античности
были подмечены "ножницы" между тем и другим, что
и нашло свое выражение в максиме: "Вижу и одобряю
лучшее, а следую худшему". Иезуиты являли для
Паскаля пример подчас вопиющего противоречия между
знанием, эрудицией, образованностью и добродетелью.
Паскаль правильно считает, что уровня знания личности
еще недостаточно для определения ее нравственного
достоинства.
Поскольку сам разум, согласно Паскалю, подвержен
всяким влияниям (чувств, страстей, воображения,
корыстных интересов и т. д.), постольку он не может быть
"высшим судьей" и представляет в нравственном
отношении, так сказать, нейтральную величину,
определяемую велениями доброго или злого "сердца" человека.
Вот почему источником "нравственного порядка" (как
и безнравственного поведения) является доброе или злое
"сердце", как первичная и более мощная по сравнению
с разумом чувственная природа в человеке.
Связывая источник нравственности с "сердцем"
человека, Паскаль хочет утвердить искренность,
неподдельность и непосредственность добродетели на уровне
нравственного чувства, которое не умеет лицемерить и
хитрить, подобно разуму. Ум может рассуждать о морали
и предписывать всякие моральные нормы, но делают
человека нравственным именно чувства и основанные на
них действия: любви, сострадания, соучастия, утешения,
милосердия, готовности помогать другим, жертвенности
и т. д. Нравственные чувства, как и все чувства, не могут
быть предметом доказательства, дискурсии. Они
составляют особую область человеческого бытия, от которой
зависят моральный выбор между добром и злом и
нравственное достоинство личности. Причем нравственные
чувства действуют естественно, непосредственно и
практически мгновенно в ситуации выбора, тогда как разум
с его дискурсией и логикой "медленно обсуждает вещи".
Для Паскаля важно укоренить нравственность именно
в "сердце" человека, убеждения которого более просты,
прочны и доходчивы, чем доводы и доказательства
разума, изменяющиеся в зависимости от ситуации и подчас
1 Декарт Р. Избранные произведения. С. 279.
198
сбивающие человека с толку. Здесь у Паскаля речь идет
о моральной интуиции, значение которой в нравственной
жизни субъекта трудно переоценить. Психологи в своих
экспериментах используют моральную интуицию людей
при опознавании образов или классификации лиц (на
добрые и злые, честные и подлые, скромные и наглые и
т. д.). Педагоги из своего личного опыта знают о
действенности моральной интуиции у детей, еще неспособных
к логической аргументации и словесному выражению
своих чувств, но тонко различающих добро и зло.
Недаром выдающийся педагог' современности В. А. Сухо-
млинский назвал одну из своих книг "Сердце отдаю
детям". Он не мыслил для себя общения с детьми без
обращения к их сердцу, которое чувствительно
откликается "на правду, красоту, человечность", и не верил в
воспитательное воздействие слова, мысли, если они не
согреты "горячей кровью чувств"1.
Важно подчеркнуть, что "сердце" в этике Паскаля
(равно как и в гносеологии) не представляет собой ничего
ни мистического, ни загадочного. Оно есть "субъект"
нравственных чувств и моральной интуиции, а также
своеобразный критерий нравственной истины, источник
которого в жизненном опыте людей. Критерий этот не
априорен у Паскаля, а сугубо апостериорен, рожденный,
так сказать, практикой жизни. Человек постигает
"сердцем" добро и зло в жизни не менее, а часто и более верно,
чем разумом, ориентируясь в сложной ситуации со
множеством неизвестных.
В эпоху Просвещения позицию нравственного
сенсуализма отстаивает Д. Юм, вполне естественно и логично
выводя его из принципов своего философского
сенсуализма: "...нравственность определяется чувством...
Одобрение или осуждение... не может быть результатом работы
рассудка, оно представляет собой плод деятельности
сердца; это не спекулятивное предложение или
утверждение, но активное чувство или переживание"2. В русле
паскалевской традиции рассуждает и Ж.-Ж. Руссо, для
которого "существовать... значит чувствовать: наша
восприимчивость чувств, несомненно, предшествует нашему
разумению, и у нас были чувства раньше идей". Отсюда
1 Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива. М., 1981. С.
54, 190.'
2 Юм Д. Исследование о принципах морали. Сочинения: В 2 т. М.,
'%5. Т. 2. С. 333—334.
199
он считает, что правила морали человек "не извлекает из
принципов какой-нибудь философии, но находит их в
глубине своего сердца, начертанных природою
неизгладимыми письменами"1.
Очень убедительно отстаивает принцип сенсуализма
в этике А. И. Титаренко, считая его основополагающим
для нравственной жизнедеятельности человека2. В своей
книге "Структуры нравственного сознания" он уделяет
особое внимание роли моральной интуиции и
нравственных чувств в жизнедеятельности субъекта, совершенно
справедливо критикуя попытки "механически перенести
на мораль однобокий, прямолинейно понимаемый
"рационализм" и преувеличить значение моральной
рефлексии3. Опираясь на идею П. Я. Гальперина о том, что
чувства представляют собой "свернутые" действия,
А. И. Титаренко подчеркивает императивно-оценочную
роль чувств в моральном выборе личности.
Нравственные чувства дают непосредственную и мгновенную
реакцию на ту или иную жизненную ситуацию с точки зрения
добра и зла, являясь "исключительно тонким
избирательным механизмом моральной оценки"4. Чувства
делают это легко и естественно, нередко бессознательно, без
привлечения "следящей системы" сознательного
поведения — моральной рефлексии, механизм действия которой
более громоздок и медлителен. Когда надо мгновенно
оценить ситуацию — здесь нравственное чувство ничто не
заменит. Помимо этого, нравственные чувства
"позволяют личности не только понять мотивы другого человека,
но и сопереживать им эмоционально", вызывая
эмоциональную идентификацию с радостями и страданиями
другой личности, без чего "нравственная
коммуникативность межличностных отношений была бы опустошена
и обескровлена"5.
Не менее выразительно говорит А. И. Титаренко о
роли моральной интуиции, ее продуктивном, творческом
характере, благодаря которому индивид с ее помощью
может "увидеть фальшь в применении какой-либо нор-
1 Руссо Ж.-Ж. Исповедание веры савойского викария. М., 1903.
С. 53, 60.
2См.: Титаренко А. И. Роль чувств — в морали, принципа
сенсуализма — в этике // Вопросы философии. 1984. № 8. С. 59—71.
3См.: Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. М.,
1974. С. 240.
4 Там же. С. 245.
5 Там же. С. 244.
200
мы" или понять ограниченность сферы ее применения
и "перейти в случае необходимости в плоскость более
широких и морально более верных нормативных оценок
ситуации. В этом качестве моральная интуиция в
историческом плане — буревестник изменения самих норм
и запретов, непреложный инструмент нравственного
творчества в поведении человека1. А. И. Титаренко
описывает те самые структуры нравственного сознания, которые
входят в компетенцию "сердца" у Паскаля, но он
обходится без этого термина. За 300 лет до современной
психологии Паскаль отметил такие особенности
чувственного схватывания вещей и ситуаций, как
непосредственность, мгновенность, целостность, что особенно
важно в момент морального выбора.
Лучше всех, я считаю, в нашем веке эту сторону
учения Паскаля понял и по-своему творчески развил А.
Пуанкаре. В "Последних мыслях" он солидаризируется
с Паскалем в оценке роли чувств, сердца и разума в
нравственной жизни людей: "Всякая догматическая мораль,
всякая мораль с доказательствами заранее обречена на
верную неудачу; она — как машина, где есть только
передачи движения и нет движущей энергии. Моральным
двигателем, который мог бы привести в движение весь
аппарат со всеми рычагами и зубчатками, может быть
только чувство"2. Например, продолжает Пуанкаре,
нельзя доказать, что мы должны чувствовать сострадание
к несчастным, но стоит нам только увидеть
"незаслуженную нищету", как в нас стихийно будет подниматься
чувство возмущения и боль за униженных и
обездоленных людей. Или, скажем, нам трудно рассуждением
оправдать нашу любовь к родине, "но, стоит нам мысленно
представить наши армии разбитыми и Францию
полоненной, все наше сердце сожмется, на глазах покажутся
слезы и мы не станем уже ничего слушать". Таким
образом, "чувства не могут быть предметом
доказательства"3. Вслед за Паскалем Пуанкаре связывает с "сердцем"
нравственные чувства, называя "сердце" "рабочим", а ум
— только "орудием" в его руках4.
Из современных паскалеведов лучше других трактует
"феномен сердца" у Паскаля Ж. Лапорт, определяя его
'См.: Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания.
С 242—243.
2 Пуанкаре А. Последние мысли. С. 118.
3 Там же. С. 118—119.
4Пуанкаре А. Ценность науки. М., 1906. С. 152.
201
как "орган аффективной жизни": "Интуиции сердца... не
есть ни чистое созерцание, ни пассивная констатация, ни
просто чувственное или интеллектуальное данное: они
заключают в себе тенденцию движения души, такое
"глубокое аффективное течение, которое предшествует всякой
психической жизни и дает ей направление"1. Это
понимание функции "сердца" Лапортом во многом напоминает
понятие бессознательной психологической установки
Д. Н. Узнадзе и современной грузинской школы
психологии. Кстати, А. И. Титаренко также отмечает данный
аспект моральных чувств, поскольку они
"непосредственно входят в "установки" личности, определяя ее
готовность к совершению нравственно-значимых поступков"2.
Сила "сердца" означает у Паскаля не слабость
разума, но отрицание его всесилия. Могут верить во всесилие
разума только те, полагает он, кто недооценивает силу
страстей, но эти последние "всегда живы даже в тех, кто
стремится от них отречься"3. Внутренняя борьба между
разумом и страстями составляет драматизм всей
человеческой жизни и происходит с переменным успехом,
иногда уступая место их гармонии. "Сердце", влечения
которого часто носят безотчетный и бессознательный
характер ("Мы не властны над своим сердцем"), согласно
Паскалю, может увлечь за собой разум, поставив себе на
службу его доказательства. Так достигается гармония
между разумом и "сердцем", так сказать, на "территории
сердца".
Однако Паскаль, говоря о силе "сердца", его влечений
и страстей, отнюдь не абсолютизирует его роли в
нравственной жизни человека, хорошо зная о вреде себялюбия
(amour-propre), идущего от "сердца". Знаменитый
фрагмент о себялюбии развенчивает нерассудительность и
порочность "сердца" человека, ориентированного только
на свое личное благо. В свете этих беспощадных
разоблачений становится понятной у Паскаля роль разума
и моральной рефлексии в сфере нравственности.
Любовь к самому себе, себялюбие, считает он,
естественна для человека и гнездится в глубине его "сердца".
Поскольку для Паскаля любовь всегда возвышает,
уважает и почитает свой предмет, постольку человек, исходя
из себялюбия, считает себя лучше, чем он есть на самом
1 Laporte J. Le coeur et la raison selon Pascal. P., 1950. P. 113.
2 Титаренко A. И. Структуры нравственного сознания. С. 244.
3 Pascal В. Pensées. P. 549, fr. 410.
202
деле. Он не только склонен не замечать своих недостатков,
но и ненавидит тех, кто ему говорит о них: "Это
затруднение порождает в нем самую несправедливую и преступную
страсть, какую только можно себе представить, а именно
смертельную ненависть к этой истине, которая изобличает
его недостатки"1. Мы должны были бы, напротив,
благодарить тех людей, которые изобличают наши недостатки,
говорит Паскаль, ибо не они, а мы сами являемся их
источником. Но правда о наших пороках есть слишком
"горькое лекарство" для нас. Потому мы стараемся
принимать его в минимальных дозах, не в силах избавиться от
отвращения и тайной досады на тех, кто нам его
предлагает. Отсюда происходят ложь и лицемерие в общении между
людьми: "...мы ненавидим истину — от нас ее скрывают,
мы любим лесть — нам льстят, мы любим быть
обманутыми — нас обманывают. ...Никто в нашем присутствии не
говорит о нас так же, как в наше отсутствие... и в мире
осталось бы немного друзей, если бы каждый из них знал
то, что его друг говорит о нем, когда его нет рядом, хотя
именно тогда он говорит искренне и без предвзятости"2.
В себялюбии Паскаль видел настоящий "камень
преткновения" на пути нравственного совершенствования
человека, источник своеобразной "мании величия" (libido
dominandi), в силу которой человек возвышает себя над
другими, стремясь как бы уподобиться самому Богу.
Свое реальное несовершенство человек усугубляет
нежеланием признавать его и становиться лучше.
Как бы подхватывая мысль Паскаля, Кант в своей
работе "Об изначально злом в человеческой природе"
(1792 г.) тоже говорит об "извращенности и коварстве
человеческого сердца": "Эта нечестность самому себе
пускать пыль в глаза, мешающая утверждению в нас
подлинно морального образа мыслей, превращается
внешне в лицемерие и в одурачивание других. Если это
и нельзя называть злостностью, то оно по меньшей мере
заслуживает названия низости и кроется в том злом
начале человеческой природы, которое... составляет
тронутое гнилью место нашего рода и, пока мы не
избавимся от него, будет препятствовать развитию зачатков
доброго, которое при других условиях могло бы
произойти"3. Говоря далее о себялюбии как принципе наших
1 Pascal В. Pensées. Р. 636, fr. 978.
2Ibid. P. 637, fr. 978.
3Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1965. Т. 4. Часть 2. С. 41.
203
s
моральных максим, Кант считает его "источником всего
злого".
Важно отметить то обстоятельство, что Паскаль за
это зло возлагает ответственность не на естественную
материальную природу, не на метафизическую
неизменную сущность человека, но на его волю (сердце и есть
воля), которая делает объектом своей высшей любви
несовершенного и ограниченного человека.
Для "профилактики" этого "нравственного
загнивания" Паскаль предлагает весьма радикальное средство —
ненависть к нашему собственному я как источнику
себялюбия: "Истинная и единственная добродетель состоит
в том, чтобы ненавидеть себя..."1 "Кто не способен
ненавидеть свое я, а также инстинкт, побуждающий его
делать из себя Бога, тот находится в крайнем ослеплении.
Даже тот, кто совсем ничего не видит, не столь далек от
истины и справедливости, как он"2. Дурно
"обожествлять" себя с нравственной точки зрения, ибо
нравственный идеал, так сказать, "высокое небо нравственности"
надо искать не в себе, а в другом существе, поистине
достойном нашей самоотверженной любви. Но это
идеальное и совершенное существо может быть только
Богом. Отсюда "мы должны любить только Бога и
ненавидеть только себя"3.
Дурно "обожествлять" себя и с социальной точки
зрения, согласно Паскалю, потому что и другие могут
делать то же самое, что неминуемо обернулось бы
бесконечными конфликтами между людьми, ибо никто не
потерпел бы других "над собой", но каждый захотел бы
встать выше всех. Лучше любить других людей, говорит
Паскаль, поскольку они есть "образ Божий"4. Вспомним
и о том, что Паскаль признает "величие" каждого
человека и его способность к добру, которые также надо
любить. Таким образом, формула "надо ненавидеть себя"
относится только к всяческому "ничтожеству" в человеке.
Сколько упреков, нареканий и прямых обвинений
получил Паскаль за эту свою нравственную максиму! Чего
в ней только не видели! Простое
человеконенавистничество, уничижение человека, христианский аскетизм и т. д.
Но здесь есть и реальная нравственная проблема, ис-
1 Pascal В. Pensées. Р. 581, fr. 564.
4bid. P. 586, fr. 617.
3 Ibid. P. 546, fr. 373.
4 Ibid. P. 623, fr. 931.
204
покон веков обсуждаемая в истории нравственных
учений, — о вреде эгоизма и "заслонах" против него.
Паскаль выдвигает свою формулу во имя нравственного
идеала и нравственно совершенной личности, которая
в беспощадной требовательности к себе усматривает
источник нравственной неуспокоенности и морального
роста. В ясном сознании своих недостатков человек,
согласно Паскалю, обретает истинное нравственное величие.
Ф. М. Достоевский и Л. Толстой высоко ценили эту
максиму Паскаля.
Но были и такие мыслители, которые резко
выступили против нее. Так, Д. Юм считал философию,
признающую эгоизм в качестве первичной естественной черты
и фундаментальной особенности человеческой природы,
"пагубной философией", абсолютизирующей
отрицательные проявления человека. Между тем, согласно
Юму, обычный опыт убеждает нас в том, что люди от
природы склонны к "человеколюбию", т. е. состраданию,
самоотверженности, готовности помогать другим:
"...бескорыстная благожелательность, отличающаяся от
себялюбия, в действительности более проста и более
соответствует аналогии с природой", чем себялюбие.
Таким образом, в противовес Паскалю Юм утверждает
"всеобщую благожелательность человеческой природы"1.
Французские просветители также обрушились на эту
максиму Паскаля, выдвинув концепцию "разумного
эгоизма". Особенно Вольтер бичует его за "утонченную
мизантропию". Если Паскаль указывал на вред себялюбия, считая
его не только источником нравственного несовершенства
человека, но и беспорядка в обществе, то Вольтер обращает
внимание на его необходимость и полезность, как
необходимы людям "пять органов чувств". "На нем покоится весь
порядок. Невозможно, чтобы общество сформировалось
и существовало без себялюбия, как невозможно создавать
детей без вожделения и думать о пропитании без аппетита.
Именно любовь к нам самим присутствует в нашей любви
к другим; именно через наши многочисленные нужды мы
полезны роду человеческому; это — основа всякой
коммерции; в этом состоит вечная связь между людьми. ...Именно
себялюбие, данное каждому живому существу от природы,
научило его уважать себялюбие других. Закон направляет
это себялюбие, а религия его совершенствует", — пишет
1 Юм Д. Исследование о принципах морали // Сочинения: В 2 т. М.,
1965. Т. 2. С. 345—346.
205
Вольтер в своем "Анти-Паскале"1. Далее он апеллирует
к самому Господу, который дал нам этот "инстинкт"
и который мы должны использовать по назначению; Бог
мог бы нам его и не давать: вот тогда мы бы все делали
только из милосердия и любви к другим людям,
совершенно не думая о самих себе. Так, следование логике
себялюбия, согласно Вольтеру, есть исполнение
повеления Божия. Но все дело в том, что когда Паскаль
развенчивает себялюбие, то ведь осуждает не инстинкт
самосохранения и не психологическую самозащиту достоинства
личности, но дурное направление воли, ведущее человека
к порокам, несправедливости и лицемерию. Он дает
психологический анализ себялюбия, извлекая из него такие
психологические следствия, которые губительны в
нравственном отношении. Вот почему человек должен
ненавидеть себя. Но весь человек не сводится у Паскаля лишь
к порокам и "ничтожеству". Ему присуще и "величие",
которое идет прежде всего от разума. "Будем же
стремиться хорошо мыслить, — говорит Паскаль, — вот
основа морали". Неподкупный разум может склонить
"нерассудительное сердце" на путь правды и
справедливости. Так достигается гармония между разумом
и "сердцем" уже на "территории разума".
Таким образом, Паскаль не отрицает значения
моральной рефлексии в сфере нравственности. Разум
и "сердце" выступают как два звена в одной цепи. Другое
дело, что Паскаль не абсолютизирует роли "рассудочной
морали", которой он противопоставляет "истинную
мораль", выражая свою мысль в виде парадокса: "Как
истинное красноречие пренебрегает красноречием, так
истинная мораль пренебрегает моралью. Иными словами,
оценивающая мораль пренебрегает моралью
рассудочной, не знающей правил. Ибо в оценке всегда
присутствует чувство, как научность свойственна уму" 2.
Развенчание себялюбия Паскалем нельзя
рассматривать как развенчание инстанции "сердца" вообще. Лишь
себялюбивое, нерассудительное "сердце" умеет лгать
и лицемерить. Однако, согласно Паскалю, "мы
постигаем истину не только разумом, но и сердцем". Кроме того,
"мое сердце всеми силами стремится постичь, в чем
состоит истинное благо, чтобы служить ему"3. "Чистое
1 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. P., 1879. T. 22. P. 37.
2 Pascal B. Pensées. P. 576, fr. 513.
3 Ibid. P. 555, fr. 429.
206
сердце является самой надежной опорой добродетели.
При этом оно выполняет эту важнейшую функцию
естественно, непосредственно и без особых усилий. Паскаль
высоко ценит именно непринужденность, естественность,
"органичность" добродетели, отличая ее "от всякой
аффектации, моральной "ходульности": "О добродетели
человека следует судить не по его порывам, а по
обычному образу жизни"1. С глубокой искренностью
нравственного чувства связывает Паскаль бескорыстное
служение добру, выше всего оценивая "тайные добрые дела".
Кстати сказать, он следовал этому принципу не только
в теории, в своей этической концепции, но и на практике,
в своей жизни, бескорыстно и без огласки помогая
бедным людям.
Чтобы ярче оттенить трактовку "феномена сердца"
у Паскаля, сравним ее с пониманием "сердца" у
Ларошфуко, "Максимы" которого пропитаны размышлениями
об его испорченности и злонамеренности. Знаменитый
его афоризм гласит: "Ум всегда в дураках у сердца". Или
вот еще другой в том же духе: "Сентенции, обнажающие
человеческое сердце, вызывают такое возмущение
потому, что людям боязно предстать перед светом во всей
своей наготе"2. Есть у Ларошфуко, как и у Паскаля,
мастерски нарисованный "портрет" себялюбия, идущего
из глубины человеческого "сердца" и ставящего себе на
службу даже благородные порывы людей, а также их
добродетели. Отсюда он считает, что "наши добродетели
— это чаще всего искусно переряженные пороки"3. Не
случайно этот грустный и одновременно саркастический
афоризм взят автором в качестве эпиграфа к
"Максимам". Своекорыстие человеческого "сердца" настолько
неистребимо, по его мнению, что даже с виду разумным
и благородным его мотивам доверять нельзя. Таков был
горький опыт познания людей одного из активнейших
участников Фронды принцев.
Хотя в тонкой психологической обрисовке "феномена
сердца" есть много общего у Ларошфуко и Паскаля, тем
не менее в отличие от первого последний верит в
"сердце", жаждущее истины, правды и справедливости. Если
первый, обличая себялюбие, по сути дела, рисовал "пор-
l2 Pascal В. Pensées. Р. 594, fr. 724.
2 Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де.
•актеры. С. 44, аф. 102; с. 94, аф. 524.
'Там же. С. 32.
207
трет" эгоизма как своекорыстия, то второй связывал
с себялюбием человека не столько искание выгоды
и пользы для себя, сколько стремление "к
самообожествлению", самолюбование. Себялюбие, в понимании
Паскаля, это, скорее, своеобразный "нарциссизм" человека.
Конечно, себялюбие у него связано и с эгоизмом,
представляя, так сказать, его "верхний, чисто духовный этаж".
Указывая на "естественность" себялюбия, оба
моралиста не усматривают его социальных истоков, но
стремятся к предельно обобщенной, абстрактной его
характеристике, считая его свойством "природы человека".
Конечно, нельзя отрицать природных истоков
себялюбия, связанных с инстинктом самосохранения, о чем
пишет, например, канадский физиолог Ганс Селье:
"Эгоизм, или себялюбие,— древнейшая особенность жизни.
От простейших микроорганизмов до человека все живые
существа должны прежде всего защищать свои интересы.
Едва ли можно рассчитывать, что кто-то станет
заботиться о нас добросовестнее, чем о себе самом.
Себялюбие естественно, но... мы боимся его, потому что в нем
таятся семена раздора и мести. Любопытно, что,
несмотря на врожденный эгоизм, многим из нас доступны
сильные альтруистические чувства. Более того, эти два
противоречивых на первый взгляд импульса отнюдь не
являются несовместимыми: инстинкт самосохранения не
обязательно вступает в конфликт с желанием помогать
другим. Альтруизм можно рассматривать как
видоизмененную форму эгоизма..."1 Правда, Селье
неправомерно отождествляет эгоизм с инстинктом самосохранения,
ибо первый социален в отличие от второго как
природного явления. Ларошфуко и Паскаль говорили
фактически о себялюбии людей светского общества, в котором
они вращались и пороки которого тонко подмечали.
Именно эгоизм представителей высших классов —
аристократов и буржуа — они критиковали, срывая с него
"маску лицемерия".
Помимо проблемы источника нравственности
Паскаль обращает внимание на другие стороны
нравственного порядка. Этот христианский мыслитель был эвдемо-
нистом в этике. Он рассматривает Высшее благо
(Souverain bien) как бесконечное счастье, к которому
стремятся все люди, но которого, однако, никогда не
достигают. "Все люди без исключения стремятся к счастью, —
1 Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1982. С. 52—53.
208
пишет Паскаль. — ...Воля никогда не делает ни
малейшего шага, не имея в виду этой желанной цели. Это —
мотив всех действий всех людей, даже тех, которые хотят
повеситься"1. Но в чем и где искать это Высшее благо?
Философы нам здесь не помогут, считает он, ибо между
ними нет согласия, и они предложат 288 различных благ,
противоречащих друг другу: "Одни ищут его в
авторитете, другие — в любознательности и науках, третьи —
в наслаждениях"2.
Главный же недостаток различного понимания
Высшего блага состоит в том, по мнению Паскаля, что
его видят в каких-то отдельных и частных вещах,
и отсутствие какой-то одной из них гасит в человеке
удовольствие и счастье от обладания другой. "Лучше
поняли сущность блага те, которые считают его
таковым, чтобы все могли обладать им одновременно,
без всякой зависти и не могли потерять его против
своей воли"3. Если отвлечься от всех конкретных
решений проблемы блага, то, в общем, полагает Паскаль,
одни ищут его "вне себя", во внешнем мире
(эпикурейцы), а другие, наоборот, — "внутри", в самом
себе (стоики). Но практически никто не достигает
желаемого счастья: "Все жалуются: короли и подданные,
аристократы и простолюдины, старые и молодые,
сильные и слабые, ученые и невежды, здоровые и больные,
люди всех возрастов и званий, в любой стране и во
все времена"4.
Столь продолжительный и однообразный опыт,
согласно Паскалю, давно должен был бы убедить людей
в безнадежности всех их попыток достичь Высшего блага
собственными силами. Но суетные люди не дают себе
труда задуматься над этим вечным поражением в жизни.
"Кто не видит суеты мира, тот суетен сам"5. Между тем,
по мнению Паскаля, совершенно ясно, что бесконечное
стремление людей к бесконечному счастью может
удовлетворить не какой-то конечный предмет, но лишь
бесконечный объект, каковым может быть один Бог. Так,
философ и моралист уступает место христианину. При
этом Бог трактуется Паскалем как Иисус Христос,
Богочеловек, который дает счастье "в нас" и одновременно
1 Pascal В. Pensées. Р. 519, fr. 148.
Mbid. P. 520, fr. 148.
3 Ibidem.
4Ibid. P. 519, fr. 148.
5 Ibid. P. 504, fr. 36.
209
"вне нас", объединяя разделенные противоположности
и обеспечивая их гармонию.
Обращением к Богу он решает заодно и другую
проблему — нравственного идеала, который и воплощает
для него Иисус Христос как нравственно совершенная
личность. Паскаль отмечает такие его качества, как
милосердие, любовь к людям и служение им, способность
к страданию, готовность жертвовать собой ради других.
Из других моральных качеств он указывает на
рассудительность, правдивость, искренность, верность,
скромность, честность, порядочность, которые должен
культивировать в себе совершенный человек.
Любопытно отметить, что Паскаль отдает дань
идеалу "честного человека" (honnête homme), бытовавшему
в светских салонах его времени: "Надо характеризовать
человека не как математика, проповедника или оратора,
но как честного человека. Только это универсальное
качество мне по душе. Плохой признак, когда, видя человека,
вспоминают об его книге", тем самым частным
обстоятельством подменяют самого человека1. Здесь слышен
уже голос философа-моралиста, утверждающего
самоценность человеческой личности. Паскаль также
указывает на невозможность сведения человека к его
профессиональному функционированию. Продолжая
размышление о "честном человеке", он обнаруживает такой
парадокс: "Чему угодно учат людей, только не честности.
Между тем они кичатся именно тем, чему их никогда не
учили"2. Вспомним о том, что Паскаль отрицает как
"врожденные понятия", так и "врожденные чувства",
считая их просто "привычными", ибо "природа человека
есть только его первая привычка". Так что посредством
"внешней привычки" научаются "внутренней
добродетели". Меткая наблюдательность ученого и писателя,
философа и моралиста нередко выводит его за пределы
религиозной трактовки человека.
Паскаль очень требователен к человеку, его
внутреннему достоинству и внутренней свободе. "Не стыдно
человеку предаваться печали, — пишет он, — ему стыдно
изнемогать от удовольствия... Ибо под властью печали
склоняемся мы сами, не теряя своего достоинства, а
удовольствия владеют нами, превращая нас в своих рабов..
Умение владеть собой составляет славу человека, тогда
1 Pascal В. Pensées. Р. 588, fr. 647.
4bid. P. 599, fr. 778.
210
как рабство его унижает"1. Особенно пагубна погоня за
удовольствиями перед лицом горестей мира и страданий
людей. "Не надо спать!" — взывает Паскаль как бы
к совести всего человечества, символически истолковывая
смерть Иисуса Христа в назидание людям: его
ближайшие ученики заснули в Гефсиманскую ночь, вместо того
чтобы бодрствовать с ним и облегчить его страдания2.
Это размышление, названное Паскалем "Тайна Иисуса",
не было опубликовано издателями из Пор-Рояля (как
"крамольное"!) и появилось в печати лишь в 1844 г. (в
издании Фожера).
Паскаль выступает против эгоистического счастья.
Он думает, заботится обо всех людях, и его не
устраивает философский идеал счастья для избранных
одиночек (в духе стоицизма или скептицизма). Паскаль
— убежденный эгалитарист. Он ищет, так сказать,
всеобщую и единую "духовную пищу", которая
удовлетворила бы всех людей, и находит ее в Боге. Он —
против индивидуализма, полагая справедливым
жертвовать личными интересами ради общих: "Все заботятся
только о себе, но это противоречит всякому порядку.
Надо проявлять заботу обо всех... Надо стремиться
к общему"3. Религиозное решение проблемы
человеческого счастья у Паскаля было не только следствием его
личной веры в Бога, но и отражением реального
бессилия абсолютистского общества обеспечить
социальную базу для достойной жизни миллионов
обездоленных людей.
Наконец, Паскаль интересуется еще одной проблемой
нравственного порядка — объективностью нравственных
ценностей, или "единственной точки зрения в морали".
Он видит относительность нравственных норм,
изменяющихся не только от эпохи к эпохе, но и от народа
к народу и от государства к государству: "Кража,
кровосмешение, убийство отцов и детей — все выступало под
видом добродетельных поступков"4. Однако, заметив
великое многообразие нравов, Паскаль ищет
общечеловеческое в морали, а также абсолютный критерий
нравственности. Как' есть одна-единственная правильная точка
зрения на картину, определяемая законами перспективы.
1 Pascal В. Pensées. Р. 601, fr. 795.
Mbid. P. 620, fr. 919.
3 Ibid. P. 507, fr. 60.
4 Ibidem.
211
так должна существовать и подлинная точка зрения в
вопросах истины и морали. Но что поможет ее найти,
вздыхает Паскаль. "Для верного суждения нужна
неподвижная точка отсчета. Стоящий в порту правильно
судит о плывущих на корабле. Но где тот порт, откуда мы
могли бы правильно судить о морали?"1. Ведь
погрешающие против морали, говорит Паскаль, считают
нравственно чистых людей далекими от природы, которой
грешники якобы и следуют. Здесь происходит такое же
искажение взгляда, как у плывущих на корабле, которым
кажется, что исчезает берег.
В ответ на это затруднение Паскаля остроумный
Вольтер тут же находит исходную точку "в той
единственной максиме, которая бытует у всех народов: "Не
делайте того другому, чего не хотели бы, чтобы делали
вам"2. Здесь Вольтер приводит одну из формулировок
так называемого "золотого правила" нравственности,
известного уже Конфуцию и Фалесу и привлекавшего
многих философов в последующие времена (Сенека,
Эпиктет, Августин, Гоббс, Локк, Лейбниц, Кант и др.).
Но все дело в том, что так легко, как представлялось
Вольтеру в полемике с Паскалем, не разрешается
поставленная последним проблема, а "золотое правило" — оно
безусловно было известно и Паскалю — при
теоретическом его обосновании и практическом применении
встречает ряд своих трудностей, например, оно не снимает
эгоистической подоплеки человеческого поведения, на
что указывали Кант и Шопенгауэр3. Озабоченный
объективной истиной в сфере нравственности, Паскаль
связывает эмпирическое многообразие нравов с
законами государств, которые в свою очередь выражают
интересы сильных мира сего (см. подробнее ч. 5 данной
главы). В этом он довольно проницателен для своего
времени. Причем, критикуя нравы высшего света,
Паскаль уважительно отзывается о "народе", считая его
мнения "здравыми". В поисках человеческих оснований
нравов и критерия нравственности он рассуждает чаще
всего не как христианин, убежденный в божественном
происхождении морали, а как философ, ученый и
моралист, опирающийся на "естественный свет" разума
1 Pascal В. Pensées. Р. 592, fr. 697.
2 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. P., 1879. T. 22. P. 50.
3См. подробнее: Гусейнов A. A. "Золотое правило" нравственности
// Вестник Московского университета. Философия. 1972. № 4.
212
и чувств. Лишь в "тупиковых точках" своих рассуждений
он обращается к Богу как к гаранту человеческого
счастья, "высшего блага" и нравственного идеала. Вот
почему иногда Паскаль называет нравственный порядок
"сверхприродным".
4. "ПСИХОЛОГИЯ НРАВОВ" И
САЛОННАЯ КУЛЬТУРА XVII века
Паскаль продолжает традицию "моральной
философии" во Франции, идущую от Монтеня. Вместе с тем в ту
эпоху интерес к нравственным вопросам, темам и
проблемам был характерен не только для философов (Ф. Бэкон,
Спиноза, Лейбниц и др.), писателей-моралистов (Шар-
рон, Ларошфуко, Лабрюйер), религиозных мыслителей
(К. Янсений, Сен-Сиран, А. Арно, П. Николь и др.), но
и для образованных светских кругов общества,
проявлявших чуткое внимание к движущим силам, мотивам
и скрытым пружинам человеческого поведения, условиям
человеческого существования вообще, достоинству
человека, его назначению на земле, жизни и смерти, счастью
и высшему благу людей. Все эти "экзистенциальные
темы" были предметом живого обсуждения в светских
салонах и даже заранее планируемых там дискуссий. Так,
в салоне маркизы де СабЛе требовалось дать не только
глубокое и остроумное определение того или иного
душевного состояния, чувства, страсти, мотива, но и суметь
выразить свою мысль в форме изящного афоризма.
В этом салоне оттачивались тонкие афоризмы
Ларошфуко и проявился интерес к данному литературному
жанру у Паскаля. С духовной атмосферой светских салонов
связаны и "Характеры" Лабрюйера, также написанные
в форме афоризмов.
Идейный климат светских салонов и литературных
кружков того времени нередко отличался духом
свободомыслия и оппозиции по отношению к официальной
идеологии. Светское вольнодумство было одной из форм
секуляризации культурной жизни, равно как и светский
интерес к моральным ценностям и выработка мирской
"жизненной философии", освобожденной от религиозных
заповедей и догм. Светские "учителя житейской
мудрости" типа кавалера де Мере или Митона, с которыми был
213
знаком Паскаль, привлекли его внимание к "механизмам
человеческого сердца", глубинам "тонкого ума",
парадоксам индивидуального бытия и т. д. Но если у этих
"светских львов", подражавших античным мудрецам
и порой неплохо знавших античную культуру, рефлексия
не поднималась выше уровня эмпирических наблюдений
и весьма банальных обобщений, то у
писателей-моралистов описание светской жизни превращалось в обличение
нравов светского общества с позиций определенного
личного и социального идеала.
Так, Монтеню претит лицемерие, двоедушие,
выспренность, искусственность в поведении людей
светского общества и он противопоставляет этому как бы
"изломанному типу жизни" простоту нравов, непоказное
благородство, чистоту помыслов и естественность
порывов "детей природы" Нового Света, а также крестьян,
ремесленников и вообще простых людей Старого Света.
Личный идеал Монтеня — жизнь в соответствии с
законами "матери-природы" и требованиями возвышенного
человеческого разума, не обремененного мелкими
суетными заботами.
А социальный свой идеал осторожный Монтень
выражает словами Анахарсиса: "...лучшим управлением было
бы такое, в котором, при всеобщем равенстве во всем
прочем, первые места были бы обеспечены добродетели,
а последние — пороку"1. Конечно, этот идеал довольно
абстрактен, но он позволяет Монтеню осудить
существующее неравенство между людьми, которое буквально
"разъедает" все человеческие отношения. В главе "О
существующем среди нас неравенстве" 1-й книги
"Опытов" Монтень пишет: "Высота, на которой я пребываю,
поставила меня вне общения с людьми... ибо их свобода
со всех сторон ограничена моей великой властью над
ними. Все, что я вижу вокруг себя, прикрыто личинами"2.
Причем Монтень обращает внимание на жалкую участь
не только подданных, но и самих царей и королей:
"...царское достоинство совершенно лишает государя
дружеских связей, а ведь именно в этом величайшая
радость человеческой жизни"3. Помимо этого, на какую
бы высоту социальной лестницы ни был вознесен
человек, подчеркивает Монтень, он, как природное существо,
1 Монтень М. Опыты. Кн. 1—2. М., 1979. С. 241.
2 Там же.
3Там же. С. 241.
214
разделяет участь всех других людей: смертность,
болезни, страдания и т. д. "Поглядите на императора, чье
великолепие ослепляет вас во время парадных выходов...
А теперь посмотрите на него за опущенным занавесом:
это обыкновеннейший человек, и, может статься, даже
более ничтожный, чем самый жалкий из его подданных"1.
Это развенчание "сильных мира сего" представляет
собой разительный контраст с обожествлением персоны
короля и королевской власти в эпоху средневековья.
Данная традиция Монтеня усваивается и развивается в трудах
моралистов XVII в.: Паскаля, Ларошфуко, Лабрюйера.
Паскаль в "Мыслях" разоблачает существующую
"империю власти" как государство насилия и несправедливости.
Герцог де Ларошфуко (1613—1680), принадлежавший
к одному из знатнейших родов Франции, состоявшему
в родстве с королями, активный участник Фронды
принцев, ненавидел абсолютизм (и его столпов Ришелье и Ма-
зарини) как деспотический режим власти, поправший
старые дворянские привилегии и вольности и придавивший
народ непосильным бременем налогов. Знатные
феодалы, считавшие себя по праву рождения "защитниками
отечества" и своих подданных — крестьян, выступали от
имени "всеобщей и высшей справедливости" и вначале
были поддержаны народом. Но когда они получили от
короля удовлетворение своих личных претензий, то
быстро забыли об "общем благе" и предали интересы народа,
помогая центральной власти подавить народные
восстания. Кроме того, и в своем собственном стане в разгар
Фронды принцев они без конца предавали друг друга
и готовы были идти на сделку со своим злейшим врагом
— кардиналом Мазарини, только бы добиться для себя
лишних привилегий. Вот это своекорыстие высшей знати,
ее неспособность пожертвовать личной выгодой ради
общественных интересов глубоко возмущали
Ларошфуко, храбро сражавшегося в отрядах мятежников. Он
смело бросил вызов всесильному Мазарини, поддержав бунт
парижского парламента и выступив на его заседании
в 1649 г. с большой речью, озаглавленной "Апология
принца де Марсийяка" (такое имя носил Ларошфуко до
смерти своего отца в 1650 г.).
В ней Ларошфуко обосновывает свое участие в мятеже
следующим образом: "Как бы ни была справедлива
терзавшая меня скорбь, первые мои жалобы были вызваны
1 Монтень М. Опыты. Кн. 1-2. М.. 1979. С. 236.
215
общественными страданиями; и потребовалось объявить
кардинала врагом народа, прежде чем я объявил себя его
врагом"1. Горький опыт Фронды заставил его
разочароваться в сотоварищах по борьбе, на деле оказавшихся
весьма далекими от его идеалов и равнодушными к
бедствиям народных масс. Сам же он с глубоким
сочувствием и пониманием относился к страданиям народа и
находил законным его бунт: "Признаюсь, что их нищета
вынудила меня одобрить их мятеж, и я лишь желал,
чтобы облегчение, которое должно было наступить, было
пропорционально их страданию"2.
После поражения Фронды Ларошфуко 7 лет живет
в изгнании, вдали от двора, имея время для осмысления
всего происшедшего и работая над "Мемуарами", в
которых он дал критические портреты "сильных мира
сего": Людовика XIII, Анны Австрийской, Ришелье, Маза-
рини, "Великого Конде" и других принцев крови —
и свою отрицательную оценку нового способа правления
— крепнущего абсолютизма. "Новая политика"
центральной власти привела к тому, считал Ларошфуко, что
люди перестали думать об "общем благе", родине,
отечестве, но без стыда поставили свои частные интересы
и выгоды выше всего на свете. Отсюда всеобщее падение
нравов, культ индивидуализма, разгул низких страстей,
охватившие все сословия. Выбитые из привычной
жизненной колеи, люди перестали походить на самих себя,
стало чуть ли не правилом хорошего тона скрывать свое
истинное лицо под маской, фальшивой личиной, забывая
подчас ее снимать даже в отношениях с близкими.
Конечно, Ларошфуко идеализирует "старые добрые
времена", усматривая в "падении нравов" только новое
веяние времени. Еще Монтень в своих "Опытах"
заклеймил лицемерие, своекорыстие и суетность высшего света.
Просто неудачный опыт политической борьбы и
недостойные приемы ее участников (интриги, шантаж,
покушения и т. д.) сгустили краски в глазах Ларошфуко,
отличавшегося высокими человеческими достоинствами
и воспитанного в духе "рыцарского кодекса чести". Крах
юношеских иллюзий принца де Марсийяка обернулся
язвительным и проницательным описанием психологии
нравов герцогом де Ларошфуко в его знаменитых
"Максимах", увидевших свет в 1665 г.
1 La Rochefoucauld. Oeuvres complètes. P., 1964. P. 37.
4bid. P. 31—32.
216
Но характерные черты идеологии и психологии
нравов представителей высшего света, изученные им в
конкретных исторических условиях абсолютистской
Франции, Ларошфуко проецирует на человека вообще и
рассматривает свои "Максимы" как "краткое изложение
учения о нравственности", в котором дано "изображение
человеческого сердца" и доказывается, что "себялюбие
растлевает разум". Ларошфуко понимает, что "слишком
мало льстит" человеку, хотя и старается быть
"снисходительным к человеческому сердцу"1. Если первое
издание "Максим" еще несло на себе следы конкретных
реалий и политической борьбы, то в дальнейшем от
одного издания к другому автор старательно вытравляет
эти следы и все более придает своим афоризмам
всеобщий и вневременной характер и общечеловеческий смысл.
Точно такую же операцию осуществляют Паскаль
в "Мыслях" и Лабрюйер в "Характерах". Стремление
к предельным обобщениям при исследовании человека,
выявление "вечных законов" его поведения, скрытых
мотивов и механизмов действия людей, срывание всех и
всяческих "масок", пристальное внимание к антагонизму
между разумом и "сердцем" характерны для всех этих
моралистов, равно как одной из общих тем их
исследований является "психология нравов". Монтень своими
"Опытами" положил начало подобного рода анализам,
хотя Паскаль и упрекал его в том, что он "слишком
много говорит о себе", а сам Монтень писал "свою книгу
для немногих и на немногие годы"2. Но описывая себя,
Монтень дал по существу обобщенный портрет
французского дворянина второй половины XVI в., а помимо
этого отметил его общечеловеческие черты, в чем и
заключается непреходящая ценность его произведения.
В отличие от Ларошфуко Паскаль не принимал
участия в событиях Фронды, но его "психология нравов",
занимающая важное место в "Мыслях", создавалась в то
же самое время и описывала во многом те же самые
реалии. Оба они посещали салон мадам де Сабле,
которая была другом того и другого, но встретиться они не
могли, так как Ларошфуко был в изгнании и появился
в салоне тогда, когда Паскаль его уже оставил,
удалившись в Пор-Рояль. О влиянии их друг на друга не может
быть и речи, несмотря на некоторую общность тем и раз-
1 La Rochefoucauld. Oeuvres complètes. P. 42, 31—32.
'Монтень M. Опыты. Кн. 3. M., 1979. С. 188.
217
мышлений, особенно касающихся себялюбия и
человеческого "сердца". Хотя "Максимы" Ларошфуко были
изданы ранее "Мыслей" Паскаля (1665), но последние были
написаны ранее, а изданы впервые позже, в 1669 г.
Так что исследование нравов современного ему
светского общества Паскаль унаследовал не от Ларошфуко,
а от Монтеня, но, в отличие от него и подобно
Ларошфуко, создает определенную концептуальную схему,
выводя многообразные элементы человеческого поведения
из единого, по его мнению, их источника — себялюбия.
Рассматривая его как главный принцип поведения людей,
он выводит из этой своеобразной "аксиомы" такие
следствия, которые в конце концов вступают с ней в самое
вопиющее противоречие. Любопытно то, что ему удается
расположить весьма богатый эмпирический материал,
так сказать, на "ветвях древа себялюбия".
В своем знаменитом фрагменте о себялюбии, анализ
которого выше был дан, Паскаль описал еще не все беды,
вытекающие из следования этому принципу. "Порча"
распространяется дальше и поражает всю жизнь людей
до самой их смерти. Этой теме Паскаль посвящает
несколько разделов своих "Мыслей", дав им характерные
заголовки: "Суета", "Скука", "Развлечение",
"Противоречия" и др., а также множество разбросанных по всем
"Мыслям" фрагментов.
Щадя свое "я" и не желая задумываться о своем
несовершенстве, человек, по мнению Паскаля, стремится
убежать от самого себя во внешнее существование:
развлечения, погоню за удовольствиями, ни к чему не
обязывающие светские знакомства, азартные игры и т. д. и т. п.
Суетность оказывается уделом такого рода жизни, и
Паскаль рисует выразительную картину суетно-хлопотливой
жизни всех слоев населения, и прежде всего светских
людей.
Особое внимание Паскаль уделяет развлечению как
средству прожигания жизни суетными людьми. У него
даже есть своеобразная "теория развлечения", к которой
обращаются и современные экзистенциалисты для
описания неподлинной жизни людей. Столь развитые в
обществе формы и виды развлечений, согласно Паскалю,
призваны с самого начала отвлечь человека от грустных
и трагических естественных условий его бытия:
физической слабости, хрупкости жизни, болезней, неизбежной
смерти. Затем развлечение выполняет многообразные
другие функции: заполняет бессодержательную и безду-
218
ховную жизнь праздных людей; отвлекает народ от
рефлексии по поводу социальной несправедливости и,
в конце концов, от бунта; уводит человека от раздумий
о смысле жизни и ее достоинстве и т. п. Развлечение
помогает сильным мира сего управлять подданными,
погруженными свободное время в суету развлечений.
Человек привыкает к этой суетной жизни, забывая об
истинном своем "я" и довольствуясь тем, что о нем думают
другие люди. Но одни и те же развлечения, говорит
Паскаль, быстро надоедают, человек гонится за другими,
пока не будет выбит из круга "зачумленной жизни"
болезнями и старостью. Обретя покой, к которому как будто всю
жизнь стремился, человек становится несчастным и
лишним, ибо на самом деле, полагает Паскаль, он искал не
покоя, а беспокойства, забот и деятельности: "все любят
больше охоту, чем добычу". "Непостоянство, скука,
беспокойство — вот условия человеческого бытия"1. В этой
суетной жизни, считает Паскаль, люди не знают ни
истинных радостей, ни настоящего горя, ни серьезных,
подлинных чувств, ни прелести одиночества ("не умеют оставаться
у себя дома") для глубоких раздумий над жизнью.
Погоня за развлечениями, согласно Паскалю,
оборачивается для человека еще одной своей грустной
стороной: не удовлетворяясь настоящим, человек устремляется
в будущее, ожидая от него реализации своих
возможностей, надеясь жить в будущем и упуская свою
актуальную и действительную жизнь. Так, люди, заключает
Паскаль, практически "не живут, но лишь надеются жить".
Он развенчивает суетность светской жизни,
озабоченность человека эгоистическим счастьем и собственным
благом, его равнодушие к общественным интересам и
общему благу. Паскаль показывает, что себялюбие людей
само себя развенчивает, обнаруживая свою
нерассудительность, ибо не достигает того, к чему больше всего
стремится, — личного блага и счастья. Человек-эгоист
приходит к трагическому финалу.
Существует мнение, что представления Паскаля о
человеке проникнуты духом нигилизма и даже
мизантропии. Так, Вольтер говорит, что замысел Паскаля состоял
в том, "чтобы показать человека в отвратительном
свете , что "он пишет против человеческой природы так, как
он писал против иезуитов, что он красноречиво
оскорбляет род человеческий". В итоге Вольтер считает Паскаля
1 Pascal В. Pensées. Р. 517, fr. 136; Р. 503, fr. 24.
219
"утонченным мизантропом"1. M. M. Филиппов полагает,
что "иногда суждения Паскаля о человеческом
ничтожестве блещут горьким юмором, напоминающим юмор
Шопенгауэра"2.
Но ни то, ни другое мнение нельзя считать
справедливым. Особенно это относится к Вольтеру, который
в пылу полемики и антирелигиозной борьбы многого не
понял и не захотел понять у Паскаля. Так, развенчивая
Паскаля-апологета, Вольтер совсем не ценил его и как
мыслителя. Он признавал заслуги Паскаля лишь как
ученого и как писателя-полемиста. Кстати, другие
просветители, философы-материалисты Дидро, Гольбах,
Гельвеций, высоко ставили Паскаля как философа.
Обрушиваясь на апологетику Паскаля, не без злорадства
отмечая в ней ряд крамольных для религии мыслей
и обвиняя его кое-где в атеизме, Вольтер-деист не оценил
по достоинству противоречивый характер его
религиозных воззрений, как это очень тонко сделал
воинствующий атеист Гольбах, сумевший увидеть
интеллектуальную и душевную борьбу Паскаля, ученого и философа,
с Паскалем-христианином. Вольтер несколько рубит
сплеча в своей борьбе с Паскалем, между тем
полифонический строй "Мыслей" требует более тонких
интерпретаций, чем одностороннее и однозначно резкое
толкование, которое, к сожалению, составляет сам дух
вольтеровского "Анти-Паскаля".
Отсюда нет ничего удивительного в том, что Вольтер
исказил и представления Паскаля о человеке, совершенно
не увидев ни его диалектики, ни гуманизма. Конечно, эта
аберрация вытекает не только из антиклерикального
пафоса, но также из оптимистического
жизнеутверждающего мировоззрения Вольтера, безусловно
противостоящего трагическому миросозерцанию Паскаля. Если
последний обращает внимание на несчастья человека, то
Вольтер — на доступное человеку счастье: "Когда я
смотрю на Париж или Лондон, то у меня не возникает
никакого повода для отчаяния, о котором говорит
Паскаль; я вижу город, который совсем не похож на
пустынный остров, но полон людей, изобилия, культуры и где
люди настолько счастливы, насколько человеческая
природа им это позволяет... Почему надо приходить в ужас
1 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. T. 22. P. 28.
2 Филиппов M. M. Паскаль, его жизнь и научно-философская
деятельность. Спб., 1891. С. 75.
220
от нашего бытия?"1 Однако Вольтер не учитывает
социальных условий человеческого бытия, которые во времена
Паскаля были более трагическими в плане безнадежности
социальных преобразований, чем во времена Вольтера,
являвшиеся кануном Великой французской революции.
Но и в личном плане Вольтер, в отличие от Паскаля,
совсем не был склонен сосредоточиваться на горестях
жизни больше, чем на ее радостях. Его не пугал страх
смерти, как Паскаля, ибо для Вольтера не возникало
проблемы спасения в религиозном плане.
Натуралистическое понимание человека элиминировало для Вольтера
всю совокупность паскалевских вопросов и парадоксов,
касающихся человеческого бытия. "Какой мудрый
человек придет в отчаяние от того, — удивляется он Паскалю,
— что не знает природы нашей мысли или всех атрибутов
материи, что Бог не открыл ему своих таинств? Разве
стоит отчаиваться от того, что у нас нет четырех ног или
двух крыльев?"2 Эта не вполне корректная критика
свидетельствует лишь о том, что Вольтер не чувствовал
напряженного драматизма паскалевской мысли и заведомо
снижал уровень его исканий, фактически превращая
драму мысли Паскаля в комедию мысли.
Уникальное паскалевское видение мира, ставшее в
европейской культуре символом вечной духовной и
интеллектуальной неуспокоенности, нравственной честности
и душевной чистоты, увы, осталось за пределами
понимания Вольтера. Не понял Вольтер и того, что трагическое
миросозерцание Паскаля не связано ни с ненавистью
к человеку, ни с пессимизмом, от которого его спасает
религия, оставляющая надежду на спасение. Хотя
Паскаль немало пишет о ничтожестве человека, но ведь
с позиций его величия и достоинства, отстаивая
человеческое стремление к истине и идеалу, способность к
любви и добру. Поэтому было бы грубой ошибкой
рассматривать Паскаля как певца человеческого ничтожества.
Человеконенавистничество и любая "утонченная
мизантропия" были в высшей степени чужды Паскалю и как
мыслителю, и как человеку. Теоретически он выступал
против всякой "философии отчаяния", отнимающей у
человека надежду на лучшее будущее, или против
нигилистической и скептической философии, лишающей
человека возможности правильного, адекватного постижения
1 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. T. 22. P. 34.
2 Ibidem.
221
истины. Не как враг, а как друг он указывает на
недостатки людей, для того чтобы они стремились к лучшему
и бесконечно совершенствовались, т. е. чтобы они были
достойными своего человеческого образа. Паскаль вовсе
не злорадствует, но поистине страдает от несовершенства
человека и сострадает "бедному человечеству1' в его
тяготах и нуждах. Такое отношение к людям он
подтверждает и своей личной жизнью, в которой реально и
практически, не жалея личного состояния, любил помогать
людям и всегда живо откликался на их нужды,
независимо от того, кем они являлись для него — ближними или
дальними.
В противовес Вольтеру последняя интерпретация
является довольно распространенной в паскалеведении и,
я считаю, вполне соответствует аутентичному
содержанию "Мыслей" Паскаля. Так, Э. Лефевр, сравнивая эти
последние с "Максимами" Ларошфуко, отмечает:
"Проникновение в глубины нашего сознания вытекает у
Паскаля не из праздного любопытства, но из пылкого
милосердия, которое более проницательно, чем взгляд самого
искушенного моралиста. Вот почему мы без гнева узнаем
себя в зеркале, которое он нам протягивает, тогда как
автор "Максим" раздражает нас несколько надменным
недоброжелательством. Паскаль же является
милосердным врачевателем душ. В своих "Мыслях" он
обращается не к публике, но именно к человеку и его душе"1.
Главная черта Паскаля как исследователя человека,
согласно Э. Лефевру, состоит в предельной искренности,
ибо он сам разделяет трагическую судьбу всех людей:
склоняясь над нашими ранами, он не стыдится открыть
перед нами и свои шрамы; прежде чем "взяться за нашу
гордость, он укрощает свою"; побеждая собственное
себялюбие, он предлагает нам следовать за ним.
Чистый образ Паскаля рисует и исследователь В.
Бахмутский в статье "Французские моралисты": "Все,
о чем писал Паскаль, было глубоко им пережито и
выстрадано. Его великие прозрения и трагические
заблуждения, его жажда абсолютного и невозможность
достигнуть его были куплены ценой величайших мучений. Он за
все платил кровью своего сердца. Его ранняя смерть не
удивительна"2.
lLefebvre Е. Pascal. Р., 1925. Р. 176.
2 Бахмутский В. Французские моралисты // Ларошфуко Ф. де.
Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. С. 22.
222
Другой автор, Д. Обломиевский, в своей книге
"Французский классицизм", как и Э. Лефевр, сравнивает
отношение к человеку у Ларошфуко и Паскаля и обращает
внимание на то, что если первый "ограничивается
раскрытием изнанки, оборотной стороны внутреннего мира
человека", го второй, обнажая слабости и недостатки людей,
параллельно дает и "апологию человека", не допуская,
в отличие от Ларошфуко, "полного отчаяния,
абсолютного скепсиса и нигилизма"1. У Ларошфуко нет Бога, но зато
и человек только зол, а у Паскаля "весь человек не
сводится к эгоизму, к тщеславию, к животной похоти".
"Паскаль... жалеет человека за его страдания, сочувствует
ему, печалится о нем... Паскаль выдвигает на первый план
человека как страдающее существо. В этом источник
паскалевского гуманизма. В этом особый — также
гуманистический — характер паскалевской религиозности"2.
Что же касается Шопенгауэра, то этот философ многое
заимствовал у Паскаля, особенно в своих "Афоризмах
житейской мудрости", но мысли Паскаля повернуты у
него совсем под другим углом зрения. Самое общее и
главное различие между ними заключается в том, что
Шопенгауэр — элитарист, а Паскаль — эгалитарист: первый
ненавидит и презирает народ, который он называет
"чернью", а второй сострадает народу, и для него нет и не
может быть "черни". Если Паскаль любил помогать
людям, не щадя своего личного состояния, и специально
для бедных организовал омнибусное движение,
положившее начало общественному транспорту, то Шопенгауэр
в период революции 1848 г. в Германии проклинал
бунтующий "сброд", осмелившийся подвергнуть угрозе всякую
собственность. Кстати, Паскаль осуждал частную
собственность и высмеивал буржуа за приверженность к ней.
С элитаристских позиций Шопенгауэр
переосмысливает идею Паскаля об одиночестве. Последний видел
положительную роль одиночества в том, чтобы с его
помощью заставить людей задуматься о смысле своей жизни,
человеческом достоинстве и условиях достижения
истинного счастья. При этом Паскаль озабочен судьбой всех
людей без исключения, начиная от простолюдинов и
кончая сильными мира сего, в том числе и королями. Его
понимание одиночества не связано с
противопоставлением одних людей как высших другим как низшим. Для
1 Обломиевский Д. Французский слассицизм. М., 1968. С. 130.
2 Там же. С. 131.
223
всех он хочет жизни, полной смысла и цели. Внешние
социальные условия человеческого бытия, разъединяющие
людей (богатство и бедность, власть имущие и подданные
и т. д.), не должны, согласно Паскалю, скрывать от нас
природного равенства людей, вытекающего из всеобщих
естественных условий их бытия. Потому ко всем людям
обращен следующий его афоризм: "...все несчастье людей
состоит лишь в одном — неумении спокойно пребывать
у себя дома". Паскаль открывает и глубинную причину
бегства людей от самих себя — "от природы несчастные
условия их бытия: хрупкость, смертность, ничтожность"1.
Шопенгауэр же видит в одиночестве отличительный
знак духовной одаренности человека, своеобразную
"золотую печать" избранных, тех, кого "Прометей вылепил
из лучшей глины" и кто противостоит всей остальной
"черни", неспособной подняться до их уровня.
Общительность человека, согласно Шопенгауэру, напротив,
"обратно пропорциональна его интеллектуальной ценности"
и свидетельствует о "духовной несостоятельности и
вообще пошлости". "Следовательно, чувство, питающее
склонность к уединению и одиночеству, есть чувство
аристократическое. Пошляк всегда общителен"2.
В отличие от Паскаля, осуждавшего индивидуализм,
Шопенгауэр является воинствующим индивидуалистом,
поставившим превыше всего интересы отдельной
развитой личности — в противовес "пошлому большинству".
Общество для Шопенгауэра есть сборище "умственных
банкротов", которые, будучи не в состоянии
"обмениваться мыслями, перебрасываются картами, стараясь
отнять у партнера несколько золотых. Поистине жалкий
род!"3. Смешав род человеческий с обществом
филистеров, Шопенгауэр считает наше бытие таковым, "что
лучше бы его совсем не было", так что "величайшая
мудрость заключается в отрицании, в отказе от него"4. Если
Лейбниц был уверен в том, что существующий мир есть
наилучший из возможных миров, то Шопенгауэр,
наоборот, полагает, что "мир, взятый в общем, — крайне плох:
дикари друг друга едят, культурные люди обманывают
— и это называется течением жизни"3.
'Pascal В. Pensées. Р. 516, fr. 136.
2 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Спб., 1914. С. 140,
26, 138.
3 Там же. С. 27
4 Там же. С. 119.
5 Там же. С. 176.
224
Юмор Шопенгауэра проникнут не столько болью
и горечью за людей (хотя этот мотив иногда встречается
у него), сколько злорадством и недвусмысленной
издевкой над ними. Его злой и едкий пессимизм сокрушает
всякую надежду. Паскаль же ставит своей целью вести
людей к идеалу, а реального и несовершенного человека
он жалеет, сострадает ему, утешает его. Поэтому можно
говорить о трагическом гуманизме Паскаля в противовес
элитаристскому антигуманизму Шопенгауэра.
"Психологию нравов" Паскаля и Ларошфуко
блестяще продолжил и развил Жан де Лабрюйер (1645—1696),
выходец из третьего сословия. Он унаследовал от
старших писателей-моралистов основные темы и проблемы
("О человеке", "О сердце", "О человеческом разуме", "О
достоинствах человека" и т. д.), но ввел и новые, весьма
конкретные сюжеты ("О столице", "О дворе", "О
монархе или о государстве", "О вельможах", "О женщинах"
и др.). "Характеры или нравы нынешнего века" изданы
были в 1688 г. и отражали период кризиса
абсолютистской системы при Людовике XIV. Сам Лабрюйер хорошо
сознавал эту преемственность и скромно замечал, что
ему недостает "возвышенности Паскаля" и "тонкости
Ларошфуко". Однако при этом сравнении "Характеры"
выигрывают большей социальной злободневностью,
резкостью* и конкретностью в обрисовке человеческих
несчастий, страданий бедняков, бедственного положения
народа. Описания Лабрюйера не столько обращены в
вечность, как у Паскаля, сколько затрагивают
животрепещущие проблемы его времени. Потому они более
обширны, конкретны, полны и более социально насыщены,
чем у старших моралистов.
Вслед за Паскалем Лабрюйер говорит о познании
"сердцем" в отличие от познания умом (гл. IV "О
сердце"), о логике доказательства истины и о внушении ее
сердцу и уму, о роли разума в морали, с которым он
связывает исполнение долга, о сущности и
безрадостности человеческой жизни (гл. VI "О житейских благах", гл.
XI "О человеке"), о двух видах достоинства человека:
внешнем, условном, и внутреннем, истинном1, многих
Других феноменах. Лабрюйер наследует также паскалев-
скую концепцию религии и тоже выступает против воль-
1 См.: Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж.
°е- Характеры. С.209, аф. 55; с. 218, аф 23; с. 374, аф. 19; с. 391, аф. 99;
с- 392, аф. 102; с. 218, аф. 21; с. 219, аф. 26, 27.
Заказ №4951
225
нодумцев в заключительной, шестнадцатой главе своих
"Характеров". Как и Паскаль, он считает невозможным
и совершенно ненужным доказывать существование Бога
разумом: "Я чувствую, что Бог есть, и не чувствую, что
его нет: этого с меня достаточно, и никакие умствования
не помешают мне прийти к выводу, что Бог существует"1.
Но в отличие от Паскаля, видевшего несовпадение и
противоречия между набожностью и порядочностью людей,
Лабрюйер в духе средневековья связывает моральность
с религиозностью человека и не верит в существование
нравственно порядочных атеистов: "Покажите мне
воздержного, умеренного, целомудренного и справедливого
человека, который решился бы отрицать существование
Бога. Я допускаю, что, утверждая это, он был бы вполне
бескорыстен и беспристрастен; беда лишь в том, что
такого человека нет"2.
Сильной стороной "Характеров" Лабрюйера является
описание психологии нравов разных слоев населения
и сравнительный их анализ: придворной аристократии,
дворянства, крестьян, горожан, буржуа, народа и др.
Хотя Лабрюйер провел большую часть жизни в
окружении высшей знати и прекрасно знал придворную жизнь,
но он не был ее участником, а скорее сторонним и зорким
наблюдателем, так сказать зрителем на "придворном
жизненном спектакле". Относился Лабрюйер к этому
"спектаклю" критически и зачастую отрицательно,
отдавая свои симпатии и предпочтения людям труда и
народу в целом: "Человек из народа никому не делает зла,
тогда как вельможа никому не желает добра и многим
способен причинить большой вред; один живет,
занимаясь лишь полезными делами, другой убивает время на
дурные забавы; первый простодушен, груб и откровенен,
второй под личиной учтивости таит развращенность
и злобу. ...Если меня спросят, кем я предпочитаю быть,
я, не колеблясь, отвечу: "Народом"3.
Отмечая нравственное здоровье народа, Лабрюйер
вместе с тем обращает внимание на его бедственное
положение в абсолютистском государстве, в котором
царит власть денег, а не справедливость. В отличие от
вельмож, утопающих в роскоши и погрязших в прихотях
1 Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де.
Характеры. С. 495, аф. 15.
2Там же. С. 494, аф. И.
3 Там же. С. 340, аф. 25.
226
и капризах, констатирует Лабрюйер, народ
довольствуется немногим, самым необходимым, но и этого
последнего у него нет. "Глянешь на иных бедняков, и сердце
сжимается: многим нечего есть, они боятся зимы,
страшатся жизни"1. Социальные контрасты потрясают и
возмущают Лабрюйера, он видит в них неизбежный
источник всяческого зла.
С одной стороны, богатство знати порождает ее
праздный образ жизни, равнодушие к общественному
благу, незаинтересованность в государственных делах.
Многие страницы "Характеров" посвящены обличению
нравов придворного общества и знатных кругов
вообще. У "пьедестала" высшей власти собраны, согласно
Лабрюйеру, не столько "сливки общества", сколько
"общественная накипь". Карьеристы, интриганы, ловкие
мошенники, пронырливые юристы, знатные бездельники
— все вращаются при дворе отнюдь не ради блага
отечества, а ради собственной корысти. Вот почему
и все человеческие пороки процветают при дворе.
"Сказать человеку, что он не знает двора, — значит
в некотором смысле сделать ему самый лестный
для него упрек и признать за ним все добродетели,
какие только существуют на свете"2. У порядочного
человека близкое знакомство с придворной жизнью
прививает вкус к одиночеству и замкнутости. Здесь
Лабрюйер констатирует свой личный опыт общения
при дворе.
С другой стороны, согласно Лабрюйеру, "бедность —
мать преступлений"3. Всего лучше "золотая середина"
в обладании материальными благами, на ступени
которой люди отличаются должной жизненной активностью,
столь необходимой для блага государства.
Лабрюйер бичует разные пороки людей в
абсолютистском государстве, но особенно возмущает его
всепроникающий дух наживы, стремление к обогащению,
накоплению денег, власть которых открывает все двери. "Нажить
состояние — это такое сладостное выражение и смысл его
так приятен, — с сарказмом говорит Лабрюйер, — что
оно у всех на устах. Оно встречается на всех языках,
нравится иностранцам и варварам, царит при дворе
1 Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де.
Характеры. С. 289, аф. 47.
2 Там же. С. 309, аф. 1.
3Там же. С. 373, аф. 13.
227
и в столице, проникает сквозь монастырские стены и
вторгается в мужские и женские обители. Нет такого
святилища, куда бы оно не прокралось, нет такой пустыни, где
бы оно не звучало"1. Духу наживы вполне соответствует
дух продажности, они зависят друг от друга и
взаимопроникают. Если, например, финансисту случится
разориться, то придворные поносят его; если же он преуспевает,
они просят руки его дочери. "Не старайтесь выставить
богатого глупца на посмеяние — все насмешники на его
стороне"2. В жертву богатству приносятся здоровье,
покой, ум, честь, совесть, молодость и красота. Десятки
афоризмов на эту тему проникнуты не только ядом и
сарказмом, но и горечью, болью за людей.
Мастерски обрисовывая великое множество
человеческих типов, или характеров, Лабрюйер проницательно
связывает их с нравами, обычаями своего века, а также
с социальным положением их обладателей. Он дает
портреты не только и не столько частных лиц, как таковых,
сколько через них характеристики разных сословий и
званий, социальных прослоек и групп. Например,
"настоящий финансист не способен горевать о смерти друга,
жены, детей", ибо черствость по отношению к близким
определяется его положением в жизни3. Такие пороки
придворной знати, как лицемерие, угодничество,
двоедушие, пронырливость, интриганство, порождены ее
вращением вокруг всесильного монарха, равно как праздность,
жажда развлечений и прожигание жизни знатью вообще
определяются ее богатством и паразитированием на
труде своих подданных, крестьян. Зато повседневный труд
этих последних не оставляет места не только для их
отдыха, но и для всех пороков праздной знати, а также
разбогатевшей черни. "Бедный человек любого звания
почти всегда порядочен, богатый — склонен к
мошенничеству: чтобы разбогатеть, мало быть ловким и
предприимчивым.
В любом деле — как в ремесле, так и в торговле —
можно разбогатеть, притворяясь честным человеком"4.
Картины нравов преимущественно светского
общества времен Людовика XIV нарисованы Лабрюйером
ярко и убедительно, ибо списаны с натуры и не превраще-
1 Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де.
Характеры. С. 287, аф. 36.
2 Там же. С. 280, аф. 10.
3 См. там же. С. 286, аф. 34.
4 Там же. С. 289, аф. 44.
228
ны путем обобщения в монументальные слепки вечных
человеческих качеств, как то имеет место у Паскаля и
Ларошфуко. Отсутствие у Лабрюйера паскалевского
стремления к предельным обобщениям в области человеческих
характеров и общих условий бытия людей придало его
"психологии нравов" такую конкретную достоверность
и реализм в показе различных сторон жизни
абсолютистского общества, которые выводили "Характеры" за
узкие рамки искусства классицизма с его многообразной
регламентацией, сдерживавшей возможности широкого
и правдивого отображения реальной действительности.
Однако некоторая заземленность тем и сюжетов у
Лабрюйера не помешала ему ясно и страстно выразить и
возвышенный идеал искусства классицизма: пафос
гражданственности, культ разума, единство истины, добра и
красоты, что роднит "Характеры" с "Мыслями" Паскаля.
Если в обобщенной "психологии нравов" Паскаля и
Ларошфуко путем анализа можно вскрыть реальный
исторический подтекст их "вечных максим", то у Лабрюйера,
напротив, в живой ткани как будто частных картин жизни
просвечивают и некоторые общечеловеческие условия
бытия людей, на которые автор не забывает обратить
внимание (например, на непреходящий характер вечных
человеческих добродетелей — совести, порядочности,
искренности, самоотверженности и др., или на парадоксы
любви, или на борьбу добра со злом и т. д.). Потому
"нравы нынешнего века" Лабрюйера, равно как
"Мысли" Паскаля и "Максимы" Ларошфуко, носят отнюдь не
только конкретно-исторический и преходящий характер,
но благодаря своей философско-обобщающей тенденции
являются актуальными и поучительными для людей
других эпох вплоть до настоящего времени.
Правда, следует заметить, что философский заряд
всех этих произведений великих моралистов XVII в.
неравноценен. На мой взгляд, при характерных для них всех
психологической проницательности в описании
характеров и нравов, определенном социальном чутье,
мастерстве описания тончайших проявлений души человеческой
обобщениям Ларошфуко и Лабрюйера все же недостает
возвышенности и глубины философского анализа
Паскаля. Если исследования первых остаются на уровне
своеобразной и весьма высокой жизненной философии с
большим нравоучительным и дидактическим элементом, то
У последнего мы имеем философию человека во всех ее
связях и опосредованиях и со всеми ее вечными и уз-
229
ловыми вопросами и проблемами. И в своей психологии
нравов Паскаль не ограничивается констатациями и
описаниями, но ищет глубинные основания и причины тех
или иных нравов в обществе.
Так, все моралисты указывают на испорченность
нравов и усматривают ее причину в личных недостатках
людей и вообще в природе человека, а Паскаль идет
дальше и связывает нравы и обычаи с законами
государства и его социальным строем, отражающим
интересы сильных мира сего или победившей партии
в обществе. Правда, Лабрюйер прекрасно видит, что
должность портит человека, но вопроса "почему?'1
он здесь не задает. Паскаль же показывает
противоположность интересов власть имущих и подданных,
в силу чего "человек в должности" оказывается глух
к потребностям и запросам этих последних и
несправедлив, черств, бесчеловечен по отношению к ним.
Так иногда "психология нравов" у Паскаля перерастает
в некотором смысле в "социологию нравов" (см. ниже
часть 5).
Или возьмем Ларошфуко, который, как и Паскаль,
возводит чуть ли не все пороки человека к себялюбию
как единому их корню и обрушивается на него
с сарказмом и гневом, но не задается вопросом
— уже в отличие от Паскаля — об истоках самого
этого зловредного корня. Паскаля очень интересует
этот вопрос, равно как и вопрос об источнике
испорченности "великолепного человеческого разума",
но, увы, убедительно по-философски ответить на них
он не может и объясняет неистребимые пороки людей
первым грехопадением. Да, на некоторые свои вопросы
и сомнения не может ответить Паскаль как философ
и отвечает только как религиозный человек. Но
трудность, а порой и невозможность ответа в тех
условиях на его подчас удивительные вопросы
превосходит трудность постановки самих вопросов. В этом
весь Паскаль как мыслитель, сила его и неизбежный
предел этой силы при решении абсолютных вопросов
человеческого бытия.
230
5. РАЗУМ ПРОТИВ "ИМПЕРИИ ВЛАСТИ"
Мир -— наибольшее из благ.
Война — худшее на свете зло.
Паскаль
У Паскаля нет целостной и законченной концепции
социальных отношений, как у его старших современников
Гуго Гроция или Томаса Гоббса. Но в отличие от
Декарта, равнодушного к социальной тематике, Паскаль живо
интересовался этой стороной человеческой жизни. Самой
главной причиной обращения Паскаля к
социально-политической проблематике был его интерес к судьбе человека
в этом мире. В послефрондовской Франции в связи с
укреплением абсолютизма, подавлением народных
движений и усилением социального гнета, коснувшегося не
только низших, но и средних слоев населения, в том числе
и третьего сословия, судьба эта была необеспеченной,
а подчас и трагической. Отсюда вытекают весьма
грустные мысли Паскаля о социальном бытии человека, не
дающем этому последнему ни счастья, ни утешения, ни
надежды. Отсюда отсутствие у Паскаля какого бы то ни
было пиетета перед "империей власти" и даже малейших
иллюзий относительно ее разумности и справедливости.
Отсюда, наконец, срывание всех и всяческих масок
с внешне респектабельных ролей власть имущих:
королей, губернаторов, судей и т. д.
Но приводит ли Паскаля этот трезвый взгляд на
социальное устройство к какому-либо протесту против
существующего абсолютистского режима? Нет, ни в коем
случае. Увы, он принимает этот несовершенный
"условный порядок" в обществе в качестве единственного
реального заслона против беспорядка и разрухи
гражданских войн, которые он считает "величайшим злом"1.
Юный Паскаль был свидетелем жестокого подавления
восстания "босоногих" в Нормандии, позже его семья
терпела лишения в период Фронды, которая завершилась
разгромом народных движений и поражением буржуазии
перед лицом абсолютной монархии.
Паскаль, принимая абсолютную монархию в качестве
гаранта мира как "наибольшего из благ"2, выражает
интересы отнюдь не феодального дворянства, стоящего
У власти, но именно буржуазного класса, а также йнтере-
1 Pascal В. Pensées. Р. 636, Ст. 977.
Mbid. Р. 509, fr. 81.
231
сы народа, более всех страдавшего от внутренних и
внешних войн, тем более что буржуазия, прогрессивный в те
времена класс, выступала и от имени народа. Однако,
принимая "империю власти", Паскаль мечтает об
"империи разума", отстаивая по существу идею
"просвещенной монархии", сторонниками которой были многие
великие мыслители XVII в. (Ф. Бэкон, Гоббс, Декарт,
Лейбниц и др.).
Социально-политические взгляды Паскаля выражены
в "Письмах к провинциалу", письме к королеве Швеции
Кристине (июнь 1652 г.), в небольшом очерке "Три
рассуждения о положении знати" и особенно во множестве
фрагментов "Мыслей". Причем весьма показательно, что
размышления на социальные темы включены им в тот
раздел "Мыслей", который имеет заголовок "Нищета"
(Misère), наряду с разделами под названием "Суета",
"Воображение", "Основания действий", "Развлечение"
и др. Паскаль ставит ряд проблем, нередко в форме
дихотомии: закон и справедливость, закон и разум, закон
и привычка, справедливость и сила, сила и разум,
условный и естественный социальный порядок, "империя
власти" и "империя разума", война и мир и др. Он выражает
свое отношение к сильным мира сего и к народу, к
институту наследования королевской власти, к концепции
"естественного права", широко распространенной в новое
время (Гроций, Гоббс, Спиноза, Локк, Лейбниц и др.).
Прежде всего Паскаля интересуют происхождение
социального порядка в целом и социальных законов в
частности, их назначение и роль. У этого христианского
мыслителя нет и намека на признание их божественного
происхождения. Не согласен он и с представителями
концепции "естественного права", согласно которой
социальное устройство соответствует или должно в идеале
соответствовать исконной человеческой природе и
требованиям человеческого разума, что и должно
рассматривать как высшую справедливость. Но Паскаль видит, что
понятие об этой последней меняется "от меридиана к
меридиану": "Стоит подняться на три градуса ближе к
полюсу — и вся юриспруденция летит кувырком... Хороша
же справедливость, которую ограничивает река. Истина
по одну сторону Пиренеев оборачивается заблуждением
по другую.
Утверждают, что справедливость надо искать не
в этих обычаях, а в естественных законах, общих для всех
стран, и упрямо стояли бы на своем, если бы по воле
232
случая, насаждающего человеческие законы, нашелся
хотя бы один-единственный всеобщий закон. Но как бы
в насмешку, в силу многообразия людских прихотей
такого закона нет"1. Если бы люди знали, что такое
"истинная справедливость", говорит Паскаль, то "свет ее
сиял бы для всех народов" и законодатели
руководствовались бы этой "чистой справедливостью", а не
принимали бы за образец фантазии и капризы персов или
немцев. Из-за этой неразберихи один связывает сущность
справедливости с авторитетом законодателя, другой —
с удобствами монарха, третий — с существующими
обычаями.
Не видя отражения "естественного права" в реальной
жизни народов, его сторонники, продолжает Паскаль,
объявляют существующее несправедливым и призывают
вернуться к "первоначальным и фундаментальным
государственным законам", якобы уничтоженным
несправедливым обычаем. Паскаль проницательно видит, что
"естественное право" с его как бы "пустыми
универсалиями" (природа, разум, справедливость) наполняется
конкретным содержанием в зависимости от интересов
сильных мира сего. Интересы же эти изменяются от
эпохи к эпохе, и "нет такой справедливости, которую
время не обращало бы в прах"2.
По сути дела, здесь Паскаль обращает внимание на
слабость концепции "естественного права", подчеркивая
ее противоречивость и несостоятельность. Однако ему
самому не удается выйти за рамки этой концепции, когда
он намечает некоторые пути улучшения несовершенного
строя.
У Паскаля есть свое объяснение происхождения и
функционирования этого последнего. Сильные мира сего
узурпируют власть в обществе и используют ее в своих
узкокорыстных интересах. Когда есть сила,
саркастически замечает Паскаль, можно не заботиться ни о какой
справедливости. Он в ярких выражениях описывает
антагонизм этих двух несоизмеримых социальных
феноменов. Если истина сильна сама по себе и в своей победе не
нуждается в силе, то справедливость поддерживается
силой тех слоев в обществе, которые ее отстаивают. У
Паскаля нет, конечно, представления о социальных классах,
а есть сильные мира сего (Grands) и управляемый, а так-
1 Pascal В. Pensées. Р. 507, fr. 60.
2 Ibidem.
233
же попираемый ими народ (peuple). Если справедливости
можно подчиняться или нет, то не подчиняться силе
нельзя. Справедливость всегда может быть оспорена
дурными людьми, которые не переводятся во все времена,
а сила сама по себе бесспорна. Однако сила, не
подкрепленная справедливостью, тиранична и вызывает против
себя протест. "Значит, надо объединить справедливость
и силу, для чего надо либо справедливость сделать
сильной, либо силу — справедливой. Но, будучи не в
состоянии сделать справедливость сильной, люди стали считать
силу справедливой"1.
Конечно, Паскаль дает не столько социальный,
сколько психологический анализ этих социальных феноменов.
Но здесь есть проницательная мысль о том, что
справедливость сильных мира сего не есть ни истинная высшая
справедливость, ни справедливость, с точки зрения
народа, а есть лишь своеобразная вывеска для прикрытия их
эгоистических интересов. Эта вывеска всячески
приукрашивается, чтобы вернее ввести народ в заблуждение.
Одним словом, сила рядится в одежды справедливости
и использует для этого многообразный арсенал средств.
Прежде всего, законодатели изобретают
соответствующие силе законы. Таков, например, закон престолонас-
ледования, которому особенно изумляется Паскаль:
"Что может быть неразумнее закона ставить во главе
государства старшего сына королевы? Ведь не выбирают
же капитаном корабля знатнейшего из пассажиров.
Такой закон был бы нелеп и несправедлив. Закон престоло-
наследования не менее странен, однако он действует и
будет действовать всегда, приобретая видимость разумного
и справедливого"2. Давность этого закона
воспринимается народом как его истинность. Наконец, к нему
привыкают и его не обсуждают. Но то же самое происходит
и с любыми другими законами, которые в основе своей
неистинны и несправедливы.
Не более заключено справедливости и в социальных
обычаях, которым следует большинство. В этой связи
Паскаль критикует Монтеня за неглубокое,
поверхностное понимание обычая: "Монтень не прав. Обычаю надо
следовать потому, что он обычай, а не из-за его
разумности или справедливости. Конечно, народ твердо верит
в его справедливость, иначе немедленно отказался бы от
1 Pascal В. Pensées. Р. 512, fr. 103.
Mbid. P. 636, fr. 977.
234
него... Неразумный или несправедливый обычай был бы
осужден как тирания, а вот власть разума и
справедливости, как и власть наслаждения, никто не назовет
тиранией, ибо это — естественные начала в человеке"1.
Паскаль указывает на тесную связь законов и обычаев,
ибо законы порождают соответствующие им обычаи да
и сами воспринимаются как стародавние и не
подлежащие сомнению обычаи.
С помощью некоторых обычаев сильные мира сего
воздействуют на воображение своих подданных, с тем
чтобы усилить почтение к себе и вселить веру в
справедливость существующего порядка. Обратите внимание,
говорит Паскаль, с какой торжественностью обставлен
процесс судопроизводства, в какие роскошные красные
мантии и горностаевые накидки одеты судьи, какие
дворцы правосудия в их распоряжении. Какой же
человек сможет противостоять столь внушительному
зрелищу? Между тем весь этот маскарад, все эти
суетные украшения призваны поразить воображение и,
в конце концов, просто-напросто "одурачить мир". Ведь
если бы судьи и впрямь умели судить по
справедливости, они не нуждались бы во всем этом
"реквизите"2. А с какой помпой обставлен двор короля,
окруженного телохранителями, военными чинами,
барабанщиками, трубачами, вооруженными отрядами,
блестящей свитой грандов и т.д. и т.п. Это великолепное
зрелище наполняет трепетом даже самые отважные
сердца, а народ — страхом и почтением: тут не только
роскошь одежды, но и сила. Именно данный обычай
заставляет подданных приписывать особые свойства
королевскому сану и пускать в ход ходячие выражения:
"На его лице — печать божественного характера".
"Надо было бы обладать слишком возвышенным
разумом, чтобы увидеть обыкновенного человека в турецком
султане, окруженном в своем роскошном серале сорока
тысячью янычар"3. Так нет же, разум находится под
властью воображения, которое не довольствуется
увиденным, а взвинчивает цену этого последнего. Без
распаленного воображения все земные блага казались
бы не столь уж значительными. Оно создает репутации,
окружает почетом и уважением людей, их творения
1 Pascal В. Pensées. Р. 577, fr. 525.
2Ibid. P. 505, fr. 44.
3 Ibid. P. 505, fr. 44; P. 503, fr. 25.
235
и законы, сильных мира сего. Оно порождает
общественное мнение и через него как бы правит миром: "Мнение
есть как бы царь мира, но сила — его тиран"1. Но
поскольку за всем стоит сила, постольку власть этого
царя иллюзорна.
Таким образом, согласно Паскалю, "не общественное
мнение правит миром, а сила"2. Известному
просветительскому тезису Нового времени он противопоставляет
более реальное понимание социальных процессов. Он не
обольщается видимостью господства идей, мнений,
воображения и в целом сознания людей над их социальными
отношениями, а пытается постичь причины, глубинные
и скрытые основания, действительную сущность этих
последних. Недаром он критикует Монтеня, Августина,
Платона и других мыслителей за принятие видимости за
сущность. Сущность социальных отношений Паскаль
усматривает не в господстве одних идей или мнений над
другими, а в реальном господстве одних людей над
другими, господстве не в области сознания, духа, а в
практической жизни. Причем господство это не эфемерное,
а материальное, имущественное, поддержанное военной
силой.
Паскаль исходит из фактического неравенства в
обществе, наличия в нем "грандов или сильных мира сего"
и зависимого от них народа, а также существования
различных партий, борющихся между собой и
отстаивающих интересы тех или иных слоев населения. Форма
правления в том или ином обществе зависит от исхода
этой борьбы. Представим себе, говорит Паскаль, что мы
присутствуем при зарождении какого-нибудь общества:
"Вне всякого сомнения, люди будут сражаться до тех
пор, пока сильнейшая партия не одержит победы над
слабейшей и не станет партией правящей. Тогда
победители, не желая продолжения борьбы, прикажут силе, им
подчиненной, поступить согласно их воле и установить
желаемую форму правления — народовластие или пре-
столонаследование"3. Но в любом случае диктует
условия "правящая партия", вот почему во Франции
возвеличивают дворян, а в Швейцарии — простолюдинов
и т.д. При этом расслоение общества неизбежно.
Побежденным ничего не остается делать, как подчиниться
1 Pascal В. Pensées. Р. 589, fr. 665.
4bid. Р. 580, fr. 554.
3 Ibid. P. 606, fr. 828.
236
власть имущим и пребывать в смиренном почтении по
отношению к ним, иначе снова начнется гражданская
война, которую Паскаль считает хуже любого
установленного порядка. "Так как миром правит сила, то власть
герцогов, королей, судей вполне реальна и необходима,
существуя везде и всегда". Но с другой стороны, эта
власть зиждется лишь на воображаемой справедливости,
а потому неустойчива, мнима и подвержена изменениям1.
Культ силы в обществе извратил само понятие
справедливости, под каковой стали понимать просто "нечто
установленное". Сила и эгоистические интересы сильных
мира сего составляют сущность власти в обществе
неравенства. Это последнее "распахивает двери не только
сильной власти, но и самой нестерпимой тирании"2.
Такова "империя власти" в описании Паскаля.
Представления Паскаля о происхождении института
государственной власти развенчивают иллюзии теории
"общественного договора". Согласно, например, Гоббсу,
ради собственного блага, всеобщего мира и безопасности
люди добровольно договорились о "взаимном
перенесении прав" друг на друга, соблюдении "естественных
законов" человеческого общежития (сознательное стремление
к миру, взаимопомощь, выполнение соглашений и т.д.)
и подчинении верховной власти как объективному
гаранту социального правопорядка. Поэтому Гоббс убежден,
что "справедливость и собственность начинаются с
основания государства"3. Эта иллюзия о происхождении и
функциях государственной власти сохраняется и в
следующем столетии у идеологов Великой французской
революции. Так, Гольбах, очень яркий и последовательный
представитель концепции "естественного права", считал,
что договор заключается между обществом в целом и
отдельными людьми и "учрежденное общественной волей
правительство" призвано "обязывать членов общества
точно выполнять условия общественного договора" с
целью достижения безопасности, счастья и сохранности как
общества в целом, так и всех его частей. Для Гольбаха
несомненно, что "польза общества — первоисточник
верховной власти", а если в нем царят несправедливость,
бедствия и пороки, то причинами этого являются "неве-
' Pascal В. Pensées. Р. 598, fr. 767.
Mbid. P. 579, fr. 540.
3 Гоббс T. Левиафан ... // Избранные произведения: В 2 т. М., 1964.
■2.С. 156, 157, 159 169.
237
жество, заблуждение и ложь", незнание природы
человека и "естественных законов" общества1.
Паскаль связывает возникновение верховной власти
в обществе с его расслоением, неравенством,
существованием "партий" и борьбой между ними, в результате
которой власть узурпируется одной из них и ставится на
службу именно ее интересам, а не всего общества. Здесь
не может быть и речи ни о каком справедливом договоре
между власть имущими и остальной частью общества.
То, что в обществе объявляется справедливым, полагает
Паскаль, служит узкоэгоистическим и корыстным
интересам "господствующей партии". Справедливость эта
иллюзорна, эфемерна и лицемерна. В этом скрыта тайна
существующего порядка власти. Тысячелетняя давность
общества, неравенства и насилия создает видимость его
необходимости, законности, общепринятости,
разумности и вечности. Многократные попытки изменить его
в лучшую сторону ни к чему не привели, кроме лишнего
кровопролития и братоубийственной гражданской
войны. И Паскаль потерял веру в возможность
справедливого социального порядка.
Когда говорят о "трагическом видении мира" у
Паскаля, го в первую очередь это относится к его
социальным взглядам. Разоблачение поистине возмутительной
"тайны" феодально-абсолютистских режимов власти,
страстный интеллектуальный протест против общества
насилия и — парадоксально безоговорочное его
принятие! Трагический парадокс, в немалой степени
способствовавший уходу Паскаля в религию. Социальная
безнадежность породила надежду на Бога.
Итак, Паскаль принимает трагическую
действительность, относительный порядок в абсолютистском
государстве как антитезу абсолютному беспорядку, анархии
и ничем не сдерживаемому произволу в период
гражданских войн. Так сказать, из двух зол он выбрал, по его
мнению, наименьшее, считая, что "нет беды страшнее,
чем гражданские войны... Глупец, занявший трон по
праву наследования, тоже может причинить зло, но все
же не столь огромное и неизбежное, как войны"2.
Потому Паскаль осуждает не только реальную борьбу
1 Гольбах П. А. Естественная политика, или Беседы об истинных
принципах управления // Избранные произведения: В 2 т. М., 1964. Т. 2.
С. 130, 132, 135, 99—100.
2 Pascal В. Pensées. Р. 511, fr. 94.
238
против существующего строя, ведущую к гражданской
войне, но даже слишком дотошных исследователей
социальных законов, обычаев, нравов, ибо "кто
докапывается до корней обычая, тот его уничтожает...
Искусство расшатывания и ниспровержения
государственных устоев как раз и состоит в подтачивании
установленных обычаев, в исследовании их истоков,
в доказательстве их несостоятельности и
несправедливости"1.
Между тем народ, охотно прислушиваясь к подобного
рода крамольным речам, начинает постигать, что ходит
в ярме, поднимает бунт и, как всегда, сам терпит
поражение, а выигрывают от этого лишь сильные мира сего.
Здесь Паскаль с точностью описывает ситуацию,
сложившуюся в период восстания Фронды, когда фрондеры из
числа грандов полюбовно договорились с королевской
властью, совместно с этой последней обрушились на
народные восстания и потопили их в крови. В "Мыслях"
есть фрагмент, осуждающий "несправедливость Фронды,
которая восстала от имени так называемой
справедливости против силы"2. Конкретный опыт поражения народа
и буржуа во время Фронды Паскаль возвел чуть ли не
в социальную закономерность, господствующую в
обществах насилия, — безнадежность выступления против
силы, якобы все сокрушающей на своем пути.
Зато, утешается Паскаль, "когда владения переходят
во власть вооруженной силы, в обществе воцаряется
мир"3. Как и у Гоббса, мир рассматривается Паскалем
в качестве первейшей и главнейшей цели общественного
строя. В "Левиафане" Гоббс с большим убеждением
пишет: "...величайшие стеснения, которые может иногда
испытывать народ при той или иной форме правления,
едва чувствительны по сравнению с теми бедствиями
и ужасающими несчастьями, которые являются
спутником гражданской войны..."4 Такова была эта трудная
и жестокая эпоха, что мир расценивался как "наибольшее
из благ".
Паскаль говорит о некоторых условиях сохранения
внутреннего мира, нарушение которого зависит как от
политики сильных мира сего, так и от поведения народа,
1 Pascal В. Pensées. Р. 507, fr. 60.
2Ibid. P. 510, fr. 85.
Mbid. P. 614, fr. 866.
4Гоббс T. Левиафан... // Избранные произведения: В 2 т. M., 1964.
T. 2. С. 208.
239
по природе своей склонного к бунту. Для сына герцога де
Люина Паскаль задумал любопытное наставление "Три
рассуждения о положении знати", которое по состоянию
здоровья не мог написать и выразил в трех коротких
беседах с молодым герцогом (октябрь 1660 г.). Записал
их Пьер Николь и включил в свой "Трактат о воспитании
принца" (1670).
В "Первом рассуждении" Паскаль отстаивает идею
естественного равенства всех людей, в том числе
равенства королей с их подданными. Чтобы ярче представить
истинное положение грандов и владык мира, он рисует
следующую картину: однажды в шторм человек был
выброшен на незнакомый остров, жители которого в это
время потеряли своего короля; по воле случая этс*т
человек, как две капли воды, был похож на их короля, и
жители острова не замедлили признать его своим владыкой;
так обычный человек, независимо от его личного
достоинства, был вознесен на вершину власти. Пожалуй,
жителям острова не следует раскрывать их заблуждения,
считает Паскаль, но сам король не должен забывать
о чистой случайности своего возвышения. "Так и любой
титул, который дает право на владение большими
благами, — заключает Паскаль, — не вытекает из природы, но
из человеческого установления... Душа и тело сами по
себе совершенно безразличны к состоянию простолюдина
или вельможи, и нет никакой естественной связи, которая
соединяла бы их скорее с одним состоянием, чем с
другим"1.
Паскаль советует молодому герцогу в своей жизни
всегда исходить из "двойной мысли" о собственном
состоянии, благодаря одной из которых поступать согласно
своему рангу, а благодаря другой, "скрытой, но более
истинной", понимать свое совершенное равенство со
всеми людьми, в чем и состоит сущность естественного
состояния любого вельможи. "Возможно, народ не знает
этой тайны и верит в то, что дворянство составляет
реальное величие, а гранды обладают особой природой
в отличие от других"2. Можно не открывать народу его
заблуждения, ради всеобщего мира, но сами гранды не
должны злоупотреблять своей властью, помня о
естественном равенстве со своими подданными.
1 Pascal В. Trois discours sur la condition des Grands // Oeuvres
complètes. P. 366.
Mbid. P. 366—367.
240
Во "Втором рассуждении" Паскаль особо
останавливается на двух видах "человеческого величия" и тех
знаках уважения, которые соответствуют каждому из
них. Есть "величие естественное" (grandeur naturelle)
и "величие установленное" (grandeur d'établissement).
Первое не зависит от человеческих фантазий, ибо
заключается в реальных качествах души и тела, каковы,
например, ученость, сила ума, добродетель, здоровье, сила.
Второе зависит от человеческих установлений почитать
то или другое, например сан, звание, дворянство и т. д.
Если первое связано с внутренним достоинством
человека, то второе — с его внешним почитанием, выраженным
в определенных принятых в обществе церемониях.
"Величие естественное" не требует почета в виде каких-либо
внешних церемоний, зато вызывает внутреннее признание
и уважение, которые вовсе не обязательны по отношению
к вельможам, не отличающимся таковым. Вместе с тем,
скажем, выдающийся геометр не должен и не может
требовать знаков внешнего уважения и при случае обязан
уступить дорогу вельможе. Справедливость заключается
в том, считает Паскаль, чтобы каждому роду "величия"
отдавать соответствующие ему почести и не смешивать
их. Соблюдение этих правил избавит общество и
отдельных людей от ненужных мелких конфликтов.
Еще большую лепту в сохранение общественного
спокойствия может внести, по мнению Паскаля, заботливое
отношение сильных мира сего к своим подданным, о
котором Паскаль говорит в "Третьем рассуждении".
Поскольку гранды обладают теми земными благами,
которых жаждут и их подданные, постольку, помня о своем
естественном равенстве с этими последними, первые
должны "удовлетворять справедливые желания
вверенных им людей, предоставлять им необходимые блага, не
допускать жестокого обращения с ними и считать за
удовольствие для себя быть их благодетелями...". Есть
вельможи, продолжает Паскаль, которые "столь глупо
сами себе подписывают приговор скупостью, грубостью,
злоупотреблениями, насилием, вспыльчивостью и
богохульством"1.
В идеале естественному равенству людей
соответствует "равное распределение благ", которое Паскаль считает
"несомненно справедливым"2. Но поскольку в мире наси-
1 Pascal В. Trois discours sur la condition des Grands. P. 368.
2 Pascal B. Pensées. P. 509, fr. 81.
241
лия попрана справедливость, постольку и остается
взывать к совести, разуму, здравому смыслу тех, кто владеет
земными благами. Как видим, в "Трех рассуждениях"
Паскаль так же, как и другие буржуазные идеологи той
эпохи, развивает некоторые аспекты концепции
"естественного права", но в отличие от них из "природного
равенства" людей делает вывод о необходимости их
равенства в обладании разными благами. Радикальный сам
по себе, вывод этот у Паскаля является скорее
абстрактно-логическим, нежели практическим руководством
к действию, как, например, у вождя диггеров Д. Уинстен-
ли, или фундаментальным положением
коммунистической доктрины, как у Кампанеллы или Т. Мора. Паскаль.,
не создает социальной утопии, а ориентируется на
реальное положение вещей и пока что его сохранение.
Однако обращает на себя внимание еще ряд
фрагментов из "Мыслей", усиливающих вывод Паскаля о
равенстве благ: "Мое, твое. Эта собака моя, говорят неразумные
дети. Это мое место под солнцем. Вот вам начало и
прообраз узурпации всей земли"1. Здесь сквозит именно
отрицательное отношение Паскаля к культу собственности
вообще. Он порицает узурпацию не только земли, но и других
благ, и власти, и прав, считая, что "когда-то она была
введена без каких-либо разумных оснований, и только
время придало ей видимость разумности"2. Не без
сарказма Паскаль отзывается о своеобразном
"собственническом инстинкте" даже у авторов, сравнивая его с
приверженностью буржуа к своей собственности. К чести Паскаля
надо заметить, что по отношению к частной собственности
он поистине не отличался буржуазной ограниченностью.
В этой связи говорят (начиная с Шатобриана) о
влиянии Паскаля на Руссо, который как бы повторяет его
мысль: "Первый, кто, огородив участок земли, придумал
заявить: "это мое!" — и нашел людей, достаточно
простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным
основателем гражданского общества"3. Болгарский
исследователь Исак Паси считает, что "за 100 лет до Руссо
Паскаль увидел в частной собственности источник
социальных бедствий и даже политической тирании"4.
1 Pascal В. Pensées. Р. 508, fr. 63.
2 Ibid. P. 508, fr. 60.
3 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства //
Трактаты. М., 1969. С. 72.
4 Паси Исак. Мисли за човека // Б. Пас к ал. Мисли. София, 1978. С.
40.
242
Кстати, далеко не для всех буржуазных мыслителей
идея естественного равенства людей была столь
бесспорной, как для Паскаля. Так, Гольбах весьма категорично
утверждает именно природное неравенство людей: они "с
самого начала были неравны как но их личным
качествам, так и по размерам их имущества и влaдeний,,,.
Учитывая отрицательные последствия природного
неравенства людей, Гольбах считает, что "неравенство
человеческих индивидов, присущее им от природы, отнюдь не
является источником их бед, напротив, оно служит
действительной основой их благополучия"2. Располагая
неодинаковыми благами, люди могут обмениваться ими,
оказывая друг другу помощь. Согласно Гольбаху, само
государство возникает из этой потребности — "делать людям
добро, защищать их, руководить ими, доставлять им
счастье"3. Собственность Гольбах считает необходимой
и связывает ее возникновение и неравномерное
распределение в обществе с личным трудом людей, на результаты
которого они имеют полное право. Без собственности,
думает Гольбах, невозможно и человеческое счастье.
Картина, которую нарисовал Гольбах, соответствует
его социальному идеалу, но не действительности, в
понимании которой Паскаль более глубок, ибо учитывает
фактор первоначальной узурпации власти, земли, благ
и антагонистическое происхождение государства. Но если
Гольбах, как один из идеологов Великой французской
революции, верит в искоренение социального зла и
установление общества справедливости и разума, то Паскаль
смиряется с жестокой социальной реальностью, ища
спасения в религии. Он даже видит своеобразную мудрость
в том, чтобы следовать законам, обычаям и нравам своей
страны, тем более что расслоение общества на
управляющих и управляемых все равно неизбежно. Не следует
внушать народу крамольных мыслей по отношению к
существующему строю, разжигать "бунтарский инстинкт"
народа. Если народ еще верит в справедливость законов
и обычаев своей страны, то не надо убеждать его в
обратном. В этом смысле "мнения народа" Паскаль считает
"здравыми" и называет их "народной мудростью"4, бла-
1 Гольбах П. А. Естественная политика, или Беседы об истинных
принципах управления // Избранные произведения: В 2 т. М., 1963. Т. 2.
2 Там же. С. 103.
3Там же. С. 102.
4 Pascal В. Pensées. Р. 511, fr. 94, 95, 101.
243
годаря которой сохраняется "установленный порядок
власти", а следовательно, и гражданский мир.
Однако и без гражданских войн, как показывает
Паскаль, социальный мир полон драматизма, контрастов,
коллизий и противоречий. Все в "империи власти"
чревато своей собственной противоположностью, каждая из
которых удерживается, как противовесом, другой:
"мудрость народа" — его "неразумием"; справедливость, т. е.
стабильность социального порядка, — его
несправедливостью; в основе самой силы заключена ее слабость, т. е.
уязвимость, хрупкость и непрочность; бессилие же народа
скрывает в себе огромную силу, ибо "народ и деловые
люди представляют движущую силу (train) общества"1.
Здесь, по существу, речь идет о внутренних
диалектических противоречиях, которыми у Паскаля полны и
индивидуальная человеческая жизнь, и человеческое
познание, и сама природа.
Паскаль, так сказать, скрепя сердце принимает
"империю власти" в качестве гаранта внутреннего мира в
обществе, но власть силы не спасает народ от внешних войн
и связанного с ними бессмысленного человекоубийства.
Интересы монархов противоречат интересам народа.
Допустим, какой-то монарх поссорился с другим монархом,
возмущается Паскаль, а на войну посылаются ни в чем не
повинные люди, и одни вынуждены убивать других, хотя
никто из них друг с другом не ссорился2. К тому же
несправедливейшее человекоубийство оправдывается
в глазах народов, по существу, самым нелепейшим
образом, для демонстрации чего Паскаль набрасывает в
нескольких словах такую живую картину: "За что вы меня
убиваете? У меня же нет оружия. — Как за что, разве вы
не живете на другом берегу реки? Друг мой, если бы вы
жили на этом берегу, я и впрямь был бы убийцей и
совершил бы неправое дело, если бы убил вас. Но поскольку
вы живете по ту сторону, постольку дело мое правое,
и я совершаю подвиг"3. Обратим внимание и на то, что
Паскаль здесь указывает на гибель мирного населения во
время войны.
Выступая против милитаристской внешней политики
правителей "империи власти", против бессовестного
жонглирования человеческими жизнями в корыстных целях
1 Pascal В. Pensées. Р. 510. Гг. 83
2 Ibid. Р. 507, fr. 60.
Mbid P. 506. fr. 51.
244
власть имущих, Паскаль подходит к решению вопроса
о войне и мире не как политик или социолог, а как
правовед: "Когда встает вопрос, быть или не быть войне,
обрекать ли смерти множество людей, например
испанцев, решает его один человек, и притом
заинтересованный, а должен был бы решать кто-то сторонний и
беспристрастный"1. Однако Паскаль не верит в возможность
справедливых решений социальных вопросов в "империи
власти".
Вот если бы "империя власти" объединилась с
"империей разума", о чем мечтали люди во все времена, но,
увы, они до сих пор существуют раздельно, сетует
Паскаль в письме к королеве Швеции Кристине (июнь 1652
г.), между тем как "одна без другой они представляются
несовершенными". "Как бы ни был могуществен монарх,
чего-то не хватает его славе, если он не отличается
превосходством ума, и как бы ни был просвещен подданный,
он всегда унижен зависимостью"2. Паскаль считает, что
"империя разума" более высокого порядка, чем
"империя власти", как ум порядком выше тела. Вот почему
вторая, как бы ни была огромна, должна быть подчинена
первой, которая не менее внушительна. По иронии
судьбы Паскаль увидел в Кристине образец идеального
монарха, в котором впервые в истории гармонично сочетались
"власть и разум", "верховный авторитет и основательная
ученость". Конечно, здесь надо учитывать ту дань
почтительного уважения, любезности и восторга, которую не
мог не отдать ученый юной королеве. Позже в "Мыслях"
Паскаль не без грусти отметит быстрый закат ее
"разумного правления" и назовет ее "жертвой" наряду с
английским королем Карлом I, сложившим голову на плахе3.
Пожалуй, то была единственная социальная иллюзия
Паскаля, развеянная довольно скоро, ибо эксцентричная
Кристина отреклась от престола уже в 1654 г. Но даже
если бы она осталась на престоле, надежды на
"просвещенное правление" все равно оказались бы тщетными.
Как тщетными они оказались сто лет спустя у Вольтера,
возлагавшего большие надежды на "просвещенного
монарха" Фридриха II, начавшего свои отношения с
великим просветителем с восхищения им и почитания его
трудов, а закончившего их полным небрежением к его
' Pascal В. Pensées. Р. 507, fr. 59.
2 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 280.
3 Pascal В. Pensées. P. 508, fr. 62.
245
советам и домашним арестом философа. Возмущенный
Вольтер расстался с этим монархом и навсегда потерял
вкус к "просвещенным правителям". Точно так же
разбились все мечты Дидро, прибывшего ко двору
"просвещенной государыни" Екатерины II и покинувшего его
с глубоким разочарованием. В общем-то, Паскаль был
прав, когда показывал несовместимость "империи
власти" с разумом, наукой, истиной и справедливостью. От
эпохи Паскаля до Великой французской революции было
еще далеко. Французская буржуазия еще была не готова
к борьбе за власть. Этим определяется социальный
пессимизм Паскаля.
В заключение отмечу, что в "Апологии христианской
религии" при изложении социальных взглядов Паскаль
выступает как исследователь, философ, психолог, ученый,
а не как христианин, которому должно быть известно,
что власть на земле, в конце концов, от Бога, что
божественное провидение управляет миром и людьми. Он дает
вполне светское решение социальных проблем. Паскаль
ищет естественные механизмы и движущие силы власти
и других социальных феноменов. Именно логика
исследователя и вдумчивое наблюдение за процессами
социальной жизни далеко уводят его за пределы провиденци-
алистской и теоцентристской концепции общества,
основы которой были подорваны в эпоху Возрождения
Макиавелли и Жаном Боденом.
Как это ни парадоксально, апологет христианской
религии Паскаль внес свой вклад — и немалый! — в
разработку светских концепций общества. К тому же он
был первым среди великих философов XVII в., который
подверг беспощадной критике абсолютистский режим
власти.
В ПОИСКАХ "СПАСЕНИЯ"
Есть три пути к вере: разум, привычка
и вдохновение. Христианская религия,
которая одна истинна, не допускает в
число своих истинных чад тех, кто верит
без вдохновения.
Паскаль
1."ТУПИКИ" ФИЛОСОФСКОЙ мысли
Учение о Боге составляет третью часть философской
концепции Паскаля и логически завершает ее, будучи
прежде всего связанным с его учением о человеке и
отчасти с гносеологией. Все "тупики" и парадоксы
философии Паскаля сходятся в его религиозной доктрине и
получают в ней свое абсолютное решение. Неспособность
человека "знать все", равно как и "не знать ничего",
словом, парадокс истины легко, по убеждению Паскаля,
объясняется верой в первородный грех и его
преемственность. В "тайне первородного греха" Паскаль нашел
универсальный ключ к объяснению многих загадок и
парадоксов человеческого бытия, в том числе всеобщей его
антиномии — величия и ничтожества человека.
"Истинные природа человека, его благо, добродетель, равно как
истинная религия, неразрывно связаны между собой и
познаются только в совокупности"1.
Ни одна религия, согласно Паскалю, кроме
христианской, не понимает столь хорошо человека во всей его
противоречивости, сложности и многоликости, а потому
ни одна из них не является истинной. Он сводит "тайну
антропологии" к "тайне теологии", проделав операцию,
прямо противоположную той, которую 200 лет спустя
осуществляет с позиций воинствующего атеизма Л. Фей-
' Pascal В. Pensées. Р. 548, fr. 393.
247
ербах! Немецкий философ в "Сущности христианства"
выдвигает и обосновывает тезис: "тайна теологии есть
антропология", исходя из которого "сводит Бога на
землю", божественную сущность — к сущности самого
человека, познание Бога — к самопознанию человека, так что
в конечном счете "ценность Бога не превышает ценности
человека"1. В свете разоблачения христианства
Фейербахом обнажается, по его мнению, опаснейшая для
церкви уязвимость религии в самом ее фундаменте. Она
претендует на верховное руководство человеком и его
жизнью, а сама является лишь самоотчуждением человека,
идеализированным самовосполнением его реальной
земной сущности, потусторонним самовоплощением
посюсторонних надежд и чаяний человека. Именно человек —
господин и творец не только мира земного, но и мира
небесного. В нем-то и надо искать как первую причину,
так и последнее основание всех таинств религии.
Фейербах формулирует дерзкий вывод о том, что "атеизм есть
тайна самой религии"2.
Когда Паскаль пытается обосновать истинность
христианской религии, исходя из факта противоречивости
человеческой сущности, он неявно ставит первую в
зависимость от второй: религиозное объяснение человека
оборачивается антропологическим обоснованием
религии. Получается у Паскаля как бы взаимная обратимость
таинств религии и загадок человеческого бытия. Словом,
Паскаль считает, что без христианской религии мы
находимся в "темноте неведения". При этом он сам замечает,
что одни парадоксы объясняет другими, еще менее
понятными человеку, чем первые, на что и обратили внимание
французские просветители.
Так, Кондорсе, восхищавшийся научным гением
Паскаля и написавший "Похвальное слово Паскалю",
поражался, как "нелепые религиозные мысли могли выйти из
той же самой головы, которая нашла секрет тяжести
воздуха и изобрела теорию вероятностей "3. Он не видел
иного объяснения этой "странности?, кроме психического
нездоровья Паскаля, версия о котором имела тогда
хождение. Ее придерживался и Ламетри, который видел в
Паскале, "с одной стороны, гениального человека, с другой
1 Фейербах Л. Избранные произведения: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 11,
42.
2 Там же. С. 20.
'Condorcet J. A. Éloge de Pascal // Pascal В. Pensées. Genève, 1778. T.
l.P. 12, 13.
248
— полусумасшедшего. Безумие и мудрость — обе имели
в его мозгу свои отделения или свои лопасти, отделенные
друг от друга так называемой "косой". (Интересно бы
знать, которым из этих отделений тянулся он так сильно
к господам из Пор-Рояля?)"1. Вопрос Ламетри является
чисто риторическим, ибо он, как атеист, был убежден
в "безумности" именно религиозных взглядов. Но
подобное объяснение религиозных убеждений Паскаля никак
нельзя считать серьезным, тем более что версия о его
психической ненормальности не имела под собой
действительных оснований.
Конечно, не все просветители верили в эту версию.
Так, Гельвеций с неизменным уважением отзывается
о Паскале и в своих произведениях "Об уме" и "О
человеке" ссылается на него как на авторитетного
знатока человека и человеческой природы2, хотя и не
соглашается с его религиозными взглядами: "...для
объяснения человека нет необходимости, как этого
требовал Паскаль, прибегать к первородному греху"3. В
полемике с Руссо Гельвеций отстаивает мысль, согласно
которой "болезненные, хрупкие и горбатые люди имеют
столько же ума, сколько стройные и здоровые люди.
Примерами этого служат Паскаль, Поп, Буало, Скар-
рон"4. Несколько в другой связи в том же сочинении "О
человеке" Гельвеций пишет: "Некоторые врачи...
утверждали, что люди наиболее сильного и мужественного
темперамента — самые умные люди. Однако никогда
еще не указывали на Расина, Буало, Паскаля, Гоббса,
Толанда, Фонтенеля и т. д. как на сильных и
мужественных людей"5.
Дидро в своих "Философских мыслях", направленных
в общем против "Мыслей" Паскаля, правильно
рассматривает его религиозные взгляды как убеждение, как
концепцию, уязвимость которой ему кажется совершенно
беспорной. Дидро не считает христианскую религию ни
истинной, ни гуманной. "Истинная религия, важная для
всех людей всегда и повсюду, должна была бы быть
вечной, всеобщей и очевидной, но нет ни одной религии
с тремя этими признаками. Тем самым трижды доказана
'Ламетри Ж. О. Сочинения. М„ 1976. С. 206—207.
2См.: Гельвеций К. А. Сочинения: В 2 т. М., 1974. Т. 1. С. 312, 410,
557; Т. 2. С. 181, 187.
3 Там же. Т. 2. С. 434.
4 Там же. Т. 2. С. 108.
5 Там же. С. 68.
249
ложность всех"1. Враг всякой ограниченности и
односторонности, когда речь шла о предметах научных,
Паскаль, согласно Дидро, становился поразительно
односторонним, легковерным и доверчивым, как ребенок,
когда дело касалось предметов религиозных. Так, Паскаль
все время говорит о милосердном Боге, сотворившем
людей совершенными, себе подобными, пославшем на
землю своего сына Иисуса Христа, дабы он искупил их
первородный грех и т. д., элиминируя проблему
теодицеи, которая всегда была "ахиллесовой пятой"
монотеизма, или закрывая глаза на амбивалентную сущность
библейского Бога, отнюдь не только "доброго отца"
людей, но и вечно недовольного, гневного, мстительного
их "отчима". Дидро по этому поводу едко замечает: "Ни
один добрый отец не захотел бы походить на нашего
отца небесного"2. Людей ужасает не мысль о том, что
Бога нет, считает Дидро, но мысль о том Боге, каким
его им изображают. "Бог христиан — это отец, который
чрезвычайно дорожит своими яблоками и очень мало
своими детьми"3.
Паскаль однозначно ссылается на Священное писание
как на бесспорный документ, подтверждающий
истинность именно христианской религии, а Дидро находит
в нем много аргументов, опровергающих христианство,
и, более того, даже аргументов в пользу неверия: "Эти
книги — арсенал для всех. На моих глазах деист брал
оттуда оружие против атеиста; деист и атеист сражались
с евреем; атеист, деист и еврей объединялись против
христианина; христианин, еврей, атеист и деист бросались
в бой с мусульманином; атеист, деист, еврей,
мусульманин и множество христианских сект обрушивались на
христианина; и скептик шел один против всех"4. Паскаль
обращает внимание на трагические парадоксы
человеческого бытия и... не замечает, говорит Дидро, "нелепых
и жестоких" парадоксов веры и религии, которые
поражают и возмущают его самого. Но здесь Дидро не прав,
ибо Паскаль их видел. Противоречивость человеческого
существа и его бытия, его величие и ничтожество в
многообразных своих проявлениях, воспринимаемые
Паскалем столь трагически, со вздохом и стенаниями, Дидро,
1 Дидро Д. Философские мысли // Собрание сочинений: В 10 т. М.;
Л., 1935. Т. 1.С. 126.
2Там же. С. 131.
3Там же. С. 125.
4 Там же.
250
как и Вольтер, считает естественными и вполне
объяснимыми с точки зрения природы, а не религии.
Дидро возмущается также догматами о
предопределении и божественной благодати, необходимыми для
спасения верующих: "Если на одного спасенного приходится
сто тысяч погибших, то, значит, дьявол все-таки остался
в выигрыше и не послав на смерть своего сына"1.
Критика Дидро религиозных убеждений Паскаля является
принципиальной, касается самих основ его апологетики. Но
теоретическая непримиримость Дидро не
распространялась на личность Паскаля, к которому он относится
сочувственно и сострадательно. Немалую долю вины за
"суеверие" Паскаля он возлагает на отшельников Пор-
Рояля: "Изящный писатель и глубокий ум, он наверное
пролил бы свет на тайны мироздания, если бы
провидение не отдало его в руки людей, которые принесли его
талант в жертву своей злобе. Как было бы хорошо, если
бы он предоставил богословам своего времени
вцепляться друг другу в волосы, а сам занялся бы разысканием
истины без оглядки и без страха оскорбить Бога... и
главное, если бы он отказался считать своими учителями
людей, которые были недостойны быть его учениками"2.
Еще более резкую борьбу ведет с
Паскалем-христианином ироничный и ядовитый Вольтер, который
первым из просветителей осмелился сразиться с этим
"великаном", каковым считали Паскаля в его время. Вольтер
обращался к критике "Апологии..." Паскаля много раз
в течение своей долгой жизни, начиная с 1728 г. и кончая
1778 г., т. е. годом своей смерти. На протяжении 50 лет,
т. е. почти весь период творческой деятельности, Вольтер
время от времени вступает в полемику с Паскалем, в
значительной степени определившую формирование его
собственного мировоззрения. По мнению В. Н. Кузнецова,
"эта полемика прошла через все его творчество, как его
нерв"3. Прежде всего критика Вольтером Паскаля
содержится в "Замечаниях на "Мысли" Паскаля", которые сам
Вольтер называл "Анти-Паскалем". В издании
"Мыслей" Паскаля, осуществленном Кондорсе в 1776 и 1778
гг., имеется множество других "замечаний" Вольтера.
Кроме того, в его переписке, других произведениях, на
1 Дидро Д. Философские мысли // Собрание сочинений. Т. 1. С. 125.
2 Там же. С. 95.
3 Кузнецов В. Н. Вольтер и философия французского Просвещения
XVIII в. М„ 1965. С. 140.
251
полях одного из экземпляров "Мыслей", ему
принадлежавшем, Вольтер критикует Паскаля. Но прежде всего,
как все просветители, Вольтер выражает свое глубокое
уважение и восхищение Паскалем. В письме к Формону
(1733 г.) он пишет: "Какой это восхитительный свет —
Паскаль, затемненный, однако, темнотой предмета,
которым он занялся"1. Тем не менее, "восхищаясь его гением,
я сражаюсь с некоторыми из его идей", предуведомляет
читателя Вольтер в начале своего "Анти-Паскаля"2.
Вольтер метит в самое "сердце" христианской
доктрины Паскаля, указывая на возможность объяснения
противоречивости человека, исходя из других религий и даже
языческих мифов: "Этот способ рассуждения является
ложным и опасным, ибо басни о Прометее и Пандоре,
андрогинах Платона, догмы древних египтян и догмы
Зороастра столь же хорошо объясняют эти видимые
противоречия"3. Вместе с тем, как и Дидро, Вольтер считает
двойственность человека естественным и даже
закономерным и необходимым явлением, ибо человек сложен,
имеет различные желания и страсти и соответственно
может по-разному думать и поступать. Совсем
необязательно с этой сложностью связывать двойственность
и противоречивость человека. Но если сложность
называть двойственностью, то таковыми окажутся "собака,
которая кусается и ласкается, курица, которая так
заботится о своих цыплятах, а затем их покидает, зеркало,
которое одновременно отражает различные объекты,
дерево, которое то покрывается листвой, то ее теряет"4.
Вольтеру представляется нелепой попытка
объяснения противоречивости человека мифом о первородном
грехе, который есть объект веры, но не разума
человеческого. "... Я хорошо знаю без этой тайны, что такое
человек; я вижу, что он появляется в мире, как и другие
животные... что себялюбие равно присуще всем людям,
что оно им необходимо... что мы зависим во всем от
воздуха, который нас окружает, от пищи, которую мы
потребляем, и что во всем этом нет ничего
противоречивого. Человек с этой точки зрения не есть загадка, как
вы это себе представляете, чтобы затем иметь
удовольствие ее разгадать; человек — на своем месте в природе..."3
1 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. P., 1880. T. 33. P. 367.
Mbid. P., 1879. T. 22. P. 28.
Mbid. P. 29.
Mbid. P. 31.
3 Ibidem.
252
Вольтер легко, подчас остроумно снимает остроту
паскалевских парадоксов, отнюдь не пытаясь разрешить
их, ибо считает их ложными, надуманными. Он просто
указывает на родство человека со всеми живыми
существами в природе, естественные условия которых человек
разделяет наравне с ними: рождается, живет, достигает
зрелости, производит себе подобных и, исчерпав свои
жизненные силы, умирает. Или он обращает внимание на
иные стороны бытия человеческого, которых Паскаль как
будто нарочно не видит. Так, скажем, Паскаль сетует на
бесконечные несчастья и страдания человека, а Вольтер
подчеркивает, что человек счастлив настолько, насколько
позволяет ему его природа, что он счастливее всех других
существ, во многом совершеннее их. Вместо того чтобы
сетовать на несчастья и краткость человеческой жизни,
говорит Вольтер, мы должны удивляться нашему
счастью и ее продолжительности. Почему человек,
спрашивает Вольтер, должен претендовать на большее счастье
и познание, чем это ему отпущено Богом? Не более ли
достойно человеку удивляться тому, что Бог не создал
его "еще более ограниченным, невежественным и
несчастным"1. Одним словом, жаловаться на теперешнее свое
состояние, по Вольтеру, все равно что жалеть о том, что
у человека нет четырех ног или двух крыльев. Только
гордость, тщеславие и дерзость, считает он, заставляют
человека претендовать на большее, чем он имеет.
Трагическому мироощущению Паскаля, жившего в период
поражения буржуазной революции во Франции, Вольтер
противопоставляет жизнеутверждающее и
оптимистическое мировоззрение буржуа в канун Великой французской
революции — канун великих надежд.
2. ЖИЗНЬ "ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ"
Антропологическое обоснование религии связано
У Паскаля также с осмыслением естественного конца
человеческой жизни, который он считает "трагическим
концом". Паскаль его настолько драматизирует, что
кажется, будто острота переживания ожидающей всех
смерти никогда не оставляла его. Самая мысль о смерти
порождает в нем отчаяние и ощущение безысходности.
1 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. P., 1879. T. 22. P. 44-45.
253
"Последний акт — кровавый, как бы ни была хороша
комедия во всем остальном. В конце концов, хлопаются
головой оземь, и это уж навсегда", — говорит Паскаль
о жизни1. Он рисует безотрадную, ужасную картину
человеческой жизни, в которой люди уподобляются "узникам
в цепях, осужденным на смерть. Каждый день одни из
них умерщвляются на глазах у других, а оставшиеся
в живых, скорбно и безнадежно взирая друг на друга,
ожидают своей очереди"2. В ответ на это Вольтер
возмущается: "Рассматривать универсум как тюрьму, а
людей как преступников, которых скоро казнят, — это идея
фанатика. Верить же в то, что мир создан для
наслаждений, — это мечта сибарита. Думать, что земля, люди
и животные являются тем, чем они должны быть по воле
провидения, — вот мысль мудрого человека"3.
Но паскалевское мировосприятие вовсе не является
лишь его уникальным достоянием, поскольку
представляет осмысление реального и в самом деле трагического
факта человеческой жизни, эмоционально-нравственное
ощущение которого варьируется в зависимости от многих
условий: социальных, индивидуально-личностных,
нервно-психологических и др. Трагическое восприятие
трагического факта имеет куда больше оснований, чем героико-
оптимистическое его восприятие. Конечно, "зачарован-
ность" смертью требует более чуткого внимания и
тонкого подхода, нежели стоическое,
простодушно-индифферентное или эпикурейско-оптимистическое отношение
к ней. Трагическое мироощущение можно не принимать,
но вряд ли можно его разоблачать с точки зрения разума
и логики и совершенно нельзя ему не сочувствовать.
Так, М. Горький, будучи близким другом Леонида
Андреева, и как человека, и как писателя сложного,
противоречивого, мятущегося и страдающего, к тому же
очень талантливого, тонкого и предельно искреннего,
отзывался весьма осторожно, чтобы не поранить
грубыми словами, о душевной муке его — все той же "зачаро-
ванности" смертью, которую Андреев назвал "смертным
приговором" всем людям, вынесенным неизвестно за что
и почему: "Человек — раб смерти и всю жизнь ходит на
цепи ее"4.Но, в отличие от Паскаля-христианина, Л. Ан-
1 Pascal Я. Pensées. Р. 523, fr. 165.
2Ibid. P. 556, fr. 434.
3 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. P., 1879. T. 22. P. 34.
4 Горький M. Литературные портреты. Леонид Андреев //
Избранные произведения: В 3 т. М., 1972. Т. 3. С. 358.
254
дреев не верил и не принимал христианского "спасения",
считая подобный оптимизм "противной, насквозь
фальшивой выдумкой" и "чепухой"1. Горький сочувственно
отмечает: "...я видел, как он ходит по той тропинке,
которая повисла... над пропастью, куда заглядывая,
зрение разума угасает"2. Любопытно, что и Горький
использует здесь паскалевский образ "бездны".
Мысль о смерти как бы гипнотизирует Паскаля, не
дает ему покоя, подтачивает его бытие в самом корне,
а оно и без того было всегда очень хрупким.
Обремененный с раннего детства различными тяжкими болезнями
и физическими недугами, которые не раз ставили его
жизнь на грань смерти, не доживший до сорокалетнего
возраста, он слишком реально должен был чувствовать
близость смерти и даже как бы ее "присутствие" в самой
его жизни. Кроме того, беспощадная требовательность
к себе, доходившая в последние годы жизни до жестокого
нравственного и физического самобичевания, лишала его
ощущения полноты бытия, и он часто жил на грани
физического и нервного истощения. Полный
разнообразных творческих планов, Паскаль остро чувствовал
ограниченные пределы своей хрупкой жизни, торопился,
подхлестывал себя, боялся не успеть. За свою до обиды
короткую жизнь он многое, очень многое успел, но
субъективно был убежден, что им почти ничего не сделано.
Паскаля называют "мучеником науки", но еще его можно
назвать и "гением страдания". Трагизм его личного
бытия усугублялся резко отрицательным отношением к
социальной действительности абсолютистской Франции,
о чем выше подробно говорилось. Таким образом, с
разных сторон теснили Паскаля бедствия человеческой
жизни и придали трагический характер его миросозерцанию.
Единственную альтернативу светскому и стоицистско-
философскому решению проблемы жизни и смерти,
личному спасению человека Паскаль увидел в христианском
учении с его идеями бессмертия души и приобщения
человека к Богу (как идеалу всесовершенства) через
следование примеру жизни Иисуса Христа. "Спасение"
Паскаль понимает, во-первых, как преодоление границ
естественной жизни и продолжение жизни души после смерти
тела, во-вторых, как избавление человека от первоначаль-
1 Горький М. Литературные портреты. Леонид Андреев //
Избранные произведения: В 3 т. М., 1972. Т. 3. С. 356.
2 Там же. С. 359.
255
ной природной греховности (в результате
преемственности первородного греха) и приобретенного в этой
суетной жизни несовершенства, от несчастий и страданий
и обретения "счастья и блаженства с Богом".
Иногда считается, что "первое обращение" к религии
молодого Паскаля было кратковременным и
поверхностным. Да, он не оставил науку и не покинул свет, так что
во внешней жизни как будто ничего не изменилось.
Однако жизнь "внутреннего человека" в нем оказалась
преобразованной под влиянием янсенистов и учения
Августина, на которое они опирались. Об этом свидетельствует
его углубленное размышление о жизни и смерти в связи
с кончиной любимого отца в 1651 г. Паскаль пишет
письмо — утешение своей старшей сестре Жильберте. Но
в письме явственно чувствуется горячее стремление
утешиться и самому. Он не может найти утешения ни в
обыденных, ни в научных, ни в философских представлениях
о смерти. Он не может смириться с ней как с
"естественным явлением", осуждая за подобное понимание смерти
Сократа и стоиков, а позже и Монтеня. В "Мыслях"
Паскаль резко осудит этого последнего за его
"нечестивые мысли" о самоубийстве. Он находит единственное
утешение в христианской религии, о чем он и пишет
сестре: "Поэтому не будем предаваться печали, как не
имеющие надежды язычники. Мы не потеряли нашего
отца в момент смерти... Но я не хочу, чтобы вы были
бесчувственны, ибо удар слишком чувствителен, без
сверхъестественной помощи он был бы даже невыносим"1.
Человек, подобно ангелам, не может не ощущать
боли, продолжает Паскаль, но в несчастьях и страданиях
язычник безутешен, так как не ведает их истинного
смысла и значения, а христианин полагается на промысел
Божий. Христианин не будет искать утешения ни в себе
самом, ни в близких, ни в чем-либо тварном и временном
на земле, но только в Боге, в Иисусе Христе. Ведь ни что
сотворенное не является первой причиной того, что мы
считаем несчастьями, которые посылаются нам Богом
как "единственным властителем наших судеб". Отсюда
нельзя смотреть на смерть как на дело случая или
роковую природную необходимость, но как на таинство,
предопределенное Господом "от века", по истечении
времени, в такой-то год, такой-то день, такой-то час, в таком-
то месте и таким-то образом. В свете учения Святого
' Pascal В. Oeuvres complètes. P. 277—278.
256
Духа, говорит Паскаль, смерть есть наказание за грех,
она необходима для очищения от греха. Потому жизнь
христианина — это постоянная жертва, могущая
завершиться только смертью. Важно, чтобы эта жертва была
принесена Богу, а не дьяволу, ибо грехопадение было
жертвой дьяволу.
Поскольку Бог рассматривает людей через
посредника — Иисуса Христа, постольку и мы должны себя
видеть в Нем и нашу судьбу — через крест Искупителя.
Если сама по себе смерть страшна, омерзительна — ужас
природы, то в Иисусе Христе она совсем другая: приятна,
свята — радость для верных.
"Все сладостно в Иисусе, даже и самая смерть"1: Бог
воскресил его, дал ему вечную жизнь и принял у трона
своего. Так и человек, со смертью не прекращает, а
начинает жить, что бы ни внушали нам природа или
несведущие люди: "Не будем же считать душу погибшей и
уничиженной, но оживотворенной и приобщенной к высшей
жизни"2.
Далее Паскаль стремится развенчать страх смерти,
предлагая религиозную трактовку его происхождения,
а равно источника всех грехов и пороков. Истина,
которая скрывается под этой тайной, состоит в следующем:
Бог создал людей с двумя видами любви — к Богу
и конечной любви к самому человеку. Но грех извратил
любовь, лишив человека любви к Богу, а потребность
в бесконечной любви осталась и обратилась на самого
человека. Таково происхождение себялюбия.
Справедливое в Адаме ввиду его невинности, оно стало преступным
в нем после грехопадения. Так и страх смерти,
справедливый в чистом Адаме, стал порочным в грешном Адаме.
Вместо страха смерти христиане провозглашают
"любовь к смерти". Смерть достойна ненависти, когда жизнь
была невинна и чиста, ибо она разлучала святую душу со
святым телом. Но после грехопадения смерть
заслуживает любви, ибо разлучает святую душу с нечистым телом,
прекращает ужасный разлад между душой и телом,
избавляет душу от врага ее спасения. Итак, "следует
презирать жизнь грешную... если у нас есть вера, надежда
и любовь. Так что смерть является венцом блаженства
Души и началом блаженства тела"3. Этому и Августин
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 276.
Mbid. P. 277.
3 Ibid. P. 278.
Заказ №4951
257
учил, поскольку Бог определил именно такой порядок,
чтобы христиане были верны ему не из любви к жизни,
а из любви к смерти, через мрак которой они и
бессмертие получают.
Таким образом, "все печали наши, — заключает
Паскаль, — есть жертвенное вещество, поглощаемое и
уничтожаемое благодатью во славу Божию... Таким образом,
мы извлечем пользу из самих наших несовершенств,
поскольку они послужат веществом для этой жертвы... ибо
все обращается во благо избранным"1. Поэтому будем
надеяться на спасение нашего усопшего, утешает он
сестру, и молиться за него, чтобы смягчить гнев Божий
и облегчить его муки. Но есть и еще одно средство
угодить Богу — следовать добрым советам умершего
и исполнять его волю, ибо умершие, помимо
собственных заслуг, вознаграждаются и за тех, кто следует
примеру их жизни. Паскаль призывает близких к любви и
единению во имя ушедшего отца, любившего их. Под конец
он отмечает, что человек слаб и не ведает грядущего.
Потому надо положиться на Бога и не давать скорби
всецело овладеть душой. Он выводит такую
диалектическую формулу утешения: "Будем же судить о величии
наших благ по силе наших зол, и пусть чрезмерность
нашей скорби будет мерилом силы нашей радости"2.
Впоследствии в своих нескончаемых тяжких болезнях
Паскаль утешался этой христианской "жертвенной
философией" и даже написал "Молитву к Богу об
использовании во благо болезней" (1659). В ней он кается перед
Богом за то, что растратил свое здоровье ради суетных
целей, и благодарит Его за ниспосланную ему болезнь
в качестве заслуженного и "милосердного" наказания.
Кается он и в том, что "считал здоровье благом", ибо
много сил имел для греха и не понимал мудрости
изречения: "Блаженны плачущие и горе утешенным", считая все
наоборот3. Теперь же в печалях будет он полагать свое
счастье, и если желает снова здоровья, то чтобы служить
одному Богу. Болезнь Паскаль рассматривает как
"подобие смерти для испытания перед настоящей смертью",
после которой и вершится суд Божий. Кстати, и свою
настоящую смерть он встретил с теми же мыслями и
чувствами, утешаясь надеждой на милосердие Божие. В аго-
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 278.
2 Ibid. P. 279.
3Ibid. P. 364.
258
нии, полной невыносимых мучений, он терпеливо и
безропотно принимал свою кончину.
При жизни "великий христианин" был глубоко
убежден, что постиг истинные пути спасения, и, увлеченный
идеей христианского коллективизма, возложил на себя
миссию спасения и других людей.
В зависимости от того, как люди относятся к проблеме
спасения, Паскаль их делит на несколько групп. К одной из
них он относит тех, кто нашел Бога и преданно служит ему,
— они сами счастливы и служат примером для остальных
людей. К другой группе принадлежат те, которые искренне
ищут Бога, стремятся к нему всей душой, но пока еще не
нашли его, — они несчастны, говорит Паскаль, но их
положение не безнадежно. Третью составляют атеисты,
которые принципиально отрицают Бога и бессмертие
души, — их ситуацию Паскаль рассматривает как
безнадежную и полную несчастий. Наконец, к четвертой группе
он относит *ех, кто равнодушен к проблеме спасения,
своему будущему и живет "одним днем", — их Паскаль
называет "безумными" и считает также несчастными.
Естественно, что Паскаль больше озабочен задачей
спасения тех, кто дальше всех отстоит от Бога. Он
обнаруживает понимание принципиальной позиции
атеистов, ибо видит ее определенную обоснованность.
Паскаль сочувственно относится к доводам атеиста, ибо
согласен с ним в том, что посредством разума нельзя
доказать бытия Бога, но он не принимает его вывода
потому, что видит "иные пути к Богу", которых атеист не
видит. В этой связи понятна следующая оценка Паскалем
атеистической позиции: "Атеизм есть признак силы ума,
но только до определенной степени (Athéisme marque de
force d'esprit, mais jusqu'à un certain degré seulement)"1.
Характерно, что в первых изданиях "Мыслей" эта в об-
Щем-то уважительная оценка позиции атеизма была
превращена в уничижительную... путем замены всего одной
буквы г на п в слове marque. В итоге был искажен смысл
оценки до прямо противоположного: "Атеизм есть
признак слабости ума... (Athéisme manque de force d'esprit...),
в связи с чем оказывается неясной вторая часть фразы.
Поистине удивляет Паскаля поведение людей,
индифферентных к проблеме спасения, которая, по его мнению,
является самой важной для человека, от решения которой
зависит вся его жизнь".
1 Pascal В. Pensées. Р. 522, fr. 157.
259
Удивляется он еще учению философов, которые
полагают, что душа есть лишь всего-навсего "частичка ветра
и дыма". Эту истину, говорит Паскаль, они возвещают
миру с гордостью, между тем как о ней следовало бы
сообщать людям с болью, грустью и печалью, так как
тогда пришлось бы навсегда оставить мысль о спасении.
Приходя в ужас от одной только мысли о
неизбежности "вечной погибели" в случае отрицания Бога и
бессмертия души, Паскаль искренне жалеет неверующих, считая
их несчастными и отчаявшимися людьми. Он против
злобы и ненависти к инакомыслящим, против всякого
поношения неверующих, ибо это им вредит, полагает он,
а не служит на пользу. Паскаль ссылается в защиту своей
терпимой и гуманной позиции по отношению к
неверующим на тексты Евангелий, в которых "нет ни одного
грубого слова против врагов и мучителей Иисуса
Христа"1. Вот кредо в высшей степени человечной позиции
Паскаля: "Бог, управляющий всем с кротостью, вменяет
религию уму доводами, а сердцу — через благодать, но
желание внедрить религию в ум и сердце силой и
угрозами — значит внушить не религию, а ужас. Скорее террор,
чем религия"2. Это ли не протест против насильственной
практики в истории католической религии и церкви с ее
крестовыми походами, преследованием инакомыслящих
и еретиков, "охотой за ведьмами", инквизицией,
"бескровным наказанием" в виде сожжения "врагов веры",
уничтожением еретических книг и т. д. Насильственная
"прививка веры" для Паскаля порождает не только ужас,
но и "внешнюю веру", сопряженную с религиозным
нечестием и нравственным лицемерием и двоедушием.
Паскаль считает подобного рода практику знамением своего
времени, связанным с религиозной деятельностью
Ордена иезуитов. Психологическая проницательность не
только в вопросах веры, но и вообще в делах человеческих
позволяет ему по достоинству оценить фактор духовной
свободы людей. Вот почему он оказался более
чувствителен к прогрессивной тенденции своего времени —
религиозной терпимости, нежели к традиционному и
закоренелому фанатизму, столь обычному в истории западной
церкви. Сам Паскаль в "Апологии христианской
религии" прибегает к очень широкому арсеналу средств для
убеждения неверующих, внушения им веры.
1 Pascal В. Pensées. Р. 603, fr. 812.
4bid. Р. 523, fr. 172.
260
Проблема борьбы с неверием была актуальной для
церкви того времени. Вольнодумство в различных
формах (материализма, скептицизма, деизма, атеизма,
религиозного индифферентизма) пустило глубокие корни
в духовной жизни общества XVII в. и было
продолжением процесса секуляризации европейской культуры,
начавшегося еще в эпоху Возрождения. В одном только
Париже М. Мерсенн насчитывал 50 тысяч безбожников, что
по тем временам было немало. Паскаль говорит даже
о "моде на неверие". В светских салонах стало
неприличным выдавать себя за верующего в Бога. Вольнодумцы
разных мастей не без гордости заявляют о "свержении
ига" религии и церкви. Легкомысленное светское неверие
огорчает Паскаля. Он видит в нем печать испорченности
человеческой природы, ее загадочного извращения, в
результате которого человек потерял чувствительность
к самым важным вопросам своей жизни — откуда, зачем
и куда он идет. Не надо иметь слишком возвышенную
душу, сетует он, чтобы понять, что в этой жизни не
может быть никакого подлинного удовлетворения, ибо
удовольствия суетны и преходящи, несчастья бесконечны,
а смерть неминуема. В конце концов, приходит он к
выводу, в этой жизни нет иного блага, кроме надежды на
будущую жизнь.
"Патриархами" вольнодумцев в те времена были
М. Монтенъ и П. Шаррон с их скептицизмом, а также
философ-материалист П. Гассенди. Никто из них
открыто, "в лоб" не отрицал религию, а Шаррон и Гассенди
были служителями культа и учеными теологами. Но их
взгляды предрасполагали к неверию, религиозной
терпимости, утверждению независимости морали от религии
и нашли себе многочисленных почитателей, в том числе
и при дворе: поэты Сирано де Бержерак, Теофиль де Вио,
писатель Поль Скаррон, Мольер, Лафонтен, философы
Сент-Эвремон и Ламот-Левайе (воспитатель Людовика
XIV), Ларошфуко. Конечно, не по заказу церкви,
осудившей янсенистов и его в том числе, Паскаль начал писать
свою "Апологию...", но исключительно из внутренней
потребности помочь людям на пути к спасению. Он
искренне верил в правильность избранного им пути и, не
желая "спасаться" в одиночку, хотел увлечь за собой
и других.
261
3. ЛИЧНЫЙ БОГ, А НЕ БОГ
ФИЛОСОФОВ И УЧЕНЫХ
Сердце чувствует Бога, а не разум. Как далеко от
познания Бога до любви к нему.
Паскаль
Знаменитая паскалевская дихотомия — "личный Бог"
и "Бог философов и ученых" — была унаследована всей
последующей европейской культурой. Ее широко
используют не только религиозные деятели, но и философы,
писатели, ученые, поэты. Отныне, когда хотят
подчеркнуть экзистенциальный характер веры и сугубо
внутреннее, интимно-личностное постижение Бога, тогда
ссылаются на "личного Бога" Паскаля. Конечно, не им
придумана эта дихотомия (уже Иисус Христос
противопоставлял свою веру книжной вере ученых фарисеев), но им
она превосходно выражена и сформулирована, так что
стала крылатым выражением в европейской культуре.
Сам Паскаль постиг "личного Бога" в ту памятную
ноябрьскую ночь 1654 г., когда он пережил мистический
опыт, свидетельством которого остался его "Мемориал".
В состоянии психологического транса он написал
дрожащей рукой: "...Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а не
философов и ученых... Бог Иисуса Христа... Забвение
мира и всего, кроме Бога. Его можно обрести только
путями, указанными Евангелием. Величие души
человеческой... Радость, радость, радость, слезы радости...
Иисус Христос. Я разлучился с Ним, я от него бежал,
отрекся, распинал Его. Да не разлучусь с Ним вовеки...
Отречение полное и сладостное. Полная покорность
Иисусу Христу и моему духовнику. Вечная радость за один
день подвига на земле. Не забуду слов Твоих. Аминь"1.
Так началось "второе и окончательное обращение"
Паскаля к христианской религии.
Пережив "боговдохновенный опыт", изменивший всю
его жизнь, он затем всегда будет считать "вдохновение"
единственным подлинным путем к Богу, а все остальные
— лишь подготовкой или подспорьем к нему. Этому
личному опыту Паскаля вполне соответствовала
теология откровения янсенистов, с которой он познакомился
в период своего "первого обращения", а также
постижение Бога сердцем у ап. Павла и Августина, на которых
1 Pascal В. Pensées. Р. 618, fr. 913.
262
опирались янсенисты и сам Паскаль. Указанной выше
дихотомией он отделяет христианскую трактовку Бога от
языческого и светского понимания Абсолюта. Кроме того,
его экзистенциально-психологическая трактовка Бога
направлена как против спекулятивного богословия, так и
против распространенного в то время философского деизма.
Всеобщее поклонение разуму как в науке и
философии, так и в искусстве XVII в. отразилось также и на
религиозном сознании служителей культа, в сфере
которого стал преобладать своеобразный "рационализм".
Одним из его представителей был теолог Жак Фортон,
против которого выступил Паскаль в период своего
"первого обращения". Этот теолог был сторонником
гармонии веры и разума, но, в отличие от Фомы Аквинского,
с идеей превосходства разума над верой. Фортон не
придавал особого значения Священному преданию и
видел свою заслугу в том, что отделил разум от авторитета.
С помощью своего "нового метода непрерывного
рассуждения о главных таинствах религии"1 он дал
рационалистическое объяснение таким таинствам христианства,
как единосущность Бога в Троице, воплощение,
воскресение, преемственность первородного греха и др., которые
по традиции считались "сверхразумными". Все эти
"объяснения" были полны ловких спекуляций, логических
ухищрений и надуманных конструкций в духе иезуитской
казуистики, .что и вызвало оппозицию Паскаля и его
друзей. Фортон создал "гиперрационалистическую
теологию" в противовес теологии откровения, опирающейся
на божественную благодать, Священное писание и
церковную традицию, восходящую к Августину.
Паскаль считал, что "гиперрационализм" Фортона
в теологии и его вольное обращение с церковной
традицией приводят к религиозному нечестию, формальной
и внешней набожности, не затрагивающей сердца
человека, и нравственной распущенности в духе пробабилистс-
кой доктрины иезуитов. Против этого религиозного
"оппортунизма" и направлена авторитарная теология
откровения янсенистов, в принципе исключающая
возможность религиозного рационализма и разводящая
философию и теологию в разные стороны. Все логические
доказательства бытия Бога, согласно янсенистам, не
могут заменить веры в Бога и любви к нему.
1 Цит. по: Gouhier H. Pascal et les humanistes chrétiens. L'affaire
Saint-Ange. P., 1974. P. 38.
263
Против нечистой религиозной совести Паскаль хочет
утвердить искреннюю веру в Бога, которая коренится не
в хитром и ловком разуме, но в самом сердце человека.
Вот почему лейтмотивом через его "Апологию"
проходит идея: "Именно сердце чувствует Бога, а не разум. Вот
что такое вера"1. Вся сущность христианского учения,
согласно Паскалю, состоит в этом, потому христианам
нет надобности доказывать разумом, есть ли Бог.
Отсюда: "Как далеко от познания Бога до любви к нему"2.
Благодаря любви Бог постигается не как высший судья
и тонкий "калькулятор" в делах человеческих,
воздающий по заслугам, но как милосердный спаситель, даром
дающий благодать искренне верящим в него.
Любовь, говорит Паскаль, является "единственным
предметом Священного писания". Любовь выше
познания: убеждение человеческого сердца в существовании
милосердного Бога выше рациональных доказательств
бытия всесовершенного и всемогущего Творца природы
и человека. Интимно-личностное общение человека с
Богом происходит не на уровне формально-рационального,
внешнего бытия человека, но на
уникально-психологическом уровне, затрагивающем его внутренние структуры
и охватывающем все его существо, так сказать его
"глубинное Я", — вот что такое постижение Божества
сердцем у Паскаля. Не бесстрастный Бог-вседержитель,
равнодушно созерцающий драму человеческой жизни,
считает Паскаль, но Иисус Христос, принявший участие
в судьбах людских, повседневный советчик и утешитель
в делах человеческих, — вот что такое христианский
"личный Бог". Потребность любить Бога, испытывать
к нему сердечную привязанность, т.е. стремление быть
искренним, Паскаль относит к особенностям "истинной
религии", каковой он считает христианство. К другим ее
атрибутам, как мы уже знаем, принадлежат еще три:
понимание первоначальной природы человека (его
величия, идущего от Бога), знание причины его нищеты и
ничтожества (в результате грехопадения) и спасение человека
через Искупителя — Иисуса Христа. Помимо этого,
Паскаль видит "божественность" христианской религии в ее
более чем тысячелетней истории, несмотря на все
нападки на нее и гонения на христиан. Лишь в христианстве
существовали и исполнились пророчества о Мессии.
1 Pascal В. Pensées. Р. 552, fr. 424.
2 Ibid. P. 546, fr. 377.
264
Конечно, для Паскаля Бог — творец мира, природы
и человека, конечная причина всего, но акцент он делает
не на этом онтологическом аспекте Божества, а на
экзистенциальном отношении Бога к человеку (любовь,
милосердие и благодать) и человека к Богу (любовь, покаяние
и надежда на спасение). Кристаллизацией этого
глубоколичностного взаимоотношения между Богом и
человеком и явился посредник между ними — Иисус Христос.
Поэтому Паскаль не устает подчеркивать, что
христианский Бог постигается только через Иисуса Христа. Через
него Бог выразил свою любовь к человеку, а любовь
к Иисусу и следование его заветам — залог спасения
человека. Двух законов достаточно, говорит Паскаль,
чтобы упорядочить весь христианский мир: любви к Богу
и любви к людям.
Обращение к Богу также возникает из глубокой
потребности человека к миру и гармонии с самим собой, из
стремления "погасить" противоречия своего бытия и
познания, объяснить (если не разрешить!) парадоксы в них,
восполнить слиянием с высшим, идеальным существом,
Иисусом Христом, недостающие на земле совершенство
и счастье.
Паскаль не находит нравственного идеала ни в
учениях философов, которые все представляются ему
односторонними и ограниченными, ни в социальном мире,
полном зла и несправедливости, ни тем более в
индивидуальном существовании людей, подвластном всем бедам
и горестям бытия. В трагической экзистенциальной
ситуации, каковой она рисуется Паскалю, Бог удовлетворяет
не абстрактно-метафизическую потребность разума в
мировой гармонии, но сугубо личную потребность сердца
человеческого в любви, милосердии, сострадании и
утешении.
Трансцендентный и абсолютный Бог деистов, а также
язычников и эпикурейцев есть творец "геометрических
истин", закономерности и порядка в природе, перед
которым благоговейно склоняются, почитая в нем "великое,
могущественное и вечное существо". Чтобы узреть
такого Бога, считает Паскаль, достаточно одного
созерцания природы, в которой человека поражают гармония,
совершенство, простота и предельная целесообразность
ее форм. Но перед лицом абсолютного Бога, чуждого
всего человеческого, равно как и перед лицом
бесконечной природы, человек чувствует лишь свое ничтожество
и не видит путей избавления от него. Потому представле-
265
ния о трансцендентном Боге порождают в душе и без
того отчаявшегося человека еще большее отчаяние и
полную безнадежность. Отсюда вера деистов в абсолютного
и всемогущего Бога, согласно Паскалю, совершенно
"бесполезна и бесплодна в деле спасения людей". "Деизм
почти столь же далек от христианской религии, —
говорит он, — как и атеизм, который ей совершенно
противоположен"1.
Паскаль правильно подмечает равнодушие деистов
к проблеме спасения человека и справедливо усматривает
в деизме опасность для христианской религии.
Он отвергает деизм не только с богословских, но
и с человеческих позиций, ибо полагает, что деизм ведет
к высокомерию и гордости. Если деисты не видят
необходимости спасения людей, то они познают Бога без
познания нищеты и ничтожества человека. Поскольку
сущность человека состоит одновременно в величии,
уподобляющем его Богу, и ничтожестве (в результате
грехопадения и "порчи"), делающем его недостойным Бога,
постольку незнание или забвение одной из сторон этой
антиномии приводит либо к отчаянию, когда
абсолютизируют ничтожество (пирронизм, эпикуреизм), либо к
высокомерию, libido dominandi (стоицизм, догматизм,
деизм), когда абсолютизируют величие человека. Но все
эти "секты" отрицают божественное предопределение,
благодать и искупление, а следовательно, оставляют
человека без надежды на спасение.
Только учение об Иисусе Христе, согласно Паскалю,
избавляет от всех крайностей, помогая человеку познать
свою поистине противоречивую ситуацию. "Иисус
Христос есть Бог, к которому приближаются без гордости
и перед которым склоняются не без надежды"2. Вся
сущность христианской религии состоит, по мнению
Паскаля, в том, что без Иисуса Христа, искупителя
первородного греха, мы не постигаем ни Бога, ни самих себя, ни
истинной морали3. Существует соответствие между
антиномической природой человека и двуединой сущностью
Богочеловека Христа. В его лице Бог становится близким
человеку и вместе с тем является возвышенным идеалом,
правда, не настолько высоким, чтобы ему нельзя было
следовать бренному человеку. Но главное, Христос —
1 Pascal В. Pensées. Р. 557, fr. 449.
4bid. P. 529, fr. 212.
Mbid. P. 550, fr. 417; p. 524, fr. 189.
266
спаситель человека. Выступая против всякой философии
отчаяния и религии отчаяния, Паскаль видит в
христианской религии основу для подлинного гуманизма.
Однако для него возникает непростая проблема
согласования Божественного предопределения (к спасению
одних и осуждению других) с идеей надежды на спасение
всех людей, в чем он и видит гуманизм христианской
религии. В "Сочинениях о благодати" Паскаль
безоговорочно осуждает "жестокие и совершенно невыносимые
воззрения Кальвина", согласно которым Бог
изначально, уже при сотворении людей, имел абсолютную волю
спасти одних и осудить других, независимо от их воли
и дел и предвидения каких-либо заслуг. Для реализации
своего замысла Бог заставил согрешить Адама, а с ним
и весь род человеческий. Затем он послал Иисуса Христа,
чтобы искупить изначально избранных к спасению,
осудив всех остальных на вечную погибель. Паскаля
возмущает в воззрениях кальвинистов полное отрицание
свободы воли человека и уничижение его личного
достоинства. Он противопоставляет им взгляды Августина на
человека, согласно которым Бог создал человека
подобным себе — совершенным, невинным и свободным,
достойным спасения, т.е. вечной жизни. Но сам человек
в лице Адама использовал во зло свою свободу,
совершив грехопадение, восстав против Бога и извратив свою
благостную природу. Если сначала Бог имел условную
волю спасти всех невинных людей, то после
грехопадения, испортившего весь род людской, он в своем правом
гневе мог осудить его полностью. Но по своей благости
и милосердию Бог все; же решил спасти избранных,
посылая им благодать и искупление через Иисуса Христа
и осуждая всех остальных. В конечном счете "спасение
исходит от Божьей воли, а осуждение — от
человеческой"1.
Таким образом, в судьбе человеческой, уверен
Паскаль, взаимодействуют Божья воля и воля человеческая
— в противовес "нечестивому воззрению еретиков —
кальвинистов", не принимающих во внимание этой
последней. Паскаль считает их религию бесчеловечной,
жестокой, богохульной, оскорбительной для людей и ведущей
к отчаянию. Он не может принять их жестокого,
немилосердного Бога, их "религию отчаяния". Сам же
Паскаль трактует христианство как "религию спасения",
1 Pascal В. Premier écrit sur la Grâce // Oeuvres complètes. P. 313.
267
в лоне которой каждый может надеяться на спасение,
даже самый порочный человек, даже если ему осталось
жить хоть одно мгновение, ибо "избрание и осуждение
есть неисповедимая тайна Божия"1. Но подобного рода
надежду — вопреки представлениям Паскаля о них —
подают всем людям кальвинисты и вообще все
протестанты, которые также считают свою религию "религией
спасения". И все же — в отличие от них — он делает
акцент на активном участии человека в своем спасении,
на свободе надеяться или отчаяться, на свободном
выборе содействовать или противиться Божественной
благодати. "Тот, кто нас создал без нас, не может нас спасти
без нас", — пишет он в "Первом сочинении о
благодати"2. Хотя Божья воля превалирует над человеческой,
но нельзя сказать, что она является единственной в
спасении или осуждении человека. В одном из фрагментов
"Мыслей", названном "Тайна Иисуса", Паскаль даже
вкладывает в уста Бога следующие многозначительные
слова: "Утешься. Ты не искал бы меня, если бы уже не
нашел меня"3. Вот насколько важны воля и свобода
человека в обретении религиозной веры. Это воля именно
свободной личности, полагал Паскаль, а не лишь раба
Божия, как в кальвинизме, а значит, это свободная вера.
Итак, идея личного Бога имеет несколько смысловых
оттенков у Паскаля:
Во-первых, это не трансцендентный Бог
рационалистического богословия, а экзистенциальный
Бог-спаситель, т.е. Иисус Христос.
Во-вторых, это нравственный идеал, стремление к
которому является личным долгом христианина. Личный
Бог — учитель человечества.
В-третьих, такой Бог постигается
уникально-личностным путем через вдохновение.
В-четвертых, в общении с Богом человек выступает
как самодеятельная личность, воля которой
взаимодействует с Божьей волей.
В-пятых, внешняя атрибутика веры отступает на
второй план по отношению к внутренней убежденности
верующего. Дихотомия "внешнего и внутреннего человека"
тесно связана именно с идеей личного Бога, который
смотрит на этого последнего, тогда как церковь смотрит
1 Pascal В. Premier écrit sur la Grâce // Oeuvres complètes. P. 313.
4bid. P. 311.
3 Pascal B. Pensées. P. 620, fr. 919.
268
на первого. Бог благоволит не к храмам, воздвигнутым
рукою человека, а к его чистому и кроткому сердцу.
Здесь несомненное сходство с протестантизмом, от
которого Паскаль активно стремится отмежеваться.
Впрочем, у него нет однозначного, как у протестантов,
отрицания внешней атрибутики веры, но скорее
подчинение ее искренней и сердечной вере. Но совершенно
ясно одно: он не принимает "внешней веры", каковой
он считал религию иезуитов. Истинная вера заключается
не в "букве религии", а в "духе буквы". Поэтому
Паскаль дает не буквальное, а духовно-символическое
истолкование Священного писания, что особенно
хорошо видно в его понимании сущности "скрытого
Бога".
Специально против "внешней веры" направлены два
теологических сочинения Паскаля: "Об обращении
грешника" и "Сравнение первых христиан с нынешними".
В первом он противопоставляет нетленность
"невидимого мира" "тщете всех видимых вещей", Творца — "твар-
ному миру", истинные блага у престола Господа —
суетным утехам мирской жизни. Душа "обратившегося
грешника" постигает, что "она должна поклоняться Богу,
как его создание, просить о пощаде, как должница,
умолять о снисхождении, как виновная, и просить его
милостыни, как нищая"1.
Во втором произведении Паскаль сравнивает
религиозный статус первых христиан и современных ему, и
сравнение это не в пользу последних. Если раньше вступали
в церковь только после длительных приготовлений,
отказа от суетного мира и наставлений в таинствах
религии, то теперь пребывают в ней "без подвигов, забот
и труда". Если ранее крещение было связано с "высшим
выражением истинного обращения сердца", то теперь
крестят неразумных детей, пребывающих в полном
неведении и остающихся даже, вплоть до самой смерти,
в состоянии грубого невежества в вопросах веры.
Словом, ныне принадлежат к церкви лишь внешним образом
без обретения внутренней веры и даже без соблюдения
элементарного благочестия2. Конечно, здесь, как и в
"Письмах к провинциалу", Паскаль бичует "внешнюю веру"
в духе религии иезуитов. Несомненно, акцент на "личной
1 Pascal В. Sur la conversion du pécheur //Ibid. P. 291.
2 Pascal B. Comparaison des chrétiens des premiers temps avec ceux
d'aujourd'hui // Ibid. P. 360—362.
269
вере" и "личном Боге" связан с его борьбой против
религии и морали, практиковавшимися в то время
орденом иезуитов.
4. ПАРАДОКСЫ "АПОЛОГИИ
ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ"
В равной мере непостижимо разумом, что
Бог есть и что Его нет.
Паскаль
Экзистенциально-уникальное постижение Бога
сердцем по меньшей мере делает сомнительной всякую
апологию христианской религии с ее неизбежной
апелляцией к логике и доказательствам. Теология
откровения, сторонником которой был Паскаль, запрещает
"ложное мудрствование" по поводу религиозных
вопросов и требует безусловного подчинения разума
авторитету Священного писания и отцов церкви. Но —
таков парадокс иррационализма, и религиозного в том
числе! — человеческое понимание любого предмета
неотделимо от разума и логики, хотя и не может быть
подчас сведено к ним. Паскаль прекрасно чувствовал
этот парадокс. Он признает три пути к вере: разум,
привычку и вдохновение. Причем первые два не ведут
к истинной вере, а лишь подготавливают, взрыхляют
почву для нее. И вся "Апология христианской религии"
Паскаля служит лишь вспомогательной цели: смутить
покой неверующих, вызвать интерес к религиозным
темам, привлечь внимание к тем жизненно важным
вопросам, решение которых невозможно без обращения
к вере. Здесь разум играет свою роль. Только его задача
состоит в том, чтобы признать границы своей
компетентности в вопросах веры. Поскольку разум по своей
ограниченности несоизмерим с бесконечным Богом —
абсолютом, постольку для него "равно непостижимо
как бытие Бога, так и его небытие". Но то же самое
относится и к другим предметам веры. Разум не в
состоянии постичь, "пребывает или же отсутствует душа
в теле; сотворен мир или нет, существует первородный
грех или нет"1. В этих антиномиях Паскаля усматри-
1 Pascal В. Pensées. Р. 603, fr. 809.
270
вают прообраз знаменитых антиномий Канта. В
понимании собственных границ, согласно Паскалю,
заключена отнюдь не слабость, но сила разума. Как и вообще
в процессе познания, значение разума в религии не
абсолютно, но и не ничтожно. Словом, для Паскаля
характерна, на мой взгляд, не скептическая или
нигилистическая, но скорее антиномическая трактовка "теоло-
гизирующего разума".
Использование разума в апологии религии требует от
него такой диалектической гибкости, которая обычному
рассудку кажется просто "безумной", на что и обращает
внимание Паскаль. Он говорит, что христианская религия
"мудра и безумна одновременно, ибо не обоснованием
своей веры жив христианин: верить его заставляет крест.
Однако "путь разума" необходимо пройти, убежден
Паскаль, чтобы вера была "здравой, а не суеверной". Веру
посредством сердца он отличал от слепой веры, которую
называл "суеверием", и считал его столь же пагубным для
религии, как и "суемудрие". Суеверие противопоставляет
веру разуму и представляет религию в "абсурдном и
смешном" свете. Отсюда недалеко и до неверия. Суеверные
христиане, сами того не желая, согласно Паскалю,
подрывают уважение к своей религии и только мешают делу
обращения неверующих. Чтобы излечить от неверия,
которое для Паскаля есть своего рода духовная болезнь,
необходимо прежде всего показать, что "религия вовсе не
противна разуму". И он использует, по сути дела, многие
рационалистические аргументы, чтобы доказать
"истинность" христианской религии и внушить к ней уважение за
то, что она столь "хорошо поняла человека". Сквозная
логика и дедуктивный ход мысли пронизывают всю
"Апологию..." Паскаля, центральная идея которой состоит
в следующем: 1) "несчастье человека без Бога и 2)
блаженство его с Богом или 1) природа человека повреждена через
саму природу и 2) есть Восстановитель, согласно
Писанию"1. Вокруг этой темы вращается значительная часть
"Мыслей", но, правда, все-таки не все мысли Паскаля.
Пытаясь показать, что христианская религия не
противоречит человеческому разуму, Паскаль заимствует из
теологии ряд рационалистических аргументов, а также
и сам пополняет их арсенал. Так, у него можно найти
разновидность онтологического доказательства бытия
Бога: человек замечает, говорит Паскаль, что он не явля-
1 Pascal В. Pensées. Р. 501, fr. 6.
271
ется "ни необходимым, ни вечным, ни бесконечным
существом, но он хорошо видит, что в мире есть существо
необходимое, вечное и бесконечное"1.
В своем стремлении согласовать "таинства"
христианской религии с естественным светом человеческого
разума Паскаль прибегает к весьма гибким объяснениям.
Возражая атеистам, которые считают абсурдным
воскресение Иисуса Христа из мертвых, Паскаль с прозрачным
намеком на желательный ответ спрашивает: "Что
труднее, родиться или воскреснуть, тому ли труднее быть,
чего никогда не было, или тому, что уже было? Что более
трудно, получить ли вновь бытие или вернуться к бытию?
Привычка делает для нас первое легким, а отсутствие
привычки — второе невозможным. Обычный способ
суждения"2.
"Тайна первородного греха" становится понятной
человеку, полагает Паскаль, исходя из его
противоречивости, ничтожества, слабостей и недостатков. В ответ на
этот апологетический аргумент Вольтер не без резона
заметил, что отнюдь "не от разума идет представление
о падении человеческой природы, но только
исключительно от одной веры"3, ибо слабости человека еще лучше
объясняются его естественной природой и
принадлежностью ко всему живому на земле. Не принимает Вольтер
и попытку Паскаля разумом оправдать "темноту" и
противоречивость Священного писания, опираясь на
концепцию Deus absconditus (скрытого Бога). В духе этой
концепции Паскаль считает, что Бог открыт тем, кто в него верит
и любит его, и скрыт от взора "нечистых". Отсюда сама
"темнота" и несогласованность отдельных книг
Священного писания оказываются необходимыми для того,
чтобы скрыть от неверных истину Божию и таинства религии.
"Нечистые" ничего не видят в Священном писании, кроме
противоречий и явных нелепостей. Зато для верующих
самые "темноты" в слове Божьем оборачиваются силой
и неоспоримым светом. Там, где буквальный смысл
Священного писания оказывается нелепым для человеческого
разума, символическое истолкование слова Божьего
открывает невиданный свет и глубину религиозных истин.
Так, Паскаль с помощью гибкой логики пытается
отвести от Священного писания многочисленные и дав-
1 Pascal В. Pensées. Р. 516, fr. 235.
4bid. P. 615, fr. 882.
3 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. P., 1879. T. 22. P. 31.
272
ние упреки в "темноте" и противоречивости, выдавая
"тьму" за "свет" религиозной истины, что искренне
удивляло и возмущало и Дидро, и Вольтера. Поистине сам
Паскаль воспользовался своей же формулой: "Разум
можно склонить ко всему". Вольтер восклицает по этому
поводу: "Какие странные признаки истины! Какой же
признак должна иметь ложь? Как! Достаточно, чтобы
верить, сказать: "Я темен, я непонятен". Лучше было бы
вместо темноты эрудиции представить глазам только
свет веры"1.
Однако, выступая против атеистов, Паскаль особенно
подчеркивает, что христианская религия не претендует
на полную рациональную ясность ее догматов и таинств.
Поэтому их упреки в неясности религиозных положений
нисколько не свидетельствуют против их истинности.
Священное писание, разъясняет он, — наука не ума,
но сердца, оно призвано совершенствовать не ум, но
волю. Полная ясность послужила бы только на пользу
уму и повредила бы воле, которая на свой страх
и риск избирает веру или неверие. Тончайшая психология
веры покоится не на принудительной рациональной
ясности, а на свободной воле человека. Эту антиномию
веры и знания хорошо выразил Т. Гоббс, заявив, что
"по достижении знания упраздняется вера", ибо не
только "свет веры", но и сама вера исчезает при
свете знания. Впоследствии на антиномическом
соотношении веры и знания особенно будут настаивать
Ф. М. Достоевский, П. Флоренский, Н. А. Бердяев,
П. Тиллих, Г. Марсель и др.
Для Паскаля важна не просто вера, но "подвиг веры",
который только и возможен в драматической
психологической ситуации. Но ее-то и создает "скрытый Бог",
который явился миру "не во всей своей славе", чтобы без
труда в него все уверовали, но и не настолько тайно,
чтобы его не узнали искренно его ищущие. Довольно
света, говорит Паскаль, для веры избранных и темноты
для смирения их гордости. Что же касается "неверных",
то для них довольно темноты, чтобы ослепить их, и
достаточно света, чтобы осудить и не прощать их. Таким
образом, избранным все служит к добру, даже и
"темноты" Священного писания, тогда как для "неверных"
и сам свет обращается во зло, ибо они проклинают
Писание за "темноту".
1 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. P., 1879. T. 22. P. 39.
273
Люсьен Голдман посвятил этой проблеме у Паскаля
большое исследование под названием "Скрытый Бог.
Трагическое видение мира в "Мыслях" Паскаля и в
театре Расина". Как это явствует из самого заголовка книги,
он выводит из концепции "скрытого Бога" паскалевский
трагизм1, в чем с ним лишь отчасти можно согласиться.
Дело в том, что сам Паскаль с его диалектическим умом
никогда не абсолютизирует ни одну из
противоположностей. Поэтому для него Бог насколько сокрыт,
настолько и открыт. Исток трагизма — не в скрытом Боге,
а в отпадении человека от Бога и преемственности
первородного греха, породившего ничтожество и нищету всего
рода людского. В невинном состоянии человек жил в
гармонии с Богом, и Бог был открыт человеку. Лишь после
грехопадения Бог оказался скрытым от людей, ставших
не достойными своего Творца. Но по своей
первоначальной природе человек достоин Бога. Вот почему Паскаль
считает не только справедливым, но и полезным для
людей как сокрытость, так и открытость им Бога. Если
бы не было никакой тайны, говорит он, то человек не
чувствовал бы своей испорченности, а если бы не было
никакого света, то он не мог бы надеяться на исцеление.
Не только трагизм отчаяния без Бога, но счастье
исцеления и спасения с Богом заключены в паскалевской идее
"скрытого Бога", в глубокой сущности своей
"амбивалентного Бога". Равно опасно для человека знать Бога,
не ведая о своей испорченности и беспомощности, и знать
эти последние, не ведая Бога. Сам трагизм у Паскаля
антиномичен и заключает в себе надежду.
Несмотря на попытку рационализации посредством
тонкой диалектики, концепция "скрытого Бога"
содержит "тайну веры" и доступна для постижения лишь тем,
кто способен на "подвиг и риск веры", т. е. свободный
выбор веры может происходить вопреки принудительной
силе разума. Но есть у Паскаля один рационалистический
аргумент, рассчитанный на мыслящих людей. Это его
знаменитый "аргумент-пари", идея которого, без
сомнения, навеяна его исследованиями в области теории
вероятностей. Впрочем, неразвитыми формами этого
аргумента-пари издавна пользовались некоторые богословы
(например, Арнобий, М. Мерсенн и др.), что не умаляет
оригинальности Паскаля в данном вопросе, равно как
сама эта оригинальность не делает более убедительной
1 Goldmann L. Le Dieu caché... P., 1955. P. 222.
274
для разума веру в Бога, как и все прочие аргументы. Тем,
кто не знает, есть Бог или нет, Паскаль предлагает
"держать пари", как это делается в любой азартной игре,
и взвесить шансы за и против бытия Бога, делая ставку
на то, в зависимости от чего можно "меньше всего
проиграть". Так на чем же, спрашивает Паскаль, должен
человек остановить свой выбор, и дает следующий ответ:
"Потерять вы можете две вещи: истину и благо,
поставить в заклад тоже две: ваш разум и вашу волю, ваше
познание и ваше блаженство, а ваша природа — избежать
двух вещей: заблуждения и несчастий. Вашему разуму
выбор одного предмета не больше будет предпочтителен,
чем выбор другого. Значит, одно место освобождено.
А ваше блаженство? Взвесим выигрыш и проигрыш в
случае, что Бог есть. Исследуем и здесь два случая: если вы
выигрываете, то выигрываете все, если проигрываете, то
не теряете ничего. Без колебаний держите пари за то, что
Бог есть"1.
Далее Паскаль развивает аргументацию в
направлении обеспечения еще большей убедительности "ставки на
Бога". В заклад ставится одна конечная человеческая
жизнь, а выиграть можно "бесконечность бесконечно
счастливой жизни". Из бесконечного числа случаев
достаточно одного-единственного в пользу Бога, чтобы
"разом все выиграть". Было бы противно нашему разуму,
продолжает Паскаль, отказываться рисковать конечным
ради бесконечного, ведь и в обычной азартной игре
"всякий игрок с несомненностью рискует конечным ради
сомнительного конечного выигрыша, нисколько не
погрешая против разума"2. Это свое рассуждение Паскаль
считает вполне доказательным с точки зрения разума, как
будто совершенно забывая о том, что с самого его начала
он заставил разум замолчать.
Проницательный Вольтер справедливо замечает, что
"интерес, который меня заставляет верить в вещь, не есть
доказательство существования этой вещи". С другой
стороны, он объявляет аргумент-пари Паскаля
"неприличным и ребяческим", не соответствующим "важности
рассматриваемого предмета"3. Вместе с тем этот
апологетический аргумент не выполняет своего назначения еще
и потому, что может быть в принципе отнесен к любой
1 Pascal В. Pensées. Р. 550, fr. 418.
4bid. P. 551, fr. 418.
3 Voltaire F. M. Oeuvres complètes. T. 22. P.32.
275
другой религии, между тем как Паскаль стремился
доказать с его помощью "истинность" именно
христианской религии.
Но примечательнее всего тот факт, что сам Паскаль
в том же фрагменте об аргументе-пари не очень-то
рассчитывает на его убедительную силу и прибегает к прямо
противоположному ходу, предлагая читателю
"поглупеть" (abêtir) в случае, если разум все же оказался
бессильным привести его к вере; "старайтесь же убедить себя
не умножением доказательств в пользу Бога, а
уменьшением ваших страстей"1. Учитесь у верующих, советует
Паскаль, и поступайте так, как если бы вы верили:
заказывайте службы, берите святую воду и т. д. Привычка
к этим действиям сама по себе заставит вас верить и
отобьет охоту доказывать и рассуждать там, где надо
просто верить, т. е. "заставит вас поглупеть". От такого
решения, убеждает Паскаль, вы выиграете в этой жизни:
"перестанете вращаться в сфере зачумленных
удовольствий, славы и наслаждений", зато будете "верными,
честными, скромными, признательными,
благотворительными, искренними и истинными друзьями"2.
Привычку, как мы уже знаем, Паскаль называл
"второй природой" человека и придавал ей большое значение
в жизни людей. Потому он стремится внедрить веру не
только с помощью доказательств, но и привычки,
которая "доставляет самые сильные и яркие доказательства"3.
Привычка увлекает за собой и ум, который постепенно
и без лишних размышлений начинает и сам следовать за
ней. Таким образом, приобретается "легкая вера", т. е,
вера без хитростей, аргументов и насилия, но
естественным образом проникающая в душу человеческую.
По сути дела, здесь Паскаль говорит о "слепой вере".
Но тогда непонятно, как в таком случае можно избежать
суеверия? Ведь Паскаль от него предостерегает так же,
как и от неверия. Чтобы вера могла быть, во-первых,
искренней, а во-вторых, устойчивой, она должна
корениться в "сердце" человека, его внутренней чувственной
природе. Разум хитер и способен заблуждаться, а все его
доказательства убеждают лишь на время, но не навсегда.
Кроме того, разум может лицемерить, идти на поводу
у пороков, страстей, воображения и т. д. Поэтому вера на
' Pascal В. Pensées. Р. 551, fr. 418.
2 Ibidem.
3 Ibid. P. 604, fr. 821.
276
уровне разума не может быть ни искренней, ни устойчивой.
Привычка может сделать веру устойчивой, но не избавляет
от лицемерия, поскольку покоится на внешних действиях.
И только "сердце", считает Паскаль, которое
непосредственно чувствует Бога, обеспечивает веру
искреннюю, внутреннюю, глубокую, потому и устойчивую.
Состояние души, которая вдруг ясно увидела Бога и
полностью "предала себя в Его руки", Паскаль называет
"вдохновением". Но этот опыт совершенно уникален
и зависит от Божественной благодати, когда воля Бога
и воля человека сливаются в едином порыве и хотят
одного и того же. Паскаль говорит, что христианская
религия не допускает в число своих "истинных сынов"
тех, кто верит в Бога без вдохновения. Несмотря на ряд
рационалистических, так сказать побочных, элементов,
учение Паскаля о Боге принадлежит к
нерационалистической традиции в христианстве и связано с признанием
мистического, т. е. сверхъестественного, опыта и таких
догматов религии, которые есть "безумие" для разума
человеческого. Так что, в конце концов, допустив с
разными оговорками позитивное использование разума в
делах веры, Паскаль остается верным своей юношеской
антипатии к спекулятивному богословию.
Открытое размежевание между разумом и верой,
наукой и религией, философией и богословием
парадоксально усиливает позиции как первых, так и вторых.
С самого начала существования христианства
воинствующие религиозные иррационалисты видели в своей
позиции твердыню веры и "тихую гавань" от разрушительной
осады разума, науки и всей светской культуры.
Мистическое кредо религиозной веры вызывающе для античной
мудрости выразил раннехристианский богослов Тертул-
лиан: "Credo, quia ineptum" ("Верую, потому что это
нелепо"). Он противопоставил Афины и Иерусалим,
Академию и церковь, язычников и христиан, считая
абстрактный теоретический разум (значения практического ума он
не отрицал) источником всяческой ереси. После Христа
и Евангелия не требуется никакое исследование. Сила
веры — не в согласовании с разумом, но в
несоизмеримости с ним. Не лукавые рассуждения разума, но
глубинные стремления души приводят человека к Богу.
Несомненно, Паскаль принадлежит к этой религиозной
традиции при всем своеобразии его веры и более гибком
отношении к возможностям разума в области религии.
Сходство усиливается парадоксализмом религиозного
277
сознания и антиномической напряженностью веры как
у Тертуллиана, так и у Паскаля.
Как ученый и философ, Паскаль не мог не
сомневаться в возможности обоснования разумом религиозных
догматов. И этот его весьма условный скептицизм
сыграл свою роль — тем более что он исходил от
признанного апологета религии — для формирования
свободомыслия и скептицизма П. Бейля, а также для критики
религии французскими просветителями. П. Бейль прямо
заявит о невозможности религиозной философии и
предложит своим читателям выбрать либо религию с ее
непостижимостью для разума, либо философию с ее
очевидностью и общепринятыми понятиями.
5. ДРАМАТИЗМ ВЕРЫ
Много душевных сил, интеллектуальной энергии и весь
свой талант мастера искусства убеждения использовал
Паскаль для того, чтобы убедить своих читателей в
истинности христианской религии. Но с самого момента выхода
в свет "Апологии христианства" и несмотря на его уже
прижизненную славу "святого", у многих читателей
возникал один и тот же вопрос: "А убедил ли он себя?" Был ли
сам Паскаль искренне верующим, истинным
христианином? Причем этот вопрос с неизбежностью возникал,
несмотря на то что издатели из Пор-Рояля сделали все от
себя возможное, чтобы исключить из "Мыслей" Паскаля
всякий элемент сомнения или двусмысленности в
вопросах религиозной веры и представить его как подлинного
защитника христианства. И все-таки они были бессильны
полностью вытравить из произведения Паскаля дух
исследования, от которого, конечно же, не мог избавиться
ученый и философ по призванию и который весьма опасен
для всякой ортодоксальной и авторитарной религии.
Религиозное мировоззрение Паскаля складывалось
и становилось на протяжении многих лет прежде, чем
оформилось в концепцию "Апологии христианской
религии", первый набросок которой он представил
отшельникам Пор-Рояля в 1658 г.1 Но поскольку в результате
преждевременной смерти Паскаль не успел завершить
работу над своим произведением, постольку в нем как
1 Pascal В. Pensées, XI, A.P.R. (A Port-Royal). Р. 520—521.
278
бы "в разрезе" виден весь ход его мыслей, генезис
убеждений, трудности, колебания и сомнения, которые не
могли не мучить ясный, глубокий и строгий от природы
ум Паскаля, когда он столкнулся с противоречиями
и коллизиями религиозного сознания. Состояние
сомнения было промежуточным, но не окончательным
результатом размышлений Паскаля на пути к религиозной
вере. Конечно, его сомнение шло от разума, интуиции
ученого и естествоиспытателя, а потребность в вере —
от сердца, от болезней и страданий, трагического ан-
тиномизма человеческого бытия. Паскаль всей своей
жизнью и тернистым путем двух "обращений" к религии
как бы подтверждает мысль Фейербаха: "Место
рождения Бога — исключительно в человеческих
страданиях"1.
Я думаю, Паскаль в конце концов заставил замолчать
свой неподкупный и неумолимый разум — интересы
сердца взяли верх и, более того, поставили затем себе на
службу всю виртуозную технику его доказательств. Как
ученый, выслушав все доводы разума за и против
религиозной веры, он счел за благо отделить разум от веры,
естественное от сверхъестественного, успокоился на
концепции "двойственности истины" и от всего сердца
принял религию любви и утешения. Вся жизнь Паскаля после
ухода в Пор-Рояль, равно как и его смерть,
свидетельствуют о том, что он сумел обрести веру искреннюю
и безусловную. Иногда усматривают какой-то элемент
сомнения в неуспокоенности, душевном драматизме в
последние годы жизни Паскаля. Но они легко объясняются
с точки зрения преданного христианина, осознавшего
неправедность своей прежней жизни и всеми силами
своей измученной души стремившегося искупить свои
грехи перед Господом. Драматизм душевной ситуации
усугублялся еще и тем, что и после "второго обращения"
Паскаль так и не смог избавиться от одной из "греховных
похотей" — "похоти познания" (libido sciendi) — в связи
со своими занятиями математикой. Одним словом, весь
духовный облик Паскаля, его нравственные принципы,
неизменное совпадение на протяжении всей его жизни
мысли и дела, убеждений и поведения исключают
малейший намек на его религиозную неискренность и тем более
религиозное нечестие.
1 Фейербах Л. Основные положения философии будущего //
Избранные произведения: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 179.
279
Другое дело, что объективное содержание его
"Мыслей" дает определенную почву для упреков Паскаля в
сомнении и даже в атеизме. Прежде всего, это связано
с генезисом религиозного мировоззрения Паскаля, когда
у него еще возникали всякие каверзные для религии
вопросы и приходили в голову кощунственные мысли.
Например, на одну из них обращает внимание Гольбах
в своей "Системе природы": "Вот что я вижу и что меня
волнует. Я смотрю во все стороны и всюду вижу один
мрак. Природа ничего мне не предлагает, кроме того, что
вызывает сомнение и беспокойство. Если бы я не видел
в ней никаких признаков Божества, то решился бы его
отрицать; если бы я повсюду видел следы Творца, то
успокоился бы в лоне веры. Но, видя слишком много,
чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы поверить, я
нахожусь в плачевном состоянии, в котором я желал сотни
раз, чтобы природа, если ею управляет Бог, указала на
него недвусмысленно или, если ее свидетельства
сомнительны, уничтожила бы их совсем; пусть же представит все
или ничто, чтобы я знал, какой стороны мне держаться"1.
На это Гольбах замечает: "Вот каково состояние
сильного ума, борющегося со сковывающими его
предрассудками"2, а еще ранее констатирует, что "Декарт, Паскаль
и даже доктор Кларк были обвинены современными им
теологами в атеизме, что нисколько не помешало
позднейшим теологам воспользоваться их аргументами как
очень убедительными"3.
В самом деле, всякая апология религии есть
самопротиворечивая процедура: если вера требует обоснования
и защиты, значит, она под угрозой. Всего благоприятнее
для религии непосредственная вера, ибо, коль скоро она
опосредуется доказательствами, тем меньше становится
верой, если не полностью превращается в свою
противоположность, т. е. в неверие. В этом и состоит главный
психологический парадокс веры: чем больше веры — тем
меньше ее обоснования, чем больше обоснования — тем
меньше веры. И первое и последнее убежище веры —
отрицание разума и всяких рационалистических
доказательств в ее пользу. Вера — это вопрос факта, а не
рассуждения. Она есть — либо ее нет, как и в случае
' Pascal В. Pensées. Р. 555, fr. 429.
2 Гольбах П. Система природы // Избранные произведения: В 2 т.
М., 1963. Т. 1. С. 623.
3 Там же. С. 434.
280
с любовью. Как и любовь, вера — дар Божий. В этом
прав Паскаль. Поэтому и в том и в другом случае
"браки совершаются на небесах". Свободное внутреннее
убеждение души человеческой не подвластно никакой
"внешней инквизиции". Таким образом, всякая агитация за
или против веры, как и за или против любви,
совершенно бессмысленна, чтобы не сказать безнравственна.
Хотя, конечно, коль скоро то или иное убеждение
достигнуто и вопрос факта решен, то каждый волен защищать
объект своей веры и любви. Но это дело уже вторичное,
а сначала — таинство абсолютного избрания.
Прекрасно постигая психологический механизм веры, ее
свободный характер, Паскаль потому и отличался
веротерпимостью, не допуская ни ненависти, ни неприязни по
отношению к иноверцам и атеистам. Не фанатизм, не
суеверие, но сначала искренность, а затем и здравость
веры — вот его позиция как христианина. Он удивлялся
тем, кто довольствуется суетными привязанностями
и не ищет абсолютных объектов веры и любви. Он
считал это духовной смертью, сострадал таким людям
и жалел их.
Вот этой психологически тонкой позиции Паскаля не
понимали и не желали понять его политические враги —
иезуиты и не смогли понять его идейные противники —
атеисты и деисты. Убеждение его в невозможности
разумом доказать веру было злостно использовано
иезуитами, которые первыми обвинили его в атеизме, в
частности аббат Гардуэн. С помощью тонкой герменевтики
можно было обратить многие доводы Паскаля за
религию в доводы против нее, над чем и потрудились хитрые
и ловкие отцы-иезуиты, разоблачая в нем сознательного,
но замаскированного атеиста. В том же направлении —
только без иезуитского злопыхательства — проделали
работу над "Мыслями" Паскаля и французские
просветители. Так, Д'Аламбер в своем "Похвальном слове аббату
Уттвилю", правда очень осторожно, намекает на
возможность атеистической трактовки "Мыслей" Паскаля.
Искра сомнения в глубокой религиозности Паскаля была
брошена. Кондорсе ее подхватывает и более решительно
и открыто показывает — сначала в "Похвальном слове
Паскалю", а затем в комментариях к подобранным им
самим и вновь изданным "Мыслям" Паскаля в 1776
и 1778 гг., — что "великий христианин" и "святой"
в глубине души должен был склоняться к неверию.
Опираясь на фрагменты, в которых Паскаль говорил о невоз-
281
можности постичь Бога разумом, Кондорсе был убежден,
что математический ум ученого неизбежно приводил его
к неверию и лишь только в результате психического
заболевания он оказался "легкой добычей и жертвой
христианства". Чтобы подтвердить свои выводы,
Кондорсе представил в своем духе "Мысли" Паскаля,
изданные Пор-Роялем, так что из апологии христианства они
превратились в опасную для религии книгу,
способствующую неверию.
Обращал внимание на подобного рода мысли
Паскаля и Вольтер, во многом разделявший взгляды Кондорсе.
В своем "Анти-Паскале", маскируясь под ревностного
сторонника религии, Вольтер не один раз "гневно
возмущается" рассуждениями поборника христианства,
которые "могли бы послужить только для того, чтобы
плодить атеистов"1. Ламетри в "Рассуждении о счастье"
замечает: "Сенека пытался быть добродетельным, как
Паскаль пытался верить"2.
В целом французские просветители, разоблачая в
Паскале скрытого атеиста, видели в этом наиболее
действенное средство борьбы с признанным и уважаемым
апологетом религии, которая была для них одним из
главных тормозов на пути общественного прогресса. Но
нельзя сказать, что ради тактических целей в
напряженной идейной борьбе они специально искажали мысли
Паскаля. Нет, истоки такой интерпретации они
усматривали в самом его исследовании о христианской религии,
и прежде всего в отрицании им возможности доказать
бытие Бога посредством разума. Так что и более поздние
мыслители видели в Паскале такого верующего, который
стоял на грани неверия, терзаясь всей душой из-за этого.
Например, Шатобриан в своей книге "Гений
христианства" рисует драматический образ Паскаля-христианина,
страдавшего от разлада в себе между сердцем и разумом.
Фейербах в "Истории философии" также обращает
внимание на то, что Паскаль верил как бы через силу,
вследствие чего и не мог полностью отречься от себя во
имя Бога: "...чего хотел достичь своим благочестивым
усердием Паскаль, но не достиг и не мог достичь именно
потому, что он хотел этого достичь, того достиг Бейль
в свободной стихии науки, которая была основной
деятельностью его жизни, именно потому, что он не по-
1 Voltaire F. M. Oeuvres comlètes. P., 1879. T. 22. P. 33.
2Ламетри Ж. О. Сочинения. M., 1976. С. 340.
282
мышлял о том, чтобы достичь этого. Бейль —
свободный от себя человек. Словесное on Паскаля в Бейле
реальное on"1. Правда, следует заметить, что
противопоставление в этом плане Бейля Паскалю не вполне
правомерно, ибо в "свободной стихии науки" Паскаль
умел полностью забывать не только о себе, но и о вере
в Бога. Именно благодаря этому забвению Паскаль
умел ставить такие вопросы, которые волновали
отнюдь не только теологов, но и философов, моралистов,
ученых, писателей. Потому он и внес свой уникальный
вклад в историю западноевропейской философии.
И опять же благодаря этому забвению он почти до
конца дней своих не оставлял научных занятий, не мог
в себе вытравить дух свободного научного
исследования, в чем он и каялся перед Богом: "Господи, хотя
в моей прошлой жизни благодаря Тебе не было великих
преступлений, тем не менее она была позорной из-за
беспрестанного небрежения... к Твоему слову и Твоим
внушениям, из-за праздности и полнейшей
бесполезности моих действий и мыслей, так что вся моя жизнь
была сплошной потерей времени, которое Ты даровал
мне для того, чтобы я поклонялся Тебе... Таким
образом, Господи, я всегда противоречил Тебе"2. Так
писал в "Молитве об использовании во благо болезней"
очень больной тогда ученый (1647), после "первого
обращения" к религии и... продолжал свои усиленные
занятия наукой, закладывая основы гидростатики, теории
вероятностей и подойдя вплотную к открытию
математического анализа.
Есть в буржуазном паскалеведении такая тенденция,
согласно которой "вера Паскаля есть не что иное, как
ужасная агония" (Сюлли-Прюдом) или "скандал для
ученых" (П. Костабель)3. У поэта Сюлли-Прюдома есть
такие драматические стихи о вере Паскаля:
В могиле черной схоронил
Ты гений, славу, разум свой.
И над могилой водрузил
Крест Искупителя Святой.
Но вдруг живых останков куча
Разверзлась бездной, и в нее
' Фейербах Л. История философии: В 2 т. М., 1967, Т. 3. С. 232.
2 Pascal В. Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies //
Oeuvres complètes. P. 364.
3Цит. по: Boutroux E. Pascal. P., 1900. P. 198; Costabel P. Pascal et les
mathématiques // Pascal et Port-Royal. P., 1962. P. 75.
283
Крест Искупителя могучий
Сорвался вниз — в небытие.
(Пер. Г. Я. Стрельцовой)
Вслед за Шатобрианом обращает внимание на
противоречивый характер феномена паскалевской веры
Ш. Сент-Бёв. Сравнивая мятущегося Паскаля-верующего
с "величественно спокойным Боссюэ" или
"уравновешенно разумным Фенелоном" (видящим Бога в природе),
Сент-Бёв уподобляет Паскаля "жаждущему пристанища
путнику", который заблудился без проводника в лесу и,
тысячи раз сбиваясь с пути, "то бросается вперед, то
устремляется назад, и в отчаянии садится на перепутье,
испуская крики, на которые никто не отзывается, и,
обезумев от душевной боли, снова пускается в путь и снова не
может найти дорогу, и, призывая смерть, бросается наземь
— и, только претерпев все мучения, только изойдя
кровавым потом, достигает цели"1. В отличие от спокойных
верующих, Паскаль, считает Сент-Бёв, хватается за крест,
словно за мачту во время кораблекрушения. В своем
призыве к природе в поисках Бога он сталкивается с
"молчанием бесконечных пространств". В каждом явлении
природы он видит разлад и беспорядок, а не знаки
божественной мудрости. Но, даже обретя столь мучительным
путем желанную веру, Паскаль, согласно Сент-Бёву,
"упорно наталкивается на подводные камни, которые
благоразумнее было бы для разума и даже для веры обходить, а не
открывать и не объявлять о них во всеуслышание..."2.
В заключение Сент-Бёв делает многозначительный вывод:
"Прочитав Паскаля, можно остаться неверующим, но уже
нельзя ни насмехаться над религией, ни богохульствовать;
и в этом смысле правда, что в определенном отношении он
одержал победу над духом XVIII века и над Вольтером"3.
Несомненно, что "дух вольтерьянства" был
характерен для века Просвещения и Паскаль-христианин был
повержен этим последним. Но рациональный смысл
суждения Сент-Бёва заключается в том, что феномен
паскалевской веры — веры великого ученого и глубокого
мыслителя — требовал более серьезного и вдумчивого
исследования, чем то имело место у просветителей,
упрощавших религию.
1 Сент-Бёв Ш. "Мысли" Паскаля // Литературные портреты:
Критические очерки. М., 1970. С. 367.
2 Там же. С. 373.
3Там же.
284
На противоречивость этого феномена в XX в.
обратили внимание А. Лефевр и Л. Голдман. В двухтомном
исследовании "Паскаль" Лефевр обосновывает тезис
о неверии великого ученого, обращая внимание не только
на его парадоксальные мысли о религии, но и на факты
его жизни. Особенно скрупулезно он анализирует
последние дни, часы и даже минуты его жизни, усматривая в его
поведении перед смертью разлад с собой, с религией
и церковью. Ему отказывают в последнем причастии,
о котором он просит в агонии, между двумя приступами
конвульсий, чтобы, по мнению Лефевра, оказать на него
давление и заставить отречься от ереси, бунта, разрыва
с церковью, чтобы вернуть "заблудшего сына в лоно
церкви". Кюре добивается покорности от Паскаля,
задавая ему следующие вопросы: "Верите ли вы в Бога?
Сожалеете ли о своих грехах? Надеетесь ли вы на
спасение?" Хотя ответ умирающего "еретика" был
утвердительным, Лефевр считает, что Паскаль умер
"несчастным, непримирившимся, в высшем разладе с самим
собой", хотя и проявил перед священником покорность
и веру в религиозный и церковный авторитет1.
В плане же теоретическом Лефевр убежден в том, что,
как ученый и мыслитель, Паскаль должен был склоняться
именно к неверию, ибо уязвимость веры для него состоит
в ее бездоказательности: "Умирая, Паскаль не верит, так
как признает эту истину: "Чтобы верить, надо знать"2.
Словом, Лефевр полагает, что паскалевская "вера
сердцем, а не разумом" не могла быть убедительной для него.
Рассматривая Паскаля как жертву его времени,
тревожного, трагичного времени, которое историки отважились
называть "великим веком", он возлагает за это
ответственность "не только и не столько на христианство
и янсенизм, сколько на буржуазию и монархию"3.
Довольно однозначная интерпретация А. Лефевра не
представляется мне аутентичной, хотя имеет под собой
некоторые основания. Но дело в том, что и прямо
противоположная трактовка паскалевской веры — как
несомненной и прочной — также имеет под собой веские
основания. Вот почему П. Тиллих правильно ее определяет
как по существу противоречивую, включающую
одновременно и "да" и "нет", веру и сомнение. Это последнее,
lLefebvre Я. Pascal. T. 1—2. P., 1949—1954. T. 1. P. 195.
4bid. P. 191.
3 Ibid. P. 195.
285
согласно Тиллиху, придает напряженность и
интенсивность паскалевской вере (см. подробнее гл. VII).
На Западе считается диалектической интерпретация
последней Л. Голдманом в его книге "Скрытый бог",
в которой Паскаль рассматривается как трагический
мыслитель. Сущность трагического видения мира у него этот
автор связывает с двумя явлениями — "скрытого Бога"
и "безмолвия мира", между которыми в одиночестве
заключен человек. Причем "скрытый Бог"
принципиально амбивалентен для Паскаля, думает Голдман, ибо он
одновременно присутствует и отсутствует, вселяет
надежду и лишает ее, словом, существует всегда на грани риска,
в ситуации "пари". Потому в аргументе-пари он видит
"центральный пункт паскалевской мысли"1.
Напряженность и драматизм трагического сознания этот
исследователь усматривает в том, что "Паскаль распространяет
недостоверность и парадокс на самого Бога,
чувствуемого сердцем"2. Трагизм его личного религиозного сознания
усиливается тем, согласно Голдману, что "как теоретик
Паскаль разделил разум и веру, но как человек, который
живет, действует и борется, он никогда не принимал этого
разделения"3. В этом последнем убеждении Голдман
солидарен с А. Лефевром, также считавшим недостаточной
для Паскаля одной "сердечной веры".
Кстати сказать, подобную точку зрения задолго до
них выразил советский исследователь С. Д.
Коцюбинский, который считал, что в "Апологии христианской
религии" ученый хотел убедить не читателя, а именно
самого себя: "Отвергнув разум, отбросив науку, Паскаль
пришел к религии и увидел мрак и бездоказательность...
Он сам себя хочет уверить в Боге. Он верит, но он
страдает бездоказательностью веры"4. Да, конечно, он
страдал, пока с научных позиций испытывал веру. Но
когда он пришел к постижению тайны веры, то ее
научные доказательства отбросил, как неуместные и
бесполезные. Однако "подвиг и риск веры" остались для него
непреложными.
Коллизии религиозного сознания Паскаля весьма
редко становятся предметом анализа в западном паскалеве-
1 Goldmann L. Le dieu caché. P., 1955. P. 322.
4bid. P. 222.
4bid. P. 210.
4 Коцюбинский С. Д. Литературное наследие Паскаля // Ученые
записки Ленинградского гос. ун-та. Серия филологических наук. Вып. 8.
Л., 1941. С. 53.
286
дении, в котором преобладают представления о
благополучном характере его мировоззрения, в духе гармонии
веры и разума, науки и религии. Очень четко эту точку
зрения выразил еще в начале века Э. Бутру, рисуя в книге
"Паскаль" следующую идиллическую картину: "В лице
Паскаля перед нами блестящий пример возможности
сочетания самого высокого ума с самой кроткой и
покорной верой. Он больше, чем кто-либо другой, выдвинул на
первое место гармоничное соединение науки с верой —
одну из характерных черт XVII века"1. Эта идея является
центральной в католическом паскалеведении (Ж.
Шевалье, Ж. Гиттон, А. Гуйе, Ж. Леруа, Ф. Селье, Ж. Менар
и др.), в котором Паскаль представляется
"универсальным мыслителем", сумевшим синтетически, а то и
диалектически объединить веру и разум, науку и религию,
опыт и доказательства. Так, Леруа говорит об "опытном
обосновании религии" у Паскаля, в чем он видит
применение научных принципов к исследованию божественных
предметов. Шевалье считает "изнанкой паскалевской
мысли" скептицизм в отношении применения разума к
религии и "ядро его религиозного учения" усматривает в
"доказательствах христианской религии". Менар также
рационализирует паскалевское понимание религии,
и находит в "Мыслях" "использование геометрического
метода в теологии", и даже появление мистического в
религии Паскаля выводит из аргументов самого разума2.
Однако Паскаль опровергает столь желанную для
католических мыслителей "гармонию веры и разума" не
только фактом своей жизни, но и своей идейной
концепцией. В нем верующий отрицал ученого, а ученый,
всецело поглощенный научной истиной, забывал о верующем.
Кроме того, как представитель теории "двойственной
истины" и теологии откровения, опирающейся не на
разум, а на бож ci венную благодать, Паскаль разводил
в разные стороны разум и веру, науку и религию, что, на
мой взгляд, было единственно приемлемой позицией для
него как для ученого.
Весьма любопытным является мнение Ницше о
"великом христи/^ине", каковым он считал Паскаля. Ницше
говорит, что Паскаль "умер слишком пано, чтобы иметь
'Бутру Э. Паскаль. Спб., 1901 <- " I
2 Le Roy G. Pascal, savant et ^ ,ni. P., 195/. P. 189; Chevalier J.
L'oeuvre de Pascal... P., 1936. P. <■ :">: fcsnard J. Les pensées de Pascal. P.,
1976. P. 93, 322-327.
287
возможность из глубины своей великолепной и горестной
души осмеять христианство так, как он успел осмеять
иезуитов"1.
Как бы там ни было, но роль Паскаля в истории
католической религии является весьма противоречивой.
На него пытались и пытаются опереться, с одной
стороны, как правоверные католики, так и модернисты (М.
Блондель), а с другой — протестанты (К. Барт, П. Тил-
лих и др.). Современные католические философы и
теологи стремятся представить Паскаля истинным
поборником католической религии и церкви, сближая его
позиции с учением Августина и отрицая его приверженность
янсенизму. Кардинал Гаррон в своей книге "Во что верил
Паскаль" утверждает: "Если поверхностное суждение
говорит о Паскале "янсенист", то более глубокий и
истинный анализ заставляет считать его "августинианцем"2.
Гаррон пытается доказать, что "Паскаль не был янсенис-
том в том смысле, что он никогда не желал думать иначе,
чем церковь, римская церковь, ересь никогда не
одобрялась им, как раскол, который он рассматривал как
высший знак проклятия"3. Конечно, Паскаль не считал
себя еретиком и осуждал кальвинизм, но он не считал
еретическим и учение Янсения, и янсенизм в целом,
которым он следовал в той мере, в какой был убежден в их
верности Августину.
Тем не менее Паскаль много и часто думал иначе, чем
римская церковь. Недаром его "Письма к провинциалу"
были осуждены этой последней и преданы сожжению.
И уж конечно, не как ревностный католик, а скорее как
бунтовщик и еретик (подобно Лютеру в свое время)
Паскаль не принял безропотно этого осуждения, а
воскликнул: "Если мои письма осуждены Римом, так ведь
то, что я в них осуждаю, то осуждено и на небе. Ad tuum,
domine Jesu, tribunal appello"4. Очень показательным
является это непосредственное обращение к Богу — через
голову католической церкви — совсем в духе
протестантизма. Не случайно сестра Паскаля, Жильберта Перье,
преданная янсенистка, скрыла эту мысль от переписчиков
его рукописей, равно как и множество других его
"крамольных мыслей", не зарегистрированных своевременно
1 Цит. по: Dionne J. R. Pascal et Nietzsche. N. Y., 1$74. P. 85.
2Garrone G. M. Ce que croyait Pascal. P., 1969. P. 163.
4bid. P. 154.
4 Pascal B. Pensées. P. 619, fr. 916.
288
копией. Опустили этот призыв Паскаля к Господу также
издатели его "Мыслей" из Пор-Рояля. Лев Шестов в своей
книге "Гефсиманская ночь" не без основания считает, что
"взывающий к самому Богу Паскаль был для них более
опасным, чем ненавистные им иезуиты". "Янсенисты из
Пор-Рояля осмеливались взывать не к Господу, что
означало бы посягательство на целостность церкви в духе
Лютера, а лишь к будущему вселенскому собору"1.
Опираясь на паскалевский фрагмент "Тайна Иисуса" (также
шокировавший янсенистов из Пор-Рояля и не
включенный ими в издание "Мыслей"), в котором заостряется
внимание на предательстве Христа его учениками,
Шестов констатирует разрыв Паскаля с церковью: "Паскаль,
как и Лютер, увидел своими глазами, что ключи от
царства небесного находятся в руках того, кто трижды
предал Бога, и отвратил свой взор от земли, найдя истину
на небе, что и привело его к разрыву с церковью"2.
Об особом положении Паскаля и в Пор-Рояле говорит
тот факт, что он, поселившись в нем в 1655 г. (после
своего "второго обращения" к религии), однако не
принял монашества — в отличие от своей любимой сестры
Жаклины и своего лучшего друга герцога де Роанне,
последовавшего за ним в монастырь. Он оставил за
собой право на свободу передвижения, места жительства
(сохранил за собой парижскую квартиру) и светской
деятельности (участвовал в акционерных обществах). По
словам Ф. Стровского, Паскаль внес в Пор-Рояль "дух
светскости".
Об оппозиции Паскаля церкви свидетельствует то, что
он никогда не признавал мысли и никогда не признал бы
догмата о непогрешимости папы. Он позволял себе
иметь нелицеприятные мнения о папе, вроде следующего:
"Папа ненавидит и боится ученых, ибо они не подчинены
ему через обет"3. Так что для церкви, на мой взгляд,
Паскаль скорее является еретиком, чем ортодоксом.
Недаром протестанты успешно опираются на его
религиозное учение, что особенно характерно для П. Тиллиха, со
страниц произведений которого буквально не сходит имя
Паскаля.
Кроме того, религиозные модернисты используют па-
скалевскую трактовку Бога и веры. Так, М. Блондель,
1 Chestov L. La nuit de Gethsémani. P., 1923. P. 20, 23.
2 Ibid. P. 21.
3 Pascal B. Pensées. P. 590, fr. 677.
Ю Заказ № 4951
289
развивая "теологию милосердия и благодати", говорит
о Боге "как живой и конкретной реальности Иисуса"
в противоположность "Богу философов" как пустой
абстракции, признает постижение Бога сердцем, через
внутренний мир человека, через любовь и т. д.1 В письме к Л.
Лабертоньеру от 6 марта 1925 г. Блондель подчеркивает:
"Я почти постоянно обращаюсь к Паскалю, но, уточняя
его, я верю — без ложной скромности, — что углубляю
его и дополняю"2.
Напрасно М. Баррес называл Паскаля "розой
Иерусалима". В религии у Паскаля свой особый путь, как и в
науке, и в философии. Путь не прямой, тернистый, с
множеством тропинок, по которым можно было свернуть
и к религиозному скептицизму, и к другому
вольнодумству, и даже к атеизму (ведь "атеизм есть признак силы
ума"). П. Бейль очень хорошо уловил это направление
мыслей Паскаля и сам следовал им объективно, а
субъективно Паскаль поистине верил, а Бейль не решился
предать гласности свое неверие3.
lBlondel M. L'action. P., 1963. T. 1. P. 442-^43.
2 Blondel M., Laberthonnière L. Correspondance philosophique. P., 1961.
P. 325.
3 Bayle P. Dictionnaire historique et critique. Amsterdam, 1740. T. 3. P.
604.
ПАСКАЛЬ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
Школу паскалевских "Мыслей" прошли не только
чуть ли не все выдающиеся представители русской
культуры, но и многие европейски просвещенные люди
разных слоев русского образованного общества. "Мысли"
и "Письма к провинциалу" на языке оригинала занимали
почетное место в их домашних библиотеках. Стоящее
особняком на Западе и зачастую непонятое не только
современниками, но и даже соотечественниками паска-
левское видение мира оказалось удивительно созвучным
самому строю русской души. Ее нравственная чуткость,
драматическая духовность, оппозиция отвлеченному
знанию, жажда идеала и веры, "инстинкт общечеловечно-
сти" (Ф. Достоевский), непривязанность к благам земным
и устремленность в светлое будущее создавали
благоприятную почву для усвоения сокровенных идей пор-
рояльского мудреца. Я бы даже сказала о своеобразной
конгениальности русской культуры и паскалевского
видения мира. Конечно, в зависимости от характера
мировоззрения Паскаль воспринимался либо с глубоким
уважением — в русской культуре это наиболее
распространенный тип отношения к нему, — либо даже с
поклонением и обожанием (А. С. Хомяков, И. В.
Киреевский, Лев Толстой), либо с той или иной долей
неприятия и критики (И. С. Тургенев, А. И. Герцен,
революционеры-разночинцы).
Особенно Паскаль пришелся по душе русским
религиозным мыслителям, высоко оценившим его "живую веру
в личного Бога", "философию сердца", идею "живого
знания", трагический гуманизм и критику им западных
вероисповеданий. Так, А. С. Хомяков считал себя
"учеником Паскаля". И. С. Киреевский спешит уведомить
русского читателя об исследованиях В. Кузеном философии
291
Паскаля и обновленном издании им во Франции
"Мыслей". Гениальные вариации на темы паскалевского
видения человека развиваются на страницах произведений
Достоевского. Лев Толстой считает Паскаля "учителем
человечества" и "философом-пророком", не уставая
учиться у него с юных лет и до самой смерти. Его мудрые
мысли он включил в "Круг чтения на каждый день",
который издавал до конца жизни. П. А. Флоренский
в своей книге "Столп и утверждение истины" посвящает
"амулету Паскаля" несколько теплых страниц. Как к
авторитетному источнику постоянно обращаются к
Паскалю Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и многие другие. В. В.
Розанов чрезвычайно заинтересовался "Мыслями" и
даже начал писать статью о Паскале, но потом почему-то
бросил и оставил нам свои "Опавшие листья" и другие
сочинения, написанные в духе Паскаля в форме
отдельных высказываний и афоризмов-парадоксов. Значительно
раньше в той же манере пробовал свои силы И. В.
Киреевский, после смерти которого были опубликованы
"Отрывки", найденные в его бумагах. Надо сказать, что
"Отрывки" эти отличались глубиной и отточенностью
мысли.
Кроме того, есть в русской культуре совершенно
проникновенная тема — уникальная "метафизика сердца", —
в развитие паскалевской мысли дополняющая
западноевропейскую "метафизику разума". П. Д. Юркевич
представляет целую "симфонию смыслов", вытекающих из
понятия "сердца", в своем сочинении "Сердце и его роль
в духовной жизни человека по учению слова Божьего".
П. А. Флоренский подхватывает эту "мелодию" в
вышеуказанном произведении. Значительно обогащает ее
П. Б. Вышеславцев в специальном труде "Сердце в
христианской и индийской мистике". Как более "сердечная",
русская культура стоит в определенной оппозиции к
западному "суховатому" рационализму.
Если для религиозных представителей русской
культуры Паскаль является как бы своим, то для писателей
и мыслителей атеистической ориентации он заведомо
чужой. Отсюда и более прохладное к нему отношение
и — за отсутствием любви (хотя бы и при некотором
уважении к идейному противнику и человеческом
сочувствии к его трагической судьбе) — меньший интерес
и несколько поверхностное понимание мира его идей.
Подобная тенденция характерна для русских
революционных демократов-разночинцев (В. Г. Белинский, Н. А.
292
Добролюбов, H. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев).
Они не без уважения упоминают в той или иной связи
о Паскале, всегда сожалея о его религиозной
настроенности и считая ее большим минусом в его творчестве1.
Однако самая резкая критика "Мыслей" дана
отнюдь не атеистами, а религиозным философом Львом
Шестовым. Его отношение к Паскалю мне
представляется совершенно неожиданным и крайне
парадоксальным. В своей книге "Гефсиманская ночь" он учиняет
буквально "идейный погром" паскалевской философии
и религии, демонстрируя печальное непонимание и даже
грубое искажение его взглядов. Шестова может
извинить только то, что, совершенно очевидно, он прочитал
весьма далекий от оригинала текст "Мыслей". Он
представляет себе Паскаля "гонителем разума", который
"только и думал о том, как бы унизить наш разум,
столь гордый и уверенный в себе, и лишить его права
судить Бога и людей"2. Диалектическая трактовка
разума у Паскаля осталась за пределами понимания
Шестова. Неординарная трактовка веры Паскалем выглядит
у Шестова как "безбожие", и он уверен, как и Вольтер
в свое время, что "Мысли" скорее отвращают человека
от религии, нежели привлекают в ее лоно. Паскаль,
взывающий к суду самого Бога, был для янсенистов Пор-
Рояля, по его мнению, "более опасным, чем иезуиты
и Пелагий"3. Два века спустя, считает Шестов, Паскаль
"воскрес в личности Ницше". Для него "уникальное
видение мира" у Паскаля и Ницше подобно ни с чем не
сравнимому опыту человека с другой планеты, на
которой "все наоборот", чем у нас на земле. Увы, Шестов не
признает в Паскале ни моралиста, ни гуманиста,
полагая, что с "мрачным вдохновением" он якобы разрушал
все ценности, столь дорогие людям. Они любят
устойчивость — он выбирает непостоянство; они любят
твердую почву — он их толкает в бездну, которую и сам
чувствовал под ногами. Они ценят внутренний мир —
он призывает к мучениям. Они ищут ясных и
отчетливых истин — он "спутывает все карты". Они любят
отдых — он же восклицает: "Христос будет в агонии до
конца мира — так не будем же спать!"4
1 См. подробнее: Кляус Е. М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И.
Паскаль. М., 1971. С. 304—308.
2Chestov L. La nuit Gethsémani. P., 1923. P. 27.
Mbid. P. 22.
4Ibid. P. 43.
293
Шестов не видит никаких картезианских мотивов
в философии Паскаля и вообще заходит столь далеко,
что противопоставляет Паскаля как вообще
ретроградного мыслителя Декарту как прогрессивному философу:
"Подобно Юлиану-отступнику Паскаль хотел повернуть
вспять течение времени, ибо он отверг все то, чего
достигло человечество в блестящую эпоху Ренессанса. Все
обновлялось, и в этом видели историческую судьбу. Но
Паскаль боялся нового... История неумолима к
отступникам. Не Паскаль, но Декарт является отцом новой
философии. ...Таково суждение истории: восхищаются
Паскалем, но не идут за ним. Это суждение не подлежит
апелляции"1. Это опрометчивое суждение совершенно
искажает роль Паскаля в истории европейской философии
и культуры. Любопытно, однако, что "низвергнутый"
Паскаль многому научил его яростного оппонента.
Пройдет несколько лет, и в книге "На весах Иова" Шестов из
поборника разума, каковым он выступал в полемике
с Паскалем, превращается в столь же воинственного
критика европейского рационализма.
1. РУССКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Н. И. НОВИКОВ
В России уже в XVIII столетии предпринимается
попытка издания сочинений Паскаля русским энтузиастом
просвещения Н. И. Новиковым. В издававшемся им
журнале "Утренний свет" за 1778 г. печатается "Опоследова-
ние "Мыслей" Паскалевых и "Характеров" Теофрасто-
вых". Правда, перевод осуществлен с весьма
посредственного и далекого от оригинала французского издания:
до исследований В. Кузена, Фожера, Авэ, начавших
работу по выявлению аутентичного корпуса сочинений
Паскаля, было еще очень далеко. Но все же русский читатель
имел возможность познакомиться с его углубленными
нравственными исканиями и многими мудрыми
мыслями. Сам Новиков испытал влияние Паскаля в трактовке
человека, его "величия", морального достоинства.
Озабоченный нравственным просвещением русского читателя,
он пишет для первого философского журнала в России
"Утренний свет" "Предуведомление" с характерным
названием "О высоком человеческом достоянии". Совер-
1 Chestov L. La nuit Gethsémani. P. 2, 3, 4.
294
шенно в духе Паскаля он отмечает, что "наука познания
самого себя — "между людьми мало еще известная" —
требует великого прилежания и трудов немалых"1.
"Лучшим предметом" вновь образованного журнала
Новиков считает "сердца и души возлюбленных наших
единоземцев", их добродетель, благоденствие и счастье,
а также при всем человеколюбии обличение их "пороков,
злобы и бесчеловечия"2.
В статье "О достоинстве человека в отношениях
к Богу и миру" Новиков развивает одну из главнейших
идей Паскаля — "величие человека", отнюдь не
акцентируя внимания на "ничтожестве человека", о чем также
учил французский философ. Прежде всего русский
просветитель отмечает, что в "природе человеческой
находится много такого, что внушает в нас истинное к нему
почитание и искреннюю любовь: бессмертный дух,
дарованный человеку, его разумная душа, его тело,
с несравненнейшим искусством сооруженное к
царственному зданию..." "Человеки преимущественно пред
другими творениями имеют по естеству своему возможность
мир себе представлять, об оном размышлять и
рассуждать"3. Однако, в отличие от Паскаля, рассматривавшего
человека в качестве "атома", затерянного в бесконечных
просторах вселенной, Новиков ставит человека в центр
природы как самое совершенное творение Бога, как "цель
всего мира". "И потому всякий человек может
некоторым образом сказать сам о себе: весь мир мне
принадлежит"4. А далее следует уже паскалевское
предупреждение "тщетной гордыне тех, кто думают о себе очень
много": "Но мы постараемся доказать, что таковый
высокомерный горделивец ни истинная своея цены, ни
высокого достоинства человеческого отнюдь не знает
и превозносится тем, что к человеческой природе или не
точно принадлежит, или составляет малейшую частицу
его совершенств. Богатство и знатность рода не точно
проистекают из человеческой природы; следовательно,
высокомерие богача или дворянина есть смешная
гордость"5. Здесь явно звучит паскалевское различение
достоинства человека "по природе" и "по
установлению".
1 Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1951. С. 384.
2 Там же. С. 383, 385.
3 Там же. С. 387, 391.
4 Там же. С. 391.
5 Там же. С. 388.
295
Новиков развивает и другую идею Паскаля — о
всеобщей и универсальной связи в мире — причем
применительно к человеку, который в природном плане есть
"часть бесконечной цепи действительно существующих
веществ", а в социальном — гражданин своего отечества,
"сочеловек" среди других людей, которым он служит
и стремится быть полезен. Посему он не только "цель
всего мира", но и "средство" в нем, иначе он уподобился
бы шмелю, который поедает мед у пчел, а сам его не
производит.
Паскалевские темы звучат и в двух других статьях
Новикова: "О добродетели", "Нравоучение как
практическое наставление". В первой он развивает известную
максиму Паскаля: "Будем же хорошо мыслить: вот основа
морали". Определяя добродетель как "искусство
содержать свои страсти в равновесии", наш просветитель
подчеркивает: "Премудрость есть действие разума,
непросвещение ума и необузданности сердца всегда находятся вместе,
и следуют или преследуют одна другую взаимно, столько-
то находится согласия между добродетелью и истиною".
Но почему же просвещенные люди бывают порочны? —
спрашивает он и отвечает: "Сие происходит от того, что
можно познать истину, не любивши ее, и что можно
любить добродетель, не узнавши ее; от сего-то каждый
предмет имеет два вида, из которых один принадлежит
разуму, а другой... принадлежит к свободе"1. Новиков
перечисляет главные добродетели: великодушие,
благородство, бескорыстие, справедливость, благоразумие (как
познание зла), гостеприимство ("добродетель великой
души, которая привязана к целой вселенной чрез узы
человечества"). Но больше всего располагает к
добродетели благожелательность, которая "во всех сердцах
разливает род некоторого приятного снисхождения", в силу
чего никогда не раскаиваются в содеянном благе. Без
этого "божественного свойства" "человек есть тварь
беспокойная, бедная, не полезная как земле, так и самому
себе"2. Добродетель, для Новикова, не просто
отвлеченное и самодостаточное свойство, а практическое
руководство в жизни. Потому "самое лучшее расположение к
добродетели есть вообще прямое добросердечие,
благородство и честность во всех наших действиях"3.
1 Новиков Н. И. Избранные сочинения. С. 396.
2 Там же. С. 398.
3Там же. С. 397.
296
Эта последняя мысль развивается и усиливается в
специальной статье "Нравоучение как практическое
наставление", в которой — опять же в духе Паскаля — отдается
предпочтение науке о нравственности перед всеми другими
науками. Новиков уподобляет нравоучение то "дневному
светилу", освещающему нашу душу от юности до старости
и самой смерти, то — "тихому источнику, который
производит плодородие в сердце нашем, питает находящиеся
в оном счастливые склонности, утверждает глубоко корни
оных и приносит сладкие плоды. Умножается оным купно
и отвращение к пороку..."1. "Сия наука есть не тщетная
теория, не пустая схоластическая теория, не в спорах
состоящее учение... не слабая пища памяти... но
практическое наставление, которое должны мы носить в сердцах
наших, которое должно освещать совесть и... служить
правилом наших поступков в уединении и между людьми,
в трудах, спокойствии и забавах, в несчастии, счастии,
в здравии и болезнях, в отдалении от конца жизни и при
самом конце оной..."2. Само благоденствие человечества,
считает Новиков, зависит от практического усвоения этой
науки, над которой работали многие лучшие его
представители. Он называет имена библейского пророка Моисея,
Сократа, Платона, Эпикура, Зенона, а в Новое время — Ф.
Бэкона, Гроция, Вольфа, Николя и Паскаля, "из которых
последнего мы особенно благодарить обязаны"3.
Унаследовал Новиков от Паскаля и отрицательное
отношение к ордену иезуитов и их "ослабленной
морали", в связи с чем опубликовал в 1784 г. в "Прибавлении
к Московским ведомостям" "Историю ордена иезуитов".
Это издание попало в руки Екатерины II, которая
покровительствовала иезуитам. Возмущенная государыня,
обнаружив в нем, по ее словам, "ругательную историю
ордена иезуитов", повелела арестовать тираж, а издателя
подвергнуть преследованию, каковое и продолжалось
много лет и закончилось заключением Новикова в Шлис-
сельбургскую крепость в 1792 г. Конечно, дело было не
только в иезуитах, но в общей антимонархической
направленности его просветительской деятельности.
Полемизируя с Екатериной 11 и ее журналом "Всякая
всячина", Новиков в своем сатирическом журнале "Трутень"
разоблачает легенду о "просвещенной монархии", изоб-
1 Новиков Н. И. Избранные сочинения. С. 401.
2 Там же. С. 402.
3Там же. С. 403.
297
личает в ней самовластного деспота, "кнутами да
виселицами" притесняющего истинных "питателей отечества"
— крестьян и стоящего на страже паразитических
интересов "трутней-дворян". Нет ничего удивительного,
что "по высочайшему повелению" журнал Новикова был
закрыт. Он стал осторожнее, но свою прогрессивную
деятельность не прекратил. Издавая другие журналы
и газеты, в которых наносил чувствительные удары по
самодержавию, коррупции, крепостничеству, невежеству,
он воспевал вольность, свободный труд граждан на благо
отечества и мечтал о разумно и справедливо устроенном
обществе. Из крепости Новиков был освобожден только
после смерти Екатерины II в 1796 г. Замечательный
просветитель доживал свои дни в глухой деревне, забытый,
больной, разоренный, не оцененный по достоинству
своими современниками. Зато все последующие поколения
представителей русской культуры воздали должное
самоотверженной деятельности и нравственному подвигу
Новикова, при всем прочем открывшего для России не
только Паскаля, но и Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Лессинга
и многих других. Болея за самобытность русской
культуры и не одобряя засилья иностранцев в России, он
знакомил русского читателя с достижениями западной
культуры. Как и Паскаль, он ставил своей задачей
формирование общественного мнения и воспитание нравственной
культуры нации.
Семя паскалевских "Мыслей", брошенное на русскую
почву в XVIII столетии, дало обильные всходы в XIX
веке. Россия как бы старается не отставать в постижении
Паскаля от самой Франции. В то время как на родине
философа В. Кузен ставит перед Французской академией
вопрос о новом издании "Мыслей", в России в 1843 г. И.
Бутовский публикует свой перевод не только части
"Мыслей", но и многих философских произведений Паскаля:
"Введение к Трактату о пустоте", "Разговор с де Саси об
Эпиктете и Монтене", "О геометрическом уме и об
искусстве убеждать", "Три рассуждения о положении знати".
Каждое из этих так называемых "малых сочинений"
(opuscules) представляет философский шедевр и по
глубине мысли, и по блестящему стилю. Так что русский
читатель получил возможность познакомиться с
Паскалем-философом, каковую цель явно ставил перед собой
Бутовский, почти опуская религиозную часть "Мыслей".
Во вступительной статье к этому изданию, весьма
хвалебной и содержательной, он проследил творческий путь
298
мыслителя и ученого и защитил светлую память о нем от
клеветы и кривотолков. В частности, он полностью
отверг злостную версию иезуитов о якобы "сумасшествии"
Паскаля, указав на расцвет его творчества после ухода
в Пор-Рояль.
Любопытно отметить, что задолго до Бутовского один
из декабристов, П. С. Бобрищев-Пушкин, заинтересовался
"Мыслями" Паскаля и начал их переводить еще до
восстания и продолжил затем на поселении, отдав много лет
этому нелегкому труду. Однако перевод этот так и не был
опубликован. Кстати, в России лучшим переводом полного
текста "Мыслей" можно считать текст П. Д. Первова 1888 г.
Перевод произведений Паскаля на другие языки
представляет чрезвычайные трудности в силу сочетания в его стиле
какой-то потаенной глубины мысли, парадоксальной
формы ее выражения, математически чеканной фразы,
подчас трудно передаваемых образов-символов и
мощного эмоционально-поэтического пласта в его мышлении.
Конечно, не во всем, но в значительной степени Первову
удалось преодолеть эти трудности. В конце XIX в. русский
читатель получил полный текст "Писем к провинциалу". С.
Долгов в 1892 г. в дополнение к своему переводу "Мыслей"
Паскаля перевел ряд его сугубо религиозных сочинений.
Разумеется, представители русской интеллигенции,
прекрасно владевшие французским языком, читали Паскаля
в подлиннике. Мысли, образы, афоризмы, символы
французского мудреца стали достоянием культуры России.
2. СТАРШИЕ СЛАВЯНОФИЛЫ
Человек — это его вера.
Вера -— взор сердца к Богу.
И. В. Киреевский
Мы были бы недостойны разумения
истины, если бы не имели свободы.
А. С. Хомяков
Религиозно-философское учение славянофилов
(А. С. Хомяков, братья Киреевские, отец и братья
Аксаковы, Ю. Ф. Самарин и др.) — особый феномен в
истории русской культуры, имеющий глубокие не только
чисто русские корни, но и тесно связанный с реалиями
западной философии и религии. Точнее, славянофилы
299
формировали свои взгляды если не во всем, то во многом
в оппозиции к западной культуре, стремясь определить
самобытность русского сознания и пути развития России.
Ничуть не менее, чем западники, они были европейски
образованными людьми, прошедшими школу
рафинированной западной мысли, прежде всего немецкой
классической философии. Горячие споры вокруг философии
Шеллинга и Гегеля велись не только на страницах печати,
но и в светских салонах. Русская культура как бы
"переболела" западной образованностью, особенно в лице
первых славянофилов. Для Хомякова Европа была "страной
святых чудес", в которой, однако, не все достойно
восхищения, и он обрушивает огонь своей ироничной и
остроумной критики против западных исповеданий и
вообще западного типа духовности. В этой борьбе он находит
соратников не только в своем отечестве, но и получает
неожиданную поддержку из "вражеского стана", по ту
сторону баррикад. Он обнаруживает свое необычайное
идейное родство с одним из западных мыслителей — Бле-
зом Паскалем — и охотно зачисляет себя в ряды его
учеников.
В самом деле, есть много общего в духовной
настроенности и идейной ориентации обоих мыслителей, при
всем различии их мироощущения, а также их личностей.
Для обоих характерна универсальная одаренность,
отмеченная значительными результатами в области
философии, теологии, поэзии, науки, изобретательства.
Правда, при огромном таланте Хомяков успел сделать
гораздо меньше Паскаля, в противовес которому его никак не
назовешь ни "мучеником познания", ни "мучеником
религии". Н. Бердяев объясняет этот парадокс очень
просто: "Это русская черта: обладать огромными
дарованиями и не создать ничего совершенного. Немалую роль
тут сыграла барская лень Хомякова, его дилетантское
отношение к призванию писателя"1. Не вдаваясь в
исследование "неисповедимой тайны" творчества, можно
отметить коренное различие в самом характере их гения,
связанное с глубинной сущностью их личности.
Мятущийся, сомневающийся, "вечный духовный странник",
Паскаль весь в движении, душевных катаклизмах,
драматических исканиях, в безднах жгучих вопросов и
апокалипсической устремленности. Он не просто жил, он
поистине горел и быстро сгорел. Глубинам его трагической
'Бердяев Н. Л, А. С. Хомяков. М., 1912. С. 58.
300
жизни соответствовали и глубины его творчества,
напряженным человеческим исканиям — интенсивность и
значимость творческих результатов. Паскалем как бы
владел не только гений, но и "молох творчества".
Ему противостоит спокойный, цельный, по словам
Бердяева, "пленительно ясный" духом, словно
высеченный из одного куска гранита, трезвомыслящий,
гармоничный Хомяков. Трагическому видению мира у Паскаля
он противопоставил оптимистическое, бодрое,
жизнеутверждающее мироощущение благополучного русского
аристократа. Но... противоположности сходятся, и
Хомяков испытал на себе как обаяние личности Паскаля, так
и магнетическое воздействие "бездн" его мысли. И это
тем более понятно, что идейные основы их
мировоззрения имели многие точки соприкосновения: критическое
отношение к рационалистической философии и культуре,
западным вероучениям — католицизму и
протестантизму, исповедание "истинного христианства" и "живого
личного Бога" — Иисуса Христа, идеализация церкви как
мистического тела Христа, культ конкретной личности
и ее духовной свободы, культ сердца и любви, идея
"живого знания", "боль о язвах" общественной жизни,
глубокое уважение к "здравости народных мнений". Оба
они внесли дух светскости и свободного исследования
в религиозные предметы, являясь "свободными
светскими богословами". Ю. Самарин даже считал Хомякова
"учителем церкви", в чем с ним, однако, не согласились
официальные представители русского православия.
Кроме того, есть много общего в самом стиле
философствования Паскаля и Хомякова: широкое использование
иронии, склонность к парадоксалистской диалектике
и антиномизму в мышлении. Если ко всему этому
добавить характерный для обоих бойцовский темперамент,
стремление к полемике и неистребимый дух свободы, то
становятся вполне объяснимыми обаяние личности и
конгениальность творчества Паскаля для Хомякова.
Отдавая дань уважения Хомякову и его заслугам
в русской культуре, В. Соловьев отверг, однако, его
критику западных исповеданий, считая ее
необоснованной и вымышленной. Но здесь на стороне Хомякова
представитель западной культуры — Паскаль.
Реминисценции из "Мыслей" и "Писем к провинциалу"
встречаются в его сочинениях. Прежде всего речь идет о критике
русским мыслителем рационализма в религии, с чем он
связывает внешний, холодно-рассудочный и даже утили-
301
тарно-расчетливый характер веры в католицизме.
Высшим выражением этой "внешней веры" Паскаль считал
иезуитизм, а Хомяков обвиняет в том вообще римскую
церковь и "латинство" как идеологическое выражение
"остывшей религиозности". Раскол в западном
вероисповедании он возводит не к протестантам, которых Рим
осудил как еретиков, а к самому Риму, изменившему
Божьему духу первоначальной церкви и ее единственному
и вечному главе — Иисусу Христу. Реформация же,
согласно Хомякову, — законное порождение, "хотя и
непокорное исчадие романизма", несущее на себе
"неизгладимое римское клеймо и дух утилитарного рационализма,
которым отличается папизм". Потому на протяжении
веков "Рим и реформаторы перебрасываются
силлогизмами... на почве рационализма", равно далекие от живой
веры целостной (а не познающей только!) личности и от
единой вселенской церкви1.
Для современного читателя может показаться весьма
странным такое парадоксальное сближение Хомяковым
позиций ортодоксии и ереси в западном христианстве. Но
здесь не только демонстрация обычного для него
диалектического способа рассуждения, движимого усмотрением
антиномий и тождества противоположностей. Хомяков
в самом деле видит нечто существенно общее в позициях
вечных религиозных противников. Оба они находятся
в ослеплении, не понимая того, насколько удалились от
"единой, святой, соборной, апостольской Церкви". Рим
заменил внутреннее, духовное, свободное единение
верующих и церкви на основе любви к Богу и "духовного
чутья истины" внешним единством на основе ритуала
и церковной иерархии. Словом, Рим пожертвовал
свободой верующих во имя их внешнего единения с церковью.
Протестанты попытались вернуть свободу, но
вынуждены были принести в жертву единение с церковью
вселенской, предпочтя ей свою "местную, областную". К тому
же свобода протестантов оказалась ограниченной лишь
свободным исследованием Священного писания, оставив
в стороне "живое предание". Более того, Хомяков
обвинил и тех, и других в утрате живой личной веры
и замене ее сухой и рассудочной "мертвой верой". Если
католики абсолютизировали внешний культ и дела чело-
'См.: Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина
о западных вероисповеданиях // Собрание сочинений: Богословские
и церковно-публицистические статьи. Пг., 1915. С. 68—69.
302
веческие в ущерб внутренней вере, то протестанты
абсолютизировали личную эгоистическую веру в ущерб
соборности истины и полнокровной жизни во Христе
в его церкви.
Хомяков убежден, что никакие односторонние и
противопоставленные друг другу религиозные акты не
приводят к истинной вере, которая есть не одно познание, но
еще и сама жизнь. Дела без веры нечестивы, но и вера без
дел мертва. Однако, вместе взятые, вера и дела вне
церкви все равно мертвы, ибо каждый в одиночку не
избавлен ни от неведения, ни от греха: "...полнота
разумения, равно как и беспорочная святость, принадлежат
лишь единству всех членов Церкви"1. Здесь важно
подчеркнуть у Хомякова чисто духовную трактовку церкви
как вечной носительницы Духа Божьего, а не как
временного, исторически изменяющегося социального
учреждения с его бюрократическими структурами и "чиновным
людом". Церковь — не внешний институт, не внешняя
религиозная власть с ее неизбежной иерархией и
феноменом принуждения, но воплощение "всех даров Святого
Духа — веры, надежды и любви". В своем сочинении
"Церковь одна" Хомяков относит к признакам церкви
"внутреннюю святость, не дозволяющую никакой
примеси лжи, ибо в ней живет дух истины, и внешнюю
неизменность, ибо неизменен Хранитель и Глава ее Христос"2.
Только ею "святится все человечество и вся земля".
Такая церковь — это "духовная родина" всех верующих,
вне которой для них непостижимы ни Писание, ни
Предание, ни дела. Каждый грешит и падает в одиночку, но
спасаются лишь все вместе в лоне церкви: "Верует ли кто,
он в общении Веры; любит ли, он в общении Любви;
молится ли, он в общении Молитвы". "Выше всего
Любовь и Единение..."3 Потому молитвы верующих,
говорит Хомяков, есть молитвы не только за них самих, но
и за усопших, и ныне живущих, и будущих людей.
Высшая "соборность веры" исключает всякое насилие
над личностью, внешнее принуждение, диктат культа
и обряда, субординацию в церковной иерархии. Отсюда
Хомяков резко выступает против догмата римско-като-
'См.: Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина
о западных вероисповеданиях // Собрание сочинений: Богословские
и церковно-публицистические статьи. Пг., 1915. С. 71.
2 Хомяков А. С. Опыт катехизического изложения учения о церкви.
Церковь одна // Собрание сочинений. С. 35.
3 Там же. С. 46, 48.
303
лической церкви о непогрешимости папы. Никто из
людей и ничто временное не могут быть поставлены на
место единой апостольской церкви, которой одной
принадлежит святость и непогрешимость. Здесь опять у
Хомякова точка соприкосновения с Паскалем, который
осуждал претензию пап на непогрешимость и сам пострадал
— вместе с янсенистами — от папского произвола. Оба
мыслителя выше всего ставили внутреннюю свободу
в религиозной вере, считая несовместимым с
христианством какое бы то ни было насилие над личностью.
Паскаль прямо говорил о недопустимости "террора"
в вопросах совести и резко высказывался против
инквизиции и полицейской деятельности ордена иезуитов.
Хомяков же считал — не без идеализации, конечно, —
что для православия, в отличие от католичества, не
характерно внешнее принуждение верующих. Бердяев
правильно заметил (еще раньше и В. Соловьев), что Хомяков
все время имеет в виду исторический католицизм,
запятнанный всяческими грехами, тогда как православие им
рассматривается весьма отвлеченно как идеальное
вероучение. "Недостаток любви к западному христианскому
миру — бесспорный грех Хомякова... Нелюбовь к
католичеству давила Хомякова, а вслед за ним и всех
славянофилов..." — отмечает Бердяев1.
В самом деле, уж слишком в черном цвете он рисует
западные вероисповедания, обвиняя и "папизм", и
"реформу" во всех смертных грехах, а пуще всего в
рационализме и предательстве Христовой церкви. Как
протестантам, так и католикам, по его мнению, равно не
доступны ни понимание существа церкви, ни свободы
в единстве, ни жизни в разуме, ни истинной любви.
Набрасывая обобщенный образ обоих вероисповеданий,
он пишет: "...узость воззрений, замкнутых в пределах
индивидуализма... постоянный недостаток глубины, едва
замаскированный полупрозрачным туманом
произвольного мистицизма; любовь к истине, при бессилии понять
ее в ее живой реальности, — словом, рационализм в
идеализме — таковая доля протестантов. Сравнительно
большая широта воззрений, далеко, впрочем, не
достаточная для истинного христианства... поступь величавая,
но всегда театральная... эффектный призрак единства,
при отсутствии единства действительного; какая-то
особенная ограниченность религиозных требований... легко
1 Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. С. 94.
304
находящих себе дешевые удовлетворения, какая-то очень
неровная глубина, скрывающая свои отмели тучами
софизмов... словом: рационализм в материализме — такова
доля латинян"1.
Особенное чувство непримиримости вызывает у
Хомякова "папизм", в рамках которого, считает он,
государство от мира сего заняло место Христовой церкви.
"Папизм" установил между Богом и людьми не закон
любви, а "баланс обязанностей и заслуг", "прикидывание
на весах грехов и молитв", "обмен мнимых заслуг".
Одним словом, резюмирует Хомяков, живое общение
с Богом было вытеснено внешними утилитарными
и юридическими отношениями. Католицизм "перенес
в святилище веры полный механизм банкирского дома"2.
Между тем входить в сделки с верою, т. е. с совестью, не
достойно ни для человека, ни для церкви, а посему в
католицизме нет ни истинной апостольской церкви, ни
истинной христианской веры. Не более их можно найти
и в протестантизме. Общий тон критики Хомяковым
западных исповеданий идет в русле паскалевской их
оценки, с той существенной разницей, что Паскаль
рассматривал католицизм и протестантизм как антиподы, а
Хомяков сближал их позиции в отношении к истинной единой
церкви и живой личной вере. Есть и еще одно важное
различие в их позициях. Паскаль критиковал западные
исповедания во многом с точки зрения янсенизма как
более истинного христианского вероучения, а Хомяков —
с позиций русского православия. Для нашего мыслителя
янсенизм столь же далек от истины, как и отвергнутые им
иезуитизм и протестантизм. Справедливости ради надо
отметить, что Хомяков видит правду янсенистов и
принимает их сторону в конфликте с Римом: "Во всем
прении жансенистов с Римским двором как смысл, так и
буква всех прежних свидетельств гласили в пользу
жансенистов. Всегда готовые подчиниться решению Церкви, они
выговаривали себе только свободу совести, впредь до
ожидаемого решения. Они, несомненно, имели за себя все
свидетельства первых веков, самый дух христианства".
Однако Хомяков клеймит их за то, что они были "уже не
членами Церкви, а подданными Римской монархии"3.
1 Хомяков А. С. Собрание сочинений. С. 82—83.
2 Там же. С. 67.
3Хомяков А. С. Письмо к Утрехтскому епископу Лоосу // Собрание
сочинений. С. 243, 245.
305
В самом деле, ведь подписали же, в конце концов, ян-
сенисты Пор-Рояля (под давлением осторожного и
дипломатичного А. Арно) знаменитый "Формуляр" Рима,
предавший анафеме янсенистское учение. Впрочем, ни
Паскаль, ни его сестра Жаклина не смирились с этим
осуждением, тем самым противопоставив себя общине
Пор-Рояля. В "Мыслях" есть отголоски этого конфликта.
Хомяков также осудил этот компромисс янсенистов
с Римом.
"Выродившемуся христианству" на Западе Хомяков
противопоставляет идеализированное русское
православие как религию совести, свободы и любви. Именно в нем
он видит исконно христианские веру и церковь,
пронесенные через века и устоявшие от соблазна мирских благ,
светской власти и отвлеченного рационализма. "Наш
закон не есть закон рабства или наемничества,
трудящегося за плату, но закон усыновления и свободной любви.
...Молимся в духе любви, а не пользы... Выше же всего
единение Святости и Любви"1. Православие не признает
чистилища, т. е. очищения душ страданиями, ни торга
с Богом, дабы откупиться от страдания добрыми делами.
И то и другое предполагает возможность религиозного
нечестия и отпущение грехов через внешние действия.
Между тем православная вера, согласно Хомякову, не
переносит двоедушия или отвлеченно рациональной
убежденности на уровне "внешнего человека". Тот, кто
верит одним умом, — не верит вовсе. Совершенно в духе
Паскаля Хомяков развивает учение о "живой вере",
пронизывающей всего человека, его сердце, чувства, разум,
саму жизнь. "Христианское же знание не есть дело
пытающего разума, но веры благодатной и живой. Писание
есть внешнее, и Предание внешнее, и дело внешнее,
внутреннее же в них есть один Дух Божий... исповедание,
молитва и дело суть ничто сами по себе, но разве как
внешнее проявление внутреннего духа. Поэтому еще не
угоден Богу ни молящийся, ни творящий дела, ни ис-
поведающий исповедание Церкви, но тот, кто творит
и исповедует, и молится по живущему в нем духу
Христову"2. Вот этот внутренний характер веры и предполагает
истинную свободу совести. Потому православие есть
религия свободных духом людей, считает Хомяков,
объединенных взаимной любовью, ибо в мире духовном единст-
1 Хомяков А. С. Церковь одна // Собрание сочинений. С. 46, 49.
2 Там же. С. 36—37.
306
венным законом является любовь. Он верит в
"несокрушимость союза любви христианской", который не
расторгается и самой смертью. В центр христианского
вероучения Хомяков ставит любовь, свет которой, по его
мнению, сохранил Восток в противовес Западу, с
введением инквизиции расторгнувшему свободный союз любви.
Если на Востоке единство христиан приводит к
образованию религиозных общин во главе с церковью как
духовным братством людей на основе взаимной любви, то на
Западе — к механическим ассоциациям на основе
условного договора и внешней обрядности в рамках
"Римской монархии".
В "Записках о всемирной истории" Хомяков
набрасывает обобщенный образ этого противостояния Востока
и Запада. Он вводит чуть ли не вселенский и к тому же
довольно загадочный символ двух противоположных
культур, выразив его в дихотомии "иранства и кушитст-
ва". "Иранство" — символ истинной религии и
подлинной культуры, с высоким творческим потенциалом,
свободой личности, культом духовности и нравственных
ценностей. "Кушитство" — антипод "иранства" и символ
духовной зависимости, господства необходимости,
покорности человека, утилитаризма, вещности и
религиозного магизма. Ясно из предыдущего анализа, что Восток
ближе к "иранству", тогда как Запад — к "кушитству".
В письмах к английскому богослову В. Пальмеру
(склонявшемуся к православию) Хомяков стремится
поддержать и обосновать его выбор, указывая на
"невозможность торжества веры над неверием" на Западе. И
"человечеству остается отныне выбор только между двумя
путями: кафолическим православием или безверием"1.
Но как бы в насмешку над недопустимой идеализацией
православия Хомяковым "дух кушитства" в русской
церкви помешал Пальмеру перейти в православие. В
письмах к нему Хомякову даже пришлось оправдываться за
церковно-бюрократические препоны, воздвигнутые
Святейшим Синодом на пути обращения английского
богослова.
В целом религиозные взгляды Хомякова
неоднозначно оценивались русской церковью. Разрешая
опубликование его богословских сочинений, религиозная цензура,
однако, отмечала их нечеткость в трактовке религиозных
1 Хомяков А. С. Письмо к Пальмеру // Собрание сочинений. С.
304—305.
307
догматов, обусловленную отсутствием у него
специального богословского образования. В самом деле, слишком
большой акцент на духовно-внутренней стороне
религиозного учения, подчас в ущерб религиозному культу и
онтологическому статусу таинств, а также совершенно
нетрадиционное понимание сущности церкви у Хомякова
вызывали постоянную оппозицию и критику со стороны
русских богословов. Пожалуй, проницательнее других
в этом отношении оценки Павла Флоренского. В
рецензии на двухтомное исследование В. В. Завитневича "А. С.
Хомяков" (Киев, 1902—1913 гг.) он не только отдает дань
уважения свежим творческим богословским идеям
последнего, но и указывает на их расхождение с церковным
учением. Причем интересно то, что главные упреки
Хомякову о. Павел связывает с явным "привкусом" им-
манентизма и протестантизма в его учении о вере и
церкви, в чем в свое время подозревали и Паскаля. Иезуиты
ставили вопрос о церковности автора "Писем к
провинциалу". Флоренский ставит вопрос о церковности
Хомякова, у которого он усматривает "систему чрезвычайно
гибких и потому наиболее ядовитых формул,
разъедающих основы церковности"1.
Опять "повинна" тончайшая диалектика, как и в
случае с Паскалем! Признание — непризнание — вот
позиция Паскаля по отношению к католицизму. Такова же
позиция Хомякова по отношению к православию, что
проницательно и почувствовал Флоренский. А отношение
к протестантизму? Снова получаем гибкую
диалектическую формулу: непризнание — признание. Паскаль
в своем свободном понимании христианской веры, не
отрицая католической церкви и ее культа (в их "истинном
значении"!), подверг разрушительной критике институт
папства с его догматом непогрешимости папы,
инквизицией и орденом иезуитов. Но столь вольное обращение
с церковным авторитетом и церковной иерархией
неминуемо сближало веру Паскаля с протестантизмом, от
которого он сам "открещивался" всеми силами как от
"ереси". Позволял себе Паскаль и непосредственное
обращение к Богу в обход церкви, осудившей учение ян-
сенистов, которое он защищал. Достаточно вспомнить
его знаменитое: "К Твоему суду взываю, Господи!",
"заботливо" скрытое от читающей публики издателями
"Мыслей" из Пор-Рояля.
1 Флоренский П. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916. С. 16.
308
Как достойный ученик Паскаля, Хомяков исповедует
"признание — непризнание" своей религии —
православия. Противопоставление им идеализированного
восточного христианства западному исторически конкретному
католицизму не помешало Флоренскому увидеть
"опасность такой полемики: выпалывая плевелы католицизма,
не рискует ли такая полемика вырвать из почвы и
пшеницу православия, хотя бы, например, своим отрицанием
авторитета в Церкви, якобы не имеющегося в
православии, а вместе с ним, следовательно, и начала страха,
начала власти и обязательности канонического строя"1.
В самом деле, учение Хомякова об "истинной Христовой
Церкви" как чисто духовном институте, с ее вечным
и единственным главой — самим Христом, слишком
противостоит не только западной католической церкви,
но и восточной православной церкви с их иерархией
и элементами внешнего культа. Эти чрезвычайно
свободные взгляды Хомякова на церковь представляются
Флоренскому опасными, рискованными и отнюдь не
православными. Он отмечает "имманентно-земной характер
богословствования" Хомякова, опирающегося то на
правовые или социологические понятия, то на
естественнонаучные объяснения христианских таинств. Особенно
возмущает Флоренского "нечестивый взгляд" Хомякова на
таинство евхаристии как на "чудо атомистической
химии", ибо в этой последней "существо материи,
субстанция материальная остается неизменной, не
пресуществляется, а изменяются одни только акциденции, одни виды,
в пресуществлении же меняется существо, а акциденции,
виды пребывают"2. Хомяков как "светский богослов"
пытается постичь это таинство, тогда как для о. Павла
"сие доступно одному Богу", а для человека эта попытка
есть "следствие только безумия и нечестия"3.
Флоренский считает, что вследствие своего имманен-
тизма Хомяков вообще не совсем ладит с таинствами,
в которых ему "мерещится призрак кушитства"
(магизма). Как всякий гуманист, говорит о. Павел, он исходит
из "внутренних имманентных сил человека" и его
свободного самоутверждения. Отсюда у Хомякова
"эмоциональное ударение падает на слово вера в таинство, а не
на самое таинство как предмет веры. Хомяков хочет
1 Флоренский П. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916. С. 15.
2 Там же. С. 31.
3 Там же.
309
поставить вопрос догматический на почву
прагматическую... Протестантский запах этих рассуждений
несомненен, хотя неопределенность высказываний и позволяет
избегнуть протестантских формул"1. Флоренский
упрекает Хомякова в отрицании онтологического характера не
только таинств, но отчасти и самой духовной реальности,
и религиозных истин. Так, для него "постановления
Церкви были не открытием Истины, а сочинением ее, — как
если бы Истина была имманентна человеческому разуму,
хотя бы и соборно взятому, а не трансцендентна ему и из
своей трансцендентности открывающейся ему... Хомя-
ковская мысль уклончиво бежит от онтологической
определенности, переливая перламутровой игрой. Но эта игра
поверхностных тонов, блестящих, но не
субстанциальных, и потому меняющихся и изменяющих свои
очертания при малейшем повороте головы, не дает устойчивого
содержания мысли и оставляет в сердце тревогу и вопрос.
Имманентизм — таков привкус теорий Хомякова..."2. Но
имманентистский характер вероучения приводит к
разного рода ересям — протестантизму, модернизму,
прагматизму. Во всех этих грехах упрекали и Паскаля:
иезуиты обвиняли его в протестантской ереси, Вольтер —
в прагматизме (в связи с аргументом-пари),
ортодоксальные католики — в модернизме.
В итоге Флоренский, оценивая в общем учение
Хомякова, замечает: "Стройное здание его богословской
системы покачивается, — не скажу, рушится, но дает
трещины и явно требует подведения под себя более прочных
онтологических фундаментов и пристройки
ноуменальных контрфорсов"3. То, что Хомяков заклеймил как "дух
кушитства", в котором он карикатурно представил
многие аспекты онтологизма, для о. Павла имеет
"несомненные черты подлинной церковности". Тогда как "иранст-
во"в трактовке Хомякова, по его мнению, скорее
напоминает протестантское самоутверждение человеческого
Я и отнюдь не ближе к православию, чем "кушитство".
Флоренский проводит любопытное сопоставление
Хомякова с Достоевским. "Кушитству" соответствуют
взгляды Инквизитора, "иранству" — Христа, но тогда,
считает он, "не находится истинного места духу Христову,
Церкви". Мне представляется эта оценка не совсем кор-
1 Флоренский П. Около Хомякова. С. 27.
2 Там же. С. 23.
3Там же. С. 27.
310
ректной, ибо у Хомякова понимание сущности церкви
неразрывно связано с выражением в ней духа Христова,
гак что "иранство" — это и Христос, и церковь, которые
для него поистине живы лишь в православии.
Я уделила большое внимание богословскому учению
Хомякова в его отношении к наследию Паскаля, хотя
в самом начале указала и на философские аналогии в их
взглядах. Дело в том, что в далеком от систематичности
творчестве русского мыслителя лучше разработаны
богословские темы, между тем как философские вопросы
освещены чаще всего фрагментарно. Но подчас
и вскользь брошенные мысли Хомякова как бы
"высвечивают" те или иные стороны паскалевских размышлений,
о чем я уже вкратце говорила. Я уже отмечала "могучее
дыхание" паскалевского космоса в поэзии Хомякова,
бесконечного, бездонного, загадочного, горящего "синими
безднами". И все же — в отличие от Паскаля — это более
"теплый космос", не устрашающий, не подавляющий
своим вечным молчанием, но привлекающий, манящий
человека. Феномена "равнодушной природы" нет в
творчестве гармоничного, цельного Хомякова. В
подтверждение этого приведу одно из его юношеских стихотворений:
Желание
Хотел бы я разлиться в мире,
Хотел бы солнцем в небе течь,
Звездою в сумрачном эфире
Ночной светильник свой зажечь.
Хотел бы зыбию стеклянной
Играть в бездонной глубине
Или лучом зари румяной
Скользить по плещущей волне.
Хотел бы с тучами скитаться,
Туманом виться вкруг холмов
Иль буйным ветром разыграться
В седых изгибах облаков.
Жить ласточкой под небесами,
К цветам ласкаться мотыльком
Или над дикими скалами
Носиться дерзостным орлом.
Как сладко было бы в природе
То жизнь и радость разливать,
То в громах, вихрях, непогоде,
Пространство неба обтекать1.
1 Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969. С. 72.
311
У Хомякова мы не найдем духовного отчуждения
человека от природы, а, напротив, светлое и как бы
доверчивое ее восприятие.
В заключение остановлюсь на одной чрезвычайно
важной гносеологической идее Хомякова — идее "живого
знания", роднящей его понимание познания с паскалевс-
ким "постижением истины не только разумом, но и
сердцем". Как в богословии, так и в философии русский
мыслитель был противником всякого формального,
отвлеченного знания и обличителем "скудости
рационализма". Здесь Хомяков через два столетия как бы принимает
"эстафету" от Паскаля, выступившего против
абстрактного рационализма "отца" новоевропейской философии
Декарта. Хомяков же имел дело уже с вершиной
европейского рационализма — философией Гегеля, логику
которого он называл "воодухотворением отвлеченного
бытия", а его самого "добросовестным фанатиком" и
"последним титаном" рассудка. Высоко оценивая
"Феноменологию духа" Гегеля как "бессмертный
памятник неумолимо строгой и последовательной
диалектики", он вместе с тем считает, что именно это
"бессмертное творение" вынесло "решительный приговор самому
рационализму"1. Исчерпав все возможности
рассудочного знания, немецкий идеализм "ударился об свою
границу" и продемонстрировал бессилие отвлеченного
мышления вывести из абстрактных понятий всю полноту
действительности и конкретной жизни.
Хомяков противопоставляет этому "скудному
рационализму" "знание живое", "не отрешенное от
действительности", которое "бьется всеми биениями жизни,
принимая от нее все ее разнообразие и само проникая ее
своим смыслом". Такое знание "в себе не сомневается,
самого себя и своих законов не доказывает, в непроявлен-
ном оно чувствует возможность проявления, а в
проявленном узнает верность и законность проявления в
отношении к первоначалу..."2. "Живое знание"
осуществляется благодаря вере и любви, которые являются основой
духовной цельности личности, ее жизни и ее "разумения
истины". Сама "зрячесть разума" и его полнейшее
развитие зависят от "подвига веры", которая рассматрива-
1 Хомяков А.С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В.
Киреевского // Сочинения. М., 1911. Т. 1. С. 265.
2Хомяков А. С. О современных явлениях в области философии
(Письмо Самарину Ю. Ф.) // Сочинения. С. 276.
312
ется как "высший гносис", тогда как разум есть лишь
''низшая стихия" в постижении высших истин. Но
"подвиг веры" невозможен без "подвига любви" и
свободного избрания объекта любви. Следовательно, для
постижения высших истин разумом необходимы свобода,
любовь, вера. Получается своеобразная "лестница знания",
на вершине которой стоит вера, пониже — "живое
знание", и внизу — отвлеченное рассудочное знание как
сугубо "внешнее" в отличие от "живого знания" как
"внутреннего". Человеческое знание возвышается и
совершенствуется верой и деградирует в "пустынях
рассудочной отвлеченности". Философские науки, "понятые
во всем их живом объеме, по необходимости отправляясь
от веры и возвращаясь к ней, в то же время дают
рассудку свободу, внутреннему знанию — силу и жизни —
полноту"1.
И еще один важнейший момент добавляет Хомяков
к своему пониманию истины — "соборность знания". Не
индивидуальная душа, какой бы цельной и богатой она
ни была, но духовная община верующих —
хранительница высших истин. Как сама любовь "в общении растет,
крепнет и совершенствуется", так и видение истины
зиждется на общении любви и без него невозможно:
"Недоступная для отдельного мышления, истина доступна
только совокупности мышлений, связанных любовью. Эта
черта резко отделяет учение православное от всех
остальных... То, что сказано о высшей истине, относится и к
философии... философское мышление строгими выводами
возвращается к незыблемым истинам веры, и разумность
Церкви является высшею возможностью разумности
человеческой..."2. Эта дихотомия "живого" и отвлеченного
знания вообще характерна для русской культуры. В этой
связи можно вспомнить имена И. В. Киреевского,
Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева
и многих других.
И. В. Киреевский еще ближе к Паскалю, чем Хомяков,
экзистенциально ближе. Утонченный интеллектуал,
переживший увлечение западной образованностью,
прошедший школу немецкой классической философии,
Киреевский обратился к духовным корням Просвещения на
Западе и в России. Сравнение это было не в пользу столь
1 Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В.
Киреевского // Сочинения. С. 281.
2 Там же. С. 280—281.
313
просвещенной Европы. Поразивший его парадокс был
отмечен еще Паскалем — резкое несоответствие между
научно-техническим прогрессом и нравственным
состоянием западного человечества. Полнота развития наук,
образованности, промышленности, небывалые ранее
удобства жизни породили вместе с тем на Западе "всеобщее
чувство недовольства и обманутой надежды"1. Причины
этого глубокого разочарования в самом направлении
развития цивилизации и культуры Киреевский
усматривает отнюдь не в новейшие времена. Девятнадцатый век
лишь завершил круг развития, заданный тысячу лет
назад в период схоластики.
Какова специфика европейского Просвещения в
отличие от русской традиции? Киреевский отмечает
следующие его черты. Во-первых, "римский тип христианства"
с ориентацией на теологический разум и внешний культ,
не затрагивающий "внутреннего человека" и его "живые
убеждения". Во-вторых, его правовой и
законотворческий характер с опорой на внешний "общественный
договор" в ущерб человеческой духовности и
нравственности. В-третьих, культ насилия и насильственный тип
государственности: "начавшись насилием, европейские
государства развивались переворотами"2. Насилие
пронизывает и практику католической церкви: крестовые
походы, инквизиция, Индекс запрещенных книг, орден
иезуитов, широко использовавших насилие. Все эти
особенности европейского Просвещения Киреевский связывает
с влиянием на него римской культуры.
Отличительным складом римского ума он считает
преобладание в нем "наружной рассудочности в ущерб
внутренним убеждениям" человека. Отсюда
"бесчувственный холод рассуждений" и диалектическая ловкость
в "наружном сцеплении мыслей" вместо усмотрения
"внутренней живой полноты смысла" в вопросах веры
и человеческой жизни. Со времен схоластики римские
богословы ставят "свое убеждение о бытии Божием на
острие какого-нибудь выточенного силлогизма... Такая
бесконечная, утомительная игра понятий в продолжение
семисот лет, этот бесполезный... беспрестанно
вертящийся калейдоскоп отвлеченных категорий должны были
неминуемо произвести общую слепоту к тем живым
убеждениям, которые лежат выше сферы рассудка и логики...
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 250.
2 Там же. С. 265.
314
Живое, цельное понимание внутренней духовной жизни...
изгонялось из оцепленного круга западного мышления
под именем "мистики"..."1. Глубинные мотивы
человеческого поведения, продолжает Киреевский, скрытые
пружины личности, равно как и таинственный смысл
веры, высшие цели жизни ускользали от рассудочного
анализа, отрешенного от других способностей человека.
Так было нарушено равновесие внутренней жизни.
Глубина и цельность живого религиозного чувства
обернулись логическими доказательствами и внешней
демонстрацией веры, "тайной" которой был, по существу,
религиозный скептицизм. Здесь Киреевский идет в русле
паскалевской критики веры в Бога ученых и философов,
критики деизма, столь же противостоящего христианской
религии, как и атеизм: "под покровом философской связи
скрывалось внутреннее отсутствие веры"2.
Так раскололись на Западе разум и сердце, "внешний"
и "внутренний" человек, жизнь и познание, вера и
нравственные убеждения. "Самодвижущийся нож разума" как
бы разрезал человека на разные силы и способности, что
привело к раздробленности его духа и механическому
исполнению многих функций. Не приходится удивляться,
говорит Киреевский, самым обычным явлениям жизни
западного человека: утром он молится, днем ищет
корысти, вечером развлекается и т. д. За отсутствием
религиозно-нравственного стержня жизни корыстно-деятельност-
ный ум европейца направлен на приобретение суетных
внешних благ: материального благополучия, более
высокого положения в социальной иерархии, авторитета и т. д.
Даже духовная власть на Западе искала себе поддержки
у светской власти. Отсюда сращение церкви и
государства в определенные периоды западной истории, особенно,
например, во Франции. Все держится силой внешнего
авторитета, кодекса законов, римского права, частной
собственности. В этих условиях нравственного упадка,
всеобщего эгоизма и отсутствия "живой веры" возникает
учение о непогрешимости папы римского.
Если Хомяков никогда не считал, — при всей его
критике! — что "Запад гниет", то у Киреевского можно
встретить именно такое суждение. И это при всех его
положительных оценках научно-технического и
интеллектуального прогресса на Западе, а также его собственной
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 268.
2 Там же. С. 260.
315
западной образованности и даже европейских вкусах
и привычках. Речь идет о "духовном загнивании" Запада,
которое Киреевский усматривает не только в ущербности
"логической веры" и вообще в безверии, не только во
внешнем владычестве над умами, озабоченности
материальным достатком и гораздо меньшем внимании к
нравственной жизни и духовным основам бытия, но и в
горделивом самодовольстве западного человека от
достигнутых успехов. Более того, Запад склонен несколько
снисходительно, а то и презрительно взирать на "дикий
Восток". Этот феномен отмечали также и другие
славянофилы. Между тем "благополучно гниющему" Западу
Киреевский противопоставляет духовно-православный
Восток, конечно же, как и у Хомякова, весьма
идеализированный. Противостояние здесь не в религиозном лишь
смысле, но и в более широком плане —
духовно-нравственном, социальном и бытовом.
Так, скажем, "тону легкомысленного безверия",
заданному на Западе Вольтером, убежден Киреевский,
Россия противопоставила глубину религиозного чувства,
внутреннюю "живую веру"; раздвоенности — духовную
цельность; внешней пользе —: нравственную
требовательность; извне навязанному закону — внутреннюю
справедливость; праву собственности — принцип личности;
индивидуализму и эгоизму отчужденных друг от друга
"социальных атомов" — мир и согласие членов
земледельческой общины, внешней порядочности —
святость правды, ослаблению семьи (в связи с эмансипацией
женщины) — прочность семейного быта. Наконец,
гордыне и агрессивности западноевропейца Киреевский
противопоставляет смирение и миролюбие русского
человека как "свидетельство равновесия духа и внутренней
жизни". Если на Западе уважают богатство и роскошь, то
"русский человек больше золотой парчи придворного
уважал лохмотья юродивого. Роскошь проникала в
Россию, но как зараза от соседей"1. Если западным
человеком владеет мнение, то русским — убеждение, т. е.
"внутренняя цельность самосознания". Поэтому россиянин
"каждое важное и неважное дело свое всегда связывал
непосредственно с высшим понятием ума и с
глубочайшим средоточием сердца"2. И не свойственно ему
самодовольство, считает Киреевский, ибо "он живо чувствует
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 286.
2 Там же. С. 283.
316
свои недостатки и чем выше восходит по лестнице
нравственного развития, тем более требует от себя
и потому тем менее бывает доволен собою'4. Корни
этого вечного недовольства собой Киреевский возводит
к древнерусской культуре, воплотившейся в народной
нравственности, ядром которой было постоянное
соотнесение временного с вечным и человеческого с
Божественным. Русским человеком всегда владело сознание
высоты Божественных истин и недостижимости
Божественного идеала.
Говоря о древнерусских началах, Киреевский
прекрасно видит отступление от них в самой России, и не со
времен Петра I, а значительно раньше, с XV столетия,
с начала "перенимания всего византийского,
иноземного". Так что России необходимо вернуться к своим
корням, "русским началам", равно как "просвещенному
Западу" недостает по существу тех же самых начал, прежде
всего "живой веры", духовной цельности и "живых
убеждений". В свою очередь, России не хватает западной
образованности, "мирской мудрости" и внешних,
материальных благ. Между тем "какая-то Китайская стена стоит
между Россиею и Европой, — пишет Киреевский в статье
"Девятнадцатый век", — и только через некоторые
отверстия пропускает к нам воздух просвещенного Запада..."2.
Но и Запад не спешит навстречу России, закоснев в своей
гордыне и сознании монопольного владения истиной.
Однако есть на Западе такая система взглядов,
которая могла бы послужить духовным мостом между
Востоком и Западом. Киреевский прямо указывает на
"уединенных мыслителей" Пор-Рояля, и прежде всего на
Паскаля. Он высоко оценивает борьбу этих
"добросовестных мыслителей" против иезуитов и вообще
католического учения о благодати и человеческих
заслугах, хотя и не одобряет их "уклонения в другую
крайность". В небольшом очерке "Сочинения Паскаля,
изданные Кузеном" русский мыслитель проницательно
отделил поверхностные суждения о Паскале Кузена,
выдающего за истины разума соображения своего
рассудка или "смесь чужих мнений", от "строгой, крепкой,
острой, железной логики Паскаля". Он с величайшим
уважением говорит о "направлении ума этого великого
мыслителя, проникнутого глубоким скептицизмом в от-
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 288.
2 Киреевский И. В. Поли. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 1. С. 95.
317
ношении к разуму и глубокою уверенностью в религии"1.
Правда, он преувеличивает указанный скептицизм, чтобы
ярче представить веру Паскаля. И здесь он прибегает
к мыслям В. Гюго о школе Пор-Рояля, которые
превосходно выражают и его собственную точку зрения,
особенно о фундаментальном значении веры. Гюго говорит
о нравственном подвиге янсенистов, их духовной победе,
несмотря на их историческое поражение: "Они оставили
следы свои в теологии, философии, языке, литературе,
и до сих пор еще Пор-Рояль остается внутренним и
тайным светильником для некоторых великих умов". И это
потому, что они верили, были не только возвышенными,
но и убежденными, искренними мыслителями, сердце
которых было преисполнено "единою волею,
нераздельною, глубокою верою"2.
В чрезвычайном воодушевлении Гюго восклицает:
"Кто бы ты ни был, хочешь ли иметь великие мысли,
совершить великие дела? Верь! Имей убеждения, имей
веру религиозную, веру патриотическую, веру
литературную. Веруй в человечество, в силу гения, в будущее,
в самого себя. Знай, откуда ты исходишь, чтобы знать,
куда стремишься. Вера здорова для разума. Не довольно
думать, надобно верить. Из веры и убеждения исходят
святые подвиги в сфере нравственной и великие мысли
в сфере поэзии"3. Дорогие его сердцу "живые убеждения"
и органичный разум, исходящий из них, находит
Киреевский в школе Пор-Рояля. В своей поздней работе "О
необходимости и возможности новых начал для
философии" он пишет о "разрушительном действии" философии
Аристотеля с ее культом "отвлеченного разума" на
европейское просвещение, человеческую духовность и
нравственность. Высшее благо видел он в мышлении.
"Подкопав все убеждения, лежащие выше рассудочной логики,
она уничтожила и все побуждения, могущие поднять
человека выше его личных интересов. Нравственный дух
упал; все пружины внутренней самобытности ослабели;
человек сделался послушным орудием окружающих
обстоятельств, рассуждающим, но невольным выводом
внешних сил — умною материей,, повинующейся силе
земных двигателей, выгоды и страха"4. Гегель завершил
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 232.
2 Там же. С. 235.
3Там же.
4 Там же. С. 308.
318
интеллектуальное движение, начатое в древности
Аристотелем, хотя он и двигался несколько в другом
направлении. Но в итоге пути их сошлись. Киреевский даже
считает, что ум западного человека имеет "особое сродство
с Аристотелем".
Однако Пор-Рояль выпадает из этой традиции, ибо его
"искренние и возвышенные мыслители", по мнению
Киреевского, стремились к развитию внутренней жизни и в ее
глубине искали живой связи между верою и разумом,
выше сферы наружного сцепления понятий1. В самом деле,
как для янсенистов и Паскаля ценен прежде всего
"внутренний человек" с его душой, сердцем, совестью, так и для
нашего философа — самобытность "живой личности" с ее
глубинными нравственными чувствами, волей, верой, от
которых проистекают вся сила ума, убедительность его
доводов и соответствующее внешнее поведение человека.
Но ни в коем случае не наоборот: из "отвлеченного ума"
нельзя получить ни веры, ни совести, ни любви. Это было
бы "странное рождение живого из мертвого"2. Ум
верующего человека рассуждает совсем иначе, чем ум атеиста.
И вообще, мышление, оторванное от "сердечного
стремления", представляет собой вид развлечения. Чем глубже
такое "отвлеченное мышление", тем легкомысленнее и
поверхностнее жизнь человека. Сила такого ума есть просто
"умная хитрость". Ее обладатель как бы отделен от своих
человеческих убеждений, "живых истин", а значит,
саморазорван в глубине своей души.
"Первозданная неделимость личности" связывается
Киреевским именно с верой человека, которая есть "не
доверенность к чужому уверению, но действительное
событие внутренней жизни...". Потому человек — это его
вера, без которой его жизнь "не будет иметь никакого
смысла, ум его будет счетною машиной, сердце —
собранием бездушных струн, в которых свищет случайный
ветер; никакое действие не будет иметь нравственного
характера..."3. Здесь речь идет не просто о
психологической вере, так сказать, экзистенциальном убеждении
человека, но именно о вере религиозной и вере православной,
с точки зрения Киреевского, вере истинно христианской.
"Вера — взор сердца к Богу"4. С большим пафосом он
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 301.
2 Киреевский И. В. Поли. собр. соч.: В 2 т. Т. 1. С. 276.
3 Там же. С. 279, 276.
4 Там же. С. 281.
319
пишет о "слагаемых" этой веры: "И нет такого
неразвитого сознания, которому бы не под силу было
проникнуться основным убеждением христианской веры. Ибо
нет такого тупого ума, который бы не мог понять своей
ничтожности и необходимости высшего откровения; нет
такого ограниченного сердца, которое бы не могло
разуметь возможности другой любви, выше той, которую
возбуждают в нем предметы земные; нет такой совести,
которая бы не чувствовала невидимого существования
высшего нравственного порядка; нет такой слабой воли,
которая бы не могла решиться на полное
самопожертвование за высшую любовь своего сердца. А из таких сил
слагается вера"1. В конечном счете "живая сердечная
вера" увлекает за собой и разум, выступая как высшая
разумность и существенная "стихия познавания". Вера
как "высший гносис" — не только личное убеждение
Киреевского, но излюбленная идея вообще русского
религиозного сознания. Просветленный верой ум перестает
ей противостоять. Так разрешается извечная антиномия
разума и веры. Но разрешается она во "владениях веры",
а не на "территории разума" и не в ущерб разуму, а во
благо и силу его, ибо вера первична и фундаментальна,
а разум вторичен и зависим.
Западная культура, основанная на "самодостаточном
разуме" и отвлеченной философии, согласно
Киреевскому, утратила веру, а вместе с ней и жизненный стержень
личности. Попытались подвести под веру "логическое
основание" и "разумное оправдание", но получили лишь
"внешнюю веру" и внешний культ, "недостаток
убеждений", "нравственную апатию" и расколотую в себе
личность. Возможность возрождения духовной культуры на
Западе Киреевский связывает с возвратом к "истокам
жизни", "живым истинам", а отсюда и к новым началам
такой философии, которая "не хочет оставаться в книге
и стоять на полке, но должна перейти в живое
убеждение..."2. На самом Западе он находит "плодотворные
зародыши" этих новых начал именно в "Мыслях"
Паскаля. "Его неоконченное сочинение не только открывало
новые основания для разумения нравственного порядка
мира, для сознания живого отношения между
божественным промыслом и человеческой свободой, но еще
заключало в себе глубокомысленные наведения на другой спо-
1 Киреевский И. В. Поли: собр. соч. Т. 1. С. 277.
2 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 323.
320
соб мышления, отличающийся равно от римско-схола-
стического и от рационально-философского"1. Однако
происки иезуитов разрушили Пор-Рояль с его
"уединенными мыслителями" и погубили "живительное
направление их мысли", которое могло бы спасти Францию от
безверия и его последствий.
В целом старшие из славянофилов прекрасно понимали
и ценили Паскаля, поскольку разделяли с ним его "живые
убеждения" и духовную их основу — "живую веру" в
личного Бога, постигаемого сердцем, а не разумом. Им легко
было воспринять его критику западного рационализма
и "умной западной религии", ибо у них с ним была одна
идейная платформа и вера в нравственный порядок бытия,
детерминирующий "внутреннего человека". Одна у них
была мечта по гармоничной цельной личности. И все они
были убеждены в том, что высшие вечные истины
постигаются любовью. Но глубина сходства, конечно, не
исключает различий, главное из которых, пожалуй, состоит в
отсутствии трагического оттенка в мировоззрении русских
мыслителей, столь характерного для пор-рояльского мудреца.
3. АТЕИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ. И. С. ТУРГЕНЕВ
Очень сложным было отношение к Паскалю со
стороны И. С. Тургенева. Специально этому вопросу
посвящена статья А. Батюто "Тургенев и Паскаль", в которой
автор отмечает: "...на протяжении десятилетий
мировоззрение писателя ощутимо соприкасается с философией
Паскаля, то усваивая из нее близкие для себя черты,
получающие затем развитие и отражение в творчестве, то
активно отвергая несродное и чуждое. Философия
Паскаля несомненно способствовала кристаллизации и
отшлифовке убеждений Тургенева, связанных с его подходом
к проблеме "человек и природа"2. Писатель, страстно
любивший природу и посвятивший ей немало
проникновенных страниц, был печально зачарован паскалевским
образом "равнодушной природы", хранящей эпическое
спокойствие в нуждах и горестях человеческих, молчащей
в ответ на призыв человека, безмолвно взирающей на
людские беды. Кстати, этот образ можно встретить и в сти-
1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 301.
2 См.: Русская литература. 1964. № 1. С. 161.
1 Заказ №4951
321
хотворениях Пушкина, Лермонтова и особенно Тютчева.
Трагические образы Паскаля проходят через все
творчество Тургенева: ничтожество человека перед ликом вечности,
хрупкость человеческой жизни и ее суетность и
бессмысленность, эфемерность счастья, ужасная неотвратимость
смерти, ощущение трагической случайности жизни
вообще, жестокость "равнодушной природы". Конечно,
миросозерцание русского писателя не было пантрагическим, как
у Паскаля. Светлые образы прекрасных женщин и
героические образы мужчин, хотя и овеянные явной или подчас
неуловимой грустью, контрастируют с паскалевской идеей
"ничтожества" человека, которая сильна и у Тургенева.
Вера в высокое чувство любви, гением которой был и сам
писатель, его стремление отстоять достоинство человека
и высший смысл его жизни, теплый лирический колорит
многих страниц его произведений, светлая
эмоциональность, человечность, обожание природы, чистота линий
в обрисовке характеров как бы согревают в общем-то
довольно печальное видение мира у Тургенева. Жизненная
и художническая мудрость писателя, его человеческая
чуткость не хотят мириться с трагизмом жизни, оставляя
людям надежду, поселяя в их душах мир и спокойствие,
давая утешение и окрыляя верой "в доброе, вечное".
Но вдруг... "камнем на сердце опустится грусть", как
признается герой рассказа "Поездка в Полесье", и пас-
калевские "бездны" дохнут холодом в человеческую
душу. То один, то другой из героев Тургенева заговорит от
имени самого автора, смущая читателей тоской, грустью,
беспокойством и даже безнадежностью. Совсем еще
молодой писатель пишет 1 мая 1848 г. Полине Виардо:
"Странное впечатление природа производит на человека,
когда он один... В этом впечатлении есть осадок
горечи..."1 Наиболее ярко выступает "бездушие равнодушной
природы" перед героем "Поездки в Полесье": "...
первобытная, нетронутая сила расстилается широко и
державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с
бессмертного лона вод поднимается тот же голос: "Мне нет
до тебя дела, говорит природа человеку, — я царствую,
а ты хлопочи, как бы не умереть..." Неизменный мрачный
бор угрюмо молчит или воет глухо — и при виде его еще
глубже и неотразимее проникает в сердце людское
сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу еди-
1 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Письма. М.; Л., 1960. Т. 1.С. 459.
322
ного дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному
смерти, — трудно ему выносить холодный, безучастно
устремленный на него взгляд вечной Изиды... вся душа
его замирает; он чувствует, что последний из его братии
может исчезнуть с лица земли — и ни одна
игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое
одиночество, свою слабость, свою случайность..."1 Здесь, в
одном отрывке, сразу несколько паскалевских тем: и
одиночество человека во вселенной, и безучастность мира по
отношению к нему, и кратковременность человеческой
жизни, и ее случайность в рамках космоса, и хрупкость
бытия человека. Все они получат многообразное
развитие в других сочинениях писателя.
В одном из рассказов, "Довольно. Отрывок из
записок умершего художника", Тургенев вселяет в душу
своего героя ощущение такой безнадежности, такой
бесприютности во вселенной, что П. В. Анненков
определил вторую часть рассказа как "мрачную католическую
проповедь". Эта оценка была малоприятной для
писателя, отрицательно относившегося к религии вообще
и к католицизму в частности. Трагический герой его
рассказа воспринимает природу не как родную мать,
хотя и породившую его, а как безразличную к его
участи мачеху: "Человек — дитя природы, но она всеобщая
мать, и у ней нет предпочтений... и ей все равно: что она
создает, что она разрушает — лишь бы не переводилась
жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих... Где же
нам, бедным людям... сладить с этой глухонемой
слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих
побед, а идет, идет вперед, все пожирая? Как устоять
против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безучастно
надвигающихся волн?.." В конце концов, каждого из нас
строго и безучастно ведет жестокая судьба. В эту
"трагическую симфонию жизни" внедряется еще тема Хаоса,
когда герой простирает свой взор от окружающей его
природы еще дальше, в глубины космоса. "Что я
говорю! Мы одни, одни в целом мире, — восклицает он
в смятении, — за этими дружелюбными стенами мрак,
и смерть, и пустота. То не ветер воет, то не дождик
струится ручьями: то жалуется и стонет Хаос; то плачут
его слепые очи"2.
' Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Сочинения. М., 1964. Т. 7. С. 51.
2 Там же. Т. 9. С. 120.
323
Гуманнейший, мягкий, человеколюбивый писатель,
каким знает Тургенева широкий читатель, оборачивается
вдруг к нему с маской страдания на лице, от которой
веет холодом отчаяния. Нет, то не герой его мучается
"проклятыми вопросами", но он сам заглянул в глубины
"паскалевской бездны". В чем обрести точку опоры?
В творчестве! Ибо одному человеку дано творить. Но
и эта спасительная мысль пропитывается ядом сомнения
и безысходности. Ведь мы всего лишь "творцы на час",
подобно "калифу на час". На мгновение в эту мрачную
тему врывается одна светлая мелодия, славящая величие
человека, чтобы тут же исчезнуть в пучине ощущения его
ничтожества. Каждый чувствует свое достоинство, какое-
то смутное преимущество перед всем миром и
устремляется в небо, ибо он сродни чему-то высшему и вечному,
и... вместе с тем он "должен жить в мпновенье и для
мгновенья. Сиди в грязи, любезный, и тянись к небу!
Величайшие из нас — именно те, которые глубже всех
других сознают это коренное противоречие, но в таком
случае — спрашивается — уместны ли слова:
величайший, великий"1. И вот тут возникает паскалевская тема
"мыслящего тростника", с той, однако, существенной и...
парадоксальной разницей, что у скорбного Паскаля она
заканчивается на оптимистической ноте, а у более
светлого Тургенева — в глубоком миноре: "Тогда одно
остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться
в прах... сохранить последнее, единственное доступное
ему достоинство, достоинство сознания собственного
ничтожества; то достоинство, на которое намекает
Паскаль, когда он, называя человека мыслящим
тростником, говорит, что, если бы целая вселенная его
раздавила, — он, этот тростник, был бы все-таки выше
вселенной, потому что он бы знал, что она его давит,
а она бы этого не знала. Слабое достоинство! Печальное
утешение!"2.
В своей печали по поводу ничтожества человека
Тургенев иногда "перепечаливает" самого Паскаля, потому
что французский философ не допускал ни
одностороннего возвеличивания человека, ни однозначного его
унижения до полнейшего ничтожества. Сущность человека
двойственна, противоречива, ибо проистекает в своем
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Сочинения. М.; Л., 1965. Т. 9. С. 121.
2 Там же. С. 117.
324
совершенстве от Бога и понижается в нем по природе:
"Человек есть образ Божий, но только образ". Человек
вознесен выше всех в природе, но и унижен перед Богом.
Именно эта тонкая диалектика и спасает Паскаля как от
гордыни, так и от отчаяния, до которого подчас доходит
Тургенев. Он усиливает, трагически развивает паскалевс-
кую тему ничтожества человека и бессмысленности его
жизни. Так, Базаров нередко вольно цитирует Паскаля,
незаметно искажая его мысль. Вот он рассуждает о месте
человека в мире: "Узенькое местечко, которое я занимаю,
до того крохотно в сравнении с остальным пространством,
где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени,
которую мне удается прожить, так ничтожна перед
вечностью, где меня не было и не будет..." Это цитата из Паскаля,
но вывод отнюдь не паскалевский, но базаровский,
нигилистический: "А в этом атоме, в этой математической точке
кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что
за безобразие! Что за пустяки!"1 А далее Базаров и вовсе
искажает мысль Паскаля о ничтожестве человека: "Какую
клевету ни возведи на человека, он в сущности заслуживает
в двадцать раз хуже того"2. Нигилист Базаров все-таки
хуже думал о человеке, чем Паскаль, который никогда не
допускал клеветы на человека.
Но издевающийся иногда над человеком Базаров сам
внезапно умирает от ничтожной царапины, демонстрируя
паскалевскую мысль о чрезвычайной хрупкости
человеческой жизни. Незадолго до своего безвременного конца
он философствовал о жизни и смерти: "Черт знает, что за
вздор! Каждый человек на ниточке висит, бездна
ежеминутно под ним разверзнуться может, а он еще сам
придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь"3.
Так оно и случилось — бездна его поглотила. И вот
старики родители приходят на его могилу поплакать, но
и утешиться. Здесь снова возникает грустный мотив
"равнодушной природы", однако смягченный какой-то
смутной надеждой. "Неужели их молитвы, их слезы
бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь, не
всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее
сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней,
безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Сочинения. М.; Л., 1964. Т. 8. С. 323.
2 Там же. С. 326.
3Там же. С. 306.
325
об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том
великом спокойствии "равнодушной природы"; они
говорят также о вечном примирении и о жизни
бесконечной..."1.
Философская часть романа "Отцы и дети" во многом
навеяна "Мыслями" Паскаля о человеке, его месте в
мире, смысле жизни, ее хрупкости, неизбежности смерти.
Сам образ Базарова-атеиста, как справедливо считает
А. Батюто, "создавался под известным влиянием
философских концепций Б. Паскаля..."2. Конечно, Базаров
мужественно встретил смерть. Однако своим убитым горем
родителям он оставлял шанс испытать силу их религии:
"Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность,
очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью
должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия
сильна; вот вам случай поставить ее на пробу"3. Однако
бедные старики оказались бессильны перед силой и
неизбежностью смерти. Базаров по-своему утешает их: "Да,
поди попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает,
и баста! Кто там плачет? ...Мать? Бедная!.. А ты, Василий
Иваныч, тоже, кажется нюнишь? Ну, коли христианство
не помогает, будь философом, стоиком, что ли!"4
Вопреки своему печальному концу, роман "Отцы и дети" не
оставляет ощущения безнадежности и отчаяния, а жизнь
Базарова все-таки полна высокого смысла, равно как
и сама его смерть. Недаром же Ф. М. Достоевский считал
беспокойство и тоску Базарова "признаком великого
сердца", несмотря на весь его нигилизм.
В другом же произведении Тургенева, "Дым",
немолодой герой, оглядываясь на свою жизнь, с горечью
сознает ее суетность, бесплодность, пустоту, что так
страстно обличалось в свое время Паскалем, вызывая в нем
не столько чувство гнева или возмущения, сколько
искреннего недоумения по поводу бессмысленного
"прожигания" жизни многими людьми. Знаменитый фрагмент из
"Мыслей" Паскаля "Развлечение" как бы снимает с
людей "маску суетной озабоченности", под которой
скрывается страх смерти, нежелание заглядывать в таинственные
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Сочинения.Т. 8. С. 402.
2 Батюто А. Тургенев и Паскаль // Русская литература. 1964. № 1.
С. 156.
3 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Сочинения. Т. 8. С. 389.
4 Там же. С. 391.
326
бездны бытия, малодушие перед "вечными вопросами"
о смысле жизни. У Тургенева есть и этот "паскалевский
мотив", а также и другой — об иллюзорности
человеческого счастья в этой эфемерной жизни. Герой "Дыма"
охвачен какой-то спокойной "головной тоской",
повторяя: "Дым, дым... Все дым и пар... Все, собственная
жизнь, все людское..." — и заключает почти бесстрастно:
"Однообразная, торопливая, скучная игра!., все
торопится, спешит куда-то — и.все исчезает бесследно, ничего не
достигая..."1 Так думает он, сидя в вагоне поезда и
наблюдая, как растворяются в небе клубы дыма и пара от
бегущего по рельсам паровоза. А вот герой "Поездки
в Полесье" более эмоционально переживает феномен
ускользающей жизни: "О жизнь, жизнь, куда, как ушла ты
так бесследно? Как выскользнула ты из крепко
стиснутых рук? Ты ли меня обманула, я ли не умел
воспользоваться твоими дарами? ...Душа жаждала счастья
такого полного... вот-вот нахлынет счастье потоком — ни
одной каплей не смочило алкавших губ. О, золотые мои
струны, вы, так чутко, так сладостно дрожавшие когда-
то, я так и не услышал вашего пенья... вы и звучали
только — когда рвались"2. Нет здесь ни надежды, ни
утешения, ни спасения. Правда, в "Дыме" герой все же
находит некоторое утешение в преданной и светлой
любви женщины. Трагизм человеческой жизни смягчается
любовью.
Но то на уровне эмпирической и конкретной
человеческой жизни, а в плане метафизическом трагизм
усиливается сознанием какой-то незащищенности жизни в
космическом "масштабе Вечности". Известны вариации
Тургенева на тему паскалевского "человека-атома" во
вселенной. Так, в письме Полине Виардо от 30 апреля
1848 г. он говорит о том, что "жизнь — это красноватая
искорка в мрачном и немом океане Вечности..."3. А в
письме А. Фету от 30 марта 1864 г. он снова обращается
к паскалевскому образу: "...вечность а вечность... Точка
а представляет то кратчайшее мгновенье — ce raccourc:
d'atome, как говорит Паскаль, — в течение которого мы
живем, — еще мгновенье, и поглотит нас навсегда немая
глубина нихтзейн'а. Как же не воспользоваться этой точ-
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Сочинения. Т. 9. С. 315.
2 Там же. Т. 7. С. 60.
3Там же. Письма. Т. 1. С. 458.
327
кой?"1 Однако сознание подавляющей
кратковременности человеческой жизни усугубляется еще и ужасом перед
роковой неизбежностью и непредсказуемостью смерти.
В рассказе "Призраки" Тургенев рисует буквально
устрашающий образ смерти, затмевающий по силе
воздействия на чувства человека паскалевскую трагическую
картину "узников в цепях", умерщвляемых на глазах друг
у друга. Образ смерти у Паскаля классически ясен и даже
прозрачен по сравнению с аморфной мертвящей массой
— страшным символом смерти у Тургенева. Приведу
лишь часть этой потрясающей зарисовки: "Это нечто
было тем страшнее, что не имело определенного образа.
Что-то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, пестрое, как
брюхо ящерицы, — не туча и не дым, медленно, змеиным
движением, двигалось над землей. Мерное, широкое
колебание вниз и снизу вверх, колебание, напоминающее
зловещий размах крыльев хищной птицы, когда она ищет
свою добычу; по временам неизъяснимо противное при-
никание к земле, — паук так приникает к пойманной
мухе... Кто ты, что ты, грозная масса? Под ее веянием...
все уничтожалось, все немело... гнилым, тлетворным
холодком несло от нее — от этого холодка тошнило на
сердце, и в глазах темнело, и волосы вставали дыбом.
Эта сила шла; та сила, которой нет сопротивления,
которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без
смысла — все видит, все знает и, как хищная птица,
выбирает свои жертвы, как змея, их давит и лижет своим
мерзлым жалом..."2. Если образ смерти у Паскаля
вызывает скорее чувство сострадания к людям, то у Тургенева
— ужас и страх перед этой черной стихией. Трудно
представить, что этот образ есть плод отвлеченного
воображения писателя, а не реально пережитого живого
чувства! Перед зловещей силой смерти люди в рассказе
Тургенева — это "люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее
мух", тогда как у Паскаля "узники в цепях".
При всем трагизме переживания феномена смерти
у Паскаля-христианина нет той безнадежности, того
отчаяния, которые характерны для неверующего Тургенева.
В письме Полине Виардо от 1 мая 1848 г. он признается:
"Ах, я не выношу неба, — но жизнь, действительность, ее
капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 5.
С. 245—246.
2 Там же. Сочинения. Т. 9. С. 107.
328
красоту... все это я обожаю. Что до меня — я прикован
к земле. Я предпочту торопливые движения утки... всему
тому, что херувимы (эти прославленные парящие лики)
могут увидеть в небесах..." А днем позже в том же письме
писатель весьма непочтительно говорит о Боге, позволяя
себе следующую шутку: "Какое странное выражение,
быть в своей тарелке, будто кушанье! А кто нас ест? Боги?
...Я говорю глупости. Люди нас щиплют, как траву, а Бог
нас — пожирает!!!"1 В. В. Розанов осудил "шуточки
Тургенева над религией", воскликнув: "Как они жалки!"2 Вот
здесь пункт размежевания Тургенева с Паскалем и его
осуждение за религиозную веру. Так, молодой Тургенев
пишет Полине Виардо о "Письмах к провинциалу"
Паскаля: "Это вещь прекрасная во всех отношениях. Здравый
смысл, красноречие, комическая жилка — все здесь есть.
А между тем это произведение раба, раба католицизма"3.
В высшей степени странный и несправедливый отзыв
о "великом христианине". Никогда Паскаль не был
рабом, и тем более "рабом католицизма". Трудно сказать,
какой информацией пользовался писатель, скорее всего,
какими-то непроверенными слухами. Можно простить
эту некомпетентную оценку молодому человеку, каким
был писатель в 1848 г., но, увы, почти через 30 лет
в письме к П. В. Анненкову от 22 ноября 1877 г. он
повторяет ту же клевету на Паскаля: "Традиции иезуитов
и традиции империи слились в одно прекрасное целое.
Можно им сказать, как некогда Паскаль: Mentiris
impudentissime! (Бесстыднейшая ложь!) — Но тот же
Паскаль потом целовал у иезуитов ручку"4. Нет, вопреки
распространяемому самими иезуитами этому заведомо
ложному мнению, Паскаль умер, не примирившись с
орденом Иисуса. Очень странно, что живший во Франции
Тургенев не знал об этом, хотя к тому времени были уже
изданы П. Фожером и Э. Авэ аутентичные "Мысли"
Паскаля, из которых явствовала эта непримиримость.
Оценивая в целом отношение русского писателя
к французскому мыслителю, следует все же отметить
плодотворную разработку им паскалевской тематики
о человеке, в силу чего его мировоззрение приобрело
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Письма.Т. 1. С. 460.
2 Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 351.
3 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
Письма. Т. 1. С. 458.
4 Там же. Т. 12, кн. 1. С. 235.
329
трагический оттенок. Паскаль придал ему сложность,
противоречивость, таинственную глубину. Но, конечно,
видение мира у Тургенева менее мистичное, более
светлое, ясное, прозрачное для сознания и разума
человеческого, нежели у Паскаля. Ослабление мистицизма у него
неизбежно было связано с его атеистической позицией.
4. ПАСКАЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ
Из всех русских писателей и мыслителей нет более
близкого по духу и родственного душой Паскалю, чем
Ф. М. Достоевский. Как Паскаль для европейской, так
Достоевский для русской культуры — оба были
средоточием духовности, "большой совестью" своей эпохи,
глашатаями человечности, прорицателями будущих судеб
людей, духовными скитальцами в поисках Истины,
Правды и Гармонии. Их исключительная озабоченность
судьбой человека, загадками его бытия, тайнами жизни и
смерти, их трагическая сосредоточенность на страданиях
человеческих приводят равно обоих к религии Христа.
В ее лоне они ищут утешения и спасения. Само искание
Бога у них проистекает не от какого-то "внешнего
толчка" или отвлеченного философствования, а от внутренней
душевной потребности, "зова сердца", сугубо
экзистенциальной надежды. С этим связан у обоих феномен "живого
Бога", или "живой веры", и развенчание ими "ложного
мудрствования" о религиозной вере, рассудочного
постижения Бога, рационализма в религии. Паскаль выразил
это своей формулой: "Сердце чувствует Бога, а не
разум". Причем путь их к вере был трудным, сложным,
выстраданным. Достоевский писал: "Моя Осанна сквозь
горнило испытаний прошла". От человека — к Богу и от
Бога — снова к человеку — таков этот путь.
Н. А. Бердяев справедливо отмечает "антропологизм
и антропоцентризм" Достоевского: в его поглощенности
человеком есть "исступленность и исключительность...
Человек — микрокосм, центр бытия, солнце, вокруг
которого все вращается. Все — в человеке и для человека.
В человеке — загадка мировой жизни. Решить вопрос
о человеке значит решить вопрос и о Боге"1. Как я
пыталась это показать, таков и Паскаль, правда, с той раз-
1 Бердяев Н. Л. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968. С. 35.
330
ницей, что его "первой мыслью" была наука, а вот
"второй мыслью" был человек и "третьей мыслью" —
Бог. Достоевский знал Паскаля смолоду и находился под
несомненным обаянием его размышлений о человеке,
мире и Боге, а также его критики в "Письмах к
провинциалу" иезуитского варианта христианства. Достоевский
усвоил именно паскалевскую, сугубо отрицательную,
оценку религии и морали иезуитов. Так, в романе
"Идиот" князь Мышкин страстно призывает противостоять
им: "Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос,
которого мы сохранили и которого они и не знали! Не
рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую
цивилизацию им неся..."1 Далее он говорит о "русской
страстности" как характернейшей черте русской души,
непременно уводящей в крайности и фанатизм, и опять
нелестное мнение об иезуитах: "...у нас коль в
католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще
из самых подземных; коль атеистом станет, го
непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием,
то есть стало быть и мечом!.. Такова наша жажда!"2
Конечно, ранние славянофилы подготовили почву для
отрицательных оценок западного католицизма, особенно
А. С. Хомяков, и не без влияния Паскаля. Но
Достоевский с его "русской страстностью" сгустил эти оценки,
заострил внимание на крайних выводах из них,
парадоксально сближая в идеологической основе католичество
и атеизм, католичество и социализм. Если Хомяков
видит в западном католицизме ущербный вариант
рационализированной и внешней религии, то Достоевский
прямо выводит из него атеизм и "безбожный
социализм". Князь Мышкин, самый светлый герой
Достоевского, поднимает настоящий духовный бунт против
католичества, выражая сокровенные мысли самого автора:
"По-моему, римский католицизм даже и не вера, а
решительно продолжение Западной Римской империи... Папа
захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все
так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство,
обман, суеверие, злодейство, играли самыми святыми,
правдивыми, простодушными, пламенными чувствами
народа, все, все променяли за деньги, за низкую земную
власть. И это не учение антихристово? Как же было не
выйти от них атеизму?.. Атеизм прежде всего с них самих
'Достоевский Ф. М. Идиот. М., 1981. С. 523.
2Тамже. С. 523-524.
331
начался: могли ли они веровать себе сами? Он укрепился
из отвращения к ним; он порождение их лжи и бессилия
духовного! ...Это дело не исключительно одно только
богословское! Ведь и социализм порождение
католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его
атеизм, вышел из отчаяния... чтобы заменить собою
потерянную нравственную власть религии, чтобы утолить
жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти
его не Христом, а тоже насилием. Это тоже свобода через
насилие...'4 В этой речи слышен голос Паскаля, грозного
обличителя иезуитов, просвечивают гневные строки
"Писем к провинциалу". Паскаль представлял аргументы
и факты на суд общественного мнения, зачастую
дипломатично не навязывая своих выводов читателям, а
предоставляя им свободу самим сделать выводы против
религии иезуитов. И читатели сделали вполне адекватные
выводы.
Те самые выводы, которые сделал и Достоевский
устами князя Мышкина: "Католичество — все равно что
вера нехристианская... даже хуже самого атеизма...
Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше:
он искаженного Христа проповедует, им же оболганного
и поруганного, Христа противоположного! Он
антихриста проповедует... Римский католицизм верует, что без
всемирной государственной власти Церковь не устоит на
земле..."2 Чтобы не возникало никаких сомнений
относительно позиции самого Достоевского, отсылаю читателя
к "Дневнику писателя" за 1876 г. (май, июнь), где
повторяются те же мысли.
Бесперспективно представлять нашего русского гения
учеником Паскаля, хотя школу паскалевских мыслей он
прошел несомненно. Но могучая творческая
самобытность Достоевского покрывает все и всяческие влияния.
Лучше всего говорить об их духовной и во многом
идейной конгениальности. Начну с их духовного облика,
в котором поразительно много общего. Одна и та же
дионисийская страстность, взволнованность и вечная
неуспокоенность наряду с могучим диалектическим умом
и наклонностью к парадоксам. Жестокая
требовательность к себе и другим при всей их человечности, чуткости
и любви к людям. Недаром их гений именовали
"жестоким талантом", а Вольтер даже обвинял Паскаля в "ми-
1 Достоевский Ф. М. Идиот. С. 521—523.
2 Там же. С. 521.
332
зантропии", впрочем, обвинял несправедливо. Конечно,
они оба были очень далеки от лести человеку, но еще
дальше — от ненависти к нему. Герой романа
Достоевского "Подросток" — Версилов выделяет особый
"культурный тип человека", для которого характерно какое-
то "всемирное боление за всех". Сам Достоевский
считал это качество сугубо русским и называл его
"всечеловечностью" и даже "инстинктом общечеловеч-
ности"1. "Всемирное боление за всех" заставляло и
Паскаля заботиться о всеобщем счастье людей и глубоко
сострадать несчастному, неустроенному, раздираемому
войнами и конфликтами человечеству. У Достоевского
же оно породило мечту о "золотом веке человечества"
(см. "Сон смешного человека" и утопию Версилова)
и неразрешимую для него проблему "гармонически
устроенного общества", в котором бы сохранялась
самоценность человеческой личности и ее духовной
свободы.
Как известно, Достоевский отверг
рационалистическую идею "Хрустального дворца", в котором "все будет
расчислено по табличке" и гармония достигнута за счет
"благоразумного хотения" и математического строгого
расчета. Как и "подпольный человек", сам автор
"Записок из подполья" выше этой отвлеченной и надуманной
гармонии поставил конкретную человеческую личность,
духовную свободу, индивидуальность, хотя бы и с ее
"самым диким капризом", "глупой волей", "пагубным
фантастическим элементом" и посему неизбежными
страданиями. Какая охота "желать по табличке" и
провозглашать, что дважды два будет четыре, ведь дважды два
пять — "премиальная иногда вещица", как будто
издевается над читателем "подпольный человек", этот
"вредный джентльмен с ретроградной и насмешливой
физиономией". На самом же деле ему нужно только доказать,
что он не "штифтик в органном вале" и не муравей
в "социальном муравейнике", но личность,
индивидуальность, с ее свободной волей и сокровенными желаниями.
Вот эта самоценность человека и его "живой жизни"
(со всеми ее "почесываниями", как говорит Достоевский)
отстаивается в эпоху абсолютизма Паскалем, который
и в шутку, и всерьез воскликнул однажды: "Побаиваюсь
я математиков. Чего доброго, они превратят меня в тео-
1 Достоевский Ф. М. О русской нации // Поли. собр. соч.: В 30 т. Л.,
1978. Т. 18. С. 55.
333
рему"1. "Подпольный человек" у Достоевского словно
подхватывает эту мысль и заявляет, что хоть жизнь наша
"выходит зачастую дрянцо", но все-таки жизнь, а не одно
только извлечение квадратного корня. "Боление за
человека" побуждает милосердного Паскаля практически
помогать людям до последних дней своей жизни, то
организуя омнибусное движение для бедняков, то высылая
деньги голодающим, то давая приют в своем доме семье
бедняков, то пристраивая "в хорошие люди" бедную
безработную девушку. Любил помогать людям, будучи
и сам в великой нужде, Ф. М. Достоевский. Его боль от
страдальческой судьбы человека, по словам Н. А.
Бердяева, "достигала белого каления", и сердце его "вечно
сочилось кровью".
"Трагический гуманизм" скорбного русского
писателя, равно как и Паскаля, однако, не приводит ни к
нигилизму, ни к скептицизму, ни тем более к цинизму в
отношении к высшим ценностям человеческой жизни — ее
смыслу, свободе, любви, духовному достоинству,
совести, порядочности. Эмпирически наблюдаемая
неустроенность людей, социальная безысходность не ввергают
их в состояние отчаяния, апатии и безнадежности. В
какое-то время Паскаль верил в "просвещенный
абсолютизм" (см. его письмо к шведской королеве Кристине)2,
а Достоевский — в теократическую утопию в духе
"христианского социализма". Но в конце концов оба
изверились в возможности земного благоустройства людей
и нашли успокоение и спасение от отчаяния в религии
Христа, в надежде на бессмертие души и вечную жизнь
после смерти. Даже искупление "слезок невинного
младенца" Достоевский считает возможным только в рамках
вечной жизни, органически объединяющей мрачное
прошлое, беспросветное настоящее и светлое будущее. Все
мучительные пути своих бунтующих героев и светлые
прозрения своих идеальных человеческих типов исходил
в духовных странствиях сам Достоевский. "Тонкая, иску-
сительная и могучая диалектика" (В. В. Розанов) Легенды
о Великом Инквизиторе из "Братьев Карамазовых",
равно как и бунт Ивана Карамазова против Бога, мира
и человека в защиту "невинных младенцев", а также
демоническая стихия любовных "беснований" Дмитрия
Карамазова выстраданы и отвергнуты самим писателем.
1 Pascal В. Oeuvres complètes. P. 585, fr. 605.
2Ibid. P. 279-280.
334
Бердяев считал, что "Достоевский отражает все
противоречия русского духа, всю его антиномичность..."1.
Но Паскаль относил этот антиномизм к человеку
вообще, к загадкам и тайнам его бытия, которые
"гипнотически" притягивали его ум и сердце. Антиномизм — это
вечная судьба человека, которая особенно интересовала
и Достоевского. Они оба использовали принцип
рассмотрения человека и его жизни через совпадение
противоположностей. Но этот методологический прием не был
просто отвлеченным и субъективным средством анализа,
а соответствовал головокружительной сложности
исследуемого объекта, его противоречивости, полярности,
динамизму, сокрытости, неуловимости. Дело здесь не в
отсутствии гармонии, порядка, соразмерности,
уравновешенности (идеальный князь Мышкин тоже
противоречив), но в необычайной стремительности и
подвижности душевных процессов, так что временно
достигаемая мера "взрывает" самое себя. Вечная жажда
уносит человека в неведомое будущее, смешивая
бесчисленные пласты бытия до совпадения всех
противоположностей в целостной органичной жизни. Поистине прав
Паскаль с его бессмертным убеждением "Человек
бесконечно превосходит человека". Это и писательское
кредо Достоевского.
Никто из русских писателей и мыслителей так, как
Достоевский, не пережил умом и сердцем, не выразил
столь ярко тончайшую паскалевскую диалектику величия
и ничтожества человека в ее самой парадоксальной
форме. Человек настолько велик, что его величие
выражается и в его ничтожестве, и вместе с тем настолько
ничтожен, что его ничтожество просвечивает и сквозь его
величие. Для Достоевского антиномично все в этом мире
— даже добро, даже красота, даже любовь. Не могу
согласиться с Бердяевым, что будто у Достоевского все
человеческие святыни как бы пронизаны демонизмом,
дионисийское начало превалирует над аполлоновским,
стихия, тьма и хаос подавляют гармонию и гасят свет.
Но в таком случае зло побеждало бы добро, чего и сам
Бердяев не признает у Достоевского. Не случайно же он
в качестве эпиграфа к своей книге "Миросозерцание
Достоевского" взял слова из Евангелия от Иоанна: "И свет
во тьме светит, и тьма не объяла его". Вот именно!
В этом тайна "дионисизма" у Достоевского, не допуска-
1 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 12.
335
вшего абсолютного падения человека. Вот дьявол пал
абсолютно и лежит, считал он, а человек то падает, то
поднимается. Как и у Паскаля, человек у него занимает
срединное положение между небесной святостью и
земной низостью. Человек проходит мученический путь от
"идеала содомского" к "идеалу Мадонны", хотя бы они
трагически подчас смешивались в его помраченной и
бунтующей душе, как то обнаженно показано в образе
Дмитрия Карамазова.
"Дьявольский динамизм" идей и человеческих
характеров у Достоевского, однако, обусловлен не просто ди-
онисийской стихией, но именно парадоксальным
совпадением противоположностей в самой глубине души.
Поэтому свет вдруг прорезается мглой, как, например,
в светлейшей душе Алеши Карамазова или даже в
слишком страстных высказываниях о человеке старца Зосимы,
отчего старцы Оптиной пустыни не признали его
"своим". Потому и красота не только светит и греет, как,
скажем, первоначально осияла князя Мышкина красота
Настасьи Филипповны, но вдруг "обдает злобой и
холодом" и приносит страдания и несчастья, как то и
случилось с бедным князем. А сам-то идеальный князь Мыш-
кин разве несет одно добро окружающим его людям?
Само добро оказывается антиномически перемешаным
со злом. Человек — тайна и загадка для всякого
внешнего наблюдателя да и для себя самого. Есть в нем какой-
то "иррациональный остаток", какое-то мистическое
начало, которое не поддается никакому рациональному
объяснению, математическому исчислению и плоскому
прогнозированию. Достоевский бунтовал против
ограниченно-рассудочного и объективно-арифметического
подхода к человеку. Нет, нельзя "вычислить человека",
нельзя измерить "бездны его души". Как бы представители
"эфики" (так презрительно Достоевский называл этику)
ни стремились к объективно-научному анализу человека,
он непременно ускользнет, показав им "кукиш в
кармане".
Если "прямоугольный ум" заведомо не справляется
с "мистическим " в человеке, то для сердца подчас
никакой мистики и нет! Но есть интуитивная ясность желаний
и мотивов, любви и ненависти, веры и надежды, свободы
и принуждения. Не разумом единым, как и не хлебом
единым! "У сердца свои законы, которых разум не
знает", — провозгласил Паскаль в "век разума" и утвердил
прерогативы "первичных интуиции сердца". Через два
336
столетия принял эстафету наш русский гений и — не
прервалась связь времен. Достоевский заглянул в
глубины духа человеческого и обнаружил там идеал и
вечность; проник в подводные течения бессознательной
души и постиг ее индивидуальность и "первородную
свободу", исходил лабиринты ума человеческого и увидел его
величие и ничтожество. Паскаль поставил вопрос о
загадках человека, а Достоевский попытался их разгадать.
Конечно, и Паскаль мучился разгадкой и даже дал общий
ответ, увидев его в антиномии первозданного
совершенства человека и его поврежденности в результате
грехопадения. А Достоевский как художник не мог утешиться
абстрактными и отвлеченными истинами, хотя
христианский ответ Паскаля не вызывал у него возражения. Но
ему этого было мало. Он ясно видел "живую жизнь", не
усеченную никакими, хотя бы и самыми грандиозными
идеями, взрывающую их воздушные замки и
стремительно уносящую их обрушившиеся обломки.
"Огненный мир идей" (Бердяев), в котором бьются
герои Достоевского, однако, не сильнее самой жизни,
хотя иногда он и сокрушает охваченного ими человека.
Самый яркий образ в этом отношении, конечно, Иван
Карамазов, который не только Бога отверг, но и
созданный им мир, а все же дороги и ему "клейкие,
распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог
иной человек, которого иной раз... не знаешь, за что
и любишь, дорог иной подвиг человеческий... Тут не ум,
не логика, тут нутром, тут чревом любишь...".
Обреченный на гибель Иван страстно хочет жить и "жизнь
полюбить больше, чем смысл ее". Алеша уточняет:
"Непременно так, полюбить прежде логики... и тогда только
я и смысл пойму"1. Потому что жизнь первичнее и
глубже всякого ее осознания, которое скользит по
поверхности жизни, равно как и плоский, ограниченный
рассудок и даже великий, всеохватывающий разум. Этот
последний обычно самонадеянно претендует на
постижение высших и последних истин, но запутывается в
противоречиях (это еще Кант показал) и нередко падает
жертвой им же самим расставленных ловушек, что и
случилось с Иваном. Не мог он своим "евклидовским умом"
постичь тайну неискупимых страданий детей, "слезки"
которых не могут служить фундаментом хотя бы и миро-
1 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Поли. собр. соч.: В 30 т.
Л., 1976. Т. 14. С. 210.
337
вой гармонии: "Да ведь весь мир познания не стоит тогда
этих слезок ребеночка к "Боженьке". Я не говорю про
страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними... но
эти... Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего
не могу понять, для чего все так устроено... О, по моему,
по жалкому, земному евклидовскому уму моему, я знаю
лишь то, что страдание есть, что виновных нет... — но
ведь это лишь евклидовская дичь... жить по ней я не могу
же согласиться!.. Если все должны страдать, чтобы
страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети?.,
правда эта не от мира сего и мне не понятна... от высшей
гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она
слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка... Да
и слишком дорого оценили гармонию, не по карману
нашему вовсе столько платить за вход... Не Бога я не
принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше
возвращаю"1. Стоя всецело на религиозных позициях,
В. В. Розанов отмечает "опасный, несколько сатанинский
характер" этой диалектики Ивана, потому что в ней
"восстает на Бога божеское же в человеке: именно
чувство в нем справедливости и сознание им своего
достоинства... Пытаться разрушить эту диалектику, всю
исходящую из любящего трепета за человека, кажется, можно
только не любя его... Построить опровержение этой
диалектики, столь же глубокое и строгое, как она сама, без
сомнения составит одну из труднейших задач нашей
философской и богословской литературы в будущем"2.
Сам Розанов был убежден в том, что только через
религию понятны "судьбы человеческие на земле",
поскольку ни науки, ни даже философия не обладают той
степенью всеобщности истины, каковая есть в религии.
По его мнению, есть в христианской религии "три
великих мистических акта", которые служат подлинной
опорой "судеб человеческих": грехопадение, искупление,
вечное возмездие за добро и зло. Какие бы земные бедствия
(война, голод, мор и т. д.) ни постигли человека, считает
он, при наличии этих "мистических актов" существо его
сохранится, ибо опадут только листья, а "завязь и
плодник" его бытия сохранятся. Иван своей диалектикой,
согласно Розанову, подрубает самый корень человечес-
1 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Поли. собр. соч.: В 30 т.
Л., 1976. Т. 14. С. 220—221, 222—223.
2 Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.
Достоевского. Спб., 1902. С. 64.
338
кой жизни, так как обрушивает всю силу своей мысли на
эти "три мистических акта". Ивана не убеждает
религиозное разрешение мучивших его вопросов. Он жаждет
правды на земле, как жаждал этого и Достоевский, жестоко
расплатившийся за интерес к социальным проблемам
и участие в кружке Петрашевского. Писатель верил в то,
что все 90 миллионов русских людей могут быть
"образованы, очеловечены и счастливы". Отсюда его
чуткость к социальным вопросам и внимание к проблемам
нигилизма, революции, социализма — земного устроения
судеб человеческих. Тонко подметил В. Соловьев в
письме К. Н. Леонтьеву: "Достоевский горячо верил в
существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную
трубу, как отдаленный предмет, но стать на
действительно религиозную почву он никогда не умел"1. Не потому
ли Иван так раздвоен и несчастен, а Достоевский до
самой смерти жаждет "рая земного".
Как и Паскаль, он хочет счастья для всех людей, а не
для избранных только. Он хочет утоления страданий
человеческих здесь, на земле. Потому его Иван не может
утешиться религиозными ответами, "исцелиться
Алешей". Жгучая загадка "детских слезок" и вообще
страданий человеческих, кажущихся ему бессмысленными, не
получает у него ни земного, ни религиозного разрешения,
но более, однако, он склонялся к земному наказанию за
страдания детей, жестокому наказанию их мучителей. Он
даже Алешу провоцирует на признание необходимости
"расстрелять мучителей". В предсмертном "Дневнике
писателя 1881 г." Достоевский беспокоится о народе
русском, призывает к "оздоровлению корней" —
возрождению духовного здоровья народа, в котором "начало
всему", истина и правда. Он призывает к духовному
единению сословий, прежде всего интеллигенции и
народа, сетуя на оторванность культурного слоя нации от
народа: "Но улетели мы от народа нашего, просветясь,
на луну и всякую дорогу к нему потеряли"2. Изобличая
"безбожный социализм", попирающий, по его мнению,
права личности и ее духовную свободу, Достоевский,
однако, не отвергает значение самой идеи социализма как
заботы об общем благе и счастье людей. Он усматривает
смысл "русского социализма" "не в коммунизме, не в
механических формах", а в "великом, всеобщем, всенарод-
1 Цит. по: Достоевская Л. Г. Воспоминания. М., 1981. С. 459.
2 Достоевский Ф. М. Искания и размышления. М., 1983. С. 411.
339
ном, всебратском единении во имя Христово". Это он
называет "всенародной и вселенской церковью,
осуществленною на земле..."1. Осуждая распространенный в его
время нигилизм, писатель саркастически называл
нигилизм без социализма — просто "нигилятиной". В письме
А. Майкову от 1870 г. он писал: "Про нигилизм
говорить нечего. Подождите, пока совсем перегниет этот
верхний слой, оторвавшийся от почвы России... А
мерзавцы, однако же!"2. Если религиозный символ веры
Достоевского связан с Христом, то его "светский символ
веры" восходит к народу: "Я лишь за народ стою
прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых
еще никто из нас не знает во всем объеме и величии их,
— как в святыню верую, главное, в спасительное их
назначение, в великий народный охранительный и
зиждительный дух, и жажду лишь одного: да узрят их все"3.
Вот эта поразительная озабоченность судьбами
народными, вера в народ, глубинное уважение к "мнению
народному" объединяет Достоевского и Паскаля. Оба
писателя мечтали о разрешении социальных
катаклизмов и достижении социальной гармонии, не дождавшись
при своей жизни ни того, ни другого. Но никогда ни
Паскаль, ни Достоевский не делали нигилистических
выводов относительно природы человека, видя в ней не
только темное, но и светлое начало, не только ее
ничтожество, но и величие.
Так, Достоевский был убежден, как и Паскаль, что
человек изначально добр и, как бы ни было реально
и убедительно зло, — оно вторично. В рассказе "Сон
смешного человека" Достоевский говорит: "Я не хочу
и не могу верить, чтобы зло было нормальным
состоянием человека". Возвращаясь к Ивану Карамазову, следует
особенно отметить, что в нем сосредоточена не только
разрушительная сила разума, заводящего в тупик и
ведущего ко злу (недаром же Смердяков в "умных
рассуждениях" Ивана почерпнул "теорию" допустимости
убийства собственного отца: "если Бога нет, то все позволено"),
не только интеллектуальное растление совести, но и
просветление ее, правда слишком запоздалое. Нет у
Достоевского такого падения человека, такого его ничтожества,
которое было бы абсолютным и безнадежным. Нет у не-
1 Достоевский Ф. М. Искания и размышления. М., 1983. С. 409—410.
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. 1. С. 119.
3 Там же. С. 415.
340
го "образов-масок" (В. В. Розанов), как символов утраты
человечности, такого "беспредела в падении", какие есть
в "Мертвых душах" Гоголя.
Человеческая, слишком человеческая способность
к страданию характерна не только для таких
высокоинтеллектуальных героев Достоевского, как Раскольников
или Иван Карамазов, но и для героев с более низкой
душевной организацией, как Рогожин или даже Смердя-
ков, "этот миазм, эта гниющая шелуха "павшего в
землю" и умершего зерна" (Розанов)1. Так, Рогожин умеет
любить сильно и самозабвенно и при всей его
необузданной дикости не лишен в душе "идеала Мадонны", потому
и преклоняется перед Настасьей Филипповной, и
приходит в ужас от свершенного преступления. Пусть силы зла
господствуют над ним, но перед нами живой,
страдающий, мечущийся человек, а не "восковая фигура" типа
Плюшкина. Смердяков не только страдает, но и
угрызения совести испытывает, истребляя свою жизнь и не желая
воспользоваться плодами своего преступления. Так "свет
и во тьме светит": ничтожество не гасит абсолютно
величия в падшем человеке, ибо Достоевский считал
невозможным совершенно стереть в нем "лик Божий".
Отсюда для него проистекает абсолютное значение
человеческой личности, ее совести и духовной свободы,
как бы "плутяга-разум" (Розанов), или общество, или
История, или Церковь ни стремились подчас превратить
их в средство для достижения каких бы то ни было
высоких или низменных целей. Совершенно в духе
Паскаля и как будто демонстрируя его учение о трех порядках
бытия, Достоевский утверждает высшую ценность
нравственного порядка, порядка любви и милосердия, и
несводимость его ни к физическому, ни к
интеллектуальному порядкам. Как хорошо говорит в этой связи
Бердяев: "Человек принадлежит глубине вечности". Не
пристало нам вечным жертвовать ради временного,
бесконечным ради конечного, высшим ради низшего,
духовным ради материального. Такова была нравственная
забота, как Паскаля, так и Достоевского, та самая
великая забота, которой так не хватало в их времена и еще
более не хватает современному человечеству.
Весь пафос Легенды о Великом Инквизиторе состоит
отнюдь не в развенчании только католичества как извра-
1 Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.
Достоевского. Спб., 1902. С. 39.
341
щенного, неподлинного христианства, сокровенной
тайной которого, согласно Достоевскому, является неверие
в Бога, и не только бунт против обмана людей и
"принудительного устроения их счастья", но прежде всего протест
против клеветы на человека, против неверия в него и его
причастность "лику Божьему". Достоевский не принимал
как "религию человекобожества", по которой
"сверхчеловек" ставит себя на место Бога (Кириллов), так и религию
Великого Инквизитора, столь низко ценившего людей
и поправшего их духовное достоинство, личность и
свободу. Однако этот антихрист не так прост в своем
преступлении против человечности, потому что не лишен обаяния,
самоотверженности, великой преданности своей идее и,
наконец, искреннего и как будто бы гуманного стремления
"ублагоустроить счастье" большинства человечества.
Преступление Великого Инквизитора — сугубо
нравственного порядка, и свершилось оно в духе и
значительно раньше всех его благих побуждений. С самого начала
он исходит из убеждения в крайнем ничтожестве
человека, в чем он видит "основную тайну природы
человеческой". "Кого ты вознес до Себя? — с укором вопрошает
он Христа. — Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем
ты о нем думал. Может ли... он исполнить то, что и ты?"1
А речь идет о великой духовной свободе, в силу которой
человек способен жертвовать низшим ради высшего:
хлебом земным ради "хлеба небесного", принудительной
силой чуда ради свободы верить, царством земным ради
царства небесного. Христос отверг три искушения,
которым подвергал его злой дух в пустыне. Он не стал
обращать камни в хлебы, сказав: "Не хлебом единым".
Он не бросился вниз со скалы, чтобы не порабощать
людей чудом и тайной. Наконец, он отверг власть кесаря,
т. е. земное могущество. Он сделал это во имя свободы
человеческого духа, не желая привязывать человека к себе
хлебом, тайной и авторитетом. "Ты возжелал свободной
любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою,
прельщенный и плененный тобою, — говорит Великий
Инквизитор Христу. — Вместо твердого древнего закона
— свободный сердцем должен был человек решать
впредь, что добро и что зло, имея лишь в руководстве
твой образ пред собою..."2 Но лишь немногие избранные,
1 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Поли. собр. соч.: В 30 т.
Т. 14. С. 233.
2 Там же. С. 232.
342
самые могучие из людей, считает Инквизитор, смогли
мужественно принять этот "страшный дар свободы",
которая для слабосильного большинства столь же
мучительна, сколь и обольстительна.
Что такое люди для Инквизитора? "Недоделанные
пробные существа, созданные в насмешку". Никогда они
не могут быть свободными, потому что "малосильны,
порочны, ничтожны и бунтовщики"1.
Оттого не могут быть они и счастливыми. Не имея ни
силы, ни мужества быть свободными, они мечтают лишь
о том, кому бы поскорее передать этот "страшный дар
свободы" (вручить совесть свою!), пред кем бы
преклониться и как бы "соединиться в один общий и согласный
муравейник". А без этого человек обречен на
"беспокойство, смятение и несчастье". После того как Великий
Инквизитор столь унизил духовное достоинство
человека, он обосновал необходимость помочь этим
"слабосильным детям", приняв отвергнутые Христом три
искушения: "Мы исправили подвиг твой и основали его на
чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их
вновь повели как стадо... сами же принесли нам свободу
свою и покорно положили ее к ногам нашим"2.
Пятнадцать веков они мучились с этой свободой и наконец
покончили с нею "крепко и вовеки", так что и не допустят
более прихода Христа с его заветом свободы.
Инквизитор убежден, что снять с людей как бы "проклятие
свободы" и дать им "тихое, смиренное счастье", научить их
не гордиться, но послушно во всем следовать их
руководительству и прижиматься к ним в страхе, как птенцы
к наседке, — это долг сильных по отношению к слабым
и выражение истинной любви первых ко вторым. "Они
будут расслабленно трепетать гнева нашего, — говорит
Великий Инквизитор, — умы их оробеют, глаза их станут
слезоточивы... и не будет у них никаких от нас тайн. Мы
будем позволять или запрещать им... все, судя по их
послушанию..."3 Опекая этих "жалких детей", следует
дать им детское счастье, но оно-то и "слаще всякого".
Сам Инквизитор гордится тем, что "они" для
успокоения совести человеческой элиминировали в душе
человека все "необычайное, гадательное и неопределен-
1 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Поли. собр. соч.: В 30 т.
Т. 14. С. 238, 231.
2 Там же. С. 234, 229.
3Там же. С. 236.
343
ное", по сути дела разрешив загадки и тайны его бытия
в ясности простых потребностей и желаний.
Беспредельный цинизм Великого Инквизитора в представлениях
о сущности человеческой природы и принудительное
устроение счастья людей "сверху" прикрывается
благородными фразами о трепетной любви к человечеству,
заботе о судьбах людей, страданиях от великой
ответственности за них и т. д. Однако подобное "устроение
человеческого счастья" весьма напоминает развенчанную
Достоевским еще раньше в "Бесах" зловещую утопию
Шигалева. В ней человечество делится на две неравные
части: одна десятая часть господствует над остальными
девятью десятыми, которые через ряд перерождений
теряют свою личность, свободу и духовное достоинство,
совершенно уравниваются в своем рабстве перед
господами. При этом "первым делом понижается уровень
образования, наук и талантов... не надо высших
способностей! ...Цицерону отрезывается язык, Копернику
выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями, —
излагает "проект" Шигалева Петр Верховенский. — Не
надо образования, довольно науки!., но надо устроиться
послушанию... Мы уморим желание... мы всякого гения
потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю,
полное равенство!.. Необходимо лишь необходимое —
вот девиз земного шара отселе"1. Сам Шигалев считает
свой проект единственно приемлемым и возможным для
устроения "земного рая". Утопии Платона, Руссо, Фурье
годятся, по его мнению, лишь для воробьев, а не для
человеческого общества. "Выходя из безграничной
свободы, я заключаю безграничным деспотизмом", — цинично
заявляет он2. Правильно В. В. Розанов видит в "шигалев-
щине" "грубый и грязный, но уже полный очерк", так
сказать, "мазок углем" будущей Легенды о Великом
Инквизиторе3. То, что хитро и тонко завуалировано
у этого последнего, бесстыдно обнажено у Шигалева,
а именно понижение уровня психической деятельности
человека, апофеоз ничтожества человеческой природы.
Отсюда получается любопытный вывод: тайна
"сострадательного, любящего и страдающего" Инквизитора
заключена в наглом и "помешанном" Шигалеве.
1 Достоевский Ф. М. Бесы // Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 10. С.
322—323.
2Там же. С. 311.
'Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.
Достоевского. С. 166.
344
Алеша Карамазов увидел эту тайну в безбожии
Великого Инквизитора, напрямую связывая неверие его в
человека с неверием в Бога, так что никакого "лика
Божьего" в человеке не было и нет. Иван многозначительно
ответил: "Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался.
И действительно так... только в этом весь секрет..."
Далее Иван делает и соответствующий нравственный
вывод, разоблаченный в своей антигуманной сущности
Достоевским еще в "Преступлении и наказании": "От
формулы "все позволено" я не отрекусь..."1 Но тот же Иван, не
верящий ни в человека, ни в Бога, умом понимает, по
словам Бердяева, "головокружительную высоту идеи
Бога": "...то диво, что такая мысль — мысль о
необходимости Бога — могла залезть в голову такому дикому и
злому животному, как человек, до того она свята, до того
она трогательна, до того премудра и до того она делает
честь человеку"2. А в сочиненной им Легенде о Великом
Инквизиторе с ее мрачным колоритом и безнадежно
низким представлением о человеке есть все-таки слабый
луч света. Оболгав человеческую природу, Инквизитор
вдруг "проговаривается" перед все время молчащим
Христом: "С хлебом тебе давалось бесспорное знамя:
дать хлеб и человек преклонится, ибо ничего нет
бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его
совестью помимо тебя, о, тогда он даже бросит хлеб твой
и пойдет за тем, кто обольстит его совесть. В этом ты
был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том,
чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого
представления себе, для чего ему жить, человек не
согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на
земле, хотя бы кругом его все были хлебы"3.
Эта "маленькая оговорка" бесконечно усугубляет
нравственное преступление Инквизитора, все же знающего
о духовной первосущности человека (его величин!) и тем
не менее строящего свой "проект счастья человеческого"
исключительно на духовном ничтожестве человека. Тем
лицемернее наигранное сострадание Инквизитора
к "жалким детям", и тем страшнее та ложь, которою они
опутываются якобы во имя их благополучия и счастья, но
на самом деле во имя беспредельного господства немно-
1 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Поли. собр. соч.: В 30 т.
Т. 14. С. 238, 240.
2 Там же. С. 214.
3 Там же. С. 232.
345
гих над подавляющим большинством людей,
превращаемых в послушных марионеток. Нравственно чуткий
Алеша хорошо уловил эту низкую "игру в благородство" со
стороны Великого Инквизитора и горячо возразил
Ивану: "Твой страдающий инквизитор одна фантазия". При
всей его трогательной застенчивости и скромности он
обрушивается (со всей страстью самого Достоевского!)
на "худших из католиков" — инквизиторов и иезуитов,
которые преследуют свои земные и корыстные цели "без
всяких тайн и возвышенной грусти". "Совсем они не то...
Они просто римская армия для будущего всемирного
царства, с императором, римским первосвященником во
главе... вот их идеал... Самое простое желание власти,
земных, грязных благ, порабощения... вроде будущего
крепостного права, с тем, что они станут помещиками...
вот и все у них. Никакого у них такого ума и никаких
таких тайн и секретов... Одно разве только безбожие, вот
и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот
и весь его секрет!"1 Бердяев неоднократно упрекал
Достоевского в слишком "черном мнении" о западных
католиках. Но ведь писатель все время подчеркивал, что речь
идет именно об иезуитах, отрицательное представление
о которых утвердилось в русской культуре со времен
Н. И. Новикова.
Критика западного христианства у Достоевского
носит столь страстный характер в силу его понимания
религиозной веры, которой он "жаждал как "трава
иссохшая" и находил ее собственно потому, что в несчастье
яснеет истина" (письмо Н. Д. Фонвизиной от 1854 г. из
Омска)2. Он же хотел верить всем своим существом, всем
сердцем, всей душой своей, но могучий ум смущал его
(как в свое время и Паскаля), погружая в "бездны
каверзных вопросов", запутывая в лабиринтах противоречий,
парадоксов и неразрешимых загадок. От произведения
к произведению пытается Достоевский отвечать на эти
вопросы и "выбраться из лабиринта мыслей". Но и в
последней незавершенной своей книге "Братья Карамазовы"
"огненные вопросы" о Боге, вере, бессмертии и вечности
продолжают мучить его, что он и выразил трагическим
образом Ивана Карамазова. В том же письме Н. Д.
Фонвизиной Достоевский с горечью пишет: "Я скажу Вам
' Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Поли. собр. соч.: В 30 т.
Т. 14. С. 238.
2 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 176.
346
про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до
сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких
страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда
верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во
мне доводов противных"1. С поразительной силой он
пропустил эти "противные доводы" через бунтующее,
смятенное сознание Ивана Карамазова. Во всех
аргументах Ивана против Бога много ума, логики, "сатанинской
диалектики" (В. Розанов) и... мало уверенности,
убежденности, нет, не логической или философской, но живой,
психологической, душевной убежденности. Все время
в его рассуждениях ощущается какой-то духовный
надрыв, предчувствие катастрофы и подспудная жажда веры.
Недаром же он признается Алеше: "Я, может быть, себя
хотел бы исцелить тобою".
Задумывая роман под названием "Житие великого
грешника", Достоевский писал А. Н. Майкову в 1870 г.:
"Главный вопрос, который проведется во всех частях,
тот самый, которым я мучился сознательно и
бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие"2.
Он хотел также написать философский роман "Атеизм",
но ни тот ни другой замысел так и не были
осуществлены, частично реализовавшись в романах "Бесы",
"Подросток", "Братья Карамазовы". Как и Паскаль
в свое время, Достоевский видел "силу атеизма" и
мучился "бездоказательностью веры", хотя и понимал
ограниченность "евклидовского ума". Испытав все
возможные доказательства и поняв их безрезультатность,
Паскаль счел за благо для науки и религии отделить их
друг от друга и успокоиться в лоне "сердечной веры",
религии откровения, отнюдь не требующей
рациональных доказательств. Он считал, что не все можно да
и нужно доказывать. Представление о "личном Боге",
а не "Боге ученых и философов", вера в искупительную
миссию Иисуса Христа не нуждаются в доказательствах.
Впоследствии французский экзистенциалист Габриэль
Марсель будет считать доказательства веры в Бога
просто оскорбительными для Бога. Русским
религиозным мыслителям импонировала паскалевская идея
"личного Бога" и "живая вера" в него, вера не умом, но
сердцем, всем своим существом. В. В. Розанов увидит
в недоказуемости веры в Бога отнюдь не слабость, но
' Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 176.
2Тамже. Т. 29. Кн. 1. С. 11.
347
силу ее, отбросив переживания по поводу
бездоказательности веры, которые мучили Достоевского.
Между тем уже в сибирской ссылке, будучи совсем
молодым (33 года), он как будто решил для себя
"проблему Бога". В упомянутом выше письме Н. Д. Фонвизиной
он говорит ей о своем "символе веры", в котором все для
него ясно и который очень прост: "...верить, что нет ничего
прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее
и совершеннее Христа и не только нет, но с ревнивою
любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того,
если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и
действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше
хотелось бы остаться со Христом, чем с истиной"1. Но
в том же письме он признается, что эта ясность, эта вера
посещают его лишь в иные минуты. А последующее
творчество продемонстрировало и бездны его сомнения.
Между катаклизмами неверия и твердыней веры
мучительно вращалось сознание Достоевского. Не только умение
коснуться крайностей, как говорил Паскаль, но и
заполнить весь промежуток между ними — вот условие
содержательной жизни и широты человеческой души. Как никто,
Достоевский обладал этой широтой, совмещая в своем
сознании ощущение бездны веры и неверия, величия и
ничтожества человека, антиномии разума и страстей, падения
и взлета духа человеческого, трагизма жизни и упоения
жизнью, идеала содомского и идеала Мадонны, острое
чувство вечности и временности бытия, наконец, смерти
и бессмертия. И "широта" эта мучила Достоевского.
Устами Дмитрия Карамазова писатель клеймит эту
"широту": "...широк человек, слишком широк, я бы сузил".
Здесь и страдание от непереносимой сложности,
противоречивости, дисгармонии человеческого бытия, и жажда
цельности, ясности и гармонии, которых не хватало и
самому Достоевскому. Не потому ли трагизм жизни
живописуется им с такой неподражаемой силой, тогда как для
описания радости бытия он не находит столь ярких и
сочных красок? Не потому ли его трагические образы столь
потрясают (Раскольников, Рогожин, Иван и Дмитрий
Карамазовы), а идеальные человеческие типы (князь Мы-
шкин или Алеша Карамазов) как-то "малокровны",
лишены силы жизни и не так убедительны?
Мир неизбывного, неутолимого страдания был ему
известен лучше, чем мир радости и счастья, как и скорб-
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. 1. С. 176.
348
ному Паскалю. Правда, с той разницей, что Достоевский
— в противовес Паскалю — в конце жизни все же
испытал радость личного счастья, благодаря удачной
женитьбе на А. Г. Сниткиной. Однако на страницах его
произведений не прибавилось ни радости, ни счастья.
Миросозерцание Достоевского остается трагическим, опять же
как и у Паскаля. В этом глубокое духовное родство
между ними. Размышляя о судьбах человеческого бытия,
они оба не видели особых оснований для оптимизма.
И не потому, что не верили в человека, абсолютизируя
его ничтожество, а потому, что повсеместно видели
подавляющую неустроенность человека в этом мире. Оба
возлагали некоторые надежды на сильных мира сего
и оба не дождались благодеяний "сверху". Достоевский,
отвергнув революционный путь социальных улучшений,
питал иллюзии относительно русской монархии. Он
верил, что царь поймет, наконец, что народ — "его дети"
и... будет заботиться о них с отцовской любовью. Но под
конец жизни он с тревогой стал замечать, что "верхи" не
думают о народе.
Вряд ли прав Н. Бердяев, полагая, что Достоевский
вообще был против "социального эвдемонизма",
раскрывая его несовместимость с достоинством и свободой
человека. Но ведь он развенчивал одиозные его формы:
в духе утопии Великого Инквизитора или проекта Шига-
лева. Он создает свои знаменитые отрицательные,
отталкивающие символы социального "обустройства" —
"Хрустального дворца", "муравейника" и "курятника"
— равно непригодные для человечества в силу их
примитивности, убогости и вопиющей неадекватности
духовной природе человека, его свободе и нравственному
достоинству. Здесь же лежат корни неприятия им
революции как средства достижения социальной гармонии.
"Пророк русской революции", по выражению Бердяева,
он чутко уловил ее "роковую внутреннюю диалектику",
так что "революция совершилась по Достоевскому"1. Он
предчувствовал ее духовные и нравственные беды:
попрание нравственных святынь, манипуляция личностью,
узурпация ее духовной свободы, "безличная мораль",
идейный деспотизм, принуждение к единению и согласию,
насилие над совестью людей и т. п., что гениально им
было выражено одним емким и зловещим символом
"бесовщина". Увы, многое, слишком многое (надо бы
1 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968. С. 134.
349
меньше!) из мрачных, "апокалиптических" пророчеств
великого гуманиста осуществилось в действительности...
и не только в русской революции. Хорошо говорит Ю. Ф.
Карякин об этом символе Достоевского: "Бесы — это...
все язвы за все века. Перед нами — высшее
художественное обобщение, великий, поистине вселенский
художественный образ..." Бесы — "это, так сказать, прибор для
определения степени социального, политического,
идеологического, духовного разврата". Конечно, Достоевский
не принимал никакой принудительный, казарменный
"социальный эвдемонизм". И все же мечта о "рае земном"
у него остается.
Однако Достоевский обращает эту проблему в
вечность, не удовлетворяясь никаким временным ее
решением. Здесь еще одна, пожалуй, самая "сокровенная
точка" соприкосновения духовного мира русского
писателя с духовным космосом Паскаля. Оба мучительно
переживали феномен смерти как фундаментальный,
определяющий человеческую жизнь. От осмысления
этого феномена, от его оценки, считали они, зависит
весь смысл бытия человеческого. Представление о
смерти как естественном и неизбежном конце жизни,
разделяемое атеистами и материалистами без какого-либо
пантрагизма, кажется чудовищным и Паскалю, и
Достоевскому. Отсюда у Паскаля трагический образ жизни
как "шествия на казнь". Достоевский же в статье
"Приговор" из "Дневника писателя 1876 г." выводит
"формулу логического самоубийцы", стоящего на
материалистических позициях. Осознавая трагизм жизни
ввиду всех ожидающей смерти, французский мыслитель,
однако, не делает вывода об оправданности
самоубийства. Достоевский не только приходит к такому выводу,
но и считает это последнее неизбежным и необходимым
в случае неверия в бессмертие души. Как в свое время
Паскаль, он поражается весьма распространенному
среди людей индифферентному отношению к "этой высшей
идее человеческого существования". К самой последней
в жизни мелочи человек подчас относится внимательнее
и серьезнее, чем к проблеме бессмертия души.
Равнодушен он "не к одной этой идее, а и ко всему, что
жизненно, к правде жизни, ко всему, что дает и питает
жизнь, дает ей здоровье, уничтожает разложение и
зловоние". "Без высшей идеи не может существовать ни
человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна
и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо
350
все остальные "высшие" идеи жизни, которыми может
быть жив человек, лишь из нее одной вытекают"1.
Характерно, что здесь Достоевский считает этот
индифферентизм "даже почти русской особенностью" по сравнению
с другими европейскими нациями, правда, относит его
к "интеллигентному слою", ибо русский народ для него
— это "народ-богоносец", православный народ, не
утративший веры ни в Бога, ни в бессмертие души. В
интеллигентской же среде распространен нигилизм и как его
следствие — индифферентизм и неверие.
Обеспокоенный участившимися случаями
самоубийства среди молодых людей и особенно пораженный
тщательно спланированным и осуществленным самоубийством
семнадцатилетней дочери А. И. Герцена Лизы,
Достоевский дает свой продуманный философский ответ в статье
"Приговор". Недопустимость лишения себя жизни с
точки зрения религиозной он обосновывает от противного,
доказывая неизбежность и необходимость самоубийства
при неверии в вечную жизнь. Он прослеживает ход
рассуждения "логического самоубийцы-материалиста",
который возмущается тем, что произведен на свет без его
воли и по одним лишь "всесильным, вечным и мертвым
законам природы", дабы восполнить какую-то мировую
гармонию. Но он от природы наделен сознанием — в
отличие от животных, которые просто живут и не
рефлексируют о своей жизни. Человек же несчастен в силу
сознания, мучающее его вопросами, на которые он не
в силах ответить. Почему он должен страдать во имя или
мировой гармонии, или счастья всего человечества, когда
он страдать совсем не хочет? Какое ему дело до других,
когда он сам не вечен, и после его смерти ему все равно,
что бы ни творилось в мире и на земле. В конце концов,
"набравшись благородства", он согласился бы
пострадать ради человечества и будущей гармонии и всеобщего
счастья, но ведь род человеческий столь же кратковремен
в масштабах космоса, как и он сам. Так что страдания
и даже счастье его бессмысленны "под условием
грозящего завтра нуля".
Достоевский психологически весьма убедительно
описывает "несчастное сознание" подобного
рефлексирующего субъекта, идущего до логического конца в своих
выводах о жизни и смерти. Помимо указанных вопросов
"логического самоубийцу" мучает еще одна "невыносимо
1 Достоевский Ф. М. Искания и размышления. М., 1983. С. 330.
351
грустная мысль": "...ну, что, если человек был пущен на
землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только
посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или
нет?"1 И что особенно кажется ему возмутительным, так
это полнейшее отсутствие "виноватого" за подобную
бессмысленную и трагическую судьбу человека. Ведь
с природы не спросишь, ибо она не может ответить ни на
жгучий вопрос, ни на страстный призыв несчастного
человека. Он сам с его сознанием — истец и ответчик, судья
и подсудимый — идет и дает ответ. У Достоевского
в общем-то редко возникает тема природы в его
произведениях, но здесь через все это рассуждение проходит
знакомый паскалевский мотив "равнодушной природы"
с ее "вечным молчанием". И в ответ на это ужасающее
человека молчание природы он делает вывод против
жизни и в пользу смерти: "Так как, наконец, при таком
порядке я... нахожу эту комедию со стороны природы
совершенно глупою, а переносить эту комедию с моей
стороны считаю даже унизительным, то... присуждаю эту
природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела
меня на страдание, — вместе со мною к уничтожению...
А так как природу я истребить не могу, то и истребляю
себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в
которой нет виноватого"2.
В этом рассуждении мысль движется от катаклизма
к катаклизму и разрешается трагическим аккордом.
Несомненно, что эта "грустная мелодия" мучила сознание
самого Достоевского, но она — не последнее его слово.
"Формула логического самоубийства" нужна ему не для
развенчания жизни, а для истребления самой мысли
о смерти как тотальном и окончательном исчезновении
человека. В декабрьском выпуске "Дневника писателя
1876 г." Достоевский прямо говорит, что своей статьей
"Приговор" он хотел утвердить "основную и самую
высшую идею человеческого бытия — необходимость и
неизбежность убеждения в бессмертии души человеческой.
Подкладка этой исповеди погибающего "от логического
самоубийства" человека — это необходимость тут же,
сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в ее
бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо
и невыносимо"3. Точнее, без этой веры могут жить плотс-
1 Достоевский Ф. М. Искания и размышления. С. 317.
2 Там же. С. 317—318.
3 Там же. С. 329.
352
кие люди, не поднимающиеся в своем бытии над уровнем
животного существования. Весь смысл их жизни состоит
лишь в том, чтобы "есть, пить, спать, устраивать гнездо
и выводить детей". Достоевский саркастически
добавляет: "О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком
— еще слишком долго будет привлекать человека на
земле, но не в высших типах его. Между тем высшие
типы ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось
всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок,
миллионы людей"1.
Однако человек, по его убеждению, "чуть-чуть
поднявшийся в своем развитии над скотами", не может утратить
идею о бессмертии, которая одна наполняет высшим
смыслом земную жизнь и придает ей разумную цель. "Без
убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей
порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего
смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой
бессознательной тоски) несомненно ведет за собою
самоубийство"2. Великий Инквизитор, исповедовавший ради
слабого человечества свою низменную "философию
хлеба", возразил бы писателю, что он слишком высоко
думает о человеке, для которого на самом деле все хлебом
и кончается. Но Достоевский гуманистически был убежден
в необходимости для человека "высшего смысла жизни",
который он связал с "высшей идеей о бессмертии души".
Обоснование свое он вызывающе назвал "голословным
утверждением", ибо доказать эту веру нельзя, ее можно
только чувствовать. "Если убеждение в бессмертии так
необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно
и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то
и самое бессмертие души человеческой существует
несомненно". "Словом, идея о бессмертии — это сама жизнь,
живая жизнь, ее окончательная формула и главный
источник истины и правильного сознания человечества"3.
Один из оппонентов Достоевского, г-н Энпе, заявил,
что исповедь "логического самоубийцы" — "смешной
и жалкий анахронизм", потому что в нынешний "век
чугунных понятий" никто так не думает, а живут "во что
бы то ни стало", без всяких там рефлексий о высшем
смысле жизни. Отвечая "мудрецам чугунных понятий",
писатель объясняет всплеск самоубийств, в том числе
1 Достоевский Ф. М. Искания и размышления. С. 329.
2 Там же. С. 332.
3 Там же. С. 332—333.
12 Заказ № 4951
353
и среди юной молодежи, распространением не столько
сознательного убеждения в абсурдности жизни, сколько
бессознательной тоски по высшему смыслу жизни. Тоска
эта таинственным образом передается от просвещенного
слоя нации другим категориям людей, которые живут
естественной жизнью и "не испорчены" никакой
углубленной рефлексией о жизни. Особенно уязвимой в этом
отношении оказывается молодежь, которая "решительно
нигде не находит никаких указаний на высший смысл
жизни" и судьба которой очень волнует писателя. Если
бы Достоевский жил в наше время, то он заметил бы
углубление этого процесса. Великий гуманист пророчески
угадал "проклятую болезнь" и нашего времени —
падение духовности, а "крик" его о высшем смысле жизни
актуален и ныне, как никогда.
О том же писал в тиши пор-рояльской кельи Блез
Паскаль, который мучился бездуховностью своего
времени. Один из его "духовных сынов" в нашем веке, Анри
Бергсон, в своей книге "Два источника морали и религии"
призывал современное человечество "наращивать душу",
великую душу, соответствующую весьма "раздутому
телу" (в результате научно-технического прогресса). Еще
раньше, в конце XIX в., как всегда неожиданный подход
к проблеме бессмертия обнаружил В. В. Розанов: "Я жив,
бессмертен, ты этого не знаешь о себе? Итак, умри, мне
остается только похоронить тебя!"1 Совершенно в духе
Паскаля Розанов считает недоказуемыми религиозные
идеи о Боге и бессмертии души. Но в отличие от Паскаля
он не "мучается бездоказательностью веры". "К счастью,
идея бессмертия не относится к числу доказуемых, то есть
для нас внешних, нами усматриваемых идей, — пишет он,
— но благодатно она дается или не дается человеку, как
и вера, и любовь. Нельзя доказать любовь к ближнему,
к ребенку своему или — основательность своей радости;
еще менее можно, выслушав доказательства,
действительно полюбить, начать радоваться"2. Помимо
эмоциональной оценки это почти цитата из "Мыслей" Паскаля.
Поразительное сходство, возможно не обусловленное
никаким влиянием на него французского мыслителя.
Но вот вывод нашего писателя-парадоксалиста,
воинствующий иррационалистический вывод, который при
1 Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.
Достоевского. С. 178.
2 Там же.
354
всем "нерационализме" Паскаля вряд ли приемлем для
него: "Доказуемо для человека лишь второстепенное,
"прочее", что так или иначе существует — ему
безразлично, истина их существования есть для него предмет
любопытства. Что нужно ему, чем жив он — дано ему
с жизнью, как легкие с дыханием, сердце с
кровообращением. Есть люди, предназначенные к жизни, — они
чувствуют бессмертие души, знают о нем; есть обреченные,
без Бога, без любви — они темны к нему. И кажется,
между первыми и вторыми нет общения, и
доказательства как средства такого общения исключены, ненужны"1.
В Паскале был силен ученый, который жаждал
доказательств. Он искал их в жизни и в религии. Не находя их
— огорчался и был вынужден признать бессилие разума
вообще или своего ума в частности. Хотя он понимал,
что интуитивное знание совершеннее, лучше всего, но
считал, что оно менее доступно человеку, который более
склонен к логико-дискурсивному познанию. Розанов же
с гениальной легкостью резко ограничил прерогативы
этого последнего в "живой жизни" и в религии, как это
делали и славянофилы, и Достоевский, и Бердяев. В
общем-то они правы, что и современной психологией
подтверждается, в частности учением о бессознательной
психике, в глубинах которой как раз и скрыты наиболее
значимые мотивы человеческого поведения. В своем
учении о сердце и "тонком уме" Паскаль предчувствовал эту
истину, а Достоевский не только сумел заглянуть в
таинственные глубины психокосмоса, но и с несравненной
убедительностью живописал его тончайшую диалектику.
Хотелось бы закончить весь этот раздел прекрасной
характеристикой, которую дает Розанов "пророческому
видению" Достоевского и которая в равной мере может
быть отнесена и к Паскалю. "Зов к свету", духовному
возрождению человечества, после трагической эпохи его
падения, пишет Розанов, составляет главный момент
в нравственных исканиях Достоевского, "интересы
которого были вне своего дня, зов которого был обращен
к векам и народам, взор — устремлен в вечность"2.
1 Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.
Достоевского. С. 178.
2 Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 197.
355
5. ПАСКАЛЬ И ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Сущность всякой веры состоит в том, что
она придает жизни такой смысл, который
не уничтожается смертью.
В ответах, даваемых верою, хранится
глубочайшая мудрость человечества, и
я не имел права отрицать их на основании
разума.
Л. Толстой. Исповедь
Самое восторженное отношение не только к
творчеству, но и к личности Паскаля было характерно для Льва
Толстого. Нет, он не считал себя, подобно Хомякову,
учеником великого француза: здесь другой уровень
отношения — редчайшей конгениальности между равными
по высоте духовного развития творцами всечеловеческой
культуры. Толстой счастлив ощутить с мыслителями
прошлого нравственное созвучие и тем самым их
душевную поддержку своим мучительным исканиям смысла
жизни, абсолютных ценностей и в конечном счете Бога.
В статье "Христианское учение" он отмечает, что о
смысле жизни учили "все лучшие люди человечества и до
и после Евангелия, начиная с Моисея, Исайи, Конфуция,
древних греков, Будды, Сократа и до Паскаля, Спинозы,
Фихте, Фейербаха"1. Их мудрые мысли вдохновляли его,
помогали в трудные минуты сомнений и даже спасали
в дни кризиса и отчаяния. К Паскалю он обращался всю
жизнь: усваивал его "Мысли" в молодости и любил
перечитывать их в зрелом возрасте, "на большую
голову", что советовал делать друзьям своим и знакомым.
Толстой считал "Мысли" "делом Божьим". В письме
к А. А. Толстой в 1876 г. он восторгается Паскалем и его
"Мыслями": "Какая чудесная книга и его жизнь. Я не
знаю лучше жития"2. Или вот еще аналогичная запись
в Дневнике: "Чудное место Паскаля. Не мог не
умилиться до слез, читая его и сознавая свое полное единение
с этим, умершим сотни лет тому назад, человеком. Каких
еще чудес, когда живешь этим чудом?!"3
Нравился Толстому и "превосходный, чудный язык"
Паскаля, и его писательский стиль, подкупающий своей
искренностью, которую сам Толстой рассматривал как
важнейшее условие "заразительности и достоинства ис-
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 39. С. 119.
2 Там же. Т. 62. С. 262.
3 Там же. Т. 58. С. 86.
356
кусства". В работе. "Что такое искусство?" он пишет
о многообразных выразительных средствах, но по
степени воздействия на чувства людей отдает особое
предпочтение искренности автора: "Более же всего увеличивается
степень заразительности искусства степенью искренности
художника... силой испытанного им этого чувства"1.
Этим своим критерием Толстой оценивал не только
художников, но и философов. Так, скажем, Спиноза казался
ему "не вполне искренним", "не как Паскаль, пишущий
кровью сердца"2. И. С. Тургенев для него "слишком
холоден", хотя все в нем "умно, тонко, художественно".
В книге "Отцы и дети", по его мнению, "нет ни одной
страницы, которая была бы написана одним почерком,
с замиранием сердца, и потому нет ни одной страницы,
которая брала бы за душу"3. Главную задачу искусства
Толстой видел в воспитании нравственных чувств
человека на основе религиозного сознания: "Искусство не есть
наслаждение, утешение или забава; искусство есть
великое дело. Искусство есть орган жизни человечества,
переводящий разумное сознание людей в чувство. "В наше
время общее религиозное сознание людей есть сознание
братства людей и блага их во взаимном единении".
Толстой убежден, что настоящее религиозное искусство
может успешно способствовать тому, чтобы чувства
братства и любви к ближнему стали "привычными чувствами,
инстинктом всех людей"4. Отсюда у него и культ
искренности, без которой невозможно такое сильное и глубокое
воздействие на чувства и сознание личности. Эта же
духовная задача решалась Паскалем в "Мыслях", за что
и ценил Толстой французского мыслителя и считал его
"учителем человечества", слова которого достойны
упоминания даже в молитвах: "...мы истинно молимся,
повторяя слова Христа и не только Христа, — Сократа,
Будды, Лао-Тсе, Паскаля и др., если мы переживаем то
духовное состояние, которое переживали эти люди..."5
Толстой хотел составить жизнеописания Эпиктета,
Сократа, Паскаля, Руссо, но этому замыслу не суждено
было осуществиться.
Зато Толстой реализовал многотомное уникальное
издание "Круга чтения на каждый день", подборку муд-
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 30. С. 149—150.
2 Там же. Т. 55. С. 104.
3 Там же. Т. 7. С. 390.
4 Там же. Т. 30. С. 194, 195.
'Там же. Т. 39. С. 186.
357
рых мыслей выдающихся представителей культуры всех
времен и народов, в котором Паскалю принадлежало
почетное место. Им была подготовлена в 1891 г.
специальная книга "Мысли Паскаля, расположенные по
указанию графа Л. Н. Толстого", которая, к сожалению, не
была издана. А еще раньше, в 1889 г., Толстой
способствовал изданию книги литератора и поэта А. И. Орлова
"Французский мудрец Власий Паскаль. Его жизнь и
труды". В 1903 г. в Москве выходят "Мысли мудрых людей
на каждый день (собраны гр. Л. Н. Толстым)", в 1904—
1908 гг. — "Круг чтения", в 1909 г. — "На каждый день
(учение о жизни, изложенное в изречениях)", в 1910 г. —
"Народный круг чтения". Толстой сам прошел тяжкий
путь познания смысла жизни и хотел помочь людям на
этом пути, снабдив их "мудростью всех веков".
В Паскале он особенно ценил дар провидения высших
истин, вдали от которых блуждает европейское
человечество, но к которым неизбежно должны прийти все люди.
В небольшой статье "Паскаль", предваряющей
"Недельное чтение", он так и пишет о нем: "Человек великого
ума и великого сердца, один из тех людей, который
способен видеть через головы других людей и веков то,
что должно открыться всем людям, один из тех, которых
называют пророками..."1 Толстого роднит с Паскалем
обостренное и подчас драматическое нравственное
чувство, неподкупная совесть, беспощадная логика
умудренного жизнью человека и вместе с тем наивно-детская вера
в добро, а также неистребимое убеждение в том, что за
всеми "завесами бытия" должен быть сокровенный и
высший смысл жизни. Обреченные оба на духовное
"странничество", они двигались в одном направлении: от
осознания суеты жизни — к "чистому житию", от сомнения
— к вере, от людских страданий — к радости и счастью
в Боге, от ужаса неумолимой физической смерти — к
вечной жизни в духе, от спокойной и несколько абстрактной
религиозности — к трепетной интуиции религии Христа.
Фундаментальные истоки их духовности — в
таинственных глубинах человеческого сердца, прозрения которого
они противопоставляли рассуждениям ума, более
поверхностной "инстанции души", не затрагивающей
"внутреннего человека" и не свободной от лукавства, лицемерия
и даже извращения. Это очень толстовское понятие
"извращенного разума", который подчас ловко выдает ложь
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 41. С. 488—489.
358
за истину: "Разум людей, воспитанных в человеческом
обществе, никогда не бывает свободен от извpaщeния,,,.
Как и у Паскаля (разум — "флюгер на ветру" чувств,
страстей, житейских интересов), это не природное
качество ума, не атрибут его, но скорее модус, зависимый во
всех отношениях от "субстанций жизни", каковой
Толстой считает веру человека.
Какова вера — такова и жизнь. А каковы вера и жизнь —
таков и разум. Следует подчеркнуть, что Толстой выделяет
несколько смыслов веры, отнюдь не сводя ее лишь к
религиозной вере. Во-первых, есть простая психологическая вера
как доверие к тем или иным жизненным ценностям,
принятие их без особых размышлений и доказательств.
Здесь легко возникают "обманы веры": ложные идеалы,
приземленные цели, суетные проблемы и т. д. Кто-то верит
в прогресс человечества и стремится ему способствовать.
Другой не поднимается выше погони за чувственными
удовольствиями и со всей страстью служит им, превращая
других в средство для достижения этой своей эгоистической
цели. Третий верит в установленный и общепринятый
порядок жизни и служит клановым интересам, что для
Толстого равносильно служению в конечном счете
личному благу. Вариаций может быть бесконечное множество, но
суть их одна — служение временным, мирским и суетным
интересам. Трагическим "разрешающим аккордом"
подобной жизни является всех настигающая неизбежная смерть.
Во-вторых, Толстой придает вере и более- глубокий,
так сказать, "метафизический смысл". Вера — главная
опора жизни, ее фундамент, благодаря которому
"человек не уничтожает себя, а живет", ибо "вера есть знание
смысла человеческой жизни". Именно в вере заключена
сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь да
верит. "Без веры нельзя жить"2. Однако если смысл
жизни связан с конечными и временными предметами,
какими бы возвышенными они ни были (наука, искусство,
философия), то конец жизни все равно трагичен, что
обессмысливает и саму жизнь. Итак, круг замкнулся,
далее — тупик, из которого, согласно Толстому, не
выбраться светскому сознанию, мирскому разуму и
безрелигиозной вере также. Оказывается, недостаточно
поверить в какой-то смысл жизни, но необходимо найти
1 Толстой Л. Н. Христианское учение // Поли. собр. соч.: В 90 т. Т.
39. С. 151.
2 Толстой Л. Н. Исповедь // Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С. 35.
359
такой ее смысл, который бы не уничтожался смертью.
"Человеку для его блага нужны две веры: одно — верить,
что есть объяснение смысла жизни, и другое — найти
это наилучшее объяснение жизни"1. Последнее Толстой
увидел только в религиозной вере, точнее, в вере в учение
Иисуса Христа. По сравнению с "верой-доверием" и
любой психологически достоверной светской верой
христианская вера одна придает жизни такой "высший смысл",
который никак не может быть уничтожен смертью.
С неподражаемой искренностью Толстой описывает
в своей "Исповеди" коллизии суетного безрелигиозного
сознания, потрясенного трагизмом жизни ввиду
поджидающего всех "дракона смерти". Тема эта очень личная,
экзистенциальная как для Толстого, так и для Паскаля.
Оба заглянули в эту "бездну" и спаслись лишь
христианской религией, а точнее, Христом, как в свое время
и Достоевский... Так от веры в различные суетные
ценности жизни они перешли к религиозной вере, вере в Христа
и его учение, в котором единственно они увидели
спасение как от многострадальной суетности жизни, так и от
ужаса смерти. Конечно, Толстой прошел этот путь вслед
за многими, в том числе и за Паскалем, но не они
научили его Истине. Здесь тот самый случай, когда у
других научиться нельзя, как "нельзя умереть за другого".
Толстой, как и Паскаль, прошел этот путь один и нашел
свою Истину, "своего личного Бога", после чего этот
путь мог оказаться поучительным и для других.
Толчком для религиозного обращения Толстого
послужило созерцание смертной казни в Париже, которая
"обличила шаткость его суеверия прогресса". Вот тут
и возникла в его сознании паскалевская дихотомия
разума и сердца. С 16 лет он "верил в совершенствование",
а позже — ив социальный прогресс, не без влияния
философии Гегеля и его идеи о "разумности
существующего"2. Разумом Толстой хорошо понимал, что есть
заведенный в обществе порядок судопроизводства и
наказания за преступления, но... сердце его не принимало
1 Толстой Л. Н. Недельное чтение. Паскаль // Поли. собр. соч.: В 90
т. Т. 4L С. 481.
2 В светских кругах тезис Гегеля "все действительное разумно"
трансформировался в совсем другой: "все, что существует, то разумно".
Толстой в "Исповеди" пользуется этой последней формулой. Между
тем для Гегеля "действительное" и "существующее" не были
синонимами, и разумным было лишь "действительное", т. е. соответствующее
своему понятию, а не "все существующее".
360
этой казни и осуждало ее как совсем "ненужную". Это
было непреодолимое чувство осуждения смерти в тот
ужасный момент, когда голова казненного отделилась
от тела "и то, и другое врозь застучало в ящике"1. Вся
сила жизни в нем взбунтовалась против смерти. Однако
разум с его неумолимой логикой, проследив до конца
путь жизни человеческой, "уперся в смерть" и не
оставил ни малейшей надежды на спасение. Не более
утешали здесь все опытные и точные науки, а также и любая
умозрительная философия, в обращении к которым
пытался Толстой найти "отгадку смерти". Как и
Паскаля в свое время, Толстого поразила полнейшая
беспомощность "наук о человеке (физиологии, психологии,
биологии, социологии)" разрешить загадки
человеческого бытия и главную из них: "В чем смысл жизни
перед лицом смерти?" Толстой выразил ее еще более
остро: "Есть ли в моей жизни такой смысл, который не
уничтожался бы неизбежно предстоящей мне
смертью?"2
"Испытания смертью" ничто не выдержало.
"Разумное знание в лице ученых и мудрых отрицает
смысл жизни...", "бессмыслица жизни — есть
единственное несомненное знание, доступное человеку",
— приходит к заключению Толстой3 и видит отсюда
четыре возможных выхода. Во-первых, можно просто
жить, в полном неведении подобных вопросов. Во-
вторых, взять реванш за трагический конец максимумом
наслаждений в этой жизни. В-третьих, убить себя,
не желая терпеть "бессмыслицу жизни". В-четвертых,
продолжать "тянуть лямку" не в силах покончить
с собой. Толстой обнаружил, что разумной
убедительности доводов, всему разумному знанию
противостояло "что-то", не только мешавшее реализации
замысла самоубийства, но и направлявшее ум в другую
сторону. "Жизнь есть все. Разум есть плод жизни,
и разум этот отрицает самую жизнь. Я чувствовал,
что тут что-то неладно"4. Зафиксировав одну антиномию
— разума и жизни, Толстой вскоре открывает и другую
— разума и веры: "В разуме ничего нет, кроме
отрицания жизни, а в вере — ничего, кроме отрицания
1 Толстой Л. И. Исповедь // Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С. 8.
2Тамже. С. 16—17.
3 Там же. С. 33, 16.
4 Там же. С. 29.
361
разума"'. Первую антиномию он фактически разрешил
в пользу жизни, которая оказалась сильнее всех разумных
доводов против нее. Во второй антиномии разум также
потерпел фиаско, ибо вера и была той "субстанцией
жизни", которую искал и "не мог не откинуть" сам
разум.
Толстой обратил внимание на тот простой и
бесспорный факт, что люди-то живут и в силу не бессмыслицы,
но именно известного им смысла жизни, не
уничтожаемого смертью. Помимо разумного знания у
человечества есть какое-то другое, "неразумное знание", дающее
возможность жить. Но это и есть вера, исходящая из
сердца человеческого, причем вера религиозная, которая
одна придает конечному существованию человека
"смысл бесконечного бытия". Она вырывает человека
из-под власти временных вещей и ставит его под защиту
Бога: "...стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть,
не верить в Него, и я умираю". "Так чего же я ищу еще?
— вскрикнул во мне голос. — Так вот Он. Он — то, без
чего нельзя жить. Знать Бога и жить — одно. Бог есть
жизнь"2. С Богом дана не только возможность жизни, но
и более того — радость и счастье бытия. В "Исповеди"
Толстой описывает свой сон, используя паскалевский
образ "бездны" для иллюстрации выбора веры: будто он
лежит на помочах над страшной бездной внизу и
старается смотреть вверх, чтобы не сорваться в нее. "Я смотрю
в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу
и действительно забываю. Бесконечность внизу
отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает
и утверждает меня"3. Так демонстрирует Толстой
трагизм жизни без веры и спасение верой.
Он особенно подчеркивает, как и Паскаль, личный,
живой, экзистенциальный характер веры, которой
жаждет сердце, а не праздный ум. Толстой согласен с Кантом
в том, что невозможно доказать бытие Бога, в чем еще
раньше и Паскаль убедился. Но это не обескураживает
Толстого, и он не делает отсюда атеистических выводов,
ибо давно осознал, что "знание истины можно найти
только жизнью", и... продолжал искать Бога. Это
"искание Бога было не рассуждение, но чувство, потому что
это искание вытекало не из моего хода мыслей, — оно
1 Толстой Л. Н. Исповедь // Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С. 33.
2 Там же. С. 45—46.
3Там же. С. 58.
362
было даже противоположно им, — но оно вытекало из
сердца. Это было чувство страха, сиротливости,
одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то
помощь"1. Стоило лишь на мгновение допустить, что Бог
есть, как все эти тягостные ощущения исчезали, а на
смену им приходило сознание защищенности и прочности
бытия. Утлое суденышко в "океане жизни", до того
бросаемое по воле волн из стороны в сторону,
поворачивает наконец к берегу. "Берег — это был Бог,
направление — это было Предание, весла — это была данная мне
свобода выгрестись к берегу — соединиться с Богом", —
пишет Толстой в "Исповеди"2. Он отрекся от
"лицемерной веры аристократов", которые не жили в согласии
с ней, и принял "веру народа", "простых русских
мужиков", у которых, по его мнению, была "настоящая вера",
необходимая им для жизни, придававшая ей смысл. Он
даже завидовал этой "простой вере" неученых и
безграмотных людей, которые не были испорчены ни
"праздным умствованием", ни философской рефлексией, ни
рафинированными сомнениями, столь измучившими его
самого. То, что знали они естественно, ему давалось
с большим трудом. Ему ли было не понять "мучений"
Паскаля-ученого от "бездоказательности веры"!
В 1876 г. в письме к А. А. Толстой он пишет, еще не
придя к вере: "Я знаю, что чем больше я буду думать,
тем меньше могу верить, и что если приду к этому, то
чудом..."3 В 1879 г. в "Исповеди" он говорит уже о
счастье обретения веры сердцем. Еще четыре года спустя
в работе "Религия и нравственность" Толстой уже вполне
осознает религиозную веру как "откровение", для
обретения которого не требуется ни научных, ни философских
знаний. Более того, откровение вообще противостоит
чисто рассудочному постижению мира. Вот почему оно
скорее доступно "неученым людям и детям, которые
ясно, сознательно и легко принимают высшее
христианское жизнепонимание, тогда как ученые и культурные
люди продолжают коснеть в самом грубом язычестве"4.
Так, для "культурной толпы" сущность религии сводится
к олицетворению и обоготворению природных сил и
поклонению им, причиной чего является суеверный страх
1 Толстой Л. Н. Исповедь // Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С.
43-^4.
2 Там же. С. 47.
3 Там же. Т. 62. С. 261.
4 Там же. Т. 39. С. 14. -
363
перед непонятными явлениями природы. Здесь Толстой
приводит весьма распространенное в европейской
культуре атеистическое объяснение происхождения
"религиозных предрассудков". По мере прогресса научного
познания, продолжает он, падает оплот религии — неведение
и порождаемый им страх. Так что Огюст Конт считает
религию уже пройденной стадией в развитии
человечества. Но в таком случае, недоумевает Толстой, чем
объяснить, что среди верующих были и есть "отнюдь не
невежды: Сократы, Декарты, Ньютоны"?
Он не принимает столь примитивное объяснение
религии. Для него "религия есть установленное человеком
между собой и вечным бесконечным миром или началом
и первопричиной его известное отношение", суть
которого состоит в духовном усыновлении человека Богом,
пославшим его в мир, и в "признании человеком себя
орудием высшей воли для исполнения ее целей"1.
Религиозное отношение человека к миру первично,
фундаментально, "должно быть установлено прежде, чем может
начаться какая-либо философия или наука"2. Именно
религия определяет место человека в мире и смысл его
жизни, что постигается не одним умом, но и чувствами,
"всей совокупностью духовных сил человека", "всем
сердцем", "всей душой". Человек без религии — все
равно что человек без сердца. Потому и не требуется
никакое сложное и активное "обучение религии". Она
дается без всякой мистики непосредственным
усмотрением Бога сердцем, этого "Солнца истины", что на
богословском языке, подчеркивает Толстой, и называется
"откровением". "Свойства же, делающие одних людей более
других способными воспринимать эту восходящую
истину, не какие-либо особенные активные качества ума, а,
напротив, суть редко совпадающие с большим и
любопытном умом пассивные свойства сердца: отречение от
суеты мира, сознание своего материального ничтожества,
правдивость, как мы это и видим на всех основателях
религии, никогда не отличавшихся ни философскими, ни
научными знаниями"3. Знаменитый тезис Гераклита
"Многознание уму не научает" можно перефразировать
по отношению к религии: "Многознание религии не
научает". Именно такого упоминания о Гераклите нет у Тол-
' Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 39. С. 16—17.
2 Там же. С. 13.
3Там же. С. 15.
364
стого, но оно легко напрашивается в связи с его
размышлениями о религии и учености. Не случайно же он
"ученой вере" аристократов предпочитает "естественную
религию" народа, уходящую своими корнями в
"глубочайшую мудрость человечества": "...русский полуграмотный
мужик-сектант без малейшего усилия мысли признает
смысл жизни в том самом, в чем его полагали
величайшие мудрецы мира: Эпиктеты, Марки Аврелии, Сенеки,
— в сознании себя орудием воли божией, сыном Бога"1.
Толстой весьма близок Паскалю в трактовке самого
феномена веры. Здесь и постижение Бога сердцем. И
живая искренняя вера в личного Бога-спасителя. И, по сути
дела, паскалевское требование "поглупеть", чтобы сердце
человеческое открылось "Солнцу истины". Много и
других сходных моментов.
Так, вслед за Паскалем Толстой говорит о
бесполезности и ненужности науки для решения "слишком
человеческих" вопросов о смысле жизни и смерти, об
отношении человека к началу мира и "пославшему его в мир".
Люди науки, "севшие теперь на седалище Моисеевом", не
без сарказма говорит Толстой, самоуверенно считают,
что христианство якобы отстало от них на 1800 лет, тогда
как, напротив, они-то и отстали от христианства ровно на
1800 лет. Более того, он усиливает антисциентизм
Паскаля, указывая не только на бесполезность науки, но и на
"вредные ее последствия" в деле духовного просвещения
человечества. Наука угождает "плотскому человеку",
тогда как религия обращается к духовной личности. Науке
нет дела до высших запросов человеческого Я, она
служит конкретным, временным и витальным потребностям
человека. Наука "равнодушна" к нравственному порядку
бытия, который особенно близок религии.
Поскольку религия рассматривается Толстым как
первичное отношение человека к миру, постольку именно
в ней укоренена нравственность как вечная ценность
жизни, с вечностью (Богом) связанная и вечностью питаемая.
"Нравственность не может быть независима от религии,
потому что она есть не только последствие религии... но
она включена уже, impliqués, в религию"2. Ведь
нравственность вытекает из даваемого религией объяснения
жизни и смерти, из "божеского отношения" к людям.
Попытки основать нравственность без религии Толстой
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 39. С. 14.
2 Там же. С. 19.
365
уподобляет неразумным действиям детей, которые,
желая пересадить понравившееся им растение, отрывают от
него не приглянувшийся им корень и просто втыкают
растение в землю. "Без религиозной основы, — убежден
Толстой, — не может быть никакой настоящей,
непритворной нравственности, точно так же, как без корня не
может быть настоящего растения"1. По той же причине
и Паскаль характеризует нравственный порядок бытия
как сверхъестественный. Оба они принимают
евангельскую мораль ненасилия с ее заветом любви к Богу и всеми
конкретными заповедями, столь мало реализуемыми
в обществах насилия и несправедливости. Толстой прямо
говорит, что социальный порядок покоится на
безнравственных законах, при которых возможны угнетение одних
людей другими, неправое судопроизводство, пытки,
казни, войны и т. п. Чтобы остаться нравственным в таком
обществе, необходимо нарушить все его законы.
С огромной силой обличения Толстой пишет в
"Исповеди" о порочных нравах аристократического
общества, к которому сам принадлежал и нравам которого
следовал. "Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие,
любострастие, гордость, гнев, месть — все это
уважалось... Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу
вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне,
вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты,
проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал.
Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство,
насилие, убийство... Не было преступления, которого бы
я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и
считают мои сверстники сравнительно нравственным
человеком. Так я жил десять лет"2. Не меняя ни одной буквы,
ни одной запятой, можно эту характеристику нравов
высшего общества отнести и к временам Паскаля. Чем не
иезуитский вариант "ослабленной морали",
разрешающей все, что выгодно и полезно человеку-эгоисту! Всю
эту порчу нравов Толстой связывает с отсутствием Бога
в душе аристократа, хотя бы и посещающего церковь,
и возносящего молитвы к Богу. Как и Паскаль, он
заклеймил подобные "безбожные нравы" и стал адептом
евангельской морали. Он противопоставил
безнравственному и бесчеловечному "учению мира" христианскую
религию любви.
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 39. С. 26.
2 Там же. Т. 23. С. 4— 5.
366
Как сказано в Евангелии, подчеркивает Толстой, "Бог
есть любовь". Значит, любовь к Богу есть любовь к людям,
служение им, братское единение с ними, а не эгоистическая
любовь к себе и "пользование людьми" как средством для
реализации своих целей. Потому Толстому нравится пусть
звучащая жестко и бескомпромиссно мысль Паскаля:
"Надо любить только Бога и ненавидеть только себя".
Большой фрагмент о себялюбии из "Мыслей", равно как
множество других фрагментов (о любви к людям, тщете
удовольствий и развлечений, об использовании во благо
болезней, смысле жизни, ее трагизме, духовном
совершенствовании и др.), Толстой включает в свои сборники
"Мысли мудрых людей на каждый день". Как и Паскаль,
он разоблачает гибельность эгоистического поведения для
человека. Теоретически он обосновывает это в религиозно-
философском очерке "В чем моя вера?". "Ключ к
пониманию учения Христа" Толстой увидел в идее единения со
всеми людьми, ибо метафизической основой христианства
является любовь к Богу, к людям, не только ближним, но
и к дальним, а также и к врагам своим, ко всем
проклинающим, ненавидящим, обижающим и гонящим вас. Смысл
жизни состоит не в личном счастье, а в служении всем,
в единении со всеми. Все личное недолговечно, временно
и смертно. И вообще, человек не для того рождается,
чтобы ему служили и работали на него, а, наоборот, чтобы
служить всем и общему благу. Речь идет о жертвенной
христианской любви, в чем он видит сущность
христианства. С нею связан и второй важнейший элемент толстовской
этики — знаменитое "непротивление злу насилием":
"Движение к добру человечества совершается не мучителями,
а мучениками. Как огонь не тушит огня, так зло не может
потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь
им, побеждает зло... Всякий ход вперед сделан только во
имя непротивления злу"1.
Следует отметить, что "этика ненасилия" Толстого
имеет свои корни не только в христианстве. Есть и более
древние истоки этой всечеловеческой мудрости, о
которых прекрасно знал Толстой, постоянно цитируя Будду
или Лао-цзы. Так, например, в буддийской "Дхаммапа-
де" есть аналогичное высказывание: "Ибо никогда в этом
мире ненависть не прекращается ненавистью, но
отсутствием ненависти прекращается она"2. Кроме того, Тол-
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С. 334.
2Дхаммапада. М., 1956. С. 32.
367
стой чутко воспринял эту гуманистическую традицию
и в европейской светской культуре. Когда в 1904 г.
началась русско-японская война, он выступил с резкой статьей
"Одумайтесь": "Опять война. Опять никому не нужные,
ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять
всеобщее одурение, озверение людей... Точно как будто не
было ни Вольтера, ни Монтеня, ни Паскаля, ни Свифта,
ни Канта, ни Спинозы, ни сотен других писателей, с
большой силой обличавших бессмысленность, ненужность
войны и изображавших ее жестокость,
безнравственность, дикость, и, главное, точно как будто не было
Христа и его проповеди о братстве людей и любви к Богу
и людям"1. Все лучи христианского учения сошлись для
Толстого в идее любви к Богу и людям и мира между
людьми. Точнее, сияющий центр христианского учения
для него — это Любовь; все остальные блага — ее
производные (единение и братство людей, мир между
народами, милосердие, самоотверженность, сострадание
и т.д.). Любовь и мир, мир и Любовь — вот царство Бога
на земле и доступное для людей Высшее благо.
Проникнувшись религией Христа, Толстой
противопоставил его светлое и спасительное учение коварному
и опасному "учению мира", оправдывающему всяческое
насилие и, вместо нравственной основы, навязавшему
цивилизованному человечеству "религию повиновения
существующей власти", "веру в городового и урядника"2.
С гениальной наивностью он поражается
безрелигиозному выбору западного человечества,
распространившейся "заразе свободомыслия и нигилизма". Во всем этом он
видит победу тела над духом, светского начала над
религиозным, утилитарно-земных и относительных ценностей
жизни над вечными нравственными абсолютами. Итак,
падение духовности и понижение уровня нравственности
Толстой связывает с забвением учения Христа в
западном мире, от которого и Россия не отстает, правда,
в лице своей аристократии, но отнюдь не народа.
Между тем христианское учение просто и доступно
всем. Оно могло бы избавить человечество, по мнению
Толстого, от девяти десятых страданий, которые
претерпевают люди "во имя учения мира". Если древние евреи
должны были исполнять 613 заповедей, то у Христа их
всего десять. Но парадоксальнее всего тот факт, что им
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 36. С. 101, 108.
2 Там же. Т. 23. С. 445, 447.
368
не следуют не только светские люди, но и
церковнослужители также. И Толстой обрушивает свою критику на
церковь, которая, считает он, давно изменила учению
Христа, фактически приняв "учение мира" и оправдав
царящее в мире зло. В общем, претензии к церкви у него
те же самые, что у Паскаля — к иезуитам: отступление от
христовой морали, приверженность соблазнам мира, от
которых предостерегал Христос, внешний культ вместо
"живой веры". В "Исследовании догматического
богословия" Толстой прослеживает многочисленные
отступления церковных иерархов от учения Христа как в
теории, так и в жизни. Вместо бедности — роскошь, вместо
любви и братства — разжигание ненависти ко всем
иноверцам и инакомыслящим, вместо непротивления злу
насилием — суды, казни, пытки, войны. Церковь со
времен Константина стала враждебной христианству.
Толстой приходит к выводу: "Церковь... есть название
обмана, посредством которого одни люди хотят
властвовать над другими. И другой нет и не может быть
Церкви... таинство священства нужно для попов, чтобы
собирать яйца"1. Он различает "поповскую внешнюю
веру", которая выражается не в спорах (как у
богословов), а в делах и поступках. Другие религии требуют от
верующих поступков и соответствующей учению жизни,
и "только псевдохристианство не требует ничего", кроме
соблюдения церковных обрядов таинства, которые
совершаются не самим верующим, но служителями церкви над
ним: "его и окрестят, и помажут, и причастят, и
особоруют, и исповедуют даже глухою исповедью, и помолятся
за него — и он спасен"2. Посредничество церкви столь
фатально для верующих, полагает Толстой, что их
"вера" живет лишь под ее свободами, а не в самой жизни.
Но он убежден, что "христово учение есть уже само по
себе протестантизм, то есть отрицание не только
обрядных постановлений иудаизма, но и всякого внешнего
богопочитания". Потому "церковное учение, несмотря на
то, что оно назвало себя христианским, есть та самая
тьма, против которой боролся Христос и велел бороться
своим ученикам"3. Толстой согласен признать, что
церковь, как "один из органов Христа", была когда-то
необходимой, как необходима "утроба матери для вынашива-
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С. 301.
2 Там же. С. 439.
3 Там же. С. 438, 437.
369
ния младенца". Но после того как ребенок родился,
пуповина обрезается, и он начинает жить не в столь
тесной связи с матерью, как то было до его рождения.
Так и церковь, когда "сделала свое дело — стала
ненужной, стала помехой"1. Давно уже жизнь мира идет
независимо от церкви, которая осталась далеко позади,
и "люди мира не слышат уже голосов учителей Церкви".
"Все, что точно живет, а не уныло злобится, не живя,
а только мешая жить другим... отпало от церкви и всяких
церквей..."2 С удовлетворением Толстой отмечает, что
так обстоит дело не только в "гнилой Западной Европе",
но и в России, которая "в смысле отпадения от церкви,
слава Богу, гораздо гнилее Европы"3. Русскую
церковную иерархию он бичует еще больше, чем западную: "В
спорах с католиками и протестантами наша иерархия
если имеет какой-нибудь отличительный характер, то
характер глупости и совершенного неумения выражаться
по законам логики... Католики по логике правее"4. Все
эти резкие выпады против церкви, естественно, не были
не замечены, и в 1901 г. Святейший Синод отлучил
писателя-бунтаря от православной церкви.
Антицерковная направленность Толстого заставляет
его осудить любимого им Паскаля за приверженность
католицизму, в котором он столь же мало видит
преданности учению Христа, как и в русском православии. Этим
Толстой весьма отличается от славянофилов, которые
идеализировали православие, считая его единственным
в Европе вероучением, сохранившим и пронесшим через
века религию Христа. Впрочем, они ведь не
обольщались, как и Толстой, относительно русской церковной
иерархии, усматривая верность идеалам Христа прежде
всего в русском народе. "Великую заслугу" Паскаля
Толстой видит в том, что он "неотразимо доказал в своей
удивительной книге... необходимость веры,
невозможность человеческой жизни без веры... Паскаль показывает
людям, что люди без религии — или животные, или
сумасшедшие, тыкает их носом в их безобразие и
безумие, показывает им, что никакая наука не может
заменить религию"5. Он указывает на трагическую судьбу
"Мыслей" Паскаля — этой "пророческой книги", перед
' Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 23. С. 448.
2 Там же. С. 441, 440.
3Там же. С. 441.
4 Там же. С. 263.
5 Там же. Т. 41. С. 483.
370
которой в "недоумении останавливается толпа,
пораженная силой пророческого слова..."'. Но, не в состоянии
подняться до уровня "высшего религиозного сознания",
на котором стоял Паскаль, несведущие люди толкуют
его книгу вкривь и вкось, не проникая в ее сокровенный
смысл. К тому же является пошлый "знаток" всего и,
переосмысливая все по-своему, отметает его
"мистические рассуждения о судьбе человека и о будущей жизни",
на потребу низкому вкусу не поднимая толпу до Паскаля,
но опуская его до нее. Находятся и такие
"интерпретаторы", сетует Толстой, которые объявляют непонятные им
рассуждения Паскаля "плодом его болезненной
ненормальности". Так оказывается под спудом его
пророческая книга, долгое время непонятая и по достоинству не
оцененная. "Но свет и во тьме светит", — говорит
Толстой словами Евангелия, и появляются духовные люди,
понимающие все значение замечательных прозрений
Паскаля.
Но вот что поражает Толстого в этом
необыкновенном пророке, так это его якобы "детская вера" в
догматический католицизм. "Как человек, умирающий от
жажды, набрасывается на воду, которая есть перед ним,
не разбирая ее качества, так Паскаль, не разбирая
качества того католицизма, в котором он был воспитан, видел
в нем истину спасения людей. Довольно, что вода,
довольно, что вера"2. Отсюда Толстой делает весьма
любопытный вывод: "Нельзя себе представить гениального,
правдивого перед самим собой Паскаля, верующего в
католичество. Он не успел подвергнуть его той силе мысли,
которую он направил на доказательство необходимости
веры, и потому в душе его догматический католицизм
остался целым"3. Приведу в этой связи еще одно
высказывание Толстого из его беседы с французским
журналистом Бурдоном: "Ах, Паскаль, вот писатель, что за ум,
что за человек! Какое несчастье, что он сбился с пути во
второй части своих "Мыслей" и что у него не хватило
силы идти до конца!.. Да, это так, он испугался, он сам
нагнал на себя ужас, церковное учение вновь овладело
им, и он умер, не освободившись"4. Однако Толстой не
совсем прав. Конечно, Паскаль, подобно янсенистам из
1 Толстой Л. И. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 41. С. 482.
2 Там же.
3Там же.
4 Литературное наследство. Т. 95, кн. 2. С. 50—51.
371
Пор-Рояля, не отделял себя от католической церкви,
стремясь отмежеваться от протестантской ереси и осуждая
раскол в западной церкви. "Проклятие раскола" для него
подчас было хуже даже иезуитского нечестия. Тем не
менее не было у Паскаля никакой "детской веры" в
догматический католицизм, о чем и "Мысли"
свидетельствуют, и обращение к ним религиозных модернистов, а
главное — осуждение янсенистов римско-католической
церковью и предание суду инквизиции "Писем к
провинциалу" с последующим их сожжением. Умер Паскаль, не
примирившись с официальной церковью, которую тогда
во Франции иезуиты представляли. Как и в случае с И. С.
Тургеневым, видимо, Толстой не располагал всей
объективной информацией относительно религиозной и
церковной позиции Паскаля.
Еще одна оценка Толстого требует уточнения — это
его сравнение Паскаля с Гоголем, которого он называл
"нашим Паскалем". Он даже признавался, что "по
Гоголю понял Паскаля". Прежде всего Толстой отмечает, что
оба они "очень скоро достигли той славы, которой
страстно желали, и оба, достигнув ее, тотчас же поняли всю
тщету того, что казалось им самым высоким, самым
драгоценным в мире благом, и оба ужаснулись тому
соблазну, во власти которого находились"1. В этом он
усматривает причину "страстного отношения к вере",
которым отличались и Паскаль, и Гоголь, а также
причину их "пренебрежения ко всему, сделанному ими прежде".
Оба они сосредоточились на одной вере, объясняющей
им смысл этой преходящей жизни и ожидающей их
смерти. Только вера давала им "твердое направление всей их
деятельности"2. Все это верно — сходство их
человеческих судеб налицо: "полет к славе" и... презрение ее,
жестокая требовательность к себе, экзальтированная
религиозность и тяготение к "житию", жажда идеала и
гармонии, преждевременная смерть. Кстати, сопоставление
Гоголя с Паскалем можно встретить и у Розанова. Он
говорит о "тайной внутренней инквизиции", которой они
себя подвергали. В момент сожжения рукописи Гоголем
"с ним повел бы взаимно-понятную речь Паскаль"3.
Проницательно подметил Розанов своеобразное "гениальное
безумие" обоих писателей, "безумие" не в медицинском
1 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т. 41. С. 477.
2 Там же. С. 478.
3 Розанов В. В. Мысли о литературе. С. 295.
372
и не в логическом, но в "метафизическом смысле". Здесь не
столько мысль "безумствует", сколько "воля, сердце,
совесть", "грех" в нас, "святость" в нас, где миры здешний
и "тамошний" странно перепутываются,
взаимодействуют, человеку открываются "небеса", и вообще он
ощущает, видит и знает много вещей, весьма странных с точки
зрения аптекарского магазина и департамента
железнодорожных дел, но не очень уже странных для священника,
отшельника, святого, ясновидящего, для Платона,
Паскаля и, может быть, для каких-нибудь мудрецов Индии или
сектантов Ирана"1. Что же касается "Мыслей" Паскаля, то
Розанов видит как родство, так и отличие их от
"Переписки" Гоголя. Называя Паскаля "святым", он совершенно не
верит в "святость Гоголя", более того, не верит вообще
в его религиозность, полагая, что Гоголь остался где-то на
полпути между язычеством и христианством. Розанову
мнится в Гоголе "демон, хватающийся боязливо за
крест"2. Он усматривает в "таинственном гении" Гоголя
нечто "сатанинское", а в его знаменитых художественных
образах ( Плюшкин, Собакевич и др.)— зловещие и
безжизненные "восковые фигуры", олицетворяющие
человеческое ничтожество. От соприкосновения с "этими
вековечными гоголевскими мертвецами" становится ясной "истина,
что человек может только презирать человека"3.
Нельзя согласиться с розановскими резкими (увы,
есть у него и более жесткие) оценками религиозности
Гоголя, несправедливыми по существу. Здесь, конечно,
более прав Толстой, который в "нашем Паскале" видел
истинного христианина, а не "мнимого верующего", как
казалось Розанову. "Нет другой двери, кроме указанной
Иисусом Христом", — был убежден Гоголь вместе с
Паскалем и считал, что только закон Христа — любовь —
может "высветлить" всего человека, а не только
образованность и просвещение. Потому обновление России
лежит на пути христианской веры и любви. Впрочем, и сам
Розанов признавал, что для Гоголя "один Бог над
землею да яркие звезды в небе..."4. Но вот на земле:
"Грустно на этом свете, господа". Прочитав "Мертвые души",
Пушкин горестно воскликнул: "Боже, как грустна наша
Россия!" Все так, все так. Но все же... в чем-то и Розанов
1 Розанов В. В. Мысли о литературе. С. 295.
2 Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 273.
3 Розанов В. В. Мысли о литературе. С. 164.
4 Там же. С. 298.
373
не совсем не прав. Смущает меня и в самом деле
"сатанинская" идея Гоголя о "мертвых душах". Разве могут
быть "мертвые души" для христианина, "мертвые" хоть
в каком-нибудь смысле — онтологическом,
психологическом или нравственном? Во всяком случае для Паскаля,
как и для Достоевского, Толстого, не может быть
"мертвых душ"! В каждом, даже самом ничтожном человеке
есть "искра Божия", "свет, который и во тьме светит",
как сказано в Евангелии от Иоанна. "Наш Паскаль" —
это скорее Достоевский или Лев Толстой, которые
наиболее близки французскому мыслителю. Недаром Толстой
так любил Паскаля. После смерти Толстого самого
уподобляли Паскалю, равно как Сократу, Будде, Зороастру.
6. МЕТАФИЗИКА СЕРДЦА
Сердце — предельный таинственный центр
личности, где лежит вся ее ценность и вся ее
вечность.
Б. П. Вышеславцев
Сердце предваряет разум в познании истины.
Сердце есть скрижаль, на которой написан
естественный нравственный закон.
П. Д. Юркевич
По сравнению с западноевропейской "культурой
разума" русские создали удивительную "культуру сердца".
"Философия сердца" Паскаля получила в ней самый
живой отклик и сокровенное понимание. В русской культуре
разработана своеобразная "метафизика сердца". Заслугу
Паскаля в экзистенциальном понимании "феномена
сердца" отмечают многие русские мыслители. Так, Б. П.
Вышеславцев противопоставляет интеллектуальному
созерцанию "чувственное узрение" различного рода ценностей
(этических, религиозных, эстетических), постижение
"святынь" сердцем, которое имеет свои очевидности и "свою
логику". "Паскаль назвал ее "логикой сердца", и Шелер
развернул эту логику до пределов универсальной системы
ценностей"1. С. Л. Франк в работе "Крушение кумиров"
говорит о сфере духовных основ жизни, в которой царит
строгая закономерность (не менее точная, чем в мире
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 85.
374
физическом) и которую "гениальный христианский
мыслитель Паскаль называл... порядком человеческого
сердца"1. Этот "порядок сердца" предуказан заветами
христианства. Он "не может быть безнаказанно нарушен, ибо
он есть условие осмысленности, прочности нашей жизни,
условие нашего духовного равновесия и поэтому самого
нашего бытия... Этот духовный строй бытия, постижение
которого есть "иудеям соблазн и эллинам безумие"...
есть для зрячего абсолютная, строгая истина,
обосновывающая всю его жизнь и обеспечивающая ей высшую
разумность"2.
Б. П. Вышеславцев считает, что "христианский
символ сердца как центра души" притягивает внимание тех
мыслителей, у которых самих "достаточно сердца",
эмоциональной чуткости, чтобы почувствовать
"неисследованное богатство этого символа". Так, у Макса Шелера,
хорошо знавшего философию Паскаля, сердце есть
"чувство ценностей". В. В. Зеньковский в своей статье "Об
иерархическом строе души" понимает сердце как
эмоциональный центр, которому принадлежит примат в
структуре души и от которого зависит "основной тон жизни"3.
Вышеславцев согласен с Зеньковским и сам развивает
очень содержательную концепцию сердца, вкладывая
в этот символ чрезвычайно многообразный смысл.
В русской культуре к этому глубинному символу
сердца обращались и писатели, и поэты, и философы. Первые
описывали эмпирические проявления этого "светового
центра души", его таинственное действие на человека
и его жизнь, а последние — теоретически осмысливали
этот феномен и созидали "-метафизику сердца". Тонкими
знатоками сердца были славянофилы, особенно
И. В. Киреевский, о чем уже шла речь. Яркие, подчас
парадоксальные, жгущие, как молния, высказывания
о сердце разбросаны по всем произведениям В. В.
Розанова. Христианский мыслитель П. Д. Юркевич исследует
символ сердца в интереснейшей статье "Сердце и его
значение в духовной жизни человека, по учению слова
Божия". Павел Флоренский опирается на эту разработку
в своей книге "Столп и утверждение истины" и дает свое
видение этого символа. Напрасно Вышеславцев принижа-
1 Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 175.
2 Там же. С. 175—176.
3 Вышеславцев Б. /7. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 85.
375
ет значение этих двух разработок, полагая, что их авторы
лишь поставили проблему и собрали цитаты. Нет, у них
есть концепции, выводы, и их достижения, несомненно,
использует он сам. Правда, у него, надо отдать должное,
наиболее богатая и интересная "метафизика сердца". На
этих трех разработках символа сердца стоит
остановиться подробнее.
П. Д. Юркевич трактует библейский смысл сердца
настолько широко, что оно оказывается первоистоком,
средоточием, центром и глубинной основой единства
всей жизни и личности человека. В общем, это не
противоречит паскалевскому пониманию сердца, с той
существенной разницей, что Паскаль разделял концепцию
"двойственной истины", которая явно чужда Юркевичу.
Какие же "вариации смысла" вкладывает этот последний
в понятие "сердца", исходя из Библии?
Во-первых, "сердце есть хранитель и носитель всех
телесных сил человека".
Во-вторых, сердце — средоточие его духовной и
душевной жизни.
В-третьих, оно есть "седалище воли и ее хотений",
чувствований и страстей.
В-четвертых, сердце — орган всех познавательных
действий души, в том числе мыслей как "советов
сердечных".
В-пятых, оно есть источник памяти.
В-шестых, оно порождает слова, "как явления и
выражения мысли".
В-седьмых, сердце — глубинный источник и
средоточие всей человеческой жизни.
В-восьмых, оно — "скрижаль, на которой написан
естественный нравственный закон. ...Посему слово Божие
посевается на ниве сердца, совесть имеет свое седалище
в сердце".
В-девятых, в сердце заключена "первичная духовная
сущность"1.
В-десятых, вера в Бога постигается сердцем. Человек
должен отдать Богу свое сердце, а значит, быть ему
преданным в чувствах, мыслях, словах и поступках2.
Подобно Паскалю, Юркевич выделяет два уровня
духовной жизни человека, или два уровня его личности:
1 Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека
// Труды Киевской духовной академии. 1860. Кн. 1. С. 63, 65, 66, 72.
2 Там же. С. 72, 102,69.
376
один — внешний, поверхностный, а другой —
внутренний, глубинный, фундаментальный. Если первый связан
с головой, умом, мышлением, то второй — с "глубоким
сердцем", целостной и аналитически неразложимой
жизнью человека, его свободной волей, непосредственными
и бессознательными влечениями и чувствованиями.
С сердцем не просто связаны все многообразные функции
человеческого существа, но из него они и вытекают. От
сердца исходит, считает Юркевич, "общее чувство души"
о целостном духовно-телесном бытии человека. Вот
почему малейшие изменения в этом последнем отражаются
на его сердце. Наконец, сердце — место рождения не
только мыслей, чувств, желаний и слоев, но и дел
человеческих. "Ум — вершина, а не корень духовной жизни
человека, — пишет Юркевич, — видимая вершина той
жизни, которая первоначально и непосредственно
коренится в сердце"1. Человек сначала живет всем своим
существом, всей полнотой своей души и только потом
мыслит и рассуждает о жизни, о себе и окружающем
мире. Сначала жизнь — потом знание!
Вспомним, что у самого Паскаля это различение идет
от К. Янсения, который учил о "преобразовании
внутреннего человека". Янсенисты из Пор-Рояля в своих
религиозных проповедях обращались именно к "глубокому
сердцу", а не к суетному и лежащему на поверхности
разуму. Конечно, традиция эта уходит своими корнями
в Священное писание, на что и указывает Юркевич,
приводя множество цитат как из Ветхого, так и из Нового
Завета.
В противовес сциентистской европейской традиции
(например, Декарт, Лейбниц, Гегель) — ив духе Паскаля
— Юркевич отстаивает самоценность человеческой
жизни и невозможность ее сведения к гносеологическому
функционированию: "Древо познания не есть древо
жизни, а для духа его ж^изнь представляется чем-то более
драгоценным, чем его знание"2. Какой контраст с
Декартом, который чуть ли не все счастье человеческой жизни
усматривал в правильном познании! Удивлялся этой
черте Декарта-человека и Паскаль, не одобрявший ни его
чрезмерной погруженности в науку, ни
рационалистической трактовки им человека. Юркевич как бы подхватыва-
1 Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека
// Труды Киевской духовной академии. 1860. Кн. 1. С. 93, 72.
2 Там же. С. 87.
377
ет этот пророческий протест Паскаля, упрекая
философов-рационалистов в упрощении душевной жизни
человека. И в его время, в середине XIX столетия,
господствовал взгляд, согласно которому "мышление есть
самая сущность души... и составляет всего духовного
человека. Воля и чувствования сердца были понимаемы
как явления видоизменения и случайные состояния
мышления. ...В этих определениях существо души делается
также открытым и легко обозреваемым, как те формы
мышления, которые... отличаются особенною
прозрачностью и ясностью"1.
Отсюда проистекает непонимание того элементарного
факта, считает Юркевич, что сущность и явления души не
могут быть сведены к функционированию мышления
и сознания: "Мышление не исчерпывает всей полноты
духовной человеческой жизни так точно, как
совершенство мышления еще не обозначает всех совершенств
человеческого духа"2. Кроме того, душевная жизнь в своей
глубине не управляется и не подчиняется мышлению
и сознанию. "Самозаконие, — говорит он, — не
свойственно человеческому разуму ни в каком смысле", потому
что душа существует до этого света разума в таких
таинственных глубинах, где "погасает всякий свет
сознания" и куда подчас не может проникнуть его
ограниченный и поверхностный взор. Сердце выражает такие
тонкие душевные состояния, которые не поддаются
никакому рациональному анализу. "Закон душевной
деятельности не полагается силою ума как его
изобретение, а предлежит человеку как... Богом учрежденный
порядок нравственно-духовной жизни... и предлежит он
в сердце как глубочайшей стороне человеческого духа"3.
Правда, разум может предписывать, повелевать и
командовать, уточняет Юркевич, но только тогда, когда эти
повеления как бы "сняты с натуры живого и
воодушевленного человека, а не навязываются ей как что-то
чуждое, несродное..."4.
Критикует он и механистическую науку, в том числе
психологию, за вульгарно-материалистическое сведение
душевной жизни к началам физическим, механическим,
математическим и др., продолжая и в этом плане паска-
1 Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека
// Труды Киевской духовной академии. 1860. Кн. 1. С. 75.
2 Там же. С. 77.
3Там же. С. 92.
4 Там же. С. 113.
378
левскую традицию. В науке усматриваются "телесные
органы души", говорит он, каковыми считаются голова,
мозг, нервы, и душевная деятельность выводится из их
функционирования под влиянием внешнего мира. Юр-
кевич не согласен с этой упрощенной, односторонней
и количественной трактовкой. Принимая понятие
"телесного органа души", он относит его не к отдельным
частям тела, а ко всему телу, во "всем его составе
и устроении". Причем тело есть не механический, а
"целесообразный орган души". Отсюда связь души с телом
гораздо многообразнее и богаче, чем обыкновенно
думают, в том числе и ученые. Хотя Юркевич признает
"самой достоверной истиной физиологии то, что
сознательная деятельность души имеет свой непосредственный
орган в головном мозгу", однако из опытов физиологии
мало что можно почерпнуть "для психологического
учения о пребывании души в теле"1.
Для Юркевича хотя и несомненна связь души с
телом, но понимает он эту связь не как механическую,
пространственную, а как "целесообразную, идеальную,
духовную". Ведь есть "непространственное существо
души", в силу чего она не может принимать извне
"толчки от пространственных движений головного
мозга". Отсюда напрасны надежды управлять душой, "как
паровой машиной на основании математического
расчета", ибо в душевных состояниях нет механической
причинности, т. е. равенства действия и
противодействия. Нет, это не механизм!2 Точно так же нельзя
говорить и о механической роли сердца в душевной
жизни человека. Сердце — не механический, а
"мистический центр" человеческой духовности, тайны которой
известны одному только Богу. Вот почему, считает
Юркевич, "эмпирист" не в состоянии разгадать многие
душевные явления: "Знаменательное значение снов,
явления предчувствия, состояния ясновидения, в особенности
различные таинственные формы религиозного сознания
в человеке и человечестве"3. Не доступно это тайное
знание и рационалистической философии, опирающейся
на отвлеченное мышление, не проникающее в
конкретную жизнь духа, не постигающее "общего чувства
души".
1 Указ. соч. С. 78.
2 См. там же. С. 79, 86.
3 Там же. С. 97.
379
Сущность духа состоит в нравственной деятельности,
которая покоится на изначальной духовной свободе
человека и данной Богом заповеди любви — подлинном
источнике доброты. Когда иссякает источник любви
в сердце человеческом — меркнет и нравственное начало
в человеке. Философия же, сетует Юркевич, заменила
"теплую и жизненную заповедь любви... отвлеченным
и холодным сознанием долга, — сознанием, которое
предполагает не воодушевленное, не пламенное влечение
сердца к добру, а простое безучастное понимание
явлений"1. Здесь Юркевич бросает камешек в
рационалистическую этику долга Канта, согласно которому нравственное
поведение определяется не чувством, а разумным
пониманием долга. В споре Вольтера с Паскалем по поводу
субъекта нравственного порядка Юркевич решительно на
стороне Паскаля, который не принимал позиции
нравственного рационализма. Как будто отвечая Вольтеру,
Юркевич развенчивает его концепцию "разумного эгоизма"
как основу нравственного поведения личности: "Не в
разуме доброта, а в любви, свободе, сердечном влечении.
Нравственность — не есть утонченный и образованный
эгоизм". "Совесть взывает властно к сердцу, а не к
безучастно соображающему разуму"2. Правда, в отличие от
Паскаля, который допускал также испорченность сердца
человеческого как источник всяческого зла, Юркевич
считает сердце изначально добрым, так что оно естественно
"любит добро и влечется к нему, как глаз любит созерцать
прекрасную картину и охотно останавливается на ней"3.
Замечая в свое время распространение бездушного
рационализма, падение нравов и ослабление
нравственной чуткости в людях, Юркевич взывает к личной
ответственности человека, его неистребимой духовной
свободе, к "его способности, к свободному подвигу правды
и любви" (данной самим Богом). Не из внешне
ориентированного разума, не из "родовой души с ее общими
свойствами" возникают личные вина и заслуга, а из
свободного выбора "глубокого сердца", общего чувства
индивидуальной души. Надо исходить из нравственной
личности, а не из всяких привходящих в человеческую
жизнь обстоятельств, настаивает Юркевич, осуждая
легковесное отношение к морали, распространенное в светс-
1 Указ. соч. С. 76.
2 Там же. С. 106, 116.
3Там же. С. 105.
380
ких кругах. Глубочайшая нравственная серьезность
характерна для раздумий этого религиозного мыслителя, что
также сближает его с Паскалем. Как в своем веке Паскаль
поражался легкомыслию людей по отношению к вечным
вопросам нравственного порядка, так и Юркевич 200 лет
спустя с горечью отмечал: "Как мы умеем быть умными
без убеждения, так хотим мы быть нравственными без
подвига... без жертв в пользу добра"1. Сердечный порыв
к правде, а не рассудочное следование объективной
истине, духовная личная свобода ("Мы призваны делать
добро свободно"), а не логическая необходимость
нравственного выбора, бескорыстное служение людям из
любви к ним, а не тонкий и замаскированный эгоистический
расчет — вот основы религиозной этики Юркевича, столь
близкого и в этом плане нравственно требовательному
Паскалю. Оба исходят из живой человеческой личности,
а не из "гносеологического человека-автомата"
отвлеченной рационалистической философии.
Понятно, что и в трактовке Бога у них есть
важнейшие точки соприкосновения. Как и Паскаль, Юркевич
считает, что Бог постигается сердцем, живой, личный Бог
людей, а не Абсолют отвлеченной философии, безучастно
творящий мир без воли и любви, по одной лишь
логической необходимости. Им принимается паскалевская
дихотомия "личного Бога" и "Бога ученых и философов"
и отвергается позиция деистов (Декарт, Лейбниц и др.).
Не разум, но изначально именно сердце как глубинная
основа личности, считает Юркевич, связывает человека
с миром и его духовным первоначалом — Богом.
"Основа религиозного сознания человеческого рода, —
пишет он, — заключается в сердце человека: религия не есть
нечто постороннее для его духовной природы; она
утверждается на естественной почве"2.
Как в порядке жизни "сердце предваряет разум", так
и в порядке познания, согласно Юркевичу, интуиции
сердца опережают тяжеловесный механизм логического
мышления. Здесь то же, что и в самой жизни, различение
внутреннего и внешнего; первичного, глубинного и
вторичного, поверхностного, но только применительно к
познанию. Причем первое — познание сердцем! —
непосредственно вкраплено в саму жизнь, ибо вытекает из
интимной связи человека, мира и Бога. Оно является
'Указ. соч. С. 109—110.
2 Там же. С. 102.
381
результатом божественного откровения, сообщающего
человеку истины, не доступные для его разума. Душа
носит в себе зачатки и предрасположения, полагает Юр-
кевич, к этому "необыкновенному научению", в силу чего
некоторые высшие истины внезапно и непосредственно
открываются ей (Бог, любовь, совесть, свобода,
бесконечность и др.). "Мир как система явлений жизненных,
полных красоты и знаменательности, — пишет Юркевич,
— существует и открывается первее всего для глубокого
сердца и отсюда уже для понимающего мышления".
Таким образом, "сердце предваряет разум в познании
истины". Сообразно с этим лучшие философы и великие
поэты, продолжает Юркевич, отчетливо сознавали, что
именно сердце было "истинным местом рождения тех
глубоких идей, которые они передавали человечеству
в своих творениях", а сознание лишь придавало им
ясность и определенность, присущие мышлению1.
Разум вносит порядок, логичность,
последовательность как в саму жизнь, так и в содержание познания,
доставляемое сердцем. Как жизнь без порядка, так и
порядок без жизни равно несообразны с назначением
человеческого духа. Прежде всего познание, согласно Юр-
кевичу, носит не внешнеотражательный, но внутренний
характер: "Наши мысли, слова и дела суть
первоначально не образы внешних вещей, а образы или выражения
общего чувства души, порождения нашего сердечного
настроения"2. Познание естественно укоренено в душе
в силу ее непосредственной связи с миром и жизнью.
Поверхностны знания, "курсирующие" лишь на уровне
разума. На это обращал внимание и Паскаль, когда
отмечал неустойчивость и сомнительность "разумной
веры" по сравнению с "верой сердечной". Так и Юркевич
считает, что, "если свет знания должен сделаться
теплотою и жизнию духа, он должен проникнуть до сердца...
Так, если истина падает нам на сердце, то она становится
нашим благом, нашим внутренним сокровищем"3.
Однако есть между ними и существенное различие. Паскаль
считал познание сердцем весьма узкой сферой по
сравнению с дискурсивным мышлением. Хотя первое
совершеннее второго, но для человека, к сожалению, мало
доступно, почему и приходится больше прибегать ко второму
1 Указ. соч. С. 85, 88.
2 Там же. С. 83.
3 Там же. С. 89.
382
роду познания. Интуиции сердца у Паскаля доставляют
первичные понятия (пространство, время, движение,
число и т. д.) и аксиомы, а далее уже работает дискурсивное
мышление с его довольно громоздким аппаратом.
Такова ситуация в естественном познании, в науке. В
человеческой жизни преобладает познание сердцем. В религии
также "сердце чувствует Бога, а не разум". В общем,
Паскаль исходит из концепции "двойственной истины".
Для русского мыслителя всякое истинное знание по
существу религиозно и первично исходит от Бога и связанного
с Ним сердца человека. Поэтому он осуждает разделение
веры и знания ("знать так, а верить иначе"!): "Служение
науке не есть служение мамоне, с которым было бы
несообразно служение Богу"1. В отличие от Паскаля он
исходит из гармонии веры и знания. Вспомним, как
Паскаль каялся перед Богом под конец жизни за свое
увлечение наукой, которое он оценивал как "греховное",
неугодное Господу, как измену его заветам. Это было
настоящим мучением Паскаля-христианина.
Но дело не только в первичности и приоритете сердца
над разумом, но также и в способах постижения ими
истины. Здесь уже, подобно Паскалю, Юркевич отмечает
мгновенный, интуитивный характер усмотрения истины
сердцем, в то время как разум действует постепенно,
последовательно, шаг за шагом. На уровне сердца это не
столько познание, сколько "непосредственно и внезапно
возникающие откровения истины", считает он.
Справедливости ради, он указывает вместе с тем и на недостаток
постижения истины сердцем, вытекающий из самого его
достоинства, равно как недостаток разума заключает
в себе достоинство. В "нерасторопности",
медлительности разума, на что нередко жаловались христианские
аскеты, пишет Юркевич, есть и свои преимущества,
состоящие в "определенности, правильности и рассчитан-
ности, каких недостает слишком энергическим
движениям сердца"2. Как мы уже знаем, с этим различием между
разумом и сердцем у Паскаля связано различие между
"искусством доказательства" и "искусством убеждения"
в истине, а также трудности в формулировании ясных
и четких правил этого последнего.
В целом учение о сердце Юркевича более полно по
сравнению с учением Паскаля, ибо охватывает самые
'Указ. соч. С. 118.
2 Там же. С. 89.
383
разнообразные его аспекты. Оно, конечно, и более
разработано и систематически изложено в специальном
сочинении, тогда как у Паскаля мы имеем лишь ряд
отрывочных фрагментов. Вместе с тем Юркевич дает
сугубо религиозную трактовку понятия сердца в духовной;
жизни человека, тогда как у Паскаля таковая есть лишь
часть его понимания сердца. В гносеологии и в
значительной степени в этике Паскаль рассматривает сердце как
ученый и светский философ, опираясь не на Священное
писание, как Юркевич, а на свой жизненный опыт,
психологическую проницательность, личные наблюдения за
поведением людей, а также на практику ученого.
На учение о сердце Юркевича опирался в своем
сочинении "Столп и утверждение истины" П. А. Флоренский.
Принимая различные его смыслы, сам он обращает
особое внимание на употребление термина "сердце" в
разных языках и у разных народов. Однако ему видится
нечто общее в понимании смысла этого важнейшего
слова во всех языках, который сводится к значению
"стержня", "середины", "средоточия", "недра", "нутра", "ядра"
и т. п.1 Рассматривая человека как "триединое
существо", — живот, грудь, голова, — Флоренский считает
грудь "средоточием тела", а сердце — не только
"средоточием тела", но и "очагом нашей духовной жизни". Вот
почему к сердцу издревле устремлялось "все внимание
церковной мистики", ибо от него зависело "исправление
и возрастание личности". Все другое нарушает
равновесие личности и "вконец извращает естество греховного
человека". Одухотвориться означает не что иное, как
"ублагоустроить, уцеломудрить свое сердце"2. Ведь
сердце очищается общением с Богом, отчего "выпрямляется",
совершенствуется и вся личность верующего. Флоренский
особенно говорит о феномене "чистого сердца" как
центра, ядра и гармонизирующего начала всей духовной
жизни человека. Если же имеет место "переразвитие ума
(головы. — Г. С), питаемого не благодатью от сердца,
а питающегося самостоятельно, гордостью бесовскою
и лжеименным знанием пытающегося охватить все тайны
земли и неба", то личность оказывается не цельною
и духовно высокою, но раздробленною и извращенною3.
1 Флоренский П. Л. Столп и утверждение истины. М., 1914. С.
269—272.
2 Там же. С. 267—268.
3Там же. С. 273.
384
Также отрицательный результат получается и в случае
"переразвития чрева", в силу чего органическая жизнь
зависит "не от источающего духовность сердца, а от
бесов, нечистоты". Посему праведник отличается от
других людей "воздержанием горделивого ума" и
"обузданием похотливого чрева"1. Таким образом, значение
и роль сердца в религиозной концепции Флоренского
весьма близки паскалевскому пониманию.
Но тут же следует отметить и различие их веры
и общего "колорита" их миросозерцания —
оптимистического у нашего философа и пантрагического у Паскаля.
Французский "великий христианин" скорбно вздыхал
и бесконечно печалился по поводу неизбежной
испорченности (в результате первородного греха) человека,
акцентируя внимание на его "ничтожестве", хотя и отнюдь не
отрицая его "величия". Флоренский же, наоборот, зная
о греховности человека, испорченности "всей твари", тем
не менее ставит акцент на возможности "обожения
личности" через очищение сердца Божественной благодатью.
Более того, благодаря свету духовной Личности
"подвижников", "святых старцев", как бы очищается и "вся
тварь" в силу духовного всеединства мира. "Чрез корень,
которым духовная личность уходит в небеса, благодать
освящает и все окружающее подвижника и вливается
в недра всей твари. ...Поэтому если отпавший от Бога
человек увлек за собою всю тварь и, извратив свое
естество, извратил и чин всей природы, то, восстановляемый
Богом, он вносит первозданный лад и строй в тварь..."2
Вступивший в непримиримый конфликт с официальной
римско-католической церковью, Паскаль один, без
посредников, осмеливается обращаться к Богу, —
вспомним его знаменитое: "К твоему суду взываю, Господи!"
— и надеется на спасение лишь после смерти. Драматизм
паскалевской веры обусловлен не только каверзными
вопросами его научного ума, но и фактическим отлучением
его вместе с янсенистами Пор-Рояля от церкви и
осуждением их учения как "еретического".
Напротив, священник Павел Флоренский видит в
православной церкви источник духовного света, чистоты
и нравственной силы для верующих, ибо понимает
церковность прежде всего не как внешний институт, не как
административную систему иерархии должностей, а как
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 273.
2 Там же. С. 271.
13 Заказ № 4951
385
живой религиозный опыт, как просветленную жизнь
в Духе. Поэтому он и может писать о "духовных
сокровищах Церкви", писать так, как не мог бы писать
преследуемый церковью Паскаль: "Многими веками, изо
дня в день собиралось сюда сокровище. ...Как небесная
манна выпадала здесь благодатная сила богоозаренной
души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы
чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками
делало тут свои вклады, затаеннейшие чаяния,
сокровеннейшие порывы к богоуподоблению, лазурные, после бурь
наступающие минуты ангельской чистоты, радости бого-
общения и святые муки острого раскаяния, благоухание
молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное
обретение, бездонно-глубокие прозрения в вечность
и детская умиренность души, благоговение и любовь —
любовь без конца... текли века, а это все прибывало
и накапливалось. И каждое мое духовное усилие, каждый
вздох, слетающий с кончика губ, устремляет на помощь
мне весь запас накопленной благодатной энергии.
Невидимые руки носят меня по цветущим лучам духовного
мира"1. При такой мощной поддержке понятна
оптимистическая религиозность Флоренского. Если Паскаль был
вынужден вести утомительнейшие споры с церковью по
поводу Благодати и таинства воскресения Иисуса
Христа, то отец Павел имел возможность в своих проповедях
говорить об их духовных плодах, вселяя незыблемую
надежду в сердца верующих. В одной из Пасхальных
проповедей он произносит такие ободряющие слова: "И
когда, казалось, всякая борьба напрасна, пришла в
царство Смерти сама Любовь, и сломилось о щит ее жало
хищницы. ...Не тщетна ныне красота, ибо тварь
избавлена от нетления; не тщетна ныне Любовь, ибо не
погибнет бесследно любимый. Не тщетна вера наша и подвиги
духа, ибо Христос воскрес. ...Всепоглощающая Смерть
поглощена бессмертием. Правда восторжествовала над
неправдою. Огневица греха охлаждена смирением. ...И
тщетны последние нападения Смерти"2.
Но есть и принципиальное сходство в трактовке
самого феномена религиозной веры у Паскаля и Флоренского:
признание ее имманентного характера как веры
сердечной, живой, всепоглощающей, глубинно-искренней, а не
как формально-внешней, "договорно-юридической", по-
1 Флоренский П. Л. Столп и утверждение истины. С. 4.
2 Богословские труды. Сб. 23. М., 1982. С. 311.
386
верхностно-разумной, обставленной внешней
атрибутикой, абстрактными, холодно-логическими понятиями.
Против умозрительной, отвлеченной веры Паскаль
выступил в борьбе с иезуитским вариантом христианской
религии, а отец Павел — в своей критике католицизма,
в котором, по его мнению, полнота непосредственной
духовной жизни "усекается понятием, загодя отвергается
во имя понятия". Между тем, считает он (совершенно
в духе Паскаля!), живой религиозный опыт "не может
быть уложен в узкий гроб логического определения"1.
С точки зрения Флоренского, "православие показуется,
но не доказуется... можно стать католиком или
протестантом по книгам, нисколько не соприкасаясь с жизнью,
— в кабинете своем. Но чтобы стать православным,
надо... зажить православно, — и нет иного пути"2. Здесь
отец Павел дает критику западного христианства в русле
уже весьма разработанной славянофилами традиции.
В своем главном труде "Столп и утверждение истины"
Флоренский специально говорит о Паскале, посвятив
"Амулету" Паскаля отдельный раздел. В нем он называет
французского ученого "проникновенным мыслителем"
и "одним из наиболее искренних людей, живших на
земле". Он видит "какое-то особое сродство у Паскаля с
православием" и напоминает о том, что "недаром же А. С.
Хомяков часто называл Паскаля своим учителем"3. Он
вменяет себе в обязанность внимательно отнестись к
творчеству французского философа. Споры вокруг
"Амулета" Паскаля — а их было великое множество! — он назвал
"безрезультатными" в силу "слишком большого
упрощения и опрощения этого документа"4. Так, он отверг, как
"весьма неподходящую", поверхностную его оценку Ж.
Кондорсе, видевшим в нем лишь "мистический амулет",
своего рода заклинание против демонических сил.
Предвосхищая точку зрения большинства
современных серьезных паскалеведов, Флоренский усматривал
в "Мемориале" Паскаля более глубокое содержание
и жизненно важное значение, органично связывая его
с коренным поворотом в его жизни и прозрением им ее
более высокого смысла. Это — "исповедание веры его,
точнее сказать, молитвенное созерцание отдельных мо-
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 7, 6.
2 Там же. С. 8.
3 Там же. С. 577, 581.
4 Там же. С. 577.
387
ментов духовного восхождения", уплотненный сгусток
жизни и миропонимания, — столь сжатый, что отдельные
положения кажутся даже бессвязными. Более того, он
также видел в нем "программу религиозно-философской
системы". Отсюда, "может быть, его "Мысли о религии"
— наброски, предназначенные для осуществления именно
этого плана"1. Он высказывает "предчувствие", что если
расположить "Мысли" Паскаля согласно этому
"многосодержательному и многозначительному документу", то
здесь читателя ожидают "клады богатые и легко
добываемые". Надо отметить, что в современном западном
паскалеведении эти "клады" во многом открыты. Сам же
Флоренский считает, что ключом к "Мемориалу" могут
быть мысли, развиваемые им в указанном труде, и
особенно его "теория возрастания типов".
Чтобы понять его трактовку, следует коснуться этой
последней в его статье "О типах возрастания". Он
исходит, подобна Паскалю, из понимания человека как
двойственного существа, ангела и зверя одновременно,
как конечного и бесконечного, великого и ничтожного.
"Личность — храм Божий, но она же и Живущий в нем"2.
Как "храм Божий" личность имеет абсолютную и
безусловную ценность, а как живущее существо — ценность
условную и относительную, способную возрастать или
убывать. Прогресс в нравственном просветлении
человека Флоренский называет "возрастанием личности",
который он связывает с "процессом ее обожения". Он
особенно подчеркивает бесконечный характер этого
возрастания, озаряемого "трепетными вспыхиваниями идеала",
никогда не достигаемого, но вечно зовущего человека.
Указывая также и на возможность бесконечного
нравственного оскудения личности (согласно Достоевскому,
"никакое падение человека не есть последнее падение"),
Флоренский оптимистически сосредоточивается на ее
возрастании.
Причем импульсы могут идти изнутри человека и
порождать естественный, имманентный и непрерываемый
процесс совершенствования. Возрастание типов — это
трансцендентный путь, мыслимый лишь при "толчке
извне, оттуда", а потому в нем .заключена прерывность
развития души, устремленной к Вечности, Абсолютному,
1 Флоренский П. Л. Столп и утверждение истины. С. 577, 581.
1 Флоренский П. А. О типах возрастания // Богословский вестник.
М., 1906. № 7 (отдельный оттиск статьи). С. 2.
388
к Богу и презревшей все суетное, посюстороннее,
мелкое. Устремленность эта затрагивает глубинный,
"водоносный слой души", говорит Флоренский, с которым
сливаются и "другие русла к бесконечности". Еще
выразительнее говорит он о "слоях человека" в своей
Проповеди "Радость навеки". В самых "внутренних кладовых
души" таится "драгоценная жемчужина", образ Божий,
скрытый под "наружной скверной". Человек — как
"глиняный сосуд, полный сверкающего золота. Сверху
— зачерненный и замазанный, а изнутри —
ослепительно-лучезарный". "Снимите с человека одежду — увидите
тело, подверженное искушениям, болезни и смерти. Если
снять далее и тело, то увидели бы толстый слой грехов,
как ржавчина изъевших нашу душу. Но если бы далее
снять с души эту тленную, смрадную часть, то там,
в самой середине, узрели бы вы Ангела-Хранителя.
Многими очами своими он видит каждое малейшее желание
наше, замечает каждое помышление человека. Это —
таинственный, священный храм, блещущий небесной
красотой. В нем обитает Дух Святой... Возвеличен человек!
Немногим умален пред Ангелами: славою и честью
увенчан... Свят человек в тайниках души своей..."1 Это
воспевание Флоренским величия души человеческой,
утверждение ее глубинной доброты, вообще вера в
"святость твари Божией" сильно контрастирует с
диалектическим и трагическим пониманием противоречивой
природы человека у Паскаля. Ведь для него в глубине
своей, в своей сущности, человек "поврежден", а потому
двойствен, добр и зол одновременно. Божественная
природа его не сверху грехом прикрыта, а внутренне
извращена. Сердце человека в тайниках своих эгоистично,
привержено первично своему земному интересу, тянет
вниз. Просветление его целиком зависит от
Божественной блдгодати. Тогда как у Флоренского "сердце —
небесное око", царство небесное заключено в
Божественной части души, и человеку надо лишь увидеть
"сокровище свое", чтобы обрести "радость и счастье навеки"
в общении с Богом. Потому он так живописует "свет
души"и радость, которая не была дана горестному
Паскалю. В этом отношении куда ближе этому последнему
Достоевский с его болью за человека, с его
нескончаемым страданием, с его экзистенциальной диалектикой
души человеческой.
"Богословские труды. Сб. 23. М., 1982. С. 317.
389
Светлый гений Флоренского "высветлил" и самого
человека. Потому столь охотно говорит он о
"возрастании личности", а не о ее падении. Есть разные "типы
возрастания" в зависимости от скорости развития и
закона данного типа роста, что создает определенную
траекторию на пути к идеалу. Существует неравенство "типов
возрастания", так что низшему типу роста никогда не
сравняться с высшим типом, хотя бы этот последний и не
достиг высших ступеней в своем развитии. Например,
юный гений Моцарт и зрелый талант Сальери очень
далеки по типу возрастания. Есть свобода в движении по
траектории, но выбор самого типа возрастания не в
нашей власти: "Железные рельсы проложены несокрушимо
и не сойти личности своими усилиями на новую орбиту:
личность может только замедлять или ускорять
движение на ней, тороком пронестись по полотну своему или
застыть в штильной сонливости..."1 За счет такого
ускорения низший тип может вырваться как будто вперед по
сравнению с высшим и может даже надменно величаться
над ним. Но пусть оба подойдут к своим быстринам.
"Дух, более восходчивый по своей природе, расправит
крылья, и далеко внизу останется ползущий по
тропинке"2. Сколько бы ни стремился низший тип угнаться за
высшим, все равно он никогда его не настигнет. Это
столь же невозможно, говорит Флоренский, как
невозможно из суммы нулей составить конечную величину или
из каких угодно груд сухого песку выжать хоть одну
каплю влаги. В лучшем случае получится то, что Ницше
называл "обезьяною идеала".
Все дело в том, что у разных типов возрастания
различны идеалы, законы стремления к нему, внутренний
нерв всей деятельности, "жар духовного горения". В
зависимости от типа возрастания разнятся еще более
"породы личностей". Прав В..В. Розанов, который в своей
книге "Около стен церковных" отличал "горных людей"
от "долинных людей". Отсюда все проявления личности
являются символом ее типа возрастания, так что
"одинаковое высвечивает по-разному". "Абсолютный высший
тип личности" для Флоренского — это Иисус Христос.
"Ангел во плоти" — Франциск Ассизский, Серафим
Саровский, Амвросий Оптинский. Он не уточняет, к какому
1 Флоренский П. А. О типах возрастания // Богословский вестник.
1906. № 7. С. 26.
2 Там же. С. 23.
390
именно типу возрастания личности относится Паскаль.
Но ясно из его анализа "Мемориала", что "отшельник из
Пор-Рояля" близок нашим "старцам". Вот некоторые
оценки из его комментария к отдельным мыслям из этого
документа: "Забвение мира и всего, кроме Бога... Путь
к свету Истины — подвижничество, устроение сердца. На
пути подвижничества усматривается вечная сторона
тварной личности — София... В познании Бога чрез
очищенное сердце — преизбыточествующая, переливающая
через край радость и блаженство.... Отказ от самости,
подвиг. Старческое послушание"1. Флоренский вообще
считает, что есть "какое-то сродство у Паскаля с
православием"2.
Главный признак "высшей личности" Флоренский
определяет как "святость", которая другими людьми
постигается непосредственно сердцем и не поддается никакому
анализу. Нельзя ее "из себя вообразить: последнее
особенно ясно сказывается на неуспехе в создании
творческой фантазией "идеальных типов"3. Точно так же и в
жизни нельзя воспитать в себе святость, ибо она "трансцен-
дентна для всего только человеческого". Поэтому сколь
угодно великие земные усилия, высокая степень
совершенства добродетели и высота духа не дадут ни крупицы
святости. "Доброта и великодушие, отрешенность от
себялюбия и бескорыстие, величие духа и скромность,
глубокий ум и творчество, подвиги и мученичество, как бы
все это ни было велико, но его еще недостаточно для
создания высшей породы"4. Это весьма напоминает
учение о Божественной благодати, которому следовал и
Паскаль. С другой стороны, Флоренский подчеркивает
значение человеческой активности на пути
совершенствования личности и ее спасения, что также признавалось
Паскалем в его "Сочинениях о благодати". Есть
своеобразная диалектика в гибком сочетании человеческой
свободы и Божественного промысла, активности личности
и благодати как у Паскаля, так и у Флоренского. При
наличии религиозной детерминации у них все-таки нет ни
религиозного фатализма, ни его следствия — квиетизма.
Флоренский не принимает восточное учение о нирване
как высшем состоянии души. Напротив, это не бесстра-
1 Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. С. 579—580.
2 Там же. С. 581.
3 Флоренский П. А. О типах возрастания // Богословский вестник.
1906. № 7. С. 28.
4 Там же. С. 27.
391
стие, не угасание жизни, а "повышение жизненного
пульса, так что и радость с горем становятся интенсивнее,
и все впечатления конкретнее и сочнее. Но сознание
всякий раз допускает в себя только осиянную их сторону
и не дает врываться хаосу"1.
Наконец, отмечу еще один момент "метафизики
сердца" Флоренского, а именно ее переход в
"метафизику света". Он вводит этот глубокий символ в связи
с представлением о святости высшего типа личности. Не
случайно во все времена и у всех народов святость
и свет какими-то таинственными узами связаны между
собой в человеческом сознании2. Это выражается во
множестве ритуальных действий и
религиозно-нравственных метафор во всех языках, что непосвященным
"кажется бессмысленным и что, однако, по неумолимым
законам духа, из столетия в столетие, от народа
к народу повторяется по всей земле"3. Хотя в истории
человеческой культуры (с древнейших времен и до
наших дней) символ света имеет бесконечное множество
значений (онтологических, гносеологических, этических,
эстетических и др.), Флоренский придает ему лишь
религиозный, духовно-нравственный смысл. Для него
это — "благодатный свет", или "особое сияние",
исходящее от высшего типа личности, от "святых
людей". "Благодатный свет" объективно доказывает
"действенность идеального фактора" и демонстрирует
"ощутительность дыхания святости". Благодаря
символу света даются "ключи к тайникам религиозной
жизни"4.
Р. М. Бёкк в своей книге "Космическое сознание"
рассматривает свет как гностический принцип, как
"интеллектуальное просветление личности", как признак
"космического сознания". Все случаи религиозного
"обращения", равно как и разновидности мистического
опыта, он трактует в смысле внезапного перехода от
обычного к "космическому сознанию". Это последнее
характеризуется мгновенным пробуждением, экстазом,
нравственным и эмоциональным подъемом (ощущением
радости, счастья, блаженства), субъективным светом,
интуицией высших истин. Гностическое просветление он
1 Флоренский П. А. О fimax возрастания // Богословский вестник.
1906. № 7. С. 35.
2 Там же. С. 36.
3 Там же. С. 37.
4 Там же. С. 36—37.
392
называет также "Брамическим сиянием",
символизирующим "космическое сознание". В этом необычайном
состоянии исчезает страх смерти и появляется ощущение
реального бессмертия души в результате мистического
единения с космосом, с Богом. Преображается также
и внешний облик человека, приобретая мягкость, силу
обаяния (личный магнетизм), физическую
привлекательность. Люди, достигшие высоты "космического
сознания", согласно Бёкку, отличаются не только красотой
и отменным здоровьем, но и нравственным
совершенством: любовью к человеку, верностью, мужеством,
честностью. Описывая мистический опыт религиозного
"обращения" Паскаля, Бёкк безоговорочно признает в нем
обретение "космического сознания". Он отрицает
болезненный, патологический характер этого опыта и уверен,
что до него Паскаль не смог бы написать ни "Писем
к провинциалу", ни "Мыслей". "Очевидно, что
субъективный свет был ярко выражен в этом случае.
Немедленно за ним последовало ощущение освобождения,
спасения, радости, довольства и глубокой благодарности,
чувство величия человеческой души, восторженное чувство
Бога". Потому и в словах "Амулета" Паскаля "сквозит
радость, торжество, просветление, а не болезнь. Человек,
написавший их, только что ощутил славу Брамы и видел
брамическое сияние"1. Остается добавить, что органом
"космического сознания", согласно Бёкку, является
сердце человека, в котором живет "очевидность бессмертия...
так же, как зрение живет в каждом глазе"2. Просветление
сердца ведет и к просветлению ума, а в совокупности —
к космическому зрению, или космической интуиции.
Однако у Бёкка нет детальной разработки "метафизики
сердца".
По-новому расставлены акценты и затронуты новые
аспекты проблемы сердца в статье Б. П. Вышеславцева
"Сердце в христианской и индийской мистике". Он,
несомненно, усвоил разработку этой проблемы П. Д. Юр-
кевичем, хотя и несправедливо низко оценил его статью.
Он приводит все многообразие библейских смыслов
термина "сердце" как бы к одному знаменателю: это —
скрытый центр личности, "предельная глубина
человека", не доступная не только для постороннего взора, но
и для самого человека. Так же непроницаема ирраци-
1 Бёкк Р. М. Космическое сознание. Пг., 1914. С. 282.
2 Там же. С. 6.
393
ональная глубина Божественного центра у западных
и восточных мистиков. Потому, например, Якоб Бёме
говорит о Боге как о "непостижимой бездне" (знаменитое
его понятие Ungrund). В Библии речь идет о таких
таинственных глубинах, как "сердце моря" или "сердце
земли", куда проникнуть никому не дано. Аморфно
широкое библейское понятие "сердца" Вышеславцеву
представляется "очень точным", даже "математически
точным, как центр круга, из которого могут исходить
бесконечно многие радиусы, или световой центр, из
которого могут исходить бесконечно разнообразные
лучи"1. Хорошо сказано против всех рационалистов,
недоумевающих по поводу введения понятия "сердца"
в философию и не считающих его ни строгим, ни
философски осмысленным, ни вообще хоть как-то
определенным.
Что же касается человека, то сердце есть его
"сокровенная самость", истинное "я", что в христианстве
называется бессмертной душой, а в индуизме — атма-
ном. Здесь заключен "предельно таинственный центр
личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность"2.
Призыв дельфийского оракула "Познай самого себя"
трудно выполним именно в силу "сокрытости" истинного
"я" человека. Глубинная самость человека прикрыта
сверху ежедневной суетой жизни, страстями, бренными
интересами и заботами о теле, вещах, деньгах, — словом,
заботой о материальной выгоде в ущерб духовности.
Христос учил: "...какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?" (Мк. 8:36).
Вышеславцев напоминает также слова апостола Петра
о "сокровенном сердца человеке" "в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред
Богом" (1 Пет. 3:4). Узрение тайны сердца доступно вполне
одному Богу, но признание таинственной глубины
личности, равно как ее абсолютной ценности и абсолютной
вечности, доступно религиозному чувству человека. Как
начало философии есть удивление, так "начало религии
есть чувство тайны". Вышеславцев обращается к
религиозному кредо Паскаля: "Бог чувствуется сердцем, а не
разумом". Паскаль видел в человеке "целый мир,
бесконечный вглубь". Вслед за ним Лейбниц признал эту
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 63.
Хлч же.
394
истину. Оба мыслителя связывали эту бесконечную
духовную глубину человека с бесконечностью Божественною
абсолюта. Потому вера в Бога есть вера в человека и его
абсолютную ценность.
Как и Достоевский, Вышеславцев убежден, что нет
гуманизма без веры в Бога. Он обрушивается на атеизм
как на "банальнейшее миросозерцание, миросозерцание
бездарности", которое скользит по поверхности и для
которого нет никакой таинственной глубины ни в мире,
ни в человеке, т.е. нет ни "сердца мира", ни "сердца
человека": "Все... преходяще и разрушимо и проносится
как дым"1. Здесь Вышеславцев опять использует образ
Паскаля, сравнивавшего атеистически трактуемую
смертную душу с "частицей ветра и дыма". Столь
прозаическое и приземленное понимание души человеческой
искренне поражало верующего Паскаля. Вышеславцев уже
не изумляется атеизму, а иронизирует, бичует и даже
издевается над ним, заведомо вульгаризируя
безрелигиозную позицию. Он не считает ее вообще философской,
что элементарно противоречит наличию в истории
философии великих материалистических безрелигиозных
систем (Демокрит, Гоббс, Гольбах, Дидро, Фейербах и др.).
В дальнейшем анализе символа сердца в христианской
мистике Вышеславцев рассматривает католический культ
Святого Сердца (Sacré Coeur) Христа, не видя в его
трактовке противоречия со своим пониманием сердца.
Он исходит из христианского представления о сердце как
изначальном символе любви. Сердце — не
индифферентно-статический (как в геометрии) центр личности, а
тяготеющий и устремленный (как, скажем, в астрономии)
эмоциональный и волевой центр. Потому сердце Христа
полно любви к людям, без чего не понятна его
жертвенная смерть во имя искупления грехов человеческих.
Неспособность любить есть бессердечность, говорит
Вышеславцев, "окаменение сердца", "духовный склероз". Но
вот вопрос, поднятый еще янсенистами: о каком сердце
идет речь — телесно-физическом или
духовно-символическом? Католические теологи не видят здесь
противоречия: "Символизм и мистика любви не исключают
телесного сердца. Телесное сердце почитается как эмблема
любви. Орган сердца есть символ любви; символ
реальный и вполне общечеловеческий, символ почти неизбеж-
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 64.
395
ный"1. Поскольку христианство есть религия
воплощения, постольку оно "не отбрасывает и не презирает
плоти, а сохраняет и спасает ее... Духовное "сердце" реально
связано с телесным сердцем, ибо дух воплощен; и
сокровенные волнения духа заставляют биться наше
телесное сердце"2.
Другое дело, что есть неразгаданная тайна
воплощения и Боговоплощения. Каким образом "сокровенный
сердца человек", духовное Я, вечное и вневременное,
бесконечно возвышающееся над миром вещей и всякой
бренной плоти, приходит в этот мир и выражает себя
в словах, делах, поступках? С научной точки зрения это
— известная психофизическая проблема, ни научно, ни
философски не разгаданная, а религиозно она
углубляется в тайну воплощения. Чудо взаимодействия души и
тела не понятно ограниченному человеку, но прозрачно
и ясно одному лишь Богу. Вышеславцев вынужден
признать: "Сердце есть таинственная и непонятная ось,
которая пронзает и держит духовную и телесную жизнь
человека. Телесное сердце никогда не есть только "плоть",
а всегда есть воплощение, ибо каждое его биение имеет
духовное значение: оно нечто... вносит в этот мир —
любовь или ненависть, повторение старого ритма или
рождение нового"3. Ко всему многообразию функций
сердца добавляется еще одна — функция эвристической
интуиции. Сердце — орган творчества, отсюда тайна
творчества упирается в тайну сердца. Этот важнейший
аспект был упущен Юркевичем. Однако Вышеславцев
сам лишь поставил проблему, но разработки этой темы
нет и у него. Зато есть у его друга Н. А. Бердяева,
особенно в книге "Смысл творчества".
Привлекает внимание Вышеславцева трагическая пас-
калевская тема "антиномизма сердца". У русского
мыслителя она выступает как антиномия безгрешности и
греховности сердца, или богоподобия и демонизма человека.
Приступает он к разрешению этой антиномии во
всеоружии кантовской философии. Проблема эта изначально
моральная, ибо связана с ответственностью человека за
свой грех. В христианстве "субъектом" нравственного
порядка является опять же сердце человека, которое лю-
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 73.
2 Там же. С. 74.
3Там же.
396
бит или ненавидит, а значит, несет в мир добро или зло,
грешит или избегает греха. По природе своей
"сокровенный сердца человек" богоподобен, и в каждом есть
"искра Божия", "свет Христов", который и "во тьме
светит". Богоподобное сердце, как точка соприкосновения
человека с Богом, не может быть источником греха и зла.
Вышеславцев приводит слова апостола Иоанна: "Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что
рожден от Бога" (1 Ин. 3:9). Но вместе с тем из самого
сердца человеческого исходит и всяческое зло, как
сказано в Евангелии от Марка: "Ибо извнутрь, из сердца
человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство,
гордость, безумство" (Мк. 7:21, 22). Итак, получаем
антиномию, в которой тезис утверждает богоподобие, светонос-
ность и безгрешность сердца, а антитезис — демонизм,
омраченность и греховность сердца. Апостол Павел
в Послании к римлянам драматически "оборачивает" эту
антиномию в экзистенциально-личностный план, где
трагически расколотым оказывается внутренний человек,
сокровенное Я: "Ибо не понимаю, что делаю; потому что
не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю...
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не
я делаю то, но живущий во мне грех... Бедный я человек!
кто избавит меня от сего тела смерти? ...Итак тот же
самый я умом моим служу закону Божию, а плотию
закону греха" (Рим. 7:15, 19, 20, 24, 25). Единый,
целостный человек чувствует себя как бы "двоедушным", "двое-
сердечным", "двоевольным". Возникает искушение
весьма просто разрешить эту антиномию: безгрешность
отнести к духовному центру личности, а греховность —
к периферии, телу, плоти. Но это иллюзорное решение
проблемы, ибо материальное, как не обладающее
сознанием и совестью, не может нести никакой
ответственности за поведение человека. Апостол Павел это
подчеркивает: "...тот же самый я...", а не "живущий во мне грех"
— служу и Богу и дьяволу.
Паскаль, который поражался "двоедушию" человека,
скорбно принял его неизбежную противоречивость и
объяснил ее первородным грехопадением созданного Богом
изначально совершенного человека. Так что грех не
сверху "прилип" к роду людскому, а поселился, как червь,
397
в самом сердце человека. Вышеславцев сначала пытается
разрешить эту антиномию с помощью кантовского
дуализма ноуменального, умопостигаемого, и
эмпирического субъекта: "Тезис сохраняет свое значение для мира
идеального... Антитезис сохраняет значение в мире
реальном. .."' В идеальном мире принципов и первообразов
человек богоподобен и не может грешить, а в реальном
мире всякое "я" отпадает от идеала, искажает свою
первосущность и может нести зло. Логически одно
другому не мешает. "Решение антиномии состоит прежде всего
в признании этой двойной природы Я, вне которой наше
человеческое Я немыслимо"2. Однако на этом
Вышеславцев не успокаивается и делает акцент на неравноценности
тезиса и антитезиса, хотя они и оба истинны.
Если Августин, а вслед за ним янсенисты учили о
преемственности первородного греха и фатальной
испорченности человека без помощи Божественной благодати, то
Вышеславцев настаивает на преемственности
первоначального величия человека, неистребимого никаким
падением и грехом. Адам мог грешить и не грешить, но
"одного он не мог и не может. Это в принципе
уничтожить свое богоподобие, сделать бывшее небывшим,
аннулировать божественный акт творения"3. Так что
богоподобие и величие человека первично, а его искажение
и извращение вторично. В сущности своей человеческое
Я светоносно и безгрешно, а в явлении может быть
демонично. Но явление не элиминирует сущности. Более
того, тезис не нуждается в антитезисе, а вот антитезис без
тезиса невозможен. И сам Люцифер изначально
"светлейший ангел", носитель света, и ему ничего не остается,
как быть "обезьяной Бога". Демонизм немыслим без
отношения к прообразу богоподобия. "Искажение
невозможно без прообраза, но прообраз возможен без
искажения. Дьявол невозможен без Бога, с которым он борется,
но Бог возможен без дьявола. Болезнь невозможна без
здоровья, но здоровье возможно и без болезни. Слезы
невозможны без глаз, но глаза возможны и без слез!"4
Не будем придираться к тому, что автор здесь смешал
субстанции и акциденции, но ясно то, что он хотел
сказать и подчеркнуть. Если в августинианской традиции
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 79.
2 Там же.
3 Там же. С. 80.
4 Там же.
398
человек весьма ничтожен перед Богом, то у
Вышеславцева, как и вообще в русской культуре, человек велик
даже и в глубине своего падения. Никакие бездны
демонизма не могут отнять у человека его первородства, его
богоподобия.
Однако логическое, или теоретическое, разрешение
антиномии не означает ее реального разрешения в
человеческой жизни. Да и сама-то антиномия носит
изначально жизненно-практический характер. "Дисгармония
мыслима, но невыносима. Богоподобие и демонизм
невыносимы вместе рядом в одном и том же человеке
и стремятся уничтожить друг друга". Ибо "антиномия
углубляется до степени трагического раздвоения
человеческого сердца, влекущего за собою трагедию
человеческой судьбы, человеческой истории"1. Вышеславцев очень
высоко думает о человеке, полагая, что всякое омрачение
и окаменение его сердца переживается им как драма
и трагедия и не приемлется в качестве последнего слова.
В этом заключается и залог "преображения"
человеческого сердца. Тем не менее, как религиозный мыслитель,
Вышеславцев убежден, что "полнота единственно
возможного разрешения дана только в религии искупления,
в религии спасения"2.
Но как философ, он не удовлетворяется уже
добытыми ответами и достигнутым разрешением "антиномии
сердца". Он хочет идти еще глубже, еще дальше, чтобы
найти предельное основание этой антиномии.
Констатация антиномизма человеческого бытия, признание "дву-
мирности человека" не раскрывают истока этой
трагедии. Источник величия человека — в Боге! А исток
человеческой греховности — в чем? Почему изначально
совершенный человек мог согрешить? Как может одно
и то же сердце быть источником добра и зла? Вместе
с тем "сокровенный сердца человек" драгоценен перед
Богом. Источник зла как бы обладает абсолютной
ценностью. Это есть, как говорит Вышеславцев,
"единственная, неповторимая и несравненная сущность" — свобода,
имеющая абсолютную ценность и роднящая Бога и
человека. Человек богоподобен именно в своей свободе,
духовной свободе, которая "ценна даже и во зле... ценна
даже и тогда, когда не спасает: ибо свободный и грешный
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 80.
2 Там же.
399
ух — выше в иерархии бытия, чем камень, который не
южет грешить. И отнять эту свободу, этот дар богопо-
обия, означало бы уничтожить всякую заслугу, всякий
ероизм, всякую святость, всякое творчество, одним сло-
ом, уничтожить личность и духовность как высшую
тупень в иерархии бытия"1.
Свобода, будучи сама "безосновной", лежит в основа-
ии личности, составляет тайну сердца человека, узел
сей его духовности. Свобода таится на дне той бесконеч-
ой бездны, каковую представляет "сокровенный сердца
еловек", его уникальная самость. Итак, предельное ос-
ование антиномизма человеческого бытия заключается
духовной свободе человека. Так что антиномия безгре-
jhocth и греховности сердца разрешается Вышеславце-
ым посредством свободы.
Наконец, есть еще один аспект феномена сердца, в свя-
и с которым он отличает его понимание в христианстве
т индийской мистики. До этого момента он рассматри-
ал экзистенциальные смыслы символа сердца. Теперь он
ыявляет гностическую функцию нашей самости — узре-
ие истины, чистых сущностей, — ибо сердце есть и "свет
огоса". Потому у Платона высшее проявление души —
озерцание идей. Эта сторона самости особенно хорошо
хвачена в индийской мистике, где "Атман сердца" есть
истый дух с его "отрешенным и холодным оком". Ат-
тн не действует, ни к чему не стремится, ничего не
увствует. Это безличное вселенское сознание, которое
ыше всего человеческого, "выше всякого добра и зла
потому абсолютно непогрешимо. В поднятии к нему
заключается все "бессмертие" и все спасение челове-
а"2. Однако на Западе уже у Платона душа — не только
вет логоса, но и Эрос. Она не только созерцает идеи, но
полна стремления, любви, творческого порыва, свобод-
ого избрания в любви и творчестве. Отсюда сердце — не
олько "озаряющий центр, но вместе с тем тяготеющий
ентр. Сердце есть умное видение, но вместе с тем умное
елание! Сокровенное "я" есть знание и любовь... свет
огоса и тепло любви — в нераздельном единстве"3.
> этом Вышеславцев видит "основную идею христиан-
гва, выраженную в идее христианской любви". Вспом-
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
опросы философии. 1990. № 4. С. 83.
2 Там же. С. 84.
3 Там же.
400
ним в этой связи Паскаля, который в "Искусстве
убеждения" считал одним из "самых полезных мнений" у святых
мужей, что "истина постигается только любовью".
Вышеславцев обращается к Паскалю, когда выступает
против европейского рационализма в духе Аристотеля
или Декарта, усматривавших существо Я в мышлении.
Для нашего мыслителя это "величайший предрассудок".
Постижение шире, чем мышление. Узрение не совпадает
с интеллектом, ибо есть "созерцание этическое,
эстетическое и религиозное. И здесь созерцает вовсе не интеллект.
"Чувство" в созерцании ценностей... имеет свои
очевидности, свою "логику". Паскаль назвал ее "логикой
сердца", а Шелер развернул эту логику до пределов
универсальной системы ценностей... Сердце есть тоже орган
постижения, оно постигает многое, что недоступно
интеллекту, постигдет "святость", красоту, ценность"1. Так
Вышеславцев развивает сокровенную мысль Паскаля
о том, что "мы постигаем истину не только разумом, но
и сердцем". Отсюда и более полнокровное, чем в
рационализме, понимание сущности не только созерцания
и познания вообще, но и сущности души человеческой,
глубинного Я, сущности самой жизни и ее смысла.
Здесь я рассмотрела "метафизику сердца" в основном
тех мыслителей, которые сознательно обращались к
Паскалю, не затрагивая развития этой темы у других
русских философов — И. А. Ильина (чрезвычайно
интересная концепция "сердечного созерцания" и критика
им "бессердечной культуры" на Западе), Н. К. и Е. И.
Рерихов (учение "Живой этики" о "чувствознании",
органом которого является сердце), Даниила Андреева
(сердце как "духовный мост" в "светлые миры")2.
1 Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике //
Вопросы философии. 1990. № 4. С. 85.
2См.: Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993; Он же. Поющее
сердце. Книга тихих созерцаний // Соч.: В 2 т. М., 1994. Т. 2; Учение
живой этики: В 3 т. Т. 2: Сердце. М., 1994; Андреев Д. Роза мира. М.,
1991.
ПАСКАЛЬ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
На Западе считается довольно общепризнанным
рассматривать Паскаля как одного из отдаленных
предшественников современного экзистенциализма. Так, Ф. Селье
считает, что "большое число фрагментов из "Мыслей"
описывают человеческое положение таким образом, что
можно рассматривать Паскаля как великого
предшественника экзистенциализма"1. П. Тиллих прямо возводит
этот последний к Паскалю: "Теперь в нашей стране
широко известно, что возник экзистенциализм в
интеллектуальной жизни Запада в XVII веке с Паскаля..."2 Так же
Баррет в своей книге "Иррациональный человек" относит
творчество Паскаля к "христианским источникам
экзистенциализма": "...если Августина можно рассматривать
как предшественника экзистенциализма, то Паскаль —
уже экзистенциалист"3. Представители европейского
экзистенциализма (Хайдеггер, Ясперс, Марсель, Сартр,
Камю и др.) любят обращаться к тем или иным темам
паскалевских размышлений: о "мыслящем тростнике",
жизни и смерти, неподлинности человеческого бытия,
отвлекающей роли развлечений, экзистенциальном
характере истины и т. д. Религиозные экзистенциалисты,
естественно, уделяют большее внимание паскалевскому
пониманию Бога, феномена веры, христианской религии
(например, концепция "парадоксальной веры" и личного
Бога у Кьеркегора, культ любви к Богу у Марселя,
христоцентризм у Тиллиха).
Буржуазные исследователи нередко проводят
аналогии не только между паскалевскими и экзистенциалистс-
1 Sellier Ph. Pensées. Pascal. P., 1972. P. 22.
2Цит. по: Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема
отчуждения в американской литературе. М., 1967. С. 23.
3Barret W. Irrational man. N. Y., 1958. P. 97.
402
кими раздумьями о человеке, но также между их
решениями проблемы человека. Паскаль как
"экзистенциальный" мыслитель противопоставляется Декарту как
философу, чуждому экзистенциальных устремлений. Зато
сопоставление взглядов Паскаля и Кьеркегора, а также
Сартра, Хайдеггера и других экзистенциалистов является
чуть ли не общим местом в западном паскалеведении,
хотя, правда, без конкретного анализа, но скорее на
уровне общих замечаний1.
На мой взгляд, если в некотором смысле можно
признать "экзистенциальные мотивы" в творчестве Паскаля,
то об экзистенциалистских решениях им тех или иных
проблем вряд ли можно говорить без существенного
искажения его взглядов и мировоззрения вообще.
Экзистенциалистская интерпретация идейного наследия
великого ученого представляется мне недопустимой
модернизацией. В этой связи я называю условно
"экзистенциальными" такие темы или проблемы, которые
затрагивают коренные внутренние условия человеческого
бытия, главным образом в его психологических и
духовно-нравственных структурах: рефлексию о смысле
жизни и смерти, достоинстве и счастье человека,
противоречиях его бытия, нравственную озабоченность, ощущение
трагизма жизни, субъективные условия истины и т. п. Все
эти темы привлекали пристальное внимание Паскаля,
и он внес свой неповторимый вклад в их разработку,
оказав несомненное влияние на мыслителей
последующих эпох, в том числе и на экзистенциалистов.
Впрочем, экзистенциалистской философии оказались
"созвучными" размышления не только Паскаля, но
и многих других мыслителей, а также ряда писателей:
Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Августина, Монтеня,
Руссо, Ницше, Достоевского, Пруста, Кафки и др. Во
многом это связано либо с утонченным психологизмом,
либо с напряженностью нравственных исканий, либо
с живописанием коллизий "несчастного сознания" и т. п.,
что находит свое выражение как в философии
экзистенциализма, так и в обширной экзистенциалистской
литературе (например, в драматургии Марселя, Сартра и Камю,
романах Сартра "Тошнота" и "Дороги свободы", рома-
1 См., например: Magnard P. Nature et Histoire dans L'apologétique
de Pascal. P., 1975. P. 18, 212; Goldmann L. Le dieu caché. P. 20; Sciacca M. F.
Pascal (II pensiero cristiano). Breschia, 1946. P. 25; Sellier Ph. Pensées.
Pascal. P., 1972. P. 22—24.
403
нах Симоны де Бовуар, рассказах и повестях Камю,
романах Айрис Мердок, Кобо Абэ и др.). Если
"экзистенциальные темы" относятся к разряду "вечных" в
человеческой культуре, то экзистенциалистская их трактовка —
результат развития буржуазной философии, в основном
современного ее этапа.
Не принимая в целом экзистенциалистской
интерпретации идейного наследия Паскаля, что ниже я попытаюсь
обосновать, нельзя все же не признать того, что Паскаль
оказался в некотором роде "благодатной фигурой" для
экзистенциалистов в силу, во-первых, наличия у него
мощного образного "пласта" в мышлении, во-вторых,
его пристального внимания к диалектике человеческого
бытия, в-третьих, трагического мироощущения.
Ряд общих тем в размышлениях о человеке у Паскаля
и экзистенциалистов, в особенности сосредоточенность
на грустных сторонах человеческой жизни, обусловлены
их социальными ситуациями, которые, несмотря на
различие и отдаленность во времени их эпох, имеют то
существенное сходство, что являются переходными,
драматичными, изобилующими катаклизмами, в силу чего
воспринимаются личностью как социально безнадежные.
В такие трагически-тревожные эпохи само бытие
человека "ставится под вопрос". Обнажается "хрупкость"
человеческой жизни, ее необеспеченность и социальная
беззащитность, обостряются духовно-нравственные коллизии,
оказываются "под ударом" гуманистические ценности.
Французский абсолютизм после Фронды, все более
крепнущий и "завинчивающий гайки" в государственной
машине, продемонстрировал свою силу перед еще незрелой
в политическом отношении буржуазией и закономерно
порождал в буржуазном сознании ощущения
дискомфорта, зависимости, безысходности, катастрофичности.
Трагическое мировосприятие Паскаля выросло именно на
этой почве. Его резко отрицательное отношение к
существующей социальной системе и вместе с тем
необходимость мириться с ней вызвали многие нравственные
коллизии и своеобразный "уход в глубины сознания" со
"сверлящими" его вопросами. Отсюда необычайная
напряженность и подчас ранящая душу интенсивность
нравственных исканий и мучительно тревожащих
экзистенциальных вопросов у Паскаля.
В смутное для буржуазного сознания время возникает
и экзистенциалистская философия — в эпоху кризиса
общества 20-х годов нашего века, в период между двумя
404
мировыми войнами, когда обостряются все социальные
противоречия, усиливается власть тоталитаризма,
появляется культ потребительства, широко распространяется
массовая культура, резко падает значение нравственных
ценностей. В тисках "железного века" само
существование личности и ее свободы ставится под угрозу. И снова,
как не раз уже бывало в европейской истории в
"смутные" времена, обостряется интерес философов к жгучим
проблемам человеческого бытия. В мире социальных
катаклизмов и в условиях морального хаоса становится
особенно актуальным вопрос о смысле "жизни перед
лицом смерти", решение которого определяет как
специфику паскалевского учения о человеке, так и
экзистенциалистской концепции существования. В силу этого
обычный для человека вопрос о смысле жизни внезапно
приобретает трагическую окраску. Сосредоточение внимания
на горестных сторонах человеческой жизни характерно
как для Паскаля, так и для экзистенциалистов.
Вольтер, живший в оптимистическую для
буржуазного сознания эпоху, искренне изумлялся способности
Паскаля как будто нарочно видеть лишь несчастья
людей, совершенно не замечая доступных для человека
радостей жизни и возможного для него счастья.
В философии Камю актуальный для него вопрос
о смерти трансформируется в проблему самоубийства,
которую он считает "единственной истинно серьезной
философской проблемой"1. Потому обретение смысла
жизни происходит "перед лицом смерти" и выступает,
согласно Камю, как "самый мучительный из вопросов".
Из всех проблем для него заслуживают внимания лишь
те, решение которых "рискует привести к смерти либо же
способно увеличить страсть к жизни"2. Причем он
рассматривает самоубийство не как социальный феномен, но
как глубоко индивидуально-личностный акт, подготовка
к которому происходит в "безмолвной тишине
человеческого сердца". Первым шагом на пути этой подготовки
оказывается закрадывающийся в сердце "червь
сомнения" в разумности всего существующего —
окружающего мира и собственного бытия человека, — в результате
чего исчезают ясность и доверие перед лицом жизни
и с устрашающей очевидностью возникает смерть как
несомненный факт. Появляется "чувство абсурдности",
1 Camus A. Le Mythe de Sisyphe. P., 1942. P. 15.
4bid. P. 16.
405
полагает Камю, от ощущения бессмысленности
жизненной суеты, бесполезности страданий и
иррациональности мира. На призыв человека мир отвечает своей
"неразумной тишиной". Последняя мысль Камю
представляет почти цитату из "Мыслей" Паскаля: "Вечное
молчание этих бесконечных пространств ужасает меня"1.
Использует Камю и другую идею Паскаля — об
отвлекающей роли развлечений в жизни человека. Только
"развлечение в паскалевском смысле" он называет
"уклонением" от решения "мучительных вопросов" о смысле
жизни и смерти. Это уклонение тем более естественно,
полагает Камю, что "привычку жить мы приобретаем
раньше, чем привычку думать"2. Поэтому последующему
расколу, отчуждению между человеком и миром,
человеком и его собственной жизнью предшествует гармония
между ними, исключающая всякую рефлексию о жизни
и смерти. Но когда просыпается разум, он хочет знать все
или ничего (опять паскалевский мотив!), чтобы человеку
иметь твердую почву под ногами. Однако все никогда не
бывает ясным, и "червь сомнения" в конце концов
приводит к "чувству абсурдности" и возможному оправданию
самоубийства.
Разумеется, Камю не является апологетом
самоубийства, как и Паскаль, но не в силу христианских доводов
последнего. Зато он использует паскалевский метод
обоснования через парадокс, через превращение "контр"
в "за". Абсурд у Камю выступает не как средство ухода
из жизни, а как атрибут самой полнокровной,
напряженной жизни... вопреки смерти. "Согласие на
самоубийство" поставило бы человека ниже смерти, унизило бы его
зависимостью от нее и означало бы победу смерти не
столько над жизнью, сколько над самим человеком. Не
склониться перед смертью, но возмутиться против нее,
считает Камю, не отвергнуть абсурд самоубийством, но
утвердить его возмущением против смерти — вот что
"придает ценность жизни и величие человеку". "Речь идет
о том, чтобы умереть не примирившимся, а не по доброй
воле", "исчерпав в жизни все, что в ней дано"3. Так Камю
"преобразует в правило жизни то, что было призывом
к смерти"4, и отвергает самоубийство. Именно перед
1 Pascal В. Pensées. Р. 528, fr. 201.
2 Camus A. Le Mythe de Sisyphe. P. 21.
3 Ibid. P. 78, 84.
4Ibid. P. 89.
406
лицом смерти он утверждает ценность жизни, найдя
"спасение" в самом человеке, в его сознании, тогда как у
Паскаля, а также у религиозных экзистенциалистов (Г.
Марсель, К. Ясперс, П. Тиллих и др.) оно — в Боге. Но,
помимо этого весьма существенного различия, Камю,
пожалуй, более других экзистенциалистов испытал на
себе влияние Паскаля. Правда, трагическому
мироощущению "отшельника из Пор-Рояля" он противопоставил
героико-романтическое и оптимистическое отношение
к жизни. Возможно, Камю достигает этого
нетривиального решения старой, как мир, проблемы самоубийства
за счет определенной эстетизации самого феномена
смерти, как то уже имело место в древнегреческой трагедии
(Эсхил, Софокл, Еврипид). Не случайно он реализовал
античные сюжеты ("Миф о Сизифе", "Калигула") в своих
произведениях, "опрокидывая" их в современность.
Кстати, традиция эта во французской культуре идет от
Корнеля и Расина и продолжается по сей день.
Принадлежит к ней и другой французский экзистенциалист, Жан-
Поль Сартр, написавший пьесу "Мухи" на античный
сюжет об Оресте, в которой провозгласил "абсолютную
свободу" человека в трагическую эпоху Франции —
период фашистской оккупации. Пьесу поставили в
оккупированном Париже в 1943 г., она прекрасно была понята
соотечественниками, тогда как для нацистов
зашифрованный смысл ее остался скрытым.
Паскалевские ходы мысли своеобразно реализуются
и в философии Сартра. Хотя проблема смерти у него не
является такой актуальной, как у Камю, но он все же
затрагивает ее в связи с темой абсурда, посвятив ей
несколько страниц в "Бытии и Ничто". Прежде всего
Сартр отвергает паскалевский образ жизни перед лицом
смерти, противопоставляя его мрачной картине свою,
психологически несколько иную: лучше уподобить
человека, считает Сартр, осужденному на смерть, который
храбро готовится к смертной казни, весь поглощенный
заботой о том, чтобы "сделать красивую мину" на
эшафоте, а между тем жизнь его неожиданно обрывается
в связи с эпидемией испанского гриппа1. Этим примером
Сартр хочет подчеркнуть независимость момента смерти
от человека, даже ожидающего ее и готовящегося к ней,
не говоря уже обо всех других людях, и не осужденных,
и не помышляющих о ней.
Sartre J. P. L'Être et le Néaht. P., 1961. P. 617.
407
Непредсказуемость смерти, ее случайный характер
даже для людей осужденных, больных, старых Сартр
называет "абсурдностью смерти". В равной мере случаен
и сам факт рождения человека, ибо по заказу не
рождаются. Рождение и смерть стоят как бы "вне человеческой
жизни", не являясь, согласно Сартру, проектом человека.
"Абсурдно то, что мы родились, абсурдно и то, что мы
умрем"1. При этом надо учитывать, что человек
понимается Сартром как "бытие-для-себя", т. е. как сознание,
как cogito, а не как природное существо или практически
действующий индивид. Смерть есть абсурд именно для
сознания.
То, что экзистенциалисты называют абсурдностью
жизни и смерти, то у Паскаля выступает как загадка,
тайна жизни и смерти, их непостижимость для личного
сознания. Вот это тревожное раздумье Паскаля в
"Мыслях": "Когда я размышляю о кратковременности моей
жизни, поглощаемой предшествующей и последующей
вечностью, — воспоминание об одном мимолетном дне,
проведенном в гостях, — о ничтожности пространства,
которое я наполняю и даже которое я вижу,
погруженного в бесконечную неизмеримость пространств,
которых я не знаю и которые не знают меня, то содрогаюсь
при одной мысли о том, по чьему повелению и
распоряжению мне назначено именно это место и это время?
Кто меня поместил сюда?"2 и далее: "Я знаю лишь то,
что должен вскоре умереть, но я меньше всего постигаю,
что такое сама эта смерть, избежать которой не в моей
власти"3. Как напоминает это тревожное размышление
Паскаля смятение Августина, восклицающего в своей
"Исповеди": "Господи боже мой! Хочу начать с того,
чего я не знаю и не постигаю, откуда я пришел сюда,
в эту смертную жизнь или жизненную смерть..."4
Впоследствии Шпенглер назовет это "судьбой" человека.
Сартр отвергает любое решение вопроса об
отношении смерти к жизни — будь то религиозное (в духе
Паскаля) или светское (в духе Камю или Хайдеггера), —
которое рассматривает смерть как смыслообразующий
фактор жизни, как "одну из моих возможностей", за
которую я несу ответственность, или как "разрешающий
1 Sartre J. P. L'Être et le Néant. P., 1961. P. 631.
2 Pascal B. Pensées. P. 508, fr. 68.
3 Ibid. P. 553, fr. 427.
4 Августин. Исповедь // Творения Блаженного Августина. 2-е изд.
Киев. Ч. 1.С.6.
408
аккорд мелодии жизни". Напротив, полагает Сартр,
"смерть есть уничтожение всех моих возможностей",
моей свободы выбора и "в принципе лишение жизни всякого
значения". Смерть находится по ту сторону жизни и
потому "не может принадлежать онтологической структуре
для-себя"1. Отсюда наши проекты совершенно
независимы от смерти, равно как она сама не зависит от них, так
что мы не можем ни думать о ней, ни ожидать ее, ни
сражаться с ней2. Напрасно христиане, говорит Сартр,
считают подобную точку зрения "ослеплением",
рассматривая смерть как "феномен жизни" и предлагая каждый
час быть готовыми к ней. Резко критикует Сартр и хай-
деггеровскую идею "бытия к смерти", связанную с
отождествлением им факта смерти с конечностью
человеческого бытия. Но подобная идентификация, кстати
имеющая место и в философии Паскаля, Сартру
представляется заблуждением, ибо сам он выводит
конечность жизни из свободного самоопределения человека,
выбирающего одну из возможностей и исключающего
другие. "Иначе говоря, человеческая реальность была бы
конечной, даже если бы была бессмертной..."3 —
заключает Сартр.
Он довольно последовательно снимает
"таинственный флер" с лика смерти и серией аргументов ставит ее
"по ту сторону жизни", реализуя, в общем, античную
идею, ярко выраженную Эпикуром в Письме к Менекею:
"...смерть не имеет к нам никакого отношения, так как,
когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а
когда смерть присутствует, тогда мы не существуем"4.
Сартр считает смерть "чистой фактичностью",
"данным", чем-то "другим" по отношению к живущему
Человеку, "свободному смертному", ускользающему от
"внешней детерминации", каковой является и сама смерть.
В нашей жизни, утверждает Сартр, мы господствуем над
"фактичностью" и над "другим", но наша смерть
отчуждает нас "в пользу другого": "Быть мертвым — значит
стать добычей живых"5. Мы вольны характеризовать
умерших как нам хочется: например, определяя смысл
"души" Паскаля, Ницше назвал ее "великолепной и
горестной". Этот пример Сартра обнаруживает как бы
1 Sartre J. P. L'Être et le Néant. P. 621, 624, 629.
2 Ibid. P. 632—633.
Mbid. P. 631.
4 Антология мировой философии: В 4 т. M., 1969. T. 1. Ч. 1. С. 356.
3 Sartre J. P. L'Etre et le Néant. P. 628.
409
присутствие "тени" Паскаля в его размышлениях о смер-
1и. хотя решения его далеки от паскалевских, равно как
решения тех или иных проблем у Паскаля далеки от
жзис i енциалистских.
Демистификация феномена смерти у Сартра не
оставляет места для того напряженного драматизма,
которым пропитаны мысли Паскаля о смерти. Если Сартр, по
сути дела, советует человеку не думать о смерти, забыть
о ней, то Паскаль, напротив, предлагает всегда помнить
о ней, ибо от степени внимания к смерти, считает он,
зависит весь ход человеческой жизни. Паскаль видит
обычный способ отношения к смерти среди людей: "Не
в силах избавиться от смерти, нищеты, невежества, люди,
чтобы стать счастливыми, перестали думать об этом"'.
Он же полагает, что "следует бояться смерти не в момент
опасности, а когда нам ничто не угрожает, ибо надо быть
человеком"2. Словом, для Паскаля сознание смерти, как
и сознание своего величия перед вселенной — величия
"мыслящею тростника", — представляет атрибут
человеческого достоинства. Однако при всем различии
подходов к проблеме смерти у Сартра и Паскаля есть то
существенно общее, что они ее рассматривают в плане
чисто психологическом, с точки зрения человеческого
сознания, и решают ее тоже только на этом уровне,
уровне "души", т. е. в плане экзистенциальном, а не
социальном или биологическом.
Следует также обратить внимание на популярность
в экзистенциализме темы "мыслящего тростника",
величия человека в сознании, величия в самом ничтожестве.
Так, в творчестве Альбера Камю эта тема
трансформируется в своеобразно истолкованный миф о Сизифе, герой
которого именно в сознании возвышается над трагизмом
своей безвыходной ситуации. Но и сам трагизм порожден
сознанием: Сизиф прекрасно знает о бесполезности
своего нескончаемого труда. В этом его мучение, но и залог
освобождения, ибо, согласно Камю, "нет судьбы,
которой нельзя было бы преодолеть презрением"3. Презрение
Сизифа к богам, ненависть к смерти и страсть к жизни
стоили того, чтобы расплатиться за них несказанной
мукой. Презрев богов, считает Камю, Сизиф стал
хозяином и этого мира, и своей собственной судьбы. "Одной
1 Pascal В. Pensées. Р. 516, fr. 133.
2Ibid. P. 593, fr. 716.
3 Camus A. Le Mythe de Sisyphe. P. 166.
410
борьбы с вершинами вполне достаточно, чтобы
наполнить человеческое сердце. Поэтому надо представить
Сизифа счастливым"1.
Так, герой античного мифа в интерпретации Камю
обретает человеческое величие в самом своем
ничтожестве. Типичный паскалевский мотив.
Он является актуальным и в философии Ж. П. Сартра,
согласно которому атрибутивный признак человека —
это его сознание, понимаемое как cogito. Именно
сознание возвышает человека над всеми созданиями в природе
и определяет его "особое положение" в мире. В книге
"Бытие и Ничто" Сартр развертывает феноменологию
сознания и человеческого бытия исключительно с точки
зрения его сознания. Исследуя различные уровни
сознания ("дорефлексивное cogito" мысль о вещах и мысль
о самом себе), Сартр затем сосредоточивает все
внимание на личностном сознании, которое он называет "для-
себя-бытие". Онтологическим свойством этого
последнего он считает свободу, которая прежде всего состоит
в отрицании всего того, что не удовлетворяет человека,
начиная от окружающего мира и кончая своим
собственным бытием. Возможность "поставить под вопрос"
бытие всего существующего и сказать ему "нет!" возвышает
человека над любой фактичностью и угрожающей
"массивностью" бытия2. Ту же самую тему Сартр развивает
в "Критике диалектического разума": женщина в
трагической ситуации покончила с собой, бросившись под
колеса проходящего поезда, и была жестоко раздавлена,
но, умирая, она повторяла: "Я не должна была этого
делать... не должна была..." В этом он видит
убедительный пример "превосходства человека над вещами". Здесь
опять идет речь о величии, причем величии в духе, а не
в действии.
В религиозном экзистенциализме наиболее
"родственной" темой паскалевских размышлений является тема
веры в Бога и любви к нему. Причем дело здесь не
столько в "экзистенциализме" Паскаля, сколько в
своеобразии его феномена веры. Так, не без оснований
проводится параллель между Паскалем и Кьеркегором.
Датский философ-иррационалист развивает в некотором
смысле близкое к паскалевскому понимание религиозной
веры как противостоящей разуму, парадоксальной с его
1 Camus A. Le Mythe de Sisyphe. P. 168.
2 Sartre J. P. L'Être et le Néant. P. 562, 634.
411
точки зрения. Кьеркегоровский "рыцарь веры" Авраам
верит в "своего Бога" вопреки не только разуму и
здравому смыслу, но и вопреки общечеловеческим нормам
нравственности (вопреки всякой справедливости и
всякому человеколюбию). Готовность Авраама по
требованию Бога принести в жертву своего единственного и
любимого сына Исаака зиждется, согласно Кьеркегору, на
его "парадоксальной вере" в доброту Бога и
возможность спасения сына, за что Бог и вознаградил
"праотца" людей, послав агнца вместо его сына. Но Кьеркегор
говорит не только о "парадоксе веры", но и об
"абсурдности" ее. Авраам, в его интерпретации, желая
выполнить волю Бога, "верил в силу абсурда" и в силу
абсурда он получает Исаака обратно1. Здесь заключено
существенное отличие от Паскаля, у которого
"чувствуемая сердцем" вера в Бога хотя и не доказывается
разумом, но и не абсурдна, ибо "у сердца свои законы,
которых разум не знает", т. е. свой глубокий, по-своему
обоснованный высший смысл, а не бессмысленность, не
абсурд.
"Парадокс веры", впрочем, никогда не отрицаемый
так или иначе в христианстве, в дальнейшем получает
поддержку у разных религиозных мыслителей. В
"христианском сократизме" Марселя, развившемся скорее в
русле томистской традиции — в отличие от Кьеркегора,
опиравшегося на протестантскую традицию, — Бог
рассматривается также в духе Паскаля не как предмет
рационалистических доказательств, не как "вывод из теоремы",
а как объект человеческой любви и духовной
привязанности. В "Очерке конкретной философии" Марсель
подвергает критике "рационалистическую теологию, в
которой определения Бога выступают как предикаты,
дефиниции знания, предельно бедные по своему содержанию...
Чтобы раскрыть бесконечную полноту Бога, необходимо
самозабвенное обращение человеческого сознания к
Тому, к кому оно взывает как своему Началу, Цели и
единственному Убежищу"2. В экзистенциальной ситуации,
особенно перед лицом неизбежной смерти, человек
возлагает свои надежды на Бога и видит в нем свое спасение.
Естественно-научное или критически-философское
решение проблемы смерти Марсель считает не просто
ошибкой, но "грехом, который является корнем самых
1 Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 37.
1 Marcel G. Essai de la philosophie concrète. P., 1940. P. 61.
412
ужасных бедствий современного человечества"1. "В
покинутом любовью мире, — пишет Марсель в книге
"Таинство бытия", — смерть перестала быть тайной и
превратилась в грубый факт, наподобие поломки какого-нибудь
бездушного механизма"2. Такое отношение к смерти,
полагает он, есть результат лишенной духовности жизни
человека, забывшего об изначально "священном
характере" своего бытия. Отсюда бессмысленность жизни,
отчаяние и безнадежность в сознании, автоматизм в
действиях и поведении людей. "Современный мир выбрал
смерть и живет под знаком смерти", — констатирует
Марсель3, характеризуя не только
экзистенциально-метафизическую ситуацию человека без Бога, но и
политическое положение в мире, существующем на грани ядерной
войны.
Французский философ считает сегодняшний мир
"расколотым миром" (monde cassé), в котором
господствует стихия отчуждения между людьми, где обесценены
все интеллигибельные, нравственные и духовные
ценности. Марсель весьма выразительно описывает феномен
"демонизма техники" (излюбленная тема также у Хай-
деггера, Ясперса, Сартра и других экзистенциалистов):
технический прогресс, обеспечивший комфорт в
материальной, внешней жизни, породил духовную
пассивность и скуку, "автоматизацию внутренней жизни",
массовую культуру, обезличил человека, отнял у него
свободу и превратил в объект манипулирования со
стороны тоталитарного "государства-Молоха". Верно
отображая реалии капиталистической действительности,
но как бы "опрокидывая их в вечность", Марсель
усматривает лицемерие и обман в борьбе политических
партий за лучшее будущее людей и справедливое
государственное устройство. Подобные надежды,
полагает он, лишь скрывают "истинную безнадежность",
в которую трагически погружено современное
человечество4.
Вся логика марселевских рассуждений призвана
подвести фундамент под религиозное видение мира.
Признание безысходного трагизма жизнт*, неизбежность смерти,
безнадежность социальной ситуации должны побуждать
1 Marcel G. Le Mystère de l'être. P., 1951. V. 2. P. 148.
Mbid. P. 152. .
Mbid. P. 153.
4Ibid. V. 1, И (Le Monde cassé). P. 25-^6.
413
человека надеяться на Бога и его милосердие. Марсель
почти "логически буквально" воспроизводит паскалевс-
кие ходы мысли к Богу. Марселя интересует не столько
онтологический статус Бога, сколько его психологическое
восприятие. "Живой Бог" Марселя представляет такую
"трансценденцию", которая интенционально воплощает
запросы "имманентности" (души, сознания человека):
веру в бессмертие, надежду на спасение от всяческого зла,
надежду на совершенствование человеческих отношений
на основе любви, милосердия, совести и т. д. Все это
Марсель называет "божественными дарами" и
"священным элементом" человеческого бытия, присутствие
которых можно обнаружить даже в "самой деградированной
жизни".
Бог выступает у Марселя как высший гарант
незыблемости всего "священного" в человеческом бытии, как
абсолютная опора "надежды", укорененной в самом
фундаменте жизни и представляющей "живую ткань
человеческой души". Более того, "надежда есть, возможно,
лишь другое название для трансценденции"1. Так
философ-экзистенциалист "освящает" в религиозном духе
реальные, духовно-нравственные феномены человеческого
бытия, внедряя идею Бога в психологическое сознание
индивида. Когда ослабляется сознание "священного"
характера жизни, полагает Марсель, тогда "открывается
простор для самых ужасных злоупотреблений", вплоть
до "умерщвления безнадежно больных", что, однако,
категорически запрещается в цивилизованном мире,
свидетельствуя о сохранении "священного элемента" даже
в "расколотом мире"2.
Сравнивая жизнь с мифической птицей-феникс,
Марсель считает, что "во всякой жизни заключена как бы
надежда на возобновление (résurrection)", так что
решение проблемы смерти он связывает с "пробуждением
в человеке ощущения вечности", понимания
"неразрушимого элемента жизни"3. Вот почему для него "вера
в бессмертие не может быть уподоблена простому
миражу"4.
Вера в бессмертие, спасение как избавление от
трагизма жизни, надежда, любовь и вообще вера во все "свя-
1 Marcel G. Le Mystère de l'être. V. 2. P. 163.
Mbid. P. 164.
Mbid. P. 164, 166.
4Ibid. P. 154.
414
щенное", т. е. в конечном счете вера в Бога, по Марселю,
представляют сугубо индивидуально-личностные,
психологизированные, уникально-экзистенциальные феномены
человеческого бытия. Обосновать их рационально
невозможно. Поэтому "тот, кто чувствует присутствие Бога,
— пишет Марсель, — не только не имеет нужды в
доказательствах, но саму идею доказательства будет
рассматривать как кощунство, посягающее на священную
очевидность Бога"1. Таким образом, экзистенциальный
Бог здесь является "личным и живым Богом", а не
"Богом ученых, философов и теологов". Если в
понимании онтологического статуса Бога есть отличие Марселя
от Паскаля, то в трактовке самого феномена веры можно
констатировать значительное сходство между ними.
Подобно Паскалю, философ-экзистенциалист стремится
вывести веру в Бога из потребности сердца, а не разума
человека и отделить эту "экзистенциальную веру" от
науки, знания, спекулятивной философии.
"Призыв к Богу", согласно Марселю, представляет
тайну человеческого бытия, в которую каждый вовлечен
на "свой страх и риск" и эзотеризм которой в корне
отличается от проблем, внешним образом предстающих
перед человеком и не затрагивающих глубин его
существа. В различении экзистенциальной "тайны" и
объективно-внешней "проблемы" Марсель видит главную
особенность своей "конкретной философии", чуждой "духу
системы", всяким "измам", абстрактному гносеологизму
и в целом традиционной интеллектуалистической
философии с ее невниманием к целостному и конкретному
человеку. Этот последний понимается Марселем во всем
многообразии его ощущений, чувств, желаний, надежд,
разочарований и т. д., т. е. в его "экзистенциальных
структурах", реализация которых осуществляется в
межличностном о цснии "я" и "ты". Отсюда культ любви
в экзистенциализме Марселя. Сам Бог понимается как
"абсолютное Ты", любовь к которому обеспечивает
гармонию и в конкретной любви между людьми, т. е.
проникновение "священного элемента" в их отношения.
Здесь Бог п пимается снова в духе Паскаля как учитель
нравственности, которого любят всем сердцем и
которому верят и доверяют.
Популярны паскалевские п; j;ict<-вления о Боге в
протестантской "диалектической ео;ю1ии"' близкой к экзис-
1 Marcel G. Le Mystère de IV'.o. V. 2. P. 177.
415
тенциализму (Карл Барт, Пауль Тиллих), что можно
рассматривать как своеобразную оценку его варианта
религии в современной религиозной мысли. Так, Барт
разделяет мнение Паскаля о бесполезности философии
для религии, считая само понятие "христианской
философии" противоречивым в себе и немыслимым, равно как
и понятие "рационализированной теологии". Когда
протестантский теолог-рационалист Адольф Гарнак,
сторонник "ученой теологии", бросил вызов
теологам-антиинтеллектуалистам, презирающим эту последнюю, обратив
к ним 15 "каверзных" вопросов, то Барт принял вызов
и ответил на них с позиций "теологии откровения".
Совершенно в духе Паскаля Барт считает
действительно истинной лишь "пробужденную Богом веру",
которая не поддается ни доказательствам с помощью разума,
ни мистическим обоснованиям посредством
"неконтролируемого фантазирования". Отрицая всякое
"критическое размышление" по вопросу о вере, Барт отстаивает
принципы "евангельской религии", "не замутненные"
новшествами, неподвластные времени, истинные в своей
вечности.
Его ученик Тиллих подвергает критике чрезмерную
религиозную ортодоксальность своего учителя, его
нежелание учитывать современную ситуацию и сделать более
доступными "вечные истины" людям нашего века. В
отличие от Барта, Тиллих полагает необходимым
модернизировать "библейскую религию" в соответствии с
запросами современности, а также сблизить ее со светской
культурой. Восхищаясь "прозрениями" Паскаля и
опираясь на его религиозную традицию, Тиллих хочет
дополнить ее так называемой "теономией", своеобразной
"теологией культуры", в которой объединились бы мирское
и религиозное начало в культуре. Считая Паскаля
"предшественником всех экзистенциалистов", он высоко ценит
у него якобы "критику эссенциалистского мышления"1,
апогей в развитии которого сам он усматривает в
философской системе Гегеля. Если эссенциализм как доктрина
объективистского знания пренебрегает
"экзистенциальными измерениями" человеческого бытия и оперирует
абстрактным понятием Бога, то экзистенциализм,
согласно Тиллиху, выводит представление о Боге из самих
условий человеческого существования, отвечая прежде
1 Tilîich P. A History of Christian Thought. From Its Judaic and
Hellenistic Origins to Existentialism. N. Y., 1972. P. 437.
416
всего на запросы сердца, а не разума. "Паскаль сумел
дать замечательную критику эссенциализма, — пишет
Тиллих, — ибо связывал Бога Авраама, Исаака и Иакова
как с величием человека, так и с его ничтожеством"1.
Помимо критики эссенциализма Тиллих ценит также
у Паскаля и антисциентизм. Успехи научного знания
создают возможности для манипулирования личностью,
что ведет к недооценке и даже игнорированию ее
внутреннего мира, "измерения" ее духовности. "Это было
основанием, — пишет Тиллих в книге "Мужество быть", —
паскалевских нападок на правила математической
рациональности в XVII в., равно как романтического
неприятия правил моральной рациональности в конце XVIII в.
и кьеркегоровской борьбы против логической
деперсонализации в гегелевской мысли"2.
В своем труде "Систематическая теология" Тиллих
воспроизводит многие паскалевские ходы мысли о
разуме и сердце, Боге и человеке, диалектике человеческого
существования и т.д. Он недвусмысленно рассматривает
паскалевский вариант религии в русле протестантизма,
которому, по его мнению, созвучны доминирующие идеи
французского мыслителя: горестного положения
человека в мире без Бога, "отчуждения" его от своей
первоначальной сущности в результате грехопадения,
двойственной природы человека и неизбежных противоречий его
жизни, ограниченности человеческого разума и его
несостоятельности в вопросах веры, "доводов сердца,
которых разум не знает" и, наконец, постижения Бога только
через Иисуса Христа. Если в I томе "Систематической
теологии" исследуются все эти проблемы, то II том
посвящен полностью Христологии3, центральному звену
теологической доктрины Тиллиха.
Конечно, Тиллих тенденциозно выбирает из учения
Паскаля то, что соответствует его собственным взглядам
и к тому же заведомо его "экзистенциализирует" на свой
лад, представляя, скажем, его как "теолога отчуждения".
Он находит у французского мыслителя описание
человеческого существования в духе экзистенциализма (страх
перед смертью, абсурдность бытия, отчуждение человека
от самого себя и от других людей). Он усматривает у него
1 Tillich P. A History of Christian Thought. From Its Judaic and
Hellenistic Origins to Existentialism. N. Y., 1972. P. 439.
2 Tillich P. The courage to be. London, 1955. P 131.
3 Tillich P. Systematic theology. V. 1,2. London, 1960.
14 Заказ №4951
417
"парадоксальный путь к вере" и феномен
"сомнения-веры", воскрешая романтический образ
Паскаля-верующего, созданный еще Шатобрианом.
В книге "Библейская религия и поиск первоначальной
реальности" Тиллих и сам развивает представления
о "парадоксальной вере", интенсивность которой
проистекает из драматической взаимосвязи между нею самой
и сомнением. "Вера и сомнение в сущности не
противоречат друг другу, — пишет он. — Постоянное
напряжение между ними... отличает веру от логической
очевидности, научной вероятности, традиционалистской
самоуверенности и догматического авторитаризма. ...Вера
говорит "да", несмотря на тревогу, исходящую от "нет"1.
Признавая элементы аутентичной трактовки Тилли-
хом ряда идей Паскаля (феномена смерти, парадокса
веры, противоречий человеческого бытия, понимания
определенных границ научного познания), я, однако, не
согласна с представлением великого ученого "философом
абсурда" или "теологом отчуждения". Последняя
характеристика является экзистенциалистской модернизацией
взглядов Паскаля (в духе самого Тиллиха), а первая — не
соответствует его учению о человеке. Французский
философ нигде не говорит об абсурдности человеческой
жизни, но скорее о горестности ее и противоречивости.
Паскаль отнюдь не был "очарован" мыслью об абсурдности
существования, как некоторые из современных
экзистенциалистов (Шестов, Сартр и особенно Камю). Если он
и не сводил человеческое бытие к рационально
запрограммированному поведению и не считал разум
единственным судьей в определении ценностей и смысла жизни,
то вместе с тем не был ни просто иррационалистом, ни
тем более воинствующим антиинтеллектуалистом, чтобы
представлять его "философом абсурда".
Паскаль был "певцом" высшего смысла жизни,
постигаемого "не только разумом, но и сердцем", а не
апологетом ее бессмысленности, абсурдности. Он знал высшие
ценности жизни и выступал в философии с позиций
идеала человека, идеала истины, идеала жизни, связывая их
с религией. Он как раз критиковал нравы высшего света
за их бессмысленность, бездуховность и бесчеловечность.
Он бичевал абсолютистский строй за его
несправедливость, неразумность и неестественность. Он был против
1 Tillich P. Biblical religion and the search for ultimate reality. Chicago,
1964. P. 61.
418
сведения человеческой жизни к биологическому
функционированию или индивидуально замкнутому бытию,
к бессмысленному прожиганию жизни или
эгоистическому существованию. Паскаль отстаивал
общечеловеческие ценности и был озабочен "счастьем для всех".
В этой связи мне бы хотелось отметить искажение
позиций Паскаля В. Барретом в его книге
"Иррациональный человек", в которой французский мыслитель
представлен, как и у Тиллиха, экзистенциальным философом
и поборником иррационалистического течения в
философии и религии1. Это последнее американский философ
возводит к "гебраизму", древнееврейской культуре и
религии, противостоящей эллинизму как
рационалистическому направлению, восходящему к философии Платона
и Аристотеля. Если в "гебраизме" существует культ
живой веры, конкретной жизни и целостного человека, не
укладывающийся в рамки абстрактных понятий, схем
и рационалистических теорий, ибо "жизнь глубже
разума", то в эллинизме якобы преобладает теоретическое,
рационально-абстрактное отношение к миру и человеку,
не постигающее экзистенциальных (иррациональных для
Баррета) глубин ни того, ни другого. Словом,
американский философ отстаивает ту же дихотомию, что
и Л. Шестов, — дихотомию Афин и Иерусалима,
экзистенциалистский эквивалент дихотомии рационального
и иррационального в развитии европейской культуры.
Причем, как и Л. Шестов, Баррет критически настроен
к первому направлению и весьма доброжелательно ко
второму, связывая с этим последним "истинную
философию целостного и конкретного человека".
Баррет излагает философские взгляды Паскаля в духе
иррационализма, односторонне заостряя внимание на его
критике недостатков разума, возводя их к "ничтожеству
человеческого положения в целом" и "забывая" сказать
о признании французским мыслителем "величия и
достоинства разума"2. Или он говорит о "конечности
человека" у Паскаля, не отмечая вместе с тем и его
бесконечности3, которую также видел французский мыслитель (у него
даже маленький клещ бесконечен вглубь!). Для Паскаля
"человек бесконечно превосходит человека". Прямо
связывая "философию отчаяния Сартра" с философией Пас-
'Barret W. Irrational man. N. Y., 1958. P. 97 105.
4bid. P. 101.
Mbid. P. 103.
419
каля, Баррет не указывает на тот факт, что последний не
был сторонником этой первой и неоднократно
высказывался против культа отчаяния, безнадежности как в
философии, так и в религии. Зато Баррет без
соответствующих разъяснений, могущих пролить свет на
действительный смысл этого понятия у Паскаля (связанный
с автоматизмом психической деятельности), упоминает
о термине "поглупеть", возводя его к "гебраистской"
традиции1. Примеры подобной односторонней и
тенденциозно направленной интерпретации Барретом идейного
творчества Паскаля можно было бы продолжать и далее.
Однако и приведенных примеров достаточно, чтобы
понять, как под пером американского приверженца
экзистенциализма и иррационализма Паскаль-диалектик с
многосторонним видением проблем превращается в
неглубокого и поверхностного мыслителя-иррационалиста.
Возвращаясь к Тиллиху, хочется отметить, что у него
Паскаль и более глубок, и более диалектичен, хотя тоже
экзистенциалистски искажен. Протестантский теолог,
отдавая должное его варианту религии, особенно
подчеркивает парадоксальный и противоречивый характер его
феномена веры. Но с точки зрения своей "теологии
культуры" он — в противовес Паскалю — считает, "что Бог
Авраама, Исаака и Иакова и Бог философов есть один
и тот же Бог"2. Существующее на Западе в течение многих
веков разделение религиозной и светской культур Тиллих
оценивает как историческую ошибку и разновидность
отчуждения, которые должны быть преодолены.
Рассматривая религию как "сущность духовной жизни" и как
"субстанцию, которая определяет и придает значение
культуре"3, он пытается объединить веру и разум,
философию и религию, светскую и религиозную культуры.
Отчужденный от религии разум, согласно Тиллиху,
запутывается в противоречиях и впадает в скептицизм и цинизм. "В
конфликтных ситуациях познающий разум сам не в силах
помочь себе, — пишет Тиллих. — В качестве лечебного
средства здесь может выступить только откровение,
которое объединяет "сердце" и вечно все разлагающий разум"4.
При этом Тиллих "экзистенциализирует" как
философию, так и теологию, выдвигая в качестве насущной
lBarret W. Irrational man. N. Y., 1958. P. 25.
2 Tillich P. Biblical religion and the search for ultimate reality. P. 85.
3 Tillich P. Theology of culture. N. Y., 1959. P. 42.
4 Tillich P. Systematic theology. V. 1. P. 154.
420
задачи и той, и другой описание "экзистенциальной
бездомности человека" и обоснование необходимости его
"нового воплощения" через приобщение к идеалу Иисуса
Христа. Поскольку философ не может отвлечься от
экзистенции, а теолог всегда воспринимает мир
экзистенциально (со страхом, надеждой и любовью), постольку
философ есть "скрытый теолог". Таким образом, Тиллих
обосновывает теологический подтекст человеческой
культуры и говорит о "корреляции экзистенциальной
онтологии и библейской религии как бесконечной
задаче", заново решаемой в каждую историческую эпоху1. Он
убежден в том, что гуманистическое решение
человеческих проблем в конечном счете осуществляется "исходя из
религиозных или квазирелигиозных традиций... как то
имело место у Паскаля, который заимствовал свои
решения из августинианской традиции, равно как Кьеркегор
— из лютеранской, Марсель из томистской... а
гуманисты — также из спасительных религиозных источников"2.
Специально подбирая из истории культуры религиозные
тенденции, Тиллих теологизирует эту историю. Кроме
того, в рамках в целом религиозных решений, как это
было у Паскаля, далеко не все шло от религии, но от
самой реальной жизни, от науки и от светской культуры.
Есть в философии Паскаля ряд других тем и проблем,
получивших развитие в экзистенциализме:
экзистенциальный характер истины, конкретный субъект познания,
специфика науки о человеке в отличие от естественных наук,
диалектика человеческого бытия, его подлинная и
неподлинная жизнь. Но разработка их экзистенциалистами
идет в совершенно другом направлении, чем у Паскаля.
Возьмем проблему истины, которую Паскаль всю свою
жизнь искал буквально "со вздохом", особенно истину
о человеке. Он прекрасно видит ее относительность,
ограниченность, текучесть, субъективность, слишком
человеческий (экзистенциальный) характер, но ищет он...
абсолютную, "чистую", "не замутненную примесью лжи",
общезначимую истину. Здесь он разделяет идеал
рационалиста Декарта. Паскаль убежден в том, что истина не
должна зависеть от капризов, мнений, корысти,
интересов людей, что есть истина и объективная, и
общезначимая, что она доступна людям, но очень трудна для
постижения. Словом, Паскаль является поборником на-
1 Tillich P. Biblical religion and the search for ultimate reality. P. 85.
2 Tillich P. Systematic theology. V. 2. P. 28.
421
учной истины и научного знания, образцом которого
в его время считалась математика. Другое дело, что не
во всех сферах знания достигнута научная строгость
и ясность: нет ее, например, как полагает он, в науке
о человеке. Однако он никогда не высказывал сомнения
относительно возможности построения этой последней.
Вспомним и о том, что, обратив внимание на "искусство
убеждения" в истине и признавшись в своем бессилии
сформулировать его четкие правила, Паскаль с
надеждой говорит о других людях, которым, возможно, это
удастся.
Между тем в экзистенциализме отнюдь не ставится
проблема научного познания человека. Более того, оно
считается не аутентичным, не адекватным и не истинным
"внешним знанием" о человеческой реальности. Но
и весь окружающий мир, рассмотренный с научной точки
зрения, не интересует экзистенциалистов. При подходе
к миру они используют феноменологический метод
Э. Гуссерля, с помощью которого описывают лишь мир,
коррелятивный человеческому сознанию. "Этот
объективный мир со всеми его объектами, — пишет Гуссерль
в "Картезианских размышлениях", — ...черпает во мне
самом весь смысл и всю экзистенциальную ценность,
которую он имеет для меня"1. В результате
феноменологического видения (экзистенциального, а не в духе самого
Гуссерля) мир перестает быть равнодушным и
бесстрастным универсумом ученых и становится, как говорит
Сартр, эмоционально окрашенным "миром артистов
и пророков: ужасным, враждебным, опасным, с
убежищем благости и любви"2. Научному познанию мира
противостоит его экзистенциальное восприятие,
субъективно-личностное освоение.
Антисциентистскую ориентацию экзистенциализма
с вызывающей откровенностью и воинствующим
иррационализмом выразил Л. Шестов в книге "На весах Иова",
буквально перевернув с ног на голову традиционное в
европейской философии — со времен античности —
понятие об истине. Он отвергает такие отличительные
признаки истины, как доказательность, всеобщность,
необходимость, рациональная очевидность, достоверность, считая
все это не "предикатами истины", а печатью того, "что
Достоевский называл "всемством", то есть всеми при-
1 Husserl Е. Méditations cartésiennes. P., 1931. P. 22.
2Sartre J. P. Situation I. P., 1947. P. 34.
422
знанными суждениями"1. Шестов с едким сарказмом
обрушивается на требования Спинозы: "не осмеивать
человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их,
а понимать", усматривая в нем "отказ от всего
человеческого", в силу чего научное знание может отличаться
"соблазняющей всеобщностью и обязательностью".
Между тем Шестов убежден в том, что истина не выносит
общего владения и обращается в невидимку при первой
же попытке извлечь из нее пользу, включив ее в "общий
для всех мир"2. Такова человеческая экзистенциальная
истина, не имеющая точек соприкосновения с научной
истиной.
У других экзистенциалистов нет столь решительного
отрицания "общезначимых истин", но культ
"человеческой истины"все равно выражен в той или иной форме.
Так, Сартр убежден, что "всякая истина, как и всякое
действие, заключают в себе человеческую
субъективность", что импонирует его экзистенциалистской
философии, которая в качестве "отправной точки в понимании
истины принимает субъективность человека"3. Сартр
реализовал этот принцип в книге "Бытие и Ничто", в
которой дал феноменологическое описание мира и
человеческой реальности с точки зрения "бытия-для-себя", т. е.
индивидуального человеческого сознания. "Бытие нам
раскроется через некоторый способ непосредственных
подходов, — говорит он, — скуку, тошноту и т. д.,
и онтология будет описанием феномена бытия..."4 В
"феноменологической онтологии" индивид один решает
вопрос об истине бытия, универсума и своей жизни.
Единственным критерием этого решения является, согласно
Сартру, искренность человека, его объективная честность
и абсолютная ответственность, ибо ни на земле, ни на
небе, ни "в светлом царстве ценностей..." "нет знамений
в мире". Но даже если бы они были, считает Сартр, то
смысл им придает все равно человек5.
Противопоставлять субъективной человеческой
истине какую-либо иную, в том числе и научную, согласно
экзистенциалистам, не имеет никакого смысла, так как
сферы их "владений" разные, они существуют как бы
параллельно, не влияя друг на друга. Таким образом,
1 Шестов Л. На весах Иова. Париж, 1929. С. 44.
2 Там же. С. 122.
3 Sartre J. P. L'existentialisme est un humanisme. P., 1946. P. 12, 63.
4 Sartre J. P. L'Être et le Néant. P. 14.
5 Sartre J. P. L'existentialisme est un humanisme. P. 37, 47.
423
человековедение в экзистенциалистской философии
изымается из области научных исследований. Отсюда
воинствующий субъективизм в понимании экзистенциальной
истины. Не будет преувеличением сказать, что
субъективность человека в экзистенциализме является поистине тем
микроскопом, через который рассматриваются все
явления и в свете которого решаются все проблемы. При
этом научное познание мира не отвергается, но
объявляется совершенно бесполезным для решения человеческих
вопросов. Когда решается вопрос о жизни и смерти, то
глубоко безразлично, что вокруг чего вращается, имеет
ли мир три измерения, а разум девять или двенадцать
категорий и т. д. Камю считает, что "Галилей отрекся от
истины, как только она стала угрожать его жизни"1.
Какой контраст с классически традиционной позицией
Паскаля, служившего идеалу "чистой", "полной",
"абсолютной", "всеобщей" истины и никогда не
удовлетворявшегося найденными и открытыми человеческими
истинами. Я думаю, уже одного этого фундаментального
различия достаточно, чтобы вывести Паскаля из "колеи"
экзистенциалистского философствования. Образцом
философского исследования для него было именно научное
исследование, и он буквально страдал от того, что
ему не удавалось создать строгой науки о человеке.
Восстание против науки — плод более позднего развития
буржуазной философии, начиная с Ницше и кончая
современностью.
Правда, в послевоенные годы некоторые
экзистенциалистские концепции (Ясперса, Сартра) претерпели
эволюцию в направлении ослабления "экзистенциального
фильтра" в трактовке истины и познания. Особенно это
относится к Сартру, который субъективно выразил свое
"согласие с марксизмом" и высоко оценил научное
понимание истории, данное Марксом. О весьма сложном
отношении Сартра к марксизму здесь не место говорить,
поскольку в данном случае важно лишь его понимание
истинного знания о человеческой реальности. Этой
проблеме Сартр посвящает многие страницы своей
"Критики диалектического разума", в частности "Вопросы
метода". Он предлагает два разных метода для изучения
природы и человеческой реальности — "аналитический"
и "диалектический", понимая под первым способ
"внешнего" изучения объектов, "подведение" их под общие
1 Camus A. Le Mythe de Sisyphe. P. 15—16.
424
законы и выражение их в общих терминах и понятиях,
а под вторым — синтетический способ проникновения
в целостную структуру человеческой деятельности с
точки зрения ее задач, целей, условий и конечных
результатов. Следует заметить, что Сартр весьма своеобразно
понимает диалектику, как исключительно человеческий
феномен, а именно как "практику", "живую логику
действия", как "организованную целостность", в рамках
которой целое не сводится к совокупности его частей, а
каждая часть имеет значение только в связи с целым.
Поэтому для Сартра "движущей силой всякой диалектики
является идея целостности", без которой не понятны
диалектические закономерности: единства и борьбы
противоположностей, отрицания отрицания, переход
количественных изменений в качественные и др.1
Для постижения человеческой реальности Сартр
требует "экзистенциальной основы знания", которую он
отличает от кьеркегоровского ее понимания. Если Кьеркегор
в противовес гегелевскому абсолютному знанию и его
панлогизму выдвинул требование иррациональной,
алогичной, принципиально ненаучной основы
экзистенциальной истины (в чем Л. Шестов, не зная Кьеркегора,
объективно продолжал его традицию), то Сартр рассматривает
свое понимание этой последней в качестве "дополнения"
к концептуальному знанию в форме общих понятий. Сартр
в отличие от других экзистенциалистов теперь стремится
не противопоставлять экзистенциальную истину научному
познанию человека, но согласовать первое со вторым. Для
этого он предлагает "систему посредствующих звеньев",
в которую входят, помимо других элементов,
экзистенциальный психоанализ и "понимание" движущих пружин
человеческих действий, их мотивов и целей. Фрейдовскому
психоанализу с его ориентацией на сексуальные
интерпретации Сартр противопоставляет анализ структуры
семейных отношений, которые формируют личность ребенка,
когда его "незабываемое детство накладывает свой
отпечаток на всю жизнь взрослого"2. Вот это исследование
психологии детского возраста Сартр и называет
"экзистенциальным психоанализом", который призван прояснить
"индивидуальное измерение" человеческой практики.
1 Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique. P., 1962. P.
16; Sartre J. P. Critique de la raison dialectique. P., 1960. P. 133, 48; Sartre
J. P. Situation III. P., 1949. P. 145.
2 Sartre J. P. Critique de la raison dialectique. P. 48.
425
Той же цели служит и "метод понимания", который
Сартр старательно отличает от какой бы то ни было
иррациональной и мистической интуиции, связанной с
симпатиями или антипатиями и т. д., и с помощью
которого поддаются рациональному объяснению
"экзистенциальные пружины" действий людей: мотивы, цели,
выбор, средства достижения и др. "Экзистенциальную
основу знания" о человеке и его деятельности Сартр
предлагает в качестве "микроанализа" в рамках научного
"макроанализа" человеческой реальности, который он
находит и высоко оценивает в марксистской философии.
Такова позиция Сартра в послевоенный период, когда
его до того типично экзистенциалистские взгляды
претерпели определенную эволюцию под влиянием чтения
произведений К. Маркса и когда его трактовка
"экзистенциальной истины" перестала в определенной мере
противостоять ее научному пониманию1.
Поставив своей задачей рационально объяснить с
марксистских позиций крупные и малые явления
исторического процесса развития (но так и не реализовав ее), Сартр
использует паскалевский пример влияния
индивидуального и случайного на ход истории. Паскаль пишет: "Будь
нос Клеопатры чуть короче, все лицо земли было бы
иным"2. Для Сартра, увлеченного марксизмом, "даже
нос Клеопатры виден в ином свете, когда его соотносят
с той исторической целостностью, которая есть
производственное отношение"3. Несмотря на вполне понятное
различие взглядов Сартра и Паскаля по вопросу об
истине, нельзя сказать, что понимание "экзистенциальной
истины" у первого столь противоположно пониманию
второго, как то было ранее, ибо теперь Сартр, как и
Паскаль, соотносит ее с научной истиной. Однако данное
сходство отнюдь не свидетельствует об
экзистенциалистской позиции Паскаля, а скорее говорит об отходе
Сартра от экзистенциализма. Экзистенциалистский культ
индивидуальной человеческой истины у Сартра все же
дает о себе знать в самом его требовании
"экзистенциальной основы знания", в котором в неадекватной форме
ставится проблема конкретности истины. Отголосок
этого культа сквозит и в оценке Сартром "абстрактного
'См.: Стрельцова Г. Я. Критика экзистенциалистской концепции
диалектики. М., 1974. Гл. III.
2 Pascal В. Pensées. Р. 549, fr. 413.
3 Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique. P. 5.
426
знания" (не опирающегося на "экзистенциальную
основу") как "человеконенавистнического", что уже
перекликается с вышеупомянутым мнением Л. Шестова.
В отличие от экзистенциалистов Паскаль не делает
культа из экзистенциальной истины и субъективности
человека и не создает "экзистенциальной онтологии".
Совсем наоборот, Паскаль ищет абсолютные
человеческие ценности и объективную истину. Он не приемлет ни
позиции нравственного релятивизма, ни установок
буржуазного индивидуализма, ни идеи "абсолютной
свободы", ни нигилистического отношения к научному
познанию, столь характерных для "классического"
экзистенциализма. "Все заботятся лишь о себе, — пишет Паскаль,
— но это противоречит всякому порядку. Необходимо
стремиться к всеобщему, а сосредоточенность на себе
есть начало всякого беспорядка, будь то на войне, в
обществе, в экономике или в отдельном человеке"1. Это тем
более относится к знанию, истине.
Я уже отмечала, что Паскаль высмеивал милую
сердцу буржуа приверженность к частной собственности.
Иронизирует Паскаль и над теми авторами, которые
рассматривают свои произведения тоже как
своеобразную "частную собственность": "Говоря о своих трудах,
иные авторы твердят:» "Моя книга, мой комментарий,
моя история". Они как те выскочки, которые обзавелись
собственным домом и не устают повторять "мой
особняк". Лучше бы говорили "наша книга, наш
комментарий, наша история", ибо чаще всего там больше
чужого, чем их собственного"2. Как в области знания Паскаль
осуждает гипертрофию "своего", личного,
субъективного, ограниченного человеческого мнения об истине, так
в реальной жизни людей поражается и не одобряет
своекорыстия, эгоизма, себялюбия, индивидуализма.
Заботясь о человеческом счастье, он думает и о всеобщем
благе. Сам дух корпоративизма, где бы он ни
проявлялся, чужд сознанию и настроению Паскаля. Он мыслит как
представитель человеческой общности, он ищет не
"свою", а объективную истину, в то время как
экзистенциалисты принципиально настаивают на "своей истине",
сознательно выступая под "флагом" индивидуализма
и отмежевываясь от науки о человеке.
1 Pascal В. Pensées. Р. 552, Гг. 421.
2 Ларошфуко Ф. де. Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де.
Характеры. С. 119, аф. 43.
427
Конечно, учение о человеке Паскаля с религиозным
решением ряда человеческих проблем (счастья,
нравственного идеала, "высшего блага" и др.) нельзя назвать
научным, оно очень противоречиво, как и вся его
философия в целом. В нем есть систематически и концептуально
разработанные разделы, в которых дан вполне светский
и стремящийся к научному анализ тех или иных сторон
индивидуальной и социальной жизни (противоречий
человеческого бытия, происхождения государственной
власти и системы неравенства между людьми, психологии
нравов и др.). Паскаль скрупулезно исследует большие
и малые явления, но не ограничивается их описанием,
пытаясь вскрыть их причины и глубинные основания,
подобно тому как в физике он за явлениями всегда
стремился увидеть их сущность, закон их взаимосвязи.
Согласно мнению Ж. Молино, Паскаль в соответствии с
запросами науки Нового времени "конституирует
антропологию по образцу модели наук о природе, то есть
пытается понять ансамбль "существенных качеств"
человека через минимум объяснительных гипотез"1. Не
принимая во внимание религиозной стороны учения о
человеке Паскаля, он считает его антропологию "научной"
и "близкой антропологии Гоббса и Декарта... однако
в отличие от нее не страдающей редукционизмом"2.
В данном случае речь идет о механицизме Гоббса и
Декарта и антимеханистической позиции Паскаля.
В общем, сходство некоторых тем в учении о человеке
у Паскаля и экзистенциалистов еще не дает, на мой
взгляд, оснований вести "родословную"
экзистенциализма прямо от Паскаля, как это делает П. Тиллих. В
отличие, скажем, от Декарта Паскаль условно является
"экзистенциальным мыслителем" в том смысле, что он
значительно более озабочен проблемами человеческого
существования и его духовно-нравственного бытия. Но
слишком многое выводит мировоззрение Паскаля за
пределы экзистенциалистской традиции: высокая оценка им
научного познания, идеал объективной истины и
гармоничного человека, интерес к общественному благу и
социальным нуждам, нравственный максимализм и
антииндивидуализм.
Что же касается сходства паскалевского феномена
веры и экзистенциалистского ее варианта, то здесь дело,
' Molino У. La raison des effets // Méthodes chez Pascal. P. 486.
4bid. P. 488.
428
собственно, не столько в экзистенциализме, сколько
в многовековой религиозной традиции, так или иначе,
больше или меньше противопоставлявшей разум и веру,
философию и религию. Ведь даже в томизме с его
ориентацией на согласование, гармонизацию этих
противоположностей сокровенный смысл веры если и "не проти-
воразумен", то все же "сверхразумен'1. Конечно,
экзистенциалистская установка на уникальность человеческого
сознания и духовно-внутренний "срез" личности
способствовали обращению скорее к протестантскому варианту
религии, чем к католицизму. Но все это весьма
относительно, ибо Г. Марсель сумел "совместить"
экзистенциализм и католицизм. Паскаль же с его пониманием
религиозной веры, несмотря на его формальные уступки
римско-католической церкви, ближе стоял именно
к протестантизму, что и породило обращение к нему
некоторых религиозных экзистенциалистов.
Оценивая в целом соотношение взглядов Паскаля
и экзистенциалистов, я убеждена, что он — мыслитель
совсем другого масштаба и экзистенциалистская мерка
для его учения является поистине "прокрустовым
ложем".
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
Вместо заключения
Идейная борьба вокруг наследия Паскаля, начавшаяся
сразу после его смерти и вызвавшая янсенистскую
"резекцию" его "Мыслей" и их неаутентичное издание в
течение почти двух столетий, продолжается и в нашем
веке. Отсутствие у него системы, образно-эмоциональная
форма выражения мыслей, незавершенность главного
его философского труда "Мысли", его ирония,
афористический стиль создают такую "открытость" для самых
разных толкований, что диапазон оценок состоит из
прямо противоположных суждений, утверждений,
выводов. Однозначные ответы тут же "предаются анафеме"
и побиваются другими. XVII век чтил в Паскале ученого,
"святого" и философа. Век Просвещения разоблачал
его как "скрытого атеиста" и совсем не ценил как
философа, в чем особенно преуспели французские про-
429
светители (Ламетри, Вольтер, Кондорсе, Д'Аламбер),
беспощадно .критиковавшие его апологию религии и
положительно отзывавшиеся о нем как об ученом и
талантливом полемисте1.
XIX столетие "подняло на щит"
Паскаля-христианина. Эту традицию начинает Ф. Шатобриан своим
"Гением христианства" (1802). Для него Паскаль — "ужасный
гений", мятущийся между "бездной неверия" и жаждой
подлинной веры. И все же он трактует "Мысли" как
"любопытный памятник христианской философии" и
ставит "Паскаля-софиста значительно ниже
Паскаля-христианина"2. Преклоняясь перед "гением христианства",
Шатобриан связывает величие философа с его религиозной
верой. Называя его "самым смелым мыслителем XVII
века, наиболее способным генерализировать идеи, чтобы
перевернуть мир", Шатобриан вместе с тем воспевает
в нем "страх перед нововведениями", способными
привести к бездне. Именно христианская религия, считает он,
налагает на нас "восхитительную узду, которая, с одной
стороны, не мешает нам широко смотреть на мир,
а с другой — не позволяет нам сорваться в бездну"3.
Здесь речь идет о "бездне неверия" как пучине бездушия
и бесчеловечности.
С легкой руки Шатобриана воспевание
Паскаля-христианина стало одной из самых устойчивых традиций
в буржуазном паскалеведении XIX и XX вв. Религиозные
мыслители разной ориентации (ортодоксы,
реформаторы, модернисты — например, А. Вине, М. Блондель,
Бремон, Ж. Маритен, А. Жильсон и многие другие)
нашли в Паскале своего союзника. Правда, к середине
нашего столетия происходит своеобразная
"секуляризация" западного паскалеведения и раздаются голоса
против сугубо религиозной интерпретации творчества
Паскаля. Так, известный издатель Паскаля Луи Лафюма был
всегда против" сведения идейного содержания "Мыслей"
лишь к апологии религии. Р. Алике в книге "Паскаль
живой" осуждает М. Сурио за его издание "Католические
мысли Паскаля", тенденциозно исключившего
множество фрагментов, не содействовавших защите религии.
Алике убежден, что "Мысли" не являются только аполо-
1 См. подробно в диссертации: Finch D. La critique philosophique de
Pascal au XVIII-e siècle. Philadelphia, 1940.
2 Chateaubriand F. Essai sur les révolutions. Génie de christianisme... P.,
1978. P. 825.
3 Ibid. P. 827.
430
гией и отнюдь не предназначены лишь одним
католикам1. Один из наиболее талантливых современных паска-
леведов, М. Легерн (автор прекрасных монографий
"Мысли Паскаля (от антропологии к теологии)", "Образ
в творчестве Паскаля", "Паскаль и Декарт"), также
предостерегает от отождествления апологии с философской
системой Паскаля, что "с необходимостью приводит
либо к возникновению противоречий, либо к выпадению
существенных элементов из состава его "Мыслей"2.
Эта тенденция стала настолько заметной на Западе,
что религиозно ориентированный исследователь Ф.
Селье возмущается "обычными светскими доктринами",
в которых рассматривается философия Паскаля без его
религии. В пику им он издает "религиозную онтологию
"Мыслей", произвольно компонуя фрагменты. Он
считает Паскаля отнюдь не философом, но теологом и видит
в "Мыслях" "набросок замечательного трактата по
фундаментальной теологии"3. В своем обширном труде
"Паскаль и Святой Августин" он представляет его как
"великого теолога августинианской традиции" и полагает, что
"вся паскалевская мысль развивалась в диалоге с учением
Августина"4. Такой же точки зрения придерживается
и кардинал римско-католической церкви К. М. Гаррон
в своей книге "Во что верил Паскаль", тщательно при
этом "отсекая" его религию от янсенизма5. Религиозное
паскалеведение не оскудевает в нашем веке, имея в своем
активе таких маститых авторов, как А. Гуйе, Ж. Менар,
Гиттон. Справедливости ради, надо подчеркнуть, что
в отличие от Селье эти авторы высоко оценивают
Паскаля и как философа. Позицию же самого Селье мало кто
разделяет в настоящее время.
Парадокс Паскаля-христианина состоит в том, что
он всю жизнь и после смерти "обвинялся в атеизме".
Традицию эту начали его злейшие враги — иезуиты,
которые мстили ему за "Письма к провинциалу",
пытаясь изобразить его то "сумасшедшим", то
"замаскированным атеистом". Они распространили также легенду
о том, что перед смертью, уже в агонии, Паскаль якобы
отрекся от своих "Писем к провинциалу" и вернулся
в лоно официальной церкви, которую тогда представлял
'Alix R. Pascal vivant. P. 221-222.
2 Le Guern M. et M.-R. Les pensées de Pascal ... P., 1972. P. 212.
3 Sellier Ph. Pensées. Pascal. P., 1972. P. 12.
4 Sellier Ph. Pascal et Saint Augustin. P., 1970. P. 5-6.
5 Garrotte G. M: Ce que croyait Pascal. Tours, 1969.
431
орден иезуитов. Пытаясь дискредитировать автора
опаснейшего для них памфлета еще при его жизни, они не
оставили его в покое и после смерти, распространяя
о нем по всей Европе разные небылицы, не гнушаясь ни
ложью, ни клеветой. Увы, эти нелепые слухи оскорбляли
светлую память Паскаля. Кое-кто в них поверил, и среди
них Лейбниц, Ламетри, Вольтер. Последний в своем
"Анти-Паскале" (25-е из "Философских писем") притворно
гневался на "атеизм великого христианина"1. В нашем
веке Анри Лефевр в своем двухтомном исследовании
"Паскаль"2 подхватывает эту в корне ошибочную версию
и, скрупулезно анализируя последние дни жизни
мыслителя, ее обосновывает.
Словом, религиозные авторы разных направлений
считают Паскаля "своим", тогда как атеисты
"притягивают" его к себе, причем и те и другие не без оснований.
Феномен паскалевской веры настолько своеобразен, что
для кого-то это и не вера вовсе. Я думаю, что правы,
конечно, первые, а не вторые: пройдя тяжкий путь
исканий, Паскаль успокоился в лоне искренней веры, что
особенно утешало его перед смертью. По сути дела,
иезуиты — в духе своей лицемерной "ослабленной"
морали — обвиняли Паскаля в религиозном и нравственном
нечестии, что абсолютно не соответствовало ни
психологическому складу личности, ни нравственному характеру
Паскаля.
Как всякий великий мыслитель, Паскаль всегда с
нами. Из глубины XVII столетия звучит его тревожный
пророческий голос, предостерегающий против всяких
войн, которые он клеймит как "наихудшее из зол". Он
зовет человечество к миру, о котором мечтал как о
"наибольшем из благ". Он печалился судьбами
человеческими, как будто предчувствовал еще большую угрозу
человеку в будущем, чем в его жестокий век. Он,
отдавший свою жизнь науке, поставил человека выше науки
и технического прогресса, как будто знал, что в нашем
веке все будет наоборот. Он, всю свою жизнь "искавший
истину со вздохом", завещал нам не предавать ее и не
приспосабливать к сиюминутным выгодам. Он, высоко
ценивший разум, не был настолько ослеплен его блестя-
1 Voltaire F. M. Remarques sur les Pensées de Pascal. Oeuvres complètes.
P., 1879. T. 22; в рус. пер.: Вольтер. Философские сочинения. М., 1988.
С. 190—226.
2Lefebvre H. Pascal. P., 1949—1954. T. 1—2.
432
щими доказательствами, чтобы забыть о запросах
человеческого сердца: вере, надежде и любви.
Нет, Паскаль не просто мыслитель прошлого,
творчество которого имеет сугубо историческое значение, но
поистине "учитель человечества". К нему обращаются не
за одними аргументами — у него ищут утешения и
духовной поддержки во все времена. В нем видят не только
ученого, писателя, философа или теолога, но Человека,
прошедшего через горнило испытаний и выстоявшего
в жестокую эпоху.
ПРИЛОЖЕНИЯ'
Б. Паскаль
О ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ УМЕ
И ОБ ИСКУССТВЕ УБЕЖДАТЬ
При изучении истины можно поставить три главные
цели: открь'ть истину, когда ее ищут; доказать, когда ее
нашли; наконец, отличить ее от лжи, когда ее исследуют.
Ничего не говоря о Ъервои, я особенно имею в виду
вторую, которая заключает в себе третью. Ибо если
знают метод доказательства истины, то смогут в то же
время отличить ее от лжи, поскольку, исследуя,
согласуется ли доказательство с известными правилами, будут
знать, строго ли она доказана.
Геометрия, преуспевшая в этих трех родах, научает
искусству открытия новых истин, что в ней именуется
анализом, о котором, впрочем, не стоит рассуждать
после столь превосходных трудов на эту тему.
Моя единственная цель — искусство доказательства
уже открытых истин, причем доказательства
неопровержимого; а для этого только надо усвоить метод, который
использует геометрия, в совершенстве им владеющая
и без лишних слов ему научающая уже одними своими
примерами. Поскольку это искусство состоит в двух
главных вещах: во-первых, в том, чтобы доказывать отдельно
каждое предложение, и, во-вторых, располагать все
предложения в надлежащем порядке, постольку в моем
изложении будет две части: первая представит правила
ведения геометрических доказательств, методических и
совершенных, а вторая — правила геометрического порядка,
столь же методического и совершенного, так что вместе
они и будут способствовать доказательству и
распознанию истины.
1 Переводы осуществлены Г. Я. Стрельцовой по изданию: Pascal В.
Oeuvres complètes. P., Seuil, 1963. P. 348—359, 292—297, 290-291.
434
ЧАСТЬ I
О МЕТОДЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,
МЕТОДИЧЕСКИХ И СОВЕРШЕННЫХ
Чтобы лучше понять метод ведения убедительных
доказательств, надо лишь продемонстрировать тот,
которому следует геометрия, но предварительно
необходимо усвоить идею метода еще более превосходного и
совершенного, хотя бы и никогда не достижимого для
людей, ибо то, что превышает геометрию, превосходит
и нас; однако надо все же о нем сказать немного, хотя его
практиковать и невозможно, а тем более нельзя достичь
успеха как в одном, так и в другом.
Я избрал эту науку только потому, что она одна знает
истинные правила рассуждения и, не останавливаясь на
фигурах силлогизма, которые столь естественны, что
невозможно их не соблюдать, разрабатывает и использует
истинный метод рассуждения обо всех вещах, который
мало кому известен и который столь полезен в науках,
что придает им совершенно небывалую силу, о чем
и опыт свидетельствует.
Итак, я хочу продемонстрировать, что такое
доказательство, на примере доказательств в геометрии, ибо она
есть почти единственная из наук, которая располагает
истинным методом, чтобы сделать их строгими, тогда
как все другие науки не обладают такой четкостью, что
понимают в высшей степени одни лишь геометры.
Этот истинный метод самых строгих доказательств,
если бы он был достижим, состоял бы в двух главных
вещах: во-первых, не вводить никаких терминов без
точного определения их смысла; во-вторых, не выдвигать
никаких предложений, которые не были бы обоснованы уже
известными истинами, т. е., одним словом, определять все
термины и доказывать все предложения. Но
предварительно я должен объяснить, что я понимаю под дефиницией.
В геометрии признаются только такие дефиниции,
которые логики называют номинальными, т. е. речь идет
о наименованиях вещей, которые четко обозначены в
совершенно известных терминах; только такие дефиниции
я имею в виду.
Польза и назначение их состоят в том, чтобы
пояснять и сокращать речь, обозначая нечто одним словом
вместо нескольких слов; используемое имя лишается
всякого другого смысла, кроме того, который ему единст-
435
венно предназначен. Например: если надо выделить в
числах те, которые делятся на два, и чтобы постоянно не
повторять это условие, ему дают имя таким образом:
я называю четным всякое число, которое делится на два.
Это и есть геометрическая дефиниция: ясно обозначив
вещь, а именно число, делящееся на два, дают ему имя,
которое лишается всякого другого смысла, кроме
означенного.
Отсюда кажется, что дефиниции слишком
произвольны и не могут быть противоречивыми, ибо вполне
допустимо придать ясно обозначенной вещи такое имя,
какое хотят. Надо лишь предостеречь от
злоупотребления свободой при использовании имен, придавая один
и тот же смысл двум различным вещам.
Хотя допустимо и это, лишь бы не смешивали их
следствий и не переносили одно на другое.
Но если впадают в эту ошибку, то можно
использовать верное и безотказное средство: мысленно ставить
определение на место определяемого, и, согласно
принятой дефиниции, всякий раз, когда говорят, например,
о четном числе, то строго понимают под ним число,
делящееся на два, так что эти две вещи столь нераздельно
в мысли связаны, что, говоря об одной, тотчас же имеют
в виду другую.
Ибо геометры и все те, кто действуют методически,
дают имена вещам только затем, чтобы сократить речь,
а не для того, чтобы ослабить или изменить понятие
о них. Ведь они всегда стремятся вместо дефиниции
использовать краткие слова, чтобы избежать путаницы,
проистекающей от многословия.
Ничто не разоблачает столь быстро и решительно
коварные уловки софистов, как этот метод, который один
способен устранить все виды затруднений и
двусмысленностей.
После всех этих уточнений я приступаю к изложению
истинного порядка, который, как я уже говорил, состоит
в том, чтобы все определять и все доказывать.
Конечно, этот метод был бы превосходен, но он
абсолютно недостижим: ибо очевидно, что для определения
первых терминов необходимы предшествующие им
разъяснения, равно как для доказательства первых
предложений требуются предшествующие, и таким образом
никогда не дойдешь до первоначальных.
Так и в целом в исследовании, продвигая его все
дальше, достигают по необходимости первичных терми-
436
нов, которые невозможно определить, и начал столь
ясных, что они не требуют доказательства.
Отсюда следует, что в силу естественной
неизбежности люди не в состоянии изложить какую-либо науку
в абсолютно полном порядке.
Но это не означает, что не надо придерживаться
никакого порядка.
Ибо есть один порядок,_а именно геометрический,
который, правда, уступает первому в убедительности,
но не в достоверности. Он не все определяет и не
все доказывает, в чем он ему и уступает, но зато он
полагает вещи ясные и четкие в силу естественного
света (la lumière naturelle), потому он совершенно
истинен, ибо природа его поддерживает за недостатком
слов.
Этот порядок, наиболее совершенный из доступных
людям, состоит не в том, чтобы все определять и все
доказывать, а также не в том, чтобы ничего не
определять и ничего не доказывать, но в том, чтобы
придерживаться середины и не определять вещей ясных и
понятных всем и определять все остальные, равно как не
доказывать все известные предложения и доказывать все
другие. Против этого порядка погрешают как те,
которые хотят все определить и все доказать, так и те,
которые пренебрегают этим в вещах, отнюдь не очевидных из
них самих.
Этому в совершенстве научает геометрия. Она» не
определяет ни один из таких терминов, как пространство,
время, движение, число, равенство, ни множество им
подобных, которые столь естественно обозначают вещи,
хорошо известные всем понимающим язык, что попытка^
их прояснения привела бы скорее к затемнению их
смысла.
Ведь всегда оказываются весьма жалкими попытки
определить эти первичные термины. Какая
необходимость объяснять то, что понимают под словом человек.
Не хорошо ли знают то, что обозначает этот термин?
И какой прок от такого определения, которое нам дает
Платон, говоря, что человек есть животное о двух ногах,
лишенное перьев? Как будто понятие, которое я по
природе имею о нем без лишних слов, не более ясное и
верное, нежели то, которое он мне дает своим пустым и даже
смешным определением; ведь человек не теряет своего
качества, лишаясь обеих ног, а петух его не приобретает,
теряя свои перья.
437
Иные доходят до такого абсурда, что умудряются
какое-то слово объяснять этим же словом. Я знаю таких,
которые определяют свет таким образом: "Свет есть
световое движение светящихся тел", как будто можно
понять слова "световой" и "светящийся", не понимая,
что такое свет.
Нельзя определить, что такое бытие, не впадая в этот
абсурд, ибо нельзя без него определить никакое слово,
начиная со слова "есть", выражено ли оно явно или
только подразумевается. Следовательно, чтобы
определить бытие, надо было бы сказать "есть" и, стало быть,
использовать определяемое слово в дефиниции.
Итак, ясно, что есть слова, которые невозможно
определить, и если бы природа не возместила этот
недостаток естественным пониманием, которое она дала
всем людям, то все наши высказывания были бы
смутными; между тем их используют с той же уверенностью
и достоверностью, как если бы их объяснили настолько
точно, что исключало бы всякую двусмысленность; ибо
сама природа без лишних слов нам их дала через
понимание более ясное, нежели достигаемое искусством
экспликации.
Это не означает, что у всех людей одно и то же
понимание сущности вещей, которые невозможно и
бесполезно определять.
Так, например, к их числу относится время. Кто
сможет его определить? И зачем это делать, коль скоро все
люди понимают без всяких объяснений, что такое время?
Однако есть много разных мнений относительно
сущности времени. Одни считают, что это есть движение
сотворенной вещи. Другие — мера движения и т. д. Все
знают, конечно, не о природе этих вещей, но лишь об
отношении между именем и вещью; так что с этим
словом "время" все связывают мысль об одном и том же
предмете: этого довольно, чтобы данный термин не
определять, хотя далее, исследуя природу времени, мы
должны отличать чувство времени от мысли о нем; ибо
дефиниции служат лишь для обозначения называемых вещей,
а не для указания на их природу.
Отсюда вовсе не следует, что нельзя именем "время"
называть движение сотворенной вещи, ибо, как я уже
сказал, дефиниции в нашей власти.
Но, согласно этой дефиниции, время можно понимать
в двух смыслах: во-первых, как то, что все люди,
говорящие на нашем языке, естественно понимают под этим
438
словом, во-вторых, как движение сотворенных вещей,
называемое тем же термином в соответствии с новой
дефиницией.
Итак, надо избегать двусмысленностей и не
смешивать следствий. Ибо из того, что естественно понимают
под термином "время", вовсе не следует, что оно есть
движение вещей сотворенных. В нашей воле называть эти
две вещи одним именем, но согласие в имени отнюдь не
означает согласия по поводу природы времени.
Таким образом, если принимают это определение:
"Время есть движение сотворенных вещей", то надо
спросить, что понимают под термином "время", т. е. придают
ли ему обычный для всех смысл или же, отказываясь от
него, в данном случае придают ему смысл движения
вещей сотворенных. Если его лишают всякого другого
смысла, то нечего и противоречить, ибо это будет
произвольное определение, в силу которого, как я уже сказал,
две вещи будут иметь одно имя. Но если оставляют за
ним обычный смысл и в то же время утверждают, что это
есть движение вещей сотворенных, то с этим нельзя
согласиться. Это уже не произвольное определение, но
положение, которое требует доказательства, если оно не
очевидно само по себе; тогда это будет начало и аксиома,
но никак не определение, ибо в данном случае время не
понимается как движение вещей сотворенных, но лишь
как это предполагаемое движение.
Если бы я не знал, насколько необходимо это ясно
понимать и сколько бывает в обычных и ученых
рассуждениях подобных описанному случаев, я не задерживался
бы на этом. Но мне кажется, исходя из знания той
неразберихи, которая бывает в спорах, что нельзя лучше
выразить дух определенности, во имя которого я пишу
этот трактат, как обратившись к тому предмету, о
котором я говорю.
Ведь сколько есть людей, которые считают, что дали
определение времени, когда сказали, что это есть мера
движения, сохраняя, однако, за ним его обычный смысл!
Между тем они выдвинули предложение, а не дали
определение. Сколько есть и таких, которые уверены, что
дали определение движения, когда заявили: Motus пес
simpliciter actus пес тега potentia est, sed actus entis in
potentia1. Между тем если они сохраняют за словом
'Движение не есть ни просто действие, ни чистая возможность,
а действие сущего в возможности (лат.).
439
движение его обычный смысл, что они и делают, то это
не дефиниция, а некое предложение; и, смешивая таким
образом номинальные дефиниции, которые есть
истинные произвольные дефиниции, допустимые в геометрии,
с теми, которые они называют определениями вещей
и которые отнюдь не произвольны и могут вызвать
несогласие с ними, они, непозволительно свободно
манипулируя как теми, так и другими, смешивают все вещи и,
теряя всякий порядок и всякий свет, ввергают себя в
неразрешимые затруднения.
Нельзя оказаться в таком положении, следуя порядку
геометрии. Эта здравая наука весьма далека от того,
чтобы определять такие первичные термины, как
пространство, время, движение, равенство, большинство,
уменьшение, целое и другие, всем понятные из них самих.
Но кроме этих, и остальные употребляемые ею термины
настолько ясны и определенны, что и без словаря они
понятны; словом, все эти термины совершенно ясны или
в силу естественного света, или благодаря ее
собственным определениям.
Вот каким образом она избегает всех пороков как
в одном случае, когда речь идет о дефинициях лишь тех
вещей, которые того требуют, так и в другом случае,
когда возникает необходимость доказательства тех
предложений, которые неочевидны.
Ибо когда она доходит до первоначальных известных
истин, то останавливается и требует согласия с ними, не
имея ничего более ясного для их доказательства: так что
все, предлагаемое геометрией, совершенно убедительно
либо в силу естественного света, либо через
доказательства.
Отсюда следует, что если эта наука не определяет и не
доказывает все вещи, то лишь потому, что для нас это
невозможно. Но как природа доставляет все то, чего эта
наука не дает, так ее порядок, по правде сказать,
обеспечивает человеческому познанию все возможное для
него совершенство, а большего она и дать не может...1
Возможно, покажется странным, что геометрия не
может определить ни одну из тех вещей, которые и
составляют ее главный предмет: ведь она не может
определить ни движения, ни числа, ни пространства, но именно
эти три вещи она собственно и рассматривает, и в
соответствии с исследованием которых она принимает три
. с ' Здесь в рукописи пробел. (Пер.)
t 440
разных названия — механика, арифметика и геометрия,
— эта последняя принадлежит и роду, и виду.
Но нет ничего в том удивительного, если учесть, что
эта блестящая наука касается лишь самых простых
вещей, в силу чего они не нуждаются в определениях и
достойны быть ее предметами, так что отсутствие
определений есть скорее совершенство, чем/недостаток, ибо
происходит не от их темноты, но, напротив, от их высшей
очевидности, которая проистекает не из доказательств,
а целиком из их достоверности. Итак, она предполагает,
что всем известно, какой смысл вкладывается в эти слова:
движение, число, пространство, и, не занимаясь пустыми
определениями, она проникает в их природу и открывает
их превосходные свойства.
Эти три вещи, которые содержат весь универсум, по
словам (премудрого Соломона. — Пер)'. "Dëùs fecit
omnia in pondère, in numéro et mensura"1, имеют
взаимную и необходимую связь. Ибо нельзя вообразить
движения без того, что движется, и, будучи единой, эта
движущаяся вещь в качестве единицы дает начало всем числам,
наконец, движение невозможно без пространства, из чего
видно, что эти три вещи заключены в геометрии.
Также и самое время заключено в ней: ибо движение
и время соотносятся друг с другом, быстрота и
медленность, которые отличают движение, имеют необходимое
отношение и ко времени.
Итак, есть общие свойства, присущие всем этим
вещам, познание которых приоткрывает уму величайшие
чудеса природы.
Главное чудо — две бесконечности, которые
встречаются во всем: бесконечно великое и бесконечно малое.
В самом деле, каким бы скорым ни было движение,
можно вообразить и более скорое, а последнее ускорить
еще больше и так далее до бесконечности, никогда не
достигая такого предела, к которому ничего нельзя было
бы прибавить. И наоборот, каким бы медленным ни
было движение, можно его замедлить еще больше и так
далее до бесконечности, никогда не достигая предела
замедления и не впадая в покой.
Точно так же, каким бы великим ни было число,
можно представить более великое и затем другое,
превосходящее это последнее, и так далее до бесконечности, не
достигая предела увеличения. И наоборот, сколь бы
1 Бог все создал весом, числом и мерою (см.: Прем. 11: 21).
441
малым ни было число, как, например, сотая или
десятитысячная часть, можно вообразить еще меньшее
и так далее до бесконечности, не достигая нуля или
небытия.
Точно так же, каким бы великим ни было
пространство, можно представить еще более великое и так далее до
бесконечности, никогда не достигая предела увеличения.
И наоборот, каким бы малым ни было пространство,
можно вообразить еще меньшее и так до бесконечности,
никогда не достигая неделимого, которое не имело бы
больше никакого протяжения.
То же относится ко времени. Можно всегда
представить самое продолжительное время, не достигая
предела, и самое короткое, не достигая мгновения
или.чистого небытия длительности.
Итак, каковы бы ни были движение, число,
пространство, время, всегда есть большее и меньшее: так что все
они находятся между небытием и бесконечностью, всегда
бесконечно удаленные от этих пределов.
Все эти истины не доказываются и, однако,
составляют основания и начала геометрии. Но поскольку их
недоказуемость проистекает не из темноты, а из их
высшей очевидности, то постольку отсутствие
доказательства не есть недостаток, а скорее достоинство.
Отсюда видно, что геометрия не может определять
предметы и доказывать начала лишь в силу
единственного и благоприятного для нее основания, что те и другие
обладают высшей степенью естественной ясности,
которая убеждает более сильно, нежели рассуждение.
Что может быть очевиднее той истины, что число,
каково бы оно ни было, можно увеличить? Что можно
его удвоить? Что скорость движения можно удвоить
и что пространство тоже может быть удвоено?
И кто может усомниться, что число, каково бы оно ни
было, можно разделить пополам и эту половину еще
надвое? Разве эта половина будет ничто? Как же эти две
половины, будучи двумя нулями, могли бы составить
число?
Так же и движение, как бы оно ни было медленно,
разве нельзя его замедлить еще вдвое, так что оно будет
покрывать то же самое расстояние за двойное время,
а это последнее движение еще замедлить вдвое? Разве это
был бы чистый покой? Как же эти две половины
скорости, будучи обе покоем, могли бы составить
первоначальную скорость?
442
Наконец, и пространство, каким бы малым оно ни
было, разве нельзя разделить надвое и обе половины еще
надвое? И как могли быть неделимыми, без всякого
протяжения, эти половины, если, сложенные вместе, они
составляют первоначальное пространство?
Нет естественного познания в человеке, которое
предшествовало бы вышеуказанным и превосходило бы их
в ясности. Тем не менее, к примеру, есть такие умы,
превосходные в других отношениях, которых шокируют
эти две бесконечности, и никоим образом они не могут их
принять.
Я не знаю человека, который бы считал, что
пространство нельзя увеличить. Зато знал таких людей, причем
весьма образованных, которые были уверены, что
пространство можно разделить на две неделимые части,
несмотря на абсурдность, которая из этого следует.
Я постарался выяснить причину подобной темноты
и нашел, что все дело в том, что они не признают
бесконечной делимости, откуда и заключают о
невозможности такой делимости.
В силу своего рода природной склонности (une
maladie naturelle) человеку свойственно верить в то, что
он непосредственно обладает истиной; отсюда он всегда
предрасположен отрицать все то, что ему непонятно,
между тем в действительности он знает только ложь
и должен принимать в качестве истинных лишь те вещи,
противоположность которых ему кажется ложной.
Вот почему всякий раз, когда предложение непонятно,
надо взвесить суждение о нем и не отвергать его в силу
непонятности, но исследовать его противоположность
и если ее находят явно ложной, то смело можно
утверждать первое, при всей его непонятности. Применим это
правило к нашему предмету.
Нет геометра, который бы не полагал, что
пространство делимо до бесконечности. Он без этого начала, как
человек без души. И тем не менее нет человека, который
понимал бы бесконечную делимость; лишь один, но
вполне достаточный довод убеждает в этой истине, а именно:
надлежит отчетливо понимать ложность мнения, будто
при делении пространства можно достичь неделимой, т.е.
не имеющей никакого протяжения, части.
Не абсурдно ли полагать, что при делении
пространства достигают такого отрезка, деля который надвое
будто бы получают неделимые, т. е. не имеющие
никакого протяжения, части, и что, стало быть, эти два небы-
443
тия протяжения в итоге могут дать его бытие? Я хотел бы
спросить у сторонников этого мнения, ясно ли они
постигают, как эти неделимые касаются друг друга: если
повсюду, то это одна и та же вещь, и, значит, обе целые
неделимы; если же не повсюду, а лишь частично, то, имея
части, они уже не являются неделимыми.
Пусть же они признают, что их мнение столь же
непонятно, как и другое, и согласятся, что не от нашей
власти зависит истинность этих вещей, поскольку
достоверно, однако, что из двух противоположных и равно
непонятных мнений одно из них необходимо должно
быть истинным.
Но пусть этим эфемерным трудностям, вытекающим
из нашего бессилия, они противопоставят естественный
свет и эти прочные истины: если справедливо, что
пространство состоит из некоторого конечного числа
неделимых, то отсюда следует, что если два пространства,
каждое из которых есть квадрат с одинаковыми и
равными сторонами, умножить одно на другое, то одно из
них стало бы содержать вдвое больше числа неделимых
другого. Хорошо запомнив это следствие, пусть они
затем попробуют построить квадраты из точек.и найти
такой квадрат, число точек которого было бы вдвое
больше числа точек другого, и тогда я заставлю уступить
им всех геометров мира. Но если естественно и
совершенно невозможно построить из точек квадраты, из которых
один имел бы их вдвое больше другого, что я доказал бы
здесь, если бы предмет того заслуживал, то пусть они
умолкнут и извлекут отсюда урок.
И чтобы помочь им в трудностях, которые они могли
бы встретить на пути постижения бесконечной делимости
пространства, например не понимая, как бесконечность
делимых частей можно обозреть за столь малое время,
следует их предупредить, чтобы они не сравнивали такие
несопоставимые вещи, как бесконечность делимых
частей, с малым временем их обозрения, но чтобы они
сравнивали пространство в целом со временем в целом
и бесконечность делимых частей пространства с
бесконечностью мгновений времени, и таким образом они
поймут, что бесконечность делимых частей пространства
обозревается в бесконечное число мгновений времени,
а малое пространство — в малое время; тогда и падет
несоразмерность, их удивлявшая.
Наконец, если им кажется странным, что малое
пространство имеет столько же частей, как и большое, то
444
пусть также уразумеют, что они меньше по величине,
и пусть они взглянут на небесный свод через маленькое
стеклышко, чтобы свыкнуться с этим знанием, видя части
неба в частях стеклышка.
Но если они не могут понять, что части, столь малые,
что нами не воспринимаются, могут быть так же
разделены, как и небесный свод, то нет лучшего средства,
как заставить их рассматривать эти крохотные точки
сквозь очки, которые их увеличивают до колоссальных
размеров: отсюда они легко поймут, что с помощью
другого стекла, еще более искусно выточенного, можно
их так увеличить, что они сравняются с небесным сводом,
поражающим их своей протяженностью. Таким образом,
эти объекты теперь им покажутся очень легко делимыми,
и пусть они запомнят, что природа бесконечно
могущественнее, чем любое искусство.
Ибо, наконец, кто им внушил, что эти стекла могли
бы изменить естественные размеры объектов или,
напротив, могли бы восстановить истинные размеры, которые
изображение нашего глаза изменило и уменьшило
наподобие уменьшающих очков?
Досадно останавливаться на этих пустяках, но есть же
время заниматься глупостями.
Ясный ум сразу в состоянии постичь, что два небытия
протяжения не могут составить бытия протяжения. Но
есть такие умники, которые надеются сокрушить эту
истину блестящим ответом, что два небытия протяжения
могут так же хорошо составить бытие протяжения, как
две единицы, ни одна из которых числом не является,
объединившись, могут составить число; им следует сразу
же ответить, что они могли бы и таким образом
возражать, что двадцать тысяч человек составляют армию,
хотя каждый из них не есть армия; что тысяча домов
составляют город, хотя каждый из них отнюдь не город,
или что части составляют целое, хотя ни одна из частей
не есть целое, или, чтобы вернуться к числам, что два
двучлена составляют четырехчлен, а десять десятков
сотню, хотя каждый из них всем этим не является.
Но истинный ум не позволяет себе смешивать столь
разные вещи, как незыблемая природа вещей и
произвольные их имена, зависящие от прихоти людей. Ясно,
что для облегчения рассуждения дают имя армии
двадцати тысячам человек, имя города — множеству домов,
имя десятка — десяти единицам и что от этой свободы
происходят имена единицы, двучлена, четырехчлена, де-
445
сятка, сотни, отличающихся благодаря нашей фантазии,
хотя эти вещи на самом деле однородны по своей
неизменной природе, все соразмерны между собой и
отличаются лишь по количеству, хотя, благодаря этим именам,
двучлен не является четырехчленом, а дом — городом,
равно как город — домом. Но все-таки, хотя дом и не
есть город, он не есть и небытие города: большая разница
— не являться какой-то вещью и быть ее нулем.
Для более глубокого понимания следует знать, что
единственная причина, по которой единица не входит
в ряд чисел, заключается в том, что Евклид и первые
математики, рассматривая некоторые свойства,
присущие всем числам, кроме единицы, дабы избежать частого
повторения этого условия, исключили единицу из
значения слова число, пользуясь той свободой, о которой мы
уже говорили, по своей воле составляя определения.
Точно так же, если бы они захотели, то взяли бы и
исключили из числового ряда даже двучлен и трехчлен
и все, что им было угодно, ибо это в их власти, лишь бы
об этом было сказано; и наоборот, единица входит, если
захотят, в числовой ряд, как и дроби тоже. В самом деле,
это должно быть указано в общих предложениях, чтобы
не повторять всякий раз: "всякому числу, и единице,
и дробям присуще такое-то свойство", именно в этом
общем смысле я о ней и писал.
Но тот же самый Евклид, который отказался
называть единицу числом, что было в его власти, все же,
чтобы заставить понять, что она не есть ничто, а,
напротив, относится к числам, следующим образом определяет
однородные величины: "Величины относятся к одному
роду, когда одна величина, несколько раз умноженная,
может превзойти другую". Итак, поскольку единица,
будучи умноженной несколько раз, может превзойти любое
число, то она относится к роду чисел, именно в силу своей
сущности и незыблемой природы, в смысле самого
Евклида, который не хотел называть ее числом.
Отсюда нельзя подобным же образом поставить
неделимую в отношение к протяжению, ибо она от него
отличается не только по имени, что позволительно, но
и по роду, через то же определение, поскольку неделимая,
умноженная во столько раз, сколько захотят, никогда не
превзойдет никакого протяжения, которого она и
составить не может в качестве одной и единственной
неделимой, что вполне естественно и необходимо, как я это уже
доказал. Поскольку этот последний довод вытекает из
446
определения неделимой и протяжения, сейчас завершим
доказательство.
Неделимая есть то, что не имеет частей, а протяжение
— то, что имеет различные отдельные части.
Исходя из этих определений, я утверждаю, что две
неделимые, объединенные вместе, не составят
протяжения.
Ибо, объединяясь, они касаются друг друга, каждая
в одной части, но части, которыми они касаются, не
разделены, иначе они не касались бы. Но, по
определению неделимых, они не имеют других частей,
следовательно, они не имеют отдельных частей, значит, они не
представляют протяжения, а оно, согласно определению,
имеет отдельные части.
Можно доказать то же самое относительно
объединения всех других неделимых, опираясь на тот же довод.
Исходя из неделимой, умноженной какое угодно число
раз, никогда не получишь протяжения. Следовательно,
неделимая не относится к тому же роду, что и
протяжение, по определению вещей этого рода.
Вот как доказывается, что неделимые не относятся
к тому же роду, что и числа. Отсюда следует, что две
единицы могут составить число, ибо они одного рода, но
две неделимые не составят протяжения, ибо они
относятся к разным родам.
Отсюда видно, что нет основания для сравнения
отношения между единицею и числами с отношением
между неделимыми и протяжением.
Но если хотят найти в числах то сравнение, которое мы
относим к протяжению, то следует говорить об
отношении нуля к числам, ибо нуль не того же рода, что и числа,
поскольку при умножении он не может их превзойти: так
что это есть истинная неделимая числа, как неделимая есть
истинный нуль протяжения. Подобное отношение мы
найдем между покоем и движением и между мгновением
и временем; ибо все эти вещи разнородны по их величине,
поскольку, будучи бесконечно умноженными, они, как
неделимые, никогда не могут составить этих последних,
подобно неделимым протяжения и в силу того же довода.
И тогда обнаружат совершенное соответствие между
этими вещами, ибо все эти величины делимы до
бесконечности, не достигая своих неделимых, так что они все
занимают середину между бесконечностью и небытием.
Таковы замечательное отношение, которое природа
установила между этими вещами, и две чудесные бес-
447
конечности, которые она предоставила людям не для
постижения, а для восхищения. А в заключение я
добавлю, что эти две бесконечности, хотя и бесконечно
различные, тем не менее соотносительны друг с другом, так что
познание одной необходимо ведет к познанию другой.
Так, из того, что числа могут всегда увеличиваться,
абсолютно следует, что они могут всегда уменьшаться,
и это ясно: если можно увеличить число до 100000,
например, то также можно взять от него одну
стотысячную часть, разделяя его на то же самое число, на которое
его увеличили, и, таким образом, всякий предел
увеличения станет и пределом деления, обращая целое в дробь.
Итак, бесконечное увеличение необходимо заключает
также и бесконечное деление.
А в пространстве то же самое отношение
усматривается между двумя противоположными бесконечностями;
т. е. из того, что пространство может быть бесконечно
увеличено, следует, что оно может быть бесконечно
уменьшено, как это видно из следующего примера. Если
смотрят через стекло на корабль, который всегда прямо
удаляется от нас, то ясно, что точка корабля, избранная
произвольно, будет все время возвышаться по мере его
удаления. Следовательно, если путь корабля будет
продолжаться до бесконечности, то и точка не перестанет
возвышаться, но никогда не достигнет точки падения
горизонтального луча, идущего от глаза к стеклу,
бесконечно к ней приближаясь, но никогда ее не достигая
и бесконечно деля пространство под этой горизонтальной
точкой. Отсюда с необходимостью следует, что
бесконечное движение корабля приводит к бесконечному
разделению бесконечно малой части небольшого пространства
под этой горизонтальной точкой.
Те, которых не удовлетворили эти доводы и они не
убедились в бесконечной делимости пространства, не
могут преуспеть в геометрических доказательствах; и хотя
они могут быть просвещенными в других вещах, но
в геометрии им нечего делать: легко понять, что можно
быть весьма искусным человеком и вместе с тем плохим
геометром.
Но тех, которые проникнутся этими истинами, будет
восхищать величие и могущество природы в двойной
бесконечности, которая нас окружает со всех сторон,
и это чудесное знание научит их постигать и самих себя,
помещенных между бесконечностью и небытием
протяжения, бесконечностью и небытием числа, бесконечно-
448
стью и небытием движения, бесконечностью и небытием
времени. Это научит их по достоинству ценить самих
себя и прийти к размышлениям более важным, чем все
остальное в геометрии.
Я счел себя обязанным предпринять это длинное
рассмотрение для тех, кто, не понимая сначала этой двойной
бесконечности, все же способен убедиться в ней. И хотя
есть такие, у которых и без него достаточно света, тем не
менее это рассуждение, будучи необходимым для одних,
не будет совершенно бесполезным и для других.
ЧАСТЬ II
ОБ ИСКУССТВЕ УБЕЖДЕНИЯ
В искусстве убеждения необходимо знать, во-первых,
способ, каким происходит убеждение, и, во-вторых,
условия вещей, в которые хотят заставить поверить.
Всякому известно, что понятия входят в душу двумя
путями, через две главные способности: разум и волю.
Путь разума самый естественный, ибо нельзя
соглашаться ни с чем, кроме истин доказанных. Но самый обычный,
хотя и противный природе, есть путь воли. Все мы скорее
увлекаемся не силою доказательств, а тем, что нравится.
Этот путь низкий, странный и вовсе не достоин человека,
оттого все его отвергают. Каждый убежден, что ничему
другому не верит и даже ничего не любит, кроме
достойного любви и доверия.
Не говорю здесь об истинах божественных, которые
и не должно подчинять искусству убеждения, ибо они
бесконечно выше природы: один Бог может вложить их
в душу, и тем способом, какой ему угоден. Я знаю, что
ему угодно, чтобы истины эти истекали из сердца в
разум, а не из разума в сердце, чтобы смирить горделивую
власть разума, который считает себя судьей вещей,
избираемых волею, и исцелить эту немощную волю,
растлеваемую нечистыми вожделениями. Отсюда происходит, что
мы, рассуждая о предметах человеческих, говорим:
"Надо их узнать, чтобы полюбить", как то и в пословицу
обратилось; напротив, святые мужи, размышляя о
предметах божественных, говорят: "Надобно их возлюбить,
чтобы познать". Истина постигается только любовью,
и в этом состоит у них одно из самых полезных мнений.
449
Ясно, что Бог установил этот сверхъестественный
порядок в противоположность тому, которому должен
следовать человек в предметах естественных. Но люди
извратили этот порядок, воздавая мирским вещам то, что
следовало воздавать священным, ибо на самом деле мы
только тому и верим, что нам нравится. Отсюда
проистекает то, что мы упорствуем в принятии истин
христианской религии, противостоящей нашим удовольствиям.
"Говори нам о вещах приятных, и мы станем тебя
слушать", — сказали иудеи Моисею, как будто удовольствия
должны быть основанием веры. И чтобы сокрушить этот
беспорядок, Бог не иначе водворяет свет свой в наших
душах, как усмирив мятежную волю небесной кротостью,
пленяющей и увлекающей душу.
Итак, я буду говорить здесь только об истинах, не
превышающих нашего разумения: о них-то я заметил,
что ум и сердце суть как бы врата, через которые они
входят в душу, но что весьма мало их входит туда
посредством ума, напротив, чрезвычайно много — при
содействии своенравной и дерзкой воли, не внимающей
доводам рассудка.
Каждая из этих способностей имеет свои начала
и движущие силы своих действий.
Начала и двигатели действий разума суть
естественные и всем известные истины, каковы, например, целое
больше своей части, не говоря о многих частных
аксиомах, одними принимаемых, а другими отвергаемых,
которые, однако, если однажды приняты, то при всей
своей неосновательности так же сильно действуют на нас,
как и самые истинные.
Начала и двигатели воли суть некоторые естественные
и общие всем людям желания, как, например, желание
быть счастливым, которое никому не чуждо, не говоря
о многих частных вещах, к которым каждый стремится
потому, что они ему нравятся, и которые хотя бы и
губительными были для него, однако воспринимаются им как
составляющие его истинное счастье.
Вот что должно заметить о способностях нашей души,
склоняющих ее к согласию.
Но что касается качества самих предметов убеждения,
то они весьма различны между собою.
Одни из них выводятся через посредство
необходимых следствий из всеобщих начал и уже принятых истин.
В существовании таких предметов непреложно можно
убедиться: когда указана их связь с принятыми началами,
450
тогда убеждение само собою следует, и душе невозможно
не принять их, коль скоро они вошли в состав уже
принятых истин.
Другие предметы имеют тесную связь с предметами
нашего удовольствия и также принимаются без всякого
сомнения. В самом деле, коль скоро представится душе,
что какой-либо предмет может доставить ей высшее
удовольствие, как она неминуемо устремляется к нему с
радостью.
Но сильнее и успешнее всего действуют на нас
предметы, равно связанные как с признанными истинами, так
и с сердечными нашими желаниями. Напротив, то, что не
имеет никакого отношения ни к нашим верованиям, ни
к нашим удовольствиям, кажется нам несносным,
ложным и совершенно чуждым.
Во всех этих случаях нет места сомнению. Но есть
такие предметы, которые хотя и основаны на известных
истинах, однако вместе с тем противятся удовольствиям,
которые нам наиболее дороги. И тут-то возникает
великая и столь обычная в жизни опасность, в силу которой
душа, повелевающая человеком и гордящаяся
разумными основаниями своих действий, по выбору бесчестному
и безрассудному склоняется к тому, чего желает
развращенная воля, сколько бы ни противился ей
просвещенный разум.
Тогда-то и совершается сомнительное
балансирование между истиной и удовольствием; познание истины
и ощущение удовольствия вступают в борьбу с
непредсказуемым результатом, поскольку, чтобы судить об
этом, надо знать, что происходит в самой глубине
человека, о чем он и сам почти никогда не знает.
Итак, в чем бы ни вздумалось убеждать, всегда
следует видеть того, кого убеждают; необходимо знать его ум
и сердце, правила, которыми он руководствуется, и
предметы, которые он любит; наконец, о предлагаемой вещи
надо знать, какое она имеет отношение к принятым
началам или к предметам, которые почитаются
приятными в силу достоинств, им приписываемых. Поэтому
искусство убеждения состоит как в искусстве убеждать,
так и в искусстве быть приятным, до такой степени люди
руководствуются более капризом, нежели разумом!
Упомянув об этих двух способах, т. е. о способе
убеждения и способе быть приятным, я сообщу здесь
правила только для первого, предположив, что начала, на
которых они основаны, допускаются и без сомнения при-
451
нимаются, иначе я не знаю, можно ли посредством
искусства согласовать доказательства с непостоянством наших
капризов.
Способ быть приятным, несомненно, более трудный,
тонкий, полезный и замечательный; и если я его не
рассматриваю, то потому лишь, что не способен к этому,
ибо этот труд почитаю несоразмерным с моими силами,
делом для меня совершенно невозможным.
Я не считаю, однако, что в искусстве быть приятным
нет столь же верных правил, как и в искусстве
доказательства, и что человек, в совершенстве знающий их и
владеющий ими, не мог бы так же успешно снискать любовь
царей и всех других особ, как и доказать начальные
основания геометрии людям, способным понимать ее
отвлеченные истины.
Но я думаю, и, возможно, именно слабость
заставляет меня так думать, что невозможно достигнуть в том
совершенства. Тем не менее я уверен, что некоторые
известные мне люди к тому способны, но, кроме них, ни
один человек не имеет об этом предмете столь ясных
и обширных сведений.
Причина этой чрезвычайной трудности в том, что
удовольствия не имеют твердых и прочных начал. Они
различны во всех людях и в каждом человеке подвержены
таким переменам, что один и тот же человек в разные
времена походит на себя не более, чем на других. Мужчина
имеет совсем другие удовольствия, нежели женщина;
богатый и бедный наслаждаются по-разному; государь, воин,
купец, мещанин, крестьянин, старые люди и молодые,
здоровые и больные — все отличаются по роду
удовольствий: незначительные обстоятельства изменяют их.
Но есть искусство, посредством которого открывают
связь истин с их началами в предметах как умозрения,
так и удовольствия, коль скоро эти начала, однажды
принятые, остаются твердыми и бесспорными.
Но так как этих начал мало и, кроме геометрии,
рассуждающей о самых простых вещах, почти нет истин,
в которых мы всегда были бы согласны, и еще меньше
есть предметов удовольствия, которые не производили
бы в нас ежечасно перемен, то не знаю, можно ли
предписать постоянные правила для согласования наших слов
с непостоянством наших капризов.
Называемое мною искусство убеждения, собственно,
есть не что иное, как совокупность методических и
совершенных доказательств, и состоит из трех существенных
452
вещей: ясных и точных дефиниций терминов, изложения
начал или очевидных аксиом, служащих для
доказательства предмета рассуждения, и мысленной подстановки
определения на место определяемого предмета в ходе
доказательства.
Основание этого метода очевидно: бесполезно было
бы предлагать и доказывать что-либо, не определив
наперед ясно все непонятные термины в доказываемом
предложении: причем до начала доказательства
необходимо принять очевидные принципы, на которых оно
утверждается, ибо нельзя же построить здание на
непрочном фундаменте. Наконец, в ходе доказательства надо
мысленно подставлять определение на место
определяемого, чтобы не злоупотреблять двусмысленностью
терминов. Ясно, что благодаря этому методу можно быть
уверенным в доказательстве, поскольку все слова будут
понятными, а точные определения и принятые начала
избавят от всякой двусмысленности, так что
необходимость выводов не замедлит последовать.
Доказательство, в котором соблюдены все эти
правила, никогда не может быть подвергнуто сомнению;
напротив, не имеют никакой силы те доказательства, в
которых этими условиями пренебрегли.
Итак, полезно знать их и применять. Для большего
удобства и облегчения памяти я представляю все эти
правила в небольшом числе, заключив в них все, что
необходимо для совершенных дефиниций, аксиом и
доказательств, т. е. предлагаю метод геометрических
доказательств в искусстве убеждения.
Правила для дефиниций
1. Не определять никаких совершенно ясных
терминов, которые нельзя выразить другими словами.
2. Не вводить темных или двусмысленных терминов
без дефиниций.
3. Употреблять в дефинициях только слова
совершенно известные или предварительно объясненные.
Правила для аксиом
1. Не вводить без исследования никаких необходимых
начал, какими бы ясными и очевидными они ни казались.
2. Принимать в аксиомах только истины, которые
совершенно очевидны сами по себе.
453
Правила для доказательств
1. Не доказывать ничего, что само собою очевидно без
всякого" доказательства.
2. Доказывать все не вполне.ясные предложения,
используя в доказательствах самые очевидные аксиомы или
предложения, уже принятые или доказанные.
3. Всегда мысленно ставить определения на место
определяемых терминов, чтобы избежать заблуждения от
двусмысленности слов, значение которых должно быть
ограничено дефинициями.
Эти восемь правил заключают в себе все, что
требуется для основательных и бесспорных доказательств. Из
них три правила не являются абсолютно необходимыми,
поэтому пренебрежение ими не ведет к ошибке; трудно
и почти невозможно всегда применять их с точностью,
хотя и надо стремиться к этому. Вот эти правила:
Для дефиниций. Не определять слов совершенно
известных.
Для аксиом. Не принимать без исследования ни одной
аксиомы, даже совершенно очевидной и простой.
Для доказательств. Не доказывать ничего, что само
собою ясно.
Конечно, можно без особой ошибки определять
понятные термины, равно как требовать предварительного
исследования очевидных аксиом, и, наконец, доказывать
предложения, которые были бы приняты и без
доказательства.
Но остальные пять правил абсолютно необходимы,
без них нельзя обойтись, не сделав важного упущения,
а часто и ошибки. Вот почему я особенно обращаю на
них внимание.
Правила, необходимые для дефиниций
1. Не оставлять без дефиниций сколько-нибудь
темных или двусмысленных терминов.
2. Использовать в дефинициях только совершенно
известные или уже объясненные термины.
Правило, необходимое для аксиом
Принимать в аксиомах только совершенно очевидные
истины.
454
Правила,
необходимые для доказательств
1. Доказывать все предложения, используя при этом
только аксиомы, очевидные сами по себе, или
предложения, уже доказанные или принятые.
2. Никогда не злоупотреблять двусмысленностью
терминов, подставляя на их место мысленно дефиниции, их
ограничивающие или объясняющие.
В этих пяти правилах заключено все, что необходимо
для того, чтобы доказательства были убедительными
и бесспорными, словом, геометрическими; использование
всех восьми правил делает их еще совершеннее.
Теперь я перехожу к правилу того порядка, в котором
должно располагать предложения, чтобы достичь
совершенной геометрической связи между ними... После того,
как установлено...1
Вот в чем состоит это искусство убеждения,
включающее два правила: определять все необходимые имена;
все доказывать, подставляя мысленно дефиниции на
место определяемых терминов.
Здесь считаю необходимым предупредить о трех
главных возражениях, которые могут быть сделаны. Первое
возражение состоит в том, что этот способ убеждения не
новый.
Второе — что его легко понять без лишних слов и не
учась началам геометрии. Наконец, что этот способ
бесполезен, поскольку применим лишь в одной геометрии.
Итак, следует показать, что нет ничего более
неизвестного, более трудного на практике, более полезного и
более универсального.
Что касается первого возражения о том, что эти
правила — все определять и все доказывать — давно всем
известны, особенно логикам, включившим их в свою
науку, то, если бы в самом деле это было так, мне не
пришлось бы снова доходить до источника всех
заблуждений, которые являются поистине всеобщими. Однако
знание этих правил настолько редко, что, исключая одних
геометров, которых немного было у всех народов и во все
времена, сомневаюсь, чтобы нашелся хоть один человек,
который бы действительно их знал. Не трудно будет
сделать их доступными для тех, кто совершенно понял
сказанное мною; если же они не очень уразумели их, то
'Здесь в рукописи пробел (Пер.).
455
признаюсь, что они ничему из них не научатся. Но если
они вникли в смысл этих правил, так что последние
вошли в их плоть и кровь, то они не могут не
почувствовать, насколько отличается сказанное мною здесь от
того, о чем некоторые логики случайно писали в
отдельных местах своих сочинений.
Люди острого ума усматривают разницу между двумя
словами, похожими друг на друга, в зависимости от места
и обстоятельств их употребления. Возможно ли, чтобы
два человека, прочитавшие и выучившие наизусть какую-
нибудь книгу, имели равное о ней понятие? Один, может
быть, понял ее настолько, что знает все ее начала, основы
выводимых заключений, ответы на возражения и весь
порядок сочинения, а другой затвердил только мертвые
слова, семена же этого труда, хотя и похожие на семена, от
которых родилось столь плодоносное дерево, остаются
сухими и бесплодными, так как находятся в слабом уме.
Те, кто произносит одни и те же слова, употребляют их
различным образом. Вот почему несравненный автор
"Искусства беседы"1 обращает пристальное внимание на
тот факт, что нельзя судить об одаренности человека лишь
по его остроумию-, но следует проникнуть в духовную
глубину его мыслей, от которой оно происходит, и понять,
памяти ли он ему обязан или счастливому случаю.
Попробуйте принять такого человека с холодностью и
презрением, чтобы он почувствовал, что его слова ценятся не так,
как они того заслуживают, и тогда вы увидите, что, скорее
всего, он немедленно от них отречется и весьма далеко
отойдет от своей лучшей мысли к другой, более низкой
и смешной. Поэтому надо прозондировать, насколько та
или иная мысль естественна для человека, каким образом,
откуда он ее взял и в какой степени ею владеет: иначе
суждение будет поспешным и невразумительным.
Я хотел бы предложить людям беспристрастным
оценить два следующих начала: "Материя по природе своей
неспособна мыслить" и "Я мыслю, следовательно,
существую" — и решить, есть ли это одно и то же для Декарта
и святого Августина, сказавшего это раньше Декарта за
тысячу двести лет.
Поистине, я далек от мысли не признавать в Декарте
подлинного автора этой мудрости, хотя бы он и
почерпнул ее у этого великого святого, ибо знаю, что одно дело
'Об "Искусстве беседы" говорит М. Монтень в своих "Опытах".
М., 1979. Кн. 3. С. 131—151 (прим. пер.).
456
— написать какое-нибудь слово наугад, без длительных
и обширных о нем размышлений, и другое — извлечь из
него изумительную цепь заключений, доказывающих
различие природы материальной и духовной и послуживших
незыблемым и возвышенным основанием всей физики,
к чему и стремился Декарт. Не рассматривая вопроса
подробно, предположим, что он преуспел в своем
намерении. Из этого я заключаю, что это изречение по своему
смыслу столь же отлично от подобного положения в
сочинениях других философов, говорящих о нем походя, сколь
отличен мертвец от человека, полного силы и жизни.
Иной человек скажет что-нибудь, да не усмотрит в том
ничего особенного, между тем как другой извлечет из его
мысли удивительное множество следствий, из которых
хорошо видно, что в его понятии это слово совсем другое
по смыслу и что он обязан тому, от кого услышал его,
столь же, сколь величественное дерево обязано бытием
тому, кто бросил семя случайно и без размышления на
плодоносную почву, которая и взрастила его со всей своей
щедростью.
Есть мысли, которые порой получают оригинальное
развитие отнюдь не у тех, у кого они зародились: будучи
бесплодны на исходной почве, они приносят обильные
плоды, когда пересаживаются на другую. Но гораздо
чаще бывает так, когда глубокий ум собственным
усилием извлекает из своих мыслей все необходимые
следствия, а после него другие, наслышавшись об их
достоинстве, заимствуют их и даже ими похваляются, нимало не
понимая их достоинств.
Именно таким образом логика заимствовала правила
из геометрии, не понимая их силы и не постигая
сущности геометрии. Если логики мимоходом упоминают
эти правила, не демонстрируя иных признаков
понимания, то я далек от мысли сравнивать их с геометрами,
которые одни научают истинному методу рассуждения.
Напротив, я склонен исключить их из числа знатоков
этого метода. Говорить о нем походя, не извлекая из него
всех необходимых следствий, и вместо того, чтобы
вдохновляться этим светом, беспомощно блуждать в
бесполезных исследованиях, гоняясь за тем, что обещано, но
чего получить невозможно, — значит поистине
находиться в большем ослеплении, чем в том, которое проистекает
от простого незнания правил истинного метода.
Все хотят знать метод избавления от заблуждений.
Логики утверждают, что владеют им, но лишь геометры
457
в том прекрасно преуспевают, и вне геометрии и ей
подобных наук нет истинных доказательств. Все
искусство доказательства заключается единственно в
правилах, о которых я уже сказал: они одни достаточны для
основательных доказательств; все другие бесполезны или
вредны. Вот что почерпнул я из длительного опыта
людей и чтения разного рода книг.
Так же я оцениваю и тех, кто говорит, что геометры
ничему новому не научают этими правилами, ибо они
и без того уже знали их. Однако, не умея отличить их от
множества других, бесполезных или ложных, они
уподобляются тем людям, которые, не умея распознать алмаз
высокого качества среди великого множества поддельных
камней, хвастают, держа всю эту груду в руках, что
обладают настоящим алмазом, как и тот, кто вынимает
из презренной кучи камней драгоценный алмаз, который
искали и ради которого не отбрасывали другие, оставляя
без внимания все остальное.
Погрешность ложного рассуждения подобна болезни,
которую можно исцелить двумя указанными средствами.
Из них составили третье, смешав в нем бесчисленное
множество бесполезных трав со здоровыми,
утратившими свою силу по причине зловредности всей этой смеси.
Чтобы открыть все софизмы и двусмысленности
коварных рассуждений, логики измыслили варварские
имена, приводящие в изумление других людей. Но вместо
того чтобы распутать все хитросплетения этого
немыслимого узла, вытаскивая из него один из концов, как это
предлагают геометры, они изобрели ужасное множество
других, в которых заключаются и эти первые, и не
постигая, за какой же конец взяться.
Таким образом, предлагая нам множество различных
путей, по их мнению приводящих к цели, хотя только два
ведут к ней, которые и надо уметь отличать от всех
других, логики могут сказать, что геометры, точно их
указывающие, дают только то, что известно им, ибо они
предлагают то же или даже более того, не разумея, между
прочим, что этот дар утратил свою ценность от избытка
и что они его вообще лишились, желая его дополнить.
Нет ничего обычнее хороших вещей: весь вопрос
состоит только в том, чтобы уметь распознать их.
Несомненно, что они совершенно естественны, не превышают
нашего разумения и даже всем известны. Но чаще всего
их не умеют распознать. Высшую степень совершенства
всякого рода составляют отнюдь не чрезвычайные и ди-
458
ковинные вещи. Желая подняться на высоту, которую
они занимают, от них удаляются, тогда как чаще всего,
наоборот, надо опуститься. Лучшие книги суть те, при
чтении которых каждый верил бы в то, что сам мог бы
их написать. Природа, которая одна хороша, совершенно
проста и безыскусна.
Итак, полагая, что эти правила истинны, я нимало не
сомневаюсь в том, что они должны быть просты,
бесхитростны и естественны, каковыми они на самом деле
и являются. Отнюдь не Барбара и Баралиптон1 лежат
в основе рассуждения. Напыщенность не пристала уму:
изощренные и громоздкие приемы наполняют его глупым
тщеславием, равно как и странная высокопарность, суетная
и смешная ходульность, тогда как ум нуждается в здоровой
и укрепляющей пище. Одна из главных причин, наиболее
удаляющая от истинного пути познания, состоит в том, что
с самого начала полезные вещи считают неприступными,
называя их пышными именами великих, высоких,
превосходных, отличных. Этим все портят. Я назвал бы их
обыкновенными, простыми, знакомыми всякому: им
приличнее эти имена. Я не переношу напыщенных слов.
Б. Паскаль
РАЗГОВОР С г. де САСИ
ОБ ЭПИКТЕТЕ И МОНТЕНЕ
Паскаль: Эпиктет — один из светских философов,
который лучше всех постиг долг человека. Прежде всего,
он хочет, чтобы человек видел в Боге свой главный
объект, чтобы он был убежден в том, что Бог управляет
всем по справедливости, чтобы он покорялся Ему с
добрым сердцем и чтобы во всем следовал Ему без
принуждения, ибо от Него исходит величайшая мудрость: пусть
же это обстоятельство укротит всякие сетования и не
допустит ни малейшего ропота, укрепив дух
человеческий, чтобы он с кротостью принимал страдание во всех
тяжких случаях. Не говорите никогда, поучал Эпиктет,
"Я потерял это", скажите лучше: "Я это отдал. Мой сын
умер, я отдал его. Моя жена умерла, я отдал ее". То же
относится к благам и всему остальному. "Но тот, кто меня
1 Фигуры силлогизма, ложным мудрствованием на основе которых
занимались схоластические логики, которых Паскаль здесь и критикует
(прим. пер.).
459
лишает этого, злой человек", — скажите вы. Но
помилуйте, почему же вы огорчены тем, что тот, кто вам.дал
взаймы, требует вернуть долг? В то время как он позволяет
вам пользоваться этим благом, помните, что оно
принадлежит другому, и рассматривайте себя как
путешественника, который живет в гостинице. Вы не должны, говорит он,
желать, чтобы все совершалось по вашей воле, но должны
предоставить всему идти своим чередом. Вспомните,
говорит он в другом месте, что вы здесь только актер,
играющий ту роль в комедии, которую предоставил вам по
своему желанию режиссер. Если он дает короткую или
длинную роль, таковую вы и играете; если он хочет, чтобы
вы сыграли роль нищего, вы должны ее играть со всей
бесхитростностью, на какую только способны; так же и во
всем остальном. Ваше дело играть именно ту роль,
которая вам дана, но выбирать ее — это дело другого. Имейте
же во все дни перед глазами смерть и зло, которые кажутся
самыми нестерпимыми, и никогда не помышляйте ни о чем
низком и не пожелайте ничего чрезмерного.
Эпиктет показывает также тысячью способами то, что
должен делать человек. Он хочет, чтобы человек был
смиренным, чтобы он скрывал свои добрые намерения,
особенно вначале, и выполнял их втайне: ничто не губит
их больше, чем огласка. Он не устает повторять, что во
всяком знании и желании человека надо видеть волю
Бога, которой и необходимо следовать.
Вот чему учит этот великий ум, который столь
хорошо познал долг человека. Я осмеливаюсь сказать, что он
заслужил бы еще большего восхищения, если бы столь же
хорошо постиг бессилие человека, поскольку надо быть
Богом, чтобы научить тому и другому людей. Но, будучи
лишь прахом земным, после того как он хорошо постиг
то, что должно, он погряз в самомнении о том, что
можно. Он говорит, что Бог дал человеку средства для
выполнения всех своих обязанностей, что эти средства
в нашей власти, что надо искать высшего счастья в
вещах, которые в нашей власти, поскольку Бог дал нам их
с этой целью, что надо знать о нашей свободе, что блага,
жизнь, почет не в нашей власти и потому не ведут к Богу,
но что нельзя силой заставить ум понять, что он
заблуждается, равно как волю заставить полюбить то, что
делает ее несчастной, что, следовательно, эти две силы
свободны и что именно благодаря им мы можем становиться
лучше и к тому же в совершенстве постигать Бога,
любить Его, повиноваться Ему, нравиться Ему, исцелиться
460
от всех своих пороков, приобрести все добродетели, став
таким образом святыми и даже как бы компаньонами
Бога. Эти принципы дьявольской гордыни приводят его
и к другим заблуждениям, а именно что душа есть
частица божественной субстанции, что страдание и смерть не
есть зло, что позволительно даже убить себя, когда
убеждены, что Бог их призывает, и др.
Что же касается Монтеня, о котором, Монсеньор, вы
хотите, чтобы я тоже высказался, то он, будучи рожденным
в христианском государстве, гордится своей
принадлежностью к католической религии, и в этом нет ничего
особенного. Но когда он захотел основать мораль на одном
только разуме, без света веры, он выдвинул свои принципы,
исходя из этого ложного допущения; и, рассматривая,
таким образом, человека лишенным откровения, он
рассуждает в этом роде. Он подвергает все вещи универсальному
и столь всеобщему сомнению, что оно распространяется
и на самого себя, т. е. если он сомневается, то сомневается
и в самом сомнении, вращаясь в этом вечном и
беспокойном кругу недостоверности, будучи равно в оппозиции как
к тем, кто уверен в том, что все недостоверно, так и к тем,
кто и в это не верит, ибо ни во что не хочет верить. Именно
в этом сомнении, которое в себе сомневается, и в этом
неведении, которое себя не ведает, и состоит сущность его
воззрения, которое он не может выразить никаким
положительным образом. Ибо если он утверждает, что
сомневается, то сам себя предает этим заверением; то, что формально
не противоречит его намерению, он мог бы выразить
только вопросом; не желая сказать: "Я не знаю", он
спрашивает: "Что я знаю?" — в этом и состоит его лозунг,
который он бросает на весы, взвешивает все за и против,
после чего приводит весы в равновесное состояние. Иначе
говоря, он является чистым пирронистом. На этом
принципе держатся все его рассуждения и все его "Опыты"; это
единственное, что он защищает, хотя и не всегда
раскрывает свои намерения. Этим он незаметно разрушает все то,
что считается самым достоверным у людей, не затем,
чтобы установить противоположное с достоверностью,
так как он является ее врагом, но чтобы заставить лишь
увидеть, что, в силу равенства вероятностей, нет ничего
заслуживающего его доверия.
В том же духе Монтень насмехается над всяческой
уверенностью. Например, он сокрушает тех, кто видел во
множестве так называемых справедливых законов
великое лечебное средство против уголовных процессов во
461
Франции, как будто можно было таким образом отсечь
корни, которые питают уголовные дела, и поставить
преграды для потоков недостоверности и сомнительных
предположений! Когда он говорит, что любое дело можно
с равным успехом отдать на рассмотрение как первому
встречному, так и судьям, вооруженным кучей
предписаний, и не считает нужным менять порядок в государстве,
ибо у него нет таких амбиций, то он не полагает и свое
мнение наилучшим, отчего и не верит ни в какое добро. Это
лишь доказывает тщету общераспространенных мнений,
свидетельствуя о том, что упразднение всех законов
уменьшило бы скорее число разногласий, так как множество
законов только их увеличивает, потому что трудности
возрастают по мере размышления над ними, и неясности
только увеличиваются через комментарий, так что самое
верное средство понять речь — не изучать ее и принимать
по первому впечатлению, ибо если хоть немного
поразмыслить над ней, ясность тут же исчезает. Увлеченный
демонстрацией противоречий разума, он точно так же
легковесно судит обо всех перипетиях человеческих
действий и исторических событий, следуя своему первому
взгляду и не отягощая свою мысль принципами разума, у
которого, считает он, есть лишь ложные критерии. Обладая
совершенно свободным гением и будучи верным ему
независимо от того, вовлечен он в спор или нет, и всегда
имея прекрасную возможность тем или иным примером
продемонстрировать слабость мнений, он с большой
охотой погружается в это универсальное сомнение, так как оно
равно усиливается как его победой, так и неудачей.
Занимая столь неустойчивую и скользкую позицию,
он с непревзойденной твердостью сражается с еретиками
своего времени, которые претендовали на единственно
верное понимание смысла Священного писания; с этих же
позиций с еще большей силой он обрушивается на
ужасное неверие тех, кто осмеливается утверждать, что Бога
нет. Особенно он принимается за них в "Апологии
Раймонда Себондского". Поскольку они добровольно
лишили себя всякого откровения и без света веры не способны
ни к какому естественному познанию, то по какому праву
они, не обладающие поистине знанием ни о каких вещах
в природе, вздумали судить о Высшем Бытии, которое по
своему определению бесконечно! Он спрашивает, на
какие принципы они опираются, и требует их указать. Он
исследует те их них, которые они в состоянии
предложить, и, благодаря своему необыкновенному таланту,
462
проникает в них столь глубоко, что обнаруживает
тщетность всех тех принципов, которые считались самыми
естественными и самыми прочными. Он спрашивает, знает
ли душа хоть что-нибудь, постигает ли она самое себя, есть
ли она субстанция или акциденция, тело или дух, что это
все значит и нет ли еще чего-нибудь, что не принадлежало
бы к этим разрядам; знает ли она свое собственное тело;
что такое материя; может ли она распознавать
бесчисленное разнообразие тел; каким образом она может
рассуждать, является ли она материальной; как она объединена
с собственным телом и как может испытывать страсти,
если она духовна; каково ее первоначальное бытие, с телом
или без него; заканчивает ли она свое бытие с ним или без
него; не ошибается ли она когда-нибудь и знает ли, когда
она заблуждается, ибо сущность ошибки состоит в том,
чтобы не знать о ней; не считает ли она в этом помрачении
столь же твердо, что два плюс три будет шесть, узнавая
затем, что это пять; рассуждают ли, мыслят ли и говорят
ли животные; кто может решить, что такое время,
пространство, или протяженность, движение, целостность
вещей, которые нас окружают и которые полностью
необъяснимы; что такое здоровье и болезнь, жизнь и смерть,
добро и зло, грех, о которых мы говорим ежечасно;
заключены ли в нас принципы истины и не есть ли они те
самые, в которые мы верим; что называют аксиомами или
общими понятиями, и, будучи общими для всех людей,
согласуются ли они с основной истиной; поскольку мы
знаем что-то единственно через веру, то абсолютно доброе
Существо дало нам их истинными, создав нас свободными
к постижению истины; кто знает без этого света, будучи
сформированными случайно, достоверны ли они, или же,
будучи созданными существом лживым и злым, не он ли
дал нам их ложными, чтобы обольстить нас. Отсюда
следует, что Бог и истина нераздельны, так что если Бог
есть, то есть и достоверная истина, а если его нет, то нет
и никакой достоверности. Итак, кто знает, предполагает ли
здравый смысл, на основании которого мы судим об
истине, бытие того, кто его в нас вложил? Более того, кто
знает, что есть истина, и как можно быть уверенным в ней,
не зная ее? Кто знает также, что это за бытие, которое
невозможно определить, поскольку нет ничего более
общего, и чтобы его объяснить, надо бы сначала
воспользоваться самим этим словом, говоря: "Это есть бытие..."? И
поскольку мы не знаем, что есть душа, тело, время,
пространство, движение, истина, благо, само бытие, идея, которую
463
мы формируем, то как можно верить, что она является
общей для всех людей, ввиду того что из нее проистекает
единообразие следствий, которое не всегда выражает
единообразие принципов? Ибо они могут быть совершенно
разными и тем не менее вести к одним и тем же следствиям,
ведь всякий знает, что истина часто содержится во лжи.
Наконец, он исследует глубоко науки и показывает,
что, например, в геометрии нет достоверности ни в
аксиомах, ни в терминах, которые она не определяет, такие, как
протяженность, движение и т. д., а также в физике,
медицине, истории, политике, морали, юриспруденции и во
всех остальных науках. Отсюда следует убеждение, что
наше мышление протекает как бы во сне, от которого мы
пробуждаемся лишь со смертью и во время которого мы
столь же мало владеем принципами истины, как и в
обычном сне. Потому он так сильно и жестоко бранит разум,
лишенный веры, что, погружая его в сомнение через его
же рассудительность, которой более или менее не чужды
и животные, он заставляет его спуститься с высоты своего
совершенства, на которую претендовал, и ставит его
вровень с животными, не позволяя ему подняться, пока
сам Создатель не поставит его на положенное ему место,
а в ответ на его недовольство не пригрозит ему опустить
его еще ниже, что вполне в Его власти, как и возвысить
его. Однако Он позволяет ему действовать, чтобы с
искренним смирением тот осознал свою слабость вместо
того, чтобы возвышаться с глупой надменностью.
Де Саси: Я вам весьма признателен, монсеньор, ибо
уверен, что если бы длительное время читал Монтеня, то
не постиг бы его столь глубоко, как мне удалось это
сделать из разговора с вами. Этому автору трудно было
бы пожелать лучшего толкования своих сочинений, и он
мог бы сказать вместе со святым Августином: ibi me vide,
attende1. Он умен, но я не знаю, не приписали ли вы ему
немного более того, что у него есть, столь справедливо
и последовательно развивая его собственные принципы.
Посудите сами, за всю мою жизнь мне мало советовали
читать этого автора, все сочинения которого не
заключают ничего такого, что мы должны были бы особенно
тщательно исследовать, согласно правилу святого
Августина, ибо его слова не проистекают из великого
основания смирения и набожности. Простительно прежним
философам, которых называли академиками, подвергать
'Узри меня там, будь внимателен (лат.).
464
все сомнению. Но что за нужда была у Монтеня забавлять
свой ум, воскрешая доктрину, которая у христиан теперь
считается безумной? Мнение святого Августина относится
к таким людям. Ибо можно сказать о Монтене его
словами: "Он растворяет во всем то, что он специально
говорит о вере, так что и мы, которые имеют веру, должны
тоже специально раскрыть все то, что он говорит". Я не
порицаю ум этого автора, который есть великий дар Бога,
но он мог бы лучше его использовать и принести его скорее
в жертву Богу, чем дьяволу. Чему служит благо, когда его
используют во зло? Quid proderat1 и т. д.?, говорит о себе
самом этот святой доктор перед своим обращением. Ваше
счастье, монсеньор, что вы поднялись выше этих людей,
которых называют докторами, в упоении погруженными
в науку, но их сердца пусты для истины. Бог поселил
в вашем сердце другие привязанности и влечения, чем те,
которые вы находите у Монтеня. Он вам напомнил о том
опасном удовольствии, a jucundidate pestifera2, как говорит
святой Августин, которое отдает на милость Бога грехи,
им совершенные, находя весьма приятной суету. Святой
Августин тем более понимал это, что прежде разделял эти
чувства; и, как вы говорите, Монтень своим
универсальным сомнением сокрушал еретиков своего времени, точно
так же, благодаря универсальному сомнению академиков,
святой Августин преодолел ересь манихеев. С тех пор как
он пришел к Богу, он отверг эти суетные размышления,
которые считал кощунственными, и стал говорить о
другого рода суете. Он признал, с какой мудростью святой
Павел предупреждал нас, чтобы мы не обольщались этими
речами. Ибо он сознает, что есть в них некая
привлекательность, которая восхищает: иногда верят в истинные вещи
лишь потому, что о них говорят красноречиво. Это
коварная пища, говорит он, которую подают на стол в красивых
блюдах, но эта пища вместо того чтобы насытить сердце,
опустошает его. Это подобно тому, когда люди спят, и им
кажется, что они едят во сне: эта воображаемая пища
оставляет их столь же голодными, как и до еды.
Паскаль'. Я вам признаюсь, Монсеньор, что не без
радости я усматриваю в этом авторе гордый разум, столь
жестоко униженный им же самим, и этот кровавый бунт
человека против * человека, который с божественного
уровня, где он возвышался столь горделиво (в силу до-
1 Какая польза?., (лат.).
2 гибельном удовольствии (лат.).
16 Заказ №4951
465
водов своего слабого разума), низверг его на уровень
животных; и я всем сердцем любил бы героя этого
великого бунта, если бы, как подобает христианину и сыну
Церкви, он следовал бы нормам морали, неся их столь
униженным им людям, и не совершал бы новых
преступлений против Того, кто один может от них избавить,
тогда как он убежден, что их и познать-то нельзя.
Напротив, здесь он рассуждает как язычник.
Поскольку вне веры, говорит он, нет ничего достоверного, а в
поисках истины и блага до сих пор нет никакого прогресса,
то следует на других возложить заботу об этом, самим же
пребывать в состоянии безмятежности, живя легко и
беззаботно; а истину и благо принимать по первому
впечатлению, не затрудняя себя их изучением, ибо они столь
ненадежны, что чуть сожмешь их в руке, как они утекут
сквозь пальцы. Вот почему без лишних размышлений он
руководствуется чувствами и обычными понятиями, не
зная, что есть истина. Таким образом, подгоняемый
инстинктом и уклончивым разумом, он ускользает от
страдания и не обременяет себя мыслями о смерти, не считая
их истинным злом и не слишком полагаясь на
естественное чувство страха, ибо есть удовольствия, которые
считаются дурными, хотя природа говорит о противном.
Итак, в его поведении нет ничего странного, он поступает,
как все; а все то, что они по глупости творят, якобы следуя
истинному благу, он совершает в силу другого принципа,
согласно которому, ввиду равенства всех возможностей,
все решают случай и соображения удобства.
Следовательно, он придерживается нравов своей
страны и действует на основании привычки; забывая о том,
что является философом, он пользуется своей лошадью,
нимало не задумываясь, имеет ли он на это право, и
совсем не зная, не использует ли это животное его самого.
Он совершает некоторое усилие, чтобы избегать кое-
каких пороков, и даже сохраняет верность в браке, дабы
не стать жертвой распутства; но если требуются слишком
большие усилия, то он предпочитает не суетиться, следуя
принципу удобства и спокойствия. Итак, он решительно
отбрасывает этот образ стоической добродетели,
которую рисуют с суровым ликом, строгим взглядом,
взъерошенными волосами, наморщенным от натуги и
вспотевшим лбом, в мучительно-напряженной позе и
томительном молчании стоящей одиноко на вершине скалы, вдали
от людей: этакий фантом, которым пугают детей и
благодаря которому только и делают, что тяжкими усилиями
466
ищут покоя, никогда, однако, его не достигая. Его же
добродетель бесхитростна, обычна, приятна,
жизнерадостна и, так сказать, игрива; она следует тому, что для нее
приятно, и в шутливой форме небрежно судит о добре и зле,
изнеженно покоясь в лоне спокойной праздности,
демонстрируя людям, которые усердно ищут блаженства, что оно
неотделимо от покоя и что неведение и
нелюбознательность есть две мягкие подушки для хорошо устроенной
головы.
Я не могу от вас скрыть, монсеньор, что, читая этого
автора и сравнивая его с Эпиктетом, я пришел к выводу,
что это два самых великих защитника двух самых
знаменитых сект в мире, единственно соответствующих
разуму, поскольку можно следовать лишь одному из этих
двух направлений: либо считая, что есть Бог и вместе
с ним эысшее благо, либо полагая, что все недостоверно,
в том числе и истинное благо.
Я с великим удовольствием замечаю, что оба автора
в своих рассуждениях стремятся к истинной мудрости
и. до некоторой степени ее достигают. Ибо, если приятно
видеть в природе, во всех ее творениях образ Божества,
то насколько более справедливо подметить в
деятельности умов подражание главнейшей добродетели, даже
когда они удаляются от нее, подметить, в чем они
приближаются к ней, а в чем ускользают от нее, как я
пытался показать в этом размышлении.
Поистине, Монсеньор, вы только что прекрасно дали
мне понять, какую пользу могут извлечь христиане из
этих философских исследований. С вашего разрешения,
однако, я позволю высказать свои соображения, отнюдь
на них не настаивая, если они расходятся с вашими, так
как окажусь в благоприятном положении, или, к счастью,
обретя истину, или наверняка получив ее от вас. Мне
кажется, что источник заблуждения этих двух сект
состоит в том, что они не видят разницы между положением
человека теперь и в момент его творения; таким образом,
одна секта, видя некоторые следы его первоначального
величия и отрицая его падение, считает его природу
здоровой и не нуждающейся в восстановлении, что
приводит ее представителей к величайшей гордыне; другая
же секта, напротив, заостряя внимание на нынешнем
ничтожестве человека и не ведая о его первоначальном
достоинстве, считает его природу слабой и
неисправимой, что повергает ее адептов в состояние безнадежности
в поисках истинного блага и приводит к высшей низости.
467 •
Таким образом, эти два состояния, которые надо бы
рассматривать вместе, чтобы увидеть истину, будучи
познанными отдельно, необходимо приводят к одному из
этих двух пороков — гордыне и лености, в плену которых
неумолимо пребывают люди без помощи благодати,
поскольку если они не предаются распутству из низости, то
делают то же самое из тщеславия, так что истинно все то,
что вы только что говорили о святом Августине, и я ценю
широту вашего взгляда. Ибо в самом деле им воздают
должное именно по способу их действий.
Итак, исходя из этого несовершенного знания, одни,
зная долг человека и не ведая об его бессилии, погружаются
в самомнение, а другие, зная о бессилии человека и не ведая
его долга, утопают в низости; отсюда кажется, что,
поскольку одни ведут к истине, а другие к заблуждению, то их
синтез мог бы дать совершенную мораль. Но их
объединение привело бы не к согласию, а к конфликту и всеобщему
разрушению: ибо одни утверждают достоверность, а
другие — сомнение, одни — величие человека, а другие — его
слабость, вместе они столь же хорошо сокрушают истину,
как и ложность взглядов тех и других. Так что они не могут
существовать друг без друга по причине их недостатков, но
не могут и объединиться по причине их
противоположности, а в итоге побивают и уничтожают сами себя, чтобы
освободить место для истины Евангелия. Только она
согласует эти противоположности своим божественным
искусством, объединяя все истинное и отбрасывая все
ложное, достигает поистине небесной мудрости, которая
согласует то, что было несовместимым в этих человеческих
доктринах. Все дело в том, что эти светские мудрецы
усматривают противоположности в одном и том же
предмете, ибо один приписывает величие, а другой — слабость
одной и той же природе, что невозможно, тогда как вера
учит нас относить их к разным предметам: все немощное
принадлежит природе, все могущественное — благодати.
Вот удивительное и новое единство, которому один Бог
может научить и которое Он один может осуществить, оно
есть лишь образ и следствие несказанного единства двух
природ в единой личности Человека-бога.
Я прошу извинить меня, Монсеньор, за то, что
осмелился перед вами углубиться в теологию, вместо того
чтобы оставаться на почве философии, которая одна
была моим предметом, но я был вовлечен в нее
незаметно, так как трудно вне теологии рассматривать истину,
ибо она есть центр всех истин и заключает с очевид-
468
ностью те истины, которые выражены в этих мнениях.
Я также не вижу, как можно отвергнуть какое-либо из
них, если исходить из нее. Ибо если они полны мыслей
о величии человека, который не внемлет заветам
Евангелия, то как они могли вообразить, что такой человек
есть достойная цена за смерть Бога? И если им нравится
видеть слабость природы, их идеи отнюдь не
соответствуют мыслям об истинной слабости, порожденной
грехом, исцелением от которой была сама смерть. Таким
образом, они в ней находят больше, чем желали; и что
замечательно, они в ней объединяются, они, которые не
могли объединиться на уровне бесконечно более низком.
Чтобы извлечь пользу из этого чтения, я предельно
просто выражу свою мысль. Я усматриваю у Эпиктета
несравненное искусство смущать покой тех, кто его ищет
в вещах внешних, и заставить их признать, что они есть
истинные рабы и жалкие слепцы, что они ничего не могут
найти, кроме заблуждения и страдания, от которых они
стараются ускользнуть, если они не отдадут себя
безропотно в руки Бога. Монтень же владеет несравненным даром
смутить гордыню тех, кто вне веры возомнил достичь
истинной справедливости, чтобы открыть глаза тем, кто
упорствует в своих мнениях и верит найти в науках
нерушимые истины, а также чтобы вернее убедить разум
в его незнании и заблуждениях, ибо трудно, при условии
хорошего использования его принципов, внушить
отвращение к таинствам; ведь они столь превосходят его силы,
что он не может судить ни о таинстве Воплощения, ни
о таинстве Евхаристии, как это прекрасно понимают
обычные люди. Но, сокрушая в людях леность, Эпиктет
крайне губителен для тех, кто не видит порчи людей и не
понимает, что нет никакой высшей справедливости без
веры. А Монтень абсолютно опасен для тех, кто имеет хоть
какую-то наклонность к безбожию и порокам. Вот почему
чтение этих авторов должно рекомендоваться с особой
осторожностью, взвешенностью и пониманием положения
и нравов тех, кто их будет читать. Мне кажется только, что
одновременное чтение этих авторов не принесет большого
вреда, ибо один противостоит вреду другого; не то чтобы
они привели к добродетели, но зато могут смутить порок:
душа будет мучиться под тяжестью этих
противоположностей, одна из которых сокрушает гордыню, а другая —
леность, не в состоянии через рассуждение успокоиться на
одном из этих пороков или избежать их обоих.
469
Б. Паскаль
ОБ ОБРАЩЕНИИ ГРЕШНИКА
Когда Дух Божий осенит человеческую душу, ей
поистине открывается невиданное дотоле знание самой себя
и всего на свете.
Этот новый свет порождает в ней страх и смущение,
которые лишают ее покоя, и отныне она теряет интерес
к прежним утехам.
Ее не радуют более предметы, ранее пленявшие.
Беспокойная совесть подтачивает всю жизнь человека и
мешает ему испытывать привычную радость от того, к чему
ранее он был привязан всем сердцем.
Но еще больше горечи его душа испытывает в делах
благочестия, нежели в суете мирской. С одной стороны,
предметы видимые трогают ее больше, чем надежда на
невидимые, а с другой — прочность невидимых для нее
много ценнее тщеты видимых. Душа мечется между теми
и другими, но тщета одних и невидимость других
рождает в ней расстройство и смятение...
Она в ужасе от ясного сознания гибельности всего
существующего и особенно того, что она любила,
наблюдая, как миг за мигом испаряются все ее блага, исчезает
все самое дорогое в жизни, и с тревогой она думает о том
дне, когда рухнет наконец все, что питало ее надежды.
Таким образом, отчетливо понимая непрочность и
тщетность всех своих сердечных привязанностей, человек
чувствует себя одиноким и покинутым в этой жизни,
поскольку не искал в ней истинного блага и не видел в нем
опоры в течение и после этой жизни.
Отсюда его душа начинает видеть ничтожность всех
гибельных вещей, всю бренность неба, земли, своего ума,
тела, родителей, друзей, врагов, всех благ, бедности,
невзгод, богатства, почета, бесчестья, уважения,
презрения, власти, нужды, здоровья, болезни и самой жизни;
В конце концов, ничто кратковременное не может
наполнить душу, которая жаждет счастья столь же
продолжительного, как и она сама.
Она начинает удивляться слепоте, в которой
пребывала. Человек, с одной стороны, видит, что слишком
долго он жил без этих размышлений, как и множество
других людей, а с другой — сознает, что никогда тленные
вещи не составят счастья его бессмертной души,
поскольку она лишится их, по крайней мере, со смертью; тогда
470
святое смущение и удивление овладевают ею и
порождают в ней целительную тревогу.
Ведь знает же она, что как бы ни было много тех,
которые до старости живут в суете и полагают свое
счастье в мире, однако, какое бы прочное удовольствие
ни доставляли им мирские блага, что, впрочем, всегда
опровергается бесчисленным множеством роковых
примеров, все равно неизбежно они утрачиваются или
наконец смерть их отнимает.
Так что, какие бы временные сокровища ни собирал
человек в своей душе, будь то золото, знание, слава,
с необходимостью он лишится предметов своего
блаженства; таким образом, если они и могли его чем-то
удовлетворить, то лишь ненадолго, и если он мог видеть в них
истинное счастье, то весьма непродолжительное, как и
сама жизнь.
Итак, через святое смирение, которое Бог ставит
выше гордыни, душа начинает преодолевать все
человеческое. Она осуждает поведение людей, отвращается от их
максим, проливает слезы над их ослеплением. Она
устремляется к истинному благу и понимает, что оно
возможно при двух условиях: первое — быть бессмертным,
как и она сама, и неотъемлемым без ее согласия, второе
— быть превыше всех других благ.
Она теперь видит, что в своем ослеплении ставила
превыше всего любовь к миру и как будто достигала
второго условия, но отнюдь не первого, из чего и
прозрела, что это не есть высшее благо. Постигая высшим
светом, что она не там ищет, что благо ни в ней самой,
ни вне, ни впереди нее, она начинает искать его выше
себя.
Это изумительное и трансцендентное восхождение
поднимает ее выше небес, выше ангелов и даже более
совершенных существ, ибо ни в чем тварном она не
находит удовлетворения. Всем сердцем она устремляется
к престолу самого Бога, в котором и обретает наконец
свой покой и свое благо, которое превыше всех других
благ и неотъемлемо от нее без ее согласия.
И хотя она еще не чувствует всех сладостей этого
блага, которые Бог ей возмещает привычкой к
благочестию, она все же понимает, что творения не могут быть
выше Творца, а разум, просветленный благодатью,
заставляет ее уразуметь, что пет ничего превыше Бога и что
это благо теряют лишь те, которые сами его отвергают,
поскольку обладать им можно только по желанию.
471
Итак, она радуется обретению такого блага,
лишиться которого она может лишь по желанию и превыше
которого нет ничего на свете.
В этих новых размышлениях душа постигает величие
своего Творца, испытывая смирение и глубокое
благоговение перед Ним. Она стирается в Его присутствии и,
не в силах схватить Его мыслью, принижается до
последних бездн ничтожества перед необъятностью Бога;
наконец, исчерпав свои возможности, она благоговеет перед
Ним в молчании и смотрит на себя как на бесполезное
и низкое создание. И в этом постоянном почитании она
все больше обожает Его и чувствует Его святость, желая
всегда благоговеть и почитать свою святыню.
Затем она благодарит Его за эту милость — открыть
свое бесконечное величие такому ничтожному червю, и,
твердо решив быть вечно благодарна, она повергается
в смятение при мысли, что предпочитала ранее мирскую
суету этому Божественному Владыке; сокрушаясь и
раскаиваясь, она ищет убежища в благочестии, дабы
смирить свой гнев, который ей кажется теперь ужасным
ввиду Его величия...
Она возносит к Богу пылкие молитвы, чтоб заслужить
Его милосердие, которое, по Его благодати, дается ей,
равно как и средства для достижения этого. Стремясь
к Богу, она желает прийти к Нему только указанным Им
путем, чтобы Он Сам был ее путем, объектом и конечной
целью. Вследствие этих молитв она начинает действовать
и ищет среди них...1
Стремясь искренне познать Бога, но не имея средств
для этого, она поступает так же, как заблудившийся
человек, который обращается за помощью к тем, кто
хорошо знает дорогу и...2
Она решает следовать воле Бога всю оставшуюся
жизнь, но по своей естественной слабости и привычке
к греху, в котором жила, она не в силах достичь этого
счастья и взывает к Его милосердию и умоляет наставить
ее на путь истинный, чтобы она могла вечно пребывать
с Ним.
Итак, она признает, что как Его создание — она
должна поклоняться Богу, как должница — просить Его
о пощаде, как виновная — умолять о снисхождении, как
нищая — просить Его милостыни.
1 Здесь пробел в тексте. {Пер.)
2 Снова пробел в тексте. (Пер.)
472
БИБЛИОГРАФИЯ
Августин. Творения Блаженного Августина. 2-е изд. Киев.
1901—1912. Ч. 1—7.
Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1975—1984.
Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. (Пер.
В. П. Гайдамаки). М., 1991.
Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике.
2-е изд. М., 1965.
Бальзак О. Письма о литературе, театре и искусстве //
Собрание сочинений. М., 1960. Т. 24.
Батюто А. Тургенев и Паскаль // Русская литература.
1961. № 1.
Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М., 1968.
Бергсон А. Философская интуиция (Речь на философском
конгрессе в Болонье 10 апр. 1911 г.) // Новые идеи в философии.
Сб. 1. Спб., 1912.
Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. Париж, 1968.
Бердяев Н.А. А.С. Хомяков. М., 1912.
Бессознательное. Природа, функции, методы исследования:
В 4 т. Тбилиси, 1978.
Бёмер Г. Иезуиты. М., 1913.
Библия. Изд. Московской патриархии. М., 1975.
Богословские труды. Сб. 23. М., 1982.
Богуславский В. М. У истоков французского атеизма и
материализма. М., 1964.
Бурбаки Н. Очерки по истории математики. М., 1963.
Бутру Э. Паскаль. Спб., 1901.
Бэкон Ф. Сочинения. Т. 1—2. М., 1972.
Вилейтнер Г. История математики от Декарта до середины
XIX столетия. М., 1960.
Винделъбанд В. История новой философии в ее связи с общей
культурой и отдельными науками. Т. 1: От Возрождения до
Канта. Спб., 1908.
473
Внутренняя политика французского абсолютизма. Т. 1—2.
М.; Л., 1966—1980.
Вольтер. Философские сочинения. М., 1988.
Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982—
1984.
Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской
мистике // Вопросы философии. 1990. № 4.
Вышеславцев Б. Я. Этика преображенного эроса. М., 1994.
Гарнак А. История догматов. Общая история европейской
культуры. Т. 6. Спб., 1911.
Гегель Г В. Ф. Философия религии Т. 1—2. М., 1975—
1977.
Гоббс Т. Избранные произведения. Т. 1—2. М., 1964.
Гольбах П. Избранные произведения. Т. 1—2. М., 1963.
Гуляев А. Д. Этическое учение в "Мыслях" Паскаля. Казань,
1906.
Гусейнов А. А. "Золотое правило" нравственности // Вестник
Московского ун-та. Философия. 1972. № 4. С. 53—63.
Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950.
Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981.
Достоевский Ф. М. Идиот. М., 1981.
Достоевский Ф. М. Искания и размышления. М., 1983.
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.,
1972—1989.
Дхаммапада. М., 1960.
Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. Т. 1. Париж,
1953.
Ильин И. А. О сердечном созерцании // Путь к очевидности.
М., 1993.
История математики с древнейших времен до начала XIX
столетия. Т. 1—3. М., 1970—1972.
История Франции (под ред. Манфреда А. В.): В 3 т. М.,
1972—1973.
Кант И. Сочинения: В 6 т. М., 1963—1966.
Капелюш Ф. Религия раннего капитализма. М., 1931.
Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время
(Развитие культурных и социальных отношений): В 7 т. Спб.,
1892—1917.
Карпунин В. А. Формальное и интуитивное в
математическом познании. Л., 1983.
Корякин Ю. Ф. Достоевский в канун XXI века. М., 1989.
Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979.
Киреевский И. В. Полное собрание сочинений: В 2 т. М.,
1911.
Кляус Е. М., Погребысский И. Б., Франкфурт У. И. Паскаль.
М., 1971.
474
Костюченко В. С. Вивекананда (Мыслители прошлого). М.,
1977.
Коцюбинский С. Д. Литературное наследие Паскаля //
Ученые записки Ленинградского ун-та. Вып. 8. 1941. Серия
филологических наук.
Кузнецов В. Н. Вольтер и философия французского
просвещения XVIII в. М., 1965.
Кузнецов В. Н. Жан Поль Сартр и экзистенциализм. М.,
1969.
Кузнецов В. Н. Французский материализм XVIII века. М.,
1981.
Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.
Ламетри Ж. О. Сочинения. 2-е изд. М., 1983.
Лансон Г. История французской литературы. Т. 1—2. Спб.,
1899.
Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. М., 1982—1985.
Леонтьев А. Н. Деятельность и сознание // Вопросы
философии. 1972. № 12.
, Люблинская А. Д., Прицкер Д. П., Кузьмин M. Н. Очерки
истории Франции. Л., 1957.
Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М.,
1979.
Маковельский А. О. История логики. М., 1967.
Михневич Д. Е. Очерки из истории католической реакции
(иезуиты). М., 1953.
Монтень М. Опыты: В 3 т. 2-е изд. М., 1979.
Налчаджян А. А. Некоторые психологические и
философские проблемы интуитивного познания. М., 1972.
Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века.
М., 1974.
Николай Кузанский. Сочинения. Т. 1—2. М., 1979—1980.
Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1951.
Обломиевский Д. Французский классицизм: Очерки. М., 1968.
Орлов А. И. Французский ученый Влас Паскаль. Его жизнь
и труды. М., 1889.
Паскаль Б. Мысли. /Пер. И. Бутовского. Спб., 1843.
Паскаль Б. Мысли. /Пер. Э. Линецкой // Ларошфуко Ф. де.
Максимы; Паскаль Б. Мысли; Лабрюйер Ж. де. Характеры. М.,
1974 (Библиотека всемирной литературы. Т. 42).
Паскаль Б. Мысли о религии. /Пер. С. Долгова. М., 1892; 2-е
изд. М., 1902.
Паскаль Б. Мысли (о религии) / Пер. П. Д. Первова. Спб.,
1888; 2-е изд. М., 1899; 3-е изд. М., 1905.
Паскаль Б. Опыт о конических сечениях / Пер. Г. И. Игнаци-
уса // Историко-математические исследования. Вып. 14. 1961.
Паскаль Б. Письма к провинциалу. Спб., 1898.
475
Паскаль Б. Трактат о равновесии жидкостей / Пер. А. Н.
Долгова // Начала гидростатики (Архимед, Стевин, Галилей,
Паскаль). М.; Л., 1932.
Петров Э. Ф. Эгоизм: Философско-этический очерк. М.,
1969.
Платон. Собрание сочинений: В 4 т. М, 1962.
Поршнев Б. Ф. Народные восстания во Франции перед
Фрондой (1623—1648). М.; Л., 1948.
Последование Характеров Теофрастовых и Мыслей Пас-
калевых / Пер. Тейльса // Утренний свет. М.: Изд. Новикова Н.
И., 1803.
Пуанкаре А. Математическое творчество: Психологический
этюд. Юрьев, 1909.
Пуанкаре А. Последние мысли. Пг., 1923.
Пуанкаре А. Ценность науки. М., 1906.
Реньи А. Письма о вероятности. М., 1970.
Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М.
Достоевского. Спб., 1902.
Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990.
Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989.
Руссо Ж. Ж. Исповедание веры савойского викария. М.,
1903.
Руссо Ж. Ж. Трактаты. М., 1969.
Селье Г. Стресс без дисстресса. М., 1982.
Сент-Бёв Ш. Литературные портреты: Критические очерки.
М., 1970.
Соколов В. В. Европейская философия XV—XVII веков. М.,
1984.
Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. М., 1988.
Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957.
Стасюлевич М. О провинциальном быте Франции в эпоху
Людовика XIV. Спб., 1860.
Стрельцова Г. Я. Декарт и Паскаль // Вопросы философии.
1985. №3. С. 100—112.
Стрельцова Г. Я. Критика экзистенциалистской концепции
диалектики (Анализ философских взглядов Ж. П. Сартра). М.,
1974.
Стрельцова Г. Я. Паскаль (Мыслители прошлого). М., 1979.
Стрельцова Г. Я. Феномен Паскаля // Вопросы философии.
1979. № 2.
Стрельцова Г. Я. Эволюция философских взглядов Ж. П.
Сартра // Вопросы философии. 1968. № 3. С. 74—84.
Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. 5-е изд. Киев, 1974.
Тажуризина 3. А. Философия Николая Кузанского. М., 1972.
Тарасов Б. Н. Паскаль. 2-е изд. М., 1982.
476
Тисандье Г. Мученики науки. 3-е изд. Спб., 1891.
Титаренко А. И. Роль чувств — в морали, принципа
сенсуализма — в этике // Вопросы философии. 1984. № 8. С. 59—71.
Титаренко А. И. Нравственные структуры сознания. М.,
1974.
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений (Юбилейное
изд.): В 90 т. М., 1928—1958.
Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т.
М.; Л., 1960.
Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1986.
Успенский В. А. Треугольник Паскаля. 2-е изд. М., 1966.
Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т.
М., 1955.
Фейербах Л. История философии. Собрание произведений:
В 3 т. М., 1967. .
Филиппов Л. И. Паскаль // История диалектики XIV —
XVIII. М., 1974.
Филиппов M. М. Паскаль, его жизнь и научно-философская
деятельность. Спб., 1891.
Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения
в американской литературе. М., 1967.
Флоренский П. А. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916.
Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914.
Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
Хомяков А. С. Собрание сочинений: Богословские и церков-
но-публицистические статьи. Пг., 1915.
Хомяков А. С. Сочинения. Т. 1. М., 1911.
Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Л., 1969.
Цейтен Г. Г. История математики в XVI — XVII веках. 2-е
изд. М.; Л., 1938.
Шерозия А. Е. К проблеме сознания и бессознательного
психического: В 2 т. Тбилиси, 1973.
Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам).
Париж, 1929.
Шилейко А. В., Шилейко Т. И. Информация и интуиция. М.,
1983.
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Спб., 1914.
Эпиктет. Беседы // Вестник древней истории. 1975. № 3.
Юм Д. Сочинения: В 2 т. М., 1965.
Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни
человека по учению слова Божия // Труды Киевской духовной
Академии, 1860. Кн 1.
Юшкевич А. П. Блез Паскаль как ученый // Вопросы
истории естествознания и техники. 1959. Вып. 7.
477
* * *
Alix Roland. Pascal vivant. Clermont-Ferrand, 1962.
Arnauld A., Nicole P. La logique ou L'art de penser. P., 1965.
Baird A. La méthode de Pascal en physique // Méthodes chez
Pascal. P., 1979.
Barres M. L'angoisse de Pascal. P., 1910.
Barret W. Irrational man. N. Y., 1958.
Baudin E. Études historiques et critiques sur la philosophie de
Pascal. P., 1946.
Baudouin Ch. Biaise Pascal. P., 1969.
Bayle P. Dictionnaire historique et critique. T. 3. Amsterdam,
1740.
Béguin A. Pascal par lui-même. P., 1958.
Binet-Sanglé Ch. Les lois psychophysioloques du développement
des religions. L'évolution religieuse chez Rabelais, Pascal et Racine.
P., 1907.
Benzécri Ed. L'esprit humain selon Pascal. P., 1939 (Thèse...).
Bishop M. Pascal. The life of genius. N. Y., 1968.
Blondel M. Dialogues avec les philosophes. Descartes, Spinoza,
Malebranche, Pascal, Saint Augustin. P., 1966.
Blondel M., Laberthonnière L. Correspondance philosophique.
P., 1961.
Bloomberg E. Les raison de Pascal. P., 1973.
Bord A. Pascal et Jean de la Croix. P., 1987.
Boutroux E. Pascal. P., 1900.
Brémond H. Histoire littéraire du sentiment religieux en France
depuis la fin des guerres de religion jusque nos jours. T. 1—6. P.,
1921—1926.
Brimo A. Pascal et le droit. P., 1942.
Bruneau Ch. Explication de Pascal pensées. P., 1936.
Brunet G. La "Pari" de Pascal. P., 1956.
Brunetière F. Histoire de la littérature française classique. T. 1,
2. P., 1912.
Brunschvicg L. Descartes et Pascal. Lecteurs de Montaigne. N.
Y.— P., 1944.
Brunschvicg L. Le génie de Pascal. P., 1925.
Cailliet E. Pascal. Genius in the light of scripture Philadelphia,
1945.
Camus A. Mythe de Sisyphe. P., 1942.
Canilli A. Pascal. La struttura dell'uomo. Padova, 1978.
Chateaubriand F. Essai sur les révolutions. Génie de
shristianisme, ou beautés de la religion chrétienne. P., 1978.
Chestov L. La nuit de Gethsémani. P., 1923.
Chevalier J. Pascal. P., 1922.
478
Coleman F. X. J. Neither angel nor beast: The life and Work of
Biaise Pascal. N. Y.-L., 1987.
Colloque de mathématiques à l'occasion du Tricentenaire de la
mort de B. Pascal. V. 1—2. Clermont-Ferrand, 1962.
Costadel P. Pascal et les mathématiques // Pascal et Port-
Royal. P., 1962.
Cousin V. Études sur Pascal. 5-éd., P., 1857.
Cousin V. Des Pensées de Pascal. Rapport à l'Académie
française sur la nécessité noufelle édition de cet ouvrage. P., 1843.
Courcell P. L'entretien de Pascal et Sacy, ses sources et ses
énigmes. P., 1960.
Cresson A. Pascal, sa vie, son oeuvre avec un exposé de sa
philosophie. P., 1962.
Croquette B. Pascal et Montaigne. Étude des réminiscences les
"Essais" dans l'oeuvre de Pascal. Genève, 1974.
D'Angers J. E. L'apologétique en France de 1580 à 1670. Pascal
et les précurseurs. P., 1954.
Davidson H. Le pluralisme méthodologique chez Pascal.— In:
Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Davidson H. The origins of certainty: Means a, meanings in
Pascal's Pensées. Chicago-London, 1979.
Descartes R. Oeuvres de Descartes par Ch. Adam et P. Tannery
// Correspondance. T. 3. P., 1956; t. 7. P., 1960.
Descotes D. Piège et paradoxe chez Pascal // Méthodes chez
Pascal. P., 1979.
Dionne J. R. Pascal et Nietzsche. Étude historique et comparée.
N. Y., 1974.
Ducasse P. Les grandes philosophies. P., 1982.
Emery L. L'âge classique. Lyon, 1969.
Faure E. Montaigne et ses Trois premiers-nés: Shakespeare,
Servantes, Pascal. P., 1979.
Ferreyrolles G. Pascal et la raison du politique. P., 1984.
Ferrier F. Peut-on rapprocher Pascal de Duns Scot? // Méthodes
chez Pascal. P., 1979.
Finch D. La critique philosophique de Pascal au XVIII-e siècle.
Philadelphia, 1940 (Thèse...).
Force P. Le problème herméneutique chez Pascal. P., 1989.
Francis R. Les Pensées de Pascal en France de 1842 à 1942. Essai
d'étude historique et critique. P., 1959.
Garrone G. M. Ce que croyait Pascal. Tours, 1969.
Gazier A. Histoire générale du mouvement janséniste depuis ses
origines jusqu'à nos jours. T. 1—2. P., 1923—1924.
Geissbiihler H. Recht und Macht bei Pascal. Untersuchung seiner
politischen Gedanken. Bern — Frankfurt a. M., 1974.
Gilson E. Introduction à l'étude de Saint Augustin. 3-éd., P., 1946.
479
Giraud. V. La vie héroique de Biaise Pascal. 16-me éd., P., 1923.
Goldmann L. Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans les
Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine. P., 1955.
Gouhier H. Biaise Pascal. Commentaires. P., 1966.
Gouhier H. Pascal et les humanistes chrétiens. L'affaire Saint-
Ange. P., 1974.
Guenancia P. Du vide à Dieu. Essai sur la physique de Pascal.
P., 1976.
Guenancia P. Pascal et la méthode expérimentale.— In:
Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Guitton J. Génie de Pascal. P., 1962.
Harrington T. M. Pascal philosophe: Une étude unitaire de les
"Pensées" de Pascal. P., 1982.
Heyndels R. La pensée fragmentée: Discontinuité formelle et
question du sens (Pascal, Diderot, Hôlderlin et la modernité).
Bruxelles, 1985.
Horàk P. Svët Biaise Pascala. Visehrad, 1985.
Humbert P. Get effrayant génie... P., 1947.
Jerphagnon L. Pascal et la souffrance. P., 1956.
Kawamata K. Pascal et Saint-Cyran // Méthodes chez Pascal. P.,
1979.
Klein Z. La notion de dignité humain dans les pensées de Kant
et de Pascal. P., 1968.
Koyré A. Pascal savant // Pascal Biaise, l'homme et oeuvre. P.,
1956.
Krailsheimer A. Pascal. Oxford, 1980.
Lafuma L. Controverses pascaliennes. P., 1952.
Lafuma L. Histoire des Pensées de Pascal (1656—1952). P., 1954.
Lafuma L. Recherches pascaliennes. P., 1946.
Laporte J. Le coeur et la raison selon Pascal. P., 1950.
La Rochefoucauld F. Ouevres complètes. P., 1964.
Le Guern M. L'image dans l'oeuvre de Pascal. P., 1969.
Le Guern M. Pascal et Descartes. P., 1971.
Le Guern M. et M.-R. Les Pensées de Pascal (de l'antropologie
à la théologie). P., 1972.
Ledent R. Ce que Pascal a vraiment dit. Verviers, 1975.
Lefebvre E. Pascal. L'oueuvre.— L'influence. P., 1925.
Lefebvre H. Pascal. T. 1—2. P., 1949—1954.
Le Roy G. Pascal savant et croyant. P., 1957.
Léveille-Mourin G. Pascal — Nietzché. Le langage chrétien,
antichrétien de la transcendance. P., 1985.
Loeffel H. Biaise Pascal. Basel-Boston, 1987.
L'Oeuvre scientifique de Pascal. Préf. de R. Taton. P., 1964.
Mac Kenna A. L'argument "Infini-Rien" // Méthodes chez
Pascal. P., 1979.
480
Maeda J. Pascal au travail: quelques aspects de la méthode
rédactionnelle chez Pascal // Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Magnard P. Nature et histoire dans l'apologétique de Pascal. P.,
1975.
Maire A. Bibliographie Générale des oeuvres de B. Pascal. T.
1—5. P., 1925—1927.
Marcel G. Essai de la philosophie concrète. P., 1940.
Marcel G. Le Mystère de l'être. V. 1—2. P., 1951.
Marciszewski W. A Rationalistic Interprétation of "Reasons of
the Heart": a studi in Pascal // Dialectics and Humanism. Vol. VII.
N 4 autumn 1980.
Marian V. si Popescu M. Biaise Pascal. Bucure§ti, 1972.
Marin L. La critique du discours sur la "Logique de Port-
Royal" et de "Pensées" de Pascal. P., 1975.
Maritain J. Pascal apologiste // Revue hebdomadaire. N spes,
1923.
Marxisme et existentialisme. Controverse sur la dialectique. P.,
1962.
Mauriac F. Pascal en France // Pascal et Port-Royal. P., 1962.
Mesnard J. Les Pensées de Pascal. P., 1976.
Mesnard J. Pascal. 5-éd., P., 1967.
Mesnard J. Pascal et les Roannez // Bruges: Desclée de Brouwer,
1965 (Thèse...).
Méthodes chez Pascal. Actes du Colloque tenu à Clermont-
Ferrand 10—13 juin 1976. P., 1979.
Miel J. Les méthodes de Pascal et l'épistème classique //
Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Molino L. La raison des effets // Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Mouîsopoulos E. De quelques réminiscences platoniciennes dans
Г "esthétique" de Pascal // Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Neagoe F. Biaise Pascal philosophe // Revue Roumaine des
sciences sociales. Série de Philosophie et logique, T. 19. 1975. w 2.
Pascal B. Abrégé de la vie de Jésus-Christ // Oeuvres complètes.
P., 1963.
Pascal, Berkeley, Nietzsche. P., PUF, 1982.
Pascal B. De l'esprit géométrique et de l'art de persuader //
Oeuvres complètes. P., 1963.
Pascal B. Ésrits sur la grâce // Oeuvres complètes. P., 1963.
Pascal B. Éloge et Pensées de Pascal // Nouv. éd. (Commentée...
par m-г de Voltaire. Éloge de Pascal par Condorcet). Londre, 1778.
Pascal B. Entretien avec M. de Saci // Oeuvres complètes. P.,
1963.
Pascal B. Expériences nouvelles touchant le vide // Ibidem.
Pascal B. Les écrits des curés de Paris // Ibidem.
Pascal B. Les provinciales // Ibidem.
481
Pascal В. L'oeuvres de Pascal. Texte établi et annoté par J.
Chevalier. P., 1936.
Pascal B. Oeuvres. Publiées suivant l'ordre chronologique avec
documents complémentaires introduction et notes... (Par
Brunschvicg L., Boutroux E., Gazier F.) T. 1—14. P., 1914—1925.
Pascal B. Oeuvres complètes (Par Lafuma L.). P.: Seuil,
1963.
Pascal B. Oeuvres complètes (Par J. Chevalier). P., 1960;
Pascal B. Oeuvres complètes (Par J. Mesnard). Éd. du
Tricentenaire. T. 1—6. P., 1964.
Pascal B. Opuscules et lettres (Choix). Notes de L. Lafuma. P.,
1955.
Pascal B. Pensées. A concordance to Pascal's "Pensées". Ithaca-
London, 1975.
Pascal B. Pensées de Biaise Pascal. Nouv. éd. collationnée
sur le manuscrit autographe (Par L. Brunschvicg). T. 1—12. P.,
1904.
Pascal B. Pensées de Pascal. Publiées dans leur texte authentique
(Par E. Havet). P., 1852.
Pascal B. Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques autres
sujets (éd. de Port-Royal). 2-me éd. P., 1670.
Pascal B. Pensées, fragments et lettres. Publiées pour la première
fois conformément aux manuscrits originaux en granparti inédits
(Par P. Faugère). T. 1—2. P., 1844.
Pensées. Pascal. (Par Ph. Sellier). P., 1972.
Pascal B. Pensées. Sur la religion et sur quelques autres sujets
(Par L. Lafuma). T. 1—3. P., 1951.
Pascal B. Préface. Sur le Traité du vide // Oeuvres somplètes. P.,
1963.
Pascal B. Prière pour demander à Dieu le bon usage des
maladies // Ibidem.
Pascal B. Textes inédits. Recueillis et présentés par J. Mesnard.
Bruges, 1962.
Pascal B. Trois discours sur la condition des Grands // Oeuvres
complètes. P., 1963.
Pascal Biaise, L'homme et l'oeuvre. P., 1956.
Pascal Biaise: philosophie des sciences. P., 1981.
Pascal et Port-Royal. Tricentenaire de la mort de Pascal. P.,
1962.
Pascal présent. Clermont-Ferrand, 1962.
Паси Исак. Мисли за човека // Блез Паскал. Мисли. София,
1978.
Petit H. Images Descartes et Pascal. 4-e éd. P., 1930.
Pluzanski T. Pascal. Warszawa, 1974.
Pontet M. Pascal et Teilhard. Témoins de Jésus-Christ. P., 1968.
482
Pucell J. La dialectique du renversement du pour au contre et
l'antithétique pascalienne // Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Racine J. Histoire de Port-Royal // Oeuvres complètes. T. 1—2.
P., 1950—1952. T. 2: Prose.
Rideau E. Descartes. Pascal. Bergson. P., 1937.
Roulleau J. Pascal et météorologie. P., 1950.
Russier J. Foi selon Pascal. P., 1949.
Sainte-Beuve Ch. Port-Royal. T. 3. P., 1888.
Sartre J. P. Critique de la raison dialectique. P., 1960.
Sartre J. P. L'Être et le Néant. P., 1961.
Sartre J. P. L'existentialisme est un humanisme. P., 1946.
Sartre J. P. Situation I. P., 1947.
Sartre J. P. Situation III. P., 1949.
Schmitz du Moulin H. Biaise Pascal, une biographie spirituelle.
Assen, 1982 (Thèse...).
Sciacca M. F. Pascal (Il pensiero cristiano). Breschia, 1946.
Sellier Ph. Pascal et liturgie. P., 1966.
Sellier Ph. Pascal et Saint Auguctin. P., 1970.
Spoerri Th. Der Verborgene Pascal. Hamburg, 1955.
Stenzel K. Pascals Théorie des Divertissement. Munchen, 1965
(Dissertation).
Stewart H. F. The secret of Pascal. Cambridge, 1941.
Suarès A. Les puissances de Pascal. P., 1923.
SuarèsA. Trois hommes (Pascal — Ibsen — Dostoievski). P., 1935.
Suematsu H. Développement formel de la dialectique pascalienne
// Méthodes chez Pascal. P., 1979.
Tillich P. A History of Christian Thought. From Its Judaic and
Hellenistic Origins to Existentialism. N. Y., 1972.
Tillich P. Biblical religion and the search for ultimate reality.
Chicago, 1964.
Tillich P. Sistematic theology. V. 1-2. London, 1960.
Tillich P. The courage to Be. London, 1955.
Tillich P. Theology of culture. N. Y.. 1959.
Voltaire F. M. Remarques sur les Pensées de Pascal // Oeuvres
complètes. T. 22. P., 1879.
Voltaire F. M. Oeuvres complètes. T. 33. P., 1880.
Waterman M. Voltaire, Pascal and human destiny. N. Y., 1942.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абэ Кобо (р. 1924), японский
писатель — 404
Августин Блаженный Аврелий
(354—430), христианский философ
и богослов — 12, 23, 59, 65, 69,
76—80, 82, 87, 90, 91, 97, 101,
103— '08, ПО, 118, 169, 183, 184,
191, 212, 236, 256, 258, 267, 282,
398, 402, 403, 408, 431, 456, 464,
465, 468
Авэ Эрнест, издатель Паскаля — 7,
294, 329
Агриппа (1 — 2 вв.), древнеримский
философ— 171
Аксаков Иван Сергеевич (1823—86),
русский публицист и
общественный деятель — 299
Аксаков Константин Сергеевич
(1817—60), русский публицист
и историк — 299
Аларих I (ок. 370—410), король
вестготов с 395 г. — 105
Александр Р7/(1599—1667), римский
папа (1655—67) — 121
Алике Р. — 16, 430
Амвросий Оптинский (1812—91), ие-
росхимонах, старец, духовный
писатель — 390
Анаксагор (ок. 500—428 до н. э«),
древнегреческий философ — 130
Андреев Леонид Николаевич (1871—
1919), русский писатель — 254, 255
Анна о., иезуит — 94, 102, 117
Анна Австрийская (1601—66),
французская королева — 216
Анненков Павел Васильевич (1813—
87), русский литературный критик
— 323, 329
Арди Клод, французский
математик — 31
Аристотель (384—322 до н. э.),
древнегреческий философ — 38, 39,
66, 68, 69, 95, 118, 138, 318, 319,
401,419
Аркесилай (315—240 до н. э.),
древнегреческий философ — 77
Арно Антуан (1612—94),
французский философ и теолог — 7, 23,
98-101, 109, 110, 117, 159, 175,
213,306
Арнобий (4 в.), христианский
апологет — 274
Архимед (ок. 287—212 до н. э.),
древнегреческий ученый — 23,
36,41
Бальзак Оноре де (1799—1850),
французский писатель — 111
Варко М., янсенист из Пор-Рояля —
98
Баррес Морис (1862—93),
французский писатель и политик — 290
Баррет В. — 419, 420
Барт Карл (1886—1968),
швейцарский протестантский теолог — 12,
288,416
Бассин Ф. В. — 149, 161
Батюто А. — 321, 326
Бахмутский В. А. — 49, 133, 134,
181, 222
Бейль Пьер (1647—1706),
французский философ и публицист — 12,
53, 104, 106, ПО, 124,278,283,290
Белинский Виссарион Григорьевич
(1811—48), русский литературный
критик — 292
Бенедикт XIV (1675—1758), римский
папа (1740—58) — 104
Бентам Иеремия (1748—1832),
английский философ, социолог — 177
Бергсон Анри (1859—1941),
французский философ — 12, 80, 354
Бердяев Николай Александрович
(1874—1948), русский философ —
273, 292, 300, 304, 313, 330, 334,
335, 337, 341, 345, 346, 349, 355, 396
Бернулли Якоб (1654—1705),
швейцарский математик — 41
Бёкк Р. М. — 392, 393
Бёме Якоб (1575—1624), немецкий
философ — 394
Бёмер Г. — 95
484
Блондель Морис (1861—1949),
французский философ — 13, 16, 288—
290, 430
Бобрищев-Пушкин Павел Сергеевич
(1802—65), декабрист — 299
Бовуар Симона де (1908—86),
французская писательница — 404
Богуславский Вениамин Моисеевич
— 73, 74
Бодсн Жан (1530—96), французский
политический мыслитель — 246
Бодэн Э. — 83
Бона, кардинал — 103
Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704),
французский писатель — 57, 99,
284
Браге Тихо (1546—1601),
голландский астроном — 153
Брауэр Лейтзен Эгберт Ян (1881—
1966), нидерландский математик
— 33
Бремон Анри (1855—1933),
французский литературный критик
и историк — 430
Бреншвиг Леон (1869—1944),
французский философ — 7, 16, 80, 87
Бруно Джордано (1548—1600),
итальянский философ — 92
Брюнетьер Фердинанд (1849—1906),
французский критик и
литературовед — 49
Буало Никола (1636—1711),
французский поэт — 249
Будда (Сиддхартха Гаутама) (623—
544 до н. э.), основатель буддизма
— 356, 357, 367
Бурбаки Никола, псевдоним группы
математиков — 44—46
Бурдалу Луи (1632—1704),
французский философ и проповедник — 57
Бурдон — 371
Бурзеис де, аббат, янсенист, член
Французской академии — 100
Бутовский И. — 298, 299
Бутру Эмиль (1845—1921),
французский философ — 12, 287
Бэкон Фрэнсис (1561—1626),
английский философ — 42, 48, 59, 62,
133, 137-139, 141, 155, 165, 181,
213, 232, 297
БэрдА. — 155
Бюрги Иост (1552—1632),
швейцарский математик — 34
Валлис Джон (1616—1703),
английский математик — 44, 45
Ванини Джулио Чезаре (1585—1619),
итальянский философ — 92
Варрон (116—27 до н. э.), римский
писатель и ученый — 63
Васкес Габриель (1550—1601),
испанский философ — 112, 113
Вейль Герман (1885—1955),
немецкий математик — 33
Виардо-Гарсия Полина (1821—1910),
французская певица — 322, 327,
329
Вивиани Винченцо (1622—1703),
итальянский математик — 37
Виет Франсуа (1540—1603),
французский математик — 45
Вилейтнер Генрих (1874—1931),
немецкий историк математики — 44,
45
Виндельбанд Вильгельм (1848—
1915), немецкий философ — 60
Вине Александр (1797—1847),
швейцарский протестантский теолог —
430
Винер Норберт (1894—1964),
американский ученый — 36
Вио Теофиль де (1590—1626),
французский поэт — 261
Вольтер (1694—1778), французский
писатель и философ — 3, 5, 6, И,
12, 30, 57—59, 63, 64, 69, 95, 111,
206, 212, 219—222, 251—253, 272,
273, 275, 293, 310, 316, 333, 368,
380, 405, 430, 432
Вольф Христиан (1679—1754),
немецкий философ — 296
Выготский Лев Семенович (1896—
1934), русский психолог — 148,
160
Вышеславцев Борис Петрович
(1877—1954), русский философ —
374—376, 393—401
Газье Огюстен — 103, 122
Галилей Галилео (1564—1642),
итальянский ученый — 37, 92, 137—
139, 155, 181, 424
Гальперин Петр Яковлевич ( 1902—
89), русский психолог — 200, 201
Гардуэн, аббат — 281
Гарнак Адольф (1851—1930),
немецкий протестантский теолог — 93,
416
Гаррон Габриель Мари (р. 1901),
кардинал — 288, 431
Гассенди Пьер (1592—1655),
французский философ — 261
485
Гассьон Жан (1609—47),
французский генерал — 20
Гаусс Карл Фридрих (1777—1855),
немецкий ученый 143
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
(1770—1831), немецкий философ
— 64, 69, 155, 156, 191, 300, 312,
318,360,377,416
Гейтинг Аренд (р. в 1898),
голландский математик — 33
Гельвеций Клод Адриан (1715—71),
французский философ — 12, 111,
192, 220, 249
Генансья П. — 153
Генрих III (1551—89), французский
король с 1574 г. — 115
Генрих IV (1553—1610), французский
король с 1589 г. — 115
Гераклит Эфесский (кон. 6 — нач.
5 в. до н. э.), древнегреческий
философ — 132, 364
Герцен Александр Иванович (1812—
70), русский писатель и философ
— 291,351
Гильберт Давид (1862—1943),
немецкий математик — 33
Гиттон Жан (род. в 1901 г.),
французский философ — 16, 287, 431
Гоббс Томас (1588—1670),
английский философ — 65, 67, 108, 139,
183, 191, 212, 231, 237, 238, 249,
273, 395, 428
Гоголь Николай Васильевич (1809—
52), русский писатель — 10, 341,
372-375
Голдман Люсьен (1913—70),
французский философ и социолог —
12, 16, 131, 132, 162, 182, 195, 274,
280, 285, 286
Гольбах Поль Анри (1723—89),
французский философ — 220, 237, 238,
243, 385
Гонди Жан-Франсуа-Поль, кардинал
де Рец (1613—79), французский
политический деятель 20, 28, ПО
Горький Максим (1868—1936),
русский писатель — 254, 255
Грандье Урбен, священник — 92
Григорий XIV (1535—91), римский
папа (1590- 91) 114
Гроций Гуго (1583 1645),
голландский политический мыслитель,
теоретик права -- 65, 66, 231, 232, 297
Гуйе Анри (род. в 1898 г.),
французский философ — 16, 187, 431
Гуляев А. Д. — 12, 66, 162, 170, 181
Гунтер Эдмунд (1581—1626),
английский математик — 34
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримо-
вич— 212
Гуссерль Эдмунд (1859—1938),
немецкий философ — 179, 422
Гуттен фон Ульрих (1488—1523),
немецкий писатель — 53
Гюго Виктор Мари (1802—85),
французский писатель — 318
Гюйгенс Христиан (1629—95),
нидерландский ученый — 5, 40, 42, 44
Д'Аламбер Жан Лерон (1717—83),
французский математик, механик
и философ — 281, 430
Дезарг Жерар (1593—1662),
французский математик, архитектор
и инженер — 31, 32, 34, 36
Декарт Рене (1596—1650),
французский философ, математик, физик
и физиолог — 5, 9, 12—14, 31, 32,
34, 36, 38, 40, 44, 46—48, 60, 62, 63,
65, 69, 73, 74, 80-87, 95, 129, 133,
135, 137, 142, 143, 146—148, 150,
153-155, 163, 165, 169, 175, 176,
181, 183, 197, 231, 232, 280, 294,
298, 312, 364, 377, 378, 381, 402,
420, 428, 456
Декот Д. — 194
Демокрит (ок. 470—?),
древнегреческий философ — 166, 395
Джемс Уильям (1842—1910),
американский философ и психолог — 12
Дидро Дени (1713—84), французский
философ — 30, 69, 95, 192, 220,
246, 250, 273, 395
Добролюбов Николай
Александрович (1836- -61), русский
литературный критик и публицист — 293
Долгов С. — 299
Достоевский Федор Михайлович
(1821—81), русский писатель —
10, 205, 273, 291, 310, 312, 326,
330, 343, 346-355, 360, 374, 395,
403, 422
Дуне Скот Иоанн (ок. 1266—1308),
средневековый теолог и философ
— 65, 66
Дэвидсон Г. — 46, 131, 146, 157,
182, 194
Дювержье де Горанн — см. Сен-
Сиран
Евклид (3 в. до н. э.),
древнегреческий математик — 29
486
Еврипид (ок. 480—406 до н. э.),
древнегреческий поэт-драматург — 407
Екатерина II (1729—96), российская
императрица с 1762 г. — 246, 297,
298
Жильсон Этьен Анри (1884—1978),
французский философ — 184, 430
Жоливе Р. — 162
Завитневич В. В. — 308
Зенон из Китиона (ок. 333- 262 до н.
э.), древнегреческий философ—297
Зеньковский Василий Васильевич
(1881 — 1962), русский философ
Иннокентий X (1574—1655),
римский папа (1644—55) — 79, 98
Иннокентий XI (1611—89), римский
папа (1676-89) — 104, 122
Иоанн Скот Эриугена (ок. 810 —
после 877), средневековый
философ-128
Йохи Маеда — 15
Кавальери Бонавентура (1598—1647),
итальянский математик — 44
Кавамата К. — 79
Калас Жан (1698—1762),
французский протестант, кальвинист — 92
Кальвин Жан (1509—64), деятель
Реформации - 89, 98, ПО, 267
Кампанелла Томмазо (1568—16.39),
итальянский философ — 242
Камю Альбер (1913—60),
французский писатель и философ 12,
402-408,410,411,418,424
Кант Иммануил (1724 1804),
немецкий философ — 12,64, 146, 155,
156, 170, 203, 204, 212, 271, 362, 368
Капелюш Ф. -— ПО
Кардано 'Джероламо ( 1501 —76),
итальянский математик, философ,
врач — 42
Кареев Николай Иванович (1850—
1931), русский историк — 19
Каркави Пьер де (1603 84),
французский математик 40
Карл I (1600 49), английский
король с 1625 г. 245
Карпе ад (214 129 до н. ).),
древнегреческий философ 77. 171
Карч кип Ю. Ф. 350
Кассиан Иоанн (3607—435?), монах
и теолог — 101
Кафка Франц (1883—1924),
австрийский писатель 403
Кеплер Иоганн (1571—1630),
немецкий астроном — 34, 91
Киреевский Иван Васильевич (1806—
56), русский философ,
литературный критик и публицист — 291,
292,299,313—320,375
Киреевский Петр Васильевич (1808—
56), русский фольклорист,
археограф, публицист — 299
Кларк Джемс Фримен (1810—88),
американский религиозный
деятель — 280
Клерселье — 81
Климент XIV (1705—74), римский
папа (1769—74) — 122
Клини Стивен Коул (род. в 1909 г.),
американский логик и математик
-33
Кляус Евгений Михайлович — 11,
33, 42, 293
Койре Александр Владимирович
(1892—1964), историк науки и
философии 33, 37, 43
Коменский Ян Амос (1592—1670),
чешский мыслитель-гуманист,
педагог — 99
Конде Луи II Бурбон (1621—86),
принц, французский полководец
— 21,216
Кондорсе Жан Антуан Никола
(1743—94), французский философ,
математик, социолог,
политический деятель — 11, 28, 30, 59, 248,
252, 282, 387, 430
Конт Огюст (1798 1857),
французский философ и социолог — 364
Копти Арманд Бурбон (1629 66),
французский полководец - 21
Конфуций (ок. 551 -479 до н. э.),
древнекитайский мыслитель
212, 356
Коперник Николай (1473 1543),
польский астроном — 137, 153,
344
Корне ль Пьер (1606 84),
французский драматург 22, 26, 50,
52, 407
Kocmaôe.ib П. 43, 283
Коцюбинский С. Д. 49 51. 53. 286
Кристина Августа ( 1626 89),
королева Швеции в 1632 54 гг. 36.
232, 245, 334
487
Крокэт Б. — 70
Кузен Виктор (1792—1867),
французский философ — 7, 16, 23, 60,
61, 80, 83, 162, 291, 294, 298, 317
Кузнецов Виталий Николаевич — 251
Курье Поль Луи (1772—1825),
французский писатель — 53
Кьеркегор Серен (1813—55), датский
теолог, философ, писатель — 61,
402,403,411,412,421,425
Ла Барр (1747—66), юноша, сожжен
на костре инквизицией за изуро-
дование распятия — 92
Лабертоньер Люсьен (1860—1932),
французский историк, философ,
теолог — 290
Лабрюйер Жан де (1645—96),
французский писатель — 19, 52, 57, 59,
213,215,217,225-230,427
Лакруа Жан (1900—86),
французский философ — 12
Ламетри Жульен Офре де (1709—
51), французский философ, врач —
5, 11,59,248,249,282,430,432
Ламот-Левайе Франсуа (1588—
1672), французский философ и
публицист — 261
Лансло Клод (1615—95),
французский теоретик педагогики, янсенист
-99
Лансон Постав (1857—1934),
французский литературовед—48,49,58
Лао-цзы (4—3 вв. до н. э.),
древнекитайский философ — 357, 367
Лапорт Жан (1886—1948),
французский философ — 16, 201, 202
Ларошфуко (Марсийяк де) Франсуа
де (1613—80), французский
писатель — 19, 21, 50, 52, 57, 59, 207,
208, 213, 215-218, 222, 223, 227—
230,261,427
Лафайет Мари Мадлен де (1634—
93), французская писательница —
59
Ла Фейад де, герцог, муж Шарлоты,
сестры Б. Паскаля — 25
Лафонтен Жан де (1621—95),
французский писатель — 52, 261
Лафюма Луи, издатель Паскаля —
7, 16, 67, 430
Легерн Мишель — 16, 55, 80, 81, 83,
84, 163, 173,431
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—
1716), немецкий философ,
математик, физик, языковед — 12, 13,
33—35, 44, 45, 69, 132, 133, 147,
150, 163, 212, 213, 294, 232, 377,
381, 394, 432
Лемуан — 112
Леонтьев Алексей Николаевич
(1903—79), русский психолог —
160, 161
Леонтьев Константин Николаевич
(1831—91), русский писатель,
публицист, литературный критик —
339
Ле-Пайер (?—1654), французский
математик, член кружка Мерсенна
— 31
Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814—41), русский поэт — 322
Леруа Ж. — 286
Лессцнг Готхольд Эфраим (1729—
81), немецкий драматург,
теоретик искусства, литературный
критик — 298
Лефевр Анри (1874—1959),
французский философ — 12, 16, 131,
285, 286, 432
Лефевр Э. - 149, 222, 223
Лианкур де, герцог — 98, 100
Лойола Игнатий (1491—1556),
основатель ордена иезуитов — 93
Локк Джон (1632—1704), английский
философ—134, 212, 232
Лонгвиль де, герцог — 98
Людовик XIII (1601—43),
французский король (1610-43) — 216
Людовик XIV (1638—1715),
французский король (1643—1715) —18,
94, 121, 122, 225, 228
Луин де, герцог — 54, 98, 240
Лютер Мартин (1483—1546),
деятель Реформации в Германии —
89, 108, 288, 289
Мазарини Джулио (1602—61),
кардинал с 1641, первый министр
Франции с 1643 г. - 18, 215, 216
МайельЖ.— 156
Майков Аполлон Николаевич
(1821—97), русский поэт — 340,
347
Майоров Геннадий Георгиевич —
105
Макиавелли Никколо (1469 — 1527),
итальянский политический
мыслитель, историк, общественный
деятель — 246
Мальбранш Никола (1638—1715),
французский философ — 184
488
Маритен Жак (1882—1973),
французский философ — 16, 430
Марк Аврелий Антонин (121—180),
римский философ и император (с
161 г.) — 76, 365, 403
Марков Андрей Андреевич (1903—
79), русский математик — 33
Маркс Карл (1818—83), немецкий
философ и экономист — 12, 424
Марсель Габриель Оноре (1889—
1973), французский философ,
драматург и литературный критик —
273, 347, 402, 403, 407, 412—415,
421,429
Марцишевский В. — 62, 149, 150
Менар Жан — 7, 15, 16, 58, 63, 131,
182,287,431
Мердок Айрис (род. в 1919 г.),
английская писательница — 404
Мере Антуан Гомбо де, кавалер,
французский писатель — 42, 82,
212
Мерсенн Марен (1588—1648),
французский ученый — 22, 31—33, 40,
46, 66, 177, 261, 274
Мидорж Клод (1585—1647),
французский математик — 31
Митон Дамье (ок. 1618—90) — 82,
213
Михневич Д. Е. — 97
Молина Луис (1536—1600), иезуит
и теолог—65,106,109,110,112,115
Молино Ж. — 428
Мольер (1622—73), французский
комедиограф, актер, театральный
деятель — 49, 52, 57, 59, 101,201
Монтень Мишель де (1533—92),
французский философ — 22, 51,
58, 63, 65—67, 69-76, 78, 81, 82,
135, 160, 171, 175, 213, 214, 216-
219, 234, 235, 256, 260, 368, 403,
456,461,464,465,469
Мор Томас (1478—1535), английский
гуманист, государственный
деятель и писатель — 242
Мориак Франсуа (1885—1970),
французский писатель — 59, 63
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—
91), австрийский композитор —
390
Мутсопулос Е. — 67
Мэр Альбер — 16
Налчаджян А. А. -- 148, 150
Недонсель Морис Постав (род. в 1905
г.), французский философ — 12
Непер Джон (1550—1617),
шотландский математик — 34
Нибур Рейнхольд (1892—1971),
американский протестантский теолог
— 12
Николай Кузанский (1401—64),
философ, теолог, ученый раннего
Возрождения — 64—67, 128, 131—
133, 150
Николь Пьер (1625—95),
французский философ и теолог — 3, 7, 98—
100, 121,213,240,297
Ницше Фридрих (1844—1900),
немецкий философ — 12, 59, 61,
64, 178, 190, 287, 293, 390, 403,
409, 424
Новиков Николай Иванович (1744—
1818), русский журналист,
издатель — 294^-298, 346
Ноэль Этьен (1581—1660),
французский философ, иезуит — 38, 154—
156
Ньютон Исаак (1643—1727),
английский математик, механик
и физик — 43, 44, 137, 143, 178, 364
Нэго Флорика — 60
Обломиевский Дмитрий Дмитриевич
(1907—71), русский литературовед
— 49, 222, 223
Однер В. И. - 35
Орлов А. И. — 358
Павел ///(1468—1549), римский папа
(1534—49)-91, 93
Пальмер В. — 307
Паси Исак — 182, 242
Паскаль (Бегон) Антуанета (1596—
1626), мать Б. Паскаля — 22
Паскаль Жаклина (1625—61), сестра
Паскаля — 29, 289, 306
Паскаль Этьен (1588—1651), отец
Паскаля— 18—21, 31
Пачоли Лука (ок. 1445 — ок. 1514),
итальянский математик — 42
Пелагий (ок. 360 — после 418),
британский монах и теолог — 97, 293
Первое П. Д. — 299
Пертридж С. — 34
Перье Жильбсрта (1620—87), сестра
Паскаля — 7, 23, 24, 29, 43,
256, 288
Перье Маргарита (1646—1733),
племянница Паскаля 23, 120
Перье Флорен (1605—72) — 41
489
Петр I Великий (1672—1725),
русский царь с 1682 г. — 317
Пий VII (1740—1823), римский папа
(1800—23)— 122
Пико делла Мирандола Джованни
(1463—94), итальянский
мыслитель — 166
Писарев Дмитрий Иванович (1840—
68), русский публицист и
литературный критик — 293
Платон (427—347 до н. э.),
древнегреческий философ — 49, 59, 65,
67—69, 131, 236, 252, 297, 344, 373,
400,419
Плотин (204/205—270), греческий
философ— 128, 150, 191
Погребысский Иосиф Бенедиктович
— 11,33,42,293
Поп Александр (1688—1744),
английский поэт — 249
Поршнев Борис Федорович (1905—
72), русский историк, социолог —
21,22
Пруст Марсель (1871—1922),
французский писатель — 403
Птолемей Клавдий (ок. 90 — ок. 160),
древнегреческий ученый — 153
Пуанкаре Жюль Анри (1854—1912),
французский математик, физик,
философ— 12, 177, 178,201
Пушкин Александр Сергеевич
(1799-1837), русский поэт — 10,
135,321,373
ПюсельЖ. — 131, 194
Равальяк Франсуа ( 1578- 1610),
убийца Генриха IV, короля
Франции — 115
Расин Жан (1639—99), французский
драматург, поэт — 5, 49—50, 52,
53, 55, 59, 100, 249, 274, 407
Репьи Альфред, венгерский
математик — 16, 172, 173
Реи, кардинал — см. Гонди
Рибейр де 41
Ришелье Арман Жан дю Плесси
(1585 1642), кардинал, глава
королевского совета Франции -
18 20,22,98. 111,215,216
Роанне Атюс Гуфье де, герцог
(1627 96) 7, 8, 24,44, 98,289
Роанне Шарлотта де ( 1633— 83),
сестра герцога Роанне — 8, 24
Роаерваль Жиль Персоньс (1602
75), французский математик 31,
33. 35, 44, 46
Розанов Василий Васильевич (1856—
1919), русский писатель, публицист
и философ — 10, 292, 329, 334, 338,
341,344,347,354,355,372—375,390
Руссо Жан Жак (1712—78),
французский писатель и философ — 12,
59, 179, 191, 199, 242, 249, 298, 344,
357, 403
Сабле Мадлен де Сувре, маркиза
(1599—1678) — 98, 213, 217
Сальери Антонио (1750—1825),
итальянский композитор — 380
Самарин Юрий Федорович (1819—
76), русский философ, историк,
общественный деятель — 299, 301
Санчез Франциско (1551—1632),
испано-португальский философ
и врач — 117
Сартр Жан Поль (1905—80),
французский писатель, философ и
публицист — 12, 402, 403, 407—413,
418,419,422-426
Саси Исаак Леметр де (1613—84),
французский богослов,
настоятель Пор-Рояля — 29, 76, 459, 464
Свифт Джонатан (1667—1745),
английский писатель — 368
Севинье Мари де (1626—96),
французская писательница — 59
Сегье Пьер (1588—1672),
французский государственный деятель,
канцлер Франции — 20, 35, 101,
102, 402
Секст Эмпирик (конец 2 — начало
3 в.), древнегреческий философ —
171
Селье Ганс (1907-82), канадский
патолог — 208
Селье Ф. — 16, 80,-287, 431
Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. —
65 н. э.), римский философ,
политический деятель, писатель — 76,
212,282,365,403
Сен-Сиран, аббат (Жан Дювержье де
Горанн) (1581—1643), янсенист из
Пор-Рояля—65,69,97,111,175,213
Сент-Бёв Шарль Огюстен (1804
69), французский критик — 16, 28,
49, 284
Сент-Эвремон Шарль дс (1610—
1703), французский философ и
писатель 2611
Серафим Саровский (1759 1833),
святой в русской православной
церкви 390
490
Сирано de Бержерак Севиньен
(1619—55), французский писатель
-261
Скаррон Поль (1610—60),
французский поэт — 249, 261
Слюз Рене де (1622—85),
французский математик — 44
Сниткина Анна Григорьевна, жена
Достоевского — 349
Соколов Василий Васильевич — 11
Сократ (ок. 470—399 до н. э.),
древнегреческий философ — 10, 68,
131, 132,256,297,356,362,364
Соловьев Владимир Сергеевич
(1853—1900), русский философ —
10, 304, 313, 339
Софокл (ок. 496^-406 до н. э.),
древнегреческий поэт-драматург —
407
Спиноза Бенедикт (1632—77),
нидерландский философ — 13, 109, 147,
150, 157, 163, 165, 177, 213, 232,
356, 357, 368, 423
Стевин Симон (1548—1620),
нидерландский математик и инженер —
41
Стровский Ф. — 289
Сюематсю — 182, 194
Сюлли-Прюдом (1839—1907),
французский поэт — 283
Суарес А. — 48, 112
Суарес Франциско (1548-1617),
испанский иезуит и философ — 112
Сурио М. — 430
Сухомлинский Василий
Александрович (1918-70), русский педагог —
199
Тарасов Б. Н. — 11
Тарталья Никколо (ок. 1499—1557),
итальянский ученый — 42
Татон Рене, французский историк
науки — 46
Таулер Иоганн (ок. 1300—61),
немецкий мистик и проповедник — 127
Теофраст (372—287 до н. э.),
древнегреческий естествоиспытатель
и философ — 294
Тертуллиан Квинт Септимий
Флоренс (ок. 160 — после 200),
христианский теолог и писатель —
277, 278
Тиллих Пауль (1866-1965),
немецко-американский теолог и
философ — 273, 285, 288, 289, 402, 407,
416-421,428
Тисандье Г. — 30
Титаренко Александр Иванович
200, 202
Тихомиров О. К. — 152
Толанд Джон (1670—1722),
английский философ — 249
Толстая А. А. — 356, 363
Толстой Лев Николаевич (1828—
1910), русский писатель — 3, 5,
10, 12, 52, 123, 159, 205, 291, 292,
356-374
Торричелли Эванджелиста ( 1608—
47), итальянский физик и
математик — 5, 37, 41, 44
Тургенев Иван Сергеевич (1818—83),
русский писатель — 10, 135, 291,
321—330, 357, 372
Тютчев Федор Иванович (1803—73),
русский поэт — 10, 126, 135, 136
Узнадзе Дмитрий Николаевич
(1886/87—1950), грузинский
психолог и философ — 202
Уинстэнли Джерард (1609 — после
1660), английский
социалист-утопист — 242
Умбер П. — 45
Уотред У. — 34
Успенский В. А. — 42
Фалес (ок. 625 — ок. 547 до н. э.),
древнегреческий мыслитель — 212
Фейербах Людвиг (1804—72),
немецкий философ — 12, 147, 247, 248,
279, 282, 356, 395
Фенелон Франсуа (1651-1715),
французский писатель — 284
Ферма Пьер (1601 65), французский
математик — 42, 44, 177
Фет Афанасий Афанасьевич (1820—
92), русский поэт — 327
Филиппов Л. М. — 11, 155
Филиппов Михаил Михайлович
(1858—1903), русский ученый,
писатель — 12, 31, 123, 162,219,220
Финкельстайн С. 402
Фихте Иоганн Готлиб (1762 — 1814),
немецкий философ 356
Флоренский Павел Александрович
(1882-1937), русский ученый,
философ, богослов 273, 292, 308
310, 376, 384—390, 391, 392
Фожер А. П., издатель Паскаля —
7, 294, 329
Фома Аквинский (1225 или 1226 74),
итальянский теолог и философ
491
65, 95, 101, 103, 105—108, ПО,
184, 263
Фонвизина Наталья Дмитриевна
(1805—69), жена декабриста М. А.
Фонвизина, ас 1857 г. декабриста
И. И. Пущина — 346, 348
Фонтанье Ж. — 92
Фонтенель Бернар Ле Бовье де
(1657—1757), французский ученый-
популяризатор, писатель — 249
Формой Ж. Б. — 252
Фортон Жак, аббат — 23, 77, 263
Франк Семен Людвигович (1877—
1950), русский философ — 292,
374, 375
Франкфурт Ушер Ионович — 11, 33,
42, 293
Франциск Ассизский (1181 или 1182—
1226), итальянский проповедник,
основатель ордена францисканцев
— 389
Франциск I (1494—1547),
французский король с 1515 г. — 18
Фридрих II Великий (1712—86),
прусский король с 1740 г. — 245
Фурье Шарль (1772—1837),
французский утопический социалист —
344
Хайдеггер Мартин (1889—1976),
немецкий философ — 402, 403,
408,413
Харрингтон Т. М. — 60
Хомяков Алексей Степанович
(1804—60), русский философ,
писатель, поэт — 135—137, 291,
299—316, 331, 356, 387
Цвингли Ульрих (1484—1531),
деятель Реформации в Швейцарии —
89
Цейтен Г. Г. (1839—1920), историк
математики — 44
Цицерон Марк Туллий (106—43 до
н. э.), римский государственный
деятель, оратор и философ — 73,
159, 344
Чернышевский Николай Гаврилович
(1828—89), русский писатель,
литературный критик, философ — 293
Шаррон Пьер (1541—1603),
французский философ — 65—67, 213,
261
Шатель Жан— 115
Шатобриан Франсуа Рене де (1768—
1848), французский писатель —
242, 282, 284, 408, 430
Шевалье Жак (1882—1962),
французский историк философии — 16,
48, 163, 287
Шекспир Уильям (1564—1616),
английский драматург и поэт — 344
Шелер Макс (1874—1928), немецкий
философ — 374, 375, 401
Шеллинг Фридрих Вильгельм
(1775—1854), немецкий философ
-300
Шерозия А. Е. — 148, 180
Шестов Лев (1866—1938), русский
философ и писатель — 5, 12, 61,
80, 81, 289, 293, 294, 418, 419, 422,
423, 425, 426
Шиккард Вильгельм (1592—1635),
немецкий ученый и изобретатель
-34
Шопенгауэр Артур (1788—1860),
немецкий философ — 12, 212, 220,
223—225
Шпенглер Освальд (1880—1936),
немецкий философ — 408
Экхарт Иоганн (ок. 1260—1327),
немецкий мистик и теолог — 128
Эмери Л. — 53, 58
Эмпедокл (ок. 490 — ок. 430 до н. э.),
древнегреческий философ — 59
Энесидем (1 век до н. э.),
древнегреческий философ — 171
Эпиктет (ок. 50 — ок. 140), римский
философ — 65, 75, 184, 212, 357,
365, 403, 459, 467, 469
Эпикур (341—270 до н. э.),
древнегреческий философ — 75, 76,
297, 409
Эпаминонд (ок. 418—362 до н. э.),
фиванский полководец — 193
Эразм Роттердамский (1469—1536),
гуманист эпохи Возрождения,
писатель — 53, 58
Эскобар-и-Мендоза Антонио (1589—
1669), испанский иезуит и теолог
-101, ИЗ, 116
Эсхил (ок. 525—456 до н. э.),
древнегреческий поэт-драматург — 407
Юлиан Отступник (331—363),
римский император с 361 г. —
81,294
492
Юм Дэвид (1711—76), английский
философ и историк — 199, 205
Юркевич Памфил Данилович
(1826—74), русско-украинский
философ — 292, 374—384, 393, 396
Юшкевич Адольф Павлович — 32,41
Янсений Корнелий (1585—1638),
голландский теолог — 23, 65, 69, 79,
89, 97—100, 103, 108—110, 121,
175,213,377
Ясперс Карл (1883—1969), немецкий
философ — 402, 407, 413, 424
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. Феномен Паскаля 4
Глава I. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ 17
1. Служение науке 29
2. "Французский Данте" 48
3. Философ "вне философии" 59
Глава II. ОДИН ПРОТИВ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ 89
1. "Ересь" Корнелия Янсения —
2. Божественная благодать и свобода воли 103
3. В защиту морали 112
Глава III. ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 125
1. Лики "живого космоса" 126
2. В борьбе с "идолами схоластики" 137
3. Наука доказательства истины 141
4. "Искусство убеждения" 157
5. "Утешение истиной" 162
Глава IV. ТАИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ ... 175
1. Антиномия сциентизма и гуманизма —
2. Загадки "мыслящего тростника" 185
3. Не разумом единым, но и сердцем 196
4. "Психология нравов" и салонная культура XVII
века 213
5. Разум против "империи власти" 231
Глава V. В'ПОИСКАХ "СПАСЕНИЯ" 247
1. "Тупики" философской мысли —
2. Жизнь "перед лицом смерти" 253
3. Личный Бог, а не Бог философов и ученых 262
4. Парадоксы "Апологии христианской религии" 270
5. Драматизм веры 278
Глава VI. ПАСКАЛЬ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА 291
1. Русское просвещение. Н. И. Новиков 294
2. Старшие славянофилы 299
3. Атеистическая традиция. И. С. Тургенев 321
4. Паскаль и Достоевский 330
5. Паскаль и Лев Толстой 356
6. Метафизика сердца 374
494
Глава VII. ПАСКАЛЬ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 402
ВЗГЛЯД СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ. Вместо
заключения 429
Приложения 434
Б. Паскаль. О геометрическом уме и об искусстве
убеждать —
Б. Паскаль. Разговор с г. де Саси об Эпиктете
и Монтене 459
Б. Паскаль. Об обращении грешника 470
Библиография 473
Указатель имен 484
Галина Яковлевна
Стрельцова
ПАСКАЛЬ И ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА