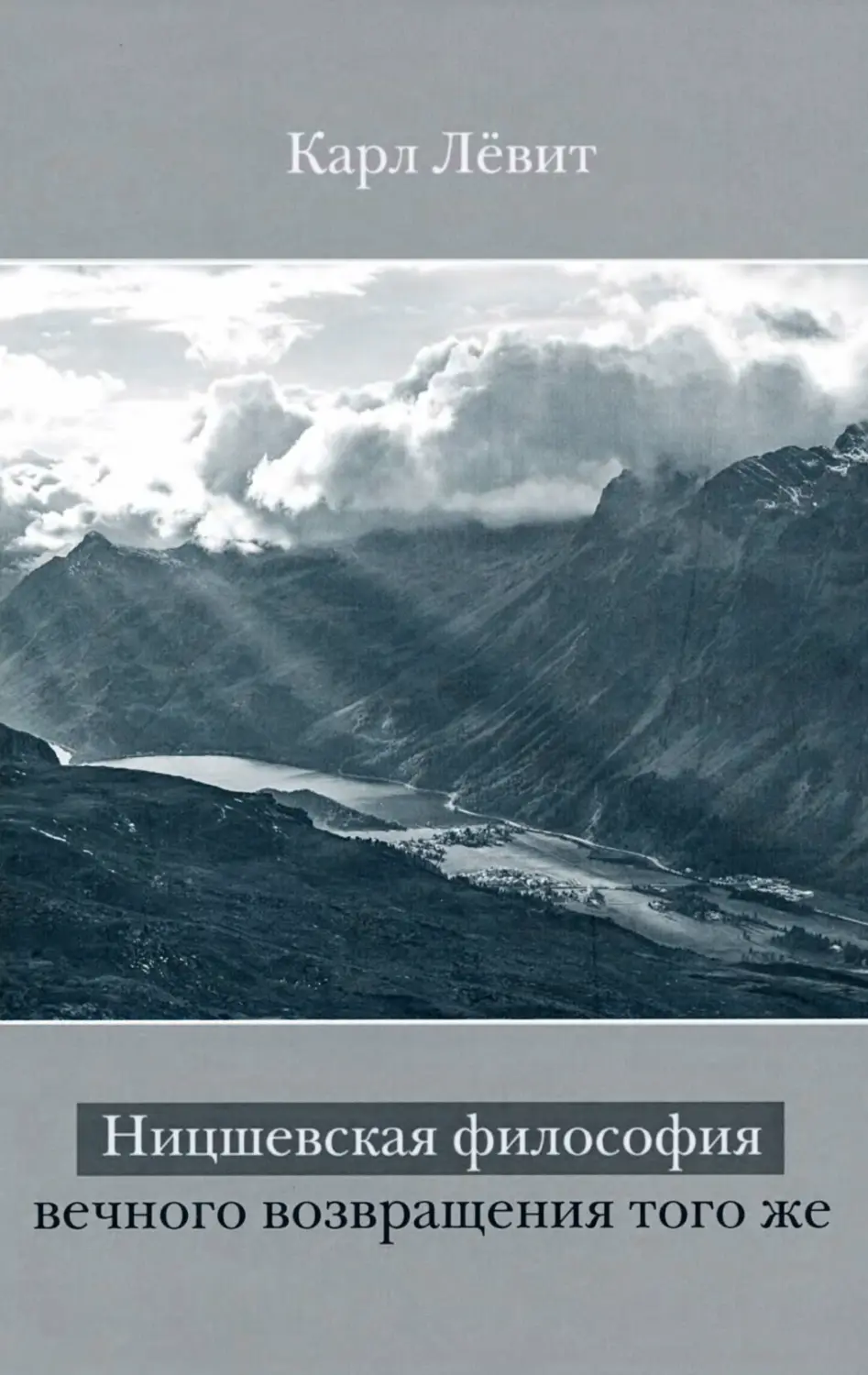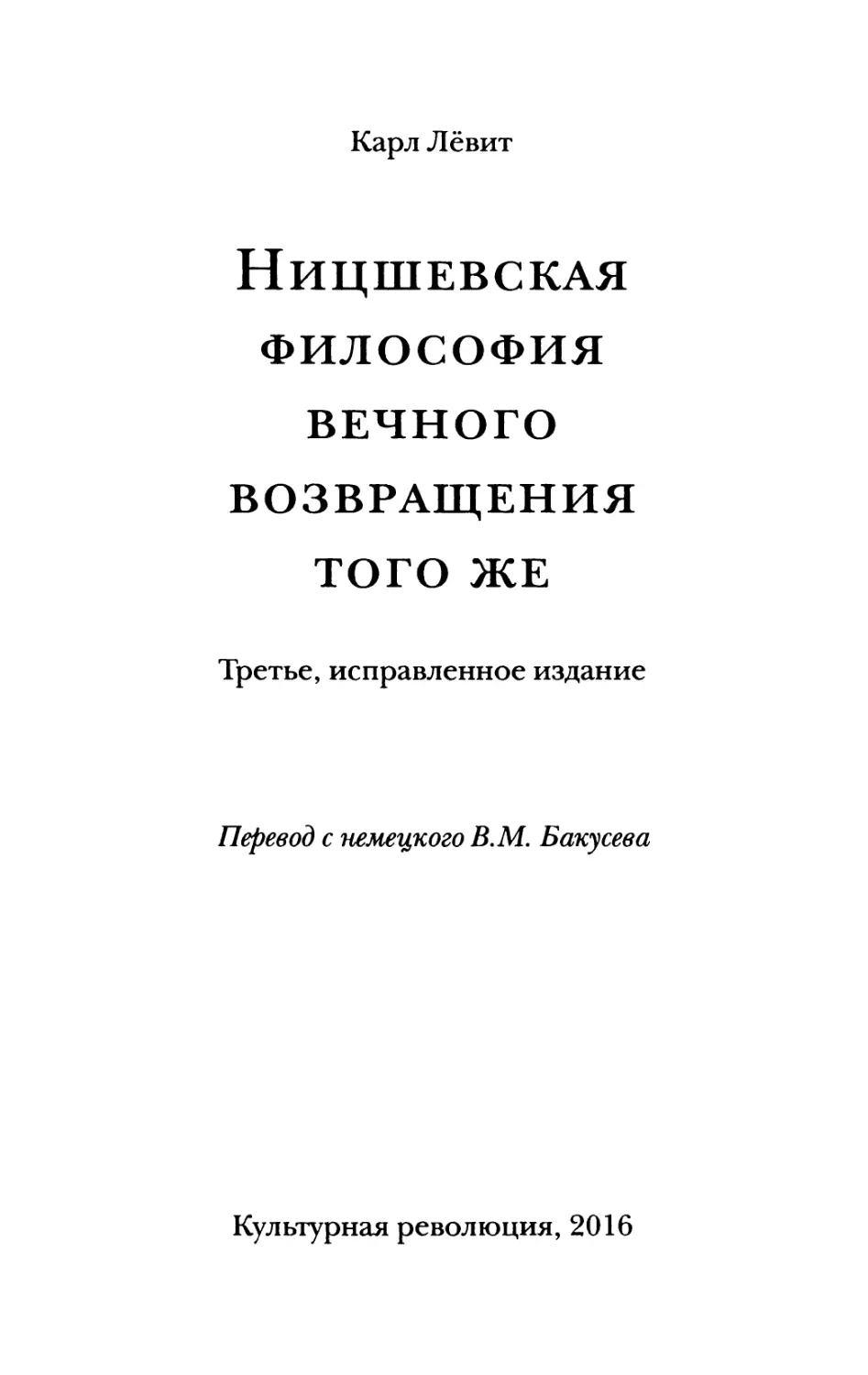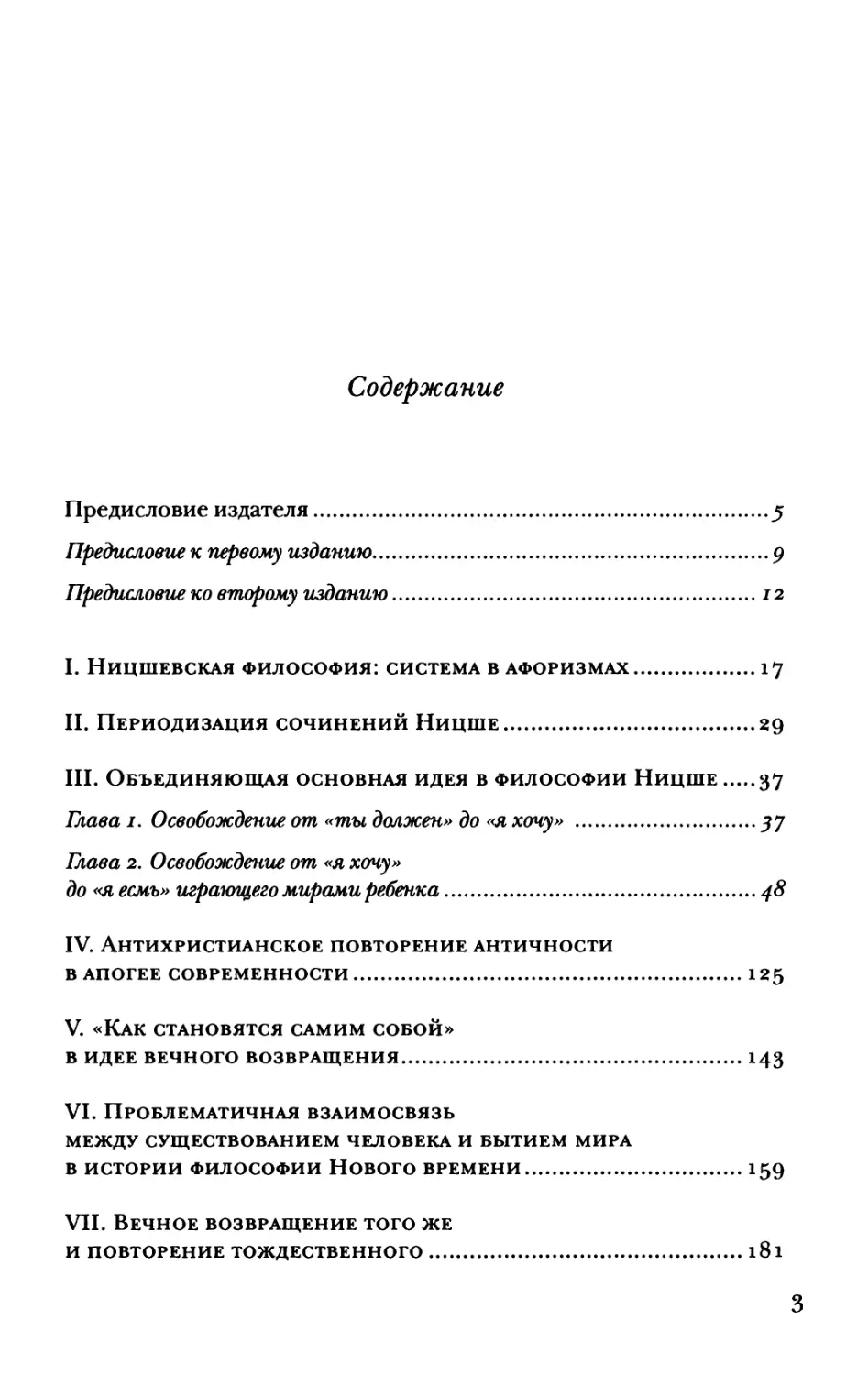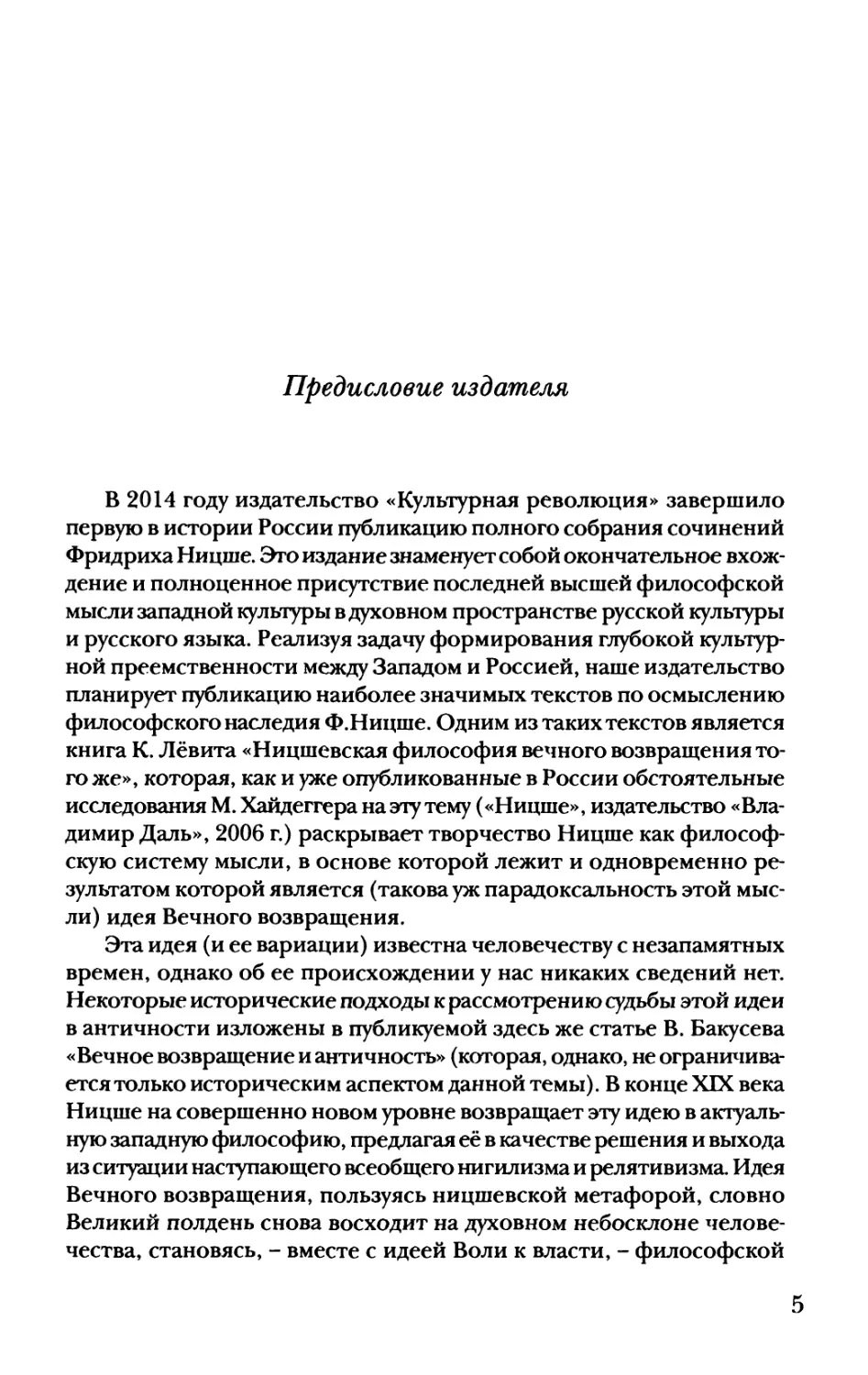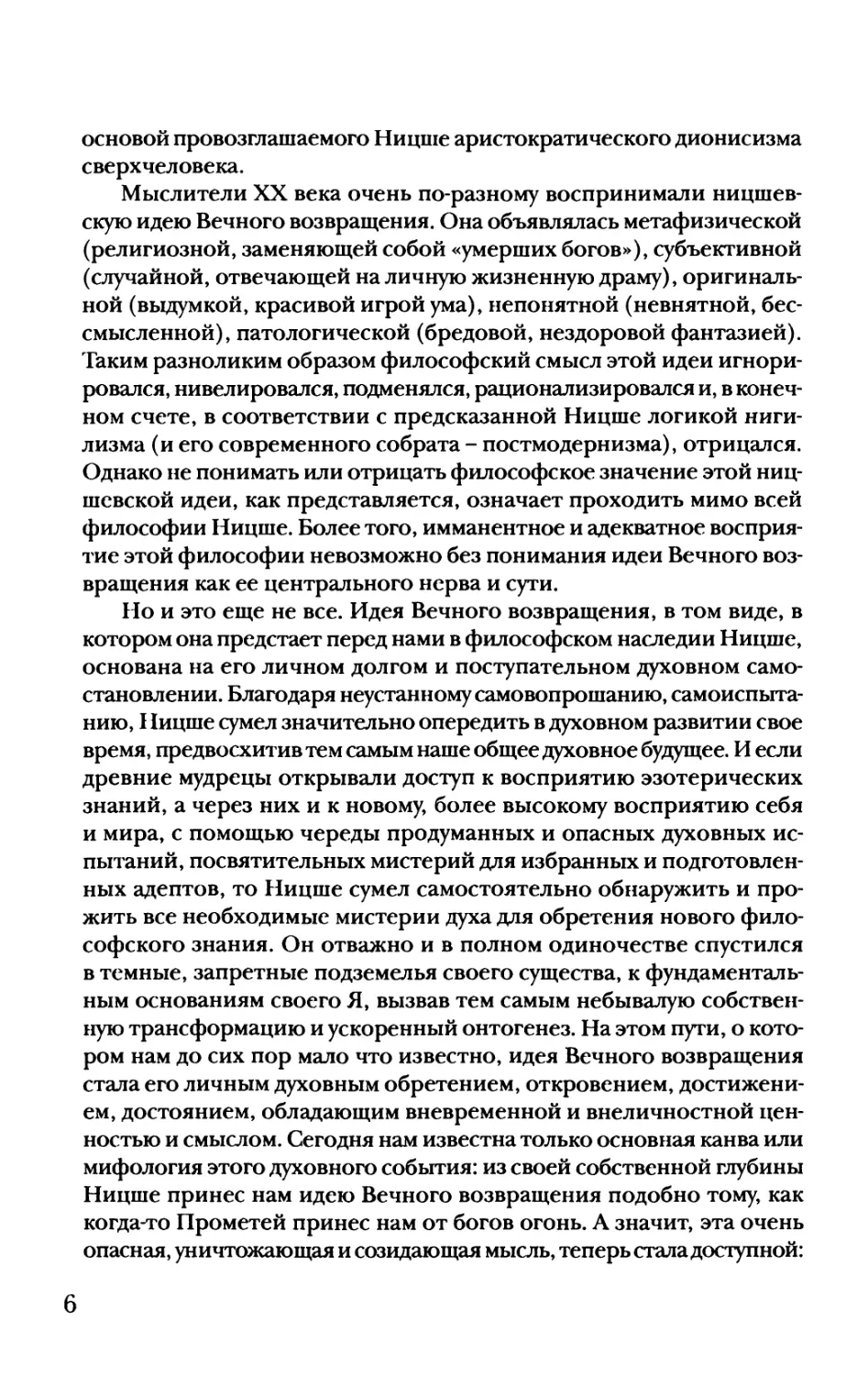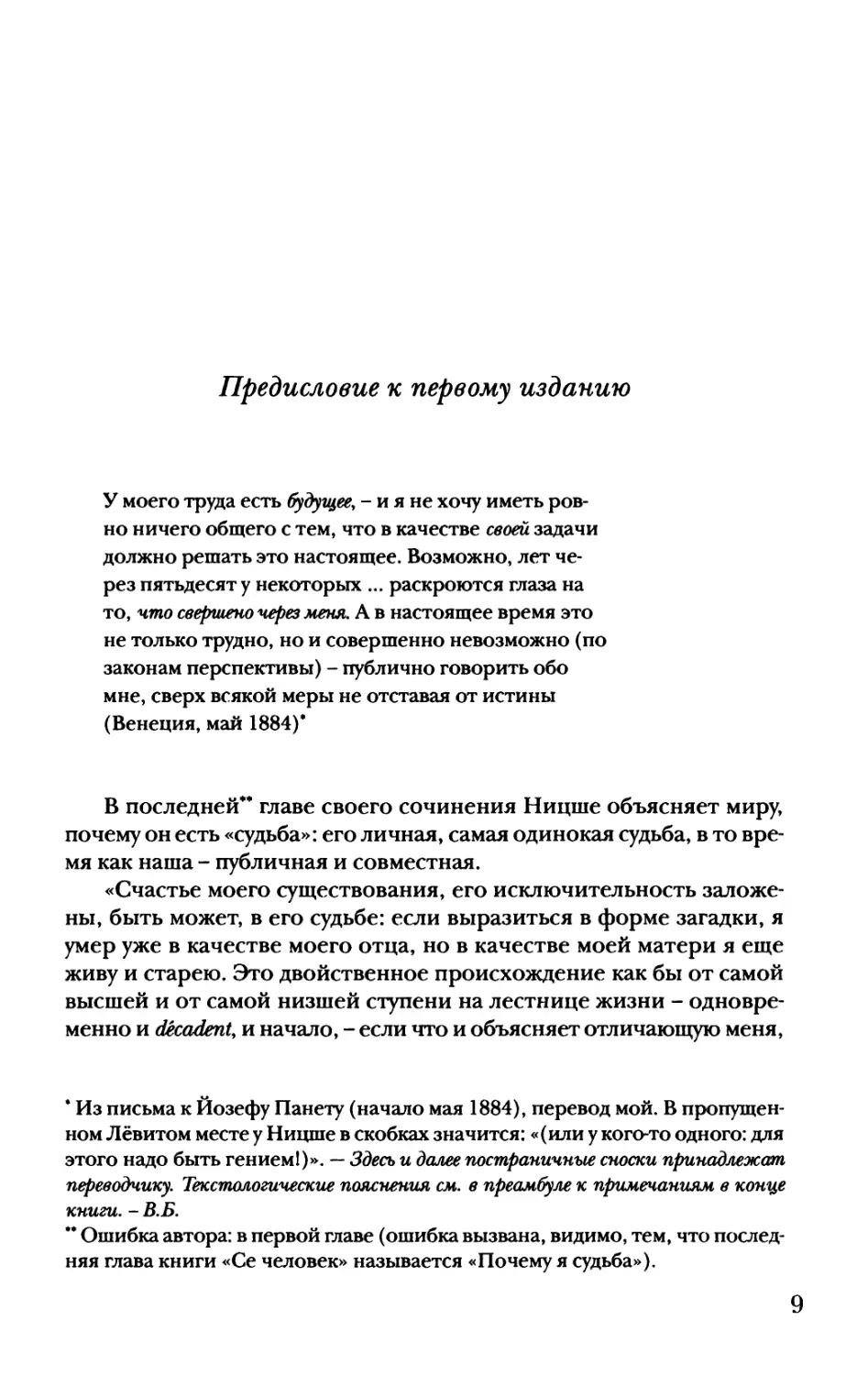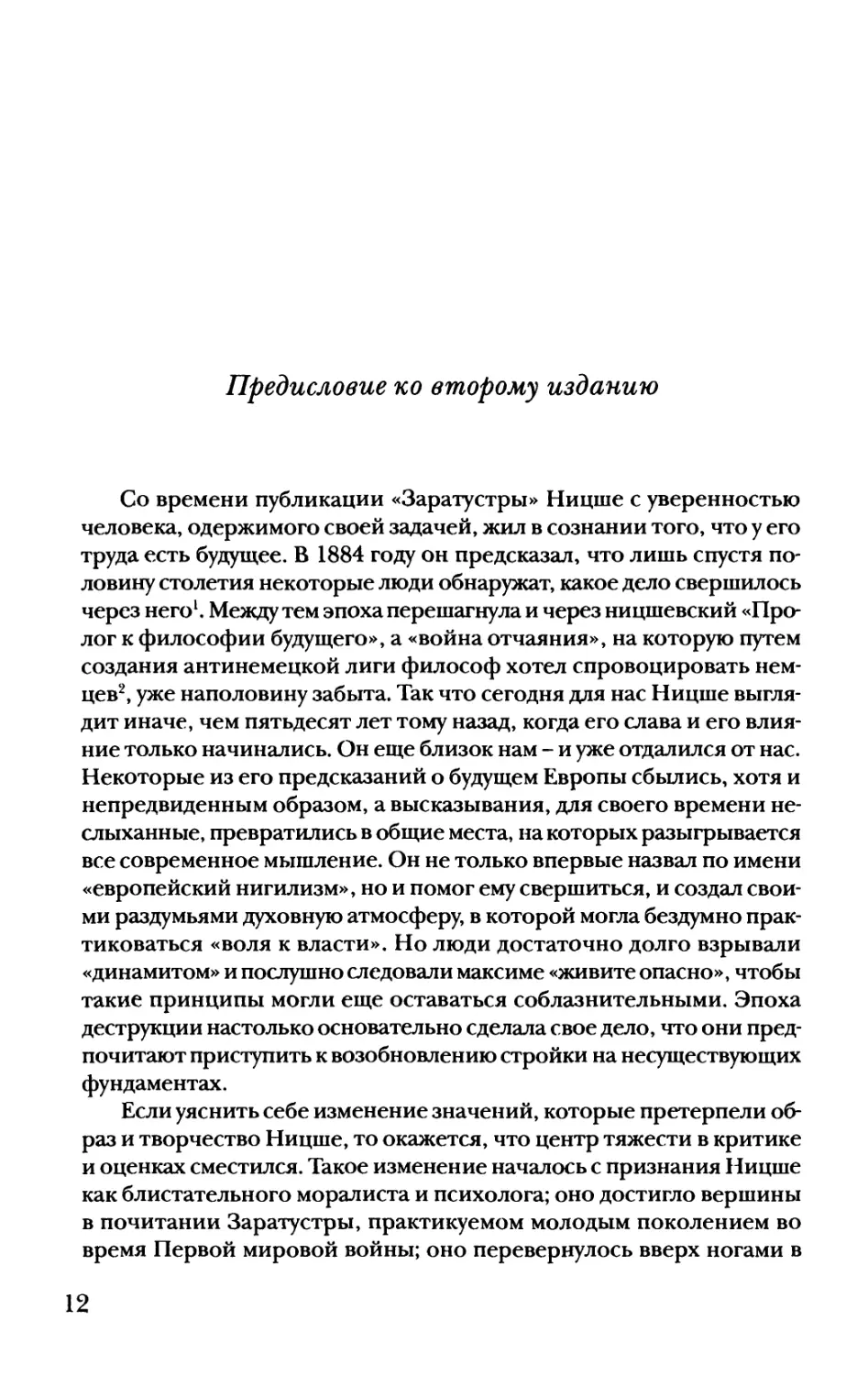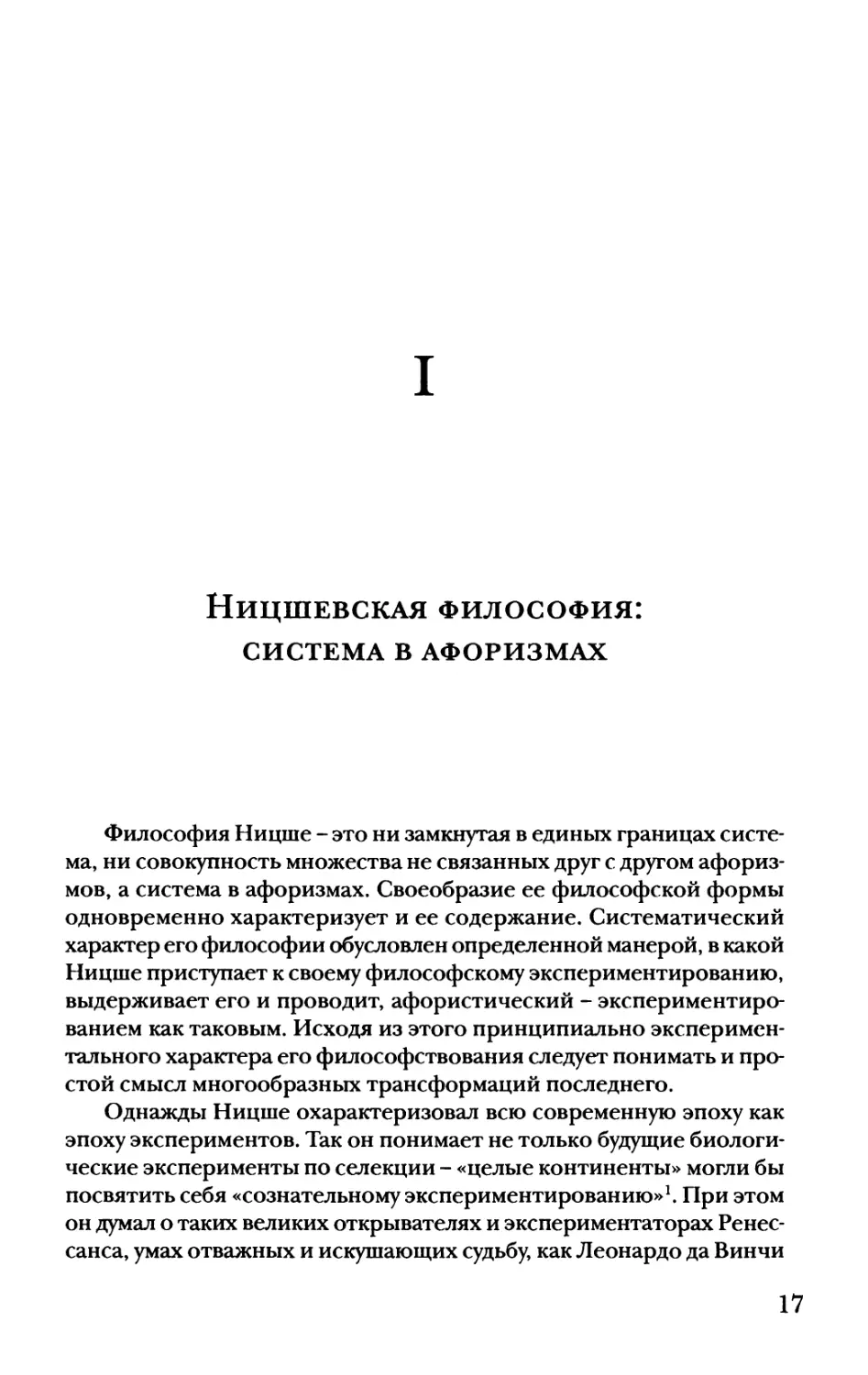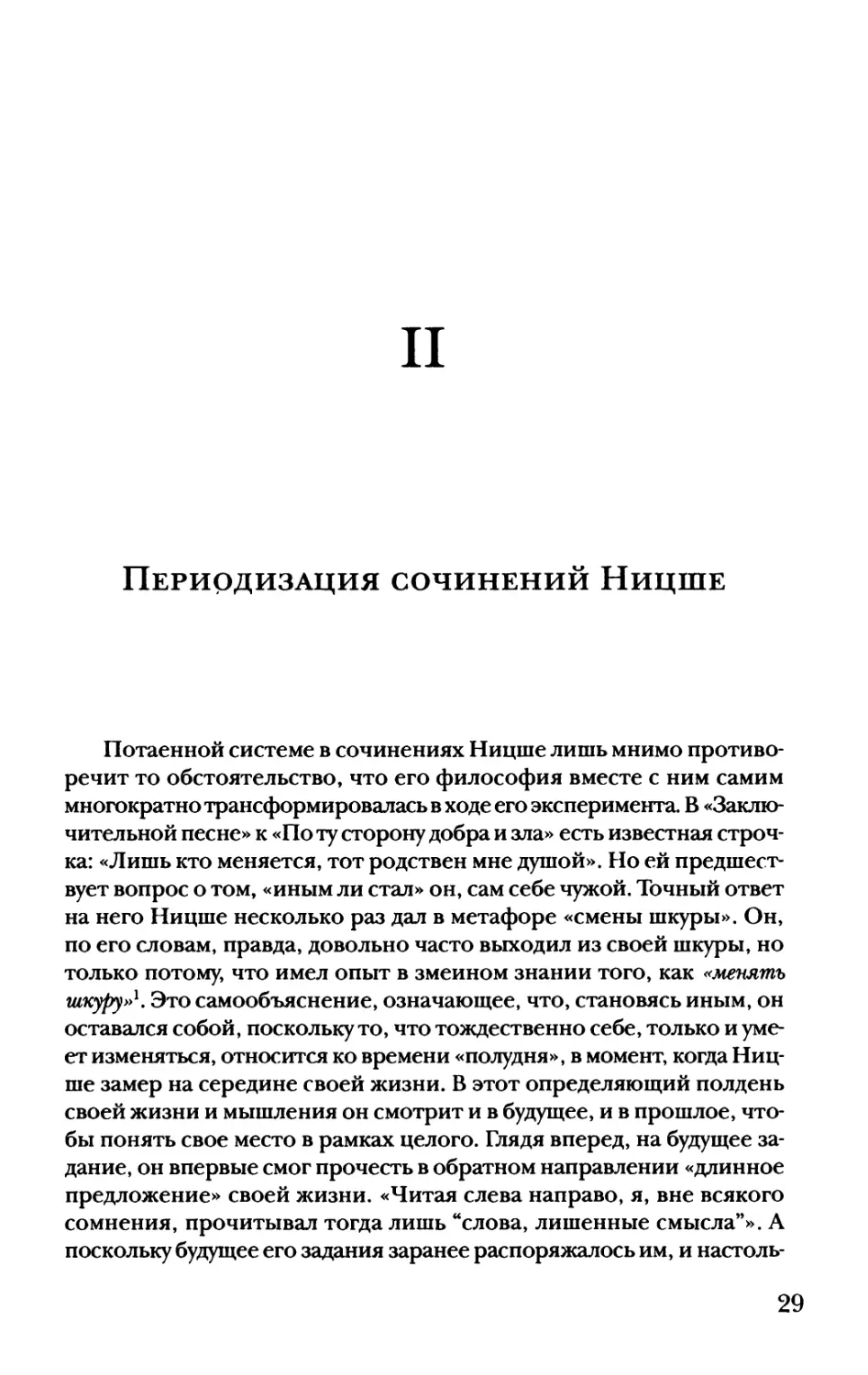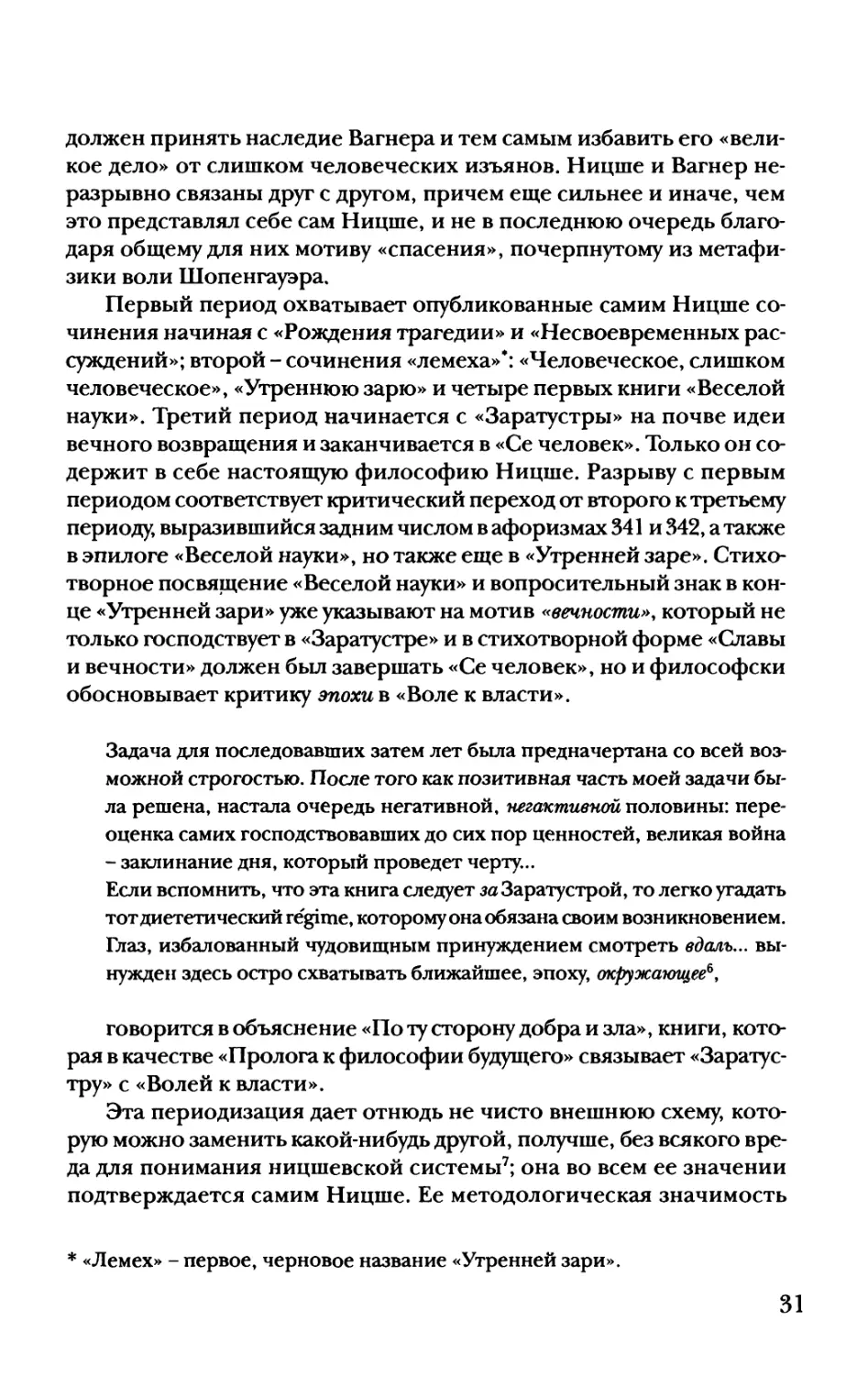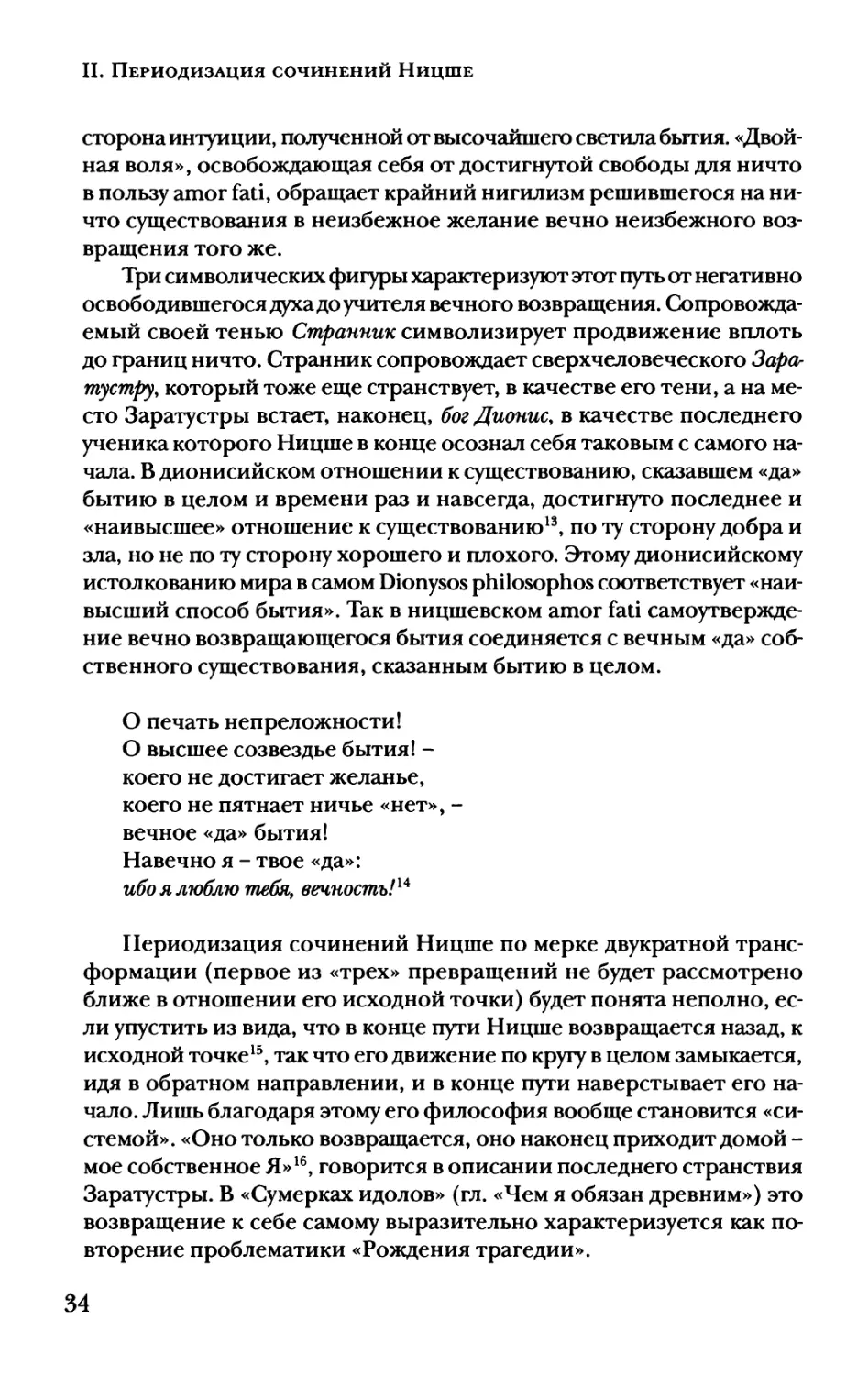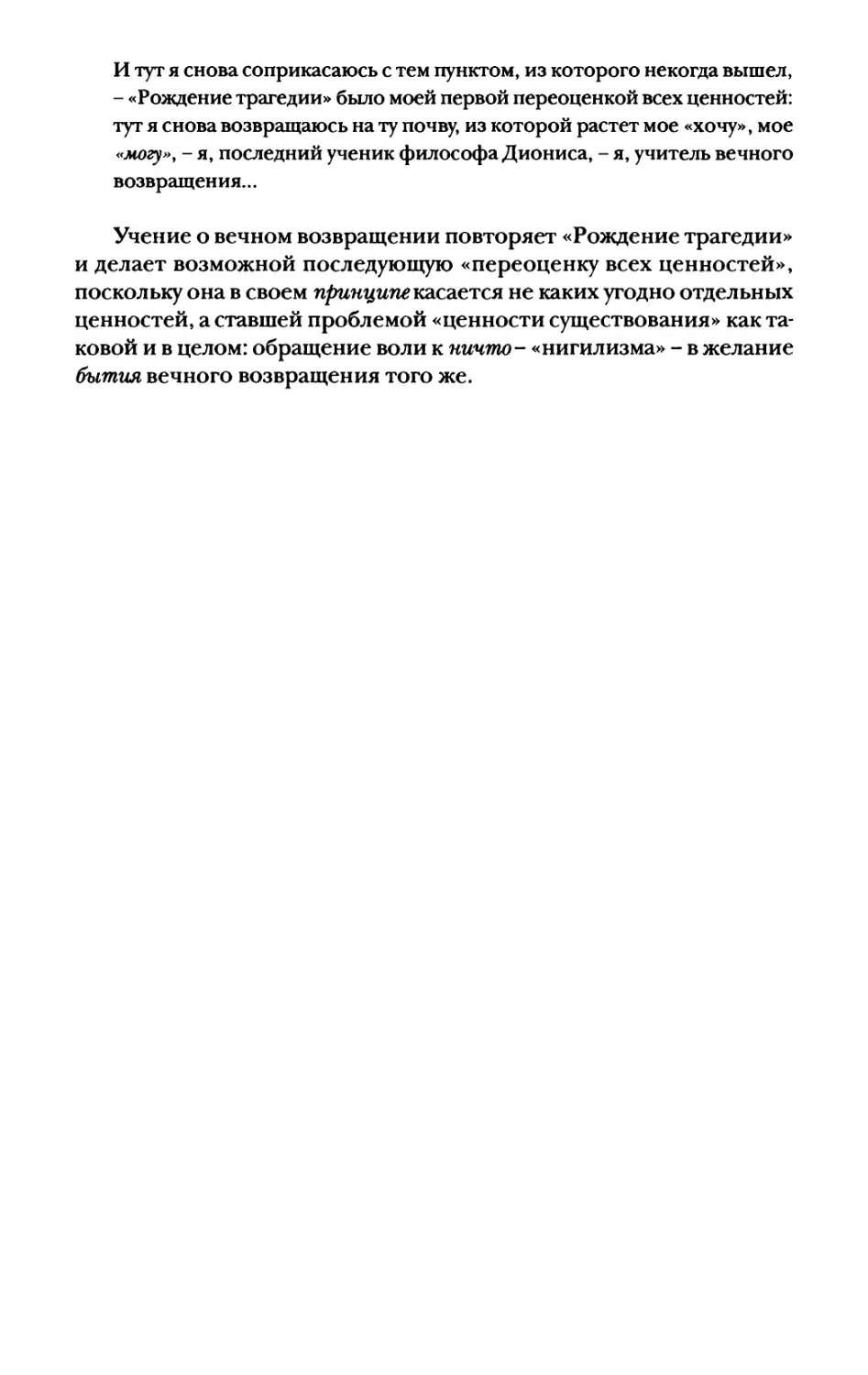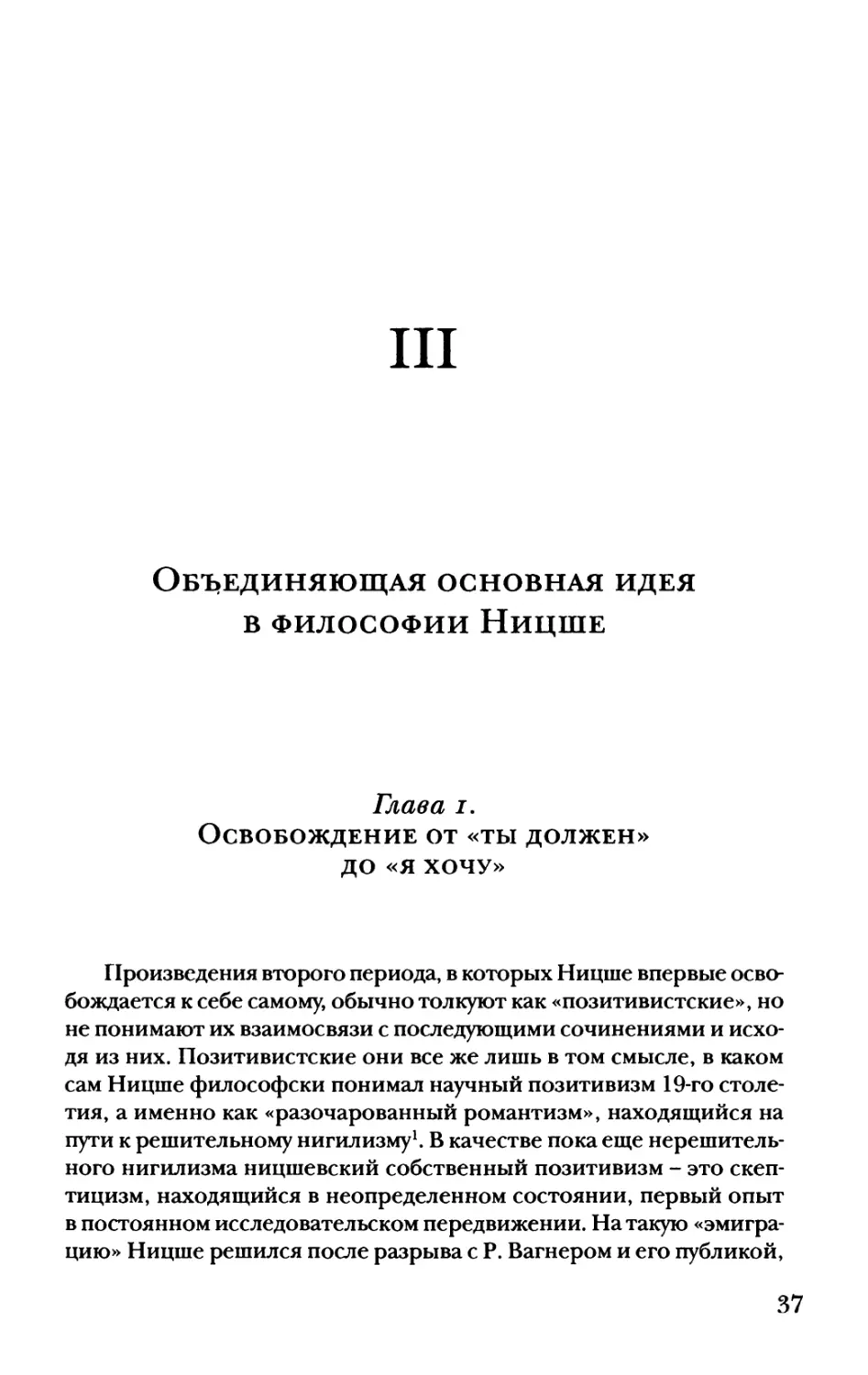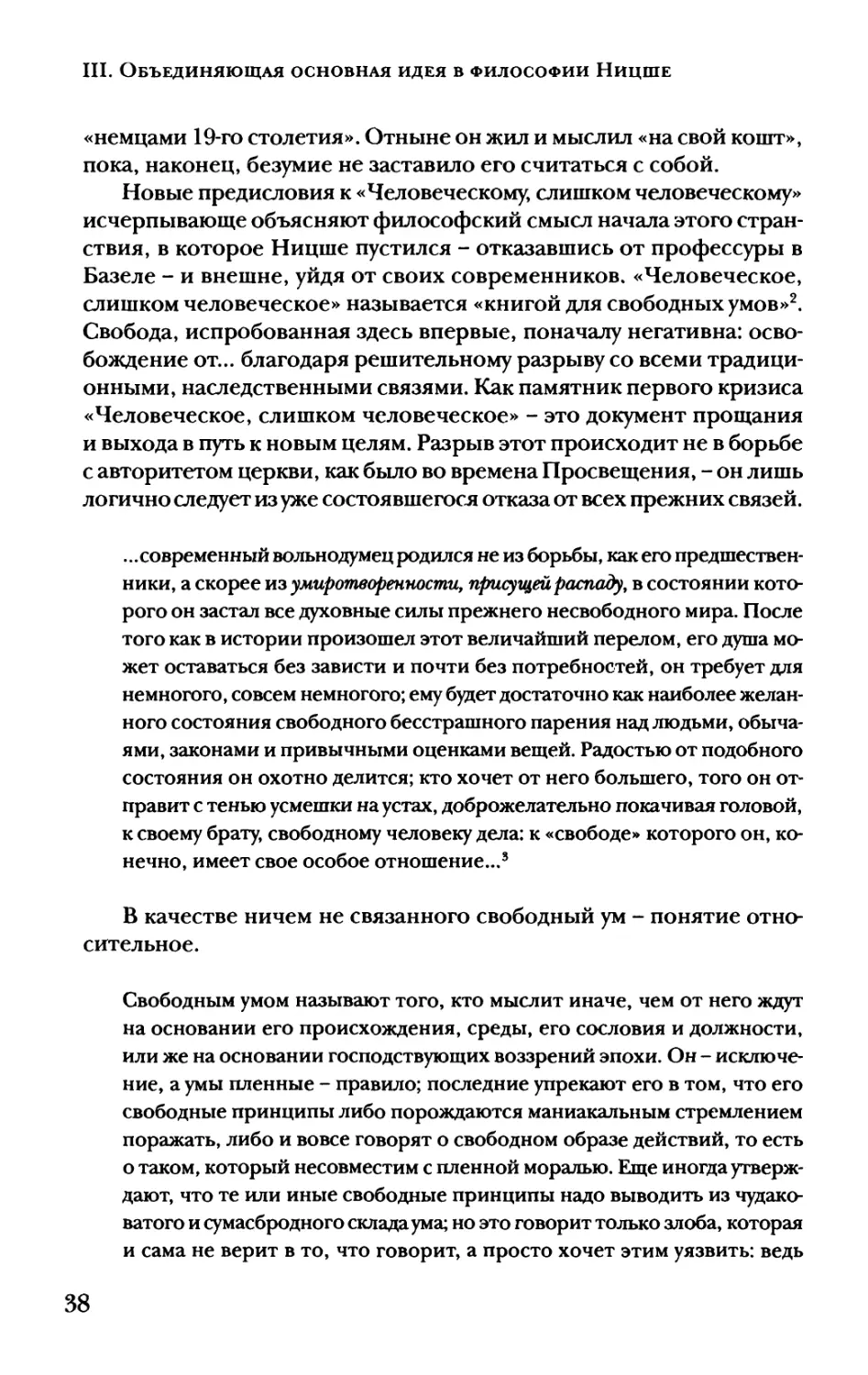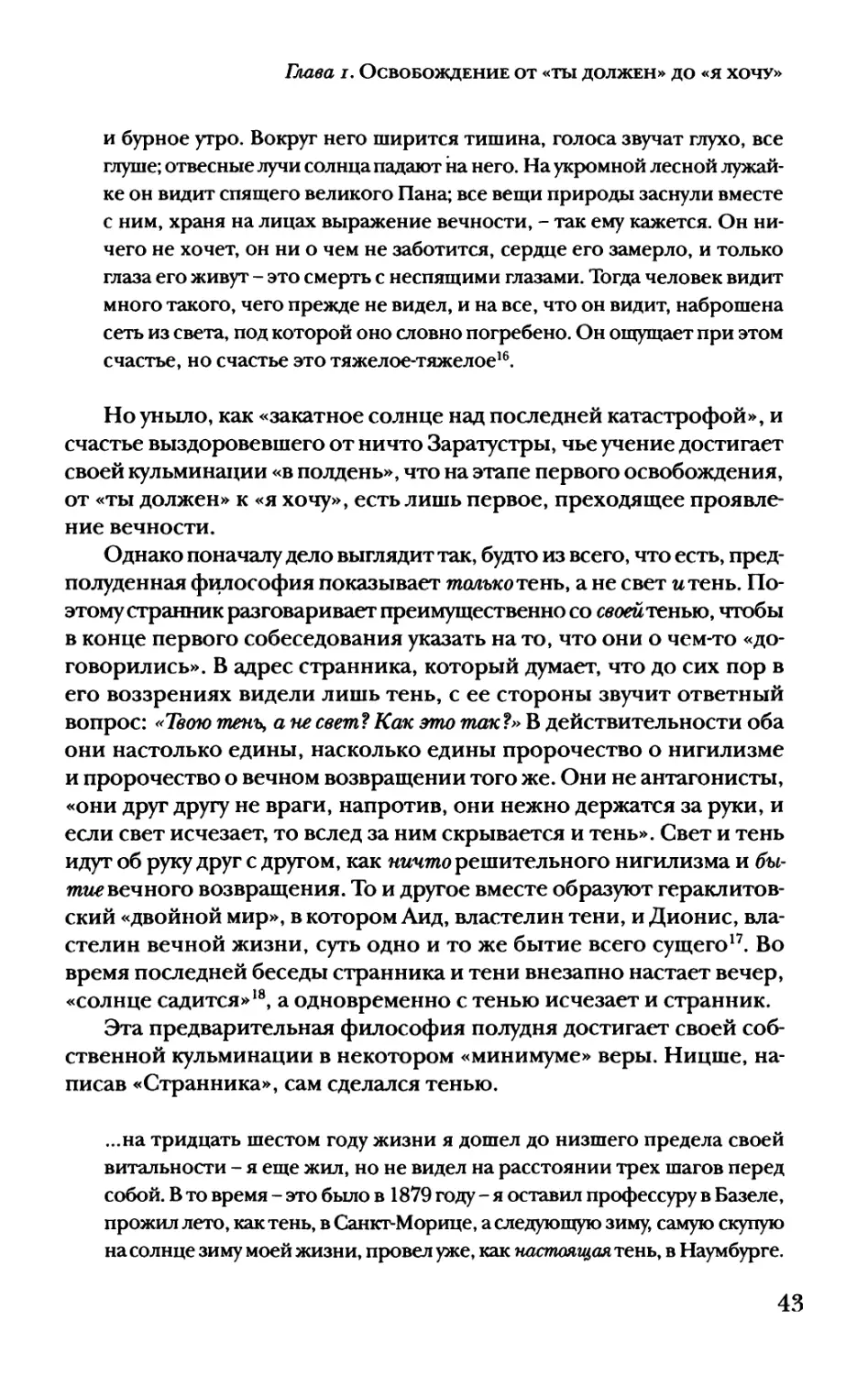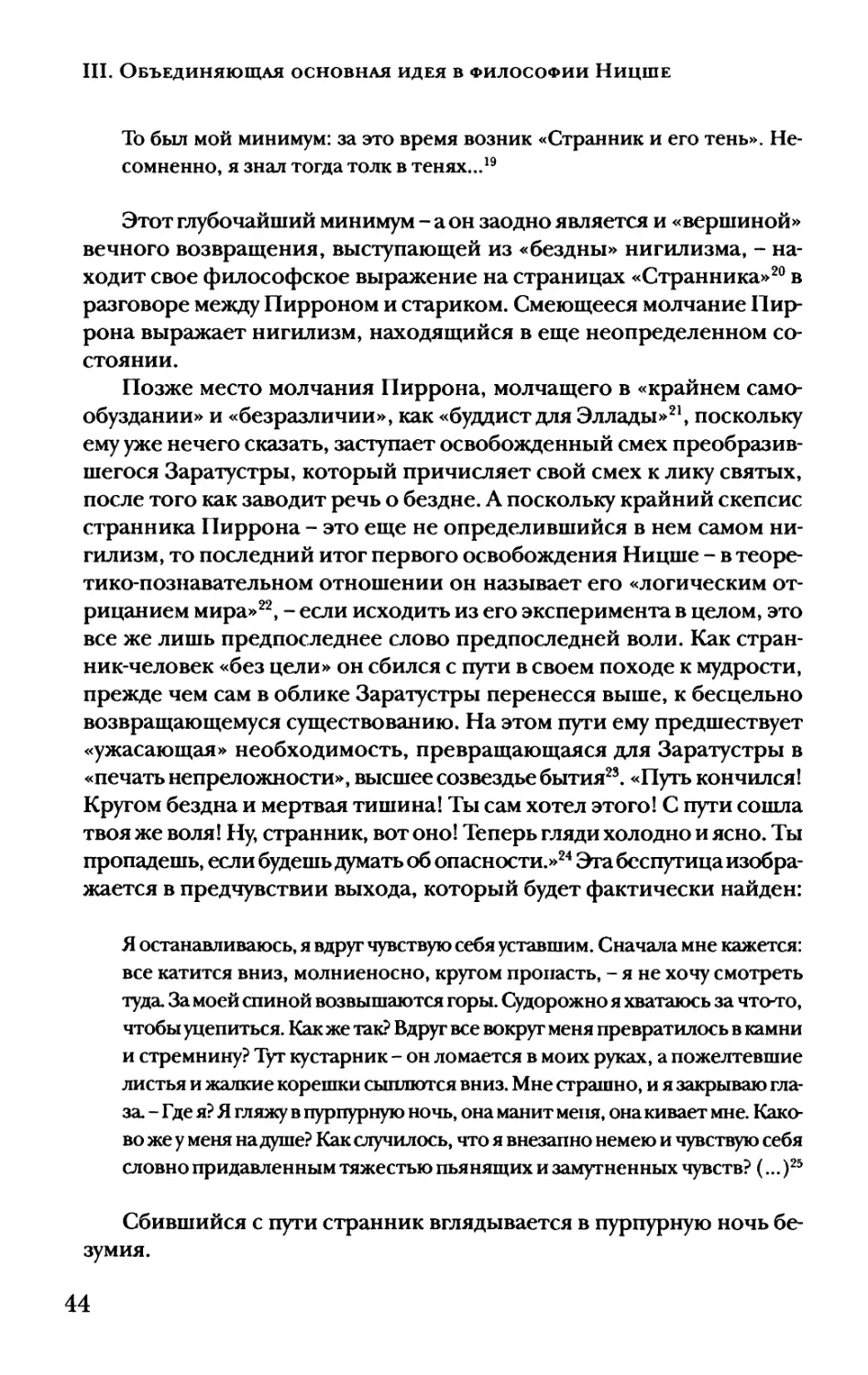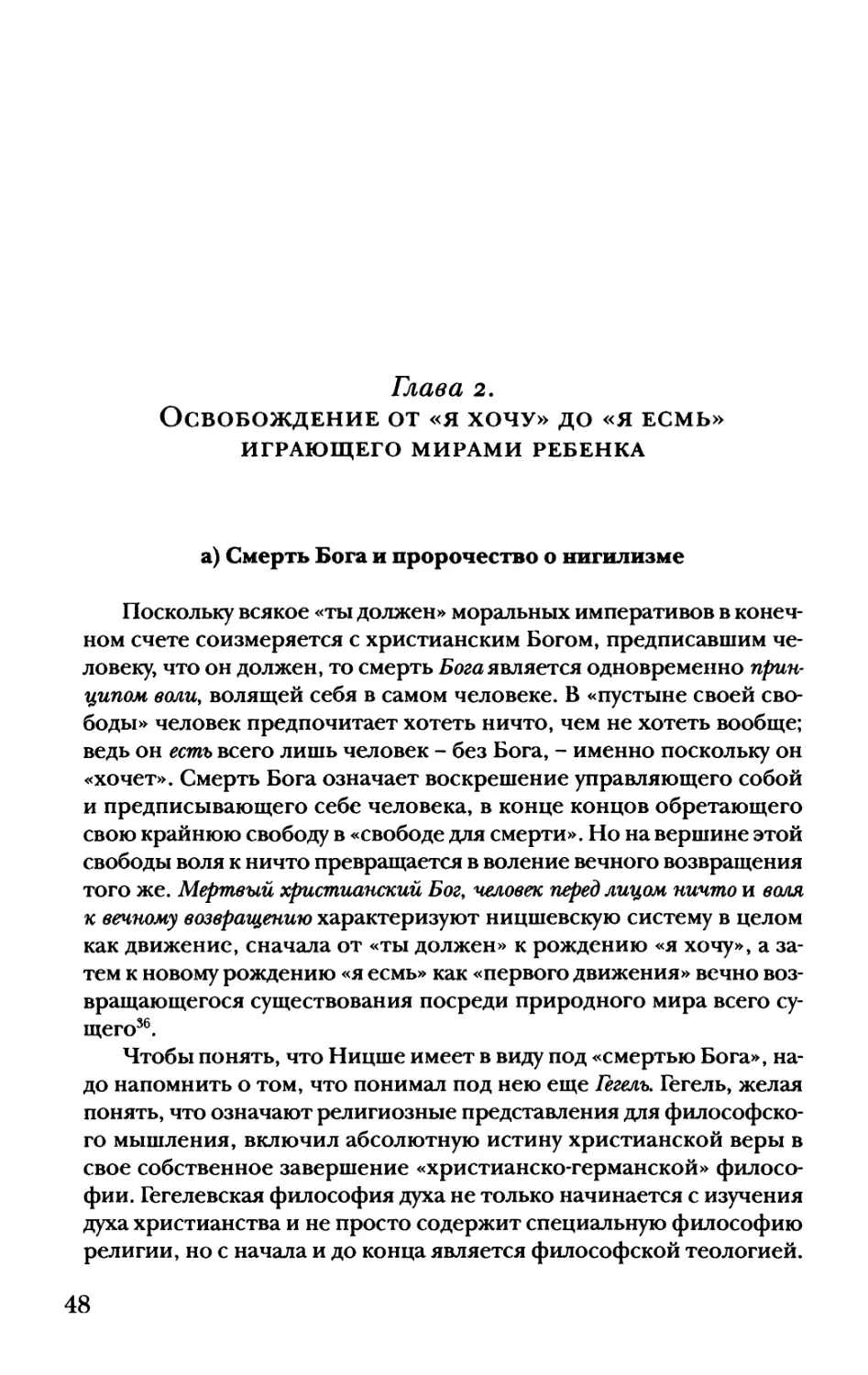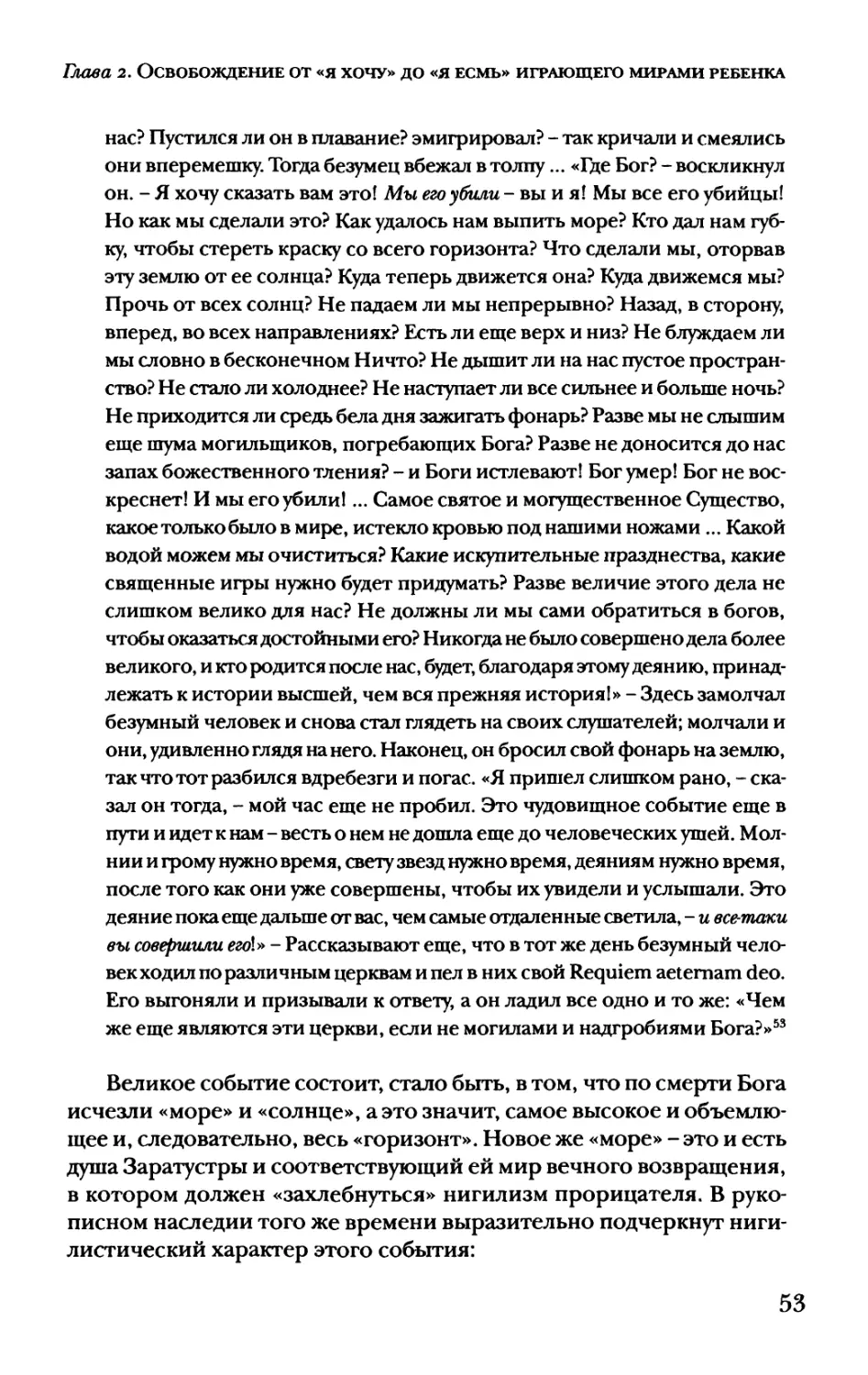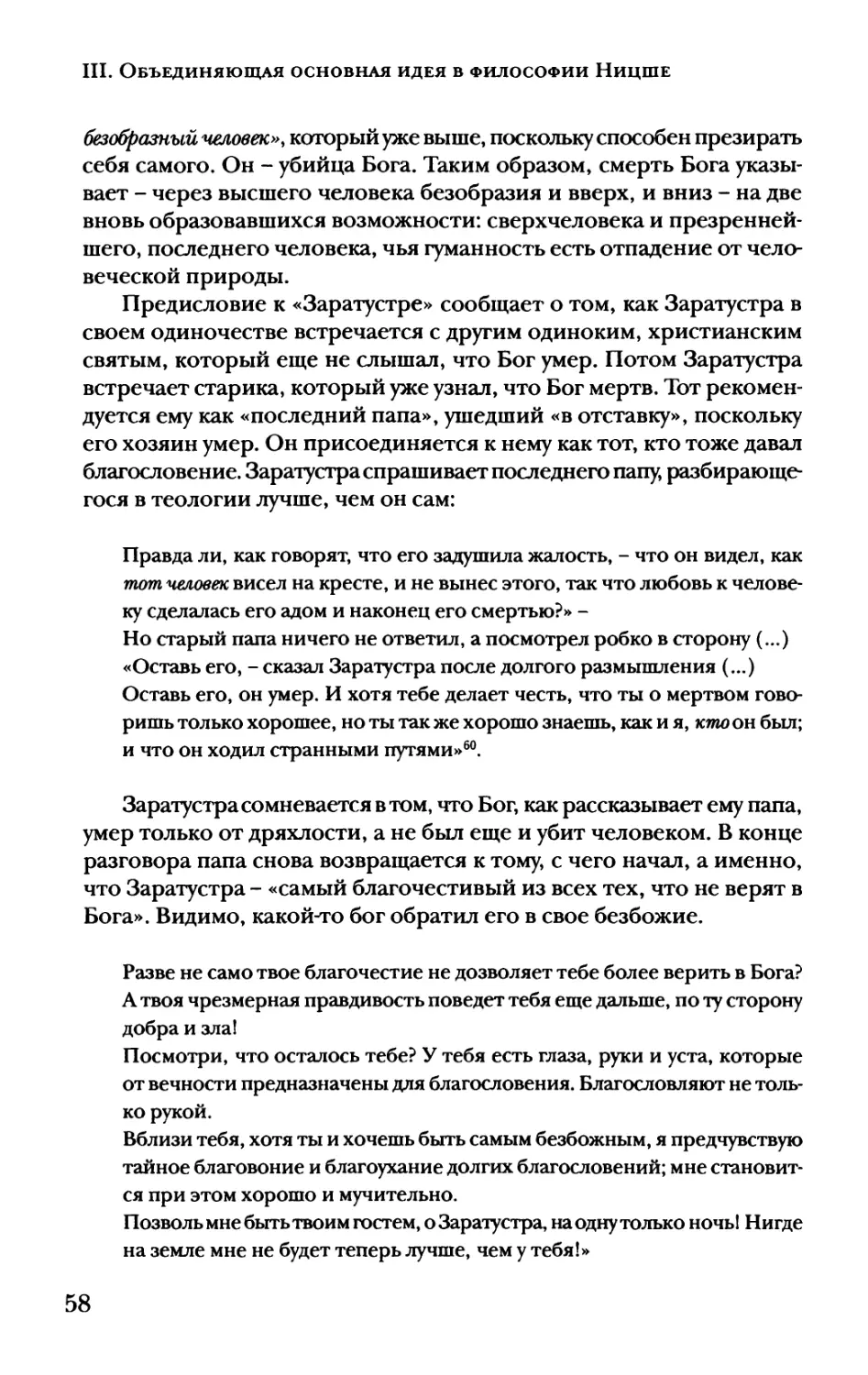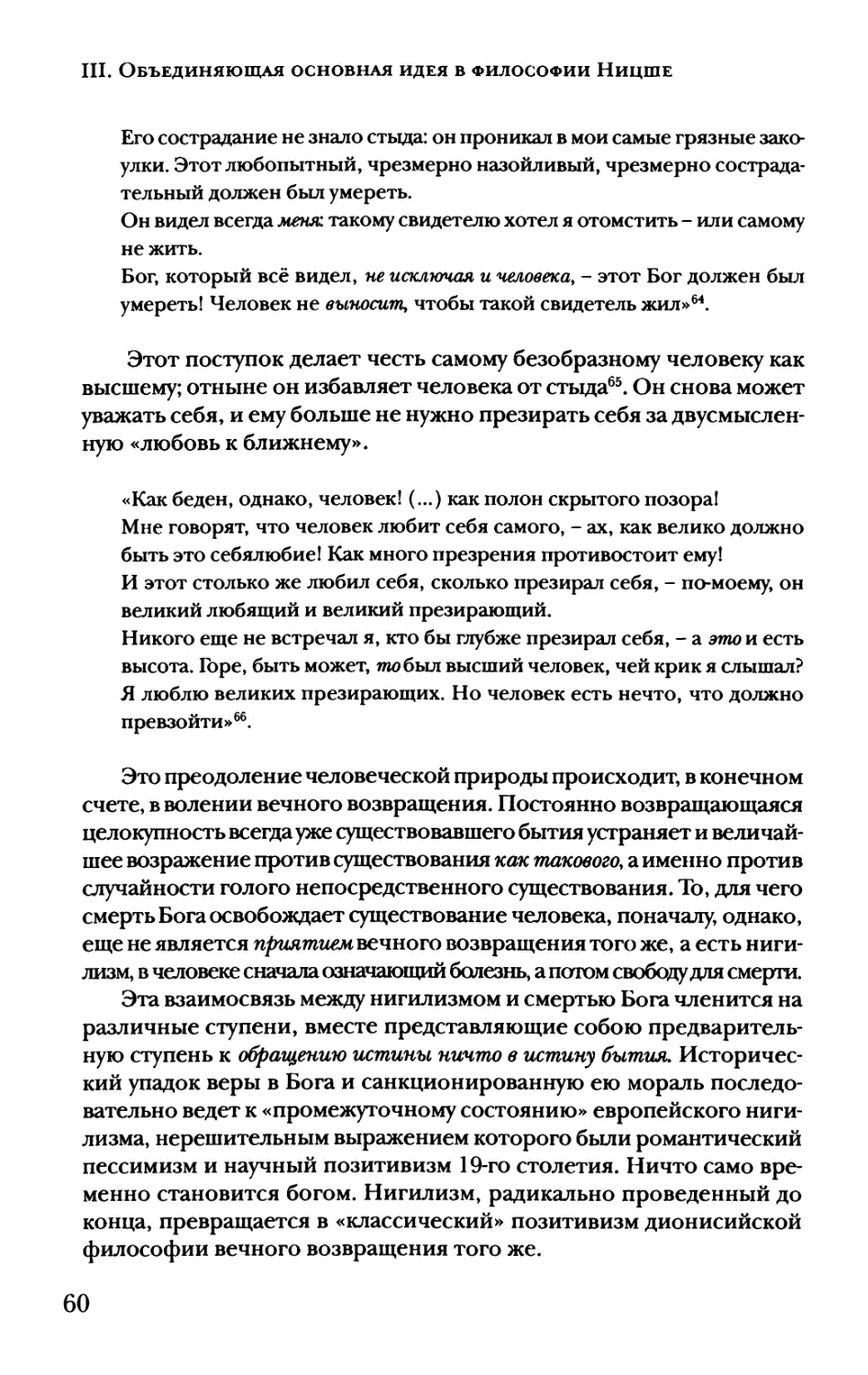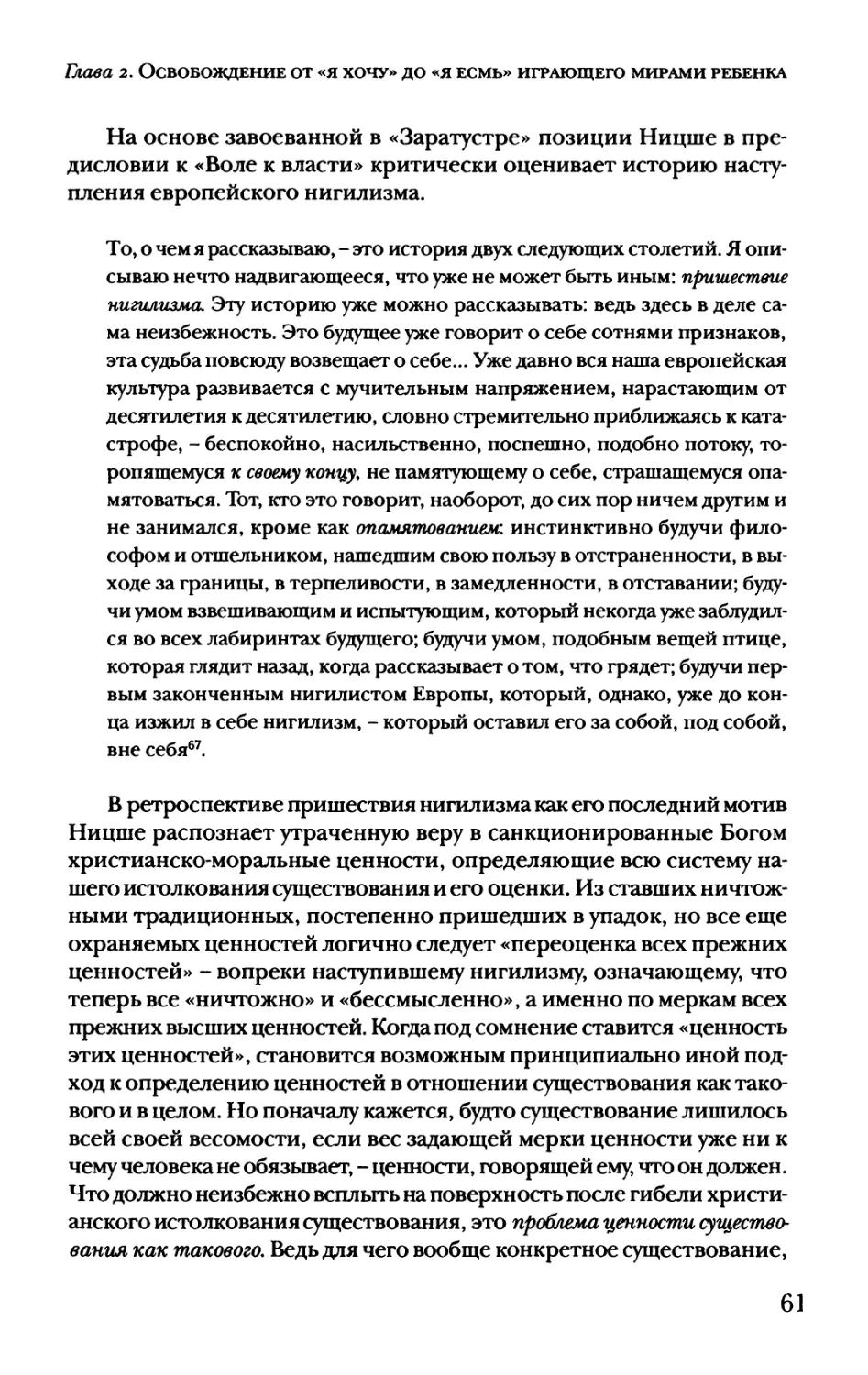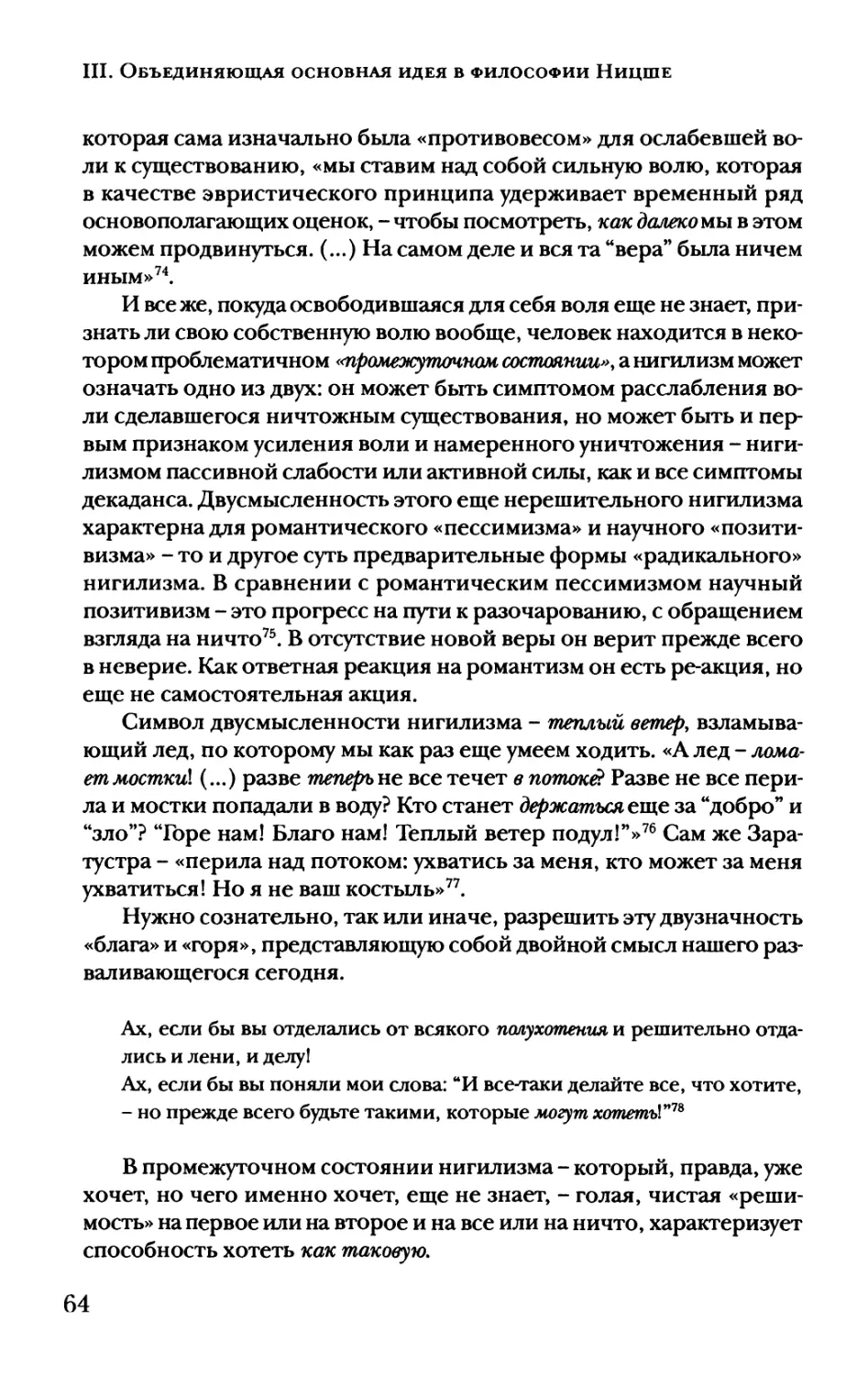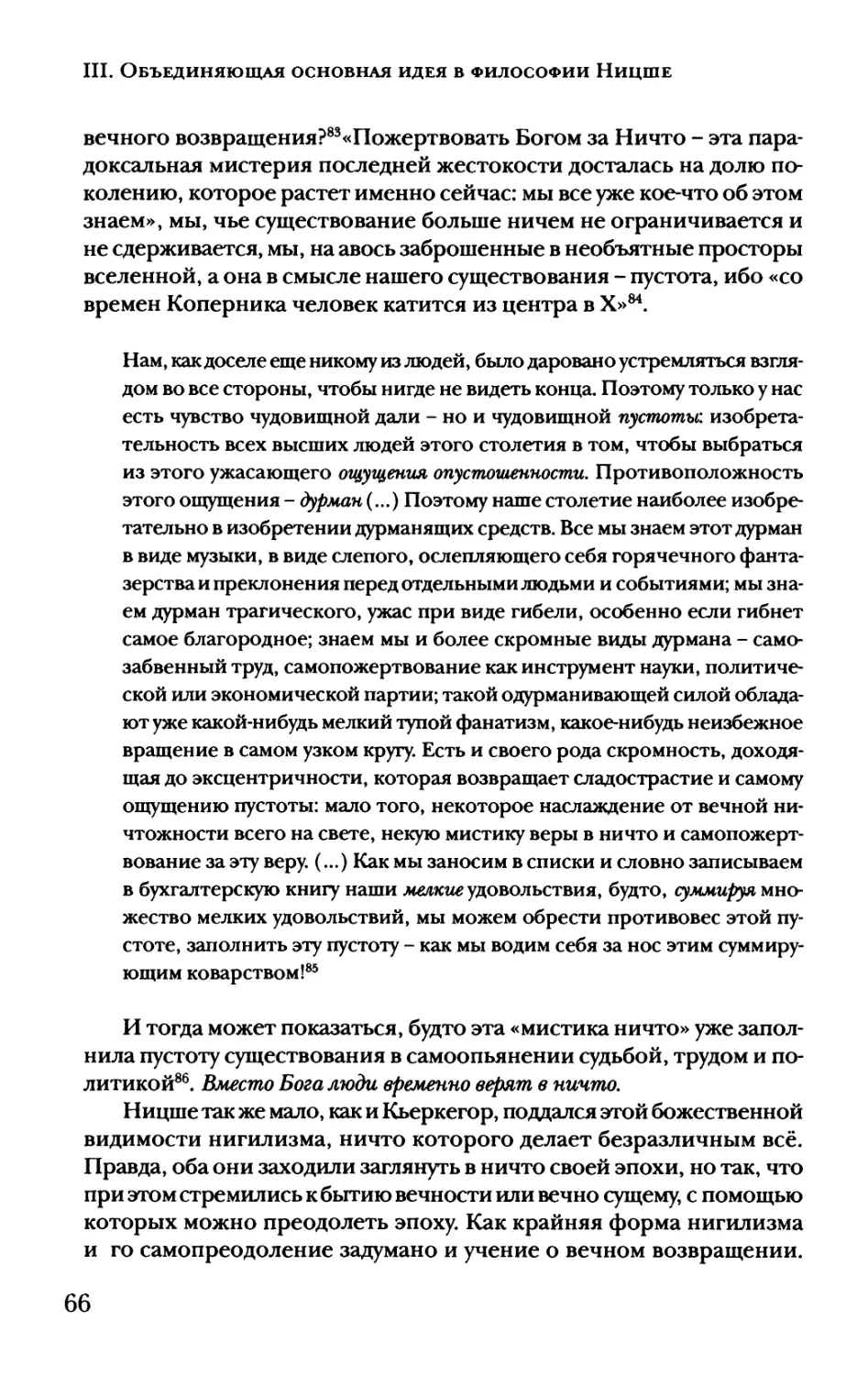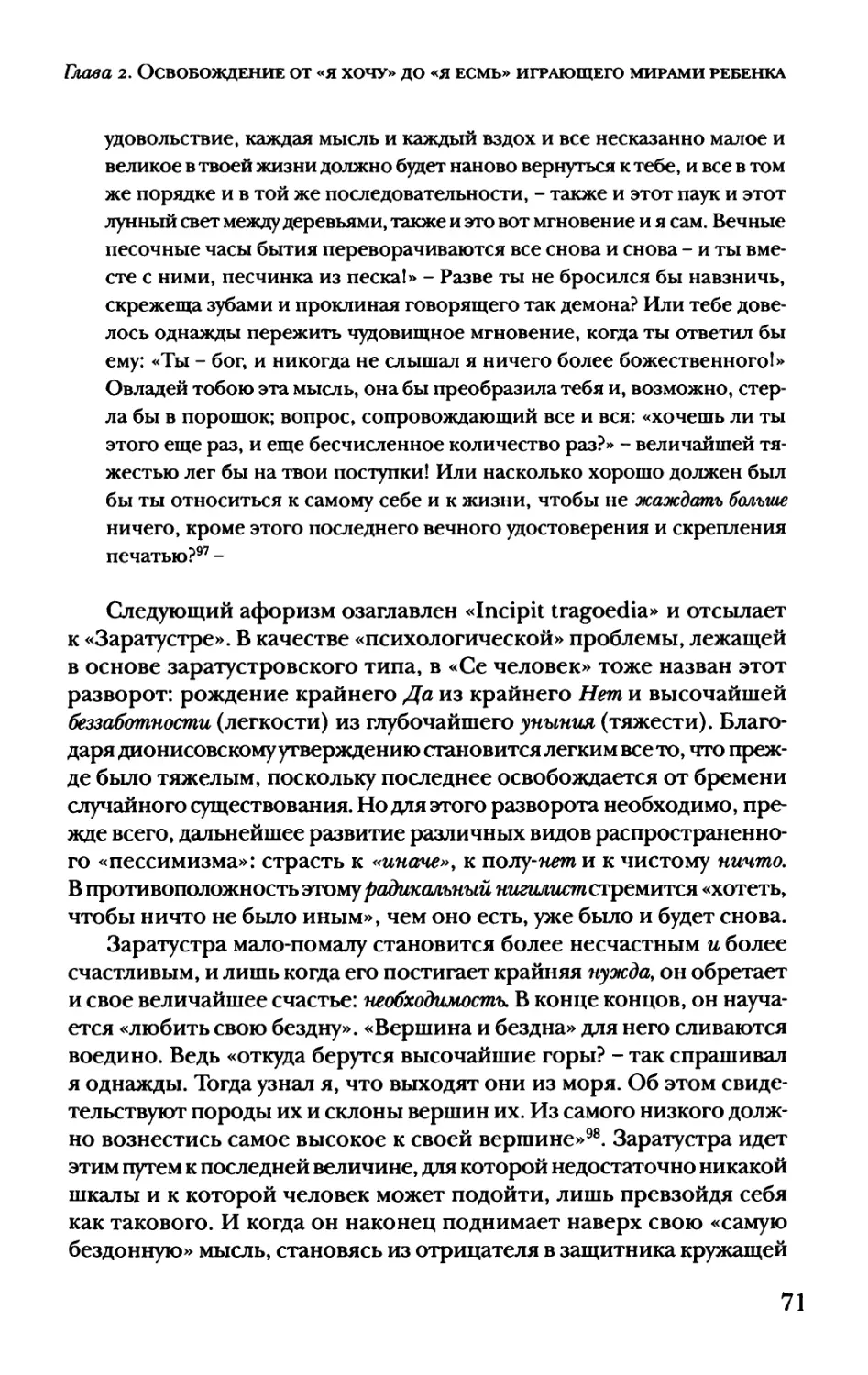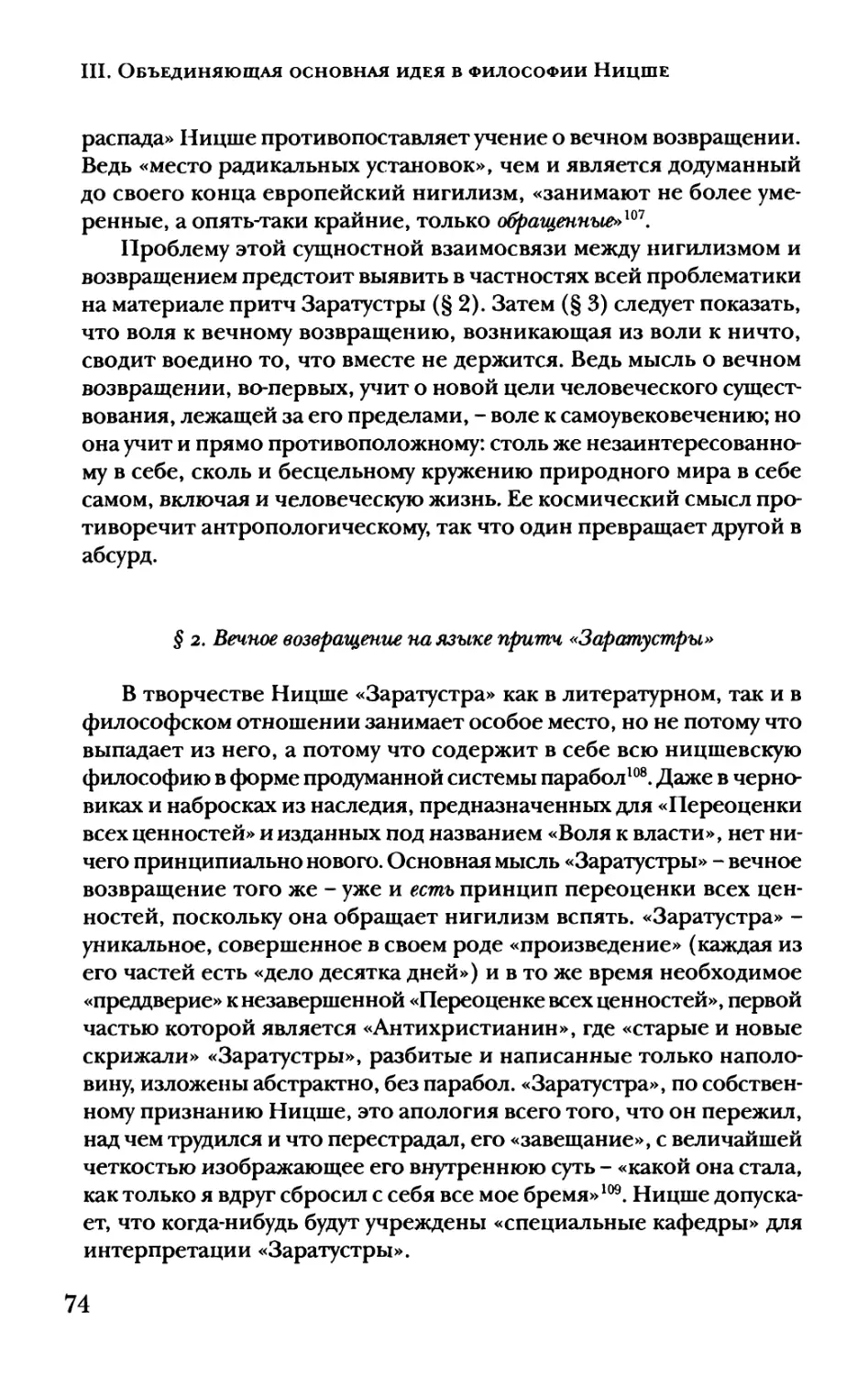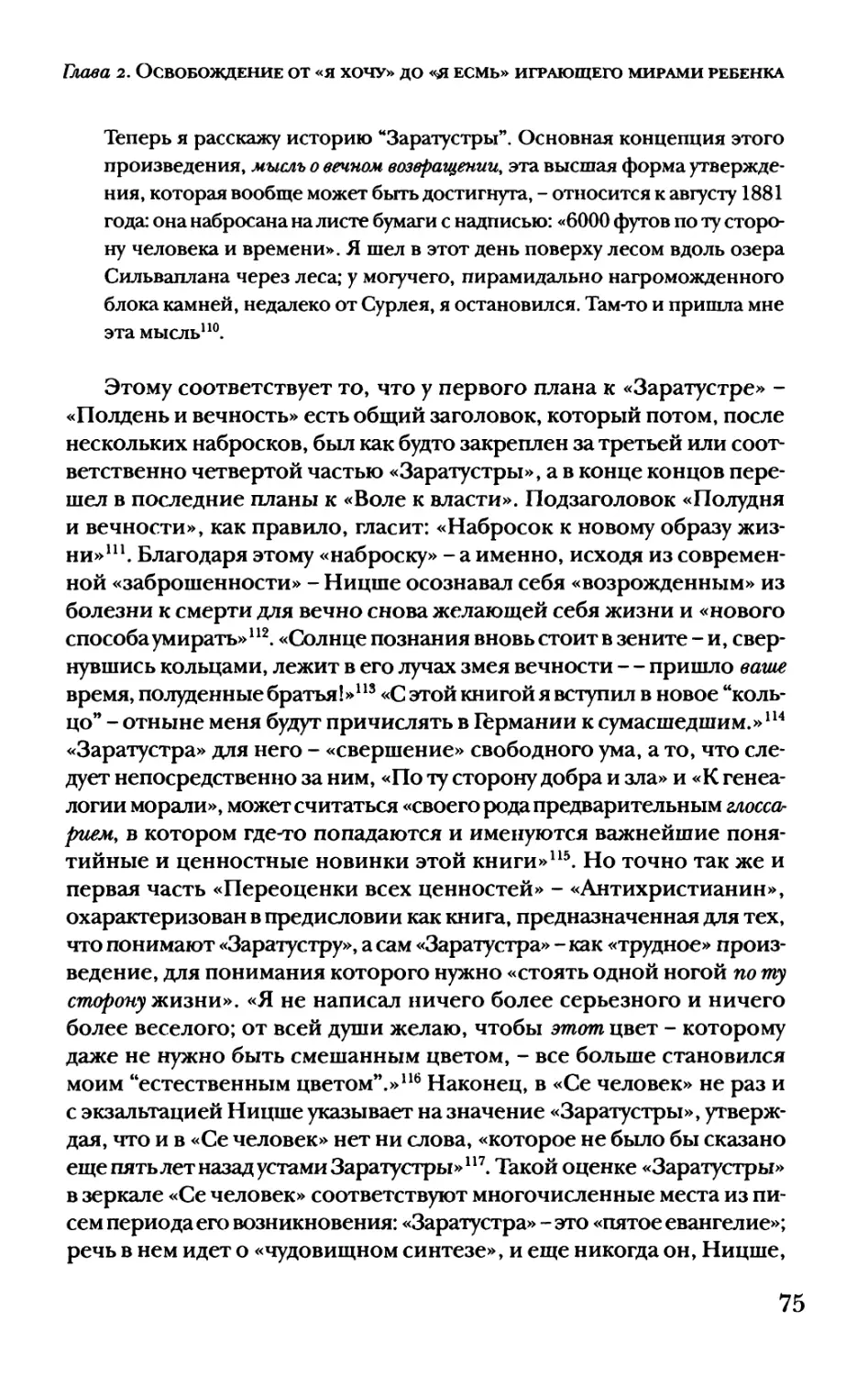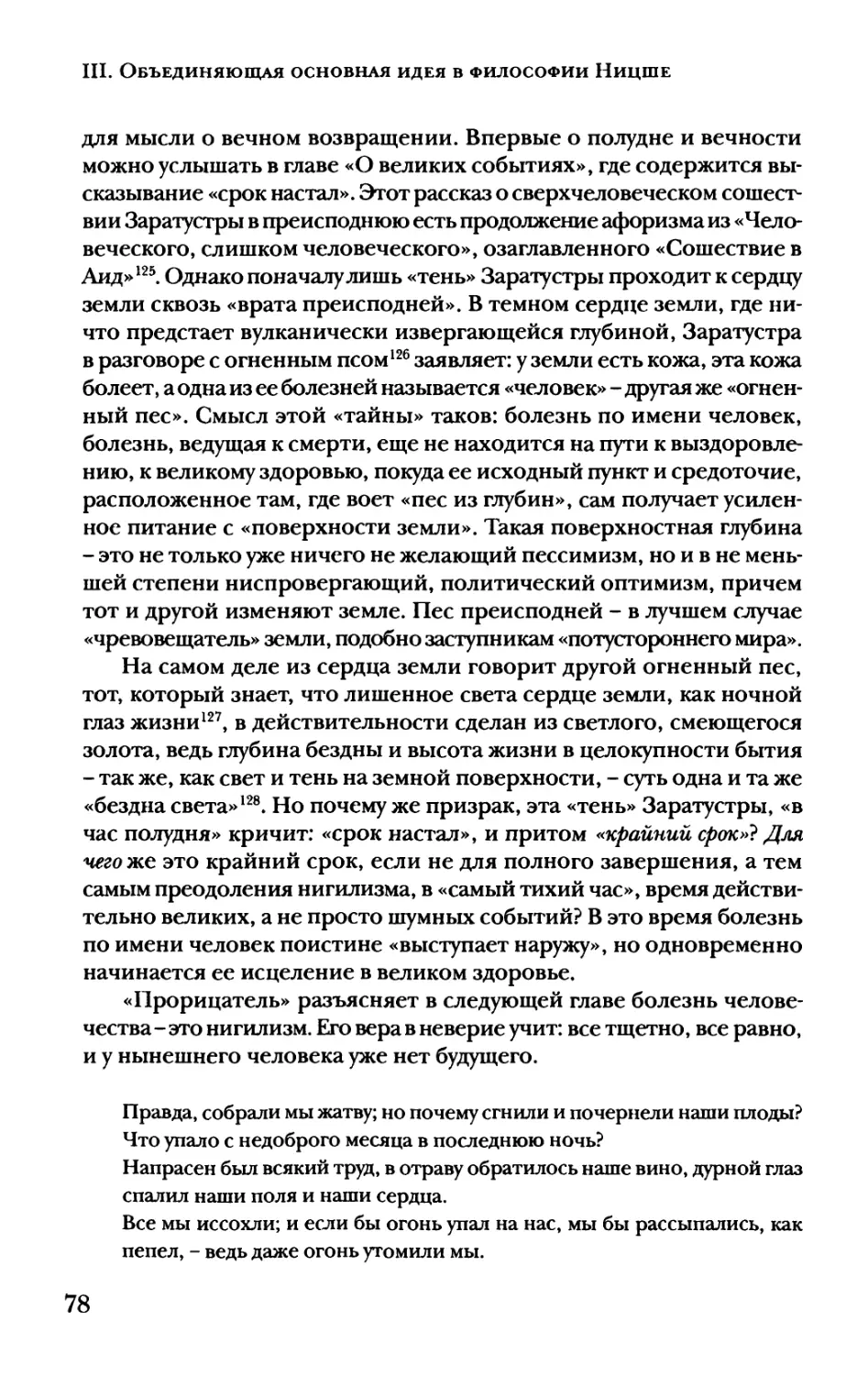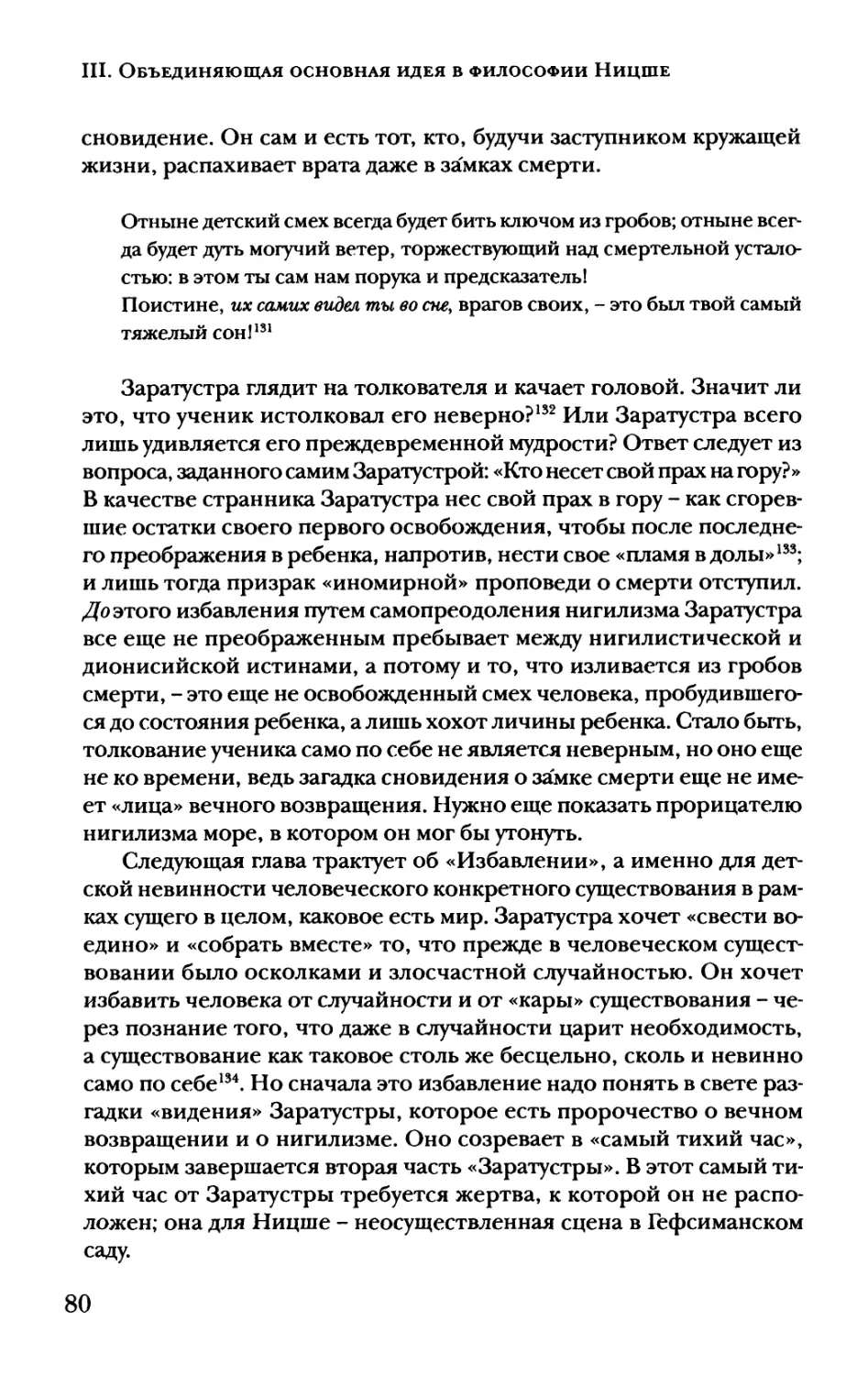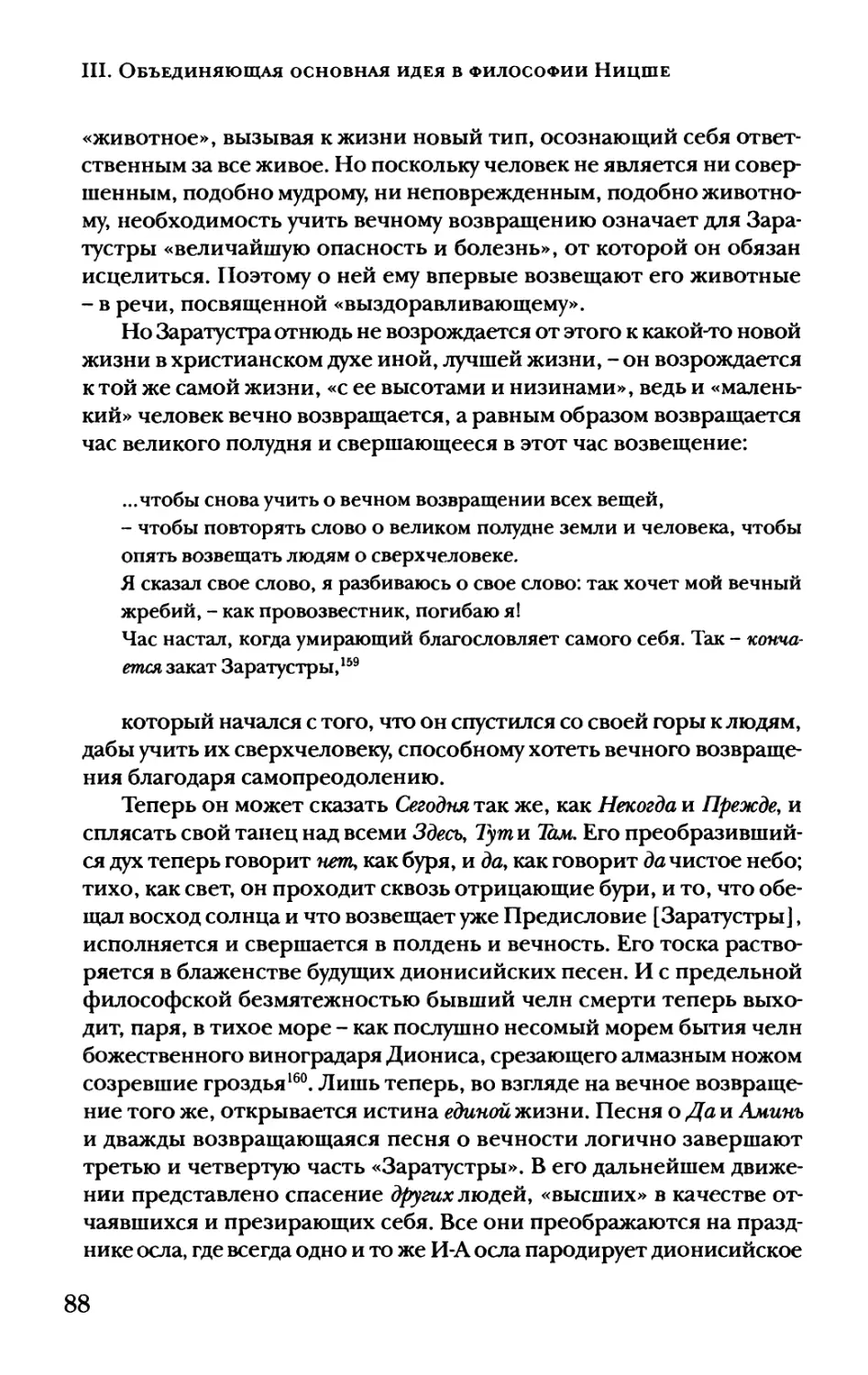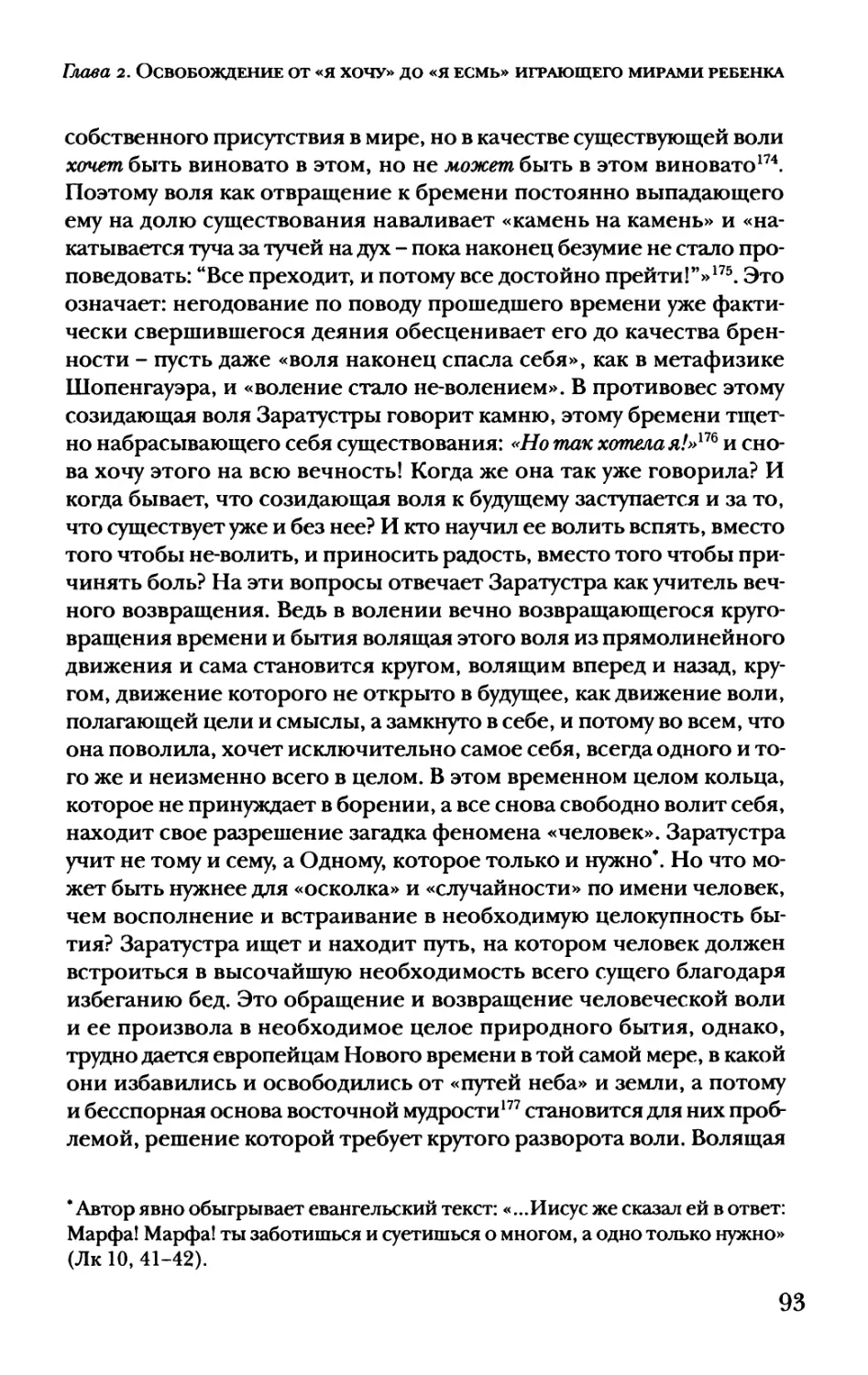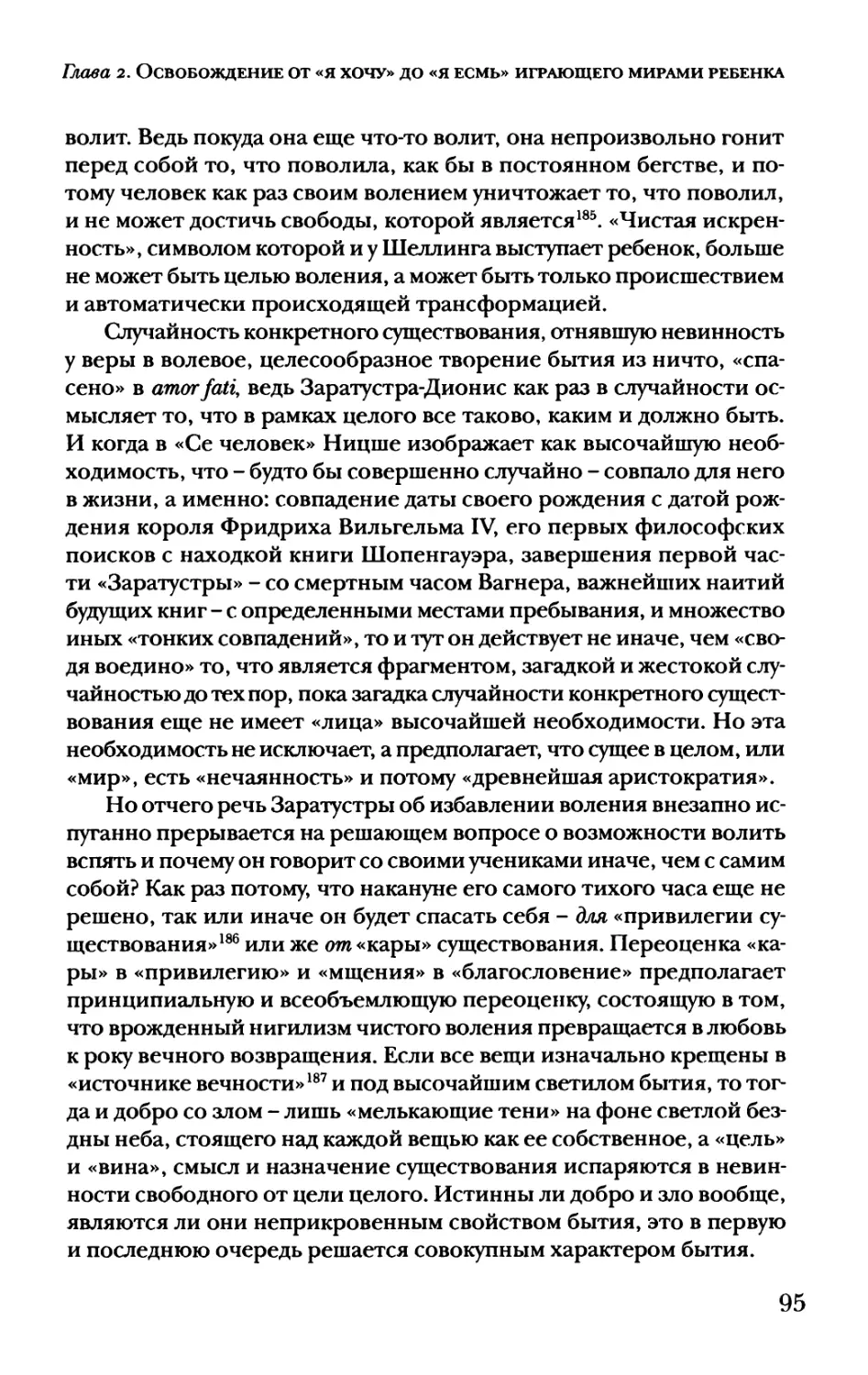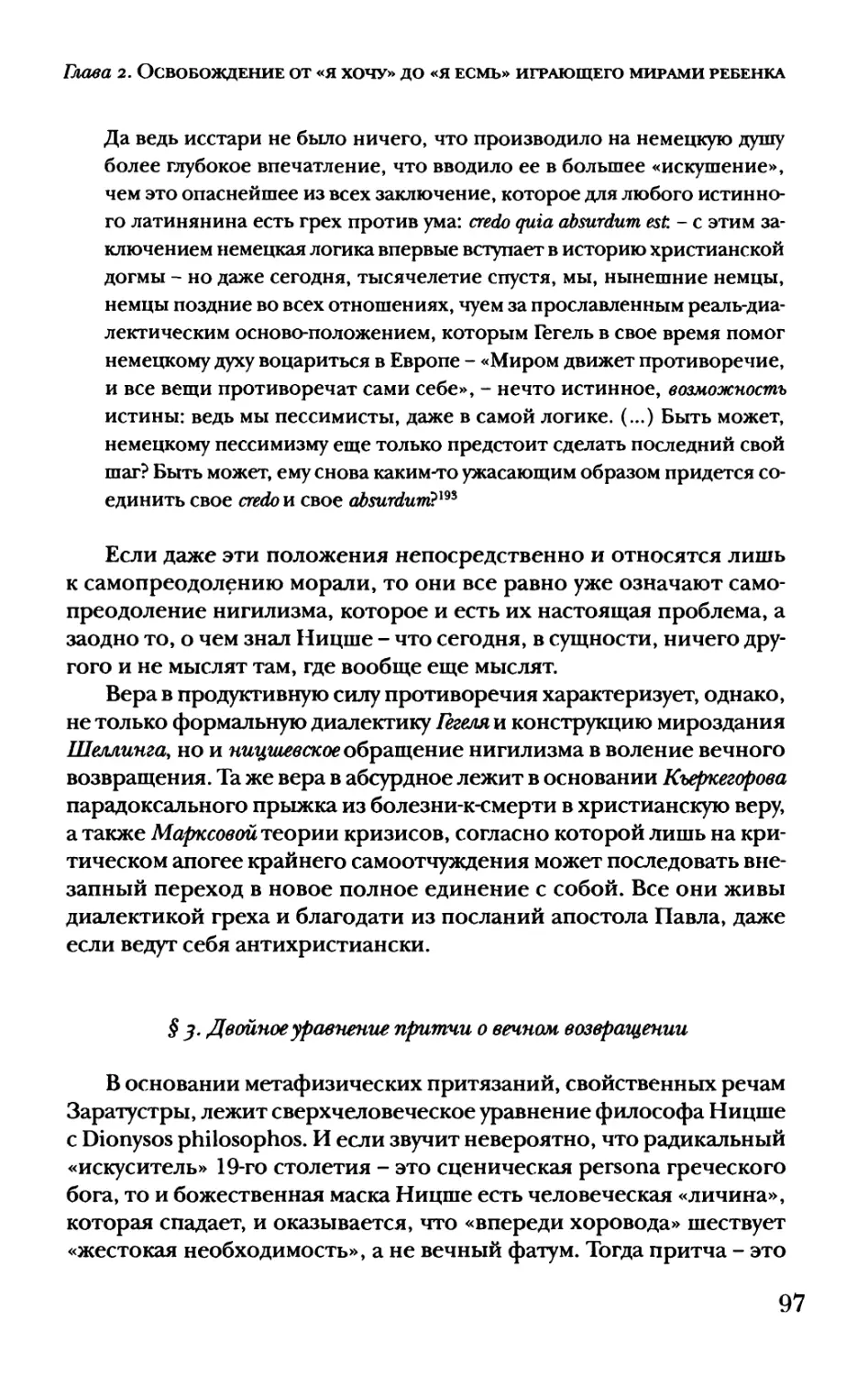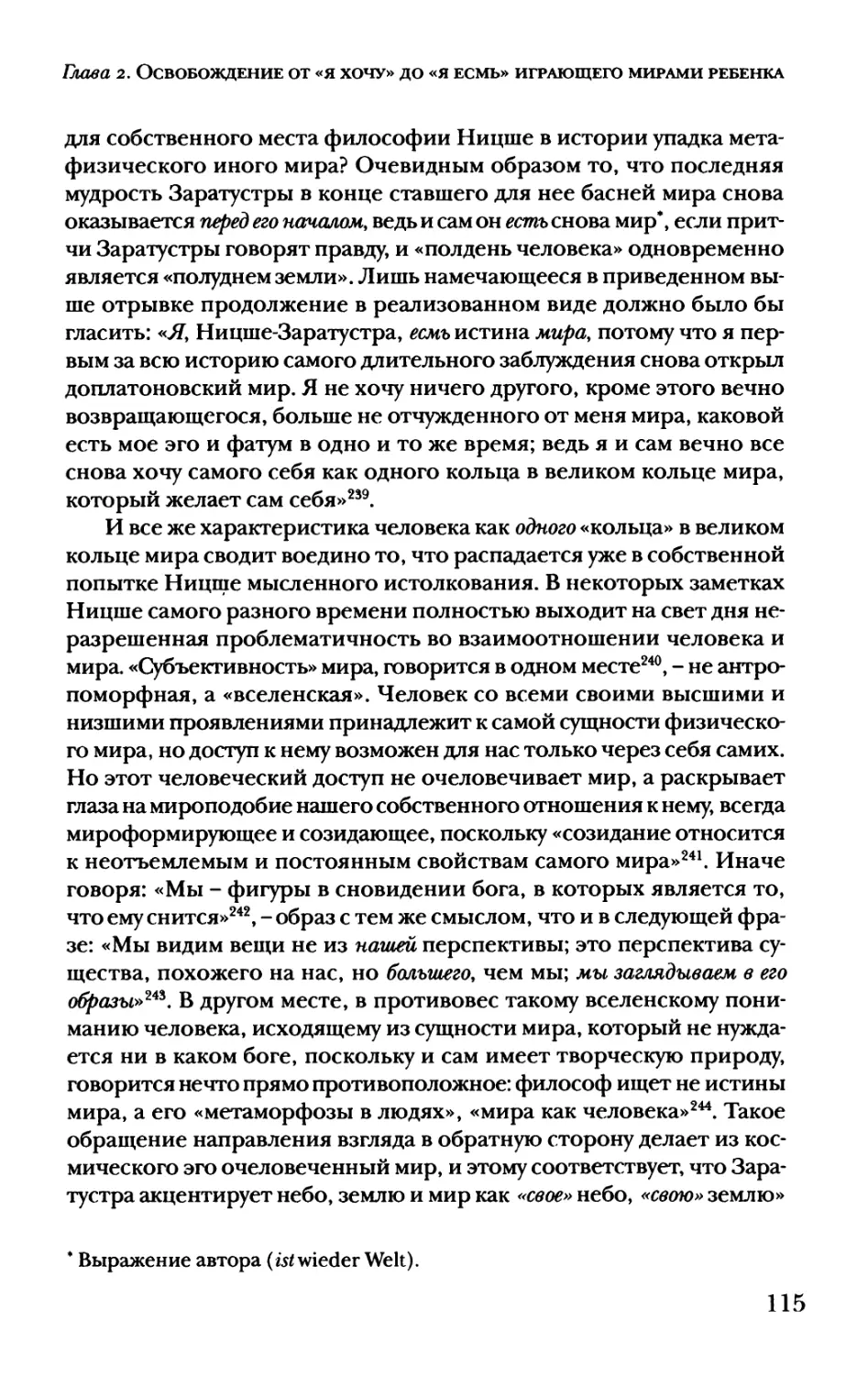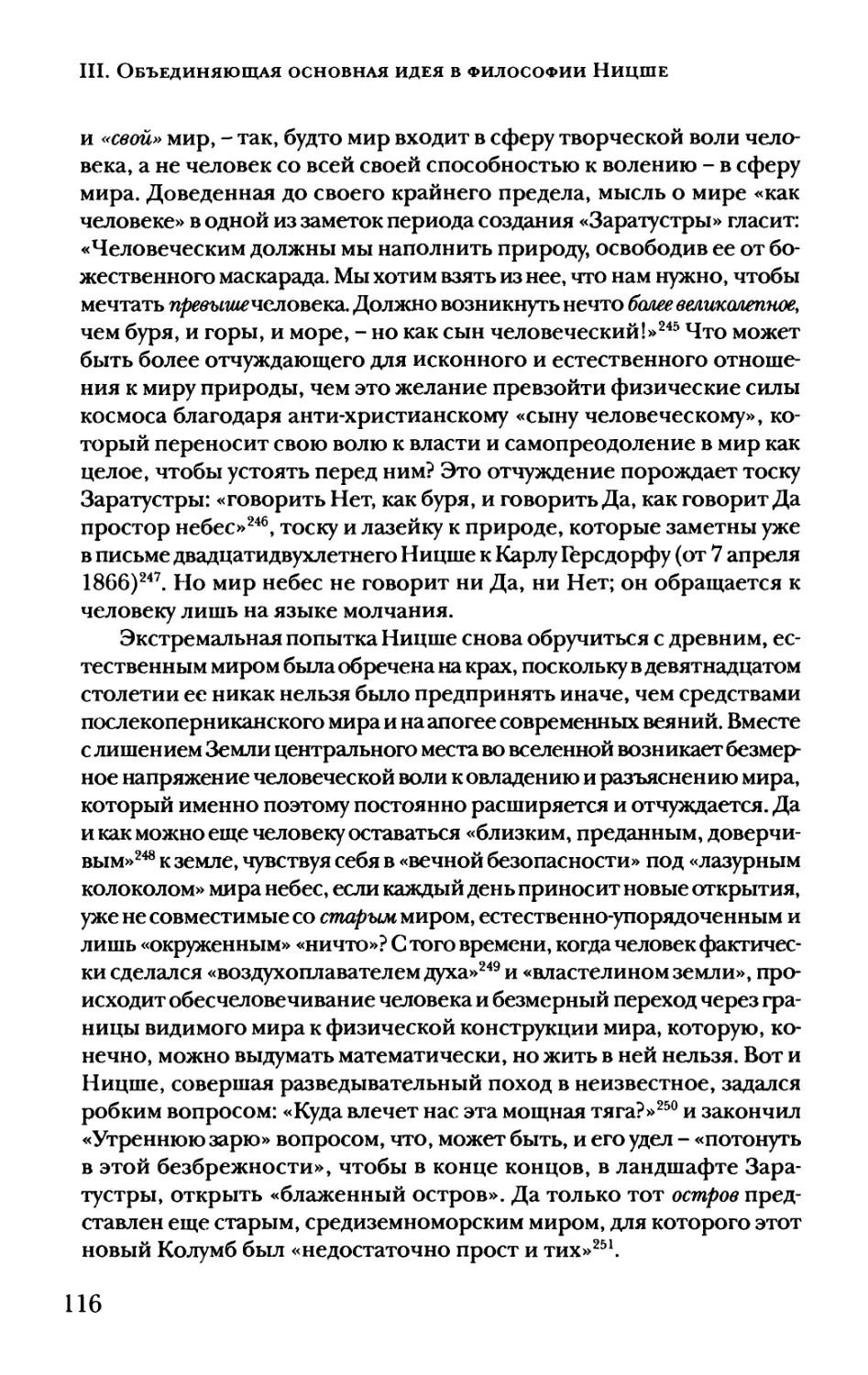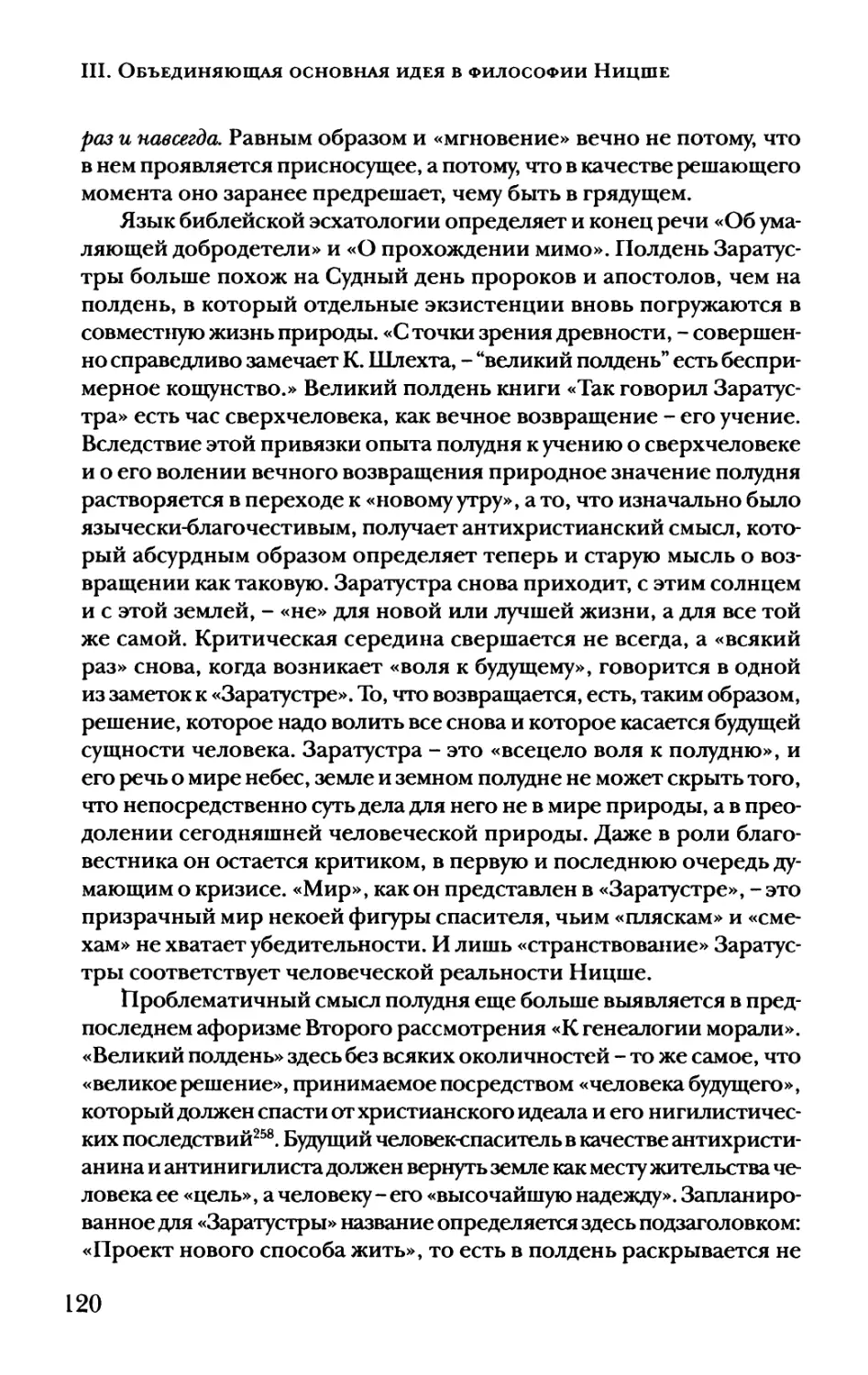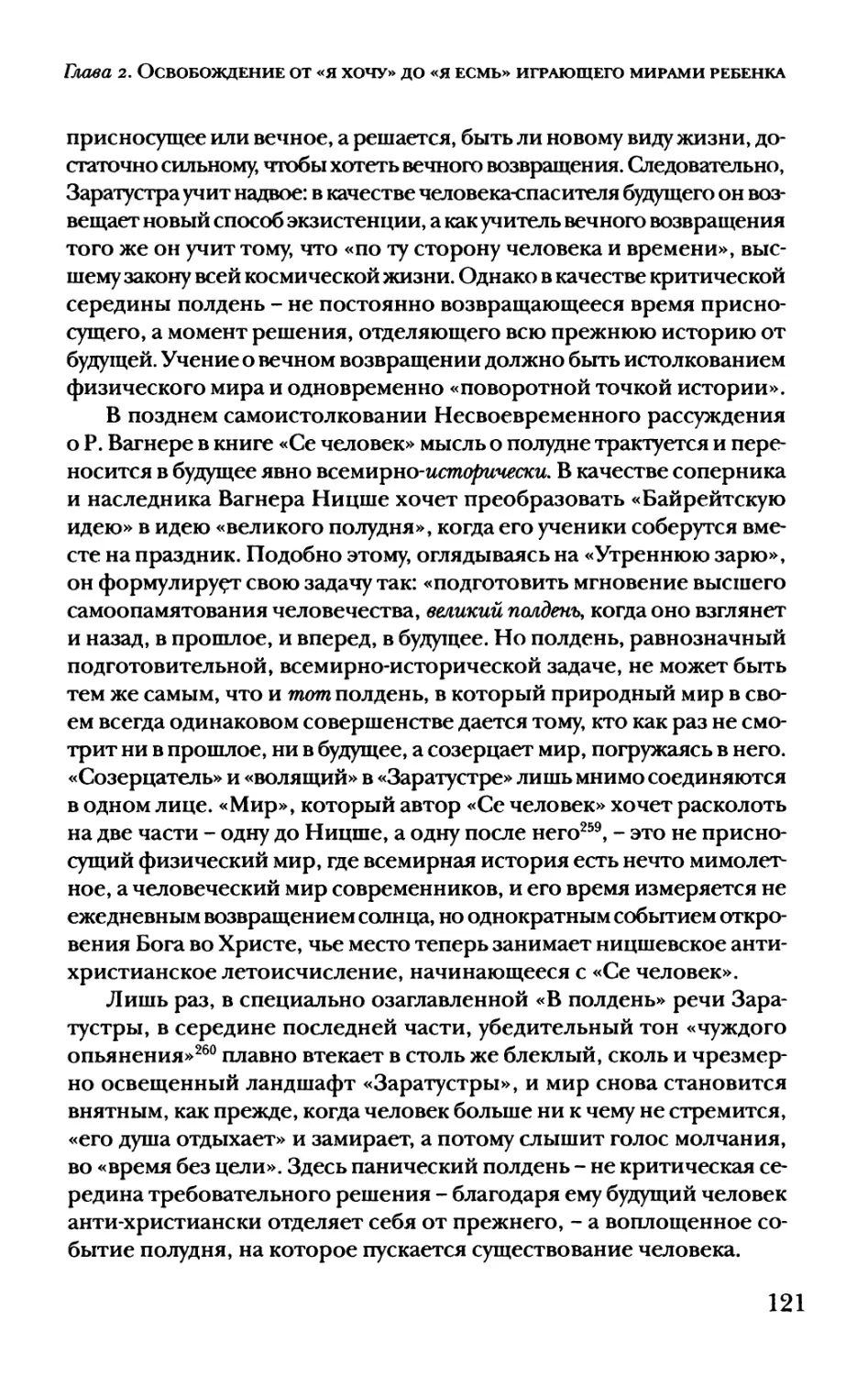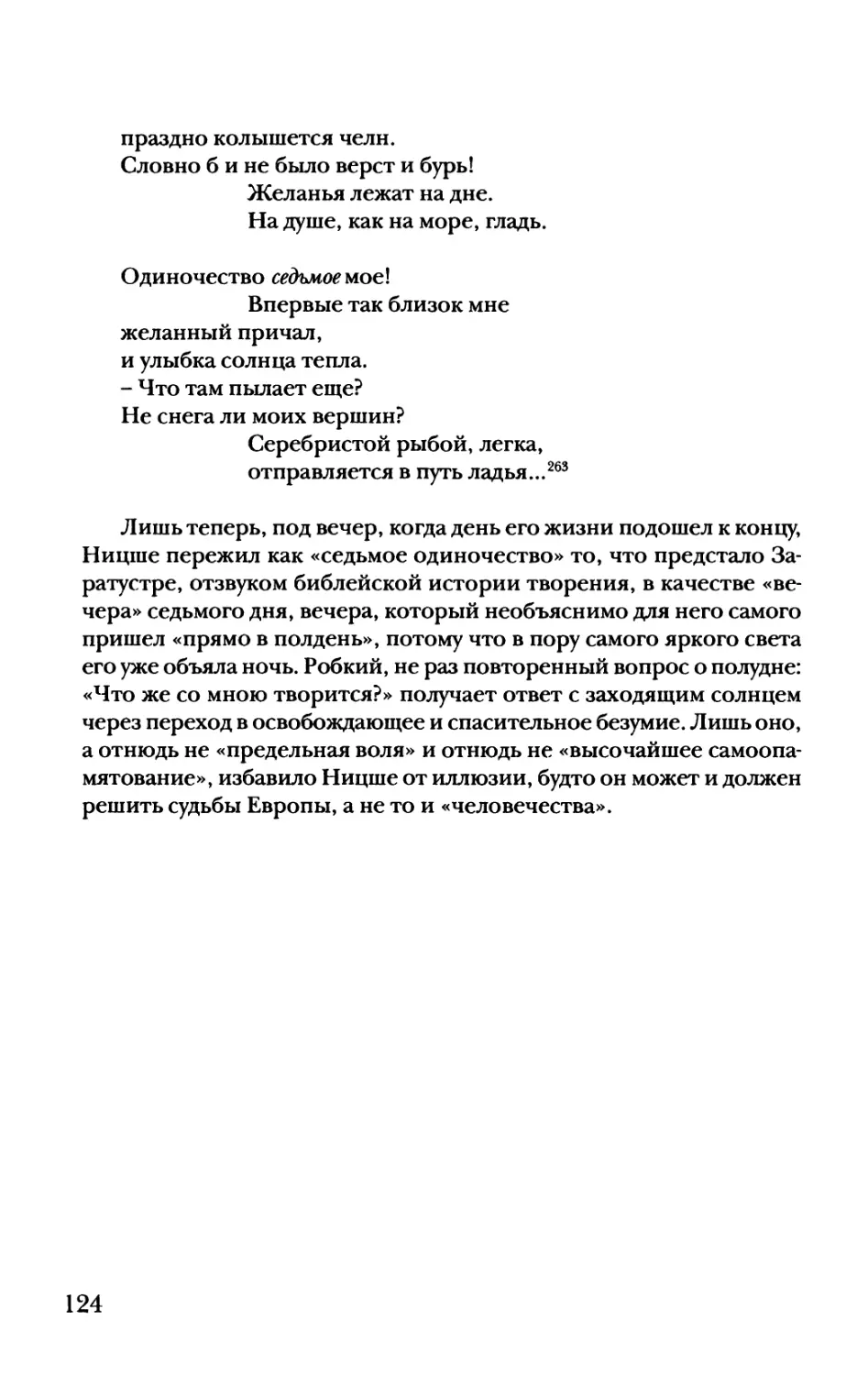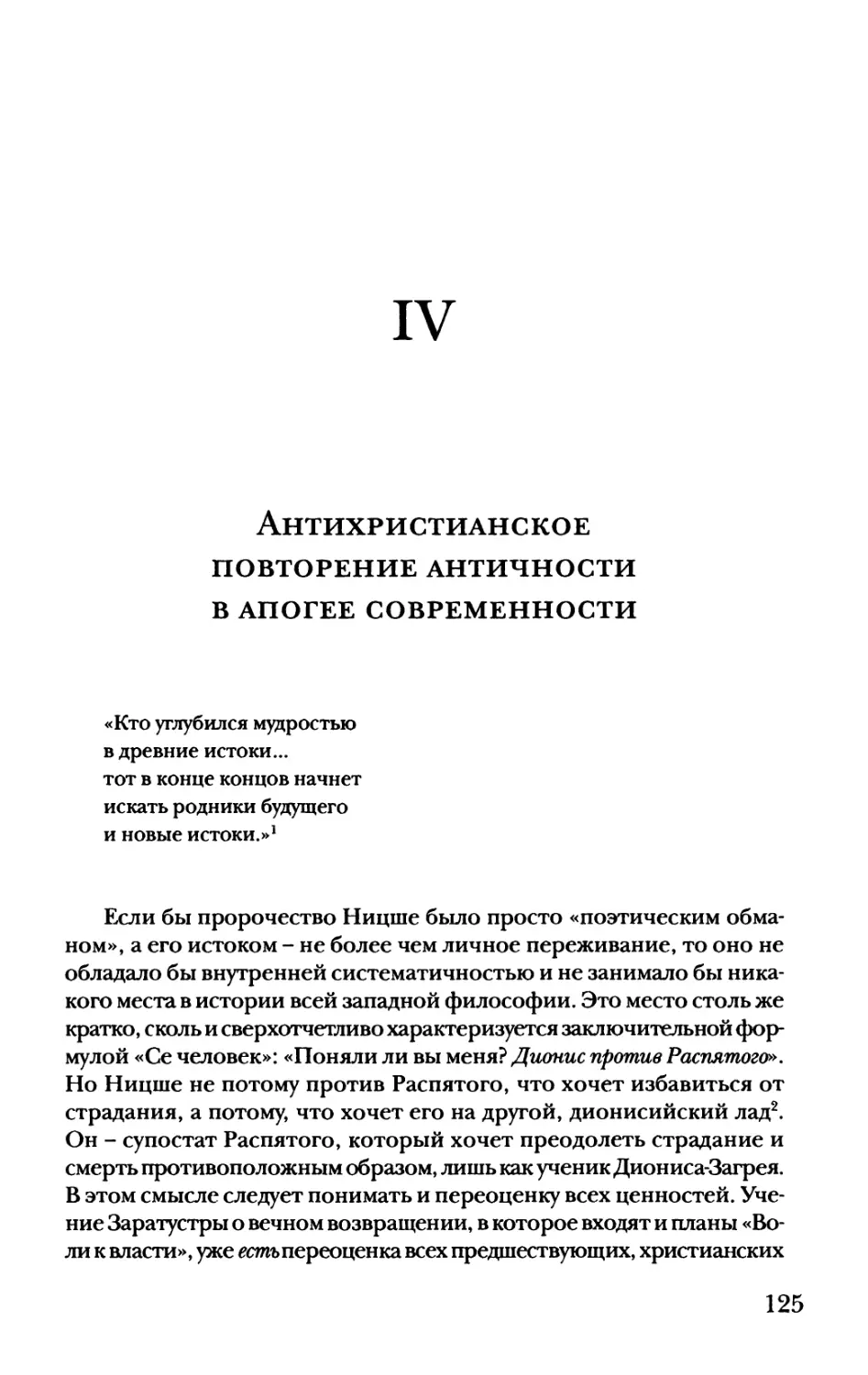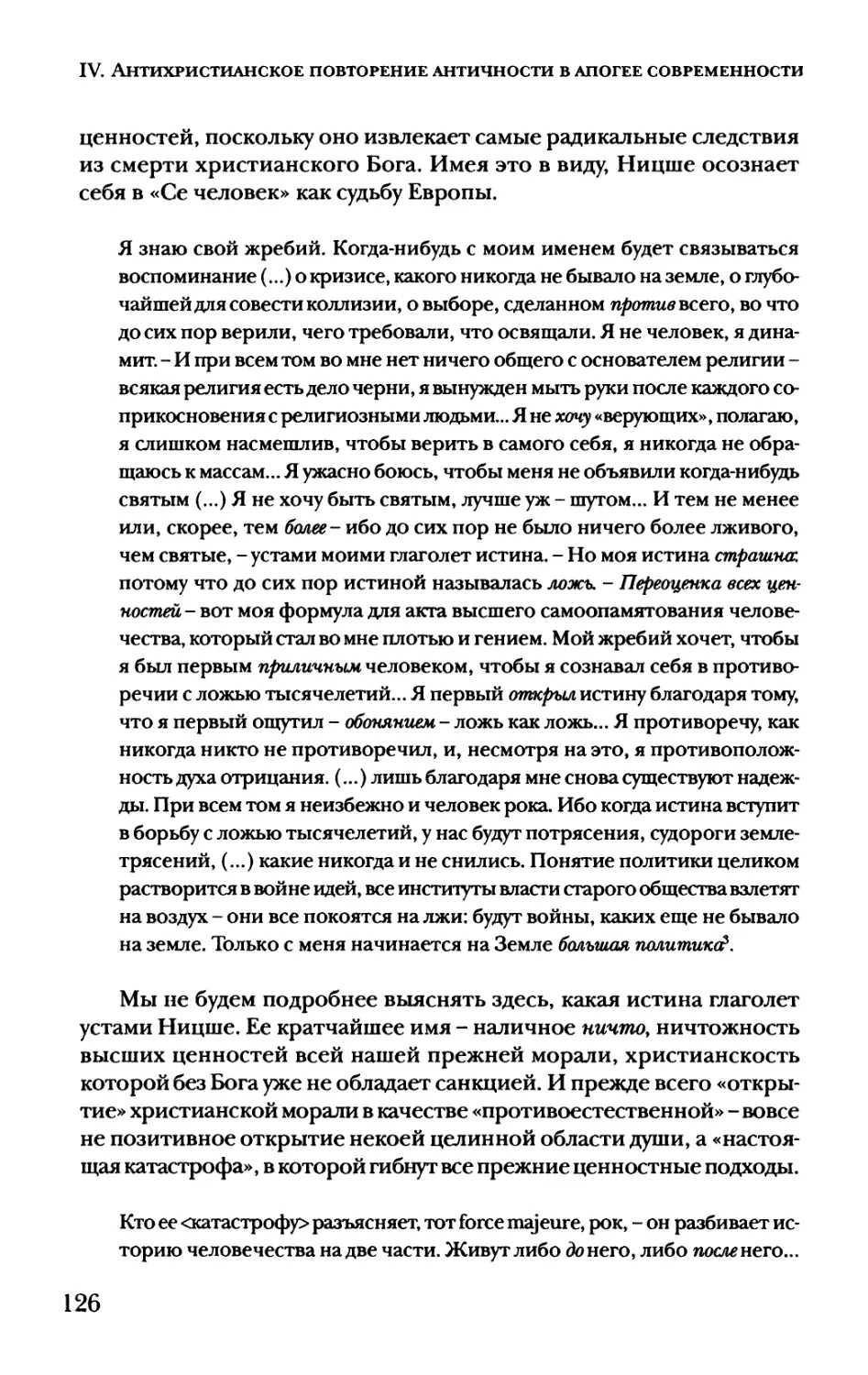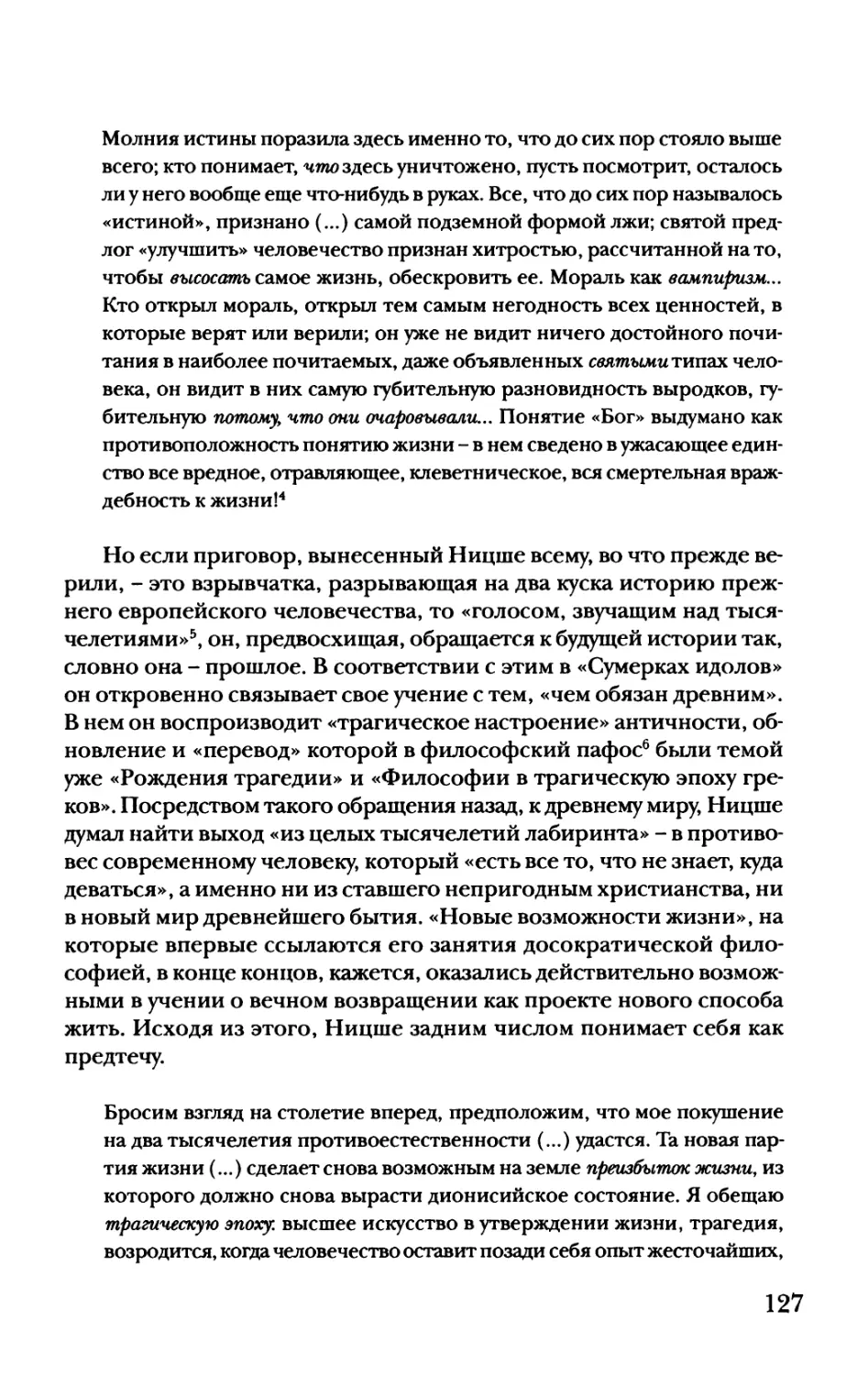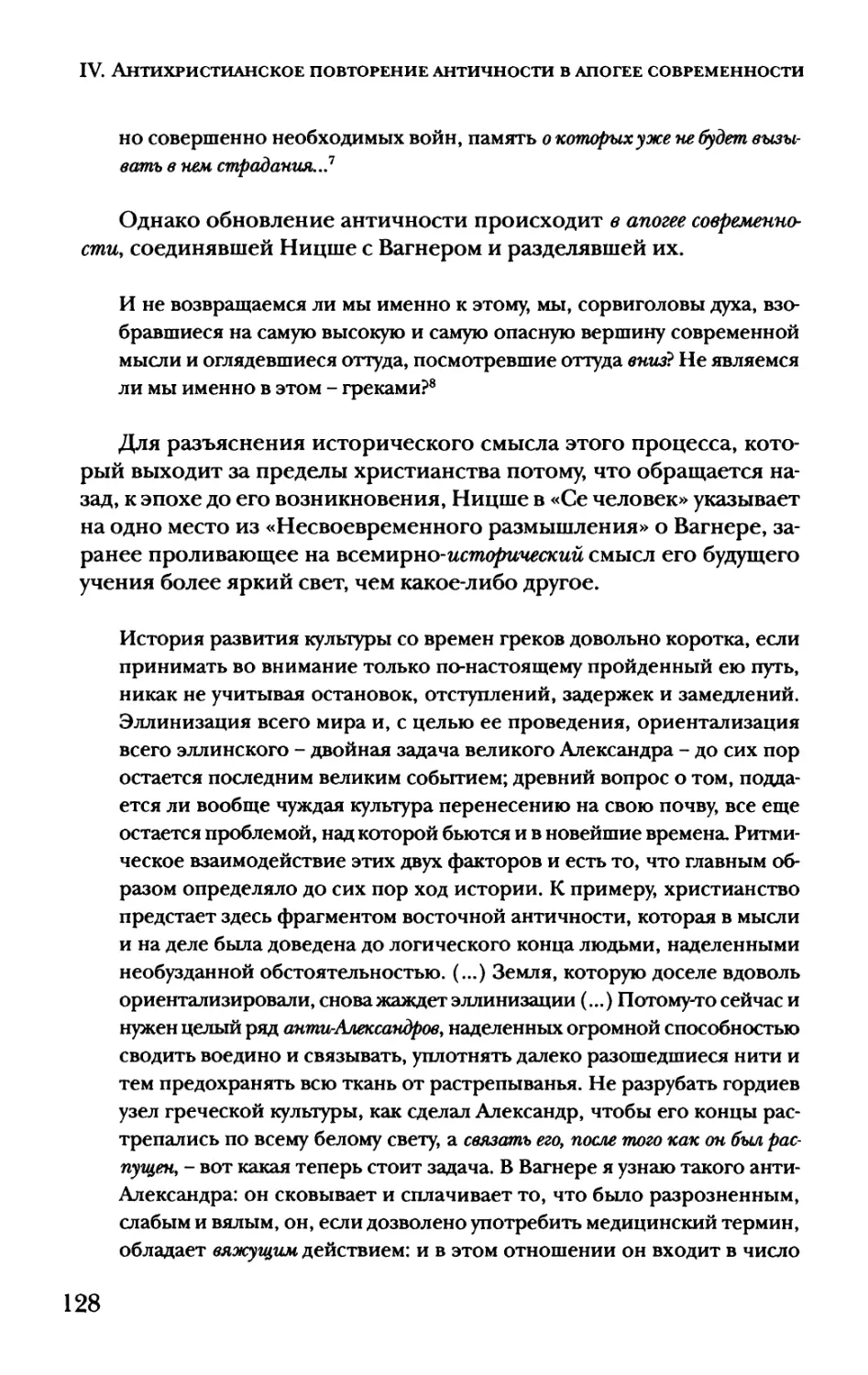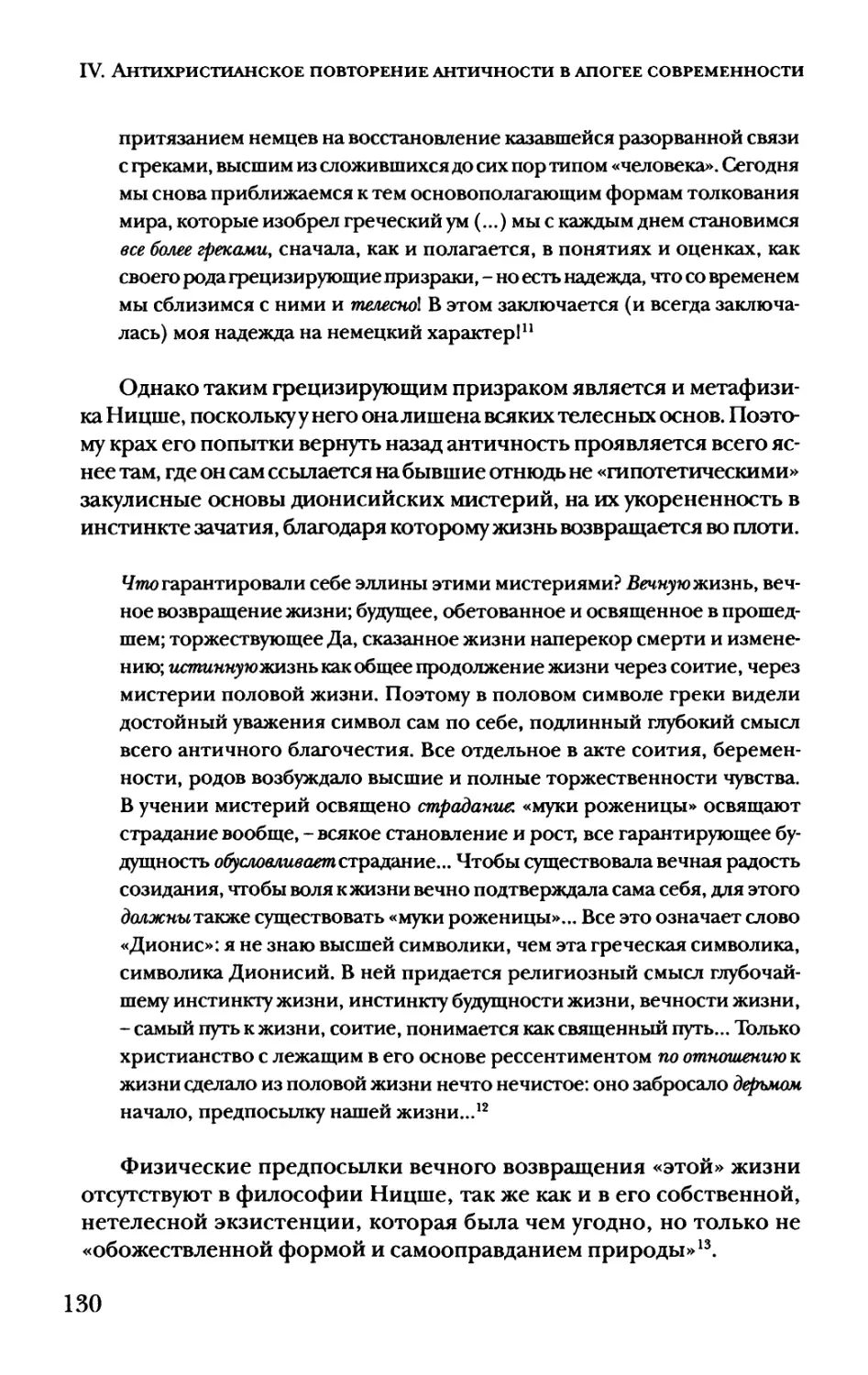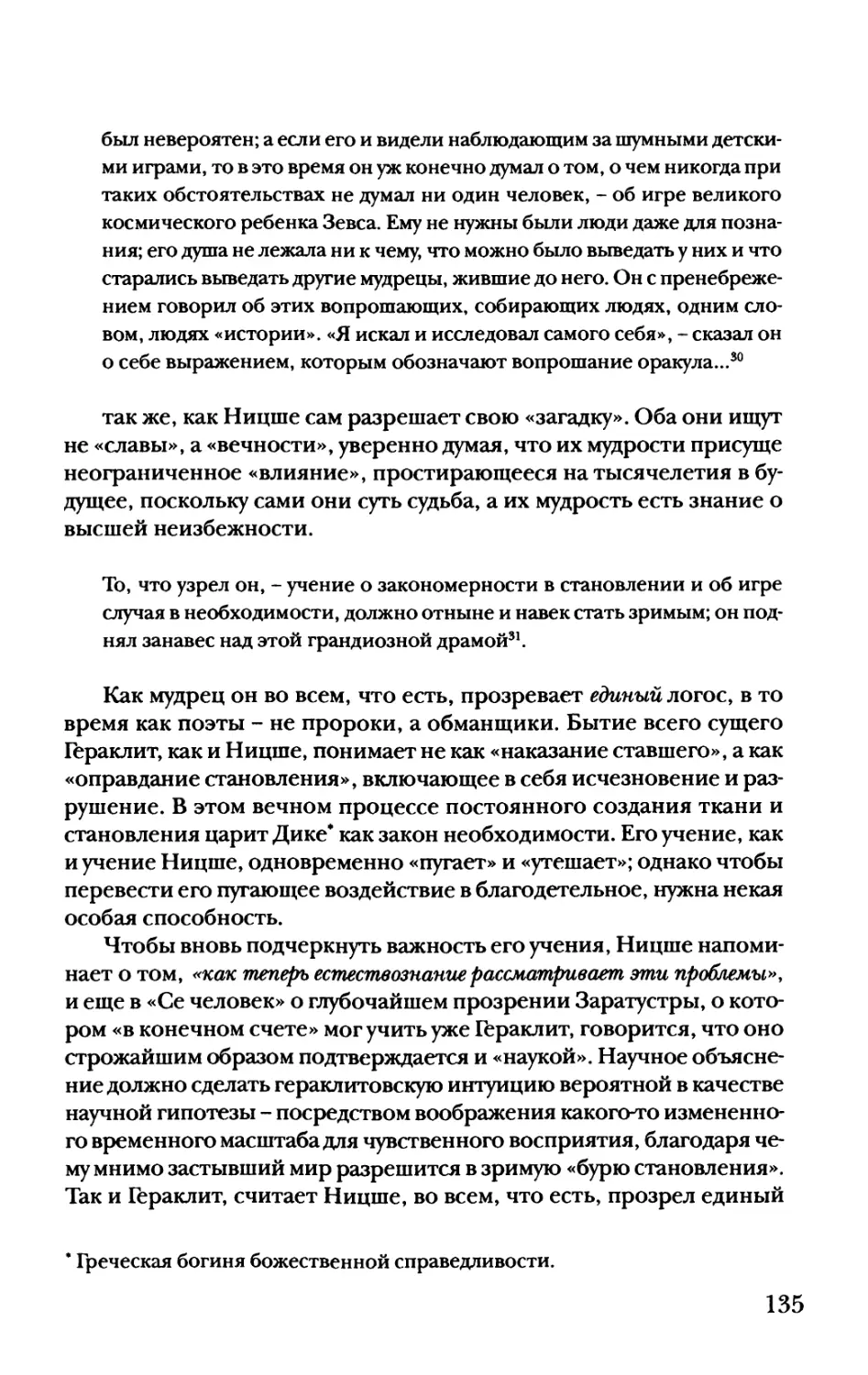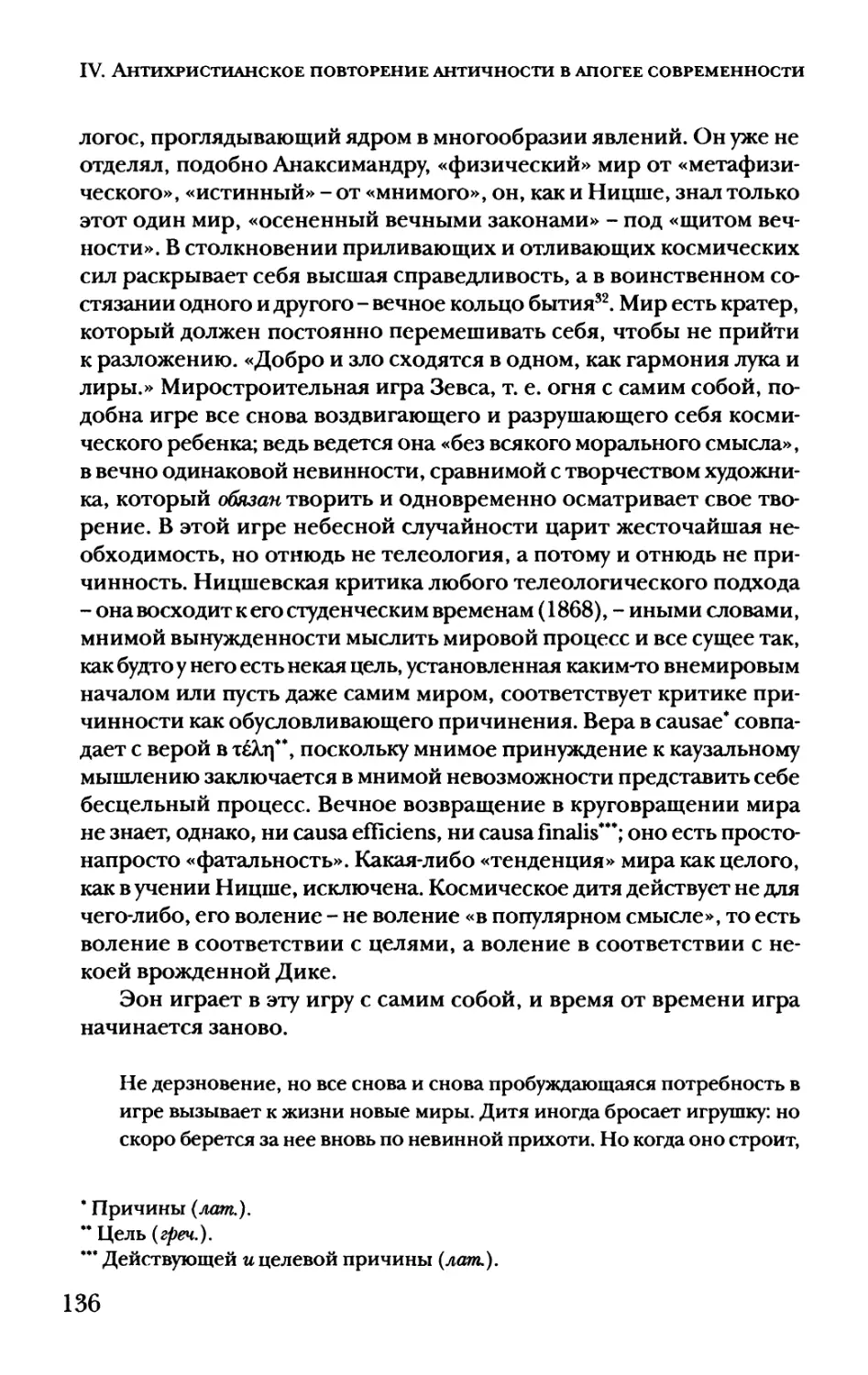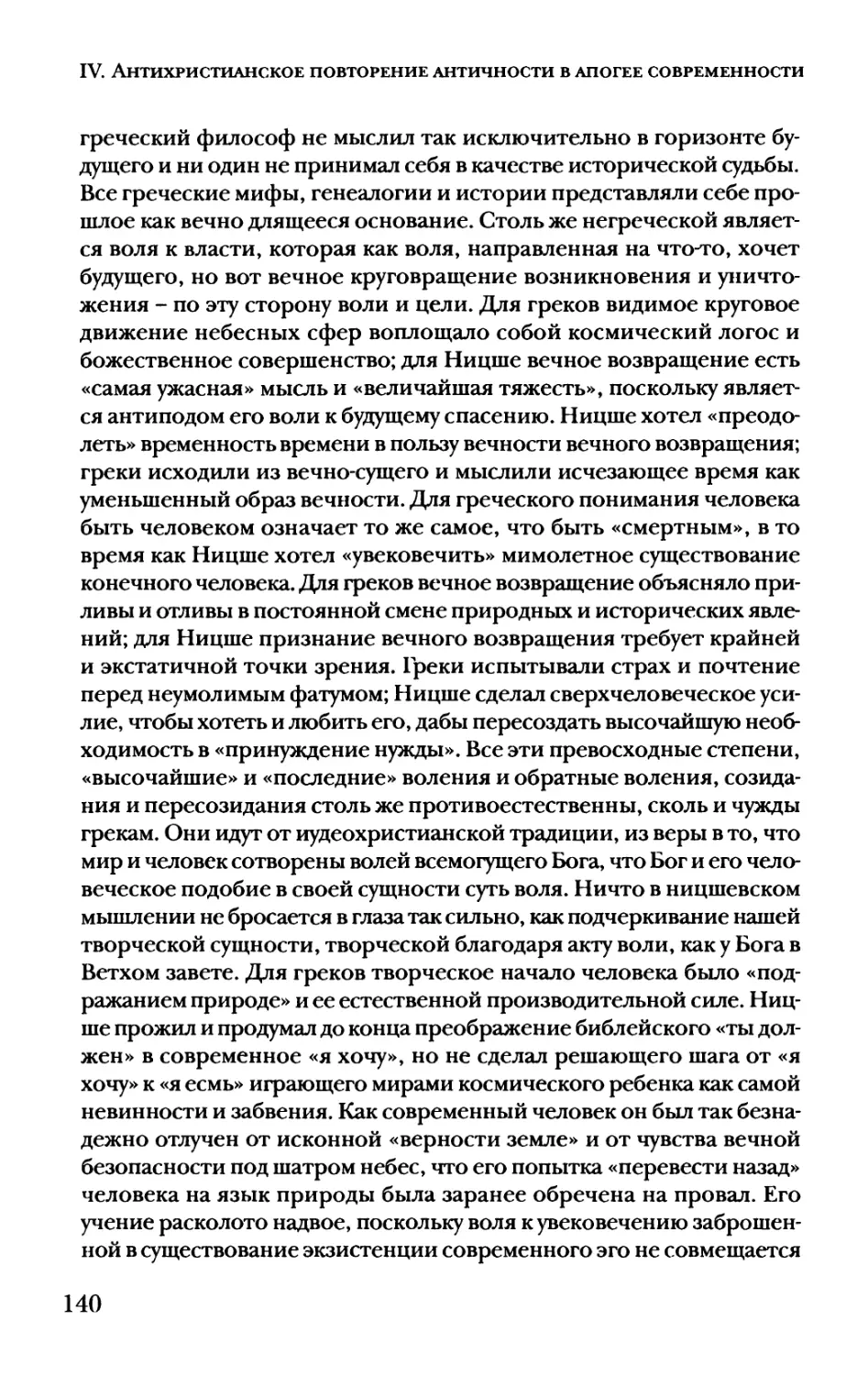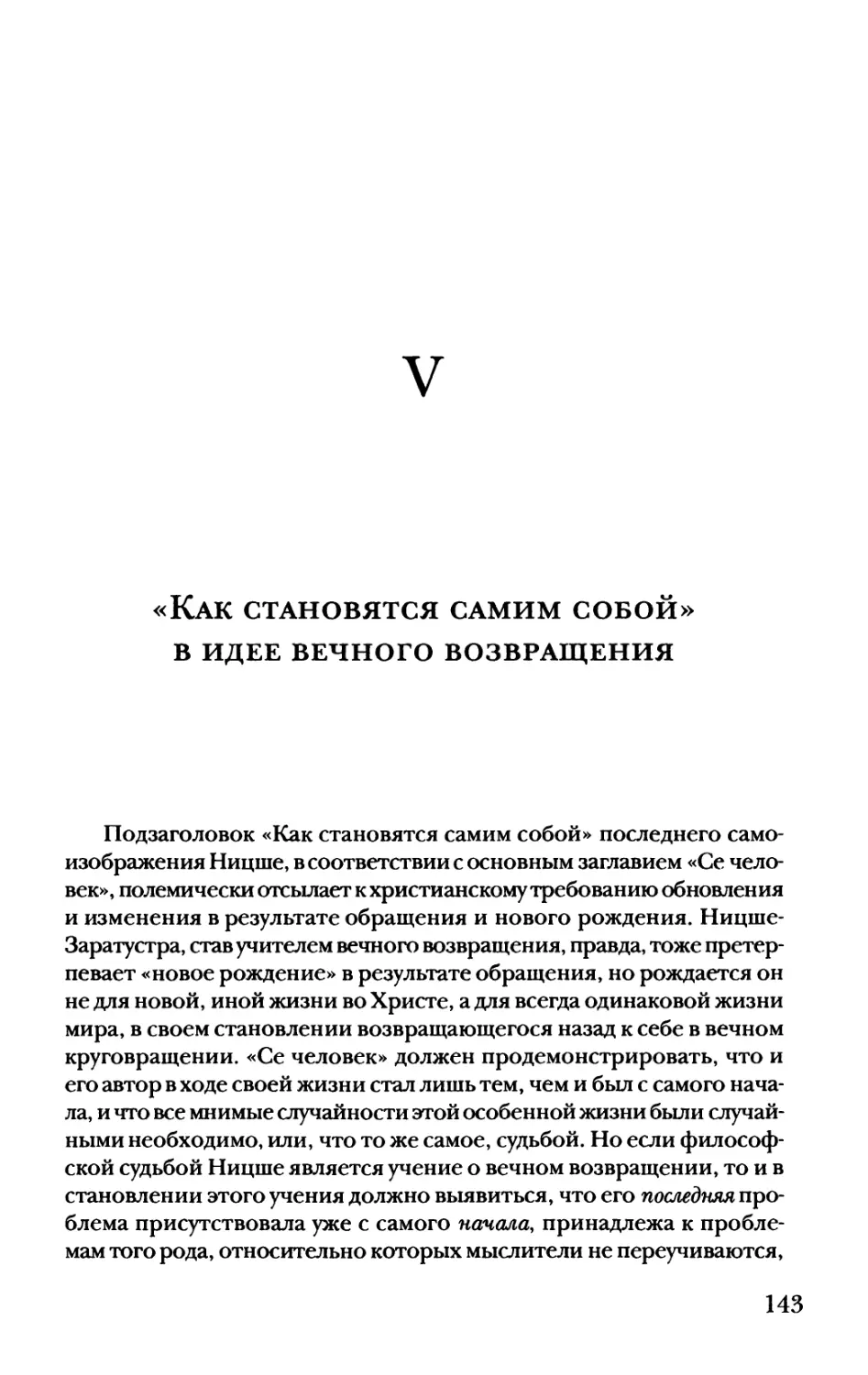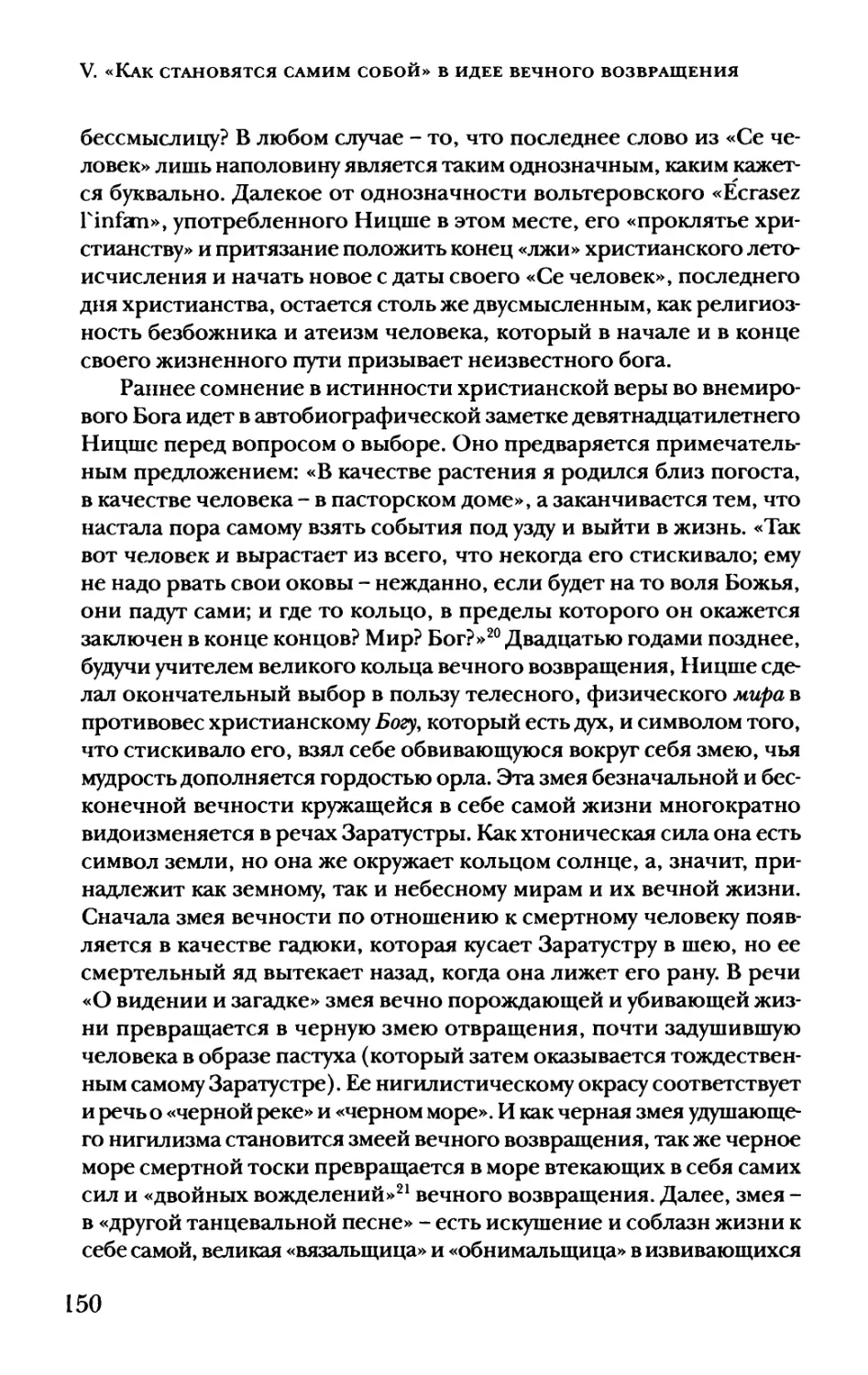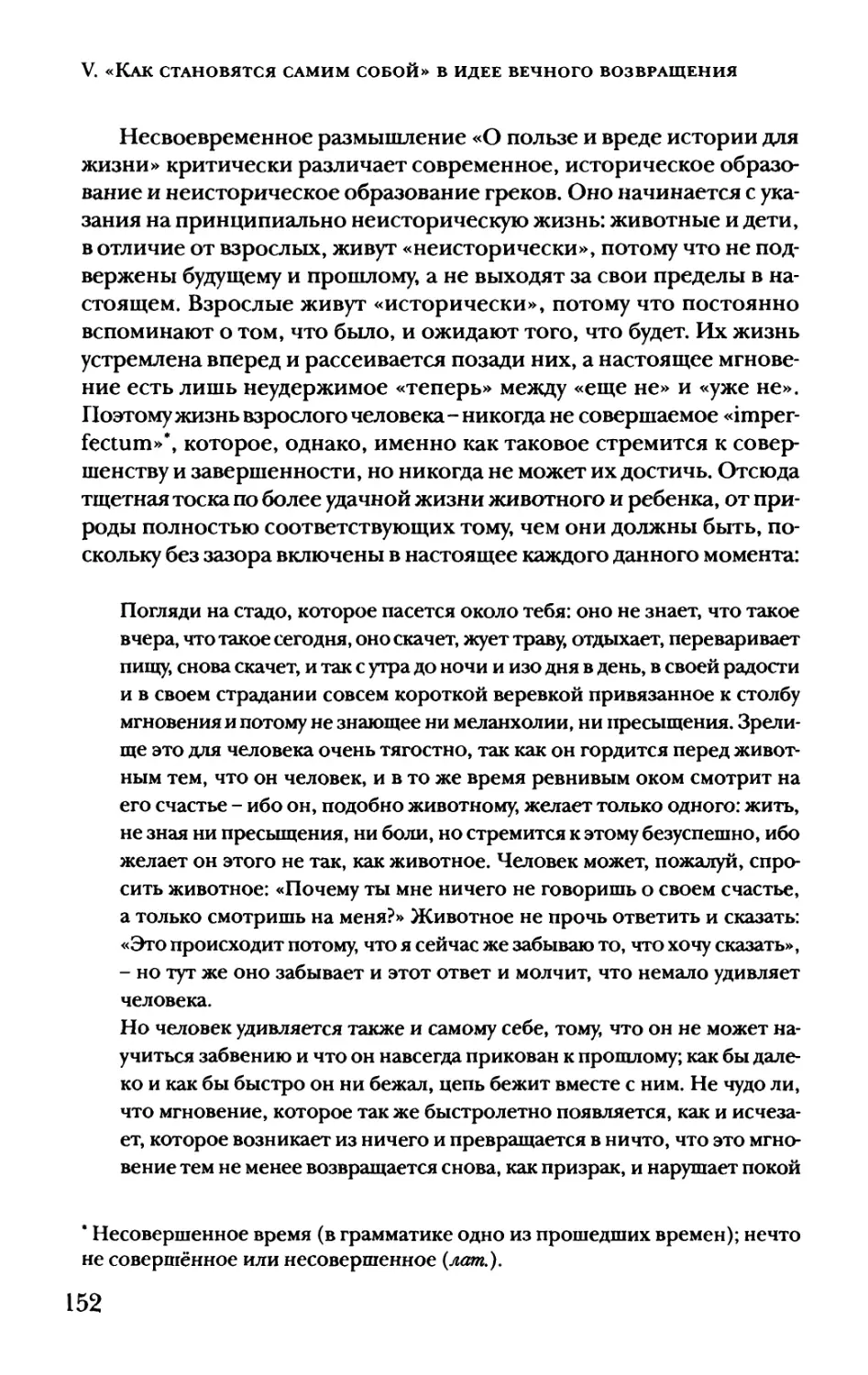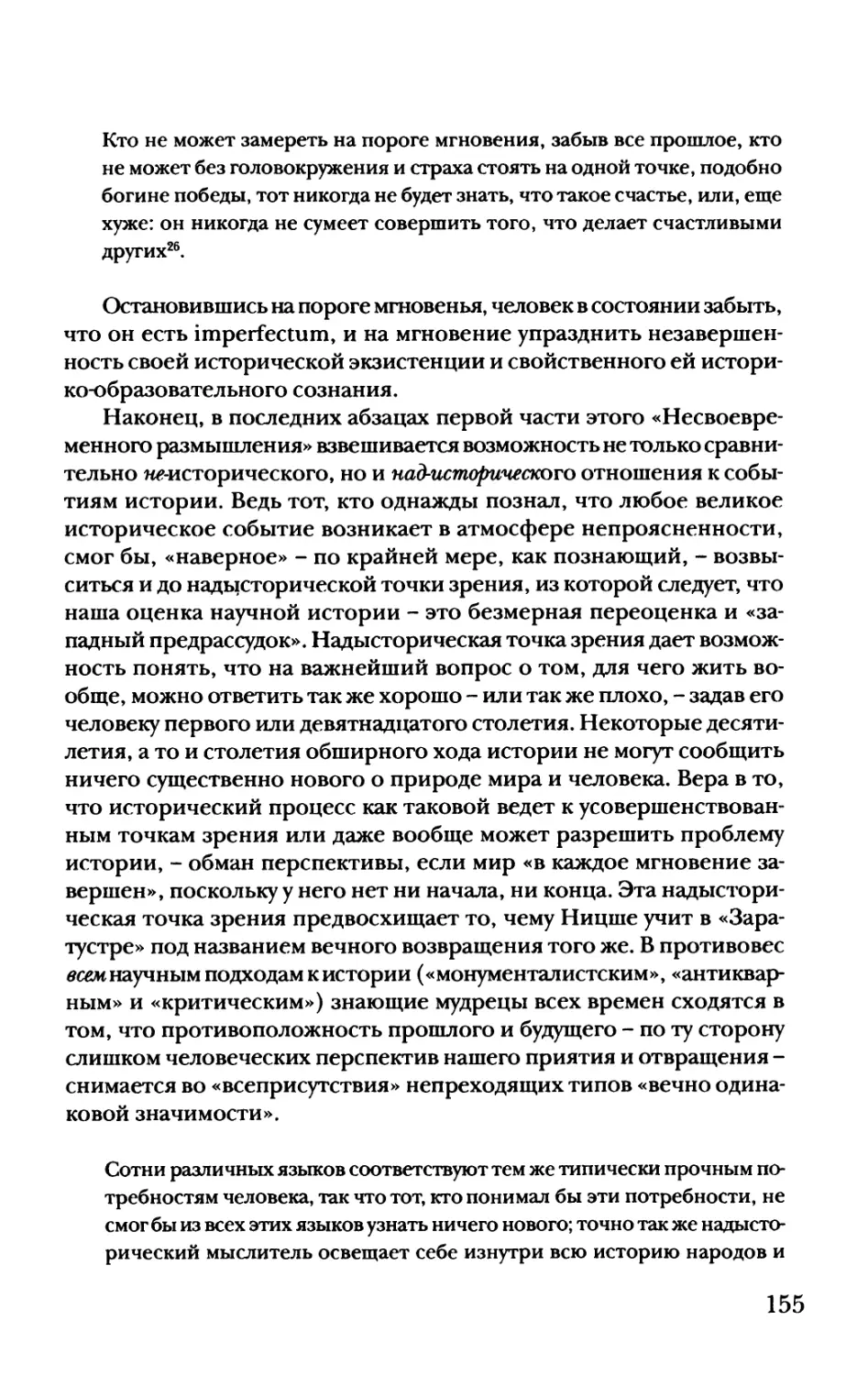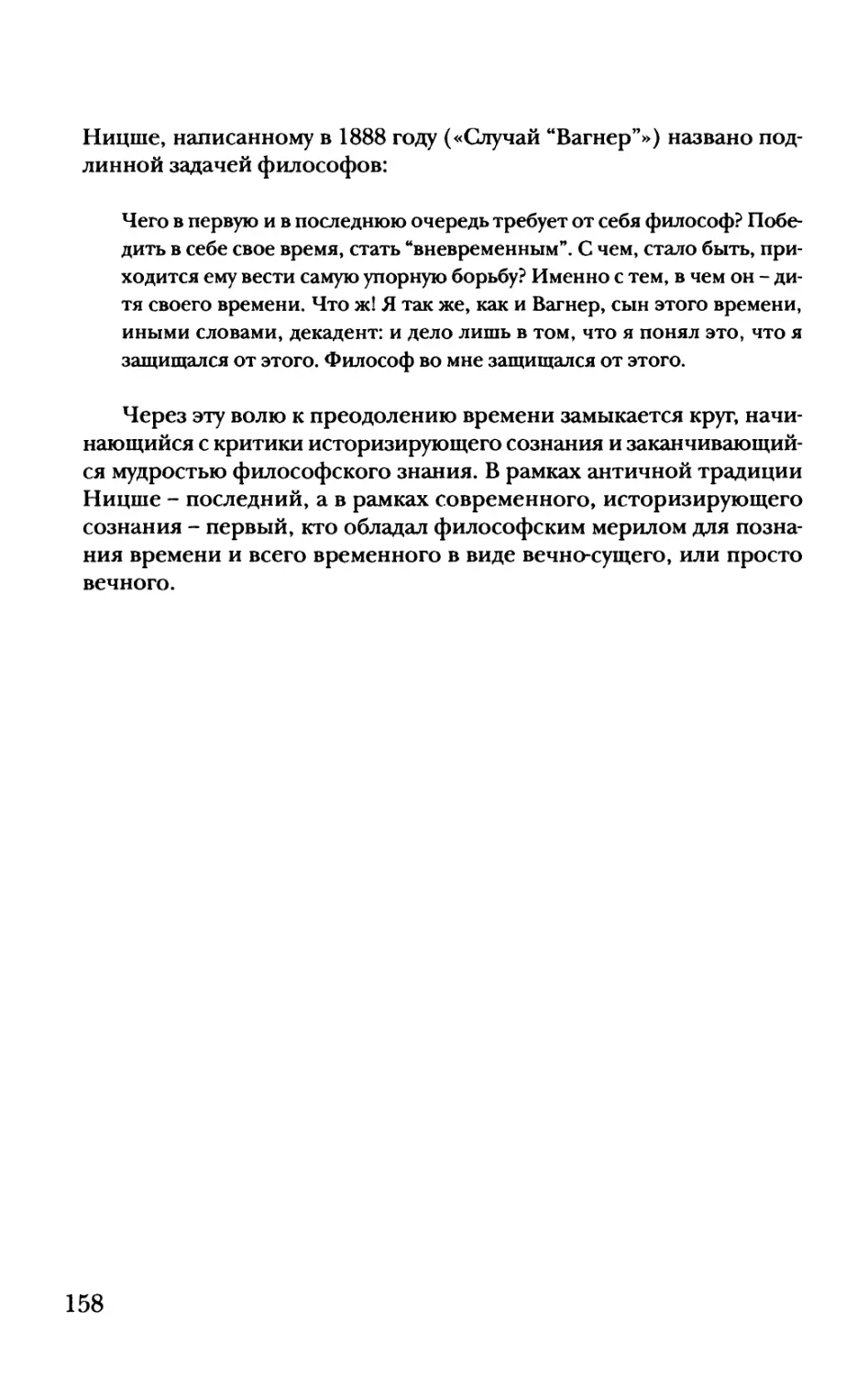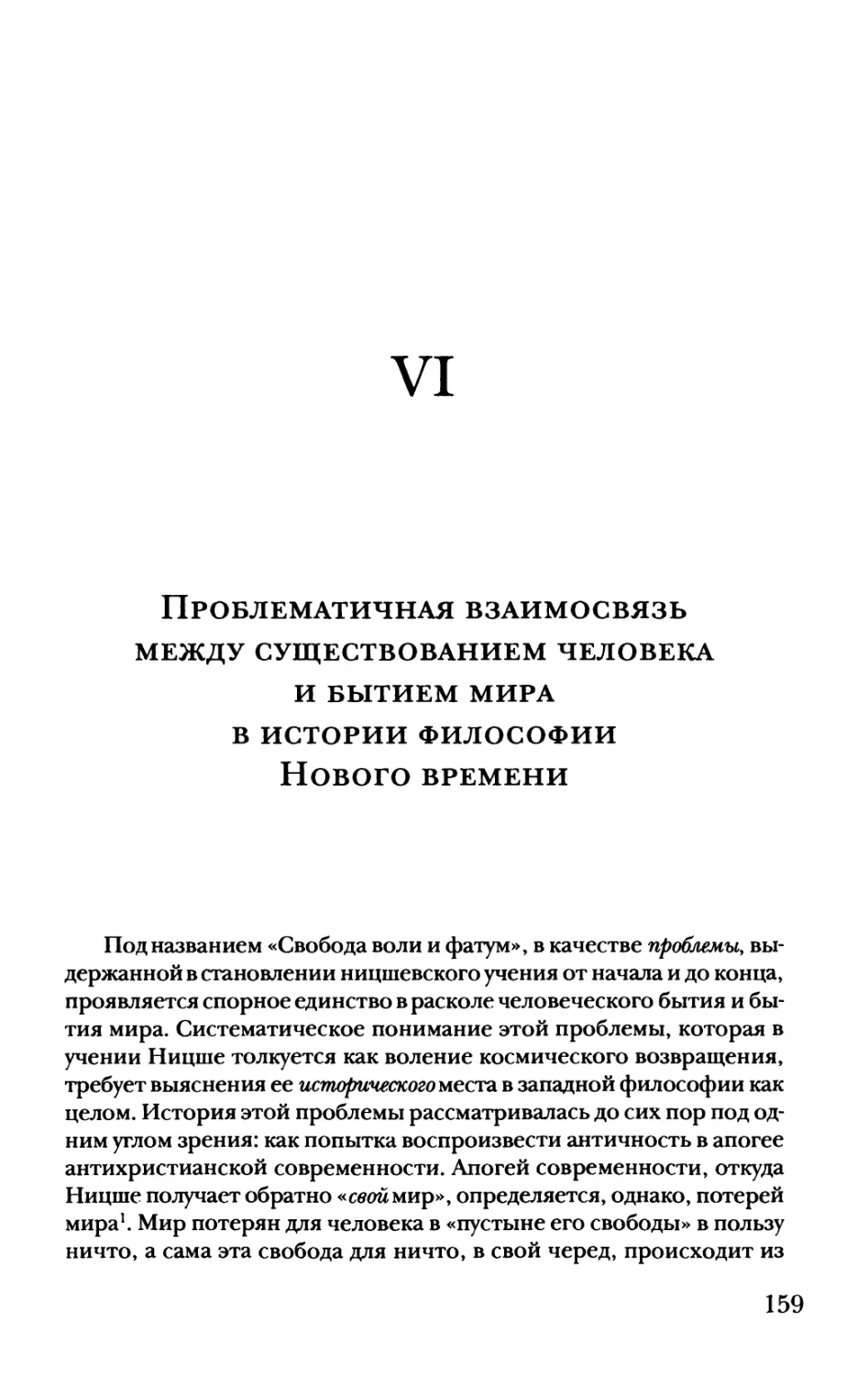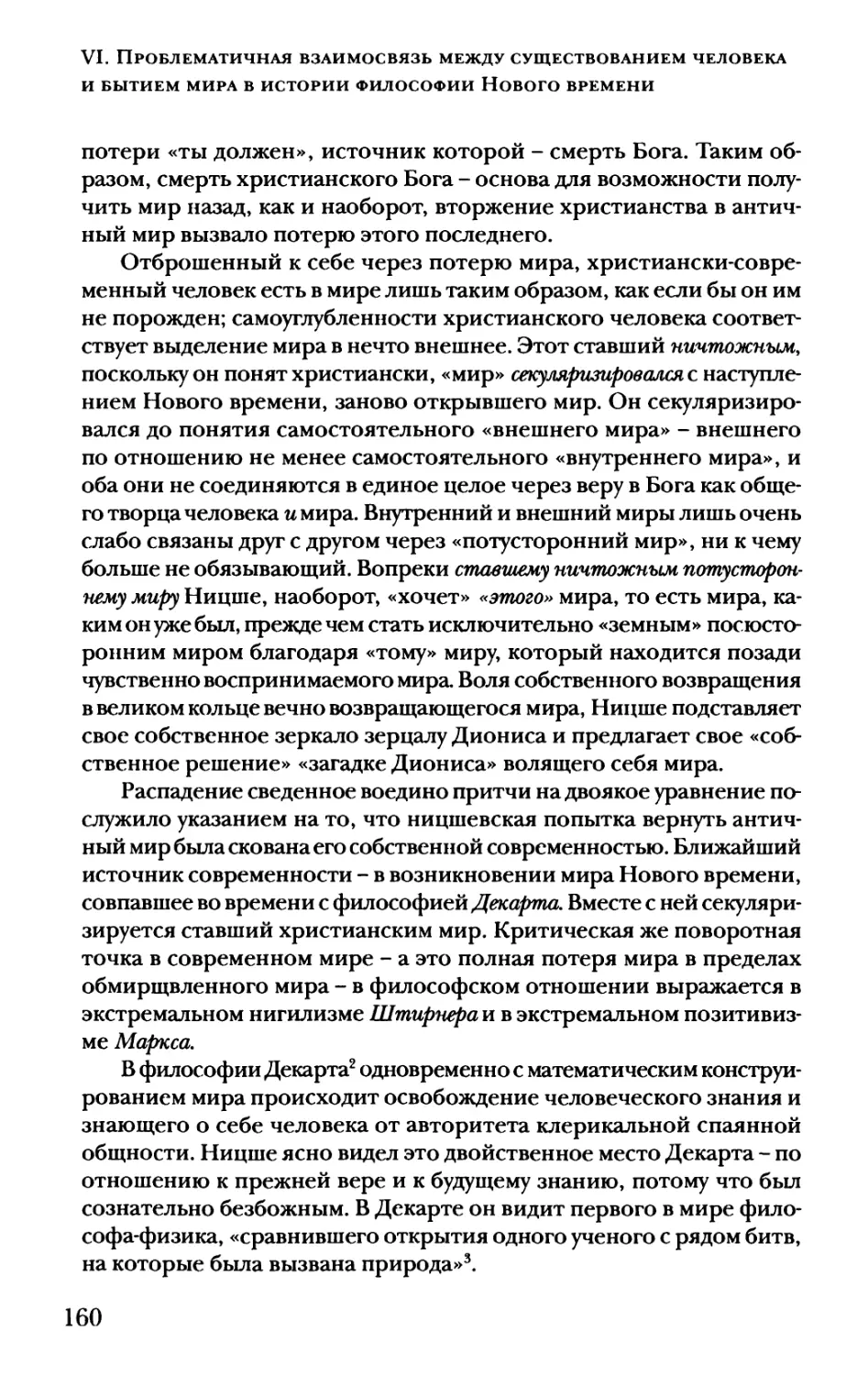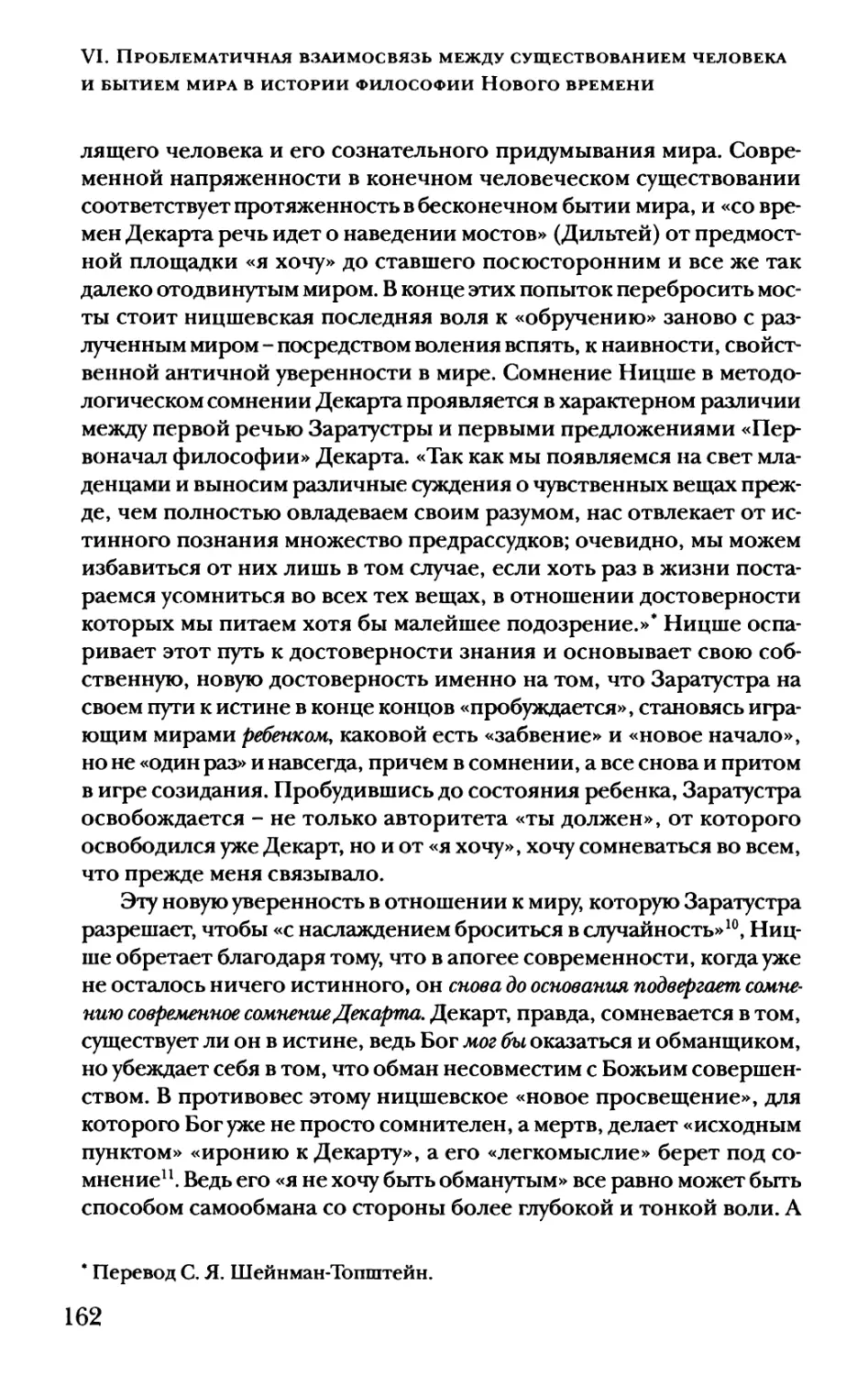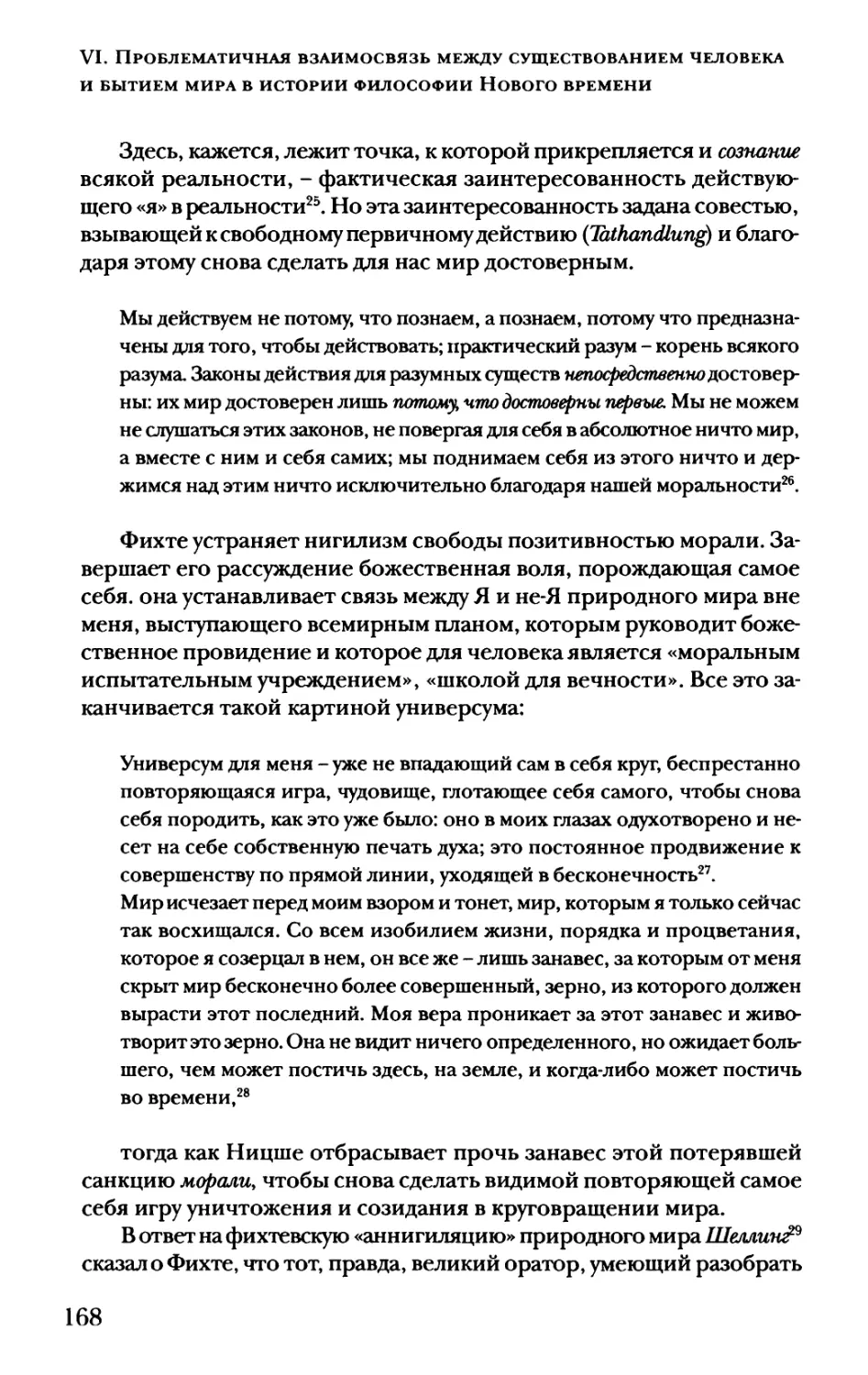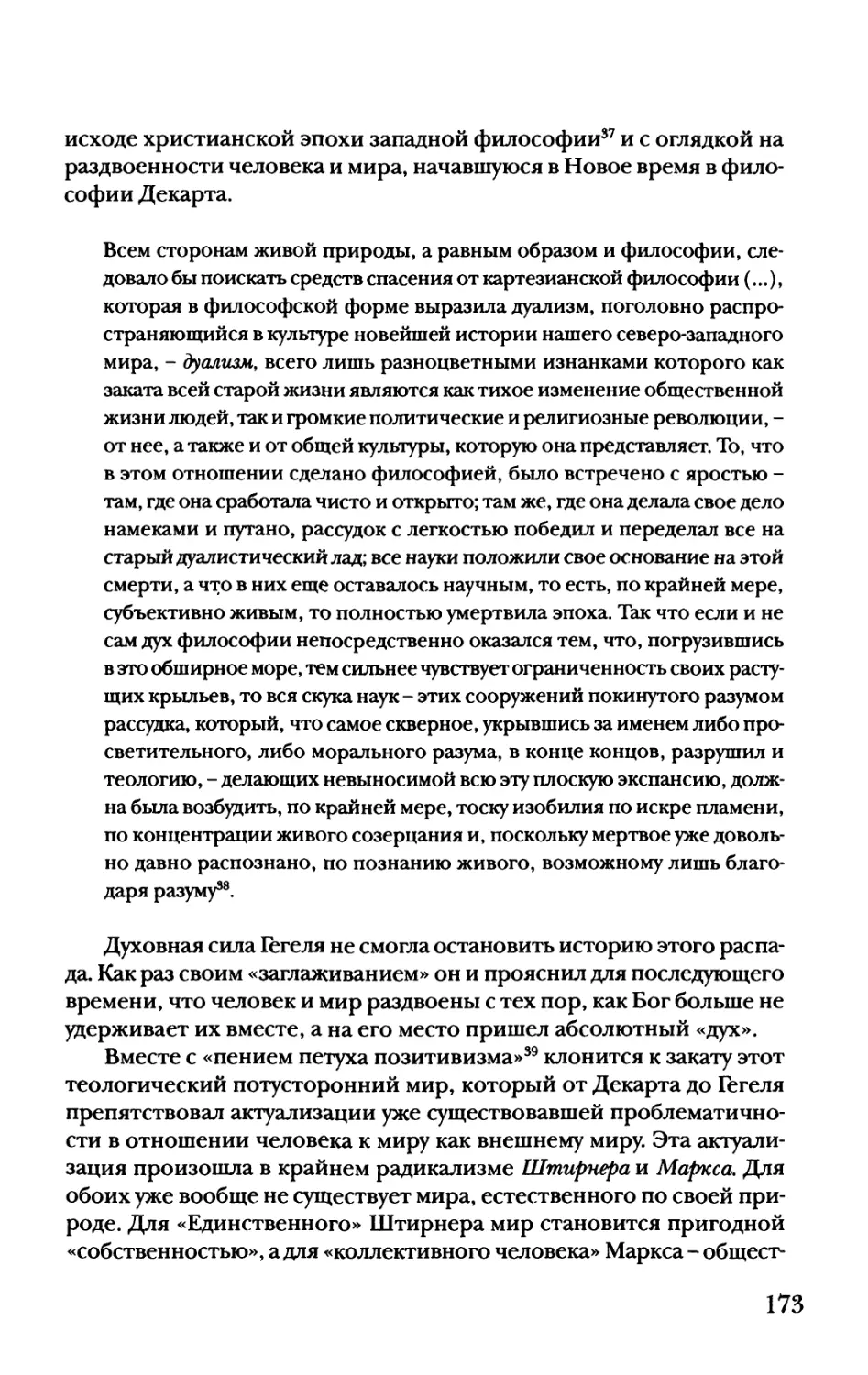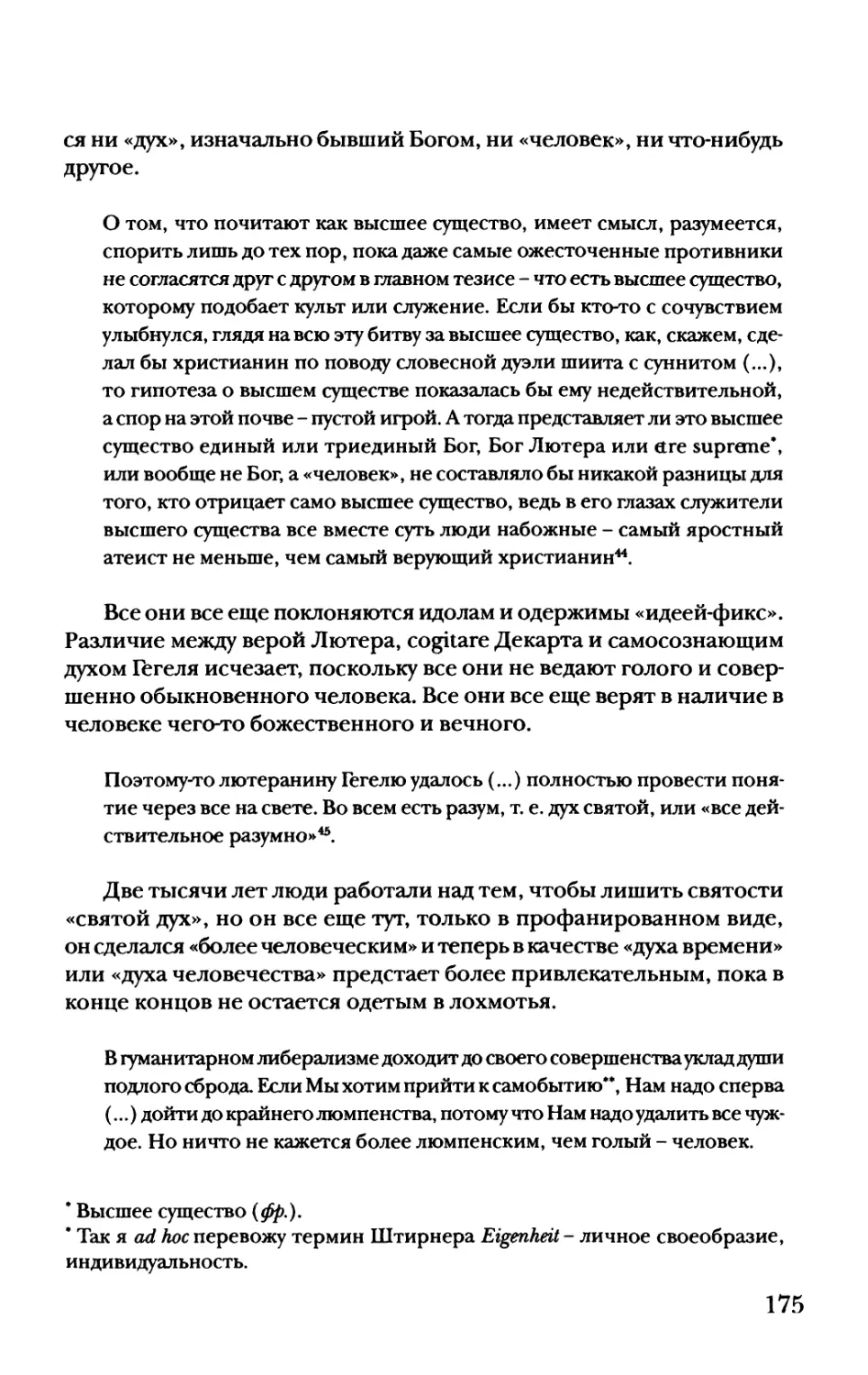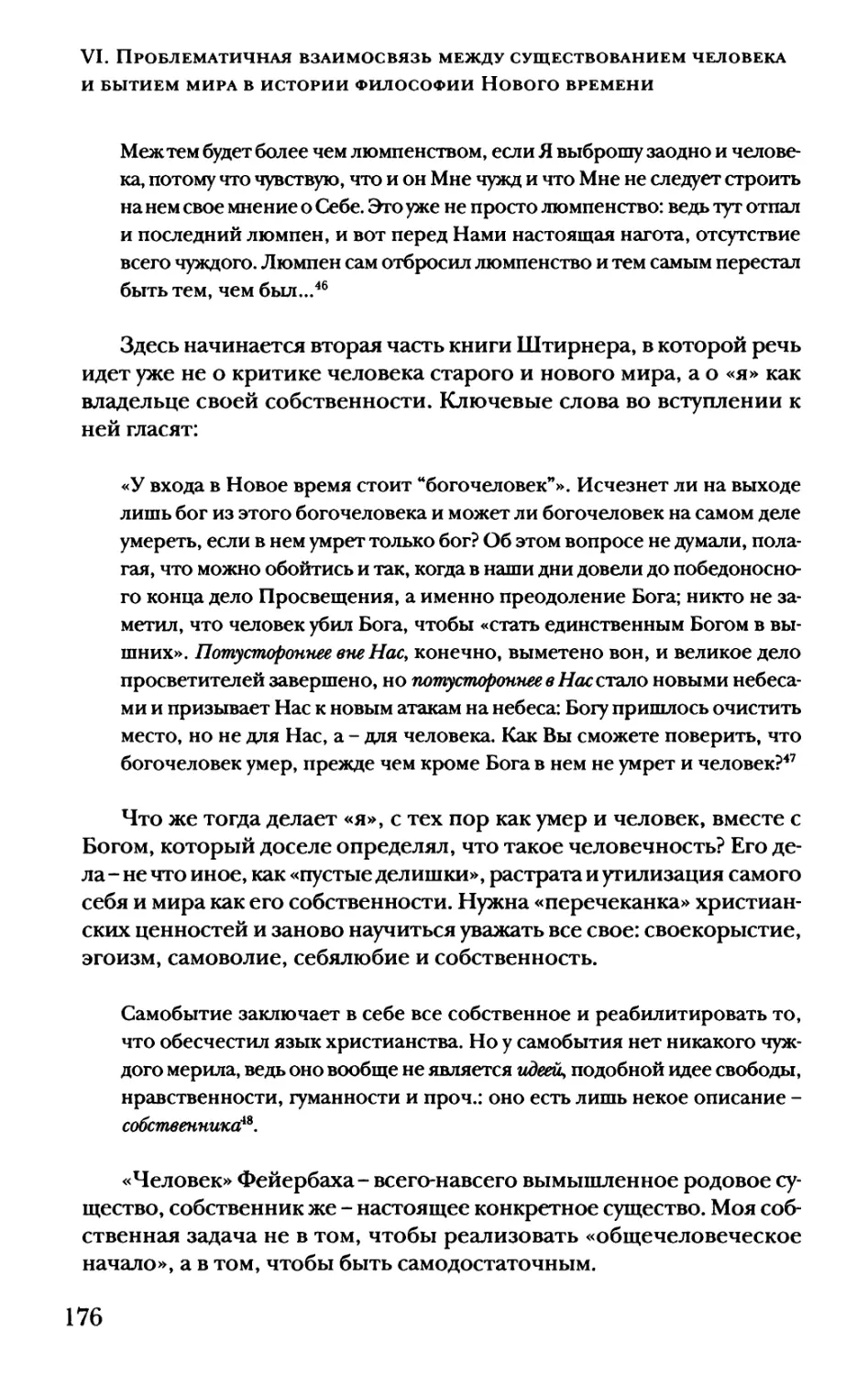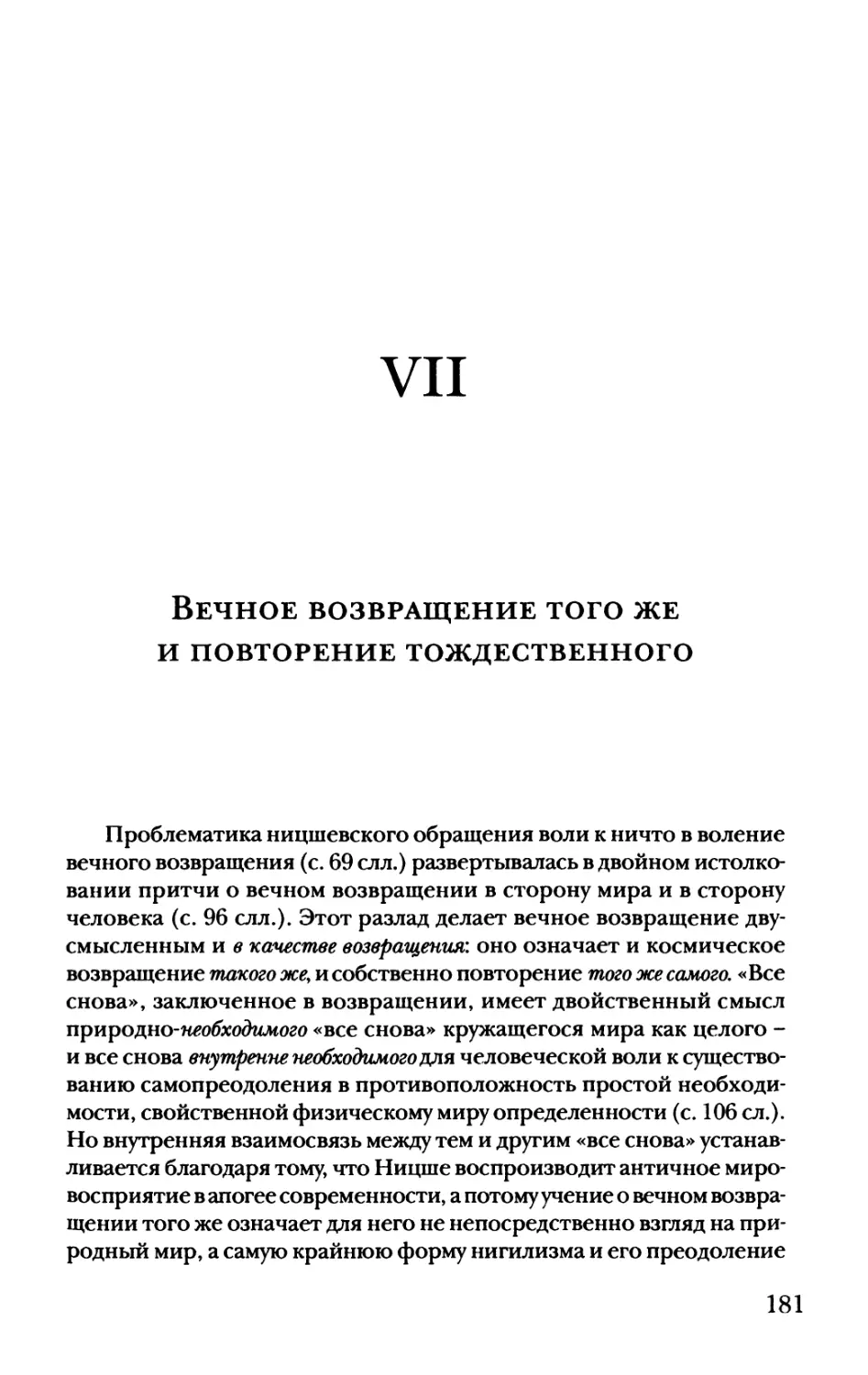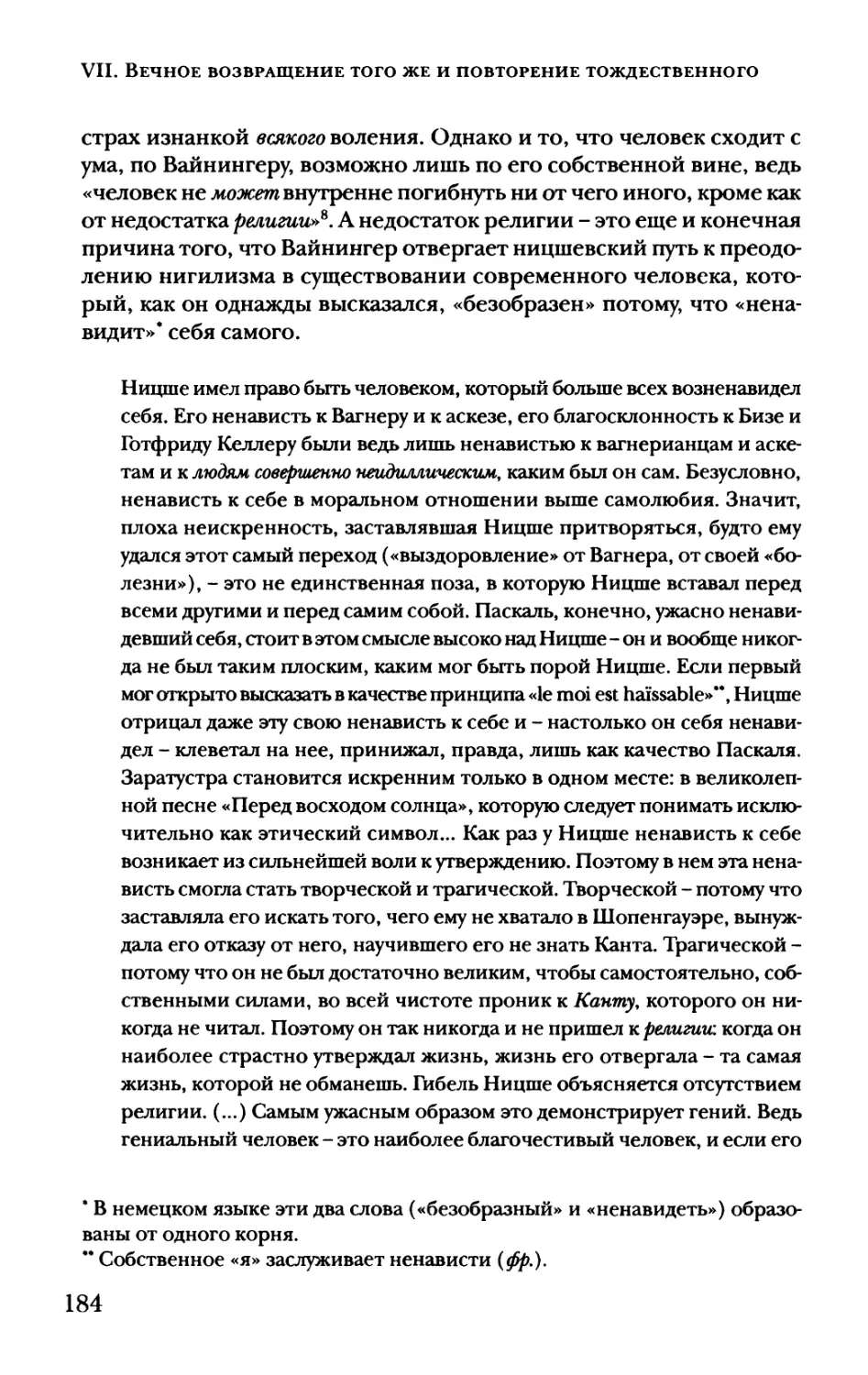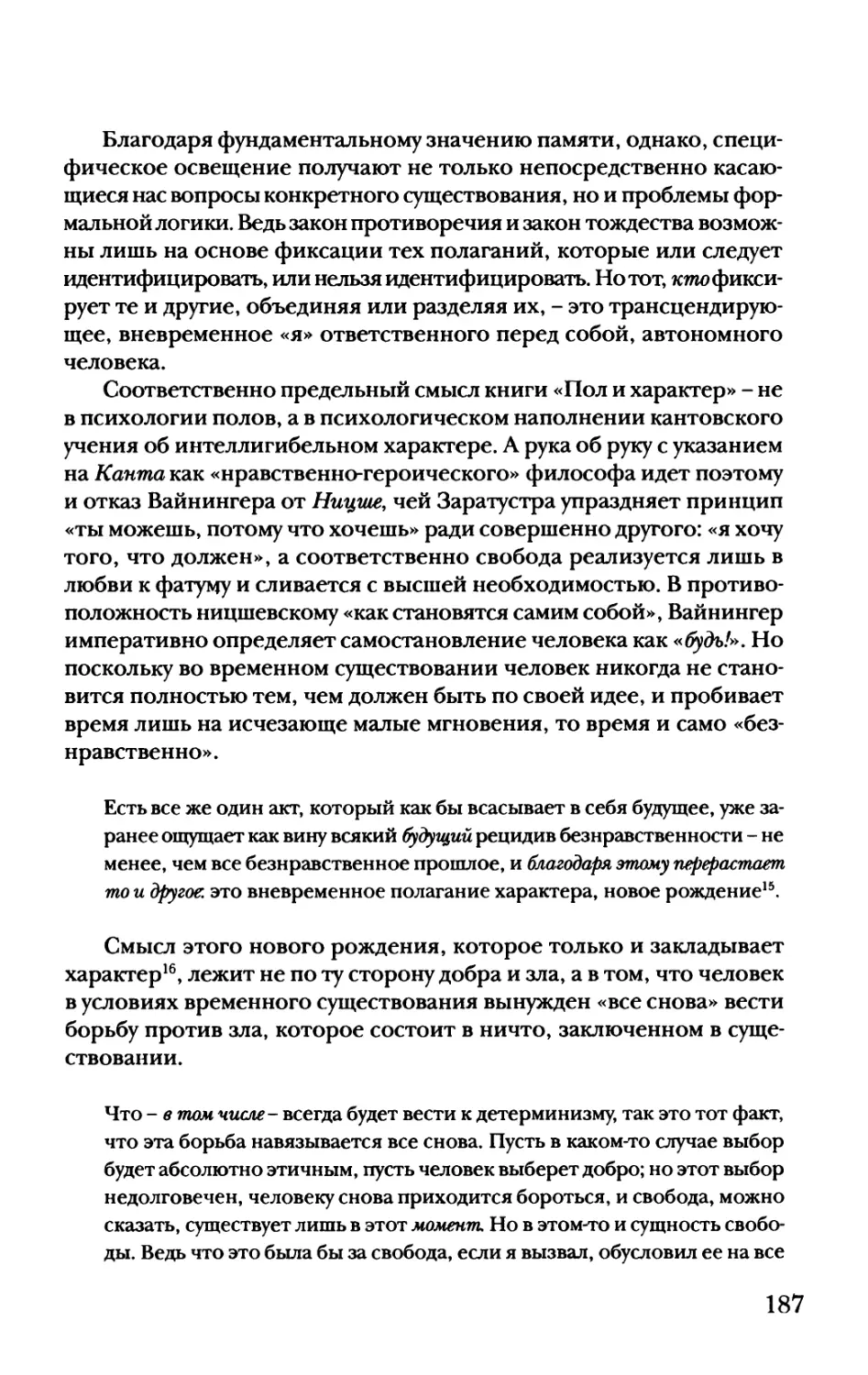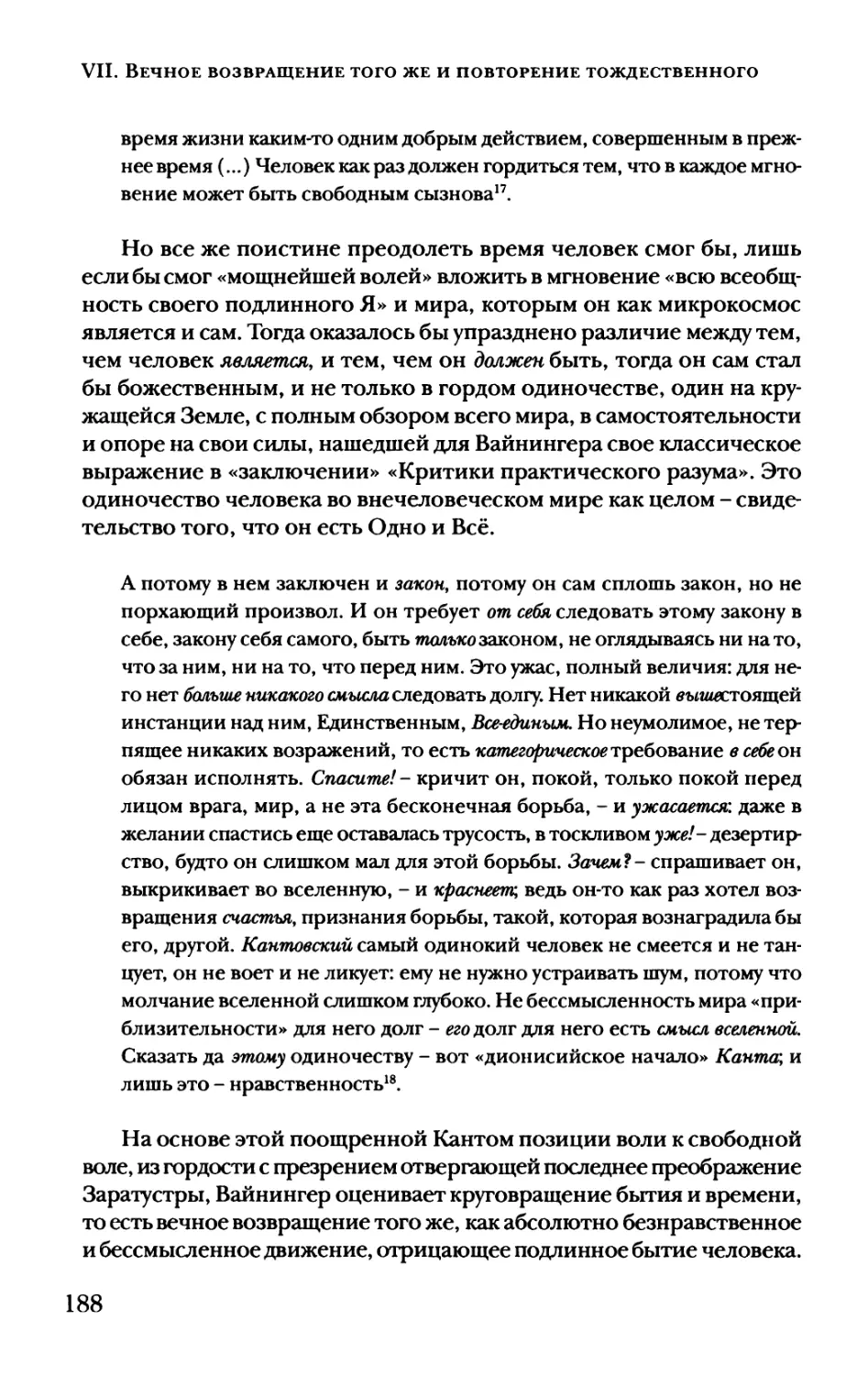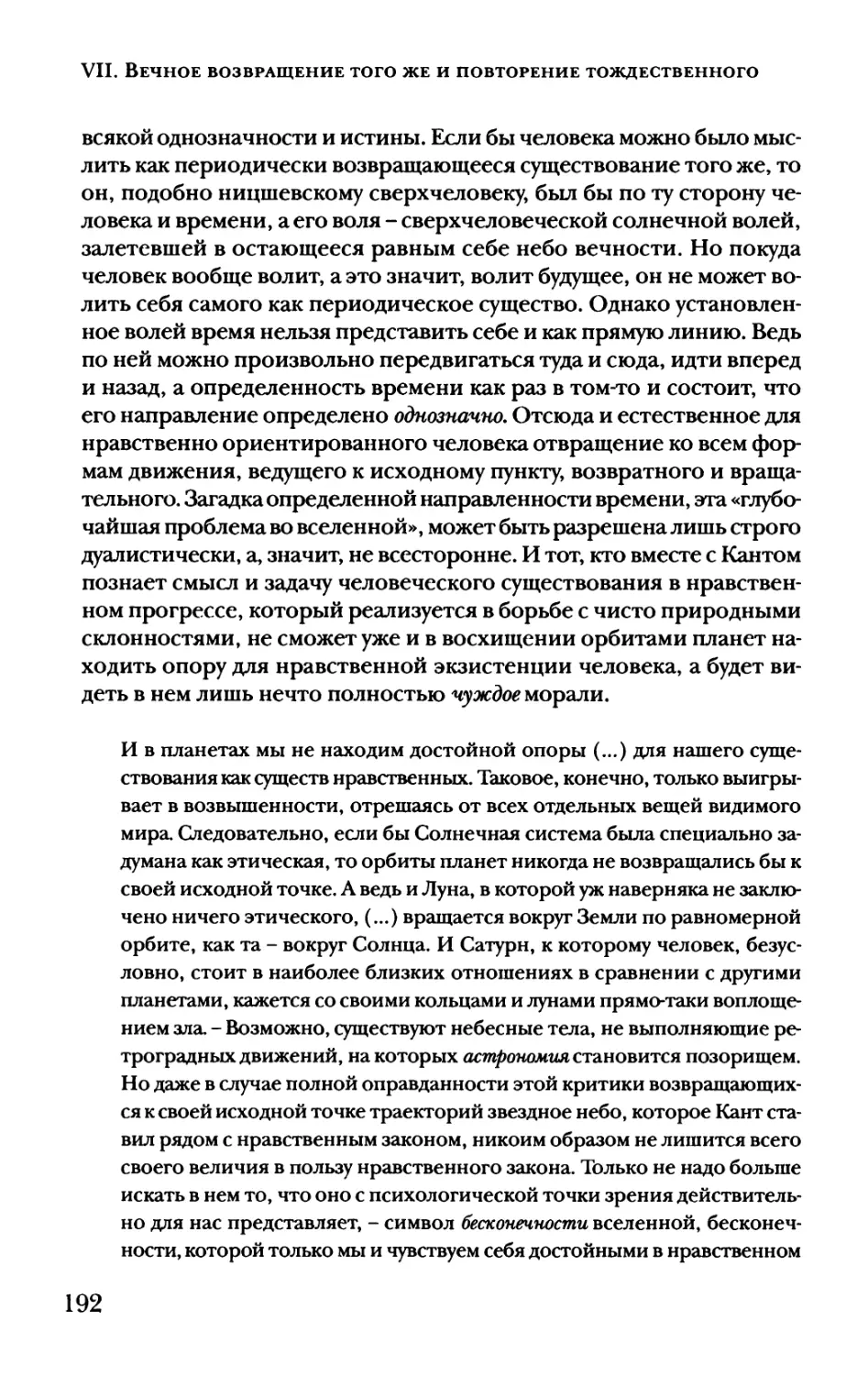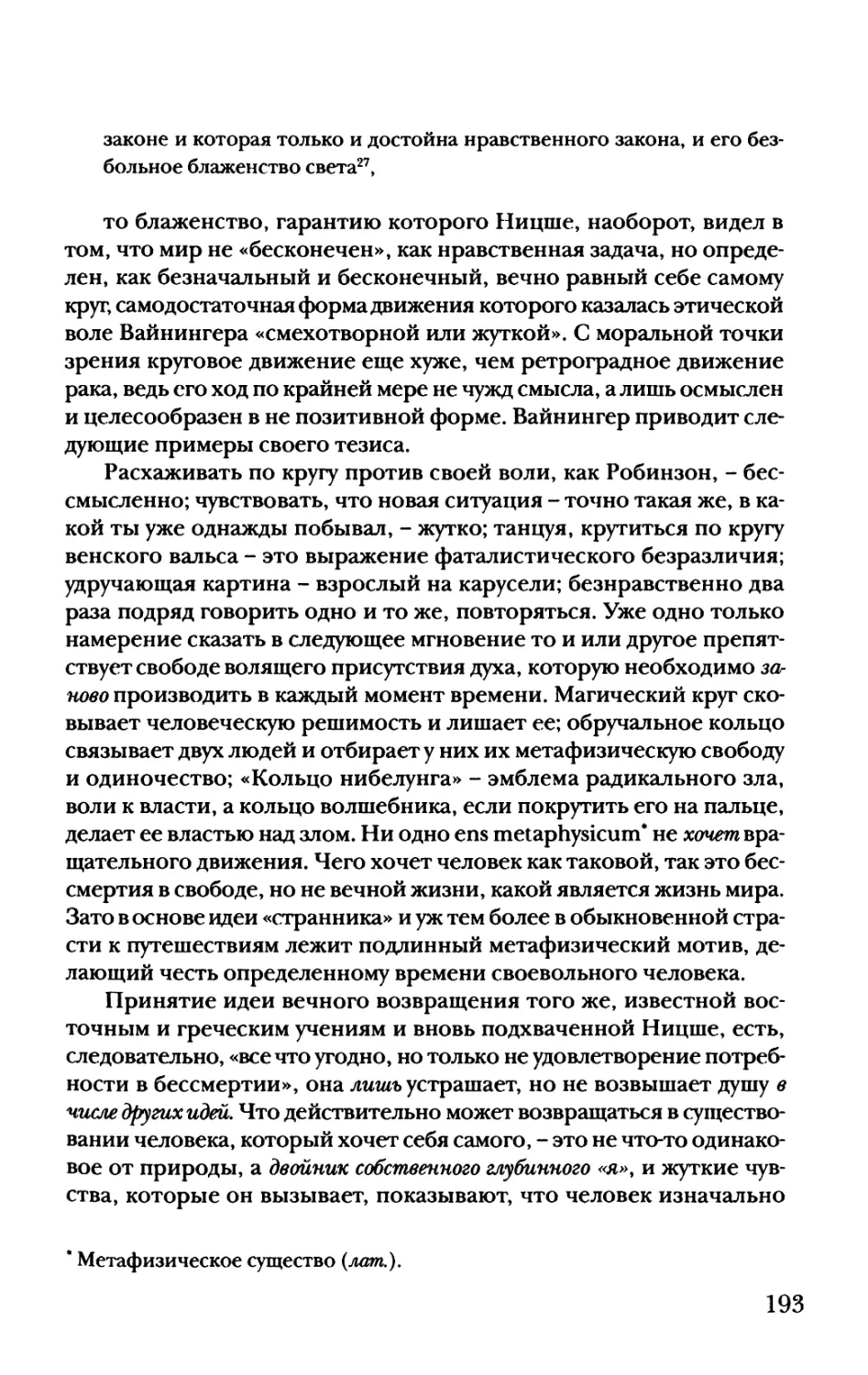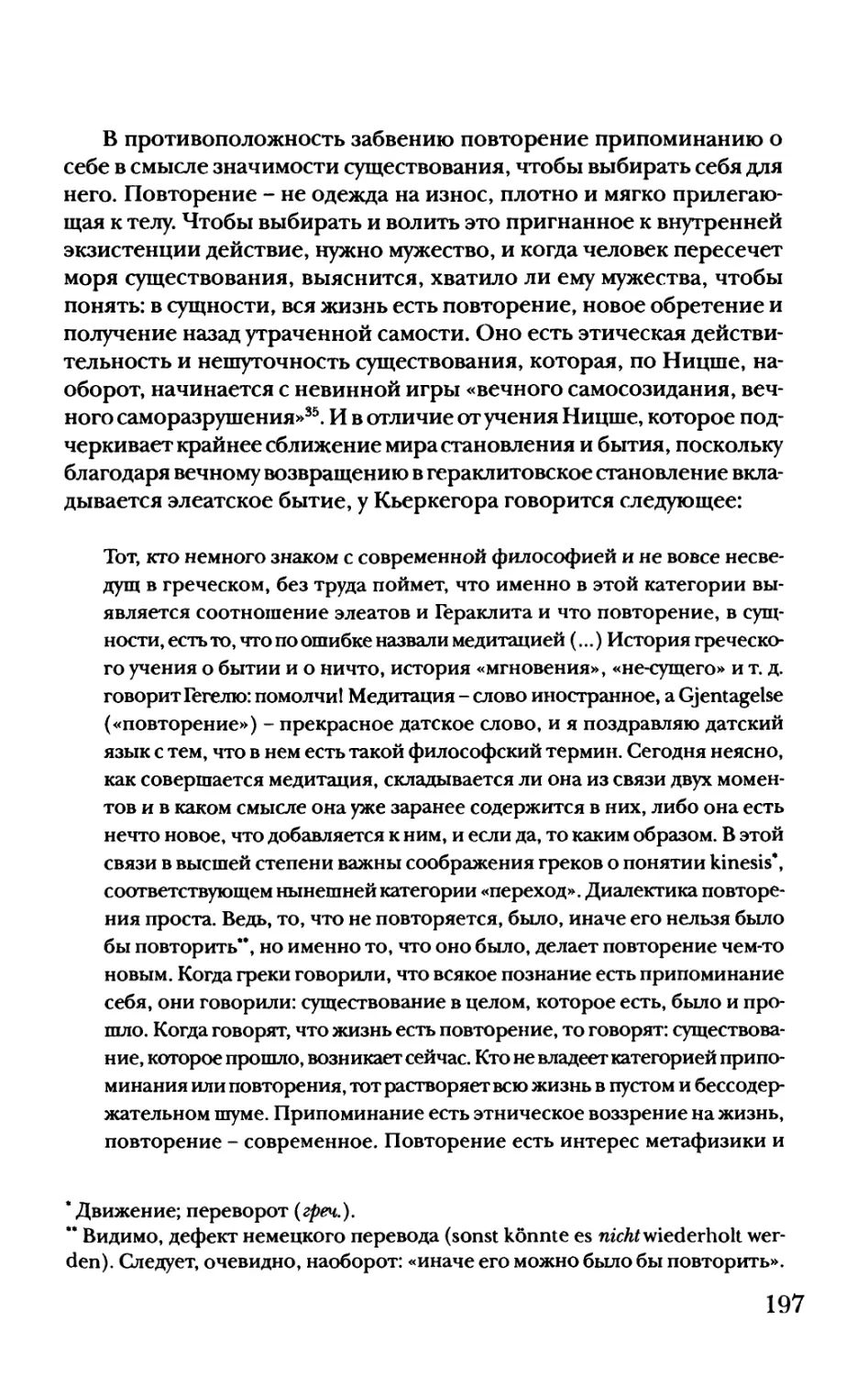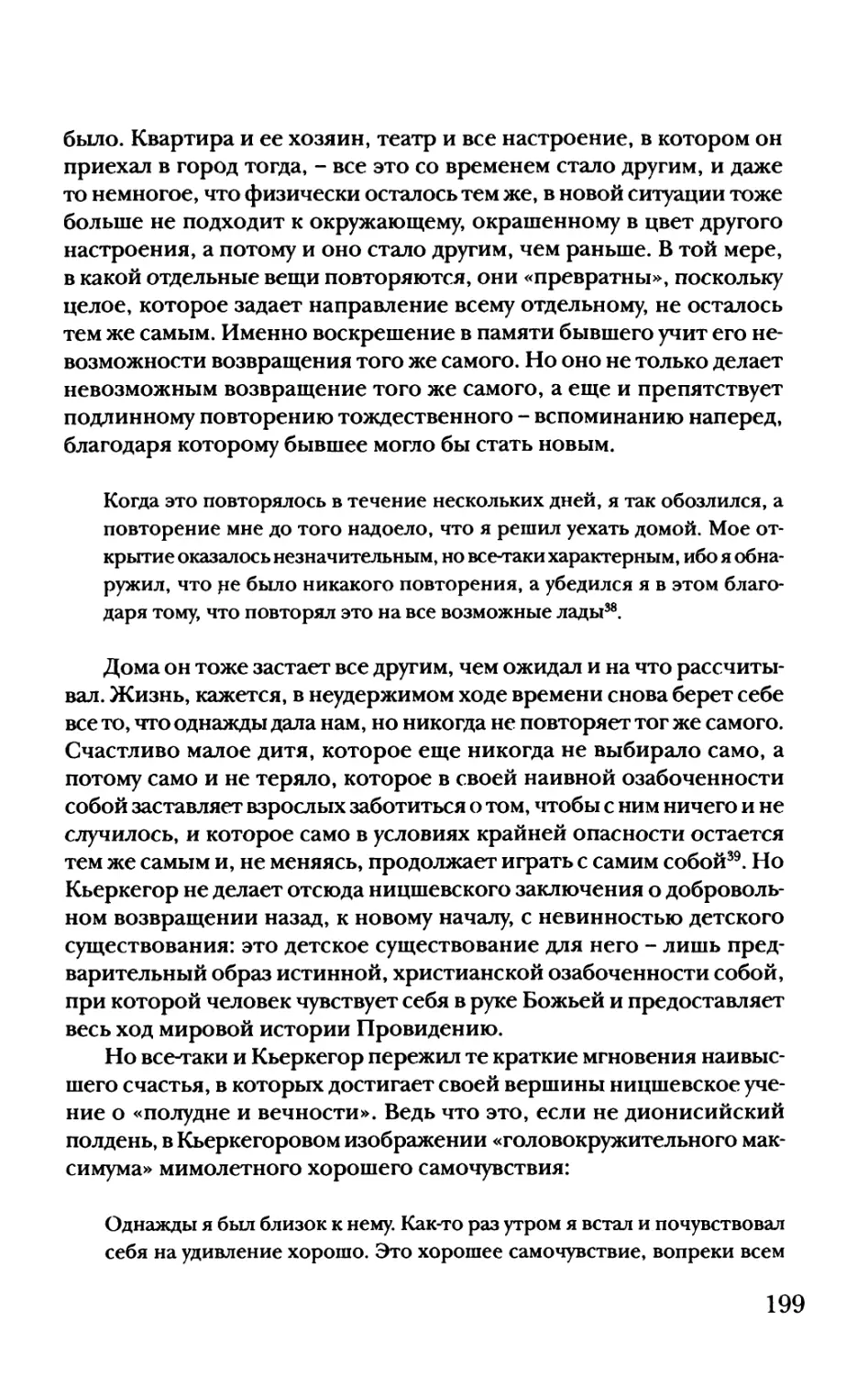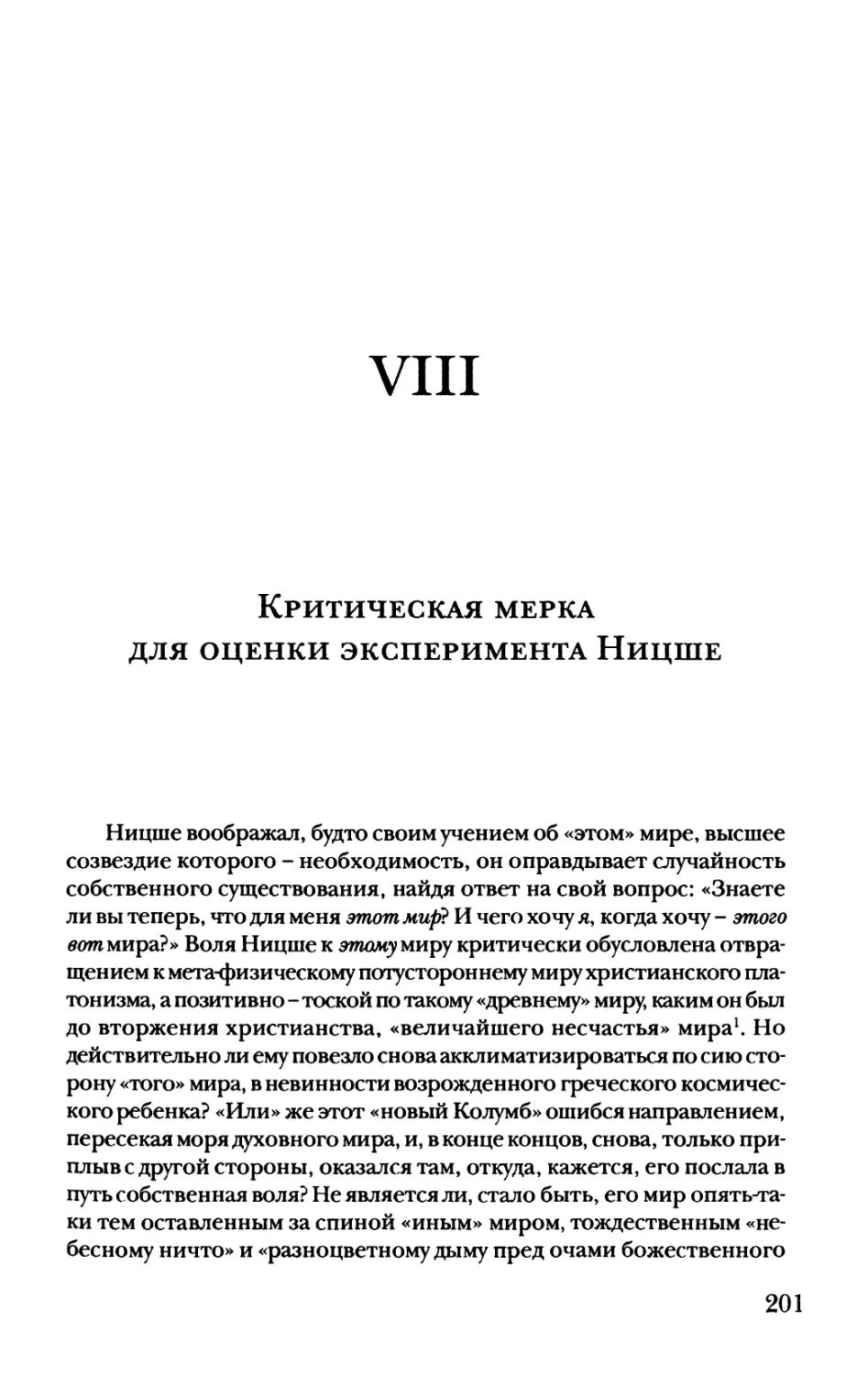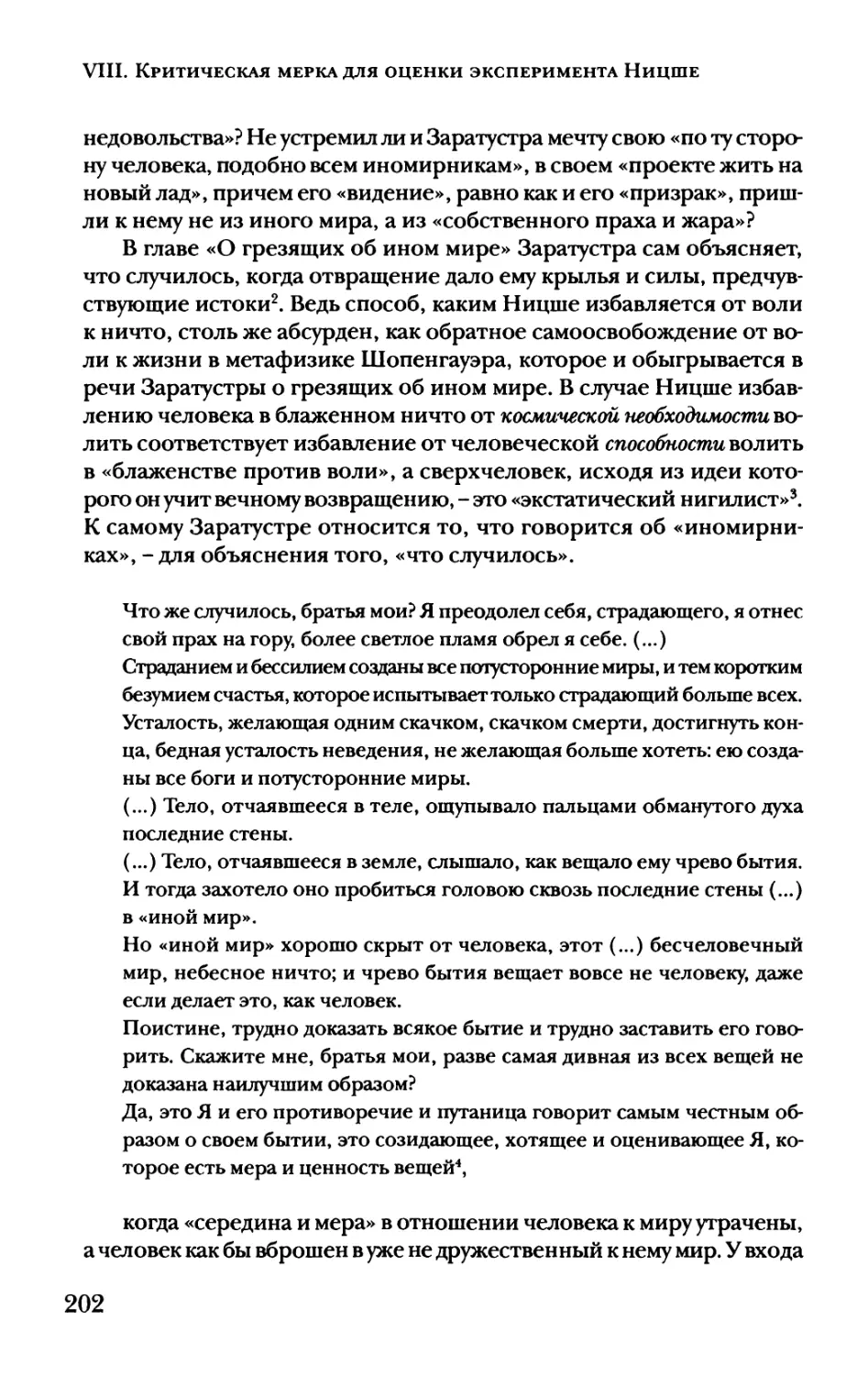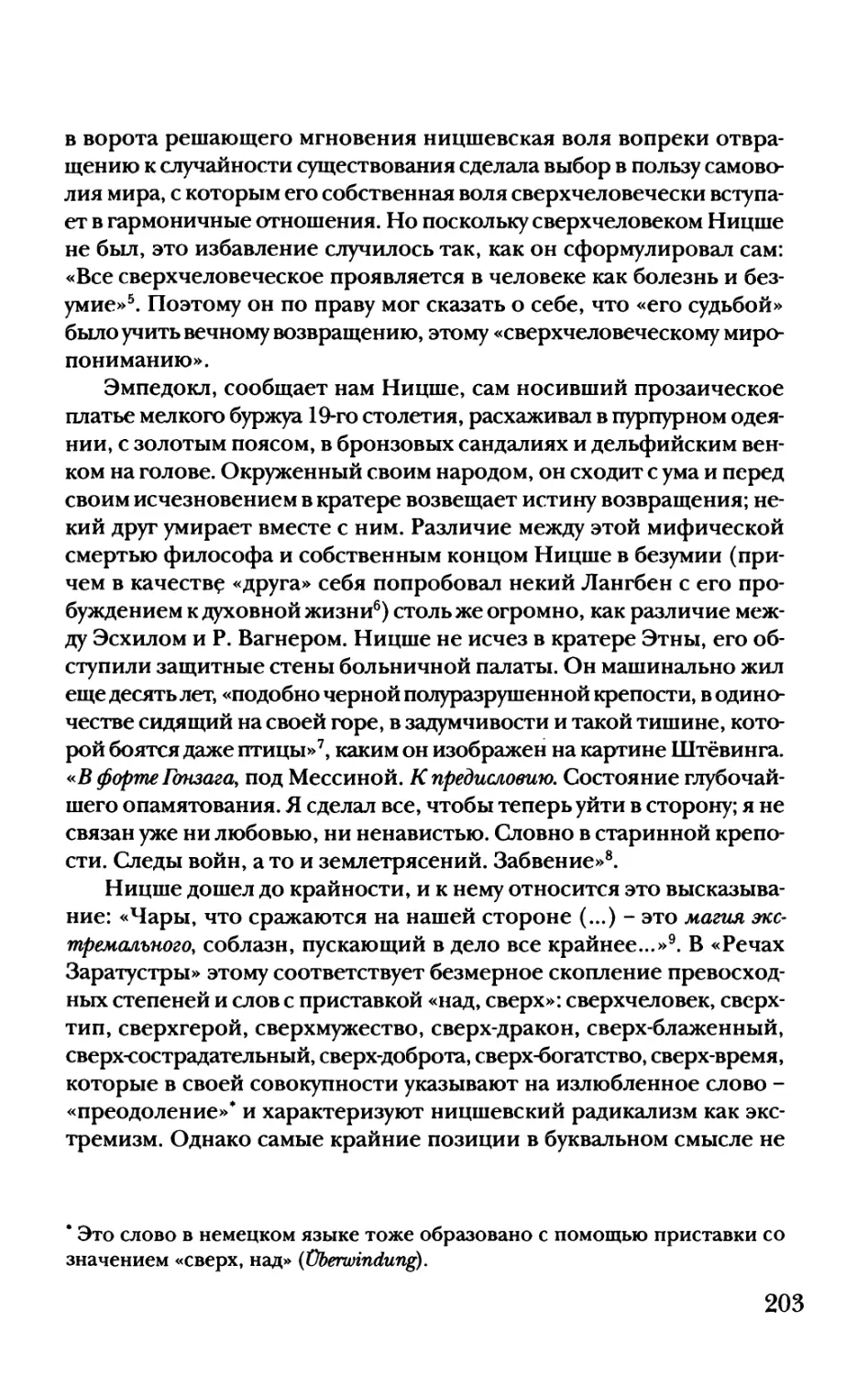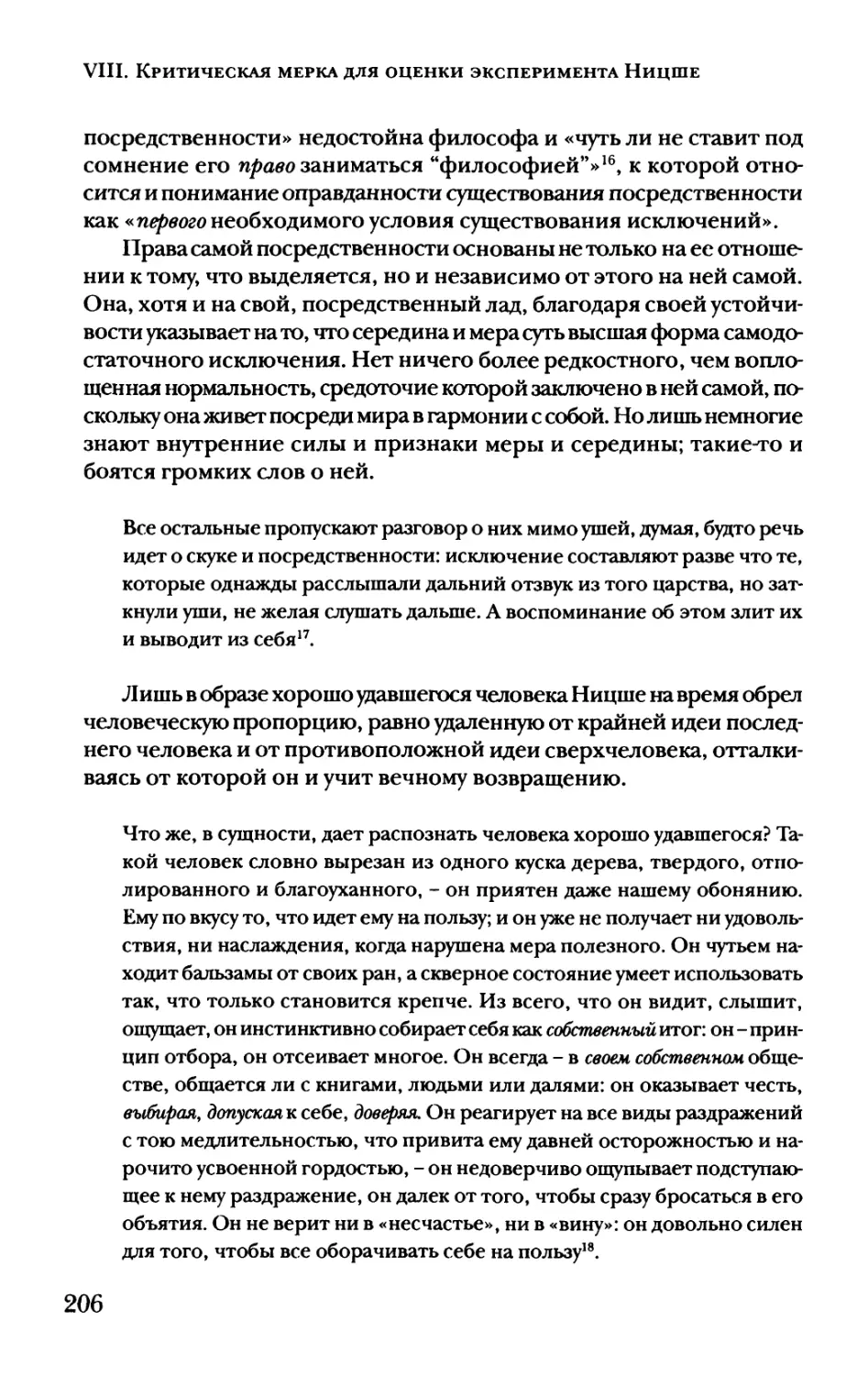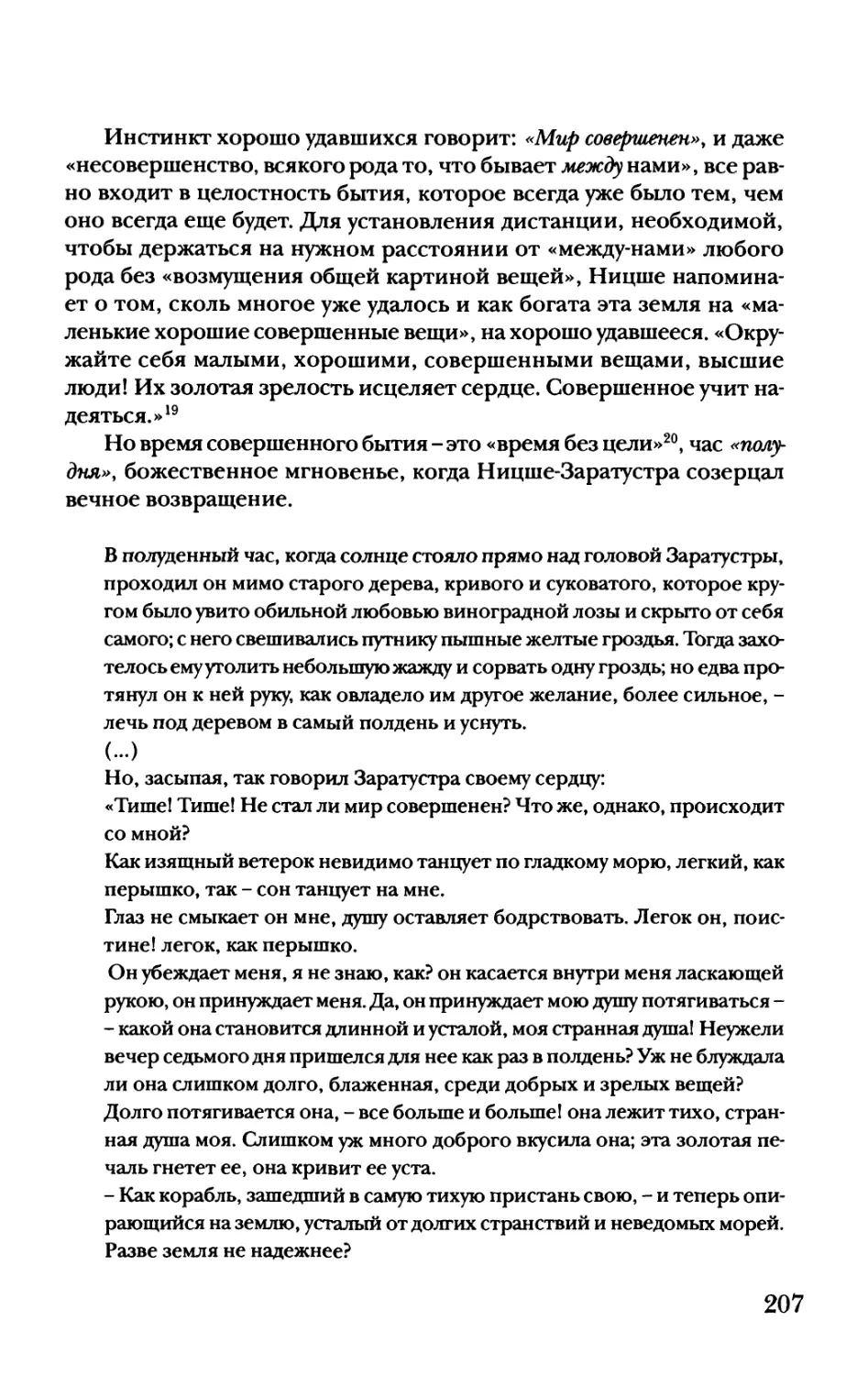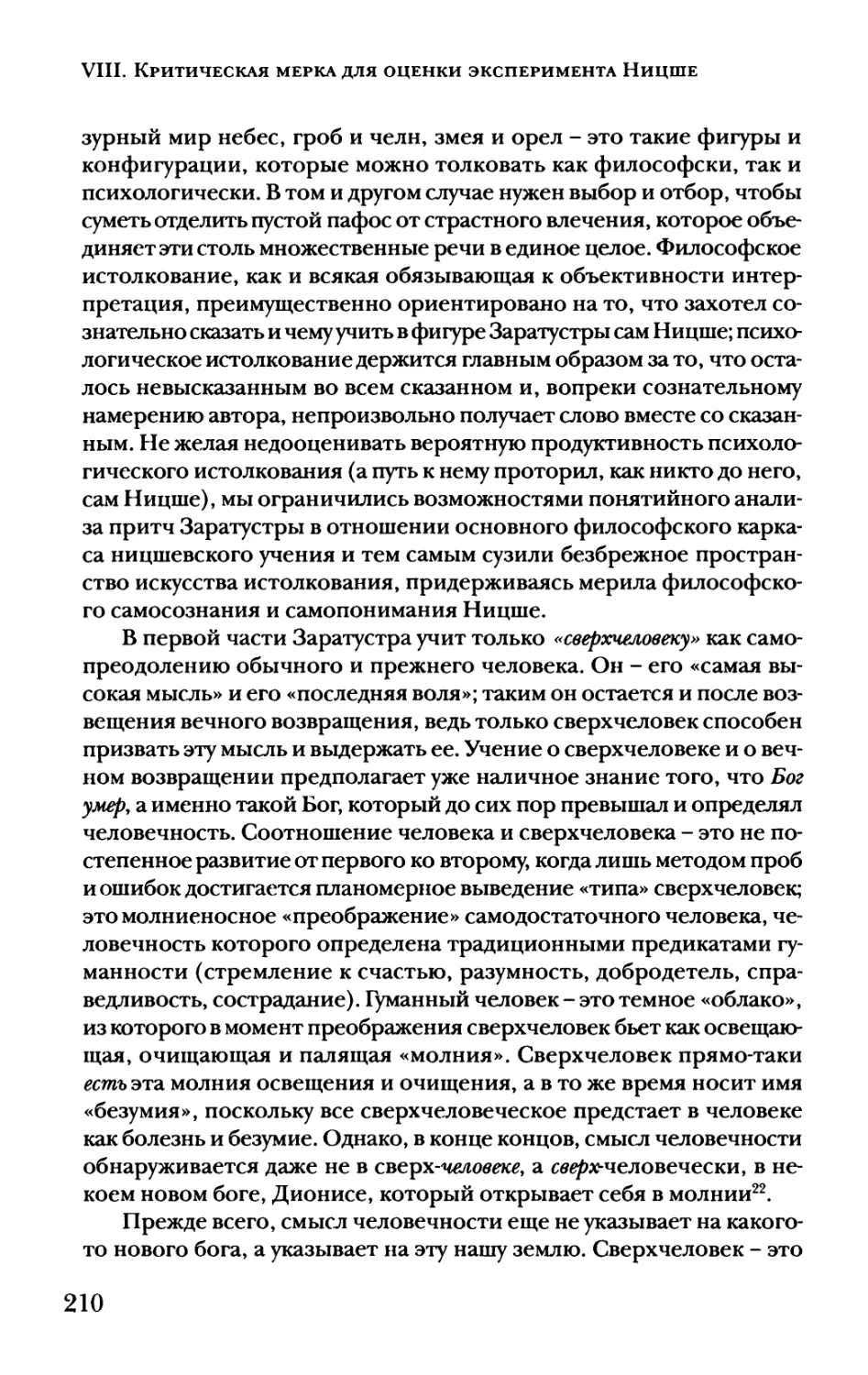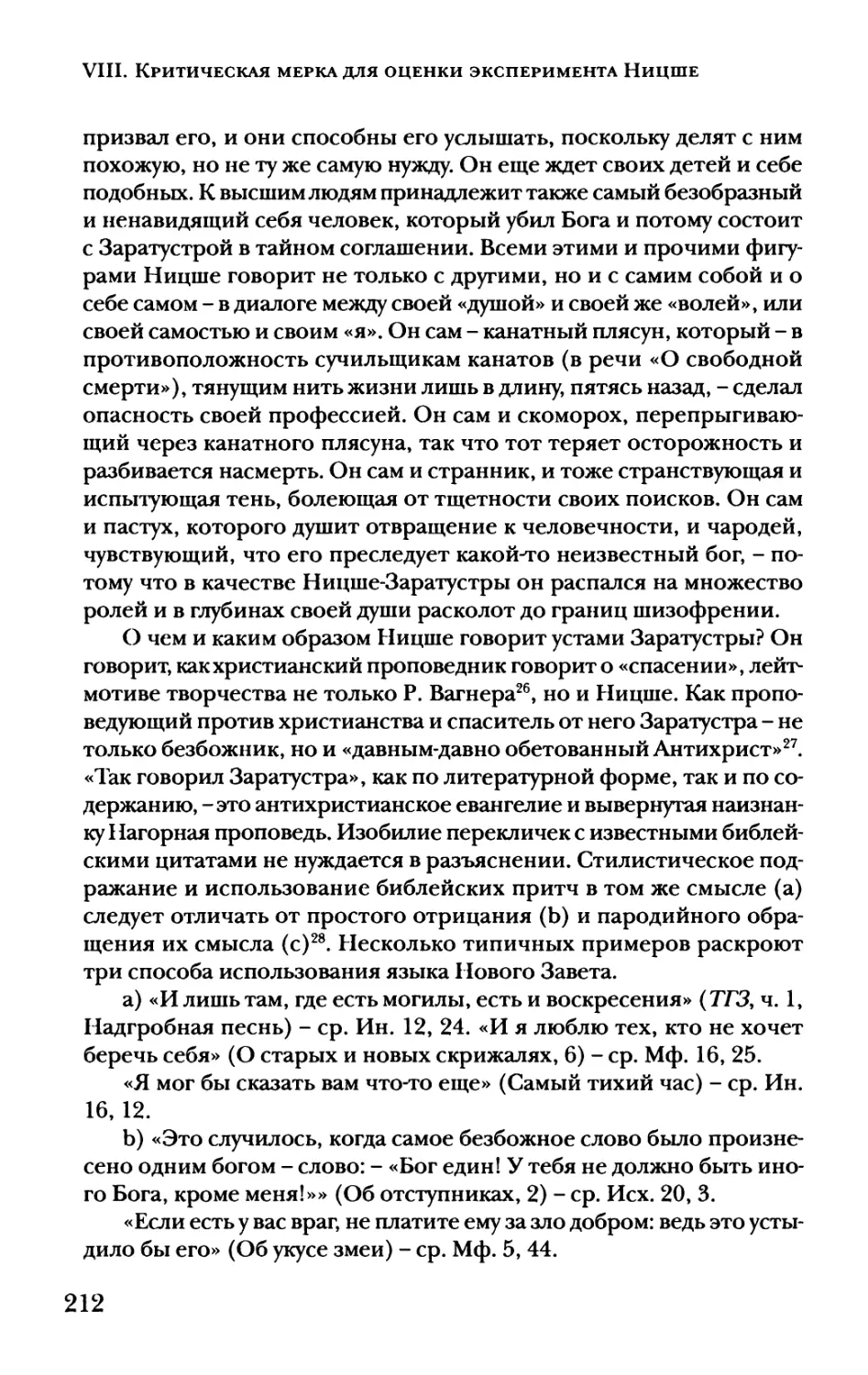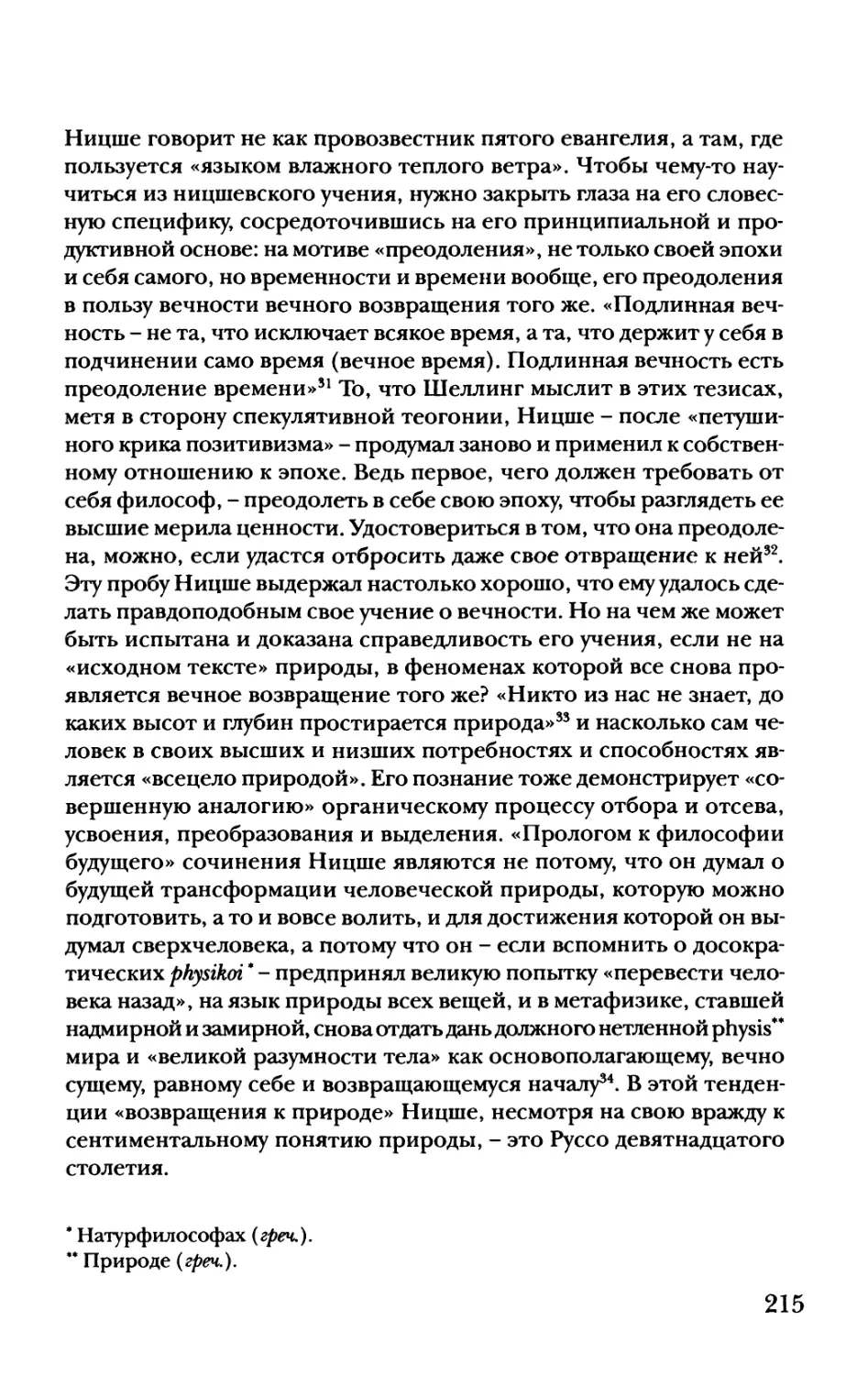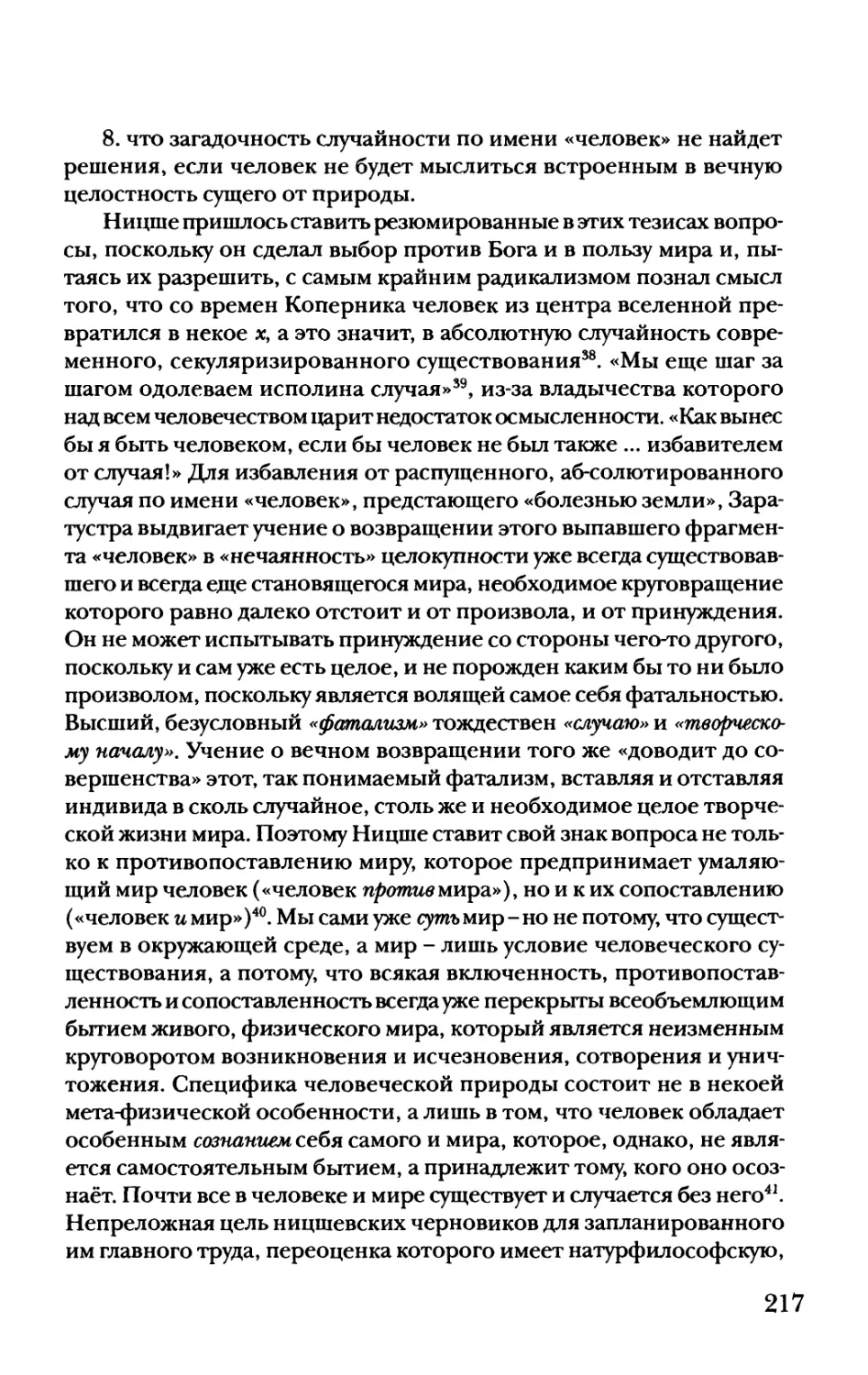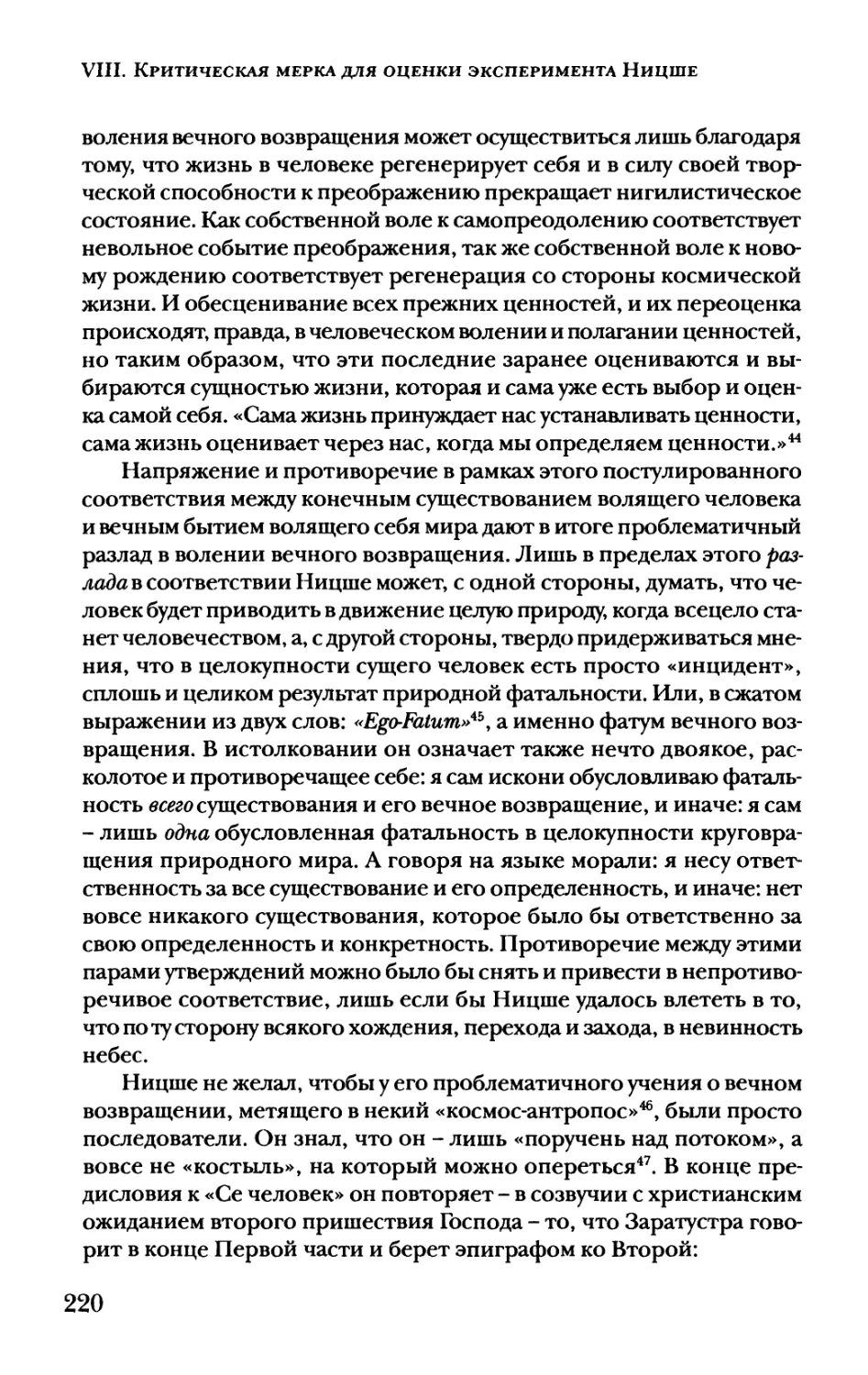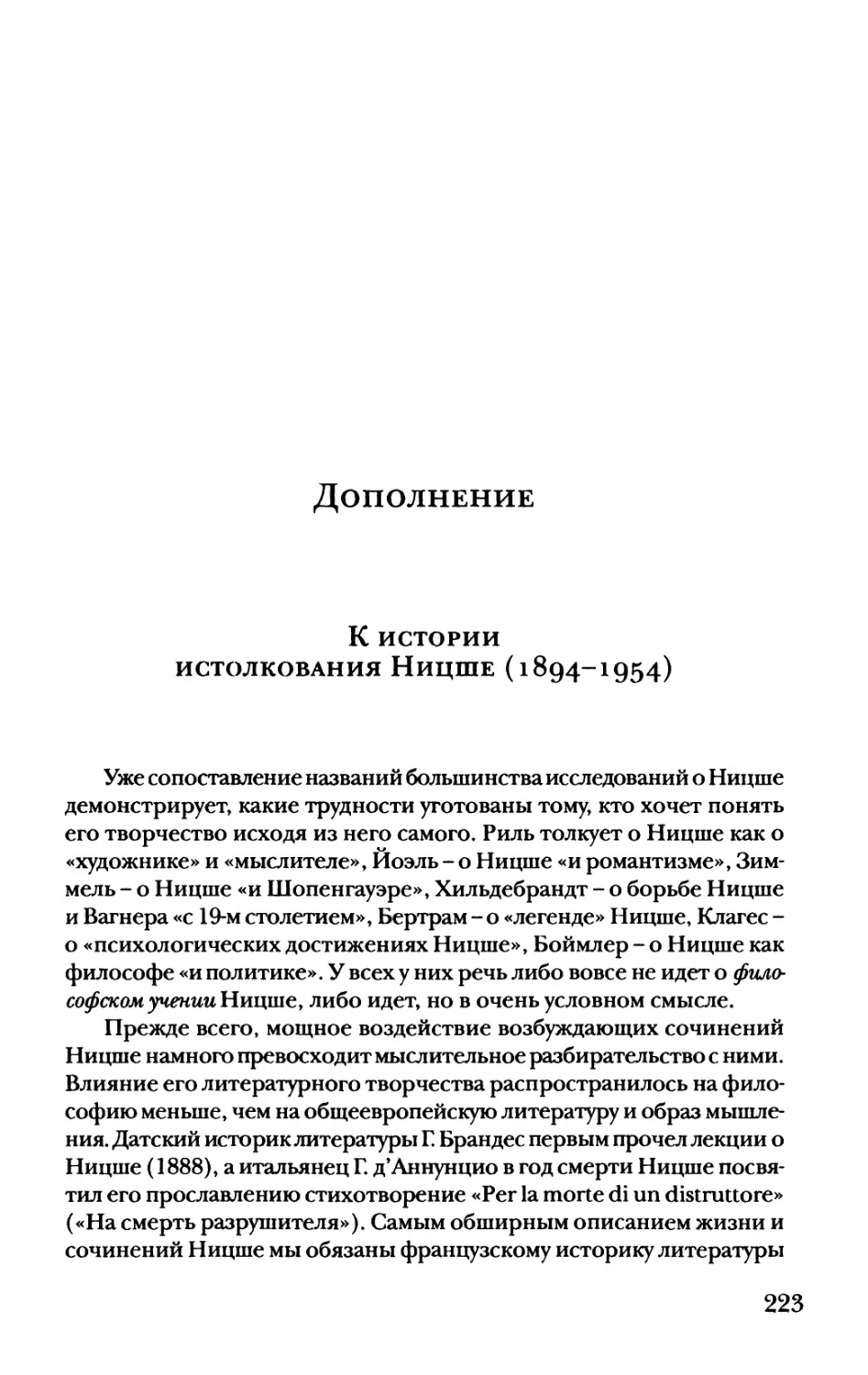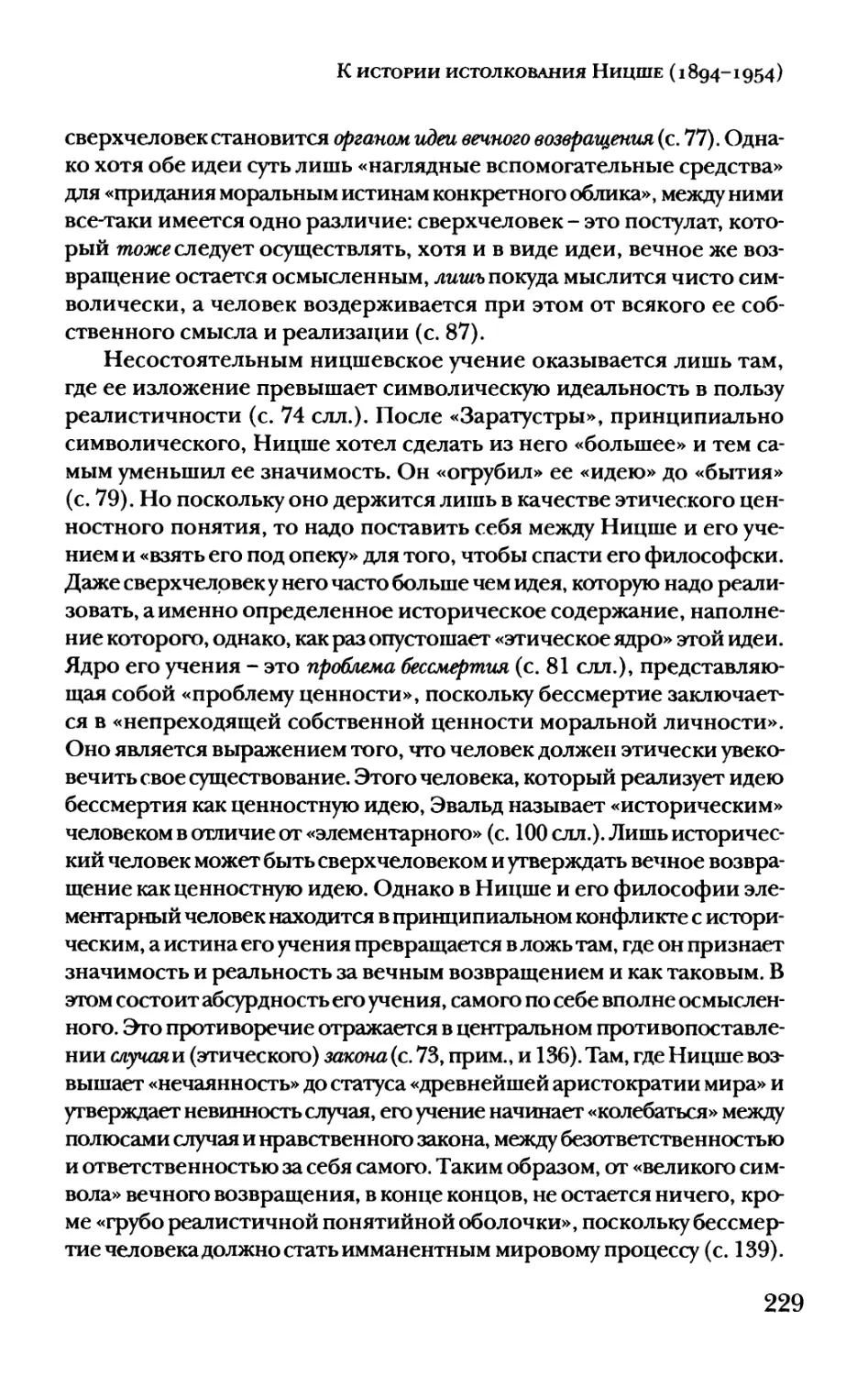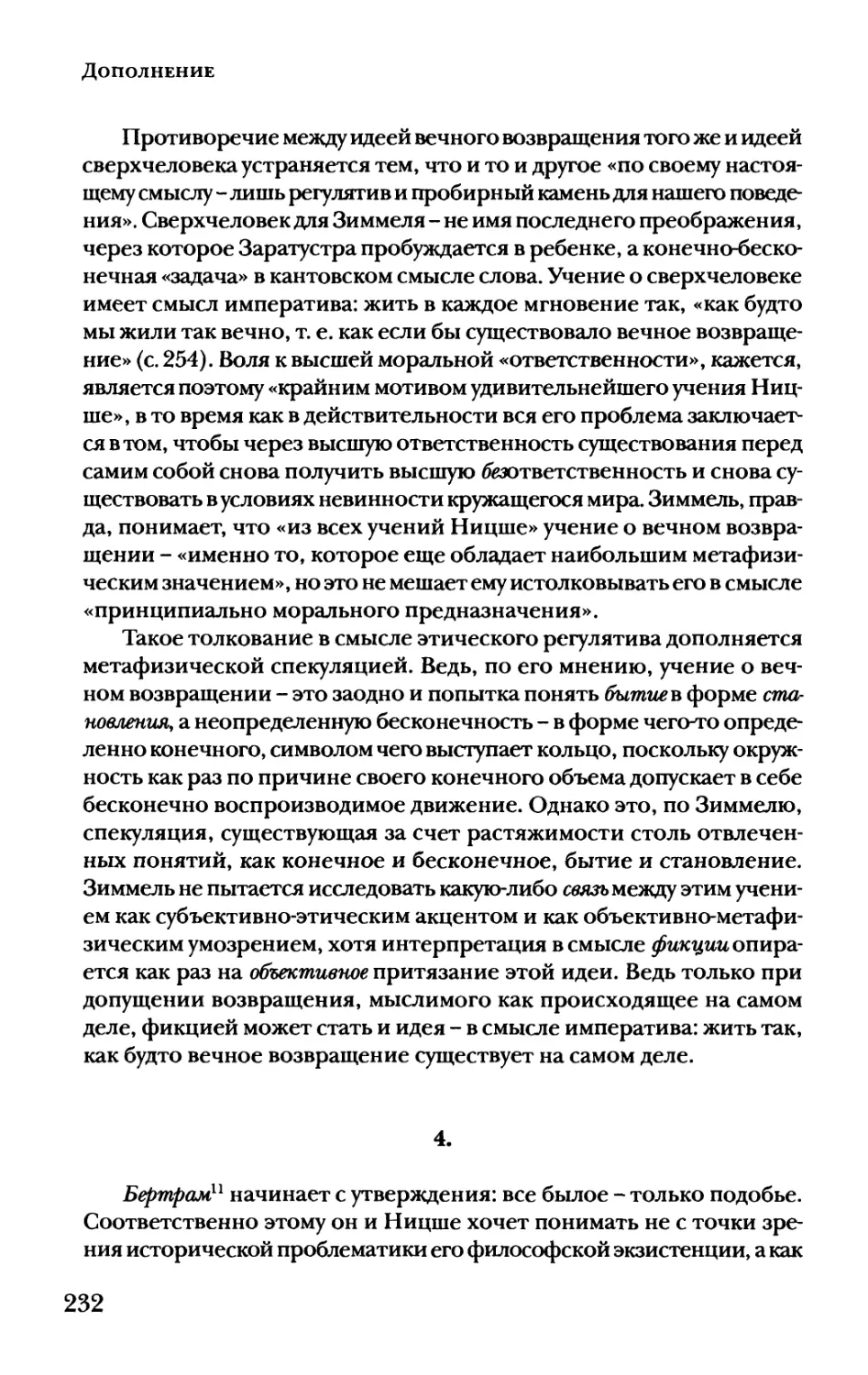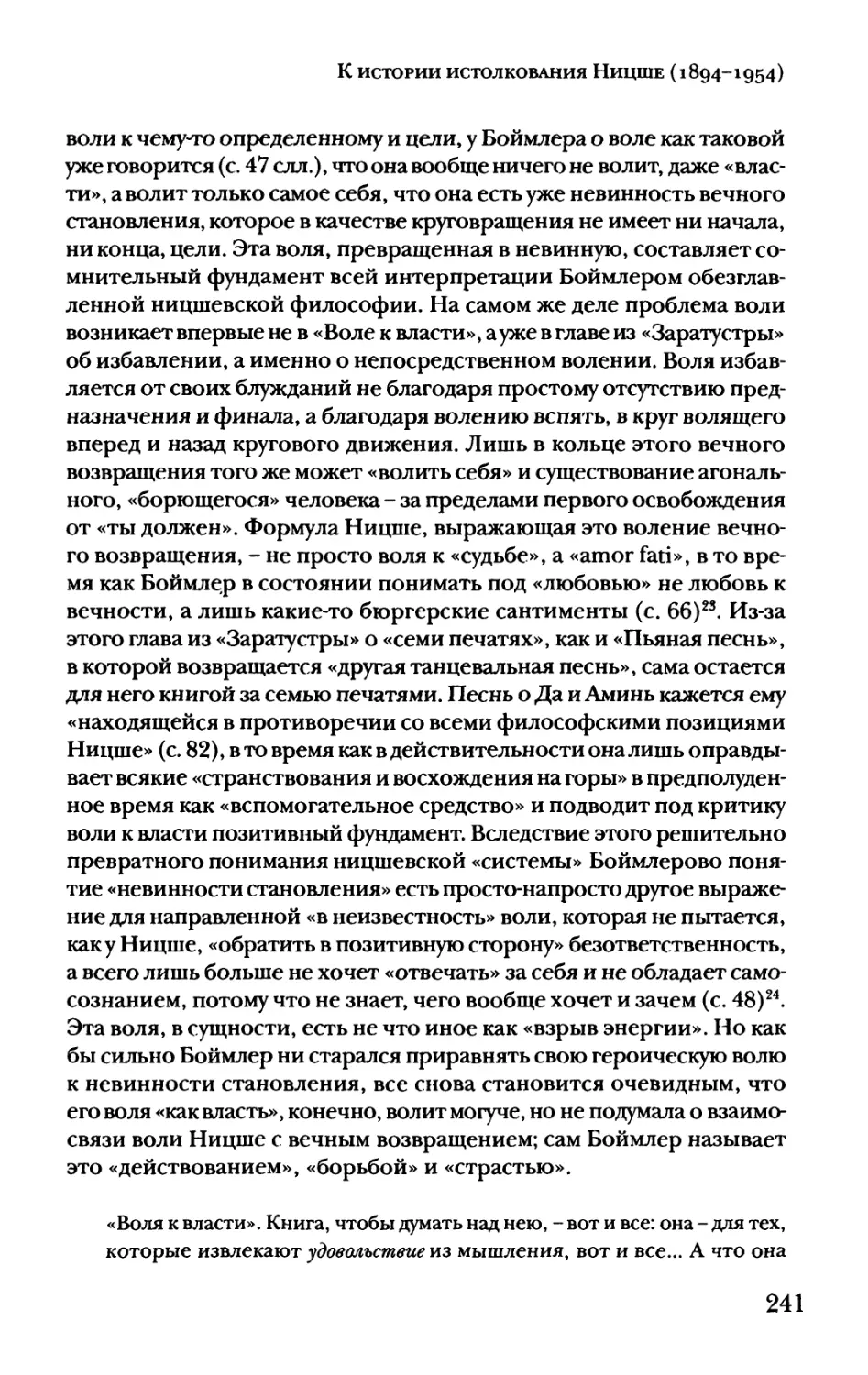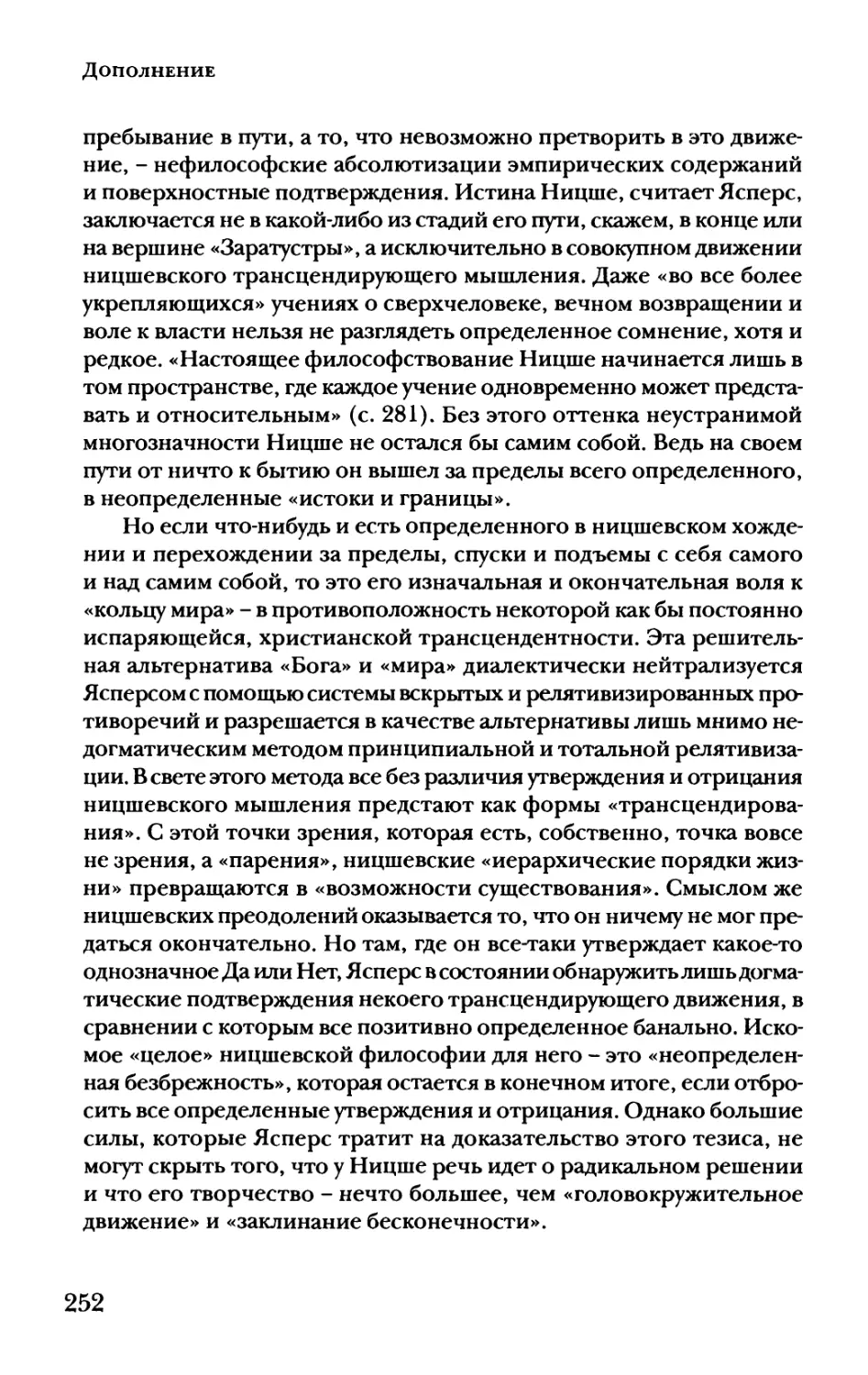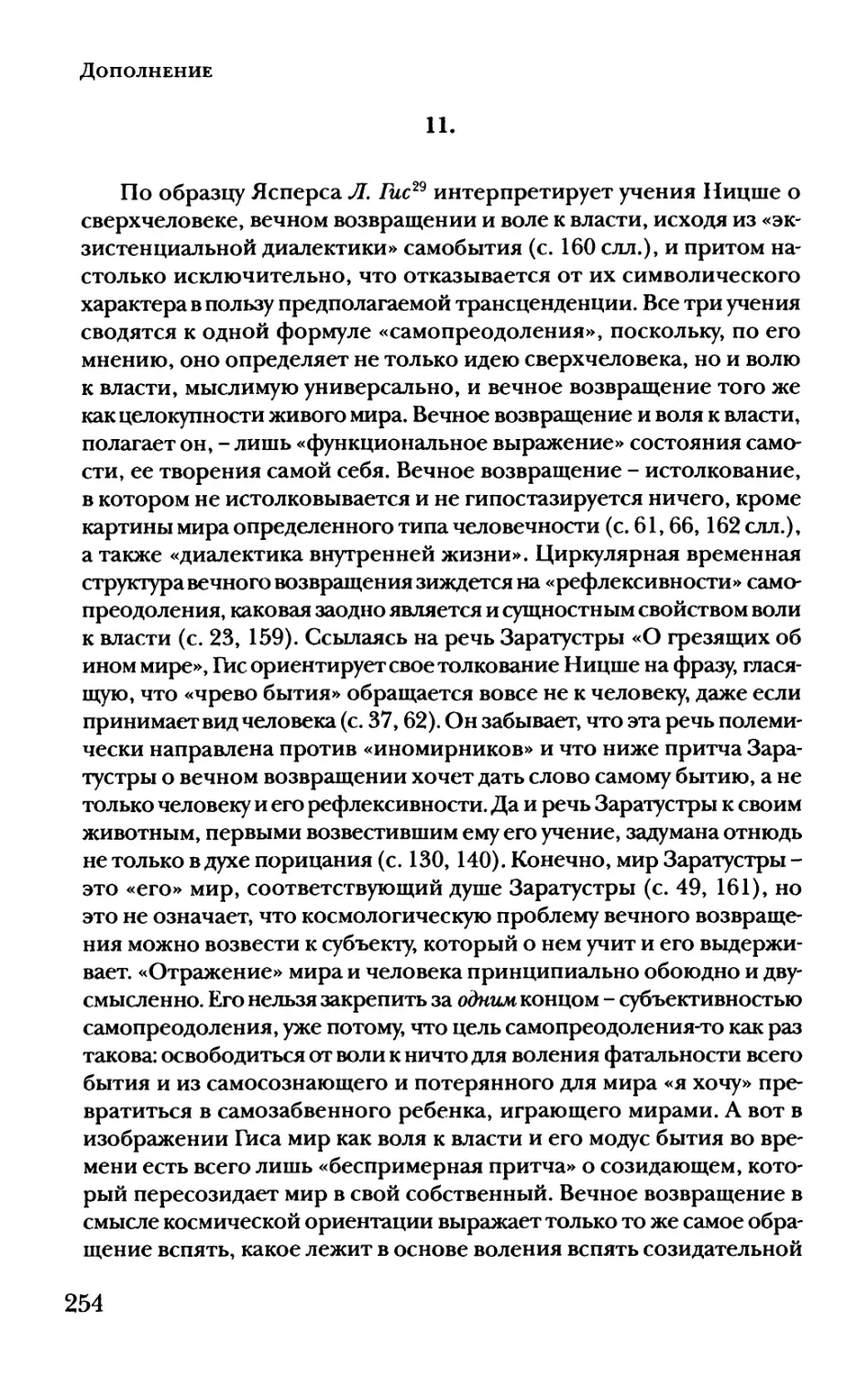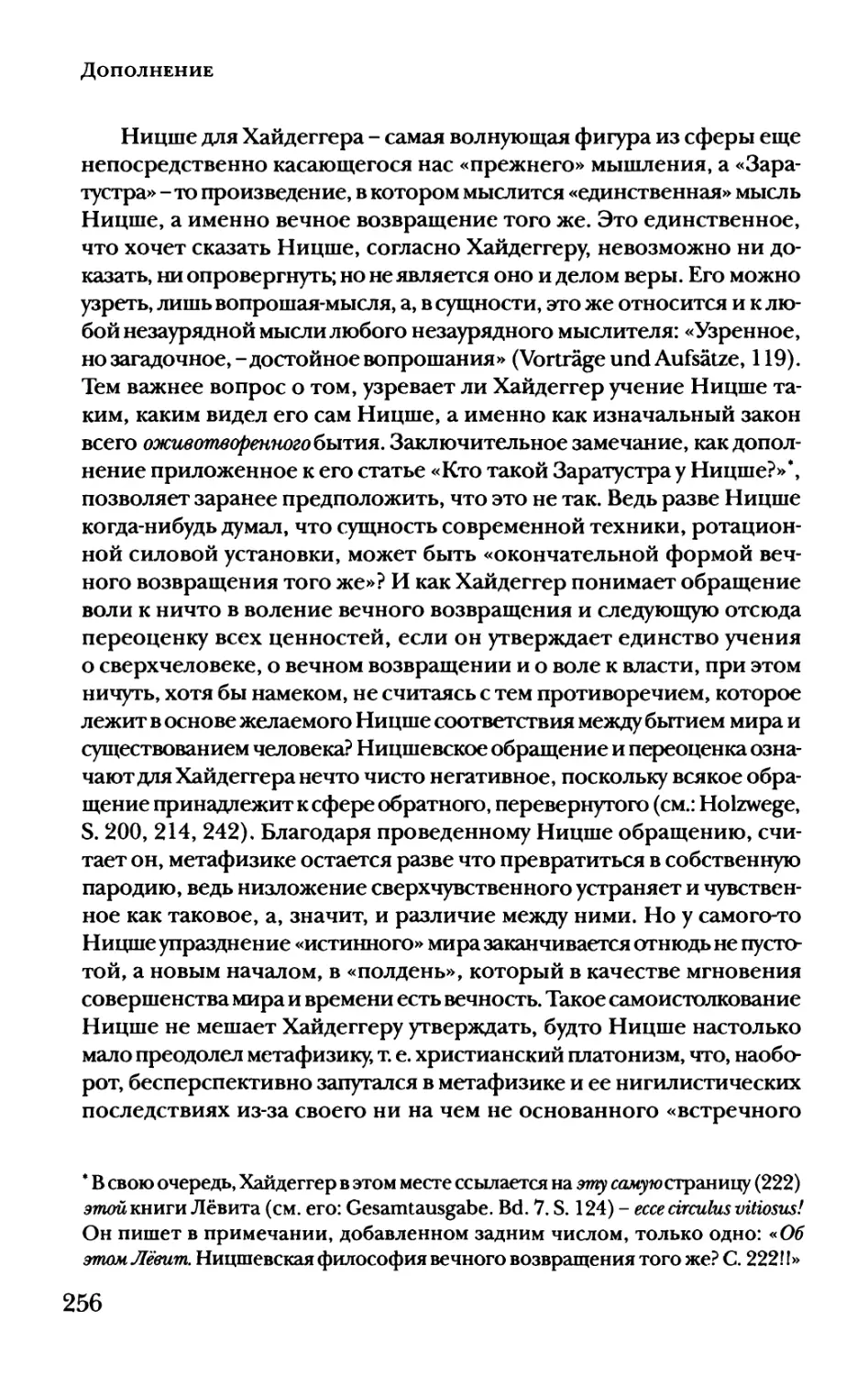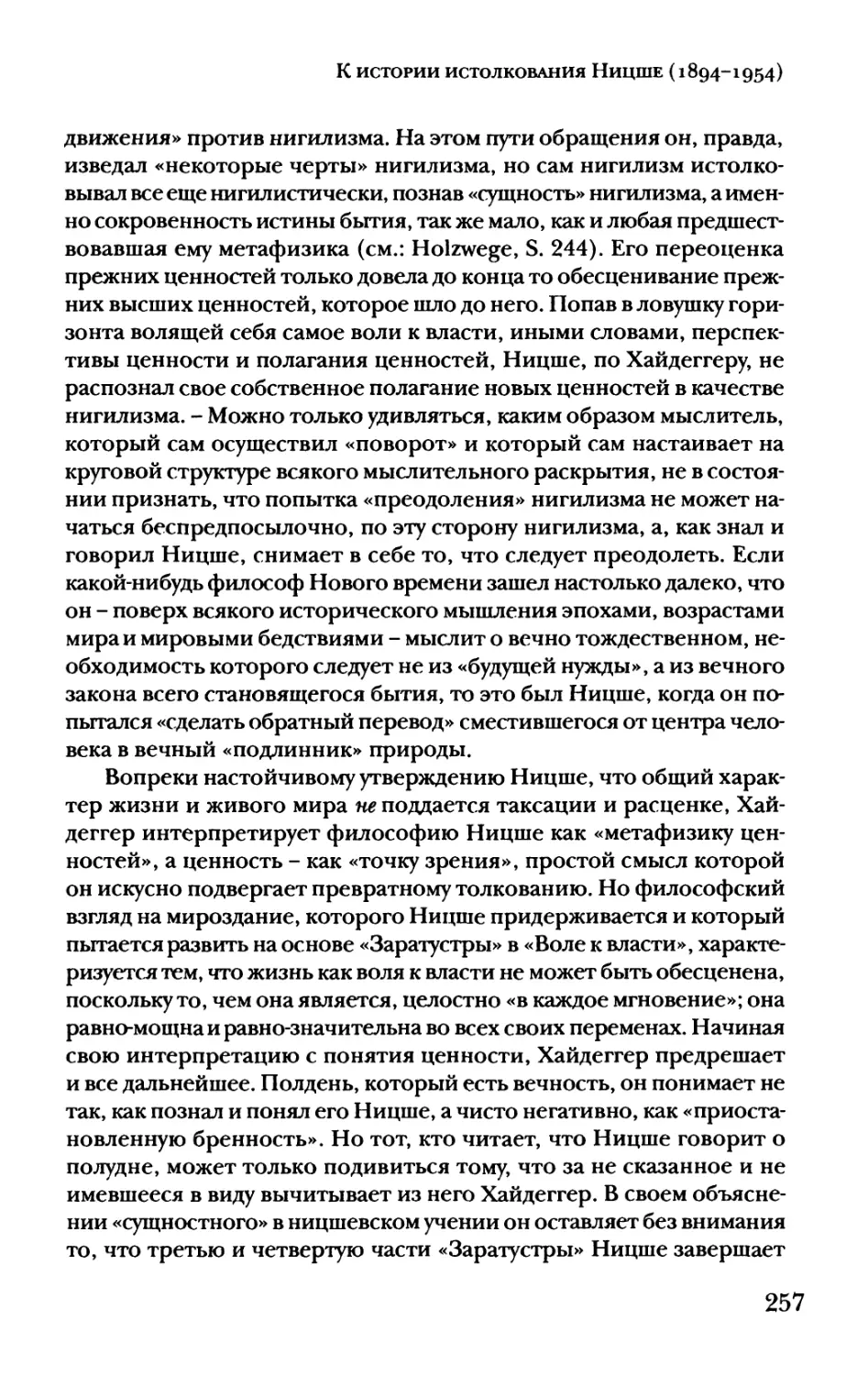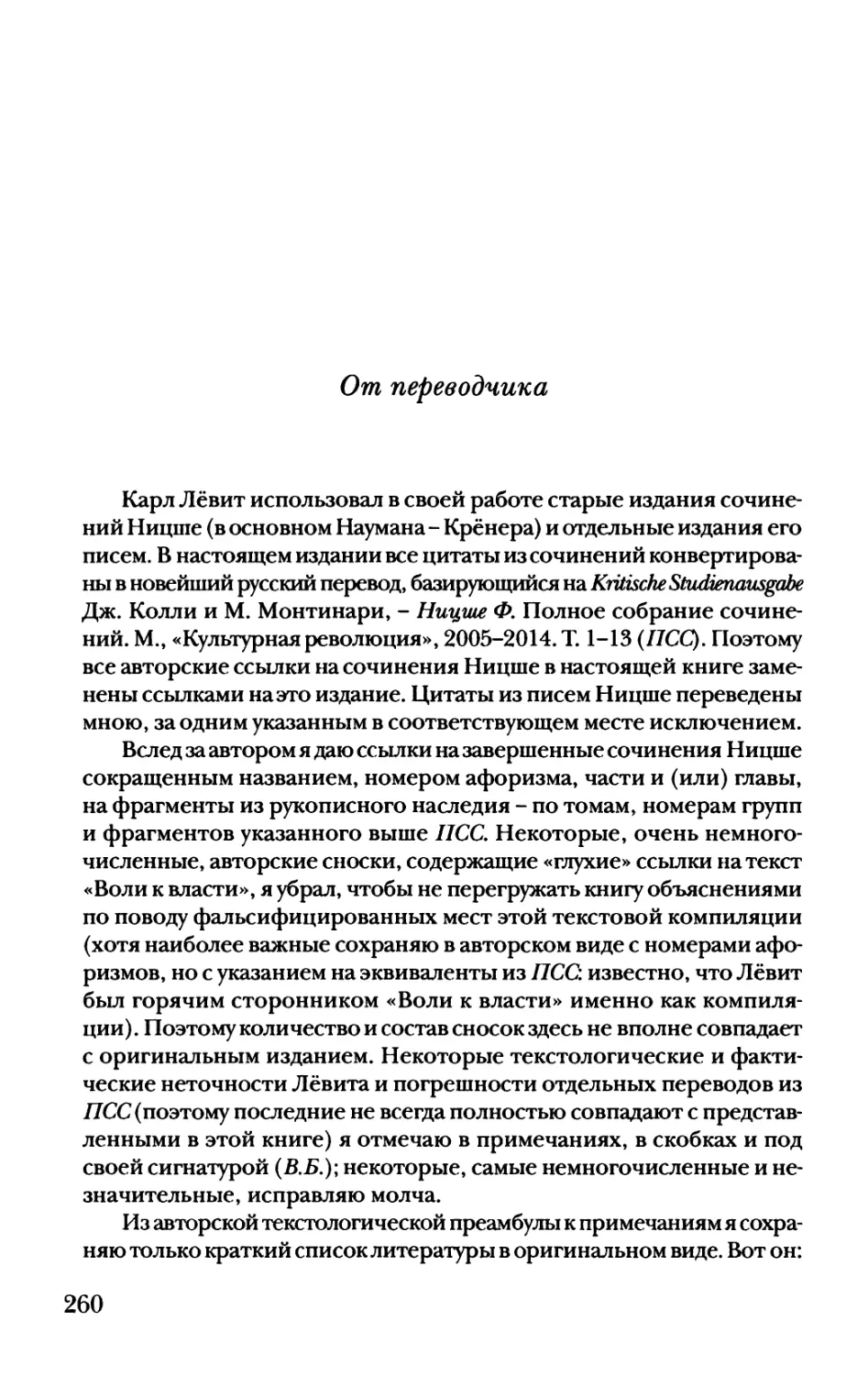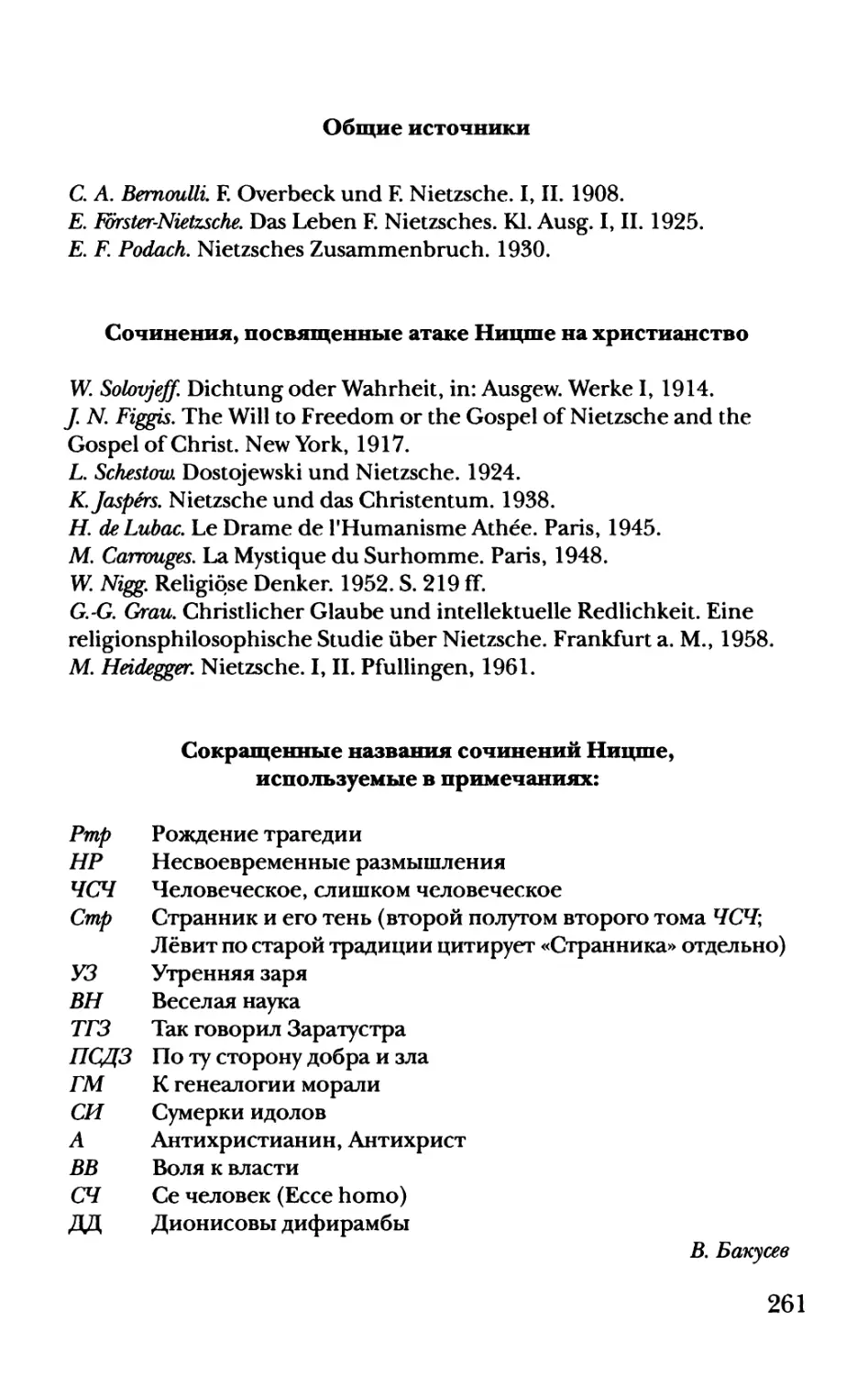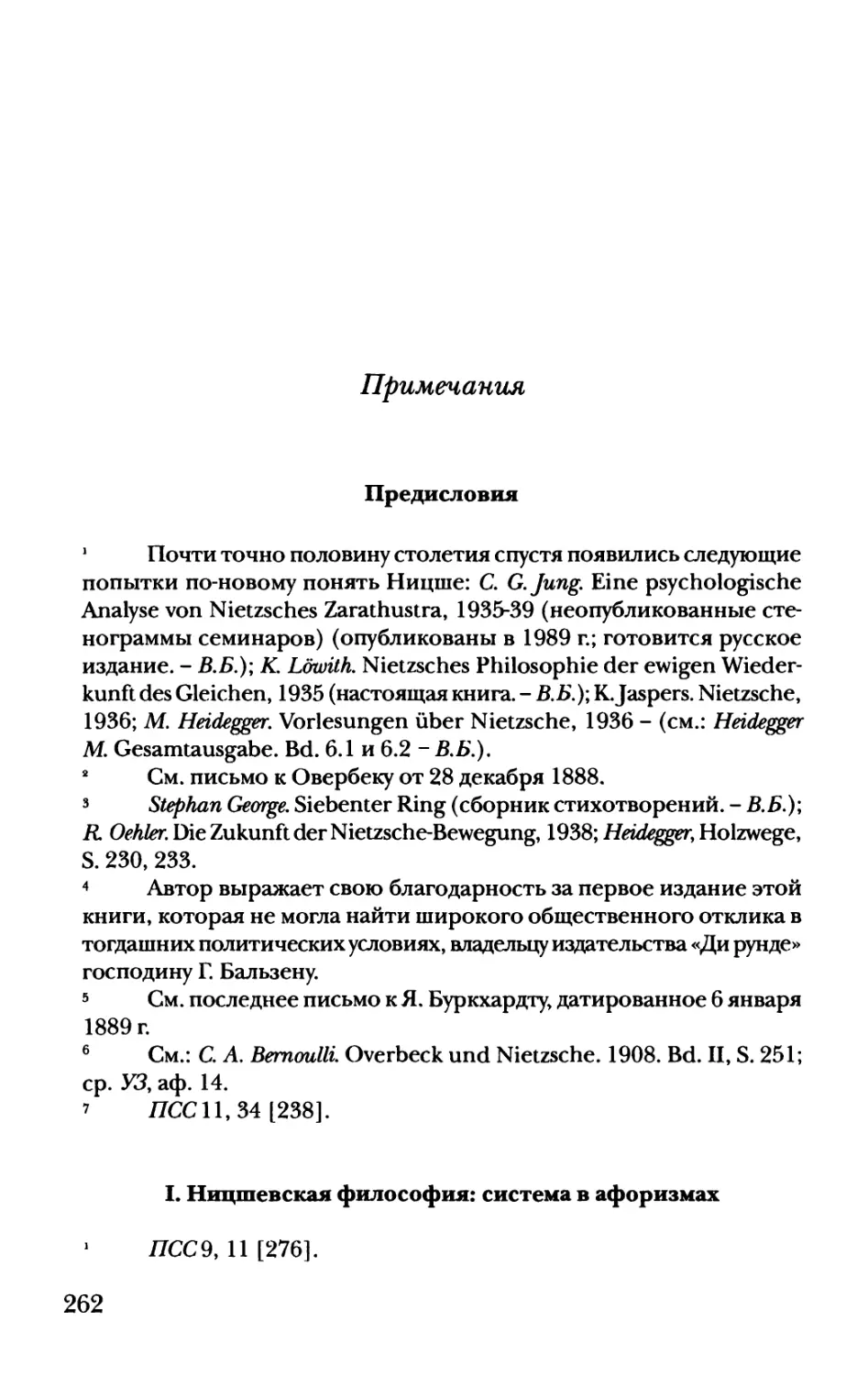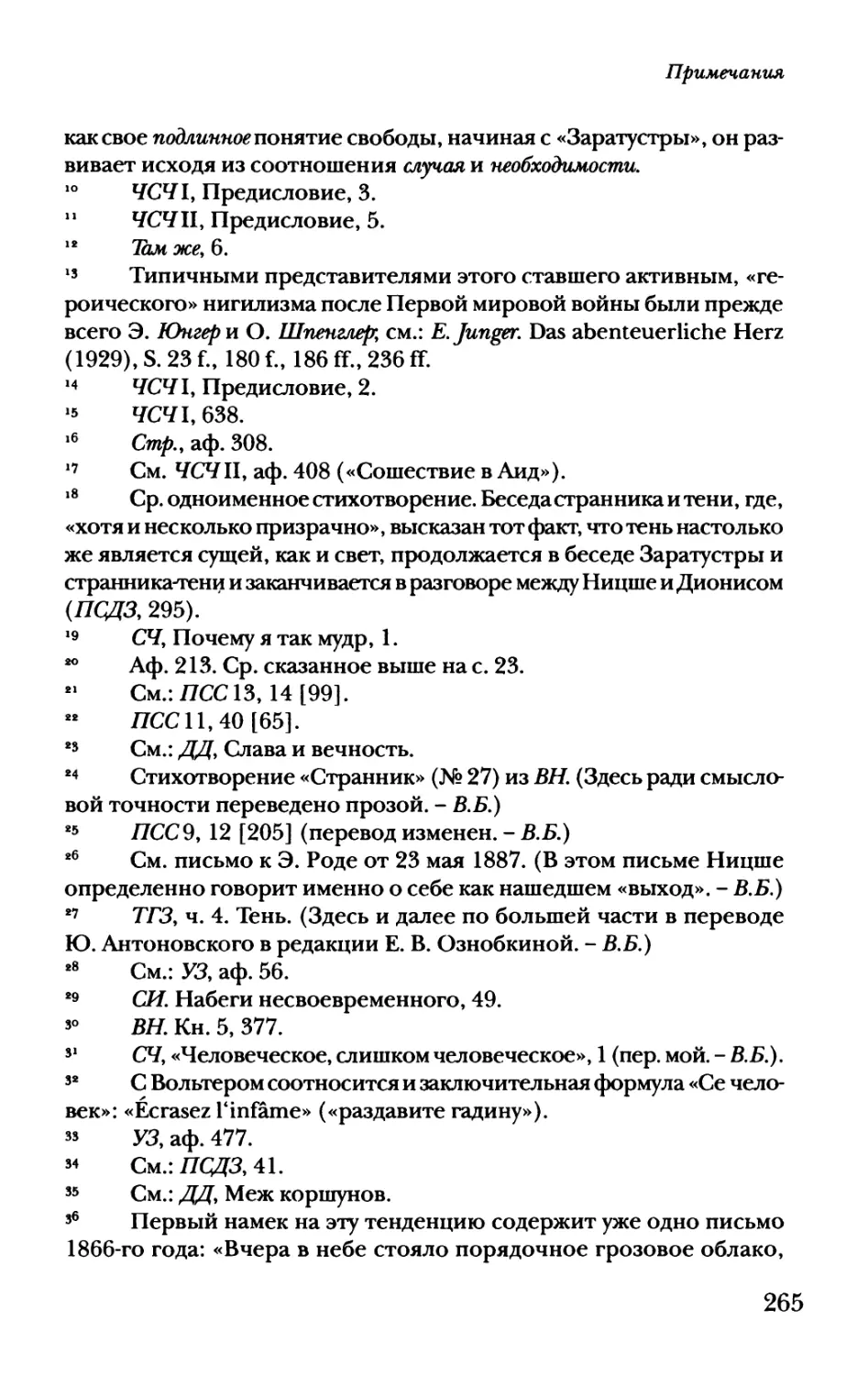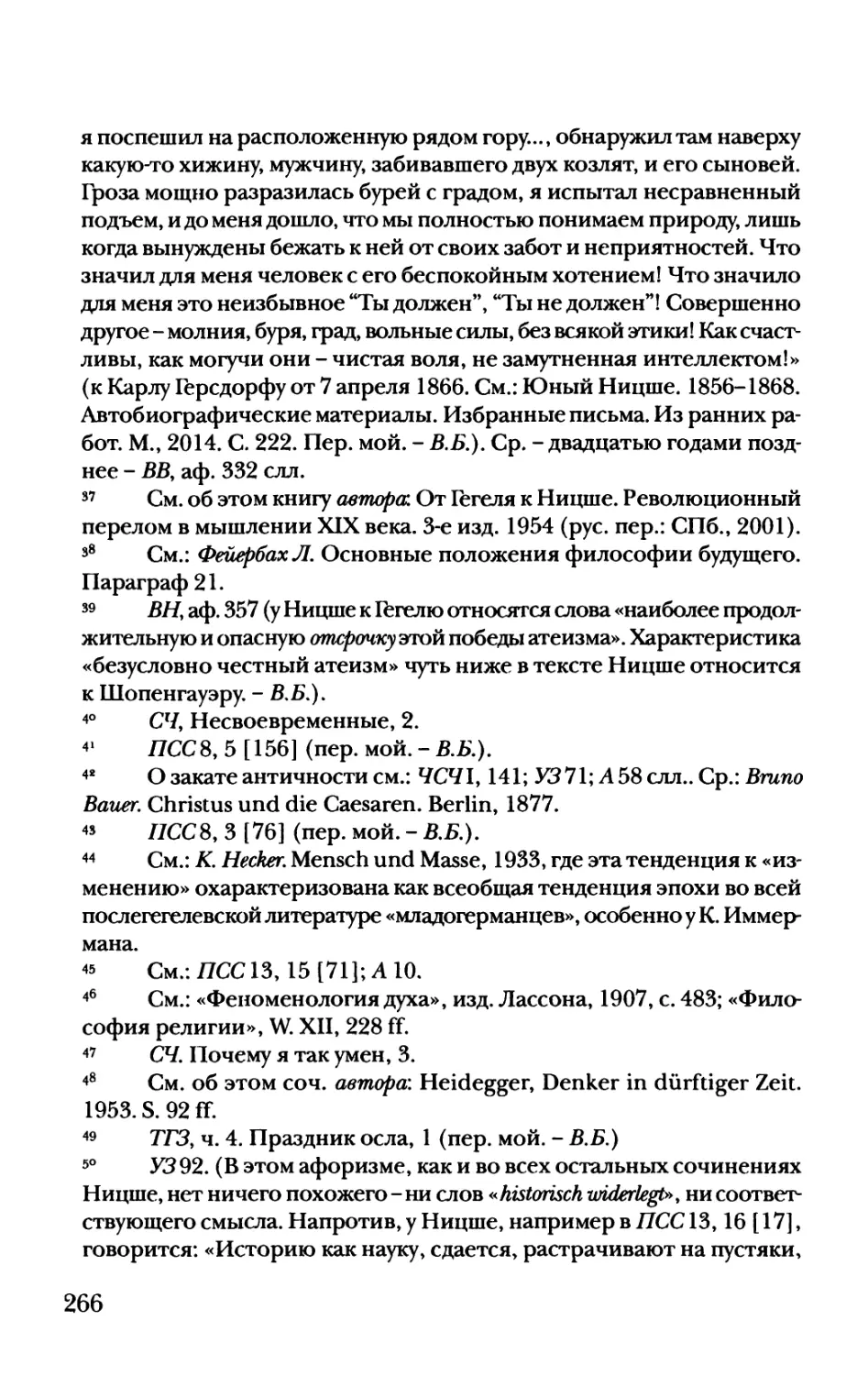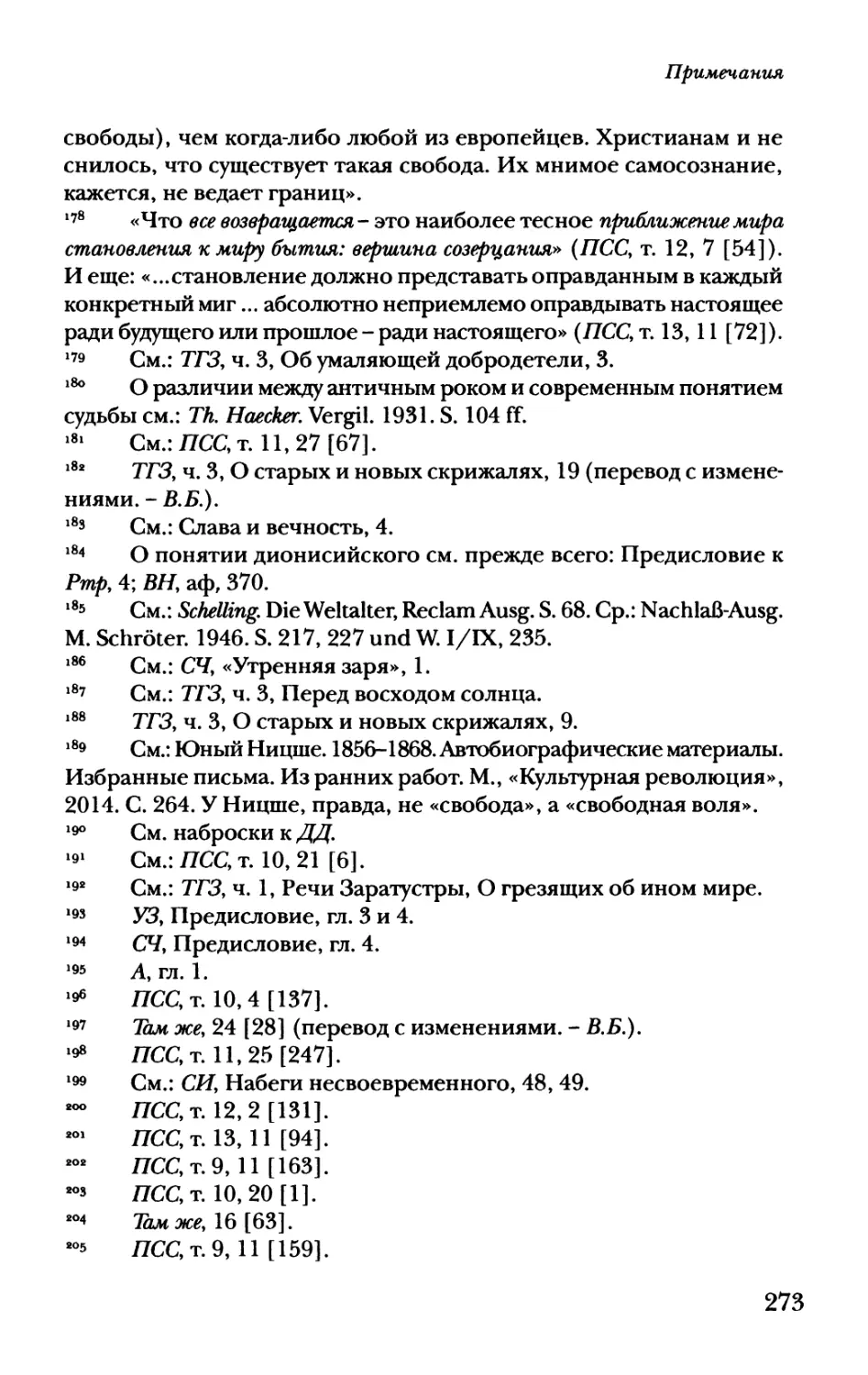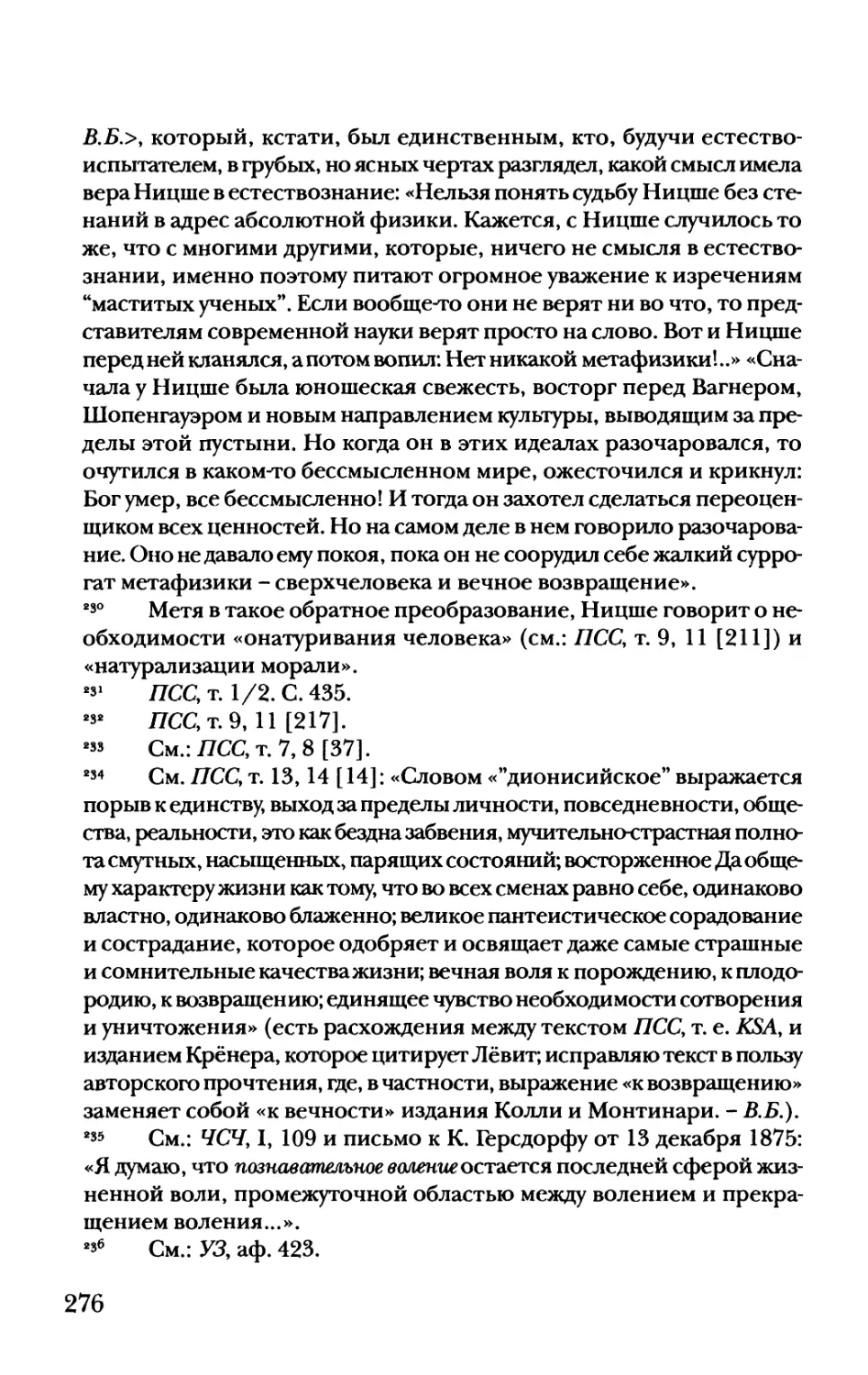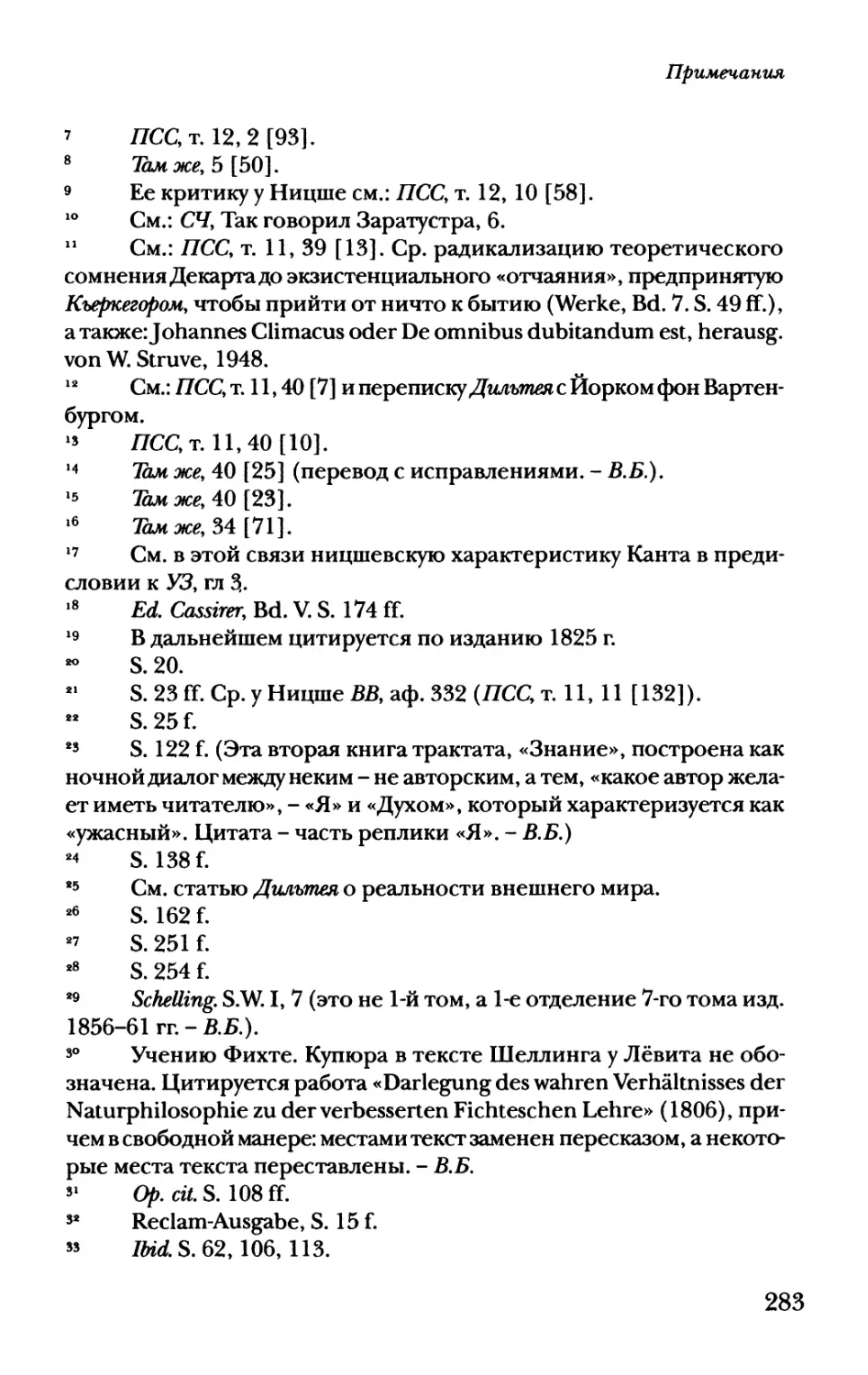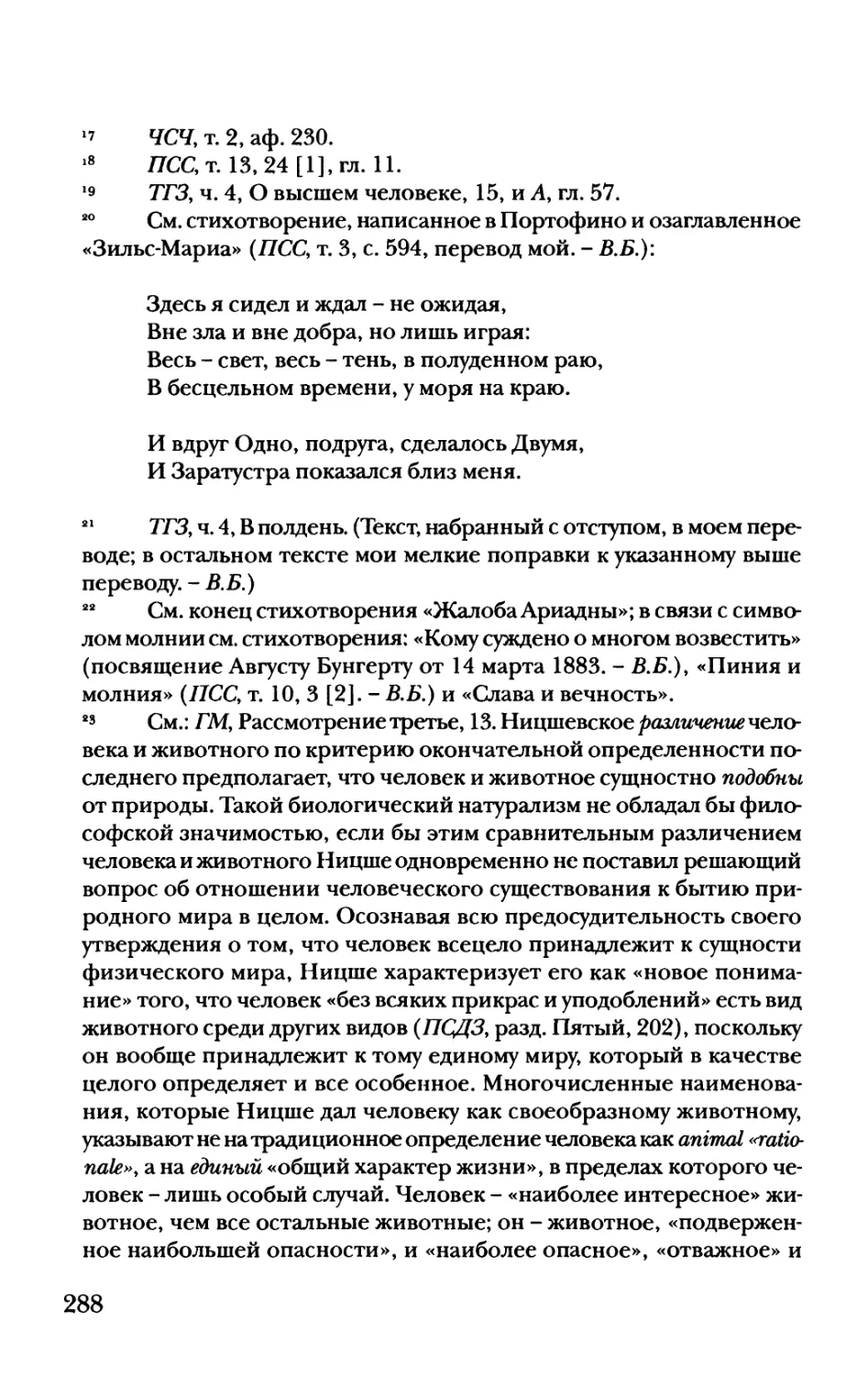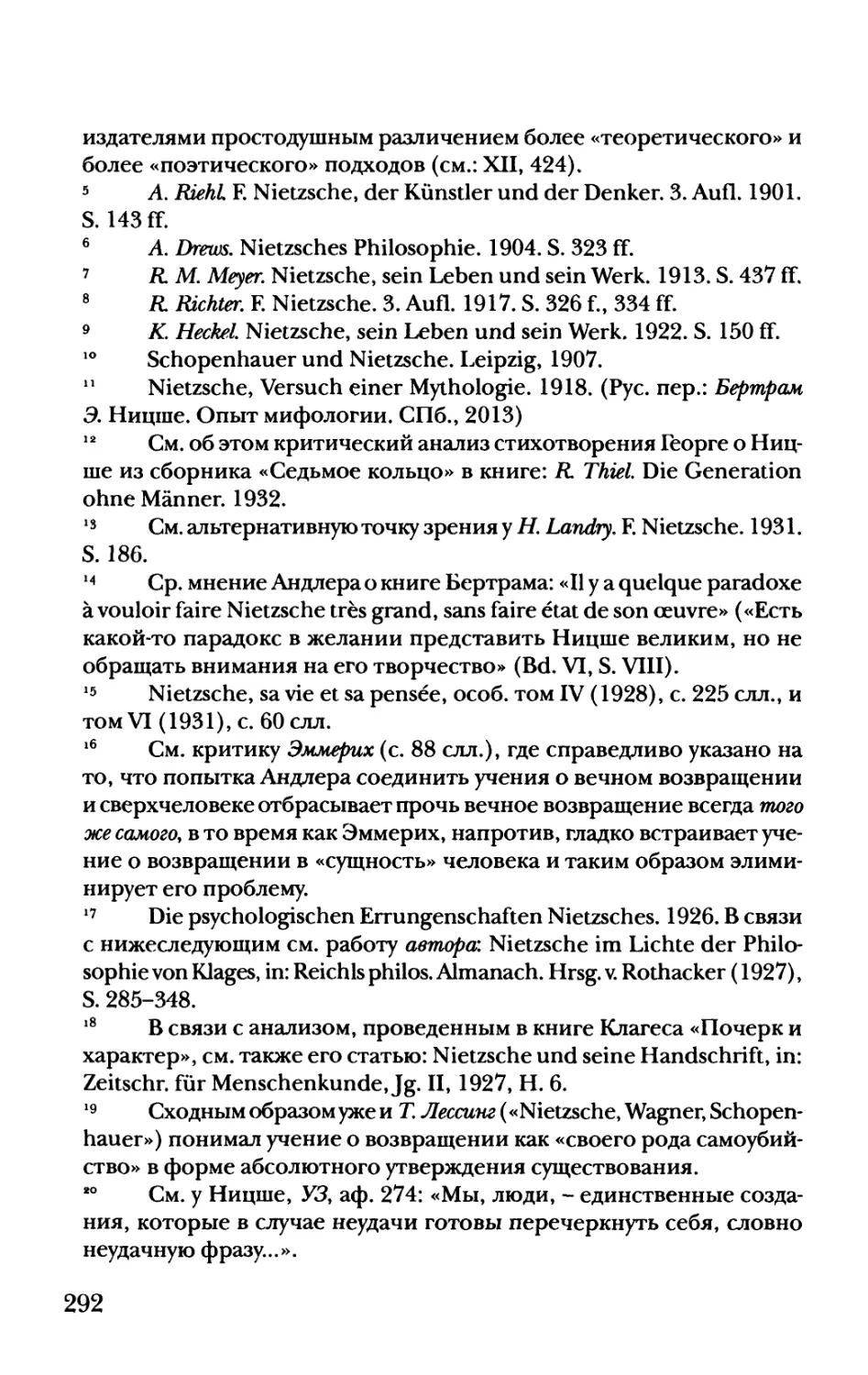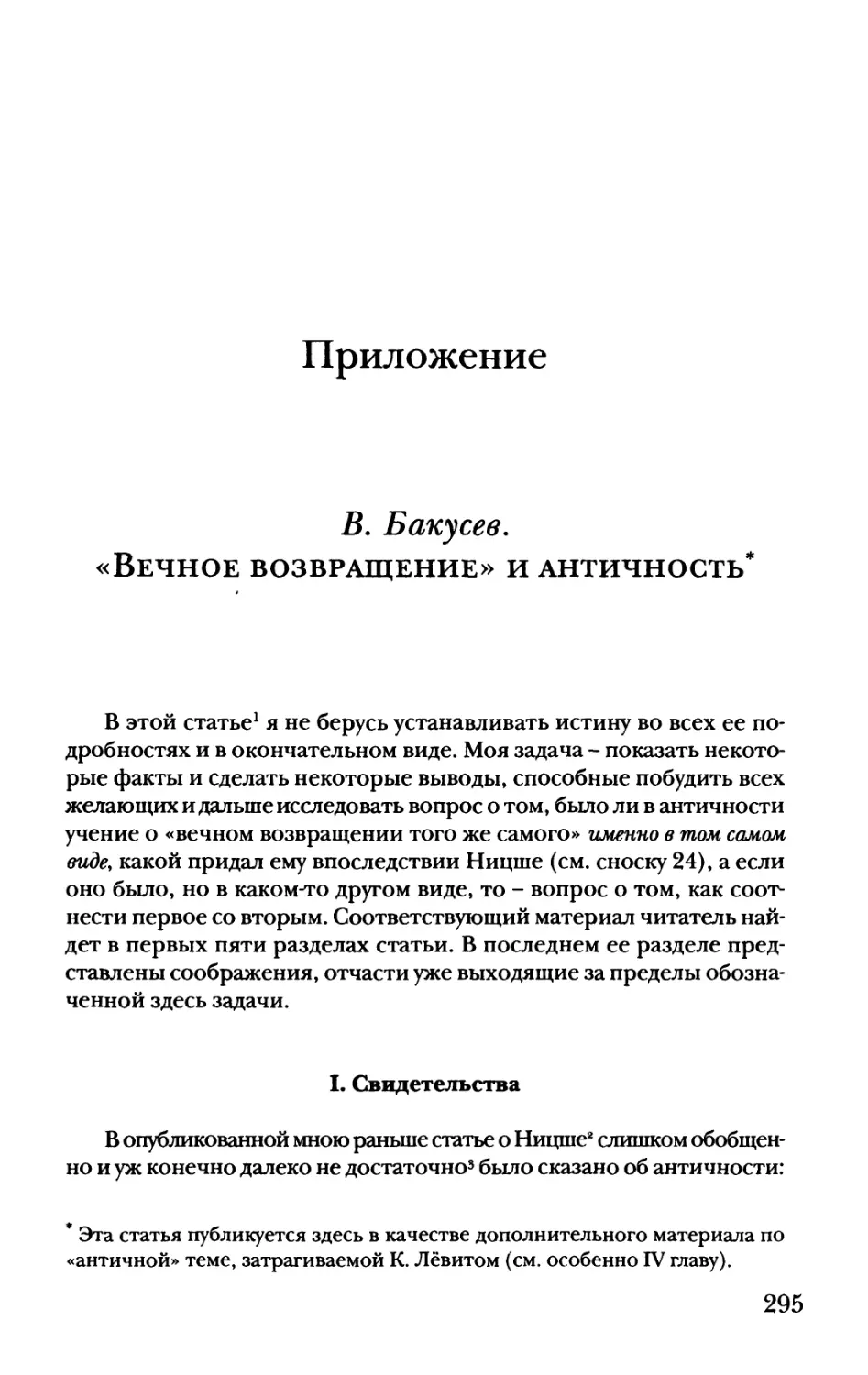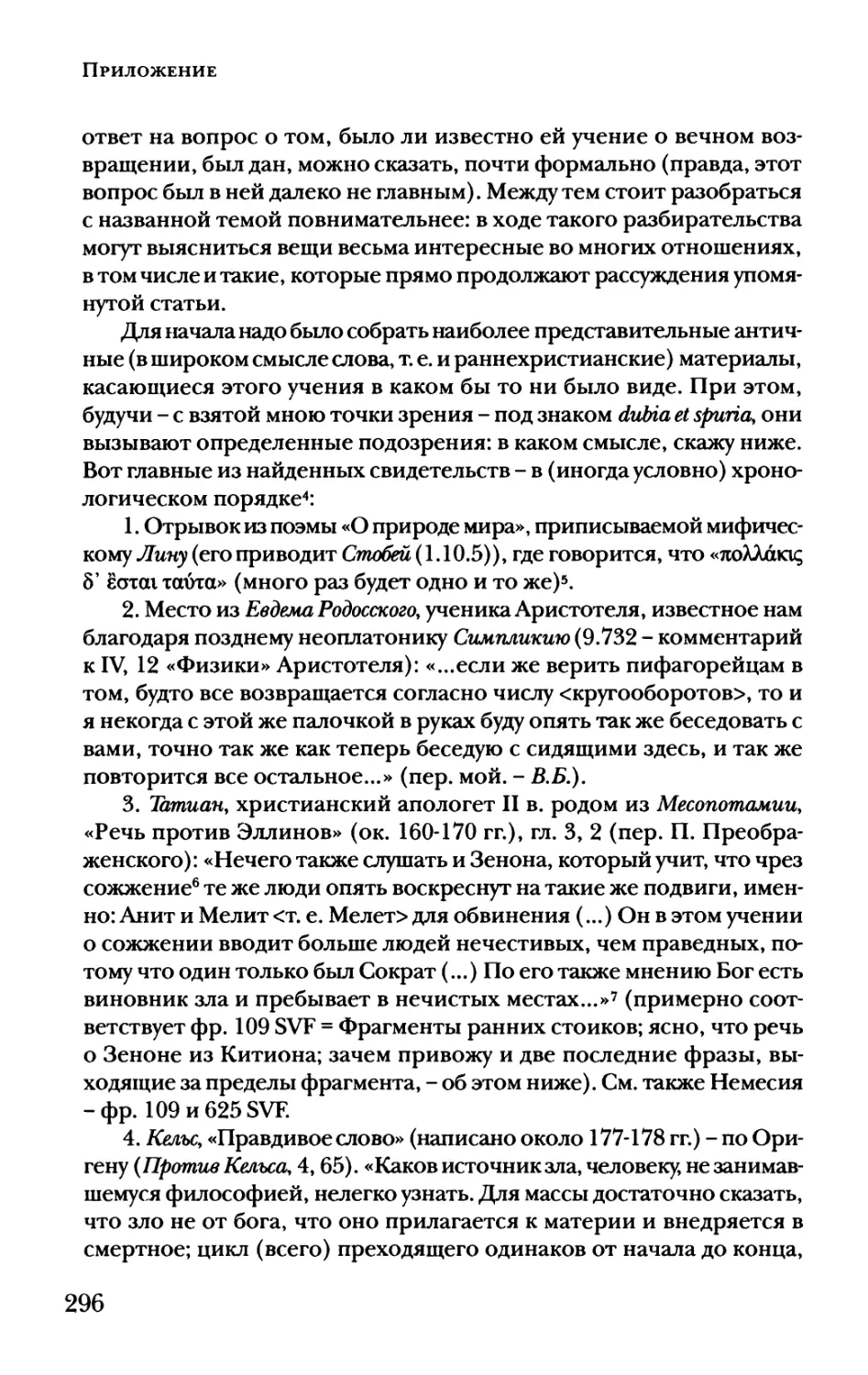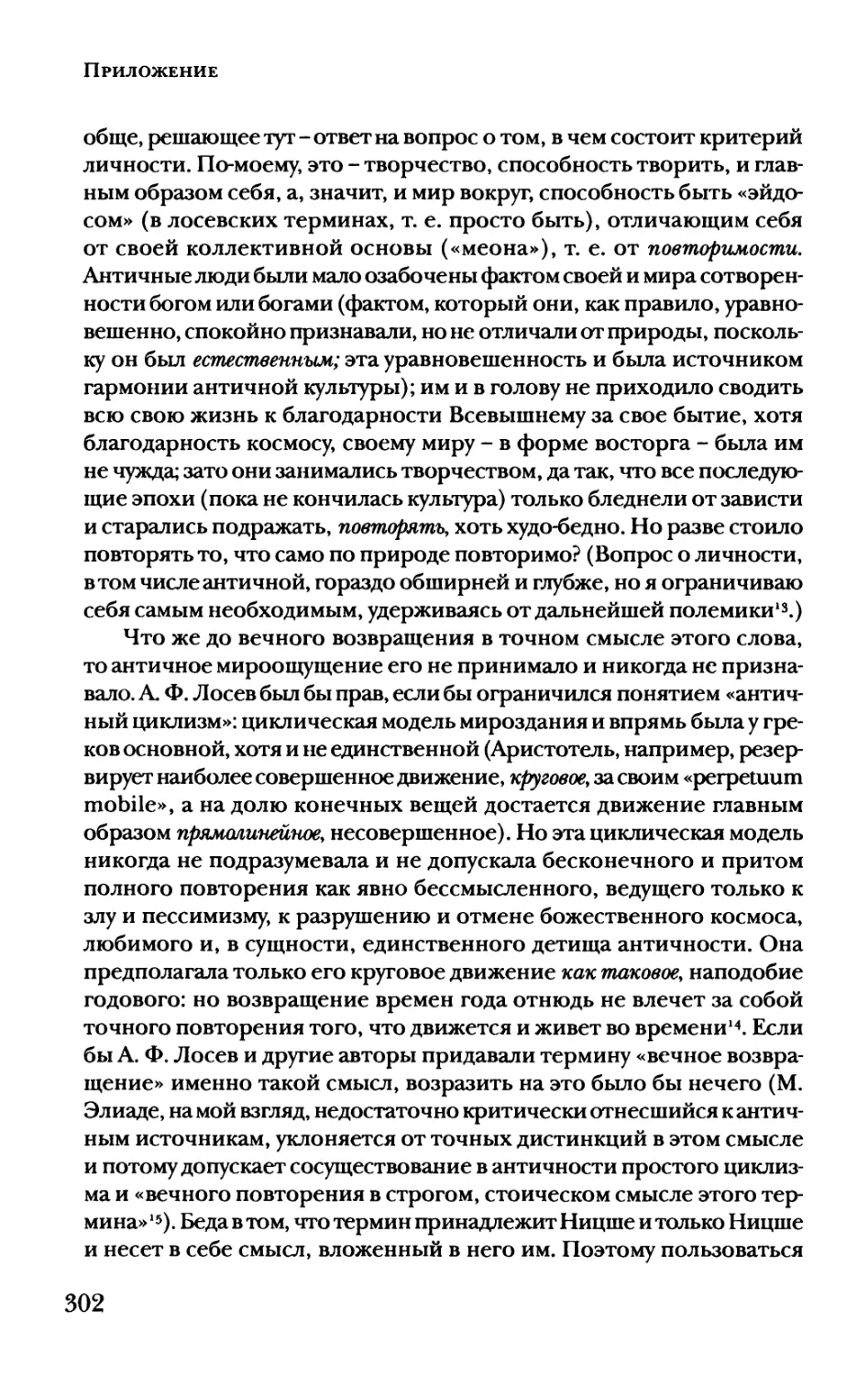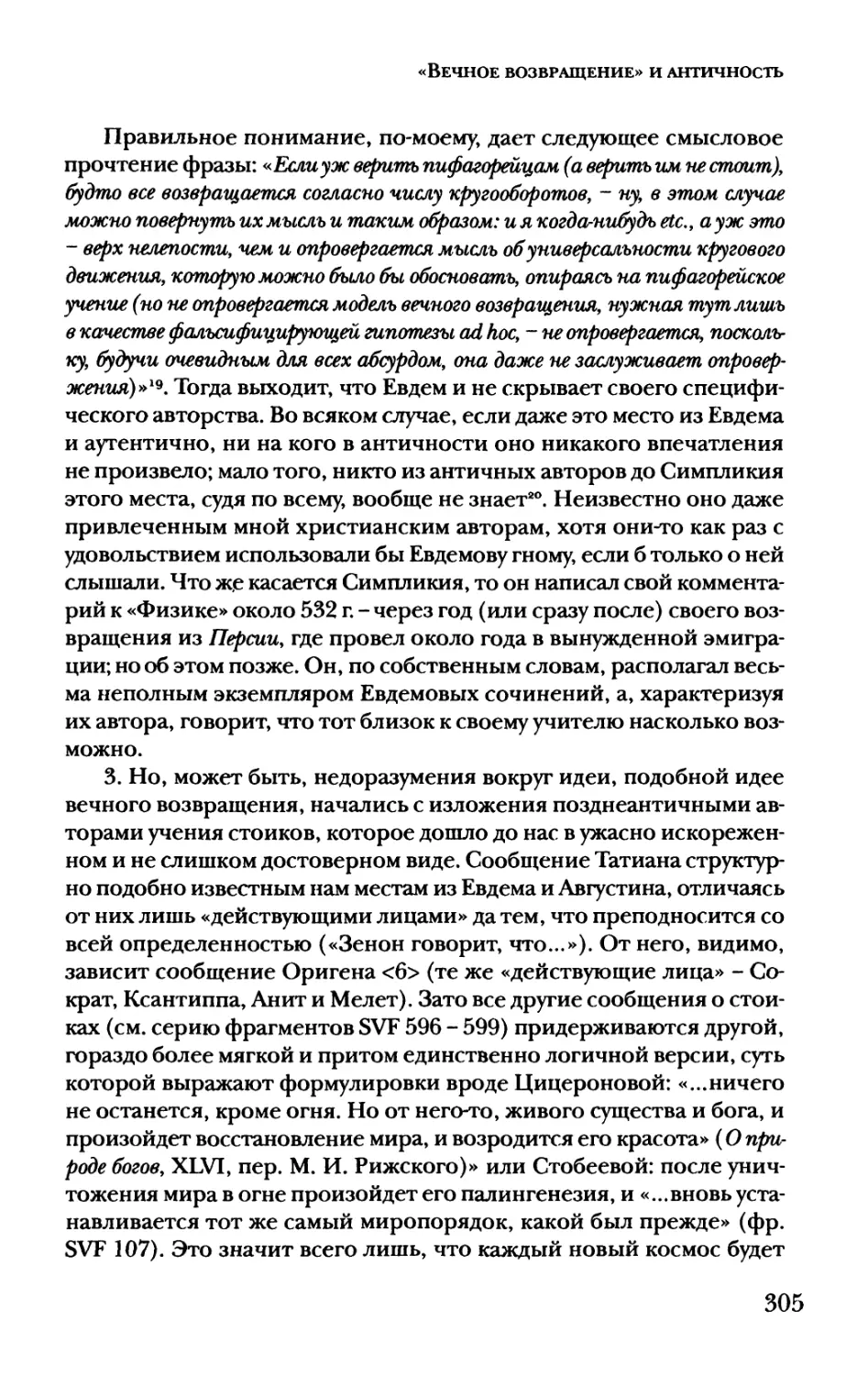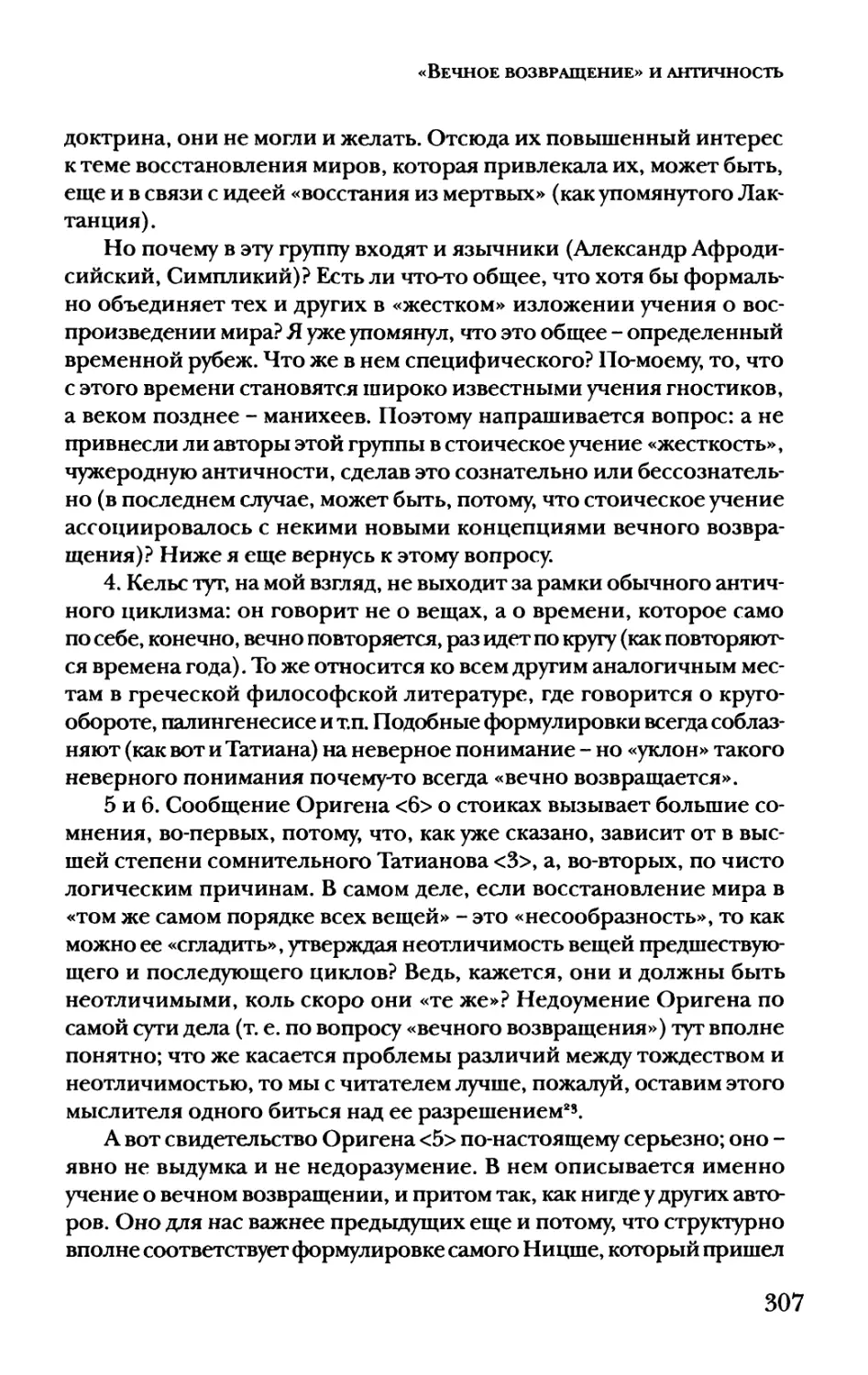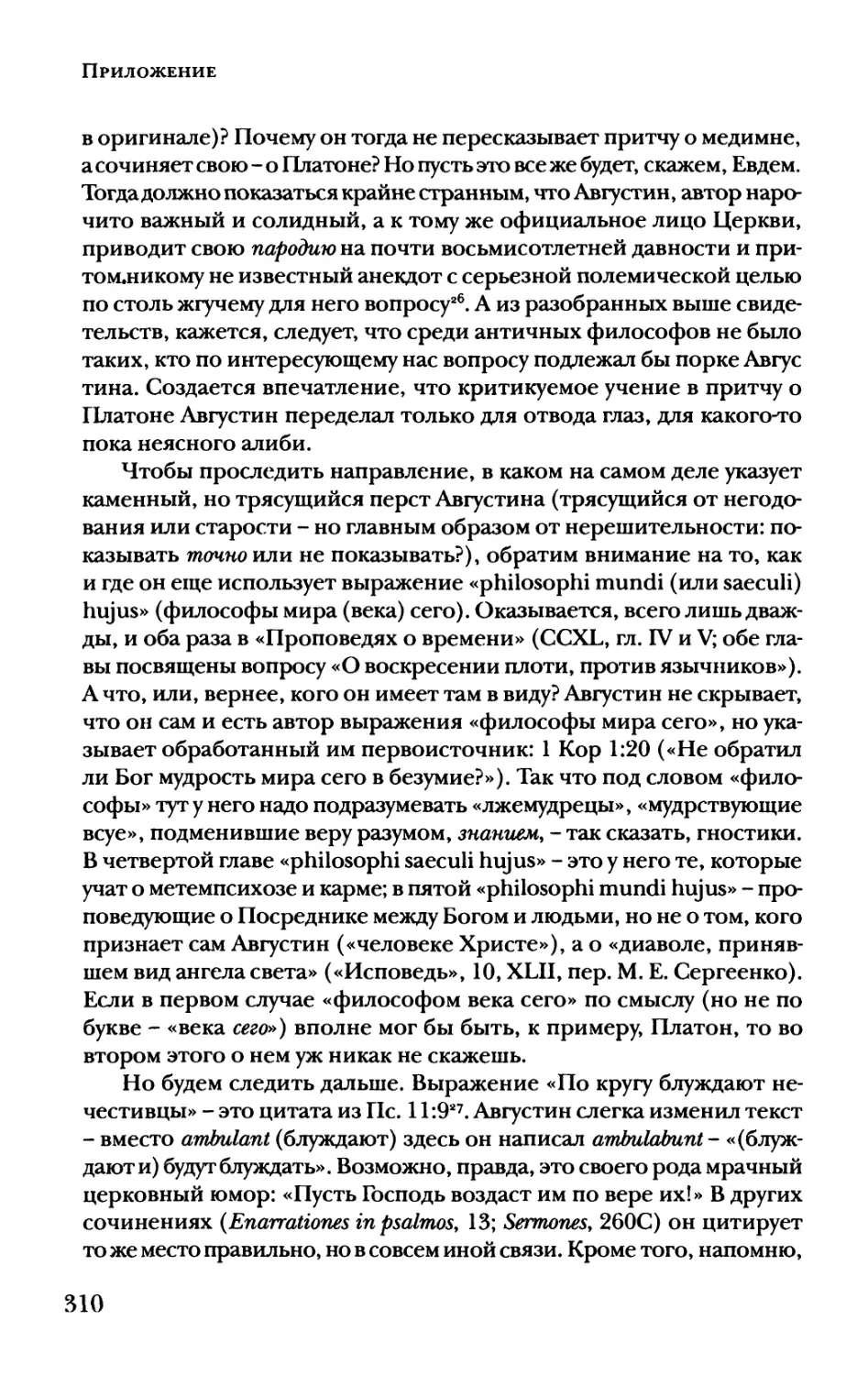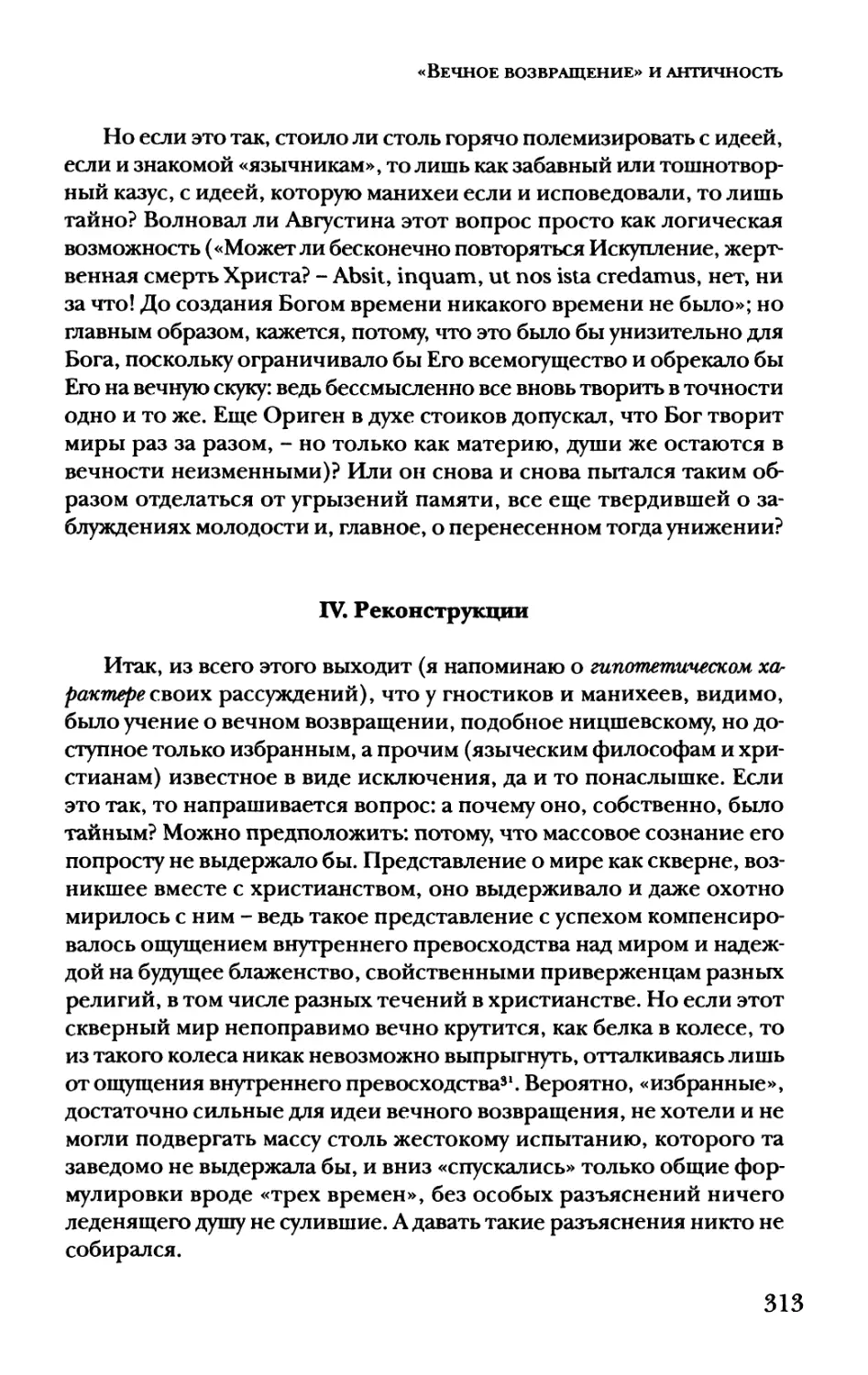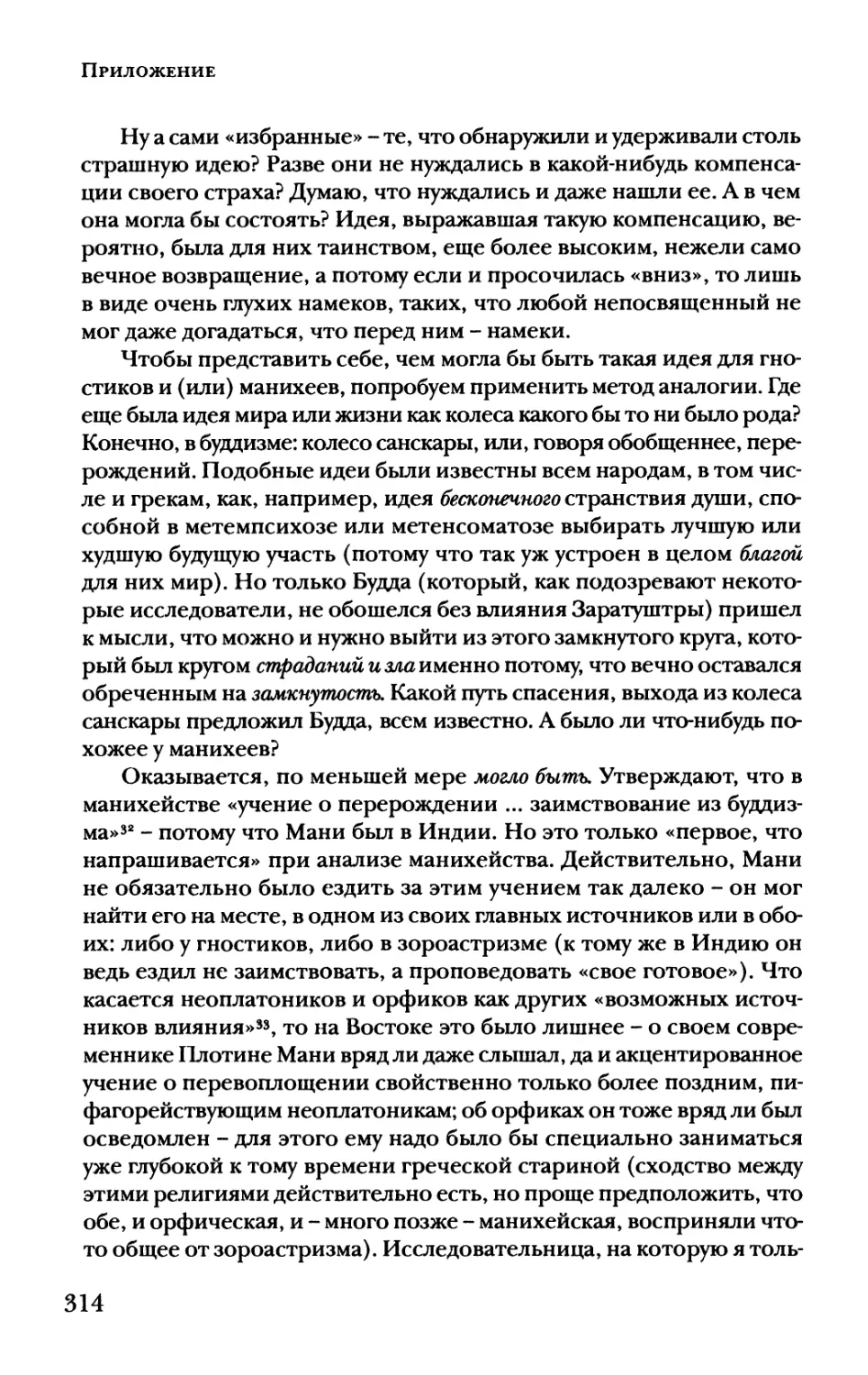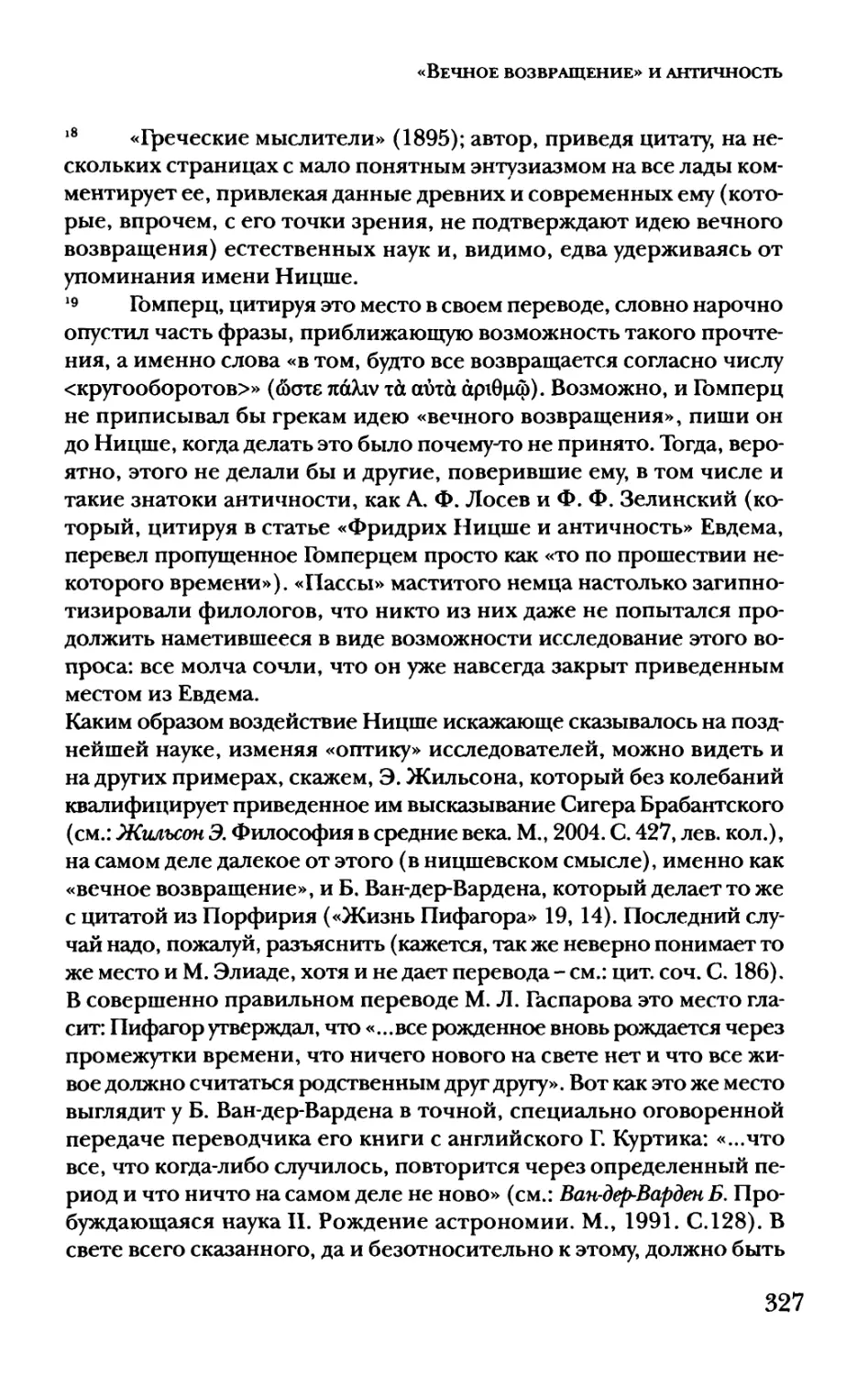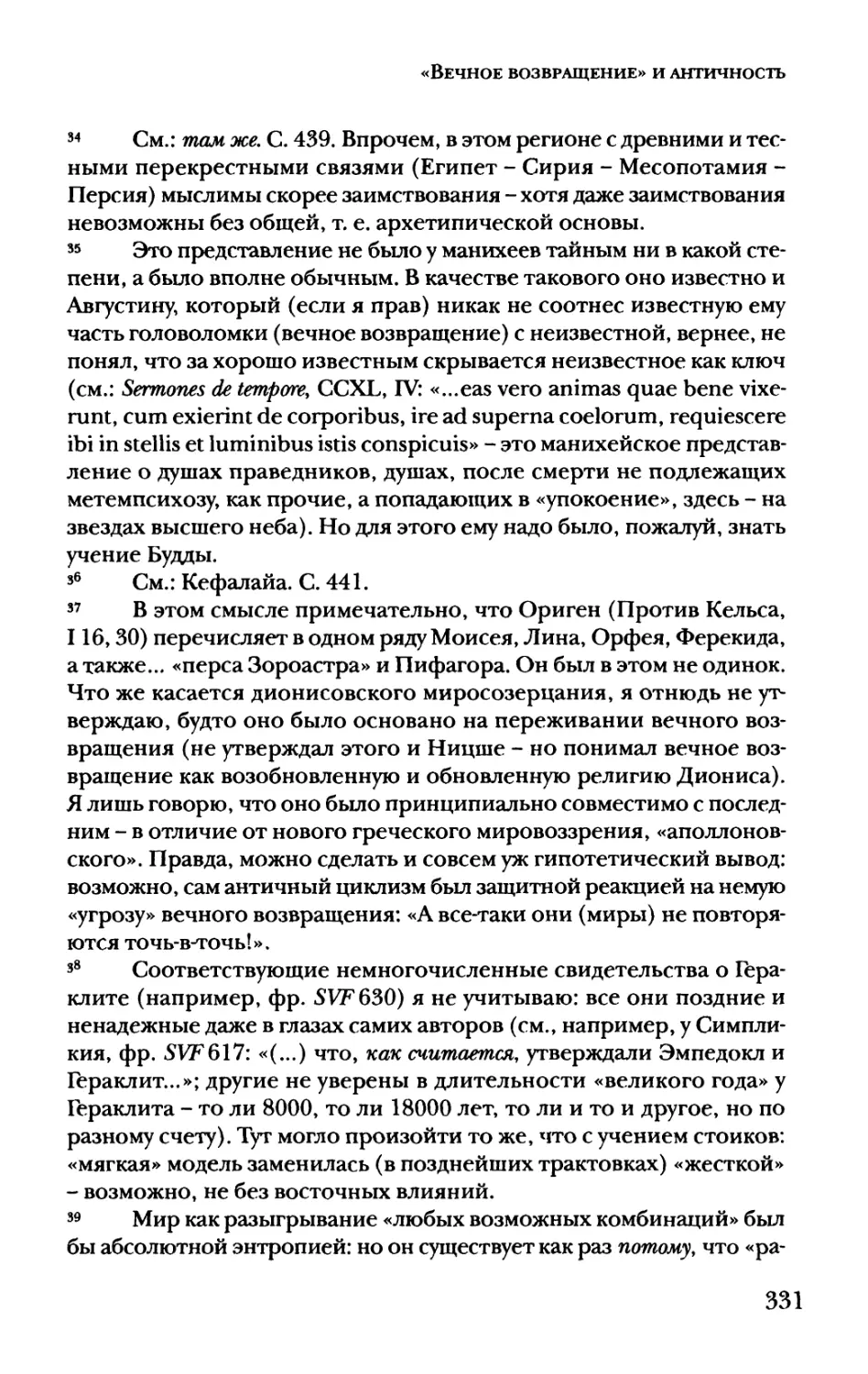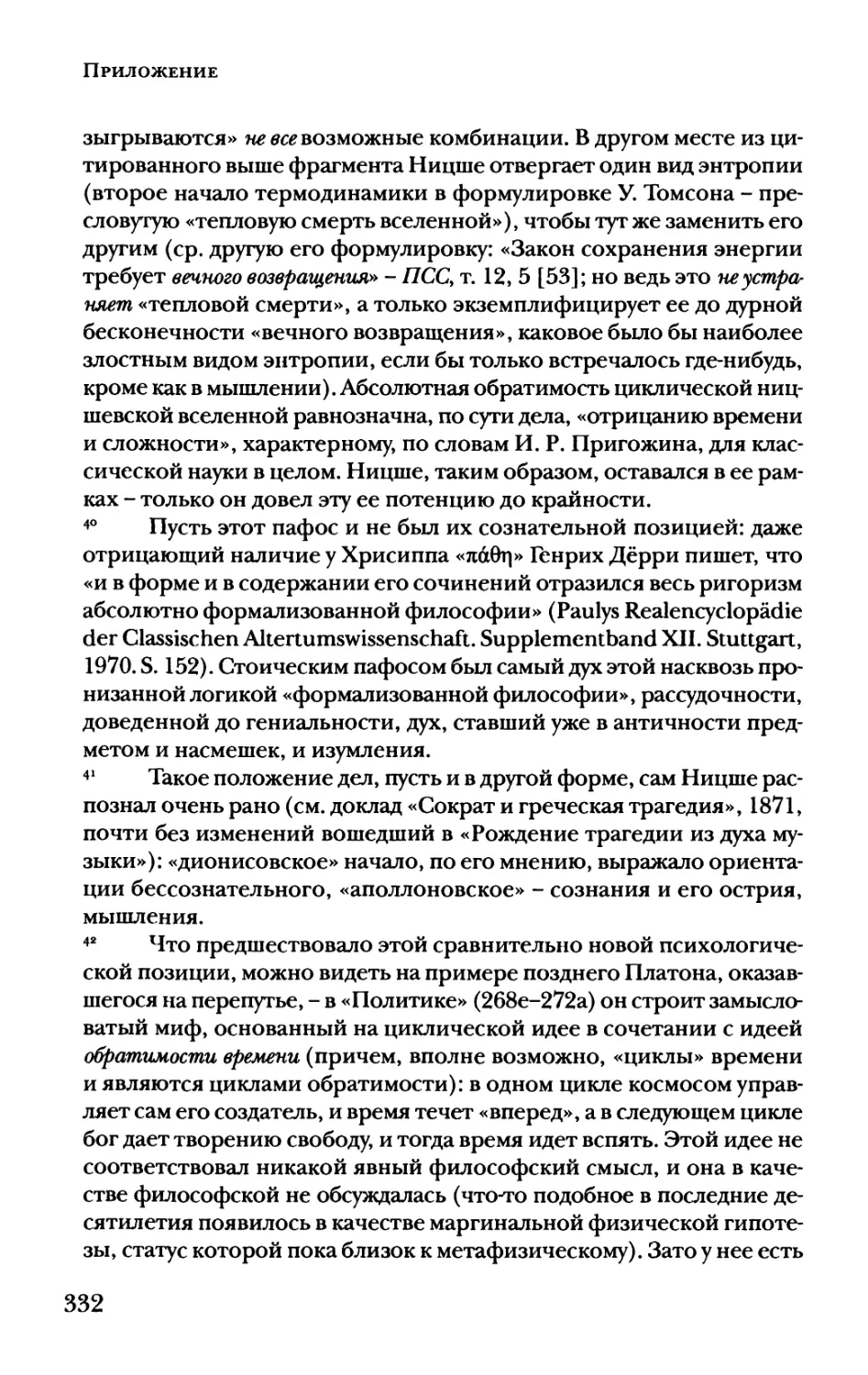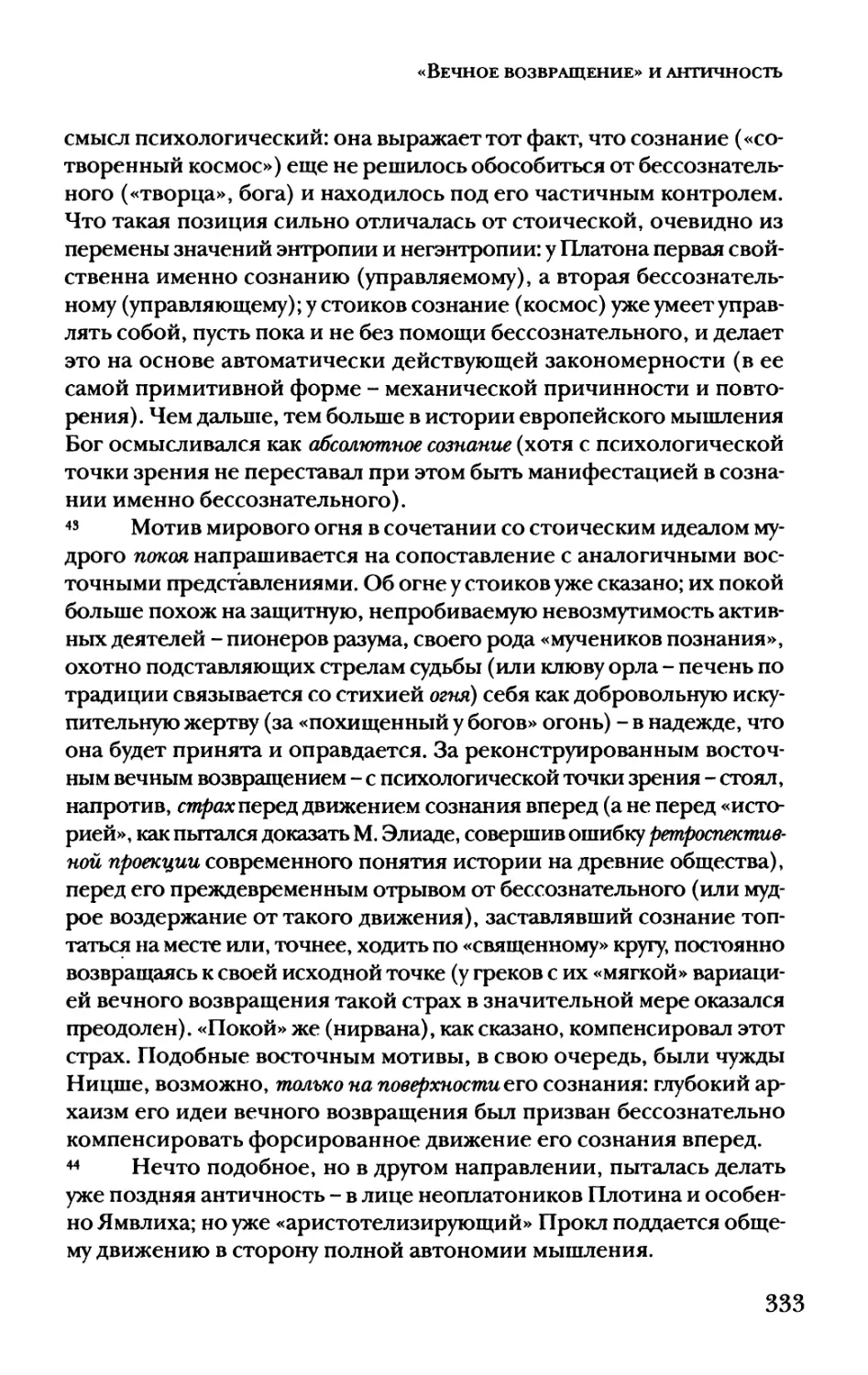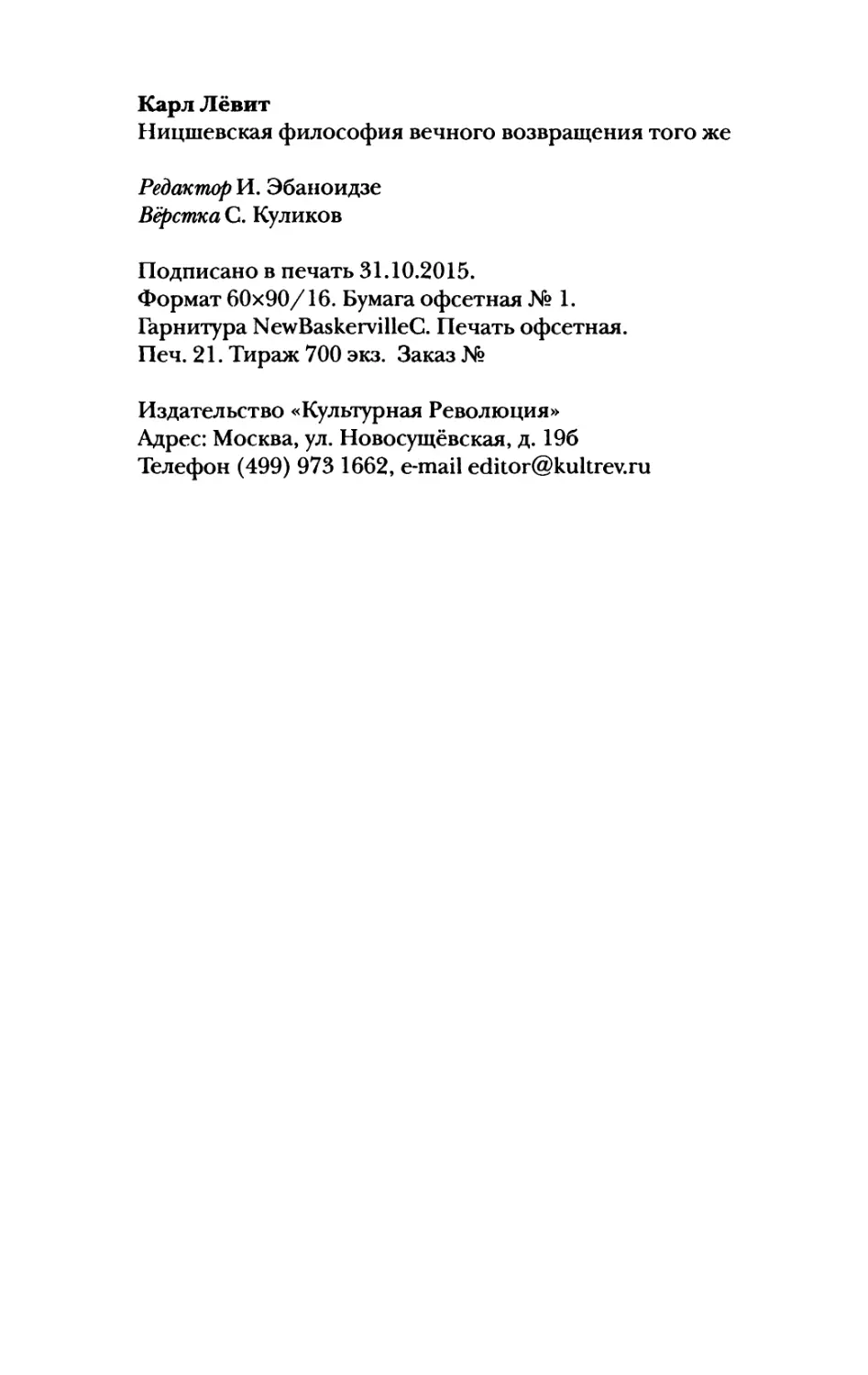Текст
Карл Лёвит
Ницшевская
философия
ВЕЧНОГО
ВОЗВРАЩЕНИЯ
ТОГО ЖЕ
Третье, исправленное издание
Перевод с немецкого В.М. Баку сев а
Культурная революция, 2016
Лёвит, Карл
Л 37 Ницшевская философия вечного возвращения того же / Пер. с
нем. В. Бакусева. - М.: Культурная революция, 2016. - 336 с.
ISBN 978-5-902764-61-8
В книге известного немецкого историка философии Карла
Левита (1897-1973) учение о вечном возвращении рассматривается
как смысловое ядро философии Фридриха Ницше. Имманентный
анализ дополняется в ней сравнением этого учения с философскими
позициями некоторых мыслителей XIX века. В дополнении к
работе автор освещает двенадцать интерпретаций учения Ницше, с его
точки зрения наиболее представительных для первых десятилетий
посвященных ему исследований.
Для историков философии и всех интересующихся философией
Ницше.
© Культурная революция. 2016
© В. Бакусев. Перевод и приложение, 2016
Содержание
Предисловие издателя 5
Предисловие к первому изданию 9
Предисловие ко второму изданию 12
I. Ницшевская философия: система в АФОРИЗМАХ 17
П. Периодизация сочинений Ницше 29
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше $7
Глава ι. Освобождение от «ты должен» до «я хочу» 57
Глава 2. Освобождение от «я хочу»
до «яесмь» играющего мирами ребенка 4#
IV. Антихристианское повторение античности
В АПОГЕЕ СОВРЕМЕННОСТИ 125
V. «Как становятся самим собой»
В ИДЕЕ ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ 143
VI. Проблематичная взаимосвязь
МЕЖДУ СУЩЕСТВОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА И БЫТИЕМ МИРА
В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ Нового ВРЕМЕНИ 159
VII. Вечное возвращение того же
И ПОВТОРЕНИЕ ТОЖДЕСТВЕННОГО l8l
3
VIII. Критическая мерка
для оценки эксперимента ницше 201
Дополнение.
К истории истолкования Ницше (1894-1954) 223
От переводчика 260
Примечания 262
Приложение
В. Бакусев. «Вечное возвращение» и античность 295
4
Предисловие издателя
В 2014 году издательство «Культурная революция» завершило
первую в истории России публикацию полного собрания сочинений
Фридриха Ницше. Это издание знаменует собой окончательное
вхождение и полноценное присутствие последней высшей философской
мысли западной культуры в духовном пространстве русской культуры
и русского языка. Реализуя задачу формирования глубокой
культурной преемственности между Западом и Россией, наше издательство
планирует публикацию наиболее значимых текстов по осмыслению
философского наследия Ф.Ницше. Одним из таких текстов является
книга К. Левита «Ницшевская философия вечного возвращения
того же», которая, как и уже опубликованные в России обстоятельные
исследования М. Хайдеггера на эту тему («Ницше», издательство
«Владимир Даль», 2006 г.) раскрывает творчество Ницше как
философскую систему мысли, в основе которой лежит и одновременно
результатом которой является (такова уж парадоксальность этой
мысли) идея Вечного возвращения.
Эта идея (и ее вариации) известна человечеству с незапамятных
времен, однако об ее происхождении у нас никаких сведений нет.
Некоторые исторические подходы к рассмотрению судьбы этой идеи
в античности изложены в публикуемой здесь же статье В. Бакусева
«Вечное возвращение и античность» (которая, однако, не
ограничивается только историческим аспектом данной темы). В конце XIX века
Ницше на совершенно новом уровне возвращает эту идею в
актуальную западную философию, предлагая её в качестве решения и выхода
из ситуации наступающего всеобщего нигилизма и релятивизма. Идея
Вечного возвращения, пользуясь ницшевской метафорой, словно
Великий полдень снова восходит на духовном небосклоне
человечества, становясь, - вместе с идеей Воли к власти, - философской
5
основой провозглашаемого Ницше аристократического дионисизма
сверхчеловека.
Мыслители XX века очень по-разному воспринимали ницшев-
скую идею Вечного возвращения. Она объявлялась метафизической
(религиозной, заменяющей собой «умерших богов»), субъективной
(случайной, отвечающей на личную жизненную драму),
оригинальной (выдумкой, красивой игрой ума), непонятной (невнятной,
бессмысленной), патологической (бредовой, нездоровой фантазией).
Таким разноликим образом философский смысл этой идеи
игнорировался, нивелировался, подменялся, рационализировался и, в
конечном счете, в соответствии с предсказанной Ницше логикой
нигилизма (и его современного собрата - постмодернизма), отрицался.
Однако не понимать или отрицать философское значение этой ниц-
шевской идеи, как представляется, означает проходить мимо всей
философии Ницше. Более того, имманентное и адекватное
восприятие этой философии невозможно без понимания идеи Вечного
возвращения как ее центрального нерва и сути.
Но и это еще не все. Идея Вечного возвращения, в том виде, в
котором она предстает перед нами в философском наследии Ницше,
основана на его личном долгом и поступательном духовном
самостановлении. Благодаря неустанному самовопрошанию,
самоиспытанию, Ницше сумел значительно опередить в духовном развитии свое
время, предвосхитив тем самым наше общее духовное будущее. И если
древние мудрецы открывали доступ к восприятию эзотерических
знаний, а через них и к новому, более высокому восприятию себя
и мира, с помощью череды продуманных и опасных духовных
испытаний, посвятительных мистерий для избранных и
подготовленных адептов, то Ницше сумел самостоятельно обнаружить и
прожить все необходимые мистерии духа для обретения нового
философского знания. Он отважно и в полном одиночестве спустился
в темные, запретные подземелья своего существа, к
фундаментальным основаниям своего Я, вызвав тем самым небывалую
собственную трансформацию и ускоренный онтогенез. На этом пути, о
котором нам до сих пор мало что известно, идея Вечного возвращения
стала его личным духовным обретением, откровением,
достижением, достоянием, обладающим вневременной и внеличностной
ценностью и смыслом. Сегодня нам известна только основная канва или
мифология этого духовного события: из своей собственной глубины
Ницше принес нам идею Вечного возвращения подобно тому, как
когда-то Прометей принес нам от богов огонь. А значит, эта очень
опасная, уничтожающая и созидающая мысль, теперь стала доступной:
6
для всех и ни для кого. Именно таким подзаголовком снабдил Ницше
свою главную философскую поэму «Так говорил Заратустра»,
полностью посвященную этой идее и одновременно посвящающую в нее.
Идея Вечного возвращения, будучи фундаментально
воспринятой, создает совершенно новую оптику и состояние духа, в котором
для человека снова открывается безграничное море и неизведанная
земля. Как самообновляющаяся жизнь, являющаяся причиной
самой себя, эта идея загадочна и витальна сама по себе. Для разгадки
ее тайны, рассмотрения ее многочисленных граней, аспектов,
перспектив крайне желательно, но недостаточно иметь философское
образование. Для вхождения в круг этой мысли, для восприятия ее
во всей ее полноте, нужна, прежде всего, духовная решимость,
подобная ницшевской. Это решимость поиска радикального, то есть
философского основания собственной жизни (вопрос о желательности
ее экзистенциального проживания снова и снова, и в точности
такой, какова она уже есть, может мгновенно приблизить нас к сути идеи
Вечного возвращения).
Дмитрий Фъюч'е
7
Памяти
Курта Рицлера
8
Предисловие к первому изданию
У моего труда есть будущее, - и я не хочу иметь
ровно ничего общего с тем, что в качестве своей задачи
должно решать это настоящее. Возможно, лет
через пятьдесят у некоторых ... раскроются глаза на
то, что свершено через меня. А в настоящее время это
не только трудно, но и совершенно невозможно (по
законам перспективы) - публично говорить обо
мне, сверх всякой меры не отставая от истины
(Венеция, май 1884)'
В последней** главе своего сочинения Ницше объясняет миру,
почему он есть «судьба»: его личная, самая одинокая судьба, в то
время как наша - публичная и совместная.
«Счастье моего существования, его исключительность
заложены, быть может, в его судьбе: если выразиться в форме загадки, я
умер уже в качестве моего отца, но в качестве моей матери я еще
живу и старею. Это двойственное происхождение как бы от самой
высшей и от самой низшей ступени на лестнице жизни -
одновременно и décadent, и начало, - если что и объясняет отличающую меня,
* Из письма к Йозефу Панету (начало мая 1884), перевод мой. В
пропущенном Левитом месте у Ницше в скобках значится: «(или у кого-то одного: для
этого надо быть гением!)». — Здесь и далее постраничные сноски принадлежат
переводчику. Текстологические пояснения см. в преамбуле к примечаниям в конце
книги. - В.Б.
** Ошибка автора: в первой главе (ошибка вызвана, видимо, тем, что
последняя глава книги «Се человек» называется «Почему я судьба»).
9
наверное, нейтральность, беспартийность в отношении общей
проблемы жизни, то именно это. У меня более тонкое, чем у кого-либо
из людей, чутье на признаки восходящей и нисходящей эволюции;
в этой области я учитель parexellence- я знаю ту и другую, я воплощаю
ту и другую».
Таким, «зажатым между сегодня и завтра» и «впрягшимся в
противоречие между сегодня и завтра», он сознавал себя в качестве
недоноска грядущего столетия и еще неопределенного будущего. Поэтому
в «Заратустре» он оставил открытым вопрос о том, кто же он,
собственно, такой: обещающий или исполняющий, завоеватель или
наследник, осень или лемех, врач или выздоравливающий, выдумка
или правда, освобождающий или обуздывающий, - ведь он знал, что
он ни то ни другое, а то и другое вместе.
Но столь же двойственна, как сам Ницше, и его философия как
двойное «пророчество» о нигилизме и вечном возвращении того же. Это
учение он осознавал как свою «судьбу», поскольку его воля к ничто
как «двойная воля» стремилась назад, к бытию вечности. Те, что
лишены понимания этого движения «нового Колумба» к закату солнца
бытия на краю ничто с целью снова взойти на краю бытия, упрекают
Ницше в том, что он учил о безграничной свободе эгоистичного
индивида или о новом законодательстве и иерархии, о «героическом
реализме» или о философии «оргиазма», не говоря уже о еще более
поверхностных истолкованиях. И сегодня все еще актуальны слова
Заратустры: «Все они говорят обо мне... но никто не думает - обо
мне! Вот новая тишина, которой я научился; их шум простирает
покрывало над моими мыслями».
В сравнении с этими покрывалами над его мыслями
предлагаемая интерпретация представляет собой попытку понять афоризмы
Ницше согласно сокровенному целому их своеобразной
проблематики в их основных философских очертаниях. Этому
методологически концентрированному замыслу соответствует отказ от полного
тематического охвата, свойственного систематическому изложению.
Подлинная же проблема, разрешаемая в философии Ницше, в
сущности, та же самая, какой она всегда и была: какой смысл имеет
человеческое существование в пределах бытия как целого? Чтобы
открыть «новый континент души», Ницше пустился в «открытые
моря» и в качестве последнего ученика бога Диониса, «бытия
высшего вида», в конце концов, сумел распять себя в безумии. - Было бы
наивно или заносчиво полагать, будто мы, последыши его предшест-
венничества, уже получили ответ на его страстный вопрос, будто
лшуже открыли те «новые потенции жизни», ради которых Ницше,
10
задумывая свой последний «проект нового способа жить», повторил
старейшее воззрение в истории. Что же касается того, как судить об
этом эксперименте, то подсказкой может послужить следующее
место из одного его письма:
Если когда-нибудь Вам придется (а ведь у Вас нет для этого времени,
дорогой друг!) что-нибудь писать обо мне, то поступите, пожалуйста, умно,
чего, к сожалению, никто еще не делал, и характеризуйте меня,
«описывайте» меня, -но не «демон изируйте» меня. Есть такая приятная
нейтральность: мне кажется, можно оставить ее пафос в стороне и получить
тем более тонкую способность понимания. Меня еще никогда не
характеризовали - ни как психолога, ни как писателя (в том числе как «поэта»),
ни как изобретателя нового вида пессимизма (дионисийского,
рожденного силой, которому доставляет удовольствие брать на рога проблему
существования), ни как имморалиста (- это высшая из достигнутых до
сих пор форма «интеллектуальной порядочности», посмевшая
рассматривать мораль как иллюзию, когда она уже сама сделалась инстинктом
и неизбежностью-). Совершенно кг нужно, даже нежелательно принимать
при этом мою сторону: напротив, несравненно более интеллигентной
позицией по отношению ко мне, сдается, была бы известная доза
любопытства, какое бывает, когда видишь неизвестное растение, встречая
его ироническим неприятием*.
Карл Лёвит
Рим, июнь 1934
* Из письма к Карлу Фуксу от 29 июля 1888 г. Перевод мой.
11
Предисловие ко второму изданию
Со времени публикации «Заратустры» Ницше с уверенностью
человека, одержимого своей задачей, жил в сознании того, что у его
труда есть будущее. В 1884 году он предсказал, что лишь спустя
половину столетия некоторые люди обнаружат, какое дело свершилось
через него1. Между тем эпоха перешагнула и через ницшевский
«Пролог к философии будущего», а «война отчаяния», на которую путем
создания антинемецкой лиги философ хотел спровоцировать
немцев2, уже наполовину забыта. Так что сегодня для нас Ницше
выглядит иначе, чем пятьдесят лет тому назад, когда его слава и его
влияние только начинались. Он еще близок нам - и уже отдалился от нас.
Некоторые из его предсказаний о будущем Европы сбылись, хотя и
непредвиденным образом, а высказывания, для своего времени
неслыханные, превратились в общие места, на которых разыгрывается
все современное мышление. Он не только впервые назвал по имени
«европейский нигилизм», но и помог ему свершиться, и создал
своими раздумьями духовную атмосферу, в которой могла бездумно
практиковаться «воля к власти». Но люди достаточно долго взрывали
«динамитом» и послушно следовали максиме «живите опасно», чтобы
такие принципы могли еще оставаться соблазнительными. Эпоха
деструкции настолько основательно сделала свое дело, что они
предпочитают приступить к возобновлению стройки на несуществующих
фундаментах.
Если уяснить себе изменение значений, которые претерпели
образ и творчество Ницше, то окажется, что центр тяжести в критике
и оценках сместился. Такое изменение началось с признания Ницше
как блистательного моралиста и психолога; оно достигло вершины
в почитании Заратустры, практикуемом молодым поколением во
время Первой мировой войны; оно перевернулось вверх ногами в
12
карикатуре на Ницше во времена Третьего рейха, который на деле
философствовал «молотом»; оно кончается эсхатологическим
тезисом, что вся западная метафизика достигла своего логического
завершения в лице Ницше. - Она должна была бы «петь», эта новая
душа, говорилось в 1908 году в одном стихотворении Штефана Георге;
мир выздоровеет от «заратустровости», как возвестил в 1938 году
приобщенный <к идеологии нацизма> Архив Ницше; «Кто такой
ницшевский Заратустра?», задается вопросом один мыслитель,
который не колеблясь возводит Ницше в ранг величайшего
европейского метафизика и как раз этим включает его в историю «забвен-
ности бытия»3.
Но действительно ли Ницше - великий мыслитель или горе-поэт?
По меркам Аристотеля и Гегеля он - страстный дилетант, который
в качестве «врача культуры» хотел действовать против своей эпохи
в пользу будущей и в конце концов проникся убеждением, что
будущее Европы в его руках. По меркам Софокла и Гёльдерлина стихи
и притчи Ницше, за немногими ценными исключениями,
представляют собой искусные переоблачения «мыслительных переживаний».
Ницше, на переднем плане и по фронту, - это писатель
философского склада, как Кьеркегор был писателем религиозного склада, но
без его выучки в понятийном мышлении. Его учителем был не Гегель,
а Шопенгауэр. Но в глубине и на заднем плане Ницше все-таки -
истинный любитель мудрости, в качестве такового искавший вечно
сущее, или вечное, а потому стремившийся преодолеть свое время
и временное вообще. Заполненность времени, когда мир предстал
перед ним «завершенным», Ницше пережил в то экстатическое
мгновение, которому он дал имя «полдень и вечность». Вечность в
полдень не отрицает времени, как если бы она была вневременной
вечностью Бога перед сотворением мира, - она подразумевает вечный
характер самого времени мира: вечно повторяющееся
круговращение всегда того же самого возникновения и уничтожения, в котором
неизменность бытия и изменчивость «становления» - одно и то же.
То, что «всегда», не является вневременным; то, что всегда остается
«одним и тем же», не является временным. В этой так понимаемой
вечности, без начала и конца, или происхождения и цели,
полностью слито то, что вообще-то временно разделено в измерениях
времени. Следовательно, ницшевское учение о выходе за пределы
временности времени к вечности вечного возвращения того же - это не
просто бегство от времени и не просто восхваление бренности.
Возвещение этой «новой вечности» - новой лишь в сравнении со старой
вечностью вневременности - стало личным учением Ницше, оно
13
соответствует тому, что Заратустра - его собственное творение и
«завещание». Учение о вечном возвращении того же в качестве
несущей и завершающей идеи лежит в основе и незавершенной «воли к
власти», этой «попытки переоценки всех ценностей». Обращение
истины нигилизма, то есть обесценивания всех высших ценностей,
в истину вечного возвращения - это общий принцип и всех частных
переоценок. Но все же главное различие между набросками учения
о возвращении в «Воле к власти» и его провозглашением в «Заратус-
тре» состоит вот в чем: последнее концентрирует в притче то, что
первые разлагают в понятиях, причем концентрированная притча
распадается на составные части, непохожие друг на друга. -
Спрашивается: можем ли мы, несмотря на это, научиться чему-либо от
учения Ницше и чему именно. Всякий, кто знакомился с этим
учением и всерьез принимал объявленное во всеуслышание свидетельство
Ницше за его главное значение, не мог не попытаться составить
себе мнение о его смысле или бессмыслице, пусть даже счел его
мистическим или признаком начинающегося безумия.
Предлагаемое истолкование всей философии Ницше как учения
о вечном возвращении того же представляет собой результат
переработки и дополнения публикации, вышедшей под тем же
названием в 1935 году4. Оно не вносит что-то в эту философию, а выносит из
нее; оно основывает критическую точку зрения для истолкования
выделенных другим шрифтом текстов только на них самих, если они
внутренне противоречивы или противоречат друг другу. Оно
выявляет фундаментальное противоречие, происходящее оттого, что
физическую истину неизбежного круговращения мира природы Ницше
считал «избеганием бед», так что воля к власти становится важной
составной частью «видения» о вечном возвращении уже в «Заратус-
тре», в главе «О самопреодолении», но не включается в него. Учение
о вечном возвращении того же так же внутренне противоречиво и
двусмысленно, как и его временной символ - «полдень». В виде
«полудня и вечности» он означает высшую точку покоя и
завершенности; но точно так же и главным образом он означает и высшую точку
крайней нужды и опасности, а в качестве таковой - критическую
«середину», где речь идет о решении. Об это противоречие
разбивается удивительное единство и логичность ницшевского хода мысли.
Несогласования и противоречия, правда, могут показаться
несущественными, если мнить, будто можно обойтись без логики закона
противоречия как нефилософской, и полагать, что противоречия и
двусмысленности уже как таковые суть признаки более глубокой
проницательности. Однако противоречие, которое движет ницшевским
14
мышлением, лежит ни в плоскости отдельных внутренне
противоречивых положений, ни в сфере тех бесчисленных обусловленных
полемическими целями антитез, которые хотя и насквозь
пронизывают все сочинения Ницше, но могут быть разрешены, если
принимать во внимание, с каким намерением и против чего высказана
каждая из них. В отличие от таких формальных и мнимых
противоречий, оно является фундаментальным и универсальным,
возникающим из глубинного конфликта в отношениях между человеком и
миром - без Бога и космического мироустройства. Безмерное
напряжение страстного мышления Ницше, мышления, которое является
больше испытующим экспериментированием, чем разработкой с
помощью познания, с начала и до конца вращается вокруг
разрешения этого конфликта и избавления от него. Мнимое решение
заключается в том, что Ницше-Заратустра проецирует на природный мир
как целое случай своего собственного, нуждающегося в спасении
существования и экстатически приводит в соответствие
собственную волю к самопреодолению со стремлением к себе самому мира
небесного. Его попытка найти обратный путь от конечного ничто
волящего себя Я к вечной целокупности бытия в конечном итоге
заканчивается подменой себя Богом, вокруг которого все
становится миром5. Ницшевское самоосознание кончается безумием, и
относительно него невозможно вынести окончательное суждение, было
ли оно бессмысленной, внешней случайностью, или внутренне
присущей ему судьбой, или священным безумием, при вспышке
которого в самом Ницше подобно молнии воплотился феномен дионисов-
ского исступления, которому он посвятил свою первую книгу6, чтобы
потом угаснуть в тупоумии. - «И уж лучше одному сидеть на своей
горе, подобно почерневшей, полуразрушенной крепости, задумчиво
и совсем тихо; так, чтобы и птицы страшились этой тишины».7
15
16
I
Ницшевская философия:
система в афоризмах
Философия Ницше - это ни замкнутая в единых границах
система, ни совокупность множества не связанных друг с другом
афоризмов, а система в афоризмах. Своеобразие ее философской формы
одновременно характеризует и ее содержание. Систематический
характер его философии обусловлен определенной манерой, в какой
Ницше приступает к своему философскому экспериментированию,
выдерживает его и проводит, афористический -
экспериментированием как таковым. Исходя из этого принципиально
экспериментального характера его философствования следует понимать и
простой смысл многообразных трансформаций последнего.
Однажды Ницше охарактеризовал всю современную эпоху как
эпоху экспериментов. Так он понимает не только будущие
биологические эксперименты по селекции - «целые континенты» могли бы
посвятить себя «сознательному экспериментированию»1. При этом
он думал о таких великих открывателях и экспериментаторах
Ренессанса, умах отважных и искушающих судьбу, как Леонардо да Винчи
17
I. Ницшевская философия: система в афоризмах
и Колумб, с которым он часто сравнивал себя, так же как Канта -
с Коперником. В том же смысле и философов Нового времени он
называет «искушающими», испытывающими себя наудачу, «чтобы
посмотреть, как далеко можно с этим зайти. Подобно
мореплавателю в незнакомом море»2.
Нарождается новый род философов: я рискну окрестить их одним
небезопасным именем. Насколько я догадываюсь... эти философы
будущего хотели бы по праву, а может быть и без всякого права, называться
искусителями, В конце концов само это имя есть только попытка и, если
угодно, искушение3.
Ницшевский Заратустра в качестве испытующего всегда в пути,
он - «странник», испытывающий различные пути и идущий по ним,
чтобы пройти к истине.
Многими путями и способами дошел я до моей истины... И всегда
неохотно спрашивал я о дорогах... Я лучше сам вопрошал и испытывал
дороги. Испытанием и выспрашиванием было все мое хождение...4
Экспериментальная философия Ницше на пробу
предвосхищает возможность принципиального нигилизма - чтобы прорваться к
обратному, к вечному круговращению бытия.
Принципиально экспериментаторским характером ницшевской
философии определяется и особый смысл его критики и скепсиса:
то и другое служит опытной проверке. Его критика - это
«испытание» переоценки всех прежних ценностей, а скепсис - дерзкой
мужественности.
Итак, если мы предположим, что какая-нибудь черта в образе
философов будущего дает возможность угадать, не должны ли они быть
скептиками..., то этим будет, однако, охарактеризовано лишь нечто в них,
- а не они сами. С таким же правом они могут называться критиками; и,
конечно, это будут сторонники экспериментов. Именем, которым я
отважился окрестить их, я особенно подчеркнул склонность производить
опыты и удовольствие, ими доставляемое: не потому ли, что они, будучи
критиками душой и телом, любят пользоваться экспериментами в
новом, быть может более обширном, быть может, более опасном смысле
слова?... Эти грядущие менее всего вправе обходиться без тех серьезных
и небезопасных качеств, которые отличают критика от скептика, - я
подразумеваю уверенность в оценке, сознательное владение единством
18
метода, изощренное мужество, самостоятельность и способность
отвечать за себя; мало того, они признают, что им нравится отрицание и
членение и известная трезвая жестокость, умеющая верно и искусно
владеть ножом... Они будут суровее (и, быть может, не всегда лишь по
отношению к себе), чем хотелось бы гуманным людям, они не будут
якшаться с «истиной» для того, чтобы она «доставляла им удовольствие»
или «возвышала» и «воодушевляла» их...5
Этого экспериментального характера своей философии Ницше
придерживался начиная с первых своих «годов искушения» и вплоть
до учения о вечном возвращении; да и оно все еще - «последнее
искушение истиной», а сам Dionysos philosophos - «бог-искуситель».
Если бы философия Ницше с самого начала была хорошо
продуманной системой, то его критика в адрес системы вообще
оставалась бы непонятной; если бы, наоборот, его философия была
простой вереницей афоризмов, то было бы неясно, почему Ницше
настаивал на том, что начиная с «Рождения трагедии» у него «все едино
и стремится к одному». Новейшая точка зрения, согласно которой
Ницше, в сущности, мыслитель систематический, столь же верна и
неверна, как и старая, гласящая, что он писатель, автор афоризмов;
ведь нельзя отрицать ни того, что его произведения состоят из более
или менее развернутых афоризмов, ни того, что он разрабатывал
планы, относящиеся к общему замыслу, планы, которые связывают
друг с другом все фрагменты, причем именно в том, что не
учитывает и систематическая интерпретация, и отказ от нее: в учении о
вечном возвращении. Лишь в нем как своем последнем
эксперименте череда его попыток, искушений соединяется с логической
систематикой в одном «учении».
В философской системе как таковой Ницше оспаривает не
методологическое единство, создающее «фундаментальную волю
познания», а то, что она симулирует догматически зафиксированный и
«заранее оговоренный» мир. От нехватки мужества
философы-систематики перекрывают открытые горизонты испытующего
исследования и вопрошания. Критика системы соответствует философской
воле к открыванию мира заново и открытым горизонтам
вопрошания. Несистематическая форма ницшевского мышления берет свое
начало конкретно от его нового отношения к бытию и к истине. Все
люди прежних эпох, даже скептики, «владели истиной», в то время
как «новым в нашем нынешнем отношении к философии» является
убеждение, «которого еще не было ни у одной эпохи», в том, «чтомы
не владеем истиной»^. Поскольку «ничто уже не истинно», но «все по-
19
I. Ницшевская философия: система в афоризмах
зволено», Ницше проводит новый эксперимент с истиной, а
честность эксперимента занимает место ставших неистинными систем,
созданных в эпохи, владевшие истиной. Нет больше истины в
доверии к бытию в истине - она есть в недоверии ко всем истинам, в
которые доселе верили люди.
Так ты хочешь сделаться проповедником недоверия к собственной
истине? - Пиррон: Да, недоверия, какого еще и на свете не бывало,
недоверия ко всему и вся. Это единственный путь к истине. Правый глаз
пусть не верит левому, а свет пусть некоторое время зовется тьмою: вот
тот путь, которым вы должны идти. Не думайте, что он приведет вас к
плодовым деревьям и прекрасным пастбищам. Мелкие затвердевшие
зернышки - вот что вы на нем найдете: это и есть истины...7
Этим мелким зернышкам истины соответствует афористическая
«косточка» языка. Лишь в сверх-человеческом языке Заратустры, в
метафизически обоснованной притче, Ницше и сам затем
претендует быть в целостности истины. Испытующий язык эксперимента
превращается в язык «инспирации», чтобы получить свое
продолжение в набросках к систематическому главному труду. Но вплоть
до «Заратустры» Ницше держался за свою экспериментальную волю
к открытым горизонтам, которая все снова заставляла его
перегонять и преодолевать себя, оставаясь в неопределенности.
В моих прежних сочинениях читатель приметит честное стремление
не замыкать свой кругозор, проявлять некую умную осторожность перед
лицом различных убеждений, не доверять чарам и попыткам
перехитрить собственную совесть, какими чревата любая сильная вера; в них
можно увидеть отчасти осмотрительность обжегшегося однажды
ребенка... но более важным мне кажется эпикурейское чутье любителя
загадок, который никак не может за здорово живешь отказаться от
энигматичной природы вещей, а напоследок самыми важными - некое
эстетическое отвращение к громким, добродетельным и не допускающим
возражений словам и вкус, дающий отпор при виде всевозможных
четырехугольных противоположностей, желающий от вещей доброй доли
зыбкости и стирающий противоположности, потому что предпочитает
оттенки, тени, послеполуденные блики и безбрежные моря8.
Исходя из этой доброй воли к открытым горизонтам следует
понимать критику Ницше, направленную на замкнутый мир систем,
так же как и смысл его «предварительного» мышления и говорения
20
в афористических кусочках истины. Воля к системе - это «теперь»,
когда все вдруг снова потекло рекой, а теплый ветер размягчает льды,
пробивая в них тропинки, есть «отсутствие порядочности».
Предварительные истины. - Есть... своего рода обман в том, что
современный мыслитель постулирует целостность познания, систему; мы
слишком хитры, чтобы не носить в себе глубочайшее сомнение в возможности
такой целостности. Достаточно прийти к согласию относительно
совокупности предпосылок метода- о «предварительных истинах», которые
будут служить руководством для нашей работы; так мореход
придерживается определенного направления в мировом океане9.
Воля к системе у философа, выражаясь на моральный лад, - это
утонченная испорченность, а на неморальный лад, - «страсть
прикидываться более глупым, чем он есть, - более глупым значит: более
сильным, простым, повелительным, необразованным,
командующим, тиранящим...»; «Я недостаточно скудоумен, чтобы сочинить
систему-даже свою собственную систему...»10. Систематики, «стараясь
завершить свою систему и замкнуть вокруг нее горизонт, считают
долгом попробовать изложить свои слабые стороны в стиле
наиболее сильных, - им хочется предстать перед всем светом натурами,
наделенными завершенностью и собранными в кулак силами» - тем
самым они «разыгрывают комедию»11. Систематики обретаются в
«доме познания, который прочно сбит и заслуживает полного
доверия»12, они отказываются от истины в игре случая. Их коренной
предрассудок состоит в том, что «подлинное бытие» само по себе
однородно, упорядочено и со всех сторон защищено, а потому к
нему можно питать полное доверие13. То, к чему они стремятся, - не
истина в смысле результата открытия, а истина в смысле
достоверности. Декартово сомнение тоже гарантирует себе на пути к истине
прежде всего достоверность. Все они всё еще верят в истину, но не
отваживаются жить «согласно гипотезам», ведь легче удерживаться
в «догматическом мире», чем «в незавершенной системе, с
незамкнутыми перспективами». Все те умы, что послабее, гибнут от такого
испытания14.
И если кто-то тысячу раз противоречит самому себе, проходит
множество путей, носит множество масок и не находит в себе ни конца, ни
последней линии горизонта, - возможно ли, что такой человек меньше
узнает об «истине», нежели добродетельный стоик... навсегда поставивший
себя на свое место? Однако подобные предрассудки сидят на пороге
21
I. Ницшевская философия: система в афоризмах
всех существовавших до сих пор философий, особенно предрассудок,
гласящий, что достоверность лучше недостоверности и открытого моря...15
Но несмотря на эту честную волю к выходу в открытые моря,
ницшевский эксперимент все-таки проводится систематически
благодаря направлению, которое он соблюдает: это систематическая
апробация, а не неопробированная система. Проявляющаяся в афоризме
тенденция к незамкнутым горизонтам ограничивается сама собой
благодаря «врожденному родству» понятий.
Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего
произвольного, ничего для-самого-себя-произрастающего, а вырастают
в соотношении и родстве друг с другом; что, несмотря на всю
кажущуюся внезапность и произвольность их появления в истории мышления,
они все же точно так же принадлежат к известной системе, как все
виды фауны к какой-либо части света, - все это сказывается напоследок в
той уверенности, с которой самые различные философы постоянно
заполняют некоторую основополагающую схему возможных
философий. Под незримым ярмом они постоянно вновь пробегают по одному
и тому же круговому пути, и, как бы независимо ни чувствовали они
себя друг от друга со своей критической или систематической волей,
нечто внутреннее ведет их, нечто гонит их в определенном порядке
друг за другом - та самая прирожденная систематичность и родство
понятий. Их мышление, в самом деле, в гораздо меньшей степени есть
открывание нового, нежели опознавание, припоминание старого, -
возвращение под родной кров, в далекую стародавнюю общую вотчину
души, в которой некогда выросли эти понятия, - в этом отношении
философствование есть род атавизма высшего порядка16.
Так и новейший эксперимент Ницше вращался по орбите
древнейшего происхождения: его последний опыт с истиной для
преодоления нигилизма снова напоминает об истоках западной
философии. Та же самая ретроспектива случается и при развитии отдельной
системы из «порождающей основной идеи».
Можно провести полную аналогию между упрощением и сокращением
бесчисленных переживаний до общих принципов и развитием
сперматозоида, в сжатом виде несущего в себе все прошлое: такую же
аналогию можно провести между художественной разработкой от
порождающей основной идеи до «системы» и развитием организма как
разворачиванием и продолжением идеи, как воскрешением в памяти всей
22
предшествующей жизни, воскрешающим ясным представлением,
воплощением17.
Из такой порождающей основной идеи, которую затем
воплощает порожденная ею система, и происходят «убеждения»
философов. Обучение, правда, изменяет нас, но
в основе нашего существа, там, «на самом дне», конечно, есть нечто не
поддающееся обучению, некий гранит духовного фатума,
предопределенного решения и ответа на предопределенные избранные вопросы.
При каждой кардинальной проблеме что-то неизменное говорит: «это
я»; скажем, в теме мужчины и женщины мыслитель не может
переучиться, а может только выучиться, - только раскрыть до конца то, что в нем
на сей счет «твердо установлено». Порою мы находим известные
решения проблем, которые именно нам внушают сильную веру; может быть,
с этих пор мы начинаем называть их своими «убеждениями». Позже мы
видим в них только следы нашего движения к самопознанию, только
путевые столбы, ведущие к проблеме, которую представляем собою мы,
- вернее, к великой глупости, которую мы представляем собою, к
нашему духовному фатуму, к тому не поддающемуся обучению элементу,
который лежит там, «на самом дне»18.
То, что берет тогда слово, - «суверенное влечение», которое
сильнее человека.
Есть множество людей, в которых инстинкт не стал суверенным; у таких
людей нет убеждений. Вот первая характерная черта этого: всякая
законченная философская система доказывает, что философом правит
инстинкт и что существует твердая иерархия. Тогда это называется
«истиной». - Сопутствующее этому ощущение: с этой истиной я на высоте
«человек»: все прочие - более низкого типа, чем л, во всяком случае, в
качестве познающих19.
Последнее и «высочайшее отношение к существованию» хотел
обрести и Ницше, когда напоследок снова занял позицию, с которой
начинал. Как учитель вечного возвращения он снова обращается
памятью к проблеме «Рождения трагедии», и в высшем виде диони-
совского бытия завершение его эксперимента систематически
смыкается с его началом.
Но поскольку в соответствии с этим учением «жребий
человечества» уже «вечно существовал» и давно предрешен, то и в человеческом
23
I. Ницшевская философия: система в афоризмах
познании нет никакого произвола, а есть только фатум20. Вначале и
под конец в ницшевской попытке воздержаться от системы царит
принудительная необходимость развертывать идею вечно
возвращающегося бытия как систему. И в афоризме, этой мнимо
мимолетной форме чисто случайных мыслей, Ницше в соответствии со своей
философией хотел запечатлеть не сентенцию для данного момента,
а «форму вечности».
Создавать вещи, на которых время будет понапрасну пробовать свои
зубы; по форме, по субстанции домогаться маленького бессмертия - я
никогда еще не был достаточно скромен, чтобы требовать от себя
меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь
мастером, суть формы «вечности»21...
«Вечна» эта форма на тот же манер, в каком Ницше вообще
говорит о вечности: она уже когда-то была и все снова возвращается.
И если в эпоху, философия которой была без «мудрости», Ницше
поневоле испытывает афоризм и притчу как философский язык, то
и здесь он обнаруживает нечто такое, что уже было, а именно
древнюю мудрость философского изречения. Совершенная им отмена
ставшей произвольной языковой формы систематической
философии - это попытка восстановления языковой необходимости из
бедственного положения современного ему мышления. Если
современные системы придают мысли мнимую необходимость, которой она
на самом деле не обладает, то Ницше на глубочайшем уровне
принужден к своему новому эксперименту с языковой случайностью, а
потому создает не систему, хотя и пишет афоризмами, но опять-таки
проводит эксперимент с необходимой случайностью, свойственной
мудрости изречений. Так в осознаваемой им самим нужде его
афористического мышления и писательского труда одновременно
проявляется некая невольная необходимость. Но ее родная стихия как раз
в случайности мысли, а не в системе, которая вместе со случайностью
исключает и необходимость.
Ницшевское освобождение от системы как уже невозможного
целого в пользу свободной связи между афоризмами и притчами
напоследок вызывает к жизни учение, языковая форма которого столь
же двусмысленна, как и все находящееся в орбите новых веяний.
Язык «Заратустры», этой системы парабол, поначалу, правда, кажется
лишь мнимо философским языком. Но и в этом новаторском языке
вновь возвращается то, что уже было, а именно древнейшая форма
философской дидактической поэзии22. Только по меркам позитивной
24
науки этот язык, вероятно, предстает тем, чем, по сути, не является:
просто мешаниной «поэзии» и «правды», а сам Ницше - путаником,
наполовину сочиняющим, а наполовину высказывающим истины.
Но если его эксперимент мерить его собственным мерилом, то Ницше
- вовсе не «философ-поэт», а современный обновитель
древнейшего языка философии. Эта тенденция косвенно явствует из того, что
именно в «Заратустре» он отрицает бытие в истине как за
«учеными», так и за «поэтами», поскольку одни разве что «вяжут носки», а
другие «недостаточно вдумались в глубину», а потому их «чувство»
не опускалось «до самого дна»23. В борьбе между «мудростью и
наукой» Ницше снова вспоминает об изначальном единстве поэзии и
правды в дидактическом языке философского изречения мудрости.
Это единство, однако, обрело свои новые очертания лишь в
двусмысленной форме системы продуманных метафор, в которых
искусственная игра слов и остроумная шутка смешаны с серьезностью и пафосом
целого. Если философская дидактическая поэзия от Парменида до
Лукреция излагает продуманную мысль поучительно, то речи Зара-
тустры подражают языку евангелий, чтобы возвестить
антихристианское послание, философское содержание которого скорее
прикрывается в притчах Заратустры, чем открывается.
На единство своей афористической продукции указывал сам
Ницше. В его сочинениях речь идет «долгой логике совершенно
определенной философской впечатлительности», а «не о суматохе сотен
произвольных парадоксий и гетеродоксий»24. «Сквозная
бессознательная, невольная конгруэнтность и взаимопринадлежность
мыслей в чересполосице моих последних книг вызвала у меня изумление:
избавиться от себя нельзя, а потому нужно отважиться и дать себе
волю во всем»25. Думая о единстве своего творчества, он желает себе,
«чтобы когда-нибудь другой человек захотел создать своего рода
резюме» его «мыслительных результатов», сравнив его с
предшествующими мыслителями. Этим единством Ницше обязан единству своего
философского задания. «Мало-помалу глубины души, конечно,
дисциплинируют человека, направляя его назад, к единству; та страсть,
имени которой он долго не знал, то задание, невольным
миссионером которого этот человек является, вызволяет его из всех
отклонений и отвлечений»26. И чем больше сбывается его судьба, тем
увереннее он осознает свои «синтетические воззрения» и тем больше он
способен формулировать свойственную ему философскую
впечатлительность вплоть до ее последних выводов. В конце концов, он
проникается «абсолютной убежденностью» в том, что начиная с «Рождения
трагедии» «все является единством и стремится к единству»27. Ведь
25
I. Ницшевская философия: система в афоризмах
мы, «философы, не имеем права на отдельность в чем-либо: мы не
смеем ни заблуждаться в отдельности, ни в отдельности попадать в
истину. Напротив, с необходимостью, с какою дерево растит свои плоды,
из нас вырастают наши мысли, наши ценности, наши Дай Нет, Если
и При условии, родственные и касающиеся друг друга, все вместе и
рука об руку - свидетели единой воли, единого здоровья, единой
почвы, единого солнца»28. Этого требовала от него говорящая все
решительнее и повелительнее « фундаментальная воля познания».
Зная об этом единстве, Ницше требовал от своего читателя
истолкования своих афоризмов; ведь его честолюбивым стремлением было
«сказать в десяти предложениях то, чего другие не могут сказать в
одной книге». «В книгах афоризмов, подобных моим, между
короткими афоризмами и позади них скрываются сплошь запретные длинные
вещи и цепочки мыслей... »^ Для того чтобы вычитывать эти длинные
вещи, требуется прежде всего неспешное, филологическое чтение.
Подобная книга, подобная проблема, как та, о которой речь, не терпят
спешки; да и помимо этого оба мы дружим с lento- и я, и моя книга. Не
зря ведь человек был филологом, да может быть, и теперь еще не зря
он филолог, то бишь учитель медленного чтения: - в итоге он стал и
писать медленно. И теперь у меня не только вошло в привычку, но и
сделалось моим вкусом, может быть, злобным вкусом, - не писать больше
ничего такого, что не доводило бы до отчаяния любую разновидность
человека, который «терпит спешку». Филология же - то почтенное
искусство, что требует от своего почитателя прежде всего одного: держаться
в сторонке, удосужиться, притихнуть, замедлиться; она - ювелирное
искусство и мастерство слова, обязанное выдавать работу исключительно
тонкую, осмотрительную, и не добивается своего, если не добивается
этого в темпе lento. И как раз поэтому она сегодня нужнее чем когда-либо,
как раз этим она так сильно привлекает и зачаровывает нас в самый
разгар эпохи «труда», то бишь поспешности, непристойной и потеющей
торопливости, которая силится «управиться» сразу со всем, в том числе
с каждой старой и новой книгой: а вот филология управляется со
своими предметами не так-то легко, она учит читать хорошо, то есть читать
медленно, глубоко, оглядываясь назад и заглядывая вперед, с задними
мыслями, с открытыми дверями, с чуткими пальцами и глазами...
Терпеливые мои друзья, эта книга желает себе только безупречного читателя
и филолога: научитесь читать меня хорошо!30
Этого искусства чтения требует, прежде всего, «Заратустра», как
комментарии к которому следует понимать не только «По ту сторону
26
добра и зла» и «К генеалогии морали», но и все остальные сочинения
последующих лет. Ведь в них нет ни единой мысли, которая уже не
просвечивала бы в параболическом языке «Заратустры» в столь же
краткой, сколь и богатой контекстом форме. Трудность
истолкования параболического языка «Заратустры», однако, не меньше, чем
афористических сочинений Ницше: то и другое соблазняют к
поверхностному чтению, поскольку укладываются в голове слишком
легко. Относительно «Генеалогии морали» это звучит так:
Афоризм, по-настоящему отчеканенный и отлитый, вовсе еще не
«дешифрован» оттого лишь, что он прочитан; скорее, именно здесь
должно начаться его толкование, для которого потребно целое искусство
толкования. В третьем рассмотрении этой книги я преподнес образец того,
что я в подобном случае называю «толкованием», - этому рассмотрению
предпослан афоризм, само оно - комментарий к нему. Конечно, дабы
практиковать таким образом чтение как искусство, необходимо прежде
всего одно свойство, от которого на сегодняшний день вполне
основательно отвыкли - и оттого сочинения мои еще не скоро станут
«разборчивыми», - необходимо быть почти коровой и уж во всяком случае
иг «современным человеком»: необходимо пережевывание жвачки...,31
Изречения, говорит Заратустра, должны быть вершинами для
высокорослых, которые могут своими длинными ногами
перешагивать от одной до другой. Но остается вопрос, побуждают ли
афоризм, изречение и притча к тому, чего требовал Ницше: к чтению с
оглядкой, к осторожному чтению, которое истолковывает сказанное
с задержкой. Соблазняющий характер ницшевской афористической
продукции никто не распознал лучше, чем его друг Овербек:
афоризм благодаря «косметической силе» своей краткости придает
парадоксу незаслуженный блеск и форсирует эффект за счет
обоснованности. Возможность опровержения всего обоснованного лишь
наполовину также опасна, как «врожденный недуг, с которым...
является на свет то, что нуждается в обосновании», - и что без обоснования
в мире не удержится32. Поэтому мы попытаемся реконструировать
это обоснование в интерпретации, объединяющей то, что
рассредоточено в творчестве Ницше, а тем самым одновременно создать
возможность для его критического осознания.
28
II
Периодизация сочинений Ницше
Потаенной системе в сочинениях Ницше лишь мнимо
противоречит то обстоятельство, что его философия вместе с ним самим
многократно трансформировалась в ходе его эксперимента. В
«Заключительной песне» к «По ту сторону добра и зла» есть известная
строчка: «Лишь кто меняется, тот родствен мне душой». Но ей
предшествует вопрос о том, «иным ли стал» он, сам себе чужой. Точный ответ
на него Ницше несколько раз дал в метафоре «смены шкуры». Он,
по его словам, правда, довольно часто выходил из своей шкуры, но
только потому, что имел опыт в змеином знании того, как «менять
шкуру»1. Это самообъяснение, означающее, что, становясь иным, он
оставался собой, поскольку то, что тождественно себе, только и
умеет изменяться, относится ко времени «полудня», в момент, когда
Ницше замер на середине своей жизни. В этот определяющий полдень
своей жизни и мышления он смотрит и в будущее, и в прошлое,
чтобы понять свое место в рамках целого. Глядя вперед, на будущее
задание, он впервые смог прочесть в обратном направлении «длинное
предложение» своей жизни. «Читая слева направо, я, вне всякого
сомнения, прочитывал тогда лишь "слова, лишенные смысла"». А
поскольку будущее его задания заранее распоряжалось им, и настоль-
29
П. Периодизация сочинений Ницше
ко сильно, что смысл даже его первых школьных сочинений впервые
стал совершенно ясен лишь с высоты его последнего учения, он смог,
«толкуя будущее» задним числом, разглядеть и свое собственное
прошлое, а свой философский эксперимент окинуть взглядом как целое
в качестве трансформации самотождественного2. В этой
трансформации он стал не чуждым себе, а своим собственным, и через выбор
в пользу «второй натуры» сделался хозяином натуры первой. «Так я
снова отыскал дорогу к тому отважному пессимизму, который
противоположен всей романтической лживости, а заодно, как мне
сдается нынче, и дорогу ко "мне" самому, к моему заданию»3,
состоявшему в продолжении нерешительного пессимизма 19-го столетия в
сторону решительного нигилизма и его «самопреодоления»4. Тот, кто
научился читать Ницше в духе системности, станет поэтому
удивляться не пестрому изобилию его переменных перспектив, а
постоянству и даже монотонности его философской проблематики. «Если
у человека есть характер, то у него есть и свое типическое
переживание, которое повторяется снова и снова5».
Ницшевское самообъяснение вспять с высоты его нынешнего
задания яснее всего проявляется в новых предисловиях 1886 года к
своим ранним книгам. В «Человеческом, слишком человеческом»
он начинает свой собственный, одинокий первооткрывательский
поход, который в конце концов по кругу привел его назад, к
исходной точке. Две критических трансформации - из полного почтения
юноши в освобождающий себя ум и из освобожденного ума в
мастера-педагога - обусловливают членение творчества Ницше на три
периода. Поначалу он как усердный почитатель и младший друг Р.
Вагнера верил в обновление немецкой культуры; затем как с болью
освободившийся ум не верил «вообще ни во что», чтобы искать свой
собственный путь, покуда, наконец, полюбив рок, не стал учителем
вечного возвращения, «кольцо» которого есть возражение на
«Кольцо нибелунга».
Привязанность к Вагнеру и разрыв с ним были решающим и
никогда так и не зажившим событием в жизни Ницше. Посвящение
«Рождения трагедии» «из духа музыки» отмечает начало, а «Ницше
contra Вагнер» - конец этих отношений; их вершиной было намерение
Ницше бросить профессорскую должность в Базеле, чтобы служить
«Байрейту» литературным пропагандистом. Вагнер был для Ницше
антиподом, но заодно «единственным и первым», развившим у него
чутье на себя самого, а Козима Вагнер - первой и единственной
женщиной, которую Ницше почитал как «Ариадну» даже в начале
своего безумия. Со времен «Заратустры» Ницше носился с мыслью, что
30
должен принять наследие Вагнера и тем самым избавить его
«великое дело» от слишком человеческих изъянов. Ницше и Вагнер
неразрывно связаны друг с другом, причем еще сильнее и иначе, чем
это представлял себе сам Ницше, и не в последнюю очередь
благодаря общему для них мотиву «спасения», почерпнутому из
метафизики воли Шопенгауэра,
Первый период охватывает опубликованные самим Ницше
сочинения начиная с «Рождения трагедии» и «Несвоевременных
рассуждений»; второй - сочинения «лемеха»*: «Человеческое, слишком
человеческое», «Утреннюю зарю» и четыре первых книги «Веселой
науки». Третий период начинается с «Заратустры» на почве идеи
вечного возвращения и заканчивается в «Се человек». Только он
содержит в себе настоящую философию Ницше. Разрыву с первым
периодом соответствует критический переход от второго к третьему
периоду, выразившийся задним числом в афоризмах 341 и 342, а также
в эпилоге «Веселой науки», но также еще в «Утренней заре».
Стихотворное посвящение «Веселой науки» и вопросительный знак в
конце «Утренней зари» уже указывают на мотив «вечности», который не
только господствует в «Заратустре» и в стихотворной форме «Славы
и вечности» должен был завершать «Се человек», но и философски
обосновывает критику эпохи в «Воле к власти».
Задача для последовавших затем лет была предначертана со всей
возможной строгостью. После того как позитивная часть моей задачи
была решена, настала очередь негативной, негактивной половины:
переоценка самих господствовавших до сих пор ценностей, великая война
- заклинание дня, который проведет черту...
Если вспомнить, что эта книга следует за Заратустрой, то легко угадать
тот диететический régime, которому она обязана своим возникновением.
Глаз, избалованный чудовищным принуждением смотреть вдаль...
вынужден здесь остро схватывать ближайшее, эпоху, окружающее*,
говорится в объяснение «По ту сторону добра и зла», книги,
которая в качестве «Пролога к философии будущего» связывает «Заратус-
тру» с «Волей к власти».
Эта периодизация дает отнюдь не чисто внешнюю схему,
которую можно заменить какой-нибудь другой, получше, без всякого
вреда для понимания ницшевской системы7; она во всем ее значении
подтверждается самим Ницше. Ее методологическая значимость
* «Лемех» - первое, черновое название «Утренней зари».
31
П. Периодизация сочинений Ницше
состоит в том, что она характеризует главные этапы ницшевского
«пути к мудрости», двукратное схождение с которого два раза было
кризисом.
Путь к мудрости. Указания для преодоления морали.
Первый шаг. Почитать (и слушаться, и учиться) лучше, чем кто бы то ни
было. Собрать в себе все достойное почитания и заставить бороться
друг с другом. Выносить все трудности... Время общности...
Второй шаг. Разбить почитающее сердце, когда привязываешься крепче
всего. Свободный ум. Независимость. Время уединения. Критика всего,
что почиталось (идеализировать не почитавшееся), попытка
противоположных оценок.
Третий шаг. Великое решение: способен ли я к позитивной точке зрения,
к утверждению. Больше никакого бога, никакого человека надо мной\
Инстинкт созидающего, который знает, к чему приложить руку. Великая
ответственность и невинность. (Чтобы радоваться чему-либо, нужно
все принимать.) Наделить себя правом действовать. (...)
По ту сторону добра и зла. Он принимает механистическое
мировоззрение и не чувствует себя униженным судьбой: он и есть судьба. В его
руках жребий человечества.
Лишь для немногих: большинство погибнет уже на втором этапе...8
В материалах к предисловиям 1886 года Ницше сам
соответствующим образом сгруппировал свои сочинения: и те, что были
написаны во второй период, понял с точки зрения своей последней
философии «полудня» как философию «утренней зари» и «предполуденных
часов»9. Они для него - подступ к пониманию того типа, в котором
освободившийся ум сам снова освобождает себя от своей крайней
свободы для amor fati. Зато «Несвоевременные размышления»
равнозначны для него просто «обещаниям», и «быть может, еще появится
человек, который обнаружит, что начиная с "Человеческого,
слишком человеческого", я ничего и не делал, как только выполнял свои
обещания»10.
Не считая «Рождения трагедии», философское истолкование
которой было дано Ницше лишь в новом предисловии 1886 года,
в «Сумерках идолов» и в «Се человек», первый решительный шаг
на его пути к мудрости - это «осознанное вхождение подальше в
декаданс», вплоть до критической границы крайнего нигилизма, где
больше пет истины, а все позволено. Дальнейший переход к философии
вечного возвращения ознаменован вторым кризисом в «Заратустре»;
он совершается между «самым тихим часом» и «выздоровлением»
32
на грани второй и третьей частями книги. Начиная с «Заратустры»
все дальнейшее гладко встраивается в философию вечного
возвращения как самопреодоление крайнего нигилизма. Содержащаяся в
«Воле к власти» критика всех прежних ценностей, отрицание новых
веяний, предполагает уже завоеванную позитивную точку зрения
по отношению к вечному круговращению вещей. А в качестве «путе-
указателя для избавления от морали» уже сама «невинность
становления» определена как путь - посредством того избавления, которое
содержит в себе «Заратустра». Этому соответствует и последний
общий план «Воли к власти» 1888 года. В первых трех предусмотренных
им книгах - «Антихристианин», «Свободный ум» и «Имморалист»
- содержится ницшевская негативная философия освобождения, а
именно освобождения от нигилизма, а в четвертой, и последней,
носящей название «Дионис», - позитивная философия
освобождения для вечного возвращения того же.
В этой характеристике трансформаций тождественного себе речь
идет о не о «втолковании» чуждого, а об истолковании самого
Ницше, и это в одном заметном месте доказывает текст «Заратустры».
Уже в первой речи Заратустры говорится о «трех превращениях»
одного и того же духа. Человек, овладевший выносливым духом,
почитающий чуждое и выносящий самое трудное, в ходе первого
кризиса становится отважным духом, пожирающим дух почтения и
выбирающим себя самого. «Львом становится здесь дух, свободу хочет
он себе добыть и быть господином в своей собственной пустыне.»11
Он трансформирует чуждое «ты должен» веры, полной почитания,
в свое собственное «я хочу». Однако: «Создавать новые ценности -
этого не может даже лев»; он может лишь завоевать себе свободу для
новых ценностей в своем «нет» богу и «долгу», говорящим «ты
должен». Освободившийся должен еще стать играющим мирами
ребенком, чтобы снова жить просто в космической невинности
беспрестанного становления. Эта последняя трансформация от «я хочу» к
«я есмь»12 играющего мирами ребенка совершается в ходе второго
кризиса «самого тихого часа». Лишь тогда дух снова получает из
«пустыни своей свободы» утраченный мир как свой собственный - в
священном «да» вечно возвращающемуся бытию всего сущего.
Этот двойной поворот пути, совершенный на одном пути к
мудрости, от «ты должен» верующего к «я хочу» освобожденного духа,
а от него к «я есмь» здесь и возвращаюсь все снова, характеризует
философскую систему Ницше как целое. Первый выбор, в пользу
«я хочу», освобождает от всех прежних привязанностей и для
нигилизма. Второй выбор - расстаться и с самой свободой - это обратная
33
П. Периодизация сочинений Ницше
сторона интуиции, полученной от высочайшего светила бытия.
«Двойная воля», освобождающая себя от достигнутой свободы для ничто
в пользу amor fati, обращает крайний нигилизм решившегося на
ничто существования в неизбежное желание вечно неизбежного
возвращения того же.
Три символических фигуры характеризуют этот путь от негативно
освободившегося духа до учителя вечного возвращения.
Сопровождаемый своей тенью Странник символизирует продвижение вплоть
до границ ничто. Странник сопровождает сверхчеловеческого Зара-
тустру, который тоже еще странствует, в качестве его тени, а на
место Заратустры встает, наконец, бог Дионис, в качестве последнего
ученика которого Ницше в конце осознал себя таковым с самого
начала. В дионисийском отношении к существованию, сказавшем «да»
бытию в целом и времени раз и навсегда, достигнуто последнее и
«наивысшее» отношение к существованию13, по ту сторону добра и
зла, но не по ту сторону хорошего и плохого. Этому дионисийскому
истолкованию мира в самом Dionysos philosophos соответствует
«наивысший способ бытия». Так в ницшевском amor fati
самоутверждение вечно возвращающегося бытия соединяется с вечным «да»
собственного существования, сказанным бытию в целом.
О печать непреложности!
О высшее созвездье бытия! -
коего не достигает желанье,
коего не пятнает ничье «нет», -
вечное «да» бытия!
Навечно я - твое «да»:
ибо я люблю тебя, вечность!14
Периодизация сочинений Ницше по мерке двукратной
трансформации (первое из «трех» превращений не будет рассмотрено
ближе в отношении его исходной точки) будет понята неполно,
если упустить из вида, что в конце пути Ницше возвращается назад, к
исходной точке15, так что его движение по кругу в целом замыкается,
идя в обратном направлении, и в конце пути наверстывает его
начало. Лишь благодаря этому его философия вообще становится
«системой». «Оно только возвращается, оно наконец приходит домой -
мое собственное Я»16, говорится в описании последнего странствия
Заратустры. В «Сумерках идолов» (гл. «Чем я обязан древним») это
возвращение к себе самому выразительно характеризуется как
повторение проблематики «Рождения трагедии».
34
И тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел,
- «Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех ценностей:
тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растет мое «хочу», мое
«могу», - я, последний ученик философа Диониса, - я, учитель вечного
возвращения...
Учение о вечном возвращении повторяет «Рождение трагедии»
и делает возможной последующую «переоценку всех ценностей»,
поскольку она в своем принципе касается не каких угодно отдельных
ценностей, а ставшей проблемой «ценности существования» как
таковой и в целом: обращение воли к ничто- «нигилизма» - в желание
бытия вечного возвращения того же.
36
Ill
Объединяющая основная идея
в философии Ницше
Глава ι.
Освобождение от «ты должен»
до «я ХОЧУ»
Произведения второго периода, в которых Ницше впервые
освобождается к себе самому, обычно толкуют как «позитивистские», но
не понимают их взаимосвязи с последующими сочинениями и
исходя из них. Позитивистские они все же лишь в том смысле, в каком
сам Ницше философски понимал научный позитивизм 19-го
столетия, а именно как «разочарованный романтизм», находящийся на
пути к решительному нигилизму1. В качестве пока еще
нерешительного нигилизма ницшевский собственный позитивизм - это
скептицизм, находящийся в неопределенном состоянии, первый опыт
в постоянном исследовательском передвижении. На такую
«эмиграцию» Ницше решился после разрыва с Р. Вагнером и его публикой,
37
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
«немцами 19-го столетия». Отныне он жил и мыслил «на свой кошт»,
пока, наконец, безумие не заставило его считаться с собой.
Новые предисловия к «Человеческому, слишком человеческому»
исчерпывающе объясняют философский смысл начала этого
странствия, в которое Ницше пустился - отказавшись от профессуры в
Базеле - и внешне, уйдя от своих современников. «Человеческое,
слишком человеческое» называется «книгой для свободных умов»2.
Свобода, испробованная здесь впервые, поначалу негативна:
освобождение от... благодаря решительному разрыву со всеми
традиционными, наследственными связями. Как памятник первого кризиса
«Человеческое, слишком человеческое» - это документ прощания
и выхода в путь к новым целям. Разрыв этот происходит не в борьбе
с авторитетом церкви, как было во времена Просвещения, - он лишь
логично следует из уже состоявшегося отказа от всех прежних связей.
...современный вольнодумец родился не из борьбы, как его
предшественники, а скорее из умиротворенности, присущей распаду, в состоянии
которого он застал все духовные силы прежнего несвободного мира. После
того как в истории произошел этот величайший перелом, его душа
может оставаться без зависти и почти без потребностей, он требует для
немногого, совсем немногого; ему будет достаточно как наиболее
желанного состояния свободного бесстрашного парения над людьми,
обычаями, законами и привычными оценками вещей. Радостью от подобного
состояния он охотно делится; кто хочет от него большего, того он
отправит с тенью усмешки на устах, доброжелательно покачивая головой,
к своему брату, свободному человеку дела: к «свободе» которого он,
конечно, имеет свое особое отношение...3
В качестве ничем не связанного свободный ум - понятие
относительное.
Свободным умом называют того, кто мыслит иначе, чем от него ждут
на основании его происхождения, среды, его сословия и должности,
или же на основании господствующих воззрений эпохи. Он -
исключение, а умы пленные - правило; последние упрекают его в том, что его
свободные принципы либо порождаются маниакальным стремлением
поражать, либо и вовсе говорят о свободном образе действий, то есть
о таком, который несовместим с пленной моралью. Еще иногда
утверждают, что те или иные свободные принципы надо выводить из
чудаковатого и сумасбродного склада ума; но это говорит только злоба, которая
и сама не верит в то, что говорит, а просто хочет этим уязвить: ведь
38
Глава ι. Освобождение от «ты должен» до «я хочу»
признаки превосходящей добротности и проницательности
интеллекта обыкновенно написаны на лице свободного ума столь отчетливо, что
умы пленные довольно хорошо их читают. Но оба других объяснения
свободомыслия добросовестны; многие свободные умы в
действительности и появляются первым или вторым путем4.
Свободный ум ни во что не верит по привычке - во всяком деле
он спрашивает о причинах. «Все государства и общественные
институты - сословия, брак, воспитание, право - все они сильны и
устойчивы только благодаря вере в них пленных умов, то есть благодаря
отсутствию причин, по крайней мере благодаря активному
неприятию вопросов о причинах.»5 Следовательно, свободный ум -
противоположность всем оседлым умам, но именно в качестве бездомной
«бродячей двусмысленности»6 он и обладает исследовательским
«духом». Десять заповедей свободного ума гласят:
Ты не должен ни любить, ни ненавидеть народы.
Ты не должен заниматься политикой.
Ты не должен быть ни богатым, ни нищим.
Ты должен избегать знаменитых и влиятельных.
Ты должен взять себе жену из другого, а не из своего народа.
Надо, чтобы в воспитании твоих детей участвовали твои друзья.
Ты не должен подчиняться никаким установлениям церкви.
Ты должен не сожалеть о поступке, а делать из-за него на одно доброе
дело больше.
Ради того, чтобы иметь возможность говорить правду, ты должен
предпочесть изгнание.
Ты должен предоставить миру свободу действий в отношении себя, а
себе - в отношении мира7.
Отрешение от привычных привязанностей происходит в два
этапа: оно отдаляет человека от обычного мира традиционных мнений
и ценностных установок и на основе этого отдаления от... делает
возможной новую, собственную близостък... «ближайшим вещам»8.
Оглядываясь назад, на то, что тогда с ним произошло, Ницше
понимает первый этап процесса своего отрешения как прорыв «воли
к свободной воле»9. Но прежде всего и больше всего человек хочет не
своей собственной, а чужой воли, которой он может следовать, вместо
того, чтобы командовать собой сам. Эта первая, предварительная
воля к свободной воле, которая потом, в качестве властелина над
самим собой, становится и властелином над вещами, уже предвещает
39
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
более позднюю, сверхчеловеческую идею «господ над землею»,
заменяющих Бога, поскольку они могут командовать собой сами. То же
самое уже подготовлено в свободном уме «переоценкой всех
прежних ценностей». Он исследует, как выглядят вещи, если их
перевернуть, и предпочитает то, что «было отодвинуто назад», -
«отвергавшиеся доселе стороны существования». Этой страстью к
переворачиванию общепризнанного он становится одиноким в своем отношении
с современниками. «Уединение» начиная со «Странника»
становится фундаментальной проблемой волящего себя самого существа.
Можно предположить, что центральным событием для ума, которому
суждено некогда достичь полной зрелости и сладости в типе
«свободного ума», станет великое развязывание, и что дотоле он тем более был
умом связанным и казался навсегда прикованным к своему углу и столбу.
Что вяжет всего сильней? Какие путы порвать почти невозможно? Для
людей высокой и отборной души это будут обязанности - глубокое
почтение, свойственное юности, податливая робость перед всеми
объектами традиционного преклонения, перед всем достопочтенным,
благодарность за почву, из которой они выросли, за руку, которая их вела,
за святилище, в котором они научились боготворить, - и сильнее
всего их будут вязать, прочнее всего обязывать сами моменты их экстаза.
У связанных на такой лад великое отвязывание приходит внезапно,
подобно сотрясению почвы: юная душа бывает потрясена, оторвана,
вырвана с корнем, - и сама не знает, что с нею происходит. Какой-то
порыв, какой-то натиск овладевают ею с неодолимою силой приказа; в
ней пробуждается воля и желание уйти прочь, куда-нибудь и любою
ценой; все ее чувства воспламеняются и полыхают в сильнейшей опасной
жажде познания какого-то неизведанного мира. «Лучше уж умереть, чем
жить здесь» - так звучит повелительный соблазн внутреннего голоса: а
ведь это «здесь», это «дома» - все, что она до сих пор любила! Внезапный
ужас и подозрение относительно всего, что она любила, молния
презрения ко всему, что звала своим «долгом», мятежное, своенравное,
вулканически сотрясающее стремление к странствию, к чужбине, к отчуждению...10
Это первое самоосвобождение на пробу, однако, - все еще не
«зрелая свобода» ума, которая выступает настолько же страстью по себе
самому, насколько и самодисциплипировапиему и открывает путь к
множеству противостоящих друг другу образов мысли. Освободившийся
ум имеет право жить на пробу, когда ему уже удался его первый,
пробный эксперимент; он теперь добровольно живет вблизи от вещей и
вдали от них, ведь то, что его касается, ему больше не важно, тогда как
40
Глава ι. Освобождение от «ты должен» до «я хочу»
умам пленным важно то, что их не касается. На почве своей
отчужденности он снова приближается к жизни, «словно только теперь у
него открылись глаза на близкое». Он становится властелином и над
своими собственными добродетелями, он познает во всех вещах пер-
спективистский смысл - как благородный предатель всех вещей,
которые вообще могут быть преданы, - но не испытывает чувства вины.
Как врач перемещает больного в целиком чуждую тому обстановку, дабы
он отбросил все свое «былое», свои заботы, своих друзей, свои письма,
обязанности, глупости и муки памяти и научился тянуть руки и чувства
к новому питанию, новому солнцу, новому будущему, - совершенно так же
и я, врач и больной в одном лице, вынудил себя войти в контрастный,
еще неизведанный душевный климат, а в особенности в состояние
эмиграции на чужбину, во все чуждое, в состояние любопытства ко всем
разновидностям чуждого... Следствием было то, что я стал бродить, искать,
менять место, стал противиться всяческой окончательности, любому
безоглядному «да» и «нет» (...) сведение жизни к минимуму, разрыв со
всеми наиболее низменными страстями, независимость в обстановке
всяческого внешнего злополучья вкупе с гордостью за то, что при таком
злополучье еще можножить; может быть, некоторый цинизм (...) но
точно так же (...) много тишины, света, утонченного сумасбродства, тайных
горячечных грез - все это наконец дало мне заметно окрепнуть духом...п
В этом освобождении от всех привязанностей в пользу
решительного нигилизма Ницше не только обрел свой собственный опыт и судьбу,
но одновременно воспринял общий опыт и судьбу европейского духа.
Суждено ли было моему опыту - истории болезни и выздоровления,
поскольку дело-то кончилось выздоровлением, - остаться лишь моим
личным опытом? И притом - только чем-то моим «человеческим,
слишком человеческим»? Нынче я предпочитаю думать, что нет; доверие все
снова наводит меня на мысль, что книги моих странствий были
написаны все-таки не просто для себя, как порою казалось12.
И точно так же, как он позднее предвидел пришествие
решительного нигилизма13, он уже тогда видел приход свободных умов,
полностью избавившихся от старых привязанностей, чтобы стать
свободными, - для чего? Для нового опыта с одной из древнейших истин14.
Тот, кто таким путем пришел к свободе ума, может чувствовать
себя разве что странником. «Странник» - светская форма
христианского паломника - как предшественник тоже странствующего Заратустры
41
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
замыкает первую часть «Человеческого, слишком человеческого»,
чтобы в начале и конце второго раздела второй части вести беседу
с собственной тенью.
Тот, кто хотя бы в некоторой степени пришел к свободе ума, не может
чувствовать себя на этой земле иначе, чем странником, - хотя и не
путешественником, добирающимся до пункта конечного назначения: ведь
такого пункта не бывает. И ему, конечно, хочется с полным
пониманием посмотреть, что же, собственно, творится в мире; поэтому у него
нет никакого права слишком сильно привязываться ко всему
отдельному; в нем самом должно быть что-то странническое, наслаждающееся
переменами и бренностью. Правда, в жизни такого человека будут
злосчастные ночи, когда он, уставший брести, обнаруживает перед собою
закрытыми ворота города, где мог бы найти кров (...) г. потом, в виде
возмещения, наступают отрадные утра иных мест и дни (...) а потом,
когда он неспешно, в гармонии предполуденного настроения, проходит
под деревьями, то с верхушек и из тайников их листвы к нему спадают
сплошь хорошие и светлые вещи - дары всех тех свободных умов, для
которых родной дом - это горы, лес и уединение и которые, подобно
ему самому, на свой то веселый, то задумчивый лад, живут странниками
и философами. Рожденные из таинств раннего утра, они размышляют
о том, при каких условиях день между десятым и двенадцатым ударами
колокола мог бы обрести чистый, прозрачный, просветленно-ясный
лик: - они ищут предполуденной философии15.
Это философия перед «великим полуднем», в который Заратустра
учит вечному возвращению. Взаимосвязь между философией
предполуденной и философией полудня несколько раз намечается в
двукратном диалоге странника и его тени. У самого скепсиса,
присущего свободному уму странника, уже есть сокровенная «воля к
мудрости». И как «бездна» крайнего нигилизма «снова говорит», лишь
когда словом уже хочет стать и противоположная идея вечного
возвращения, так и тень обращается к страннику, когда тот слышит,
«как говорит сам». Свет и тень тесно связаны друг с другом, как «да»
и «нет» или как высота и глубина высочайшего бытия и
глубочайшего ничто. И в полдень, это «наивысшее время», когда тень всего
короче, потому что солнце познания стоит над вещами в зените,
свободный ум странника уже замечает что-то вроде «вечности».
В полдень. - Странная мания покоя, которая может длиться месяцы и
годы, в полдень жизни овладевает тем, кому было даровано ее кипучее
42
Глава ι. Освобождение от «ты должен» до «я хочу»
и бурное утро. Вокруг него ширится тишина, голоса звучат глухо, все
глуше; отвесные лучи солнца падают на него. На укромной лесной
лужайке он видит спящего великого Пана; все вещи природы заснули вместе
с ним, храня на лицах выражение вечности, - так ему кажется. Он
ничего не хочет, он ни о чем не заботится, сердце его замерло, и только
глаза его живут - это смерть с неспящими глазами. Тогда человек видит
много такого, чего прежде не видел, и на все, что он видит, наброшена
сеть из света, под которой оно словно погребено. Он ощущает при этом
счастье, но счастье это тяжелое-тяжелое16.
Но уныло, как «закатное солнце над последней катастрофой», и
счастье выздоровевшего от ничто Заратустры, чье учение достигает
своей кульминации «в полдень», что на этапе первого освобождения,
от «ты должен» к «я хочу», есть лишь первое, преходящее
проявление вечности.
Однако поначалу дело выглядит так, будто из всего, что есть, пред-
полуденная философия показывает шш>ко тень, а не свет ггтень.
Поэтому странник разговаривает преимущественно со своей тенью, чтобы
в конце первого собеседования указать на то, что они о чем-то
«договорились». В адрес странника, который думает, что до сих пор в
его воззрениях видели лишь тень, с ее стороны звучит ответный
вопрос: «Твою тень, а не свет? Как это так?» В действительности оба
они настолько едины, насколько едины пророчество о нигилизме
и пророчество о вечном возвращении того же. Они не антагонисты,
«они друг другу не враги, напротив, они нежно держатся за руки, и
если свет исчезает, то вслед за ним скрывается и тень». Свет и тень
идут об руку друг с другом, как ничто решительного нигилизма и бы-
тие вечного возвращения. То и другое вместе образуют гераклитов-
ский «двойной мир», в котором Аид, властелин тени, и Дионис,
властелин вечной жизни, суть одно и то же бытие всего сущего17. Во
время последней беседы странника и тени внезапно настает вечер,
«солнце садится»18, а одновременно с тенью исчезает и странник.
Эта предварительная философия полудня достигает своей
собственной кульминации в некотором «минимуме» веры. Ницше,
написав «Странника», сам сделался тенью.
...на тридцать шестом году жизни я дошел до низшего предела своей
витальности - я еще жил, но не видел на расстоянии трех шагов перед
собой. В то время - это было в 1879 году - я оставил профессуру в Базеле,
прожил лето, как тень, в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую скупую
на солнце зиму моей жизни, провел уже, как настоящаятенъ, в Наумбурге.
43
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
То был мой минимум: за это время возник «Странник и его тень».
Несомненно, я знал тогда толк в тенях...19
Этот глубочайший минимум - а он заодно является и «вершиной»
вечного возвращения, выступающей из «бездны» нигилизма, -
находит свое философское выражение на страницах «Странника»20 в
разговоре между Пирроном и стариком. Смеющееся молчание Пир-
рона выражает нигилизм, находящийся в еще неопределенном
состоянии.
Позже место молчания Пиррона, молчащего в «крайнем
самообуздании» и «безразличии», как «буддист для Эллады»21, поскольку
ему уже нечего сказать, заступает освобожденный смех
преобразившегося Заратустры, который причисляет свой смех к лику святых,
после того как заводит речь о бездне. А поскольку крайний скепсис
странника Пиррона - это еще не определившийся в нем самом
нигилизм, то последний итог первого освобождения Ницше - в
теоретико-познавательном отношении он называет его «логическим
отрицанием мира»22, - если исходить из его эксперимента в целом, это
все же лишь предпоследнее слово предпоследней воли. Как
странник-человек «без цели» он сбился с пути в своем походе к мудрости,
прежде чем сам в облике Заратустры перенесся выше, к бесцельно
возвращающемуся существованию. На этом пути ему предшествует
«ужасающая» необходимость, превращающаяся для Заратустры в
«печать непреложности», высшее созвездье бытия23. «Путь кончился!
Кругом бездна и мертвая тишина! Ты сам хотел этого! С пути сошла
твоя же воля! Ну, странник, вот оно! Теперь гляди холодно и ясно. Ты
пропадешь, если будешь думать об опасности.»24 Эта беспутица
изображается в предчувствии выхода, который будет фактически найден:
Я останавливаюсь, я вдруг чувствую себя уставшим. Сначала мне кажется:
все катится вниз, молниеносно, кругом пропасть, - я не хочу смотреть
туда. За моей спиной возвышаются горы. Судорожно я хватаюсь за что-то,
чтобы уцепиться. Как же так? Вдруг все вокруг меня превратилось в камни
и стремнину? Тут кустарник - он ломается в моих руках, а пожелтевшие
листья и жалкие корешки сыплются вниз. Мне страшно, и я закрываю
глаза. - Где я? Я гляжу в пурпурную ночь, она манит меня, она кивает мне.
Каково же у меня на душе? Как случилось, что я внезапно немею и чувствую себя
словно придавленным тяжестью пьянящих и замутненных чувств? (... )25
Сбившийся с пути странник вглядывается в пурпурную ночь
безумия.
44
Глава ι. Освобождение от «ты должен» до «я хочу»
Не сам Ницше, а только Заратустра нашел сверхчеловеческий
выход, которым от ничто можно прийти «в нечто»26. Без пути
Заратустра поднимается над собой к своей предельной величине.
Вершина и бездна для него сливаются в одно, и то, что прежде было для
него крайней опасностью, становится теперь спасением. Это спасение
для крайней опасности начинается, уже когда Заратустра, «подобно
тени», сходит в ад. «Пора», в которую это свершается, - это полдень
между кратчайшим временем в предполуденный час и вечным
мгновением «полудня и вечности». Странник былых времен сопровождает
Заратустру разве что в качестве тени, и как прежде - странника, так
теперь Заратустру окликает его тень, у которой, кажется, ноги
длиннее, чем у него самого.
«Кто ты? - спросил Заратустра резко. - Что делаешь ты здесь? И почему
называешь ты себя моей тенью? Ты не нравишься мне».
«Прости меня, - отвечала тень, - что это я; и если я тебе не нравлюсь,
ну что ж! о Заратустра, я хвалю тебя и твой хороший вкус.
Я - странник, который уже много ходил по пятам твоим; вечно в
дороге, но без цели и даже без родины...
Как? Неужели должна я всегда быть в пути? Увлекаемой и гонимой
каждым ветром? О земля, ты стала для меня слишком круглой!
На всякой поверхности побывала я уже; как усталая пыль, спала я на
зеркалах и оконных стеклах: все берет от меня, но ничто не дает, я
становлюсь тощей - почти похожу я на тень.
Но за тобой, о Заратустра, я следовала и преследовала тебя дольше
всего, и, если я и пряталась от тебя, все-таки я была твоей верной тенью:
где бы ни сел ты, садилась и я.
С тобой обошла я самые далекие, самые холодные миры, как призрак,
который охоч бегать зимою по крышам и по снегу.
Вместе с тобою стремилась я ко всему запретному, самому дурному и
дальнему: и если что-нибудь во мне может быть названо добродетелью,
так это то, что не боялась я никакого запрета.
Вместе с тобою разбила я все, что когда-либо чтило сердце мое, все
пограничные столбы и всех идолов опрокинула я, за самыми опасными
желаниями гонялась я, - поистине, по всем преступлениям однажды
прошлась я.
Вместе с тобою разучилась я вере в слова, ценности и великие имена...
«Нет истины, все позволено» - так убеждала я себя...
Ах, куда девалось все доброе, и весь стыд, и вся вера в добрых! Ах, куда
девалась та изолгавшаяся невинность, которой некогда обладала я,
невинность добрых и их благородной лжи!
45
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Слишком часто, поистине, следовала я по пятам за истиной: и она
давала мне пинка. Много раз думала я, что лгу, и только тогда попадала я
- в истину.
Слишком многое прояснилось для меня: теперь ничто уже не касается
меня...
Что еще осталось мне? Усталое, дерзкое сердце, беспокойная воля..,
разбитый хребет.
А это искание своего дома... это искание было взысканием моим, оно
пожирает меня.
Где - дом мои? Я спрашиваю о нем, ишу и искала его и нигде не нашла.
О вечное Везде, о вечное Нигде, о вечное - Напрасно!»27
В лице этой тени, сопровождающей истину, былой странник уже
отжил свое, но так, что продолжает жить в качестве тени Заратустры.
И через него, знающего, что нигилистическая мудрость тени есть
часть его собственной мудрости, тень тоже находит свою «дорогу
домой» - к «напрасно» вечного возвращения того же, в котором
бесцельность бесконечного странствия преображается в совсем другую
бесцельность вечного кружения. Такое преображение представляет
собой немалую опасность для свободного ума:
Плохой день был у тебя: смотри, как бы не наступил еще худший вечер!
Таким беспокойным, как ты, может наконец даже тюрьма показаться
блаженством. Видела ли ты когда-нибудь, как спят заключенные
преступники? Они спят спокойно, они наслаждаются впервые своей
безопасностью. Берегись, чтобы тебя наконец не уловила в сети какая-нибудь
узкая вера, какое-нибудь жестокое, суровое заблуждение! ...
Ты утратила цель; увы, как прошутишь и как утешишь ты эту утрату?
Вместе с ней ты - потеряла и дорогу!
Остается открытым вопрос, не стал ли сам Ницше в результате
своего превращения свободы для ничто в любовь к року тем, что он
назвал «отступником свободной мысли»28. Не становится ли в конце
концов нигилистическая истина тени утвердительной именно по
той причине, что любви дозволено все то, что свободе дозволено
лишь потому, что для нее не осталось ничего истинного?
В «Сумерках идолов» свободный ум истолковывается наконец
как «наиболее всеобъемлющий» ум, который может позволить
себе все, поскольку обладает «терпимостью силы», говорящей «да»
всему, что есть. Для него больше нет ничего запретного, разве что
слабость. Он, прежде бывший учителем крайнего недоверия, теперь
46
в качестве ставшего свободным духа «пребывает с радостным и
доверчивым фатализмом среди Вселенной, веруя, что лишь единичное
является негодным, что в целом все искупается и утверждается, - он
не отрицает более,.,». - «Но такая вера - высшая из всех возможных:
я окрестил ее по имени Диониса»29. Сокровенное «да» было сильнее,
чем всякое отрицание, и «когда вам придется пуститься по морям, вы,
переселенцы, то и вас вынудит к этому - вера!..»50 Традиционные
идеалы, правда, навсегда застыли благодаря труду первого освобождения
- даже Заратустра-Дионис больше не верит в великие слова: гений,
святой, герой, поэт, вера, убеждение, -но подлинно освободившийся
ум не застывает и в «идеале безыдеальности» и в «вере в неверие»;
последний итог «логического мироотрицания» он преобразует в
метафизику вечно возвращающегося мироутверждения. И если
«Человеческое, слишком человеческое» посвящено Вольтеру, а напоследок Ницше
говорит от имени бога Диониса, то это мнимое противоречие
объясняется тем, что свободоумствие с самого начала «держалось сверху,
над более глубоким и страстным придонным течением»31, держалось
с упорной «волей к мудрости»32. И наоборот, даже Дионис - все еще
«бог-искуситель», а Заратустра - «скептик», который, как
освободившийся ум, лишь пользуется убеждениями, но сам им не подчиняется.
Позитивистская видимость сочинения первого периода
прикрывает лежащий в глубине нигилизм, так же как этот последний -
обратную тенденцию к «классическому» позитивизму. Радикальный
скептицизм есть предпосылка для решительного нигилизма, так же
как этот последний есть предпосылка для решительного «да»
вечному бытию всего сущего.
Избавление от скепсиса. - А: Из тотального морального скепсиса другие
выходят в расстроенных чувствах, ослабевшими, изглоданными червем,
очервивевшими насквозь, даже наполовину съеденными, - а я более
бодрым и здоровым, чем раньше, с вновь обретенными инстинктами.
Где дует режущий ветер, где море ходит горами и наверняка есть
немалая опасность, - там-то мне и хорошо. Я не сделался червем, хотя
нередко мне и приходилось работать и рыть, как червь. - Б: Да ведь ты
на самом деле перестал быть скептиком! Ты же отрицавши - А: И тем
самым я снова научился утверждать.
На пути к этому спасительному повороту Заратустре удалось
преодолеть последнюю опасность для освободившегося ума - не застрять
в своем высвобождении34, тогда как сам Ницше, зажатый «между двух
ничто», нашел избавление в безумии35.
47
Глава 2.
Освобождение от «я хочу» до «я есмь»
играющего мирами ребенка
а) Смерть Бога и пророчество о нигилизме
Поскольку всякое «ты должен» моральных императивов в
конечном счете соизмеряется с христианским Богом, предписавшим
человеку, что он должен, то смерть Бога является одновременно
принципом воли, волящей себя в самом человеке. В «пустыне своей
свободы» человек предпочитает хотеть ничто, чем не хотеть вообще;
ведь он есть всего лишь человек - без Бога, - именно поскольку он
«хочет». Смерть Бога означает воскрешение управляющего собой
и предписывающего себе человека, в конце концов обретающего
свою крайнюю свободу в «свободе для смерти». Но на вершине этой
свободы воля к ничто превращается в воление вечного возвращения
того же. Мертвый христианский Бог, человек перед лицом ничто и воля
к вечному возвращению характеризуют ницшевскую систему в целом
как движение, сначала от «ты должен» к рождению «я хочу», а
затем к новому рождению «я есмь» как «первого движения» вечно
возвращающегося существования посреди природного мира всего
сущего36.
Чтобы понять, что Ницше имеет в виду под «смертью Бога»,
надо напомнить о том, что понимал под нею еще Гегель. Гегель, желая
понять, что означают религиозные представления для
философского мышления, включил абсолютную истину христианской веры в
свое собственное завершение «христианско-германской»
философии. Гегелевская философия духа не только начинается с изучения
духа христианства и не просто содержит специальную философию
религии, но с начала и до конца является философской теологией.
48
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Подобно второму Проклу, Гегель на философский лад завершил
историю христианского логоса великим поворотом мира и духа назад37.
Если Гегель еще ретроспективно сохранял с помощью греческих
понятий западную философию христиански модифицированного
логоса как целое, то Фейербахоколо 1840 года заявил о «необходимости
изменения» и впервые постулировал «решительно нехристианскую»
философию. Гегелевская философия означает для него последнюю
грандиозную попытку восстановить через философию потерянное
христианство - в двусмысленном единстве теологии и философии,
религии и атеизма, христианства и язычества в апогее метафизики38.
Для Ницше тоже двусмысленная гегелевская консервация
христианства означает «последнюю отсрочку честного атеизма»
«соответственно предпринятой им грандиозной попытке убедить нас
напоследок в божественности бытия с помощью нашего шестого чувства,
"исторического чувства"»39. Видеть в Гегеле великого замедлителя
«честного атеизма» было, однако, возможно для Ницше лишь
потому, что в качестве собственной, предварительной задачи он понимал
нечто такое, что принципиально выходит за пределы
«благочестивого атеизма» Фейербаха, а именно: вызвать «кризис и высшее
разрешение» в проблеме уже ставшего легитимным атеизма40. А
поскольку он сознавал себя «поворотной точкой» в пределах постистории
христианства, то сумел и в проблематике двусмысленных новых
веяний увидеть новое всемирно-историческое единство античности и
христианства - хотя критически, а не, подобно Гегелю,
примирительно. Конечно, сейчас, глядя назад, на историю христианства,
безусловно, можно заметить, «что однажды с ним непременно будет
покончено», но вместе с христианством до нашей эпохи доходит
одновременно и античность, и надо сделать вывод, что если исчезнет
христианство, то исчезнет и понимание античности. Сейчас «самое
время» познать христианство, ведь предрассудки больше не
склоняют нас к нему, но мы пока еще понимаем его, а в нем и античность,
в той мере, в какой они друг другу подобны. И наоборот, критика
эллинства означает и критику христианства, поскольку корни того
и другого лежат в одном религиозном культе. Поэтому задача
философствующего филолога - «охарактеризовать эллинство как
безвозвратно ушедшее, а вместе с ними христианство и прежние основания
нашей общественной жизни и политики»41. Ведь дело не
исчерпывается тем, что христианство преодолело античность, нет - оно и
само дало ей преодолеть себя42, чтобы утвердиться в мире. Но мы,
современные люди, страдаем от «заумной лживости», которую
античное христианство навлекло на людей, когда в своей борьбе с античным,
49
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
натуральным человеком произвело на свет человека
денатурированного. Наша мнимая культура непрочна, потому что строится на
«шатких, почти уже исчезнувших основаниях и мнениях»: на остатках
коренящейся в мифе греческой городской культуры и
римско-католической общественной жизни43.
Таким образом, воля к последней защите традиции за время между
Гегелем и Ницше изменилась через революционную тенденцию к ее
«изменению»44 вплоть до осознания несостоятельности, и этому
соответствует характерный разворот в отношении философии к
христианству. Гегелевская философия духа - сама все еще религиозная
философия, Фейербах сводит «сущность» христианской религии к
божественной сущности человека, и Ницше объявляет: Бог умер,
так сделаем же так, чтобы жил сверхчеловек. Это значит: смерть Бога
вместе с избавлением от Бога требует от валящего себя человека и преодо-
лениячеловека-т. е. «сверхчеловека». Ноесли Бог действительно мертв,
а вера в него угасла, то различие между еще спекулятивным или только
антропологическим пониманием смерти Бога становится
несущественным. В рамках ницшевского «атеизма», впервые познавшего, что
«смерть Бога» означает для человека «свободу для смерти», Гегель и
Фейербах сближаются, как «отцы церкви», «полужрецы» и Шлейермахер45.
В конце «Веры и знания»* Гегель превращает веру в умершего во
Христе Бога в некую «спекулятивную страстную пятницу». Смерть
Бога46 для него - это бездна ничто, в которую погружается всякое
бытие, дабы вновь выйти оттуда в движение становления.
Чистое же понятие ... как бездна ничто, в которую погружается всякое
бытие, должно - исключительно в качестве момента, но не более чем
момента, высшей идеи, - означать бесконечную боль, прежде имевшую
исторический характер лишь в образовании и в виде чувства, на
котором зиждется религия Нового времени, чувства того, что сам Бог умер
(того самого чувства, что выражалось словно бы только на
эмпирическом уровне, а, говоря словами Паскаля, «la nature est telle qu'elle marque
partout un Dieu perdu et dans l'homme et hors de l'homme»***); a тем самым
* «Вера и знание, или рефлексивная философия субъективности в полноте
своих форм как философия Канта, Якоби и Фихте», журнальная статья 1802
года. Имеющийся русский перевод А. А. Иваненко, опубликованный в журнале
«Einai» (2013-2014), неполон. Ниже перевод цитаты из этой статьи (ее
последний абзац с небольшими купюрами Левита) мой.
** Природа такова, что всюду свидетельствует, будто Бог исчез, - и в человеке,
и вне человека (фр.).
50
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
должно дать философское существование тому, что было либо
моральным предписанием жертвовать своей эмпирической природой, либо
понятием из области формальных абстракций, и, значит, дать
философии идею абсолютной свободы, а с ней абсолютное страдание, или
спекулятивную страстную пятницу, которая иначе была бы достоянием
исторической науки, и восстановить эту самую пятницу во всей
правдивости и жестокости ее безбожия: только из этой жестокости... может
и должна воскреснуть высочайшая целостность - во всей своей
нешуточное™ и из своей глубочайшей причины, причем всеобъемлюще, и
воскреснуть для самой радостной свободы своих проявлений.
Этому философскому истолкованию «эмпирического»
положения Паскаля у Ницше соответствует оценка Паскаля как «самой
поучительной жертвы христианства»47. В этих различных позициях
по отношению к Паскалю отражается противоположный смысл,
который имеет для Ницше «смерть Бога»: Гегель строит свое завергиение
христианской философии на происхождении христианской веры из «всей
правдивости» «безбожия»; Ницше строит свою попытку преодолеть
«тысячелетнюю ложь» на идущем к своему концу христианстве путем
возвращения к первоначалам греческой философии. Для Гегеля
воплощение Бога в Христе означает состоявшееся однажды раз и
навсегда примирение человеческой и божественной природ; для Ницше
оно означает, что человек был распят на кресте и уничтожен в
своей истинной природе48. Гегелевская философская критика
христианской веры разворачивается в рамках его собственных и
ограничивается различием множества «форм» ее абсолютного содержания;
критика Ницше относится ко всей совокупности форм христианства
и заканчивается крайним противопоставлением Диониса и Распятого.
Предпосылкой гегелевского соединения философии и христианства
является то, что христианский Бог - это «дух» и может пониматься
только в духе; Ницше говорит, что божественным было бы наличие
множества богов, но не одного, христианского Бога.
Тот, кто сказал «Бог есть дух», сделал величайший доселе шаг и прыжок
к безверию на земле: такие слова нелегко искупить на земле!49,
пусть даже путем нового рождения бога во плоти, каким был
Дионис.
Духовный Бог христианства, чью смерть на закате христианской
веры Гегель понимает все еще философски, в сознании Ницше
«исторически опроверг» себя в ходе упадка христианства50. «С христианством
51
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
нынче покончено.» Все, что от него еще осталось видно, - воды,
отступающие после чудовищного затопления.
Все возможности христианской жизни, самые строгие и самые легкие,
самые безобидные и бездумные, самые рефлектированные, опробованы,
пришло время изобрести что-то новое, иначе придется снова и снова
включаться в старый круговорот. Правда, выплыть из водоворота
непросто, после того как он кружил нас несколько тысячелетий. Даже
насмешка, цинизм, враждебность по отношению к христианству себя
исчерпали; мы видим ледяное поле в момент оттепели, лед повсюду растрескался,
покрыт грязью, не блестит, на нем лужи, он опасен. Здесь уместна, мне
кажется, осторожная, довольно порядочная воздержанность: ею я
оказываю почтение религии, пусть уже и отмирающей. Наше дело -
смягчать и успокаивать, как в случае тяжелых, безнадежных больных;
протестовать следует только против плохих, недумающих
врачей-шарлатанов (каковы в большинстве своем ученые). - Христианство совсем скоро
созреет для исторической критики, т. е. для вскрытия51.
То оставшееся от Бога, что еще бродит призраком, - это его тень.
Характерным образом «веселая» наука (в начале третьей книги)
впервые возвещает о смерти Бога, но уже и о нигилизме и вечном
возвращении.
После того как Будда умер, в течение столетий показывали еще его тень
в одной пещере - чудовищную страшную тень. Бог мертв: но такова
природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать
пещеры, в которых показывают его тень. - И мы - мы должны победить
еще и его тень!52
В этой битве с призрачным дальнейшим существованием
мертвого Бога и изжившей себя моралью Ницше сначала вызвал к жизни
и к сознанию безбожие современного человека из
самоудовлетворенности атеизма. Это великое событие Ницше дает возвестить
«безумному» человеку, предвосхищающему дело «самого безобразного»
человека.
Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень
зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал: «Я ищу Бога! Я
ищу Бога!» - Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не
верил в Бога, вокруг него раздался хохот. Он что, пропал? - сказал один.
Он заблудился, как ребенок, - сказал другой. Или спрятался? Боится ли он
52
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
нас? Пустился ли он в плавание? эмигрировал? - так кричали и смеялись
они вперемешку. Тогда безумец вбежал в толпу... «Где Бог? - воскликнул
он. - Я хочу сказать вам это! Мы его убили - вы и я! Мы все его убийцы!
Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам
губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав
эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы?
Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону,
вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли
мы словно в бесконечном Ничто? Не дышит ли на нас пустое
пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь?
Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим
еще шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас
запах божественного тления? - и Боги истлевают! Бог умер! Бог не
воскреснет! И мы его убили!... Самое святое и могущественное Существо,
какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами ... Какой
водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие
священные игры нужно будет придумать? Разве величие этого дела не
слишком велико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов,
чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более
великого, и кто родится после нас, будет, благодаря этому деянию,
принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история!» - Здесь замолчал
безумный человек и снова стал глядеть на своих слушателей; молчали и
они, удивленно глядя на него. Наконец, он бросил свой фонарь на землю,
так что тот разбился вдребезги и погас. «Я пришел слишком рано, -
сказал он тогда, - мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в
пути и идет к нам - весть о нем не дошла еще до человеческих ушей.
Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время, деяниям нужно время,
после того как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали. Это
деяние пока еще дальше от вас, чем самые отдаленные светила, - и все-таки
вы совершили его\» - Рассказывают еще, что в тот же день безумный
человек ходил по различным церквам и пел в них свой Requiem aeternam deo.
Его выгоняли и призывали к ответу, а он ладил все одно и то же: «Чем
же еще являются эти церкви, если не могилами и надгробиями Бога?»53
Великое событие состоит, стало быть, в том, что по смерти Бога
исчезли «море» и «солнце», а это значит, самое высокое и
объемлющее и, следовательно, весь «горизонт». Новое же «море» - это и есть
душа Заратустры и соответствующий ей мир вечного возвращения,
в котором должен «захлебнуться» нигилизм прорицателя. В
рукописном наследии того же времени выразительно подчеркнут
нигилистический характер этого события:
53
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Величайшие события труднее всего достигают чувств людей, например
тот факт, что христианский Бог «умер» и что в наших переживаниях
больше не находят выражения небесная доброта и воспитание,
божественная справедливость, вообще имманентная мораль. Это пугающая
новость, и понадобится еще несколько столетий, чтобы она стала
достоянием чувств европейцев: и тогда еще некоторое время будет
казаться, словно из вещей улетучился весь их вес54.
А поскольку новый «вес» лежит на промелькнувшем теперь
существовании мысли о вечном возвращении, то выясняется четкая
взаимосвязь между смертью Бога, нигилизмом и вечным
возвращением того же.
Однако смерть Бога именно как исток нигилизма есть также
повод и для философской просветленности; ведь несмотря на
помрачение, которое она вызвала сначала, можно почувствовать
облегчение от известия, что теперь, когда смерть Бога снимает с человека
как такового обязанность жить, никакое «ты должен» не обременяет
уже волю человека. Об этом говорится опять-таки в первом афоризме
пятой книги «Веселой науки» («Мы, бесстрашные»).
Величайшее из новых событий - что «Бог умер» и что вера в
христианского Бога стала чем-то не заслуживающим доверия - начинает уже
бросать на Европу свои первые тени. По крайней мере, тем немногим, чьи
глаза и подозрением глазах достаточно сильны и зорки для этого зрелища,
кажется, будто закатилось какое-то солнце, будто обернулось
сомнением какое-то старое глубокое доверие: с каждым днем наш старый мир
должен выглядеть для них все более закатывающимся, более
подозрительным, более чуждым, «более дряхлым». Но в главном можно сказать:
само событие слишком еще велико, слишком отдаленно, слишком
недоступно восприятию большинства, чтобы и сами слухи о нем можно
было считать уже дошедшими, - не говоря о том, сколь немногие ведают
еще, что, собственно, тут случилось и что впредь с подрывом этой веры
должно рухнуть все воздвигнутое на ней, опиравшееся на нее, вросшее
в нее, - к примеру, вся наша европейская мораль. Предстоит длительное
изобилие и череда обвалов, разрушений, погибелей, крахов: кто бы
нынче угадал все это настолько, чтобы рискнуть войти в роль учителя и
глашатая этой чудовищной логики ужаса, пророка помрачения и
солнечного затмения, равных которым, по-видимому, не было еще на земле?..
Даже мы, прирожденные отгадчики загадок, мы, словно бы выжидающие
на горах, защемленные между сегодня и завтра и впрягшиеся в
противоречие между сегодня и завтра, мы, первенцы и недоноски наступающего
54
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
столетия, на лица которых должны были бъсуже пасть тени, вот-вот окута-
ющие Европу: отчего же происходит, что даже мы, без прямого участия
в этом помрачении, прежде всего без всякой заботы и опасения за самих
себя, ждем его пришествия? Быть может, мы еще находимся под слишком
сильным воздействием ближайших последствий этого события - и эти
ближайшие последствия, его последствия, вовсе не кажутся нам,
вопреки, должно быть, всяким ожиданиям, печальными и мрачными, скорее,
как бы неким трудноописуемым родом света, счастья, облегчения,
просветления, воодушевления, утренней зари... В самом деле, мы,
философы и «свободные умы», чувствуем себя при вести о том, что «старый
Бог умер», как бы осиянными новой утренней зарею; наше сердце
преисполняется при этом благодарности, удивления, предчувствия,
ожидания, - наконец, нам снова открыт горизонт, даже если он и затуманен;
наконец, наши корабли снова могут пуститься в плавание, готовые ко
всякой опасности; снова дозволен всякий риск познающего; море, наше
море снова лежит перед нами открытым; быть может, никогда еще не
было столь «открытого моря».
Выходу в открытое море соответствует на суше символ
странника, чья тень еще сопровождает Заратустру. Заратустра - абсолютный
«безбожник», и его появление совпадает со смертью Бога. Ведь
поднявшийся над собой, сверхчеловеческий человек может жить, лишь
когда христианский Богочеловек уже умер55. Заратустра приходит
во время великого полудня,
когда человек стоит посреди своего пути между животным и
сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо
это есть путь к новому утру,
возвещенному в предполуденный час еще в «Утренней заре».
И тогда заходящий сам благословит себя за то, что был он переходящим;
и солнце его познания будет стоять у него на полудне,
уже предварительно посветив страннику в полдень предполу-
денного часа. Однако умер не только христианско-моральный Бог,
а ясгбоги, хотя остается открытым вопрос, не воскреснут ли умер
шие боги.
«Умерли все боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек» - такова должна
быть в великий полдень наша последняя воля!56 -
55
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Последняя воля к преодолению человека прежде всего отвращает
Заратустру от «Бога и богов». Место Бога, творящего бытие из
ничто, заступает сверхчеловеческая воля человека, направленная в
будущее, - воля человека, творящего самого себя и мир как свой
собственный. Но великий полдень, в который Заратустра в полном
согласии со сверхчеловеком учит вечному возвращению, - это еще и
«опасная середина» между двух противоположных возможностей. Человек
стоит перед возможным восходом или закатом, вниз к «последнему
человеку» или вверх к «сверхчеловеку». Самопреодоление или
самоудовлетворенность - две составляющих единое целое возможности,
открытые перед избавившимся от Бога человеком. Теперь
настроение человека в целом изменяется в пределах этих двух внутричело-
веческих возможностей; ведь если Бог умер, то человек теряет свое
прежнее место промежуточного существа между божественностью
и животностью. Оставшийся в одиночестве, он словно идет по
канату, натянутому над бездной ничто, и висит над пустотой57. Его
существование, подобно жизни канатного плясуна из Предисловия <к
ТГЗ>, весьма подвержено опасности, и опасность - его призвание.
«Мужество» для опасности в ретроспективе становится «всей
предысторией человечества», а именно тем, что предваряет «задор»
amor fati сверхчеловека. В первую очередь и по большей части
исчезновение страха перед Богом создает возможность для
существования последнего, лишенного почтения человека, которого уже
вообще не волнует смысл его существования - он хочет быть умеренно
счастливым.
Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелу тоски
своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать!
(...) Приближается время самого презренного человека, который уже
не может презирать самого себя.
Смотрите! Я показываю вам последнего человека.
«Что такое любовь? Что такое творение? Что такое тоска? Что такое
звезда?» - так спрашивает последний человек и моргает.
Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий
все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний
человек живет дольше всех.
«Счастье найдено нами», - говорят последние люди и моргают.
Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло.
А еще они любят соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло.
Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они
осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей!
56
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Время от времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце
побольше яду, чтобы приятно умереть.
Они еще трудятся, ибо труд - развлечение. Но они заботятся, чтобы
развлечение не утомляло их.
Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно.
И кто захотел бы еще управлять? И кто - повиноваться? То и другое
слишком хлопотно.
Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает того же, все одинаковы:
кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.
«Прежде весь мир был сумасшедшим», - говорят самые толковые из них
и моргают.
Все смышлены и знают все, что было, так что можно насмехаться без
конца. Они еще ссорятся, но скоро мирятся - иначе это расстраивало
бы желудок.
У них есть свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое
удовольствие для ночи; но здоровье они почитают.
«Счастье найдено нами», - говорят последние люди и моргают58.
Тем не менее тип последнего человека так же необходим в
пределах обезбоженного существования, как и господствующая каста, а
над ней, в качестве «антипода» посредственности, стоящий
отдельно сверх-человек, которого Ницше создал «заодно» с «последним».
Один процесс безусловен: нивелирование человечества, огромные
муравьиные кучи и т. д.
Другой процесс, мой процесс: это, наоборот, углубление всех
противоположностей и пропастей, устранение равенства, создание сверх-могу-
щественных.
Тот производит последних людей, мой процесс - сверхчеловека. Цель
вовсе не в том, чтобы понять тип последних как господ над первыми, нет:
должны сосуществовать оба вида - в максимально разделенном виде;
одни - словно Эпикуровы боги, не озабоченные другими?*.
В противоположность самоудовлетворенному последнему
человеку предпосылкой выходящего за свои пределы вверх человека
является «крик о помощи», поднимающийся в «высшем» человеке; ведь
воля к преодолению прежней человеческой природы требует,
прежде всего, отчаяния высшего человека в гуманном человеке
современности.
Такой глубочайшим образом отчаявшийся и презирающий себя,
но именно поэтому не достойный презрения человек - это «самый
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
безобразный человек», который уже выше, поскольку способен презирать
себя самого. Он - убийца Бога. Таким образом, смерть Бога
указывает - через высшего человека безобразия и вверх, и вниз - на две
вновь образовавшихся возможности: сверхчеловека и
презреннейшего, последнего человека, чья гуманность есть отпадение от
человеческой природы.
Предисловие к «Заратустре» сообщает о том, как Заратустра в
своем одиночестве встречается с другим одиноким, христианским
святым, который еще не слышал, что Бог умер. Потом Заратустра
встречает старика, который уже узнал, что Бог мертв. Тот
рекомендуется ему как «последний папа», ушедший «в отставку», поскольку
его хозяин умер. Он присоединяется к нему как тот, кто тоже давал
благословение. Заратустра спрашивает последнего папу,
разбирающегося в теологии лучше, чем он сам:
Правда ли, как говорят, что его задушила жалость, - что он видел, как
тот человек висел на кресте, и не вынес этого, так что любовь к
человеку сделалась его адом и наконец его смертью?» -
Но старый папа ничего не ответил, а посмотрел робко в сторону (...)
«Оставь его, - сказал Заратустра после долгого размышления (...)
Оставь его, он умер. И хотя тебе делает честь, что ты о мертвом
говоришь только хорошее, но ты так же хорошо знаешь, как и я, ктоон был;
и что он ходил странными путями»60.
Заратустра сомневается в том, что Бог, как рассказывает ему пала,
умер только от дряхлости, а не был еще и убит человеком. В конце
разговора папа снова возвращается к тому, с чего начал, а именно,
что Заратустра - «самый благочестивый из всех тех, что не верят в
Бога». Видимо, какой-то бог обратил его в свое безбожие.
Разве не само твое благочестие не дозволяет тебе более верить в Бога?
А твоя чрезмерная правдивость поведет тебя еще дальше, по ту сторону
добра и зла!
Посмотри, что осталось тебе? У тебя есть глаза, руки и уста, которые
от вечности предназначены для благословения. Благословляют не
только рукой.
Вблизи тебя, хотя ты и хочешь быть самым безбожным, я предчувствую
тайное благовоние и благоухание долгих благословений; мне
становится при этом хорошо и мучительно.
Позволь мне быть твоим гостем, о Заратустра, на одну только ночь! Нигде
на земле мне не будет теперь лучше, чем у тебя!»
58
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
«Аминь! Да будет так! - сказал Заратустра с великим удивлением. - Туда
вверх ведет дорога, там находится пещера Заратустры.
Поистине, я сам охотно проводил бы тебя туда, досточтимый, ибо я
люблю всех благочестивых людей. Но теперь меня спешно отзывает от
тебя крик о помощи61.
Крик о помощи исходит от самого безобразного человека, из
местности, где царствует смерть. В этой долине водятся лишь
зеленые, безобразные змеи; пастухи назвали ее Змеиной смертью.
Заратустра же погрузился в мрачные воспоминания, ибо ему казалось,
что однажды он уже стоял в этой долине. И много тяжелого
вспоминалось ему: так что шел он все тише и тише и наконец остановился
совсем62.
Это означает: в крике о помощи самого безобразного человека,
чью загадку может решить один Заратустра, он снова встречается с
самим собой. Издающее предсмертный хрип «нечто», что является
этим человеком, столь же «несказуемо» и выговаривается с таким
же трудом, как «бытие» вообще и «бездна» ничто. Его «загадка»,
гласящая, что он и есть убийца Бога, отсылает назад, к «видению»
Заратустры о вечном возвращении в «загадке» о пастухе и смертоносной
змее, поскольку освобождение Заратустрой этого другого «пастуха»
от другой «змеи» - это преодоление смертельной болезни, возникшей
в результате смерти Бога. Поэтому и мотив избавляющего от Бога
поступка, совершенного самым безобразным человеком, а именно
«месть», учиненная существованию Бога, отсылает назад, к
самоосвобождению Заратустры, ведь оно происходит благодаря воле,
которая уже не «мстит» человеческому существованию из
отвращения к нему.
Если бы самый безобразный человек не стал убийцей Бога, ему
пришлось бы уничтожить самого себя, как это сделал Кириллов у
Достоевского63. Взятой на себя виной самый безобразный человек
возвращает существованию невинность. Вместе с Богом он
устраняет и «величайшее возражение против существования», поскольку
смиренно следующий императиву Бога «ты должен» человек не
хочет распоряжаться самим собой.
Но он - должен был умереть: он видел глазами, которые взвидели, - он
видел глубины и основания человека, весь его скрытый позор и
безобразие.
59
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Его сострадание не знало стыда: он проникал в мои самые грязные
закоулки. Этот любопытный, чрезмерно назойливый, чрезмерно
сострадательный должен был умереть.
Он видел всегда меня: такому свидетелю хотел я отомстить - или самому
не жить.
Бог, который всё видел, не исключая и человека, - этот Бог должен был
умереть! Человек не выносит, чтобы такой свидетель жил»64.
Этот поступок делает честь самому безобразному человеку как
высшему; отныне он избавляет человека от стыда65. Он снова может
уважать себя, и ему больше не нужно презирать себя за
двусмысленную «любовь к ближнему».
«Как беден, однако, человек! (...) как полон скрытого позора!
Мне говорят, что человек любит себя самого, - ах, как велико должно
быть это себялюбие! Как много презрения противостоит ему!
И этот столько же любил себя, сколько презирал себя, - по-моему, он
великий любящий и великий презирающий.
Никого еще не встречал я, кто бы глубже презирал себя, - а это и есть
высота. Горе, быть может, то был высший человек, чей крик я слышал?
Я люблю великих презирающих. Но человек есть нечто, что должно
превзойти»66.
Это преодоление человеческой природы происходит, в конечном
счете, вволении вечного возвращения. Постоянно возвращающаяся
целокупность всегда уже существовавшего бытия устраняет и
величайшее возражение против существования как такового, а именно против
случайности голого непосредственного существования. То, для чего
смерть Бога освобождает существование человека, поначалу, однако,
еще не является приятием вечного возвращения того же, а есть
нигилизм, в человеке сначала означающий болезнь, а потом свободу для смерти.
Эта взаимосвязь между нигилизмом и смертью Бога членится на
различные ступени, вместе представляющие собою
предварительную ступень к обращению истины ничто в истину бытия.
Исторический упадок веры в Бога и санкционированную ею мораль
последовательно ведет к «промежуточному состоянию» европейского
нигилизма, нерешительным выражением которого были романтический
пессимизм и научный позитивизм 19-го столетия. Ничто само
временно становится богом. Нигилизм, радикально проведенный до
конца, превращается в «классический» позитивизм дионисийской
философии вечного возвращения того же.
60
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
На основе завоеванной в «Заратустре» позиции Ницше в
предисловии к «Воле к власти» критически оценивает историю
наступления европейского нигилизма.
То, о чем я рассказываю, - это история двух следующих столетий. Я
описываю нечто надвигающееся, что уже не может быть иным: пришествие
нигилизма. Эту историю уже можно рассказывать: ведь здесь в деле
сама неизбежность. Это будущее уже говорит о себе сотнями признаков,
эта судьба повсюду возвещает о себе... Уже давно вся наша европейская
культура развивается с мучительным напряжением, нарастающим от
десятилетия к десятилетию, словно стремительно приближаясь к
катастрофе, - беспокойно, насильственно, поспешно, подобно потоку,
торопящемуся к своему концу, не памятующему о себе, страшащемуся
опамятоваться. Тот, кто это говорит, наоборот, до сих пор ничем другим и
не занимался, кроме как опамятованием: инстинктивно будучи
философом и отшельником, нашедшим свою пользу в отстраненности, в
выходе за границы, в терпеливости, в замедленности, в отставании;
будучи умом взвешивающим и испытующим, который некогда уже
заблудился во всех лабиринтах будущего; будучи умом, подобным вещей птице,
которая глядит назад, когда рассказывает о том, что грядет; будучи
первым законченным нигилистом Европы, который, однако, уже до
конца изжил в себе нигилизм, - который оставил его за собой, под собой,
вне себя67.
В ретроспективе пришествия нигилизма как его последний мотив
Ницше распознает утраченную веру в санкционированные Богом
христианско-моральные ценности, определяющие всю систему
нашего истолкования существования и его оценки. Из ставших
ничтожными традиционных, постепенно пришедших в упадок, но все еще
охраняемых ценностей логично следует «переоценка всех прежних
ценностей» - вопреки наступившему нигилизму, означающему, что
теперь все «ничтожно» и «бессмысленно», а именно по меркам всех
прежних высших ценностей. Когда под сомнение ставится «ценность
этих ценностей», становится возможным принципиально иной
подход к определению ценностей в отношении существования как
такового и в целом. Но поначалу кажется, будто существование лишилось
всей своей весомости, если вес задающей мерки ценности уже ни к
чему человека не обязывает, - ценности, говорящей ему, что он должен.
Что должно неизбежно всплыть на поверхность после гибели
христианского истолкования существования, это проблема ценности
существования как такового. Ведь для чего вообще конкретное существование,
61
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
если больше нет никакого «для чего», а воля существования
бесцельна68? Эта проблема ценности существования характерна вообще для
современного «пессимизма», нашедшего свое выражение в
философии Дюринга, Э. Гартмана и Шопенгауэра, но также Банзена и
Майнлендера, пессимизма, чье отношение к эллинству69 было
первой темой того опамятования, которое Ницше разовьет
впоследствии в «Воле к власти».
Событие, после которого следовало наверняка ожидать этой проблемы,
так что какой-нибудь астроном души мог бы высчитать ее день и час -
упадок веры в христианского Бога, победа научного атеизма, - есть
общеевропейское событие, в котором все расы должны иметь свою долю
заслуги и чести. Напротив, именно немцам - тем немцам,
современником которых был Шопенгауэр, - следовало бы вменить в вину наиболее
продолжительную и опасную отсрочку этой победы атеизма; Гегель
главным образом был ее замедлителем par excellence (...) Шопенгауэр как
философ был первым сознавшимся и непреклонным атеистом, какой
только был у нас, немцев: его вражда к 1егелю имела здесь свою скрытую
причину. Небожественность бытия считалась им чем-то данным...,
непререкаемым; он всякий раз терял свою рассудительность философа и
впадал в гнев, когда замечал в ком-либо колебания и изворотливость в этом
пункте. В этом пункте заключена вся его правдивость: безусловно
честный атеизм оказывается как раз предпосылкой его постановки
проблемы как некая окончательно и тяжко достигнутая победа европейской
совести, как чреватый последствиями акт двухтысячелетнего
приучения к истине, которая в завершение запрещает себе ложь, заключенную
в вере в Бога (...) Рассматривать природу, как если бы она была
доказательством Божьего блага и попечения; интерпретировать историю к
чести божественного разума (...) толковать собственные переживания,
как их достаточно долгое время толковали набожные люди, словно бы
(...) все было придумано и ниспослано ради спасения души: со всем этим
отныне покончено, против этого восстала совесть, это кажется всякой
более утонченной совести неприличным, бесчестным, ложью,
феминизмом, слабостью, трусостью, - с этой строгостью, и с чем бы еще ни
было, мы суть добрые европейцы и наследники продолжительнейшего
и отважнейшего самопреодоления Европы. Отвергая таким образом
христианскую интерпретацию и осуждая ее «смысл» как фабрикацию
фальшивых монет, мы тотчас же (...) сталкиваемся с (...) вопросом:
умеет ли существование вообще какой-нибудь смысл} - вопрос, которому
понадобится два-три столетия, чтобы его полностью и во всей глубине
услышали70.
62
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
То, что «осталось» после упадка христианской веры,
предписывавшей человеку, что он «должен», -лишь некое «я хочу».
Избавившийся от Бога человек должен сам задавать себе свою волю.
Я - Заратустра, безбожник: где найду я подобных себе? А подобен мне
всякий, кто сам задает себе свою волю и отделывается от всякой пре-
Однако этот мнимый остаток веры, в сущности, представляет собой
ее ядро72. Воля уже есть «принцип» веры, поскольку верующий нехочет
себя самого. Европейский нигилизм, проблема которого - «хочет ли
он», правда, пришел с исчезновением христианской веры, но ведь уже
и сама христианская вера пришла в период поздней античности по
причине заболевания воли. Тот, кто не удерживается в собственном
господстве и волении, ищет опоры и помощи в чуждой вере в то, что
уже есть некая другая воля, которая может ему сказать, что' он должен.
Веры всегда больше всего жаждут, упорнее всего взыскуют там, где
недостает воли: ибо воля как аффект повеления и есть решительный признак
самообладания и силы. Это значит: чем меньше умеет некто повелевать,
тем сильнее жаждет он обрести того, кто повелевает, и повелевает строго,
- Бога, монарха, звание, врача, духовника, догму, партийную совесть.
Из чего, пожалуй, следовало бы вывести, что причина возникновения
и внезапное распространение обеих мировых религий, буддизма и
христианства, заключались главным образом в чудовищном заболевании воли.
И так оно и было на самом деле: обе религии обнаружили некое влекомое
больной волею в абсурд, доходящее до отчаяния стремление к «ты
должен», обе религии были учителями фанатизма в периоды расслабления
воли и обернулись для неисчислимого множества людей взысканием
опоры, новой возможности, наслаждением от самого желания. Фанатизм
и есть та самая единственная «сила воли», к которой могут быть
приведены слабые и неуверенные (...) Всюду, где человек приходит к
основополагающему убеждению, что им должны повелевать, он становится
«верующим»; можно было бы, напротив, вообразить себе некую радость и силу
самоопределения, свободу воли, при которой ум расстается со всякой
верой, со всяким желанием достоверности, полагаясь на свою выучку
и умение держаться на тонких канатах и возможностях и даже танцевать
еще над пропастями. Такой ум был бы свободным умом par excellence73,
но свободным и для хотения ничто, для «деяния нигилизма»,
которого христианская вера хотеть не может. «Вместо этой веры (...)»»
63
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
которая сама изначально была «противовесом» для ослабевшей
воли к существованию, «мы ставим над собой сильную волю, которая
в качестве эвристического принципа удерживает временный ряд
основополагающих оценок, - чтобы посмотреть, как далеко мы в этом
можем продвинуться. (...) На самом деле и вся та "вера" была ничем
иным»74.
И все же, покуда освободившаяся для себя воля еще не знает,
признать ли свою собственную волю вообще, человек находится в
некотором проблематичном «промежуточном состоянии», а нигилизм может
означать одно из двух: он может быть симптомом расслабления
воли сделавшегося ничтожным существования, но может быть и
первым признаком усиления воли и намеренного уничтожения -
нигилизмом пассивной слабости или активной силы, как и все симптомы
декаданса. Двусмысленность этого еще нерешительного нигилизма
характерна для романтического «пессимизма» и научного
«позитивизма» - то и другое суть предварительные формы «радикального»
нигилизма. В сравнении с романтическим пессимизмом научный
позитивизм - это прогресс на пути к разочарованию, с обращением
взгляда на ничто75. В отсутствие новой веры он верит прежде всего
в неверие. Как ответная реакция на романтизм он есть ре-акция, но
еще не самостоятельная акция.
Символ двусмысленности нигилизма - теплый ветер,
взламывающий лед, по которому мы как раз еще умеем ходить. «А лед -
ломает мостки! (...) разве теперь не все течет в потоке? Разве не все
перила и мостки попадали в воду? Кто станет держаться еще за "добро" и
"зло"? "Горе нам! Благо нам! Теплый ветер подул!"»76 Сам же Зара-
тустра - «перила над потоком: ухватись за меня, кто может за меня
ухватиться! Но я не ваш костыль»77.
Нужно сознательно, так или иначе, разрешить эту двузначность
«блага» и «горя», представляющую собой двойной смысл нашего
разваливающегося сегодня.
Ах, если бы вы отделались от всякого полухотения и решительно
отдались и лени, и делу!
Ах, если бы вы поняли мои слова: "И все-таки делайте все, что хотите,
- но прежде всего будьте такими, которые могут хотетъГ1*
В промежуточном состоянии нигилизма - который, правда, уже
хочет, но чего именно хочет, еще не знает, - голая, чистая
«решимость» на первое или на второе и на все или на ничто, характеризует
способность хотеть как таковую.
64
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
В силу этой решимости он продвигается вперед по
предначертанному пути к переоценке всех прежних ценностей. В первую
очередь она затрагивает «мораль», которая уже не связывает
обязательствами существование человека, поскольку у нее уже нет санкции,
а, следовательно, она заканчивает нигилизмом79. Закат морального
истолкования мира, после деградации христианской догмы до
уровня бюргерской морали, - это «великий спектакль», который
растянется на «два следующих столетия», спектакль самого сомнительного
свойства, но, может быть, и наиболее чреватый надеждами,
поскольку лишь законченный нигилизм на основе новой оценки
человеческого существования в целом делает необходимыми и «новые
ценности». Решительный нигилизм кладет конец промежуточному
состоянию европейского пессимизма и позитивизма, реализуя процесс,
который является чем-то большим, чем просто реакция. «Переоценка
ценностей» - это осуществление «встречного движения», «которое
когда-нибудь в будущем сменит означенный законченный нигилизм,
но для которого последний служит предпосылкой..., которое только
и может возникнуть после пего и из пего»80. К чему же стремится этот
решительный нигилизм, полный надежд, поскольку он в принципе
снова чего-то хочет? Впрямь ли он хочет чего-то или его «что-то»
- это ничто?
Пока был действителен христианский центр тяжести, человек
прочно удерживался в существовании; люди полагали, что знают,
для чего они вообще существуют, ради какой цели. Страдание от
существования получило свое объяснение, чудовищная пустота, «horror
vacui»\ казалось, была заполнена, «дверь захлопнулась перед всяким
самоубийственным нигилизмом»81. Все это, правда, означает
сопротивление естественному существованию и первым предпосылкам
жизни, но все же есть и остается одна воля, ибо: «лучше уж человеку
хотеть ничто, чем ничегоие хотеть». «Сама воля была спасена», и как раз
благодаря «аскетическому идеалу», «ты должен» которого не
позволяло высвободиться «я хочу». Доселе это был «единственный смысл»,
дававший осмысленный ответ на вопрос: «Для чего человек вообще
существует?»82 Что же происходит, когда этот христианский центр
тяжести, падающий на существование человека, полностью из него
исчезает, и человек остается посреди мира как целого лишь
мимолетным, бессмысленным случаем? Не следовало ли в конце концов
однажды пожертвовать самим Богом и любой верой и из ненависти к себе
«боготворить тяжесть, судьбу, ничто» - или фатум бессмысленного
* Страх перед пустотой (лат.).
65
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
вечного возвращения?83«Пожертвовать Богом за Ничто - эта
парадоксальная мистерия последней жестокости досталась на долю
поколению, которое растет именно сейчас: мы все уже кое-что об этом
знаем», мы, чье существование больше ничем не ограничивается и
не сдерживается, мы, на авось заброшенные в необъятные просторы
вселенной, а она в смысле нашего существования - пустота, ибо «со
времен Коперника человек катится из центра в X»84.
Нам, как доселе еще никому из людей, было даровано устремляться
взглядом во все стороны, чтобы нигде не видеть конца. Поэтому только у нас
есть чувство чудовищной дали - но и чудовищной пустоты:
изобретательность всех высших людей этого столетия в том, чтобы выбраться
из этого ужасающего ощущенья опустошенности. Противоположность
этого ощущения - дурман (...) Поэтому наше столетие наиболее
изобретательно в изобретении дурманящих средств. Все мы знаем этот дурман
в виде музыки, в виде слепого, ослепляющего себя горячечного
фантазерства и преклонения перед отдельными людьми и событиями; мы
знаем дурман трагического, ужас при виде гибели, особенно если гибнет
самое благородное; знаем мы и более скромные виды дурмана -
самозабвенный труд, самопожертвование как инструмент науки,
политической или экономической партии; такой одурманивающей силой
обладают уже какой-нибудь мелкий тупой фанатизм, какое-нибудь неизбежное
вращение в самом узком кругу. Есть и своего рода скромность,
доходящая до эксцентричности, которая возвращает сладострастие и самому
ощущению пустоты: мало того, некоторое наслаждение от вечной
ничтожности всего на свете, некую мистику веры в ничто и
самопожертвование за эту веру. (...) Как мы заносим в списки и словно записываем
в бухгалтерскую книгу наши мелкие удовольствия, будто, суммируя
множество мелких удовольствий, мы можем обрести противовес этой
пустоте, заполнить эту пустоту - как мы водим себя за нос этим
суммирующим коварством!85
И тогда может показаться, будто эта «мистика ничто» уже
заполнила пустоту существования в самоопьянении судьбой, трудом и
политикой86. Вместо Бога люди временно верят в ничто.
Ницше так же мало, как и Кьеркегор, поддался этой божественной
видимости нигилизма, ничто которого делает безразличным всё.
Правда, оба они заходили заглянуть в ничто своей эпохи, но так, что
при этом стремились к бытию вечности или вечно сущему, с помощью
которых можно преодолеть эпоху. Как крайняя форма нигилизма
и го самопреодоление задумано и учение о вечном возвращении.
66
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Лишь в нем Ницше извлекает крайний вывод из того открытия, что
Бог умер, а человек свободен для смерти. Поэтому нигилизм в целом
занимает систематически промежуточное положение благодаря
своему происхождению и будущему, каковым является смерть Бога и
возрождение дионисийского взгляда на мир. На основе этой
двусмысленности - из нисхождения всякого «ты должен» и восхождения
новой воли - в нем подытоживается проблема «современных веяний»,
которые «не знают, как быть». Учение о симптомах декаданса, в
котором Ницше демонстрирует свое психологическое мастерство,
правда, различает отдельные формы проявления современных веяний
непосредственно по критерию восходящей или нисходящей
«жизни». Но сама жизнь понимается как универсальная «воля» к власти,
а потому ницшевская принципиальная классификация феноменов
жизни в соответствии с их силой и слабостью соотносится с силой
и слабостью заложенного в жизни воления, еще не определенные,
но стремящиеся к определенности возможности которого заложены
в промежуточном состоянии нигилизма.
В соответствии с этим систематическим положением нигилизма
возвещение о том, что Бог умер, уже соотнесено с совсем другим
возвещением - о том, что все возвращается. В «Заратустре» есть
множество намеков на взаимосвязь между безбожием и волей к вечному
возвращению, а в набросках к нереализованному продолжению «За-
ратустры» план начинается с благодарственного молебна и
поминальной службы по умершему Богу и заканчивается учением о вечном
возвращении. Бездна света, чистое око неба, эта всегда одинаково
возвращающаяся вечность, начинает заглядывать сквозь
разрушенные своды церквей в могилы Бога, когда человек избавляется от
назойливого надзора христианского Бога.
Конечно, пожертвовать Богом ради ничто - это
парадоксальная мистерия нарождающегося поколения; но тот, кто долго
старался мыслить пессимизм 19-го столетия по ту сторону добра и зла до
его глубинной основы - нигилизма и таким образом «высвободить
его из полухристианской, полунемецкой узости и наивности», быть
может,
именно благодаря этому открыл для себя, даже помимо собственной
воли, обратный идеал: идеал человека, полного крайней
жизнерадостности и мироутверждения, человека, который не только научился
довольствоваться и мириться с тем, что было и есть, но хочет повторения
всего этого так, как оно было и есть, во веки веков, ненасытно взывая
da capo не только к себе, но ко всей пьесе и зрелипг/, и не только к зрели-
67
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
щу, а в сущности к тому, кому нужно именно это зрелище - и кто делает
его нужным; потому что он беспрестанно нуждается в себе - и делает
себя нужным - - Как? Разве это не было бы - circulus vitiosus deus?87
Но делает нужным зрелище философствующий бог Дионис, в
качестве исполняющего свою роль представителя которого мыслил
себя Ницше, когда замкнулся круг его воления и мышления. «Сам-то
Заратустра, конечно, всего лишь старый атеист. Но надо понять его
правильно! Хотя Заратустра и говорит, что смог бы, - но он не
сможет...»*®, причем понять его нужно в том, что неверие Заратустры
научит верить лишь эпифания Диониса. Самому Ницше, «в ком
религиозный, то есть бого образующий инстинкт порою еще пытается
ожить», божественное открывалось
в те выпавшие из времени минуты, что приходили нежданно и
негаданно, минуты, когда я положительно переставал понимать, насколько я
стар и как долго буду молод... Тогда я не поколебался бы признать, что
есть множество видов богов...89
В «Празднике осла» «Заратустры» под конец говорится, что
убийца Бога виновен не только в смерти Бога, но и в том, что он
воскреснет в новом облике; ведь смерть среди богов - лишь «предрассудок»;
они меняют кожу, но не умирают, и невозможно решить, «какое
множество новых богов еще возможно», хотя прошло уже два
тысячелетия, - «и ни одного нового Бога» так и не появилось! Отставной
папа поклоняется вновь возникшему богу Дионису в образе осла90.
Этот осел в своей сокровенной дионисийской мудрости никогда не
говорит нет, а всегда только И-А (i-a = ja, да). Самый безобразный
человек дает ослу выпить вина, ведь Дионис - бог-виноградарь, и
все персонажи «Заратустры» празднично собираются вокруг осла,
который исстари был символом мужской силы и похоти. Странник,
тень и пророк нигилизма, а также все высшие люди поклоняются
благословляющему ослу, потому что их высшая воля к ничто
освобождена в говорящем да осле для высшего рода бытия, волящего
себя. Как «самый набожный из безбожников» Заратустра
превращается в Заратустру-Диониса, во имя которого Ницше совершает свою
последнюю трансформацию - от героического принципа «я хочу»
к богоподобному принципу «я есмь». Богоподобен этот принцип,
поскольку благодаря ему становится легким то, что прежде было
трудным. «"Легкоживущие боги" - наивысшая из прикрас,
выпадавших на долю мира; с чувством того, как тяжело живется»91.
68
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Ь) «Полдень и вечность»,
или пророчество о вечном возвращении
Ницше характеризует себя как учителя вечного возвращения, и
это свое подлинное «учение» он осознал как свою «судьбу». Для
ответа на вопрос о философском смысле этого учения решающим
является контекст, в котором его следует рассматривать. Серьезные
попытки его истолкования всегда предпринимали так, что оно
соотносилось со «сверхчеловеком» или с «волей к власти» - все равно,
стремились или нет доказать его совместимость или несовместимость с
тем или другой92. Учение о сверхчеловеке - это предпосылка учения
о вечном возвращении, поскольку лишь человек, преодолевший
себя, может хотеть вечного возвращения всего сущего, и наброски
к «Воле к власти», в свою очередь, предполагают учение Заратустры.
Именно последние планы к «Воле к власти»93 доказывают, что и для
этого произведения учение о вечном возвращении осталось бы
последним ответом, а именно для вопроса нигилизма, который, со
своей стороны, возникает из смерти Бога. Преодоление нигилизма
благодаря преодолевающему себя человеку есть предпосылка для
пророчества о вечном возвращении, а философия Ницше в
принципе не выходит за его пределы. Воля к сверхчеловеку и к вечному
возвращению - «последняя воля» Ницше и его «последняя мысль»,
в которой его эксперименту как целому поводится систематический
итог.
Из-за этой глубинной взаимосвязи вечного возвращения и
нигилизма ницшевское учение предстает как лик Януса: оно есть
«самопреодоление нигилизма», в котором «преодолевающее» и
«преодоленное» суть одно и то же. Заратустра преодолевает «себя», а это
значит - освобожденную волю к ничто и отвращение к прежнему
человеку, ради воления вечно возвращающегося существования
вообще всего, что есть.
«Пророчество» о вечном возвращении идет рука об руку с
совсем другим пророчеством - о нигилизме, таким же образом, как
«двойная воля» Заратустры, дионисийский «двойной взгляд» на мир
и сам дионисийский «двойной мир» суть однаъоля, odww взгляд и один
мир.
Но воля к вечному возвращению как процесс двойственна
потому, что обращает свое продвижение вперед, к ничто, в движение
назад, к вечно возвращающемуся бытию, поскольку воспроизводит
античный взгляд на мир на пике антихристианских современных
веяний.
69
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
§ ι. Разворота воли к ничто в волепие вечного возвращения
Смеется мир, завеса порвалась,
В объятьях брачных со светом тьма слилась...94
Ницше называет свое учение «самой крайней формой
нигилизма» и в то же самое время его «самопреодолением», поскольку
стремится утвердить как раз бессмысленность бесцельно
возвращающегося существования. «Представим себе эту мысль в ее самой ужасной
форме: бытие, как оно есть, без смысла и цели, но неуклонно
приходящее вновь, без концовки - превращения в ничто: "вечное
возвращение". Вот она, наиболее радикальная форма нигилизма: ничто
("бессмыслица") на веки вечные!»95 Но как самая крайняя форма
нигилизма оно уже - и его «кризис», и на пике своего совершенства
нигилизм внезапно превращается в противоположное учение о
вечном возвращении. Эти «противоположные», «не такие», учат о
вечном возвращении. Вера в него дает человеческому существованию,
потерявшему центр тяжести в лице старой, христианской веры,
«новый центр тяжести». Как и христианство, эта вера есть «противовес»
воли к ничто. Поэтому «спасительный человек будущего» - не
только победитель Бога, но и победитель ничто, ведь это ничто и само
есть логичное выражение успеха безбожия.
Этот человек будущего, который избавит нас как от прежнего идеала,
так и от того, что должно было вырасти из него, от великого отвращения,
от воли к Ничто, от нигилизма, этот колокольный звон полуденного
часа и великого решения, наново освобождающий волю, возвращающий
земле ее цель, а человеку его надежду, этот антихристианин и
антинигилист, этот победитель Бога и Ничто - он непременно однажды придет...96
«Цель» же земли - это «бесцельность» ее кружения «сама по
себе», так же как последней трансформации - это свобода от всех
целей и устремлений, от всякого перенаправления воли. На это
указывает уже первый афоризм «Веселой науки», а в конце 4-й книги
Ницше впервые намечает свое учение под заголовком «Величайшая
тяжесть».
Что, если бы днем или ночью прокрался за тобою в твое уединеннейшее
одиночество некий демон и сказал тебе: «Эту жизнь, как ты ее теперь
живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное
количество раз; и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое
70
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и
великое в твоей жизни должно будет наново вернуться к тебе, и все в том
же порядке и в той же последовательности, - также и этот паук и этот
лунный свет между деревьями, также и это вот мгновение и я сам. Вечные
песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова - и ты
вместе с ними, песчинка из песка!» - Разве ты не бросился бы навзничь,
скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона? Или тебе
довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы
ему: «Ты - бог, и никогда не слышал я ничего более божественного!»
Овладей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно,
стерла бы в порошок; вопрос, сопровождающий все и вся: «хочешь ли ты
этого еще раз, и еще бесчисленное количество раз?» - величайшей
тяжестью лег бы на твои поступки! Или насколько хорошо должен был
бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не жаждать больше
ничего, кроме этого последнего вечного удостоверения и скрепления
печатью?97 -
Следующий афоризм озаглавлен «Incipit tragoedia» и отсылает
к «Заратустре». В качестве «психологической» проблемы, лежащей
в основе заратустровского типа, в «Се человек» тоже назван этот
разворот: рождение крайнего Да из крайнего Нет и высочайшей
беззаботности (легкости) из глубочайшего уныния (тяжести).
Благодаря дионисовскому утверждению становится легким все то, что
прежде было тяжелым, поскольку последнее освобождается от бремени
случайного существования. Но для этого разворота необходимо,
прежде всего, дальнейшее развитие различных видов
распространенного «пессимизма»: страсть к «иначе», к полу-нет и к чистому ничто.
В противоположность этому радикальный нигилистсгремится «хотеть,
чтобы ничто не было иным», чем оно есть, уже было и будет снова.
Заратустра мало-помалу становится более несчастным и более
счастливым, и лишь когда его постигает крайняя нужда, он обретает
и свое величайшее счастье: необходимость. В конце концов, он
научается «любить свою бездну». «Вершина и бездна» для него сливаются
воедино. Ведь «откуда берутся высочайшие горы? - так спрашивал
я однажды. Тогда узнал я, что выходят они из моря. Об этом
свидетельствуют породы их и склоны вершин их. Из самого низкого
должно вознестись самое высокое к своей вершине»98. Заратустра идет
этим путем к последней величине, для которой недостаточно никакой
шкалы и к которой человек может подойти, лишь превзойдя себя
как такового. И когда он наконец поднимает наверх свою «самую
бездонную» мысль, становясь из отрицателя в защитника кружащей
71
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
жизни, то произносит: «моя бездна говорит», а это значит - вместе
с защитой жизни слово берет и нигилизм в отношении
существования. Тем самым Заратустра «извлек на свет» «свою последнюю
глубину»99, что, в свою очередь, означает: нигилизм и вечное
возвращение обусловливают друг друга, как да и нет или как свет и тьма.
Прежде чем начать это последнее странствие в последнее
одиночество, он еще раз спускается вниз, «глубже, чем спускался когда-либо»,
вплоть до «темнейшего потока», где его «последняя опасность»
становится «последним убежищем»100.
Как вечное возвращение в притче Заратустры - это обращенный
нигилизм, так же и в собственной жизни Ницше страсть к C2LMoyee-
ковечению обращенным образом неразрывно связана с искушением
самоуничтожения. Поэтому и сама воля к увековечению
двусмысленна: она может проистекать из благодарности за существование, но
она же может быть тиранической и мстительной волей того, кто
отчаялся в существовании.
Воля к увековечению... требует двоякой интерпретации. Во-первых, она
может исходить из благодарности и любви: искусство, имеющее такое
происхождение, всегда будет искусством апофеоза - дифирамбическим,
быть может, у Рубенса, блаженно-насмешливым у Хафиза, светлым и
благосклонным у Гёте и осеняющим все вещи гомеровским светом и славой.
Но она может быть и тиранической волей какого-нибудь неисцелимого
страдальца, борца, мученика, который хотел бы проштемпелевать
принудительным и общим для всех законом свое самое личное, самое
сокровенное, самое узкое, подлинную идиосинкразию своего страдания,
и который словно бы мстит всем вещам, накладывая на них, впихивая
в них, вжигая в них свой образ, образ своей пытки. Последнее есть
романтический пессимизм в наиболее выразительной его форме, будь это
шопенгауэровская философия воли или вагнеровская музыка; романтический
пессимизм, последнее великое событие в судьбе нашей культуры. (Что
мог бы существовать еще и совсем иной пессимизм, классический, - это
предчувствие и провидение принадлежит мне, как нечто неотделимое
от меня, как мое proprium и ipsissimum*... Я называю этот пессимизм
будущего... дионисическим пессимизмом.)101
Этим своим «изобретением» Ницше-Заратустра - в решающей
главе о «видении и загадке» - уничтожает не только «страдание» и
«сострадание» и «головокружение на краю пропасти»102, но и саму
* Собственное (и) самое личное (лат.).
72
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
смерть. В своем расстройстве по поводу почти невыносимого
бремени существования он находит в себе мужество и говорит «смерти»
после своего выздоровления от смертельной болезни: «Так это была
- жизнь? (...) Ну что ж! Еще раз!» и все снова103. Воля к вечному
возвращению всего сущего - это, таким образом, некоторое
«самопреодоление нигилизма», ведь с его помощью человек преодолевает
мысль о крайнем, т. е. о самоуничтожении, «деле нигилизма». Эта
бездна и эта глубина делают вечное возвращение «самой бездонной
мыслью», благодаря которой Заратустра единожды и навсегда
побеждает волю к ничто. И поскольку он вынес свою последнюю
глубину на свет дня, он может теперь пролить свет и на подземный мир.
Для самого Ницше - говоря на «языке людей» - закат Заратустры,
тем не менее, означает не восход нового утра, а «вечернее солнце
над последней катастрофой»104 и «голову медузы», при виде которой
все черты мира застыли в «гримасе смертельной схватки»105.
На основе этой взаимосвязи смерть Бога, из которой следует
нигилизм, есть, правда, «величайшая опасность» и «ужасающее
событие» для пророка нигилизма, на для пророчества самого
Заратустры - событие «самое обнадеживающее» и «причина
величайшего мужества»; ведь в мужестве для ничто нигилизм в конце концов
достигает своей вершины и преодолевает себя, превращаясь в
дерзновение сверхчеловека, с позиций которого Ницше учит о вечном
возвращении. Затем этот разворот совершенно ясно выражается в
концепции воли к власти как подлинная тенденция ницшевского
философствования.
Такая экспериментальная философия, какою я живу, в виде попытки
предвосхищает даже возможности принципиального нигилизма: но это
вовсе не означает, что она остановилась на Нет, на отрицании, на волю
к отрицанию. Наоборот, ей нужно прорваться сквозь толщу
противоположного - к дионисийскому приятию мира, как он есть, без изъятий,
исключений и отбора, - ей нужно вечное круговращение, <круговраще-
ние> тех же вещей, того же смысла и бессмыслицы проблем. Высшее
состояние, какого может достичь философ, - относиться к бытию ди-
онисийски: я выражаю это формулой amorfati...m
Этой формулой воли к вечному возвращению Ницше в то же время
выражает принцип своей «переоценки всех ценностей»,
происходящих, в свою очередь, от той первой переоценки, которую
христианство произвело над античностью, когда та подверглась
заболеванию воли к существованию. «Парализующему ощущению всеобщего
73
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
распада» Ницше противопоставляет учение о вечном возвращении.
Ведь «место радикальных установок», чем и является додуманный
до своего конца европейский нигилизм, «занимают не более
умеренные, а опять-таки крайние, только обращенные»107.
Проблему этой сущностной взаимосвязи между нигилизмом и
возвращением предстоит выявить в частностях всей проблематики
на материале притч Заратустры (§ 2). Затем (§ 3) следует показать,
что воля к вечному возвращению, возникающая из воли к ничто,
сводит воедино то, что вместе не держится. Ведь мысль о вечном
возвращении, во-первых, учит о новой цели человеческого
существования, лежащей за его пределами, - воле к самоувековечению; но
она учит и прямо противоположному: столь же
незаинтересованному в себе, сколь и бесцельному кружению природного мира в себе
самом, включая и человеческую жизнь. Ее космический смысл
противоречит антропологическому, так что один превращает другой в
абсурд.
§ 2. Вечное возвращение на языке притч «Заратустры»
В творчестве Ницше «Заратустра» как в литературном, так и в
философском отношении занимает особое место, но не потому что
выпадает из него, а потому что содержит в себе всю ницшевскую
философию в форме продуманной системы парабол108. Даже в
черновиках и набросках из наследия, предназначенных для «Переоценки
всех ценностей» и изданных под названием «Воля к власти», нет
ничего принципиально нового. Основная мысль «Заратустры» - вечное
возвращение того же - уже и есть принцип переоценки всех
ценностей, поскольку она обращает нигилизм вспять. «Заратустра» -
уникальное, совершенное в своем роде «произведение» (каждая из
его частей есть «дело десятка дней») и в то же время необходимое
«преддверие» к незавершенной «Переоценке всех ценностей», первой
частью которой является «Антихристианин», где «старые и новые
скрижали» «Заратустры», разбитые и написанные только
наполовину, изложены абстрактно, без парабол. «Заратустра», по
собственному признанию Ницше, это апология всего того, что он пережил,
над чем трудился и что перестрадал, его «завещание», с величайшей
четкостью изображающее его внутреннюю суть - «какой она стала,
как только я вдруг сбросил с себя все мое бремя»109. Ницше
допускает, что когда-нибудь будут учреждены «специальные кафедры» для
интерпретации «Заратустры».
74
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Теперь я расскажу историю "Заратустры". Основная концепция этого
произведения, мысль о вечном возвращении, эта высшая форма
утверждения, которая вообще может быть достигнута, - относится к августу 1881
года: она набросана на листе бумаги с надписью: «6000 футов по ту
сторону человека и времени». Я шел в этот день поверху лесом вдоль озера
Сильваплана через леса; у могучего, пирамидально нагроможденного
блока камней, недалеко от Сурлея, я остановился. Там-то и пришла мне
эта мысль110.
Этому соответствует то, что у первого плана к «Заратустре» -
«Полдень и вечность» есть общий заголовок, который потом, после
нескольких набросков, был как будто закреплен за третьей или
соответственно четвертой частью «Заратустры», а в конце концов
перешел в последние планы к «Воле к власти». Подзаголовок «Полудня
и вечности», как правило, гласит: «Набросок к новому образу
жизни»111. Благодаря этому «наброску» - а именно, исходя из
современной «заброшенности» - Ницше осознавал себя «возрожденным» из
болезни к смерти для вечно снова желающей себя жизни и «нового
способа умирать»112. «Солнце познания вновь стоит в зените - и,
свернувшись кольцами, лежит в его лучах змея вечности - - пришло ваше
время, полуденные братья!»113 «С этой книгой я вступил в новое
"кольцо" - отныне меня будут причислять в 1ермании к сумасшедшим.»114
«Заратустра» для него - «свершение» свободного ума, а то, что
следует непосредственно за ним, «По ту сторону добра и зла» и «К
генеалогии морали», может считаться «своего рода предварительным глосса
риему в котором где-то попадаются и именуются важнейшие
понятийные и ценностные новинки этой книги»115. Но точно так же и
первая часть «Переоценки всех ценностей» - «Антихристианин»,
охарактеризован в предисловии как книга, предназначенная для тех,
что понимают «Заратустру», а сам «Заратустра» - как «трудное»
произведение, для понимания которого нужно «стоять одной ногой по ту
сторону жизни». «Я не написал ничего более серьезного и ничего
более веселого; от всей души желаю, чтобы этот цвет - которому
даже не нужно быть смешанным цветом, - все больше становился
моим "естественным цветом".»116 Наконец, в «Се человек» не раз и
с экзальтацией Ницше указывает на значение «Заратустры»,
утверждая, что и в «Се человек» нет ни слова, «которое не было бы сказано
еще пять лет назад устами Заратустры»117. Такой оценке «Заратустры»
в зеркале «Се человек» соответствуют многочисленные места из
писем периода его возникновения: «Заратустра» - это «пятое евангелие»;
речь в нем идет о «чудовищном синтезе», и еще никогда он, Ницше,
75
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
не ходил по такому морю под такими парусами. В «Заратустре» он,
мол, впервые сформулировал свою «главную мысль», и даже, может
быть, для себя самого. Зато бесполезным занятием было бы сведение
к единой формуле заметок Ницше, возникших в абсолютно разные
периоды и опубликованных под названием «Воля к власти», - к
формуле, которая была бы способна превратить эту массу фрагментов
в целостное произведение.
Месту, которое «Заратустра» занимает в философском
творчестве Ницше благодаря идее вечного возвращения, соответствует
особая форма философской речи - притча. Чтобы не быть всего лишь
переносным выражением чего-то другого в натянутом сравнении,
а, стало быть, чтобы не выражать лишь по видимости, речь притчи
должна быть подобна тому, что она выражает, то есть бытию.
Самое замечательное - непроизвольность образа, сравнения; не имеешь
больше понятия о том, где образ, где сравнение; все приходит как самое
близкое, самое правильное, самое простое выражение. Поистине,
кажется, если вспомнить слова Заратустры, будто вещи сами приходят к
тебе, предлагая себя в символы. («Сюда приходят все вещи, ластясь к
твоей речи и льстя тебе: ибо они хотят скакать верхом на твоей спине.
Верхом на всех символах скачешь ты здесь к любой истине. Здесь
раскрываются тебе слова и ларчики слов всякого бытия: здесь всякое бытие
хочет стать словом, всякое становление хочет здесь научиться у тебя
говорить -».) Это мой опыт вдохновения (...)118
Но если во всем, что есть, стремится стать словом само бытие,
тогда и «самое обыденное» ведет речь о «неслыханных вещах», а
метафоричность речи зиждется на том, что Ницше как
посвященный в «высший род бытия» и сам стал подобен ему. Инспирированная
истинность речи в необходимой случайности притчи указывает на
сомнительную истинность связи Ницше с божественным бытием.
Лишь когда высший род бытия, бог Дионис, вещает устами Ницше,
исполняющего его роль, устами Ницше в форме притчи вещает и
истина бытия. Однако как же определить, был ли Ницше persona*
бога - или «актером своего собственного идеала»?119 В речах
Заратустры вплотную к откровенно безыскусным, свежим поэтическим
параболам примыкают самые изощренные переносные выражения,
аллегории и пародии120. А как только его покидает «сплачивающая
воедино» способность к языку притчи и он хлопочет об обосновании
* Личиной, маской (лат.).
76
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
своего учения, то, что прежде казалось высшей необходимостью,
снова становится «фрагментом» и «случайностью». Единство
метафизической притчи о вечном возвращении раскалывается на две
части уравнения - одну на стороне человека и одну на стороне мира.
Однако проблема учения о возвращении - это единство такого
расщепления на человеческую волю к цели и бесцельное круговращение
мира.
Что поражает прежде всего в связи с главной концепцией «Зара-
тустры», мыслью о вечном возвращении, - это тревожное
потрясение и таинственная сдержанность, с какими в письмах и записках
Ницше сообщается о возникновении «его» идеи121. Прежде всего,
эта идея возникла не в мышлении, а в экстатическом «мысленном
переживании», важность, значимость и масштаб которого затем об-
думывается, раскрывается и обосновывается в ходе множества
попыток. Им Ницше датирует начало своего «великого здоровья»122,
от избытка бытия играющего со всем, так что с этой игры
начинается «настоящее дело», ставится «настоящий знак вопроса» и «судьба
души совершает поворот». Когда Мёбиус в своей «Патографии»
датирует первые признаки ницшевского безумия временем
возникновения «Заратустры», то это лишь по видимости противоречит
самоистолкованию Ницше; ведь, придя к идее вечного возвращения, он
и впрямь оказался «по ту сторону человека и времени», экстатически
исчезнув из самого себя.
Идея вечного возвращения -это «кризис» нигилизма. В ходе
этого кризиса решается, хочет ли еще человек вообще существовать.
Чтобы охарактеризовать эпоху, когда идея вечного возвращения
заставляет все выявить свою природу, следует повторить: «срок
настал», и притом «крайний срак». Этот крайний срок столь же
двусмыслен, как сама идея вечного возвращения, поскольку она есть
самопреодоление нигилизма. В крайний срок раздается не только крик
о помощи пастуха и всех высших, разочаровавшихся в
существовании людей, но и «колокольный звон великого полудня» и
полуночи123, звон, раздающийся уже в «Страннике» как временная метка
высочайшего совершенства, а затем приносящий избавление от
совершенного нигилизма. В той же смысловой двойственности час
крайнего срока - это и «самый тихий час», и притом час тихого
отчаяния или тихого блаженства. В решающий, критический момент
великого полудня - после временного полудня предполуденной
философии - происходит затишье времени. Будучи временем для
решения раз и навсегда, этот момент - вечен124. Поэтому «полдень и
вечность» - особенное время и постоянно возвращающееся заглавие
77
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
для мысли о вечном возвращении. Впервые о полудне и вечности
можно услышать в главе «О великих событиях», где содержится
высказывание «срок настал». Этот рассказ о сверхчеловеческом
сошествии Заратустры в преисподнюю есть продолжение афоризма из
«Человеческого, слишком человеческого», озаглавленного «Сошествие в
Аид»125. Однако поначалу лишь «тень» Заратустры проходит к сердцу
земли сквозь «врата преисподней». В темном сердце земли, где
ничто предстает вулканически извергающейся глубиной, Заратустра
в разговоре с огненным псом126 заявляет: у земли есть кожа, эта кожа
болеет, а одна из ее болезней называется «человек» - другая же
«огненный пес». Смысл этой «тайны» таков: болезнь по имени человек,
болезнь, ведущая к смерти, еще не находится на пути к
выздоровлению, к великому здоровью, покуда ее исходный пункт и средоточие,
расположенное там, где воет «пес из глубин», сам получает
усиленное питание с «поверхности земли». Такая поверхностная глубина
- это не только уже ничего не желающий пессимизм, но и в не
меньшей степени ниспровергающий, политический оптимизм, причем
тот и другой изменяют земле. Пес преисподней - в лучшем случае
«чревовещатель» земли, подобно заступникам «потустороннего мира».
На самом деле из сердца земли говорит другой огненный пес,
тот, который знает, что лишенное света сердце земли, как ночной
глаз жизни127, в действительности сделан из светлого, смеющегося
золота, ведь глубина бездны и высота жизни в целокупности бытия
- так же, как свет и тень на земной поверхности, - суть одна и та же
«бездна света»128. Но почему же призрак, эта «тень» Заратустры, «в
час полудня» кричит: «срок настал», и притом «крайний срок»? Для
чего же это крайний срок, если не для полного завершения, а тем
самым преодоления нигилизма, в «самый тихий час», время
действительно великих, а не просто шумных событий? В это время болезнь
по имени человек поистине «выступает наружу», но одновременно
начинается ее исцеление в великом здоровье.
«Прорицатель» разъясняет в следующей главе болезнь
человечества - это нигилизм. Его вера в неверие учит: все тщетно, все равно,
и у нынешнего человека уже нет будущего.
Правда, собрали мы жатву; но почему сгнили и почернели наши плоды?
Что упало с недоброго месяца в последнюю ночь?
Напрасен был всякий труд, в отраву обратилось наше вино, дурной глаз
спалил наши поля и наши сердца.
Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы рассыпались, как
пепел, - ведь даже огонь утомили мы.
78
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Все источники иссякли, и даже море отступило назад. Земля хочет
треснуть, но глубина не хочет поглотить!
«Ах, есть ли еще море, где можно утонуть»: так раздается наша жалоба
- над мелкими болотами129.
Море, в котором может утонуть нигилизм, - это море «бушующих
и вскипающих сил», дионисийский двойственный мир вечного
возвращения того же, соответствующий душе Заратустры, тоже
называемого «морем», где должно утонуть презрение человека к себе.
Заратустра так близко к сердцу принимает пророчество того, кто
говорит: «все равно, ничто не вознаграждается, мир бессмыслен,
знание душит», «тщетны все поиски, и не существует больше
блаженных островов», что от печали три дня не ест и не пьет, теряет
дар речи, - покуда с ним снова не заговаривает бездна, неся
обратную весть о вечном возвращении. Он погружается в глубокий сон, а
потом рассказывает сновидение, загадочное предвидение его
избавления от ведущей к смерти болезни.
От всякой жизни отрешился я, так снилось мне. Ночным и могильным
сторожем сделался я в замке Смерти, на одинокой горе.
Там охранял я гробы ее; мрачные своды были полны этими трофеями
побед. Из стеклянных гробов смотрела на меня побежденная жизнь.
Запах запыленной вечности вдыхал я; в удушье и пыли поникла моя душа.
Да и кто мог бы проветрить там свою душу!
Свет полуночи был всегда вокруг меня, одиночество на корточках
сидело рядом с ним; и еще хрипящая мертвая тишина, худшая из моих
подруг.
Ключи носил я, самые заржавленные из всех ключей; и я умел отворять
ими самые скрипучие из всех ворот.
Подобно зловещему карканью, пробегал звук по длинным ходам, когда
поднимались затворы ворот: зловеще кричала эта птица, неохотно
давала она будить себя.
Но было еще ужаснее и еще сильнее сжималось мое сердце, когда все
замолкало, и кругом водворялась тишина, и я один сидел в этом
коварном молчании.
Так медленно тянулось время, если время еще существовало: откуда мне
знать! Но наконец случилось то, что меня разбудило130.
Бушующий ветер распахнул врата и вбросил в них черный гроб,
который раскрылся и под страшный хохот изверг тысячи личин.
Кто здесь нес свой прах на гору? Ученик разгадывает Заратустре его
79
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
сновидение. Он сам и есть тот, кто, будучи заступником кружащей
жизни, распахивает врата даже в замках смерти.
Отныне детский смех всегда будет бить ключом из гробов; отныне
всегда будет дуть могучий ветер, торжествующий над смертельной
усталостью: в этом ты сам нам порука и предсказатель!
Поистине, их самих видел ты во сне, врагов своих, - это был твой самый
тяжелый сон !ш
Заратустра глядит на толкователя и качает головой. Значит ли
это, что ученик истолковал его неверно?132 Или Заратустра всего
лишь удивляется его преждевременной мудрости? Ответ следует из
вопроса, заданного самим Заратустрой: «Кто несет свой прах на гору?»
В качестве странника Заратустра нес свой прах в гору - как
сгоревшие остатки своего первого освобождения, чтобы после
последнего преображения в ребенка, напротив, нести свое «пламя в долы»133;
и лишь тогда призрак «иномирной» проповеди о смерти отступил.
До этого избавления путем самопреодоления нигилизма Заратустра
все еще не преображенным пребывает между нигилистической и
дионисийской истинами, а потому и то, что изливается из гробов
смерти, - это еще не освобожденный смех человека,
пробудившегося до состояния ребенка, а лишь хохот личины ребенка. Стало быть,
толкование ученика само по себе не является неверным, но оно еще
не ко времени, ведь загадка сновидения о замке смерти еще не
имеет «лица» вечного возвращения. Нужно еще показать прорицателю
нигилизма море, в котором он мог бы утонуть.
Следующая глава трактует об «Избавлении», а именно для
детской невинности человеческого конкретного существования в
рамках сущего в целом, каковое есть мир. Заратустра хочет «свести
воедино» и «собрать вместе» то, что прежде в человеческом
существовании было осколками и злосчастной случайностью. Он хочет
избавить человека от случайности и от «кары» существования -
через познание того, что даже в случайности царит необходимость,
а существование как таковое столь же бесцельно, сколь и невинно
само по себе134. Но сначала это избавление надо понять в свете
разгадки «видения» Заратустры, которое есть пророчество о вечном
возвращении и о нигилизме. Оно созревает в «самый тихий час»,
которым завершается вторая часть «Заратустры». В этот самый
тихий час от Заратустры требуется жертва, к которой он не
расположен; она для Ницше - неосуществленная сцена в Гефсиманском
саду.
80
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Заратустра в конце концов «повинуется против воли, готов уйти»
в свое последнее одиночество, в котором впоследствии ему
откроется смысл бытия. Своего рода самый тихий час был уже тогда,
когда Заратустра сидел и грезил в замке смерти, и время, «когда время
еще было», исчезло для него. Теперь эта остановка времени
повторяется в другом виде.
Вчера вечером говорил ко мне мой самый тихий час- вот имя ужасного
повелителя моего.
И случилось это так - ибо я должен сказать вам все, чтобы ваше сердце
не ожесточилось против внезапно удаляющегося!
Знаете ли вы испуг засыпающего? -
До пальцев своих ног пугается он, ибо почва уходит из-под ног его и
начинается сон.
Это говорю я вам для сравнения. Вчера, в самый тихий час, почва ушла
из-под моих ног: сон начался.
Стрелка передвинулась, часы моей жизни перевели дыхание, - никогда
не слышал я еще такой тишины вокруг: так что сердце мое испугалось.
Тогда я услышал беззвучный голос: « Ты знаешь это, Заратустра?» -
И я вскрикнул от страха при этом шепоте, и кровь отхлынула от моего
лица, - но я молчал.
Тогда я еще раз услышал беззвучный голос: «Ты знаешь это, Заратустра,
но ты не говоришь об этом!» -
И я отвечал наконец, подобно упрямцу: «Да, я знаю это, но не хочу
говорить об этом!»
Тогда я снова услышал беззвучный голос: «Ты не хочешь, Заратустра?
Правда ли это? Не прячься в своем упорстве!»
И я плакал и дрожал, как ребенок, и наконец сказал: «Ах, я хотел бы, но
разве могу я! Избавь меня от этого! Это свыше моих сил!»
Тогда я снова услышал беззвучный голос: «Дело совсем не в тебе,
Заратустра! Скажи свое слово и разбейся!» -
И я отвечал: «Ах, разве это мое слово? Кто я такой? Я жду более
достойного; я не достоин даже разбиться о него»135.
О чем «знает» Заратустра, но чего он не может хотеть, - что
можно добровольно уничтожить свое существование, хотя позднее,
перед лицом жизни, он поймет, что жизнь возвращается как раз через
жертву. Его собственное слово - это свобода умереть136, воедино с
желанием вечного возвращения, но о последнем можно возвестить,
лишь когда уже будет преодолено искушение самоуничтожения. В
самый тихий час, его искушение, Заратустре внушается, что он должен
81
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
идти как тень того, что неизбежно придет, и, значит, идти впереди.
Он долго решается и в конце концов отвечает: «я не хочу». На это
раздается жуткий смех, и в последний раз ему говорят: «Твои плоды
созрели, но ты не созрел для своих плодов»137. Это значит: для него
существует опасность, что он будет слишком стар для своих истин
и для победы, а тогда потеряет свободу умереть в надлежащий час
по своей воле. Поборовшись и искушением, Заратустра падает
наземь, как мертвый, и снова он чувствует необходимость скрыться в
своем последнем одиночестве. Ведь у него еще «есть что сказать» и
«есть что дать» - благодаря этой «удвоенной тишине» крайнего
уединения и грядущего блаженства. На этом логично заканчивается
вторая часть «Заратустры», а после паузы, во время которой созревает
решение, третья часть начинается с самого тихого и самого
отвесного странствия Заратустры к последней вершине, которая
настолько же едина с его самой глубокой бездной, как пророчество о вечном
возвращении с пророчеством о нигилизме.
Прежде чем «странник» сам становится «тенью», когда
свободный ум освобождается из первого освобождения для детской
невинности возрожденного существования, Заратустра прорывается в свое
последнее странствие, ведущее его в полночь от островов
блаженства138 на вершину высочайшей горы, а это означает обращение
того, что прежде в полдень привело тень Заратустры от тех же самых
островов к сердцу земли. Но теперь настало время для этого
странствия, насколько это свойственно Заратустре как освободившемся
уму; ведь в конце концов это - всего лишь «паллиатив» для
преодоления тяжести, бремени существования, - хотя поднимающийся и
несет его вверх, но не сбрасывает с себя. На этом последнем пути к
величию и одиночеству, а это нечто иное, чем уединенность139 самого
тихого часа, вершина и бездна для него сливаются воедино. Этот
путь лишь мнимо проходим, ведь позади него сами ноги стерли путь,
а над ним написано: «Невозможность». Заратустра должен
превосходить самого себя, чтобы подниматься вообще и тем самым
преодолевать человеческое бытие как таковое, болезнь по имени человек
и наказание существованием. При этом опасно для него не обычное
головокружение на кручах, где взгляд летит вниз, а руки, хватаясь,
скользят вверх, но то, что его взгляд падает ввысь, а руки хотят
держаться за глубину. Именно от этой «двойной воли», к бытию и к
ничто, и кружится голова у сверх-человеческого странника Заратустры,
который, наконец, оказавшись «по ту сторону добра и зла», видит
весь факт по имени человек из дальней дали, далеко под собою. Но
для этого Заратустре снова приходится погрузиться в самый черный
82
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
поток страдания140 от бремени существования и научиться
отказываться от себя, чтобы разглядеть бытие как целое.
На корабле, которым Заратустра после той ночи отплывает от
блаженного острова, он рассказывает отважным исследователям
дальних морей загадку, которую он видел, свое самое одинокое
«видение», завершающее его эксперимент с истиной.
Мрачный шел я недавно через мертвенно-бледные сумерки, - мрачно
и твердо, со сжатыми губами. Не одно солнце закатилось для меня.
Тропинка, упрямо поднимающаяся между валунами, злобная, одинокая,
которой отказали и трава, и кустарник, - горная тропинка хрустела под
упрямством ноги моей.
Безмолвно ступая среди насмешливого громыхания голышей,
растаптывая камень, на котором скользила, - так настойчиво продвигалась
моя нога вверх.
Вверх: наперекор духу, тянувшему ногу вниз, в пропасть, - духу тяжести,
моему демону и смертельному врагу.
Вверх: хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот; хромой, делая
хромым и меня; вливая свинец в мои уши, свинцовые мысли каплями в мой
мозг.
«О Заратустра, - насмешливо шептал он слог за слогом, - ты, камень
мудрости! Ты забросил себя высоко, но каждый брошенный камень должен
- упасть!
О Заратустра, ты камень мудрости, ты метательный камень... Себя
самого забросил ты так высоко, - но каждый брошенный камень должен -
упасть!
Приговоренный к самому себе и к побиванию себя камнями: о
Заратустра, как далеко бросил ты камень, - но на тебя упадет он обратно!»141
Но как человеку сверхчеловечески выбросить себя из своей
заброшенности?142 Хватит ли для этого одного мужества, говорящего:
«Карлик! Ты\ Или л!» Мужество искореняет и само головокружение
над пропастями, так же как страдание и сострадание, даже смерть
- ведь оно говорит: «Так это была жизнь? Ну что ж! еще раз!»143
На этом критическом повороте мысли, от отрицания смерти к
безусловному приятию собственного существования в целокупности
бытия, дилемма обращается, и теперь Заратустра говорит карлику:
«Л! Или шы\» Ведь карлику невыносима его самая бездонная мысль
о вечном возвращении, а вот Заратустра выносил в лице карлика
бремя своего существования. Карлик спрыгивает с плеч Заратустры и
садится на камень. «Прямо здесь, где мы остановились, были ворота.»
83
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Мысль о вечном возвращении впервые демонстрируется на символе
ворот. На них написано, что они такое в отношении времени, а
именно «мгновение» полудня и вечности, поскольку в это мгновение
приходит время для свершения. У ворот мгновения сходятся две дороги
времени: одна бесконечно-нескончаемо и потому «вечно» идет
прямо назад во времени, другая столь же бесконечно-нескончаемо - во
времени вперед. У ворот обе дороги сталкиваются «лоб в лоб».
Но если кто-нибудь пошел бы по одной из них дальше - все дальше и
дальше, - то думаешь ли ты, карлик, что эти пути противоречили бы
себе вечно?»
«Все прямое лжет, - презрительно пробормотал карлик. - Всякая
истина крива, само время есть круг».
«Ты, дух тяжести, - сказал я сердито, - не притворяйся, что это так
легко!»144
Карлик притворяется, будто истина легка, поскольку сам он -
всего лишь сброшенное, но не преодоленное бремя существования
и поскольку подлинная тяжесть заключается в том, чтобы привести
к согласию видение о вечном круговом возвращении мира с
целеустремленной волей человека к будущему.
Не должно ли было все, что может идти, уже однажды пройти этот путь?
Не должно ли было все, что может случиться, уже однажды случиться,
сделаться, пройти?
И если все здесь уже было - что думаешь ты, карлик, об этом Мгновении?
Не должны ли были и эти ворота уже - однажды здесь быть?
И не связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновенье влечет за
собою все грядущее? Следовательно-- еще и само себя?
Ибо все, что может идти, в том числе по этому длинному пути, - не
должно ли оно еще раз пройти?
И этот медлительный паук, ползущий в лунном свете, и сам этот лунный
свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся о вечных вещах, -
разве все мы уже не были должны быть здесь?
- и возвратиться и пройти по этой другой дороге впереди нас, по этой
длинной ужасающей дороге, - не должны ли мы вечно возвращаться?» -
Так говорил я, все тише: ибо страшился собственной мысли и задней
мысли. И вдруг вблизи услышал я вой собаки145.
Собака, в чьем жалком вое вновь возвращается некое
переживание из детства Ницше, - это указание на будущий вопль отчаяния
84
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
высших людей, призывающих Заратустру как того, кто преодолел
человека. Благодаря этому на какое-то время задерживается ответ
на уже поставленный прежде и позднее вопрос о том, не совпадает
ли в конце концов свобода «воления» и «способности» с
необходимостью «долженствования» в «amorfati».
Но пока карлик, ворота, паук и перешептывание исчезли в
пустынном лунном сиянии. «Но там лежал человек», и это был пастух,
у которого изо рта свисала черная, тяжелая змея. Рука Заратустры
рванула змею - напрасно; тогда из него вырвался крик отвращения
и жалости: «Откуси, голову откуси!» Пастух так и сделал - он был
уже не пастухом, не человеком, а существом преображенным,
которое смеялось так, как не смеялся еще ни один человек, и с ним
вместе, преображенным, смеялся выздоровевший Заратустра.
Толкование этого двойного видения о воротах и о пастухе следует из
собственного выздоровления Заратустры от его смертельной болезни146.
Искушение Заратустры к самоуничтожению (типичное для того
времени) предстает как смертельная опасность для пастуха, не
способного самостоятельно исцелиться от смертельной болезни, потому
что он «человек», в отличие от того, кто превзойдет себя,
преодолеет «себя», т. е. болезнь по имени человек, благодаря познанию,
символ которого - обвившаяся вокруг себя змея вечности. Таким
образом, видение о пастухе - это «предвидение» того исцеления,
которое претерпевает сам Заратустра как выздоравливающий,
когда, выдвигая свою самую бездонную мысль, он становится
апологетом круга, уже раньше на мгновение представшего ему в образе
ворот как точки пересечения временных измерений. Там, где
современный человек «не знает, что делать», Заратустра находит «выход
из двух тысячелетий лжи», потому что, преодолев человека и время,
замыкает в вечный круг два бесконечно прямых пути,
заканчивающихся в ничто. Мыслить такой «circulus vitiosus deus»* - это,
конечно, «вертячка» для «внутренностей человеческих»147, но только
потому, что человек христианской эпохи под вечностью имеет в виду
некую неизменность, «вечную жизнь» вне времени, в то время как
«вечная жизненность»148 есть вечное возвращение того же самого,
оправдывающее как раз становящееся и исчезающее как таковое.
Заратустра, услыхав смех преображенного пастуха, говорит: «...как
же мне теперь выносить жизнь? И как перенес бы теперь смерть?»149
Под «теперь» он имеет в виду - перед лицом такого вот последнего
преображения крайней смертельной опасности в высочайшую волю
* Порочный круг Бога (лат.), Бог как порочный круг.
85
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
к жизни. Затем он покидает остров, чтобы снова одиноко жить с
чистым небом и открытым морем, которые в смене дня и ночи,
приливов и отливов являют картину вечного возвращения150.
Тень странника, поздняя пора и самый тихий час - все они
говорят ему, что настал крайний срок, а именно для свершения
нигилизма. Ветер, который раньше распахнул врата замка смерти, чтобы
швырнуть в Заратустру гроб, теперь дует в замочную скважину и
говорит: «Иди!» Дверь лукаво распахивалась передо мною и говорила:
«Уходи!», а именно в жизнь151. И на этот раз прошлое разбивает свои
гробницы, чтобы возродиться от смерти к жизни. Теперь-то и
настало время для этого последнего преображения. «Но я - не слушал,
пока наконец не зашевелилась моя бездна и моя мысль не укусила
меня»152, в то время как прежде Заратустра был укушен ею в облике
гадюки, впившейся ему в спину, а пастух, еще человек, откусил той
же мысли голову, чтобы не задохнуться от нее. Доселе Заратустра
нес наверх свою мысль лишь как бремя существования, теперь же он
впервые хочет вызвать ее наружу, и притом как раз эту тянущую вниз
мысль о бессмысленной скуке существования, изнанкой которой
является долгий срок* вечного возвращения. Для этого, для
последнего «озорства-сверхмужества», он должен еще преодолеть самого
себя. Решающий час его великого полудня еще не настал; временная
умиротворенность в неопределенности, «блаженство против воли»,
еще задерживает добровольное решение, благодаря которому
исцеляется болезнь по имени человек.
Единство пропасти и вершины выявляется «перед восходом
солнца» в световой бездне неба. Она есть «свет» для «огня» Заратустры от
пепла, несомого в гору, и «сестринская душа» его двойного
прозрения относительно «напрасно» и «ну что ж!», этих лозунгов нигилизма
и вечного возвращения. «Броситься в твою высоту - вот моя глубина!
Укрыться в твоей чистоте - вот моя невинность! »153 Но для этого
собственная воля должна уметь влетать в невинность неба, задор и
нечаянность, чтобы, подобно ему, стать для каждой вещи ее
собственным небом, «круглым куполом», «лазурным колоколом» и «вечной
уверенностью». Для этого и боролся Заратустра, который слишком
часто принуждал себя154, боролся, чтобы освободить себе руки для
благословляющего «да и аминь» всему, что есть, что уже было и что
будет снова. Этой свободы хочет последняя, сверхчеловеческая
«солнечная воля» Заратустры. Но не всему позволено получить слово
«перед наступлением дня», и теперь, после восхода солнца, еще не
* Игра слов: Langewale (скука) - lange Wale (долгий срок).
86
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
наступил день в смысле великого полудня. - Заратустра в открытом
море и при виде неба позабыл о человеке и нынче хочет испытать
на себе то, что между тем произошло с ним, человеком. А тот
становится все ближе к последнему, опустившемуся человеку, но тем
самым одновременно возвещает о близости великого полудня
человека, превзошедшего самого себя. Заратустра, сидя перед «наполовину
написанными» скрижалями нового закона, еще ждет исцеления
посредством воли, для которой необходимость есть сама свобода, а
всякое время - блаженная насмешка над вечными мгновениями155.
Готов челн смерти, на котором можно переправиться в великое Ничто,
- но, «быть может», и в великое Бытие великого полудня156.
«Последняя воля»157 Заратустры наконец готова выздороветь от ничто для
бытия. Он вызывает на свет дня свою самую бездонную мысль, тем
самым становясь заступником круговращающейся жизни, в которой
наслаждение и страдание - одно и то же, хотя само себя на всю
вечность все снова хочет только наслаждение.
Но и сейчас контакт с собственной мыслью все еще колеблется
у него между приближением и отступлением. Когда Заратустра
приветствует ее, она, как и после самого тихого часа, падает, словно
мертвая, больная собственным выздоровлением. После этого
Заратустра предстает как Заратустра-Дионис, в ином свете, чем «Цезарь».
Решающее мгновение увековечено. В это мгновение у него
рождается знание о вечном возвращении как истине нигилизма. То и другое
означает: все бесцельно, все бессмысленно. Его животные
возвещают ему истину возвращения:
Все идет, все возвращается; вечно вращается колесо бытия. Все умирает,
все вновь расцветает, вечно бежит год бытия.
Все погибает, все вновь складывается; вечно строится тот же дом бытия.
Все разлучается, все снова друг друга приветствует; вечно остается
верным себе кольцо бытия.
В каждый миг начинается бытие; вокруг каждого Здесь шаром катится
Там. Центр повсюду. Кривая - путь вечности158.
Животные Заратустры раньше него самого знают, кто он и кем
должен стать, - учителем вечного возвращения вечно
обновляющейся жизни, ведь и сами они - природные и периодические живые
сущие. Они «выносят» эту мысль, соответствующую их природе, а вот
для человека она поначалу невыносима. Тем, что есть животное от
рождения, человек может стать лишь через новое рождение, через
преодоление себя самого, благодаря чему сближаются «мудрец» и
87
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
«животное», вызывая к жизни новый тип, осознающий себя
ответственным за все живое. Но поскольку человек не является ни
совершенным, подобно мудрому, ни неповрежденным, подобно
животному, необходимость учить вечному возвращению означает для Зара-
тустры «величайшую опасность и болезнь», от которой он обязан
исцелиться. Поэтому о ней ему впервые возвещают его животные
- в речи, посвященной «выздоравливающему».
Но Заратустра отнюдь не возрождается от этого к какой-то новой
жизни в христианском духе иной, лучшей жизни, - он возрождается
к той же самой жизни, «с ее высотами и низинами», ведь и
«маленький» человек вечно возвращается, а равным образом возвращается
час великого полудня и свершающееся в этот час возвещение:
...чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей,
- чтобы повторять слово о великом полудне земли и человека, чтобы
опять возвещать людям о сверхчеловеке.
Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово: так хочет мой вечный
жребий, - как провозвестник, погибаю я!
Час настал, когда умирающий благословляет самого себя. Так -
кончается закат Заратустры,159
который начался с того, что он спустился со своей горы к людям,
дабы учить их сверхчеловеку, способному хотеть вечного
возвращения благодаря самопреодолению.
Теперь он может сказать Сегодня так же, как Некогда и Прежде, и
сплясать свой танец над всеми Здесь, Тут и Там. Его
преобразившийся дух теперь говорит нет, как буря, и да, как говорит да чистое небо;
тихо, как свет, он проходит сквозь отрицающие бури, и то, что
обещал восход солнца и что возвещает уже Предисловие [Заратустры],
исполняется и свершается в полдень и вечность. Его тоска
растворяется в блаженстве будущих дионисийских песен. И с предельной
философской безмятежностью бывший челн смерти теперь
выходит, паря, в тихое море - как послушно несомый морем бытия челн
божественного виноградаря Диониса, срезающего алмазным ножом
созревшие гроздья160. Лишь теперь, во взгляде на вечное
возвращение того же, открывается истина единойжизни. Песня о Да и Аминь
и дважды возвращающаяся песня о вечности логично завершают
третью и четвертую часть «Заратустры». В его дальнейшем
движении представлено спасение других людей, «высших» в качестве
отчаявшихся и презирающих себя. Все они преображаются на
празднике осла, где всегда одно и то же И-А осла пародирует дионисийское
88
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Да бытию в целом*. Но это еще не ученики Заратустры, а лишь
временные люди великого отвращения и потому великой тоски,
«последний остаток Бога», как говорится в тексте в виде намека на
ветхозаветное понятие богоизбранного народа161. Все они еще
страдают от самих себя, но не от человечности как таковой в принципе.
Три превращения одного духа, с которых Заратустра начинает свою
речь, антихристиански завершаются учением о вечном
возвращении того же в полном временном цикле. Учение Заратустры дает
слабым «ты должен», сильным - «я хочу», а тем, что освободились
даже от хотения, возвращает «да и аминь» простой необходимости
такого-а-не-другого-бытия, этого высшего светила бытия162. Под
«щитом неизбежности» случайность собственного существования снова
чувствует себя как дома в целокупности бытия. Тем самым Ницше
- будто бы - открывает «новые возможности жизни», ради которых
он уже вначале повторил философию досократиков, чтобы в конце,
на апогее антихристианской современности, обновить античный
взгляд на мир.
Но как можно снова хотеть необходимости простого такого-а-
не-другого-бытия свободой воли, возникшей из христианского
понимания существования, пусть даже путем хотения долга, которое,
будучи двойственной волей, отрицает и то, и другое? В этой
двойственной воле, сопротивляющейся самой себе, заключается вся
проблема творящего хотения вечного возвращения того же163. О решении
этой проблемы речь идет в главе «Об избавлении» «Заратустры».
То, чего хочет «последняя воля» Ницше, - это не только его
собственная судьба, но сама судьба как рок - «судьбою стоя на своей
судьбе»164. Если бы человеческая воля - а человек есть «воля», с тех пор
как никакой бог больше не приказывает ему, что он «должен», -
ограничивалась тем, чтобы в качестве «созидающей» воли к власти делать
собственное дело, то истинное учение о воле и о свободе гласило
бы: «Воля освобождает: ибо волить значит созидать»165. Но разве
всякое человеческое воление не связано с какой-то конкретной целью,
которая прямо отрицает это новое учение? Или человеческая воля
к созиданию чего-то конкретного - то же, что естественная творческая
способность, которая все снова и без всякой конкретной цели
созидает, играючи от природы, потому что она такова, какова есть, и не
может быть иной? Или творящая будущее воля человека способна
творчески «пересоздавать» саму себя? Конечно, созидание - это
«великое избавление от страдания и облегчение жизни». Но «чтобы
* I-A (рев осла) -ja (да) {нем.).
89
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
быть созидающим, нужны страдания и многие превращения»166, из
которых самое трудное и последнее - превращение в созидающего
в игре ребенка: для ребенка становится легким все то, что было
трудным для мужской воли. Если бы воля была лишь освободителем,
созидающим в сфере возможного будущего и пересоздающим то, что
выпадает ему на долю, в то, что ему необходимо, то «необходимость»
воли состояла бы только в «избегании бед»ш, но не в
благословляющем Да высшему светилу бытия, являющемуся вечным,
неотвратимым роком, который приходит сам по себе168. Это свое собственное
Да, сказанное в адрес «Да бытия», - «все, что есть, само говорит Да»,
- имеет смысл не утверждающего воления чего-то, ради чего оно
волит, а смысл «Да и аминь», которое «хочет» не более и не менее,
чем простого и больше не обусловленного ничем иным
подтверждения необходимости собственного существования в целокупности
сущего от природы, недостижимого для всякого взаимно
обусловленного «нуда, хотя нет». Простая необходимостьтакого-а-не-иного-
бытия превосходит любое вынужденное к чему-либо бытие.
Но все-таки как неумолимая «солнечная воля» Заратустры,
направленная на фатум, влетает в дерзновение, невинность и
«нечаянность» неба, чтобы вернуть всем вещам «древнейшую аристократию
мира»169, если не благодаря более чем просто отважной свободе
воления, которая еще раз преображает первое освобождение от «ты
должен» к «я хочу» и пересоздает в творческую игру космического
ребенка, «хотящего» лишь на первый взгляд?
Чтобы сам созидающий стал ребенком, стал новорожденным, для этого
он должен желать быть роженицей и болью роженицы170.
Но как взрослая воля освободившегося ума способна
переродиться к существованию ребенка на лоне сущего, если она не будет хотеть
назад, к тому, что уже было и не может быть иным? Поэтому
проблема временных измерений в волении вечного возвращения как
избавления себя от мании «иначе», «нет» и «ничто» есть избавление от
прошлого, от всякого «былого»,
Заратустра видит все прошлое как брошенное на произвол, причем
брошенное двояким образом. Одни принижают его до роли
подготовительных знамений своего захиревшего «сегодня», для других прошлое
прекращается вместе с дедом. Те и другие не избавлены от прошлого.
В том мое сострадание всему прошлому, что я вижу: оно отдано на
произвол, -
90
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
- отдано на произвол милости, духа и безумия каждого из поколений,
которое приходит и все, что было, толкует как мост для себя!
Вполне мог бы прийти великий тиран, хитроумный изверг, который
своей милостью и своей немилостью стал бы принуждать и принудил
бы все прошлое - пока оно не стало бы для него мостом, знамением,
герольдом и криком петуха.
Но вот другая опасность и мое другое сострадание: память тех, кто из
черни, не идет дальше деда, - и с дедом кончается время.
И так все прошлое отдано на произвол: ибо может некогда случиться,
что чернь станет господином, и всякое время утонет в мелкой воде171.
Но брошено на произвол и не спасено прошлое бывает и когда
воспринимается как уже произошедшее один раз и навсегда, как
такое, которое уже нельзя волить. Если бы человеческое существование
воспринимало свою «свершенность раз и навсегда» как
бессмысленную случайность в рамках сущего в целом, то его фактичность
оставалась бы «фрагментом» и «загадкой». «Как вынес бы я быть
человеком, если бы человек не был также поэтом, отгадчиком загадок и
избавителем от случая!», а именно от случая, каким является
конкретное существование вообще, поскольку оно всегда уже состоялось и
существует прежде, чем захочет себя.
Спасти минувших и преобразовать всякое «было» в «так хотел я» - лишь
это я назвал бы избавлением!
Воля - так называется освободитель и вестник радости; так учил я вас,
друзья мои! А теперь научитесь еще вот чему: сама воля еще пленница.
Волить - это освобождает, но как называется то, что и освободителя
заковывает в цепи?
«Это было» - так называется скрежет зубовный и сокровенная печаль
воли. Бессильная против того, что сделано, она - злобная зрительница
всего прошлого.
Вспять не может волить воля; не может она победить время и
стремление времени, - в этом сокровенная печаль воли.
Волить - освобождает; чего только не придумывает сама воля, чтобы
освободиться от печали и посмеяться над своей тюрьмой?
Ах, безумцем становится каждый пленник! Безумством освобождает себя
и плененная воля.
Время не бежит назад - в этом досада ее; «то, что было» - так
называется камень, который не может покатить она.
И вот катит она камни от досады и гнева и мстит тому, кто не чувствует,
подобно ей, гнева и досады.
91
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Так стала воля, освободительница, причинять страдание: и на всем, что
может страдать, вымещает она, что не может повернуть вспять.
Это, и только это, есть само мщение, обращение воли против времени
и его «было»172.
Здесь в связи с конкретным существованием вообще и его
принципиальным значением для всякого воления становится видно то,
что Ницше психологически выявил в моральном смысле как «рес-
сентимент» и «восстание рабов в морали». Бессильное мщение
тому, что было, уже совершенному деянию, за невозможность волить
вспять, превращает существование в вину и кару, в «наказание по
имени существование». Мстительная воля ищет вины, а это значит,
чего-то виновного в том, что нечто конкретное всегда уже является
сбывшимся и никак не иным. Она наказывает существование,
пользуясь мнимым правом, когда путем наказания мстит за то, что всякое
человеческое воление, а человек по своей сущности есть воля,
наталкивается на неприступную границу и неустранимый камень
преткновения в виде всего недобровольного для себя, обремененного
долгом и обусловленного. Это мщение называет себя «карой» с
оглядкой на собственное желание найти виновного. Но если когда-нибудь
раз и навсегда будет признано, что никто - в том числе и волящий
бог как causa prima мира - не виноват в том, что кто-то вообще
существует, и притом таким, каков он есть, то существованию будет
возвращена его естественная невинность в целокупности живого
бытия, которую оно потеряло благодаря духу мщения.
Противоположности вины и невинности соответствует противоположность
мщения и «благословения», или отвращения, воли к
сопротивлению, и «amorfati». Мстительное отвращение преобразится в
«добрую волю» того кольца, которое (в последнем афоризме «Воли к
власти»173) есть вращающийся и вперед, и назад круг волящего себя
мира. «Борение» человеческой воли, то есть некоторое
самопринуждение, преобразится в свободное благословение тому совсем
другому «кольцу»**, которое являет собой вечное возвращение всего
сущего. Но покуда борющаяся и принуждающая воля расположена
только к будущему и потому противится всему, что уже лишено воли,
волящее существование все снова становится виной и карой для
себя. Существование вечно все снова становится для себя
«преступлением и виной» именно потому, что оно само не виновато в факте
* Первопричина (лат.).
** Игра слов: «das Ringen» (борение) - «Ring» (кольцо).
92
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
собственного присутствия в мире, но в качестве существующей воли
хочет быть виновато в этом, но не может быть в этом виновато174.
Поэтому воля как отвращение к бремени постоянно выпадающего
ему на долю существования наваливает «камень на камень» и
«накатывается туча за тучей на дух - пока наконец безумие не стало
проповедовать: "Все преходит, и потому все достойно прейти!"»175. Это
означает: негодование по поводу прошедшего времени уже
фактически свершившегося деяния обесценивает его до качества
бренности - пусть даже «воля наконец спасла себя», как в метафизике
Шопенгауэра, и «воление стало не-волением». В противовес этому
созидающая воля Заратустры говорит камню, этому бремени
тщетно набрасывающего себя существования: «Но так хотела я!»176 и
снова хочу этого на всю вечность! Когда же она так уже говорила? И
когда бывает, что созидающая воля к будущему заступается и за то,
что существует уже и без нее? И кто научил ее волить вспять, вместо
того чтобы не-волить, и приносить радость, вместо того чтобы
причинять боль? На эти вопросы отвечает Заратустра как учитель
вечного возвращения. Ведь в волении вечно возвращающегося
круговращения времени и бытия волящая этого воля из прямолинейного
движения и сама становится кругом, волящим вперед и назад,
кругом, движение которого не открыто в будущее, как движение воли,
полагающей цели и смыслы, а замкнуто в себе, и потому во всем, что
она поволила, хочет исключительно самое себя, всегда одного и
того же и неизменно всего в целом. В этом временном целом кольца,
которое не принуждает в борении, а все снова свободно волит себя,
находит свое разрешение загадка феномена «человек». Заратустра
учит не тому и сему, а Одному, которое только и нужно*. Но что
может быть нужнее для «осколка» и «случайности» по имени человек,
чем восполнение и встраивание в необходимую целокупность
бытия? Заратустра ищет и находит путь, на котором человек должен
встроиться в высочайшую необходимость всего сущего благодаря
избеганию бед. Это обращение и возвращение человеческой воли
и ее произвола в необходимое целое природного бытия, однако,
трудно дается европейцам Нового времени в той самой мере, в какой
они избавились и освободились от «путей неба» и земли, а потому
и бесспорная основа восточной мудрости177 становится для них
проблемой, решение которой требует крутого разворота воли. Волящая
* Автор явно обыгрывает евангельский текст: « ...Иисус же сказал ей в ответ:
Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно»
(Лк 10, 41-42).
93
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
будущее воля сверхчеловеческого Заратустры должна развернуться
против себя самой, чтобы волить вечное возвращение. Ницше
называет эту обращенную волю, всегда еще стремящуюся к тому, к
чему всегда уже должна стремиться, «amorfati», в котором целокупность
времени и бытия сливается воедино в уже некогда бывшем будущем
все еще становящегося бытия178.
Лишь в любви к року свершается и созидающая воля, которая
созидает свою собственную судьбу из всего, что выпадает на ее долю
в виде чего-то иного, чем она сама. Ведь если воля «варит в
собственном горшке» каждую случайность, чтобы приветствовать его как
свою пищу179, то это, правда, делает чуждый случай собственной
судьбой, но не делает ее роком180. Воля, которая «для достижения
высшей силы» хочет как раз рока вечного возвращения181, в лице своей
временной судьбы приветствует вечный рок, а то, что выпадает на
ее долю, - вовсе не первый попавшийся случай, но органическая
составная часть мирового целого. Необходимой в высшем смысле
фатальности выпавшая судьба собственного существования будет,
лишь когда она добровольно встроится в фатальность всего сущего.
«Душа» Заратустры - это «высший род» всего сущего, поскольку в ней
отражается лишь то, что является высшим законом и сущностью мира.
Она-
душа с самой длинной лестницей, способная опуститься очень низко...,
- душа самая обширная, которая дальше всех может бегать, блуждать и
метаться в себе самой; самая необходимая, которая ради удовольствия
бросается в случайность, -
- душа сущая, которая погружается в становление; имущая, которая хочет
волить и желать, -
- убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая; душа
самая мудрая, которую слаще всего уговаривает глупость, -
- наиболее себя любящая, в которой все вещи находят свое течение и
свое противотечение, свой прилив и отлив...182
- она есть вечное Да в адрес бытия183, - но «это понятие самого
дионисийского», и его формула гласит не: воля к судьбе vi еще менее
того: воля к власти, a «amorfati»™*. «Любить» безусловную или
фатальную необходимость - уже не воление, а - если судить с его точки
зрения - больше не волящая добровольность, в которой воление как
таковое упразднено. В этом Ницше сходится с позицией Шеллинга,
гласящей, что в величайшей сумятице и энергии жизни подлинной
целью все же всегда является состояние, в котором воля больше не
94
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
волит. Ведь покуда она еще что-то волит, она непроизвольно гонит
перед собой то, что поволила, как бы в постоянном бегстве, и
потому человек как раз своим волением уничтожает то, что поволил,
и не может достичь свободы, которой является185. «Чистая
искренность», символом которой и у Шеллинга выступает ребенок, больше
не может быть целью воления, а может быть только происшествием
и автоматически происходящей трансформацией.
Случайность конкретного существования, отнявшую невинность
у веры в волевое, целесообразное творение бытия из ничто,
«спасено» в amorfati, ведь Заратустра-Дионис как раз в случайности
осмысляет то, что в рамках целого все таково, каким и должно быть.
И когда в «Се человек» Ницше изображает как высочайшую
необходимость, что - будто бы совершенно случайно - совпало для него
в жизни, а именно: совпадение даты своего рождения с датой
рождения короля Фридриха Вильгельма IV, его первых философских
поисков с находкой книги Шопенгауэра, завершения первой
части «Заратустры» - со смертным часом Вагнера, важнейших наитий
будущих книг - с определенными местами пребывания, и множество
иных «тонких совпадений», то и тут он действует не иначе, чем
«сводя воедино» то, что является фрагментом, загадкой и жестокой
случайностью до тех пор, пока загадка случайности конкретного
существования еще не имеет «лица» высочайшей необходимости. Но эта
необходимость не исключает, а предполагает, что сущее в целом, или
«мир», есть «нечаянность» и потому «древнейшая аристократия».
Но отчего речь Заратустры об избавлении воления внезапно
испуганно прерывается на решающем вопросе о возможности волить
вспять и почему он говорит со своими учениками иначе, чем с самим
собой? Как раз потому, что накануне его самого тихого часа еще не
решено, так или иначе он будет спасать себя - для «привилегии
существования»186 или же от «кары» существования. Переоценка
«кары» в «привилегию» и «мщения» в «благословение» предполагает
принципиальную и всеобъемлющую переоценку, состоящую в том,
что врожденный нигилизм чистого воления превращается в любовь
к року вечного возвращения. Если все вещи изначально крещены в
«источнике вечности»187 и под высочайшим светилом бытия, то
тогда и добро со злом - лишь «мелькающие тени» на фоне светлой
бездны неба, стоящего над каждой вещью как ее собственное, а «цель»
и «вина», смысл и назначение существования испаряются в
невинности свободного от цели целого. Истинны ли добро и зло вообще,
являются ли они неприкровенным свойством бытия, это в первую
и последнюю очередь решается совокупным характером бытия.
95
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Есть старое безумие, оно называется добро и зло. Вокруг прорицателей
и звездочетов вращалось до сих пор колесо этого безумия.
Некогда верили в прорицателей и звездочетов; и потому верили: «Всё -
судьба: ты должен, ибо так надо!»
Затем перестали доверять всем прорицателям и звездочетам; и потому
верили: «Всё - свобода: ты можешь, ибо ты хочешь!»
О братья мои, о звездах и о будущем до сих пор только грезили, но не
знали их; и потому о добре и зле до сих пор только грезили, но не знали их!188
Собственное учение Ницше, которое тоже является
«пророчеством» в отношении сущего в его целом, не доверяет старым,
считавшим, что все есть судьба, но не меньше и новым, говорящим, что все
есть свобода. Ведь истинное знание о том, что есть, - это понимание
изначального единства воления последних и долженствования
первых, так же как случая и необходимости. Что свобода, может быть,
лишь «высшая потенция фатума», Ницше имел в виду еще в
школьном сочинении «Фатум и история» (1862)189. Но как можно при
современной свободе воления чего угодно снова вернуться к волению,
основанному на древнем доверии к тому, что быть должно и не
может быть иным, - вернуться, чтобы необходимость некогда
предначертанного на звездах фатума преобразилась в собственную судьбу
благодаря вомпию долженствования190, и наконец появилась
возможность сказать: «ego - fatum»*, «я сам - фатум и целую вечность
определяю существование»191 «я сам принадлежу к первопричинам
вечного возвращения»? Не должно ли для этого новое пророчество само
быть единством пророчества со звезд неба и пророчества об истине
ничто, каковое есть последний итог свободы собственной мочи? И,
стало быть, целое, которое такое пророчество выражает, будет
неким «небесным ничто»192? И не соответствует ли этому скрещиванию
двойной путь, по которому двойная воля идет к своей двойственной
истине, а именно решимость и инспирация} Решение воли, которое
на крайнем пределе своей свободы предпочитает уж лучше хотеть
ничто, чем ничего не хотеть, и инспирация, в которой высшее
светило бытия передает себя тому, что приняло такое решение, - оба
вместе образуют проблематичный подход к двойственной ницшев-
ской истине, в качестве учения о самопреодолении нигилизма
являющей собою «credo quia absurdum»**, сказанное самому себе.
* Я - фатум (лат.).
** Верую, ибо это нелепо (лат.) - высказывание, приписываемое Тертуллиану
на основании близких по смыслу слов из его трактата «О плоти Христовой».
96
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Да ведь исстари не было ничего, что производило на немецкую душу
более глубокое впечатление, что вводило ее в большее «искушение»,
чем это опаснейшее из всех заключение, которое для любого
истинного латинянина есть грех против ума: credo quia absurdum est-с этим
заключением немецкая логика впервые вступает в историю христианской
догмы - но даже сегодня, тысячелетие спустя, мы, нынешние немцы,
немцы поздние во всех отношениях, чуем за прославленным реаль-диа-
лектическим осново-положением, которым Гегель в свое время помог
немецкому духу воцариться в Европе - «Миром движет противоречие,
и все вещи противоречат сами себе», - нечто истинное, возможность
истины: ведь мы пессимисты, даже в самой логике. (...) Быть может,
немецкому пессимизму еще только предстоит сделать последний свой
шаг? Быть может, ему снова каким-то ужасающим образом придется
соединить свое credo и свое absurdum?19*
Если даже эти положения непосредственно и относятся лишь
к самопреодолению морали, то они все равно уже означают
самопреодоление нигилизма, которое и есть их настоящая проблема, а
заодно то, о чем знал Ницше - что сегодня, в сущности, ничего
другого и не мыслят там, где вообще еще мыслят.
Вера в продуктивную силу противоречия характеризует, однако,
не только формальную диалектику Гегеля и конструкцию мироздания
Шеллинга, но и ницшевское обращение нигилизма в воление вечного
возвращения. Та же вера в абсурдное лежит в основании Къеркегорова
парадоксального прыжка из болезни-к-смерти в христианскую веру,
а также Марксовой теории кризисов, согласно которой лишь на
критическом апогее крайнего самоотчуждения может последовать
внезапный переход в новое полное единение с собой. Все они живы
диалектикой греха и благодати из посланий апостола Павла, даже
если ведут себя антихристиански.
§ $. Двойное уравнение притчи о вечном возвращении
В основании метафизических притязаний, свойственных речам
Заратустры, лежит сверхчеловеческое уравнение философа Ницше
с Dionysos philosophos. И если звучит невероятно, что радикальный
«искуситель» 19-го столетия - это сценическая persona греческого
бога, то и божественная маска Ницше есть человеческая «личина»,
которая спадает, и оказывается, что «впереди хоровода» шествует
«жестокая необходимость», а не вечный фатум. Тогда притча - это
97
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
тем меньше непроизвольное откровение голой истины, что она
скорее скрывает истину в ее обнаженности.
В качестве самопреодоления нигилизма учение о кольце колец
обладает двойным ликом - существования, решившегося на ничто,
и мира уничтожения и созидания, волящего себя самого. Благодаря
всегда новому волению этого внутренне удвоенного мира
существование человека освобождается от собственного нигилизма и вновь
обретает свой утраченный мир: насущнейшая нужда обращается в
«необходимость». Содержащаяся тут проблематика
«преодолевающего и преодоленного» становится явнойтги, где Ницше пытается
разложить свою сплоченную воедино притчу. Как только его покидает
способность к сплачиванию притчи, целое распадается на две
противоречащих друг другу части, удерживаемые вместе лишь разладом.
Ведь тенденция к увековечиванию улетучившегося существования
не укладывается в орбиту вечного круговращения мира природы -
пусть даже находящаяся во времени воля ставшего эксцентричным
человеческого существования сверхчеловечески влетит в небеса до-
коперниканского мира, чтобы участвовать во всеобщем кружении
посреди бытия.
Поэтому притчу о вечном возвращении можно уподобить чему-то
двойственному: с одной стороны, некоему «этическому центру
тяжести», благодаря которому ставшее бесцельным человеческое
существование снова получает цель за своими собственными
пределами, а с другой - естественнонаучному «факту» в бесцельной
самодостаточности мира сил. В соответствии с этим представляется и
учение: во-первых, как определение некоей идеальной цели для
волящего человека - и тогда оно заменяет христианскую веру в
бессмертие волей к самоувековечиванию, а, во-вторых, как установление
физического факта в невольной строгой определенности
физического мира - и тогда оно заменяет античную космологию
современной физикой. Возможность такого двойственного истолкования -
как атеистической религии vi как физической метафизики -показывает,
что это учение как целое есть единство в разладе, разладе между
нигилистическим существованием обезбожившегося человека и позити-
вистским наличием физической энергии. Правда, как
естествоиспытатель Ницше - философствующий дилетант, а как основатель
религии - «помесь болезни и воли к власти»194.
В соответствии с двойным уравнением, на части которого
распадается притча, дионисийское равенство «равномощного» в любых
изменениях и «равно-блаженного» разрешается в нигилистическое
«всё равно» существования, отчужденного от мира, и в позитивист-
98
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
скоебезразличие отчужденного от человека мира. Первое,
существование, ставшее шатким и бесцельным, и последнее, мир, ставший
непостижимым и бессмысленным, сходятся воедино в волении
вечного возвращения, космическое круговращение которого
безразлично ко всякому человеческому волению.
Антропологическое уравнение
Современного человека Ницше в целом характеризует тем, что
он представляет собой нечто такое, «что ни на что не решается»,
поскольку у него больше нет цели, на которую он мог бы
ориентировать свою жизнь. Поэтому учение о вечном возвращении хочет
быть «проектом нового способа жить». Мы - «наследники и
расточители тысячелетий», но без определенной воли к будущему, без
нового направления и цели. Все предшествующие скрижали ценностей
уничтожены, поскольку наши ценности и цели происходят из самых
разных прейскурантов истории человечества, они ослабляют и
уничтожают друг друга. Современность больна тем, что больше не может
сказать ни да, ни нет, что не знает, куда деваться со своей смелостью.
«В воздухе запахло грозой, природа, - а это мы сами, - покрылась
тьмою - ибо не было у нас пути. Формула нашего счастья: Да, Нет,
прямая линия, цель»195 -то есть отнюдь не периодически бегущее вспять,
бесцельное кружение. Подобное «новое ради чего» не дается само
собой, оно всегда возникает, лишь когда человек задает его себе. «Все
цели уничтожены. Люди должны даш>себе какую-нибудь цель.
Заблуждение думать, будто она у них была одна: они дали себе все сразу. Но
предпосылки всех прежних целей уничтожены.»196 Этой позиции
современности Ницше противопоставляет «мысль» о вечном
возвращении.
Мои новшества. -Дальнейшее развитие пессимизма (...)
1. Моя устремленность противупгдкз. и нарастающей слабости личности.
Я искал новый центр.
2. Я понял невозможность этой устремленности.
3. После этого я пошел дальше по пути разложения - и нашел там новые
источники силы для отдельного человека. Мы должны быть разрушителями!- Я
понял, что состояние разложения, в котором отдельные существа могут
достичь небывалого совершенства, - есть отражение и отдельный случай
всеобщего существования. (...) Парализующему ощущению всеобщего
разложения и несовершенства я противопоставил вечное возвращение.191
99
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Она должна дать человечеству новую цель, выходящую за
пределы нынешней человеческой природы, но не в потусторонний «иной
мир», а к собственному своему продолжению. Человек как таковой
должен подняться над самим собой, это и есть человеческий смысл
«сверхчеловека», исходя из которого Ницше учит о вечном
возвращении, так же как и о «новом полагании ценностей» на пути воли к
власти. На этом пути человек станет «властителем земли» и
законодателем будущего в новом мире людей, упорядоченном по рангу и
власти. «Кто должен быть властителем земли? Это рефреп моей
практической философии.»198 «Глубокую бесплодность 19-го столетия» Ницше
видит в том, что никогда не встречал человека, который и впрямь
привнес бы новый «идеал». Он сравнивает нашу эпоху с
александрийской культурой, погибшей, потому что «всеми своими полезными
открытиями... все-таки не сумела придать этому миру и этой жизни
последнюю важность». Этим упадком человеческой природы надо
руководить так, «чтобы он дал какой-нибудь результат». Все это
образует человечески-исторический*, антропологический смысл учения
о вечном возвращении как высшего «этического центра тяжести» в
утратившей цель воле ставшего «мимолетным» существования. Оно
должно поразить современность «самым весомым акцентом», а
именно ответственностьюза будущее, но не снимать с существования
бремя как раз через «позитивно понятую безответственность», чтобы
сохранить невинность существования. С тех пор как начала слабеть
религиозная вера, следует задаваться вопросом: «Как придать вес
внутренней жизни?» И учение о вечном возвращении, будучи
«тяжелой» и «суровой» мыслью, должно заново утяжелить
человеческое существование, дав ему категорический императив: проживай
каждое мгновение так, чтобы всегда можно было захотеть пережить
его снова. Оно, задавая человеку новую цель, стремится
преобразовать его аффекты, отталкиваясь от нашего образа человека: его
образец - Заратустра, поскольку он есть высочайший тип
повелевающего собой, высокоблагородного человека. В нем представлен
уже предначертанный образ «возвышения человека»; ведь человек,
поднявшийся над собой, однажды уже был: в античности и ее
возрождении. В современном мире Наполеон и Гёте - такие более чем
«гуманные» люди199.
Как противовес «современности» упадочного христианства мысль
о вечном возвращении, стало быть, есть мысль, помысленная
исторически, и в соответствии со своей нацеленностью направлена на
* Автор, вероятно, имеет тут в виду историю как историю человеческого вида.
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
будущее европейского человека. Она выходит на сцену, когда всей
Европе и каждому отдельному человеку надо решать, устремляться
ли к вниз, к последнему человеку, или вверх, к преодолению
человека. Учение о вечном возвращении дает волю скрытому нигилизму,
следующему из смерти Бога. «Всех и никого», т. е. каждого в
отдельности, оно ставит перед необходимостью выбора, «"желает" ли его
воля гибели»200, хочет ли европейский человек вообще существовать.
В качестве такого выбора оно разрешает неразрешимую
двусмысленность в существовании современности.
Это учение, следовательно, вообще не является учением о чем-то
таком, что с простой необходимостью говорит об абсолютно
определенном смысле, нет, оно предназначено, чтобы учить с «тенденцией»
-творить новые горизонты новой целью, в соответствии с
принципиально экспериментальным характером философии Ницше. Оно -
«молот» ваятеля в руке самого могущественного человека, самого
могущественного потому, что он преодолел в себе самом волю к
ничто. А то, на что оно нацелено как «философия молота», -
увековечивание этого существования в противовес его улетучиванию в рамках
технико-функциональному существованию. Оно стремится поднять
это конечное существование до вечного «значения». «Тот император
постоянно напоминал себе о бренности всех вещей, чтобы не
относиться к ним слишком серьезно и сохранять среди них покой. Мне
же, наоборот, кажется, что все слишком ценно, чтобы быть настолько
мимолетным: я ищу вечности для всего...»201 Учение естьто, что оно
может «означать» для человека, ведь то, чему оно учит, - это вообще
не теоретическая истина, а практический постулат. «Задача - жить
так, чтобы ты был обязан желать прожить жизнь заново.»202 Значит,
возвращение - вовсе не событие, предстоящее в будущем, но оно - и
не постоянное возвращение того же самого, а воля к новому рождению,
к «vita nuova»**; ибо «наша задача подступает к нам в каждое
мгновение», и нужно «посягать» на увековечивание этого существования.
Эта жизнь «обязана» быть твоей вечной жизнью. «Если бы мы могли
вынести нагие бессмертие - это было бы для нас высшим. »203 В
соответствии с этим ближайшим следствием учения должно быть: «эрзац
веры в бессмертие»204:.
Мысль о вечном возвращении, если человек может ее вынести,
приумножает в нем добрую волю к жизни, она перекрывает
прежние лазейки, и в потусторонний мир, и в ничто, и в слепую
секуляризацию ставшего для себя беспроблемным человека. С ее помощью
* Новой жизни {urn.).
101
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
должен быть преодолен «абсолютный скепсис», сделавший
открытие: «Нет истины, все позволено», и его обычная практика
разнузданности. В противовес ему следует взвалить на себя бремя - желать
и волить, чтобы все всегда возвращалось в том же самом виде.
Таким образом, учение в целом представляется прежде всего
экспериментом человеческой воли, а в качестве попытки
увековечивания нашей жизни, как она есть, - неким атеистическим
евангелием. «Наложим отпечаток вечности на нашу жизнь! В этой мысли
больше содержания, чем во всех религиях, презирающих эту жизнь
как преходящую и поучавших устремлять свои взоры к некоей
другой, неопределенной жизни.»205 Преобразуя ставшее чуждым «ты
должен» христианской веры в собственное «ты должен», исходящее от
«я так хочу», эта мысль есть самодеятельное законодательство и
религия.
Время вечного возвращения в таком случае - не «вечное сейчас»
бесцельного кружения, где прошлое еще будет, а будущее уже было,
а будущее время цели, освобождающей от бремени прошлого и
возникающее из воли к будущему206. Тогда «вечность» имеет смысл не
вечного возвращения того же самого, а является целью, выбранной
волей к увековечиванию.
На основании воспитательного характера можно было бы на
субъективистский лад понять ницшевское учение как фикцию в том
смысле, что она говорит о «будто бы» объективно данном
возвращении207. Однако это характеризует лишь одну его сторону,
антропологическую, и игнорирует другую, вселенскую, обратную сторону,
которая уже возвестила о себе в афоризмах, близких к приведенным. Там,
где было сказано: «Задача - жить так, чтобы ты был обязан желать
прожить жизнь заново», после тире, которое на самом деле означает
лакуну в цепи мыслей, следует: «ты должен делать это в любом случае!»
С иным ударением, но в том же духе, Ницше пишет 14 марта 1884-го
Овербеку в контексте мысли о вечном возвращении: «Если оно
истинно или, скорее, если в него верить как в истину, то меняется и
поворачивается всё, а все прежние ценности обесценены». Но как
можно верить, желать и волить нечто такое, что в силу
незыблемости своей фатальности исключает всякое воление, желание и веру
и делает их излишними?
"Но если все необходимо, то как я могу распоряжаться своими
поступками?" Мысль и вера - огромный груз, давящий на человека наряду с
другими тягостями и даже более их. Ты говоришь, что пища,
обстановка, атмосфера, общество изменяют и определяют тебя? Но в еще боль-
102
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
шей степени это делают твои мнения, потому что именно они склоняют
тебя к этой пище, обстановке, атмосфере, обществу. - Если ты
проникнешься мыслью мыслей, она изменит тебя. Вопрос, задаваемый самому
себе при каждом поступке, который ты желаешь совершить:
"Действительно ли я хочу делать это бесчисленное множество раз?" - величайшая
из тяжестей208.
В том же духе Ницше говорит:
Посмотрим, какое влияние оказывала до сих пор мысль о том, что нечто
повторяется (например, год или периодические болезни,
бодрствование и сон и т. д.). Если повторение по кругу есть всего лишь вероятность
или возможность, то даже мысль о возможности в силах потрясти и
изменить нас, а не только восприятие или определенные ожидания! Каким
влиянием обладала возможность вечного проклятья!209
То, что даже одна только мысль о возможности может «влиять»,
однако, еще не обозначает различия между реальным возвращением
(например, дня и ночи или бодрствования и сна) и мыслимым лишь
как возможное. А если бы, наоборот, было твердо установлено, что
все непременно возвращается, то требование жить так, как будто...
потеряло бы всякий разумный смысл. Даже ожидание одноразового
будущего события, скажем, Страшного суда, не потрясло и не
изменило бы человека, если бы верующий не был уверен в том, что это
действительно сбудется. Однако ницшевское учение содержит
именно этот несовместимый двойственный смысл -
практически-морального постулата и теоретической констатации, даже в отношении
самого себя: оно учит в смысле некоего требования и одновременно
в смысле знания, которое можно усвоить, знания о том, что все
возвращается в точности таким же: «Сириус, и этот паук, и твои мысли
в этот час, и эта твоя мысль, что все приходит снова»210. Через этот
второй, космологический смысл в сверх-человеческом учении как
целом раскрывается фундаментальная бессмыслица. Ведь если жизнь
человека будет все снова переворачиваться, как песочные часы, а
человеческое существование, включая все мысли, есть лишь кольцо
в великом кольце вечного возвращения всего сущего, - то какой смысл
останется в том, чтобы волить за собственные пределы, чтобы
волить европейское будущее, чтобы вообще что-нибудь «волить»? Это
противоречие становится тем более разительным, что один смысл
Ницше развивает как этический императиву а другой - как
естественнонаучную теорию.
103
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Космологическое уравнение
Естественнонаучный закон о сохранении энергии требует
вечного возвращения21 К В нем должна выражаться победа научного духа
над религиозным, богостроительским. Оно - «самая научная из всех
возможных гипотез», «новая концепция мира», которая гласит:
Мир существует; он - не то, что претерпевает становление и
исчезновение. Или, вернее, он претерпевает становление и исчезновение, но
никогда не начинал претерпевать становление и никогда не прекратит
исчезать - он сохраняется в том и в другом... Он живет самим собою - его
экскременты суть его пища...212
Вместо мыслимого финально progressus или regressus ex inflnito
или in infinitum* она утверждает бесцельное, поскольку не имеющее
ни начала, ни конца, круговращение определенного количества
автоматически сохраняющейся силы. У мира нет ни начала, ни цели,
ведь он не сотворен каким-нибудь капризным богом, который вдруг
создал бытие из ничто, а в каждое мгновение является
одновременно началом и концом, постоянной чередой того же самого.
Следовательно, число состояний, изменений, комбинаций и путей
развития этой силы хоть и необычайно велико и практически «неизмеримо»,
но все равно определенно и не бесконечно. Но время, в которое
вселенная задействует свою силу, бесконечно, т. е. сила вечно одинакова и
вечно деятельна: настоящему мгновенью предшествовала вечность, т. е.
всякое возможное развитие уже должно было иметь место раньше.
Следовательно, нынешнее развитие должно быть повторением чего-то, как и то,
которое его породило, и то, которое последует за ним, и так далее - в
будущем и прошлом! Все уже было бесчисленное количество раз, потому
что совокупное состояние всех сил возвращается снова и снова213.
Это бесцельное возвращение следует понимать не просто как
отсутствие смысла и цели, а позитивно.
Однако старая привычка примысливать всякому событию цели, а миру
- правящего творящего бога столь сильна, что мыслителю трудно вновь
поверить в его, мира, намеренную бесцельность. Во власти этой идеи -
* Продвижения вперед или назад из бесконечности или в бесконечность
(лат.).
104
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
что мир намеренно избегает цели и даже умеет искусно остерегаться
попадания в круговорот - непременно оказываются все те, кто хотел бы
навязать миру способность к вечному обновлению, то есть конечной,
определенной силе неизменной величины, какой является «мир», - чудесную
способность к бесконечному преобразованию его форм и положений. Если
уже не бог, то, по крайней мере, мир должен обладать божественной
созидающей силой, бесконечной силой преобразования; он должен
самопроизвольно избегать возвращения к старым формам; он должен иметь не
только намерение, но и средства для предохранения себя от любого
повторения; тем самым он должен в любое мгновение контролироватькзждое
свое движение, чтобы избегать достижения целей, конечных состояний,
повторов - и всего того, к чему могли бы привести такой
непростительно-безумный образ мыслей и подобные желания. Это все тот же старый
религиозный образ мыслей и все то же желание, своего рода стремление
поверить, что в чем-то мир все-таки равен старому, возлюбленному,
бесконечному, безгранично-созидающему боту, что где-то «еще живет старый
добрый бог», - то самое страстное желание Спинозы, которое
выражено в словах "deus sive natura* * (он даже воспринимал это как "natura sive
deus" **). Но как определеннее всего сформулировать тезис и веру, в
которых точно отразился бы решительный поворот, достигнутый теперь
перевес научного духа над духом религиозным, выдумывающим богов? Не
будет ли он звучать так: мир как силу недопустимо мыслить
безграничным, ибо таким его невозможно мыслить; мы запрещаем себе
пользоваться понятием бесконечной силы, так как это несовместимо с понятием «сила».
Стало быть, мир не обладает и способностью к вечному обновлению214.
Однако эту концепцию мира нельзя «безоговорочно» назвать и
механистической,
...ибо в противном случае из нее выводилось бы не бесконечное
возвращение тождественных случаев, а некое финальное состояние.
Поскольку мир его не достиг, такой механизм должен играть для нас роль
несовершенной и предварительной гипотезы215.
Мир, понимаемый таким образом, как определенное количество
силы и определенное количество центров силы, «в великой игре в
кости своего существования» должен осуществить исчислимое
количество комбинаций.
* Бог, или природа (лат.).
** Природа, или Бог (лат.).
105
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Любая возможная комбинация когда-то в бесконечном времени будет
разыграна; мало того, она будет разыграна бесконечное число раз. А
поскольку между любой «комбинацией» и ее следующим «повторением»
должны быть разыграны все вообще возможные комбинации, а каждая
из этих комбинаций обусловливает собою всю серию комбинаций в
одном ряду, то это докажет круговорот абсолютно тождественных рядов:
<получится> мир как круговорот, который уже повторялся бесконечное
число раз и разыгрывает свою партию in infinitum*216.
Человек неизбежно участвует в этой мировой игре, но не потому,
что прошел третью внутреннюю трансформацию, от «я хочу» к «я
есмь» начинающего все заново ребенка, а потому что человеческое
существование - тоже лишь одно кольцо в великом кольце вечного
возвращения всего сущего.
Человек! Вся твоя жизнь будет беспрестанно переворачиваться и
вытекать, как в песочных часах, а в промежутке - великая Минута времени,
пока все условия, из которых ты возник, вновь не сольются вместе в мировом
круговороте. И тогда ты вновь обретешь каждую боль и удовольствие,
каждого друга и врага, и каждую надежду, и каждое заблуждение, и каждую
травинку и солнечный луч - всю взаимосвязь всех вещей. Этот круг, в
котором ты зернышко, сияет снова и снова. И в каждом круге человеческого
существования всегда наступает час, когда вначале одному, потом
многим, а затем и всем приходит в голову могущественнейшая мысль о
возвращении всех вещей, - для человечества это каждый раз час полудне17.
Это вечное возвращение того же самого, включающее в себя и
наитие мысли о себе, не обладает полнотой смысла и ценности, но
не лишено ни смысла, ни ценности, ведь его ценность в каждое
мгновение «равноценна», или, иначе говоря: у этого становления
...вообще нет никакой ценности, поскольку недостает того, чем эту
ценность измерять и применительно к чему имело бы смысл само слово
«ценность». Совокупную ценность мира нельзя умалить - следовательно,
философский пессимизм относится к разряду явлений комических218.
Вечное возвращение - не подверженный становлению
«изначальный закон», а это значит, что оно уже изначально установлено
определенным количеством силы бытия во вселенной. Даже природные
* До бесконечности {лат.).
106
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
явления периодических круговращений и повторений, например
созвездий и времен года, всегда одинаково повторяющаяся смена
дня и ночи или прилива и отлива, уже скрывают в себе изначальную
сущность закона вечного возвращения, который можно постичь
математическим путем219.
В захватывающем заключительном афоризме «Воли к власти»
физические формулировки, однако, уступают место наглядности
дионисийского взгляда на мир, соответствующего характеристике
«души» Заратустры.
Так знаете ли вы теперь, что есть «мир» для меня? Показать вам его в
моем зеркале? Вот этот мир: исполин силы, без начала и без конца,
прочная, литая громада силы, которая не становится ни больше, ни меньше,
которая не расходуется, не тратится, только превращается, оставаясь
как целое величиной неизменной, хозяйство без расходов и издержек,
но и без прироста, без прихода, замкнутое в «ничто» как в свою
границу, - ничего растекающегося, ничего расточаемого, ничего бесконечно
растяжимого, - но как определенная сила, вложенная в определенное
пространство, притом не в такое пространство, которое где-либо было
бы «пустым», - скорее как сила повсюду, как игра сил и силовых волн,
одновременно единое и многое, здесь вздымаясь и одновременно там
опадая, море струящихся в себе и перетекающих в себя сил, в вечной
метаморфозе, в вечном откате, с неимоверными выплесками
долголетних возвращений, в вечном приливе и отливе своих преображений, из
простейшего возносясь к многообразнейшему, из тишайшего покоя,
холода и застылости - к магме, неистовству, забвению и опровержению
самого себя, а потом снова возвращаясь из этой полноты к простому,
из игры противоречий - к радости согласия, утверждая себя в этом
тождестве своих путей и лет, благословляя себя как то, что вечно должно
возвращаться, как становление, которое не знает пресыщенности,
устали и неохоты; - этот мой дионисийский мир вечного самосотворения,
вечного саморазрушения, этот таинственный мир двойного
вожделения, это мое «по ту сторону добра и зла», без цели, если цель не состоит
в счастье круга, без воли, если только кольцо не обладает доброй волей
к самому себе, - хотите знать имя этого мира? Решение всех ваших
загадок? Свет и для вас, вы, потаеннейшие, сильнейшие, самые
бесстрашные и самые полуночные? - Этот мир есть воля к власти - и ничего больше!
И вы сами тоже суть та же воля к власти - и ничего больше!220
Но как же физический мир, а не только человек определенной
эпохи, может быть волей к самопреодолению и превосхождением
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
самого себя, если их принципиальное качество заключается в том,
чтобы с неизбежностью быть такими, каковы они есть, не обладая
волей и целью, - «если» у кольца нет доброй воли к самому себе и
«если» цель состоит не в счастье кружения? Как с этим миром
космических ритмов, а ведь он лишь как бы «хочет» самого себя, совместить
человеческую волю к власти и овладению, к господству и
владычеству над собой, к преодолению и самопреодолению, - если только
человек и мир не будут одной нераздельной «жизнью», тайна которой
состоит в том, что она постоянно должна преодолевать себя заново? Так
Ницше формулирует это в «Заратустре», а в качестве способа
самопреодоления для жизни, общей всему живому, он понимает волю к
власти, которая, в свою очередь, понимается как воля к приказу и
повиновению во всем живом. Но, спрашивается, заодно ли эта, так
понимаемая, «жизнь» с «мудростью» и является ли она чем-то таким же, как
то, что Заратустра как знающий думает оставить, но раздумывает это
делать, когда познаёт «видение» своей «загадки»? Не прячет ли в
себе одна речь об этой жизни совершенно разный смысл, который имеют
«все снова» самопреодоления и «все снова» безличного возвращения?
Ведь как может быть одной и той же та жизнь, которая должна
преодолевать себя в человеке как волящей «личности», и та, что сама собой
все снова возвращается с простой необходимостью природы? Или
повторяющееся самопреодоление изначально таково в существовании
человека, а природно-неизбежное возвращениетгково в бытии мира?221 Ибо
то, что жизнь «все снова должна преодолевать себя самое», можно
понять, лишь поскольку она в качестве человеческой обладает волей
к ничто, а сверхчеловеческое решение, найденное Ницше для ее
преодоления в «Заратустре», - это воля к вечному возвращению, но не оно
само. Только на основе этой проблематичной взаимосвязи между
нигилизмом и возвращением можно понять различный смысл
временного и вечного «все снова» в жизни человека и в жизни мира. Не жизнь,
а совершенно персональное существование Ницше есть то, что
должно было преодолевать себя все снова, а исходя из этого истолковало
для себя жизнь как целое. «Мои сочинения говорят лишь о том, с чем
я совладал.»222 «Мое сильнейшее качество - это самопреодоление.
Но мне оно больше всего и нужно - я всегда был на краю бездны.»223
Но проблема, скрытая в учении о вечном возвращении, учении,
которое представляет собой вершину этой бездны, есть единство
такого разлада; он проявляется с равной силой как в его
антропологической, так и в космологической стороне. В одной стороне он
выражается в том, что «ты должен» собственной воли противоречит «ты
должен делать это в любом случае», а в другой становится заметным
108
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
в том, что дионисийский мир вечного возвращения должен быть
«волей к власти», и ничем иным.
Клагеа24, который усваивает ницшевский ритмично движущийся
мир космической жизни и в противовес «миру образов» именно на
Ницше хочет доказать бессилие воли к власти в сфере духа, обратил
внимание на то, что последний афоризм «Воли к власти» делится на две части
началом придаточного предложения. В этом изломе Клагес смог
увидеть лишь «ужасный сход с рельсов», потому что сам он допускает
истинность лишь одной, космической стороны существования. Но
здесь и впрямь имеется проблема, которая не решается ни указанием на
деление двойственной воли Ницше на духовную волю к власти и
«пафос долга», ни ограничением всей философии Ницше до простой
«воли как власти» (Боймлер), и это следует из того обстоятельства, что
сам Ницше создал две версии заключения обсуждаемого афоризма.
2-й вариант (опубликованный в
тексте): «...если только кольцо не
обладает доброй волей к самому себе, -
хотите знать имя этого мира?
Решение всех ваших загадок? Свет и для
вас, вы, потаеннейшие,
сильнейшие, самые бесстрашные и самые
полуночные? - Этот мир есть воля
к власти - и ничего больше.fH вы
сами тоже суть та же воля к власти -
и ничего больше!»225
1-й вариант (опубликованный в
приложении) : «.. .если только кольцо не
обладает доброй волей всегда
вращаться вокруг себя, и только
вокруг себя, по собственной древней
орбите: вот он, мой мир, - и кто
достаточно светел умом, чтобы
созерцать его, не желая себе слепоты?
Достаточно силен, чтобы
подставить свою душу этому зеркалу?
Собственное зеркало - зерцалу
Диониса? Собственное решение - загадке
Диониса? А кто справится с этим -
не придется ли ему тогда совершить
еще большее? Самому обручиться с
"кольцом всех колец"? С
обетованием своего собственного возвращения?
С кольцом вечного благословения
себя, утверждения себя? С волей к
волению снова и еще раз? К воле-
нию, чтобы вернулись все вещи,
которые когда-либо были? К волению,
чтобы возникло все, что когда-либо
быть должно? Знаете ли вы теперь,
что для меня этот мир? И чего
хочу я, когда хочу - этого вот мира?»226
109
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Если в первом варианте проблема воления вечного возвращения
в картине взаимного отражения миропонимания и самоотношения
находит мнимое решение в том, что воление миром самого себя как
все нового воления мыслится исходя из вечного возвращения, и
человеческая воля тоже вращается по кругу как волящая вперед и назад,
то во втором сомнительность воления фатальности скорее
заслоняется, чем раскрывается словами несвязной формулы «воля к власти»,
которая должна быть просто-напросто одной и той же в мире и
человеке. В конечном счете лозунгоподобная формулировка жизни
как «воли к власти» раскрывает отнюдь не все вновь возвращающийся
круговорот как общий характер жизни, а уникальную историческую
ситуацию, в которой Ницше осмыслял единую природу всех вещей в
девятнадцатом столетии. Сомнительность вечного возвращения в
смысле воли к власти полностью выявляется, когда для обоснования
своего учения Ницше хочет естественнонаучно доказать227 дионисийскую
перспективу мира и понимает воление вечного возвращения как
этическое требование.
Для того, чтобы естественнонаучно доказать свое учение,
Ницше занимался трудами Дюринга, Р. Майера, Босковича и, вероятно,
Гельмгольца228; он обдумывал возможность подучить физику и
математику в университете Вены или Парижа. Эти усилия по научному
обоснованию - вовсе не какой-то странный окольный путь, а
необходимое следствие того, что Ницше хотел чему-то учить.
Философское учение, которое можно сообщить кому-то, не должно
удовлетворяться простой ссылкой на экстатическое видение или
какое-нибудь наитие; оно должно пытаться разъяснить и разрешить загадку
своего видения и продуманно обосновать содержание увиденного.
К попытке естественнонаучного обоснования вечного
возвращения как временной структуры физического мира надо относиться
не менее серьезно, чем к другой попытке - представить его как
этический постулат. Обе показывают, что мнимое единство
миропонимания и самоотношения распадается на две резко
расходящиеся стороны, которые оно, это единство, призвано соединить.
Учение о вечном возвращении в одинаково существенной мере есть
атеистический эрзацрелигиии «физическаяметафизика»229. В качестве
единства того и другого оно есть попытка снова увязать в
естественный миропорядок существование современного человека,
вышедшее из колеи230.
ПО
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
§ 4- Проблематичность единства
в двойственности двойного уравнения
В целях методологического разъяснения абсурдность в
изложении учения о возвращении можно свести к принципиальному
расколу в отношении к миру человека, освобожденному до «я хочу», а
тем самым и к ничто. Если Ницше стремится восстановить
утраченные единство и порядок в целокупности бытия через космическое^
истолкование воли к власти, то это служит косвенным доказательством
разрыва современного человека с Богом и миром. В результате
разделения сущего в целом на внешний, внутренний и иной миры
возникает сильный импульс в философии последних трех столетий.
Начиная с Декарта, сомневавшегося в Боге и его отличии от
человека (res cogitans) и мира (res extensa) по критерию самобытия и ина-
ковости, до Гегеля, способствовавшего уменьшению этого различия,
а от него к Ницгиес его попыткой «нового обручения» с миром
философия оказалась единственной попыткой вновь обрести утраченный
мир. Досократовский взгляд на мир - вот что на пике современности
стремится восстановить ницшевское учение о вечном возвращении
того же самого после разрушения христианского истолкования
существования, начатого Декартом. Пытаясь таким образом
философствовать через голову двух тысячелетий, он остался привязанным
как к позитивизму, так и к нигилизму своего века - в напрасном
усилии соединить на новой глубине разделенные, но соответствующие
друг другу сферы остающегося равным себе количества силы
современного мира физики и нигилистической энергии современного
существования, чтобы на самом краю развязной свободы снова ввязать
ее во всегда одинаковый закон кружащего мира. Кажется, что этот
эксперимент удался в рамках концентрированной метафоры,
однако в мысленном анализе сведенное воедино целое вновь
распадается на две своих составных части. Но поскольку то и другое - все же
части одного искусственного целого, то в каждом из двух
интерпретационных рядов - на стороне человека и на стороне мира - всякий
раз проявляется и другой: в механическое возвращение того же
кажется вписанным отнюдь не «божественный» цикл собственной
экзистенции Ницше, а безысходная экзистенция Ницше проецируется на
фатум, так, будто отдельное эго философа принадлежит к
необходимым условиям всегда того же устроения физического мира.
Ницше рассматривает проблематичное отношение человека к
миру с учетом истинного познания мира явлений ближе к концу «Воли к
власти» под заголовком «Истина и кажимость», но, тем не менее, в
111
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
принципиальной постановке проблемы не выходит за пределы
своего самого первого проекта «Об истине и лжи во внеморальном смысле».
В некоем отдаленном уголке вселенной, разлитой в блестках
бесчисленных солнечных систем, была когда-то звезда, на которой умные
животные изобрели познание. Это было самое высокомерное и лживое
мгновение «мировой истории»: но все же лишь одно мгновение. После
этого природа еще немножко подышала, затем звезда застыла, и разумные
животные должны были умереть. Такую притчу можно было бы
придумать, и все-таки она еще недостаточно иллюстрировала бы нам, каким
жалким, призрачным и мимолетным, каким бесцельным и
произвольным исключением из всей природы является наш интеллект. Были
целые зоны, в течение которых его не было; и когда он снова окончит
свое существование, итог будет равен нулю. Ибо у этого интеллекта нет
никакой миссии, выходящей за пределы человеческой жизни231.
Мир природы существует «сам по себе», человек в нем - только «для
себя», и, таким образом, на взгляд заброшенного в мир человека,
истина, в общем, кажется искаженной принципиально. Совершенно
непонятно, «откуда только, в конце концов, при таких обстоятельствах
берется тяга к истине! » Человек живет в заточении «комнаты своего
сознания» и в то же самое время заброшен в мир природы, но
«природа выбросила ключ», с помощью которого можно было бы получить
доступ к ней, и «горе губительному любопытству, которое, положим,
разок смогло сквозь щелку посмотреть наружу и вниз», а потом
подозревает, что человек словно бы «висит на спине у тигра», как «в
сновидениях». Взамен этой искаженной для него истины человек
приукрашивает мир, устанавливает общезначимые, конвенциональные и жизне-
охранительные истины, а поистине иллюзии, причем он не знает, что
они таковы, - и, значит, это прямая противоположность истинному
выражению бытия в метафорическом превращении мира в слово.
Апорию, возникающую в результате такого раскола для
проблемы истины, Ницше описывает следующим образом: запретная
истина скрывается разрешенной ложью, а запретная ложь появляется
там, где гнездится разрешенная истина. Индивид, желающий
признать запретную истину, должен принести в жертву либо себя самого,
либо мир. Не так заостренно это звучит в одном из фрагментов
времени написания «Заратустры»:
Временами мы нуждаемся в слепоте и не должны притрагиваться к
определенным догматам веры и заблуждениям - до тех пор, пока они сохраняют
112
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
нам жизнь. Мы должны быть бессовестнымика.сгтелъно истины и
заблуждения до тех пор, пока речь идет о жизни, - именно с тем, чтобы потом
снова поставить жизнь на службу истине (...) Это наш прилив и отлив,
энергия нашего сжатия и расширения232.
Заблуждение, то есть имманентное человеческой воле к истине
влечение к ее сокрытию, по-настоящему может быть уничтожено
лишь с жизнью самого познающего, ведь «последнее» раскрытие
бытия не выдерживает «приобщения». Уже во фрагменте,
относящемся к «Эмпедоклу» (1870-1871)233, говорится, что Эмпедокл,
пройдя через все ступени знания, нацеливается наконец на последнюю,
сходит с ума и перед своим исчезновением в кратере возвещает
истину о перерождении. Ницше тоже не выдержал своего приобщения
к истине и искал какого-нибудь выхода из
теоретико-познавательного нигилизма, выхода, который должен устранить несоответствие
между волей к истине и необходимой ложью. В конце концов, он
поверил в то, что нашел ключ, который открывает природу всех вещей.
То, о чем пророчествует Заратустра, - это единогласие всего, что
есть, в одном высшем роде бытия234, который так же сильно
предопределяет душу Заратустры, как и ее дионисийский мир. Но почему же
человек не мог бы выдержать своего согласия на «Да бытию», если
бы он и впрямь был приобщен к миру как целому, таким же образом,
как все природно-необходимое бытие? Если Ницше в «жизни» не
выдерживал своей собственной «мудрости»235 и в полночь, между
первым и двенадцатым «ударом часов бытия», когда жизнь была ему
милее, чем вся его мудрость, как раз поэтому думал о том, чтобы ее
оставить, то это говорит в пользу его первого проекта, согласно
которому человек находится в разладе со вселенной, поскольку
природная жизнь в существовании человека познания расколота на части, как
и последний проект Ницше. Уже только в качестве «проекта» мир
Ницше как небо от земли далек от античного космоса, чуждого
«чудовищной немоте», которая учит человека «больше не быть человеком»236.
В полном согласии с апорией истины и лжи во «внеморальном»,
иначе говоря, космическом смысле в одном позднем плане «Воли к
власти» нигилизм, самопреодолением которого выступает вечное
возвращение, охарактеризован с помощью следующей альтернативы:
Смутно вырисовывается противоположность мира, который мы
почитаем, и мира, которым мы живем, который - мы сами. Остается только
отменить либо наши челобития, либо нас самих. Последнее и есть
нигилизм237.
113
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Конец этой вырисовывающейся противоположности между
миром, которым мы являемся, и тем, который мы оцениваем, в
«Сумерках идолов» Ницше свел в формулу: «конец самого длительного
заблуждения», питая при этом веру в то, что учение Заратустры
положило конец противоположности первого, «истинного», и второго,
«мнимого»238 мира.
Как «истинный мир» наконец стал басней. История одного заблуждения
1. Истинный мир достижим для мудрого, для благочестивого, для
добродетельного, который живет в нем, который и есть этот мир.
(Древнейшая форма идеи, сравнительно умная, простая, убедительная.
Перифраза положения: «я, Платон, есмь истина».)
2. Истинный мир недостижим сейчас, но обещан мудрому,
благочестивому, добродетельному («грешнику, который кается»).
(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, -
она становится женщиной, она становится христианской...)
3. Истинный мир, недостижим, недоказуем, не может быть обещан, но
даже в качестве мыслимого он является утешением, долгом, императивом.
(В сущности, старое солнце, но сквозь пелену тумана и скепсиса: идея
стала вконец утонченной, бледной, северной, кенигсбергской.)
4. Истинный мир недостижим? Во всяком случае, не достигнут. А
поскольку не достигнут, то и неведом. Следовательно, он и не утешает, не
спасает и не обязывает: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..
(Серое утро. Первое позевывание разума. Петушиный крик позитивизма).
5. «Истинный мир» - идея, ни на что больше не нужная и даже ни к чему
более не обязывающая, - бесполезная, ставшая излишней идея,
следовательно, опровергнутая идея - упраздним eel
(Ясный день; завтрак; возвращение bon sens* и веселости; Платон
краснеет от стыда; все свободные умы поднимают адский шум.)
6. Мы упразднили истинный мир - какой же мир остался? Быть может,
кажущийся?.. Но нет! Вместе с истинным миром мы упразднили также и
кажущийся!
(Полдень; мгновение, когда тень так коротка; конец заблуждения,
сопровождавшего нас так долго; апогей человечества; INCIPIT ZARATHUS-
TRA".)
Благодаря этому упразднению истинного и мнимого мира теперь
больше не нужно упразднять нас самих! Но что же отсюда следует
* Здравого смысла (фр.).
** Заратустра начинает говорить {лат.).
114
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
для собственного места философии Ницше в истории упадка
метафизического иного мира? Очевидным образом то, что последняя
мудрость Заратустры в конце ставшего для нее басней мира снова
оказывается перед его началом, ведь и сам он есть снова мир*, если
притчи Заратустры говорят правду, и «полдень человека» одновременно
является «полуднем земли». Лишь намечающееся в приведенном
выше отрывке продолжение в реализованном виде должно было бы
гласить: «Д Ницше-Заратустра, есмь истина мира, потому что я
первым за всю историю самого длительного заблуждения снова открыл
доплатоновский мир. Я не хочу ничего другого, кроме этого вечно
возвращающегося, больше не отчужденного от меня мира, каковой
есть мое эго и фатум в одно и то же время; ведь я и сам вечно все
снова хочу самого себя как одного кольца в великом кольце мира,
который желает сам себя»239.
И все же характеристика человека как одного «кольца» в великом
кольце мира сводит воедино то, что распадается уже в собственной
попытке Ницше мысленного истолкования. В некоторых заметках
Ницше самого разного времени полностью выходит на свет дня
неразрешенная проблематичность во взаимоотношении человека и
мира. «Субъективность» мира, говорится в одном месте240, - не
антропоморфная, а «вселенская». Человек со всеми своими высшими и
низшими проявлениями принадлежит к самой сущности
физического мира, но доступ к нему возможен для нас только через себя самих.
Но этот человеческий доступ не очеловечивает мир, а раскрывает
глаза на мироподобие нашего собственного отношения к нему, всегда
мироформирующее и созидающее, поскольку «созидание относится
к неотъемлемым и постоянным свойствам самого мира»241. Иначе
говоря: «Мы - фигуры в сновидении бога, в которых является то,
что ему снится»242, - образ с тем же смыслом, что и в следующей
фразе: «Мы видим вещи не из нашей перспективы; это перспектива
существа, похожего на нас, но большего, чем мы; мы заглядываем в его
образы»245. В другом месте, в противовес такому вселенскому
пониманию человека, исходящему из сущности мира, который не
нуждается ни в каком боге, поскольку и сам имеет творческую природу,
говорится нечто прямо противоположное: философ ищет не истины
мира, а его «метаморфозы в людях», «мира как человека»244. Такое
обращение направления взгляда в обратную сторону делает из
космического эго очеловеченный мир, и этому соответствует, что Зара-
тустра акцентирует небо, землю и мир как «свое» небо, «свою» землю»
* Выражение автора (ist wieder Welt).
115
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
и «свой» мир, - так, будто мир входит в сферу творческой воли
человека, а не человек со всей своей способностью к волению - в сферу
мира. Доведенная до своего крайнего предела, мысль о мире «как
человеке» в одной из заметок периода создания «Заратустры» гласит:
«Человеческим должны мы наполнить природу, освободив ее от
божественного маскарада. Мы хотим взять из нее, что нам нужно, чтобы
мечтать превышечелоъека. Должно возникнуть нечто более великолепное,
чем буря, и горы, и море, - но как сын человеческий!»245 Что может
быть более отчуждающего для исконного и естественного
отношения к миру природы, чем это желание превзойти физические силы
космоса благодаря анти-христианскому «сыну человеческому»,
который переносит свою волю к власти и самопреодоление в мир как
целое, чтобы устоять перед ним? Это отчуждение порождает тоску
Заратустры: «говорить Нет, как буря, и говорить Да, как говорит Да
простор небес»246, тоску и лазейку к природе, которые заметны уже
в письме двадцатидвухлетнего Ницше к Карлу 1ерсдорфу (от 7 апреля
1866)247. Но мир небес не говорит ни Да, ни Нет; он обращается к
человеку лишь на языке молчания.
Экстремальная попытка Ницше снова обручиться с древним,
естественным миром была обречена на крах, поскольку в девятнадцатом
столетии ее никак нельзя было предпринять иначе, чем средствами
послекоперниканского мира и на апогее современных веяний. Вместе
с лишением Земли центрального места во вселенной возникает
безмерное напряжение человеческой воли к овладению и разъяснению мира,
который именно поэтому постоянно расширяется и отчуждается. Да
и как можно еще человеку оставаться «близким, преданным,
доверчивым»248 к земле, чувствуя себя в «вечной безопасности» под «лазурным
колоколом» мира небес, если каждый день приносит новые открытия,
уже не совместимые со старым миром, естественно-упорядоченным и
лишь «окруженным» «ничто»? С того времени, когда человек
фактически сделался «воздухоплавателем духа»249 и «властелином земли»,
происходит обесчеловечивание человека и безмерный переход через
границы видимого мира к физической конструкции мира, которую,
конечно, можно выдумать математически, но жить в ней нельзя. Вот и
Ницше, совершая разведывательный поход в неизвестное, задался
робким вопросом: «Куда влечет нас эта мощная тяга?»250 и закончил
«Утреннюю зарю» вопросом, что, может быть, и его удел - «потонуть
в этой безбрежности», чтобы в конце концов, в ландшафте
Заратустры, открыть «блаженный остров». Да только тот остров
представлен еще старым, средиземноморским миром, для которого этот
новый Колумб был «недостаточно прост и тих»251.
116
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
Разлад в двойственном изложении притчи о вечном
возвращении сконцентрирован в символе «полудня». «Полдень и вечность»
означает не только остановку времени, когда мир предстает как
совершенный, но и, причем прежде всего, критическое «средостение»,
где человек определенной эпохи должен решаться, хочет ли он на
будущее самого себя. Полдень - это время, когда солнце, в том числе
солнце познания, стоит в зените, и заодно «крайний срок» в смысле
наибольшей нужды и опасности. Никакая сколь угодно гибкая
диалектика «соответствия» не в состоянии урегулировать это
противоречие, раскалывающее надвое притчу о полудне, если воспринимать
и мыслить ее буквально.
«Предисловие Заратустры» начинается, подразумевая то
последнее «преображение», которое первая речь называет «новым
начинанием» и заодно «самокатящимся колесом». Как, однако, может
начаться «новое начинание», если «первое движение» возникает
вовсе не из решения, а является не имеющим ни начала, ни конца
кружением, в котором все уже раз и навсегда решено? Носителем
этих противоречащих себе форм движения выступает «ребенок»,
чье творческое «созидание» есть «игра». С тех пор как сердце
Заратустры наконец преобразилось, он - «пробужденный», поскольку
стал ребенком. В качестве преображенно-пробужденного он встает на
заре перед ликом солнца и говорит: «Ты, великое светило! К чему
свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь! »252
Это недетское обращение к солнцу повторяется в начале последней
речи «Заратустры», где Заратустра теперь сам выходит из своей
пещеры «пылающий и сильный, как восходящее солнце». Его воля
тоже названа «неумолимой солнечной волей», потому что необходимая
воля преодолевающего и превосходящего себя человека, подобно
вечернему солнцу, волит свой закат к новому началу утром. Полдень,
который - когда солнце в зените - всегда возвращается и является
временем максимального всеприсутствия, привлекается в качестве
«знака» для будущего, в качестве «ггоутра». Заратустра, этот ребенок-
сверхчеловек, берет свою полноту у великого светила и
благословляет его за это. Но несколькими строками ниже он говорит солнцу
нечто обратное, имея в виду собственное изобилие, которое хочет
дарить людям: «Так благослови же меня!» Кто кого здесь
благословляет? И кому изначально принадлежит изобилие? Очевидным
образом, обоим: солнцу, вечному прообразу мира небес, и Заратустре,
который как учащий сверхчеловеку и «великому» полудню волит в
полдень вечное возвращение. Заратустра, правда, нуждается в благо-
словлении солнца, этого «высшего светила бытия», чтобы иметь
117
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
возможность благословить его самому, но ведь это взаимное
отношение предполагает в благословении дающего его Заратустру,
который воображает, будто подобен солнцу.
Или желание Заратустры дарить, его воля и избыток суть лишь
отблеск того так называемого воления себя и раздаривания себя,
свойственных жизни природы, которые проявляются в полдень в
природном боге Пане? Или словесное соответствие между
«полуднем земли» и «полуднем человека», миром небес и сверхчеловеком,
полуденным солнцем и солнечной волей, света небес и пламенем
Заратустры - всего лишь выдуманная парабола и, значит,
«поэтический обман»? Тот, кто внимательно прочтет параболические речи
Заратустры, не сможет избежать впечатления, что требование
собственного воления, в качестве человеческого думающего о будущем,
абсолютно предпочтительнее вялого восприятия мира. Конечно,
Ницше-Заратустра знает, что утратил мир, но может получить его
назад, созидая его в качестве «своего» и пересозидая все, что «само
по себе и для себя», в то, что «во мне и для меня». Ницше-Заратустра
лишь в редкие мгновения на время выбирается из этого круга
своеволия. В отличие от Гёте, для которого глаза человека не могут
узреть солнце, если сами не солнцеподобны, для Заратустры солнце
есть глаз, чье «счастье» было бы пустяшным, если бы не было тех,
для кого оно могло бы светить.
Полдень - там, где он впервые находит выражение в языке, лишь
отголоском - он есть час великого Пана и своим первостепенным
значением - критическая «середина» окруженной «смертью» жизни253.
Странник, правда, видит великого Пана спящим на укромной лесной
лужайке, а все вещи природы - с выражением вечности на лицах,
но - ему так только «мнится». Правда, в это вечное мгновенье он не
хочет ничего, и его жаждущее деятельности и покоя сердце замирает,
но не потому, что он чует физическое дыхание совершенного мира, а
потому, что ощущает прикосновение «смерти с неспящими глазами»254.
Он чувствует себя счастливым, но счастье это «тяжелое-тяжелое».
Его счастье - не естественный плод отдохновения и погружения во
всеобщую жизнь, а обманчивый итог «поисков покоя» экзистенции,
которая никак не может забыть о себе до конца и глаза которой даже
в панический полуденный час не смыкаются, как во сне, а открыты
и лишены сна. Призрачный странник, на пути к единой цели, не в
состоянии безусловно и хоть на мгновенье всем своим существом
предаться всеобщей жизни природы. Настроение, которое
изначально характеризует час Пана255 и отмечено недвижной тишиной,
палящим полдневным жаром, мертвым сном и властью божественных
118
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
и демонических сил, преображается в такое, в котором царит смерть
с неспящими глазами и опутанность «сетью из света». Поэтому ниц-
шевская характеристика полудня всегда двойственна: паническое
настроение неизменно перечеркивается и расстраивается
совершенно неязыческим и неестественным представлением, что
полуденный час - это время для «решения». «Как по волшебству
древнейшие слова и образы превращаются во что-то абсолютно новое,
абсолютно иное - как будто кто-то в светлый день зажигает
бенгальский огонь: все становится блеклым, все выглядит как накануне
упадка и смерти. Тепло и краски исчезают, на землю наползают тени
тления, и страх сжимает нам сердце.»256
В «Заратустре» проблематика, намеченная в «Страннике и его
тени», становится совершенно определенной. Эсхатологический
пафос, свойственный языку Нового завета, искажает античные
реминисценции. Первое четкое указание на полдень дает последний
раздел последней речи первой части. Новозаветная весть
актуализируется вплоть до деталей в форме пародии в «пятом евангелии»
Ницше257. Речь идет о прощании учителя с учениками. В это
прощание входит обещание возвращения. Когда Заратустра в третий
раз встречается с учениками, то это время праздника «великого»
полудня, эсхатологическое событие. Если в час Пана становится
очевидным, что' все снова происходит само собой, то с наступлением
великого полудня Антихриста Заратустры начинается нечто
совершенно новое и окончательное. Полдень - это не время, когда в
растительной и животной жизни мира являют себя боги и демоны, а
середина дороги, по которой предстоит пройти странствием до конца.
Полдень - «середина пути» между животным и сверхчеловеком,
который появляется, лишь когда умерли все боги. То, что раскрывает себя
в полдень, - не мир бога природы Пана, а «крайняя воля» и
«высочайшая надежда» человека на самоспасение. Заратустра должен
закатиться и благословить себя, чтобы стать зашедшим, на переходе
к последней цели. Это пресловутое закатывание и захождение
прямо противоречит опыту того полудня, в который мир полон
совершенства, а время замирает. Возвещение о полудне, в качестве апогея
кризиса выступающего критической серединой, происходит в
ожидании приходящего, которое определяет себя из задания будущего.
В грядущий великий полдень должно решиться, направит ли человек
свою волю вниз, к последнему человеку, или вверх, к сверхчеловеку.
В ницшевском изображении полудня и вечного возвращения
внезапно происходит трансформация: то, что всегда приходит снова по
природе, превращается в нечто такое, что должно быть решающим
119
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
раз и навсегда. Равным образом и «мгновение» вечно не потому, что
в нем проявляется присносущее, а потому, что в качестве решающего
момента оно заранее предрешает, чему быть в грядущем.
Язык библейской эсхатологии определяет и конец речи «Об
умаляющей добродетели» и «О прохождении мимо». Полдень Заратус-
тры больше похож на Судный день пророков и апостолов, чем на
полдень, в который отдельные экзистенции вновь погружаются в
совместную жизнь природы. «С точки зрения древности, -
совершенно справедливо замечает К. Шлехта, - "великий полдень" есть
беспримерное кощунство.» Великий полдень книги «Так говорил Заратус-
тра» есть час сверхчеловека, как вечное возвращение - его учение.
Вследствие этой привязки опыта полудня к учению о сверхчеловеке
и о его волении вечного возвращения природное значение полудня
растворяется в переходе к «новому утру», а то, что изначально было
язычески-благочестивым, получает антихристианский смысл,
который абсурдным образом определяет теперь и старую мысль о
возвращении как таковую. Заратустра снова приходит, с этим солнцем
и с этой землей, - «не» для новой или лучшей жизни, а для все той
же самой. Критическая середина свершается не всегда, а «всякий
раз» снова, когда возникает «воля к будущему», говорится в одной
из заметок к «Заратустре». То, что возвращается, есть, таким образом,
решение, которое надо волить все снова и которое касается будущей
сущности человека. Заратустра - это «всецело воля к полудню», и
его речь о мире небес, земле и земном полудне не может скрыть того,
что непосредственно суть дела для него не в мире природы, а в
преодолении сегодняшней человеческой природы. Даже в роли благо-
вестника он остается критиком, в первую и последнюю очередь
думающим о кризисе. «Мир», как он представлен в «Заратустре», - это
призрачный мир некоей фигуры спасителя, чьим «пляскам» и «сме-
хам» не хватает убедительности. И лишь «странствование» Заратус-
тры соответствует человеческой реальности Ницше.
Проблематичный смысл полудня еще больше выявляется в
предпоследнем афоризме Второго рассмотрения «К генеалогии морали».
«Великий полдень» здесь без всяких околичностей - то же самое, что
«великое решение», принимаемое посредством «человека будущего»,
который должен спасти от христианского идеала и его
нигилистических последствий258. Будущий человек-спаситель в качестве
антихристианина и антинигилиста должен вернуть земле как месту жительства
человека ее «цель», а человеку - его «высочайшую надежду».
Запланированное для «Заратустры» название определяется здесь подзаголовком:
«Проект нового способа жить», то есть в полдень раскрывается не
120
Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка
присносущее или вечное, а решается, быть ли новому виду жизни,
достаточно сильному, чтобы хотеть вечного возвращения. Следовательно,
Заратустраучит надвое: в качестве человека-спасителя будущего он
возвещает новый способ экзистенции, а как учитель вечного возвращения
того же он учит тому, что «по ту сторону человека и времени»,
высшему закону всей космической жизни. Однако в качестве критической
середины полдень - не постоянно возвращающееся время присно-
сущего, а момент решения, отделяющего всю прежнюю историю от
будущей. Учение о вечном возвращении должно быть истолкованием
физического мира и одновременно «поворотной точкой истории».
В позднем самоистолковании Несвоевременного рассуждения
о Р. Вагнере в книге «Се человек» мысль о полудне трактуется и
переносится в будущее явно всемирно-исторически, В качестве соперника
и наследника Вагнера Ницше хочет преобразовать «Байрейтскую
идею» в идею «великого полудня», когда его ученики соберутся
вместе на праздник. Подобно этому, оглядываясь на «Утреннюю зарю»,
он формулируст свою задачу так: «подготовить мгновение высшего
самоопамятования человечества, великий полдень, когда оно взглянет
и назад, в прошлое, и вперед, в будущее. Но полдень, равнозначный
подготовительной, всемирно-исторической задаче, не может быть
тем же самым, что и тот полдень, в который природный мир в
своем всегда одинаковом совершенстве дается тому, кто как раз не
смотрит ни в прошлое, ни в будущее, а созерцает мир, погружаясь в него.
«Созерцатель» и «волящий» в «Заратустре» лишь мнимо соединяются
в одном лице. «Мир», который автор «Се человек» хочет расколоть
на две части - одну до Ницше, а одну после него259, - это не присно-
сущий физический мир, где всемирная история есть нечто
мимолетное, а человеческий мир современников, и его время измеряется не
ежедневным возвращением солнца, но однократным событием
откровения Бога во Христе, чье место теперь занимает ницшевское
антихристианское летоисчисление, начинающееся с «Се человек».
Лишь раз, в специально озаглавленной «В полдень» речи Зара-
тустры, в середине последней части, убедительный тон «чуждого
опьянения»260 плавно втекает в столь же блеклый, сколь и
чрезмерно освещенный ландшафт «Заратустры», и мир снова становится
внятным, как прежде, когда человек больше ни к чему не стремится,
«его душа отдыхает» и замирает, а потому слышит голос молчания,
во «время без цели». Здесь панический полдень - не критическая
середина требовательного решения - благодаря ему будущий человек
анти-христиански отделяет себя от прежнего, - а воплощенное
событие полудня, на которое пускается существование человека.
121
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
Но почему же даже здесь «душа» Заратустры говорит против
него самого, то есть против его «я», которое все еще хочет и
прерывает полдневный сон, чтобы «пробудиться» и идти дальше, а не
замереть на месте? И почему этот полдень есть также полуденная бездна
и полночь261? Не указывает ли эта двойная характеристика
высочайшей середины на то, что и в час совершенного полудня
соприсутствует критическая середина, в которой бездна нигилизма ставшего
бесцельным существования сама хочет быть преодоленной? Правда,
космический час Пана тоже бездонен и в опасности от зловещих
сил, но бездонность мифического полудня - не беспочвенность,
которую Ницше ощущает в «полдень своей жизни», потому что
является сроком, крайним сроком, а именно - для избавления от
лишенности и уединенности, в которой он создал для себя фигуру
Заратустры как своего единственного партнера262. Событие полудня, когда
Заратустра учит вечному возвращению одновременно со
сверхчеловеком, не приводит Ницше к требованию вечного возвращения
одной и той же, неисцелимой жизни, а заставляет его страстно ждать
развязки через смерть. Полуденное солнце жалит Заратустру в
середину его собственной жизни, в сердце, и он желает себе, чтобы
оно разбилось - после такого счастья. Насколько сомнительно это
«счастье», позволяет понять стихотворение волшебника, чье
«последнее» счастье тоже заключается в том, что сердце разбивается,
когда его жалит какой-то неведомый казнящий бог. Облегченная
веселость в полуденный час отныне проявляется в виде
«сокровеннейшего предвкушения» смерти. Как восход солнца указывает на
неоднозначный закат, так и мнимо совершенный полдень имеет место при
апогее солнца лишь тогда, когда «солнце садится». В одноименном
стихотворении получает свое последнее объяснение и «чуждое
опьянение» из полуденной речи Заратустры.
1.
Недолго жаждать тебе,
сгоревшее сердце!
Обетованье, разлитое в воздухе,
из уст неведомых на меня дохнуло
великой прохладой...
В полдень жарким было мое солнце.
Тем желанней мне мои пришельцы -
вы, внезапные ветры,
послеполуденные зябкие духи!
Воздух так чужд и чист.
Не метнула ль на меня искоса
свой взор манящий
искусительница-ночь?..
Мужайся, отважное сердце!
Не спрашивай: зачем? -
2.
День моей жизни!
Садится солнце.
И уже позолочен
ровный поток.
Дышит скала теплом:
верно, в полдень на ней
счастье вкушало свой сон полдневный?
Вон оно еще брезжит
зеленью отсветов над бурой бездной
День моей жизни!
Уж близок вечер!
Уж око твое мерцает
полузатменно,
уж скатились первые слезы
твоей росы,
уж стелется над бледными морями
любви твоей притихший пурпур,
кроткий свет последнего блаженства...
3.
Ясность, приди, золотая!
Близкой смерти
сокровеннейшее, сладчайшее предвкушенье!
- Верно, я слишком спешил?
И лишь теперь, как устал,
взор твой настиг меня,
восторг твой настиг меня.
Волн и бликов игра.
Всякая тяжесть в былом
канула в синь забвенья,
праздно колышется челн.
Словно б и не было верст и бурь!
Желанья лежат на дне.
На душе, как на море, гладь.
Одиночество седьмое мое!
Впервые так близок мне
желанный причал,
и улыбка солнца тепла.
- Что там пылает еще?
Не снега ли моих вершин?
Серебристой рыбой, легка,
отправляется в путь ладья...263
Лишь теперь, под вечер, когда день его жизни подошел к концу,
Ницше пережил как «седьмое одиночество» то, что предстало За-
ратустре, отзвуком библейской истории творения, в качестве
«вечера» седьмого дня, вечера, который необъяснимо для него самого
пришел «прямо в полдень», потому что в пору самого яркого света
его уже объяла ночь. Робкий, не раз повторенный вопрос о полудне:
«Что же со мною творится?» получает ответ с заходящим солнцем
через переход в освобождающее и спасительное безумие. Лишь оно,
а отнюдь не «предельная воля» и отнюдь не «высочайшее самоопа-
мятование», избавило Ницше от иллюзии, будто он может и должен
решить судьбы Европы, а не то и «человечества».
IV
Антихристианское
повторение античности
в апогее современности
«Кто углубился мудростью
в древние истоки...
тот в конце концов начнет
искать родники будущего
и новые истоки.»1
Если бы пророчество Ницше было просто «поэтическим
обманом», а его истоком - не более чем личное переживание, то оно не
обладало бы внутренней систематичностью и не занимало бы
никакого места в истории всей западной философии. Это место столь же
кратко, сколь и сверхотчетливо характеризуется заключительной фор
мулой «Се человек»: «Поняли ли вы меня? Дионис против Распятого».
Но Ницше не потому против Распятого, что хочет избавиться от
страдания, а потому, что хочет его на другой, дионисийский лад2.
Он - супостат Распятого, который хочет преодолеть страдание и
смерть противоположным образом, лишь как ученик Диониса-Загрея.
В этом смысле следует понимать и переоценку всех ценностей.
Учение Заратустры о вечном возвращении, в которое входят и планы
«Воли к власти», уже есть переоценка всех предшествующих, христианских
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
ценностей, поскольку оно извлекает самые радикальные следствия
из смерти христианского Бога. Имея это в виду, Ницше осознает
себя в «Се человек» как судьбу Европы.
Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться
воспоминание (...) о кризисе, какого никогда не бывало на земле, о
глубочайшей для совести коллизии, о выборе, сделанном против всего, во что
до сих пор верили, чего требовали, что освящали. Я не человек, я
динамит. - И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии -
всякая религия есть дело черни, я вынужден мыть руки после каждого
соприкосновения с религиозными людьми... Я не хочу «верующих», полагаю,
я слишком насмешлив, чтобы верить в самого себя, я никогда не
обращаюсь к массам... Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь
святым (...) Я не хочу быть святым, лучше уж - шутом... И тем не менее
или, скорее, тем более- ибо до сих пор не было ничего более лживого,
чем святые, - устами моими глаголет истина. - Но моя истина страшна.
потому что до сих пор истиной называлась ложь. - Переоценка всех
ценностей - вот моя формула для акта высшего самоопамятования
человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы
я был первым приличным человеком, чтобы я сознавал себя в
противоречии с ложью тысячелетий... Я первый открыл истину благодаря тому,
что я первый ощутил - обонянием - ложь как ложь... Я противоречу, как
никогда никто не противоречил, и, несмотря на это, я
противоположность духа отрицания. (...) лишь благодаря мне снова существуют
надежды. При всем том я неизбежно и человек рока. Ибо когда истина вступит
в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут потрясения, судороги
землетрясений, (...) какие никогда и не снились. Понятие политики целиком
растворится в войне идей, все институты власти старого общества взлетят
на воздух - они все покоятся на лжи: будут войны, каких еще не бывало
на земле. Только с меня начинается на Земле большая политика5.
Мы не будем подробнее выяснять здесь, какая истина глаголет
устами Ницше. Ее кратчайшее имя - наличное ничто, ничтожность
высших ценностей всей нашей прежней морали, христианскость
которой без Бога уже не обладает санкцией. И прежде всего
«открытие» христианской морали в качестве «противоестественной» - вовсе
не позитивное открытие некоей целинной области души, а
«настоящая катастрофа», в которой гибнут все прежние ценностные подходы.
Кто ее <катастрофу> разъясняет, тот force majeure, рок, - он разбивает
историю человечества на две части. Живут либо до него, либо посленего...
Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше
всего; кто понимает, что здесь уничтожено, пусть посмотрит, осталось
ли у него вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось
«истиной», признано (...) самой подземной формой лжи; святой
предлог «улучшить» человечество признан хитростью, рассчитанной на то,
чтобы высосать самое жизнь, обескровить ее. Мораль как вампиризм...
Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в
которые верят или верили; он уже не видит ничего достойного
почитания в наиболее почитаемых, даже объявленных святыми типах
человека, он видит в них самую губительную разновидность выродков,
губительную потому, что они очаровывали... Понятие «Бог» выдумано как
противоположность понятию жизни - в нем сведено в ужасающее
единство все вредное, отравляющее, клеветническое, вся смертельная
враждебность к жизни!4
Но если приговор, вынесенный Ницше всему, во что прежде
верили, - это взрывчатка, разрывающая на два куска историю
прежнего европейского человечества, то «голосом, звучащим над
тысячелетиями»5, он, предвосхищая, обращается к будущей истории так,
словно она - прошлое. В соответствии с этим в «Сумерках идолов»
он откровенно связывает свое учение с тем, «чем обязан древним».
В нем он воспроизводит «трагическое настроение» античности,
обновление и «перевод» которой в философский пафос6 были темой
уже «Рождения трагедии» и «Философии в трагическую эпоху
греков». Посредством такого обращения назад, к древнему миру, Ницше
думал найти выход «из целых тысячелетий лабиринта» - в
противовес современному человеку, который «есть все то, что не знает, куда
деваться», а именно ни из ставшего непригодным христианства, ни
в новый мир древнейшего бытия. «Новые возможности жизни», на
которые впервые ссылаются его занятия досократической
философией, в конце концов, кажется, оказались действительно
возможными в учении о вечном возвращении как проекте нового способа
жить. Исходя из этого, Ницше задним числом понимает себя как
предтечу.
Бросим взгляд на столетие вперед, предположим, что мое покушение
на два тысячелетия противоестественности (...) удастся. Та новая
партия жизни (...) сделает снова возможным на земле преизбыток жизни, из
которого должно снова вырасти дионисийское состояние. Я обещаю
трагическую эпоху: высшее искусство в утверждении жизни, трагедия,
возродится, когда человечество оставит позади себя опыт жесточайших,
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
но совершенно необходимых войн, память о которых уже не будет
вызывать в нем страдания.,.1
Однако обновление античности происходит в апогее
современности, соединявшей Ницше с Вагнером и разделявшей их.
И не возвращаемся ли мы именно к этому, мы, сорвиголовы духа,
взобравшиеся на самую высокую и самую опасную вершину современной
мысли и оглядевшиеся оттуда, посмотревшие оттуда вниз? Не являемся
ли мы именно в этом - греками?8
Для разъяснения исторического смысла этого процесса,
который выходит за пределы христианства потому, что обращается
назад, к эпохе до его возникновения, Ницше в «Се человек» указывает
на одно место из «Несвоевременного размышления» о Вагнере,
заранее проливающее на всемирно-исторический смысл его будущего
учения более яркий свет, чем какое-либо другое.
История развития культуры со времен греков довольно коротка, если
принимать во внимание только по-настоящему пройденный ею путь,
никак не учитывая остановок, отступлений, задержек и замедлений.
Эллинизация всего мира и, с целью ее проведения, ориентализация
всего эллинского - двойная задача великого Александра - до сих пор
остается последним великим событием; древний вопрос о том,
поддается ли вообще чуждая культура перенесению на свою почву все еще
остается проблемой, над которой бьются и в новейшие времена.
Ритмическое взаимодействие этих двух факторов и есть то, что главным
образом определяло до сих пор ход истории. К примеру, христианство
предстает здесь фрагментом восточной античности, которая в мысли
и на деле была доведена до логического конца людьми, наделенными
необузданной обстоятельностью. (...) Земля, которую доселе вдоволь
ориентализировали, снова жаждет эллинизации (...) Потому-то сейчас и
нужен целый ряд антиАлександров, наделенных огромной способностью
сводить воедино и связывать, уплотнять далеко разошедшиеся нити и
тем предохранять всю ткань от растрепыванья. Не разрубать гордиев
узел греческой культуры, как сделал Александр, чтобы его концы
растрепались по всему белому свету, а связать его, после того как он был
распущен, - вот какая теперь стоит задача. В Вагнере я узнаю такого анти-
Александра: он сковывает и сплачивает то, что было разрозненным,
слабым и вялым, он, если дозволено употребить медицинский термин,
обладает вяжущим действием: и в этом отношении он входит в число
наиболее крупных правящих сил культуры. Он правит искусствами,
религиями, историей различных народов - и все-таки он антипод (...) ума,
ограниченного сопоставлением и классификацией: ибо он
амальгамирует и вселяет душу в сплав, он упрощает мир.
Такой упрощенный мир есть кольцо - не только нибелунгов, но
и вечного возвращения10. «Обломок» человек делается целостным
в целостности этого всемирно-исторического кольца - благодаря
воле, которая волит вперед, к тому, что еще только может быть,
воля назад, к тому, что уже было. В этой воле Ницше чувствовал себя
единым с главной целью немецкой философии.
Немецкая философия в целом (...) есть самый фундаментальный из
существовавших до сих пор видов романтизма и ностальгии: тоска по
лучшему, что было когда-то. Ты уже не чувствуешь себя уютно и в конечном
счете стремишься назад, ибо там можно было чувствовать себя как дома,
а именно - к греческому миру! Но именно на пути в этот мир обрушены
все мосты - за исключением радуг понятий! Они ведут ко всем родинам
и «отечествам», в которых обитали греческие души! Правда, нужно быть
очень тонким, очень легким, очень нежным, чтобы пройти по этому
мосту! Зато какое счастье заключено в этой воле к духовности, почти к
призрачности! Как далеко уходишь тогда от «давления и толчков», от
механистических глупостей естественных наук, от ярмарочного шума
«современных идей»! мы хотим назад, через отцов церкви к грекам, с
севера на юг, от формул к формам; мы наслаждаемся закатом
античности, христианством как средством получить к ней доступ, как
существенной частью самого древнего мира, как блистающей мозаикой античных
понятий и античных оценок. Арабески, вычурность, рококо
схоластических абстракций - это все-таки лучше, то есть тоньше и изысканнее,
нежели мужицкая, плебейская реальность европейского севера: это как-никак
протест высшей духовности против крестьянской войны и восстания
черни, которая подчинила себе духовные вкусы на севере Европы и
имела своим вожаком великого «бездуховного человека», Лютера. - С этой
точки зрения немецкая философия есть часть Контрреформации, даже
Возрождения, по крайней мере часть воли к Возрождению, воли к
продолжению открытия античности, откапывания античной философии,
прежде всего досократиков - самого засыпанного из всех греческих
храмов! Быть может, через несколько столетий станут говорить, что
истинное достоинство всей немецкой философии заключается в
постепенном возвращении античной почвы и что любая претензия на
«оригинальность» звучит мелочно и смешно в сравнении с более высоким
129
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
притязанием немцев на восстановление казавшейся разорванной связи
с греками, высшим из сложившихся до сих пор типом «человека». Сегодня
мы снова приближаемся к тем основополагающим формам толкования
мира, которые изобрел греческий ум (...) мы с каждым днем становимся
все более греками, сначала, как и полагается, в понятиях и оценках, как
своего рода грецизирующие призраки, - но есть надежда, что со временем
мы сблизимся с ними и телесно\ В этом заключается (и всегда
заключалась) моя надежда на немецкий характер!11
Однако таким грецизирующим призраком является и
метафизика Ницше, поскольку у него она лишена всяких телесных основ.
Поэтому крах его попытки вернуть назад античность проявляется всего
яснее там, где он сам ссылается на бывшие отнюдь не «гипотетическими»
закулисные основы дионисииских мистерий, на их укорененность в
инстинкте зачатия, благодаря которому жизнь возвращается во плоти.
Что гарантировали себе эллины этими мистериями? Вечную жизнь,
вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освященное в
прошедшем; торжествующее Да, сказанное жизни наперекор смерти и
изменению; истиннуюжизнъ как общее продолжение жизни через соитие, через
мистерии половой жизни. Поэтому в половом символе греки видели
достойный уважения символ сам по себе, подлинный глубокий смысл
всего античного благочестия. Все отдельное в акте соития,
беременности, родов возбуждало высшие и полные торжественности чувства.
В учении мистерий освящено страдание, «муки роженицы» освящают
страдание вообще, - всякое становление и рост, все гарантирующее
будущность обусловливает страдание... Чтобы существовала вечная радость
созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала сама себя, для этого
должны также существовать «муки роженицы»... Все это означает слово
«Дионис»: я не знаю высшей символики, чем эта греческая символика,
символика Дионисий. В ней придается религиозный смысл
глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни,
- самый путь к жизни, соитие, понимается как священный путь... Только
христианство с лежащим в его основе рессентиментом по отношению к
жизни сделало из половой жизни нечто нечистое: оно забросало дерьмом
начало, предпосылку нашей жизни...12
Физические предпосылки вечного возвращения «этой» жизни
отсутствуют в философии Ницше, так же как и в его собственной,
нетелесной экзистенции, которая была чем угодно, но только не
«обожествленной формой и самооправданием природы»13.
130
Но что можно сделать для нового воплощения в жизнь
греческого «мироутверждения и просветленности существование», если
даже в отношении Гете и Винкельмана к загадке греков было «что-то
недозволенное, почти нескромное»? Ответ Ницше гласит:
Ждать и готовиться; дождаться, когда забьют новые ключи; в
одиночестве готовиться к чужим лицам и чужим голосам; все сильнее очищать
душу от ярмарочной пыли и шума этого столетия; преодолевать все
христианское (...) а не просто отмахиваться от него, ибо христианское
учение было направлено против учения дионисийского; заново открывать
в себе Юг и простирать над собой светлое, блистающее, таинственное
южное небо; заново обретать южное здоровье и скрытую мощь души;
шаг за шагом становиться всеохватнее, наднациональнее, все более
европейцами, сверхевропейцами и людьми Востока и, наконец, все более
становиться греками, ибо греческое начало было первой великой связью и
синтезом всего восточного и тем самым началом европейской души,
открытием щшего инового мира". Кто живет, руководствуясь этими
императивами, - кто знает, что встретится ему однажды? Быть может,
именно - новый день\14
Об этом «новом мире», которого хочет учение Ницше и
который, таким образом, отнюдь не полностью нов, а является
обновлением старого, уже в форме загадки говорит последний афоризм
«Утренней зари», утренней зари перед восходом солнца «Заратус-
тры».
Куда ж нам лететь? Летим ли мы через моря? Куда влечет нас эта мощная
тяга - нечто для нас гораздо большее, чем любое наслаждение? Почему
ж влечет нас именно в ту сторону - туда, где доселе заходили все солнца
человечества? Быть может, некогда пойдет о нас молва, что и мы, правя
на запад, чаяли добраться до некоей Индии, - но что уделом нашим стало
- потонуть в этой безбрежности? Или нет, братья? Или нет? -15
Но что же это за Индия, которой Ницше пытается достичь в
неведении относительно того, потонет ли он в несбыточности своего
проекта? Не противоречит ли указанию на землю «нигилистической
религии» буддизма то, что в «Се человек» Ницше характеризует
«Утреннюю зарю» как свою первую утверждающую книгу, в которой нет ни
одного отрицающего слова и которая увековечивает божественные
мгновенья? Почему он и здесь отсылает к «индийскому» эпиграфу
книги: «Какое великое множество зорь еще никогда не занималось!» и
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
почему еще раз задает вопрос: «Где же ищет ее автор того нового
утра, ту до сих пор еще не открытую нежную зарю, с которой
начнется новый день? (...)~ целый мир новых дней!»
Ответ следует из соединения того, что разделено по различным
афоризмам как длинная цепь размышлений. Первый ключ дает
другой афоризм из «Утренней зари». Он озаглавлен «In hoc signo vinces»
(«под сим знаменем победишь»), и это, переворачивая христианский
смысл, подразумевает, что будущие люди победят под знаком того,
что спасающий Бог мертв. В этом смысле Будда понимается как
учитель религии «ошо-спасения». Однако
как же далеко еще Европе до этой ступени культуры 1 А когда наконец
будут уничтожены все обычаи и нравы, на которых зиждется власть
богов, жрецов и спасителей, когда, стало быть, отомрет и мораль в старом
смысле этого слова, - тогда наступит... ну, что тогда наступит?16
Прежде всего - чистое ничто в смысле обязанности жить. Буддизм
и христианство как две великие «нигилистические религии» в
эпохи заболевания воли составляют одно целое17, но:
Невозможно преувеличить вину христианства за то, что оно
обесценило ценность подобного великого очистительного нигилистического
движения, которое, возможно, уже намечалось, идеей бессмертия частной
личности: как и надеждой на воскресение: короче говоря, всегда
удерживало от дела нигилизма, самоубийства18.
Развязать это очистительное движение в Европе - цель ницшев-
ского учения, которое сопоставимым с индийским образом
домысливает до конца нигилизм, возникающий в результате упадка
христианства. Ведь христианство
только сейчас достигло примерно того культурного состояния, в
котором оно может исполнить свое изначальное предназначение - достигло
уровня, ему присущего... на котором может выказать себя в чистом виде...19
Европейский пессимизм 19-го столетия - лишь начало этого,
у него еще нет той чудовищно тоскливой неподвижности взгляда, в
котором отражается ничто, как это было когда-то в Индии; в нем еще
много "сделанного", а не "ставшего", слишком много от пессимизма ученых
и поэтов...20
Учение о вечном возвращении как самая крайняя форма
нигилизма является «европейской формой буддизма»21, поскольку энергия знания
и воления отрицает в нем «смысл» существования.
Нигилизм - симптом, говорящий о том, что обойденные жизнью уже
не находят себе утешения ни в чем - что они разрушают, чтобы
разрушиться, что, расставшись с моралью, они больше не имеют оснований
«смиряться», - что они ставят себя на почву противоположного
принципа и со своей стороны домогаются власти, - заставляя могущественных
быть своими палачами. Вот европейская форма буддизма, то отрицание
делом - после того как все сущее утратило свой «смысл»22.
Но это отрицание делом - еще и предпосылка некоторого
нового Да сущему в целом, и чтобы суметь это сделать, человек снова
должен стать «более греческим», «ибо греческое начало было
первой великой связью ... всего восточного и тем самым началом
европейской души, рткрытием нашего "нового мира"»23'. Поэтому Ницше
может утверждать, что именно продолжение вновь начатого
открытия древнего мира есть «дело нового Колумба»24.
Тем самым решается загадка того, почему Ницше правит на
«запад», где садится солнце, чтобы, последовательно двигаясь этим
путем, достигнуть на востоке «Индии», где оно снова выходит из ничто
«европейского буддизма» в качестве вечного бытия25.
Надежда Ницше на этот грядущий день, который в то же время
есть и уже бывшее начало, светит вплоть до его последнего письма
к Я. Буркхардту, где он еще раз «каждое мгновение» благодарит за
древний мир, для которого, однако, люди были «недостаточно
просты и тихи», хорошо зная, что все в корне изменилось.
Переменились освещение и краски всех вещей! Нам уже не вполне
понятно самое близкое и самое привычное, как чувствовали его древние,
- например, день и бодрствование: оттого, что древние верили в сны,
сама бодрственная жизнь представала в ином освещении. То же и со
всей жизнью, на которую смерть и ее значение бросали обратный отсвет:
наша «смерть» есть совершенно другая смерть. Все переживания
светились иначе, ибо некое Божество просвечивало из них; то же все
решения и виды на далекое будущее, ибо были оракулы, и тайные знамения,
и вера в предсказания. «Истина» ощущалась иначе, ибо прежде и
безумный мог слыть ее глашатаем, - нас от этого пробирает дрожь или
разбирает смех. Каждая несправедливость иначе воздействовала на чувство,
ибо страшились божественного воздаяния, а не только гражданского
133
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
наказания и позора. Какая радость царила в то время, когда верили в
черта и искусителя! Какая страсть, когда взору представали
подстерегавшие демоны! Какая философия, когда сомнение ощущалось как
прегрешение опаснейшего рода, а именно, как хула на вечную любовь,
недоверие ко всему, что было хорошего, высокого, чистого и
милосердного! - Мы наново окрасили вещи, мы непрестанно малюем их, - но куда
нам все еще до красочного великолепия того старого мастера! - Я разумею
древнее человечество26.
Ницше закончил свою духовную жизнь с воспоминанием о
древнем мире - и с ним же начал ее. Филологические работы, особенно
о философии Гераклита, а также их философская обработка для
запланированного трактата о философии досократиков, уже содержат
все основные черты его учения, возникшего десятью годами
позднее27. Это обращение к досократической философии должно сделать
понятным и ницшевскую критику Сократа; ведь она касается не
только сократической добродетели-знания, но и, помимо нее, ставшего
в лице Сократа всемирно-историческим отчуждения естественного
космоса от человеческой экзистенции, а физики - от метафизики.
Ницше характеризует Гераклита28 и его учение следующим
образом: каждая деталь его жизни демонстрирует «высочайшую форму
гордости», - которую Ницше сделал своим соратником ума в виде
аллегории орла. Веруя в одному ему известную истину, Ницше-Гераклит
путем «чрезмерного развития» доводит свою гордость до
возвышенного пафоса, «через бессознательное отождествление самого себя
с истиной»29. Однако в этом «сверхчеловеческом» почитании себя у
1ераклита нет «ничего религиозного» - «и при всем при том, -
говорит Ницше в «Се человек» о себе, - во мне нет ничего от основателя
религии».
Но то чувство одиночества, которое проникало эфесского отшельника
из храма Артемиды, можно лишь отчасти представить себе, коченея в
самой дикой горной пустыне. От него не исходит мощного чувства
сострадательного волнения, жажды помочь, исцелить, спасти; он - звезда
без атмосферы. Его взгляд, пылающим светом обращенный внутрь,
снаружи кажется лишь призраком, мертвым и ледяным. Вокруг него, о
твердыни его гордости, ударяются волны иллюзии и бессмыслицы; с
отвращением он отворачивается от них. Но и люди (...) тоже избегают такой
будто отлитой из бронзы личины; в отдаленном святилище, среди
изображений богов, в спокойном, холодно-величавом интерьере такое
существо предстало бы более понятным. Среди людей Гераклит как человек
был невероятен; а если его и видели наблюдающим за шумными
детскими играми, то в это время он уж конечно думал о том, о чем никогда при
таких обстоятельствах не думал ни один человек, - об игре великого
космического ребенка Зевса. Ему не нужны были люди даже для
познания; его душа не лежала ни к чему, что можно было выведать у них и что
старались выведать другие мудрецы, жившие до него. Он с
пренебрежением говорил об этих вопрошающих, собирающих людях, одним
словом, людях «истории». «Я искал и исследовал самого себя», - сказал он
о себе выражением, которым обозначают вопрошание оракула...30
так же, как Ницше сам разрешает свою «загадку». Оба они ищут
не «славы», а «вечности», уверенно думая, что их мудрости присуще
неограниченное «влияние», простирающееся на тысячелетия в
будущее, поскольку сами они суть судьба, а их мудрость есть знание о
высшей неизбежности.
То, что узрел он, - учение о закономерности в становлении и об игре
случая в необходимости, должно отныне и навек стать зримым; он
поднял занавес над этой грандиозной драмой31.
Как мудрец он во всем, что есть, прозревает единый логос, в то
время как поэты - не пророки, а обманщики. Бытие всего сущего
Гераклит, как и Ницше, понимает не как «наказание ставшего», а как
«оправдание становления», включающее в себя исчезновение и
разрушение. В этом вечном процессе постоянного создания ткани и
становления царит Дике* как закон необходимости. Его учение, как
и учение Ницше, одновременно «пугает» и «утешает»; однако чтобы
перевести его пугающее воздействие в благодетельное, нужна некая
особая способность.
Чтобы вновь подчеркнуть важность его учения, Ницше
напоминает о том, «как теперь естествознание рассматривает эти проблемы»,
и еще в «Се человек» о глубочайшем прозрении Заратустры, о
котором «в конечном счете» мог учить уже Гераклит, говорится, что оно
строжайшим образом подтверждается и «наукой». Научное
объяснение должно сделать гераклитовскую интуицию вероятной в качестве
научной гипотезы - посредством воображения какого-то
измененного временного масштаба для чувственного восприятия, благодаря
чему мнимо застывший мир разрешится в зримую «бурю становления».
Так и Гераклит, считает Ницше, во всем, что есть, прозрел единый
* Греческая богиня божественной справедливости.
135
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
логос, проглядывающий ядром в многообразии явлений. Он уже не
отделял, подобно Анаксимандру, «физический» мир от
«метафизического», «истинный» - от «мнимого», он, как и Ницше, знал только
этот один мир, «осененный вечными законами» - под «щитом
вечности». В столкновении приливающих и отливающих космических
сил раскрывает себя высшая справедливость, а в воинственном
состязании одного и другого - вечное кольцо бытия32. Мир есть кратер,
который должен постоянно перемешивать себя, чтобы не прийти
к разложению. «Добро и зло сходятся в одном, как гармония лука и
лиры.» Миростроительная игра Зевса, т. е. огня с самим собой,
подобна игре все снова воздвигающего и разрушающего себя
космического ребенка; ведь ведется она «без всякого морального смысла»,
в вечно одинаковой невинности, сравнимой с творчеством
художника, который обязан творить и одновременно осматривает свое
творение. В этой игре небесной случайности царит жесточайшая
необходимость, но отнюдь не телеология, а потому и отнюдь не
причинность. Ницшевская критика любого телеологического подхода
- она восходит к его студенческим временам ( 1868), - иными словами,
мнимой вынужденности мыслить мировой процесс и все сущее так,
как будто у него есть некая цель, установленная каким-то внемировым
началом или пусть даже самим миром, соответствует критике
причинности как обусловливающего причинения. Вера в causae*
совпадает с верой в τέλη**, поскольку мнимое принуждение к каузальному
мышлению заключается в мнимой невозможности представить себе
бесцельный процесс. Вечное возвращение в круговращении мира
не знает, однако, ни causa efficiens, ни causa finalis***; оно есть просто-
напросто «фатальность». Какая-либо «тенденция» мира как целого,
как в учении Ницше, исключена. Космическое дитя действует не для
чего-либо, его воление - не воление «в популярном смысле», то есть
воление в соответствии с целями, а воление в соответствии с
некоей врожденной Дике.
Эон играет в эту игру с самим собой, и время от времени игра
начинается заново.
Не дерзновение, но все снова и снова пробуждающаяся потребность в
игре вызывает к жизни новые миры. Дитя иногда бросает игрушку: но
скоро берется за нее вновь по невинной прихоти. Но когда оно строит,
* Причины (лат.).
**Целъ(греч.).
*** Действующей и целевой причины (лат.).
136
то связывает, скрепляет и образует закономерно и сообразно
внутреннему порядку33.
Философия Гераклита не знает никакого «этического
императива», никакого «ты должен», но не знает и никакого чистого «я хочу»;
ведь каждый человек до последней жилки и сам есть фатум и
абсолютно «несвободен», если измерять свободу по внешнему
принуждению. Он не занимает никакого привилегированного места в
природном мире как целом. Люди отличаются друг от друга лишь по тому,
живут ли они по логосу всего сущего, зная и желая этого или в
неведении и недобровольно. Мудрец же живет в согласии с ним, как
дионисийская философия Ницше - с самим Dionysos philosophos.
Из самой сущности человека еще не следует обязанности познавать логос.
Но почему же существует вода, почему существует земля? Для Гераклита
это гораздо более серьезный вопрос, чем вопрос о том, почему так
глупы и дурны лк)ди. В самом высокоразвитом и самом испорченном
человеке проявляется все та же самая имманентная закономерность и
справедливость. Если же предложить Гераклиту вопрос: почему огонь не всегда
есть огонь, почему он является то водой, то землею? - то он ответил бы
только: "Это игра, не принимайте этого слишком страстно и прежде
всего не ищите тут никакой нравственности Г Гераклит описывает лишь
имеющийся в наличии мир и, созерцая его, любуется им, как художник,
окидывающий взглядом свое растущее творение. Темным, грустным (...)
меланхоличным, пессимистичным (...) находят его только те, у кого
есть причины быть недовольными его натуралистичным описанием
человека34.
В сущности, он есть то самое, чем хотел быть сам Ницше, когда
пытался перевести человека обратно «на язык природы», его
«вечного изначального текста», а именно «противоположностьпессимиз-
ма»; но и наоборот, он и не оптимист, поскольку не отрицает
страдания и неразумия, он не верит в лучший из всех миров. То, что он
усматривает, - это целокупность бытия по ту сторону добра и зла,
поскольку в принципе по ту сторону человека и времени.
Катящееся колесо мира
Задевает одну цель за другой:
Сердитый назовет это необходимостью,
Шут назовет это игрой...
Мир как игра прихотливо
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
Мешает бытие и видимость:
Вечно-шутовское начало
Вовлекает паев себя!35
Но если у Гераклита человек вместе со всем сущим вовлечен в
космический закон становящегося бытия, поскольку как человек
досократической эпохи он еще априори понимал свое собственное
существование исходя из бытия мира, то Ницше находит новый
доступ к гераклитовскому миру из сферы существования, ставшего
бездорожным и бесцельным.
Именно отвращение Ницше к христианству внушило ему хотеть
мира, который был основой языческого - и греческого, и
восточного - мышления. При конце выхолощенного христианства он искал
«новых истоков будущего» - и нашел их в воспоминании о древнем
мире, поскольку тот был до христианства. Смерть христианского
Бога пробудила в нем новое понимание мира. Не так уж и важно, что
этот мир был известен ему как филологу-классику. Многие знатоки
античности, до него и после него, были хорошо знакомы с учением
о вечном круговращении, каким оно дошло до нас благодаря трудам
Гераклита и Эмпедокла, Платона и Аристотеля, Евдема и стоиков;
но только Ницше увидел в нем будущие возможности для
собственного мышления, в то время как все христианское мышление казалось
ему редуцированным к морали. Воспроизводя идею вечного
возвращения, он гарантировал своему познанию, что история мышления
неизменно соответствует основной схеме возможных типов
мышления и в русле необходимости возвращает ее назад, в исконно-древнее
«общее хозяйство души».
Ницше не знал, что его contra Christianos - это точное повторение
contra gentiles** отцов церкви, только с обратным знаком. Снова, только
с противоположной точки зрения, всплывают не только учение о
вечном возвращении, полемически разобранное Юстином, Оригеном
и Августином, но и все основные аргументы христианских апологетов
против языческих философов. Если сравнить аргументы Ницше с
аргументами Кельса и Порфирия, то нетрудно заметить, как мало он
добавил к античным аргументам против христианства, за
исключением христианского пафоса, который Ницше пустил в ход как
«антихристианин», а не как философ. Для Кельса, как и для Ницше,
христианская вера груба и нелепа. Произвольным вмешательством она
* Против христиан (лат.).
** Против язычников (лат.).
138
разрушает разумность космоса. Христианство для обоих - это бунт
необразованной черни, не воспринимающей аристократические
добродетели, гражданские обязанности и исконные традиции. Ее
бог- бесстыдно любопытный и слишком человеческий, это «бог всех
темных уголков» и посох для уставших. Если единственной
проблемой является подлинный смысл индивидуального спасения души,
то для чего тогда нужны, спрашивает, подобно Кельсу, Ницше,
ответственность за дела общественные и благодарность за хорошее
происхождение? Эти «святые анархисты», называемые
христианами, ставят себе в заслугу благочестия столь долгое ослабление
Imperium Romanum*, что германцы и другие варвары сумели, наконец,
ее завоевать. Ницшевский «Антихристианин» - это
воспроизведение античного упрека, гласящего, что христиане суть hostes humani
generis**, подлый сброд, плохо воспитанный и с испорченным вкусом.
Это взаимное соответствие древней и новой атаки на христианство
в историческом подходе демонстрирует стойкое значение первой
и объективно-историческое - второй, хотя античные нападки были
уже давно забыты к тому времени, когда Ницше дал им вторую жизнь.
Однако на почве изменившейся исторической ситуации древняя
идея вечного возвращения возникает вновь отнюдь не в том же
самом виде, а роковым образом модернизированной. Ницше пропел
свой новый гимн «невинности» существования сорванным голосом
- исходя из христианского «опыта». «Так говорил Заратустра» - это
вывернутая наизнанку Нагорная проповедь, причем в меньшей
степени греческая и языческая, чем гуманизм Гёте и Винкельмана. Слишком
глубоко отмеченный христианской совестью, Ницше оказался не в
состоянии лишить законной силы «переоценку всех ценностей»,
которую некогда христианство провело против язычества, и на
апогее современности вернуть потерянный мир в колею его
существования. «В качества растения» он был рожден близ «погоста», а «в
качестве человека» - в доме протестантского священника36, и даже
его последнее самоизображение - это
христиански-антихристианская книга «Се человек». Он был настолько христианским и
антихристианским, протестантским и протестующим, требующим и
полным надежд, что его толкала вперед лишь одна задача: маническая
страсть к будущему и валяк его созданию, направленная на то, чтобы
повернуть вспять отчуждение мира. Заратустра - «спасительный
человек будущего», а вся философия Ницше - «пролог» к нему. Ни один
* Римской империи (лат).
** Враги рода человеческого (лат.).
139
IV. Антихристианское повторение античности в апогее современности
греческий философ не мыслил так исключительно в горизонте
будущего и ни один не принимал себя в качестве исторической судьбы.
Все греческие мифы, генеалогии и истории представляли себе
прошлое как вечно длящееся основание. Столь же негреческой
является воля к власти, которая как воля, направленная на что-то, хочет
будущего, но вот вечное круговращение возникновения и
уничтожения - по эту сторону воли и цели. Для греков видимое круговое
движение небесных сфер воплощало собой космический логос и
божественное совершенство; для Ницше вечное возвращение есть
«самая ужасная» мысль и «величайшая тяжесть», поскольку
является антиподом его воли к будущему спасению. Ницше хотел
«преодолеть» временность времени в пользу вечности вечного возвращения;
греки исходили из вечно-сущего и мыслили исчезающее время как
уменьшенный образ вечности. Для греческого понимания человека
быть человеком означает то же самое, что быть «смертным», в то
время как Ницше хотел «увековечить» мимолетное существование
конечного человека. Для греков вечное возвращение объясняло
приливы и отливы в постоянной смене природных и исторических
явлений; для Ницше признание вечного возвращения требует крайней
и экстатичной точки зрения. Греки испытывали страх и почтение
перед неумолимым фатумом; Ницше сделал сверхчеловеческое
усилие, чтобы хотеть и любить его, дабы пересоздать высочайшую
необходимость в «принуждение нужды». Все эти превосходные степени,
«высочайшие» и «последние» воления и обратные воления,
созидания и пересозидания столь же противоестественны, сколь и чужды
грекам. Они идут от иудеохристианской традиции, из веры в то, что
мир и человек сотворены волей всемогущего Бога, что Бог и его
человеческое подобие в своей сущности суть воля. Ничто в ницшевском
мышлении не бросается в глаза так сильно, как подчеркивание нашей
творческой сущности, творческой благодаря акту воли, как у Бога в
Ветхом завете. Для греков творческое начало человека было
«подражанием природе» и ее естественной производительной силе.
Ницше прожил и продумал до конца преображение библейского «ты
должен» в современное «я хочу», но не сделал решающего шага от «я
хочу» к «я есмь» играющего мирами космического ребенка как самой
невинности и забвения. Как современный человек он был так
безнадежно отлучен от исконной «верности земле» и от чувства вечной
безопасности под шатром небес, что его попытка «перевести назад»
человека на язык природы была заранее обречена на провал. Его
учение расколото надвое, поскольку воля к увековечению
заброшенной в существование экзистенции современного эго не совмещается
140
с зрелищем вечного круговращения природного мира. Тем
удивительнее та внутренняя последовательность, с какой Ницше стал тем,
чем был с самого начала, и с какой он развивал «свои» идеи в ходе
двух десятилетий до самых последних выводов.
141
142
ν
«Как становятся самим собой»
в идее вечного возвращения
Подзаголовок «Как становятся самим собой» последнего
самоизображения Ницше, в соответствии с основным заглавием «Се
человек», полемически отсылает к христианскому требованию обновления
и изменения в результате обращения и нового рождения. Ницше-
Заратустра, став учителем вечного возвращения, правда, тоже
претерпевает «новое рождение» в результате обращения, но рождается он
не для новой, иной жизни во Христе, а для всегда одинаковой жизни
мира, в своем становлении возвращающегося назад к себе в вечном
круговращении. «Се человек» должен продемонстрировать, что и
его автор в ходе своей жизни стал лишь тем, чем и был с самого
начала, и что все мнимые случайности этой особенной жизни были
случайными необходимо, или, что то же самое, судьбой. Но если
философской судьбой Ницше является учение о вечном возвращении, то и в
становлении этого учения должно выявиться, что его последняя
проблема присутствовала уже с самого начала, принадлежа к
проблемам того рода, относительно которых мыслители не переучиваются,
143
V. «Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения
а доучиваются. Это доказывают два школьных сочинения
восемнадцатилетнего Ницше - «Фатум и история» и «Свобода воли и
фатум»1, а также одна автобиографическая заметка
девятнадцатилетнего2. То, что уже было намечено в ницшевском учении в 1872 году
в изображении Гераклита и окончательно сформулировано десятью
годами позднее, в «Заратустре», предварительно заложено в обоих
взаимосвязанных сочинениях 1862 года.
Оба содержат слово «фатум», отнесенное один раз к истории, а
другой - к свободе воли, поскольку история есть лишь там, где люди
действуют и чего-то хотят. Фатум, в отличие от свободы выбора,
отсылает к природно-необходимой определенности бытия,
принуждающей волю. Как принуждающая волю необходимость фатум
относится к истории человеческого воления, но сам по себе он недоступен
человеку. Фатум принадлежит к царству природы, которая такова,
какова она есть, и не может быть иной. Заключенная в
соединительном «и» обоих заглавий проблема касается, таким образом,
имеющегося в виду отношения истории человеческого воления к
природно-необходимой фатальности физического мира в его целом,
где существуют человек, воля, история. Что преимущественно
затрагивало в истории Ницше, который «как человек» был рожден в
пасторском доме, с времен его первого самоизображения и вплоть
до «Антихристианина» и «Се человек», - это история христианства и
лежащий в основе христианской морали род воления и отвращения.
Первая из двух работ начинается с понимания автором
рискованности попытки найти «более свободную точку зрения» для суждения
о христианском истолковании существования и его моральных
последствий. «Такая попытка - дело не нескольких недель, а целой жизни.
Ведь как же можно отвергнуть авторитет двух тысячелетий,
ручательства наиболее глубоких мыслителей всех эпох, основываясь на
результатах юношеских раздумий, как можно фантазиями и
незрелыми идеями перескочить через все эти глубоко запечатленные в
мировой истории веяния и благословенные плоды развития целой
религии?» - как можно сделать это даже взглядом Заратустры,
направленным поверх тысячелетий. «Рискнуть пуститься в море сомнений
без компаса и кормчего (в качестве «странника» без цели) - со
стороны незрелых умов есть глупость и испорченность; большую их часть
бури отнесут далеко-далеко, и лишь немногие (как Ницше-Колумб)
откроют новые земли.» «И тогда из далей неизмеримого океана идей
часто стремишься вернуться назад, на твердую землю: как часто во
время бесплодных спекуляций на меня нападала тоска по истории и
естествознанию!»3 Первый, решительный шаг к освобождению духа,
144
сделанный Ницше пятнадцатью годами позднее в «Человеческом,
слишком человеческом», и последовавшая за этим переоценка всех
ценностей, какое-то время имела вид нерешительного сомнения. «Я
пытался все это отвергнуть»4, но тяжко даже разрушение, а уж
строительство и того тяжелее. «Власть привычки, потребность в чем-то
более высоком, разрыв со всем установленным, упразднение всех форм
общества, сомнение в том, не блуждает ли человечество наугад вот
уже две тысячи лет из-за некоей иллюзии, ощущение собственной
дерзости и безрассудной отваги: все это ведет друг с другом
безрезультатную борьбу...»5 Возникает вопрос о моральности существующей
морали. Но в то же время отсюда вытекает и уже выходящий за эти пределы
вопрос: что означает вся система человеческой нравственности и ее
история в рамках «бесконечного мира», уже не «нашего»? Возможно,
это уже не результат какого-то одного духовного течения внутри
нашего общественно-исторического мира. Но какой смысл имеет «это
вечное становление» в бесконечной целостности вселенной? Что за
тайные движущие пружины скрывает в себе этот часовой механизм?
Не те же ли они, скажем, что и в часах, которые мы называем
историей? А события -только циферблат, показывающий, как стрелка
передвигается от часа к часу, «чтобы после двенадцати начать свой ход
заново; тогда наступает новый мировой период», - незрелая мысль, которая
возвращается в созревшем виде самого тихого часа великого полудня,
когда «часы жизни» задерживают дыхание, стрелка сдвигается, и
вечные «песочные часы существования» останавливаются в вечном
«кольце колец», которое сшивает разрыв между человеческой историей и
фатумом. Но что такое тогда человек в повторяющихся мировых
периодах как целом? Просто средство или он и сам - некая цель? Если бы
самой важной движущей пружиной в часах бытия была «имманентная
гуманность», то «это подкрепляло бы оба воззрения», устраняя разрыв
между бытием природного мира и историческим существованием
человека. Для нас, волящих людей, существуют прежде всего намерения
и цели, и мы по видимости полностью вовлечены в сферу своей
исторической гуманности, включены в «моральный» мир с его «совестью и
чувством долга». И все же вся человеческая история в «приливах и
отливах» устремляется в «вечный океан» - «невинность становления»6.
История гуманности - возможно, лишь самый маленький, хотя для
нас самый центральный круг среди бесконечно малых и бесконечно
больших кругов природных процессов, одно кольцо внутри великого
кольца всеобщего возникновения и уничтожения. Но как
соотносится человеческая «отдельная воля» в «кругах мировой истории» и
«общая воля» - если, конечно, последняя вообще чего-то хочет?
145
V. «Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения
«...Здесь лежит зародыш бесконечно важной проблемы, вопрос
о правомочности индивида по отношению к народу, народа - к
человечеству, человечества - к миру; и здесь же - фундаментальная
связь фатумаи историк»7, свободы и необходимости, воления и
долженствования. Человеку как таковому «высшее понимание»
«вселенской истории», то есть истории, которая включает в себя и
процессы природного универсума, кажется «невозможной» - но только
не сверхчеловеческому пониманию мира. Для этого понимания
человек должен был бы - подобно Заратустре - подняться над собой
и стать больше чем просто человеком. Величайший историк и
философ должен стать «пророком», тем, кто видит прошлое и будущее
сущего в целом. Лишь в этом случае он сможет познать фатальность
и в истории человеческого воления и быть свободным в условиях
жесточайшей необходимости. «Но фатуму его позиция (а именно в
отношении исторической гуманности) еще не обеспечена.»8
Поэтому возникает вопрос: что, если «события» - ничто, а наш
«темперамент», цветовой тон, в котором мы их переживаем, - всё? Отражается
ли во всем сущем лишь наш способ восприятия - или отражение
того, чего человек хочет, в том, что является миром, дает обратную
картину, и в нашем темпераменте запечатлены лишь процессы,
происходящие в мире природы? - Вопрос, ответ на который в конце
концов в последнем афоризме «Воли к власти» сводится к тому, что
человек подставляет свое зеркало зерцалу Диониса9. Не делает ли
человека «против воли» вот этим определенным человеком уже хотя
бы «фатальное строение черепа и позвоночника», а равным образом
привычка и происхождение? Но несмотря на это, мы не вол им и не
обладаем знанием в качестве самостоятельных людей, ведь человек
«человек <в ходе истории> никогда не воспроизводится в одном и
том же виде». «А если бы было возможно каким-то огромным
волевым усилием (т. е. таким, которое можно повернуть вспять)
перевернуть всю прошедшую мировую историю, мы тотчас вошли бы в
ряд независимых богов (тогда «я хочу» освободилось бы для «я есмь»
играющего мирами ребенка), и всемирная история означала бы тогда
для нас не более чем какое-то мечтательное самозабвение.»10 Но
покуда это «я хочу» человека не освобождено для простого
существования ребенка, играющего мирами посреди бытия, свободная воля
остается лишь чем-то «раскованным, произвольным», бесконечно
свободным, неопределенно-блуждающим духом. В противовес такой
воле фатум есть слепая, принуждающая необходимость, действующая
прошив свободной воли. Тогда друг другу противостоят два
различных принципа: фатум проповедует «одни события предопределяют
146
другие», то есть никакой свободы нет. Другой утверждает нечто
прямо противоположное: события без свободной воли - ничто. Если
бы первый принцип был единственно правильным, то человек стал
игралищем слепых сил, не отвечающим за свои поступки,
необходимым звеном в цепи событий. И должен был бы чувствовать себя
счастливым, если бы не понимал своего положения; тогда он жаждал бы
«испытывать безумное наслаждение, путая мир и его механизм»11.
Но, «возможно» - завершает здесь Ницше свою мысль, - наша
«свободная воля есть не что иное, как высшая потенция фатума». Тогда - как в
намеченном выше, но додуманном в противоположную сторону случае,
когда имманентная гуманность тоже выступает мировым законом, -
наша человеческая всемирная история оказалась бы единой с процессами,
идущими в «материи», «если понимать значение этого слова
бесконечно широко», а именно настолько широко, что под «материей»
понимается все сущее, всегда таковое уже от природы. Лишь тогда
человеческая история свободно устремилась бы в тот «неимоверный океан,
где, наконец, приходят к себе все рычаги мирового процесса,
соединенные, слитые, все-единые»12, история и фатум соединились бы, и воля как
«amorfati» соответствовала бы свободно выбранной необходимости.
В несколько более позднем сочинении «Свобода воли и фатум»
снова рассматривается проблема противоречия и гармонии
человека и мира. Вначале свобода воли в духе естественнонаучного
позитивизма снова сводится к своей противоположности, к «строению
мозга», с которым бессильна что-то поделать духовная воля. То, на
что «способна» воля, ей самой «отпущено фаталистически*». Однако
Ницше все же сразу выходит, философствуя, за пределы этого
позитивистского почина постановки вопроса и продолжает так:
«Поскольку фатум является человеку в зеркале его собственной
личности, то индивидуальная свобода воли и индивидуальный фатум - два
не уступающих друг другу противника. Мы видим, что верящие в
фатум народы отличаются телесной крепостью и силой воли...»13, в то
время как, предаваясь Божьей воле, люди, как правило, лишь
прикрывают свой страх решительно противостоять судьбе. Это
означает: безличный фатум индивидуализируется в собственный «удел»,
когда встает на пути у решительной воли отдельного человека,
поскольку свободная воля сама определяет фатум как судьбу.
Но если фатум как полагающий пределы все-таки предстает как более
сильный, чем свободная воля, то мы не должны забывать о двойственном
* У Ницше это значит «со стороны фатума».
V. «Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения
положении дел: в первую очередь, что фатум - лишь абстрактное
понятие, сила без вещества, что для индивида существует только
индивидуальный фатум, что фатум есть не что другое, как цепь событий, что человек,
коль скоро он действует и тем самым создает свои собственные события,
определяет свой собственный фатум, что события, какими они
постигают человека, вообще сознательно или бессознательно вызываются
им же самим и должны ему соответствовать. Но деятельность человека
начинается не только с момента его рождения, а уже в эмбриональном
состоянии, а, может быть, кто знает, уже в его родителях и предках14.
Проблема противостояния фатума и свободы, кажется,
приближается к какому-то решению посредством различения сознательной
и бессознательной деятельности, которое Ницше проводит в своих
поздних работах все более развернуто и которое ведет к
неожиданным выводам. Свобода воли и фатум срастаются, причем оба они
сами по себе суть лишь «абстрактные понятия». Так в сознательной и
бессознательной активности индивида исчезает «строгое различие»,
то есть абстрактная противоположность, того и другого.
Деятельность человека начинает становиться самостоятельной отнюдь не
только сразу после его рождения, а уже задолго до этого времени, в
смене поколений прошлого. В этой перспективе предсознательной
и бессознательной деятельности открывается возможность
восстановить связь человека с природой всего сущего. «В свободе воли для
человека заключается принцип обособления, отделения от
целого, принцип абсолютной неограниченности; фатум же снова вводит
человека в органическую связь с всеобщим развитием...»15, иными
словами, восстанавливает его в целостности того, что всегда
существует уже от природы. Но одновременно фатум вынуждает его и к
«развитию противоположной способности» - воления. «Лишенная
фатума, абсолютная свобода воли сделала бы человека богом,
фаталистический принцип - автоматом.»16
Но человек - ни безвольный автомат, ни бог, по своей воле
творящий бытие из ничто. Он - существо, которое может познать в бытии
как целом фатальность в том числе и как свою собственную исходную
природу и добровольно согласиться с ней. Такой человек был бы
тогда способен на «одобрение каждого мига всеобщего бытия»17, он смог
бы встроить себя в целостность всего сущего. В конечном итоге** на
свой начальный вопрос о соотношении свободы воли или истории
и фатума Ницше отвечает формулой «amor fati».
* Не обсуждаемого сочинения, а всего творчества Ницше.
События истории христианства были для Ницше с самого
начала проблемой, которая в рамках вопроса об истории и ее
отношения к фатуму главным образом стимулировала его работу. Ряд
школьных сочинений («О христианстве», 1862; «О жизни Иисуса», 1865;
«мысли о христианстве», 1865-66), а также некоторые юношеские
стихи («Господь призвал - и я иду», 1862; «Перед распятием», 1863;
«Теперь и прежде», 1863; «Гефсимания и Голгофа», 1864; «К
неизвестному богу», 1863-64) свидетельствуют о колеблющихся
сомнениях в истине христианства, с детства знакомого ему не в качестве
веры, преодолевающей мир, а лишь как «наумбургская добродетель».
Различие настроений первого и последнего из этих стихотворений
характеризует критический переход от сентиментальной веры в
старого, известного Бога к ожиданию неизвестного. Заглавие указывает
на апостола Павла, который истолковал языческую надпись
«неизвестному богу» в том смысле, что этот бог стал явным и заметным во
Христе. Именно этот ставший некогда явным Бог снова становится
для Ницше неизвестным, свою связь с которым он чувствует
двойственной - притягательной и отталкивающей. Между этими
стихотворениями стоит «Перед распятием» с его призывом к распятому
сойти с креста, причем сам призывающий страдает от своего
кощунства. «К неизвестному богу» уже проникнуто стремлением
предаться какому-то новому, «родственному» богу, который заставляет
служить себе того, кто к нему взывает. Амбивалентность поисков
прибежища характеризует уже стихотворение к известному, распятому
Богу, в зеркальных по смыслу строках: «Христос, спустись ко мне!» -
«Иду к тебе!» и: «Обняв, срываю тебя вниз» - «Подними меня к себе
из могилы». Двадцатью годами позднее в последней части
«Заратустры» («Чародей») Ницше снова описывает стихами свое
отношение к неизвестному богу. Он - сокрытый за молниями «казнящий
бог», который хочет его затравить18, его самый лютый, но
незаменимый враг, который должен отдать и предать себя ему. В
переименовании «Жалобы Ариадны»19, придающем новое толкование
стихотворению из «Заратустры», в конце появляется предстающий в
молниях «Дионис в изумрудной красоте». Наконец, в «Се человек»
Ницше подписывается «Дионис прошив Распятого». Вскоре после этого,
в безумных письмах к Стриндбергу, Брандесу и Гасту, его подпись
гласит «Распятый», а другой раз- «Дионис Распятый», и это может иметь
один смысл, связанный с тем, что уже в греческом мифе Дионис-Загрей
растерзан на куски, но и другой смысл - Ницше как «Антихрист»
смешивает Диониса с Христом. - Что можно вывести из этих
различных указаний на религиозность Ницше? Глубокомыслие, безумие,
149
V. «Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения
бессмыслицу? В любом случае - то, что последнее слово из «Се
человек» лишь наполовину является таким однозначным, каким
кажется буквально. Далекое от однозначности вольтеровского «Écrasez
rinfam», употребленного Ницше в этом месте, его «проклятье
христианству» и притязание положить конец «лжи» христианского
летоисчисления и начать новое с даты своего «Се человек», последнего
дня христианства, остается столь же двусмысленным, как
религиозность безбожника и атеизм человека, который в начале и в конце
своего жизненного пути призывает неизвестного бога.
Раннее сомнение в истинности христианской веры во внемиро-
вого Бога идет в автобиографической заметке девятнадцатилетнего
Ницше перед вопросом о выборе. Оно предваряется
примечательным предложением: «В качестве растения я родился близ погоста,
в качестве человека - в пасторском доме», а заканчивается тем, что
настала пора самому взять события под узду и выйти в жизнь. «Так
вот человек и вырастает из всего, что некогда его стискивало; ему
не надо рвать свои оковы - нежданно, если будет на то воля Божья,
они падут сами; и где то кольцо, в пределы которого он окажется
заключен в конце концов? Мир? Бог?»20 Двадцатью годами позднее,
будучи учителем великого кольца вечного возвращения, Ницше
сделал окончательный выбор в пользу телесного, физического мира в
противовес христианскому Богу, который есть дух, и символом того,
что стискивало его, взял себе обвивающуюся вокруг себя змею, чья
мудрость дополняется гордостью орла. Эта змея безначальной и
бесконечной вечности кружащейся в себе самой жизни многократно
видоизменяется в речах Заратустры. Как хтоническая сила она есть
символ земли, но она же окружает кольцом солнце, а, значит,
принадлежит как земному, так и небесному мирам и их вечной жизни.
Сначала змея вечности по отношению к смертному человеку
появляется в качестве гадюки, которая кусает Заратустру в шею, но ее
смертельный яд вытекает назад, когда она лижет его рану. В речи
«О видении и загадке» змея вечно порождающей и убивающей
жизни превращается в черную змею отвращения, почти задушившую
человека в образе пастуха (который затем оказывается
тождественным самому Заратустре). Ее нигилистическому окрасу соответствует
и речь о «черной реке» и «черном море». И как черная змея
удушающего нигилизма становится змеей вечного возвращения, так же черное
море смертной тоски превращается в море втекающих в себя самих
сил и «двойных вожделений»21 вечного возвращения. Далее, змея -
в «другой танцевальной песне» - есть искушение и соблазн жизни к
себе самой, великая «вязальщица» и «обнималыцица» в извивающихся
L50
волосах танцующей менады, которая хочет вести Заратустру тропой
любви по «кривым путям». Наконец, она - зеленая, ужасная змея в
долине смерти, где Заратустра встречает самого ужасного человека,
убийцу бога. Но муцрость Заратустры заключается в том, чтобы менять
эти разные шкуры одной и той же змеи: в качестве пастуха спасти
себя от смертельной болезни; в качестве убийцы бога избавить себя
от ненависти к себе и, наконец, увековечить себя через любовь к
вечному кольцу бытия, так что внутренняя взаимосвязь нигилизма,
смерти бога и вечного возвращения жизни отражается в образе
удушающей, отвратительной и обвившейся вокруг себя самой и вокруг
солнца змеи.
Мотив вечности, предстающий в образе кольца и обвивающейся
вокруг себя змеи, обыгрывается и в начале и конце второго
«Несвоевременного размышления» (1873-74), где проблемой недвусмысленно
становится временное качество историко-познавательного сознания
и объективно-исторической экзистенции. Некоторые места из
«Лекций о будущности наших образовательных учреждений» (1871-72)
предвосхищают тему, подхваченную «Заратустрой» в критике
исторического образования (в трех речах «О стране образованности», «О
непорочном познании» и «Об ученых»). Критика в каждом случае
направлена против декоративной «образовательной кожицы» знания,
построенного на исключительно исторической основе, и
противопоставляет ему «вечно одинаковые замыслы природы» и объяснение
«вечно одинаковых проблем». Но для этого требуется
неозабоченность будущим и способность на «одно мгновенье» останавливаться
на «пороге настоящего»22. Определяющая точка зрения для ницшев-
ской критики современного образования уже в лекциях о его
«будущности» - это простой взгляд на вечно-сущее, или вечное, в отличие
от двойного взгляда назад и вперед, на будущее и прошедшее.
Классическое образование не потому превосходит современное, что
основано на греческой истории и как таковое является непревзойденным
истоком, а потому, что греческая культура и образованность - в наши
дни, как и тогда, - соответствует истинной природе того, кто
получает образование. «Культура», говорится в конце второго
«Несвоевременного размышления», - сама есть лишь культивированная,
«улучшенная природа». Она подчиняется «вечному порядку», к которому
все снова устремляются вещи «с сообразным природе центром
тяжести». Память о понятой по-гречески physis* определяет и ницшев-
ское многозначное понятие «жизнь».
* Жизни (греч.).
V. «Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения
Несвоевременное размышление «О пользе и вреде истории для
жизни» критически различает современное, историческое
образование и неисторическое образование греков. Оно начинается с
указания на принципиально неисторическую жизнь: животные и дети,
в отличие от взрослых, живут «неисторически», потому что не
подвержены будущему и прошлому, а не выходят за свои пределы в
настоящем. Взрослые живут «исторически», потому что постоянно
вспоминают о том, что было, и ожидают того, что будет. Их жизнь
устремлена вперед и рассеивается позади них, а настоящее
мгновение есть лишь неудержимое «теперь» между «еще не» и «уже не».
Поэтому жизнь взрослого человека- никогда не совершаемое «imper-
fectum»*, которое, однако, именно как таковое стремится к
совершенству и завершенности, но никогда не может их достичь. Отсюда
тщетная тоска по более удачной жизни животного и ребенка, от
природы полностью соответствующих тому, чем они должны быть,
поскольку без зазора включены в настоящее каждого данного момента:
Погляди на стадо, которое пасется около тебя: оно не знает, что такое
вчера, что такое сегодня, оно скачет, жует траву, отдыхает, переваривает
пищу, снова скачет, и так с утра до ночи и изо дня в день, в своей радости
и в своем страдании совсем короткой веревкой привязанное к столбу
мгновения и потому не знающее ни меланхолии, ни пресыщения.
Зрелище это для человека очень тягостно, так как он гордится перед
животным тем, что он человек, и в то же время ревнивым оком смотрит на
его счастье - ибо он, подобно животному, желает только одного: жить,
не зная ни пресыщения, ни боли, но стремится к этому безуспешно, ибо
желает он этого не так, как животное. Человек может, пожалуй,
спросить животное: «Почему ты мне ничего не говоришь о своем счастье,
а только смотришь на меня?» Животное не прочь ответить и сказать:
«Это происходит потому, что я сейчас же забываю то, что хочу сказать»,
- но тут же оно забывает и этот ответ и молчит, что немало удивляет
человека.
Но человек удивляется также и самому себе, тому, что он не может
научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому; как бы
далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним. Не чудо ли,
что мгновение, которое так же быстролетно появляется, как и
исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, что это
мгновение тем не менее возвращается снова, как призрак, и нарушает покой
* Несовершенное время (в грамматике одно из прошедших времен); нечто
не совершённое или несовершенное {лат.).
другого, позднейшего мгновения. Непрерывно от свитка времени
отделяются отдельные листы, выпадают и улетают прочь, чтобы внезапно
снова упасть в самого человека. Тогда человек говорит: «Я вспоминаю»
- и завидует животному, которое сейчас же забывает и для которого
каждое мгновение действительно умирает, погружаясь в туман и ночь
и угасая навсегда. Поэтому животное живет неисторически: оно
растворяется в настоящем, как целое число, не оставляя по себе никаких
странных дробей, оно не умеет притворяться, ничего не скрывает и в каждый
данный момент является вполне тем, что оно есть, и потому не может
не быть честным. Человек же, напротив, должен всячески упираться
против громадной, все увеличивающейся тяжести прошлого; последняя
или пригибает его вниз, или отклоняет его в сторону, она затрудняет
его движение, как невидимая и непонятная ноша, от которой он для
виду готов иногда отречься (...) Поэтому-то его волнует, как
воспоминание об утраченном рае, зрелище пасущегося стада или более знакомое
зрелище ребенка, которому еще нет надобности отрекаться от какого-
либо прошлого и который в блаженном неведении играет между
изгородями прошедшего и будущего. И все же играм ребенка также
наступает конец: слишком рано отнимается у него способность забвения.
Тогда научается он понимать значение слова «было», того рокового слова,
которое, знаменуя для человека борьбу, страдание и пресыщение,
напоминает ему, что его существование, в сущности, есть никогда не
завершающееся imperfectum23.
Существующий в условиях исторического образования человек
не может жить просто, поскольку постоянно, но все-таки
неустойчиво, каждый момент времени предвосхищает то, что будет, и
вспоминает о том, что было. Он не умеет «забывать». Полный смысл
способности забывать раскрывается лишь в речах Заратустры, где с
особенной настойчивостью возвращаются метафорические понятия
из этого «Несвоевременного размышления» (играющее дитя, порог
мгновения, цепь прошлого) в виде символов - пробудившегося для
состояния ребенка Заратустры, ворот «мгновения» и избавления от
«это было», возвращаются, чтобы обрисовать третье
«превращение», благодаря которому нигилизм безусловного «я хочу»
преодолевает себя для признания вечно желающего себя бытия. То, что
поначалу предстает всего лишь нехваткой в дочеловеческом
состоянии, как ««историческая жизнь животного и ребенка, на
сверхчеловеческом уровне Заратустры оказывается позитивной полнотой.
Но как же простое невспоминание или забвение может быть путем
к совершенству? Только благодаря тому, что своевольный человек
153
V. «Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения
забывает себя через что-то другое и в нем, через что-то, что шире,
могущественней и самобытней, чем он сам. В качестве такого
вместилища в школьном сочинении о фатуме и истории назван «вечный
океан», куда устремляется вся история человечества, так что
выпавший случай человеческого существования забирается назад, в
необходимое целое природного мира. В том же смысле в «Заратустре»
пророк нигилизма, который учит тому, что «все тщетно, все равно,
все было», жаждет «моря», где можно утонуть, пока его «великая
тоска» в «пьяных песнях»24 не преображается в вожделение, всё снова
алчущее всего, а запечатанный колодец нигилизма не становится
источником и кладезем вечности. И опять-таки в том же смысле в
одном их стихотворных фрагментов черновиков «Заратустры»
говорится: «бросайся же в море»25, ибо божественно искусство забвенья.
Чтобы быть способным к нему, требуется преображение волящего
«я» в ребенка, играющего мирами.
Лишь в самом начале упомянутый в «Несвоевременном
размышлении» «ребенок» в первой речи Заратустры становится геракли-
товским ребенком, играющим мирами, который - в полемическом
обращении христианского нового рождения ребенком, коему
принадлежит царство Божье, - является отвечающей природе
невинностью и новым началом через забвение. «Порог мгновения»
становится «вечным» мгновением, в котором застывает время и
которое есть «полдень». Не разорванная цепь прошлого становится «это
было», от которого волящая как вперед, так и назад воля спасается
в amorfati
Но в «Несвоевременном размышлении» речь идет еще не об этом
спасении через божественное искусство забвения, а только об
освобождении от губительного для жизни знания в целях восстановления
природного равновесия исторической памяти и неисторического
забвения, причем, однако, ударение падает на способность в
определенной степени уметь ощущать неисторически как на более важную
и исконную. Ведь, по Ницше, можно жить счастливо почти без
воспоминаний, но вот без временного забвения жить вообще
невозможно. Как сокрытое развитие зародыша в темноте перед рождением
на свет есть неотъемлемое свойство органической жизни, так же
неотъемлемы от всех исторических событий и человеческих
поступков атмосфера непроясненности, закрытый горизонт и искусство
забвения. В нем заключена и возможность «счастья»,
представляющее собой состояние целостности и завершенности. Вот и «хорошо
удавшийся», описанный Ницше в «Се человек», - это такой человек,
который умеет забывать.
154
Кто не может замереть на пороге мгновения, забыв все прошлое, кто
не может без головокружения и страха стоять на одной точке, подобно
богине победы, тот никогда не будет знать, что такое счастье, или, еще
хуже: он никогда не сумеет совершить того, что делает счастливыми
других26.
Остановившись на пороге мгновенья, человек в состоянии забыть,
что он есть imperfectum, и на мгновение упразднить
незавершенность своей исторической экзистенции и свойственного ей истори-
ко-образовательного сознания.
Наконец, в последних абзацах первой части этого
«Несвоевременного размышления» взвешивается возможность не только
сравнительно н^-исторического, но и над-историческото отношения к
событиям истории. Ведь тот, кто однажды познал, что любое великое
историческое событие возникает в атмосфере непроясненности,
смог бы, «наверное» - по крайней мере, как познающий, -
возвыситься и до надысторической точки зрения, из которой следует, что
наша оценка научной истории - это безмерная переоценка и
«западный предрассудок». Надысторическая точка зрения дает
возможность понять, что на важнейший вопрос о том, для чего жить
вообще, можно ответить так же хорошо - или так же плохо, - задав его
человеку первого или девятнадцатого столетия. Некоторые
десятилетия, а то и столетия обширного хода истории не могут сообщить
ничего существенно нового о природе мира и человека. Вера в то,
что исторический процесс как таковой ведет к
усовершенствованным точкам зрения или даже вообще может разрешить проблему
истории, - обман перспективы, если мир «в каждое мгновение
завершен», поскольку у него нет ни начала, ни конца. Эта
надысторическая точка зрения предвосхищает то, чему Ницше учит в «Зара-
тустре» под названием вечного возвращения того же. В противовес
всем научным подходам к истории («монументалистским»,
«антикварным» и «критическим») знающие мудрецы всех времен сходятся в
том, что противоположность прошлого и будущего - по ту сторону
слишком человеческих перспектив нашего приятия и отвращения -
снимается во «всеприсутствия» непреходящих типов «вечно
одинаковой значимости».
Сотни различных языков соответствуют тем же типически прочным
потребностям человека, так что тот, кто понимал бы эти потребности, не
смог бы из всех этих языков узнать ничего нового; точно так же надысто-
рический мыслитель освещает себе изнутри всю историю народов и
155
V. «Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения
отдельных личностей, восстанавливая в своем ясновидении
первоначальный смысл различных исторических иероглифов и постепенно
даже уклоняясь от утомляющего притока все новых и новых письмен: ибо
бесконечный преизбыток развертывающихся перед ним событий не
может не вызывать в нем в конце концов чувства сытости, пресыщения
и даже отвращения!27
Рассуждение Ницше прерывается замечанием: «Но оставим над-
историческим людям их отвращение и их мудрость», чтобы заново
обратиться к «деятельным и поклоняющимся прогрессу», для
которых эта надысторическая мудрость - «отвращение», поскольку не
служит «будущему» и «жизни». Мудрость противоречит жизни,
покуда та все еще понимается в горизонте воли к будущему. В обеих
танцевальных песнях «Заратустры» отношения между жизнью и
мудростью вновь ставится под вопрос и утверждается, что они выглядят
до неразличимости похожими. Но и Заратустра, который будто бы
примирился со своей мудростью, знающей, что и все единичное
оправдывается в вечно возвращающейся целостности сущего, - все еще
тот, кто «преодолел великое отвращение» перед собственной
мудростью, не умеющей обойтись без знания о том, что всегда
возвращается и «маленький», презренный человек, тот, на кого он, тем не
менее, не устает нападать всеми средствами своего остроумия как
на «отребье» и «чернь», как на «базарных мух» и «тарантулов», а
также насекомых, подлежащих выведению. Конечно, Заратустра хотел
бы быть «человеком без отвращения», но ведь он знает и о том, что
лишь отвращение к жившим доселе людям открывает для него новые
источники будущего, сливающиеся в учение о вечном возвращении.
Главная тема дальнейшего рассмотрения - троякое отношение
исторического знания к жизни. Каждый из трех типов научной
истории, «монументалистский», «антикварный» и «критический», на свой
лад, не ведая о том, служит жизни. Первому соответствует человек,
прогрессивно-деятельный в своем настоящем, но, кроме того, еще
и берущий из прошлого примеры для будущего; второму - человек,
с пиететом сохраняющий все традиционное и не отделяющий себя
от своих корней; третьему - человек, который благодаря критике
прошлого освобождается от бремени нынешней научной истории
для возможностей, открывающих будущее. Сам Ницше мыслил в мону-
менталистском духе философско-исторически, когда представлял
философию «в трагический век греков» в качестве примера, и в
критическом духе, когда в «Сумерках идолов» рассказывал «историю самого
длительного заблуждения». - В размышлениях о монументалистском
156
подходе к истории впервые, и на удивление несвязно, появляется
идея вечного возвращения в буквальном смысле «того же самого».
Этот подход к истории предполагает, что великое, которое однажды
было, было возможно* любом случае однажды, а, следовательно,
возможно и снова. Но каким же образом бывшее однажды возможным
может повториться еще раз точно таким, каким оно уже однажды
было? Строго говоря, лишь в том случае, если
справедливо убеждение пифагорейцев, что при одинаковой
констелляции небесных тел должны повторяться на земле одинаковые
положения вещей вплоть до отдельных, незначительных мелочей; так что
всякий раз, как звезды занимали бы известное положение, стоик
соединялся бы с эпикурейцем для того, чтобы убить Цезаря, а при другом
положении Колумб открывал бы Америку28.
Мыслить такое тождественное возвращение того же самого
означало бы, однако, требовать, чтобы астрономы снова сделались
астрологами - о «звездах и будущем», как сказано позднее в «Зара-
тустре», до сих пор только грезили, но не знали их29.
В конце этого «Несвоевременного размышления» Ницше
возвращается к его началу:
Словом «неисторическое» я обозначаю искусство и способность забывать
и замыкаться внутри известного ограниченного горизонта; «надысто-
рическим» я называю силы, которые отвлекают наше внимание от
процесса становления, сосредоточивая его на том, что сообщает бытию
характер вечного и неизменного, именно - на искусстве и религии. Наука
(...) видит в этой способности, в этих силах враждебные силы и
способности: ибо она считает только такое исследование вещей истинным и
правильным и, следовательно, научным, которое видит всюду
совершившееся, историческое и нигде не видит существующего, вечного; она
живет во внутреннем противоречии с увековечивающими силами
искусства и религии точно так же, как она ненавидит забвение, эту смерть
знания...30
Лишь начиная с «Заратустры» ограничение «увековечивающих»
сил падает на искусство и науку, чтобы отныне составлять центр
философского учения Ницше. Лишь как учитель вечного возвращения
Ницше из несвоевременного критика своей эпохи становится
философом, преодолевшим свое время. Преодоление временности времени
в предисловии к самому последнему из несвоевременных размышлений
Ницше, написанному в 1888 году («Случай "Вагнер"») названо
подлинной задачей философов:
Чего в первую и в последнюю очередь требует от себя философ?
Победить в себе свое время, стать "вневременным". С чем, стало быть,
приходится ему вести самую упорную борьбу? Именно с тем, в чем он -
дитя своего времени. Что ж! Я так же, как и Вагнер, сын этого времени,
иными словами, декадент: и дело лишь в том, что я понял это, что я
защищался от этого. Философ во мне защищался от этого.
Через эту волю к преодолению времени замыкается круг,
начинающийся с критики историзирующего сознания и
заканчивающийся мудростью философского знания. В рамках античной традиции
Ницше - последний, а в рамках современного, историзирующего
сознания - первый, кто обладал философским мерилом для
познания времени и всего временного в виде вечно-сущего, или просто
вечного.
158
VI
Проблематичная взаимосвязь
между существованием человека
и бытием мира
в истории философии
нового времени
Под названием «Свобода воли и фатум», в качестве проблемы,
выдержанной в становлении ницшевского учения от начала и до конца,
проявляется спорное единство в расколе человеческого бытия и
бытия мира. Систематическое понимание этой проблемы, которая в
учении Ницше толкуется как воление космического возвращения,
требует выяснения ее исторического места в западной философии как
целом. История этой проблемы рассматривалась до сих пор под
одним углом зрения: как попытка воспроизвести античность в апогее
антихристианской современности. Апогей современности, откуда
Ницше получает обратно «своимир», определяется, однако, потерей
мира1. Мир потерян для человека в «пустыне его свободы» в пользу
ничто, а сама эта свобода для ничто, в свой черед, происходит из
159
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
и бытием мира в истории философии Нового ВРЕМЕНИ
потери «ты должен», источник которой - смерть Бога. Таким
образом, смерть христианского Бога - основа для возможности
получить мир назад, как и наоборот, вторжение христианства в
античный мир вызвало потерю этого последнего.
Отброшенный к себе через потерю мира,
христиански-современный человек есть в мире лишь таким образом, как если бы он им
не порожден; самоуглубленности христианского человека
соответствует выделение мира в нечто внешнее. Этот ставший ничтожным,
поскольку он понят христиански, «мир» секуляризировался с
наступлением Нового времени, заново открывшего мир. Он
секуляризировался до понятия самостоятельного «внешнего мира» - внешнего
по отношению не менее самостоятельного «внутреннего мира», и
оба они не соединяются в единое целое через веру в Бога как
общего творца человека и мира. Внутренний и внешний миры лишь очень
слабо связаны друг с другом через «потусторонний мир», ни к чему
больше не обязывающий. Вопреки ставшему ничтожным
потустороннему миру Ницше, наоборот, «хочет» «этого» мира, то есть мира,
каким он уже был, прежде чем стать исключительно «земным»
посюсторонним миром благодаря «тому» миру, который находится позади
чувственно воспринимаемого мира. Воля собственного возвращения
в великом кольце вечно возвращающегося мира, Ницше подставляет
свое собственное зеркало зерцалу Диониса и предлагает свое
«собственное решение» «загадке Диониса» волящего себя мира.
Распадение сведенное воедино притчи на двоякое уравнение
послужило указанием на то, что ницшевская попытка вернуть
античный мир была скована его собственной современностью. Ближайший
источник современности - в возникновении мира Нового времени,
совпавшее во времени с философией Декарта. Вместе с ней
секуляризируется ставший христианским мир. Критическая же поворотная
точка в современном мире - а это полная потеря мира в пределах
обмирщвленного мира - в философском отношении выражается в
экстремальном нигилизме Штирнераи в экстремальном
позитивизме Маркса.
В философии Декарта2 одновременно с математическим
конструированием мира происходит освобождение человеческого знания и
знающего о себе человека от авторитета клерикальной спаянной
общности. Ницше ясно видел это двойственное место Декарта - по
отношению к прежней вере и к будущему знанию, потому что был
сознательно безбожным. В Декарте он видит первого в мире
философа-физика, «сравнившего открытия одного ученого с рядом битв,
на которые была вызвана природа»3.
160
Логическая определенность, прозрачность как критерий истины («omne
illud verum est, quod clare et distinctepercipitur»*: механистическая гипотеза
о мире тем самым становится желательной и достоверной4.
Декарт первым поставил свободу философствования, хотя и с
осмотрительностью «larvatus»**, на основу суверенности разумной
воли. Но столь же знаменательно, как и его самостоятельная
позиция по отношению к себе самому и миру, и его сомнение в Боге
христианской веры, без какового сомнения невозможно понять и его
новую уверенность. «Абеляр хотел привнести разум в церковный
авторитет; в конце концов Декарт обнаружил, что всякий авторитет
содержится только в разуме», в то время как глубокой проблемой,
мучившей Паскаля, было «самопреодоление разума» в пользу
христианской веры5. Своим отважным сомнением в авторитете
христианства Декарт обязан самому же духовному гнету церкви6. Декарт
еще понимал,
что в христианско-моральной идейной схеме с ее верой в доброго Бога
- творца всех вещей, только правдивость Бога служит залогом
достоверности суждений на основе наших чувственных восприятий. А без
санкции религии и без ручательства, данного нашим чувствам и разуму, -
откуда ж нам взять право на доверие к существованию!7
А поскольку позиция познания по отношению к бытию
«оказалась бы зависимой от вынесенного раньше суждения о моральном
характере бытия», то Декарт выводил даже саму «истинность
чувственного восприятия из природы Бога»8.
Характерным результатом его трактовки сомнения9 было
фундаментальное онтологическое различение человека и мира по
критерию их достоверности. Человек уверен в себе как «res cogitans»;
все же другое, весь мир вгаего, сам по себе есть нечто
неопределенное как «res externa»***. Это расщепление сущего в целом на два в корне
различных вида бытия отныне царит в самых разных формах
«идеализма» и «реализма» в их понимании человеческого существования
и его отношения к сущему от природы миру вплоть до упразднения
Ницше «истинного» и «мнимого» миров. Со времен Декарта мир
считается внешним миром - в отличие от внутреннего самобытия мыс-
* Истинно все то, что воспринимается ясно и отчетливо (лат.) - Декарт.
** Одержимого (лат.).
*** Вещь мыслящая... вещь протяженная (лат.).
161
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
И БЫТИЕМ мира В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ Нового ВРЕМЕНИ
лящего человека и его сознательного придумывания мира.
Современной напряженности в конечном человеческом существовании
соответствует протяженность в бесконечном бытии мира, и «со
времен Декарта речь идет о наведении мостов» (Дильтей) от
предмостной площадки «я хочу» до ставшего посюсторонним и все же так
далеко отодвинутым миром. В конце этих попыток перебросить
мосты стоит ницшевская последняя воля к «обручению» заново с
разлученным миром - посредством воления вспять, к наивности,
свойственной античной уверенности в мире. Сомнение Ницше в
методологическом сомнении Декарта проявляется в характерном различии
между первой речью Заратустры и первыми предложениями
«Первоначал философии» Декарта. «Так как мы появляемся на свет
младенцами и выносим различные суждения о чувственных вещах
прежде, чем полностью овладеваем своим разумом, нас отвлекает от
истинного познания множество предрассудков; очевидно, мы можем
избавиться от них лишь в том случае, если хоть раз в жизни
постараемся усомниться во всех тех вещах, в отношении достоверности
которых мы питаем хотя бы малейшее подозрение.»* Ницше
оспаривает этот путь к достоверности знания и основывает свою
собственную, новую достоверность именно на том, что Заратустра на
своем пути к истине в конце концов «пробуждается», становясь
играющим мирами ребенком, каковой есть «забвение» и «новое начало»,
но не «один раз» и навсегда, причем в сомнении, а все снова и притом
в игре созидания. Пробудившись до состояния ребенка, Заратустра
освобождается - не только авторитета «ты должен», от которого
освободился уже Декарт, но и от «я хочу», хочу сомневаться во всем,
что прежде меня связывало.
Эту новую уверенность в отношении к миру, которую Заратустра
разрешает, чтобы «с наслаждением броситься в случайность»10,
Ницше обретает благодаря тому, что в апогее современности, когда уже
не осталось ничего истинного, он снова до основания подвергает
сомнению современное сомнение Декарта. Декарт, правда, сомневается в том,
существует ли он в истине, ведь Бог мог бы оказаться и обманщиком,
но убеждает себя в том, что обман несовместим с Божьим
совершенством. В противовес этому ницшевское «новое просвещение», для
которого Бог уже не просто сомнителен, а мертв, делает «исходным
пунктом» «иронию к Декарту», а его «легкомыслие» берет под
сомнение11. Ведь его «я не хочу быть обманутым» все равно может быть
способом самообмана со стороны более глубокой и тонкой воли. А
* Перевод С. Я. Шейнман-Топштейн.
самообман состоит в том, что Декартова воля к истине не хочет
признавать также и мнимость, кажимость, в виде которой и предстает
истина бытия. Его рациональный ум конструирует мир,
находящийся позади являющегося зримо12, чтобы самому быть уверенным в
изготовленном таким образом мире.
Декарт для меня недостаточно радикален. Когда он требует
достоверности и заявляет: «Я не хочу быть обманутым», - необходимо спросить:
«А почему бы и нет?» Короче говоря, моральные предрассудки (...) в
пользу достоверности против видимости и неопределенности13.
Сама вера Декарта в непосредственную достоверность - это все
еще вера во власть разума, а не исконная уверенность в мире.
Мы, современные люди, все являемся противниками Декарта и не
принимаем его догматического легкомыслия в вопросе о сомнении.
«Сомневаться следует лучше, чем это делал Декарт!» Повсюду, где есть глубоко
мыслящие люди, мы находим нечто обратное, движение, направленное
против абсолютного авторитета богини по имени «разум». Фанатичные
логики подводили нас к мысли, что мир есть обман и что только в
мышлении проложен путь к «бытию», к «безусловному»14.
Возможна ли достоверность в знании вообще - или она зиждется
только на бытии? И что такое познающее знание по отношению к
бытию?
Для того, у кого на все эти вопросы есть готовые догматы,
осторожность Картезия больше не имеет смысла: она приходит слишком
поздно. Прежде чем решать вопрос о «бытии», необходимо решить вопрос
о ценности логики15.
Для Декарта «бытие» заранее определяется как познаваемое
бытие, потому что он верит в научное знание, но не видит
несокрытого, истинного лика высшего вида живого бытия.
Следующий шаг в определении отношения между человеком и
миром за пределы Декартова фундаментального различия сделан
Кантом, чей категорический императив Ницше толкует с оглядкой
на успокаивающее сомнение Декарта так: «Неужели Бог все-таки
был обманщиком, вопреки Декарту?»16 Иными словами: Кант
полагается на один разум, который говорит ему, что он «должен»; поэтому
он больше и не нуждается в сомнительном уверении Декарта, будто
163
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
и бытием мира в истории философии Нового ВРЕМЕНИ
Бог его не обманывает. Если Декарт впервые поколебал авторитет
церкви, но сам в своей новой достоверности убеждает себя все еще
теологически, то Кант интерпретирует заповеди христианской веры
как уже изначально заданные практическим разумом. Как же
соотносятся человек и мир, если «истинный мир» позади действительного
стал «недостижим и недоказуем» - в качестве всего-навсего какого-то
«обязывающего» императива? Не распадается ли целостность бытия
на две никак не связанных части, если Бог уже не удерживает их вместе
как руководящий творец?
Этот распад человека и мира надвое Кант17 сформулировал в
характерном месте, в «Заключении» к «Критике практического
разума», в известном положении, что есть две вещи, которые всякий раз
все снова наполняют душу изумлением и которые я
непосредственно связываю с осознанием моего существования: звездное небо надо
мной и моральный закон во мне. Различаются же они следующим
образом:
Первое начинается в том месте, которое я занимаю во внешнем,
чувственном мире, и на неизмеримую величину распространяет связь, в
которой я состою с мирами над мирами и с системами систем, а кроме
того, на неизмеримые времена в их периодическом движении, их
начала и продолжения. Второе начинается с моей невидимой
самоидентичности, моей личности, и представляет меня в мире, который
обладает истинной бесконечностью (...) и с которым (но тем самым
одновременно и со всеми зримыми мирами) я осознаю себя состоящим не
как в первом случае, в чисто случайной, но во всеобщей и необходимой
взаимосвязи18.
В совокупности бесчисленного множества миров, говорит Кант,
я теряю свою человеческую значимость; я - всего лишь природное
живое существо среди других таких же; но как морально
ответственное разумное существо, имеющее представление о сущем как целом,
я все же - «жизнь, независимая» от всего чувственного мира
природы. Но не годится и просто стоять в изумлении перед системой
чувственного мира, только созерцая звездное небо, и удивляться
моральному закону во мне: нет, в обеих сферах необходимо
заниматься исследованием, чтобы космическое миросозерцание не
кончилось на «астрологии», а моральное - на «суеверии и
фантазерстве».
Следующий шаг, ведущий за пределы кантовского учения, сделал
Фихте в «Назначении человека»19. Моральное существование и при-
164
родный мир соединимы для него уже не в аналогичности их законов
- их взаимосвязь есть диалектическая антиномия природного бытия
человека и его морального самобытия. Это внутричеловеческое
противоречие может быть снято лишь в философской «вере». Первое
рассуждение в первой главе трактата Фихте изображает человека
как природное живое существо среди всех других. Он, как и все
прочее сущее, «насквозь определен» природой, и лишь в этом, как
кажется, состоит все его «назначение». В реально существующей
природе как целом всё во всех своих частях в точности таково, каково
оно есть, и другим быть не может, оно пеобходимопо природе.
Причины собственного существования в себе самом не имеет ни одно
сущее, всё включено в причинно-следственную взаимосвязь на основе
пронизывающей всё силы природы как бытийной причины всех
возможных сущих. Всякое проявление единой природной силы в
универсуме с необходимостью таково, каково оно есть, «и совершенно
невозможно, чтобы оно было хоть чуть-чуть иным, чем есть». Всякий
человек тоже не существовал бы и не был бы таким, каков есть, если
бы не существовало и всего другого таким, каково оно есть. Я сам
- звено в цепи строгой природной необходимости.
Я возник не благодаря себе самому. Было бы абсолютной нелепостью
считать, будто я был прежде, чем появился, чтобы привести к
существованию себя самого. Я стал действительным благодаря какой-то другой
силе вне меня. Так благодаря какой же, если не всеобщей силе природы,
поскольку я являюсь частью природы? Время моего возникновения и
свойства, с какими я возник, были определены этой всеобщей
природной силой; и все те формы, среди которых с тех пор проявились и будут
проявляться, покуда я буду существовать, эти врожденные мне свойства,
определены все той же природной силой. Было невозможно, чтобы
вместо меня возник кто-то другой; невозможно, чтобы этот уже возникший в
какой-то момент своего существования стал иным, чем он есть и будет20.
Это само по себе невинное существование человека, правда,
сразу сопровождается осознанием себя самого, но и оно с
необходимостью входит в человеческое бытие, как самодвижение - в бытие
животного, а рост - в жизнь каждого растения21.
Стало быть, у человека нет никакого особенного
предназначения, которое обеспечивало бы ему особое положение в космосе, -
его предназначение всегда диктуется природной необходимостью,
поскольку он есть этот определенный человек, а не какой-нибудь
другой.
165
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
И БЫТИЕМ МИРА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Я тот, кто я есть, поскольку в этой взаимосвязи природного целого был
возможен только кто-то такой, а вовсе не кто-то другой; и ум, который
мог бы полностью обозреть внутреннюю сторону природы, смог бы,
познав одного-единственного человека, точно сказать, какие люди
существовали в любой момент прошлого и какие будут существовать в
любой момент будущего; в одном индивиде он познал бы всех реальных
индивидов. Эта моя взаимосвязь с природным целым - именно то, что
определяет все, чем я был, что я есмь и чем я буду: и вышеназванный ум мог
бы из каждого возможного момента моего существования непогрешимо
вывести, чем я был до него и чем буду после него. Все, чем я всякий раз
являюсь и буду являться, я являюсь и буду являться с абсолютной
необходимостью, и невозможно, чтобы я был чем-то иным22.
Но уже в этом первом рассуждении такая позиция
наталкивается на противоречие, в результате чего переходит в
противоположную. Ведь я одновременно осознаю себя самого в качестве
самостоятельно относящегося к себе существа, которое может сказать себе
«я». Человек своим сознательным своеволием может решиться на
то или другое, он может даже закончить собственное свое
существование, решившись на самоубийство. А непосредственно мое
сознание вообще не выходит за мои пределы, ведь «я» не являюсь самой
образующей человека силой природы, а есть лишь одно из ее
проявлений, которое осознаю в качестве моего собственного «я». Благодаря
этому я предстаю перед собой как свободный, но и как ограниченный
в моей свободной самостоятельности, когда из-за «внешних
обстоятельств» я не могу то, чего хочу. Таким образом, человек кажется
двояким: сам по себе - природно-необходимым проявлением
всеобщей силы природы, а для себя самого - свободной способностью
быть. И «поскольку в природе нет ничего, что противоречило бы
себе, то является ли лишь человек существом противоречивым?» На
почве первого рассуждения этого противоречия не разрешить. После
него идет второе, исходящее из обратного вывода. Я сам хочу для
себя и через себя самого быть чем-то, основой своего
самоопределения, и получить ранг исконной природной силы. Но для этого
человеку нужно быть свободным от априорной природной
обусловленности. Присущее свободной воле сознание не может
претендовать на роль чисто природной заданности человека. А фактически
оказывается, что для человеческого сознания ею безусловно
выступает весь мир, что она существует не непосредственно, а
опосредствованно через нас, к примеру, как чувственный мир, данный
нашим чувствам. Сама субъективность всегда является определяющей
166
для природного внешнего мира. Непосредственно достоверно лишь
то, что я осознаю для себя свое видение и чувствование чего-то. Все,
что «есть», есть возможный объект моего сознания, ибо объект есть
объект, лишь поскольку он стоит напротив меня.
Это сознание предмета сопровождается самосознанием. Я в
любой момент могу вернуться от своего видения чего-то к своему
видению как таковому. Таким образом, вопрос уже не тот, что был
поставлен вначале: «Как человек выглядит на фоне универсума», а
обратный: «Как мне выйти из орбиты своего самосознания и сознания
мира к реальным вещам? Какие "узьГ связывают меня с ними?» Однако
этот вопрос недействителен в отношении меня; ведь знающее о
себе самом «я» уже есть одновременно субъект и объект для себя самого,
простое тождество обоих, а вещь кажется просто продуктом моего
представляющего сознания. Но не превращается ли в фантом вместе
с потерей самостоятельности сущего вне меня мира и ставшее
самостоятельным «я»?
Вся ли это мудрость, к которой ты подал мне надежду и теперь
хвалишься, что таким образом несешь мне свободу? - Ты несешь мне свободу,
это верно: ты объявляешь меня свободным от всякой зависимости; а
делаешь это ты, превращая меня самого в ничто, и все вокруг меня, от
чего я мог бы зависеть, тоже в ничто. Ты упраздняешь необходимость
тем, что упраздняешь всякое бытие, ты просто все уничтожаешь23.
Тем самым начинается третье и последнее рассмотрение* о
«вере», которая, в свою очередь, как будто бы выводится из этого
«последовательного мироотрицания», как Ницше назвал
теоретико-познавательный результат своего первого освобождения. Назначение
человека - отнюдь не чистое знание, а знающая практика с верой в
реальность, которая на практике выводит за пределы ничто
второго рассмотрения.
Если я буду действовать, то без сомнения буду знать, что действую и
каким образом действую; но это знание не будет самим действием, а будет
только наблюдать за ним. - Этот голос, стало быть, возвещает мне
именно то, чего я искал, - нечто лежащее за пределами знания и согласно
своему бытию полностью от него независимое24.
* «Рассмотрениями» Левит называет три «книги» (главы), из которых
состоит трактат Фихте.
167
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
и бытием мира в истории философии Нового времени
Здесь, кажется, лежит точка, к которой прикрепляется и сознание
всякой реальности, - фактическая заинтересованность
действующего «я» в реальности25. Но эта заинтересованность задана совестью,
взывающей к свободному первичному действию (Tathandlung) и
благодаря этому снова сделать для нас мир достоверным.
Мы действуем не потому, что познаем, а познаем, потому что
предназначены для того, чтобы действовать; практический разум - корень всякого
разума. Законы действия для разумных существ непосредственно
достоверны: их мир достоверен лишь потому, что достоверны первые. Мы не можем
не слушаться этих законов, не повергая для себя в абсолютное ничто мир,
а вместе с ним и себя самих; мы поднимаем себя из этого ничто и
держимся над этим ничто исключительно благодаря нашей моральности26.
Фихте устраняет нигилизм свободы позитивностью морали.
Завершает его рассуждение божественная воля, порождающая самое
себя, она устанавливает связь между Я и не-Я природного мира вне
меня, выступающего всемирным планом, которым руководит
божественное провидение и которое для человека является «моральным
испытательным учреждением», «школой для вечности». Все это
заканчивается такой картиной универсума:
Универсум для меня - уже не впадающий сам в себя круг, беспрестанно
повторяющаяся игра, чудовище, глотающее себя самого, чтобы снова
себя породить, как это уже было: оно в моих глазах одухотворено и
несет на себе собственную печать духа; это постоянное продвижение к
совершенству по прямой линии, уходящей в бесконечность27.
Мир исчезает перед моим взором и тонет, мир, которым я только сейчас
так восхищался. Со всем изобилием жизни, порядка и процветания,
которое я созерцал в нем, он все же - лишь занавес, за которым от меня
скрыт мир бесконечно более совершенный, зерно, из которого должен
вырасти этот последний. Моя вера проникает за этот занавес и
животворит это зерно. Она не видит ничего определенного, но ожидает
большего, чем может постичь здесь, на земле, и когда-либо может постичь
во времени,28
тогда как Ницше отбрасывает прочь занавес этой потерявшей
санкцию морали, чтобы снова сделать видимой повторяющей самое
себя игру уничтожения и созидания в круговращении мира.
В ответ на фихтевскую «аннигиляцию» природного мира ШеллинР
сказал о Фихте, что тот, правда, великий оратор, умеющий разобрать
вещи вплоть до скуки, но его чистое деятельное «я» превращает мир
в чистое ничто.
Такая превращенная в полное ничто реальность есть, следовательно,
главный пункт для господина Фихте: чистоте его познания мешает уже
то, что нечто вообще существует, что вечное на самом деле реально, и
только после того, как оно реально, оно и познается, поскольку как раз
это познание само относится к его реальности. У Фихте же все
существование природы сводится к цели его обработки и хозяйственного
управления человеком. (...) Соответствие природы и идей, согласно
ему30, возможно лишь таким образом, что природа устроена в
соответствии с идеей, а не таким, что сама истина является бытием, а бытие,
или природа, само есть истина. (...) Ради этой цели необходимо (для
Фихте) знание законов, по которым действуют те силы, то есть физики.
Но природа должна быть для человека не просто полезной и пригодной,
что было ее первой целью и хозяйственным настроением, нет, «она
должна заодно окружать его подобающим образом», то есть (как же иначе
это истолковать?) должна быть переделана в приятные сады и поместья,
прекрасные жилища и соответствующее движимое имущество, что и
является второй целью и эстетическим настроением природы. - Можно
ли понять такое умонастроение и представление о такой природе,
которая годится лишь на то, чтобы быть переделанной в инструменты и
домашнюю утварь, иначе, чем как самое слепое презрение ко всей
природе, отважно полагающее, будто нельзя сильнее оскорбить человека,
чем сказав: в нем действует и мыслит некая природная сила. (...) Он
превознесся над всей властью природы и давно заткнул в себе этот
источник, если тот вообще когда-либо в нем бил; всякий убедится в том,
что в нем мыслит не природа, ведь как она может высказываться перед
ним самим? Если бы она захотела проявить себя хоть чуть-чуть, он
немедленно заглушил бы ее своим криком и заговорил бы ее до смерти своей
мудростью...; он давным-давно свел ее в себе с ума; но если послушать
его, остается неясно, кто из них большее зло для другого31.
Шеллинг, которым Ницше никогда не занимался и воздействие
которого дошло до него только в побочном виде метафизики воли
Шопенгауэра и философии бессознательного Э. Гартмана, -
единственный мыслитель немецкого идеализма, кто - несмотря на свои
теогонические построения - находится в позитивной связи с ниц-
шевским учением о вечном круговращении. «Животворящее начало
высшей науки», говорится во введении к «Возрастам мира»32, может
быть лишь «изначально-животворящим», исконным существом, ко-
169
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
и бытием мира в истории философии Нового времени
торому не предшествует никакое другое, для которого нет ничего
вне его самого и которое, следовательно, должно развиваться
исключительно из себя самого, по собственному почину и воле. Это
изначально-животворящее и древнейшее, эта «бездна прошедшего»,
которая неизменно остается насущной и существует дольше, чем все
однажды ставшее, может быть предметом знания и рассказа как бы
о древнейшей истории, поскольку человек берет свое начало из
того же самого источника и обладает изначальной, хотя и
потускневшей и забытой осведомленностью, совместной со всем творением.
Это древнейшее и непреходящее - «природа в совершенном смысле
слова», как и человек есть природа без ущерба для своей свободы.
Тайное общение между бессознательно знающим «чувством»
человека и стремящимся к науке духом, получающим ответ на свои
вопросы от того самого свидетеля бывшего и существенного, в
котором знание изначально содержится сокровенным образом и в
зачаточном виде, эта тихая беседа между стремящимся знать духом и
бессознательно знающим чувством есть, по Шеллингу, настоящая
тайна философа, отыскивающего высочайшее и глубочайшее знание
об изначальной природе всех вещей. В этой беседе - говоря вместе
с Ницше, «жизни» и «мудрости», - природа приходит в человеке к
выразимости, саморазличимости и внятности. И если бы
вопрошающе-исследовательское изыскание смогло возвыситься до простого
рассказа о сущности и происхождении вещей, как в платоновском
возвращении истолковательной диалектики к «простоте истории»
философского мифа, то философ стал бы провидцем, который
сводит воедино в своем созерцании «то, что было, то, что есть и то, что
будет». Ведь природа всего происходящего во всем живом всегда одна
и та же, и тот, кто сумел бы рассказать историю своей жизни с
самого начала, подвел бы тем самым итог всей истории вселенной. Но
большинство людей отворачивается от сокровенных сторон
собственной души так же, как и от бездонных видов великой жизни,
которая, как и все живое, начинается во тьме и ужасе, и лишь потом,
укрощенная, выходит оттуда к свету. В этой изначальной жизни,
соединяющей человеческую жизнь с всеобщей жизнью в истории
вселенной, действует неотъемлемое от ее сущности противоречие: она
одновременно отрицает и утверждает, разрушает и созидает,
раскрывает и скрывает себя. Этот двойственный характер бытия
изначальной жизни - на языке Ницше дионисийского мира - был
издавна известен и получал имена света и тьмы, неба и земли, мужского
и женского. Как изначальная целостность она есть нечто
совершенное в себе и округлое, замкнутое и завершенное, и в равной мере
170
содержит в себе изначальную уничтожающую и созидающую силу.
«Первая природа» - это постоянное вращение, никогда не
останавливающееся круговое движение без начала и конца. Изначальная
сущность не хочет ничего, кроме себя самой, она есть самоволение.
Эта вечно кружащаяся в себе жизнь есть своего рода «кругооборот»,
беспрестанно вращающееся «колесо» или «часовой механизм»,
движение, постоянно идущее вперед и назад, неизменная смена
«прилива и отлива» - все сплошь слова, которыми пользуется и Ницше,
чтобы выразить фундаментальный характер всеобщей жизни.
Шеллинг, ссылаясь на Гераклита, дает полное понятие первой природы,
включающее в себя и природу Бога, очень похоже на то, что Ницше
говорит в последнем афоризме «Воли к власти», - это
«беспрестанно порождающая и снова пожирающая себя самое жизнь, которую
человек должен не без ужаса смутно предчувствовать как сокрытую
во всем, хотя сейчас она и укрыта, внешне проявляя спокойные
качества». Постоянно отходя назад, к исходной точке, и вечно начиная
заново, она делает себя субстанцией (idquodsubstaf), чем-то
непреходящим и основополагающим. Это постоянно действующий
внутренний двигатель, часовой механизм, «вечно начинающееся, вечно
становящееся, всегда поглощающее себя и всегда снова порождающее
себя время».
Решающее отличие от ницшевской метафизики все снова воля-
щей себя жизни заключается в том, что Шеллинг не приравнивает
это постоянное вращение первой природы к насущному «миру», а
уж и того меньше - к божественному бытию. Если бы природа
застыла в своей первой природе, то не было бы ничего, кроме
вечного вдоха и выдоха, постоянной смены возникновения и
уничтожения, расширения и сжатия, вечного порыва к бытию, - не было бы
действительного, то есть постоянного, наличного и осознающего
себя существования33. В соответствии с этим Шеллинг конструирует
теогонический процесс спасения животворящего вращения для
свободы в сущности Бога, который не является ни сущим, ни не сущим,
а, подобно чистой свободе, есть ничто: чистая, ничего не волящая
воля, бесстрастная и ничего не жаждущая, чистый бесприродный
дух. Бог есть вечная свобода быть, а природа - лишь необходимая
материя, или возможность, его реализации. Сама она - не Бог, но и
не мир, она лишь относится к необходимой природе Бога и к
предпосылке мира. Предоставленная себе, изначальная природа есть нечто,
что «не знает, как быть», это жизнь в «страхе» и «напасти», тоскую-
* То, что существует (лат.).
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
И БЫТИЕМ МИРА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
щая по надежному бытию. То же самое относится к человеку, чья
глубочайшая сущность, правда, тоже является тем самым колесом
природы, но он хочет от него избавиться34.
Поэтому насколько абсурдно держаться за современные
представления о человеке и о мире, иначе говоря, за картезианские,
вместо того, чтобы заново связать нить, идущую от древнего и
древнейшего, настолько же бессмысленно было бы застыть в нем, поскольку
бездна природы не обосновывает свободной сущности Бога и
подобного ему образом человека. Эта бездна проявляется в человеке,
если он больше не в ладу с собой, если он болен или душевно болен,
потому что его покинула командная сила духа. Человек является
самим собой, лишь когда в ходе «кризиса» разлучается со своей
природой и ее прошлым, когда однажды раз и навсегда молниеносно
решается на это, тем самым кладя свое истинное начало. Но, с
другой стороны, и всякое разумное и сознательное воление
предполагает слепую и бессознательную силу наития и, в сущности, только
развивает ее. В этом смысле Шеллинг толкует священное безумие дио-
нисийского опьянения35. Дионисийское, разрывающее себя безумие
еще и сейчас есть внутреннее ядро вещей и природная сила всякой
продуктивности, и только свет высшего рассудка обуздывает его.
Ведь чем же еще оправдывать и проявлять себя рассудку, если не
обузданием безумия? Полное отсутствие безумия ведет не к разуму, а к
слабоумию. Первичная материя всей жизни и существования, по
Шеллингу, а также и по Ницше, - это ужас: слепая власть и сила, варварский
принцип, который можно преодолеть, но никогда нельзя устранить;
он есть «основа всего величественного и всякой красоты»36.
Во «Временах мира» Шеллинга попутно содержится полемика
с «пустозвонством» формальной диалектики Гегеля и мнением,
будто, чтобы понимать абсолютное, рассудку надо противопоставлять
более высокий «разум», вместо того чтобы постичь, что противник
рассудка - не разум, а безумие, без «ходатайства» которого не было
бы и никакого животворного рассудка.
В системе Гегеля природа не обладает изначальным,
основополагающим и самостоятельным значением. Она есть «инобытие идеи».
Осознавая раскол между человеком и миром в Новое время, Гегель
в полемике с Кантом, Фихте и Шеллингом пытался восстановить
утраченное единство самобытия и инобытия в посредничающей
философии абсолютного духа, который сам является «второй»
природой. Результатом такого посредничества выступает
«отождествленность с самим собой в инобытии». Однако этот процесс Гегель
реализовывал в ясном представлении о «заглаживании порчи» на
172
исходе христианской эпохи западной философии37 и с оглядкой на
раздвоенности человека и мира, начавшуюся в Новое время в
философии Декарта.
Всем сторонам живой природы, а равным образом и философии,
следовало бы поискать средств спасения от картезианской философии (...),
которая в философской форме выразила дуализм, поголовно
распространяющийся в культуре новейшей истории нашего северо-западного
мира, - дуализм, всего лишь разноцветными изнанками которого как
заката всей старой жизни являются как тихое изменение общественной
жизни людей, так и громкие политические и религиозные революции, -
от нее, а также и от общей культуры, которую она представляет. То, что
в этом отношении сделано философией, было встречено с яростью -
там, где она сработала чисто и открыто; там же, где она делала свое дело
намеками и путано, рассудок с легкостью победил и переделал все на
старый дуалистический лад; все науки положили свое основание на этой
смерти, а что в них еще оставалось научным, то есть, по крайней мере,
субъективно живым, то полностью умертвила эпоха. Так что если и не
сам дух философии непосредственно оказался тем, что, погрузившись
в это обширное море, тем сильнее чувствует ограниченность своих
растущих крыльев, то вся скука наук - этих сооружений покинутого разумом
рассудка, который, что самое скверное, укрывшись за именем либо
просветительного, либо морального разума, в конце концов, разрушил и
теологию, - делающих невыносимой всю эту плоскую экспансию,
должна была возбудить, по крайней мере, тоску изобилия по искре пламени,
по концентрации живого созерцания и, поскольку мертвое уже
довольно давно распознано, по познанию живого, возможному лишь
благодаря разуму38.
Духовная сила Гегеля не смогла остановить историю этого
распада. Как раз своим «заглаживанием» он и прояснил для последующего
времени, что человек и мир раздвоены с тех пор, как Бог больше не
удерживает их вместе, а на его место пришел абсолютный «дух».
Вместе с «пением петуха позитивизма»39 клонится к закату этот
теологический потусторонний мир, который от Декарта до 1Ъгеля
препятствовал актуализации уже существовавшей
проблематичности в отношении человека к миру как внешнему миру. Эта
актуализация произошла в крайнем радикализме Штирнера и Маркса. Для
обоих уже вообще не существует мира, естественного по своей
природе. Для «Единственного» Штирнера мир становится пригодной
«собственностью», а для «коллективного человека» Маркса -общест-
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
И БЫТИЕМ МИРА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
венным «средством производства» в человеческом мире, который
лишь предстоит изготовить.
«Я сделал ставку на ничто» - эпиграф к самодовольному
нигилизму Штирнера40. «Единственный и его собственность» (1844*)
состоит из двух глав, носящих названия «Человек» и «Я». Проблема для
Штирнера - ни человек, ни мир, а «я» как единственный собственник
моего всегда собственного мира. В самом конце утраченной веры в
Бога и мир единственное «я» Штирнера, как некогда Бог, творит
свой мир из ничто.
Божественное - дело Бога, человеческое - дело «человека». Мое дело -
ни божественное, ни человеческое..., а исключительно мое, причем оно -
не всеобщее, а - единственное, как единствен Я.41
И вот я принимаю мир как то, чем он является для меня, в качестве моего
собственного, в качестве моей собственности: я всё соотношу с собой.42
Тем самым Штирнер осознает себя стоящим в начале новой
эпохи. От нее он отличает старый и новый мир античности и
христианства, а в качестве последней формы последнего признает
политический, социальный и гуманитарный либерализм. Для древних
«мир» был истиной, ложность которой разоблачило христианство.
Для людей Нового времени истиной стал «дух», лживость которого
разоблачил Штирнер, следуя за Фейербахом и Б. Бауэром.
Если древние не знали ничего, кроме мудрости о мире, то современные
люди никогда не доходили и не дошли дальше, чем до богословской
учености. Мы ... увидим, что даже недавние возмущения против Бога - не
что иное, как крайние старания «богословской учености», то есть
теологические мятежи43.
В конце концов, даже гуманный человек стал казаться
божественной истиной, но этот «человек», к которому апеллирует философия
после Гегеля, есть лишь многозначительная фраза, и Штирнер
перебивает ее своей «абсолютной фразой» о «Единственном»,
призванном положить конец всем фразам. Штирнер открывает, что не только
философия от Декарта до Гегеля является завуалированной
теологией, но даже и «благочестивый атеизм» нехристианской
философии Б. Бауэра и Фейербаха, потому что он решительно делает
ставку самого себя на ничто, и «высшим существом» для него не являет-
* Правильно - 1845.
ся ни «дух», изначально бывший Богом, ни «человек», ни что-нибудь
другое.
О том, что почитают как высшее существо, имеет смысл, разумеется,
спорить лишь до тех пор, пока даже самые ожесточенные противники
не согласятся друг с другом в главном тезисе - что есть высшее существо,
которому подобает культ или служение. Если бы кто-то с сочувствием
улыбнулся, глядя на всю эту битву за высшее существо, как, скажем,
сделал бы христианин по поводу словесной дуэли шиита с суннитом (...),
то гипотеза о высшем существе показалась бы ему недействительной,
а спор на этой почве - пустой игрой. А тогда представляет ли это высшее
существо единый или триединый Бог, Бог Лютера или ere supreme*,
или вообще не Бог, а «человек», не составляло бы никакой разницы для
того, кто отрицает само высшее существо, ведь в его глазах служители
высшего существа все вместе суть люди набожные - самый яростный
атеист не меньше, чем самый верующий христианин44.
Все они все еще поклоняются идолам и одержимы «идеей-фикс».
Различие между верой Лютера, cogitare Декарта и самосознающим
духом Гегеля исчезает, поскольку все они не ведают голого и
совершенно обыкновенного человека. Все они все еще верят в наличие в
человеке чего-то божественного и вечного.
Поэтому-то лютеранину 1егелю удалось (...) полностью провести
понятие через все на свете. Во всем есть разум, т. е. дух святой, или «все
действительное разумно»45.
Две тысячи лет люди работали над тем, чтобы лишить святости
«святой дух», но он все еще тут, только в профанированном виде,
он сделался «более человеческим» и теперь в качестве «духа времени»
или «духа человечества» предстает более привлекательным, пока в
конце концов не остается одетым в лохмотья.
В гуманитарном либерализме доходит до своего совершенства уклад души
подлого сброда. Если Мы хотим прийти к самобытию**, Нам надо сперва
(...) дойти до крайнего люмпенства, потому что Нам надо удалить все
чуждое. Но ничто не кажется более люмпенским, чем голый - человек.
* Высшее существо (фр.).
* Так я ad hoc перевожу термин Штирнера Eigenheit - личное своеобразие,
индивидуальность.
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
и бытием мира в истории философии Нового времени
Меж тем будет более чем люмпенством, если Я выброшу заодно и
человека, потому что чувствую, что и он Мне чужд и что Мне не следует строить
на нем свое мнение о Себе. Это уже не просто люмпенство: ведь тут отпал
и последний люмпен, и вот перед Нами настоящая нагота, отсутствие
всего чуждого. Люмпен сам отбросил люмпенство и тем самым перестал
быть тем, чем был...46
Здесь начинается вторая часть книги Штирнера, в которой речь
идет уже не о критике человека старого и нового мира, а о «я» как
владельце своей собственности. Ключевые слова во вступлении к
ней гласят:
«У входа в Новое время стоит "богочеловек"». Исчезнет ли на выходе
лишь бог из этого богочеловека и может ли богочеловек на самом деле
умереть, если в нем умрет только бог? Об этом вопросе не думали,
полагая, что можно обойтись и так, когда в наши дни довели до
победоносного конца дело Просвещения, а именно преодоление Бога; никто не
заметил, что человек убил Бога, чтобы «стать единственным Богом в
вышних». Потустороннее вне Нас, конечно, выметено вон, и великое дело
просветителей завершено, но потустороннее в Нас стало новыми
небесами и призывает Нас к новым атакам на небеса: Богу пришлось очистить
место, но не для Нас, а - для человека. Как Вы сможете поверить, что
богочеловек умер, прежде чем кроме Бога в нем не умрет и человек?47
Что же тогда делает «я», с тех пор как умер и человек, вместе с
Богом, который доселе определял, что такое человечность? Его
дела - не что иное, как «пустые делишки», растрата и утилизация самого
себя и мира как его собственности. Нужна «перечеканка»
христианских ценностей и заново научиться уважать все свое: своекорыстие,
эгоизм, самоволие, себялюбие и собственность.
Самобытие заключает в себе все собственное и реабилитировать то,
что обесчестил язык христианства. Но у самобытия нет никакого
чуждого мерила, ведь оно вообще не является идеей, подобной идее свободы,
нравственности, гуманности и проч.: оно есть лишь некое описание -
собственника48.
«Человек» Фейербаха- всего-навсего вымышленное родовое
существо, собственник же - настоящее конкретное существо. Моя
собственная задача не в том, чтобы реализовать «общечеловеческое
начало», а в том, чтобы быть самодостаточным.
В качестве «я» у человека больше вообще нет никакого
«призвания», «задания» и «предназначения» - он является исключительно
собственником того, что на самом деле может сделать своим
собственным.
Люди всегда думали, что должны дать Мне какое-то предназначение,
находящееся за Моими пределами, а напоследок потребовали от Меня,
чтобы я занялся человеческим, потому что Я = человеку. Это
христианский заколдованный круг. Фихтевское «я» - тоже такое же существо вне
Меня, поскольку «я» - это всякий, и если права имеет лишь это «я», то
оно - это «я», а не Я сам. Но Я - это не какое-то «я» рядом с другими «я»,
а исключительное Я: Я- единственный. А потому и все мои
потребности, мои поступки, короче говоря, всё во мне уникально. И лишь в
качестве этого единственного Я-Я беру всё в свою собственность, так
же как Я осуществляю и развиваю лишь этого Меня. Я развиваюсь не
как человек и развиваю не человека, а как Я развиваю - Себя.
В этом и есть смысл - Единственного49.
И лишь это разрывает «заколдованный круг» христианской
напряженности между сущностью и существованием. Ценен этот
расколдованный человек ни как сопричастный Царству Божию, ни как
поверенный в делах в гегелевском одухотворенном земном царстве,
- Единственный уже сам для себя есть «всемирная история», кто-то,
для кого вся остальная всемирная история есть его собственность,
и это «выходит за пределы христианства». Так «в Единственном
собственник возвращается в свое творческое ничто, которым он и
порожден».
Если Я делаю ставку на Себя, Единственного, то она делается на
преходящего, смертного творца себя самого, который пожирает себя самого,
и Я имею право сказать:
Я сделал ставку на ничто50.
Эта нигилистическая позиция перешла в не менее крайний
позитивизм Маркса, который в «Немецкой идеологии» (1845-46)
подверг творчество Штирнера фундаментальной критике под
ироническим заголовком «Святой Макс». Этим приобщением к лику
святых Маркс хочет сказать, что и Штирнер все еще одержим «духом»,
потому что является наиболее радикальным идеологом пришедшего
в упадок буржуазного общества, то есть общества
«индивидуализировавшихся индивидов». То, от чего освобождает себя Единственный
VI. Проблематичная взаимосвязь между существованием человека
И БЫТИЕМ МИРА В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Штирнера, - это не действительные, «материальные» условия
существования, а лишь идейные условия сознания, которых он сам не
замечает, потому что погряз в сущности своего буржуазного мира,
в частном эгоизме. Штирнер всего-навсего абсолютизирует
нынешнего частника с его частной собственностью до абсолютной
«категории» этого Единственного и этой собственности. Но не «сознание»
определяет «бытие», а общественное бытие, которое определяет и
теоретическое сознание индивида. Лишь всеобщая эмансипация
отчужденных от себя масс может освободить и штирнеровского
Единственного, сделав ему мир собственным в реальности в «царстве»
свободы, в то время как Штирнер думает, будто может «без больших
издержек» основать свое собственное земное царство. Его критика
либерализма и сама все еще не выходит за пределы либеральных
фраз, которые в действительности суть лишь идеалистическое
выражение реальных интересов буржуазии. Он не видит, что человек
изменяется, только когда изменяются его фактические жизненные
условия. Ибо не сила человека измеряется его индивидуальными
особенностями, а эти последние - силой человеческого общества.
Но буржуазный индивид не способен освободиться в одном только
представлении о частной собственности. Реальное присвоение
отчужденного от человека мира товаров может совершиться лишь через
всеобщую революцию в общественных производственных
отношениях. Только благодаря ей можно освободить отдельного человека
для себя самого, в то время как собственник Штирнера - это всего-
навсего логическое отрицание полной пустоты. Тогда место
штирнеровского «союза эгоистов» заступает коммунистическое общество,
которое экспроприирует собственника вместе с его собственностью,
чтобы снова дать в собственность человеку как «родовому существу»
мир как действительно ему принадлежащий. - Когда Маркс говорит
о «мире», он имеет в виду исключительно исторический мир
человеческой общественной жизни. Природа для «исторического»
материализма не является самостоятельной субстанцией, а только
материалом и расходным капиталом человечески-исторических
производственных отношений и, стало быть, в принципе не отличается
от штирнеровской «собственности». Различие заключается лишь в
разных определениях собственника: «Единственного» и «человека
как родового существа». Скажем, в яблоке Маркса интересует не то,
что природа производит подобные ему вещи естественным образом,
а что этот природный продукт был выращен и импортирован в
определенное время и при определенных экономических и социальных
условиях человеческой жизни и продается за деньги в виде товара.
178
А что и этот человеческий мир и вместе с ним производящий себя
человек изначально существует и порождает себя в рамках природы,
для исторического мышления, сводящего мир к миру окружающих
людей, есть нечто само собой разумеющееся, которое не вызывает
интереса. Исключительный интерес к общественно-историческому
производству, однако, равно характерен для
буржуазно-капиталистического индивида и коммунистического родового человека, как
и «мир», в котором оба действуют и мыслят, производя и потребляя.
В двух этих крайних продуктах распада гегелевской абсолютной
философии субъективного и объективного духа, одинаково далеких
от природного мира и природы человека, античный космос и
христианская иерархия полностью исчерпаны. Штирнер и Маркс
философствуют вопреки друг другу в одной и той же «пустыне свободы».
Отчужденный от себя человек Маркса должен «изменить» весь
существующий мир в ходе мировой революции, чтобы снова жить в
человеческом мире, как у себя дома; избавившееся и лишившееся
всего «Я» Штирнера, наоборот, не умеет сделать ничего, кроме как
возвратиться в свое ничто, чтобы использовать мир, как он есть и
насколько его можно использовать.
То, что увидел вокруг себя тридцатью годами позднее Ницше,
не сбитый с толка возникшей тем временем империей, было
потерявшим культуру миром потерявшего цель существования, ни к чему
не обязывающим образом вставленного во внечеловеческий мир
сил. Этот «покой распада», в котором оказались «все духовные силы
старого, скованного мира»51, он радикализировал до решительного
нигилизма, чтобы, повернув его вспять, снова очутиться во всегда
уже бывшем и всегда еще становящемся мире. Ведь
что такое тщеславие самого тщеславного человека в сравнении с
тщеславием самого скромного, когда он чувствует себя «человеком» посреди
природы и общества!52
180
VII
Вечное возвращение того же
и повторение тождественного
Проблематика ницшевского обращения воли к ничто в воление
вечного возвращения (с. 69 слл.) развертывалась в двойном
истолковании притчи о вечном возвращении в сторону мира и в сторону
человека (с. 96 слл.). Этот разлад делает вечное возвращение
двусмысленным и в качестве возвращения: оно означает и космическое
возвращение такого же, и собственно повторение того же самого. «Все
снова», заключенное в возвращении, имеет двойственный смысл
природно-необходимого «все снова» кружащегося мира как целого -
и все снова внутренне необходимого для человеческой воли к
существованию самопреодоления в противоположность простой
необходимости, свойственной физическому миру определенности (с. 106 ел.).
Но внутренняя взаимосвязь между тем и другим «все снова»
устанавливается благодаря тому, что Ницше воспроизводит античное
мировосприятие в апогее современности, а потому учение о вечном
возвращении того же означает для него не непосредственно взгляд на
природный мир, а самую крайнюю форму нигилизма и его преодоление
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
в себе самом. Повторяющееся все снова самопреодоление
трансформируется в решающее мгновение, которое - в качестве совершенного
«полудня» и в качестве критической «середины» - тоже
двусмысленно (с. 117 слл.), трансформируется через последнюю
трансформацию в вечно ту же игру миров, в необходимый ход которой вовлечен
и волящий человек. В антропологическом истолковании вечно то
же возвращение предстало как обновляющееся в каждое мгновение
этическое задание волящего человека, которому это учение должно
заменить христианскую веру в бессмертие. Зато в космологическом
истолковании оно предстало не как «проект нового способа жить»
и «воля к новому рождению», а в качестве уничтожения и нового
зарождения, происходящих по природе и совершенно
безразличных к любым проектам человека выбраться из своей заброшенности.
Даже тот, кто освободился от воли для свободной воли и пробудился
до состояния ребенка, не просто случайно раз навсегда заброшен в
существование, чтобы в конце концов быть уничтоженным смертью -
будучи свободным или несвободным; нет, он уже всегда существовал
и возвращается все снова в целостности кружащего времени мира.
Поэтому ницшевская попытка преодоления нигилизма в
существовании конечного человека одновременно есть попытка преодоления
времени как неотъемлемого свойства случайности конечного
существования, а движение его философии в целом - это движение от
бытия временного и преходящего к бытию вечно возвращающемуся.
Но в вечное возвращение того же Ницше хочет «верить» именно
потому, что «абсурдно» мыслить происхождение вечного бытия из
временного ничто и высшее утверждение - из глубочайшего
отрицания. В качестве преодолевающего человека и свойственного ему
времени Ницше-Заратустраучит вечному возвращению того же «по
ту сторону человека и времени».
Это его «credo quia absurdum» приобретет еще более выпуклый
смысл, если установить предметную взаимосвязь между
проблематикой свободного воления вечно необходимого возвращения с
философским волением двух других мыслителей 19-го столетия, которых
можно не просто произвольно сравнить с Ницше на основании
общего для них радикализма, а поставить их в один ряд с ним. Эти два
других «существующих» мыслителя, тоже дошедших до крайностей, -
С. Кьеркегор и О. Вайнингер. С Ницше их роднит отчаянная серьезность,
с которой они продумывали до него и после него вопрос «быть или
не быть»; они на свой лад проделали тот же путь, что и он, - от
временного ничто к вечному бытию. Фундаментальному значению,
которое учение о вечном возвращении того же имеет для философского
182
эксперимента Ницше, у Кьеркегора соответствует религиозно
ориентированный эксперимент «повторения», а у Вайнингера - этическая
спекуляция на тему «определенности времени».
О. Вайнингер1 видел в Ницше «искателя», ставшим священником
в Заратустре. «Ницше долго был искателем; лишь в качестве Зара-
тустры он облачился в священническую мантию, и тут вдруг с горы
низошли те речи, которые свидетельствуют о том, как много
уверенности он обрел через это перевоплощение. Переживания
священника (в качестве пророка!) интенсивнее, чем переживания искателя; и
потому теперь он больше верит в себя, он чувствует себя избранным
посланником солнца, луны и звезд, а прислушивается лишь для того,
чтобы так же хорошо понимать их язык, как он чувствует это в
качестве своего долга.»2 Что Ницше в своей борьбе с самим собой все-
таки не обрел тех «gaya scienza» и «serenità»*, которые «так хотел бы
обрести с тех пор, как узнал Ривьеру», и почему, объясняется для
Вайнингера тем, что воля к власти отрицает «волю к ценности»3.
Правда, и для Вайнингера человек - это, по сути своей, воля и как
таковой - некое движение между небытием и бытием4; но чтобы во-
лить себя полностью, ему нужна этическая воля к преодолению
ощущения виновности существования и, значит, именно то, что отрицает
ницшевское учение о невинности становления. С непреклонностью,
напоминающей о Кьеркегоре, Вайнингер формулирует: «Человек
живет, покуда входит либо в абсолютное, либо в ничто. Свою
будущую жизнь он определяет в свободе: он выбирает Бога или ничто. Он
уничтожает самого себя или созидает самого себя для вечной жизни.
Для него возможен двойной прогресс: к вечной жизни (...) и к
вечному уничтожению. Но он всегда идет вперед по одному из этих
направлений: третьего не дано»5, причем самоуничтожение Вайнингер
понимает как наименьшую трусость и как выход из ситуации
уничтожения другого6. «Страх есть изнанка всякойволи. Впереди - нечто,
позади - ничто. Поэтому когда идешь по дороге и внезапно
поворачиваешь, бывает так жутко увидеть лежащий за спиной участок
(определенность времени). Я-то думаю, что страх близко родствен
безнравственности; чувство хаоса только растет, чем больше человек
стремится быть космосом. Ничто - это крайняя граница нечто; и
если человек станет всем, станет Богом, то у него больше не будет
никаких границ и никакого страха. Но, вероятно, незадолго до этого ему
предстоит победить последний, самый большой страх...»7 Ницшев-
ская сверхчеловеческая воля и сверх-мужество не признавали этот
* Веселой науки и ясности (невозмутимости духа) (um.).
183
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
страх изнанкой всякого воления. Однако и то, что человек сходит с
ума, по Вайнингеру, возможно лишь по его собственной вине, ведь
«человек не может внутренне погибнуть ни от чего иного, кроме как
от недостатка религии»8. А недостаток религии - это еще и конечная
причина того, что Вайнингер отвергает ницшевскии путь к
преодолению нигилизма в существовании современного человека,
который, как он однажды высказался, «безобразен» потому, что
«ненавидит»* себя самого.
Ницше имел право быть человеком, который больше всех возненавидел
себя. Его ненависть к Вагнеру и к аскезе, его благосклонность к Визе и
Готфриду Келлеру были ведь лишь ненавистью к вагнерианцам и
аскетам и к людям совершенно неидиллическим, каким был он сам. Безусловно,
ненависть к себе в моральном отношении выше самолюбия. Значит,
плоха неискренность, заставлявшая Ницше притворяться, будто ему
удался этот самый переход («выздоровление» от Вагнера, от своей
«болезни»), - это не единственная поза, в которую Ницше вставал перед
всеми другими и перед самим собой. Паскаль, конечно, ужасно
ненавидевший себя, стоит в этом смысле высоко над Ницше - он и вообще
никогда не был таким плоским, каким мог быть порой Ницше. Если первый
мог открыто высказать в качестве принципа «le moi est haïssable»**, Ницше
отрицал даже эту свою ненависть к себе и - настолько он себя
ненавидел - клеветал на нее, принижал, правда, лишь как качество Паскаля.
Заратустра становится искренним только в одном месте: в
великолепной песне «Перед восходом солнца», которую следует понимать
исключительно как этический символ... Как раз у Ницше ненависть к себе
возникает из сильнейшей воли к утверждению. Поэтому в нем эта
ненависть смогла стать творческой и трагической. Творческой - потому что
заставляла его искать того, чего ему не хватало в Шопенгауэре,
вынуждала его отказу от него, научившего его не знать Канта. Трагической -
потому что он не был достаточно великим, чтобы самостоятельно,
собственными силами, во всей чистоте проник к Канту, которого он
никогда не читал. Поэтому он так никогда и не пришел к религии: когда он
наиболее страстно утверждал жизнь, жизнь его отвергала - та самая
жизнь, которой не обманешь. Гибель Ницше объясняется отсутствием
религии. (...) Самым ужасным образом это демонстрирует гений. Ведь
гениальный человек - это наиболее благочестивый человек, и если его
* В немецком языке эти два слова («безобразный» и «ненавидеть»)
образованы от одного корня.
** Собственное «я» заслуживает ненависти (фр.).
покидает благочестие, то это значит, что его покинул гений. Не без
глубокой причины «бессовестник духа» стал проблемой для Ницше: (...)
это «остроумный» человек, который (...) был для Ницше опасностью и
бездной, в конце концов, втянувшей его в себя. (...) Чего Ницше не
хватало, так это милосердия; но без милосердия одиночества не вынести и
Заратустре. Так, логика была для него не единственно ценным
имуществом, а внешним принуждением (поскольку он чувствовал себя слишком
слабым, чтобы не подозревать повсюду угрозы); но тот, кто отрицает
логику, уже ее лишается; он находится на пути к безумию9.
Это значит, что в этосе Ницше не было истинного логоса,
поскольку его философия вечного возвращения того же забывает о
том, что человек - не мир и что только во Христе он - то же самое,
что и Бог.
Истинная «этичность» человеческой жизни выражается для Вай-
нингера в феномене воспоминания, и наоборот, забвение - главная
предпосылка последнего преображения Ницше10. В отличие от
простого вспоминания выученного Вайнингер считает подлинной
памятью память о пережитом, благодаря которой человек в любой
момент может подвести «итог своей жизни» - может в той мере, в какой
он удовлетворяет своей идее. Характер абсолютно мужской,
всеобщий гений, обладает и абсолютной памятью о себе и всём другом,
что когда-либо встречалось ему и в большом и в малом. Память,
позволяющая человеку вспомнить все свое существование, дает ему
внутреннюю непрерывность, которая делает возможной
ответственность и уже сама является некоей нравственной обязанностью. Лишь
обладая памятью, человек может воспринять все как значимое и не
забывать того, что однажды осознал и пережил; ведь тем самым он
осознаёт это раз и навсегда. Человек, человечный в наибольшей
степени, в каждое мгновение воскрешает в памяти все свое прошлое, он
не живет поверхностно и дискретно, как от природы наделенное
полом существо, лишенное характера, от одного мгновения до другого11.
На этой памяти о своей жизни основаны также благодарность
собственному прошлому и почтение к нему - жизнь не забывает, что
шло ей на пользу и спасительно приходило на помощь. Человек
надежно удостоверен в своей экзистенции лишь благодаря такой
непрерывности своего временного существования, запоминающего себя, и
понимает значение того, «что он существует, что он в мире». А поскольку
прошлая жизнь представлена для него всегда, то и все возможное
будущее для него уже заранее обладает смыслом, и реальная судьба для него
есть лишь то, в чем обобщается смысл временного существования
185
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
в целом. «Энграмма, образованная переживаниями человека,
пропорциональна значению, которое они могут для него получить. » Поэтому
характер человека можно узнать в первую очередь по тому, о чем он
никогда не забывает и чего сам за собой заметить не может.
Эта память, неотъемлемая от сущности человека, дает
переживаниям как сохраняемым в памяти вневременной характер. Она
согласно своему понятию есть «преодоление времени», хотя
избавляет от прошлого на совершенно иной лад, чем ницшевское
безжалостное «я сам того хотел» - от того, что уже освобождено. Память - это
как условие, так и освобождение от временности времени, в ней
человек, находясь во времени, все же трансцендирует время12. Ведь он
не просто «включен» в ход времени, но, вспоминая произошедшее
и сам созидая историю, уже всегда и навсегда изъят из
совершившегося как такового. В качестве такого избавления от временности
ушедшего времени память есть и предпосылка специфического для
человека страстного стремления к бессмертию, к преодолению смерти
как отмеренного существованию срока.
Отношение к собственному прошлому, выражающееся в пиетете и
основанное на непрерывной памяти (...) можно продемонстрировать и в
более обширных взаимосвязях, а заодно и проанализировать глубже.
Ведь от того, есть ли у человека вообще какое-то отношение к своему прошлому
или нет, исключительно глубоко зависит, будет ли он ощущать потребность в
бессмертии или же мысль о смерти оставит его равнодушным13.
Полная потеря значения, которую претерпевает индивидуально
наполненная, жизнерадостно прожитая жизнь, чувствуя, что должна
навсегда и полностью закончиться со смертью, бессмысленность всего вообщев этом
случае - это другими словами высказал Гёте в разговоре с Эккерманом
(4 февраля 1829) - ведет к требованию бессмертия. Самым
интенсивным запросом на бессмертие обладает гений. Это тоже совмещается со
всеми другими фактами, которые были до сих пор вскрыты
относительно его природы. Память есть полная победа над временем лишь тогда, когда
выступает во всеобщей форме, как во всеобщем человеке. Поэтому гений - это
собственно вневременной человек, по крайней мере, это, и ничто другое,
есть его идеал себя самого; он, как доказывает как раз его страстное и
настоятельное желание бессмертия, есть именно человек с сильнейшим
стремлением к вневременности, с мощнейшей волей к ценности. - Нередко
звучало недоумение по поводу того, что люди вполне обыкновенные,
даже пошлые, не чувствуют никакого страха перед смертью. Но ведь
это так ясно: не страх смерти вызывает потребность в бессмертии, а потреб
ность в бессмертии вызывает страх смерти1*.
186
Благодаря фундаментальному значению памяти, однако,
специфическое освещение получают не только непосредственно
касающиеся нас вопросы конкретного существования, но и проблемы
формальной логики. Ведь закон противоречия и закон тождества
возможны лишь на основе фиксации тех полаганий, которые или следует
идентифицировать, или нельзя идентифицировать. Но тот, кто
фиксирует те и другие, объединяя или разделяя их, - это трансцендирую-
щее, вневременное «я» ответственного перед собой, автономного
человека.
Соответственно предельный смысл книги «Пол и характер» - не
в психологии полов, а в психологическом наполнении кантовского
учения об интеллигибельном характере. А рука об руку с указанием
на Канта как «нравственно-героического» философа идет поэтому
и отказ Вайнингера от Ницше, чей Заратустра упраздняет принцип
«ты можешь, потому что хочешь» ради совершенно другого: «я хочу
того, что должен», а соответственно свобода реализуется лишь в
любви к фатуму и сливается с высшей необходимостью. В
противоположность ницшевскому «как становятся самим собой», Вайнингер
императивно определяет самостановление человека как «будь!». Но
поскольку во временном существовании человек никогда не
становится полностью тем, чем должен быть по своей идее, и пробивает
время лишь на исчезающе малые мгновения, то время и само
«безнравственно».
Есть все же один акт, который как бы всасывает в себя будущее, уже
заранее ощущает как вину всякий будущий рецидив безнравственности - не
менее, чем все безнравственное прошлое, и благодаря этому перерастает
то и другое, это вневременное полагание характера, новое рождение15.
Смысл этого нового рождения, которое только и закладывает
характер16, лежит не по ту сторону добра и зла, а в том, что человек
в условиях временного существования вынужден «все снова» вести
борьбу против зла, которое состоит в ничто, заключенном в
существовании.
Что - в том числе- всегда будет вести к детерминизму, так это тот факт,
что эта борьба навязывается все снова. Пусть в каком-то случае выбор
будет абсолютно этичным, пусть человек выберет добро; но этот выбор
недолговечен, человеку снова приходится бороться, и свобода, можно
сказать, существует лишь в этот момент. Но в этом-то и сущность
свободы. Ведь что это была бы за свобода, если я вызвал, обусловил ее на все
187
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
время жизни каким-то одним добрым действием, совершенным в
прежнее время (...) Человек как раз должен гордиться тем, что в каждое
мгновение может быть свободным сызнова17.
Но все же поистине преодолеть время человек смог бы, лишь
если бы смог «мощнейшей волей» вложить в мгновение «всю
всеобщность своего подлинного Я» и мира, которым он как микрокосмос
является и сам. Тогда оказалось бы упразднено различие между тем,
чем человек является, и тем, чем он должен быть, тогда он сам стал
бы божественным, и не только в гордом одиночестве, один на
кружащейся Земле, с полным обзором всего мира, в самостоятельности
и опоре на свои силы, нашедшей для Вайнингера свое классическое
выражение в «заключении» «Критики практического разума». Это
одиночество человека во внечеловеческом мире как целом -
свидетельство того, что он есть Одно и Всё.
А потому в нем заключен и закон, потому он сам сплошь закон, но не
порхающий произвол. И он требует от себя следовать этому закону в
себе, закону себя самого, быть только законом, не оглядываясь ни на то,
что за ним, ни на то, что перед ним. Это ужас, полный величия: для
него нет больше никакого смысла следовать долгу. Нет никакой вышестоящей
инстанции над ним, Единственным, Все-единым. Но неумолимое, не
терпящее никаких возражений, то есть категорическоетребование β себе он
обязан исполнять. Спасите!- кричит он, покой, только покой перед
лицом врага, мир, а не эта бесконечная борьба, - и ужасается: даже в
желании спастись еще оставалась трусость, в тоскливом уже!-
дезертирство, будто он слишком мал для этой борьбы. Зачем?- спрашивает он,
выкрикивает во вселенную, - и краснеет; ведь он-то как раз хотел
возвращения счастья, признания борьбы, такой, которая вознаградила бы
его, другой. Кантовский самый одинокий человек не смеется и не
танцует, он не воет и не ликует: ему не нужно устраивать шум, потому что
молчание вселенной слишком глубоко. Не бессмысленность мира
«приблизительности» для него долг - его долг для него есть смысл вселенной.
Сказать да этому одиночеству - вот «дионисийское начало» Канта; и
лишь это - нравственность18.
На основе этой поощренной Кантом позиции воли к свободной
воле, из гордости с презрением отвергающей последнее преображение
Заратустры, Вайнингер оценивает круговращение бытия и времени,
то есть вечное возвращение того же, как абсолютно безнравственное
и бессмысленное движение, отрицающее подлинное бытие человека.
188
Если Земля, на которой мы живем, неизменно кружит и кружит, то
человек остается незатронутым космическим танцем. Его дух не связан
механически с системой в целом; он свободно глядит перед собой и
придает ценность зрелищу или лишает его ее19.
Этим, в соответствии с концом 7-й главы книги «Пол и характер»,
завершается более поздняя статья об «Определенности времени».
Вайнингер, оспаривающий совершенство фигуры круга,
поскольку она не способна к дальнейшему совершенствованию и не
нуждается в нем, логично начинает свое рассмотрение с сомнения в
классической образцовости замкнутого в себе кругового движения.
Повсюду и всегда за кругом признавали какое-то особенно высокое
достоинство как фигурой самой совершенной, симметричной, ровной.
Тысячелетиями сохранялось воззрение, согласно которому
единственной достойной возвышенных предметов формой движения является
круговое движение, и, как известно, еще Копернику оно помешало
мыслить движение планет вокруг Солнца иначе, чем круговым. Что
планеты должны двигаться кругообразно, было для него, как и для всех его
предшественников, аксиомой, сомнение в которой у него даже не
шевельнулось. В основе этого требования очевидным образом лежит (...)
возвышенный характер самой совершенной, неколебимой
равномерности. Когда законы Кеплера нашли признание, кое-кто пытался
опровергнуть их, усмехаясь по поводу более раннего, детского воззрения.
Хотя эллиптическое движение не вполне разделяет с кругообразным
пафос закона, достоинство неизменности сообщает ему, так же как и
первому, качество, которое должно стать здесь объектом критики20.
Неявной предпосылкой следующей далее критики ретроград-
ности кругового движения был христианский разрыв с античным
миром, разрыв, который у Вайнингера выражается в моральном
различении нравственно существующего человека и мира, наличного от
природы и имеющего лишь символическую значимость. Его критика
кругового движения предполагает, что смысл человеческого
существования складывается вообще не во взгляде на видимый мир, а,
наоборот, «интеллигибельный» смысл мира вытекает из «этичности»
человеческой жизни, не обратимой во времени, а однозначно и
определенно с самого рождения принципиально направлена к смерти.
Определенность времени (...) идентична факту необратимости жизни,
а загадка времени идентична загадке жизни (но не загадке мира). Жизнь
189
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
необратима, нет пути, ведущего от смерти к жизни. Проблема
определенности времени - это вопрос о смысле жизни. - В этой определенности
времени заключается причина того, что наша потребность в бессмертии
распространяется лишь на будущее (не на жизнь перед нашим
рождением). Поэтому нас мало интересует наше состояние перед рождением,
но сильно волнует состояние после смерти21.
«"Я" как воля есть время», а время имеет определенное
направление, поскольку воля не может волить вспять, так что прошлое для
нее никогда не возвращается. Будущее время всякий раз сбывается
лишь как воление, устремленное к чему-то, чего еще не было и нет.
Если бы определенное время не было тем же, что и воля, то воля могла
бы волить вспять и изменять прошлое (по выражению Ницше: «Что же
для воли наибольшая боль? Что она не может распоряжаться прошлым»).
Воля не была бы волей, и закон тождества был бы упразднен, если бы
воля хотела или могла изменять прошлое22; ведь именно в том, что воля -
это воля, заключена пропасть между прошлым и будущим и запечатлено
их вечное различие. Воля есть нечто направленное, и ее направление -
это смысл времени. «Я» реализует себя как воля, то есть переживает,
разворачивает себя в форме времени: время есть форма внутреннего
созерцания, как учил Кант. - Всякая воля хочет прошлого как прогилога,
и только преступник, который не хочет смотреть на Бога, а падает вниз,
лжет, то есть убивает прошлое; обращение времени есть радикальное зло, а
страх перед этим обращением есть страх перед злом25.
Время, в котором мы преимущественно живем как волящие
существа, - это время страха и надежды, направленное в будущее. Оба
настроения относятся к установленной волей необратимости
определенно устремленного времени. Следовательно, его последняя
причина заключена в человеке - в той мере, в какой он существует
морально как волящее будущее и жаждущее бессмертия существо. Оно
является выражением этичности человеческой жизни, стремящейся
преодолеть время во взгляде на смерть. А вот неэтично
игнорировать прошлое, в котором заключены вообще все «причины» и «долги»,
в качестве того, чем оно было, то есть в качестве завершенного, и
стремиться изменить и переделать уже совершенный в
историческом прошлом поступок.
Всякая ложь есть искажение истории. Сначала человек искажает свою
собственную историю, потом историю других. Неэтично не желать изменения
будущего, не хотеть созидать его другим, лучшим, чем настоящее. Воли!-
так можно сформулировать категорический императив. Феномен
раскаяния связывает то и другое (это подлинное выражение определенности
времени): оно утверждаетърошлую вину, но в качестве прошлого, и
отрицает ее как будущее, то есть противопоставляет ей волю к исправлению в
будущем. - Будущее еще не достоверно, прошлое достоверно. Ложь есть
воля к власти над прошлым, воля, которая не может даровать ему свободу
или существование, поскольку настоящее так же несвободно, так же
мертво. Прошлое и будущее соприкасаются в настоящем; оно есть то,
что человек может; над прошлым у него уже нет власти, а над будущим
ее еще нет. Когда вечность и настоящее сольются в единстве, человек
станет Богом, а Бог всемогущ. - Следовательно, ложь неэтична, она есть
обращение времени: ведь воля к изменению в ней направлена не на
будущее, а на прошлое. Всякое зло есть упразднение смысла времени: отказ
придать жизни смысл, отчаяние в нем. - Воля человека созидает
будущее: человек предвосхищает время, решаясь; он отменяет время,
раскаиваясь. В воле человека, которая всегда есть воля к вечности, время зараз
утверждается и отрицается24.
Зато скука - явно безнравственный феномен, поскольку в ней
упраздняется определенная целенаправленность времени, а само
время предстает существующим вне нас25. «Скука и нетерпение -
самые безнравственные чувства, какие могут быть. Ведь в них человек
устанавливает время как реальное, он хочет, чтобы оно прошло, но
чтобы он сам его не заполнял, чтобы оно не было просто формой
проявления его внутреннего освобождения и расширения...».
Если бы человек был неэтичным, как вращательное движение, то не
смог бы завтра видеть что-то другое, чем сегодня, отличать новый год
от старого, чувствовать себя бесполезным и бояться, что окажется в
прежней точке, как Робинзон или как герой Толстого (в ... «Хозяине и
работнике»). Какой бы смех ни вызывала картина обывателя, который
в новогоднюю ночь начинает размышлять, восходя от газеты к времени*,
но в ней заключено все же какое-то космическое ощущение (...) прошлого
и бренности, которым противопоставляется полное надежд будущее26.
Но и вечное возвращение того же можно познать и оценить лишь
при условии наличия вспоминающего и оценивающего его «я», а,
значит, определенного взгляда на время, который является предпосылкой
* Слово «газета» (Zätung) в немецком образовано от слова «время» (Zeit).
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
всякой однозначности и истины. Если бы человека можно было
мыслить как периодически возвращающееся существование того же, то
он, подобно ницшевскому сверхчеловеку, был бы по ту сторону
человека и времени, а его воля - сверхчеловеческой солнечной волей,
залетевшей в остающееся равным себе небо вечности. Но покуда
человек вообще волит, а это значит, волит будущее, он не может во-
лить себя самого как периодическое существо. Однако
установленное волей время нельзя представить себе и как прямую линию. Ведь
по ней можно произвольно передвигаться туда и сюда, идти вперед
и назад, а определенность времени как раз в том-то и состоит, что
его направление определено однозначно. Отсюда и естественное для
нравственно ориентированного человека отвращение ко всем фор
мам движения, ведущего к исходному пункту, возвратного и
вращательного. Загадка определенной направленности времени, эта
«глубочайшая проблема во вселенной», может быть разрешена лишь строго
дуалистически, а, значит, не всесторонне. И тот, кто вместе с Кантом
познает смысл и задачу человеческого существования в
нравственном прогрессе, который реализуется в борьбе с чисто природными
склонностями, не сможет уже и в восхищении орбитами планет
находить опору для нравственной экзистенции человека, а будет
видеть в нем лишь нечто полностью чуждое морали.
И в планетах мы не находим достойной опоры (...) для нашего
существования как существ нравственных. Таковое, конечно, только
выигрывает в возвышенности, отрешаясь от всех отдельных вещей видимого
мира. Следовательно, если бы Солнечная система была специально
задумана как этическая, то орбиты планет никогда не возвращались бы к
своей исходной точке. А ведь и Луна, в которой уж наверняка не
заключено ничего этического, (...) вращается вокруг Земли по равномерной
орбите, как та - вокруг Солнца. И Сатурн, к которому человек,
безусловно, стоит в наиболее близких отношениях в сравнении с другими
планетами, кажется со своими кольцами и лунами прямо-таки
воплощением зла. - Возможно, существуют небесные тела, не выполняющие
ретроградных движений, на которых астрономия становится позорищем.
Но даже в случае полной оправданности этой критики
возвращающихся к своей исходной точке траекторий звездное небо, которое Кант
ставил рядом с нравственным законом, никоим образом не лишится всего
своего величия в пользу нравственного закона. Только не надо больше
искать в нем то, что оно с психологической точки зрения
действительно для нас представляет, - символ бесконечности вселенной,
бесконечности, которой только мы и чувствуем себя достойными в нравственном
192
законе и которая только и достойна нравственного закона, и его
безбольное блаженство света27,
то блаженство, гарантию которого Ницше, наоборот, видел в
том, что мир не «бесконечен», как нравственная задача, но
определен, как безначальный и бесконечный, вечно равный себе самому
круг, самодостаточная форма движения которого казалась этической
воле Вайнингера «смехотворной или жуткой». С моральной точки
зрения круговое движение еще хуже, чем ретроградное движение
рака, ведь его ход по крайней мере не чужд смысла, а лишь осмыслен
и целесообразен в не позитивной форме. Вайнингер приводит
следующие примеры своего тезиса.
Расхаживать по кругу против своей воли, как Робинзон, -
бессмысленно; чувствовать, что новая ситуация - точно такая же, в
какой ты уже однажды побывал, - жутко; танцуя, крутиться по кругу
венского вальса - это выражение фаталистического безразличия;
удручающая картина - взрослый на карусели; безнравственно два
раза подряд говорить одно и то же, повторяться. Уже одно только
намерение сказать в следующее мгновение то и или другое
препятствует свободе волящего присутствия духа, которую необходимо
заново производить в каждый момент времени. Магический круг
сковывает человеческую решимость и лишает ее; обручальное кольцо
связывает двух людей и отбирает у них их метафизическую свободу
и одиночество; «Кольцо нибелунга» - эмблема радикального зла,
воли к власти, а кольцо волшебника, если покрутить его на пальце,
делает ее властью над злом. Ни одно ens metaphysicum* не хочетврг-
щательного движения. Чего хочет человек как таковой, так это
бессмертия в свободе, но не вечной жизни, какой является жизнь мира.
Зато в основе идеи «странника» и уж тем более в обыкновенной
страсти к путешествиям лежит подлинный метафизический мотив,
делающий честь определенному времени своевольного человека.
Принятие идеи вечного возвращения того же, известной
восточным и греческим учениям и вновь подхваченной Ницше, есть,
следовательно, «все что угодно, но только не удовлетворение
потребности в бессмертии», она лишь устрашает, но не возвышает душу β
числе других идей. Что действительно может возвращаться в
существовании человека, который хочет себя самого, - это не что-то
одинаковое от природы, а двойник собственного глубинного «л», и жуткие
чувства, которые он вызывает, показывают, что человек изначально
* Метафизическое существо {лат.).
193
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
дома в уникальности своей моральной экзистенции и что он
стремится за свои пределы. Двойник вызывает жуткие чувства, потому что
отрицает уникальность временной экзистенции индивида28. Поэтому
истинное возвращение - это ни естественное, ни призрачное
возвращение того же, а все снова обновляющаяся воля к собственному
новому рождению, без которой человек внутренне старел бы
преждевременно, а благодаря ему он вечно остается юным, подобно
природе, но она вечно юна, поскольку вечно остается равной себе и
вообще не может быть ничем иным, чем то, что она вечно и
необходимо есть уже по природе29.
В отличие от этического умозрения Вайнингера об
определенности времени С. Кьеркегор не просто исключил возможность чего-то
подобного вечному возвращению, но на основании невозможности
возвращения того же в ходе психологического эксперимента
обнаружил возможность точного и подлинного повторения
тождественного. Свой эксперимент Кьеркегор построил на этой характерной
для него категории «повторения»: нужно «снова» вернуть к
существованию изначальное христианство после двух тысяч лет упадка
и в борьбе с официальным христианством, повторить с помощью
упражнений памяти, усвоения христианство, отчужденное от
современного, прогрессивного человека.
Кьеркегор30 развивает свою категорию, изображая любовь
молодого человека, чьим «молчаливым соглядатаем» он выступает, причем
эта любовь проходит через три стадии - эстетической
непосредственности, этической рефлексии и религиозной парадоксальности. Лишь
в конце его сочинения становится ясно, во что в конечном счете
метил Кьеркегор своим повторением: это новое рождение в
христианском смысле, рождение, благодаря которому потерявшийся в мире
человек сам обретает себя обратно, как Иов - перед лицом Бога.
Я - снова я сам. Я снова владею этим «сам», которое любой другой не
захочет и с дороги поднять. Разрыв, который был в моем существе, устранен; я
снова объединен в себе. Страхи симпатии, находившие поддержку и пищу
в моей гордости, больше не вползают, чтобы расщеплять и разлучать.
Разве тут нет повторения? Разве я не получил всё в двойном размере?
Разве я не получил назад себя самого, и притом так, что мне пришлось
прочувствовать значение этого вдвойне? И что такое получить назад
земные блага, безразличные для предназначения духа, в сравнении с
подобным повторением? Иов не получил назад в двойном размере
только детей, потому что человека невозможно удвоить таким образом. Здесь
возможно лишь повторение духа, хотя во времени оно никогда не будет
194
столь же совершенным, как в вечности, каковая и является истинным
повторением31.
Но получить назад себя самого, чтобы волить себя всецело, - это
тенденция и этической воли у Вайнингера, воли, говорящей: «Если
бы человек не терял себя при рождении, то ему не надо было бы
искать и вновь обретать себя». Однако во временном существовании
он все снова бывает вынужден в страхе и надежде прокладывать
себе путь от небытия во времени к вечному бытию. К тому и другому
приложим тезис: человек выбирает либо Бога, либо ничто, если в
его существовании решающий факт - наследный грех.
Повторение, а это получение себя назад из падения в мир,
принципиально осуществляется в воспоминании, которое одновременно
есть интериоризация. Этому воспоминанию у Кьеркегора
придается функция, аналогичная функции памяти у Вайнингера. В качестве
нового воскрешения себя в памяти повторение является
противоположностью забвения себя человеком, который вступает в
природный мир цельным, как будто он сам по себе есть в мире от мира. Кьер-
кегор не только осознает себя «микрокосмосом» по отношению к
большому миру - его фантазия находит себе удовлетворение в том,
чтобы «вести себя в таком микрокосмическом существовании как
можно более макрокосмически» и «заключить целый мир в такую
ореховую скорлупу, которая была бы больше целого мира и все же
не больше такой, какую мог бы заполнить собой индивид»32. На самом
же деле его герой не существует ни микро-, ни макрокосмически, а
в «несказуемом страхе перед миром», ведь собственное
существование без вкуса и смысла вызывает у него отвращение.
Люди ковыряют пальцем землю, чтобы, понюхав ее, понять, в какой они
стране. Я ковыряю пальцем существование - и оно вообще ничем не
пахнет. Где я? Что бы это значило - мир? Что означает это слово? Кто заманил
меня в это во всё и теперь заставляет меня тут стоять? Кто я? Как я пришел
в мир; почему меня не спросили, почему, как полагается, не поставили
меня в известность, а поставили меня в ряд, будто меня купил какой-то
продавец душ? Как я стал участником представления, которое называют
действительностью? Почему должен быть участником? Разве это не дело
свободного выбора? А если меня вынуждают быть им, то где же
дирижер, к которому я мог бы обратиться? Или тут нет никакого дирижера?33
Этот дирижер, который должен снова примирить его с
существованием как таковым, - Бог, с учетом которого и религиозный процесс
195
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
повторения претерпевает реализацию в качестве определенного, а
именно как возвращение к изначальной основе бытия тварной
экзистенции. Характерная особенность этого ретроградного
повторения - ни впадающее в себя кружение, ни простое воскрешение в
памяти, а то, что оно есть истинное движение вперед. Парадоксальность
религиозного повторения, в явно выраженном отличии от
античного припоминания, состоит в том, что оно воскрешает в памяти
не что-то уже бывшее, - напротив, при настоящем повторении
человек «вспоминает наперед». Поэтому Кьеркегор вводит свою
категорию, с одной стороны, противопоставляя ее греческому анамнеси-
су, а с другой - медитации Гегеля, чья диалектическая онтология
совершает христианское экзистенциальное движение от небытия к
бытию лишь в качестве мыслительного «перехода» в греческих
понятиях, но не реализует его экзистенциально в скачке от отчаяния к вере.
Что рассуждение Кьеркегора начинается ни много ни мало с
краткого рассмотрения начала и конца всей западной философии, чтобы
зафиксировать историческое место повторения, показывает, какое
принципиальное значение оно имеет для его собственной задачи.
Когда элеаты подвергли движение отрицанию, выступил, как всем
известно, Диоген в качестве оппонента. Он и впрямь выступил, потому что не
сказал ни слова, а только прошелся несколько раз туда-сюда, чем, как ему
казалось, сполна выразил свое несогласие с тем отрицанием. После того
как я некоторое время, по крайней мере от случая к случаю, позанимался
вопросом, возможно ли повторение вообще и какой смысл оно может
иметь, что можно выиграть или проиграть, мне внезапно пришло на ум:
можно ведь съездить в Берлин, где я однажды уже был, и самому убедиться
в том, возможно ли повторение и какой у него смысл. Тут, дома, я,
пожалуй, не сдвинусь с этой проблемой с места. Пусть об этом говорят что
угодно, но в новейшей философии ей достанется весьма важная роль, ведь
повторение- это решительное выражение того, чем у греков было
«припоминание». Как они учили тому, что всякое познание есть припоминание
себя, так новая философия будет учить тому, что вся жизнь есть
повторение. Единственным из новых философов, у кого возникла такая интуиция,
был Лейбниц. Повторение и припоминание - это один и тот же процесс,
только в противоположных направлениях, ибо то, о чем человек
вспоминает, прошло, оно повторяется вспять, а вот при настоящем повторении
человек припоминает вперед. Поэтому повторение, если оно возможно,
делает человека счастливым, а воспоминание - несчастным, конечно, если
он собирается еще пожить, а не сразу с часа своего рождения ищет
предлог, чтобы выкрасть себя из жизни, например, потому, что что-то забыл34.
В противоположность забвению повторение припоминанию о
себе в смысле значимости существования, чтобы выбирать себя для
него. Повторение - не одежда на износ, плотно и мягко
прилегающая к телу. Чтобы выбирать и волить это пригнанное к внутренней
экзистенции действие, нужно мужество, и когда человек пересечет
моря существования, выяснится, хватило ли ему мужества, чтобы
понять: в сущности, вся жизнь есть повторение, новое обретение и
получение назад утраченной самости. Оно есть этическая
действительность и нешуточность существования, которая, по Ницше,
наоборот, начинается с невинной игры «вечного самосозидания,
вечного саморазрушения»35. И в отличие от учения Ницше, которое
подчеркивает крайнее сближение мира становления и бытия, поскольку
благодаря вечному возвращению в гераклитовское становление
вкладывается элеатское бытие, у Кьеркегора говорится следующее:
Тот, кто немного знаком с современной философией и не вовсе
несведущ в греческом, без труда поймет, что именно в этой категории
выявляется соотношение элеатов и Гераклита и что повторение, в
сущности, есть то, что по ошибке назвали медитацией (...) История
греческого учения о бытии и о ничто, история «мгновения», «не-сущего» и т. д.
говорит Гегелю: помолчи! Медитация - слово иностранное, a Gjentagelse
(«повторение») - прекрасное датское слово, и я поздравляю датский
язык с тем, что в нем есть такой философский термин. Сегодня неясно,
как совершается медитация, складывается ли она из связи двух
моментов и в каком смысле она уже заранее содержится в них, либо она есть
нечто новое, что добавляется к ним, и если да, то каким образом. В этой
связи в высшей степени важны соображения греков о понятии kinesis*,
соответствующем нынешней категории «переход». Диалектика
повторения проста. Ведь, то, что не повторяется, было, иначе его нельзя было
бы повторить**, но именно то, что оно было, делает повторение чем-то
новым. Когда греки говорили, что всякое познание есть припоминание
себя, они говорили: существование в целом, которое есть, было и
прошло. Когда говорят, что жизнь есть повторение, то говорят:
существование, которое прошло, возникает сейчас. Кто не владеет категорией
припоминания или повторения, тот растворяет всю жизнь в пустом и
бессодержательном шуме. Припоминание есть этническое воззрение на жизнь,
повторение - современное. Повторение есть интерес метафизики и
* Движение; переворот (греч.).
** Видимо, дефект немецкого перевода (sonst könnte es nicht wiederholt
werden). Следует, очевидно, наоборот: «иначе его можно было бы повторить».
VII. Вечное возвращение того же и повторение тождественного
одновременно интерес, на котором метафизика терпит крушение.
Повторение есть лозунг в любом этическом воззрении. Повторение - conditio
sine qua non* любой догматической проблемы36.
Философия Гегеля лишь для вида проделывает это нужное для
нешуточности существования движение, в действительности же
делает много «снятия» этого движения, а если какое и совершает, то это
происходит имманентно. Повторение же есть и остается направленным на
трансцендентное, благодаря которому человек не только
переплывает море своего существования, но и выходит за пределы себя самого37.
Поэтому повторение не есть ни природно-необходимое
возвращение, ни просто нравственное новое рождение, а движение,
выбираемое на путях религии, и человек не может осуществить его
собственной нравственной силой; ведь в нем самом нет той
«архимедовой точки», исходя из которой можно преодолеть мир. Равным
образом повторение отличается от любого как объективного, так и
субъективного повтора, от от любого возвращения или хоть
воспроизведения такого же, при котором не возникает ничего нового,
поскольку повтор лишь воспроизводит нечто уже бывшее, но не
обновляет его, воспроизводя. Экзистенциальное повторение в отличие
от античной категории анамнесиса - это «новая» категория,
которая становится нужной по завершении классической философии в
эклектичной системе Гегеля. Оно оставляет за собой как этническое
воззрение на жизнь, свойственное античности, которое
воспроизводит Ницше, так и этико-идеалистическое воззрение христианской
современности, которое воспроизводит Вайнингер, а поскольку речь
для него вообще идет о бытии и небытии в точнейшем смысле слова,
то оно заставляет умозрительную онтологию потерпеть крушение
об «интерес» метафизики. Его прообраз - не Гераклит, не Кант, а Иов,
у которого было отнято все, за что держится человек вообще, и
который именно поэтому получил от Бога назад все в двойном размере.
Возможность такого повторения, при котором ничего как раз
не возвращается, Кьеркегор получает в эксперименте: мыслимо ли
повторение чего-то таким образом, чтобы при этом возвращалось
то же самое? Он уже был однажды в Берлине и теперь повторяет эту
поездку, чтобы посмотреть, какое значение может иметь это
повторение. Он вспоминает при этом, каким было и выглядело то или это в
первый раз, но именно в результате своего припоминания вынужден
обнаружить, что ничего не повторяется, что все стало другим, чем
* Непременное условие (лат.).
198
было. Квартира и ее хозяин, театр и все настроение, в котором он
приехал в город тогда, - все это со временем стало другим, и даже
то немногое, что физически осталось тем же, в новой ситуации тоже
больше не подходит к окружающему, окрашенному в цвет другого
настроения, а потому и оно стало другим, чем раньше. В той мере,
в какой отдельные вещи повторяются, они «превратны», поскольку
целое, которое задает направление всему отдельному, не осталось
тем же самым. Именно воскрешение в памяти бывшего учит его
невозможности возвращения того же самого. Но оно не только делает
невозможным возвращение того же самого, а еще и препятствует
подлинному повторению тождественного - вспоминанию наперед,
благодаря которому бывшее могло бы стать новым.
Когда это повторялось в течение нескольких дней, я так обозлился, а
повторение мне до того надоело, что я решил уехать домой. Мое
открытие оказалось незначительным, но все-таки характерным, ибо я
обнаружил, что не было никакого повторения, а убедился я в этом
благодаря тому, что повторял это на все возможные лады38.
Дома он тоже застает все другим, чем ожидал и на что
рассчитывал. Жизнь, кажется, в неудержимом ходе времени снова берет себе
все то, что однажды дала нам, но никогда не повторяет тог же самого.
Счастливо малое дитя, которое еще никогда не выбирало само, а
потому само и не теряло, которое в своей наивной озабоченности
собой заставляет взрослых заботиться о том, чтобы с ним ничего и не
случилось, и которое само в условиях крайней опасности остается
тем же самым и, не меняясь, продолжает играть с самим собой39. Но
Кьеркегор не делает отсюда ницшевского заключения о
добровольном возвращении назад, к новому началу, с невинностью детского
существования: это детское существование для него - лишь
предварительный образ истинной, христианской озабоченности собой,
при которой человек чувствует себя в руке Божьей и предоставляет
весь ход мировой истории Провидению.
Но все-таки и Кьеркегор пережил те краткие мгновения
наивысшего счастья, в которых достигает своей вершины ницшевское
учение о «полудне и вечности». Ведь что это, если не дионисийский
полдень, в Кьеркегоровом изображении «головокружительного
максимума» мимолетного хорошего самочувствия:
Однажды я был близок к нему. Как-то раз утром я встал и почувствовал
себя на удивление хорошо. Это хорошее самочувствие, вопреки всем
199
ожиданиям, только росло всю первую половину дня. Ровно в час дня
оно достигло вершины, и я почувствовал головокружительный
максимум, который не измерить мерками никакого благополучия и не
начертать ни на каком поэтическом термометре. Тело утратило земную
тяжесть, так, словно у меня вообще нет тела, и как раз потому, что все его
функции достигли полного своего благополучия, каждый нерв
радовался за себя и за все вместе, а каждый удар пульса, так же как
взволнованность всего организма, напоминал о наслаждении этим моментом и его
проявлял. Я шагал паря, не так, как парят птицы, рассекающие воздух,
а подобно ветру, пускающему волны по жатве, подобно
блаженно-страстному качанию моря, подобно облакам, скользящим, как во сне. Моей
природой была прозрачность, такая, какая бывает у глубоких раздумий
моря, у самодостаточного молчания ночи, у тишины полудня, ведущей
разговор с собой. Любой настроение находило в моей душе покой с
мелодическим резонансом. Все мысли прекратились, прекратились с
торжествующим блаженством, и самое безумное наитие, и самая богатая
идея. Любое ощущение предчувствовалось еще до того, как наступало,
а потому пробуждалось во мне само. Все существование было словно
влюблено в меня, и все дрожало, вступая в чреватую судьбой связь с
моим бытием. Все было во мне знамением, и все было загадочно озарено
в моем микрокосмическом блаженстве, которым озарялось все само по
себе, даже что-то неприятное, даже самое скучное наблюдение, даже
мгновение отвращения, даже самая злосчастная коллизия. - Ровно в
час дня, как я сказал, я был на вершине, откуда предчувствовал все самое
высокое40.
Но человек не может долго держаться на этой высоте
существования; такой «ничтожный пустяк», как соринка в глазу, очень быстро
повергает его с вершины блаженства в бездну отчаяния. Абсолютная
удовлетворенность, кажется, вообще недостижима. И потому Кьерке-
гор в качестве «Константина», который хочет пережить вечно
существующее в «Божьей неизменности», раз и навсегда отказывается
от надежды хоть на мимолетное мгновенье быть абсолютно
довольным собой и миром. Разочарованный неудержимостью такого
«блаженства против своей воли», он совершает решительный отказ и
вдохновляется идеей повторения, этого каждодневного хлеба
человеческой экзистенции, «истинная человечность» которой -
христианская, а мерило - Божья вечность.
VIII
Критическая мерка
для оценки эксперимента ницше
Ницше воображал, будто своим учением об «этом» мире, высшее
созвездие которого - необходимость, он оправдывает случайность
собственного существования, найдя ответ на свой вопрос: «Знаете
ли вы теперь, что для меня этот мир? И чего хочу л, когда хочу - этого
вот мира?» Воля Ницше к этому миру критически обусловлена
отвращением к мета-физическому потустороннему миру христианского
платонизма, а позитивно - тоской по такому «древнему» миру, каким он был
до вторжения христианства, «величайшего несчастья» мира1. Но
действительно ли ему повезло снова акклиматизироваться по сию
сторону «того» мира, в невинности возрожденного греческого
космического ребенка? «Или» же этот «новый Колумб» ошибся направлением,
пересекая моря духовного мира, и, в конце концов, снова, только
приплыв с другой стороны, оказался там, откуда, кажется, его послала в
путь собственная воля? Не является ли, стало быть, его мир
опять-таки тем оставленным за спиной «иным» миром, тождественным
«небесному ничто» и «разноцветному дыму пред очами божественного
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
недовольства»? Не устремил ли и Заратустра мечту свою «по ту
сторону человека, подобно всем иномирникам», в своем «проекте жить на
новый лад», причем его «видение», равно как и его «призрак»,
пришли к нему не из иного мира, а из «собственного праха и жара»?
В главе «О грезящих об ином мире» Заратустра сам объясняет,
что случилось, когда отвращение дало ему крылья и силы,
предчувствующие истоки2. Ведь способ, каким Ницше избавляется от воли
к ничто, столь же абсурден, как обратное самоосвобождение от
воли к жизни в метафизике Шопенгауэра, которое и обыгрывается в
речи Заратустры о грезящих об ином мире. В случае Ницше
избавлению человека в блаженном ничто от космической необходимости во-
лить соответствует избавление от человеческой способности волить
в «блаженстве против воли», а сверхчеловек, исходя из идеи
которого он учит вечному возвращению, - это «экстатический нигилист»3.
К самому Заратустре относится то, что говорится об «иномирни-
ках», - для объяснения того, «что случилось».
Что же случилось, братья мои? Я преодолел себя, страдающего, я отнес
свой прах на гору, более светлое пламя обрел я себе. (...)
Страданием и бессилием созданы все потусторонние миры, и тем коротким
безумием счастья, которое испытывает только страдающий больше всех.
Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти, достигнуть
конца, бедная усталость неведения, не желающая больше хотеть: ею
созданы все боги и потусторонние миры.
(...) Тело, отчаявшееся в теле, ощупывало пальцами обманутого духа
последние стены.
(...) Тело, отчаявшееся в земле, слышало, как вещало ему чрево бытия.
И тогда захотело оно пробиться головою сквозь последние стены (...)
в «иной мир».
Но «иной мир» хорошо скрыт от человека, этот (...) бесчеловечный
мир, небесное ничто; и чрево бытия вещает вовсе не человеку, даже
если делает это, как человек.
Поистине, трудно доказать всякое бытие и трудно заставить его
говорить. Скажите мне, братья мои, разве самая дивная из всех вещей не
доказана наилучшим образом?
Да, это Я и его противоречие и путаница говорит самым честным
образом о своем бытии, это созидающее, хотящее и оценивающее Я,
которое есть мера и ценность вещей4,
когда «середина и мера» в отношении человека к миру утрачены,
а человек как бы вброшен в уже не дружественный к нему мир. У входа
202
в ворота решающего мгновения ницшевская воля вопреки
отвращению к случайности существования сделала выбор в пользу
самоволия мира, с которым его собственная воля сверхчеловечески
вступает в гармоничные отношения. Но поскольку сверхчеловеком Ницше
не был, это избавление случилось так, как он сформулировал сам:
«Все сверхчеловеческое проявляется в человеке как болезнь и
безумие»5. Поэтому он по праву мог сказать о себе, что «его судьбой»
было учить вечному возвращению, этому «сверхчеловеческому
миропониманию».
Эмпедокл, сообщает нам Ницше, сам носивший прозаическое
платье мелкого буржуа 19-го столетия, расхаживал в пурпурном
одеянии, с золотым поясом, в бронзовых сандалиях и дельфийским
венком на голове. Окруженный своим народом, он сходит с ума и перед
своим исчезновением в кратере возвещает истину возвращения;
некий друг умирает вместе с ним. Различие между этой мифической
смертью философа и собственным концом Ницше в безумии
(причем в качеству «друга» себя попробовал некий Лангбен с его
пробуждением к духовной жизни6) столь же огромно, как различие
между Эсхилом и Р. Вагнером. Ницше не исчез в кратере Этны, его
обступили защитные стены больничной палаты. Он машинально жил
еще десять лет, «подобно черной полуразрушенной крепости, в
одиночестве сидящий на своей горе, в задумчивости и такой тишине,
которой боятся даже птицы»7, каким он изображен на картине Штёвинга.
«В форте Гоизага, под Мессиной. К предисловию. Состояние
глубочайшего опамятования. Я сделал все, чтобы теперь уйти в сторону; я не
связан уже ни любовью, ни ненавистью. Словно в старинной
крепости. Следы войн, а то и землетрясений. Забвение»8.
Ницше дошел до крайности, и к нему относится это
высказывание: «Чары, что сражаются на нашей стороне (...) - это магия
экстремального, соблазн, пускающий в дело все крайнее...»9. В «Речах
Заратустры» этому соответствует безмерное скопление
превосходных степеней и слов с приставкой «над, сверх»: сверхчеловек, сверх-
тип, сверхгерой, сверхмужество, сверх-дракон, сверх-блаженный,
сверх-сострадательный, сверх-доброта, сверх-богатство, сверх-время,
которые в своей совокупности указывают на излюбленное слово -
«преодоление»* и характеризуют ницшевский радикализм как
экстремизм. Однако самые крайние позиции в буквальном смысле не
* Это слово в немецком языке тоже образовано с помощью приставки со
значением «сверх, над» (Überwindung).
203
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
«радикальны»*, а, напротив, лишены корней. Лишь полное
отсутствие корней могло заставить Ницше верить, что крайние позиции
могут быть «погашены» только опять-таки крайними, но
противоположными. В учении Ницше отсутствуют любые посредничающие
понятия между крайностью нигилизма и обратной крайностью
вечного возвращения, это же относится к сверхчеловеку и последним
людям, те понятия, которые, согласно Шеллингу, выступают
единственным, что проясняет и объясняет на самом деле10. К крайним
позициям относится и воля Ницше безусловно утверждать
собственное существование в целостности сущего и хотеть себя самого как
периодически возвращающееся существо - требование
увековечивания, не работающее по меркам смертного человека.
Однако как другу греков ему было известно и то, что на долгий
срок сильнейшими оказываются не те, которые доводят дело до
крайности, а «самые умеренные», «не нуждающиеся» в крайних догматах,
поскольку они уверены в своей власти11, - и то же самое относится
к теме возможного преодоления человека.
Обрести меру и середину в стремлении преодолеть человечество
- для этого нужно отыскать высший и сильнейший тип человека!'Изображать
высшую тенденцию в ее самых малых проявлениях - совершенство,
зрелость, (...) здоровье, мягкое проявление власти. Ежедневно трудиться,
как художник, в каждом произведении доводить нас до совершенства ( ...)12
Но как раз мера и середина и есть то, что напрочь отсутствует в
ницшевской попытке преодолеть человека. Стриндберг слишком
поздно послал Ницше призыв Горация:
«Rectius vives, Licini, neque altum
Semper urgendo, neque dum procellas
Cautus horrescis, nimium premendo
Li tus iniquum.»
Interdum iuvat insanire! Vale et fave!**
* От лат. radix (корень).
** «Будешь жить ладней, не стремясь, Лициний,//Часто вдаль морей и не
жмяся робко//Из боязни бурь, к берегам неровным//И ненадежным.»
(Гораций, «Оды», II, 5- 12. Перевод А. Семенова-Тян-Шанского). Приятно
иногда побезумствовать. Будь здоров и благосклонен {лат., слова самого
Стриндберга; письмо написано накануне 1889 г. по-латыни). В этой оде сразу
вслед за приведенными в цитате идут знаменитые слова о «золотой середине».
204
Некая середина возможна лишь наподобие пустой пропасти
между потерявшим цели существованием человека и потерявшим
природу миром, и лишь воля властно стягивала края этой пропасти, а
потому всегда называла мир «своим». «Существует много путей и
способов преодоления - гляди пристальней! Но только шут думает: "Через
человека можно перепрыгнуть" »l$t а не преодолевать мало-помалу и
«без спешки», в чем достойны восхищения греки. Как люди
мужественной умеренности только они, согласно Ницше, были
воплощенно-удавшимися, на такой лад, как этого хочет-быть сверхчеловек Зара-
тустры14. Если античные люди соблюдали середину и меру, поскольку
от природы были властными, то современные до крайности
напряжены - только чтобы не быть посредственностью.
Ницше предвидел опасность для эпохи в том, что «мировое
правительство» попадет в руки посредственных людей, потому что в
будущий «убогий» век выживут лишь они.
При столь чрезвычайном в смысле темпа и средств движении, каковое
являет собою наша цивилизация, центральная роль людей изменяется:
людей, что по большей части определяют положение дел, людей, что
словно взвалили на себя задачу быть противовесом всей великой
опасности столь пагубного движения; это будут медлители par excellence, с
трудом усваивающие, тяжелые на подъем, относительно стабильные
посреди этого чудовищного мельтешения и смешения элементов.
Центральная роль в таких условиях неизбежно достанется посредственности: все
заурядное консолидируется перед лицом господствующей черни и
экстравагантных сумасбродов (эти почти всегда- союзники друг другу) в
качестве гарантии и носителя будущего. Для людей исключительных следствием
будет появление нового противника - или, скорее, нового соблазна.
Если они не станут применяться к черни и петь дифирамбы инстинкту
«обделенных», перед ними встанет необходимость сделаться
«заурядными» и «положительными». Они смекнут: mediocritas-то-аигеа*: мало того,
только она и распоряжается деньгами и золотом (и всем, что блестит..,)...
И вновь ветхая добродетель и вообще весь отживший мир идеала
получат талантливых адвокатов... Итог: посредственность обретает глубину
ума, остроумие, гений - она становится интересной, она соблазняет...15
Но есть и обратный соблазн, и Ницше не ушел от него в своем
уединении, хотя и сделал для себя заметку о том, что «ненависть к
* Посредственность (-то) - золотая (лат.), аллюзия слов Горация о золотой
середине.
205
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
посредственности» недостойна философа и «чуть ли не ставит под
сомнение его право заниматься "философией"»16, к которой
относится и понимание оправданности существования посредственности
как «первого необходимого условия существования исключений».
Права самой посредственности основаны не только на ее
отношении к тому, что выделяется, но и независимо от этого на ней самой.
Она, хотя и на свой, посредственный лад, благодаря своей
устойчивости указывает на то, что середина и мера суть высшая форма
самодостаточного исключения. Нет ничего более редкостного, чем
воплощенная нормальность, средоточие которой заключено в ней самой,
поскольку она живет посреди мира в гармонии с собой. Но лишь немногие
знают внутренние силы и признаки меры и середины; такие-то и
боятся громких слов о ней.
Все остальные пропускают разговор о них мимо ушей, думая, будто речь
идет о скуке и посредственности: исключение составляют разве что те,
которые однажды расслышали дальний отзвук из того царства, но
заткнули уши, не желая слушать дальше. А воспоминание об этом злит их
и выводит из себя17.
Лишь в образе хорошо удавшегося человека Ницше на время обрел
человеческую пропорцию, равно удаленную от крайней идеи
последнего человека и от противоположной идеи сверхчеловека,
отталкиваясь от которой он и учит вечному возвращению.
Что же, в сущности, дает распознать человека хорошо удавшегося?
Такой человек словно вырезан из одного куска дерева, твердого,
отполированного и благоуханного, - он приятен даже нашему обонянию.
Ему по вкусу то, что идет ему на пользу; и он уже не получает ни
удовольствия, ни наслаждения, когда нарушена мера полезного. Он чутьем
находит бальзамы от своих ран, а скверное состояние умеет использовать
так, что только становится крепче. Из всего, что он видит, слышит,
ощущает, он инстинктивно собирает себя как собственный итог: он -
принцип отбора, он отсеивает многое. Он всегда - в своем собственном
обществе, общается ли с книгами, людьми или далями: он оказывает честь,
выбирая, допуская к себе, доверяя. Он реагирует на все виды раздражений
с тою медлительностью, что привита ему давней осторожностью и
нарочито усвоенной гордостью, - он недоверчиво ощупывает
подступающее к нему раздражение, он далек от того, чтобы сразу бросаться в его
объятия. Он не верит ни в «несчастье», ни в «вину»: он довольно силен
для того, чтобы все оборачивать себе на пользу18.
206
Инстинкт хорошо удавшихся говорит: «Мир совершенен», и даже
«несовершенство, всякого рода то, что бывает между нами», все
равно входит в целостность бытия, которое всегда уже было тем, чем
оно всегда еще будет. Для установления дистанции, необходимой,
чтобы держаться на нужном расстоянии от «между-нами» любого
рода без «возмущения общей картиной вещей», Ницше
напоминает о том, сколь многое уже удалось и как богата эта земля на
«маленькие хорошие совершенные вещи», на хорошо удавшееся.
«Окружайте себя малыми, хорошими, совершенными вещами, высшие
люди! Их золотая зрелость исцеляет сердце. Совершенное учит
надеяться.»19
Но время совершенного бытия - это «время без цели»20, час
«полудня», божественное мгновенье, когда Ницше-Заратустра созерцал
вечное возвращение.
В полуденный час, когда солнце стояло прямо над головой Заратустры,
проходил он мимо старого дерева, кривого и суковатого, которое
кругом было увито обильной любовью виноградной лозы и скрыто от себя
самого; с него свешивались путнику пышные желтые гроздья. Тогда
захотелось ему утолить небольшую жажду и сорвать одну гроздь; но едва
протянул он к ней руку, как овладело им другое желание, более сильное, -
лечь под деревом в самый полдень и уснуть.
(...)
Но, засыпая, так говорил Заратустра своему сердцу:
«Тише! Тише! Не стал ли мир совершенен? Что же, однако, происходит
со мной?
Как изящный ветерок невидимо танцует по гладкому морю, легкий, как
перышко, так - сон танцует на мне.
Глаз не смыкает он мне, душу оставляет бодрствовать. Легок он,
поистине! легок, как перышко.
Он убеждает меня, я не знаю, как? он касается внутри меня ласкающей
рукою, он принуждает меня. Да, он принуждает мою душу потягиваться -
- какой она становится длинной и усталой, моя странная душа! Неужели
вечер седьмого дня пришелся для нее как раз в полдень? Уж не блуждала
ли она слишком долго, блаженная, среди добрых и зрелых вещей?
Долго потягивается она, - все больше и больше! она лежит тихо,
странная душа моя. Слишком уж много доброго вкусила она; эта золотая
печаль гнетет ее, она кривит ее уста.
- Как корабль, зашедший в самую тихую пристань свою, - и теперь
опирающийся на землю, усталый от долгих странствий и неведомых морей.
Разве земля не надежнее?
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
Когда такой корабль пристает к берегу, жмется к нему - тогда
достаточно, чтобы паук протянул от земли к нему паутину свою. В более крепкой
веревке нет надобности.
Словно какой усталый корабль в заливе тишайшем: так я покоюсь
теперь вблизи от земли, верен, доверчив, и жду, нежнейшими
нитями к ней привязан.
О счастье! о счастье! Душа моя, запеть собралась ты неужто? В
траве ты лежишь. Но это - праздничный час сокровенный, когда и
пастушья дудка смолкает.
Притихни! Полдень горячий дремлет на нивах. Смолкни! Не пой!
Как мир совершенен.
Не пой, ты, полевая птичка, о душа моя! Не шепчи даже! Смотри - кругом
тишина! старый полдень спит, он шевелит губами: не пьет ли он сейчас
каплю счастья -
- старую, потемневшую каплю золотого счастья, золотого вина? Счастье
пробегает по нему, его счастье смеется. Так - смеется Бог. Тише! -
- «Для счастья, как мало надо для счастья!» - так говорил я когда-то и
считал себя мудрым. Но это была хула, этому научился я теперь. Мудрые
дурни говорят лучше.
Ибо все самое малое, самое тихое, самое легкое, шорох ящерицы,
дуновение, мгновение, миг - малое, вот что составляет род лучшего счастья.
Тише!
- Что случилось со мною: прислушайся! Не улетело ли время? Не падаю
ли я? Не упал ли я - прислушайся! - в колодец вечности?
- Что происходит со мною? Тише! Меня кольнуло - о, горе! - в сердце?
В самое сердце! О, разбейся, разбейся, сердце, после такого счастья,
после такого укола!
(...)
Когда выпьешь ты эту каплю росы, упавшую на все земное, - когда
выпьешь ты эту странную душу, -
- когда, о родник вечности! ты, радостная, ужасающая полуденная
бездна! когда обратно втянешь ты в себя мою душу?»
Так говорил Заратустра и поднялся с ложа своего у дерева, как будто
после странного опьянения (...)21
Этот родник вечности обладает тем же двойственным смыслом,
как и вся философия Ницше: он - «полуденная бездна», светлая и
вместе с тем пугающая. В нем еще раз представлено высшее бытие
и глубочайшее ничто, философским выражением которого в ниц-
шевском эксперименте выступает учение Заратустры о вечном
возвращении того же как самопреодолении нигилизма.
208
Но Ницше - это не Заратустра, и даже сам Заратустра - еще вовсе
не сверхчеловек, он лишь учит о нем, он лишь на пути к нему; он для
него - лишь «пролог» и «пример». Ницше говорит в роли Заратустры;
так речь античного актера звучит сквозь маску persona*. В свой черед
и у самой маски есть разные лица - смотря по тому, как ее носит
актер. Выступление и явление Заратустры напоминают о ницшевской
характеристике Гераклита и Эмпедокла; но Заратустра, учение
которого предполагает, что Бог умер, и который поэтому сам является
«безбожником», говорит уже и как антихристианин, и чем дальше
продвигается история его самоспасения, тем больше его имя
становится собственным именем бога Диониса. С другой стороны, «Дио-
нисовы дифирамбы» - это «Песни Заратустры», «которые он пел
самому себе, чтобы терпеть свое последнее одиночество». Заратустра
не в последнюю очередь говорит о самом Фридрихе Ницше.
Заратустра - это Ницше, каким тот хотел видеть себя: фигурой
искупителя и спасителя, которая Ницше как человеку была не по плечу.
Превосходстве? Заратустры над «духом тяжести» проявляется в
плясках и смехе; в одном письме к Овербеку Ницше пишет, что хотел бы
«умереть со смеху!!!». Заратустра хвалится легкомыслием и
бесшабашностью; Ницше признается, что его «Заратустра» завоеван за счет
величайших лишений и тяжелейших страданий. Заратустра
выступает как адвокат жизни, ощущавшейся Ницше в качестве бремени,
которое он отчаянно хотел сбросить с себя. - Заратустра - это
сознательно выбранная Ницше тема и одновременно пришедшая из
глубин бессознательного проекция. О том, что во всем осознанном
волении Ницше-Заратустры само собой происходит что-то такое,
что не могло быть намеренным, свидетельствует все снова
возвращающийся вопрос: «Что же со мной случилось?»
Поэтому притчи из «Так говорил Заратустра» можно читать на
разные лады: как серию претенциозных речей, в которых Ницше
мысленно разрабатывает и оформляет в философское учение некий
важнейший опыт, или еще и как ряд возникающих словно во сне
картин, из которых - при психологическом анализе - складывается
сокровенная история страданий человека, облекающего проблему
своего существования в формы мрачных и безмятежных
ландшафтов, жутких ситуаций и загадочных фигур, в коих он как открывает
и разоблачает себя, так и скрывает и маскирует. Канатный плясун и
скоморох из «Предисловия», бледный преступник и тень, карлик и
пастух, чародей и дщери пустыни, вулканическая преисподняя и ла-
* Действующего лица, персонажа (лат.).
209
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
зурный мир небес, гроб и челн, змея и орел - это такие фигуры и
конфигурации, которые можно толковать как философски, так и
психологически. В том и другом случае нужен выбор и отбор, чтобы
суметь отделить пустой пафос от страстного влечения, которое
объединяет эти столь множественные речи в единое целое. Философское
истолкование, как и всякая обязывающая к объективности
интерпретация, преимущественно ориентировано на то, что захотел
сознательно сказать и чему учить в фигуре Заратустры сам Ницше;
психологическое истолкование держится главным образом за то, что
осталось невысказанным во всем сказанном и, вопреки сознательному
намерению автора, непроизвольно получает слово вместе со
сказанным. Не желая недооценивать вероятную продуктивность
психологического истолкования (а путь к нему проторил, как никто до него,
сам Ницше), мы ограничились возможностями понятийного
анализа притч Заратустры в отношении основного философского
каркаса ницшевского учения и тем самым сузили безбрежное
пространство искусства истолкования, придерживаясь мерила
философского самосознания и самопонимания Ницше.
В первой части Заратустра учит только «сверхчеловеку» как
самопреодолению обычного и прежнего человека. Он - его «самая
высокая мысль» и его «последняя воля»; таким он остается и после
возвещения вечного возвращения, ведь только сверхчеловек способен
призвать эту мысль и выдержать ее. Учение о сверхчеловеке и о
вечном возвращении предполагает уже наличное знание того, что Бог
умер, а именно такой Бог, который до сих пор превышал и определял
человечность. Соотношение человека и сверхчеловека - это не
постепенное развитие от первого ко второму, когда лишь методом проб
и ошибок достигается планомерное выведение «типа» сверхчеловек;
это молниеносное «преображение» самодостаточного человека,
человечность которого определена традиционными предикатами
гуманности (стремление к счастью, разумность, добродетель,
справедливость, сострадание). Гуманный человек - это темное «облако»,
из которого в момент преображения сверхчеловек бьет как
освещающая, очищающая и палящая «молния». Сверхчеловек прямо-таки
есть эта молния освещения и очищения, а в то же время носит имя
«безумия», поскольку все сверхчеловеческое предстает в человеке
как болезнь и безумие. Однако, в конце концов, смысл человечности
обнаруживается даже не в сверх-человеке, а сверхчеловечески, в
некоем новом боге, Дионисе, который открывает себя в молнии22.
Прежде всего, смысл человечности еще не указывает на какого-
то нового бога, а указывает на эту нашу землю. Сверхчеловек - это
210
«смысл земли»; даже «плоть» говорит о земном смысле. Фигура Зара-
тустры задумана как вьфажение телесного, хорошо удавшегося,
прекрасного человека, который выдается над неудавшимися и
безобразными уже самими по себе и вместе с другими страдающими. Чтобы
учить смыслу земли, нужна критика всех метафизических
потусторонних миров христианского платонизма и традиционного
представления о боге, согласно которому бог есть надземный и надмир-
ный, бесплотный «дух». Учить «верности земле», находясь в сфере
иудео-христианской традиции и ее призрачных потомков, можно,
только если человек избавился от этого бога. Правда, возможно еще
множество новых богов, а мертв, собственно, лишь «моральный»
Бог, но Заратустра не верит ни в старых, ни в новых богов: «Хотя
Заратустра и говорит, что смог бы, - но он не сможет... надо понять
его правильно!»*. Лишь будучи безбожным, он может и должен учить
самопреодолению человека для сверхчеловека, ведь без ориентации
на христианского Бога и Богочеловека человек не может ни
оставаться человеком в прежнем смысле, ни стать человеком в новом,
будущем смысле. Он больше не стоит прочно и потому должен быть
установлен заново. Он сделался «неопределенным (букв.: не
установленным) животным»25. Требуя перехода к сверхчеловеку,
Заратустра вместо потерявшего доверие царствия небесного хочет
«царства земного» и вечного возвращения этой земной жизни. Однако
то, что пророчествует, уча, Заратустра, поначалу еще не бездонная
мысль о вечном возвращении, а порожденный смертью Бога
нигилизм. Пророчествовать противоположное учение, призванное
восстановить утраченную верность земле, он мог только как
«победитель бога и ничто». Но все же как мало в этой верности земле слово
получала сама земля своей собственной природой, показывает то
обстоятельство, что Ницше говорит о царстве земном и о
«предназначении» земли, а думает о будущих повелителях земли, так что
идея сверхчеловека обретает смысл мировой политики,
направленной на то, чтобы «земля когда-нибудь стала землей сверхчеловека»24.
Сверхчеловек стоит над кастой призванных к владычеству людей и
с их помощью распоряжается «правительством земли».
Ницше учит: он говорит речь за речью, он пишет книгу «для всех
и ни для кого». Первым делом он держит речь на базарной площади ко
всем, и именно поэтому ни к кому25. На этой всеобщей площади
черни, желающей «последнего» человека, его никто не слушает, и
потому позже он обращается к «высшим» людям, чей вопль о помощи
* См. прим. 88 к главе III.
211
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
призвал его, и они способны его услышать, поскольку делят с ним
похожую, но не ту же самую нужду. Он еще ждет своих детей и себе
подобных. К высшим людям принадлежит также самый безобразный
и ненавидящий себя человек, который убил Бога и потому состоит
с Заратустрой в тайном соглашении. Всеми этими и прочими
фигурами Ницше говорит не только с другими, но и с самим собой и о
себе самом - в диалоге между своей «душой» и своей же «волей», или
своей самостью и своим «я». Он сам - канатный плясун, который - в
противоположность сучильщикам канатов (в речи «О свободной
смерти»), тянущим нить жизни лишь в длину, пятясь назад, - сделал
опасность своей профессией. Он сам и скоморох,
перепрыгивающий через канатного плясуна, так что тот теряет осторожность и
разбивается насмерть. Он сам и странник, и тоже странствующая и
испытующая тень, болеющая от тщетности своих поисков. Он сам
и пастух, которого душит отвращение к человечности, и чародей,
чувствующий, что его преследует какой-то неизвестный бог, -
потому что в качестве Ницше-Заратустры он распался на множество
ролей и в глубинах своей души расколот до границ шизофрении.
О чем и каким образом Ницше говорит устами Заратустры? Он
говорит, как христианский проповедник говорит о «спасении»,
лейтмотиве творчества не только Р. Вагнера26, но и Ницше. Как
проповедующий против христианства и спаситель от него Заратустра - не
только безбожник, но и «давным-давно обетованный Антихрист»27.
«Так говорил Заратустра», как по литературной форме, так и по
содержанию, -это антихристианское евангелие и вывернутая
наизнанку Нагорная проповедь. Изобилие перекличек с известными
библейскими цитатами не нуждается в разъяснении. Стилистическое
подражание и использование библейских притч в том же смысле (а)
следует отличать от простого отрицания (Ь) и пародийного
обращения их смысла (с)28. Несколько типичных примеров раскроют
три способа использования языка Нового Завета.
a) «И лишь там, где есть могилы, есть и воскресения» ( 773, ч. 1,
Надгробная песнь) - ср. Ин. 12, 24. «И я люблю тех, кто не хочет
беречь себя» (О старых и новых скрижалях, 6) - ср. Мф. 16, 25.
«Я мог бы сказать вам что-то еще» (Самый тихий час) - ср. Ин.
16, 12.
b) «Это случилось, когда самое безбожное слово было
произнесено одним богом - слово: - «Бог един! У тебя не должно быть
иного Бога, кроме меня!»» (Об отступниках, 2) - ср. Исх. 20, 3.
«Если есть у вас враг, не платите ему за зло добром: ведь это
устыдило бы его» (Об укусе змеи) - ср. Мф. 5, 44.
212
«...немало желавших изгнать своего дьявола сами вошли при этом
в свиней» (О целомудрии) - ср. Мф. 8, 31.
с) «Что тяжелее всего? (...) Подняться на высокие горы, чтобы
искусить искусителя?» (О трех превращениях) - ср. Мф. 4, 1.8
«Подобны мне все те, кто отдает себя своей воле и сбрасывает с
себя всякое смирение» (Об умаляющей добродетели, 3) - ср. Мф.
12, 50.
«Этот венец смеющегося, этот венец из роз, - я сам возложил на
себя этот венец, я сам признал святым свой смех» (О высшем
человеке, 18)-ср.Мф.27, 29.
Весь «Заратустра», начиная с его первого появления и вплоть
до торжеств во время праздника осла, - это затяжная история все
вновь откладываемого спасения, которое призвано спасти человека
от его прежнего спасителя. Поэтому на поставленный Ницше
вопрос: «Кто такой Заратустра?» можно ответить, не отступая назад,
к началам греческой метафизики, а лишь постоянно имея в виду: с
христианством пришло новоеыачало, настолько овладевшее
мышлением Ницше, что его первый и последний принцип есть
противоположность «мира» и «Бога», или соответственно «Диониса» и «Распятого».
Почти в каждой строчке «Предисловия Заратустры» содержится
отсыл к христианству, хотя и не всегда столь сверхотчетливый, как
в последней фразе «Се человек». Заратустра хочет опустошить до
дна чашу золотого преизбытка - в то время как Христос, тоже
покинувший озеро своей родины в тридцать лет, осушает чашу
горького страдания. Заратустру, учителя вечного возвращения того же,
сопровождает гордый орел (символ евангелиста Иоанна), вокруг
шеи которого обвивается змея вечности, в противоположность
вышеназванному другому сверхчеловеку, чье учение говорит об
однократном возрождении из разворота назад и чей символ - смиренный
жертвенный агнец. Гордости и уму орла в Новом Завете
соответствуют смирение и ум голубицы и змеи. Орел Заратустры - животное,
бросающееся из высот на агнцев и ненавидящее все «ягнячьи души»,
испытывающее чувство блаженства, когда разрывает на куски бога
в человеке, этого «бога в качестве овцы» (agnus Dei)29. В
примечательной конфигурации - обвившейся вокруг шеи орла змеи - уже
проявляется то, что искусственно и насильственно слеплено вместе всем
ницшевским учением о волении космического круговращения. Ведь
как между самым гордым животным высот и самым умным
животным земли может возникнуть та «дружба», которую симулирует этот
двойной образ, если орел олицетворяет самую гордую волю к подъему
в высоты, а связанная с землей, но и обвивающаяся вокруг солнца
213
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
змея - вечное возвращение того же, пусть даже вечное возвращение
того же можно волить на крыльях гордости, поскольку это,
собственное, воление соответствует космическому? Однако «самоволение»
кольца вечного возвращения столь же мало является гордым воле-
нием, как кружение орла делает его существом, закольцованным на
себя самого. Одно и то ж^ слово «воля» вводит в заблуждение
относительно того и другого точно так же, как игра слов в выражении
«необходимость» - относительно несовместимости определенности
бытия с намеренным обращением нужды*. И разве не сам Заратустра
в последней фразе своего предисловия правильно предчувствовал,
что мудрость змеи однажды покинет его, и тогда его гордость улетит
вместе с безумием? В самой последней из речей Заратустры
говорится уже не о змее, а только о его орле и смеющемся льве, в первой
речи в качестве хищника олицетворяющем переход от «ты должен»
к «я хочу» и таким образом несущем как раз не спасительное
освобождение, возвещение которого составляет часто прерываемую, но
неизменную тему «Заратустры».
Заратустра, безбожный учитель сверхчеловека и вечного
возвращения, хочет быть носителем благой вести, провозвестником
«веселой науки», порожденной смертью Бога. Это возвещение,
согласно мысли Ницше, проповедуется, потому что в Германии
существует «только один род публичного и мало-мальски художественного
ораторства», а именно тот, что раздается с церковной кафедры.
Только проповедник и знал в Германии, какое значение имеет каждый
слог, каждое слово, насколько фраза бьет, прыгает, низвергается, течет,
изливается, только в его слухе и обитала совесть (...) Шедевром
немецкой прозы является поэтому, как и следовало ожидать, шедевр
величайшего немецкого проповедника: Библия была до сих пор лучшей
немецкой книгой. По сравнению с Библией Лютера почти все остальное есть
только «литература» - нечто, выросшее не в Германии, а потому не
вросшее и не врастающее в немецкие сердца, как вросла в них Библия30.
Но почему речи Заратустры не могут ни перевернуть душу, ни
убедить разум? Потому что они - творения писателя, сила которого
заключается в критически заостренном афоризме, и в сравнении с
ним такое возвещение - это неприятное смешение языка Нового
Завета и музыкальной драмы Р. Вагнера с собственным великим
литературным искусством Ницше. Непосредственно с убедительностью
* См. мое примечание к сноске 167 (гл. III).
214
Ницше говорит не как провозвестник пятого евангелия, а там, где
пользуется «языком влажного теплого ветра». Чтобы чему-то
научиться из ницшевского учения, нужно закрыть глаза на его
словесную специфику, сосредоточившись на его принципиальной и
продуктивной основе: на мотиве «преодоления», не только своей эпохи
и себя самого, но временности и времени вообще, его преодоления
в пользу вечности вечного возвращения того же. «Подлинная
вечность - не та, что исключает всякое время, а та, что держит у себя в
подчинении само время (вечное время). Подлинная вечность есть
преодоление времени»31 То, что Шеллинг мыслит в этих тезисах,
метя в сторону спекулятивной теогонии, Ницше - после
«петушиного крика позитивизма» - продумал заново и применил к
собственному отношению к эпохе. Ведь первое, чего должен требовать от
себя философ, - преодолеть в себе свою эпоху, чтобы разглядеть ее
высшие мерила ценности. Удостовериться в том, что она
преодолена, можно, если удастся отбросить даже свое отвращение к ней32.
Эту пробу Ницше выдержал настолько хорошо, что ему удалось
сделать правдоподобным свое учение о вечности. Но на чем же может
быть испытана и доказана справедливость его учения, если не на
«исходном тексте» природы, в феноменах которой все снова
проявляется вечное возвращение того же? «Никто из нас не знает, до
каких высот и глубин простирается природа»33 и насколько сам
человек в своих высших и низших потребностях и способностях
является «всецело природой». Его познание тоже демонстрирует
«совершенную аналогию» органическому процессу отбора и отсева,
усвоения, преобразования и выделения. «Прологом к философии
будущего» сочинения Ницше являются не потому, что он думал о
будущей трансформации человеческой природы, которую можно
подготовить, а то и вовсе волить, и для достижения которой он
выдумал сверхчеловека, а потому что он - если вспомнить о досокра-
тических physikoi * - предпринял великую попытку «перевести
человека назад», на язык природы всех вещей, и в метафизике, ставшей
надмирной и замирной, снова отдать дань должного нетленной physis**
мира и «великой разумности тела» как основополагающему, вечно
сущему, равному себе и возвращающемуся началу34. В этой
тенденции «возвращения к природе» Ницше, несмотря на свою вражду к
сентиментальному понятию природы, - это Руссо девятнадцатого
столетия.
* Натурфилософах (греч.).
** Природе (греч.).
215
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
Тезис, гласящий, что абсурдное для всякого современного
(естественнонаучного, исторического и экзистенциалистского)
мышления учение о вечном возвращении является ядром всей ницшевской
философии, поначалу, конечно, должен показаться странным, так
же как утверждение Шеллинга о том, что в отношении Декарта к
доказательству бытия Бога с точки зрения сомнения заключен «остаток
подлинной философии»35. Однако парадоксальность обоих
утверждений потеряет свою предосудительность, когда станет ясно, что
учение о человеке беспочвенно, если его принципиальной основой не
является либо мета-физический бог, либо physis мира, ведь человек
существует не благодаря самому себе. А поскольку для Ницше над-
мирный Бог умер, то ему пришлось заново поставить древний
космологический вопрос о вечности мира36 в противоположность его
однократному творению. То, чему можно научиться из его учения,
- не готовые результаты, а, вероятно, необходимость постановки
определенных натурфилософских вопросов, которые исторически
вытекают из того, что старый, библейский Бог умер для сознания
современного человека. В рамках исторической обусловленности
ницшевского антихристианского мышления37 каждая из этих
философских постановок вопроса соотносится с отменой какого бы то
ни было теологического ответа; поэтому их можно подытожить в
следующих альтернативах, гласящих
1. что дело состоит исключительно в бытии мира - если вера в
Бога как творца мира уже мертва.
2. что бытие этого уже всегда сущего мира есть самодвижущая,
изначальная physis - если только бытие не возникает
чудодейственным образом из ничто.
3. что физический мир вечен-если только он не имеет исконного
начала и целесообразного конца.
4. что вечностью всегда сущего физического мира является
вечное время - если только оно не является вневременной вечностью над-
мирного и сверхприродного Бога.
5. что человек существует от природы и от мира - если только он не
является сотворенным подобием сверхприродного и надмирного Бога.
6. что вопрос об отношении вечно длящегося бытия физического
мира к конечному существованию человека обойти невозможно - если
только ответ об отношении человека и мира уже не дан верой в
совместноетворение и соединение мира и человека Богом.
7. что случайность всякого фактического конкретного
существования неизбежно становится проблемой, если вера в провидение и
его секуляризированные формы уже недействительна.
216
8. что загадочность случайности по имени «человек» не найдет
решения, если человек не будет мыслиться встроенным в вечную
целостность сущего от природы.
Ницше пришлось ставить резюмированные в этих тезисах
вопросы, поскольку он сделал выбор против Бога и в пользу мира и,
пытаясь их разрешить, с самым крайним радикализмом познал смысл
того, что со времен Коперника человек из центра вселенной
превратился в некое х, а это значит, в абсолютную случайность
современного, секуляризированного существования38. «Мы еще шаг за
шагом одолеваем исполина случая»39, из-за владычества которого
над всем человечеством царит недостаток осмысленности. «Как вынес
бы я быть человеком, если бы человек не был также ... избавителем
от случая!» Для избавления от распущенного, аб-солютированного
случая по имени «человек», предстающего «болезнью земли», Зара-
тустра выдвигает учение о возвращении этого выпавшего
фрагмента «человек» в «нечаянность» целокупности уже всегда
существовавшего и всегда еще становящегося мира, необходимое круговращение
которого равно далеко отстоит и от произвола, и от принуждения.
Он не может испытывать принуждение со стороны чего-то другого,
поскольку и сам уже есть целое, и не порожден каким бы то ни было
произволом, поскольку является волящей самое себя фатальностью.
Высший, безусловный «фатализм» тождествен «случаю» и
«творческому началу». Учение о вечном возвращении того же «доводит до
совершенства» этот, так понимаемый фатализм, вставляя и отставляя
индивида в сколь случайное, столь же и необходимое целое
творческой жизни мира. Поэтому Ницше ставит свой знак вопроса не
только к противопоставлению миру, которое предпринимает
умаляющий мир человек («человек против мира»), но и к их сопоставлению
(«человек и мир»)40. Мы сами уже суть мир - но не потому, что
существуем в окружающей среде, а мир - лишь условие человеческого
существования, а потому, что всякая включенность,
противопоставленность и сопоставленность всегда уже перекрыты всеобъемлющим
бытием живого, физического мира, который является неизменным
круговоротом возникновения и исчезновения, сотворения и
уничтожения. Специфика человеческой природы состоит не в некоей
мета-физической особенности, а лишь в том, что человек обладает
особенным сознанием себя самого и мира, которое, однако, не
является самостоятельным бытием, а принадлежит тому, кого оно
осознаёт. Почти все в человеке и мире существует и случается без него41.
Непреложная цель ницшевских черновиков для запланированного
им главного труда, переоценка которого имеет натурфилософскую,
217
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
по большей части биологическую основу, гласит:
продемонстрировать «абсолютную однородность всего происходящего». На вопрос
о преодолении случайности по имени «человек» можно ответить,
если вообще можно ответить, лишь исходя из целокупности сущего,
которую Ницше называет «общим свойством жизни». Вечное
возвращение является возвращением всегда того же самого, иными
словами: жизни, однородной и равномощной во всем живом. Структуру
и проблематику учения о вечном возвращении и его соотношении
с волей к власти невозможно осмыслить с толком, если - стоя на
точке зрения абстрактного понятия бытия - не принять во
внимание, что определяющее место всех ницшевских учений
обозначается словом «жизнь», которое, в свою очередь, имеет в виду всё
несущую и всем владеющую, порождающе-уничтожающую physis.
В рамках «изначального закона» вечного возвращения
однородной и равномощной во всем живом жизни всеобщий характер
жизни различается по критерию ее богатства и бедности, силы и
слабости, подъема и деградации. Сколь мало Ницше думал об
онтологической разнице между бытием и сущим, настолько же интенсивно
рассуждал о различиях в рамках всего живого бытия, без
животворности которого не было бы бытия вообще42, - начиная с «Пользы и
вреда истории для жизни» и вплоть до заметок к «Воле к власти».
Различие в пределах единой и во всем равномощной жизни по
критерию подъема и угасания Ницше характеризует как свое «основное
различие», исходя из которого должно объясняться даже вроде бы
более ёмкое по смыслу различие «бытия» и «становления»43. В
замечательнейшем месте, в первой главе «Се человек» («Почему я так
мудр»), он называет себя «учителем par excellence» этого различия, и
совершенно бесспорно, что его уникальное мастерство заключается
в дифференцированном разъяснении признаков подъема и угасания
- в философии и религии, морали и политике, науке и искусстве,
литературе и музыке. Разработка и смена перспектив подъема и
деградации: «Рассматривать с точки зрения больного более здоровые
понятия и ценности, и, наоборот, с точки зрения полноты и
уверенности более богатой жизни смотреть на потайную работу инстинкта
декаданса» - это было его «наиболее длительным упражнением»,
его «настоящим опытом», а также «первой причиной», по которой
для него вообще стала возможной переоценка ценностей. Ведь
переоценка в каждом случае предполагает способность отличать в
рамках совокупной жизни полное жизни от оскудевшего, удавшееся от
* Главным образом (фр.).
неудачного, хорошее от плохого. Но переоценка по критерию этого
принципиального различия означает также и прежде всего
обращение воли к ничто в воление вечного возвращения.
Но если это главное различие есть различие в рамках
сохраняющейся и растущей, поднимающейся и снова опускающейся жизни,
то и нигилизм принципиально может возникать не в первую очередь
из «смерти Бога», то есть из того обстоятельства, что вера в него
уже недействительна. Веру и неверие, если смотреть на них из этой
последней перспективы ницшевской точки зрения, следует
толковать не в качестве самодовлеющих форм поведения людей,
склонных к вере или питающих к ней отвращение, а - как всякое
сознательное поведение, а также всякое объяснение мира - в качестве
признаков или симптомов чего-то более исконного и сокровенного:
роста или упадка силы жизни. Для ницшевской «общей концепции»
характерно, что и нигилизм является не одноразовым историческим
событием, а постоянно возвращающейся формой проявления
однородной и равнрмощной в природе и в истории, неисчерпаемой
жизни, которая, уничтожая, снова созидает себя. Нигилистические
процессы тоже уже всегда существовали, и признаки разрушения и
упадка относятся вместе с ними к периодам перехода в новые условия
существования.
В смысле такого рода перехода надо понимать и переход Зара-
тустры от прежнего человека к сверхчеловеку и от нигилизма к во-
лению вечного возвращения. Этот переход начинается не
исключительно потому, что однажды утром Заратустра решается погибнуть
ради нового начала, - нет, его решение одновременно есть
«инспирация», или наитие, и приходит оно как событие. Человек находится
на пути к сверхчеловеку не потому, что Заратустра по своей воле
затеял создать будущее и перейти к чему-то другому, а потому, что он,
человек, «преображается» -творческой силой восходящей и
нисходящей жизни. С другой стороны, он преобразится, лишь если сам
захочет преобразиться. Воля Заратустры - в случае, если Заратустра-
Дионис есть высший род всего сущего, - это творческая случайность
и необходимость волить. Ато, что преодолевает себя для утверждения
вечного возвращения, - это (раз уж вся жизнь есть
«самопреодоление») даже не человек, который больше не верит в Бога и потому
предпочитает хотеть ничто, чем ничего не хотеть, а однородная,
равномощная и равнозначная во всем сущем жизнь. Однако если
нигилизм прежде всего и в конечном счете - отнюдь не «следствие»
того, что в Бога больше не верят, а «симптом» и «логика»
«физиологического» декаданса, то и самопреодоление нигилизма в пользу
219
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
воления вечного возвращения может осуществиться лишь благодаря
тому, что жизнь в человеке регенерирует себя и в силу своей
творческой способности к преображению прекращает нигилистическое
состояние. Как собственной воле к самопреодолению соответствует
невольное событие преображения, так же собственной воле к
новому рождению соответствует регенерация со стороны космической
жизни. И обесценивание всех прежних ценностей, и их переоценка
происходят, правда, в человеческом волении и полагании ценностей,
но таким образом, что эти последние заранее оцениваются и
выбираются сущностью жизни, которая и сама уже есть выбор и
оценка самой себя. «Сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности,
сама жизнь оценивает через нас, когда мы определяем ценности.»44
Напряжение и противоречие в рамках этого постулированного
соответствия между конечным существованием волящего человека
и вечным бытием волящего себя мира дают в итоге проблематичный
разлад в волении вечного возвращения. Лишь в пределах этого /юз-
лада в соответствии Ницше может, с одной стороны, думать, что
человек будет приводить в движение целую природу, когда всецело
станет человечеством, а, с другой стороны, твердо придерживаться
мнения, что в целокупности сущего человек есть просто «инцидент»,
сплошь и целиком результат природной фатальности. Или, в сжатом
выражении из двух слов: «Ego-Fatum»45', а именно фатум вечного
возвращения. В истолковании он означает также нечто двоякое,
расколотое и противоречащее себе: я сам искони обусловливаю
фатальность всего существования и его вечное возвращение, и иначе: я сам
- лишь одна обусловленная фатальность в целокупности
круговращения природного мира. А говоря на языке морали: я несу
ответственность за все существование и его определенность, и иначе: нет
вовсе никакого существования, которое было бы ответственно за
свою определенность и конкретность. Противоречие между этими
парами утверждений можно было бы снять и привести в
непротиворечивое соответствие, лишь если бы Ницше удалось влететь в то,
что по ту сторону всякого хождения, перехода и захода, в невинность
небес.
Ницше не желал, чтобы у его проблематичного учения о вечном
возвращении, метящего в некий «космос-антропос»46, были просто
последователи. Он знал, что он - лишь «поручень над потоком», а
вовсе не «костыль», на который можно опереться47. В конце
предисловия к «Се человек» он повторяет - в созвучии с христианским
ожиданием второго пришествия 1оспода - то, что Заратустра
говорит в конце Первой части и берет эпиграфом ко Второй:
220
Плохо отплачивает учителю тот, кто всегда остается только учеником.
И почему не хотите вы ощипать венок мой?
Вы почитаете меня; но что если когда-нибудь падет почитание ваше?
Берегитесь, как бы кумир не убил вас!
Вы говорите, что верите в Заратустру? Но что толку в Заратустре! Вы
- верующие в меня; но что толку во всех верующих!
Вы еще не искали себя, и вот вы напши меня. Так поступают все
верующие; потому-то всякая вера так мало значит.
Теперь я велю вам потерять меня и найти себя; и только когда вы все
отречетесь от меня, я вернусь к вам48.
В том же смысле Ницше говорит в письме к Г. Брандесу,
написанному после начала безумия: «После того как ты меня открыл, найти
меня было не чудом; трудность теперь в том, чтобы меня потерять...
Распятый»49.
В тот же день в записке, адресованной Я. Буркхардту, Ницше
признается: «Так вот, Вы - ты - наш великий величайший учитель...»50.
В сверхчеловеческих притязаниях Ницше нет ничего более
человечного, чем это добровольное отречение в пользу более мудрого и
старшего, который, правда, замечал и ценил младшего с некоторым
ироническим отпором, но никогда, как воображал Ницше, не был
его другом. Буркхардт, который на протяжении половины столетия
и впрямь был учителем в высоком смысле слова, никогда не портил
своим ученикам жизнь, заставляя цепляться за себя. Его скепсис,
осторожность и сдержанность не требовали ни верующих, ни
почитателей, ни даже учеников и последователей. То, что привлекало
Ницше в Буркхардте, было его человеческой зрелостью,
«достигнутой свободой ума»; то, что отделяло его от Буркхардта, а заодно и
от Овербека, было неспособностью понять, почему они не делят с
ним ощущение нужды, хотя не могли не чувствовать эту нужду эпохи.
2 июля 1885 года, то есть после окончания последней части «Зара-
тустры», он писал из Зильс-Мариа Овербеку: «...моя "философия",
если я имею право называть так то, что мучает меня вплоть до самых
корней моего существа, уже кг поддается передаче, по крайней мере
путем печати. Иногда я тоскливо мечтаю о том, чтобы устроить тайную
конференцию с тобой и Якобом Буркхардтом, и больше для того,
чтобы спросить, как вы отбиваетесь от этой нужды, чем чтобы
рассказывать вам новости. (...) Теперь жизнь для меня заключается в
желании, чтобы дело со всем обстояло иначе, чем в моем понимании;
и чтобы кто-нибудь сделал для меня недостоверными мои "истины"»51.
222
Дополнение
к истории
истолкования Ницше (1894-1954)
Уже сопоставление названий большинства исследований о Ницше
демонстрирует, какие трудности уготованы тому, кто хочет понять
его творчество исходя из него самого. Риль толкует о Ницше как о
«художнике» и «мыслителе», Йоэль - о Ницше «и романтизме», Зим-
мель - о Ницше «и Шопенгауэре», Хильдебрандт - о борьбе Ницше
и Вагнера «с 19-м столетием», Бертрам -о «легенде» Ницше, Клагес -
о «психологических достижениях Ницше», Боймлер - о Ницше как
философе «и политике». У всех у них речь либо вовсе не идет о фило-
софском учении Ницше, либо идет, но в очень условном смысле.
Прежде всего, мощное воздействие возбуждающих сочинений
Ницше намного превосходит мыслительное разбирательство с ними.
Влияние его литературного творчества распространилось на
философию меньше, чем на общеевропейскую литературу и образ
мышления. Датский историк литературы Г. Брандес первым прочел лекции о
Ницше (1888), а итальянец Г. д'Аннунцио в год смерти Ницше
посвятил его прославлению стихотворение «Per la morte di un distruttore»
(«На смерть разрушителя»). Самым обширным описанием жизни и
сочинений Ницше мы обязаны французскому историку литературы
223
Дополнение
Ш. Андлеру. А. Жид и А. де Сент-Экзюпери, Д. Г. Лоуренс и Т. Э. Лоу-
ренс, Штефан Георге и Рильке, Р. Паннвиц и О. Шпенглер, Р. Музиль
и Т. Манн, Г. Бенн и Э. Юнгер - все они немыслимы без Ницше. Уже
половину столетия его имя является паролем, который именно
поэтому не воспринимается буквально.
Первая попытка осмыслить трансформации образа Ницше,
насколько это касается Германии, предпринята в работе Г. Деес1.
Исследовательница приходит к выводу, что пока никому не приходило в
голову рассматривать Ницше под углом зрения его философской позиции.
В первое десятилетие его считали преимущественно моралистом,
затем, под влиянием Штефана Георге, пророком грядущего и
критиком прошедшего столетия, и лишь после окончания Первой
мировой войны начали выясняться его черты как мыслителя.
На вопрос о том, какой Ницше - Зиммеля или Боймлера, Ясперса
или Хайдеггера- является «подлинным», можно ответить, если
прежде спросить, кто же такой Ницше сам по себе. В настоящей книге
при ориентации на него самого, говорящего, что он - учитель
вечного возвращения, сделана попытка проверить его утверждение.
Соответственно нижеследующая критика представленных здесь
взглядов может ограничиться выявлением проблемных пунктов, в
которых толкование его учения не было убедительным. Поэтому ниже
будут рассмотрены лишь те авторы, которые в явной форме
занимались проблематикой вечного возвращения. Это в первую очередь:
Л. Андреас-Саломе, О. Эвальд, Г. Зиммель, Э. Бертрам, Ш. Андлер,
Л. Клагес, А. Боймлер, Э. Эммерих, Т. Мольнье, К. Ясперс, Л. Гис,
М. Хайдеггер.
1.
Л. Андреас-Саломе2 в своей книге изображает прежде всего самого
Ницше, хотя и «в его трудах». В результате этого интерпретация
проблемы его философии ограничивается у нее личной проблематикой
философа. Ее работа вышла в свет в 1894 году, то есть до публикации
самоизображения Ницше в «Се человек». Тем удивительнее выглядят
осмотрительность и зрелость ее характеристик. В последующие
пятьдесят лет не вышло в свет ни одного такого центрального пионерского
изложения, а заодно и ни одного такого, которое сегодня ценится так
мало. Здесь уже явно разработано то, что Боймлер преподнес как новое
открытие - «система» Ницше, и притом без отказа от учения о вечном
возвращении, этом единственном стержне ницшевской философии.
224
К истории истолкования Ницше ( 1894-1954)
Сначала Андреас-Саломе характеризует «нрав» Ницше, затем его
«преображения» и наконец «систему». «Если рассмотреть его идеи
в их переменах и многообразии, они предстанут почти
неудобопонятными и слишком сложными; но если попробовать выделить в
них то, что остается в них неизменным в переменах, то читатель
изумится тому, насколько просты и неизменны его проблемы» (с. 74
ел.; см. с. 10 и 237). В конце Ницше возвращается к своему
исходному пункту, и круг его духовной экзистенции замыкается (с. 49, 137
слл., 153 ел.). Его постоянно возвращающейся основной чертой
Андреас-Саломе называет раздвоенность, которая мерцает, но не
выходит за свои пределы.
«Таким путем он достиг как раз противоположного по отношению
к тому, к чему стремился: не высшего единства своего существа, а
его глубочайшей раздвоенности, не слияния всех движений... в
едином индивидууме, а их раскола до "dividuum"*. Он все же достигал
здоровья, но средствами болезни; настоящего почитания, но
средствами обмана,; настоящего самоутверждения и самосохранения, но
посредством нанесения себе вреда» (с. 35; см. с. 117, 147 слл., 248).
Тяга к самоуничтожению порождает у него обратную тягу - к
самообожествлению, а эта последняя превращается обратно в первую.
В качестве решающего мотива такой раздвоенности Андреас-Саломе
называет «разрыв с верой».
«Все его развитие в известной степени исходило из того, что он
утратил веру, то есть из "эмоции по поводу смерти Бога", этой
чудовищной эмоции, которая отзывается вплоть до его последнего
произведения, написанного Ницше уже на пороге безумия, вплоть до
четвертой части его "Так говорил Заратустра". Возможность найти
замену утраченному Богу в самых различных формах самообожествления -
вот история его духа, его творчества, его болезни» (с. 38 ел. и 213).
Его творчество тем универсальнее в своих притязаниях, чем
больше оно отождествляется с его личной судьбой (с. 143 ел.). В
соответствии с этим положением и изложение учения о возвращении
(с. 220 слл.) подчиняется главным образом истолкованию духовной
судьбы Ницше, а не выяснению объективной проблематики,
посредством которой оно вступает во взаимосвязь с европейской
философией. Оно характеризуется как фундамент и завершение всего
ницшевского эксперимента, а ядром его идеи считается обращение
страдания к крайнему просветлению существования. «Мне не забыть
те часы, когда он - поначалу как тайну, как нечто, раскрытие чего ...
* Разделенного (лат.).
225
Дополнение
его несказанно ужасало, передавал мне это учение: он говорил о нем
только тихим голосом и со всеми признаками глубочайшего ужаса.
Он и впрямь так глубоко страдал от жизни, что уверенность в вечном
возвращении жизни, должно быть, несла в себе для него чтото жуткое.
Квинтэссенция учения о вечном возвращении, светозарный
апофеоз жизни, о котором Ницше поведал потом, составляет столь
глубокую противоположность его собственному мучительному ощущению
жизни, что кажется нам какой-то жуткой маской.» ... «Все, что Ницше
передумал, перечувствовал, пережил после возникновения идеи
вечного возвращения, порождено этой раздвоенностью в глубине его
души и колеблется между "со скрежетом зубовным посылать
проклятья демону вечности жизни" и ожиданием того "неимоверного
мгновенья", которое даст силу словам: "ты - бог, и я никогда не
слыхал ничего более божественного!"» (с. 222 ел.).
Поэтому мысль о вечном возвращении изначально была не
теоретическим убеждением, а личным опасением, которое потом перешло
в свою противоположность. То, что в первый период творчества
Ницше знал как «метафизик», а во втором считал несуществующим как
«эмпирик» и разрушал сам, привело его учение к «мистике» (с. 225), к
мистической «философии воли» (с. 131). Ницше усиливает пессимизм
до решительного нигилизма, чтобы «использовать крайнее
отвращение и мировую скорбь как трамплин для прыжка в глубины своей
мистики». Этот прыжок фактически осуществился в его безумии как
логичном конце постоянного самопреодоления Ницше. Что прежде было
для него последней опасностью, стало для него последним спасением;
его шаги стирали за ним путь, над которым написано: «Непроходимо».
«Только благодаря такому концу нам во всем его величии
становится ясным непримиримое противоречие, состоявшее в том, что
свою философию будущего Ницше предварил "веселой наукой", что
назвал ее благой вестью, предназначенной для того, чтобы навсегда
оправдать жизнь во всей ее силе, полноте и вечности, - и что он
сформулировал вечное возвращение жизни как ее наивысшую мысль.
Лишь теперь мы полностью понимаем победоносный оптимизм,
овладевший его последними творениями и подобный трогательной
детской улыбке, но с изнанки скрывающий лик героя, прячущего свои
искаженные ужасом черты... Вот величие: он знал, что погиб, и все
же со смехом, "венчанный розами", оставлял жизнь, извиняя,
оправдывая, просветляя ее. В дионисийских дифирамбах замерли звуки его
духовной жизни, а то, что в них должно быть заглушено ликованием,
было криком боли. Они стали последним насилием Заратустры над
Ницше» (с. 261 ел.).
226
К истории истолкования Ницше (i8g4~i954)
«Ведь это же настоящая месть, месть в адрес самой жизни, когда
страдалец берет ее под свою защиту» (ПСС, т. 12, 2 [164], курсив
автора). Андреас-Саломе думает, что может отказаться от
«теоретического очерка» идеи о вечном возвращении в пользу формулировки
его «этических и религиозных выводов, которые Ницше якобы
извлекает из нее, в то время как в действительности они является ее
внутренней предпосылкой» (с. 226). Из-за такого упрощения
проблемы учения о вечном возвращении Андреас-Саломе оказывается в
однобокой позиции, гласящей, будто его собственный и
единственный смысл заключается в сверхчеловеческом сотворении мира (с. 231
слл.), в то время как в действительности воля к фатуму волящего
себя и вечно возвращающегося мира предполагает «пере-созидание»
воли. Лишь благодаря этому сверхчеловеческая воля может волить
дионисийский мир возвращения, сам по себе лишенный воли и
цели. Следовательно, последняя воля Ницше - это не только воля к
самоувековечиванию, а в такой же степени воля к радикальному
прорыву индивидуации, который был темой уже «Рождения трагедии»
(Ртр, гл. 10 и 16), а его учение в целом - попытка на самом краю
свободы для ничто вновь связать освободившееся для себя
существование человека с бытием природно-необходимого мира. Но это,
говоря словами Ницше, «самая трагическая из всех историй с небесной
развязкой» (см.: I7CQ т. 10, 4 [127]).
2.
В отличие от этого первого изображения духовной личности
Ницше О. Эвальд5 сознательно поставил себя «между Ницше и его
идеями», чтобы объективно изложить основные идеи его философии и
лишь потом провести «испытание» на самом Ницше (см. особ. с. 67
слл. - интерпретацию «Пьяной песни»). Он хочет не «цитировать»
Ницше, а «додумывать до конца» его идеи «в соответствии с их
логическим и этическим содержанием» (с. 6 и 83). По такому методу
должен пониматься принцип, на котором основано противоречие
между идеями сверхчеловека и вечного возвращения, а целью
является разработать «систему противоречий», лежащую в основании
философии Ницше, но заодно позволяющую ей рухнуть.
Важнейшие для анализа Эвальда основные идеи -
сверхчеловека и вечного возвращения - предъявляются прежде всего с учетом
противоположной им формы времени, радикальной «эволюции»
(с. 47), а вечное возвращение того же - как противоречащее себе.
227
Дополнение
Так называемый сверхчеловек не определен в соответствии с каким-
либо содержанием - социального, политического или
биологического рода, а является непреклонной волей к сверхчеловеку, этическим
«призывом», «психологической функцией» (с. 18), «перманентным
постулатом» (с. 17), но не объектом. В противоположность всегда
уже завершенной бесконечности кольца вечного возвращения он
предполагает незавершенную бесконечную длительность. Понятием
сверхчеловека Ницше стремится упразднить прошлое и сотворить
будущее, понятием вечного возвращения - наоборот, придать
ценность прошлому даже в будущем. Однако это противоречие существует
лишь до тех пор, пока обе идеи соотносят «догматически» и
«реалистически», вместо того, чтобы делать это «критически» и
«идеалистически» (с. 29). Все дело в том, чтобы «обнаружить суть»
противоречили «углубить его до единства» (с. 34). В качестве общего источника
того, что мнимо противоречиво, Эвальд указывает этическую
идеальность обеих идей. Как идея сверхчеловек не является чем-то сущим
вне нас и выше нас, а есть «имманентный идеал» (с. 48 слл.), всегда
наличная «возможность», «животворящая потенция» в человеке,
выражающая нравственный идеал - в противоположность
возможности последнего человека. Но идею вечного возвращения тоже не
следует воспринимать реалистически, ее «ценность» равным
образом есть ценность «символа» (с. 55 слл.), и как сверхчеловек
является символом «бесконечности воления», так вечное возвращение есть
лишь овеществленное сгущение и осязаемость этой субъективной
бесконечности и ее необходимое дополнение. Но зато в качестве
космологической теории, если рассматривать ее
объективно-метафизически, оно является «авантюрным утверждением» (с. 60),
«необоснованным» и «бессмысленным» (с. 87). Ключ к ее пониманию
содержится в афоризме 341 «Веселой науки», то есть она как
«величайшая тяжесть» есть обязывающий императив, но не истинный
логос бытия всего сущего. «Таким образом, вечное возвращение,
как и сверхчеловек, становится идеальностью и символом» (с. 62); у
обеих идей есть этический основополагающий смысл. Сверхчеловек,
переведенный на язык императива, означает: «Поступай так, как
будто ты хочешь произвести из себя сверхчеловека, тем самым
реализуя его в себе», а вечное возвращение - «Поступай так, как будто
каждое мгновение обладает ценностью вечности, а ты
сосредоточиваешь все будущее в этом одном, неделимом настоящем» (с. 71 слл.).
Бесконечное усиление осознания ответственности- даже за то, что
уже было, является психологической функцией обоих учений. «Вечное
возвращение есть символ сверхчеловека и, в свою очередь, наоборот,
228
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
сверхчеловек становится органом идеи вечного возвращения (с. 77).
Однако хотя обе идеи суть лишь «наглядные вспомогательные средства»
для «придания моральным истинам конкретного облика», между ними
все-таки имеется одно различие: сверхчеловек - это постулат,
который тоже следует осуществлять, хотя и в виде идеи, вечное же
возвращение остается осмысленным, лишь покуда мыслится чисто
символически, а человек воздерживается при этом от всякого ее
собственного смысла и реализации (с. 87).
Несостоятельным ницшевское учение оказывается лишь там,
где ее изложение превышает символическую идеальность в пользу
реалистичности (с. 74 слл.). После «Заратустры», принципиально
символического, Ницше хотел сделать из него «большее» и тем
самым уменьшил ее значимость. Он «огрубил» ее «идею» до «бытия»
(с. 79). Но поскольку оно держится лишь в качестве этического
ценностного понятия, то надо поставить себя между Ницше и его
учением и «взять его под опеку» для того, чтобы спасти его философски.
Даже сверхчеловеку него часто больше чем идея, которую надо
реализовать, а именно определенное историческое содержание,
наполнение которого, однако, как раз опустошает «этическое ядро» этой идеи.
Ядро его учения - это проблема бессмертия (с. 81 слл.),
представляющая собой «проблему ценности», поскольку бессмертие
заключается в «непреходящей собственной ценности моральной личности».
Оно является выражением того, что человек должен этически
увековечить свое существование. Этого человека, который реализует идею
бессмертия как ценностную идею, Эвальд называет «историческим»
человеком в отличие от «элементарного» (с. 100 слл.). Лишь
исторический человек может быть сверхчеловеком и утверждать вечное
возвращение как ценностную идею. Однако в Ницше и его философии
элементарный человек находится в принципиальном конфликте с
историческим, а истина его учения превращается в ложь там, где он признает
значимость и реальность за вечным возвращением и как таковым. В
этом состоит абсурдность его учения, самого по себе вполне
осмысленного. Это противоречие отражается в центральном
противопоставлении случали (этического) закона{с.73, прим., и 136).Там, где Ницше
возвышает «нечаянность» до статуса «древнейшей аристократии мира» и
утверждает невинность случая, его учение начинает «колебаться» между
полюсами случая и нравственного закона, между безответственностью
и ответственностью за себя самого. Таким образом, от «великого
символа» вечного возвращения, в конце концов, не остается ничего,
кроме «грубо реалистичной понятийной оболочки», поскольку
бессмертие человека должно стать имманентным мировому процессу (с. 139).
229
Дополнение
«Так Ницше ослабляет фундаментальную идею своего учения (...)
Именно то, что должно обеспечить независимость человека от
принуждения со стороны объективного бытия, отброшено, чтобы
склонить его под ярмо какой-то геометрической аксиомы, которому он
обязан подчинить свое разумное понимание и движущие силы
воли. В мире объектов Ницше укрывает то, что должно принадлежать
субъекту как его неотчуждаемая собственность (...) Человеку больше
не полагается самому прилагать к своим переживаниям
возвышенную мерку вечного возвращения - вечное возвращение само
привносит в него эту мерку извне как некую реальность, в которой человек
совсем не нуждается. Человек больше не утверждает в нем свою жизнь
- это оно утверждает жизнь человека. Вместе с символом на произвол
случаю и року отдана и активность моральных оценок» (с. 140 ел.).
Критика Эвальда исходит из предположения, что «жизненный
нерв всякой метафизики» -это «проблема ценности» (с. 96). Поэтому
мерило своей критики он берет не от Ницше, а от кантовской
критики практического разума (с. 7 и 71), которую он со своей стороны
модифицирует в смысле философии ценностей на манер, заданный
Вайнингером. Однако «превратное понимание» ницшевского учения
заложено не в нем самом, а у Эвальда, чьи фундаментальные дис-
тинкции (реальность и идеальность, бытие и долженствование,
природная случайность и этический закон) находятся еще по сию сторону
ницшевского «Пролога к философии будущего». Исторический же
смысл ницшевского «да» «утверждению бытия» - каковое «да»
отнюдь не является «тоской надежды» (с. 141) - является не чем иным,
как вот чем: упразднить традиционный со времен Декарта дуализм
человека и мира, внутреннего мира и внешнего мира, «истинного»
и «мнимого» мира, и притом так, чтобы как раз случайность
собственного существования слилась воедино с высочайшей
необходимостью бытия как целого. Философия Ницше оказывается в
противоречии между случаем и законом, лишь если понимать ее как
идеалистическую этику, в то время как ее философская цель состоит в самой
отчаянной попытке вновь завоевать утраченный мир (с. 66). Лишь
на основе демонстрации того противоречия, которое состоит в том,
что Ницше воспроизводит античное понимание бытия мира на
апогее современности и, значит, воспроизводит греческую космологию
на почве постхристианской антропологии воления, можно
реконструировать и ту «систему противоречий», которая является целью
анализа Эвальда.
Подобная последовательно продуманная интерпретация
ницшевского учения по мерке ее этической функции впервые была в
230
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
сыром виде представлена Э. Хорнэффером4, а затем в более или менее
выхолощенном виде появлялась в последующих исследованиях А.
Риля5, А. Древса6, Р. М. Мейера7, Р. Рихтера8, К. Гёккеля9, но прежде
всего Зиммеля.
3.
Зиммель10 путем логической аргументации сводит смысл учения
Ницше к его этической тенденции; он, как и Эвальд, интерпретирует
его в сторону того, что Ницше называет его «этическим акцентом».
Однако эта моральная идея, по мнению Зиммеля, не обладает
никаким «реальным» значением, а, напротив, находится в неразрешимом
противоречии к его космологическим притязаниям. Эта другая
сторона есть лишь «увеличительное стекло» для подчеркивания
моральной значимости любого актуального действия и бездействия, что
сравнимо с положением Фихте: «Эмпирическое Я должно быть
настроено так, как оно могло бы быть настроено вечно». В качестве
«пробирного камня» для оценки человеческого поведения мысль
Ницше сводится к мыслительной «функции», в то время как само
учение и возбужденность, с какой Ницше о нем говорит,
объясняются лишь «известной неточностью его логической конструкции».
«Ведь если продумать его с полной точностью, то его
внутренняя значимость исчезнет совершенно, поскольку (...) повторения в
точности того же самого абсолютно не допускают никакого синтеза.
Если в моей жизни повторяется какое-нибудь переживание, то такое
повторение само по себе может приобрести для меня самое
невероятное значение; но так будет только потому, что я при этом еще
помню первое переживание, только если второе совершенно
накладывается на первое благодаря модифицированному первым
состоянию моего бытия или сознания. Но если вообразить - эмпирически
невозможный - случай, что это второе застало меня в абсолютно
таком же состоянии, что и первое, то моя реакция на него была бы
абсолютно той же, что и на первое, а что это - повторение, не
могло бы иметь для меня ни малейшего смысла (...) Но не иначе дело
обстоит и с возвращением всего сущего вообще.» - «Возвращение
означает что-то лишь для наблюдателя..., который суммирует в
своем сознании все множество повторений; в своей реальности само
по себе и для себя, для переживающего его, оно не значит ровно
ничего. Лишь его идея обладает этико-психологическим смыслом...»
(с. 251 слл.).
Дополнение
Противоречие между идеей вечного возвращения того же и идеей
сверхчеловека устраняется тем, что и то и другое «по своему
настоящему смыслу - лишь регулятив и пробирный камень для нашего
поведения». Сверхчеловек для Зиммеля - не имя последнего преображения,
через которое Заратустра пробуждается в ребенке, а
конечно-бесконечная «задача» в кантовском смысле слова. Учение о сверхчеловеке
имеет смысл императива: жить в каждое мгновение так, «как будто
мы жили так вечно, т. е. как если бы существовало вечное
возвращение» (с. 254). Воля к высшей моральной «ответственности», кажется,
является поэтому «крайним мотивом удивительнейшего учения
Ницше», в то время как в действительности вся его проблема
заключается в том, чтобы через высшую ответственность существования перед
самим собой снова получить высшую безответственность и снова
существовать в условиях невинности кружащегося мира. Зиммель,
правда, понимает, что «из всех учений Ницше» учение о вечном
возвращении - «именно то, которое еще обладает наибольшим
метафизическим значением», но это не мешает ему истолковывать его в смысле
«принципиально морального предназначения».
Такое толкование в смысле этического регулятива дополняется
метафизической спекуляцией. Ведь, по его мнению, учение о
вечном возвращении - это заодно и попытка понять бытие в форме ста-
повлениЯу а неопределенную бесконечность - в форме чего-то
определенно конечного, символом чего выступает кольцо, поскольку
окружность как раз по причине своего конечного объема допускает в себе
бесконечно воспроизводимое движение. Однако это, по Зиммелю,
спекуляция, существующая за счет растяжимости столь
отвлеченных понятий, как конечное и бесконечное, бытие и становление.
Зиммель не пытается исследовать какую-либо связь между этим
учением как субъективно-этическим акцентом и как
объективно-метафизическим умозрением, хотя интерпретация в смысле фикции
опирается как раз на объективное притязание этой идеи. Ведь только при
допущении возвращения, мыслимого как происходящее на самом
деле, фикцией может стать и идея - в смысле императива: жить так,
как будто вечное возвращение существует на самом деле.
4.
Бертрам11 начинает с утверждения: все былое - только подобье.
Соответственно этому он и Ницше хочет понимать не с точки
зрения исторической проблематики его философской экзистенции, а как
232
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
своего рода легенду, как «символ», «смысловую аллегорию»,
«смысловую фигуру». Образцами для такого преображения ему служат
античные мифы о героях и средневековые жития святых. Переход от
исторического к мифическому Бертрам облегчает себе, ведя
неопределенные речи в сравнениях, в иносказательно-литературной подаче.
Исторический подход Гегеля и Буркхардта, который отличает нас
от античности не так сильно, как именно отсутствие подлинно
мифического образа мышления, концепция Бертрама игнорирует. Она
хотела бы создать впечатление, что мифическое понимание
действительности возможно в любое время, но у него самого оно - не более
чем метафора в александрийском стиле. Бертрам загоняет
философскую проблематику Ницше в рамки символа, который
посредством словесных ассоциаций напускает туман на очевидный разрыв
в философии и экзистенции Ницше. Ницше для него - «верующий
скептик», «богохульный богоискатель» с тягой к
«безбожно-божественному» человеку, вся его фигура - воплощение пророческого «начала
конца» - сплошь формулировки, сколь правильные, столь же и
пустые. Изобразить это «двоедушие» - основной замысел Бертрама,
который хочет посредством его реализации бросить свет на
«нерешительно колеблющиеся весы его сущности и его ценностей» (с. 10).
В соответствии с таким подходом, который можно охарактеризовать
как рубрику «Разное» в изображении многократно преломленной
экзистенции Ницше, Бертрам ни в одном пункте не ухватывает
творчество Ницше объективно. Он описывает его лишь посредством
туманных сравнений под символическими заголовками: Арион, Иуда,
Веймар, Наполеон, Маска, Анекдот, Бабье лето, Клод Лоррен,
Венеция, Портофино и т. п. Вопроса о том, можно ли вообще изображать
«фигурально» столь проблематичную экзистенцию, как Ницше, не
возникает, - напротив, все остается в нерешительно-подвешенном
состоянии, хотя как раз Ницше как никто другой, и притом вплоть до
безумия, хотел добиться духовных «решимостей». Конечно, Бертрам
думает, что своим переводом исторического на легендарное он
служит делу исторической силы воздействия Ницше, но на самом деле
ослабляет его до полного бессилия, поскольку рассеивает уникальную
ударную силу Ницше на многочисленные образные сравнения.
Принципиальная несоизмеримость своеобразного изображения
и своеобразия изображаемого питается поэтическим образом Ницше,
созданным Георге12, и особенно отчетливо проявляется в
заключительной главе «Элевсин», трактующей безумие Ницше так, будто оно
чуть ли не вознесло его к богам13. И все же тот цинизм, с каким
последний Ницше говорит о себе самом и обо всех великих вещах, несет
233
Дополнение
в себе больше истины, чем поэтический туман, напускаемый на то же
самое Бертрамом. Общему характеру этого изложения
соответствует и та нерешительность, с которой Бертрам попутно говорит об
учении Ницше. Он называет его «мнимым откровением» и
«мистерией безумия» и видит в ней «символизацию чувства
головокружения» при виде «возвращения в родную гавань», к себе самому. Это
не проясняет проблему его учения, а искусно скрывает ее14.
5.
Ш. Андлер15 ограничил цель всего своего анализа пониманием
Ницше с точки зрения историка. В рамках этого
литературно-исторического замысла он впервые всесторонне исследует источники и
параллели учения Ницше. Оно, по его мнению, есть «космологическое
видение»*, которое призвано поднять человека над самим собой.
До сих пор оставалось непонятным, как могут быть одновременно
признаны Вечное возвращение и Сверхчеловеческое. Ведь, как
представляется, величественный образ возрожденного Человека возникает в конце
прямого и идущего по восходящей пути. И как же это прямое
восхождение может состояться при вечном возвращении? Ведь луч времени в
последнем случае искривляется. А все прямые замыкаются на себя.
Фатальность вечного возвращения делает возможной чистую случайность,
ибо в качестве нацеленных на будущее все наши действия меняют
прошлое. Решение, которым мы соглашаемся вновь прожить настоящее,
является глубоко свободным актом, который не содержанием своим,
но своей свободой оправдывает миры.
...Вечное возвращение - это залог нашей Сверхчеловечности.
Сверхчеловечность позволяет нам принять Вечное возвращение... Обе идеи
будут отныне неразрывны (IV, с. 316 ел.).
Две эти «тайны» дополняют друг друга. Однако как они
соединяются в одно целое, из анализа Андлера неясно, потому что он не
замечает разрыва между «я хочу» и волящим себя миром, который
Ницше хочет утвердить сверх-человеческим образом. Учение в целом
остается для Андлера «...великой мистической интуицией, значимость
* В настоящем Дополнении Лёвит цитирует французских авторов на языке
оригинала. Здесь и ниже такие цитаты всюду заменены на русские переводы,
выполненные специально для этого издания Т. А. панской.
234
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
которой не зависит от её содержания». Но какой же ценностью
может обладать учение, если не замечать того, что оно содержит в себе
как таковое?
Его специфическую задачу этот исследователь усматривает в том,
что оно стремится принести освобождение от двоякого бремени
существования: «физической тяжести» и «бремени прошлого» (VI, с.
67), причем все это - благодаря двум одновременным воскрешениям.
Таким образом, имеется два аспекта вечного возвращения, и ни один
комментатор не увидел их. Физики достаточно для демонстрации
вечного возвращения материального мира, Ницше же, вслед за восточной
мудростью, делает попытку спуститься в Аид, чтобы упразднить
прошлое, в котором спят забытые мертвецы. Не следует путать оба
воскрешения, тем не менее, они одновременны; и эта одновременность
избавляет нас от самого тяжелого и невыносимого, после Силы тяготения,
бремени - бремени Прошлого (IV, с. 62).
Как же, однако, совместить два этих интерпретационных ряда -
со стороны универсума и со стороны человека?
Так что же сказать об этой второй, плотно пригнанной к первой,
теории? Она передает то глубокое чувство, которое Ницше испытывал
перед лицом универсума (с. 74).
Эта загадка разрешается для Андлера следующим образом: чтобы
быть способным понять двойственное учение Ницше, о вечном
круговращении мира и о воле к самоувековечиванию, как
непротиворечивое, нужно уже самому стать сверхчеловеческим. «Как же мы
распорядимся этой свободной вечностью? Не иначе, как став
сверхчеловечными?» (с. 76). Таким образом, учение в целом остается «последней
тайной», которую невозможно выразить на языке мышления.
Это прекрасная невыразимая поэма. Сам Ницше выступает к нам из
своего одинокого и сумрачного убежища, озаряемый тем светом, который
присущ ему одному. Что до нас - нам оказывается доступным лишь то
завораживающее чувство, которое вызвало в нем единение с природой
и человечеством (VI, с. 386).
Однако именно тут, где прерывается изложение Андлера,
вскрывается философская проблема, которую нельзя выразить на языке
истории литературы. Ведь о чем говорит уже самая первая версия
235
Дополнение
последней мысли Ницше (в двух его сочинениях 1862 года, «Свобода
воли и фатум» и «История и фатум»**), если как раз не об этом
проблематичном разладе «природы» и «человечности», так что импульсом
для ницшевской тенденции к объединению этих разделенных сфер
оказывается раскол «природы» и «человечности»? Лишь однажды
исследователь приблизительно характеризует ницшевскую попытку
преодолеть этот современный раскол:
Он притязает на то, чтобы погрузиться на самое дно пропасти
иррационального и взойти на вершину освобождения рационального - усилие,
которому нет конца и, несомненно, противоречивое, однако
выражающее насущную современную потребность. Ницше не единственная
жертва той сокровенной разобщенности, которая стремится к обретению
внешней целостности. Просто, быть может, он страдал от этого больше,
чем кто бы то ни было другой. В нынешние времена трагедии нет, ибо
их мистицизм постоянно скрадывает героическое утверждение.
Современные трагедии - это, по сути, лирические поэмы; вот почему
заключенная в «Заратустре» трагедия не высвободилась из потока словесной
музыки, плывя в ней её отражением (VI, с. 58)16.
6.
Книга Клагеса17 отличается методологической строгостью в
проведении одной главной мысли, восходящей к тем временам, когда он
входил в число членов «кружка космистов», и впервые прозвучавшей
в его работе о Георге (1902), где говорится: «Не в мозге, этом
седалище сознания, а в крови рождается волна упоения». Та же
двойственность составляет теоретическое основание его графологии, которая
рассматривает почерки в их двойственном происхождении. В
качестве оформленных движений, несущих выразительность, они, с одной
стороны, указывают на некоторую изначальную телесно-душевную
эмоциональность, а с другой - на привнесенную и произвольно
управляющую непроизвольными импульсами формирующую способность.
В соответствии с этим двойственным происхождением - от природно-
космической витальности и от самостоятельно волящего духа, от
изначального избытка или скудости жизненной силы и от производного
* Точнее, «Фатум и история» (см.: Юный Ницше. 1856-1868.
Автобиографические материалы. Избранные письма. Из ранних работ. М., 2014. С. 259).
236
К истории истолкования Ницше (i8g4_1954)
управления жизнью, или одухотворения, их истолкование будет
принципиально двусмысленным. Почерк Ницше, по Клагесу, в высшей
степени полон жизни, или воодушевления, и в то же время
предумышленно одухотворен; в нем чудесным образом соединяются
формирующая способность и движение выразительности: жизнь и дух18.
Это фундаментальное различение Клагес применяет к
философии Ницше, чтобы - в странном противоречии собственному анализу
его почерка - всюду демонстрировать, что в его экзистенции и
философии сведены воедино две несоединимые силы: духовная воля к
власти и «патическая» потребность в переживании ритмически
движущейся космической жизни. Этот коренной конфликт философия
Клагеса разрешает путем отрицания власти «духа». Соответственно
творчество Ницше распадается для него на две половины:
«достижения» он усматривает в том, что оно есть философия «оргиазма»;
великое же заблуждение заключается в том, что одновременно оно
стремится быть философией воли к власти. В раз и навсегда очерченный
круг зрения Клагеса не умещается то обстоятельство, что Ницше сам
соединяет то и другое в «amor fati» как своем собственном Да,
сказанном «да бытия», и то, каким образом он вмещает их в единство, а также
внутренняя взаимосвязь воли к власти с учением о вечном
возвращении. Постоянно повторяющийся и развязывающий ему руки
искусный прием его интерпретации заключается в упрямо проводимом
различении того, что в творчестве Ницше является «неиспорченным»
выражением исконной жизни, и того, что рождено в нем осознанным
намерением, что представляет собой истинное понимание и что -
искажающая обработка. В конечном счете, истинным выражением
неиспорченно пережитой «действительности» он вообще признает не
философские произведения Ницше, а некоторые его «экстатические»
стихотворения (см. примеч. 46). Поэтому позитивно расцененный
Ницше - это вообще не Ницше как философская личность
(связанная с духом душа), а Ницше, насколько он служит выражением
«враждебной духу или (!) изначальной» космической жизни. Впервые
приобщаясь к космической жизни, индивидуальная экзистенция приватив-
но характеризуется как «преходящий носитель» всеобщей жизни. Дух,
по Клагесу, исторически начал преобладать вместе с приходом
христианского истолкованием существования, в то время как преобладание
«плоти», или «души», связано с языческим миропониманием. Своими
позитивными открытиями, считает он, Ницше обязан исключительно
своей языческой стороне, а всеми заблуждениями - христианской.
Это столкновение, считает Клагес, достигает своего апогея в
учении Ницше о вечном возвращении того же. То, что оно выражает
237
Дополнение
на самом деле, есть противоположность того, чем оно хочет быть:
оно - не утверждение гераклитовско-дионисийского бытия, а
отрицание самоубийства.
«Попробуем проникнуться настроением мыслителя,
хватающегося за все более заклинательные формулы, чтобы доказать себе,
будто он утверждает жизнь вопреки отчаянию, грозящему ему
самоубийством из-за злосчастной уверенности в том, что кто-то одини в нем
самом есть ненавистник жизни, - и станет понятно, почему он в
итоге пришел к учению о возвращении, несмотря на то, что оно опять-
таки является отчаянием. Заявляя: я хочу снова, тысячи и тысячи
раз, прожить эту же самую жизнь, тысячекратно отвоеванную у тяги
к самоуничтожению, он достиг крайнего, что только можно
придумать, но при этом не в утверждении жизни, а в отрицании
отрицания. Это защитная формула несгибаемого самоутверждения вопреки
тяге к самоуничтожению» (с. 21 б)19.
Клагес совершенно прав, утверждая: «Кто, зная об этом,
полистает сочинения Ницше, сделает для себя удивительные открытия»,
ведь светочи дионисийской избыточности Ницше мерцают на фоне
бездонного мрака отчаяния. В этом же духе и его конец в безумии
Клагес объясняет для себя тем, что «он намертво ухватился за две
смертельно враждующие позиции, одну- безусловного утверждения
жизни и другую - столь же безусловного утверждения воли», этого
врага всякой жизни. Ибо что есть на свете более абсурдного и
мучительного, полагает Клагес, чем «на одном дыхании говорить да и нет}»
И все же уникальная основная черта всей философии Ницше,
достигающей своего апогея в двойном пророчестве о нигилизме и
вечном возвращении, - именно такое единство «пропасти и
вершины» и «свадьба света и мрака». Поэтому критический вопрос,
который следует поставить Клагесу и его интерпретации Ницше, -
вопрос об исконном характере идеи самоубийства. Клагес совершенно не
видит сущностной «негативности духа», состоящей, согласно мысли
Гегеля, в «способности абстрагироьноваться» от всего, что есть. Он
видит в ней исключительно противоестественность, но не видит
характерной «привилегии» человека, природа которого
превосходит самое себя20. Лишь потому, что у человека как существа, которое
«волит», есть свобода для ничто, у него есть свобода и для бытия, и
он может, а эта способность всегда в нем уже налична, утверждать
и себя самого и потому существовать позитивно. Если бы идея
самоубийства действительно противоречила его природе, то он как
природное живое существо был бы и не в состоянии ни отрицать, ни
утверждать жизнь как целое, и тогда не было бы ни той, ни другой
238
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
«философии» жизни. Значимость философии Ницше основана как
раз на том, что ему к^было позволено, «как простому народу»,
разделять чертой «душу и тело» и еще того меньше - «душу и дух» (см.
Предисловие к «Веселой науке», гл. 3). Поэтому ему пришлось искать
возможности для «самопреодоления нигилизма». Такая попытка столь
же «естественна» для человека, как естественно для цветка расти
просто от природы и для животного - двигать себя самостоятельно.
Когда Овербек приехал в Турин забирать Ницше*, тот пребывал в
оргиастическом состоянии; однако его почерк того времени не стал,
как можно было бы ожидать согласно теории Клагеса, выражением
чистого жизненного ритма - это почерк «душевно» больного, чья
человеческая жизнь на этом кончилась, но чей витальный конец
произошел несколькими годами позднее. «В обратном переводе на язык
природы» - «homo natura»** - Ницше тогда уже, конечно, не было;
ведь человеку от природы свойственно быть хулителем и защитником
жизни. И если дух Клагеса прислушивается к «флейтам
первобытного мира», чтобы освободиться от присущей ему самому
негативности, то, значит, и он - в какой-то мере двусмысленный адвокат
жизни, а не просто рупор космически-динамичного мира.
7.
Боймле^1, в противоположность Бертраму, хочет сказать о Ницше
как философе что-то «нелегендарное» и единообразное. С этой целью
он соединяет афоризмы Ницше в «единственной плоскости
истолкования», которая, однако, расположена так, что для создания
единообразной «системы» делает Ницше «не единообразным». Разделение
всей философии Ницше, предпринятое Боймлером по критерию
того, что в ней «музыкально» пережито и что «философски»
продумано, начинается с притязания на расчистку генерального плана
поврежденного храма и «сборку» воедино некоторых
«разбросанных частей» его «колонн». К этой атлетической попытке
восстановления «истинного» Ницше надо отнестись серьезно не только
потому, что во времена Третьего Рейха Боймлер был официальным
автором предисловий и издателем сочинений Ницше, но и потому, что
в более ранние времена он показал свои возможности в одной
работе, посвященной «Критике способности суждения» Канта и в одном
* В январе 1889 г., чтобы отвезти заболевшего философа в Базель.
** Человек как природа (лат.).
239
Дополнение
«Введении» к Бахофену. Современникам тем более напрашивается
вопрос: как случилось, что Боймлер совершает истолкование,
которое удаляет подлинное «учение» Ницше из состава всей его
философии, подобно камню преткновения, а из остатка делает «систему»?
Ответ на это дает интерпретация Боймлером пути Ницше к мудрости
как «пути воли». «Сила против силы» - это, по Боймлеру, сущность
жизни Ницше, а «мир как война» - его взгляд на мир. Его философия -
это одна-единственная акция, которая кончается тем, что он,
«размахивая мечом», ломает его в своей «Зигфридовой атаке на урбанизм
Запада»! Очевидно, и Боймлеру хотелось махать мечом в свежей и
веселой науке, а поскольку для этого не подходит ницшевское
учение о вечном возвращении того же и заключения 2-й и 3-й книг «Зара-
тустры», то ему приходится навести для себя порядок в Ницше.
Формула, которую он чеканит для всего мировоззрения Ницше
и пускает в ход во множестве вариаций, - «героический реализм». Он
бесконечно далек от всех «островов блаженства», на которых Ницше-
Заратустра осуществлял «акт высшего самоопамятования». Боймлер
совершенно не понимает характер героизма Ницше, потому что не
видит его вместе с его мнимой противоположностью - тягой к
страданию и к идиллии. Зильс-Мариа и южный ландшафт, где возникли
«Заратустра» и «Воля к власти», для Ницше - «вечно героическая
идиллия», и он употребляет выражение «героико-идиллический» (напр.,
в «Страннике и его тени», аф. 295) в том же смысле, что Гёльдерлин.
Героический же человек для него - тот, кто «привык к страданию и
ищет страдания». В боймлеровском изображении «мыслительного
ландшафта» Ницше нет ни следа от героической идиллии и
героически взятого на себя страдания; то и другое тонет у него в
бесцельной «борьбе». Его воля к борьбе слепа на совершенный час
«полудня и вечности». То, что Боймлер хочет признать, - это всего лишь
«предполуденная» философия. Он, правда, опирается
преимущественно на последнее^ незавершенное творение Ницше, «Волю к
власти», но таким образом, что отделяет его от «Заратустры», хотя
сам же в своем издании рукописного наследия репродуцирует планы
к «Воле к власти», содержащие учение Заратустры как трагический
финал. Вследствие этого произвольного искоренения учения о
возвращении из связи с «Волей к власти»22 Боймлер вынужден включить
«Невинность становления», которое изначально вытекает из
вечного возвращения, в состав некоей «Воли к власти» без вечного
возвращения, а в этой своей «Воле к власти» видеть лишь «волю как
власть». Эта «воля как власть» берет на себя функцию вечного
возвращения, а вместо волящего себя дионисийского мира, лишенного
240
К истории истолкования Ницше ( 1894-1954)
воли к чему-то определенному и цели, у Боймлера о воле как таковой
уже говорится (с. 47 слл.), что она вообще ничего не волит, даже
«власти», а волит только самое себя, что она есть уже невинность вечного
становления, которое в качестве круговращения не имеет ни начала,
ни конца, цели. Эта воля, превращенная в невинную, составляет
сомнительный фундамент всей интерпретации Боймлером
обезглавленной ницшевской философии. На самом же деле проблема воли
возникает впервые не в «Воле к власти», ауже в главе из «Заратустры»
об избавлении, а именно о непосредственном волении. Воля
избавляется от своих блужданий не благодаря простому отсутствию
предназначения и финала, а благодаря волению вспять, в круг водящего
вперед и назад кругового движения. Лишь в кольце этого вечного
возвращения того же может «волить себя» и существование агональ-
ного, «борющегося» человека- за пределами первого освобождения
от «ты должен». Формула Ницше, выражающая это воление
вечного возвращения, - не просто воля к «судьбе», a «amor fati», в то
время как Боймлер в состоянии понимать под «любовью» не любовь к
вечности, а лишь какие-то бюргерские сантименты (с. 66)23. Из-за
этого глава из «Заратустры» о «семи печатях», как и «Пьяная песнь»,
в которой возвращается «другая танцевальная песнь», сама остается
для него книгой за семью печатями. Песнь о Да и Аминь кажется ему
«находящейся в противоречии со всеми философскими позициями
Ницше» (с. 82), в то время как в действительности она лишь
оправдывает всякие «странствования и восхождения на горы» в предполуден-
ное время как «вспомогательное средство» и подводит под критику
воли к власти позитивный фундамент. Вследствие этого решительно
превратного понимания ницшевской «системы» Боймлерово
понятие «невинности становления» есть просто-напросто другое
выражение для направленной «в неизвестность» воли, которая не пытается,
как у Ницше, «обратить в позитивную сторону» безответственность,
а всего лишь больше не хочет «отвечать» за себя и не обладает
самосознанием, потому что не знает, чего вообще хочет и зачем (с. 48)24.
Эта воля, в сущности, есть не что иное как «взрыв энергии». Но как
бы сильно Боймлер ни старался приравнять свою героическую волю
к невинности становления, все снова становится очевидным, что
его воля «как власть», конечно, волит могуче, но не подумала о
взаимосвязи воли Ницше с вечным возвращением; сам Боймлер называет
это «действованием», «борьбой» и «страстью».
«Воля к власти». Книга, чтобы думать над нею, - вот и все: она - для тех,
которые извлекают удовольствие из мышления, вот и все... А что она
241
Дополнение
написана по-немецки, это по меньшей мере несвоевременно: уж лучше
бы она была написана по-французски - тогда ее нельзя было бы понять
как поощрение каких-нибудь великогерманских чаяний. Книги,
чтобы над ними думать, - они для тех, кому нравится мыслить, вот и все...
Нынешние немцы больше не мыслят: что-то другое доставляет им
удовольствие и повод для раздумий. Принцип воли к власти доходил бы до
них туго... (ПСС9 т. 12, 9 [4])*.
Зато в мнимом учении Ницше о воле Боймлер видит
«совершеннейшее выражение его германизма» (с. 49). Прагерманским, по его
мнению, является и гераклитовский - но не дионисийский - ниц-
шевский мир, в котором борьба и победа - это всё. Боймлер, правда,
придает значение тому, чтобы в этой постоянной борьбе в мире
установилась «высочайшая справедливость» и «вечный порядок», что,
однако, относится лишь к ницшевскому изображению мира Гераклита,
но не к миру Боймлера, в котором отсутствует закон вечного
возвращения. Невозможно понять, как из простого взрыва энергии
должна установиться высочайшая справедливость. То, что Ницше
вначале демонстрирует на примере Гераклита как филолог-классик,
совершенно совпадает с тем, чему позже учит под именем Диониса. И
снова приходится задаться вопросом: каким образом такой знаток
Ницше, каков Боймлер, приходит к протпгшопостаалениюгсргклитов-
ского мира дионисийскому и к утверждению: «Благодаря тому, что
появляется понятие вечного возвращения, исчезает гераклитовский
характер мира»? И далее:
На самом деле эта идея, если смотреть на нее из ницшевской системы,
не имеет значения. Нам следует рассматривать ее как выражение в
высшей степени личностного переживания. Она никак не связана с главной
идеей «Воли к власти», мало того, она, строго говоря, могла бы взорвать
все связи внутри философии воли к власти (с. 80).
* В этой цитате можно увидеть сразу два примера той фальсификации,
которой тексты Ницше подверглись (главным образом со стороны Э. Фёрстер-
Ницше) в так называемой «Воле к власти». Во-первых, у Ницше в начале
нет выражения «Воля к власти», а в известном издании Дж Колли и М. Монти-
нари, лежащем в основе русского 77СС, написано, что это «наброски какого-то
предисловия (написанного осенью 1887. - В.Б.), частично переработанные
летом 1888 г.». Во-вторых, в цитате у Левита последняя фраза читается:
«Принцип воли к власти был бы им понятен». О мотивах и механизме этой
последней фальсификации см. комментарий к приведенному здесь фрагменту в:
ЯСС, т. 12, с. 550 ел.
242
К истории истолкования Ницше (i894_1954)
С толком встроить идею возвращения в систему кажется ему
делом невозможным; она в этой системе - какая-то ошибочная глыба;
ведь эта идея - «религиозная концепция», в то время как та, первая,
есть строго философское идейное построение, а в ницшевском дио-
нисийском двойственном мире невозможно различить «мир как
войну». Но что это невозможно, вовсе не непременно говорит в пользу
толкования Боймлера, который думает: «Динамические кванты <вла-
сти, силы. - &/>.>, находящиеся в отношении напряжения со всеми
другими динамическими квантами» - это и есть определяющая
формула Ницше для его мира (с. 84). Но почему жеБоймлер слеп на
философское содержание «Заратустры» и ницшевский дионисийский мир?
Ответ на этот вопрос дает последняя фраза его примечания к
разделу о вечном возвращении: потому что на пути через дионисийское
учение о вечном возвращении читатель попадает «только» в
«путаную проблематику» ницшевской экзистенции! Но эта проблематика -
отнюдь не только проблематика ницшевской экзистенции, а в такой
же мере и ницшевской философии, и «путает» она лишь того, кто
хочет произвольно упростить ее путем разделения ницшевской
«системы» на «музыку» и «философию». Тем самым Боймлер сам
оказывается в плену у им же оспоренного восприятия Ницше как «поэта-
философа», хотя, с другой стороны, он констатирует, что как раз
начиная с «Заратустры» творчество Ницше становится системой.
Вот только, мол, его борющаяся натура не оставила ему времени,
чтобы спокойно упорядочить имеющиеся смысловые взаимосвязи.
Поставленный правильно вопрос гласил бы не так, как его ставит
Боймлер: «Какой будет продукция творческого мыслителя, если этот
мыслитель одновременно обладает тягой к действию?», а так: какой
будет интерпретация Ницше, если интерпретатор обладает волей
присоединиться* в качестве философа? Ответ: интерпретация,
которая укорачивает философию Ницше на волю к власти, а его
философские идеи о европейской политике ставит на службу
тенденциям, возобладавшим в Германии. Боймлер говорит, что для познания
истины все дело в «пафосе» и в «силе мыслителя» (с. 77), но какой
философу толк во всей «силе», если это не сила, проявляющаяся в
мышлении, пусть даже только в способности размышлять о
философии Ницше! Боймлер думает, что со своей силой он очень
превосходит легенду о Ницше Бертрама. Но нет никакой принципиальной
разницы, преображать ли ницшевский философский эксперимент
* Лёвит употребляет слово, бывшее в ходу у нацистов, - sich glächschalten
(присоединиться к идеологии нацизма, стать «в ряды»).
243
Дополнение
в легенду, или, подобно Клагесу, объяснять его как «оргиастическую»
философию плоти и души за счет воли к власти, или, как Боймлер,
избавляться объяснением от вечного возвращения в пользу
«героического реализма».
8.
Э. Эммерих25, которая придерживается того мнения, что Боймлеро-
во представление о политике Ницше впервые «доказало», будто ниц-
шевская гераклитовская философия составляет духовный
«фундамент» национал-социалистического движения (с. 71)26, упрощает
проблему философии Ницше противоположным по отношению к Бойм-
леру образом: она вмещает в рамки учения о вечном возвращении всю
философию Ницше и даже волю к власти без запинок
интерпретирует в этом духе. С целью такого упрощения она различает то, что
«изначально» «переживается» в философии Ницше как «бытие» и
что выдумано в плоскости «сущего» лишь задним числом. В
изначальном переживании (с. 44,46) истины бытия Ницше
воссоединяется с дионисийским миром (с. 80 ел. и 84). «Истина, которой
является мир», - та же самая, которой является человек, а
соответственно и воля к правдивости «изначально» согласуется с истиной бытия
всего сущего. Это означает: всю проблему собственного воления
вечного возвращения Эммерих элиминирует. «Если таков человек "в
целом", то "сущность" мира - это и его сущность: воля к власти и вечное
возвращение» (с. 81). Но как раз это «если» столь же проблематично,
как воление вспять в волении наперед, благодаря которому воля
спасается от себя самой. Нигилистический мотив (с. 28) в тенденции к
самоувековечиванию Эммерих не распознает во всей его значимости,
потому что держится ошибочного мнения, будто с определенного
момента Ницше раз и навсегда «ускользнул» от нигилизма (с. 37), а
именно после того как открыл, что истины больше нет и потому все
дозволено. На самом же деле Ницше настолько мало ускользал когда-либо
от нигилизма, что именно только его учение о вечном возвращении
и есть «самопреодоление» нигилизма. Только на основе и почве
нигилизма, т. е. беспочвенности, воля к власти как переоценка всех
прежних, а теперь обесценившихся ценностей, и вечное возвращение
связаны систематически, потому что уже само это учение зиждется
на принципе переоценки, обращающей нигилизм.
В интерпретации Эммерих воля к власти и вечное возвращение
связаны не через самопреодоление нигилизма, а в «сверхчеловеке»,
244
К истории истолкования Ницше (i894_1954)
асам он, по ее мнению, есть не что иное как «жизнь в человеке» (с. 100),
без учета проблемы «преодоления человека», в котором только и
имеет смысл «сверхчеловек». «В изначальном переживании
правдивый человек = сверхчеловеку» (с. 103). Эти постоянно
повторяющиеся ссылки на «изначальное переживание» в толковании Эмме-
рих одним махом разрешают трудную и долговременную загадку, над
разрешением которой Ницше бился вплоть до безумия, чтобы, в
конце концов, ощутить себя изогнувшимся «между двумя ничто». Вся
проблематика ницшевской попытки «вновь обручиться с миром»
благодаря «самопреодолению человека» в изложении Эммерих
исчезает в результате полного уравнивания человека и космической
фатальности.
9.
Т. Мольпье21 считает попытку отождествления человека и мира
специфически «немецкой», поскольку сам он как француз
принадлежит к традиции Декарта, что немедленно демонстрирует его
«Введение» (с. 17). В свете этой классической конструкции мира ницшев-
ская дионисийская философия должна предстать каким-то новым
«мистицизмом», подчиняющим свободу человеческого воления и
можествования слепой фатальности мира.
Действительно, монистическая концепция мира, которую Ницше
кладет в основание своей поздней философии - причем любопытно, что
немецкий дух, монистический по сути, не может, придя к дуализму не
сводимых друг к другу начал, не попытаться преодолеть его через
синтез, - так вот, эта концепция вынуждает его расширить и обогатить
гуманизм так, чтобы в нем учитывалось все мироздание; определение героя
может удовлетворить его, только если объяснит и инфузории, и
планеты, а трагическая мораль достигнет всей своей полноты, лишь будучи
включена в космическую цепь событий. Отныне трагическая чистота
перестает быть тем, что противопоставляет или предоставляет
человека фатальности, она должна обнаружить в нем эту фатальность, и
последнее слово относительно идеала человека может состоять только в том,
чтобы человек в себе самом осознал мироздание. Высшая точка
внутреннего очищения, целостный героический опыт, состоит, таким
образом, не в том, чтобы максимально дистанцироваться от природы, но
чтобы отождествиться с природой, раствориться в ней, почувствовать
ее в себе как живую... Фундаментальный дуализм, лежащий в основе и
245
Дополнение
христианской битвы, и трагической битвы - человека и судьбы,
свободы и природы, - в конечном счете, разрешается, причем человек
получает свободу лишь ради дионисийской оргии (с. 254 ел.).
Все это означает невразумительный отказ от того, что делает
человека человеком, а именно, от «духа, сознания, суждения,
рассуждения, воли» (с. 286), в отличие от «простейшего инстинкта».
В самом деле, тому сознанию, которое Ницше с самого начала
стремился воссоздать во всем его богатстве, ясности и непреодолимом
самостоянии, нет больше места в дионисийском универсуме. С некоторых
пор [мироздание] столь плотно, а нераздельность космической
фатальности и деяний человека столь неизбежна, что в субстанции мира не
остается ни единой щелочки, куда человеческая свобода могла бы
втиснуть игру своих решений и отказов (с. 258).
У Мольнье «сознание» человека противостоит «механизму»
мира, «человеческое достоинство» - «простейшей жизни», «воля» -
«инстинкту», «человеческие ценности» - «природным явлениям»,
а «детерминизм», следующий из «фатальности», - «свободе»
самосознающего человека, в сравнении с которой душа Заратустры
предстает сверх-необходимой, с наслаждением бросающейся в
случайность и ощущающей себя «свободной» лишь в amorfati Однако если
это «логический абсурд», то возникает законный вопрос:
...а что если, уничтожив самостояние человеческой воли глубинными
силами мироздания, Ницше не упразднил трагедию в своем стремлении
к ее очищению? Ибо трагедия как раз и предполагает чуждую человеку
фатальность, волю, не сводимую к судьбе, конфликт того и другого...
Таким образом, в ницшевском мистицизме и сверхчеловеческая Мойра,
и герой с его деяниями следуют одним и тем же неумолимым линиям.
Фатальность трагична лишь в той мере, в какой человек не соглашается
с ней; фатальность кристаллов и растений вовсе не трагична, нет
ничего трагичного в отношениях планет с их орбитами. Величайшее
усилие, пробуждающее и формирующее героизм, заканчивается тем, что
человек оказывается в ряду феноменов. С этого момента все обретенное
мало чем отличается от утрачиваемого (с. 266 ел.).
Утверждая космическое возвращение, Ницше жертвует
завоеванное им же самим величие героически борющегося человека в
пользу «сопричастности» с сущим от природы миром.
246
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
Уже было отмечено, насколько все это по-немецки, - настолько же
немецким является и сама неустойчиво балансирующая устремленность
к синтезу противоречивого опыта. Ницше, так же как Гете, Гельдерлина
или Новалиса, поглощает пантеистический соблазн... Поэтому человек,
достоинство которого, без сомнения, заключается в отказе от
вселенской наивности, делается частицей этой вселенской наивности... Никто
не отрицает величия этого нового человека, вдохновенного поборника
мироздания, включенного в бесконечную цепь прошедшего и будущего,
в каждое мгновение необходимого миру завершающемуся и миру
рождающемуся и в то же время отягощенного памятью и наследием
космогонии. Но величие, возникающее из необходимости человека в
мироздании, из благодарной готовности принять эту необходимость, есть
не что иное, как величие самого мира, отраженное в нас. Да, такое
величие несомненно; однако Паскаль говорит, что есть и другое величие,
которое со всею своею мощью неспособно раздавить то, первое (с. 267 ел.;
ср. с. 281).
Страсть Ницше
...почти возмутительна для того, кто столь высоко вознес чисто
человеческие требования. Остается сожалеть, что в высшей степени
болезненные усилия, совершенные ради освобождения человека, ради
неистовства души и чистоты желаний, что в высшей степени утонченные
размышления, упорная дисциплина, суровая чистота привели Ницше всего
лишь к воодушевлению, великолепному, однако незатейливому, едва
отличимому от восторга перед жизнью, который в своей
непосредственности испытывает ребенок (с. 268).
Этим третьим преображением в начинающего с самого начала
ребенка Ницше через «возрождение идолов» отрицает самого себя
в качестве «князя освобождений», как гласят оба титула книги Моль-
нье. И лишь покинутый духом и волей Ницше на самом деле
соответствует своей последней «теневой мистике» (с. 271 слл.).
Человеку, который уже не был Ницше, предстояло жить
бесконфликтной и наконец подчиненной мировому ритму жизнью. Болезнь сломила
дух, не затронув основ физиологического механизма. Предположение
Ницше о том, что сознание вовсе не обязательно для совершения
необходимых жизненных действий, оказалось опробовано на нем самом.
Сознание, этот огонек на поверхности жизни, погас; жизнь продолжилась,
по-прежнему упорядоченная, согласованная, полностью сопряженная
Дополнение
с эволюцией мира: тело, которое она одушевляла, было теперь всего
лишь фрагментом вселенского механизма. Но погасший в нем
непрочный свет был высшим началом, в котором Ницше не распознал
единственного соперника фатальности, превосходящего ее достоинством,
а порой и могуществом (с. 298).
Причина, по которой Ницше отпал от самого себя, заключается
в том, что на трагическом пути через «вожделение боли» (с. 223 слл.)
он, в конце концов, подпал романтическому искусу: желанию
обрести блаженство. Он вновь соединяет то, что прежде расчленил:
«сотворение радости» (с. 193 слл.) с «сотворением счастья» (с. 42,57,204 слл.).
Ницше сможет выкрикнуть в адрес Руссо о своем к нему презрении и...
говорить о нем как об "этом недоноске", который "тоже желал возврата
к природе". Но не тем он его попрекает. А тем, что тот возомнил, будто
природа есть равенство, тогда как она есть неравенство и война, а
кроме того, тем, что тот вознамерился найти в природе нравственность,
тогда как в природе от нравственности надо избавляться. Таким
образом, в своем осуждении цивилизации Ницше подхватывает принципы
Руссо, опрокидывая их. Как и Руссо... он ищет спасения в возврате к
добродетелям природного человека (с. 250).
Космический экстаз Ницше был, кажется, его последним
убежищем перед лицом полной утраты мира.
Ницше не окружен вселенной; в городе, по которому он бредет, он не ищет
ничего, кроме благоприятного для нервов климата и подходящего для
работы убежища; если он и просит руки девы, то только увидев в ней свою
ученицу, если же обретает или теряет друга, то только в философском споре:
деревня для него - всего лишь одиночество, на его небе нет ни туч, ни
грез... это чистое и пустое поприще, где ничто не мешает полету мысли...
Сон - самое "физическое" из всего невинного, - даже он даруется ему не
без оговорок: ценой хлорала... В этом теле, взгляде, губах нет ничего,
предназначенного для обычных человеческих отношений, жестов, объятий,
речей: "Тот, кто утратил мир, должен обрести свой собственный". Вокруг
Ницше нет ничего: никогда ни один мыслитель не был так безнадежно
замкнут внутри самого себя». «Неспособный сохранить одиночество в
кругу любви и светских связей, он вынужден уйти от мира» (с. 33 и 290).
Именно в этой строгой изоляции и «величественном страхе перед
миром» (с. 8 и 189) и стойкости перед лицом удручающей картины
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
универсума освобождающийся Ницше достиг крайней точки
философского героизма, который подталкивал его к тому, «чтобы вообразить
мир более скорбный, давящий, удушающий, чем тот, воздействие
которого [мы] испытываем... Для радости нужно, чтобы мир
оставил человека... чтобы у мира не было ни цели, ни смысла, чтобы он
никуда нас не звал» (с. 212). Таким миром является мир вечного
возвращения, в круговращении которого не отражается ничего, кроме
circulus vitiosus* собственной безысходной экзистенции Ницше.
Напрасно - ибо несложно - выискивать произвольное и ребяческое в
учении о вечном возвращении; достаточно констатировать, что оно
является вполне естественным завершением философии одиночества с ее
метафизикой фатальности: это не самое изобретательное, или
правдоподобное, или утешительное объяснение, но самое ужасное. А значит,
он и искал самого ужасного (с. 213).
Перешагнув через трагический идеал, Ницше бросил и свой
метод деструкции (с. 62 слл., 77, 86 слл., 92), стоявший на службе
самого отчаянного освобождения и призванный вернуть человеку «его
утраченную трагедию» в радикальном отказе от «спасения» и
«счастья». Ибо трагический человек всегда «в поисках смерти» (с. 164),
он свободен для того, «чтобы соединить жизнь и смерть» (с. 61 ), а
«творец новой трагедии не собирался указывать человеку ничего, кроме
достойного пути к смерти» (с. 137), в то время как Ницше, в конце
концов, захотел вечного возвращения, но уже не «неустанного
провоцирования фатальности» (с. 165).
Но, может быть, Мольнье не чувствует внутренней необходимости
третьего преображения Ницше лишь потому, что «
"рационалистический "героизм» (с. 271 ) еще не был в той «пустыне» свободы, где речь
идет о том, чтобы найти какую-то новую связь. Не Декарт, а Ницше
ощущал необходимость на самом краю свободы для ничто обратить
нужду воли для утверждения какой-то высшей необходимости.
Антитеза, которую Мольнье дал Бертрамову диалектическому
синтезу ницшевского противоречия, как никакое другое толкование
показывает, насколько Ницше - немецкое событие, ведь здесь к нам
обращается француз, отвергающий все важнейшие элементы
подлинной философии Ницше: «смутные культы сверхчеловеческого,
невинности, вечного возвращения, способные только изуродовать и
обеднить. Более того: обманутый немецким мистицизмом, от которого
* Порочного круга (лат.).
249
Дополнение
он опрометчиво мнит себя свободным, жертва романтического
наследия, тщетно им отвергаемого, он, стремясь понять и очистить,
искажает саму трагическую суть героя» (с. 244). Но как в высшей
степени немецкую черту Мольнье ощущает не только ницшевскую
критику немечества - «он противопоставляет [свою] Германию
Германии, свои культы - ее культам, свой восторг - ее восторгам, вечное
возвращение - становлению, Валгаллу Диониса - Валгалле Вотана»,
но и его обновление античности: «В Греции, к которой его влечет,
ему открывается греческий германизм: вовсе не Греция, но та
немецкая колония, которую художники, философы и поэты его страны
основали в Греции и пространство которой с неизменными Афинами
и Платоном включает в себя Дельфы с Элевсином и Орфея с Эмпедок-
лом: Греция мифов, оргий, мистерий, философии с ее смелыми
высказываниями и начинаниями, т. е. Грецию несомненно реальную,
однако все же не Грецию» (с. 277 ел.).
Чего недостает немцам, - это, согласно Мольнье как раз чувство
«мгновения», которое есть полдень и вечность.
Это нечто средиземноморское, дающее возможность ощутить
непосредственное временное присутствие, приязнь... Для философии метаморфоз
настоящее - всего лишь абстракция, временная точка, мост и переход от
прошлого к будущему: для нас настоящее - это наиреальнейшая из
реальностей. Мир, неутомимо стремящийся к преодолению себя, никак не
сочетается с существованием, обладающим самостоятельной ценностью и ни
с чем не сопоставимым. Средиземноморская же мудрость, напротив,
каждое мгновение делает не переходом, но завершением, придает ему
абсолютное, не сводимое ни к чему иному значение, заполняет его достигнутым
и испитым до дна наслаждением: каждый миг сам по себе обретает, таким
образом... ценность, великолепную в своей бесполезности.
Примечательно, что А. Жид, заимствовавший у Ницше основные черты своего жизне-
отношения, сделал одно дополнение, а именно философию мгновения.
Весь латинский эстетизм [с его культом] совершенства проистекает, в
сущности, из понимания настоящего как чего-то исключительно живого
и неистового: всякое совершенство есть увековеченный миг. Ницше таким
пророческим чувством не обладал... Ницшевскому герою знакома воля
к власти, но не действие. Помимо чувства бытия у Ницше отсутствует
чувство мгновения, помимо чувства мгновения - чувство деяния.
Философии становления, какой бы она ни была, неведомо деяние (с. 283 слл.).
Ницшевская попытка решения «монистична», поскольку как
«немецкий ум, утративший, по сути, равновесие» он не смог противиться
250
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
искушению «собрать в один кулак для трагической битвы
враждебные и умело разведенные силы судьбы и человека. Надо, чтобы
человек сделал монистическую теорию мира своей, чтобы он перестал
иметь [перед глазами] другую реальность, кроме реальности
мгновения во всеобщем движении. Такой человек находится в согласии
с миром, даже когда судит его или раздавлен им. Так философия мощи
приходит к отрицанию чисто человеческой и отличной от
природных сил власти, к отрицанию свободы выбирать, обдумывать,
отказываться. Она восторжествует, только когда осуществит
сокровенную и непосредственную гармонию решений души с движением
мироздания: теперь ее цель - наивность. В последних произведениях
Ницше величественный цезарианский образ заслоняется образом
движимого инстинктом варвара» (с. 249).
10.
К. Ясперс2* начиная с «Психологии мировоззрений» (1919) и вплоть
до разработки своей «Философии» (1932) мыслил под влиянием
Ницше и Кьеркегора. Но точка зрения, с которой он истолковывает
учение Ницше как «философствование», не заимствована из
собственной попытки Ницше занять новую позицию по отношению к бытию
в целом, а взята из экзистенциальной философии Ясперса. В свою
очередь свойственное ей троякое членение на ориентацию в мире,
экзистенциальное просветление и метафизику («шифры»
трансцендентности) идет от традиционного различения «мира» (природы),
«человека» (души) и «Бога», получившее свое последнее
философское выражение у Канта. То обстоятельство, что для Ницше
«истинный мир» христианско-платонической трансцендентности был
«историей самого длительного заблуждения», правда, доводится Ясперсом
до сведения читателя под названием «Мир как чистая имманентность»,
но не становится руководством для позитивной интерпретации, а
отклоняется как философский изъян. Заключительная часть, правда,
различает «Как Ницше понимает свое мышление и себя самого» и
«Как Ницше понимается нами», но уже в изложение самопонимания
Ницше закладывает основные понятия философии Ясперса, а
потому существенное различие между тем и другим мышлением
смазывается. Ницше, говорится там, на свой страх и риск попробовал
самые разные позиции, но лишь для того, чтобы снова релятивизи-
ровать их диалектическим отрицанием. Поэтому то, что осталось
от учения Ницше, - это только путь как таковой, его постоянное
251
Дополнение
пребывание в пути, а то, что невозможно претворить в это
движение, - нефилософские абсолютизации эмпирических содержаний
и поверхностные подтверждения. Истина Ницше, считает Ясперс,
заключается не в какой-либо из стадий его пути, скажем, в конце или
на вершине «Заратустры», а исключительно в совокупном движении
ницшевского трансцендирующего мышления. Даже «во все более
укрепляющихся» учениях о сверхчеловеке, вечном возвращении и
воле к власти нельзя не разглядеть определенное сомнение, хотя и
редкое. «Настоящее философствование Ницше начинается лишь в
том пространстве, где каждое учение одновременно может
представать и относительным» (с. 281). Без этого оттенка неустранимой
многозначности Ницше не остался бы самим собой. Ведь на своем
пути от ничто к бытию он вышел за пределы всего определенного,
в неопределенные «истоки и границы».
Но если что-нибудь и есть определенного в ницшевском
хождении и перехождении за пределы, спуски и подъемы с себя самого
и над самим собой, то это его изначальная и окончательная воля к
«кольцу мира» - в противоположность некоторой как бы постоянно
испаряющейся, христианской трансцендентности. Эта
решительная альтернатива «Бога» и «мира» диалектически нейтрализуется
Ясперсом с помощью системы вскрытых и релятивизированных
противоречий и разрешается в качестве альтернативы лишь мнимо
недогматическим методом принципиальной и тотальной
релятивизации. В свете этого метода все без различия утверждения и отрицания
ницшевского мышления предстают как формы «трансцендирова-
ния». С этой точки зрения, которая есть, собственно, точка вовсе
не зрения, а «парения», ницшевские «иерархические порядки
жизни» превращаются в «возможности существования». Смыслом же
ницшевских преодолений оказывается то, что он ничему не мог
предаться окончательно. Но там, где он все-таки утверждает какое-то
однозначное Да или Нет, Ясперс в состоянии обнаружить лишь
догматические подтверждения некоего трансцендирующего движения, в
сравнении с которым все позитивно определенное банально.
Искомое «целое» ницшевской философии для него - это
«неопределенная безбрежность», которая остается в конечном итоге, если
отбросить все определенные утверждения и отрицания. Однако большие
силы, которые Ясперс тратит на доказательство этого тезиса, не
могут скрыть того, что у Ницше речь идет о радикальном решении
и что его творчество - нечто большее, чем «головокружительное
движение» и «заклинание бесконечности».
252
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
Идея вечного возвращения того же в оценке экзистенциальной
философии Ясперса превращается в простой «шифр» трансценден-
ции, а в качестве мышления - в некое трансцендирование, начало
и конец которого заключаются ни в Боге, ни в мире. Правда, его
истолкование учения о возвращении начинается с констатации
того, что эта идея была для Ницше решающе важной, как никакая
другая, но способ, каким излагает ее Ясперс, не позволяет понять,
почему же именно она, а не какая-нибудь другая, оказалась для Ницше
столь важной. В изображении Ясперса проблематика учения о
возвращении сводится к тому, что, с одной стороны, она является
экзистенциальным выражение безбожности, а с другой - ориентирована на
докантовскую метафизику. Однако что такого рода попытка
неизбежно должна потерпеть крах, можно было бы доказать, лишь если
бы трансцендентальный, критический идеализм, который усвоен
философией Ясперса в экзистенциально преображенном виде, был
последним и окончательным словом в вопросе об истине мира.
Вследствие того, что в основу у него положена предпосылка кантовской
схемы Бога, мира и человека, содержащая в себе лишь сознание,
возможная истинность идеи вечного возвращения редуцируется до
формального трасцендирования к неопределенной трансценден-
ции, у Ницше несправедливо заслоняемой бытием
чувственно-воспринимаемого мира. Ницше, по мнению Ясперса, хочет ухватить своей
волей то, что может быть предметом мышления лишь как символ,
и потому сам является причиной превращения символа в пустую маску.
И хотя его пути ведут в некое «безвоздушное пространство», они не
становятся от этого менее недействительными, поскольку мотив и
цель его мыслительного процесса - это «историчность
экзистенции», а не попытка получить назад утраченный мир. То, чем является
Ницше и то, что он делает, остается «открытым», таким же
открытым, как подлинное бытийное сознание и само бытие. Взрывчатка
в ницшевской философии у Ясперса словно погашена, лишена силы,
и захвачена в искусную сеть бесцветных понятий о его историческом
воздействии, причем бессилие перед лицом той атаки, какой
является Ницше, выдает себя за «объемлющее» руководство на пути через
мир мыслительных форм. Волю к решению у Ницше и Кьеркегора,
антагонизм и родство которых так хорошо показал Ясперс, он же
сам и растворяет в некоей «философской вере», которая без
определенного содержания парит между безбожием и верой в
христианское откровение (см. его соч.: Vernunft und Existenz, S. 101 ff.;
Nietzsche, S. 388 ff.).
Дополнение
IL
По образцу Ясперса Л. lue29 интерпретирует учения Ницше о
сверхчеловеке, вечном возвращении и воле к власти, исходя из
«экзистенциальной диалектики» самобытия (с. 160 слл.), и притом
настолько исключительно, что отказывается от их символического
характера в пользу предполагаемой трансценденции. Все три учения
сводятся к одной формуле «самопреодоления», поскольку, по его
мнению, оно определяет не только идею сверхчеловека, но и волю
к власти, мыслимую универсально, и вечное возвращение того же
как целокупности живого мира. Вечное возвращение и воля к власти,
полагает он, - лишь «функциональное выражение» состояния
самости, ее творения самой себя. Вечное возвращение - истолкование,
в котором не истолковывается и не гипостазируется ничего, кроме
картины мира определенного типа человечности (с. 61,66,162 слл.),
а также «диалектика внутренней жизни». Циркулярная временная
структура вечного возвращения зиждется на «рефлексивности»
самопреодоления, каковая заодно является и сущностным свойством воли
к власти (с. 23, 159). Ссылаясь на речь Заратустры «О грезящих об
ином мире», Гис ориентирует свое толкование Ницше на фразу,
гласящую, что «чрево бытия» обращается вовсе не к человеку, даже если
принимает вид человека (с. 37,62). Он забывает, что эта речь
полемически направлена против «иномирников» и что ниже притча
Заратустры о вечном возвращении хочет дать слово самому бытию, а не
только человеку и его рефлексивности. Да и речь Заратустры к своим
животным, первыми возвестившим ему его учение, задумана отнюдь
не только в духе порицания (с. 130, 140). Конечно, мир Заратустры -
это «его» мир, соответствующий душе Заратустры (с. 49, 161), но
это не означает, что космологическую проблему вечного
возвращения можно возвести к субъекту, который о нем учит и его
выдерживает. «Отражение» мира и человека принципиально обоюдно и
двусмысленно. Его нельзя закрепить за одним концом - субъективностью
самопреодоления, уже потому, что цель самопреодоления-то как раз
такова: освободиться от воли к ничто для воления фатальности всего
бытия и из самосознающего и потерянного для мира «я хочу»
превратиться в самозабвенного ребенка, играющего мирами. А вот в
изображении Гиса мир как воля к власти и его модус бытия во
времени есть всего лишь «беспримерная притча» о созидающем,
который пересозидает мир в свой собственный. Вечное возвращение в
смысле космической ориентации выражает только то же самое
обращение вспять, какое лежит в основе воления вспять созидательной
254
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
воли, так что «самокатящееся колесо» ребенка и вечное колесо
бытия точно соответствуют друг другу - как будто в этой необходимости
соответствия и волении соответствия не заключается вся проблема
преодоления противоречия, заложенного не только в самом
человеке, но и в его отношении к миру.
Вследствие редукции проблемы этого единства мира и человека,
который в рамках целостности бытия является обломком,
случайностью и загадкой, к одной стороне воли к власти, а именно
субъективному самопреодолению, Гис заявляет, что соотношение
сверхчеловека, воли к власти и вечного возвращения - «вовсе не проблема»,
что эти учения, напротив, отлично совмещаются и дополняют друг
друга (с. 126, 131). Но если бы учение о вечном возвращении
действительно выражало лишь структуру диалектики самопреодоления
(волю к власти) с точки зрения космического времени и основывало
циркулярное космическое время вечного возвращения на
субъективной рефлексивности самопреодоления (с. 159), то невозможно было
бы понять, почему понадобилось пять сотен страниц «Заратустры»,
чтобы осуществить последнее из трех превращений, а в конечном
счете, когда уже отказывает пеший ход и переход, «влететь» в вечное
небо. (Гораздо менее убедительно, но в том же направлении развивает
<:вое исследование и В. Кауфман: Nietzsche, Philosopher, Psychologist,
Antichrist. 1950, - философия Ницше с точки зрения понятого
антропологически самопреодоления.)
12.
Мышление М. Хайдеггера50 идет, как и мышление Ясперса, путями,
трансцендирующими все сущее и не высказывающими о самом бытии
ничего, что можно было бы констатировать; он тоже примысливает
свое собственное мышление к мышлению Ницше, чтобы
истолковать себя в Ницше. Но на этом формальном сходстве родство обеих
интерпретаций Ницше и заканчивается. Существенней и
разительней их противоположная направленность и цель. Если в
изображении Ясперса, охватывающего все творчество Ницше, его учение -
как некий шифр трансценденции - растворяется в движении всё
релятивизирующего трансцендирования, то Хайдеггер вгрызается
в него в определенной точке, поскольку выбирает из него отдельные
тезисы и яркие выражения, смысл которых безапелляционно
устанавливается без учета возможных антитез и антонимов. Цель этого
констатирующего истолкования - демонстрация вопроса о бытии.
255
Дополнение
Ницше для Хайдеггера - самая волнующая фигура из сферы еще
непосредственно касающегося нас «прежнего» мышления, а «Зара-
тустра» -то произведение, в котором мыслится «единственная» мысль
Ницше, а именно вечное возвращение того же. Это единственное,
что хочет сказать Ницше, согласно Хайдеггеру, невозможно ни
доказать, ни опровергнуть; но не является оно и делом веры. Его можно
узреть, лишь вопрошая-мысля, а, в сущности, это же относится и к
любой незаурядной мысли любого незаурядного мыслителя: «Узренное,
но загадочное,-достойное вопрошания» (Vorträge und Aufsätze, 119).
Тем важнее вопрос о том, узревает ли Хайдеггер учение Ницше
таким, каким видел его сам Ницше, а именно как изначальный закон
всего оживотворенного бытия. Заключительное замечание, как
дополнение приложенное к его статье «Кто такой Заратустра у Ницше?»*,
позволяет заранее предположить, что это не так. Ведь разве Ницше
когда-нибудь думал, что сущность современной техники,
ротационной силовой установки, может быть «окончательной формой
вечного возвращения того же»? И как Хайдеггер понимает обращение
воли к ничто в воление вечного возвращения и следующую отсюда
переоценку всех ценностей, если он утверждает единство учения
о сверхчеловеке, о вечном возвращении и о воле к власти, при этом
ничуть, хотя бы намеком, не считаясь с тем противоречием, которое
лежит в основе желаемого Ницше соответствия между бытием мира и
существованием человека? Ницшевское обращение и переоценка
означают для Хайдеггера нечто чисто негативное, поскольку всякое
обращение принадлежит к сфере обратного, перевернутого (см.: Holzwege,
S. 200, 214, 242). Благодаря проведенному Ницше обращению,
считает он, метафизике остается разве что превратиться в собственную
пародию, ведь низложение сверхчувственного устраняет и
чувственное как таковое, а, значит, и различие между ними. Но у самого-то
Ницше упразднение «истинного» мира заканчивается отнюдь не
пустотой, а новым началом, в «полдень», который в качестве мгновения
совершенства мира и времени есть вечность. Такое самоистолкование
Ницше не мешает Хайдеггеру утверждать, будто Ницше настолько
мало преодолел метафизику, т. е. христианский платонизм, что,
наоборот, бесперспективно запутался в метафизике и ее нигилистических
последствиях из-за своего ни на чем не основанного «встречного
* В свою очередь, Хайдеггер в этом месте ссылается на эту ашую страницу (222)
этой книги Левита (см. его: Gesamtausgabe. Bd. 7. S. 124) - весе ärculus vitiosus!
Он пишет в примечании, добавленном задним числом, только одно: «Об
этом Лёвит. Ницшевская философия вечного возвращения того же? С. 222! !»
256
К истории истолкования Ницше (1894-1954)
движения» против нигилизма. На этом пути обращения он, правда,
изведал «некоторые черты» нигилизма, но сам нигилизм
истолковывал все еще нигилистически, познав «сущность» нигилизма, а
именно сокровенность истины бытия, так же мало, как и любая
предшествовавшая ему метафизика (см.: Holzwege, S. 244). Его переоценка
прежних ценностей только довела до конца то обесценивание
прежних высших ценностей, которое шло до него. Попав в ловушку
горизонта волящей себя самое воли к власти, иными словами,
перспективы ценности и полагания ценностей, Ницше, по Хайдеггеру, не
распознал свое собственное полагание новых ценностей в качестве
нигилизма. - Можно только удивляться, каким образом мыслитель,
который сам осуществил «поворот» и который сам настаивает на
круговой структуре всякого мыслительного раскрытия, не в
состоянии признать, что попытка «преодоления» нигилизма не может
начаться беспредпосылочно, по эту сторону нигилизма, а, как знал и
говорил Ницше, снимает в себе то, что следует преодолеть. Если
какой-нибудь философ Нового времени зашел настолько далеко, что
он - поверх всякого исторического мышления эпохами, возрастами
мира и мировыми бедствиями - мыслит о вечно тождественном,
необходимость которого следует не из «будущей нужды», а из вечного
закона всего становящегося бытия, то это был Ницше, когда он
попытался «сделать обратный перевод» сместившегося от центра
человека в вечный «подлинник» природы.
Вопреки настойчивому утверждению Ницше, что общий
характер жизни и живого мира не поддается таксации и расценке, Хай-
деггер интерпретирует философию Ницше как «метафизику
ценностей», а ценность - как «точку зрения», простой смысл которой
он искусно подвергает превратному толкованию. Но философский
взгляд на мироздание, которого Ницше придерживается и который
пытается развить на основе «Заратустры» в «Воле к власти»,
характеризуется тем, что жизнь как воля к власти не может быть обесценена,
поскольку то, чем она является, целостно «в каждое мгновение»; она
равно-мощна и равно-значительна во всех своих переменах. Начиная
свою интерпретацию с понятия ценности, Хайдеггер предрешает
и все дальнейшее. Полдень, который есть вечность, он понимает не
так, как познал и понял его Ницше, а чисто негативно, как
«приостановленную бренность». Но тот, кто читает, что Ницше говорит о
полудне, может только подивиться тому, что за не сказанное и не
имевшееся в виду вычитывает из него Хайдеггер. В своем
объяснении «сущностного» в ницшевском учении он оставляет без внимания
то, что третью и четвертую части «Заратустры» Ницше завершает
257
Дополнение
ссылкой на вечность. Эта вечность - не гарантия неизменности, а
вечное возвращение все того же возникновения и уничтожения. В
толковании Хайдеггера оно как вечное возвращение тождественного
проявляется только в том, что воля к власти, с точки зрения которой
он односторонне интерпретирует учение о возвращении,
гарантирует себе неизменное постоянство самой себя для «как можно более
однородного и равномерного» воления. Таким образом воля как та
же самая постоянно возвращается к себе как той же самой, а способ,
каким существует сущее в целом, essentia которого есть воля к власти,
то есть ее existentia4', и есть вечное возвращение того же. Но поскольку
Хайдеггер порвал с традиционным различением essentia и existentia,
то его толкование двух главных понятий метафизики Ницше, «воля
к власти» и «вечное возвращение», приводит к тому результату, что
Ницше вообще не мыслил ничего существенно нового, а только
довел до конца то, что издревле было руководящим ядром метафизики:
определение сущего в его бытии через «сущность», которой еще никто
не мыслил, и «существование», которого тоже еще никто не мыслил.
Мыслимое так соотношение воли к власти и вечного возвращения
того же Хайдеггер подробнее не рассматривает.
Что Ницше мыслил вечность как постоянство бытия, а,
следовательно, не как вневременность, но как постоянное настоящее, или
«присутствие» всегда однородного, равно-мощного и равно-значного
становления (см.: Was heißt Denken? S. 40 ff.; Vorträge und Aufsätze.
S. 109), неоспоримо. Вопрос только в том, является ли это изъяном
или погрешностью бытия, либо, наоборот, его вечно-временной или
всегда-длящейся истиной. В конечном счете, это недостаток мудрости,
не желающей допустить, что знание доводит себя до полноты и
целостности лишь тогда, когда «в совершенстве» знает мир, т. е. когда
оно понимает, что в любое мгновение любого «сегодня» «когда-то в
прошлом» и «когда-то в будущем» слиты воедино так, как все сущее
в колесе бытия. «Все идет, все возвращается; вечно вращается
колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия.
Все погибает, все вновь складывается; вечно строится тот же дом
бытия. Все разлучается, все снова друг друга приветствует; вечно
остается верным себе кольцо бытия. В каждый миг начинается бытие;
вокруг каждого Здесь шаром катится Там. Центр повсюду. Кривая -
путь вечности.» Это первое провозглашение учения Заратустры
устами его зверей, конечно, не несет ничего принципиально нового, а -
* Сущность (лат.).
** Существование (лат.).
258
с точки зрения современного воления - повторяет то, что издревле
мыслила метафизика. Но кто нам сказал, что время от времени
истина изменяется какой-то «другой судьбой бытия», а не остается
всегда той же самой, как бытие всего сущего, а потому и возвращается
со временем в сознание знающего? Если бы Ницше размышлял лишь
над тем, что явно ко времени «теперь», в эпоху воли к власти и
будущего всемирного правительства, то остался бы несвоевременным
критиком своей эпохи. Лишь избавившись от болезни эпохи, он стал
«выздоравливающим», который как последний любитель мудрости
знал о вечно-сущем, всегда возвращающемся, потому что оно остается
тем же самым во всех сменах и изменениях сущего.
259
От переводчика
Карл Лёвит использовал в своей работе старые издания
сочинений Ницше (в основном Наумана - Крёнера) и отдельные издания его
писем. В настоящем издании все цитаты из сочинений
конвертированы в новейший русский перевод, базирующийся на Kritische Studienausgabe
Дж. Колли и М. Монтинари, - Ницше Ф. Полное собрание
сочинений. М., «Культурнаяреволюция», 2005-2014. Т. 1-13 (ПСС). Поэтому
все авторские ссылки на сочинения Ницше в настоящей книге
заменены ссылками на это издание. Цитаты из писем Ницше переведены
мною, за одним указанным в соответствующем месте исключением.
Вслед за автором я даю ссылки на завершенные сочинения Ницше
сокращенным названием, номером афоризма, части и (или) главы,
на фрагменты из рукописного наследия - по томам, номерам групп
и фрагментов указанного выше ПСС. Некоторые, очень
немногочисленные, авторские сноски, содержащие «глухие» ссылки на текст
«Воли к власти», я убрал, чтобы не перегружать книгу объяснениями
по поводу фальсифицированных мест этой текстовой компиляции
(хотя наиболее важные сохраняю в авторском виде с номерами
афоризмов, но с указанием на эквиваленты из ПСС: известно, что Лёвит
был горячим сторонником «Воли к власти» именно как
компиляции). Поэтому количество и состав сносок здесь не вполне совпадает
с оригинальным изданием. Некоторые текстологические и
фактические неточности Левита и погрешности отдельных переводов из
ПСС (поэтому последние не всегда полностью совпадают с
представленными в этой книге) я отмечаю в примечаниях, в скобках и под
своей сигнатурой (В.Б.); некоторые, самые немногочисленные и
незначительные, исправляю молча.
Из авторской текстологической преамбулы к примечаниям я
сохраняю только краткий список литературы в оригинальном виде. Вот он:
260
Общие источники
С. A. Bernoulli F. Overbeck und F. Nietzsche. I, II. 1908.
E. Forster-Nietzsche. Das Leben F. Nietzsches. Kl. Ausg. I, II. 1925.
E. F. Podach. Nietzsches Zusammenbruch. 1930.
Сочинения, посвященные атаке Ницше на христианство
W. Solovjeff. Dichtung oder Wahrheit, in: Ausgew. Werke I, 1914.
/. N. Figgis. The Will to Freedom or the Gospel of Nietzsche and the
Gospel of Christ. New York, 1917.
L. Schestow. Dostojewski und Nietzsche. 1924.
К. Jaspers. Nietzsche und das Christentum. 1938.
H deLubac. Le Drame de l'Humanisme Athée. Paris, 1945.
M. Carrouges. La Mystique du Surhomme. Paris, 1948.
W. Nigg. Religiose Denker. 1952. S. 219 ff.
G.G. Grau. Christlicher Glaube und intellektuelle Redlichkeit. Eine
religionsphilosophische Studie über Nietzsche. Frankfurt a. M., 1958.
M. Hadegger. Nietzsche. I, II. Pfullingen, 1961.
Сокращенные названия сочинений Ницше,
используемые в примечаниях:
Ртр Рождение трагедии
HP Несвоевременные размышления
ЧСЧ Человеческое, слишком человеческое
Стр Странник и его тень (второй полутом второго тома ЧСЧ;
Лёвит по старой традиции цитирует «Странника» отдельно)
УЗ Утренняя заря
ВН Веселая наука
773 Так говорил Заратустра
ПСДЗ По ту сторону добра и зла
ГМ К генеалогии морали
СИ Сумерки идолов
А Антихристианин, Антихрист
ВВ Воля к власти
СЧ Се человек (Ессе homo)
ДД Дионисовы дифирамбы
В. Бакусев
Примечания
Предисловия
1 Почти точно половину столетия спустя появились следующие
попытки по-новому понять Ницше: С. G.Jung, Eine psychologische
Analyse von Nietzsches Zarathustra, 1935-39 (неопубликованные
стенограммы семинаров) (опубликованы в 1989 г.; готовится русское
издание. - В.Б.); К. Löwith. Nietzsches Philosophie der ewigen
Wiederkunft des Gleichen, 1935 (настоящая книга. - В.Б.)\ К.Jaspers. Nietzsche,
1936; M. Heidegger. Vorlesungen über Nietzsche, 1936 - (см.: Hadegger
M. Gesamtausgabe. Bd. 6.1 и 6.2 - В.Б.).
2 См. письмо к Овербеку от 28 декабря 1888.
3 Stephan George. Siebenter Ring (сборник стихотворений. - В.Б.)\
К Oehler. Die Zukunft der Nietzsche-Bewegung, 1938; Heidegger, Holzwege,
S. 230, 233.
4 Автор выражает свою благодарность за первое издание этой
книги, которая не могла найти широкого общественного отклика в
тогдашних политических условиях, владельцу издательства «Ди рунде»
господину Г. Бальзену.
5 См. последнее письмо к Я. Буркхардту, датированное 6 января
1889 г.
6 См.: С. A. Bernoulli. Overbeck und Nietzsche. 1908. Bd. II, S. 251;
ср. УЗ, аф. 14.
? ЯСС11, 34 [238].
I. Ницшевская философия: система в афоризмах
ПСС9, 11 [276].
262
Примечания
ПСС Π, 25 [307].
» ПСДЗ, 42.
4 773, О духе тяжести, 2.
» ПСДЗ, 210.
6 ПСС9, 3 [19].
' Сяг/>,аф.213.
8 ЯСС 12,2 [162].
9 ЯСС 11,25 [449].
ЯСС12,9[188];10[146].
УЗ, 318.
ЯСС11, 34 [25].
·» ЯСС11, 40 [9].
·« ЯССП, 34 [25].
·» ЯССП, 40 [57].
16 ЯСДЗ, 20.
" ЯСС 12,2 [146].
18 ПСДЗ, 231.
·» ЯСС 10, 7 [62].
ЯССП, 26 [82].
" СИ, Набеги несвоевременного, 51.
** См.: XV, 95 и письмо Роде к Ницше от 24 марта 1874.
2» ТГЗ, ч. 2.0 поэтах.
24 Письмо к Г. Брандесу от 8 января 1888.
25 Письмо к Г. Кёзелицу от 16 августа 1883.
26 Письмо к К. Фуксу от 14 декабря 1887.
27 Письмо к Г. Кёзелицу от 22 декабря 1888.
28 ГМ, Предисловие. Пер. мой. - В.Б.
** ЯССП, 37 [5].
»° УЗ, Предисловие, 5.
»' ГМ, Предисловие, 8.
»* F. Overbeck. Christentum und Kultur. Basel, 1919. S. 282 f.; Bernoulli,
I, S. 227 f.
II. Периодизация сочинений Ницше
Предисловие к 2-му тому ЧСЧ, 2.
См., напр., ПСС 11,40 [65].
Предисловие к 2-му тому ЧСЧ, 4.
См. об этом: Предисловие к 2-му тому ЧСЧ, 1 и 7.
ПСДЗ, 70. Пер. мой.
263
6 СЧ9 «По ту сторону добра и зла», 1-2.
7 См. издание Альфреда Боймлера «Die Unschuld des Werdens»
(1931), т. I, с. XIII слл.
8 /7СС11,26[47,48].
9 Ср. 773, ч. 2. Об отребье: «Миновала медлительная печаль моей
весны! Миновала злоба моих снежных хлопьев в июне! Летом сделался
я всецело и полуднем лета!».
10 Письмо к неизвестному от августа 1885.
11 ТГЗ, ч. 1. Речи Заратустры. О трех превращениях.
12 Ср. ПСС 11, 25 [351], где третий этап характеризуется как «я
есмь» греческих богов, в то время как в «Заратустре» нет
характеристики, соответствующей «ты должен» и «я хочу». О созидательно-
уничтожающей игре ребенка см. ПСС 11, 26 [220], где Заратустра в
«космической речи» разрушает свое совершенное творение, чтобы
снова и снова собирать и соединять его.
'» ВВУ афоризм 1041 <ПСС 13, 16 [32]>.
14 ДД. Слава и вечность, 4.
15 См. письмо Роде от 16 июня 1878 г., в котором для Ницше
предсказан обратный путь к достижению его цели.
16 773, ч. 3. Странник.
III. Объединяющая основная идея в философии Ницше
1 О взаимосвязи романтизма, позитивизма и нигилизма см. ПСС
13,5 [50]: «...между 1830 и 1850 романтическая вера в любовь и будущее
переходит в жажду небытия». См. об этом политическую критику
романтизма у А. Руге (Der Protestantismus und die Romantik. Hallische
Jahrbücher für deutsche Wiss. u. Kunst II. Jg. 1839) и: CariSchmitt. Politische
Romantik. 1925.
2 Об отношении современников к ЧСЧсм. прежде всего письма
Я. Буркхардта (Вг. III, 174 ff.) и Э. Роде (Вг. II, 543 ff.). Об отличии
свободного ума от свободомыслия см.: ПСДЗ 44.
» ЯСС11, 25 [2].
« ЧСЧ 1,225.
5 ЧСЧ1, 227.
6 ЧСЧ11, 113.
7 ЯСС11, 19 [77].
8 Стар, 5, 16, 350; см. у Клагеса, гл. 5.
9 О ницшевском понимании свободы как «воле к ответственности
перед собой» см. прежде всего СИ, Набеги, 38; ПСДЗ, 19, между тем
264
Примечания
как свое подлинное понятие свободы, начиная с «Заратустры», он
развивает исходя из соотношения случая и необходимости.
ЧСЧ1, Предисловие, 3.
ЧСЧ11, Предисловие, 5.
12 Там же, 6.
13 Типичными представителями этого ставшего активным,
«героического» нигилизма после Первой мировой войны были прежде
всего Э. Юнгери О. Шпенглер-, см.: E.Junger. Das abenteuerliche Herz
(1929), S. 23 f., 180 f., 186 ff., 236 ff.
ч ЧСЧ1, Предисловие, 2.
'* ЧСЧ1,638.
16 Стр., аф. 308.
'* См. ¥C¥II, аф. 408 («Сошествие в Аид»).
18 Ср. одноименное стихотворение. Беседа странника и тени, где,
«хотя и несколько призрачно», высказан тот факт, что тень настолько
же является сущей, как и свет, продолжается в беседе Заратустры и
странника-тени и заканчивается в разговоре между Ницше и Дионисом
(ПСДЗ, 295).
19 СЧ, Почему я так мудр, 1.
20 Аф. 213. Ср. сказанное выше на с. 23.
См.: ЯСС 13, 14 [99].
ЯСС11, 40 [65].
25 См.: ДД, Слава и вечность.
24 Стихотворение «Странник» (№ 27) из ВН. (Здесь ради
смысловой точности переведено прозой. -В.Б.)
25 ЯСС9, 12 [205] (перевод изменен. - В.Б.)
26 См. письмо к Э. Роде от 23 мая 1887. (В этом письме Ницше
определенно говорит именно о себе как нашедшем «выход». - В.Б.)
27 ТГЗ, ч. 4. Тень. (Здесь и далее по большей части в переводе
Ю. Антоновского в редакции Е. В. Ознобкиной. -В.Б.)
28 См.: УЗ, аф. 56.
29 СИ. Набеги несвоевременного, 49.
3° ВН. Кн. 5, 377.
31 СЧ, «Человеческое, слишком человеческое», 1 (пер. мой. - В.Б.).
32 С Вольтером соотносится и заключительная формула «Се
человек»: «Écrasez l'infâme» («раздавите гадину»).
33 УЗ, аф. 477.
3* См.: ПСДЗ, 41.
35 См.: ДД, Меж коршунов.
36 Первый намек на эту тенденцию содержит уже одно письмо
1866-го года: «Вчера в небе стояло порядочное грозовое облако,
265
я поспешил на расположенную рядом гору..., обнаружил там наверху
какую-то хижину, мужчину, забивавшего двух козлят, и его сыновей.
Гроза мощно разразилась бурей с градом, я испытал несравненный
подъем, и до меня дошло, что мы полностью понимаем природу, лишь
когда вынуждены бежать к ней от своих забот и неприятностей. Что
значил для меня человек с его беспокойным хотением! Что значило
для меня это неизбывное "Ты должен", "Ты не должен"! Совершенно
другое - молния, буря, град, вольные силы, без всякой этики! Как
счастливы, как могучи они - чистая воля, не замутненная интеллектом!»
(к Карлу Герсдорфу от 7 апреля 1866. См.: Юный Ницше. 1856-1868.
Автобиографические материалы. Избранные письма. Из ранних
работ. М., 2014. С. 222. Пер. мой. - В.Б.). Ср. - двадцатью годами
позднее - ВВ, аф. 332 слл.
37 См. об этом книгу автора От Гегеля к Ницше. Революционный
перелом в мышлении XIX века. 3-е изд. 1954 (рус. пер.: СПб., 2001).
38 См.: Фейербах Л. Основные положения философии будущего.
Параграф 21.
39 ВН, аф. 357 (у Ницше к Гегелю относятся слова «наиболее
продолжительную и опасную отсрочкуэггой победы атеизма». Характеристика
«безусловно честный атеизм» чуть ниже в тексте Ницше относится
к Шопенгауэру. -&/>.).
4° Сг/, Несвоевременные, 2.
41 ЯСС8, 5 [156] (пер. мой. - В.Б.).
42 О закате античности см.: ЧСЧ1, 141; УЗ 71; Λ 58 слл.. Ср.: Bruno
Bauer. Christus und die Caesaren. Berlin, 1877.
« /7CC8, 3 [76] (пер. мой. - В.Б.).
44 См.: К. Hecker. Mensch und Masse, 1933, где эта тенденция к
«изменению» охарактеризована как всеобщая тенденция эпохи во всей
послегегелевской литературе «младогерманцев», особенно у К. Иммер-
мана.
4* См.: ПСС13, 15 [71]; А 10.
46 См.: «Феноменология духа», изд. Лассона, 1907, с. 483;
«Философия религии», W. XII, 228 ff.
47 СЧ. Почему я так умен, 3.
48 См. об этом соч. автора: Heidegger, Denker in dürftiger Zeit.
1953. S. 92 ff.
49 ТГЗ, ч. 4. Праздник осла, 1 (пер. мой. - В.Б.)
5° УЗ 92. (В этом афоризме, как и во всех остальных сочинениях
Ницше, нет ничего похожего - ни слов «historisch widerlegt», ни
соответствующего смысла. Напротив, у Ницше, например в ПСС 13,16 [ 17],
говорится: «Историю как науку, сдается, растрачивают на пустяки,
266
Примечания
постоянно делая одно и то же ошибочное заключение: "та или иная
форма погибла, следовательно, она ниспровергнута". Как будто гибель -
это контраргумент, не говоря уж - ниспровержение!». - В.Б.)
s1 ЯСС7, 31 [8] (перевод изменен. - В.Б.).
52 ВН, кн. 3, аф. 108. См. также последний афоризм первой книги
УЗ («In hoc signo vinces»).
53 Там же, аф. 125.
m ЯСС11, 34 [5].
55 Об истории понятий «сверхчеловек» и «Богочеловек» см.: Ztschr.
f. deutsche Wortforschung, 1900,1,1, S. 3 ff. и указания Д. Чижевского в:
Hegel und Nietzsche, Revue d'Histoire de la philosophie, 3e a., fasc. 3,
Paris, 1929, a также: Dostojevskij-Studien, Reichenberg, 1931.
56 ТГЗ, ч. 1. О дарящей добродетели, 3.
57 Ср. характеристику, которую дал Ницше Я. Буркхардт (Briefe,
т.3,с. 174, 180 и 186).
58 ТГЗ, Предисловие Заратустры, 5.
» ЯСС 10, 7 [21].
60 ТГЗ, ч. 4. В отставке.
61 Там же.
62 ТГЗ, ч. 4. Самый безобразный человек.
63 См. об этом: А. Gide, Jahrbuch der Nietzsche-Gesellschaft, „Ariadne"
1925, и книгу о Достоевском Р. Гвардини «Человек и вера» (Лейпциг,
1933).
64 ТГЗ, ч. 4. Самый безобразный человек.
65 Ср. ВН, аф. 274.
66 ТГЗ, ч. 4. Самый безобразный человек.
67 (Текст, составленный из нескольких фрагментов рукописей
Ницше компиляторами «Воли к власти». Ср. ПСС 13, 11 [119], 11
[411] -ÄÄ).
68 См.: Ршр, гл. III, 28.
69 См. главу «Об общем итоге греческой жизни» книги Я. Бурк-
хардта «История греческой культуры».
7° ВН, аф. 357.
71 ТГЗ, ч. 3. Об умаляющей добродетели, 3.
72 См.: ГМ, раздел 3, 27 и ПСДЗ, аф. 227 - в отношении
остающейся «воли к истине», которая запрещает себе «ложь, заключенную
в вере в Бога».
7* ВН, аф. 347.
7* ПСС\\, 25 [307].
75 Относительно внутренней связи между пессимизмом,
позитивизмом и нигилизмом см., напр.: ЯСС12,2 [151], ВН, аф. 347 и УЗ, аф. 477.
76 ТГЗ, ч. 3. О старых и новых скрижалях, 8.
77 ТГЗ, ч.1. Речи Заратустры. О бледном преступнике.
78 773, ч. 3. Об умаляющей добродетели, 3.
*> См.: ГМ, раздел 3, гл. 27.
80 ЯСС13, 11 [411].
81 См.: ГМ, раздел 3, гл. 28.
82 См.: ГМ, раздел 3, гл. 1 и 28.
83 См.: ПСДЗ, раздел 3, гл. 55; А, гл. 7 и 18.
84 См.: ГМ, рассмотрение третье, гл. 25 (цитата неточная,
перевод мой. - В.Б.).
85 ПСС11, 25 [13] (перевод мой. - В.Б.).
86 См., например, ВН, аф. 347.
87 ПСДЗ, гл. 56.
88 См.: ПСС 13, 17 [4]. (Контекст для «смог бы» и «не сможет»:
«А если по такому случаю обратиться к недостаточно ценимому
авторитету Заратустры, то Заратустры хватает на то, чтобы
свидетельствовать о себе: "Я смог бы поверить лишь в такого бога, который
умеет плясать'...» (там же). - В.Б.)
89 Там же.
90 См. об этом: G. Naumann. Zarathustra-Kommentar. 1899-1901,4.
Teil, S. 179ff. Поклонение ослу-излюбленный упрек позднего
язычества в адрес христианских общин. См. об этом: Р. Labnolle. La Réaction
païenne. Paris, 1934. S. 193 ff.; W. Otto. Dyonisos. 1934. S. 158. Возможно,
создавая эту пародию, Ницше ориентировался на информацию о
празднике ослау Лихтенберга: Ges. W. 1802. Bd. 4. S. 537 (1844. Bd. V. S. 326).
91 ЯСС8,5[105].
92 См. Дополнение к этой книге.
9* См.: ПСС 13, 14 [136, 156], 15 [100], 18 [17].
94 ПСДЗ, С высоких гор (ЯСС 5, с. 227).
9* 77СС12, 5 [71].
96 ГМ, Рассмотрение второе, гл. 24.
я ВН, кн. 4, аф. 341.
98 ТГЗ, часть третья. Странник.
99 Там же. Выздоравливающий, 1.
100 Ср., напротив, «прежние попытки бегства» от мысли о
возвращении: ПСС 10, 21 [6].
ВН, кн. 5, аф. 370.
102 «С точки зрения психологической уловкою этих лет было -
пройти над страшной пропастью, не глядя вниз, а весело шагая, будто
идешь по цветущему лугу, в конце которого поджидает, может быть,
какая-то большая опасность: одним словом, не придавая значения
268
Примечания
опасности, с верой в себя идти ей навстречу» (ЯСС12, 5 [8]); ср. ВН,
аф. 287 и стихотворение «Странник».
юз ТГЗ, ч. 4, Песнь странника в ночи, 1.
10< См.: ЯСС 10,4 [127].
105 См.: ЯСС 11, 31 [4].
106 ЯСС 13, 16 [32].
10* ЯСС12,5[71].
!о8 Насколько мало относительно «Заратустры» речь идет о
бессвязных речах, а, напротив, о скрытой длинной цепи мыслей и об
изложении философской проблемы, Ницше говорит в одном письме,
где характеризует свое творение как «хорошо сработанное», «если
выражаться на манер столярных мастеров» (к Генриху Кёзелицу,
конец августа 1883).
109 Письмо к Ф. Овербеку от 10 февраля 1883.
110 СЧ, гл. Так говорил Заратустра, 1.
111 См.: ПСС11,7 [197]. (Лёвит ошибается: «Проект нового образа
жизни» в этом фрагменте - заглавие; оно никогда не выступает у
Ницше подзаголовком к заглавию «Полдень и вечность». - В.Б.)
112 Лёвит дает ссылку для этого «места», и даже не одну, но все они
недействительны - такого места у Ницше нет. - В.Б.
"» ЯСС11, 7 [196].
114 Письмо к Г Кёзелицу от 1 февраля 1883 («эта книга» - 773. - В.Б.).
"* ЯСС12,6[4].
116 Письмо к Г. Кёзелицу от 1 февраля 1883.
117 СЧ, Почему я судьба, гл. 8.
118 СЧ, Так говорил Заратустра, гл. 3.
119 О «проблеме актера» см. ВН, аф. 361.
120 См. об этом у Клагеса, цит. соч., примеч. 46.
121 См. письмо к Роде от 22 февраля 1884. Можно указать на
аналогичные решающие «мгновения» в жизни других мыслителей:
загадочное озарение Декарта 10 ноября 1619, заметка Паскаля от 23
ноября 1654, описание Руссо своего озарения на пути в Венсан
(письмо к Малербу от 12 января 1762), дневниковая запись Кьеркегора в
мае 1838. Но подобные аналогии ничуть не делают яснее то
внутреннее переживание, которое «перевернуло» Ницше. Если уж ему
вообще суждено выясниться, то лишь из идейного контекста
«Заратустры».
См. ВН, аф. 382 и ГМ, Рассмотрение 2, гл. 24.
123 См. ГМ, Рассмотрение 2, гл. 24.
"« См.: ВВ, аф. 1032 (ПСС, т. 12, 7 [38]).
125 ЧСЧ1,408.
269
126 Литературная связь этого повествования с одним местом из
«Листков из Префорста» Ю. Кернера впервые установлена К. Юн-
гом («Zukunft» от 25.02.1905 [на самом деле в докторской
диссертации Юнга «К психологии и патологии так называемых оккультных
феноменов», написана в 1901, опубликована в 1902 (рус. пер. в сб.:
Юнг К. Г. Конфликты детской души. М., 1995). Юнг выдвинул
(неверное) утверждение, будто тут имел место бессознательный плагиат,
криптомнезия. Много лет спустя он повторил свою мысль в другой
работе. - В.Б.] ), а затем использовалась в работах Мёбиуса, Сейера
и Андлера.
127 Ср. начало «Другой танцевальной песни» (ТГЗ, ч. 3).
128 773, ч. 3, Перед восходом солнца. В стихотворении «Огненный
знак», т. е. после выздоровления Заратустры от болезни по имени
человек, вулканическое пламя земной глубины превращается в
«пламя высот» под темными небесами, горящее вверх с тихим жаром как
вопросительный знак для тех, что знают ответ. Ср. стихотворение
«Се человек».
1Я* ТГЗ, ч. 2, Прорицатель.
13° Там же.
131 Там же.
132 Ср. толкование Андлера, которое, правда, по моему мнению,
не выдерживает критики.
133 773, Предисловие Заратустры.
w Ср. А, гл. 25.
13* 773, ч. 2, Самый тихий час.
136 «Героизм-это добрая воля к самоуничтожению» (ЯСС10,5 [1,61]).
137 773, ч. 2, Самый тихий час.
138 См. письмо к Кёзелицу от 3 августа 1883.
139 См.: 773, ч. 3, Возвращение. (К переводу. Вряд ли это
«покинутость», как в ПСС: Verlassenheit здесь - «уход в пустынь»,
отшельничество, сознательно выбранная позиция, а не пассивное состояние,
возникшее по воле других. - В.Б.)
14° См. письмо к Роде (середина июля 1882): «Без цели, которую
я не смог бы считать неизмеримо важной, я не смог бы и
удержаться наверху, в свете, над черными потоками! Это, собственно
говоря, и есть единственное мое извинение за такую литературу,
которой я занимаюсь, начиная с 1876 года: таков мой рецепт и
самодельное лекарство против пресыщения жизнью. Что это были за годы!
Какие затяжные боли! Какие внутренние препоны, перевороты,
разлуки!» Ср. письмо к Отто Айзеру (начало января 1880): «Мое
существование - ужасающее бремя, я давно отрекся бы от него, если бы именно
270
Примечания
в таком состоянии страдания и ограниченности почти во всем не
предпринимал самых поучительных проб и экспериментов в области
духовно-нравственной... ».
Ч1 773, ч. 3, О видении и загадке.
142 (Автор использует тут, вероятнее всего, идеи и термины М. Хай-
деггера: под «выбрасыванием» надо понимать «проект, набросок».
- В.Б.)
чз 773, ч. 3, О видении и загадке, 1.
144 Там же, 2.
145 Там же (перевод с изменениями. - В.Б.).
146 «Великое пресыщение человеком - оно душило меня и
заползло мне в глотку, а еще то, что предсказывал прорицатель: "Всё равно,
ничто не вознаграждается, знание душит"» (773, ч. 3.
Выздоравливающий, 2).
147 См.: 773, ч. 2. На блаженных островах.
148 См.-.^С^т^аф^Ов.
49 773, ч. 3,, О видении и загадке, 2.
15° Отныне главная идея претерпевает в своем проведении
многочисленные задержки и паузы, и лишь в главе о выздоравливающем
подхватывается снова. Ср. фрагмент ПСС10,18 [31 ], согласно
которому у Ницше одно время был замысел пустить главу «О блаженстве
против воли» сразу после главы о выздоровлении.
151 773, ч. 3, О блаженстве против воли.
158 Там же.
155 773, ч. 3, Перед восходом солнца.
154 См. заключительное стихотворение ПСДЗ.
»55 ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 2 (в тексте Ницше,
однако, не «вечными мгновениями», а «мгновениями». - В.Б.).
^ Там же, 17.
157 Ср. одноименное стихотворение.
158 773, ч. 3, Выздоравливающий, 2.
159 Там же.
1б° См.: 773, ч. 3, О великом томлении и третью часть
стихотворения «Солнце садится». Ср. стихотворение «Таинственный челн»,
где тот же челн вечности, еще не освобожденный и загадочный,
покоится на «черных глубинах», в то время как в «Другой танцевальной
песне» в виде качающегося челна он мерцает на ночных водах и, как
метафора вечного возвращения, именно «ныряя», пьет от
священных вод жизни и «снова качается». О виноградной лозе как священном
растении Диониса см.: W. Otto. Dionysos. S. 133 ff.
161 См.: 773, ч. 4, Приветствие.
162 См. стихотворение «Слава и вечность», которым Ницше
планировал завершить книгу «Се человек» («Ессе homo»); самая ранняя
формулировка этой мысли содержится в набросках об учении Гераклита.
163 Ср.: «Мы... должны желать стать периодическими существами -
подобно существованию» (77СС10, 1 [70]).
164 См.: ДД, Последняя воля.
!б5 ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 16.
i66 ТГЗ, ч. 2, На блаженных островах.
167 ТГЗ, ч. 3, О великом томлении. (Игра слов у Ницше:
Notwendigkeit (необходимость) - Wende der Not («избегание бед» в переводе
Ю. Антоновского, что звучит как своего рода трусость, совершенно
не свойственная Ницше; правильно переводить и понимать как
«обращение, поворот нужды» - в другую сторону, т. е. принуждение нужды,
а это меняет смысл выражения Ницше на противоположный, и
притом тот, который и имеет в виду Лёвит в своей книге. - В.Б.).
168 См. последнюю часть «Славы и вечности».
109 См.: ТГЗ, ч. 3, Перед восходом солнца.
,7о ТГЗ, ч. 2, На блаженных островах.
i7i ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 11 (перевод с
изменениями. - В.Б.).
1?2 ТГЗ, ч. 2, Об избавлении; в СЧ это место воспроизводится.
Иначе, чем сделано здесь, «месть» интерпретирует Хайдеггер (в «Что
значит мыслить» и «Лекциях и заметках»), выходя за пределы
сказанного.
17* См.: ВВ, аф. 1067 (ПСС, т. 11, 38 [12]).
174 «Нелепое представление - считать, будто свободно
определяешь свое бытие и даже то, каков ты именно есть. Подоплека:
требование - что должно быть такое существо, которое воспрепятствовало
бы появлению столь презирающей себя самое твари, каковой я
являюсь. Чувствовать себя контраргументом против Бога» (ПСС, т. 12,
2 [124]). Ср. ГМ, Рассмотрение второе, 20; СИ, Четыре великих
заблуждения, 7 и 8.
175 773, ч. 2, Об избавлении.
176 Там же; ч. 3, О старых и новых скрижалях, 3.
177 Один человек с Востока, японский писатель С. Нацумэ, в своих
заметках об «избавлении» Заратустры благодаря волению вспять
пишет: «Величайшая нелепость, какую когда-либо высказывал
человек», и о принципе необходимости, совпадающей с самой свободой:
«Это и есть практическая конечная цель, ради которой работало
такое множество учителей дзен и адептов Конфуция. Но они
достигали куда более высокой степени совершенства (т. е. совершенной
Примечания
свободы), чем когда-либо любой из европейцев. Христианам и не
снилось, что существует такая свобода. Их мнимое самосознание,
кажется, не ведает границ».
17» «Что все возвращается - это наиболее тесное приближение мира
становления к миру бытия: вершина созерцания» (ПСС, т. 12, 7 [54]).
И еще: «...становление должно представать оправданным в каждый
конкретный миг... абсолютно неприемлемо оправдывать настоящее
ради будущего или прошлое - ради настоящего» (ПСС, т. 13,11 [72] ).
179 См.: ТГЗ, ч. 3, Об умаляющей добродетели, 3.
l8° О различии между античным роком и современным понятием
судьбы см.: Th. Haecker. Vergil. 1931. S. 104 ff.
181 См.: ЯСС, т. 11, 27 [67].
ι82 ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 19 (перевод с
изменениями. -В.Б.).
l8s См.: Слава и вечность, 4.
184 О понятии дионисийского см. прежде всего: Предисловие к
Ртр, 4; ВН, аф, 370.
185 См.: Schelling. Die Weltalter, Reclam Ausg. S. 68. Ср.: Nachlaß-Ausg.
M. Schröter. 1946. S. 217, 227 und W. I/IX, 235.
186 См.: СЧ, «Утренняя заря», 1.
187 См.: ТГЗ, ч. 3, Перед восходом солнца.
,88 ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 9.
189 См.: Юный Ницше. 1856-1868. Автобиографические материалы.
Избранные письма. Из ранних работ. М., «Культурная революция»,
2014. С. 264. У Ницше, правда, не «свобода», а «свободная воля».
19° См. наброски к ДД.
191 См.: ЯСС, т. 10, 21 [6].
192 См.: ТГЗ, ч. 1, Речи Заратустры, О грезящих об ином мире.
193 УЗ, Предисловие, гл. 3 и 4.
194 СЧ, Предисловие, гл. 4.
195 Л, гл. 1.
196 ЯСС, т. 10, 4 [137].
197 Там же, 24 [28] (перевод с изменениями. - В.Б.).
198 ЯСС, т. 11, 25 [247].
199 См.: СИ, Набеги несвоевременного, 48, 49.
200 ЯСС, т. 12, 2 [131].
ЯСС, т. 13,11 [94].
ЯСС, т. 9, 11 [163].
203 ЯСС, т. 10,20 [1].
204 Там же, 16 [63].
2°5 ЯСС, т. 9, 11 [159].
206 Но как раз эта воля к будущему гасится учением о вечном
возвращении того же. В 1888-м Ницше пишет Брандесу: «Я ведь подчас
склонен забывать, что живу. Случай, заданный мне вопрос напомнил
мне на днях о том, что во мне прямо-таки угасло основное понятие
жизни, понятие "будущего". Ни одного желания, ни тени желания
передо мною! Ровная поверхность! Почему бы какому-нибудь дню
семидесятого года моей жизни не быть в точности таким же, как
нынешний мой день? - Может, оттого, что я слишком долго жил в
соседстве со смертью, я больше не смотрю на прекрасные
возможности? - Однако верно, что теперь я ограничиваю себя мыслями о
завтрашнем дне (...) и ни днем дальше! Это, может быть,
нерационально, непрактично, возможно, даже нехристиански -тот, что
проповедовал на горе, запрещал как раз эту заботу "о другом дне", - но
кажется мне в высшей степени философским» (23 мая 1888).
207 См. об этом: G. Simmel Schopenhauer und Nietzsche. Leipzig,
1907. S. 251 ff.
208 ЯСС, т. 9, 11 [143].
*°9 Там же, 11 [201].
Там же, 11 [206].
211 См.: ÎICQ 12, 5 [53] (несмотря на отсутствие кавычек, это
точная цитата. - В.Б.).
I1CQ 13, 14 [188].
«в ЯСС, т. 9, 11 [202].
"4 ЯСС, т. 11, 36 [15].
215 ÎICQ 13, 14 [188].
216 Там же.
217 ЯСС, т. 9, 11 [148].
218 nCQ 13,11 [72].
219 С ницшевской попыткой математического обоснования ср.
аргументацию Кантаъ 1-м тезисе антиномии «Критики чистого
разума» , а также ее критику Шопенгауэром в «Мире как воле и
представлении»; см. также: О. Becher. Nietzsches Beweise für seine Lehre von der
ewigen Wiederkunft, in: Blätter für deutsche Philosophie 9. Bd., H. 4,1936.
ВДаф. 1067 (ЯСС, т. 11,38 [12]. Здесь в переводе M. Рудницкого
с моими изменениями по изд.: Воля к власти. Опыт переоценки всех
ценностей. Незавершенный трактат Фридриха Ницше в
реконструкции Элизабет Фёрстер-Ницше и Петера Гаста. М.: Культурная
революция, 2005).
См.: О. Becker. Mathematische Existenz. Halle, 1927. S. 664 ff., 757 ff.
222 ЧСЧ. Предисловие ко второму тому, 1 (буквально - «...о моих
преодолениях» ).
Примечания
22* ПСа т. 10,4 [13] (пер. мой. - В.Б.). Ср. в письме к Генриху Кёзе-
лицу (конец августа 1883): «Образ, появляющийся вдруг почти во
всех моих сочинениях - "подняться над самим собой", - стал
действительностью, и, о если бы Вы знали, что это должно означать для меня
самого!» См. об этом у Клагеса (цит. соч., гл. IX и XTV, в особенности
на с. 204): «В общем и целом "Заратустра" - это
мечтательно-жутковатая экзегеза приставки "сверх". Сверхполнота, сверхдоброта,
сверхвремя, сверхискусство, сверхбогатство, сверхгерой, упиться сверх
меры - вот некоторые из великого множества отчасти образованных
Ницше неологическим путем, отчасти все снова используемых им
сверхслов, а также множества вариантов того единственного,
которое, собственно, и имеется в виду: преодоление» (последнее слово в
немецком тоже образовано с помощью приставки «сверх». - В.Б.).
"< JKÄS.175ff.
225 ПСС, т. 11, 38 [12] (в переводе М. Рудницкого с моими
изменениями по приведенному выше изд.).
226 Nietzsche^ Werke. Α. Kröner Verl. Leipzig, 1922. Band XVI. S.
515. («1-й вариант» значит старый, зачеркнутый Ницше и
замененный новым, «2-м вариантом». Перевод «1-го варианта», старого, мой;
к сожалению, его нет ни в одном из опубликованных русских
переводов. - В.Б.) В другом афоризме взаимосвязь этой воли к «волению
снова и еще раз» с волей к ничто выявляется благодаря тому, что
образ отражения мира в глазах, достаточно просветленных, чтобы
смотреть на него, применяется в нем не к миру, а к ничто.
227 См. ПСС, т. 10,13 [24] : «Заратустра говорит: "Я - наслаждение
ветра мистраля, электричества, высоты, смены времен года..."».
228 Знал ли Ницше работу Гельмгольца о сохранении энергии,
согласно информации Архива Ницше, точно установить нельзя.
Высказывания Ницше о Р. Майере колеблются в диапазоне от величайшей
надежды до величайшего разочарования. См. письма П. Гаста к Ницше
(Bd. I, S. 122,163,172,174,202,243,245). См. также Bd. XII, 432
(примеч. к № 105) и на эту тему процитированную работу Андлера. Работа:
AbelRey. Le retour éternel et la philosophie de la physique, 1927, на
которую ссылается Андлер, осталась мне недоступной. Наиболее
подробное изложение натурфилософии Ницше дает А. Mittasch. Nietzsche als
Naturphilosoph, 1952. (См. также примечание Ε. Колесова к афоризму
1066 «Воли к власти» в указанном выше издании на с. 808 и
примечания 25 и 39 к моей статье «Вечное возвращение и античность». - В.Б.).
229 Это выражение принадлежит П. Ю. Мёбиусу <Пауль Юлиус
Мёбиус (1853-1907), очень известный немецкий невролог, психиатр;
ниже цитируется, вероятно, его книга «Ницше. Болезнь и философия». -
В.Б.>, который, кстати, был единственным, кто, будучи
естествоиспытателем, в грубых, но ясных чертах разглядел, какой смысл имела
вера Ницше в естествознание: «Нельзя понять судьбу Ницше без
стенаний в адрес абсолютной физики. Кажется, с Ницше случилось то
же, что с многими другими, которые, ничего не смысля в
естествознании, именно поэтому питают огромное уважение к изречениям
"маститых ученых". Если вообще-то они не верят ни во что, то
представителям современной науки верят просто на слово. Вот и Ницше
передней кланялся, а потом вопил: Нет никакой метафизики!..»
«Сначала у Ницше была юношеская свежесть, восторг перед Вагнером,
Шопенгауэром и новым направлением культуры, выводящим за
пределы этой пустыни. Но когда он в этих идеалах разочаровался, то
очутился в каком-то бессмысленном мире, ожесточился и крикнул:
Бог умер, все бессмысленно! И тогда он захотел сделаться
переоценщиком всех ценностей. Но на самом деле в нем говорило
разочарование. Оно не давало ему покоя, пока он не соорудил себе жалкий
суррогат метафизики - сверхчеловека и вечное возвращение».
23° Метя в такое обратное преобразование, Ницше говорит о
необходимости «онатуривания человека» (см.: ПСС, т. 9, 11 [211]) и
«натурализации морали».
231 nCQ т. 1/2. С. 435.
232 ЯСС, т. 9, 11 [217].
233 См.: ЯСС, т. 7, 8 [37].
234 См. ПССу т. 13,14 [ 14] : «Словом «"дионисийское" выражается
порыв к единству, выход за пределы личности, повседневности,
общества, реальности, это как бездна забвения, мучительно-страстная
полнота смутных, насыщенных, парящих состояний; восторженное Да обще
му характеру жизни как тому, что во всех сменах равно себе, одинаково
властно, одинаково блаженно; великое пантеистическое сорадование
и сострадание, которое одобряет и освящает даже самые страшные
и сомнительные качества жизни; вечная воля к порождению, к
плодородию, к возвращению; единящее чувство необходимости сотворения
и уничтожения» (есть расхождения между текстом ПСС9 т. е. KSA, и
изданием Крёнера, которое цитирует Лёвит; исправляю текст в пользу
авторского прочтения, где, в частности, выражение «к возвращению»
заменяет собой «к вечности» издания Колли и Монтинари. - В.Б.).
23* См.: ЧСЧ, I, 109 и письмо к К. Герсдорфу от 13 декабря 1875:
«Я думаю, что познавательное волениеостается последней сферой
жизненной воли, промежуточной областью между волением и
прекращением воления...».
236 См.: УЗ, аф. 423.
Примечания
*v ЯСС, т. 12, 2 [131].
238 См. об этом: G. Teichmüller. Die wirkliche und die scheinbare Welt.
Breslau, 1882, а об этом: Andler. Op. cit. Bd. II. S. 118 ff.
239 См.: L. Andreas-Salomé. Nietzsche in seinen Werken. Wien, 1894.
S.165ff.
2<° См.: ПСа т. 7, 7 [116] (конец 1870-начало 1871 г. - В.Б.).
·» ЯСС, т. 11, 26 [209].
*** ЯСС, т. 7, 7 [116].
*4з ЯСС, т. 10, 4 [172].
244 ПССУ т. 7, 19 [237]. (Точнее: «Философ доискивается не
истины, но метаморфозы мира в людях. (...) Философ смотрит на мир
как на человека». - В.Б.)
2<* ЯСС, т. 10,13 [1].
246 7J3, ч. 3, О великом томлении.
247 См.: Юный Ницше... С. 222.
248 7ГЗ, ч. 4, В полдень.
ч· См.: УЗ, аф. 575.
25° Там же.
251 См. письмо Ницше к Я. Буркхардту от 6 января 1889 г.
2*2 BHt кн. 4, аф. 342.
«sa ЧСЧ, т. 2, Стр., аф. 308; см. письмо к Гасту от 11 сентября 1879.
254 См.: там же.
255 См.: F. Bollnow. Das Wesen der Stimmungen. 1943. S. 195 ff.; К.
Schlechta. Nietzsches großer Mittag. 1954. S. 66 f.
2*6 Schlechta. Op. cit. S. 32.
257 Ibidem. S.47ÏÏ., 54.
2*8 См. выше, § 1.
259 См. письма к Стриндбергу от 7 декабря 1888 и к Гасту от 9
декабря 1888.
2б° См.: ТГЗ, ч. 4, «В полдень» (в переводе Ю. Антоновского, не
понявшего, что это намек на «чуждого» у греков бога опьянения
Диониса - «странного опьянения». - В.Б.).
261 См. выше, с. 78 ел.; Schlechta. Op. cit. S. 16 ff.
262 См.: ПСДЗу Заключительная песнь.
■* пса т. 6.
IV. Антихристианское повторение античности
в апогее современности
1 ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 25 (пер. мой. - В.Б.).
2 «Это - не различие по образу мученичества: просто у такового
разный смысл. Мука, разрушение, воля к уничтожению вызваны
самой жизнью, ее вечной плодоносностью и возвращением... а во
втором случае это - страдание, это - «Распятый как невинно страждущий»,
как возражение против той самой жизни, как формула ее осуждения.
Нетрудно догадаться: вся проблема упирается в смысл страдания - то
ли в христианский смысл, то ли в трагический... В первом случае
оно служит путем к некоему блаженному бытию, во втором само бытие
достаточно блаженно, чтобы еще и оправдать неизмеримую громаду
страдания. Трагический человек принимает даже самое страшное
страдание - он достаточно силен, полон, божествен для этого.
Христианин же отвергает даже блаженнейший жребий на земле: он
достаточно слаб, беден, обделен, чтобы страдать от жизни в любой ее
форме... «Бог на кресте» - это проклятие жизни, указание на
избавление от нее. Растерзанный на части Дионис есть обетование жизни:
она будет вечно возрождаться, возвращаться из тлена» (ПСС, т. 13,
14 [89]).
3 СЧ, Почему я судьба, гл. 1.
4 Там же, гл. 8.
5 СЧ, Предисловие, гл. 4.
6 СЧ, Рождение трагедии, гл. 3.
7 Там же, гл. 4.
8 ВН, Предисловие ко второму изданию, гл. 4.
9 HP. Рихард Вагнер в Байрейте, гл. 4. Фигура, в которой Ницше
видел возродившийся фрагмент античности, - Наполеон, а под его
исторической задачей он понимал упрощение мира путем
связывания воедино европейских народов. См. об этом главу «Наполеон» в
книге Эрнста Бертрама «Ницше. Опыт мифологии» (рус. пер.: СПб.,
2013.С.274слл.).
10 «"Кольцо нибелунга" - это необъятная система мышления без
понятийной формы мышления. Возможно, какой-нибудь философ
и смог бы поставить рядом с ним нечто вполне соответствующее,
но совершенно лишенное картин и поступков и обращающееся к
нам одними понятиями. Тогда оказалось бы, что одно и то же
представлено в двух раздельных сферах...» (HP. Рихард Вагнер в
Байрейте, гл. 9). (У Левита ошибочно «нибелунгов». - В.Б.)
ПСС, т. 11,41 [4].
12 СИ, гл. Чем я обязан древним, 4, а также гл. Мораль как
противоестественность.
13 «...тогда духу уютно в чувствах, а чувствам - в духе; а все, что
происходит в сфере духа, необходимым образом вызывает в сфере
278
Примечания
чувства тонкое и чрезвычайное счастье и игру сил. И наоборот! (...)
Можно предположить, что у таких совершенных и удавшихся людей
даже самые чувственные естественные отправления просветляются
аллегорией опьянения высшей духовности; они ощущают в себе
своего рода обожествление тела и максимально удалены от философии
аскетов, утверждавшей, что "бог есть дух". (...) С высоты радости,
когда человек чувствует себя всецело обожествленной формой и
самооправданием природы, вплоть до радостей здоровых крестьян и
здоровых полулюдей-полуживотных, - всю эту длинную, огромную,
светлую и красочную лестницу счастья греки не без благодарного ужаса
людей, посвященных в таинство, не без великой осторожности и
благочестивого умолчания, называли божественным именем: Дионис»
(ПСС, т. 11,41 [6] ). Ср. следующие фрагменты набросков к «Эмпедо-
клу»: «Женщина как природа»; «Эмпедокл трепещет перед
природой»; «Его почитают как бога Диониса»; «Спасается ли бегством
Дионис от Ариадны?»
ч ПСС, т. 1Д, 41 [7].
15 К историкофилологическому вопросу о восточном происхожде
нии культа Диониса см.: Schelling. S. W. I, 9, S. 328 ff., а из недавних
источников: W. Otto. Dionysos. Op. cit. S. 51 ff.
16 УЗ, аф. 96.
'7 См.: ВН, аф. 347; А, гл. 22, 23, 42, 51.
18 riCQ т. 13, 14 [9]; ср.: ВН, аф. 131.
* ЯСС, т. 13, 11 [373].
ЯСС, т. 11, 25 [16].
См.: ПСС, т. 12, 5 [71], параграф 6.
22 Там же, параграф 12.
2* ЯСС, т. 11,41 [7].
24 См.: ПСС, т. 11,37 [8] ; см. также последнюю строку «Огненного
знака», а в связи с ней - 12-й фрагмент к ДД.
25 См. об этом: L. Andreas-Salome. Op. cit. S. 137, 228; Andler. IV, S.
244 ff.
26 BH, аф. 152; ср.:/. Burkhardt. Griech. Kulturgesch., hg. von J. Oeri,
4. Aufl., Bd. II, S. 279 ff.
27 См. об этом: J. J. Ruedarffer. Nietzsche und die Philosophie im
tragischen Zeitalter der Griechen. In dem Sammelband: Vom Schicksal des
deutschen Geistes. Berlin, Die Runde, 1934.
28 О ницшевской интерпретации 1ераклита см.: К. Reinhardt Раг-
menides und die Geschichte der griechischen Philosophie. Bonn, 1916;
L. Binsxvanger. Heraklits Auffassung des Menschen. Die Antike XI, S. 1 ff.
Превосходными источниками по античным представлениям о вечном
279
возвращении того же являются: Гераклит, фрагменты 30 и 31, а
также 51, 63, 67, 88; Эмпедокл, фрагмент 115; почти все мифы Платона,
особ, миф об Эросе в «Федре» и миф в «Политике»; Аристотель,
Метафизика, кн. 12, гл. 8, и не раз упомянутый в филологических работах
Ницше ученик Аристотеля Евдем, подходивший к вечному
возвращению с математически-астрономической стороны, и стоики,
например, Немесий, De nat. hom. 38, 147. - См. на эту тему: А. Tilgher. La vi-
sionegrecadellavita.2.Aufl.,Rom, 1926; Zeüer. Philosophie der Griechen;
Gomperz. Griechische Denker, особ. т. 1, с. 112 слл. и 434; W.Jaeger.
Aristoteles. S. 131 ff. (См. также: Бакусев В. М. Вечное возвращение и антич-
ность//Вопр. философии. 2007. № 12. - В.Б.).
29 У Ницше такой цитаты найти не удалось. - В.Б.
3° Философия в трагическую эпоху греков, гл. 8 (ПСС, т. 1 /1. С. 332.
Переводы из этой работы здесь и ниже с моими изменениями. - В.Б.).
s* Там же. С. 333.
32 См. в противовес этому: AlfredBaeumler. Nietzsche, der Philosoph
und Politiker. Reclam, 1931. S. 59 ff.
аз Философия в трагическую эпоху греков, гл. 7 (ПСС, т. 1 /1. С. 329).
34 Там же. С. 330.
35 См.: Kieme. Песни князя Вольнолёта (стихотворное
приложение к ВН; здесь в моем прозаическом переводе. - В.Б.).
36 См.: Юный Ницше... С. 131 (автобиографическая запись Ницше
1863 года).
V. «Как становятся самим собой»
в идее вечного возвращения
1 См.: Юный Ницше... Ср. статью Шопенгауэра «Трансцендентная
спекуляция о кажущейся преднамеренности в индивидуальной
судьбе» (Parerga, I) и эссе Эмерсона о фатуме, вышедшее в немецком
переводе в 1862 году. См. об этом: Н. Heimsoeth. Metaphysische
Voraussetzungen und Antriebe in Nietzsches Immoralismus. 1955.
-Автобиографическая заметка была опубликована только в 1936 году.
2 См.: там же. С. 130.
3 Юный Ницше... С. 259 ел. (слова в скобках принадлежат
Левиту). Ср. предпринятые примерно в то же время попытки Дильтея
выстроить философию «реальности», исходя из естествознания и
истории.
« Там же. С. 260.
5 Там же.
280
Примечания
6 (Изложение текста Ницше со с. 261 указанного выше изд.;
отсутствующее в тексте выражение «невинность становления» -
интерполяция Левита. - В.Б.).
7 Там же. С. 262.
8 Там же (слова в скобках принадлежат Левиту).
9 См. выше, цитату на с. 109.
10 Там же. С. 263 (слова в скобках принадлежат Левиту).
11 Там же. С. 264.
12 Там же.
'» Там же. С. 269.
14 Там же. Ср. высказывание, сделанное на двадцать шесть лет
позднее: «Каждый человек есть еще и целая линия развития (а не
только, как понимает его мораль, нечто начинающееся с момента
его рождения)» (I7CQ т. 13, 14 [29]).
χ5 Там же. С. 271.
16 Там же.
^ См.: ПСС, т. 12, 5 [71], парагр. 8.
18 Ср. стихотворение Френсиса Томпсона «The Hound of Heaven».
Собственное толкование Ницше казнящих качеств бога см. в СИ, П, 22.
19 См. об этом: Karl Reinhardt. Nietzsches Klage der Ariadne, in: «Die
Antike» XI, 1935 (у Левита в качестве выходных данных указано
просто 1936; по данным Гаста-Кёзелица, вариант названия гласил
«Искушение Заратустры». На самом деле так Ницше планировал назвать одну
из своих будущих книг или, может быть, переименовать 4-ю книгу
«Заратустры», см.: /7СС, т. 13, 22 [13], 22 [15]. Фраза Левита вообще
испорчена - возможно, в наборе нового издания: Дионис является
не «в переименовании», а в самом стихотворении «Жалоба Ариадны»
из ДД, в единственной авторской ремарке, гласящей «Молния.
Дионис является в изумрудной красоте». - В.Б.).
ЮныйНицш... С. 131, 133.
21 Интерполяция Левита - такого выражения в «Заратустре»
нет. - В.Б.
См.: ПСС, т. 1/2. С. 355 ел.
23 HP, О пользе и вреде истории для жизни, гл. 1 (перевод
слегка отредактирован мной. - В.Б.).
24 В окончательном тексте 773 этого выражения нет, Лёвит взял
его из издания Наумана, куда почему-то оно попало, как будто бы,
из черновика Ницше. В тексте KSA вместо него - «полуночи» (см.
ПСС, т. 4, с. 328, строка 19, и прим.). Соединение «великой тоски»
с «пьяными песнями» (или пусть даже с «полуночами») -
интерполяция Левита. - В.Б.
25 См.: ПСС, т. 13,20 [46]. Ср. набросок к какому-то предисловию
1887 г., где состояние «глубочайшего опамятования» есть состояние
забвения (см.: ПСС, т. 12, 9 [172]). (Этот вывод чересчур поспешен
в своей категоричности или, по меньшей мере, неполон. Вот что
написано у Ницше»: «Состояние глубочайшего опамятования. Я
сделал все, чтобы теперь уйти в сторону; я не связан уже ни любовью, ни
ненавистью. Словно в старинной крепости. Следы войн, а то и
землетрясений. Забвение» - за последним словом не следует никакого знака,
и неясно, как продолжил бы и куда повернул бы свою мысль Ницше.
В теме забвения у Ницше есть по меньшей мере два смысловых слоя;
из них Лёвит замечает только один. Вероятнее всего, здесь
изначально ассоциативная связь получает затем отрицательную смысловую
корреляцию: в Европе царит теперь забвение, а нужно опамятование,
к которому философ и призывает напоследок всех европейцев.
Связать между собой «опамятование» и «забвение» в контексте всего
ницшевского учения можно только методом отрицательной
корреляции - в плоскости переоценки всех ценностей: тогда опамятоваться
значит забыть о прежних ценностях в пользу «новых возможностей
жизни». Но эта корреляция и смысловая связь между темами
опамятования и забвения вообще - чисто формальная, хотя ее нельзя
упускать из вида; попытка Левита - кажется, первая в этом роде. - В.Б.)
26 HP, О пользе и вреде истории для жизни, гл. 1.
27 Там же.
28 Там же, гл. 2.
29 См.: ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 9.
3° HP, О пользе и вреде истории для жизни, гл. 10 (перевод
слегка отредактирован мной. - &2>.).
VI. Проблематичная взаимосвязь
между существованием человека
и бытием мира в истории философии
Нового времени
1 «..хвоей воли хочет теперь дух, свой мир обретает тот, кто
потерял мир» {ТГЗ, ч. 1. О трех превращениях).
2 См.: A. Koyré. Entretiens sur Descartes. 1944.
3 ПСС, т. 12, 9 [68].
« Там же, 9 [91].
5 ПСС, т. 11, 34 [35].
6 См.: там же, 34 [92].
282
Примечания
? ЯСС, т. 12, 2 [93].
8 Там же, 5 [50].
^ Ее критику у Ницше см.: ПСС, т. 12, 10 [58].
10 См.: СЧ, Так говорил Заратустра, 6.
11 См.: ПСС, т. 11, 39 [13]. Ср. радикализацию теоретического
сомнения Декарта до экзистенциального «отчаяния», предпринятую
Къеркегором, чтобы прийти от ничто к бытию (Werke, Bd. 7. S. 49 ff.),
а также: Johannes Climacus oder De omnibus dubitandum est, herausg.
von W. Struve, 1948.
12 См.: ПСС, т. 11,40 [7] и переписку Дильтея с Йорком фон Вартен-
бургом.
'» ЯСС, т. 11, 40 [10].
14 Там же, 40 [25] (перевод с исправлениями. - В.Б.).
>5 Там же, 40 [23].
16 Там же, 34 [71].
17 См. в этой связи ницшевскую характеристику Канта в
предисловии к УЗ, гл 3.
ï8 Ed. Cassirer, Bd. V. S. 174 ff.
19 В дальнейшем цитируется по изданию 1825 г.
S. 20.
S. 23 ff. Ср. у Ницше ВВ, аф. 332 (ПСС, т. 11, 11 [132]).
S.25f.
23 S. 122 f. (Эта вторая книга трактата, «Знание», построена как
ночной диалог между неким - не авторским, а тем, «какое автор
желает иметь читателю», - «Я» и «Духом», который характеризуется как
«ужасный». Цитата - часть реплики «Я». - В.Б.)
24 S. 138 f.
25 См. статью Дильтея о реальности внешнего мира.
26 S. 162 f.
27 S. 251 f.
28 S. 254 f.
29 Schelling. S.W. I, 7 (это не 1-й том, а 1-е отделение 7-го тома изд.
1856-61 гг.-ÄJ5.).
з° Учению Фихте. Купюра в тексте Шеллинга у Левита не
обозначена. Цитируется работа «Darlegung des wahren Verhältnisses der
Naturphilosophie zu der verbesserten Fichteschen Lehre» (1806),
причем в свободной манере: местами текст заменен пересказом, а
некоторые места текста переставлены. - В.Б.
31 Op. ciL S. 108 ff.
32 Reclam-Ausgabe, S. 15 f.
33 Ibid.S.№, 106, 113.
283
34 Ibid S. 110.
и Ibid. S. 215.
36 Ibid. S. 222 f.
37 См. об этом и нижеследующем мою книгу «От Гегеля к Ницше».
38 XVI, 47 f. (= Georg Wilhelm Friedrich Hegel's vermischte Schriften.
Erster Band. Berlin, 1834. S. 47 f. Работа Гегеля называется «О
сущности философской критики вообще и о ее отношении к
современному состоянию философии в особенности». - В.Б.)
39 См. ниже, с. 115.
4° Аналогии между Ницше и Штирнером, доходящие до
отдельных формулировок в отношении деструктивного импульса, тем
разительнее, что во всем остальном их разделяет целый мир. См.: A. Levy.
Stirner et Nietzsche. Paris, 1904, и Andler. Op. cit. IV. S. 166 ff.
41 Reclamausgabe. S. 14. (Здесь и ниже переводы из Штирнера
мои. - В.Б.)
ν Ibid. S. 23.
« Ibid. S. 37 f.
44 Ibid. S. 50 f.
45 Ibid. SAU.
46 Ibid. S. 165.
47 Ibid. S. 182.
48 Ibid. S. 201.
49 Ibid. S. 423.
5° Ibid. S. 429.
s* ПСа т. 8, 25 [2].
s* ЧСЧ, т. 2, аф. 304.
VII. Вечное возвращение того же
и повторение тождественного
1 Вайнингер родился в Вене в 1880 г. и покончил с собой в 1903,
после того как, путешествуя по Италии, попытался пробиться к
«спасенной радости». Кроме не по возрасту зрелой книги «Пол и
характер», вышедшей в 1904 г. третьим изданием (в дальнейшем при
ссылках /IX), гениальность которой еще не оценена по достоинству
философами, после его смерти вышли в свет еще избранные места из
дневников и писем ( Taschenbuch und Briefe an einen Freund, 1920, в
дальнейшем ДП) и сборник статей «О последних вопросах», 1907 («Über
die letzten Dinge», в дальнейшем ПВ). Для наших целей из всего этого
привлекаются прежде всего статья «Упрямство времени», а в связи
284
Примечания
с ней отрывки из ЯХ, гл. 5-7, особ. с. 193, о взаимосвязи между
«логикой» и «этикой» и принципиальном значении памяти для
существования человека во времени. Далее, последуют ссылки на 13-ю главу
0 еврействе, самоотрицание которого перешедшим в протестантизм
иудеем в русле самокритики иудейской экзистенции пока явление
уникальное. Вайнингер с почтением относится и к тем двум
духовным силам, которые в центре критического внимания Ницше на
протяжении всей его жизни, - Христу и... Р. Вагнеру. (Цитаты из Вай-
нингера везде даются в моем переводе, несмотря на наличие уже
публиковавшихся русских переводов. Почему, читатель поймет хотя
бы уже из названия одной из этих публикаций, перевода сборника
«О последних вопросах»: Отто Вейнингер. Последние слова. Киев,
1995. Ссылки на издания и страницы даю авторские. - В.Б.)
ЯД с. 81.
* ЯХ, с. 172 ел.
« См.: ЯД с. 55.
5 Там же, с. 60.
6 См. с. 54 - замечание Вайнингера по поводу объяснения
убийства с целью ограбления в главе «О бледном преступнике» «Зара-
тустры».
7 ЯД с. XXIII. О понятии «ничто» см.: Д с. 31, 39 и 48.
8 ЯД с. 59.
» ЯД с. 31 ел.
10 В этой связи см. начало второго «Несвоевременного
размышления».
1 1 «От памяти людей, что только естественно, зависит и степень,
в какой они будут в состоянии замечать как различие, так и сходство.
Эта способность, как правило, лучше всего развита у тех, в чьей жизни
все прошедшее всегда интегрировано в настоящее, у кого все
отдельные моменты жизни сливаются в единство и сопоставляются друг с
другом. Таким образом как раз преимущественно они оказываются
в состоянии пользоваться сравнениями, и притом как раз с tertium compara-
tionis, в котором все дело. Ведь из прошлого они всегда отбирают то
самое, что демонстрирует наибольшую согласованность с
настоящим, поскольку оба переживания, новое и привлеченное к
сравнению более старое, у них достаточно артикулированы для того, чтобы
перед их взглядом не было скрыто никакое сходство и никакое
различие; а потому и то, что давно прошло, может здесь устоять перед
натиском прошедших лет. Поэтому не напрасно очень долгое
время в прекрасных и совершенных сравнениях и образах поэзии
люди видели особое преимущество этого жанра. (...) Сегодня, когда
285
1ермания впервые за полтораста лет живет без великих художников
и мыслителей, меж тем как скоро до этого уровня уже не сможет
подняться ни один человек, который не «писал» бы, - сегодня это
кажется чем-то окончательно ушедшим; никто не ищет ничего такого,
да никто ничего и не нашел бы. Эпоха, которая видит свою сущность
лучше всего выраженной в блуждающих, смутно переливающихся
настроениях, эпоха, чьей философией в более чем одном смысле
стало бессознательное, слишком очевидно демонстрирует, что в ней
нет ни одного по-настоящему великого человека; ибо величие есть
сознание, перед которым исчезает туман бессознательного, как
перед лучами солнца. Если бы в эту эпоху хоть один был бы сознанием,
как охотно она пожертвовала бы всем своим искусством настроений,
которым сегодня еще так хвалится! - Лишь в полном сознании,
когда в переживание настоящего с величайшей интенсивностью входят
все переживания прошлого, находит свое место фантазия, это
условие философского, равно как и художественного творчества» (ЯХ,
с. 150 ел.; ср. с. 156 и 160 слл.).
См.: ПХ, с. 167 слл.
13 Там же, с. 162.
14 Там же, с. 173 слл.
15 ЯД с. 52. См. в связи с этим статью Λί. Шелера «Reue und
Wiedergeburt» в: Vom Ewigen im Menschen. 1923. Bd. I, S. 5 ff.
16 См.: ПХ, с. 209.
^ ЯД с. 51.
18 ПХ, с. 210 ел.
* ЯД с. 109.
Там же, с. 97.
Там же, с. 104.
22 Для моралистической метафизики Вайнингера непонятно,
что ницшевское «я сам этого хотел» стремится как раз не изменять
прошлое, а хочет его именно таким, каким оно уже было.
23 ЯД с. 104 ел.
24 Там же, с. 103.
25 См.: там же, прим., и с. 64.
26 Там же, с. 108.
27 Там же, с. 100 ел.
28 См.: там же, с. 98, и ДП, с. 42.
* См.: ЯД с. 64.
3° Ниже цитируется текст 3-го тома немецкого издания 1909 г.
(«Страх и трепет»; «Повторение») (переводы с немецкого мои, ссылки
на страницы указанного издания авторские. - В.Б.).
286
Примечания
з1 С. 196 сл.
*2 С. 144.
η С. 180 сл.
34 С. 119.
35 См. об этом соч. автора: Kierkegaard und Nietzsche [Oder,
philosophische und theologische Überwindung des Nihilismus. 1933], S. 30.
*6 С 136.
37 С. 170.
*8 С. 158.
* С. 159.
<° С. 160.
VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше
1 См.: А, гл. 51. Ср.: Гегель, Werke, XII. S. 224, и Маркс, Ges. Ausg.
1,1, S. 133.
8 Лёвит ошибается: текст этот, в отличие от почти всех
микроцитат предшествующего абзаца, находится в главе «Об отребье» 2-й
части ТГЗ. - В.Б.
3 Эта характеристика Ницше заимствована автором из
заголовка сочинения: K.J. Obenauer. F. Nietzsche der ekstatische Nihilist. 1924.
4 773,4.1,0 грезящих об ином мире (перевод Ю. Антоновского
с моими изменениями на основе редакций К. Свасьяна и Е. Ознобки-
ной. - В.Б.).
s ЯСС, т. 10, 4 [171].
6 См. главу «Лангбен» в книге Подаха «Фигуры вокруг Ницше»,
1932.
7 ЯСС, т. 11, 34 [238].
8 ПСС, т. 12, 9 [172] (слова «К предисловию» опущены у
Левита. -В.Б.).
^ ТамжеЛ0[94].
10 См.: Возрасты мира. С. 141.
См.: А, гл. 54.
ЯСС, т. 10, 16 [73].
is ТГЗ, ч. 3, О старых и новых скрижалях, 4; ср.:
«Основноеучение, достигать совершенства и удовлетворения на каждой ступени -
не перепрыгивать!» (ПСС, т. 10, 15 [9]).
ч См.: ЯСС, т. 11, 37 [8].
* ЯСС, т. 13, 14 [172].
16 Там же, 10 [175], см. также А, гл. 57.
ч ЧСЧ, т. 2, аф. 230.
18 ЯСС, т. 13, 24 [1], гл. 11.
19 7ТЗ, ч. 4, О высшем человеке, 15, и А, гл. 57.
20 См. стихотворение, написанное в Портофино и озаглавленное
«Зильс-Мариа» (ПСС, т. 3, с. 594, перевод мой. - В.Б.):
Здесь я сидел и ждал - не ожидая,
Вне зла и вне добра, но лишь играя:
Весь - свет, весь - тень, в полуденном раю,
В бесцельном времени, у моря на краю.
И вдруг Одно, подруга, сделалось Двумя,
И Заратустра показался близ меня.
21 ТГЗ, ч. 4, В полдень. (Текст, набранный с отступом, в моем
переводе; в остальном тексте мои мелкие поправки к указанному выше
переводу. -В.Б.)
22 См. конец стихотворения «Жалоба Ариадны»; в связи с
символом молнии см. стихотворения: «Кому суждено о многом возвестить»
(посвящение Августу Бунгерту от 14 марта 1883. - В.Б.), «Пиния и
молния» (ПСС, т. 10, 3 [2]. - В.Б.) и «Слава и вечность».
23 См.: ГМ, Рассмотрение третье, 13. Ницшевское различение
человека и животного по критерию окончательной определенности
последнего предполагает, что человек и животное сущностно подобии
от природы. Такой биологический натурализм не обладал бы
философской значимостью, если бы этим сравнительным различением
человека и животного Ницше одновременно не поставил решающий
вопрос об отношении человеческого существования к бытию
природного мира в целом. Осознавая всю предосудительность своего
утверждения о том, что человек всецело принадлежит к сущности
физического мира, Ницше характеризует его как «новое
понимание» того, что человек «без всяких прикрас и уподоблений» есть вид
животного среди других видов (ПСДЗ, разд. Пятый, 202), поскольку
он вообще принадлежит к тому единому миру, который в качестве
целого определяет и все особенное. Многочисленные
наименования, которые Ницше дал человеку как своеобразному животному,
указывают не на традиционное определение человека как animal
«rationale», а на единый «общий характер жизни», в пределах которого
человек - лишь особый случай. Человек - «наиболее интересное»
животное, чем все остальные животные; он - животное,
«подверженное наибольшей опасности», и «наиболее опасное», «отважное» и
288
Примечания
«жестокое», но в то же время сам по себе - «страдающее» и
«неудачное»; он -животное «разностороннее, искусное, непростое»;
животное «одомашненное», но вместе с тем и «хищник»; животное
«смеющееся» и «плачущее»; «чудовище» и «сверхживотное». В качестве
органического живого существа он, аналогично растению и
животному, организовал мир, доступный ему, в свой собственный. - Этот
неимоверно родственный животному человек был некогда определен,
а именно верой в высший божественный авторитет, который сказал
ему, что он такое, и приказал ему, чем он должен быть. С
исчезновением этого авторитета, который доселе превышал человеческую
природу и определял ее, человек теряет свое прочное положение между
Богом и животным. Теперь он, установленный по собственной воле,
находится перед возможностью подъема к сверхчеловеку или же спуска
к человеку-стадному животному. Добившаяся всеобщего господства
тенденция современного человечества - это тенденция к
уравнительному установлению человека. Такое установление происходит
как уравнивание. Под управлением «видовой целесообразности» цель
состоит в том, «чтобы сделать человека столь же однородным и
стабильным, как это уже произошло с большинством животных видов»
(ПСС, т. 9, 11 [44]). В противовес этому Ницше-Заратустра хочет
«преодоления» человека, который некогда был установлен в высоком
и взыскательном смысле, а теперь закрепляется в смысле
посредственности. Символ этого пути к самопреодолению - переход через
«мост» человека, или соответственно канатного плясуна, означающий
его конец и превышение. Если человек - это еще не определенное до
конца животное, то это, следовательно, не означает, что Ницше хочет
определить его в первую очередь через «представление», данное в
образе Заратустры (см.: М. Heidegger. Was heißt Denken. S. 24 ff., 66;
см. также: Vorträge und Aufsätze. S. 106). Напротив, это значит, что
закрепляющимся человеческому типу он противопоставляет
экспериментирующую волю к преодолению, для которой точно
установлено лишь одно: что отделавшийся от Бога, а тем самым
установленный на самого себя человек способен приказывать себе сам, чтобы
получить владычество над землей. Он должен обрести способность
сказать самому себе, хочет ли быть вообще и каким образом хочет
быть в будущем. К сущности характерных для загадочного и
противоречивого животного «человек» величия и опасности относится то,
что он хочет большего и отваживается на большее, чем любые
другие животные, а потому является менее стабильным и укорененным,
чем все остальные животные вместе взятые. Перед ним лежит
далекое будущее, если только он установит свою цель выше себя.
289
24 См.: ΤΓ39 ч. 1. Предисловие Заратустры, 4.
*5 См.: ПСДЗ, 43.
26 См.: СД гл. 3.
27 Письмо к Овербеку от 26 августа 1883 (то же выражение
содержится в письме к Кёзелицу, отправленном в тот же день; но в обоих
случаях Ницше говорит только о восприятии ТГЗ читателем. - В.Б.).
28 См. в этой связи: Н. Weichelt. Also sprach Zarathustra. 1910. S. 225
ff.; К Schkchta. Op. cit. S. 54.
29 См.: ТГЗ, ч. 4, Песнь уныния, 3; ДД, Паяц - и только...
3° ПСДЗ, аф. 247.
31 Шеллинг. Возрасты мира, с. 103.
32 См.: ВН, аф. 380.
33 nCQ т. 7, 16 [42] (пер. мой. - В.Б.).
34 См. об этом у Шеллинга в «Возрастах мира» (Nachlaß-Ausgabe
1946), с. 196 и 254.
35 См.: Schelling. Vorlesungen über die Methode des akademischen
Studiums, 1803, S. 138 f. Ср. выше, с. 162.
36 Важнейшим источником об античных теориях «О вечности
мира» является одноименное сочинение, ошибочно
приписывавшееся Филону Александрийскому.
37 В одной из заметок времени написания «Заратустры»
говорится: «Кто не верит в круговой процесс вселенной, тот должен верить
в божественный произвол, - таково мое соображение вопреки всем
предшествующим теистическим соображениям!» (I1CQ т. 9,12 [312]).
38 См. об этом статью автора:. Natur und Geschichte. In: Neue
Rundschau. 1951, H. 1.
39 ТГЗ, ч. 1, О дарящей добродетели, 2 (пер. мой. - В.Б.).
4° См.: ВН, аф. 354; ВВ, аф. 707 (ПСС, т. 12, 10 [ 137]). На закате
современного принципа самосознания открытие
«бессознательного», а соответственно сознания как простой «функции», стало для
Ницше определенным подходом к открытию заново единой природы
во всем происходящем.
41 Г. Тейхмюллер, с книгой которого «Действительный и
кажущийся мир» (1882) Ницше был знаком, на закате греческой онтологии
предпринял попытку дать «новую основу метафизики», стоя на
точке зрения современной субъективности. Если бы Ницше
поинтересовался онтологической проблематикой бытия и сущего, бытия и ничто,
времени, пространства и движения, то эта важная книга дала бы ему
импульс, как никакая другая. Вместо этого он ссылается на нее, только
чтобы подтвердить чисто «фиктивный» характер «основных форм
крайней абстракции» и вместе с «истинным» миром упразднить и
290
Примечания
«мнимый» (см.: ПСС, т. 13, 14 [93]). Речь о «бытии» основана, по его
мнению, лишь на убедительной силе языка, в каждом предложении
утверждающего, будто нечто «есть» такое-то и такое-то (см.: СИ, «Разум»
в философии).
** См.: ВВ, аф. 581, 582 (ПСС, т. 12, 2 [172], 9 [63]).
« См.: ВН, аф. 370.
44 СИ, Мораль как противоестественность, 5; ср.: там же, Четыре
великих заблуждения, 8; ВН, аф. 1 и 357.
« См.: ПСС, т. 11, 25 [158], 27 [67].
46 См. в этой связи: R. Pannwitz. Einführung in Nietzsche, 1920, и:
Beiträge zu einer europäischen Kultur, 1954, S. 216 ff.
4? См.: ЯСС, т. 10, 4 [117].
48 ТГЗ, ч. 1, О дарящей добродетели, 3.
49 От 4 января 1889 (перевод И. А. Эбаноидзе, см.: Письма
Фридриха Ницше. М., «Культурная революция», 2007).
5° Продолжение, проливающее дополнительный свет на
соответствующие слова Левита: «...: ибо я, совместно с Ариадной, должен
быть лишь золотым равновесием всех вещей, <и> в каждой части у
нас есть такие, которые над нами... Дионис». Перевод мой. - В.Б.
51 Ср. письмо к 1ерсдорфу, написанное одиннадцатью годами
раньше (1 апреля 1874): «Мои сочинения, должно быть, кажутся такими
темными и непонятными! Я думал, что когда говорят о нужде, то те,
которые в нужде, поймут говорящего. Это, конечно, так и есть: но
где же они, те, которые находятся "в нужде"?»
Дополнение
1 G. Deesz. Die Entwicklung des Nietzsche-Bildes in Deutschland.
Bonner Diss. 1933.
2 L. Andreas-Salomé. Nietzsche in seinen Werken. Wien, 1894.
3 O. Ewald. Nietzsches Lehre in ihren Grundbegriffen. Die ewige
Wiederkunft des Gleichen und der Sinn des Übermenschen. Berlin, 1903.
4 E. Horneffer. Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkunft und
deren bisherige Veröffentlichung. Leipzig, 1900, S. 22 ff. В гармонии с
А. и Э. Хорнэфферами, издателями ХИ-го тома, Э. Фёрстер-Ницгие
(Das Leben F. Nietzsches, Kl. Ausg. Bd. II, S. 137 ff.) тоже толкует
учение о вечном возвращении главным образом как воспитательную
идею. Проблема внутренней взаимосвязи ницшевской «физики» и
«этики» остается тут необъясненной, так же как и там, и прикрывается
издателями простодушным различением более «теоретического» и
более «поэтического» подходов (см.: XII, 424).
5 A. Riehl F. Nietzsche, der Künstler und der Denker. 3. Aufl. 1901.
S. 143 ff.
6 A. Drews. Nietzsches Philosophie. 1904. S. 323 ff.
7 R. M. Meyer. Nietzsche, sein Leben und sein Werk. 1913. S. 437 ff.
8 Я Richter. F. Nietzsche. 3. AuO. 1917. S. 326 f., 334 ff.
^ К Hechel. Nietzsche, sein Leben und sein Werk. 1922. S. 150 ff.
10 Schopenhauer und Nietzsche. Leipzig, 1907.
11 Nietzsche, Versuch einer Mythologie. 1918. (Рус. пер.: Бертрам
Э. Ницше. Опыт мифологии. СПб., 2013)
12 См. об этом критический анализ стихотворения leopre о
Ницше из сборника «Седьмое кольцо» в книге: К Thiel. Die Generation
ohne Männer. 1932.
13 См. альтернативную точку зрения у H. Landry. F. Nietzsche. 1931.
S. 186.
14 Ср. мнение Андлера о книге Бертрама: «Il у a quelque paradoxe
à vouloir faire Nietzsche très grand, sans faire état de son œuvre» («Есть
какой-то парадокс в желании представить Ницше великим, но не
обращать внимания на его творчество» (Bd. VI, S. VIII).
15 Nietzsche, sa vie et sa pensée, особ, том IV (1928), с. 225 слл., и
tomV1(1931),c. бОслл.
16 См. критику Эммерих (с. 88 слл.), где справедливо указано на
то, что попытка Андлера соединить учения о вечном возвращении
и сверхчеловеке отбрасывает прочь вечное возвращение всегда того
же самого, в то время как Эммерих, напротив, гладко встраивает
учение о возвращении в «сущность» человека и таким образом
элиминирует его проблему.
17 Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches. 1926. В связи
с нижеследующим см. работу автора: Nietzsche im Lichte der
Philosophie von Klages, in: Reichls philos. Almanach. Hrsg. v. Rothacker ( 1927),
S. 285-348.
18 В связи с анализом, проведенным в книге Клагеса «Почерк и
характер», см. также его статью: Nietzsche und seine Handschrift, in:
Zeitschr. für Menschenkunde, Jg. II, 1927, H. 6.
19 Сходнымобразомужеи Т. Лессинг («Nietzsche, Wagner,
Schopenhauer») понимал учение о возвращении как «своего рода
самоубийство» в форме абсолютного утверждения существования.
20 См. у Ницше, УЗ, аф. 274: «Мы, люди, - единственные
создания, которые в случае неудачи готовы перечеркнуть себя, словно
неудачную фразу...».
292
21 Nietzsche, der Philosoph und Politiker (Reclam, 1931); далее,
«Введение» Боймлера к изданию рукописного наследия Ницше: Die
Unschuld des Werdens, Bd. I (Kröner), 1931; см. также: Nietzsche und
Nationalsozialismus, in: Nationalsozialistische Monatshefte, 5. Jg., 1934,
H. 49. Нижеследующее обсуждение стало в Германии в 1935 году уже
«нетерпимым» и «нежелательным», а потому все это Дополнение
(§ 1~9) не могло выйти тогда в свет в составе настоящей книги, а
распространялось вне книжной торговли. Тогдашняя актуальность
критики сегодня, как может казаться, уже позади. Если это
критическое обсуждение все-таки публикуется здесь задним числом, то
пусть странная короткость политической памяти послужит
оправданием того, что таким образом делается напоминание о том, до
какой степени дух может стать духом времени.
22 См.: Emmench, S. 73 f. Для текстуальной констатации
объективной взаимосвязи между 773 и ВВсм. прежде всего: ПСС, т. 13,19 [8],
22 [14] и «Предисловие» к А
23 Всякая любовь, говорится в одном месте у Ницше, думает не
о длительности, а о мгновении и вечности. В том же духе он говорит
о наслаждении, что оно волит само себя, поскольку хочет вечности,
т. е. вечного возвращения, а в качестве эпиграфа к последней главе
«Воли к власти» Ницше записал себе цитату из Данте: come Гиот
sveterna... («Как человек (восходит) к жизни вечной» -Ад, Песнь 15,
ст. 85. См.: ПСС, т. 12, 9 14]. - В.Б,).
24 См.: Baeumler. Männerbund und Wissenschaft. 1934. S. 108.
25 Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Philosophie Nietzsches. Halle,
1933. Вся работа, заслуга которой состоит в том, что в ней всерьез
и в несокращенном виде излагается и в горизонте греческих
понятий бытия, движения и истины интерпретируется учение о вечном
возвращении, страдает от того, что автор смотрит на Ницше через
двойные очки онтологической постановки вопроса Хайдеегераи идеи
«параонтологии» О. Беккера, а Ницше в высшей степени наивно
ставит между ними (с. 43).
26 Еще решительней, чем Эммерих, Ф. Гизе в одном
своевременном размышлении 1934 года «в краткой формулировке»
представляет современность как истинное свершение чаяний Ницше. В
доказательство своего утверждения он ориентируется на сочинения Мёллера
ван ден Брука, Розенберга, Крика, Гюнтера, Вирта, Бергманна и Ки-
наста (на с. 36 один раздел начинается с лапидарной фразы: «Говоря
вместе с 1933 г. и Кинастом...»), а также и на «честно
перестроившихся», которые еще не являются «движимыми переживанием
пророками» (Бенн, Принцхорн, Грюндель, Дизель, Юнгер). То, чего
293
хотел Ницше, говорит он, теперь воплощается в реальной политике
(с. 2, 27, 157, 186 ел.), ведь его различение аполлоновского и дио-
нисовского соответствует разделению арийско-мужского и семитско-
женского начал. «Рождение трагедии», продолжает он, - это
предвосхищение современной расовой теории (с. 29 слл.). Таким же образом
следует подходить и к понятию «великого здоровья» как «улучшения
расы» (с. 60), хотя сам Ницше, мол, еще не продвинулся до такого
«абсолютного и решительного антисемитизма», как его шурин Фёр-
стер (с. 133 и 166) ! Поэтому ему и не удалось прояснить свою
оппозицию христианству с помощью формулы «Диониса», которая сама
еще является семитической (с. 159 слл.). На основе этой
«интерпретации» Гизе сподручное решение находит и проблема учения о
возвращении. Поскольку «перестроить» Нет нигилизма в некое Да -это
сущий пустяк (с. 122), а реально-политическое Да 1933 года
символизируется свастикой, то с помощью первобытного историка Вирта
выходит: «Заратустра и первобытное письмо столь же родственны,
как путь солнца и свастика... Знамя Третьего Рейха свастикой
символизирует учение о вечном возвращении того же» (с. 127). «На нас как
бы повеяло воздухом каменного века» (с. 190), как можно заключить
вместе с самим Гизе; но в одном он, пожалуй, прав: «Если бы у нас
были более отважные философы, многих неприятных сюрпризов
буржуазного мира можно было бы избежать» (с. 97 ел.).
*7 Nietzsche. Paris, 1933.
28 Nietzsche, Einführung in das Verständnis seines Philosophierens.
1936.
29 L. Giesz. Nietzsche, Existentialismus und Wille zur Macht. 1950.
30 Holzwege: Nietzsches Wort „Gott ist tot". 1950. S. 193 ff.; Was heißt
Denken? 1954. S. 19 ff.; Vorträge und Aufsätze. Wer ist Nietzsches Za-
rathustra? 1954. S. 101 ff. В связи с этим обсуждением см.
принципиальное обоснование нашей критики истолкования Ницше Хайдег-
гером в 3-й главе соч. автора: Heidegger. Denker in dürftiger Zeit. 1953.
Приложение
В. Бакусев.
«Вечное возвращение» и античность*
В этой статье1 я не берусь устанавливать истину во всех ее
подробностях и в окончательном виде. Моя задача - показать
некоторые факты и сделать некоторые выводы, способные побудить всех
желающих и дальше исследовать вопрос о том, было ли в античности
учение о «вечном возвращении того же самого» именно в том самом
виде, какой придал ему впоследствии Ницше (см. сноску 24), а если
оно было, но в каком-то другом виде, то - вопрос о том, как
соотнести первое со вторым. Соответствующий материал читатель
найдет в первых пяти разделах статьи. В последнем ее разделе
представлены соображения, отчасти уже выходящие за пределы
обозначенной здесь задачи.
I. Свидетельства
В опубликованной мною раньше статье о Ницше2 слишком
обобщенно и уж конечно далеко не достаточно3 было сказано об античности:
* Эта статья публикуется здесь в качестве дополнительного материала по
«античной» теме, затрагиваемой К. Левитом (см. особенно IV главу).
295
Приложение
ответ на вопрос о том, было ли известно ей учение о вечном
возвращении, был дан, можно сказать, почти формально (правда, этот
вопрос был в ней далеко не главным). Между тем стоит разобраться
с названной темой повнимательнее: в ходе такого разбирательства
могут выясниться вещи весьма интересные во многих отношениях,
в том числе и такие, которые прямо продолжают рассуждения
упомянутой статьи.
Для начала надо было собрать наиболее представительные
античные (в широком смысле слова, т. е. и раннехристианские) материалы,
касающиеся этого учения в каком бы то ни было виде. При этом,
будучи - с взятой мною точки зрения - под знаком dubia et spuria, они
вызывают определенные подозрения: в каком смысле, скажу ниже.
Вот главные из найденных свидетельств - в (иногда условно)
хронологическом порядке4:
1. Отрывок из поэмы «О природе мира», приписываемой
мифическому Лгму (его приводит Стобей (1.10.5)), где говорится, что «πολλάκις
δ' εσται ταύτα» (много раз будет одно и то же)5.
2. Место из Евдема Родосского, ученика Аристотеля, известное нам
благодаря позднему неоплатонику Симпликию (9.732 - комментарий
к IV, 12 «Физики» Аристотеля): «...если же верить пифагорейцам в
том, будто все возвращается согласно числу <кругооборотов>, то и
я некогда с этой же палочкой в руках буду опять так же беседовать с
вами, точно так же как теперь беседую с сидящими здесь, и так же
повторится все остальное...» (пер. мой. - В.Б.).
3. Татиан, христианский апологет II в. родом из Месопотамии,
«Речь против Эллинов» (ок. 160-170 гг.), гл. 3, 2 (пер. П.
Преображенского): «Нечего также слушать и Зенона, который учит, что чрез
сожжение6 те же люди опять воскреснут на такие же подвиги,
именно: Анит и Мелит <т. е. Мелет> для обвинения (...) Он в этом учении
о сожжении вводит больше людей нечестивых, чем праведных,
потому что один только был Сократ (...) По его также мнению Бог есть
виновник зла и пребывает в нечистых местах...»7 (примерно
соответствует фр. 109 SVF = Фрагменты ранних стоиков; ясно, что речь
о Зеноне из Китиона; зачем привожу и две последние фразы,
выходящие за пределы фрагмента, - об этом ниже). См. также Немесия
-фр. 109h625SVF.
4. Келье, «Правдивое слово» (написано около 177-178 гг.) - по Ори-
гену (Против Келъса, 4,65). «Каков источник зла, человеку, не
занимавшемуся философией, нелегко узнать. Для массы достаточно сказать,
что зло не от бога, что оно прилагается к материи и внедряется в
смертное; цикл (всего) преходящего одинаков от начала до конца,
296
«Вечное возвращение» и античность
и в соответствии с установленным круговоротом одно и то же0
неизбежно возникало, существует и будет существовать.» (пер. А.Б. Ра-
новича)
5. Место из сочинения Оригена «О началах» (ок. 228-229 гг.) (II3,
4): «Что же касается тех, которые утверждают полное сходство и
равенство миров между собой, то я не знаю, какими
доказательствами они могут подтвердить это <предположение>. Ведь если <буду-
щий> мир во всем будет подобен <настоящему>, то, значит, в том
мире Адам и Ева сделают то же самое, что они уже сделали; значит,
там снова будет такой же потоп и тот же Моисей снова изведет из
Египта народ в количестве почти шестисот тысяч, Иуда так же
предаст во второй раз 1оспода, Павел во второй раз будет хранить
одежды тех, которые камнями побивали Стефана, - и все случившееся в
этой жизни случится снова. Но я не думаю, чтобы можно было
подтвердить это каким-либо доводом, коль скоро верно, что души
управляются свободой произволения и как свое совершенствование, так
и свое падение производят силой своей воли. (...) То же, что говорят
эти самые мужи, похоже на то, как если бы кто-нибудь стал
утверждать, что если меру хлеба рассыпать по земле, то может случиться,
что и во второй раз падение зерен будет то же самое и совершенно
одинаковое <с падением их в первый раз>, так что каждое отдельное
зерно и во второй раз, высыпавшись, может лечь близ этого же
зерна, рядом с которым оно было некогда в первый раз, и что вся мера
во второй раз может рассыпаться в таком же порядке и образовать
такие же фигуры, как и в первый раз. С бесчисленными зернами
меры <хлеба> это, конечно, совершенно не может случиться, хотя бы
ее рассыпали непрестанно и непрерывно в течение многих веков.
Точно так же, по моему мнению, невозможно и то, чтобы мир был
восстановлен во второй раз в том же самом порядке, с теми же
самыми рождениями, смертями и действиями. Миры могут
существовать только различные, с значительными переменами... Но каково
именно число и состояние <миров>, этого, признаюсь, я не знаю...»
(Ориген. О началах. Самара, 1993. С. 104-105 - по пер. 1899 г.)
6. Ориген. Против Кельса IV 68, ок. 240 г. (= 626 SVF): «Большинство
стоиков утверждают, что ... после воспламенения всего мира ... тот
же самый порядок всех вещей (от начала и до конца)
восстанавливался и будет восстанавливаться. Пытаясь как-то сгладить эти
несообразности, приверженцы Стой утверждают, что, уж не знаю каким
образом, все люди в каждый следующий период никак не будут
отличаться от тех, которые существовали в предшествующие периоды.
Чтобы не возрождать того же самого Сократа, они говорят, что появится
297
Приложение
человек, совершенно неотличимый от Сократа, возьмет в жены
женщину, неотличимую от Ксантиппы, и точно так же получит
обвинение от людей, неотличимых от Анита и Мелета. Но я не представляю
себе, каким образом мир каждый раз остается одним и тем же, а не
просто неотличимым от другого, если он содержит не то же самое,
а только неотличимое»9.
7. Аврелий Августин. О Граде Божьем против язычников. 12, XIII,
2 (вся книга закончена ок. 428 г.). «Да не будет, чтобы мы верили,
будто в этих словах Соломоновых имеются в виду те круговращения,
о которых они мнят, будто в одни и те же периоды повторяются все
вещи: например, как в этот мировой период (saeculum) Платон-философ
учил учеников в городе Афины в школе, называемой Академия, так
же по прошествии неисчислимых мировых периодов, на очень
больших, но точно отмеренных временных расстояниях, тот же самый
Платон в том же самом городе и в той же самой школе снова будет
учить тех же самых учеников, и все это будет повторяться в
неисчислимых мировых периодах. Да не будет, говорю я, чтобы мы в это
верили. Ведь единожды умер Христос за грехи наши; восстав же из
мертвых, уже не умирает, и смерть не имеет власти над Ним (...) по
кругу ходят нечестивые; не по тому кругу, о коем мнят, будто по нему
возвращается их жизнь, но по тому, на пути коего жизнь их полна
заблуждений и есть лжеучение» (пер. мой. - В. Б.)
II. Античный подход в целом
К этим документам я еще вернусь. Но сначала надо попробовать
выяснить, как античность относилась к космосу в смысле возможной
постановки вопроса о его «вечном возвращении».
Вся античность, от начала и до конца, была пронизана одной
глубочайшей интуицией (и ощущением, и мыслью): мир и жизнь
имеют смысл; мало того, они только на смысле-то и основаны. Смысл
бытия - это и есть его благо; следовательно, космос благ и прекрасен,
и жизнь в принципе тоже блага; зло в ней происходит только от
недостатка смысла; а все-таки в конечном счете все управляется разумом.
Но дело в том, что нащупывая и затем ясно выражая эту интуицию,
античная мысль как-то ощущала ее границу, за которой было то, о
чем ни греки, ни римляне не желали и думать. Однако это
нежелательное все же как-то присутствовало в их мышлении, хотя и, так
сказать, привативным образом. Сейчас я приведу подборку
философских текстов10 и просто ссылок (не претендующую ни на какую
298
«Вечное возвращение» и античность
полноту, кроме условно-хронологической; можно привести сотни
подобных примеров), чтобы проиллюстрировать сказанное
(конъектуры в угловых скобках мои ad hoc).
О том, что античность напрочь отвергала самую возможность
бессмысленного космоса, говорит место из Аристотеля,
трактующее о причинах возникновения вещей: «...нехорошо было также
вверять такое дело случаю и самопроизвольному процессу. Поэтому тот,
кто сказал, что разум находится, подобно тому как в живых
существах, также и в природе, и что это он - виновник благоустройства
мира и всего мирового порядка, этот человек <а именно Анаксагор>
представился словно трезвый по сравнению с пустословием тех, кто
выступал раньше» (Метафизика, 13 (984Ь). Пер. А. Кубицкого).
Платон: «Если космос прекрасен, а демиург благ, ясно, что он
взирал <творя космоо на вечное; если же дело обстояло так, что и
выговорить-то запретно, он взирал на возникшее» (Тимей, 28с-29а.
Пер. С. Аверинцева).
Цицерон. О природе богов, passim (кроме «филологических»
пассажей об именах богов). Это сочинение - tour de force античного
восторга перед миром как живым богом, прекрасным, разумным и
далеко не случайным произведением искусства.
Сенека: «...столь великое создание <как мироздание> не стоит
без хранителя и стража... сонм размеренно движущихся светил не
порожден случайным порывом. (...) Столь стройный порядок не
свойствен бесцельно мечущейся материи; бессмысленное совпадение не
могло бы подвесить небесные тела с таким искусством...» (О
провидении. 1. Пер. Т. Бородай).
Келье: «...не для человека создано все... а для того, чтобы космос
как творение бога был целостным и совершенным во всех
отношениях. Бог заботится о вселенной, ее никогда не покидает
провидение, она не становится хуже...» (Ориген. Против Кельса. 4.99). «Ведь
он сам <бог> - разум всего сущего» (там же. 5.14. Пер. А Б. Рановича).
Порфирий: «...космос появился не случайно и не наудачу, а
является осуществлением мудрого замысла бога и интеллектуальной
природы (...) космос управляется вечной и вечноцветущей
мудростью интеллектуальной природы...» (О пещере нимф, 32 - 33. Пер.
А. Тахо-Годи).
В каждом из этих текстов светлое тело оптимистической мысли о
благости и разумности космоса окружено густым и холодным «меоном»
{нехорошо, сказать запретно, не стоит.,, не покидает... не свойствен...
299
Приложение
не случайно... не могло...) какого-то другого, чуждого принципа.
Который, следовательно, где-то и как-то был или мог быть: такая
возможность хорошо ощущалась античными людьми. Но иначе, чем меональ-
ным образом, они ее никогда не выражали (даже если иметь в виду
Эпикура, отрицавшего провидение, но не отрицавшего смысла как
такового). А сравнительно поздний Келье, так тот уже прямо и
вынужденно отстаивает античную позицию в этом вопросе в виду
христианства (и гностицизма, которые он почти не различает). То же
делает и Плотин в трактате II, 9 (против гностиков). Складывается
даже впечатление, что древние греки сознательно или
бессознательно сопротивляются какой-то идее, стараются не впустить ее в себя
или, может быть, вытеснить - потому что втайне знают о ней.
Какой же принцип мог выражать противоположное, т. е. идею
чистой бессмысленности существования? Принцип случайности,
царящей в космосе (мысль о случайности самого космоса тогда еще не
родилась)? Нет, - потому что и пронизанный случайностью, космос
все же как-то устроен^ не энтропиен. Что демиург зол и глуп, даже
глупее своих созданий, людей, - эта мысль впервые прозвучала
только у гностиков, да и не ими, вероятно, была придумана. Но и для них
имеется путь спасения из злого и глупого низшего мира - путь гно-
сиса; следовательно, бытие в целом не обделено смыслом, оно - не
бессмыслица.
Поскольку других возможностей этого рода я не усматриваю и
поскольку так диктует первый ряд цитат, я думаю, что таким
принципом чистой, «примордиальной» бессмыслицы могла быть только
идея, подобная идее вечного возвращения того же. Спрашивается:
так была она все-таки в наличии у греков или нет?
Известна точка зрения А. Ф. Лосева, согласно которому все
античное восприятие истории, времени и жизни вообще было не чем
иным, как мыслью о «вечном возвращении» (я не ссылаюсь на
определенные места, потому что Лосев высказывал эту позицию на
протяжении всей жизни, начиная с «Очерков античного символизма»).
Хотя ученый пишет «вечное возвращение» в кавычках, он, видимо,
придает ему не метафорический смысл, а буквальный, как у Ницше
(которым он увлекался в молодости; его-то он, разумеется, и
цитирует11)· Подкрепляет он эту позицию не указанием на источники, а
другой своей идеей, развитой им в русле соответствующей
гегелевской, - что вся античность не знала понятия личности (которое
нашло и выразило только христианство), что античная «личность»
была не индивидуальной, а родовой, абсолютно формальной и сугубо
300
«Вечное возвращение» и античность
повторимой, почему естественным образом и исповедовала вечное
повторение, возвращение.
Обе эти позиции для меня совершенно неприемлемы. Личность
в античности встречалась не реже (а может быть, и чаще), чем во все
другие эпохи, и когда встречалась (а тем более - с другой личностью),
отнюдь не чувствовала себя «повторимой», да и не была таковой:
иначе зачем бы рыдали Кебет с Симмием и прочие, когда
торжественно и скромно умирал Сократ? Трудно представить себе
Сократа как повторимую личность. «Один только был Сократ» - это
признает даже Татиан12. Одного этого примера - в качестве аргумента -
довольно, чтобы разувериться в лосевской позиции.
Другое дело, что встречались личности главным образом среди
представителей верхушки общества, людей могущественных и (или)
образованных. Но настал момент, когда принцип личности (вместе
с образованностью, «цивилизованностью») мог массово
распространиться и на нижестоящих - вплоть до рабов. (В Афинах этот процесс
начался много раньше, в V - III вв. до н.э., и выразился в
мировоззрении киников, подражать которым в «перечеканке монеты», т. е.
в переоценке ценностей, старался Ницше. Но кинизм был делом
единиц, а не масс.) «Обойденные жизнью» остро прочувствовали
такую возможность, а точнее, такую психологическую необходимость,
но отказались от нее для себя, потому что быть личностью,
особенно с непривычки, очень трудно и страшно: это требует одиночества
(самостоятельности), силы, внутренней свободы, ответственности.
Но не отказались вообще: они заставили быть личностью вместо
себя кого-то абсолютно выше стоящего, наделив его всеми
перечисленными качествами, а сами от них отрекшись. Так с психологической
точки зрения (хотя и далеко не только так: это лишь одна, и не самая
глубокая причина) возникло христианство, где была, в сущности,
только одна Личность, абсолютная, а в реальности личностей среди
христиан оказывалось столько же, сколько везде и всюду, т. е. очень
немного. Да и, кроме того, как хорошо известно, представление об
абсолютной личности, творящей мир из ничего, заимствовано
христианством из Ветхого Завета (о чем, как это ни странно, совсем
забыл А. Ф. Лосев): трудно представить себе, что у древних евреев
личность была, а у древних греков - нет.
Другое дело, что античность не переносила принцип личности
в его «слишком человеческом» понимании на бога, т.е. космос в
целом - и правильно делала, коль скоро представление о боге
выражает неосознаваемое отношение сознания к бессознательному, причем
последнее (в качестве природы), конечно, вполне безлично. И во-
301
Приложение
обще, решающее тут - ответ на вопрос о том, в чем состоит критерий
личности. По-моему, это - творчество, способность творить, и
главным образом себя, а, значит, и мир вокруг, способность быть «эйдо-
сом» (в лосевских терминах, т. е. просто быть), отличающим себя
от своей коллективной основы («меона»), т. е. от повторимости.
Античные люди были мало озабочены фактом своей и мира сотворен-
ности богом или богами (фактом, который они, как правило,
уравновешенно, спокойно признавали, но не отличали от природы,
поскольку он был естественным; эта уравновешенность и была источником
гармонии античной культуры); им и в голову не приходило сводить
всю свою жизнь к благодарности Всевышнему за свое бытие, хотя
благодарность космосу, своему миру - в форме восторга - была им
не чужда; зато они занимались творчеством, да так, что все
последующие эпохи (пока не кончилась культура) только бледнели от зависти
и старались подражать, повторять, хоть худо-бедно. Но разве стоило
повторять то, что само по природе повторимо? (Вопрос о личности,
втом числе античной, гораздо обширней и глубже, но я ограничиваю
себя самым необходимым, удерживаясь от дальнейшей полемики13.)
Что же до вечного возвращения в точном смысле этого слова,
то античное мироощущение его не принимало и никогда не
признавало. А. Ф. Лосев был бы прав, если бы ограничился понятием
«античный циклизм»: циклическая модель мироздания и впрямь была у
греков основной, хотя и не единственной (Аристотель, например,
резервирует наиболее совершенное движение, круговое, за своим «perpetuum
mobile», а на долю конечных вещей достается движение главным
образом прямолинейное, несовершенное). Но эта циклическая модель
никогда не подразумевала и не допускала бесконечного и притом
полного повторения как явно бессмысленного, ведущего только к
злу и пессимизму, к разрушению и отмене божественного космоса,
любимого и, в сущности, единственного детища античности. Она
предполагала только его круговое движение как таковое, наподобие
годового: но возвращение времен года отнюдь не влечет за собой
точного повторения того, что движется и живет во времени4. Если
бы А. Ф. Лосев и другие авторы придавали термину «вечное
возвращение» именно такой смысл, возразить на это было бы нечего (М.
Эл иаде, на мой взгляд, недостаточно критически отнесшийся к
античным источникам, уклоняется от точных дистинкций в этом смысле
и потому допускает сосуществование в античности простого циклиз-
ма и «вечного повторения в строгом, стоическом смысле этого
термина»15). Бедавтом, что термин принадлежит Ницше и только Ницше
и несет в себе смысл, вложенный в него им. Поэтому пользоваться
302
«Вечное возвращение» и античность
выражением «вечное возвращение» применительно к античности без
соответствующих оговорок, на мой взгляд, совершенно некорректно.
Надо заметить, что в античности была высказана точка зрения -
пусть едва намеченная, но зато весьма авторитетная, - вполне
сознательно обосновывавшая выбор циклической модели мироздания
в противовес линейной. Ее выразил устами Сократа Платон,
усматривавший в линейном развитии ни много ни мало «тепловую смерть
вселенной»: «Если бы возникающие противоположности не
уравновешивали постоянно одна другую, словно описывая круг, если бы
возникновение шло по прямой линии, только в одном направлении
и никогда не поворачивало вспять, в противоположную сторону ...
все в конце концов приняло бы один и тот же образ, приобрело одни
и те же свойства, и возникновение прекратилось бы. (...) И если бы
<>например. - В. Б.> все только соединялось, прекратив
разъединяться, очень быстро стало бы по слову Анаксагора: "Все вещи [были]
вместе"» (Федон72 Ь-с, пер. С. П. Маркиша).
Но, спрашивается, что же при этом, по Платону, повторяется,
воспроизводится, когда «противоположности словно описывают
круг» (эту самую совершенную из фигур)? Заметим: Платон
рассуждает здесь не о вещах, а о противоположностях как принципах,
задающих «направление возникновения», - именно они-то, а не
идущие по ним вещи, и воспроизводятся. Позиция автора «Федона» была
настолько привычной и естественной для античности, что,
вероятно, поэтому хитроумный (хотя и логически некорректный - но здесь
это не важно) аргумент Платона даже не привлекал к себе особого
внимания.
Итак, циклизм во избежание энтропии - вот подлинный лозунг
античности (правда, релятивизированный, но не отвергнутый до
конца Аристотелем). Однако и циклическая модель могла бы
заключать в себе принцип энтропии - в случае, если бы мыслилась как
«вечное возвращение того же самого»16. Поэтому абсолютно точное
воспроизведение космоса во всех его деталях «согласно числу
кругооборотов» было для древних греков делом никак не мыслимым и,
стало быть, противоестественным. (Немыслимость, кстати,
действительно бывала для них аргументом: с его помощью отвергалась,
например, уже потенциально вспомогательная в этом смысле
стоическая идея судьбы - «нелепая и невозможная» - как абсолютной
предопределенности; см. фр. SVF1004.) И все-таки чувствуется, что они веками
испытывали мощный напор этой идеи, шедший оттуда, где она тем
или иным образом признавалась (иначе откуда она взялась бы в
наших документах?).
303
Приложение
III. Конъектуры
С этой-то точки зрения - немыслимости вечного возвращения
для античности и все же, если можно так сказать, его привативного
присутствия в ней - я попробую оценить семь приведенных в
начале статьи свидетельств: может быть, удастся выяснить, что
именно они свидетельствуют. Все они, прошу заметить, приводятся
только поздними авторами, писавшими приблизительно с 160 до 532 гг.
1. Лин (у Стобея, IV в. н.э.). Это, разумеется, бледный пересказ
Эмпедокла (места, соответствовавшего тому, что известно нам как
фр. 17 DK, и подобных ему): если автор имел в виду вечное
повторение того же, он плохо понял свой источник, где речь идет только
о вечном самотождестве и кругообороте стихий, но отнюдь не всех
конкретных вещей. Ударение у него в конце концов падает на вечно
сущее, которое утешительным образом «не уничтожится», хотя будет
принимать все новые формы. Можно рассматривать этот текст просто
как недоразумение, да и время его создания неизвестно («Лин» -
конечно, псевдоним, какие часто брали себе поздние пифагорейцы).
2. С цитатой из Евдема17 надо считаться серьезней. С легкой руки
увлекающегося Теодора Гомперца18 и отчасти - сухого Эдуарда Цел-
лера этот пассаж и историки философии, и прочие читатели
принимают всерьез. Формулировка Евдема, уникальная (если, конечно, она
аутентична) для ранней античной философии, на самом деле, скорее
всего, есть придуманный им самим анекдот, предназначенный, как
правильно говорит биограф Ницше К. П. Янц, для критики
пифагорейцев. Для занимавшегося математикой Евдема, я думаю, это было
не более чем интересной, но праздной, гипотетической игрой ума,
скомбинированной, вероятно, из тогдашних астрологических
представлений и каких-то искусственно или неверно амплифицированных
им пифагорейских воззрений. Сам он, если вчитаться в его текст,
вовсе не утверждал, будто у пифагорейцев было именно учение о
вечном возвращении; во всяком случае, в «Физике» его учителя
Аристотеля, редакторской обработкой которой именно Евдем занимался,
а также у Аристотеля вообще, ничего о такого рода учении не
говорится (а уж он^го при анализе времени не преминул бы пнуть
пифагорейцев и за подобную идею - если бы она у них действительно была; если
ее знал Евдем, то уж конечно должен был знать и Аристотель): в
названном труде Философ, правда, критикует идею времени как
«круговращения» (218Ь- явно критика пифагорейцев; см. также 223Ь-224а),
но о «возвращении того же» определенно ничего не слышал.
304
«Вечное возвращение» и античность
Правильное понимание, по-моему, дает следующее смысловое
прочтение фразы: «Еслиуж верить пифагорейцам (а верить им не стоит),
будто все возвращается согласно числу кругооборотов, - ну, в этом случае
можно повернуть их мысль и таким образом: и я когда-нибудь etc., а уж это
- верх нелепости, чем и опровергается мысль об универсальности кругового
движения, которую можно было бы обосновать, опираясь на пифагорейское
учение (но не опровергается модель вечного возвращения, нужная тут лишь
в качестве фальсифицирующей гипотезы ad hoc, - не опровергается,
поскольку, будучи очевидным для всех абсурдом, она даже не заслуживает
опровержения)»19. Тогда выходит, что Евдем и не скрывает своего
специфического авторства. Во всяком случае, если даже это место из Евдема
и аутентично, ни на кого в античности оно никакого впечатления
не произвело; мало того, никто из античных авторов до Симпликия
этого места, судя по всему, вообще не знает20. Неизвестно оно даже
привлеченным мной христианским авторам, хотя они-то как раз с
удовольствием использовали бы Евдемову гному, если б только о ней
слышали. Что же касается Симпликия, то он написал свой
комментарий к «Физике» около 532 г. - через год (или сразу после) своего
возвращения из Персии, где провел около года в вынужденной
эмиграции; но об этом позже. Он, по собственным словам, располагал
весьма неполным экземпляром Евдемовых сочинений, а, характеризуя
их автора, говорит, что тот близок к своему учителю насколько
возможно.
3. Но, может быть, недоразумения вокруг идеи, подобной идее
вечного возвращения, начались с изложения позднеантичными
авторами учения стоиков, которое дошло до нас в ужасно
искореженном и не слишком достоверном виде. Сообщение Татиана
структурно подобно известным нам местам из Евдема и Августина, отличаясь
от них лишь «действующими лицами» да тем, что преподносится со
всей определенностью («Зенон говорит, что...»). От него, видимо,
зависит сообщение Оригена <б> (те же «действующие лица» -
Сократ, Ксантиппа, Анит и Мелет). Зато все другие сообщения о
стоиках (см. серию фрагментов SVF 596 - 599) придерживаются другой,
гораздо более мягкой и притом единственно логичной версии, суть
которой выражают формулировки вроде Цицероновой: «...ничего
не останется, кроме огня. Но от него-то, живого существа и бога, и
произойдет восстановление мира, и возродится его красота» ( О
природе богов, XLVI, пер. М. И. Рижского)» или Стобеевой: после
уничтожения мира в огне произойдет его палингенезия, и «...вновь
устанавливается тот же самый миропорядок, какой был прежде» (фр.
SVF 107). Это значит всего лишь, что каждый новый космос будет
305
Приложение
устроен Логосом по тем же самым разумным законам, но отнюдь не
значит неразумного (бессмысленного) и потому немыслимого для
стоиков повторения того же самого. Фраза же о боге как творце зла,
разумеется, к стоикам никакого отношения не имеет (для них и бог,
и мир как его творение безусловно благи), а может относиться только
к гностикам. Она неопровержимо доказывает, что Татианово
свидетельство - подложное (и, скорее всего, предназначавшееся для
необразованных и малообразованных христиан из
непосредственного окружения апологета - ни один образованный язычник не
признал бы его правдоподобным). Кроме того, есть противоречащее
ему свидетельство Евсевия (фр. SVF 596): «...Зенон воздерживался,
как говорят, от рассуждений о воспламенении мироздания».
Если приглядеться ко всему корпусу античных свидетельств о
стоиках21, можно заметить, что в части учения о «воспламенении»
и восстановлении мира эти свидетельства распадаются на две
группы: «мягкую» и «жесткую». Первая представляет стоическое учение
как идею воспроизведения мировым умом только одних и тех же
законов, по которым устроено мироздание, вторая - как мысль о
более или менее точном воспроизведении, повторении всего
сущего во всех его признаках, в том числе индивидуальных (технически
близкую к ницшевской модели вечного возвращения). При этом
немедленно бросается в глаза, что «мягкая» модель разрабатывается
только языческими авторами примерно до середины (или чуть позже)
II в. н. э. - от Цицерона до Плутарха22, «жесткая» же (см. фр. SVF 623,
624,627,628) - и язычниками, и христианами (хотя и не всеми) после
этого времени, причем христианские авторы часто оказываются в
противоречии и друг с другом, и с языческими авторами, излагая
стоиков (если на самом деле именно их) совершенно по-разному.
Не исключено поэтому, что хронологически первое звено в цепи
недоразумений, связанных с формулировками идеи вечного
возвращения, -Татиан, необычайно агрессивный (и, быть может, слишком
злопыхательный, «рессентиментный») по отношению к
«язычникам»: он мог (или, скорее, захотел) неверно понять подлинную
позицию стоиков. Войти в положение христианских авторов можно: уж
очень им хотелось хотя бы подлогом довести учения «язычников»
до очевидного для всех античных людей абсурда, а потом с тем большим
блеском разгромить, или же, наоборот, придать им «предхристиан-
ский» смысл, как это позднее делал Лактанций (см. фр. 623 SVF).
Кроме того, им было чрезвычайно важно разобраться с вопросом о
предопределении и свободе воли, а лучшего материала (чтобы
оттолкнуться от него в том или ином направлении), чем стоическая
306
«Вечное возвращение» и античность
доктрина, они не могли и желать. Отсюда их повышенный интерес
к теме восстановления миров, которая привлекала их, может быть,
еще и в связи с идеей «восстания из мертвых» (как упомянутого Лак-
танция).
Но почему в эту группу входят и язычники (Александр Афроди-
сийский, Симпликий)? Есть ли что-то общее, что хотя бы
формально объединяет тех и других в «жестком» изложении учения о
воспроизведении мира? Я уже упомянул, что это общее - определенный
временной рубеж. Что же в нем специфического? По-моему, то, что
с этого времени становятся широко известными учения гностиков,
а веком позднее - манихеев. Поэтому напрашивается вопрос: а не
привнесли ли авторы этой группы в стоическое учение «жесткость»,
чужеродную античности, сделав это сознательно или
бессознательно (в последнем случае, может быть, потому, что стоическое учение
ассоциировалось с некими новыми концепциями вечного
возвращения)? Ниже я еще вернусь к этому вопросу.
4. Келье тут, на мой взгляд, не выходит за рамки обычного
античного циклизма: он говорит не о вещах, а о времени, которое само
по себе, конечно, вечно повторяется, раз идет по кругу (как
повторяются времена года). То же относится ко всем другим аналогичным
местам в греческой философской литературе, где говорится о
кругообороте, палингенесисе и т.п. Подобные формулировки всегда
соблазняют (как вот и Татиана) на неверное понимание - но «уклон» такого
неверного понимания почему-то всегда «вечно возвращается».
5 и 6. Сообщение Оригена <6> о стоиках вызывает большие
сомнения, во-первых, потому, что, как уже сказано, зависит от в
высшей степени сомнительного Татианова <3>, а, во-вторых, по чисто
логическим причинам. В самом деле, если восстановление мира в
«том же самом порядке всех вещей» - это «несообразность», то как
можно ее «сгладить», утверждая неотличимость вещей
предшествующего и последующего циклов? Ведь, кажется, они и должны быть
неотличимыми, коль скоро они «те же»? Недоумение Оригена по
самой сути дела (т. е. по вопросу «вечного возвращения») тут вполне
понятно; что же касается проблемы различий между тождеством и
неотличимостью, то мы с читателем лучше, пожалуй, оставим этого
мыслителя одного биться над ее разрешением28.
А вот свидетельство Оригена <5> по-настоящему серьезно; оно -
явно не выдумка и не недоразумение. В нем описывается именно
учение о вечном возвращении, и притом так, как нигде у других
авторов. Оно для нас важнее предыдущих еще и потому, что структурно
вполне соответствует формулировке самого Ницше, который пришел
307
Приложение
к ней, как известно, исходя из комбинационно-вероятностных
представлений. Ему пришлось при этом прибегнуть к, по меньшей мере,
странному допущению: что мир конечен «энергийно» (он есть
«определенное количество силы и определенное количество средоточий
силы»), но бесконечен во времени (точнее, не имеет начала и конца
во времени)24. Именно так аранжировал мысль каких-то «мужей» о
вечном возвращении Ориген (говорили ли так сами Неизвестные
Мужи, неясно - Ориген говорит «похоже на то, как если бы»):
конечность мира в его (или их) метафоре выражена сравнительно
скромным количеством зерна - медимном (около 52 кг). А
комбинационная вероятностность выражена в их заявлении словами о том, что
второе тождественное «математическое» распределение «может
случиться» (а может, стало быть, и не случиться). Во всяком случае, эти
Мужи говорили как будто бы примерно то же, что Ницше, который
мог по видимости правдоподобно утверждать, в сущности, то же самое
только потому, что «следующий раз» у него наступает, конечно, не
сразу, а по прошествии времени, нужного, чтобы разыгрались «все
возможные комбинации»25. Неясен только вопрос о времени:
«многие века» - это не совсем то, что нужно, разве что Ориген и тут не
так или неполно понял, недослышал Неизвестных Мужей.
Да, но кто же эти Неизвестные Мужи? Будь они стоиками, Ориген
не постеснялся бы указать на них пальцем, как в свидетельстве <6>.
Для изложения доктрины стоиков, пусть и неаутентичной, он
пользуется Татиановой античной по материалу парафразой о Сократе и
остальных, а тут - парафразой сугубо христианской, в том числе и
новозаветной. Правда, и адресаты у двух трактатов, откуда взяты
приведенные места, разные: «О началах» предназначен для христиан,
«Против Кельса» - для язычников (написан на 20 лет позже
первого). Но можно думать, что в сочинении для христиан автор вряд ли
стал бы излагать языческое учение. В Руфиновом изводе «О началах»
есть место, близкое к свидетельству <5>, - но и там авторы
критикуемого учения о неотличимости восстанавливающихся миров не
называются. Это, конечно, не доказательство того, что речь тут идет не
о стоиках, но все-таки именно это Оригеново сообщение не похоже
в важных деталях ни на одно другое изложение стоической доктрины.
Поэтому я думаю, что, скорее всего, Неизвестными Мужами
были гностики-точнее, вероятно, какая-то их неизвестная нам
разновидность, потому что именно гностики - основная мишень полемики
Оригена в этом трактате. Об известных гностических учениях мы
как будто не слышали ничего похожего. Правда, мысль кое-кого из
них о мире как злой и неудачной шутке захолустного, придурковатого
308
«Вечное возвращение» и античность
и подслеповатого демиурга вроде бы сочетается с идеей вечного
возвращения, поскольку оно-зло (в качестве «отрицательного» смысла):
но Ориген-то критикует последнюю за отрицание свободы воли, а
какой же гностик ее отрицал? Хотя, надо сказать, и признавали они
ее не за всеми людьми, а только за «пневматиками» (самими
гностиками) и «психиками», - абсолютное большинство, так называемые
илики, в принципе обречены и, стало быть, в принципе лишены
свободы воли. Но одно дело - так или иначе отрицать свободу воли (это
можно делать на разных основаниях), а другое - говорить именно
о вечном возвращении.
Так что же, может быть, у гностиков (чье учение, как известно,
не обошлось без древневосточных, в том числе персидских влияний)
какого-то направления и впрямь было учение, не дошедшее до нас
потому, что удерживалось в тайне и было доступно лишь очень
немногим, в том числе - хотя и только понаслышке - Оригену? Пока
рано делать даже гипотетические выводы. Обратимся лучше к
последнему из наших документов.
7. Это место из Августина едва ли не еще важнее, чем Оригеново
<5>. Здесь, как видим, довольно ясно излагается техническая сторона
учения о вечном возвращении, от которого Августин с истинно
африканским пылом защищает христианство. Спрашивается: от кого?
Кто эти нечестивцы, блуждающие по кругу, с их falsa doctnna
(лжеучением)? (Тут дело принимает весьма таинственный, чтобы не
сказать детективный оборот.) Автор указывает их настолько туманно,
насколько возможно: «философы мира сего», говорит он, что в
христианском полемическом трактате звучит скорее как моральная, чем
как профессиональная квалификация, - как учтивый пейоратив. А что
же это за философы?
Пусть это будут, скажем, стоики: но Августин, давивший их в
разных книгах «De civitate», не постеснялся бы прямо указать на них в
приведенном месте, если бы имел в виду именно их. К тому же
стоицизма как философской школы во времена Августина уже не
существовало (см. ниже). Вообще обычно в важных случаях он называет
своих идейных противников по имени; как правило, это
неоплатоники, среди которых он особо выделяет Порфирия. Его Августин
не только бранит, но и во многом одобряет (см., напр., De civ. 12.20.
3 - именно в вопросе о «круговращениях»; Порфирий же критиковал
стоическое учение о воспламенении, см. фр. 607 SVF); значит,
интересующая нас критика относится явно не к неоплатоникам. Но,
может быть, Августин пользуется уже знакомым нам местом из Оригена
(которого он читал в латинском переводе Руфина, а может быть, и
309
Приложение
в оригинале)? Почему он тогда не пересказывает притчу о медимне,
а сочиняет свою - о Платоне? Но пусть это все же будет, скажем, Евдем.
Тогда должно показаться крайне странным, что Августин, автор
нарочито важный и солидный, а к тому же официальное лицо Церкви,
приводит свою пародию на почти восьмисотлетней давности и при-
томлшкому не известный анекдот с серьезной полемической целью
по столь жгучему для него вопросу26. А из разобранных выше
свидетельств, кажется, следует, что среди античных философов не было
таких, кто по интересующему нас вопросу подлежал бы порке Авгус
тина. Создается впечатление, что критикуемое учение в притчу о
Платоне Августин переделал только для отвода глаз, для какого-то
пока неясного алиби.
Чтобы проследить направление, в каком на самом деле указует
каменный, но трясущийся перст Августина (трясущийся от
негодования или старости - но главным образом от нерешительности:
показывать точно или не показывать?), обратим внимание на то, как
и где он еще использует выражение «philosophi mundi (или saeculi)
hujus» (философы мира (века) сего). Оказывается, всего лишь
дважды, и оба раза в «Проповедях о времени» (CCXL, гл. IV и V; обе
главы посвящены вопросу «О воскресении плоти, против язычников»).
А что, или, вернее, кого он имеет там в виду? Августин не скрывает,
что он сам и есть автор выражения «философы мира сего», но
указывает обработанный им первоисточник: 1 Кор 1:20 («Не обратил
ли Бог мудрость мира сего в безумие?»). Так что под словом
«философы» тут у него надо подразумевать «лжемудрецы», «мудрствующие
всуе», подменившие веру разумом, знанием, - так сказать, гностики.
В четвертой главе «philosophi saeculi hujus» - это у него те, которые
учат о метемпсихозе и карме; в пятой «philosophi mundi hujus» -
проповедующие о Посреднике между Богом и людьми, но не о том, кого
признает сам Августин («человеке Христе»), а о «диаволе,
принявшем вид ангела света» («Исповедь», 10, XLII, пер. M. Е. Сергеенко).
Если в первом случае «философом века сего» по смыслу (но не по
букве - «века сего») вполне мог бы быть, к примеру, Платон, то во
втором этого о нем уж никак не скажешь.
Но будем следить дальше. Выражение «По кругу блуждают
нечестивцы» - это цитата из Пс. 11:9*7. Августин слегка изменил текст
- вместо ambulant (блуждают) здесь он написал ambulabunt -
«(блуждают и) будут блуждать». Возможно, правда, это своего рода мрачный
церковный юмор: «Пусть Господь воздаст им по вере их!» В других
сочинениях (Enarrationes inpsalmos, 13; Sermones, 260С) он цитирует
то же место правильно, но в совсем иной связи. Кроме того, напомню,
310
«Вечное возвращение» и античность
он пользуется выражением falsa doctnna, в единственном числе. Что
отсюда следует? Что наш епископ говорит об одной, явно определенной
для него доктрине, чьи адепты все еще и, вероятно, весьма бойко
расхаживают, а, по его мнению, и будут расхаживать - чего,
разумеется, не скажешь о давно отгулявших свое Платоне и стоиках.
Надо сказать, Августин хорошо понимал глубокий упадок
современной ему античной философии: в трактате «Против академиков»
(3, XIX, 42) он с удовольствием констатирует, что в его время можно
видеть уже только три школы - киников, перипатетиков и
платоников (т. е., разумеется, неоплатоников), a «una verissimae philosophiae
disciplina» (единственно подлинная философская наука), несмотря
на «усилия многих веков», уже совсем не та («eliquata est»,
разбавлена водой). Эта подлинная философия, «несравненно более
умозрительная», - конечно, учение Платона, «христианина до
христианства». И тут, внезапно разразившись гневом, епископ Гиппонский
еще раз использует близкое к названным по звучанию и смыслу
выражение - «hujus mundi philosophia», а заодно несоразмерно сильное
слово «проклинает (ненавидит)»: пала, оказывается, «не философия
мира сего, которую поделом проклинает наша вера» (и которая для
него, очевидно, вообще ниже всяких оценок - ей просто неоткуда и
некуда падать), а та самая, подлинная и высокая (и больше оборотом
«философия мира сего» он нигде не пользуется).
Киников (если вернуться к нашей особенной ситуации) ему
бояться нечего: они, по его словам, привлекают только своей
распущенностью, а в прочем не умствуют. Перипатетики и неоплатоники,
как уже ясно, ни в чем таком не виноваты (а виноваты в принципе,
самим фактом своего языческого существования). Этот пассаж из
«Contra academicos» еще раз подтверждает, что античная философия
в случае вечного возвращения в «De civitate» вообще ни при чем.
Значит, остается предположить, что речь у Августина,
проявляющего тут и странную уклончивость, и непонятный пыл, идет об
относительно узком круге лиц, с которыми у него были какие-то
личные счеты и которые стоят вне античной традиции. Эти лица тогда
- скорее всего, манихеи: как известно, именно от их учения Августин
отрекся в молодости в пользу христианского, а позже громил их в
своих трактатах. Но ведь и у манихеев не найти формулировки идеи
точного повторения мира во времени! Чтобы как-то обойти это
затруднение, обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых,
чуть выше процитированного места Августин, дабы приоткрыть
объект своей критики, ссылается на Писание (Еккл. 1:10), не
имевшее, понятно, ничего общего с идеей повторения мира во времени.
311
Приложение
Во-вторых, что можно увидеть в манихейской доктрине, пытаясь
разглядеть нечто подобное вечному возвращению? Можно увидеть
там только «учение о Трех Временах», которое «вместе с учением о
двух принципах представляет собой главную догму манихейства»,
пишет знаток манихейства Гео Виденгрен28. А, согласно этому же
исследователю, основным источником манихейства был зерванизм,
«где обнаруживается следующая формула: kê hast, but ut bavêt, "то,
что есть, было и будет". Однако у этой формулы трех времен
имеется множество более древних прообразов; ибо она встречается уже
в индийских текстах упанишад...»*9. («Три времени» в известном нам
манихействе - это просто три качественно различные мировые
эпохи.) Как бывший манихей Августин не мог не знать этой догмы - и
знал ее (см. Contra FaustumXlll 6): она не была тайной; значит, на
самом деле он, цитируя Еккл. 1:10, метит в Еккл. 1:9 («что было, то
и будет»; несколько выше по тексту он приводит именно этот стих).
Почему же он с такой легкостью подразумевает (и потому
опровергает) истолкование библейского «что было, то и будет» в пользу
ненавистного ему «символа веры» вечного возвращения? Не потому
ли, что эти или очень похожие слова (вроде kê hast, bût ut bavét) в
известном Августину учении каким-то образом связывались именно
с ним? Что ж, тут остается строить только более или менее
правдоподобные гипотезы - вроде той, что доктрина вечного возвращения
исповедовалась не всеми манихеями, а лишь какой-то (западной?)
сектой или толком, к которому в молодости и принадлежал
Августин, или же, скорее, - что соответствующее учение было тайной
доктриной манихейства (а может быть, и более древнего зерванизма)
вообще.
Следовательно, в таком случае Августин не мог откровенно
обратить перст в сторону манихеев, не нарушив данного некогда
обета молчания30. Положим, как христианин он уже ни во что не ставил
такой обет - но с его нарушением, может быть, была связана угроза
для жизни («De civitate» он писал в старости, закончив книгу за два
года до смерти, в 428 г., и такая угроза уже мало что для него
значила; в «Исповеди», написанной много раньше, около 400 г., нет - и
это очень показательно - ни следа обсуждения доктрины «вечного
возвращения»). Манихеев в своей итоговой книге епископ
упоминает редко (специально всякий раз оговаривая, что уже разобрался
с ними в других сочинениях), а в 12-й книге De civ. - вообще ни разу.
Даже в его «специальных» сочинениях против манихеев можно
(если очень захотеть) уловить лишь очень глухой намек на эту тему (см.,
напр., Contra Faustum II, 5 в связи с астрологией).
312
«Вечное возвращение» и античность
Но если это так, стоило ли столь горячо полемизировать с идеей,
если и знакомой «язычникам», то лишь как забавный или
тошнотворный казус, с идеей, которую манихеи если и исповедовали, то лишь
тайно? Волновал ли Августина этот вопрос просто как логическая
возможность («Может ли бесконечно повторяться Искупление,
жертвенная смерть Христа? - Absit, inquam, ut nos ista credamus, нет, ни
за что! До создания Богом времени никакого времени не было»; но
главным образом, кажется, потому, что это было бы унизительно для
Бога, поскольку ограничивало бы Его всемогущество и обрекало бы
Его на вечную скуку: ведь бессмысленно все вновь творить в точности
одно и то же. Еще Ориген в духе стоиков допускал, что Бог творит
миры раз за разом, - но только как материю, души же остаются в
вечности неизменными)? Или он снова и снова пытался таким
образом отделаться от угрызений памяти, все еще твердившей о
заблуждениях молодости и, главное, о перенесенном тогда унижении?
IV. Реконструкции
Итак, из всего этого выходит (я напоминаю о гипотетическом
характере своих рассуждений), что у гностиков и манихеев, видимо,
было учение о вечном возвращении, подобное ницшевскому, но
доступное только избранным, а прочим (языческим философам и
христианам) известное в виде исключения, да и то понаслышке. Если
это так, то напрашивается вопрос: а почему оно, собственно, было
тайным? Можно предположить: потому, что массовое сознание его
попросту не выдержало бы. Представление о мире как скверне,
возникшее вместе с христианством, оно выдерживало и даже охотно
мирилось с ним - ведь такое представление с успехом
компенсировалось ощущением внутреннего превосходства над миром и
надеждой на будущее блаженство, свойственными приверженцам разных
религий, в том числе разных течений в христианстве. Но если этот
скверный мир непоправимо вечно крутится, как белка в колесе, то
из такого колеса никак невозможно выпрыгнуть, отталкиваясь лишь
от ощущения внутреннего превосходства31. Вероятно, «избранные»,
достаточно сильные для идеи вечного возвращения, не хотели и не
могли подвергать массу столь жестокому испытанию, которого та
заведомо не выдержала бы, и вниз «спускались» только общие
формулировки вроде «трех времен», без особых разъяснений ничего
леденящего душу не сулившие. А давать такие разъяснения никто не
собирался.
313
Приложение
Ну а сами «избранные» - те, что обнаружили и удерживали столь
страшную идею? Разве они не нуждались в какой-нибудь
компенсации своего страха? Думаю, что нуждались и даже нашли ее. А в чем
она могла бы состоять? Идея, выражавшая такую компенсацию,
вероятно, была для них таинством, еще более высоким, нежели само
вечное возвращение, а потому если и просочилась «вниз», то лишь
в виде очень глухих намеков, таких, что любой непосвященный не
мог даже догадаться, что перед ним - намеки.
Чтобы представить себе, чем могла бы быть такая идея для
гностиков и (или) манихеев, попробуем применить метод аналогии. Где
еще была идея мира или жизни как колеса какого бы то ни было рода?
Конечно, в буддизме: колесо санскары, или, говоря обобщеннее, пере
рождений. Подобные идеи были известны всем народам, в том
числе и грекам, как, например, идея бесконечного странствия души,
способной в метемпсихозе или метенсоматозе выбирать лучшую или
худшую будущую участь (потому что так уж устроен в целом благой
для них мир). Но только Будда (который, как подозревают
некоторые исследователи, не обошелся без влияния Заратуштры) пришел
к мысли, что можно и нужно выйти из этого замкнутого круга,
который был кругом страданий и зла именно потому, что вечно оставался
обреченным на замкнутость. Какой путь спасения, выхода из колеса
санскары предложил Будда, всем известно. А было ли что-нибудь
похожее у манихеев?
Оказывается, по меньшей мере могло быть. Утверждают, что в
манихействе «учение о перерождении ... заимствование из
буддизма»32 - потому что Мани был в Индии. Но это только «первое, что
напрашивается» при анализе манихейства. Действительно, Мани
не обязательно было ездить за этим учением так далеко - он мог
найти его на месте, в одном из своих главных источников или в
обоих: либо у гностиков, либо в зороастризме (к тому же в Индию он
ведь ездил не заимствовать, а проповедовать «свое готовое»). Что
касается неоплатоников и орфиков как других «возможных
источников влияния»33, то на Востоке это было лишнее - о своем
современнике Плотине Мани вряд ли даже слышал, да и акцентированное
учение о перевоплощении свойственно только более поздним, пи-
фагорействующим неоплатоникам; об орфиках он тоже вряд ли был
осведомлен - для этого ему надо было бы специально заниматься
уже глубокой к тому времени греческой стариной (сходство между
этими религиями действительно есть, но проще предположить, что
обе, и орфическая, и - много позже - манихейская, восприняли что-
то общее от зороастризма). Исследовательница, на которую я толь-
314
«Вечное возвращение» и античность
ко что сослался, делает, впрочем, и более многообещающий (и, на
мой взгляд, более правильный) вывод об архетипичности и, стало
быть, о принципиальной универсальности этого учения34. Но не это
главное.
Важнее, что у манихеев (а раньше их и у гностиков) было
представление о «покое»35 как изначальном состоянии бытия и цели
стремлений каждого праведника, а, как отмечает Е. Б. Смагина, покою «в
восточных документах (турфанских текстах) соответствует
санскритское нирвана»ъЬ (надо понимать, что хотя эти тексты написаны не
на санскрите, слово «покой» из более древних сирийских
оригиналов в них переводится санскритским «нирвана»). Может быть, это
случайность (восточные манихейские сочинения - вторичные,
поздние и, наверное, подвергшиеся «суперфетации» со стороны централь-
ноазиатского буддизма), а может быть, и нет. Во всяком случае, у
«избранников» могло быть какое-то учение об избавлении от «колеса
повторений». А если у них существовало «строгое» учение о вечном
возвращении, то, пожалуй, и должно было быть. Но если во многом
гностицизм и манихейство вторичны по отношению к
зороастризму, то почему не предположить, что они вторичны по отношению
к немуже и в этом смысле (вспомним хотя бы зерванитское «kê hast,
bût ut bavêt»)?
Если так, становится понятно, откуда исходил тот постоянный,
длившийся веками (хотя, разумеется, и ненамеренный) напор
чуждой грекам идеи вечного возвращения, о котором я говорил выше,
- из Персии. Теперь, после всего сказанного, становится все более
ясным, что греки не могли его принять и не приняли. Восточное
пессимистическое учение о вечном возвращении было попросту
несовместимо с основами их нового, западного - оптимистического и,
в терминах Ницше, «аполлоновского» - мироощущения, каким оно
сформировалось у них в своих основах, по-видимому, к VI в. до н.э.
- времени первых мыслителей, вытеснив более древнее, условно
говоря, орфическое, «дионисовское» восприятие мира37.
V. Версии античные и ницшевская
Итак, версия вечного возвращения, представленная в
свидетельствах Оригена <5> и Августина, гипотетически реконструируется
как в техническом отношении очень близкая, если не тождественная
ницшевской. Но эта версия, скорее всего, - не античного, а
восточного происхождения. Теперь хорошо бы определить, чем же все-таки
315
Приложение
ницшевская идея вечного возвращения отличается от своего
античного прообраза - идеи циклического мира. Наиболее законченные
черты циклическая идея приобрела в стоическом учении
(принявшем в себя соответствующее Гераклитово38), поэтому я остановлюсь
именно на нем.
Прежде всего, бросается в глаза, что у стоиков и в античности
вообще кругообращению, воспламенению и восстановлению -
одним словом, повторению - подлежит не бытие в целом, а только мир
(или: мир лишь как качественно определенное тело). Происходит
это беспрестанное повторение на фоне неизменно сущей и притом
разумной основы попеременного бытия и небытия мира. Именно
этот мировой разум почти во всех свидетельствах - инициатор
циклических повторений мира. Чем он при этом руководствуется (и
руководствуется ли чем-то вообще), не совсем ясно: есть источники,
говорящие о том, что стоики, возможно, и впрямь рассуждали о каких-
то целях мирового ума: об очищении земли от скопившегося на ней
зла (сообщение Оригена; см. фр. SVF 1174) или даже об
«окончательном решении» вопроса о перенаселенности земли (сообщение
Плутарха; см. фр. SVF 1177). Иначе говоря, античность цепко
удерживает принципиальную осмысленность своей циклической вселенной.
У Ницше, как известно, кроме мира ничего нет, и этот мир вечно
возвращается сам по себе и принципиально без всякого смысла.
Кроме того, стоическая вселенная пронизана необходимостью,
насквозь подчинена ей. Правда, античные источники и в этом
вопросе в общем демонстрируют тот же разброс, что и случае теории
воспламенений: чем ближе к концу античной эпохи, тем более
жесткие черты приобретает в них стоическое предопределение
(промысл). От подробностей я читателя избавлю, но замечу, что какая-то
связь тут есть, и объясняется она не только восточными влияниями,
но и альтерацией всего мироощущения - с одной стороны, под
воздействием восходящего христианства с его внутренним бурлением
и попытками нащупать нормативное решение этого вопроса, с
другой - из-за перехода от республики к принципату и монархии
классического римского типа, создавшими ситуацию полной
зависимости индивида от единоличной власти. В силу такого разброса в
сообщениях трудно судить о подлинной единой позиции стоиков: тут
лучше ориентироваться на более близкого к ним во времени
Цицерона, писавшего, к примеру, что Хрисипп допускал в той или иной
форме независимость человека от судьбы (см. фр. SVF 974). Тонкости
лучше оставить в стороне; здесь важно главное - причинность и
необходимость стоического циклического космоса.
316
«Вечное возвращение» и античность
На вопрос о том, как совместить цикличность космоса с
причинностью, стоики не дали удовлетворительного ответа: в бесконечной
цепи причин нет первого звена (см. фр. SVF 949), но неизвестно,
как обеспечивается причинная преемственность между
последовательными мировыми циклами (коль скоро всё в целом, т. е. все
причины и следствия, погибает в огне) - либо мировой ум при создании
нового космоса снова пускает в ход цепь причин и следствий, и
тогда первая в этом цикле причина будет новой (в противном случае
ум сознательно из раза в раз воспроизводит всегда одну и ту же
первую причину, что бессмысленно - поскольку, естественно, и все
следствия будут те же, а такая монотония противоречит природе ума, по
крайней мере, здравого) и повлечет за собой другие следствия, либо
выйдет, что последнее событие предыдущего есть причина первого
события последующего цикла, но тогда никакой мировой ум просто
не нужен и получится полное воспроизведение космоса (возможно,
именно так домысливал стоиков кое-кто из приписывавших им
строгое повторение.всех вещей).
Что же касается Ницше, то он, напротив, хочет положить в
основу мира случайность, которая повторяется необходимым, т. е.
неизбежным образом, и понять его также нелегко, как стоиков. Если,
положим, мир для него - «бросок костей», то вечное возвращение
мира - результат бесконечной серии таких бросков. Хрисипп, согласно
Плутарху (см. фр. SVF 973), тоже «во многих местах» пользовался
образом игральных костей, но выводил из этого строжайшую
причинность. Дело в том, что он мыслил отдельный бросок костей, а
результат такого броска, разумеется, всегда можно свести к действию
определенных физических причин, благодаря чему он окажется
необходимым. А вот если мыслить серию результатов бросков, то хотя
каждый из них и сводится к физическим причинам, серия в целом
как последовательность чисел даст чистую случайность, т. е.
абсолютный хаос, энтропию. Именно это вышло бы (и вышло на самом деле)
в таком случае у Ницше, который получил бы одновременно и фатум,
и хаос, но в очень неудобной для себя форме: жить под роком
пришлось бы всякому, но вот наслаждаться хаосом было бы некому,
поскольку это смог бы делать только внемировой наблюдатель, а его,
по Ницше, не бывает. Это неудобство он снял в своей известной
формуле amorfatic ее явной стоической соотнесенностью, формуле,
смысл которой, однако, намеренно лежит не в плоскости мышления,
единственно доступной стоикам, а в сфере ценности. Другое
возможное толкование (если вернуться в плоскость мышления, которой
Ницше тоже пользуется, и притом непоследовательно, т. е. изменяя
317
Приложение
избранному им принципу ценности) исходит из того, что мир для
него - это «серия комбинаций в одном ряду». Такая аранжировка
влечет за собой парадокс: если мир - последовательность «конов»,
бросков костей, то в нем нет ничего, кроме случайности. Но как в
таком случае возможны детерминистические «ряды» комбинаций?
Ведь ряд не может состоять из «всех возможных» комбинаций (а это
- условие «возвращения рядов»), ряд селективен: одни комбинации
он допускает, другие - нет, иначе он - не ряд39.
При том и другом толковании ницшевской версии вечного
возвращения возникают непреодолимые трудности: чтобы произошел
следующий «бросок костей», надо вернуть все кости в исходное
положение, иными словами, уничтожить мир; а при втором
толковании так и вообще выходит, что еще до конца мира должно наступить
чуть ли не бесконечное множество его же, мира, концов (чтобы
разыгрались все возможные комбинации) или же - что мир состоит из
одновременного чуть ли не бесконечного количества бросков
костей. Но о конце мира, quando si parte il grande gioco de la zara
(говоря словами Данте и Ницше: когда кончается «великая игра в кости»),
Ницше в любом случае нигде ничего не говорит, поскольку он для
него принципиально невозможен. В конечном счете, получившаяся
у него коллизия вообще выходит за рамки мышления (иными
словами, ее нельзя мыслить), поскольку пребывает в сфере энтропии:
ведь так и неизвестно, что такое мир в целом - великая игра в кости,
принципиальная случайность, или же необходимость природы,
которую Ницше тоже утверждает. А потому amorfati остается чисто
символической скрепой для его псевдомыслительной конструкции.
Разницу между античными и ницшевской версиями идеи
вечного возвращения нужно рассмотреть еще и в другой плоскости -
плоскости, так сказать, истории коллективной европейской души. Стоики,
разумеется, были далеко не первыми из греческих философов, кто
говорил о причинности и необходимости сущего, - но именно у них
соответствующие понятия оказались залиты ярким, режущим глаза
светом, и вся последующая античность с жаром обсуждала их
доктрину, обращая на нее внимания гораздо больше, чем на другие
подобные (скажем, атомистов), особенно потому, что у них она
вылилась в общую картину мира с сильно выраженным моральным
пафосом. Точнее, необходимость и мораль слились у них в один пафос (у
Ницше в один пафос - amorfati- слились необходимость и ценность).
Чтобы оценить этот стоический пафос, вспомним, что по
меркам истории совсем не так давно, за два, самое большее за три века
до стоиков начало складываться греческое абстрактное мышление,
318
«Вечное возвращение» и античность
дав свои классические образцы совсем незадолго до них. Но что
значит «складываться» с историко-психологической точки зрения? Это
значит - эмансипироваться, обособляться из общего поля
обыденного мышления и сознания, еще очень сильно зависевших от
бессознательного и во многом определявшихся именно им. Зависимость
от бессознательного переживалась греками как принуждение к
внутреннему хаосу, неупорядоченности и неустроенности. Стоический
пафос40 (а пафос, эмоциональная заряженность - всегда показатель
того, что в деле необычно сильно участвует бессознательное)
строгой причинности закреплял освобождение сознания и мышления
от былой тирании бессознательного и сулил окончательную
независимость и даже победу над вызывавшим ужас «чудовищем» (для
Ницше - «прекрасным чудовищем»), хаосом41, потому что вводил
полную определенность, негэнтропию, несущую с собой полный
контроль задающего смысл мышления над жизнью42. Здесь сгоряча и на
радостях можно было даже пожертвовать в какой-то степени и самой
свободой человека - ею в какой-то степени и пожертвовали - и,
пуще того, дабы окончательно закрепить негэнтропийность, пустить
космос по кругу. Нужно было - с не осознанной стоиками,
инстинктивной «точки зрения» потребностей тогдашней европейской души
- подсушишь суровым стоическим огнем еще слишком сырое,
пропитанное миазмами бессознательного, недостаточно обработанное
разумом сознание43.
Но при этом оказалось, что тирания бессознательного грозит
смениться другой тиранией - сознания и его наиболее способной к
контролю части, мышления. В этом смысле катастрофизм космоса
стоиков глубоко символичен: их пылающий логос (сознание)
неизбежно, т. е. даже при любой новой попытке, терпит крах, угасая в
водах алогичной стихии - бессознательного. Разведенные до
крайних пределов, оторванные друг от друга психические
противоположности (сознание в модусе форсированного, рассудочного
мышления и бессознательное) стремятся воссоединиться и
воссоединяются помимо воли человека и, быть может, ему на погибель. Но даже
такой, катастрофический космос должен был в глазах греков иметь
смысл, и он его имел - на уровне, для них неосознаваемом.
В дальнейшей жизни европейской души именно этот процесс и
вышел на передний план - конечно, не благодаря исключительно
стоикам (хотя стоицизм, по крайней мере как моральное
мировоззрение, жил в Европе вплоть до семнадцатого века). В силу ее
особенностей (вектор которых был задан именно греками) он привел
в конце концов к тому, что сознание оказалось пересушенным и засу-
319
Приложение
шенным, а его корни - вырванными из почвы бессознательного.
Ницше был одним из первых, кто почувствовал и остро переживал это.
Ему показалось нужным повернуть процесс вспять - увлажнить
воспаленное сознание европейцев, окунув его в освежающую ванну хаоса,
т. е. бессознательного, погрузить туда обожженные, отмирающие
корни сознания в надежде на то, что они оживут и вновь врастут в
свою почву44. Вот для чего ему потребовалась идея, утверждающая
ценность энтропии, - идея вечного возвращения (дабы дело не
кончилось полным небытием, он попытался компенсировать
диссипацию разума негэнтропийными, как ему, возможно, казалось,
концептами «воли к власти» и «сверхчеловека»).
Чтобы осуществить задуманное, Ницше воспользовался огнем
своего разума: он заставил его гореть вспять, пытаясь одним огнем
одолеть, загасить другой, пылающий все более мрачно. В отличие
от стоиков, Ницше осознавал, что делает (или: лучше осознавал; в
какой степени - об этом трудно судить с большой точностью; во всяком
случае, от него, возможно, не ускользало, что огонь, который он
пытался загасить, - это и его собственный разум, а не только
новоевропейский разум вообще45). По крайней мере, он понимал тот
жгучий «аполлоновский» пафос, которым была проникнута послесо-
кратовская античность. Конечно, не стоики зажгли тот, первый
«мировой пожар» европейского разума, и не они, а Аристотель и его
ученики стали классическими провозвестниками, оформителями и
выразителями его потенций, - но все же стоики очень усердно
участвовали в раздувании этого пламени. Если посмотреть на дело
таким образом, то выйдет, что античная (мягкая циклическая) и ниц-
шевская (наиболее жесткая из всех известных) версии идеи вечного
возвращения находятся в отношении некоторого подобия, а именно
зеркальной симметрии.
Наконец, лишь для большей полноты картины следует сказать,
что учение о вечном возвращении, говоря буквально (но, разумеется,
не в ницшевском смысле), в античности все же существовало, - но
имело смысл, никак не совместимый с ницшевским, хотя и
совместимый с общеантичным циклическим. По крайней мере эти слова
- « вечное кругообразное возвращение того же» - тогда прозвучали: правда,
уже на самом исходе античной эпохи, из уст язычника, Прокла.
Относились они, разумеется, к известному неоплатоническому учению
об «исхождении» из себя сущности вечного ума, ее пребывании во
временном (в мире) и возвращении к себе же, - учению, в общем виде
сформулированному еще Плотином. Вот, например, характерное
место из Прокловых «Первооснов теологии» (34) в переводе А.Ф. Ло-
320
«Вечное возвращение» и античность
сева: «Оттого, что мир вечен, не следует, что он не эманирует из ума,
ведь оттого, что он вечно в устроении, не следует, что он не
возвращается [к уму]; он и вечно эманирует, и вечен по сущности, и вечно
возвращается, и нерушим по своему устроению»46 (курсив мой. - В. Б.).
Здесь, конечно, не место разбирать полный смысл этого учения.
Достаточно сказать, что в понимании неоплатоников исхождение
(эманация), пребывание и возвращение как фундаментальные
условия бытия мира - три «неслиянных и нераздельных» ипостаси
одного и того же процесса, один полюс которого - Единое, - даже исходя
из себя, остается в вечности, а другой - мир как целое, поскольку он
имеет бытие и смысл, «в любой момент» бесконечного времени
возвращается к этому Единому (т. е. Единое возвращается из мира, из
времени - к себе в вечность). Здесь, как и в античности вообще, вечен
только процесс возвращения, и в некотором смысле возвращается
«то же», т. е. Единое, - но формы мира, пусть даже он кружит вокруг
вечного, всегда бесконечно разнообразны. Круговое же движение
для неоплатоников (как и для Аристотеля) - свойство не
физической, а умопостигаемой природы, а именно ума и души, и означает
оно, конечно, не перемещение, а отношение (о движении душ людей
и богов см. у Плотина - VI, 9, 8).
Что же касается даже теоретической возможности «вечного
повторения» для неоплатоников, то она в любом случае заранее
отсекается ими: движение всего, что движется, говорит Прокл, в
вопросе о движении не отходящий от Аристотеля (8-я книга «Физики»)
ни на шаг в сторону, не идет ни по кругу (физически), ни в
бесконечность (εις άπειρον)47. А что круговое (физическое) движение можно
соединить с бесконечностью, заставив бесконечно повторяться
одно и то же, - такое ему и в голову прийти не могло; он даже не
полемизирует с этой идеей, потому что просто не знает или «знать не
хочет» ее (как, кстати, и Евдемову «пифагорейскую» гному).
Если и можно какую-нибудь из античных доктрин условно (но
тогда пришлось бы отнять это название у Ницше) назвать учением о
вечном возвращении в философски подлинном и полном смысле
этих слов, то это, безусловно, только неоплатонизм. На его фоне идею
Ницше следовало бы сформулировать всего лишь как
«беспрестанное повторение в том же самом виде». Эта идея была рассчитана ее
автором на уничтожение всех прежних идей о мире и, если бы
смогла, то, безусловно, уничтожила бы и неоплатонизм48. Ведь роль
неоплатонического потустороннего по отношению к миру Единого в
учении Ницше о вечном возвращении берет на себя мир, т. е. как
раз «многое», что для неоплатоников совершенно немыслимо. Имен-
321
Приложение
но мир коленных вещей, а не потустороннее Единое, вечно
возвращается у Ницше как «единое», т. е. как целое. Здесь, а также в названной
выше коллизии мышления и ценности, проявляется двойственность
ницшевского обращения к античности: одновременное притяжение
и отталкивание, дающее в результате «гармонию лука и лиры».
Нетрудно сделать вывод о том, что эта двойственность заложена уже в
ницшевском представлении об аполлоновском и дионисовском
началах античной культуры.
Теперь можно подвести итог этой, исследовательской части
статьи. Собранный материал и размышления над ним повлекли за
собой выводы двух видов - претендующие на доказательность и
гипотетические. К первым относится утверждение о том, что античности
была в корне чужда идея вечного возвращения в виде, близком к ниц-
шевскому (хотя не было чуждо представление о циклической
структуре мирового процесса), а прозвучавшие в II - VI вв. формулировки
не выражают ее собственной позиции по этому вопросу. Ко вторым
же - предположение, гласящее, что эти формулировки вечного
возвращения выражали эсотерическую точку зрения, возможно,
разделявшуюся некоторыми приверженцами гностицизма и (или)
манихейства, воспринявшими ее, скорее всего, из зороастрийской
религии (в ее зерванитском варианте), а также допущение (на котором
я, впрочем, отнюдь не настаиваю), что Ницше, возможно,
догадывался о такой вероятности. А это допущение способно пролить
дополнительный свет на вопрос о том, почему героем вечного
возвращения он сделал Заратуштру и чем его версия соответствующей идеи
отличается от древней, реконструированной в этой статье.
VI. Смысл бессмыслицы
И все-таки в определенном отношении Ницше - в любом случае
подлинный творец идеи вечного возвращения. Дело в том, что эта
идея, если принимать ее всерьез, никак не совместима с тем, чем
только и было занято человечество до него и даже еще некоторое
время после него: поиском последнего, высшего смысла как высшей
ценности. А Ницше, озабоченный ниспровержением всех прежних
высших ценностей, главной из которых был смысл49, занимался
поиском именно идеи мира как принципиально и абсолютно
бессмысленного (я хочу сказать - поиском такой идеи как альтернативной
высшей ценности, альтернативной главным образом, конечно, христи-
322
«Вечное возвращение» и античность
анству, с его точки зрения нигилистического), где кроме вечного
повторения одного и того же ничего нет и гарантированно не будет.
Но он искал идею не любого бессмысленного, а принципиально пред-
ставимого, формально доступного разуму: таковой и была для него
идея вечного возвращения50. В его случае смыслом, т. е.
назначением, становилось само бессмысленное - но это еще не означало, что
оно наделяется внутренним, собственным смыслом51. Именно этим
(если теперь смотреть на дело из перспективы самого разума) его
вечное возвращение в корне отличается от своих восточных
прототипов (известных ему по античным источникам и, может быть, в
качестве античных). В этих последних главная идея релятивизиру-
ется, нейтрализуется представлением об избавлении от
безостановочно крутящегося мирового кошмара путем потустороннего
выхода из него раз и навсегда, тогда как Ницше нуждается в полной и
окончательной безнадежности и безжалостном трагизме
человеческой ситуации, переоценивая ее как естественную, прекрасную и
единственно желательную: ведь только при таком условии (других он,
увы, не заметил) человек получает шанс возвыситься до статуса
трагического героя, сверхчеловека.
В чем же был (или есть) смысл (или назначение, или энтелехия)
этой бессмыслицы? Во-первых, она наделялась внесмысловым в
логическом измерении назначением: а именно, художественным. Надо
было сделать «сына» Заратуштру человечески и художественно
убедительным, надо было снабдить его трагической идеей, от которой
у читателя (предположительно) застынет кровь в жилах. (То
обстоятельство, что «Так говорил Заратуштра» благодаря идее вечного
возвращения относится к фантастическому жанру, ничего тут не
меняет: ведь и фантастика должна быть убедительной. Если у каких
читателей кровь и застыла бы от этого в жилах, так только у
некоторых древнеперсидских, - но у них, как я предположил, было
противоядие). Дело, однако, осложнялось тем, что, по-моему, Ницше и
сам не верил в свою идею. Ведь, во-вторых, ее смысл для него был
прагматическим и «педагогическим» (и, кажется, в этом отношении
он с симпатией смотрел на иезуитов): она была задумана как
рукоятка некоего терминаторского инструмента, которым философ
намеревался разнести вдребезги самый фундамент прежних ценностей
- смысл - и в конце концов оставить западного человека лицом к
лицу с дымящимися развалинами, с чем-то бессмысленным вдоль и
поперек: лишь это жесточайшее испытание, возможно, еще могло
«встряхнуть» Европу и заставить корни сознания снова врасти в
почву бессознательного. Иными словами, Ницше попытался использо-
323
Приложение
вать бессмыслицу вечного возвращения как средство тотальной
отмены всякого прежнего смысла, чтобы расчистить место для другого,
нового смысла, который несет в себе идея сверхчеловека. Эта
стратегия была нигилистической, но и направлена она была против
нигилизма: нигилизм силы против нигилизма слабости, огонь против огня.
Если Ницше (как я предполагаю) на это рассчитывал, то
оказалось, что зря: сначала сам собой догорал старый огонь, а напоследок
Europa Posthuma сумела выдавить из себя только болотные огоньки
постмодернизма как «пост-смысла». Да и само вечное возвращение
как «рукоятка» молота было сделано из неподходящего для
задуманного дела материала, а именно фантастического, и не выдержало
удара по косной твердыне европейской рациональности, также как
некогда предшественница этой последней, греческая
рациональность, не далась восточному влиянию. Великий терминатор попал
не туда, куда метил, а в себя самого - именно это зрелище и
потрясло весь мир, т. е. несколько десятков тысяч интеллигентов; правда,
из-за грохота и кучи обломков да пыли, окутавшей место
трагического происшествия, никто, кажется, не разобрал, куда пришелся
роковой удар. Обломки утрамбованы временем, пыль рассеялась,
эхо грома затихает; но для тех, кто видит, остался чистый свет,
высеченный тем ударом.
Итак, вечное возвращение как коренная бессмысленность
самого бытия должно было положить предел - чему? И в этом третий
смысл идеи вечного возвращения, для самого Ницше уже закрытый:
она положила предел «западной метафизике» (по выражению М.
Хайдеггера, прямо связывавшего вечное возвращение с
«нигилизмом»53). Что ж, тут Ницше ломился в уже открывающиеся ворота,
разве что немного ускорил их открывание. Конец западной
метафизики как конец осмысленного бытия Европы наступил и без него:
но он стал его классическим провозвестником, оформителем и
выразителем, хотя и не совсем в том смысле, какой придавал этому Хай-
деггер. Европейская цивилизация как смысл прекратила свое
существование, став бессмыслицей как лишенностью всякого смысла, -
но не из-за идеи вечного возвращения (да и не того хотел Ницше),
а по иным, гораздо более серьезным причинам. Впрочем, это уже
тема для совсем другого исследования54.
324
«Вечное возвращение» и античность
Примечания
1 За ценную информацию и замечания, которыми я
воспользовался в этой работе, мне приятно поблагодарить СВ. Казачкова, А.
А. Столярова и 3. А. Тажуризину. Настоящая версия статьи несколько
(и, как надеется автор, в лучшую сторону) отличается от публикации
в журнале «Вопросы философии» (2007. № 12).
2 См.: «Заратустра» или «Заратуштра»?//Вопросы философии.
2006. № 9.
3 Возможна еще и тема «Вечное возвращение в период между
античностью и Ницше», но ею я заниматься не намерен. Материалы
на тему вечного возвращения как «исторического архетипа» см. в
кн.: Eliade M. Le mythe de l'éternel retour. Archetypes et répétition. P.,
1969 (рус. пер.: ЭлиадеМ. Миф о вечном возвращении. Архетипы и
повторяемость. СПб., 1998).
4 Те из них, что поважнее, привожу в более полном виде; на
тексты, не привносящие ничего существенно нового в сравнении с
приведенными, даю только ссылки в разных местах статьи (для
краткости - на «Фрагменты ранних стоиков» = SVF, номер фрагмента: фр.
107 - М., 1998. Том I. Часть 1; остальные фрагменты - М., 2002. Том II.
Часть 2); таким образом, составляя эту подборку, я
руководствовался принципом логической, а не абсолютной физической полноты.
5 Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. С. 71-72.
Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.
6 Имеется в виду «экпюросис», воспламенение, т. е.
периодические мировые пожары.
7 Последняя фраза в буквальном переводе гласит: « ...а бог
объявляется, согласно ему <Зенону>, творцом зла, пребывающим в ямах
с червями и неудобосказуемых местах». Скорее всего, упрощенный
перевод П. Преображенского - результат вмешательства тогдашней
цензуры. Приведенное место стоило бы ввести в соответствующий
фрагмент SVFne только ради полноты, но и потому, что это
показало бы его подлинное историческое место.
8 Вечно (или безостановочно, άεί - слово пропущено в
переводе Рановича).
9 Этот и все нижеследующие фрагменты SVF цитируются в
переводах А. А. Столярова (ссылку см. выше).
10 Об искусстве и литературе я уже молчу - ничего похожего на
«абсурдизм» или безысходный пессимизм в античности не было и
не могло быть: даже самые страшные трагические ситуации в
греческом художестве разрешаются в ощущении смысла - пускай тай-
325
Приложение
ного, запредельного, недоступного смертному уму, но непременно
наличного. Этот смысл - судьба, стоящая даже над богами, но отнюдь
не безумная или злая, как демиург гностиков, а просто сущая, как
вечная природа.
1 * Он не делает ничего, чтобы эти кавычки можно было понять
лишь как знак (внешнего) подобия или ассоциации.
12 В конце «Пира» (22Id) Алкивиад точно определяет Сократа:
он «...настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне
живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно похожего на него»
(пер. С. К. Апта). Чтобы говорить такое, надо уже знать самый
принцип личности вообще, «обыкновенной» личности. Сократ же поражал
воображение афинян потому, что выделялся на фоне обыкновенных
личностей, он был для них θαυμάσιος, поразительным (чудесным,
дивным, от слова θαΰμα, «чудо»). Будь он исторически первойлично-
стью, его нельзя было бы (потому что некому) и опознать в качестве
таковой; да и «первых личностей» не бывает, как и «первого
человека на земле».
13 Когда А. Ф. Лосев говорит, что Платон в своем проекте
государства отвергает личность, это совершенно правильно; но это не
значит, что Платон не был личностью, поскольку отвергал ее (кстати,
неясно, как можно было отвергать то, чего, по Лосеву, не
существовало). Совершенно так же сам Лосев отвергает «индивида» в пользу
«Родины» (кстати, вслед за платоновским Сократом - см. Критон,
51а-Ь), оставаясь при этом выдающейся личностью.
м Даже ранние христианские авторы еще не отошли от этого
мироощущения: ср., напр., у Тертуллиана («О воскресении плоти»,
12). Античность знала идеально-актуальную (к примеру, «мышление
мышления» Аристотеля) и реально-потенциальную (элеаты,
Демокрит) бесконечность - но для признания возможности дурной
бесконечности (отвергнутой уже Аристотелем) у нее был слишком
хороший вкус.
15 См.: Элиаде М. Цит. соч. (рус. пер.). С. 204.
16 Именно такова ситуация Ницше, который пошел было тут по
стопам Платона, но в решающий момент перепрыгнул в другую колею
(см. сноску 39).
17 Известно, что Ницше читал сочинения Евдема (то есть,
конечно, их фрагменты у античных авторов). Какого именно Евдема
(их было несколько в античности), немецкий биограф Ницше К. П.
Янц, приводящий эти сведения, в своей книге не указывает, но из
его текста следует, что именно Родосского (он приводит ту же
цитату, что и я).
326
«Вечное возвращение» и античность
18 «Греческие мыслители» (1895); автор, приведя цитату, на
нескольких страницах с мало понятным энтузиазмом на все лады
комментирует ее, привлекая данные древних и современных ему
(которые, впрочем, с его точки зрения, не подтверждают идею вечного
возвращения) естественных наук и, видимо, едва удерживаясь от
упоминания имени Ницше.
19 Гомперц, цитируя это место в своем переводе, словно нарочно
опустил часть фразы, приближающую возможность такого
прочтения, а именно слова «в том, будто все возвращается согласно числу
<кругооборотов>» (ώστε πάλιν τα αύτα άριθμω). Возможно, и Гомперц
не приписывал бы грекам идею «вечного возвращения», пиши он
до Ницше, когда делать это было почему-то не принято. Тогда,
вероятно, этого не делали бы и другие, поверившие ему, в том числе и
такие знатоки античности, как А. Ф. Лосев и Φ. Ф. Зелинский
(который, цитируя в статье «Фридрих Ницше и античность» Евдема,
перевел пропущенное 1Ъмперцем просто как «то по прошествии
некоторого времени»). «Пассы» маститого немца настолько
загипнотизировали филологов, что никто из них даже не попытался
продолжить наметившееся в виде возможности исследование этого
вопроса: все молча сочли, что он уже навсегда закрыт приведенным
местом из Евдема.
Каким образом воздействие Ницше искажающе сказывалось на
позднейшей науке, изменяя «оптику» исследователей, можно видеть и
на других примерах, скажем, Э. Жильсона, который без колебаний
квалифицирует приведенное им высказывание Сигера Брабантского
(см.: Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2004. С. 427, лев. кол.),
на самом деле далекое от этого (в ницшевском смысле), именно как
«вечное возвращение», и Б. Ван-дер-Вардена, который делает то же
с цитатой из Порфирия («Жизнь Пифагора» 19, 14). Последний
случай надо, пожалуй, разъяснить (кажется, так же неверно понимает то
же место и М. Элиаде, хотя и не дает перевода - см.: цит. соч. С. 186).
В совершенно правильном переводе М. Л. Гаспарова это место
гласит: Пифагор утверждал, что «...все рожденное вновь рождается через
промежутки времени, что ничего нового на свете нет и что все
живое должно считаться родственным друг другу». Вот как это же место
выглядит у Б. Ван-дер-Вардена в точной, специально оговоренной
передаче переводчика его книги с английского Г. Куртика: «...что
все, что когда-либо случилось, повторится через определенный
период и что ничто на самом деле не ново» (см.: Ван-дер-Варден Б.
Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. М., 1991. С.128). В
свете всего сказанного, да и безотносительно к этому, должно быть
327
Приложение
ясно, что имел в виду Порфирий (если не сам Пифагор): 1)
переселение душ («рожденное вновь рождается» - ниже выражением «все
живое» М. Л. Гаспаров перевел греческое έμψυχα, употребленное тут
не случайно и означающее буквально «во-одушевленное, то, во что
внедрена душа»); 2) см. Екклесиаста. Б. Ван-дер-Варден, кстати,
находящийся под тем же впечатлением от приведенного места из Ев-
дема, что и названные выше ученые, понимает тут Порфирия так,
как он его понимает, исходя из идеи о «предопределенной
повторяемости всех событий» (см.: там же), связанной, по его мнению, с
«астрологическим фатализмом» вавилонян и, следовательно,
пифагорейцев. Но у вавилонян не найти ничего похожего на вечное
возвращение того же (это, правда, не значит, что подобной идеи у них
не могло быть), а их фатализм - это совсем другое дело (см. цитату
из Секста Эмпирика в следующей сноске).
20 Даже любитель исторических анекдотов Диоген Лаэртский,
который, упоминая Евдема, не упустил бы возможности украсить
его образ такой вкусной подробностью. Не слышали ни о чем
подобном и хорошо осведомленный Цицерон, и дотошный Секст, а
сведения последнего показательны для античности, почему я и
процитирую место, которое могло бы иметь отношение к сюжету вечного
возвращения, но все-таки характерным образом не имеет:
«Поскольку же одна и та же конфигурация звезд наблюдается, как они (халдеи,
астрологи. - А А) говорят, через большие промежутки времени,
поскольку возвращение великого года происходит через 9977 лет, то
человеческое наблюдение не может распространиться на столько
веков даже при условии единственного возникновения мира. Если
же, как утверждают некоторые (т. е. стоики. - А А), уничтожение
мира прерывает это наблюдение не раз, но много раз или - что в
любом случае происходит частичное его изменение, то и тогда
уничтожается непрерывность исторической традиции» (СекстЭмпирик.
Против астрологов//Соч. в 2-х т. Пер. с древнегреч. под. ред. А.Ф.
Лосева. Т. 2. М, 1976. С. 191. Курсив мой. - А А).
21 Я напомню, что в эпоху, к которой относится большая часть
этих свидетельств, стоицизм уже давно существовал не как
философия, а лишь как моральная позиция. Поэтому стоики не могли
«вдруг» изменить свое учение или просто сместить в нем акценты.
Речь у наших «свидетелей» идет о глубоком прошлом, так что
акценты сместились именно у них.
22 Когда мы слышим, как в SVF, фр. 632 Плутарх говорит о
стоическом учении, будто согласно ему «будет существовать...
безграничное количество Гелиосов, Селен, Аполлонов, Артемид и Посейдо-
328
«Вечное возвращение» и античность
нов», надо учитывать, что под богами тут подразумеваются мировые
законы. Дион же Хрисостом (ум. в 117 г.), излагая учение о
«воспламенении», и вовсе приписывает ему смысл прогресса: «Закончив и
завершив дело <восстановления мира>, он <мировой ум> являет
существующий мир вновь исполненным непередаваемой прелести и
несказанной красоты, гораздо более великолепным, чем тот, что мы видим
ныне» (SVF, фр. 622, курсив мой. - & Б.).
23 Впрочем, можно предположить, что было у него на уме.
Тождество вечно возвращающихся вещей означало бы, в сущности, что
никакая вещь не претерпевает уничтожения, а если и претерпевает,
то лишь мнимо; иными словами, все вещи неуничтожимы, вечны,
- а это отменяет необходимость их творца. Неотличимость же не
просто предполагает творца (потому что требует тождества вещей в
модусе essentiae, но их отличия друг от друга в модусе existentiae, «нуме-
рически»), а превращает его в раба, по какой-то неизвестной
причине вынужденного бесконечно творить неотличимые друг от друга
вещи. Разумеется, ни один христианин не захотел бы иметь ничего
общего с такими идеями. Ницше («По ту сторону добра и зла», разд.
3, № 56) предполагает, что такая необходимость вечного «da capo»
- абсолют, который уже ничем другим (кроме его, Ницше, добавлю
от себя, собственного горячего желания, чтобы было именно так, а
не иначе) не объяснишь. Такой circulus vitiosus- это и есть для Ницше
«deus», правда, с вопросительным знаком в конце (см. там же).
24 См.: ПСС, т. 13, 14 [188]. Вот эта формулировка (не первая у
Ницше, но наиболее артикулированная): «Если мир можно
представлять себе как определенное количество силы и как
определенное количество средоточий силы - а любое другое представление
будет неопределенным и, значит, негодным, - то отсюда следует,
что за все время великой игры в кости, то есть своего
существования, он непременно пройдет через исчислимое количество
комбинаций. Любая возможная комбинация когда-то в бесконечном
времени будет разыграна; мало того, она будет разыграна бесконечное
число раз. А поскольку между любой «комбинацией» и ее следующим
«повторением» должны быть разыграны все вообще возможные
комбинации, а каждая из этих комбинаций обусловливает собою всю
серию комбинаций в одном ряду, то это докажет круговорот
абсолютно тождественных рядов: <получится> мир как круговорот,
который уже повторялся бесконечное число раз и разыгрывает свою
партию in infinitum» (пер. мой. - В. Б.). Правда, про себя при этом
он считал - в начале 1888 г., уже опубликовав «Заратуштру»! - что
«такой механизм должен играть для нас роль несовершенной и пред-
329
Приложение
варительной гипотезы» (там же). Первая из известных мне ницшев-
ских формулировок «вечного возвращения» тоже поставлена в
сослагательное наклонение (см.: «Утренняя заря», аф. 130).
25 Идея времени, разделяющего два и более «тождественных»
момента, чревата апорией: это время или бесконечно, или конечно.
По если оно бесконечно, то уже второй из этих моментов никогда
не наступит. А если небесконечно, то «все возможные комбинации»
могут не успеть разыграться.
26 Во всяком случае, против использования Августином Евдемова
пассажа говорит то соображение, что в античных (а что ни говори,
в молодости Августин был профессиональным античным ритором)
парафразах примеры из авторских текстов сохранялись в
изначальном виде, потому что воспринимались не как необязательные
добавки, а как законные остенсивные части аргументации.
Предположим, епископа могла подвести ослабевшая память (и плохое
знание греческого; впрочем, чаще он пользовался чужими латинскими
пересказами греческих текстов) - но в других случаях она его почему-
то не подводит.
27 В русском синодальном переводе вместо «по кругу» ( Wig.: cir-
cuitus, Sept.: κύκλω) - «повсюду», что звучит не так буквально, но
более осмысленно, если понимать «повсюду кругом».
28 См.: Виденгрен Г. Мани и манихейство. СПб., 2001. С. 105.
2» Там же. С. 105 ел.
3° Августин был в свое время манихеем низкой, но не низшей
ступени посвящения, причем, видимо, претендовал на более
высокую («мои старания продвинуться в этой секте», говорит он в
«Исповеди»). Но он мог знать больше, чем ему полагалось по рангу,
благодаря разговорам с Фавстом, манихейским «епископом». Впрочем,
разговорами этими он остался неудовлетворен, поскольку, по его
словам, не получил ответов на свои вопросы, - и, возможно, думал,
что от него скрывают что-то очень важное (да так, наверное, и
было).
31 Если Ницше и некоторые его последователи (а такие
имеются) заявляют, будто с удовольствием кружатся в этом колесе, отсюда
вовсе не следует, что такое же удовольствие будут испытывать
другие, и гипотетические «избранные» тоже вряд ли его испытывали.
32 См. : Кефалайа ( «Главы» ). Коптский манихейский трактат. Пер.
с коптского, исследование, комментарий, глоссарий и указатель Е.Б.
Смагиной. М., 1998. С. 438. Здесь и ниже я ссылаюсь на исследования
Е.Б. Смагиной, помещенные в этой книге.
33 См.: там же.
330
«Вечное возвращение» и античность
34 См.: там же. С. 439. Впрочем, в этом регионе с древними и
тесными перекрестными связями (Египет - Сирия - Месопотамия -
Персия) мыслимы скорее заимствования - хотя даже заимствования
невозможны без общей, т. е. архетипической основы.
35 Это представление не было у манихеев тайным ни в какой
степени, а было вполне обычным. В качестве такового оно известно и
Августину, который (если я прав) никак не соотнес известную ему
часть головоломки (вечное возвращение) с неизвестной, вернее, не
понял, что за хорошо известным скрывается неизвестное как ключ
(см.: Sermones de tempore, CCXL, IV: «...eas vero animas quae bene vixe-
runt, cum exierint de corporibus, ire ad superna coelorum, requiescere
ibi in stellis et luminibus istis conspicuis» - это манихейское
представление о душах праведников, душах, после смерти не подлежащих
метемпсихозу, как прочие, а попадающих в «упокоение», здесь - на
звездах высшего неба). Но для этого ему надо было, пожалуй, знать
учение Будды.
36 См.:Кефалайа.С441.
37 В этом смысле примечательно, что Ориген (Против Кельса,
116,30) перечисляет в одном ряду Моисея, Лина, Орфея, Ферекида,
а также... «перса Зороастра» и Пифагора. Он был в этом не одинок.
Что же касается дионисовского миросозерцания, я отнюдь не
утверждаю, будто оно было основано на переживании вечного
возвращения (не утверждал этого и Ницше - но понимал вечное
возвращение как возобновленную и обновленную религию Диониса).
Я лишь говорю, что оно было принципиально совместимо с
последним - в отличие от нового греческого мировоззрения, «аполлонов-
ского». Правда, можно сделать и совсем уж гипотетический вывод:
возможно, сам античный циклизм был защитной реакцией на немую
«угрозу» вечного возвращения: «А все-таки они (миры) не
повторяются точь-в-точь!».
38 Соответствующие немногочисленные свидетельства о
Гераклите (например, фр. SVF 630) я не учитываю: все они поздние и
ненадежные даже в глазах самих авторов (см., например, у Симпли-
кия, фр. SVF617: «(...) что, как считается, утверждали Эмпедокл и
Гераклит...»; другие не уверены в длительности «великого года» у
Гераклита - то ли 8000, то ли 18000 лет, то ли и то и другое, но по
разному счету). Тут могло произойти то же, что с учением стоиков:
«мягкая» модель заменилась (в позднейших трактовках) «жесткой»
- возможно, не без восточных влияний.
39 Мир как разыгрывание «любых возможных комбинаций» был
бы абсолютной энтропией: но он существует как раз потому, что «ра-
Приложение
зыгрываются» не всевозможные комбинации. В другом месте из
цитированного выше фрагмента Ницше отвергает один вид энтропии
(второе начало термодинамики в формулировке У. Томсона -
пресловутую «тепловую смерть вселенной»), чтобы тут же заменить его
другим (ср. другую его формулировку: «Закон сохранения энергии
требует вечного возвращения» - /7СС, т. 12, 5 [53]; но ведь это неустра-
няет «тепловой смерти», а только экземплифицирует ее до дурной
бесконечности «вечного возвращения», каковое было бы наиболее
злостным видом энтропии, если бы только встречалось где-нибудь,
кроме как в мышлении). Абсолютная обратимость циклической ниц-
шевской вселенной равнозначна, по сути дела, «отрицанию времени
и сложности», характерному, по словам И. Р. Пригожина, для
классической науки в целом. Ницше, таким образом, оставался в ее
рамках - только он довел эту ее потенцию до крайности.
4° Пусть этот пафос и не был их сознательной позицией: даже
отрицающий наличие у Хрисиппа «πάθη» Генрих Дёрри пишет, что
«и в форме и в содержании его сочинений отразился весь ригоризм
абсолютно формализованной философии» (Paulys Realencyclopädie
der Classischen Altertumswissenschaft. Supplementband XII. Stuttgart,
1970. S. 152). Стоическим пафосом был самый дух этой насквозь
пронизанной логикой «формализованной философии», рассудочности,
доведенной до гениальности, дух, ставший уже в античности
предметом и насмешек, и изумления.
41 Такое положение дел, пусть и в другой форме, сам Ницше
распознал очень рано (см. доклад «Сократ и греческая трагедия», 1871,
почти без изменений вошедший в «Рождение трагедии из духа
музыки»): «дионисовское» начало, по его мнению, выражало
ориентации бессознательного, «аполлоновское» - сознания и его острия,
мышления.
42 Что предшествовало этой сравнительно новой
психологической позиции, можно видеть на примере позднего Платона,
оказавшегося на перепутье, - в «Политике» (268е-272а) он строит
замысловатый миф, основанный на циклической идее в сочетании с идеей
обратимости времени (причем, вполне возможно, «циклы» времени
и являются циклами обратимости): в одном цикле космосом
управляет сам его создатель, и время течет «вперед», а в следующем цикле
бог дает творению свободу, и тогда время идет вспять. Этой идее не
соответствовал никакой явный философский смысл, и она в
качестве философской не обсуждалась (что-то подобное в последние
десятилетия появилось в качестве маргинальной физической
гипотезы, статус которой пока близок к метафизическому). Зато у нее есть
332
«Вечное возвращение» и античность
смысл психологический: она выражает тот факт, что сознание
(«сотворенный космос») еще не решилось обособиться от
бессознательного («творца», бога) и находилось под его частичным контролем.
Что такая позиция сильно отличалась от стоической, очевидно из
перемены значений энтропии и негэнтропии: у Платона первая
свойственна именно сознанию (управляемому), а вторая
бессознательному (управляющему); у стоиков сознание (космос) уже умеет
управлять собой, пусть пока и не без помощи бессознательного, и делает
это на основе автоматически действующей закономерности (в ее
самой примитивной форме - механической причинности и
повторения). Чем дальше, тем больше в истории европейского мышления
Бог осмысливался как абсолютное сознание (хотя с психологической
точки зрения не переставал при этом быть манифестацией в
сознании именно бессознательного).
43 Мотив мирового огня в сочетании со стоическим идеалом
мудрого покоя напрашивается на сопоставление с аналогичными
восточными представлениями. Об огне у стоиков уже сказано; их покой
больше похож на защитную, непробиваемую невозмутимость
активных деятелей - пионеров разума, своего рода «мучеников познания»,
охотно подставляющих стрелам судьбы (или клюву орла - печень по
традиции связывается со стихией огня) себя как добровольную
искупительную жертву (за «похищенный у богов» огонь) - в надежде, что
она будет принята и оправдается. За реконструированным
восточным вечным возвращением - с психологической точки зрения - стоял,
напротив, страх перед движением сознания вперед (а не перед
«историей», как пытался доказать М. Элиаде, совершив ошибку
ретроспективной проекции современного понятия истории на древние общества),
перед его преждевременным отрывом от бессознательного (или
мудрое воздержание от такого движения), заставлявший сознание
топтаться на месте или, точнее, ходить по «священному» кругу, постоянно
возвращаясь к своей исходной точке (у греков с их «мягкой»
вариацией вечного возвращения такой страх в значительной мере оказался
преодолен). «Покой» же (нирвана), как сказано, компенсировал этот
страх. Подобные восточным мотивы, в свою очередь, были чужды
Ницше, возможно, только на поверхности его сознания: глубокий
архаизм его идеи вечного возвращения был призван бессознательно
компенсировать форсированное движение его сознания вперед.
44 Нечто подобное, но в другом направлении, пыталась делать
уже поздняя античность - в лице неоплатоников Плотина и
особенно Ямвлиха; но уже «аристотелизирующий» Прокл поддается
общему движению в сторону полной автономии мышления.
333
Приложение
45 Ср. стихотворение Ницше «Се человек» (№ 62 из
стихотворной прелюдии к «Веселой науке»):
Я-то знаю, кто я родом!
Неотступно, год за годом,
Всё огню в себе предам:
Где иду - там жар сияет,
Сзади - пепел остывает;
Значит, пламя я и сам.
(перевод мой. - В. Б.).
46 Прокл. Первоосновы теологии. Гимны. М., 1993. С. 36.
Исправляю очевидную опечатку в этом издании - «усмотрению» вместо
нужного «устроению», (κατά την) τάξιν, и толкую выражение «вечно
возвращается» (έπέστραπται αεί) расширительно: «вечно» тут можно, а,
пожалуй, и нужно понимать еще и в смысле «постоянно, в каждый
момент времени».
47 См.: Institutio physica. 2.19.
48 Вопрос о том, знал ли Ницше соответствующие
формулировки Плотина, Прокла и, в конце концов, Симпликия, совершенно не
важен (да и, вероятно, неразрешим): знал или не знал, но Прокл
хотел своего, а Ницше - своего.
49 Того, кто прочувствовал предельный статус (онтологический
или психологический, что, впрочем, одно и то же) смысла,
неодолимо тянет испробовать его альтернативу - абсурд в чистом виде.
Это можно делать не только с серьезной целью, как Ницше, но и с
игровой, художественной, как сделал, скажем, X. Л. Борхес (см.
рассказ «Бессмертный» из сборника «Алеф»). Последнего, кстати,
привлекала идея Ницше (см. эссе «Циклическое время» из сборника
«История вечности» и др.), но он подошел к ней исключительно как
эстет - она интересовала его, кажется, лишь как изящная
безделушка (благодаря своей абсурдности и симметричности).
5° Евдем (если только Симпликий, вернувшись из Персии, где
мог беседовать и с манихеями, и с зороастрийцами, ничего не
напутал) обнаружил принципиальную представимость этой идеи, но,
как я уже сказал, ни он и никто другой в античности всерьез ее не
принимал; его же «смелость» объяснима то ли любовью к шуткам,
то ли, наоборот, холодностью и объективной отстраненностью,
либо природными, либо усвоенными от учителя. Дополнительное
оживление вносит в эту коллизию то обстоятельство, что Евдем, по
словам Диогена Лаэртского (кн. 1, вступление), был знаком с учением
«магов», т. е. зороастрийских жрецов, - так же как и Аристотель,
которому приписывалось даже (правда, ложно) не сохранившееся
334
сочинение «О магии» (см.: там же). Что все это значит, можно уже
только гадать, чего мне делать не хочется.
51 Надо различать бессмыслицу как 1 ) бытийную внелогическую
противоположность смысла - это, в терминах А. Ф. Лосева, будет
необходимо меональный момент в эйдосе - и 2) как абсолютный меон,
отсутствие смысла, свойственное некоторым выродившимся
цивилизациям. Идея вечного возвращения - это, разумеется,
бессмыслица в первом смысле. Сам Ницше выразил это, например, так: «Я
противоречу - и все же я - нечто противоположное духу отрицанья»
(ЯСС, т. 13, 25 [6]).
52 Или, если называть вещи своими именами, мифологического.
Другая сторона наивного замысла Ницше состояла в том, чтобы,
сокрушив европейскую рациональность, создать новые основы
духовной жизни в виде мифа (наивность я усматриваю в обращении с
этой целью к прошлому, к отжившему, - во-первых, к мифу как
таковому, во-вторых, к его конкретным формам: вечному возвращению
и «дионисийству»).
53 См. его эссе «Слова Ницше "Бог мертв*'».
54 См. мою книгу: Лестница в бездну. Ницше и европейская
психическая матрица. М., «Культурная революция», 2012.
Карл Лёвит
Ницшевская философия вечного возвращения того же
Редактор И. Эбаноидзе
Вёрстка С. Куликов
Подписано в печать 31.10.2015.
Формат 60x90/16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура NewBaskervilleC. Печать офсетная.
Печ. 21. Тираж 700 экз. Заказ №
Издательство «Культурная Революция»
Адрес: Москва, ул. Новосущёвская, д. 196
Телефон (499) 973 1662, e-mail editor@kultrev.ru