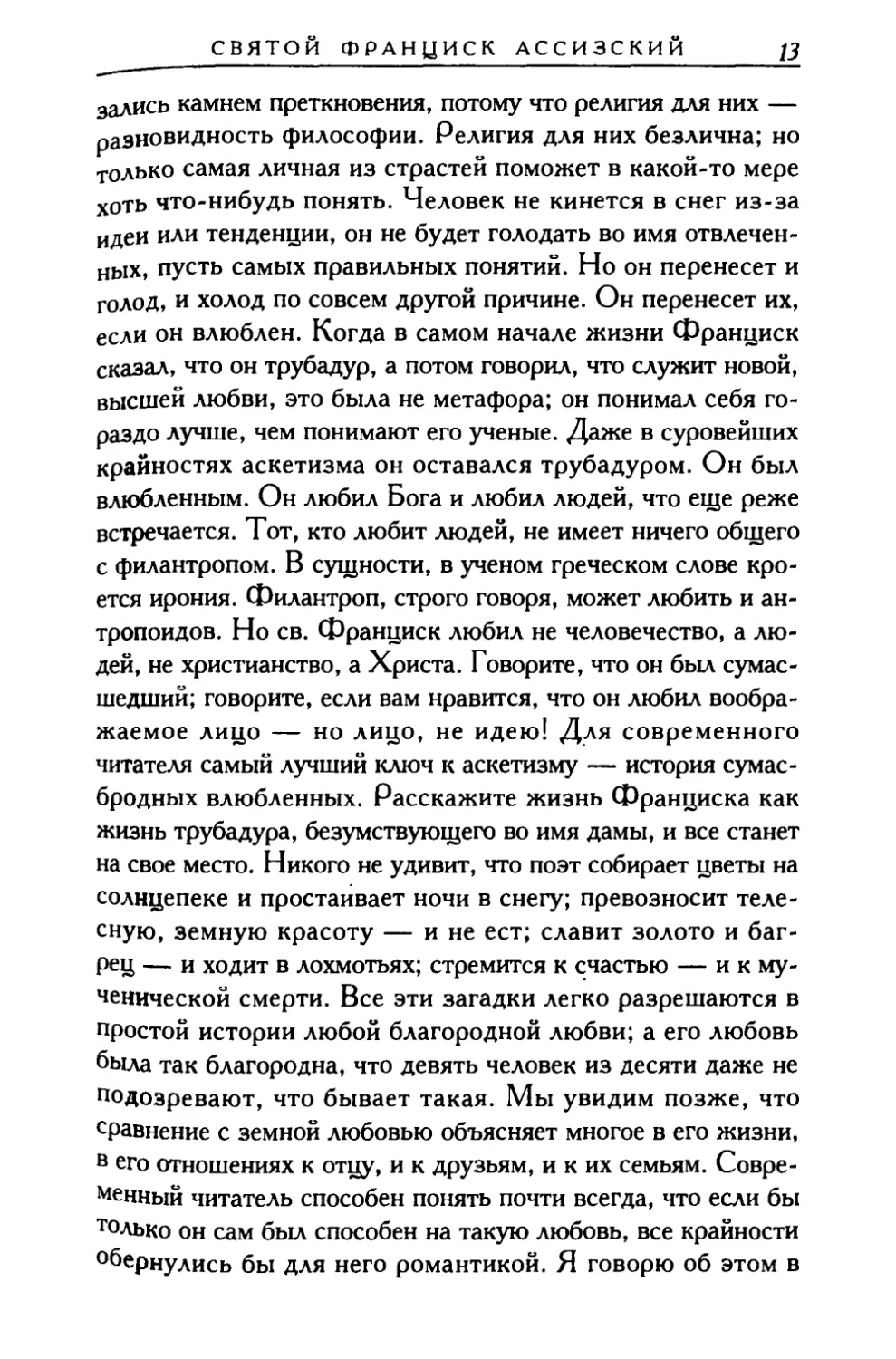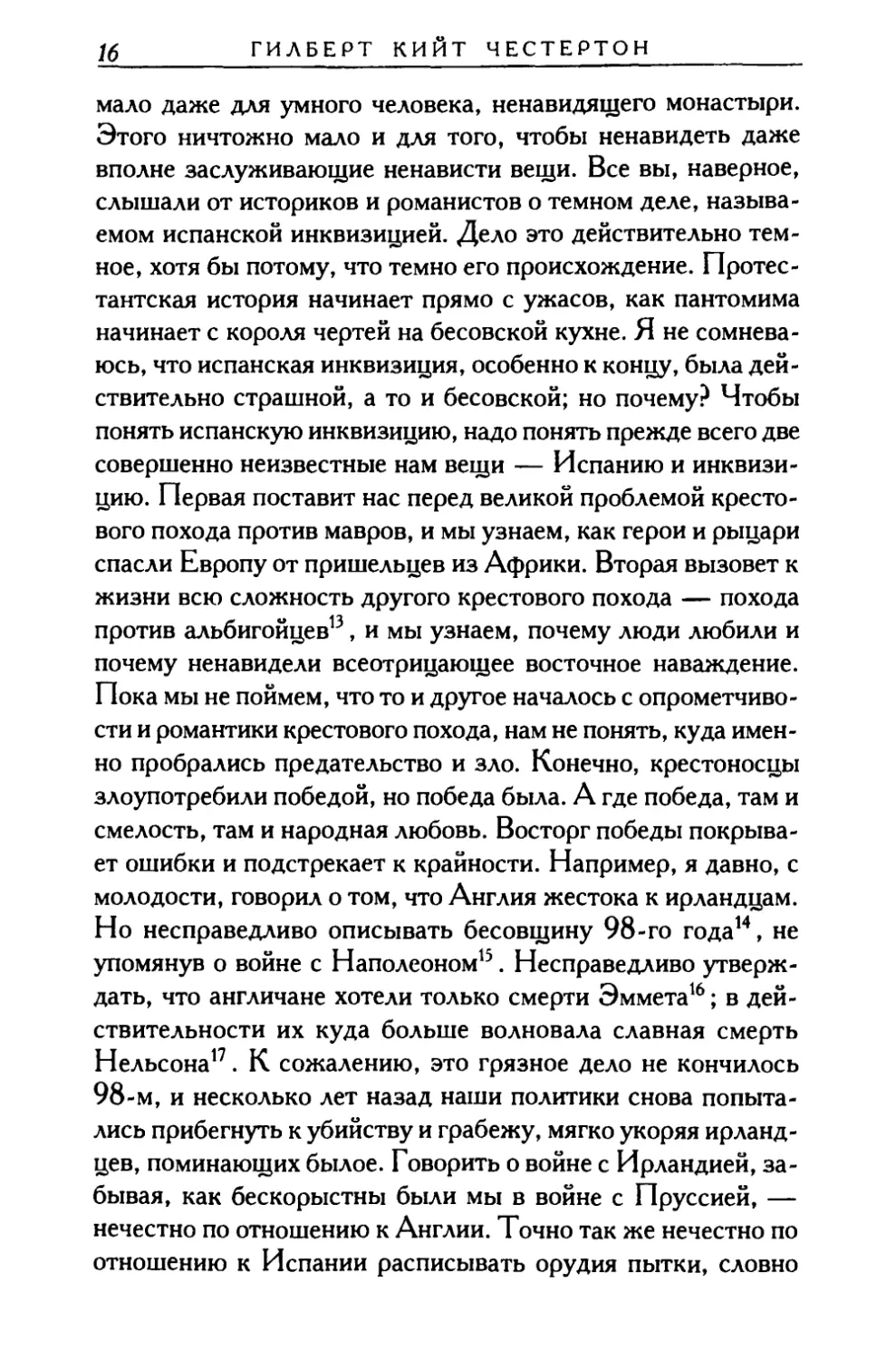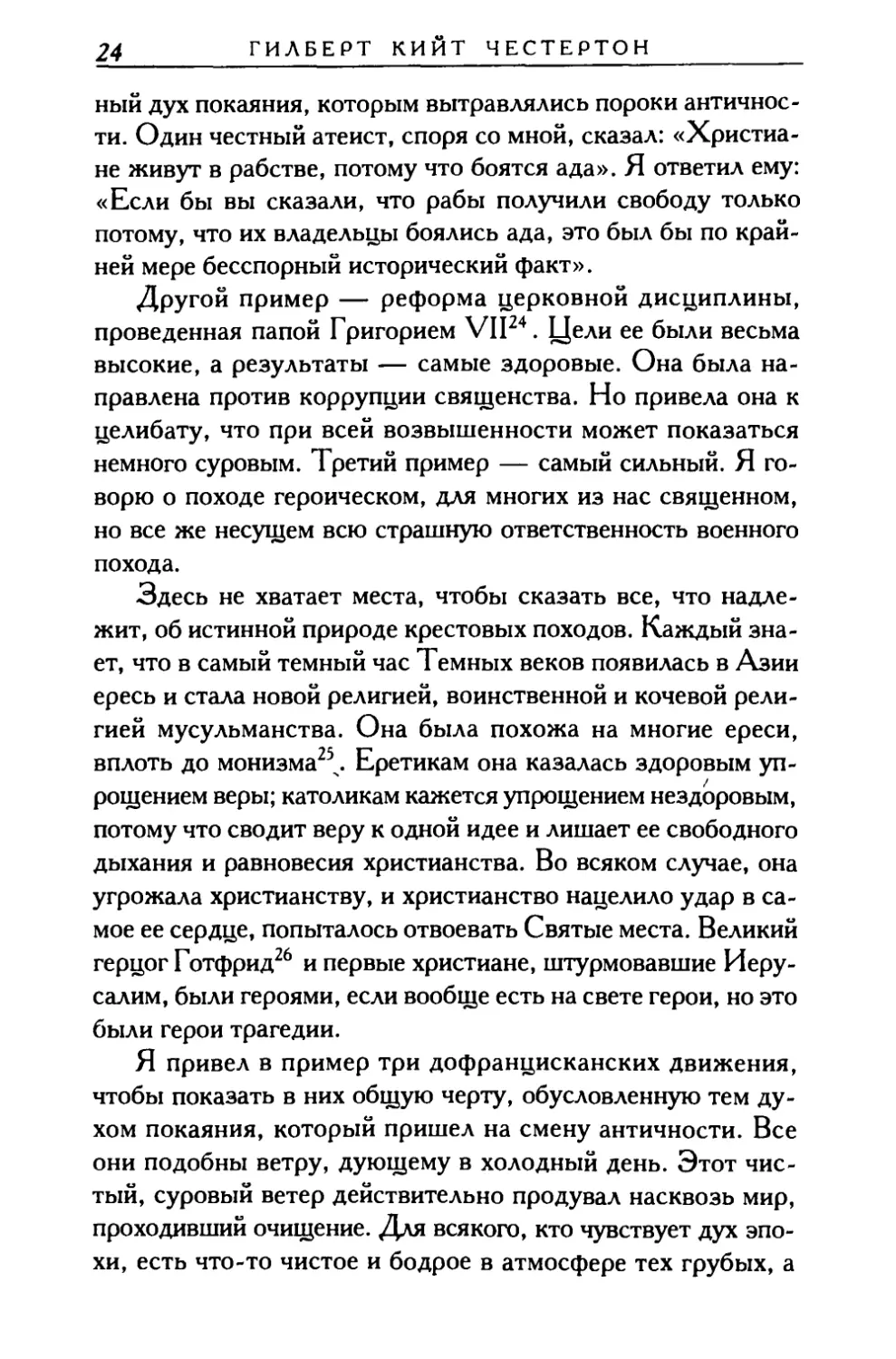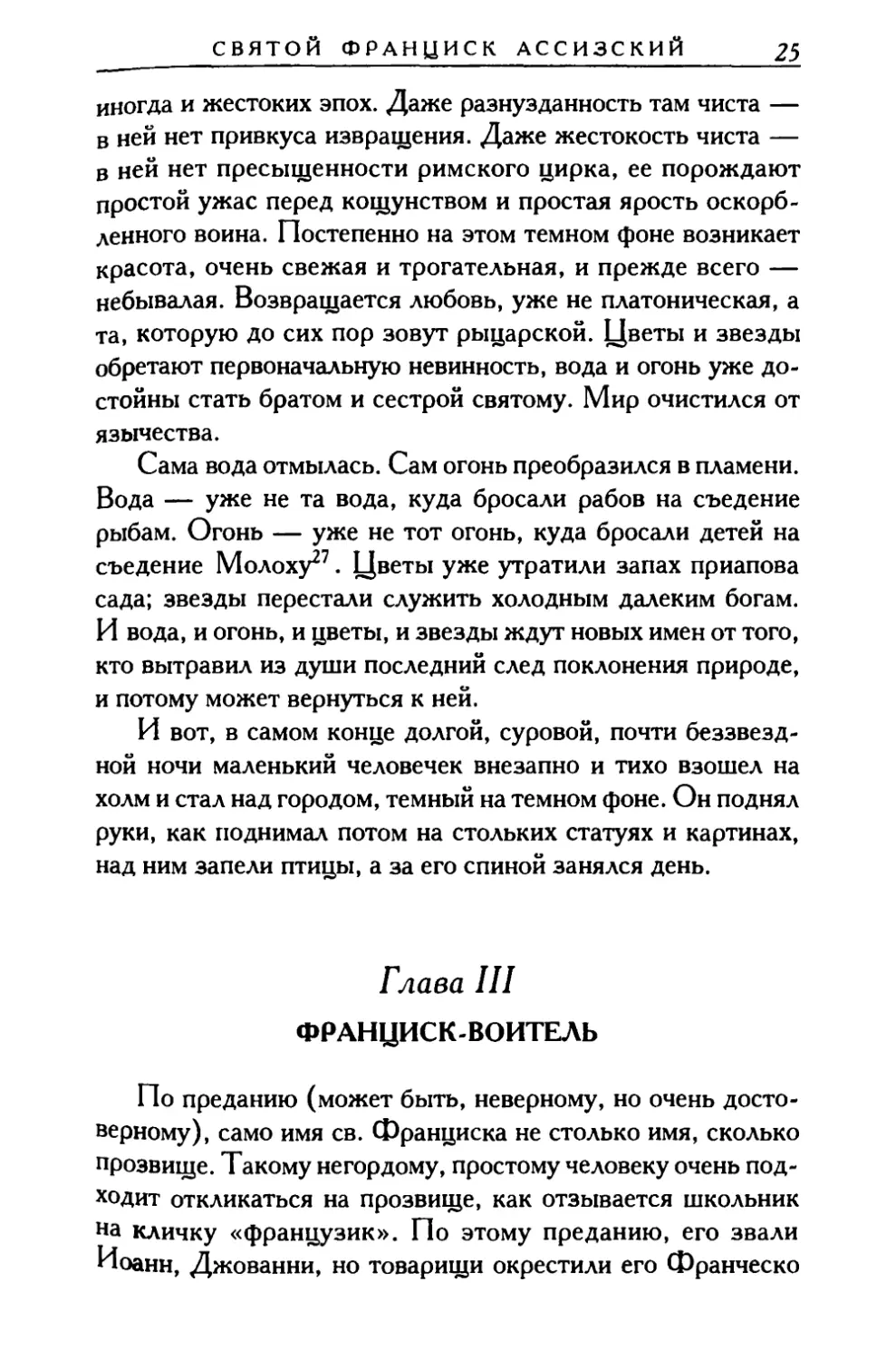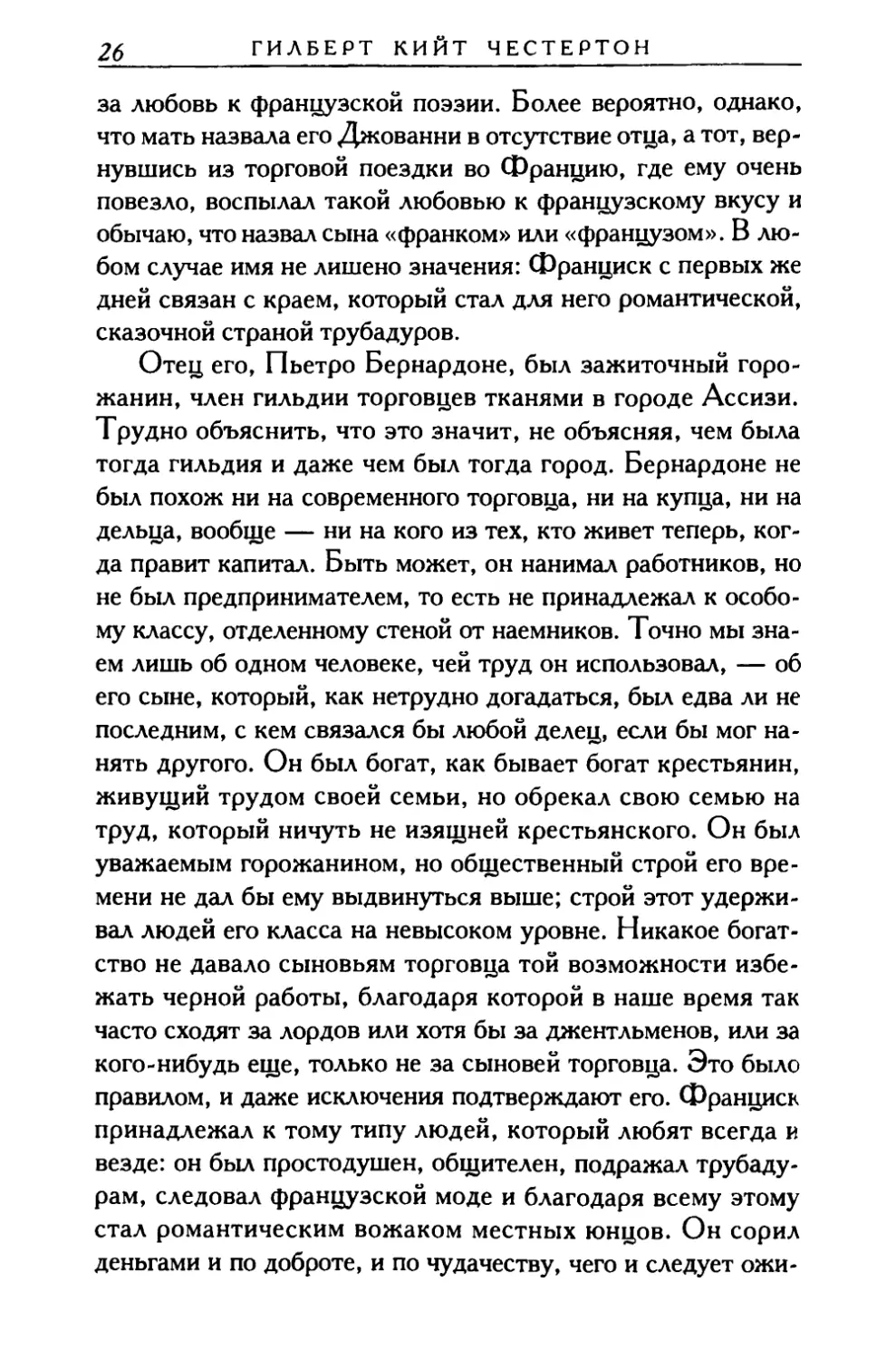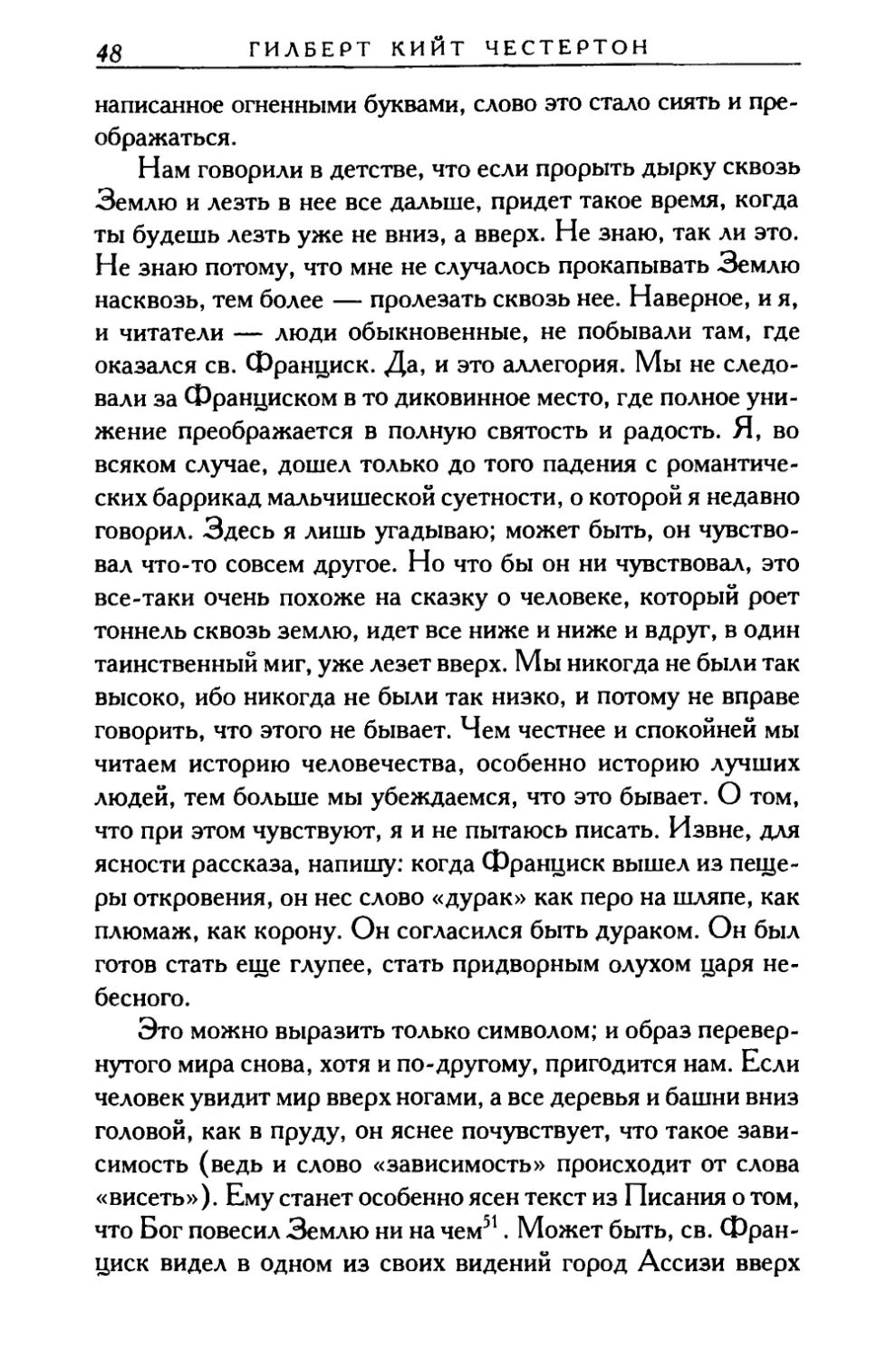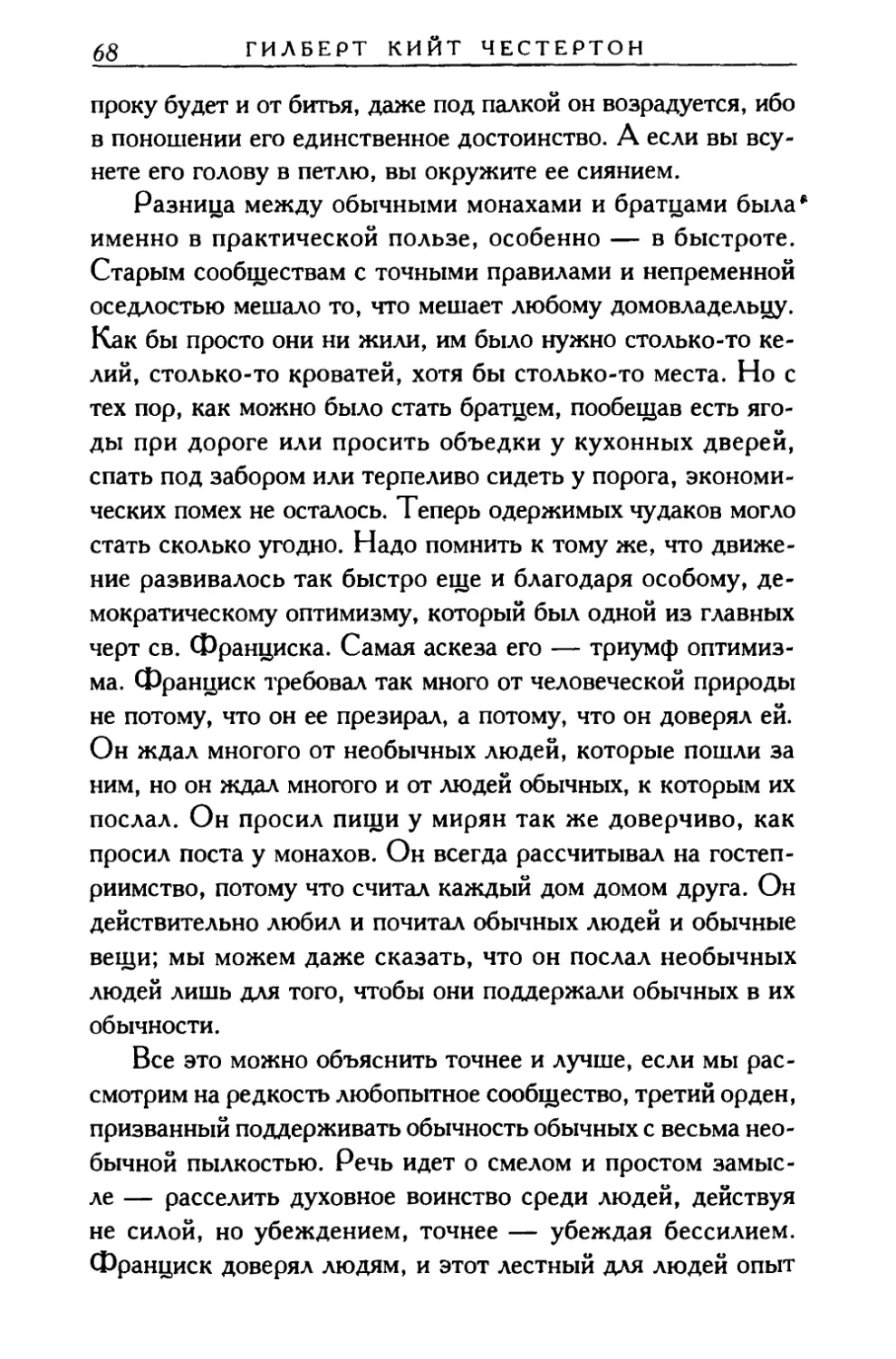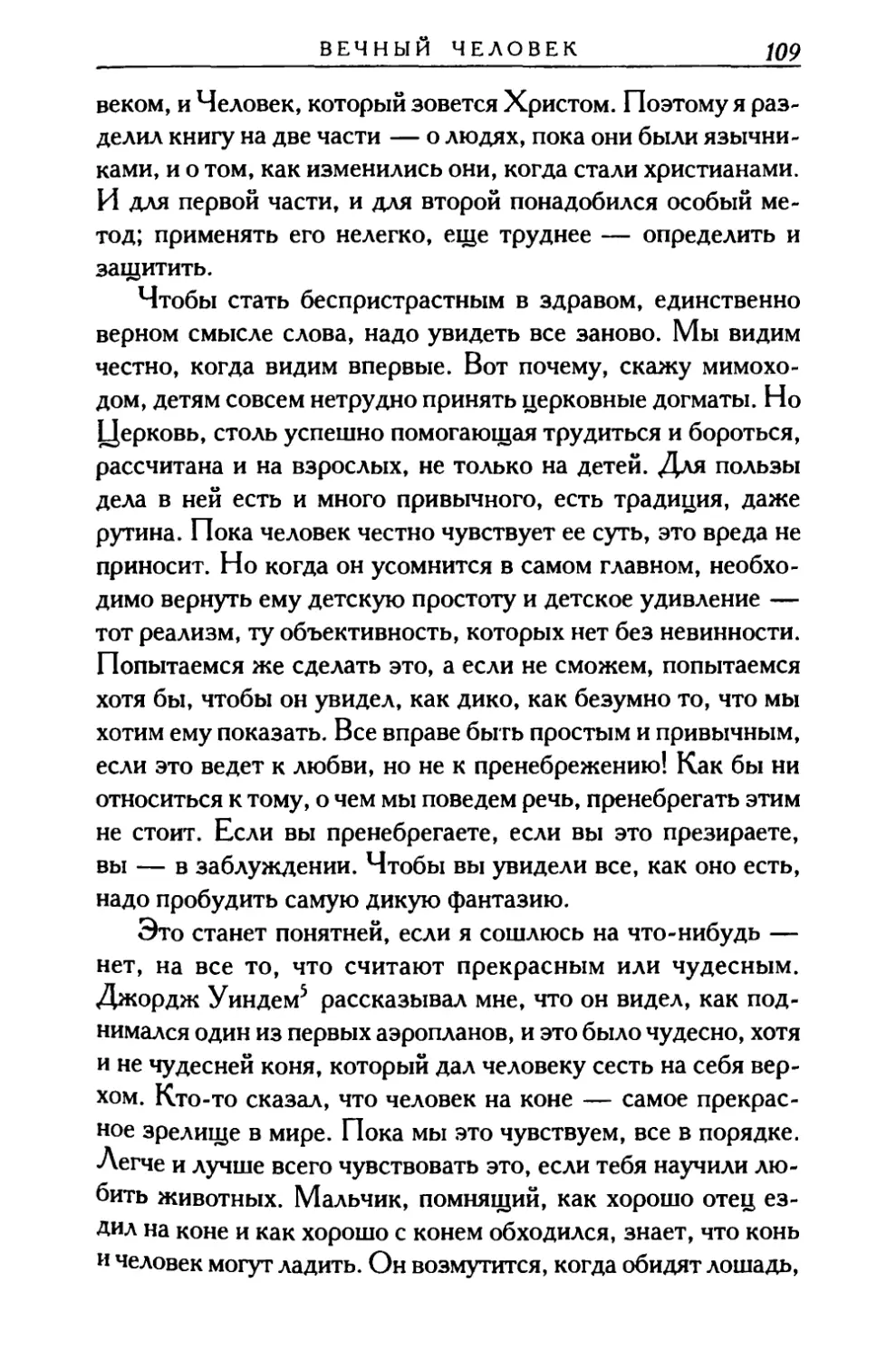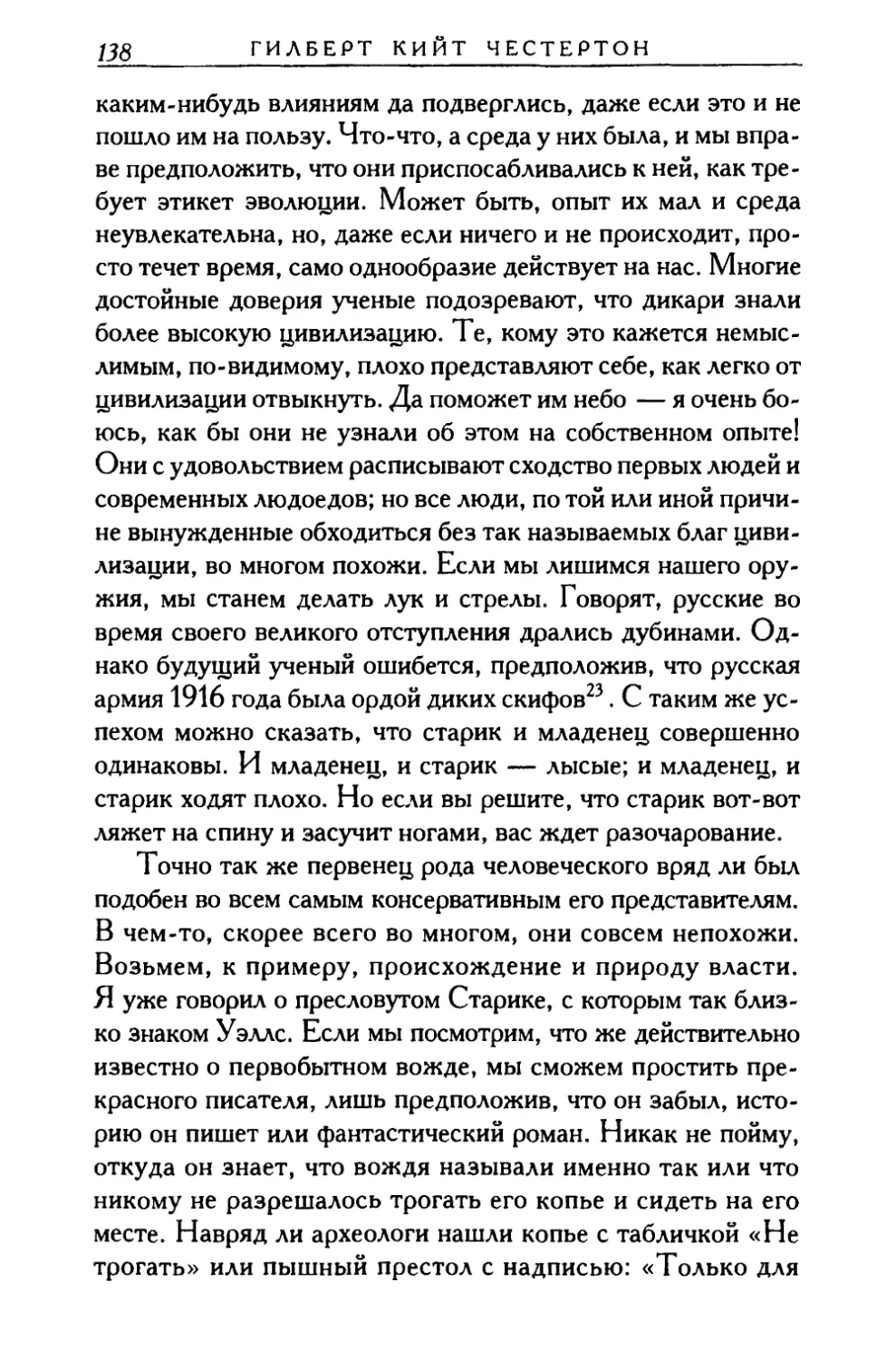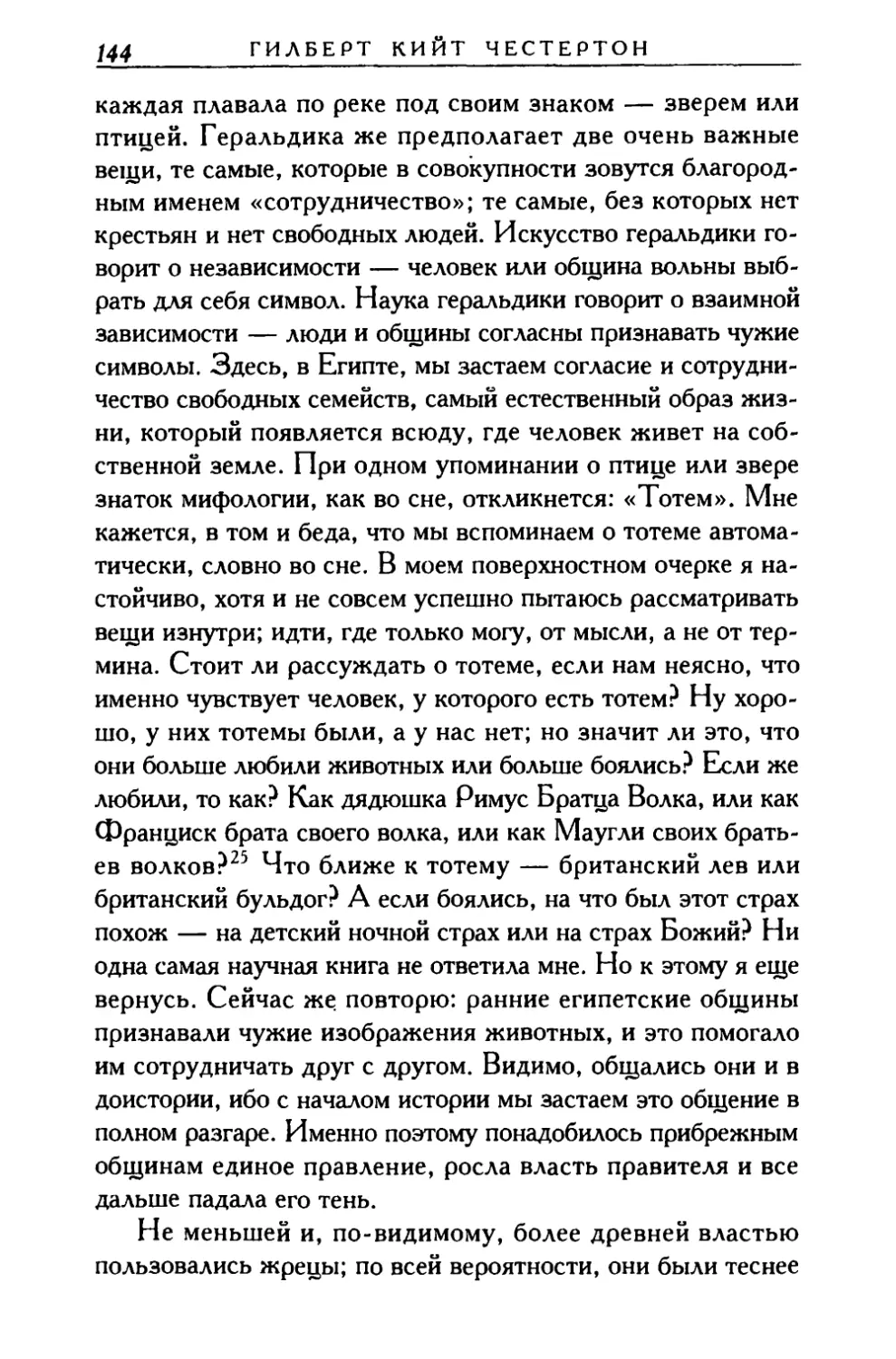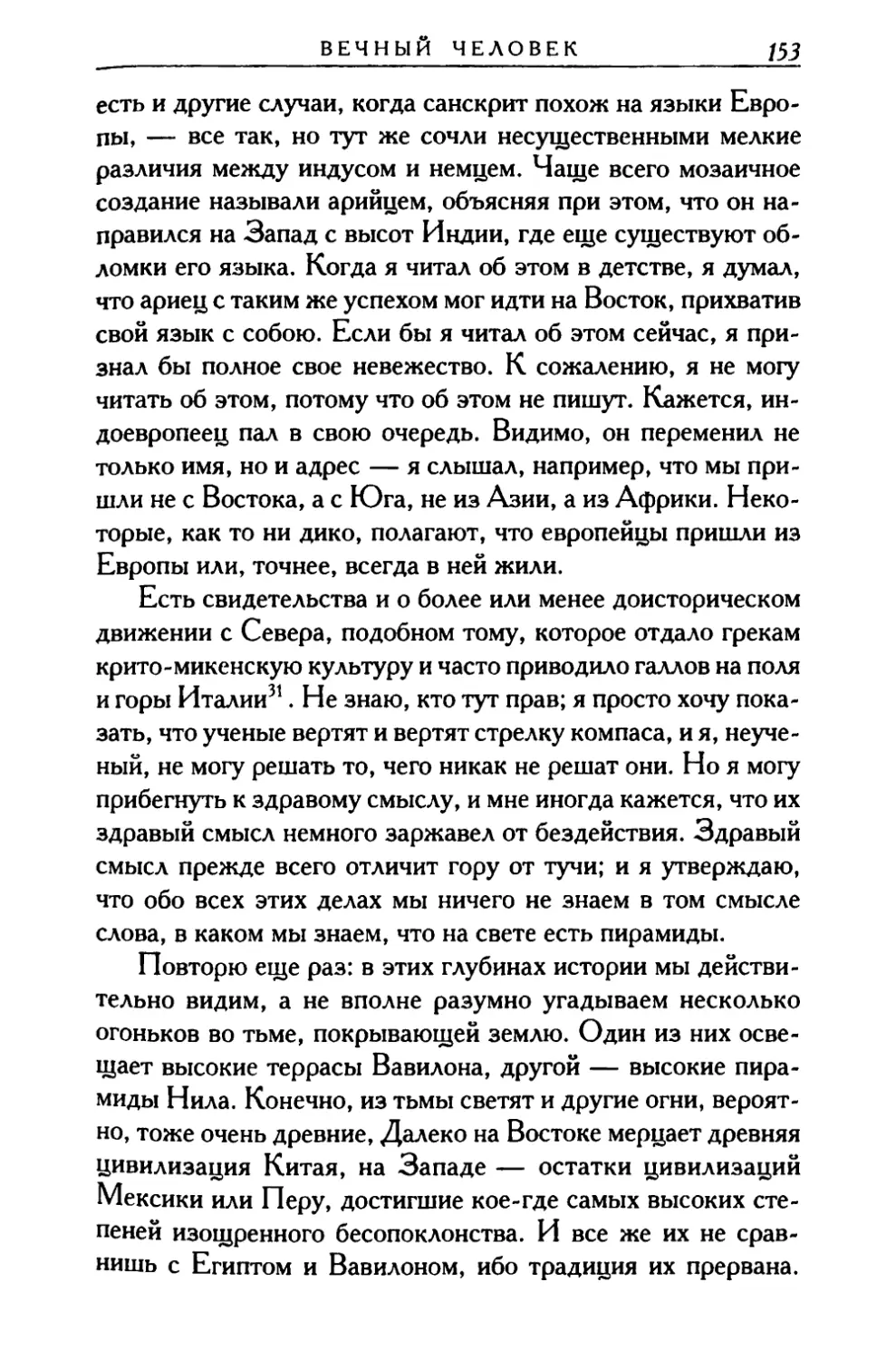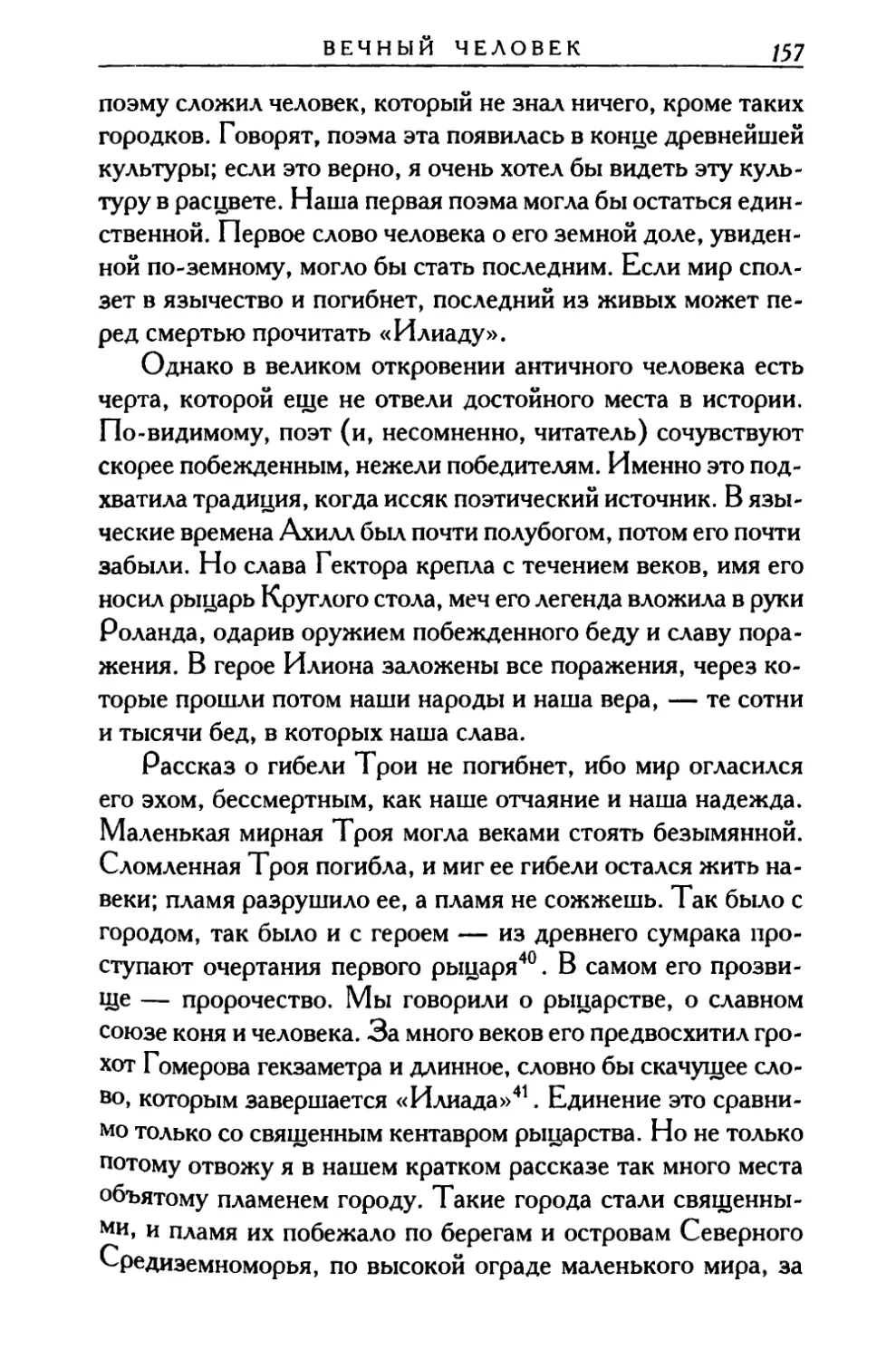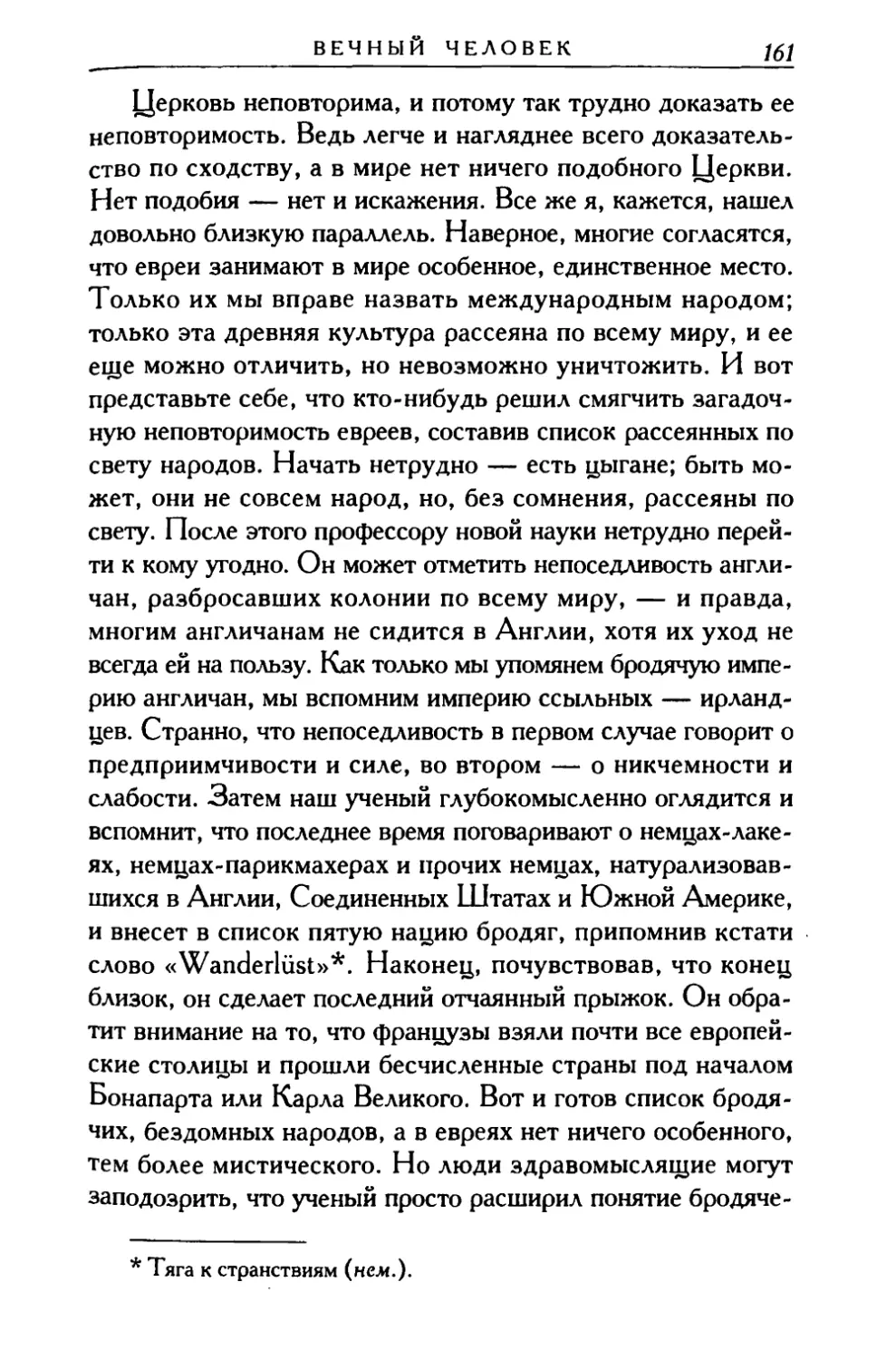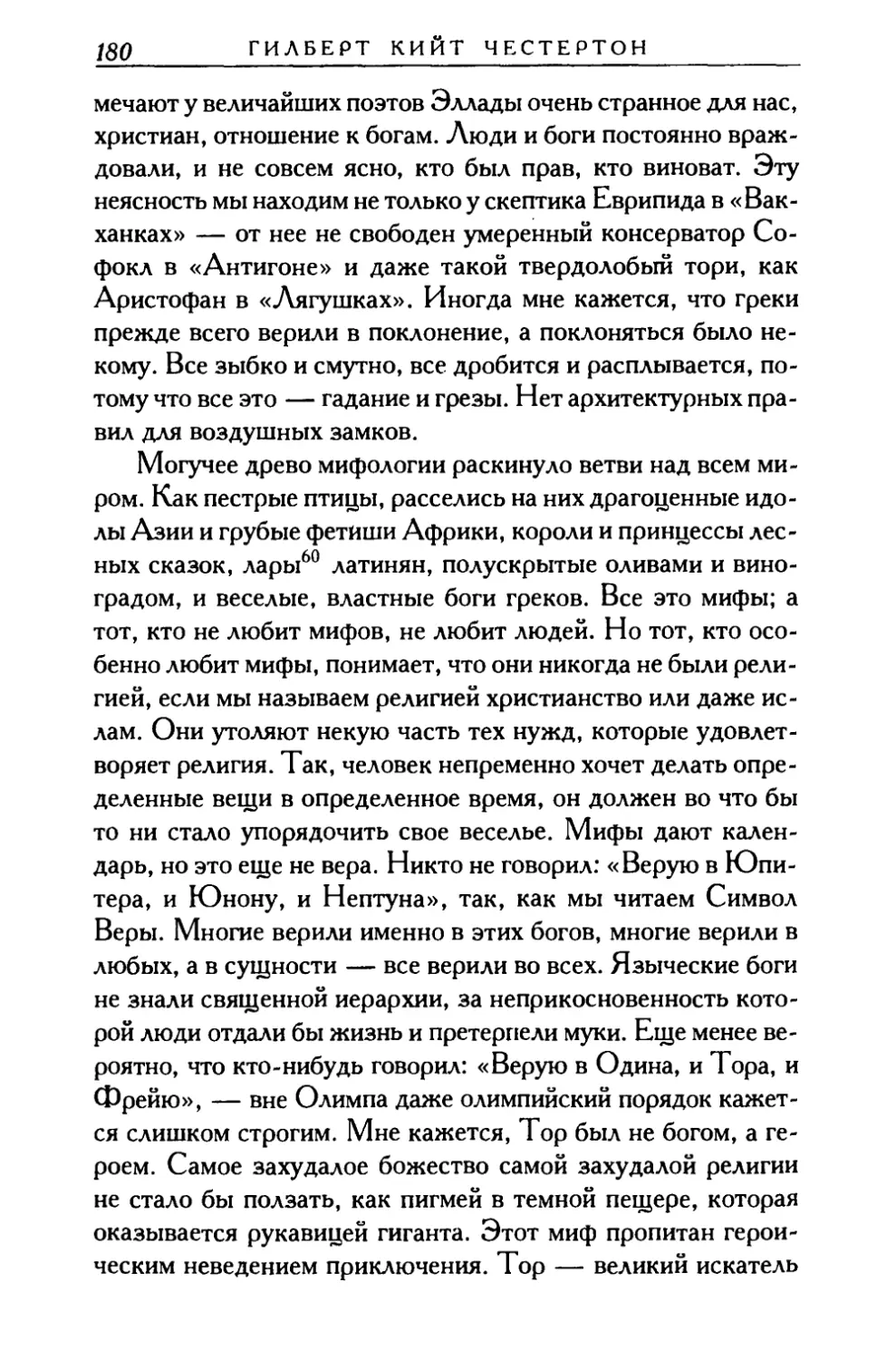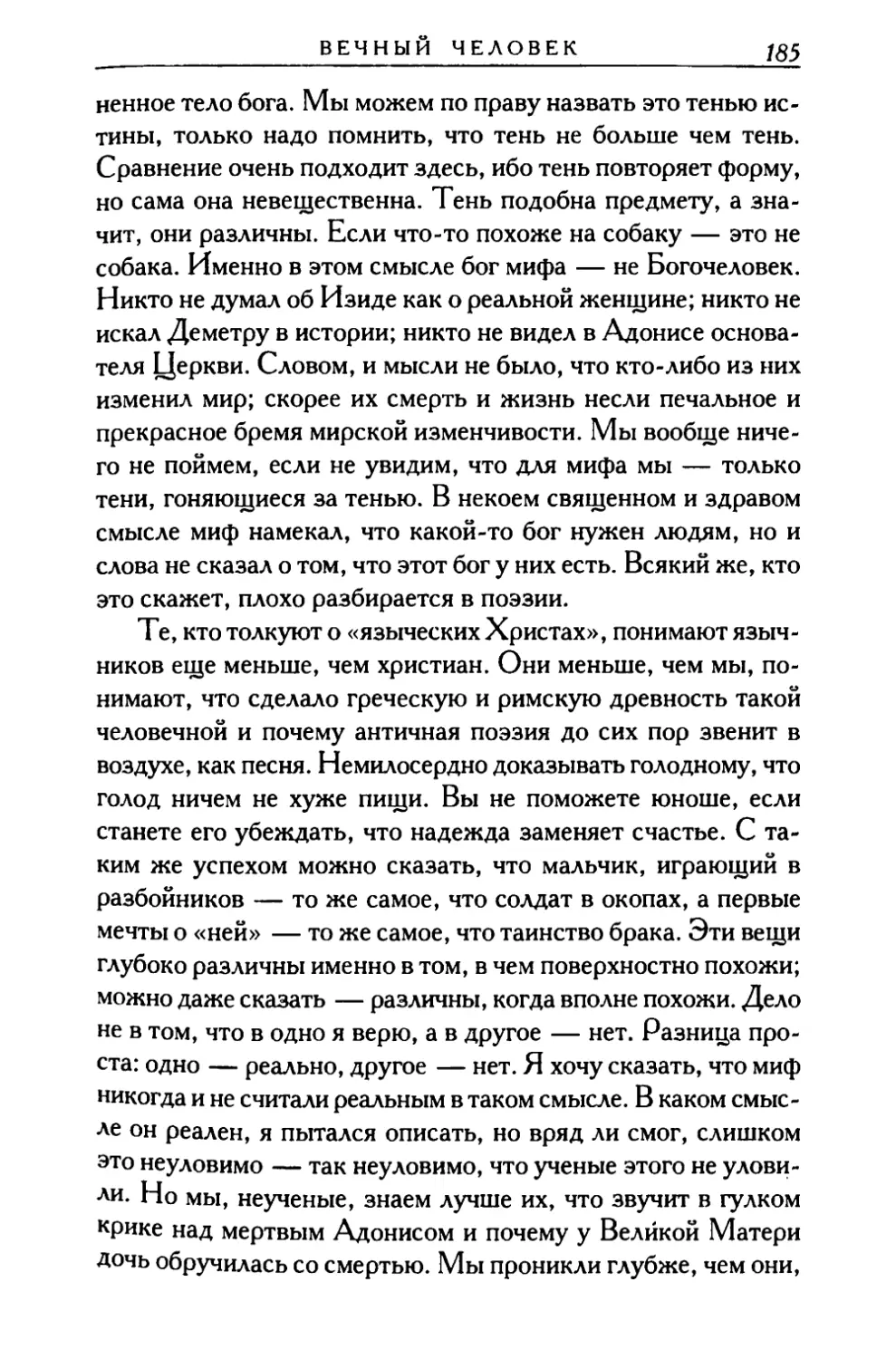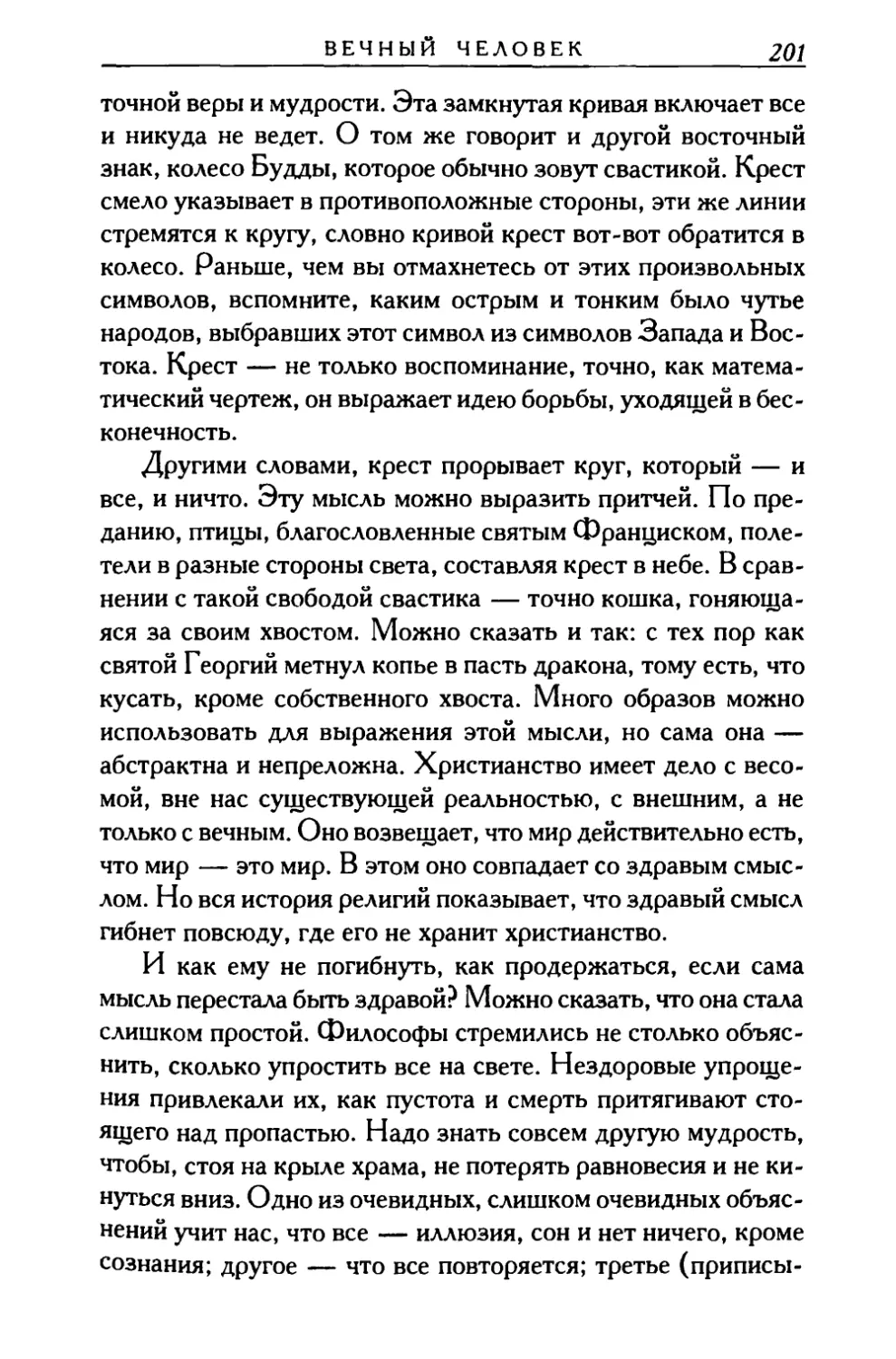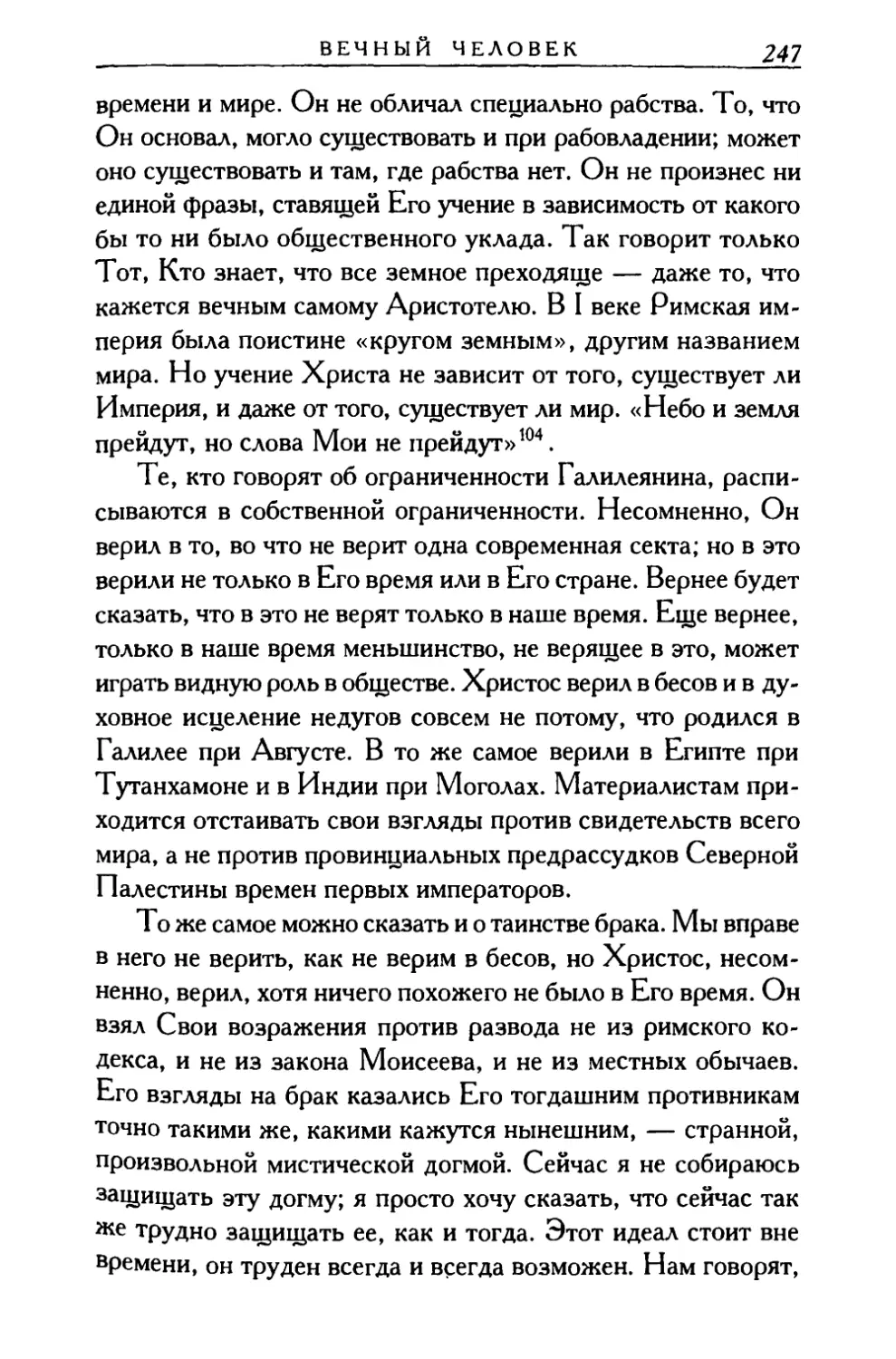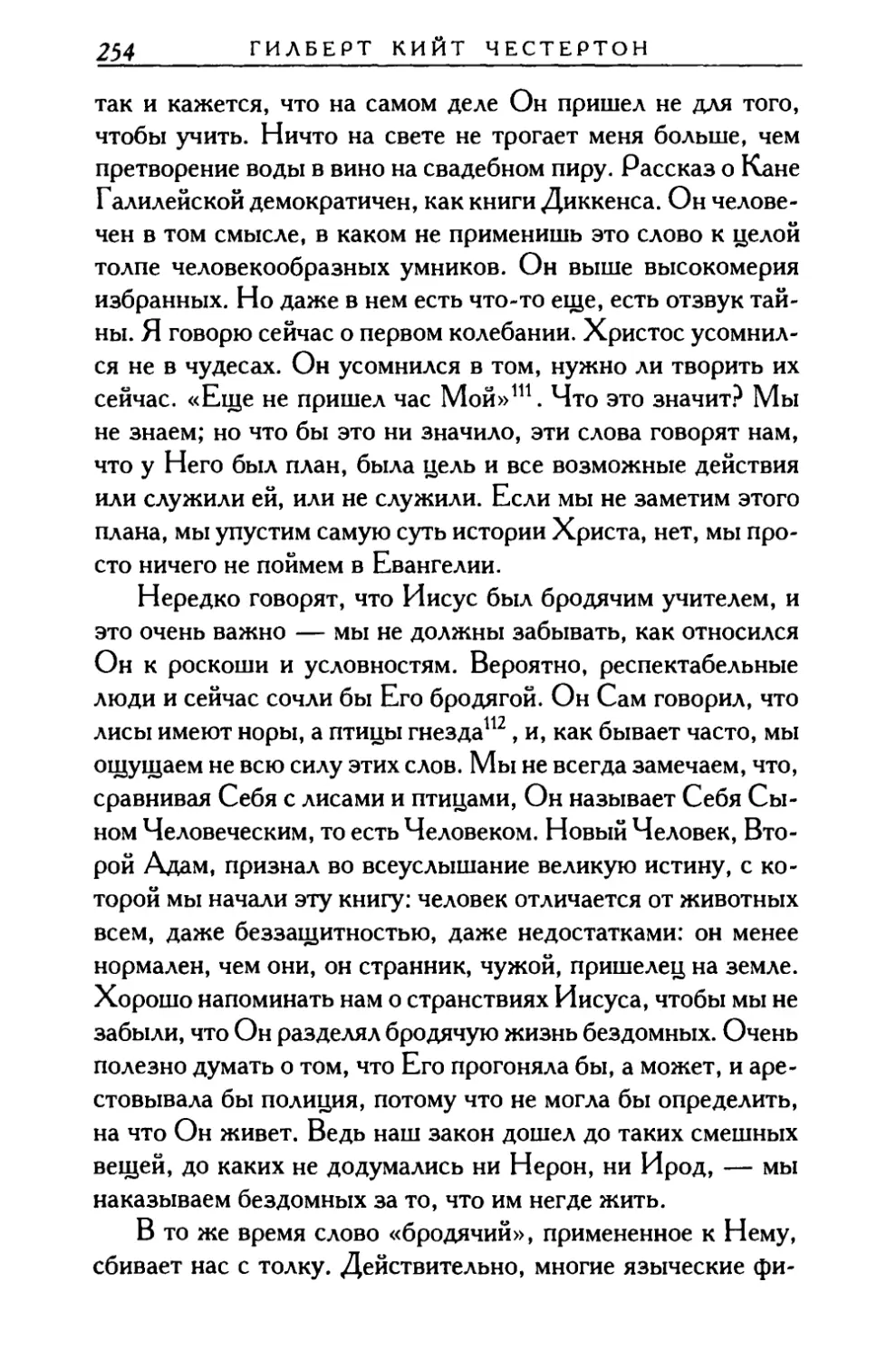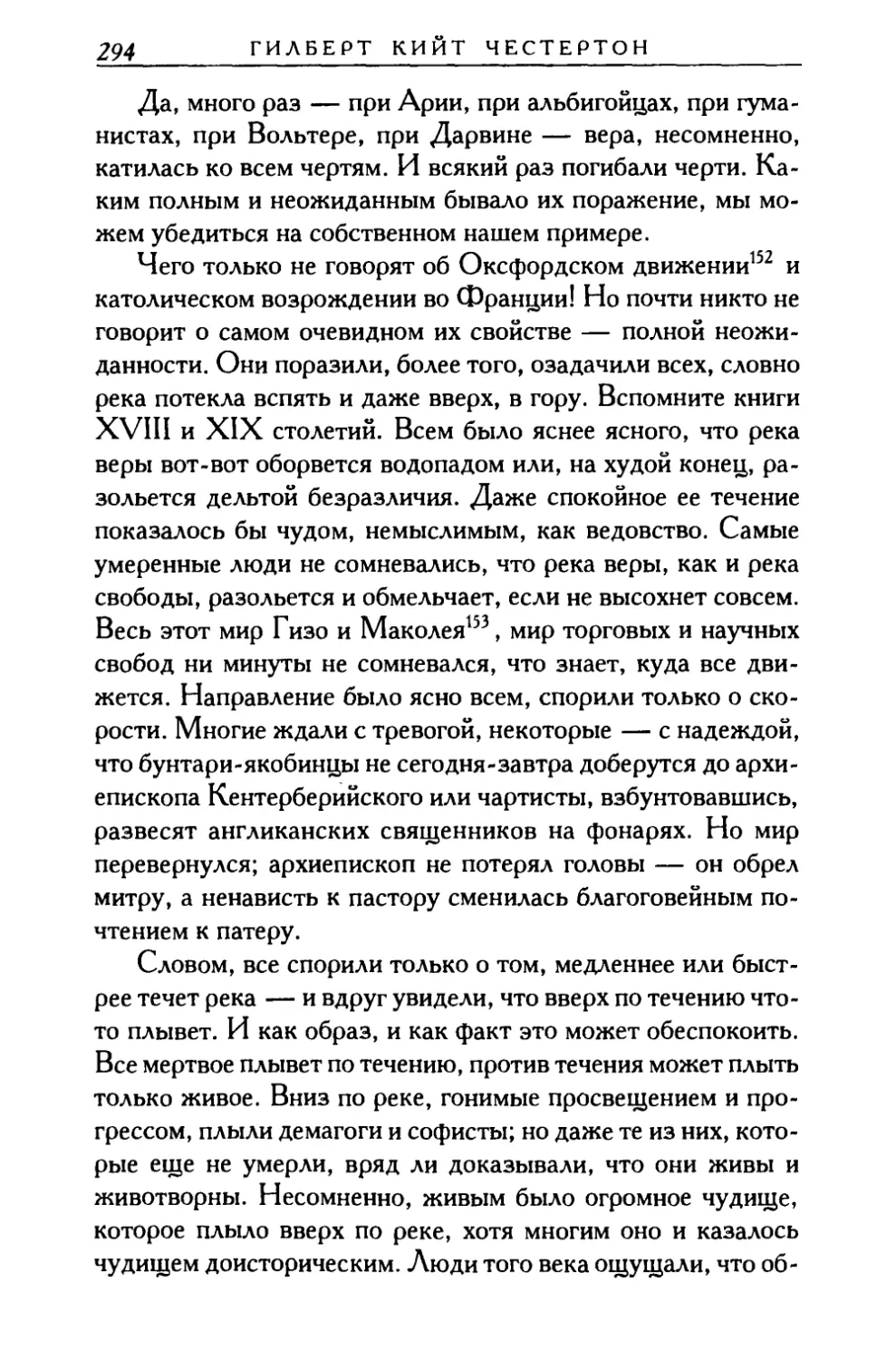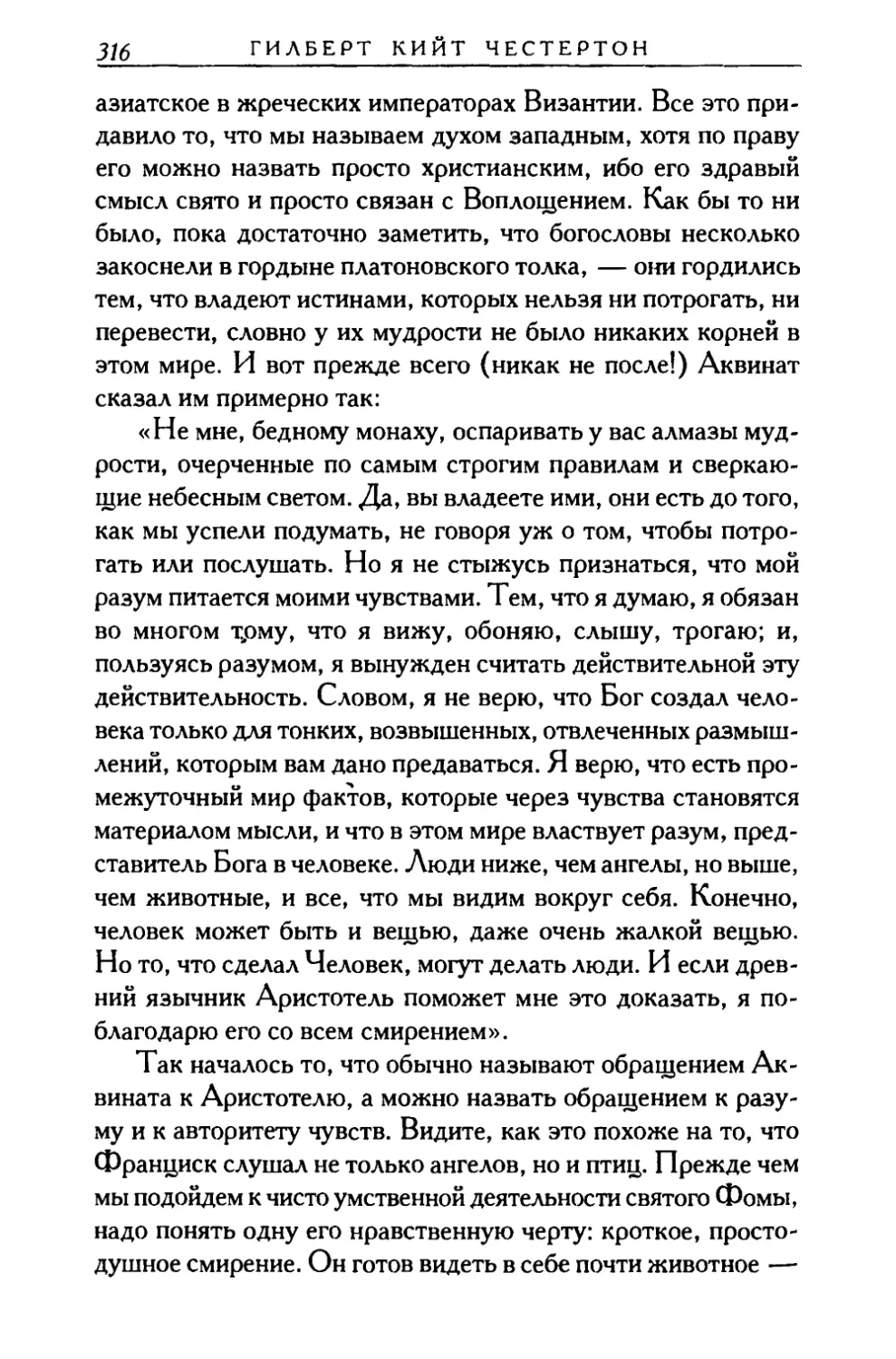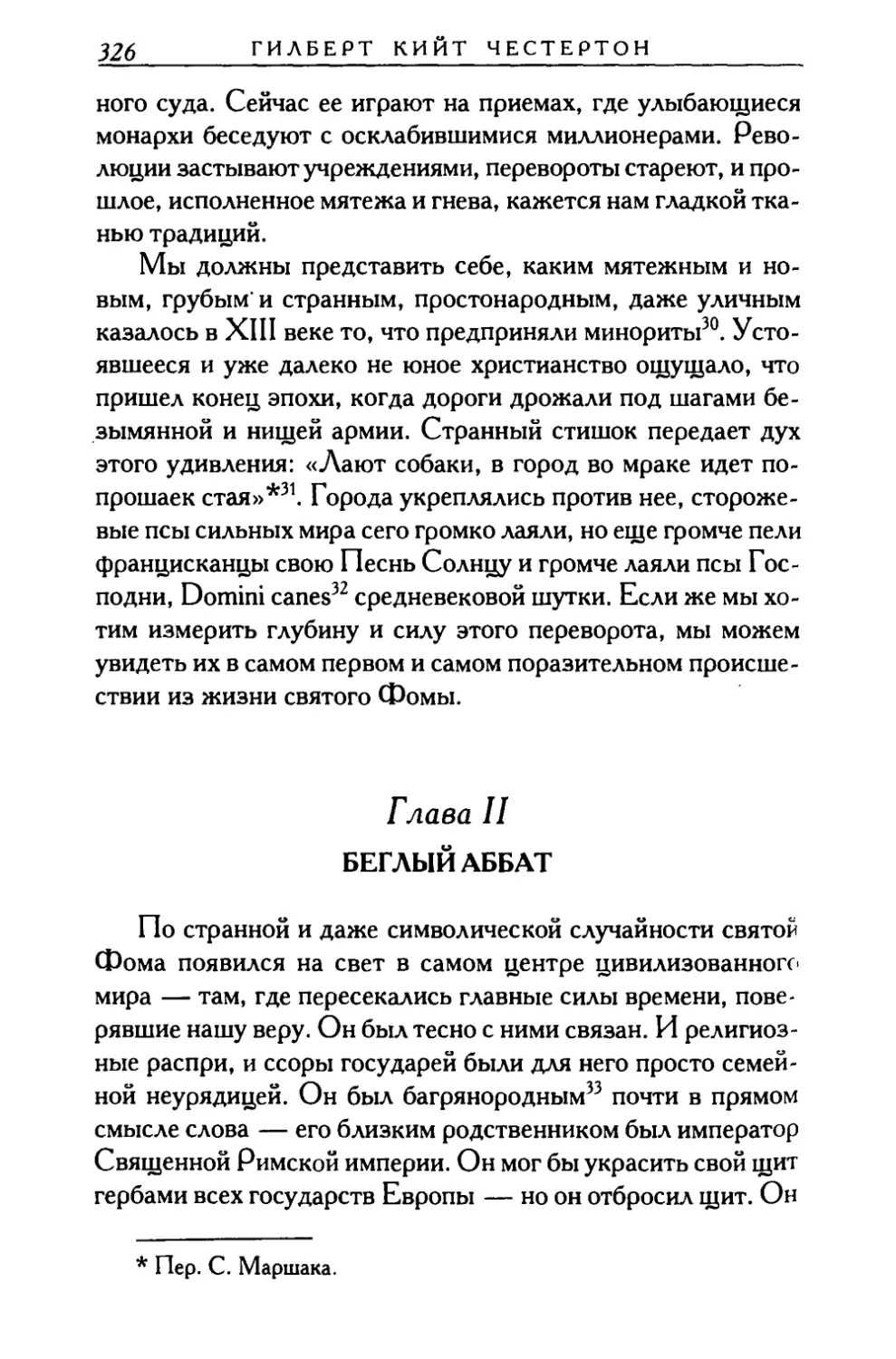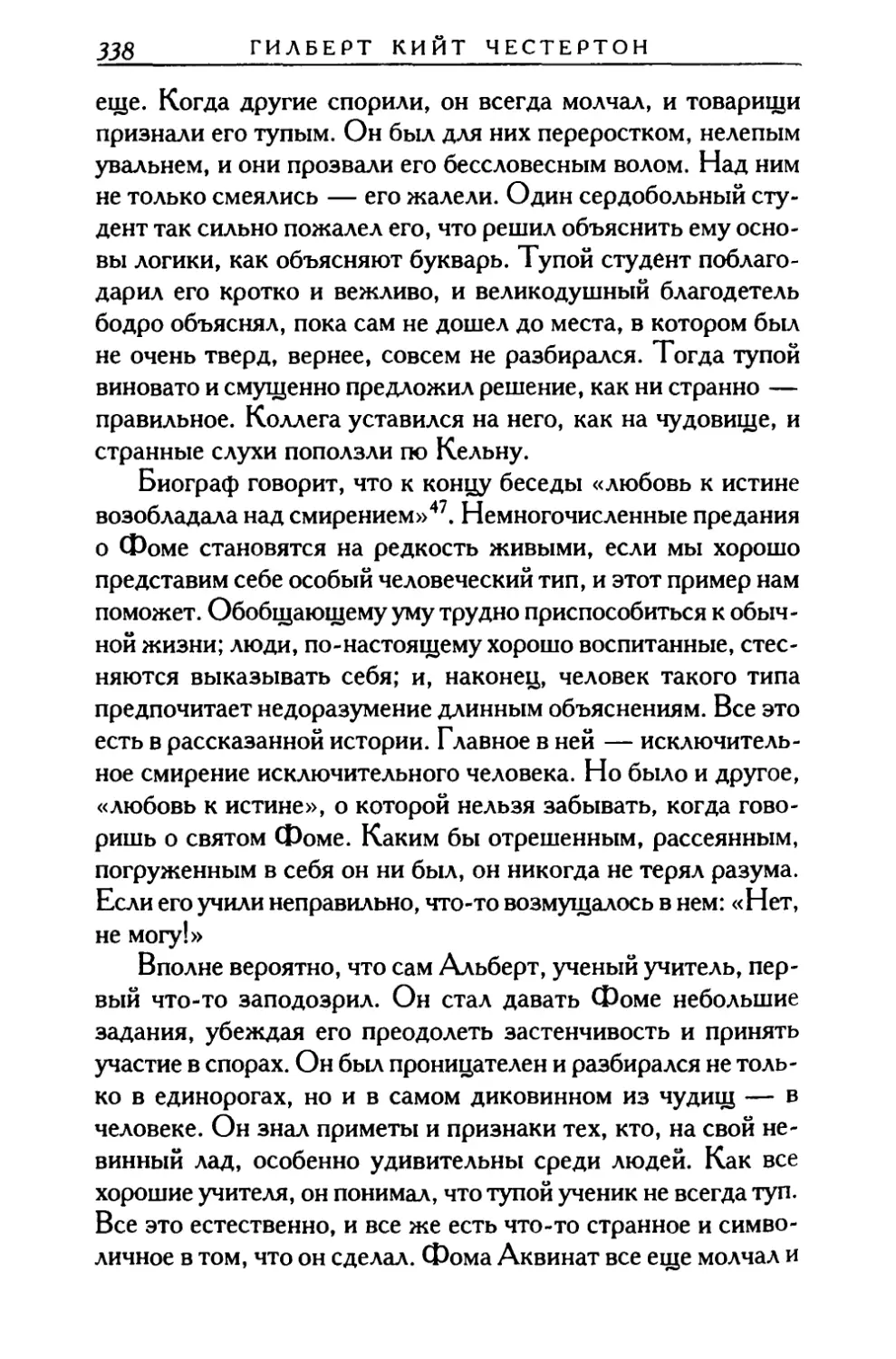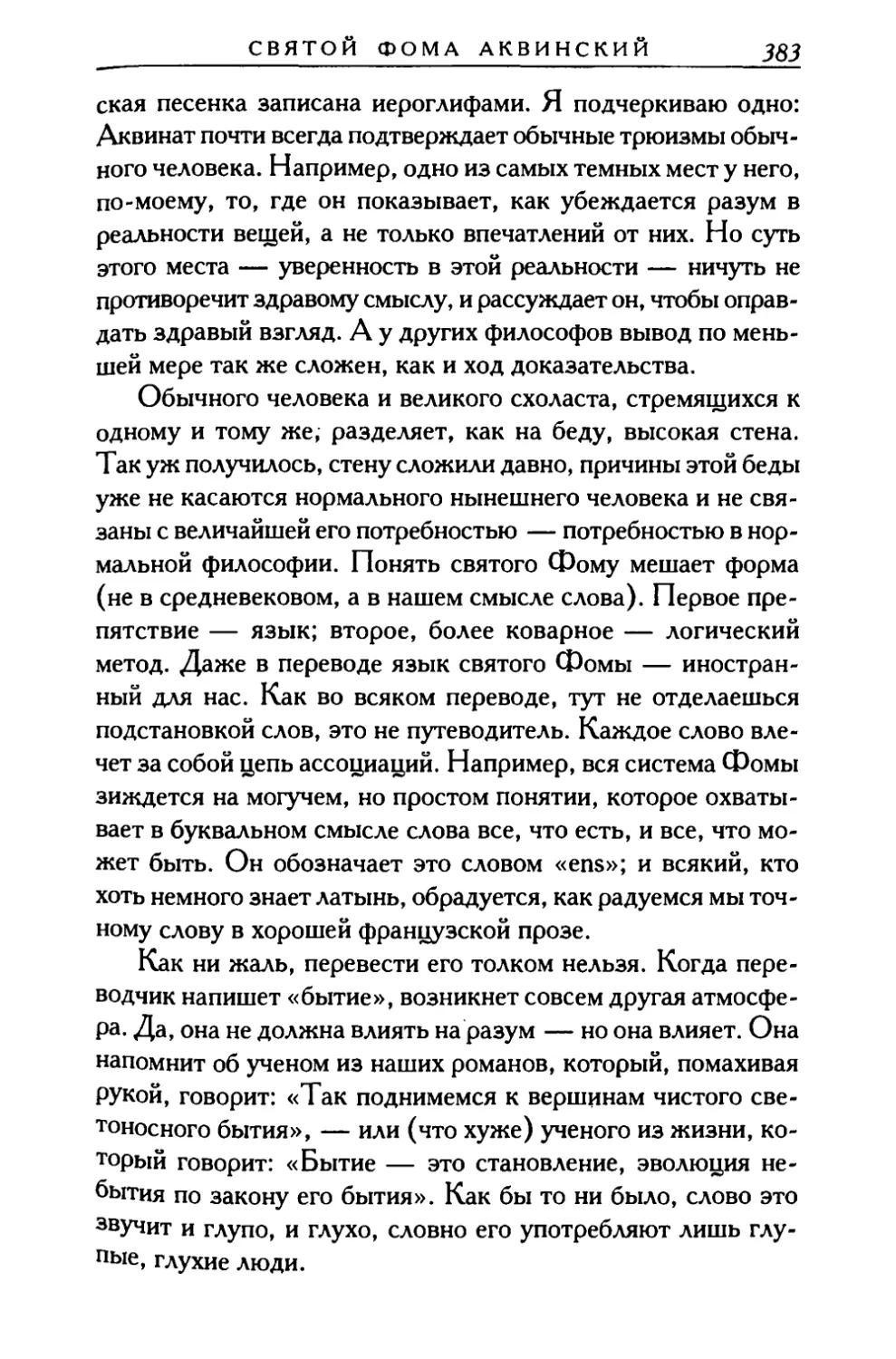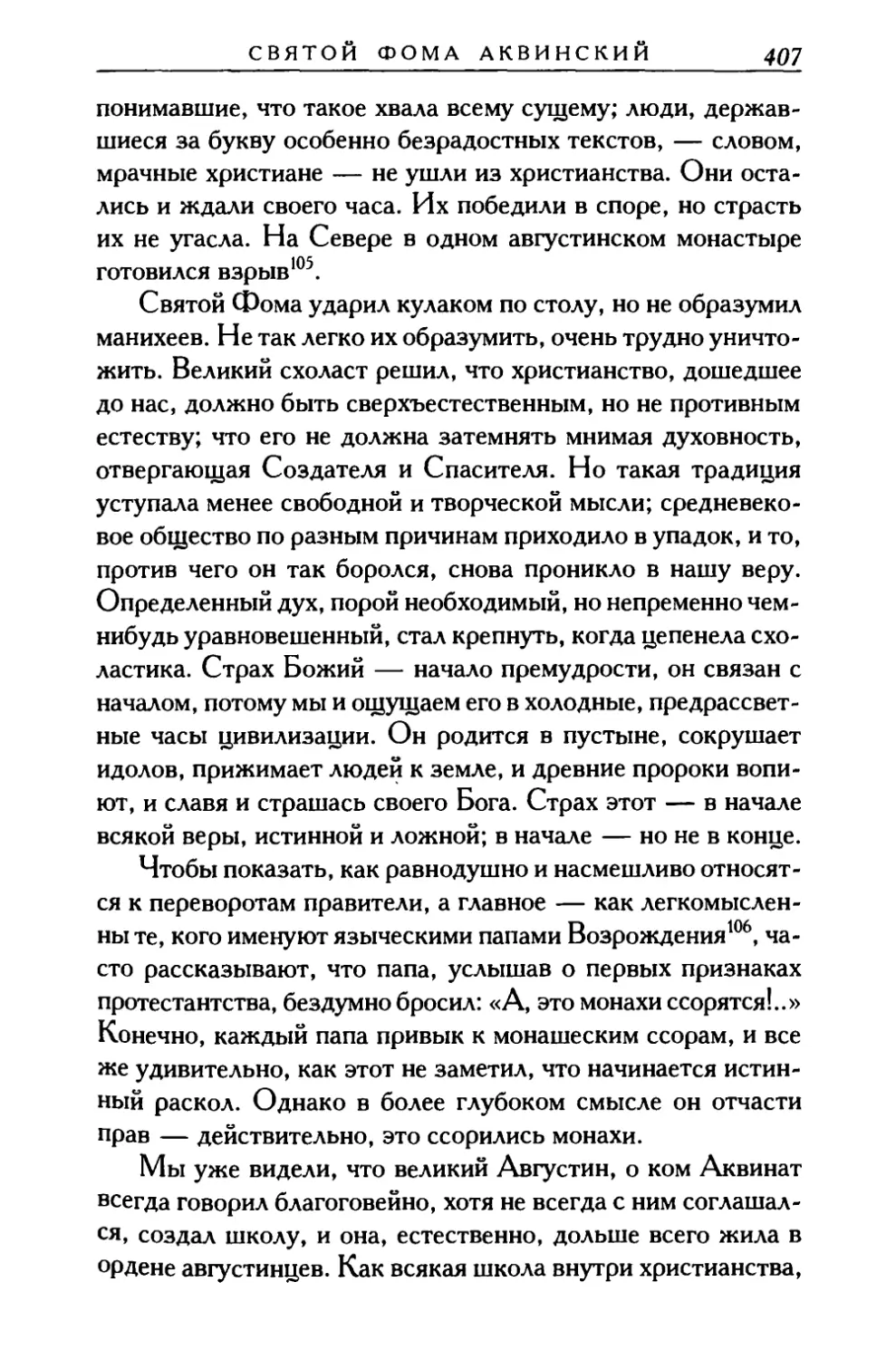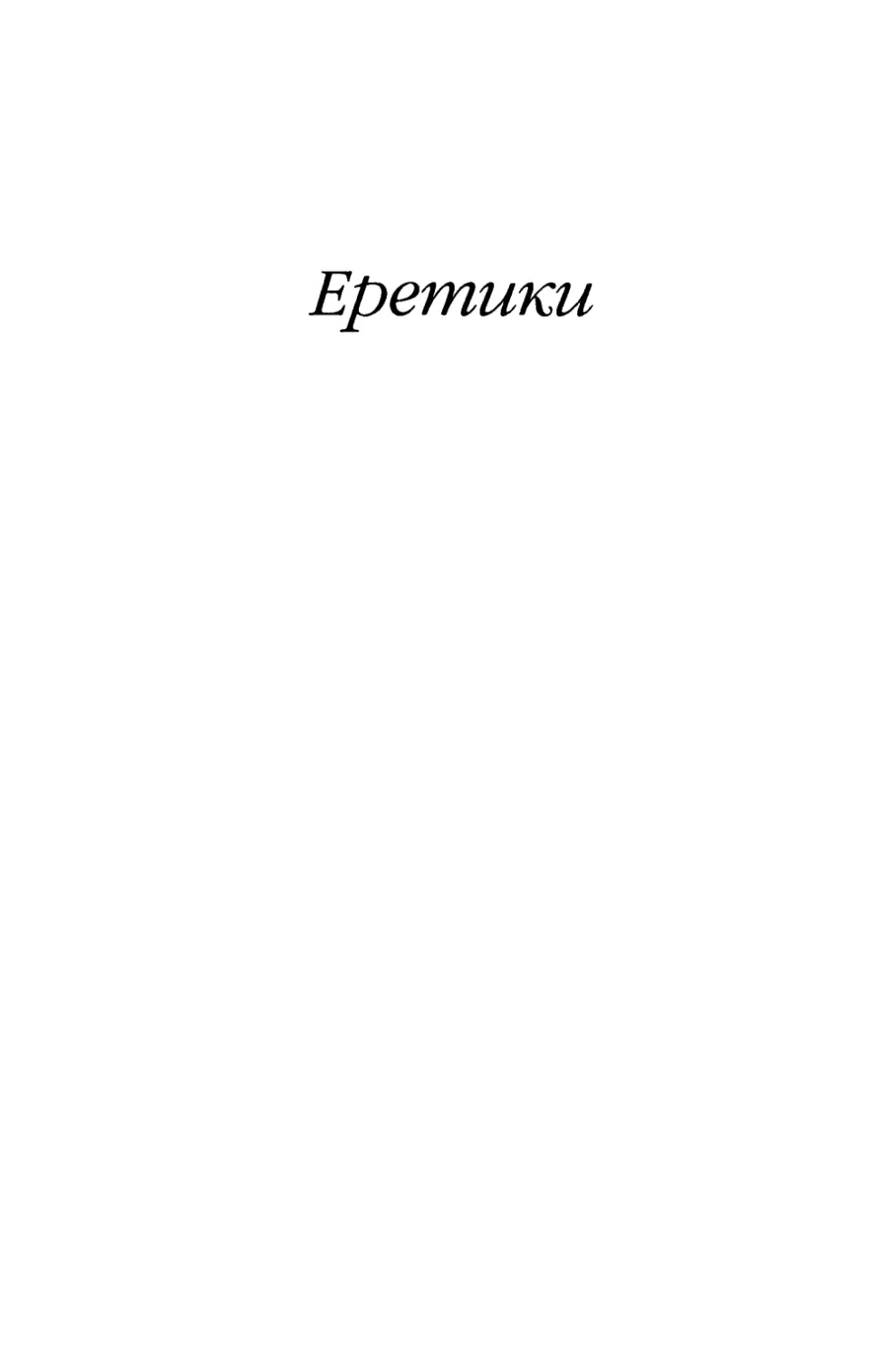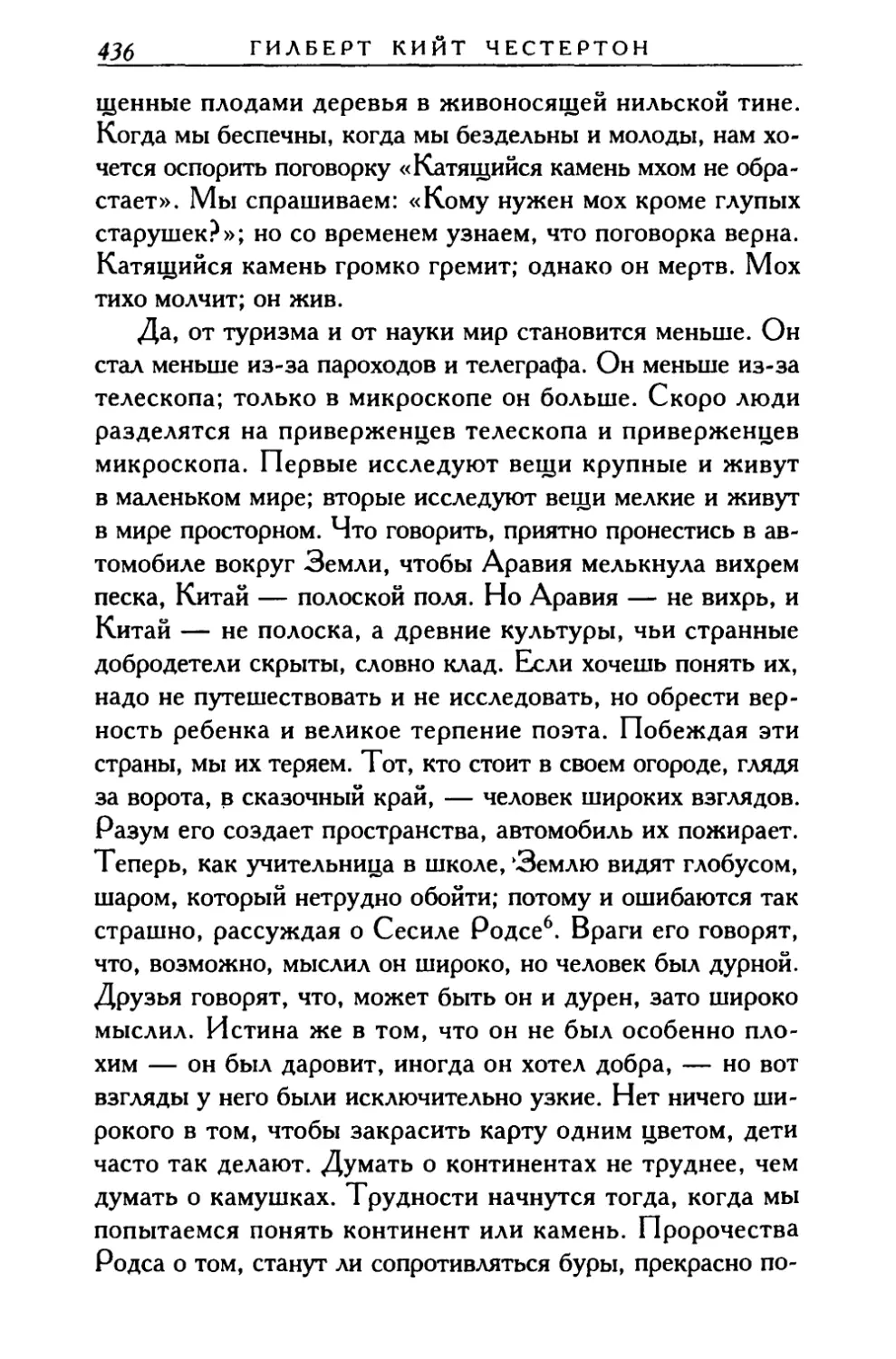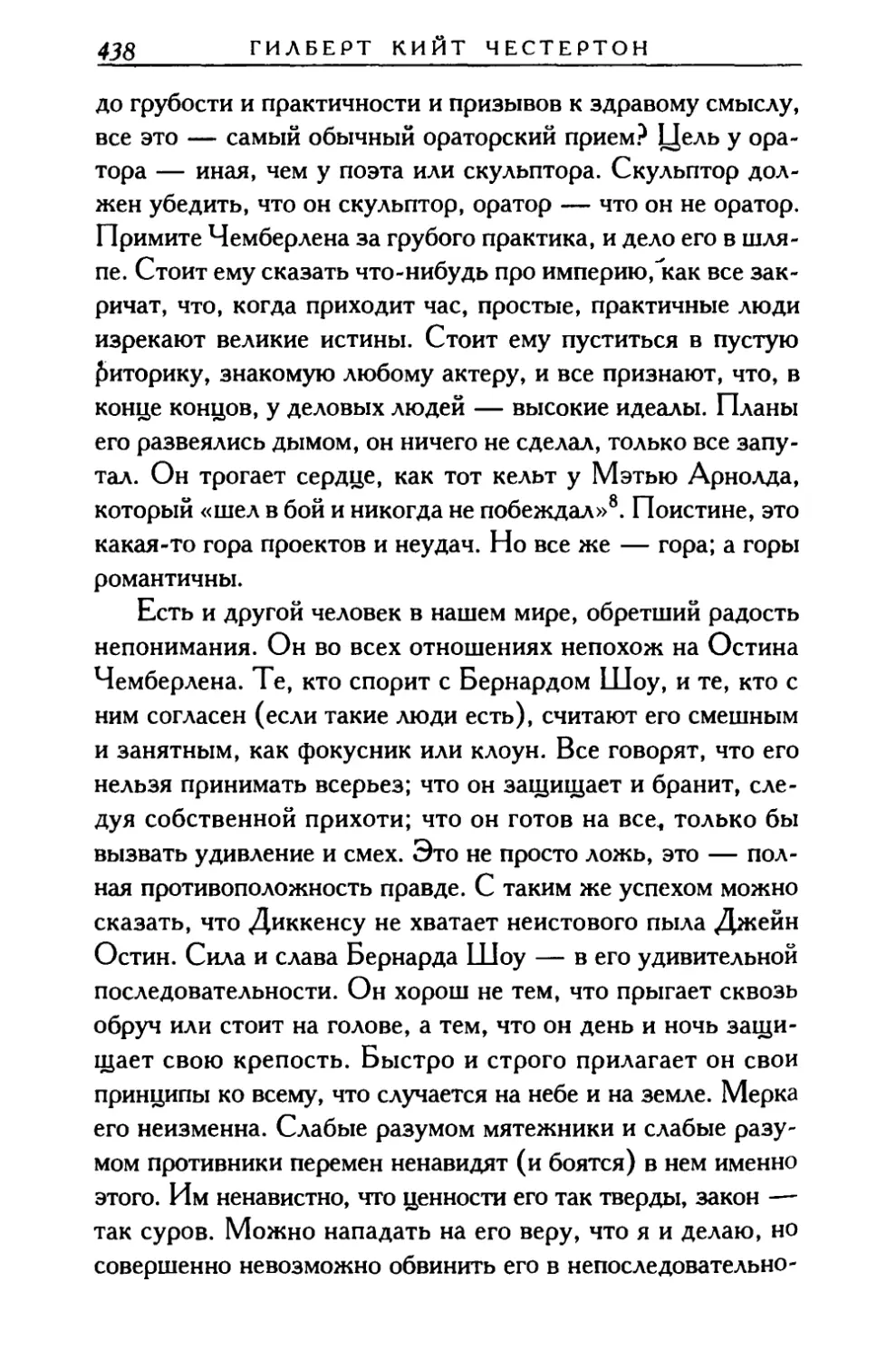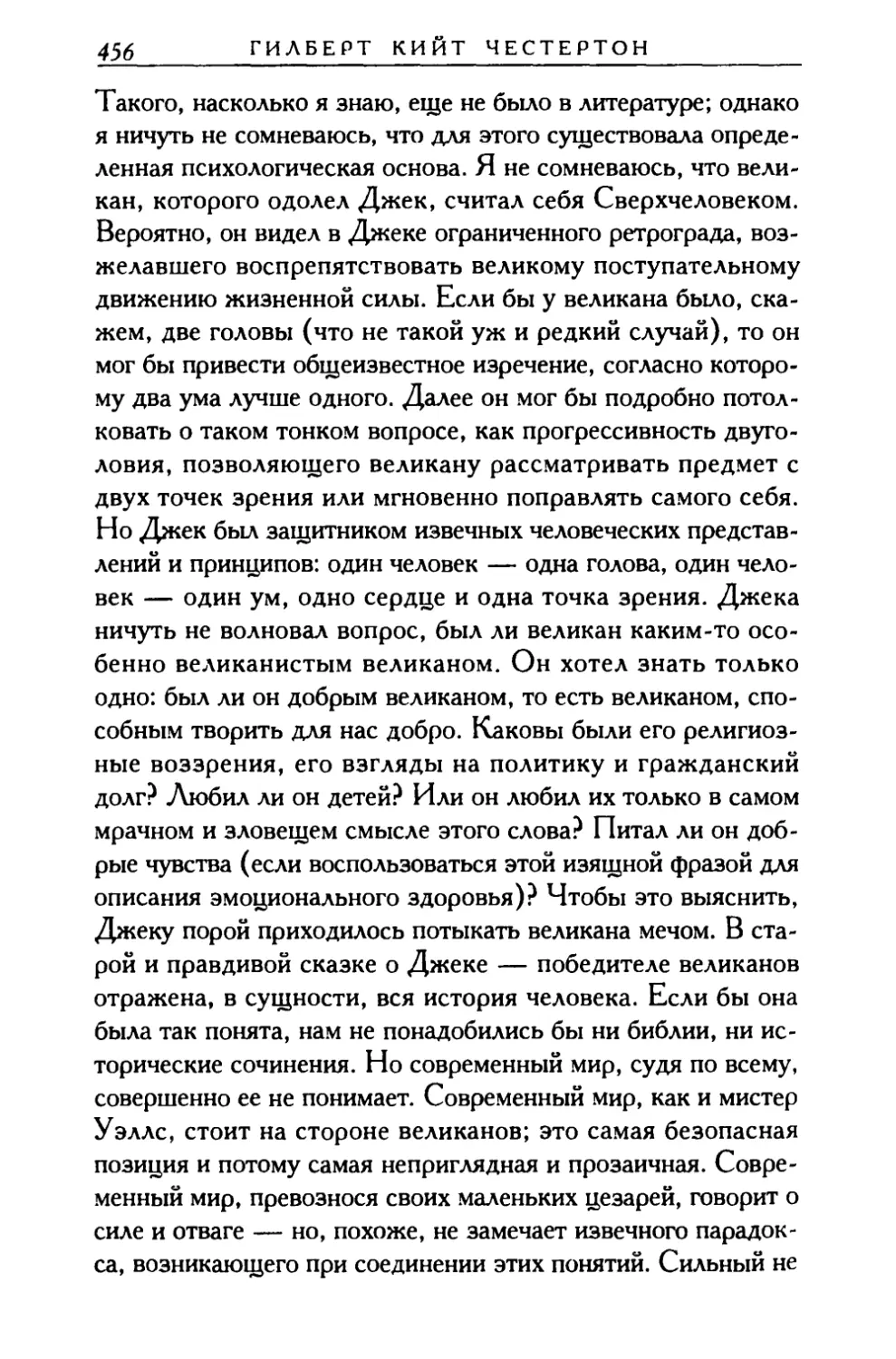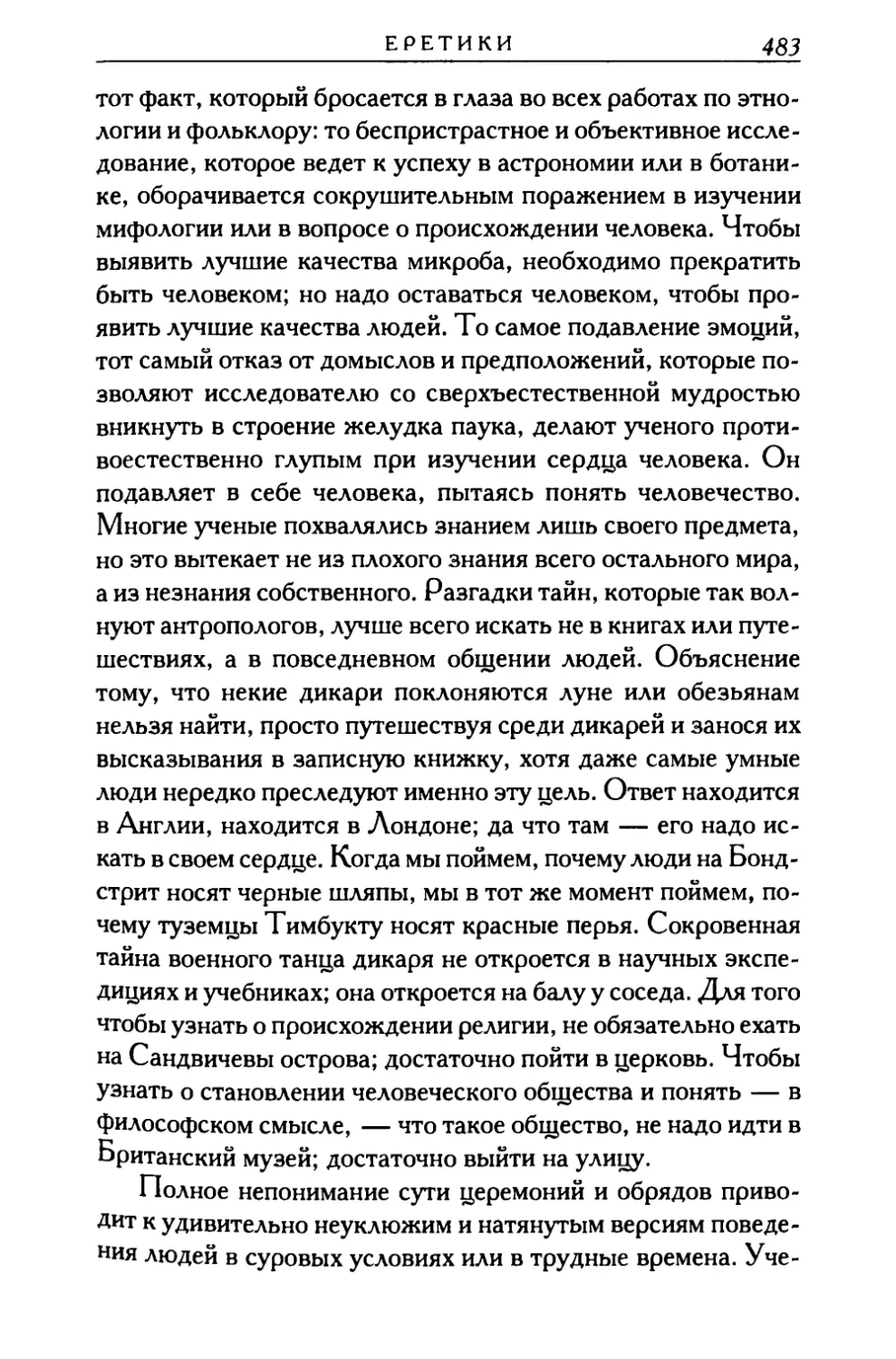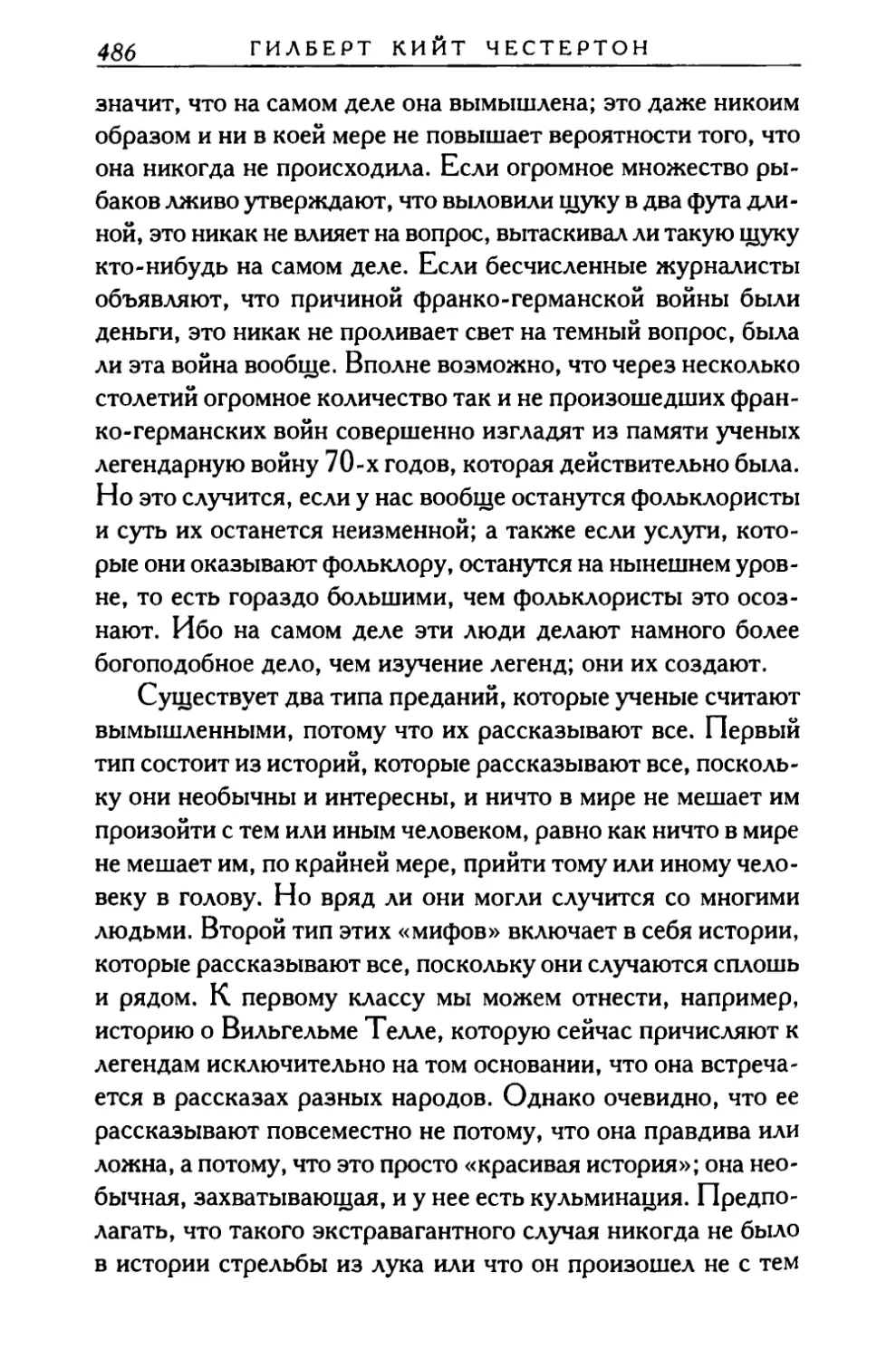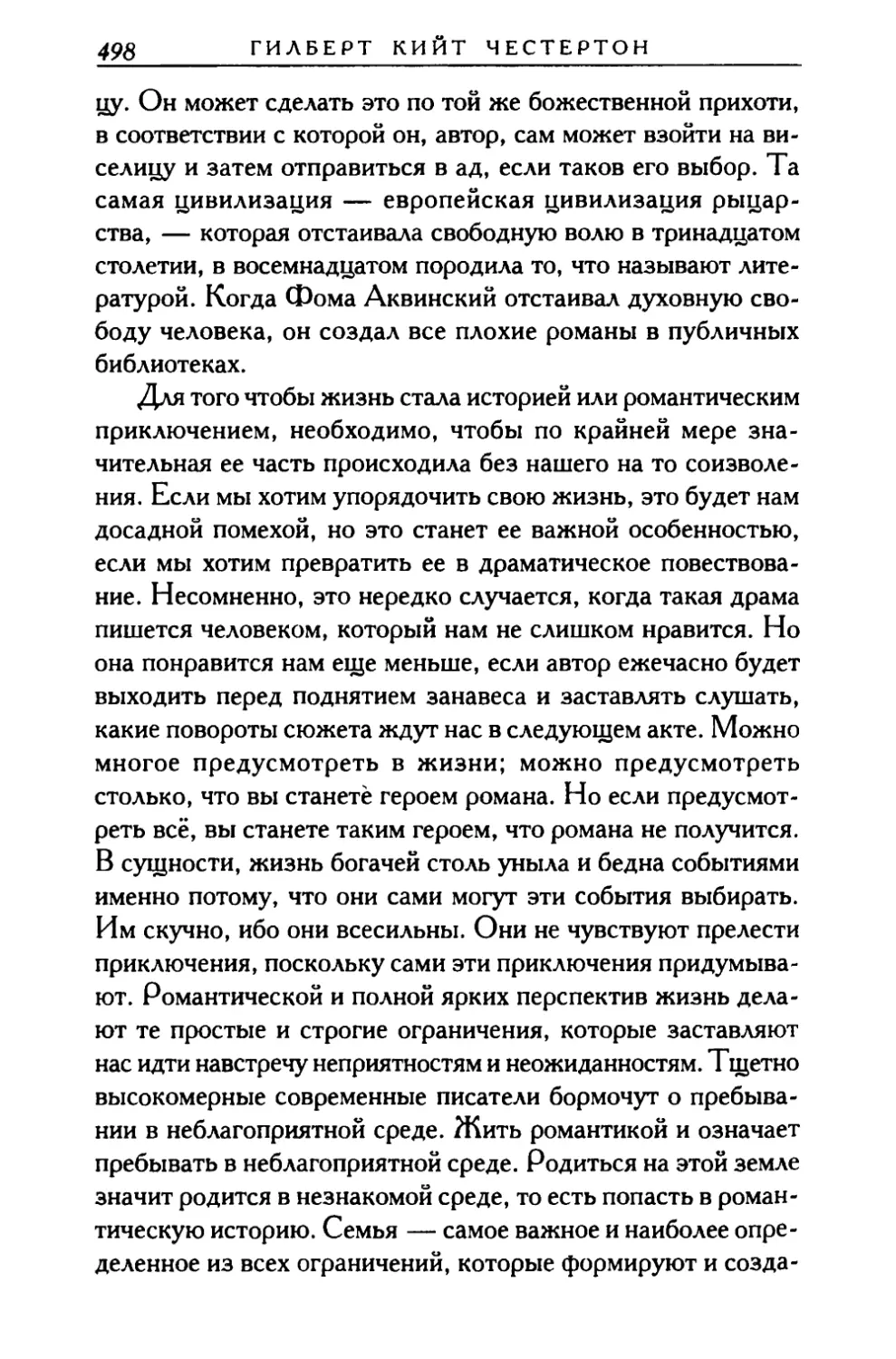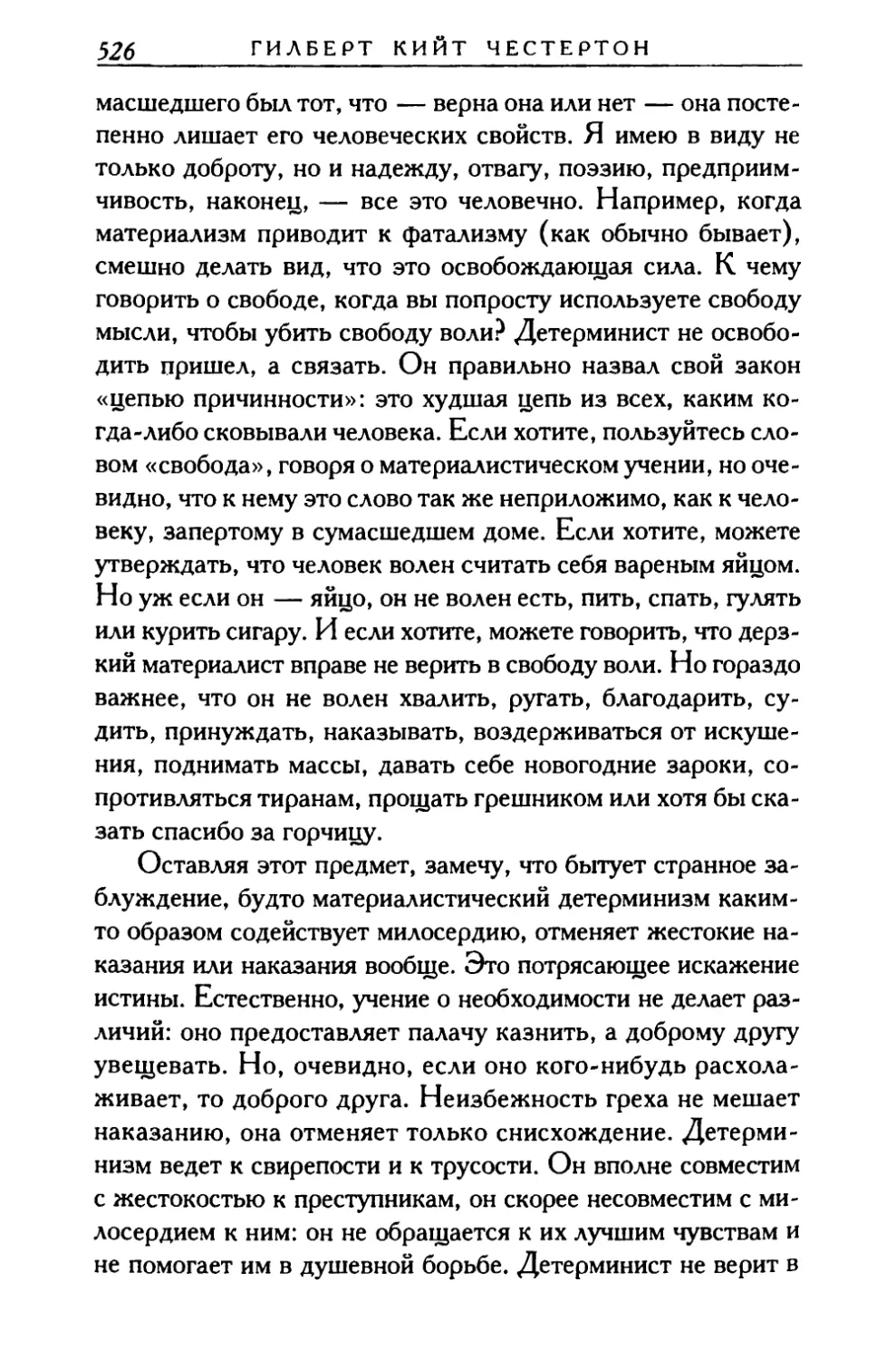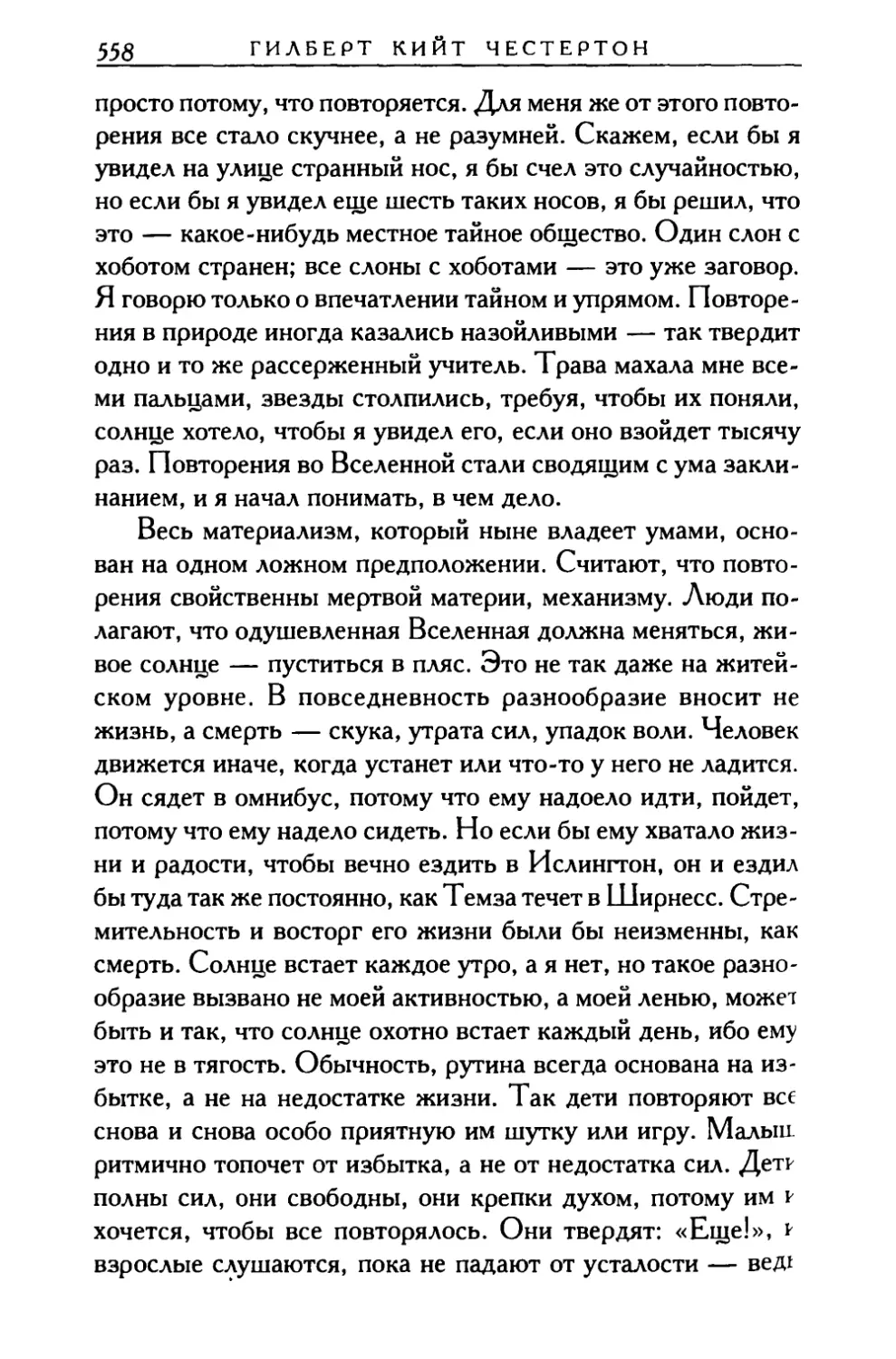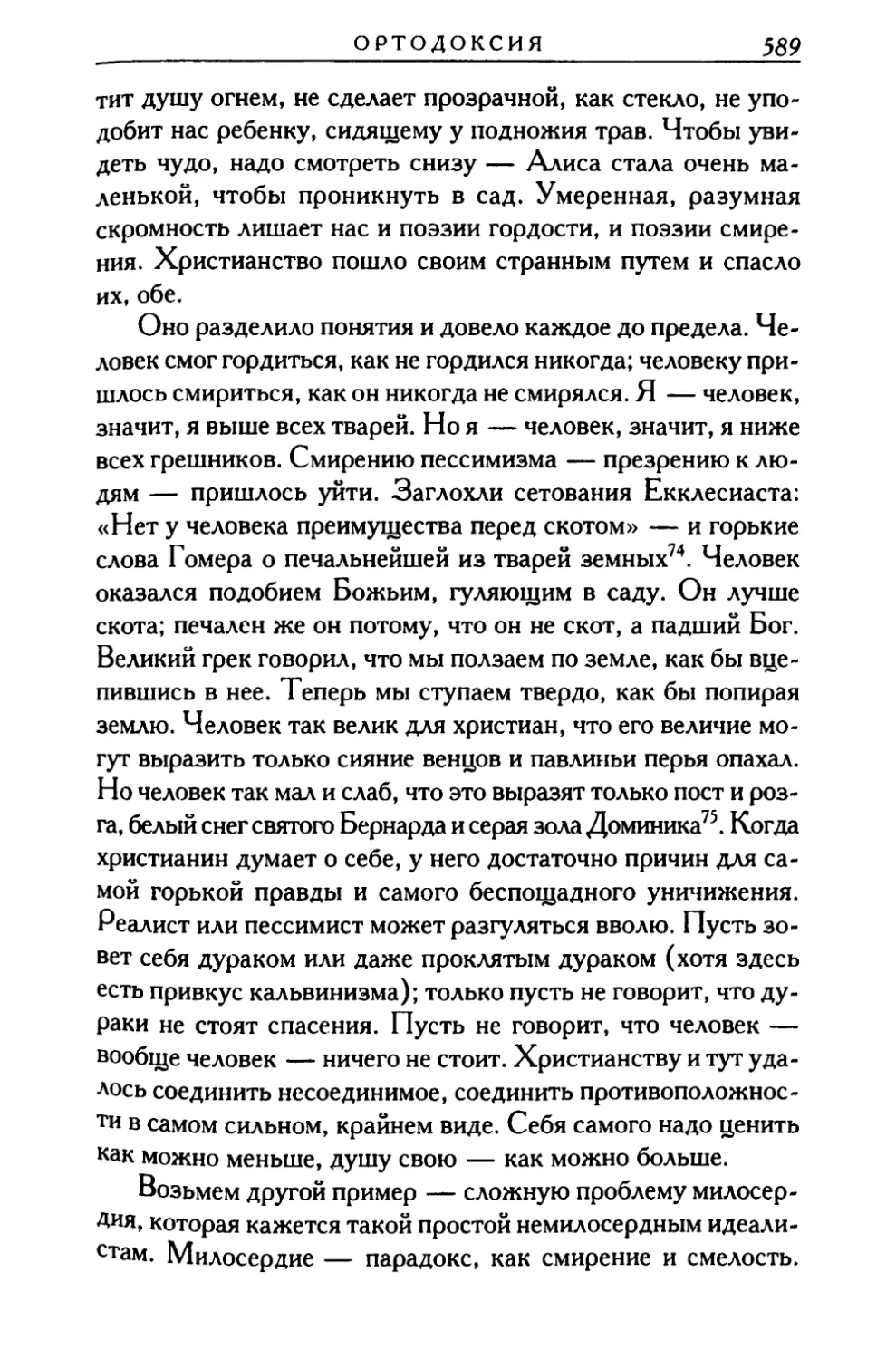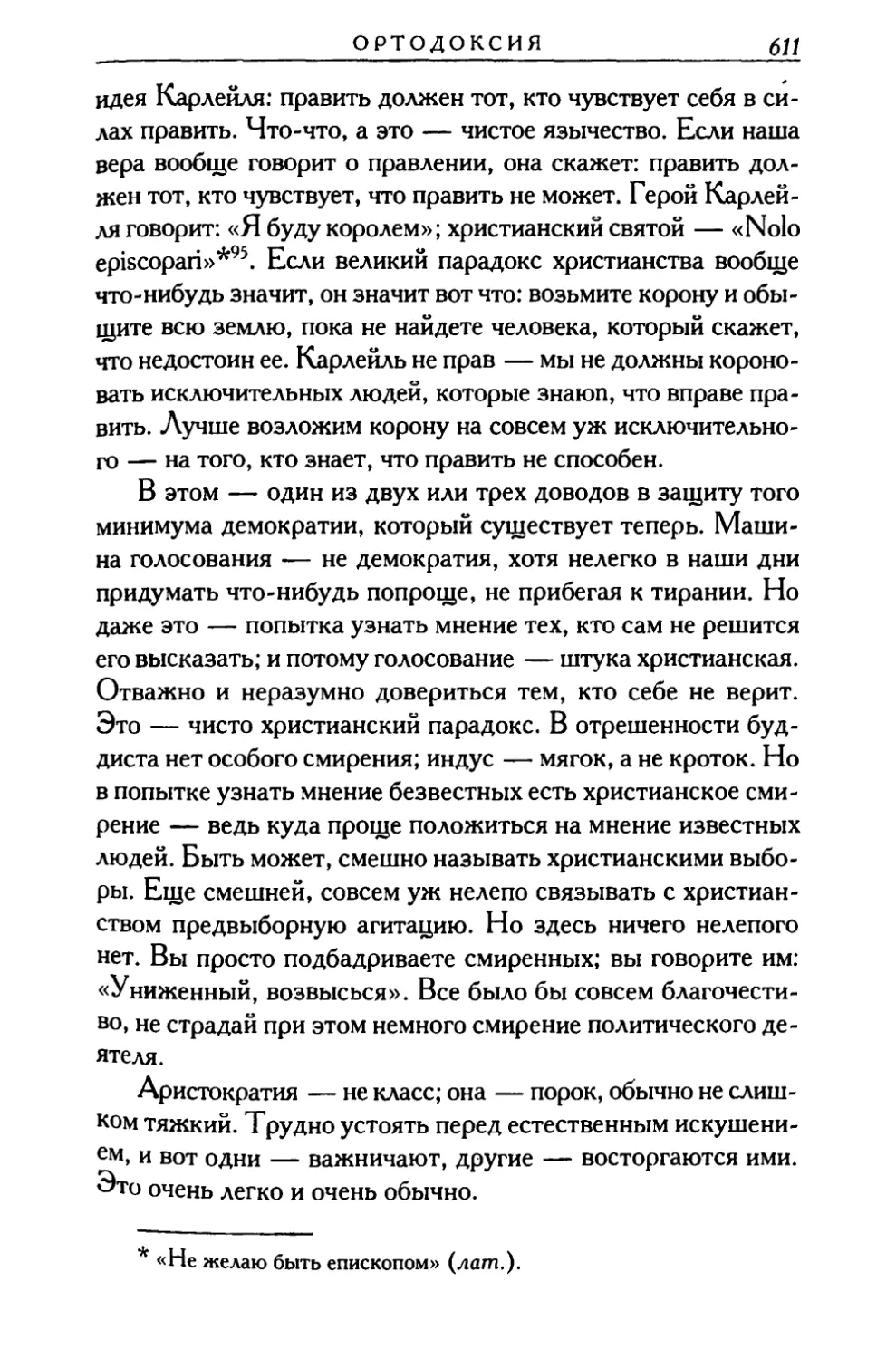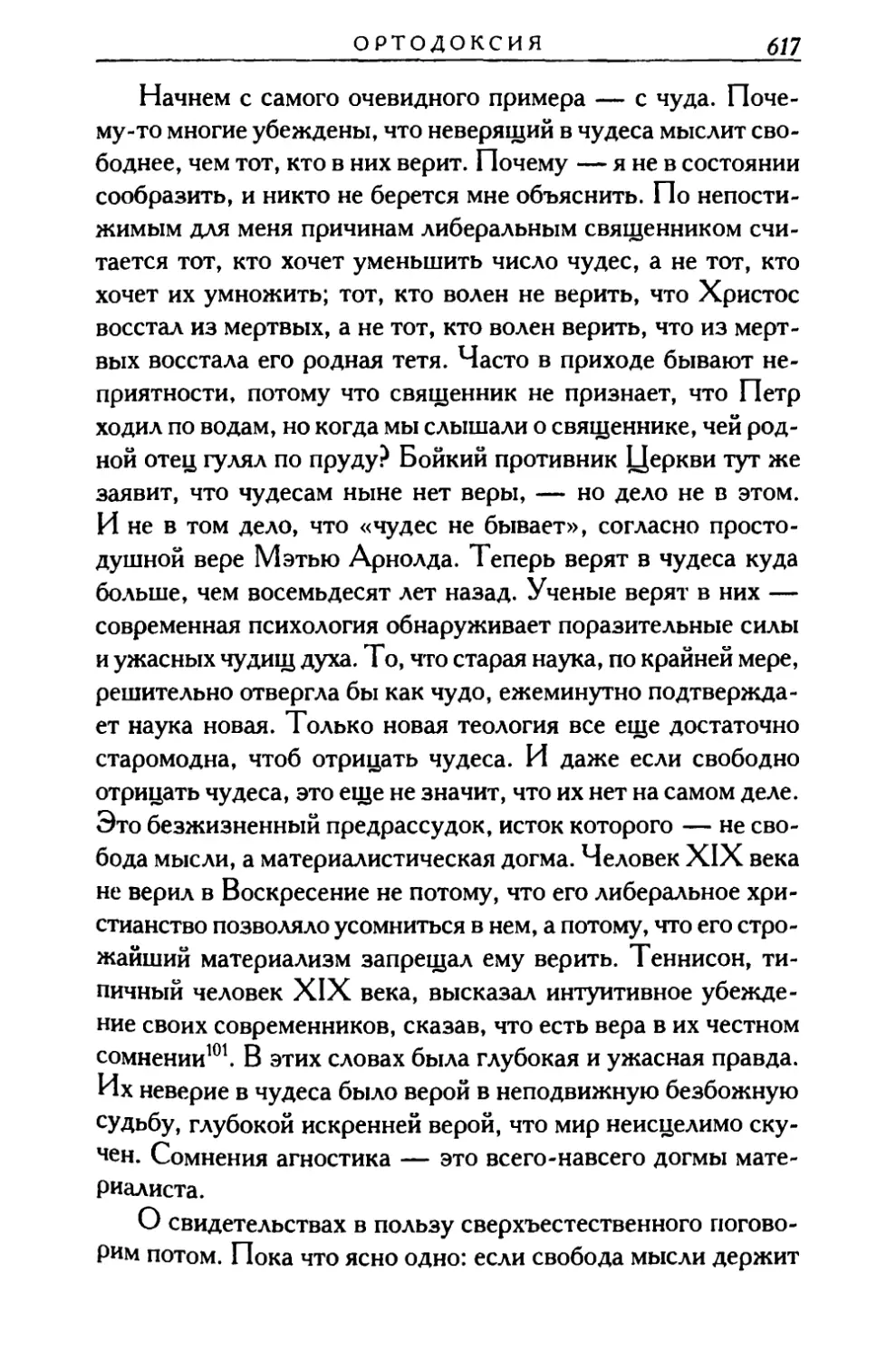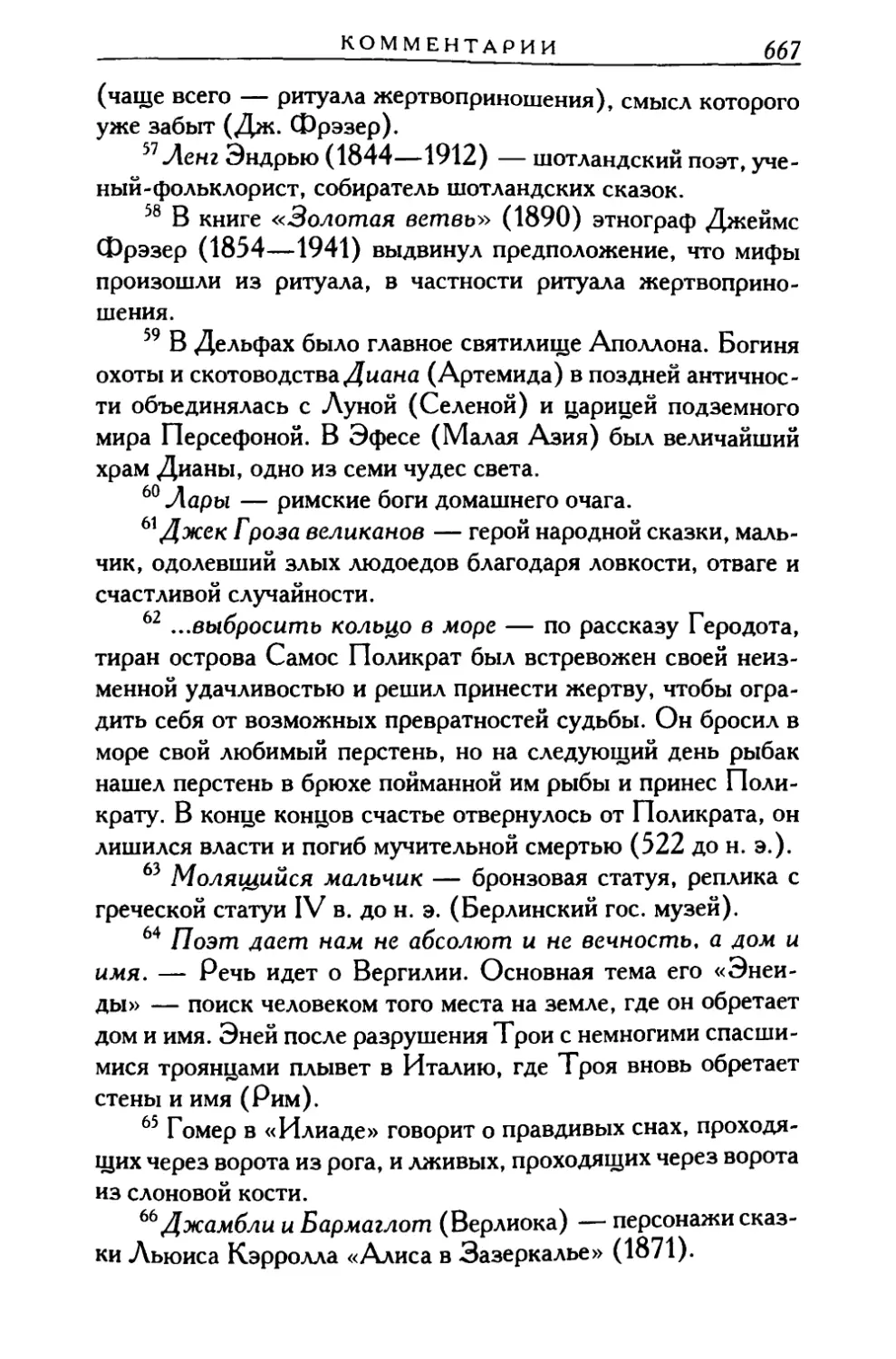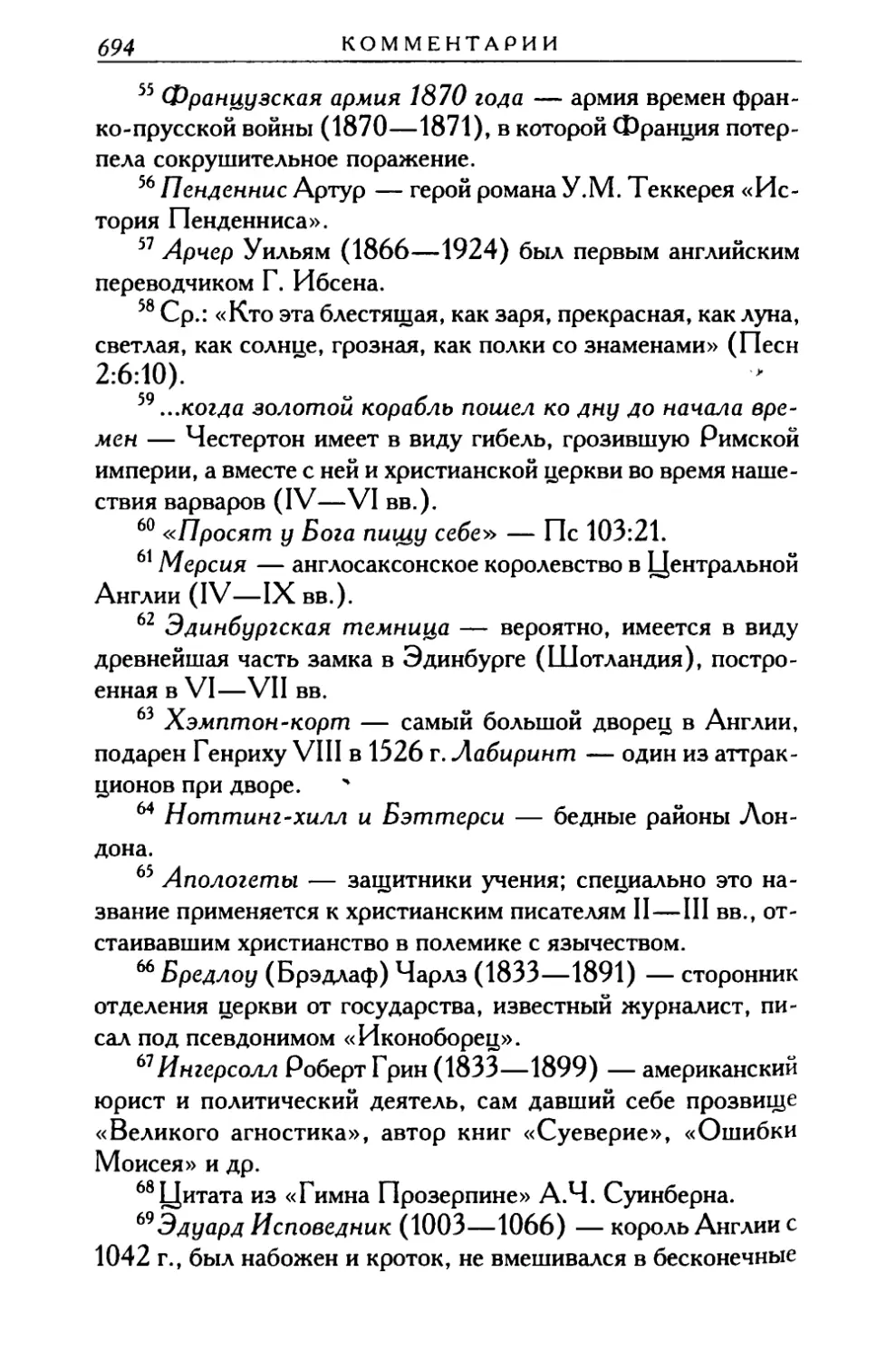Автор: Честертон Г.К.
Теги: отдельные религии религия художественная литература
ISBN: 5-699-05411-1
Год: 2004
Текст
EEK
ГИЛБЕРТ ШТ
ЧЕСТЕРТОН
эээээээээээээээээээээ
Вечный человек
ЭКСМО
Москва
МИД ГАРД
СПб
2004
ББК 86.3(4 Вел)
4 51
Оформление художника Е. Клодта
Честертон Г. К.
Ч 51 Вечный человек / Перевод с английского. — М.: Изд-во
Эксмо, СПб.: Мидгард, 2004. — 704 с.
ISBN 5-699-05411-1
Эта книга представляет читателю почти неизвестного Г. К. Честерто -
на, а именно Честертона как религиозного мыслителя. Живой интерес к
истории формирования христианского мышления и мировосприятия
вдохновил признанного классика английской эссеистики на создание
серии теологических трактатов, в которых даже о самых сложных вещах
он писал просто и весело, руководствуясь принципом «описывать то, чего
не может быть и что, тем ие менее, есть» — принципом, который сам
сформулировал и возвел в кредо.
ББК 86.3(4 Вел)
ISBN 5-699-05411-1
© ООО «Издательство «Эксмо», оформление, 2004
© ООО «Издательство «Мидгард», оригииал-макет, 2004
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
«В других странах были великие писатели, подобные
отдельным горным вершинам посреди плато, — обронил
как-то язвительный Сомерсет Моэм. — У нас в Англии
была и есть великая литература». Если абстрагироваться
от несомненно присущего этому утверждению налета «им-
перской амбициозности англосаксов», с Моэмом вполне
можно согласиться. Английская литература и — шире —
английская культура подарили человечеству множество по-
истине великих произведений, от «Беовульфа» и «Смерти
Артура» до «Новой Атлантиды», «Доктора Фаустуса» и
«Гамлета», от «Похищения локона» и «Чайльд-Гарольда»
до «Портрета Дориана Грея» и «Повелителя мух»; эта ли-
тература и эта культура буквально изобилуют великими име-
нами — Чосер, Шекспир, Мильтон, Донн, Джонсон,
Свифт, Блейк, Скотт, Байрон, Вордсворт, Шелли, Рес-
кин, Диккенс, Теккерей, сестры Бронте, Браунинг, Уайльд,
если перечислить лишь немногие из них. И в этом длин-
ном, почти бесконечном ряду по праву находится имя Гил-
берта Кийта Честертона (1874—1936).
Эссеист и литературный критик, автор детективных рас-
сказов и аллегорических романов, экономист-любитель и
с°ЦИолог-дилетант, мастер парадокса, Честертон, как ка-
жется, писал обо всем на свете. Но, как отзывался о Чес-
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
тертоне С.С. Аверинцев, «Любая тема — предлог, чтобы еще,
и еще, и еще раз поговорить о самом главном: о том, ради чего
люди живут и остаются людьми, в чем основа, неотчуждаемое
ядро человеческого достоинства. Идеализированное средне-
вековье и самодельная утопия на будущее, на скорую руку слеп-
ленный детективный сюжет и громогласные риторические пе-
риоды статей — разнообразные способы подступиться к это-
му главному, сообщить ему наглядность. Подход Честерто-
на — аллегорический, басенный, и он оправдан тем, что мораль
басни вправду волнует его. Неистощимый, но немного при-
едающийся поток фигур мысли и фигур речи, блестки слога,
как поблескивание детской игрушки, — и после всего этого
шума одна или две фразы, которые входят в наше сердце.
Все — ради них и только ради них»*.
Настоящее издание представляет читателю Честертона-
биографа (религиозного биографа), Честертона-теолога и Че-
стертона-мыслителя. Религиозные трактаты Честертона — это
апологии христианского мирочувствования и мировосприятия;
написанные в начале века двадцатого, и сегодня, в веке двад-
цать первом, они не утратили своей актуальности, во многом
благодаря тому, что в своих текстах (как и в жизни) Честер-
тон никогда не бывал скучен и нравоучителен. О самых слож-
ных вещах он писал просто и весело, руководствуясь принци-
пом «описывать то, чего не может быть и что, тем не менее,
есть» — принципом, который он сам сформулировал и возвел
в кредо.
«Настигнут радостью» — так называлась автобиография
Клайва С. Льюиса, духовного ученика Честертона. «Настиг-
нут радостью» — мог бы сказать о себе, своем жизненном пути
и творчестве сам Честертон. И настигнут радостью будет тот,
кто откроет для себя, впервые или заново, этого замечатель-
ного писателя, известного среди друзей под прозвищем «док-
тор надежды».
* Аверинцев С.С. Гилберт Кийт Честертон, или Неожиданность здра-
вомыслия. В книге: Честертон Г.К. Писатель в газете. М., 1984.
Святой
Франциск Ассизский
© Перевод Н. Трауберг, 1991
Глава I
КАК ПИСАТЬ О СВЯТОМ ФРАНЦИСКЕ
В наше время, в нашей стране, очерк о св. Франциске
можно написать одним из трех способов. Писатель должен
выбрать, и я выбрал третий — по-видимому, самый труд-
ный. Точнее, он был бы самым трудным, если бы два других
не были невозможны.
Во-первых, он может рассматривать этого великого и
поразительного человека как историческое лицо, воплощение
общественных добродетелей. Он может описать святого на-
родолюбца как единственного в мире демократа (и окажется
прав). Он может сказать (хотя это и очень мало значит), что
св. Франциск обогнал свой век. Может сказать (с полным
основанием), что св. Франциск в то же время предвосхитил
все лучшее, либеральное, доброе, что есть в современном
мире, — любил природу, любил животных, жалел бедных,
понимал духовную опасность богатства и даже собственности.
Все, чего не знали до Вордсворта1, знал св. Франциск. Все, что
открыл нам Толстой, само собой разумелось для св. Фран-
циска. Его можно представить читателю не просто добрым, а
^манным, первым героем гуманности. Многие считали его
Утренней звездой Возрождения. И, по сравнению со всем
Этим, его аскетическую набожность можно не принимать во
внимание; можно отмахнуться от нее, как от неизбежной в
10
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
его век случайности, которая почему-то не привела к несча-
стному случаю. Можно счесть его веру суеверием, досадным
предрассудком, от которого не мог освободиться даже гений,
и прийти к выводу, что несправедливо осуждать Франциска
за самоотречение и нечестно ругать его за безбрачие. Ведь и
с такой отдаленной точки зрения он останется героем. Даже
так найдется что сказать во славу человека, который отпра-
вился к сарацинам, чтобы прекратить крестовые походы, и
защищал птиц перед императором. Можно объективно и
учено описать ту силу, которая отразилась в картинах Джот-
то2 , в поэмах Данте3, в мираклях4, положивших начало на-
шему театру, и во многих других, столь ценимых нами ве-
щах. Можно писать историю святого, обходя Бога. Это все
равно, что писать о Нансене, ни словом не упоминая Север-
ный полюс.
Возможна и другая крайность. Религиозный энтузиазм
может стать героем книги, как был он героем францискан-
ства. Можно писать о вере как о реальности, какой она и
была для реального Франциска. Можно отыскать особую,
суровую радость в парадоксах аскезы и святой нелепице сми-
рения. Можно испещрять бумагу печатями стигматов5 и рас-
писывать посты, как схватки с драконом, пока в смутном со-
временном сознании св. Франциск не станет суровым, как
св. Доминик6. Короче говоря, можно сделать негатив, на
котором тьма и свет поменяются местами. Для глупых все
это будет непроницаемо, как ночь; для большинства умных —
невидимо, как серебро на белом. Такую биографию св. Фран-
циска не поймут те, кто не верит, как он, и поймут лишь от-
части те, кто не любит, как он. Одни сочтут его слишком
плохим, другие — слишком хорошим для этого мира. Но так
написать я не могу. Только святой может описать жизнь свя-
того. Мне это не под силу.
Наконец, можно попытаться сделать то, что попытался
сделать я, хотя, как я уже говорил, возникнут новые трудно-
сти. Можно поставить себя на место беспристрастного и лю-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИИ
И
боэнательного современного человека. Я сам был таким и еще
не до конца изменился. Можно для начала стать на точку зре-
ния людей, которые восхищаются в св. Франциске тем, чем
вообще привыкли восхищаться. Другими словами, можно
предположить, что читатель по меньшей мере стоит на уровне
Ренана и Мэтью Арнолда7, и, исходя из этого попытаться
объяснить ему то, чего не объяснили они. Можно объяснить
непонятное через понятное. Можно сказать: «Этот человек
действительно жил на свете, и многим из нас по душе его жиз-
нерадостность, его милосердие и щедрость. Но были у него и
некоторые другие качества, ничуть не менее искренние, кото-
рых мы не понимаем и даже боимся. Однако это человек, а не
семья и не племя. То, что несовместимо для нас, вполне со-
вместимо для него. Не можем ли мы, используя то, что мы
знаем, понять эти, другие стороны, столь темные для нас и до
смешного непохожие на все, что любят теперь?» Конечно, я
не надеюсь решить такую сложную психологическую задачу в
моем коротком, поверхностном очерке. Я просто хочу сказать,
что буду все время обращаться к дружественному и непосвя-
щенному читателю. Я не рассчитываю ни на большее, ни на
меньшее. Материалисту безразлично, можно ли примирить
эти противоречия. Верующий вообще не увидит здесь проти-
воречий. Но я пишу для обычного современного человека, не
враждебного, но скептического, и разрешаю себе надеяться,
что привычно-живописные, подкупающие черты Франциска
помогут мне хоть немного показать его сущность. Я надеюсь,
что читатель чуть лучше поймет, почему поэт, воспевающий
солнце, прятался в темной пещере; почему святой, жалевший
Брата Волка, был столь суров к Брату Ослу8, собственному
телу; почему трубадур, чье сердце зажгла любовь, сторонился
женщин; почему он радовался огню и бросался в снег; и поче-
му одна и та же песня начинается язычески страстным: «Сла-
ва Господу за сестру нашу землю, что родит траву и плоды, и
пестрые цветочки», а кончается словами: «Слава Господу за
сестру нашу смерть».
/2 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Ренану и Мэтью Арнолду это оказалось не под силу. Они
охотно хвалили св. Франциска, пока им разрешали предрас-
судки, упрямые предрассудки скептиков. Если Франциск
делал что-нибудь им непонятное или неугодное, они не пы-
тались ни понять его, ни тем более оправдать; они просто
отворачивались от него, как обиженные дети. Мэтью Ар-
нолд спешит отделаться от аскетических подвигов Альвер-
но, словно это досадное, хотя и явное пятно посреди пре-
красной картины, или, скорее, прискорбная безвкусица в кон-
це рассказа. Но только слепой может счесть Альверно про-
валом св. Франциска, как только слепой сочтет Голгофу
провалом Христа. И Альверно, и Голгофа — прежде всего
горы, и глупо говорить, как Белая Королева9, что по сравне-
нию с чем-то другим это просто ямы. И на той, и на другой
горе достигли высшей точки и жизнь Христа, и жизнь св.
Франциска. Говорить о стигматах с сочувствием или с доса-
дой — то же самое, что считать позорными пятнами раны
самого Иисуса. Можно питать отвращение к духу аскетиз-
ма; можно ненавидеть самую мысль о мученичестве; можно,
в сущности, искренне возмущаться самопожертвованием
Страстей. Но если ваша ненависть не глупа, вы сохраните
способность видеть суть дела, которому служит мученик и
даже монах. Вряд ли, читая Евангелие, вы сочтете Крест-
ную Жертву посторонней, второстепенной или досадной слу-
чайностью. Она пронзит вас, как пронзила скорбь сердце
Божьей Матери.
И вы не поймете человека, прозванного Зерцалом Хри-
ста, если не понимаете, почему он кончил жизнь в скорби и в
тайне, а в одиночестве своих последних лет обрел неисцели-
мые, нерукотворные раны, подобные тем, другим, исцелив-
шим мир.
Я не буду сейчас пытаться примирить радость с лишени-
ями — пусть это сделает сама книга. Но я заговорил о Мэ-
тью Арнолде и Ренане, и рационалистических поклонниках
Франциска, и потому скажу сейчас, что, по-моему, нужно
иметь в виду. Для этих прекрасных писателей стигматы ока-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
13
зались камнем преткновения, потому что религия для них —
разновидность философии. Религия для них безлична; но
только самая личная из страстей поможет в какой-то мере
хоть что-нибудь понять. Человек не кинется в снег из-за
идеи или тенденции, он не будет голодать во имя отвлечен-
ных, пусть самых правильных понятий. Но он перенесет и
голод, и холод по совсем другой причине. Он перенесет их,
если он влюблен. Когда в самом начале жизни Франциск
сказал, что он трубадур, а потом говорил, что служит новой,
высшей любви, это была не метафора; он понимал себя го-
раздо лучше, чем понимают его ученые. Даже в суровейших
крайностях аскетизма он оставался трубадуром. Он был
влюбленным. Он любил Бога и любил людей, что еще реже
встречается. Тот, кто любит людей, не имеет ничего общего
с филантропом. В сущности, в ученом греческом слове кро-
ется ирония. Филантроп, строго говоря, может любить и ан-
тропоидов. Но св. Франциск любил не человечество, а лю-
дей, не христианство, а Христа. Говорите, что он был сумас-
шедший; говорите, если вам нравится, что он любил вообра-
жаемое лицо — но лицо, не идею! Для современного
читателя самый лучший ключ к аскетизму — история сумас-
бродных влюбленных. Расскажите жизнь Франциска как
жизнь трубадура, безумствующего во имя дамы, и все станет
на свое место. Никого не удивит, что поэт собирает цветы на
солнцепеке и простаивает ночи в снегу; превозносит теле-
сную, земную красоту — и не ест; славит золото и баг-
рец — и ходит в лохмотьях; стремится к счастью — и к му-
ченической смерти. Все эти загадки легко разрешаются в
простой истории любой благородной любви; а его любовь
была так благородна, что девять человек из десяти даже не
подозревают, что бывает такая. Мы увидим позже, что
сравнение с земной любовью объясняет многое в его жизни,
в его отношениях к отцу, и к друзьям, и к их семьям. Совре-
менный читатель способен понять почти всегда, что если бы
только он сам был способен на такую любовь, все крайности
обернулись бы для него романтикой. Я говорю об этом в
14
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
начале, потому что это, хотя и ни в коей мере не окончатель-
ная истина о нем, самый лучший к ней подход. Читатель не
разберется ни в чем, и многое покажется ему диким, пока он
не поймет, что вера великих мистиков подобна не теории, а
влюбленности. И в этой вводной главе я обращаюсь к тем,
кто, восхищаясь св. Франциском, не может принять его,
или, точнее, принимает святого, отбрасывая его святость.
Я берусь за это дело отчасти потому, что сам был таким.
Многое из того, что я в какой-то мере понимаю теперь, я
считал когда-то недоступным пониманию; многое, что стало
для меня священным, я отбрасывал как предрассудки. Мно-
гое стало ясно и светло для меня, потому что я смотрю из-
нутри; но глядя снаружи, я искренне верил, что все это тем-
но и дико, когда, много лет назад, меня потрясла впервые
слава св. Франциска. И я жил в Аркадии10; но даже в Ар-
кадии я встретил человека в бурой монашеской одежде, ко-
торый любил леса лучше, чем Пан. Фигурка в бурой одежде
стоит на камине в комнате, где я пишу. Он — один среди
многих других — был мне другом на каждой ступени моего
паломничества. Очаг и светлый огонь связаны с первой ра-
достью, которую дали мне его слова «Брат мой огонь».
Причудливые тени огня — тени его любимых зверей и птиц,
окруженные сиянием любви Божьей, — напоминают мне
театр теней на стене детской. Св. Франциск так глубоко
проник в мое сознание, что слился с самыми домашними
ощущениями детства. Я принял его Брата Волка и Сестру
Овцу, как Братца Кролика и Братца Лиса святого дядюшки
Римуса11. Потом, постепенно, я увидел в нем многое другое,
но это, первое, я никогда не забуду. Он стоит на мосту, пе-
рекинутом из моего детства к моему обращению; романтика
его веры сумела пробить даже рационализм смутных викто-
рианских времен. Так было со мной; и потому, быть может,
я проведу других хоть немного, совсем немного по этому
пути. Никто не знает лучше, чем знаю теперь я, что на этот
путь боятся ступить и ангелы. Я понимаю, что задача мне не
под силу, но я не боюсь — ведь он любил неразумных.
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
15
Глава II
МИР, КОТОРЫЙ ЗАСТАЛ СВЯТОЙ ФРАНЦИСК
Теперь, когда газеты заменили историю, или, точнее, ту
традицию, которую можно назвать исторической сплетней,
стало легче хотя бы в одном отношении. По крайней мере
теперь ясно, что мы не знаем ничего, кроме конца. Газеты не
просто сообщают новости, — они сообщают обо всем, как о
новости. Например, совершенно новым оказался Тутанха-
мон12 . Точно так же из сообщений о смерти генерала Бэнгса
мы узнали, что он когда-то родился. После войны мы узнали
немало об освобожденных народах; но мы ни разу не слыха-
ли, что эти народы порабощены. Нам твердят о примирении,
а мы не знали о ссоре. Нам некогда заниматься такими скуч-
ными вещами, как сербский эпос, — куда увлекательней
обсуждать на современном жаргоне проблемы югославской
дипломатии. Мы увлекаемся тем, что зовется Чехословаки-
ей, но не удостоили внимания Богемию. Вещи, старые, как
Европа, подаются нам в виде сенсаций, не уступающих в све-
жести последним сообщениям из жизни американских пре-
рий. Это очень интересно, как интересна последняя сцена
пьесы. Тем, кому достаточно выстрела или объятия, проще —
да и легче — приходить перед самым занавесом. Но если вам
захочется узнать, кто же кого убил, кто кого целовал и по-
чему, — этого мало.
Современные историки, особенно английские, страдают
этим недостатком. В лучшем случае они рассказывают поло-
вину истории христианства, причем последнюю. Те, для кого
разум начинается с гуманистов, а вера — с Реформации,
никогда не расскажут о чем-нибудь полностью, ибо придет-
ся начать с институций, чьего происхождения им не понять и
Даже не представить. Подобно тому, как мы знаем о смерти
нерождавшегося генерала, мы знаем все об уничтожении не-
известно почему и как возникших монастырей. Конечно, этого
16
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
мало даже для умного человека, ненавидящего монастыри.
Этого ничтожно мало и для того, чтобы ненавидеть даже
вполне заслуживающие ненависти вещи. Все вы, наверное,
слышали от историков и романистов о темном деле, называ-
емом испанской инквизицией. Дело это действительно тем-
ное, хотя бы потому, что темно его происхождение. Протес-
тантская история начинает прямо с ужасов, как пантомима
начинает с короля чертей на бесовской кухне. Я не сомнева-
юсь, что испанская инквизиция, особенно к концу, была дей-
ствительно страшной, а то и бесовской; но почему? Чтобы
понять испанскую инквизицию, надо понять прежде всего две
совершенно неизвестные нам вещи — Испанию и инквизи-
цию. Первая поставит нас перед великой проблемой кресто-
вого похода против мавров, и мы узнаем, как герои и рыцари
спасли Европу от пришельцев из Африки. Вторая вызовет к
жизни всю сложность другого крестового похода — похода
против альбигойцев13, и мы узнаем, почему люди любили и
почему ненавидели всеотрицающее восточное наваждение.
Пока мы не поймем, что то и другое началось с опрометчиво-
сти и романтики крестового похода, нам не понять, куда имен-
но пробрались предательство и зло. Конечно, крестоносцы
злоупотребили победой, но победа была. А где победа, там и
смелость, там и народная любовь. Восторг победы покрыва-
ет ошибки и подстрекает к крайности. Например, я давно, с
молодости, говорил о том, что Англия жестока к ирландцам.
Но несправедливо описывать бесовщину 98-го года14, не
упомянув о войне с Наполеоном15. Несправедливо утверж-
дать, что англичане хотели только смерти Эммета16; в дей-
ствительности их куда больше волновала славная смерть
Нельсона17. К сожалению, это грязное дело не кончилось
98-м, и несколько лет назад наши политики снова попыта-
лись прибегнуть к убийству и грабежу, мягко укоряя ирланд-
цев, поминающих былое. Говорить о войне с Ирландией, за-
бывая, как бескорыстны были мы в войне с Пруссией, —
нечестно по отношению к Англии. Точно так же нечестно по
отношению к Испании расписывать орудия пытки, словно
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ______________/7
ужасные игрушки. Да, история инквизиции кончилась пло-
хо. Я ничуть не требую признать, что она и начиналась хоро-
шо. Мне просто жаль, что для многих она вообще не начина-
лась. Нынешние люди прибыли лишь к ее смерти, или даже,
как лорд Том Нодди, опоздали к повешению. Да, инквизи-
ция бывала страшнее любой виселицы, но они собирают лишь
прах от праха, видят лишь пепелище костра.
Я случайно привел в пример инквизицию. Какое бы от-
ношение ни имела она к св. Доминику, со св. Франциском
она не связана. Позже я скажу, что ни Франциска, ни До-
миника нельзя понять, если не понимаешь, чем были для
ХШ века ересь и крестовый поход. Но сейчас у меня другая
цель. Я хочу показать, что историю св. Франциска нельзя
начинать с его рождения, — тогда ничего в ней не поймешь,
лучше и не рассказывать. А в наше время рассказывают
именно так, задом наперед. Мы узнаем о реформаторах, по-
нятия не имея, что же они реформировали, узнаем о мятеж-
никах, даже и не представляя себе, против чего они восста-
ли; узнаем о восстановлении того, чего не было. Рискуя тем,
что глава непомерно разрастется, я все же расскажу хоть
немного о великих движениях, которые привели к появлению
Франциска. Вам может показаться, что я берусь описать
мир или мироздание, чтобы рассказать об одном человеке.
К сожалению, мир и мироздание мне придется описать, не-
простительно обобщая. Я не пытаюсь показать, как мал ни-
щий монах на фоне огромного неба; — я хочу окинуть взо-
ром небо, чтобы мы поняли, как он велик.
Сама эта фраза велит мне сказать то, без чего не обой-
дешься, начиная даже очерк о Франциске. Необходимо уви-
деть — пусть упро*щенн(Ц руярэ грубо — мир, в который
попал св. Франциск, и прошлое этого мира, хотя бы то, ко-
торое ФранцискЛсасаЛосы ‘Надо написать, как Уэллс, «Ис-
торический очерк»|£ | /у^ЭД^ЭДЕсно, что наш замеча-
тельный писатель страдал, как страдает тот, кто ненавидит
своего героя. Писать об истории, ненавидя Рим, то есть и
императоров, и пап, — значит, собственно, ненавидеть по-
18
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
чти все на свете. Еще немного — и возненавидишь человека
из чистого человеколюбия. Отрицая и воина, и пастыря, лав-
ры победителя и нимб святого, отрезаешь себя от множества
людей, а этого не возместить даже столь сильному и тонкому
разуму. Чтобы понять, какое место в истории занимает св.
Франциск — пастырь и воин, — надо быть шире и любвео-
бильней. Итак, я закончу эту главу обобщениями о мире,
который Франциск застал.
Люди не верят из узости. Сам я сказал бы, что они не так
кафоличны, чтобы стать католиками19. Но я не хочу обсуж-
дать сейчас доктрины христианства, я пишу об его истории,
такой, какою способен видеть ее человек с умом и воображе-
нием, даже если сам он — не христианин. Я говорю о том,
что сомнения чаще всего порождены мелочами. Беспечно
читая книги, вы узнаете о языческом обряде — и он вам ка-
жется прекрасным, узнаете о деянии христиан — и оно вам
кажется жестоким; но вам не хватает широты, чтобы уви-
деть главное в язычестве и в христианской реакции на него.
А пока это так, вы не поймете исторического мгновения, ког-
да Франциск появился, и сути его великой, поистине народ-
ной миссии.
Наверное, все знают, что в XII—XIII веках мир про-
снулся. Именно тогда развеялись долгие чары сурового и
бесплодного времени, которое мы зовем Темными веками.
XIII же век можно назвать освобождением; во всяком слу-
чае, его можно назвать развязкой несравненно более жесто-
кой и бесчеловечной эпохи. Что же кончилось? От чего ос-
вободились люди? Тут-то и расходятся мнения толкователей
истории. С внешней, мирской стороны люди действительно
проснулись после долгого сна; но пока они спали, они видели
разные сны — и вещие, и жуткие. Наши рационалисты счи-
тают, что люди просто очнулись от кошмара суеверий и дви-
нулись по пути просвещения. Но тем, для кого Темные
века — тьма и больше ничего, а заря, занявшаяся в XIII ве-
ке, — только свет, никогда не разобраться в жизни св. Фран-
циска. Дело в том, что его радость и радость его Божьих ско-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
19
морохов — не только радость пробуждения. С Темными
веками кончился не только сон, во всяком случае — не толь-
ко кошмар.
Кончилась епитимья; если хотите — кончился срок чис-
тилища. Мир очистился от страшной духовной немощи. Из-
гнали эту немощь века аскезы, ничто другое не изгнало бы.
Христианство явилось в мир, чтобы исцелить его, и лечило
единственным возможным способом.
С внешней, практической стороны высокая цивилизация
древних кончилась тем, что люди вынесли из нее определен-
ный урок — обратились в христианство. Урок этот связан с
психологией, а не только с теологией. Языческая цивилиза-
ция действительно была очень высокой. Нам ничуть не опас-
но, нам даже выгодно признать, что ничего более высокого
человечество до сих пор не создало. Древние изобрели не-
превзойденные способы и словесного, и пластического изоб-
ражения мира; вечные политические идеалы; стройные сис-
темы логики и языка. Но они сделали еще больше — они
поняли свою ошибку.
Эта ошибка так глубока, что нелегко найти для нее под-
ходящее слово. Проще и приблизительней всего назвать ее
поклонением природе. Можно сказать, что древние были
слишком естественны. Греки — великие первооткрывате-
ли — исходили из очень простой и на первый взгляд оче-
видной мысли: если человек пойдет прямо по большой доро-
ге разума и природы, ничего плохого случиться не может,
тем более — если человек этот так разумен и прекрасен, как
Древний грек. И не успели греки пойти по этой дороге, как с
ними приключилась действительно странная вещь, такая
странная, что о ней почти невозможно рассказать. Замечу
лишь, что наши самые отвратительные реалисты не пользу-
ются добрыми плодами своего метода. Обсасывая гнусности,
они не в состоянии заметить, что свидетельствуют в пользу
традиционной морали. Если бы я любил такие вещи, я бы
мог привести тысячу примеров из их книг в защиту христи-
анской этики. Никто не написал полной, совсем правдивой
20
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
истории греческих нравов. Никто не показал, какое огромное
место занимала некая странность. Мудрейшие люди в мире
пожелали жить согласно природе и почти сразу занялись на
редкость противоестественным делом20. Почему-то любовь
к солнцу и здоровье естественных людей привели прежде
всего к поразительно противному извращению, заражавше-
му всех, как мор. Самые великие, даже чистые мудрецы не
смогли его избежать. Почему? Казалось бы, народу, чьи
поэты могли создать Елену, а скульпторы — Афродиту, не-
трудно остаться нормальным в этом отношении. Но тот, кто
поклонился здоровью, не останется здоровым. Если человек
идет прямо, его дорога крива. Человек изогнут, как лук;
христианство открыло людям, как выправить эту кривизну и
попасть в цель. Многие посмеются над моими словами, но
поистине благая весть Евангелия — весть о первородном
грехе.
Рим еще жил и рос, когда греческие его наставники уже
гнили на корню, ибо не слишком спешил у них учиться. Он
сохранял куда более достойный, патриархальный уклад, но в
конце концов и он погиб от того же недуга, порожденного
прежде всего языческим культом природы. К несчастью ан-
тичной цивилизации, для огромного большинства древних не
было ничего на мистическом пути, кроме глухих природных
сил — таких, как пол, рост, смерть. У нас вошли в поговорку
времена Нерона, когда садизм восседал на троне среди бела
дня. Но то, о чем я говорю, и глубже и сложнее, чем привыч-
ный перечень зверств. С человеческим воображением слу-
чилась дурная вещь — весь мир окрасился, пропитался, про-
никся опасными страстями, естественными страстями, кото-
рые неуклонно вели к извращению. Древние сочли половую
жизнь простой и невинной — и все на свете простые вещи
потеряли невинность. Половую жизнь нельзя приравнивать
к таким простым занятиям, как сон или еда. Когда пол пере-
стает быть слугой, он мгновенно становится деспотом. По
той, по иной ли причине он занимает особое, ни с чем не срав-
нимое место в человеческом естестве; никому еще не удалось
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
21
обойтись без ограничения и очищения своей половой жизни.
Современные разговоры о половой свободе, о теле, прекрас-
ном, как растение, — или описания райского сада, или про-
сто плохая психология, от которой мир устал две тысячи лет
тому назад.
Не надо путать все это с праведными обличениями по-
рочной античности. Древний мир был не столько порочен,
сколько способен понять, что становится все порочнее, или,
во всяком случае, логически на порочность обречен. У магии
природы не было будущего, ее можно было углубить только
в черную магию. Для нее не было будущего; в прошлом она
была невинна лишь по молодости. Можно сказать, что она
была невинна потому, что была поверхностна. Язычники ока-
зались умней язычества, потому они и обратились. Тысячи
древних были и мудры, и добродетельны, и доблестны, но
груз народных сказок, носивших название религии, приби-
вал их к земле. Я пишу о реакции на это зло и повторю: оно
было повсюду. В самом полном и буквальном смысле слова,
имя ему было — Пан.
Не сочтите за метафору то, что я скажу, — им действи-
тельно нужны были новое небо и новая земля, потому что
они опоганили свое небо и свою землю. Как могли они под-
нять глаза к небу, когда непристойные легенды смотрели на
них со звезд? Что могла им дать любовь к цветам и птицам,
после тех историй, что про них рассказывали? Всех свиде-
тельств не приведешь, пусть одно заменит многие. У всех
нас слово «сад» вызывает трогательные ассоциации — лег-
кая печаль вспоминается нам, или невинные радости, или
нежные старые девы, или старый священник у изгороди, под
сенью колокольни. Если вы хоть немного знаете латинскую
поэзию, вспомните, что стояло в их садах вместо солнечных
часов или фонтана, нагло и весомо, в ярком солнечном свете;
попробуйте вспомнить, каков был бог их садов21.
Поистине от этого наваждения могла избавить только в
полном смысле слова неземная религия. Вряд ли стоило про-
поведовать древним естественную религию цветочков и
22
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
звезд — не осталось ни одного чистого цветка, ни одной нео-
скверненной звезды. Приходилось идти в пустыню, где цве-
ты не растут, и в пещеру, откуда звезд не увидишь. В эту
пустыню, в эту пещеру ушла мудрость мира на тысячу лет, и
мудрее она ничего не могла сделать. Спасти ее было под силу
только сверхъестественному; если Бог не спас бы ее, то уж
божества — тем более. Ранние христиане звали бесами язы-
ческих богов, и были правы. Какова бы ни была поначалу
религия древних, теперь только злые духи обитали в опус-
тевших святилищах. Пан стал только паникой, Венера —
только венериным грехом22. Я совсем не думаю, конечно, что
каждый язычник был таким, даже в самом конце. Но отхо-
дили они от этого поодиночке. Глубоко личное дело, называ-
емое философией, почти ничем не было связано с коллектив-
ной религией; в атом — главное отличие язычников. Они
знали гораздо лучше нас, что с ними такое, какие бесы иску-
шают и мучают их, и перечеркнули много веков новыми сло-
вами: «Сей род изгоняется молитвой и постом»23.
Св. Франциск и начало XIII века тем и важны, что вплоть
до них длилось искупление. Конечно, люди Темных веков
были и грубы, и невежественны, и ни к чему не способны,
кроме войн с еще более грубыми языческими племенами, но
они были чисты. Они были как дети. Первые, грубые образ-
цы их искусства сохранили нам чистую радость детей. По-
пробуйте представить себе Европу, испещренную маленьки-
ми общинами, большей частью — феодальными, сложивши-
мися в борьбе с варварами, иногда — монашескими, кото-
рые были намного заботливей и мягче. Это огромное
пространство ощущало себя империей, потому что Рим вла-
ствовал над ним, хотя бы как легенда. В Италии сохранился
пережиток лучшего, что было в античности, — здесь были
республики, маленькие государства с демократическими иде-
алами, в которых нередко действительно жили граждане. Но
в отличие от античных они не были открыты со всех сторон,
их везде окружали стены, чтобы обороняться от феодалов, и
все жители города считали себя солдатами. Один из таких
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ_____________23
городов, удобно примостившийся на лесистых холмах Умб-
рии, назывался Ассизи. Из его ворот, из-под его высоких
башен вышла к людям благая весть: «Ваша борьба кончи-
лась, ваш грех прощен». И тогда из камней феодализма и
обломков римского права стала складываться огромная, по-
чти универсальная цивилизация Средних веков.
Без сомнения, нельзя приписывать все это одному чело-
веку, даже если он — лучший, своеобразнейший человек
своего века. Простая этика братства и честности существо-
вала и до него, она никогда не исчезала полностью из хрис-
тианского мира. Мы найдем великие трюизмы о справедли-
вости и сострадании в самых простодушных летописях вар-
варской эпохи и в самых суровых поучениях поздней Визан-
тии. И в XI, и в XII веках мы видим признаки духовного
подъема. Но в этом подъеме еще была суровость, которой
окрашены долгие века покаяния. Рассвет наступал, но небо
было еще серым. Монашество много старше Франциска,
оно почти такое же старое, как христианство. Стремление к
совершенству издавна принимало форму обетов целомудрия,
бедности и послушания. Несмотря на свои неземные цели,
монахи давно уже цивилизовали большую часть света. Они
научили людей пахать и сеять, а не только читать и писать.
В сущности, они научили людей почти всему. Но можно с
полным правом сказать, что монахи были строго практич-
ны — не только практичны, но и строги. Конечно, в основ-
ном они были строги к себе, а другим людям полезны. Ста-
рое монашество установилось давно и кое-где уже стало вы-
рождаться. Но во всех движениях раннего Средневековья
мы видим эту суровость. Это можно показать на трех при-
мерах.
Во-первых, античное рабовладение уже исчезало. Раб
превратился в крепостного, свободного в своей семье. Но
кроме этого, многие освобождали и рабов, и крепостных —
всегда под давлением Церкви и, как правило, в припадке
покаяния. Конечно, во всяком христианском общество жи-
Вет дух покаяния. Но я имею в виду тот гораздо более силь-
24
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
ный дух покаяния, которым вытравлялись пороки античнос-
ти. Один честный атеист, споря со мной, сказал: «Христиа-
не живут в рабстве, потому что боятся ада». Я ответил ему:
«Если бы вы сказали, что рабы получили свободу только
потому, что их владельцы боялись ада, это был бы по край-
ней мере бесспорный исторический факт».
Другой пример — реформа церковной дисциплины,
проведенная папой Григорием VII24. Цели ее были весьма
высокие, а результаты — самые здоровые. Она была на-
правлена против коррупции священства. Но привела она к
целибату, что при всей возвышенности может показаться
немного суровым. Третий пример — самый сильный. Я го-
ворю о походе героическом, для многих из нас священном,
но все же несущем всю страшную ответственность военного
похода.
Здесь не хватает места, чтобы сказать все, что надле-
жит, об истинной природе крестовых походов. Каждый зна-
ет, что в самый темный час Темных веков появилась в Азии
ересь и стала новой религией, воинственной и кочевой рели-
гией мусульманства. Она была похожа на многие ереси,
вплоть до монизма25. Еретикам она казалась здоровым уп-
рощением веры; католикам кажется упрощением нездоровым,
потому что сводит веру к одной идее и лишает ее свободного
дыхания и равновесия христианства. Во всяком случае, она
угрожала христианству, и христианство нацелило удар в са-
мое ее сердце, попыталось отвоевать Святые места. Великий
герцог Готфрид26 и первые христиане, штурмовавшие Иеру-
салим, были героями, если вообще есть на свете герои, но это
были герои трагедии.
Я привел в пример три дофранцисканских движения,
чтобы показать в них общую черту, обусловленную тем ду-
хом покаяния, который пришел на смену античности. Все
они подобны ветру, дующему в холодный день. Этот чис-
тый, суровый ветер действительно продувал насквозь мир,
проходивший очищение. Для всякого, кто чувствует дух эпо-
хи, есть что-то чистое и бодрое в атмосфере тех грубых, а
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
25
иногда и жестоких эпох. Даже разнузданность там чиста —
в ней нет привкуса извращения. Даже жестокость чиста —
в ней нет пресыщенности римского цирка, ее порождают
простой ужас перед кощунством и простая ярость оскорб-
ленного воина. Постепенно на этом темном фоне возникает
красота, очень свежая и трогательная, и прежде всего —
небывалая. Возвращается любовь, уже не платоническая, а
та, которую до сих пор зовут рыцарской. Цветы и звезды
обретают первоначальную невинность, вода и огонь уже до-
стойны стать братом и сестрой святому. Мир очистился от
язычества.
Сама вода отмылась. Сам огонь преобразился в пламени.
Вода — уже не та вода, куда бросали рабов на съедение
рыбам. Огонь — уже не тот огонь, куда бросали детей на
съедение Молоху27. Цветы уже утратили запах приапова
сада; звезды перестали служить холодным далеким богам.
И вода, и огонь, и цветы, и звезды ждут новых имен от того,
кто вытравил из души последний след поклонения природе,
и потому может вернуться к ней.
И вот, в самом конце долгой, суровой, почти беззвезд-
ной ночи маленький человечек внезапно и тихо взошел на
холм и стал над городом, темный на темном фоне. Он поднял
руки, как поднимал потом на стольких статуях и картинах,
над ним запели птицы, а за его спиной занялся день.
Глава III
ФРАНЦИСК-ВОИТЕЛЬ
По преданию (может быть, неверному, но очень досто-
верному), само имя св. Франциска не столько имя, сколько
прозвище. Такому негордому, простому человеку очень под-
ходит откликаться на прозвище, как отзывается школьник
на кличку «французик». По этому преданию, его звали
Иоанн, Джованни, но товарищи окрестили его Франческо
26
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
за любовь к французской поэзии. Более вероятно, однако,
что мать назвала его Джованни в отсутствие отца, а тот, вер-
нувшись из торговой поездки во Францию, где ему очень
повезло, воспылал такой любовью к французскому вкусу и
обычаю, что назвал сына «франком» или «французом». В лю-
бом случае имя не лишено значения: Франциск с первых же
дней связан с краем, который стал для него романтической,
сказочной страной трубадуров.
Отец его, Пьетро Бернардоне, был зажиточный горо-
жанин, член гильдии торговцев тканями в городе Ассизи.
Трудно объяснить, что это значит, не объясняя, чем была
тогда гильдия и даже чем был тогда город. Бернардоне не
был похож ни на современного торговца, ни на купца, ни на
дельца, вообще — ни на кого из тех, кто живет теперь, ког-
да правит капитал. Быть может, он нанимал работников, но
не был предпринимателем, то есть не принадлежал к особо-
му классу, отделенному стеной от наемников. Точно мы зна-
ем лишь об одном человеке, чей труд он использовал, — об
его сыне, который, как нетрудно догадаться, был едва ли не
последним, с кем связался бы любой делец, если бы мог на-
нять другого. Он был богат, как бывает богат крестьянин,
живущий трудом своей семьи, но обрекал свою семью на
труд, который ничуть не изящней крестьянского. Он был
уважаемым горожанином, но общественный строй его вре-
мени не дал бы ему выдвинуться выше; строй этот удержи-
вал людей его класса на невысоком уровне. Никакое богат-
ство не давало сыновьям торговца той возможности избе-
жать черной работы, благодаря которой в наше время так
часто сходят за лордов или хотя бы за джентльменов, или за
кого-нибудь еще, только не за сыновей торговца. Это было
правилом, и даже исключения подтверждают его. Франциск
принадлежал к тому типу людей, который любят всегда и
везде: он был простодушен, общителен, подражал трубаду-
рам, следовал французской моде и благодаря всему этому
стал романтическим вожаком местных юнцов. Он сорил
деньгами и по доброте, и по чудачеству, чего и следует ожи-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
27
дать от человека, который до конца жизни не понял, что та-
кое деньги. Его мать приходила в отчаяние, и любовалась
им, и говорила, как могла бы сказать жена ремесленника:
«Он будто принц, а не наш сын». Но одно из первых изве-
стных нам событий его жизни произошло на рынке, у при-
лавка, когда он продавал ткани; не знаю, считала ли его
мать, что такое занятие свойственно принцам. Эта первая
картина — юноша на базаре — символична во многих от-
ношениях. То, что там произошло, помогает нам понять одну
замечательную черту Франциска задолго до того, как его пре-
образила вера. Он продавал бархат и тонкое шитье какому-то
видному горожанину, когда к нему подошел нищий и попро-
сил милостыни — по всей вероятности, не слишком вежливо.
В том грубом и простом обществе не было законов, запреща-
ющих голодному просить пищу, — они возникли в более
гуманное время; и, пользуясь отсутствием организованных
блюстителей порядка, бедные могли безнаказанно докучать
богатым. Но во многих местах обычай не разрешал вмеши-
ваться в частную сделку; вполне возможно, что именно из-за
этого нищий попал в особенно глупое положение. Франциск
всю свою жизнь очень любил людей, попавших в безвыход-
но глупое положение. В данном случае он раздвоился между
нищим и покупателем, отвечал рассеянно, а может, и раздра-
женно. Наверное, ему было особенно не по себе, потому что
он был вежлив от природы. Все согласны с тем, что вежли-
вость его бросалась в глаза, просто била в нос, как малень-
кие фонтаны на солнечных итальянских рынках. Он мог бы
написать сам и сделать своим девизом стихи Беллока28:
Все говорят, что мужество и честь
Достойнее, чем вежливости лесть,
Но мне дано, блуждая, рассуждать,
Что в вежливости — Божья благодать*.
* Пер. А. Якобсона.
28 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Никто не сомневался, что Франческо Бернардоне муже-
ствен и честен в самом простом, даже воинственном смысле
этих слов, и недалеко было время, когда все признали, что
его осеняет благодать. Но, мне кажется, сам он был щепе-
тилен только в делах щепетильности. Если такой смиренный
человек и гордился чем-нибудь, он гордился своими манера-
ми. Однако за его безукоризненно-естественной вежливо-
стью крылись куда более дивные и даже дикие свойства,
чей первый проблеск мы видим в этой обычнейшей сцене.
Франциск едва не раздвоился, но как-то избавился от поку-
пателя и тут увидел, что нищий ушел. Тогда он выскочил из
шатра, бросил без присмотра рулоны шитья и бархата и
помчался за нищим через рынок. Он пронесся по лабиринту
узеньких извилистых улочек, случайно наткнулся на своего
нищего и, к его удивлению, дал ему много денег. Потом он,
так сказать, стал тихо и поклялся перед Богом, что никогда
не откажет в помощи бедняку. Стремительная простота этих
действий более чем характерна для него. Никто на свете не
боялся так мало за свои обещания. Его жизнь просто цели-
ком состояла из безрассудных обетов, и все эти обеты он
выполнил.
Первые биографы Франциска, вполне естественно жив-
шие его великим религиозным переворотом, столь же есте-
ственно искали в начале его жизни знамений и знаков, пред-
восхищающих землетрясение духа. Но мы отошли от него
дальше, и думаю, воздействие не уменьшится, а увеличится,
если я признаю, что не было никаких знаков, ничего особен-
но мистического в молодом Франциске. В отличие от многих
святых он далеко не сразу осознал свою миссию. Больше всего
он мечтал прославиться французскими стихами и подвигами
на поле брани. Добрым он родился; он был смел, как боль-
шинство мальчиков; но и доброта его и смелость кончались
примерно там же, где кончаются они у мальчиков. Напри-
мер, он, как и все, очень боялся проказы, и в таком страхе
нет ничего стыдного. Он любил яркие и веселые цвета во
вкусе средневековой геральдики и, по-видимому, одевался
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
29
пышно и пестро. Если бы он не окрасил мир алым цветом
любви, он расцветил бы его всеми цветами радуги, как на
тогдашних картинках. Но когда юноша в ярких одеждах бе-
жал за нищим в лохмотьях, проявились те черты его личнос-
ти, о которых нужно помнить всегда.
Во-первых, он бежал быстро. Собственно, с той поры он
так и не остановился. Поскольку едва ли не все его дела были
делами милосердия, очень много пишут об его кротости. Она
и впрямь была в нем, и самая истинная, но легко ее непра-
вильно понять. В нем не было тихости, он все время куда-то
стремился. Только его, из всех святых, можно было бы изоб-
разить, как изображают иногда ангелов с крыльями на ногах
или даже вместо ног, в духе стиха о том, что ангел — и ве-
тер, и вестник, и пламя29. При всей его мягкости стреми-
тельность его нередко граничила с нетерпением. Если мы
постигнем эту психологическую истину, мы поймем, как не-
верно употребляют сейчас слово «практичный». По-видимо-
му, теперь полагают, что практичен тот, кто выбирает самое
выгодное, то есть самое легкое. В этом смысле св. Франциск
совершенно непрактичен и цели его — никак не мирские. Но
если называть практичным того, кто действует сразу, не от-
кладывая, он практичен. Некоторые сочтут его сумасшед-
шим, но с бесплодным мечтателем он нимало не схож. Никто
не назовет его деловым, но человеком действия он был, в
молодости — даже слишком. Он действовал слишком сра-
зу, слишком быстро, в ущерб благоразумию. И на каждом
повороте своего небывалого пути он огибал углы так же рез-
ко и неожиданно, как огибал их, гонясь за нищим по кривым
улочкам Ассизи.
Проявилась тут и другая черта, которая жила в его душе
как инстинкт раньше, чем превратилась в мистический иде-
ал. По-видимому, черта эта никогда не исчезала из малень-
ких республик средневековой Италии. Многие не могут ее
понять, южане понимают лучше северян, католики — лучше
протестантов. Он никогда не сомневался в том, что все люди
Равны. Не надо путать это с францисканским человеколю-
30
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
бием — на практике это чувство равенства нередко приво-
дило к поединкам. Наверное, дворянин не может стать по-
борником равенства, пока не способен поссориться со слу-
гой. Такое чувство стало одной из основ францисканского
братства, и в этом происшествии мирской, молодой поры оно
проявилось сполна. Я думаю, Франциск действительно не
знал, кого слушать, и, послушав купца, счел нужным послу-
шать и нищего, ибо и тот, и другой были для него людьми.
Такие вещи очень трудно описывать там, где их не знают, но
в том-то и было дело, потому народное движение и возникло
в этом краю и начал его этот человек. Его милосердие, слов-
но башня, достигло звездных высот, на которых кружится
голова, а то и мутится ум; но строил он на высоком плоско-
горье равенства.
Я взял один из сотни рассказов о юности св. Франциска
и остановился на нем подольше, ибо пока мы не увидим
сути, рассказы эти останутся для нас немного легковесными.
Св. Франциску не к лицу покровительственный тон «занят-
ных историй». Их много; но слишком часто в них видят сен-
тиментальные опивки Средневековья, не понимая, что свя-
той прежде всего — это вызов веку сему. Земной, челове-
ческий путь Франциска надо увидеть серьезнее; и следую-
щая история, показывающая нам его, — совсем другая.
Однако и она как бы случайно открывает нам бездны его
сознания, а может, и подсознания. Франциск все еще ка-
жется обычным молодым человеком, но если мы вглядимся в
него, мы увидим, каким необычным он был.
Вспыхнула война Ассизи с Перуджей. Теперь принято
подсмеиваться над тем, что войны между тогдашними горо-
дами-республиками не столько вспыхивали, сколько вечно
тлели. Скажем только, что даже если бы одна из них про-
должалась сотню лет, навряд ли погибло бы столько людей,
сколько мы убиваем за год на нашей современной научной
войне между современными промышленными империями.
Конечно, граждане средневековых республик отстало уми-
рали за то, что любили: за дома, где они жили, за святыни,
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
31
которые чтили, за хорошо знакомых правителей и предста-
вителей. Они не могли прогрессивно умирать за последние
слухи о дальних колониях, переданные безымянными жур-
налистами. Если же, основываясь на собственном опыте, вы
решите, что войны парализовали цивилизацию, признайте
хотя бы, что воюющие города дали нам паралитика Данте и
паралитика Микельанджело, Ариосто и Тициана, Леонардо
и Колумба, не говоря уже о Екатерине Сиенской30 и герое
этой книги. Если местный патриотизм —прискорбный пере-
житок Темных веков, почему же три четверти великих лю-
дей вышло из тех городов и участвовало в тех стычках? Еще
посмотрим, что выйдет из наших столиц, но с тех пор, как
они разрослись, о великих людях не слышно. И мальчише-
ская мечта не дает мне покоя: а что если их и не будет, пока
Клепем31 не опояшет стена и не протрубит в ночи труба, при-
зывая к оружию жителей Уимблдона?
Во всяком случае, в Ассизи она протрубила, и граждане
взялись за оружие, а среди них был Франциск, сын торгов-
ца. Он выступил в поход с отрядом воинов и в какой-то
стычке, или в набеге, или когда еще они попали в плен. Са-
мым вероятным кажется мне, что кто-то их предал или стру-
сил, ибо с одним из пленных товарищи отказывались об-
щаться даже в темнице, а это равносильно обвинению. Как
бы то ни было, кто-то заметил одну вещь, занятную, не
очень значительную, скорее дурную, чем хорошую. Фран-
циск обходился с товарищами любезно, даже радушно, «сво-
бодно и весело» (как кто-то сказал о нем), стараясь обод-
рить и их, и себя. И вот, обращаясь к отверженному — к
тРУсу ли, изменнику, не знаю, — он просто ни в чем не ме-
нял тона, не проявлял ни холодности, ни сострадания, гово-
рил все с той же веселой простотой. Но если в темнице был
человек, умеющий видеть истину и духовную суть, он мог
бы понять, что перед ним — нечто новое, почти беззакон-
ное: глубокое течение, стремящееся в неведомое море любви.
У Франциска действительно был недостаток, ему недостава-
ло одного качества. В одном отношении он был слеп и пото-
32
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
му видел лучшие, красивейшие вещи. Все ограничения доб-
рой дружбы и вежества, все запреты общественной жизни,
отделяющие недолжное от должного, все общественные
предрассудки и условности, естественные и даже неплохие у
обычного человека, связывающие воедино немало вполне
пристойных сообществ, не сдерживали его. Он любил по-
своему. Вероятно, он любил всех; но особенно сильно любил
он тех, из-за кого не любили его самого. Что-то великое и
всеобщее обитало в тесной темнице, и наш духовидец узрел
бы во тьме алый нимб милосердия милосердий, выделяющий
из святых этого святого. Он услышал бы тихий голос неслы-
ханного благословения, которое позже сочли хулою: «Он
внемлет тем, кому сам Бог не внемлет».
Духовидец узрел бы это, но я сомневаюсь, мог ли это
узреть Франциск. Он поступал так по бессознательной щед-
рости сердца, которую в средние века прекрасно именовали
широтою, и ее можно было бы счесть беззаконной, если бы
она не подчинялась высшему, Божьему закону; но я сомне-
ваюсь снова в том, что Франциск знал, чей это закон. Он не
собирался оставить войско и не помышлял о монастыре. Что
бы ни говорили пацифисты и умники, можно любить людей и
сражаться с ними, если ты сражаешься честно и за доброе
дело. Но мне кажется, здесь было не только это: по-видимо-
му, молодой Франциск вообще тяготел к рыцарской, воин-
ской нравственности. И вот первая неудача пересекла его
путь — он заболел той болезнью, которая много раз встава-
ла препятствием на его отчаянном пути. Болезнь сделала его
серьезней, но так и кажется, что стал он более серьезным
воином и даже более серьезным в воинственности. А пока он
выздоравливал, путь приключений и славы открылся перед
ним, и путь этот был куда шире, чем тропа стычек и набегов.
Некий Готье де Бриен32 оспаривал корону Сицилии — мно-
гие оспаривали ее тогда, и Папа призвал народ ему на по-
мощь, а призыв этот нашел отклик в сердцах юношей Асси-
зи. Франциск решил отправиться в Апулию на помощь гра-
фу; быть может, сыграло роль и французское его имя. Не
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
33
надо забывать, что, хотя мир того времени был миром ма-
леньких вещей, вещи эти были связаны с другими, больши-
ми. В испещренных крохотными республиками землях было
больше интернационализма, чем в огромных, однородных,
непонятных наших странах. Власть правителей Ассизи вряд
ли простиралась дальше тех мест, куда долетела бы стрела
из лука с городской стены; но сердце их могло быть и с нор-
маннами в Сицилии, и с трубадурами в Тулузе, и с импера-
тором в германских лесах, и с папой, умирающим в Салерно.
Когда век живет верой, он по сути своей един. В чем больше
вселенского, чем во Вселенной? Многое в религиозных воз-
зрениях той поры не совсем ясно нынешним людям. Напри-
мер, такие давние времена смутно представляются нам древ-
ними, ранними, каким-то детством мира. Нам кажется, что
все это было на заре христианства. Но Церковь уже перева-
лила за первое тысячелетие, она была старше современной
Франции и много старше Англии. Она и казалась старой,
почти такой же старой, как сейчас, а может быть, и старше.
Словно Карл Великий33, одолевший язычников в сотне схва-
ток, которого, по легенде, ангел просил сразиться снова, хотя
седобородому королю исполнилось двести лет, Церковь от-
сражалась первое тысячелетие и начала второе. Она прошла
через Темные века, когда одно оставалось ей — отчаянно
биться с варварами и упрямо твердить Символ Веры34. Его
твердили по-прежнему, после победы или спасенья, но не-
трудно предположить, что повторение это стало однообраз-
ней. Церковь казалась старой, как и сейчас, и некоторые,
как сейчас, думали, что она умирает. На самом деле вера не
умерла, но, может быть, стала скучнее, во всяком случае,
некоторым она уже казалась скучной. Трубадуры и труверы
уже пошли или свернули туда, где обитают восточные вы-
мыслы и парадоксы уныния, которые кажутся европейцам
невиданно-новыми, когда их собственный здравый смысл
немного застоится. После веков безнадежных сражений и
безрадостной аскезы могло показаться, что признанное пра-
воверие несколько застоялось. Свобода и свежесть раннего
34
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
христианства казались тогда, как и сейчас, безвозвратно уте-
рянным, едва ли не доисторическим Золотым веком. Рим был
'разумней других городов, Церковь была мудрее мира, но
вполне могло показаться, что устала она больше. Наверное,
в безумной метафизике Востока было что-то пленительное и
дерзновенное. Темные тучи пессимизма собирались над Сре-
диземным морем, чтобы разразиться грозой междоусобицы
и раскола. Только вокруг Рима светил свет, но он был бес-
цветным, земля — плоской, и неподвижный воздух стоял в
тишине над священным градом.
В высоком темном доме, в Ассизи, Франческо Бернар-
доне спал и грезил битвой. И в темноте ему явилось виде-
ние — сверкающие мечи крестоносцев, и пики, и щиты, и
шлемы, все со знаком креста. Проснувшись, он принял сон
за зов, за клич и кинулся к коню и к оружию. Франциск
любил рыцарские забавы и — в битве ли, на турнире — не
уступил бы настоящим рыцарям. Несомненно, он предпочи-
тал христианское толкование рыцарства, но в те дни он прежде
всего жаждал славы, хотя для него она ничем не отличалась
от чести. Его не миновала мечта о лаврах, завещанная Цеза-
рем всем латинянам. И когда он уходил из дома на войну,
высокие ворота в толстой стене Ассизи огласились его пос-
ледней похвальбой: «Я вернусь великим вождем».
Но в дороге болезнь вернулась к нему и его свалила. Бо-
лее чем вероятно, что по нетерпеливому своему нраву он встал
намного раньше срока. И во мраке второй, куда более тягост-
ной отсрочки, он снова видел сон и слышал голос: «Ты не
понял видения. Вернись в Ассизи». Больной Франциск по-
ехал домой. Он был разочарован, разбит, быть может, осме-
ян, ему оставалось одно: ждать, что будет. Тогда он впервые
спустился в темную яму, которую зовут юдолью унижения.
Она показалась ему голой и неприютной, хотя позже он отыс-
кал в ней много цветов.
Не только разочарование и позор мучили его — он ниче-
го не понимал, он был сбит с толку. Франциск твердо верил,
что сны его — вещие, и не понимал, что же они предвещали.
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ 35
Когда он гулял (или даже слонялся) по улицам Ассизи и в
полях за городской стеной, странная вещь приключилась с
ним. По-видимому, он не сразу ее связал со снами, но для
меня ясно, что она завершает, увенчивает их. Где-то — на-
верное, в открытом поле — он ехал верхом и увидел кого-то,
и остановился, ибо к нему шел прокаженный. Он сразу по-
нял, что отваге его дано испытание — не так, как мир дает^?,
а так, как испытывает нас Знающий сердце человека. Не
копья и знамена Перуджи шли на него — от них бы он не
бежал; не войско, сражавшееся за корону Сицилии, — к гру-
бой, простой опасности он относился так же, как и всякий
храбрый человек. Его тайный страх шел к нему по дороге;
тот страх, что приходит не извне, изнутри, хотя он и стоял
перед ним, белый в солнечном свете. И в единственный раз
за долгую, опасную жизнь душа его застыла. Потом он спрыг-
нул с коня, не ведая того, что лежит между оцепененьем и
порывом, кинулся к несчастному и обнял его. Так началось
его служение прокаженным, а служил он им немало. Этому,
первому, он отдал все деньги, вскочил на коня и поехал даль-
ше. Мы не знаем, далеко ли он отъехал и о чем думал, но
говорят, когда он обернулся, дорога была пуста.
Глава IV
ФРАНЦИСК-СТРОИТЕЛЬ
Мы дошли до перелома в жизни Франциска из Ассизи;
До дней, когда случилось то, чего не поймут многие из нас,
простых и себялюбивых, которых Господь не ломал, чтобы
создать заново.
Я не сразу решил, как мне писать об этой трудной поре —
ведь я хочу, чтобы мирские, хотя и благосклонные к религии
люди поняли меня. Поколебавшись немного, я решил, что
правильнее всего рассказать сперва о событиях, лишь каса-
ясь собственных догадок об их смысле. Смысл этот легче
36 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
обсудить потом, когда он явил себя во всей жизни святого.
События же такие.
Летописцы немало говорят о старенькой, заброшенной
церкви Св. Дамиана, древнем ассизском святилище, кото-
рое просто разваливалось на части. Франциск молился там
перед Распятием в те смутные и пустые переходные дни, когда
рухнули его мечтания о воинской славе, а может, и признание
в обществе, что совсем уже невыносимо для таких чувстви-
тельных людей. И вот, молясь, он услышал голос: «Фран-
циск, разве ты не видишь, что дом Мой рушится? Иди, по-
чини его для Меня».
Франциск вскочил и пошел. Он всегда был готов вско-
чить и сделать что-то. Может быть, он и шел, и делал, еще
не совсем понимая, что именно он делает. Во всяком случае,
он поступил решительно, опрометчиво, и уж точно во вред
своей репутации. На грубом мирском языке, он украл. С его
собственной, восторженной точки зрения, он дал своему по-
чтенному отцу высокую, радостную, неоценимую возмож-
ность участвовать (не вполне осознанно) в восстановлении
церкви Дамиана. Если следовать фактам, сперва он продал
своего коня, потом — несколько штук шелка из отцовской
лавки, причем на каждой начертал крест, дабы обозначить,
что служат они благочестию и милости. Петр Бернардоне
видел все в другом свете. Свет вообще не слишком занимал
его, особенно свет и пламень духа, охвативший его странного
сына. Вместо того чтобы понять, что Франциска несет не-
здешний ветер; вместо того чтобы сказать (как сказал потом
епископ), что Франциск поступил плохо ради самой благой
цели, он действовал круто в самом прямом, даже юридичес-
ком смысле слова. Подобно античным отцам, он применил
непререкаемую власть и сам посадил сына под замок, как
простого вора. Кажется, на бедного Франциска набросились
многие из тех, кто раньше его любил; так, попытавшись от-
строить дом Божий, он только разрушил свой собственный
дом и чуть не погиб под обломками. Ссора затягивалась, ста-
новилась все тяжелее. Какое-то время юный Франциск, ви-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
37
димо, и впрямь пробыл под землей, в погребе или в пещере.
Это был самый тяжкий миг его жизни. Все ополчились на
Него, он оказался на самом дне.
Когда он вышел на свет Божий, люди поняли не сразу,
что он стал иным. Епископ позвал на суд и его, и отца, ибо
Франциск отказался подчиняться мирской власти. С тем ис-
ключительным здравым смыслом, которым оттеняет Церковь
самые дикие поступки своих святых, епископ сказал, что день-
ги надо вернуть. Он сказал, что хорошей цели нельзя слу-
жить дурными средствами; короче (и грубее) говоря, он дал
понять, что если молодой фанатик рассчитается со старым
дураком, вопрос будет исчерпан. Франциск в то время был
уже не тот. Он уже не подчинялся отцу, тем более не пре-
смыкался перед ним; но, мне кажется, в том, что он сказал,
нет ни обиды, ни праведного гнева, ничего похожего на све-
дение счетов. Они скорее похожи на загадочные слова его
великого Учителя — на «Что Мне и тебе?» и даже на страш-
ное «Кто Матерь Моя?»36.
Франциск встал перед всеми и сказал: «Я звал отцом
Петра Бернардоне, теперь я слуга Господень. Я верну отцу
и деньги, и все, что он считает своим, даже платье, которое
он дал мне». Он снял с себя одежды— все, кроме одной; и
люди увидели, что это власяница.
Он сложил одежду в углу, а наверх положил деньги.
Потом обернулся к епископу, словно отвернулся от всех дру-
гих, и получил благословение, и, по преданию, вышел в хо-
лодный мир. Видимо, мир впрямь был холодным, землю по-
крыл снег. Рассказывая об этом переломе в его жизни, лето-
писцы приводят очень важную и любопытную подробность.
Он шел в одной власянице по зимнему лесу, по мерзлой зем-
ле, среди голых деревьев. У него не было ни отца, ни денег,
ни ремесла, ни планов, ни будущего. И вот, под белыми де-
ревьями, он внезапно запел.
Примечательно, что пел он по-французски, точнее — на
Том провансальском наречии, которое тогда называли фран-
цузским языком. Этот язык не был ему родным, а проела-
38
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
вился он, как поэт, стихами на родном языке — в сущности,
он один из первых в Европе писал на своем говоре. Но имен-
но с французским языком были связаны его мальчишеские
мечты; то был для него язык романтики. На первый взгляд
очень странно, на глубокий, последний — очень важно, что
именно французские слова полились с его уст в крайней край-
ности. Почему важно, я попытаюсь показать в следующей
главе. Сейчас замечу: вся философия св. Франциска состоя-
ла в том, что он видел естественные вещи в сверхъестествен-
ном свете, и потому не отвергал, а полностью принимал их.
Но пока мы перечисляем факты, я прошу запомнить, что в
зимнем лесу, во власянице, словно строжайший из отшель-
ников, он пел на языке трубадуров.
Пора вернуться к той разрушенной или просто заброшен-
ной церковке, ради которой он пошел на невинное преступ-
ление и претерпел блаженное наказание. Он не бросил ее, и
она насыщала целиком его ненасытную страсть к действию.
Теперь он действовал иначе. Он больше не пытался престу-
пить законы коммерческой этики, царившие в Ассизи. Ему
пришел на ум один из тех великих парадоксов, которые ока-
зываются на поверку общими местами. Он понял: чтобы по-
строить церковь, совсем не надо ввязываться в деловую
жизнь и, что еще труднее для него, в судебные дела. Не надо
нанимать рабочих за чужие деньги, даже за свои. Чтобы от-
строить церковь, надо строить.
Он пошел собирать камни. Он просил их у каждого
встречного. В сущности, он стал тем небывалым нищим, ко-
торый просит камень вместо хлеба37. Возможно, как всегда
с ним бывало, сама необычность его просьбы привлекала вни-
мание. Богатых и праздных людей занимало его чудачество,
как могло бы увлечь забавное пари. Он строил сам, своими
руками, таскал на себе камни, как вьючная скотина, не гну-
шался самой черной работой. Об этой поре его жизни, как и
о прочих, есть много рассказов; но для моей цели, то есть для
простоты, я хотел бы, чтобы все поняли, как он вернулся в
мир через тесные врата работы. Во всем, что он делал, было
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
39
второе значение, словно тень его падала на стену. Все было
похоже на аллегорию; и, вполне возможно, тупоумный чело-
век науки захочет когда-нибудь доказать, что сам Фран-
циск — только аллегория. В определенном смысле можно
сказать, что он делал два дела сразу, и восстанавливал не
только Дамианову церковку. Он учился понимать, что слава
его не в том, чтобы убивать на поле брани, а в том, чтобы
творить, созидать, утверждая мир. Он действительно стро-
ил что-то еще, во всяком случае, начал строить. Он строил
то, что часто приходило в упадок; то, что никогда не поздно
чинить. Он строил церковь. А Церковь всегда можно пост-
роить заново, даже если остался только камень, и врата адо-
вы не одолеют ее38.
Потом, все так же пылко, он принялся чинить еще одну
церковь, маленькую церковку Царицы ангелов в Порциун-
куле. Чинил он и церковь Апостола Петра; и та особенность
его жизни, из-за которой жизнь эта похожа на символиче-
ское действо, побудила благочестивых биографов отметить
символичность числа три. Но две церковки были знамена-
тельны в прямом, практическом смысле. В церкви Св. Дами-
ана много позже он с Кларой39, своей духовной невестой,
ставил неповторимый опыт — создавал женский орден кла-
рисс. А церковка в Порциункуле останется навсегда одним
из величайших зданий мира, ибо именно там он собрал почи-
тателей и друзей, и она стала домом многим бездомным. Но
в ту пору он вряд ли замысливал эти монастыри. Конечно, я
не знаю, когда великий план созрел в его уме, но если описы-
вать факты, началось с того, что несколько человек один за
другим присоединились к нему, потому что, как и он, стре-
мились к простоте. Весьма знаменательно, что стремились
они к той самой простоте, к какой призывает Новый Завет.
Пылкий Франциск давно поклонялся Христу. Подражать
Христу он начал здесь.
Те двое дальновидных, которые первыми поняли, что
происходит в мире духа, были Бернардо, почтенный горожа-
нин, и Пьетро, священник соседней церкви. Заслуга их ве-
40
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
лика, ибо Франциск к тому времени скатился на самое дно, к
нищим и прокаженным, а этим двоим было что терять: один
жертвовал удобствами жизни, другой — признанием церк-
ви. Богатый Бернард в полном смысле этих слов продал име-
ние свое и роздал бедным. Петр сделал еще больше — он
поступился духовной властью (а был он, наверное, человек
взрослый, с устоявшимися привычками) и пошел за моло-
дым чудаком, которого почти все считали безумцем. Что
именно сверкнуло перед ними, что именно видел тогда Фран-
циск, я расскажу позже, если об этом вообще можно расска-
зать. Сейчас мы должны увидеть только то, что видел весь
город, а видел он, как верблюд во славе проходит сквозь
игольное ушко40 и Бог совершает невозможное, ибо Ему все
возможно41. Он видел, как священник уподобился не фари-
сею, но мытарю42, и богатый ушел с радостью, потому что не
имел ничего.
По преданию, три странных человека построили себе хи-
жину или лачугу неподалеку от убежища прокаженных. Там
они и беседовали, когда им это позволяли тяжелый труд и
опасность (ведь ухаживать за прокаженным в десять раз
страшнее, чем сражаться за корону Сицилии), беседовали
на языке новой жизни, как беседуют дети на тайном своем
языке. Мы мало знаем об их дружбе, но мы достоверно зна-
ем, что они остались друзьями до конца. Бернард стал для
Франциска сэром Бедивером43, «первым, кого посвятили в
рыцари, последним, кто оставался с королем». Мы видим
его одесную святого у смертного ложа, где он получает осо-
бое благословение. Но это было уже в другом мире, очень
далеком от трех оборванных чудаков в едва держащейся хи-
жине. Они не были монахами, разве что в том буквальном и
древнем смысле слова, когда монахом называли отшельника.
Трое одиноких жили сообща, но не составляли общества.
Видимо, все это было очень частным, личным делом, если
смотреть извне, частным до безумия. И первое обещание того,
что это станет движением, первый знак миссии мы видим в
ту минуту, когда они обратились к Новому Завету.
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
41
Они погадали на Евангелии. Многие протестанты, в
сущности, гадают на Библии, хотя и ругают гаданья как
языческий предрассудок. Конечно, открыть Библию на-
угад — совсем не то же самое, что копаться в ней, а Фран-
циск именно открыл ее наугад. По одному преданию, он
просто начертал крест на Новом Завете, открыл его триж-
ды и прочитал три текста. Первым выпал рассказ о богатом
юноше, чей отказ вызвал к жизни великую нелепицу о вер-
блюде и игольном ушке. Вторым — наставление ученикам
не брать с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса
свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посо-
ха44. Третьим — истинный перекресток книги, текст о том,
что последователь Христа должен отвергнуть себя и взять
крест свой45. По другому преданию, Франциск услышал
один из этих текстов в церкви, когда читали Евангелие на
этот день. Вероятно, это случилось очень рано, в самом на-
чале уединенной жизни, почти сразу после ссоры с отцом,
ибо только после этого Бернард, первый его ученик, роздал
имение нищим. Если это так, значит, хоть какое-то время
Франциск жил в хижине один, как отшельник. Он жил на
людях, все видели его, но от мира он скрылся. Св. Симеон
Столпник46 на своем столбе был, в сущности, на виду, но
все же его положение нельзя назвать обычным. Можно до-
гадаться, что почти каждый считал положение Франциска
необычным, а некоторые — даже и ненормальным. Правда,
католическому сообществу легче (пусть подсознательно)
понять такие вещи, чем языческому или пуританскому. Но в
ту пору, мне кажется, сограждане не слишком сочувствова-
ли Франциску. Я уже говорил, что к тому времени и Цер-
ковь, и все с ней связанное состарилось, устоялось, в том
числе — монашество. Здравый смысл в Средние века был
привычней, чем в наш поверхностный газетный век; но
люди, подобные Франциску, непривычны везде, и одним
здравым смыслом их не понять. XIII век, конечно, был про-
грессивным веком, может быть, единственным прогрессив-
ным веком в истории. Его можно с полным правом назвать
42
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
прогрессивным именно потому, что прогресс шел очень рав-
номерно. Это и впрямь была пора реформ без революций.
Реформы были не только прогрессивны, но и очень прак-
тичны и приносили огромную пользу отнюдь не отвлечен-
ным вещам — городам, гильдиям, ремеслам. Но жители
города и члены гильдий были в те времена весьма почтен-
ными. Они знали гораздо больше равенства в экономиче-
ском смысле слова, ими гораздо справедливей управляли,
чем нами, мечущимися между голодом и сверхприбылью;
но, вероятно, почти все они были твердолобыми, как крес-
тьяне. Поступок уважаемого всеми Пьетро Бернардоне не
говорит о том, что он понимал тонкую, почти изысканную
духовность. И нам не понять, как прекрасно и ново это
странное приключение духа, если у нас не хватит юмора и
простоты, чтобы увидеть его глазами ничуть не сочувствую-
щего, обычного человека тех времен. В следующей главе я
попытаюсь (безуспешно) показать изнутри историю трех
церквей и маленькой хижины. Сейчас я хочу показать ее
извне. И, кончая главу, я прошу читателя хорошо предста-
вить себе и запомнить, как это выглядело. Если судит гру-
бый здравый смысл, а из чувств — только раздражение,
какой станет эта история?
Молодого дурака, а может, и негодяя, поймали, когда он
обобрал отца и попытался продать то, что должен был охра-
нять. В свое оправдание он говорит, что какой-то голос велел
ему починить какую-то стену. Затем он объявляет, что по
сути своей независим от всякого закона, связанного со стра-
жами порядка, и обращается к милости епископа, который
тоже вынужден отчитать его и сказать ему, что он не прав.
Он раздевается при всем честном народе, швыряет одежду в
лицо своему отцу и говорит при этом, что тот ему не отец.
Потом бегает по городу и выпрашивает у всех встречных кам-
ни, по-видимому, в приступе безумия, связанного со стеной.
Конечно, стены чинить нужно, если они треснули, но не тро-
нутым же, не сумасшедшим! Наконец, порочный юноша ска-
тывается на самое дно, буквально копошится в грязи. Вот
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ 43
как видели то, что делал Франциск, почти все его соседи и
приятели.
Вероятно, они не совсем понимали, на что он живет. По-
видимому, он просил не только камень, но и хлеб, но всегда
заботился о том, чтобы хлеб был самый черствый, самый чер-
ный, а объедки — хуже тех, которые бросают псам. Тем са-
мым он жил хуже нищего, ибо нищий ест лучшее, что может
добыть, святой — худшее. Он был готов отказать себе во
всем, а это гораздо уродливей на деле, чем утонченная про-
стота, которую вегетарианцы и трезвенники называют про-
стой жизнью. Как относился он к пище, так относился и к
одежде. Здесь он тоже довольствовался самым плохим. По
одному преданию, он обменялся платьем с нищим, и конеч-
но, охотно обменялся бы с пугалом. По другому преданию,
какой-то крестьянин дал ему бурую рубаху, наверное, совсем
старую. Обычно у крестьян мало лишней одежды, и они не
слишком расположены отдавать ее, пока она хоть на что-ни-
будь годится. По преданию, он отбросил кушак (может быть,
с особенным пренебрежением, ибо по моде того времени на
кушаке висел кошель) и подпоясался первой попавшейся ве-
ревкой, как последний бродяга подвязывает бечевкой шта-
ны. Через десять лет эта случайная одежда стала обычной
для пяти тысяч человек, а через сто великого Данте похоро-
нили в ней '.
Глава V
БОЖИЙ СКОМОРОХ
Можно найти немало метафор и символов, чтобы пока-
зать, что же произошло в душе молодого поэта из Ассизи.
Их даже слишком много, их слишком легко выбрать, но тол-
ком не подойдет ничто. Для меня особенно выразителен не-
большой, и на первый взгляд, случайный факт: когда Фран-
циск ходил по городу с мирскими приятелями, словно ше-
44
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ствие стихотворцев, они называли себя трубадурами. Когда
он вышел в мир с духовными братьями, он назвал их жонгле-
рами Божьими.
Я еще не говорил здесь о великой культуре трубадуров,
возникшей в Провансе или Лангедоке, и о том, как повлияла
она на жизнь и на св. Франциска. О влиянии на жизнь
можно сказать много; но я скажу лишь о том, что непосред-
ственно связано с Франциском, и прежде всего о самом
важном. Все знают, кто такие трубадуры. Все знают, что в
начале Средних веков, в XII и на пороге XIII столетия воз-
никла в Южной Франции своя культура, которая грозила
затмить возраставшую славу Парижа. Главным ее плодом
была поэтическая школа, или, точнее, школа поэтов. Чаще
всего они писали о любви, хоть были и сатиры, и размышле-
ния. Красота их, запечатленная в истории, многим обязана
тому, что они пели свои стихи и часто сами себе подыгрыва-
ли на несложных музыкальных инструментах — то были
скорее певцы, чем литераторы. Их любовная лирика породи-
ла немало прелестных и хитроумных установлений. Была
особая наука, которая пыталась привести в систему тончай-
шие оттенки ухаживания; были Суды любви, где со всей
педантичностью и торжественностью судопроизводства раз-
бирались те же щекотливые предметы. Важно иметь в виду
одну вещь, которая тесно связана со св. Франциском. Эта
высокая чувствительность была, конечно, не совсем безопас-
на; но не надо думать, что главной опасностью было распут-
ство. В провансальской романтике, как и в печальной про-
вансальской ереси, напротив, было слишком много духовно-
го. Эта любовь не грешила чувственностью — она грешила
утонченностью, доходящей до условности. Когда читаешь их
стихи, веришь, что дама — самая прекрасная на свете, но
как-то не очень веришь, что она вообще на свете жила. Дан-
те кое-чем обязан трубадурам, и ученые споры о его пре-
красной даме — прекрасный пример таких сомнений. Мы
знаем, что Беатриче не была ему женой, но можем твердо
Сказать, что она не была ему и любовницей, а некоторые
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
45
ученые подозревают, что она была вообще просто музой. Я
не верю, что Беатриче — аллегория; не поверит и всякий,
кто читал «Vita Nova»48 и был хоть когда-нибудь влюблен.
Но если можно усомниться в ее существовании, посудите
сами, какими отвлеченными были средневековые страсти.
Однако при всей своей отвлеченности страсти эти были
очень страстными. Трубадуры любили своих условных дам
со всем пылом любовников. Об этом надо помнить, иначе не
поймешь Франциска, когда на истинном языке трубадуров
он говорил, что дама его прекрасней и милостивей всех, а
имя ей — Нищета.
Но сейчас я хочу рассказать о жонглерах, а не о трубаду-
рах, вернее о том, как мой герой превращался из трубадура в
жонглера; и для этого мне придется потолковать еще о сред-
невековых стихотворцах. Жонглер не то же самое, что тру-
бадур, хотя иные трубадуры были и жонглерами. Чаще все-
таки это были разные люди, и дело у них было разное. На-
верное, часто они ходили парой по свету, как товарищи по
оружию или, вернее, товарищи по искусству. Жонглер был,
в сущности, скоморохом, шутом, но иногда он был и тем, что
мы сейчас называем жонглером. Если этого не знать, не по-
нять легенды о Тайефере Жонглере, который в битве при
Гастингсе пел смерть Роланда, подбрасывая и ловя меч, как
ловит мяч жонглер на арене. Вероятно, жонглер бывал и ак-
робатом, подобно герою прекрасной легенды «Жонглер Бо-
гоматери», который кувыркался и стоял перед статуей Пре-
чистой Девы, и она похвалила его, утешила, как и вся ее свя-
тая свита. Трубадур, по всей вероятности, возвышал дух со-
бравшихся серьезными песнями о любви, а потом — для
разрядки, для смеха — появлялся жонглер. Какой прекрас-
ный роман можно написать о странствиях такой пары! Во
всяком случае, если есть где-нибудь в литературе чистый
Францисканский дух, то именно в легенде о Жонглере Бого-
матери49 . И когда Франциск называл своих последователей
жонглерами Божьими, он имел в виду что-то очень близкое
к этому скомороху.
46
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Где-то между высокой страстью трубадуров и дураче-
ствами жонглеров, словно в притче, истина о св. Франциске.
Из двух менестрелей жонглер, несомненно, был вторым, вто-
ростепенным. Св. Франциск действительно верил, что от-
крыл тайну жизни, а она — в том, чтобы стать слугой, стать
вторым, а не первым. В этом служении, в самой его глубине,
он обрел свободу, граничащую с беззаконием. Жонглер тоже
был беззаконно свободен. Он был свободен, ибо рыцарь был
суров; можно стать шутом, когда свободно служишь чести.
Когда сравниваешь двух певцов, двух менестрелей, мне ка-
жется, лучше понимаешь, что изменилось в душе св. Фран-
циска, тем более что к поэтам нынешний мир благосклонен.
Конечно, в его душе было гораздо больше. Но этот образ
поможет нам понять идею, которая, как покажется многим,
сама, подобно жонглеру, стоит вверх ногами.
Примерно тогда, когда Франциск исчез в темнице пеще-
ры, он пережил переворот, очень похожий на сальто-морта-
ле, при котором клоун описывает полный круг и снова стано-
вится на ноги. Мне приходится употреблять гротескный,
цирковой образ, потому что вряд ли можно найти более точ-
ное сравнение. Если смотреть вглубь, то был переворот ду-
ховный. В пещеру вошел один человек, вышел — другой,
словно первый умер и стал привидением или обитателем рая.
И отношение его к миру изменилось столь сильно, что тут не
подберешь точного сравнения. Он смотрел на мир так не-
обычно, словно вышел из тьмы на руках.
Но если мы вспомним притчу о Жонглере Богоматери,
она во многом нам поможет. Теперь все признали, что пей-
заж можно увидеть точнее и яснее, если его перевернуть.
Некоторые пейзажисты принимают очень странные позы,
чтобы с налета посмотреть на свою картину. И вот, пере-
вернутая картина, особенно яркая, четкая и поразительная,
немного похожа на мир, который видят каждый день ми-
стики, подобные св. Франциску. Тут мы и подходим к
притче, к сути дела. Жонглер из легенды стоял на голове не
для того, чтобы яснее и ярче видеть деревья и цветы, он об
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
41
этом и не думал. Он стоял на голове, чтобы порадовать
Божью Матерь. Если бы св. Франциск последовал его при-
меру — а он был вполне на это способен, — его подвигли
бы те же, чисто духовные мотивы. Только потом внутрен-
ний свет озарил бы все заново. Вот почему нельзя считать
св. Франциска просто романтическим предвестником Воз-
рождения, певцом естественных радостей. Вся его суть, вся
его тайна в том, что естественную радость обретешь лишь
тогда, когда видишь в ней радость сверхъестественную.
Другими словами, он повторил в своей жизни тот истори-
ческий процесс, о котором я говорил во второй главе: он
очистил себя аскезой и увидел мир заново. Но в его жизни
было не только это; параллель с Жонглером Богоматери
можно провести и дальше.
Наверное, в той темной пещере или келье Франциск
провел самые темные свои часы. От природы он был тще-
славен тем тщеславием, которое противоположно гордыне;
тщеславием, которое близко смирению. Он никогда не пре-
зирал ближних, и потому не презирал их мнений, и любил,
чтобы его любили. И вот, этой части его естества был нане-
сен тяжкий, почти невыносимый удар. Может быть, когда
он вернулся с позором из похода, его называли трусом. Во вся-
ком случае, после ссоры с отцом его называли вором. И даже
те, кто относился к нему хорошо, — священник, чью цер-
ковь он чинил, епископ, благословивший его, — явственно
жалели его и над ним подсмеивались. Он остался в дураках.
Всякий, кто был молод, кто скакал верхом и грезил битвой,
кто воображал себя поэтом и принимал условности дружбы,
поймет невыносимую тяжесть этой простой фразы. Обраще-
ние св. Франциска, как и обращение св. Павла, началось,
когда он упал с лошади50. Нет, оно было хуже, чем у Пав-
ла, — он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все
знали: виноват он или нет, он в дураках оказался. То была
правда, неоспоримая, весомая, словно камень на дороге. Он
Увидел себя крохотным н ничтожным, как муха на большом
окне; увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак»,
48
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
написанное огненными буквами, слово это стало сиять и пре-
ображаться.
Нам говорили в детстве, что если прорыть дырку сквозь
Землю и лезть в нее все дальше, придет такое время, когда
ты будешь лезть уже не вниз, а вверх. Не знаю, так ли это.
Не знаю потому, что мне не случалось прокапывать Землю
насквозь, тем более — пролезать сквозь нее. Наверное, и я,
и читатели — люди обыкновенные, не побывали там, где
оказался св. Франциск. Да, и это аллегория. Мы не следо-
вали за Франциском в то диковинное место, где полное уни-
жение преображается в полную святость и радость. Я, во
всяком случае, дошел только до того падения с романтиче-
ских баррикад мальчишеской суетности, о которой я недавно
говорил. Здесь я лишь угадываю; может быть, он чувство-
вал что-то совсем другое. Но что бы он ни чувствовал, это
все-таки очень похоже на сказку о человеке, который роет
тоннель сквозь землю, идет все ниже и ниже и вдруг, в один
таинственный миг, уже лезет вверх. Мы никогда не были так
высоко, ибо никогда не были так низко, и потому не вправе
говорить, что этого не бывает. Чем честнее и спокойней мы
читаем историю человечества, особенно историю лучших
людей, тем больше мы убеждаемся, что это бывает. О том,
что при этом чувствуют, я и не пытаюсь писать. Извне, для
ясности рассказа, напишу: когда Франциск вышел из пеще-
ры откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как
плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком. Он был
готов стать еще глупее, стать придворным олухом царя не-
бесного.
Это можно выразить только символом; и образ перевер-
нутого мира снова, хотя и по-другому, пригодится нам. Если
человек увидит мир вверх ногами, а все деревья и башни вниз
головой, как в пруду, он яснее почувствует, что такое зави-
симость (ведь и слово «зависимость» происходит от слова
«висеть»). Ему станет особенно ясен текст из Писания о том,
что Бог повесил Землю ни на чем51. Может быть, св. Фран-
циск видел в одном из своих видений город Ассизи вверх
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИМ
49
ногами — совершенно, до мелочей, такой же, как в жизни,
только перевернутый. Для обычного глаза тяжелая кладка
стен и весомость башен говорили о надежности, прочности;
но тому, кто видел город вверх ногами, он казался беззащит-
ным и беспомощным. Св. Франциск мог любить свой ма-
ленький город так же сильно, как раньше, даже больше —
но другой любовью. Он любил каждую черепицу на крутых
крышах, каждую птицу на карнизах, но видел их в новом,
чудесном свете постоянной опасности и зависимости. Уже не
гордясь своим сильным городом, который не сдвинуть нико-
му, он благодарил Всемогущего за то, что город не рухнул в
бездну. Он благодарил за то, что вся Вселенная не оборва-
лась, словно огромная сосулька, и не рассыпалась мириада-
ми звезд. Быть может, так видел и Петр, когда висел на кре-
** 52
сте вниз головой .
Обычно, хотя и цинично, говорят: «Блажен, кто ничего
не ждет, ибо он не разочаруется». Св. Франциск говорил в
счастливом смирении: «Блажен, кто ничего не ждет, ибо он
обрадуется всему». Он намеренно начал с нуля, с темной
пустоты изгойства, и пришел к небывалой радости, научился
наслаждаться всем на свете так, как почти никто не наслаж-
дался. Простые, внешние вещи, которым он радовался, сами
говорят об этом — ведь нельзя заработать звезду или заслу-
жить закат. Но речь идет о большем, о таком большом, что
почти невозможно подыскать слова. Да, чем меньше дума-
ешь о себе, тем больше думаешь о своем счастье и щедрости
Божией. Но верно не только это. Ты видишь больше и в
самих вещах, если лучше видишь их причину, ибо причина —
составная их часть и, конечно, самая важная. Если объяс-
нять вещи, они становятся чудеснее, мы больше дивимся им,
меньше их боимся; ведь вещи чудесны, когда они что-то зна-
чат, а не тогда, когда они не значат ничего. Пусть бесфор-
менное, или глухое, или злое чудище будет больше гор —
его, в полном смысле этого слова, можно назвать незначи-
тельным, если оно ничего не значит. Для мистика, каким был
св. Франциск, любое чудище значит что-то, оно передает
50
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
свою весть, говорит на знакомом языке. В этом и смысл пре-
даний — правдивы они или нет — о том, что он как волшеб-
ник знал язык зверей и птиц. Тайновидец не связан с тайной
ради тайны, ибо такая тайна прикрывает грех.
Когда хороший человек становится святым, это истин-
ный переворот. Для хорошего все на свете объясняет и ут-
верждает Бог, а для святого Бог объясняет и утверждает
все. Увидев женщину, влюбленный может сказать, что она
похожа на цветок, но потом все цветы похожи для него на
возлюбленную. И святой, и поэт, глядя на цветок, скажут,
казалось бы, одно и то же; скажут правду, но разную. Для
поэта радость жизни — причина веры, для святого — ско-
рее плод. А главная разница между ними — вот в этом чув-
стве чудесной зависимости: для поэта оно подобно молнии,
для святого — яркому дневному свету. Если человек в осо-
бом, мистическом смысле находится по ту сторону вещей, он
видит, как выходят они из Божьего лона, словно дети из
теплого дома, а не просто встречает их, как все мы, на путях
мира сего. И самое странное — в том, что из-за этого он
проще, свободней, беззаботней, радостней нас. Для нас
предметы — как герольды, которые возвещают, что мы не-
подалеку от столицы великого царя. Святой приветствует их
запросто, почти развязно. Он зовет огонь братом, воду —
сестрой.
Так из почти нигилистической пропасти встает то вели-
кое, что зовут хвалою; то, чего не поймут, если путают с по-
клонением природе или с пантеистическим все довольством.
Когда мы говорим, что поэт воспевает всякую тварь, мы про-
сто имеем в виду, что он воспевает все. Но мистик действи-
тельно воспевает тварь — то, что сотворено; он воспевает
сам переход от небытия к бытию. И снова путь нам пересе-
кает тень моста, который дал священнослужителю его таин-
ственное, древнее имя53. Проходя через миг, где нет ничего,
кроме Бога, мистик видит то безначальное начало, когда дей-
ствительно так и было. Он не только ценит все — он ценит
ничто, из которого все создано. Он один способен вынести
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
51
сокрушительную насмешку книги Иова54, ибо он был там,
где Бог полагал основания земли, где ликовали утренние звез-
ды и сыны Божии восклицали от радости. Может быть, те-
перь вам станет хоть немного понятней, почему францискан-
цы в лохмотьях, без денег, без дома и — на первый взгляд —
без надежды ликовали, как утренние звезды, и восклицали,
как Божьи сыны.
Ощущение великой благодарности и великой зависимос-
ти — не пустая фраза, даже не чувство; это — реальность,
и все дело в том, что на этом реальность держится. Это не
вымысел, а факт; скорее уж, по сравнению с этим, все фак-
ты — вымыслы. Нам не просто кажется, что все мы в каж-
дой мелочи, каждый миг, зависим, как сказал бы христиа-
нин, — от Бога, как сказал бы агностик, — от природы ве-
щей. Это не иллюзия, это самая главная правда, которую мы
прикрываем иллюзиями повседневной жизни. Повседневная
жизнь очень хороша, и воображение — штука неплохая, но
повседневная жизнь гораздо больше зависит от воображе-
ния, чем жизнь мистическая. Тот, кто видел мир на волоске
милости Божьей, видел истину, если хотите — неприкры-
тую. Тот, кто видел свой город перевернутым, видел его пра-
вильно.
Россети55 где-то говорит — горько, но очень справедли-
во, — что хуже всего атеисту, когда он чувствует благодар-
ность, а благодарить ему некого. Верно и обратное: тому, о
ком мы здесь толкуем, благодарность давала самую большую
радость, какая только ведома людям. Один замечательный
художник гордо утверждал, что подмешал в свои краски мозг;
о великом святом мы вправе сказать, что он замешал свои
мысли на хвале. Все блага лучше, когда они дары. В этом
смысле, без всякого сомнения, метод мистиков очень прак-
тичен и помогает жить, но надо непременно помнить и то,
что внешний мир всегда отходит у мистика на второй план по
сравнению с непреложной зависимостью от Бога. В обыч-
ных общественных отношениях есть что-то весомое, в них
есть опора, есть уют; что ни говори, они обеспечивают нам
52
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
здравомыслие и безопасность. Но тому, кто видел мир на
волоске, нелегко принять их совсем уж всерьез. Пусть мир-
ская власть и мирская иерархия, даже самая нужная, самая
естественная, помогает нам твердо стоять на земле и охраня-
ет нас; тот, кто видел их вниз головой, никогда уже не смо-
жет смотреть без улыбки на власть имущих. В этом смысле
прямое видение реальности Божией обесценивает вполне
здравые, важные вещи. Мистик может прибавить себе росту
на локоть56, но что ему рост? Он уже не станет принимать
себя как данность, только потому, что его имя записано в
церковной книге или в семейной Библии. Собственно, он —
вроде сумасшедшего, который, защищая свою сущность, за-
был свое место среди людей. «Я звал отцом Петра Бернар-
доне, теперь я — слуга Господень».
Все эти глубокие материи можно передать только очень
коротко и несовершенно; и короче всего будет сказать, что
мистик узнает о неоплатном долге. Наверное, покажется па-
радоксом, если я скажу, что человек обретает радость, когда
узнает, в каком он долгу; но путает нас лишь то, что в ком-
мерческом мире должник не очень склонен к ликованию,
особенно — если долг неизмерим, тем самым — неоплатен.
И тут снова может помочь сравнение с любовной историей,
где заимодавец разделяет радость должника, точнее — оба
должники и оба заимодавцы. Долг и зависимость становятся
радостью, когда речь идет о незапятнанной любви. Слово
«любовь» слишком легко и часто употреблялось всуе, но
здесь без него не обойтись. Оно — ключ ко всем проблемам
францисканской морали, которые так озадачивают совре-
менного человека, особенно к аскезе. Тот, кто знает, что
долг его неоплатен, выплачивает долг непрестанно. Он вечно
отдает то, что не в силах отдать, швыряет в бездну благода-
рения. Многие думают, что они слишком для этого совре-
менны, на самом же деле они слишком плохи. Почти все
мы — слишком плохи, чтобы так жить. Мы не так щедры,
чтобы стать аскетами; можно даже сказать — не так радуш-
ны. Мы не так благородны, чтобы сдаться, разве что в пер-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
53
вой любви мелькнет нам потерянный нами рай. Но видим
мы это или нет, истина — все в той же загадке: на свете
есть одно истинное благо — неоплатный долг.
Если даже та романтическая любовь, которая давала
силу трубадурам, выходит из моды и считается вымыслом,
куда уж современному миру понять аскетов! Вполне воз-
можно, что какие-нибудь варвары попробуют начисто из-
гнать рыцарство из любви, как варвары, правящие в Берли-
не, изгнали его из войны. Если бы им это удалось, люди
презрительно удивлялись бы и бестолково спрашивали, что
за жадные женщины нагло требовали дани, и какое невидан-
ное корыстолюбие побуждало их стремиться к золотому
кольцу; ведь спрашивают, почему жестокий Бог требует от-
речения и жертвы. Потеряв ключ ко всему, что влюбленные
зовут любовью, люди не понимали бы, что в любви дают,
ибо об этом не просят. Поможет меньшее понять величай-
шее или не поможет — безнадежно и бесполезно изучать
францисканское движение, если вы, как нынче принято,
ворчите на мрачный аскетизм. В том-то и дело, что Фран-
циск был аскетом и не был мрачным. Как только его выбило
из седла смиряющее и славное видение любви Господней, он
ринулся в пост и бдение, как ринулся бы раньше в битву. Он
выписал вексель, все отдал кредитору и не оставил себе ни-
какого обеспечения. Он ничего не лишился, он не сковал
себя «режимом», не ушел в «суровую простую жизнь». Его
самоотречение ничуть не похоже на наш «самоконтроль» —
оно положительно, как страсть, как наслаждение, он упивал-
ся постом, как упиваются вином, искал нищеты, как ищут
денег. Именно положительность, пылкость его непонятны
современным людям, гоняющимся за удовольствиями. Од-
нако это исторический факт, а связана с ним еще одна нрав-
ственная истина, почти такая же непреложная. Нет сомне-
нии, что этим героическим и непривычным для нас путем он
шел с той минуты, как убежал во власянице в зимний лес, до
т°и, когда и в смертной муке хотел лежать на голом полу,
чтобы показать, что был ничем и ничем не владел. Но можно
54
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
сказать почти с той же уверенностью, что звезды, проходив-
шие над истощенным нищим по своему сияющему пути, на-
конец увидели в мире, населенном нуждающимся людом,
человека поистине счастливого.
Глава VI
МАЛЕНЬКИЙ НИЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК
Из этой пещеры, из горнила хвалы и смирения, вышел
едва ли не самый сильный и необычный человек в истории.
Прежде всего он, несомненно, был личностью, даже героем
почти в том смысле, в каком мы говорим о героях книги или
пьесы. Он славился не только добротой, но и веселостью, он
всегда радовался, шел своим путем и делал то, чего никто
другой бы не сделал. Рассказы о нем личностны и неповто-
римы, как анекдоты о докторе Джонсоне и в какой-то степе-
ни о Блейке и Чарлзе Лэме57. Передать это можно лишь
такой, вроде бы противоречивой фразой: он всегда поступал
неожиданно, никогда — неуместно. Никто не угадал бы за-
ранее, что он сделает или скажет; но он делал или говорил, и
все понимали, что могло быть только так. Эта неожиданная
точность, поражающая уместность отличает его от многих
современных ему людей. Мы узнаем все больше и больше о
важнейших добродетелях Средневековья, но добродетели эти
связаны с обществом, не с личностью. Средневековый мир
неизмеримо превосходил наш в том, в чем все люди едины —
тогда правильней относились к смерти, к ясному свету разу-
ма, к общинной совести, связывавшей сообщества воедино.
Словом, обобщения тех времен были и здоровее, и разумнее
наших безумных и безбожных теорий; никто не потерпел бы
тогда Шопенгауэра, презирающего жизнь, или Ницше, жи-
вущего лишь ради презрения. Но современный мир много
тоньше разбирается в вещах, которые людей разъединяют.
Мы лучше понимаем оттенки характеров и те тонкие разли-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК ассизский 55
чия, которые определяют частную жизнь. Все, кто способен
теперь самостоятельно мыслить, видят, что великие схолас-
ты мыслили на редкость ясно, но ясность эта как бы наме-
ренно бесцветна. Все признали уже, что высшим искусством
Средневековья было строительство общественных зданий,
общинное ремесло архитектуры. Портретная живопись тог-
да не процветала. Однако друзьям св. Франциска удалось
оставить нам портрет, нечто вроде благочестивой и благого-
вейной карикатуры. Некоторые краски и линии неповтори-
мы до извращения, если можно назвать извращением то, что
связано с обращением. Даже среди святых Франциск был
чудаком, эксцентриком, хотя чудачество его в том и состоя-
ло, что он всегда стремился к центру.
И вот я отложу рассказ о первых его приключениях и о
создании великого братства, поднявшего столь кроткий мя-
теж, чтобы дополнить несовершенный портрет. В предыду-
щей главе я пытался рассказать о том, что происходило; сей-
час я попытаюсь рассказать, к чему это привело, кого созда-
ло, каким стал Франциск, испытавший первые, образующие
личность события. Я попытаюсь описать человека в бурой,
подпоясанной вервием одежде, которого встречали на доро-
гах Италии. Ведь именно он да милость Божия объясняют
все, что было после; те, кто видел его, вели себя не так, как
те, кто его не видел. Если, узнав о народном смятении, о
призывах к папе, о толпах нищих, осаждавших престолы
владык, о мире, забродившем заново, о слове «брат», зазву-
чавшем по всей Европе, вы спросите, почему все это было,
мы приблизимся к ответу, хоть косвенно, хоть как-то, услы-
шав один определенный голос и увидев из-под капюшона
одно определенное лицо. На свете был Франческо Бернар-
доне, другого ответа нет. Попробуем же представить себе,
что он живет на свете одновременно с нами. Теперь, когда
мы, пусть кратко и грубо, рассмотрели его жизнь изнутри,
попытаемся увидеть его извне, словно незнакомец идет на-
встречу по дороге, среди холмов Умбрии, меж олив и вино-
гРадников.
56
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Франциск Ассизский был худощав той худобой, которая
вместе с подвижностью как бы уменьшает рост. Наверное,
он был выше, чем казался; биографы называют его челове-
ком среднего роста. Во всяком случае, хилым он не был;
судя по тому, сколько ему довелось вынести, он отличался
выносливостью. У него было смуглое лицо южанина и тем-
ная бородка клинышком — такая, какие выглядывают на
картинках из-под капюшона гномов, а глаза светились ог-
нем, сжигавшим его днем и ночью. Когда читаешь о его
словах и делах, чувствуешь, что он еще больше, чем все
итальянцы, питал склонность к пылкой пантомиме жестов.
Если это верно, верно и то, что жесты его больше, чем у
всех итальянцев, выражали приветливость и радушие. Обе
эти черты — и живость, и вежливость — просто внешние
знаки того, что четко отличает Франциска от многих, кого
можно было бы счесть похожими на него. Вполне справед-
ливо говорят, что ассизский аскет положил начало средневе-
ковому, тем самым — и нашему театру. Его, конечно, никак
нельзя назвать театральным, он не любовался собой; но
связь его с театром не случайна. Эту его сторону легче всего
объяснить, если мы рассмотрим то, что обычно считают
свойством спокойным и называют любовью к природе.
Придется и нам употреблять этот термин, хотя он совер-
шенно неверен.
Св. Франциск не «любил природу». Чем-чем, а любите-
лем природы он не был. Любители эти страдают каким-то
сентиментальным пантеизмом; материальный мир для них
зыбок и неверен. В эпоху романтиков, в эпоху Скотта и Бай-
рона, нетрудно было себе представить, как отшельник в руи-
нах часовни (по возможности — при свете луны) обретает
покой и радость в согласии темных лесов и тихих звезд, раз-
мышляя над манускриптом или свитком, богословский смысл
которого не совсем понятен автору. Отшельник этот любил
природу, как фон. Для св. Франциска ничто не было фоном.
Можно сказать, что для него вообще не было «заднего пла-
на» — кроме, пожалуй, той божественной мглы, из которой
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
57
на зов любви Господней выходят одна за другой твари всех
цветов и форм. Все для него было в действии; все было не
картиной, а действом. Птица пролетала над ним, как стрела,
у нее был смысл, была цель, только не смертоносная, живот-
ворящая. Куст останавливал его, как разбойник; и он приве-
чал разбойника, как привечал бы куст.
Словом, он не видел леса из-за деревьев. Он и не хотел
видеть леса. Он хотел видеть каждый дуб, каждый тополь,
ибо тот сын Богу, и потому — брат человеку. Франциск не
желал стоять на условных подмостках, где нарисован на зад-
нике лес; можно сказать, что он был слишком деятелен для
действа. В его театре подмостки оживали, все выходило на
авансцену, все освещалось огнями рампы. Каждый предмет
становился персонажем, действующим лицом. Вот почему
как поэт он прямо противоположен пантеисту. Он не звал
природу матерью; он звал братом вот этого осла, сестрой —
вот эту ласточку. Если бы он назвал пеликана дядюшкой,
слониху — тетей (а он мог бы), это значило бы, что пеликан
и слониха — особые созданья, которым Творец отвел осо-
бое место, а не смутные проявления силы, которая зовется
эволюцией. Именно здесь его мистицизм необычайно близок
здравому смыслу ребенка. Ребенку ничуть не трудно понять,
что Бог создал кошку и собаку, хотя ему не представить, как
создают собак и кошек из ничего. Но никакой ребенок не
поймет вас, если вы слепите из кошек, собак и других зверей
многоногое чудище и назовете его природой. Св. Франциск
был мистиком; в мистификации он не верил. Как мистик он
был смертным врагом тех мистиков, которые растворяют
очертания вещей, растворяют суть в «атмосфере». Он был
мистиком света и тьмы, но не мистиком сумрака, и прямо
противоположен тем восточным визионерам, которые бегут в
мистику, потому что слишком скептичны для материализма.
Св. Франциск был реалистом в самом реальном, средневе-
ковом смысле, как и все лучшие умы его века, победившего
номинализм XII столетия58. Вот почему живопись тех времен
кажется символической, как геральдика. Для Франциска
58
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
птицы и звери действительно подобны геральдическим жи-
вотным не потому, что он считал их мифом, а потому, что он
считал их фактом, ярким, несомненным, точным, независи-
мым от иллюзий атмосферы и перспективы. Он видел чер-
ную птицу в лазурном поле, серебряную овцу — в зеленом.
Но геральдика смирения богаче геральдики гордыни, ибо
каждое творение Божие было для него много драгоценней и
неповторимей, чем гербы надменных вельмож. Из глубин
поношения возник самый пышный титул тех столетий, зат-
мивший лавры Цезаря и корону Ломбардии. Крайности схо-
дятся: маленький нищий человечек, который ставил себя
ниже всех и считал ничем, присвоил титул, который венчает
тщеславие раззолоченных восточных тиранов, назвал себя
братом луны и солнца.
Для Франциска все выделялось, все поражало его, и это
очень важно, потому что это показывает, как он жил. Для
него все участвовало в действе, участвовал и он. Надо ли
напоминать, что он был поэт и понять его можно только как
поэта? Но у него было преимущество, которого нет почти ни
у кого; в этом смысле он единственный счастливец среди не-
счастных поэтов Земли. Вся его жизнь была поэмой. Он
был не столько певцом, распевающим свои песни, сколько
автором пьесы, играющим главную роль. То, что он говорил,
было поэтичней того, что он писал. То, что он делал, было
поэтичней того, что он говорил. Путь его через жизнь состо-
ял из сцен, и каждую из них ему удавалось довести до выс-
шей точки. Разговоры об «искусстве жить» звучат в наше
время искусственно; но св. Франциск обратил свою жизнь в
произведение искусства, хотя совсем об этом не думал.
Многие его поступки покажутся нам нелепыми и непонятны-
ми. Но это поступки, а не объяснения, и значили они всегда
то, что он замыслил. Он запечатлелся так ярко в памяти и
воображении человечества еще и потому, что мы всегда ви-
дим его как бы на сцене. С минуты, когда он бросил к ногам
отца свои одежды, и до минуты, когда он лег крестом на
пол, вся его жизнь состояла из непреднамеренных поз и вне-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
59
запных жестов. Нетрудно заполнить примерами страницу за
страницей; но, следуя методу столь краткого очерка, я
возьму один типичный пример и остановлюсь на нем немно-
го подробнее, чем дозволил бы перечень, надеясь, что все
станет тогда яснее. Это случилось в конце его жизни, но
любопытным образом связано с началом. Здесь сходятся
концы, и снова нас поражает целостность этого романа о
вере.
Слова о том, что он брат луне и солнцу, воде и огню,
взяты, конечно из его прославленных стихов, которые зо-
вутся Песнью Творения или Гимном Солнцу59. Он пел их,
странствуя по лугам в самую радостную пору своей жизни,
когда возносил к небесам страсть стихотворца. Стихи эти
очень характерны для него, и многое о нем мы могли бы уз-
нать, если бы знали только их. Хотя они прямы и просты,
как баллада, в них выразилось тонкое чутье к различиям.
Посмотрите, к примеру, как точно ощущает Франциск пол
неодушевленных предметов, — гораздо точнее, чем требует
условный грамматический род. Не случайно называл он бра-
том сильный, яростный, радостный огонь, сестрой — чис-
тую, прозрачную и незамутненную воду. Вспомните, что
Франциску не помогал и не мешал тот греческий и римский
политеизм, застывший в аллегориях, который нередко вдох-
новлял европейских поэтов и слишком часто становился для
них простой условностью. Худо ли, хорошо ли было его пре-
небреженье ученостью, ему и в голову не приходило сопос-
тавлять воду с нимфами, пламя — с циклопами или Вулка-
ном. Здесь мы снова видим то, о чем уже говорили: фран-
цисканское Возрождение не возрождало язычества; оно на-
чинало и создавало то, о чем язычество забыло. Конечно,
это придавало ему особую первозданность. Св. Франциск
создал новый фольклор, но легко отличал в своих сказках
волшебников от волшебниц. Он создал мифологию, но ни-
когда не путал богов с богинями. Это точное чутье не един-
ственный пример чутья, столь свойственного поэтам. Благо-
даря тому же счастливому свойству он обращается к солнцу
60
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
чуть торжественней, так, как один король мог обращаться к
другому, приблизительно: «Господин наш брат». Мы слы-
шим здесь полунасмешливый отзвук того первенства, кото-
рое принадлежало солнцу в языческих небесах. Рассказыва-
ют, что какой-то епископ, жалуясь, что нонконформисты60
называют апостола Павла просто Павлом, говорил: «Ну,
хоть бы называли его мистером Павлом!» Св. Франциск ни
за что на свете не стал бы славить или пугаться господина и
бога Аполлона; но в своих небесах, подобных детской, он
радуется мистеру Солнцу. У него был тот вдохновенный
дар, который можно найти только в детских стишках и сказ-
ках. Так, в историях о Братце Лисе и Братце Кролике чело-
века с неясным, но здравым почтением называют «Господин
Человек».
Эта песнь, полная юношеского восторга и детских воспо-
минаний, проходит через всю его жизнь, как припев, и не-
престанно прорывается в речи. Может быть, в последний раз
ее особый язык проявился в сцене, которая очень трогает меня
и, во всяком случае, ясно показывает ту приверженность к
жесту и к действу, о которой я говорю. Такие впечатления —
дело впечатлительности и в этом смысле дело вкуса. Бес-
смысленно спорить о них, ведь в том и суть, что они — за
пределами слов, а если слова и встретятся, куда важнее поч-
ти ритуальное действие, скажем — благословение или удар.
Возьмем самый высокий пример: «Вы все еще спите и почи-
ваете?»61 . Здесь есть то, чего никак не выразишь, словно бы
мановение руки, чья могучая тень усугубляет тьму Гефсима-
нии. Однако бывают люди, которые пытаются расширить
историю Страстей.
Св. Франциск умирал. Мы могли бы сказать, что он был
старым к той поре, когда произошел этот случай, но соста-
рился он рано, ибо умер, не дожив до пятидесяти, изнурен-
ный борьбой и постом. Когда он спустился с высот немысли-
мой аскезы и немыслимых откровений Альверно, он был об-
речен. Я расскажу позже, что не только болезнь и слабость
укоротили его жизнь. Незадолго до того рухнуло важнейшее
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
61
его дело — он не смог положить конец крестовым походам,
обратив сразу весь мусульманский мир. Еще больше страдал
он от того, что в собственном его ордене проявлялись при-
знаки компромисса и возникал практический, а то и полити-
ческий дух. Последние свои силы он потратил на споры. И тут
ему сказали, что он слепнет. Если я хоть немного показал
вам, что значили для него красота и слава земли и небес, ге-
ральдическая яркость и четкость птиц, зверей и цветов, вы
поймете, чем была для него слепота. Но лечение могло ока-
заться страшнее самой болезни. Ему посоветовали (по всей
вероятности — неверно) прижечь живой глаз, не унимая
боли, раскаленным докрасна железом. Вряд ли могли быть
хуже те пытки, которым он завидовал, читая жития, и кото-
рых он тщетно искал в Сирии. Когда кочергу вынули из печи,
он встал, вежливо поклонился и сказал: «Брат мой Огонь,
Бог создал тебя прекрасным, и сильным, и полезным. Про-
шу, будь милостив ко мне!»
Если и впрямь существует «искусство жить», это, по-мо-
ему, один из его шедевров. Немногим поэтам дано было вспом-
нить свои стихи в такую минуту, тем более их исполнить. Даже
Уильям Блейк растерялся бы, если бы, читая прекрасные стро-
ки «Тигр, о, тигр, светло горящий», он увидел большую тиг-
риную голову в окне. Он подумал бы, прежде чем поклонить-
ся, особенно же прежде чем дочитать тигру стихи. Когда
Шелли хотел превратиться в облачко или в листок, гонимый
ветром, он мог бы выказать удивление, обнаружив, что мед-
ленно кувыркается в воздухе высоко над морем. Даже Китс,
знавший, что дни его сочтены, мог бы растеряться, убедив-
шись в том, что источник вдохновенья действительно содер-
жит усыпляющее снадобье и в полночь он умрет без страда-
ний. Франциска никто не усыплял; Франциска ждали страда-
ния. Но прежде всего он подумал о стихах своей молодости.
Он вспомнил время, когда огонь был ярким и веселым цвет-
ком в Божьем саду. И когда тот вернулся орудием пытки,
Франциск приветствовал его как старого друга и назвал его
Дружеским, нет — крестным именем.
62
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Это только один случай, а было их много. Я выбрал этот
отчасти потому, что здесь так отчетлива тень жеста, теат-
рального жеста южан, отчасти же потому, что жест этот веж-
ливый, а сейчас я хочу поговорить о вежливости. Народное
чутье св. Франциска и его любовь к идее братства никогда
не понять, если мы представим себе то, что зовут панибрат-
ством, хлопаньем по плечу. Очень часто от врагов, слишком
часто от друзей демократии мы слышим, что панибратство
от нее неотделимо. Равенство понимают как равную невеж-
ливость, в то время как оно должно означать, что все люди
одинаково вежливы друг к другу. Как бы то ни было, св.
Франциск Ассизский искал равенства, основанного на веж-
ливости.
Даже в волшебной стране его мечтаний о цветах, зверях
и неодушевленных предметах он сохранял безукоризненную
вежливость. Один мой друг говорил, что кто-то способен
попросить прощения у кошки. Франциск действительно по-
просил бы прощения у кошки. Однажды, собираясь пропо-
ведовать в лесу, где пели и чирикали птицы, он вежливо об-
ратился к ним: «Сестрицы мои птички, если вы сказали, что
хотели, дайте сказать и мне». И все птицы смолкли, чему я
охотно верю. Поскольку цель моя — писать понятно для
обычных нынешних людей, я поговорю особо о чудесной силе,
которой, вероятней всего, обладал св. Франциск. Но и поми-
мо чудесных сил, такие внимательные и добрые к животным
люди очень часто могут на них влиять. Влияние св. Фран-
циска всегда выражалось в утонченно-вежливой форме.
Много раз то были символические шутки, благочестивые
пантомимы, призванные подчеркнуть, что он не только лю-
бит, но и глубоко почитает Бога в любых Его творениях.
В этом смысле он всегда был готов просить прощения не
только у кошки или у птиц, но и у стула, на который сядет, и
у стола. Все, кто ищет случая посмеяться над безобидным
безумием, легко могли счесть его одним из тех, кто кланяет-
ся каждому столбу или снимает шляпу перед деревом. Так
проявлялось его безукоризненное чутье; все жесты его зна-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
63
чимы. Часть своего великого урока он излагал на каком-то
Божьем языке глухонемых. И если он был безукоризненно
вежлив с предметами, вежливость его доходила до крайнос-
ти в главном деле его жизни, в общении с человечеством, а
точнее — с людьми.
Я говорил, что св. Франциск намеренно не видел леса
из-за деревьев. Еще вернее и важнее, что он не видел толпы
из-за людей. Этого истинного демократа отличает от демаго-
га то, что он никогда не обольщался иллюзией «воздействия
на массы». Любил он сказочных чудищ или нет, он никогда
не видел перед собою многоголовой гидры. Он видел образ
Божий, повторенный много раз, и всегда неповторимый.
Для него человек всегда был человеком и не терялся в густой
толпе, как не потерялся бы на равнине. Он почитал всех,
другими словами — он не только любил, он и уважал каж-
дого. Своей исключительной силой он обязан тому, что вся-
кий, от папы до нищего, от султана в расшитом шатре до
последнего вора в лесу, глядя в темные светящиеся глаза,
знал и чувствовал, что Франческо Бернардоне интересуется
именно им, именно его неповторимой жизнью от колыбели
до могилы. Каждый верил, что именно его он принимает в
сердце, а не заносит в список, политический или церковный.
Это нравственное и религиозное воззрение можно выразить
только вежливостью. Разглагольствованиями его не выра-
зишь, ибо это не абстрактный энтузиазм; не выразишь и
снисходительной мягкостью, ибо это не просто жалость.
Нужно одно — особая манера, которую мы вправе назвать
хорошими манерами. Мы можем сказать, если хотим, что в
предельной простоте своей жизни св. Франциск позволил
себе роскошь — манеры придворного. Но при дворе —
один король и сотни придворных, а он был придворным для
сотни королей, ибо относился к толпе как к сообществу ко-
ронованных особ. Конечно, только так можно затронуть в
человеке то, к чему стремился воззвать он. Здесь не помогут
ни золото, ни даже хлеб — все мы знаем, что щедрость
слишком часто граничит с пренебрежением. Не поможет и
64
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
время, и даже внимание — филантроп и приветливый бю-
рократ уделят нам и то, и другое с куда более холодным и
страшным пренебрежением в душе. Никакие планы, предло-
жения, преобразования не вернут сломленному человеку
уважения к себе и чувства равенства. Особый наклон голо-
вы, особый жест — вернет.
Именно так ходил среди людей Франциск Ассизский; и
вскоре оказалось, что в жесте этом, в наклоне есть особая сила,
как бы чары. Только надо помнить, что он ничуть не притво-
рялся, не играл, он был скорее смущен. Представьте себе, что
он быстро идет по миру с тем нетерпеливым вежеством, с ка-
ким человек поспешно и послушно преклоняет на ходу колено.
Живое лицо под бурым капюшоном говорило о том, что он
всегда спешит куда-то; не только следит за полетом птиц, но и
следует за ними. Он двигался — и основал движение, совер-
шил переворот, ибо то, к чему я сейчас перейду, подобно из-
вержению вулкана или взрыву, с которым вырвались наружу
силы, копившиеся десять столетий в арсенале монашества.
В хорошем, а не в дурном смысле можно сказать: что собрал
Бернард62, расточил Франциск; но ведь там, где речь идет о
делах духовных, зерно, лежащее в житницах, рассыпается по
земле семенами. Слуги Божьи были осажденным гарнизо-
ном — стали армией в наступлении. Дороги мира сего, словно
гром, сотрясал их шаг, а далеко впереди от непрестанно расту-
щего воинства шел человек и пел так же просто, как пел он в
зимнем лесу, когда 1улял один.
Глава VII
ТРИ ОРДЕНА
Говорят, что двое — это общество, а трое — нет. Есть
смысл и в другой поговорке: «Трое — это общество, а чет-
веро — нет», доказанной многими историческими и литера-
турными героями, бродившими по трое, как три мушкетера у
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
65
Дюма или три солдата у Киплинга. Но если мы употребим
слово «общество» в более широком смысле, можно сказать,
что четверо — общество, а трое нет. Трое — три отдельных
человека, с четвертым возникает признак толпы. И тень эта
упала на маленький скит в Порциункуле, когда пришел не-
кий Эгидий, по всей вероятности — бедный ремесленник.
Он легко ужился и с купцом, и со священником, которые
уже стали сотоварищами Франциска, но с его приходом ма-
ленькое братство перешло невидимую границу. С тех пор оно
могло расти до бесконечности, во всяком случае — границы
его навсегда стали открытыми. Может быть, именно в то
переходное время Франциску снова приснился вещий сон —
голоса говорили с ним на всех языках, по-французски, по-
итальянски, по-английски, по-испански, по-немецки слави-
ли Бога, словно пришла новая Пятидесятница, удалось по-
строить Вавилонскую башню.
Раньше, чем рассказать, как он справился на первых по-
рах со своим быстро растущим содружеством, надо предста-
вить хотя бы примерно, каким он его мыслил. Он не звал
своих последователей монахами, и совсем не ясно, догады-
вался ли он в то время, что они — монахи. Он звал их име-
нем, которое обычно передают у нас как «меньшие братья»,
но мы гораздо точнее передадим его дух, если переведем бук-
вальней: «братцы». По-видимому, он уже решил, что они
должны дать три обета — бедности, целомудрия и послуша-
ния, которые всегда были знаком монашества. Насколько я
понимаю, его пугала не столько мысль о монастыре, сколько
мысль о настоятеле. Он боялся, как бы большая духовная
класть не наделила даже самых лучших людей по меньшей
мере безличной, общинной гордыней, которая придаст хоть
Хакую-то важность простой до чудачества жизни во смире-
нии. Но главная разница между его дисциплиной и дисцип-
линой старых орденов заключалась в том, что францисканцы
должны были стать бродягами, едва ли не кочевниками. Они
должны были смешаться с миром. Монах старого типа, есте-
ственно, спросил бы: «Как же они смешаются с миром, не
66
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
запутавшись в нем?» Этот вопрос много насущней, чем кажется
приверженцам неопределенной религиозности; но у св. Фран-
циска был на него ответ, и суть проблемы — именно в этом
неповторимом ответе. • *
Добрый епископ Ассизи боялся за братцев в Порциун-
куле — у них не было ни удобств, ни денег, они ели что при-
дется и как-то спали на земле. Св. Франциск ответил ему с
той странной, почти сокрушающей мудростью, которою люди
не от мира сего порою орудуют, как палицей. Он сказал:
«Если бы у нас что-нибудь было, нам понадобились бы за-
коны и оружие, чтобы это защищать». Слова его — ключ ко
всем его действиям. Они логичны; когда речь шла об этом,
он всегда был логичен. В чем угодно он мог признать себя
неправым, но в этом не сдавался никогда. Он рассердился в
первый и последний раз, когда речь зашла об исключении из
этого правила.
Он говорил так: человек, посвятивший себя Богу, может
идти куда угодно, к любым людям, даже самым плохим,
пока им не за что его зацепить. Если у него будут связи и
потребности людей обычных, он станет таким же, как они.
Св. Франциск ни за что на свете не осудил бы людей за их
обычность. Обычные люди получали от него столько любви
и восхищения, сколько им, наверное, больше никогда не по-
лучить. Но он хотел заново заквасить мир духовной заквас-
кой63 и с удивительной ясностью, противоположной и чув-
ствительности, и фанатизму, видел, что братцам нельзя ста-
новиться такими, как все; что соль не должна терять силу,
превращаясь в обычную пищу64. Разница между братцем и
человеком обычным в том, что братец — свободней. Он не-
пременно должен быть свободен от монастыря и, что еще
важнее, свободен от мира. Обычный человек не может осво-
бодиться от мира: он и не должен. Феодальный мир, в част-
ности, был сложным переплетением зависимостей, но фео-
дальной иерархией не исчерпывается мир Средневековья, а
мир Средневековья — еще не весь мир. Мир стоит на зави-
симости. В семейной жизни все зависят друг от друга ничуть
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
67
не меньше, чем в феодальной. Современные профсоюзы не
меньше средневековых гильдий зависят друг от друга, хотя
бы затем, чтобы не зависеть больше ни от кого. И в Сред-
ние века, и теперь ограничения эти тесно связаны со случай-
ностью, даже если установлены ради вящей свободы. Так,
XII век был веком обетов, и в этом немало свободы, ибо
никто не потребует обета от раба, тем более — от орудия.
Однако на самом деле, в жизни, человек шел на войну, что-
бы поддержать старинный род или город просто потому, что
родился в таком-то городе, такой-то деревне. Но ни один
человек на свете не обязан был повиноваться тщедушному
бедняку в старом темном плаще, если сам того не хотел.
Если же он по доброй воле решал подчиниться, он все равно
был намного свободней, чем в миру. Он повиновался Фран-
циску, но от него не зависел. И уж совсем свободен, словно
ветер, он был по отношению к миру. Этот мир, как мы уже
говорили, походил на сложную сеть, сплетенную из феодаль-
ных, семейных и прочих уз. И св. Франциск решил, что
братцы должны быть как рыбки, которые легко проскочат
через любую сеть. Они могли уйти из нее именно потому,
что были маленькими, даже юркими рыбками. Миру не за
что было их зацепить — ведь мир цепляет нас за украшения
на одежде, за внешние, необязательные стороны жизни.
Один из францисканцев сказал позже: «У монаха не должно
быть ничего, кроме лютни», имея в виду, вероятно, что мо-
нах должен ценить только песню, которой приветствует, как
менестрель, каждый замок и домик, песню радости Божьей
и прекрасного братства людей. Если мы представим себе
жизнь этих мистических бродяг, нам приоткроется хоть не-
много практическая польза аскезы, непонятная тем, кто счи-
тает себя практичным. Надо быть очень худым, чтобы про-
скользнуть сквозь прутья любой клетки, очень легким, что-
бы бежать так быстро и так далеко. Весь расчет, вся невинная
хитрость в том и заключались, чтобы обойти мир, обдурить
его, поставить в тупик. Вы не испугаете голодом того, кто
строго постится. Вы не испугаете нищетой нищего. Мало
68
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
проку будет и от битья, даже под палкой он возрадуется, ибо
в поношении его единственное достоинство. А если вы всу-
нете его голову в петлю, вы окружите ее сиянием.
Разница между обычными монахами и братцами была*
именно в практической пользе, особенно — в быстроте.
Старым сообществам с точными правилами и непременной
оседлостью мешало то, что мешает любому домовладельцу.
Как бы просто они ни жили, им было нужно столько-то ке-
лий, столько-то кроватей, хотя бы столько-то места. Но с
тех пор, как можно было стать братцем, пообещав есть яго-
ды при дороге или просить объедки у кухонных дверей,
спать под забором или терпеливо сидеть у порога, экономи-
ческих помех не осталось. Теперь одержимых чудаков могло
стать сколько угодно. Надо помнить к тому же, что движе-
ние развивалось так быстро еще и благодаря особому, де-
мократическому оптимизму, который был одной из главных
черт св. Франциска. Самая аскеза его — триумф оптимиз-
ма. Франциск требовал так много от человеческой природы
не потому, что он ее презирал, а потому, что он доверял ей.
Он ждал многого от необычных людей, которые пошли за
ним, но он ждал многого и от людей обычных, к которым их
послал. Он просил пищи у мирян так же доверчиво, как
просил поста у монахов. Он всегда рассчитывал на гостеп-
риимство, потому что считал каждый дом домом друга. Он
действительно любил и почитал обычных людей и обычные
вещи; мы можем даже сказать, что он послал необычных
людей лишь для того, чтобы они поддержали обычных в их
обычности.
Все это можно объяснить точнее и лучше, если мы рас-
смотрим на редкость любопытное сообщество, третий орден,
призванный поддерживать обычность обычных с весьма нео-
бычной пылкостью. Речь идет о смелом и простом замыс-
ле — расселить духовное воинство среди людей, действуя
не силой, но убеждением, точнее — убеждая бессилием.
Франциск доверял людям, и этот лестный для людей опыт
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ 69
увенчался полным успехом. Так было с ним всегда; он обла-
дал особым тактом и со стороны мог показаться удачником,
потому что бил прямо в цель, как молния. В его отношениях
с людьми очень много примеров этого бестактного такта, этих
неожиданных ударов в самую сердцевину. По преданию, один
молодой братец метался между мрачностью и смирением, как
и многие юноши, которые вбили себе в голову, что их герой
ненавидит их или презирает. Легко представить себе, с ка-
ким тактом мирские дипломаты копались бы в трудностях и
настроениях, как осторожно врачевали бы психологи столь
щекотливый недуг. Франциск подошел к юноше — который,
конечно, молчал, как могила, — и сказал: «Не береди себе
душу, я тебя очень люблю, ты — один из самых мне близ-
ких. Да ты и сам знаешь, что достоин общества моего и друж-
бы. Вот и приходи ко мне, когда хочешь, и через дружбу
научись вере». Точно так же, как с мрачным юношей, гово-
рил он со всеми. Он всегда шел прямо к делу, всегда был и
правее, и проще собеседника; и это обезоруживало, как нич-
то не могло бы обезоружить. Он был лучше других, он делал
людям добро, и все-таки его не возненавидели. Люди вошли
в церковь через новую, низенькую дверь, и через дружбу
научились вере.
Еще тогда, когда в Порциункуле было так мало народу,
что все могли уместиться в одной комнате, св. Франциск ре-
шился на первый, самый важный, даже отчаянный шаг. По
преданию, во всем мире было только двенадцать францис-
канцев, когда он повел их в Рим, чтобы основать орден. Ка-
залось бы, не стоит обращаться так далеко, к высшей власти;
помогли бы и власти пониже, местный епископ или священ-
ники. Вероятно, многие считали, что не совсем удобно бес-
покоить верховное судилище церкви из-за того, как назы-
ваться двенадцати случайным людям. Но Франциск был
Упорен, как бы слеп, и эта сияющая слепота особенно харак-
терна для него. Он довольствовался малым, он любил все
маленькое и никогда не чувствовал, как мы, разницы между
70
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
маленьким и большим. Он не знал наших мерок и наших про-
порций. Иногда его мир напоминает весело разукрашенную
средневековую карту, но снова вырывается из нее в другие
измерения. Говорят, он собирался идти к императору, воссе-
дающему среди своих воинств под орлом Священной Рим-
ской империи, чтобы спасти жизнь нескольким птичкам. Он
был вполне способен говорить с пятьюдесятью императора-
ми из-за одной птички. Он вышел с двумя братцами, чтобы
обратить мусульманский мир; он вышел с одиннадцатью, что-
бы папа создал новый мир монашества.
Св. Бонавентура65 говорит, что Иннокентий III66, вели-
кий папа, гулял по террасе Латеранского храма, обдумывая,
по всей вероятности, серьезнейшие политические проблемы,
сотрясающие его государство, когда перед ним внезапно
возник человечек, которого он принял за пастуха. По-види-
мому, он постарался избавиться от него поскорее; может
быть, он решил, что пастух безумен. Во всяком случае, он
больше о нем не думал до ночи, а ночью увидел странный
сон. Ночью, говорит славный биограф Франциска, он уви-
дел, что большой древний храм, на чьих прочных террасах
он гулял в такой безопасности, ужасно накренился, вот-вот
обвалится, словно все его башни и купола качаются перед
землетрясением. И тут он заметил, что, как живая кариати-
да, храм держит человек, а человек этот — оборванный
пастух или крестьянин, от которого он отвернулся. Правда
это или лишь образ, мы видим очень точно, с какой внезап-
ностью и простотой обрел Франциск внимание и покрови-
тельство Рима. По-видимому, первым его другом стал кар-
динал Джованни ди Сан-Паоло, который защищал его за-
мысел перед специально созванным конклавом. Стоит заме-
тить, что кардиналы в основном сомневались, не слишком
ли суров устав нового ордена — католическая церковь все-
гда предостерегает от излишней аскезы и связанных с нею
зол. Может быть, под словом «суровость» они подразуме-
вали «опасность», ведь новый орден был все же опаснее
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
71
старых. Хотя бы в одном смысле братец был противополо-
жен монаху. Старый монастырь хорош тем, что в нем спря-
чешься не только от зла, но и от забот. Потому в этих убе-
жищах и родились труды, за которые мы никогда не смо-
жем отблагодарить монахов. Монахи сохранили древних
классиков, положили начало готике, создали науку и фило-
софию, дали нам миниатюру и витраж. Все дело в том, что
о насущных нуждах они могли не печься. Пускай они пита-
лись очень скудно, но всегда знали, что без еды не останут-
ся. А братец никогда не знал, поест ли он вообще. В его
жизни, как в жизни цыган и бродяг, было то, что зовется
романтикой. Была в ней и постоянная угроза, как в жизни
бродяги или поденщика. И кардиналы XIII столетия пожа-
лели людей, по собственной воле идущих туда, где держат
насильно, день за днем, бедняков XX века.
Кардинал защищал их приблизительно так: «Может
быть, их жизнь сурова, но в конце концов это именно та
жизнь, к которой призывает Евангелие. Идите на компро-
миссы, когда мудрость или милость требуют их от нас, но не
говорите, что люди вообще не должны, хоть им и хочется,
жить по-евангельски». Мы еще увидим, как верен этот до-
вод, когда посмотрим на ту, высшую часть жития св. Фран-
циска, которую можно назвать подражанием Христу. Выс-
лушав спорящих, папа признал орден и обещал более весо-
мую поддержку, если движение разрастется. Возможно, что
Иннокентий, человек умный, почти не сомневался в этом;
если он и сомневался, сомнения вскоре рассеялись. Следую-
щая глава в истории ордена — это просто рассказ о том, как
толпы людей стекались под его знамена. Я уже говорил, что
по самой своей природе он мог расти гораздо быстрее, чем
старые ордена. Возвращение двенадцати первых братцев ста-
ло, наверное, триумфальным шествием. Говорят, что все
жители — мужчины, женщины, дети — бросили работу,
деньги, дома и прямо, как были, пошли за братцами, умоляя
принять их в воинство Господне. Согласно преданию, имен-
72
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
но тут у св. Франциска забрезжила мысль о третьем ордене,
который дал бы людям возможность участвовать в его деле,
не жертвуя семьей, привычкой и обычной жизнью. Так это
или нет, рассказ хорошо выражает тот мятежный дух, кото-
рый охватил Италию. Все вышли в путь, братцы кишели по-
всюду, и каждый, кто их встречал на больших и проселочных
дорогах, знал, что его ждет духовное приключение. Первый
орден св. Франциска вступил в историю.
В этом несовершенном очерке я расскажу кратко о вто-
ром ордене и третьем, хотя они основаны позже, в разное
время. Вторым был орден кларисс, и возник он, конечно,
благодаря прекрасной дружбе св. Франциска со св. Кларой.
Нет на свете повести, которая так сильно озадачивала бы
даже сочувствующих ученых, исповедующих иную веру, —
ведь нигде нельзя применить с таким успехом простую по-
верку, о которой я говорил. Ученые не могут себе предста-
вить, что любовь небесная столь же реальна, как любовь
земная. Если бы они это представили, загадка решалась бы
легко. Семнадцатилетняя девушка Клара из знатной ассиз-
ской семьи страстно захотела стать монахиней, и Франциск
помог ей бежать из дому. В сущности, он помог ей бежать в
монастырь, не посчитавшись с родителями, как сам он не по-
считался с отцом. Все это было похоже на обычный роман-
тический побег — она вышла через дыру в стене, пересекла
лес и в полночь ее встретили с факелами. Даже миссис Оли-
фант67 в хорошем и тонком исследовании о св. Франциске
говорит, что «случай этот мы навряд ли вспомним с сочув-
ствием».
Скажу одно: если бы это было романтическое бегство и
девушка стала бы возлюбленной, а не монашкой, весь со-
временный мир счел бы ее героиней. Если бы Франциск
поступил с Кларой, как Ромео — с Джульеттой, все бы их
поняли. Дело не в том, что Кларе было семнадцать, —
Джульетте было четырнадцать. В Средние века девушки
рано выходили замуж, а юноши рано бились в битвах. Сем-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
73
надцатилетняя девушка в XIII веке вполне отвечала за себя.
Без всякого сомнения, св. Клара прекрасно знала, что дела-
ет. Современные романтики очень снисходительны, когда
родителей обижают во имя романтической любви. Они зна-
ют, что романтическая любовь реальна; и не знают, что не-
бесная любовь ничуть не призрачней. Немало можно ска-
зать в защиту родителей Клары; немало можно было ска-
зать в защиту Петра Бернардоне. Многое можно сказать и
в защиту Монтекки и Капулетти, но современный мир не
думает защищать их и не говорит ничего. Если мы примем
хоть на минуту как гипотезу то, что для св. Франциска и
св. Клары было абсолютной истиной; если мы поверим, что
духовная связь еще прекраснее связи влюбленных, мы уви-
дим, что побег св. Клары — просто роман со счастливым
концом, а св. Франциск — св. Георгий или странствующий
рыцарь, который помог ему так кончиться. Миллионы муж-
чин и женщин считали реальной такую связь, и не вправе
считать себя философом тот, кто не сочтет ее хотя бы воз-
можной.
В конце концов, почему возмущаются своеволием св. Кла-
ры теперь, когда так любят эмансипацию женщин? Клара в
самом прямом смысле слова пошла своим путем. Она выбра-
ла ту жизнь, которую хотела, а не ту, к которой принуждали
ее строгие родители и социальные условности. Она основала
небывалое женское движение, которое до сих пор глубоко
воздействует на мир, и место ее — среди великих женщин.
Неизвестно, была бы она такой великой или такой полезной,
если бы сбежала с возлюбленным или просто осталась дома
и вышла замуж по расчету. Это, мне кажется, может при-
знать любой разумный человек, глядя со стороны; а я нис-
колько не собираюсь всматриваться в это изнутри. Мало кто
Достоин написать хоть слово о св. Франциске, но еще труд-
нее найти слова, чтобы описать его дружбу со св. Кларой.
Я часто замечал, что такого рода тайны лучше всего выра-
жать символически, молча, позой или действием. И я не знаю
14
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
лучшего символа, чем тот, который так счастливо нашел на-
род в своем предании: однажды ночью жители Ассизи поду-
мали, что деревья и хижины загорелись, и побежали их ту-
шить. Но они увидели, что все тихо, а за окном св. Фран-
циск преломляет хлеб со св. Кларой и говорит с ней о любви
Божьей. Трудно найти лучший образ для предельно чистой
и духовной любви, чем светло-алое сияние, окружающее двух
людей на холме; чем пламя, не питающееся ничем и воспла-
меняющее самый воздух.
Если второй орден был памятником неземной любви, то
третий стал столь же прочным памятником весьма весомому
сочувствию к земной любви и земной жизни. Эту черту ка-
толичества — связь мирских движений с движениями ду-
ховными — очень плохо понимают протестантские страны и
отвергают протестантские историки. Видение, о котором мы
столь несовершенно рассказываем, было даровано не только
монахам и даже не только братцам. Оно вдохновляло бес-
численные толпы обычных женатых людей, которые жили
точно так же, как и мы, только совсем иначе. Утренний свет,
которым Франциск озарил и землю, и небо, тайно затеплил-
ся под многими кровлями, во многих комнатах. Такие обще-
ства, как наше, ничего не знают о том, как тянулись люди к
францисканству. Мы ничего не знаем о неизвестных после-
дователях неизвестного нам дела; еще меньше мы знаем об
известных его последователях. Если мимо нас на улице прой-
дет шествием третий орден св. Франциска, знаменитости
поразят нас больше, чем незнакомцы. Нам покажется, что
внезапно раскрылось могущественнейшее тайное общество.
Проедет Людовик Святой68, великий рыцарь, праведный
судья, в чьих руках весы правосудия всегда склонялись в
пользу бедных. Пройдет Данте в лавровом венке, в буром,
светящемся изнутри одеянии с пурпурной каймой — тот, кто
среди страстей и страданий пел хвалу госпоже своей Бедно-
сти. Много славных имен — от очень дальних до самых не-
давних — откроется нам: Гальвани, например, отец элект-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
75
ричества, волшебник, вызвавший к жизни столько новых
созвездий и созвучий. Если св. Франциск не доказал своей
жизнью, что любит обычных людей, может быть, это дока-
жет такая разнородная процессия.
Но жизнь его доказала это, может быть — в более тон-
ком смысле слова. Один из современных ему биографов за-
метил, что его естественные страсти были на удивление нор-
мальны и даже благородны — его искушали вещи, вполне
позволительные сами по себе, но непозволительные для него.
Никому на свете не подходило меньше слово «сетовать»;
можно назвать его романтиком, но для таких чувств ему не-
доставало чувствительности, недоставало тоски. Нрав его был
слишком пылок, чтобы раздумывать над тем, достаточно ли
быстро он бежит, хотя, конечно, он каялся в том, что не бе-
жит еще быстрее. Однако подозревают, что, когда он борол-
ся с дьяволом, как борется всякий человек, достойный назы-
ваться человеком, тот искушал его здоровыми желаниями,
которые Франциск похвалил бы в ком угодно; желаниями,
нимало не похожими на гнусно размалеванное язычество,
засылавшее своих нечистых посланцев в пустыню святого
Антония69. Если бы св. Франциск что-нибудь себе разре-
шил, это были бы очень простые радости. Он стремился к
любви, а не к разврату, и не мыслил ни о чем более грехов-
ном, чем свадебные колокола. По странному преданию, бо-
рясь с бесом, он лепил снежных баб и кричал: «Вот моя жена,
вот мои дети!» По тому же преданию, рассказывая, что и он
не огражден от греха, он сказал: «У меня еще могли бы быть
дети», как будто о детях, а не о женщине он мечтал. И если
это правда, это кладет последний мазок на его портрет. В нем
было так много утреннего, так много детского и чистого, что
даже его зло было добром. О других, не о нем сказано, что
сам свет, который в них, — тьма70; об этой сияющей душе
можно сказать, что сами тени ее из света. Зло являлось к нему
только запрещенным благом и только таинство могло иску-
шать его.
76
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Глава VIII
ЗЕРЦАЛО ХРИСТА
Ни один человек, обретший свободу, которую дает вера,
не впадет в те безысходные крайности, в какие впали позд-
ние францисканцы, когда попытались сделать из св. Фран-
циска второго Христа, давшего новейший завет. Если они
правы, теряет смысл все, что он делал, ибо никто не станет
благоговейно чтить соперника или изо всех сил подражать
тому, кого задумал свергнуть. Позднее я покажу и подчерк-
ну, что только прозорливость первосвященников спасла ве-
ликое движение для мира и Вселенской Церкви и не дала
ему выродиться в одну из узких сект, которые зовутся новой
религией. Я ни в коей мере не собираюсь обоготворять
францисканцев. Христос и св. Франциск отличались друг от
друга, как отличаются Создатель и создание; и непомернос-
ти этого различия ни одно создание не чувствовало лучше,
чем сам св. Франциск. И все же очень верно, очень важно,
что Христос был образцом для св. Франциска, что личные
их свойства и события их жизни во многом странно совпада-
ли; а главное — что по сравнению с нами св. Франциск по-
разительно близок к своему Учителю, хотя только являет
Его, только отражает, словно точнейшее в мире зеркало.
Истина эта наводит на мысль о другой, которую редко заме-
чают, хотя именно она показывает, почему паша Церковь
так чтит Христа.
В одной из своих блестящих полемических работ карди-
нал Ньюмен71 обронил фразу, которая может служить при-
мером смелости и логической ясности католичества. Рассуж-
дая о том, как легко принять истину за нечто противное ей,
он говорит: «Если Антихрист похож на Христа, то и Хрис-
тос, наверное, похож на Антихриста». Религиозному чувству
неприятен конец этой фразы, но опровергнуть ее может лишь
тот, кто сказал, что Помпей и Цезарь очень похожи, особен-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК ассизский 77
но Цезарь. Надеюсь, вы огорчитесь меньше, когда я скажу
то, что многие забыли: если св. Франциск был похож на
Христа, Христос, наверное, был похож на св. Франциска.
Сравнение это очень полезно, и вот чем: если кто-то обнару-
жит загадки и странности в галилейских событиях и найдет
разгадки в событиях ассизских, он увидит, что тайна вручена
определенной, вот этой традиции. Он увидит, что ларец, за-
пертый в Палестине, смогли открыть в Умбрии, ибо Церкви
° 72
дана власть ключей .
Всегда считалось естественным рассматривать св. Фран-
циска в свете Христа, но мало кто догадался рассмотреть
Христа в свете св. Франциска. Может быть, «свет» — не
самый лучший образ; что ж, ту же истину выразит образ
зеркала. Св. Франциск — зерцало Христа, как луна —
зерцало солнца. Луна гораздо меньше солнца, зато гораздо
ближе к вам; она не такая яркая, зато видна лучше. В этом
же самом смысле св. Франциск — ближе к нам, он просто
человек, как и мы, и нам легче его представить. Само собой
понятно, что тайны в нем меньше, и потому слова его не за-
гадочны. Собственно, многие, даже не очень важные слова,
загадочные в устах Христовых, покажутся хотя и странны-
ми, но вполне естественными для св. Франциска. Незачем
напоминать, что Христос жил до христианства; но из этого
следует, что Он жил в языческом мире. Я хочу сказать, что
среда, в которой Он действовал, не была христианской, то
была среда античной империи, и по одному этому она понят-
на нам куда меньше, чем среда, в которой действует италь-
янский монах, такой же самый, как теперь. Даже сведущий
комментатор вряд ли может определить, насколько обычны
или необычны евангельские притчи, какие воспринимались
как обыденный рассказ, какие — как немыслимый вымы-
сел. Среда — чужая, древняя, и потому многие речения по-
добны иероглифам, их можно толковать на самый странный
лад. Но если мы переведем почти каждое из них на говор
Умбрии, они легко уложатся в историю св. Франциска; ко-
нечно, они останутся странными, но станут намного понят-
78
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ней. Немало споров породили слова о лилиях, не пекущихся
о завтрашнем дне73. Скептики то упрекают нас в измене
евангельскому идеалу, то разъясняют, что сохранить ему
верность невозможно. Я не собираюсь сейчас обсуждать
проблемы этики или экономики; я просто замечу, что даже
тот, кого ставят в тупик слова Христа, ничуть не удивится,
если их скажет св. Франциск. Никто не удивится, что он
сказал: «Прошу вас, братцы, будьте мудры, как брат наш
одуванчик и сестра маргаритка, ибо они не пекутся о завт-
рашнем дне, а у них короны, как у королей и властителей, и
у Карла Великого во всей его славе». Еще больше огорчает
и озадачивает совет о щеке и о воре, укравшем плащ74. Этот
текст любят приводить как довод против войны, о которой
вроде бы здесь нет ни слова. Если уж понимать эти слова
буквально и применять ко всему на свете, скорее из них
можно вывести, что плох закон, греховна власть. Но преус-
певающих миротворцев гораздо больше ужасает насилие
солдат над могущественным чужеземцем, чем насилие поли-
цейских над бедным соотечественником. Однако и здесь за-
мечу, что парадокс становится понятным, если мы предста-
вим себе, что св. Франциск говорит это францисканцам.
Никто не удивится, если брат Юнипер побежит за вором,
который украл у него плащ, и попросит забрать рубаху, ибо
так велел св. Франциск. Никто не удивится, если св. Фран-
циск скажет молодому дворянину, который хочет вступить в
его братство, что не стоит бежать за разбойником, чтобы
отобрать свои башмаки, а лучше побежать за ним и подарить
ему чулки. Мы можем любить, можем и не любить такой
дух, но мы прекрасно его чувствуем. Мы узнаем интонацию,
простую и чистую, как пение птицы, — интонацию св. Фран-
циска. Есть тут и кроткая насмешка над самой идеей соб-
ственности, и надежда обезоружить врага великодушием, и
озорное желание ошарашить своекорыстных, и радость бе-
зупречной последовательности. Но что бы тут ни было, нам
нетрудно узнать это, если мы хоть что-то читали о братцах и
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
79
о том, что началось в Ассизи. Если именно этот дух породил
столь странные слова в Умбрии, тот же дух мог породить их
в Палестине. Если мы слышим ни на что не похожую инто-
нацию и ощущаем неописуемый привкус в двух разделенных
временем явлениях, естественно вывести отсюда, что более
отдаленное от нас похоже на более близкое. Если св. Фран-
циск вполне мог говорить такое францисканцам, разумно
предположить, что Христос тоже говорил это содружеству
верных, чье дело подобно делу братцев. Другими словами,
вполне естественно считать, как и считает Церковь, что со-
веты, ведущие к совершенству, были частью особого замыс-
ла, призванного поразить и разбудить мир. Во всяком слу-
чае, важно помнить, что, когда мы видим, как одни и те же
слова с удивительной точностью повторяются через тысячу с
лишним дет, приходится поверить, что породило их одно и
то же, а потому — нужна преемственность, нужен автори-
тет, восходящий к тем событиям, и которых он проявился
впервые. Многие философские системы повторяют и будут
повторять общие места христианства. Но только Церковь
может заново поразить мир его парадоксами. Ubi Petrus ibi
Franciscus*.
Если мы поймем, что Франциск подражал своему Со-
здателю в чудачествах милосердия, мы должны понять, что
Ему же он подражал в чудачествах самоотречения. Конечно,
притчи о кротости стали возможны, потому что он внима-
тельно читал Нагорную проповедь. Но еще внимательнее он
читал молчаливую проповедь на другой горе, на Голгофе. Он
говорил чистую правду, когда сказал, что в посте или в уни-
жении он просто пытается хоть чем-то уподобиться Христу;
и мне снова кажется: если мы видим одну и ту же истину в
Двух далеких звеньях церковного предания, значит, преда-
ние сохранило истину. Это важно, и это касается того, что
было потом с Франциском.
* Где Петр, там и Франциск (лат.).
80
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Чем яснее он видел, что дело его удалось, что первая
опасность миновала, орден создан, тем сильнее хотел он под-
ражать Христу. С тех пор как у него появились последова-
тели, он сравнивал себя не с теми, для кого он был учителем;
он все больше и больше сравнивал себя с Тем, для Кого он
только слуга. Скажу мимоходом, что это одна из моральных
и даже практических выгод аскезы. Всякая другая исключи-
тельность легко приведет к высокомерию. Святой не может
смотреть свысока, он всегда в присутствии Высшего. В на-
ших избранниках духа плохо то, что они жрецы без Бога.
Но служение, которому отдал себя св. Франциск, все боль-
ше и больше уподоблялось для него Страстям и Распятию.
Он чувствовал все сильнее, что недостаточно страдал и по-
тому недостоин даже издали следовать за своим Страдаю-
щим Богом. Эту часть его жизни можно назвать исканием
мученичества.
Отчасти поэтому он задумал замечательное дело — по-
бег к сарацинам, в Сирию. Были у него и другие причины,
которые стоят того, чтобы разобраться в них получше, чем
разбирались до сих пор. Он хотел положить конец кресто-
вым походам в двух смыслах — и завершить их, и прекра-
тить, только не силой, а словом; не материально, а духовно.
На современного человека трудно угодить: мы называем
путь Готфрида жестоким, а путь Франциска — безумным,
то есть обвиняем в безнравственности практический выход, а
потом объявляем непрактичным выход нравственный. Но
мысль св. Франциска была совсем не безумна и не так уж
непрактична, хотя, может быть, он представлял себе все
слишком просто, потому что знал меньше, чем его великий
наследник Раймонд Луллий75, которого, правда, ничуть не
лучше поняли. Франциск, как всегда, пошел своим, неповто-
римым путем. Мысль его была проста, как чуть ли не все его
мысли. Но глупой она не была; многое можно сказать в ее
защиту, и она могла осуществиться. Он просто думал, что
лучше создавать христиан, чем убивать мусульман. Если бы
ислам обратили в христианство, мир стал бы не в пример
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИИ
81
более счастливым и единым; во всяком случае, очень многих
войн новой истории просто бы не было. Не так уж глупо
предположить, что этого можно было добиться миром, при
помощи миссионеров, готовых к мученичеству. Церковь тог-
да уже завоевала так Европу, значит, могла завоевать так и
Азию, и Африку. Все это верно; но для св. Франциска му-
ченичество было не только средством. Оно и само было це-
лью, ибо последней целью для него была близость к Христу.
Сквозь все его беспокойные дни проходит припев: «Я мало
страдал, я мало отдал, я недостоин и тени тернового венца».
И, бродя по долинам мира, он искал холм, очертанием похо-
° 76
жии на череп .
Незадолго до того, как он уехал на Восток, весь фран-
цисканский орден торжественно собрался у стен Порциун-
кулы. Могучая армия разбила лагерь, и назвали это «Собо-
ром соломенных хижин». Предание говорит, что именно тог-
да св. Франциск и св. Доминик встретились в первый и пос-
ледний раз. Еще оно говорит (и это вполне возможно), что
здравого и властного испанца поразила благочестивая безот-
ветственность итальянца, собравшего такое множество лю-
дей, не позаботившись о штабе. Доминик, как почти все ис-
панцы, был прирожденным воином. Его любовь к людям
выражалась в предусмотрительности, в заботе. Вероятно, он
просто не мог понять, как влияет на людей самая личность
Франциска. Вся округа собралась там, чтобы обеспечить
питьем и пищей благочестивый пикник. Крестьяне тащили
им бочки вина и груды дичи; вельможи прислуживали им,
как лакеи. Это был истинный триумф беззаботной веры не
только в Бога, но и в человека. Отношения Франциска и
Доминика в достаточной мере сложны, их много обсуждали,
во многом сомневались, а историю «Собора соломенных хи-
жин» мы знаем со слов францисканцев. Но сказать о нем
стоит именно потому, что перед тем, как выйти в свой бес-
кровный поход, св. Франциск, быть может, встретил св. До-
миника, которого сурово осуждают за поход не столь бес-
кровный. В такой маленькой книге не объяснишь, что в
82
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
крайности св. Франциск не хуже св. Доминика защищал бы
христианское единство силой. Понадобилась бы очень боль-
шая книга, чтобы объяснить одно это. Дело в том, что со-
временные люди ничего не разумеют в терпимости, и рядо-
вой агностик новых времен и впрямь не ведает, что понимает
он сам под свободой совести и равенством всех религий. Он
принял как данность свою этику и навязывал силой что-ни-
будь вроде благопристойности, а потом ужаснулся и рассер-
дился, что кто-то другой —- христианин ли, мусульманин —
верит в свою этику и навязывает силой что-нибудь вроде
благочестия. Напоследок же он взглянул на кособокий лаби-
ринт без выхода, в котором подсознательное сталкивается с
неведомым, и назвал все это свободомыслием, терпимостью,
широтой. Средневековые люди считали, что если общество
стоит на какой-то идее, оно должно за нее бороться, будь
она проста, как ислам, или тщательно уравновешена, как
христианство. Современные люди думают так же, и обнару-
живается это, когда коммунисты нападают на идею соб-
ственности, только мысли их не очень четки, ибо они не до-
думали до конца, что же такое собственность. Вероятно,
Франциск нехотя признал бы вместе с Домиником, что в
самой крайности можно сражаться за истину; но Доминик
уж точно соглашался с Франциском, что много лучше убеж-
дать и обращать. Доминик гораздо больше проповедовал, чем
преследовал, но, конечно, действовали они по-разному, пото-
му что были разными людьми. Во всем, что делал св. Фран-
циск, есть что-то детское, даже своевольное. Он начинал
свои дела с места, сразу, словно только что их придумал, и
отправлялся за море, как убегает из дому мальчик, чтобы
стать моряком.
Начал он с того, что стал святым покровителем зайцев77.
Ему и в голову не пришло подождать, пока хоть как-то по-
могут те богатые и влиятельные люди, которые уже помога-
ли ордену. Он увидел корабль и бросился туда, как бросился
бы куда угодно. Из-за этой спешки так и кажется, что он
всю жизнь бежал, всю жизнь спасался в самом прямом, не
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
83
богословском смысле. С попутчиком, которого он прихватил
по дороге, он пристроился среди груза; но плаванье оказа-
лось неудачным, и пришлось вернуться в Италию. Видимо,
после этой попытки он собрал орден в Порциункуле, а потом
пытался отразить угрозу ислама, проповедуя маврам в Ис-
пании. Именно там первым францисканцам удалось стать
мучениками. Но великий Франциск тщетно простирал руки
к страданиям. Никто не сказал бы с таким пылом, что он
дальше от Христа, чем те, другие, которые уже обрели Гол-
гофу. Он хранил в душе, словно тайну, необычнейшую из
всех печалей, и тосковал по мученической смерти.
Следующее путешествие было удачней, во всяком слу-
чае, он прибыл на место, в штаб-квартиру крестового похо-
да, к осажденной Дамиетте, и быстро, как всегда, поспешил
разыскать штаб-квартиру неверных. Ему удалось погово-
рить с султаном, и тогда, вероятно, он предложил, а может,
и претерпел испытание огнем, подбивая мусульманских учи-
телей веры сделать то же самое. Если это и неправда, нет
сомнений, что он мог так поступить. Во всяком случае, бро-
ситься в огонь — не отчаянней, чем ринуться в самую гущу
фанатиков, оснащенных орудиями пытки, и просить их от-
речься от Магомета. По преданию, магометанские муфтии
отнеслись холодно к его вызову, а один даже скрылся, пока
это обсуждали, что весьма вероятно. Как бы то ни было,
Франциск вернулся таким же свободным, как пришел. Быть
может, он и впрямь понравился султану; летописец намекает
даже на тайное обращение. Может быть, среди полудиких
восточных людей его ограждало то сияние святости, которое,
как говорят, окружает в таких местах идиота. Может быть,
тут сыграло роль то вельможное, хотя и своевольное веже-
ство, которым, при всех своих пороках, нередко отличались
султаны, перенявшие нрав и традицию Саладина. Может
быть, наконец, повесть о св. Франциске подобна смешной
трагедии или просто комедии под названием «Человек, кото-
рый не мог стать убитым». Люди слишком любили его, что-
бы убить его за веру; люди принимали его, не принимая его
84
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
вести. Но все это — лишь догадки, и нам не дано судить о
великом замысле, ибо мост, который мог бы соединить Вос-
ток и Запад, рухнул сразу, оставшись навсегда одной из не-
сбывшихся возможностей истории.
Тем временем великое движение шло по Италии огром-
ными шагами. Опираясь на власть папы и на любовь народа,
сдружив сословия, францисканцы подняли мятеж, чтобы пе-
ревернуть все, что только было в церковной и в обществен-
ной жизни. Прежде всего они начали строить, как случается
всякий раз, когда Европа возрождается заново. В Болонье
они построили великолепную миссию и сами не меньше сво-
их поклонников восхваляли ее на все лады. Единству этому
помешали. Только один из всех толп гневно обличил здание,
словно то была Вавилонская башня, и возмущенно спросил,
с каких это пор Госпожу Бедность оскорбляют роскошью
чертогов. Это Франциск вернулся в лохмотьях из своего кре-
стового похода и в первый и последний раз повысил голос на
своих детей.
Так еще одна тень омрачила его душу и в определенном
смысле помогла подготовить следующую ступень пути, са-
мую одинокую и таинственную. То, о чем я расскажу сейчас,
окутано туманом сомнений, даже дата; некоторые летопис-
цы относят это к гораздо более ранней поре. Но когда бы это
ни случилось, именно здесь его жизнь достигла вершины, и
лучше всего указать на это сейчас. Я говорю «указать», по-
тому что вряд ли можно сделать больше; тут все тайна — ив
высшем, духовном, и в простом, историческом смысле. При-
мерно было так: св. Франциск с молодым братцем зашли по
пути в праздничный замок, где ждали сына, посвященного в
рыцари. В это обиталище вельмож они, как обычно, вошли
невзначай и стали проповедовать благую весть. Наверное,
кто-нибудь да слушал святого «как ангела Господня»; во вся-
ком случае, так слушал дворянин по имени Орландо ди Кью-
зи. У него были земли в Тоскане, и он выразил почтенье к
Франциску небывалым, живописным образом. Он подарил
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
85
ему гору, а гор, должно быть, еще не дарили в нашем мире.
Францисканские правила запрещали принимать деньги, но
ничего не говорили о горах. Кроме того, св. Франциск при-
нял ее как бы на время, условно, — он все принимал так; но
ушел туда скорее отшельником, чем монахом. Вернее, он ухо-
дил туда, чтобы молиться и поститься, и не брал даже ближай-
ших друзей. То была гора Альверно в Апеннинах, и на вер-
шине ее осталось навсегда темное облако, окруженное сия-
нием славы.
Никто никогда но узнает, что именно там случилось. И са-
мые духовные, и самые обычные исследователи святой жиз-
ни много спорили об этом. Может быть, св. Франциск нико-
му ничего не сказал; во всяком случае, если он и говорил, то
очень мало. По-видимому, он лишь однажды обронил не-
сколько слов, и слышал их лишь один из братьев. Как бы ни
мучили меня благоговейные сомнения, признаюсь, что этот
единственный намек для меня исключительно реален; есть
вещи, которые реальнее, чем повседневная реальность. Об-
раз многозначен, он странен, но мы ощущаем за ним что-то
поражающее чувства, как поражают их многоочитые твари
Откровения. Франциск увидел в небе, над собой, огромное
крылатое существо, вроде серафима, распростертое крестом.
Осталось тайной, было ли оно распято, или только раскину-
лось по небу, или держало огромный крест. Но все же ясно,
что могло оно быть и распятым, ибо, по слову св. Бонавенту-
ры, св. Франциск удивился, что серафима можно распять —
ведь эти таинственные, древние ангелы избавлены от немо-
щи Страстей. По предположению св. Бонавентуры, стран-
ность эта означала, что св. Франциск будет распят как дух, а
не как человек; но что бы это ни значило, самое видение уди-
вительно, поразительно живо. Над Франциском заполонила
небо невообразимая сила, древняя, как Ветхий днями; сила,
которую здравые люди воображали крылатым быком или
Дивным чудищем, — и она страдала, словно подбитая пти-
ца. По преданию, мука серафима пронзила душу Франциска
86
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
мечом жалости, и он забылся в экстазе, близком к агонии.
Потом видение исчезло, агония кончилась, тишина и чистый
утренний воздух мягко устлали лиловые расщелины гор.
Одинокий Франциск уронил голову и обрел покой, который
приходит, когда что-то свершились, завершилось; и, посмот-
рев вниз, увидел следы гвоздей на своих ладонях.
Глава IX
ЧУДЕСА И СМЕРТЬ
Поразительная повесть о стигматах, завершившая пре-
дыдущую главу, завершила и жизнь св. Франциска. Соб-
ственно, это было бы концом, даже если бы случилось вна-
чале; но самое достоверное преданье относит это к поздней
поре и говорит, что оставшиеся земные дни были подобны
призрачной жизни теней. Может быть, прав св. Бонавенту-
ра, и св. Франциск увидел в огромном зеркале свою душу,
способную страдать если не как Бог, то как ангел. Может
быть, видение выражало — проще и величественней, чем
привычное христианское искусство, — непостижимую смерть
Бога. Во всяком случае, оно увенчало и запечатлело печатью
жизнь св. Франциска. Кажется, именно после этого видения
он начал слепнуть.
Для нашего поверхностного очерка видение это важно и
по другой, не столь духовной причине. Оно дает нам повод
поговорить о множестве особых случаев, если хотите, сказок
из жизни св. Франциска. Не назову их более спорными, чем
все остальное; но спорили о них больше. Я имею в виду бес-
численные свидетельства и предания об его чудотворной силе
и мистическом опыте. Нетрудно разукрасить ими, как алма-
зами, каждую страницу; но, учитывая цель этой книги, я пред-
почел, хотя бы наспех, собрать алмазы в кучу.
Поступил я так из уважения к предрассудку. Конечно,
этот предрассудок уже отходит в прошлое, исчезает под на-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
87
тиском просвещения, особенно же под натиском научных
фактов. Однако те, кто постарше, упорно держатся за него,
да и молодые нередко следуют традиции. Как вы уже дога-
дались, я говорю о знаменитом «Чудес не бывает!». Кажет-
ся, сказал это Мэтью Арнолд, прекрасно выразив веру на-
ших викторианских дядюшек и дедов. Другими словами, я
имею в виду наивный и поверхностный скепсис, возникший
в начале XVIII века, когда несколько философов довели до
всеобщего сведения, что они разобрались в мироздании как
в часах, механизм оказался очень простым, и теперь ясно с
первого взгляда, что может случиться, а что нет78. Кстати,
не надо забывать, что скептики эти, дети Золотого века скеп-
тицизма, сомневались в первых сенсациях науки не меньше,
чем в косных легендах веры. Когда Вольтеру сказали, что
высоко в Альпах нашли рыбьи кости, он расхохотался и пред-
положил, что их оставил постящийся отшельник или монах
(видимо, из монашеского коварства).
Теперь всякий знает, как наука отомстила скептикам.
Граница вероятного снова не менее туманна, чем во мгле
Средневековья; хуже того: вероятного все больше, неверо-
ятного все меньше. Во времена Вольтера люди гадали, какое
чудо им удастся разоблачить следующим. В наши дни мы
гадаем, какое чудо придется проглотить.
Но задолго до наших дней, во времена моей юности, ког-
да образ св. Франциска забрезжил передо мной и даже из-
дали поразил меня, в ту викторианскую эпоху, когда добрые
дела святого совершенно серьезно отделяли от его чудес, я
не совсем понимал, как это делается. Я не понимал и сейчас
не понимаю, что именно дает возможность уверенно делить
на части столь единые с виду летописи. Все, что мы знаем об
истории, в частности о Средних веках, мы узнали из хроник,
связных записей, составленных иногда безвестными, всегда
уже умершими ныне людьми, которых нельзя подвергнуть
перекрестному допросу. Я не сетую на то, что историки во
многом сомневаются. Но почему бы им не пойти дальше? Ну
хорошо, пусть они правы, и все эти сказки никто не включил
88
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
бы в летопись, кроме безумца или лжеца; но следует отсюда
лишь то, что хроники написаны лжецами и безумцами. На-
пример, историки пишут: «Монахи-фанатики считали воз-
можным оповещать людей о чудесах, творящихся у могилы
Фомы Беккета»79. Почему бы им не сказать: «Монахи-фа-
натики дошли до того, что приписали убийство в соборе че-
тырем рыцарям короля Генриха»? Они пишут: «Легковер-
ные люди той эпохи верили, что Жанна д’Арк посредством
чуда узнала переодетого дофина». Почему бы не написать:
«Легковерные люди той эпохи поверили, что безвестную
крестьянку пустили ко двору дофина»? Так и здесь. Нам
говорят, что св. Франциск не мог выйти невредимым из огня.
Почему же мы должны верить, что он вышел невредимым
из рук фанатичных мусульман? Я ничего не доказываю, я про-
сто спрашиваю. Совершенно все, что мы знаем о св. Фран-
циске, поведали нам люди, которые свято верили в чудеса.
Может быть, это монашеские сказки, и вообще не было на
свете ни Франциска, ни Беккета, ни Жанны. Я довожу сей-
час все до абсурда; но я свожу к нелепости мысль о нелепос-
ти чудес.
Да и чисто логически такой метод привел бы к дичай-
шим нелепостям. Ту или иную историю можно назвать не-
вероятной лишь в том случае, если автору нельзя верить; но
никак не тогда, когда другие ее части вполне правдоподоб-
ны. Пусть кто-нибудь скажет, что видел человека в желто-
ватых брюках, который прыгнул сам себе в глотку, и мы не
станем клясться на Писании, что брюки были желтоватыми.
Пусть скажут, что на голубом воздушном шаре долетели до
Луны, и мы не дадим слова, что шар был именно голубым.
Если вы сомневаетесь в рассказах о чудесах св. Франциска,
логически правильно усомниться и в его существовании.
И впрямь, недавно безумный скепсис дошел до того, что
усомнились в существовании св. Патрикия80, что и с исто-
рической, и с человеческой точки зрения ничуть не разум-
ней. Было время, когда все сводили к мифу, растворяя доб-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
89
рую часть истории в жарких лучах мифа о Солнце. Кажет-
ся, это солнце закатилось, но место его заняли бесчисленные
луны и метеоры.
Из св. Франциска можно сделать прекрасный солнеч-
ный миф. Кем же ему быть еще, если он теперь известен
прежде всего стихами, обращенными к Солнцу? Незачем и
говорить, что костер в Сирии — это восход, а кровавые раны
в Тоскане — закат. Я мог бы и дальше развивать мою тео-
рию; но, как всегда бывает в таких случаях, другая, ничуть
не хуже, приходит мне на ум. Не могу понять, как до сих пор
не догадались, что легенда о св. Франциске чисто тотеми-
ческая. Она просто кишит тотемами. Леса, где бродили брат-
цы, кишат ими, как индейская сказка. Считается, что Фран-
циск называл себя ослом, но истина в том, что прежде имя
«Франциск» давали настоящим, четвероногим ослам, пре-
вратившимся позже в героя или полубога. Вот почему Брат
Волк и Сестра Лиса напомнили мне Братца Волка и Братца
Лиса! Говорят, в невинную пору детства мы действительно
верим, что корова беседует, а лисица может сделать смоля-
ное чучелко. Так это или не так, существует пора невиннос-
ти, дозволяющая поверить, что св. Патрикий — солнечный
миф, а св. Франциск — тотем. Но для многих из нас эти
райские радости утеряны.
Скоро я скажу, что только в одном смысле мы можем для
удобства различать невозможное от возможного в такой по-
вести. Дело тут не в законах природы, а в законах рассказа:
одно рассказывают серьезней, чем другое. Но даже так я
ничего различать не буду из вполне практических соображе-
ний — ведь все сызнова пошло в переплавку, и многое вый-
дет из нее в таком виде, который рационалисты назвали бы
чудовищным. Конечно, главные, самые важные вещи в ре-
лигии и философии все те же. Человек верит или не верит,
что огонь может кого-то не сжечь, в зависимости от того, как
объясняет он себе само явление. Если огонь сжег девять пру-
тьев из десяти, потому что такова его природа, он сожжет и
90
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
десятый. Если огонь сжег девять прутьев, потому что такова
Божья воля, Бог может захотеть, чтобы десятый прут не сго-
рел. Никому не переступить этого различия, и для верующе-
го так же логично верить в чудеса, как для неверующего не
верить. Словом, есть только один разумный довод против
веры в чудеса — вера в материализм. Но главные, твердые
истины веры и науки — предмет ученого труда, здесь им не
место.
Я пишу историю или биографию, а тут ничего твердого
нет. Мир запутался в том, что возможно, что невозможно, и
никто не знает, какая научная гипотеза поддержит устарелое
суеверие. Три четверти чудес, приписываемых св. Францис-
ку, легко и просто объяснил бы любой психолог — не так,
как объясняет их христианин, но так, как не стал бы объяс-
нять материалист. Среди них, например, много чудесных ис-
целений. Стоит ли скептику высокомерно отмахиваться от
них, если лечение верой стало в Америке крупным бизнесом
вроде цирка? Есть и другие чудеса, когда Франциск, подоб-
но Христу, читал чужие мысли. Стоит ли обличать их только
потому, что на них наклеен ярлык «Чудо», если чтение мыс-
лей стало у нас салонной игрой? Я не верю, конечно, что эти
трюки хоть чем-нибудь похожи на добрые дела святых, раз-
ве что в смысле «Diabolus simia Dei»*. Но дело не в том, во
что верю я, а в том, во что и почему не верят скептики. Прак-
тичный биограф или историк может решить, что лучше он
подождет и, пока все не улеглось, не будет устанавливать
окончательно, чему нельзя верить.
Приняв такое решение, он волен выбрать один из двух
путей, и не без колебаний выбрал его я. Достойней и смелее
рассказать все подряд, как делали первые летописцы. Веро-
ятно, историки еще вернутся на этот здравый и чистый путь.
Но помните, что моя книга только знакомит со св. Францис-
ком, а те, кого надо знакомить, — чужие. Я хочу, чтобы к
* Дьявол — обезьяна Бога (лат.)
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ 9/
св. Франциску хотя бы прислушались, а для этой цели впол-
не законно так расположить факты, чтобы знакомое шло пе-
ред незнакомым, понятное перед непонятным. Было бы слиш-
ком хорошо, если бы в моем поверхностном очерке нашлась
строка-другая, побуждающая читать о святом Франциске;
те же, кто станет о нем читать, скоро обнаружат, что сверхъе-
стественное в его жизни столь же естественно, как и все про-
чее. Однако я хотел, чтобы очерк этот касался лишь челове-
ческих его свойств, ибо говорю я только о том, к чему он
призывал всех людей, в том числе скептиков. Потому я и
выбрал второй путь — решил показать сначала, что всякий,
кроме врожденных дураков, увидит в св. Франциске Ассиз-
ском реальное, историческое лицо; а уж потом поведать вкрат-
це о сверхъестественной силе, ему присущей. Остается при-
бавить несколько слов, чтобы любой человек, любых взгля-
дов, сумел отличить суть и смысл жития от вымыслов или
слухов.
О св. Франциске Ассизском ходит столько легенд и ска-
заний, и почти все они вошли в столько прекраснейших
сборников, что мне пришлось ограничить себя, идти по од-
ной тропе, разъясняя, и только вставлять то там, то тут ка-
кую-нибудь историю, как картинку к разъяснениям. В осо-
бенности относится это к легендам о чудесах. Если мы при-
мем все, что написано, мы не без изумления подумаем, что
сверхъестественных событий в жизни святого было больше,
чем естественных. Католической традиции, столь часто со-
впадающей со здравым смыслом, противоречит мысль о том,
что именно так бывает в человеческой жизни. Даже если
считать эти истории сверхъестественными или чудесными,
мы ощутим, что они разные не потому, что мы видели много
чудес, а потому, что много читали. Некоторые из них похо-
жи на сказки не столько по содержанию, сколько по форме.
Вероятно, это и есть сказки, которые крестьяне рассказыва-
ли детям у огня, не излагая учение, которое можно принять
или оспорить, а просто соскальзывая на проторенную дорогу
92
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
сказочного сюжета. Другие больше похожи на свидетель-
ство, и надо решать, ложь это или правда; но всякому, зна-
ющему человеческую природу, очень трудно поверить, что
это ложь.
Принято считать, что история о стигматах не легенда, а
ложь; не посмертное добавление к славе св. Франциска, а
прямой обман, выдумка современников. Тогда приходится
предположить заговор; многие и пытались все свалить на
несчастного Илию81, которого не одной партии было удобно
выставить подлецом. Обычно рассуждают так: первые био-
графы — св. Бонавентура, Фома из Челано, три Братца —
пишут, что у св. Франциска открылись раны, но не пишут,
что сами их видели. Этот довод меня не убеждает. Никто из
биографов не давал свидетельских показаний. Они писали
хронику, перечисляли события. Они говорят: «Раны откры-
лись», а не: «Я видел, как открылись раны», но точно так же
они говорят: «Св. Франциск отправился в Порциункулу», а
не: «Я видел, как св. Франциск отправился в Порциунку-
лу». И я снова не понимаю, почему надо верить их свиде-
тельству в одном случае и нельзя ему верить в другом. Здесь
все едино; странно и неуместно было бы, если бы летописцы
принялись клясться, что видели сами и проверяли то или иное
чудо. Мне кажется, спор возвращает нас к тому, о чем мы
говорили. Конечно, можно сказать, что вы — материалист и
в чудеса не верите. Это вполне логично; но тогда вы обязаны
отрицать чудеса, если о них пишет современный ученый, как
отрицали их у средневекового монаха. Немало найдется уче-
ных, которых вам придется отвергнуть.
Что бы мы ни думали о сверхъестественном в простом,
почти сказочном смысле слова, мы не поймем св. Францис-
ка, особенно после Альверно, если не поймем, что он жил
сверхъестественной жизнью. Чем ближе он подходил к смер-
ти, тем больше сверхъестественного с ним случалось. Оно не
отделяло его от естественного — вся суть его особенной жиз-
ни в том, что он еще совершенней с естественным соединял-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
93
ся. Он не становился чужим и отрешенным, ибо вся суть его
мистики в том, что он становился радостней и человечней.
Но суть его жизни и суть его мистики в том, что сила, кото-
рая им двигала, была не от мира сего. Если это не ясно из
всей его жизни, то, может быть, станет ясно из рассказа об
его смерти.
Мы вправе сказать, что он странствовал при смерти, как
странствовал при жизни. Чем яснее становилось, что ему
плохо, тем больше носило его с места на место, словно он воз-
вещал о своей болезни, а может, о смерти. Он побывал в Ри-
ети, в Нурсии, наверное, в Неаполе, несомненно — в Кор-
тоне, у озера82. Особенно трогательно и далеко не просто,
что пламя его жизни взметнулось ввысь и сердце возвесели-
лось, когда он увидел вдали на холмах Ассизи строгие стол-
пы Порциункулы. Его, оставившего дом ради виденья, от-
ринувшего всякий приют и собственность, его, чьим заветом
и чьей славой была бездомность, поразила парфянская стре-
ла человеческой природы, тоска по дому пронзила его. Он
тоже тосковал по родной колокольне, только его колокольня
гораздо выше, чем наша. «Никогда, — вскричал он с той
внезапной силой, которую обретают при смерти сильные
духом, — никогда не предавайте этих мест! Куда бы вы ни
шли, где бы ни бродили, всегда возвращайтесь домой, ибо
здесь — священный дом Божий!». Шествие прошло под
арками дома, он лег, и братья окружили его для последнего,
долгого бдения. Не стоит обсуждать, как часто делают, кого
из преемников он благословил, как именно, с каким значени-
ем. В ту великую минуту он благословил нас всех.
Он попрощался с самыми близкими и самыми старыми
своими друзьями и попросил, чтобы его сняли с жесткого ложа
И положили на пол. По преданию, он был в одной власянице,
как тогда, когда ушел от отца в пронизанный ветром лес. Так
он утверждал окончательно свою великую навязчивую
идею — хвала и слава вздымались к небу из нищеты, из ни-
чего. Он лежал, и его слепые глаза видели только Того, Кто
94
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
создал их и приковал навеки. Мы можем твердо верить, что
в последнем, непостижимом одиночестве он видел лицом к
лицу само Воплощенное Слово, Христа распятого. Но у тех,
кто стоял вокруг него, наверное, были и другие мысли; много
воспоминаний толпилось в полумраке, в сумраке того дня, в
который мы потеряли друга.
Там лежал и умирал не Доминик, глава псов Божиих,
вождь богословских битв, которые можно изложить по пунк-
там и передать ученикам; не тот, кто завел часы простой,
демократической дисциплины, которую можно воссоздать.
Из мира уходила неповторимая личность, уходил поэт. Ник-
то с тех пор не смотрел на мир так, как смотрел он. Его
нельзя ни заменить, ни повторить. Кто-то сказал, что на
свете был только один христианин, и Его распяли. Правиль-
ней было бы сказать, что на свете был один францисканец, и
звали его Франциском. Он оставил по себе великое и радо-
стное дело, но одного оставить он не мог, как не может ху-
дожник оставить свои глаза. Он творил свою жизнь, творил
и смерть, и с большим правом, чем Нерон, его антипод, ска-
зал бы: «Какой артист погибает!» Нерон всю жизнь позиро-
вал как актер; Франциск двигался по свету с естественной
грацией канатоходца. Но св. Франциск не опустился бы до
таких слов, даже мыслей, мысли его вознеслись высоко, и
нам не последовать за ним на те высоты, куда поднимает
только смерть.
Вокруг него стояли братцы в бурых одеждах, и они лю-
били его, хотя потом и спорили между собой. Бернард, его
первый друг, и Ангел, его помощник, и Илия, его преемник,
которого предание пыталось приравнять к Иуде, хотя он,
наверное, был не хуже чиновника, занявшего чужое место.
Беда его в том, что под францисканской одеждой билось не
францисканское сердце, или францисканский капюшон по-
крывал не францисканскую голову. Он не был хорошим фран-
цисканцем, но мог бы стать хорошим доминиканцем. Фран-
циска он, во всяком случае, любил; даже последние негодяи
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
95
любили Франциска. Как бы то ни было, он стоял с другими,
а часы уходили, и удлинялись тени в доме Порциункулы. Не
надо думать о нем плохо, не надо подозревать, что он уже
лелеял в мыслях будущие разлады, ссоры и самолюбивые
распри осиротевших братцев.
Наверное, птицы узнали, когда это случилось, и всполо-
шились на вечернем небе. Когда-то, повинуясь знаку, они
полетели на четыре стороны света и образовали крест; сей-
час таким же пунктиром они могли бы начертить на небе зна-
ки новых пророчеств. В лесу притаились маленькие твари,
которых никто с той поры не сумел так пожалеть и понять.
Говорят, животные чувствуют то, чего не чувствуем мы, их
духовные владыки; и я не знаю, встревожились ли воры, из-
гои и преступники, догадались ли они, что случилось с тем,
кто не умел презирать.
Но в переходах и портиках Порциункулы все застыло, и
люди в бурых одеждах обратились в бронзовые изваяния,
ибо остановилось сердце, которое не могло разбиться, пока
держало мир.
Глава X
ЗАВЕТ СВ. ФРАНЦИСКА
Конечно, хотя бы в одном смысле есть грустная ирония в
том, что св. Франциск, который всю свою жизнь хотел со-
гласия, умер среди растущих неладов. Но не надо, подобно
многим, преувеличивать эти разногласия и говорить о кру-
шении его идеалов. Не надо думать, что дело его рухнуло
под тяжестью порочного мира или, как теперь считают, еще
более порочной церкви.
Я пишу о св. Франциске, а не о францисканском ордене,
тем более не о католической церкви, и не о папстве, и не о
том, как отнеслись церковь и папа к крайним францискан-
96
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
цам. Поэтому я очень кратко расскажу о разладе, который
последовал за смертью великого святого и омрачил его пос-
ледние дни.
Речь шла в основном об обете бедности, об отказе от
собственности. Насколько я знаю, никто не спорил с тем,
что у францисканца не должно быть личной собственности.
Наоборот, некоторые францисканцы, взывая к авторитету
Франциска, шли дальше, чем он, и, наверное, дальше кого
бы то ни было. Они предлагали уничтожить не только лич-
ную собственность, но и собственность вообще. Они отказы-
вались владеть сообща орудиями, зданиями или запасами;
отказывались владеть даже тем, чем уже владели. Без вся-
кого сомнения, многие, особенно вначале, были бескорыстно
и глубоко преданы делу святого. Но нет сомнения в том, что
папа и Церковь не сочли их планы разумными и выполни-
мыми, и возразили им, хотя ради этого пришлось поступить-
ся кое-чем из завещания. Совсем нелегко доказать, что мо-
нахи распорядились имуществом правильно или распоряди-
лись вообще, ибо они отказались чем бы то ни было распо-
ряжаться. Всякий знал, что францисканцы — коммунисты,
но эти были скорее анархистами. Многие идеалисты социа-
листического толка, особенно последователи Шоу или Уэл-
лса, представляют этот разлад как насилие могущественных
и злых церковников над истинным, то есть социалистиче-
ским христианством. В действительности же крайний идеал
был прямо противоположен социализму и всякой социально-
сти. Сторонники крайности отрицали именно то совместное
владение, на котором стоит социализм; они отказались от
того, ради чего социалисты существуют. Неверно также, что
папы обращались с крайними францисканцами грубо и
враждебно. Папа очень долгое время придерживался комп-
ромисса — он как бы взял в залог, под опеку, ту собствен-
ность, от которой они отказались. Случай этот напоминает
нам о двух вещах, очень обычных в истории католичества, но
непонятных поверхностным историкам нашей индустриаль-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
97
ной цивилизации. Нередко святые были великими людьми, а
папы — самыми посредственными. Но великие люди часто
бывают не правы, а посредственные — правы. В конце кон-
цов, всякому честному и объективному человеку трудно от-
рицать, что папа был прав, когда он настаивал на том, что
мир создан не только для францисканцев.
В этом и была суть разлада. За частным вопросом скры-
вался другой, гораздо более глубокий, и мы ощущаем его,
читая о спорах. Изложим истину хотя бы так: св. Франциск
был настолько велик и необычен, что мог бы основать новую
религию. Многие его последователи были в той или иной мере
готовы счесть его именно основателем религии. Они хотели,
чтобы францисканский дух вырвался из христианства, как
христианский дух вырвался из Израиля; чтобы он затмил
христианство, как оно затмило Израиль. Св. Франциск —
блуждающий огонь на дорогах Италии — должен был раз-
жечь пожар, в котором сгорела бы христианская цивилиза-
ция. Это и озаботило папу. Он решал, христианству ли впи-
тать Франциска или Франциску — христианство, и решил
правильно, ибо Церковь могла включить все, что есть во
францисканстве хорошего, но францисканцы не могли вклю-
чить все, что есть хорошего в Церкви.
Всякий, кто не видит, что католический здравый смысл
шире, чем францисканский пыл, не понимает очень важной
вещи, связанной с лучшими свойствами того, кем они по
праву восхищаются. Франциск Ассизский, как мы говорили
много раз, был поэтом; а значит это, что он был из тех, кто
выражает себя. У таких людей самые их недостатки идут им
на пользу. Поэт обязан своей неповторимостью и тому, что
в нем есть, и тому, чего в нем нет. Но в рамку, окаймляю-
щую портрет человека, нельзя втиснуть все человечество.
В св. Франциске, как и во всех гениях, даже отрицатель-
ное — положительно, ибо это часть их личности. Прекрас-
ный тому пример — его отношение к учености и науке. Он
мало знал и, в сущности, отрицал книги и книжность. Со
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
98
своей точки зрения, с точки зрения своего дела, он был со-
вершенно прав. Он хотел быть таким простым, чтобы дере-
венский дурачок его понял, — в этом суть его вести. Он
взглянул впервые на мир, который мог быть создан только
что, утром, — в этом суть его видения. Кроме дней творе-
ния, рая, Рождества и Воскресения, у мира не было исто-
рии. Но так ли уж хорошо, так ли необходимо, чтобы исто-
рии не было у Церкви?
Наверное я прежде всего хотел показать, что св. Фран-
циск ходил по миру, как Божье прощение. Он пришел — и
человек получил право примириться не только с Богом, но и
с природой и, что еще труднее, с самим собой, ибо приход
его означал, что ушло застоявшееся язычество, отравившее
античность. Он открыл ворота Темных веков, как ворота
тюрьмы или чистилища, где люди очищали себя покаянием
в пустыне или подвигами в бою. Он передал им, что они
могут начать с начала, то есть разрешил им забыть. Люди
могли открыть новую, чистую страницу и вывести на ней
большие первые буквы, простые и яркие, как буквицы сред-
невековой рукописи; но для такой детской радости было
нужно, чтобы они перевернули страницу, запятнанную кро-
вью и грязью. Я уже говорил, что в стихах первого итальян-
ского поэта нет ни следа языческой мифологии, которая на-
долго пережила язычество. Быть может, он, единственный в
мире не слышал о Вергилии. В сущности, так оно и должно
быть, ведь он был первым итальянским поэтом. Он и дол-
жен называть соловья соловьем, ибо песнь его не запятнана
ужасными преданиями об Итисе и Прокне83. Да, вполне
правильно и даже хорошо, если св. Франциск не слышал о
Вергилии. Но хотим ли мы на самом деле, чтобы о Верги-
лии не слышал Данте? Хотим ли мы, чтобы Данте не знал
языческой мифологии? Ведь у Данте эти предания и впрямь
служат правоверию; могучие языческие образы, скажем.
Минос или Харон, лишь наводят на мысль о великой есте-
ственной религии, с самого начала, позади всей истории
возвещающей о вере. Хорошо, что в Dies irae есть не толь-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
99
ко Давид, но и Сивилла84. Конечно, св. Франциск сжег бы
все листы Сивиллиных книг ради одного листка с соседнего
дерева. Но мы рады, что у нас есть Dies irae, а не только
Гимн Солнцу.
Св. Франциск пришел в мир, как приходит младенец в
темный дом, снимая с него проклятие. Он растет, ничего не
зная о минувшей беде, и побеждает ее своей невинностью.
Не только невинность необходима ему, но и неведение; он
должен играть в зеленой траве, не догадываясь, что под нею
зарыт убитый, и карабкаться на яблоню, не зная, что кто-то
на ней повесился. Такое прощение и примирение принес миру
свежий ветер францисканского духа. Но это не значит, что
весь мир должен был перенять это неведение. А многие фран-
цисканцы хотели бы, чтобы он перенял. Довольно многие
францисканцы хотели, чтобы францисканская поэзия изгна-
ла прозу бенедиктинцев. Для ребенка из нашей притчи это
вполне естественно. Для ребенка мир должен быть большой
свежевыбеленной детской, на стенах которой он может ри-
совать мелками те неуклюжие, яркие картинки, с которых
началось все наше искусство. Он вправе считать свою дет-
скую самой лучшей комнатой, какая только бывает. Но в Доме
Господнем обителей много85.
Всякая ересь была попыткой сузить Церковь. Если бы
францисканское движение стало новой религией, это была
бы узкая религия. Там, где она превращалась в ересь, это и
была узкая ересь; и делала она то, что всегда делает ересь, —
противопоставляла настроение разуму. Настроение было по-
началу чистым и кротким, как у св. Франциска, но не оно
одно заполняет разум Бога и даже разум человека. Да и само
настроение вырождалось, оно превращалось в безумие. Сек-
танты, названные Fraticelli*, сочли себя единственно верны-
ми сыновьями св. Франциска и отказались от уступок Риму
во имя того, что они именовали истинным замыслом Ассизи.
Очень скоро эти францисканцы стали яростными, как фла-
* Братцы (итал.).
JOO ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
гелланты86. Они создавали новые и новые, все более жесто-
кие запреты — они пришли к отрицанию брака, то есть к
отрицанию человечества. Они объявили войну человечности
во имя самого человечного из святых. В сущности, они по-
гибли не от преследований. Многих из них в конце концов
переубедили, а горсточка упорных уже ничем не походила на
св. Франциска. Беда их в том, что они были мистики, мисти-
ки — и все. Мистики, а не католики; мистики, а не христиа-
не; мистики, а не люди. Они разложились, расточились, ибо
не внимали разуму. А какими бы дикими ни казались нам
действия св. Франциска, он всегда зависел от разума, был
связан с ним невидимой и неразрывной нитью.
Великий святой был здоров; и самый звук этого слова,
как низкий аккорд арфы, возвращает нас к тому, что важнее
его почти безумных чудачеств. Он не был просто эксцентри-
ком, ибо всегда стремился к центру. Он блуждал и кружил
по лесу, но шел он всегда домой. Его смирение не позволяло
ему стать ересиархом; но и человечность его не позволяла
ему впасть в крайность. Одно чувство юмора, которым при-
солены все истории о его чудачествах, уже не дало бы ему
застыть в торжественном самодовольстве сектанта. Он все-
гда был готов признать, что не прав; и его последователи
признали его кое в чем неправым, чтобы доказать, что он
прав. Это они, настоящие последователи, доказали его пра-
воту и, отринув недостатки, разнесли его правду по миру.
Францисканский орден не окаменел и потому не рассыпался
в прах, как те, чей первоначальный замысел рухнул под гру-
зом власти или был подточен изменой. Оплот ордена, его
ствол, принес плоды. Среди верных сынов — Бонавентура,
великий мистик, и Бернардино87, народный проповедник,
вернувший в Италию благочестивые буффонады скомороха
Божия. Среди них — Раймонд Луллий со своим странным
учением и смелыми планами обращения мира, такой же не-
повторимый, как и сам св. Франциск. Среди них — Роджер
Бэкон, первый натуралист, чьи опыты со светом и водой про-
сты и прекрасны той красотою, которая отличает начало ес-
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
101
тественных наук; Бэкон, которого самые упрямые материа-
листы признали отцом науки. Поистине, эти великие люди
совершали для мира великие, полезные и очень разные дела;
но еще они были людьми особенными, хранящими дух осо-
бенного человека, и по смелости их, по их простодушию мы
узнаем в них детей святого Франциска.
Дух св. Франциска, дух благодарности, сохранился в них.
Прежде всего св. Франциск умел дарить, и больше всего он
ценил тот лучший дар, который зовется благодарением. Он
знал, что хвала Богу стоит на самой прочной основе, когда не
стоит ни на чем. Он знал, что лучше всего мы измерим чудо
бытия, когда поймем, что, если бы не удивительная милость,
нас бы просто не было. И эта великая истина, уменьшив-
шись, повторяется в нашем отношении к Франциску. Он
даровал нам то, чего мы никак бы не придумали, он тоже
слишком велик для всего, кроме благодарности. С ним на-
чался рассвет, и мы увидели заново все очертания и все цве-
та. Величайшие люди, создавшие нашу цивилизацию, лишь
его слуги и подражатели. Раньше, чем появился Данте, он
дал Италии поэзию; раньше, чем пришел св. Людовик, встал
на защиту бедных; раньше, чем Джотто написал картины,
сыграл сами сцены. Однажды, когда св. Франциск на свой
простой лад разыгрывал Рождественское действо с волхва-
ми и ангелами в негнущихся ярких одеждах и золотых пари-
ках вместо сияния, произошло поистине францисканское
чудо — он взял на руки деревянного Младенца, и тот ожил.
Конечно, он думал только о вышнем, но можно сказать, что
в эту минуту под его рукой ожило то, что мы зовем театром.
Он любил петь, но его духовная сила не воплотилась ни в
одном из искусств. Он сам был воплощенным духом; духов-
ной сутью, которая вошла в мир раньше, чем мы увидели ее
порождения во плоти; блуждающим огнем, от которого бо-
лее земные люди могли зажечь и свечу, и факел. Он был
Душой средневековой цивилизации, когда у Средневековья
еЩе не было тела. И еще одна, совсем иная духовная волна
идет от него — реформаторский пыл и тех, и наших времен,
102 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
который восходит к словам: «Бог наш — Бог бедных». Его
жалость к людям живет во множестве средневековых зако-
нов, направленных против гордыни и жестокости богатых;
жива она и сейчас во многих из тех, кого не очень точно на-
зывают христианскими социалистами, когда надо бы назвать
католическими демократами. Никто не считает, что — ив
искусствах, и в политике — этого не было бы без него, но
мы не можем подумать об этом, не вспомнив о нем, ибо он
жил и переменил мир.
Каждый, кто понял, как много он дал, но выразит это
неполно и сбивчиво, ощутит хоть в какой-то мере то бесси-
лие, которому обязан св. Франциск половиной своей силы.
Каждый поймет, что он имел в виду, толкуя о благом и нео-
платном долге, и захочет сделать гораздо больше, и увидит,
что ничего не сделал. Он узнает, как трудно выдержать ли-
вень чудес, дарованных ушедшим, когда тебе нечем отпла-
тить, нечего поставить в храме времени и вечности, кроме
огарка, так быстро догоревшего у раки святого.
Вечный человек
© Перевод Н. Трауберг, 1991
Введение
(план этой книги)
Чтобы увидеть свой дом, лучше всего остаться дома; но
если это не удастся, обойдите весь свет и вернитесь домой.
В одной из моих книг1 я поведал о таком путешествии. Те-
перь я хочу написать другую, которая (как все ненаписанные
книги) лучше всего, что я писал до сих пор. Однако мне ка-
жется, что я так и не соберусь за нее приняться, и потому я
воспользуюсь сейчас этим образом. На пологих склонах до-
лин — быть может, тех самых, где выцарапаны древние бе-
лые лошади2, — жил мальчик, которому очень хотелось
найти могилу или статую великана. Однажды он отправился
на поиски, отошел подальше и увидел, что собственный его
огород, сверкающий на солнце, словно яркий, многоцветный
щит, — часть необъятного тела. Он просто жил на груди
великана, и не видел ее, так была она огромна и так близка.
Именно это, по-моему, происходит с каждым, кто думает
сам за себя, и в этом — суть моей книги.
Другими словами, я хочу сказать, что лучше всего уви-
деть христианство изнутри; но если вы не можете, взгляните
на него извне. Популярным хулителям христианства не уда-
ется его так увидеть. Они, в полном смысле слова, топчутся
на ничьей земле и не уверены даже в своих сомнениях. На-
падают они не прямо, а как-то сбоку и бьют не по важным,
106
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
а по случайным нашим свойствам — вспомните столь при-
вычную ныне антиклерикальную болтовню. Они обличают
трусость священника, чью проповедь нельзя прервать, и го-
ворят, что он окопался на кафедре, хотя не считают окопом
редакцию газеты. Ни журналист, ни священник не заслу-
жили обвинения в трусости, но журналисты все же больше
заслужили этот упрек. Священник показывается нам, мы
можем его ударить, когда он вышел из церкви; журналист
нередко скрывает даже свое имя. Нет конца статьям и
письмам о том, что церкви пустуют, но никто не потрудится
зайти и посмотреть, пусты ли они или какие из них пусты.
Антиклерикалы и агностики провозвестили всеобщий мир;
их, а не нас поразила (во всяком случае, должна была пора-
зить) всеобщая война. Если Церковь опозорена войной,
ковчег опозорен потопом. Когда мир сбивается с пути, это
лишь доказывает, что Церковь с пути не сбилась. Она оп-
равдана не тем, что мы безгрешны, а тем, что мы грешны.
Но так уж относятся теперь к церковному преданию — от-
рицают его, и все. Хорошо, когда мальчик живет на земле
своего отца; хорошо, если он отошел подальше и увидел
свой дом. Но нынешние критики — ни там, ни сям. Они
застряли в овраге, откуда не увидишь вершин. Они не могут
стать христианами, не могут и забыть о христианстве. Вся
суть их, все дело — в противлении, потому они так мрачны,
несправедливы, придирчивы. Они томятся в тени веры, но
утеряли ее свет.
Конечно, лучше всего быть так близко от нашего духов-
ного дома, чтобы его любить; но если вы не можете этого,
отойдите от него подальше, иначе вы его возненавидите.
Лучший судья христианству — христианин, но следующий
за ним, скажем, последователь Конфуция. А вот хуже всего
именно тот, кто особенно рад судить, — непросвещенный
христианин, превращающийся в агностика. Его втянуло в
конец распри, начала которой он так и не понял, и он устал
слушать о том, о чем и не слыхал. Он не может судить о
христианстве спокойно, как сторонник Конфуция, или как
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
107
сам бы он судил о конфуцианстве. Он не может волей вооб-
ражения перенести Церковь за тысячи миль, под странные
небеса Востока, и судить о ней беспристрастно, как о пагоде.
Говорят, святому Франциску Ксаверию3 не удалось постро-
ить в тех краях церковь, вознесшуюся выше всех пагод, от-
части потому, что другие миссионеры утверждали, будто он
и его помощники изображают апостолов в виде китайцев. Но
гораздо лучше увидеть в них китайцев, чем безликих идолов
или фигурки в тире, по которым может стрелять пустоголо-
вый горожанин. Лучше увидеть в христианстве чужой, ази-
атский культ, в митре епископа — странный убор бонзы, в
посохе — извившийся змеей жезл, в четках — молитвенное
колесо. Тогда мы хотя бы не разъяримся, как скептики, и не
поглупеем, как они. Их нелюбовь к священству стала атмос-
ферой, необоримой атмосферой враждебности. По сравне-
нию с ней было бы лучше увидеть Церковь на другом конти-
ненте или на другой планете. Было бы мудрее спокойно взи-
рать на бонз, чем раздраженно ворчать на епископов. Лучше
пройти мимо церкви, как мимо пагоды, чем топтаться на по-
роге, не решаясь ни войти и помочь, ни уйти и забыть. Тем,
кому не дает покоя отвращение к моей вере, я искренне сове-
тую увидеть в апостолах китайцев, другими словами, судить
о христианских святых так же справедливо, как о языческих
мудрецах.
Теперь мы подходим к самому главному. Я попытаюсь
показать в этой книге, что если мы увидим Церковь извне,
мы обнаружим, как она похожа на то, что говорят о ней из-
нутри. Когда мальчик отойдет далеко, он убедится, что ве-
ликан очень велик. Когда мы увидим христианскую церковь
под далеким небом, мы убедимся, что это — Церковь Хри-
стова. Словом, как только мы станем беспристрастными, мы
поймем, почему к ней относятся с таким пристрастием. Об
этом стоит поговорить немного подробнее.
Я понял, что повесть о Боге неповторима, — и сразу вслед
за этим понял, что неповторима и повесть о человеке, кото-
рая вела к ней. Христианство поражает, если честно срав-
108
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
нить его с другими религиями; точно так же поражает чело-
век, если сравнить его с природой.
Самые современные ученые изощряются в софизмах, что-
бы смягчить переход от животного к человеку и не менее рез-
кий переход от язычества к христианству. Чем больше мы
узнаем об этих переходах, тем резче и поразительней стано-
вятся они для нас. Ученые же не видят их именно потому, что
пристрастны, потому, что не хотят видеть разницы между
черным и белым. Поддавшись досаде и протесту, они дока-
зывают, что белое — грязновато, а черное — не так черно,
как его малюют. Я отнюдь не хочу сказать, что для протеста
нет причин; я не говорю, что позиция таких ученых непонят-
на и непростительна, я просто говорю, что она далека от на-
учной объективности. Можно сказать, что иконоборец — в
ярости, можно сказать, что он — в праведном гневе, но вряд
ли можно сказать, что он беспристрастен. Только из чистого
лицемерия можно обвинить в беспристрастии абсолютное
большинство поборников эволюции, разоблачителей христи-
анства и авторитетов по сравнительному изучению религий.
Да и как им быть беспристрастными, какое может быть бес-
пристрастие, когда весь мир спорит не на жизнь, а на смерть
о том, великая ли надежда ведет нас, или сбивает с толку
глупое суеверие?
Я не собираюсь быть беспристрастным, но я постараюсь
все же быть беспристрастней, чем они. Я постеснялся бы го-
ворить о далай-ламе тот вздор, который они несут о папе
римском, или ругать Юлиана Отступника4, как они ругают
иезуитов. Ученые не беспристрастны, они не соблюдают даже
своих, ученых правил, особенно же пристрастны они, когда
предпочитают быстрой перемене медленные, постепенные
изменения. Они видят повсюду, как сгущаются сумерки, ибо
верят, что это сумерки богов. Не знаю, но посмею предполо-
жить, что они не видят того дневного света, в котором живут
люди.
Я утверждаю, что на дневном свету совершенно един-
ственны, ни с чем не схожи животное, которое зовется чело-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
109
веком, и Человек, который зовется Христом. Поэтому я раз-
делил книгу на две части — о людях, пока они были язычни-
ками, и о том, как изменились они, когда стали христианами.
И для первой части, и для второй понадобился особый ме-
тод; применять его нелегко, еще труднее — определить и
защитить.
Чтобы стать беспристрастным в здравом, единственно
верном смысле слова, надо увидеть все заново. Мы видим
честно, когда видим впервые. Вот почему, скажу мимохо-
дом, детям совсем нетрудно принять церковные догматы. Но
Церковь, столь успешно помогающая трудиться и бороться,
рассчитана и на взрослых, не только на детей. Для пользы
дела в ней есть и много привычного, есть традиция, даже
рутина. Пока человек честно чувствует ее суть, это вреда не
приносит. Но когда он усомнится в самом главном, необхо-
димо вернуть ему детскую простоту и детское удивление —
тот реализм, ту объективность, которых нет без невинности.
Попытаемся же сделать это, а если не сможем, попытаемся
хотя бы, чтобы он увидел, как дико, как безумно то, что мы
хотим ему показать. Все вправе быть простым и привычным,
если это ведет к любви, но не к пренебрежению! Как бы ни
относиться к тому, о чем мы поведем речь, пренебрегать этим
не стоит. Если вы пренебрегаете, если вы это презираете,
вы — в заблуждении. Чтобы вы увидели все, как оно есть,
надо пробудить самую дикую фантазию.
Это станет понятней, если я сошлюсь на что-нибудь —
нет, на все то, что считают прекрасным или чудесным.
Джордж Уиндем5 рассказывал мне, что он видел, как под-
нимался один из первых аэропланов, и это было чудесно, хотя
и не чудесней коня, который дал человеку сесть на себя вер-
хом. Кто-то сказал, что человек на коне — самое прекрас-
ное зрелище в мире. Пока мы это чувствуем, все в порядке.
Легче и лучше всего чувствовать это, если тебя научили лю-
бить животных. Мальчик, помнящий, как хорошо отец ез-
дил на коне и как хорошо с конем обходился, знает, что конь
и человек могут ладить. Он возмутится, когда обидят лошадь,
110 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ибо знает, как надо с ней обращаться; но не удивится, что
человек седлает ее. Он не станет слушать современных фи-
лософов, которые скажут ему, что лошадь должна бы сед-
лать человека; не поддастся безрадостному вымыслу Свиф-
та и не поверит, что люди — это мерзкие обезьяны, а лоша-
ди — светлые боги. Конь и человек вместе добры и мудры
для него, и потому могут стать символом чего-то высшего,
скажем святого Георгия. Сказка о крылатом коне его не уди-
вит; и он поймет, почему у Ариосто христианские рыцари
скачут по небесам.
Но если человек утратил удивление, его надо лечить, и
совсем иначе. Предположим, что всадник на коне значит для
него не больше, чем человек, сидящий на стуле. Красота,
которую видел Уиндем, — красота конной статуи, красота
рыцаря — стала для него обыденной и скучной. Он думает,
что она была только модой, а теперь из моды вышла; а мо-
жет, он просто устал от фальшивых ее восхвалений или от
тяжкого ухода за лошадьми. Что бы ни было причиной, он
ослеп и не увидит ни коня, ни всадника, пока они не пока-
жутся ему совершенно незнакомыми, как если бы они яви-
лись с другой планеты.
Тогда из темного леса, на заре времен, к нам неуклюже
и легко выйдет удивительнейшее создание, и мы увидим
впервые непомерно маленькую голову на слишком длинной,
слишком толстой шее, словно химера на трубе, и гриву, по-
добную бороде, выросшей не там где надо, и крепкие ноги с
цельным, а не с раздвоенным копытом. Существо это мож-
но назвать чудищем, ибо таких на свете больше нет, но
главное здесь — в ином: если мы увидим его, как видели
первые люди, мы лучше поймем, как трудно им было его
объездить. Пусть оно не понравится нам, но поразит —
непременно; поразит и двуногий карлик, покоривший его.
Длинным кружным путем мы вернемся к чуду о коне и че-
ловеке, и оно, если то возможно, станет еще чудесней. Мы
увидим святого Георгия, который еще отважней, ибо скачет
на драконе.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
111
Это просто пример, я не хочу сказать, что чудище пер-
вых людей реальней или лучше обычной кобылы в обычном
стойле обычного человека, который не видит в ней ничего
удивительного. Если уж выбирать, я выберу эту крайность,
простой и здравый взгляд. Но истина — в этих крайностях,
ее нет в туманном промежутке усталости, привычки, небре-
жения. Лучше увидеть в лошади чудище, чем дешевый и
медленный автомобиль. Тому, кто дошел до этого, полезно
ее испугаться.
То же самое можно сказать и о чудище — человеке.
Конечно, лучше всего видеть его так, как видит мое учение.
Всякий христианин уверен, что христианское отношение к
человеческой природе мудро и здраво. Но если мы его утра-
тили, нам поможет только причудливое видение — стран-
ное, диковинное животное. Увидевший чудище в лошади вос-
хитится удалью всадника; увидевший, сколь странен чело-
век, удивится путям Господним.
Словом, мы поймем, что человек — не животное, если
посмотрим на него как на животное. Все дороги ведут в Рим,
к здоровью и мудрости можно прийти через страну сказок и
нелепиц, хотя лучше бы и не покидать край Предания, где
люди на конях — звероловы перед Господом6.
Точно так же должны мы сбросить бремя привычности,
когда речь идет о христианстве. Почти невозможно оживить
то, что слишком знакомо, ибо мы, падшие люди, устаем, при-
выкая. Если бы удалось поведать о Христе как о герое ки-
тайского мифа, именуя Его Сыном Солнца, а не Сыном Бо-
жиим и выложив его сияние из золотых нитей китайских вы-
шивок или золотых китайских лаков, все поразились бы чис-
тоте и высоте моей повести. Никто и слова не сказал бы о
несправедливости предстательства или о нарушении законов
природы. Все восхищались бы тонкостью и глубиной тех, кто
понял, что наше зло поистине вопиет к небу. Все восхища-
лись бы сокровенной мудростью тех, кто знает, что законы
мироздания выше известных нам законов, — верим же мы
любому индийскому заклинателю, которому захотелось по-
112
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
говорить с нами в этом духе. Если бы христианство было
новой восточной модой, никто бы не назвал его устаревшей
восточной верой. Я не собираюсь, как Франциск Ксаверий,
одевать апостолов мандаринами. Я не собираюсь, хоть это
полезно и занятно, пересказывать Евангелие и всю историю
Церкви как языческий миф, ехидно замечая, что в этом-то
случае ее оценят. Но я собираюсь, где смогу, подчеркнуть
новизну и необычность, ибо даже такие серьезные вещи мож-
но изображать странно и причудливо. Я хочу, чтобы чита-
тель посмотрел извне, издалека, со стороны, ибо тогда он
увидит христианство на фоне истории и человечество на фоне
природы — не смутными, как полотно импрессиониста, а
четкими, как щит. Словно белый лев в алом поле или алый
крест — в зеленом сияет человек на зелени мира, Христос —
на красной глине рода Адамова7.
О СУЩЕСТВЕ,
КОТОРОЕ ЗОВЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Глава I
ЧЕЛОВЕК В ПЕЩЕРЕ
Далеко, в странном созвездии, в беспредельно далеких
небесах есть маленькая звезда, которую, быть может, еще
откроют астрономы. Во всяком случае, судя по лицам и по-
вадкам многих астрономов и вообще ученых, они ее не от-
крыли, хотя и ходят по ней. Звезда эта порождает странные
растения и странных животных. Поразительней же всего —
сам ученый. Так начал бы я историю Земли, если бы, следуя
научной методе, решил исходить из Вселенной. Я попытался
бы увидеть Землю извне не для того, чтобы определить, как
далеко она от Солнца, а для того, чтобы понять, какова она
Для совершенно стороннего наблюдателя. Почему, изучая
человечество, надо расчеловечиваться? Почему нужно пре-
уменьшать наш мир, грубо принижая дух непомерностью
расстояний? Я мог бы показать Землю незнакомой звездой,
114
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
чтобы увеличить ее значение, но не стану показывать ее ма-
ленькой звездочкой, чтобы ее значение уменьшить. Скорее
уж я напомню, что мы вообще не считаем ее небесным телом
в том смысле, в каком считаем местом, и местом удивитель-
ным. Говорю об этом не ради астрономии, а ради много бо-
лее близких вещей.
Одно из моих первых газетных приключений (или кру-
шений) было таким: в небольшой рецензии на книгу Гранта
Аллена «Эволюция идеи Бога»8 я заметил, что интересно
бы прочитать Божью книгу «Эволюция идеи Гранта Алле-
на». Редактор вычеркнул эту фразу, убоявшись кощунства,
а я повеселился. Смешно как-никак, что он и не заметил, сколь
кощунственно заглавие книги. Ведь если перевести его на
человеческий язык, выйдет примерно так: «Сейчас я пока-
жу, как развивалась дурацкая мысль, будто есть Бог». Мой
же вариант дышал благочестием — я признавал Промысел
Божий в самых туманных, если не бессмысленных, явлени-
ях. Тогда я научился многому, в частности я узнал, что сте-
пень правоверия агностики определяют на слух. Редактор не
увидел кощунства потому, что у Аллена главным было длин-
ное слово; у меня же шло короткое, и оно его оскорбило. Те-
перь я знаю, что, если вы поместите в одну фразу слова «Бог»
и, скажем, «дурак», сочетание этих недлинных слов сразит
читателя, как выстрел. А говорите ли вы, что Бог создал ду-
рака или что дурак создал Бога, — неважно, это уже пустые
споры сверхпридирчивых богословов. Другое дело, если вы
начнете со слова длинного, вроде «эволюции», дальше все
пойдет как по маслу. Редактор — человек занятой, зачем ему
читать до конца?
Это незначительное происшествие запечатлелось в моей
душе, как притча. Современные истории человечества начи-
наются обычно с эволюции по той же самой причине. Есть в
этом слове, даже в идее что-то неспешное и утешительное,
хотя слово не очень удобно, идея — не слишком удачна.
Никто не может вообразить, как нечто развивается из ниче-
го, и нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как
вечный человек
115
одно «нечто» превращается в другое. Гораздо логичнее ска-
зать: «В начале Бог сотворил небо и землю»9, даже если
мы имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала
какой-то невообразимый процесс. Ведь «Бог» по сути сво-
ей — имя тайны; никто и не думал, что человеку легче
представить себе сотворение мира, чем сотворить мир. Но
почему-то считается, что если скажешь «эволюция», все
станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность: тем,
кто его слышит, кажется, что они поняли и его, и все про-
чее; точно так же многие серьезно верят, что читали «Про-
исхождение видов».
Ощущение плавности и постепенности завораживает нас,
словно мы идем по очень пологому склону. Это — иллюзия;
к тому же это противно логике. Событие не станет понятней,
если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медлен-
ное чудо ничуть не вероятнее быстрого. Быть может, грече-
ская колдунья мгновенно превращала мореходов в свиней;
но если наш сосед моряк станет все больше походить на сви-
нью, постепенно обретая копыта и хвостик закорючкой, мы
не сочтем это естественным. Средневековые колдуны, быть
может, могли взлететь с башни; но если пожилой господин
станет прогуливаться по воздуху, мы потребуем объяснений.
Однако рационалистам, исследующим былое, кажется, что
вы станете проще, даже тайна исчезнет, если мы растянем
дело творения. Примеры приведу позже; сейчас речь идет о
ложном, но приятном ощущении, которое дает постепенность.
Так, нервная старушка, впервые севшая в машину, боится
меньше, если ее везут помедленней.
Уэллс признал себя пророком; и одно из его пророчеств
пошло ему же во вред. Как ни странно, его первая утопия
прекрасно отвечает на его последнюю книгу10. Машина вре-
мени заранее опровергла удобные выводы, основанные на
том, что время относительно. В этом дивном кошмаре герой
видит, как зелеными ракетами взвиваются деревья, земля
вспыхивает зеленым пламенем травы и солнце словно метеор
проносится по небу. Однако все это не стало менее естествен-
116
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ным; точно так же и то, о чем я говорил, не становится менее
сверхъестественным, если возникает медленно. Вопрос в том,
почему это возникает вообще. Все, кому этот вопрос поня-
тен, знают, что он — религиозный, на худой конец — фило-
софский или метафизический, и почти наверное не сочтут
ответом простое замедление. Рассказ не меняется от того, с
какой быстротой его рассказывают, и любую сцену в кино
можно замедлить, по-иному вращая ручку.
Мы слишком сложны, чтобы думать о первобытном.
Стараясь показать изначальную древность, я прошу читате-
ля вместе со мной поупражняться в простоте. Под просто-
той я понимаю не глупость, а ясность — способность видеть
жизнь, а не ученые слова. Лучше ускорить машину времени
и увидеть, как растет трава, взвиваются в небо деревья,
если это поможет нам яснее, живее, четче понять, в чем
дело. Мы действительно знаем, сами знаем, что вокруг ра-
стут трава и деревья, что странные создания держатся в
воздухе, размахивая причудливыми веерами, другие созда-
ния не гибнут под толщей воды, третьи ходят по земле на
четвереньках, а самые странные из всех встали на дыбы.
Вот это — правда, перед ней и эволюция, и даже Солнеч-
ная система — просто теории. Я пишу об истории мира, а
не философствую и потому отмечу только то, в чем соглас-
ны все философы: два великих скачка покрыты тайной —
происхождение мира и происхождение жизни. Многие дога-
дались, что есть и третья тайна, происхождение человека,
что третий мост был перекинут над третьей бездной, когда
появились разум и воля. Возникновение человека — скорей
революция, чем эволюция. Да, у нас есть позвоночник, как
у рыб, птиц и млекопитающих, что бы этот факт ни значил.
Но если мы сочтем человека животным, вставшим на зад-
ние лапы, все, что он делает, покажется нам таким диким,
словно он встал на голову.
Чтобы начать историю человека, приведу один пример.
Он покажет, что я имею в виду, когда говорю, что детство
мира не поймешь без детской простоты. Покажет он и то,
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
117
что я имею в виду, когда говорю: смесь популярной науки с
журнальным жаргоном запутала сведения о главных, первых
фактах, и мы не видим теперь, какие из них — главные.
Наконец, он покажет, пусть на одном примере, что я думаю,
когда говорю: надо видеть различия, придающие истории
четкость, а не тонуть в общих словах о постепенности и еди-
нообразии. Поистине, как сказал сам Уэллс, нам нужен
краткий очерк истории — мы должны уточнить ее очерта-
ния. А у той истории, которую пишут сторонники эволюции,
очертаний нет или, по слову мистера Манталини11, у них
черт знает какие очертания. Главное же, пример этот пока-
жет, что я думаю, когда говорю: чем больше мы тщимся
увидеть в человеке животное, тем меньше человек на живот-
ное похож.
В наши дни книги и газеты наперебой описывают попу-
лярного героя, которого называют Пещерным Человеком.
Видимо, все хорошо, даже лично с ним знакомы. Его психо-
логию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. На-
сколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как гово-
рят теперь, обращался с женщиной «без дураков». Не знаю,
первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в
основу таких воззрений. Мало того, я никак не могу понять,
почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятными
именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что чело-
век тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем
уволочь даму, стукал ее по голове. Нет, не пойму, почему у
столь грубого самца столь щепетильная самка! Может быть,
Пещерный Человек был истинным зверем, но отчего бы ему
быть грубее самих зверей? Браки жирафов и ухаживания
бегемотов обходятся без таких ужасов. Может быть, он был
не лучше пещерного медведя — но юная медведица, воспе-
тая детьми, не проявляет яростной тяги к безбрачию. Сло-
вом, семейная жизнь пещерных людей удивляет меня и при
вере в эволюцию и без этой веры. Во всяком случае, я хотел
бы доказательств, но никак их не найду. И вот что странно:
мы знаем тысячи сравнительно ученых и сравнительно лите-
118
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ратурных сплетен о несчастном человеке, которого зовут
Пещерным, но никто и не упомянет о том, о чем мы вправе
говорить. Туманный термин употребляют в двадцати туман-
ных смыслах, но никак не подумают, что же он действитель-
но нам сообщает.
Словом, в Пещерном Человеке интересно все, кроме од-
ного: что же он делал в пещере. К счастью, мы кое-что об
этом знаем. Знаем мы немного, доисторических свидетельств
вообще мало, зато связано это с настоящим человеком и с его
пещерой, а не с книжным человеком и с его дубинкой. Мы
лучше увидим правду, если рассмотрим, а не отбросим это
реальное свидетельство. В пещере нашли не страшную ду-
бинку, обагренную женской кровью, и не ряды треснутых,
словно яйца, женских черепов. Она не оказалась тайной ком-
натой Синей Бороды. Она вообще никак не связана с мод-
ными фразами, мудрыми домыслами и литературными тол-
ками, которыми нас заморочили. Если мы действительно хо-
тим увидеть хоть в щелочку утро мира, лучше принять это
открытие как сказку утренних стран. Много лучше расска-
зать о нем просто, как о золотом руне или о саде Гесперид,
чтобы из тумана теорий выйти к чистым цветам и четким очер-
таниям зари. Старые сказители знали хотя бы, как расска-
зывать. Порой они лгали, но не лукавили, не подгоняли со-
бытия под теории и философские системы, выдуманные че-
рез много столетий. Хорошо, если бы нынешние ученые пе-
реняли слог древних путешественников, которые не знали
длинных, неточных, безответственных, назойливых слов.
Тогда мы определили бы, что знаем мы о Пещерном Чело-
веке или хотя бы о пещере.
Пастырь и мальчик вошли в горное дупло и по проходу,
под землей, проникли в потаенный горный лабиринт. Они
проползали сквозь тесные трещины, ползли по туннелям,
где пролез бы разве что крот, падали в норы, выбраться от-
куда не легче, чем выбраться из колодца, и много раз ока-
зывались в могиле, не надеясь на воскресение. Так бывает,
когда исследуют пещеры, это обычно, но сейчас нам нужно
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
119
рассказать об этом как о чем-то необычном и единственном.
Например, символично и странно, что в потаенный мир пер-
выми проникли священник и ребенок, воплощение древнос-
ти и воплощение юности мира. Здесь мне важнее то, что
воплощал мальчик. Всякому, кто помнит детство, незачем
говорить, что такое проникнуть под крышу корней и про-
двигаться вглубь, все глубже, пока не достигнешь того, что
Уильям Моррис12 назвал корнями гор. Представьте, как ма-
ленький человек, одаренный простым реализмом, неотъем-
лемым от невинности, лезет и лезет все дальше не для того,
чтобы что-то доказать в скучном журнальном споре, а для
того, чтобы найти и увидеть. Увидел он и нашел пещеру,
далекую от дневного света как легендарная пещера Дом-
Даниэль13, лежавшая под морским дном. Когда каменная
келья озарилась светом после многовековой ночи, на стенах
ее оказались большие странные фигуры, и, следуя за лини-
ями, мальчик и священник узнали руку человека. То были
изображения зверей, а рисовал их или писал не только чело-
век, но и художник. Как ни первобытны они и ни просты, в
них видна любовь к длинной линии, осторожной и причуд-
ливой, которую узнает всякий, кто хоть раз пытался рисо-
вать. Глядя на нее, ни один художник не поддастся ученому.
Линия эта выражает ищущую, смелую, творческую душу
того, кто не бежит от трудностей, а стремится к ним. Ска-
жем, там есть олень, повернувший морду назад, к хвосту;
все мы видели лошадь в этой позе, но мало кто из нынеш-
них анималистов сумеет легко и точно ее нарисовать. По
этой и многим другим деталям ясно, что художник смотрел
на животных с интересом и, наверное, с удовольствием.
В этом смысле он был и естествоиспытателем — естество-
испытателем естественным.
Нечего и говорить, даже мимоходом, что в этой пещере
не было ничего, напоминающего о мрачных пещерах из га-
зет, где грозно гудят отзвуки первобытности. Если можно
судить о чем-либо по таким немногочисленным и древним
следам, я назову ее пещерой человеческой и даже человеч-
120 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ной. Во всяком случае, эти следы не дают оснований делать
Пещерного Человека эталоном бесчеловечности. Когда ав-
тор сексуального романа пишет: «Красные искры заплясали
в глазах Дагмара Даблдика14, и он почувствовал, что в нем
просыпается далекий пещерный предок», читатель будет
разочарован, если Дагмар просто примется рисовать на сте-
не коров. Когда психоаналитик говорит пациенту: «Вами
движут подавленные инстинкты Пещерного Человека», он
не имеет в виду тягу к рисованию или к мирным наблюде-
ниям над травоядными. Мы знаем точно, что первобытный
человек занимался этими безобидными делами, но у нас нет
ни малейшего свидетельства о том, что он проделывал при-
писываемые ему гадости. Пещерный Человек сенсаций —
это просто миф или, вернее, недоразумение. В мифе, по
крайней мере, есть поэтическая правда, а ценность этого
недоразумения в том, что оно оправдывает весьма совре-
менную распущенность. Если мужчина хочет стукнуть жен-
щину, лучше его просто назвать хамом, не приплетая к это-
му делу Пещерного Человека, о котором мы знаем только
то, что рассказали нам несколько безобидных и очень хоро-
ших рисунков.
Попробуем же посмотреть на эти рисунки просто, как
смотрит ребенок. Если ребенок был из паствы священника,
можно предположить, что ему привили хоть какой-то здра-
вый смысл — тот здравый смысл, который передается в виде
традиции. Тогда он решит, что древний человек рисовал
животных на скале по той же самой причине, по которой он
сам пытается рисовать их на грифельной доске. Человек ри-
совал оленя, как ребенок рисует лошадь, — потому что это
интересно. Человек рисовал оленя с повернутой головой, как
ребенок, закрыв глаза, рисует свинью, — потому что это
трудно. Оба они — люди, братство людей объединяет их, и
оно еще благородней, когда мост перекинут через пропасть
веков, а не через пропасть сословий. Если бы мне сказали,
что пещеру разрисовал святой Франциск из чистой пламен-
ной любви к животным, я не смог бы это опровергнуть.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
121
Одна моя знакомая предположила в шутку, что пещера
была просто детским садиком, а цветных зверей рисовали для
детей, как рисуют у нас слонов и жирафов. В этой шутке есть
глубокий смысл. Рисунки даже не доказывают, что перво-
бытные люди жили в пещерах; так, раскопав винный погреб
в Бэлхеме (через много веков после того, как гнев людской
или небесный уничтожит этот пригород), ученые не должны
делать вывод, что люди среднего класса в эпоху Виктории
жили под землей. Пещера могла быть погребом, храмом,
складом, убежищем, местом тайного сборища — она могла
быть чем угодно. Но чем бы она ни была, дух пещерных ри-
сунков ближе к детской, чем к атмосфере современной раз-
нузданности и современного страха. Очень легко себе пред-
ставить, что ребенку — современному ли, древнему ли —
захочется погладить животных. И жест этот предварит дру-
гую пещеру и другого Ребенка.
Представим себе, что ребенка воспитал не священник, а
ученый, один из тех ученых, которые считают животных и
человека разными ступенями эволюции. Чему научит его
каменная книжка с картинками? Он залез под землю и на-
шел изображение оленя, сделанное человеком. Но как бы
глубоко он ни залез, он не найдет изображения человека,
сделанного оленем. Это кажется трюизмом, на самом деле
это — потрясающая тайна. Он может спуститься глубже
глуби, найти утонувшие материки, далекие от нас, словно
звезды, оказаться в сердце Земли, далеком от нас, словно
невидимая сторона Луны; может увидеть в холодных уще-
льях или на каменных уступах иероглифы ископаемых, вы-
мершие династии животной жизни, подобные разрозненным
мирам, а не разным главам одного мира.Он найдет страш-
ные и странные чудища, целый лес диковинных карикатур
на коготь или палец, но нигде не найдет он когтя или паль-
ца, который начертил бы хоть одну осмысленную линию на
песке. Ребенок и не надеется на это, как не надеется он, что
кошка отомстит собаке свирепой карикатурой. Присущий
Детям здравый смысл не позволит ученому ребенку надеять-
122 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ся на такую находку. Наверное, ему покажется странным,
что люди, столь далекие от него, ему близки, а животные,
бродящие вокруг, так не похожи на него. Такой самый про-
стой урок дает нам пещера с картинками; только он слиш-
ком прост, чтобы его запомнить. Человек отличается от
животного качественно, а не количественно, и вот доказа-
тельство: рассказ о том, что человек нарисовал обезьяну,
покажется скучным и плоским; рассказ о том, как умнейшая
из обезьян нарисовала человека, все примут за шутку. Ис-
кусство — подпись человеческая.
Этой простой истиной должен бы начаться рассказ о са-
мом начале. Поборник эволюции смотрит на разрисованную
пещеру и ничего не видит, ибо она слишком велика, ничего
не смыслит, ибо она слишком проста. Из деталей рисунка он
пытается сделать сомнительные выводы, ибо не может уви-
деть все как есть, целиком. Он смутно рассуждает о том, вера
тогда была или одно суеверие; о том, кто правил племенем,
какие приносились жертвы, и о многом еще. В следующей
главе я расскажу подробней, как спорят теперь о первобыт-
ных истоках мыслей, особенно мыслей, связанных с верой.
Здесь я использую пещеру как символ очень простой мысли:
человек рисовал, звери — не рисовали. Если человек, изоб-
разивший оленя, был животным, как олень, тем удивитель-
ней, что он мог сделать то, чего олень не мог. Если он —
обыкновенный продукт биологического развития, как звери
и птицы, тем непонятней, почему он жил не так, как они. Если
он произошел естественным путем, он еще сверхъестествен-
ней. Другими словами, всякая здравая история должна на-
чинаться с существа, ни на что не похожего. Откуда оно взя-
лось и откуда взялось все, что с ним связано, — решать не
историкам, а богословам и философам. Мы знаем одно: че-
ловек отличался от всех других тварей, ибо творил сам. Тем
ли способом или другим, в пещерной тьме природы возникло
невиданное — сознание, подобное зеркалу. Оно подобно
зеркалу потому, что в нем отражается все прочее, и потому,
что оно единственное на свете. Стол может быть круглее зер-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК /23
кала, а шкаф — шире, но только зеркало включает и стол, и
шкаф. Человек — микрокосм, мера всех вещей15, образ Бо-
жий. Только это можно узнать в пещере. Пришло время из
нее выйти.
Человек — поистине странное существо; можно сказать,
что он — странник и пришелец на Земле16. Даже внешне он
больше похож на пришельца, чем на порождение нашей Зем-
ли. Он не может спать в собственной шкуре, не может дове-
рять собственным инстинктам. Он и волшебник, вооружен-
ный чудесным орудием руки, и калека, вынужденный под-
пирать себя костылями мебели. У его сознания те же сомни-
тельные преимущества и те же странные ограничения. Только
его сотрясает прекрасное безумие смеха, словно в очертани-
ях вещей он увидел отблеск тайны, неизвестной самому миру.
Только он знает тайну стыда — чувствует потребность скры-
вать основные и естественные отправления своего тела, словно
догадывается о присутствии чего-то высшего, чем он сам. Мы
можем хвалить его, можем ругать, как отступление от при-
роды, но не можем обойти молчанием. Народ всегда знал
это чутьем, пока в дело не вмешались умники, особенно те,
которые призывают к «простой жизни».
Неестественно видеть в человеке естественное порожде-
ние природы. Это нездорово. Это грех против света, против
дневного света меры, основы всего сущего. Чтобы видеть
так, приходится произвольно отобрать нужные черты —
самые низменные, совсем не важные — и забыть о других.
Целый же, истинный человек ни на что не похож. И чем
больше его свойств мы видим, тем поразительней он стано-
вится. Попробуем представить себе, что нечеловеческое или
даже безликое сознание, знакомое с природой и ее путями,
пытается заглянуть вперед. Что скажет ему о грядущем по-
явлении человека? Первые люди покажутся ему не одним из
сотни стад, нашедшим самое лучшее пастбище, и не одной
ласточкой из ста, делающей весну. Они покажутся суще-
ствами другого масштаба, нет, другого измерения, может
быть, другого мира. Птицы вьют гнезда, но это еще сильнее
124
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
подчеркивает, как отличаются от них люди. Если бы птицы
просто ничего не делали, мы могли бы счесть их мыслителя-
ми квиетистского или буддийского толка, безразличными ко
всему, кроме размышлений. Но они строят, они довольны
своими постройками, они щебечут от радости; и мы знаем,
что между ними и нами — стена, невидимая, как стекло, о
которое бьется птица. Представим себе, что некая птица
вздумала строить, как человек. Попробуем представить, что
она выбирает рогатые палочки и острые листья, чтобы выра-
зить пронзительное благочестие готики, но обращается к
широким листьям и темной глине, когда в мрачную минуту
строит тяжелый храм Ваалу и Астарте, или превращает
гнездо в висячий сад Семирамиды. Представьте, что она
лепит маленькие статуи птичек, отличившихся в поэзии или
политике, и прикрепляет их к краю гнезда. Представьте, что
одна из тысяч птиц делает то, что делал человек в глубокой
древности, и, честное слово, она не покажется вам продук-
том естественного отбора и развития. Такая птица расскажет
авгурам не о будущем, а о прошлом; она сообщит, что в мир
явилось сознание с новым измерением, глубиной. Кто, кроме
Бога, мог это предвидеть?
Нет и тени свидетельств, что это выработалось путем
эволюции. Нет никаких доказательств, что переход произо-
шел плавно и естественно. Говоря со всей строгостью науки,
мы просто не знаем, как это возникло и что это такое. Быть
может, прерывистый след из камня и костей кое-что сооб-
щает нам о развитии человеческого тела. Ничто не расска-
зывает нам о становлении души. Вот ее нет, вот она есть, и
мы не знаем, в какую секунду или в какие бесчисленно дол-
гие годы она возникла. Что-то случилось вне времени, тем
самым вне истории в общепринятом смысле слова. Историк
должен принять это как должное — не его дело это объяс-
нять. Не поможет ему и биолог. Стыдиться тут нечего. Ведь
это реальность, данность, а история и биология привыкли
иметь дело с фактами. Никто не осудит ученого, если он, уви-
дев крылатую свинью, признает ее существование. Точно так
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
125
же он вправе признать, что человек — чудище, потому что
человек — это факт. Пусть живет спокойно в диком, несу-
разном мире или в мире, который породил столь дикое и не-
суразное существо, — ведь на реальность можно положить-
ся, даже если ее не понимаешь. Так уж оно есть, и для боль-
шинства из нас этого достаточно. Но если нам все же захо-
чется узнать, как человек сюда попал, если мы хотим связать
его со всем остальным, если мы действительно хотим уви-
деть, как он отделился от близкой ему среды, — нам при-
дется обратиться совсем в другие инстанции. Нам придется
расшевелить странные воспоминания и вернуться к очень
простым грезам, если мы хотим, чтобы он не казался нам
выродком животного мира. Чтобы найти ему причину, мы
коснемся совсем других причин и воззовем к другим автори-
тетам, чтобы он стал понятным или хотя бы вероятным. На
этом пути нас ожидают страшные, знакомые, забытые исти-
ны, грозные лица, пламенный меч. Примите человека без
объяснений, если вы можете притерпеться к необъясненно-
му факту. Считайте его животным, если вы в состоянии
ужиться с мифическим животным. Но если вы хотите свя-
зать концы с концами, вам придется поверить в нарастание
чудес, возвещающих его появление под громы небесные и
музыку сфер. Только тогда человек станет для нас естествен-
ным существом.
Глава II
СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ
И ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Не многие замечают, как мало знают ученые о доистори-
ческих временах. Чудеса науки непрестанно восхищают нас;
но они возможны лишь потому, что фактов все больше. Ког-
да речь идет об открытиях или изобретениях, доказатель-
ство — это опыт. Но никакой опыт не поможет создать
126 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
человека или увидеть, как он был создан. Изобретатель мо-
жет понемногу создавать аэроплан, даже если он складывает
цифры на бумаге или куски металла у себя во дворе. Когда
он ошибется, аэроплан его поправит, свалившись на землю.
Но если ошибется антрополог, рассуждающий о том, как
наш предок жил на деревьях, предок, ему в поучение, с де-
рева не упадет. Нельзя взять к себе первобытного человека,
как берут кошку, и смотреть, ест ли он себе подобных и
умыкает ли подругу. Нельзя держать первобытное племя,
как держат свору собак, и смотреть, насколько развиты пле-
менные инстинкты. Словом, когда занимаешься прошлым,
надо полагаться не на опыт, а на свидетельства. Однако сви-
детельств так мало, что они не свидетельствуют почти ни о
чем. Почти все науки движутся по кривой, их непрестанно
поправляют факты; наука же о первобытных взлетает ввысь
по прямой, ибо ее ничто не поправляет. Но ученые так при-
выкли делать выводы, что и здесь они придерживаются при-
вычки, оправдавшей себя в других, более плодоносных кра-
ях. О гипотезе, сложенной из кусков кости, они говорят, как
об аэроплане, сложенном из кусков металла. Дивная, побе-
доносная машина возникла после сотни ошибок. Ученый,
занимающийся первобытностью, может спокойно услаж-
даться первой же своей ошибкой и дальше не идти.
Мы справедливо говорим о долготерпении науки, но
здесь справедливей говорить о ее нетерпении. Благодаря
описанной трудности ученый слишком спешит. Гипотезы
множатся столь быстро, что их лучше назвать выдумками, а
никаким фактом их не поправишь. Самый честный антропо-
лог не может знать больше антиквария. У него есть лишь
обломки прошлого, и он может только держать их так же
крепко, как держал его дальний предок обломок кремня.
Причина у них одна и та же — это их единственное орудие,
единственное оружие. Антрополог нередко потрясает им го-
раздо яростней, чем ученый, который может собрать и при-
умножить факты. Порой он становится почти таким же
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК /27
опасным, как собака, вцепившаяся в кость. Собака хотя бы
не высасывает из кости теорий, доказывающих, что люди ни
к собакам не годятся.
Как я заметил, нелегко завести обезьяну и смотреть, пре-
вратится ли она в человека. Опыта поставить нельзя; каза-
лось бы, тогда скажи, что такое превращение вероятно. Но
ученому этого мало — он добывает свою кость или кучку
костей и высасывает поистине удивительные вещи. Напри-
мер, он нашел на Яве часть черепа, судя по форме, помень-
ше, чем у человека, а неподалеку — человеческую голень и
нечеловеческие зубы17. Если все это принадлежит одному и
тому же существу (что не доказано), нам не так уж легко его
себе представить. Но популярная наука легко и быстро со-
здала законченнейший образ. Мы говорим о питекантропе,
словно он обычный исторический деятель, вроде Питта или
Фокса18, или Наполеона. В популярных книгах об истории
мы видим его портреты рядом с портретами Карла I или Ге-
орга IV. Все приметы его перечислены, все волоски сочте-
ны, и, если мы ничего о нем не знаем, мы никогда не подума-
ем, что перед нами только часть черепа, голень и зубы. О нра-
ве его говорят так, словно прекрасно с ним знакомы. Недав-
но я читал в одном журнале, что нынешние, белые яванцы
живут не слишком праведно, а виной тому — несчастный
питекантроп. Охотно верю, что они так живут, но не думаю,
что все дело в тлетворном влиянии нескольких костей. Как
бы то ни было, костей слишком мало, чтобы заполнить про-
пасть между нами, людьми, и предком нашим, животным.
Я ни в коей мере не отрицаю, что мы с ним связаны; я просто
удивляюсь тому, как мало свидетельств нашей связи. Чест-
ный Дарвин это признал; потому и говорим мы о «недостаю-
щем звене». Но догматичным дарвинистам не по душе такой
агностицизм, и термин этот, по сути своей отрицающий, стал
положительным, как портрет. О повадках и виде «недоста-
ющего звена» толкуют все, хотя это не разумней, чем толко-
вать о чертах пробела или прорехи.
128
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
В этом очерке я пишу об истории и религии человека и
потому не буду строить догадок о том, каким он был до того,
как стал человеком. Возможно, тело его развивалось из тела
животного, но мы не знаем фактов, бросающих свет на про-
исхождение его души. Мы ничего не знаем о доисторических
людях по той простой причине, что в их время еще не было
истории. Выражения типа «история доистории» разрешают-
ся только рационалистам. Если бы священник упомянул о
допотопном потопе, его непременно обвинили бы в некото-
рой нелогичности. Но кто обратит внимание на такие пустя-
ки, читая ученые статьи современных скептиков? Тем не ме-
нее слова «история доистории» — совсем не точный науч-
ный термин. Они значат просто, что сохранились следы че-
ловеческой жизни от того времени, когда человек еще не начал
говорить о себе.
Человеческая цивилизация старше человеческих воспо-
минаний. Люди оставляли образцы искусств раньше, чем
занялись искусством письма, — во всяком случае, такого
письма, которое мы можем прочесть. Человек не оставил
рассказа о своей охоте, и потому все, что мы можем о нем
сказать, будет гипотезой, а не историей. Тем не менее рисо-
вал он хорошо, и нет оснований сомневаться, что рассказ его
был бы хорошим. Ничем не доказано, что период, не заве-
щавший нам письменных источников, был груб и примити-
вен. Если люди не писали связных рассказов, это не значит,
что они не знали искусств и ремесел. Очень может быть, что
на свете сменили друг друга многие забытые цивилизации и
было много неведомых нам форм варварства. И какие-то из
этих забытых и полузабытых культур были гораздо слож-
нее, гораздо тоньше, чем принято думать сейчас. Конечно, о
ненаписанной истории человечества надо гадать очень осто-
рожно. Как это ни прискорбно, осторожность и сомнение не
в чести у современных поборников эволюции. Наша стран-
ная культура не выносит неведения. С тех пор как появилось
слово «агностик», мы ни за что не хотим признать, что чего-
то не знаем.
вечный человек
129
Однако наше невежество с успехом искупается наглос-
тью. Наши утверждения так безапелляционны, что ни у кого
не хватает духа к ним присмотреться; вот почему никто до
сих пор не заметил, что они ни на чем не основаны. Еще не-
давно ученые доверительно сообщали нам, что первобытные
люди ходили голыми. Ни один читатель из сотни, наверное,
не спросил себя, откуда мы знаем, что носили люди, от кото-
рых осталось несколько костей. Они могли носить простые и
даже сложные одежды, от которых не осталось следа. Пле-
тения из трав, к примеру, могли делаться все искуснее, не
становясь от этого прочнее. Если в будущем откопают раз-
валины наших заводов, с таким же успехом могут сказать,
что мы не знали ничего, кроме железа, и обнародуют откры-
тие: фабрикант и управляющий ходили голыми или в желез-
ных шляпах и железных брюках.
Я и не думаю доказывать, что первобытные люди носили
одежду. Я просто хочу сказать, что мы не вправе судить об
этом. Мы не знаем, украшали они себя или нет. Зато мы
знаем, что они украшали пещеры. Если они что-то плели или
вышивали, плетения не сохранились и вышивки сохраниться
не могли. Но они рисовали; и рисунки сохранились. Вместе с
ними сохранилось свидетельство о единственных в мире
свойствах, присущих человеку и никому другому. Мы не
можем сказать, что обезьяна рисует плохо, а человек — хо-
рошо. Обезьяна вообще не рисует, она и не собирается, не
думает рисовать. Первая линия рисунка перерезала историю
мира.
Один известный писатель говорит, что у наскальных
изображений нет религиозной функции, откуда, по-видимо-
му, следует, что у пещерных людей не было религии. Мне
кажется, нельзя судить о глубочайших движениях души по
тому, что кто-то рисовал на скале с неизвестной нам целью.
Может быть, легче изобразить оленя, чем религию; может
быть, олень — религиозный символ; может быть, символ
изображен где-нибудь еще; может быть, символ этот наме-
ренно уничтожали. Словом, могли случиться тысячи вещей.
130
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Но, что бы ни случилось, логика не позволяет сделать вы-
вод, что у первобытных людей не было религиозных симво-
лов или, если их и впрямь не было, что тогда не было рели-
гии. Однако именно этот случай показывает, как шатки та-
кие домыслы. Немного позже отыскали не только рисунки,
но и какие-то дырочки, по-видимому следы стрел, которые и
сочли доказательством особой, симпатической магии; рисун-
ки же без дырочек послужили доказательством другого ма-
гического действия, призванного приумножать поголовье
скота. Не смешно ли хотя бы немного, что наука так успешно
служит и нашим, и вашим? Если рисунок попорчен, это дока-
жет одну гипотезу, если цел — другую. И выводы очень уж
поспешны — можно было бы предположить, что охотники,
окопавшиеся на зиму в пещере, просто развлекались стрель-
бой из лука. Можно предположить еще многое; но скажите,
как же быть с утверждением, что первобытные люди не зна-
ли веры? Все эти догадки висят в пустоте. Ими зимой не
развлечешься.
В конце концов, и в наших пещерах можно найти надпи-
си. Правда, наука не признает их древними, но время сдела-
ет свое дело, и, если ученые не изменятся, они смогут вывес-
ти немало занимательного из того, что нашли в пещерах дав-
него, XX века. Например: 1) поскольку буквы нацарапаны
тупым лезвием, в нашем веке не было резца, а тем самым и
скульптуры; 2) поскольку буквы заглавные и печатные, у нас
не было скорописи и малых букв; 3) поскольку складыва-
лись они в непроизносимые сочетания, наш язык был сродни
галльскому, а еще вероятнее — семитским, не изображав-
шим гласных на письме; 4) поскольку нет причин полагать,
что надписи эти — религиозный символ, наша цивилизация
не знала религии. Последнее ближе всего к истине; религи-
озная цивилизация была бы хоть немного разумней.
Кроме того, принято утверждать, что религия возникала
очень медленно, постепенно и породила ее совокупность не-
скольких случайных причин. Чаще всего причины приводят
следующие: страх перед вождем племени (тем самым, кото-
вечный человек
131
рого Уэллс с прискорбной фамильярностью зовет Стари-
ком19 ), сны и священные обряды, связанные с воскресением
зерна. Я совсем не уверен, что можно сводить живое и еди-
ное явление к трем мертвым и не связанным. Представьте
себе, что в одной из увлекательных утопий Уэллса описано
неведомое нам чувство, сильное, как первая любовь, за кото-
рое люди умирают, как умирали за родину. Мне кажется, мы
пришли бы в замешательство, узнав, что оно сложилось из
привычки к курению, роста налогов и радости автомобилис-
та, превысившего дозволенную скорость. Мы не сможем свя-
зать эти три явления и вообразить чувство, связывающее их.
Ничуть не легче связать воедино жатву, сны и вождя. Если
они и были чем-то связаны, то именно чувством священного.
Я думаю, здравый смысл подскажет, что существовало ка-
кое-то мистическое чутье и лишь благодаря ему сны, вожди
и посевы могли показаться тогда мистическими, как, впро-
чем, и теперь.
По правде говоря, это все та же привычная уловка: дабы
что-либо показалось далеким и обесчеловеченным, мы при-
творяемся, что не понимаем самых простых вещей. Можно
сказать, к примеру, что у первобытных бытовала уродливая
привычка широко открывать рот и засовывать туда питатель-
ные вещества или что жуткие троглодиты попеременно под-
нимали ноги, чтобы передвигаться. Конечно, если вы хотите,
чтобы читатель проснулся и заново увидел чудо еды или ходь-
бы, вы имеете право на такую выдумку. Но не пишите так,
чтобы он заснул и не увидел чудо веры! Кто не считает сны
таинственными и не чувствует, что они лежат на темном краю
бытия? Кто не ощущает, что смерть и воскресение растений
близки к тайне мироздания? Кому не кажутся хотя бы не-
много священными духовная власть и единение, душа чело-
веческих сообществ? Если все это кажется антропологу чуж-
дым и далеким, могу только сказать, что он несравненно ог-
раниченнее первобытного человека. Для меня ясно, что только
мистическое восприятие мира могло пропитать святостью эти
разрозненные с виду явления. Тот, кто говорит, что религия
132
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
произошла от почитания вождя или земледельческих обря-
дов, ставит высокоусовершенствованную телегу впереди всем
знакомой лошади. С таким же успехом можно сказать, что
поэзия возникла из обычаев приветствовать наступление вес-
ны и вставать на заре, чтобы послушать жаворонка. Дей-
ствительно, многие молодые люди ударяются в поэзию вес-
ной, и никакая смертная сила не может удержать их от вос-
певания жаворонка. Но только определенный вид сознания
почувствует поэзию жаворонка и весны. Точно так же опре-
деленный вид сознания ощутит мистику сна и смерти. Со-
знание это — человеческое, оно существует по сей день,
мистики до сих пор рассуждают о снах и смерти, поэты пи-
шут о весне. Нет никаких оснований полагать, что кому-ни-
будь, кроме человека, ведома хотя бы одна из этих ассоциа-
ций. Корова не проявляет наклонности к стихам, хотя слу-
шает жаворонка много чаше, чем поэт. Овца нередко при-
сутствует при смерти себе подобных, но ни в коей мере не
поклоняется предкам. Весною многом животным приходит
мысль о любви, — но не о поэзии. Собака видит сны, но
религия столь же чужда ей, как психоанализ. Словом, по ка-
кой-то причине естественный опыт животных и даже есте-
ственные их чувства не помогают им преступить черту, отде-
ляющую их от творческих проявлений, которые мы называ-
ем поэзией и религией, — не помогают и, вероятно, не помо-
гут. Вполне возможно, то есть не противоречит логике, что
мы встретим корову, которая постится по пятницам или ста-
новится на колени, как вол в легенде о Рождестве. Быть мо-
жет, насмотревшись смертей, она сложит скорбный псалом:
быть может, она выразит в торжественном танце надежду на
загробную жизнь. Быть может, навидавшись снов, собака
построит храм Керберу, как строят храм Троице; быть мо-
жет, она поклонится Созвездию Пса. Трудно доказать, что
то или иное невероятно; однако чутье, называемое здравым
смыслом, подсказывает, что животные ничего этого не сде-
лают, хотя и весна, и смерть, и даже сны знакомы им не мень-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
133
ше, чем нам. Остается предположить, что такие события не
порождают и тени религиозного чувства ни в каком созна-
нии, кроме нашего. Снова мы пришли к тому же самому: воз-
никло новое, небывалое сознание, которое могло создать веру,
как создало рисунок. Материалы для религии лежали мерт-
вым грузом, но только человек сумел найти в них загадки,
намеки и надежды, которые находит до сих пор. Он не про-
сто видел сны — он грезил о снах. Он не просто видел мер-
твых — он видел тень смерти и знал тот таинственный об-
ман зрения, благодаря которому нам кажется, что мы не мо-
жем умереть.
Само собой разумеется, что все это я говорю только о
человеке. Мы не вправе сказать ни этого, ни чего-нибудь
другого о промежуточном существе, соединяющем человека
с животными, именно потому, что оно — не существо, а пред-
положение. Мы не вправе утверждать, что питекантроп по-
клонялся чему бы то ни было; ведь он — видение, мост че-
рез пропасть, зияющую между несомненными людьми и не-
сомненной обезьяной. Его сложили из кусочков, потому что
он нужен определенной философии. Если обезьяночеловек
действительно жил на свете, религия его могла быть слож-
ной, как у человека, или простой, как у обезьяны. Он мог
быть чем угодно, от мистика до мифа. Даже самые крайние
поборники эволюции не пытаются возвести религию к нему.
Даже те, кто во что бы то ни стало хотят доказать грубое и
глупое происхождение веры, начинают свои доказательства
с бесспорных людей. А доказательства эти говорят все о том
же: бесспорные люди уже были мистиками. Они использо-
вали грубый и глупый опыт, как только человек и мистик
может использовать его. И снова мы отброшены к простой
истине: в какое-то время, очень давно, произошла перемена,
о которой не могут рассказать ни кости, ни камни, и человек
стал душою живою20.
Те, кто хотят объяснить происхождение религии, на са-
мом деле хотят его отменить. Им кажется, что все станет
134
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
проще, если провести длинную, почти невидимую линию. Они
берут совершенно разные вещи — скудные свидетельства о
происхождении человека и явное, видное всем человече-
ство — и стараются увидеть их так, чтобы они слились вое-
дино. Но это обман зрения. Люди связаны с обезьяной или с
«недостающим звеном» не так, как связаны они с людьми.
Между ними могли быть промежуточные существа, чьи ос-
танки находят то там, то тут. Существа эти могли быть кем-
то, кто очень отличался от людей, или людьми, очень отли-
чавшимися от нас. Но о людях, называемых пещерными, этого
не скажешь. Мы знаем о них мало; но все, что мы знаем,
говорит нам, что они на нас похожи. Мы просто мало знаем о
них, они оставили мало свидетельств; но судя даже по тому,
что осталось, они такие же обычные, нормальные люди, как
и обитатели средневекового замка или греческого города.
Глядя с нашей, человеческой, точки зрения мы узнаем в них
людей.
Если бы мы, взглянув со стороны, увидели в них живот-
ных, пришлось бы признать, что одно животное сошло с
ума. Если же мы смотрим на них изнутри, правильно, чутье
подсказывает нам, что они не безумцы, а нормальные люди.
Мы узнаем члена человеческого братства, где бы мы его ни
увидели, — в иностранце, в дикаре, в историческом герое.
Например, древнейшие легенды и все, что нам известно о
дикарях, свидетельствует о нравственной и даже мистиче-
ской идее, чей простейший символ — одежда. Поистине,
одежда — облачение; человек носит ее, потому что он —
жрец. В отличие от животных, он не может ходить голым
хотя бы потому, что умрет от холода. Однако люди прикры-
вают тело даже в теплых краях — из стыда, или ради дос-
тоинства, или ради красоты. Иногда кажется, что красоту
одежды оценили раньше, чем пользу; почти всегда кажется,
что одежда связана с пристойностью. Условности — разные
в разных местах и разных веках, поэтому многие думают,
что можно от них отмахнуться. Нам удивленно твердят, что
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
/35
стыд — это фикция, ибо многие дикари одеваются не так,
как мы. С таким же успехом можно сказать, что нет на све-
те ни дождя, ни лысины, ни солнечных ударов, ибо шляпы
бывают разных и очень странных фасонов. Люди чувство-
вали повсюду и всегда, что надо защитить или спрятать хоть
что-то от глумления или грубости; и обычаи эти, какими бы
они ни были, служили достоинству, помогали почитать друг
друга. В той или иной степени они связаны с отношениями
полов, но это свидетельствует лишь о двух очень важных,
изначальных фактах. Прежде всего, первородный грех по-
истине первороден. Во что бы ни верили люди, они всегда
ощущали, что с человечеством что-то неладно. Ощущение
греха не давало им ходить голыми, как не давало жить без
законов. Особенно сильно проявляется оно в установлении,
которое можно назвать отцом и матерью законов, ибо осно-
вано оно на союзе матери и отца; в установлении, которое
старше царств, а может быть, и всех человеческих сооб-
ществ.
Я говорю о семье. Здесь мы снова должны четко раз-
личать великое и здравое установление сквозь все его виды
и варианты, словно гору сквозь облака. Очень может быть,
что семье в нашем смысле слова пришлось бороться с мно-
гими заблуждениями и беззакониями. Но она победила их;
и вполне возможно, уже была, когда их еще не было. У нас
нет оснований думать, что форма не существовала прежде
бесформенности. Форма важнее, существеннее бесформен-
ности; материал, называемый человечеством, снова и снова
возвращается к ней. Вспомним, например, поразительный
обычай, известный под именем кувады21, и нам покажется,
что мы попали в сказочное царство нелепицы. По этому
обычаю с отцом обращаются как с только что родившей
матерью. Конечно, это свидетельствует о мистическом вос-
приятии половой жизни, но можно предположить и боль-
шее: многие утверждают, что этим обрядом отец берет на
себя всю ответственность отцовства. Если это так, смеш-
136
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
нейший обычай необычайно значим и торжественен, ибо на
нем стоит все, что мы зовем семьей, и все, что мы считаем
человеческим обществом. Те, кто копается во тьме начала,
говорят иногда, что людьми когда-то правили женщины.
Другие думают, что это была просто нравственная анархия
и род вели по женской линии потому, что отец был неизве-
стен и никакой ответственности не нес. Потом в один пре-
красный день мужчина решил охранять и воспитывать сво-
их детей; и первый глава семьи — не столько хам с дуби-
ной, сколько порядочный человек, отвечающий за свои
действия. Если все было именно так, придется признать,
что только тогда человек повел себя по-человечески, тем
самым впервые стал истинным человеком. А может быть,
матриархат, или беззаконие, или что-то еще были одним из
бесчисленных наваждений, которые мы видели и в истори-
ческие времена. Тогда кувада — просто знак, символ тор-
жества над ересью. Мы не знаем в точности, что было тог-
да, зато мы знаем, что из этого вышло. Мы можем ска-
зать, что семья — основа сообществ, клеточка их тела.
С ней связаны все святыни, которые отличают человека от
муравьев и пчел. Пристойность — полог ее шатра, свобо-
да — ее ограда, собственность — ее усадьба, честь — ее
знамя. На протяжении всей истории мы видим отца, мать,
ребенка. Я уже говорил, что, если я не могу ссылаться на
догматы веры, я буду апеллировать к морали и философии,
иначе не напишешь мало-мальски связной истории. Если я
не смогу воззвать к Пресвятой Троице, я воззову к троице
земной — к треугольнику, испещряющему века. Самое
важное, что было в мире, — тоже треугольник, только об-
новленный и перевернутый. Точнее, два эти треугольника
вместе страшнее для злых сил, чем таинственная пента-
грамма. Человеческая семья — отец, мать, ребенок. Святое
семейство — Ребенок, Мать и Отец. Все то же, и все
иначе; так остается прежним и становится новым преобра-
женный мир.
вечный человек
737
Глава III
ДРЕВНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Современный человек, обращающий взор к самым древ-
ним истокам, подобен путнику, который ждет рассвета в не-
знакомой стране, — ему кажется, что на фоне зари выступят
голые утесы или одинокие вершины. Но из ночи встают тем-
ные громады городов, древних и огромных, как жилища ве-
ликанов, где каменные звери — выше пальмы, статуи — в
десять раз выше человека, гробницы поднимаются к звез-
дам, а бородатые, крылатые быки стерегут ворота храмов.
Заря истории занимается над высокой, по всей вероятности,
старой цивилизацией. Это говорит о многом, и в первую оче-
редь о том, как нелепы наши представления о доисториче-
ских, предрассветных эпохах. Первые сведения, которые
можно счесть достоверными и достаточными, говорят нам о
Вавилоне и Египте22. Случилось так, что именно эти могу-
чие цивилизации древности свидетельствуют против распро-
страненных предрассудков современности. Если мы хотим
освободиться хотя бы от половины модной чепухи о кочев-
никах, пещерах и Лесных Стариках, присмотримся внима-
тельно к Египту и Вавилону.
Конечно, почти все мы, рассуждая о первобытном чело-
веке, в действительности имеем в виду современного дикаря.
Мы исповедуем прогресс и эволюцию, признавая, что нема-
лая часть человечества не меняется вообще. Но даже если я
признаю, что цивилизованный человек внезапно понесся впе-
ред, я не пойму, почему человек нецивилизованный застыл
на месте, словно его заколдовали. Мне кажется, дело обсто-
ит проще. Современные дикари не могут быть точно такими
же, как первобытные люди, хотя бы потому, что они не пер-
вобытны. Что-нибудь да случилось с ними, как и с нами, за
тысячи лет существования. Что-нибудь они да испытали,
138
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
каким-нибудь влияниям да подверглись, даже если это и не
пошло им на пользу. Что-что, а среда у них была, и мы впра-
ве предположить, что они приспосабливались к ней, как тре-
бует этикет эволюции. Может быть, опыт их мал и среда
неувлекательна, но, даже если ничего и не происходит, про-
сто течет время, само однообразие действует на нас. Многие
достойные доверия ученые подозревают, что дикари знали
более высокую цивилизацию. Те, кому это кажется немыс-
лимым, по-видимому, плохо представляют себе, как легко от
цивилизации отвыкнуть. Да поможет им небо — я очень бо-
юсь, как бы они не узнали об этом на собственном опыте!
Они с удовольствием расписывают сходство первых людей и
современных людоедов; но все люди, по той или иной причи-
не вынужденные обходиться без так называемых благ циви-
лизации, во многом похожи. Если мы лишимся нашего ору-
жия, мы станем делать лук и стрелы. Говорят, русские во
время своего великого отступления дрались дубинами. Од-
нако будущий ученый ошибется, предположив, что русская
армия 1916 года была ордой диких скифов23. С таким же ус-
пехом можно сказать, что старик и младенец совершенно
одинаковы. И младенец, и старик — лысые; и младенец, и
старик ходят плохо. Но если вы решите, что старик вот-вот
ляжет на спину и засучит ногами, вас ждет разочарование.
Точно так же первенец рода человеческого вряд ли был
подобен во всем самым консервативным его представителям.
В чем-то, скорее всего во многом, они совсем непохожи.
Возьмем, к примеру, происхождение и природу власти.
Я уже говорил о пресловутом Старике, с которым так близ-
ко знаком Уэллс. Если мы посмотрим, что же действительно
известно о первобытном вожде, мы сможем простить пре-
красного писателя, лишь предположив, что он забыл, исто-
рию он пишет или фантастический роман. Никак не пойму,
откуда он знает, что вождя называли именно так или что
никому не разрешалось трогать его копье и сидеть на его
месте. Навряд ли археологи нашли копье с табличкой «Не
трогать» или пышный престол с надписью: «Только для
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
139
Старика». Навряд ли писатель и выдумывал; по-видимому,
он честно положился на сомнительную параллель между
первобытным человеком и современным дикарем. Быть мо-
жет, в каких-то диких племенах не разрешают прикасаться к
копью или сиденью вождя и даже зовут его Стариком. Быть
может, они взирают на вождя с суеверным страхом, и жи-
тейский опыт подсказывает мне, что он — истинный деспот.
Но нет никаких сведений о том, что первая земная власть
была деспотией. Можно допустить и это — она могла быть
чем угодно, ее вообще могло не быть; но обычаи некоторых
племен в XX веке ни в коей мере ничего не доказывают.
Зато мы знаем из истории, что деспотия появляется в разви-
тых, иногда — высокоразвитых, очень часто — в разлагаю-
щихся обществах, начавшихся с демократии. Деспотию по-
чти можно определить словами «усталая демократия». По-
является она тогда, когда общество уже не способно к непре-
рывному бдению, по праву названному ценою свободы, и
предпочитает, чтобы один страж стерег спящий город. Ко-
нечно, иногда деспот нужен для быстрых, насильственных
перемен; иногда он сам берет власть, так нередко бывало на
Востоке. Но я не понимаю, почему султан должен появиться
раньше всех других персонажей истории. Сила, основанная
на оружии, нуждается хотя бы в том, чтобы это оружие
было исключительным, а такое оружие появляется не сразу.
Один человек может убить двадцать из винтовки; менее ве-
роятно, что он перебьет их кремнем. Что до модных толков о
Сильнейшем, это просто сказка об одноруком великане.
Двадцать человек — ив древности, и теперь — скрутят
самого сильного из сильных. Конечно, может случиться, что
они не тронут его, потому что ему поклоняются; но это со-
всем другое чувство — романтическое и даже мистическое,
как поклонение Мудрейшему или Чистейшей. Жестокости и
самодурству способствует другой дух, дух сложившегося,
устоявшегося, нет, разложившегося и застоявшегося обще-
ства. Как и следует из его прозвища, Старик — правитель
утративших молодость.
140
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Много вероятней, что первобытное общество было близ-
ко к истинной демократии. Даже сейчас относительно про-
стые сельские общины очень демократичны. Демократия
всегда прорывается сквозь хитросплетения цивилизации.
Можно сказать, если хотите, что демократия — враг циви-
лизации; но помните, что многие выберут демократию хотя
бы потому, что не любят хитросплетений. Как бы то ни
было, крестьяне, возделывающие собственную землю и вы-
бирающие власть прямо под деревом, ближе всех к настоя-
щему самоуправлению. Вполне вероятно, что такая простая
мысль пришла в голову и самым простым, первым людям.
Даже если люди для нас — не люди, непонятно, почему бы
им начинать с деспотии. Даже если вы — поборник эволю-
ции и самый завзятый материалист, у вас нет причин счи-
тать, что первые люди не знали товарищества, известного
мышам и воронам. Конечно, у них были вожаки, как у вся-
кого стада; но это не значит, что у них была та бессмыслен-
ная, раболепная угодливость, какую приписывают поддан-
ным Старика. Наверное, там был кто-то, соответствующий,
как сказал Теннисон, «многолетней вороне, ведущей домой
свою голосистую стаю»24. Однако если бы почтенная птица
увлеклась подражанием султану, то стая не дала бы ей про-
жить слишком много лет. Чтобы стать вожаком даже у жи-
вотных и птиц, мало одной силы; нужно еще что-то, будь то
привычность, которую люди зовут традицией, или опыт, ко-
торый люди зовут мудростью. Не знаю, летят ли вороны за
самой старой, но уверен, что они не летят за самой наглой.
Зато я знаю другое: быть может, из почтения к старости
дикари и слушаются самого старшего, но они не поклоняют-
ся самому сильному, ибо не так чувствительны, раболепны и
слабы, как мы.
Повторю еще раз; о первобытной власти, как и о перво-
бытной вере и о первобытном искусстве, мы не знаем почти
ничего, только строим догадки. Но предположить, что пер-
вобытные люди были демократичны, как балканские или
пиренейские крестьяне, ничуть не смелее, чем приписать им
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
141
самодурство турецкого султана. И горная деревушка, и во-
сточный дворец современны, они существуют и сейчас; но
дворец напоминает скорее о конце и разложении, дерев-
ня — о начале и естественности. Вообще же я ничего не бе-
русь утверждать, я просто разрешаю себе усомниться в со-
временных утверждениях. Сами наши современники успеш-
но отыскивают в прошлом демократию, когда нужно под-
крепить притязания расы, нации или философии. Социалисты
доказывают, что их идеал некогда был реальностью. Иудеи
гордятся справедливостью ветхозаветных времен. Германофи-
лы кичатся зачатками парламента, суда присяжных и многих
других установлений у древних германцев. Кельтофилы (как
и враги кельтов) ссылаются на то, что в кланах были и равен-
ство, и справедливость. В каждой из этих теорий есть та или
иная доля истины; и я подозреваю, что какое-то народовлас-
тие не было чуждо древним, простым сообществам. Каждая
из упомянутых школ допускает это, чтобы доказать то, что
ему сейчас нужно, но все они вместе принимают, что в древ-
ности царили не только жестокость и страх.
Как бы то ни было, занавес поднимается в самый разгар
игры. Очень трудно представить себе, что была история до
истории; но ничего бессмысленного здесь нет. Очень может
быть, что эта история похожа на известную нам и отличается
от нее только тем, что мы ее не знаем. Таким образом, она
прямо противоположна многозначительной «доистории», чьи
сторонники смело проводят прямую от амебы к антропоиду и
от антропоида к агностику и дают нам понять, что мы знаем
все о весьма непохожих на нас существах. На самом же деле,
вероятно, доисторические люди были очень похожи на нас,
но мы ничего о них не знаем. Другими словами, самые древ-
ние источники свидетельствуют о временах, когда люди дол-
го были людьми, мало того, долго были людьми цивилизо-
ванными. Источники эти не только упоминают — они при-
нимают как должное царей, жрецов, вельмож, народные со-
брания. Мы не знаем, что было в мире до этого. Но то
немногое, что мы знаем, удивительно похоже на то, что про-
142
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
исходит сейчас. Я думаю, мы не погрешим против логики или
здравого смысла, если предположим, что в те неведомые века
республики сменялись монархиями, монархии — республи-
ками, мировые империи росли и распадались на маленькие
страны, народы попадали в рабство и отвоевывали свободу.
Мы найдем в доистории все то, что может быть, а может и не
быть прогрессом, но уж точно похоже на приключенческий
роман. К сожалению, первые главы вырваны и мы никогда
их не прочтем.
Точно так же мы вправе предположить, что в доистори-
ческие времена варварство и цивилизация существовали бок
о бок; что тогда, как и сейчас, были цивилизованные обще-
ства, были и дикари. Считается, что все прошли через кочев-
ничество, но точно мы знаем, что некоторые так из него и не
вышли, и можем предположить, что некоторые в него не вхо-
дили. Вполне вероятно, что с древнейших времен оседлый
земледелец и кочевник-пастух отличались друг от друга, а
хронологическая их расстановка — просто симптом того по-
мешательства на прогрессе, которому мы обязаны многими
заблуждениями. Предполагают, что все прошли через пер-
вобытный коммунизм, когда частной собственности не зна-
ли; но свидетельства — лишь в отсутствии свидетельств.
Собственность перераспределяли, вводили новые законы,
законы эти вообще бывали разными, но вера в то, что когда-
то собственности не было, столь же сомнительна, как вера в
то, что когда-нибудь ее не будет. Интересна она лишь од-
ним: даже самые смелые замыслы будущего нуждаются в
авторитете прошлого и революционер просто вынужден стать
реакционером. Занятная параллель — так называемый фе-
минизм. Вопреки лженаучным сплетням об умыкании жен-
щин, все больше говорят о том, что в первобытности правили
именно женщины, видимо пещерные дамы с дубинкой. Это
не более чем догадки, и постигает их странная судьба всех
нынешних домыслов и предрассудков. Во всяком случае, это
не история, об этом нет прямых свидетельств, когда же до-
ходит до них, мы видим, что цивилизация и варварство жи-
вечный человек
143
вут бок о бок. Иногда цивилизация поглощает варваров, иног-
да сама сползает к варварству и всегда содержит все то, что в
более грубом, простом виде содержит варварство: власть,
авторитет, искусства (особенно изобразительные), тайны и
запреты (особенно связанные с полом) и какую-нибудь раз-
новидность того, что я пытаюсь описать в этой книге, и все
мы называем религией.
Египет и Вавилон, два древних чудища, могут служить
нам прекрасной моделью. То, что мы знаем о них, противо-
речит двум основным нашим предрассудкам. История Егип-
та как бы нарочно придумана, чтобы доказать, что люди не
начинают с деспотии по своей дикости, а кончают ею, прихо-
дят к ней, когда достаточно искушены или (что почти то же
самое) опустошены. А история Вавилона показывает нам,
что совсем не обязательно быть кочевником или членом ком-
муны, чтобы потом стать крестьянином или горожанином.
Кирпичи Вавилона понятней, чем дольмены, животные иерог-
лифов понятней наскальных оленей. Ученый, расшифровав-
ший мили иероглифов или клинописи, может поддаться ис-
кушению и прочитать слишком много между строк. Даже
истинные авторитеты легко забывают, как обрывочны с тру-
дом завоеванные сведения. Но все же — историю, а не до-
историю, факты, а не домыслы дают нам именно Египет и
Вавилон; и среди фактов этих — две истины, о которых я
сейчас говорил.
Египет — зеленая лента вдоль реки, уходящая в багро-
вую бесприютность пустыни. Давно, еще в древности, гово-
рили, что он обязан своим происхождением таинственной
щедрости и свирепой милости Нила. Первые известные нам
египтяне живут цепочкой вдоль берега, и звенья этой цепоч-
ки — маленькие общины, связанные между собою. Там, где
река разветвлялась в широкое устье, жили несколько иначе,
но это не должно заслонять главного. Более или менее неза-
висимые, хотя и связанные друг с другом общины, видимо,
были достаточно развиты. Они знали что-то вроде геральди-
ки, использовали изображения как общественный символ,
144
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
каждая плавала по реке под своим знаком — зверем или
птицей. Геральдика же предполагает две очень важные
вещи, те самые, которые в совокупности зовутся благород-
ным именем «сотрудничество»; те самые, без которых нет
крестьян и нет свободных людей. Искусство геральдики го-
ворит о независимости — человек или община вольны выб-
рать для себя символ. Наука геральдики говорит о взаимной
зависимости — люди и общины согласны признавать чужие
символы. Здесь, в Египте, мы застаем согласие и сотрудни-
чество свободных семейств, самый естественный образ жиз-
ни, который появляется всюду, где человек живет на соб-
ственной земле. При одном упоминании о птице или звере
знаток мифологии, как во сне, откликнется: «Тотем». Мне
кажется, в том и беда, что мы вспоминаем о тотеме автома-
тически, словно во сне. В моем поверхностном очерке я на-
стойчиво, хотя и не совсем успешно пытаюсь рассматривать
вещи изнутри; идти, где только могу, от мысли, а не от тер-
мина. Стоит ли рассуждать о тотеме, если нам неясно, что
именно чувствует человек, у которого есть тотем? Ну хоро-
шо, у них тотемы были, а у нас нет; но значит ли это, что
они больше любили животных или больше боялись? Если же
любили, то как? Как дядюшка Римус Братца Волка, или как
Франциск брата своего волка, или как Маугли своих брать-
ев волков?25 Что ближе к тотему — британский лев или
британский бульдог? А если боялись, на что был этот страх
похож — на детский ночной страх или на страх Божий? Ни
одна самая научная книга не ответила мне. Но к этому я еще
вернусь. Сейчас же повторю: ранние египетские общины
признавали чужие изображения животных, и это помогало
им сотрудничать друг с другом. Видимо, общались они и в
доистории, ибо с началом истории мы застаем это общение в
полном разгаре. Именно поэтому понадобилось прибрежным
общинам единое правление, росла власть правителя и все
дальше падала его тень.
Не меньшей и, по-видимому, более древней властью
пользовались жрецы; по всей вероятности, они были теснее
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
145
связаны с ритуальными знаками, способствующими обще-
нию. Именно здесь, в Египте, может быть, впервые возник-
ло то великое искусство, благодаря которому история отли-
чается от доистории, — первые буквы, древнейшее письмо.
Занимательные романы о древних могли бы стать зани-
мательней. На них пала тень преувеличенной мрачности, на-
много превосходящей естественную печаль язычества. При-
чина этому — тот тайный пессимизм, благодаря которому
первые люди кажутся тварью дрожащей, чье тело — комок
грязи, душа — сгусток страха. Наши поступки и мысли оп-
ределяет вера, особенно когда мы ни во что не верим. Имен-
но потому все первоначальное и простое представляется нам
дурным. Книги о древности кишат вымышленными сценами
из жизни ассирийцев или египтян, застывших и размалеван-
ных, словно их изображения. Но авторы этих книг не попы-
тались представить, каково было впервые увидеть то, что
стало для нас привычным. Они не видят человека, который
узнает огонь, как ребенок открывает фейерверк; не видят
человека, который играет колесом, как мальчишка, смасте-
ривший телеграф. Они не пытаются вдохнуть дух юности в
свои рассказы о юности мира, и потому, конечно, у них нет
шуток. А очень и очень возможно, что великое искусство
письма началось именно с шутки.
Многим будет тяжело узнать, что оно началось с калам-
бура. Фараон, или жрец, или вельможа этой необычайно
длинной и узкой страны хотел послать весточку вверх по реке,
и ему пришло в голову нарисовать письмо-картинку, как у
индейцев. Подобно многим любителям ребусов, он обнару-
жил, что не все можно нарисовать. Когда, скажем, слово
«налог» звучало, как слово «свинья», он смело рисовал сви-
нью и радовался плохому каламбуру. Я думаю, на первых
порах было очень весело и рисовать, и разгадывать такие
послания. Если никак нельзя не писать романов о Древнем
Египте (видимо, ни мольбы, ни слезы, ни брань от этого не
Удержат), я хотел бы прочитать в них о том, что древние егип-
тяне — тоже люди. Пусть кто-нибудь напишет, как великий
146
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
правитель сидит в кругу жрецов и все они покатываются со
смеху, а фараоновы шутки становятся глупее и глупее. Мож-
но описать, как, получив послание, кто-то гадает и прикиды-
вает, словно сыщик в детективе. Я думаю, что религиозная и
нравственная жизнь глубокой древности несравненно проще
и ближе к нам, чем принято считать, а уж научная воистину
увлекательна. Первые слова были поразительней первых те-
леграмм, опыты с самыми простыми вещами — поразитель-
ней электричества. Никто еще не создал живой повести о
древней жизни. Сейчас я говорю об этом вскользь. Мне важ-
но другое: общество обязано всем этим установлению, кото-
рое играет главную роль в первых, самых увлекательных сказ-
ках науки.
Мало кто отрицает сейчас, что почти всю науку некогда
создали жрецы. Уэллса и других современных писателей не
обвинишь в этой слабости — любви к священнослужителям,
но они признают, что жрецы немало сделали для древних
искусств и наук. Самые темные из просвещенных людей и не
сомневались, что священники всегда стояли на пути прогрес-
са. Один политик сказал мне, что я противлюсь современ-
ным реформам, как древний жрец противился применению
колеса. Я ответил, что, вероятно, древний жрец сам изобрел
колесо. Еще вероятнее, что древний жрец тесно связан с изоб-
ретением письма; не случайно об этом свидетельствует слово
«иероглиф», которое сродни слову «иереи» .
Исповедовали эти жрецы довольно запутанный поли-
теизм, о котором я скажу позже. Одно время они действова-
ли вместе с правителем, потом правитель победил их, потом
они его победили и стали править сами. Но мир должен ска-
зать им спасибо за многое из того, без чего обойтись не мо-
жет; создатели самых нужных, простых вещей вправе занять
свое место среди героев истории. Если бы мы довольствова-
лись истинным язычеством, а не просто сердились на хрис-
тианство, мы воздали бы языческие почести безвестным бла-
годетелям. Мы поставили бы статуи тому, кто добыл огонь,
вечный человек
/47
и тому, кто выдолбил лодку или укротил коня. Приносить им
жертвы и цветы много разумнее, чем портить города безоб-
разными статуями нудных политиков или филантропов. Нос
приходом христианства ни один язычник уже не может оста-
ваться человечным; и это — одно из непостижимых свиде-
тельств нашей веры.
Однако сейчас мы говорим о том, что властители Егип-
та — цари или жрецы — все больше и больше нуждались в
объединении государства, а в этих случаях не обойтись хоть
без какого-то насилия. В защиту самовластия всегда говори-
ли, что без него нет и развития. Может быть, это так, может
быть, не так, но уж точно не так, что люди переходили от
самовластия к свободе. Неверно, что племя начиналось со
страха перед вождем, его копьем и престолом; в Египте, ско-
рее всего, тираном был не Старик, а тот, кто пришел ему на
смену. Копье становилось все длиннее, престол — все выше,
по мере того как страна становилась сложней и просвещен-
ней. Потому я не согласен с обычным, обыденным мнением,
что страх может править лишь в начале, а не в конце. Мы не
знаем, что было в начале с более или менее феодальным спла-
вом землевладельцев, крестьян и рабов, живущих общинка-
ми вдоль Нила. Зато мы знаем, что по мере развития об-
щинки теряли свободу; что абсолютная власть была для них
не пережитком, а новшеством. Они шли вперед и в конце
дороги нашли самодержца.
В этом коротком рассказе о далеких веках Египет ставит
проблему свободы и цивилизации — мы видим, что, услож-
няясь, страна становилась едйнообразней. Проблему эту мы
разрешили не лучше, чем они, но человека принижает мысль,
что даже у тирании нет другого истока, чем страх. Пример
Вавилона опровергает толки о цивилизации и варварстве.
Вавилон мы тоже застаем в расцвете по той простой причи-
не, что никого нельзя услышать раньше, чем он достаточно
разовьется, чтобы заговорить. А говорит он с нами на языке
клинописи, странных треугольных значков, очень мало по-
148
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
хожих на живописные письмена Египта. Можно назвать су-
хим египетское искусство; но Вавилон слишком сух для ис-
кусства вообще. Линии лотоса исполнены изящества, линии
птицы или стрелы исполнены движения, и изогнутая линия
реки дозволяет называть Нил змеей. Вавилон жил не рисун-
ком, а диаграммой. Иейтс, чье историческое воображение не
слабее мифологического (первое и невозможно без второго),
говорит о мудрецах, которые смотрят на звезды «из педан-
тичных Вавилонов». Может быть, сам материал — кирпичи,
обожженная глина — не способствовал развитию скульпту-
ры. Во всяком случае, вавилонская цивилизация была непод-
вижной, но ученой, способствующей жизненным удобствам,
похожей на нашу. Я читал, что они, как мы, почитали высо-
коумных старых дев и признавали независимых трудящихся
женщин. Упорядоченные нагромождения кирпичиков наво-
дят на мысль о практичной деловитости улья. Но при всей
своей величине улей состоял из людей. Мы встречаем те же
социальные проблемы, что в Древнем Египте или современ-
ной Англии; при всех своих пороках, Вавилон — один из
первых шедевров человека. Находился он в треугольнике
между почти легендарными реками Тигром и Евфратом, и
развитым земледелием, без которого бы город не выжил, он
обязан оросительной системе, созданной по слову науки.
Здесь всегда царила жизнь ума, склонного скорей к ученос-
ти, чем к искусствам, а выше всех стояли те, кто воплотил
звездочетную мудрость древних, — наставники Авраама,
халдеи27.
Об этот твердый уклад, как о кирпичную стену, бились
век за веком безымянные орды кочевников. Являлись они
из пустынь, где люди кочевали издавна, кочуют и сейчас.
Нетрудно понять, почему люди идут за стадом, которое
само находит себе пропитание, и живут мясом и молоком.
Такая жизнь может дать почти все, кроме дома. Многим из
этих пастухов были ведомы в незапамятные времена вели-
кие истины книги Иова; из их среды вышел Авраам, чьи
дети задали нам загадку упорного, как мономания, моно-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
149
теизма евреев. И все же это были дикие люди, не знавшие
сложностей социальной системы. Словно ветер нес их снова
и снова на стены цивилизации. Почти вся история Вавилона
сводится к защите от орд, которые являлись сюда почти
каждый век и откатывались обратно. Может быть, кочевни-
ки породили когда-то гордое царство ассирийцев, давших
миру завоевателей, чья поступь подобна топоту крылатых
быков. Ассирия была великой державой, но продержалась
не очень долго. История этих земель сводится к борьбе ко-
чевников и самого настоящего государства. Возможно, в до-
исторические эпохи и, несомненно, в историческую кочевни-
ки шли на Запад, опустошая все по пути. В последний раз
они не увидели Вавилона. Но было это много позже, и вел
их Магомет.
Нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что ва-
вилоняне когда-то кочевали, а кочевники хоть где-нибудь
осели. Быть может, честные и умные ученые, которым мы
так многим обязаны, уже не считают, что кочевничество пред-
шествовало оседлости. Но в этой книге я спорю не с умными
и честными учеными, а со смутным общественным мнением,
порожденным скороспелыми открытиями. Мы рассуждаем
так: обезьяна превратилась в человека, а дикарь — в джен-
тльмена, и потому все старое — варварство, а новое — ци-
вилизация. К сожалению, это атмосфера, в которой мы жи-
вем, а не догма, которую можно доказать. Людей, разделя-
ющих такие взгляды, не убедишь рассуждениями, скорей уж
на них подействуют образы. И мне очень бы хотелось, что-
бы, собираясь пуститься в обычные рассуждения — пись-
менные ли, устные ли, — они закрыли на секунду глаза и
увидели обрывистую пропасть, кишащую крохотными людь-
ми, — прославленную Вавилонскую стену.
Когда мы смотрим на оба древних царства, мы видим,
что их домашняя жизнь осложнена установлением не слиш-
ком человечным, хотя и вполне домашним. Мрачный гигант
по имени Рабство, явился, как джинн из бутылки, и соору-
жал кирпичные и каменные громады. Снова нелегко дока-
150
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
зать, что причина этому — первобытная дикость. Если уж
на то пошло, раннее рабство либеральней позднего и, навер-
ное, много либеральней того, которое нас ждет. Обеспечить
жизненные блага одних людей, заставив работать других, —
очень простая мысль, вот почему к ней еще вернутся. Но в
одном смысле древнее рабство очень показательно — оно
выражает главную особенность дохристианской истории. От
начала и до конца древности личность — ничто перед госу-
дарством. В самых свободных городах Эллады определен-
ных людей не принимали в расчет, даже не замечали, как в
деспотии Вавилона. Рабство не удивляло никого; оно, как
сказали бы сейчас, «отвечало общественным интересам».
Когда нам твердят: «Человек — ничто, работа — все», это
кажется нам плоским афоризмом в духе Карлейля 28. На са-
мом же деле это мрачный девиз языческого, рабовладель-
ческого государства.
Я говорю так долго о Египте и Вавилоне еще по двум
причинам. Во-первых, оба они стали традиционным образ-
чиком глубокой древности, а без традиции история мертва.
Призраки Вавилона заполнили детские песенки; Египет, пе-
ренаселенный ожидающими воплощения царевнами, беспре-
рывно порождает ненужные романы. Но традиция, как пра-
вило, верна, если она еще народна; верна, даже если вуль-
гарна. Не так уж нелепы Египты и Вавилоны, знакомые нам
по детским стишкам и по глупым книгам; даже газетчики,
которые всегда отстают от времени, уже добрались до Ту-
танхамона. Такой Египет, такой Вавилон исполнены здра-
вого смысла легенды: мы знаем о них и всегда знали больше,
чем обо всем другом, что было в то время. Ученые домыслы
наших дней испещрили пунктиром границ и стрелками миг-
раций те края, где немудрствующий средневековый карто-
граф писал «Terra Incognita»* или, соблазнившись приятной
белизной, рисовал дракона, намекая на прием, ожидающий
* Неведомая земля (лат.).
вечный человек
151
там паломника. Но эти стрелки и пунктиры в лучшем слу-
чае — выдуманы, в худшем — намного опаснее дракона.
Все люди тем более умные, а уж паче всех поэтичные,
впадают в одно заблуждение — им кажется, что «боль-
ше» — то же самое, что «важнее», «основательнее», «обо-
снованнее». Если человек живет один в соломенной хижине
в глубинах Тибета, ему нетрудно внушить, что он поддан-
ный Китайской империи, а империя эта, конечно, велика и
величественна. Можете внушить ему, что он подданный
империи Британской. — ничего, он тоже обрадуется. Но,
как ни удивительно, приходит час, когда он гораздо более
уверен в империи, которой не видит, чем в хижине, которую
видит29. В голове у него все странно, загадочно сдвигается,
и рассуждает он, исходя из империи, хотя живет именно в
хижине. Иногда он сходит с ума и утверждает, что хижины
просто нет, потому что столь высокая цивилизация не потер-
пела бы такой дыры. Однако безумие его основано на все
той же ошибке — он думает, что если идея по имени Китай
велика и величава, это уже не только идея. Такой способ
мышления очень любят в наше время и распространяют на
понятия еще менее ощутимые, чем Китайская империя. Мы
забыли, например, что Солнечная система не так очевидна
для людей, как родная деревня. О Солнечной системе гово-
рит нам не опыт, а выводы, без сомнения — верные; но это
лишь выводы, тогда как мы видим в ней нечто изначальное.
Если бы вычисления оказались неверными, солнце, звезды,
фонари остались бы точно такими же; однако мы готовы от-
рицать реальность солнца, если оно не влезет в Солнечную
систему. Такая предубежденность не приносит пользы, даже
когда речь идет о вполне реальных системах или империях;
когда же речь идет о недоказанных теориях, она приносит
только вред. Историки, особенно историки «доистории»,
завели отвратительную привычку: они начинают с рассужде-
ний о расе. Я не буду говорить сейчас о том сумбуре и о тех
мерзостях, которые эта привычка породила в современной
152
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
политике. Кто-то где-то предположил, что раса — основа
нации, и тут же наши нации стали менее конкретными, чем
расы. Ученые выдумали общее понятие, чтобы объяснить
частное, а теперь отрицают частное, чтобы оправдать общее.
Сперва они принимают кельта за аксиому, затем объявляют
ирландца фикцией, а потом удивляются, когда великолеп-
ный, мятежный ирландец чем-то недоволен. Они совершен-
но забыли, что ирландец остается ирландцем, даже если нет
и не было никаких кельтов. Сбивает их с толку все то же:
выдумка больше, шире факта. Поэтому же отменили англи-
чан и немцев, заменили их тевтонской расой, и некоторые
вывели из этого, что если раса — одна, народы воевать не
могут. Столь грубые и странные примеры я привожу, пото-
му что все их знают, речь же идет не о нынешних, а о древ-
них делах. Чем древнее и неопределеннее раса, тем больше
верил в нее ученый прошлого века. Наследники его по сей
день не разрешают и задуматься над тем, что было допуще-
нием, а стало первоначалом. Они гораздо больше уверены в
том, что они арийцы, чем в том, что они англосаксы, не гово-
ря уже об англичанах. Они не догадываются, что они евро-
пейцы, но твердо знают, что они индоевропейцы. Теории
меняются часто, но гипотезы все так же быстро затвердева-
ют, превращаясь в концепции, концепции — в аксиомы.
Нелегко освободиться от смутного чувства, что уж основы-
то исторической науки прочны, что самые главные обобще-
ния на чем-то основаны. Как ни странно, это не так. Самое
общее покрыто тайной, только частности видны и очевидны.
О каждой расе столько наговорили, что сейчас уже ни в
чем нельзя разобраться. Возьмем историю, точнее, «доисто-
рию» европейцев. На моей памяти она претерпела немало
изменений. Сперва нас называли кавказской расой; помню,
в детстве я читал у Брет-Гарта30 об ее столкновении с монго-
лами: «Ужель кавказец побежден?» По-видимому, так оно
и было, ибо вскоре он превратился в индоевропейца и даже,
как то ни прискорбно, в индогерманца. Кажется, индусы и
германцы называют мать и отца очень похожими словами;
вечный человек
153
есть и другие случаи, когда санскрит похож на языки Евро-
пы, — все так, но тут же сочли несущественными мелкие
различия между индусом и немцем. Чаще всего мозаичное
создание называли арийцем, объясняя при этом, что он на-
правился на Запад с высот Индии, где еще существуют об-
ломки его языка. Когда я читал об этом в детстве, я думал,
что ариец с таким же успехом мог идти на Восток, прихватив
свой язык с собою. Если бы я читал об этом сейчас, я при-
знал бы полное свое невежество. К сожалению, я не могу
читать об этом, потому что об этом не пишут. Кажется, ин-
доевропеец пал в свою очередь. Видимо, он переменил не
только имя, но и адрес — я слышал, например, что мы при-
шли не с Востока, а с Юга, не из Азии, а из Африки. Неко-
торые, как то ни дико, полагают, что европейцы пришли из
Европы или, точнее, всегда в ней жили.
Есть свидетельства и о более или менее доисторическом
движении с Севера, подобном тому, которое отдало грекам
крито-микенскую культуру и часто приводило галлов на поля
и горы Италии31. Не знаю, кто тут прав; я просто хочу пока-
зать, что ученые вертят и вертят стрелку компаса, и я, неуче-
ный, не могу решать то, чего никак не решат они. Но я могу
прибегнуть к здравому смыслу, и мне иногда кажется, что их
здравый смысл немного заржавел от бездействия. Здравый
смысл прежде всего отличит гору от тучи; и я утверждаю,
что обо всех этих делах мы ничего не знаем в том смысле
слова, в каком мы знаем, что на свете есть пирамиды.
Повторю еще раз: в этих глубинах истории мы действи-
тельно видим, а не вполне разумно угадываем несколько
огоньков во тьме, покрывающей землю. Один из них осве-
щает высокие террасы Вавилона, другой — высокие пира-
миды Нила. Конечно, из тьмы светят и другие огни, вероят-
но, тоже очень древние, Далеко на Востоке мерцает древняя
цивилизация Китая, на Западе — остатки цивилизаций
Мексики или Перу, достигшие кое-где самых высоких сте-
пеней изощренного бесопоклонства. И все же их не срав-
нишь с Египтом и Вавилоном, ибо традиция их прервана.
154
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Традиция Китая жива, но я далеко не уверен, что мы ее по-
нимаем. Тот, кто хочет измерить древнюю китайскую куль-
туру, должен пользоваться китайской мерой, и странное чув-
ство возникает у него: ему кажется, что он перешел в другой
мир, где действуют другие законы времени и пространства.
Время изменяет свой ход, века текут как эоны32, и никак не
найти перспективы, которая позволила бы нам разглядеть
первую пагоду. Мы — среди антиподов, в единственном
мире, прямо противоположном христианскому; поистине там
ходишь вниз головой. Я упоминал о средневековом карто-
графе и его драконе; но какой путешественник думал найти
страну, где дракон добр и приветлив? О более серьезных
сторонах китайской цивилизации я скажу позже в другой
связи; здесь я говорю только о том, что между нами и Кита-
ем нет моста, именуемого традицией, а с Вавилоном и Егип-
том, Израилем и Грецией нас соединяет мост. Геродот го-
раздо ближе нам, чем китаец в современном костюме, кото-
рый сидит с нами за одним столиком лондонского кафе. Мы
знаем, что чувствовал Давид или Исайя, но я не уверен, зна-
ем ли мы, что чувствует Ли Хун-чжан33. Грехи, связанные с
именами Елены и Вирсавии34, стали для нас примерами про-
стительной и даже трогательной человеческой слабости. Сами
добродетели китайцев как-то пугают нас. Причина такого
различия в том, что одна традиция — наша, другая — нет.
Древний Египет передал наследство современной Европе. Но
если мы спросим, что же мы унаследовали и почему наслед-
ство связано с этими местами и этими народами, мы попадем
в самый центр истории цивилизаций.
Центр этот — Средиземное море, которое было не
столько морем, сколько миром. В мир этот, как в море, вли-
вались реки разных культур. И Нил, и Тибр текли в него; и
египтяне, и этруски жили на его берегах. Отблески сверкаю-
щих вод видели и арабы в пустыне и галлы за северными
горами. Постепенное созидание средиземноморской культу-
ры было главным делом древности. Иногда это было доброе
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
155
дело, иногда — злое. В orbis terrarum* вписались крайнее
зло и высокое добро, самые разные народы жили здесь и
разные веры. Азия снова и снова сражалась здесь с Евро-
пой, от персов на Саламине до турок у Лепанто35. Позже я
расскажу о главной, решающей схватке, когда встали друг
против друга два типа язычества, воплощенных в римском
форуме и финикийском рынке. Здесь было все: и война, и
мир, и добро, и зло. Ацтеки, монголы, Дальний Восток, при
всем моем уважении к ним, не значили столько, сколько зна-
чило Средиземноморье и значит до сих пор. Конечно, между
ним и краем Востока было — ив древности, и позже — не-
мало высоких вер и замечательных событий, в той или иной
степени связанных с ним, и поэтому понятных нам. Персы
приходили разрушить Вавилон, и греческие историки рас-
сказывают нам, как научились эти варвары гнуть лук и гово-
рить правду36. Александр, великий грек, пошел отсюда к
восходящему солнцу и подарил Европе странных птиц, яр-
ких, как облака на рассвете, и странные цветы, и драгоцен-
ные камни из сокровищниц безымянных царей. Ислам тоже
пошел на Восток, и Восток стал нам понятней, потому что
ислам родился в нашем круге земном, недалеко от нашего
моря. Много позже империя монголов разрослась, не рас-
крыв своей тайны; татары захватили Китай, а китайцы, по
всей видимости, почти не обратили на это внимания37. Все
это очень значительно само по себе, но, как ни старайся, не
удается перенести центр тяжести от нашего моря в просторы
Азии. Если бы на свете только и было то, что сказано, сдела-
но и построено вокруг него, мир, в котором мы живем, ока-
зался бы почти таким же. Когда культура Средиземноморья
пошла на Север и на Запад, она породила много удивитель-
ного, и удивительней всего — мы сами. Когда она затопила
землю, она оставалась той же самой, пока была культурой.
Вокруг Средиземного моря укромно, как вокруг озера, ле-
* Круг земель (лат.).
156
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
жало все самое главное, самое ценное, как бы это ни изменя-
ли и ни искажали, — республика и Церковь, Библия и эпос.
Ислам и Израиль, Аристотель и мера вещей38. Этот мир
освещен тем же самым белым, древним светом, в котором
мы сейчас живем, а не смутным сумраком незнакомых звезд;
потому я и начал с двух городов, которые он первыми выхва-
тил из тьмы.
Вавилон и Египет можно назвать первозванными уже
потому, что они знакомы, привычны и завлекательно таин-
ственны для нас и для наших предков. Не надо думать, что
только они лежали в глубокой древности вокруг моря и что
цивилизация была лишь у шумеров, или у семитов, или у коп-
тов; и уж никак нельзя думать, что она ограничена Азией и
Африкой. Серьезные исследователи все выше и выше под-
нимают древнюю цивилизацию Европы, особенно тех мест,
которые мы не слишком определенно называем Грецией.
Очень может быть, что существовали греки до греков, как,
по их собственной мифологии, были боги до богов. Остров
Крит был центром цивилизации, которую сейчас зовут ми-
нойской, в честь Миноса, чей лабиринт действительно на-
шли современные археологи. Может быть, эта высокая куль-
тура, знавшая гавань и канализацию и многие бытовые удоб-
ства, исчезла под нашествием с севера тех, кто создал или
унаследовал Элладу, известную нам из истории. Как бы то
ни было, период этот оставил миру такие дары, что мир до
сих пор не может расплатиться с ним, сколько ни тешит себя
плагиатом.
Неподалеку от Ионийского берега39, напротив Крита и
малых островов, был городок, который в наши дни сочли бы,
вероятно, огороженной деревней. Он назывался Илион, на-
зывали его и Троей, и это имя никогда не исчезнет с Земли.
Поэт, возможно, нищий, неграмотный певец, которого пре-
дание считает слепым, сложил поэму о греках, напавших на
этот город, чтобы отвоевать прекраснейшую в мире женщи-
ну. Нам кажется выдумкой, что прекраснейшая в мире жен-
щина оказалась именно в этом городке, но лучшую в мире
вечный человек
/57
поэму сложил человек, который не знал ничего, кроме таких
городков. Говорят, поэма эта появилась в конце древнейшей
культуры; если это верно, я очень хотел бы видеть эту куль-
туру в расцвете. Наша первая поэма могла бы остаться един-
ственной. Первое слово человека о его земной доле, увиден-
ной по-земному, могло бы стать последним. Если мир спол-
зет в язычество и погибнет, последний из живых может пе-
ред смертью прочитать «Илиаду».
Однако в великом откровении античного человека есть
черта, которой еще не отвели достойного места в истории.
По-видимому, поэт (и, несомненно, читатель) сочувствуют
скорее побежденным, нежели победителям. Именно это под-
хватила традиция, когда иссяк поэтический источник. В язы-
ческие времена Ахилл был почти полубогом, потом его почти
забыли. Но слава Гектора крепла с течением веков, имя его
носил рыцарь Круглого стола, меч его легенда вложила в руки
Роланда, одарив оружием побежденного беду и славу пора-
жения. В герое Илиона заложены все поражения, через ко-
торые прошли потом наши народы и наша вера, — те сотни
и тысячи бед, в которых наша слава.
Рассказ о гибели Трои не погибнет, ибо мир огласился
его эхом, бессмертным, как наше отчаяние и наша надежда.
Маленькая мирная Троя могла веками стоять безымянной.
Сломленная Троя погибла, и миг ее гибели остался жить на-
веки; пламя разрушило ее, а пламя не сожжешь. Так было с
городом, так было и с героем — из древнего сумрака про-
ступают очертания первого рыцаря40. В самом его прозви-
ще — пророчество. Мы говорили о рыцарстве, о славном
союзе коня и человека. За много веков его предвосхитил гро-
хот Гомерова гекзаметра и длинное, словно бы скачущее сло-
во, которым завершается «Илиада»41. Единение это сравни-
мо только со священным кентавром рыцарства. Но не только
потому отвожу я в нашем кратком рассказе так много места
объятому пламенем городу. Такие города стали священны-
ми, и пламя их побежало по берегам и островам Северного
Средиземноморья, по высокой ограде маленького мира, за
158
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
который умирали герои. Город мал, потому гражданин —
велик. Среди бесчисленных изваяний Эллады нет ничего
прекрасней свободного человека. Лабиринт огороженных
деревень зазвенел плачем Трои.
Легенда, придуманная позже, но никак не случайная, го-
ворит, что троянские беженцы основали республику на ита-
лийском берегу. В духовном смысле это правда; именно та-
ковы корни республиканской добродетели. Тайна чести, ро-
дившаяся не из гордыни Вавилона или Египта, засверкала,
как щит Гектора, вызывая на бой Азию и Африку. Занялся
новый день, шумно взлетели орлы и прогремело имя. Мир
проснулся, чтобы обрести Рим.42
Глава IV
БОГ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИЙ
Однажды известный ученый показывал мне римские по-
стройки древнего британского города и произнес при этом
фразу, которая кажется мне сатирой на многие ученые выс-
казывания. Может быть, он и сам понял шутку, хотя сохра-
нял серьезность, но я не знаю, понял ли он, что шутка эта
бьет прежде всего по «сравнительному изучению религий».
Я удивился, что из солнечного диска, окруженного лучами,
смотрел, против обыкновения, не молодой Аполлон, а боро-
датый Нептун или Юпитер. «Предполагают, — сказал мой
спутник с осторожностью, — что это Сул, местное боже-
ство. Лучшие авторитеты приравнивают его к Минерве; но
борода говорит о том, что тождество нельзя считать пол-
43
ным» .
Вот уж поистине мягко сказано. Нынешний мир безум-
ней всякой сатиры. Когда-то у Беллока смешной профессор
говорил, что бюст Ариадны по исследовании оказался бюс-
том Силена. Но куда ему до Минервы в роли бородатой жен-
щины! Правда, и то и это очень похоже на уподобления, ко-
вечный человек
/59
торыми мы обязаны «лучшим авторитетам». Когда христи-
анство приравнивают к самым диким мифам, я не смеюсь, и
не ругаюсь, и не выхожу из себя, я вежливо замечаю, что
тождество нельзя считать полным.
Во времена моей молодости Религией Человечества обыч-
но называли философию Конта — учение нескольких пози-
тивистов, поклонявшихся Человечеству. И в молодости я
догадывался, что не совсем последовательно отмахиваться от
учения о Троице, презрительно считая его мистическим и
даже безумным, и поклоняться Богу в ста миллионах лиц
44
неслиянно и нераздельно .
Однако на свете существует то, что можно с гораздо боль-
шим правом назвать религией человечества. Человек — не
кумир, но он почти всегда и везде творит себе кумира, и ку-
миры его во многом человечней и лучше современных наду-
манных абстракций. Если у восточного бога три головы и семь
рук, это хотя бы говорит о материальном воплощении неве-
домой силы и приближает его к нам. Но если друзья наши,
обычные люди, выйдя на прогулку, сольются в азиатского
идола, они станут от нас дальше. Многоликий, многорукий
идол порождает ощущение приоткрывающейся тайны; смут-
ные силы природы принимают в нем не слишком гармонич-
ную, но вполне наглядную форму. Люди теряют человече-
ский облик, если они недостаточно отделены друг от друга,
можно даже сказать, если они недостаточно одиноки. Их
труднее, а не легче понять. Чем ближе они друг к другу, тем
дальше от нас. Поклонники человечества тщательно изгоня-
ли из своей религии Бога, чтобы сохранить человека. Это не
получилось. Когда говорят о человечестве, мне представля-
ются пассажиры в переполненной подземке. Удивительно,
как далеки души, когда тела так близко.
Братство людей, о котором я говорю, не имеет ничего
общего с однообразной, стадной жизнью современного го-
рода. Под братством я понимаю то, к чему стремятся предо-
ставленные самим себе общества и даже люди, влекомые здо-
ровым человеческим инстинктом. Как все здоровое и чело-
160
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
веческое, он проявился в самых разных формах, но суть ос-
тается одна. Прежде всего мы увидим ее в той древней стра-
не свободы, которая лежит за пределами рабовладельческих
промышленных городов. Наша индустриальная цивилизация
гордится, что все ее изделия похожи, что на Ямайке и в Япо-
нии можно пить одно и то же плохое виски, а на обоих полю-
сах — увидеть один и тот же веселенький ярлычок сомни-
тельных рыбных консервов. А вино, дар богов, — разное в
каждой долине, и каждый виноградник может породить сот-
ню вин, ничуть не похожих на виски. Сыры меняются от ок-
руги к округе, и ни один из них не похож на мыло или на мел.
Говоря о братстве, я имею в виду бесконечное разнообразие;
тем не менее я буду рассматривать здесь людей как един-
ство. Я настаиваю: мы так запутались именно потому, что
этого не понимаем. Прежде чем сопоставлять религии и их
основателей, надо бы понять очень естественное явление,
охватывающее огромное братство людей. Явление это —
язычество; и на этих страницах я попытаюсь показать, что
только оно соперничает с Церковью Христовой.
Сравнительное изучение религий лучше бы назвать со-
мнительным. Когда мы присмотримся к нему, мы видим, что
оно сравнивает несравнимое. Мы привыкли к единому спис-
ку великих религий и тех, кто их основал: Христос, Маго-
мет, Будда, Конфуций. Но это ловкость рук, обман зрения,
одна из тех оптических иллюзий, которые возникают, если
смотришь из определенной точки. Религии и основатели ре-
лигий — или то, что так называют, — совсем не одинаковы.
Иллюзия отчасти вызвана тем, что ислам в этом перечне идет
за христианством, как и было в истории. Остальные же ре-
лигии ничуть не схожи ни с Церковью, ни друг с другом.
Когда мы доходим до Конфуция, обрывается последняя связь.
Сравнивать христианина с последователем Конфуция — то
же самое, что сравнивать теиста45 с английским сквайром или
веру в бессмертие души с американским образом жизни.
Конфуций, быть может, создал цивилизацию, но никак не
религию.
вечный человек
161
Церковь неповторима, и потому так трудно доказать ее
неповторимость. Ведь легче и нагляднее всего доказатель-
ство по сходству, а в мире нет ничего подобного Церкви.
Нет подобия — нет и искажения. Все же я, кажется, нашел
довольно близкую параллель. Наверное, многие согласятся,
что евреи занимают в мире особенное, единственное место.
Только их мы вправе назвать международным народом;
только эта древняя культура рассеяна по всему миру, и ее
еще можно отличить, но невозможно уничтожить. И вот
представьте себе, что кто-нибудь решил смягчить загадоч-
ную неповторимость евреев, составив список рассеянных по
свету народов. Начать нетрудно — есть цыгане; быть мо-
жет, они не совсем народ, но, без сомнения, рассеяны по
свету. После этого профессору новой науки нетрудно перей-
ти к кому угодно. Он может отметить непоседливость англи-
чан, разбросавших колонии по всему миру, — и правда,
многим англичанам не сидится в Англии, хотя их уход не
всегда ей на пользу. Как только мы упомянем бродячую импе-
рию англичан, мы вспомним империю ссыльных — ирланд-
цев. Странно, что непоседливость в первом случае говорит о
предприимчивости и силе, во втором — о никчемности и
слабости. Затем наш ученый глубокомысленно оглядится и
вспомнит, что последнее время поговаривают о немцах-лаке-
ях, немцах-парикмахерах и прочих немцах, натурализовав-
шихся в Англии, Соединенных Штатах и Южной Америке,
и внесет в список пятую нацию бродяг, припомнив кстати
слово «Wanderlust»*. Наконец, почувствовав, что конец
близок, он сделает последний отчаянный прыжок. Он обра-
тит внимание на то, что французы взяли почти все европей-
ские столицы и прошли бесчисленные страны под началом
Бонапарта или Карла Великого. Вот и готов список бродя-
чих, бездомных народов, а в евреях нет ничего особенного,
тем более мистического. Но люди здравомыслящие могут
заподозрить, что ученый просто расширил понятие бродяче-
* Тяга к странствиям (нем.).
162
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
го народа до того, что оно потеряло всякий смысл. Конечно,
французские солдаты проделали славнейшие в истории похо-
ды, но если французский крестьянин не врос корнями в зем-
лю, то на свете оседлости нет.
Именно этот фокус проделали ученые, расставившие в
ряд великие религии. Я не хочу сказать, что члены этого ряда
лишены величия или своеобразия. И конфуцианство, и буд-
дизм велики, но они — не Церковь; так англичане и фран-
цузы — великие народы, но они — не бродячие. В некото-
рых отношениях христианство похоже на свою имитацию,
ислам; и цыгане кое в чем похожи на евреев. Дальше список
включает почти все, что попадется под руку.
Со всем почтением к тем, кто много ученей меня, я по-
смею отказаться от нынешнего метода, который, на мой
взгляд, исказил исторические факты, и предложу свою клас-
сификацию, которая, надеюсь, охватит все факты, а также,
что здесь важнее, — все вымыслы. Я разделю религии не
географически, не вертикально (христианство, ислам, инду-
изм, буддизм), а психологически, горизонтально. Я разделю
их по слоям, которые могут существовать в одной стране и
даже в одной душе. На время я вынесу христианство за скобки
и расскажу о вере в Бога, в богов, в бесов, в мудрость. Мне
кажется, что такая классификация поможет рассортировать
духовный опыт человечества гораздо успешнее, чем обычное
сопоставление религий, и многие великие личности встанут
на свои места. Поскольку я буду не раз пользоваться этими
терминами, я хотел бы сейчас определить, что понимаю под
каждым из них. Начну с самого простого и с самого высоко-
го в этой главе.
Говоря о языческом человечестве, нам приходится начи-
нать с описания неописуемого. Многие преодолевают труд-
ность тем, что просто отрицают ее или хотя бы не замечают;
но в том-то и суть, что это оставалось и тогда, когда этого
не замечали. Теперь все помешались на эволюции и полага-
ют, что большое всегда развивается из маленького, как
плод — из семени. Но они забывают, что семя падает с
вечный человек
163
дерева. И впрямь, у нас нет доказательств, что религия раз-
вилась из ничтожной забытой мелочи; гораздо вероятнее,
что ее начало было слишком огромно и потому — неспод-
ручно. Очень может быть, что многие люди начали с про-
стой и поразительной идеи Вседержителя и только потом,
как бы от усталости, соскользнули к богам или бесам. Даже
современные дикари, столь любезные фольклористу, под-
тверждают эту мысль. У дикарей примитивных во всех
смыслах, какие только вкладывают в это слово, — скажем,
у аборигенов Австралии — обнаружили монотеизм с явной
нравственной окраской. Какие-то дикие политеисты расска-
зывали миссионеру свои запутанные мифы, а он в ответ
рассказал им о благом Боге, Который чисто духовен и судит
людей по истине. Туземцы переполошились, словно кто-то
выдал тайну, и закричали: «Атахокан! Он говорит про Ата-
хокана!»46.
Может быть, вежливость и даже скромность не разре-
шали им упоминать Атахокана. Может быть, у них, в отли-
чие от нас, это имя не упоминают всуе. Возможно, старый
Бог был связан со старой нравственностью, которая показа-
лась обременительной в трудную минуту. Наконец, общение
с бесами бывает более модным, более утонченным, как и в
наши дни. Какова бы ни была причина, это встречается не-
редко: люди говорят о богах, принимая без разговоров Бога.
Индеец Калифорнии рассказывает: «Солнце — отец и пра-
витель неба. Оно — большой вождь. Луна — его жена, а
звезды — дети», и так далее, и вдруг посредине этой слож-
ной и наивной повести поясняет как бы в скобках, что солнце
и луна должны делать то-то и то-то, «ибо так приказал Ве-
ликий Дух, Который выше всего». Вот как относятся многие
язычники к Богу. Его принимают как должное, забывают и
вспоминают к случаю; кажется, это свойственно не одним
язычникам. Иногда Высшее Существо хранят в тайне и упо-
минают лишь на высших ступенях посвящения. Но поистине
всегда дикарь легко говорит о мифологии, молчит — о рели-
гии. Австралиец, например, создал царство нелепицы, кото-
164
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
рое наши предки сочли бы достойным антиподов. Ему ниче-
го не стоит поболтать общения ради о том, что солнце и
луна — половинки разрубленного младенца, а дождь —
молоко исполинской коровы, но он удаляется в тайные пеще-
ры, скрытые от женщин и белых, в храмы страшной инициа-
ции и там, под ритуальный грохот, обливаясь жертвенной
кровью, узнает от жреца последние, чудовищные тайны, до-
ступные только посвященным: что честность лучше хитрос-
ти, что добротой дела не испортишь, что люди — братья, а
Отец их — Бог, Вседержитель, Творец неба и земли, види-
47
мого и невидимого .
Может показаться странным, что дикарь выбалтывает
самые уродливые и нелепые свои верования и скрывает то,
что величественно и разумно. Но в том-то и дело, что это
совсем разные вещи. Мифы — это сказки, вымыслы, даже
если они вездесущи, словно тропический ливень. Тайна —
это правда, и скрывают ее потому, что принимают всерьез.
Слишком легко забыть, как страшно единобожие. Роман, где
все действующие лица окажутся одним и тем же героем,
произведет немалое впечатление. Как же потрясает модель,
что и солнце, и река, и дерево — обличья одного Бога! К не-
счастью, и мы слишком часто принимаем Атахокана как долж-
ное. Но и для тех, кто допустил, чтобы мысль о Нем стала
общим местом, и для тех, кто хранит ее в тайне, это старый
трюизм и старая тайна. Нет доказательств, что она разви-
лась из мифов, зато много оснований считать, что она мифам
предшествовала. Мы не знаем, что творилось в мире, но «эво-
люция идеи Бога» — чистейшая выдумка. Идею эту прята-
ли, от нее прятались, о ней почти забывали, ее отвергали —
но она не развивалась. Многобожие нередко кажется воро-
хом единобожий. Тот или иной бог, занимающий невысокое
место на Олимпе, владел и небом и землей в собственной
долине. Как маленький народ, поглощаемый империей, он
отдал местное всесилие за повсеместную известность. Самое
имя Пана наводит на мысль о том, что он был богом всего,
прежде чем стал богом леса. Само имя Юпитера звучит язы-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
165
ческой версией слов «Отче наш»48. Порою кажется, что не
только Великий Отец, но и Великая Мать, Деметра или
Кибела, просто не вынесла бремени единовластия. Вполне
возможно, что у многих и не было других богов — они по-
клонялись какому-то одному, считая его Вседержителем.
В некоторых огромных, многолюдных краях — скажем,
в Китае — простая мысль о Великом Отце не была, по-ви-
димому, осложнена культами, хотя и сама в каком-то смысле
не перестала быть культом. Лучшие авторитеты признают,
что учение Конфуция — в сущности, агностическое — ужи-
валось со старым теизмом именно потому, что он был в выс-
шей степени расплывчатым. Китайцы говорили не о Боге, а о
Небе, словно вежливый человек в гостиной, а небо всегда
над нами, даже если мы очень далеки от него. Так и кажется,
что простая истина уходила все дальше, пока не стала совсем
далекой, по-прежнему оставаясь истиной. Именно это мы
ощущаем в загадочных и прекрасных мифах о разлучении
земли и неба — какая-то высшая сила куда-то уходит. Нам
рассказывают на тысячи ладов, что небо и земля были неког-
да вместе, любили друг друга, а потом что-то, например не-
послушный ребенок, разлучило их, и мир был построен в этой
пропасти, на расставании и разрыве. Одну из самых грубых
версий мы находим в Греции в мифе об Уране и Сатурне;
одну из самых поэтичных — у дикого племени, рассказыва-
ющего о перце, который рос и рос, поднимая небо, как крыш-
ку. О мифах и мифических толкованиях, которые теперь пред-
лагают, я буду говорить позднее. Но в этом образе, образе
делящегося мира, есть отзвук очень важных идей. Чтобы их
понять, лучше лечь на спину в поле и глядеть в небо, чем
читать самые ученые и лучшие книги о фольклоре. Тогда мы
узнаем, почему говорят, что небо должно быть ближе и ког-
да-то было совсем близко, что оно не чуждо нам, а от нас
оторвано и теперь прощается с нами. И странная догадка заб-
резжит в нашем сознании: а может быть, мифотворец — не
просто деревенский дурак, вздумавший резать ножом обла-
ка? Может быть, в Томасе Гуде49 говорил не грубый ди-
166
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
карь, когда он писал, что, судя по верхушкам деревьев, он
дальше от неба, чем в детстве? Мне кажется, он бы понял
миф об Уране и Сатурне — о том, что царя небес изгнал Дух
Времени. Мысль о Боге светится даже в мысли, что были
боги до богов. Во всех запутанных намеках — отблеск ка-
кой-то прежней простоты. Боги и полубоги плодятся на на-
ших глазах, как сельди, а мы чувствуем, что у них есть родо-
начальник. Мифология становится все сложнее, и это наво-
дит на мысль, что она когда-то была простой. Даже с внеш-
ней, с научной точки зрения можно предположить, что люди
начали с единобожия, а позже оно развилось или выроди-
лось в многобожие. Но меня интересует не столько внешняя,
сколько внутренняя сторона дела, а, как я уже сказал, эту
сторону почти невозможно описать. Ведь нужно говорить
именно о том, о чем не говорят люди, переводить не с чужого
языка, а с чужого молчания.
Мне кажется, что за всем многобожием и язычеством
стоит что-то непомерно огромное, а мы видим лишь его от-
блеск в дикарских или греческих мифах. Я не сказал бы, что
там есть Бог, Его там нет, но отсутствие — не отрицание.
Когда мы пьем за отсутствующих друзей, мы не хотим ска-
зать, что ни с кем не дружим. Такая пустота конкретна и
положительна, как пустой стул. Я преувеличил бы, если бы
сказал, что греки видели над Олимпом пустой престол. Бли-
же к истине великий образ Ветхого Завета — помните, как
пророк видел Господа сзади?50 Вот и к древним словно кто-
то великий повернулся спиной. Не надо думать, что они ви-
дели Его так же ясно и сознательно, как Моисей и его на-
род. Я совсем не думаю, что язычники были подавлены
мыслью о Нем, ибо она и впрямь подавляет. Нет, она так
огромна, что они несли ее легко, как все мы несем груз неба.
Глядя на облако или птицу, мы можем и не заметить их
грозного синего фона. Небо давит на нас, почти нас уничто-
жает, и мы ощущаем его как ничто, как пустоту. Может
быть, все это и впрямь ничтожные или пустые ощущения, но
у меня они очень сильны, когда я читаю о языческих мифах
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
167
и верованиях. Я ощущаю это в несказанной печали стихов и
далеко не уверен, что хоть один из славных мужей древнос-
ти ведал радость святого Франциска. Я ощущаю это в ле-
генде о золотом веке и в намеках на то, что сами боги —
подвластны, даже если Неведомый выцвел и стал Судьбой.
А сильнее всего этот дух в те бессмертные минуты, когда
древние, словно стряхнув накопившуюся сложность, говорят
просто, почти прямо и только наше односложное слово мо-
жет выразить их мысль. Чем заменишь его в Сократовом
прощании с судьями: «Я иду умирать, вы остаетесь жить, и
только Богу ведомо, что лучше»? Ничем не заменишь его у
Марка Аврелия: «Он говорит: «Возлюбленный град Кекро-
па», почему же ты не скажешь: «Возлюбленный град Бо-
жий»? И нет другого слова у Вергилия, возопившего ко
всем страждущим как истый христианин до Христа: «О pas-
so graviora dabit deus his quoque finem»*.
Древним казалось: что-то есть выше богов и потому —
дальше от людей. Даже Вергилий не смог разгадать загадку
Того, Кто и выше и ближе. Для них Всевышний был таким
далеким, что они все меньше и меньше думали о Нем. Он все
меньше был связан с их мифами; но когда мы узнаем, какими
были почти все их мифы, мы можем счесть это молчаливым
признанием Его неприкосновенной чистоты. Евреи не уни-
жали Бога изображением, греки — вымыслами. Когда вспо-
минают лишь шутки и подлости богов, поистине благочести-
во забыть о Боге. Весь дух тех времен подсказывает нам, что
люди выбрали низшее и почти сознают это сами. Трудно най-
ти слова для таких вещей, но одно, самое точное слово уже
найдено. Древние знали о грехопадении, даже если они ни о
чем не знали; знают о нем и все настоящие язычники. Упав-
ший с высоты может помнить о падении, даже если он забыл
высоту. Этот мучительный, как танталова пытка, провал па-
мяти зияет в глубине всех языческих чувств. Все мы иногда,
* «Нашим мучениям Бог положит предел» (лат.)', «Энеида», I,
200. — Перевод С. Шервинского.
168
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
на секунду, вспоминаем, что о чем-то забыли; и самые тем-
ные из людей, взглянув на землю, могут вспомнить, что за-
были о небе. Но у древних были минуты, подобные воспоми-
наниям детства, когда они говорили просто и прямо; когда
римлянин Вергилий разрубал ударом стиха хитросплетения
мифов и разбегалось сборище богов, а в небе оставался Бог.
Белый свет полузабытого утра еще лежит на Юпитере,
Пане или раннем Аполлоне. Я уже говорил, что каждый из
них мог быть когда-то единственным, как Ягве или Аллах.
Они утратили свое могущество благодаря тому, о чем очень
нужно сказать, — их соединяли, сгоняли вместе, и это было
весьма похоже на нынешний синкретизм. Мир язычества
создавал Пантеон и принимал в него все новых и новых бо-
гов, даже варварских и чуждых, из Азии и Африки; что ж,
вместе веселее, хотя азиатские и африканские боги не всегда
были веселыми. Он принимал их на равных правах, иногда
отождествлял со своими. Может быть, он считал, что это
обогащает религиозную жизнь, но именно так потерял он
окончательно то, что мы зовем религией. Древнейший свет
простоты, идущий от одного источника, словно от солнца,
сменился сложной игрой полутонов и теней. Бога принесли в
жертву богам.
Теперь считается очень либеральным и смелым призна-
вать, что чужой бог не хуже нашего. Вероятно, древние тоже
считали себя и просвещенными, и смелыми, присоединяя к
богам очага или города дикого Диониса, сошедшего с гор,
или грубого Пана, вылезшего из леса. Ради этой широты
взглядов они потеряли самое широкое, всеобъемлющее пред-
ставление об Отце, объединяющем мир. И наоборот: навер-
ное, тех, кто был предан одной статуе или одному имени, счи-
тали суеверными, отсталыми людьми. Но именно эти тем-
ные провинциалы хранили то, что много ближе, чем боги, к
космической силе философов и даже к космической силе уче-
ных. Косные тугодумы были пророками, и из этого парадок-
са можно сделать очень важный вывод. Я не хочу углублять-
ся сейчас во все, что говорили по этому поводу, я просто со-
вечный человек
169
общаю исторический факт: особый свет сияет с самого нача-
ла на маленьком одиноком народе. В этом парадоксе, в таин-
ственной загадке, разгадка которой была неизвестна столе-
тиями, — миссия и сила евреев.
Попросту говоря, мы обязаны Богом евреям. Мы обяза-
ны БогОхМ тому, что так часто порицают в евреях, и даже тому,
что и вправду заслуживает порицания. Во всех этих стран-
ствиях, конца которым не видно и в наши дни, особенно в
начале странствий, евреи несли судьбы мира в деревянном
ковчеге, где, может быть, таился безликий символ и, несом-
ненно, жил невидимый Бог. Очень важно, что Бог был без-
ликим. Как бы ни трогала нас творческая свобода христиан-
ства, затмившая даже гармонию античности, мы не должны
забывать, как много значило для мира отвращение евреев к
идолам. Запреты нередко охраняют широту, как забор охра-
няет поле. Бог, который не мог стать идолом, оставался Ду-
хом. Но если бы евреи изобразили Его, изображение это ни
в коей мере не обрело бы обезоруживающей прелести и див-
ного достоинства греческих скульптур. Он жил в стране чу-
дищ. Мы увидим позже, какими они были — Молох, и Да-
гон, и страшная Танит. Если бы для Бога Израилева выбра-
ли вещественный символ, это был бы фаллический символ.
Если бы Ему дали тело, вызвали бы к жизни худшее в мифо-
логии, все многоженство многобожия, небесный гарем. Но
евреи отказались изображать Его, и это первый в истории
пример той мнимой узости, которую так осуждают узкие ли-
бералы. Однако у тех же критиков есть и более веское обви-
нение: нередко с презрительной усмешкой они замечают, что
Бог Израиля — просто грубый Бог Воинств51, варварский
военачальник, завистливый враг и соперник всех других бо-
гов. Как хорошо для всех нас, что Он был богом воинств!
Как хорошо, что Он враждовал с другими богами! Они были
бы очень рады, если бы Он простер к ним руки, милостиво
обнял Молоха, целовал размалеванный лик Астарты и отдал
бы Свой звездный венец за сому Индии, нектар Олимпа или
мед Валгаллы52.
170
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Насколько легче и проще было бы евреям, если бы они,
вняв голосу просвещенного синкретизма, согласились слить-
ся с языческими культами. Несомненно, они соскальзывали
на этот пологий склон, и каждый раз их удерживала пламен-
ная одержимость нескольких вдохновенных демагогов, чьи
свидетельства о Едином и сейчас словно яростный ветер. Чем
больше мы знаем о тех путях, какими шла к победе наша вера,
тем сильнее поражает нас — в самом прямом смысле сло-
ва — величие пророков Израиля. Когда весь мир раство-
рялся в мешанине мифов, Саваоф — местный, ограничен-
ный Бог воинств — сохранял в неприкосновенности первую
религию людей. Он был Богом племени, и потому мог стать
Богом всего мира. Он был ограничен, как и мир.
Скажу иначе. Был у язычников бог Юпитер-Амон, но
никогда не было на свете ни Юпитера-Ягве, ни Ягве-Амо-
на. Если бы они были, был бы и Ягве-Молох. Задолго до
того как сторонники синкретизма добрались до Юпитера,
образ таинственного Вседержителя потерял бы все свои чер-
ты, все единство, он исказился бы до идола, куда более гнус-
ного, чем дикарский фетиш, — ведь он стал бы цивилизо-
ванным, как боги Тира и Карфагена. Какой была эта циви-
лизация, я расскажу позже, когда попытаюсь описать, как
бесы едва не разрушили Европу и все, что было здорового в
язычестве. Но хребет мира был бы сломлен задолго до этого,
если бы не устоял монотеизм Моисеева предания. Надеюсь,
в следующей главе я покажу, что отношусь совсем неплохо к
тому здоровому началу язычества, которое породило его сказ-
ки и повести. Но еще я надеюсь показать, что все это было
обречено и мир погиб бы, если бы мы не сумели вернуться к
изначальной простоте Первоначала. Тем, что мы хоть как-
то к ней вернулись и ее сохранили; тем, что поэты и филосо-
фы и в наше время могут славить Всевышнего и мы живем в
просторном, светлом мире, под небом, отечески распростер-
шимся над всеми народами земли; тем, наконец, что мудрость
и милосердие стали прописными истинами для простых и ра-
зумных людей — всем этим мы обязаны беспокойному бро-
вечный человек
171
дячему народу, подарившему нам святое и спокойное благо-
словение ревнивого Бога.
Языческий мир владел всем, кроме этой тайны, потому
что ею владели скрытные, ревнивые люди. Их не любили,
отчасти за узость, которую заметил Рим, отчасти же потому,
что они уже начали подменять ремесла сделками. Важно и
то, что многобожие стало непроходимым, как джунгли, и
одинокому единобожию легко было в нем затеряться. И все
же странно видеть, как глубоко оно затерялось. У них были
сокровища, ставшие теперь достоянием всего мира, — поче-
му же они не стали ими тогда? Книга Иова — один из крае-
угольных камней культуры, выше самой «Илиады» и гре-
ческих трагедий. Я не могу читать спокойно о том, как двух
извечных дураков, пессимиста и оптимиста, низвергли на заре
времен. Дух этой книги глубже горькой языческой иронии
именно потому, что в единобожии больше мистики, собствен-
но, книга эта отвечает на тайну тайной, Иов утешается за-
гадкой — но утешается! Вот прототип, вот пророчество о
Том, Кто говорит как власть имеющий53. Когда сомневаю-
щийся может только сказать: «Я не понимаю», Знающий
может только ответить: «Да, ты не понимаешь», и сразу воз-
никает надежда — значит, что-то стоит понять. Но антич-
ный мир, исполненный поэзии многобожия, не заметил поэ-
зии монотеизма. Как же отделены были евреи, и как ревно-
стно они хранили свое предание! Ведь сохранить в тайне книгу
Иова от всего образованного мира не легче, чем скромно спря-
тать пирамиды. Евреи не доверяли римлянам; но и римляне
не доверяли евреям, и не случайно. В конце концов, Изра-
иль владел только половиной истины, хотя, следуя поговор-
ке, ее можно назвать большей половиной. Другая половина
(я скажу о ней в следующей главе) тоже была истиной, пусть
много более легкой, менее важной. Скорбь Иова не полна
без скорби Гектора, плач о мироздании — без плача о горо-
де. Когда Господь говорит из бури, он мог бы говорить в
пустыне. Монотеизма кочевников мало для пестрой цивили-
зации полей, городских стен, изгородей и храмов, которым
/72
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
тоже пришел свой черед, когда обе половины сомкнулись в
более четкой и трогательной вере. Среди языческой толпы
иногда попадался философ, мысливший о чистом теизме, но
он и не думал, что может изменить все обычаи. Нам трудно
понять, как в философских системах соотносились политеизм
и теизм. Может быть, точнее всего здесь будет образ, поза-
имствованный из преданий, еще более далеких от Рима, чем
Ветхий Завет. Я читал, что, по индусскому поверью, и боги,
и люди — только сны Брахмы и все они исчезнут, когда он
проснется. Конечно, в этом образе немало того духа, кото-
рый мы назвали бы отчаянием, а в Азии зовут миром. Мы
рассмотрим его, когда будем полнее сравнивать Азию и Ев-
ропу. Но он поразительно тонко и точно показывает одно:
как непохожи, даже противоречивы мифы и религия. В том-
то и беда сравнительного изучения религий, что Бога не срав-
нишь с богами, как не сравнишь человека с героями сновиде-
ний. Если вам кажется, что разница сводится к тому, что у
нас один Бог, а у других — побольше, вам будет полезна
слоновья причудливость индийской космологии; и, может
быть, вы ощутите, как содрогнулся покров мира, и все мно-
горукие творцы, и звери на престолах, и сложные узоры
звезд — властительниц ночи, когда открылись глаза Брах-
мы, словно занялась заря.
Глава V
ЧЕЛОВЕК И МИФЫ
Когда я сравниваю богов с мечтами или сновидениями, я
не хочу сказать, что сны не могут сбываться. Когда я срав-
ниваю их с рассказами о путешествиях, я не хочу сказать, что
в таких рассказах нет правды или хотя бы правдоподобия.
Скорее всего, они похожи на то, что путешественник расска-
зывает самому себе. В наши дни почему-то совершенно за-
были, что миф — плод воображения и потому — произве-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК/73
дение искусства. Надо быть поэтом, чтобы создать его, и надо
быть поэтом, чтобы его критиковать. В мире больше поэтов,
чем непоэтов, — иначе народ не создал бы легенд, но мне
никто не объяснил, почему только малочисленному непоэти-
ческому меньшинству разрешается исследовать творения на-
рода. Мы не отдаем сонет на суд математика или песню на
суд счетовода, но никого не удивляет, что народное творче-
ство прежде всего рассматривают научно. На самом же деле
поэзию народа прежде всего надо рассматривать эстетиче-
ски. Если дикарь говорит профессору, что вначале на свете
была только пернатая змея, профессор должен содрогнуться
и наполовину поверить, иначе он не имеет права судить о та-
ких вещах. Если лучшие краснокожие авторитеты уверяют,
что древний герой носил в шкатулке солнце, луну и звезды,
он должен захлопать в ладоши или задрыгать ногами от ра-
дости. Это испытание не так уж нелепо. Первобытные дети
и дети дикарей и смеются, и дрыгают ногами, как наши; мы
должны проявить хоть минимум детской простоты, чтобы
получить право судить о детстве мира. Когда нянька расска-
зывала Гайавате54, что воин забросил на луну свою бабушку,
он смеялся, как смеются наши дети, когда няня рассказывает
им, что корова перепрыгнула через луну. Ребенок видит шут-
ку не хуже взрослых и гораздо лучше многих ученых. Если
ученый мне скажет, что маленький Гайавата смеялся потому,
что экономика индейцев заставляла их уничтожать преста-
релых членов семьи, я позволю себе не согласиться. Если
ученый скажет, что корова перепрыгнула через луну только
потому, что молочный скот был связан с культом Дианы, я
ему не поверю. Что же еще делать корове, как не прыгать
через луну? Мифотворчество — одно из немногих действи-
тельно утраченных искусств. Но это искусство. Рогатый ме-
сяц и рогатая корова как нельзя лучше подходят друг к дру-
гу* Бросать бабушек в небо не очень похвально, но эстети-
чески безупречно.
В отличие от художников и поэтов, ученые редко пони-
мают, что одна из ветвей красоты — уродство. Им неведома
174
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
законная красота гротеска; они называют дикарский миф гру-
бым, нелепым и болезненным, потому что в нем нет красоты
летящего Меркурия, и не видят, что в нем есть красота не-
счастной Алисиной Черепахи или сумасшедшего Шляпни-
ка. Люди прозаические всегда требуют от поэтов поэтично-
сти. Мифы же пропитаны настоящим юмором. У австралий-
ских аборигенов, признанных безнадежно примитивными,
есть сказание о гигантской лягушке, которая проглотила всю
воду на земле и не вернет ее, пока не рассмеется. Самые раз-
ные животные проходят перед ней, но она держится серьез-
но, как королева Виктория. Пробрал ее только угорь, кото-
рый стоял на хвосте, по-видимому, отчаянно стараясь сохра-
нить собственное достоинство. Из этой басни можно выкро-
ить сколько угодно самой прекрасной литературы. Как
глубоко и мудро видение сухого мира, тоскующего о благо-
стном потопе смеха! Как прекрасно огромное чудище, извер-
гающее воду! Как смешна раздутая пучеглазая морда, взи-
рающая на пеликана или пингвина! Во всяком случае, лягуш-
ка рассмеялась; но фольклористы сохранили серьезность.
Если даже мифотворчество ниже искусства, его все рав-
но нельзя судить с точки зрения науки. Многие мифы про-
сты и незамысловаты, как первые детские рисунки. Но ре-
бенок рисует, и мы не считаем его рисунки плохим чертежом.
Ученый не может рассуждать о дикаре, потому что дикарь
не рассуждает о мироздании. Он занят совсем другим делом;
я бы сказал, что он сплетничает о богах. Если хотите, он по-
верил в них раньше, чем собрался о них подумать. Точнее,
он принял их раньше, чем в них поверил.
Признаюсь, я не сторонник теории бродячих сюжетов
или, вернее, бродячего сюжета. Действительно, многие
мифы похожи; но это ничуть не доказывает, что они заим-
ствованы. Человек совсем не обязательно крадет рассказ у
другого; очень может быть, что с ним просто случилось то
же самое. Доводы фольклористов нетрудно применить к
литературе и превратить всех писателей в маньяков плагиата.
Я легко отыщу в сотнях книг мотив цветка или цветов — от
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
/75
злосчастного букета Бекки Шарп до роз принцессы Рури-
танской55. Может быть, эти цветы выросли на одинаковой
почве, но это не один и тот же цветок, захватанный многими
руками.
Истинное происхождение всех мифов открывали слиш-
ком часто. В мифологии слишком много ключей, как слиш-
ком много криптограмм в Шекспире. Все — фаллический
культ; все — тотем; все — воскресающий и умирающий злак;
все — духи предков и погребальные обряды; все — золотая
ветвь жертвоприношения; все — солнце и луна; все — это
все56. Каждый мало-мальски разумный фольклорист, кото-
рый видел, и читал, и понял больше, чем требует его мания,
например Эндрью Ленг57, признается, что от всего этого у
него голова идет кругом. Но в том-то и беда, что мы хотим
рассматривать мифы со стороны, как принято в науке. А надо
увидеть их изнутри. Надо спросить самого себя: как бы я
начал хорошую сказку? Начать ее можно с чего угодно и по-
вернуть куда угодно. Можно начать с птицы, даже если пти-
ца не тотем; можно начать с солнца, не думая о солярном
мифе. Разрешите десяти тысячам детей рассказать о том, что
они делали в лесу, и вы без труда найдете одинаковые сюже-
ты, которые прекрасно подойдут под поклонение солнцу и
тотему. Будут здесь и очень хорошие, и глупые, и даже гнус-
ные рассказы, но судить о них можно только как о расска-
зах, на современном жаргоне — о них можно судить только
эстетически. В наше время вкус пустили в области, где он не
имел никаких прав, позволили ему подтачивать разум праг-
матизмом и нравственность — распущенностью; тем более
странно, что его не пускают в действительно подвластную
ему область. Мы даем волю чувству прекрасного везде, кро-
ме сказок.
Чем человек проще, тем он тоньше. Каждый должен по-
мнить это, потому что каждый был ребенком. Как бы мало
ребенок ни знал, он знает больше, чем может сказать, и ощу-
щает не только атмосферу в целом, но и тончайшие ее оттен-
ки. Вы не поймете моих слов, если не испытаете того, что
176
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
испытал всякий поэт или художник. Когда мы видим пре-
красное, нам не терпится отыскать в нем смысл, узнать его
тайну, и мы места себе не находим, когда дерево или башня
ускользают от нас, не рассказав о себе. Для поэта и худож-
ника нет совершенства там, где нет души. Бессознательная
красота мира — как обезглавленная статуя. Только в выс-
шей степени второстепенного поэта удовлетворит безголосая
башня или безглазое дерево. Часто говорят, что языческие
боги олицетворяют силы природы. Это верно и все же неточ-
но; можно подумать, что для древних силы природы — аб-
стракция, олицетворение — искусственно. Мифы — не ал-
легория. Дриада — совсем не то, что какой-нибудь бог тяго-
тения. Дух водопада — не дух падения воды. В том-то и суть,
что он одухотворяет воду, придает ей смысл. Ведь и Рожде-
ственский Дед — не отвлеченная идея снега или святости и
не просто белое мягкое вещество, слепленное по образу и
подобию человека, как снежная баба. Он придает новый
смысл белому миру и вечнозеленым веткам; из-за него са-
мый снег кажется нам теплым. Конечно, мой довод взывает
только к воображению, но это не значит, что он произволен.
Это не значит, что он субъективен, как говорят теперь, когда
хотят обвинить во лжи. Каждый настоящий художник со-
знательно или бессознательно чувствует, что касается потус-
торонних истин, что его образы — тени реальности, увиден-
ной сквозь покров. Мистик, создавший мифы, знал: что-то
да есть за облаками и в листве деревьев. И ему казалось,
что, погнавшись за красотой, он это отыщет, вызовет магией
воображения.
Теперь мы его не понимаем, даже когда сами так чув-
ствуем, тем более когда читаем о наших далеких предках.
Потому и опасно раскладывать по полочкам такие вещи;
нам начинает казаться, что никаких загадок тут нет. Даже
настоящее, глубокое, тонкое исследование — «Золотая
ветвь»58, например, — оставляет у читателя смутное впе-
чатление, что миф о спрятанном сердце колдуна или велика-
на что-то «значит», «выражает» какое-то глупое поверье
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК /77
под названием «внешняя душа». На самом же деле мы не
знаем, что значат такие вещи; мы не знаем, почему они так
сильно трогают нас самих. Представьте, что кто-нибудь го-
ворит: «Сорви этот цветок, и в далеком замке умрет прин-
цесса». Мы не знаем, почему нас охватывает тревога и не-
возможное кажется нам неизбежным. Представьте, что мы
читаем: «И когда король погасил свечу, его корабли погибли
далеко у Гебридских островов». Мы не знаем, почему вооб-
ражение примет это раньше, чем оттолкнет разум, но что-то
очень глубокое задевают эти слова — смутное ощущение,
что большие вещи зависят от маленьких: темное чувство, что
окружающие нас предметы значат гораздо больше, чем мы
думаем, и многое другое. Сила таких поверий подобна силе
метафоры. Как часто душа метафоры — поистине «внешняя
душа»! Лучшие критики замечали, что у лучших поэтов
многие образы не имеют никакого отношения к тексту, свя-
заны с ним так же мало, как замок с розами или дальние ос-
трова со свечой. Шелли сравнивает жаворонка с юной
княжной, и с ворохом роз, и со многими другими вещами,
которые, по-моему, меньше всего на свете похожи на жаво-
ронка. Наверное, нет в английской литературе слов, равных
по магической силе зацитированной уже строчке из Китсова
«Соловья» о «волшебных окнах над скалой морской»*, и
никто не замечает, что и этот образ совершенно ни на чем не
держится. Он идет сразу же после таких же загадочных за-
мечаний о Руфи и с сюжетом ничем не связан. А главное,
если и есть на свете место, где ни за что не найдешь соло-
вья, то это подоконник на морском берегу. Но никто и не
собирается его там искать. В том же самом смысле никто не
ждет, что отыщет сердце великана в ларчике под водой.
Когда Шелли говорит, что облачко встает, «как младенец
из чрева» и как «тень из могилы», легче легкого объяснить
первый образ так называемым «обрядом умножения», а вто-
рой — поклонением духам предков. Но мы не станем упо-
* Перевод Г. Кружкова.
178
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
добляться Полонию и не согласимся слишком быстро, что
облако похоже на верблюда или на кита.
Мы не должны забывать о двух очень важных особенно-
стях таких снов наяву. Во-первых, они связаны с определен-
ным местом. Это не аллегории отвлеченных понятий, скорее
это конкретизированные метафоры. Поэт чувствует тайну
этого, вот этого леса, а не науки о лесоводстве или департа-
мента лесных угодий. Он поклоняется своей любимой горе, а
не отвлеченной идее высоты. Тот или другой бог — не
столько вода, сколько река или, может быть, море, потому
что море неповторимо, как ручей. Конечно, многие божества
превратились в стихии, но они больше чем вездесущи. Апол-
лон не просто разлит повсюду, где светит солнце, — его дом
в Дельфах. И Диана так велика, что может быть в трех мес-
тах сразу — на земле, под землей и в небе; но выше всех —
Диана в Эфесе59. Это ощущение конкретности в самой низ-
шей своей форме породило фетиши и талисманы, такие же,
как безделушки в автомобилях наших богачей. Но оно может
вызвать к жизни серьезную, высокую веру, связанную с вы-
соким и серьезным долгом, — веру в богов города и даже
богов очага.
Во-вторых, верования язычников предельно искренни и
предельно неискренни. В каком смысле верил афинянин, что
должен приносить жертвы Афине Палладе? В каком смыс-
ле доктор Джонсон действительно думал, что должен тро-
гать все столбы на улице или собирать апельсиновую кожу-
ру? В каком смысле верит ребенок, что он должен ступать
через одну плитку на тротуаре? Ученому трудно ответить на
это; но более или менее ясно вот что; во-первых, в более
простые времена такие действия могли стать весомей — и
не стать серьезней. Грезить наяву можно было и днем, го-
раздо свободней, но это не избавляло вас от легкого шага
сомнамбулы. Облачите доктора Джонсона в древнюю ман-
тию, увенчайте (с его разрешения) цветами, пустите по ули-
цам под древним утренним небом — и он будет трогать свя-
щенные столбы, украшенные лицами странных богов, охра-
вечный человек
/79
няющих землю и жизнь человека. Выпустите ребенка на
мрамор и мозаику древнего храма, и он с удовольствием об-
народует свою тайную привычку, исполнив на черных и бе-
лых квадратах серьезный красивый танец. Но столбы и
плиты древности и серьезней, и легче нынешних. Они серь-
езны, как серьезно искусство, выражающее в символах
вполне реальные вещи, лежащие под внешней пленкой жиз-
ни. Они серьезны, как искусство, — но не как нравствен-
ность. Чудаческая страсть к апельсиновым шкуркам может
обернуться апельсинами южного карнавала или золотыми
яблоками южного мифа. Но тот, кто собирает корки, и тот,
кто их не собирает, отличаются друг от друга совсем не так,
как тот, кто дает апельсин нищему, и тот, кто аккуратно
разложит корки на земле, чтобы нищий поскользнулся и по
возможности сломал себе ногу. Ребенок не думает, что сту-
пить на черную плитку так же плохо, как наступить собаке
на хвост. И что бы ни чувствовал, ни думал, ни выдумывал
Джонсон, трогая деревянные столбы, это было совсем не
то, что чувствовал он и думал, когда протягивал руки к
странным полоскам дерева, которые дали смерть Богу и
вечную жизнь людям.
Скажу еще раз: это совсем не значит, что в мифах не было
реальности или даже веры. Церковь с огромным успехом
переняла эти глубоко народные традиции — она тоже дает
людям местную легенду и прекрасную церемонию. Пока та-
кое язычество невинно и естественно, оно может находиться
под покровительством святых, как находилось под покрови-
тельством богов. Вообще же сами поверья не одинаково се-
рьезны. Можно верить, что в лесу живут феи, — нередко
это просто значит, что соседний лес очень подходит для фей.
Можно делать крюк в милю, чтобы его обойти. И красота, и
страх — вещи реальные, и тот, кто коснется их, даже в со-
мнении или сказке, коснется глубин души. Это понимаем мы,
понимали и язычники. Вся разница в том, что язычники, в
сущности, только этими сомнениями и сказками касались
глубин души; вот почему, говоря об античности, ученые за-
180
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
мечают у величайших поэтов Эллады очень странное для нас,
христиан, отношение к богам. Люди и боги постоянно враж-
довали, и не совсем ясно, кто был прав, кто виноват. Эту
неясность мы находим не только у скептика Еврипида в «Вак-
ханках» — от нее не свободен умеренный консерватор Со-
фокл в «Антигоне» и даже такой твердолобый тори, как
Аристофан в «Лягушках». Иногда мне кажется, что греки
прежде всего верили в поклонение, а поклоняться было не-
кому. Все зыбко и смутно, все дробится и расплывается, по-
тому что все это — гадание и грезы. Нет архитектурных пра-
вил для воздушных замков.
Могучее древо мифологии раскинуло ветви над всем ми-
ром. Как пестрые птицы, расселись на них драгоценные идо-
лы Азии и грубые фетиши Африки, короли и принцессы лес-
ных сказок, лары60 латинян, полускрытые оливами и вино-
градом, и веселые, властные боги греков. Все это мифы; а
тот, кто не любит мифов, не любит людей. Но тот, кто осо-
бенно любит мифы, понимает, что они никогда не были рели-
гией, если мы называем религией христианство или даже ис-
лам. Они утоляют некую часть тех нужд, которые удовлет-
воряет религия. Так, человек непременно хочет делать опре-
деленные вещи в определенное время, он должен во что бы
то ни стало упорядочить свое веселье. Мифы дают кален-
дарь, но это еще не вера. Никто не говорил: «Верую в Юпи-
тера, и Юнону, и Нептуна», так, как мы читаем Символ
Веры. Многие верили именно в этих богов, многие верили в
любых, а в сущности — все верили во всех. Языческие боги
не знали священной иерархии, за неприкосновенность кото-
рой люди отдали бы жизнь и претерпели муки. Еще менее ве-
роятно, что кто-нибудь говорил: «Верую в Одина, и Тора, и
Фрейю», — вне Олимпа даже олимпийский порядок кажет-
ся слишком строгим. Мне кажется, Тор был не богом, а ге-
роем. Самое захудалое божество самой захудалой религии
не стало бы ползать, как пигмей в темной пещере, которая
оказывается рукавицей гиганта. Этот миф пропитан герои-
ческим неведением приключения. Тор — великий искатель
вечный человек
181
приключений, на Ягве он похож не больше, чем Джек Побе-
дитель великанов61. Один же кажется мне настоящим вар-
варским вождем, каких было много в Темные века первого
тысячелетия. Политеизм чахнет, разветвляясь в сказки и
предания; никто не охраняет его так, как охраняют моноте-
изм убежденные монотеисты.
Мифология удовлетворяет и другую потребность —
выплакать кому-нибудь свои печали или воззвать к кому-то
в трудный час, когда рождается твой ребенок или гибнет
твой город. Но очень и очень часто люди взывали только к
имени. И наконец, удовлетворяла она, хотя бы отчасти,
очень глубокую потребность человека: поделиться с неведо-
мыми силами, вылить вино на землю, выбросить кольцо в
море62 — потребность в жертве. Люди чувствуют и мудро,
и верно: нельзя пользоваться всем, надо положить хоть что-
нибудь на другую чашу весов, чтобы уравновесить нашу ут-
лую гордыню или заплатить дань природе. Все великие гре-
ческие трагедии знали, что наглая вседозволенность опасна,
что она нам не по плечу, — потому они и велики. Но этой
глубокой догадке вторит глубокий подсознательный агности-
цизм: жертвующий не ведает, кому приносит жертву. Не-
редко нам кажется, что человек станет лучше, потеряв быка,
но вряд ли бог станет лучше, получив его. Иногда говорят,
что очень глупо и грубо верить, что боги на самом деле едят
жертвенное мясо. Те, кто так говорят, не понимают психоло-
гии грез. Ребенок, верящий в то, что в дупле живет леший,
может делать ему грубые, вполне вещественные подарки,
например, оставить кусок пирога, тогда как утонченный, до-
стойный поэт принесет дриаде фрукты или цветы. Оба оди-
наково серьезны или несерьезны. Конечно, язычники — не
атеисты, но они и не верующие в нашем христианском смыс-
ле. Они ощущают присутствие каких-то сил, и гадают о них,
и выдумывают. У греков был алтарь неведомого бога. На
самом деле, все их боги — неведомые; и изменилось это
лишь тогда, когда апостол Павел сказал им, Крго они, не
зная, чтили.
182
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Сущность язычества можно выразить так: оно пыталось
открыть тайны высшей реальности с помощью одного вооб-
ражения. Очень важно понять, что разум отделен от религии
даже в самых рациональных из языческих цивилизаций.
Только задним числом, когда культы вырождаются и вы-
нуждены защищать себя, неоплатоники или брамины пыта-
ются рационализировать их, точнее, выразить их в аллегори-
ях. На самом же деле реки мифологии и философии текли
параллельно и смешались они только в христианстве. Про-
стодушные секуляристы еще твердят, что Церковь внесла
раскол между разумом и верой. На самом же деле Церковь
первая попыталась объединить веру с разумом. До нее жре-
цы и философы не были в союзе. Мифология искала Бога на
путях воображения; она искала истину через красоту, если
понимать под красотой и совершенное, причудливое урод-
ство. У воображения свои законы и свои победы, которых не
понять философам и ученым. Мифы бесконечно причудливы
и неправдоподобны, как пантомима — свинья съедает ме-
сяц, землю кроят из коровы. Но в судорогах и странностях
азиатского искусства, в застылости египетских фигур, во всех
надтреснутых зеркалах, искажающих землю и смещающих
небо, мифология остается истинной в том же смысле, в каком
художник, остановившись перед домом или деревом, гово-
рит: «Моя мечта сбылась». Вот почему нам так нелегко про-
тивиться магии мифов, пока мы достаточно мудры, чтобы не
спрашивать об их смысле.^ Все мы чувствуем, почему Про-
метей украл огонь с неба, пока какой-нибудь умник, или пес-
симист, или поборник прогресса не полезет с объяснениями.
Все мы знаем, почему Джек взобрался по бобовому стеблю,
пока нам это не растолкуют. В этом смысле верно, что сказ-
ки — любимое чтение невежд; ведь именно невежды поис-
тине ценят поэзию. У воображения свои законы и свои побе-
ды. Огромная сила лепила все эти образы из мечты или из
глины, плела из бамбука, высекала в мраморе Эллады. Но
что-то было неверно — эти победы не приносили полной
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
183
радости. Я никак не могу это выразить, попытаюсь сказать
яснее хотя бы в заключение.
Вся суть, все дело в том, что для человека естественно
поклоняться. Пусть идол суров и уродлив — молящийся добр
и прекрасен. Человек ощутил, что, склоняясь, он свободнее,
более того, он выше. Безверие — рабство, и вынести его
нелегко. Если человек не может молиться, он задыхается;
если он не может встать на колени, он в оковах. И вот все
язычество пропитано странной смесью неверия и веры. Ког-
да древний грек выливал вино на пиру или поднимал меч, он
знал, что делает достойное дело, одно из тех дел, для кото-
рых человек создан. Воображение его не обманывало. Но
именно потому, что начал он с фантазии, он кончил насмеш-
кой. В высшей своей форме эта насмешка оборачивается по-
чти нестерпимой иронией греческой трагедии, где алтарь не
под стать жрецу или бог не под стать алтарю. Так и кажется,
что жрец важнее, даже священнее бога. Весь порядок храма
весом и здрав, он сообразен каким-то долям нашей души —
весь, кроме сердцевины, зыбкой, словно пляшущее пламя.
Храм построен вокруг вымысла, порою вокруг причуды.
Человек встречается здесь с богом, но сам он величавей и
достойней своего кумира. Быть может, он застыл в естествен-
ной и благородной позе Молящегося мальчика63, но покло-
няется он Протею, даже если называет его Зевсом, Аполло-
ном или Аммоном.
Молитва его не удовлетворяет, а выражает потребность;
руки воздеты, но они пусты. О природе этой потребности я
скажу дальше, сейчас только замечу: этот верный инстинкт,
это чувство, что молитва или жертва дают нам свободу, на-
поминают, хоть и смутно, об огромной, полузабытой идее
всеобщего Отцовства, которая все больше бледнела в утрен-
нем небе. В идее этой истина, но не вся. Язычник, прирож-
денный поэт, чувствовал, что прав, отводя своему божеству
определенное, укромное место. Это — в самой душе поэзии,
если не в душе благочестия. Величайший из поэтов говорил,
184
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
что поэт дает нам не абсолют и не вечность, а дом и имя64.
Ни один поэт не может быть только пантеистом. Даже тот,
кто называет себя так, вдохновляется чем-нибудь очень мес-
тным, конкретным, как вдохновляется язычник. Шелли пи-
сал о жаворонке, и мы не можем переложить эти стихи для
Южной Африки, заменив его страусом. Мифологическое
воображение движется как бы кругами, оно что-то ищет или
хочет куда-то вернуться. Словом, мифы — это поиски; по-
тому и слито в них неутомимое желание с неутолимым со-
мнением. Миф жадно и честно ищет какое-то место и, отыс-
кав его, проявляет глубокую, странную, загадочную беспеч-
ность. Только до этой границы может довести одинокое во-
ображение, дальше приходится обратиться к одинокому
разуму.
Вот почему сами по себе мифы не похожи на религию или
на реальность, где разные измерения сочетаются, словно в
объемном теле. Пейзаж на картине может быть точно таким
же, как пейзаж в природе; но картина — не природа. Порт-
рет может быть совсем «как живой», с той лишь разницей,
что он — не живой. В этом загадочном, зыбком мире порт-
рет предшествовал Лицу и потому был довольно туманным.
Но каждый, кто дышал и жил атмосферой мифа, поймет меня,
если я скажу, что они, в определенном смысле, и не претен-
довали на реальность. Язычники видели сны о жизни и пер-
выми признали бы, что одни сновидения проходят через вра-
69 65
та из слоновой кости, а другие — через врата из рога .
Сны — живее живого, когда они касаются сокровенных и
мучительных вещей, и ты просыпаешься, словно у тебя раз-
билось сердце. Снова и снова возвращались древние к неиз-
бывно трогательным темам прощания и встречи, обрываю-
щейся жизни и смерти, открывающей новую жизнь. Демет-
ра бродит по миру, ищет пропавшую дочь, Изида тщетно
собирает расчлененное тело Озириса, горы плачут по Атти-
су, леса — по Адонису, и скорбь сочетается с глубоким, ми-
стическим чувством, говорящим, что смерть может даровать
свободу и мир, а вся радость в том, чтобы собирать разроз-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
185
ненное тело бога. Мы можем по праву назвать это тенью ис-
тины, только надо помнить, что тень не больше чем тень.
Сравнение очень подходит здесь, ибо тень повторяет форму,
но сама она невещественна. Тень подобна предмету, а зна-
чит, они различны. Если что-то похоже на собаку — это не
собака. Именно в этом смысле бог мифа — не Богочеловек.
Никто не думал об Изиде как о реальной женщине; никто не
искал Деметру в истории; никто не видел в Адонисе основа-
теля Церкви. Словом, и мысли не было, что кто-либо из них
изменил мир; скорее их смерть и жизнь несли печальное и
прекрасное бремя мирской изменчивости. Мы вообще ниче-
го не поймем, если не увидим, что для мифа мы — только
тени, гоняющиеся за тенью. В некоем священном и здравом
смысле миф намекал, что какой-то бог нужен людям, но и
слова не сказал о том, что этот бог у них есть. Всякий же, кто
это скажет, плохо разбирается в поэзии.
Те, кто толкуют о «языческих Христах», понимают языч-
ников еще меньше, чем христиан. Они меньше, чем мы, по-
нимают, что сделало греческую и римскую древность такой
человечной и почему античная поэзия до сих пор звенит в
воздухе, как песня. Немилосердно доказывать голодному, что
голод ничем не хуже пищи. Вы не поможете юноше, если
станете его убеждать, что надежда заменяет счастье. С та-
ким же успехом можно сказать, что мальчик, играющий в
разбойников — то же самое, что солдат в окопах, а первые
мечты о «ней» — то же самое, что таинство брака. Эти вещи
глубоко различны именно в том, в чем поверхностно похожи;
можно даже сказать — различны, когда вполне похожи. Дело
не в том, что в одно я верю, а в другое — нет. Разница про-
ста: одно — реально, другое — нет. Я хочу сказать, что миф
никогда и не считали реальным в таком смысле. В каком смыс-
ле он реален, я пытался описать, но вряд ли смог, слишком
это неуловимо — так неуловимо, что ученые этого не улови-
ли. Но мы, неученые, знаем лучше их, что звучит в гулком
крике над мертвым Адонисом и почему у Великой Матери
Дочь обручилась со смертью. Мы проникли глубже, чем они,
186
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
в Элевсинские мистерии, которые, дверь за дверью, охраня-
ли то, что ведал Орфей. Мы знаем последнюю тайну, кото-
рую слышит человек на высшей ступени посвящения. Он слы-
шит не голос священника или пророка, возвещающий: «Это —
есть», но голос мечтателя и поэта, взывающий: «О, если бы
это было!» z
Глава VI
БЕСЫ И ФИЛОСОФЫ
Я уже говорил о том, что поэтическое язычество усеяло
землю храмами и расцветило ее красками празднеств. Мне
кажется, что история дохристианского мира делится на две
эпохи. Вначале такое язычество боролось с тем, что хуже его;
потом само стало хуже. Причудливый, разнообразный, не-
редко зыбкий политеизм был подточен слабостью первород-
ного греха. Кто-то сказал, что языческие боги играли в лю-
дей, как в кости; и действительно, люди похожи на меченые
кости. Особенно неразумны, можно даже сказать, безумны
люди во всем, что связано с полом, и нелегко им стать здоро-
выми, пока они не стали святыми. Груз греха пригибал книзу
крылатые фантазии, и оттого конец язычества — какая-то
свалка, в которой кишат боги. Однако мы не должны забы-
вать, что прежде античное язычество выдержало и выиграло
борьбу с другим, худшим видом язычества и победа его оп-
ределила человеческую историю. Мы этого не поймем, если
не разберемся во второй разновидности. Надеюсь, мне удаст-
ся рассказать о ней короче, чем о первой, — о таких вещах
не следует говорить долго. Первый вид язычества мы срав-
нили со сновидением; этот я сравню с кошмаром.
Суеверия возвращаются в любом столетии, особенно в
века разума. Помню, я защищал христианство перед целым
банкетом прославленных агностиков, и у каждого из них, в
кармане или на цепочке от часов, был какой-нибудь талис-
вечный человек
187
ман. Только я один не обзавелся фетишем. Суеверие царит в
эпохи разума, ибо оно связано с вполне разумной вещью —
сомнением, во всяком случае — с неведением. Люди чув-
ствуют, что, во-первых, мы не знаем законов мироздания, а
во-вторых, эти законы могут противоречить так называемым
законам логики. Люди поняли, и поняли правильно, что се-
рьезные события нередко зависят от маленьких, пустячных.
Когда до них доходит слух, что то или иное невинное дей-
ствие — ключ к каким-то важным событиям, глубокий и да-
леко не бессмысленный инстинкт подсказывает им, что это
вполне вероятно. Этот инстинкт силен в обеих разновиднос-
тях язычества. Но во второй из них он изменился и стал
ужасным.
Мне кажется, я не ошибусь, предположив, что вызыва-
ние духов, при всей его практической пользе, не играло глав-
ной роли в поэтическом действе мифотворчества. Но когда
мы вступаем в область суеверий как таковых, все меняется,
становится глубже и темнее. Конечно, почти все народные
приметы так же легкомысленны, как и народные легенды.
Никто не считает, что нас непременно поразит гром, если мы
пройдем под лестницей; скорее мы думаем: «Обойду-ка я ее
на всякий случай...» Мы просто признаем, что не знаем за-
конов такого странного мира. Но есть другие суеверия, в ко-
торых главное — польза, так сказать, суеверия практичные.
Здесь много важнее, ответят духи или нет. Сам я уверен, что
духи иногда отвечают; но есть тут одна тонкость, породив-
шая немало зла.
Потому ли, что грехопадение отбросило нас ближе к злым
обитателям духовного мира, или потому, что одержимый стра-
стью больше верит в зло, чем в добро, черная магия ведов-
ства более практична, хотя и менее поэтична, чем белая ма-
гия мифотворчества. Мне кажется, садик ведьмы лучше при-
бран, чем роща дриады, дурное поле — плодороднее хоро-
шего. Какой -то порыв, быть может отчаянный, толкает
человека, ищущего пользы, к темным силам зла. Нездоро-
вое ощущение исподтишка овладевает им; он чувствует, что
188
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
на эти силы можно положиться, что они помогут «без дура-
ков». Действительно, боги мифов слишком глупы в том хо-
рошем, веселом смысле этого слова, в котором мы применя-
ем его к джамблям или к Бармаглоту66. Человек же, обра-
тившийся к бесу, чувствовал то, что чувствуют, обратившись
к сыщику, особенно частному: работа, что и говорить, гряз-
ная, но этот не подведет. Люди не шли в рощу, чтобы встре-
титься с нимфой, скорее они мечтали о встрече с ней, как
мечтают о приключении. А бес действительно являлся на сви-
дание и даже выполнял обещанное, хотя нередко человек и
жалел потом, что он не нарушил слова.
На примере многих неразвитых и диких племен можно
проследить, как культ бесов часто сменял культ богов и даже
единого божества. Может быть, существо это казалось слиш-
ком далеким, чтобы обращаться к нему по мелочам. Мысли о
том, что бесы не подведут, вторит другая мысль, совсем уж
достойная бесов: человек хочет стать достойным их, прино-
ровиться к их разборчивому вкусу. Простые суеверия под-
сказывают нам, что пустяк, например щепотка соли, может
тронуть скрытую пружину, приводящую в действие загадоч-
ный механизм мира. В таком «Сезам, откройся» есть доля
истины. Но когда человек обращается к злым силам, он чув-
ствует, что действие должно быть не только мелким, но и
мерзким. Рано или поздно он сознательно заставляет себя
сделать самое гнусное, что может, чувствуя, что лишь край-
нее зло привлечет внимание сил, таящихся под поверхнос-
тью. Вот в чем причина едва ли не всякого каннибализма.
Это — не первобытный и даже не зверский, то есть не зве-
риный, обычай. Каннибализм — искусствен, даже изыскан,
как истинное «искусство для искусства». Люди едят людей
вовсе не потому, что не видят в этом ничего плохого. Они
прекрасно знают, что это ужасно, потому и едят. Ученые не-
редко обнаруживают, что очень простые племена — скажем,
австралийцы — не занимаются людоедством, а много более
развитые — скажем, маори — иногда занимаются. Они до-
статочно изысканны и умны для сознательного бесопок^он-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
189
ства, как парижский декадент — для черной мессы. Черную
мессу приходится прятать потому, что есть настоящая, бесы
прячутся после пришествия Христа. До христианства, осо-
бенно вне Европы, все обстояло иначе. Бесы бродили на воле,
как драконы; их сажали на престол, как богов. Огромные
статуи стояли в храме, в самом сердце многолюдного города.
Повсюду видим мы это, но этого не замечают те, кто считает
зло симптомом грубого невежества. Не у дикарей — у выс-
ших цивилизаций рога Сатаны вздымались не только к звез-
дам, но и к солнцу.
Возьмем, к примеру, ацтеков и прочих обитателей древ-
них царств Мексики и Перу, чья цивилизация не ниже еги-
петской или китайской и отличается лишь от той срединной
цивилизации, к которой принадлежим мы. Ругая нашу циви-
лизацию, мы почему-то не только обличаем ее пороки — это
наш долг, но и превозносим ее жертвы. Мы принимаем на
веру, что до прихода европейцев всюду был рай. Меня все-
гда удивляли строки из «Предрассветных песен», где Суин-
берн, говоря об Испании, замечает, что «ее грехи и ее сыны —
в сердце безгрешных стран...», а потому «все проклинали имя
людей и трижды — имя Христа»67. Испанцы, что и гово-
рить, грешили немало, но почему Суинберну кажется, что
жители Южной Америки вообще не грешили? Неужели це-
лый материк был заселен архангелами или душами из рая?
Того, что сказал он, не скажешь о самых достойных наших
знакомых; особенно же странно это читать, если мы вспом-
ним, что мы доподлинно знаем об этих царствах. Знаем мы,
что безгрешные жрецы безгрешного народа поклонялись без-
грешным богам, для которых нектаром и амброзией были
человеческие жертвы, сопровождавшиеся страшными пыт-
ками. В мифологии южноамериканских цивилизаций можно
наити тот дух извращения, насилия над природой, о котором
писал Данте. Дух этот есть везде, где есть извращенная вера,
бесопоклонство. Заметен он не только в этике, но и в эстети-
ке. Южноамериканский идол уродлив до предела, как пре-
красен до предела греческий бог. Вероятно, создатели его
190
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
искали тайну могущества, насилуя свою природу и природу
вещей. Они надеялись создать из золота, камня, темно-крас-
ной древесины лицо, при одном взгляде на которое небо трес-
нуло бы, словно зеркало.
Во всяком случае, нет сомнения, что раззолоченная ци-
вилизация Центральной Америки снова и снова приносила в
жертву людей. Насколько мне известно, у эскимосов этого
не было, — куда им, они не так цивилизованны, им мешает
белая зима и долгая тьма, холод и голод подавили их высо-
кий порыв. Вот на ярком солнце, в богатых просвещенных
землях люди беспрепятственно рвались к пучеглазым, оск-
лабившимся мордам и в страхе или под пыткой выкликали
имена, нескладные, как смех в аду. Климат получше и ци-
вилизация повыше породили пламенные цветы, окрасившие
золотом и пурпуром тот сад, который Суинберн сравнил с
садом Гесперид. Что-что, а дракон там был.
Сейчас я не собираюсь говорить подробно об Испании
или даже о Мексике. Я говорю о них мимоходом, потому что
отношение к ним похоже на отношение к Риму и Карфагену.
В обоих случаях мы, англичане, почему-то осуждаем евро-
пейцев и защищаем их противников, которых Суинберн на-
звал безгрешными, хотя их грехи просто вопиют. Карфаген
тоже был весьма цивилизован, гораздо цивилизованней ин-
ков. Он тоже основал цивилизацию на религии страха.
Нашу расу и нашу веру, без сомнения, нужно ругать за то,
что они не следуют собственным меркам и идеалам. Но за-
чем же считать при этом, что они пали ниже других народов
и вер, у которых прямо противоположные идеалы и мерки?
Христианин действительно хуже язычника, испанец — хуже
индейца и даже римлянин хуже карфагенянина, но только в
одном смысле. Он хуже потому, что его прямое дело —
быть лучше.
Извращенное воображение порождает вещи, о которых
лучше бы не говорить. Некоторые из них можно назвать, не
причинив вреда, потому что крайнее зло кажется невинным
тому, кто его не знает. Эти дела бесчеловечней бесстыдства.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
191
Чтобы не блуждать больше в темных тупиках, я отмечу
только одну черту — мистическую ненависть к самой идее
детства. Мы поймем лучше, почему ведьмы вызывали такую
ярость, если вспомним: чаще всего их обвиняли в том, что
они мешают женщинам рожать детей. Ветхозаветные проро-
ки непрестанно предостерегали против служения идолам,
тесно связанного с детоубийством. Вполне возможно, что
такое отпадение от Бога повторялось позже в истории Изра-
иля; конечно, ритуальные убийства могли совершать не пра-
воверные иудеи, а только одинокие и беззаконные бесопок-
лонники. Люди чувствовали, что злые силы особенно опасны
детям, потому так и любили в средние века легенду о муче-
нике-младенце. Чосер только рассказал по-своему англий-
ское предание, когда представил самую гнусную ведьму в
виде чужой женщины, которая, притаившись за изгородью,
слушает, как маленький святой поет на улице, словно ручеек
бежит по камню68.
Именно этот дух царил в том восточном углу Средизем-
номорья, где кочевники постепенно стали торговцами и при-
нялись торговать со всем миром. Успех их был велик, так
велик, что владыки Тира едва ли заметили бы, что одна из
вельможных невест вышла замуж за вождя какого-то пле-
мени, называемого иудеями, а торговцы африканского фор-
поста презрительно скривили бы толстые губы при упомина-
нии деревушки, называемой Римом. Сильно отличались друг
от друга монотеизм палестинского племени и добродетель
италийской республики. Очень разные, несовместимые вещи
любили консулы Рима и пророки Израиля; но ненавидели
одно и то же. Нетрудно счесть их ненависть несправедливой
и злой и превратить в бесчеловечных фанатиков Илию или
Катона69. Да, и те и другие были в чем-то ограниченными и
разделяли предрассудки своей земли. Но, осуждая их, мы
упускаем из виду нечто конкретное и ужасное — то самое,
чему посвящена эта глава.
Цивилизация Тира и Сидона была прежде всего прак-
тична. Она оставила нам мало изображений и не оставила
192
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
стихов. Она кичилась своей практичностью, а в религии сле-
довала тому довольно странному ходу мыслей, о котором я
уже говорил. Людям такого типа кажется, что есть кратчай-
ший путь к успеху, и тайна их поразила бы мир своей бес-
стыдной основательностью. С богом своим, Молохом, они
вели себя по-деловому. Об этом я буду говорить не раз; сей-
час только отмечу, что они тоже по-особому отнеслись к де-
тям. Вот почему к ним самим относились с такой яростью и
слуги Единого Бога, и хранители лавров. Вот что бросало
вызов тем, кто во всех смыслах далек друг от друга; тем, чей
союз был призван спасти мир.
Четвертую и последнюю разновидность язычества я на-
звал философией, любовью к мудрости. Признаюсь сразу,
что в этот раздел я занесу многое, что называют иначе, чаще
всего — религией. Надеюсь, однако, что я не погрешу про-
тив истины и против вежливости. Прежде всего, нам следует
рассмотреть философию в ее чистом виде. Такую филосо-
фию мы найдем в мире самых чистых форм — в той среди-
земноморской цивилизации, чьи мифы рассматривали мы в
предыдущей главе.
Многобожие для язычников — совсем не то, что като-
личество для католика. Оно никогда не было мировоззрени-
ем, полной истиной, объясняющей все на свете. Мифология
удовлетворяла одни потребности, с другими вопросами об-
ращались в другие инстанции. Очень важно понять, что фи-
лософия не имела с мифологией ничего общего. Они были
так различны, что не могли как следует поссориться. Толпы
совершали возлияния в честь Адониса или затевали игры в
честь Аполлона, а несколько человек предпочитали остаться
дома и подумать о природе вещей. Иногда они думали о при-
роде Бога, вернее, о природе богов. Но очень и очень редко
они противопоставляли свои выводы богам природы.
Говоря о первых поборниках отвлеченного, надо помнить,
какими отвлеченными, отрешенными, рассеянными они были.
Человек мог заниматься мирозданием, но это был его конек,
частное дело вроде нумизматики. Иногда его мудрость ста-
вечный человек
193
повилась общим достоянием, даже общественным учрежде-
нием, но ее почти никогда не ставили в ряд с другими народ-
ными, религиозными установлениями. Аристотель был, на-
верное, величайшим из философов, во всяком случае самым
здравомыслящим, но он и не ставил абсолют рядом с Апол-
лоном, как не думал Архимед поклоняться рычагу. Один
размышлял о метафизике, другой — о математике из любви
к истине, из любопытства или ради забавы. Но забавы эти
не слишком мешали другим — пляскам, песням и неприс-
тойным рассказам о том, как Зевс обратился в лебедя или
быка. Философы, даже скептики ничуть не мешали народ-
ному культу; и мне кажется, это — еще одно доказательство
его поверхностности. Мыслители переворачивали мир, не
меняя очертаний яркого облачка, повисшего в небе.
Мир они и впрямь перевернули, хотя, по странному со-
глашению, не стали переворачивать город. Два великих
мудреца античности защищали здравые и даже священные
идеи. Их мысли в наши дни кажутся ответами на наши со-
мнения, но ответы эти так полны, что о них не вспоминают.
Аристотель заранее уничтожил сотни анархистов и полоум-
ных поклонников «естественного», определив человека как
общественное животное. Платон предвосхитил христианский
реализм, провозгласив, что идеи реальны, как люди. Прав-
да, идеи были для него подчас реальней людей. Он был не-
много похож на фабианцев70, которые мечтают приноровить
своего идеального гражданина к городу, голову — к шляпе,
и, при всем своем величии, стал отцом утопистов. Аристо-
тель предвосхитил полнее священное здравомыслие, объе-
динившее душу и тело вещей, — он рассуждал о природе
человека, а не о природе нравственности и видел не только
свет, но и глаза. Оба великих философа создали и сохранили
многое, но жили они в мире, где мысль могла идти куда угод-
но. Немало великих мыслителей следовало им; одни превоз-
носили отвлеченную добродетель, другие, порассудитель-
ней, — погоню за счастьем. Первых называли стоиками, и
это слово вошло в поговорку, потому что оно выражает одну
194
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
из очень важных нравственных потребностей — укрепить
свою душу так, чтобы она вынесла беду и даже боль. Однако
многие выродились в тех, кого мы и сейчас зовем софистами.
Они стали профессиональными скептиками, задавали непри-
ятные вопросы и неплохо жили тем, что мешали жить людям
нормальным. Может быть, случайное сходство с ними поро-
дило ненависть к великому Сократу, чья смерть может пока-
заться опровержением моих слов о постоянном перемирии
между философами и богами. Но Сократ не был монотеис-
том, гибнущим в борьбе против многобожия, и уж никак не
был пророком, низвергающим идолов. Всякому, кто умеет
читать между строк, ясно, что его осудили — справедливо
ли, нет ли — потому, что он, лично он влиял на нравы, а
может, и на политику. Перемирие не прекращалось — пото-
му ли, что греки несерьезно относились к мифам, или пото-
му, что они несерьезно относились к философским учениям.
Жрец и философ не вступили в смертельную борьбу, озна-
чавшую конец одного из них, ни разу не примирились тол-
ком и уж точно не сотрудничали, в крайнем случае философ
был соперником жреца. Боги и философы, наделенные влас-
тью, неплохо уживались в одном и том же обществе. Может
быть, наименее чистой философией было учение Пифагора,
оно ближе всех стоит к восточной мистике, о которой я ска-
жу в свой черед. Пифагор был как бы мистиком математики,
полагавшим, что высшая реальность — это число. Еще он,
по-видимому, действительно верил в переселение душ, как
брамины, и оставил в память о себе знакомые нам привычки,
вроде трезвенности или вегетарианства, присущие восточным
мудрецам, особенно тем, которые вхожи в модные салоны
времен упадка. Но прежде чем перейти к восточной мудрос-
ти и атмосфере, мы рассмотрим довольно важную истину и
придем к ней кружным путем.
Один великий философ мечтал о том, чтобы цари стали
философами или философы — царями71. Говорил он так
словно это слишком хорошо, чтобы сбыться; на самом деле
это нередко сбывалось. Мне кажется, историки не воздали
вечный человек
195
должного тем, кого можно назвать философами на троне.
Начнем с того, что мудрецу иногда удавалось стать пусть не
основателем религии, но основателем уклада. Прекрасный
тому пример, один из самых великих в мире, перенесет нас за
тридевять земель, через огромные пространства Азии, в мир
причудливых и по-своему мудрых идей и установлений, от
которого мы дешево отделываемся, произнося слово «Ки-
тай». Многим странным богам поклонялись люди, многим
идеалам служили и многим идолам. Китай выбрал веру в ра-
зум. Он, может быть единственный в мире, принял разум
всерьез. В незапамятнейшие времена он решил проблему вла-
сти и мудрости, сделав мудреца советником властелина. Он
сделал человека общественным установлением и вменил ему
в обязанность только одно — быть умным. По тому же прин-
ципу создал Китай много других правил и установлений. Ранг
и привилегии он обусловил чем-то вроде экзамена; здесь нет
ничего общего с нашей аристократией, это скорее демокра-
тия, власть принадлежит не самым знатным, а самым ум-
ным. Но сейчас для нас важно, что мудрецы действительно
правили страной и один из них был, наверное, великим госу-
дарственным мужем.
Я не считаю Конфуция основателем или хотя бы пропо-
ведником религии. Может быть, он вообще не верил в Бога.
Атеистом он, конечно, не был; скорее всего, он был, как мы
сказали бы, агностиком. Говорить о его религиозной системе
так же нелепо, как говорить о теологии Роланда Хила, со-
здавшего современную почту, или Баден-Пауэла, отца бой-
скаутов. Конфуций не принес людям небесную весть, он
упорядочил Китай, по-видимому, очень успешно. Есте-
ственно, ему пришлось немало заниматься нравственностью,
но он накрепко соединил ее с ритуалом. Особенность его
системы и его страны, их отличие от христианства в том, что
он требовал скрупулезного соблюдения всех внешних форм,
Дабы гладкость повседневной жизни охраняла пок^)й души.
Всякий, кто знает, как тесно связаны привычки с телесным
и даже душевным здоровьем, поймет, что это разумно. Но
196
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
еще он поймет, что почитание предков и священной особы
императора — обычай, а не вера. Несправедливо говорить,
что он не основал религии, так же несправедливо, как дока-
зывать, что Иеремия Бентам не был христианским муче-
72
НИКОМ .
Не только в Китае философ правил государством или был
другом правителю. Это не случайно, это тесно связано с до-
вольно щекотливым вопросом о месте философа в мире.
Философия и мифология редко доходили до открытого раз-
рыва не только потому, что мифотворец страдал легкомыс-
лием, но и потому, что философ не был лишен высокомерия.
Мудрец презирал мифы, презирал толпу и считал, что луч-
шего она не заслужила. Он редко бывал человеком из наро-
да, а если и бывал — старался об этом забыть: еще реже
бывал он демократом и почти всегда горько критиковал де-
мократию. В языческом философе была какая-то барствен-
ная лень, и в этой роли легко могли выступить те, кому дове-
лось родиться властелином. Вельможе или правителю нетруд-
но было поиграть в философа, как играл Тезей у Шекспира.
С очень древних времен живут на свете царственные интел-
лектуалы. Об одном из них нам говорят едва ли не древней-
шие источники, — он сидел на престоле Египта. Эхнатон,
которого называют фараоном-еретиком, — единственный,
кто до Рождества Христова пошел войной на общую всем
мифологию во имя своей, частной философии. Большинство
других мудрецов походили на Марка Аврелия, которого по
праву можно считать образцом философа на троне. Его об-
виняли в том, что он терпел и языческий амфитеатр, и гоне-
ния на христиан. Но как же иначе? Такие люди считают на-
родные верования чем-то вроде балагана. Профессор Фили-
мор73 сказал о Марке Аврелии: «Он был великим, хорошим
человеком и это знал». Фараон-еретик был и серьезней, и
смиренней. Если ты слишком горд, чтобы бороться, бороть-
ся приходится смиренным. Египетский фараон был достаточ-
но прост, чтобы всерьез отнестись к собственной философии,
и, единственный из всех мудрецов на троне, совершил пере-
вечный человек
197
ворот. Он властно низверг высоких богов и поднял, как зер-
кало единобожия, диск единого солнца. Были у него и дру-
гие занимательные идеи, присущие идеалистам его типа.
Например, в искусстве он был реалистом, потому что был
идеалистом, — ведь реализм немыслимей всех идеалов. Но
и его поразил недуг Марка Аврелия — он был интеллектуа-
лом, дух же интеллектуальности так крепок, что его не выт-
равить даже из мумии. Фараон-еретик, как многие еретики,
ошибался в одном: ему и в голову не пришло спросить себя,
нет ли чего-нибудь в верованиях и сказках людей менее об-
разованных, чем он. Как я уже говорил, что-то в них было.
Здоровой и человечной была их тяга к пестроте и укромнос-
ти, любовь к очарованным местам и к богам, похожим на боль-
ших домашних животных. Может быть, природу зовут не
Изидой, может быть, Изида не ищет Озириса, но естество и
впрямь чего-то ищет — оно ищет сверхъестественного. Жаж-
ду эту могло удовлетворить нечто гораздо более веществен-
ное; монарх со сверкающим диском ее не удовлетворил. Опыт
его провалился, суеверие восторжествовало, и жрецы, встав
на плечи народа, взошли на царский престол.
Другой пример монарха-мыслителя — Гаутама, великий
Будда. Я знаю, что его обычно не причисляют к философам,
но я убеждаюсь все больше и больше, что именно в этом раз-
гадка его великого дела. Он был несравненно лучше и выше
всех багрянородных мудрецов и сделал самое лучшее, что
может сделать монарх — отрекся от престола. Марк Авре-
лий с изысканной иронией учил, что даже во дворце можно
хорошо и нравственно жить. Менее уравновешенный егип-
тянин решил, что жить будет лучше после дворцового пере-
ворота. Но только великий Гаутама доказал, что может обой-
тись без дворца. Один был терпимым, другой — мятежным,
но отречение решительней терпимости и мятежа. Наверное,
это единственное абсолютное действие абсолютного монар-
ха. Индусский принц, выросший в восточной роскоши, доб-
ровольно ушел и стал жить как нищий. Это прекрасно, и все
же это — не битва. Это не поход в том смысле слова, в ка-
198
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ком мы говорим о крестовых походах. Жить как нищий мо-
жет и святой, и философ; и Иероним в пещере, и Диоген в
бочке. Те, кто изучил жизнь Будды, во всяком случае те, кто
наиболее умно и связно о нем пишет, убеждают меня, что он
был философом, успешно основавшим философскую школу,
а божественным, даже священным стал по вине азиатского
духа, более склонного к тайне и далекого от разума, чем все
предания Греции. Пришла пора остановиться на невидимой,
но реальной границе, которую мы пересекаем, переходя из
Средиземноморья в таинственный край Востока.
Наверное, меньше всего пользы приносят общие места,
особенно когда они верны. Все мы привыкли, говоря об Азии,
произносить довольно правильные слова, не замечая, как они
правильны. Мы вечно твердили, что Азия стара, или не про-
грессивна, или обращена к прошлому. Действительно, хрис-
тианский мир прогрессивней, но совсем в том смысле, в ка-
ком называют прогрессом суетливую страсть к политическим
переменам. Мы, христиане, верим, христианство верит, что
человек волен пойти куда угодно и поступать по-разному.
Душу может утолить новая жизнь, или старая любовь, или
что-нибудь не менее положительное. Конечно, мы знаем, что
все движется ритмично — то поднимается, то падает, — но
для нас этот ритм свободен и причудлив. Для Азии же почти
всегда он монотонен. Их мир — колесо, а не наша кутерьма.
Эти цивилизованные и мудрые люди как бы вращаются вок-
руг пустоты, и хуже всего, что этому нет конца. Вот в чем
старость и непрогрессивность Азии. Вот почему их изогну-
тые мечи кажутся нам обломком окружности, а орнамент из-
вивается, как змея, которую нельзя убить. Это очень мало
связано с лаком прогресса. Все жители Азии могут надеть
цилиндры, но, если дух этот не изменится, они будут знать,
что странные шляпы как пришли, так и уйдут, подобно пла-
нетам. Им не придет в голову, что, погнавшись за шляпой,
можно попасть на небо или домой.
Когда гений Будды явился в мир, ощущение это уже про-
питало почти все на Востоке. Он попал в джунгли порази-
вечный человек
199
тельно странной, почти удушающей мифологии. Конечно,
этот по-народному буйный фольклор легче любить, чем выс-
ший пессимизм, который мог иссушить его. Однако нельзя
забывать, что большая часть восточных мифов и обычаев —
просто местные идолы, кумиры. Может быть, это не отно-
сится к древнему учению браминов, во всяком случае с точки
зрения браминов. Но само это слово напоминает нам о более
важном, чем идолы, — о кастах. Я готов допустить, что в
них были некоторые практические достоинства средневеко-
вых гильдий. Однако в отличие от христианской демокра-
тии, даже от христианской аристократии, общественный ранг
действительно связывался здесь с рангом духовным. Это от-
деляет Индию не только от братства христиан; ступенчатой
горой гордыни стоит она между Китаем и Ближним Восто-
ком, которые равноправны по сравнению с ней. Система эта
существовала тысячи лет, и в этом тоже проявился дух азиат-
ской неизменности. Кроме того, можно предположить, что
ко времени Будды уже существовало поверье, которое мы с
легкой руки теософов считаем буддийским. Самые строгие
буддисты отрицают его и, уж конечно, полностью отрицают
теософов. Но свойственно ли оно буддизму, или только его
родине, или неверному его толкованию, — оно ничуть не
противоречит духу повторения. Конечно, я говорю о пересе-
лении душ.
Перевоплощение — совсем не мистическая идея; в сущ-
ности, его нельзя назвать даже религиозной идеей. Мистика
предполагает хоть какие-то знания о потустороннем; рели-
гия ищет лучшего добра или худшего зла, чем те, которые мы
знаем. Но перевоплощение повторяет много раз наш здеш-
ний, земной опыт. Ничуть не мистичней узнать, что ты делал
в Вавилоне задолго до своего рождения, чем узнать, что ты
делал в Бристоле до того, как тебя стукнули по голове. Все
это ничуть не похоже на созерцание Бога и даже на изгнание
беса. Переселяясь, душа не убежит от колеса судьбы, совсем
напротив. Создал ли эту идею Будда, или нашел, или от-
верг, — она, несомненно, очень типична для той восточной
200
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
среды, в которой ему пришлось играть свою роль. А роль эта
была ролью мудрого философа, создавшего свою теорию о
том, как мудро относиться к миру.
Я понимаю, что буддист не согласится признать буддизм
философией, если понимать под философией игру ума, в ко-
торую играли греческие софисты, жонглировавшие мирами.
Наверное, точнее сказать, что Будда создал некую высшую
дисциплину, даже дисциплину души. Он сказал, как бежать
от вечно возвращающихся горестей: надо избавиться от об-
мана, называемого желанием.
Он не говорил, что мы обретем что-то лучшее, если кое в
чем себе откажем, и не советовал ждать исполнения желаний
в другом мире. Он просто хотел, чтобы мы не хотели. Как
только ты поймешь, что на самом деле ничего нет и все, в
том числе твоя душа, непрестанно куда-то исчезает, ты за-
щищен от разочарований, нечувствителен к переменам и
живешь в экстазе равнодушия, если это можно назвать жиз-
нью. Буддисты зовут это блаженством, и я не буду тратить
время на споры; для нас, во всяком случае, это очень похоже
на отчаяние. Я не понимаю, например, почему отказ от же-
ланий не распространяется на добрые, не себялюбивые же-
лания. Во всяком случае, Будда больше жалеет людей за то,
что они живут, чем за то, что они умирают. Закончу слова-
ми одного умного буддиста: «Буддизм распространен в Ки-
тае и Японии потому, что это — не буддизм». Такой буд-
дизм, конечно, уже не философия, это просто мифология.
Но уж ни в коей мере он не похож на то, что мы называем
Церковью.
Покажется шуткой, если я скажу, что вся история веро-
ваний — это узор из ноликов и крестиков. Под ноликами я
подразумеваю не пустоту — я просто хочу сказать, что фор-
ма их отрицательна по сравнению с положительной формой
креста. Конечно, этот образ случаен, но очень верен. Дух
Азии действительно можно выразить знаком «О», даже если
это не ноль, а окружность. Великий восточный образ змеи,
закусившей свой хвост, прекрасно передает атмосферу вое-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
201
точной веры и мудрости. Эта замкнутая кривая включает все
и никуда не ведет. О том же говорит и другой восточный
знак, колесо Будды, которое обычно зовут свастикой. Крест
смело указывает в противоположные стороны, эти же линии
стремятся к кругу, словно кривой крест вот-вот обратится в
колесо. Раньше, чем вы отмахнетесь от этих произвольных
символов, вспомните, каким острым и тонким было чутье
народов, выбравших этот символ из символов Запада и Вос-
тока. Крест — не только воспоминание, точно, как матема-
тический чертеж, он выражает идею борьбы, уходящей в бес-
конечность.
Другими словами, крест прорывает круг, который — и
все, и ничто. Эту мысль можно выразить притчей. По пре-
данию, птицы, благословленные святым Франциском, поле-
тели в разные стороны света, составляя крест в небе. В срав-
нении с такой свободой свастика — точно кошка, гоняюща-
яся за своим хвостом. Можно сказать и так: с тех пор как
святой Георгий метнул копье в пасть дракона, тому есть, что
кусать, кроме собственного хвоста. Много образов можно
использовать для выражения этой мысли, но сама она —
абстрактна и непреложна. Христианство имеет дело с весо-
мой, вне нас существующей реальностью, с внешним, а не
только с вечным. Оно возвещает, что мир действительно есть,
что мир — это мир. В этом оно совпадает со здравым смыс-
лом. Но вся история религий показывает, что здравый смысл
гибнет повсюду, где его не хранит христианство.
И как ему не погибнуть, как продержаться, если сама
мысль перестала быть здравой? Можно сказать, что она стала
слишком простой. Философы стремились не столько объяс-
нить, сколько упростить все на свете. Нездоровые упроще-
ния привлекали их, как пустота и смерть притягивают сто-
ящего над пропастью. Надо знать совсем другую мудрость,
чтобы, стоя на крыле храма, не потерять равновесия и не ки-
нуться вниз. Одно из очевидных, слишком очевидных объяс-
нений учит нас, что все — иллюзия, сон и нет ничего, кроме
сознания; другое — что все повторяется; третье (приписы-
202
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ваемое буддизму, во всяком случае, восточное) — что вся
беда в творении, то есть в нашем пестром разнообразии, и
ничего хорошего не будет, пока мы снова не растворимся в
безличном единстве. По этой теории, само сотворение
мира — грехопадение. Она сыграла в истории большую роль,
потому что много раз вырывалась из темного сердца Азии,
чтобы перейти зыбкие рубежи Европы. Ее проповедовал та-
инственный Мани, отец многих ересей, которого надо бы
назвать пессимистом; исповедовал Зороастр, стоявший выше
его. Последнее имя связывают обычно еще с одним из слиш-
ком простых объяснений — с тем, что добро и зло равны,
что они уравновешивают друг друга и борются в каждой пес-
чинке. Зороастр, как и Мани, принадлежал к мудрецам, ко-
торых мы можем назвать мистиками. Из того же темного
персидского сада прилетел на тяжелых крыльях Митра, не-
ведомый бог, и омрачил поздние сумерки Рима.
Круг или солнечный диск, поднятый на заре мира еги-
петским еретиком, — образец и зеркало многих философий.
Они вертели его и так и сяк, нередко сходили от него с ума,
особенно когда он вертелся колесом у них в голове. Им каза-
лось, что бытие можно уложить в схему, свести к геометри-
ческим фигурам; и детские рисунки мифотворцев пылко и
просто возражали им. Философы не могли поверить, что ре-
лигия — не чертеж, а картина. Тем более не могли они пове-
рить, что картина эта изображает реальные, вне нас суще-
ствующие вещи. Они красили диск черным и назывались
пессимистами; красили белым и назывались оптимистами;
делили на две части, белую и черную, и назывались дуалис-
тами, как те персидские мистики, которым, будь у меня боль-
ше места, я бы воздал должное. Никто из них ничего бы не
понял, когда все стало «как есть», как в жизни, которую чер-
тежник может счесть весьма нечеткой. Словно тогда, в пе-
щере, изумленным взорам предстало нечто похожее на стран-
ный, грубый рисунок, и многим казалось, что художник пор-
тит чертеж, ибо впервые за все столетия он попытался нари-
совать Лицо.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
203
Глава VII
СХВАТКА БОГОВ И БЕСОВ
История, сводящая к экономике и политику, и этику, —
и примитивна, и неверна. Она смешивает необходимые усло-
вия существования с жизнью, а это совсем разные вещи.
Точно так же можно сказать, что, поскольку человек не спо-
собен передвигаться без ног, главное его дело — покупка
чулок и башмаков. Еда и питье поддерживают людей словно
две ноги, но бессмысленно предполагать, что не было других
мотивов во всей истории. Коровы безупречно верны эконо-
мическому принципу — они только и делают, что едят или
ищут, где бы поесть. Именно поэтому двенадцатитомная ис-
тория коров не слишком интересна. Овцы и козы тоже не
погрешили против экономики. Однако овцы не совершали
дел, достойных эпоса, и даже козы — хоть они и попровор-
нее — никого не вдохновили на «Золотые деяния славных
козлов», приносящие радость мальчишкам каждого века.
Можно сказать, что история начинается там, где кончаются
соображения коров и коз. Я не думаю, что крестоносцы ушли
из дома в неведомые пустыни по той же самой причине, по
какой коровы переходят с пастбища на пастбище. Вряд ли
кто-нибудь считает, что исследователи Арктики снова и сно-
ва тянутся на север по тем же причинам, что и ласточки. Но
если вы уберете из истории религиозные войны и подвиги
исследователей, она перестанет быть историей.
Теперь принято рассуждать так: люди не могут жить без
еды, следовательно, они живут для еды. На самом же деле
люди думают не столько об экономическом механизме, под-
держивающем существование, сколько о самом существова-
нии. Жизнь важнее для них, чем средства к жизни. Конечно,
время от времени человек размышляет о том, какая именно
работа даст ему средства и какие именно средства дадут еду.
Но за это же время он десять раз подумает, что сегодня хо-
204
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
рошая погода или что жизнь — странная штука, или спросит
себя, стоит ли жить вообще, или пожалеет, зачем он женил-
ся, или порадуется своим детям, или застонет о них, или
вспомнит свою юность, или еще как-нибудь задумается о
загадочном жребии человека. Это относится даже к рабам
нашей мрачной индустриальной цивилизации, бесчеловечная
жестокость которой действительно вытолкнула на первый
план экономические вопросы. Это несравненно более верно
по отношению к крестьянам, охотникам, рыбакам, составля-
ющим во все времена основную массу человечества. Даже те
сухари, которые считают, что этика зависит от экономики,
не могут не признать, что экономика зависит от жизни.
А большая часть естественных сомнений и мечтаний связана
с жизнью как таковой; не с тем, как прожить, а с тем, стоит
ли жить. Доказательства тому — в прямом смысле слова —
убийственно просты. Представьте себе, что данный человек
собирается не жить, а умирать. Стоит ли профессору поли-
тической экономии ломать себе голову над вычислением его
будущего заработка? Стоит ли хлопотать о пенсии для муче-
ника, вычислять семейный бюджет монаха? Что делать с тем,
кто отправился умирать за родину, или с тем, кому нужен не
любой, а свой, единственный на свете клочок земли? Все эти
люди не подчиняются экономическим выкладкам. Чтобы по-
нять их, надо понять и узнать, что же чувствует человек, когда
через странные окна глаз он смотрит на странное видение,
которое мы зовем миром.
Ни один разумный человек не хотел бы увеличивать ко-
личество длинных слов. Но мне все-таки придется сказать,
что нам нужна новая наука, которая могла бы называться
психологической историей. Я бы хотел найти в книгах не по-
литические документы, а сведения о том, что значило то или
иное слово и событие в сознании человека, по возможнос-
ти — обыкновенного. Я уже говорил об этом в связи с тоте-
мом. Мало назвать кота тотемом (хотя, кажется, котов так
не называли), важно понять, кем он был для людей — кош-
кой Уиттингтона или черным котом ведьмы, жуткой Бает
вечный человек
205
или Котом в сапогах74. Точно так же я хотел бы узнать, ка-
кие именно чувства объединяли в том или ином случае про-
стых людей, здравомыслящих и эгоистичных, как все мы.
Что чувствовали солдаты, когда увидели в небе сверкание
странного тотема — золотого орла легионов? Что чувство-
вали вассалы, завидев львов и леопардов на щитах своих
сеньоров? Пока историки не обращают внимания на эту
субъективную или, проще говоря, внутреннюю сторону дела,
история останется ограниченной, и только искусство сможет
хоть чем-то удовлетворить нас. Пока ученые на это не спо-
собны, выдумка будет правдивее факта. Роман — даже ис-
торический — будет реальнее документа. Такая внутренняя
история особенно необходима, когда речь идет о психологии
войн. Мы задыхаемся под тяжестью документов, но об этом
не находим ни слова. В худшем случае мы читаем официаль-
ные воззвания, которые никак не могут быть правдой хотя
бы потому, что они официальны. В лучшем — добираемся
до тайной дипломатии, которая не выражает чувств народа
хотя бы потому, что она тайная. На каких документах осно-
ваны, как правило, суждения об истинных причинах той или
иной войны? Правительства боролись за колонии или рын-
ки, за гавани или высокие тарифы, за золотые прииски или
алмазные копи. Но правительства вообще не борются. По-
чему боролись солдаты? Что думали, что чувствовали те, кто
делал своими руками это страшное и славное дело? Ни один
мало-мальски знающий солдат не поверит ученым, утверж-
дающим, что миллионы людей можно послать на убой из-
под палки в прямом смысле слова. Если все дезертируют,
кто накажет дезертиров? Да и сравнительно небольшое ко-
личество дезертиров может погубить всю кампанию. Что же
чувствуют солдаты? Если они действительно верят на слово
политикам, то почему? Если вассалы слепо шли за сеньором,
что же видели в нем эти слепые люди? Нам вечно твердят,
что люди воюют из-за материальных соображений. Но чело-
век не умирает из-за материальных соображений, никто не
умирает за плату. Не было платных мучеников. Призрак
206
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
«чистой», «реалистической» политики невероятен и нелеп.
Попробуйте представить себе, что солдат говорит: «Нога
оторвалась? Ну и черт с ней! Зато у нас будут все преиму-
щества обладания незамерзающими портами в Финском за-
ливе». Почему бы война ни начиналась, то, что ее поддер-
живает, коренится глубоко в душе. Близкий к смерти чело-
век стоит лицом к лицу с вечностью. Если даже его держит
страх, страх должен быть прост, как смерть.
Обычно солдатом движут два чувства, вернее, две сто-
роны одного чувства. Первое — любовь к находящемуся в
опасности месту, даже если это место называется расплыв-
чатым словом «родина». Второе — ненависть к тому чужо-
му, что ей угрожает. Первое чувство много разумнее, чем
принято считать. Человек не хочет, чтобы его родина погиб-
ла или даже просто изменилась, хотя не может припомнить
все хорошее, что для него связано с ней; точно так же мы не
хотим, чтобы сгорел наш дом, хотя вряд ли можем перечис-
лить все свои вещи. То, за что он борется, кажется поверх-
ностной абстракцией, на самом же деле это и есть дом. Вто-
рое чувство не менее сильно, более того, благородно. Люди
сражаются особенно яростно, когда противник — старый
враг, вечный незнакомец, когда в полном смысле этих слов
они «не выносят его духа». Так относились французы к прус-
сакам, восточные христиане к туркам. Если я скажу, что это
религиозная распря, вы начнете возмущаться и толковать о
сектантской нетерпимости. Что же, скажу иначе: это разни-
ца между смертью и жизнью, между тьмой и дневным све-
том. Такую разницу человек не забудет на пороге смерти,
ибо это спор о значении жизни.
В самые темные дни мировой войны, когда все мы изве-
лись вконец от боли, страха и тоски по близким, люди давно
забыли о тонкостях государственных интересов и не ради
них продолжали драться. Они — во всяком случае, те, кого
я знаю, — и подумать не могли о поражении, потому что
представляли себе лицо германского императора, вступаю-
щего в Париж. Это совсем не то чувство, которое мои идеа-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
207
диетические друзья зовут любовью. Я ничуть не стыжусь
назвать его ненавистью, ненавистью к аду и делам его.
Хотя, конечно, теперь не верят в ад и потому не обязаны
верить в ненависть. Но все это — длинное введение, а по-
надобилось оно потому, что я хотел напомнить, что такое
религиозная война. В такой войне встречаются два мира, как
сказали бы сейчас, две атмосферы. Что для одних воздух,
для других — отрава. Никого не убедишь оставить чуму в
покое. Именно это мы должны понять, даже если нам при-
дется поступиться некоторыми нравственными взглядами,
иначе мы не поймем, что же случилось, когда на другом бе-
регу закрыл римлянам небо Карфаген — темный, как Азия,
и порочный, как империализм.
Древняя религия Италии была той самой мешаниной,
которую мы рассматривали под именем мифологии; но если
греки тянулись к мифам, то латиняне как бы тянулись к вере.
И там и тут множились боги, но можно сказать, что гречес-
кий политеизм разветвлялся, как ветви дерева, а римский —
как корни. А может быть, точнее сказать, что у греков дере-
во цвело, а у римлян склонялось к земле под тяжестью пло-
дов. Греческие боги поднимались в утреннее небо сверкаю-
щими пузырями, латинские плодились и множились, чтобы
приблизиться к людям. Нас поражает в римских культах их
местный, домашний характер. Так и кажется, что божества
снуют вокруг дома, как пчелы, облепили столбы, как летучие
мыши, и, как ласточки, приютились под карнизом. Вот бог
крыши, вот бог ветвей, бог ворот и даже гумна. Мифы часто
назывались сказками. Эти можно сравнить с домашней и даже
няниной сказкой: она уютна и весела, как те сказки, где, слов-
но домовые, говорят стулья и столы. Старые боги италий-
ских крестьян были, вероятно, неуклюжими деревянными
идолами. Там тоже было немало уродливого и жестокого, на-
пример тот обряд, когда жрец убивал убийцу75. Такие вещи
всегда заложены в язычестве, они неспецифичны для рим-
лян. Особенностью же римского язычества было другое: если
греческая мифология олицетворяла силы природы, то латин-
208
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
екая олицетворяла природу, укрощенную человеком. У них
был бог зерна, а не травы, скота, а не охоты. Их культ был
поистине культурой.
Многих ставит в тупик загадка латинян. Их религия вью-
щимся растением обвивает каждую мелочь дома, и в то же
время они на редкость мятежны. Империалисты и реакцио-
неры часто приводят Рим как пример порядка и лояльности.
На самом же деле было не так. Истинная история древнего
Рима гораздо более похожа на историю нового Парижа. Его
можно было бы назвать городом баррикад. Говорят, ворота
его никогда не закрывались, потому что за стенами всегда
шла война; почти столь же верно сказать, что внутри всегда
шла революция. С первых восстаний плебеев до последних
восстаний рабов государство, навязавшее мир всему свету,
не могло установить его у себя. Сами правители были мя-
тежниками. Но религия в доме и революция на площади свя-
заны очень тесно. Хрестоматийное, но не поблекшее преда-
ние говорит нам, что республика началась с убийства тирана,
оскорбившего женщину76. И действительно, только тот, для
кого семья священна, способен противостоять государству.
Только он может воззвать к богам очага, более священным,
чем боги города. Вот почему ирландцы и французы, чей до-
машний уклад более строг, так беспокойны и мятежны. Я на-
меренно подчеркиваю эту сторону Рима — внутреннюю, как
убранство дома. Конечно, римские историки совершенно пра-
вы, рассказывая нам о циничных деяниях римских полити-
ков. Но дух, подобно дрожжам, поднимавший Рим изнутри,
был духом народа, а не только идеалом Цинцината77. Рим-
ляне укрепили свою деревню со всех сторон; распространили
свое влияние на всю Италию и даже на часть Греции, — как
вдруг очутились лицом к лицу с конфликтом, изменившим
ход истории. Я назову этот конфликт схваткой богов и бесов.
На другом берегу Средиземного моря стоял город, назы-
вающийся Новым. Он был старше, и много сильнее, и много
богаче Рима, но был в нем дух, оправдывавший такое назва-
ние. Он назывался Новым потому, что он был колонией, как
Нью-Йорк или Новая Зеландия. Своей жизнью он был обя-
зан энергии и экспансии Тира и Сидона — крупнейших ком-
мерческих городов. И, как во всех колониальных центрах, в
нем царил дух коммерческой наглости. Карфагеняне любили
хвастаться, и похвальба их была звонкой, как монеты. На-
пример, они утверждали, что никто не может вымыть руки в
море без их разрешения. Они зависели почти полностью от
могучего флота, как те два великих порта и рынка, из кото-
рых они пришли. Карфаген вынес из Тира и Сидона исклю-
чительную торговую прыть, опыт мореплавания и многое
Другое.
В предыдущей главе я уже говорил о психологии, которая
лежит в основе некоторых культов. Глубоко практичные, от-
нюдь не поэтичные люди любили полагаться на страх и отвра-
щение. Как всегда в таких случаях, им казалось, что темные
силы свое дело сделают. Но в психологии пунических народов
эта странная пессимистическая практичность разрослась до
невероятных размеров. В Новом городе, который римляне
звали Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, бо-
жество, работавшее «без дураков», называлось Молохом; по-
видимому, оно не отличалось от божества, известного под име-
нем Ваала. Римляне сперва не знали, что с ним делать и как
его называть; им пришлось обратиться к самым примитивным
античным мифам, чтобы отыскать его слабое подобие — Са-
турна, пожирающего. Но почитателей Молоха никак нельзя
назвать примитивными. Они жили в развитом и зрелом обще-
стве и не отказывали себе ни в роскоши, ни в изысканности.
Вероятно, они были намного цивилизованней римлян. И Мо-
лох не был мифом; во всяком случае, он питался вполне реаль-
но. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бро-
сая сотни детей в пылающую печь. Чтобы это понять, попы-
тайтесь себе представить, как манчестерские дельцы, при ба-
кенбардах и цилиндрах, отправляются по воскресеньям
полюбоваться поджариванием младенцев.
210
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Нетрудно было бы рассказать обо всех торговых и поли-
тических превратностях той поры, потому что вначале дело
действительно сводилось к торговле и политике. Казалось,
Пуническим войнам нет конца, и нелегко установить, когда
именно они начались. Уже греки и сицилийцы враждовали с
африканским городом. Карфаген победил греков и захватил
Сицилию. Утвердился он и в Испании; но между Испанией
и Сицилией был маленький латинский город, которому гро-
зила неминуемая гибель. И, что нам особенно важно, Рим не
желал мириться. Римский народ чувствовал, что с такими
людьми мириться нельзя. Принято возмущаться назойливо-
стью поговорки: «Карфаген должен быть разрушен». Но мы
забываем, что Рим был разрушен. И первый луч святости
упал на него, потому что Рим восстал из мертвых.
Как почти все коммерческие государства, Карфаген не
знал демократии. Бедные страдали под безличным и безраз-
личным гнетом богатых. Такие денежные аристократы, как
правило, не допускают к власти выдающегося человека. Но
великий человек может появиться везде, даже в правящем
классе. Словно для того, чтобы высшее испытание мира ста-
ло особенно страшным, в золоченом чертоге одного из пер-
вых семейств вырос начальник, не уступающий Наполеону.
И вот Ганнибал тащил тяжелую цепь войска через безлюд-
ные, как звезды, перевалы Альп. Он шел на юг — на город,
который его страшные боги повелели разрушить.
Ганнибал продвигался к Риму, и римлянам казалось, что
против них встал волшебник. Две огромные армии утонули в
болотах слева и справа от него. Все больше и больше воинов
затягивал омут Канн. Высший знак беды — измена натрав-
ливала на погибающий Рим новые племена. А пестрая армия
Карфагена была подобна парадному шествию народов: сло-
ны сотрясали землю, словно горы сошли с мест, гремели гру-
быми доспехами великаны галлы, сверкали золотом смуглые
испанцы, скакали темные нубийцы на диких лошадях пусты-
ни, шли дезертиры, и наемники, и всякий сброд, а впереди
двигался полководец, прозванный Милостью Ваала.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
211
Римские авгуры и летописцы, сообщавшие, что в эти дни
родился ребенок с головой слона и звезды сыпались с неба,
как камни, гораздо лучше поняли суть дела, чем наши исто-
рики, рассуждающие о стратегии и столкновении интересов.
Что-то совсем другое нависло над людьми — то самое, что
чувствуем мы все, когда чужеродный дух проникает к нам
как туман или дурной запах. Не поражение в битвах и не
поражение в торговле внушало римским жителям противные
природе мысли о знамениях. Это Молох смотрел с горы, Ваал
топтал виноградники каменными ногами, голос Танит-Не-
ведомой шептал о любви, которая гнуснее ненависти... Боги
очага падали во тьму под копытами, и бесы врывались сквозь
развалины, трубя в трубу трамантаны78. Рухнули ворота
Альп, ад был выпущен на волю. Схватка богов и бесов, по
всей очевидности, кончилась. Боги погибли, и ничего не ос-
талось Риму, кроме чести и холодной отваги отчаяния.
Ничего на свете не боялся Карфаген, кроме Карфагена.
Его подтачивал дух, очень сильный в преуспевающих торго-
вых странах и всем нам хорошо знакомый. Это — холодный
здравый смысл и проницательная практичность дельцов, при-
вычка считаться с мнением лучших авторитетов, деловые,
широкие, реалистические взгляды. Только на это мог наде-
яться Рим. Становилось яснее ясного, что конец близок, и
все же странная и слабая надежда мерцала на другом берегу.
Простой, практичный карфагенянин, как ему и положено,
смотрел в лицо фактам и видел, что Рим при смерти, что он
умер, что схватка кончилась и надежды нет, а кто же будет
бороться, если нет надежды? Пришло время подумать о бо-
лее важных вещах. Война стоила денег, и, вероятно, в глуби-
не души дельцы чувствовали, что воевать все-таки дурно,
точнее, очень уж дорого. Пришло время и для мира, вернее,
Для экономии. Ганнибал просил подкрепления; это звучало
смешно, это устарело, на очереди стояли куда более серьез-
ные дела. Правда какой-то консул убил Ганнибалова бра-
та79 и с неразумной латинской жестокостью швырнул его тело
в ганнибалов лагерь; но все эти дурацкие действия только
212
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
подтверждали растерянность и отчаяние латинян. Даже рим-
ляне не так глупы, чтобы сохранить верность заведомо про-
игранному делу. Так рассуждали лучшие финансовые авто-
ритеты, отмахиваясь от новых и новых тревожных и настой-
чивых просьб. Из глупого предрассудка, из уверенности де-
ловых обществ, что тупость — практична, а гениальность —
глупа, они обрекли на голод и гибель великого воина, кото-
рого им напрасно подарили боги.
Почему практичные люди убеждены, что зло всегда по-
беждает? Что умен тот, кто жесток, и даже дурак лучше ум-
ного, если он достаточно подл? Почему им кажется, что
честь — это чувствительность, а чувствительность — это
слабость? Потому что они, как и все люди, руководствуются
своей верой. Для них, как и для всех, в основе основ лежит
их собственное представление о природе вещей, о природе
мира, в котором они живут; они считают, что миром движет
страх и потому сердце мира — зло. Они верят, что смерть
сильней жизни и потому мертвое сильнее живого. Вас уди-
вит, если я скажу, что люди, которых мы встречаем на при-
емах и за чайным столом, — тайные почитатели Молоха и
Ваала. Но именно эти умные, практичные люди видят мир
так, как видел его Карфаген. В них есть та осязаемая грубая
простота, из-за которой Карфаген пал. Он пал потому, что
дельцы до безумия безразличны к истинному гению. Они не
верят в душу и потому в конце концов перестают верить в
разум. Они слишком практичны, чтобы быть хорошими; бо-
лее того, они не так глупы, чтобы верить в какой-то там дух,
и отрицают то, что каждый солдат назовет духом армии. Им
кажется, что деньги будут сражаться, когда люди уже не
могут. Именно это случилось с пуническими дельцами. Их
религия была религией отчаяния, даже когда дела их шли
великолепно. Как могли они понять, что римляне еще наде-
ются? Их религия была религией силы и страха — как мог-
ли они понять, что люди презирают страх, даже когда они
вынуждены подчиниться силе? В самом сердце их мироощу-
щения лежала усталость, устали они и от войны — как мог-
вечный человек
213
ли они понять тех, кто не хочет прекращать проигранную
битву? Одним словом, как могли понять человека они, так
долго поклонявшиеся слепым вещам; деньгам, насилию и
богам, жестоким, как звери? И вот новости обрушились на
них: зола повсюду разгорелась в пламя, Ганнибал разгром-
лен, Ганнибал свергнут. Сципион перенес войну в Испанию,
он перенес ее в Африку. Под самыми воротами Золотого
города Ганнибал дал последний бой, проиграл его, и Карфа-
ген пал, как никто еще не падал со времен Сатаны. От Но-
вого города осталось только имя — правда, для этого пона-
добилась еще одна война. И те, кто раскопал эту землю че-
рез много веков, нашли крохотные скелеты, целые сотни —
священные остатки худшей из религий. Карфаген пал пото-
му, что был верен своей философии и довел ее до логическо-
го конца, утверждая свое восприятие мира. Молох сожрал
своих детей.
Боги ожили снова, бесы были разбиты. Их победили по-
бежденные; можно даже сказать, что их победили мертвые.
Мы не поймем славы Рима, ее естественности, ее силы, если
забудем то, что в ужасе и в унижении он сохранил нравствен-
ное здоровье, душу Европы. Он встал во главе империи по-
тому, что стоял один посреди развалин. После победы над
Карфагеном все знали или хотя бы чувствовали, что Рим
представлял человечество даже тогда, когда был от него от-
резан. Тень упала на него, хотя еще не взошло светило, и
груз грядущего лег на его плечи. Не нам судить и гадать,
каким образом и когда спасла бы Рим милость Господня; но
я убежден, что все было бы иначе, если бы Христос родился
в Финикийской, а не в Римской империи. Мы должны быть
благодарны терпению Пунических войн за то, что через века
Сын Божий пришел к людям, а не в бесчеловечный улей.
Античная Европа наплодила немало собственных бед — об
этом мы скажем позже, — но самое худшее в ней было все-
таки лучше того, от чего она спаслась. Может ли нормаль-
ный человек сравнить большую деревянную куклу, которая
забирает у детей часть обеда, с идолом, пожирающим детей?
214
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Врагу, а не сопернику отказывались поклоняться римляне.
Не о хороших дорогах вспоминали они и не о деловом поряд-
ке, а о презрительных, наглых усмешках. И ненавидели дух
ненависти, владевший Карфагеном. Мы должны им быть
благодарны за то, что нам не пришлось свергать изображе-
ния Венеры, как свергли они изображения Ваала. Благодаря
их непримиримости, мы не относимся непримиримо к про-
шлому. Если между язычеством и христианством — не толь-
ко пропасть, но и мост, мы должны благодарить тех, кто со-
хранил в язычестве человечность. Если через столько веков
мы все-таки в мире с античностью, вспомним хоть иногда,
чем она могла стать. Благодаря Риму груз ее легок для нас и
нам не противна нимфа на фонтане или купидон на открытке.
Смех и печаль соединяют нас с древними, нам не стыдно
вспомнить о них, и с нежностью видим мы сумерки над са-
бинской фермой и слышим радостный голос домашних бо-
гов, когда Катулл возвращается домой, в Сирмион: «Карфа-
ген разрушен».
Глава VIII
КОНЕЦСВЕТА
Однажды летом я сидел на лугу в Кенте под сенью ма-
ленькой деревенской церкви и беседовал со спутником моих
тогдашних странствий. Он принадлежал к кружку эксцент-
риков, которые исповедовали собственную новую религию и
называли ее Высшей Мыслью. Я был достаточно посвящен
в нее, чтобы учуять дух высокомерия, и надеялся, что на
следующих ступенях дойду и до мысли. Мой приятель был
эксцентричней их всех, но о жизни он знал гораздо больше,
чем они, потому что немало побродил по свету, пока они
размышляли в своих аристократических предместьях. Не-
взирая на сплетни и слухи, я предпочитал его им всем и с
удовольствием отправился бродить с ним; а в лесу мне то и
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
215
дело казалось, что загорелое лицо, густые брови и козлиная
бородка придают ему сходство с Паном. Итак, мы сидели
на лугу, лениво глядя на вершины деревьев и шпиль дере-
венской церкви. Вдруг мой спутник сказал: «А вы знаете,
почему этот шпиль так торчит?» Я ответил, что не знаю, и
он беспечно бросил: «То же самое, что обелиски. Фалли-
ческий культ». Я взглянул на него — он лежал на спине,
задрав к небу козлиную бородку, — и вдруг он показался
мне не Паном, а дьяволом. Не меньше секунды я чувство-
вал то же самое, что чувствовали люди, когда жгли ведьм;
но тут ощущение чудовищной нелепости спасло меня. «Ну
конечно, — сказал я, — если бы не фаллический культ, он
бы стоял на острие». Мой спутник, по-видимому, не оби-
делся — кажется, он не слишком серьезно относился к сво-
им научным мнениям. Мы встретились случайно, больше я
его не видел и думаю, что он уже умер. Но, хотя это не
имеет никакого отношения к делу, я хочу назвать вам имя
этого адепта высшей мысли и знатока древних символов, во
всяком случае, то имя, под которым он стал известен. Это
был Луи де Ружмон80.
Нелепый, как в детском стишке, образ Кентской церк-
ви, стоящей на кончике шпиля, приходит мне на ум, когда я
слушаю разговоры о языческих культах, и раблезианский
смех спасает меня. Он помогает мне относиться к знатокам
древних и новых религий, как к бедному Луи де Ружмону.
Воспоминание о нем стало для меня меркой, и я пользуюсь
ею, чтобы сохранить нормальный взгляд не только на хрис-
тианскую церковь, но и на языческие храмы. Многие гово-
рят о язычниках то, что он говорил о христианах. Современ-
ные язычники жестоки к язычеству. Друзья человечества
слишком строго судят о том, во что человечество верит.
Теперь принято считать, что всегда и повсюду эти верова-
ния сводятся к темным тайнам пола, что с самого начала они
бесстыдны и бесформенны. Я этому не верю. Я никогда не
увидел бы в поклонении Аполлону то, что Ружмон увидел в
поклонении Христу. Я никогда не думал, что в греческом
216
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
городе царил дух, который он отыскал в кентской деревне.
Все время — даже в этой последней главе о последней,
упадочной поре античности — я настаиваю снова и снова,
что лучшая сторона язычества победила худшую. Лучшее
победило, завоевало мир, правило миром — и приближа-
лось к гибели.
Если мы не поймем этого, мы ничего не поймем в упадке
античности. Пессимизм — не усталость от плохого, а уста-
лость от хорошего. Отчаяние приходит не тогда, когда ты
пресытился страданием, а когда ты пресытился весельем.
Когда по той или иной причине хорошие вещи уже не служат
своему делу — пища не кормит, лекарства не лечат, благо-
словение не благословляет, — наступает упадок. Можно
даже сказать, что в обществе, где ничего хорошего не было,
нет и точки отсчета, неоткуда падать. Вот почему коммер-
ческие олигархии типа Карфагена застывают осклабившимися
мумиями и никогда нельзя сказать, молоды они или беско-
нечно стары. Карфаген, к счастью, умер; самое страшное
нападение бесов на смертных было отбито. Но что толку от
смерти дурного, если умирает хорошее?
Отношения Рима и Карфагена в какой-то мере повторя-
лись в отношениях Рима со многими близкими ему нор-
мальными народами. Не спорю, римские государственные де-
ятели действительно плохо обращались с коринфскими и гре-
ческими городами. Но неверно думать, что римское отвраще-
ние к греческим порокам было чистым лицемерием. Я совсем
не считаю римлян идеальными рыцарями — мир не знал
настоящего рыцарства до христианских времен. Но я верю,
что у них были человеческие чувства. Дело в том, что по-
клонение природе привело греков к отвратительному извра-
щению; их довела до беды худшая из софистик — софисти-
ка простоты. Они пошли наперекор естеству, поклоняясь
природе, отошли от человечности, превознося человека. Ко-
нечно, в определенном смысле Содом и Гоморра лучше, че-
ловечнее Тира и Сидона. Когда мы вспоминаем бесов, по-
жирающих детей, мы понимаем, что даже греческий разврат
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
217
лучше пунического сатанизма. Но мы ошибаемся, если в от-
вращении к разврату увидим чистое фарисейство. Расска-
жите про культ Ганимеда81 юноше, которому посчастливи-
лось вырасти нормальным и мечтать о любви. Он даже не
будет шокирован — ему просто станет противно. И это
первое впечатление окажется правильным. Наше циничное
равнодушие — просто обман зрения, иллюзия привычности.
И нет ничего странного в том, что по-сельски чистые рим-
ляне содрогались от одних слухов о таких делах — содрога-
лись почти так же, как от жестокости Карфагена. Именно
потому, что гнев их был меньше, они не разрушили Ко-
ринф, как разрушили Карфаген. Но если вы все же считае-
те, что плохое отношение к грекам было вызвано только го-
сударственными и торговыми интересами, я скажу вам, что,
как ни прискорбно, вы не понимаете некоторых вещей и
потому вам не понять латинян. Вы не понимаете демокра-
тии, хотя, без сомнения, много раз слышали это слово и не-
редко произносили его. Всю свою мятежную жизнь Рим
тянулся к демократии; ни государство, ни политика ничего
не могли сделать, не опираясь на демократию — на ту де-
мократию, которая прямо противоположна дипломатии.
Именно благодаря римской демократии мы знаем так много
о римской олигархии. Современные историки не раз пыта-
лись объяснить славу и победы Рима продажностью и деля-
чеством — словно Курций82 подкупил македонских воинов
или консул Нерон обеспечил себе победу из пяти процентов.
Однако о пороках патрициев мы знаем только потому, что
плебеи их разоблачали. Карфаген был пропитан сделками и
подкупом. Но там не было толпы, которая посмела бы на-
звать своих правителей взяточниками.
Римляне были слабы, римляне грешили, как все лю-
ди, — и все же возвышение Рима действительно было воз-
вышением здравомыслия и народности. Особенно здравой и
народной была ненависть к извращению; у греков же оно
вошло в обычай. Оно до того вошло в обычай, стало литера-
турной условностью, что римские писатели и сами подража-
218
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ли ему. Но это — одно из непременных осложнений сно-
бизма; а глубже, за пленкой моды, дух этих двух сообществ
был совершенно различен. Действительно, Вергилий взял
темы из Феокрита; но вряд ли кому-нибудь покажется, что
их пастухи похожи. Сам Вергилий воспевает прежде всего
естественные, нравственные н здоровые вещи — умерен-
ность, патриотизм, сельскую честь. Ведя рассказ об осени
древнего мира, я хотел бы остановиться подробнее на имени
того поэта, который в таком высоком смысле воплотил зре-
лость и ясную печаль осени. Всякий, прочитавший хоть не-
сколько строчек Вергилия, знает: кто-кто, а он понимал, что
значит для человечества нравственное здоровье. Две черты
великого римского поэта особенно важны для нашей темы.
Во-первых, его патриотический эпос основан на падении
Трои, — другими словами, Вергилий славит Трою, несмот-
ря на то, что она пала. Он возвел к троянцам свой любимый
народ и положил начало великой троянской традиции, кото-
рая проходит через всю средневековую и современную лите-
ратуру. С легкой руки Вергилия она вышла за пределы лите-
ратуры и стала легендой о священном достоинстве побеж-
денных. Эта традиция — одна из немногих — подготовила
мир к приходу христианства и особенно — христианского
рыцарства. Мужество человека, припертого к стене, помогло
пронести цивилизацию сквозь бесконечные поражения Тем-
ных веков и варварских войн, в которых родилось рыцар-
ство; а стена эта была стеной Трои. И в средние века, и в
Новое время европейцы, подобно Вергилию, возводили свои
народы к героическим троянцам. Самые разные люди счита-
ли великой честью называть своим предком Гектора. Никто,
кажется, не пытался возводить свой род к Ахиллу. Показа-
тельно даже то, что троянское имя вошло в наши святцы, и
мальчиков крестят Гекторами в далекой Ирландии, а гречес-
кое имя мы слышим очень редко, и звучит оно претенциоз-
но. А прославление Трои тесно связано с тем духом, из-за
которого многие считали Вергилия почти христианином.
Словно из одного дерева сделаны два орудия Промысла —
вечный человек
219
божественное и человеческое; только деревянного коня Трои
можно сравнить (и поставить рядом) с деревянным крестом
Голгофы. Не так уж кощунственна дикая аллегория: младе-
нец Христос на деревянной лошадке сражается с драконом
деревянным мечом.
Во-вторых, Вергилий по особому относился к мифоло-
гии, точнее, к фольклору, к народным верованиям и сказкам.
С первого взгляда ясно, что лучшее в его поэзии связано не
с пышностью Олимпа, а с простыми деревенскими боже-
ствами. Вероятно, полнее всего выразился этот дух в экло-
гах, утвердивших навсегда прекрасную легенду об аркадских
пастухах. Нам трудно это понять, потому что по воле случая
его литературные условности не похожи на наши. Нет ниче-
го более условного, чем жалобы на условность старой пасто-
ральной поэзии. Мы не понимаем, что хотели сказать наши
предки, потому что судим об их творениях со стороны. Нам
смешно, что пастухов делали из фарфора, — и вот мы забы-
ваем спросить, зачем их делали вообще. Мы привыкли счи-
тать «веселых поселян» оперными персонажами, а следовало
бы подумать, почему есть фарфоровые пастушки и нет фар-
форовых лавочников, почему не вышивают на скатертях тор-
говок в изящных позах, почему в опере веселятся поселяне,
а не политики. Потому что древнее чутье и юмор подсказы-
вали человечеству, что условности городов куда менее нор-
мальны и счастливы, чем обычаи деревни. Вряд ли совре-
менный поэт может написать эклогу об Уолл-стрит и невин-
но резвящихся миллионерах. Ключ к тайне «веселого посе-
лянина» в том, что поселяне действительно веселы. Мы в
это не верим потому, что, ничего о них не зная, не можем
знать и об их веселье. Конечно, настоящий пастух очень
мало похож на идеального, но идеал не обязательно отрицает
реальность. Чтобы создать условность, нужна традиция.
Чтобы создать традицию, нужна истина. Пасторальная по-
эзия, конечно, была чистой условностью, особенно в упадоч-
ных обществах. Это в упадочном обществе пастухи и пас-
тушки Ватто слонялись по садам Версаля. В другом упадоч-
220
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ном обществе пастухи и пастушки заполонили бледные тво-
рения эпигонов Вергилия. Но это не дает нам права отмахи-
ваться от умирающего язычества, не разобравшись, чем оно
жило. Мы можем сказать, что их искусство до отвращения
искусственно, но они не стремились к искусственности. На-
против, они поклонялись естественному и потому потерпели
поражение.
Пастухи умирали, потому что умирали их боги. Языче-
ство жило поэзией — той поэзией, которую зовут мифоло-
гией. Везде, а особенно в Италии, эта мифология и поэзия
были тесно связаны с сельской жизнью, именно этой сельс-
кой религии пастухи в немалой степени обязаны «сельскими
радостями». Только тогда, когда общество стало умнее и стар-
ше, стали видны те слабости мифологии, о которых я говорил
в соответствующей главе. Религия мифов не была религией.
Другими словами, она не была действительностью. Это был
разгул юного мира, упивавшегося вином и любовью. Мифо-
творчество выражало творческую основу человека; однако
даже с эстетической точки зрения мифология давно уже ста-
ла перегруженной и запутанной. Деревья, выросшие из се-
мени Юпитера, стали джунглями, а не лесом; в распрях бо-
гов и полубогов мог бы разобраться скорее турист, чем поэт.
И не только в эстетическом смысле все это разваливалось,
теряло форму; распускался цветок зла, заложенный в самом
семени поклонения природе, каким бы естественным оно ни
казалось. Как я уже говорил, я не верю, что поклонение при-
роде непременно начинается с поклонения полу, — я не при-
надлежу к школе де Ружмона и не верю, что мифология на-
чинается с эротики. Но я совершенно уверен, что мифология
ею кончается. Не только поэзия становилась все более без-
нравственной — безнравственность становилась все более
гнусной. Греческие пороки, восточные пороки, старые гнус-
ности семитских бесов слетались к слабеющему Риму, как
мухи на свалку. Здесь нет ничего загадочного для любого
человека, пытающегося рассматривать историю изнутри.
Наступает вечерний час, когда ребенку надоедает «представ-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
221
лять», он устал играть в разбойников или краснокожего ин-
дейца. Именно тогда он мучает кошку. Приходит время в
рутине упорядоченной цивилизации, когда человек устает от
игры в мифологию, устает повторять, что дерево — это де-
вушка, а луна влюбилась в мужчину. Результаты этой уста-
лости везде одинаковы — будь то пьянство, или наркотики,
или другие способы «расшевелить себя». Люди гонятся за
все более странными пороками, все более страшными извра-
щениями, чтобы расшевелить притупившиеся чувства. Имен-
но потому кидаются они к безумным религиям Востока. Что-
бы пощекотать нервы, они не остановятся и перед ножами
жрецов Ваала. Они засыпают на ходу и хотят разбудить себя
кошмарами.
Песни крестьян звучали в лесах все тише и тише. Сельс-
кая цивилизация увядала, а может быть, и увяла. Империя
была организована, и в ней царил тот дух рабства, который
всегда приходит с успехом организованности. Она почти до-
стигла той степени рабовладения, к которой стремится наша
промышленность. Вы много раз слышали и читали, что се-
годня бывшие крестьяне стали чернью городов, зависящей
от кино и пособий, — в этом отношении, как и во многих, мы
вернулись не к юности, а к старости язычества. Сердце ушло
из язычества вместе с богами очага, богами сада, поля и леса.
Пан умер, когда родился Христос. Точнее, люди узнали о
рождении Христа, потому что умер Пан. Возникла пусто-
та — исчезла целая мифология, и в этой пустыне можно было
бы задохнуться, если бы в нее не хлынул воздух теологии.
Но об этом я скажу позже. Теология — это система, догма,
даже если мы с ней не согласны. Мифология никогда не была
догмой, никто не исповедовал ее и не отрицал. Она была на-
строением; а когда настроение умерло, вернуть его никто не
смог. Люди не только перестали верить в богов — они обна-
ружили, что никогда в них не верили.
Сумерки окутали Аркадию, и печально звенели в лесу
последние ноты свирели. В великих поэмах Вергилия мы уже
чувствуем эту печаль. Конечно, домашней нежностью пол-
222
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ны многие его строчки, например та, которую Беллок счита-
ет пробным камнем поэта: «Incipe, parve puer, risu congnoscere
matrem»*. Но и сама семья, как и у нас, стала ломаться под
грузом порабощения и перенаселения городов. Городская
толпа стала просвещенной, то есть потеряла ту силу, которая
помогала ей творить мифы. По всему Средиземноморью люди
пытались заменить культ богов побоищами гладиаторов. Не
лучше обстояли дела у интеллектуальных аристократов ан-
тичности, которые бродили и беседовали со времен Сократа
и Пифагора. Они начали понимать, что ходят по кругу, по-
вторяют одно и то же. Философия стала забавой, а забава
прискучила. Противоестественно и бесполезно сводить все
на свете к чему-нибудь одному. Все — добродетель; или
все — счастье; или все — судьба; или все — добро; или
все — зло. Что же делать дальше? Мудрецы выродились в
софистов, они загадывали загадки и переливали из пустого в
порожнее. И, как всегда в такие времена, они пристрасти-
лись к магии. Привкус восточного оккультизма вошел в моду
в лучших домах. Если философ стал салонной забавой, поче-
му бы ему не стать фокусником?
В наше время нередко сетуют на то, что средиземномор-
ский мир был слишком мал, что ему не хватало горизонтов,
которые бы открылись перед ним, если бы он знал другие
части света. Но это — иллюзия, одна из обычных иллюзий
материализма. Дальше язычество пойти не может. В самом
лучшем случае, в других краях оно достигло бы того же са-
мого. Римским стоикам не нужно было знать китайцев, что-
бы научиться стоицизму. Пифагорейцам не нужны были ин-
дусы, чтобы научиться простой жизни или вегетарианству.
Они уже взяли с Востока все, что могли, — даже слишком
много. Синкретисты не меньше, чем теософы83, верили, что
все религии — одно. Вряд ли они научились бы чему-ни-
будь лучшему у ацтеков или у инков. Остальной же мир ле-
* «Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться» — Вергилий,
«Буколики», IV. 60. — Перевод С. Шервинского.
вечный человек
223
жал во тьме варварства. Повторю еще раз: Римская империя
была высшим достижением человечества, но акведуки ее были
перечеркнуты страшной таинственной надписью. Люди боль-
ше ничего не могли сделать.
Эта надпись сообщала не о том, что какой-то царь погиб-
нет, а царство его заберет чужеземец. Сейчас показалась бы
хорошей весть о войне или о поражении. Никто на свете не
мог завоевать Рим, никто не мог и исправить его. Самый силь-
ный город мира слабел, самые лучшие вещи становились пло-
хими. Я не устану повторять, что многие цивилизации встре-
тились с цивилизацией Средиземноморья, что она уже стала
универсальной. Но эта универсальность никому не была нуж-
на. Люди собрали все, что могли, — и этого оказалось мало.
И мифологию, и философию язычества в самом прямом смыс-
ле слова осушили до дна.
Правда, расцветала магия, а с ней — третья возможность,
которую мы назвали поклонением бесам. Но что могла она
принести, кроме разрушения? Оставалась четвертая или, точ-
нее, первая — та возможность, которую забыли. Я говорю о
подавляющем, неописуемом ощущении, что у мира есть про-
исхождение и цель, а потому — Творец. Что стало в то вре-
мя с этой великой истиной в глубине человеческого созна-
ния, очень трудно определить. Несомненно, некоторые стоики
видели ее все ясней, по мере того как рассеивались облака
мифологии: и, надо сказать, они сделали немало, чтобы за-
ложить основы нравственного единства мира. Евреи все еще
ревниво хранили тайну свою за высокой стеной мессианства,
но для тех времен в высшей степени характерно, что некото-
рые модные люди, особенно модные дамы, увлеклись иуда-
измом. А очень многие именно тогда пришли к небывалому
отрицанию. Атеизм стал действительно возможен в то не-
нормальное время; ведь атеизм — ненормален. Он не толь-
ко противоречит догме. Он противоречит подсознательному
чувству — ощущению, что мир что-то да значит и куда-то
идет. Лукреций, первый поборник эволюции, заменил эво-
люцией Бога, открыл глазам людей беспорядочный танец
224
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
атомов, доказывающий, по его мнению, что Вселенная есть
хаос84. Но ни его могучая поэзия, ни его печальная филосо-
фия не заставили бы людей поверить, что он прав, если бы не
то бессилие и отчаяние, с которым люди тщетно угрожали
звездам, видя, как лучшие творения человечества медленно
и бесповоротно сползают в болото. Нетрудно поверить, что
само бытие — падение, когда видишь, как под собственной
тяжестью рушатся лучшие творения человека. Люди поня-
ли, что Бога нет; если бы Он был, в этот самый момент Он
поддержал бы и спас мир.
А великая цивилизация жила, продолжались ее скучные
жестокости и скучные оргии. Наступил конец света, и хуже
всего было то, что свет никак не кончался. Между всеми
мифами и религиями Империи был достигнут пристойный
компромисс: люди могли поклоняться кому угодно, если, ко-
нечно, они соглашались покадить заодно и обожествленно-
му, но терпимому Императору. В этом ничего трудного не
было; вообще мир надолго потерял способность считать что-
либо трудным. Где-то что-то натворили члены какой-то вос-
точной секты. Это повторилось, потом повторилось опять и
стало почему-то вызывать раздражение. Дело было даже не
в том, что эти провинциалы говорили, хотя говорили они вещи
по меньшей мере странные. Кажется, они утверждали, что
умер Бог и что они сами это видели. Это вполне могло ока-
заться одной из маний, порожденных отчаянием века, хотя
они, по всей видимости, не находились в отчаянии. Они по-
чему-то радовались и объясняли свою радость тем, что Бог
разрешил им есть Его тело и пить Его кровь. По другим све-
дениям, этот Бог, в сущности, не совсем умер; их извращен-
ное воображение измыслило какие-то чудовищные похоро-
ны, когда солнце померкло, — и зря, потому что мертвый
Бог поднялся из могилы, как солнце на небе. На этот стран-
ный рассказ не обращали особого внимания; люди навида-
лись достаточно странных религий, чтобы заполнить ими су-
масшедший дом. Однако что-то было в тоне новых сумас-
шедших. Это был всякий сброд — варвары, рабы, бе дня-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
225
ки — в общем, люди, не стоящие внимания. Но вели они
себя как воины. Они держались вместе и совершенно точно
знали, что и кто именно входит в их культ; и хотя они говори-
ли безупречно кротко, в их голосе звенело железо. Люди,
повидавшие на своем веку немало систем и религий, не могли
разгадать их тайну. Оставалось предположить, что они дей-
ствительно верят в то, что говорят. Все попытки вразумить
их и объяснить, что незачем огород городить из-за статуй
Императора, не вели ни к чему, они словно оглохли. Словно
упал метеор из невиданного металла, отличающегося на ощупь
от всего, что знала Земля. Тому, кто к ним приближался,
казалось, что он ударялся о камень.
Со странной быстротой сновидений менялись на глазах
соотношения вещей. Раньше, чем люди поняли, что случи-
лось, эти безумцы кишели повсюду, от них нельзя было про-
сто отмахнуться. О них перестали говорить, старались избе-
гать их. Но вот мы видим новую сцену: мир содрал с них
одежды и они, как прокаженные, стоят одни посреди боль-
шого пространства. И снова меняется сцена, и со всех сторон
нависли тучи свидетелей, ибо странные вещи творятся с ними.
Для безумцев, принесших благую весть, выдуманы новые
пытки. Пресыщенное общество словно исследует, почему же
мир так взбесился из-за людей на арене; амфитеатр буйству-
ет вокруг них, но они стоят неестественно прямо и спокойно.
И тогда, в этот темный час, падает на них впервые ослепи-
тельный свет, белый огонь, который они пронесли сквозь
сумерки истории. Этим светом, как ударом молнии, язычни-
ки отделили их от себя и увенчали навеки. Враги восславили
их и сделали еще необъяснимей. Ореол ненависти окружил
Церковь Христову.
Часть II
О ЧЕЛОВЕКЕ,
КОТОРЫЙ ЗОВЕТСЯ ХРИСТОМ
Глава I
БОГ В ПЕЩЕРЕ
Эта книга начинается пещерой; именно с пещерой связы-
вают ученые жизнь первобытного человека, и в пещере нашли
древнейшие изображения животных. Вторая половина чело-
веческой истории, подобная новому сотворению мира, тоже*
начиналась в пещере. И животные были тут, потому что пе-
щера эта служила стойлом для горных жителей у Вифлеема ,
там и сейчас загоняют скот на ночь в такие ущельица и гроты.
Именно здесь, под землей, приютились двое бездомных, ког-
да хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними
двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребе мира,
родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным
человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на
стене мироздания; но Его рисунки обрели жизнь.
Легенды и поэмы, которым нет и не будет конца, повто-
ряют на все лады немыслимый парадокс: руки, создавшие
вечный человек
221
солнце и звезды, не могли дотянуться до тяжелых голов осла
и вола. На этом парадоксе, я сказал бы даже, на этой шутке
зиждется вся поэзия нашей веры; и, как всякую шутку, уче-
ные ее не замечают. Они скрупулезно растолковывают, сколь
невероятно то, что мы сами подчеркиваем с вызовом, даже
со смехом; они снисходительно объясняют, сколь дико то,
что мы сами зовем немыслимым; они говорят, что это слиш-
ком хорошо, чтобы сбыться, — но ведь это сбылось. О кон-
трасте между всемогуществом и детской беспомощностью
говорили, пели и кричали тысячи раз в гимнах, колядках, кар-
тинках, действах, песнях и проповедях, и нам вряд ли нужен
ученый, чтобы мы заметили некую странность. Все же я не-
много поговорю о ней, потому что она тесно связана с моей
темой. В наше время очень любят подчеркивать роль воспи-
тания в жизни, психологии — в воспитании. Нам непрерыв-
но твердят, что первые впечатления формируют характер, и
очень беспокоятся, как бы вкус ребенка не был отравлен на
всю жизнь плохо раскрашенной игрушкой, нервная систе-
ма — расшатана неблагозвучной считалкой. Однако нас со-
чтут тупыми догматиками, если мы скажем, что есть разница
между тем, кто воспитан в христианстве, и другими людьми.
Всякий католический ребенок знает по картинкам, всякий
протестантский ребенок знает по рассказам о немыслимом
сочетании понятий; оно поистине становится одним из его
первых впечатлений. Эта разница не теологическая, а психо-
логическая, она долговечней и прочней богословских убеж-
дений. Она, как любят говорить ученые, неискоренима. Для
любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рожде-
ство, хочет он того или нет, связаны на всю жизнь два поня-
тия, которые для большей части человечества весьма далеки
друг от друга: ребенок и неведомая сила, которая поддержи-
вает звезды. Инстинктом и воображением он соединит их
даже тогда, когда разум его не увидит в этом смысла. Для
него всегда будет привкус веры в изображении матери с ре-
бенком, привкус жалости и беззащитности в страшном име-
ни Божием. Но эти понятия связаны не для всех. Они не
228
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
связаны для китайцев или древних греков, даже таких вели-
ких, как Аристотель и Конфуций. Связывать Бога с младен-
цем ничуть не логичней, чем связывать тяготение с котен-
ком. Для нас они связаны Рождеством, потому что мы —
христиане по психологии, если не по убеждению. Это соче-
тание идей, как теперь говорят, меняет в корне*нашу приро-
ду. Тот, кто знает это, отличается от незнающего. Я совсем
не хочу сказать, что он лучше, — мусульманин или еврей
могут быть лучше его. Просто в его гороскопе пересекаются
две линии; всемогущество и беспомощность, божественность
и детство рифмуются для него, и это созвучие не померкнет
от тысяч повторений. Да, в Вифлееме поистине сошлись про-
тивоположности.
В пещере было положено начало тому, что придает хрис-
тианству такую человечность. Если бы людям понадобился
образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы,
наверное, выбрали Рождество. Но Рождество очевиднейшим
образом связано с тем, что считают (никак не пойму, поче-
му) спорным и надуманным, — с поклонением Пречистой
Деве. Взрослые моего детства требовали убрать из церквей
Ее статуи с Младенцем. После долгих препирательств при-
мирились на том, что отняли у Нее Младенца, — хотя, если
рассуждать логически, с их собственной точки зрения, это
должно быть еще хуже. Может быть, Мать не так опасна,
если Ее обезоружить? Во всяком случае, все это похоже на
притчу. Нельзя отделить статую матери от новорожденного
ребенка, младенец не может висеть в воздухе, собственно
говоря, вообще не может быть статуи младенца. Точно так
же не можем мы подумать о Нем, не думая о Матери. В обык-
новенной, человеческой жизни мы не можем прийти к ново-
рожденному, не придя тем самым к его матери; мы можем
общаться с ним только через мать. Отнимите Христа у Рож-
дества или Рождество у Христа, иначе вам придется сми-
риться с тем, что святые головы — рядом и сияния их почти
сливаются, как на старых картинах.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
229
Можно сказать, как ни грубо это звучит, что в тот час,
в той складке или трещине серой горы мир был вывернут
наизнанку. Раньше благоговейные и удивленные взоры об-
ращались как бы наружу, с этих пор обратились внутрь, к
самому маленькому. Бог был вовне, оказался в центре, а
центр — бесконечно мал. С этих пор спираль духа центро-
стремительна, а не центробежна. Во многих смыслах наша
вера — религия маленьких вещей. Я уже говорил, что
Предание — ив книгах, и в картинах, и в легендах — от-
дало дань парадоксу о Боге в яслях. Наверное, меньше го-
ворилось о Боге в пещере. Как ни странно, о пещере вооб-
ще говорили мало. Рождество Христово переносили в лю-
бую страну, в любую эпоху, в любой ландшафт и город,
подгоняли к самым разным обычаям и вкусам, — и, это
очень хорошо. Всюду мы видим хлев, но далеко не всю-
ду — пещеру. Некоторые ученые по глупости нашли про-
тиворечие между преданием о яслях и преданием о пещере,
Чем доказали, что не были в Палестине. Им мерещится
различие там, где его нет, но они не видят его там, где оно
есть. Когда я читаю, например, что Христос вышел из пе-
щеры, как Митра из скалы, мне кажется, что это пародия
на сравнительное изучение религий. В каждом предании,
даже ложном, есть суть, есть самое главное. Предание о
божестве, появляющемся, как Паллада, в расцвете сил, без
матери, без детства, по сути своей не похоже на рассказ о
Боге, родившемся как самый простой ребенок и совершен-
но зависевшем от Матери. Мы можем отдать предпочте-
ние любому из этих преданий, но не можем отрицать, что
они — разные. Отождествлять их из-за того, что в обоих
есть скала, так же нелепо, как приравнивать потоп к Кре-
щению, потому что и там и здесь есть вода. Миф Рож-
дество или тайна, пещера играет в нем совсем особую
роль — она говорит о том, что Бог наш был бездомным
изгоем. Однако о пещере вспоминают реже, чем о других
атрибутах Рождества.
230
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Причина проста и связана с самой природой возникшего
тогда мира. Нелегко увидеть и описать новое измерение.
Христос не только родился на земле — Он родился под
землей. Первое действие божественной трагедии разверты-
валось не выше зрителя, а ниже, на темной потаенной сце-
не. Почти невозможно выразить средствами искусства од-
новременные действия на разных уровнях бытия. Что-то по-
добное могли изобразить в средние века; но чем больше уз-
навали художники о реализме и перспективе, тем труднее
им становилось изобразить ангелов в небе, пастухов на хол-
мах, сияние в самом холме. Может быть, к этому чближе
всего подошли средневековые гильдии, которые возили по
улицам вертеп в три этажа, где наверху было небо, внизу
ад, а посредине — земля. Но в вифлеемском парадоксе
внизу было небо.
В этом одном — дух мятежа, дух перевернутого мира.
Трудно выразить или описать заново, как изменила саму идею
закона и отношение к отверженным мысль о Боге, рожден-
ном вне общества. Поистине после этого не могло быть ра-
бов. Могли быть и были люди, носящие этот ярлык, пока
Церковь не окрепла настолько, чтобы его снять, но уже не
могло быть язычески спокойного отношения к рабству. Лич-
ность стала ценной в том особом смысле, в каком не может
быть ценным орудие, и человек не мог более быть орудием,
во всяком случае — для человека. Эту народную, демокра-
тическую сторону Рождества предание справедливо связы-
вает с пастухами — крестьянами, которые запросто беседо-
вали с Владычицей небес. Но с пастухами связано не только
это, с ними связано и другое — то самое, о чем я говорил
раньше и что замечали нечасто.
Люди из народа — такие, как пастухи, — везде и по-
всюду создавали мифы. Это они испытывали прежде всех не
тягу к философии или сатанизму, а ту потребность, о которой
мы говорили, — потребность в образах, приключениях, фан-
тазии, в сказках, подобных поискам, в соблазнительном, даже
мучительном сходстве природы с человеком, в таинственной
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
231
значимости времен года и определенных мест. Они прекрас-
но поняли, что луг или лес мертвы без повести, а повесть —
без героя. Но сухая разумность уже покушалась на неразум-
ные сокровища крестьян, точно так же как рабовладение по-
кушалось на их дома и земли. Крестьянские сообщества за-
волакивал сумрак скорби, когда несколько пастухов нашли
то, что искали. Повсюду, кроме этого места, Аркадия увяда-
ла. Умер великий Пан, и пастухи разбрелись, как овцы. Но,
хотя никто об этом не ведал, близился час свершения. Хотя
никто об этом не слышал, далеко, в диких горах, кто-то зак-
ричал от радости на неведомом языке. Пастухи обрели Пас-
тыря.
То, что они нашли, было очень похоже на то, что они
искали. Народ ошибался во многом, но он не ошибался, ког-
да верил, что у святыни есть дом, а божеству ведомы грани-
цы пространства и времени. Дикарь, создавший нелепейшие
мифы о спрятанном в коробочке солнце или о спасенном боге,
которого подменили камнем, ближе к тайне пещеры, чем го-
рода Средиземноморья, примирившиеся с холодными отвле-
ченностями. Он понял бы лучше, что случилось в мире, чем
те, в чьих руках становилась все тоньше и тоньше нить Пла-
тонова идеализма или Пифагоровой мистики. Пастухи на-
шли не Академию и не совершенную республику85. Они на-
шли наяву свой сон. С этого часа в мире не может быть ми-
фов; ведь мифотворчество — это поиски.
Все мы знаем, что народ в рождественских мираклях и
песнях одевал пастухов в костюмы своей страны и представ-
лял Вифлеем своей родной деревней. Большинство из нас
понимает, как это точно, мудро и тонко, как много здесь хри-
стианского, католического чутья. Многие видели грубый де-
ревенский Вифлеем, но мало кто помнит, каким он был у тех,
чье искусство кажется нам искусственным. Боюсь, в наше
время не всем понравится, что во времена классицизма акте-
ры и поэты одевали пастухов пастушками Вергилия. Но и
они были правы. Превращая Рождество в латинскую экло-
гу» они нащупали одну из самых важных связей человече-
232
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ской истории. Мы уже говорили, что Вергилий воплотил дух
здорового язычества, победившего нездоровое язычество
человеческих жертв. Но даже его здравая добродетель забо-
лела тяжелой болезнью, и спасти ее могла только находка
пастухов. Если мир устал от безумия, его может спасти лишь
здравомыслие. Но он устал от здравомыслия; что же могло
излечить его, если не то, что излечило? Не так уж нелепо
представлять себе рождественскую радость аркадских пас-
тушков. В одной из эклог Вергилия принято видеть пророче-
ство о Рождестве86. Но и по другим эклогам, по самой инто-
нации великого поэта мы чувствуем: его бы обрадовало то,
что случилось в Вифлееме. В строке «Incipe, parve puer, risu
congnoscere matrem» звучит что-то большее, чем нежность
Италии. Аркадские пастушки нашли бы в этой пещере все
то, что было хорошего в последних преданиях латинян; толь-
ко вместо куклы, сторожащей и скрепляющей семью, они
обрели бы родившегося в семье Бога. И они, и все мифот-
ворцы смело могли радоваться: здесь сбылось не только все
мистическое, но и все вещественное в мифах. У мифологии
много грехов, но она весома и телесна, как Воплощение. Те-
перь она могла бы воскликнуть: «Мы видели Бога, и Бог нас
видел!» Античные пастушки могли плясать на холмах, по-
смеиваясь над философами. Однако и философы слышали.
Я не перестану удивляться старой повести о том, как,
увенчанные величием царей, облаченные тайной магов, они
пришли сюда из восточных стран. Истина, называемая пре-
данием, мудро подарила им безвестность, и они остались для
нас таинственными, как их прекрасные имена — Мельхиор,
Каспар, Балтазар. С ними пришел весь мир учености, счи-
тавшей звезды в Халдее, созерцавшей солнце в Персии; и
мы не ошибемся, приписав им любопытство — перводвига-
тель ученых. Они могли бы воплощать тот же идеал, если бы
звались Конфуцием, Пифагором, Платоном; они были из тех,
кто ищет не сказки, но истины. Их жажда истины была жаж-
дой Бога, и они тоже получили свое. Для философов, как и
для мифотворцев, Вифлеем восполнил неполное.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
233
Самые мудрые могли бы прийти туда, как и пришли вол-
хвы, и подтвердить то, что было истинного в их учениях, пра-
вильного — в их раздумьях. Конфуций нашел бы здесь но-
вые основания семьи, Будда увидел бы отречение от звезд, а
не от алмазов — от Божеского, а не от царского сана. Муд-
рецы имели бы или обрели бы право сказать, что в их учени-
ях есть истина. Но они пришли бы сюда учиться. Они при-
шли бы пополнить свои учения тем, о чем и не думали; урав-
новесить свой несовершенный мир тем, против чего, быть
может, возражали. Будда явился бы из безличного рая по-
клониться Личности. Конфуций оставил бы поклонение пред-
кам, чтобы поклониться Младенцу.
Мы должны понять, что новая Вселенная оказалась вме-
стительнее старой. В этом смысле возникновение христиан-
ства шире сотворения мира — того мира, что был до Хрис-
та. Христианский мир включает и то, что уже было, и то,
чего не было раньше. Хороший пример — китайское почи-
тание старших. Никто не усомнится, что разумное почтение
к родителям входит в Завет, по которому Сам Бог подчи-
нялся в детстве родителям, «был в повиновении у них»87. Но
и они подчинялись Ему, этого не найдешь у китайцев. Мла-
денец Христос не похож на младенца Конфуция — в нашем
мистическом чувстве Он останется младенцем навсегда. И я
не знаю, что бы делал Конфуций с деревянным младенцем,
если бы он ожил в его руках, как ожил он в руках святого
Франциска.
В Церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по себе не
может обеспечить нас всем. Любая другая система узка и
ущербна по сравнению с Церковью; это не пустая похваль-
ба, это — реальность. Найдем ли мы поклонение Младенцу
У стоиков или сторонников Конфуция? Найдем ли у мусуль-
ман Марию — Мать, не знавшую мужа и славнейшую сера-
фим? Найдем ли у тибетских монахов архистратига Михаи-
ла, воплотившего для каждого воина честь меча? Святой
Фома Аквинат привел в систему всю ученость и разумность,
и даже рациональность христианства. Аристотель тоже дос-
234
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
тиг вершин разума, однако Аквинат мог понять самые слож-
ные доводы Аристотеля, но Аристотель вряд ли бы понял
мистические отступления Фомы. Даже если вы не сочтете
христианского философа более великим, чем языческий, вам
придется признать его более широким. То же самое относит-
ся и к любой философии, ереси, движению. Что бы делал
трубадур Франциск среди кальвинистов или утилитаристов
Манчестерской школы?88 Но Боссюэ и Паскаль89 не усту-
пали в строгой рассудительности ни кальвинистам, ни утили-
таристам. Что делала бы Жанна д’Арк среди квакеров, ду-
хоборов, толстовцев? Но многие наши святые отдали жизнь,
проповедуя мир и предотвращая брань. Как ни бьются над
этим современные синкретисты, им не удается создать ниче-
го, что было бы шире Церкви. Всякий раз они просто выбра-
сывают что-нибудь не из Церкви, а из жизни: знамя, или
харчевню, или детскую книжку про рыцарей, или плетень в
конце поля. Теософы строят пантеон — но это пантеон для
пантеистов. Они созывают парламент вер, думая объединить
всех людей, — и объединяют всех умников. Такой самый
пантеон был построен у Средиземного моря почти две тыся-
чи лет тому назад, и христианам предложили поставить Хри-
ста бок о бок с Юпитером, Митрой, Озирисом, Аттисом,
Аммоном. Они отказались, и переломилась история. Если
бы они согласились, и они, и весь мир попали бы в ту тепло-
холодную мутную жидкость, в которой уже растворялись
мифы и мистерии. Но они отказались — и мир спасся. Мы
не поймем, что такое Церковь и почему с давних пор так зве-
нит ее голос, если не поймем, что однажды мир чуть не погиб
от широты взглядов и братства всех вер.
Для нас очень важно, что волхвы — мудрецы и мисти-
ки — искали нового и нашли то, чего не искали. Ощущение
неожиданности живет до сих пор в предании о Рождестве и
даже в каждом рождественском празднике. Находка волх-
вов — как научное открытие. Для других участников этого
действа — для ангелов, для Матери, для пастухов и для во-
инов Ирода — все было, наверное, проще и сверхъестествен-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
235
нее, трогательней и грубее. Но что искали мудрецы, как не
мудрость? Мудрецам нужен свет разума, и они увидели свет.
Они увидели, что мудрость церкви объемлет все, а мудрость
мудрецов — не все. Если бы Платон, Пифагор и Аристо-
тель постояли хоть минуту в свете, который шел из малень-
кой пещеры, они бы поняли, что свет их собственных уче-
ний — полумрак. Я далеко не уверен, что они об этом не
догадывались. Философия, как и мифология, была похожа
на поиски. Именно потому волхвы так таинственны и вели-
чавы. Они нашли и открыли, что религия — шире филосо-
фии и что в маленькой пещере уместилась вся широта рели-
гии. Вот почему нас так поражает все, что случилось в пеще-
ре. Когда мы читаем или думаем об этом, наши чувства по-
детски просты, наши мысли — бесконечно сложны, и
мудрость не поможет нам свести концы с концами, если
Младенец — Отец, а Мать — Ребенок.
Мифология пришла с пастухами, философия — с волх-
вами. Но нельзя забывать о третьей стихии — о ней никогда
не забывает наша вера и никогда не примиряется с ней. В пер-
вых сценах присутствовал враг, испоганивший мифы развра-
том и обративший мудрость в неверие. Сейчас он отвечал на
прямой вызов и сам действовал прямо, а как он действует,
мы уже видели. Говоря о сознательном бесопоклонстве, я
рассказывал, как ненавидели детей, как приносили людей в
жертву, и меньше сказал о том, как культ зла подтачивал
исподволь здоровое язычество, отравлял непристойностью
поэзию и обращал в безумие царственную спесь. В вифлеем-
ском действе проявились и прямое, и косвенное его влияние.
Правитель, подчиняющийся Риму, возможно, одетый, как
римлянин, и живущий по римскому обычаю, почувствовал в
этот час, что из глубин его души поднимаются странные стра-
сти. Все мы знаем о том, как Ирод, встревоженный слухами
о сопернике, припомнил жестокости азиатских деспотов и
приказал перебить всех детей. Каждый знает об этом; но не
каждый заметил, как тесно связано это с историей удиви-
тельных человеческих верований. Не каждый заметил, как
236
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
знаменательна эта бойня рядом с коринфскими колоннами и
римскими плитами порабощенного мира, покрытого лоском
цивилизации. Когда темная страсть обуяла Ирода, провидец
узрел бы за его плечом огромный мрачный призрак, страш-
ную морду Молоха, ожидающего последней жертвы от пра-
вителя из Симова рода90. На первом пиру христианства на
свой собственный лад пировали и бесы.
Если мы забудем об этом, мы не поймем не только сути
христианства, но и сути Рождества. Для нас Рождество еди-
но и по-детски просто. Однако,- как и все в христианстве, оно
и очень сложно. В нем есть и смирение, и веселье, и благо-
дарность, и мистический трепет, и, кроме всего этого, бдение
и беда. Это не только праздник миротворцев, как не только
праздник весельчаков. Рождество не больше похоже на ин-
дийскую мирную конференцию, чем на скандинавский зим-
ний пир. В нем есть вызов, тот самый, из-за которого звон
колоколов так похож на залп победы. Неописуемый дух, ко-
торый мы зовем рождественским, — словно дым взрыва,
прогремевшего в холмах Иудеи почти две тысячи лет назад.
Мы и сейчас узнаем его безошибочно, и он слишком непов-
торим, чтобы определить его словом «мир». По самой своей
природе радость в пещере подобна ликованию в крепости или
в тайном пристанище изгоя. Здесь прятались от врага, а враг
уже ступал по каменным складкам, нависшим над ними, как
небо; копыта Иродовых коней уже гремели над головой Спа-
сителя. Скажу больше: ясли подобны передовому посту ла-
зутчика, который смотрит, притаившись, на вражескую зем-
лю. Под башни и дворцы подведен подкоп. Недаром чув-
ствовал царь Ирод, что под ним разверзлась земля.
Наверное, это самая тайная из тайн рождественской пе-
щеры. Люди ищут под землею ад, здесь под землею — небо.
Мир перевернулся; с этих пор все великое может действо-
вать только снизу. Король может вернуть корону только мя-
тежом. Церковь, особенно вначале, была не столько влас-
тью, сколько мятежом против князя мира сего. Оптимистов,
отождествляющих усовершенствование с удобством, немало
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
237
раздражает мысль о том, что мы в свое время попали под
власть узурпатора. Но именно из-за того, что опасность впол-
не реальна, Благая Весть стала поистине благой и новой.
Олимп неподвижным облаком стоял в небе, мудрость воссе-
дала на престоле, когда Христос родился в пещере, а хрис-
тианство — в катакомбах.
Они прятались под землей — вот он снова, странный и
мятежный дух: нашу веру и презирают, и боятся. Пещера —
только нора, в которую может забиться всякий сброд; но в
ней — сокровище, которое не могут отыскать тираны. Свя-
тое Семейство укрылось здесь, потому что хозяин постояло-
го двора о нем не вспомнил и потому что о нем не забыл царь.
То же самое мы вправе сказать и о первых христианах. Их
боялись, когда они еще ничего не значили, во всяком слу-
чае — ничего не могли. Тихо, почти тайно они бросили вы-
зов; они вышли из-под земли, чтобы сокрушить землю и небо.
Они не собирались разрушать громады из мрамора и золо-
та — они смотрели сквозь них, как сквозь стекло. Христиан
обвиняли в том, что они подожгли Рим; но клеветники бли-
же к сути христианства, чем те, кто считает его каким-то эти-
ческим обществом, которое немножко мучили за прописные
истины или недолюбливали за безответность.
Ирод играет немалую роль в Вифлеемском действе: из-за
его угрозы мы узнаем, что Церковь гонима с самого начала и
борется за свою жизнь. Многим покажется, что это как-то
несозвучно Рождеству, — но именно так звучат рождествен-
ские колокола. Многие считают, что самая мысль о крестовом
походе позорит крест — что ж, значит, он опозорен с колыбе-
ли. Сейчас я не собираюсь вести отвлеченные споры о том,
нравственно ли бороться. Я просто хочу показать, какие поня-
тия входят в нашу веру, и заметить, что все они приняли чет-
кую форму уже в рождественском действе. Их три, в обычной
жизни они глубоко различны, только христианство может их
связать. Во-первых, человеку нужно, чтобы небо было опре-
деленным и даже уютным, как дом. Поэты и язычники, творя
свои мифы, пытались рассказать нам, что бог может обитать в
238
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
этом, вот этом мифе, что волшебное царство — реальная стра-
на, а возвращение призрака может воскресить тело. Сейчас я
говорю не о том, что рационалисты не желали считаться с этой
жаждой; я говорю лишь о том, что язычники не могли жить,
пока ее не удовлетворят. В истории Вифлеема и позже Иеру-
салима этого духа не меньше, чем в истории Делоса и Дель-
фов91, но им и не пахнет во Вселенной Лукреция и Герберта
Спенсера92. Во-вторых, наша философия шире всех других
философий, бесконечно шире учения Спенсера и даже Лукре-
ция. Христианство смотрит на мир через тысячу окон, а древ-
ние стоики или наши агностики — через одно. Оно смотрит
на жизнь глазами самых разных людей. У него найдется ключ
для всех настроений, для всех человеческих типов, ему ведомы
тайны психики, бездны зла, оно умеет отличать ложное чудо
от истинного, а его тонкость, такт, воображение — многооб-
разны, как реальная жизнь, которую не охватишь заунывны-
ми или бодрыми трюизмами древней и новой этики. Многое
накопилось в нем со времен Аквината, но и святому Фоме было
бы тесно в мире Конфуция или Конта. И наконец, в-третьих,
наша вера не только вещественней поэзии и вместительней фи-
лософии — в ней есть еще и вызов, есть борьба. Она доста-
точно широка, чтобы принять любую истину, но не примет заб-
луждения. Любой человек любым оружием может бороться с
нею и за нее; она старается как можно лучше узнать и понять
то, против чего борется: но никогда не забывает, что ведет борь-
бу. Она возвещает мир на земле, но всегда помнит, что была
война в небесах.
Эту троицу истин воплотили в рождественском действе
пастухи, волхвы и царь, воевавший против младенцев. Про-
сто неверно, что в других религиях и философиях есть это
все; нельзя даже сказать, что они на это претендуют. Буд-
дизм, может быть, не менее мистичен, но он и не хочет стать
таким же воинственным. Ислам воинствен, но он и не думает
стать таким же тонким и возвышенным. Конфуцианство удов-
летворяет потребность мудрых в разумности и порядке, но
оно и не собиралось удовлетворять тоску по чуду и тайне, по
святости конкретных вещей. Ни один языческий миф или
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
239
философская притча не трогают нас так сильно, как само слово
«Вифлеем». Ни один рассказ о рождении бога или детских
годах мудреца не стал Рождеством и даже не похож на него.
Он всегда или слишком холоден, или слишком фриволен, или
слишком разумен, или груб, или утончен. Слушая его или
читая, никто из нас, что бы он ни думал, не ощущает, что
пришел домой. Мы можем восхищаться его красотой, или
глубиной, или чем-нибудь еще, но не всем сразу. В том-то и
дело, что предание о Рождестве, в отличие от всех преданий,
не обращает наши мысли и чувства к величию — к тем ис-
ключительным, особенным созданиям, которые зовутся бо-
гами и героями, пусть даже самого возвышенного и здравого
толка. Оно не гонит нас куда-то вдаль, на край света. Скорее
можно сказать, что оно возникает изнутри, встает из тайни-
ков сознания; так трогают нас маленькие вещи или тихие
добродетели бедных. Мы находим забытую комнату в глу-
бине нашего дома, открываем дверь — и видим свет; отка-
пываем что-то в глубине сердца — и попадаем в край добра.
Сложено это не из того, что мир назвал бы крепким; вернее,
крепость в легкости, в невесомости, все это было в нас, но
вдруг мимолетное чувство стало вечным. Это было минутной
слабостью, а стало силой и спасением. Несмелая речь и за-
бытое слово окрепли навек, когда волхвы вернулись в даль-
ние страны и умолкли шаги пастухов, а под слоями тьмы и
камня осталось то, что человечней человечности.
Глава II
ЗАГАДКИ ЕВАНГЕЛИЯ
1'
Чтобы понять эту главу, надо вспомнить, в чем суть этой
книги. Вся она держится на доказательствах, которые при-
нято называть «reductio ad absurdum»*. Ведь я хочу пока-
зать, что положения рационалистов несравненно нелепее на-
* Сведение к абсурду (лат.).
240
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ших, а для этого надо хоть на время принять эти положения.
Так, в первой части я допускал, что человек — животное, и
он оказывался более достойным удивления, чем если бы я
признал его ангелом. В точно таком же смысле я попытаюсь
сейчас допустить, что Христос был человеком. Я отойду на
время от моих собственных, гораздо более ортодоксальных
взглядов и попытаюсь представить, что бы почувствовал тот,
кто прочитал бы Евангелие как повесть о незнакомом чело-
веке. Мне хотелось бы показать, что такое чтение (если оно
и впрямь беспристрастно) приведет если не к вере, то к рас-
терянности, из которой нет выхода, кроме веры. И потому в
этой главе я отойду от духа моей веры, откажусь даже от
тона, который счел бы наиболее уместным, и постараюсь
встать на место гипотетического читателя, впервые открыва-
ющего Евангелие.
Нелегко воспринять Новый Завет как новость. Очень и
очень трудно принять Благовествование как весть. К счас-
тью и к несчастью, Евангелие обросло для нас тысячами тол-
кований и ассоциаций; ни один человек нашей цивилиза-
ции — как бы он ни относился к христианству — не может
прочитать его так, словно никогда о нем не слышал. Конеч-
но, Новый Завет — не аккуратный томик, свалившийся с
неба. Авторитет Церкви отобрал его среди обширной лите-
ратуры ранних христиан. Но сейчас я говорю о другом: нам
трудно, почти невозможно читать все эти знакомые слова так,
как они написаны, не соскальзывая к привычным ассоциа-
циям. Должно быть, именно потому современные толкова-
ния Евангелия так далеки от истины; и мне кажется порой,
что критики Нового завета никогда его не читали.
Все мы слышали много раз (люди, наверное, не устанут
говорить об этом), что Иисус Нового Завета — милости-
вейший и кротчайший из всех друзей человечества, но Цер-
ковь сковала Его гнусными догмами, окружила суеверными
страхами и лишила человечности. Рад повторить, что это не-
измеримо далеко от истины. Христос церковного Преда-
ния — кроток и милостив, у Христа Священного Писания
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
241
немало и других черт. Конечно, и в Евангелии Он жалеет
нас, и от красоты Его слов может разбиться сердце. Но это
далеко не единственные Его слова. В предании же, в тех об-
разах, которые дает нам Церковь, Он говорит едва ли не
только эти слова любви. Причина тому проста и безупречно
правильна. Большинство людей — бедны, большинство бед-
ных — унижены, и непременно нужно напомнить им о бес-
предельной жалости Господней. Этот дух сострадания —
первое, что заметит и даже осудит безбожник в Pieta93 или в
Сердце Христовом. Может быть, искусство уже Писания,
но инстинкт его точен. Страшно и представить себе статую
Христа во гневе. Невыносимо подумать, что, обогнув угол,
увидишь на рыночной площади это Лицо таким, каким виде-
ли Его порождения ехиднины94. Не следует осуждать Цер-
ковь за то, что она показывает нам Его в другие, милостивые
минуты. Но помните и поймите: тому, кто узнает о Христе
от Церкви, Он покажется более мягким, чем тому, кто узна-
ет о Нем из Писания. У человека, впервые открывшего Еван-
гелие и ничего не слышавшего о Христе, сложится совсем
другое представление. Многое покажется загадочным, кое-
что непоследовательным, но далеко не только кротость уви-
дит и почувствует он. Евангелие захватит его и потому, что о
многом придется догадываться, а многое потребует объясне-
ний. Он найдет там немало насмешливых намеков, таинствен-
ных умолчаний, внезапных действий, без сомнения, очень
значительных, но он не поймет их значения. Он увидит, что
буря Иисусова гнева разражается далеко не всегда там, где
мы ожидаем. Петр церковного предания — тот, кому Хрис-
тос говорил: «Паси агнцев Моих»95, — мало похож на того,
кому Он крикнул в непонятном гневе: «Отойди от Меня,
сатана!»96 Христос с любовью и жалостью плачет над Иеру-
салимом, который должен Его убить; мы не знаем, почему
Он ставит ниже Содома тихую Вифсаиду.97
Я намеренно не касаюсь всех верных и неверных толко-
ваний, я просто хочу представить, что чувствовал бы чело-
век, сделавший то, о чем нам столько твердили, — прочи-
242
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
тавший Евангелие «без всех этих догм и доктрин». Я думаю,
он нашел бы там немало такого, что покажется не правовер-
ным, а кощунственным. Он увидел бы поистине реалисти-
ческие рассказы, но только о том, что мы зовем сверхъесте-
ственным. Ведь Иисус Нового Завета предстает «челове-
ком дела» лишь тогда, когда изгоняет бесов. Нет ничего крот-
кого и мягкого, нет ничего похожего на привычную для нас
мистику в Его тоне, когда Он говорит: «Замолчи и выйди из
него»98. Скорее тут вспомнишь властного укротителя или
умного врача, умеющего сладить с опасным маньяком. Все
это я говорю для примера, я не хочу ни спорить, ни объяс-
нять; я просто описываю чувства человека, свалившегося с
луны, для которого Новый Завет — новый.
Вероятно, такой читатель заметил бы, что если все это —
история человека, то она очень странная. Я говорю сейчас не
о страшной ее кульминации и не о том, как она обернулась
победой. Не говорю я и о том, что принято называть чудеса-
ми, — тут сами ученые запутались. Раньше считали, что чу-
деса бывали только в старину, теперь — что они начались в
наше время. Раньше думали, что чудесные исцеления пре-
кратились с первыми христианами; теперь склонны думать,
что они начались с «Христианской науки»99 . Я говорю сей-
час о незаметных, во всяком случае почти незаметных, ве-
щах. В Евангелии очень много событий, которые никто не
стал бы выдумывать, потому что никто, в сущности, не зна-
ет, что с ними делать. Например, есть там огромный про-
бел — нам почти неизвестно, как жил Христос до тридцати
лет. Вряд ли кто-нибудь стал бы это выдумывать, чтобы что-
то доказать, кажется, никто и не пытался сделать это. Умол-
чание потрясает нас — но как факт, не как притча. По пра-
вилам мифотворчества и героепоклонства, скорее нужно было
бы сказать (если я не ошибаюсь, так и говорили некоторые
авторы апокрифов), что Христос понял и начал Свою мис-
сию в исключительно раннем возрасте. Однако, как ни стран-
но, Тот, Кто меньше всех людей нуждался в приуготовле-
нии, готовился дольше всех. Что это, акт высшего смирения
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
243
или некая истина, чей отсвет мы видим в том, что у высших
существ длиннее детство? Не будем строить догадок; я про-
сто хочу показать на этом примере, что многое в Евангелии
ничего не подкрепляет, тем более не иллюстрирует признан-
ных религиозных догм. История Христа ничуть не похожа
на то, что принято называть «простым, не испорченным Цер-
ковью Евангелием». Я сказал бы скорее, что Евангелие —
таинственно, Церковь — разумна; Евангелие — загадка,
Церковь — разгадка.
Начнем хотя бы с того, что вы не найдете в Евангелии
общих мест. С каким бы почтением мы ни относились к древ-
ним философам и современным моралистам, мы не сможем
сказать, что не нашли в их писаниях общих мест. Этого не
скажешь даже о Платоне, тем более об Эпиктете, или Сене-
ке, или Марке Аврелии, и уж никак не скажешь о наших
агностиках и членах этических обществ. Мораль большин-
ства моралистов, древних и новых, — непрестанный, ров-
ный поток общих мест. Ничего подобного не найдет наш ги-
потетический читатель, впервые открывший Евангелие. Он
не найдет там привычных, легко льющихся истин; зато най-
дет непонятные призывы, поразительные упреки и советы,
странные и прекрасные рассказы. Он увидит грандиозные
гиперболы о верблюде и игольном ушке или о горе, ввергну-
той в море. Он найдет в высшей степени смелые упрощения
житейских сложностей — скажем, совет сиять над всем, как
солнце, и не заботиться о будущем, как птица. С другой сто-
роны, он увидит там тексты непроницаемой сложности, на-
пример загадочную мораль притчи о нерадивом управителе.
Одни слова поразят его красотой, другие — правдой, но нич-
то не покажется ему само собой разумеющимся. Так, он не
найдет прописных истин о мире — он найдет парадоксы о
мире, которые, если принять их буквально, покажутся слиш-
ком мирными любому пацифисту. Он узнает, что нужно не
столько уступать вору, сколько подбадривать его и поощ-
рять. Но он не отыщет ни слова из всей привычной антиво-
енной риторики, которой набиты тысячи книг, од и речей; ни
244
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
слова о том, что война губительна, что война разорительна,
что война — это бойня и так далее и тому подобное. Точнее,
он вообще не найдет ничего, что пролило бы свет на отноше-
ние Христа к воинскому делу; разве что заключит, что Он
неплохо относился к римским воинам. С той же внешней,
человеческой точки зрения, может показаться странным, что
Христос лучше ладит с римлянами, чем с евреями. Вообще
же, речь идет об определенном тоне, который чувствуешь,
читая определенный текст.
Слова о том, что кроткие наследуют землю100, никак
нельзя назвать кроткими и в них нет ни капли кротости, если
мы понимаем под ней умеренность, безвредность, безобид-
ность. Чтобы их оправдать, надо предвосхитить то, о чем не
думали тогда и не осуществили теперь. Если это истина,
это — пророчество, но уж никак не трюизм. Блаженство
кротких — в высшей степени сильное утверждение, истин-
ное насилие над разумом и вероятностью. И тут мы подхо-
дим к другой, очень важной черте Евангелия. Пророчество о
кротких исполнилось, но не скоро. Не сразу раскрылись и
слова, обращенные к Марфе101, — слова, которые задним
числом, изнутри так хорошо поняли христианские созерца-
тели. В словах этих нет ничего очевидного; большинство мо-
ралистов, и древних и новых, сказали бы иначе. Какие пото-
ки легкого красноречия изливали бы они в защиту Марфы!
Как расписывали бы они радость простого труда, как мягко
напоминали бы, что мы должны оставить мир лучшим, чем
он был, в общем, как прекрасно повторяли бы они то, что
говорят в защиту хлопотливости люди, для которых эти речи
не составляют хлопот! Если в Марии, мистическом сосуде
любви, Христос охранял посевы чего-то более ценного, кто
мог понять это в те дни? Никто другой не видел сияния Кла-
ры, Екатерины или Терезы под низкой кровлей Вифании.
То же самое можно сказать о прекрасных и грозных словах
про меч102. Никто не мог угадать тогда, что они значат, чем
оправдаются. Да и сейчас поборники свободной мысли так
просты, что попадаются в ловушку. Их шокирует намерен-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
245
ная мятежность этих слов. В сущности, им не нравится, что
это парадокс, а не трюизм.
Если бы мы могли читать Евангелие, как свежую газе-
ту, оно озадачило бы нас и даже ужаснуло бы гораздо силь-
нее, чем те же самые вещи в церковном предании. Вспом-
ним, например, пророчество Христа о скопцах для Царства
небесного103. Если это не призыв к добровольному обету
целомудрия, это куда более неестественно и страшно. Нам и
в голову не приходит другое толкование, потому что мы
знаем о францисканцах или сестрах милосердия. Но ведь
сами по себе эти слова могут вызвать в памяти бесчеловеч-
ную, мрачную тишину азиатского гарема. Вот один пример
из многих. Сейчас я хочу показать, что Христос Писания
мог бы показаться более странным или страшным, чем Хрис-
тос Предания.
Я говорю так долго о мятежных или о загадочных тек-
стах не потому, что в них нет простого и высокого смысла, а
потому, что я хочу ответить на обычные доводы. Поборники
свободной мысли часто говорят, что Иисус из Назарета был
человеком своего времени (хотя и обогнал его) и потому
нельзя считать его этику целью, идеалом. После этого, как
правило, идет критика и нам доказывают, что трудно под-
ставить другую щеку или не думать о завтрашнем дне, что
самоотречение — вещь суровая, а моногамия нелегка. Но
зелоты и легионеры подставляли другую щеку не чаще, если
не реже, чем мы. Еврейские торговцы и римские мытари не
меньше, если не больше, думали о завтрашнем дне. Зачем
притворяться, что мы отбрасываем устаревшую мораль во имя
новой, подходящей к нашей жизни? Это не мораль другого
века, это мораль другого мира.
Скажите, что такие идеалы невыполнимы вообще, — но
не говорите, что они невыполнимы для нас. Они явственно
отмечены особым мистическим духом, и если это — безу-
мие, то оно поражает во все времена один и тот же тип лю-
дей. Возьмем, например, христианское учение о браке и об
отношениях полов. Галилейский Учитель мог учить вещам,
246
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
естественным для Галилеи, но это не так. Человек времен
Тиберия мог излагать взгляды, обусловленные эпохой, — но
и это не так. Христос учил другому, очень трудному, ничуть
не более трудному сейчас, чем тогда. Разрешая многожен-
ство, Магомет и впрямь приноравливался к среде. Никто не
скажет, что четыре жены — недостижимый идеал, это прак-
тичный компромисс, отмеченный духом определенного об-
щества. Если бы Магомет родился в лондонском пригороде
XIX века, он вряд ли завел бы там гаремы, даже и по четыре
жены. Он родился в Аравии VI века и приспособил брачный
закон к тогдашнему обычаю. Но Христос, говоря о браке, ни
в малейшей степени не примерялся к обычаю Палестины I ве-
ка. Он вообще ни к чему не приноравливался, кроме мисти-
ческой истины, что брак — таинство — истины, которую
много позже раскрыла Церковь. В те времена единобрачие
было ничуть не легче, чем в наши дни, а удивляло оно боль-
ше. Евреи, римляне и греки не только не верили, что мужчи-
на и женщина становятся единой плотью, — они слишком
плохо понимали это, чтобы отвергнуть. Мы можем считать
единобрачие немыслимым или недостижимым, но самый
спор — все тот же. Мы не вправе считать, что слова и мыс-
ли Христа, может быть, и хороши для Его времени, но к на-
шему не подходят. Насколько они подходили к Его времени,
показывает нам конец Его истории.
То же самое можно сказать иначе. Если Евангелие —
история человека, почему этот человек так мало связан со
своим временем? Я говорю не о мелочах быта — не надо
быть Богом, чтобы понять, как они преходящи. Я говорю о
тех основах, которые кажутся важными даже мудрейшим.
Аристотель был, наверное, мудрее и шире всех людей, какие
только жили на свете. Основы его учения остались разумны-
ми, несмотря на все исторические и общественные перемены.
И все же он жил в мире, где иметь рабов было так же есте-
ственно, как иметь детей, а потому признавал, что раб и сво-
бодный отличаются друг от друга. Христос тоже жил в этом
вечный человек
241
времени и мире. Он не обличал специально рабства. То, что
Он основал, могло существовать и при рабовладении; может
оно существовать и там, где рабства нет. Он не произнес ни
единой фразы, ставящей Его учение в зависимость от какого
бы то ни было общественного уклада. Так говорит только
Тот, Кто знает, что все земное преходяще — даже то, что
кажется вечным самому Аристотелю. В I веке Римская им-
перия была поистине «кругом земным», другим названием
мира. Но учение Христа не зависит от того, существует ли
Империя, и даже от того, существует ли мир. «Небо и земля
прейдут, но слова Мои не прейдут»104.
Те, кто говорят об ограниченности Галилеянина, распи-
сываются в собственной ограниченности. Несомненно, Он
верил в то, во что не верит одна современная секта; но в это
верили не только в Его время или в Его стране. Вернее будет
сказать, что в это не верят только в наше время. Еще вернее,
только в наше время меньшинство, не верящее в это, может
играть видную роль в обществе. Христос верил в бесов и в ду-
ховное исцеление недугов совсем не потому, что родился в
Галилее при Августе. В то же самое верили в Египте при
Тутанхамоне и в Индии при Моголах. Материалистам при-
ходится отстаивать свои взгляды против свидетельств всего
мира, а не против провинциальных предрассудков Северной
Палестины времен первых императоров.
То же самое можно сказать и о таинстве брака. Мы вправе
в него не верить, как не верим в бесов, но Христос, несом-
ненно, верил, хотя ничего похожего не было в Его время. Он
взял Свои возражения против развода не из римского ко-
декса, и не из закона Моисеева, и не из местных обычаев.
Его взгляды на брак казались Его тогдашним противникам
точно такими же, какими кажутся нынешним, — странной,
произвольной мистической догмой. Сейчас я не собираюсь
защищать эту догму; я просто хочу сказать, что сейчас так
же трудно защищать ее, как и тогда. Этот идеал стоит вне
времени, он труден всегда и всегда возможен. Нам говорят,
248
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
что «этого можно было ожидать» от человека того времени и
той страны; а мне кажется, что «этого» скорей можно ожи-
дать от Богочеловека, который живет среди людей.
Повторю: честно прочитав Евангелие, вы не увидите по-
пулярного в наши дни «человека Христа». Такой Хрис-
тос — искусственное построение, слепленное из произволь-
но выбранных свойств, словно человек, созданный поборни-
ками эволюции. Таких Христов накопилось очень много —
не меньше, чем ключей к мифологии. Разные школы рацио-
нализма создали разные, одинаково рациональные объясне-
ния Его жизни. Сперва доказали, что Он никогда не жил, и
это дало почву для двух-трех дополнительных теорий: что
Евангелие — солярный миф, или миф о зерне, или еще ка-
кой-то миф, навязчивый, словно мания. Потом учение о вы-
думанном Боге сменилось учением о реальном человеке. Во
времена моей юности модно было рассуждать о том, что
Иисус — просто учитель нравственности, близкий к ессе-
ям103, и не сказал он ничего особенного, во всяком случае —
ничего, что не мог бы сказать Гиллель106 и сотни других: что
хорошо быть хорошим, например, или что чистота очищает.
Потом кто-то решил/что Он был сумасшедшим, возомнив-
шим себя Мессией. Нет, сказали другие, Он был нормален,
так как не думал ни о чем, кроме социализма или (уточнили
третьи) кроме пацифизма. Четвертые заметили, что Он был
только целителем. «Христианская наука» проповедовала
христианство без Христа, чтобы объяснить исцеление тещи
Апостола или дочери сотника, — и все эти теории неверны,
но, если взять их вместе, свидетельствуют о той самой тайне,
которую не замечают. Должно быть, есть что-то не только
загадочное, но и многостороннее в нашем Господе, если из
Него можно выкроить столько маленьких людей. Если Он
удовлетворяет Мэри Б экер-Эдди107 как целитель, а социа-
листа — как реформатор, настолько удовлетворяет, что они
и не ждут от Него ничего другого, — может быть Он много
больше, чем им кажется? Может, что-то есть и в других не-
вечный человек
249
понятных им действиях, скажем, в изгнании бесов или в про-
рочествах о Суде?
Наконец, человека, впервые читающего Евангелие, по-
разит еще одно. Я говорил не раз о том, что хорошо бы по-
вернуть время вспять или представить себе хотя бы, что те
или иные события — впереди, а не позади. В начале этой
книги я ставил себя наместо чудища, впервые взирающего на
мир. Еще труднее и поразительнее представить, что слышишь
впервые о Христе. Не нам судить тех, кто счел слухи о Нем
кощунством и безумием. Лучше одарить великую весть да-
ром недоверия, чем сказать, как нынешний мыслитель, что
все относительно. Лучше разодрать на себе одежды, вопия о
кощунстве, как Кайафа, или счесть Христа одержимым, как
сочла толпа, чехМ тупо толковать о тонких оттенках пантеиз-
ма. Намного мудрее простые души, которые перепугались,
что трава посохнет и птицы попадают с неба, когда бездом-
ный подмастерье плотника сказал спокойно, почти беспечно,
словно бросил через плечо: «Прежде, нежели был Авраам,
Я есмь»108.
Глава III
САМАЯ СТРАННАЯ ПОВЕСТЬ НА СВЕТЕ
В предыдущей главе я намеренно подчеркивал то, чего,
по-видимому, не замечают теперь в Евангелии. Но я наде-
юсь, никто не подумает, что я сам не заметил в нем ничего
другого. Христос был и остается милостивейшим нашим Су-
дией и лучшим нашим Другом, и это много важнее для на-
шей частной жизни, чем для исторических выкладок. Одна-
ко эти Его черты тонут в банальных обобщениях; и потому я
так хочу показать, что рассказы о Нем никак нельзя обви-
нить в банальности. Чтобы это было яснее, я коснусь вопро-
са, намного более популярного в наше время, чем аскетизм
250
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
или моногамия, — мы высоко ценим детство, которое тогда,
в то время, не воспринимали так, как теперь. Если мы хотим
показать, как своеобычно Евангелие, трудно найти лучший
пример. Почти через две тысячи лет мы ощутили мистичес-
кое очарование ребенка. Мы воспеваем и оплакиваем пер-
вые годы жизни в «Питере Пэне» и в сотнях детских стихов.
Но языческий мир не понял бы нас, если бы мы сказали, что
ребенок лучше и священнее взрослого. С логической точки
зрения, это ничем не отличается от утверждения, что голова-
стик лучше лягушки, бутон красивее цветка, зеленое яблоко
вкуснее спелого. Другими словами, наше отношение к дет-
ству — мистическое, как культ девства; в сущности, это и
есть культ девства. Античность больше почитала девствен-
ницу, чем дитя. Сейчас мы больше почитаем детей, может
быть, потому, что они, нам на зависть, делают то, чего мы
уже не делаем, — играют в простые игры, любят сказки. Как
бы то ни было, наше отношение к детям — чувство сложное
и тонкое. Но тот, кто считает его открытием последних деся-
тилетий, должен узнать, что Иисус Назаретянин открыл его
на две тысячи лет раньше. Ничто в его мире не могло Ему
помочь; здесь Он — истинно человечен, гораздо человечней
людей своего времени. Питер Пэн родился не в мире Пана,
а в мире Петра.
Даже с литературной, стилистической точки зрения (если,
конечно, мы вправе смотреть на Писание со стороны) мож-
но отыскать в Евангелии одну особенность, которую, кажет-
ся, еще не заметили. Наверное, во всей словесности нет ни-
чего равного по совершенству притче о полевых лилиях. Вот
Он берет маленький цветок и говорит, как он прост, даже
бессилен; потом вдруг расцвечивает его пламенными краска-
ми, и цветок становится чертогом великого, славного царя; и
тут же обращает в ничто, словно бросает на землю: «...Если
же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет бро-
шена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, малове-
ры!»109 . Когда я читаю эту притчу, мне кажется, что по ма-
новению руки, силою белой магии возникает Вавилонская
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
25/
башня, только добрая, не злая, а на ее далекой вершине сто-
ит человек, вознесенный превыше небес по звездной лестни-
це легкой логики и вдохновенного воображения. С литера-
турной точки зрения эта притча лучше всех наших книг, хотя
привел Он ее вскользь, невзначай, словно сорвал цветок.
Само ее построение показывает нам, насколько Он выше
простых проповедников опрощения. Только очень тонкий и
очень высокий ум (в самом лучшем смысле слова) способен
сравнить низшее с высшим, а высшее — с высочайшим,
мыслить на трех, а не на двух уровнях. Только очень мудрый
человек поймет, например, что гражданская свобода выше
рабства, но духовная свобода выше гражданской. Так не
мыслят упростители Писания, призывающие к «евангельской
морали», которую одни зовут простой, другие — сентимен-
тальной. Так не мыслят те, кто довольствуется призывами к
миру во что бы то ни стало. Кстати, поразительный пример
такого хода мысли — слова о мире и мече. Человек, лишен-
ный этой силы, не поймет, что, хотя добрый мир лучше доб-
рой ссоры, добрая ссора лучше худого мира. Таких сравне-
ний в Евангелии немало, и я не перестаю дивиться им. Так,
объемное тело глубже и выше двухмерных существ, обитаю-
щих на плоскости.
Я говорю здесь о тонкости и высоте ума, способного к
дальновидности и даже к двусмысленности, не только затем,
чтобы противопоставить ее привычным толкам о безвредном,
непрактичном евангельском идеализме. Сейчас я вспомнил о
ней в связи с поразительной истиной, которой уже коснулся
в конце прошлой главы. Человек, способный на такой ход
мыслей, не впадает в манию величия, особенно в предель-
ную, ведь дальше некуда. Конечно, если человек умен, это
еще не значит, что он Бог; но это значит, что ему противно
грубое хвастовство. Такой человек, если он только человек,
меньше всех на свете склонен пьянеть от невесть откуда взяв-
шейся идеи; это свойственно совсем иным людям, неуравно-
вешенным, сверхчувствительным, обманывающим себя. Воп-
рос не будет яснее, если даже вам скажут, что Христос не
252
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
называл Себя Богом. Ни одному пророку или философу, рав-
ному Ему по мудрости, не могли бы это приписать. Допус-
тим, что Церковь ошиблась, неправильно поняла Его; но
никто, кроме Церкви, так не ошибается. Магометане не при-
няли Магомета за Аллаха, евреи не приняли Моисея за Ягве.
Даже если все христианство зиждется на ошибке, ошибка
эта неповторима, как Воплощение.
Задача моей книги — показать, как неверны привычные,
пошлые и смутные представления о христианской вере; сей-
час я говорю о самом неверном. В наши дни принято считать,
что все религии равны, а все основатели религий — сопер-
ники, оспаривающие друг у друга звездный венец. Это не
так. Только Один из них оспаривал венец. Магомет думал
об этом не больше, чем Михей или Моисей; Конфуций —
не больше, чем Платон или Марк Аврелий. Будда не считал
себя Брамой, Зороастр называл себя Ормуздом не чаще, чем
Ариманом. Собственно, все обстоит именно так, как мы ожи-
даем согласно здравому смыслу и, уж точно, по христиан-
скому учению. Чем выше человек, тем меньше у него осно-
ваний себя возвысить. Кроме единственного раза, о котором
я говорю, такие претензии свойственны только очень мелким
людям, помешанным на любви к себе. Нельзя и представить,
что Аристотель назовет себя отцом богов и людей, хотя очень
легко представить, что это припишет ему, а скорее себе ума-
лишенный император вроде Калигулы. Трудно поверить и в
то, что Шекспир назовет себя великим, хотя американский
филолог вполне может вычитать это в его, а скорее в соб-
ственных трудах. Да, такие люди бывают. Их нетрудно най-
ти в сумасшедших домах, часто — в смирительных рубахах.
Сейчас нам важна не их несчастная, чисто материальная судь-
ба в нашем несчастном, материалистическом обществе с его
жестокими, неуклонными законами, нам важно иное: такой
человек очень узок и напыщен до безобразия. Мы говорим о
сумасшедшем «тронутый», говорим «я свихнулся», но все
это — плохие метафоры: его нельзя поколебать, он совер-
шенно замкнут, во всем уверен. Искать подобных людей надо
вечный человек
253
не среди мудрецов, святых и пророков, а среди несчастных
маньяков. Но никто не скажет, что человек Иисус из Наза-
рета был таким. Ни один атеист и богохульник не думает,
что автор притчи о блудном сыне был одноглазым чудови-
щем. С любой точки зрения он (или Он) выше этого.
Перед всяким, кто впрямь посмотрит на Христа-челове-
ка со стороны, непредвзято, встанет трудная проблема. Она
столь важна, что я посоветую нарисовать что-то вроде пор-
трета. Если Христос был только человеком, он был челове-
ком сложным, даже противоречивым. В нем соединялись
именно те черты, которые считают несовместимыми. В нем
было именно то, чего нет у безумцев. Он был мудр и спра-
ведлив — такими не бывают маньяки. Он говорил неожи-
данные, нередко поразительные вещи, но поражал он мило-
сердием, а часто — умеренностью. Вспомним притчу о пле-
велах110. В ней есть тонкость и здравый смысл, в ней нет
простоты безумия, нет даже простоты фанатизма. Легко
вложить ее в уста столетнего философа, живущего в самом
конце века утопий. Я просто не могу себе представить, как
согласовать все это с притязаниями на Божий сан, если не
принять того объяснения, которое дает нам Церковь. Если
мы не примем на веру, что Христос был Богом, любые рас-
суждения совсем запутают нас. Только Бог достаточно ве-
лик для того, чтоб называть себя Богом. Великий мудрец
знает, что он — не Бог, и, чем он мудрее, тем лучше он это
знает. В том-то и странность: чем ближе ты к Богу, тем от
Него дальше. Сократ, мудрейший из людей, знал, что не
знает ничего. Сумасшедший может считать себя Всевыш-
ним, дурак — всеведущим. Христос всеведущ иначе: Он
знал, что знает.
Словом, даже в чисто человеческом смысле Христос
Нового Завета — больше, чем просто человек; Он — и че-
ловек, и нечто большее. Однако еще одну черту нелегко уме-
стить в чисто человеческие рамки. Сквозь все поучения Хри-
ста проходит нить, почти незаметная для тех, кто говорит
теперь, что это именно поучение. Когда читаешь Евангелие,
254
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
так и кажется, что на самом деле Он пришел не для того,
чтобы учить. Ничто на свете не трогает меня больше, чем
претворение воды в вино на свадебном пиру. Рассказ о Кане
Галилейской демократичен, как книги Диккенса. Он челове-
чен в том смысле, в каком не применишь это слово к целой
толпе человекообразных умников. Он выше высокомерия
избранных. Но даже в нем есть что-то еще, есть отзвук тай-
ны. Я говорю сейчас о первом колебании. Христос усомнил-
ся не в чудесах. Он усомнился в том, нужно ли творить их
сейчас. «Еще не пришел час Мой»111. Что это значит? Мы
не знаем; но что бы это ни значило, эти слова говорят нам,
что у Него был план, была цель и все возможные действия
или служили ей, или не служили. Если мы не заметим этого
плана, мы упустим самую суть истории Христа, нет, мы про-
сто ничего не поймем в Евангелии.
Нередко говорят, что Иисус был бродячим учителем, и
это очень важно — мы не должны забывать, как относился
Он к роскоши и условностям. Вероятно, респектабельные
люди и сейчас сочли бы Его бродягой. Он Сам говорил, что
лисы имеют норы, а птицы гнезда112, и, как бывает часто, мы
ощущаем не всю силу этих слов. Мы не всегда замечаем, что,
сравнивая Себя с лисами и птицами, Он называет Себя Сы-
ном Человеческим, то есть Человеком. Новый Человек, Вто-
рой Адам, признал во всеуслышание великую истину, с ко-
торой мы начали эту книгу: человек отличается от животных
всем, даже беззащитностью, даже недостатками: он менее
нормален, чем они, он странник, чужой, пришелец на земле.
Хорошо напоминать нам о странствиях Иисуса, чтобы мы не
забыли, что Он разделял бродячую жизнь бездомных. Очень
полезно думать о том, что Его прогоняла бы, а может, и аре-
стовывала бы полиция, потому что не могла бы определить,
на что Он живет. Ведь наш закон дошел до таких смешных
вещей, до каких не додумались ни Нерон, ни Ирод, — мы
наказываем бездомных за то, что им негде жить.
В то же время слово «бродячий», примененное к Нему,
сбивает нас с толку. Действительно, многие языческие фи-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
255
лософы и софисты были бродячими учителями. Аполлоний
Тианский, который в некоторых изысканных кругах считал-
ся идеалом философа, по преданию, добрел до Ганга и Эфи-
опии, практически не умолкая. Целую школу философов на-
зывали перипатетиками113; и у нас создается впечатление,
что многие великие мудрецы только и делали, что говорили
и бродили. Великие беседы, из которых мы знаем хоть не-
много о мудрости Сократа, Будды или даже Конфуция, ча-
сто кажутся нам обрывками бесконечной прогулки, и в них,
по всей видимости, нет ни начала, ни конца. Сократа, прав-
да, прервали, но в том и величие Сократа, что смерть была
для него просто досадной помехой. Мы не поймем всей
нравственной его силы, если не заметим, что он смотрит на
палачей с невинным удивлением, я сказал бы даже, с невин-
ным раздражением: неужели нашелся неразумный, который
обрывает разговор, помогающий установить истину? Он
ищет истины, а не смерти. Смерть — камень на его дороге.
Будда привлекает нас действием, отказом; но это действие
переносит его в мир отрицания, ничуть не похожий на дра-
му. И снова мы не поймем нравственной силы великого ми-
стика, если не заметим, что он разделался с драмами, чья
суть — желания и борьба, конец — поражение и отчаяние.
Он обрел мир и стал учить других, как обрести его. С этих
пор он жил жизнью философа, несомненно, более идеально-
го, чем Аполлоний; делом его были не дела, а объяснения.
Он объяснял, точнее, мягко сводил на нет все и вся. Хрис-
тос сказал: «Ищите Царства Божия, и это все приложится
вам»114. Будда учил: ищите Царства, и вам ничего не будет
нужно.
И вот, по сравнению с ними, жизнь Иисуса стремитель-
на, как молния. Это прежде всего драма, прежде всего —
выполнение. Дело Его не было бы сделано, если бы Иисус
бродил по миру и растолковывал правду. Даже с внешней
стороны непохоже, что Он бродил, то есть как бы не знал,
куда идет. В этом смысле Он похож скорее на идеального
героя мифа, чем на идеального философа. Он шел к цели,
256
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
как шел Язон к золотому руну или Геракл к золотым ябло-
кам Гесперид. Но искал Он золота смерти. Он делал много
другого, и это очень важно, но с начала до конца Он шел на
смерть. Что может быть различней, чем смерть-Сократа и
смерть Христа? Мы чувствуем, что смерть Сократа бы-
ла — во всяком случае, для его сторонников — глупым
вмешательством закона в человечную, светлую, я чуть не
сказал — легкую, философию. Но смерть была невестой
Христа, как бедность была невестой Франциска. Его
жизнь — песнь о любви или приключенческая повесть о
погоне за жертвой жертв. С той минуты, как появилась
звезда, словно фейерверк ко дню рождения, до той, когда
солнце померкло, словно похоронный факел, действие раз-
ворачивается быстро и напряженно, как в драме, чей ко-
нец — за пределом слов.
История Христа — история путешествия, я сказал бы
даже, история похода. Она начинается в раю Галилеи, пас-
тушеской мирной страны, чем-то похожей на Эдем, и взби-
рается все выше, к тучам и звездам, словно на гору Чистили-
ща. Иногда мы видим, что Христос остановился в неожи-
данном месте или задержался в пути для спора; но лицо Его
всегда обращено к Городу на горе. Только так мы поймем
поразительную сцену, высшую точку повести, когда на по-
вороте дороги Он внезапно и громко заплакал об Иерусали-
ме. Отзвук этого плача звенит во всех патриотических пес-
нях; там, где его нет, патриотизм отдает пошлостью. Только
так мы поймем и сцену в Храме, когда столы катились со
ступеней, как негодный скарб, и богатые торжники катились
за ними115, — сцену, загадочную для пацифистов, как зага-
дочны для милитаристов парадоксы о непротивлении. Я го-
ворил о путешествии Язона; но нельзя забывать, что в более
глубоком смысле путь Христа похож на пусть Одиссея. Это
не странствие, а возвращение, мало того, это победа. Любой
нормальный мальчишка, читающий об итакских мореходах,
прежде всего видит, что «Одиссея» хорошо кончается; но
многие взирают на путь еврейских рыбаков и мытарей с той
вечный человек
257
изысканной брезгливостью, которую принято испытывать
теперь при виде насилия, особенно насилия над сильными.
Все события Евангелия поднимаются в гору, все они — не
случайны. Когда Аполлоний предстает перед судом и исче-
зает, это чудо совершенно случайно. Оно могло бы произой-
ти когда угодно, и, кажется, дата его так же сомнительна,
как все остальное. Идеальный философ просто исчез и про-
должил свое существование в другом месте. Совсем не слу-
чайно, что, по преданию, он дожил до весьма преклонных
лет. Иисус был сдержаннее в Своих чудесах. Когда Он пред-
стал перед судом Пилата, Он не исчез. Он достиг цели, до-
стиг вершины; наступило время зла и власть тьмы. Да, Он
не исчез, и это — самое сверхъестественное из всей Его пол-
ной чудес жизни.
Все попытки расширить Его историю только сужали ее.
А расширить пытались многие, от великих поэтов до слезли-
вых мещан и надутых краснобаев. Изысканные скептики
пересказывали ее покровительственно, расхожие книжки —
бойко. Я пересказывать не буду. Простые слова Евангелия
тяжелы, как жернова, и тот, кто может читать их просто,
чувствует, что на него свалился камень. Толкования — только
слова о словах. Но как опишешь словами темный сад, вне-
запный свет факелов, гневные лица? «Как будто на разбой-
ника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каж-
дый день бывал Я с вами в Храме, и вы не поднимали на
Меня рук; но теперь — ваше время и власть тьмы»116. Что
прибавишь к мощной сдержанности этой насмешки, подоб-
ной вознесшейся и застывшей волне? «Дщери Иерусалим-
ские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ва-
ших»117 . Старейшины говорили: «Какое еще нужно нам сви-
детельство?» Так и мы можем сказать: «Какие еще нужны
нам слова?»118 Петр в страхе отрекается; «И тотчас, когда
еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обернувшись,
взглянул на Петра, и Петр вспомнил слова Господни, когда
Он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься
от Меня трижды». И, вышед вон, горько заплакал»119. Что
258
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
можно тут прибавить? Перед тем как Его убьют, Он просит
за убийц: «...Не ведают, что творят»120. Что скажешь тут,
если мы сами не ведаем, что говорим? Нужно ли пересказы-
вать, как тянулось страшное шествие Крестного пути, как
в спешке предали Его обычной для тех времен казни и как в
этом ужасе и одиночестве один неожиданный голос воссла-
вил Его, а Он ответил безвестному разбойнику: «Истинно
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»121. Кто спо-
собен описать заново то прощание со всякой плотью, кото-
рым Он дал Своей Матери нового сына?122
Мне несравненно легче — да и здесь больше к месту —
сказать о том, что на Голгофе, как в мистерии, собрались все
человеческие силы, о которых я говорил. Цари, мудрецы и
народ присутствовали при Его рождении; и — много непос-
редственней — они причастны к Его смерти. Те, кто стоял у
креста, воплощают в себе великую истину истории: мир не
мог себя спасти. Афины, Рим, Иерусалим стремились вниз,
словно их затягивало в водоворот. Внешне древний мир был
в расцвете; именно в такие моменты и развивается недуг.
А чтобы понять, в чем этот недуг состоял, приходится вспом-
нить то, что мы не раз повторяли: не слабость гибла, а сила, и
мудрость мира сего обратилась в безумие123.
В истории Страстной Пятницы лучшее в мире оберну-
лось плохой стороной. Поистине, самой плохой стороной обер-
нулся мир. Там были жрецы чистейшего монотеизма и вои-
ны всемирной цивилизации. Рим, возведенный к павшей Трое
и победивший падший Карфаген, воплощал героизм, ближе
всего во всем язычестве подходящий к рыцарству. Он защи-
щал домашних богов и человеческое достоинство против чу-
дищ Африки и гермафродитов Греции. Но в свете этой мол-
нии мы видим, как великий Рим, империя и республика, гиб-
нет под гнетом проклятия Лукреции. Скепсис разъел про-
стое здравомыслие победителей мира; тот, кто призван учить
справедливости, не знает, что есть истина. В драме, решив-
шей судьбу древности, один из главных персонажей играет
как бы не свою роль. Рим был другим именем ответственно-
вечный человек
259
сти — и остался навеки воплощением безответственности.
Человек не мог сделать больше ничего; даже практичные ста-
ли непрактичными. Со своего собственного Лифостротона124
Рим сложил с себя ответственность за судьбы мира и умыл
руки125.
Были там и первосвященники той первозданной истины,
которая лежала за всеми мифами, как небо за облаками.
Может быть, и вправду есть что-то страшное в чистом еди-
нобожии, словно смотришь на солнце, и небо, и звезды, сло-
жившиеся в одно лицо. Наверное, эта истина слишком ог-
ромна, когда между ней и нами не стоят бесплотные и зем-
ные посредники; а может быть, она слишком чиста для нас и
слишком от нас далека? Во всяком случае, мир она не спасла,
она даже не смогла его обратить. Мудрецы хранили ее в са-
мой высокой и благородной форме; но они не только не обра-
тили других в свою веру — они и не пытались. Побороть
частным мнением джунгли народных мифов не легче, чем
расчистить лес перочинным ножом. Иудейские первосвящен-
ники хранили свою истину ревностно и в плохом, и в хоро-
шем смысле слова. Они хранили ее, как хранят великую тай-
ну; как дикие герои мифов хранили солнце в ларчике, так
хранили они Предвечного в ковчеге. Они гордились, что толь-
ко они могут смотреть в ослепительный лик Единого, и не
знали, что ослепли. С того дня такие, как они, словно слепые
на свету, тычут наугад своими посохами и сердятся, что так
темно. Что-то было в их монументальном монотеизме, из-за
чего он стал последним в своем роде монументом, застыв-
шим среди беспокойного мира, который он не смог удовлет-
ворить. По той, по иной ли причине он, несомненно, не мо-
жет удовлетворить мир. С того дня нельзя уже просто ска-
зать, что Бог на небе и все хорошо на свете126; ведь люди
узнали, что Бог сошел с неба, чтобы исправить этот свет.
Силы эти были когда-то благими; но то же самое случи-
лось и с теми, кто был еще лучше их, с теми, кого ставил
выше всех сам Христос. Бедные, которым он проповедал
лагую Весть, простые люди, радостно слушавшие Его, те
260
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
самые, что создали так много героев и полубогов, поддались
слабости, разъедающей мир. С ними случилось то, что часто
случается с толпой, особенно со столичной толпой упадочно-
го века. Крестьянин живет преданием, горожанин — слуха-
ми. Точно так же как мифы в свою пору, симпатии и антипа-
тии города менялись легко и ни к чему не обязывали. Како-
го-то разбойника превратили наспех в живописного, попу-
лярного героя и противопоставили Христу. Поневоле узнаешь
чернь наших городов и наши газетные сенсации. Но в черни
таилось зло, типичное именно для древнего мира. Мы уже
говорили о пренебрежении к личности, даже к личности, го-
лосующей за казнь, тем более к личности осужденного. За-
говорила душа улья, душа язычества. Это она требовала в
тот час, чтобы один Человек умер за народ. Когда-то, много
раньше, преданность городу и государству была хороша и
благородна. У нее были свои поэты и свои мученики, слав-
ные и в наши дни. Но она не видела человеческой души, свя-
тилища всей мистики. Толпа пошла за саддукеями и фарисе-
ями, за мудрецами и моралистами. Она пошла за чиновника-
ми и жрецами, за писарями и воинами, чтобы все человече-
ство, скопом, запятнало себя и все сословия слились в едином
хоре, когда оттолкнули Человека.
В самой высокой точке этой драмы есть одиночество,
которое нельзя нарушить, есть тайны, которых не выразить,
во всяком случае — в тот час, когда обычный человек обра-
щается к людям. Никакими словами, кроме тех простых слов,
и отдаленно не передашь весь ужас, царивший на Голгофе.
Его никогда не перестанут описывать, а в сущности — и не
начинали. Что можно сказать о конце, когда вырвались не-
мыслимо отчетливые, немыслимо непонятные слова, на миг
разверзлась не выдуманная, а настоящая бездна в единстве
Троицы и Бог оставил Бога?127 Нам этих слов не понять во
всю вечность, которую они нам дали.
Тело сняли с креста, и один из немногих богатых учени-
ков испросил разрешение похоронить Его в саду, в пещере.
Римляне поставили охрану, опасаясь мятежа и похищения.
вечный человек
261
Все это снова было как притча; не случайно закрыли могилу
со всей таинственностью древних погребений, и сила кесарей
охраняла ее. В тот час запечатали и погребли великий и слав-
ный мир, который мы зовем древностью. Пришел конец ве-
ликому делу — человеческой истории, той истории, которая
была только человеческой. Мифы и учения похоронили там,
богов, мудрецов и героев. По прекрасной римской поговор-
ке, они отжили128. Но они умели только жить, а потому мог-
ли только умереть. И вот они умерли.
На третий день друзья Христовы пришли туда и увиде-
ли, что пещера пуста и камень отвален. По-разному узнали
они о новом чуде; но даже тогда они, должно быть, не совсем
поняли, что история кончилась в ту ночь. Они видели снова
первый день творения, новое небо, новую землю; и Господь-
Садовник129 гулял по саду в прохладе рассвета.
Глава IV
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕРЕТИКОВ
Христос основал Церковь двумя великими образами —
камня и ключей. Первый из них ясен — мне, во всяком слу-
чае. Однако слова эти — еще один пример того, что раскры-
лось и разъяснилось только позже, много позже. Кроме того,
это еще один пример загадочной сложности Евангелия —
Христос сравнил с камнем человека, несравненно более по-
хожего на трость, ветром колеблемую130. Но мало кто заме-
чал, как поразительно точен образ. Ключи играют немалую
роль в искусстве и геральдике христианства; но далеко не все
понимают, как полна и точна аллегория. В этой главе я хочу
рассказать о том, какой была и что делала Церковь вначале,
и ничто не может помочь мне больше, чем древняя метафора.
Ранние христиане похожи на людей с ключом — или, если
хотите, на тех, кто говорит, что у них есть ключ. Они не били
тараном стену, как наши современники, и не неслись очертя
262
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
голову, прихватывая по пути все, что попадется. Более того,
как мы сейчас увидим, они наотрез отказались от подобных
действий. Они утверждали, что есть ключ и что этот ключ —
у них, а другого такого нет. В этом смысле, конечно, их мож-
но назвать узкими. Но случилось так, что именно этот ключ
открыл темницу мира, и белый, дневной свет свободы вор-
вался в нее.
Вера подобна ключу в трех отношениях. Во-первых, у
ключа определенная форма, без формы он уже не ключ.
Если она неверна, дверь не откроется. Христианство, преж-
де всего, философия четких очертаний, оно враждебно вся-
кой расплывчатости. Это и отличает его от бесформенной
бесконечности, манихейской или буддийской, образующей
темную заводь в темных глубинах Азии. Это же отличает
его и от бесформенности чистой эволюции, в чьем потоке все
твари непрерывно теряют очертания. Если вам скажут, что
ваш ключ расплавился и слился с тысячами других ключей,
вас это огорчит. Не обрадуется и тот, чей ключ меняется по-
немногу, развиваясь и усложняясь. Во-вторых, форма ключа
очень причудлива. Дикарь, не видевший ключей, никогда не
угадает, что это. Причудлива она потому, что, в определен-
ном смысле, она произвольна. О ключе спорить нечего, он
или входит в скважину, или нет. Вряд ли стоит подгонять
ключ под правила геометрии или каноны эстетики. Бессмыс-
ленно требовать и ключ попроще, тогда уж лучше взломать
дверь. И в-третьих, форма ключа не только точна, но и
сложна. Многие жалуются, что религию так рано засорили
теологические сложности, забывая, что мир зашел не в ту-
пик, а в целый лабиринт тупиков. Сама проблема была
сложна, куда сложнее, чем «борьба с грехами». Накопилось
множество тайн, неосознанных болезней души, опасностей,
извращений. Если бы наша вера принесла толпе плоские ис-
тины о мире и о прощении, к каким пытаются свести ее мно-
гие моралисты, она бы нимало не воздействовала на слож-
ный и пышный приют для умалишенных. Что сделала она в
действительности, я попытаюсь объяснить, пока же повто-
вечный человек
263
рю: во многом ключ был сложен, в одном — прост. Он от-
крывал дверь.
Существует несколько ходячих мнений, которые для крат-
кости я назову ложью. Все мы слышали, что христианство
возникло в варварский век. С таким же успехом можно ска-
зать, что в варварский век возникла «Христианская наука».
Считайте, на худой конец, что христианство знаменовало
общественный упадок, как я считаю, что «Христианская на-
ука» знаменует упадок умственный. Считайте христианство
суеверием, погубившим цивилизацию, — считаю же я «Хри-
стианскую науку» суеверием, способным (если к нему отне-
стись серьезно) погубить сколько хочешь цивилизаций. Но
сказать, что христианин IV или V века был варваром и жил
в эпоху варварства, все равно что отнести Мэри Бэкер-Эдди
к племени краснокожих индейцев. Нам может нравиться или
не нравиться американская культура XIX века, но ни один
здравомыслящий человек не станет, при всем желании, от-
рицать, что и Римская империя, и индустриальная Амери-
ка — цивилизованны. Хорошо это или плохо, христианство
было порождением цивилизованного, я бы даже сказал —
слишком цивилизованного мира. Это не упрек и не похвала.
Во всяком случае, в моих устах сравнение с христианской
наукой никак не сочтешь похвалой. Просто надо хоть немно-
го чувствовать атмосферу общества, прежде чем хвалить его
или порицать. О главном в языческой цивилизации я не-
однократно вспоминал на этих страницах — Средиземное
море, словно озеро, поглощало и соединяло разные культы и
культуры. Города, глядевшие друг на друга с его берегов,
становились все более похожими. С юридической и военной
стороны, это Римская империя; но у нее очень много сторон.
Можно назвать ее суеверной — в ней множество суеверий,
но никак не варварской.
Христианство и наша Церковь возникли в эпоху высо-
кой международной культуры и по всем признакам показа-
лись тогда и новыми, и странными. Очень трудно доказать,
что они развились из чего-то менее странного. Можно, ко-
264
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
нечно, говорить, что ессеи или эбиониты были семенем; но
семя незаметно, дерево вырастает сразу и, наконец, оно со-
всем не похоже на семя. Оно радостно, как рождественская
елка, и строго, как ритуальный семисвечник. Кстати, никак
не пойму, почему так возражают против позолоты в Церк-
ви, если сами волхвы принесли золото? Почему не разре-
шали кадить, если они принесли ладан? Но сейчас я говорю
не об этом. Я просто сообщаю исторический факт, который
все больше признают историки: очень рано перед удивлен-
ными взорами древних Церковь возникла именно как Цер-
ковь, со всем тем, что входит в нее теперь, и с очень многим
из того, что в ней порицают. Вскоре я расскажу о том, была
ли она похожа на магию, обрядность или аскезу своего века.
Но она никак не походила на этические общества нашего
века. У нее была доктрина, была дисциплина, были таин-
ства, были степени посвящения; она принимала людей и от-
лучала, защищала одни догмы и проклинала другие. Если
все это — знаки Антихриста, царство его наступило сразу
же после Христа.
Те, кто считают, что истинное христианство — не Цер-
ковь, а моральное движение идеалистов, вынуждены отодви-
гать все дальше и дальше дату его падения. Епископ Рим-
ский настаивает на своей власти при жизни Иоанна Богосло-
ва; это считают в наши дни первым проявлением преслову-
той наглости пап. Друг апостолов пишет, что они научили его
таинству Евхаристии; а Уэллс ворчит, что к варварским жерт-
воприношениям отступили раньше, чем можно было ожидать.
Дату четвертого Евангелия передвигали все ближе к нам,
теперь отодвигают все дальше, и, может быть, дойдут до чу-
довищного предположения, что оно написано в I веке. Са-
мый ранний срок гибели истинного христианства, должно
быть, отыскал один немецкий профессор, к чьему авторите-
ту прибегает декан Инг, — он говорит, что Пятидесятница
была первым сборищем деспотичных догматиков и церков-
ников, изменивших простому учению Христа. И в прямом, и
в переносном смысле дальше идти некуда. Некоторые срав-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
265
нивают ранних христиан с нынешними пацифистами; я с этим
не согласен, но сейчас, для доказательства, приму это срав-
нение. Представьте себе, что Толстого или другого великого
миротворца застрелили, когда он призывал крестьян укло-
няться от воинской повинности. Через месяц с небольшим
его последователи собрались, чтобы почтить его память. Их
объединяет только это, они разные люди, но в жизни каждо-
го из них главную роль играло то, что случилось с учителем.
Они постоянно повторяют его слова, обсуждают его пробле-
мы, пытаются подражать ему. И вот, собравшись на свою
пятидесятницу, они в едином порыве решают бороться за
поголовную воинскую повинность, увеличить налоги на ар-
мию и флот, вооружиться до зубов, расставить пушки по всем
границам и расходятся под звуки бодрого военного марша.
Это — очень слабое подобие современных предположений.
Любой здравомыслящий человек чувствует, что ученики,
встретившись ради любимого учителя, не побегут немедлен-
но после этого насаждать все, что он ненавидел. Если «цер-
ковники и догматики» стары, как Пятидесятница, они ста-
ры, как Рождество. Если мы возведем все это к столь ранне-
му христианству, мы должны возвести это к Христу.
Итак, мы начинаем с двух отрицаний. Глупо говорить,
что наша вера возникла в простом, то есть в неграмотном,
неразвитом обществе. Так же глупо говорить, что наша вера
была простой, то есть расплывчатой, или наивной, или свя-
занной только с чувствами. Христианство похоже на свое
время лишь одним: оба они чрезвычайно разносторонни; но
античность — многосторонняя, скажем — шестиугольная
дыра, для которой годится шестиугольная пробка. Шесть
сторон Средиземноморья смотрели друг на друга и ждали
чего-то, что увидят все стороны сразу. Церковь должна была
стать и римской, и греческой, и еврейской, и африканской, и
азиатской. Подобно апостолу языков, она должна была стать
всем для всех131.
Но есть и другие обвинения. Нашу веру обвиняют в том,
что она — дитя разлагающегося мира, мрачное предсмерт-
266
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ное суеверие, ибо Рим умирал от излишней цивилизованнос-
ти. Этот довод заслуживает большего внимания, и я оста-
новлюсь на нем.
В начале этой книги я сравнивал возникновение человека
в природе и христианства в истории. Вернусь к этому срав-
нению. Если вы видели обезьян, вы можете себе предста-
вить антропоида; но вы никогда не представите себе челове-
ка и всех его дел. Сравнение это важно, ибо именно так об-
стоит дело и с Церковью — с мыслью о том, что Церковь
естественно развилась из погибающей Империи.
Действительно, в определенном смысле можно было
предсказать, что упадок Империи породит что-нибудь похо-
жее на христианство, точнее, кое в чем похожее и совер-
шенно другое. Можно было сказать, например: «Люди
дошли до предела в погоне за наслаждениями, и непременно
должно наступить горькое похмелье. Очень может быть,
что оно выразится в аскезе — люди станут не только уби-
вать, но и калечить себя». С таким же правом можно было
сказать: «Если мы устанем от римских и греческих богов,
мы скатимся к восточной мистике, войдут в моду персы или
индусы». Можно было бы, при должной проницательности,
сказать и так: «Сильные мира сего всегда увлекаются чем-
нибудь. В конце концов двор примет одну из мод, и она
станет государственной религией». А другие пророки, по-
мрачней, могли бы резонно заметить: «Мир катится ко всем
чертям. Вернутся темные, дикие суеверия, не так уж важ-
но — какие. Все они бесформенны и смутны, словно страш-
ный сон».
Занимательно, что все эти пророчества исполнились, но
не Церковь исполнила, их Церковь спаслась от них, восста-
ла против них и победила. Распущенность и впрямь породи-
ла аскетов, которые звались манихеями, и Церковь была им
лютым врагом. Манихейство возникло естественно и есте-
ственно погибло. Пессимистическая реакция пришла и ушла
с манихеями. Но Церковь осталась; и она куда больше свя-
зана с их уходом, чем с их появлением. Скепсис действительно
вечный человек
267
породил моду на восточные культы; Митра явился из Пер-
сии, которая дальше Палестины, и принес странные таин-
ства, связанные с бычьей кровью. Восточные предрассудки
как нельзя лучше вписывались в Империю времен упадка,
но почему же один из них продержался до XX века и стано-
вится все сильнее? Если бы мы оставались митраистами, по-
тому что при Домициане вошли в моду персидские прически
и другие поветрия, мы бы все-таки немного отстали от моды.
То же самое можно сказать о покровительстве властей.
Когда империя переживала упадок и крах, императоры под-
держивали некоторые культы, и культы эти пришли к упад-
ку и краху. Непонятно, почему один из них наотрез отказал-
ся пасть, почему он крепнул, пока падали другие, и не прояв-
ляет признаков старости сейчас, когда еще один эон закон-
чился и еще одна цивилизация пришла в упадок.
И вот что любопытно: те самые ереси, за борьбу с кото-
рыми порицают Церковь первых веков, свидетельствуют в
ее пользу. Ее обвиняют во многих грехах, но в этих грехах
повинна не она, а те, кого она сокрушила. Если было суеве-
рие, она отвергла его как суеверие. Если было отступление к
варварству, она отвергла его именно за варварство. Если
модные забавы увядающей империи заслуживали смерти,
именно Церковь, она одна, убила их. Историки и критики
объясняют нам, почему возникли и почему погибли гности-
ки, ариане или несториане. Они не объясняют, почему воз-
никла Церковь и почему она воевала с тем самым злом, в
котором обвиняют ее самое.
Что может быть привычнее таких, например, слов: «Хри-
стианство прежде всего было движением аскетов. Они бе-
жали в пустыню, заточали себя в обители, отказывались от
жизни и от всякой радости, и все это — мрачная реакция
против природы, ненависть к плоти, страх перед материаль-
ным миром, повальное самоубийство чувств и даже личнос-
ти — шло от восточного фанатизма (вспомним факиров),
основанного, в конечном счете, на глубоком пессимизме, вос-
принимающем бытие как зло».
268
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Самое странное, что это верно, только относится не к
Церкви, а к еретикам, осужденным Церковью. Точно так
же мы можем описать во всех подробностях грехи, ошибки и
промахи Георга III132, но по оплошности приписать их Джор-
джу Вашингтону или преступления большевиков приписать
царю. Церковь первых веков была аскетической^ но совсем в
другом смысле и по другим причинам. Философия ненавис-
ти к жизни действительно существовала, только не там, где
принято ее видеть.
На самом деле было так. Когда христианство пришло в
мир, на него, словно осы на пчелу, ринулись роем мистиче-
ские и метафизические секты, в большинстве своем восточ-
ные. Со стороны все они были похожи, и голоса их слива-
лись в нестройное жужжание. Но только одна золотая точка
во всем этом облаке могла построить ульи для грядущих по-
колений, дать миру мед и воск, сладость и свет. Осы пере-
мерли зимой, мало кто теперь про них слышал, большинство
о них и не догадывается, поэтому первый период нашей
веры нам непонятен. Можно привести и другое сравнение.
Когда прорвалась плотина между Западом и Востоком и
новая мистика хлынула в Европу, в этом потоке было нема-
ло аскетизма, еще больше пессимизма. Затопил он поначалу
едва ли не все христианство. Он родился на темной границе
между восточной философией и восточной мифологией и
взял от самых странных философов склонность к схемам и
генеалогическим древам. Тех, кто, по преданию, следовал
загадочному Мани, зовут манихеями. Сходные с ними уче-
ния известны под именем гностических, они поражают
сложностью, но сутью их был пессимизм. И манихеи, и гно-
стики считали сотворение мера делом злого начала. У неко-
торых из этих культов был азиатский привкус, который есть
в буддизме, — ощущение, что жизнь замутняет чистоту
бытия. Весь этот темный поток хлынул сквозь плотину при-
мерно тогда же, когда возникло христианство. Но в том-то
и суть, что они не смешивались, как не смешиваются вода и
масло. Наша вера сохранилась, словно река, чудом текущая
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
269
сквозь море. И доказательство этому чуду, как многое в
истории Церкви, — не умозрительно, но глубоко практич-
но: море было соленым и горьким, оно пахло смертью, а
этот поток утолял жажду.
Чистоту Церкви охраняли догматы, и ничто другое, на-
верное, не охранило бы ее. Если бы Церковь не отвергла
манихеев, она могла бы стать манихейской. Если бы она не
опровергла гностиков, она могла бы стать такой, как они. Но
она опровергла их, отвергла, и это доказывает, что она не
была ни манихейской, ни гностической. Во всяком случае,
она доказала, что не все совпадало в ней с манихейством и
гнозисом; чем же это могло быть, если не Благой Вестью
Вифлеема и победной трубой Воскресения? Церковь была
аскетичной, но доказала, что пессимизма в ней нет, осудив
пессимистов. Она признала, что человек — грешен, но ни-
когда не говорила, что жизнь есть зло, и осудила тех, кто
говорил так. Мы нетерпимы к ней, ибо она нетерпима к ере-
сям первых веков. На самом деле именно эта нетерпимость и
доказывает, что Церковь собиралась стать всеобщей и ши-
рокой. Потому и спешила она объяснить, что не считает че-
ловека безнадежно гнусным, мир — непоправимо дурным,
брак — грехом, рождение ребенка — несчастьем. Христиа-
не были аскетами, потому что только аскеза могла очистить
от греха; но в громе своих анафем они провозвестили, что не
борются ни против людей, ни против природы; что они очи-
щают, а не разрушают мир. Ничто, кроме этих анафем, не
очистило бы его в той мешанине, благодаря которой мы и
сейчас путаем Церковь с ее смертельным врагом. Только
догма могла сдержать разгулявшуюся фантазию пессимис-
тов, восставших против природы, — противостоять их эонам,
их демиургу, их странному Логосу и невеселой Софии133. Если
бы Церковь не настаивала на богословии, она растворилась
бы в безумной мифологии мистиков, далекой от жизни и от
любви к живому. Не надо забывать, что эта «мифология наи-
знанку» отменила бы все, что было естественного в языче-
стве. Плутон встал бы выше Юпитера, Гадес — выше Олим-
270
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
па, Брахма и дыхание жизни подчинились бы Шиве, сверка-
ющему оком смерти.
Церковь горела сама чистым огнем целомудрия, она умерщ-
вляла плоть, но разница была от этого не меньше, а больше.
Нам особенно важно понять, где именно догма провела Гра-
ницу. Человек мог стоять день и ночь на столпе и просла-
виться аскезой. Но стоило ему сказать, что мир гадок или
что жениться грешно, как его осуждали за ересь. Если хрис-
тиан путают с гностиками, это не их вина, особенно когда
одни и те же люди обвиняют их в преследовании аскетизма и
в сочувствии ему. Церковь не была манихейским движени-
ем. Она была скорее укротительницей, чем покровительни-
цей аскезы. Если мы не поймем этого, нам не понять, напри-
мер, историю Августина. Пока он был обыкновенным мир-
ским человеком, человеком своего времени, он считал себя
манихеем. Это было и современно, и модно. Но когда он об-
ратился, он обрушился со всей яростью именно на манихеев.
Христианин скажет, что из пессимиста он превратился в ас-
кета. С точки зрения пессимистов, он из аскета превратился
в блаженного. Ненависть к жизни и природе он нашел и без
Церкви, в язычестве; и отказался от них, обратившись. Это
только подчеркивается тем, что Августин Блаженный и стро-
же, и печальней святого Франциска и святой Терезы. По-
знакомившись с самым грустным и даже самым мрачным из
христианских святых, мы все-таки можем спросить: «Если
христианство ненавидело жизнь, почему оно боролось с ма-
нихеями?»
Возьмем другое привычное, рационалистическое объяс-
нение. Мы нередко читаем: «Христианство вообще не воз-
вышалось, оно не поднималось снизу, его навязали сверху.
Это очень типично для тоталитарных государств. Империя
действительно была Империей, ею правил император. Один
из императоров случайно стал христианином. С таким же
успехом он мог стать митраистом, саддукеем или огнепок-
лонником; в Империи времен упадка богатые, образованные
люди увлекались эксцентричными восточными культами. Он
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
271
принял христианство, оно стало государственной религией, а
потому обрело силу и непобедимость». Так пишут нередко.
Но мы призовем еретиков, чтобы это опровергнуть.
Государственная религия действительно существовала, и
она умерла не потому, что была государственной, ее убила
истинная вера. Арианство в какой-то мере похоже на то, что
проповедуют сейчас: Христу отводится в нем странное, про-
межуточное место. Многим казалось, что это и понятнее, и
либеральней. Ариане были, так сказать, людьми умеренны-
ми, чувствующими дух времени. Многие радовались, что
наконец из мешанины первых дрязг выкристаллизовалась
приличная религия, на которой вполне может успокоиться
цивилизованное общество. Ее принял и сделал государствен-
ной сам император; военачальники и воинская знать моло-
дых варварских северных стран поддерживали ее. Поэтому
особенно важно то, что случилось потом. Точно так же как
наш современник-унитарий может легко стать полным агно-
стиком, величайший из императоров-ариан отбросил послед-
ние притязания на христианство и сменил Ария на Аполло-
на134 . Он был кесарь из кесарей — воин, ученый, истинный
философ на троне. Ему казалось, что по его знаку снова встало
солнце. Заговорили оракулы, словно птицы запели на заре;
вернулись языческие боги. Пришел конец странному, вре-
менному восточному суеверию. Так оно и было — времен-
ное суеверие кончилось. Пришел конец причуде императора
и моде поклонения. То, что началось при Константине, кон-
чилось при Юлиане.
Но кончилось не все. В тот час, бросив вызов народной
суматохе соборов, Афанасий135 встал против мира. Мы оста-
новимся на этом подробнее, это очень важно, а сейчас пере-
стали понимать, в чем тут соль. Люди просвещенные любят
приводить как пример догматического крохоборства и мелоч-
ных сектантских споров вопрос о предвечности Сына. Те же
либералы вечно приводят как пример чистого, простого хри-
стианства, не испорченного догматическими спорами, слова:
«Бог есть Любовь». Но ведь это одно и то же; во всяком
212
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
случае, второе почти бессмысленно без первого. Сухая дог-
ма — логическое выражение прекраснейшего чувства. Если
безначальный Бог существует прежде всех, кого же любил
Он, когда некого было любить? Если в немыслимой вечнос-
ти Он был один, что значат слова о том, что Он — Любовь?
Эту тайну можно объяснить только мистически: по-видимо-
му, в Его природе есть что-то, подобное самовыражению;
Он что-то порождал и созерцал порожденное Им. Без этого
поистине неразумно усложнять последнюю суть Божества
такой идеей, как любовь. Если наши современники действи-
тельно ищут простую религию любви, пусть они обратятся к
Никейскому Символу Веры. Трубный глас истинного хрис-
тианства — весь мятеж, вся любовь, вся милость Вифлее-
ма — звучал особенно громко и чисто, когда Афанасий бро-
сил вызов холодному компромиссу ариан. Это он сражался
за Бога Любви против бога бесцветного далекого надзора,
бога стоиков и агностиков. Это он защищал Младенца Хри-
ста от серого божества фарисеев. Он бился за ту несравнен-
но прекрасную связь, ту взаимную близость, благодаря ко-
торой Пресвятая Троица полна тепла и любви, как Святое
Семейство.
Церкви снова, второй раз, пришлось встать против Им-
перии, и это показывает, что в мире развивалось нечто очень
весомое, личное и несовместимое с тем, что выбрала Импе-
рия. Сила эта разрушила без остатка официальную импер-
скую веру. Она пошла своим путем, идет им и теперь. Таких
примеров много, и все было так же, как с манихеями и ариа-
нами. Через несколько веков, например, Церковь снова от-
стояла Троицу (то есть Любовь, если судить логично) про-
тив одинокого и упрощенного Бога мусульман. Многие ни-
как не поймут теперь, почему и за что сражались крестонос-
цы; многие даже считают, что христианство — разновидность
так называемого «иудаизма», вошедшего в силу с упадком
эллинизма. Сторонников этого взгляда, конечно, озадачит
война Креста и Полумесяца. Если в христианстве нет ниче-
го, кроме простой морали и борьбы с многобожием, почему
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
213
#се оно не слилось с исламом? Потому что ислам был варвар-
ской реакцией на ту в высшей степени человечную сложность,
которая свойственна христианству: на то равновесие в Са-
мом Боге, подобное равновесию в семье, из-за которого наша
вера исполнена здравого смысла, а здравый смысл стал ду-
шой нашей цивилизации. Церковь с самого начала проносит
свои взгляды сквозь моды и вкусы века. Она беспристраст-
но наносит удары и в ту и в другую сторону, бьет по песси-
мизму манихеев и по оптимизму пелагиан136. Она не была
манихейским движением, потому что вообще не была дви-
жением; она не была придворной модой, потому что не была
модой. Она совпадала во времени с движениями и модами,
но всегда умела обуздать их и пережить.
Великие ересиархи могут встать из могил, чтобы опро-
вергнуть нынешних своих коллег. Новые не сказали ничего,
что бы не оспорили те, давние. Вот кто-то бросит походя, что
христианство — болезненная, чисто духовная, аскетическая
реакция, пляска факиров, ненавидящих жизнь и любовь. Но
Мани, великий мистик, возопит с тайного трона: «Не хрис-
тианам говорить о духе! Они — не аскеты, они пошли на
сделку с бедствием жизни, с мерзостью брака. По их вине
плоды, злаки и дети оскверняют землю. Эти безумцы обно-
вили мир, когда я едва не прикончил его». Другой напишет,
что Церковь — лишь тень Империи, прихоть случайного
тирана, висящий над современной Европой призрак Рима.
Но Арий-пресвитер ответит из тьмы забвения: «Если бы это
было так, мир принял бы мою, разумную веру. Ее сокруши-
ли демагоги, не убоявшиеся кесаря. Мой защитник облачал-
ся в пурпур, и меня славили орлы. Что-что, а это у меня было;
но я погиб». Третий скажет, что христианство — попросту
панический страх перед вечными муками, бегство от мще-
ния, агония самобичеваний; и это понравится тем, кому страш-
на наша вера. Но суровый голос Тертуллиана137 ответит:
«Почему же отвергли меня? Почему, мягкосердечные глу-
пые люди встали против меня, когда я провозгласил гибель
всех грешников? Какая сила противилась мне, когда я гро-
214
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
зил отступникам геенной? Но кто пошел по этому пути даль-
ше меня и кто, как ни я, сказал; «Верю, ибо нелепо»»? Чет-
вертый предположит, что дух семитов-кочевников сокрушил
удобное и уютное язычество, его города, его домашних бо-
гов, и ревнивое племя монотеистов навязало своего ревниво-
го Бога. Но Магомет ответит из красного вихря пустыни:
«Кто служил единому Богу ревностней, чем я? Кто подарил
Ему такое одиночество в небе? Кто воздал больше почестей
Аврааму и Моисею, кто сокрушил больше идолов? Какая
же сила отбросила меня, словно содрогнулось живое тело?
Чей фанатизм смел меня с Сицилии и вырвал мои крепкие
корни из скал Испании? Во что верили воины всех стран и
сословий, когда кричали, что моей гибели хочет сам Господь?
Какая праща метнула Готфрида на стену Иерусалима, что
удержало Собесского у ворот Вены? Не только единобожи-
ем была вера, которая так враждовала со мной».
Те, кто считают христианство узким и фанатичным, об-
речены на вечное удивление. Мы — аскеты и воюем с аске-
зой; мы — наследники Рима и воюем с Римом; мы монотеи-
сты — и бьемся с монотеизмом. Загадку христианства не
разрешишь, назвав его нелепостью. Если оно нелепо, поче-
му же оно кажется разумным миллионам здравомыслящих
людей, несмотря на все перемены без малого двух тысячеле-
тий? Я нахожу одну разгадку: потому что оно не нелепо, а
разумно. Если христиане — фанатики, они фанатично защи-
щают разум, обличают глупость. Только этим я могу объяс-
нить, почему наша вера так свободна и так тверда, почему
она не желает принимать помощи от сил, которые, на первый
взгляд, важны для ее существования; почему так строга к
идеям, которые, также на первый взгляд, очень близки к ней;
почему знает все чаяния века и всегда умеет встать над ними;
почему никогда не говорит того, что от нее ждут, и никогда
не отказывается от своих слов. Все это возможно только в
одном случае: как Паллада из головы Зевса, она вышла из
разума Господня целостной, зрелой, сильной, готовой к суду
и битве.
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
275
Глава V
СПАСЕНИЕ ОТ ЯЗЫЧЕСТВА
Современный миссионер с зонтиком и в шляпе из паль-
мовых листьев стал излюбленным предметом шуток. Мир-
ские люди смеются и над тем, что его могут съесть дикари, и
над тем, что он по своей узости считает дикарей ниже нас.
Наверное, смешнее всего, что эти шутки оборачиваются про-
тив нас самих. Смешно спрашивать человека, готового к вар-
ке, почему он не верит в братство и равенство религий. Но
миссионеру предъявляют и более тонкие обвинения. Его уп-
рекают в том, что он говорит о язычниках вообще, не обра-
щая внимания на тонкие различия между Магометом и Мум-
бо-Джумбо. Раньше действительно было так, но теперь уче-
ные возводят в ранг теологии каждую мифологию. Интел-
лектуалы принимают всерьез все едва уловимые оттенки
безответственной азиатской метафизики. И ни те, ни другие
ни за что не хотят понять, что имел в виду Аквинат, пропове-
дуя против языков138, или Афанасий, проповедуя против
мира.
Когда миссионер говорит, что христианин отличается от
всех других людей, которых можно назвать общим именем
«язычники», он совершенно прав. Он может, говоря это,
испытывать совсем не христианские чувства, и тогда он нрав-
ственно неправ. Но философски, исторически он прав. Он
может чувствовать неверно, но будет прав. Иногда он даже
не имеет права быть правым, но он прав. Все оттенки того
внехристианского мира, в который он несет свою веру, мож-
но обобщить. Вероятно, назвать его язычеством небезопас-
но, потому что при этом нелегко избежать лицемерия или
гордыни. Лучше просто назвать его человечеством. У него
есть свои свойства. Они совсем не обязательно плохие; мно-
гие из них заслуживают уважения христиан, многие из них
восприняты и преображены христианством. Но они существо-
216
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
вали и существуют до христианства, как море существует до
и вокруг корабля. И запах у них такой же сильный, неповто-
римый, как у моря.
Например, серьезные ученые, занимающиеся Грецией и
Римом, согласны в том, что религия и философия были там
отделены друг от друга. Однако ни у той, ни у другой, обыч-
но не было желания, а может быть, и сил преследовать со-
перницу. Ни философ, ни жрец, по всей видимости, и не ду-
мали, что его воззрения объясняют весь мир. Жрец, принес-
ший жертву Артемиде в Каледоне, не надеялся, по-видимо-
му, что придет день, когда люди за морем будут поклоняться
ей, а не Изиде; пифагореец не ждал, что его вегетарианство
заменит повсеместно жизнь по Эпиктету или Эпикуру. Если
вам захочется, зовите это либеральностью; сейчас я не веду
спора, я пытаюсь воссоздать атмосферу. Ее признают уче-
ные. Но ни ученые, ни невежды не заметили, что это полно-
стью применимо и к современному нехристианскому миру,
особенно к великим цивилизациям Востока. Восточное язы-
чество, как и язычество античное, несравненно более одно-
родно, чем кажется нынешним ученым. Оно подобно много-
цветному, персидскому ковру, как античность подобна рим-
ской мостовой; но мостовая эта треснула, когда земля сотряс-
139
лась и камни рассеялись .
Современный европеец, отправляющийся за верой в
Азию, приносит в Азию свою веру. Так человек, увидевший
море, может подумать, что видит сушу. Волны покажутся
ему горами, и он не поймет их особой устойчивости. Несом-
ненно, в Азии много и достойного, и прекрасного, и весьма
цивилизованного. Но религия там другая, она и больше, и
меньше нашей. Там нет в помине тех четких этических деле-
ний, о которых мы думаем, называя Ирландию католиче-
ской, а Новую Англию — пуританской. Состояние азиат-
ской души несравненно более зыбко, относительно, пере-
ливчато, как окраска змеи. Ислам ближе всего к воинст-
вующему христианству. Мусульманский мир стоит между
язычеством и Европой не только географически; в сердце
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 277
-----------------------------------------------------
Азии он как.бы представляет душу Европы. Верно это не
только в пространстве, но и во времени. С исторической точ-
ки зрения ислам — величайшая из восточных ересей. Чем-
то обязан он одинокому и неповторимому духу Израиля, еще
большим — Византии, богословскому пылу христиан. Он
обязан кое-чем даже крестовым походам. И меньше всего он
обязан Азии, древнему миру традиций, окаменевшего этике-
та и бездонных, головоломных философий. Такой Азии он
показался западным, угловатым, чужим; поистине, он прон-
зил ее, словно копье.
Пытаясь обвести пунктиром владения восточных рели-
гий, мы исходим из привычных европейских понятий, свя-
занных с догмой и с этикой. Так, европеец мог бы решить,
что американские штаты — государства, вроде Франции или
Польши, и стал бы ждать патриотизма от жителей каждого
штата. В Азии, конечно, есть убеждения, но там нет того,
что мы имеем в виду, когда говорим: «Он — верующий»,
или «Он старается жить по-христиански», или «Это пламен-
ный католик», или «Это строгий пуританин». В мире мысли
там все более расплывчато, разбавлено домыслами и сомне-
ниями. В мире нравственности — менее прямо, несравненно
менее строго. Один иранист, доводящий свое восхищение
Востоком до презрения к Западу, сказал как-то моему дру-
гу: «Вам не понять восточной религии, потому что для вас
религия связана с нравственностью. А там религия и нрав-
ственность не имеют ничего общего». Кто не встречал адеп-
тов высшей мудрости, восточных святых и пророков, кото-
рые действительно не имели ничего общего с нравственнос-
тью? Чем-то совсем другим, какой-то безответственностью
пропитана атмосфера Азии, даже мусульманской. Автор
«Гассана»140 сумел очень точно передать ее — и нам дей-
ствительно становится жутко. Еще сильнее этот привкус,
когда нам удается увидеть в подлиннике древние азиатские
культы. Глубже глубин метафизики и бездны медитаций ле-
жит тайна неуловимого, жуткого легкомыслия. То, что чело-
век делает, не так уж важно. Потому ли, что они не верят в
278
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
дьявола, или потому, что верят в судьбу, или потому, что зем-
ная жизнь важнее для них небесной жизни, они не такие, как
мы. Я где-то читал, что в средневековой Персии прослави-
лись единомыслием три человека. Один стал ответственным
и почтенным визирем султана, другой — поэтом Омаром,
пессимистом и эпикурейцем, распивающим вино в пику Ма-
гомету, третий — старцем, который одурманивал людей га-
шишем, чтобы им было легче убивать. Не так уж важно, что
человек делает.
Султан из «Гассана» понял бы всех троих; он и был все-
ми тремя сразу. Но от столь универсального существа не
следует ждать того, что мы зовем характером; оно ближе
всего к тому, что мы зовем хаосом. Оно не может выбирать,
оно не может бороться, оно не может раскаиваться, оно не
может надеяться. Нельзя сказать, что оно творит, — ведь
«творить» значит «отказываться». Пользуясь термином на-
шей веры, оно не строит своей души. Наша доктрина спасе-
ния предполагает труд, подобный труду скульптора, ваяю-
щего крылатую победу. Человек должен знать, к чему стре-
мится. Статую не создашь, не жертвуя кусками камня. За
всей метафизикой Азии лежит какая-то вненравственность.
Еще ни разу за все бесчисленные века ничто не поставило
человека перед выбором, ничто не возвестило ему, что при-
шло время выбирать. Разум слишком долго жил в вечности.
Душа была слишком бессмертна — ей неведомо понятие
смертного греха. У нее было слишком много вечности, она не
знает смертного часа или Судного дня. Вот что мы чувству-
ем, называя Азию старой. Но ведь Европа не моложе Азии;
все места на свете одинаково стары. Однако, говоря так, мы
чувствуем, что Европа не только старела, — она родилась
заново.
Азия — это человечество в своей, человеческой судьбе.
Величиной своей, множеством народов, высотой былых по-
бед и глубиной темных раздумий она очень похожа на то, о
чем мы думаем, когда говорим «весь мир». Она скорее кос-
мос, чем континент. Таков мир, созданный человеком, и в
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
279
нем немало прекраснейших человеческих творений. Тем са-
мым Азия — полноправный представитель язычества и един-
ственный соперник христианства. Там, где она переброси-
лась на южные архипелаги дикарей, или там, где безымян-
ные чудища кишат в загадочном сердце Африки, или там,
где остатки погибших рас ютятся на холодном вулкане доис-
торической Америки, повторяется одно и то же, разве что
иногда до нас доходят только последние главы. Люди блуж-
дают в зарослях своих мифологий, тонут в море своих фило-
софий. Политеистов утомили самые дикие фантазии, моно-
теистов — самые поразительные истины. Поклонники дья-
вола так ненавидят небо и землю, что пытаются укрыться в
аду. Все это — грехопадение, падение человека. Именно это
чувствовали наши предки, когда Рим склонялся к закату. Мы
тоже шли вниз по этой дороге, по отлогому склону, в пыш-
ном шествии великих цивилизаций.
Если бы Церковь не явилась в мир, Европа, наверное,
была бы теперь похожа на сегодняшнюю Азию. Конечно,
кое в чем они бы различались — ведь народы и среда разли-
чались и в древности. Но античное язычество в последней
своей фазе обещало стать неизменным в том самом смысле, в
каком мы говорим о неизменной Азии. Должно быть, еще
возникали бы новые философские школы, как возникают они
на Востоке. Рождались бы истинные мистики — они есть и
в Азии, и в античности. Создавались бы системы, уклады,
кодексы, как в античности и в Азии. Были бы хорошие, даже
счастливые люди — ведь Господь наделил совестью каждо-
го, а тот, кто идет путем совести, может обрести мир. Но
удельный вес всего этого, соотношение добра и зла были бы
в неизмененной Европе такими же, как и в неизменной Азии.
Если мы посмотрим честно и с настоящей симпатией на Вос-
ток, нам придется признать, что там нет ничего хотя бы отда-
ленно похожего на вызов и переворот веры.
Словом, если бы классическое язычество дожило до на-
ших дней, многое дожило бы вместе с ним и очень походило
бы на то, что мы зовем восточными религиями. Пифагорей-
280
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
цы, как индуисты, толковали бы о перевоплощении. Стоики,
как конфуцианцы, учили бы разуму и добродетели. Неопла-
тоники, как буддисты, размышляли бы о потусторонних ис-
тинах, непонятных другим и спорных для них самих. Про-
свещенные люди поклонялись бы Аполлону, поясняя, что
просто чтут высшее начало, как просвещенные персы, по-
клоняясь огню, чтут Высшее Божество. Дионисийцы, как
дервиши, предавались бы диким пляскам. Толпы стекались
бы на пышные празднества, к их услугам были бы толпы бо-
гов — и местных, и чужеземных; гораздо больше людей по-
клонялось бы этим богам, чем верило в них. Наконец, очень
многие верили бы в богов только потому, что это — бесы, и
приносили бы тайные жертвы Молоху, как приносят тайные
жертвы Кали. Было бы много магии, главным образом чер-
ной. Восхищение Сенекой уживалось бы с подражанием
Нерону, как уживались изречения Конфуция с китайскими
пытками. Все — и плохое, и хорошее — было бы слишком
старо, чтобы умереть.
Но ничего подобного христианству мы не нашли бы. Мы
могли бы говорить о религии пифагорейской, как говорим о
буддийской. Мы могли бы слепить религию из благородных
изречений Сократа, как лепим ее из изречений Конфуция.
Мы могли бы назвать религией греческие мифы, потому что
из них, как из мифов индийских, щедро черпает литература.
Мы могли бы считать, что такую-то веру исповедует столько-
то человек, и думать при этом просто, что все они живут в
стране, где есть такие-то храмы. Но если мы назовем рели-
гией обрывки пифагорейских истин или миф об Адонисе, нам
надо найти другое название для веры Христовой.
Если кто-нибудь уподобит Церкви философские макси-
мы или храмы мифических богов, ответ будет прост. Ни одна
из этих философий и мифологий не похожа на Церковь и со-
всем уж не похожа на Церковь Воинствующую. Исключе-
ние только подтверждает правило. Ислам отличается воин-
ственностью, хотя он и не церковь, но этой чертой он обязан
тому, что только он возник после христианства, другими ело-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
281
вами, он — не языческий. Ислам — продукт христианства,
если хотите — отход христианства. Он ересь или пародия,
то есть подражание Церкви. Ислам взял у христианства его
боевой дух, и это ничуть не удивительно, как не удивитель-
но, что квакерство взяло у христианства его миролюбие. Когда
христианство пришло в мир, возникает много таких непол-
ных подобий. Раньше их не было.
Воинствующая Церковь — одна, ибо это — армия, ос-
вобождающая мир. То рабство, от которого она хочет осво-
бодить его, можно очень хорошо увидеть в Азии и в антич-
ной Европе. Я говорю сейчас не только о нравственности и
безнравственности, хотя, конечно, у миссионеров гораздо
больше оснований говорить о безнравственности язычников,
чем думают просвещенные люди. Те, кто хоть раз соприкос-
нулся с Востоком, даже мусульманским, знают, какой пора-
зительной бывает его нравственная бесчувственность; напри-
мер, там нет границ между извращением и страстью. Не пред-
рассудки, а опыт учит нас, что Азия кишит не только богами,
но и бесами. Но сейчас я говорю о зле, подтачивающем ра-
зум, когда он слишком долго действовал сам по себе. Я гово-
рю о том, что бывает, когда все грезы и мысли ушли в без-
брежную пустоту отрицания и неизбежности. Это может по-
казаться свободой, на самом же деле это — рабство. При-
вычные толки о причине и следствии или о том, что все
начинается и кончается в мысли, не дают душе рвануться,
пойти куда-то, сделать что-то. Это относится не только к
Азии; это все относилось бы к Европе, если бы с ней ничего
не случилось. Если бы Церковь не вышла в поход, мир про-
сто отсчитывал бы время. Если бы она не подчинилась дис-
циплине, мы все томились бы в рабстве.
Что же принесла в мир эта непримиримая и принимаю-
щая всех религия? Она принесла надежду. Может быть,
мифологию и философию объединяет только то, что обе
они — печальны; в них нет надежды, хотя и бывают про-
блески веры, даже любви. Мы можем назвать буддизм ве-
рой, хотя я назвал бы его сомнением. Мы можем назвать со-
282
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
страдание Будды любовью, хотя она кажется мне очень уны-
лой. Но те, кто особенно настаивают на древности и попу-
лярности этих культов, должны признать, что за все века они
не дали своим огромным странам практической, воинствен-
ной надежды. Из христианского мира надежда не уходила
никогда; скорее можно сказать, что она часто ошибалась в
выборе. Наши бесконечные перевороты и переустройства
свидетельствуют о том, что у нас, по крайней мере, есть бод-
рость. Юность Европы много раз обновлялась141; римские
орлы взлетели над войском Наполеона, и мы видели сами
серебряного польского орла. Что до Польши, здесь сама ре-
волюция связана с религией. Даже Наполеон искал прими-
рения с верой. Веру нельзя отделить от самой дикой нашей
надежды, ибо она — источник всех надежд. Почему это так,
поймет только тот, кто знает, какова наша вера. Те, кто спо-
рят о ней, не часто это понимают. Объяснить это полностью
мне не по силам, да и места не хватит; но все же я попытаюсь
сказать хоть немного.
Не будет конца утомительным спорам об освобождении
от догм, пока люди не поймут, что вся наша свобода — в
догме. Если догма невероятна, она невероятна потому, что
немыслимо свободна. Если догма иррациональна, она ирра-
циональна потому, что такую свободу не может вместить ра-
зум. Прекрасный тому пример — так называемый вопрос о
свободе воли. В определенном смысле мы вправе сказать:
«Если у человека есть свобода выбора — он наделен сверхъ-
естественной творческой силой, словно тот, кто может вос-
крешать из мертвых. Возможно, это значит, что он — чудо;
и впрямь, быть человеком — чудо, особенно свободным че-
ловеком. Но нелепо отказывать ему в свободе во имя более
свободной религии».
Это верно и во многих других вопросах. Всякий, кто ве-
рит в Бога, должен верить и в абсолютную Его власть. Но
он может считать Господа и либеральным, и нелиберальным
правителем. Само собой понятно, что Бог рационалистов
либеральным быть не может, Бог догматиков — либерален.
вечный человек
283
Превращая монотеизм в монизм, вы превращаете его в дес-
потию. Неизвестный Бог с его темной целью и непререкае-
мым законом похож на прусского самодержца, чертящего
точные планы в далекой палатке и управляющего людьми,
как машинами. Бог чудес и исполненных молитв похож на
доброго, любимого народом царя, принимающего прошения,
выслушивающего парламент и входящего в дело каждого из
своих подданных. Сейчас я не обсуждаю разумность такого
представления; на самом деле оно далеко не так нелепо, как
кажется многим, — нет ничего невероятного в мудрейшем и
осведомленнейшем царе, который действует по-разному в
зависимости от действий каждого из подданных. Здесь я
просто хочу сказать, что нашей вере присущ дух свободы.
И в этом смысле очевидно, что только своенравный король
может быть милостивым. Католики, чувствующие, что их
молитвы и впрямь что-то меняют в судьбе живых и мерт-
вых, подобны свободным гражданам, скажем, конституци-
онной монархии. Монисты, живущие под железным зако-
ном, подобны рабам султана. Если я не ошибаюсь, слово
suffragium, которое в наши дни связано с голосованием, в
средние века было связано с молитвой за души чистилища.
И если понимать это слово как право апелляции к Высшему
Правителю, мы можем сказать, что общение святых и вся
Воинствующая Церковь основаны на suffragium universale,
на общем голосовании.
Но прежде всего и выше всего этот дух проявился в той
трагедии, которой мы обязаны Божественной Комедией на-
шей веры. Сам король, сам царь служил простым солдатом.
Если считать, что Он только человек, вся история становит-
ся несравненно менее человечной. Исчезает ее суть, та са-
мая, что поистине пронзила человечество. Мир не намного
Улучшится, если узнает, что хорошие и мудрые люди умира-
ют за свои убеждения; точно так же не поразит армию, что
хорошего солдата могут убить. Смерть царя Леонида удив-
ляет не больше, чем смерть королевы Анны142. Люди не
Ждали христианства, чтобы стать людьми, даже в том смыс-
284
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ле, в каком это слово равнозначно слову «герой». Но если
мы хоть как-то знаем человеческую природу, мы поймем, что
никакие страдания сыновей человеческих и даже слуг Божи-
их не сравнятся с вестью о том, что хозяин пострадал за слу-
гу. Это сделал Бог теологов, а не Бог ученых. Таинственно-
му повелителю, прячущемуся в звездном шатре вдали от поля
битвы, не сравниться с Королем-Рыцарем, несущим пять ран
*» 143
впереди войска .
Люди отвергают догму не потому, что догма плоха, а по-
тому, что она слишком хороша. Она дарует слишком боль-
шую свободу, чтобы оказаться правдой. Она дает немысли-
мую свободу, ибо человек волен пасть. Она дает небывалую
свободу — сам Бог может умереть. Вот что должны были
бы сказать просвещенные скептики, и я ни в малейшей сте-
пени не собираюсь возражать им. Для них мироздание —
тюрьма, жизнь — сплошные ограничения; не случайно, го-
воря о причинной связи, они вспоминают цепь. Они просто
не могут поверить в такое счастье, но совсем не считают, что
оно недостойно веры. Им кажется, что поверить в нашу сво-
боду — все равно что поверить в страну фей. Мы вправе
вполне буквально сказать, что истина сделала нас свободны-
ми. Человек со свободной волей немыслим, как человек с
крыльями. Человек, в чьей воле спросить Бога, и Бог, в Чьей
воле ему ответить, невероятны, как белка из басни, беседую-
щая с горой. Такое сомнение и мужественно и разумно, и я
уважаю его. Но я не могу и не хочу уважать тех, кто запирает
в клетку птицу или белку, звякая железом и приговаривая,
что мысли о свободе — вздор и заточение неизбежно, а за-
тем как ни в чем не бывало провозглашает себя свободомыс-
лящим.
Мораль всего этого очень стара: религия — откровение,
религия — видение, которое дает наша вера; но видим мы
правду. Вера в том и состоит; мы убеждены, что это — прав-
да. Вот разница между видением и грезой. Вот разница между
верой и мифом, между верой и теми выдумками — вполне
человеческими, нередко здоровыми, — которые мы зовем
вечный человек
285
язычеством. Видение бывает редко, вероятнее всего, однаж-
ды и остается в душе навсегда. Грезить можно каждый день,
и каждый день — по-разному.
Вера — не мифология; она и не философия. Видение —
не схема, а картина. Этого никак нельзя сказать об упроще-
ниях, сводящих все на свете к одной абстракции — «все те-
чет» или «все относительно», «все неизбежно» или «все при-
зрачно». Религия — не отчет, а повесть. Ее пропорции —
пропорции картины и повести; в ней нет регулярных повто-
рений схемы, зато она убедительна, словно повесть или карти-
на. Другими словами, она «как жизнь». Она и есть жизнь.
Хороший пример тому — проблема зла. Нетрудно закра-
сить черным лист бумаги, оставив две-три незначительные
белые крапинки, — так делают пессимисты. Нетрудно оста-
вить бумагу белой, кое-как объяснив два-три случайных пят-
нышка, — так делают оптимисты. Легче всего, наверное,
расчертить и раскрасить лист, как шахматную доску, — это
уже дуалисты. Но все мы чувствуем в глубине души, что ни
один из этих планов на жизнь не похож, что ни в одном из
этих миров мы не живем и жить не можем. Что-то подска-
зывает нам, что конечная идея мира не дурна и даже не ней-
тральна. Когда мы видим небо, или траву, или математиче-
скую истину, что там — даже свежеснесенное яйцо, смутное
чувство охватывает нас, слабое подобие той истины, кото-
рую великий философ, святой Фома Аквинат, выразил так:
«Всякое бытие как таковое — благо». С другой стороны, что-
то подсказывает нам, что недостойно, низко, даже нездоро-
во сводить зло к точке или пятну. Мы чувствуем, что опти-
мизм еще мрачнее пессимизма. Если мы пойдем по следу этого
смутного, но здорового чувства, мы решим, что зло — ис-
ключение, но исключение огромное; и наконец, мы назовем
его узурпацией или, еще точнее, мятежом. Мы не подумаем,
что все правильно, или что все неправильно, или что полови-
на правильна, а половина — нет. Но мы подумаем, что пра-
вильное имеет право на правоту, тем самым на существова-
ние, неправильное прав не имеет. Зло — князь мира, но
286 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
власть его незаконна. Так мы нащупаем то, что видение даст
нам сразу: повесть об измене в небесах, когда зло пыталось
разрушить Вселенную, которую создать не умело144. Это
очень странная повесть, и ее пропорции, линии, цвета произ-
вольны, как на картине. Мы и пытаемся воплотить ее в кар-
тинах, рисуя огромные руки и ноги, ярко-темные перья, и
падающие в бездну звезды, и павлиньи доспехи тьмы. Но у
этой повести есть преимущества перед схемой. Она — как
жизнь.
Другой пример — так называемая проблема прогресса.
Один из умнейших агностиков нашего времени спросил меня
как-то: как я считаю, становится человечество лучше или
хуже или не меняется? Он был уверен, что назвал все воз-
можные варианты. Он не видел, что все это — отчеты и
схемы, а не картина и повесть. Я спросил его, как он счита-
ет, мистер Смит из Голдер-Грин стал лучше или хуже или
же не изменился от тридцати до сорока лет? Тут он начал
догадываться, что это зависит от мистера Смита, от его вы-
бора. Он никогда раньше не думал, что путь человече-
ства — не прямая линия, прочерченная вперед, или вверх,
или вниз; он извилист, как след через долину, когда человек
идет, куда хочет, и останавливается, где хочет, может пойти
в церковь, может свалиться пьяным в канаву. Жизнь чело-
века — повесть, приключенческая повесть. То же самое
можно сказать даже о жизни Бога.
Наша вера — примирение, потому что в ней свершаются
и философия и мифология. Она — повесть, и от сотен пове-
стей отличается только тем, что правдива. Она — филосо-
фия, одна из сотен философий, только эта философия — как
жизнь. Все философии, кроме нее, презирали здоровый ин-
стинкт, породивший сказки. Вера оправдывает этот инстинкт,
находит философию для него и даже в нем. В приключенче-
ской повести человек должен пройти через много испытаний
и спасти свою жизнь; здесь он проходит испытания, чтобы
спасти душу. И там и здесь свободная воля действует в усло-
виях определенного замысла; и там и здесь есть цель, и дело
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
287
человека — прийти к ней. Этот глубокий, человечный, по-
этичный инстинкт презрели другие философии. Все они кон-
чались там, где начинались, а повесть потому и повесть, что
конец ее — другой, чем начало. От Будды с его колесом до
Эхнатона с его диском, от числовых абстракций Пифагора
до Конфуциевой рутины — все они грешат, так или иначе,
против законов повести. Ни одной из этих философий неве-
дома человеческая тяга к сюжету, к приключению, к повер-
ке — словом, к испытанию свободной воли. Каждая из них
чем-нибудь да портит повесть человеческой жизни — то
фатализмом (унылым или бодрым), то роком, на корню уби-
вающим драму, то скепсисом, растворяющим и распыляю-
щим действующих лиц, то узким материализмом, лишающим
нас эпилога, где сводятся все счета, то механической моно-
тонностью, обесцвечивающей даже нравственный критерий,
то полной относительностью, расшатывающей критерий прак-
тический. Есть повесть о человеке, есть повесть о Богочело-
веке, но нет повести гегельянской, прагматической, реляти-
вистской или детерминистской. В каждой повести, даже в
грошовом выпуске, найдется то, что принадлежит нам, а не
им. Каждая повесть начинается сотворением мира и конча-
ется Страшным Судом.
Вот почему не ладили мифы и философии, пока не при-
шел Христос. Вот почему афинская демократия убила Со-
крата из почтения к богам, а последами бродячий софист,
воображая себя Сократом, презирал мифы; фараон-еретик
низверг ради абстракции идолов и разрушил храмы, а жре-
цы победили его; буддизм отделился от брахманизма; и вез-
де, всегда вне христианства отворачиваются друг от друга
философ и жрец. Нетрудно сказать, что философ, как пра-
вило, разумней; еще легче забыть, что жреца гораздо боль-
ше любит народ. Жрец рассказывает людям повести, фило-
соф их не понимает. Философия повести пришла в мир со
Спасителем.
И потому наша вера — откровение, ниспосланное свы-
ше. Истинную повесть о мире должен рассказывать кто-то
288
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
кому-то. По самой своей природе повесть не висит в возду-
хе. Ее соотношения сил, ее неожиданные склонности и пово-
роты не выведешь из отвлеченных, написанных кем-то пра-
вил. Математические выкладки не скажут нам, вернет ли
Ахилл тело Гектора. И мы не узнаем, как обрести тело Хри-
стово, если нам сообщат, что все течет или всё повторяется.
Эвклидовы теоремы может вывести человек, и не читавший
об Эвклиде, но не создаст мифа об Орфее тот, кто о нем не
слыхал. Во всяком случае, он не угадает, удался ли Орфею
его поход. Тем более не угадает он, как кончилась повесть о
нашем Орфее, вернувшемся из царства мертвых не в горе
145
поражения, а во славе .
Скажу снова, здравомыслие вернулось в мир и душа че-
ловеческая может спастись благодаря тому, что удовлетво-
рены два желания, прежде спорившие друг с другом. Мифо-
логия жаждала приключений — и вот это повесть; филосо-
фия жаждала истины — и вот эта повесть истинна. Идеаль-
ный ее герой должен быть историческим лицом, чего никогда
не ждали от Пана или Адониса. Историческое лицо должно
быть идеальным героем и выполнить многие его дела, пото-
му Он и радость, и жертва, и лоза, и солнце. Чем глубже мы
вглядываемся в это, тем больше убеждаемся: если Бог есть,
Его творению вряд ли пристала иная судьба. Если бы Он не
дал миру этой истинно романтической повести, наш разум
был бы и сейчас разделен на две части, как разделен мозг на
два полушария — одна грезила бы о немыслимом, другая
повторяла бы бесконечные выкладки. Художники писали бы
ничьи портреты, мудрецы складывали бы числа, уходящие в
никуда. Эту бездну могло заполнить только Воплощение,
воплотившее в Боге наши мечты, а стоит над бездною тот,
чье имя больше жреца и древнее христианства, Pontifex
Maximus, самый лучший строитель мостов.
И снова мы возвращаемся к другому христианскому сим-
волу, к совершенному узору ключа. Очерк этот не богослов-
ский, а исторический, и в мои задачи не входит защита на-
ших догм; я просто хочу показать, что их, как и ключ, нельзя
вечный человек
289
принять, если не примешь во всех деталях. Я не собираюсь
объяснять подробно, почему следует принять именно нашу
веру. Я просто объясняю, почему ее приняли и принимают, и
отвечу тем самым на тысячи других вопросов: потому что она
подходит к скважине, потому что она как жизнь. Она — один
из многих рассказов, но так уж случилось, что этот рассказ
правдив. Она — одна из многих теорий, но так уж случи-
лось, что это — истина. Мы приняли ее — и почва тверда
под нашими ногами, и прямая дорога открывается нам. Наша
вера не ввергает нас в темницу иллюзий или рока. Мы верим
не только в немыслимое небо, но и в немыслимую землю.
Это очень трудно объяснить, потому что это — правда; но
можно призвать свидетелей. Мы христиане и католики не
потому, что поклоняемся ключу, а потому, что прошли в дверь;
и трубный глас свободы разнесся над страною живых146.
Глава VI
ПЯТЬ СМЕРТЕЙ ВЕРЫ
В этой книге я не собираюсь говорить подробно о том,
что было с христианством дальше; тут начнутся споры, о ко-
торых я надеюсь написать еще где-нибудь. Я просто хочу
показать, что наша вера, возникшая в языческом мире, была
и сверхъестественной и единственной в своем роде. Чем боль-
ше мы о ней знаем, тем меньше находим ей подобий. Но все
же в заключение я расскажу об одной ее черте, которая очень
важна для наших дней.
Я уже говорил, что Азия и античность были слишком
стары, чтобы умереть. О христианстве этого не скажешь.
Христианский мир претерпел немало переворотов, и каждый
приводил к тому, что христианство умирало. Оно умирало
много раз и много раз воскресало — наш Господь знает, как
выйти из могилы. Снова и снова переворачивалась Европа,
и всякий раз в конце концов наверху оказывалась одна и та
290
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
же вера. Она являлась в мир не как предание, а как новость.
Мы этого не замечаем, потому что от многих это скрыто ус-
ловностями, которые тоже замечают редко, те же, кто их за-
метил, вечно их обличают. Нам твердят, что священники и
ритуалы — не вера, а церковные сообщества — лишь фор-
ма, и не знают, как это правильно. Три или четыре раза, по
меньшей мере, душа уходила из христианства, и почти все
ожидали, что ему придет конец. Но и теперь и в старину как
ни в чем не бывало жила та официальная религия, которую, к
своей гордости, свободомыслящие видят насквозь. Христи-
анство оставалось религией вельможи времен Возрождения
или аббата времен Просвещения, как античные мифы оста-
вались религией Юлия Цезарй, и даже арианство долго ос-
тавалось религией Юлиана Отступника. Но Юлиан отлича-
ется от Юлия, потому что к его времени Церковь уже начала
свой странный путь. Юлий спокойно мог поклоняться богам
на людях и смеяться над ними дома. Но когда Юлиан счел
христианство мертвым, он увидел, что оно — живое, и еще
он увидел, что Юпитер никак не оживает. История Юлиа-
на — только первый из примеров. Я уже говорил, что, по
всей видимости, суеверие Константина отмирало само собой.
Оно прошло все обычные фазы, когда вера стала почтенной,
затем — условной, и наконец — разумной, а рационалисты,
как и сейчас, были готовы прикончить ее совсем. Когда хри-
стианство восстало и отбросило их, это было неожиданно,
как воскресение из мертвых. Почти тогда же в других местах
случалось почти то же самое. Когда, например, из Ирландии
хлынули миссионеры, так и кажется, что молодежь неожи-
данно напала на старый мир и даже не стареющую Церковь.
Многие из них погибли на берегах Корнуолла; и лучший зна-
ток корнуоллских древностей говорил мне, что, по его мне-
нию, их замучили не язычники, а «не очень ревностные хри-
стиане».
Если поглубже нырнуть в историю, мы найдем немало
таких примеров. Равнодушие и сомнение опустошали хрис-
тианство изнутри, и оставалась только оболочка, как в позд-
вечный человек
291
ней античности оставалась только оболочка мифологии. Но
всякий раз, когда отцы были «не очень ревностны», дети
пылали огнем веры. Это очевидно, когда Возрождение сме-
няется Контрреформацией. Это очевидно, когда Просвеще-
ние снова и снова сменяется христианством. Однако есть
много других примеров, и стоит их привести.
Вера — не пережиток. Она живет не так, как жили бы
друиды, если бы им удалось продержаться две тысячи лет.
Так могло случиться в Азии и в античной Европе, ибо мифо-
логия и философия равнодушно терпели друг друга и друг
другу не мешали. Вера не просто выжила, она непрестанно
возвращалась в западный мир, который так быстро менялся,
в котором все время что-то гибло. Следуя традиции Рима,
Европа всегда все переворачивала, перестраивала, строила
заново. Сначала она непременно отбрасывала старый камень,
кончала же тем, что ставила его во главу угла. Она откапы-
вала его на свалке и венчала им здание. Одни камни Стоун-
хенджа стоят, другие — упали, а где камень упадет, там и
ляжет. Вера друидов не приходит заново каждый век, ну,
каждые два века, и молодые друиды, увенчанные омелой, не
пляшут в лучах солнца на Солсбери-плейн147. Стоунхендж
не воссоздают в каждом архитектурном стиле, от грубой объе-
мистости норманов до причудливости барокко. Святыне дру-
идов не грозит варварство воскрешения.
Церковь жила не в том мире, где все слишком старо, что-
бы умереть, а в том, где все так молодо, что его можно убить.
Если смотреть со стороны, сверху ее часто убивали; мало того,
она часто выдыхалась и без этого. Отсюда следует то, что
очень трудно описать, хотя это важно и более чем реально.
Время от времени смертная тень касалась бессмертной Церк-
ви, и всякий раз Церковь погибла бы, если бы могла погиб-
нуть. Все, что могло в ней погибнуть, погибало. Если такие
сравнения уместны, я скажу, что змея сбрасывала кожу или
кошка теряла одну из своих 999 жизней. Выберу более дос-
тойный образ: часы били — и ничего не случалось; колокол
возвещал о казни — но ее снова откладывали.
292
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Что значило смутное беспокойство XII века, когда, как
очень верно сказали, Юлиан зашевелился во сне? Почему
так рано, в самом начале рассвета, возник глубокий скепсис,
способный породить номинализм? Видимо, потому, что Цер-
ковь уже считали не частью Римской империи, а^астью Тем-
ных веков. Века эти кончились, как кончилась прежде Им-
перия, и Церковь кончилась бы с ними, если бы она была
лишь тенью ночи. Победа номинализма, как и победа ариан-
ства, означала бы, что христианству пришел конец. Сомне-
ние номинализма глубже, чем сомнение атеизма. Вопрос встал
перед миром; каким же был ответ? Аквинат воссел на пре-
столе Аристотеля, и многие тысячи юношей, от крепостного
до вельможи, спокойно жили впроголодь, чтобы учиться
философии схоластов148.
Что значит страх перед исламом, который населил наши
песни дикими образами сарацинов, победивших Норвегию и
Шотландию? Почему обитателей дальнего Запада, скажем,
короля Иоанна149 (если я не путаю), обвиняли в тайном му-
сульманстве, как обвиняют в тайном безбожии? Почему так
встревожило богословов арабское переложение Стагири-
та150 ? Потому что сотни людей уже поверили в победу исла-
ма. Они поверили, что Аверроэс разумнее Ансельма, что
сарацинская культура хотя бы внешне выше, лучше нашей.
Может быть, старшее поколение и усомнилось, и устало, и
впало в отчаяние. Если бы Европу победил ислам, много
раньше пришел бы унитарий. Как и сейчас, такая победа
казалась разумной и возможной. Как удивились они, навер-
ное, тому, что случилось! Тысячи и тысячи юношей бросили
свою юность в горнило крестовых походов. Сыновья свято-
го Франциска, Жонглеры Господни, пошли, распевая, по
дорогам. Готика взлетела в небо тысячами стрел. Мир про-
снулся; и мы давно забыли, что альбигойские войны чуть не
погубили Европу. Мы забыли, что та философия была и
модной и новой — пессимизм всегда нов. Она была очень
похожей на наши модные учения, хотя и стара, как Азия; но
ведь и они тоже. Вернулись гностики; почему же они верну-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
293
лись? Потому что тогда тоже кончилась эпоха и должна
была кончиться Церковь. Пессимизм навис над миром, ма-
нихеи восстали из мертвых, чтобы мы имели смерть, и име-
ли ее с избытком151.
Еще убедительней для нас пример Возрождения, потому
что он ближе к нам и мы гораздо больше о нем знаем. Одна-
ко и здесь мы знаем далеко не все. Я намеренно не касаюсь
религиозных распрей тех лет, я просто хочу напомнить, что
они были совсем не так просты, как принято думать сейчас.
Протестанты зовут мучеником Латимера, католики — Кам-
пиона, но мы нередко забываем, что в те времена были му-
ченики атеизма, анархии и даже сатанизма. Мир XVI века
был почти так же дик, как наш. Один утверждал, что Бога
нет, другой — что он и есть Бог, третий говорил такое, чего
Сам Бог не разберет. Если бы мы услышали беседу тех лет,
нас, наверное, поразило бы ее кощунственное бесстыдство.
Может быть, Марлоу и не говорил того, что ему приписыва-
ют, но такие речи характерны для интеллектуальных кабац-
ких бесед его времени. Много странных вопросов поставили
люди от начала Реформации до начала Контрреформации.
В конце кондов они получили все тот же ответ. Однако и в
те годы христианство шло по воздуху, как некогда шел по
водам Спаситель.
Но все это было давно. Хотя мы видим довольно четко,
как язычество Возрождения пыталось прикончить христи-
анство, нам гораздо легче увидеть тот упадок веры, что на-
чался в веке Просвещения. Ведь он еще не кончился; мы сами
воочию видим упадок того упадка. Двести последних лет не
кажутся нам единым мигом, как IV и V или XII и XIII века.
Мы знаем сами, как окончательно и полно утратило обще-
ство свою веру, не отменяя обрядов, как люди поголовно ста-
новятся агностиками, не смещая епископов. И еще мы зна-
ем, как случилось чудо — молодые поверили в Бога, хотя
его забыли старые. Когда Ибсен говорил, что новое поколе-
ние стучится в двери, он и думать не мог, что оно стучится в
Церковные врата.
294
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Да, много раз — при Арии, при альбигойцах, при гума-
нистах, при Вольтере, при Дарвине — вера, несомненно,
катилась ко всем чертям. И всякий раз погибали черти. Ка-
ким полным и неожиданным бывало их поражение, мы мо-
жем убедиться на собственном нашем примере.
Чего только не говорят об Оксфордском движении152 и
католическом возрождении во Франции! Но почти никто не
говорит о самом очевидном их свойстве — полной неожи-
данности. Они поразили, более того, озадачили всех, словно
река потекла вспять и даже вверх, в гору. Вспомните книги
XVIII и XIX столетий. Всем было яснее ясного, что река
веры вот-вот оборвется водопадом или, на худой конец, ра-
зольется дельтой безразличия. Даже спокойное ее течение
показалось бы чудом, немыслимым, как ведовство. Самые
умеренные люди не сомневались, что река веры, как и река
свободы, разольется и обмельчает, если не высохнет совсем.
Весь этот мир Гизо и Маколея153, мир торговых и научных
свобод ни минуты не сомневался, что знает, куда все дви-
жется. Направление было ясно всем, спорили только о ско-
рости. Многие ждали с тревогой, некоторые — с надеждой,
что бунтари-якобинцы не сегодня-завтра доберутся до архи-
епископа Кентерберийского или чартисты, взбунтовавшись,
развесят англиканских священников на фонарях. Но мир
перевернулся; архиепископ не потерял головы — он обрел
митру, а ненависть к пастору сменилась благоговейным по-
чтением к патеру.
Словом, все спорили только о том, медленнее или быст-
рее течет река — и вдруг увидели, что вверх по течению что-
то плывет. И как образ, и как факт это может обеспокоить.
Все мертвое плывет по течению, против течения может плыть
только живое. Вниз по реке, гонимые просвещением и про-
грессом, плыли демагоги и софисты; но даже те из них, кото-
рые еще не умерли, вряд ли доказывали, что они живы и
животворны. Несомненно, живым было огромное чудище,
которое плыло вверх по реке, хотя многим оно и казалось
чудищем доисторическим. Люди того века ощущали, что об-
вечный человек 295
ряд так же нелеп, как морской змей, что митры и тиары —
словно рога допотопных монстров, а ходить в церковь так же
дико, как жить в пещере.
Мир до сих пор дивится чудищу, главным образом —
потому, что оно все плывет и не тонет. Чем больше его руга-
ют, тем непонятней оно становится. В определенном смысле
я пишу эту книгу если не для того, чтобы объяснить, то для
того, чтобы показать путь к объяснению; и прежде всего я
хочу показать одно: так уже бывало, и не раз.
Да, в недавнее время мы видели, как умирает вера, но то
же самое видывали люди много веков тому назад. И тогда, и
сейчас это кончилось одинаково. Вера не исчезла; к нам воз-
вращается даже то, что казалось давно утерянным. Снова,
как и много раз, возвращается не «упрощенная» и не «очи-
щенная» теология, а тот самый теологический пыл, которым
отмечены века доктрины. Старый добрый ученый с буквами
д. т. после фамилии154 стал образцом педанта и символом
скуки не потому, что страстно любил богословие, а потому,
что богословие наводило на него тоску. Латынь Плавта ему
интересней, чем латынь Августина, греческий Ксенофон-
та — чем греческий Златоуста. Мы равнодушны к нему,
потому что он сам — великолепный представитель религи-
озного равнодушия. Это совсем не значит, что люди бы ос-
тались равнодушны, если бы им довелось увидеть дивное,
диковинное зрелище — Доктора Теологии, Учителя Бого-
словия.
Мы нередко слышим, что христианство может остаться
как дух, как атмосфера. Поистине, многие хотели бы, чтобы
оно осталось как призрак. Но оно не хочет. После каждой
его смерти не тень встает, но воскресает тело. Многие гото-
вы проливать благочестивые слезы над могилой Сына Чело-
веческого, но они совсем не готовы увидеть, как Сын Божий
идет по утренним холмам. Такие люди — а их немало —
привыкли к мысли, что старый светильник блекнет в свете
Дня. Они видели сами, что он горел бледным пламенем све-
чи, забытой на рассвете. Как же не удивиться, если семи-
296
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
свечник волшебным деревом вознесся к небу и солнечный
свет показался бледным в сиянии его лучей? Но другие века
тоже видели, как дневной свет становился ярче светильника,
а потом разгорался светильник и становился ярче света. Много
раз люди утоляли жажду неразбавленной водой, и много раз,
неизвестно откуда, снова била струя чистого вина. И вот мы
говорим: «Много лет и веков тому назад наши предки вери-
ли, что пьют Кровь Господню. Потом, хотя и не скоро, вино
католичества стало уксусом кальвинизма. Затем и это кис-
лое питье развели водой забвения и скуки, и мы не надеялись
снова ощутить терпкий вкус Лозы Виноградной. День за днем
и год за годом слабели наши надежды и наша вера. Мы уже
привыкли, что вода заливает виноградник и гибнет после-
дний привкус истины, словно последняя капли пурпура то-
нет в сером море. Мы привыкли к разведенному, разбавлен-
ному, обесцвеченному христианству. Но Ты хорошее вино
сберег доселе»155.
Вот что случилось на наших глазах, и это удивительней
всего. Вера не только умирала — она умирала от старости.
Она пережила не только гонения от Диоклетиана до Робес-
пьера — она пережила покой. Вряд ли стоит снова говорить
о величии Крестной Муки, венчания молодости со смертью.
Но когда я думаю о судьбе Церкви, другой образ является
мне: так и кажется, что Христос умер стариком, а воскрес
молодым. Не раз и не без основания говорили, что Церковь
часто венчалась с сильными мира сего; что ж, она часто вдо-
вела. Враги говорили, что она — супруга кесарей, и это так
странно сейчас, словно ее назвали супругой фараонов. Гово-
рили, что она супруга феодалов, но феодалов нет и в помине,
а она здесь. Все мирское шло своим путем до естественного
конца; казалось бы, тут кончиться и Церкви. Она и конча-
лась — но рождалась снова.
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут». Ан-
тичная цивилизация была целым миром, и представить зем-
лю без нее было не легче, чем представить землю без солнца.
Она ушла, а слова эти живы. В долгие ночи Темных веков
вечный человек
297
феодализм был привычен, так что человек помыслить себя
Не мог вне феодальной иерархии, и Церковь была туго впле-
тена в эту сеть. Но феодализм разлетелся, вдребезги под
напором народной жизни истинного средневековья — и са-
мой новой, самой молодой силой была наша вера. Средневе-
ковый уклад — сложный, как мироздание, дом человека —
тоже пришел к концу, и тут уж каждому стало ясно, что сло-
ва отжили свой век. Но они пересекли сияющую бездну Ре-
нессанса, и через полвека вспыхнули славой новых апологе-
тов и святых. Наконец, они поблекли в резком свете разума
и, кажется, исчезли совсем в землетрясениях революций.
Наука разоблачила их, но вот — они здесь. История погребла
их в прошлом, они пришли к нам из будущего. Она снова на
нашем пути; мы смотрим на них; они все ярче.
Если наше общество и предания его не оборвутся, люди,
может быть, научатся применять разум к накапливающимся
фактам. Раньше или позже враги веры сделают вывод из
своих бесконечных разочарований и перестанут ждать ее
смерти. Они могут бороться с ней, как борются люди с ле-
сом, со стихией, с небом. «Небо и земля прейдут, но слова
Мои не прейдут». Ждите, что она оступится; ждите, что она
заблудится, но не ждите, что она умрет. Сами того не зная,
вы в своем ожидании подчинитесь условиям поразительного
пророчества и приучитесь ждать не того, что угаснет неуга-
саемое, а того, что придет комета или охладеет солнце.
Послесловие
(краткое содержание этой книги)
Я взял на себя смелость раз или два позаимствовать пре-
красное выражение — «Исторический очерк». Исследуя
одну определенную истину и одну определенную ошибку, я
нимало не пытаюсь соревноваться с многосторонней истори-
ческой энциклопедией, для которой выбраны эти слова. Од-
нако связь тут есть. Историю, рассказанную Уэллсом, я могу
критиковать только как очерк, ибо лишь очертания ее невер-
ны. Факты собраны замечательно, книга — просто клад,
сокровищница, все в ней хорошо, кроме той самой линии,
которая помогает отличить карикатуру на Уинстона Черчил-
ля от карикатуры на сэра Алфреда Монда156. Неверен аб-
рис, неверны соотношения точного и неточного, важного и
неважного, обычного и необычного, правила и исключения.
Это не мелкие придирки к крупному писателю, у меня
нет причин придираться — сам я, замахнувшись на мень-
шее, погрешил ровно тем же. Я сильно сомневаюсь, что по-
казал читателю истинные пропорции истории и объяснил ему,
почему пишу так много об одном, так мало — о другом. Я не
уверен, что выполнил все обещанное во вводной главе, и по-
тому пишу главу заключительную. Зато я верю, что описан-
ное здесь важнее для абриса истории, чем опущенное. Я не
верю, что цивилизация просто скатывается к варварству, ре-
вечный человек
299
лигия — к мифологии, христианство — к религиозности.
Словом, я не верю, что у истории нет очертаний, что они раз-
мыты. По-моему, если уж выбирать, лучше рассказать древ-
ний миф или сказку о человеке, создавшем солнце и светила,
или о боге, вдунувшем душу в священную обезьяну. Поэто-
му я сведу сейчас воедино то, что рассказывал насколько мог
правдиво и разумно — краткую историю человечества.
В краю, освещенном светом звезды, есть много всяких
предметов. Одни из них движутся, другие — нет. Среди
движущихся есть существа, которые по сравнению с други-
ми поистине богоподобны. Этому ничуть не противоречит то,
что порою они похожи скорее на бесов. Отличаются они от
других не случайно, не иногда, как, скажем, белая ворона, а
всегда, непременно, и это отличие лишь подчеркивают воз-
ражения и споры. Да, человек, бог здешнего мира, связан с
ним многими связями — но это лишь другая грань той же
истины. Да, он растет, как дерево, и движется, как живот-
ное, — но это лишь оттеняет различие. Так можно сказать,
что гном — совсем как человек или что феи пляшут ногами.
Теперь принято обращать внимание только на такое сход-
ство, забывая о главном. Принято утверждать, что человек —
совсем как все прочие. Конечно, это так, но он один спосо-
бен это заметить. Рыба не знает, что и у птицы есть позво-
ночник, страус и слон не сравнивают своих скелетов. Да, че-
ловек един со всеми существами, но сколько в его единстве
одиночества!
Этот полубог или бес видимого мира обладает особым
зрением, таким неповторимым, словно он один зажег свечу:
благодаря ему мир становится видимым. Мир этот — не ка-
кой-то, а весьма определенный. Если судить на глаз, в нем
есть закон, во всяком случае многое повторяется. Полубог
видит зеленые здания, которые вроде бы никто не строит, но
очертания их так четки, словно план начертан в воздухе не-
видимым перстом. Мир не зыбок, не расплывчат, он не по-
хож на «слепую жизнь». Все стремится к какой-то прекрас-
ной цели, любой одуванчик, любая маргаритка. В самой фор-
300
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ме вещей — не слепое развитие, но законченность, оконча-
тельность цветка. Кажется это или нет, это повлияло на стран-
ный род мыслителей и ремесленников, и очень многие из них
решили — верно ли, неверно, — что у мира есть план, как
вроде бы есть он у дерева; что у мира есть цель и венец, как
есть они у цветка. Пока мыслители умели мыслить, они вы-
водили отсюда, что есть еще какое-то странное, невидимое
существо — незнакомый друг, таинственный благодетель,
который построил к их приходу леса и горы и зажег для них
солнце, как слуга зажигает лампу или топит камин. Мысль о
разуме, придающем смысл миру, укреплялась в разуме чело-
века, ибо он много думал и много видел такого, что неулови-
мей и тоньше любых доводов. Но сейчас я стараюсь писать
попроще, даже погрубее, а потому скажу лишь, что боль-
шинство людей, включая самых мудрых, поверили в цель,
тем самым — в первопричину мира. Однако мудрые пони-
мали это по-одному, прочие — по-другому. И два эти пути
составляют почти всю историю религий.
И большинство, и меньшинство остро ощущало, что все
не так плоско и просто; что неведомый мастер ведает тайну
мира. Но большинство, то есть народ, толпа, воспринимало
это как сплетню. В сплетне всегда есть и ложь и правда. Люди
сплетничали о неведомом, о его детях, вестниках, слугах.
Одни рассказы походили на бабушкины сказки, другие —
на рассказы странника. Многие были правдивы — доста-
точно правдивы, чтобы здравомыслящий человек поверил,
что за шторою мироздания кроется нечто чудесное. Что-то
мелькало, но то были только отблески; что-то появлялось на
миг — и скрывалось. Такие боги — словно призраки, од-
ним они мерещатся, другие слышат о том, что они примере-
щились кому-то. Большей частью слухи о богах сообщают не
ради правды, а ради самой темы. Это — не свидетельства,
это — мифы, ненапечатанные стихи.
Меньшинство отошло в сторону и занялось не менее ин-
тересным делом. Мудрецы и мыслители чертили план ми-
роздания — им казалось, что они его знают. Разум их обра-
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
301
щался прямо к разуму Мастера; они прикидывали, каким он
должен быть и какая у него цель. Самые мрачные предста-
вили его враждебным и злым, самые падшие поклонились не
богам, а бесам. Однако чаще всего мыслители были теиста-
ми и видели не только план мироздания, но и нравственный
закон, предписанный людям. Чаще всего это были хорошие
люди, делали они благое дело и их помнили и почитали. Они
писали, и писания их стали в некой мере священными. Они
творили законы, и законы эти стали весомыми, как преда-
ние. Можно сказать, что мудрецам воздавали божеские по-
чести, как воздавали их царям или вождям. Всюду, где дух
легенды и сплетни соприкасался с ними, он окружал их ат-
мосферой мифа. Миф превращал мудреца в святого — и
больше ничего. Мудрец оставался человеком, все это помни-
ли. Божественный Платон, как божественный кесарь, —
титул, а не догма. В Азии, где атмосфера эта гуще, мудрец
больше походил на миф, но оставался человеком — челове-
ком особого рода, особой, почетнейшей профессии. Он был
философом, он принадлежал к тем, кто всерьез пытается вне-
сти порядок в видимый беспорядок мира. Философы черти-
ли план мироздания, словно оно еще не создано.
В самой сердцевине всего этого возникло чудовищное
исключение. Оно окончательно, как трубный глас, но несет
новую весть, слишком благую, чтобы в нее поверить. Люди
услышали, что таинственный Создатель мира посетил этот
мир; что совсем недавно на самом деле по миру ходил Тот, о
Ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы. Мы со-
лжем, если скажем, что мудрецы или герои хоть в какой-то
мере выдавали себя за него. Ни одна секта, ни одна школа не
покушалась на это. Самые великие пророки называли себя
Его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что ви-
дели Его отблеск, а чаще — отблеск других, низших существ.
Самые глубокие мифы сообщали, что мир сотворил Творец.
Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гос-
ти, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной
жизни Римской империи и уж тем более что в это будет ве-
302
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
рить не одну тысячу лет великая цивилизация. Ничего более
дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое сло-
во. Такая весть отличается от всего человеческого, как слово
отличается от лая, и саму ее неповторимость можно обернуть
против нее. Нетрудно сказать, что это — безумие, но ника-
кого толку не будет, разве что нелепица научных домыслов.
Мудрых философов, мифотворцев-поэтов и многих, мно-
гих других удивляет, что мы и сейчас ведем себя так, словно
мы — вестники. Вестник не рассуждает и не спорит о том,
какой могла бы быть его весть — он несет ее. Весть его —
не теория и не вымысел, а факт. В этом заведомо поверхност-
ном очерке я и не пытаюсь доказывать, что она — факт.
Я просто хочу обратить внимание на то, что вестники отно-
сятся к ней, как люди относятся к фактам. Все, за что упре-
кают католиков, — авторитет, упорство, воинственность все-
гда присущи людям, сообщающим о факте. Я хотел бы избе-
жать в этом коротком послесловии сложных споров; они снова
смазали бы четкие линии той повести, которую я назвал —
слишком слабо, конечно, — самой странной в мире. Но я
хочу показать еще раз, как идут эти линии, а главное — где
проходит граница. Христианство и другие религии не пере-
ливаются друг в друга, как тонкие оттенки мистицизма или
разные типы мифологии. Граница проходит между теми, кто
несет весть, и теми, кто о ней не слышал или в нее не верит.
Когда мы излагаем эту странную повесть на грубом и
сложном языке нашего века, привычные названия и ассоци-
ации вводят нас в заблуждение. Например, когда мы гово-
рим, что в такой-то стране столько-то мусульман, мы хотим
сказать, что в ней столько-то монотеистов, другими слова-
ми, столько-то людей, поверивших древнему ощущению. Они
свидетельствуют необходимую и высокую истину, но ее ни-
как нельзя назвать новой. Их вера — не новый цвет, а нео-
пределенный фон многоцветной человеческой жизни. Маго-
мет, в отличие от волхвов, не открыл новой звезды — он
увидел из своего окошка часть сероватого поля, залитого древ-
ним звездным светом. Когда мы говорим, что в стране
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
303
столько-то буддистов или конфуцианцев, мы имеем в виду,
что в ней столько-то язычников, получивших от мудрецов
или мистиков другой, еще более смутный образ Неведомой
Силы — не только невидимой, но и безличной. Когда мы
говорим, что у них тоже есть храмы, идолы, священство, празд-
ники, это значит, что они люди и потому любят пышность,
веселье, картинки и сказки; это просто означает, что языч-
ники нормальнее пуритан. Но сущность их Высших Сил, но
слова их священников ничуть не похожи на поразительную
картину, которую несут наши вестники. Ни у кого, кроме этих
вестников, нет Евангелия — Благовествования, Благой Ве-
сти, хорошей новости — по той простой причине, что у них
нет новости.
И чем дальше, тем быстрее бегут вестники. Прошли века,
а они говорят так, словно что-то случилось сейчас, на их гла-
зах. Шаг их не стал медленней, взгляд их сияет, как взгляд
свидетелей. В католической Церкви — армии вестников —
не оскудевают дела святости; и самоотречения, решительные,
как самоубийства, поражают мир. Но это — не самоубий-
ства. В них нет уныния. Вестники радостны, как святой Фран-
циск, друг цветов и птичек. Они моложе духом, чем самые
новые школы; и нет сомнения, что они стоят на пороге новых
триумфов. Эти люди служат Матери, которая хорошеет с
годами. Мы можем даже сказать, что Церковь молодеет, хотя
стареет мир.
Вот последнее доказательство чуда: не чудесно ли, что
столь естественными стали такие сверхъестественные вещи?
Я очень хорошо отношусь к монотеистам — к мусульманам
или евреям, но наша вера кажется им кощунством, способ-
ным покачнуть мир. Однако наш мир не покачнулся, он стал
на место. Я совершенно согласен с неверующими — от од-
ной мысли о том, во что их просят поверить, может закру-
житься голова. Но у верующих голова не кружится, она кру-
жится у неверующих. Они цепляются за любую крайность
этики и психологии: за пессимизм, отрицающий жизнь, за
прагматизм, отрицающий разум. Они ищут знаний в кошма-
304
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
рах и правил — в противоречиях. Они кричат от страха, по-
тому что их обступили болезненные призраки и оглушили
толки о жутких мирах, где дважды два — пять. Только вера,
которая на первый взгляд кажется самой немыслимой, оста-
ется твердой и здравой. Она одна может смирить эти мании,
спасти разум от прагматизма и смех — от пуританства. Я на-
меренно подчеркнул и вызов ее, и суровость. Вся тайна в
том, как такая мятежная и предельная вера стала совершен-
но здравой. Человек, назвавший себя богом, вполне подобен
тому, кто считает себя стеклянным. Но стеклянный безумец
не застеклил окон мироздания и не сияет так, что в его свете
сияет все остальное.
Наше безумие сохранило здравый смысл. Оно сохрани-
ло его, когда все сошли с ума. В наш сумасшедший дом, век
за веком, люди возвращаются домой. И мир не может по-
нять, почему такая строгая и противная логике вера снова и
снова дает самую большую радость. Я не знаю, как могла бы
высочайшая на свете башня так долго стоять без основания.
Еще меньше могу я понять, как стала бы она человеку до-
мом. Если бы она рухнула, ее вспоминали бы как последний
взлет фантазии, последний миф, которым разум хотел про-
бить небеса — и пал. Но разум не сломлен. Только у нее
одной не сломлен разум среди повального безумия. Если бы
она была ошибкой или приступом экстаза, она не продержа-
лась бы и дня. Но она держится без малого две тысячи лет.
У тех, кто в ее доме, ум яснее, душа уравновешеннее, ин-
стинкты здоровей, они проще всех относятся к смерти и не
боятся судьбы. Душа христианского мира, порожденная не-
мыслимым Христом, — здравый смысл. Мы не смеем взгля-
нуть на Его Лик, но мы видим Его плоды, и по плодам Его
узнаем Его157. А плоды эти — весомые, и плодородие — не
только метафора, и нигде в этом печальном мире нет таких
счастливых мальчишек, взобравшихся на яблоню, и таких сво-
бодных мужчин, поющих на виноградниках, как у нас, в ос-
лепительном свете вечной молнии.
Святой
Фома Аквинский
© Перевод Н. Трауберг, 1991
ДОРОТИ КОЛЛИНЗ,
без чьей помощи автор был бы
еще беспомощней, чем обычно
Вступление
Эта книга — только популярный очерк о великом чело-
веке, который еще не слишком популярен у нас. Она достиг-
нет цели, если те, кто едва ли слышал о святом Фоме Аквин-
ском, захотят прочитать о нем другие, лучшие книги. Вы-
нужденная краткость ведет к определенным последствиям, о
которых я хочу предупредить сразу.
Во-первых, я пишу в основном для тех, кто не исповеду-
ет веру Фомы; я обращаюсь к тем, кому он интересен, как
интересны мне Конфуций или Магомет. Но, рассказывая о
нем, неизбежно приходится рассказать и о тех, кто думал не
так, как он. Если пишешь о Нельсоне для иностранцев, нуж-
но писать о том, что знает любой англичанин, и отбросить
подробности, которые англичанин хотел бы знать. Однако
будет трудно обойти тот факт, что Нельсон сражался с фран-
цузами. Бессмысленно писать о святом Фоме, умалчивая о
том, что он сражался с еретиками, хотя это может повредить
тому, ради чего я пишу. Смею надеяться, что те, кто считает
меня еретиком, не посетуют на меня, если я выражу свое
мнение, тем более если я выражу мнение моего героя. Как бы
то ни было, я скажу раза два, что раскол XVI века был за-
поздалым мятежом пессимистов XIII, когда пуританство
Августина едва не победило свободу Аристотеля1. Если я
этого не скажу, я не смогу показать место моего героя в исто-
308
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
рии. Но рисую я фигуру на фоне пейзажа, а не пейзаж с фи-
гурками.
Во-вторых, в таком простеньком очерке я вряд ли скажу
много о философе — в лучшем случае я дам понять, что у
него была своя философия. Теологию его вообще изложить
невозможно. Одна знакомая дама раздобыла книгу выдер-
жек из святого Фомы и, преисполнившись надежд, углуби-
лась в раздел под невинным названием «О простоте Бога».
Потом отложила книгу, вздохнула и сказала: «Если это про-
стота, что же такое сложность?» При всем почтении к уче-
ным изданиям Фомы я не хочу, чтобы мою книгу отклады-
вали со вздохом. Очерк жизни святого — введение в его
философию, философия — введение в теологию. Мне дано
немного: я помогу читателю взойти на первую ступень.
В-третьих, я не спорю с теми, кто перепечатывает страни-
цы средневековых демонологий, надеясь устрашить читателя
незнакомым языком. Образованный человек должен знать, что
святой Фома и все его современники, и все противники много
веков спустя верили в бесов. В этом были согласны и протес-
танты, и католики, пока была хоть какая-то теология, и святой
Фома, отличался разве что своей умеренностью. Я не пишу о
таких вещах не потому, что хочу их скрыть, а потому, что они
не касаются того, о ком я пишу. И так очень трудно втиснуть
такую громаду в маленькую книгу.
I
Глава I
О ДВУХ НИЩИХ БРАТЬЯХ
Не так давно я написал небольшую книжку — примерно
такую, как эта — о святом Франциске Ассизском, а немного
позже обещал написать о святом Фоме Аквинском не иначе,
то есть не длиннее. Обещание мое под стать Франциску лишь
по своей поспешности и никак уж не под стать логичному Ак-
винату. Можно создать очерк о Франциске; Фоме подойдет
только план, подобный плану лабиринта. Об Аквинате надо
писать очень много или очень мало. То, что мы действительно
знаем о его жизни, легко уместится на нескольких страницах,
ибо, в отличие от Франциска, он не растворился в преданиях и
легендах. То, что мы знаем, или можем узнать, или могли бы
узнать о его деле, вероятно, займет в будущем еще больше
книжных полок, чем заняло в прошлом. Святого Франциска
можно обрисовать одним штрихом; когда пишешь о святом
Фоме, все зависит от того, как заполнишь контур. В очерке о
Франциске есть даже что-то средневековое, как в миниатю-
рах, украшавших книги о том, у кого само имя — уменьши-
тельное2. Бессловесный Вол3 уместится в очерке не лучше, чем
бык в посудной лавке. И все же понадеемся, что очерк такой
возможен, особенно теперь, когда охотно берутся за очерки
всемирной истории или всего на свете.
310
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Я сказал, что портреты эти — только контуры. Но ори-
гиналы так не похожи друг на друга, что, увидь мы их на
вершине далекого холма, они показались бы нам до смешно-
го разными, словно рядом стоят Дон Кихот и Санчо Панса в
монашеских одеждах или Фальстаф и Мозгляк4. Святой
Франциск был маленький, сухонький, натянутый, как тети-
ва, и стремительный, как стрела. Всю жизнь его кидало,
швыряло — очертя голову ринулся он за нищим; сбросив
платье, устремился в лес; ворвался в шатер султана и попро-
сил себя сжечь. Наверное, он был похож на бурый осенний
листок, пляшущий на ветру; похож он был и на ветер.
А Фома был тяжелый, как вол, толстый, медлительный
и кроткий, очень кроткий и великодушный, но не слишком
общительный. Застенчивость его была сильнее, чем того тре-
бует смирение, а рассеянность не пропадала и в промежутках
между восхищениями, которые он тщательно скрывал. Фран-
циск был так пылок и порывист, что служители Церкви, пе-
ред которыми он внезапно возникал, порой считали его бе-
зумным. Фома был так бесстрастен, что студенты, с которы-
ми он учился, считали его дураком. Он и впрямь принадле-
жал к тем немалочисленным школярам, которые готовы
прослыть дураками, только бы дураки побойчее не мешали
им думать. Франциск и Фома различны просто во всем.
Франциск, как то ни странно, не доверял книгам, хотя пыл-
ко любил стихи. Фома книги любил, он ими жил; в сущнос-
ти, он — тот школяр из Чосера, который предпочел бы сот-
ню книг об Аристотеле всем сокровищам на свете5. Когда
его спросили, за что он больше всего благодарен Богу, он
ответил: «Я понял каждую страницу, которую читал». Фран-
циск прекрасно слагал гимны, обобщал — с трудом. Фома
писал всегда, он обобщил и языческую, и христианскую сло-
весность, а для отдыха слагал гимн. Одну и ту же проблему
они видели с разных сторон, Франциск — просто, Фома —
сложно. Франциск верил, что, если он откроет сердце ба-
сурманам, они тут же отрекутся от своего Магомета. Фома
мучительно вдавался в тончайшие оттенки мысли, рассуж-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
311
дая об абсолюте или об акциденциях6, только для того, чтобы
магометане не ошибались, толкуя Аристотеля. Франциск был
сыном лавочника или небогатого торговца; и хотя вся его
жизнь была мятежом против торгашеской жизни отца, в нем
самом была какая-то бойкость, приспособляемость, общи-
тельность — все то, из-за чего рынок гудит, как улей. Он
очень любил луга, но, как говорится, не давал траве расти у
него под ногами. Фома пришел из мира, где мог бы наслаж-
даться праздностью, и труд навсегда сохранил для него бла-
женство досуга. Он был на редкость трудолюбив, но никому
не пришло бы в голову счесть его деятельным. В нем были
черты, отличающие тех, кто работает, когда вправе и не ра-
ботать. Он родился вельмоЛей, а любовь к покою может ос-
таться привычкой, не будучи соблазном. У него были только
лучшие черты знатных — врожденная учтивость, например,
большое терпение. Прежде чем стать святым, каждый быва-
ет просто человеком. Стать святым волен каждый челове-
ческий тип, а мы вольны выбирать, какой нам ближе. И вот
признаюсь: романтическая слава Франциска ничуть не мерк-
нет для меня, но с годами я все больше люблю грузного чело-
века, несомненно, обладавшего и милостью, и мудростью, как
обладают наследственным замком, и гостеприимно, хотя и
рассеянно, делившегося ими. Святой Франциск — не от мира
сего; и все же, иногда, он слишком для меня боек.
Интерес к святому Фоме возник внезапно в наших кол-
леджах и салонах — вряд ли он мог возникнуть даже десять
лет назад, и причины, породившие его, совсем не те, что поро-
дили лет на двадцать раньше интерес к святому Франциску.
Святой исцеляет, ибо он — противоядие. Он и мучени-
ком становится, потому что противоядие мучительно, как яд.
Обычно он возвращает миру здоровье, преувеличивая то, о
чем мир забыл, в каждом веке — разное. Каждое поколение
иЩет своего святого и, ведомое чутьем, находит не того, кого
хотело бы, а того, кто нужен. «Вы — соль земли», — ска-
зал Христос первым святым7. Теперь мы так превратно по-
нимаем эти слова, что бывший кайзер применил их к своим
312
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
подданным, куда больше похожим на бифштекс8. Но соль
предохраняет мясо от порчи не потому, что на него похожа, а
потому, что она — совсем иная. Христос не говорил апосто-
лам, что они прекрасные люди и других хороших людей на
свете нет. Он сказал, что они особенные, что они не похожи
на всех, потому эти строки остры и резки, как сама соль.
«Если соль потеряет вкус, чем сделаешь ее соленою?»9 Во-
прос этот намного более жесток, чем сетования на то, что
хорошее мясо дорого и его нелегко найти. Если мир стано-
вится слишком мирским, Церковь бросает ему вызов. Если
слишком мирской становится Церковь, миру этот вызов не
поплечу.
Парадокс истории в том, что каждое поколение людей
спасает святой, ничуть на них не похожий. Викторианцев
странно и неудержимо влекло к святому Франциску — их,
англичан XIX века, казалось бы, вполне довольных евоей
торговлей и своим здравомыслием. Не только вполне благо-
душный Мэтью Арнолд, но те либералы, чье благодушие
было для него чрезмерным, медленно открывали тайну Сред-
невековья сквозь перья и пламя странной легенды, расска-
занной Джотто10. Что-то в святом Франциске пробило са-
мые известные и нелестные свойства английской души и вы-
шли на поверхность другие, лучшие — скрытая доброта, меч-
тательная рассеянность, любовь к животным и пейзажам.
Святого Франциска, единственного из средневековых свя-
тых, полюбили у нас за личные качества. Викторианцы по-
чувствовали, что именно этих добродетелей не хватает их
эпохе. Наш «средний класс» обрел своего миссионера в том,
кого особенно презирал, — в нищем итальянце.
Девятнадцатый век ухватился за романтику францискан-
ства, потому что в нем самом романтики не было. Двадцатый
хватается за разумное богословие томизма, потому что в нем
самом нет разумности. В чересчур благодушный мир христи-
анство вернулось в образе бродяги; в мир, сходящий с ума,
оно возвращается в образе учителя логики. Современники
Герберта Спенсера искали лекарства от несварения, совре-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
313
менники Эйнштейна ищут лекарства от головокружений11.
Наши деды смутно почувствовали, что Франциск сложил
гимн солнцу после долгого поста; мы чувствуем не менее смут-
но: прежде чем понять Эйнштейна, надо поверить, что вооб-
ще стоит понимать. Мы начинаем наконец догадываться, что
если XVIII век считал себя веком разума, а XIX — веком
здравого смысла, то XX может назвать себя разве что веком
нездоровой бессмыслицы. В таких случаях миру необходим
святой, но прежде всего необходим философ. Отдадим поко-
лениям должное — и прежде, и теперь они выбрали правиль-
но. Земля была слишком плоской для тех, кто особенно рья-
но утверждал, что она кругла, и Альверно — гора стигматов
возвышалась на ней, как на равнине. Для тех, кто отверг
Ньютона заодно с Птолемеем12, земля вообще не земля, а
беспрерывное, бессмысленное и, видимо, бесконечное зем-
летрясение. Им уж не до гор — кусочек устойчивой почвы
под ногами невероятней для них, чем любая гора. Так двое
святых воззвали к двум векам, к веку романтиков и к веку
скептиков. Но и в своем XIII веке они делали то же дело, и
оно изменило мир.
Moiyr сказать, что все наше сравнение ни к чему, потому
что эти два человека принадлежали к разным поколениям и
жили, собственно говоря, в разное время. Небесными близне-
цами13 были святой Франциск и святой Доминик. Святого
Франциска и святого Фому можно назвать в крайнем случае
дядей и племянником. Святой Фома был истинным первен-
цем Доминика, как друг его Бонавентура был первенцем свя-
того Франциска. И все же у меня есть причина (точнее, две
причины) сравнивать святого Фому именно со святым Фран-
циском, а не с Бонавентурой-францисканцем. Это сравнение
приводит нас самым коротким путем к вопросу о жизни и деле
Аквината. Большинство людей грубо, но довольно четко пред-
ставляют себе жизнь и дело Франциска. И легче всего рас-
сказать о другом монахе, если скажешь: как бы ни отличались
Друг от друга эти двое святых, они делали одно дело: один —
в мире разума, другой — в мире обычной жизни. Но это было
314
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
одно и то же великое дело, которое так и не поняли в Новое
время. Оно было важнее Реформации. В сущности, оно и было
реформацией.
Когда мы говорим об этом движении Средневековья, мы
должны в первую очередь подчеркнуть две его особенности.
Во-первых, несмотря на все, что наговорили о суевериях,
Темных веках и сухой схоластике, это движение, в любом
смысле слова, вело к большему свету и даже к большей сво-
боде. Во-вторых, несмотря на все, что наговорили о прогрес-
се и Возрождении и о предтечах современной мысли, это
движение почти всегда было правоверным, христианским, оно
шло изнутри. В нем не было компромисса ни с миром, ни с
язычниками или еретиками. Оно было подобно растению,
которое пробивается к солнцу, а не узнику, который впуска-
ет дневной свет в тюремную камеру.
Короче говоря, это было то самое, что называют разви-
тием доктрины. Теперь не совсем понимают термин «разви-
тие». Противники католического богословия, кажется, по-
лагают, что оно не столько развивает христианство, сколько
бежит от него или, в лучшем случае, приспосабливает его к
чему-то другому. Но слово «развитие» значит совсем не это.
Когда мы говорим, что щенок развивается, мы совсем не
имеем в виду, что он пошел на компромисс с кошкой, — мы
просто хотим сказать, что он становится собакой. Когда мы
говорим, что ребенок хорошо развит, мы хотим сказать, что
он стал больше и сильнее, а не что его обложили подушками
и поставили на ходули. Развитие — это развертывание всех
возможностей доктрины. Развиваясь, средневековая теоло-
гия все полнее постигала христианство. Это очень важно по-
нять, потому что общее дело великого доминиканца и перво-
го францисканца, в высшей степени гуманного и естествен-
ного, было истинным развитием высшей доктрины, догмы
всех догм. Вот почему народная поэзия Франциска и почти
рационалистическая проза Фомы — части одного дела. И та
и другая — великие ветви католического древа, и зависели
они от внешних явлений постольку, поскольку все новое и
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
315
растущее зависит от них, — они всасывали их и преобража-
ли, но продолжали расти в своем собственном образе, а не в
чужом. Святой Франциск был рад называть себя трубаду-
ром Господним — но его не радовал бог трубадуров. Святой
Фома не примирял Христа с Аристотелем — он примирил
Аристотеля с Христом.
Да, несмотря на контраст, столь же явный и смешной,
как контраст между толстым человеком и тощим или между
высоким и низеньким; несмотря на контраст между бродягой
и ученым, между нищим и вельможей, между противником
книг и их поклонником, между самым пылким из миссионе-
ров и кротчайшим из учителей, великая истина Средневеко-
вья заключается в том, что оба они делали одно дело: Фран-
циск — на улице, Фома — в келье. Они не вносили в хрис-
тианство ничего внешнего, еретического, языческого — они
несли христианстве в мир и при этом использовали то, что
многим казалось ересью или язычеством. Франциск обра-
тился к природе, Фома — к Аристотелю; и многим каза-
лось, что они поклонились языческой богине и языческому
мудрецу. Что сделали они, особенно что сделал Фома, я и
собираюсь рассказать. Но я сравниваю его с самым попу-
лярным из святых, потому что так проще всего популярно
изложить суть дела. Может быть, покажется слишком пара-
доксальным, если я скажу, что эти двое святых спасли нас от
излишней духовности (страшная участь!). Может быть, меня
не поймут, если я скажу, что святой Франциск, при всей сво-
ей любви к животным, спас нас от буддизма, а святой Фома,
при всей любви к грекам, спас от Платона. Но лучше выска-
зать истину в самой простой форме. Они заново утвердили
Воплощение, вернув Бога на землю.
Мы еще увидим, что чисто духовная или мистическая сто-
рона веры заняла слишком большое место в первые века хри-
стианства благодаря гению Августина, который прежде был
платоником и, может быть, так и не порвал с Платоном; бла-
годаря запредельности Псевдо-Дионисия14; благодаря тому,
что поздняя империя склонялась к Востоку, и было что-то
316
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
азиатское в жреческих императорах Византии. Все это при-
давило то, что мы называем духом западным, хотя по праву
его можно назвать просто христианским, ибо его здравый
смысл свято и просто связан с Воплощением. Как бы то ни
было, пока достаточно заметить, что богословы несколько
закоснели в гордыне платоновского толка, — они гордились
тем, что владеют истинами, которых нельзя ни потрогать, ни
перевести, словно у их мудрости не было никаких корней в
этом мире. И вот прежде всего (никак не после!) Аквинат
сказал им примерно так:
«Не мне, бедному монаху, оспаривать у вас алмазы муд-
рости, очерченные по самым строгим правилам и сверкаю-
щие небесным светом. Да, вы владеете ими, они есть до того,
как мы успели подумать, не говоря уж о том, чтобы потро-
гать или послушать. Но я не стыжусь признаться, что мой
разум питается моими чувствами. Тем, что я думаю, я обязан
во многом трму, что я вижу, обоняю, слышу, трогаю; и,
пользуясь разумом, я вынужден считать действительной эту
действительность. Словом, я не верю, что Бог создал чело-
века только для тонких, возвышенных, отвлеченных размыш-
лений, которым вам дано предаваться. Я верю, что есть про-
межуточный мир фактов, которые через чувства становятся
материалом мысли, и что в этом мире властвует разум, пред-
ставитель Бога в человеке. Люди ниже, чем ангелы, но выше,
чем животные, и все, что мы видим вокруг себя. Конечно,
человек может быть и вещью, даже очень жалкой вещью.
Но то, что сделал Человек, могут делать люди. И если древ-
ний язычник Аристотель поможет мне это доказать, я по-
благодарю его со всем смирением».
Так началось то, что обычно называют обращением Ак-
вината к Аристотелю, а можно назвать обращением к разу-
му и к авторитету чувств. Видите, как это похоже на то, что
Франциск слушал не только ангелов, но и птиц. Прежде чем
мы подойдем к чисто умственной деятельности святого Фомы,
надо понять одну его нравственную черту: кроткое, просто-
душное смирение. Он готов видеть в себе почти животное —
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
3/7
так святой Франциск сравнил свое тело с ослом. Кстати, кон-
траст проявился и в этих метафорах; Франциск похож на
простого ослика, который привез Христа в Иерусалим15;
Фому прозвали волом, но он скорее похож на быка или на
чудище из Откровения, почти ассирийского быка с крылья-
ми16. И снова этот контраст не должен закрывать общего.
Оба они, в своем смирении, славили Спасителя, как ослик и
вол в вифлеемских яслях.
Конечно, кроме апологии здравого смысла, питаемого
пятью чувствами, у святого Фомы было много других важ-
ных и сложных идей. Но сейчас я говорю не о том, что есть у
Фомы, а о том, что есть в христианстве. Именно по этому
поводу теперь пишут особенно много чепухи. Наши совре-
менники приняли без доказательств, что всякий шаг к свобо-
де уводит от веры к безбожию, и начисто забыли одну очень
важную черту веры.
Невозможно больше скрывать, что святой Фома Акви-
нат был одним из великих освободителей разума. Сектанты
XVI и XVII веков — редкостные мракобесы — лелеяли
легенду о мракобесии Фомы. В XIX веке это еще сходило, в
XX не сойдет. Тут дело не в теологии, дело в исторической
правде, которая стала понемногу проявляться по мере того,
как стихают старые распри. Святой Фома — тот великий
человек, который примирил веру с разумом, с опытом, с на-
уками; он учил, что чувства — окна души, что разуму дано
божественное право питаться фактами; что только религии
по зубам твердая пища труднейшей и самой здравой из язы-
ческих философий17. Именно он боролся за просвещение и
свободу яростней, чем все его соперники и даже последова-
тели. Если мы честно признаем, к чему привела Реформа-
ция, нам придется признать, что Аквинат и был реформато-
ром, а те, кого так обычно зовут, — реакционерами, даже
если смотреть на них не с моей, а с современной, прогрессив-
ной точки зрения. Так, они боролись за букву древнееврей-
ского Писания, когда Фома говорил о духе, оживотворяв-
шем греческую мудрость18. Он говорил о долге дел, они —
318 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
лишь о долге веры. И наконец, он учил доверять разуму, тогда
как они учили, что разуму верить нельзя.
Но тут возникает еще одна опасность. Признав все это,
нестойкие души могут броситься в другую крайность. Те, кто
обвинял Фому в догматизме, признают в нем противника
догмы. Они кинутся украшать его статуи увядшими венками
прогресса, скажут, что он обогнал свой век (что, как извест-
но, значит «догнал наш»), и незаслуженно назовут его от-
цом современной мысли.
Он понравится им, и они решат, что он на них похож, —
как же иначе, если он может нравиться! Это бы еще ничего,
все это было с Франциском. Но даже вольнодумцу не пришло
в голову, что Франциск не верил в Бога и не подражал Хрис-
ту. Он так же раскрепостился и очеловечил веру, как святой
Фома, только через воображение, не через разум. Но никто
не скажет, что он распускал людей, тогда как он их стягивал,
как стягивал веревкой свою одежду. Никто не скажет, что он
расчищал дорогу скепсису, или только предвосхищал Возрож-
дение, или прокладывал путь рационализму. Ни один биограф
не напишет, что Франциск гадал не на Евангелии, а на «Эне-
иде», сложил гимн солнцу из поклонения Аполлону или лю-
бил птиц в подражание римским авгурам.
Короче говоря, и христиане и неверующие признают, что
святого Франциска вела прежде всего простая (или, если
хотите, отсталая) вера в Христа и христианство. Никто, как
я уже сказал, не заподозрит, что он черпал вдохновение из
Овидия19. Точно так же неверно, что Аквинат черпал вдох-
новение из Аристотеля. Вся его жизнь, его детство, юность,
выбор пути показывают, как он был набожен и как страстно
любил веру, еще не зная, что призван за нее бороться. Поче-
му-то забыли, что, освящая чувства и простые, здешние вещи,
и Фома, и Франциск оба подражали Тому, кто не был ни
Аристотелем, ни Овидием. Они подражали Ему, когда
Франциск смиренно был со зверями, а Фома благородно
спорил с языками20.
Те, кто этого не заметил, не понимают веры, даже если
она для них — только суеверие. Они упускают самую суть
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
319
того, что им кажется особенно суеверным. Я говорю о не-
мыслимой истории Богочеловека. Многих трогает, что свя-
той Франциск так просто, неучено взывает к Евангелию. Их
учили, что он учился у цветов и птиц, словно это связано толь-
ко с язычеством Возрождения, хотя трудно не увидеть, что
это восходит к Новому Завету, указует на богословие свято-
го Фомы. Им смутно кажется, что гуманизировать боже-
ственное — то же самое, что смешивать его с язычеством,
но они забывают, что связь Бога и человека — важнейшая и
невероятнейшая догма во всем Символе Веры. Когда святой
Франциск смотрел на лилии в поле или на птиц небесных, он
был похож на Христа, а не на Будду. И Фома был похож на
Христа, а не только на Аристотеля, когда учил, что и Бог, и
Его образ и подобие связаны через материю с этим миром.
Оба святых были гуманистами в самом прямом значении сло-
ва — они настаивали на огромном значении человека в бого-
словской иерархии. Но они — не гуманисты Возрождения,
они не шли дорогой прогресса к современной мысли и по-
вальному скепсису, потому что твердо верили в догму, в ко-
торую теперь не верят, и укрепляли поразительную доктри-
ну Воплощения, которая скептикам не под силу.
Да, и Фома, и Франциск верили в Бога, и чем разумней
или естественней они были, тем сильнее верили. Они потому
и могли быть такими естественными и разумными, что ни в
чем не отступали от христианства. Иначе говоря, то, что мож-
но назвать свободным богословием, шло изнутри, из самой
глубины католичества. Конечно, в этой свободе не было и
нет ничего общего с либерализмом, она даже теперь не мо-
жет ужиться с ним*. Для убедительности остановлюсь на
нескольких мыслях святого Фомы.
Так , именно святой Фома считал, что человека надо изу-
чать целиком; что человек — не человек и без тела, и без
* Я употребляю слово «либерализм» в том строго теологическом смыс-
ле, в котором его употребляли Ньюмен и другие богословы. В обыч-
ном, политическом смысле, как мы увидим дальше, святой Фома
был скорее либералом, особенно для своего времени.
320
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
души. Труп — не человек, но и привидение — не человек.
Августин и даже Ансельм все же упускали это из виду; они
учили, что одна душа драгоценна и попадает на время в не-
достойную внимания оболочку. Они были очень духовны, но
недостаточно правоверны и чуть не побывали на краю вос-
точной пустыни, по которой можно прийти к переселению
душ, то есть поверить, что душа может пройти через сотню
не имеющих значения тел, даже сквозь тела животных и птиц.
Святой Фома твердо стоял на том, что тело есть тело, и че-
ловек существует только в единстве и равновесии тела и души.
Мысль эта в некотором роде очень близка к современному
почитанию материальных предметов. Такой хвалы телу мож-
но ждать от Уитмена, такого оправдания — от Лоуренса21.
Ее можно назвать гуманизмом и даже обругать модерниз-
мом. Можно назвать и материализмом, но к «современной
мысли» она отношения не имеет, потому что связана с тем,
что кажется теперь самым чудовищным, самым материаль-
ным и потому самым чудесным из чудес. Она связана с са-
мой удивительной догмой, которую модернисты ни за что не
примут, — с Воскресением.
Или, например, возьмем его мысли об откровении. Они
совершенно разумны и на редкость демократичны. Защи-
щая откровение, он ни в коей мере не нападает на разум; на-
против, он считает, что истину можно изложить путем дока-
зательств, если только он достаточно разумен и достаточно
долог. Фома был скорее оптимистом (не найду лучшего сло-
ва) и преувеличивал готовность людей прислушаться к дово-
дам. Ведя рассуждение, он всегда принимает на веру, что
читатель внемлет разуму. Он горячо верит, что человека мож-
но убедить, если довести доказательство до конца, но здра-
вый смысл подсказывает ему, что споры бесконечны. Ска-
жем, я мог бы убедить человека, что материя не в силах по-
родить разум, если бы мы были очень друг к другу привяза-
ны и спорили без перерыва лет сорок. Но задолго до конца
спора родится много новых материалистов, и никто не может
объяснить все всем. Святой Фома считал, что души обыч-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИИ
321
ных, простых, замученных трудом людей так же важны, как
души искателей истины; когда же они выслушают все дово-
ды, чтобы истину обрести? Он говорит об этом с уважением
к учености и с любовью к обычным людям. Защищая откро-
вение, он не принижает разума — он просто защищает от-
кровение и приходит к мысли, что люди должны познавать
высшие нравственные истины чудесным способом, чудом,
иначе почти никто их не познает. Доводы его разумны и ес-
тественны, вывод — сверхъестествен. Как часто бывает у
него, нелегко сделать другой вывод. И вывод этот так прост,
что сам Франциск не пожелал бы иного: небесная весть, под-
сказка с неба, осуществившаяся сказка.
Еще проще рассуждения о более простых вещах, напри-
мер о свободе воли. Святой Фома особенно чтил то, что можно
назвать подчиненной суверенностью или автономией. Он,
скажем так, защищал зависимость независимого. Он упорно
твердил, что у независимого свои права в своей стране. Так
относился он к разуму и даже к чувствам: «Дщерь я в доме
отчем, в своем — хозяйка». Именно в этом смысле подчер-
кивал он особое достоинство человека, о котором нередко
забывали, обобщая истины о Боге. Никто не скажет, что он
хотел разлучить человека с Богом, — нет, он хотел их раз-
личить. В этом остром чувстве свободы и достоинства много
того, что особенно ценят теперь, считая благородным, гуман-
ным, либеральным. Но не забудем, что коренится это в сво-
бодной воле, в нравственной ответственности, которую от-
рицают многие наши либералы. Высокой и опасной свободой
обусловлены рай и ад, вся таинственная драма души. Это
различие, а не разлука; но человек может разлучиться с Бо-
гом, и в этом — величайшее его отличие.
Другой вопрос сложнее, я коснусь его позже, и то слегка.
Философы издавна спорят о множественности и единичнос-
ти. Настолько ли различны предметы, что их нельзя класси-
фицировать, или так едины, что их нельзя различить? Не
пытаясь ответить на это здесь, можем сказать, что святой
Фома определенно стоит за разнообразие, которое для него
322
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
так же реально, как единство. В этом, как во многом другом,
подобном этому, он не согласен с великими греками, кото-
рые были ему образцом, и совсем не согласен с великими
мудрецами Востока, которые были ему соперниками. Види-
мо, он вполне уверен, что различие между свиньей и сыром,
мелом и молоком не мерещится нам, ослепленным единым
светом, — оно очень похоже на то, что мы ощущаем. Мож-
но сказать, что это просто здравый смысл, связанный с зем-
ным и здравым разумом Аристотеля, с человечной и даже
языческой разумностью. Но заметьте, здесь снова встреча-
ются земля и небо. Это связано и с христианской догмой тво-
рения — догмой Творца, создавшего свиней, а не космоса,
выносившего их во чреве эволюции.
Во всех этих случаях, как мы видим, повторяется то, о чем
мы говорили вначале. Фома в философии, Франциск в этике
раскрепощали человека, освобождали, расширяли богословие
изнутри, но не внесли в христианство ничего еретического или
просто мирского. Францисканец не должен был сидеть в мо-
настыре, но он был лучшим христианином, лучшим католиком
и даже лучшим аскетом, чем оседлый монах. Томист мог сле-
довать Аристотелю и не во всем — Августину, но он лучший
догматик и лучший богослов, потому что Аристотель помог
ему доказать самую смелую из догм — обручение Бога с че-
ловеком и тем самым с материей. Никогда не поймут величия
XIII века те, кто не понимает, что тогда развивалось нечто
новое, и возникло оно из живого. В этом смысле он смелее и
свободнее Возрождения, когда воскрешали старое, найденное
среди мертвого. Средние века были не возрождением, а рож-
дением. Они не строили храмов на кладбище, не вызывали и?
Гадеса мертвых богов. Они создали архитектуру такую же
новую, как нынешняя, — она и осталась самой современной, <•
уж позже, в века Возрождения, ее сменила старомодная. Воз-
рождение можно назвать рецидивом. Что бы ни говорить о
готике и о Евангелии от Фомы22, рецидивом его не назовешь.
Учение Аквината — титанический толчок, подобный взрыву
готики, и сила его от Бога, творящего все новое.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
323
Словом, Фома усилил христианское в христианстве, вве-
дя в него Аристотеля. Это — не парадокс, а трюизм, кото-
рый покажется странным только тому, кто знает Аристоте-
ля, но не знает христианства. Христианин тем и отличается
от иудаиста, мусульманина, буддиста, безбожника, что для
него святость и Бог неразрывно связаны с материей и миром
пяти чувств. Некоторые считают теперь, что, приняв Арис-
тотеля, Фома сделал уступку арабам, как современный ви-
карий делает уступки агностикам. С тем же успехом можно
сказать, что уступку арабам сделали крестоносцы. Они хо-
тели спасти место, где находилось некогда тело Христово,
ибо верили, что это место по праву принадлежит христиа-
нам. Святой Фома хотел спасти то, что и было телом Хрис-
товым — священным телом Сына человеческого, Посред-
ника между небом и землей. Он утверждал тело и все его
чувства, ибо думал — верно или неверно, — что оно при-
надлежит христианам. Быть может, это смиренней и никчем-
ней, чем Платоновы идеи, потому это и христианство. Если
хотите, святой Фома пошел по нижней дороге, когда после-
довал за Аристотелем. Так унизился Бог, когда работал в
мастерской Иосифа23.
И наконец, двое великих святых не только связаны друг с
другом, но и отделены почти от всех своих современников —
слишком уж мятежным был их переворот. Испанец Доменико
Гусман основал монашеский орден, очень похожий на орден
Франциска, и, по чудесному промыслу, почти одновременно с
ним. Он решил проповедовать христианство альбигойским
еретикам, впавшим в один из видов манихейства, о котором
мы еще скажем. Альбигойство уходило корнями в древнюю
мистику и нравственное равнодушие Востока. И вот, домини-
канцы стали братством философов, тогда как францисканцы
были братством певцов. По этой причине, по другой ли, но
Доминика и его людей плохо знают у нас и совсем не понима-
ют. С прошлого века богословские доказательства стали еще
непонятней и неприемлемей для нас, чем религиозные распри.
Непопулярность Доминика тем любопытнее, что он — даже
324 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
больше, чем Франциск, — был правдив, независим умом и
нравственно строг, то есть обладал именно теми качествами,
которые в протестантских странах считают чисто протестант-
скими. О нем рассказывают историю, которая была бы куда
популярней, если бы речь шла о пуританине. Как-то папа по-
казал на свой пышный дворец и заметил: «Петр не мог бы
теперь сказать, что у него нет серебра и золота»; а нищий
испанец отвечал: «Да. И еще бы он не мог сказать: «Встань
24
И ИДИ» .
Святой Франциск и святой Доминик стоят в истории ря-
дом, потому что они делали одно дело; однако мы разделяем
их самым странным образом. Там, у себя, они — Небесные
Близнецы, от которых льется один и тот же свет. Порою ка-
жется, что у них — единое сияние; что их священная нище-
та — два рыцаря на одном коне. В нашем предании они по-
хожи не больше, чем святой Георгий и дракон. Доминик для
нас — палач, завинчивающий испанский сапог, Франциск —
добряк, плачущий над мышеловкой. Нам, англичанам, имя
Франциска кажется прекрасным, как цветок, и мы не удив-
ляемся, что так звался Фрэнсис Томсон25. Назвать ребенка
Домиником — почти то же самое, что назвать его Торкве-
е*26
мадои .
Здесь что-то не так. Правильно ли, что те, кто были со-
юзниками дома, стали врагами на чужбине? Во всех других
случаях ошибка была бы явной. Всякий, кто знает хоть не-
много о Доминике, знает, что он — миссионер, а не пресле-
дователь, что дар его — четки, а не дыба и дело его бес-
смысленно, если бы он не обращал людей. Да, он верил, что
мирским оружием можно решать религиозную распрю. Ве-
рили в это очень многие, даже Фридрих II27, не веривший
больше ни во что. А те, кто в это не верит, наперечет. Счита-
ют, он положил начало сожжению еретиков. Не знаю; но он,
конечно, полагал, что должен их преследовать. Говорить, что
Доминик только это и делал, все равно что обвинять отца
Мэтью, излечившего словом тысячи пьяниц28, за то, что при-
нятый благодаря ему закон дает полисмену возможность за-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
325
держать пьяного на улице. Главное в Доминике — дар об-
ращения, а не дар насилия, а разница между ним и Фран-
циском, никого из них не умаляющая, в том, что он обращал
еретиков, а Франциск, чье дело как бы тоньше, обращал
обыкновенных людей. Нам очень нужен новый Доминик,
чтобы обратить язычников, но еще нужнее Франциск, что-
бы обратить христиан. И все же мы должны помнить, что
Доминик проповедовал целым народам, городам и странам,
ушедшим от веры к противоестественным ересям, и блиста-
тельно отвоевал несметное множество людей словом и убеж-
дением. Святого Франциска считают мягким и добрым, по-
тому что он пытался обратить сарацинов и это ему не уда-
лось. Святого Доминика зовут мракобесом и фанатиком, по-
тому что он решил обратить альбигойцев и обратил. Мы зашли
в странный тупик, откуда хорошо видны Ассизи и холмы
Умбрии, но совсем не видны бескрайние поля крестовых битв,
а тем более — подножие Пиренеев и побережье Средизем-
ного моря, где чудом святого Доминика погибло азиатское
29
отчаяние .
И еще одно соединяет Доминика с Франциском: посмерт-
ная слава и прижизненная травля или хотя бы непонятость.
Ведь они дерзнули сделать то, что труднее всего прощают, —
подняли народное движение. Человек, посмевший прямо об-
ратиться к народу, наживает много врагов, начиная с тех, к
кому он обратился. Когда же неимущие поймут, что он хочет
помочь, а не повредить им, вмешиваются имущие и вредят
ему самому. Люди богатые и даже просто образованные не
без оснований боятся, что новое изменит и пошатнет мир —
не только мудрость века сего, но и настоящую мудрость.
Иногда они в чем-то и правы — так, святой Франциск очень
легко, беззаботно отбрасывал книги и ученость. Доминик и
Франциск совершили переворот, популярный и непопуляр-
ный, как Французская революция. Нам нелегко понять, как
сильно волновали давние события. «Марсельеза» звучала
когда-то, как рев вулкана, и цари земные дрожали, страшась
небесной кары или — что для них еще ужасней — правед-
326
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ного суда. Сейчас ее играют на приемах, где улыбающиеся
монархи беседуют с осклабившимися миллионерами. Рево-
люции застывают учреждениями, перевороты стареют, и про-
шлое, исполненное мятежа и гнева, кажется нам гладкой тка-
нью традиций.
Мы должны представить себе, каким мятежным и но-
вым, грубым' и странным, простонародным, даже уличным
казалось в XIII веке то, что предприняли минориты30. Усто-
явшееся и уже далеко не юное христианство ощущало, что
пришел конец эпохи, когда дороги дрожали под шагами бе-
зымянной и нищей армии. Странный стишок передает дух
этого удивления: «Лают собаки, в город во мраке идет по-
прошаек стая»*31. Города укреплялись против нее, стороже-
вые псы сильных мира сего громко лаяли, но еще громче пели
францисканцы свою Песнь Солнцу и громче лаяли псы Гос-
подни, Domini canes32 средневековой шутки. Если же мы хо-
тим измерить глубину и силу этого переворота, мы можем
увидеть их в самом первом и самом поразительном происше-
ствии из жизни святого Фомы.
Глава II
БЕГЛЫЙ АББАТ
По странной и даже символической случайности святой
Фома появился на свет в самом центре цивилизованного
мира — там, где пересекались главные силы времени, пове-
рявшие нашу веру. Он был тесно с ними связан. И религиоз-
ные распри, и ссоры государей были для него просто семей-
ной неурядицей. Он был багрянородным33 почти в прямом
смысле слова — его близким родственником был император
Священной Римской империи. Он мог бы украсить свой щит
гербами всех государств Европы — но он отбросил щит. Он
* Пер. С. Маршака.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
327
был и итальянцем, и французом, и немцем — европейцем в
полном смысле слова. Он унаследовал силу норманнов, чьи
странные, несущие порядок набеги еще вонзались стрелами
в уголки Европы, в границы земли: одна стрела сквозь сле-
пящий снег улетела с герцогом Вильгельмом на дальний Се-
вер, другая путем финикийцев и греков пролетела сквозь
Сицилию, к вратам Сиракуз34. Он был в родстве с государя-
ми Рейна и Дуная, оспаривавшими по праву корону Карла
Великого: Рыжий Барбаросса35, спящий под рекою, прихо-
дился ему двоюродным дедом, Фридрих II, Чудо света, —
троюродным братом. А кроме того, бесчисленными нитями
он был связан с Италией, с бурлящей жизнью ее крохотных
народностей и тысячами ее святынь. Родич императора, он
был связан более крепким, духовным родством с папою. Он
понимал весомость Рима; он знал, в каком смысле тот пра-
вит миром, и никак не думал, что германские или греческие
императоры станут более римскими, чем Рим, бросая ему
вызов. К вселенской широте взглядов, принадлежащей ему
по праву рождения, он присоединил качества, присущие ему
самому, и они помогали народам понять друг друга, словно
он был послом или переводчиком. Он много странствовал.
Его хорошо знали в Париже и в университетах Германии;
очень может быть, что он побывал в Англии, ездил в Окс-
форд и в Лондон, и мы повторяем его путь, спускаясь вдоль
реки к той станции, которая и сейчас носит имя Черных мо-
нахов36. Но странствия его разума были еще смелее. Даже
врагов он изучал много тщательней и беспристрастней, чем
было тогда принято. Он пытался понять мусульман, поклон-
ников Аристотеля, и написал в высшей степени человечный
и мудрый трактат об отношении к евреям37. Он всегда ста-
рался глядеть изнутри, из центра, и родился в самом центре
высокой политики тех времен. Что он о ней думал, нетрудно
понять из следующего рассказа.
К святому Фоме можно было бы применить наше слово
«интернациональный». Но тут необходимо вспомнить, в ка-
кое он жил время. Мир был тогда интернациональным в том
328
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
смысле, который сейчас совсем забыт. Человек, вершивший
судьбы стран, мог принадлежать в XIII веке к разным наци-
ональностям сразу. Народности и страны не были разделе-
ны так четко, как теперь. Святого Фому звали волом из Си-
цилии, хотя родился он около Неаполя, а город Париж уве-
ренно считал его своим, потому что он был светочем Сорбон-
ны, и, когда он скончался, пожелал похоронить его в своих
стенах. Можно привести пример поудивительней. Все мы
знаем, что такое немецкий ученый. А в XIII веке величай-
ший из немцев — Альберт38 тоже был светочем Сорбонны.
Попробуйте представить себе, что в наше время немец-
кий профессор снискал всеевропейскую славу лекциями в
Париже.
Конечно, и в ту пору была распря в христианских зем-
лях, но это была всеобщая распря в том смысле, в каком мы
говорим о всеобщем мире. Враждовали не страны, не нации,
а две Европы, две всеевропейские власти — католическая
церковь и Священная Римская империя. Политический кри-
зис христианства влиял на жизнь Аквината и вначале, когда
случилась беда, и позже сотней косвенных способов. Разные
силы участвовали в нем: крестовые походы, и альбигойский
пессимизм, который святой Доминик сразил словом, Симон
де Монфор39 — мечом, и сомнительный эксперимент инкви-
зиции, и многое другое. Но главным, обобщающим был ве-
ликий поединок между папами и императорами, точнее, гер-
манскими государями, которые называли себя императорами
Священной Римской империи. Часть Аквинатовой жизни
скрыта во мраке, закрыта тенью одного из них, скорее ита-
льянца, чем немца — блестящего Фридриха, которого про-
звали Чудом света. Надо заметить, что латынь была тогда
очень живым языком и в переводе выражения тех лет часто
теряют силу. Я читал, что его, собственно, называли Stupor
Mundi. И впрямь можно сказать, что он ошеломил мир.
Удары, которые он наносил вере, ошеломляли, слепили, как
тот удар, с которого почти начинается жизнь святого Фомы.
Ошеломляет и то, что этот блеск ослепил его нынешних по-
клонников.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
329
Фридрих II зловеще и властно встает над детством Ак-
вината, освещая его пламенем битвы. Мы вправе поговорить
об этом императоре и потому, что его романтический отсвет
мешает историкам увидеть его время, и потому, что такая
традиция прямо связана с нынешним взглядом на святого
Фому. Точку зрения XIX века (которую почему-то зовут
современной) выразил кто-то из весьма солидных виктори-
анцев — кажется, Маколей. Он сказал, что Фридрих был
государственным деятелем в век крестоносцев, философом в
век монахов. Как нетрудно заметить, здесь принимается за
аксиому, что крестоносец — не деятель, монах — не фило-
соф. Но это перестанет казаться бесспорным, если мы вспом-
ним хотя бы двух великих современников Фридриха. Свя-
той Людовик был крестоносцем и даже неудачливым, но как
правитель он преуспел куда больше, чем Фридрих. При нем
стала народней, сильнее, священней самая мощная власть
Европы; французская монархия — единственная власть,
которая усиливалась пять столетий кряду! Фридрих же был
побит и папой, и республиками. Его Священная Римская
империя была идеальной, ибо она была мечтой; но никогда
не была реальной, как прочное государство, скрепленное свя-
тым королем. Можно привести пример из следующего поко-
ления: один из лучших деятелей нашей истории — Эдуард I40
тоже был крестоносцем.
Вторая половина противопоставления еще неправильней,
и ошибку здесь найти легче. Фридрих не был философом в
эпоху монахов. Он был вельможей, баловавшимся филосо-
фией в эпоху монаха Фомы. Конечно, он был умен и блес-
тящ, но если он оставил несколько ценных мыслей о природе
бытия и становления, я не думаю, что эти мысли волнуют
сейчас студентов Оксфорда или парижских писателей, не
говоря уже о томистах, которые появились даже в Нью-Йор-
ке и Чикаго. Я не обижу императора, заметив, что он не был
философом в том смысле, в каком был философом Фома
Аквинат, даже не сравнивая их масштабов. А святой Фома
Жил в тот же век монахов, который, по мнению Маколея, не
Мог порождать философию.
330
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Мы не будем разбираться здесь в причинах викториан-
ского предубеждения, которое еще кажется прогрессивным.
В XIX веке решили, что только еретики двигали человече-
ство и только тот, кто расшатывал Средневековье, приносил
пользу нынешней цивилизации. Так родились занятные бас-
ни о том, что соборы построены тайным обществом, или о
том, что эпос Данте — некая тайнопись, связанная с упова-
ниями Гарибальди41. На самом деле Средние века были по-
рой общего, общинного мышления, которое во многом глуб-
же и шире, чем нынешнее, индивидуалистическое. Для со-
временников Маколея «государственный деятель» — это
человек, который всегда и неизменно отстаивает самые уз-
кие интересы своей страны в ущерб другим странам, подоб-
но Ришелье во Франции, Четэму в Англии или Бисмарку в
Пруссии42. Если же кто-то хочет защищать все эти страны
вместе, создать их братство, объединить перед лицом внеш-
ней опасности (например, перед лицом монголов), его, бед-
нягу, конечно, нельзя назвать государственным деятелем. Он
всего лишь крестоносец.
В этом смысле для Фридриха только лестно, если его
назовут крестоносцем, хотя на самом деле он был противни-
ком крестовых походов. Он был международным деятелем,
мало того — международным воином. Такой воин встреча-
ется редко, он особенно раздражает интернационалистов. Они
не любят Карла Великого, Карла V43, Наполеона и вообще
всякого, кто пытался создать то самое мировое государство,
о котором они кричат день и ночь. Фридрих еще сомнитель-
ней, потому о нем и судят без сомнений. Он думал, что воз-
главляет Священную империю, а враги его полагали, что он
хочет основать империю нечестивую. Но если бы он был са-
мим Антихристом, свидетельствовал он о единстве христи-
анского мира.
Как бы то ни было, у того времени есть странное свой-
ство — единство не мешало уюту и обособленности. Совре-
менные войны возможны не потому, что люди в чем-то не-
согласны, а потому, что они согласны друг с другом. Тогда
они думали по-разному даже о войне, и мир мог разразиться
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
331
где угодно. Его прерывали распри, их прерывала милость.
Предельно разные взгляды жили вместе, за городской сте-
ной, а великая душа Данте разделилась надвое, словно рас-
палось пламя — он и любил, и ненавидел свой город. Эта
глубоко личная сложность ясно видна в истории, которую мы
очень поверхностно расскажем. Если вы хотите понять, что
я имею в виду, когда говорю, что люди действовали самосто-
ятельно и даже непредсказуемо, обратите внимание на слав-
ный род д’Аквино, чей замок стоял недалеко от Неаполя.
Граф Ландульф, могучий феодал, очень типичный для тех
времен, осаждал монастырь, ибо император считал обитель
крепостью папы. Потом, как мы увидим, тот же граф послал
в тот же самый монастырь своего сына. Еще позже другой
его сын восстал против императора и воевал за папу, а импе-
ратор не замедлил этого сына казнить. Я хотел бы расска-
зать побольше о брате святого Фомы, ведь он отдал жизнь
ради дела Церкви, которое в самом главном было и делом
народа. Он не святой, но в нем, несомненно, есть что-то от
мученика. Другие два брата, рьяно и честно служившие им-
ператору, который убил третьего, изловили Фому, ибо не
одобряли новых религиозных веяний. Вот как все сложно в
этой средневековой семье. И в Европе тех времен мы видим
не распрю наций, а повсеместную семейную ссору.
Я не только поэтому так долго говорю о Фридрихе, о его
просвещенности и властности, о его любви к мудрости и его
нелюбви к вере. Он первым выходит на сцену, ибо одно из
деяний, свойственных ему, ускорило действие пьесы, точнее,
привело к упорному бездействию Фомы, первому его при-
ключению в этом мире. История эта покажет, кстати, в ка-
ком клубке противоречий пребывали семьи вроде семьи д'Ак-
вино, очень близкие к Церкви и спорящие с нею. Фридрих
П, вершивший свои военные и политические дела, от сжига-
ния еретиков до союза с сарацинами, кинулся словно орел на
большой и богатый монастырь, взял его и разграбил.
Неподалеку от Монте-Касино на высокой скале, одном
из ст°лпов Апеннин, стоял замок «Сухая Скала» — гнездо
молодых орлов Аквинского рода. Здесь жил граф Ландульф,
332
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
родич императоров, отец Фомы и еще семи сыновей. Он был
настоящим воином-феодалом и, по всей вероятности, вместе
с другими нападал на монастырь. Однако (это очень харак-
терно для того сложного времени) он счел уместным и даже
особенно учтивым послать своего сына именно в эту обитель.
Он как бы приносил Церкви извинение и решал семейную
проблему.
Давно было ясно, что ничего нельзя поделать с седь-
мым его сыном, Фомой, оставалось отдать его в аббаты.
Фома родился в 1226 году и с самого раннего детства пи-
тал непонятное отвращение к рыцарским забавам. Маль-
чик он был тихий, толстый, серьезный и на редкость мол-
чаливый; зато уж если открывал рот, прямо спрашивал
учителя: «А что такое Бог?» Мы не знаем, что ответил
учитель; вернее всего, мальчик искал ответа сам. Конечно,
такой человек годился только для церкви, особенно — для
монастыря. В этом ничего трудного не было, граф Лан-
дульф легко мог пристроить сына в обитель, причем так,
чтобы он занял место, приличествующее его рангу. Все
шло к тому, что Фома пострижется — вроде бы он этого
и сам хотел, — а потом, со временем, станет настоятелем.
И тут случилась странная вещь.
Насколько можно судить по довольно скудным и спор-
ным сведениям, юный Фома пошел к отцу и, совсем как стар-
ший сын, сообщающий, что женился на цыганке, или наслед-
ник герцога-тори, собравшийся в организованный коммуни-
стами поход против голода, спокойно сказал, что уже стал
монахом нового, доминиканского ордена. Только тут стано-
вится понятно, как велика была пропасть между старым и
новым монашеством, как мятежен переворот Франциска и
Доминика. Семья думала, что Фома хочет быть монахом, и
не беспокоилась — дверь была открыта, ковер расстелен, иди
и садись на высокое место. Он сказал, что идет в доминикан-
цы, и все кинулись на него словно звери. Братья преследова-
ли его, изловили, разорвали нищенские одежды, связали его
и заперли в башне, как безумца.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
333
Не так просто проследить, как шла семейная ссора и как
разбилась она об упорство молодого монаха. По одним ис-
точникам, мать противилась недолго и перешла на его сторо-
ну. Но правители Европы, почти все — его родня, были очень
им недовольны, попросили даже папу вмешаться и одно вре-
мя надеялись, что Фома будет носить одежду доминиканца
в бенедиктинском монастыре. Многим это показалось очень
тактичным компромиссом, но не так судил узкий, средневе-
ковый Фома. Он резко ответил, что хочет быть нищим не на
карнавале, а в нищенствующем ордене, и дипломатичное
предложение провалилось.
Томмазо д’Аквино хотел быть нищим. Современники его
дивились, и мы дивимся, ибо за всю его жизнь у него больше
не было практических, действенных желаний. Он не хотел
быть аббатом, не хотел быть оседлым монахом, всю жизнь
отказывался от любого поста в своем ордене — он всегда
просто хотел быть одним из нищих братьев. Это так же стран-
но, как если бы Наполеон захотел всю жизнь быть простым
солдатом. Толстый, тихий, ученый, даже академичный вель-
можа не мог успокоиться, пока его твердо и официально не
признают нищим. Это особенно любопытно потому, что, хотя
он в тысячи раз превысил свой долг, он почти не нищенство-
вал, да и вряд ли стал бы хорошим нищим. Он не родился
бродячим певцом, как Франциск, или миссионером, как До-
миник. Он вообще не любил бродить. Но он упорно хотел
подчиниться строгому уставу и делать то, что ему прикажут.
Поневоле сравнишь его с самыми честными из аристокра-
тов, которые шли в революцию.
Доминик и Франциск смелостью и упорством бросили
вызов глубокому чувству справедливости. Фома был разу-
мен, даже дипломатичен, но ничто не могло поколебать ре-
шения, которое он принял в юности, и он не изменил дерзно-
венному, гордому замыслу — всегда быть на самом послед-
нем месте.
Глава доминиканцев, вероятно, знал о попытках удержать
^ому и понимал, как трудно бороться с его родными. Он
334 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
решил услать юного минорита из Италии и послал его с дру-
гими доминиканцами в Париж. Даже в первом шаге бродя-
чего учителя наций было что-то пророческое, ибо Париж стал
целью его духовного пути, там защищал он миноритов и Ари-
стотеля. Но едва монахи дошли до источника у поворота до-
роги, севернее Рима, на них напала целая кавалькада. Всад-
ники схватили Фому, связали и увезли, хотя были они не
разбойники, а его чрезмерно взволнованные братья. Схва-
тили его, вероятно, двое, всего же их было семеро, и сторон-
ники контроля над рождаемостью могут сокрушаться, что
после благородных разбойников родился еще и философ. Как
бы то ни было, дело это странное. Есть что-то занятное и
живописное в том, чтобы похитить нищего монаха, которого
можно назвать беглым аббатом. Троица братьев и смешна, и
трагична. Пылкие замыслы людей, которых называют прак-
тичными, столкнулись с гораздо более практичным упорством
того, кого назвали бы отрешенным.
Так вступили братья на свой скорбный путь вместе, как
преступник с полицейским, хотя здесь полицейскими были
преступники. Такими мелькнули они на фоне истории —
братья, мрачнее которых не было со времен Авеля44. В сы-
новьях графа Аквинского воплотилось то самое, из-за чего
средневековье остается тайной для нас; одни считают его чи-
стым светом, другие — непроглядной тьмой. Двое из них оли-
цетворяли дикую гордыню знатных и, подобно дикарям,
танцующим вокруг тотема, забыли обо всем, кроме рода, а
он еще уже, чем племя, и гораздо уже, чем нация. Третий
брат (наверное, похожий на них) понимал братство людей
куда шире, чем наши демократы. Он верил в милость и сми-
рение, и доброта его была много глубже, чем современная
мягкость манер. Он дал обет нищеты, что сочли бы чрезмер-
ным противники богатства и знатности. Из одного и того же
замка вышли два дикаря и один мудрец или один святой, го-
раздо более мирный, чем наши миротворцы. В том и загадка.
Эти века — не одна эпоха, а две. Мы долго читаем о людях,
годных разве что для каменного века, и вдруг встречаем та-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
355
ких, словно попали в век золотой или в самую современную
из мыслимых утопий. Всегда были хорошие люди и плохие,
но тогда хорошие и тонкие люди жили вместе с плохими и
грубыми. Они рождались в одной семье, росли в одной дет-
ской, а потом боролись друг с другом, как боролись братья с
Фомой, когда тащили его по дороге и запирали в башне.
Родные пытались лишить его нищенской одежды, но он
проявил воинственность предков и победил бы, если бы они
не отступились. Заточению он подчинился со всем спокой-
ствием; видимо, ему было не так важно, где размышлять —
в башне или в келье. Только один раз он вышел из себя; ни
раньше, ни позже он так не гневался. Современников его это
поразило по более важным причинам, но есть тут и психоло-
гический, и нравственный смысл. В первый и последний раз
Фома поистине себя не помнил. Буря вырвалась из башни
размышления и созерцания, в которой он обычно жил. Было
это тогда, когда братья подослали к нему размалеванную
блудницу, желая застать его врасплох и совратить или хотя
бы ввести в соблазн. Гнев его был бы оправдан при более
низких нравственных притязаниях, чем у него, ибо братья
поступили не только плохо, но и низко. Для него было оче-
видно, что они знают (и они знали, что знает он), как оскор-
бит его само предположение, что он поддастся столь грубой
провокации. Но обида еще горше — она ударяла по дерзно-
венному стремлению умалить себя, которое было для него
гласом небесным. В этой вспышке, как в свете молнии, ви-
дим мы, насколько разъярился этот тихий тучный человек.
Он вскочил, схватил из огня головню и замахнулся ею как
пламенным мечом. Девица, конечно, закричала и кинулась
из комнаты, чего он и добивался, как, должно быть, напугал
ее огромный безумец, жонглирующий пламенем! Он мог под-
жечь дом, но только кинулся за нею, с грохотом захлопнул
дверь и, дважды ударив головней, начертал на ней большой
черный крест. Потом вернулся, положил головню в огонь и
снова сел на свое место, где так любил размышлять, на тай-
ный трон созерцания, которого больше не покинул.
336
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Глава III
АРИСТОТЕЛЕВА РЕВОЛЮЦИЯ
Альберт, немец, по праву прозванный Великим, был ос-
нователем современной науки. Он сделал больше всех, чтобы
подготовить процесс, превративший алхимика в химика и аст-
ролога в астронома. Он был одним из первых астрономов, но
остался в предании одним из последних астрологов. Серьез-
ные историки уже не придерживаются нелепого мнения, что
средневековая церковь преследовала всех ученых и считала их
колдунами. На самом деле было как раз наоборот — миряне
считали их колдунами, за что нередко преследовали, а чаще
почитали. Только Церковь видела в них именно ученых. Гру-
бые, невежественные соседи винили в колдовстве любозна-
тельных клириков, возившихся с зеркалами и линзами, и ни-
чего бы не изменилось, если бы эти соседи были язычниками,
пуританами или адвентистами седьмого дня45. Даже когда ду-
ховенство осуждало ученого за колдовство, это было лучше,
чем самосуд. Папа не обвинял в колдовстве Альберта Велико-
го. Это полуязыческие северные племена поклонялись ему как
магу. Это полуязычники современных городов, читатели де-
шевых брошюр, шарлатанских памфлетов и газетных проро-
честв еще восхищаются им как астрологом. Давно признано,
что для своего времени он знал поразительно много. Конечно,
его ограничивал уровень тогдашней науки, но это никак не свя-
зано с его верой. Аристотель, философ великой античности,
знал еще меньше. И вообще, дело тут не столько в фактах,
сколько в отношении к ним. Схоласты принимали на веру све-
дения о единорогах и саламандрах, но использовали их не как
факты, а как материал для логических выкладок. Они говори-
ли: «Если у единорога один рог, то у двух единорогов столько
рогов, сколько у одной коровы», а это верно, даже если еди-
норогов не существует. Однако Альберт в средневековье, как
Аристотель в древности, задумывался над тем, действительно
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
337
ли у единорога один рог; правда ли, что саламандра родилась в
огне, а не у огня, где рассказывают сказки. Когда раздвину-
лись горизонты, ученые смогли исследовать огонь и пустыню
и отказаться от веры в саламандр и единорогов. За что, есте-
ственно, их презирает поколение, которое только что обнару-
жило, что Ньютон — дурак, пространство ограничено и нет в
природе последней, неделимой частицы.
Великий немец, прославившийся в Париже, преподавал
до этого в Кельне. В прекрасный римский город46 стекались
к нему любители ни на что не похожей жизни — студенчес-
кой жизни средних веков. Они приходили толпами, из раз-
ных стран, и это неплохо иллюстрирует разницу между сред-
невековым и современным национализмом. В любую минуту
испанцы могли поссориться с шотландцами, фламандцы —
с французами, сверкали мечи, летели камни, — но все сту-
денты учились в одном городе, у одного философа. Перед
ними, явившимися с разных концов света, разворачивал отец
науки свиток удивительных знаний о солнце и о кометах, о
рыбах и о птицах. Он следовал Аристотелю, развивая толь-
ко одну часть его учения, и в этом был вполне самобытен.
Там, где речь шла о человеке или об этике, он к самобытно-
сти не стремился — его удовлетворял смиренный, охристиа-
ненный Аристотель. Он даже готов был найти компромисс
между чисто философскими выводами номиналистов и реа-
листов. Альберт не стал бы вести один великую битву за урав-
новешенную и человечную веру, но когда эта битва началась,
он в ней участвовал. За большую ученость его прозвали учи-
телем всех наук, Doctor Universalis*, но скорее он был спе-
циалистом. Предание не ошибается: если ученые — колду-
ны, он был колдуном. Ученый и вправду больше похож на
колдуна, чем на священника, ибо усмиряет стихии, а не под-
чиняется Духу, который проще стихий.
Среди его учеников был один, выделявшийся толщиной
и ростом и ни за что не желавший выделяться чем-нибудь
* Универсальный доктор (лат.).
338 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
еще. Когда другие спорили, он всегда молчал, и товарищи
признали его тупым. Он был для них переростком, нелепым
увальнем, и они прозвали его бессловесным волом. Над ним
не только смеялись — его жалели. Один сердобольный сту-
дент так сильно пожалел его, что решил объяснить ему осно-
вы логики, как объясняют букварь. Тупой студент поблаго-
дарил его кротко и вежливо, и великодушный благодетель
бодро объяснял, пока сам не дошел до места, в котором был
не очень тверд, вернее, совсем не разбирался. Тогда тупой
виновато и смущенно предложил решение, как ни странно —
правильное. Коллега уставился на него, как на чудовище, и
странные слухи поползли по Кельну.
Биограф говорит, что к концу беседы «любовь к истине
возобладала над смирением»47. Немногочисленные предания
о Фоме становятся на редкость живыми, если мы хорошо
представим себе особый человеческий тип, и этот пример нам
поможет. Обобщающему уму трудно приспособиться к обыч-
ной жизни; люди, по-настоящему хорошо воспитанные, стес-
няются выказывать себя; и, наконец, человек такого типа
предпочитает недоразумение длинным объяснениям. Все это
есть в рассказанной истории. Главное в ней — исключитель-
ное смирение исключительного человека. Но было и другое,
«любовь к истине», о которой нельзя забывать, когда гово-
ришь о святом Фоме. Каким бы отрешенным, рассеянным,
погруженным в себя он ни был, он никогда не терял разума.
Если его учили неправильно, что-то возмущалось в нем: «Нет,
не могу!»
Вполне вероятно, что сам Альберт, ученый учитель, пер-
вый что-то заподозрил. Он стал давать Фоме небольшие
задания, убеждая его преодолеть застенчивость и принять
участие в спорах. Он был проницателен и разбирался не толь-
ко в единорогах, но и в самом диковинном из чудищ — в
человеке. Он знал приметы и признаки тех, кто, на свой не-
винный лад, особенно удивительны среди людей. Как все
хорошие учителя, он понимал, что тупой ученик не всегда туп.
Все это естественно, и все же есть что-то странное и симво-
личное в том, что он сделал. Фома Аквинат все еще молчал и
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ 339
ничем не выделялся, когда великий Альберт нарушил мол-
чание своими прославленными словами: «Вы зовете его ту-
пым волом. Говорю вам, вол взревет так громко, что рев его
оглушит мир».
Святой Фома был всегда готов с добродушным смире-
нием благодарить Альберта, и Аристотеля, и Августина, и
многих других, совсем уж древних, за то, что они научили
его думать. Однако на самом деле он пошел гораздо дальше
учителя и других аристотелианцев, как пошел дальше Авгу-
стина и его школы. Альберт обратил наше внимание к при-
роде, к фактам, пусть таким, как единорог и саламандра, но
чудище, называемое человеком, нуждалось в более глубоком
и тонком исследовании. Фома и Альберт стали друзьями, и
дружба эта сыграла большую роль в важнейшей борьбе Сред-
невековья. Как мы увидим, оправдание Аристотеля было
настоящим переворотом — может быть, таким же важным,
как пыл Доминика и Франциска. Святому Фоме выпало иг-
рать огромную роль и в том, и в другом движении.
Семья д’Аквино в конце концов оставила Фому в покое.
Гадкий утенок (или черная овца — он ведь носил черный
плащ) всегда выпутывается из семейных ссор — утки или
белые овцы забывают о нем и кидаются друг на друга. Ка-
жется, часть семьи перешла на его сторону, еще когда он си-
дел в башне. Во всяком случае, достоверно известно, что он
очень любил сестер и потому вполне возможно, это они по-
могли ему бежать. По преданию, он спустил из башни верев-
ку, а они привязали к ней корзину — наверное, очень боль-
шую, потому что он сел в нее и спустился в мир. Там, в миру,
все еще травили нищенствующих монахов. Но Фоме посчаст-
ливилось — он попал под покровительство нищего, в чьей
респектабельности трудно было усомниться. Тот собирался
в Париж, чтобы получить степень доктора, но всякий знал,
что любой ход в этой игре — вызов. Альберт выставил только
одно требование, которое, наверное, показалось странным, —
он хотел взять с собой своего бессловесного вола. Они дви-
нулись в путь как простые монахи, бродяги веры, ночевали в
случайных монастырях и пришли наконец в Париж, в монас-
340
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
тырь святого Иакова, где Фома узнал еще одного монаха,
который стал ему другом.
Может быть, именно потому, что все минориты были под
угрозой, францисканец Бонавентура так подружился с до-
миниканцем Фомой, что современники сравнивали их с Да-
видом и Ионафаном48. Казалось бы, францисканцы проти-
воположны доминиканцам. Бонавентура был мистиком, а
мистики — те, для кого высшая радость в чувстве, а не в
мысли. Их девизом всегда было «вкуси и убедись». Фома
говорит то же самое, но имеет в виду иное — первые, самые
простые ощущения животного по имени человек. Можно ска-
зать, что он идет от чувственно-ощутимого, как вкус яблока,
и приходит к жизни разума в Боге, а мистик истощает разум,
дабы узнать в конце концов, что ощущение Бога подобно
вкусу яблока. И оба правы — вот привилегия тех, кто со-
здает свое, неповторимое мироздание. Прав мистик, для ко-
торого отношения Бога и человека — история любви, про-
образ всех любовных историй. Прав мудрец, чей разум на-
ходит свой дом на небесах, и тяга к истине — сильнее всех
скучных человеческих страстей.
И Фоме, и Бонавентуре придавало мужества то, что оба
они правы, а весь мир считает их неправыми. В смутное вре-
мя тех, кто хочет поправить дело, обвиняют в том, что они
хотят дело запутать. Никто не знал, кто же победит — ис-
лам, или манихеи, или двуличный император, или крестонос-
цы, или старые ордена. Но многие ощущали, что все трещит,
и знаком смуты считали две вещи: словно греческий бог, обер-
нувшийся божеством Востока, явился от арабов Аристотель,
а здесь, у себя, нищие монахи провозгласили неведомую
прежде свободу. Монастыри открылись, монахи пошли по
миру, и многим казалось, что они летают, словно искры огня,
прежде замкнутого в очаге.
Они пламенели какой-то дикой любовью к Богу, и мно-
гие ощущали, что призывами к совершенству они совсем ли-
шают равновесия обычных людей. Многие боялись, что они
превратятся в демагогов, и кончилось это прославленной кни-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
341
гой яростного сторонника старины, Гийома де Сент Амур49.
Он требовал от папы и от короля, чтобы те начали расследо-
вание. Тогда Фома с Бонавентурой понесли в Рим свои не-
мыслимые миры, чтобы защитить свободу нищих братьев.
Фома защищал обеты своей юности — любовь к свободе
и любовь к бедным. Ему удалось их защитить. Сведущие люди
говорят, что, если бы не он, великое народное движение пре-
кратилось бы. После этой победы неуклюжий тихий школяр
стал знаменитостью, общественным деятелем. С той поры его
имя отождествляли с нищенствующими орденами. И впрямь
он обрел известность, защищая эти ордена от поборников про-
шлого, которые думали так же, как его семья; но стать знаме-
нитым — совсем не то, что делать свое дело. Дело Фомы
Аквината было еще впереди, но даже менее умные люди, чем
он, могли заметить, что оно все ближе. Можно сказать, что
опасность приближалась оттуда, где царило правоверие, точ-
нее, царили те, кто слишком легко олицетворял с правоверием
все старое и требовал раз и навсегда осудить Аристотеля. Кое-
где его и осудили; противники его все сильнее давили на папу
и на судей; опасность возникла потому, что ислам был очень
близко от Византии. Арабы завладели греческими рукопися-
ми раньше, чем латиняне, истинные наследники греков. Му-
сульмане (хотя и не самые правоверные) превращали учение
Аристотеля в пантеизм50, совсем уж неприемлемый для пра-
воверных христиан. Этот, второй спор нуждается в объясне-
нии еще больше, чем первый. Теперь многие знают, что свя-
той Франциск был деятель прогрессивный, а его движение,
более или менее народное, вело к братству и свободе. Немного
дополнительных сведений убедит нас, что все это можно отне-
сти и к доминиканцам. Никто в наше время не станет на сторо-
ну старых орденов, против таких наглых мятежников, как свя-
той Франциск или святой Фома. Словом, спор о нищенству-
ющих можно изложить кратко. Но о другом великом споре
рассказать труднее.
Вероятно, на свете не было ни одной революции. Бывали
только контрреволюции. Люди всегда восставали против по-
342
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
следних мятежников или, на худой конец, раскаивались в по-
следнем мятеже. Это было бы легко увидеть на примере со-
временной моды, если бы современный ум не считал послед-
ний мятеж протестом против всего прошлого. Помадки и кок-
тейли современной девицы — протест против прав женщи-
ны, против высоких воротничков и строгой трезвости,
которые, в свою очередь, не что иное, как протест против
альбома с цитатами из Байрона и томных вальсов виктори-
анской леди, восстающей против матери-пуританки, для ко-
торой вальс был дикой оргией, а Байрон — большевиком.
Загляните, однако, за плечо упомянутой матери, и вы увиди-
те ненавистную ей распущенность эпохи кавалеров, которые
бросали вызов пуританам, а уж те бросали вызов католиче-
скому укладу, сложившемуся как протест против уклада язы-
ческого. Только сумасшедший может назвать все это про-
грессом. Как видите, мы просто мечемся то туда, то сюда.
Кто бы ни оказался прав, неправильно одно: если смотреть
только с нашего конца, выйдет, что девицы восстают против
чего-то непонятного, возникшего неведомо когда и неведомо
зачем. Восставая, они ничего не знают о начале, тем самым —
о сущности того, против чего восстают.
Когда люди Нового времени закрыли прошлое покровом
чернейшего в истории мракобесия и решили, что не было ни-
чего мало-мальски стоящего до Возрождения и Реформации,
начали они с того, что не поняли платоников. При дворе за-
носчивых правителей XVI столетия (как раз досюда разре-
шают углубляться в историю) они обнаружили поэтов и уче-
ных, враждебных церкви, которые устали от Аристотеля и, по
некоторым подозрениям, тайно увлекались Платоном. Совре-
менные люди, ничего не знающие о средних веках, тут же по-
пались в ловушку. Они решили, что Аристотель — нелепый и
тупой пережиток мрачного Средневековья, а Платон — ус-
лада античности, неведомая христианам. Конечно, на самом
деле .все было наоборот. Устаревшей догмою было учение
Платона. Современным и революционным было учение Ари-
стотеля. А во главе революции стоял человек, о котором я пишу-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
343
Да, католическая церковь начала с Платона. Она начала,
я бы сказал, с излишней верности Платону. Учением Плато-
на был насыщен золотой воздух Греции, которым дышали
первые греческие богословы. Великие отцы церкви были куда
более последовательными неоплатониками, чем мыслители
Возрождения (которых можно назвать разве неонеоплато-
никами). Для Иоанна Златоуста или Василия Великого51
понятия Логоса или Премудрости были так же естественны,
как естественны в наши дни социальные проблемы, прогресс
или экономический кризис. Августин, естественно, перешел
от манихейства к Платону, а от Платона — к христианству.
Уже на его примере можно увидеть, как опасна излишняя
верность Платону.
Начиная с Возрождения люди воспылали какой-то ди-
кой любовью к античности. Теперь считают, что Средневе-
ковье все взяло у греков: идеи — у Платона, разум и на-
уку — у Аристотеля. А было не так. Во многом — даже с
современной, самой скучной точки зрения — католичество
обогнало на века и Платона, и Аристотеля. Можно увидеть
это хотя бы в утомительном упорстве астрологии. Филосо-
фы согласны с суеверием, святые и прочий суеверный люд —
не согласны, но и святым было нелегко отрешиться от этого
суеверия. Те, кто хулил Аквината за приверженность к Ари-
стотелю, исповедовали два взгляда, довольно занятных для
наших дней. Они считали, что небесные тела правят нашей
жизнью. Они считали, что в мире есть единый, общий ра-
зум, а это несовместимо с верой в бессмертие, тем самым —
с верой в личность. И то, и другое существует сейчас, вот
как сильна власть язычества. Астрология заполонила газе-
ты; другое учение, в сотой своей форме, зовется коммуниз-
мом, душою улья.
Когда я восхваляю аристотелеву революцию и вождя ее,
Аквината, я совсем не хочу сказать, что прежде схоласты не
были философами или не знали античности. Пробел в фило-
софии — не до Фомы, и не в начале Средних веков, а после
Фомы, в начале Нового времени. Великая философская пре-
344
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
емственность, которая идет от Пифагора и Платона, не пре-
рывалась ни падением Рима, ни торжеством Аттилы52, ни
варварами. Она оборвалась, когда изобрели книгопечатание,
открыли Америку, озарили мир славой Возрождения. Именно
тогда оборвалась или была оборвана длинная тонкая нить,
протянутая из далекой древности, — нить странной тяги к
размышлениям. Пришлось ждать XVIII, в лучшем случае —
конца XVII века, чтобы стали известны хотя бы имена но-
вых философов, которые были поистине философами нового
рода. Упадок Рима, Темные века, начало Средних — фило-
софию не презирали, хотя и не замечали тех, кто расходился
во мнении с Платоном. У святого Фомы, как у многих нова-
торов, хорошая родословная. Он сам постоянно ссылается на
авторитеты, от святого Альберта до святого Ансельма, от
святого Ансельма до святого Августина; и, споря с ними, он
их признает.
Очень ученый англиканин как-то сказал мне: «Понять
не могу, почему все считают Аквината основоположником
схоластики. На самом деле он положил ей конец». Сердился
он при этом или не сердился, святой Фома ответил бы очень
учтиво. Сохранить учтивость не так уж трудно, ибо ответ
легок: на языке томизма «конец» — не уничтожение, но свер-
шение. Что ж, томизм — конец философии, как Господь —
конец творения. Мы не исчезаем в Боге, а становимся веч-
ными, как вечная философия Фомы53. Мой достойный собе-
седник прав — династии мыслителей кончались, венчались
переворотом. Мало того, переворот можно было предвидеть.
Мы не обидим великого Стагирита, если скажем, что в опре-
деленном смысле он построил фундамент философии, гру-
бый по сравнению с тонкостями средневековой мысли, что
он положил яркие мазки, а схоласты занялись тончайшими
оттенками. Быть может, это — преувеличение, но в нем есть
правда. Как бы то ни было, Аристотеля, не говоря о Плато-
не, ко времени Фомы давно и хорошо толковали. Если потом
это выродилось, философы расщепляли волос — занятие их
все равно было тонким и требовало острых орудий.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
345
Аристотелев переворот перевернул все потому, что был
истинно христианским. Самые христианские силы осуществи-
ли его. Святой Фома не меньше святого Франциска ощу-
щал, что вера, хоть и покоится на прочной основе доктрины и
дисциплины, несколько выдохлась за тысячу с лишним лет и
ее надо осветить новым светом, показать под новым углом.
У него не было другой цели — он просто хотел сделать веру
доступной всем, чтобы всех спасти. К его времени она стала
слишком неземной и тем самым не слишком доступной. Для
того чтобы христианство снова стало религией здравого смыс-
ла, был нужен крепкий, простой привкус Аристотелева уче-
ния. И повод, и самый метод станут яснее, когда мы увидим,
как боролся Фома против последователей Августина.
Нельзя забывать, что греческое влияние не прекраща-
лось. Оно шло из Византии и было византийским в самом
плохом и в самом хорошем смысле слова. Оно было строгим
и четким и немножко страшным, как византийское искусст-
во; восточным и упадочным, как византийский этикет. Ви-
зантия медленно превращалась в азиатскую теократию, по-
добную той, которая служила священным китайским импе-
раторам. Восточное христианство теряло объемность, как
святые на иконах. Удивительно, что Восток стал миром кре-
ста, а Запад — миром Распятия. Греки поклонялись сверка-
ющему символу и теряли человечность, варвары поклоня-
лись орудию казни и становились человечными. Христиан-
ская теология все больше и больше становилась каким-то ис-
сохшим Платоновым учением; растворялась в абстракциях,
сводилась к последней, пусть и высокой, абстракции и ухо-
дила от великой истины, прямо противоположной абстракци-
ям — от истины Воплощения. Слово не становилось пло-
тью. Тысячей тончайших нитей оплетал этот дух мир хрис-
тианства оттуда, где священный император сидел среди зо-
лотой мозаики, и плоские плиты Византии были удобным
путем для Магомета. Крест становился декоративным атри-
бутом, вроде полумесяца, греческого ключа или колеса Буд-
ды54. Но мир декоративных символов — бесплоден, грече-
346 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ским ключом не открыть ни одной двери, и колесо Будды
вращается на месте.
Благодаря всему этому, а отчасти благодаря неизбежно-
му подвигу аскезы христианство стало исключительно духов-
ным, забыло о теле и подошло ближе, чем надо, к манихей-
ству. Опасно было не то, что святые истязали плоть, а то, что
мудрецы не принимали ее во внимание. Августин-платоник
опаснее Августина-манихея. Сами того не зная, мыслители
впадали в ересь. Они разделяли Троицу: Бог был для них
только Духом Святым. Вот почему такие, как Фома, сочли
нужным призвать на помощь Аристотеля — философа, при-
нимавшего вещи такими, как он их видел; сам же Фома при-
нимал их такими, как их создал Бог. Святой Фома спас че-
ловечность в христианской теологии, хотя для этого ему при-
шлось обратиться к языческой философии. Но, как всегда,
человечное — и есть христианское.
Страх перед Аристотелем, охвативший князей церкви,
был подобен сухому ветру пустыни. В сущности, боялись
они не Аристотеля, а Магомета, и это нелепо, потому что
куда труднее примирить Аристотеля с Магометом, чем с
Христом. Ислам по самой своей сущности — простая вера
для простых людей. А никто на свете не мог бы сделать пан-
теизм простой верой — он для этого и слишком абстрактен,
и слишком сложен. Одни верят в Бога; другие, попроще, не
верят, но мало кто может просто и без затей принять как
Бога лишенный Бога мир. У мусульман Бог не так челове-
чен, как у нас, однако Он более конкретен. Воля Аллаха
очень сильна, ее не назовешь намерением или тенденцией.
Отвлеченные, философские понятия куда легче согласуются
с христианством. Если мусульманин хороший философ,
он — плохой мусульманин. Однако епископы и ученые боя-
лись, как бы Фома и его друзья не стали плохими христиана-
ми. Некоторые даже считали их плохими философами. Про-
тив Аристотеля были и почтение к Платону, и страх перед
Магометом. С высоких кафедр летели анафемы. И одно вре-
мя казалось, что только два человека в бело-черных одеждах
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
347
доминиканцев стоят против всех. Но Фома и Альберт сто-
яли твердо.
В таких битвах положение часто меняется, большинство
становится меньшинством, меньшинство — большинством,
и всегда нелегко сказать, когда все переменилось. Два доми-
никанца стояли одни против всех — и вот уже вся церковь
идет за ними. Мне кажется, перелом произошел тогда, когда
Фома и Альберт предстали перед суровым, но справедли-
вым судьей. Этьен Темпье, епископ Парижский, — по-ви-
димому, фанатик, для которого любовь к Аристотелю была
почти поклонением Аполлону, — оказался, как на беду, еще
и ярым врагом нищенствующих братьев. Однако он был чес-
тен, а Фоме только и нужно было, чтобы его выслушал чест-
ный, справедливый человек. Вокруг него толклись другие дру-
зья Аристотеля, куда более сомнительные, чем враг его, епис-
коп Парижский. Был среди них Сигер, софист из Брабанта55,
взявший Аристотеля у арабов и пытавшийся доказать, что аг-
ностик арабского толка может быть христианином. Были по-
клонники Абеляра56 опьяненные юностью XIII века и вином
Стагиры. А против них неумолимо стояли хмурые, как пури-
тане, последователи Августина, для которых разумные Аль-
берт и Фома не так уж отличались от хитроумных мусуль-
манских мудрецов.
Может показаться, что победа Фомы была его личной по-
бедой. Он отстоял свои взгляды, хотя, возможно, епископ и
осудил после его смерти некоторые из них. Как бы то ни было,
Фома убедил почти всех противников, что он такой же хоро-
ший католик, как они. Конечно, распри орденов не прекрати-
лись. Но если Фома сумел хотя бы в чем-то убедить такого
человека, как Темпье, значит, главной распре пришел конец.
То, что было понятно немногим, поняли многие: можно изу-
чать Аристотеля и быть добрым христианином. За сценой, в
Риме (папа был терпимей епископа) друзья Аквината труди-
лись над переводом Стагирита. Когда его прочитали и поняли,
великая греческая философия прочно вошла в христианство.
Это называли, не без юмора, крещением Аристотеля.
348
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Все мы слышали о скромности людей науки. Мы знаем,
как много на свете скромных ученых и как гордятся своей
скромностью все остальные. Фома Аквинат был скромен,
как настоящий ученый, ведь он был смиренен, как настоя-
щий святой. Правда, он не внес ничего конкретного в есте-
ственные науки и в этом смысле был ниже своего учителя; но
он всегда защищал свободу науки. Если правильно его по-
нять, увидишь, как много он сделал, чтобы охранить науку
от преследования невежд. Например, он первый заметил то,
что накрепко забыли потом за четыре века церковных битв.
Он понял, что смысл Писания далеко не очевиден, и нередко
мы должны толковать его в свете других истин. Если бук-
вальное толкование противоречит бесспорному факту, при-
ходится признать, что буквальное толкование ложно. Необ-
ходимо только, чтобы факт был действительно бесспорен.
К сожалению, ученые прошлого века признавали бесспор-
ной любую догадку о природе так же охотно, как сектанты
XVII признавали бесспорной любую догадку о смысле того
или иного текста из Писания. Так личные домыслы о Писа-
нии столкнулись со скороспелыми догадками о мире; это стол-
кновение двух нетерпеливых форм невежества зовется спо-
ром науки и религии.
Святому Фоме было дано смирение истого ученого —
он всегда был готов занять самое низкое место, изучать са-
мые ничтожные факты. В отличие от нынешних ученых, он
изучал червя так, словно это — весь мир; но он пытался по-
нять мир, изучая червя. Следуя Аристотелю, он считал, что
изучение ничтожнейших фактов приводит к постижению
высшей истины. Правда, его занимала не биология, а логика,
он был не естествоиспытателем, а философом, но не в этом
дело, он знал, что надо начинать с низших ступеней лестни-
цы. Тем, кто занимается более практической стороной наук,
он дал охранную грамоту — свое учение о науке и Библии.
В сущности, он сказал, что, если открытия доказаны, тради-
ционное толкование текста должно посторониться. Как го-
ворят теперь, лучше не скажешь. Если бы богословием зани-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИИ
349
мались только такие люди, не было бы распри между наукой
и религией. Он выделил каждой из них свою землю и про-
чертил границу.
Нередко и охотно говорят, что христианство потерпело
поражение. Это значит, что оно так и не обрело той насиль-
ственной власти, которая завершает всякую революцию (а по-
том терпит поражение). Не было в истории момента, когда
можно было сказать, что все люди — христиане, хотя быва-
ли месяцы, когда предполагалось, что все поголовно роялис-
ты или республиканцы. Но если здравомыслящий историк
захочет понять, в каком смысле христианство побеждает, вряд
ли он найдет лучший пример, чем победа святого Фомы.
Защищая здравомыслие язычников, недавно выкопанное из
могилы на забаву еретикам, святой Фома Аквинат оказывал
на людей огромное нравственное влияние. Человек нового
типа новым и разумным путем повел защиту разума, и все
забыли, что прокляты храмы древних демонов, дворцы мерт-
вых деспотов. Они забыли и ярость мусульманства, против
которой боролись всю жизнь, ибо тот, кто призывал их вер-
нуться к разуму и чувствам, был не софистом, а святым. Ари-
стотель говорил, что благоразумный человек велик и знает,
что он велик. Но сам он не вернул бы своего величия, если
бы чудо не даровало нам совсем уж благородного человека,
который велик и знает, что он мал.
Важно для истории даже то, что многие назвали бы тя-
желовесностью слога. Она создает ощущение честности, про-
стодушия, и это, мне кажется, очень действовало на людей
той поры. Святого Фому иногда считают скептиком. На са-
мом же деле ему прощали скепсис именно потому, что он был
несомненным святым. Когда он упорно защищал Аристоте-
ля и нелегко было отличить его от неверных, его защитила, я
Думаю, чудесная сила простоты, бесспорная кротость, явная
любовь к истине. Тех, кто выступал против надменных ере-
тиков, останавливало могучее смирение, подобное горе или
скорее долине, из которой гора как бы вынута. При всех сред-
невековых условностях мы чувствуем, что с другими мятеж-
350 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
никами было не так. Другие, от Абеляра до Сигера, не могли
отказаться от позы. А про Фому никто и подумать не мог,
что он позирует. Даже тяжеловесность слога пошла ему на
пользу. Он мог быть не только умным, но и остроумным.
Однако он относился к делу так серьезно, что не позволял
себе обратиться за помощью к остроумию.
После победы пришла опасность. Так всегда бывает с
теми, кому приходится воевать на два фронта. Прежде всего
Аквинат защищал веру от тех, кто неверно толковал Арис-
тотеля, и смело взял Аристотеля себе в помощь. Он хорошо
знал, что атеисты и анархисты радуются его победе над тем,
что он так сильно любил. Однако не атеисты, и не арабы, и
не язычники смущали теперь Фому. Истинная опасность
пришла изнутри, и ее стоит рассмотреть всякому, кто еще не
понял странную историю христианства. В ней есть то, что
всегда есть в нашей вере, хотя этого и не видят ее нынешние
враги и даже нынешние друзья. Символически это выраже-
но в легенде об Антихристе, двойнике Христа, и в мудрой
пословице «Дьявол — обезьяна Бога». Когда ложь коснет-
ся нерва истины, христианство кричит от боли — ведь ложь
особенно лжива, если очень похожа на правду. Сигер Бра-
бантский, следуя арабским сторонникам Аристотеля, создал
учение, которое нашим читателям газет покажется очень по-
хожим на учение святого Фомы. Потому Фома и разгневал-
ся так сильно, что сам он завоевал философии и науке право
на исследование. Он расчистил почву для того, чтобы наука
и вера поняли друг друга, и позже католики это соблюдали, а
если же не соблюдали, случалась беда. Святой Фома считал,
что ученый может свободно изучать естественное, если он не
претендует на абсолютную истину, что противоречило бы
собственным его принципам. Церковь же должна уточнять и
развивать знания о сверхъестественном, если она не поку-
шается на золотой запас догматов, что противоречило бы соб-
ственным ее принципам. И когда он это сказал, явился Си-
гер Брабантский с учением, столь похожим и столь непохо-
жим, что оно могло отпугнуть самых избранных.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
351
Сигер сказал, что Церковь права с богословской точки
зрения, но может ошибаться с научной. Есть две истины: одна
о сверхъестественном мире и другая о мире естественном, с
ней несовместимая. Пока мы исследуем природу, мы вправе
считать христианство чушью. Если же мы случайно вспом-
ним, что мы — христиане, нам придется признать, что наша
вера хоть и чушь, но истина. Другими словами, Сигер раска-
лывает нашу голову надвое, провозглашая, что у человека
два сознания: одно может верить, другое — не верить. Мно-
гим это покажется пародией на томизм. На самом деле это —
конец томизму. Согласно Сигеру, не два верных пути ведут
к одной истине, но один сомнительный путь ведет к двум ис-
тинам, разным. Очень важно, что именно тут Фома взревел,
как раненый вол. Когда он встал, чтоб отвечать Сигеру, он
был не похож на себя — самый слог его изменился, словно
он заговорил не своим голосом. Он никогда не сердился на
тех, кто с ним не согласен. Но этот враг покусился на худ-
шее: он хотел, чтобы Фома согласился с ним.
Те, кто сетует, что богословы погрязли в тонкостях дог-
мы, навряд ли найдут лучший пример. Едва заметное разли-
чие может привести к прямо противоположным выводам.
Святой Фома разрешал идти к истине двумя путями, твердо
веря, что истина — одна. Именно потому что вера истинна,
ничто, обнаруженное в природе, не может ей противоречить.
Именно потому что вера истинна, ничто, основанное на вере,
не может противоречить науке. Святой Фома исключитель-
но смело положился на истинность веры и оказался прав.
Научные данные, которые считали в XIX веке несовмести-
мыми с верой, почти все оказались в XX веке ненаучными.
Материалисты — и те покидают материализм, а ученые,
проповедовавшие детерминизм даже в психологии, склоня-
ются теперь к индетерминизму в физике. Но прав ли он был
или нет, он твердо верил, что единая истина не может проти-
воречить себе самой. И тут последние его враги появились
невесть откуда, чтобы сказать, что они с ним вполне соглас-
ны, — да, есть две совершенно разные истины. Истина ока-
352
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
залась двуличной, и двуличные софисты посмели намекнуть,
что оба лица смотрят из-под доминиканского капюшона.
В своей последней битве Фома впервые взмахнул бое-
вым топориком. Он потерял отрешенное терпение, проявляв-
шееся во многих спорах. Он говорил: «Так обличаем мы
ошибку. Мы исходим не из истин веры, но из доводов и суж-
дений самих философов. Если кто-нибудь, кичась своей мни-
мой мудростью, хочет бросить вызов тому, что нами написа-
но, пусть говорит не в углу и не перед детьми, которым не
разобраться в столь сложном деле. Пусть он ответит откры-
то, если посмеет. Вот я, дабы ответить ему, и не только я,
недостойный, но и другие искатели истины. Мы сразимся с
его заблуждением или исцелим его невежество».
Бессловесный вол взревел, словно его загнали в угол, но
он не сдается. Мы уже говорили, почему Аквинат вложил
столько чисто нравственного пыла в спор с Сигером Брабант-
ским. Его победой воспользовались и предавали за его спи-
ной дело его жизни. Вероятно, в первый раз со времен юно-
сти он поддался гневу и снова ринулся на врага, размахивая
головней. Но даже во гневе он произнес слова, которые я
порекомендовал бы тем, кто сердится по менее важному по-
воду. Слова эти можно высечь на мраморе, ибо они показы-
вают, как спокоен и справедлив был его несравненный ра-
зум. Именно эта фраза, вырвавшаяся с лавою гнева, особен-
но типична для Фомы Аквината. Он сказал: «Мы исходим
не из истин веры, но из доводов и суждений самих филосо-
фов». Как было бы хорошо, если бы все богословы были так
разумны в спокойном споре, как разумен Фома во гневе! Как
было бы хорошо, если бы христианские апологеты помнили
его слова или хотя бы написали их крупно на стене, прежде
чем прибивать к ней свои тезисы!57 На вершине ярости свя-
той Фома понимал то, чего не понимают они. Бесполезно
ругать атеиста за то, что он атеист; нельзя убедить против-
ника, не исходя из его предпосылок. Или не спорь совсем,
или спорь на языке оппонента. Конечно, можно заменить спор
чем-нибудь другим — это уж зависит от широты наших нрав-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
353
ственных принципов; но если мы спорим, мы должны исхо-
дить из доводов и суждений противника. Святому Людови-
ку, королю Франции и другу святого Фомы, приписывают
фразу, которую недалекие люди считают образчиком нетер-
пимости. Король полагал, что с неверным можно спорить,
как спорит философ, или всадить в него меч. Истинный фи-
лософ (пусть и другой школы) первым признает, что святой
Людовик не погрешил против философии.
Так, в последней своей богословской битве Фома дал
друзьям и врагам не только урок богословия, но и урок спо-
ра. Спор и впрямь оказался последним. Как многие люди —
и грешные, и святые, — он любил спорить. Но после этой
победы ему вдруг захотелось тишины и покоя. Он сказал
очень странную фразу одному из своих друзей, но мы рас-
скажем об этом позже. Его потянуло к предельной простоте
монашеской жизни, он как бы хотел вечной отставки, но папа
снова возложил на него миссию спора58. Он повиновался, от-
правился в путь и умер.
Глава IV
РАЗМЫШЛЕНИЕ О МАНИХЕЯХ
О святом Фоме рассказывают историю, которая, подоб-
но молнии, освещает его не только снаружи, но и изнутри.
Она показывает нам не только дух времени и не только чело-
века (или комический персонаж) — нам на минуту приот-
крывается работа ума. Происшествие это, вполне обыден-
ное, было в ту пору, когда Фому то и дело отрывали от рабо-
ты, даже от игры, — ведь у него было редкое увлечение, он
любил думать. Мысль опьяняет некоторых сильнее, чем вино.
Фома отклонил много приглашений ко двору не потому, что
был угрюмым, — он им не был, — а потому, что вечно ду-
мал, рассуждал, доказывал, и ни на что другое не оставалось
времени. Но когда его пригласили ко двору Людовика IX,
354
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
более известного под именем Святого Людовика, домини-
канские власти велели ему согласиться, и он тут же тронулся
в путь, потому что был примерным монахом даже во сне, бо-
лее того — даже в постоянных своих раздумьях.
Часто сетуют на то, что в житиях все святые похожи. На
самом же деле нет людей, более разных, чем святые, — даже
преступники больше похожи друг на друга. Трудно найти свя-
тых, столь непохожих, как святой Людовик и святой Фома.
Святой Людовик родился королем и рыцарем. Он был из тех
смелых и простых людей, для которых естественно и совсем
нетрудно любое общественное дело. Святость и живость не
мешали друг другу, они сливались в действии. Он не так уж
много думал, вернее, не так уж много философствовал, но ко-
гда ему приходилось размышлять, мысль его была простой и
ясной, как всегда бывает у настоящих людей действия, кото-
рых на свете мало. Он никогда не ошибался, он был правове-
рен чутьем. В древней языческой мысли о мудреце-правителе
есть неточность, и открыть ее может только христианство.
Конечно, может случиться, что король очень хочет быть свя-
тым, но святой никогда не захочет быть королем. Хороший
человек не захочет править, но Церковь, в своей снисходи-
тельности, разрешает хорошему человеку быть правителем.
Людовику вряд ли мешал его сан — он правил Францией,
как служил бы в армии капитаном, даже сержантом. А чело-
век типа Фомы ни за что не стал бы королем, не втянулся бы в
королевскую политику, не захотел бы королевской роскоши.
Не только смирение — и неосознанная лень, и барское отвра-
щение к суете, которое часто можно встретить у очень образо-
ванных, медлительных и умных людей, держали его далеко от
путаниц придворной жизни. К тому же он всегда тщательно
отстранялся от политики, а в его пору самым дерзким, самым
поразительным символом политической силы был королевский
Париж.
Париж был поистине Aurora Borealis, Северной зарей.
Не надо забывать, что земли, расположенные ближе к Риму,
подтачивал языческий пессимизм Востока, самым прилич-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
355
ным представителем которого был ислам. Прованс трясла
лихорадка всеотрицания и дурной мистики, а Северная Фран-
ция дала мечи и копья, чтобы справиться с этой ересью59.
Там же, в Северной Франции, засверкали и копья — баш-
ни готических храмов. Мы видим готику мрачной, серой, но
башни эти были другими — невиданные и чудесные, как ле-
тающий корабль; белые и сверкающие, в золоте и красках
взлетали они к северному небу. После Людовика Святого
Париж белел, как лилии, и сверкал, как орифламма60. Рож-
далась великая французская нация, которой выпало положить
конец старой распре короля и папы в тех странах, откуда шел
Фома. Шел он неохотно и, если можно применить это слово
к столь кроткому человеку, угрюмо. Когда он вошел в Па-
риж, ему показали с холма сверкание шпилей, и кто-то ска-
зал: «Какое счастье владеть всем этим!»; а Фома тихо про-
изнес: «Я бы предпочел рукопись Златоуста, никак ее не
раздобуду».
Упирающуюся громаду, погруженную в раздумье, до-
ставили в конце концов ко двору, в королевский пиршествен-
ный зал. Можно предположить, что Фома был изысканно-
любезен с теми, кто к нему обращался, но говорил мало, и
скоро о нем забыли за самой блестящей и шумной болтовней
на свете — французской болтовней. Наверное, и он обо всех
забыл; но паузы бывают даже во французской болтовне.
Наступила такая пауза и тут. Уже давно не двигалась груда
черно-белых одежд — монах, нищий с улицы, похожий на
шута в трауре и совсем чужой в пестроте, сверкании и блеске
этой зари рыцарства. Его окружали треугольные щиты, и
флажки, и мечи, и копья, и стрельчатые окна, и конусы ка-
пюшонов — все остроконечное, острое, как французский дух.
А цвета были веселые, чистые, и одежды богатые, ибо свя-
той король сказал придворным: «Бегите тщеславия, но оде-
вайтесь получше, дабы жене было легче любить вас».
И тут кубки подпрыгнули, тяжелый стол пошатнулся —
монах опустил на него кулак, подобный каменной палице, и
взревел, словно очнувшись: «Вот что образумит манихеев!»
356
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
В королевских дворцах есть свои условности, даже если
король — святой. Придворные перепугались, словно толстый
монах из Италии бросил тарелку в Людовика и сшиб с него
корону. Все испуганно смотрели на грозный трон, где сотни
лет сидели Капеты61, и многие охотно схватили бы черного
попрошайку, чтобы выбросить в окно. Но Людовик, при всей
своей простоте, был не только кладезем рыцарской чести и
даже источником милости — в нем жили и французская га-
лантность, и французский юмор. Он тихо сказал придвор-
ным, чтобы они подсели к философу и записали мысль, при-
шедшую ему в голову, — наверное, она очень хорошая, а он,
не дай Бог, ее забудет.
Я рассказал об этом, во-первых, потому, что вся история
кажется мне моментальным снимком средневековой души,
вернее, двух средневековых душ. А во-вторых, она так ясно
показывает, чем был занят святой Фома, словно мы подслу-
шали его мысли. Совсем не случайно при белом дворе Людо-
вика он думал о темной туче манихейства.
Эта книга — только набросок биографии. Позже я кос-
нусь метода и самых мыслей Фомы — того, что теперешние
журналисты называют противным словом «вклад». Я могу
посвятить очень мало страниц его теологии и философии, но
то, о чем я собираюсь говорить, и шире, и уже, потому я и
должен предпослать эту главу другим. Я мог бы говорить о
его нравственной позиции, или о свойствах его натуры, или о
цели его жизни — ведь он знал лучше нас, что в жизни одна
цель, и лежит она за пределами этой жизни. Но если мы за-
хотим просто и ясно сказать, чего он хотел для мира и что
сделал, мы скажем: он стукнул кулаком по столу и образу-
мил манихеев.
Все это не совсем понятно тем, кто не изучал историю
Церкви, и, мне кажется, еще непонятней для тех, кто ее изу-
чал. История говорит нам, что к тому времени святой Доми-
ник и Симон де Монфор уже образумили манихеев, а теоло-
гия подсказывает, что богослов такого масштаба занимался
множеством ересей, кроме манихейства. Тем не менее имен-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИИ
357
но в этом воплотилась суть его дела. Именно так изменил он
историю христианства.
Я пишу эту главу, потому что один предрассудок мешает
нынешним людям понять святого Фому и его веру. Как мно-
гие монахи, особенно святые, Фома жил в строгом воздер-
жании, когда мог жить в роскоши. Аскетическое начало очень
сильно в христианстве. Христианский аскет хочет противо-
поставить свой дух силам природы, разделить муки Спаси-
теля, подготовить себя к мученичеству. В современном за-
падном мире аскетов очень мало, а если они встречаются, то
именно у единоверцев святого Фомы; и потому все считают,
что в аскезе — суть католичества. Редко встретишь постя-
щегося олдермена62, целомудренного денди и политика, дав-
шего обет молчания. И вот все убеждены, что в католичестве
нет ничего, кроме аскезы, а в аскезе — ничего, кроме песси-
мизма, и услужливо объясняют католикам, что их суровость
идет от восточной ненависти ко всему земному. Недавно я
обнаружил в одной ученой рецензии на книгу об Августине
удивительное наблюдение: оказывается, Церковь считает
плотскую любовь греховной по своей природе. Как в таком
случае брак оказался таинством и почему именно католики
не признают «контроля над рождаемостью», пусть критики
решают сами.
Наш современник замечает, что католическая церковь
высоко ставит аскетический идеал, а прочие обитатели Брик-
стона или Брайтона его ни во что не ставят, и спешит зая-
вить: «Вот они, плоды власти, лучше бы завести религию без
церковного авторитета». Выгляни он за пределы Брикстона
или Брайтона, он понял бы свою ошибку. Да, нелегко встре-
тить постящегося олдермена или молчаливого политика, но
еще труднее найти монахиню, подвесившую себя на крюк или
спящую на гвоздях. Католические ораторы из Гайд-Парка
не утыкают себя ножами, а если вы забредете к сельскому
священнику, вряд ли окажется, что он лежит на полу с кус-
ком горящей пакли на груди, издавая возвышенные крики.
Зато все это вы можете найти в Азии, где религиозный экс-
358
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
таз не сдерживается властью Церкви. Тот, кто знает чело-
веческую природу, знает и то, что вера — ужасная вещь. Она
поистине способна свести с ума, и очень часто Церкви при-
ходится не насаждать ее, а сдерживать. Аскетизм — борьба
со страстями — сам по себе могучая страсть. Его нельзя
изъять из числа странных страстей человеческих, но его мож-
но обуздать, и под властью Церкви он куда разумней и сдер-
жанней, чем при языческом или пуританском безвластии.
Вообще же аскетический идеал никак не может быть назван
сутью католичества. Это — не основа нашей философии, а
некий вывод из нашей этики. Если же мы обратимся к фило-
софии, мы поймем, что постящийся монах и голодающий фа-
кир прямо противоположны друг другу.
Никогда не поймет философию томизма, вообще филосо-
фию католичества тот, кто не понимает, что главное в ней —
хвала бытию и Господу, Творцу всего сущего. Все остальное
далеко не так важно и обусловлено не сутью, но осложнения-
ми нашей веры — скажем, первородным грехом. Трудность в
том, что правоверный католик мыслит на двух уровнях — на
уровне творения и на уровне грехопадения. Представим себе,
что на Англию напал враг: тогда в Кенте будет военное поло-
жение, ибо враг высадился на кентском побережье, а в Хер-
форде — сравнительная свобода. Но это не помешает англи-
чанину любить и Херфорд, и Кент. Он любит Англию — и ту
ее часть, которую спасет дисциплина, и ту, которая живет сво-
бодно. Любые крайности нашей аскезы — разумная или, если
хотите, неразумная мера против зол первородного греха; но
католик ничуть не сомневается в ценности тварного мира. На
Востоке аскетизм нередко идет от пессимизма — люди истя-
зают себя из ненависти к жизни, идут наперекор природе, а не
просто обуздывают ее. Миллионы людей это не приводит к
самоистязанию, но отрицание жизни играет и для них боль-
шую роль. Одна из исторических форм такого отрицания —
манихейство, заклятый враг христиан.
Учение манихеев, в самых разных своих видах, с какой-то
нерушимой изменчивостью нападало на нерушимое и неизмен-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИИ
359
ное. Оно напоминает сказку о чародее, обернувшемся змеей
или облачком, и есть в нем безымянная безответственность,
свойственная метафизике и этике азиатских стран, из которых
оно пришло. Оно изменчиво, но всегда так или иначе оно гла-
сит, что природа — зло или, по крайней мере, корень зла — в
природе. А если это так, значит, у зла есть свои права, как и у
добра. Иногда этот взгляд оборачивался дуализмом, провоз-
глашавшим зло равноправным соперником добра, а не узур-
патором. Чаще он воплощался в идее, что злые силы создали
материальный мир, добро же связано лишь с миром духов-
ным. Позже он принял форму кальвинизма, согласно которо-
му мир создал только Бог, но в этом мире Он сотворил и зло.
Если человек губит свою душу, он не нарушает, а выполняет
Божью волю. Древние манихеи отдали Сатане все дело творе-
ния, новые кальвинисты отдали Богу дело проклятия; но и те и
другие считали, что Создатель нашей земли, будь то дьявол
или Бог, создал земное зло.
В наше время повсюду кишат манихеи, и, наверное, мно-
гие согласятся с этим взглядом, некоторые немного удивят-
ся, некоторые не поймут, о чем же тут спорить. Чтобы они
поняли, надо рассказать кое-что о католической доктрине,
которая важна для нас не меньше, чем для средних веков.
«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма»63.
Обычно пессимист не понимает или не замечает в спешке, в
чем тут суть. А суть в том, что нет плохих вещей, есть только
плохие помыслы, дурные намерения. Только кальвинист спо-
собен верить, что ад вымощен благими намерениями64, — чем
угодно, только не ими! Хорошие вещи — земную жизнь и
плоть — можно испортить дурным побуждением, которое
от дьявола. Но дьявол не может испортить сами вещи, они
хороши, как в первый день творения. Дело небес материаль-
но — Бог создал материальный мир. Дело ада — только
Духовно.
Заблуждение это выступает в разных видах, но чаще, как
почти все заблуждения, — в двух: более грубом, нападаю-
щем извне на Церковь, и более тонком, разрушающем ее
360
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
изнутри. Церковь всегда разрывали надвое вторжение и пре-
дательство. «Борьба за существование» была в XIX веке
таким же внешним походом против Церкви, каким стало в
XX большевистское движение безбожников. Поклонение
успеху, восхищение бесчестными богачами, болтовня о «не-
приспособленных» (тут даже мысль не закончена — не при-
способленные к чему?) явно и открыто противоречит хрис-
тианству, как черная месса65. Но слабые, поддавшиеся миру
католики переняли эти понятия, защищая капитализм или
беспомощно противясь социализму, — во всяком случае,
употребляли их, пока великая энциклика о правах труда66 не
положила этому конец. Зло всегда терзало церковь извне и
изнутри. В XVII веке вовне был кальвинизм, внутри — ян-
сенисты. В XIII в. внешней опасностью были альбигойцы,
внутренняя же, потенциальная опасность крылась в слепом
следовании Августину. Августин в какой-то мере шел от
Платона, а Платон был прав, но не совсем. Если линия не
идет прямо к точке, она будет все дальше от нее по мере при-
ближения. За множество веков учение Платона подошло
очень близко к манихейству.
Привычные ошибки почти всегда верны. Почти всегда
они нащупывают истину, неведомую тем, кто поправляет
ошибающегося. По странному недоразумению люди нео-
бразованные понимают термин «платоническая любовь»
гораздо чище и возвышенней, чем образованные67. Но те,
кто знает, в чем заключалось одно из величайших зол Гре-
ции, поймут, что извращение нередко связано с преврат-
ным представлением о чистоте. Для манихеев чистота
отождествлялась с бесплодием. У святого Фомы чистота
всегда связана с плодовитостью — материальной, есте-
ственной, и сверхъестественной, духовной. Как я уже го-
ворил, есть правда в вульгарной фразе: «У Сусанны с Сэ-
мом совершенно платонические отношения». Действительно,
читая Платона, легко сделать вывод, что люди были бы
лучше без тел, что головы их могут улететь, как ангелы на
старых картинках, и сочетаться в небесах чисто духовным
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
361
браком. Последняя по времени вспышка такой философии
ослепила бедного Лоуренса, и он наговорил чепухи, не ве-
дая, что католическая доктрина брака сумела сказать многое
из того, что он придумал, хотя и без чепухи. Как бы то ни
было, любовь к Платону уже мешала не только любви к
Богу, но и любви к человеку. Многие мыслители Средне-
вековья, возмущенно отрицавшие альбигойскую доктрину
безбрачия, гнушались телом, а иногда и всем на свете.
Нам, нынешним, легче понять, как провинциальны и глу-
пы те, кто противится «всем этим догмам». Именно догма
спасла здравый смысл. Теперь любят говорить, что религия
связана лишь с чутьем и чувством. Если бы во времена, по
праву называвшиеся темными, победила религия чувства,
возобладали бы тьма и отчаяние. Именно твердая догма сдер-
жала натиск страшных чувств. Противники аскезы иногда
правы — многие наши отшельники чувствовали то же, что
факиры. Но они не могли думать, как факиры, потому что
были правоверными христианами. Догма велела им думать
здоровей и человечней. Отшельник не мог отрицать, что доб-
рый Бог создал нормальный и здравый мир, не мог утверж-
дать, что мир создал дьявол, — он не был манихеем. Тыся-
чи адептов безбрачия, убегавших в обители и пустыни, могли
бы счесть брак грехом, если бы полагались на свои чувства,
как теперь принято. К счастью, им пришлось положиться на
авторитет Церкви, которая ясно сказала, что брак не грехо-
вен. Религия чувств в современном вкусе мигом бы превра-
тила католичество в манихейство. Но когда вера могла дове-
сти человека до безумия, богословие спасало его.
Святой Фома, гений правоверия, напомнил людям о том,
что мир сотворен Богом. Он напомнил о созидании, когда
все жили разрушением. Пусть враги Средневековья ссыла-
ются на сотню-другую фраз, которые можно счесть песси-
мистическими, — не это главное. Человека средних веков
не слишком волновало, достаточно ли он современен, и он не
спешил подчиниться авторитету плохого настроения. Зато его
очень волновало, достаточно ли он правоверен. Святой Фома
362
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
мог доказать, что хвала Творцу и Его творческой радости —
правоверней, чем дух отчаяния, и потому он стал во главе
всего христианского мира, принявшего эту истину как поверку
правоверия. Нужно признать, что в этом огромном деле очень
большую роль сыграла сама его личность.
Как многие учители веры, он особенно подходил к мис-
сии, предначертанной ему Богом. Мы можем, если хотим,
назвать этот дар инстинктом; можем даже опуститься до слова
«темперамент».
Если вы хотите рассказать популярно о средневековом
мыслителе, вам приходится пользоваться современным и от-
нюдь не философским языком. Это не выпад против совре-
менности; мы столько возимся с чувствами и настроениями
(особенно когда говорим об искусстве), что создали обшир-
ный, хотя и не очень точный словарь. Современные филосо-
фы похожи скорее на поэтов, они придают свой оттенок ис-
тине и нередко смотрят на жизнь сквозь цветные очки. Если
мы скажем, что у Шопенгауэра они черные, а у Джеймса68—
порозовее, это поймут лучше, чем термины «пессимизм» и
«прагматизм». Мы этим злоупотребляем, но в этом есть свой
смысл, как был он в средневековой логике, хотя и ею зло-
употребляли в конце эпохи. И вот для одного свойства, кото-
рое освещает все дело святого Фомы (хотя сам он, быть мо-
жет, и не считал его столь важным), сейчас подходит только
избитое газетное слово, которое он, наверное, счел бы бес-
смысленным.
Ничего не поделаешь, тут годится только слово «опти-
мизм». Я знаю, что в XX веке оно еще больше стерлось, чем
в XIX. Недавно мы говорили, что смотрим с оптимизмом на
исход войны, сейчас говорим, что с оптимизмом смотрим на
торговлю, завтра скажем так о состязаниях в пинг-понг. В вик-
торианскую эпоху люди имели в виду нечто большее, когда
называли оптимистами Уитмена, Браунинга или Стивенсо-
на69. И в еще более глубоком и высоком смысле верен этот
термин по отношению к Фоме. Святой Фома убежденно ве-
рил в жизнь и в то, что Стивенсон назвал великой жизнен-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ 363
ностью жизни. Мрачный интеллектуал Возрождения вопро-
шал: «Быть или не быть?»70, толстый мыслитель Средне-
вековья отвечал громовым голосом: «Быть — вот ответ!» Это
очень важно. Многие считают Возрождение эпохой, когда
некоторые люди начали верить в жизнь. На самом деле имен-
но тогда некоторые стали терять веру в жизнь. Средние века
налагали много запретов, нередко слишком суровых, чтобы
обуздать яростную жажду жизни. Иногда это выражали не-
терпимо и жестоко, но ведь и сражались с огромной силой.
До Нового времени не приходилось бороться с людьми, стре-
мящимися к смерти. Это стремление ужасало в альбигойстве
средневековых людей, но никогда не становилось для них
естественным, как для нас.
Это станет намного яснее, когда мы сравним величайше-
го из христианских философов с теми, кто ему равен или до-
стоин быть ему противником. Он не спорил с ними, многих
не видел, о некоторых и не слышал. Беседовать он мог лишь
с двумя, с Платоном и Аристотелем, как беседовал с Бона-
вентурой или Аверроэсом. Но истинных его противников надо
искать не здесь. Противники Аквината — единственные
противники католической мысли, создатели великих язычес-
ких систем, очень древние, как Будда, или очень новые, как
Ницше. Когда на фоне этих систем мы видим огромного
Фому, мы понимаем, во-первых, что он единственный опти-
мист среди богословов и, во-вторых, что католичество —
единственное оптимистическое богословие. Можно, конеч-
но, состряпать что-нибудь поприятней, если перемешать веру
со всем, что ей противоречит. Но среди последовательных
учений только это — на стороне жизни.
Сравнительное изучение религий разрешило нам сравни-
вать религии и противопоставлять их друг другу. Пятьдесят
лет тому назад любили доказывать, что все религии, в сущ-
ности, одинаковы (иногда — что они одинаково ценны, ино-
гда — что одинаково вздорны). Потом наука эта внезапно
стала научной и обнаружила глубочайшие пропасти и высо-
чайшие вершины. Конечно, истинно верующие люди долж-
364
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ны уважать друг друга. Но это уважение помогает увидеть
различие там, где видели только безличие. Чем выше мы
оценим благородную отрешенность Будды, тем лучше пой-
мем, что она прямо противоположна спасению мира, делу
Христа. Христианин уходит из мира сего в мироздание, буд-
дист бежит от мироздания еще больше, чем от мира. Один
возвращается к Творцу, к сотворению, другой растворяет
себя. Христианство и буддизм, крест и мировое древо часто
сравнивакц;.. На самом же деле они соответствуют друг дру-
гу только так, как соответствуют ключ и замок, холм и доли-
на. В определенном смысле высокое отчаяние буддизма —
единственная альтернатива священному дерзновению хрис-
тианства. И впрямь перед человеком, живущим истинно ду-
ховной жизнью, стоит дилемма очень трудная, даже страш-
ная. Мало что на свете может сравниться с ней по своей пол-
ноте. И тот, кто не взошел на вершину Христа, сорвется в
пропасть Будды.
Это относится (хотя и в менее резкой, да и менее достой-
ной форме) ко всему, что предлагает нам языческий мир.
Почти все ведет в безнадежный омут повторения, знакомый
древним. Почти все приходит к одной и той же идее возвра-
щения. Это и есть то самое, что Будда назвал колесом скор-
би, а бедный Ницше — радостной мудростью (интересно,
как представлял он себе мудрость печальную?). Честно го-
воря, Ницше думал так в конце, не в начале. Ему угрожало
помрачение рассудка, и мысли его уже не похожи на преж-
ние прекрасные откровения о смелой свободе или творческой
новизне. Он захотел распрямиться, но упал и разбился, словно
его казнили на колесе.
Одна на свете, высоко над колесами и омутами стоит вера
святого Фомы. В ней уравновешены мудрость, которая глуб-
же восточной, и блеск, который ярче античного. Лишь она
учит, что жизнь — приключение, что велики начало ее и цель,
что корень ее — в радости Божьей, свершение — в счастье
человека, о котором говорят древние слова, торжественные
и точные, как старинный танец: «Ибо радость моя — с сы-
нами человеческими»71.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
365
Мне дано поверхностно рассказать о философии Акви-
ната, едва коснуться его теологии и скромно умолчать о его
святости. Но приходится повторять снова и снова, с некото-
рой монотонностью, что его философия обусловлена его тео-
логией, а теология — святостью. Другими словами, я дол-
жен снова напомнить, что великий философ был католиком,
христианином, а без этого его нельзя понять. Аквинат крес-
тил Аристотеля, Аристотель не смог бы крестить Аквината;
чисто христианское чудо воскресило великого язычника.
Доказать это можно тремя путями (как, наверное, сказал бы
святой Фома).
Первое: в жизни святого Фомы это доказано тем, что
только его правоверие могло вынести груз вроде бы нехрис-
тианских мыслей. Любовь покрывает множество грехов72, и
правоверие покрывает множество ересей — во всяком слу-
чае, множество мыслей, которые в спешке можно счесть
еретическими. Личная вера святого Фомы была так убеди-
тельна, что ему простили безличную склонность к Аристоте-
лю. Окрестил он Аристотеля или нет, он — его крестный
отец. Он за него поручился, сказал, что древний грек не при-
чинит вреда, и весь мир поверил ему на слово.
Второе: в философии святого Фомы это доказано тем,
что у него была новая, христианская причина изучать факты,
а не только истины. Томизм начинает с самых начал мысли,
с пяти чувств и общих мест разума, и языческий философ мог
бы презирать все это, как презирал он низшие виды искусст-
ва. Но материализм, который у язычника оборачивается ци-
низмом, может быть смирением у христианина. Святой Фома
начал с фактов и ощущений точно так же, как мыл бы посуду
в монастыре. Быть может, здравые суждения о конкретных
фактах и впрямь были низкими, недостойными, но он не сты-
дился унижения. У язычников чистый скепсис легко станет
чистым цинизмом; но даже грязь киников73 преобразилась у
христиан в прах и золу святого. Если мы не поймем этого, мы
упустим из виду величайший переворот в истории. Появи-
лась новая причина для того, чтобы начать с материальных,
Даже самых низких вещей.
366
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Третье: в теологии святого Фомы это доказано потряса-
ющей истиной, на которой и зиждется его учение, как и вся-
кое учение христианства. Появилась новая причина изучать
чувства, ощущения, вообще жизнь обыкновенного человека.
Тело было уже не тем, чем было оно для Платона и Порфи-
рия74. Оно висело на кресте. Оно восстало из могилы. Душа
уже не презирала чувств — они служили Богочеловеку.
Платон мог гнушаться плотью, Христос ею не гнушался.
Пять человеческих чувств были освящены, как освящаются
они, одно за другим, в христианском крещении. Слова «По-
верю, когда увижу» стали теперь не плоским трюизмом, не
пустой мудростью мещанина, как было в мире Платона. Зер-
кала, посылающие вести разуму, указали Христу путь в Ви-
фанию75, дали увидеть свет на высотах Иерусалима. Слух
донес до Него крики толпы, устилавшей Его путь пальмовы-
ми ветвями, и другой толпы, Его распявшей. Воплощение
стало самой сутью нашей цивилизации, и материализм был
неизбежен — я называю здесь этим словом уважение к ма-
териальному миру и к человеческому телу. Когда воскрес
Христос, должен был воскреснуть и Аристотель.
Таковы три причины, их достаточно. Но есть что-то еще,
и очень трудно сказать об этом, не рискуя сделать мою книгу
популярной в современном смысле слова, то есть не перехо-
дя от веры к религиозности. Остался общий тон, общий склад
Аквината, явный, как свет в просторном доме. Мысль его
положительна; она освещена и согрета чудом тварного мира.
< Католические монахи дерзновенно прибавляют к имени по-
разительные прозвания, и смиренная сестрица может носить
имя Святого Духа, смиренный брат зваться Иоанном Крес-
та76. К имени святого Фомы я прибавил бы имя Творца. Ара-
бы говорят о ста именах Аллаха, но следуют и преданию о
страшном, тайном имени, которое нельзя произнести, ибо Оно
обозначает само Бытие, подобное беззвучному крику. Быть
может, никто не подошел ближе Фомы к тому, чтобы на-
звать Творца по имени, Которое не напишешь иначе, чем
«Я есмь»77.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИИ
367
Г л а в а V
ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ СВЯТОГО ФОМЫ
Даже в таком общем и поверхностном очерке приходится
рассказать о том, что так трудно и так важно передать. Свя-
той может быть человеком любого типа, но у него есть одна
черта, которой у других нет. Святой отличается от обычного,
рядового человека только тем, что всегда готов стать самым
рядовым (слово это надо понимать в его первом, благород-
ном значении, связанном со словом «ряд»). Святой ни в коей
мере не хочет выделиться; только он из всех необычных лю-
дей никогда не властвует над другими. Это вытекает из глав-
ного его свойства, которым он никогда не станет кичиться, и
все же — оно есть у него, это как бы его собственность. Как
всякому, кто здраво относится к собственности, святому со-
вершенно достаточно, что это у него есть, и он совсем не хо-
чет, чтобы этого не было у других. Из какой-то небесной
деликатности он всегда пытается это скрыть, а святой Фома
скрывал это тщательней всех. Чтобы об этом рассказать,
лучше всего начать с самого внешнего, а постепенно, снимая
слой за слоем, к этому приблизиться.
Внешность святого Фомы легче восстановить, чем внеш-
ность многих, кто жил во времена, когда еще не писали пор-
третов. Сказано, что и обликом, и повадкой он мало походил
на итальянца. Мне кажется, те, кто так считает, подсозна-
тельно сравнивают его в лучшем случае со святым Францис-
ком, а в худшем — с поверхностным мифом о шустрых шар-
манщиках и вредоносных мороженщиках. Не все итальян-
цы — шарманщики, и очень мало итальянцев, похожих на
Франциска. Нация никогда не сводится к одному типу, она
всегда состоит хотя бы из двух или трех. Тип святого Фомы
не очень распространен в Италии, но характерен для выдаю-
щихся итальянцев. Он был толст, и легко увидеть в нем про-
сто ходячую бочку, любимый комический персонаж многих
368
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
народов. Он сам любил посмеяться над своей толщиной.
Может быть, он сам, а не какой-нибудь сторонник Августи-
на или арабов пустил слух о том, что перед ним в столе была
вырезана лунка. Во всяком случае, это, без сомнения, — миф.
Рост его был заметней, чем толщина, а голова заметней все-
го. Судя по описаниям и каноническим изображениям, она
была на удивление заметной. Когда видишь такие головы —
большие, с тяжелым подбородком, римским носом и купо-
лом лысеющего лба, — так и кажется, что в них есть полости,
какие-то пещеры мысли. Такая голова венчала коротенькое
тело Наполеона. Такая голова венчает теперь тело Муссо-
лини78 — оно повыше, но так же неугомонно. Такую голову
можно увидеть, глядя на бюст римского императора, а иног-
да — на итальянского лакея (обычно он оказывается дво-
рецким). Этот тип лица так типичен, что мне всегда кажется:
граф Фоско из «Женщины в белом»79, самый реальный не-
годяй викторианской литературы, списан с живого итальянс-
кого графа, слишком уж он не похож на поджарых наглецов,
которых викторианцы пытались выдать за итальянцев. Если
мы вспомним его спокойствие, его важную простоту, здра-
вомыслие его речей и поступков, мы легче представим себе
внешность святого Фомы — хотя, конечно, нелегко пове-
рить, что Фоско стал святым.
Святого Фому рисовали и писали, когда его уже не было
в живых, но всюду, несомненно, это один и тот же человек.
Его наполеоновская голова и темная глыба его тела четко
выделяются среди фигур Рафаэлева «Спора о таинствах».
На картине Гирландайо80 хорошо видно то, что мы назвали
особым типом итальянца; подчеркнуты там и черты, очень
важные для мистика и философа. Вечно упоминают, что свя-
той Фома был рассеян. Таких людей нередко изображают —
и всерьез, и в шутку. Чаще всего у них пустые глаза, словно
рассеянность — это отсутствие мысли; иногда — напряжен-
ные, словно они тщетно всматриваются во что-то. Посмот-
рите на глаза у Гирландайо, они совсем другие. Они не смот-
рят на то, что близко, — наверное, Фома и не заметил бы,
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
369
как упал цветок, изображенный над его головой, — но ни пу-
стыми, ни напряженными их не назовешь. Они очень живые,
очень итальянские; сразу видно, что человек думает, и думает
не «о чем-то» и не «о чем-нибудь», и не, упаси Боже, «обо
всем». Наверное, именно такие были у него глаза за секунду
до того, как он ударил кулаком по королевскому столу.
Сведения о его привычках немногочисленны, но убеди-
тельны. По-видимому, когда он не сидел смирно за книгой,
он ходил и ходил вокруг монастыря, быстро и даже яростно;
именно так ходят люди, ведущие битву мысли. Если ему ме-
шали, он был очень любезен и вид у него был смущенный —
он смущался куда сильнее, чем тот, кто ему мешал; но, види-
мо, он был бы рад, если бы его не трогали. Он всегда с готов-
ностью останавливался; но чувствуешь, что, когда его остав-
ляли в покое, он шел еще быстрее.
Все это наводит на мысль, что рассеянность, которую
видел мир, была не совсем обычной. Хорошо бы понять, ка-
кой она была, потому что рассеянность бывает разной, вклю-
чая отрешенность поэтов и умников, никак не блещущих умом.
Есть сосредоточенность человека созерцающего — правиль-
ная, как у христианина, созерцающего нечто, и неправиль-
ная, как у людей Востока, созерцающих ничто. Конечно, свя-
той Фома бесконечно далек от буддийских мистиков; но мне
кажется, что его рассеянность не похожа и на рассеянность
мистиков-христиан. Если у него и бывали настоящие мисти-
ческие озарения, он очень заботился о том, чтобы они не при-
шли к нему на людях. По-видимому, он просто отключался,
что характерно скорее для практиков, чем для мистиков. Он,
как и принято, различал созерцательную жизнь и деятель-
ную, но мне кажется, даже его созерцательная жизнь была
деятельной, и — что важно — она не совпадала с его выс-
шей жизнью, с высшими проявлениями святости. Скорее тут
вспомнишь, что Наполеон вдруг начинал скучать в опере, а
позже признавался, что он думал, как бы соединить три кор-
пуса во Франкфурте с тремя корпусами в Кельне. Фома бе-
седовал с самим собой, потому что спорил с кем-то другим.
370
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Отрешенность его можно сравнить со снами охотничьего
пса — он гнался за истиной, гнал заблуждение, шел по следу
лжи и загонял ее в берлогу ада. Он первым признал бы, что
ошибающийся мыслитель больше удивится тому, откуда при-
шли его мысли, чем тому, куда они ведут. Дух следования,
погони, несомненно, был в нем и породил сотни легенд и не-
доразумений, ибо следование нелегко отличить от преследова-
ния. Меньше, чем кто бы то ни было, он стремился пресле-
довать людей, но у него была черта, которая в трудные вре-
мена создает гонителей, — он чувствовал, что у всего на свете
есть свое обиталище, и ничто не умрет, если его туда не заго-
нишь. Да, он мечтал о мнимой погоне, видел сны наяву, но
он был деятельным мыслителем (хотя и не был тем, что на-
зывают «человек действия»), истинным псом Господним,
самым сильным и милосердным из Domini canes.
Наверное, многие не поймут такой рассеянности. К не-
счастью, мало кто понимает, что такое спор и доказатель-
ство. Я думаю, теперь умеет спорить меньше людей, чем двад-
цать или тридцать лет назад; и святой Фома, наверное, пред-
почел бы атеистов начала XIX века мрачным скептикам XX.
Как бы то ни было, истинный недостаток славного дела, име-
нуемого спором, — его длина. Если вы спорите честно, как
спорил Аквинат, вам нередко покажется, что спору нет кон-
ца. Святой Фома очень хорошо это знал — вспомним, на-
пример, его мысль о том, что людям нужно откровение, по-
тому что им некогда спорить. Конечно, речь идет о честном
споре — спорить нечестно можно очень быстро, особенно в
наши дни. Сам он всегда был готов к спору, спорил честно,
отвечал всем, всем занимался и потому написал целую биб-
лиотеку, хотя и умер довольно рано. Наверное, он не смог бы
это сделать, если бы не думал все время, когда не писал, а
главное — если бы он не думал воинственно. Я совсем не
хочу сказать «желчно», «злобно» или «жестоко». Именно
тот, кто не готов к спору, презрительно кривит губы. Пото-
му-то в современных книгах так мало доказательств и так
много презрения.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
37/
Мы уже говорили, что раза два святой Фома поддался
гневу. Ни разу в жизни он не пожал презрительно плечами.
Его на удивление простой нрав, его ясный, трудолюбивый
разум лучше всего описать так: он просто не знал презрения.
Он был истым аристократом духа, но никогда не был умни-
ком и снобом. Ему было неважно, принадлежит ли его слу-
шатель к тем, кого считают достойными беседы, и современ-
ники ощущали, что плодами его мудрости может пользоваться
и вельможа, и простолюдин, и простак. Его занимали души
ближних, а не различия их ума; для его разума и нрава это
было бы в одном смысле нескромно, в другом — надменно.
Он всегда загорался спором и мог говорить подолгу, хотя
намного дольше молчал. Но у него была та подсознательная
неприязнь к умникам, которая есть у всякого умного человека.
Как все, занимавшиеся людьми, он получал много писем,
хотя доставлять их в то время было куда труднее, чем теперь.
До нас дошли сведения о том, что совершенно чужие люди
обращались к нему с вопросами, иногда нелепыми. Он отве-
чал всем с огромным терпением и той рассудительной точно-
стью, которая у рассудительных людей часто граничит с не-
терпением. Например, кто-то спросил его: правда ли, что
имена всех праведников начертаны на особой скрижали, на-
ходящейся в раю? Он невозмутимо ответил: «Насколько мне
известно, это не так. Но не будет нисколько вреда и от тако-
го мнения».
На одном из его портретов, итальянского мастера81, он в
самой отрешенности насторожен и молчит так, словно сейчас
заговорит. В картинах этого рода очень много деталей, вы-
казывающих богатейшее воображение — то воображение,
которое заметил Рескин, когда он увидел, что у Тинторетто
на залитой солнцем сцене Распятия лицо у Христа загадоч-
ное и темное, а сияние неожиданно блеклое, серое, словно
пепел82. Трудно выразить лучше истину об умирающем Боге.
В портрете святого Фомы тоже есть значимая деталь. Быть
может, написав столь живые глаза, художник подумал, не
слишком ли подчеркнул он боевитую бдительность святого;
312
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
как бы то ни было, он поместил у него на груди странную
эмблему, похожую на какой-то третий глаз. Эмблема — не
христианская, скорее это солнечный диск, на таких изобра-
жали когда-то лики языческих богов. Диск — таинственный
и темный, только лучи окружают его огнем. Не знаю, припи-
сывалось ли ему какое-нибудь традиционное значение, но для
меня он значит очень много. Это потаенное солнце, темное и
сверкающее, которое являет свой свет, освещая других, мо-
жет служить эмблемой высшей, сокровенной жизни святого,
которая не видна за его словами и действиями, мало того, за
его молчанием и размышлениями. Духовную отрешенность
не надо путать с обычной рассеянностью или угрюмостью.
Святого Фому совершенно не трогало, что о нем говорят,
как не трогает это истинных мужчин, впитавших вельмож-
ное величие души; но настоящую свою жизнь он тщательно
скрывал. Такая скрытность исчезла вместе со святостью —
святой очень боится выказать себя святошей. К этому святой
Фома относился особенно чувствительно или, как сказали
бы многие, болезненно. Ему было безразлично, что увидят,
как он задумался за королевским столом — там он был за-
нят доказательством и спором. Но когда речь зашла о том,
что ему явился апостол Павел, он страшно заволновался, как
бы этот слух не пошел дальше, и ничего не объяснил. Конеч-
но, его ученики и поклонники собирали рассказы о его чуде-
сах с той же страстью, с какой он их скрывал. И все же таких
легенд меньше, чем у других святых — не менее искренних и
смиренных, но не столь нетерпимых к славе.
И жизнь, и смерть святого Фомы окружены, окутаны
великой тишиной. Иногда большие предметы занимают мало
места. Так и он. Конечно, без шума не обошлось — были
посмертные чудеса, и Сорбонна боролась за право похоро-
нить его. Я не знаю толком длинную историю, которая окон-
чилась тем, что мощи его лежат в Тулузе, в храме Святого
Сернина на самом поле битвы, где доминиканцы победили
восточное отчаяние. Они лежат там, но трудно представить,
чтобы у раки кипело шумное, веселое, грубое благочестие в
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
373
средневековом ли, в нынешнем ли виде. Святой Фома Ак-
винат ни в коей мере не был пуританином. Он угощал моло-
дых друзей, он разумно ценил простую, обычную жизнь, он
говорил, что ее надо украшать шуткой и даже смешной вы-
ходкой. И все же нельзя себе представить, чтобы к нему тя-
нулись толпы; чтобы дорога в Тулузу стала цепочкой харче-
вен, как дорога к другому Фоме, в Кентербери83. Я думаю,
он не любил шума; по преданию, он не любил грозы, но во
время кораблекрушения был совершенно спокоен. Так и чув-
ствуешь, что его замечали не сразу, постепенно, как замеча-
ют безбрежный фон картины.
Если мой поверхностный очерк этого достоин, я хотел бы
передать хоть как-то ту поразительную убежденность, пе-
ред которой все его философские, даже богословские кни-
ги — просто ворох брошюр. Нет никакого сомнения, что это
было в нем с самого начала, задолго до того, как он стал спо-
рить. Это было в детстве, а его жизнь — из тех, где воспо-
минания и ощущения детства исключительно важны. С са-
мого начала он был наделен тем свойством, без которого нет
правоверного католика, — он пылко, нетерпеливо, нетерпи-
мо любил бедных и всегда был готов беспокоить сытых, что-
бы накормить голодных.
Наверное, это никак не связано с излишней разумнос-
тью, в которой его обвиняли позже, тем более — с какой бы
то ни было диалектикой. Вряд ли в шесть лет он хотел возра-
зить Аверроэсу или знал, что такое causa efficiens*84, или даже
создал уже свое учение о том, что наша любовь к самим себе
искрения, постоянна и всепрощающа и ее надо (если возмож-
но, в неприкосновенности) перенести на ближнего. Тогда, в
детстве, он этого не понимал, он просто жил так, но очень
важно, что в этом была особая, глубокая убежденность. Весь-
ма характерно для таких вельможных семейств, что родите-
ли не слишком беспокоились, когда он раздавал все, что мог,
нищим и бродягам; а вот старшие слуги сердились ужасно.
* Творящая причина (лат.).
374
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Если мы отнесемся к этому так серьезно, как надо отно-
ситься ко всему, что связано с детством, мы можем кое-чему
научиться у таинственной невинности. Мы можем понять хоть
немного, почему вместе с огромным, одиноким умом росло
стремление, ничуть не похожее на то, что было вокруг. Мы
сможем угадать, как развивались в нем протест, или проро-
чество, или молитва о свободе до того часа, когда он поразил
семью, отбросив не только искушение знатности, но и всякое
честолюбие вообще, даже церковное. Наверное, именно в его
детстве — ключ к тому, что он сделал, будучи взрослым; к
тому, что увело его из дома на большую дорогу нищенства.
И еще одна сторона жизни Фомы помогает заглянуть в
его душу. После происшествия с головней и блудницей он,
по преданию, видел во сне, что два ангела оскопили его ог-
ненной веревкой. Это было ужасно больно, но дало ему ог-
ромную силу, и он проснулся от своего крика. Когда священ-
ники и врачи научатся говорить друг с другом, отбросив эти-
кет старомодных отрицаний, мы сможем лучше понять такие
вещи. Нетрудно проанализировать этот сон и свести его к
деталям прошлого: веревка монашеских одеяний, огонь го-
ловни. Но сон святого Фомы стал явью. Святой и впрямь
исключительно мало интересовался этой стороной жизни.
Я не буду здесь разбирать то, чего никак не поймут наши
противники: как это девственные священники ухитряются
быть мужественными. Во всяком случае, у Фомы было очень
мало искушений. Тут дело не в добродетели, которая всегда
связана с волей. Не менее святые люди катались на терниях,
чтобы побороть эту страсть, а ему не нужно было противо-
ядие, ибо он не ведал этой отравы. Многое объяснить труд-
но, тут — тайны благодати, но, вероятно, есть истина и в
идее сублимации. Все это просто сгорало в горниле его ума.
Бывают минуты, когда самый правоверный читатель
житий начинает ненавидеть их автора, хотя по-прежнему
любит святого. Святой всегда, непременно скрывает свою
святость, биограф выслеживает его, часто ничуть не дели-
катней, чем американский репортер. Я попробую доказать
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
375
свое раскаяние, упомянув только один или два случая из всех,
которые могли бы дойти до всеобщего сведения столь несо-
вершенным путем.
У святого Фомы была вторая, тайная жизнь, святой ва-
риант двойной жизни. Кто-то, кажется, подсмотрел то чудо,
которое наши спириты зовут левитацией. Тут трудно оши-
биться — зрелище было такое, словно церковная колонна
превратилась в облако. Мы не знаем, какие духовные бури
вздымают человека ввысь, но, почти несомненно, это иногда
бывает. Трудно сомневаться даже в том, что это бывает у
обычных спиритов. Но, мне кажется, самая яркая иллюстра-
ция тайной жизни святого — чудо с распятием, когда в Не-
аполе в храме святого Доминика Христос сказал Фоме, что
он все написал правильно, и предложил взамен все, что он
захочет.
Когда такое предлагали отшельникам, факирам, фанати-
кам, киникам, Симеону Столпнику, Диогену Бочечнику85, те
нередко отвечали, что не хотят ничего. Греческий киник или
стоик действительно имел в виду, что он ничего не хочет;
восточный мистик часто подразумевал, что стремится к ве-
ликому Ничто. Иногда это выражало благородную незави-
симость и лучшие добродетели античности — любовь к сво-
боде и презрение к роскоши. Иногда это значило просто, что
человек вполне доволен собой (у святого так быть не может).
Со святым Фомой все было иначе, он многого хотел и многое
его занимало. По сравнению с мудрецами и святыми он страст-
но любил разные вещи — не одежду, конечно, и не еду и
питье, хотя он отводил им высокое место в славной иерархии
бытия. Никто не думает, что святой Фома попросил бы у
Бога тысячу золотых, бутыль вина или корону Сицилии. Но
он мог попросить то, чего хотел, — например, потерянную
рукопись Иоанна Златоуста. Он мог попросить разгадку
философской тайны, или ключ к новой науке, или сведения о
непостижимом разуме ангелов — словом, одну из бесконеч-
ного ряда вещей, действительно нужных тому, кто стремится
к многообразию мира. Для него распростертые руки Распя-
376
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
тия указывали на Запад и на Восток, на края земли и пределы
бытия. Создатель с беспредельной щедростью предлагал ему
Свои создания, многоликую тайну раздельности и победный
хор единства. Но когда наконец святой Фома поднял голову,
он заговорил с той почти кощунственной смелостью, которая
неотделима от христианского смирения. Он сказал: «Тебя».
Те, кто способен понять предельный, поразительный юмор
этой чисто христианской истории, заметят, что он смягчил
свою смелость и уточнил: «Только Тебя».
В его жизни было меньше чудес, чем в жизни других свя-
тых, но все они почти полностью достоверны, ибо он был
человеком известным и, что еще важнее, у него было много
врагов, которые тут же изобличили бы ложный слух. Види-
мо, он исцелил женщину, которая коснулась его одежд. Было
несколько случаев, которые могут оказаться вариантами чуда
о Распятии. Один из этих случаев очень ясно показывает нам
его частную жизнь, его частные чувства — то, что он выра-
жал в поэзии. Однажды ученые Сорбонны спросили его о
природе преосуществления хлеба и вина, и он принялся, как
всегда, подробно, излагать свое мнение. При всей своей про-
стоте он чувствовал, как серьезна его задача и не без основа-
ний волновался больше обычного. Он молился дольше, чем
всегда, а потом бросил свой труд к ногам Распятого и снова
опустился на колени. Но братья наблюдали за ним, и они ут-
верждают, что Христос сошел с креста перед их смертными
очами и сказал: «Фома, ты написал хорошо о таинстве Мое-
го Тела». По преданию, именно после этого он чудесным
образом поднялся в воздух.
Противники Аквината нередко говорят, что его филосо-
фия влияла на богословие. Например, он слишком разумно
толкует высшее блаженство — для него это удовлетворен-
ная любовь к истине, а не истина любви. Действительно, ми-
стики (в частности, францисканцы) отводили здесь большее
место любви. Но это было окрашено их пылом; а у святого
Фомы, я бы сказал даже (хотя это труднее сказать, чем по-
чувствовать), играла какую-то роль и его застенчивость. Чего
больше в экстазе — ума или чувств, решать не тем, кто ве-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ 577
рит и в то, и в другое, но ничего подобного не испытывал.
И все же мне кажется, если бы святой Фома связывал экс-
таз с чувствами так же сильно, как святой Бонавентура, он
все равно не мог бы вложить в свои слова столько чувства.
Он постеснялся бы так пространно говорить о любви.
Он разрешал себе одно исключение — иногда, очень ред-
ко, писал стихи. Всякая святость — тайна, и стихи его — скры-
тые, потаенные, словно жемчуг в раковине. Может быть, он
написал больше, чем мы знаем, но часть того, что он написал,
известна нам, потому что ему заказали мессу для праздника
Тела Христова, впервые установленного после того спора,
когда он положил рукопись к подножию Распятия86. Святой
Фома был истинным прозаиком, и многие называли его даже
слишком прозаическим. Он вел доказательство, заботясь о двух
вещах — о ясности и о вежливости, а это очень полезные свой-
ства, они помогают спору. Но тот, кто нашел слова для мессы
Тела Христова, был не только поэтом — он был мастером.
Его двойной дар похож на таланты великих мастеров Возрож-
дения, как Леонардо или Микеланджело, которые возводили
укрепления, а потом, удалившись к себе, создавали кубок или
небольшую картину. Месса, созданная Фомой, подобна ста-
рым музыкальным инстументам, тщательно и осторожно вы-
ложенным цветными камнями и металлами. Святой Фома со-
бирал древние тексты, как редкие травы. У него совсем нет
резких и громких слов. Отец Джон О’Коннор87 перевел его
стихи с почти чудесной точностью; но хороший переводчик
первым признает, что перевод всегда нехорош или, точнее, не-
достаточно хорош. Как найдем мы восемь коротких слов, ко-
торые бы достойно заменили «Sumit unus, sumunt mille, quantum
iste, tantum ille»*? Чем передадим звучание «pange lingua»**,
когда сами эти слова — как звон кимвалов?
Еще одна черта кроме поэтического дара показывает, что
этот грузный, робкий человек был наделен любовью и со-
* Приемлет один, приемлет тысяча, как сей, так и оный (лат.) (пер.
С. Аверинцева).
** Воспой, язык! (лат.).
378
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
страданием не меньше, чем святой Франциск, и уж никак не
меньше, чем францисканские богословы. Святой Бонавен-
тура никогда не отказывал ему в любви к Богу, а самого Бо-
навентуру Фома очень любил. Мало того, он любил свою
семью с упорной, я бы даже сказал, настойчивой нежностью.
И если мы вспомним, что семья ему сделала, мы увидим тут
не только нежность сердца, но и редкое терпение. К концу
жизни он особенно сильно любил одного монаха, Региналь-
да, и тот удостоился редкой для святого Фомы откровеннос-
ти. Именно Регинальду он сказал невероятные слова, кото-
рыми закончилась и его ученая деятельность, и его земная
жизнь; слова, непонятные для историков.
Он вернулся победителем после спора с Сигером Бра-
бантским, хотя удар, нанесенный ему, был очень силен. Он
победил, потому что был самым умным в своем веке; но он не
смог забыть, как извратили его мысль и цель его жизни. Он
был из тех, кто ненавидит ненависть, но в бездне беззако-
ния, к которой вел Сигер, он увидел гибель религии и гибель
истины. Как ни отрывочны сведения, можно установить, что
он боялся тогда внешнего мира, где родятся такие дикие мыс-
ли, и тянулся к миру внутреннему, который доступен и свя-
тому, и самому обычному человеку. Он принял строгий рас-
порядок ордена и какое-то время ничего никому не говорил,
а потом (по преданию, когда он служил мессу) случилось то,
чего никогда толком не узнают смертные.
Его друг Регинальд просил его вернуться к книгам и вклю-
читься в споры. Тогда святой Фома сказал с удивительным
волнением: «Я больше не могу писать». Регинальд не отста-
вал, и святой Фома ответил с еще большим пылом: «Я не
могу писать. Я видел то, перед чем все мои писания — как
солома».
В1274 году, когда святому Фоме было около пятидесяти,
папа призвал его на собор в Лион. Он подчинился внешне, как
солдат, но что-то было в его глазах, и монахи поняли, что еще
послушней он какому-то неведомому велению. Фома отпра-
вился в путь вместе с другом, думая заночевать у сестры, ко-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
319
торую очень любил; но когда пришел к ней, внезапно слег. Мы
не знаем, чем он заболел, не будем вдаваться в медицину; во
всяком случае, он был из тех сильных людей, которых свали-
вают малые болезни. Его перевезли в ближайший монастырь.
Тем, кто считает, что романтическая и эмоциональная сторона
религии была чужда Фоме, стоит узнать, что он попросил чи-
тать ему «Песнь песней», с начала и до конца. Он исповедал-
ся и причастился, и можно не сомневаться в том, что великий
философ совсем забыл философию, но не совсем забыли ее те,
кто его любил, и даже те, кто просто жил в его время. Сведе-
ний очень мало — и все они столь весомы, что так и кажется,
будто читаешь две истории, о двух сторонах событий. Люди
знали, что могучий разум еще работает, словно большая фаб-
рика. Они ощущали, что обитель стала изнутри больше, чем
снаружи, словно мощная нынешняя машина сотрясала ветхое
здание. В машине этой трудились разные миры, вращались
концентрические сферы, которые при всех изменениях науки
олицетворяют философию. То был огромный кристалл, и мно-
гослойная его прозрачность устрашала больше, чем тьма. Сфера
ангелов была тут, и сфера звезд, и сфера животных или расте-
ний, все в справедливейшем порядке, здравая власть сочета-
лась с достойной свободой, и сотня ответов разрешала сотню
вопросов экономики или этики. Но в какой-то миг все поняли,
что машина остановилась, наступила тишина, в пустом доме
остались лишь груды праха. А священник, который был с
Фомой, выбежал из кельи и, словно в испуге, тихо сказал, что
исповедался он, как пятилетний ребенок.
Г л а в а VI
ПРЕДВАРЕНИЕ ТОМИЗМА
То, что томизм — философия здравого смысла, само по
себе понятно и здраво. И все же надо кое-что объяснить —
слишком уж мы отвыкли изучать философию, руководству-
380
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
ясь здравым смыслом. Со времен Реформации Европа (осо-
бенно Англия) стала родиной парадокса. Самый привычный
пример — похвальба англичан, что они практичны, ибо не
ведают логики. Древнему греку или современному китайцу
это покажется таким же странным, как если бы мы сказали,
что клерк хорошо считает, ибо не знает арифметики. Мы же
ничуть не дивимся, для нас это — общее место. Люди не
просто становятся на голову — это бы еще ничего, все-таки
гимнастика; они живут, стоя на голове, и едят, и спят, хотя
весь смысл парадокса в том, чтобы будить нас. Возьмем хо-
роший парадокс — например, изречение Оливера Уэнделла
Холмса88: «Дайте нам лишнее, и мы обойдемся без необхо-
димого». Это забавно и потому останавливает внимание. Тут
есть вызов, есть и своя романтическая правда. Правда, мне
кажется, не так уж безопасно основывать на этом изречении
социальную систему, как основали конституцию на том, что
бессмыслице всегда легко сойти за здравый смысл. Однако
мы вняли доброму совету — наша промышленная система
исправно снабжает нас новыми сортами мыла, чтобы мы обо-
шлись без хлеба.
Это все известно; но не все замечают, что так обстоит дело
не только в практической политике, но и в абстрактной фило-
софии. С тех пор как в XVI веке начался нынешний мир, ни
одна философская система не соответствовала общему чувству
реальности — тому, что здравые люди, если их не трогать,
назвали бы здравым смыслом. Каждая начинает с парадокса:
каждая требует, чтобы для начала отказались от того, что ка-
жется здравым. Это единственная общая черта Гоббса и Геге-
ля, Канта и Бергсона, Беркли и Джеймса. Мы должны при-
нять на веру что-нибудь такое, во что не поверил бы ни один
нормальный человек: что закон выше права, или что право не
зависит от разума, или что все существует лишь в сознании,
или что все относительно по отношению к реальности, кото-
рой, впрочем, нет. Философ обещает, что, если мы уступим
ему в одном, все остальное пойдет само собой. Он обещает
выправить мир, если мы разрешим свихнуть нам разум.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
381
Конечно, сейчас я говорю это все по-дурацки или, как
сказали бы наши родичи-демократы, примитивно. Я говорю
как рядовой человек; но единственная цель этой главы —
показать, что томизм гораздо ближе к образу мыслей рядо-
вого человека, чем все другие системы. В отличие от отца
д’Арси, чья прекрасная книга очень помогла мне89, я не фи-
лософ и не знаю техники ремесла. Однако я надеюсь, что
отец д’Арси простит меня, если я позаимствую пример из
его книги. Как ученый-философ, он научился ладить с фи-
лософами. Как ученый-священник, он умеет не только тер-
петь дураков, но и терпеть умников, а это труднее. Он про-
читал много сложных книг и может сохранить терпение,
когда умный становится глупым. Поэтому он спокойно,
даже кротко пишет такие фразы: «Метод святого Фомы
можно в определенной мере сопоставить с методом Гегеля.
Однако есть и существенное различие. Для святого Фомы
противоположности не едины; кроме того, хотя действитель-
ность постижима, нечто должно сперва быть, дабы мы его
постигли».
Простим рядового человека, если он прибавит, что суще-
ственное различие в том, что Фома здоров, а Гегель — бе-
зумен. Но отец д’Арси ничуть не удивляется Гегелю, да и
кто удивится, если читал современных философов так мило-
стиво и пытливо, как он. Об этом я и думал, когда писал, что
нынешние системы начинают с какой-нибудь дикости.
А философия святого Фомы начинает с простого и оче-
видного, скажем, с того, что яйцо — это яйцо. Гегельянец
скажет, что яйцо — это курица, ибо оно лишь часть беско-
нечного становления. Берклианец скажет, что яйцо — это
сон, видение. Прагматист скажет, что, завидев яичницу,
лучше забыть, что она была яйцом. Но ученик святого
Фомы не обязан ломать себе голову, смотреть под особым
углом или закрывать один глаз, чтобы как-нибудь упростить
яйцо. В дневном свете общего людям разума он верит, что
яйцо — не курица, не сон и не практическое допущение, а
веЩь, узаконенная властью чувств, которые от Бога.
382
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Даже те, кто постиг и оценил философские глубины то-
мизма, удивляются, что святой Фома вообще не спрашива-
ет, можем ли мы доказать реальность нашего восприятия
реальности, хотя теперь это считают главным вопросом фи-
лософии. Он признает сразу, изначально то, о чем современ-
ные скептики только-только начинают догадываться. Он
знает, что, если человек не ответит на этот вопрос утверди-
тельно, он не ответит ни на один вопрос, и не задаст ни одно-
го вопроса, и вообще не сможет думать. Конечно, всякий
вправе быть скептиком, но тогда уж нельзя быть никем дру-
гим — скажем, убежденным защитником скепсиса. Если вы
считаете, что работа вашего разума бессмысленна, то при-
знайте, что и плоды ее бессмысленны и вы сами, как мысли-
тель, смысла лишились. Скептики, как ни странно, выжива-
ют, потому что они, в сущности, не такие уж скептики. Они
отрицают все на свете, а потом принимают на веру что-ни-
будь одно — так, для пользы дела. Недавно один ученый
90
писал, что признает только солипсизм и удивляется, поче-
му у него так мало сторонников. Как же ему не пришло в
голову, что, если его философия верна, никаких сторонников
вообще быть не может?
На вопрос: «Есть ли что-нибудь?» — святой Фома сра-
зу отвечает: «Да». Если бы он ответил «нет», дальше было
бы не о чем говорить. Именно это некоторые из нас называ-
ют здравым смыслом. Или вообще нет ни философии, ни
философов, ни людей, ни мысли — ничего; или есть проч-
ный мост между сознанием и реальностью. Однако дальше
святой Фома требует меньше, чем другие, много меньше, чем
рационалисты или материалисты: с него достаточно, что мы
признаем бытие, которое вне нас.
Конечно, я совсем не считаю, что все, написанное свя-
тым Фомой, просто и понятно. Многого я сам не понимаю;
многое ставит в тупик людей, куда более ученых, чем я; о
многом спорят и не могут договориться крупнейшие томис-
ты. Святого Фому трудно читать и трудно понять. Но его
совсем не трудно принять, если его поймешь, как будто дет-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
ская песенка записана иероглифами. Я подчеркиваю одно:
Аквинат почти всегда подтверждает обычные трюизмы обыч-
ного человека. Например, одно из самых темных мест у него,
по-моему, то, где он показывает, как убеждается разум в
реальности вещей, а не только впечатлений от них. Но суть
этого места — уверенность в этой реальности — ничуть не
противоречит здравому смыслу, и рассуждает он, чтобы оправ-
дать здравый взгляд. А у других философов вывод по мень-
шей мере так же сложен, как и ход доказательства.
Обычного человека и великого схоласта, стремящихся к
одному и тому же, разделяет, как на беду, высокая стена.
Так уж получилось, стену сложили давно, причины этой беды
уже не касаются нормального нынешнего человека и не свя-
заны с величайшей его потребностью — потребностью в нор-
мальной философии. Понять святого Фому мешает форма
(не в средневековом, а в нашем смысле слова). Первое пре-
пятствие — язык; второе, более коварное — логический
метод. Даже в переводе язык святого Фомы — иностран-
ный для нас. Как во всяком переводе, тут не отделаешься
подстановкой слов, это не путеводитель. Каждое слово вле-
чет за собой цепь ассоциаций. Например, вся система Фомы
зиждется на могучем, но простом понятии, которое охваты-
вает в буквальном смысле слова все, что есть, и все, что мо-
жет быть. Он обозначает это словом «ens»; и всякий, кто
хоть немного знает латынь, обрадуется, как радуемся мы точ-
ному слову в хорошей французской прозе.
Как ни жаль, перевести его толком нельзя. Когда пере-
водчик напишет «бытие», возникнет совсем другая атмосфе-
ра. Да, она не должна влиять на разум — но она влияет. Она
напомнит об ученом из наших романов, который, помахивая
рукой, говорит: «Так поднимемся к вершинам чистого све-
тоносного бытия», — или (что хуже) ученого из жизни, ко-
торый говорит: «Бытие — это становление, эволюция не-
бытия по закону его бытия». Как бы то ни было, слово это
звучит и глупо, и глухо, словно его употребляют лишь глу-
Пые» глухие люди.
384
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Есть нелепый рассказ, высмеивающий таких схоластов,
как Аквинат. Если ему верить, они спорили о том, сколько
ангелов поместится на острие иглы. Слово «ens» коротко и
остро, как это острие91. Никакое «бытие» или «сущее» не
могут его передать, ибо они связаны для нас с туманными,
расплывчатыми понятиями, к которым мы так привыкли и от
которых так устали, с терминологией нудных и напыщенных
писаний, где больше слов, чем философии. Риторика очень
хороша на своем месте — это скажет вам любой средневеко-
вый схоласт, изучавший ее вместе с логикой. Но у святого
Фомы ее совсем мало. У Августина много блестящих мест, у
Аквината их нет. Иногда он становился поэтом, но очень
редко становился оратором. Он был так далек от «новых те-
чений», что, становясь поэтом, писал стихи. Его философия
вдохновляла поэтов, например Данте; ведь поэзия без фило-
софии пуста. У него самого есть образ, поистине поэтичес-
кий и поистине философский — древо жизни, клонящееся в
смирении под бременем плодов. Данте мог бы написать так,
чтобы ошеломить нас сиянием полумрака и опьянить благо-
уханием плода. Но обычно слова у Фомы коротки, даже если
длинны книги. Иногда его трудно понять, потому что он го-
ворит о сложных вещах, которые под силу только равноцен-
ному уму. Но он никогда не затемняет своих рассуждений
ненужными словами, которые ему не совсем ясны, или даже
(что простительней) словами, которые ему подсказало толь-
ко вдохновение. Возможно, он единственный поборник ра-
зума из всех сынов человеческих.
Тут перед нами встает другая сложность — сложность
логического метода. Я никогда не понимал, почему силло-
гизмы считаются смешными и старомодными, и совсем уж
не могу понять, почему говорят, что индукция как-то смени-
ла дедукцию. Дедукция только на то и нужна, чтобы из пра-
вильных посылок вывести правильное заключение. Сейчас
собрали много посылок, и в естественных науках не всегда
легко установить их правильность; это мы и зовем индукци-
ей. Вероятно, из массы данных о микробах или астероидах
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
385
современный ученый выведет больше, чем выводил ученый
средневековый из очень малого количества данных о едино-
рогах и саламандрах. Но дедукция — та же самая, а то, что
мы громко зовем индукцией, — значит просто, что мы соби-
раем больше данных. И Аристотель, и Аквинат, и любой
человек в здравом уме признает, без сомнения, что вывод
истинен, только если истинны посылки; и, конечно, чем боль-
ше истинных посылок, тем лучше. К несчастью средневеко-
вой культуры, тогда не хватало правильных данных, очень
уж трудно было путешествовать и ставить опыты. Но каки-
ми бы совершенными ни стали путешествия и опыты, они
дают нам только данные, а ведь нужны и выводы. Теперь
считают, что индукция каким-то чудом ведет прямо к заклю-
чению, без всех этих старомодных силлогизмов. На самом
деле она ведет только к дедукции. Если неверны посылки,
неверен вывод. Так, великие ученые прошлого века, в по-
чтении к которым я воспитан (это называлось «...признавая
достижения науки...»), выглянули из своих нор, исследовали
воздух, и землю, и воду — несомненно, куда тщательней,
чем Аристотель или Аквинат, — влезли обратно и облекли
свой вывод в форму такого силлогизма: «Материя состоит
из неделимых крупинок. Мое тело — материально. Следо-
вательно, мое тело состоит из неделимых крупинок». Они
рассуждали правильно, другого способа нет. В этом мире есть
только силлогизм и ошибка. Но, конечно, они знали, как и
люди Средневековья, что их вывод правилен только в том
случае, если правильны посылки. Тут-то и крылась беда. Те
же ученые — вернее, их дети и племянники — снова вылез-
ли и посмотрели и, к удивлению своему, увидели, что мате-
рия не так уж крупинчата. Они вернулись и сделали вывод:
«Материя состоит из вращающихся частичек. Мое тело ма-
териально. Следовательно, мое тело состоит из вращающих-
ся частичек». Это тоже неплохой силлогизм, хотя они могут
смотреть еще и еще, а мы так и не будем знать, что правиль-
но. Без верного силлогизма не обойтись, все прочее — сил-
логизм неверный, вроде столь модного в наше время: «Ма-
386 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
терия состоит из протонов и электронов. Что-то мне кажет-
ся, что мое сознание очень похоже на материю. Скажу-ка я,
что оно состоит из протонов и электронов». Это — не ин-
дукция, это — очень плохая дедукция. Это не новый вид
мышления, а конец всякой мысли.
У старых поборников силлогизма плохо было другое —
они растягивали ход рассуждения, а это нужно не всегда.
Можно перескакивать через ступеньки, но ступеньки долж-
ны быть непременно, иначе сломаешь шею, словно ты прыг-
нул с сорокового этажа. Индукцию незачем противопостав-
лять дедукции. Просто когда собрали много данных, центр
тяжести переместился. Но данные ведут к выводам или ни-
куда не ведут. Ученому надо сказать так много об электро-
нах или микробах, что он очень долго говорит только о них и
уделяет очень мало места последнему силлогизму. Но если
он рассуждал верно, то, как бы быстро он ни рассуждал, он
шел путем силлогизма.
Аквинат не всегда спорит с помощью ясных силлогиз-
мов, но всегда идет этим путем. Он далеко не всегда пред-
лагает все посылки — это легенда, одна из безответствен-
ных легенд Возрождения о нелепых и нудных схоластах. Да,
он ведет доказательство строго, без околичностей, и может
показаться скучным ценителям наших откровений или наше-
го острословия. Но все это никак не связано с вопросами,
поставленными в начале главы, с тем, ради чего он ведет до-
казательство. Повторяю: он ведет его ради здравого смысла.
Он защищает здравый смысл, отстаивает мудрость поговор-
ки, но часто оперирует абстракциями, которые ничуть не аб-
страктней «энергии», или «эволюции», или «пространствен-
но-временного континуума». В отличие от современных аб-
стракций они не приводят нас к безнадежным противоречи-
ям. Прагматик настаивает на практичности, но рассуждения
его представляют чисто теоретический интерес. Томист на-
чинает с теории, и теория его оказывается на редкость прак-
тичной. Вот почему так много народу возвращается к ней.
Наконец, не так уж легко понять чужой язык, особенно
латынь. Наша философская терминология не совсем похожа
£
' СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ J87
на обычную речь, а средневековая терминология совсем не
похожа на современную. Можно заучить основные терми-
ны, но в Средние века они часто значили прямо противопо-
ложное. Самый явный пример — слово «формальный». Те-
перь мы говорим: «Я послал ему формально извинение» или
«вступление в клуб — чистейшая формальность». Святой
Фома понял бы это не так, как мы: он решил бы, что вступ-
ление в клуб исключительно, бесконечно существенно, свя-
зано с самой глубокой сущностью клуба, а извинение было
просто душераздирающим. Ведь на языке томизма «формаль-
ный» — значит «обладающий качеством, которое делает
вещь ею самой». Когда он говорит, что все на свете состоит
из формы и материи, он, не без оснований, считает материю
более загадочной, неопределенной, безвидной, а вот печать
неповторимости — это форма. Материя, так сказать, теку-
чая, однородная часть мироздания; и современные физики
начинают с этим соглашаться. Форма же делает из безвид-
ной глины кирпич — кирпичом, статую — статуей. Камень,
разбивший статую, сам мог быть раньше статуей, а при хи-
мическом анализе статуя окажется камнем. Но анализ этот —
химический, не философский. Каждый художник знает, что
форма — не внешняя сторона, а суть его творений. Каждый
скульптор знает, что форма статуи — не вне статуи, а внут-
ри, нет, внутри скульптора. Каждый поэт знает, что форма
сонета и есть сонет. А если критик не понимает, что это зна-
чит, он не вправе беседовать со схоластом.
Глава VII
ВЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Как жаль, что слово «антропология» связано лишь с изу-
чением антропоидов! Оно безнадежно ассоциируется со спо-
рами доисторических ученых о том, окажется ли какой-ни-
будь камешек зубом обезьяны или человека (иногда спор
кончается тем, что это — зуб свиньи). Несомненно, должна
388
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
быть чисто естественная наука о таких вещах; но самый тер-
мин лучше бы применять к изучению других проблем, не толь-
ко более важных и глубоких, но и тесно связанных с челове-
ком. Новые американские гуманисты заметили, что старые
гуманитарии занимаются не самим homo*, а условиями его
жизни, экономикой, средой и т. п.; точно так же антропологи
копаются в предметах, не столь уж тесно связанных с антро-
посом. Они рыщут по истории и доистории в поисках не
столько Человека Разумного, сколько неразумной обезья-
ны. Homo sapiens может быть познан лишь в связи с sapien-
tia**, и только книги, подобные книгам святого Фомы, дей-
ствительно ей преданы. Короче говоря, должна существо-
вать антропология, изучающая человека, как изучает Бога
теология. В этом смысле святой Фома (быть может, прежде
всего) великий антрополог.
Прошу прощения у всех превосходных ученых, изучаю-
щих человека в его связи с биологией. Однако, мне кажется,
они первые согласятся, что в науке массовой есть перекос, ибо
она сводит изучение человека к изучению дикаря. Дикость —
не история. Она — или начало истории, или конец. Подозре-
ваю, что самые крупные ученые согласятся со мной — да,
многие ученые заблудились в джунглях и, стремясь изучить
антропологию, не пошли дальше антропофагии92.
Я намеренно начал с извинений перед истинными учены-
ми, которых могли бы (но не должны) коснуться мои напад-
ки на дешевую, массовую науку. Дело в том, что антрополог
Аквинат очень похож на лучших нынешних антропологов —
на тех, кто именует себя агностиками. Это настолько важно,
что об этом нельзя забывать и непременно надо поведать.
Святой Фома очень похож на великого Томаса Гекс-
93
ли — агностика, выдумавшего само слово «агностицизм»,
и очень не похож на тех, кто жил после него, но до гекслиан-
ской эры. Он почти буквально предвосхищает метод агнос-
* Человек (лат.).
** Мудрость, разумность (лат.).
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
389
тиков. Он тоже предлагает идти за разумом, куда тот пове-
дет, только у него разум ведет в иные края. Он выдвигает на
удивление современный, даже материалистический принцип:
«Все, что есть в сознании, было в чувствах». Мистик начал
бы с другого, он начинает отсюда как современный ученый,
да что там — как современный материалист, которого и уче-
ным не назовешь. Платоник, во всяком случае — неоплато-
ник, сказал бы, что сознание освещено изнутри. Святой Фома
упорно твердит, что свет проникает туда через пять окон,
которые мы зовем чувствами. Но он хочет, чтобы свет, при-
ходящий снаружи, освещал то, что внутри. Он хочет изучать
человека, а не только траву, на которую тот смотрит, — она
для него лишь начало, исходная точка опыта. Поднимаясь от
нее, он карабкается по лестнице, ведущей в дом человека, —
ступенька за ступенькой, факт за фактом — пока не выхо-
дит на высокую башню, с которой открывается бескрайний
простор.
Другими словами, он антрополог, он создал учение о че-
ловеке, верное или неверное. Современные антропологи че-
ловека изучить не смогли. Они не смогли создать учения о
нем, как не смогли создать учения о природе. Для начала они
взяли нечто и назвали «непознаваемым». Это было бы еще
ничего, если бы под непознаваемым они подразумевали са-
мое тайное и высокое. Но вскоре выяснилось, что непозна-
ваемо как раз то, о чем человек узнать может. Необходимо
узнать, отвечает ли он за свои поступки; совершенен ли он,
способен ли хотя бы к совершенству; смертен или бессмер-
тен, скован или свободен; и все это — не для того, чтобы
познать Бога, а для того, чтобы познать себя, человека. Если
та или иная теория покрывает все это туманом запредельных
сомнений — значит, это не антропология, да и не теология.
Свободна ли воля человека, или нам только кажется, что мы
можем выбрать? Есть ли у человека совесть, может ли он
Доверять ей, или это только пережиток племенных предрас-
судков? Может ли разум решать такие проблемы, и вправе
ли мы ему довериться? Надо ли видеть в смерти конец, и
390
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
вправе ли мы уповать на чудесную помощь? Я не верю и ве-
рить не хочу, что все это непроницаемо для нас, как разница
между херувимом и серафимом94, или нисхождение Святого
Духа. Быть может, схоласты зря занимались серафимами, и
человеку не дано их понять. Но спрашивая, волен ли человек
выбрать, или смертен ли он, они задавали самые обычные
вопросы, вроде «Царапается ли кошка?» или «Есть ли нюху
собаки?». Можно сказать, что у них нет научных доказа-
тельств; но наши антропологи не предлагают нам и гипотез.
Обычно они предлагают нам только ненаучные противоре-
чия. Почти все моралисты учат теперь, что человек не волен
выбрать, но почему-то должен мыслить и действовать как
истинный подвижник. Гексли сделал нравственность сверхъ-
естественной в прямом смысле слова, он создал богословие
без Бога.
Я не знаю толком, почему святого Фому называли Doc-
tor angelicas*: потому ли, что он был кроток, как ангел, или
потому, что он был очень умен, или потому, наконец, что
позже решили, будто он много занимался ангелами, особен-
но теми, что толпились на острие иглы. История любит яр-
лыки, словно человек всю жизнь занимается чем-то одним.
Кто назвал доктора Джонсона «наш великий лексикограф»,
словно он только и составлял словари? Почему так упорно
сужают разум Паскаля, что он сжимается в острие иглы,
вонзающейся в иезуитов? Быть может, кто-то хотел сузить
и вселенский разум святого Фомы, как обычно сужают, сни-
жают, умаляют великих ученых и писателей. У него были
враги, хотя он обращался с ними по-дружески. К несчастью,
хороший характер иногда раздражает больше, чем плохой.
Да и вообще, он досаждал многим и, что занятно, самым
разным людям. Он был мятежником для последователей
Августина, консерватором для последователей Аверроэса.
Одни думали, что он вот-вот разрушит древнюю красу Гра-
да Божия, несколько похожего на государство Платона95.
* Ангельский доктор (лат.).
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
391
Другим казалось, что он бьет по прогрессивным силам исла-
ма, словно Готфрид, штурмующий Иерусалим. А может,
пришпиливая этот ярлык, враги имели в виду просто его ма-
ленький, весьма почтенный труд об ангелах — так Дарвина
могли бы назвать исследователем кораллов. Это все догад-
ки, можно выдвинуть и другие. Важно не это; важно, что
святой Фома и вправду занимался природой ангелов по той
же самой причине, по какой он занимался природой челове-
ка. Его чрезвычайно занимали подчиненные, полузависимые
создания, разные ступени свободы. Святой Фома интересо-
вался и ангелами, и людьми потому, что они — существа
промежуточные. Конечно, я не берусь определить, что же
это такое — быть ниже Бога и выше человека. Но именно
звенья цепи, ступеньки лестницы занимали святого Фому,
когда он развивал свое учение об иерархии. Именно это
привлекло его к тайне человека. Человек — не воздушный
шар, возносящийся к небу, и не крот, роющий землю, а ско-
рее дерево, чьи корни питаются из земли, вершина стремит-
ся к звездам.
Я уже говорил, что современное свободомыслие окутало
туманом все, в том числе самое себя. Свобода мысли прежде
всего сокрушила свободу воли, хотя и здесь последователь-
ности не было. Детерминисты учили жить так, словно воля
свободна, зная, что она несвободна; учили двойной жизни,
как некогда Сигер Брабантский. XIX век все привел в бес-
порядок; для нас, живущих в XX, томизм важен тем, что он
может вернуть нам упорядоченный мир. Сейчас я пытаюсь,
очень упрощенно и кратко, рассказать, как святой Фома,
начиная, подобно агностикам, с темных погребов мирозда-
ния, взобрался на высочайшие башни.
Не надеясь втиснуть в такие рамки главную мысль то-
мизма, я все же разрешу себе о ней рассказать. Мне кажет-
ся, сознательно или нет, я знал об этом с детства. Когда ре-
бенок смотрит из окна и видит, скажем, траву, — что он зна-
ет, если знает хоть что-то? На свете много детских забав без-
радостной философии. Блистательный викторианец рад
392
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
сообщить, что ребенок видит не траву, а зеленоватый суп,
отраженный в неверном зеркале глаза.
Это рассуждение рационалистов всегда огорчало меня
почти безумной своей иррациональностью. Если ученый не
верит в траву за окном, почему он верит в сетчатку под мик-
роскопом? Если зрение так обманчиво, почему бы ему не
обмануть нас и тут? Адепты другой школы скажут нам, что
трава — просто впечатление, отпечаток, а мы ни в чем не
можем быть уверены, кроме сознания. По-ихнему мы толь-
ко его и сознаем, но ребенок, как ни прискорбно, только его
и не сознает. Лучше сказать, что есть одна трава, а ребенка
нет, чем сказать, что нету травы, есть лишь сознающий ре-
бенок. А святой Фома, вмешавшись в детскую ссору, твердо
говорит нам, что ребенок воспринимает ens. Много раньше,
чем ребенок узнал, что трава — это трава или сам он — это
он сам, он знает: что-то — это что-то. Каждому из нас хо-
чется крикнуть (ударив кулаком по столу): «Вот есть что-то,
и все!» Только в это и просит поверить для начала святой
Фома. Мало кто из атеистов требует от нас так мало. И на-
чиная отсюда сложным путем доказательств, еще никем не
опровергнутых, он создает христианское мироздание.
Так, он настаивает на той очень мудрой и очень жизнен-
ной мысли, что вместе с утверждением возникает отрицание.
И ребенку ясно, что они противоречат друг другу. Как бы
вы ни назвали то, что он видит, — травой, туманом, ощуще-
нием, впечатлением, — он знает: если он это видит, нельзя
сказать, что он этого не видит. Как бы вы ни назвали его
действие — смотрит ли он, грезит, ощущает или что иное, —
он знает: если он это делает, нельзя сказать, что он этого не
делает. Так к простому факту бытия прибавляется еще что-
то, и словно тень следует за ним первая заповедь разума:
ничто не может быть и не быть. В переводе на обычный язык
это значит, что есть ложь и правда. Я сказал «на обычный»,
ибо Фома Аквинат с особенной тонкостью рассуждает о том,
что ens — не точно то же самое, что правда. Словом «прав-
да» или «истина» оценивает ens способный к оценке разум.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
393
Но, грубо говоря, в бой вступило то разделение, то распутье,
которому мы обязаны всеми боями на земле — перед нами
извечные врата, Да и Нет. Чтобы убежать с поля боя, скеп-
тики напустили туману, утверждая, что они совместимы.
Интересно, что тогда выходит: «На» или гнусавое «Дет»?
Следующий шаг в утверждении реальности (или как это
назвать попроще?) почти и не опишешь на обычном, про-
стом языке, хотя именно здесь все системы сбиваются с пути,
и дальше, делая третий шаг, начисто забывают первый. Свя-
той Фома Аквинат считает реальным первое ощущение ре-
ального. Но когда мы сталкиваемся с фактами, мы замечаем
в них что-то странное — то, что повергло в сомнение многих
ученых: все непрестанно меняется, беспрерывно движется или
куда-то пропадает. Тут-то многие мудрецы и теряют реаль-
ность, которую было признали, и отступают, приговаривая,
что нет ничего, кроме изменения, или кроме движения, или
вообще ничего. Аквинат не сомневался в том, что есть, даже
если оно кажется нам не столько сущим, сколько становя-
щимся — ведь то, что мы видим, еще неполно. Лед тает,
становясь водой, вода обращается в пар — нельзя быть сра-
зу водой, и льдом, и паром. Но это не значит, что воды нет
или что она относительна — просто она может быть только
чем-то одним в данное мгновение. А полнота ее бытия —
все, чем она может быть, и без полноты этой не объяснишь
меньших, низших ее видов.
Этот грубый набросок — скорее исторический, чем фи-
лософский. В него не втиснешь доказательств такой высокой
и сложной мысли. Но для истории эта ступень необычайно
важна. Обнаружив изменчивость вещей, почти все мысли-
тели забывают об их реальности и верят только в изменчи-
вость. Они не могут даже сказать, что одно превращается в
Другое, для них нет мгновения, когда вещь равна самой себе.
Наверное, тогда логичней сказать, что ничто превращается в
ничто. Святой Фома утверждает, что любая вещь в любой
момент есть нечто, но не все, чем она может быть. Всем она
становится лишь в своей полноте. Другие приходят к пустоте
394
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
изменения, он — к полноте неизменной вещи. Другие опи-
сывают путь к небытию, он описывает неизменность, вклю-
чающую все изменения. Вещи изменяются, ибо они непол-
ны, но реальности их — часть целого, и целое это — в Боге.
Именно тут, на этом крутом повороте, спотыкались один
за другим мыслители и мудрецы. Только великий схоласт
пошел прямо по широкой дороге опыта, чтобы увидеть и по-
строить свой город. Разум прежде всего признает вещь как
таковую. Но он же и говорит нам, что она неполна, не окон-
чательна, а потому может решить, что нет ничего окончатель-
ного и полного. Каждый философ на свой лад видел в вещи
что-то менее плотное, чем она сама — волну, или видение,
или выдумку.
Если мы используем тот же приблизительный образ, свя-
той Фома видел в вещи нечто более плотное, чем вещь, более
прочное, чем очевидность, с которой он начал. Сотни уче-
ний, от номинализма до нирваны, от бесформенного разви-
тия до бездумного равнодушия, начинаются там, где порва-
лась эта цепь. То, что мы видим, не удовлетворяет нас и не
объясняет себя, — значит, оно меньше того, что мы видим.
В таком безумном мире задохнешься, но томизм вырвался
на волю. То, что мы видим, неполно, ибо это еще не все. Бог
реальнее человека, Он реальней материи, потому что и Он, и
все силы Его — непрестанно и вечно в действии.
Недавно нам довелось видеть космическую комедию, в
которой участвовали Бернард Шоу и настоятель собора Свя-
того Павла. Вольнодумцы вечно твердили, что им не нужен
Творец, потому что Вселенная была всегда и всегда будет.
Шоу сказал, что он стал атеистом потому, что Вселенная сама
себя воспроизводит с самого начала или, точнее, безначаль-
но. Декана Инджа возмутила сама мысль, что у Вселенной
может быть конец. Большинство современных христиан,
живущих традицией там, где христиане средневековые жили
логикой и разумом, смутно ощущали, что нехорошо лишать
их Страшного суда. Почти все наши агностики (они очень
любят, чтобы их путались) кричали в один голос, что само-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
395
производящаяся, самодовлеющая, истинно научная Вселен-
ная не нуждается ни в каких началах и концах. Как вдруг
настоящий ученый, который занимался только фактами, гром-
ко заявил, что Вселенная ограничена во времени. Он не слу-
шал, конечно, любительских разговоров — он изучал струк-
туру материи и пришел к выводу, что конец у Вселенной бу-
дет и, наверное, было начало. Все очень обиделись — и пра-
воверные, и неправоверные, они еще обидчивей. Декан Индж
много лет учил правоверных, что их суровый долг — прини-
мать все достижения науки, и просто взвыл от такого бестакт-
ного открытия, умоляя открыть что-нибудь другое. Трудно
поверить, но он и впрямь спрашивал, чем же будет тешиться
Бог, если кончится Вселенная. Вот как нужен современному
сознанию Фома Аквинат. Но и без Аквината я не могу пред-
ставить себе образованного человека (не говоря уже о таком
ученом), который, веря в Бога, не признает, что Бог содер-
жит в себе всяческое совершенство, включая вечную радость,
и как-нибудь обойдется без циркового представления, име-
нуемого Солнечной системой.
Когда из этого лабиринта предположений, недоумений и
предрассудков выходишь в мир святого Фомы, кажется, что
ты из темной комнаты вышел на яркий солнечный свет. Свя-
той Фома прямо говорит, что он верит в начало и конец мира,
потому что так учит Церковь. Он приводит много доказа-
тельств в защиту этой мистической вести. Исходя, как нам
подобает, из того, что последнее открытие и есть истина, мы
можем считать, что Церковь учит правильно. Но святой
Фома идет дальше. Он не видит, почему бы миру не быть
бесконечным и безначальным. Если у мира нет конца и нача-
ла, он все равно нуждается в Творце. И святой Фома мягко
замечает, что всякий, кто этого не видит, не совсем понима-
ет, что такое Творец.
Святой Фома имеет в виду не старого короля со средне-
вековой картинки. Чтобы понять, что он имеет в виду, вер-
немся ко второй ступени рассуждения — той самой, о кото-
рой так трудно рассказать. Если мы смотрим на мир, как
396
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
смотрит ребенок на траву, нам кажется, что он — второсте-
пенен, зависим. Он существует; но этого мало, ему не хвата-
ет самостоятельности, и он не обретет ее, сколько ни будет
существовать. То же самое чутье, которое подтверждало его
реальность, говорит нам об его несовершенстве, но не в обыч-
ном, разговорном смысле, то есть не в том смысле, что в нем
есть какой-то изъян — он несовершенен, как сущее; менее
действителен, чем нужно. К примеру, часто он только нахо-
дится в становлении, как бы намекая на что-то более посто-
янное и полное, чем он. Об этом и говорит важнейшая фраза
средневековья: «Все, что движется, движимо кем-то», что
на ясном и тонком языке святого Фомы значит много боль-
ше, чем принцип деистов «Кто-то завел часы»96. Всякий, кто
поистине способен думать, увидит, что в движении есть не-
полнота, оно устремлено к чему-то более полному.
Современные поборники эволюции не примут этих дово-
дов не потому, что нашли в них изъян, — они и доводов не
нашли. Просто они не видят своих изъянов, ибо учение их
затуманено модной фразеологией, как учения старые зату-
манены фразеологией немодной. Но тем, кто действительно
думает, очень трудно думать об их Вселенной, где нечто воз-
никает из ничего, вода все обильней льется из пустого кув-
шина. Если вы можете это принять, если не видите странно-
сти, вам не нырнуть на ту глубину, где побывал Аквинат.
Мир не объясняет себя и не объяснит, просто развиваясь.
Интересно, почему наши ученые так удивляются, что Бог
создал все из ничего? Им понятней, что все родилось из ни-
чего собственными силами.
Как мы уже видели, многие мыслители просто неспособ-
ны рассуждать о вещах, ибо те изменяются. Кроме того, им
мешает рассуждать различие вещей. Мы не последуем за
Фомой в лабиринт этих ересей, но немного скажем о номи-
нализме, то есть о сомнении, связанном с различием. Номи-
налисты считали, что вещи слишком отличаются друг от
друга, чтобы их классифицировать, и остается давать им ус-
ловные названия. Святой Фома был убежденным, но уме-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
397
ренным реалистом — крайний реализм привел бы его слиш-
ком близко к Платону97. Он считал, что общие понятия ре-
альны. Он признавал реальность отдельных вещей, но ве-
рил и в реальность общих понятий, то есть, как всегда, го-
ворил точно то, что подсказал бы нам здравый смысл, если
бы мудрствующие еретики ему не мешали. Помню, у Гер-
берта Уэллса случился приступ номинализма, и он стал
твердить, что все единично: например, каждый человек так
отделен, что нельзя называть его человеком. Занятно, что
такой хаос особенно нравится тем, кто вечно сетует на хаос
в обществе. Те самые люди, которые просто не могут клас-
сифицировать, хотят все на свете регулировать. Бернард
Шоу сказал, что единственное золотое правило в том, что
нет золотых правил. Он предпочитает железное правило,
как в России.
Но это значит только то, что некоторые наши современ-
ники не совсем последовательны. А уж совсем непоследова-
тельны они, когда речь заходит о так называемой творческой
эволюции. Им кажется, что они обойдут проблему, если при-
мут, что все меняется только к лучшему. Когда мы ищем угол
на кривой линии, нам не станет легче, если мы перевернем
чертеж и кривая пойдет не вниз, а вверх; сама суть, сама труд-
ность в том, что у кривой нет угла, нет точки, после которой
можно сказать, что линия достигла апогея, или выявила свое
начало, или пришла к концу. Что толку развиваться там, где
разумные поэты прошлого сетовали на быстротечность и пла-
кали над изменчивостью? Какой нам прок, если мы скажем:
«А впереди что-то есть!» Впереди может быть такое, что его
и не вынесешь. Защищать новый взгляд очень трудно, разве
что так: скука настолько мучительна, что любой перемене
обрадуешься. Но суть не в этом, суть в том, что привержен-
цы такого взгляда не читали святого Фому, иначе они бы
увидели, что вполне с ним согласны. Ведь на самом деле они
хотят сказать, что изменение — не только изменение: что-то
меняется, разворачивается, пусть миллионы лет, а значит, что-
то было. Другими словами, они согласны с мыслью Аквина-
398
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
та о том, что во всем заложена потенция, которая не достигла
в акте своего конца, цели. Но если есть эта потенция, гово-
рит Фома, если она к чему-то стремится и может достигнуть
чего-то, значит, есть некто великий, в ком уже существуют
все цели, осуществлены все потенции. Нельзя даже сказать,
что изменение — к лучшему, если этого лучшего нет и до и
после изменения. Иначе будет то пустое изменение, которое
увидели чистые скептики и нечистые пессимисты. Представь-
те себе, что перед творческой эволюцией открылись два пути;
как узнать, какой из них лучше, если ни в прошлом, ни в
настоящем нет образца наилучшего? На нынешний, поверх-
ностный взгляд, может улучшаться и само улучшение. Но в
глубине души, по здравому смыслу, поборники эволюции сами
не верят, что идеал милосердия превратится в идеал жесто-
кости. Очень характерно, что иногда, робко, они употребля-
ют слово «цель», но краснеют при малейшем намеке на сло-
во «личность».
Святой Фома, тончайший антрополог, прямо противопо-
ложен поборнику антропоформизма98. Многие богословы
даже считали, что он слишком близок к агностику; природа
Бога у него, быть может, чересчур абстрактна. Но и без свя-
того Фомы здравый смысл подсказывает нам: если с самого
начала была цель, она неизбежно пребывала в чем-то, чему
присущи основные элементы личности. Нет стремления без
стремящегося, как нет воспоминания без вспоминающего,
шутки — без шутника. Если же вы считаете, что все это
есть, вам остается искать прибежище в пустой и бездонной
внеразумности. Нои тогда вы не сможете доказать, что мы
имеем право на глупость, а святой Фома не вправе быть ра-
зумным.
Святой Фома разумен. В очерке, который стремится лишь
к упрощениям, проще всего сказать о великом философе имен-
но это. Он верен своей первой любви, и любовь эта — с пер-
вого взгляда. Он сразу признал, что вещи реальны, а потом
не поддался разрушительным сомнениям. Вот почему я все
время настаиваю на том, что его философский реализм осно-
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
399
ван на христианском смирении и христианской верности.
Святой Фома мог сказать, глядя на дерево и камень, то, что
сказал апостол: «Я не воспротивился небесному видению»99.
Дерево или камень — здесь, на земле, но именно через них
находит Фома путь к небу. Он не противится видению, не
бежит от него. Почти все философы, которые вели (или сво-
дили с пути) человечество, разъедали дерево и камень со-
мнением, их пугали изменения или трудности обобщений, или
проблемы единства и различия. Но святой Фома верен пер-
вой истине и противостоит первой измене. Он не отрицает
того, что видел, хотя бы это и была вторичная, неполная ре-
альность.
Он видел траву и признал, что сегодня она есть, а завтра
будет брошена в печь100. Вот и начало сомнений об изменчи-
вости, быстротечности и тому подобном. Но он не скажет,
что нет травы, а есть только рост и увядание. Если трава ра-
стет и увядает, это не значит, что она менее реальна, чем ка-
жется; это значит просто, что она — часть чего-то больше-
го, еще более реального. Святой Фома вправе сказать, как
сказал один современный мистик: «Я начинаю с травы, что-
бы снова привязать себя к Богу».
Он видел траву и зерно и не скажет, что они одинаковы,
ибо в них есть что-то общее. Не скажет он и другого — они
совершенно разные. Он не повторит за номиналистом, что
зерно бывает разного сорта, колосья можно смешать с сор-
няками и потому нельзя отделять пшеницу от плевел или про-
вести границу между кормом для скота и едой для человека.
С другой стороны, он не повторит за платоником, что, не
открывая глаз, он видит идеальный корм раньше, чем заме-
тит злак и зерно. Святой Фома видел одно, потом — дру-
гое, потом — то, в чем они сходны, но не решил, что видел
свойство прежде самой вещи.
Он видел злак и камень, то есть вещи различные, совсем
не похожие. Общее у них одно: они есть. Все есть, но не все
едино. Именно здесь, как я уже говорил, святой Фома явно,
даже воинственно противостоит пантеизму и монизму. Здесь
400 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
он снова связывает нас с Богом, ибо мир, полный разных
вещей, — это мир христианский, мир сотворенный, мир
Творца, подобный мастерской скульптора. Сравните его с
однородным миром, подернутым туманом изменений, как в
древних восточных религиях или нынешней немецкой софи-
стике. Святой Фома упрям и верен. Он видел злак, и видел
камень, и не воспротивился небесному видению.
Словом, святой Фома внимательно рассматривает реаль-
ность вещей, их изменчивость, их различие и вообще все, что
можно в них увидеть, и не теряет первоначального чувства
реальности. Мне не вместить сюда тысячи рассуждений, ко-
торыми он доказывает, что прав. Но он не только прав — он
реален. Он — реалист в особенном, своем собственном смыс-
ле слова, который отличается и от современного, и от сред-
невекового. Даже сомнения и сложности привели его к вере
в большую, а не в меньшую реальность. Неполнота вещей,
их обманчивость, сбившая с толку многих ученых, ничуть не
помешала ему. Вещи обманывают нас, ибо они более реаль-
ны, чем кажутся. Если считать их самоцелью, они непремен-
но нас обманут; если же увидеть, что они стремятся к боль-
шему, они окажутся еще реальней, чем мы думали. Нам ка-
жется, что они не совсем реальны, ибо они — в потенции, а
не свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика
семян. Но существует высший мир, который великий схо-
ласт называет Свершением, — мир, где семя свершается
цветком, сухие палочки — пламенем.
Я оставляю читателя на самой нижней ступени лест-
ницы, по которой святой Фома шел в Дом Человеческий.
Скажу только, что по ступеням честных и сложных доказа-
тельств он добрался до башен и беседовал с ангелами на
золотой кровле. Я кратко и грубо рассказал о началах его
философии; о его теологии кратко не расскажешь. Когда
пишешь такую маленькую книгу о таком большом человеке,
что-то приходится выпустить. Те, кто знает святого Фому,
поймут, почему, все взвесив как следует, я выпустил самое
важное.
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
401
Глава VIII
ЧЕМУ УЧИТ НАС СВЯТОЙ ФОМА
Нередко говорят, что святой Фома в отличие от святого
Франциска не допускал в своем труде того, что нельзя опи-
сать; того, что называют поэзией, — скажем, он почти не
радуется цветам и плодам реальной жизни, вечно возясь с ее
корнями. Однако, когда я читаю его, меня посещает стран-
ное, сильное ощущение, очень похожее на то, что бывает при
чтении стихов. Может быть, точнее сказать, что так бывает,
когда смотришь на картины; читая его, я чувствую то самое,
что чувствуешь, глядя на полотна лучших современных ху-
дожников, направляющих странный, резкий свет на прямо-
угольные предметы и сотрясающих самые подпоры подсоз-
нания. Вероятно, это потому, что у него есть какая-то изна-
чальность (не говорю «примитивность», ибо это слово упот-
ребляют в неверном смысле). Как бы то ни было, он доставляет
радость не только уму, но и воображению.
Быть может, дело тут в том, что художник обращается к
вещам, минуя слова. Он серьезно пишет мощные округлости
свиньи, не помышляя о ее смешном названии. Нет мыслите-
ля, который так прямо и непосредственно мыслит о вещах,
как Фома. Слова не мешают и не помогают ему. В этом он
резко отличается, скажем, от Августина, который ко всему
прочему был чрезвычайно красноречив. Августина назвали
бы сейчас поэтом в прозе; он владел атмосферой и эмоцио-
нальной насыщенностью слов, и книги его изобилуют красо-
тами, которые звучат как музыка — например, illi in vos sae-
viant* или незабвенный вопль: «Поздно возлюбил я тебя, о
древняя красота!»101 Действительно, у святого Фомы ничего
этого нет, он не властен над чистой магией слов, зато и не
знает той болезненной, чернейшей магии, которой тешатся
* Они в бешенстве из-за вас (лат.).
402
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
себялюбивые поборники чувства. Сравните его с погружен-
ным в себя интеллектуалом, и вы увидите то, что я пытаюсь и
не могу описать. Очень простая, примитивная, изначальная
поэзия просвечивает во всех его мыслях, особенно в той, с
которой начинается его философия — в здравом соответствии
разума и внеположного ему мира.
Удивительность вещей, свет поэзии и вообще свет искус-
ства связаны с тем, что они — отдельны от нас или, как го-
ворится, объективны. К субъективному можно привыкнуть,
объективное — удивляет. Аквинат, великий наблюдатель,
ничуть не похож на мнимых наблюдателей, себялюбивых
мистиков, эгоцентрических творцов, которые чураются мира
и живут лишь собственной мыслью. По святому Фоме, мысль
свободна, но свобода ее в том и состоит, чтобы искать выхо-
да на волю, к свету дня, в страну живых. У субъективиста
слова загоняют воображение внутрь, у томиста сама мысль
гонит воображение в мир, ибо образы, которые оно ищет, —
это реальные вещи. Вся красота и слава их в том, что они
реальны. Цветок подобен видению, ибо его не только ви-
дишь или, вернее, ибо его видишь наяву, а не во сне. Вот
почему настоящего поэта так удивляют камни и деревья —
отдельные, весомые предметы. Они удивительны именно
потому, что весомы. Я пишу об этом на поэтический лад —
написать по-философски много труднее.
Для Аквината предмет становится частью сознания; нет,
для Аквината сознание становится предметом. Как заметил
один комментатор, оно становится предметом, но не создает
предмета. Другими словами, предмет существует вне созна-
ния и без сознания и потому обогащает сознание, входя в него.
Сознание овладевает им, как король-завоеватель, ибо отве-
тило на звонок, как слуга. Оно раскрыло все окна и двери —
тому, что в доме, интересно то, что вне дома. Пусть сознание
самодостаточно, но ему мало самого себя. Суть его в том, что
оно питается фактами, жует удивительную твердую пищу
реальности.
Заметьте, что такая точка зрения помогает нам избежать
обеих ловушек, обеих бездн бесплодия. С одной стороны,
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
403
сознание не только впитывает мир, словно промокашка (на
этом стоит весь трусливый материализм, для которого чело-
век полностью подчинен среде). С другой стороны, оно не
только творит — не только рисует картинки на стекле и
принимает их за настоящий ландшафт. Сознание деятельно,
и дело его в том, чтобы при соответствующем выборе воли
ловить внешний свет, освещающий реальные ландшафты.
Такой взгляд на мир мужествен и даже дерзок; сравните его
с мнением, согласно которому все материальное давит на без-
защитное сознание, или с тем, согласно которому сознание
творит произвольную, призрачную фантасмагорию. Здравый
смысл святого Фомы подсказывает, что действуют два на-
чала — реальность и ее постижение. Они идут навстречу друг
другу, встречаются, вступают в брак. Да, это именно брак,
ибо у них есть дети. Томизм — единственная философия в
мире, которая действительно плодотворна. Она дает практи-
ческие результаты именно потому, что соединяет дерзкое
сознание и удивительную реальность.
Жак Маритэн102 нашел прекраснейшую метафору — он
говорит, что внешний факт оплодотворяет сознание, опыля-
ет его, как пчела цветок. На этом союзе зиждется вся систе-
ма святого Фомы. Бог создал нас такими, что мы способны
вступать в союз с реальностью, а что Бог сочетал, того чело-
юз
век да не разлучает .
Стоит заметить, что только томизм — рабочая, действу-
ющая философия. Обо всех остальных можно сказать, что
их сторонники действуют так, словно их и нет или не дей-
ствуют вообще. Ни один скептик не относится скептически к
своим трудам, ни один фаталист не бросает их на произвол
судьбы — все подразумевают, что можно принять на прак-
тике то, во что верить нельзя. Материалист, для которого
сознание слеплено из праха, крови и наследственности, по-
лагается на свое сознание. Скептик, для которого истина
субъективна, бестрепетно доверяется ей.
У святого Фомы есть то, чего почти никогда нет во все-
объемлющих системах, созданных после него. Он строит дом,
они проверяют леса, сетуют на непрочный кирпич, непре-
404
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
станно спорят, можно ли создать сами орудия. Он обогнал
их, ушел далеко вперед. Мало сказать, что он обогнал свой
век, — он обогнал и наш, ибо перебросил мост через бездну,
нашел целый мир на том берегу и начал там строить. Почти
все нынешние философии — не философии даже, а сомне-
ния: философ прикидывает так и сяк, можно ли философство-
вать. Если мы примем реальность, как Аквинат, выводы тоже
будут реальны — будут делами, а не словами. В отличие от
Канта и многих гегельянцев, он не сомневается в сомнении, не
верит в веру — он верит в факт. Отсюда он может идти впе-
ред, делать выводы, что-то решать, словно строит город или
творит суд. С его времен ни один мыслитель не поверил ре-
альности, даже чувствам своим не поверил, и потому не обрел
той силы, которая помогала бы вынести груз решительных
выводов.
Нетрудно догадаться, что именно этот философ не про-
сто касается социальных проблем, — он крепко держит их.
Споры его и доводы доказывают, что у него поистине твер-
дая рука в мягкой перчатке. Он был из тех, кто отдает все
свое внимание, и, видимо, он его отдавал даже незначитель-
ным, преходящим вещам. Читатель чувствует, что любая
мелочь хозяйственных навыков или обычного быта увеличи-
вается, словно она попала под лупу. Рассказать об одной
тысячной доле его мелких решений — все равно что перепе-
чатать судебные отчеты какого-то немыслимого века правед-
ных судей и разумных судов. Коснемся лишь одного или двух
примеров.
Мы уже говорили, что для понятности приходится при-
бегать к современному, расплывчатому словарю. Так, я на-
звал Фому оптимистом; теперь назову его либералом. Этим
я хочу сказать, что он верил в широту кругозора, в равнове-
сие и в спор. Конечно, его либерализм огорчил бы, а не пора-
довал современных людей (так называют людей прошлого
века). Но по сравнению с теми, кто живет сейчас, с людьми
нашего века, он на редкость либерален — ведь почти все они
превращаются в нацистов и фашистов. Он действительно
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
405
предпочитал решения, которые родились в споре, а не по ве-
лению деспота. Как все его единоверцы и современники, он
полагал, что власть должна быть властной, но не терпел про-
извола. Он не так стремится к империи, как Данте, и даже
его преданность папству меньше связана с тягой к империи.
Он очень любил говорить, что город создается из свободных
людей, и настойчиво учил, что закон незаконен, если он не-
справедлив.
Можно посвятить целые главы его экономике и этике и
легко доказать, что здесь он был не только мудрецом, но и
пророком. Он предвидел, как опасно полагаться на торговлю
и предпринимательство (это начиналось именно тогда, а
кончилось нашим крахом). Он не только говорил, что рос-
товщичество неестественно — тут он просто следует Арис-
тотелю, да и здравомыслию, и опровергнуть это не мог ни-
кто до нынешних адептов коммерции, которые и привели нас
к краху. Он видел глубже и заметил правду, которую не за-
мечали все долгие века, сотворившие из торговли кумира:
вещи, сделанные на продажу, все-таки хуже, чем вещи, сде-
ланные для себя. Мы еще раз пожалеем о тонкости и богат-
стве латыни, когда прочитаем, что в торговле есть какая-то
inhonestas. Это не просто «что-то нечестное», скорее это
«что-то недостойное», «не совсем красивое». Так он считал
и был прав, ибо торговать в наши дни — значит «продавать
дороже, чем надо». Экономисты XIX века с этим бы согла-
сились. Они сказали бы только, что он непрактичен, и упрек
этот показался бы здравым, пока такие взгляды вели к пре-
успеянию. Сейчас все немного изменилось, ведь привели они
к банкротству.
Тут мы сталкиваемся с удивительным парадоксом исто-
рии. Если честно сравнить томизм с другими философскими
системами (скажем, с буддизмом или монизмом) и с други-
ми богословскими системами (скажем, кальвинизмом или
«Христианской наукой»), мы увидим, что только он действу-
ет, даже борется. Только он полон здравого смысла и твор-
ческого доверия, а потому дает обещание и надежду. Надежда
406
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
эта — не тщетна, обещание — не нарушено. В наше не слиш-
ком надежное время нет людей столь исполненных надеж-
ды, как те, для кого святой Фома — наставник в сотнях
житейских проблем, связанных с работой, собственностью и
экономической этикой. Конечно, теперь существует живой и
творческий томизм. Странно не это — странно, что его так
долго не было. В XIII веке был истинный прогресс, движе-
ние к лучшему, и кое-что — скажем, положение крестьян —
стало гораздо лучше к концу Средневековья. Но никто не
скажет, что лучше стала схоластика. Мы не знаем, насколько
помог народу истинно народный дух нищенствующих мона-
хов; насколько помог — прямо или косвенно — тот, кто так
любил и справедливость, и бедных. Но те, кто принял его ме-
тод (не дух), выродились с поразительной быстротой. О мно-
гих схоластах можно сказать, что они взяли у схоластики са-
мое плохое и сделали его еще хуже. Они пересчитывали сту-
пени логики, но каждая ступень уводила их от здравого смыс-
ла. Они забыли, что святой Фома начал почти с неведения и,
видимо, решили не оставить ничего неизвестного ни на небе,
ни даже в аду. Они были скучны, сухи, лишали веру тайны.
В ранней схоластике многое кажется нам дотошным крохо-
борством, но есть в ней и ощущение свободы, особенно сво-
боды выбора. Нам смешны рассуждения о том, что стало бы
с каждым растением, зверем и ангелом, если бы Ева отказа-
лась от яблока, но это трогает нас, ибо предполагает выбор.
Поздние схоласты переняли такой детективный метод, но
лишились удивления и ужаса, без которых нет детектива. Мир
наводнили фолианты, логично доказывающие тысячи вещей,
ведомых только Богу. Они развили все, что было бесплод-
ного в схоластике, и оставили нам развивать все плодотвор-
ное в томизме.
Этому есть немало объяснений. Был Черный Мор104, пе-
реломивший хребет Средних веков, был упадок клерикаль-
ной культуры, вызвавший Реформацию, но, мне кажется,
было и другое. Скажу так: фанатики, спорившие со святым
Фомой, не сдались и не вымерли, они победили. Люди, не
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ
407
понимавшие, что такое хвала всему сущему; люди, держав-
шиеся за букву особенно безрадостных текстов, — словом,
мрачные христиане — не ушли из христианства. Они оста-
лись и ждали своего часа. Их победили в споре, но страсть
их не угасла. На Севере в одном августинском монастыре
готовился взрыв105.
Святой Фома ударил кулаком по столу, но не образумил
манихеев. Не так легко их образумить, очень трудно уничто-
жить. Великий схоласт решил, что христианство, дошедшее
до нас, должно быть сверхъестественным, но не противным
естеству; что его не должна затемнять мнимая духовность,
отвергающая Создателя и Спасителя. Но такая традиция
уступала менее свободной и творческой мысли; средневеко-
вое общество по разным причинам приходило в упадок, и то,
против чего он так боролся, снова проникло в нашу веру.
Определенный дух, порой необходимый, но непременно чем-
нибудь уравновешенный, стал крепнуть, когда цепенела схо-
ластика. Страх Божий — начало премудрости, он связан с
началом, потому мы и ощущаем его в холодные, предрассвет-
ные часы цивилизации. Он родится в пустыне, сокрушает
идолов, прижимает людей к земле, и древние пророки вопи-
ют, и славя и страшась своего Бога. Страх этот — в начале
всякой веры, истинной и ложной; в начале — но не в конце.
Чтобы показать, как равнодушно и насмешливо относят-
ся к переворотам правители, а главное — как легкомыслен-
ны те, кого именуют языческими папами Возрождения106, ча-
сто рассказывают, что папа, услышав о первых признаках
протестантства, бездумно бросил: «А, это монахи ссорятся!..»
Конечно, каждый папа привык к монашеским ссорам, и все
же удивительно, как этот не заметил, что начинается истин-
ный раскол. Однако в более глубоком смысле он отчасти
прав — действительно, это ссорились монахи.
Мы уже видели, что великий Августин, о ком Аквинат
всегда говорил благоговейно, хотя не всегда с ним соглашал-
ся, создал школу, и она, естественно, дольше всего жила в
ордене августинцев. Как всякая школа внутри христианства,
408
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
она отличалась от других тем, что особенно подчеркивала.
Немощь человека перед Богом, всеведение Господне, страх
Божий, пагубность гордыни были важнее для нее, чем сво-
бода воли, достоинство человека или добрые дела. В этом
она была верна Августину, которого и теперь считают как
бы детерминистом среди богословов. Но подчеркивать мож-
но по-разному; пришло время, когда другую сторону просто
отвергли. Наверное, это и впрямь началось с монашеской
ссоры, но папа еще не знал, каким сварливым бывает монах.
В германских лесах жил августинец, особенно склонный под-
черкивать одно за счет другого107. Он был громогласен, гро-
моздок, искренней и мрачен. Ни Августин, ни августинцы
не хотели бы увидеть, как отомстила за себя их традиция, но,
хотя бы в одном смысле слова, она отомстила себе самой.
В грозе и буре вырвалась она из кельи, громко требуя
простой, внеразумной веры, низвержения всех философий.
Особенно боялась она великих учений Греции и схоластики,
на них основанной. Она признавала одно учение, разрушаю-
щее все учения, одно богословие, сокрушающее всякое бого-
словие. Человек ничего не может сказать Богу, ничего не
может услышать от Бога и о Боге. Он может одно: нечлено-
раздельно молить о милости и о помощи, когда все естествен-
ное в них отказало. Отказал разум, отказала воля, мы воль-
ны двинуться не больше, чем камень, и доверять своей мыс-
ли не больше, чем река. Ничего нет ни на земле, ни на небе,
кроме Имени Христова, которое мы выкликаем так страш-
но, словно ревет раненый зверь.
Будем справедливы к великим людям, которые меняли
историю. Даже если мы верим и думаем совершенно иначе,
не надо полагать, что их вера и мысль поверхностны или про-
сты. Не надо думать так и о великом августинце, отомстив-
шем за всех августинцев и заслонившем собою на четыре века
такую громаду, как Аквинат. Современники наши поспешат
сказать, что дело тут в богословии. Нет, богословие Марти-
на Лютера не понравилось бы ни одному нынешнему проте-
станту108. То старое протестантство было очень мрачным, оно
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИМ
409
утверждало лишь одно: никакая наша добродетель не спасет
нас от ада. Такое богословие исчезло как призрак, и то, что
сменило его, стало призрачным, но Лютер призраком не был.
Он был великим и простым варваром — им и дано менять
мир. Бесполезно, даже нечестно сравнивать две громады. На
огромной карте здравого смысла Лютер просто невидим. Но
мы вправе повторить то, что бездумно повторяли многие
журналисты: Лютер начал эпоху, основал нынешний мир.
Именно он первым сознательно использовал свое сознание
или, как сказали бы позже, свою личность. Надо признать,
что личностью он был сильной, хотя и не сильней Аквината.
Святой Фома поражал людей, он влиял на них, его могу-
чий ум просто обстреливал все и вся, словно мощная пушка.
Он не терялся в споре, он был остроумен в единственно сто-
ящем смысле слова. Но ему и в голову не приходило, что, за-
щищая истину, можно использовать что-нибудь, кроме разу-
ма. Он не знал, что можно использовать себя самого. Мы не
знаем ни единого случая, когда он сослался бы на свои досто-
инства, на права рождения, или воспитание, или образован-
ность. Словом, он принадлежал веку умственной неосознан-
ности — веку, когда поистине царил разум. С Лютера начи-
нается нынешний обычай полагаться на что-то, кроме разума.
Я не хвалю и не браню его, разницы не будет, назовем мы его
крупной личностью или просто наглецом. Ссылаясь на Писа-
ние, он вставляет слово, которого там нет, и победно прибав-
ляет: «Скажите, что так у доктора Лютера!» Вот это мы и
именуем «личностью», или самоутверждением, или духом дела,
или рекламой. Повторяю: я не хвалю и не браню. Мы обязаны
признать, что пессимист не только победил ангела схоластики,
но и в самом прямом смысле слова создал нынешний мир —
заменил рассуждение внушением.
Говорят, что великий реформатор всенародно сжег «Сум-
му теологии» и другие труды Аквината. Что ж, если такие
книги сжигают, пусть кончит костром и эта книга. Считает-
ся, что книгу сжечь трудно, а уж тем паче ту гору книг, кото-
рую подарил христианству великий доминиканец. Поневоле
410
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
подумаешь о конце света, когда представишь, сколько со-
держится там общественных и нравственных разных истин.
В этой энциклопедии есть точные и сжатые определения,
которые помогают избежать многих ошибок и крайностей;
здраво и уравновешенно выбрать меньшее из зол; отдать свою
верность тому, кому надо. Она свободно судит о границах
власти и условиях справедливости, о собственности и о зло-
употреблении ею, о страшном зле войны, о поправках на сла-
бость человеческую, о том, что нужно для здоровья, — и эта
громада человековедения исчезает в дыму, а крутой крестья-
нин мрачно ликует, ибо кончилось время разума. Слово го-
рит за словом, силлогизм за силлогизмом, золото рассужде-
ний превращается в золото огня, гибнет сила и слава вели-
кой, древней мудрости. История соединила древний мир и
новый, но соединение это обратилось в дым, а для половины
света — в пар.
Долго казалось, что со святым Фомой покончили навсе-
гда. Да и сейчас, как ни странно, историю философии обры-
вают на мельчайших мудрецах античности и начинают снова
с такого третьестепенного философа, как Фрэнсис Бэкон.
Я хотел бы, чтобы эта книжка свидетельствовала о том, что
все изменилось снова. Мы опоздали на четыре века, но я на-
деюсь (и счастлив сказать — верю), что скоро ее поглотит
поток намного лучших книг, которые сейчас, вот сейчас, пе-
чатают в Европе, в Англии, даже в Америке. По сравнению
с ними очерк мой — легковесный и любительский, но его на-
вряд ли сожгут, а если и сожгут, мы этого не заметим, столько
новых и прекрасных трудов посвящены теперь philosophiae
perenni, Вечной Философии.
Еретики
© Перевод Н. Трауберг, А. Сергеева, 1984, 2003
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
О ВАЖНОСТИ ОРТОДОКСИИ
Самый удивительный признак чудовищного и скрытого
зла современного общества — это необычное и удивительное
использование в наши дни слова «ортодокс». В прошлые вре-
мена еретик гордился тем, что он прав. Это все королевства
мира, полиция и судьи были еретиками. А он был ортодоксом.
Он не испытывал гордости, выступая против них; это они
выступали против него. Армии с их беспощадной защитой,
короли с холодными лицами, благопристойность государства,
благоразумие закона, — все это были заблудшие овцы. Чело-
век гордился своей ортодоксальностью, гордился своей право-
той. Стоя в одиночестве посреди унылой пустыни, он был не
просто человеком; он представлял Церковь. Он был центром
вселенной; она вращалась вокруг него вместе со звездами.
И никакие ужасы позабытых преисподних не могли заставить
его признать себя еретиком. Нынешний человек, следуя со-
временным веяниям, этим хвастает. Он говорит со скромным
смешком: «Знаете, я такой еретик...» — и озирается, ожидая
аплодисментов. Слово «ересь» больше не означает неправоту;
практически оно стало синонимом здравомыслия и отваги.
Слово «ортодоксия» больше не означает правоту; оно подра-
414
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
зумевает заблуждения. И все это означает одно, и только
одно. Людей мало волнует, правы они с философской точки
зрения или нет. Иначе признанию в ереси должно предше-
ствовать признание в помутнении рассудка. Представитель
богемы в красном галстуке должен кичиться своей ортодок-
сальностью. Террорист, подкладывающий бомбу, должен
ощущать себя, по меньшей мере, ортодоксом, кем бы он ни
был на самом деле.
Конечно, глупо, если философы сжигают других филосо-
фов на Смитфилдском рынке за то, что им не удается выра-
ботать общую теорию Вселенной. Это часто случалось в
Средние века, во времена глубокого упадка, но нисколько не
прояснило предмет спора. Есть лишь одна идея, которая бес-
конечно абсурднее и непрактичнее, чем сжигание человека
за философию. Это привычка утверждать, что философия ни-
чего не значит; привычка, которая стала универсальной в
двадцатом столетии, во времена упадка великого периода
революций. Общими теориями пренебрегают повсеместно;
доктрина прав человека уступила доктрине падения челове-
ка. Атеизм для нас нынче слишком догматичен и теологичен.
Революция — слишком упорядочена; свобода — слишком
ограничена. Мы разучились обобщать. Бернард Шоу выра-
зил это в прекрасном афоризме: «Золотое правило состоит в
том, что золотых правил нет». Мы все больше погрязаем в
обсуждении мелочей, деталей искусства, политики, литера-
туры. Нас интересует мнение человека о трамвайных ваго-
нах, его взгляды на Боттичелли, его высказывания о всяких
пустяках. Ему позволено переворошить и исследовать мил-
лионы мелочей, но он не должен найти тот странный объект,
который зовется вселенной, иначе он придет к религии и
растеряется. Нам важно все, за исключением целого.
Едва ли нужно приводить примеры всеобщего легкомыс-
ленного отношения к мировой философии. Едва ли нужно
приводить примеры, дабы показать, что нас — как бы мы ни
страдали от этого на практике — мало волнует, является че-
ловек пессимистом или оптимистом, картезианцем или геге-
ЕРЕТИКИ
415
льянцем, материалистом или идеалистом. Впрочем, один слу-
чайный пример я все же приведу. На любом невинном чае-
питии нет-нет да и доведется услышать, как кто-нибудь ска-
жет: «Жить на свете не стоит». Мы воспринимаем это так
же, как замечание о хорошей погоде; и никто не задумывает-
ся, что это может иметь серьезные последствия для челове-
чества и всего мира. Если бы это высказывание было приня-
то всерьез, мир стал бы на голову. Убийцам следовало бы
раздавать медали за спасение людей из когтей жизни, а по-
жарных обвинять в препятствовании смерти; яды рассмат-
ривались бы как лекарства, врачей вызывали бы лишь к тем,
кто здоров; а Королевское гуманитарное общество пришлось
бы уничтожить как банду убийц. Но мы и мысли не допуска-
ем, что этот болтун-пессимист укрепит общество или вверг-
нет его в хаос; ибо мы убеждены, что подобные теории бес-
смысленны.
Те, кто нес нам свободу, разумеется, об этом не думали.
Когда либералы снимали запреты со всех ересей, они пола-
гали, что таким образом можно открыть новое и в религии,
и в философии. Им виделось, что вселенская истина на-
столько важна, что каждый обязан засвидетельствовать ее
индивидуально. Современная идея состоит в том, что истина
вообще не важна, и потому можно болтать что угодно.
Раньше освободителями считались люди, отпускавшие бла-
городного подлеца; теперь ими считаются люди, выбрасыва-
ющие обратно в море рыбу, которую нельзя съесть. Никог-
да еще не размышляли о природе человека так мало, как
сейчас, когда — впервые — об этом может спорить каж-
дый. Старые заветы гласили, что обсуждать религию позво-
лено лишь ортодоксу. Нынешняя либеральность означает,
что ее не позволено обсуждать никому. Хороший вкус —
последнее и самое ужасное из человеческих суеверий —
Молчаливо расцвел там, где все прочее потерпело неудачу.
Шестьдесят лет назад признание в атеизме считалось дур-
ным тоном. Затем появились брэдлафиты1, последние рели-
гиозные люди, последние люди, которые думали о Боге; но
416
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
даже они не смогли ничего изменить. Атеизм по-прежнему
считается дурным тоном. Но агония секты привела к тому,
что теперь равно дурным тоном считается вероисповедание
христианства. Эмансипация заперла святого в одну башню
молчания с ересиархом. Так что мы говорим о лорде Англ-
си, о погоде и называем это полной свободой от всех веро-
учений.
Тем не менее есть люди — и я один из них, — которые
считают, что даже с практической точки зрения самым важ-
ным для человека является его видение Вселенной. Мы по-
лагаем, что домовладелице, которая принимает жильца, важно
знать о его доходах, но еще важнее знать о его мировоззре-
нии. Мы полагаем, что генералу перед схваткой с врагом важ-
но знать, каковы силы противника, но еще важнее знать,
каковы его убеждения. Мы полагаем, что вопрос не в том,
как теория мироздания влияет на деяния людей, а в том, вли-
яет ли на них в целом что-нибудь еще. В пятнадцатом веке
человека, который проповедовал безнравственность, допра-
шивали и пытали; в девятнадцатом веке Оскара Уайльда,
который проповедовал нечто подобное, чествовали и восхва-
ляли, а затем разбили ему сердце и приговорили к каторж-
ным работам, поскольку он довел дело до конца. Можно спо-
рить о том, какой из двух методов более жесток, но незачем
спорить, какой из них более смешон. Эпоха инквизиции, по
крайней мере, не опозорила себя созданием общества, кото-
рое творит себе кумира именно из того проповедника, кото-
рого затем сажает в тюрьму за осуществление его идей на
практике.
В наше время философия и религия — то есть теории о
принципах мироздания — оказались практически одновре-
менно изгнаны из тех сфер, которыми они владели раньше.
Высокие идеалы преобладали в литературе. Их вытеснил
клич «искусство ради искусства». Высокие идеалы господ-
ствовали в политике. Их вытеснил призыв к «эффективно-
сти», что можно приблизительно перевести как «политика
ради политики». Последние двадцать лет идеалы порядка и
ЕРЕТИКИ
4/7
свободы упорно изгонялись из наших книг; здравомыслие и
красноречие изгонялись из нашего парламента. Литература
целенаправленно становилась аполитичной; политика целе-
направленно становилась косноязычной. Общие теории о
связи вещей исчезли полностью; и мы должны спросить
себя: «Что мы от этого приобрели и что потеряли? Стали
литература и политика лучше, избавившись от моралиста и
философа?»
Когда общество начинает слабеть и теряет инициативу,
тут-то и начинаются разговоры об «эффективности». То
есть именно когда тело превращается в развалину, человек
впервые заговаривает о здоровье. Сильный организм инте-
ресуют не процессы, а цели. Нет лучшего доказательства
физического здоровья человека, чем веселый разговор о пу-
тешествии на край света. И нет лучшего доказательства ду-
шевного здоровья нации, чем постоянные разговоры о похо-
дах на край света, о Страшном суде и о Новом Иерусалиме.
Нет лучшего признака грубого материального здоровья, чем
стремление достичь высоких и недостижимых идеалов; точ-
но так в раннем детстве мы мечтаем попасть на Луну. Ни
один из героев великих эпох не понял бы, что значит борьба
за эффективность. Хильдебранд сказал бы, что он боролся
не за эффективность, а за католическую церковь. Дантон
сказал бы, что боролся за свободу, равенство и братство.
Даже когда идеал этих людей заключался в том, чтобы
сбросить ближнего с лестницы, они думали о действии, как
здоровые люди, а не о процессе, как паралитики. Они не
говорили: «Эффективность поднятия моей правой ноги
обусловлена, как можно заметить, мышцами бедра и икры,
которые находятся в превосходном состоянии...» У них
были совсем другие чувства. Их вдохновляло прекрасное
видение противника, лежащего пластом у подножия лестни-
цы, и, представив эту экстатическую картину, они затем
действовали мгновенно, как вспышка. На практике привыч-
ка обобщать и идеализировать никоим образом не означает
жизненной слабости. Время больших теорий было и време-
418
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
нем грандиозных результатов. В конце восемнадцатого сто-
летия, в эпоху сантиментов и красивых слов, люди были
крепки и духом, и телом. Сентименталисты победили Напо-
леона. Циники не сумели справиться с Деветом2. Сто лет
назад наши деяния во имя добра или зла триумфально пре-
возносились риторами. Сейчас наши деяния безнадежно за-
путаны сильными молчаливыми людьми. Этот отказ от вы-
соких слов и грандиозных картин породил целую расу ма-
леньких людей как в политике, так и в искусстве. Совре-
менные политики предъявляют колоссальные претензии
Цезарю и Сверхчеловеку, заявляя, что они слишком прак-
тичны, чтобы оставаться безупречными, и слишком патрио-
тичны, чтобы быть нравственными; но в результате создает-
ся впечатление, что министр финансов — посредственность.
Новые философы от искусства навлекают на себя те же
претензии, потрясая своей энергией небеса и землю; но в
результате создается впечатление, что поэт-лауреат — без-
дарность. Не хочу сказать, что сейчас нет людей более яр-
ких; но смеет ли кто-нибудь утверждать, что они сильнее
гигантов прошлого, следующих своей философии и испове-
дующих свою веру? Можно спорить, что лучше: свобода
или зависимость. Но" вряд ли можно отрицать, что их зави-
симость дала им больше, чем нам наша свобода.
Теория искусства вне нравственности прочно утверди-
лась в узких творческих кругах. Художники вольны творить
что угодно. Они вольны написать «Потерянный рай», где
Сатана победит Бога. Они вольны создать «Божественную
комедию», где небеса окажутся подземельями ада. Но разве
они это сделали? Сумели они при всей своей универсальнос-
ти создать что-нибудь более великое и более прекрасное, чем
пылкие речи жестоких католиков-гибеллинов или суровых и
несгибаемых пуританских наставников? Создали они, как нам
известно, лишь несколько кружков. Мильтон не только по-
бивает их своим благочестием, он превосходит их и в дерзос-
ти. Во всех их маленьких стихотворных сборниках не найти
более сильного вызова Богу, чем тот, который ему бросил
ЕРЕТИКИ
419
Сатана. Не найти там и величия язычества, которое ощуща-
ли пламенные христиане, описывающие, как Фарината3 под-
нял голову в знак презрения к мукам ада. И причина вполне
очевидна. Богохульство — это художественный прием, ко-
торый зависит от философских убеждений. Богохульство за-
висит от веры и растворяется в ней. Если кто-нибудь в этом
сомневается, пусть сядет и попытается всерьез возвести хулу
на Тора. Думаю, что в конце дня семья найдет этого челове-
ка в состоянии изрядного изнеможения.
Таким образом, ни в сфере политики, ни в сфере литера-
туры отрицание общих теорий не приводит к успеху. Воз-
можно, именно поэтому было так много ложных или обман-
чивых идеалов, которые время от времени сбивали человече-
ство с толку. Но, несомненно, не было в практике человече-
ства идеала более безумного и обманчивого, чем идеал
практицизма. Практичность и приспособленчество лорда
Росбери4 привели к наибольшему количеству упущенных воз-
можностей. Поистине он признанный символ своей эпохи:
человек, который практичен теоретически, а на практике не-
практичен больше любого теоретика. Во всей Вселенной не
найти большей глупости, чем поклонение подобной житей-
ской мудрости. Тот, кто постоянно прикидывает, сильна ли
та или иная группировка, перспективно ли то или иное дело,
никогда не сохранит веру достаточно долго, чтобы преуспеть.
Политик-оппортунист подобен человеку, который отрицает
бильярд, потому что проиграл партию, и отрицает гольф, по-
тому что проиграл игру. Для практических целей нет ничего
хуже, чем то значение, которое приписывается немедленной
победе. Ничто не способствует стремительному падению
больше, чем быстрый успех.
Открыв, что оппортунизм ведет к провалу, я решил по-
смотреть на дело шире, дабы убедиться, что так и должно
быть. Я осознал, что куда более практично вернуться к нача-
лу и поговорить о теориях. Я понял, что люди, которые уби-
вали друг друга во имя ортодоксии, были куда более прак-
тичными и здравомыслящими, чем те, которые переругива-
420
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ются из-за закона об образовании. Ибо христиане-догмати-
ки стремились установить царство святости и первым делом
задумались над тем, что же по-настоящему свято. А наши
педагоги-теоретики ратуют за религиозную свободу, не пы-
таясь установить, что такое религия или что такое свобода.
Если жрецы древности навязывали человечеству свои убеж-
дения, то они, по крайней мере, предварительно заботились
о том, чтобы изложить их ясно и вразумительно. А на долю
современных англиканских и нонконформистских сект вы-
пали гонения за доктрину, которую они даже не могут сфор-
мулировать.
По этим, а также и по многим другим причинам я решил
вновь обратиться к основам. В этом и состоит главная идея
моей книги. И я желал бы вести полемику с самыми выдаю-
щимися современниками, но не просто в ученой беседе, а в
связи с самой сутью доктрины, которую они проповедуют.
Меня не интересует мистер Редьярд Киплинг как яркий ху-
дожник или яркая личность; он интересует меня как еретик,
то есть как человек, который имеет наглость не разделять
мои взгляды. Мне не нужен мистер Бернард Шоу в качестве
самого блестящего и самого честного человека; он нужен мне
в качестве еретика, то есть в качестве человека, чья филосо-
фия очень основательна, весьма логична и совершенно не-
верна. Я возвращаюсь к методам тринадцатого столетия,
вдохновленный могучей надеждой на свершения.
Предположим, на улице началась безобразная свара из-
за газового фонаря, который желают снести много влиятель-
ных персон. В разгар ссоры появляется монах в сером оде-
янии, воплощающий дух Средневековья, и начинает за-
унывно вещать в сухой манере схоластов: «Собратья, давай-
те прежде всего рассмотрим достоинства Света. Ежели
Свет есть Добро...» В этот момент его милосердно сшиба-
ют с ног. Возле фонарного столба возникает сутолока, через
десять минут столб повален, и все поздравляют друг друга с
практическим достижением, не свойственным Средневеко-
вью. Однако дальше дело развивается туго. Одни валили
ЕРЕТИКИ
421
столб, потому что хотели электрического света; другим тре-
бовалось ржавое железо; третьи — потому что любят тем-
ноту, в которой вершат злые дела. Кое-кому одного столба
мало, надо больше; кое-кто присоединился, потому что по-
думывал сокрушить городскую управу; кое-кто просто хотел
что-нибудь сокрушить. И вскоре в ночи разгорается война,
и никто не знает, против кого сражается. И медленно, но
неизбежно — сегодня, завтра или послезавтра — люди
приходят к выводу, что монах был все-таки прав, и все за-
висит от доктрины Света. Только теперь то, что можно бы-
ло обсуждать при свете газового фонаря, придется обсуж-
дать в темноте.
О ДУХЕ ОТРИЦАНИЯ
Многое было сказано, и сказано справедливо, о нездо-
ровье монахов, о неистовстве, которым часто сопровожда-
ются видения отшельников и святых сестер. Но не будем
забывать, что их вера в воображаемое в определенном
смысле оказывается более здравой, чем наша современная
рассудочная мораль. Более здравая она по той причине,
что способна усматривать идею успеха или триумфа в без-
надежной борьбе за этический идеал, что Стивенсон, со
свойственной ему поразительной меткостью, назвал «про-
игранной битвой добродетели». С другой стороны, совре-
менная мораль с полной убежденностью может указывать
лишь на ужасы, порождаемые нарушением закона; в од-
ном у нее нет сомнений: в том, что это болезнь. Она видит
только несовершенства. Совершенств для нее нет. Но мо-
нах, размышляющий о Христе или Будде, держит в голове
образ, воплощающий совершенное здоровье, нечто ясное и
воздушно-чистое. Он может погружаться в созерцание это-
го идеального здоровья и счастья много глубже, чем следу-
ет (он перестает замечать отсутствие сущностей и пре-
вращается в фантазера или безумца), но ему по-прежнему
422
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
видятся цельные и счастливые картины. Он может даже
лишиться рассудка; но он лишится рассудка из-за любви к
здравомыслию. Однако тот студент, который сегодня изу-
чает мораль, оставаясь в здравом уме, не заражен также
нездоровым трепетом перед недугом.
Анахорет, исступленно перекатывающий камни, испол-
няя обеты, в сущности более здоров, чем иной здравомысля-
щий господин в цилиндре, прогуливающийся по Чипсайду.
Ибо многие искушены только в губительном познании зла.
Я не пытаюсь сейчас утверждать, что святоше присущи иные
преимущества, чем те, что и так очевидны: он может умерщ-
влять свою плоть, но мысли его будут опираться на огром-
ную силу и радость, на силу, которая не имеет границ, и ра-
дость, которой нет конца. Есть, конечно, другие возраже-
ния, которые не без оснований можно выдвинуть против те-
зиса о влиянии богов и видений на наши нравы — будь то в
келье или на улице. Но одно преимущество эзотерической
морали неизбывно: она всегда более радостна. Молодого че-
ловека удерживают от порока беспрестанные мысли о неду-
ге. Но также он может не поддаваться ему, постоянно думая
о Деве Марии. Вопрос в том, какой способ разумнее, если не
сказать — действеннее. Разумеется, не стоит спрашивать о
том, какой из них более здравый.
Я вспоминаю памфлет одного деятельного и искренне-
го антиклерикала мистера Дж.У. Фута, где были слова,
четко выражающие и разграничивающие эти два метода.
Памфлет назывался «Пиво и Библия» и посвящался двум
этим достойным явлениям, ставшим еще более достойны-
ми благодаря сходству, которое мистер Фут с суровостью
старого пуританина готов назвать издевательским, хотя
мне оно, признаюсь, кажется уместным и очаровательным.
Этого труда нет у меня под рукой, но я помню, что мистер
Фут презрительно развенчал все попытки справиться с
проблемой пития с помощью религиозных обрядов и мо-
литв и сказал, что изображение печени пьяницы скорее
приведет к воздержанию, чем любая молитва или восхва-
ЕРЕТИКИ
423
ление. Мне представляется, что это выразительное заявле-
ние прекрасно передает неисправимую ущербность совре-
менной этики. В храме царит полумрак, люди преклоняют
колена, громко звучат торжественные гимны. Но с алтаря,
перед которым стоит коленопреклоненная толпа, исчезла
идеальная плоть, тело и сущность совершенного человека;
это по-прежнему плоть, но плоть, пораженная недугом.
Нам предлагается обезображенная новозаветная печень
пьяницы — ее-то мы и запомним.
Итак, большой недостаток современной этики — отсут-
ствие наглядных картин непорочности и триумфа духа, став-
шее обратной стороной настоящего неприятия, которое ис-
пытывают многие здравомыслящие люди к реалистической
литературе девятнадцатого века. Если любой простой чело-
век скажет, что ужаснулся темам, которые обсуждаются у
Ибсена или Мопассана, или откровенному языку, которым о
них рассказывается, то этот простой человек лжет. Обыч-
ный разговор обычных людей в современном мире, незави-
симо от их сословия или цеха, звучит так, как Золя и не сни-
лось. Подобная манера изложения определенных тем не нова.
Наоборот, новшеством, хотя уже отмирающим, можно на-
звать викторианскую нарочитую щепетильность и немногое-
ловие. Традиция называть лопату лопатой зародилась в на-
шей литературе очень рано и отошла слишком поздно. Но
дело в том, что простого порядочного человека, как бы смут-
но он ни осознавал свои чувства, раздражает и даже отвра-
щает не прямота современных литераторов. Что его действи-
тельно раздражает, и вполне справедливо, так это не при-
сутствие чистого реализма, а отсутствие чистого идеализма.
Сильное и искреннее религиозное чувство никогда не осуж-
дало реализм; напротив, религия была реалистичной, прав-
диво-жестокой и называла вещи своими именами. В этом
большая разница между некоторыми недавними явлениями
нонконформизма и великим пуританством семнадцатого века.
Главным в пуританах было пренебрежение приличиями. Для
современных нонконформистских газет характерен отказ от
424
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
тех же существительных и прилагательных, которыми пользо-
вались основатели нонконформизма, высмеивая королей и
королев. Но если религии главным образом вменяется в вину,
что она открыто говорит о зле, то ее точно так же обвиняли и
в том, что она говорит о добре. В великой современной лите-
ратуре, для которой типичен Ибсен, возмущает — и мне
думается, заслуженно — то обстоятельство, что пока глаз,
способный замечать негативное, все шире охватывает ковар-
ную и всепоглощающую реальность, другой глаз, замечаю-
щий лишь хорошее, видит вещи в непрерывно сгущающейся
дымке, и в результате сомнения почти ослепляют его. Если
сравнить, так сказать, нравственность «Божественной ко-
медии» с нравственностью «Призраков» Ибсена, то мы уви-
дим, что со всей этой современной этикой ныне покончено.
Полагаю, никто не обвинит автора «Ада» в ранневиктори-
анской чопорности или оптимизме Подснапа. Но Данте опи-
сывает три источника нравственности — Рай, Чистилище и
Ад, картину совершенства, преображения и краха. У Ибсе-
на источник только один — Ад. Часто и совершенно пра-
вильно говорят, что, прочитав такую пьесу, как «Призра-
ки», никто не сможет остаться равнодушным к идее о необ-
ходимости этического'самоконтроля. Это истинная правда, и
то же самое может быть сказано о большинстве чудовищных
и зримых описаний геенны огненной. Безусловно, реалисты
вроде Золя в определенном смысле призывают к нравствен-
ности — в том смысле, в каком к ней призывает палач; или в
том, в каком к ней призывает дьявол. Но им удается затро-
нуть души ничтожного меньшинства, для которого любое
проявление отваги — добродетель. Большинство здравомыс-
лящих людей не думают об угрозе нравственности, как не
думают о бомбах или микробах. Современные реалисты —
такие же террористы, как и те, кто подкладывает динамит; и
точно так же тщетны их усилия вызвать страх. Причем и ре-
алисты, и динамитчики действуют из лучших побуждений,
ставя перед собой в корне безнадежную цель использовать
науку во имя распространения нравственности.
ЕРЕТИКИ
425
Я бы не хотел, чтобы читатель вдруг причислил меня к
тем странным людям, которые воображают, будто Ибсен
передает их представление о пессимизме. У Ибсена много
здравых, много хороших, много счастливых персонажей, мно-
го примеров мудрого поведения и благополучного разреше-
ния событий. Но я веду не к этому. Я хочу сказать, что Иб-
сену всегда была свойственна не скрывавшаяся им неопреде-
ленность, изменчивость, а также сомнение в отношении того,
что в нашей жизни на самом деле является мудростью и доб-
родетелью — и эта неопределенность ярко противопостав-
лена решимости, с которой он набрасывается на то, что вос-
принимает как корень зла — на всевозможные условности,
ложь, невежество. Мы знаем, что герой «Призраков» безу-
мен, и знаем, в чем причина его безумия. Мы также знаем,
что доктор Стокман здоров; но не знаем, почему он здоров.
Ибсен не предлагает разобраться, из чего возникают добро-
детель и счастье, поскольку призывает искать источник со-
временных трагедий во взаимоотношениях полов. Ложь ока-
зывается губительной в «Столпах общества», но так же гу-
бительна правда в «Дикой утке». Не существует принципи-
альных добродетелей ибсенизма. У Ибсена нет идеальных
людей. Все это не только признано, но и подчеркивается в
наиболее значимом и содержательном из всех панегириков
Ибсену — «Квинтессенции ибсенизма» Бернарда Шоу.
Шоу резюмирует учение Ибсена в одной фразе: «Золотое
правило состоит в том, что золотых правил нет». В его глазах
отсутствие устойчивого и определенного идеала, отсутствие
ключа к добродетели есть величайшее достоинство Ибсена.
Не стану сейчас подробно рассуждать о том, так это или нет.
Осмелюсь только с твердой уверенностью указать на то, что
такое отсутствие — хорошо это или плохо — ставит нас ли-
цом к лицу с проблемой человеческого сознания, которое на-
полняют очень четкие образы зла и где нет четких образов
Добра. Свет для нас отныне превращается в потемки — в то,
о чем нельзя говорить. Адских демонов Мильтона мы вос-
принимаем как зримую тьму. Человечество, согласно рели-
426
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
гиозному учению, однажды пало, познав тем самым добро и
зло. Теперь мы пали во второй раз, но осталось в нас только
знание о зле.
Великое молчание, огромное невыразимое разочарование
поглотило в наши дни северную цивилизацию. Все предыду-
щие эпохи были выжаты и распяты в попытке понять, что же
такое праведная жизнь, что значит быть хорошим челове-
ком. Заметная часть современного мира пришла от вопроса к
выводу, что ответа на этот вопрос не существует, а самое
большое, что мы можем сделать — это развесить предуп-
реждения там, где опасность очевидна, чтобы, например,
предупредить людей, что нельзя напиваться до смерти или
не замечать существования соседей. Ибсен первым бросил
тщетные изнуряющие поиски и принес нам весть о великом
крахе.
Любое из популярных современных высказываний, лю-
бой идеал — это уловка, чтобы не отвечать на вопрос, что
есть благо. Мы любим рассуждать о «свободе»; но наши рас-
суждения — это уловка, чтобы не отвечать на вопрос, что
есть благо. Мы любим рассуждать о «прогрессе»; но это улов-
ка, чтобы не отвечать на вопрос, что есть благо. Мы любим
говорить о «воспитании», но это тоже уловка, чтобы не отве-
чать на вопрос, что есть благо. Современный человек гово-
рит: «Давайте откажемся от условных принципов и выберем
свободу». По сути это означает: «Давайте не будем решать,
что такое благо; пусть считается, что правильно об этом не
рассуждать». Он говорит: «Долой ваши устаревшие мораль-
ные догмы; я за прогресс». По сути это означает: «Не будем
выяснять, в чем состоит благо; давайте решим, как на нем
поживиться». Он говорит: «Надежды нации, друг мой, за-
ложены не в религии и не в морали, а в воспитании». Это,
проще говоря, означает: «Мы не можем решить, что такое
благо; пусть решат наши дети».
Герберт Уэллс, весьма проницательный человек, проде-
монстрировал в одной своей недавней статье, что с экономи-
ческими вопросами произошло то же самое. Старые эконо-
ЕРЕТИКИ
427
мисты, по его словам, обобщали и были (с точки зрения ми-
стера Уэллса) глубоко неправы. Новые экономисты, как он
пишет, похоже, потеряли всякую способность к обобщени-
ям. В отдельных случаях они скрывают свою беспомощность,
требуя относиться к ним, как к «профессионалам», что «впол-
не уместно для парикмахера или модного врача, но непри-
лично для философа или человека науки». Но несмотря на
отрезвляющий рационализм, с которым мистер Уэллс все это
заявил, необходимо также сказать, что и сам он впал в вели-
кое заблуждение наших дней. На первых же страницах сво-
ей замечательной книги «Продолжение рода» он отметает
идеалы искусства, религии, абстрактной морали и все прочее
и заявляет, что будет говорить о главном предназначении
человека — родительском. Он собирается рассматривать
жизнь как «череду рождений». Для него вопрос не в том, где
взять удовлетворительных святых или героев, а в том, где
взять удовлетворительных отцов и матерей. Все это изложе-
но настолько стройно, что проходит, по крайней мере, не-
сколько мгновений, прежде чем читатель понимает, что это
еще один пример неосознанного уклонения от сути. Что за
благо — породить человека, пока мы не решили, в чем благо
человеческого бытия? Вы просто перекладываете на юное
существо задачу, которую не отваживаетесь решить сами. Это
все равно, что спросить человека: «Для чего нужен моло-
ток?» и услышать в ответ: «Чтобы делать молотки»; мы мо-
жем снова спросить: «А для чего нужны будут эти молот-
ки?» и услышим: «Чтобы делать другие молотки». Как этот
человек постоянно отодвигает вопрос о конечной задаче плот-
ничества, так и мистер Уэллс вместе с нами подобными выс-
казываниями отодвигает вопрос о высшей ценности челове-
ческой жизни.
Крайность здесь, несомненно, — частые разговоры о
«прогрессе». В современном изложении «прогресс» — обыч-
ный компаратив, для которого мы не придумали суперла-
тива. В ответ на любрй идеал — религиозный, патриотиче-
ский, идеал красоты или грубого удовольствия — мы вы-
428
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
двигаем альтернативный идеал прогресса; иначе говоря, на
предложение обратиться к тому, что нам знакомо, мы отве-
чаем альтернативным предложением добавить еще больше
непонятного. Впрочем, прогресс, в правильном его понима-
нии, несет в себе самый благородный и законный смысл.
Однако он смешон, когда противопоставляется пуританским
нравственным идеалам. То, что идеал прогресса следует
сравнивать с этическими или религиозными задачами, дале-
ко от истины; верно обратное. Ни к чему употреблять слово
«прогресс», если у вас нет твердых убеждений и суровых
моральных принципов. Невозможно выступать за прогресс,
не будучи доктринером; я почти готов сказать, что сторон-
ник прогресса должен быть непогрешим — это по меньшей
мере, — но не должен верить в непогрешимость. Ведь про-
гресс сам по себе указывает направление; в тот момент, ког-
да мы начинаем хоть немного сомневаться, туда ли мы идем,
мы в такой же степени сомневаемся в существовании про-
гресса. Пожалуй, никогда от сотворения мира не было еще
эпохи, имеющей меньшее право употреблять слово «про-
гресс», чем наша. В католическом двенадцатом веке, в фило-
софском восемнадцатом веке направление могло быть вер-
ным или неверным, люди могли в той или иной мере расхо-
диться во мнениях относительно того, как далеко они зашли
и куда движутся, но в целом они соглашались друг с другом,
определяя само направление, и следовательно, у них было
истинное чувство прогресса. А мы расходимся именно в оп-
ределении направления. Что нужно для будущего процвета-
ния — больше или меньше законов, больше или меньше
свободы? Будет ли вся собственность собрана воедино, или
ее окончательно разделят? Достигнет ли сексуальная страсть
высшей точки благоразумия, став почти девственно интел-
лектуальной, или наполнится животной свободой? Любить
ли нам всех вместе с Толстым или отмежеваться от всех, как
Ницше? Именно об этих вопросах мы наиболее жарко спо-
рим. Совершенно неверно то, что эпоха, попытавшаяся хоть
как-то определить, что такое прогресс, является «прогрес-
ЕРЕТИКИ
429
сивной». Но при этом верно, что люди этой эпохи, попытав-
шиеся хоть как-то определить, что такое прогресс, наиболее
«прогрессивны». Заурядная масса, те, кого прогресс никогда
не волновал, по идее, должна в него верить. Индивидуалис-
ты, болтающие о прогрессе, непременно устремятся в заоб-
лачные дали, едва заслышат сигнал к гонке. Поэтому я не
утверждаю, что слово «прогресс» не имеет смысла; я хочу
сказать, что оно бессмысленно без предшествующего опре-
деления моральной доктрины и применимо только к тем
группам людей, которые разделяют эту доктрину. Слово
«прогресс» не является неправомочным, но, по очевидной
логике, для нас оно неправомочно. Это сакральное слово,
употреблять которое имеют право только те, кто твердо ве-
рит и живет в эпоху веры.
О РЕДЬЯРДЕ КИПЛИНГЕ И О ТОМ,
КАК СДЕЛАТЬ МИР МАЛЕНЬКИМ
На свете нет нелюбопытных тем, есть только нелюбо-
пытные люди. Очень важно как можно скорее отстоять за-
нуд. Когда Байрон делил всех на скучных и скучающих, он
забыл прибавить, что скучные — выше, лучше, скучающие
же (в том числе и он сам) — ниже и хуже. Торжественная
радость зануды в сущности поэтична. Тот, кому все приску-
чило, весьма прозаичен.
Да, нам скучно пересчитывать все травинки или все ли-
стья, но не потому, что мы отважны и веселы, а потому, что
нам не хватает отваги и веселья. Зануда взялся бы за дело
(с весельем и отвагой, естественно) и узнал бы, что травин-
ки так же прекрасны, как мечи. Зануда сильнее, радостнее
нас, он —полубог, да что там — божество. Ведь именно
боги не устают от повторений; для них закат всегда внове и
каждая роза пламенеет, как пламенела первая.
Ощущение, говорящее нам, что все на свете исполнено
поэзии, — совершенно и весомо; оно ничуть не зависит от
430
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
слов или от настроений, Это не просто истина, это — вызов.
Можно потребовать, чтобы мы это доказали; можно потре-
бовать, чтобы мы назвали хоть одну неподвластную поэзии
вещь. Помню, когда-то давно вполне разумный редактор
показал мне книгу «Мистер Смит» или «Семейство Смит» и
сказал: «Ну, уж отсюда вы своей мистики не вытянете!»
Счастлив сообщить, что я его разочаровал, но победа была
слишком проста и очевидна. Обычно в фамилиях поэзии нет,
она в ремесле. Но тут фамилия столь поэтична, что только
подвижник сумеет носить ее с должным достоинством. Ре-
месло кузнеца чтили и короли; ему принадлежит половина
той славы «anna virumque»5, которую воспевал древний
эпос. Дух кузницы так близок духу песни, что им питаются
тысячи стихотворцев, и каждый кузнец прекрасен, словно
стихи.
Даже деревенские дети чувствуют, что прекрасен куз-
нец, а не сапожник и не бакалейщик, когда они радуются
пляске искр и грому ударов в пещере творящего насилия.
Грубое сопротивление природы, пламенная прыть человека,
сильнейший из земных металлов, страннейшая из земных
стихий, непобедимое железо, поддающееся победителю, плуг
и колесо, мечи и молот' слава оружия и слава орудий — крат-
ко, но внятно названы на визитной карточке мистера Смита.
Однако писатели наши нарекают героя Эйлмером Вэленсом,
что ничего не значит, или Верноном Рэймондсом (тоже ни-
чего), хотя вполне могли бы дать ему имя из железа и пламе-
ни. Те, кто Зовется Смитом, вправе смотреть на нас свысока,
чуть усмехаясь. Быть может, они и смотрят; надеюсь, что
смотрят. Кто-кто, а они — не выскочки. Клан их вышел на
поле битвы в давней тьме истории; трофеи их — повсюду;
имя — у всех на устах; они старше наций, и герб их — молот
Тора.
Однако заметил я и то, что так бывает редко. Обычные
вещи — поэтичны, обычные прозвания — нет. Чаще всего
мешает именно название. Многие считают, что мое мнение —
просто словесный трюк, игра слов. На самом деле все наобо-
ЕРЕТИКИ
431
рот. Игрою слов, порождением слов вернее назвать мнение,
что в обычных вещах поэзии нет. Слово «семафор» не слиш-
ком красиво, самый семафор — прекрасен: ведь люди в не-
дреманной своей заботе спасают ближних от смерти, зажи-
гая огни, алые, как кровь, и зеленые, как трава. Вот описа-
ние того, что есть, и оно поэтично; проза начинается с назва-
ния. Слова «почтовый ящик» не слишком красивы, самый
ящик — прекрасен: друзья и влюбленные кладут туда вес-
точки, зная, что теперь весточки эти священны, тронуть их
нельзя. Красный столбик — последнее святилище. Может
быть, из всех романтических действий нам осталось два: же-
ниться и опустить письмо — ведь романтично лишь то, что
непоправимо. Мы считаем почтовый ящик прозаичным, по-
тому что к нему трудно найти рифму; потому что мы не встре-
чали его в стихах. Но семафор только зовется семафором, на
самом деле он — властитель жизни и смерти. Ящик только
зовется ящиком, на самом деле это — храм человеческих слов.
Фамилия Смит кажется вам прозаичной не потому, что вы
мыслите здраво, без «дураков», а потому, что вы чересчур
чувствительны к литературным влияниям. Фамилия эта во-
пиет о поэзии. Если же вы этого не слышите, вы просто не
избавились от чисто словесных ассоциаций, и помните, что в
юмористическом журнале мистер Смит часто пьет или боит-
ся жены. Сами вещи пришли к вам в сиянии поэзии. Словес-
ность долго и упорно старалась над тем, чтобы вы их увиде-
ли в сумерках прозы.
Вот первое и самое честное, что можно сказать о Кип-
линге. Он блистательно возвращает нам утраченные поэзией
царства. Его не пугает грубая оболочка слов; он умеет про-
никнуть глубже, к романтике самой вещи. Он ощутил высо-
кий смысл пара и городского простонародного говора. Если
хотите, говор — грязные отходы языка. Однако он — а та-
ких немного — увидел, чему они сродни, понял, что нет дыма
без огня, другими словами — что самое грязное там же, где
самое чистое. И вообще ему есть что сказать, есть, что выра-
зить, а это всегда означает, что человек бесстрашен и готов
432 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
на многое. Когда мы обретаем мировоззрение, мы овладева-
ем миром.
Весть Киплинга, любимая его мысль — самое важное в
нем, как и во всяком. Он часто пишет плохие стихи, как
Вордсворт. Он часто говорит глупости, как Платон. Он ча-
сто впадает в политические истерики, как Гладстон. Но
нельзя сомневаться в том, что он упорно и честно хочет что-
то сказать; вопрос лишь один — что именно? Быть может,
лучше и честнее начать с того, на чем так настаивают и сам
он, и его противники, — с воинственности. Но если хочешь
понять, чем хорош человек, не очень умно обращаться к его
противникам, совсем уж глупо — к нему.
Конечно, Киплинг неправ, поклоняясь воинственности,
но и противники его ровно в той же мере неправы. Войско
плохо не тем, что велит некоторым стать буйными, гордыми
или слишком дерзкими. Оно плохо тем, что по его вине
многие становятся забитыми, послушными, безопасными.
Профессиональный солдат обретает тем больше власти, чем
меньше у народа смелости. Преторианская гвардия станови-
лась все важнее, ибо Рим становился все развращенней и
слабей. Военные обретают гражданскую власть в той мере,
в какой человек обычный теряет воинские доблести. Так
было в Древнем Риме, так и у нас, теперь. Никогда еще
нации не отличались такой воинственностью. Никогда еще
люди не отличались такой трусостью. Все столетия, все по-
эмы воспевали «anna virumque»; мы же сумели добиться
сразу редкостного умаления мужей и немыслимого совер-
шенства оружия.
Киплинг бессознательно и блистательно доказал это. Если
читаешь его серьезно, здраво, видишь, что воинское дело
ничуть не становится у него самым важным или самым за-
видным. О солдатах он пишет хуже, чем о железнодорожни-
ках, строителях мостов, даже журналистах. Дело в том, что
армия привлекает его не отвагой, а дисциплиной. Отваги было
намного больше в Средние века, когда короли армий не дер-
жали, но каждый владел луком или мечом. Армия околдо-
ЕРЕТИКИ
433
вывает Киплинга не храбростью (о ней он почти не думает),
а порядком, о котором он собственно всегда и пишет. Ны-
нешняя армия не блещет мужеством, у нее возможностей к
тому нет — ведь прочие, все поголовно, очень трусливы. Зато
она блещет порядком, а это и есть идеал Киплинга. Тема его
книг — не смелость, столь важная в бою, а послушание и
полезность, которые точно так же свойственны инженерам,
морякам, мулам и паровозам; потому он лучше всего и пишет
об инженерах, моряках, мулах и паровозах. Истинная поэзия,
истинная романтика, которую он открыл нам, — романтика
дисциплины и разделения труда. Мирные искусства он вос-
певает лучше, чем искусство воинское, и главная мысль его
очень важна и верна: все подобно войску, ибо все зависит от
послушания. На свете нет прибежища эпикурейству, нет ме-
ста безответственному. Любая дорога проложена послуша-
нием и потом. Можно беспечно лечь в гамак; но скажем спа-
сибо, что самый гамак плели отнюдь не беспечно. Можно
шутки ради вскочить на детскую лошадь-качалку; но ска-
жем спасибо, что столяр не шутил и хорошо приклеил ей ноги.
В лучшие, высшие свои минуты Киплинг призывает нас по-
клониться не столько солдату, чистящему шпагу, сколько
пекарю, пекущему хлеб, или портному, шьющему костюм,
ибо они — такие же воины.
Зачарованный видением долга, Киплинг, конечно, —
гражданин мира. Примеры он случайно берет в Британской
империи, но сошла бы и почти всякая другая, вообще всякая
развитая страна. То, чем он восхищается в британском войс-
ке, еще явственней в германском; то, чего он хочет от бри-
танской полиции, он обрел бы в полиции французской. Дис-
циплина — далеко не вся жизнь, но есть она повсюду. По-
клонение ей придает Киплингу некую мирскую мудрость,
опытность путешественника, столь радующую нас в лучших
его книгах.
Недостает ему, грубо говоря, только патриотизма — он
совершенно неспособен отдаться делу или сообществу совсем,
До конца, до смерти; ведь все, что окончательно, — трагич-
434
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
но. Он восхищается Англией, но не любит ее; восхищаемся
мы за что-то, любим просто так. Он восхищается Англией за
то, что она сильна, а не за то, что она — Англия. Я не оби-
жаю его, он, к чести своей, сам в этом признался с обычным,
живописным простодушием. В очень занимательных стихах
он пишет:
Была бы Англия слаба
(а не сильна и практична, как ему кажется),
Я бросил бы ее.
Другими словами, он признает, что восхищается он,
всё взвесив, — и этого достаточно, чтобы отличить его от
буров, которых он сокрушал. Говоря об истинных патрио-
тах, скажем об ирландцах, он с трудом сдерживает гнев.
Благородно и красиво он может описать лишь умонастрое-
ние человека, который побывал повсюду, объездил города
и страны,
чтоб восхищаться и смотреть,
чтоб видеть белый свет.
Он превосходно передает ту легкую печаль, с какою ог-
лядывается тот, кто был гражданином многих сообществ; ту
легкую печаль, с какой оглядывается тот, кто был возлюб-
ленным многих женщин. Можно много узнать о женщинах,
крутя романы, но не ведая любви; можно узнать столько же
стран, сколько узнал Одиссей, не ведая патриотизма.
Киплинг спрашивает в знаменитых строках, что знают
об Англии те, кто знает одну лишь Англию. Точнее, да и
мудрее спросить: «Что знают об Англии те, кто знает только
весь мир?», ибо мир не включает Англию, как не включает
он Церковь. Когда мы что-нибудь искренне, истинно полю-
бим, весь мир — то есть все другое — становится нам вра-
ЕРЕТИКИ
435
гом. Христиане потому и говорили, что они чисты от мира;
но и влюбленные говорят: «Что мне без тебя весь мир?» С на-
учной точки зрения я понимаю, что Англия находится в мире,
на свете, на Земле; даже христиане, даже влюбленные — и
те живут на этом шарике. Но они ощущают особую исти-
ну — как только ты полюбишь, мир тебе чужд. Киплинг,
конечно, знает свет, он — путешественник, и ему присуща
узость, которая присуща всем узникам нашей планеты. Он
знает Англию, как образованный англичанин знает Венецию.
Он часто в Англии бывал; он подолгу там оставался. Но он
не принадлежит ни ей, ни какому-либо иному месту, и дока-
зательство — именно в том, что Англия для него «место».
Когда мы пустили где-нибудь корни, «место» исчезает, мы
его не видим. Словно дерево, мы черпаем жизнь из всей Все-
ленной.
Тот, кто ездит по свету, живет в гораздо меньшем мире,
чем крестьянин. Дышит он всегда воздухом «места». Лон-
дон — «место» по сравнению с Чикаго, Чикаго — по срав-
нению с Тимбукту. Но Тимбукту — это не «место», если
там живут люди, для которых это — весь мир. Человек в
салоне парохода видал много рас и думает о том, что людей
разделяет: о кухне, об одежде, о ритуалах, об африканских
кольцах в носу или английских кольцах в ушах. Человек на
капустном поле ничего не видел; но думает он о вещах, кото-
рые людей объединяют: о голоде и о детях, о красоте жен-
щин, о милости или о гневе небес. При всех своих огромных
достоинствах Киплинг — путешественник, ни для чего ино-
го у него не хватит терпения. Столь великого, честного чело-
века не обвинишь в циничной непоседливости, но все же
именно непоседливость — его главная слабость. Слабость
эта прекрасно выражена в едва ли не лучших его стихах, где
герой признается, что вынес бы что угодно, холод, голод,
только не жизнь на одном месте. Такое чувство опасно. Чем
мертвее, безжизненней, суше что-нибудь, тем его легче пус-
тить по ветру — скажем, пыль, перекати-поле, чиновника в
Южной Африке. Все плодоносное тяжело, словно отяго-
436
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
щенные плодами деревья в живоносящей нильской тине.
Когда мы беспечны, когда мы бездельны и молоды, нам хо-
чется оспорить поговорку «Катящийся камень мхом не обра-
стает». Мы спрашиваем: «Кому нужен мох кроме глупых
старушек?»; но со временем узнаем, что поговорка верна.
Катящийся камень громко гремит; однако он мертв. Мох
тихо молчит; он жив.
Да, от туризма и от науки мир становится меньше. Он
стал меньше из-за пароходов и телеграфа. Он меньше из-за
телескопа; только в микроскопе он больше. Скоро люди
разделятся на приверженцев телескопа и приверженцев
микроскопа. Первые исследуют вещи крупные и живут
в маленьком мире; вторые исследуют вещи мелкие и живут
в мире просторном. Что говорить, приятно пронестись в ав-
томобиле вокруг Земли, чтобы Аравия мелькнула вихрем
песка, Китай — полоской поля. Но Аравия — не вихрь, и
Китай — не полоска, а древние культуры, чьи странные
добродетели скрыты, словно клад. Если хочешь понять их,
надо не путешествовать и не исследовать, но обрести вер-
ность ребенка и великое терпение поэта. Побеждая эти
страны, мы их теряем. Тот, кто стоит в своем огороде, глядя
за ворота, в сказочный край, — человек широких взглядов.
Разум его создает пространства, автомобиль их пожирает.
Теперь, как учительница в школе, ‘Землю видят глобусом,
шаром, который нетрудно обойти; потому и ошибаются так
страшно, рассуждая о Сесиле Родсе6. Враги его говорят,
что, возможно, мыслил он широко, но человек был дурной.
Друзья говорят, что, может быть он и дурен, зато широко
мыслил. Истина же в том, что он не был особенно пло-
хим — он был даровит, иногда он хотел добра, — но вот
взгляды у него были исключительно узкие. Нет ничего ши-
рокого в том, чтобы закрасить карту одним цветом, дети
часто так делают. Думать о континентах не труднее, чем
думать о камушках. Трудности начнутся тогда, когда мы
попытаемся понять континент или камень. Пророчества
Родса о том, станут ли сопротивляться буры, прекрасно по-
ЕРЕТИКИ
437
называют, какова цена «широты взглядов», когда речь идет
не о континентах, а о кучке обычных людей. Расплывчатый
образ «света вообще», со всеми его империями и агентством
Рейтер, — сам по себе; а под ним, нимало его не касаясь,
человеческая жизнь с вот этим деревом и вот этим храмом,
этой жатвой и этой песней, глядит с удивленной улыбкой на
то, как автомобильная цивилизация победоносно проносится
мимо прекрасных захолустий, обгоняя время, попирая про-
странство, видя все и ничего не видя, покоряя всю Солнеч-
ную систему, чтобы найти, что Солнце — скучновато, пла-
неты — провинциальны.
БЕРНАРД ШОУ
В старые добрые времена, когда не ведали нынешнего
уныния и милый, уютный Ибсен наполнял нашу жизнь здо-
ровой радостью, а сентиментальные романы забытого Золя
вносили в наш дом чистоту и веселье, считалось, что плохо,
если тебя не понимают. Нужно подумать о том, всегда ли это
плохо. Если враг не поймет нас, он не узнает нашего слабого
места и попытается ловить птицу сетью, поражать рыбу стре-
лой. Приведу современный пример. Здесь прекрасно подой-
дет Остин Чемберлен7. Он непрестанно побеждает или об-
ходит своих врагов, ибо истинные его достоинства и недо-
статки сильно отличаются от тех, которые видят в нем и про-
тивники, и сторонники. Для сторонников он — человек дела,
для противников — грубый деляга, тогда как в реальности
он прекрасный оратор и романтический актер. Ему доступна
самая суть мелодрамы — он умеет казаться одиноким и заг-
нанным, хотя его поддерживает огромное большинство. Толпа
так рыцарственна, что ее герой должен быть несчастным; это
не лицемерие, а дань, которую сила платит слабости. Неле-
по — и все же красиво — его заявление о том, что город
остался ему верен. Он носит в петлице яркий и странный
Цветок, словно второстепенный поэт из декадентов. Что же
438 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
до грубости и практичности и призывов к здравому смыслу,
все это — самый обычный ораторский прием? Цель у ора-
тора — иная, чем у поэта или скульптора. Скульптор дол-
жен убедить, что он скульптор, оратор — что он не оратор.
Примите Чемберлена за грубого практика, и дело его в шля-
пе. Стоит ему сказать что-нибудь про империю/как все зак-
ричат, что, когда приходит час, простые, практичные люди
изрекают великие истины. Стоит ему пуститься в пустую
риторику, знакомую любому актеру, и все признают, что, в
конце концов, у деловых людей — высокие идеалы. Планы
его развеялись дымом, он ничего не сделал, только все запу-
тал. Он трогает сердце, как тот кельт у Мэтью Арнолда,
который «шел в бой и никогда не побеждал»8. Поистине, это
какая-то гора проектов и неудач. Но все же — гора; а горы
романтичны.
Есть и другой человек в нашем мире, обретший радость
непонимания. Он во всех отношениях непохож на Остина
Чемберлена. Те, кто спорит с Бернардом Шоу, и те, кто с
ним согласен (если такие люди есть), считают его смешным
и занятным, как фокусник или клоун. Все говорят, что его
нельзя принимать всерьез; что он защищает и бранит, сле-
дуя собственной прихоти; что он готов на все* только бы
вызвать удивление и смех. Это не просто ложь, это — пол-
ная противоположность правде. С таким же успехом можно
сказать, что Диккенсу не хватает неистового пыла Джейн
Остин. Сила и слава Бернарда Шоу — в его удивительной
последовательности. Он хорош не тем, что прыгает сквозь
обруч или стоит на голове, а тем, что он день и ночь защи-
щает свою крепость. Быстро и строго прилагает он свои
принципы ко всему, что случается на небе и на земле. Мерка
его неизменна. Слабые разумом мятежники и слабые разу-
мом противники перемен ненавидят (и боятся) в нем именно
этого. Им ненавистно, что ценности его так тверды, закон —
так суров. Можно нападать на его веру, что я и делаю, но
совершенно невозможно обвинить его в непоследовательно-
ЕРЕТИКИ
439
ста. Если он не любит беззакония, он не потерпит его ни в
социалисте, ни в империалисте. Если он не любит пылкого
патриотизма, он не потерпит его ни в бурах, ни в англичанах,
ни в шотландцах. Если он не любит уз и обетов брака, еще
более претят ему обеты и узы незаконной любви. Если он
обличает безответственность веры, он обличит и безответ-
ственность искусства. Он угодил богеме, провозгласив, что
женщины равны мужчинам, но сильно рассердил ее, приба-
вив, что и мужчина равен женщине. Справедливость его бе-
зошибочна, как механизм; в нем есть что-то страшное, как в
машине. Причудлив и дик, своенравен и непредсказуем не
Шоу, а самый обычный министр. Это сэр Майкл Хикс-Бич
прыгает сквозь обруч. Это Генри Фаулер стоит на голове.
Важный и уважаемый политик и впрямь непрестанно меняет
позицию; он готов защищать что угодно, и его не примешь
всерьез. Я прекрасно знаю, что скажет Шоу через тридцать
лет. Он скажет то же самое, что говорит сейчас. Когда через
тридцать лет я встречу старца с седой бородой до земли и
произнесу: «Женщин обижать нельзя», почтенный патриарх
поднимет иссохшую руку и собьет меня с ног. Да, мы знаем,
что скажет тогда Шоу. Но какой пророк и оракул посмеет
предположить, что скажет тогда мистер Асквит?
Почему-то считают, что отсутствие убеждений дает уму
живость и свободу. Это не так. Тот, кто во что-нибудь ве-
рит, ответит точно и метко, ибо оружие его при нем, и мерку
свою он приложит в мгновение ока. Человеку, вступившему
в спор с Бернардом Шоу, может показаться, что у того де-
сять лиц. Так человеку, скрестившему шпагу с блестящим
дуэлянтом, может показаться, что у него — десять клинков.
В том-то и дело, что клинок — один, но очень верный. Глу-
боко убежденный человек кажется странным, ибо он не ме-
няется вместе с миром. Миллионы людей считают себя здра-
вомыслящими, потому что они успевают заразиться каждым
из модных безумий; вихрь мира сего втягивает их в одну не-
лепость за другой.
440
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Про Бернарда Шоу и даже про тех, кто много глупее
его, обычно говорят: «Они хотят доказать, что белое — это
черное». Лучше бы сперва подумать о том, точно ли мы
обозначаем цвета. Не знаю, зовется ли белым черное, но
желтое и розовато-бежевое белым зовется. Белое вино —
светло-желтое, а европейца, чье лицо неопределенного, бе-
жеватого, иногда розоватого цвета, мы именуем «белым че-
ловеком», что звучит жутко, как описание призрака у Эдга-
ра По.
Если кто-то попросит официанта принести желтого вина,
тот усомнится в его разуме. Если чиновник сообщит из Бир-
мы, что там живет «две тысячи бежеватых людей», его со-
чтут глупым шутником и выгонят со службы. Однако оба
пострадают за правду. Бернард Шоу — именно этот прав-
долюбец из ресторана, именно этот правдолюбец из Бирмы.
Все думают, что он сумасброд и чудак, потому что он не на-
зывает желтого белым. И блеском своим и твердостью он
обязан очевидной, но забытой истине, гласящей, что правда
удивительней выдумки. Иначе и быть не может; ведь вы-
думка должна угодить нам.
Таким образом, если судить здраво, Шоу убедителен и
последователен. Он хочет видеть вещи такими, как они есть;
и нередко видит их такими, тогда как наша цивилизация во-
обще не видит ничего. Однако он не во всем верен действи-
тельности, и то, в чем он ей неверен, очень серьезно.
Свои прочные, признанные воззрения Шоу прекрасно
изложил в «Квинтэссенции ибсенизма». Если говорить ко-
ротко, он считает, что консервативные идеалы плохи не тем,
что консервативны, а тем, что это — идеалы. Любой идеал
мешает нам судить о частном случае; любое нравственное
обобщение ущемляет личность; золотое правило этики — в
том, что нет золотого правила. Можно возразить, что такие
идеи не освобождают людей, а лишь мешают им. Стоит ли
говорить сообществу, что оно свободно, если его лишили права
создавать законы? Свободный народ тем и свободен, что сам
создает закон. Стоит ли говорить человеку (или философу),
ЕРЕТИКИ
441
что он свободен, если он лишен права на обобщение? Без
обобщений нет и человека. Словом, когда Шоу запрещает
людям иметь вполне определенные нравственные идеалы, он
подобен тому, кто запретил бы иметь детей. Фразу о золо-
том правиле можно опровергнуть, переставив ее части. То,
что нет золотого правила, — тоже правило, только не золо-
тое, а железное.
Однако главная сенсация последних лет — то, как быст-
ро и ловко развил Шоу веру в сверхчеловека9. Прежде он
высмеивал верования прошлого; теперь обрел божество в
туманном будущем. Прежде он обличал идеалы; теперь об-
рел самый дикий идеал — невиданное существо. Но всякий,
кто знал и любил его, как должно, мог это предсказать.
Дело в том, что Бернард Шоу никогда не видел истин-
ной реальности. Если бы он увидел ее, он бы перед ней пре-
клонился. Но ему мешал увидеть ее тайный идеал. Шоу не-
престанно сравнивал людей с кем-то иным — с марсиани-
ном, с чудищем, с мудрецом стоиков, с Юлием Цезарем, с
Зигфридом, со сверхчеловеком. Быть может, такое мерило
прекрасно, быть может оно ужасно, однако это ничуть не
значит, что Шоу видит все, «как оно есть». Тот, кто при-
помнит Бриарея10, а потом назовет людей калеками, не видит
все, «как есть». Тот, кто придумает полубога, который мо-
жет появиться, а может не появиться в будущем и сочтет всех
идиотами в сравнении с ним, не видит все, «как есть». В той
ли, иной ли мере Шоу делал это всегда. Когда мы видим
людей, как они есть, мы не кривимся, а восторгаемся; что же
нам еще делать? Странно, даже страшно видеть поразитель-
ное существо, наделенное дивным даром зрения и всемогу-
щими пальцами — и мечтами, и нелогичной привязанностью
к дому и к ребенку. Мы спокойно глядим на него лишь пото-
му, что высокомерно и необоснованно сравниваем его с чем-
то высшим. Ощущение превосходства сохраняет нам холод-
ность и трезвость; если бы мы узрели истину, мы бы рухнули
в страхе на колени. Каждое мгновение сознательной жиз-
ни — невообразимое чудо, каждое лицо на улице невероят-
442
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
но, как в сказке. Это факты, и мы их не видим не потому, что
мы особенно умны или опытны, а потому, что мы привыкли к
дотошным и унылым сравнениям. В жизни Бернард Шоу —
один из самых человечных на свете людей; но здесь ему не
хватает человечности. Он даже поддался в некоторой степе-
ни умственной немощи своего учителя, и принял странную
идею, что сильный и великий человек все презирает. Если
человек действительно силен и велик, он преклонится перед
маргариткой. Когда Шоу презрительно смотрит сверху вниз
на шествие империй и цивилизаций, это не значит, что он
видит их, «как они есть». Я скорее поверил бы, что это так,
если бы он с благоговением воззрился на свои ноги. «Что за
прекрасные и прилежные создания, — вопрошал бы он, —
неустанно служат мне? Чем я это заслужил? Какая фея по-
дарила их мне в сказочном краю детства? Какое божество
должен я ублажить пламенем и вином, чтобы они не унесли
меня куда-нибудь?»
Оценить хоть что-то можно лишь тогда, когда тебе ведо-
ма тайна смирения, которую мы почти вправе называть тай-
ною тьмы. Тот, кто сказал: «Блаженны ничего не ожидаю-
щие, ибо они не разочаруются», не додумал и ошибся. Ска-
зать надо иначе: «Блаженны ничего не ожидающие, ибо по-
знают удивление». Если мы ничего не требуем, розы краснее
для нас, чем для других, трава зеленее, солнце ярче. Бла-
женны, кто ничего не ждет, ибо они обретут города и горы;
блаженны кроткие, ибо они наследуют землю11. Пока мы не
поймем, что вещей, окружающих нас, могло не быть, мы не
поймем, что они есть. Пока мы не увидим тьмы, мы не оце-
ним света. Когда же мы увидим ее, свет покажется нам осле-
пительным, неожиданным и прекрасным. Одна из бесчис-
ленных и диких шуток истины — в том, что мы не узнаем
ничего, пока не поймем своего невежества.
Вот он, единственный изъян в величии Шоу. Этот писа-
тель не может стать поистине великим только потому, что
ему трудно угодить. В нем нет смирения — самого мятеж-
ного из наших свойств, — и потому он так настойчиво про-
ЕРЕТИКИ
443
поведует сверхчеловека. Много лет он ругал людей за их от-
сталость и вдруг обнаружил со свойственным ему умом, что
обычный двуногий человек вряд ли может быть прогрессив-
ным. Усомнившись в том, что человек и прогресс совмести-
мы, всякий, кому угодить легко, махнул бы рукой на про-
гресс и остался с людьми. Но Шоу угодить трудно, и он,
отбросив человечество со всеми его слабостями, предался
прогрессу ради прогресса. Если существующий человек не
способен принять новую философию, Шоу ищет не нового
учения, а нового человека. Поясним сравнением: убедившись
в том, что ребенок не ест какой-то пищи, нянька не просит
дать что-нибудь другое, а выбрасывает из окна ребенка и
требует нового. Шоу не может понять, что мы ценим и лю-
бим человека — пьющего пиво, создающего веры, драчли-
вого, слабого, чувствительного, достойного человека. Все,
что основано на нем, бессмертно; все, что основано на мифе
о сверхчеловеке, гибнет вместе с породившими его цивили-
зациями.
ГЕРБЕРТ УЭЛЛС И ВЕЛИКАНЫ
Надо быть достаточно проницательным, чтобы разгля-
деть в лицемерии искренность. Надо испытывать подлин-
ный интерес к самым темным и тайным глубинам человека,
где скрываются не пороки, которые он не показывает, а дос-
тоинства, которых он не может показать. И чем пристальнее
мы будем рассматривать проблемы человеческой истории
этим острым и милосердным взглядом, тем меньше места
останется для проявления чистого лицемерия любого рода.
Мы не должны позволить лицемерам уверить нас в том, что
они святые праведники, но при этом мы не должны верить и
тому, что они всего лишь лицемеры. И тогда в поле нашего
зрения будет попадать все большее число случаев, в которых
° лицемерии вообще не может быть и речи, случаев, когда
люди вели себя столь искренно и бесхитростно, что казались
444 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
нелепыми, настолько нелепыми, что казались лицемерными
хитрецами.
Есть один удивительный пример несправедливого обви-
нения в лицемерии. В прошлые времена оно всегда предъяв-
лялось верующим, которых обвиняли в непоследовательно-
сти и двуличии за то, что они, исповедуя чуть ли не подобо-
страстное смирение, всеми силами стремятся к земному пре-
успеянию и при этом весьма радуются его достижению. Как
жульничество воспринимаются заявления о том, что необхо-
дима особая щепетильность, чтобы именовать себя несчаст-
ным грешником, и не меньшая щепетильность нужна для
того, чтобы именовать себя королем Франции. Но на самом
деле между смирением христианина и ненасытностью хрис-
тианина осознанного противоречия ничуть не больше, чем
между смирением любовника и ненасытностью любовника.
На самом деле люди готовы на такие поистине геркулесовы
усилия исключительно ради того, чего они, по их убежде-
нию, недостойны. Не было еще ни одного влюбленного, ко-
торый бы не заявлял, что осуществит свое желание, если до
предела напряжет все свои силы. И не было еще ни одного
влюбленного, который не заявлял бы, что не должен испол-
нить свое желание. Весь секрет практического успеха хрис-
тианства лежит в христианском смирении, каким бы несо-
вершенным ни было его проявление, поскольку как только
сняты все вопросы о заслугах и расплате, душа внезапно
становится свободной для свершения самых невероятных
путешествий. Если спросить у здравомыслящего человека,
сколь велики его заслуги, то он мгновенно инстинктивно по-
тупит взор. Сомнительно, что он заслуживает хотя бы шес-
ти футов земли. Но если спросить его, что он способен по-
корить, то окажется — он способен покорить звезды. От-
сюда берет начало так называемый рыцарский роман, чисто
христианское изобретение. Человек не может заслуживать
или не заслуживать приключений, встреч с драконами и
гиппогрифами. Средневековая Европа, провозглашая необ-
ходимость смирения, создала рыцарский роман; цивилиза-
ЕРЕТИКИ
445
ция, создавшая рыцарский роман, создала пригодный для
обитания мир. То, насколько мироощущение язычников и
стоиков отличалось от христианского, великолепно выраже-
но в одной знаменитой цитате. В пьесе Аддисона великий
стоик говорит:
Нам, смертным, не по силам власть над успехом обрести;
Но мы добьемся большего, Семпроний, мы его заслужим12.
Однако прямо противоположен этому дух рыцарского
романа и христианства, дух, который присутствует в каждом
влюбленном, дух, который обезопасил землю европейской
идеей приключения. «Нам, смертным, не по силам власть над
успехом обрести; / Но мы добьемся большего, Семпроний,
мы его заслужим».
И это веселое смирение, это легкое отношение к себе и в
то же время постоянная готовность к бесконечной череде не-
заслуженных побед, этот секрет, оказывается, очень прост,
хотя все полагали, что это должно быть чем-то зловещим и
таинственным. Смирение — добродетель настолько прак-
тичная, что люди считают его пороком. Смирение настолько
способствует преуспеянию, что его по ошибке принимают за
гордыню. Допустить такую ошибку тем более легко, что
обычно смирению сопутствует некая простая любовь к рос-
коши, которая приравнивается к тщеславию. Смирение все-
гда предпочитает шествовать в пурпуре и злате; гордыня же
не позволяет себе чрезмерно умиляться и радоваться злату и
пурпуру. Словом, поражение сей добродетели обусловлено
ее победами; смирение — слишком успешное предприятие,
чтобы считаться добродетелью. Смирение не просто слиш-
ком хорошо для этого мира; оно слишком практично для
него; я бы даже сказал, что оно слишком уж мирское для
этого мира.
В наши дни в качестве примера чаще всего говорят о
смирении ученых; пример этот и вправду хорош, и к тому
Же современен. Людям бывает чрезвычайно трудно пове-
446
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
рить, что человек, который, очевидно, способен передви-
гать горы и разделять моря, сносить храмы и дотянуться до
звезд, — это на самом деле тихий старенький джентльмен,
которому хочется лишь одного: чтобы ему позволили зани-
маться его безобидным хобби и пользоваться его безобид-
ным нюхом. Когда человек расщепляет песчинку, а в ре-
зультате вселенная переворачивается с ног на голову, трудно
осознать, что для того, кто это сделал, расщепление песчин-
ки — дело величайшей важности, а космический перево-
рот — сущий пустяк. Нелегко понять и разделить чувства
человека, который рассматривает новые небеса и новую зем-
лю как побочные продукты своей деятельности. Но нет ни-
каких сомнений, что именно благодаря этой, почти сверхъ-
естественной наивности интеллекта великие умы великой
научной эпохи, которая ныне, похоже, подходит к концу,
обрели такую огромную силу и добились такого триумфа.
Если бы они обрушили небеса на землю, словно карточный
домик, то оправдывались бы не тем, что сделали это из
принципа; в качестве оправдания (на которое в общем-то
нечего возразить) они сказали бы, что так вышло случайно.
Всякий раз, когда в них тлела хоть искра гордости тем, что
они делают, имелись основания для нападок на них; но пока
они демонстрировали полное смирение, они добивались пол-
ной победы. Против теории Гексли возможны возражения;
против теории Дарвина возражения невозможны. Дарвин
был убедителен в силу своего простодушия, можно даже
сказать — тупоумия. Эта детская наивность и прозаичность
постепенно уходят из мира науки. Ученые начинают, как
говорится, входить во вкус, начинают гордиться своим сми-
рением. Они все больше склоняются к эстетике, как и все
прочие; начинают писать слово «Истина» с заглавной бук-
вы; начинают толковать о якобы ниспровергнутых ими кре-
до, об открытиях, сделанных их предшественниками. Как
многие современные англичане, они все чаще дают слабину
там, где прежде проявляли твердость. Они начинают осоз-
навать свою собственную силу — то есть становятся слабее.
ЕРЕТИКИ
447
Но в эти исключительно современные времена у нас по-
явился один истинно современный человек, который несет в
наш мир незамутненное личностное простодушие, свой-
ственное прежнему миру науки. Есть у нас один гениальный
человек — сейчас он художник, но прежде был ученым, —
который, помимо всего прочего, обладает этим великим на-
учным смирением. Я имею в виду Герберта Уэллса. В слу-
чае с ним, как и в других, речь о которых шла выше, неиз-
бежно возникает превеликая предварительная трудность:
как убедить обычных людей, что такая добродетель воз-
можна и предсказуема в таком человеке. Свое литературное
творчество мистер Уэллс начал с неистовых видений — ви-
дений предсмертных мук нашей планеты. Может ли быть
смиренным человек, начавший творить с неистовых виде-
ний? Он продолжал писать все более и более необузданные
истории: о том, как зверей превращают в людей и ангелов
отстреливают, словно дичь. Обладает ли смирением тот, кто
стреляет в ангелов и превращает зверей в людей? С тех пор
он создавал вещи еще более смелые, нежели эти богохуль-
ства; он предсказывал политическое будущее людей; пред-
сказывал его с непререкаемым знанием дела и пронзитель-
ным описанием подробностей. Может ли предсказатель бу-
дущего быть смиренным? Действительно, в свете нынешних
воззрений на такие понятия, как гордыня и смирение, труд-
но ответить на вопрос, как может быть смиренным человек,
взявшийся за столь масштабные и дерзкие дела. Единствен-
ным ответом на этот вопрос будет тот, который я дал в на-
чале этого эссе. Именно смиренный человек способен на
масштабные дела. Именно смиренный человек способен на
дерзкие дела. Именно на смиренного человека нисходят по-
разительные видения, и тому есть три вполне очевидные
причины: во-первых, такой человек больше, чем кто бы то
ни было, напрягает свое зрение, чтобы видеть; во-вторых,
он в гораздо большей степени испытывает восторг и душев-
ный подъем в момент таких видений; и в-третьих, он запе-
чатлевает их с большей искренностью и точностью, и с
448
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
меньшей степенью искажений, привносимых более зауряд-
ной и тщеславной стороной его личности. Приключения —
удел тех, кто менее всего их ожидает, то бишь романтиков.
Приключения — удел застенчивых и робких. В этом смыс-
ле приключения выпадают на долю людей отнюдь не аван-
тюрного склада.
Однако это поразительное духовное смирение мистера
Уэллса, как и множество других жизненно важных и ярких
качеств, трудно проиллюстрировать примерами, но если бы
меня все-таки попросили привести пример, я бы нисколько
не сомневался, с какого примера следует начать. В Уэллсе
прежде всего поражает то, что он единственный среди блес-
тящей плеяды своих современников не перестал расти. В ноч-
ной тишине можно даже услышать, как он растет. Самым
очевидным проявлением этого роста является постепенное
изменение мнений, но это не простое изменение мнений. Это
не постоянное перескакивание с одной позиции на другую,
как в случае с Джорджем Муром. Это вполне последова-
тельное движение по вполне надежному пути и во вполне
определенном направлении. Однако главным доказатель-
ством того, что оно не имеет ничего общего с изменчивостью
и тщеславием, может служить тот факт, что в целом это —
движение от более экстравагантных идей к более обыкно-
венным идеям. Сей факт свидетельствует о честности мисте-
ра Уэллса и лишний раз подтверждает, что он не позер. Ког-
да-то мистер Уэллс утверждал, что в будущем различие меж-
ду высшим и низшим классами станет таким огромным, что
один класс поглотит другой. Разумеется, какой-нибудь жон-
глер парадоксами, найдя однажды аргументы в защиту столь
необычного взгляда, ни за что бы не отказался от такой точ-
ки зрения, а если бы и отказался, то только ради чего-нибудь
еще более экстравагантного. Мистер Уэллс отказался от этого
утверждения, придя к убеждению — во всех отношениях
безупречному, — что оба класса в конечном счете будут под-
чинены или ассимилированы неким средним классом ученых
ЕРЕТИКИ
449
и инженеров. Он оставил экстравагантную теорию с той же
присущей ему благородной серьезностью и простотой, с ка-
кой когда-то принял ее. Раньше он считал ее истинной, те-
перь полагает, что она неверна. Он пришел к самому что ни
на есть ужасному выводу, к какому только может прийти
литератор, к выводу, что общепринятая точка зрения может
быть единственно верной. Только самый отчаянный и безум-
ный смельчак может, взобравшись на башню, кричать мно-
готысячной толпе, что дважды два четыре.
Ныне мистер Уэллс пребывает в радостно-бодрящем
восхождении к консерватизму. Он все больше убеждается в
том, что традиционные представления живы, хотя и не выс-
тавляются напоказ. Еще один хороший пример его смирения
и здравомыслия обнаруживается в изменении его взглядов
на науку и брак. Раньше он, если я не ошибаюсь, придержи-
вался убеждения (которое до сих пор отстаивают некоторые
выдающиеся социологи), что человеческие существа можно
успешно спаривать и улучшать их породу, как породу собак и
лошадей. Мистер Уэллс больше так не считает. Он не только
больше так не считает, но и написал об этом в своей книге
«Человечество в процессе развития» («Mankind in the Ma-
king»), причем с таким сокрушительным здравомыслием и
юмором, что я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь еще смо-
жет придерживаться таких взглядов. Несомненно, его ос-
новное возражение против этой идеи сводится к тому, что
такое спаривание людей физически невозможно, хотя, на
мой взгляд, это весьма незначительное — по сравнению с
другими — возражение, которым в общем-то можно пре-
небречь. Возражение же, которое заслуживает особого вни-
мания, состоит в том, что научно обоснованный брак можно
навязать только нерассуждающим рабам и трусам. Не знаю,
правы ли брачные агенты от науки (как они полагают) или
не правы (как полагает мистер Уэллс), утверждая, что меди-
цинское наблюдение поможет произвести на свет сильных и
здоровых людей. Я уверен лишь в одном: если это и про-
450
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
изойдет, то первым делом эти сильные и здоровые люди
камня на камне не оставят от медицинского наблюдения.
Ошибка всех подобного рода медицинских рассуждений
в том, что понятие здоровья привязывается к понятию забо-
ты. Какая связь между здоровьем и заботой? Здоровье пред-
полагает беззаботность. Забота необходима в особых, экст-
раординарных случаях. Когда мы нездоровы, нам, чтобы
выздороветь, может понадобиться забота. Но и тогда мы
стремимся поправиться только для того, чтобы снова стать
беззаботными. Врачи имеют дело исключительно с больны-
ми людьми, которым надлежит заботиться о своем здоровье.
Социологи же обращаются к нормальным людям, к челове-
честву. А человечеству надлежит быть безрассудным, ибо
здоровый человек должен выполнять все основные функции
обязательно с удовольствием и для удовольствия; они явно
не должны выполняться с осторожностью или для предосто-
рожности. Человек должен есть, чтобы удовлетворить свой
изрядный аппетит, а вовсе не для того, чтобы поддерживать
жизненные силы своего организма. Человек должен зани-
маться физическими упражнениями не потому, что он слиш-
ком толстый, а потому, что любит фехтовать, или скакать вер-
хом, или взбираться на горы, просто любит рапиры, лошадей
или горы. И жениться человек должен потому, что он влю-
бился, а вовсе не потому, что мир необходимо населить людь-
ми. Пища действительно будет питать его организм, пока он
не задумывается о своем организме. Физические упражне-
ния действительно помогут ему сохранить хорошую форму,
пока он думает о чем-то совершенно другом. А в браке дей-
ствительно может появиться на свет полнокровное поколе-
ние, если этот брак — результат естественного и полноцен-
ного влечения. Основной закон здоровья как раз в том и со-
стоит, что мы не должны воспринимать наши потребности
как потребности; их надо воспринимать как роскошные дары.
А потому давайте беспокоиться только о таких пустяках, как
царапины или легкое недомогание и прочих недоразумениях,
ЕРЕТИКИ
451
с которыми можно справиться с помощью заботы. Но во имя
здравомыслия давайте оставаться беззаботными в том, что
касается таких важных вещей, как брак, иначе наша жизнь
перестанет бить ключом.
Мистер Уэллс, однако, еще не вполне освободился от
узкого научного мировоззрения, чтобы понять, что на свете
есть вещи, которые на самом деле и не должны быть предме-
том науки. Он все еще пребывает под влиянием величайшего
заблуждения; я имею в виду присущее ученым обыкновение
начинать не с человеческой души, т. е. первого, о чем узнаёт
человек, но с какой-нибудь протоплазмы, о которой человек
узнаёт чуть ли не в последнюю очередь. Существенный не-
достаток его прекрасного интеллекта заключается в том, что
он в недостаточной степени учитывает тот материал или ве-
щество, из которого сделаны люди. К примеру, в его новой
Утопии основным принципом, говорит он, будет неверие в
первородный грех. Если бы мистер Уэллс начал с человече-
ской души — то есть, по сути, с самого себя, — он понял
бы, что первородный грех — это чуть ли не первое, во что
надо верить. Он понял бы (если сформулировать кратко),
что постоянная возможность проявления эгоизма проистека-
ет из самого факта наличия «эго», а не из каких-либо прова-
лов в воспитании или дурного обращения. Слабое место всех
утопий как раз в том и состоит, что их создатели берут вели-
чайшую сложность человеческого бытия и считают ее пре-
одоленной, а затем подробно излагают, как люди преодоле-
вают множество мелких трудностей. Сперва они предпола-
гают, что ни один человек не возжелает больше положенной
ему доли, а потом принимаются изобретательно рассуждать,
как доставить эту долю — на автомобиле или на воздушном
шаре. Еще более яркий пример невнимания мистера Уэллса
к человеческой психологии обнаруживается в его космопо-
литизме, когда он в своей Утопии отменяет все межнацио-
нальные границы. Со свойственным ему простодушием он
Утверждает, что Утопия должна быть одним всемирным го-
452
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
сударством, ибо в противном случае люди могут вести вой-
ны. Похоже, ему не приходит в голову то, что вполне оче-
видно для многих из нас: если бы существовало всемирное
государство, то мы все равно вели бы с ним войну до сконча-
нья времен. Если мы допускаем разнообразие в искусстве и
в мысли, то разумно ли полагать, что не будет разнообразия
в сфере управления? Все очень просто. Если только вы не
хотите намеренно воспрепятствовать какому-нибудь благо-
му начинанию, то вы не можете воспрепятствовать убежде-
нию, что за такое благое дело стоит сражаться. Невозможно
предотвратить возможный конфликт цивилизаций, посколь-
ку невозможно предотвратить возможный конфликт между
идеалами. Если бы прекратились нынешние раздоры между
нациями, то возник бы раздор между утопиями. Ибо даже
высший идеал не есть только стремление к единству; выс-
ший идеал есть также и стремление к установлению разли-
чий. Мы нередко видим, что люди сражаются за единство;
но нельзя помешать им сражать и за различия. Это разнооб-
разие в высшем идеале есть смысл яростного патриотизма и
яростного национализма великой европейской цивилизации.
Оно, кстати, является'и смыслом доктрины Троицы.
Однако, на мой взгляд, основная ошибка философии ми-
стера Уэллса несколько глубже, и кроется она в его весьма
увлекательных рассуждениях в вводной части его новой Уто-
пии. В каком-то смысле его философия сводится к отрица-
нию возможности философии как таковой. По крайней мере,
он утверждает, что нет никаких надежных и заслуживающих
доверия идей, основываясь на которых мы можем достичь
полного интеллектуального удовлетворения. Впрочем, будет
ясней и интересней, если процитировать самого Уэллса.
Он говорит: «Ничто не выдерживает испытания време-
нем, нет ничего точного и определенного (за исключением
ума педанта)... Вот такое бытие! Да и бытия нет, есть лишь
всеобщее становление индивидуальностей, и Платон отвер-
нулся от истины, обратив свой взор на музей конкретных
ЕРЕТИКИ
453
идей». И затем мистер Уэллс продолжает: «В том, что мы
знаем, нет ничего незыблемого. Мы меняем слабые прожек-
торы на более мощные, но каждый более мощный луч,
проникая сквозь прежде непроницаемые области, высвечи-
вает за ними новые темные места». Что ж, когда Уэллс вы-
ражает подобные мысли, я, при всем моем уважении к нему,
должен заметить, что он не видит очевидного различия. Не-
правда, что в нашем знании нет ничего незыблемого. Если
бы это было так, мы бы этого не знали и не могли бы назы-
вать это знанием. Наше умственное развитие может сильно
отличаться от умственного развития людей, живших не-
сколько тысячелетий назад; но оно не может быть совершен-
но отличным от их развития, иначе бы мы не видели какого-
либо отличия. Мистер Уэллс наверняка должен понимать
наипервейший и самый простой из парадоксов на пути к ис-
точникам истины. Он наверняка должен знать, что различие
между двумя предметами предполагает их сходство. Заяц и
черепаха отличаются друг от друга скоростью передвижения,
но их объединяет способность к передвижению. Самый бы-
стрый заяц не может скакать быстрее равнобедренного тре-
угольника или представления о розовом цвете. Когда мы
говорим, что заяц передвигается быстрее черепахи, мы име-
ем в виду, что черепаха тоже движется. А когда мы говорим
о предмете, что он движется, мы без слов подразумеваем,
что существуют предметы, которые не двигаются. И даже
говоря, что вещи изменяются, мы тем самым говорим, что
есть нечто неизменное.
Но, пожалуй, лучший пример заблуждения мистера Уэл-
лса можно найти в примере, который он сам же и приводит.
Действительно, мы видим тусклый свет, который кажется
нам светом по сравнению с еще более тусклым светом, но
который по сравнению с более ярким светом мы восприни-
маем как мрак. Однако природа света остается неизменной,
иначе мы не назвали бы его более ярким и не восприняли бы
таковым. Если бы понятие света не было запечатлено в на-
454
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
шем сознании, то мы с таким же успехом могли бы называть
более густую тень более ярким светом и наоборот. Если бы
понятие света, пусть даже на мгновение, стало неопределен-
ным, если бы оно хоть на йоту стало сомнительным, если бы,
например, в наше представление о свете закралось понятие
синевы, то в этот момент мы бы усомнились, светлее или тем-
нее сделался свет. Выражаясь короче, прогресс может быть
изменчивым, как облако, но направление движение должно
быть прямолинейным, как французская дорога. Север и юг —
понятия относительные, в том смысле, что я нахожусь к се-
веру от Борнмаута и к югу от Шпицбергена. Но если бы у
меня возникло сомнение о расположение Северного полюса,
то я бы усомнился и в том, нахожусь ли я к югу от Шпицбер-
гена. Возможно, абсолютная идея света практические недо-
стижима. Возможно, мы не в состоянии обнаружить свет в
чистом виде. Возможно, мы не в состоянии добраться до
Северного полюса. Но из того, что Северный полюс недо-
стижим, не следует, что нельзя определить, где он находит-
ся. И только потому, что мы можем определить Северный
полюс, мы способны составить вполне удовлетворительную
карту Брайтона и Уортинга.
Другими словами, обратив свой взор на музей конкрет-
ных идей, Платон повернулся лицом к истине, а спиной к
Г.Дж. Уэллсу. Именно здесь Платон проявляет здравый
смысл. Неверно, что все изменяется; вещи, которые изменя-
ются, принадлежат явному материальному миру. Но есть
нечто неизменное; это — то самое абстрактное качество, не-
зримая идея. Мистер Уэллс совершенно правильно замеча-
ет, что предмет, который в одной ситуации мы воспринимали
как темный, в другой ситуации может быть воспринят как
светлый. Но общим для обоих случаев является простая идея
света, которую мы вообще не видим. Мистер Уэллс мог бы
расти все выше и выше на протяжении бесконечных времен,
так что однажды он бы вознесся над самой далекой звездой.
Я легко могу представить, что он напишет об этом прекрас-
ный роман. При этом он поначалу будет видеть деревья вы-
ЕРЕТИКИ
455
сокими, а потом низкими; он увидит облака — сначала вы-
соко на собой, а потом далеко внизу. Но на протяжении вре-
мен в его звездном одиночестве с ним пребудет идея высоты;
в чудовищных космических далях его будет сопровождать и
утешать ясное представление о том, что он рос все выше, а не
становился (к примеру) все толще.
Сдается мне, что мистер Г.Дж. Уэллс уже написал весь-
ма занимательный роман о людях, выросших выше деревь-
ев; но и там, как мне кажется, он стал жертвой этого туман-
ного релятивизма. Роман «Пища богов», как и пьеса Бер-
нарда Шоу, по сути дела, посвящен исследованию идеи
Сверхчеловека. И хотя эта идея завернута в пелену полухо-
дульной аллегории, ее можно подвергнуть точно такой же
интеллектуальной критике. Нельзя ожидать, что мы будем с
уважением относиться к огромному существу, если оно хоть
как-то не соответствует нашим представлениям. Ведь если
оно не отвечает нашему представлению об огромной величи-
не, то мы даже не можем назвать его огромным. Ницше так
суммировал все, что можно сказать толкового об идее Сверх-
человека: «Человек есть нечто, что должно превзойти»13. Но
само слово «превзойти» уже подразумевает наличие общего
для всех представления и существование того, что нас пре-
восходит. Ежели Сверхчеловек более человечен, чем люди,
то, очевидно, они в конечном счете обожествят его, даже если
для начала они его убьют. Но ежели он просто более сверх-
человечен, они, наверное, будут к нему совершенно безучас-
тны, как и в отношении какого-нибудь другого бессмыслен-
ного чудища. Даже для того, чтобы ужаснуть нас, он должен
подвергнуться испытанию с нашей стороны. Сама по себе сила
и даже размер — обычные представления; самих по себе их
недостаточно, чтобы заставить людей думать, что какой-то
человек их превосходит. Недаром в мудрых старых сказках
великаны — негодяи. Сверхчеловек, если он не добрый че-
ловек, тоже негодяй.
«Пища богов» — это, по сути, сказка «Джек — Побе-
дитель великанов», рассказанная с точки зрения великана.
456
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Такого, насколько я знаю, еще не было в литературе; однако
я ничуть не сомневаюсь, что для этого существовала опреде-
ленная психологическая основа. Я не сомневаюсь, что вели-
кан, которого одолел Джек, считал себя Сверхчеловеком.
Вероятно, он видел в Джеке ограниченного ретрограда, воз-
желавшего воспрепятствовать великому поступательному
движению жизненной силы. Если бы у великана было, ска-
жем, две головы (что не такой уж и редкий случай), то он
мог бы привести общеизвестное изречение, согласно которо-
му два ума лучше одного. Далее он мог бы подробно потол-
ковать о таком тонком вопросе, как прогрессивность двуго-
ловия, позволяющего великану рассматривать предмет с
двух точек зрения или мгновенно поправлять самого себя.
Но Джек был защитником извечных человеческих представ-
лений и принципов: один человек — одна голова, один чело-
век — один ум, одно сердце и одна точка зрения. Джека
ничуть не волновал вопрос, был ли великан каким-то осо-
бенно великанистым великаном. Он хотел знать только
одно: был ли он добрым великаном, то есть великаном, спо-
собным творить для нас добро. Каковы были его религиоз-
ные воззрения, его взгляды на политику и гражданский
долг? Любил ли он детей? Или он любил их только в самом
мрачном и зловещем смысле этого слова? Питал ли он доб-
рые чувства (если воспользоваться этой изящной фразой для
описания эмоционального здоровья)? Чтобы это выяснить,
Джеку порой приходилось потыкать великана мечом. В ста-
рой и правдивой сказке о Джеке — победителе великанов
отражена, в сущности, вся история человека. Если бы она
была так понята, нам не понадобились бы ни библии, ни ис-
торические сочинения. Но современный мир, судя по всему,
совершенно ее не понимает. Современный мир, как и мистер
Уэллс, стоит на стороне великанов; это самая безопасная
позиция и потому самая неприглядная и прозаичная. Совре-
менный мир, превознося своих маленьких цезарей, говорит о
силе и отваге — но, похоже, не замечает извечного парадок-
са, возникающего при соединении этих понятий. Сильный не
ЕРЕТИКИ
457
может быть отважным. Только слабый может быть отваж-
ным; и при этом на практике в момент сомнений люди счита-
ют сильными только тех, кто может быть отважным. Един-
ственное, что мог бы сделать великан, чтобы подготовиться
к схватке с неумолимым Джеком, — так это постоянно сра-
жаться с другими великанами, раз в десять больше его само-
го. То есть уже не быть великаном, а стать Джеком. Поэто-
му-то сочувствие маленьким или побежденным, в котором
нас, либералов и националистов, часто упрекают, отнюдь не
бесполезная сентиментальность, как представляется мистеру
Уэллсу и его друзьям. Это первый закон практической отва-
ги. Быть в лагере слабейших значит принадлежать школе
сильнейших. Трудно вообразить что-либо более благотвор-
ное для человечества, чем появление расы Сверхлюдей, с
которыми простым смертным придется сражаться, как с
драконами. Если Сверхчеловек лучше нас, то нам, разумеет-
ся, нет нужды сражаться с ним. Но тогда почему бы не на-
звать его святым? Если же он просто сильнее (будь то фи-
зически, духовно или морально — не суть важно), тогда ему
придется считаться с нами, по крайней мере из-за нашей
силы. Если же мы слабее его, то это вовсе не означает, что
мы должны быть слабее самих себя. Если мы недостаточно
высоки, чтобы коснуться коленей великана, то это не озна-
чает, что мы должны стать еще ниже, опустившись перед
ним на колени. По сути дела, в этом смысл всего современ-
ного преклонения перед героями и прославления Сильного
Человека, Цезаря, Сверхчеловека. Коль скоро Сверхчело-
век — нечто большее, чем человек, мы должны быть чем-то
меньшим.
Несомненно, существует более древний и прекрасный
культ героев, чем нынешний. В древности герой был, подоб-
но Ахиллесу, более человечным, чем само человечество.
Сверхчеловек Ницше холоден и одинок. Ахиллес так без-
рассудно любит своего друга, что, потеряв его, в порыве от-
чаяния крушит целые армии. Печальный Цезарь в пьесе Шоу
с бесплодной гордостью изрекает: «Тот, кто никогда не знал
458
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
надежды, не может отчаиваться»14. Богочеловек древних от-
ветствует с вершины жуткой горы: «Есть ли болезнь, как
моя болезнь?»15 Великий человек — не тот, кто настолько
силен, что чувствует меньше других людей; это человек, ко-
торый настолько силен, что чувствует больше. И когда Ниц-
ше говорит: «Эту новую скрижаль даю я вам: станьте твер-
ды», то на самом деле он изрекает: «Эту новую скрижаль
даю я вам: станьте мертвы». Чувствительность — вот пер-
вооснова жизни.
За последним аргументом я вновь хочу обратиться к
сказке о Джеке — победителе великанов. Я так подробно
остановился на теме великанов у мистера Уэллса не потому,
что она занимает какое-то особое место в его сознании; на
мой взгляд, Сверхчеловек в его космосе не кажется таким
великим, как у Бернадра Шоу. Я затронул эту тему совер-
шенно по другой причине: как мне представляется, этот
культ аморального героя завладел им в незначительной сте-
пени, и еще можно не дать этой ереси совратить одного из
лучших мыслителей наших дней. На протяжении своей
«Новой Утопии» Уэллс не раз с восхищением ссылается на
мистера У.Э. Хенли16^ Этот умный, но несчастный человек
всю жизнь восхищался некой неопределенной грубой силой
и постоянно обращался к старинным народным сказаниям и
балладам, к произведениям литературы древних времен, в
которых он пытался найти восхваление силы и оправдание
тирании. Но ничего подобного не находил. Ничего такого
там нет. Образцом примитивной литературы можно счи-
тать сказку о Джеке — победителе великанов. Вся древняя
литература пронизана восхвалением слабых. Народные
сказания полны сочувствия к меньшинствам так же, как со-
временные политики-идеалисты. Старинные баллады вы-
ражают такую же сентиментальную озабоченность судьбой
побежденных, как и Общество защиты аборигенов. Во
времена, когда люди были суровы и грубы, когда их повсю-
ду подстерегали опасности, когда они жили по жестоким
законам и действительно знали, что значит сражаться, у
ЕРЕТИКИ
459
них было только два вида песен. Первый — песни, выра-
жающие ликование по поводу победы слабых над сильным
врагом; второй — горестные стенания по поводу редкой
победы сильных над слабыми. Ибо это нежелание мирить-
ся с существующим положением вещей, это постоянное
стремление нарушить существующее равновесие, этот дер-
зкий вызов миру сильных — вот в чем сущность и вели-
чайшая тайна психологического феномена под названием
человек. Его сила в том, чтобы презирать силу. Отчаянная
надежда — не только подлинная надежда, но и единствен-
ная подлинная надежда человечества. В самых суровых
балладах о Шервудском лесе разбойники вызывают наи-
большее восхищение, когда они бросают вызов не только
королю, но и герою (что гораздо ближе нашей теме). В тот
момент, когда Робин Гуд становится кем-то вроде Сверх-
человека, благородный хроникер показывает нам, как Ро-
бин оказывается побежденным бедным жестянщиком, ко-
торого он собирался убрать с пути. И благородный хрони-
кер говорит об этом так, что победа жестянщика вызывает
у нас истинное восхищение. Это великодушие не есть про-
дукт современного человеколюбия и не имеет никакого от-
ношения к миру. Это великодушие — просто одна из уте-
рянных составляющих искусства войны. Последователи
Хенли призывают к созданию могучей и непреклонной Ан-
глии, и поэтому они пытаются найти в жестоких старинных
историях могучую и непреклонную Англию. Но на страни-
цах этой жестокой старинной литературе они находят над-
пись: «Политика Маджуба»15.
ОМАР ХАЙЯМ И ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ
Так называемая новая нравственность не без ярости вце-
пилась в проблему пьянства. Энтузиасты не знают покоя —
от тех, кто выдворяет людей из ресторана в 12.30, до пылкой
дамы, которая крушит топором американские бары; но все
460
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
они почти всегда признают, что пить можно в одном-един-
ственном случае: для подкрепления, как пьют лекарство. С
этим я не соглашусь ни за что на свете. Пить безнравственно
и опасно только в том случае, если выпивка для вас — ле-
карство. И вот почему. Если вы пьете для удовольствия, вы
гонитесь за чем-то редким — ведь пока вы в здравом уме,
вы не ждете, что каждый час принесет вам удовольствие. Если
же вы пьете для здоровья — вы стремитесь к вещи есте-
ственной; к тому, что вам положено; к тому, без чего вы дей-
ствительно не можете обойтись. Тот, кто познал искушение
экстаза, еще может устоять; но вряд ли устоит тот, кто по-
знал искушение нормальности. Представьте себе, что вы да-
ете человеку волшебное снадобье и говорите ему: «Прими, и
ты перепрыгнешь памятник!» Без сомнения, он примет и пе-
репрыгнет, но вряд ли он начнет прыгать день и ночь на по-
теху согражданам. А вот если вы дадите снадобье слепому и
скажете: «Прими, и ты увидишь», искушение окажется мно-
го, много сильнее. Как сможет он удержаться, заслышав цо-
кот копыт или пенье птиц на рассвете? Не так уж трудно
отказаться от развлечения; почти невозможно отказаться от
непременного условия нормальной жизни. Всякий врач зна-
ет, как опасно давать больным алкоголь, даже для подкреп-
ления сил. Я совсем не хочу сказать, что, по моему мнению,
нельзя дать больному для бодрости глоток вина. Но мне ка-
жется, что гораздо естественней и несравненно полезней да-
вать его здоровым просто так.
Здравая точка зрения на выпивку покажется парадок-
сом, как и многие здравые мнения. Пейте от радости, но ни-
когда не пейте с горя. Никогда не пейте, если вам без этого
плохо, — иначе вы уподобитесь серолицему подонку. Пей-
те, когда вам и без того хорошо, и вы уподобитесь веселым
крестьянам Италии. Не пейте потому, что вам надо напить-
ся, — это разумное пьянство, оно ведет к смерти и аду. Пейте
потому, что вам не нужно, — это пьянство неразумное и древ-
нее здоровье мира.
ЕРЕТИКИ
461
Несколько десятилетий лежит на английской словеснос-
ти славная тень восточного поэта. Перевод Фитцджеральда
вобрал в себя, сконцентрировал весь темный, пассивный ге-
донизм нашей эпохи. О литературных достоинствах этой кни-
ги говорить не стоит — мало на свете стихов, в которых с
такой силой соединились бы веселая колкость эпиграммы со
смутной печалью песни. Но о ее философском, этическом и
религиозном влиянии, которое не меньше ее литературных
достоинств, я бы хотел договорить, и, признаюсь, отнюдь не
в мирных тонах. Многое можно сказать против духа «Ру-
байят» и волшебной ее власти. Но главное зло в том, что, к
собственному, тем более — к нашему несчастью, эта вели-
кая книга нанесла сокрушительный удар общительности и
радости. Кто-то сказал про Хайяма: «Печальный и счастли-
вый старый перс». Печальным он был, счастливым — не был
ни в каком смысле слова. Он враждебен радости больше, чем
пуритане.
Мудрый и прекрасный перс лежит под розовым кустом
со свитком стихов и чашей вина. Трудно поверить, что, гля-
дя на него, кто-нибудь вспомнит темноватую комнату, где
врач отмеряет бренди безнадежному больному. Еще труднее
поверить, что это зрелище наведет на мысль об испитом по-
донке, хлещущем джин в кабаке. Тем не менее эти трое свя-
заны воедино невеселыми узами. Плохо не то, что Хайям
воспевает вино, — плохо то, что он воспевает наркотические
свойства вина. Он призывает пить с горя. Для него опьяне-
ние закрывает, а не открывает мир. Он пьет не поэтически,
то есть не весело и не бездумно. Он пьет разумно, а это ни-
чуть не поэтичней банковской сделки и ничуть не приятнее
слабительного.
Насколько выше — по чувству, не по стилю — старая
застольная песня:
По кругу пустим чашу мы,
Пусть льется сидр рекою.
462
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Ее пели счастливые люди, славя поистине хорошие вещи —
душевную беседу, и братство, и короткий досуг бедняков. Ко-
нечно, почти все высоконравственные нападки на Хайяма наи-
вны и неверны, как всегда. Один ученый, к примеру, был так
глуп, что обвинил его в атеизме и материализме. И то, и дру-
гое почти немыслимо для восточного человека —- на Востоке
слишком хорошо разбираются в метафизике.
На самом же деле христианин, читающий Хайяма, ска-
жет, что он отводит не мало, а слишком много места Богу.
Омар Хайям исповедует тот страшный теизм, чьи адепты не
могут представить ничего кроме Бога, и не знают ни челове-
ческой личности, ни человеческой воли.
Не спрашивают мяч согласия с броском.
По полю носится, гонимый Игроком.
Лишь Тот, Кто некогда тебя сюда забросил, —
Тому все ведомо, Тот знает обо всем*.
Христианский мыслитель — Августин или Данте — не
согласится с этими строками, потому что они отрицают сво-
бодную волю, честь и достоинство души. Высочайшая мысль
христианства не приемлет такого скепсиса не потому, что он
подрывает веру в Бога, а потому, что он подрывает веру в
человека.
«Рубайят» воспевает громче всех безрадостную погоню
за наслаждением; но она не одна. Самые блестящие люди на-
шей эпохи зовут нас к тому же самому сознательному культу
редких наслаждений. Уолтер Пейтер говорит, что все мы —
приговоренные к смерти и нам остается наслаждаться прелес-
тью минуты ради самой минуты. Тому же учила нас убеди-
тельная и безотрадная философия Уайльда. Девиз этой веры —
carpe diem**; но исповедуют ее не счастливые, а очень несча-
стные люди. Великая радость не срывает походя розовые бу-
тоны — взгляд ее прикован к вечной розе, которую видел
* Перевод И. Роднянской.
** Лови день (лат.).
ЕРЕТИКИ
463
Данте. Истинная радость исполнена духа бессмертия. Все ве-
ликие комические книги — «Тристрам» и «Пиквик», напри-
мер, — просторны и неподвластны гибели; читая их, мы чув-
ствуем, что герои — бессмертны, а повествованию нет конца.
Конечно, острая радость нередко бывает короткой; но
это не значит, что мы мыслим ее как короткую, преходящую
и наслаждаемся ею «ради данной минуты». Тот, кто это сде-
лает, попытается осмыслить радость и ее разрушит. Ра-
дость — таинство, как вера, ее нельзя осмыслять. Предста-
вим себе, что человек испытывает истинную радость. Я го-
ворю не об эстете, взирающем на ценную эмаль, я имею в
виду яростную, почти мучительную радость — миг восторга
в первой любви или миг победы в бою. Влюбленный радует-
ся в эту минуту отнюдь не «ради минуты». Он радуется ради
возлюбленной или на худой конец ради самого себя. Воин
радуется не ради минуты, а ради знамени. Он может сра-
жаться за глупое, ненужное дело, влюбленный может раз-
любить через пять дней. Но в эту минуту знамя для воина —
вечно, любовь для влюбленного — бессмертна. Такие мгно-
вения пронизаны вечностью; они дают радость именно пото-
му, что не кажутся преходящими. Взгляните на них с точки
зрения Пейтера — и они тут же станут холодными, как сам
Пейтер и его стиль. Человек не может любить смертное, хотя
бы на недолгий срок.
Чтобы понять ошибку Пейтера, вспомним его знамени-
тую фразу. Он хочет, чтоб мы горели пламенем, твердым,
как рубин. Но в том-то и дело, что пламя не может быть
твердым, его нельзя ни гранить, ни оправлять. Так и чув-
ства человеческие не тверды и не похожи на камни; они
опасны, как пламя, опасно трогать их и даже изучать. Что-
бы наши страсти стали твердыми, как драгоценные камни,
они должны стать холодными, как эти камни, — другого
пути нет. И самый сильный из всех ударов по простым че-
ловеческим радостям, самый смертельный — клич эстетов
carpe diem. Для всех без исключения удовольствий и радос-
тей нужен совсем другой дух — дух робости, привкус не-
464
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
уверенной надежды, ребяческого страха. Страсть невозмож-
на, если нет чистоты и простоты; я говорю и о дурных стра-
стях. Даже порок требует невинности.
Не будем говорить о том, как повлиял Хайям (или Фитц-
джеральд) на дела другого мира. Сейчас нам важно, что это-
му миру он принес немалый вред. Пуритане, как я уже ска-
зал, много веселей его. Новые аскеты, сторонники Торо и
Толстого, куда жизнерадостнее — ведь как ни труден отказ
от вина и роскоши, им остаются все простые радости, а глав-
ное — они не теряют способности радоваться. Торо может
радоваться закату и без чашки кофе. Толстого не радует
брак — но он достаточно здоров духовно, чтобы радоваться
чернозему. Отказавшись от самых примитивных удобств,
можно наслаждаться природой. Куст хорош и для трезвого.
Но ни природа, ни вино — ничто на свете не обрадует вас,
если вы неправильно понимаете радость; а с Хайямом (или
Фитцджеральдом) случилось именно это. Он не видит, что
радость невозможна для того, кто не верит в вечную радость,
заложенную в природе вещей. Нас не обрадует и падекатр,
если мы не верим, что звезды пляшут нам в такт. Никто не
может быть истинно весел, кроме серьезных людей. В конце
концов человек может радоваться только сути вещей. Он
может радоваться только вере.
Некогда люди верили, что звезды танцуют под их сви-
рель, и плясали так, как никто не плясал с той поры. Мудрец
«Рубайят» связан с этой древней языческой одержимостью
не больше, чем с христианством. Духа вакханалии в нем не
больше, чем духа святости. Дионис и его последователи зна-
ли радость бытия, серьезную, как у Уитмена. Дионис сделал
вино не лекарством, а таинством. Иисус Христос тоже сде-
лал вино таинством. Для Хайяма вино — лекарство. Он пи-
рует потому, что жизнь безрадостна; он пьет с горя. «Пей, —
говорит он, — ибо ты не знаешь, откуда ты пришел и зачем.
Пей, ибо ты не знаешь, куда и когда пойдешь. Пей, ибо звез-
ды жестоки и мир крутится впустую, как волчок. Пей, ибо не
во что верить и не за что бороться. Пей, ибо все одинаково
ЕРЕТИКИ
465
гадко и одинаково бессмысленно». Так говорит он, протяги-
вая чашу.
Но на высоком алтаре стоит Другой, тоже с чашей в руке.
«Пей, — говорит Он, — ибо мир, как это вино, пламенеет
багрянцем любви и гнева Господня. Пей, ибо ангел поднял
трубу, выпей перед боем. Пей, Я знаю, куда и когда ты пой-
дешь. Пей это вино — кровь Мою Нового Завета, за вас
изливаемую».
УМЕРЕННОСТЬ И ЖЕЛТАЯ ПРЕССА
К концу первой четверти нашего столетия стало разда-
ваться множество протестов против влияния новой журна-
листики, которая ассоциируется с именами сэра Альфреда
Хармсворта и мистера Пирсона. Почти все нападки связаны
с ее крайней сенсационностью, крайней жестокостью, вуль-
гарностью и стремлением вызвать ужас. Я вовсе не впаду в
какую-то крайность, а просто выражу искреннее личное мне-
ние, если скажу, что эта журналистика отнюдь не грешит
сенсационностью или жестокостью. Настоящее зло не в том,
что она зловеща, а в том, что она невыносимо безвольна и
нестерпимо банальна. В целом она старательно держится на
уровне общих мест и ожиданий публики; она может быть
вульгарной, но она также должна быть скучной. В ней ни в
коем случае не должно быть той по-настоящему едкой ост-
роты, которую можно услышать от обычного кэбмена на
обычной улице. Мы часто слышим о том, что есть опреде-
ленные рамки внешних приличий, которые требуют, чтобы
об интересных вещах повествовалось без вульгарности, но те
же рамки внешних приличий требуют, чтобы о вульгарности
говорилось вульгарно и неинтересно. Такая журналистика не
только не превозносит жизнь — она ее принижает; и так и
Должно быть, поскольку она предназначена для вялого и бес-
цветного отдыха людей, утомленных жестокостью современ-
ной жизни. Эта пресса вовсе не желтая; она коричневая и
466
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
проституированная. Негоже сэру Альфреду Хармсворту
предлагать усталому клерку сентенции более мудрые, чем
усталый клерк может предложить сэру Альфреду Хармс-
ворту. Нельзя никого выставлять напоказ (особенно людей
сильных и влиятельных), не дай Бог кого-нибудь обидеть,
нельзя даже слишком хвалить. Туманная мысль о том, что
несмотря на все это наша желтая пресса грешит сенсацион-
ностью, проистекает из такой чисто внешней случайности,
как большие буквы в кричащих заголовках. Да, правда, что
издатели печатают все, что только можно, большими заглав-
ными буквами. Но они поступают так не потому, что это пу-
гает, а потому, что это успокаивает. Утомленным или полу-
пьяным людям в тускло освещенном вагоне проще и удоб-
нее, когда события представлены крупно и в явном виде.
Издатели преподносят читателям гигантский алфавит по той
же самой причине, по какой родители и гувернантки исполь-
зуют гигантские буквы, обучая детей чтению. Воспитатели в
яслях показывают детям букву «А» размером с лошадиную
подкову вовсе не для того, чтобы заставить ребенка подско-
чить; наоборот, они таким образом детей успокаивают, стре-
мятся сделать вещи привлекательными и очевидными. Тот
же принцип действует в унылой и тихой начальной школе,
которой управляют сэр Альфред Хармсворт и мистер Пир-
сон. Их пафос — это пафос орфографического справочника,
то есть того, к чему относятся с почтительным узнаванием.
Все их кричащие заголовки — это страницы, вырванные из
прописей.
В нашей стране нет и следа той настоящей сенсационной
журналистики, которая существует во Франции, Ирландии
и Америке. Когда ирландский журналист желает выдать сен-
сацию, он преподносит сенсацию, о которой стоит говорить.
Он трубит о том, что лидер Ирландии погряз в коррупции
или обвиняет всю политическую систему в несомненном зло-
вещем заговоре. Когда французский журналист желает выз-
вать у читателя дрожь, он ее вызывает; например, раскрыва-
ет, что президент республики убил трех своих жен. Наша
ЕРЕТИКИ
467
желтая пресса бессовестна и беспринципна в той же степени,
и при своей нравственной убогости так же мало заботится о
достоверности. Однако умственный уровень и кругозор на-
ших журналистов таков, что они могу фабриковать только
вульгарно-успокоительные статейки. Безосновательная вер-
сия резни в китайском посольстве была ложной, но она была
также скучной и заинтересовала разве что тех, у кого были
личные причины для ужаса или скорби. Она не была связана
с напряженной и запутанной ситуацией в Китае. Она выра-
жала лишь смутное представление о том, что нет более впе-
чатляющего события, чем кровавая баня. Настоящая сенса-
ция — которую я обожаю — может быть как нравственной,
так и безнравственной. Но даже самая безнравственная сен-
сация требует нравственной смелости, поскольку поистине
нет более опасного занятия на земле, чем изумлять людей.
Если вы заставляете разумное существо подскочить, то вы
никоим образом не должны исключать возможность того, что
оно с перепугу набросится на вас. Но у лидеров нашей жур-
налистики нет ни нравственного мужества, ни безнравствен-
ной отваги; их метод состоит в том, чтобы громко, подробно
и преувеличенно подчеркнуто обсуждать то, о чем все упо-
минают мимоходом, тут же забывая о сказанном. Натужно
сподобившись на что-нибудь напасть, они никогда не реша-
ются достичь истинной и крупной цели, а лишь сотрясают
воздух. Они не нападают на армию, как это делают во Фран-
ции, или на судей, как это делают в Ирландии, или на саму
демократию, как это делали в Англии сто лет назад. Они
атакуют что-нибудь вроде военного министерства — то, что
атакуют все и никто не стремится защищать, — сенсация на
Уровне бородатой шутки из низкопробного комикса. Так же,
как человек показывает слабый голос, тщетно тужась издать
зычный крик, так наши журналисты демонстрируют безна-
дежную слабость ума, пытаясь блеснуть сенсационностью.
В мире полно крупных учреждений и сомнительных органи-
заций; все грехи цивилизации вызывающе смотрят им в лицо,
а они мнят себя храбрыми и оригинальными, нападая на во-
468
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
енное министерство. С тем же успехом они могли бы развер-
нуть кампанию против погоды или создать тайное общество
для сочинения анекдотов про тещу. Даже не такой приверед-
ливый любитель сенсаций, каковым являюсь я, может ска-
зать, цитируя кауперовского «Александра Селькирка»18, что
«кротость их меня поражает». Весь современный мир жаж-
дет истинно сенсационной журналистики. Это открыл очень
способный и честный журналист-интеллектуал, мистер Блет-
чфорд, который начал кампанию против христианства; и хотя,
как я полагаю, все пророчили, что он погубит свою газету,
продолжал дело, ответственно выполняя взятые на себя обя-
зательства. В результате он обнаружил, что, шокировав сво-
их читателей, он колоссально увеличил тираж своей газеты.
Ее покупали, во-первых, те, кто соглашался с ним и хотел ее
читать; а во-вторых, те, кто ему возражал и хотел писать
письма. Письма эти оказались весьма пространными (рад
отметить, что я помог увеличить их количество) и, как пра-
вило, великодушно помещались в газете без купюр. Так был
случайно (как и паровой двигатель) открыт великий прин-
цип журналистики: если издатель сумеет разозлить людей в
достаточной степени, они будут делать за него половину га-
зеты, и притом совершенно бесплатно.
Кое-кто утверждает, что такие газеты едва ли могут
быть предметом серьезного обсуждения, однако вряд ли это
можно чем-нибудь подкрепить с политической или эстети-
ческой точек зрения. В каком-то смысле умеренный, крот-
кий разум Хармсворта отражает значительно более серьез-
ную проблему.
Журналистика Хармсворта начинается с поклонения ус-
пеху и жестокости и заканчивается зауряднейшим раболепи-
ем. Впрочем, не он один такой, и пришел он к этому вовсе не
потому, что просто глуп. Каждый человек — пусть даже
храбрый, — начав поклоняться жестокости, неизбежно за-
канчивает раболепием. Каждый человек — пусть даже муд-
рый, — начав поклоняться успеху, неизбежно становится
посредственностью. Этот странный и парадоксальный исход
ЕРЕТИКИ
469
коренится не в личных качествах, а в философии, в точке зре-
ния. Не глупость и безрассудство приводят такого человека
к неизбежному падению, а его мудрость. Истинная правда,
что культ успеха — единственный из всех возможных куль-
тов, который обрекает своих последователей на трусость и
раболепие. Человек может стать героем ради чисел миссис
Гэллап или ради человеческих жертвоприношений, но во имя
успеха он героем стать не может. Дело в том, что человек
может выбрать поражение из-за любви к миссис Гэллап или
человеческим жертвоприношениям, но не может выбрать
поражение из любви к успеху. Когда триумф — мерило все-
го, поклонникам успеха его не дождаться. Пока надежда дей-
ствительно остается, ее рассматривают как банальность и
пошлость; и только когда дела безнадежны, надежда начи-
нает набирать силу. Подобно всем христианским добродете-
лям, она и безрассудна, и обязательна.
Роковой парадокс, сокрытый в природе вещей, состоял
именно в том, что все современные искатели приключений в
конце концов шли на уступки и компромиссы. Они жаждали
силы; а жажда силы означала для них поклонение силе; а
поклонение силе означало просто соблюдение status quo. Они
считали, что тот, кто желает быть сильным, должен уважать
силу. Они не понимали очевидной истины, что тот, кто же-
лает быть сильным, должен силу презирать. Они хотели стать
всем, превзойти силой всю Вселенную, обрести энергию, что-
бы двигать звезды. Но они не понимали двух очень важных
обстоятельств; прежде всего, попытка стать всем — это пер-
вый и самый трудный шаг, чтобы перестать быть никем; и
во-вторых, перестав быть никем, человек, по существу, про-
тивопоставляет себя всему остальному. Ученые говорят, что
низшие животные слепо и эгоистично боролись за место под
солнцем. Если так, то, чтобы восторжествовать, единствен-
но нравственным путем для нас должен стать в равной сте-
пени слепой альтруизм. Мамонт не склонял голову набок и
не сетовал, что мамонты слегка отстали от времени. Мамон-
ты были, по крайней мере, так же современны, как каждый
470
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
отдельный мамонт из популяции. Лось не говорил: «Раз-
двоенные копыта безнадежно устарели». Он держал свое ору-
жие наготове и применял его. Но перед мыслящим живот-
ным стоит более серьезная опасность, чем поражение вследст-
вие осознания своей несостоятельности. Когда современные
социологи говорят о необходимости адаптации к требовани-
ям эпохи, они забывают о том, что эпоха в лучшем случае
целиком состоит из людей, которые не желают адаптироваться
ни к чему. В худшем случае она состоит из миллионов испу-
ганных созданий, которые приспособились к чужим требо-
ваниям. И такая ситуация все явственнее наблюдается в со-
временной Англии. Все говорят об общественном мнении, о
значении общественного мнения, об общественном мнении
минус личное мнение. Каждый полагает свой вклад отрица-
тельным, руководствуясь ошибочным впечатлением, что
вклад ближнего положителен. Каждый отказывается от ори-
гинальности в угоду общему тону, который сам по себе пора-
женческий. И над всем этим бездушным и бездумным сооб-
ществом реет новая, унылая и банальная пресса, лишенная
выдумки, лишенная отваги, обладающая лишь услужливос-
тью и раболепием, тем более презренным, что это даже не
раболепие перед сильным. Но этим заканчивают все, кто
начинает с культа силы и завоеваний.
Отличительный признак новой журналистики состоит в
том, что это плохая журналистика. Вне всяческих сомнений
это самая нескладная, неряшливая и бесцветная халтура на-
ших дней.
Вчера я прочел сентенцию, которую следует выложить
золотыми буквами; это истинный девиз новой философии им-
перии. Я нашел ее (как легко догадался читатель) в Pearson’s
Magazine, где я общался (душа в душу) с мистером X. Ар-
туром Пирсоном, чье первое и скрытое имя, боюсь предпо-
ложить, Хильперик19. Она встретилась мне в статье о выбо-
рах американского президента. Вот эта сентенция, и каждый
должен читать ее вдумчиво, перекатывая на языке, пока не
распробует ее медовый вкус.
ЕРЕТИКИ
47/
«Нередко толика здравого смысла лучше доходит до аме-
риканских рабочих, чем многословные и высокопарные ар-
гументы. Оратор, который приводил свои доводы, забивая
гвозди в доску, получил сотни голосов на последних прези-
дентских выборах».
Я не решусь портить это безупречное высказывание сво-
ими комментариями; слова Меркурия корявы после песен
Аполлона. Но задумаемся на секунду о странном и непости-
жимом разуме человека, который это написал, о редакторе,
который это одобрил, о людях, на которых это, возможно,
произвело впечатление, и об этом невероятном американском
рабочем, в отношении которого, насколько я знаю, все ска-
занное — правда. Подумайте, каким должно быть их пред-
ставление о «здравом смысле»! Приятно сознавать, что мы с
вами, надумав принять участие в президентских выборах,
теперь можем получить тысячи голосов, если сделаем что-
нибудь подобное. Ведь я полагаю, что гвозди и доска не са-
мые существенные проявления здравого смысла, тут могут
быть варианты. Можно, скажем, прочесть:
«Толика здравого смысла впечатляет американских ра-
бочих куда сильнее высокопарных и напыщенных аргумен-
тов. Оратор, излагавший свои доводы, отрывая пуговицы от
жилета, выиграл тысячи голосов». Или: «В Америке здра-
вый смысл сильнее высокопарных аргументов. Так, сенатор
Бадж, который после каждой новой эпиграммы подбрасы-
вал в воздух свою вставную челюсть, получил единодушное
одобрение американских рабочих.» Или так: «Здравый смысл
джентльмена, втыкавшего в волосы соломинки на всем про-
тяжении своей речи, обеспечил мистеру Рузвельту победу на
выборах».
В этой статье есть и другие изречения, на которых я бы с
Удовольствием остановился. Однако я хотел подчеркнуть, что
в этой сентенции в полной мере раскрывается то, что наши
маленькие Чемберлены, непоседы, хлопотуны, строители
империи, сильные и молчаливые люди подразумевают под
«здравым смыслом». А именно: вбивание с оглушительным
412
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
шумом и драматическими эффектами бесплодных кусков
железа в бесполезный кусок дерева. Человек выходит на
американскую политическую трибуну с доской и молотком и
ведет себя как круглый идиот, — что ж, я его не виню; я
даже готов им восхищаться. Возможно, он энергичный и
вполне порядочный стратег. Он может быть прекрасным ро-
мантическим актером вроде Берка, метавшего ножи в дере-
во. Он даже может быть (насколько я знаю) возвышенным
мистиком, находящимся под глубоким впечатлением древне-
го и божественного плотницкого искусства и предлагающего
слушателям притчу в форме церемонии. Но я хочу указать на
ту чудовищную путаницу в его мыслях, которая позволяет
дикий ритуал называть «толикой здравого смысла». Именно
этой путанице, и только ей, обязан своей жизнью и продви-
жением новый империализм. Вся слава и величие мистер
Чемберлена именно в том и состоит; если вбивают гвоздь,
никого не волнует, где его вбивают и зачем. Все слышат стук
молотка и никто не слышит тихого скрипа гвоздя. Перед вой-
ной в Африке, равно как и на всем ее протяжении, мистер
Чемберлен звонко и решительно вбивал гвозди. Но если мы
спросим: «Что же скрепляют эти гвозди? Где плоды вашего
плотницкого ремесла? Где довольные потребители? Где сво-
бодная Южная Африка? Где престиж Британии? К чему все
ваши гвозди?» — каков будет ответ? И тут нам придется
(со вздохом обожания) вернуться к мистеру Пирсону и уз-
нать назначение гвоздей: «Оратор, который забивал гвозди,
получил тысячи голосов на выборах».
Весь этот пассаж великолепно характеризует новую
журналистику, которую представляет мистер Пирсон, новую
журналистику, которая установила свой стандарт. Возьмем
лишь один пример из сотен; возьмем описанного в статье
мистера Пирсона бесподобного человека с доской и гвоздя-
ми, который выкрикивает (молотя по символическому гвоз-
дю): «Ложь номер один. Прибить к мачте! Прибить к мач-
те!» И во всей редакции не нашлось ни одного наборщика
или мальчика на побегушках, который указал бы ему, что
ЕРЕТИКИ
473
ложь пригвождают к столбу, а не к мачте. Никто во всей
редакции не заметил, что Pearson’s Magazine выдал баналь-
ную ирландскую нелепицу, которая так же стара, как святой
Патрик. В этом истинная и главная трагедия реализации
стандарта. Это не просто победа журналистики над литера-
турой. Это победа плохой журналистики над хорошей.
Я вовсе не хочу сказать, что статьи, которые мы считаем
достойными и прекрасными, заменяются другими, которые
мы считаем грязными и отвратительными. Если вы любите
популярную журналистику (как люблю ее я), вы поймете,
что Pearson’s Magazine — это слабая и плохая журналисти-
ка. Вы почувствуете это, как чувствуете вкус прогорклого
масла. Вы сразу поймете, что это плохая массовая журнали-
стика, как сразу понимали, что «Стрэнд» в благословенные
времена Шерлока Холмса — это хорошая массовая журна-
листика. Мистер Пирсон стал монументальным символом
чудовищной банальности. Во всем, что он говорит и делает,
есть какое-то безграничное слабоумие. Он ратует за внут-
реннюю торговлю и нанимает иностранцев, чтобы печатать
свою газету. Когда ему указывают на этот ослепительный
факт, он не говорит, как здравомыслящий человек, что допу-
стил оплошность. Он вырезает его ножницами, как трехлет-
ний ребенок. Хитрость его инфантильна. И, как трехлетний
ребенок, режет он криво и не до конца. Сомневаюсь, что
можно найти еще один пример такого глубоко простодушно-
го жульничества. Люди подобного склада ума сегодня сидят
на скамье разумной и почтенной журналистики тори прежних
времен. Если бы это был настоящий триумф тропического
изобилия американской прессы, он был бы вульгарен, но изо-
билен плодами. Однако это не так. Нас кормят ежевикой с
самых грязных кустов, в то время как пламя поднимается над
кедрами Ливана.
Вопрос состоит лишь в том, сколько времени продлится
иллюзия, что журналисты этой группы представляют обще-
ственное мнение. Вряд ли честный и серьезный реформатор
налоговой системы стал бы в какой-то момент рассуждать о
474 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
прибылях, которые принесла налоговая реформа большин-
ству населения страны сравнительно с теми смехотворными
преимуществами, которые они получили за деньги, потра-
ченные на решение повседневных проблем. Истинное обще-
ственное мнение может лишь прийти к выводу, что нынеш-
няя пресса — просто олигархия плутократов. Несомненно,
что публика по тем или иным причинам покупает их продук-
цию. Но нет никаких оснований думать, что публика прини-
мает их политику охотнее, чем утонченную философию Бе-
недетто Кроче или куда более темную и угрюмую веру мис-
тера Блэквелла. Если эти плутократы — простые торговцы,
то мы можем сказать, что такие — и даже получше — во
множестве встречаются на Беттерси. Но если они пытаются
стать политиками, мы можем лишь указать на то, что они
еще не стали даже хорошими журналистами.
НРАВ ДЖОРДЖА МУРА
Джордж Мур вступил на литературное поприще, напи-
сав собственную исповедь; и в этом не было бы ничего дур-
ного, не продолжай он исповедоваться весь остаток жизни.
Это человек, обладающий истинной силой внушения и уме-
нием управлять разного рода риторическими и неоформив-
шимися убеждениями, которые нас воодушевляют и тешат.
Минутная откровенность стала для него постоянным состо-
янием. Он восхищался всеми самыми выдающимися ориги-
нальными личностями современности до тех пор, пока они от
этого не устали. Все, что он пишет — и это надо полностью
признать — отражает подлинную силу мысли. Объяснение
причин ухода Мура от Римской католической церкви —
это, пожалуй, самое яркое дополнение к его исповедям, на-
писанное в последние годы. Дело в том, что Римская като-
лическая церковь изо всех сил борется именно с той слабо-
стью, которая не дала проявиться многим блестящим талан-
там Мура. Мур ненавидит католицизм, разбивающий дом из
ЕРЕТИКИ
475
зеркал, в котором он живет. Не то чтобы Мур противится,
когда ему предлагают верить в божественную реальность
чудес и таинств, но он принципиально отказывается верить в
реальность существования других людей. Как его наставник
Пейтер и другие эстеты, он на самом деле яростно спорит с
жизнью, пытаясь доказать, что мечтатель способен изваять
своими руками отнюдь не только мечту. И не догма о реаль-
ности того света смущает его, а утверждение, будто этот мир
реален.
На самом деле христианская традиция (единственная
цельная этическая система в Европе) опирается на несколь-
ко парадоксов и тайн, которые не выдерживают испытания
логикой, но могут быть легко оправданы жизнью. Среди них,
например, парадокс о надежде и вере: чем безнадежнее си-
туация, тем больше должен надеяться человек. Это понимал
Стивенсон, и следовательно, Мур не может понять Стивен-
сона. Еще один парадокс касается милосердия или внутрен-
него благородства: чем слабее существо, тем больше почте-
ния следует ему оказывать, чем беззащитнее оно, тем боль-
ше у него оснований так или иначе просить нас о защите. Это
понимал Теккерей, и поэтому Мур не может понять Текке-
рея. Среди имеющих вполне практическое и действенное зна-
чение тайн христианской традиции есть одно, выделяя кото-
рое, Римская католическая церковь, я бы сказал, постара-
лась на совесть: это представление о греховности гордыни.
Гордыня — слабость человеческого характера; она способна
задушить смех, задушить удивление, задушить благородные
порывы. Христианская традиция это понимает; поэтому Мур
не может понять христианскую традицию.
Ведь в реальности все намного более странно, чем это
представлено в официальном учении о греховности гордыни.
Верно не только то, что в смирении куда больше мудрости и
силы, чем в гордыне. Верно также и то, что тщеславие на-
много мудрее и намного сильнее, чем гордыня. У тщеславия
светский нрав, оно почти что объединяет людей; гордыня —
одиночка, лишенная светскости. Тщеславие активно; оно
416
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
жаждет нескончаемых оваций; гордыня пассивна, она нуж-
дается в аплодисментах только одного человека, который и
так ей рукоплещет. Тщеславие забавно и с удовольствием
подшучивает над собой; гордыня скучна, она не может даже
улыбнуться. Суть их отличия в том же, в чем отличие Сти-
венсона от Джорджа Мура, который сообщает нам, что «от-
мел Стивенсона». Не знаю, где после этого оказался Сти-
венсон, но где бы он ни был, полагаю, ему там совсем не пло-
хо, ибо ему хватило мудрости быть бахвалом, но не горде-
цом. У Стивенсона ветреное тщеславие; у Мура это —
душный эгоизм. Потому Стивенсон веселит своим тщесла-
вием и себя, и нас; зато ярчайшие проявления нелепости Мура
остаются скрытыми от его глаз.
Если мы сравним это глупое важничанье и глупую ра-
дость, с которой Стивенсон превозносит собственную книгу
и бранит своих критиков, то нетрудно будет догадаться, по-
чему Стивенсон обрел, наконец, свою жизненную филосо-
фию, тогда как Мур по-прежнему бродит по свету в ее поис-
ках. Стивенсон обнаружил, что секрет жизни в смехе и сми-
рении. Наше «я» сродни Горгоне. Тщеславие рассматривает
его через зеркало других людей и чужих жизней. Гордыня
изучает его напрямую и обращается в камень.
Об этом недостатке Мура необходимо сказать особо, ибо
он отражает слабость деятельности, не лишенной при этом
силы. Эгоизм Мура — это не просто моральная слабость,
это также неизбывная и заразительная эстетическая слабость.
Мур был бы нам гораздо более интересен, если бы так силь-
но не интересовался собой. Мы чувствуем себя так, словно
нам предложили осмотреть галерею, где выставлены весьма
привлекательные полотна,-на каждом из которых, следуя
какому-то бесполезному и непродуманному принципу, худож-
ник изобразил одну и ту же фигуру в одной и той же позе.
«Вид на Большой Канал с фигурой Дж. Мура вдалеке»,
«Силуэт Дж. Мура в тумане», «Дж. Мур у камина», «По-
гребальное ложе Дж. Мура при свете луны» — продолжать
ЕРЕТИКИ
477
этот перечень можно бесконечно. Сам Мур, не задумыва-
ясь, ответил бы, что в своей книге намеревался выразить себя.
Но на это можно заметить, что он не преуспел в своем наме-
рении. И здесь заложен один из тысячи аргументов против
греха гордыни: осознание себя губительно для самораскры-
тия. Человек, который по большей части думает только о себе,
постарается быть разносторонним, достичь во всем показно-
го совершенства, он постарается стать ходячей культурной
энциклопедией, и его настоящее «я» потеряется в этой фаль-
шивой разносторонности. Размышления о себе приведут к
попытке охватить все; попытка охватить все приведет к тому,
что можно сделаться никем. С другой стороны, допустим,
что человеку хватает разума, чтобы думать исключительно о
мире в целом; но он будет думать о нем так, как присуще
только ему. Он сохранит в чистоте божественную тайну; он
будет видеть траву такой, какой ее не видит никто, и любо-
ваться солнцем так, как никто не умеет. Практически это об-
стоятельство изложено в «Исповедях» Мура. Читая их, мы
не ощущаем присутствия определенной личности, как у Тек-
керея или Мэтью Арнолда. Мы лишь знакомимся с рядом
вполне разумных, и при этом во многом противоречивых суж-
дений, которые могут принадлежать любому неглупому че-
ловеку; но нам предлагают восхищаться ими особо, посколь-
ку они принадлежат Муру. Он — единственная нить, свя-
зующая католицизм и протестантство, реализм и мистицизм;
он, а точнее, его имя. Он глубоко пропитан даже теми идея-
ми, которых больше не разделяет, и ждет от нас того же. Он
вставляет слово «Я», написанное с большой буквы, даже там,
где это ни к чему — даже там, где это снижает силу откро-
венного заявления. Там, где другой сказал бы: «Сегодня хо-
роший день», Мур скажет: «На мой вкус, день сегодня хо-
рош». Где другой сказал бы: «У Мильтона, несомненно, хо-
роший стиль», Мур скажет: «Мильтон всегда впечатлял меня
своим стилем». Возмездие такому эгоистичному духу в том,
что он полностью интеллектуален. Мур объявил много дос-
478
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
тойных внимания «священных войн», однако прекратил их
раньше, чем за дело смогли взяться его ученики. Даже когда
он на стороне истины, он изменяет своим словам, как лжи-
вый ребенок. Даже открыв для себя реальность, он не может
постичь все остальное. Впрочем, есть у него одно качество,
которым не обделен ни один ирландец — непримиримость;
и это, безусловно, большое достоинство, особенно в нашу
эпоху. Но в нем нет твердости убеждений, которая допол-
няет боевой дух в таком человеке, как Бернард Шоу. Его
слабость перед самолюбованием и себялюбием во всей их
красе не мешает ему бороться; но она никогда не даст ему
победить.
О САНДАЛИЯХ И ПРОСТОТЕ
Беда современных англичан отнюдь не в том, что они
более хвастливы, чем другие народы (это не так); дело в том,
что они хвастаются теми специфическими вещами, которыми
нельзя похвалиться, не лишившись их. Француз может гор-
диться своей отвагой и рассудительностью и останется от-
важным и рассудительным. Немец может гордиться своей
способностью размышлять и организованностью и останется
разумным и организованным. Но англичанин не может гор-
диться своей простотой и прямодушием, однако остается пря-
модушным и простым. Учитывая странный характер этих
достоинств, познать их означает их убить. Человек может
осознавать свою героическую или богоподобную сущность,
но он не может (невзирая на всех англосаксонских поэтов)
осознать, что живет неосознанно.
Сомневаюсь, можно ли искренне отрицать, что такая не-
возможность отчасти связана с категорией людей, чьи мне-
ния сильно различаются, — по крайней мере, с теми, кто
следует англосаксонской доктрине. Я имею в виду учение о
простой жизни, обычно ассоциирующееся с Толстым. Если
бесконечные разговоры о чьем-либо здоровье приводят к его
постепенной утрате, то еще более справедливо то, что беско-
ЕРЕТИКИ
479
нечные разговоры о чьей-либо простоте ведут к утрате этой
простоты. Думаю, нужно решительно выступить против со-
временных поборников простой жизни во всех ее разнооб-
разных проявлениях — от вегетарианства до духоборчества,
хотя стойкость духоборцев достойна уважения. Им следует
вменить в вину то, что они готовы сделать нас простыми в
незначащих вещах и усложняют то, что важно. Они хотят,
чтобы мы придерживались простоты в том, что несуществен-
но — в еде, в одежде, в поведении, в экономике. Но они
готовы усложнить те вещи, которые имеют значение — фи-
лософию, веру, духовное приятие и неприятие. Но ведь не
настолько важно, сушит ли человек помидоры или ест их све-
жими; гораздо важнее, чтобы он не ел свой свежий помидор
с иссушенными мозгами. Есть только один вид простоты,
которую следует оберегать — а именно простоту души, от-
крытую и радостную. Возникает резонное сомнение в том,
какой принцип может ее сберечь; зато сомнений нет в том,
что принцип простоты ее губит. Человек, которому вдруг
вздумалось отведать икры, более прост, чем тот, кто ест ви-
ноградные косточки по убеждению. Главное заблуждение
этих людей следует искать в девизе, которому они пытаются
следовать: «простая жизнь и высокие мысли». Они не нуж-
даются в «простой жизни и высоких мыслях», ведь это не
сделает их лучше. Им нужно совсем другое. Их сделает луч-
ше сибаритство и простота мысли. Мало-мальски сибарит-
ская жизнь (я говорю «мало-мальски» со всей ответственно-
стью) откроет им силу и значение человеческих праздников,
того застолья, которое идет от начала мира. Им откроется
исторический факт, что искусственное в любом случае стар-
ше естественного. Они узнают, что круговая чаша так же
стара, как и голод. Они поймут, что обрядность старше лю-
бой религии. И не мудрствуя лукаво, они поймут, как грубо и
несуразно выглядит большинство их этических принципов,
насколько «окультурен» и усложнен ум последователя Тол-
стого, который действительно верит, что любить свою стра-
ну — это зло, а ударить ближнего — грех.
480
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Подходит человек в сандалиях и простом одеянии, креп-
ко держа в руке свежий помидор, и говорит: «Привязанность
к семье и к стране одинаково препятствуют полному расцве-
ту человеческой любви»; простак в ответ удивится и без тени
восхищения скажет ему одно: «Должно быть, вы пережили
немало бед, чтобы так рассуждать». У сибарита помидор бу-
дет не в чести. Простак решительно отвергнет представле-
ние о том, что война — это всегда грех. Сибарит будет нас
убеждать, что истинный материалист презирает удовольствие
как нечто чисто материальное. Простак скажет, что матери-
алист — это тот, кто ужасается материальным потерям и те-
лесным ранам.
Есть только один существенный вид простоты — это
простота сердца. Если ее не станет, то ее вернет не турнепс и
не гнездовой метод; ее вернут только слезы, и страх, и нега-
симое пламя. Останется это, и тогда неважно, сколько со-
хранилось кресел в раннем викторианском стиле. Давайте
сделаем сложный портрет старого джентльмена с простым
характером; и давайте не будем делать простой портрет ста-
рого джентльмена со сложным характером. Пока человече-
ское общество не будет касаться моего духовного мира, я буду
признавать его с относительной покорностью, чтобы выпол-
нять его грубую волю изо всех своих физических сил. Я при-
знаю сигары. Я смирюсь с бутылкой бургундского. Я покор-
но приму красивый экипаж. Если только таким способом я
смогу сохранить чистоту духа, радостно-удивленную и испу-
ганную. Я не говорю, что только такими средствами можно
ее сохранить. Я склонен верить, что есть и другие способы.
Но мне не нужна простота без страха, без удивления, а так-
же без радости. Я не хочу наблюдать дьявольское зрелище:
ребенка, который слишком прост, чтобы любить игрушки.
Впрочем, в этих и многих других вопросах ребенок —
лучший советчик. Причем свою добродетельную непосред-
ственность и здоровую простоту он наиболее ярко проявит в
том, что будет на все смотреть с простым удовольствием, даже
на сложные вещи. Ложная естественность упирает на разли-
ЕРЕТИКИ
481
чия между естественным и искусственным. Высшее прояв-
ление естественности не замечает различий. Для ребенка де-
рево и фонарный столб так же естественны, как и искусст-
венны; точнее, ни то, ни другое не будет естественным, зато
и то, и другое сверхъестественно. И то, и другое прекрасно и
необъяснимо. Цветок, которым Господь венчает одного, и
пламя, которым фонарщик Сэм венчает другого созданы из
одного и того же сказочного золота. Ставлю десять к одно-
му, что посреди дикого луга самый обычный деревенский
ребенок будет играть в паровую машину. И единственное
духовное или философское возражение против паровых ма-
шин не в том, что люди платят за них, или на них работают,
или создают их уродливыми, и даже не в том, что эти маши-
ны убивают других людей; просто-напросто люди в них не
играют. Зло состоит в том, что исчезла детская поэзия часо-
вого механизма. Плохо не то, что моторами не восхищаются,
но то, что ими восхищаются недостаточно. Грех — не меха-
нистичность моторов, а механистичность людей.
В связи с этим и другими вопросами, описанными в дан-
ной книге, мы делаем главный вывод о том, что нам нужна
опорная точка зрения, философия или религия, а не измене-
ние привычек или общественного уклада. Вещи, в которых
мы больше всего нуждаемся для осуществления сиюминут-
ных практических целей, сугубо абстрактны. Нам не хватает
правильного видения человеческой судьбы, правильного ви-
дения человеческого общества; если бы в своей жизни мы
отчаянно стремились к этим вещам, мы, ipso facto*, жили бы
просто, в атмосфере искренности и духовности. Желание и
опасность любого человека делают простым. А тем, кто с
назойливо и речисто рассказывает нам о Джагере и кожных
порах, о Плазмоне и тканях желудка, будут брошены слова,
предназначенные для щеголей и обжор: «Не заботьтесь и не
говорите: “что нам есть?” или: “что пить?” или: “во что
одеться?” Потому что всего этого ищут язычники. <....>
* Следовательно (лат.).
482
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам»20. Эти удивительные слова — не только
прекрасное руководство к действию; они также — наилуч-
шее средство гигиены. Главный способ сделать так, чтобы
процессы развития здоровья, силы, милосердия и красоты
протекали правильно и без сбоев — это думать о чем-ни-
будь другом. Если человек стремится вскарабкаться на седь-
мое небо, он может не беспокоиться о порах своей кожи.
Если он гонит свою повозку к какой-нибудь звезде, то эта
поездка самым благотворным образом скажется на тканях
его желудка. Ведь когда мы «задумываемся», или, как это
принято сейчас говорить, «рассуждаем», то это занятие по
природе своей неприменимо к простым и необходимым вещам.
Люди умеют взвешенно думать об отстраненных вещах — о
том, что имеет значение лишь в теории, как, например, тра-
ектория Венеры. Но только столкнувшись с опасностью,
человек способен рассуждать о такой практической вещи, как
здоровье.
НАУКА И ДИКАРИ
Постоянные трудности в изучении фольклора и смежных
наук связаны с тем, что ученый довольно редко способен быть
в то же время мудрым и светским человеком. Он учится у
природы, но почти никогда не изучает природу человека.
Даже преодоление этой трудности, позволяющее в каком-то
смысле изучать человеческую природу, — это лишь очень
робкое начало тяжелого пути к тому, чтобы стать человеком.
Изучение первобытных племен и народов стоит особняком
от всех — или почти от всех — прочих научных дисциплин.
Можно разбираться в астрономии, будучи лишь астрономом;
можно разбираться в энтомологии, будучи лишь энтомоло-
гом (или, скажем, насекомым); но вряд ли можно разобраться
в антропологии, будучи просто человеком. Здесь человек сам
является животным, которое он изучает. Отсюда вытекает
ЕРЕТИКИ
483
тот факт, который бросается в глаза во всех работах по этно-
логии и фольклору: то беспристрастное и объективное иссле-
дование, которое ведет к успеху в астрономии или в ботани-
ке, оборачивается сокрушительным поражением в изучении
мифологии или в вопросе о происхождении человека. Чтобы
выявить лучшие качества микроба, необходимо прекратить
быть человеком; но надо оставаться человеком, чтобы про-
явить лучшие качества людей. То самое подавление эмоций,
тот самый отказ от домыслов и предположений, которые по-
зволяют исследователю со сверхъестественной мудростью
вникнуть в строение желудка паука, делают ученого проти-
воестественно глупым при изучении сердца человека. Он
подавляет в себе человека, пытаясь понять человечество.
Многие ученые похвалялись знанием лишь своего предмета,
но это вытекает не из плохого знания всего остального мира,
а из незнания собственного. Разгадки тайн, которые так вол-
нуют антропологов, лучше всего искать не в книгах или путе-
шествиях, а в повседневном общении людей. Объяснение
тому, что некие дикари поклоняются луне или обезьянам
нельзя найти, просто путешествуя среди дикарей и занося их
высказывания в записную книжку, хотя даже самые умные
люди нередко преследуют именно эту цель. Ответ находится
в Англии, находится в Лондоне; да что там — его надо ис-
кать в своем сердце. Когда мы поймем, почему люди на Бонд-
стрит носят черные шляпы, мы в тот же момент поймем, по-
чему туземцы Тимбукту носят красные перья. Сокровенная
тайна военного танца дикаря не откроется в научных экспе-
дициях и учебниках; она откроется на балу у соседа. Для того
чтобы узнать о происхождении религии, не обязательно ехать
на Сандвичевы острова; достаточно пойти в церковь. Чтобы
узнать о становлении человеческого общества и понять — в
философском смысле, — что такое общество, не надо идти в
Британский музей; достаточно выйти на улицу.
Полное непонимание сути церемоний и обрядов приво-
дит к удивительно неуклюжим и натянутым версиям поведе-
ния людей в суровых условиях или в трудные времена. Уче-
484
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
ный, не понимая, что церемония зарождается, в основном,
без всякой причины, вынужден искать для любой церемонии
какую угодно причину, чаще всего — самую абсурдную; аб-
сурдную, поскольку она возникает не в бесхитростном разу-
ме дикаря, а в изощренном разуме профессора. Например,
ученый скажет: «Туземцы страны Мумбо-Юмбо верят, что
мертвые могу принимать пищу и им требуется пропитание
для путешествия в мир иной. Это подтверждает тот факт,
что они кладут в могилу еду, и ни одна семья не смеет нару-
шить этот ритуал из страха перед гневом жрецов и сопле-
менников». Любому, кто знаком с риторикой, подобный спо-
соб рассуждений представляется полной чепухой. Точно так
же можно сказать: «В двадцатом веке англичане верили, что
мертвые чувствуют запахи. Об этом свидетельствует тот факт,
что они всегда приносили к могиле лилии, фиалки и другие
цветы. Гнев священников и осуждение соплеменников жда-
ли тех, кто пренебрегал этим ритуалом, поскольку сохрани-
лись сведения о нескольких пожилых леди, которые были
крайне расстроены, узнав, что их венки не доставили на по-
хороны вовремя». Разумеется, не исключено, что дикари кла-
ли еду в могилу, поскольку считали, что мертвецу нужна
пища, равно как и клали в могилу оружие, поскольку полага-
ли, что мертвецу придется сражаться. Но лично я не верю,
что они так думали. Я полагаю, что они оставляли мертвецу
еду и оружие по той же причине, по какой мы приносим на
похороны цветы; то есть просто потому, что это совершенно
естественно. Да, верно, нам непонятны чувства, которые за-
ставляют нас считать эти действия естественными и очевид-
ными; но дело в том, что все действительно серьезные эмо-
ции человеческого естества, по существу, иррациональны. Мы
не понимаем дикарей точно так же, как они сами не понима-
ют себя. И как дикари не понимают себя, так не понимаем
себя и мы.
Для меня очевидно, что в тот момент, когда любое явле-
ние осознается человеческим разумом, оно окончательно и
навсегда утрачивается для науки с ее благими целями. Оно
ЕРЕТИКИ
485
превращается в бесконечную и неразрешимую загадку; уми-
рая, оно уходит в бессмертие. Даже наши так называемые
материальные запросы духовны, поскольку они свойствен-
ны человеку. Можно провести научный анализ свиной от-
бивной и определить, сколько в ней фосфора и сколько про-
теинов; но никакая наука не может проанализировать при-
страстие человека к свиным отбивным и определить, сколь-
ко в нем голода, сколько привычки, сколько прихоти и сколько
неуемной любви к прекрасному. Склонность человека к сви-
ным отбивным остается столь же мистической и неземной,
как и его стремление к небесам. Следовательно, все попытки
научного изучения внутреннего мира человека, человеческой
истории, фольклора или социологии в принципе не безнадеж-
ны, но непременно безумны. Экономическая история не про-
двинулась дальше бесспорного вывода о том, что жажда на-
живы есть просто жажда наживы; равно как агиология не
ушла дальше утверждения, что стремление святого к Госпо-
ду — это просто стремление к Господу. Подобная неопре-
деленность исходных явлений, подлежащих изучению, при-
водит к абсолютному и неизбежному краху научных концеп-
ций. Можно создать науку с помощью немногих или очень
простых инструментов; но никому на земле не удастся со-
здать науку с помощью непригодных инструментов. Всю
математику можно разработать с помощью горстки камеш-
ков, но с помощью комка глины этого сделать нельзя, по-
скольку он приобретает любую форму и распадается на лю-
бые фрагменты. Тростинкой можно измерить и небо, и зем-
лю, но растущий тростник для этого непригоден.
В качестве примера одной из крупнейших глупостей фоль-
клористов возьмем миграцию историй и утверждение един-
ства их источника. Теоретики мифологии извлекали из исто-
рии рассказ за рассказом и раскладывали сходные рассказы
рядышком в своем музее небылиц. Процесс приобрел про-
мышленный размах, очарование и до сих пор остается одним
из самых распространенных заблуждений в мире. Если ис-
тория рассказывается повсеместно и постоянно, то это не
486
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
значит, что на самом деле она вымышлена; это даже никоим
образом и ни в коей мере не повышает вероятности того, что
она никогда не происходила. Если огромное множество ры-
баков лживо утверждают, что выловили щуку в два фута дли-
ной, это никак не влияет на вопрос, вытаскивал ли такую щуку
кто-нибудь на самом деле. Если бесчисленные журналисты
объявляют, что причиной франко-германской войны были
деньги, это никак не проливает свет на темный вопрос, была
ли эта война вообще. Вполне возможно, что через несколько
столетий огромное количество так и не произошедших фран-
ко-германских войн совершенно изгладят из памяти ученых
легендарную войну 70-х годов, которая действительно была.
Но это случится, если у нас вообще останутся фольклористы
и суть их останется неизменной; а также если услуги, кото-
рые они оказывают фольклору, останутся на нынешнем уров-
не, то есть гораздо большими, чем фольклористы это осоз-
нают. Ибо на самом деле эти люди делают намного более
богоподобное дело, чем изучение легенд; они их создают.
Существует два типа преданий, которые ученые считают
вымышленными, потому что их рассказывают все. Первый
тип состоит из историй, которые рассказывают все, посколь-
ку они необычны и интересны, и ничто в мире не мешает им
произойти с тем или иным человеком, равно как ничто в мире
не мешает им, по крайней мере, прийти тому или иному чело-
веку в голову. Но вряд ли они могли случится со многими
людьми. Второй тип этих «мифов» включает в себя истории,
которые рассказывают все, поскольку они случаются сплошь
и рядом. К первому классу мы можем отнести, например,
историю о Вильгельме Телле, которую сейчас причисляют к
легендам исключительно на том основании, что она встреча-
ется в рассказах разных народов. Однако очевидно, что ее
рассказывают повсеместно не потому, что она правдива или
ложна, а потому, что это просто «красивая история»; она нео-
бычная, захватывающая, и у нее есть кульминация. Предпо-
лагать, что такого экстравагантного случая никогда не было
в истории стрельбы из лука или что он произошел не с тем
ЕРЕТИКИ
487
человеком, о котором идет речь, — это слишком смело. Идея
стрельбы в цель, представляющую собой близкого или воз-
любленного человека, без сомнений, может прийти в голову
любому изобретательному поэту. Но так же легко она может
прийти в голову и любому лучнику-хвастуну. Она может быть
одной из причуд фантазера-рассказчика. Равно как и прихо-
тью фантазера-тирана. Она могла сначала осуществиться в
реальной жизни, а потом перейти в легенды. А могла снача-
ла быть легендой, а потом осуществиться в реальности. И да-
же если от сотворения мира ни одна стрела не сбивала яблоко
с головы ребенка, завтра это может сделать тот, кто и слы-
хом не слыхивал о Вильгельме Телле.
Этот тип рассказа можно вполне обоснованно сопоста-
вить с обычным реальным эпизодом, который заканчивается
остроумной репликой или смешной нелепостью. Известный
ответ «je ne vois pas la necessite»* приписывали Талейрану,
Вольтеру, Генриху IV, безымянному судье и так далее. Но
такое множество авторов никак не доказывает, что этого не
сказал никто. Весьма вероятно, что эти слова произнес неиз-
вестный человек. Очень даже вероятно, что их действитель-
но произнес Талейран. В любом случае острота может ро-
диться в разговоре так же легко, как и при написании мему-
аров. Ее мог произнести любой из перечисленных выше.
Однако весьма маловероятно, что ее произносил каждый из
них. И именно этим первый класс так называемых мифов
отличается от второго, о котором я уже упоминал. Там мож-
но найти нечто общее в рассказах о пяти или шести героях —
скажем, о Сигурде, Геракле, Рустаме, Сиде и прочих. Осо-
бенность этих мифов не в том, что подобный случай мог обо-
снованно и реально произойти с одним из героев, а в том, что
он мог обоснованно и реально произойти с любым из них.
Такова, например, история о великом человеке, чья сила ус-
тупает загадочной слабости женщины. Фабульный рас-
сказ — рассказ о Вильгельме Телле — популярен, как я уже
* Не вижу необходимости (фр.).
488
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
сказал, потому что он необычен и исключителен. Но истории
второго типа — история Самсона и Далилы или Артура и
Гиневры — популярны, поскольку они не исключительны.
Они популярны, как популярна хорошая добротная литера-
тура, которая говорит правду о людях. Если гибель Самсона
из-за женщины и гибель Геракла из-за женщины имеют один
и тот же легендарный источник, то нам должно быть прият-
но узнать, что этой же легендой объясняется крах Нельсона
из-за женщины и гибель Парнелла из-за женщины. И у меня
нет никаких сомнений, что через несколько веков студенты-
фольклористы дружно откажутся верить, что Элизабет Бар-
рет сбежала с Робертом Браунингом, а в доказательство при-
ведут тот неоспоримый факт, что такими побегами полна вся
литература того периода.
Возможно, самым трогательным из всех заблуждений со-
временных исследователей первобытных верований является
то понятие, которое они называют антропоморфизмом. Они
верят, что первобытные люди приписывали непонятные явле-
ния богу в человеческом облике, чтобы объяснить их, поскольку
ограниченный разум первобытного человека не мог выйти за
пределы своего крохотного мира. Гром признавался голосом
человека, а молния — сверканием глаз, поскольку такое объяс-
нение было удобным и рациональным. Чтобы полностью из-
лечиться от подобной философии, нужно просто выйти ночью
на тихую улочку. Любой, кто это сделает, очень быстро обна-
ружит, что людям во всех предметах чудится нечто получело-
веческое не потому, что это естественно, а потому, что это
сверхъестественно; не потому, что предметы становятся таким
образом более понятными, а потому, что они становятся в сот-
ни раз более непостижимыми и загадочными. Человеку, гуля-
ющему ночью по тихой улице, бросается в глаза тот факт, что
пока природа не выходит за рамки природных явлений, она не
имеет над нами никакой власти. Дерево, будучи деревом, мо-
жет казаться качающимся сторуким чудищем с тысячью язы-
ков и на одной ноге. Но до тех пор, пока дерево остается дере-
вом, оно нас не пугает вообще. Оно становится странным и
ЕРЕТИКИ
489
чужеродным, только когда начинает походить на нас самих.
Когда дерево действительно становится похожим на человека,
у нас поджилки трясутся. А когда вся Вселенная начинет по-
ходить на человека, мы падем ниц.
О СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЯХ
И ОБ ИНСТИТУТЕ СЕМЬИ
Семью вполне можно рассматривать как основную че-
ловеческую организацию. Все готовы признать, что это эле-
ментарная ячейка и главная единица практически любого об-
щества, за исключением разве что таких, как Лакедемон,
которые увлеклись «эффективностью» и в результате погиб-
ли, исчезнув без следа. Христианство, при всей грандиозно-
сти революционных преобразований, не тронуло эту древ-
нюю и языческую святыню; оно ее просто перевернуло. Оно
не отрицало триединства: отец, мать и ребенок. Оно лишь
прочло его наоборот: ребенок, мать, отец. И назвало его не
просто семьей, а Святым Семейством, поскольку очень мно-
гие вещи становятся святыми, если вывернуть их наизнанку.
Но некоторые мудрецы нашего декаданса обрушили на се-
мью серьезные нападки. Они поставили ее под сомнение —
я думаю, неправильно; а защитники семьи ее защищали, и
защищали тоже неправильно. Их защита сводилась к тому,
что во время стрессов, вызванных изменчивостью современ-
ной жизни, семья остается символом мира, уюта и согласия.
Но для меня очевидно, что возможна и другая защита семьи;
она заключается в том, что семья вовсе не так уж спокойна,
уютна и единогласна.
В наши дни не модно рассуждать о преимуществах ма-
ленького сообщества. Нам говорят, что мы должны мечтать
об огромных империях и великих идеях. Однако в маленьком
государстве, городе или селении есть преимущество, не за-
метить которое может только слепой. Тот, кто живет в ма-
леньком обществе, обретает гораздо больший мир. Он знает
490
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
гораздо больше о живом многообразии и упорных разногла-
сиях людей. Причина очевидна. В большом обществе мы
имеем возможность выбирать себе знакомых. В маленьком —
они выбраны для нас заранее. Таким образом все крупные и
высоко цивилизованные общественные группы основаны на
том, что называется симпатией и отгорожены от реального
мира надежнее, чем за вратами монастыря. В клане никакой
ограниченности, по сути, нет; на самом деле ограничена кли-
ка. Люди клана живут вместе, потому что носят одинаковые
шотландки или ведут свой род от одной и той же священной
коровы; но души их с помощью божественного провидения
всегда будут пестрее любого шотландского пледа. Люди клики
живут вместе благодаря сходному состоянию душ, и узость
их —шэто узость духовных запросов, которая ждет грешни-
ков в аду. Большое общество существует, чтобы создавать
клику. Большое общество — это общество поощрения узос-
ти. Это механизм для охраны одинокого и тонкокожего ин-
дивидуала от всех горьких и вынужденных соглашений. Это
в прямом смысле слова общество против распространения
христианства.
Все это мы можем проследить на примере трансформа-
ции такого понятия, как клуб. Когда Лондон был меньше и
его районы имели более четко очерченные границы, клуб был
тем, чем до сих пор остается в деревнях, то есть прямой про-
тивоположностью того, чем он стал в больших городах. Рань-
ше клуб рассматривали как место, где человек может побыть
в обществе. Теперь клуб рассматривают как место, где чело-
век может быть сам по себе. Чем больше развивается и ус-
ложняется наша цивилизация, тем реже клуб остается мес-
том, где можно шумно спорить, и тем чаще он становится
тем странным местом, где можно, как сейчас говорят, спо-
койно поесть. Его цель — доставить человеку комфорт и
успокоение, то есть поставить его в оппозицию к обществу.
Социальное общение, как и всё хорошее, полно трудностей,
опасностей и противоречий. Нынешний клуб воспитывает
худший из человеческих типов — роскошествующего анахо-
ЕРЕТИКИ
491
рета, человека, который сочетает в себе порочные наклонно-
сти Лукулла с безумным одиночеством святого Симеона
Столпника.
Если бы завтра улицу, на которой мы живем, занесло
снегом, мы бы неожиданно для себя открыли огромный но-
вый и незнакомый мир. В этом объяснение тех усилий, кото-
рые прилагает типичный современный человек, чтобы со своей
улицы сбежать. Сначала он придумывает современную ги-
гиену и едет в Маргит. Затем придумывают современную
культуру и едет во Флоренцию. Далее изобретает современ-
ный империализм и едет в Тимбукту. Путешествует к самым
крайним границам мира. Изображает из себя охотника на
тигров. Почти что ездит на верблюде. И всё это время он
только и делает, что бежит с улицы, на которой родился; и у
него всегда готово объяснение своему побегу. Он говорит,
что бежит со своей улицы, потому что там скучно; но он лжет.
На самом деле он бежит, потому что там слишком интересно.
Интересно, потому что трудно, а трудно, потому что такова
жизнь. Беглец едет в Венецию, потому что для него венеци-
анцы — просто венецианцы, а люди с его улицы — яркие
характеры. Он может глазеть на китайцев, потому что для
него китайцы — просто объекты наблюдения, но, глядя на
пожилую леди в соседнем саду, он видит настоящего челове-
ка. Короче говоря, он бежит от слишком активного сообще-
ства равных — от свободных людей, капризных, непостоян-
ных и сознательно непохожих на него самого. Улица в Брик-
стоне слишком оживленна и разнообразна. И ему надо успо-
коиться и расслабиться среди тигров и стервятников, среди
верблюдов и крокодилов. Эти создания, конечно, очень от-
личаются от него. Но они ни формой, ни цветом, ни повадка-
ми не могут вступить с ним в решительное интеллектуальное
противоборство. Они не стремятся попрать его принципы и
навязать свои; это стремятся сделать странные чудища с со-
седней улицы. Верблюд не станет кривить губы в презри-
тельной усмешке, потому что у мистера Робинсона нет гор-
ба; это сделает культурный джентльмен из дома номер 5,
492
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
увидев, что у мистера Робинсона нет веранды. Стервятник
не разразится смехом, видя, что человек не умеет летать; но
майор из дома номер 9 обхохочется, узнав, что сосед не уме-
ет курить. Претензии, которые мы предъявляем своим сосе-
дям, состоят не в том, что они, как мы говорим, занимаются
не своим делом. Мы вовсе не имеем в виду, что они действи-
тельно занимаются не своим делом. Если бы занимались не
своим делом, им бы внезапно повысили арендную плату и
очень скоро они бы перестали быть нашими соседями. Когда
мы так говорим, мы имеем в виду нечто более глубокое. Нас
раздражает не то, что они не прилагают достаточных усилий
и энергии, чтобы заниматься только собой. Нас раздражает,
что они прилагают достаточно усилий и энергии, чтобы в той
же мере интересоваться нами. Короче говоря, нас пугает не
узость кругозора наших соседей, а их упорное стремление
его расширить. Любая антипатия к обычным людям имеет ту
же природу. Антипатию вызывают не их слабости (как мы
предпочитаем думать), а их энергия. Мизантропы делают вид,
что презирают человечество за его слабость. На самом деле
они ненавидят его за его силу.
Разумеется, стремление ограничить грубую энергию и
огромное многообразие обычных людей абсолютно понятно
и простительно, пока оно не старается прикинуться превос-
ходством. В таких случаях оно называет себя аристократиз-
мом, эстетизмом или превосходством над буржуазией с ее
слабостями, на которые ей справедливо указывают. Высоко-
мерие — самый простительный из грехов, но как доброде-
тель он непростителен. Ницше, который наиболее последо-
вательно выражал этот брезгливый и надменный взгляд, в
одной из своих работ описал — очень ярко с чисто литера-
турной точки зрения — то отвращение и презрение, которое
охватывало его при виде обычных людей с их заурядными
лицами, тусклыми голосами и банальными мыслями. Как я
уже говорил, такое отношение можно считать прелестным,
если рассматривать его как жалость. Аристократизм Ницше
весь посвящен ценностям, которые присущи слабым. Когда
ЕРЕТИКИ
493
он передает нам свое отвращение к бесчисленным лицам, бес-
конечным голосам и подавляющей вездесущности толпы, мы
поневоле сочувствуем любому, кого тошнит на пароходе и
кто изнемогает в переполненном омнибусе. Любой из нас
ненавидел человечество, где его унижали как человека. Лю-
бой из нас проявлял человеческую реакцию, когда глаза его
застил туман или в ноздри бил удушающий смрад. Но когда
Ницше с поразительным отсутствием юмора и катастрофи-
ческим недостатком воображения просит нас поверить, что
его аристократия — это аристократия могучих мышц или
несгибаемой воли, тут необходимо внести ясность. Это арис-
тократия слабых нервов.
Мы сами создаем своих друзей; и своих врагов тоже со-
здаем мы сами; а вот соседей нам дает Бог. Следовательно,
сосед приходит к нам как воплощение всех ужасов беспечной
природы; он чужд, как звезды; он безрассуден и равноду-
шен, как поезд. Он — Человек, самый страшный из зверей.
Вот почему древние культы и священные письмена были пол-
ны великой мудрости, когда говорили не о долге перед чело-
вечеством, а о долге перед ближним своим. Долг перед чело-
вечеством нередко принимает форму личного или даже при-
ятного выбора. Это может быть хобби или даже развлече-
ние. Можно работать в Ист-Энде, потому что нам особенно
подходит работа в Ист-Энде, или потому что мы так думаем;
можно бороться за мир во всем мире, потому что нам необы-
чайно нравится борьба. Самые ужасные мучения, самые не-
приятные испытания могут быть результатом выбора или
причудой вкуса. В нас может быть заложена глубокая лю-
бовь к буйнопомешанным или особый интерес к проказе.
Можно любить негров, потому что они черные, или немец-
ких социалистов, потому что они педантичны. Но ближнего
мы обязаны любить, потому что он рядом, а это гораздо бо-
лее серьезная причина для гораздо более решительных дей-
ствий. Он представитель тех людей, которых мы не выбира-
ем. И поскольку он может быть любым, он представляет всех.
Он символичен, потому что случаен.
494
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Разумеется, люди, покидая свое скромное окружение,
нередко бегут в смертельно опасные края. Но это вполне ес-
тественно, потому что они бегут не от смерти. Он бегут ради
жизни. Этот принцип применим во всех внутренних сферах
социальной системы человечества. Совершенно ясно, что
человек ищет разные человеческие характеры, когда стре-
мится найти свое собственное подмножество характеров, а
не многообразие человечества. Вполне естественно, что бри-
танский дипломат должен искать общества японских генера-
лов, если ему нужен японский генералитет. Но если ему нуж-
ны люди, которые отличаются от него самого, то ему лучше
остаться дома и потолковать о религии с горничной. Вполне
понятно, что местный гений стремится покорить Лондон, если
покорение Лондона — его цель. Но если он стремится поко-
рить нечто принципиально иное и в корне враждебное, ему
лучше остаться на месте и вступить в спор с ректором кол-
леджа. Человек с соседней улицы целиком прав, если едет в
Рамсгейт ради самого Рамсгейта, хотя это и трудно себе пред-
ставить. Но если он утверждает, что едет в Рамсгейт «ради
перемен», то следует заметить, что куда более романтичная
и даже мелодраматичная перемена произойдет, если он спрыг-
нет со стены в соседний сад. Последствия будут куда более
бодрящими по сравнению с тем, что может предоставить ему
Рамсгейт.
Этот принцип применим и к империи, и к нации внутри
империи, и к городу внутри нации, и к городской улице;
равным образом он применим и к дому на улице. Становле-
ние семьи имело те же причины, что и становление нации
или образование города. Человеку хорошо в семье в том же
смысле, как ему хорошо в густонаселенном городе. Челове-
ку хорошо жить в семье в том же смысле, как приятно и
прекрасна оказаться на улице, заметаемой снегом. И то, и
другое заставляет его понять, что жизнь — это не то, что
снаружи, а то, что внутри. Более того, все настаивают на
том, что жизнь — если она действительно интересная и на-
сыщенная — по природе своей идет вопреки нам самим.
ЕРЕТИКИ
495
Современные писатели, которые более или менее открыто
утверждают, что семья — образование вредное, в целом —
кто резко, ко горько, кто патетически — все сводят к тому,
что интересы членов семьи не всегда сходны. На самом деле
семья — полезное образование именно потому, что эти ин-
тересы различны. Семья благотворна именно потому, что
состоит из множества несоответствий и разногласий. Она,
как говорят сентименталисты, похожа на маленькое коро-
левство, и, как большинство маленьких королевств, нахо-
дится в состоянии, в чем-то сходном с анархией. Именно
потому, что братца Джорджа не волнуют наши религиозные
противоречия, а интересует только ресторан Трокадеро, се-
мья проявляет качества, присущие всякому здоровому со-
юзу. Именно потому, что дядюшка Генри не одобряет теат-
ральных пристрастий сестрицы Сары, семья похожа на че-
ловечество. Мужчины и женщины, которые — по тем или
иным причинам — восстают против семьи, на самом де-
ле — по тем или иным причинам — восстают против чело-
вечества. Тетушка Элизабет безрассудна, как все человече-
ство. Папа взрывоопасен, как человечество. Младший брат
непоседлив, как человечество. Дедушка глуп, как весь мир;
и стар, как мир.
Тот, кто стремится — во благо или во зло — вырваться
из своего окружения, просто стремится уйти в более узкий
мир. Таких людей беспокоит и пугает широта и многообра-
зие семьи. Саре нужен мир, состоящий из одних завзятых
театралов; Джордж хочет думать, что Трокадеро — это все-
ленная. Я ни в коем случае не утверждаю, что такое сужение
жизненного пространства всегда вредно для отдельного че-
ловека, равно как не утверждаю, что всегда вреден уход в
монастырь. Но я утверждаю, что есть нечто дурное и искус-
ственное в желании людей поддаться странной иллюзии, буд-
то они таким образом выходят в более широкий и разнооб-
разный мир. Лучший способ проверить свою готовность к
встрече с многообразием человечества состоит в том, чтобы
пролезть через дымоход в первый попавшийся дом и попы-
496
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
таться поладить с его обитателями. Собственно, это и делал
каждый из нас с момента своего рождения.
В этом и состоит великая и возвышенная романтика се-
мьи. Она романтична, ибо она непредсказуема. Она роман-
тична, поскольку все, что говорят о ней враги, — правда.
Она романтична, потому что случайна. И она романтична,
потому что она здесь. Подбирая группу людей обдуманно и
рационально, вы пестуете дух сектантства и ограниченности.
Подбирая группу людей произвольно, вы получаете группу
людей. Здесь присутствует элемент авантюризма, который
изначально присущ людям. Здесь выбираем не мы, здесь
выбирают нас. Влюбленность всегда рассматривалась как
величайшее приключение, в высшей степени романтическая
случайность. И поскольку в этом задействовано что-то по-
мимо нас, какая-то разновидность очаровательного фатализ-
ма, — это чистая правда. Любовь поглощает нас, преобра-
жает и мучает. Она, как и музыка, разбивает нам сердца своей
невероятной красотой. Но как только мы начинаем созна-
тельно к этому стремиться, как только мы начинаем в том
или ином смысле готовиться вдруг влюбиться, как только мы
начинаем выбирать или даже просто оценивать широту воз-
можностей, — любовь тут же перестает быть истинно ро-
мантичной и истинной безрассудной. В каком-то смысле ве-
личайшее приключение — это не влюбленность. Величай-
шее приключение — это акт рождения. Мы внезапно попа-
даем в прекрасную и жутковатую ловушку. Мы вдруг видим
то, что и не мечтали увидеть. Отец и мать поджидали нас и
вдруг объявились, словно разбойники из кустов. Наш дя-
дюшка полон неожиданностей. Тетушка, по меткому народ-
ному выражению, — гром среди ясного неба. Когда мы, едва
родившись, оказываемся в семье, мы попадаем в непредска-
зуемый мир, где царят странные законы; в мир, который мо-
жет функционировать и без нас; в мир, который создан не
нами. Иными словами, когда мы попадаем в семью, мы по-
падаем в сказку.
ЕРЕТИКИ
497
Одна из разновидностей фантастического рассказа не-
разрывно связана с семьей и отношениями людей на протя-
жении жизни. Романтика — это самое серьезное, что есть в
жизни; она даже серьезнее, чем реальность. Можно дока-
зать, что реальность обманчива, но никак нельзя доказать,
что она не важна или невыразительна. Даже если факты
ложны, они всё равно загадочны. И это своеобразие жизни,
эта внезапная неожиданность и причудливость ее элементов,
остаются непреодолимо интересными. Обстоятельства, кото-
рыми мы умеем управлять, могут быть безопасными или
пессимистическими; но «обстоятельства, которые не подле-
жат нашему контролю», становятся божественными для тех,
кто, подобно мистеру Микоберу, взывает к ним и черпает в
них силу. Люди спрашивают, почему роман — самая попу-
лярная форма литературы; почему их читают больше, чем
учебники или книги по метафизике. Причина очень проста:
роман более правдив, чем прочие книги. В учебниках жизнь
иногда может отражаться правдиво. Еще более правдиво она
иногда отражается в книгах по метафизике. Но жизнь —
это всегда роман. Наше бытие не всегда будет песней или
даже прекрасной элегией. Действительность может и не
быть разумно справедливой или очевидно неправильной. Но
наше бытие — это всегда история. Пламенные буквы каж-
дого заката складываются в слова: «продолжение следует».
Обладая достаточно развитым умом, мы можем сделать фи-
лософский или логический вывод в полной уверенности, что
он конечен и правилен. Обладая соответствующей силой ра-
зума, мы можем завершить научное открытие и убедиться,
что оно истинно. Но даже обладая гигантским интеллектом,
мы не можем завершить самую простую и дурацкую исто-
рию, не сомневаясь, что она завершена правильно. Ибо в
основе истории лежит не только интеллект, который частью
есть механизм, но и воля, которая, по сути, божественное
провидение. Сочинитель романов может, если ему этого за-
хочется, в последней главе отправить своего героя на висели-
498
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
цу. Он может сделать это по той же божественной прихоти,
в соответствии с которой он, автор, сам может взойти на ви-
селицу и затем отправиться в ад, если таков его выбор. Та
самая цивилизация — европейская цивилизация рыцар-
ства, — которая отстаивала свободную волю в тринадцатом
столетии, в восемнадцатом породила то, что называют лите-
ратурой. Когда Фома Аквинский отстаивал духовную сво-
боду человека, он создал все плохие романы в публичных
библиотеках.
Для того чтобы жизнь стала историей или романтическим
приключением, необходимо, чтобы по крайней мере зна-
чительная ее часть происходила без нашего на то соизволе-
ния. Если мы хотим упорядочить свою жизнь, это будет нам
досадной помехой, но это станет ее важной особенностью,
если мы хотим превратить ее в драматическое повествова-
ние. Несомненно, это нередко случается, когда такая драма
пишется человеком, который нам не слишком нравится. Но
она понравится нам еще меньше, если автор ежечасно будет
выходить перед поднятием занавеса и заставлять слушать,
какие повороты сюжета ждут нас в следующем акте. Можно
многое предусмотреть в жизни; можно предусмотреть
столько, что вы станете героем романа. Но если предусмот-
реть всё, вы станете таким героем, что романа не получится.
В сущности, жизнь богачей столь уныла и бедна событиями
именно потому, что они сами могут эти события выбирать.
Им скучно, ибо они всесильны. Они не чувствуют прелести
приключения, поскольку сами эти приключения придумыва-
ют. Романтической и полной ярких перспектив жизнь дела-
ют те простые и строгие ограничения, которые заставляют
нас идти навстречу неприятностям и неожиданностям. Тщетно
высокомерные современные писатели бормочут о пребыва-
нии в неблагоприятной среде. Жить романтикой и означает
пребывать в неблагоприятной среде. Родиться на этой земле
значит родится в незнакомой среде, то есть попасть в роман-
тическую историю. Семья — самое важное и наиболее опре-
деленное из всех ограничений, которые формируют и созда-
ЕРЕТИКИ
499
ют поэзию и многообразие жизни. Следовательно, неправы
те современные писатели, которые воображают, что роман-
тику можно найти в совершенной статичности, которую они
зовут свободой. Они полагают, что жест человека может быть
столь поразителен и романтичен, что солнце скатится с не-
бес. Но более поразительно и романтично, что солнце не ска-
тилось с небес до сих пор. В любых очертаниях и формах они
ищут мир без ограничений, то есть мир без формы и мир без
очертаний. Но нет ничего хуже бесформенной бесконечно-
сти. Они говорят, что хотят быть сильны, как сама вселен-
ная, но самом деле они мечтают, чтобы вселенная стала та-
кой же слабой, как они.
г О КНИГАХ ПРО СВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
Собственно говоря, полезней читать плохие книги, чем
хорошие. Хорошая книга поведает нам об одной душе, пло-
хая — о многих. Хороший роман расскажет нам о герое, пло-
хой — об авторе. Мало того: он расскажет нам о читателе и,
как ни странно, тем больше, чем циничней и низменней была
причина, побудившая автора писать. Чем бесчестней книга
как книга, тем честнее она как свидетельство. Искренняя
повесть являет нам простоту одного человека, неискренняя —
простоту человечества. То, к чему люди пришли по размыш-
лении, можно найти в свитках законов и писаний; то, чем они
живут, сами того не сознавая, — в «дешевом чтиве». Как
многие истинно культурные люди, вы почерпнете из хоро-
ших книг лишь вкус к хорошим книгам. Плохие научат пра-
вить странами и разбираться в карте рода человеческого.
Я могу привести занятный пример того, как слабые кни-
ги оказываются сильными, сильные — слабыми. Речь идет
о явлении, которое мы условно назовем романами про арис-
тократов или, точнее, про снобов. Если вы захотите найти
убедительную, понятную и настойчивую защиту аристокра-
тии в хорошем, искреннем изложении, читайте не современ-
500
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ных философов, склонных к консервативности, не ницшеан-
цев, а так называемые «колокольные книжки»21. Призна-
юсь честно, что у Ницше гораздо меньше убедительности; и
он, и эти книжки делают одно и то же — в несколько жен-
ской, истерической манере боготворят высокого мужчину, ат-
лета с могучими мышцами и завитыми усами. Но даже и здесь
книжки заметно лучше, ибо они наделяют сильную личность
добродетелями, которые ей нередко присущи, — доброду-
шием, леностью, приветливостью и снисходительностью к
слабым; Ницше же приписывает ей презрение к слабости,
свойственное лишь калекам. Однако сейчас я веду речь не о
второстепенных достоинствах немецкого философа, но о пер-
востепенных достоинствах «Дешевого чтива». Образ арис-
тократа в чувствительных книжках для народа вполне удов-
летворяет меня, ибо он помогает разобраться и в политике, и
в философии. Встречаются в них и неточности — скажем,
баронет именуется не так, как нужно, или пропасть, которую
он одолел, слишком широка, — но сама идея аристократии и
ее роль в делах человеческих воссозданы неплохо. Суть меч-
ты об аристократе — великолепие и мужество; быть может,
свойства эти слегка преувеличены, но уж никак не преумень-
шены. Автор никогда не ошибется, сделав пропасть слиш-
ком узкой или титул незаметным. Однако над достойной ста-
рой литературой о светских людях вознеслась в наше время
еще одна, иная. Претензий у нее несравненно больше, цен-
ности в ней гораздо ниже. По чистой случайности (если это
важно) такие книги много лучше написаны. Но философия
там хуже, хуже этика, политика, и уж совсем плохи образы
аристократии и человечества. Из книг, о которых я говорю,
можно узнать, что делает с идеей аристократии умный чело-
век; из приложений к «Фэмили хералд» 22 можно узнать, что
делает идея аристократии с человеком, который не умеет са-
мостоятельно мыслить. А зная это, мы вправе полагать, что
знаем историю Англии.
Новые романы из светской жизни, должно быть, при-
влекли внимание каждого, кто читал модные книги, вы-
ЕРЕТИКИ
501
шедшие за последние пятнадцать лет. Эти достойные ро-
маны представляют нам высшее общество как истинно
высшее, то есть превосходящее всех прочих не только на-
рядами, но и... остроумием. К плохому баронету, к хо-
рошему баронету, к непонятому баронету, которого счита-
ли плохим, хотя он и хороший, эти писатели прибавили
немыслимое доселе создание — баронета-острослова.
Аристократ должен быть не только сильнее и красивее
простых смертных. Он должен быть умнее. Ноги его
длинны, эпиграммы — коротки. По заслугам признанные
писатели ответственны в немалой мере за худшую форму
снобизма — снобизм ума. Даровитый автор «Додо» ви-
новат тем, что ввел в моду самое моду. Хиченс в «Зеле-
ной гвоздике» защищает удивительную идею: по его мне-
нию, молодой аристократ наделен даром слова. Это еще
можно простить, ибо автор сделал сей вывод на основе
своей биографии. А миссис Крэги согрешила тяжко, хотя
(или «потому что») внесла в восхваление знатности нрав-
ственную, даже религиозную истовость. Когда речь идет
о спасении души, как-то неудобно замечать, даже в книге,
что спасаемый знатен. Такие обвинения не минуют и са-
мого талантливого из всех, Энтони Хоупа, который дока-
зал, что наделен высшим из человеческих чувств — чув-
ством романтики. Возьмите его буйную, немыслимую ме-
лодраму, скажем «Узника Зенды». Большую и причудли-
вую роль в сюжете играет родство героя с королем. Когда
же Хоуп подробно и восторженно описывает Тристрама
Блента, который пронес сквозь пламенную юность мысль
о каком-то дурацком поместье, мы ощущаем, что идея
олигархии слишком важна для писателя. Нормальный че-
ловек навряд ли заинтересуется юношей, который мечтает
о земле Блентов в ту пору, когда его сверстники мечтают
о звездах23.
Но это еще ничего, ибо у Энтони Хоупа достает не
только романтики, но и легкой иронии, мешающей нам при-
нимать все это всерьез. Во всяком случае, к большой своей
502
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
чести, он не наделяет аристократа победоносным остро-
умием.
Что может быть низменнее и льстивей, чем новый обы-
чай, велящий приписывать богатым блеск ума? Повторю, это
несравненно хуже, чем изображать всех аристократов пре-
красными, как Аполлон, и смелыми, как юный охотник,
взнуздавший бешеного слона. Быть может, автор дешевой
книжки преувеличил красоту и отвагу, но именно красоты и
отваги ждут от аристократов, даже глупых. Герой не списан
дотошно и точно с обычного аристократа, но он важнее ре-
альности, он — идеал. Джентльмен из книги не копирует
джентльмена из жизни, но джентльмен из жизни копирует
джентльмена из книги. Ему не обязательно быть красивым,
но он должен хотя бы заботиться о внешности. Ему нет не-
обходимости объезжать бешеного слона, достаточно ездить
на пони так, словно укротить слона-другого ему нипочем.
В книжках для народа, где все маркизы, как один, семи фу-
тов ростом, нет подлой льстивости. Там есть поклонение зна-
ти, но нет низкопоклонства. Преувеличение строится на чест-
ном и пылком восторге, а честный восторг — на свойствах,
которые людям все же в какой-то степени свойственны.
Обычные англичане отнюдь не боятся англичан знатных —
да и кто вообще их боится? Они просто искренне и сильно
поклоняются им. Сила аристократии не в замках, а в трущо-
бах. Сила ее не в палате лордов, не в чиновниках и даже не в
непомерно большой монополии на землю. Она в определен-
ном духе, в том, что, желая кого-то похвалить, моряк назо-
вет его джентльменом. С демократической точки зрения это
все равно, что называть кого-то виконтом. В отличие от ино-
земных олигархий английская держится не жестокостью бо-
гатых и даже не милостью богатых, а вечной и неизменной
милостью бедных.
Итак, восторги «плохих книг» лишены льстивости, вос-
торги «книг хороших» полны ею. В старомодной повести,
где герцогини сверкали бриллиантами, рабства не было; в
новой, где они блистают остроумием, оно есть. Приписывая
ЕРЕТИКИ
503
знати сильный ум и разящий дар слова, мы хвалим ее за то,
чем она не блещет и к чему не стремится. По словам Дизра-
эли (который был человеком исключительным, но не джен-
тльменом и, может быть, отчасти отвечает за данный вид
лести), мы льстим, когда приписываем людям то, чего у них
нет. Похвала может звучать поистине дико и все же не обра-
тится в лесть, пока мы хвалим что-то существующее. Если
мы говорим, что жираф касается звезд, а кит заполняет оке-
ан, это доказывает только нашу особую любовь к данному
созданию. Но если вы станете восхвалять оперение жирафа
или ноги кита, вы внесете свой вклад в общественное явле-
ние, именуемое лестью. Бедные и средние обитатели Лондо-
на искренне, хотя и не всегда осторожно, восторгаются эле-
гантностью и здоровьем английской знати по той простой
причине, что знать эта и впрямь элегантнее и здоровее их
самих. Однако они не могут честно восторгаться ее остро-
умием, ибо аристократ не остроумней, а гораздо тупоумней
бедняка. Дипломаты на банкете (в жизни, не в книге) от-
нюдь не обмениваются блестящими репликами; ими обмени-
ваются кондукторы в автобусах Холборна. Пэра-златоуста,
чьими экспромтами кишат романы миссис Крэги и мисс Фа-
улер, положит на обе лопатки первый же чистильщик обуви,
с которым его сведет безжалостная случайность. Бедняки
впадают в простительный восторг, когда превозносят джен-
тльмена за щедрость. Но если они превозносят его за мет-
кость речи, они — льстецы и рабы, ибо меткости этой го-
раздо больше у них самих.
Преклонение перед знатью выражается в книгах о свет-
ской жизни еще и по-другому, тоньше; такую его грань и
труднее понять, и важнее. Современный джентльмен, в осо-
бенности английский, занял столь важное место в этих кни-
гах, а через них в нынешней литературе и нынешнем миро-
воззрении, что некоторые его черты, вечные или новые,
неотъемлемые или случайные, заметно изменили и англий-
скую комедию. Особенно заморозил — или иссушил — нас
тот стоический идеал, который по неведомой причине считают
504
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
истинно британским. Нашей стране он не свойствен, но в не-
которой мере присущ аристократии (в пору ее заката и разло-
жения). Джентльмен ведет себя как стоик, ибо, подобно дика-
рю, он одержим простейшим страхом: он боится, что с ним
заговорит незнакомец. Потому-то вагон третьего класса — это
общество, вагон первого класса — сборище отшельников.
Проблема непроста, и я подойду к ней кружным путем.
Неубедительность и бесплодность, свойственные многим
из самых умных и остроумных романов, побывавших в моде
за последние лет десять, в том числе таких искусных, как
«Додо» или «Немного об Изабел Карнеби»24, можно объяс-
нить по-разному, но, в сущности, все сводится к одному и
тому же. Новая легкость речи и ума не производит впечатле-
ния, ибо в ней и за ней нет ощущения радости. Дамы и джент-
льмены, обменивающиеся репликами, ненавидят не только
друг друга, но и самих себя. Каждый из них может сегодня
обанкротиться или завтра застрелиться. Они шутят не пото-
му, что им весело, а потому, что им скучно; от недостатка
сердца глаголят уста25. Когда они говорят чепуху, чепуха эта
отточена, отделана; по прекрасному выражению Гилберта,
это — «драгоценная чушь»26. Даже когда они легкомыслен-
ны, легки лишь мысли их, но не чувства. Всякий, кто знаком
с современным разумом, знает, что он не весел. Но у них
печально и неразумие.
Причины этому найти легко. Конечно, главная из них —
жалкий страх перед чувством, самый низменный из нынеш-
них страхов. Они ниже нелепой брезгливости, породившей
гигиену. Всегда и повсюду здравый и громкий смех был свой-
ствен людям, способным не только к чувствам, но и к глу-
пейшей чувствительности. Никто не смеялся так громко и
здраво, как чувствительный Стил, или чувствительный
Стерн, или чувствительный Диккенс. Те, кто плакал, как
женщина, смеялись, как мужчины. Несомненно, смешной
Микобер написан хорошо. Трогательная Нелл — плохо27.
Но только человек, посмевший писать так плохо, смел пи-
сать и так хорошо... Именно здесь видно, какой холод и ка-
ЕРЕТИКИ
505
кая слабость мешают нашим остроумцам. Они очень стара-
ются писать плохо, делают героические, душераздирающие
усилия — но ничего не выходит. Порою кажется, что они
добились своего, но надежда гаснет, когда мы сравниваем их
крохотные недостатки с непомерными провалами Байрона или
Шекспира.
Нельзя сердечно смеяться, если не затронуто сердце.
Просто не знаю, почему слово «тронуть» связывают только
с состраданием. Сердце может и сорадоваться, вместе весе-
литься. Но наши комедиографы трагичны. Модные писате-
ли так глубоко пропитаны печалью, что сердце для них никак
не связано с радостью. Когда они говорят о сердце, они име-
ют в виду горести и неудачи в жизни чувств. Когда они гово-
рят, что сердце у кого-то «в порядке», они хотят сказать, что
сердца у него нет. Наши этические общества понимают друж-
бу, но не понимают доброй дружбы. Точно так же наши ост-
роумцы понимают беседу, но не понимают доброй беседы.
Чтобы беседовать, как доктор Джонсон28, надо быть хоро-
шим человеком: знать преданность, и честь, и глубокую не-
жность. А главное, надо быть человечным, то есть открыто и
смело признаваться в присущей людям чувствительности и
присущих людям страхах. Джонсон был разумен и остроумен
и потому не стыдился серьезно говорить о вере. Джонсон
был смел и потому не скрывал, что боится смерти.
О том, что истинные англичане умеют подавлять чувства,
не слышал ни один англичанин до той поры, как Англией ста-
ли управлять шотландцы, американцы и евреи. В лучшем
случае такой пример подал герцог Веллингтон, ирландец.
В худшем случае это идет от глупых толков о тевтонах и ви-
кингах, распространенных среди тех, кто не знает ни Анг-
лии, ни антропологии. Собственно говоря, викинги чувств не
скрывали. Они рыдали, как дети, и обнимались, как девуш-
ки, — словом, вели себя, как Ахилл и все истинные герои.
И хотя английская нация, наверное, не больше связана с ви-
кингами, чем французская или ирландская, в этом смысле
мы хранили их обычаи. Чувствам поддавались не только са-
506
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
мые английские писатели — Шекспир и Диккенс, Ричард-
сон и Теккерей. Еще чувствительней, если это возможно,
были английские деятели. В славный век Елизаветы, когда
окончательно сложилась нация, и в XVIII веке, когда сло-
жилась империя, при всем желании не разыщешь одетых в
черное стоиков. Разве такими были елизаветинские вельмо-
жи и пираты? Разве таким был Гренвилл, разгрызавший от
ярости стаканы? Разве таким был Эссекс, швырнувший
шляпу в море? Разве таким был Рэли, ответивший на залп
испанских пушек оскорбительным пением труб? Разве та-
ким был Сидни, не упустивший даже перед смертью воз-
можности сказать блестящую фразу? Разве были такими и
пуритане? Да, они подавляли многое, но английское начало
не позволило бы им подавить чувства. Только чудо, затме-
вающее взор очень талантливым людям, позволило Карлей-
лю связать Кромвеля и молчание29. Оливер Кромвель был
прямой противоположностью сильной, молчаливой личности.
Он говорил непрестанно, когда не плакал. Трудно обвинить
автора «Преизобилующей благодати»30 в том, что он сты-
дился своих чувств. Легче приписать стоицизм Мильтону; в
определенном смысле он был стоиком, как был и педантом и
многоженцем; в нем" вообще было много неприятных
свойств. Но, обойдя это великое и одинокое имя, мы снова
увидим разгул английской чувствительности. Хороши или
плохи бурные страсти Этериджа и Дорсета, Сэдли и Бе-
кингема, вельмож этих не обвинишь в том, что они их скры-
вали. Англичане любили Карла II потому, что он, как все
английские короли, не скрывал страстей. Англичане терпеть
не могли Вильгельма III, ибо он, голландец, иноземец, чув-
ства свои скрывал. Собственно говоря, он — идеальный
англичанин новых романов; потому настоящие англичане
чурались его как чумы. Когда родилась великая Англия
XVIII века, откровенная чувствительность звучала в пись-
мах и речах, книгах и драках. Быть может, несравненный
Филдинг и несравненный Ричардсон похожи лишь тем, что
не скрывали своих чувств. Конечно, Свифт сух и логичен,
ЕРЕТИКИ
507
но он — ирландец. Когда же мы перейдем к их современ-
никам, выигравшим битвы и строившим империю, мы уви-
дим, как я уже говорил, что они романтичней романистов,
поэтичней поэтов. Чэтам, явивший миру всю свою силу,
явил палате общин всю свою слабость31. Вулф ходил по ком-
нате, размахивая шпагой, называл себя Цезарем и Ганниба-
лом и встретил смерть, читая стихи. Клайв был того же
типа, что Кромвель, или Беньян, или даже Джонсон, —
сильный, чувствительный, склонный к ярости и к глубокой
печали. Как Джонсон, он был здоров душою, ибо знал
скорбь. Рассказы обо всех адмиралах и искателях подвига той
Англии полны чувствительности и дивной бравады. Но стоит
ли умножать примеры англичан-романтиков, когда один воз-
вышается над всеми? Киплинг похвалил англичан: «Мы не
целуемся никогда, если встретим друг друга»32. И впрямь
этот вечный, всеобщий обычай исчез из слабеющей Англии.
Сидни охотно расцеловался бы со Спенсером, но Бродрик
не станет целоваться с Арнольд-Фостером. Быть может,
это доказывает, что мужество и доблесть возросли; однако
нынешние англичане еще видят и мужество, и доблесть в
великом английском герое. Легенду о Нельсоне развеять
трудно. Но на закатном небе его славы пламенеет навеки
свидетельство великой английской чувствительности: «По-
целуй меня, Харди»33.
Идеал обуздания чувств ни в коей мере не английский.
Быть может, в нем есть что-то восточное и что-то прусское,
но в основном, мне кажется, он коренится не в расе и не в
нации. Не коренится он и в народе. Это — идеал сослов-
ный, идеал знати; хотя и знать не была такой уж сдержан-
ной, когда была сильной. Быть может, гнушение чувства-
ми — истинная традиция джентльменов; гораздо вероятнее,
что его выдумали нынешние джентльмены, то есть джентль-
мены в упадке; но ясно одно: с ним связаны книги о светской
жизни. Теперь принято считать, что аристократ подавляет
чувства, а отсюда лишь один шаг до того, что у него вообще
нет чувств. Современный поклонник власти избранных со-
508
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
здал идеал, твердый и сверкающий, как бриллиант. Подобно
поэтам XVIII века, воспевавшим холодность и неприступ-
ность дамы, он употребляет во хвалу слова «холодный» и
«бессердечный». Конечно, в таких неизлечимо инфантиль-
ных и благодушных существах, как английские дворяне, де-
ятельную жестокость развить трудно; поэтому в романах они
блистают жестокостью бездеятельной. Поступать, как злые
люди, они не могут, но могут говорить. Все это означает одно
и только одно: живой, животворящий идеал надо искать в
народе, где и нашел его Диккенс, — Диккенс, славный юмо-
ром, и чувствительностью, и радостью, и бедностью, и поис-
тине английским духом, но еще более славный тем, что он
видел людей в их дивной причудливости и даже не заметил
знатных; Диккенс, чья высшая слава в том, что он не мог
изобразить джентльмена.
Ортодоксия
© Перевод Л. Сумм, Н. Трауберг, 1991
Глава I
ПРЕДИСЛОВИЕ В ЗАЩИТУ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО
Единственное извинение для этой книги то, что она —
ответ на вызов. Даже плохой стрелок имеет право выйти на
дуэль. Недавно я опубликовал ряд опрометчивых, но искрен-
них статей под названием «Еретики»1, и несколько крити-
ков, чей ум я высоко ценю (в особенности хотелось бы упо-
мянуть Дж.С. Стрита2), сказали, что хоть я и советую всем
утверждать свое представление о мироздании, но сам вся-
чески стараюсь не подкреплять свои наставления примером.
«Я начну беспокоиться за свою философию, — сказал
Стрит, — когда м-р Честертон даст нам свою». Пожалуй,
неосторожно делать такое предложение человеку, и без того
готовому писать книги по малейшему поводу. Однако, хотя
Стрит вдохновил и вызвал к жизни эту книгу, ему не надо ее
читать. Если он прочтет ее, он обнаружит, что в ней я попы-
тался по-своему, расплывчато, скорее в совокупности обра-
зов, чем с помощью цепочки умозаключений, представить
философию, к вере в которую я пришел. Я не назову ее своей
философией, ибо не я ее создал. Бог и человечество создали
ее, а она создала меня.
Я часто мечтал написать роман об английском яхтсмене,
сбившемся с курса и открывшем Англию, полагая, что это
512
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
новый тихоокеанский остров. Но я вечно то ли слишком за-
нят, то ли ленив для этой чудесной работы, так что вполне
могу пожертвовать ею ради философского примера. Может
показаться, что человек (вооруженный до зубов и объясня-
ясь знаками), высадившийся, чтобы водрузить британский
флаг на варварском храме, оказавшемся Брайтонским па-
вильоном3, почувствует себя дураком. Но если вы думаете,
что он чувствует себя дураком или, во всяком случае, что
мысль о допущенном промахе занимает его целиком, то вы
недостаточно изучили богатую романтическую натуру героя
этой притчи. Его ошибка была поистине завидной, и он знал
это, если он тот человек, за которого я его принимаю. Что
может быть упоительнее, чем пережить разом все пленитель-
ные ужасы путешествия в чужие земли и высшую человечес-
кую радость надежного возвращения домой? Что может быть
лучше, чем получить все удовольствие от открытия Южной
Африки без удручающей необходимости там высаживаться?
Что может быть чудеснее, чем напрячь все силы, открывая
Новый Южный Уэльс, и, залившись слезами счастья, от-
крыть добрый старый Уэльс? Именно здесь, как мне кажет-
ся, таится главная проблема философии и, в какой-то мере,
главная проблема моей книги. Как может диковинный кос-
мический город с многоногими жителями, чудовищными древ-
ними светильниками — как может этот мир дать нам и вос-
торг перед чужим городом, и тот покой, ту честь, которую
дает нам родной город?
Показать, что вера или философия верна с любой точки
зрения, слишком трудно даже для книги много большей, чем
эта. Необходимо выбрать один путь рассуждения, и вот путь,
которым я хочу идти. Я хочу показать, что моя вера как нельзя
лучше соответствует той двойной духовной потребности, по-
требности в смеси знакомого и незнакомого, которую хрис-
тианский мир справедливо называет романтикой. Ведь само
слово «романтика» заключает в себе тайну и древнюю весо-
мость Рима. Каждый, кто хочет что-либо оспорить, должен
сперва оговорить, что он не оспаривает, и прежде чем объя-
ОРТОДОКСИЯ
-5/3
вить, что он намеревается доказать, должен сказать, что он
доказывать не намерен. Я не буду доказывать, а приму как
аксиому, общую для меня и читателя, любовь к активной,
интересной жизни, жизни красочной, полной поэтической
занятности, той жизни, какую человек (по крайней мере, за-
падный) всегда желал. Если кто-нибудь говорит, что смерть
лучше жизни, или что пустое существование лучше, чем пест-
рота и приключения, то он не^из тех обычных людей, к кото-
рым я обращаюсь. Если человек предпочитает ничто, я ниче-
го не могу ему дать. Но почти все люди, которых я встречал
в том мире, в котором я живу, заведомо согласятся, что нам
нужна жизнь повседневной романтики; жизнь, соединяющая
странное с безопасным. Нам надо соединить уют и чудо. Мы
должны быть счастливы в нашей стране чудес, не погрязая в
довольстве. Именно об этом достижении моей веры я хочу
поговорить.
У меня есть особая причина упоминать о яхтсмене, кото-
рый открыл Англию. Ведь человек этот — я. Я открыл Анг-
лию. Я не знаю, как можно в этой книге обойтись без внима-
ния к себе, и, правду говоря, боюсь показаться занудным.
Однако занудство спасет меня от обвинения, которое меня
сильно удручает, — от обвинения в легкомыслии. Я глубоко
презираю легкую софистику, и, наверное, хорошо, что имен-
но за нее меня многие упрекают. Я не знаю ничего столь нич-
тожного, как пустой парадокс, — искусная защита того, что
защиты не стоит. Если бы Бернард Шоу вправду зарабаты-
вал на жизнь парадоксами, он стал бы обычнейшим миллио-
нером, потому что с его умственной активностью он мог бы
изобретать парадокс каждые шесть минут. Это так же легко,
как лгать, ведь это и есть ложь. И я стеснен теми же невыно-
симыми узами. Я в жизни не сказал ничего, что считал бы
только забавным, хотя, конечно, у меня есть нормальное
тщеславие, и я могу счесть забавным то, что сказал я. Одно
дело — описывать разговор с горгоной или грифоном, кото-
рых на свете нет. Другое дело — встретить носорога и радо-
ваться, что он выглядит так, словно его выдумали. Человек
514
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ищет истину, но иногда его просто тянет к истинам причуд-
ливым. Я сердечно предлагаю мою книгу всем добрым лю-
дям, которые от души ненавидят то, что я пишу, и считают
это (весьма справедливо) жалкой клоунадой или утомитель-
ным шутовством.
Ибо если эта книга — шутка, шутка обернется против
меня. Я — человек, с величайшей отвагой открывший от-
крытое ранее. Если книга окажется похожей на фарс, героем
фарса буду я; ведь здесь рассказано, как я воображал, будто
первым высаживаюсь в Брайтоне, и обнаружил, что я послед-
ний. Я излагаю мои тяжеловесные приключения в погоне за
очевидным, и никто не посмеется над ними так, как я сам, ни
один читатель не скажет, что я его дурачу: я дурак этой исто-
рии, и ни один мятежник не свергнет меня с трона. Я охотно
признаюсь во всех дурацких предрассудках конца XIX века.
Как все важничающие мальчики, я пытался опередить век.
Как они, я пытался минут на десять опередить правду. И я
увидел, что отстал от нее на восемнадцать веков. По-юно-
шески преувеличивая, я мучительно возвышал голос, про-
возглашая мои истины, — и был наказан как нельзя удачнее
и забавнее: я сохранил мои истины, но обнаружил, что они не
мои. Я воображал, что я одинок, — и был смешон, ибо за
мной стояло все христианство. Может быть, прости меня
Господи, я пытался оригинальничать, но я создал только ухуд-
шенную копию традиционной веры. Человек на яхте думал,
что он открыл Англию; я думал, что открываю Европу. Я ста-
рался придумать свою ересь, и когда я нанес последний штрих,
я понял, что это правоверие.
Может быть, кого-нибудь позабавит отчет об этом счаст-
ливом фиаско. Другу или врагу будет забавно узнать, как
правда бродячей легенды или ложь господствующей фило-
софии учила меня тому, что мог бы узнать из своего катехи-
зиса, если бы я его читал. Кто-нибудь, пожалуй, получит
удовольствие, читая, как в клубе анархистов или в вавилон-
ском храме я обрел то, что мог бы обрести в ближайшей при-
ходской церкви. Если человеку любопытно узнать, как поле-
ОРТОДОКСИЯ
515
вые цветы и фразы в омнибусе, политические события и стра-
дания юности приводят к христианству, он может прочесть
эту книгу. Однако всегда нужно разумное разделение труда;
я книгу написал, и ничто не соблазнит меня ее прочесть.
Добавлю еще одно педантичное замечание — как и по-
ложено, оно появляется в начала книги. В этих очерках я
хочу только обсудить тот несомненный факт, что христиан-
ское учение, выраженное в Апостольском Символе веры, —
лучший источник действенной радости и здоровой этики.
Я не собираюсь обсуждать занимательный, но совсем иной
вопрос — кому принадлежит сейчас право толковать эту
веру. Слово «правоверие» означает здесь Символ Веры,
как его понимал до недавнего времени каждый, кто считал
себя христианином, и обычное, известное из истории пове-
дение тех, кто его придерживался. Размер книги вынуждает
ограничиться разговором о том, что я получил от этой веры,
и не касаться вопроса, который так часто обсуждают, —
откуда мы веру получили. Это не церковный трактат, а что-
то вроде небрежной автобиографии. Но если кто-нибудь
поинтересуется моими взглядами на природу авторитета в
вопросах веры, пусть м-р Стрит снова бросит мне вызов, и
я напишу еще одну книгу.
Глава II
СУМАСШЕДШИЙ
Совершенно мирские люди не понимают даже мира, они
полностью полагаются на несколько циничных и ложных из-
речений. Однажды я гулял с преуспевающим издателем, и
он произнес фразу, которую я часто слышал и раньше, —
это, можно сказать, девиз современности. Я слышал ее слиш-
ком часто — и вдруг увидел, что в ней нет смысла. Издатель
сказал о ком-то: «Этот человек далеко пойдет, он верит в
себя». Слушая его, я поднял голову, и взгляд мой упал на
омнибус с надписью «Хэнуолл»4. Я спросил «Знаете, где
516
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
надо искать людей, больше всего верящих в себя? Могу вам
сказать. Я знаю людей, которые верят в себя сильнее, чем
Наполеон или Цезарь. Люди, действительно верящие в себя,
сидят в сумасшедшем доме». Он кротко ответил, что многие
люди верят в себя, но в этот дом не попадают. «Да, — отве-
чал я, — и кому, как не вам, знать их? Спившийся поэт, у
которого вы не взяли кошмарную трагедию, верит в себя.
Пожилой священник с героической поэмой, от которого вы
прятались в задней комнате, верит в себя. Если вы обрати-
тесь к своему деловому опыту, а не к уродливой индивидуа-
листической философии, вы поймете, что вера в себя — обыч-
ный признак несостоятельности. Актер, не умеющие играть,
верят в себя; и банкроты. Было бы куда вернее сказать, что
человек непременно провалится, если он верит в себя. Само-
уверенность не просто грех, это слабость. Безусловная вера
в себя — чувство истерическое и суеверное, вроде веры в
Джоанну Сауткотт5. У человека с такой верой «Хэнуолл»
написано на лбу так же ясно, как на этом омнибусе». И тут
мой друг издатель задал глубокий и полезный вопрос: «Если
человек не должен верить в себя, во что же ему верить?»
После долгой паузы я сказал «Я пойду домой и в ответ на
ваш вопрос напишу книгу». Вот эта книга.
Думаю, книга может начаться там же, где наш спор: по
соседству с сумасшедшим домом. Современные ученые ясно
чувствуют, что любое исследование необходимо начать с
факта. Прежние богословы точно так же ощущали эту необ-
ходимость; они начинали с греха — факта реального, как
картошка. Должен человек омыться в водах крещения или
нет — во всяком случае, никто не сомневался, что помыться
ему надо. А ныне в Лондоне религиозные наставники —
вовсе не материалисты — отрицают уже не спорную воду, а
неоспоримую грязь. Некоторые новые теологи оспаривают
первородный грех — единственную часть христианского
ученья, которую действительно можно доказать. Некоторые
последователи преподобного Р.Дж. Кэмпбелла6, с их слиш-
ком утонченной духовностью, принимают божественную
ОРТОДОКСИЯ
517
безгрешность, которой они и во сне не видали, но, в сущно-
сти, отрицают человеческий грех, с которым мы сталкиваем-
ся каждый день. Величайшие святые и величайшие скептики
равно принимали реально существующий грех за отправной
пункт своей аргументации. Если правда (как он и есть), что
человек может получать изысканное наслаждение, сдирая
шкуру с кошки, то приходится отрицать либо Бога, как ате-
исты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как хрис-
тиане. Новые теологи, кажется, считают, что разумней всего
отрицать кошку.
В этой удивительной ситуации просто невозможно, об-
ращаясь ко всем, начинать, как наши отцы, с факта греха.
Тот самый факт, который для них (и для меня) ясен, как
дважды два, теперь подвергают сомнению или отрицают. Но
хотя мои современники отрицают грех, я не думаю, чтобы
они отрицали сумасшедший дом. Мы все еще согласны, что
бывает обвал разума, столь же несомненный, как обвал дома.
Люди отрицают ад, но не Хэнуолл. Для начала в нашей ар-
гументации Хэнуолл может заменить ад. Я имею в виду вот
что: когда-то все теории оценивали, проверяя, не вынужда-
ют ли они человека потерять душу; мы можем оценить со-
временные теории, проверяя, не вынуждают ли они человека
потерять разум.
Правда, некоторые легко и свободно говорят о безумии,
как о чем-то самом по себе привлекательном. Но легко по-
нять, что красива только чужая болезнь. Слепой может быть
живописен, но нужны оба глаза, чтобы это увидеть. Так и
дичайшей поэзией безумия могут насладиться только здоро-
вью. Для безумного его безумие вполне прозаично, потому
что оно реально. Человек, считающий себя цыпленком, так
же обычен для себя, как цыпленок. Человек, считающий себя
куском стекла, так же скучен себе, как кусок стекла. Одно-
родность его мышления делает его скучным, она же делает
его сумасшедшим. Мы видим смешную сторону его мысли, и
он кажется нам даже забавным: он не видит ничего смешного
в своей мысли — именно поэтому его помещают в Хэнуолл.
518
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Короче говоря, чудачества удивляют только обычных людей,
но не чудаков. Вот почему у обычных людей так много при-
ключений, в то время как чудаки все время жалуются на ску-
ку. Вот почему все новые романы так быстро умирают, а ста-
рые сказки живут вечно. В старой сказке герой — нормаль-
ный мальчик, поразительны его приключения: они поражают
его, потому что он нормален. В современном психологическом
романе центр сместился: герой ненормален. Поэтому ужас-
нейшие события не могут произвести на него должного впе-
чатления, и книга скучна. Можно сочинить историю о чело-
веке среди драконов, но не о драконе среди драконов. Вол-
шебная сказка говорит нам, что будет делать нормальный
человек в сумасшедшем мире. Современный реалистический
роман повествует о сумасшедшем в скучном мире.
Так начнем с сумасшедшего дома, отправимся из этой
странной и мрачной гостиницы в наше интеллектуальное пу-
тешествие. Если мы рассматриваем философию здравого
смысла, прежде всего надо избавиться от одной распростра-
ненной ошибки: многие полагают, что воображение, особен-
но мистическое, опасно для духовного равновесия. Часто го-
ворят, что поэты психически неуравновешенны. Лавровый
венок чем-то напоминает дурацкий колпак. Факты и исто-
рия решительно опровергают это мнение. Большинство по-
этов были не только нормальными, но и чрезвычайно дело-
выми людьми, и если молодой Шекспир вправду стерег ло-
шадей, значит, именно ему их доверяли. Воображение не
порождает безумия — его порождает рационалистический ум.
Поэты не сходят с ума, с ума сходят шахматисты; математи-
ки и кассиры бывают безумны, творческие люди — очень
редко. Как будет ясно из дальнейшего, я вовсе не нападаю
на логику — я только говорю, что опасность таится в ней, а
не в воображении. Художественное отцовство так же здра-
во, как физическое. Более того, стоит отметить, что обычно
поэты сходят с ума тогда, когда их разум ослаблен рациона-
лизмом. По7, например, был сумасшедшим, но не потому,
что он был полон вдохновения, а потому, что он был чрезвы-
ОРТОДОКСИЯ
519
чайно рационалистичен. Даже шахматы слишком поэтичны
для него, он не любил их за то, что они полны королей и ла-
дей, как поэма. Он явно предпочитал черные диски шашек,
потому что они похожи на черные точки диаграммы. Вот, воз-
можно, самый сильный пример: Каупер8 — единственный
английский поэт, сошедший с ума, и его, несомненно, свела с
ума логика, уродливая и чуждая ему логика предопределе-
ния. Поэзия была не болезнью, а лекарством, поэзия отчас-
ти сохраняла ему здоровье. Он иногда забывал иссушенный
багряный ад, куда его загонял ужасный детерминизм, среди
спокойных вод и белых лилий Узы. Он был проклят Жаном
Кальвином и почти спасен Джоном Джилпином9. Мы то и
дело видим, что люди не сходят с ума от грез. Критики куда
более безумны, чем поэты. Гомер целостен и достаточно урав-
новешен, а комментаторы раздирают его на нелепые лоску-
тья. Шекспир остается самим собой, хотя некоторые ученые
открыли, что он — кто-то другой. И хотя Иоанн Богослов
зрил много странных чудовищ в своем видении, он не видал
создания столь дикого, как один из его комментаторов. Все
очень просто: поэзия в здравом уме, потому что она с легко-
стью плавает по безграничному океану; рационализм пыта-
ется пересечь океан и ограничить его. В результате — исто-
щение ума, сродни физическому истощению. Принять все —
радостная игра, понять все — чрезмерное напряжение. По-
эту нужны только восторг и простор, чтобы ничего не стес-
няло. Он хочет заглянуть в небеса. Логик стремится засу-
нуть небеса в свою голову — и голова его лопается.
Не очень важно, но небезразлично, что эту ошибку обыч-
но подкрепляют поразительно неверной цитатой. Мы все
слышали, как люди, ссылаясь на Драйдена, говорят, что ге-
ний близок к безумию10. Драйден сам был гений и лучше раз-
бирался в этом. Трудно найти человека более романтичного,
чем он, и более разумного. Драйден сказал, что ум близок к
безумию, и это правда. Чистой сообразительности грозит
гибель. Надо также помнить, о ком говорил Драйден. Он
говорил не о мечтателе, человеке не от мира сего, как Воэн
520
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
или Джордж Герберт11. Он говорил о циничном мирском че-
ловеке, скептике, дипломате, политике. Такие люди действи-
тельно близки к безумию; непрестранно копаться в своих и
чужих помыслах — опасное дело. Разуму вредно и опасно
препарировать разум. Один легкомысленный человек как-
то спросил, почему мы говорим «безумен как шляпник»12. Бо-
лее легкомысленный человек мог бы ответить: «Шляпник
безумен, потому что ему приходится измерять головы».
Очень логичные люди часто безумны, но и безумцы час-
то очень логичны. Когда я спорил с «Кларион» о свободе
воли, писатель Р.Б. Сазерс13 сказал, что свобода воли — это
сумасшествие, так как она предполагает беспричинные дей-
ствия, а беспричинны поступки сумасшедшего. Я не оста-
навливаюсь сейчас на ужасном промахе детерминистской
логики: очевидно, что, если чьи угодно поступки, пусть даже
сумасшедшего, могут не иметь причины, с детерминизмом
покончено. Если цепь причинности может разорвать сума-
сшедший, значит, человеку возможно ее разорвать. Пожа-
луй, естественно, что современный марксист ничего не знает
о свободе воли, но примечательно, что он ничего не знает о
сумасшедших: их действия никак нельзя назвать беспричин-
ными. Если бывают беспричинные поступки, то это незамет-
ные для него самого привычки здорового человека: гуляя, он
насвистывает, хлещет тростью траву, постукивает каблука-
ми или потирает руки. Счастлив совершающий бесполезные
поступки, у больного для праздности не хватает сил. Именно
таких бесцельных и беззаботных поступков сумасшедшему
не понять; ведь он, как и детерминист, видит во всем слиш-
ком много смысла. Он подумает, что лупят по траве из про-
теста против частной собственности, а удар каблуком примет
за сигнал сообщнику. Если б сумасшедший мог на секунду
стать беззаботным, он бы выздоровел. Каждый, кто имел
несчастье беседовать с сумасшедшими, знает, что их самое
зловещее свойство — ужасающая ясность деталей: они со-
единяют все в чертеж более сложный, чем план лабиринта.
Споря с сумасшедшим, вы наверняка проиграете, так как его
ОРТОДОКСИЯ
521
ум работает тем быстрее, чем меньше он задерживается на
том, что требует углубленного раздумья. Ему не мешает ни
чувство юмора, ни милосердие, ни скромная достоверность
опыта. Утратив некоторые здоровые чувства, он стал более
логичным. В самом деле, обычное мнение о безумии обман-
чиво: человек теряет вовсе не логику; он теряет все, кроме
логики.
Сумасшедший всегда объясняет явление исчерпывающе
и достаточно логично; точнее, если его объяснение и непо-
следовательно, оно, по крайней мере, неопровержимо. Это
можно проследить на двух-трех типичных случаях. Напри-
мер, если кто-то утверждает, что все сговорились против него,
можно возразить, что все отрицают подобный заговор, но
именно это делали бы и заговорщики — его объяснение охва-
тывает факты не хуже вашего. Если человек провозглашает
себя королем Англии, не стоит отвечать, что существующие
власти считают его сумасшедшим: будь он вправду королем,
это было бы наилучшим выходом для властей. И если чело-
век говорит, что он Иисус Христос, бесполезно указывать,
что мир не признает его божественности, ибо мир отрицал
божественность Христа.
Однако он не прав. Но если мы попытаемся дать точное
определение его ошибки, мы увидим, что это не так легко,
как казалось. Приблизительно можно объяснить ее так: его
ум движется по совершенному, но малому кругу. Малый крут
так же бесконечен, как большой, но не так велик. Ущербная
мысль так же логична, как здравая, но не так велика. Пуля
кругла, как мир, но она не мир. Бывает узкая всемирность,
маленькая, ущербная вечность — как во многих современ-
ных религиях. Наиболее явный признак безумия — сочета-
ние исчерпывающей логики с духовной узостью. Теория су-
масшедшего объясняет великое, но она объясняет мелочно.
Имея дело с сумасшедшим, надо не доводы приводить, а дать
ему глоток воздуха, более чистого и свежего, чем затхлость
голой логики. Возьмем наш первый случай — человека, по-
дозревающего повсюду заговор. Наш искренний протест про-
522 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
тив его навязчивой идеи прозвучал бы примерно так: «О да,
у вас есть серьезные доводы и хорошо подобранные совпа-
дения. Ваша теория объясняет многое, но как много вы упу-
стили! Неужто нет в мире других судеб, и все заняты только
вами? Пусть ваши детали и верны; возможно, прохожий, не
заметивший вас, лукавил, и полисмен спросил ваше имя, за-
ранее зная его. Но насколько счастливей вы были бы, если б
считали, что людям нет до вас дела! Насколько полнее была
бы ваша жизнь, если бы ваше «я» было меньше, если б вы
могли смотреть на людей с любопытством и удовольствием и
видели бы их безоблачный эгоизм и здоровое равнодушие!
Вы бы заинтересовались ими, потому что они не интересу-
ются вами. Вы бы вырвались из безвкусного театрика, где
все время идет лишь ваша маленькая драма, и оказались бы
под вольным небом, на улице, полной чудесных незнаком-
цев». Так и наш ответ претенденту на английскую корону
будет: «Прекрасно! Может, вы и вправду король Англии.
Ну и что? Сделайте надо собой усилие, забудьте о короне —
и вы станете человеком и будете смотреть свысока на всех
королей Земли». Или третий случай — сумасшедший, во-
образивший, что он — Христос. Мы могли бы сказать ему:
«Итак, вы — Создатель и Искупитель мира? Но как же мал
этот мир! Как тесны ваши небеса — даже ангелы там не боль-
ше бабочки. Грустно быть богом, и богом неполноценным!
Неужто нет ни жизни полнее, ни любви прекраснее, чем ваша,
и вся тварь должна возложить все надежды на вашу слабую,
болезненную жалость? Право же, вы были бы счастливее,
если б молот высшего Бога разбил ваш мирок, разбросав
мишуру звезд, и оставил бы вас на свободе, на Земле, где
можно глядеть не только вниз, но и вверх».
Медицина часто рассматривает душевные болезни имен-
но так: она не спорит с ними, словно с ересью, но избавляет
от них, как от чар. Ни современная наука, ни старая религия
не признают совершенную свободу мысли. Теология осуж-
дает богохульную мысль, наука осуждает мысль нездоровую.
Например, некоторые религиозные общества советовали
ОРТОДОКСИЯ
523
людям поменьше думать о любви; современное ученое обще-
ство запрещает думать о смерти: смерь — факт, но факт уг-
рюмый, а имея дело с теми, чья угрюмость перерастает в ма-
нию, современная наука заботится о логике не больше, чем
пляшущий дервиш. При такой болезни недостаточно стре-
миться к логике: пациент должен жаждать здоровья. Ничто
не спасет его, кроме слепой животной жажды нормальности.
Человек не додумается до выздоровления от душевной бо-
лезни, ведь именно орган мысли болен, неуправляем, неза-
висим от него. Его может спасти только воля или вера. Ум
его движется в привычной колее, он будет кружиться в сво-
ем логическом круге, как человек в вагоне третьего класса
будет кружиться по Внутреннему Кольцу, если не совершит
решительный, добровольный и таинственный поступок, выйдя
на Говер-стрит. Здесь все дело в выборе, дверь надо захлоп-
нуть навсегда. Всякое лечение — отчаянный шаг, любое ле-
карство — чудесное снадобье. Лечение сумасшедшего — это
не спор с философом, а изгнание дьявола. Как бы спокойно
врачи и психологи ни выполняли свою работу, их отношение
в высшей степени нетерпимо — нетерпимо, как инквизиция.
Они как бы ампутируют разум: чтобы жить, человек должен
не думать. Если голова твоя соблазняет тебя, отрежь ее, ибо
лучше войти в царствие небесное не только ребенком, но даже
инвалидом, чем со всем своим разумом быть ввергнутым в
геенну — или в Хэнуолл14.
Таков наш сумасшедший он обычно резонер, зачастую
удачливый. Несомненно, его можно победить в споре, но я
бы предпочел более общий, даже эстетический разговор.
Сумасшедший заключен в чистую, хорошо освещенную тюрь-
му одной идеи, у него нет здорового сомнения, здоровой слож-
ности. Как я говорил вначале, в этих главах я собираюсь из-
ложить не учение, а только мою точку зрения. Ради этого я
высказал мое мнение о сумасшедшем — по-моему, он по-
хож на многих современных мыслителей. Тот тон и лад, ко-
торый я слышал в Хэнуолле, я ясно различаю в доброй поло-
вине современных учений — да и сами целители нередко бе-
524
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
зумны. И у них я вижу то же сочетание исчерпывающей ло-
гики с ущербным здравым смыслом. Они универсальны лишь
постольку, поскольку высасывают все из одного тощего
объяснения. Их схему можно применить ко всему — но она
остается узкой схемой. Они видят черно-белую доску, и будь
ею вымощена хоть вся Вселенная, они не смогут сменить точку
зрения и разглядеть, что она бело-черная.
Начнем с простейшего — с материализма. Для объяс-
нения мира материализм ущербно прост. Это точь-в-точь
объяснение сумасшедшего: он покрывает все и все упускает.
Послушайте какого-нибудь талантливого и рьяного матери-
алиста, например, Маккейба15, и вы испытаете именно это
странное чувство. Он понимает все, и это его «все» не стоит
понимания. Его космос продуман до последнего винтика, но
меньше нашего мира. Его схема, как и схема сумасшедшего,
не помнит о созидательной силе и непокорной земле, о сра-
жающихся мужчинах и гордых матерях, о первой любви или
страхе перед морским путешествием. Земля так велика, а
космос так мал: он оказывается норкой, куда можно спря-
тать только голову.
Поймите, я сейчас не говорю о близости этих теорий к
истине, я говорю только об их отношении к здоровью. За
проблему объективной истины я надеюсь взяться позже, сей-
час я говорю только об особенностях психологии. Я не пыта-
юсь доказать Геккелю16, что материализм неверен, как не пы-
таюсь доказать «Христу», что он — не Христос. Я указы-
ваю только, что обе теории исчерпывающи и недостаточны в
одном и том же смысле. Человек в Хэнуолле может сказать,
что равнодушные люди распяли Бога, которого мир недосто-
ин: это удовлетворительное объяснение. Так же можно объяс-
нить мир, сказав, что все, даже души людей, — лишь листья
на глухом и бессмысленном древе судьбы. Это тоже объяс-
нение, хотя, конечно, не столь исчерпывающее, как теория
сумасшедшего. Но здравый человеческий ум отвергает обе
теории и возражает им одинаково: если пациент психиатров
вправду бог, это жалкий бог; если космос детерминиста вправ-
ОРТОДОКСИЯ
525
ду космос, это жалкий космос. Все съежилось, божество ме-
нее божественно, чем многие люди; жизнь в целом, по Гек-
келю, оказалась уже, серее и скучнее, чем многие ее сторо-
ны. Части оказались больше целого.
Ибо надо помнить, что материалистическая философия
(верна она или нет), несомненно, стесняет больше, чем лю-
бая религия. Конечно, в некотором смысле все теории узки,
они не могут быть шире самих себя. Христианин ограничен
так же, как атеист: он не может считать христианство лжи-
вым и оставаться христианином; атеист не может считать ате-
изм лживым и оставаться атеистом. Но материализм накла-
дывает боле строгие ограничения, нежели вера. Маккейб счи-
тает меня рабом, потому что мне нельзя верить в детерми-
низм. Я считаю Маккейба рабом, потому что ему нельзя
верить в фей. Но, изучив эти два запрета, мы увидим, что
его запрет гораздо строже, чем мой. Христианин вправе ве-
рить, что в мире достаточно упорядоченности и направлен-
ного развития; материалист не вправе добавить к своему бе-
зупречному механизму ни крупицы духа или чуда. Бедному
Маккейбу не остается даже эльфа в чашечке цветка. Хрис-
тианин признает, что мир многообразен и даже запутан, —
так здоровый человек знает, что сам он сложен. Нормаль-
ный человек знает, что в нем есть что-то от Бога и что-то от
беса, что-то от зверя, что-то от гражданина. Действительно
здоровый человек знает, что он немного сумасшедший. Но
мир материалиста монолитен и прост; сумасшедший уверен,
что он совершенно здоров. Материалист уверен, что история
всего-навсего цепь причинности, как наш сумасшедший твер-
до убежден, что он сам всего-навсего цыпленок. Материали-
сты и сумасшедшие не знают сомнений.
Вера не ограничивает разум так, как материалистические
отрицания. Если я верю в бессмертие, я не обязан думать о
нем. В первом случае путь открыт, и я могу идти так далеко,
как пожелаю; во втором случае путь закрыт. Но есть и более
веский довод, более разительная параллель с сумасшедшим.
Ведь наш довод против исчерпывающе логичной теории су-
526
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
масшедшего был тот, что — верна она или нет — она посте-
пенно лишает его человеческих свойств. Я имею в виду не
только доброту, но и надежду, отвагу, поэзию, предприим-
чивость, наконец, — все это человечно. Например, когда
материализм приводит к фатализму (как обычно бывает),
смешно делать вид, что это освобождающая сила. К чему
говорить о свободе, когда вы попросту используете свободу
мысли, чтобы убить свободу воли? Детерминист не освобо-
дить пришел, а связать. Он правильно назвал свой закон
«цепью причинности»: это худшая цепь из всех, каким ко-
гда-либо сковывали человека. Если хотите, пользуйтесь сло-
вом «свобода», говоря о материалистическом учении, но оче-
видно, что к нему это слово так же неприложимо, как к чело-
веку, запертому в сумасшедшем доме. Если хотите, можете
утверждать, что человек волен считать себя вареным яйцом.
Но уж если он — яйцо, он не волен есть, пить, спать, гулять
или курить сигару. И если хотите, можете говорить, что дерз-
кий материалист вправе не верить в свободу воли. Но гораздо
важнее, что он не волен хвалить, ругать, благодарить, су-
дить, принуждать, наказывать, воздерживаться от искуше-
ния, поднимать массы, давать себе новогодние зароки, со-
противляться тиранам, прощать грешником или хотя бы ска-
зать спасибо за горчицу.
Оставляя этот предмет, замечу, что бытует странное за-
блуждение, будто материалистический детерминизм каким-
то образом содействует милосердию, отменяет жестокие на-
казания или наказания вообще. Это потрясающее искажение
истины. Естественно, учение о необходимости не делает раз-
личий: оно предоставляет палачу казнить, а доброму другу
увещевать. Но, очевидно, если оно кого-нибудь расхола-
живает, то доброго друга. Неизбежность греха не мешает
наказанию, она отменяет только снисхождение. Детерми-
низм ведет к свирепости и к трусости. Он вполне совместим
с жестокостью к преступникам, он скорее несовместим с ми-
лосердием к ним: он не обращается к их лучшим чувствам и
не помогает им в душевной борьбе. Детерминист не верит в
ОРТОДОКСИЯ
527
призыв к воле, но он верит в перемену среды. Он не может
сказать грешнику «иди и больше не греши», потому что это
не зависит от грешника, но он может опустить его в кипящее
масло — среда переменится. Если материалиста изобразить
в виде геометрической фигуры, мы увидим фантастические
очертания сумасшедшего: позиция обоих неопровержима и
нестерпима.
Конечно, это касается не только материализма, но и дру-
гой крайности спекулятивной логики. Есть скептик постраш-
нее того, кто верит, что все началось с материи. Встречаются
скептики, которые считают, что все началось с них самих17.
Они сомневаются не в существовании ангелов или бесов, но
людей и коров. Для них собственные друзья — созданный
ими миф: они породили своих родителей. Эта дикая фанта-
зия пришлась по вкусу нынешнему несколько мистическому
эгоизму. Издатель, считающий, что человек преуспеет, раз
он верит в себя; люди, тоскующие по сверхчеловеку и ищу-
щие его в зеркале; писатели, стремящиеся запечатлеть себя,
вместо того, чтобы творить жизнь для всех, — эти люди на
грани ужасной пустоты. Когда добрый мир вокруг нас объяв-
лен выдумкой и вычеркнут, друзья стали тенью, и пошатну-
лись основания мира; когда человек, не верящий ни во что и
ни в кого, останется один в своем кошмаре, тогда с мститель-
ной иронией запылает над ним великий лозунг индивидуа-
лизма. Звезды станут точками во мгле его сознания, лицо
матери — бессмысленным рисунком на стене его камеры.
А на дверях будет ужасная надпись: «Он верит в себя».
Здесь важно, что в этой сверхиндивидуалистической
крайности выявляется тот же парадокс, что и в материализ-
ме. Индивидуализм так же хорош в теории и так же хромает
на практике. Проще пояснить нашу мысль примером: чело-
век может верить, что он всегда пребывает во сне. Очевид-
но, нет убедительного доказательства, что он бодрствует, так
как нет доказательства, которое не могло бы быть дано и во
сне. Но если человек поджигает Лондон, приговаривая, что
хозяйка скоро позовет его завтракать, мы отправим его вме-
528
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
сте с другими мыслителями в то самое заведение. Человек,
не доверяющий своим ощущениям, и человек, доверяющий
только им, равно безумны, но их безумие выдает не ошибка в
рассуждении, а явная ошибка всей их жизни. Они заперты в
ящике с нарисованными внутри солнцем и звездами; они не
могут выйти оттуда — один к небесной радости и здоровью,
другой — даже к радости земной. Их теории вполне логич-
ны, даже бесконечно логичны, как монетка бесконечно круг-
ла. Но бывает жалкая бесконечность, низкая и ущербная веч-
ность. Забавно, что многие наши современники — и скепти-
ки, и мистики — объявили своим гербом некий восточный
символ, знак этой дурной бесконечности. Они представляют
вечность в виде змеи, кусающей свой хвост18. Убийственная
насмешка видится мне в столь нелепой трапезе. Вечность
фаталистов, восточных пессимистов, вечность суеверных тео-
софов, вечность высоколобых ученых — эта вечность вправ-
ду подобна змее, пожирающей свой хвост; выродившееся
животное уничтожает себя самое.
Эта глава чисто практически рассматривает главный при-
знак и элемент безумия: можно, в общем, сказать, что безу-
мие — логика без корней, логика в пустоте. Тот, кто начи-
нает думать без должных первопринципов, сходит с ума, и
тот, кто начинает думать не с того конца — тоже. Завершая
книгу, я попытаюсь указать «тот» конец. Ведь можно спро-
сить: если так люди сходят с ума, что же сохраняет им здоро-
вье? В заключительных главах я попытаюсь дать определен-
ный, иные скажут — чересчур определенный ответ. Сейчас
можно, опираясь на исторический опыт, сказать, что в ре-
альной жизни людей сохраняет им разум. Мистицизм сохра-
няет людям разум — пока у вас есть тайна, есть здоровье;
уничтожьте тайну — и придет болезнь. Обычный человек
всегда был в здравом уме, потому что он всегда был мисти-
ком. Он всегда стоял одной ногой на земле, а другой в сказ-
ке. Он оставлял за собой право сомневаться в богах, но, в
отличие от нынешних агностиков, был свободен и верить в
них. Он всегда заботился об истине больше, чем о последо-
ОРТОДОКСИЯ
529
вательности. Если он видел две истины, с виду противореча-
щие друг другу, он принимал обе истины вместе с противо-
речием. Его духовное зрение было так же объемно, как фи-
зическое, он видел разом две картины, и от этого видел их
только лучше. Он всегда верил в судьбу, но он верил и в
свободу воли. Он верил, что детям принадлежит царство
небесное, но воспитывал их по земным законам. Он восхи-
щался юностью потому, что она молода, и старостью именно
потому, что она немолода. В этом равновесии очевидных про-
тиворечий — сила здорового человека. Ведь секрет мисти-
цизма в том, что человеку удавалось понять все с помощью
той единственной вещи, которой он не понимает. Угрюмый
логик хочет все прояснить, и все становится смутным. Мис-
тик допускал одну тайну, и все прояснялось. Детерминист
создает четкую теорию причинности и не может сказать слу-
жанке «пожалуйста». Христианин оставляет свободу воли
священной тайной, и его отношения со служанкой ясны и ес-
тественны. Семя учения он помещает в сокровенную темно-
ту, но ветви разрастаются во все стороны, и плод их — ду-
шевное здоровье. Мы приняли круг за символ логики и безу-
мия; мы можем назвать крест символом тайны и здоровья.
Буддизм центростремителен, христианство центробежно —
оно вырывается наружу. Ибо круг задан, он не станет ни
больше, ни меньше. Но крест, хотя в середине его столкно-
вение и спор, простирает четыре руки в бесконечность, не
изменяя формы. Заключив в свой центр парадокс, он может
расти не меняясь. Круг замкнут в себе, крест открывает объя-
тия всем ветрам, это маяк для вольных странников.
Только символами стоит говорить об этой глубокой про-
блеме, и другой символ — из естественных наук — хорошо
выражает значение мистицизма для людей. То, на что мы не
можем смотреть, — это единственная вещь, в свете которой
мы видим все остальное. Как солнце в полдень, мистицизм
освещает все своей победоносной невидимостью. Материа-
лизм — вздорный свет луны, свет без тепла, вторичный свет,
отраженный мертвым миром. Греки правильно поступили,
530
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
сделав Аполлона богом и воображения, и здоровья (он был
покровителем врачей и поэтов). О необходимых догмах и
индивидуальной вере я скажу позже, но чувство сверхъесте-
ственного, которым все живут, подобно солнцу. Солнце ка-
жется нам сияющим и расплывчатым, это и свет и дымка. Но
круг луны ясен и непогрешим, цикличен и неизбежен, как
круг Эвклида на школьной доске. Луна отчаянно логична,
она — мать лунатиков и дала им свое имя.
Глава III
САМОУБИЙСТВО МЫСЛИ
Расхожие выражения не только сильны, но и точны: им
подчас удается выразить то, что недоступно теориям и опре-
делениям. «Выложился» или «скис» — такое мог придумать
Генри Джеймс19 в судорожных поисках меткого слова. И нет
истины тоньше повседневного «у него сердце не на месте».
Это напоминание о нормальном человеке: мало иметь серд-
це, нужна еще верная взаимосвязь всех порывов. Такое вы-
ражение точно описывает угрюмое милосердие и сбившуюся
с пути нежность большинства наших выдающихся современ-
ников. Честно вглядевшись в Бернарда Шоу, я бы сказал,
что у него героически большое и благородное сердце, — но
оно не на месте. И точно так же сбилось все наше общество.
Современный мир отнюдь не дурен. В некоторых отно-
шениях он чересчур хорош. Он полон диких и ненужных доб-
родетелей. Когда расшатывается религиозная система (как
христианство было расшатано Реформацией) на воле оказы-
ваются не только пороки. Пороки, конечно, бродят повсюду
и причиняют вред. Но бродят на свободе и добродетели, еще
более одичалые и вредоносные. Современный мир полон ста-
рых христианских добродетелей, сошедших с ума. Они со-
шли с ума потому, что они разобщены. Так, некоторые уче-
ные заботятся об истине, и истина их безжалостна; а многие
ОРТОДОКСИЯ
531
гуманисты заботятся только о жалости. И жалость их (мне
горько об этом говорить) часто лжива. Например, Блэтч-
форд20 нападет на христианство потому, что он помешан на
одной христианской добродетели, таинственной и почти ир-
рациональной, — на милосердии. Он почему-то думает, что
облегчит прощение грехов, если скажет, что грехов нет и,
значит, прощать нечего. Блэтчфорд не просто ранний хрис-
тианин, он единственный ранний христианин, которого и
вправду следовало бы бросить львам, потому что в его слу-
чае верно обвинение язычников: его милосердие действитель-
но означает анархию. Он враг рода человеческого — и все
из-за своей человечности. Другую крайность представляет
материалист, который постарался убить в себе любовь к сча-
стливым сказкам об исцелении сердец. Торквемада пытал
плоть ради истины духовной; Золя подвергает нас духовной
пытке ради истины плотской. Но во времена Торквемады по
крайней мере была система, которая отчасти примиряла пра-
восудие и милосердие21. Теперь они даже не раскланиваются
при встрече. Но пренебрежение смирением еще опаснее, чем
странные отношения правды и милости.
Я говорю сейчас только об одной роли смирения. Оно
было уздой для высокомерия и беспредельной алчности, ведь
все новые и новые желания человека всегда обгоняют даро-
ванные ему милости. Его ненасытность губит половину его
радостей: гоняясь за удовольствиями, он теряет первую ра-
дость — изумление. Если человек хочет увидеть великий мир,
он должен умалить себя. Даже надменный вид высоких го-
родов и стройных шпилей — плод смирения. Башни, уходя-
щие головой выше дальних звезд, — плод смирения. Ибо
башни не высоки, когда мы не глядим на них, и великаны не
велики, если их не сравнивать с нами. Титаническое вообра-
жение — величайшая радость человека — в основе своей
смиренно. Ничем нельзя наслаждаться без смирения — даже
гордыней.
Но сегодня мы страдаем оттого, что смирение не на сво-
ем месте. Скромность умеряет теперь не уверенность в себе,
532
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
но веру в свои убеждения, — а это вовсе не нужно. Человек
задуман сомневающимся в себе, но не в истине — это извра-
щение. Ныне человек утверждает то, что он утверждать не
должен, — себя, и сомневается в том, в чем не смеет сомне-
ваться, — в разуме, данном ему Богом. Гексли проповедо-
вал смирение достаточное, чтобы учиться у природы. Новый
скептик столь смиренен, что сомневается, может ли он учить-
ся. Нельзя сказать, что нет смирения, характерного для на-
ших дней, но это смирение более ядовито, чем дичайшее са-
моуничижение аскетов. Прежнее смирение было шпорой,
гнавшей человека вперед, а не гвоздем в башмаке, мешаю-
щим ему идти. Оно заставляло человека сомневаться в своих
силах, и он работал напряженнее; новое смирение сомнева-
ется в цели — и работа останавливается.
На любом углу можно встретить человека, безумно и ко-
щунственно утверждающего, что он, может быть, не прав.
Каждый день встречаешь человека, который допускает, что
его взгляды неверны. Но его взгляды должны быть верны,
или это не его взгляды. Мы, того и гляди, породим людей
столь скромного ума, что они не поверят в арифметику. Мы
рискуем увидеть мыслителей, сомневающихся во всемирном
тяготении — не приснилось ли им оно. Бывали насмешники
слишком гордые, чтобы дать себя убедить, но эти слишком
скромны, чтобы убедиться. Кроткие наследуют землю22, но
современные скептики слишком скромны, чтобы притязать
на наследство. Наша следующая проблема связана именно с
их интеллектуальной беспомощностью.
В предыдущей главе рассматривался только факт, полу-
ченный из опыта: какая бы опасность ни грозила уму, она
исходит от логики, а не от воображения. Я не собираюсь на-
падать на авторитет логики, моя конечная цель — ее защи-
та, ведь логика очень нуждается в защите: современный мир
объявил ей войну, и ее твердыня уже колеблется.
Часто говорят, что мудрецы не могут найти разгадку ре-
лигии. Но беда не в том, что они не могут найти разгадку;
беда в том, что наши мудрецы не видят самой загадки. Они
ОРТОДОКСИЯ
533
похожи на глупых детей, не видящих ничего странного в шут-
ливом утверждении, что дверь — не дверь. Современные
свободомыслящие, например, говорят о власти церкви так,
словно в ней не только нет никакого смысла, но никогда и не
было. Не видя ее философских основ, они забывают ее исто-
рические основания. Религиозная власть часто бывала дес-
потичной и неразумной, а любая государственная система
(особенно нынешняя) бывает равнодушна и жестока. Мож-
но разумно и даже доблестно бранить полицию. Но совре-
менные критики религиозной власти похожи на людей, кото-
рые ругают полицию, совершенно не думая о ворах. Челове-
ческому уму грозит серьезная опасность, столь же реальная,
как воры. Религиозная власть была преградой, противостоя-
щей этой опасности, — и этой опасности непременно долж-
но что-то противостоять, иначе наш мир не избежит гибели.
Дело в том, что человеческий ум волен уничтожить себя
самого. Как одно поколение может предотвратить появление
следующего, поголовно отправившись в монастырь или уто-
пившись, так и группа мыслителей может, в известной мере,
воспрепятствовать мысли, научив следующее поколение, что
в мысли нет никакой надежности. Бесполезно твердить о
выборе между логикой и верой: сама логика — вопрос веры.
Нужна вера, чтобы признать, что наши мысли имеют какое-
то отношение к реальности. Если вы стали скептиком, вы рано
или поздно спросите: «Почему что-либо должно быть пра-
вильно, даже наблюдение и дедукция? Почему хорошая ло-
гика не может быть так же обманчива, как плохая? Ведь и
та, и другая — только циркуляция в мозгах озадаченной обе-
зьяны». Юный скептик говорит: «Я вправе думать по-свое-
му». Но прожженный старый скептик скажет: «Я не вправе
думать по-своему. Я вообще не вправе думать».
Вот мысль, которая останавливает работу мысли, и это
единственная мысль, подлежащая запрету. Вот зло, против
которого направлена религиозная власть. Это зло возникает
только в упадочные века, вроде нашего, — уже Уэллс под-
нял его губительное знамя, он написал изысканную скепти-
534
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ческую вещицу «Сомнения прибора»23. В ней он ставит под
сомнения самый мозг и решается отделить реальность от всех
своих мыслей, прошлых, настоящих и будущих. Ради борь-
бы с этой, тогда еще отдаленной, погибелью и было создано
все воинство веры: все исповедания и церкви, крестовые по-
ходы и ужасы инквизиции были призваны не подавить ра-
зум, но отстоять его. Люди чувствовали, что, если когда-ни-
будь усомнятся во всем, в первую очередь усомнятся в разуме.
Власть священников отпускать грехи, власть папы наделять
властью, и даже ужасы инквизиции — все это только защи-
та одного, главного, таинственного права — права человека
думать. Мы теперь знаем, что это так, мы не можем не знать,
потому что мы видим, как скептицизм прорывает кольцо ста-
рых авторитетов и сбрасывает разум с трона. Когда уходит
религия, уходит и логика, ибо обе они первичны и властны,
обе — доказательство, которое не может быть доказано.
Уничтожая идею божественного авторитета, мы подорвали
авторитет человеческий, необходимый даже для решения
школьных задач. Долго и напряженно мы стаскивали мит-
ру24 — и вместе с ней упала голова.
Чтобы наше утверждение не сочли голословным, придет-
ся, хоть это и скучно,"перебрать те современные теории, ко-
торые останавливают мысли. Таково свойство материализма
и скептицизма, ибо если разум механичен, думать неинте-
ресно, а если мир нереален, думать не о чем. В одних случаях
эффект неясен и сомнителен, в других он очевиден: напри-
мер, в случае так называемой эволюции.
Эволюция — хороший пример современного мировоззре-
ния, которое если что и уничтожает, то в первую очередь —
самое себя: она — или невинное научное описание опреде-
ленных процессов, или атака на саму мысль. Если эволюция
что-нибудь опровергает, то не религию, а рационализм. Если
эволюция значит только, что реальное существо — обезья-
на — очень медленно превращалась в другое реальное су-
щество — человека, то она безупречна с точки зрения боль-
шинства ортодоксов; ведь Бог может действовать и быстро,
ОРТОДОКСИЯ
535
и медленно, особенно если Он, как христианский Бог, нахо-
дится вне времени. Но если эволюция означает нечто боль-
шее, то она предполагает, что нет ни обезьяны, ни человека,
в которого она могла бы превратиться, нет такой вещи, как
вещь. В лучшем случае есть только одно: текучесть всего на
свете. Это атака не на веру, а на разум: нельзя думать, если
думать не о чем, если вы не отделены от объекта мысли. Де-
карт сказал: мыслю, следовательно, существую25. Эволюцио-
нист переворачивает и отрицает изречение: я не существую,
значит, я не могу мыслить.
Возможна атака на мысли и с противоположной точки
зрения — с той, на которой настаивал Уэллс, утверждая, что
каждая вещь «уникальна» и никаких категорий быть не долж-
но. Это столь же пагубно: мысль соединяет явления и оста-
навливается, если их нельзя соединить. Подобный скепти-
цизм запрещает не только мысли, но и речь. Нельзя рта рас-
крыть, не опровергнув его. Когда Уэллс говорит: «все сту-
лья совершенно различны», он произносит утверждение не
только ложное, но и терминологически противоречиво: ведь
если все стулья совершенно различны, нельзя говорить «все
стулья».
Близка к этим учения и та теория прогресса, которая счи-
тает, что мы меняем идеал вместо того, чтобы попытаться
его достичь. Часто можно услышать: «Что хорошо в одном
веке, плохо в другом». Это вполне разумно, пока подразуме-
вается, что есть определенная цель, к которой в разные вре-
мена стремятся разными способами. Если женщины мечта-
ют быть изящными, то, возможно, сегодня они совершен-
ствуются худея, а завтра — толстея. Но нельзя утверждать,
что они станут лучше, если перестанут стремиться к изяще-
ству и пожелают стать прямоугольными. Если идеал меняет-
ся, что же будет с прогрессом, которому непременно требу-
ется цель? Ницше высказал бессмысленную идею, будто
люди некогда видели добро в том, что мы ныне зовем злом.
Будь это так, мы не могли бы говорить, что превзошли пред-
ков или хотя бы отстали от них. Как вы догоните Джонса,
536
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
если идете в другую сторону? Дискутировать о том, выпало
ли одному народу больше счастья, чем другому несчастья, —
все равно что спорить, сравнивая пуританизм Мильтона26 с
толщиной свиньи.
Правда, человек (неумный) может менять свою цель или
идеал. Но, став идеалом, само изменение пребудет неизмен-
ным. Если поклонник изменения хочет оценить свои успехи,
он должен быть верен идеалу изменения, он не смеет заиг-
рывать с идеалом однообразия. Прогресс сам по себе не мо-
жет прогрессировать. Стоит заметить, что, когда Теннисон,
пылко, но довольно неубедительно восхвалял идею бесконеч-
ного изменения, он инстинктивно использовал метафору, год-
ную для описания тюремной скуки. Он писал:
Пусть великий мир несется в изменений колее27.
Он представлял себе изменение неизменной колеей, и так
оно и есть. Изменение — чуть ли не самая узкая и жесткая
колея, в какую только может попасть человек.
Но главная беда в том, что эта идея полной смены прин-
ципов делает мысль о прошлом или будущем невозможной.
Теория полной смены принципов в человеческой истории
лишает нас не только удовольствия чтить наших отцов, но и
современного, более утонченного удовольствия презирать их.
Это скудное перечисление современных сил, уничтожа-
ющих мысль, будет неполным, если не упомянуть прагма-
тизм. Хотя я пользовался методом прагматиста и должен
защищать этот метод как начальные подступы к истине. Су-
ществует его крайнее применение, которое предполагает пол-
ное отсутствие истины. Вот вкратце мое мнение: я согласен с
прагматистом, что очевидная объективная истина — это еще
не все. Сверх нее есть вещи, необходимые уму человека. Но
в числе этих вещей я назову и объективную истину. Прагма-
тист велит человеку думать то, что ему нужно, не заботясь об
Абсолюте. Но человеку непременно нужно думать об Абсо-
люте. В сущности, эта философия — словесный парадокс:
ОРТОДОКСИЯ
537
прагматист заботится о нуждах человека, а одна из главных
потребностей человека — быть чем-то большим, чем праг-
матист. Крайний прагматизм столь же бесчеловечен, как и
детерминизм, на который он так ожесточенно нападет. Де-
терминист (он-то, надо отдать ему должное, и не притворя-
ется человеческим существом) превращает в бессмыслицу
право человека на подлинный выбор. Прагматист провоз-
глашает, что он особенно человечен, и превращает в бессмыс-
лицу право человека на подлинный факт.
Подводя итоги нашего спора, можно сказать, что в наи-
более типичных современных философиях замечаешь не про-
сто манию, но манию самоубийства. Вопрошатель бьется го-
ловой о границы человеческой мысли и разбивает голову. Вот
почему так тщетны предупреждения ортодоксов и хвастов-
ство «передовых», твердящих об опасном детстве человече-
ской мысли. Это не детство, это дряхлость и окончательный
распад. Напрасно благочестивые персоны обсуждают, какие
ужасы произойдут, если рьяный скептицизм пойдет своим
путем, — он уже прошел свой путь. Напрасно речистые ате-
исты говорят о великих истинах, которые нам откроются,
когда мы увидим начало свободной мысли, — мы видели ее
конец. У нее не осталось сомнения, и она усомнилась в самой
себе. Есть ли видение более дикое, чем город, в котором люди
сомневаются в своем существовании? Есть ли более скепти-
ческий мир, чем тот, где люди сомневаются, существует ли
их мир? Наш мир пришел бы к краху быстрее и проще, если
б этому не мешали устаревшие законы о богохульстве да аб-
сурдная претензия на то, что Англия — христианская стра-
на. Тем не менее мир вполне мог прийти к краху. Воинству-
ющие атеисты все еще в меньшинстве, но это не новое мень-
шинство, а старое. Свобода мысли истощила свою свободу,
устала от своего успеха. Когда какой-нибудь мыслитель при-
ветствует свободу мысли как рассвет, он похож на персона-
жа Марка Твена, который вышел, закутавшись в одеяло,
встречать восход и как раз подоспел к закату. Если какой-
нибудь испуганный священник говорит, что будет ужасно,
538
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
если распространится тьма свободомыслия, мы ответим ему
глубокими и сильными словами Беллока: «Не пугайтесь ро-
ста сил, которые уже распадаются. Вы ошиблись часом —
уже утро». У нас больше не осталось вопросов, хотя мы ис-
кали их в темных углах и в диких ущельях. Мы нашли все
вопросы, настала пора заняться ответами.
Надо добавить еще несколько слов. Приступая к этому
первоначальному наброску, я сказал, что к духовной гибели
ведет дикая логика, а не дикое воображение. Человек не схо-
дит с ума, создавая статую высотой в милю, но может сойти с
ума, если вздумает измерить ее рост в дюймах. И вот одна
группа мыслителей решила, что здесь путь к обновлению
языческого здоровья мира: они видят, что логика разрушает,
и говорят: «зато Воля созидает». Высший авторитет принад-
лежит, по их словам^ не разуму, а Воле. Важна не причина
желания, а само желание. У меня нет места, чтобы подробно
толковать эту философию воли. Она идет, я полагаю, от
Ницше, который проповедовал то, что называется эгоизмом.
Это было довольно легкомысленно, так как Ницше отрицает
эгоизм тем, что его проповедует: проповедовать учение —
значит делиться им. Эгоист называет жизнь войной без по-
щады и не жалеет усилий, чтобы уговорить своих врагов во-
евать. Проповедник эгоизма поступает весьма альтруистич-
но. Но эта точка зрения, откуда бы они ни шла, весьма по-
пулярна в современной литературе. Эти мыслители оправды-
вают себя тем, что они не мыслители, а творцы. Они
говорят, что выбор сам по себе божественен. Так, Шоу на-
падает на старую идею, что поступки человека надо рассмат-
ривать с точки зрения его тяги к счастью. По мнению Шоу,
человек действует не ради счастья, но благодаря воле. Шоу
не говорит «джем осчастливит меня», но «я хочу джему», и
прочие следуют в этом ему с еще большим энтузиазмом.
Дэвидсон28, известный поэт, так взволнован этим, что вы-
нужден писать прозой. Он опубликовал короткую пьесу с
несколькими длинными предисловиями. Подобные пьесы ес-
тественны для Шоу, у него все пьесы состоят из предисло-
ОРТОДОКСИЯ
539
вий. Он, я подозреваю, единственный человек, никогда не
писавший стихов. Но то, что Дэвидсон, который может пи-
сать прекрасные стихи, пишет вместо них утомительную мета-
физику в защиту воли, доказывает, что учение о воле за-
хватило умы. Уэллс говорит наполовину на этом языке, ут-
верждая, что надо оценивать вещи с точки зрения не мысли-
теля, а художника: «Я чувствую, что эта кривая верна» или
«эта линия должна пройти так». Все они полны энтузиазма,
и это понятно, ибо они надеются, что учение о божественной
силе воли разрушит проклятую крепость рационализма. Они
надеются спастись.
Но они не могут спастись. Эта хвала чистой воле конча-
ется тем же крушением и пустотой, что и безумное следова-
ние логике. Так же как совершенно свободная мысль выдви-
гает сомнение в самой мысли, так и принятие чистой воли
парализует саму волю. Шоу не понял подлинного различия
между старой утилитаристской проверкой на удовольствие29
(конечно, неуклюжей и часто ошибочной) и тем, что предла-
гает он. Подлинное различие между принципом счастья и
принципом воли в том, что проверка счастьем — это про-
верка, а проверка волей — нет. Можно рассуждать, был ли
поступок человека, перепрыгнувшего через утес, направлен
к счастью, но бессмысленно обсуждать, вызван ли он его
волей, — конечно да. Можно хвалить поступок за то, что он
принесет удовольствие, или открытие истины, или спасение
души, но нельзя хвалить его за то, что он — акт воли; это
значит просто твердить, что поступок есть поступок. Хваля
волю, вы не можете предпочесть один путь другому, а ведь
выбор пути — это суть воли, которую вы превозносите.
Поклонение воле — это отрицание воли. Восхищаться
актом выбора — значит отказаться от выбора. Если Шоу
скажет мне: «Желай чего-нибудь», то это равносильно сло-
вам «мне все равно, чего ты желаешь». Нельзя восхищаться
волей вообще, потому что воля всегда конкретна. Блестяще-
го анархиста вроде Дэвидсона раздражает обычная мораль,
и тогда он призывает волю — все равно какую. Он хочет,
540 ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
чтобы человечество чего-нибудь хотело. Но человечество
хочет определенной вещи — обычной морали. Он восстает
против закона и велит нам желать чего угодно. Но мы поже-
лали иметь закон, против которого он восстает.
Все поклонники воли, от Ницше до Дэвидсона, на самом
деле вовсе лишены воли, они не могут хотеть, они едва ли
могут мечтать. Доказать это легко: они всегда говорят, что
воля распространяется и вырывается наружу. Напротив,
любой акт воли — самоограничение. В этом смысле каждый
поступок — самопожертвование. Выбирая что-нибудь, вы
отказываетесь от всего остального. То возражение, которое
они выдвигают против брака, действительно против любого
поступка. Каждый поступок — неотменимый выбор, исклю-
чающий все прочие. Когда вы берете себе жену, вы отказы-
ваетесь от всех остальных женщин; точно так же, выбрав
какой-то путь, вы отказываетесь от всех остальных. Если вы
станете английским королем, вы откажетесь от должности
бидля30 в Бромптоне; отправившись в Рим, вы пожертвуете
жизнью в Уимблдоне. Именно из-за этого запрета или огра-
ничения, присущего воле, разговоры анархических поклон-
ников воли столь бессмысленны. Например, Дэвидсон велит
нам не обращать внимания на запреты, но ведь «не смей» —
необходимое следствие «я хочу»: «Я хочу пойти на празд-
ник, и не смей мне мешать». Анархист заклинает нас быть
дерзкими творцами, не думать ни о законах, ни о пределах,
но искусство — это ограничение, суть любой картины выяв-
ляется рамой. Если вы рисуете жирафа, вы должны нарисо-
вать его длинную шею. Если вы считаете себя вправе нари-
совать его с короткой шеей, вы убедитесь, что вы не вправе
нарисовать жирафа. Можно освободить вещи от чуждых или
случайных, но не от природных свойств. Вы можете освобо-
дить тигра от заточения в клетке, но не от полос. Не осво-
бождайте верблюда от грузного горба — вы рискуете осво-
бодить его от верблюдности. Не призывайте треугольники
разрушить их треугольную тюрьму — если они вырвутся за
пределы трех сторон, их жизнь плачевно оборвется. Кто-то
ОРТОДОКСИЯ
541
написал книгу «Любовь треугольников»31, я ее не читал, но
уверен, что если треугольники были любимы, то за свою тре-
угольность. Так обстоят дела со всем творчеством, которое в
некоторых отношениях служит примером чистой воли. Мас-
тер любит ограничения — они определяют вещь, которую
он творит. Художника радует гладкий холст, скульптора —
бесцветная глина.
Поясним нашу мысль примером из истории. Француз-
ская революция была вправду делом героическим и реши-
тельным, потому что якобинцы хотели чего-то определенно-
го и ограниченного. Они жаждали демократических свобод,
но и всех демократических запретов. Они хотели иметь вы-
боры и не иметь титулов. Республиканство проявляло свою
аскетическую строну во Франклине и Робеспьере, так же как
свою широту в Дантоне и Уилксе32. Поэтому они создали
нечто прочное и четко оформленное — безусловное социаль-
ное равенство и крестьянское богатство Франции. Но с тех
пор революционную и философскую мысль Европы подорвал
отказ от любого выбора из-за связанных с ним ограничений.
Либерализм превратился в либеральность, «революциони-
зировать» становится непереходным глаголом. Якобинец мог
назвать не только систему, против которой он восстает, но и
(что гораздо важнее) систему, против которой он не восста-
ет, которую он принимает. Нынешний мятежник — скеп-
тик, он ничего не признает безусловно, он не знает лояльно-
сти и потому не может быть подлинным революционером.
Его манера во всем сомневаться мешает ему что-либо осу-
дить, ведь любое осуждение предполагает какую-то мораль-
ную доктрину, а современный революционер ставит под со-
мнение не только то учение, которое он осуждает, но и то
учение, на основании которого он берется судить. Так, он
пишет книгу против имперского гнета, который оскорбляет
чистоту женщин, а затем он пишет другую книгу (о пробле-
мах пола) в которой он сам оскорбляет ее. Он клянет султана
за то, что христианские девушки лишаются невинности, а
затем он клянет ханжей за то, что они ее охраняют. В каче-
542
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
стве политика он провозглашает, что война — бессмыслен-
ный расход жизней, а в качестве философа, что жизнь —
бессмысленный расход времени. Русский пессимист осуж-
дает полицейского за убийство крестьянина и крестьянина за
то, что он не покончил с собой. Человек осуждает брак как
ложь и распутных аристократов за презрение к барку. Он
называет флаг погремушкой, но нападает на угнетателей
Польши или Ирландии, которые отнимают эту погремушку.
Такой человек сперва отправляется на политическое собра-
ние и там жалуется, что к дикарям относятся как к живот-
ным, а затем берет шляпу и зонтик и идет на научное собра-
ние, где доказывает, что они и есть животные.
Короче говоря, современный революционер, будучи скеп-
тиком, все время подкапывается под самого себя. В книге о
политике он нападает на людей, попирающих мораль, в кни-
ге об этике он обрушивается на мораль за то, что она подав-
ляет людей. Бунт современного бунтаря стал бессмыслен:
восставая против всего, он утратил право восстать против
чего-либо.
Можно добавить, что та же беда постигла все свирепые и
воинственные жанры литературы. Сатира может быть сума-
сбродной и анархичной, но ей необходимо превосходство од-
них вещей над другими, ей нужен образец. Когда мальчиш-
« 33
ки на улице смеются над полнотой известного журналиста ,
они бессознательно принимают за образец греческую скульп-
туру, они требуют Аполлона. И удивительное исчезновение
сатиры из нашей литературы — пример того, как угасает все
воинственное при отсутствии нормы, за которую надо вое-
вать. Ницше от природы саркастичен. Он мог глумиться, хотя
не умел смеяться, но в его сатире есть какая-то неоснова-
тельность именно потому, что за ней нет ни крупицы обыч-
ной морали. Он сам много нелепее, чем то, что он осуждает.
Ницше очень хорошо символизирует вырождение абстракт-
ной ярости. Размягчение мозга, которое в конце концов на-
стигло его, не было физическим несчастьем. Если бы Ницше
не кончил слабоумием, слабоумием кончило бы ницшеанство.
ОРТОДОКСИЯ
543
Думать в одиночестве и гордыне — это путь к идиотизму.
Каждый, кто не желает смягчить свое сердце, кончит раз-
мягчением мозга.
Последняя попытка избежать интеллектуализма приво-
дит к интеллектуализму и, значит, к смерти. Яростное по-
клонение беззаконию и материалистическое поклонение за-
конам равно кончаются пустотой. Ницше карабкается на
шатающиеся горы, но в конце концов взбирается на Тибет и
усаживается там рядом с Толстым в стране ничто и нирваны.
Оба они беспомощны — один потому, что не может ничего
удержать, другой потому, что не хочет ничего упустить. Толс-
товская воля заморожена буддийским чувством греховности
любого конкретного поступка, но и ницшеанская воля замо-
рожена идеей, что любой конкретный поступок хорош: ведь
если все конкретные поступки хороши, ни одни из них нельзя
назвать конкретным. Оба стоят на перекрестке, и один нена-
видит все пути, а другому все пути хороши. Результат уга-
дать нетрудно — они стоят на перекрестке.
На этом я кончаю, слава Богу, первую, самую скучную
часть моей книги — обзор современных философских систем.
Теперь я перейду к своей собственной; может быть, она не
интересна читателю, но, на худой конец, интересна мне. Пере-
до мной лежит стопка книг, которыми я пользовался, — стоп-
ка искренних и бесплодных книг. Я далеко отошел от них и
вижу неизбежный крах ницшеанства, толстовства и других
современных учений так же ясно, как видят с воздушного
шара, что проезд несется к пропасти. Все эти учения — на
пути в пустоту сумасшедшего дома. Ведь безумие — работа
ума, доведенная до отказа, а они подошли к нему вплотную.
И вот, когда я бился и томился над умными, блестящими и
бесполезными книгами, взгляд мой упал на одно из заглавий:
«Жанна д’Арк». Я только увидел его краем глаза и тут же
вспомнил Ренанову «Жизнь Иисуса». Франс34, как и Ренан,
писал свою книгу в странном тоне почтительного скепсиса. Он
отверг свидетельства о чудесах, основанные на Предании,
чтобы рассказать нам вещи, просто ни на чем не основанные.
544
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Он не верит в те или иные подвиги святой — и делает вид, что
знает доподлинно ее ощущения и думы. Но я упомянул об
этой книге не для того, чтобы ее ругать; просто имя натолкну-
ло меня на мысль. Жанна д’Арк не топталась на распутье, от-
бросив все пути, как Толстой, или приняв их, как Ницше. Он
выбрала путь и ринулась по нему стремительно, как молния.
Тем не менее в ней было все то, что есть хорошего в Толстом
и Ницше; все, что есть в них мало-мальски сносного. Я поду-
мал о великих дарах Толстого — о даре простых чувств, осо-
бенно жалости, о любви к земле и к бедным, о почтении к со-
гнутой спине. У Жанны было все это, даже больше: она бедно
жила, а не только поклонялась бедности, как типичный арис-
тократ, бьющийся над загадкой крестьянина. Потом я поду-
мал обо все, что есть хорошего и трогательного в несчастном
Ницше, — о его мятеже против пустоты и трусости нашего
века. Я вспомнил, как он возопил в пустыне о вдохновенном
равновесии опасности, как жаждал топота коней и звал в бит-
ву, что ж, и это было у Жанны, только она сражалась, а не
поклонялась сражению. Мы знаем, что она не испугалась вой-
ска, тогда как бедный Ницше боялся и коровы. Толстой вос-
пел крестьян — она была крестьянкой. Ницше воспел вой-
ну — она воевала. Она побила каждого из них на его поле;
была добрей и смиренней Толстого, яростней Ницше. И глав-
ное — она делала и сделала много, а они размышляли. Как же
тут не подумать, что ее вера владеет тайной нравственной
цельности и ощутимой пользы? Так я и подумал; и за спиной
Иоанны35 встал ее Создатель. Ренан страдал тем же, что и
Франс. Он тоже отделил милосердие от гнева и попытался
убедить нас, что изгнание из храма — просто неравный срыг
после провала идиллических надежд. Словно любовь к людям
и ненависть к бесчеловечности — не одно и то же! Альтруис-
ты тонкими голосами уличают Христа в жестокости. Эгоис-
ты — у тех голоса еще тоньше — уличают Его в мягкотелос-
ти. Чего ж и ждать от нашего времени, когда все помешались
на придирках? Любовь великих страшнее, чем ненависть ти-
рана, ненависть — благородней, чем любовь филантропа
ОРТОДОКСИЯ
545
Есть в мире великая цельность; и современным людям дано
только подбирать ее клочья, поражаясь безумию Христова
гнева и безумию Его кротости. Разделили ризы Его, и об
одежде Его бросали жребий, хитон же был не сшитый, а весь
° 36
тканый сверху .
Глава IV
ЭТИКАЭЛЬФОВ
Когда деловому человеку надоедает идеализм младшего
клерка, он говорит примерно так: «Ну, конечно, молодежь
мечтает, витает в облаках, но стоит повзрослеть, и воздуш-
ные замки рассеются как дым, ты спустишься на землю, по-
веришь политикам, усвоишь все их уловки и будешь ладить с
миром как он есть». Во всяком случае, так говорили мне, когда
я был юн, почтенные, ныне усопшие, благодетели рода люд-
ского. Но с тех пор я вырос и узнал, что старцы лгали: все
было наоборот. Они говорили, что я утрачу идеалы и дове-
рюсь трезвым политикам. Идеалов я не утратил, вера моя в
первичные истины все та же, а вот ребяческой веры в поли-
тиков я лишился. Меня все так же волнует Армагеддон37,
куда меньше — выборы, хотя в младенчестве я ликовал при
одном упоминании о них. Да, мечта весома и надежна, меч-
та — факт; реальность часто лжет. В либерализм я верю,
как прежде, нет, больше, чем прежде, но было блаженное
время, когда я верил в либералов.
Я привел именно этот пример стойкой веры: боюсь, ко-
гда я изложу истоки моего мировоззрения, только либера-
лизм сочтут сравнительно разумным пристрастием. Меня вос-
питали либералом, и я всегда верил в демократию, в элемен-
тарное учение, что люди должны управлять собой сами. Если
эта мысль покажется туманной или пустой, скажу только,
что принцип демократии состоит для меня в двух утвержде-
ниях. То, что присуще все людям, важнее причуд немногих.
546
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Обычное ценнее необычного, оно даже более необычно. Че-
ловек чудесней и удивительней, чем все люди. Чудо челове-
ка должно поражать сильнее, чем все чудеса разума, мощи,
искусства и цивилизации. Просто человек о двух ногах рас-
трогает больше, чем музыка, рассмешит сильней, чем любой
гротеск. Смерть трагичней, чем смерть от голода, нос смеш-
ней, чем носище.
Вот первый принцип демократии: главное в людях то, что
присуще им всем, а не кому-то в отдельности. Второй — та-
ков: к политике имеют отношение все. Влюбиться — поэтич-
ней, чем писать стихи. Для демократа «править» ближе к
любви, чем к стихам. Занятие это сильно отличается от игры
на органе, создания миниатюр, поисков Северного полюса
(странная привычка), высшего пилотажа или астрономии —
это пусть делает тот, кто умеет. Но заниматься политикой —
все равно что сморкаться или писать невесте. Это надо де-
лать самому, даже если не умеешь. Я спорю не о том, верны
ли эти взгляды: я знаю, что сейчас кое-кто хочет, чтобы жен
им подбирали ученые, и они скоро попросят, чтобы носы им
утирали сиделки. Я просто говорю, что люди признают все-
общность этих дел, и демократ относит к их числу управле-
ние страной. Таково*кредо демократа: страшно важные дела
надо доверить самим людям — любовь, воспитание детей,
управление государством. Вот демократия, в которую я все-
гда верил.
Но одного я с юности не могу понять: откуда взяли, что
демократия не в ладу с традицией? Ведь ясно, что тради*
ция — единственная демократия, прошедшая сквозь века
Она верит голосу народа больше, чем частному или произ
вольному мнению. Тот, кто обращается к немецкому учено*
му в полемике с католической церковью, явно апеллирует ь
аристоратии: в его глазах мнение эксперта значит больше,
чем авторитет масс. Нетрудно понять, почему легенда заслу-
жила большее уважение, чем история. Легенду творит вся
деревня — книгу пишет одинокий сумасшедший. Тот, кто
восстает против традиции, считая, что наши предки были
ОРТОДОКСИЯ
547
невежественны, может предложить этот довод в Карлтон-
клубе38 заодно с утверждением, что невежественны избира-
тели в трущобах. Нас это не устроит. Если в повседневных
делах мы ценим мнение обычных людей, как же пренебречь
им в истории или мифе? Традиция расширяет права; она дает
право голоса самому угнетенному классу — нашим предкам.
Традиция не сдается заносчивой олигархии, которой выпало
жить сейчас. Все демократы верят, что человек не может быть
ущемлен в своих правах только из-за такой случайности, как
его рождение; традиция не позволяет ущемлять права чело-
века из-за такой случайности, как смерть. Демократ требует
не пренебрегать советом слуги. Традиция заставляет прислу-
шаться к совету отца. Я не могу разделить демократию и тра-
дицию, мне ясно, что идея — одна. Позовем мертвых на наш
совет. Древние греки голосовали камнями — они будут го-
лосовать надгробиями. Все будет вполне законно; ведь мо-
гильные камни, как и бюллетени, помечены крестом.
Поэтому если у меня есть пристрастие, то это — пристра-
стие к демократии и, значит, к традиции. Я всегда доверял
массе тяжко работающих людей больше, чем беспокойной по-
роде литераторов, к которой принадлежу. Даже фантазии и
предрассудки тех, кто видит жизнь изнутри, я предпочту яс-
нейшим доводам тех, кто видит жизнь снаружи. Я всегда ве-
рил сказкам старых бабушек, а не фактам старых дев. Пока ум
остается природным умом, пусть он будет сколь угодно при-
чудливым.
Теперь я должен определить первоосновы моей филосо-
фии. Я и не притворяюсь, будто я это умею и потому просто
изложу мои принципы один за другим в том порядке, как я
на них набрел. Потом я постараюсь соединить их и подвести
итоги моей личной философии и, наконец, опишу мое потря-
сающее открытие: все это было найдено до меня — найдено
христианством. Из всех моих глубочайших убеждений самое
раннее связано с народной традицией, и без предшествую-
щего объяснения я не мог бы объяснить свой духовный опыт.
Я и так не знаю, смогу ли объяснить, но сейчас я попробую.
548
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Мою первую и последнюю философию, в которую я твер-
до верю, я усвоил в детской от няни — величественной, вдох-
новенной жрицы демократии и традиции. Крепче всего я ве-
рил и верю в волшебные сказки. Они кажутся мне удиви-
тельно разумными. Это не фантазия. Рядом с ними все ос-
тальное фантастично, даже религия и рационализм: религия
невероятно права, рационализм невероятно не прав. Страна
чудес — это просто солнечный край здравого смысла. Не
земля судит небо, а небо землю, и точно так же, по-моему,
землю укоряет сказочная страна. Я знал о волшебном бобо-
вом стебле прежде, чем вкусил бобов39, и поверил в человека
на Луне раньше, чем в Луну. И в этом я следовал традиции.
Наши поэмы — естествоиспытатели, они говорят о кусте или
ручье, но создатели эпоса и притч говорили о божествах ру-
чья и куста, это и имеют в виду наши современники, когда
упрекают древних, которые, наверное, не ценили природу,
если считали ее божественной. Ведь няни рассказывают де-
тям не о траве, а о феях, пляшущих в травах, и древние греки
за дриадами не видели леса.
Мне важно понять, какая этика и философия вырастают
из волшебных сказок. Описывая сказки подробно, я бы на-
звал немало здравых и благородных правил, которым они
учат. Есть рыцарский урок «Джека — победителя велика-
нов»: великанов следует убивать просто потому, что они ве-
лики. Это мужественный протест против гордыни, ибо мя-
тежник древнее всех царств и традиция на стороне якобин-
ца, а не якобита40. «Золушка» учит тому же, что и «Величит
душа Моя Господа...»41 — «вознес смиренных». Великая
мораль «Красавицы и чудовища» — полюби другого преж-
де, чем он покажется привлекательным. Страшный намек
«Спящей красавицы» — человек благословен от рождения
всеми дарами, но обречен смерти, однако смерть может
смягчиться и стать сном. Я разбираю не законы Эльфлян-
дии; я говорю о духе этих законов, который я усвоил, когда
еще не умел говорить, и сохраню, когда разучусь читать.
Я говорю о взгляде на мир, который воспитали во мне сказ-
ки, а после робко утвердили факты.
ОРТОДОКСИЯ
549
Вот этот взгляд: существуют причинно-следственные
связи («одно вытекает из другого»), которые в полном смысле
слова разумны и даже необходимы. Таковы законы логики и
математики. Мы, жители страны эльфов (самые разумные
из всех созданий), признаем их. Скажем, если злые сестры
старше Золушки, необходимо, чтобы Золушка была младше
их. Пусть Геккель говорит, что это фатализм, — выхода
здесь нет. Раз Джек — сын мельника, значит, мельник —
отец Джека. Так повелевает с высокого трона неумолимый
разум, и мы в стране эльфов повинуемся. Если три брата едут
верхом, значит, с лошадьми их шестеро и у всех вместе —
восемнадцать ног; это чистая логика, и страна эльфов полна
ею. Но, выглянув из сказочной страны в обычный мир, я
увидел нечто невероятное: ученые люди в очках говорили о
житейских случайностях — о смерти или заре — так, слов-
но они разумны и неизбежны. Для них плоды на дереве —
факт столь же неустранимый, как тот, что два дерева да одно
будет три; а это не так. С точки зрения сказочной страны
разница огромна, и проверяется она воображением. Нельзя
вообразить, что два плюс один не равно трем, но легко вооб-
разить на дереве не фрукты, а золотые подсвечники или тиг-
ры, уцепившиеся хвостом за ветку.
Люди в очках любят говорить о Ньютоне: его ушибло яб-
локо, и он открыл закон. Но они не видят разницы между под-
линным законом разума и простой случайностью — упавшим
яблоком. Если яблоко стукнуло Ньютона по носу, значит, нос
его стукнул яблоко. Это неизбежно, мы не может себе пред-
ставить одно без другого. Зато мы вполне можем вообразить,
что яблоко не падет ему на нос, а яростно несется прочь, чтобы
поразить другой нос, неугодный ему. В сказках мы всегда раз-
деляли логические связи, то есть законы и житейские факты,
где законов нет, есть только странные повторы. Мы верим в
физические чудеса, но не в логически невозможное. Мы ве-
рим, что боб взобрался на небеса, но это не мешает нам отве-
тить на философский вопрос, сколько бобов в дюжине.
В этом детские сказки удивительно правдивы. Ученый
говорит: «Перережь черенок, и яблоко упадет» — и он го-
550
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ворит спокойно, словно одно непременно следует из другого.
Колдунья говорит: «Затруби в рог, и замок людоеда па-
дет» — но говорит она не так, словно это неизбежно. Ко-
нечно, она давала этот совет многим славным рыцарям, и
многие замки пали на ее глазах, но она не утратила ни удив-
ления, ни разума. Она не ломает себе голову, чтобы изобре-
сти логическую связь между рогом и падающей башней.
А ученый не успокоится, пока не установит связь межу яб-
локом, покинувшим дерево, и яблоком, достигшим земли. Он
говорит так, словно обнаружил не набор удивительных со-
бытий, но объединяющую их истину; словно физическая связь
между двумя странными явлениями соединяет их и философ-
ски. Ему кажется, что если одна непонятная вещь постояннс
следует за другой, то вместе они понятны. Две туманные за-
гадки дают ясный ответ.
Мыв стране эльфов избегаем слова «закон», но его чрез-
вычайно любят в стране ученых. Занятную догадку о звука>
забытых языков они называют законом Гримма42. Но заког
Гримма куда менее разумен, чем сказки Гримма. Сказки, пс
крайней мере, вправду сказки, но закон — не закон. Закот
предполагает, что мы знаем суть и причины обобщения, а не
только заметили его результаты. Если есть закон, что кар-
манникам место в тюрьме, то он предполагает некую духов
ную связь между идеей воровства и идеей тюрьмы. И мь
знаем эту связь, мы можем объяснить, почему мы лишаел^
свободы человека, который ею злоупотребляет. Но мы не
знаем, почему яйцо превратилось в цыпленка, как не знаем,
почему медведь превратился в чудесного принца. Как идеи
яйцо и цыпленок даже более чужды друг другу — ведь яйцо
ничем не напоминает цыпленка, в то время как многие прин-
цы смахивают на медведей. Сознавая, что происходят опре-
деленные изменения, мы должны их рассматривать с фило-
софских позиций волшебной сказки, а не в антифилософской
манере «законов природы». Если нас спросят, почему яйца
превратились в птиц, а листья осенью опадают, надо отве-
тить, как фея крестная ответила бы Золушке, вздумай та спро-
ОРТОДОКСИЯ
551
сить, почему мыши превратились в лошадей, а ее наряды ис-
чезли в полночь. Мы ответим: «Это — волшебство». Это не
«закон», ибо мы не знаем его смысла. Это не необходимость,
ибо, хотя на практике мы рассчитываем, что так будет, мы не
вправе сказать, что так бывает всегда. Для закона недоста-
точно, как воображал Гексли, что мы рассчитываем на обыч-
ный порядок вещей. Мы не рассчитываем, мы делаем на это
ставку. Мы рискуем столкнуться с чудом, как с отравлен-
ным кексом или губительной кометой. Мы не учитываем чудо
не потому, что оно исключено, но потому, что оно — исклю-
чение. Все термины научных книг — «закон», «тенденция»,
«необходимость», «порядок» — неразумны, ведь они пред-
полагают внутреннюю связь, который нет. В описании при-
роды меня удовлетворяют только термины сказки: «волшеб-
ство», «очарование», «чары». Они выражают произвольность
явления и его тайну. Дерево дает плод, ибо оно — волшебное.
Река бежит с гор — она заколдована. Солнце светит — за-
колдовано и оно.
Это не фантастики и не мистика. Позже мы поговорим о
мистике, но язык волшебных сказок разумен и агностичен.
Только им я могу выразить ясное и четкое ощущение, что
одна вещь совершенно отлична от другой и нет логической
связи между «летать» и «класть яйца». Человек, говорящий
о законе, которого он в глаза не видел, — вот мистик. Обыч-
ный ученый, строго говоря, раб эмоций. Он раб их в том су-
щественно смысле, что его увлекают и подавляют совпаде-
ния. Он так часто видел, как птицы летают и кладут яйца,
что чувствует некую тонкую туманную связь между этими
идеями — а ее нет. Отвергнутый воздыхатель объединяет
луну и погибшую любовь, а материалист — луну и прилив.
В обоих случаях связь только в том, что их часто видели вмес-
те. Сентиментальный человек проливает слезы, вдохнув аро-
мат яблоневых почек, потому что в силу его личных ассоциа-
ций этот запах напомнил ему детство. Ученый материалист
(хотя он скрывает свои слезы) — тоже сентиментален, ибо
его темные ассоциации связывают яблоневый цвет с яблока-
552 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ми. Но строгий логик из страны эльфов не видит резона, по-
чему бы на яблоне не вырасти тюльпанам, — так бывает в
его стране.
Это простейшее чудо — не фантазия из волшебных ска-
зок, напротив, сами сказки рождаются из него. Все мы лю-
бим сказки о любви, потому что от рождения слышим ее зов;
точно так же все мы любим удивительные сказки, потому
что они затрагивают древний инстинкт — жажду удивлять-
ся. Именно поэтому в самом раннем детстве мы не нужда-
лись в волшебных сказках, достаточно было простых исто-
рий. Сама жизнь очень интересна. Ребенок семи лет затаив
дыхание внимает повести о том, как Томми открыл дверь и
увидел дракона. А трехлетний с восторгом узнает, что Том-
ми просто открыл дверь. Мальчишки любят романтические
сказки, а малыши — реалистические: для них реальность
достаточно романтична. Я думаю, только младенец может
слушать современный реалистический роман и не соскучить-
ся. Это убеждает нас, что детские сказки просто-напросто
отвечают прирожденному чувству интереса и изумления.
Сказки о золотых яблоках рассказывают, чтобы напомнить
ту минуту, когда мы узнали, что они — зеленые. В сказках
реки текут вином, чтобы на мгновение напомнить нам, что
они текут водой. Я говорил, что это вполне разумно и агнос-
тично. Здесь я полностью на стороне высокого агностициз-
ма — лучшее имя ему Неведение. Мы все читали и в науч-
ных и в художественных книгах о человеке, забывшем свое
имя. Он бродит по улицам, все видит и воспринимает, толь-
ко не может вспомнить, кто же он. Каждый человек — ге-
рой этой истории. Каждый человек забыл, кто он. Можно
постичь мир, но не самого себя, — душа дальше от нас, чем
далекие звезды. Возлюби Господа Бога своего, но не знай
себя43. Мы все подвержены этой умственной болезни — мы
забыли свои имена. Все, что мы называем здравым смыс-
лом, практичностью, рационализмом, означает только, что в
некоторые глухие периоды нашей жизни мы забываем об этом
провале в памяти. Все, что мы называем духом, искусством,
ОРТОДОКСИЯ
553
восторгом, означает только, что в некий ужасный миг мы
вспоминаем о нем.
Но хотя (вроде этого человека из романа) мы бродим по
улицам и дивимся, как полоумные, все же это — удивление,
от слова «дивный». Положительная сторона чуда — благо-
дарность. Это следующая веха на нашем пути по стране чу-
дес. В другой главе я поговорю об интеллектуальных аспек-
тах оптимизма и пессимизма, поскольку у них таковые име-
ются. Сейчас я только пытаюсь описать невероятные чув-
ства, которые не поддаются описанию. И сильнейшее из
них — чувство, что жизнь так же драгоценна, сколь изуми-
тельна. Жизнь прекрасна, ибо она — приключение; жизнь —
приключение, ибо она — шанс. Волшебные сказки не пор-
тит то обстоятельство, что драконов в них больше, чем прин-
цесс, — все равно в волшебной сказке хорошо. Счастье
проверяется благодарностью, и я был благодарен сам не зная
кому. Дети благодарны Санта-Клаусу за подарки, которые
он кладет им в чулок; могу же я поблагодарить Санта-Клау-
са за таинственный дар — две ноги! Мы благодарим за по-
даренные нам на день рождения сигары и тапочки, но кто
подарил мне в день рождения жизнь?
Таковы были мои первые чувства, недоказуемые и не-
оспоримые. Мир не только потрясает; жизнь — сюрприз и
сюрприз приятный. Мое первое мировоззрение вполне от-
ражает застрявшая у меня в памяти детская загадка: «Что
сказала первая лягушка?»; ответ: «Господи, какой прыгучей
Ты меня создал!» В этом все, о чем я говорил: Бог сделал
лягушку прыгучей, и лягушка любит прыгать. Когда эти дела
улажены, начинает действовать второй великий закон вол-
шебной сказки.
Всякий может увидеть его, пусть только прочтет сказки
братьев Гримм или прекрасные сборник Ленга. Ради педан-
тизма я назову его Учением о Радости-под-Условием. Осе-
лок говорил о том, как много блага в слове «если»44; согласно
этике эльфов, все благо — в этом слове. В сказке всегда го-
ворится: «Ты будешь жить в золотом и изумрудном дворце,
554
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
если не скажешь «корова», или «Ты будешь счастлив с до-
черью короля, если не покажешь ей луковицу». Мечта все-
гда зависит от запрета. Все великое и немыслимое зависит от
маленького отказа. Все чудесное и прекрасное возможно, если
что-то о^но запрещено. В прелестных и тонких стихах об
эльфах Иейтс называет их беззаконными: они мчатся в не-
винной анархии на неоседланных воздушных конях,
Скачут на гребне прилива
Пляшут, как пламя, в горах45.
Ужасно говорить, что Иейтс не понимает эльфов. Но я
скажу это. Он — ироничный ирландец, набитый интеллекту-
альностью. Он недостаточно глуп, чтобы понимать фей. Феи
предпочитают ротозеев вроде меня, которые глупо ухмыляют-
ся и делают как велено. Иейтс видит в эльфах весь правый
бунт своего народа. Но беззаконие ирландцев — беззаконие
христианское, основанное на разуме и справедливости. Ир-
ландец восстает против того, что слишком хорошо понимает;
подлинный гражданин Эльфляндии подчиняется тому, чего не
понимает вовсе. В волшебных сказках непостижимое счастье
покоится на непостижимом условии. Открыл ларчик — раз-
летятся беды, забыл слово — погибли города, зажег лампу —
улетит любовь. Сорви цветок — и люди обречены. Съешь
яблоко — и пропала надежда на Бога.
Так говорится в волшебных сказках, и, конечно, это не
беззаконие, даже не свобода. Каторжники могут считать
Флит-стрит свободной, но внимательное изучение покажет,
что и феи, и журналисты — рабы долга. Фея-крестная так
же строга, как и другие крестные. Золушка получила карету
из страны чудес, кучера — невесть откуда, но строгий при-
каз — вернуться к двенадцати — она могла получить из
Брикстона. У нее была стеклянная туфелька, и не случайно
стекло так часто встречается в фольклоре. Одна принцесса
живет в стеклянном замке, другая — на стеклянной горе,
третья видит все в волшебном зеркале: все они будут жить в
ОРТОДОКСИЯ
555
стеклянных дворцах, если не станут швырять камни. Тонкий
блеск стекла символизирует счастье столь же хрупкое, как
любой сосуд, который легко может разбить кошка или гор-
ничная. И это чувство из волшебных сказок запало мне в
душу, и я стал так относиться ко всему миру. Я чувствовал и
чувствую, что жизнь ярка, как бриллиант, но хрупка, как
оконное стекло, и когда небеса сравнивали с кристаллом, я
вздрагивал — как бы Бог не разбил мир вдребезги.
Но помните, бьющееся не обречено на гибель. Ударьте
по стеклу — оно не проживет и секунды, берегите его —
оно проживет века. Такова радость человека; как и в стране
эльфов, так и на земле счастье продлится, пока вы не сдела-
ете чего-то, что вы можете сделать в любую секунду, часто
не понимая, почему этого делать нельзя. Мне этот закон не
казался несправедливым. Если младший сын мельника спро-
сит фею: «Объясни, почему я не могу стоять на голове в вол-
шебном дворце?» фея скажет: «Сперва объясни волшебный
дворец». Если Золушка спросит: «За что я должна в две-
надцать уйти с бала?» крестная ответит: «А за что ты идешь
на бал?» Если я завещал кому-то десять говорящих слонов и
сто крылатых коней, пусть он не жалуется, если удивитель-
ный подарок дается с удивительным условием — не смот-
реть крылатому коню в зубы. Сама жизнь кажется мне уди-
вительным даром, и я не вправе жаловаться на то, что дивное
видение почему-то ограничено; я ведь не постиг самого виде-
ния. Рама не стариннее, чем картина. Запрет может быть
столь же диким, сколь и дар; он ослепляет, как солнце, ус-
кользает, как река, ужасает и удивляет, как лесные дебри.
Благодаря этой вере (назовем ее философией феи-крест-
ной) я никогда не чувствовал того, что .чувствовали мои ро-
весники и называли мятежом. Надеюсь, я бы воспротивился
Дурным законам — о них и их определении поговорим в дру-
гой раз. Но я не склонен сопротивляться любому закону толь-
ко потому, что он таинственен. Передача земли иногда сопро-
вождается дурацкими церемониями — надо сломать палку
Или уплатить зернышко. Я готов подчиниться любой фео-
556
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
дальной фантазии ради великого владения — владения зем-
лею и небом. Эта фантазия не может быть нелепее и удиви-
тельнее, чем то, что мне вообще позволено здесь жить. Сей-
час я могу привести только один этический пример, чтобы
объяснить мое мнение: в отличие от других юнцов, я не бра-
нил единобрачия, потому что никакие ограничения любви не
кажутся мне столь чудными и неожиданными, как сама лю-
бовь. Ты вправе, словно Эндимион46, любить Луну — за-
тем же сетовать, что прочие луны Юпитер бережет в своем
гареме? Мне, выросшему на волшебных сказках, вроде ис-
тории Эндимиона, это кажется вульгарным и неприличным.
Верность одной женщине — недорогая плата за то, чтобы
увидеть хоть одну женщину. Жаловаться, что жениться мож-
но только раз, все равно что жаловаться, что родиться мож-
но лишь однажды. Это несоизмеримо с величайшим пере-
живанием, о котором идет речь, и обнаруживает не преуве-
личенную чувственность, но странное бесчувствие. Только
дурак недоволен, что нельзя войти в Эдем сразу через пять
ворот. Полигамия — недостаток любви, словно ты рассеян-
но перебираешь десяток бесценных жемчужин. Эстеты дос-
тигают безумных пределов речи, восхваляя все, что достойно
любви. Они рыдаютнад чертополохом, блестящий жучок по-
вергает их на колени. Но их эмоции никогда не находили вс
мне отклика, потому что им не приходит в голову платить за
удовольствие хотя бы символической жертвой. Я чувство-
вал, что нужно поститься сорок дней, чтобы увидеть дрозда:
пройти через огонь, чтобы добыть первоцвет. Любители пре-
красного не могут даже протрезвиться ради дрозда, претер-
петь обычное христианское бракосочетание в уплату за пер-
воцвет. За необычайные радости нужно платить соблюдени-
ем обычной морали. Оскар Уайльд47 сказал, что закаты ник-
то не ценит, потому что за них нельзя заплатить. Он не прав
мы можем заплатить тем, что мы — не Оскар Уайльд.
Я оставил сказки на полу в детской и с тех пор не встре-
чал столь разумной книги. Я покинул няню — стража тра
диций и демократии — и с тех пор не встречал в современ
ОРТОДОКСИЯ
557
ном мире кого-либо столь здраво радикального или столь
здраво консервативного. Когда я впервые вышел в мир со-
временной мысли, я увидел что он совершенно расходится с
моей няней в двух важнейших вопросах. Много времени ушло,
пока я понял, что мир не прав, а няня права. Удивительно,
что современная мысль противоречит двум самым существен-
ным положениям моей детской веры. Я уже говорил о вере,
которую воспитали во мне волшебные сказки: мир причуд-
лив, изумителен, он мог бы быть совсем другим; и таков, как
он есть. Он прекрасен, но за этот протрясающий мир мы долж-
ны уплатить дань смирения и подчиниться удивительнейшим
ограничениям столь удивительной благодати, но весь совре-
менный мир обрушился валом на мою веру, и столкновение
породило два внезапных и неожиданных ощущений, кото-
рые сохранились во мне, а со временем окрепли и стали убеж-
дениями.
Во-первых, я увидел, что весь современный мир говорит
на языке некоего научного фатализма: все таково, каким оно
должно быть, ибо все без ошибки развивалось с самого нача-
ла. Лист на дереве зеленый, потому что он никогда не мог
быть другим. Философ же сказочной школы радуется зеле-
ному листу именно потому, что он мог быть алым. Лист словно
бы превратился в зеленый за миг до того, как на него взгля-
нули. Мы, жители страны эльфов, рады, что снег бел, по той
весьма разумной причине, что он мог быть черным. В каж-
дом цвете мы чувствуем выбор; багрянец роз не только опре-
делен — он драматичен, словно внезапно хлынула кровь. Мы
видим: что-то свершилось. Но великие детерминисты девят-
надцатого столетия воспротивились нашему врожденному
чувству: вот сейчас, мгновение назад, что-то произошло. Их
послушать, ничего не происходило с начала мира, ничего не
произошло с той поры, как возник мир; и даже в этом они не
Уверены.
Мир, каким я его застал, утвердился в нынешнем каль-
винизме; вещи для него — такие, как они есть. Но, задавая
вопросы, я понял, что доказательств нет: все повторяется
558
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
просто потому, что повторяется. Для меня же от этого повто-
рения все стало скучнее, а не разумней. Скажем, если бы я
увидел на улице странный нос, я бы счел это случайностью,
но если бы я увидел еще шесть таких носов, я бы решил, что
это — какое-нибудь местное тайное общество. Один слон с
хоботом странен; все слоны с хоботами — это уже заговор.
Я говорю только о впечатлении тайном и упрямом. Повторе-
ния в природе иногда казались назойливыми — так твердит
одно и то же рассерженный учитель. Трава махала мне все-
ми пальцами, звезды столпились, требуя, чтобы их поняли,
солнце хотело, чтобы я увидел его, если оно взойдет тысячу
раз. Повторения во Вселенной стали сводящим с ума закли-
нанием, и я начал понимать, в чем дело.
Весь материализм, который ныне владеет умами, осно-
ван на одном ложном предположении. Считают, что повто-
рения свойственны мертвой материи, механизму. Люди по-
лагают, что одушевленная Вселенная должна меняться, жи-
вое солнце — пуститься в пляс. Это не так даже на житей-
ском уровне. В повседневность разнообразие вносит не
жизнь, а смерть — скука, утрата сил, упадок воли. Человек
движется иначе, когда устанет или что-то у него не ладится.
Он сядет в омнибус, потому что ему надоело идти, пойдет,
потому что ему надело сидеть. Но если бы ему хватало жиз-
ни и радости, чтобы вечно ездить в Ислингтон, он и ездил
бы туда так же постоянно, как Темза течет в Ширнесс. Стре-
мительность и восторг его жизни были бы неизменны, как
смерть. Солнце встает каждое утро, а я нет, но такое разно-
образие вызвано не моей активностью, а моей ленью, может
быть и так, что солнце охотно встает каждый день, ибо ему
это не в тягость. Обычность, рутина всегда основана на из-
бытке, а не на недостатке жизни. Так дети повторяют все
снова и снова особо приятную им шутку или игру. Малып
ритмично топочет от избытка, а не от недостатка сил. Детг
полны сил, они свободны, они крепки духом, потому им г
хочется, чтобы все повторялось. Они твердят: «Еще!», *
взрослые слушаются, пока не падают от усталости — веД1
ОРТОДОКСИЯ
559
взрослые недостаточно сильны для однообразия. А вот Бог,
наверное, достаточно силен. Наверное, Он каждое утро го-
ворит «Еще!» солнцу и каждый вечер — месяцу. Быть мо-
жет, не сухая необходимость создала все маргаритки одина-
ковыми; быть может, Бог создал каждую отдельно и ни разу
не устал. Бог ненасытен, как ребенок, ибо мы грешили и со-
старились, и Отец наш моложе нас. Повторение в природе
не рутина — это вызов на «бис». Небеса крикнут «бис» пти-
це, которая снесла яйцо. Если человек зачинает и рождает
ребенка, а не мышонка, не лягушку, не чудище, то дело вовсе
не в том, что мы обречены размножаться без цели и смысла.
Возможно, наше крохотное действо тронуло богов. Они вос-
торгаются в звездном театре и в конце каждой нашей драмы
вновь и вновь вызывают нас на сцену. Все повторяется мил-
лионы лет, ибо они так решили, и может прекратиться в лю-
бой миг. Поколение сменяет поколение, но любой из нас мо-
жет оказаться последним.
Таким было мое первое убеждение, родившееся, когда
мои детские чувства столкнулись на всем скаку с современ-
ными верованиями. Я всегда чувствовал, что все на свете —
чудо, ибо все чудесно; тогда я понял, что все — чудо в более
строгом смысле слова: все снова и снова вызывает некая воля.
Короче, я всегда чувствовал, что в мире есть волшебство;
теперь я почувствовал, что в мире есть волшебник. Тогда
усилилось ощущение, всегда присутствовавшее подсознатель-
но: у мира есть цель, а раз есть цель — есть личность. Мир
всегда казался мне сказкой, а где сказка, там и рассказчик.
Но современная мысль пошла вразрез с другим моим
ощущением. Как и все люди прежде, я ощущал, что необхо-
димы строгие границы и условия. Теперь же говорили толь-
ко о расширении и развитии. Герберт Спенсер48 страшно оби-
делся бы, назови его кто-нибудь империалистом, и очень
жаль, что никто этого не сделал. Ведь он — империалист
самого последнего разбора. Он распространял презренное
Учение, будто величина Солнечной системы должна подавить
Духовные силы человека. Но почему человек должен посту-
560
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
питься своим достоинством перед Вселенной, а не, скажем,
перед китом? Если величина доказывает, что человек — не
образ Божий, кит будет образом Божиим, бесформенным и
расплывчатым, словно создал его импрессионист. Глупо от-
рицать, что человек мал перед космосом, — он мал по срав-
нению с любым деревом. Но Герберт Спенсер, как твердо-
лобый империалист, утверждает, что мы захвачены и погло-
щены Вселенной. Он говорит о людях и их идеалах, как са-
мый наглый поборник империи — об ирландцах и их идеалах;
для него человечество — малая нация. Его дурное влияние
отразилось даже на самых достойных и талантливых фантас-
тах, особенно это заметно в ранних романах Уэллса. Многие
моралисты преувеличивали земное зло. Уэллс и его школа
обнаружили зло в небесах. Мы поднимаем глаза к звездам и
ждем, что оттуда придет гибель.
Но то, о чем я упоминал в предыдущей главе, еще хуже,
чем все это. Мы видели, что материалист, подобно сума-
сшедшему, заперт в тюрьму Одной Идем. Он ободряет себя,
твердя, что тюрьма его очень велика, но размеры этой науч-
ной Вселенной не приносят ни новизны, ни облегчения. Кос-
мос бесконечен, но в самом причудливом созвездии нет ни-
чего интересного, вроде милосердия или свободы воли. Ве-
личина и бесконечность космоса ничего не добавляют к его
тайне. Попробуйте развеселить каторжника, чья тюрьма за-
нимает полграфства. Страж будет вести его, вести по туск-
лым каменным коридорам, лишенным всего человеческого.
Так и наши расширители космоса не дадут нам ничего ново-
го, кроме тусклых солнц и все новых закоулков, где нет бо-
жества.
В стране фей был подлинный закон, закон, который мож-
но нарушить, ибо, по определению, закон — это то, что на-
рушить можно. Механизм космической тюрьмы сломать не-
возможно — мы сами всего-навсего часть его. Мы или не-
способны ничего сделать, или обречены делать то, что делаем
Мистическое условие отброшено, нет ни воли, чтобы соблю-
сти закон, ни озорства, чтобы его нарушить. Такая Вселен-
ОРТОДОКСИЯ
561
ная лишена дерзости, стремительности, неожиданности —
всех счастливых обретений поэтичного мира. Современная
Вселенная на самом деле империя — она обширна, но не сво-
бодна. Можно переходить из одной залы без окон в другую,
можно обойти всю Вавилонскую башню — и нигде не попа-
дется окошко, не ворвется свежий ветер.
Жуткие параллели ученых еще и расходятся, чем даль-
ше, тем больше. По мне, в каждой вещи главное — точка,
где сходятся, скажем, лезвия мечей. Обнаружив, что Все-
ленная мне не нравится, я объявил, что мир мал, и вскоре
увидел, что доводы моих противников еще более поверхност-
ны, чем можно было ожидать. По их словам, космос един,
ибо он живет по единым законам; а раз он един, то и един-
ственен. Но тогда почему он непременно велик? Его же не с
чем сравнить; точно так же его можно назвать и маленьким.
Можно сказать: «Я люблю этот огромный мир, толчею звезд,
столпотворение живых существ» — но сказать иначе: «Я люб-
лю этот маленький уютный мир, где в меру звезд и как раз
столько животных, сколько мне нравится». Радуешься ты,
что Солнце больше Земли, или радуешься, что оно не боль-
ше, чем оно есть, — все это только эмоции. Люди предпо-
читают радоваться величине мироздания — но почему бы им
не радоваться его малости?
Случилось так, что я ей радуюсь. Когда мы любим, мы
зовем любимого уменьшительными именами, даже если это
слон или гвардеец. Как ни велик предмет, если мы воспри-
нимаем его целиком, мы можем считать его малым. Усы без
сабли и бивни без хобота велики и неизмеримы. Но, вообра-
зив гвардейца, вы можете вообразить маленького гвардейца.
Действительно, увидев слона, вы можете назвать его «Крош-
ка». Если можно сделать статую чего-либо, можно сделать и
статуэтку. Эти люди признают, что Вселенная едина и одно-
родна, но они не любят ее. Я очень люблю Вселенную и хочу
звать ее уменьшительным именем. Я часто делал так — и
она не возражала. Я чувствовал, что самому мне неясная вера
в Жизнь имеет смысл только в маленьком мире, не в боль-
562
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
шом. В бесконечности есть привкус небрежности, противной
той истовой и преданной тревоге, которую я испытывал, ду-
мая о бесценной жизни. Бережливость куда романтичней
мотовства. Для тех людей звезды — гроши, которыми мож-
но швыряться, а я наслаждался солнцем и серебряной луной,
как наслаждается школьник золотыми монетами в копилке.
Эти подсознательные убеждения лучше всего выражены
в сказках. Одни лишь волшебные сказки могли передать мое
чувство, что жизнь не только удовольствие, но и немысли-
мая привилегия. Так, ощущение, что космос уютен, подтвер-
ждается вечной детской книгой — «Робинзоном Крузо»;
книга эта будет жить вечно, потому что она воспевает ра-
дость пределов и отчаянную романтику благоразумия. Ро-
бинзон Крузо — человек на маленьком островке с немно-
гими пожитками, спасенными из моря (лучшее в книге —
список спасенных вещей). Опись — величайшая из поэм.
Кухонный нож становится сокровищем — ведь море могло
отнять и его. В праздные или тяжелые минуты полезно
взглянуть на кочергу или книжную полку и подумать, как
она обрадовала бы тебя на необитаемом острове. Но еще
лучше — помнить, что все вещи едва уцелели, все спасено
от крушения. Каждый родившийся на свет пережил ужасное
приключение — он мог не родиться. В моем детстве много
говорили о нераскрывшихся талантах, и в моде была фраза:
«Он так велик, а ведь его могло и не быть!» По-моему, го-
раздо важнее, что каждый встречный велик и каждого могло
и не быть.
Пусть моя фантазия смешна, но все вещи в мире каза-
лись мне романтическими обломками Робинзонова корабля.
У нас два пола и одно солнце — это как два ружья и топор.
Страшно важно, чтобы ничего не потерялось, но совсем уж
забавно, что добавить ничего нельзя. Стихия пощадила де-
ревья и планеты, и я радовался, что в сумятице не забыли
Маттехорн49. Я берег звезды, как сапфиры (так называет их
Мильтон), я копил холмы и горы. Ибо Вселенная — единое
сокровище, и то, что обычно говорят о сокровищах — «не-
ортодоксия 563
сравненное», «бесценное», — в этом случае правда. Космос
несравненен и бесценен, ибо другого быть не может.
Так я кончаю (ничего не добившись) попытку выразить
невыразимое. Так отношусь я к жизни; вот почва для семян
учения. Так я смутно думал, когда не умел писать, и чув-
ствовал, когда не умел думать; сейчас я кратко подведу ито-
ги, чтобы можно было двигаться дальше. Во-первых, я был
глубоко уверен, что этот мир не объясняет себя. Может быть,
он — чудо, и объяснит его лишь сверхъестественное, может
быть — фокус, и объяснение его естественно. Но чтобы удов-
летворить меня, оно должно быть лучше, чем те естествен-
ные объяснения, какие я слышал до сих пор. Это — волшеб-
ство, подлинное или поддельное. Во-вторых, в этом волшеб-
стве мне почудился некий замысел, а значит, — тот, кто его
замыслил. У мира был творец, как у произведения искусст-
ва. В-третьих, я считал изначальный замысел прекрасным,
несмотря на изъяны, скажем, драконов. В-четвертых, мне
казалось, что благодарность надо выражать смирением и са-
мообузданием: возблагодарим Бога за пиво и вино и не бу-
дем напиваться. Мы обязаны послушанием Тому, Кто со-
здал нас. Наконец — и это самое странное — мной овладе-
ло смутное и сильное чувство: все хорошее — остаток, кото-
рый надо беречь и ценить, как осколок давнего крушения.
Человек спас свое добро, как Крузо — свое, после круше-
ния. Так я чувствовал, и век не сочувствовал мне. И все это
время я и не думал о христианстве.
Глава V
ФЛАГ МИРОЗДАНИЯ
Когда я был подростком, мне всюду попадались два лю-
бопытных создания — оптимист и пессимист. Я и сам их так
называл, хотя беспечно признаюсь, что никогда не понимал
ЭТИХ слов. Одно было ясно: буквально эти слова понимать
564
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
нельзя; ведь буквально они означали: «тот, кто считает мир
сколь возможно хорошим», и «тот, кто считает мир сколь воз-
можно плохим». Поскольку это чушь, приходилось еще поду-
мать. Слово «оптимист» не могло означать того, кто считает
все на свете правильным, — это ведь так же бессмысленно,
как считать, что все на свете справа. В конце концов я решил,
что для оптимиста все хорошо, кроме пессимиста, а для песси-
миста все плохо, кроме него самого. Нечестно было бы скрыть
загадочное, но заманчивое определение, принадлежавшее од-
ной девочке: «Оптимист смотрит вам в глаза, а пессимист —
вам под ноги». Может быть, лучшего определения и не сы-
щешь? Что-что, а истина в нем есть, пусть аллегорическая.
В сущности, именно так легче всего разграничить невеселого
мыслителя, которому важно, что мы время от времени сопри-
касаемся с землей, и мыслителя посчастливей, который знает,
что мы способны видеть и выбирать дорогу.
Однако в самой альтернативе — или оптимист, или пес-
симист — кроется ошибка. Мы принимаем без доказательств,
что человек оценивает мир так, словно ищет жилье, снимает
квартиру. Если бы мы явились сюда сознательно и в полной
силе, мы могли бы прикинуть, восполняют ли летние леса
бешеных собак, как прикидывает искатель квартир, воспол-
няет ли телефон пыльную улицу под окнами. Но так не бы-
вает. Мы попадаем в этот мир раньше, чем способны решить,
хорошо тут или нет. Мы сражаемся за честь знамени и даже
одерживаем победы раньше, чем нас берут в солдаты. Коро-
че говоря, все дело в том, что мы повязаны верностью, когда
еще никем или ничем не успели восхититься.
Ребенку мир кажется странным и все же хорошим; луч-
ше всего это выражено в сказках. О них я говорил в пре-
дыдущей главе. Теперь читатель может, если хочет, перейти
к той смелой и даже удалой литературе, которая сменяет сказ-
ку в жизни мальчика. Все мы почерпнули немало здравой
нравственности из дешевых приключенческих книжек. По
этой ли, по иной ли причине мне всегда казалось и кажется
теперь, что отношение к жизни лучше всего сопоставлять не
ОРТОДОКСИЯ
565
с осуждением или одобрением, а с воинской верностью. Я при-
нимаю мир не как оптимист, а как патриот. Мир — не пан-
сион в Брайтоне, откуда мы может уехать, если он нам не
нравится. Он — наша фамильная крепость с флагом на баш-
не, и чем хуже в нем дела, тем меньше у нас прав уйти. Суть
не в том, что мир слишком плох для любви или слишком хо-
рош для ненависти. Суть в ином: когда вы кого-то любите,
счастье его, тем паче несчастье, умножает вашу любовь, ко-
гда вы любите Англию, и веселые и печальные мысли о ней
усиливают ваш патриотизм. Если вы любите этот мир, дело
обстоит точно так же.
Представьте себе, что перед вами что-нибудь их рук вон
плохое, скажем, Пимлико. Если вы задумаетесь над тем, как
сделать его лучше, нить мыслей приведет вас к причудливым,
неразумным ответам. Недостаточно возмутиться им — тогда
вы просто зарежетесь или переедете в Челси50. Недостаточно
и восхититься — тогда оно останется как есть, а это ужасно.
Выход один: полюбить Пимлико преданно и без всякой при-
чины. Если хоть один человек его полюбит, оно расцветет зо-
лотыми шпилями и башнями слоновой кости — расцветет, как
женщина, которую полюбили. Ведь мы украшаем не для того,
чтобы скрыть какую-нибудь мерзость, а для того, чтобы хоро-
шее стало еще лучше. Мать завязывает ребенку синий бант не
потому, что ребенок без банта ей противен. Мужчина дарит
женщине ожерелье не для того, чтобы скрыть ее шею. Если
люди полюбят Пимлико, как матери любят детей — неразум-
но, только за то, что это их дети, — оно за два года станет
прекрасней Флоренции. Мне скажут, что все это — парадок-
сы и выдумки. Я отвечу, что это — история. Именно так и
города становились великими. Доберитесь мыслью до самой
глубины цивилизаций, и вы увидите, что они вырастали во-
круг священного камня или колодца. Сперва чтили место, по-
том делали его достойным славы. Рим полюбили не за вели-
чие — Рим стал великим, ибо его полюбили.
Теорию общественного договора51, столь милую сердцу
VIII века, часто неуклюже ругают в веке XX. Ее создате-
566
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ли кое в чем правы — и впрямь, старые формы правления
отражали какое-то соглашение, сотрудничество. Не правы
они в одном: им казалось, что люди стремились к порядку
или к нравственным нормам прямо, сознательно. На самом
же деле нравственность началась не с того, что один человек
сказал другому: «Я тебя не ударю, если ты не ударишь меня»;
нет и следа таких соглашений. Но есть немало следов того,
что оба они говорили: «Мы не ударим друг друга на священ-
ной земле». Выполняя обряд, люди обретали нравственную
ценность. Они не воспитывали храбрости — они сражались
за святыню и вдруг замечали, что храбры. Они не воспитыва-
ли чистоплотности — они омывались для алтаря и замечали,
что чисты. Большая часть англичан знает древнюю историю
только еврейского народа; что ж, в ней достаточно фактов,
подтверждающих мои слова. Десять заповедей52, которые по-
том подошли всему человечеству, были просто военным ус-
тавом, списком приказов, необходимых для того, чтобы ох-
ранять некий ящик на пути через некую пустыню. Беззако-
ние было злом, ибо ставило под удар ковчег. И лишь тогда,
когда один день отвели Богу, оказалось, что человек может
отдохнуть раз в неделю.
Если вы согласитесь, что преданность месту или вещи —
источник творческой силы, мы можем пойти дальше к весь-
ма странным вещам. Повторим еще раз: единственно вер-
ный оптимизм подобен патриотизму. Чем же плох тогда пес-
симист? Мне кажется тем, что он — непатриотичный граж-
данин мироздания. Почему же это плохо? Мне кажется, не
будет слишком грубо, если я назову его искренним доброже-
лателем. Чем же плох искренний доброжелатель? Тут мы
ударяемся о камень реальной жизни и упрямой природы че-
ловеческой.
В искреннем доброжелателе плохо то, что он — неиск-
ренен. Он кое-что затаил — он скрывает, как ему приятно
говорить гадости. Втайне он хочет уязвить, а не помочь. Вот
почему нормального человека так раздражают люди, лишен-
ные патриотизма. Конечно, я говорю не о тех, кто раздража-
ОРТОДОКСИЯ
567
ет истеричных актрис и гневных маклеров; те — просто чест-
ные патриоты. Когда говорят, что нельзя ругать англо-бур-
« 53
скую воину , пока она не кончилась, не стоит даже отвечать;
с таким же успехом можно говорить, что нельзя преграж-
дать своей матери путь к обрыву, пока она не упала в про-
пасть. Но бывает настоящее отсутствие патриотизма, и оно
раздражает здоровых людей по той же самой причине, о ко-
торой я писал. Такой непатриот — неискренний искренний
доброжелатель; он — из тех, кто говорит: «Мне очень жаль,
но вы разорены», а ему ничуть не жаль. Его, не впадая в
напыщенность, можно назвать предателем — ему разреши-
ли знать горькую правду, чтобы он помог своим, дал дель-
ный совет, а он вместо этого подстрекает новобранцев к де-
зертирству. Свободой критики, которую мир предоставил
своим советникам, он пользуется, чтобы отвратить народ от
верности. Пусть он верен фактам — это не все; важны его
чувства, его цели. Быть может, тысяча жителей предместья
действительно заболели оспой; но мы хотим знать, кто гово-
рит об этом — философ, который хочет пороптать на богов,
или врач, который хочет помочь людям.
Пессимист плох не тем, что ругает и богов, и людей, а
тем, что он их не любит; тем, что он не связан с миром врож-
денной, неразумной связью верности. Чем же плох оптимист?
Тем, что, желая подержать честь мироздания, он покрывает
его грехи. Оптимист — как шовинист, он не склонен менять
мир. От всех нападок он отделывается пустыми, как в парла-
менте, отговорками и заверениями. Он не моет мир, а штука-
турит. И тут мы подходим к очень интересной психологичес-
кой загадке.
Мы сказали, что необходима извечная верность бытию.
Какая же — естественная или сверхъестественная? Если
хотите — разумная или неразумная? Как ни странно, дур-
ной оптимизм (неубедительная защита всего на свете) — это
оптимизм разумный. Он ведет к застою; к перемене ведет
оптимизм неразумный. Использую для наглядности все тот
Же патриотизм. Если вы любите какое-то место разумно, по
568
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
определенной причине, вы скорее всего его испортите; если
любите без причины — вы его улучшаете. Если вам (что
маловероятно) нравится в Пимлико что-то определенное, вы
станете это укреплять в ущерб самому Пимлико. Но если вы
просто любите Пимлико, вы можете превратить его в Но-
вый Иерусалим. Не спорю, быть может, это лишнее, мне
важно одно: изменить, исправить может только неразумный
патриот. Те, чей патриотизм обоснован, страдают шовинис-
тической спесью. Самые ярые шовинисты любят не Англию,
а идею Англии. Если вы любите Англию за то, что она —
империя, вы можете переоценить ее успехи в Индии; если
любите ее как страну — не разлюбите никогда, ведь она ос-
танется страной и под властью индусов. Искажает историю
лишь патриотизм, от истории зависящий. Если вы просто
любите Англию, вам неважно, откуда она взялась. Если вы
любите ее, ибо она — англосаксонская, вы легко исказите
факты ради своей причуды. Вы дойдете до того, что норман-
ны, в сущности, были саксами (дошел же до этого Кар-
лейль54); дойдете до нелепости, ибо не хотели, чтобы любовь
ваша была нелепой. Тот, кто любит Францию за военную
мощь, презирает армию 187055 года. Тот, кто любит Фран-
цию без причины, возродит эту армию; так французы и сде-
лали. Франция вообще — воплощение моего парадокса.
Нигде в мире нет столь неразумного и романтического пат-
риотизма; нигде нет столь резких и полезных перемен. Чем
отвлеченней патриотизм, тем практичней политика.
Наверное, самый наглядный бытовой пример — женщи-
ны, их странная и цепкая преданность. Глупые люди реши-
ли, что женщины слепы, так как не покидают мужчину, что
бы тот ни натворил. Вероятно, эти люди не видели ни одной
женщины. Те самые жены, которые идут за мужем в огонь и
в воду, в частных беседах палят его огнем и окатывают во-
дой. Друг хорошо относится к другу и оставляет его таким,
каков он есть; жена любит мужа и, не зная устали, его пере-
делывает. Женщина служит мужчине самозабвенно, как ми-
стик, и ругает его беспощадно, как критик. Это хорошо по-
ОРТОДОКСИЯ
569
нял Теккерей — помните, мать Пенденниса поклонялась ему
как Богу, но отнюдь не считала его безупречным человеком56.
Преданность не мешает критике; фанатик смело может быть
скептиком. Любовь не ослепляет, куда там! — любовь свя-
зывает, и чем крепче ты связан, тем яснее видишь.
Вот как понимаю я теперь оптимизм, пессимизм и «улуч-
шения». Прежде чем менять что-то в мире, мы должны при-
нести ему присягу. Если жизнь важна для нас, драгоценна,
тогда неважно, что я о ней думаю. Если сердце на месте, рука
свободна. Остановлюсь на минуту — сейчас мне возразят.
Мне скажут, что разумные люди считают мир мешаниной
добра и зла, вполне терпимой и сносной. Именно против та-
кого взгляда я и возражаю. Да, я знаю, так думают теперь
многие. Особенно удачно сказал об этом Мэтью Арнолд в
стихах, более кощунственных, чем вопль Шопенгауэра, о том,
что жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит россыпей миров
и родовых мук. Я знаю, что это ощущение пропитало нашу
эпоху — и, на мой взгляд, заморозило. Но для веры и мяте-
жа нужно не вяло принимать мир — «на худой конец сой-
дет», а ненавидеть всем сердцем и всем сердцем любить. Нам
не нужно, чтобы радость и гнев смешивались в унылом до-
вольстве, — мы хотим яростной радости и яростного гнева.
Мир должен быть для нас замком людоеда, который мы обя-
заны взять, и собственным коттеджем, куда мы можем вер-
нуться под вечер.
Без сомнения, обычный человек способен примириться с
миром, но этого мало. Способен ли он ненавидеть мир так
сильно, чтобы его изменить, и любить так сильно, чтобы
счесть достойным перемены? Способен ли узнать, как здесь
плохо, и не впасть в отчаяние? Способен ли он, словом, быть
не только оптимистом и не только пессимистом, но одержи-
мым оптимистом и одержимым пессимистом? Я утверждаю,
что разумный оптимист тут провалится, неразумный — вос-
торжествует.
Я пишу сейчас не логично, а в том порядке, в каком все эти
мысли когда-то приходили ко мне; и в размышлениях моих
570
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
сыграла большую роль одна популярная тогда тема. С тяже-
лой руки Ибсена все обсуждали тогда, считать ли самоубий-
ство похвальным. Серьезные прогрессисты объясняли нам, что
к самоубийце надо питать не жалость, а зависть, — если он
прострелил себе голову, это значит, что она была у него умнее,
чем у других. Уильям Арчер57 сулил, что в золотом веке заве-
дут автоматы и всякий может, опустив монетку в щелочку, по-
кончить с собой. Я же никак не мог согласиться с теми, кто
называл себя человечными и либеральными. Самоубийство —
не просто грех; это грех грехов. Это предательство, дезертир-
ство, абсолютное зло. Убийца убивает человека, самоубийца —
всех людей. Он хуже динамитчика, хуже насильника, ибо взры-
вает все дома, оскорбляет всех женщин. Вору достаточно брил-
лиантов, самоубийцу не подкупишь и сверкающими сокрови-
щами Г рада Небесного. Вор оказывает честь украденной вещи,
хотя и не ее владельцу. Самоубийца оскорбляет все на свете
тем, что ничего не украл. Во всем мироздании нет твари, кото-
рую бы он не обидел. Если он повесился на дереве, листья
вправе осыпаться, птицы — разлететься от обиды. Конечно,
его легко понять и пожалеть. Нетрудно понять и насильника,
тем более террориста. Но если мы перейдем от чувства к чис-
о
той мысли, к сути, нам придется признать, что в осиновом коле,
вбитом в тело на перекрестке дорог, больше истины и логики,
чем в автоматах Арчера. Самоубийцу не случайно хоронили
отдельно от всех. Его преступление особое — оно убивает все
на свете, даже преступление.
Примерно тогда я прочитал у кого-то из либералов, что
самоубийство и мученичество — просто одно и то же. Это
было так неправильно, что помогло мне довести до конца мою
мысль. Конечно, мученик прямо противоположен самоубий-
це. Ему безмерно важно что-то, и он готов забыть себя, от-
дать за это жизнь. Тем он и прекрасен — как бы ни отвер-
гал он мир, как бы ни обличал людей, он подтверждает не-
разрывную верность бытию. Самоубийца же ужасен тем, что
бытию неверен, он только разрушает, больше ничего — ду-
ховно разрушает мироздание. Тут я вспомнил осиновый кол
ОРТОДОКСИЯ
57/
и удивился. Ведь христианство тоже осудило самоубийцу,
хотя возвеличило мученика. Христиан обвиняли — и не все-
гда без причин — в том, что они довели до предела самоис-
тязание и мученичество. Мученики говорили о смерти с по-
истине пугающей радостью. Они кощунственно отвергали
дивные обязанности тела; они наслаждались запахом тления,
как запахом цветущего луга. Многие видели в них истинных
певцов пессимизма. Но осиновый кол говорит нам, что ду-
мает о пессимизме христианство.
Такой была первая из длинной цепи загадок: так христи-
анство впервые вступило в мой мысленный спор. Оно внесло
одну особенность, о которой я скажу потом подробней. Его
суждение о самоубийстве и мученичестве было совсем не по-
хоже на привычное в наши дни суждение о поступках: дело
было в сути, не степени. В наше время сказали бы, что где-то
надо провести границу, и провели бы ее, и отдавший жизнь
восторженно оказался бы по одну сторону от нее, отдавший
жизнь мрачно — по другую. Но христиане не считали, что
самоубийца просто хватил через край. Они яростно отверга-
ли его и яростно славили мученика. Столь похожие действия
были для них далеки друг от друга, как небо и ад. Тот, кто
жертвует жизнью, так хорош, что кости его исцеляют города
от чумы; тот, кто лишает себя жизни, так плох, что кости его
оскверняют кладбище. Не знаю, оправдан ли этот пыл, но
почему он так пылок?
Именно тогда я впервые понял, что стою на протоптан-
ной дороге. Христианство тоже знало разницу между муче-
ником и самоубийцей; быть может, по той же причине? Быть
может, оно почувствовало и выразило то же самое, что не
смог (и не могу) выразить я? И тут я вспомнил: христиан-
ство ругают именно за то, что в нем объединились два взгля-
да, которые я так неуклюже пытаюсь объединить. Его обви-
няют и в излишнем оптимизме, и в излишнем пессимизме.
Совпадение поразило меня.
В наши дни популярен один очень глупый довод: мы го-
ворим, что в такие-то и такие-то вещи можно верить в одном
572
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
веке, нельзя — в другом. Та или иная догма, учат нас, хоро-
ша для XII века, плоха для XX. С таким же успехом можно
сказать, что философская система подходит для понедельни-
ка, но не для вторника; что она хороша в половине четверто-
го, плоха — в половине пятого. Вера зависит от взглядов, а
не от века и часа. Если вы считаете неизменными законы
природы, вы не поверите в чудо ни в каком веке. Предполо-
жим, вы присутствуете при чудесном исцелении. Материа-
лист XII века не поверит в него точно так же, как и материа-
лист XX. Адепт «христианской науки» поверит в XX, как
христианин в XII. Все дело в мировоззрении. Когда мы го-
ворим о каком-нибудь важном ответе, важно не то, давно ли
он дан, важно, отвечает ли он на вопрос. И вот чем больше я
думал о том, как и с чем пришло христианство в мир, тем
сильнее я чувствовал, что оно на вопрос ответило.
Свободомыслящие христиане вечно делают христианству
неуместные комплименты. Послушать их, до христианства
не было ни благоговения, ни жалости; любой средневековый
христианин знал, что это не так. По их словам, христианство
замечательно тем, что первым призвало к опрощению, само-
обузданию, духовности и честности. Меня сочтут очень уз-
ким (что бы ни значило это слово), если я скажу: христиан-
ство замечательно тем, что оно проповедовало христианство.
Его исключительность в том, что оно — исключительно; а в
простоте или в правдивости ничего исключительного нет, к
ним стремились всегда и всюду. Христианство было ответом
на загадку, а не последним из общих мест скучной беседы.
На днях я прочитал в прекрасном пуританского толка жур-
нале: «Освободите христианство от окостеневшей догмы, и
вы увидите, что оно — просто учение о Внутреннем Свете».
С таким же успехом можно освободить человека от костей.
Но дело не в том; если бы я сказал, что христианство явилось
в мир, чтобы уничтожить учение о внутреннем свете, это было
бы неверно и все-таки ближе к истине. Поздние стоики, вро-
де Марка Аврелия, верили во внутренний свет. Своим дос-
тоинством, своей усталостью, своей невеселой и неглубокой
ОРТОДОКСИЯ
573
заботой о других, своей неизлечимой и тщательной заботой о
себе они обязаны именно этому унылому освещению. Вспом-
ните, как настаивает Марк Аврелий на мелких запретах и
мелких обязанностях, — для нравственного мятежа у него
не хватает ни любви, ни гнева. Он рано встает, совсем как
наши лорды, увлекающиеся простой жизнью, — это ведь
куда легче, чем запретить бои гладиаторов или вернуть анг-
личанам землю. Марк Аврелий принадлежал к самому не-
выносимому из человеческих типов. Он — несебялюбивый
себялюбец, иными словами, тот, чья гордыня не оправдана
строгостью. Из всех страшных вер самая страшная — по-
клонение богу, сидящему внутри тебя. Всякий, кто видел хоть
одного человека, поймет, что может из этого выйти; всякий,
кто видел хоть одного адепта Высшей Мысли, знает, что из
этого выходит. Если Джонс поклоняется тому, что у него
внутри, он рано или поздно поклонится Джонсу. Пусть луч-
ше поклоняется солнцу и луне, кошкам и крокодилам! Хрис-
тианство возвестило со всей яростью, что надо глядеть не
внутрь, а наружу — надо принять с удивлением и любовью
общество и опеку Бога. Стать христианином было тем и ра-
достно, что ты уже не один со своим внутренним светом, что
есть свет снаружи — блистающий, как луна, светлый, как
w 58
солнце, грозный, как полки со знаменами .
Тем не менее, солнцу и луне поклоняться не следует. Если
Джонс будет им поклоняться, он станет им подражать. Солн-
це сжигает живьем насекомых — что ж, сожжет и он. От
Солнца бывает солнечный удар — что ж, он ударит ближ-
него. Луна, по слухам, лишает разума — он решит, что вправе
довести до безумия жену. Это уродство чисто внешнего оп-
тимизма тоже проявилось в древности. Примерно в то же
время, когда сквозь идеализм стоиков проступили все слабо-
сти пессимизма, сквозь поклонение природе проступила
безмерная слабость оптимизма. Поклонение природе есте-
ственно, пока общество молодо; пантеизм неплох, пока по-
кланяются Пану. Но у природы есть оборотная сторона, до
которой недолго добраться греху и опыту. Поклонение при-
574 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
роде плохо тем, что оно, рано или поздно, идет наперекор
природе. Утром вы любите ее невинную приветливость, но
приходит вечер, и вам любезны жестокость и мрак. Вы купа-
етесь утром в светлой воде, как купался стоический мудрец,
а на склоне дня вы купаетесь в бычьей крови, как Юлиан
Отступник. Погоня за здоровьем всегда приводит к нездо-
ровым вещам. Нельзя подчиняться природе, нельзя покло-
няться — можно только радоваться. Нельзя серьезно почи-
тать горы и звезды; иначе мы придем к тому, к чему пришли
древние. Земля добра — и потому мы подражаем ее жесто-
кости. Любовь естественна — и потому мы погружаемся в
безумство извращения. Чистый оптимизм дошел до логиче-
ского конца. МыСль о том, что все хорошо, обернулась раз-
гулом самого худшего.
С другой стороны, идеальный пессимизм воплощали позд-
ние стоики. Они отказались от мысли о том, что в мире есть
хоть что-нибудь путное, и смотрели внутрь, в себя. Они не
надеялись найти добро ни в природе, ни в людях; внешний мир
слишком мало их занимал, чтобы уничтожить его или переде-
лать. Античность невесело стояла на том же распутье, что и
мы. Те, кто хотел насладиться миром, с успехом разрушили
его, а те, кто хотел жить по совести, обращали на них слишком
мало внимания, чтобы скрестить с ними меч. На этом самом
распутье внезапно явилось христианство и предложило ответ.
Люди приняли его и признали единственно возможным. Та-
ким он и был; мне кажется, таков он и сейчас.
Этот ответ — как удар меча: он разрубает, а не смеши-
вает и не смазывает все воедино и уж никак не «объединя-
ет». Меч разделил Бога и мир. Бог отделен, определен; мно-
гие, пришедшие теперь к христианству, делают вид, что это-
го нет, но только из-за этого люди приходили в христианство
тогда. Именно так отвечало христианство несчастному пес-
симисту и совсем уж несчастному оптимисту. Сейчас я пишу
не о них и потому коснусь лишь мимоходом столь необъят-
ной проблемы. Определения — и церковные, и мирские —
состоят из слов, и нам никак не избежать метафор. Вопрос
ОРТОДОКСИЯ
575
не в них — вопрос в том, возможны ли вообще определения,
можно ли передать хоть что-то метафорой. Я считаю, что
можно; так же думает и поборник эволюции — иначе он не
стал бы употреблять свою метафору, не говорил бы о разви-
тии. У христиан тоже есть немаловажный образ: слово «Тво-
рец». Бог — творец, как поэт или художник. Все то, о чем я
говорил чуть раньше, можно выразить общей фразой: твор-
чество — это расставание. Такой образ не фантастичней
модных фраз о развитий. Рожая, женщина расстается с ре-
бенком. Всякое творчество — разлука. Рождение — это
прощание, торжественное, как смерть.
Это и возвещал первый философский принцип христиан-
ства: создав мир, Абсолютная сила отделила его от Себя, как
отделяет поэт стихи, мать — новорожденного ребенка. Мно-
гие философы учили, что Бог закабалил мир. Христианство
учит иначе: сотворив мир, Бог его освободил. Он создал не
столько стихи, сколько прекрасную пьесу и отдал ее актерам и
режиссерам, которые сильно ее попортили. Обо всем этом я
буду говорить позже. Сейчас мне важно одно: такой ответ аб-
солютно точно подошел к вопросу, с которого я начал. Если
его принять, можно радоваться и гневаться, не опускаясь ни
до оптимизма, ни до пессимизма. Можно бросить вызов всем
силам мироздания, не предавая знамени. Можно вступить с
миром в схватку и быть ему преданным другом. Можно сра-
жаться с драконом, если тот больше великих столиц и вечных
гор, и даже всей земли, и убить его во имя столиц, земли и гор.
Неважно, кто сильней, — важно, кто прав. Святой Георгий
вонзит копье, даже если перед ним нет ничего, кроме дракона,
и само небо — черная дыра в рамке разверстой пасти.
И когда я думал это, случилось то, что описать было не-
возможно. Долго, с самого отрочества, я бродил, что и дело
натыкаясь на две огромные, хитрые конструкции, совершен-
но разные, ничем не связанные, — мир и христианство. Ка-
ким-то образом я догадался, что надо любить мир, не полага-
ясь на него; радоваться миру, не сливаясь с ним. Я узнал, что
У христиан Бог — личностен, и что Он создал отдельный от
576
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Себя мир. Острие догмы попало в отверстие житейской про-
блемы, они в точности совпали — словно для того их и сде-
лали, — вдруг начали твориться удивительные вещи. Как
только они соединились в этой точке, все их части стали со-
впадать одна за другой, как часы за часами бьют полдень.
Мои ощущения, одно за другим, совпадали е доктринами.
Приведу другое сравнение. Представьте, что я проник на
чужую землю, чтобы взять одну крепость. Крепость пала —
и страна покорилась мне, открылась вся, до самых дальних
уголков детства. Слепые и расплывчатые детские ощущения
стали вдруг ясными и здравыми. Я правильно чувствовал,
что алый цвет роз — как выбор: его выбрал Бог. Я правиль-
но чувствовал, что трава не обязана быть зеленой; она могла
бы, по воле Божией, быть любого другого цвета. Я чувство-
вал, что радость висит на волоске условия, — так и есть, так
и учит нас догмат первородного греха. Самые смутные, не-
четкие чудища, которых я и описать не мог бы, не говоря уж
о защите, тихо заняли свои места,-Словно кариатиды веры.
Я чувствовал: Вселенная не пуста и безгранична, а уютна и
драгоценна; так и есть — всякое творение драгоценно и мало
для Творца, звезды малы и милы для Бога, как бриллианты
для ювелира. Я чувствовал: все хорошее на свете надо хра-
нить, как хранил Робинзон то, что осталось после бури. И тут
есть отголосок истины — ведь мы спаслись, когда золотой
корабль пошел ко дну до начала времен59.
А главное, встала на место проблема оптимизма, и в тот
же миг мне стало легко, словно встала на место кость. Чтобы
откреститься от явного кощунства пессимизма, я нередко
называл себя оптимистом. Но современный оптимист ока-
зался унылым и лживым — он тщился доказать, что мы до-
стойны этого мира. Христианская же радость стоит на том,
что мы его недостойны. Раньше я пытался радоваться, по-
вторяя, что человек — просто одно из животных, которые
просят у Бога пищу себе60. Теперь я и впрямь обрадовался
ибо узнал, что человек — исключение, чудище. Я был прав,
ощущая, как удивительно все на свете, — ведь я сам и хуже.
ОРТОДОКСИЯ
577
и лучше всего остального. Радость оптимиста скучна — ведь
для него все хорошее естественно, оно ему причитается; ра-
дость христианина — радостна, ибо все неестественно и по-
разительно в луче нездешнего света. Современный философ
твердил мне, что я — там, где и должен быть, а я не находил
себе места. Но вот я узнал, что я — не там, где надо, и душа
моя запела, как птица весной. Внезапно осветились забытые
комнаты в сумрачном доме детства, и я понял, почему трава
всегда казалась мне удивительной, как зеленая щетина ги-
ганта, и почему я так скучал по дому у себя, на земле.
Глава VI
ПАРАДОКСЫ ХРИСТИАНСТВА
В нашем мире сложно не то, что он неразумен, и даже не
то, что он разумен. Чаще всего беда в том, что он разумен —
но не совсем. Жизнь — не бессмыслица, и все же логике она
не по зубам. На вид она чуть-чуть логичней и правильней,
чем на самом деле; разумность ее — видна, бессвязность —
скрыта. Приведу довольно поверхностную параллель. Пред-
ставьте, что математик с Луны изучает человека. Конечно,
он сразу увидит, что наше тело — двойное. Человек — это
пара, два близнеца, правый и левый. Заметив, что правой
руке и правой ноге соответствуют левые, лунный исследова-
тель предскажет, что слева и справа одинаковое число паль-
цев, глаз, ушей, ноздрей и даже мозговых полушарий. Он
выведет закон, и, обнаружив слева сердце, смело предска-
жет, что оно есть и справа. Тут он ошибется — именно то-
гда, когда особенно уверен в своей правоте.
В том-то и неожиданность, в том-то и ненадежность, что
все чуть-чуть отклоняется от разумной точности, словно в
мироздание закралась измена. Апельсин или яблоко доста-
точно круглы, чтобы сравнить из с шаром; и все же они —
Не щары. Сама земля — как апельсин. Она достаточно круг-
578
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ла, чтобы простаки-астрономы назвали ее шаром; и все же
она — не шар. Вершина зовется пиком, словно кончается
тончайшим острием; но и это не так. Во всем на свете что-то
чуть-чуть неточно. Не все можно взять логикой, но выясня-
ется это в последний момент. Земля округла, и нетрудно
выяснить, что каждый дюйм ее — изогнут. Однако ученые
все ищут и ищут Северный полюс, стремясь к плоской пло-
щадке. Ищут они и сердце человеческое, а если находят, то
обычно на другой стороне.
Так можно проверять глубину и ясность взгляда. Глубоко
и ясно видит тот, кто может предугадать эту потаенную не-
правильность. Увидев две руки и две ноги, лунный человек
выведет, что у людей — по две ключицы и по два мозговых
полушария. Но если он угадает, где у нас сердце, нам придет-
ся признать его не только ученым. Именно это случилось <
христианством. Оно не просто вывело логичные истины — онс
становится нелогичным там, где истина неразумна. Оно не толь-
ко правильно — оно неправильно там, где неправильна жизнь.
Оно следует за тайной неточностью и ждет неожиданного. Там,
где истина разумна и проста, и оно несложно; но упорно про-
тивится простоте там, где истина тонка и сложна. Оно призна-
ет, что у нас две руки, но ни за что не признает (сколько бы ни
бились модернисты), что у нас два сердца. В этой главе я по-
стараюсь показать одно: когда что-то в христианском учении
кажется нам странным, мы обнаруживаем в конце концов ту
же странность и в истине.
Как я уже говорил, теперь нередко считают, что та или
иная вера невозможна в наш век. Конечно, это — неле-
пость — в любом веке можно верить во что угодно. Однако
в определенном смысле вера связана с веком: в сложную эпоху
оснований для веры больше, чем в простую. Если христиан-
ство годно для Бирмингема, это докажет больше, чем его
пригодность для Мерсии61. Чем сложнее совпадение, тем оно
убедительней. Если узор снежинки похож на Эдинбургскую
темницу62, это может быть случайностью; если все снежинки
в точности повторяют узор лабиринта в Хэмптон-Корте63, я
ОРТОДОКСИЯ
579
бы скорей назвал это чудом. Именно такое чудо напоминает
мне философия христианства. Современный мир так сложен,
что совпадение доказывает больше, чем в старые века. Я на-
чал доверять христианству в Ноттинг-хилле и Бэттерси64. Не
случайно вера изобилует тонкостями догм, раздражающими
тех, кто восхищается, не веря. Верующий гордится сложнос-
тью догматики, как гордится ученый сложностью науки. Чем
догмы сложнее, тем убедительней совпадения. Балка или
камень могут случайно прийтись как раз по дыре; ключ со
скважиной случайно совпасть не могут. Они сложны; если
ключ подошел, значит, он от этой двери.
Однако полнота совпадения очень усложняет мою зада-
чу. Как опишу я такие горы истины? Трудно защищать то,
во что веришь полностью. Куда легче, если ты убежден на-
половину; если ты нашел два-три довода и можешь их при-
вести. Но убежден не тот, для которого что-то подтверждает
его веру. Убежден тот, для кого все ее подтверждает, а все
на свете перечислить трудно. Чем больше у него доводов,
тем сильнее он смутится, если вы попросите их привести.
Спросим врасплох обычного, неглупого человека, почему он
предпочитает цивилизацию варварству, и он растерянно за-
бормочет: «Ну, как же, вот книжный шкаф... и уголь... и ро-
яль... и полиция...» Защищать цивилизацию трудно, слиш-
ком много она дала, столько сделала! Казалось бы, если дово-
дов много, ответить проще простого; на самом деле именно
поэтому ответить невозможно.
Вот почему в убежденном человеке есть какая-то неук-
люжая беспомощность. Вера столь велика, что нелегко и не-
скоро привести ее в движение. Особенно трудно еще и то,
что доказательство можно начать с чего угодно. Все дороги
ведут в Рим — отчасти поэтому многие туда не приходят.
Защищая христианство, я могу начать с любого предмета —
скажем, с репы или с такси. Однако мне хочется, чтобы меня
поняли; и будет умнее, если я протяну дальше нить предыду-
щей главы — той, где я говорил о первом из мистических
совпадений или, верней, мистических подтверждений.
580
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Все, что я знал о христианском богословии, отпугивало
меня. Я был язычником в двенадцать лет, полным агнос-
тиком — в шестнадцать и просто не могу себе предста-
вить, чтобы кто-нибудь перевалил через семнадцать, не
задумавшись над таким простым вопросом. Конечно, я пи-
тал смутное почтение к отвлеченному творцу и немалый
исторический интерес к основателю христианства. Я счи-
тал Его человеком, хотя и чувствовал, что даже в этом виде
Он чем-то лучше тех, кто о Нем пишет. Их я читал — во
всяком случае, я читал ученых скептиков; а больше не читал
ничего, то есть ничего о христианстве и о философии.
Правда, я любил приключенческие книжки, которые не
отступают от здравой и славной христианской традиции;
но этого я не знал. Я не читал тогда апологетов65, да и сей-
час читаю их мало. Меня обратили не они. Гексли, Герберт
Спенсер и Бредлоу66 посеяли в моем уме первые сомнения.
Наши бабушки не зря говорили, что вольнодумцы будора-
жат ум. И верно, они его будоражат. Мой ум они совсем
взбудоражили. Начитавшись рационалистов, я усомнился
в пользе разума; кончив Спенсера, я впервые задумался,
была ли вообще эволюция; а когда я отложил атеистичес-
кие лекции Ингерсолла67, страшная мысль пронзила мой
мозг. Я был на опасном пути.
Да, как ни странно, великие агностики будили сомнения
более глубокие, чем те, которыми мучались они. Примеров
можно привести очень много. Приведу один. Пока я читал и
перечитывал, что говорят о вере нехристиане и антихристиа-
не, страшное ощущение медленно и неуклонно овладевало
мной: мне все сильнее казалось, что христианство — в выс-
шей степени странная штука. Мало того, что его пороки были
один хуже другого — они еще и противоречили друг другу.
На христианство нападали со всех сторон и по самым несов-
местимым причинам. Не успевал один рационалист доказать,
что оно слишком восточное, как другой не менее убедитель-
но доказывал, что оно слишком западное. Не успевал я воз-
мутиться его вопиющей угловатостью, как мне приходилось
ОРТОДОКСИЯ
581
удивляться его гнусной, сытой округлости. Если читателю
это незнакомо, я рассмотрю несколько случаев — первые,
какие вспомню. Приведу я их четыре-пять; останется еще
полсотни.
Например, меня очень взволновало обличение бесчело-
вечной печали христианства; я ведь считал тогда (как, впро-
чем, и теперь), что искренний пессимизм — страшный грех.
Неискренний пессимизм — светская условность, скорее да-
же милая; к счастью, почти всегда пессимизм неискренен.
Если христианство и впрямь неуклонно противилось радос-
ти, я был готов немедленно взорвать собор Святого Павла.
Но — странное дело! — убедительно доказав мне в главе 1,
что христианство мрачнее мрачного, мне доказывали в гла-
ве 2, что оно чересчур благодушно. Сперва мне говорили,
что оно слезами и страхами мешает нам искать счастье и
свободу, а потом — что оно глушит нас утешительным об-
маном и держит всю жизнь в розовой детской. Один вели-
кий агностик негодовал: почему христиане не считают приро-
ду безгрешной, а свободу — легкой? Другой, тоже великий,
сетовал, что «лживые покровы утешенья, благочестивой со-
тканы рукой», скрывают от нас жестокость природы и пол-
ную невозможность свободы. Не успевал один скептик
сравнить христианство с кошмаром, как другой сравнивал
его с кукольным домиком. Обвинения уничтожали друг дру-
га, а я удивлялся. Христианство не могло быть — одновре-
менно, сразу — ослепительно белой маской на черном лице
мира и черной маской на белом лице. Неужели христианская
жизнь так приятна, что христиане трусливо бегут к ней от
всего тяжелого, и в то же время так ужасна, что только ду-
рак ее выдержит? Если христианство искажает мир, то в
какую же сторону? Как ухитряется оно стать сразу и розо-
выми, и черными очками? Я смаковал, как все юнцы той
эпохи, горькое обвинение Суинберна:
Ты победил, о бледный Галилеянин,
мир серым стал в дыхании твоем68.
582
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Но вот я читал то, что Суинберн написал о язычестве
(например, «Аталанту»), и выяснилось, что до Галилеянина
мир, если это возможно, был еще серее. Суинберн, в сущно-
сти, говорил, что жизнь предельно мрачна; и все же Христу
как-то удалось омрачить ее еще. Тот, кто уличал христиан-
ство в пессимизме, сам оказывался пессимистом. Я удивлял-
ся все больше. Мне даже подумалось на минуту — правиль-
но ли, что о радости и вере властно судят те, кто не знает ни
веры, ни радости?
Не подумайте, я не счел, что обвинения — лживы или
обвинители — глупы. Я просто решил, что христианство
очень уж чудовищно. Иногда у кого-то встречаются два про-
тивоположных порока — но такой человек необычен. Быва-
ют, наверное, люди, частью очень толстые, а частью — очень
тощие; но все это странно. В ту пору я думал только о стран-
ностях христианства; я еще не подозревал о странностях ра-
ционализма.
Другой пример. Очень серьезным доводом против хрис-
тианства были для меня рассуждения о его робости, нереши-
тельности, трусости, особенно же — о его отказе от сопро-
тивления и борьбы. Великие скептики XIX века были муже-
ственны и тверды; Бредлоу — в пылком духе, Гексли — в
сдержанном. По сравнению с ними христианство казалось
каким-то беззубым. Я знал евангельский парадокс о щеке;
знал, что священники не сражаются; словом, сотни доводов
подтвердили, что христианство пытается превратить мужчи-
ну в овцу. Я читал это, верил и, не прочитай я ничего друго-
го, верил бы и сейчас. Но я прочитал и другое. Я перевернул
страницу моего агностического Писания, и вместе с ней пе-
ревернулся мой мозг. Оказывается, христиан надо было не-
навидеть не за то, что они мало борются, а за то, что они
борются слишком много. Как выяснилось, именно они ра-
зожгли все войны. Они утопили мир в крови. Только что я
сердился на то, что христиане никогда не сердятся. Теперь
надо было сердиться, что они сердятся слишком много, слиш-
ком страшно; гнев их затопил землю и омрачил небо. Одни и
ОРТОДОКСИЯ
583
те же люди обличали кроткое непротивление монахов и кро-
вавое насилие крестоносцев. Несчастное христианство отве-
чало и за то, что Эдуард Исповедник не брал меча, и за то,
что Ричард Львиное Сердце его взял69. Мне объясняли, что
квакеры — единственные последовательные христиане, а
резня Кромвеля или Альбы — типично христианское дело70.
Что могло все это значить? Что же это за учение, которое
запрещает ссору и вечно разжигает войны? В какой стране
родилось это беззубое и кровожадное чудище? Христиан-
ство становилось все непонятней.
Третий пример — самый странный, так как здесь всту-
пает в игру единственное серьезное возражение против хри-
стианства. Действительно, христианство — всего лишь одна
из вер. Мир велик, людей много, они очень разные. Можно
сказать, не греша против логики, что христианство годится
одним, не годится — другим; что оно родилось в Палестине
и укоренилось в Европе. Когда я был молод, это меня вполне
убеждало; я склонялся к любимой доктрине этических об-
ществ: есть одна огромная, неосознанная церковь, основан-
ная на том, что совесть — вездесуща. Меня учили, что ре-
лигия разъединяет людей, зато мораль — объединяет. В са-
мых дальних веках и землях душа находит разумный нрав-
ственный закон. Мы отыщем Конфуция под китайским
деревом, и он напишет: «Не укради»; расшифруем темней-
шие иероглифы в древней пустыне — и прочитаем: «Дети не
должны лгать». Я верил, что люди — братья во здравом
нравственном чутье; верю и сейчас, хотя не только в это.
И меня очень сильно огорчало, что, по свидетельству скеп-
тиков, христианство отказывало целым эпохам и империям в
справедливости и разуме. Но тут я удивился снова. Скепти-
ки считали все человечество, от Платона до Эмерсона71, еди-
ной церковью, но утверждали, тем не менее, что мораль за-
висит от века и добро одной эпохи становится злом в другой.
Если я, предположим, затоскую по алтарю, мне скажут, что
он не нужен, потому что люди (наши братья) дали нам об-
щую, единую веру, включающую все вековые обычаи и иде-
584
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
алы. Но если я робко замечу, что один из таких обычаев и
есть богослужение, мой назидательный агностик сделает пол-
ный поворот и объяснит, что люди всегда прозябали во мра-
ке дикарских суеверий. Христианство обвиняли без устали в
том, что оно считает одних познавшими свет, других — пре-
бывающими во тьме. Однако те же обвинители гордились,
что их прогресс и наука — удел просвещенных, а все осталь-
ные так и скончались в невежестве. Главный недостаток хри-
стианства оказывался их главным достоинством. И недоста-
ток, и достоинство они очень подчеркивали, и что-то тут было
нечисто. Когда речь заходила о язычнике и скептике, они
вспоминали, что у них одна вера; когда речь заходила о мисти-
ке, они поражались, какая глупая вера у некоторых. Мораль
Эпиктета хороша, потому что мораль неизменна. Мораль
Боссюэ плоха, потому что мораль изменилась. Она измени-
лась за двести лет, но не за две тысячи.
Это становилось подозрительным. Мне начинало казать-
ся, что дело тут не в исключительной порочности христиан-
ства, способного совместить несовместимое, а в том, что вся-
кая палка хороша для борьбы с ним. Что же это за учение,
если его так хотят опровергнуть и, по ходу дела, готовы опро-
вергнуть самих себя? Примеры множились, куда ни глянь.
Слишком долго приводить все, но, чтобы вы не подумали,
что я произвольно выбрал три, приведу еще несколько. Одни
писали, что христианство подтачивает семью, уводит жен-
щин от детей и дома к уединению и созерцанию. Другие (не-
много посовременней) писали, что оно преступно сковывает
нас узами семьи, привязывает женщину к детям и дому, не
давая ей предаться созерцанию. Ссылаясь на некоторые сти-
хи из Посланий, христианство обвиняли в презрении к жен-
скому разуму и тут же сами презирали его, заметив, что «толь-
ко женщины» еще ходят в церковь. Вот еще: христианство
порицали за восхваление бедности, за пост и власяницу, и
сразу, тут же, ругали за склонность к обрядам, за раки из
порфира и золотую парчу. Опять то же самое — и тусклая
простота, и многоцветная пышность! Христианство винили в
ОРТОДОКСИЯ
585
том, что оно сковывает половую жизнь, но Бредлоу и Маль-
тус72 считали, что оно ее сковывает мало. Той дело я слышал
о сухости — ио разгуле чувств. В одной и той же атеисти-
ческой брошюре я прочитал, что в христианстве нет единства
(«Один говорит одно, другой — другое») и что ему не хва-
тает свободы спора («А ведь только разница мнений держит
мир»). В одной и той же беседе один и тот же вольнодумец,
мой приятель, ругал христианство за антисемитизм и за ев-
рейское происхождение.
Я хотел быть объективным тогда, хочу и сейчас. И не
решил, что все нападки — лживы. Я решил, что христиан-
ство — единственное в своем роде. Соединение таких ужа-
сов дает что-то странное и небывалое. Встречаются на свете
люди, соединяющие мотовство со скупостью, но их немного.
Бывают развратники-чистоплюи, их тоже немного. Если дей-
ствительно существует эта смесь кровожадности с беззубос-
тью, роскоши с убожеством, сухости с похотью очей, жено-
ненавистничества с женской глупостью, мрачнейшего уны-
ния с дурацким благодушием — если она существует, она
предельно, поразительно ужасна. Мои рассудительные на-
ставники не объяснили, почему христианство так чудовищ-
но. Для них (в теории) оно было просто одним из обычных
мифов или заблуждений. Они не давали мне ключа, а чуди-
ще тем временем перерастало пределы естественного. Его
поразительная порочность становилась непонятной, как не-
погрешимость папы. Всегда ошибаться так же странно, как
не ошибаться никогда. И я подумал: не порождение ли это
преисподней? Действительно, если Иисус — не Христос, он
не кто иной, как Антихрист.
И тут в один прекрасный час странная мысль поразила
меня словно беззвучный удар грома. Мне пришло в голову
еще одно объяснение. Представьте, что вы слышите сплетни
о незнакомом человеке. Одни говорят, что он слишком вы-
сок, другие — что он слишком низок; одни порицают его
полноту, другие — его худобу; одни называют его слишком
темным брюнетом, другие — светлым блондином. Можно
586
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
предположить, что он очень странный с виду. Но можно пред-
положить и другое: он такой, как надо. Д ля великанов он ко-
ротковат, для карликов — слишком длинен. Старые обжоры
считают его тощим, старые денди — тучноватым на их изыс-
канный вкус. Шведы, светлые, как солома, назовут его тем-
ным; негры — светлым. Короче говоря, это чудище — про-
сто обычный или, вернее, нормальный человек. Быть может,
и христианство нормально, а критики его — безумны каждый
на свой лад? Чтобы это проверить, я постарался вспомнить,
нет ли чего необычного в самих обвинителях. К моему удивле-
нию, ключ подошел. Вот, например, в наше время христиан-
ство ругают и за аскетизм, и за пышность. Но именно теперь
исключительная разнузданность плоти сочетается с исключи-
тельной невзрачностью быта. Современный человек считает
одежды Фомы Беккета чересчур пышными, а пищу его че-
ресчур скудной. Но ведь сам современный человек очень стра-
нен; никогда еще люди не ели так изысканно и не одевались
так скучно. Церковь слишком пестра и украшена в том, в чем
наша жизнь слишком сера. Тот, кто обличает и пост, и пир,
приучен к изысканным закускам. Тот, кому не нравится пар-
ча, носит нелепые брюки. Но неразумны брюки, а не парча.
Неразумны закуски, а не хлеб и вино.
Я перебрал все примеры; ключ подошел всюду. И скорбь
христиан и (еще сильней) их веселье раздражали Суинберна
потому, что он слишком сильно любил наслаждения и слиш-
ком сильно унывал. Болен был он, а не христиане. Мальту-
зианцы нападали на христианство не потому, что в нем есть
что-нибудь особенно несдержанное, а потому, что в них са-
мих есть что-то нечеловеческое.
И все же я чувствовал, что христианство — не просто
разумная середина. В нем действительно была какая-то пре-
дельная сила, какая-то крайность, граничащая с безумием и
оправдывающая неглубокие нападки скептиков. Быть может,
оно мудро — я все больше в это верил; но мудрость его —
не мирская умеренность. Пусть кротость монахов и ярость
крестоносцев уравновешивают друг друга; но монахи предель-
ОРТОДОКСИЯ
587
но, бесстыдно кротки, крестоносцы — предельно яростны.
Додумавшись до этого, я вспомнил свои прежние мысли о
самоубийстве и мученичестве. Там тоже две безумных точки
зрения каким-то образом вместе оказались здравыми. Там
тоже было противоречие, там был один из парадоксов, кото-
рые доказывали скептикам несостоятельность веры. Проти-
воречие оказалось истиной, парадокс оказался правдой. Хри-
стиане сильно ненавидели самоубийцу, сильно любили муче-
ника — но не сильней, чем любил и ненавидел я сам задолго
до того, как стал размышлять о христианстве. Тут началась
самая трудная и занимательная часть моих размышлений:
сквозь сложность богословия я смутно различил очертания
принципа. Принцип был тот самый, о котором я догадался,
размышляя о пессимисте и оптимисте: нужна не смесь, не
компромисс, а оба качества, во всю силу — скажем, пламен-
ная любовь и пламенная ненависть. Сейчас, здесь, я приме-
няю этот принцип только к этике; на самом деле он пронизы-
вает все богословие. Так, правоверные богословы всегда
упорно твердили, что Христос — не существо, отличное и
от Бога, и от человека (как, скажем, эльф), и не полубог,
получеловек (как герой греков), но самый настоящий Бог и
самый настоящий человек. А теперь я расскажу об этом прин-
ципе, следуя ходу тогдашних моих рассуждений.
Все здравомыслящие люди поймут, что здравый смысл —
своего рода равновесие; что безумно обжираться, но безум-
но и голодать. Правда, в наши дни пытаются опровергнуть
Аристотелеву меру — одни мыслители говорят, что надо есть
с каждым днем все больше, другие — что надо свести еду на
нет. Однако великий трюизм Аристотеля остается в силе для
здравомыслящих; мыслители вывели из равновесия только
самих себя. Итак, равновесие; но как удержать его? Эту про-
блему пыталось решить язычество; эту проблему, мне кажет-
ся, решило христианство, и решило ее в высшей степени
странно.
Для язычества добродетель — компромисс; для христи-
анства — схватка, столкновение двух, казалось бы, несов-
588
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
местимых свойств. Конечно, на самом деле несовместимости
нет; но сочетать их действительно трудно. Возьмем тот ключ,
которым мы пользовались, когда говорили о самоубийце, и
подумаем о смелости. Настоящая смелость — почти проти-
воречие: очень сильная любовь к жизни выражается в готов-
ности к смерти. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненави-
дящий сохранит73. Это не мистическая абстракция, а быто-
вой совет морякам и альпинистам; его можно напечатать в
путеводителе по Альпам или в строевом уставе. В этом пара-
доксе — суть мужества, даже самого грубого. Человек, от-
резанный морем, спасется, только если рискнет жизнью. Сол-
дат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том
случае, если он очень хочет жить и как-то беспечно думает о
смерти. Если он только хочет жить — он трус и бежать не
решится. Если он только готов умереть — он самоубийца;
его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пре-
небрегая ею; смелый любит жизнь, как жаждущий — воду,
и пьет смерть, как вино. Ни один философ, мне кажется, не
сумел выразить этой романтической и непростой истины; не
выразил ее и я. Христианство же сделало больше: оно про-
чертило границу между ракой святого и страшной могилой
самоубийцы — показало, как далеки друг от друга смерть
ради смерти и смерть ради жизни. Поэтому и осенила наши
копья тайна рыцарства — христианской смелости, презре-
ния к смерти, а не китайской смелости, презрения к жизни.
Тут я стал замечать, что этот принцип — ключ ко всем
проблемам этики. Возьмем другой пример — скромность.
Как найти равновесие между гордыней и самоуничижением?
Обычный язычник (или агностик) просто скажет, что он до-
волен собой, хотя не слишком — есть люди лучше его, есть и
похуже. Словом, он высоко держит голову — но не задира-
ет нос. Это разумно и достойно; однако, можно возразить,
как мы возражали Мэтью Арнолду. Компромисс обесценил
обе крайности, в нем нет силы, нет чистоты цвета. Такая гор*
дость не поднимет сердце, словно зов боевых труб; ради нее
не оденешься в золото и пурпур. Такая скромность не очис-
ОРТОДОКСИЯ
589
тит душу огнем, не сделает прозрачной, как стекло, не упо-
добит нас ребенку, сидящему у подножия трав. Чтобы уви-
деть чудо, надо смотреть снизу — Алиса стала очень ма-
ленькой, чтобы проникнуть в сад. Умеренная, разумная
скромность лишает нас и поэзии гордости, и поэзии смире-
ния. Христианство пошло своим странным путем и спасло
их, обе.
Оно разделило понятия и довело каждое до предела. Че-
ловек смог гордиться, как не гордился никогда; человеку при-
шлось смириться, как он никогда не смирялся. Я — человек,
значит, я выше всех тварей. Но я — человек, значит, я ниже
всех грешников. Смирению пессимизма — презрению к лю-
дям — пришлось уйти. Заглохли сетования Екклесиаста:
«Нет у человека преимущества перед скотом» — и горькие
слова Гомера о печальнейшей из тварей земных74. Человек
оказался подобием Божьим, гуляющим в саду. Он лучше
скота; печален же он потому, что он не скот, а падший Бог.
Великий грек говорил, что мы ползаем по земле, как бы вце-
пившись в нее. Теперь мы ступаем твердо, как бы попирая
землю. Человек так велик для христиан, что его величие мо-
гут выразить только сияние венцов и павлиньи перья опахал.
Но человек так мал и слаб, что это выразят только пост и роз-
га, белый снег святого Бернарда и серая зола Доминика75. Когда
христианин думает о себе, у него достаточно причин для са-
мой горькой правды и самого беспощадного уничижения.
Реалист или пессимист может разгуляться вволю. Пусть зо-
вет себя дураком или даже проклятым дураком (хотя здесь
есть привкус кальвинизма); только пусть не говорит, что ду-
раки не стоят спасения. Пусть не говорит, что человек —
вообще человек — ничего не стоит. Христианству и тут уда-
лось соединить несоединимое, соединить противоположнос-
ти в самом сильном, крайнем виде. Себя самого надо ценить
как можно меньше, душу свою — как можно больше.
Возьмем другой пример — сложную проблему милосер-
дия, которая кажется такой простой немилосердным идеали-
стам. Милосердие — парадокс, как смирение и смелость.
590
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Грубо говоря, «быть милосердным» — значит прощать не-
простительное и любить тех, кого очень трудно любить. Пред-
ставим снова, как рассудил бы разумный язычник. Он ска-
зал бы, вероятно, что одних простить можно, других —
нельзя; что над рабом, стащившим вино, можно посмеяться,
а раба, предавшего господина, нужно убить и не прощать даже
мертвого. Если поступок простителен, человека можно про-
стить, и наоборот. Это разумно, даже мудро; но это — смесь,
компромисс, раствор. Где чистый ужас перед неправдой, ко-
торый так прекрасен в детях? Где чистая жалость к челове-
ку, которая так прекрасна в добрых? Христианство нашло
выход и здесь. Оно взмахнуло мечом — и отсекло преступ-
ление от преступника. Преступника нужно прощать до сед-
мижды семидесяти76. Преступление прощать не нужно. Раб,
укравший вино, вызывал и раздражение, и снисхождение.
Этого мало. Мы должны возмущаться кражей сильнее, чем
прежде, и быть добрее к укравшему. Гнев и милость вырва-
лись на волю, им есть теперь, где разгуляться. И чем больше
я присматривался к христианству, тем яснее видел: оно уста-
новило порядок, но порядок этот выпустил на волю все доб-
родетели.
Свобода чувств и разума не так проста, как нам кажется.
Здесь нужен баланс, именно такой, какой вносят законы в
свободу политическую. Средний эстет-анархист, стремящий-
ся к бесформенной свободе чувств, попадает в ловушку —
он ничего не может чувствовать. Он разбивает оковы дома,
чтобы отдаться поэзии; но, не зная этих оков, он уже не пой-
мет «Одиссеи». Он освобождает себя от патриотизма и на-
циональных предрассудков; освобождает тем самым и от
«Генриха V»77. Он — за пределами литературы, он — не
свободней, чем фанатик. Ведь если между вами и миром —
стена, важно ли, с какой вы стороны? Никому не нужна сво-
бода от всего на свете; нужна иная свобода. Можно освобо-
дить вас от чувств, как освобождают из тюрьмы; можно ос-
вободить и так, как выгоняют из города. И вот, как же вый-
ти за стену, выпустить чувства на волю и не наделать зла?
ОРТОДОКСИЯ
591
Эту задачу решила церковь, провозгласив свой великий па-
радокс о совместимости несовместимых начал. Она знала и
верила, что дьявол воюет с Богом; она восстала против дья-
вола; в беде и смятении мира ее гнев и ее радость загремели
во всю силу, как водопад или стихи.
Святой Франциск мог славить все доброе радостней, чем
Уитмен. Святой Иероним мог обличать все злое мрачнее,
чем Шопенгауэр. И радость, и мрачность вышли на волю,
потому что обе стали на свое место. Теперь оптимист вправе
славить веселый зов труб и пурпур знамен; но не вправе ска-
зать, что бой не нужен. Пессимист волен предупредить об
увечьях и усталости, но не вправе сказать, что битву все рав-
но не выиграть. Так было во всем, чего бы я ни коснулся: с
гордостью, состраданием, противлением злу. Церковь не
только сохранила несовместимые на первый взгляд вещи —
она довела их до накала, который в миру ведом разве что
анархистам. Кротость стала безумней безумия. Христиан-
ство перевернуло нравственность; его добродетели порази-
тельней языческих, как злодеяния Нерона поразительней
будничных проступков. Дух гнева и дух любви стали стран-
ными и прекрасными: ярость святого Фомы ринулась, как
пес, на величайшего из Плантагенетов78, жалость святой
Екатерины целовала головы на плахе79. Стихи воплотились в
жизнь. Эти величие и красота действий исчезли вместе с
мистической верой. Святые в своем смирении действовали
великолепно, как в театре. Мы для этого слишком горды.
Наши наставники ратуют за реформу тюрем; но вряд ли нам
Доведется увидеть, как видный филантроп целует обезглав-
ленное тело, пока его не кинули в известь. Они обличают
миллионеров, но вряд ли мы увидим, как Рокфеллера секут
в храме.
Да, обвинения секуляристов не только сбивают с толку —
они помогают понять христианство. Наша церковь действи-
тельно довела до предела и девственность, и семью — они
сверкают рядом, как белизна и багрец на щите святого Геор-
гия. Христианству всегда была присуща здоровая ненависть
592
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
к розовому. В отличие от философов, оно не терпит мешани-
ны; не терпит того компромисса между белым и черным, ко-
торый так недалек от грязно-серого. Быть может, мы выра-
зим все христианское учение о целомудрии, если скажем, что
белое — цвет, а не бесцветность. Все, о чем я толкую, мож-
но сказать и так: христианство стремится сохранить оба цве-
та и яркими, и чистыми. Его решение — не смешанный цвет,
не желтовато-рыжий, не лиловый. Скорее оно похоже на
переливчатый шелк, где яркие, блестящие нити идут рядом —
а то и образуют знак креста.
Точно так же, конечно, обстоит дело, когда христианство
обвиняют и в непротивлении, и в воинственности. Конечно,
оба обвинения верны. Оно действительно вручало меч од-
ним, вырывало его у других. Те, кто воевал, были страшны,
как молния, те, кто не воевал, — спокойны, как статуя. Что
ж, Церковь умеет использовать и своих ницшеанцев, и сво-
их толстовцев. Что-то есть в бою, если столько прекрасных
людей любили битву. Что-то есть в непротивлении, если
стольких прекрасных людей радовала полная непричастность
к войне. Но Церковь не дала исчезнуть ни тому, ни другому.
Она сохранила обе добродетели. Тот, кто, как монах, не мог
пролить крови, просто становился монахом. Такие люди были
не сектой, а особым человеческим типом, вроде клуба. Мо-
нахи говорили все, что сказал Толстой; оплакивали жесто-
кость битвы и обличали пустоту отмщения. Но толстовцы
недостаточно правы, чтобы вытеснить из мира всех других; в
века веры им не давали полной власти, и мир не лишился по
их вине последней битвы сэра Джеймса Дугласа80 или зна-
мени Иоанны. А иногда чистая милость и чистая ярость со-
четались в одном человеке — так, выполнив пророчества,
лев и ягненок возлегли рядом в сердце святого Людовика.
Не забудьте, текст этот толкуют однобоко. Многие, особен-
но те же толстовцы, считают, что, возлегши рядом с ягнен-
ком, лев уподобился ему. Да это же аннексия, империализм -
ягненок просто поглотил бы льва, как лев поглощал его. Дело
в другом. Может ли лев лечь рядом с ягненком и сохранить
ОРТОДОКСИЯ
593
царственное величие? Так спросила Церковь; такое чудо она
свершила.
Вот это я и имел в виду, кода говорил о скрытых стран-
ностях жизни. Церковь поняла, что сердце слева, а не посе-
редине; что земля — и шар, и не шар. Христианское учение
открыло, где и в чем жизнь неразумна. Оно не только по-
стигло закон — оно предсказало исключения. Те, кто пола-
гает, что христианство изобрело сострадание, недооценива-
ют христианство. Сострадание мог изобрести всякий; всякий
это и делал. А вот совместить сострадание с суровостью мог
только тот, кто предвидит странные нужды человека; ведь
никто не хочет, чтобы большой грех прощали ему словно ма-
ленький. Всякий мог сказать, что жить — не очень хорошо и
не очень плохо. А вот понять, до какой черты можно ощу-
щать зло жизни, не закрывая от себя добра, — это откры-
тие. Всякий мог сказать: «Не возносись и не юродствуй»;
поставить предел. Но тот, кто скажет: «Здесь гордись, а вот
здесь — юродствуй», людей освободит.
Сила христианской этики в том, что она открыла нам но-
вое равновесие. Язычество — как мраморная колонна; оно
стоит прямо, ибо оно пропорционально и симметрично. Хри-
стианство — огромная, причудливая скала: кажется, тронешь
ее — и упадет, а она стоит тысячи лет, ибо огромные высту-
пы уравновешивают друг друга. В готическом храме все ко-
лонны разные и все нужны. Святой Фома Беккет носил вла-
сяницу под золотой и пурпурной парчой, и ему была польза
от власяницы, окружающим — от парчи; наши миллионеры
являют другим мрачный траур, а золото держат у сердца. Не
всегда равновесие — в одном человеке, часто оно во всем
теле Церкви. Монах предавался молитве и посту в северных
снегах — и южные города могли украшать себя цветами.
Пустынник пил воду в песках Сирии — и крестьяне могли
пить сидр в английских садах. Христианский мир удивитель-
ней и сложней языческой империи. Так, Амьенский собор не
лучше, а сложней и удивительней Парфенона. Если вам ну-
жен довод из современности, подумайте о том, почему хри-
594
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
стианская Европа, оставаясь единым понятием, раскололась
на маленькие страны. Патриотизм — великий пример тако-
го, нового равновесия. Языческая империя повелевала:
«Вы — римские граждане, уподобьтесь же друг другу. Пусть
германец не будет таким послушным и медлительным, галл —
таким мятежным и быстрым». Христианская Европа, ведо-
мая чутьем, говорит: «Пусть немец останется медлительным
и послушным, чтобы француз мог быть мятежным и быст-
рым. Нелепица, именуемая Германией, уравновесит безумие,
именуемое Францией».
И, наконец, самое главное. Если мы не скажем об этом,
мы не поймем то, чего никак не могут понять враждебные
историки христианства. Я имею в виду чудовищные схватки
из-за мельчайших тонкостей догмы, истинные землетрясе-
ния из-за жеста или слова. Да, речь шла о дюйме, но дюйм —
это все, когда надо удержать равновесие. Ослабьте одно, и
другое станет сильнее, чем надо. Пастырь вел не овец, а тиг-
ров и диких быков — каждая из доктрин могла обернуться
ересью и разрушить мир. Помните, что Церковь — укроти-
тельница львов; очень уж опасны ее учения. Непорочное зача-
тие, смерть Бога, искупление грехов, выполнение пророчеств
можно, сдвинув чуть-чуть в сторону, превратить во что-то
ужасное или кощунственное. Ювелиры Средиземноморья
упустили крохотное звено — и лев древнего отчаянья сорвал-
ся с цепи в северных лесах81. О самих богословских спорах я
скажу позже. Здесь мне важно напомнить, что мельчайшая
ошибка в доктрине может разрушить всю человеческую ра-
дость. Неточная фраза о природе символа сломала бы луч-
шие статуи Европы. Оговорка — остановила бы все пляски,
засушила бы все рождественские елки, разбила пасхальные
яйца. Доктрины надо определять строже строгого хотя бы
для того, чтобы люди могли вольнее радоваться. Церкви при-
ходится быть очень осторожной, хотя бы для того, чтобы мир
забывал об осторожности.
Вот она, поразительная романтика ортодоксии. Люди,
как это ни глупо, говорят, что правая вера скучна, безопас-
ОРТОДОКСИЯ
595
на и тяжеловесна. На самом деле нет и не было ничего столь
опасного и занимательного. Ортодоксия — это нормаль-
ность, здоровье, а здоровье — интересней и трудней безу-
мия. Тот, кто здоров, правит несущимися вскачь конями,
придержит тут, приотпустит там — и держит равновесие
стойко, как статуя, арифметически точно. Церковь ранних
веков не была тупой и фанатичной, она укротила многих ди-
ких коней; но нельзя сказать, что она била в одну точку. Она
разила вправо и влево, сокрушая огромные опасности. Она
сокрушила арианство, хотя все земные силы чуть не сделали
ее слишком земной, и тут же принялась за восточные ереси,
чуть не сделавшие ее слишком бесплотной. Она никогда не
шла удобным путем, не подчинялась условностям, не стано-
вилась приличной, осторожно-разумной. Легче было, в IV ве-
ке, поддаться земной власти ариан. Легче было, в XVII ве-
ке, сползти в бездонную пропасть предопределения. Легко
быть безумцем, легко быть еретиком. Проще всего — идти
на поводу у века, труднее всего — идти, как шел. Легко
быть модернистом; легко быть снобом, легко угодить в одну
из тех ловушек, которые — мода за модой, секта за сек-
той — стоят на пути Церкви. Легко упасть; падают под мно-
гими углами, стоят — только под одним. Легче легкого под-
даться любому из поветрий, от агностицизма до христианс-
кой науки. Но избежать их — истинный подвиг, от которо-
го захватывает дух. И я вижу, как, громыхая, мчится по
векам колесница, дикая Истина правит ею и тусклые ереси
падают перед ней.
Глава VII
ВЕЧНЫЙ МЯТЕЖ
В предыдущих главах я попытался доказать несколько
положений. Вот они: во-первых, чтобы улучшить жизнь, надо
хоть во что-то верить; во-вторых, чтобы хоть как-то радо-
596
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ваться, надо хоть чем-то возмущаться; в-третьих, и для ра-
дости, и для возмущения мало стать уравновешенным, как
стоик. Простая покорность судьбе лишена высокой легкости
счастья и острой невыносимости боли. Нам часто советуют
«перетерпеть с улыбкой». На это нетрудно ответить: если
вы терпите, вам не до улыбок. Греческие герои не улыбают-
ся; зато горгульи хохочут — на то они и христианские. Ког-
да же христианин счастлив — счастье его сильно, как ужас.
Христос предрек всю готику, когда почтенные и нервные
люди (те самые, что теперь не выносят шарманки) возмуща-
лись криками иерусалимских мальчишек. Он сказал: «Если
они умолкнут, то камни возопиют»82; и, разбуженный силой
Его духа, загремел хор готических храмов, покрытых ору-
щими, разверстыми ртами. Пророчество исполнилось; кам-
ни возопили.
Если эти положения приняты, хотя бы рассуждения ради,
зададим следующий вопрос, столь явно стоящий перед нами.
Чтобы улучшить мир, надо быть хоть чем-то довольным. Но
что значит «улучшить»? Рассуждая об этом, наши современ-
ники чаще всего попадают в порочный круг — в тот самый
круг, который стал для нас символом безумия и пустого ра-
ционализма. Эволюция хороша, если она ведет к добру; доб-
ро — это добро, если оно способствует эволюции. Слон сто-
ит на черепахе, а черепаха на слоне.
Казалось бы, ясно, что за идеалом нельзя обращаться к
природе — по той простой причине, что в природе (в отли-
чие от наших теорий) нет никакого принципа. Скажем, пош-
лый противник демократии важно сообщит вам, что природа
не знает равенства. Он прав — однако, он не закончил фра-
зы. Природа не знает равенства; не знает она и неравенства.
И равенство, и неравенство предполагают определенную си-
стему ценностей. Тот, кто видит аристократию в мешанине
животного мира, так же поддался обману чувств, как тот,
кто видит в ней демократию. И та, и другая — идеалы чисто
человеческие. Демократы говорят, что все люди ценны, ари-
стократы — что одни ценнее других. Природа же вовсе не
ОРТОДОКСИЯ
597
говорит, что кошки ценнее, чем мыши; она вообще молчит в
этом споре. Она даже не скажет, что кошке надо завидо-
вать, а мышку — жалеть. Мы считаем, что мышь — в худ-
шем положении, ибо исповедуем философию, согласно кото-
рой жизнь лучше смерти. Но даже у нас не все так думают.
Если мышь — из немецких пессимистов, она вправе считать,
что взяла верх, а кошку обрекла на дальнейшие мучения.
Мышь-пессимистка гордится, что продлила для кошки пыт-
ку существования, как гордится, быть может, микроб, при-
носящий болезнь. Все дело в том, какие у мыши взгляды. Вы
даже не можете судить, что в природе — победа, что — по-
ражение, пока не привнесете в нее хоть какую-нибудь докт-
рину.
В природе идеала не найдешь; а поскольку я не хотел бы
начинать с конца, не будем пока искать его в Боге. Обратим-
ся к самим себе — ведь есть же у нас какое-то видение, хотя
большинство современников описывают его очень смутно.
Одни просто все сваливают на время; им кажется, что
простой ход времени дает какие-то преимущества. Даже
вполне умные люди часто говорят, между прочим, что та
или иная нравственная система «не для наших дней». При
чем тут дни? Чем связаны они с нравственностью? Конеч-
но, эти люди хотят сказать другое: по их мнению, большин-
ство отстало от их любимого меньшинства (а может — опе-
редило его?). Другие цепляются за метафоры; честно гово-
ря, по этой склонности легко отличить современных людей,
разучившихся выражаться ясно. Не смея сказать прямо, что
же хорошо, что — дурно, они бесстыдно суют дешевые об-
разы и, как ни прискорбно, еще думают, что это очень
утонченно, не то что грубая старая мораль. Например, им
кажутся очень умными слова «высокий» или «высший».
Ничего умного тут нет. Ведь речь идет не о шпиле и не о
флюгере. «Томми — хороший мальчик» — чисто философ-
ское утверждение, достойное Платона и Аквината. «Томми
живет высшей жизнью» — неуклюжее иносказание самого
Дурного пошиба.
598
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Кстати, в этом — большая слабость Ницше, которого
многие считают смелым и сильным философом. Конечно,
он пишет убедительно и красиво; но уж никак не смело.
Чего-чего, а отваги в нем нет. Он никогда не скажет, что
думает, простыми абстрактными словами, как говорили
твердые и бесстрашные мыслители — Аристотель, Каль-
вин, даже Маркс. Он вечно прячется за пространственную
метафору, как резвый, но не слишком талантливый поэт.
Не осмеливаясь сказать «хуже зла» или «лучше добра» он
говорит «по ту сторону добра и зла». Посмей он взглянуть
своей мысли в лицо, он увидел бы, что это — чушь. Опи-
сывая своего героя, он не скажет, что тот — чище, или сча-
стливей, или несчастней других: ведь это все мысли, шту-
ка опасная. Он говорит, что тот выше других, но так мож-
но сказать об акробате или об альпинисте. Ницше —
очень робкий мыслитель. Он и сам не знает, какой именно
ему нужен сверхчеловек. А уж если он не знает, откуда
же знать простым поборникам эволюции, жонглирующим
словом «выше»?
Третьи решили сидеть тихо. Когда-нибудь что-нибудь
да будет (никто не знает, что и когда). Если что-то появи-
лось — значит, так и надо; если не появилось — значит,
незачем. Четвертые, напротив, стараются забежать вперед.
Поскольку у нас могут вырасти крылья, они пока что отстри-
гают нам ноги. А что, если природа задумала сороконожек?
Пятые, наконец, берут то, что им нравится, и выдают за
цель эволюции. Эти — разумней всех. Только так и можно
толковать по-человечески слова «прогресс» или «развитие».
Вы что-то видите, чего-то хотите и стараетесь изменить в
эту сторону мир. Точнее говоря, то, что вокруг нас, — еще
не сам мир, а сырье, материалы. Бог дал нам не картину, а
палитру. Но Он дал и план, набросок, видение. Мы знаем,
что именно хотим изобразить. Так я дошел до новой мысли.
Раньше я понял, что этот мир можно изменить, только если
его любишь. Теперь прибавлю: чтобы знать, как менять, надо
любить иной мир, выдуманный или истинный.
ОРТОДОКСИЯ
599
Не будем спорить о словах. Мне больше нравится гово-
рить о реформе, чем об эволюции или прогрессе. Реформа
предполагает форму. Слово «эволюция» связанно с развер-
тыванием — что-то само собой разворачивается. Про-
гресс — с продвижением по дороге, быть может, неверной.
Но в слове «реформа» — образ разумный и точный, он го-
дится решительным людям. Мы видим — что-то не так, хо-
тим придать правильную форму и знаем, какую.
Тут-то начинается беда нашей эпохи. Сторонники про-
гресса перепутали две разные, противоположные вещи. Ка-
залось бы, надо менять мир так, чтоб он соответствовал ви-
дению, идеалу. Мы же постоянно меняем видения. Казалось
бы, надо — пусть медленно, но верно — учить людей добру
и справедливости. Мы же быстро усомнились в справедли-
вости и добре; любой бред немецкого софиста сбивает нас с
толку. Казалось бы, надо идти к Новому Иерусалиму. На
деле Новый Иерусалим убегает от нас. Мы не стали менять
реальность в угоду идеалу. Мы меняем идеал; оно и легче.
Глупые примеры всегда проще. Представьте, что вам
захотелось создать какой-нибудь новый мир, скажем, синий.
Это не очень легко, и не сделаешь так уж быстро. Вас ждут
подвиги — например, надо выкрасить тигра. Вас ждут ра-
дости — вы увидите, как восходит синяя луна. Если вы не
будете лениться, вы оставите после себя лучший, более кра-
сивый мир. Если вы работаете медленно и красите только по
травинке в день, вы сделаете мало. Но если вы каждый день
меняете цвет, вы не сделаете ничего. Если, прочитав очеред-
ного философа, вы будете красить все красным или желтым,
после вас, в лучшем случае, останется несколько синих тиг-
ров, образчиков ранней манеры.
Именно этим занимается средний современный мысли-
тель. Вы скажете, что я преувеличиваю. Нет, именно так все
и было. Серьезные и даже великие изменения в нашей куль-
туре и политике произошли в начале XIX века, не позже. То
было время черного и белого; люди твердо верили в протес-
тантизм, в кальвинизм, в реформы, в реакцию, а нередко и в
600
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
революцию. Каждый, кто верил, упорно бил в одну точку, не
зная сомнения, — потому они чуть не свалили и Церковь, и
палату лордов. У радикалов хватило мудрости на верность и
постоянство; хватило мудрости на консерватизм. А сейчас,
теперь у радикалов нет ни времени, ни силы что-нибудь со-
крушить. Лорд Хью Сесил83 не ошибся, когда заметил не-
давно в прекрасной речи, что пора перемен сменилась порой
покоя. Но, боюсь, он огорчился бы, если бы понял, что поко-
ем мы обязаны полнейшему безверию. Если вы хотите, что-
бы все оставалось как есть, меняйте почаще веры и моды.
Монархия и палата лордов стоят твердо, а порукой тому тол-
стовство, коллективизм, коммунизм, анархизм, неофеодализм
и научная бюрократия. Новые религии обеспечили (Бог зна-
ет, надолго ли!) устойчивость англиканства. Ницше, Толстой,
Маркс, Шоу, Каннингэм Грэхем и Оберон Херберт, скло-
нив гигантские спины, держат трон архиепископа Кентербе-
« 84
рииского .
Свободомыслие — лучшее средство против свободы.
Освободите разум раба в самом современном стиле, и он ос-
танется рабом. Научите его сомневаться в том, хочет ли он
свободы, — и он ее не захочет. Вы скажете снова, что я пре-
увеличил. И снова я отвечу: именно так живут те, кого вы
встречаете на улице. Необразованный негр столь туп и ни-
зок, что по-человечески предан хозяину или по-человечески
хочет на волю. Но тот, кого мы встречаем, — рабочий или
клерк у Гредграйнда85 — слишком устал от мыслей, чтобы
верить в свободу. Мятежные книги держат его на привязи.
Безумные системы мелькают перед ним и его убаюкивают.
Сегодня он марксист, завтра — ницшеанец, послезавтра,
наверное, сверхчеловек, а раб — все время. Кроме теорий
для него остается контора или фабрика. Выигрывает от всего
этого Гредграйнд. Ему очень выгодно снабжать своих илотов
книгами, исполненными сомнения. А ведь и впрямь, Грейд-
грайнд прославился библиотеками! Все новые книги служат
ему. Пока небесное то и дело меняется, на земле все будет
по-прежнему. Ни один идеал не додержится до хотя бы
ОРТОДОКСИЯ
601
скромных результатов. Современный молодой человек не
изменит мира — он занят тем, что меняет убеждения.
Вот первое необходимое условие: идеал должен быть ус-
тойчивым. Не столь уж важно, сколько раз люди не дотяги-
вали до идеала; все такие срывы — полезны. Но очень важ-
но, как часто люди идеал меняли; в таких переменах никакой
пользы нет. Уистлер86 снова и снова рисовал натурщика; важ-
но ли, что он выбрасывал по двадцать набросков? А вот если
бы всякий раз он видел нового натурщика, было бы плохо.
Но встает вопрос: что можно сделать, чтобы люди, недоволь-
ные плодами труда, не прекращали работы? Как сделать,
чтобы художник, недовольный портретом, выбросил в окно
портрет, не натурщика?
Твердое правило нужно не только правителю, но и мя-
тежнику. Устойчивый идеал нужен любому мятежу. Новые
идеи мы иногда осуществляем медленно; быстро мы осуще-
ствляем идеи старые. Если я плыву, качусь, выцветаю, цель
моя может быть неясной; но восстать я могу только во имя
четкой цели. Сторонники прогресса и эволюции этого не зна-
ют; в том их слабость. Им кажется, что нравственность
улучшается постепенно, год за годом и даже минута за мину-
той. Тут неверно одно. Они признают медленный путь к спра-
ведливости; а как же быстрый? Как быть, если надо немед-
ленно возопить о вопиющей неправде? Для ясности приведу
пример. Некоторые вегетарианцы, скажем, Солт, говорят,
что пришло время отказаться от мяса. Тем самым получает-
ся, что раньше в мясе ничего плохого не было и, с другой
стороны, через годы будет безнравственно есть яйца или пить
молоко. Сейчас я не собираюсь обсуждать, справедливо ли
убивать животных. Я говорю одно: если это несправедли-
во — надо срочно кидаться на помощь. А как тут кинешься,
если ты опередил свой век? Как поспеешь на поезд, если он,
быть может, прибудет веков через пять? И еще: вправе ли я
осудить того, кто мучает кошку, если в свое время будет так
Же дурно выпить молока? Прекрасные и спятившие русские
сектанты выпрягают лошадей из повозок. Выпрягать ли мне
602
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
лошадь из кеба? Хорошо, если кебмен отстал от времени, —
а что, как я время опередил? Представьте, что я говорю же-
стокому фабриканту: «Рабство соответствовало прежней фазе
эволюции», а он отвечает: «Что ж, потогонная система соот-
ветствует нынешней». Что я отвечу, если нет мерила, сто-
ящего вне времени? Быть может, не фабрикант отстал, а
филантроп опередил эпоху?
Итак, можно сказать, что твердый идеал нужен мятеж-
нику не меньше, чем консерватору. Без него не выполнишь
воли короля; без него короля и не казнишь. Гильотина пло-
хая штука, одно в ней хорошо: быстрота. Нож ее — лучший
ответ на любимый довод эволюционистов. «Где же именно
вы проведете черту?» — спрашивают они, а мятежник отве-
тит: «Вот здесь, между вашей головой и телом». Если надо
нанести удар, надо знать, что — хорошо, что — плохо; надо
верить во что-то вечное, если хочешь действовать быстро.
Какое бы связное человеческое дело вы ни затеяли — наме-
рены ли вы хранить все неизменным, как в Китае, или ме-
нять все, что ни месяц, как в революционной Франции, —
перед вами должен быть образчик, устойчивый идеал. Вот
оно, первое требование.
Я написал это, и мне показалось, что кто-то еще участву-
ет в споре, — так слышишь над улицей колокольный звон.
Кто-то говорил: «Мой идеал устойчив — он встал вместе с
этим миром. Мою утопию не изменишь, ибо имя ее — рай.
Можно переменить место назначения, но не место, из кото-
рого ты вышел. У того, кто верит, всегда есть повод к мяте-
жу: ведь Бог в сердцах человеческих под пятой сатаны. В мире
невидимом ад восстал против неба. Здесь, в мире видимом,
небо восстает против ада. Верующий всегда готов восстать;
ведь восстание — это восстановление. Всегда, в любой миг,
ты можешь восстать во имя правды, которой человек не ви-
дел со времен Адама. Добро остается добром; никаким неиз-
менным обычаям, никаким изменениям эволюции ничего с
этим не поделать. Возможно, у мужчин есть любовницы
столько же столетий, сколько у быков — копыта; но прелю-
ОРТОДОКСИЯ
603
бодеяние — неестественно, если оно неправедно. Возмож-
но, люди живут в угнетении так же давно, как рыбы в воде,
но угнетения быть не должно, если оно неправедно. Возмож-
но, раб привык к цепям, блудница — к румянам, как птица
привыкла к перьям, лиса — к хвосту. Но рабство и блуд —
неестественны, если они греховны. Доисторическая легенда
бросает вызов всей истории. Наше видение — не выдумка,
это — истина». Я удивился, что мои выводы настолько со-
впали с христианством; но перешел к другому.
Я стал думать о том, что идеалу прогресса нужно не только
это. Мы уже говорили, что некоторые верят в безличную,
автоматическую эволюцию. Однако особой мятежности та-
кая вера не вызовет; если все идет к лучшему само собой,
надо быть не мятежным, а ленивым. Если мы исправимся и
так — зачем тратить силы? В чистом виде вера в прогресс —
лучшее средство против прогрессивности. Это ясно; но не об
этом я хотел сейчас говорить.
Интересно другое: если прогресс безличен, он должен
быть предельно простым. Приведу пример. Очень может
быть, что все на свете со временем синеет, — это так просто,
что посторонней силы тут не нужно. Но совершенно неверо-
ятно, чтобы безличная природа сама по себе постепенно скла-
дывалась в многоцветную картину. Если бы мир шел к свету
или мраку, это могло бы быть естественным, как смена вре-
мен суток. Но сложную игру светотени не создашь без за-
мысла — человеческого или Божьего. С простым течением
времени мир может выцвести, как старое пальто, или почер-
неть, как старая картина. Но если в нем тонко сочетаются
самые разные цвета — это значит, что есть художник.
Если это еще не ясно, приведу простой пример. Нынеш-
ние гуманисты хотят внушить нам одну исключительно ши-
рокую веру (под словом «гуманист», как теперь положено, я
подразумеваю того, кто защищает права всех существ в ущерб
человеку). Они говорят, что с каждым веком мы становимся
все гуманнее и постепенно включаем в светлый круг состра-
дания рабов, детей, женщин, коров и так далее. Когда-то,
604
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
говорят они, считалось естественным есть людей. Правда,
этого не было; людоедство — признак упадка, а не первона-
чальной простоты. Гораздо больше оснований предположить,
что наши современники станут есть людей из снобизма, чем
поверить, что первобытные ели их по неведению. Но сейчас
я не собираюсь критиковать познания гуманистов в истории;
я просто излагаю их взгляды, а считают они, что люди обра-
щаются все мягче — сперва с согражданами, потом с раба-
ми, потом с животными, а потом, наверное, с растениями.
Мне кажется, что нехорошо сесть верхом на человека. Вско-
ре я пойму, что нехорошо сесть на лошадь, потом, наверное,
не сяду и на стул. Так они считают. Что ж, вполне возможно
применить и здесь идеи эволюции или неизбежного прогрес-
са. Быть может, мы и впрямь будем мучить все меньше и
меньше существ и предметов — не по воле, а просто потому,
что к тому идет; рожают же некоторые звери все меньше и
меньше детенышей. Это достаточно глупо, чтобы счесть про-
цесс естественным.
Из дарвинизма можно вывести две безумные нравствен-
ные системы (и ни одной разумной). Учение о сродстве и
борьбе всех существ может породить и болезненную жесто-
кость, и болезненную сентиментальность — только не здо-
ровую любовь к животным. Исходя из эволюции, можно стать
бесчеловечным или слащавым — человечным стать нельзя.
Если вы и тигр не слишком отличаетесь друг от друга, вас
может охватить нежность к тигру и тигриная жестокость.
Можно (хоть и нелегко) «поднимать тигра до себя»; легче
опуститься до тигра. Ни в том, ни в другом случае учение об
эволюции не поможет вам относиться к тигру правильно.
Если же вы хотите отнестись к нему так — вернитесь в
рай. Неотступный голос снова подсказал мне: только тот, кто
верит в сверхъестественное, здраво смотрит на естественное.
Все пантеизмы, эволюционизмы и прочие вселенские рели-
гии основаны на том, что Природа — наша мать. Если вы в
это поверите, вы, как ни печально, тут же заметите, что она
скорей похожа на мачеху. Христианство же говорит, что при-
ОРТОДОКСИЯ
605
рода нам не мать, а сестра. Мы вправе гордиться ее красо-
той, и Отец у нас один; но она над нами не властна и, восхи-
щаясь, мы не должны ей подражать. Вот почему в христиан-
ском умилении земным есть почти легкомысленная легкость.
Природа была величавой матерью поклонникам Исиды и
Кибелы. Она была величавой матерью для Вордсворта и
Эмерсона. Но для святого Франциска она была сестрой, даже
скорее сестричкой — любимой и немножко смешной.
Я собирался писать не об этом; и пишу только для того,
чтобы показать, как упорно — и словно невзначай — под-
ходит ключ к самой маленькой дверце. Писать я собираюсь
вот о чем: если бы природа бессознательно и сама по себе
менялась к лучшему, она шла бы к чему-нибудь простому.
Нетрудно представить, что по закону биологии наши носы
становятся все длиннее. Но хотим ли мы этого? Кажется,
нет; нам бы хотелось, чтобы нос был такой длины, как того
требует красота. Однако можем ли мы представить, что сле-
пой биологический процесс ведет к красоте? Ведь для нее
нужно определенное, и очень сложное, сочетание всех черт.
Простой эволюцией к ней не придешь — она или случайна,
или преднамеренна. Точно так же обстоит дело с идеалом
человеческой этики. Быть может, мы досовершенствуемся
до того, что не посмеем терзать собеседника доводом или
будить птичку кашлем. В конце концов мы не посмеем дви-
нуть пальцем, чтобы не потревожить мухи, и перестанем есть,
чтобы не погубить микроба. Возможно, мы идем к столь про-
стой и тихой жизни. Но хотим ли мы ее? Может быть и дру-
гое: мы, как мечтал Ницше, развиваемся в противополож-
ную сторону. Сверхчеловеки будут крушить друг друга, со-
ревнуясь в злой силе, пока не разнесут между делом весь
мир. Но хотим ли мы, чтобы мир разнесли? Скорей уж мы
стремимся к сочетанию двух благ — сдержанности и дер-
зости, малости — и смелости. Если ваша жизнь была хоть
раз хороша, как детская сказка, вспомните, в чем прелесть
сказок: герой способен дивиться — но не пугаться. Если он
испугается великана — ему конец; если же он великану не
606
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
дивится — конец сказке. Он должен быть таким смирен-
ным, чтобы взглянуть снизу вверх, и таким гордым, чтобы
бросить вызов. Так и мы: к великану мира сего надо не про-
сто относиться все мягче или все жесточе. Мы должны со-
хранить столько брезгливости, чтобы, если надо, плевать в
звезды. А главное — если мы хотим быть лучше и радост-
ней, мы должны соединить и то, и другое вместе, причем не
перемешанным, а в определенном, одном узоре. Совершен-
ная радость (если она придет) не окажется плоской и тяже-
лой, как животное довольство. В ней будет опасное и точное
равновесие романтического подвига. Если вы не верите в себя,
вы не выйдете на путь приключений; если вы не сомневае-
тесь в себе — вы не сумеете ими насладиться.
Вот наше второе требование. Во-первых, идеал должен
быть точным; во-вторых, он должен быть непростым. Душе
мало, если что-то одно — милосердие, гордость, мир, отва-
га — поглотит все остальное. Нужен совершенно определен-
ный узор, где все — в свою меру и на своем месте. Я не
обсуждаю сейчас, ждет ли нас этот узор. Я просто говорю:
если ждет, кто-то его создал, потому что только личность
может правильно все разместить. Если мир улучшается сам
собой, прогресс должен быть простым, как постепенное по-
нижение или повышение температуры. Если же это — слож-
но, как творчество, значит, есть и творец. И тут снова мои
домыслы прервал древний голос: «Я мог бы сказать тебе это
давно. Если мир куда-то идет, он может идти только туда,
куда Я веду его — к сложной системе ценностей, где истина
и милость встречаются87. Безличная сила может тянуть вас в
плоские пустоши или на острые вершины скал. Но только
Бог может вести вас — и ведет — в город, где улицы и зда-
ния подчинены сложному плану, и вам дано прибавить ваш
собственный неповторимый цвет к многоцветному плащу
Иосифа»88.
Так во второй раз христианство дало мне точный ответ.
Я сказал: «Пусть идеал будет твердым»; а Церковь ответи-
ла: «Мой — тверже твердого, потому что он уже был». По-
ОРТОДОКСИЯ
607
том я сказал: «Пусть он будет сложным, как картина»; а она
ответила: «Так оно и есть, ибо я знаю, Кто — художник».
Тогда я задумался о третьей черте моей утопии. Она тоже
очень нужна; рассказать о ней труднее всего. Попробую так:
даже в утопии надо смотреть в оба, чтобы нас оттуда не вы-
гнали, как выгнали некогда из рая.
Часто говорят, что надо быть прогрессивным, потому
что все идет к лучшему. На самом деле единственный довод
в пользу прогресса — то, что все идет к худшему. Все пор-
тится; вот лучший аргумент в пользу прогресса. Если бы не
это, консерваторам было бы нечего возразить. Они говорят:
оставьте все как есть и будет хорошо. Но это не так. Все
будет плохо. Оставьте в покое белый столб — и он очень
скоро станет черным. Хотите, чтоб он был белым, — крась-
те его снова и снова; другими словами, снова и снова восста-
вайте. Если вам нужен старый белый столб, постоянно со-
здавайте новый. Это — так, когда речь идет о предметах;
это еще верней и страшней, когда речь идет о людях. Все
человеческие установления старятся с такой сверхъестест-
венной быстротой, что нам нельзя думать ни минуты. В га-
зетах и книжках принято писать о тяжком иге старых тира-
ний. На самом же деле мы почти всегда страдаем от новой
тирании, которая лет за двадцать до того была свободой.
Англия восторгалась до безумия патриотической монархией
Елизаветы, а потом, почти стразу, возмутилась до безумия
тиранией Карла I89. Во Франции монархию не смогли выне-
сти не после того, как ее терпели с грехом пополам, а после
того, как ей поклонялись. Людовику Любимому наследовал
Людовик Казненный90. У нас, в XIX веке, прогрессивного
фабриканта считали чуть ли не народным трибуном, пока со-
циалисты не возопили, что он — кровавый тиран и людоед.
Еще пример: газета была для нас глашатаем общественного
мнения, и вдруг (именно — вдруг, не постепенно) некото-
рые обнаружили, что это ей и не снилось. Мы поняли, что
газеты — прихоть нескольких богачей. Совсем не нужно
восставать против старого; восставать надо против нового.
608
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Мир держат в оковах новые тираны — капиталисты, изда-
тели газет. Вряд ли король в наши дни грубо нарушит кон-
ституцию; скорей он обойдет ее, будет действовать за ее спи-
ной. Он воспользуется не королевской властью, а королев-
ским безвластием, бессилием — тем, что никто ничего о нем
не знает и не может на него напасть. Ведь король теперь —
самое частное из частных лиц. И еще один пример: газетчи-
кам незачем сражаться против цензоров. Прошли те време-
на. Теперь сама газета — цензор.
Все общественные установления заболевают тиранией с
поразительной быстротой; вот третий факт, который должна
учесть наша безупречная теория прогресса. Надо все время
следить, чтобы той или иной свободой не злоупотребляли;
чтобы то или иное право не стало злом. Здесь я полностью
согласен с революционерами. Они правы, когда не доверяю!
тому, что установили люди; правы, когда не надеются на кня-
зей и сынов человеческих91. Вождь, избранный как друг на-
рода, становится ему врагом; газета созданная, чтоб все узна-
ли правду, скрывает ее от всех. Да, я понял революционеров;
и снова у меня перехватило дух — я вспомнил, что и на этот
раз я заодно с христианством.
Оно заговорило снова. «Я учило всегда, что люди по при-
роде своей неустойчивы; что добродетель их легко ржавеет и
портится; что сыны человеческие сползают к злу, особенно
если они благополучны, горды и богаты. Это недоверие, этот
вечный мятеж вы на вашем неточном, новом языке именует-
ся доктриной прогресса. Будь вы философом, вы бы, как я,
сказали «догмат о первородном грехе». Зовите это, как вам
нравится; я же зову это истинным именем: «грехопадение
человека».
Мы сравнивали правую веру со шпагой; тут я сравню ее с
боевым топором. И впрямь — кто, кроме христианства, смеет
сомневаться в праве сытых и воспитанных на власть? Соци-
алисты, даже демократы, часто говорят о том, что бедность
неизбежно приведет к умственной и нравственной деграда-
ции. Ученые (даже демократы — да, есть и такие) говорят:
ОРТОДОКСИЯ
609
если мы улучшим условия, зло и порок исчезнут. Я слушаю
их внимательней внимательного, словно зачарованный. Они
очень похожи на человека, рьяно перепиливающего сук, на
котором он сидит. Если им удастся доказать свою теорию,
демократию можно хоронить. Из того, что бедные — нрав-
ственные ублюдки, совсем не вытекает, что нужно их спасти.
Зато отсюда непременно вытекает, что им не надо давать
гражданских прав. Если человек, у которого нет спальной,
не способен к свободному выбору, надо немедленно лишить
его голоса. Правители вполне резонно скажут: «Возможно,
со временем мы дадим ему лучшее жилище. Но если он та-
кой скот, как вы говорите, он пока что погубит страну. Спа-
сибо за намек, мы примем меры». Жутковато, но занятно
смотреть, как серьезный социалист прилежно мостит дорогу
для аристократии. Представьте, что кто-то, придя на званый
вечер, просит прощения за то, что он — не во фраке, и объяс-
няет, что он напился, разделся на улице и, кстати, вообще до
этого был в тюремной одежде. Хозяин может сказать, что,
если дело так плохо, можно было бы и не приходить. Точно
таков социалист, когда он радостно доказывает, до какого
убожества довела людей бедность. Богатый может сказать:
«Что ж, прекрасно — мы и не будем доверять им», — и за-
хлопнет перед ними дверь. Учение о наследственности и сре-
де — прекрасный довод в защиту аристократии. Если удоб-
ный дом и чистый воздух очищают душу, почему не вручить
власть тем, у кого все это есть? Если хорошие условия по-
могли бы бедным лучше управлять собой, почему не дать
богатым управлять бедными? Обеспеченные — просто пе-
редовой отряд, уже проникший в Утопию.
Есть ли на это ответ? Насколько я знаю, он есть, один:
ответ христианский. Только Церковь может разумно объяс-
нить, почему нельзя положиться на богатых. Она учила все-
гда, что опасность — не в условиях, а в самом человеке. А ес-
ли уж говорить об условиях, о среде, опаснее всего именно
благополучие. Я знаю, техники изо всех сил изобретают ги-
гантскую иглу. Я знаю, биологи изо всех сил выводят крохот-
610
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ного верблюда. Но даже если верблюд очень мал, а ушко —
огромно; даже если понимать Иисусовы слова в самом уме-
ренном смысле, они все равно значат, что нельзя особенно
полагаться на нравственность богатых92. Даже в разбавлен-
ном христианстве достаточно взрывчатой силы, чтобы разне-
сти в куски современное общество. Самая малость христиан-
ства — приговор нынешнему миру. Ведь мир этот держится
не тем, что богатые бывают полезны (это бы еще ничего), г
тем, что на богатых можно положиться. Во всех дискуссиях
диспутах и спорах вам твердят, что богатых подкупить нельзя
На самом же деле подкупить их можно — они уже подкупле-
ны, потому и богаты. В том-то и дело, что человек, зависящие
от удобства и роскоши, уже испорчен. Христос и святые с уто-
мительным терпением твердили, что богатство связано с ог-
ромной нравственной опасностью. Не всегда противно хрис-
тианству убить богатого тирана; не всегда ему противно дат!
богатому власть, если он мало-мальски справедлив; и уж ни-
как не противно христианству против богатых восстать илг
богатым покориться. Но абсолютно противно христианству
доверять богатым, считать их нравственно надежней, чем бед
ных. Христианин может сказать: «Я не презираю этого чело
века, хотя он занимает высокий пост и берет взятки». Но он н<
может сказать (как говорят в наше время с утра до ночи): «СИ
занимает такой высокий пост, что взяток брать не станет»
Христианство учит, что любой человек на любой высоте мо-
жет брать взятки. Так учит христианство — и, по забавной
случайности, тому же учит история. Разве лорд Бэкон93 чис-
тил сапоги? Разве герцог Мальборо94 подметал улицы? Мы
должны быть готовы к тому, что в лучшей из утопий любой,
самый благополучный человек может пасть; особенно же надо
помнить, что можешь пасть ты сам.
Газеты тратили много пустых и чувствительных слов, чтоб
доказать, что христианство сродни демократии; и не всегда
им удавалось скрыть, что эти родичи нередко ссорились. На
самом деле связь христианства и демократии много глубже
политики. Единственная абсолютно нехристианская идея —
ОРТОДОКСИЯ 6И
идея Карлейля: править должен тот, кто чувствует себя в си-
лах править. Что-что, а это — чистое язычество. Если наша
вера вообще говорит о правлении, она скажет: править дол-
жен тот, кто чувствует, что править не может. Герой Карлей-
ля говорит: «Я буду королем»; христианский святой — «Nolo
episcopari»*95. Если великий парадокс христианства вообще
что-нибудь значит, он значит вот что: возьмите корону и обы-
щите всю землю, пока не найдете человека, который скажет,
что недостоин ее. Карлейль не прав — мы не должны короно-
вать исключительных людей, которые знаюп, что вправе пра-
вить. Лучше возложим корону на совсем уж исключительно-
го — на того, кто знает, что править не способен.
В этом — один из двух или трех доводов в защиту того
минимума демократии, который существует теперь. Маши-
на голосования — не демократия, хотя нелегко в наши дни
придумать что-нибудь попроще, не прибегая к тирании. Но
даже это — попытка узнать мнение тех, кто сам не решится
его высказать; и потому голосование — штука христианская.
Отважно и неразумно довериться тем, кто себе не верит.
Это — чисто христианский парадокс. В отрешенности буд-
диста нет особого смирения; индус — мягок, а не кроток. Но
в попытке узнать мнение безвестных есть христианское сми-
рение — ведь куда проще положиться на мнение известных
людей. Быть может, смешно называть христианскими выбо-
ры. Еще смешней, совсем уж нелепо связывать с христиан-
ством предвыборную агитацию. Но здесь ничего нелепого
нет. Вы просто подбадриваете смиренных; вы говорите им:
«Униженный, возвысься». Все было бы совсем благочести-
во, не страдай при этом немного смирение политического де-
ятеля.
Аристократия — не класс; она — порок, обычно не слиш-
ком тяжкий. Трудно устоять перед естественным искушени-
ем, и вот одни — важничают, другие — восторгаются ими.
Это очень легко и очень обычно.
* «Не желаю быть епископом» (лат.).
612
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Один из сотни ответов на недолговечное поклонение силе
в том, что быстрей и отважней всех — вовсе не грубые и
толстокожие. Птица ловка и стремительна, ибо она — мяг-
кая. Камень беспомощен, ибо он тверд. Он тяжело падает
вниз, потому что твердость — это слабость. Птица взлета-
ет, потому что хрупкость — это сила. В совершенной силе
есть легкость, даже способность держаться в воздухе. Со-
временные исследователи преданий торжественно признали,
что великие святые умели летать. Пойдем дальше и скажем:
значит, они были легкими. Ангелы летают, потому что они
легко относятся к себе. Христиане всегда чувствовали это,
особенно — христианские художники. Вспомните ангелов
Фра Анжелико96; они скорее бабочки, чем птицы. Вспомни-
те, сколько света и движения в самых серьезных средневе-
ковых фресках, как проворны и быстроноги ангелы и люди;
только это и не сумели перенять наши прерафаэлиты97 от тех,
настоящих. Берн-Джонс98 не уловил легкости Средних ве-
ков. На старых картинах небеса — как золотой или синий
парашют. Каждый человек вот-вот взлетит, воспарит в небо.
Рваный плащ бедняка удержит его в воздухе, как пестрые
ангельские крылья. Но короли в золотой парче и богатые в
пурпуре прижаты к земле тяжестью гордыни. Гордые пада-
ют вниз — впадают в важное довольство собой. Чтобы за-
быть о себе, надо подняться, взлететь, прыгнуть. Серьез-
ность — не добродетель. Это не совсем соответствует догме,
но вполне верно назвать ее пороком. Человеку свойственно
воспринимать себя всерьез. Передовую статью гораздо лег-
че сочинить, чем шутку. Важность — естественная поза; ве-
селье — причудливо, как прыжок. Легко быть тяжелым;
тяжело быть легким. Сатану увлекла вниз сила тяжести.
Европа может гордиться: с тех пор как она стала христи-
анской, она всегда в глубине души считала аристократию сла-
бостью — чаще всего простительной. Если вы не верите,
выйдите за пределы христианства в другую среду. Сравните
наши сословия с индийскими кастами. Там аристократия куда
ужасней — она связана с умом, с ценностью. Там верят, чтс
ОРТОДОКСИЯ 613
один касты действительно лучше других в священном и та-
инственном смысле. Христиане — даже самые испорченные
и темные — никогда не считали, что в этом, духовном смыс-
ле маркиз лучше мясника. Даже самые странные христиане
не считали, что принц застрахован от преисподней. Быть
может (я не знаю), у древних четко различали свободных и
рабов. Но в христианских странах к дворянину относились
чуть насмешливо, хотя в великих походах и советах он обре-
тал иногда право на почтение. По сути своей мы, европейцы,
не принимали аристократов всерьез. Только человек неев-
ропейской культуры (скажем, д-р Оскар Леви", единствен-
но умный ницшеанец) способен принимать ее так. Быть мо-
жет, я заблуждаюсь (кажется — нет), но английский арис-
тократ в наши дни лучше всех прочих. Он наделен всеми сла-
бостями, но и всеми достоинствами вельможи. Он прост, он
благодушен, он храбр, хотя и не до безумия. Но лучше всего
в нехМ то, что никто в Англии не мог бы принять его всерьез.
Короче говоря, я — как обычно, очень медленно — до-
думался до утопии равноправных; и, как обычно, обнаружил,
что Церковь опередила меня. Это и смешно, и печально. Но
так всегда в моих поисках утопий: я выбегаю из мастерской с
планом новой, великолепной башни — и вижу, что она по-
чти две тысячи лет сияет в солнечном свете. Не хвастаясь,
скажу, что чуть не открыл брачного обета — но, увы, опоз-
дал. Долго описывать, как — факт за фактом, дюйм за дюй-
мом — я узнавал мою утопию в Новом Иерусалиме. Приве-
ду один пример: как я додумался до брака.
Когда, нападая на социализм, говорят о свойствах чело-
веческой природы, обычно упускают важную деталь. Быть
может, некоторые планы социалистов неосуществимы; но есть
и такие, о которых просто не надо бы и мечтать. Быть мо-
жет, не удастся поселить всех людей в одинаково хороших
Дома; но поселить всех в одном и том же доме — не мечта, а
кошмар. Быть может, не удастся внушить людям почтение к
любой старушке. Но любить всех старых женщин так же силь-
н°, как собственную мать, просто не нужно. Не знаю, по-
614
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
дойдут ли читателю эти примеры; приведу другой, самый для
меня важный. Я не хочу и не выдержу утопии, где меня ли-
шат лучшей из свобод: запретят связать себя. Полная анар-
хия уничтожила бы не только порядок и верность, но и весе-
лье? и забаву. Например, нельзя было бы даже заключить
пари. Если договоры потеряют силу, исчезнет не только нрав-
ственность, но и спортивный азарт. Ведь пари и все тому
подобное — пусть искаженно, пусть слабо — выражают
врожденную тягу к приключениям, о которых я столько го-
ворил на этих страницах. А в приключении все должно быть
настоящим: и опасность, и возмездие, и награда. Проиграл
пари — плати, бросил вызов — сражайся, иначе это не по-
эзия, а пошлость. Если я обещал верность, я должен быть
наказан за измену, иначе зачем давать обет? О человеке
который превратился в лягушку, а вел себя, как фламинго,
не напишешь приличной сказки; не напишешь и о том, кто из
чрева кита вдруг попал на Эйфелеву башню. Даже в само?
дикой выдумке одно должно вытекать из другого, обратной
хода нет. Христианский брак — великий тому пример; по-
тому он и стал сюжетом всех романов. Вот мое последнее
требование к любой земной утопии: она должна отплатите
мне, если я оскорблю свою честь.
Мои друзья, поклонники утопий, смотрят друг на друга (
опаской — ведь они так мечтают о разрыве всех связей. А $
снова слышу, как эхо, голос иного мира: «В моей утопии теб;
ждут и приключения, и обязанности. Но самая трудная обя
занность, самое смелое приключение — попасть в нее».
Глава VIII
РОМАНТИКА ОРТОДОКСИИ
Часто жалуются на суету и напряженность нашего време*
ни. На самом деле для нашего времени характерны лень и рас-
слабленность, и лень — причина видимой суеты. Вот как бы
ОРТОДОКСИЯ
615
внешний пример: улицы грохочут от такси и прочих автомоби-
лей, но не из-за нашей активности, а из-за нашего покоя. Было
бы меньше шума, если б люди были активнее, если бы они
попросту ходили пешком. Мир был бы тише, будь он усерд-
нее. Это касается не только внешней, физической суеты, но и
суеты интеллектуальной. Механизм нынешнего языка просто
предназначен для облегчения труда: он сберегает умственный
труд куда больше, чем следует. Ученые обороты используют-
ся, как прочие ученые фокусы — колесики, пружины, под-
шипники, чтобы сгладить и сократить удобный путь. Длин-
ные слова дребезжат, словно длинные поезда, они везут сотни
людей, которые слишком устали или слишком бездумны, что-
бы ходить и думать самостоятельно. Полезно хоть разок вы-
разить свое мнение короткими словами. Если вы говорите:
«Социальная значимость приговора на срок, зависящий от
поведения заключенного, признается всеми юристами как со-
ставная часть нашей социальной эволюции к гуманному и впол-
не научному взгляду на природу наказания», — вы можете
рассуждать часами, ни разу не потревожив свое серое веще-
ство. Но если вы начнете так: «Я хочу, чтобы Джонс сидел, а
Браун решал, когда ему выйти на волю», — вы с ужасом об-
наружите, что надо думать. Трудны не длинные слова, а ко-
роткие. Куда больше метафизической тонкости в слове «ги-
бель», чем в слове «дегенерация».
Длинные слова, избавляющие нас от мыслей, особенно
опасны и вредны вот почему: одно и то же слово в разных
сочетаниях означает совершенно разные вещи. Возьмем хо-
рошо известный пример — идеалиста. Это слово имеет одно
значение в философии и совсем другое в морализирующей
риторике. Да и ученые-материалисты вправе обижаться, ко-
гда путают материализм как мировоззрение и материализм
как моральный упрек. В более примитивных случаях тот, кто
ненавидит партию прогресса в Лондоне, считает себя носи-
телем прогресса в Южной Африке.
Столь же непредвиденная путаница произошла и в упо-
треблении слова «либеральный» в связи с религией и в связи
616
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
с политикой. Часто полагают, что все либералы — вольно-
думцы, ибо они обязаны любить все вольное. С тем же успе-
хом можно утверждать, что идеалисты стоят за Высокую
церковь, потому что они любят все возвышенное. Тогда
Низкая церковь полюбит низшие слои, а Свободная цер-
ковь — вольные шутки100. Дело тут в простом совпадении
слов. В современной Европе свободомыслящий — это не че-
ловек, который думает по-своему. Это человек, который по-
думал по-своему и выбрал определенный набор догм: мате-
риальное начало мира, невозможность чудес и личного бес-
смертия и т. д. Почти все эти идеи решительно несвободны,
что я и постараюсь показать в этой главе.
На ближайших страницах я попытаюсь показать как мож-
но короче? что любая идея освободителей веры в социальной
практике приводит к закрепощению. Почти каждое требо-
вание свободы в церкви оказывается требованием тирании в
мире, потому что теперь не хотят даже освобождать церковь
во всех отношениях. Теперь просто дают волю определенно-
му набору учений, произвольно называемых научными, —
материализму, пантеизму, арийскому превосходству или де-
терминизму. Каждое из них (мы разберем их по очереди)
оказывается природным союзником угнетателя. Удивитель-
но (хотя, если вдуматься, не очень и удивительно), что почти
все — в союзе с угнетателем; только ортодоксия никогда не
переступит некой черты. Можно вывернуть католичество так,
чтобы отчасти оправдать тирана, — но германская филосо-
фия отпустит ему все грехи.
Рассмотрим по порядку нововведения новой теологии
или модернистской церкви. В конце предыдущей главы мы
обнаружили одно из них. Ту самую доктрину, которая ока-
залась единственным гарантом юных демократий, объявили
самой устаревшей. Учение с виду непопулярное оказалось
главным источником народных сил. Короче, чтобы у нас
была разумная причина протестовать против олигархии,
надо признать первородный грех. И так во всех остальных
случаях.
ОРТОДОКСИЯ
617
Начнем с самого очевидного примера — с чуда. Поче-
му-то многие убеждены, что неверящий в чудеса мыслит сво-
боднее, чем тот, кто в них верит. Почему — я не в состоянии
сообразить, и никто не берется мне объяснить. По непости-
жимым для меня причинам либеральным священником счи-
тается тот, кто хочет уменьшить число чудес, а не тот, кто
хочет их умножить; тот, кто волен не верить, что Христос
восстал из мертвых, а не тот, кто волен верить, что из мерт-
вых восстала его родная тетя. Часто в приходе бывают не-
приятности, потому что священник не признает, что Петр
ходил по водам, но когда мы слышали о священнике, чей род-
ной отец гулял по пруду? Бойкий противник Церкви тут же
заявит, что чудесам ныне нет веры, — но дело не в этом.
И не в том дело, что «чудес не бывает», согласно просто-
душной вере Мэтью Арнолда. Теперь верят в чудеса куда
больше, чем восемьдесят лет назад. Ученые верят в них —
современная психология обнаруживает поразительные силы
и ужасных чудищ духа. То, что старая наука, по крайней мере,
решительно отвергла бы как чудо, ежеминутно подтвержда-
ет наука новая. Только новая теология все еще достаточно
старомодна, чтоб отрицать чудеса. И даже если свободно
отрицать чудеса, это еще не значит, что их нет на самом деле.
Это безжизненный предрассудок, исток которого — не сво-
бода мысли, а материалистическая догма. Человек XIX века
не верил в Воскресение не потому, что его либеральное хри-
стианство позволяло усомниться в нем, а потому, что его стро-
жайший материализм запрещал ему верить. Теннисон, ти-
пичный человек XIX века, высказал интуитивное убежде-
ние своих современников, сказав, что есть вера в их честном
сомнении101. В этих словах была глубокая и ужасная правда.
Их неверие в чудеса было верой в неподвижную безбожную
судьбу, глубокой искренней верой, что мир неисцелимо ску-
чен. Сомнения агностика — это всего-навсего догмы мате-
риалиста.
О свидетельствах в пользу сверхъестественного погово-
рим потом. Пока что ясно одно: если свобода мысли держит
618
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
чью-нибудь сторону в этом споре, то она стоит за чудеса.
Прогресс (в единственно терпимом смысле) означает только
последовательную власть духа над материей. Чудо — мгно-
венная власть духа над материей. Если вы хотите накормить
народ, вы можете считать, что накормить его в пустыне чу-
дом невозможно; но не можете же вы сказать, что это не
свободно. Если вы хотите, чтобы дети бедняков отправились
к морю, вы можете думать, что они вряд ли полетят туда вер-
хом на драконах, но вы не можете протестовать против это-
го. Праздник, как и либерализм, означает свободу человека.
Чудо — свобода Бога. Вы можете искренне отрицать и то, и
другое, но вы не можете считать свой запрет триумфом сво-
бодной мысли. Католическая церковь верит, что и человек, и
Бог имеют право на особую, духовную свободу. Кальвинизм
отнял свободу человека, но оставил ее Богу. Материализм
связывает самого Творца, он сковал Бога, как дьявола в Апо-
калипсисе102. И те, кто способствовал этому процессу, назы-
ваются «либеральными теологами».
Это простейший случай. Мнение, будто неверие в чудеса
родственно свободе и прогрессу, абсолютно неверное. Если
человек не может верить в чудеса, говорить не о чем: он не
слишком свободен, йо он вполне честен и последователен,
что гораздо важнее. Но если человек может верить в чудеса,
он именно в силу этого более свободен, ибо чудеса означают,
во-первых, свободу души и, во-вторых, ее власть над тира-
нией обстоятельств. Иногда даже чрезвычайно умные люди
на редкость наивно забывают эту истину. Например, Бер-
нард Шоу говорит о чудесах с искренним старомодным пре-
зрением, словно это отступничество со стороны природы;
странно, но он не видит, что чудеса — лучший плод его лю-
бимого древа, учения о всемогуществе воли. Точно так же он
называет жажду бессмертия жалким эгоизмом, забыв, что
сам он только что назвал жажду жизни отважным эгоизмом.
Как может быть благородным желание бесконечной жизни и
низким — желание жизни вечной? Нет уж, если вы хотите,
чтобы человек восторжествовал над тиранией природы или
ОРТОДОКСИЯ
6/9
обычая, любите чудеса — а возможнб ли они, мы потом об-
судим.
Рассмотрим и другие примеры этого странного заблуж-
дения, будто «либерализация религии» помогает раскрепо-
щению общества. Следующий пример можно найти в панте-
изме, в том современном подходе, который часто называют
имманентизмом103, и который часто оказывается буддизмом.
Но это слишком сложный вопрос, чтобы заняться им без пре-
дисловия.
То, что передовые личности убежденно говорят в пере-
полненных залах, как правило, напрочь расходится с исти-
ной. Наши трюизмы всегда лживы. Вот пример: на заседа-
ниях этических и религиозных обществ очень любят поверх-
ностную, якобы либеральную мысль: «религии отличаются
только формой, учение их едино». Это ложь, это полностью
противоречит фактам. Религии не очень отличаются обряда-
ми, они страшно различны в учении. Все равно как если бы
нам сказали: «Пусть вас не вводит в заблуждение, что газе-
ты «Новости церкви» и «Свободомыслящий» выглядят со-
вершенно по-разному, что одну рисуют на пергаменте, а дру-
гую высекают на мраморе, одна треугольная, а другая трапе-
циевидная, — прочтите их, и вы увидите, что говорят они
одно и то же». Конечно, они схожи во всем, кроме того, что
они говорят. Маклер — атеист в Сурбитоне — точная ко-
пия маклера — сведенборгианца в Уимблдоне. Можете кру-
жить вокруг них сколько угодно и подвергнуть их самому
пристальному и назойливому досмотру — вы все же не уви-
дите ничего сведенборгианского104 в зонтике, ничего слиш-
ком уж безбожного в шляпе. Различны их души. Сложность
всех верований на земле не в том, о чем говорит расхожая
фраза. Все наоборот. Механика у них одна. Почти все рели-
гии земли используют одни и те же приемы: у них есть свя-
щенники, тексты, алтари, братства, праздники. Способ уче-
ния похож, но разница в том, чему они учат. Язычники —
оптимисты и восточные пессимисты — строят храмы, а тори
и либералы издают газеты. Верования, которые стремятся
620
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
уничтожить друг друга, вооружаются священными текста-
ми, как враждующие армии — ружьями.
Замечательный пример мнимой схожести — духовное
единство буддизма и христианства. Те, кто принимает эту
теорию, обычно не приветствуют этику других религий, кро-
ме конфуцианства, которое они любят за то, что оно — не
религия. Но они сдержанны в похвалах мусульманству, обыч-
но удовлетворяясь запретом на спиртное — и то только для
низших классов. Они редко превозносят мусульманский
взгляд на брак (а ведь в его пользу столько можно сказать),
а их отношение к секте душителей и к фетишистам можно
даже назвать прохладным. Но они видят нечто близкое в
великой религии Гаутамы.
Представители популярной науки, вроде Блэтчфорда,
настаивают, что христианство и буддизм очень похожи,
особенно буддизм. Все верят этому, и я сам верил, пока не
прочел их аргументы. Их аргументами были сходства, ко-
торые ничего не значат, так как они присущи всему роду
человеческому, и сходства, в которых нет ничего общего.
Автор попавшейся мне книги пресерьезно объяснял, что
обе религии одинаковы в том, в чем одинаковы все религии,
или же он находил сходство там, где они очевидно различ-
ны. Так, он напоминает, что и Христос, и Будда были при-
званы голосом с неба, — как будто голос Божий должен ис-
ходить из подвала. Он с важностью указывает нам, что оба
восточных Учителя омывали ноги — вот удивительное со-
впадение, не менее удивительное, чем то, что у обоих были
ноги. А другой класс сходств — сходства, где нет ничего
похожего. Наш нивелировщик религий требует обратить
внимание, что на празднике одеяние ламы раздирают на ча-
сти и обрывки благоговейно хранят. Но ведь одежды Хри-
ста разодрали не из уважения, а насмехаясь, и обрывки
оценил разве что старьевщик. Такую связь можно обнару-
жить и между двумя церемониями с мечом: ударом по пле-
чу, посвящающим в рыцари, и казнью. Для человека, пра-
во, это не одно и то же. Наивный педантизм распространи-
ОРТОДОКСИЯ
621
ется и на философские сходства — они доказывают или
больше, чем нужно автору, или ничего не доказывают.
Буддизм одобряет милосердие и самоограничение — в
этом буддизм не совпадает с христианством, а попросту не
слишком расходится с общечеловеческим чувством. Будди-
сты в принципе осуждают насилие и излишества, поскольку
их осуждает любой нормальный человек. Но ложно утвер-
ждение, будто буддизм и христианство одинаково их пони-
мают. Все люди чувствуют, что мы в сетях греха. Почти
все думают, что должен быть какой-то выход. Но что до
того, каков этот выход, — нет в мире религий, противоре-
чащих друг другу больше, чем христианство и буддизм.
Даже когда я вместе с прочими хорошо осведомленными,
хотя и не слишком педантичными людьми верил, что буд-
дизм и христианство похожи, меня удивляла потрясающая
разница в их искусстве. Я говорю не о технике изображения,
но о том, что хотят изобразить. Никакие два идеала не про-
тиворечат друг другу так, как святой готической церкви и
святой китайского храма. Они противоречат друг другу во всем,
но самое главное — глаза буддиста всегда закрыты, глаза хри-
стианина широко распахнуты. Тело буддийского святого плавно
и гармонично, веки отяжелели и сомкнуты сном. От тела сред-
невекового святого остался шаткий скелет, но у него пугаю-
щие живые глаза. Не может быть родства между духовными
силами, чьи символы столь различны. Даже если эти обра-
зы — крайности, отклонения от основной веры, такие край-
ности может породить лишь подлинное различие. Буддист
пристально глядит внутрь себя. Христианин пристально смот-
рит наружу. Если мы пойдем по этому следу, мы обнаружим
интересные вещи.
Недавно миссис Безант105 в увлекательном очерке объя-
вила, что есть только одна подлинная религия, все осталь-
ные — ее отражения или искажения. Единая вера миссис
Безант — это доктрина единой личности: все мы — один
человек, и нет стен, ограждающих индивидуальность. Безант
не учит нас любить своих близких — она хочет, чтобы мы
622
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
стали своими ближними. Такова глубокая и многообещающая
религия, которая должна примирить всех. Никакая теория не
вызывает у меня более яростного протеста, чем эта. Я хочу
любить ближнего не потому, что он — я, а именно потому, что
он — не я. Я хочу любить мир не как зеркало, в котором мне
нравится мое отражение, а как женщину, потому что она со-
всем другая. Если души отделены друг от друга — любовь
возможна. Если они едины — любви нет. Человек любит
себя, но он не может в себя влюбиться, а если б смог — за-
нудный вышел бы роман. В мире подлинных личностей «я»
может быть неэгоистично, но мир миссис Безант — это все-
го лишь одно, неестественно эгоистичное «я».
Именно в этом вопросе буддизм на стороне современно-
го пантеизма и имманентизма, а христианство стоит за чело-
вечность, свободу, любовь. Любви нужна личность, поэтому
любовь жаждет различия. Христианин рад, что Бог разбил
мир на кусочки, раз эти кусочки живые. Христианство велит
детям любить друг друга, а не взрослому любить самого себя.
Вот пропасть между буддизмом и христианством: буддисты
и теософы считают, что личность недостойна человека, хрис-
тианин видит в личности высший замысел Бога. Мировая
душа теософии требует любви от человека, растворенного в
ней. Но божественное средоточие христианской веры вы-
брасывает человека вовне, чтобы он мог любить Бога. Вос-
точный бог — это гигант, вечно ищущий свою ногу или руку.
Христианский Бог — великан, с удивительным великоду-
шием отсекающий себе правую руку, чтобы она могла по доб-
рой воле пожать руку Ему. Мы возвращаемся все к той же
основной особенности христианства: все модные филосо-
фии — узы, объединяющие и сковывающие; христианство —
освобождающий меч. Ни в какой другой философии бог не
радуется распадению мира на живые души, но для католика
отделение Бога от человека свято, потому что оно вечно. Что-
бы человек любил Бога, нужен не только Бог, но и человек.
Все туманные теософы, верящие в нерасчлененность мира,
отшатываются от потрясающих слов Сына Божия: «Не мир
ОРТОДОКСИЯ
623
Я принес, но меч»106. Это изречение истинно, даже если по-
нимать его впрямую, — каждый, кто проповедует истинную
любовь, порождает ненависть. Это касается и революцион-
ного братства, и божественной любви: поддельная любовь
придет к компромиссу и единству во взглядах, подлинная
любовь всегда ведет к кровопролитию. Но за очевидным зна-
чением этих слов Господа есть еще одна поразительная ис-
тина. Он Сам сказал, что Сын — меч, разделивший брать-
ев, чтобы они навеки ненавидели друг друга, — но Отец тоже
был мечом, в темном начале разделивший братьев, чтобы в
конце времен они полюбили друг друга.
Вот почему почти безумным счастьем сверкают глаза свя-
того на старой картине. Вот почему закрыты глаза величе-
ственного Будды. Святой счастлив, потому что он отрезан от
мира, отделен от других и смотрит на все в изумлении. Но
может ли удивиться буддист, когда весь мир — одно, да и то
безликое, так что оно не может удивиться себе? Многие пан-
теистические поэмы взывают к изумлению — и безуспешно.
Пантеист не может удивиться, ибо он не может восхвалить
Господа или хоть что-то, отличное от него самого. Нам осо-
бенно важно понять, как христианское преклонение перед
божеством, отличным от верующего, связано с потребнос-
тью в активной этике и социальных реформах: связь эта оче-
видна. Пантеизм не пробуждает к нравственному выбору,
ибо все вещи для него одинаковы, а для выбора необходимо
предпочесть одно другому. Суинберн в расцвете своего песси-
мизма напрасно пытался преодолеть эту трудность. В «Пес-
нях перед рассветом», вдохновленных Гарибальди и итальян-
ским восстанием, он провозгласил новейшую религию и чис-
тейшего бога, который уничтожит всех священнослужителей
на свете.
О, зачем ты взываешь
К небесам, говоря:
«Боже, ты — это ты,
Боже, я — это я»?
624
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Я, Господь — это ты,
Ты, что ищешь меня,
А находишь — себя107.
Отсюда следует одно: тираны — такие же сыны Божии,
как и Гарибальди, и неаполитанский «король Бомба»108, пре-
краснейшим образом «нашедший себя», — точно такой, как
Бог. На самом же деле западная энергия, свергавшая тира-
нов, порождена европейской верой, провозгласившей: «я —
это я; а Ты — это Ты». Та же способность различать, кото-
рая видела доброго царя мироздания, видела и скверного ко-
роля Неаполя. Те, кто верили в Бога Бомбы, свергли Бомбу.
Те, кто верили в Бога Суинберна, тысячу лет живут в Азии
и ни разу не свергали тиранов. Индийский святой закрыл
глаза и созерцает то, что есть Я, Ты, Мы, Они и Оно. Ра-
зумное занятие; но не это — и на практике, и в теории —
помогает индусам не спускать глаз с лорда Керзона109. На-
правленное вовне бдение христианства («бодрствуйте и мо-
литесь») выразилось и в истинно западной теологии и в за-
падной политике: обе они держатся на идее трансцендентно-
го, отличного от нас, другого Бога. Самые изощренные веры
могут искать Бога в нижних, глубочайших слоях нашего «я».
Только мы, христиане, ищем Бога на вершинах гор, словно
орла, — ив этой охоте мы убили немало чудовищ.
Вот и выходит, что, если нам дороги демократия и обнов-
ляющиеся силы Европы, искать их надо не в новой теологии,
а в старой. Если мы жаждем реформ, надо держаться орто-
доксии, особенно когда речь идет об имманентности и транс-
цендентности Бога (об этом немало спорил Р.Дж. Кэмпбелл).
Утверждая имманентность Бога, мы сосредоточивается на
себе и получаем замкнутость, квиетизм, равнодушие к обще-
ственной жизни. Избрав трансцендентного Бога, мы полу-
чили изумление, любопытство, нравственный и политичес-
кий выбор, праведный гнев — словом, христианство. Если
Бог заключен в человеке, человек заключен в себе. Если Бог
выше человека, человек выше себя самого.
ОРТОДОКСИЯ
625
Так же обстоит дело и другими старомодными доктрина-
ми, например, с учением о Троице. Унитарии (я глубоко ува-
жаю их интеллектуальное достоинство и честь) бывают пре-
образователями случайно, поскольку недовольство — удел
многих малых сект. Но чистый монотеизм не свободен и ни-
сколько не поощряет реформы. Триединый Бог — загадка
для разума, но таинственность и жестокость султанов свой-
ственны ему куда меньше, чем одинокому богу Магомета.
Одинокий бог не просто король, он восточный царь. Сердцу
человека, особенно европейца, гораздо ближе неясные наме-
ки и символы Троицы, образ совета, где равны милость и
правосудие; вера в то, что свобода и разнообразие живуч1 и в
сокровеннейшем средоточии мира. Европейцы всегда остро
чувствовали, что «нехорошо человеку быть одному». Тяга к
обществу утверждалась всюду, и восточных отшельников
вытеснили западные монахи. Так даже аскетизм стал брат-
ским, и немые трапписты110 нуждались друг в друге. Любя
сложность жизни, мы несомненно должны предпочесть уни-
таризму веру в Троицу. Ибо для нас, тринитариев (если мож-
но так выразиться), для нас сам Бог — не одиночка, а обще-
ство. Учение о Троице — бездонная тайна, а я не слишком
умелый теолог. Достаточно сказать, что эта тройная загадка
бодрит, как вино, и греет, как английский очаг; и то, что так
смущает разум, удивительно успокаивает сердце. Но из пус-
тыни, из глухого песка и яростного солнца идут жестокие дети
одинокого Бога, настоящие унитарии, которые с ятаганом в
руке разорили мир, — ибо нехорошо Богу быть одному111.
Так же обстоит дело и со спасением и гибелью — на этой
проблеме надорвались многие славные умы. Надежда есть у
каждой души, и вполне может быть, что спасение всех душ
неизбежно. Это возможно, но такая мысль отнюдь не спо-
собствует активности и прогрессу. Наш творческий, борю-
щийся мир стоит на вере в хрупкость всего, на той мысли,
нто каждый человек висит над бездной. Слова «все как-ни-
будь уладится» звучат ясно и внятно, но это отнюдь не труб-
ный глас. Европа должна помнить о возможной гибели, и
626
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
Европа всегда помнила о ней. Здесь ее высшая вера и одно-
временно ее популярное чтиво. Буддисты и фаталисты видят
в жизни науку или заданную схему, которая ведет к опреде-
ленному результату. Но для христианина жизнь — роман, и
конец может быть любым. В приключенческом романе (вот
подлинно христианский жанр) героя не съедят людоеды, но
для самого существования романа необходимо, чтобы героя
съесть могли; нужен, так сказать, съедобный герой. Вот и
христианство не говорит, что человек погубит душу, но велит
беречь ее. Дурно назвать человека проклятым, но вполне
благочестиво и разумно сказать, что он может быть проклят.
Суть христианства — человек на распутье. Расплывча-
тые философии — нагромождения чепухи — толкуют об
эпохах, эволюции, конечных достижениях. Подлинной фи-
лософии важен миг. Куда пойдет человек — туда или сюда?
Вот единственный стоящий вопрос, для тех, кому нравится
думать. Об эонах думать легко. Миг удивителен и ужасен; и
потому что мы глубоко его чувствуем, в наших книгах так
много сражений, а в религии рассуждений о грехе и каре.
Наша вера полна опасностей, как книга для мальчиков; она
говорит о вечном решении, о переломе. Религия и популяр-
ная литература Европы действительно очень схожи. Если вы
скажете, что популярная литература вульгарна и безвкусна,
вы просто повторите то, что осведомленные, сумрачные люди
говорят об убранстве католический церквей. Жизнь (соглас-
но нашей вере) похожа на журнальный детектив: она конча-
ется обещанием (или угрозой), «продолжение следует».
Жизнь с благородным простодушием подражает детективу
и в том, что она обрывается на самом интересном месте. Раз-
ве смерть не интересна?
А главное — в том, что повесть волнует нас, потому что
в ней присутствует воля; по-богословски — свобода воли.
Нельзя решить задачу как вздумается, но можно закончить
роман на свой вкус. Человек, открывший дифференциальное
исчисление, мог открыть только одно дифференциальное ис-
числение, но Шекспир (если б захотел) мог не убить Ромео,
ОРТОДОКСИЯ
621
а женить его на старой няне Джульетты. Именно вера в сво-
боду воли породила европейский роман. Свобода воли слиш-
ком сложная проблема, чтобы достойно обсудить ее здесь,
но важно понять, что именно она противостоит болтовне о
преступлении как о болезни, о тюрьме как о подобии больни-
цы, о научном лечении греха. Беда в том, что грех, в отличие
от болезни, — плод свободного выбора. Если вы хотите ле-
чить от распутства, словно от астмы, найдете сперва астма-
тика, который любит астму, как распутник любит свой грех.
Человек может лежать и ждать, пока его вылечат, но если он
хочет избавиться от греха, ему придется попрыгать. Человек
в больнице «пациент», «терпящий», это пассивное слово;
«грешник» — слово активное. Если человека хочет избавить-
ся от гриппа, он может «потерпеть», побыть пациентом. Если
он хочет избавиться от лжи, он должен стать нетерпимым —
нетерпимым ко лжи. Нравственный переворот начинается не
с пассивности, а со свободного выбора.
И снова мы приходит к тому же выводу. Если нам по
душе решительные преобразования и грозные революции,
присущие европейскому миру, мы не должны забывать о воз-
можной гибели, мы должны все время помнить о ней. Если
мы, подобно восточным святым, хотим созерцать, как все
правильно, надо твердить, что все в порядке. Но если мы
очень хотим все исправить, надо помнить, что дела могут быть
плохи.
И наконец, все это верно, когда (как теперь принято)
отвергают или преуменьшают божественность Христа. Об
истинности этой доктрины я еще буду говорить. Но если она
верна, она поистине революционна. Что доброго человека
могут казнить, это мы и так знали, но казненный Бог навеки
стал знаменем всех повстанцев. Лишь христианство почув-
ствовало, что всемогущество сделало Бога неполноценным.
Лишь христианство поняло, что полноценный Бог должен
быть не только царем, но и мятежником. Христианство до-
бавило к добродетелям Бога мужество, ибо подлинное му-
жество означает, что душа прошла смертное испытание и
628
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
выдержала его. Я приближаюсь к тайне слишком глубокой и
страшной и заранее прошу прощения, если мои слова пока-
жутся недостаточно уважительными там, где боялись гово-
рить величайшие мыслители и святые. Но в страшной исто-
рии Страстей так и слышишь, что Создатель мира каким-то
непостижимым образом прошел не только через страдания,
но и через сомнение. Сказано: «Не искушай Господа Бога
твоего»112, — но Бог может искушать Себя Самого, и, мне
кажется, именно это и произошло в Гефсимании. В саду са-
тана искушал человека, и в саду Бог искушал Бога113. В ка-
ком-то сверхчеловеческом смысле Он прошел через наш, че-
ловеческий, ужас пессимизма. Мир содрогнулся и солнце зат-
милось не тогда, когда Бога распяли, и когда с креста раз-
дался крик, что Бог оставлен Богом114. Пусть мятежники ищут
себе веру среди всех вер, выбирают Бога среди возрождаю-
щихся и всемогущих богов — они не найдут другого Бога-
мятежника. Пусть атеисты выберут себе бога по вкусу —
они найдут только Одного, Кто был покинут, как они; толь-
ко одну веру, где Бог хоть на мгновение стал безбожником.
Вот основы старой ортодоксии, и главная ее заслуга в том,
что она — живой источник восстаний и реформ, а главный
недостаток — в том, что она абстрактна. Ее преимущество в
том, что она человечней и романтичней всех теологий, ее
изъян — в том, что она теология. Всегда можно сказать, что
она вымышлена и как бы висит в воздухе, однако не столь
высоко, чтобы лучшие стрелки не пытались поразить ее сво-
ими стрелами, и они тратили на это все силы и самую жизнь.
Есть люди, готовые погубить себя и разрушить мир, лишь
бы уничтожить эту старую сказку. Вот самое удивительное в
этой вере: ее враги используют против нее любое оружие —
меч, который ранит им руки, и огонь, сжигающий их дома.
Люди, начинающие борьбу против церкви во имя свободы и
гуманности, губят свободу и гуманность, лишь бы биться с
Церковью. Это не преувеличение — я могу наполнить кни-
гу примерами. Блэтчфорд, как многие сокрушители Библии,
начал с того, что Адам чист перед Богом; пытаясь доказать
ОРТОДОКСИЯ
629
это, он попутно признал, что все тираны от Нерона до коро-
ля Леопольда113 чисты перед людьми. Я знаю человека, ко-
торый так хотел, чтобы душа не жила после смерти, что стал
отрицать свою, нынешнюю жизнь. Он взывает к буддизму и
говорит, что все души слиты в одну; чтобы доказать, что он
не может попасть в рай, он доказывает, что он не может по-
пасть в Хартпул. Я знавал людей, выдвигавших против ре-
лигиозного образования доводы, сокрушающие любое обра-
зование: они говорили, что ум ребенка должен развиваться
свободно или что старшие не должны учить младших. Я зна-
вал людей, которые доказывали, что нет Божьего суда, от-
рицая человеческий суд. Они сожгли свой дом, пытаясь под-
жечь церковь, сломали свои орудия, пытаясь разбить ее.
Любой камень шел в дело, даже если то был последний кир-
пич их разоренного дома. Мы не хвалим, мы едва может по-
нять фанатика, который крушит этот мир из любви к друго-
му. Но что можно сказать о фанатике, который губит этот
мир из ненависти к другому? Он жертвует жизнью людей,
чтобы опровергнуть существование Бога. Он приносит жерт-
ву не на алтарь — он приносит ее для того, чтобы доказать,
что алтарь не нужен, престол пуст. Он готов уничтожить
простейшую этику, которой все живут, ради странной, не-
умолимой мести тому, кто никогда не жил.
И все же эта теология как висела в воздухе, так и висит.
Ее враги сумели уничтожить только то, что было им дорого.
Они не уничтожили ортодоксию, но уничтожили граждан-
скую смелость и здравый смысл. Они не доказали, что Адам
прав перед Богом, — как доказать это? Зато они доказали
(если вглядеться в их доводы), что царь прав перед Россией.
Они не доказали, что Бог не должен был наказывать Адама,
они всего-навсего доказали, что люди не вправе наказать
тирана. Их восточные сомнения в существовании личности
не лишают нас загробной жизни, но делают неполной и неве-
селой жизнь на земле. Их цепенящие слова о том, что любой
вывод неверен, не помешают ангелу вести запись добрых и
злых дел, но слегка осложнят бухгалтерский учет Маршалла
630
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
и Снелгрова116. Вера — родительница всех сил, движущих
мир; мало того, все смуты порождены ее врагами. Секуляри-
сты не уничтожили божественных ценностей, но (если это
может их утешить) поколебали ценности земные. Титаны не
разрушили небес — они разорили землю.
Глава IX
ВЛАСТЬ ДОГМЫ И ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
В последней главе мы показали, что ортодоксия не только
единственный надежный страж этики и порядка (об этом го-
ворят часто), но и единственная разумная гарантия свободы и
обновления. Новое учение о совершенстве человеческой при-
роды не поможет нам свергнуть преуспевающего тирана, но в
этом поможет нам старое учение о первородном грехе. Пер-
вичность материи не искоренит врожденную жестокость и не
возродит погибшие поколения117, но и здесь нам поможет пер-
вичность духа. Если мы хотим пробудить в людях социальное
чувство и стремление к неустанному труду, нам нужно не им-
манентное божество и внутренний свет, которые дают доволь-
ство, нам важен трансцендентный Бог, пламень ускользаю-
щий, ибо Он означает дивную неудовлетворенность, когда мы
утверждаем благородную демократию против тягостного еди-
новластия. Мы инстинктивно склоняемся к учению о Троице,
а не к унитаризму. Если мы мечтаем, чтобы Европа была ры-
царственной и романтичной, мы должны твердить, что нашим
душам грозит гибель, а не отрицать возможность гибели. Если
мы хотим возвысить униженных и распятых, надо верить, что
был распят Бог, а не просто мудрец или герой. Чтобы защи-
тить бедняков, надо держаться ясного учения и твердых пра-
вил. Правила клуба защищают бедных членов — стихийные
перемены всегда выгодны богатым.
Вот мы и подошли к главной проблеме, которая завер-
шит весь разговор. Разумный агностик, если даже он согла-
ОРТОДОКСИЯ
631
шалея со мной до сей поры, сейчас опомнится и скажет: «Ну,
хорошо, вы извлекли насущную философию из учения о пер-
вородном грехе. Вы обнаружили, что учение это укрепляет
ту сторону демократии, которой сейчас запросто пренебре-
гают. Вы отыскали истину в учении о преисподней — рад за
вас. Вы убеждены, что верующие в личностного Бога про-
грессивны, — что ж, рад за них. Но даже если в вашем уче-
нии есть истина, почему вы не хотите взять истину, а учение
отбросить? Пусть современный мир слишком доверяет бога-
тым, забыв о человеческой слабости, пусть преимущество
средних веков было в том, что тогда, помня о первородном
грехе, помнили и о человеческой слабости, не веря в грехопа-
дение? Если вы нашли здравую идею опасности в учении о
вечных муках, почему вы не можете принять идею опасности
и плюнуть на вечные муки? Если вы видите зерно здравого
смысла в шелухе христианства, возьмите зерно, но зачем вам
шелуха? Почему вы не можете взять положительную сторо-
ну христианства (хотя я, образованный агностик, стыжусь
столь газетного выражения), скажем — то, что вы цените в
нем, то, что вы понимаете, — и отбросить все прочее, все
эти абсолютные, непостижимые догмы?» Вот он, настоящий
вопрос, последний вопрос, и приятна сама попытка ответить
на него.
Видите ли, я рационалист: я ищу разумные основания для
своих интуиций. Если я считаю человека падшим созданием,
право же, большое подспорье для ума верить, что он дей-
ствительно пал; и в силу некоторых странностей моей психо-
логии мне легче толковать о свободе воли, если я в нее верю.
Я не собираюсь делать из моей книги обычную христиан-
скую апологию: я рассказываю только о моем пути к опреде-
ленной вере. Но, должен сказать, чем больше я видел умоз-
рительной критики христианства, тем меньше она меня зани-
мала. Заметив, что нравственный урок Воплощения соответ-
ствует здравому смыслу, я глянул на признанные абстрактные
Доводы против Воплощения и увидел, что они — бессмыс-
лица. Чтобы разговор наш не показался ущербным из-за от-
632
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
сутствия привычных доводов, я сейчас очень кратко подведу
итог моим размышлениям о чисто объективной, научной ис-
тине всего этого дела.
Если от меня потребуют чисто логических доводов в
пользу христианства, я отвечу, что верю в него в силу тех же
доказательств, какими располагает и мыслящий атеист. Я ве-
рю вполне разумно, опираясь на опыт, но мой опыт, как и
опыт разумного агностика, это не голословное утверждение,
а огромное нагромождение малых, но согласных друг с дру-
гом фактов. Нельзя винить противника Церкви за то, что
его доводы против христианства отрывочны и смешаны, —
именно обрывочность, сбивчивость доказательств обычно
убеждают нас. На мировоззрение человека меньше влияют
четыре книги, чем одна книга, один пейзаж, одна битва и
один старый друг. Важность их свидетельства возрастает
именно от того, что столь разные вещи ведут к одному выво-
ду. Атеизм обычного образованного человека стоится ныне
из такого разнородного и живого опыта. Я могу сказать толь-
ко, что мои доказательства в пользу христианства так же
ощутимы и различны. Вглядевшись в разные антихристиан-
ские истины, я обнаружил, что все они лживы: поток всех
малых фактов устремлен в другую сторону. Обратимся к при-
мерам. Многие разумные люди отвернулись от христианства
под давлением трех убеждений: во-первых, люди и видом, и
делом, и чувственностью все-таки слишком похожи на жи-
вотных; во-вторых, первые религии зародились в невежестве
и страхе; в-третьих, жрецы одурманили мир горечью и скор-
бью. Все три положения вполне законны и логичны, и вывод
у них один. Единственных их недостаток в том, что они лжи-
вы. Оторвитесь от книг о людях и животных и посмотрите на
самих людей. Если у вас есть юмор или воображение, если
вам понятно безумие или нелепость, вы будете поражены не
тем, как человек похож на животных, но тем, как он на них
не похож. Это чудовищное несоответствие надо как-то объяс-
нить. Что человек и зверь похожи, давно известно, но вот то,
что при этом они столь невероятно разные — потрясающая
ОРТОДОКСИЯ
633
загадка. Руки обезьяны не так интересны мыслителю, как
то, что имея руки, она ничего ими не делает: не играет на
бильярде, на скрипке, не режет по мрамору, не нарезает себе
мясо. Пусть даже архитектура у нас варварская, искусство в
упадке — но слоны не строят громадных храмов из слоно-
вой кости, даже в стиле рококо; верблюды не рисуют верб-
люжьими кисточками даже плохих картин. Иные фантазеры
говорят, что муравьи и пчелы создали лучшее государство,
чем мы. У них, действительно, есть цивилизация, но это толь-
ко напоминает о том, насколько она ниже нашей. Кто нашел
в муравейнике памятники знаменитым муравьям? Кто видел
на сотах портреты славных древних цариц? Быть может, есть
естественное объяснение этой пропасти между человеком и
прочими тварями, но пропасть существует. Мы говорим о
диких животных, но ведь человек — дикое и вольное жи-
вотное. Все остальные звери следуют жесткой морали пле-
мени и вида, только человек выломился из своих рамок. Все
звери — домашние, только человек всегда бездомен, как
распутник или как монах. Первый довод материализма обо-
рачивается против него — там, где кончается биология, на-
чинается религия.
Так же обстоит дело и со вторым аргументом — будто
то, что мы считаем божественным, зародилось во тьме и стра-
хе. Когда я стал искать основы этой идеи, я обнаружил, что
их просто нет. Наука ничего не знает о доисторическом чело-
веке именно потому, что он доисторический. Некоторые уче-
ные предполагают, что человеческие жертвоприношения
сперва были бессознательными и всеобщими, а затем посте-
пенно исчезли, но у этого предположения нет прямых дока-
зательств, а немногие косвенные ему противоречат. В самых
ранних легендах, в историях Исаака и Ифигении118 челове-
ческое жертвоприношение изображено не как нечто старое,
а как новое, странное и ужасно исключение, которого потре-
бовали боги. История не говорит ничего, а все легенды гово-
рят, что раньше мир был добрее. Нет предания о прогрессе,
но все человечество верит в грехопадение. Забавно, что даже
634
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
распространенность легенды оказывается в устах образован-
ных людей доводом против нее: они говорят, что раз все пле-
мена помнят о доисторической катастрофе, значит, ее не было.
Мне не поспеть за их парадоксами.
И с третьим наудачу выбранным доводом, будто жрецы
отравили мир горечью, выходит то же самое. Я посмотрел на
мир и увидел, что эти слова лживы. В тех странах Европы,
где еще сильно влияние церкви, сохранились песни, танцы,
маскарады и уличные представления. Католическое учение и
дисциплина — стены, но они ограждают площадку для игр.
Представьте себе детей, играющих на ровной, покрытой тра-
вой вершине какой-нибудь скалы в океане. Пока вокруг их
островка была стена, они могли забавляться самой неистовой
игрой и превращали свою скалу в самую шумную из детских
комнат. Но стену разрушили, и обнажился угрожающий от-
весный обрыв. Дети не упали, но в ужасе сбились в кучку, и
песня их умолкла.
Так эти три из опыта добытых факта, которые должны
утвердить агностицизм, оборачиваются против него. Я все
прошу: «Объясните мне вопиющее отличие человека от зве-
рей, укажите истоки столь многим известного предания о
прежнем блаженстве и причину возвращения некоторых язы-
ческих радостей в католические страны». Одна теория, по
крайней мере, отвечает на все три вопроса: дважды естествен-
ный порядок был нарушен взрывом или внезапным открове-
нием — тем, что теперь некоторые называют «духовным».
Однажды небеса сошли на землю, даруя власть или печать
образа Божьего, благодаря которой человек стал владыкой
Природы; и вновь (когда во всех империях люди были взве-
шены и найдены очень легкими)119, чтобы спасти человече-
ство, небеса сошли на землю в потрясающем облике Челове-
ка. Вот почему большинство людей вздыхает о прошлом, и
единственный край, где люди в какой-то смысле надеются на
будущее, это мир церкви Христовой. Я знаю, мне возразят,
что Япония стала прогрессивной. Да разве это возражение,
когда сами слова «Япония стала прогрессивной» для нас озна-
ОРТОДОКСИЯ
635
чают, что «Япония стала похожа на Европу»? Но сейчас для
меня мое личное мнение не так важно, как то, о чем сказано
вначале: я как и любой атеист, ссылаюсь на три-четыре уди-
вительных явления, которые ведут к одному выводу: только
когда я вглядываюсь в эти явления, они указывают мне со-
всем не ту мысль, что атеисту.
Я привел три обычных довода против христианства; если
это недостаточное основание для нашего разговора, я сейчас
же назову еще. Некоторые предрассудки вместе создают
впечатление, что христианство — это нечто слабое и болез-
ненное. Во-первых, Христос был кроток, безответен и вооб-
ще не от мира сего — и Его призыв к миру был бесплоден;
во-вторых, христианство появилось в Темные века невеже-
ства, и церковь хочет снова вернуть нас во тьму, и, наконец,
глубоко верующие или, если угодно, суеверные народы (ир-
ландцы, например) отсталы, бессильны и непрактичны. Я пе-
речисляю эти мнения, потому что с ними у меня вышло точно
так же, как и с предыдущими: когда я сам задумался над ними,
я увидел, что неверны не выводы из них, но сами факты.
Вместо того, чтобы смотреть книги и картины, посвященные
Евангелию, я прочел само Евангелие. Там я обнаружил не
описание человека с тонким пробором и умоляюще сложен-
ными руками, но Существо необычайное, Чья речь гремела
как гром и Чьи поступки были грозно решительны: он опро-
кидывал столы менял, изгонял бесов, свободно, точно воль-
ный ветер, переходил от одиночества в горах к страшной про-
поведи перед толпой — я увидел Человека, который часто
поступал, как разгневанное божество, и всегда — как подо-
бает Богу. У Христа был даже свой слог — такого, мне ка-
жется, нет больше нигде. Отличительная Его черта — почти
яростное употребление слов «насколько же более». Сравне-
ния громоздятся друг на друга, словно башни в тучах. О Хри-
сте говорят — должно быть, так и надо — мягко и нежно. Но
речь Самого Христа исполнена странностей и мощи — вер-
блюды протискиваются сквозь ушко, горы ввергаются в море.
Эта речь ужасает. Он сравнил Себя с мечом и велел мужам
636
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
продать свою одежду, чтобы купить меч120. То, что Он еще
более грозно призывал к непротивлению, усугубляет таин-
ственность, усугубляет и яростную силу. Мы не сможем
объяснить это, даже объявив Его безумцем, — безумец
обычно зацикливается на одной идее. Всякий маньяк — мо-
номан. Придется вспомнить сложное определение христиан-
ства, о котором я уже говорил: христианство — сверхъесте-
ственный парадокс, в нем две враждебные страсти бушуют
рядом. Вот объяснения Евангелий, которое и вправду их
объясняет: они — отпечаток еще более поразительного со-
четания, открывшегося со сверхъестественной высоты.
Теперь займемся следующим примером: мнением, будто
христианство породили Темные века. Тут я не ограничился
изучением современных гипотез и немножко почитал исто-
рию. И в истории я обнаружил, что христианство не только
не было продуктом Темных веков — оно было единствен-
ной светлой тропой сквозь Темные века. Христианство —
сияющий мост, соединивший две блестящие цивилизации.
Пусть говорят, что вера зародилась в невежестве и дикости;
ответ прост: это неправда. Она зародилась в средиземномор-
ской цивилизации в пору расцвета Римской империи. Мир
кишел скептиками, и пантеизм был очевиден, как солнце,
когда Константин прибил крест на мачту121. Да, потом ко-
рабль затонул — но куда удивительнее, что он вновь появился
на поверхности, яркий, сверкающий, и по-прежнему с крес-
том наверху. Это чудо сотворила вера — она превратила то-
нущий корабль в подводную лодку. Ковчег жил под толщей
вод. Мы были погребены под руинами династий и племен,
мы восстали и вспомнили Рим. Если б наша вера была толь-
ко капризом империи, в сумерках ее сменил бы другой кап-
риз, и если бы цивилизация вновь вынырнула (а сколько их
так и не вынырнуло), она появилась бы под каким-нибудь
новым, варварским флагом. Но христианство было последним
вздохом старого мира и первым вздохом нового. Оно обра-
тилось к людям, забывшим, как строить свод, и научило их
готике. Словом, самое нелепое, что можно сказать о христи-
ОРТОДОКСИЯ
637
анстве, это именно то, что мы слышим каждый день. Что за
мысль, будто Церковь хочет нас увлечь назад, в Темные века?
Только Церковь извлекла нас оттуда.
Я присоединил к этой троице возражений праздное заме-
чание тех, кому такие народы, как ирландцы, кажутся ослаб-
ленными и погрязшими в суеверии. Я добавил его потому, что
это особый род фактов, которые оборачиваются ложью. Об
ирландцах твердят, что они непрактичны. Но если мы на ми-
нуту отвлечемся от того, что о них говорят, и осмотрим, что из-
за них делают, мы увидим, что ирландцы не только практич-
ны, — они угрожающие близки к цели. Бедность их страны,
их малочисленность — это условия, в которых им приходится
действовать, но никакой другой народ в Британской империи не
совершил столько в подобных условиях. Ирландские нацио-
налисты — единственное меньшинство, сумевшее выбить из
колеи британский парламент. Из всех наших бедняков только
ирландские крестьяне сумели что-то вырвать у своих хозяев.
Эти люди, якобы одураченные попами, единственные из всех
британцев не дают дурачить себя помещикам. Когда я вгля-
дываюсь в настоящего ирландца, я вижу все то же: ирландцы
особенно хороши в трудных профессиях — в работе с метал-
лом, в адвокатуре, в армии. И снова я прихожу к тому же:
скептик делает правильным вывод из фактов, но он не знает
фактов. Скептик слишком доверчив — он верит газетам и
даже энциклопедиям. И вновь три вопроса дали мне не ответ,
а три противоположных вопроса. Обычный скептик хотел
знать, как я объясню слащавость Писания, связь веры с тьмой
средневековья и политическую неспособность кельтских хри-
стиан. Но я хочу спросить серьезно и настойчиво: что это за
необычайная сила, впервые проявившаяся в Том, Кто шел по
земле как живое воплощение суда; сила, которая умерла с уми-
рающей цивилизацией и все же заставила ее воскреснуть; сила,
которая воодушевляет разоренных крестьян такой упорной
верой в справедливость, что они получают свое, когда другие
Уходят ни с чем, и самый беспомощный остров империи пре-
красно справляется со своими проблемами?
638
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
Ответ есть. Разве не ответ — сказать, что эта сила не от
мира сего, она духовна или, по крайней мере, рождена подлин-
но духовным потрясением? Мы обязаны величайшим уваже-
нием и благодарностью таким великим цивилизациям, как
древнеегипетская или сохранившаяся китайская. Однако мы
вправе сказать, что только современная Европа высказывает
способность в самообновлению, которая проявляется через
кратчайшие промежутки времени и не пренебрегает малейши-
ми подробностями архитектуры и моды. Все прочие общества
умирают достойно и бесповоротно. Мы умираем каждый день
и всегда рождаемся вновь с почти непристойной живучестью.
Едва ли будет преувеличение сказать, что в истории христи-
анства присутствует какая-то неестественная жизнь, — мож-
но считать, что жизнь сверхъестественная. Можно считать,
что это кошмарная гальванизация того, что должно стать тру-
пом, судя по примерам и по судьбе других сообществ. Наша
цивилизация должна была умереть в ночь гибели Рима. Вот
роковой дух нашей эпохи: и вас и меня не должно было быть.
Все мы — пережиток, все живые христиане — призраки мерт-
вых язычников. Как раз когда Европа должна была приоб-
щиться к праотцам — к Ассирии и Вавилону, — что-то во-
шло в ее тело. И Европа обрела странную жизнь.
Я долго возился с триадами скептиков, чтобы показать
главное: моя вера в христианство рациональна, но не проста.
Она, как и позиция обычного агностика, порождена сово-
купностью разных фактов, но факты агностика лживы. Он
стал неверующим из-за множества доводов, но его доводы
неверны. Он усомнился, потому что средние века были вар-
варскими, — но это неправда; потому что чудес не бывает,
но и это неправда; потому что монахи были ленивы — но
они были очень усердны; потому что монахини несчастли-
вы — он они светятся бодростью; потому что христианское
искусство бледно и печально — но оно знает самые яркие
краски и веселую позолоту; потому что современная наука
расходится со сверхъестественным — а она мчится к нему со
скоростью паровоза.
ОРТОДОКСИЯ
639
Среди миллиона таких фактов, стремящихся к одному
выводу, один вопрос, достаточно серьезный и обособленный,
стоит разобрать отдельно, хотя и кратко: я имею в виду ре-
альность сверхъестественных явлений. В другой главе я го-
ворил об обычном заблуждении, будто мир безличностен, раз
он упорядочен. Личность так же может желать порядка. Как
и беспорядка. Но мое глубокое убеждение (личностное тво-
рение куда приемлемей, чем материальный рок) доказать
нельзя. Я не назову это убеждение верой или интуицией,
потому что вера затрагивает чувства, а оно чисто интеллек-
туально, но оно и первично, как уверенность в существова-
нии своего «я» и смысла жизни. Если угодно, назовите мою
веру в Бога мистической, из-за этого не стоит спорить. Но
моя вера в чудеса не мистична — я верю в них, полагаясь на
свидетелей, точно так же, как я верю в открытие Америки.
Тут надо только прояснить одну простую и логичную вещь.
Каким-то образом возникла странная идея, будто люди, не
верящие в чудеса, рассматривают их честно и объективно, а
вот верящие принимают их только из-за догмы. На самом
деле все наоборот. Верящие в чудеса принимают их (правы
они или нет) потому что за них говорят свидетели. Неверя-
щие отрицают их (правы они или нет), потому что против
них говорит доктрина. Разумно и демократично верить ста-
рой торговке яблоками, когда она свидетельствует о чуде,
точно так же как вы верите старой торговке яблоками, когда
они свидетельствует об убийстве. Следует верить рассказам
крестьянина о призраках настолько же, насколько вы верите
его рассказам о помещике, — у крестьянина достаточно здра-
вого недоверия к обоим. Однако можно наполнить библио-
теку Британского музея показаниями крестьян в пользу су-
ществования призраков. Раз уж речь идет о свидетелях, нас
просто подавляет поток свидетельств в пользу сверхъесте-
ственного. Если вы их отбрасываете, то одно из двух: вы от-
брасываете рассказ крестьянина о призраке или потому, что
это рассказ крестьянина, или потому, что это рассказ о при-
зраке. То есть вы либо отменяете первый принцип демокра-
640
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
тии, либо утверждаете первый принцип материализма —
априорную невозможность чудес. Ваше право — но в таком
случае вы догматик. Мы, христиане, принимаем все суще-
ствующие факты — вы рационалисты, отрицаете факты,
потому что к этому вас вынуждает догма. Но я не ограничен
никакой догмой и, вглядываясь беспристрастно в некоторые
чудеса средневековья и современности, я пришел к выводу,
что они были на самом деле. Любой спор против этих ясных
фактов превращается в порочный круг. Я говорю: «Средне-
вековые документы сообщают об известных чудесах точно
так же, как они сообщают об известных битвах». Мне отве-
чают: «Средневековые люди суеверны». Если я попытаюсь
понять, в чем их суеверие, единственный решительный от-
вет4тг“ «они верили в чудеса». Я говорю: «Крестьянин видел
привидение». Мне отвечают: «Но крестьяне так легковер-
ны». А если я спрошу: «Почему же легковерны?» — ответ
один: «Они видят призраков». Исландии нет, потому что ее
видели только глупые моряки, а моряки глупы, потому что
они видели Исландию.
Должен сказать что есть другой довод против чудес, но
верующие обычно о нем забывают. Они могли бы сказать,
что во многих историях о чудесах чувствуется некая духов-
ная приуготовленность — чудеса бывают только с тем, кто в
них верит. Это возможно, и если это так, то как нам прове-
рить чудеса? Если нас интересуют определенные последствия
веры, бессмысленно твердить, что они бывают только с теми,
кто верит. Если вера — одно из условий, неверующие впра-
ве смеяться, но они не вправе судить. Может быть, вера ни-
чуть не лучше пьянства, но если бы мы изучали психологии
пьяниц, было бы нелепо упрекать их за то, что они напились
Допустим, нас интересует, видят ли разгневанные люди крас-
ное облако перед глазами. Допустим, шестьдесят достойны)
домовладельцев присягнули, что видели эту алую тучку, —
нелепо было бы возражать: «Да ведь вы сами сознаетесь
чтобы ли тогда рассержены». Они бы ответили громоподоб
ным хором: «Как, черт возьми, мы бы узнали, видят ли рас-
ОРТОДОКСИЯ
641
серженные люди красное, если бы сами не рассердились?!»
Так и святые и аскеты вправе ответить: «Допустим, вопрос в
том: бывают ли у верующих видения? — тогда, если вас ин-
тересуют видения, нельзя отвергать свидетельства верую-
щих». Вы по-прежнему движетесь по кругу — по тому кру-
гу безумия, с которого началась книга.
Вопрос, бывают ли чудеса, — вопрос здравого смысла и
нормального исторического воображения, а не решительного
физического эксперимента. Нужно отбросить безмозглый
педантизм, который требует «научных условий» для провер-
ки духовных явлений. Если мы хотим знать, может ли душа
умершего общаться с живыми, смешно настаивать, чтобы они
общались в условиях, в которых не стали бы всерьез общаться
двое живых. То, что духи предпочитают темноту, не опро-
вергает существования духов, как то, что любящие предпо-
читают темноту, не опровергает существования любви. Если
вам вздумалось твердить: «Я поверю, что мисс Браун назва-
ла своего жениха Лютиком или каким-либо другим ласко-
вым именем, если она повторит его перед семнадцатью пси-
хологами», — я отвечу: «Прекрасно! Раз таковы ваши ус-
ловия, вы никогда не узнаете правду, потому что она ни в
коем случае ее не скажет». И ненаучно, и просто глупо удив-
ляться, что в неблагоприятных условиях не возникнет ничто
благое. Точно так же я могу утверждать, что не вижу тума-
на, потому что воздух недостаточно ясен, или требовать яр-
кого солнца, чтобы разглядеть затмение.
Здравый смысл приводит меня к заключению — такому
же, как те, что мы делаем о любви или о мраке (хорошо
зная, что иные детали по природе своей должны быть скры-
ты), к выводу, что чудеса бывают. Меня принуждает к это-
му заговор фактов: факт, что люди, встречавшие эльфов и
ангелов, не мистики и не угрюмые мечтатели, а рыбаки, фер-
меры и прочие люди, простые и осторожные; факт, что мы
все знаем людей, свидетельствующих в пользу сверхъесте-
ственных явлений, хотя они никак не мистики; факт, что на-
ука с каждым днем все больше признает такие явления. На-
642
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ука признает даже Вознесение, если вы назовете его левита-
цией, и скорее всего признает Воскресение, когда придумает
ему другое имя. Но самое главное — вышеуказанная дилем-
ма: сверхъестественные явления отрицают либо из антидемо-
кратического, либо из материалистического догматизма;
можно сказать — из материалистического мистицизма.
Скептик всегда выбирает одно из двух: или не стоит верить
обычному человеку, или не следует верить в необычные яв-
ления. Я надеюсь, можно опустить довод против чудес, ко-
торый сводится к перечислению надувательств и шарлата-
нов. Это вовсе не довод. Фальшивые привидения не опро-
вергают существования привидений, как фальшивая банкно-
та не опровергает существования банка — скорее она его
подтверждает.
Согласившись, что бывают духовные явления (мои дово-
ды в их защиту сложны, но разумны), мы тут же столкнемся с
худшим злом нашего времени. Величайшая беда XIX века в
том, что люди стали употреблять слово «духовный» в значе-
нии «хороший». Они решили, что изысканность и бестелес-
ность — путь к добродетели. Когда была открыта научная
эволюция, кое-кто боялся, что она высвободит животные
инстинкты. Она сделала хуже: она высвободила «духов-
ность». Она приучила людей думать, что, уходя от обезья-
ны, они приближаются к ангелам. Но можно уйти от обезья-
ны и отправиться к черту. Талантливый человек, типичный
представитель того смутного времени, прекрасно выразил это.
Бенджамен Дизраэли122 справедливо сказал, что он на сто-
роне ангелов. Он и был на стороне ангелов — ангелов пад-
ших. Он не стоял за животный аппетит или животную жес-
токость, но он стоял за империализм князей тьмы, за их вы-
сокомерие, таинственность и презрение к очевидному благу.
Между гордыней падших и возвышенным смирением небес
должны быть духи разного вида и звания. Повстречав их,
человек может ошибиться так же, как он ошибается, встре-
чая разных людей в какой-нибудь далекой стране. Трудно
сразу разобраться, кто господин, а кто подчиненный. Если
ОРТОДОКСИЯ
643
бы тень поднялась из нижнего мира, она могла бы и не по-
нять, что такое кеб. Она бы решила, что кучер на козлах —
триумфатор, влачащий за собой бьющегося, запертого плен-
ника. Так же, впервые встретившись с духами, мы можем не
понять, кто главнее. Мало найти богов — они очевидны.
Надо найти Бога, подлинного главу всех богов. Нужен дол-
гий исторический опыт в сверхъестественном, чтобы отли-
чить естественное. С этой точки зрения я считаю историю
христианства, и даже его иудейских истоков, вполне прак-
тичной и ясной. Нет смысла твердить, что иудейский Бог был
одним из многих. Я знаю это и без ученых. Яхве и Ваал ка-
зались равными, как кажутся равными Солнце и Луна. Лишь
понемногу мы узнаем, что безмерное Солнце — наш влады-
ка, а маленькая Луна — только спутник. Веря в мир духов,
я буду идти в нем, как в мире людей, отыскивая то, что я
люблю и считаю хорошим, так же как в пустыне я искал бы
свежую воду, а на Северном полюсе — топливо для уютного
костра; я буду искать в стране пустоты и видений, пока не
найду нечто чистое, как вода, и уютное, как огонь, пока не
найду место в вечности, где я вправду буду дома. Есть толь-
ко одно такое место.
Я сказал достаточно (для тех, кому важно такое объясне-
ние) и предъявил то, чем располагаю по части апологетики —
обоснование веры. В простом перечне фактов, если и рассмат-
ривать демократично, без пренебрежения и предпочтения, есть
свидетельства, во-первых, что чудеса бывают и во-вторых, что
наиболее благородные чудеса принадлежат к нашей традиции.
Ноя и не притворяюсь, будто это куцее объяснение — дей-
ствительная причина, по которой я стал христианином вместо
того, чтобы просто извлечь из христианства моральное благо,
как я извлек бы его из конфуцианства.
У меня есть куда более основательная и важная причи-
на принять христианство как веру, а не выдергивать из
него намеки, как из схемы. Вот эта причина: христианская
Церковь — живая, а не умершая наставница моей души.
Она не только учила меня вчера, но и почти наверняка бу-
644
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
дет учить завтра. Однажды мне открылся смысл очертаний
креста, когда-нибудь, быть может, я увижу смысл очерта-
ний митры. В одно прекрасное утро я понял, почему окна в
храме сужены кверху; в другое прекрасное утро я пойму, за-
чем выбривают тонзуру. Платон учил нас истине, но Платон
мертв. Образы Шекспира поражали нас, но больше он ни-
чем нас не поразит. Но представьте себе, каково жить в
мире, где все еще живут такие люди; знать, что завтра
Платон может прочесть новую лекцию и в любое мгно-
венье Шекспир затмит всех одним стихом. Человек, живу-
щий в соприкосновении с тем, что он считает живой Цер-
ковью, всегда ждет к завтраку Платона и Шекспира. Он
всегда ждет, что ему откроется истина, которой он еще не
знал. Есть только одно состояние, подобное этому — со-
стояние, в котором мы начали жизнь. Когда отец, гуляя в
саду, говорил вам, что пчелы жалят, а розы прекрасно пах-
нут, вы не пытались разделить пчел и его философию.
Когда пчела жалила вас, вы не называли это занятным со-
впадением. Когда вы нюхали розу, вы не говорили: «Мой
отец — примитивный варварский символ, хранящий (дол-
жно быть, бессознательно) глубокую тонкую истину о том,
что цветы пахнут». Вы верили отцу, потому что вы об-
наружили, что он, живой источник фактов, действительно
знает больше, чем вы, и скажет вам правду завтра, как
сказал сегодня. Еще больше это касалось матери, во вся-
ком случае — моей матери, которой посвящена эта книга.
Теперь, когда общество напрасно суетится и страдает из-
за подчиненного положения женщины, неужели никто не
признает, как сильно каждый мужчина обязан тирании и
привилегиям женщин — тому, что только они управляют
воспитанием до тех пор, пока оно не становится бесплод-
ным? Ведь мальчиков посылают в школу, когда их уже по-
здно учить. Самое главное уже сделано и, слава Богу, уже
сделано женщинами. Каждый мужчина подчинен женщине
уже самим фактом рождения. Говорят же о мужеподобных
женщинах — но каждый мужчина женоподобен. И если
ОРТОДОКСИЯ
645
когда-нибудь мужчины устроят демонстрацию, протестуя
против этой привилегии женщин, я к ним не присоеди-
нюсь.
Ведь я отлично помню несомненный психологический
факт: именно в то время, когда я был всецело под властью
женщин, я был полон пыла и приключений. Мама говорила:
«Муравьи кусаются», и они кусались, и снег шел зимой, как
она говорила, — поэтому весь мир был для меня страной
чудес, где все волшебно сбывалось, и это было похоже на
жизнь в библейскую эпоху, когда сбывалось пророчество за
пророчеством. Ребенком я выходил в сад; то было ужасное и
удивительное место, потому что я знал его тайну, — если бы
я не знал его тайну, он был бы не ужасным, а скучным. Ди-
кие бессмысленные заросли не производят никакого впечат-
ления, но сад моего детства зачаровывал, потому что все в
нем имело точный смысл, который открывался мне в свое
время. Шаг за шагом открывалось назначение уродливой
штуки под названием «грабли» или складывалась смутная
догадка о том, зачем мои родители держат кошку.
И вот, с тех пор как я принял христианскую веру как мать,
а не как случайный пример, Европа и мир вновь стали ма-
леньким садом, где я удивленно глядел на символические
очертания кошки и граблей. Как и в детстве, я смотрю на все
с волшебным неведением и предвкушением. Тот или иной
обряд, та или иная догма могут выглядеть столь же уродли-
выми, как грабли, но я знаю по опыту, что цель их — трава и
цветы. Священник может показаться бесполезным, как кош-
ка, но он столь же занимателен — существует же он зачем-то.
Я приведу один пример из сотни. У меня нет инстинктивного
преклонения перед физической непорочностью, которое, не-
сомненно, было свойственно христианству в свое время. Но
когда я смотрю не на себя, а на мир, я вижу, что это прекло-
нение было свойственно не только христианству, но и языче-
ству, и это знак человеческой высоты. Греки восхищались
девственностью, когда создавали Артемиду, и римляне, ког-
да окутывали покрывалом весталок; даже худшие и подлей-
646
ГИЛБЕРТ КИИТ ЧЕСТЕРТОН
шие из великих елизаветинских драматургов держались це-
ломудрия женщины как основания мира. Более того, совре-
менным мир, хоть он и смеется над невинностью, сам сотво-
рил из нее кумира, обожествив детей. Каждый, кто любит
детей, согласится, что признаками пола наносят ущерб их
особой прелести. Соединив человеческий опыт с авторите-
том церкви, я понял, что я ущербен, а Церковь всеобъемлю-
ща. Церкви нужны разные люди, она не требует от меня дев-
ственности. Я не понимаю девственников — и смиряюсь с
этим, как с тем, что у меня нет музыкального слуха. Лучший
опыт человечества против меня, на стороне Баха. Безбра-
чие — один из цветов в саду моего Отца, чье нежное или
ужасное имя мне неизвестно; но однажды, быть может, оно
откроется мне.
Вот почему я принял веру, а не из-за надерганных раз-
розненных истин. Я принял ее потому, что она не просто от-
крыла мне ту или иною истину, но потому, что она сама ока-
залась истиной. Все прочие философии говорят очевидное —
только эта философия вновь и вновь говорила то, что каза-
лось ложью, но оборачивалось правдой. Единственная из всех
вер она убедительна, даже когда непривлекательна; она пра-
ва, как мой отец в саду. Например, теософы проповедуют
привлекательную идею переселения душ, но ее логическое
следствие — духовное высокомерие и кастовая жестокость.
Ведь если человек рождается нищим за грехи своей прошлой
жизни, люди могут презирать нищих. Христианство пропо-
ведует непривлекательную идею первородного греха, но ее
следствие — жалость и братство, смех и милость. Ибо, только
веря в первородный грех, мы может в одно и то же время
жалеть нищего и презирать короля. Ученые предлагают нам
здоровье, очевидное благо; лишь позже мы догадываемся,
что под здоровьем они понимают рабство тела и скуку души
Ортодоксия велит нам отпрянуть от разверзшейся бездны:
но позже мы понимаем, что этот прыжок очень полезен Д^'
здоровья. Позже мы понимаем, что эта опасность — источ-
ник трагедии и романтики. Благодать Божия достоверна, ибс
ОРТОДОКСИЯ
647
она не благостна. Все самое непопулярное в христианстве
оказалось главной нашей опорой. Внешняя его сторона —
строгая стража этических ограничений и профессиональных
священников; но внутри жизнь человеческая пляшет, как
дитя, и пьет вино, как мужчина, ибо лишь ограда христиан-
ство сберегает языческую свободу. В современной филосо-
фии все наоборот: внешняя сторона красива и свободна —
отчаяние внутри.
Отчаяние ее в том, что она на самом деле не верит в ка-
кой-либо смысл мира, и потому у нее нет надежды обрести
романтику. У ее романов нет сюжета. В краю анархии нет
приключений — приключения бывает там, где есть автори-
тет. Не найдешь смысла в джунглях скепсиса — но тот, кто
идет по лесу Учения, с каждым шагом обнаруживает новый
смысл. Тут все имеет свою историю как инструменты и кар-
тины в доме моего отца. Я кончил там, где начал, — там, где
надо. Я вошел во врата всякой доброй философии — вер-
нулся в детство.
У полной приключений христианской вселенной есть еще
одна, последняя особенность, которую трудно объяснить, но
я попытаюсь, потому что она завершает наш разговор. Все
настоящие споры о религии сводятся к вопросу, может ли
человек, родившийся вверх тормашками, понять, где верх,
где низ. Первый, главный парадокс христианства — в том,
что обычное состояние человека неестественно и неразумно,
сама нормальность ненормальна. Вот она, суть учения о пер-
вородном грехе. В занятном новом катехизисе сэра Оливера
Лоджа123 первые два вопроса: «Кто ты?» и «Что, в таком
случае, означает грехопадение?» Я помню, как я пытался со-
чинить свои ответы, но вскоре обнаружил, что они очень не-
уклюжи и неуверенны. На вопрос: «Кто ты?» я мог ответить
только: «Бог его знает». А на вопрос о грехопадении я отве-
тил совершенно искренне: «Значит, кто бы я ни был, я —
это не я». Вот главный парадокс нашей веры: нечто, чего мы
никогда не знали вполне, не только лучше нас, но и ближе
нам, чем мы сами. Проверить это можно только тем опытом,
648
ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
с которого началась книга: помните сумасшедший дом и от-
крытую дверь? Лишь с тех пор, как я узнал ортодоксию, я
узнал свободу мысли. Но этот парадокс особым образом свя-
зан с важнейшей идеей религии.
Говорят, язычество — религия радости, а христиан-
ство — религия скорби; не менее легко доказать, что языче-
ство дает только скорбь, христианство — только радость.
Такие оппозиции ничего не значат и никуда не ведут. Во всем
человеческом есть и скорбь и радость; важно, как они соеди-
няются или разграничиваются. Важно, что язычник (как пра-
вило) был счастливее, когда приближался к земле, и печаль-
нее, когда приближался к небесам. Радость лучших язычни-
ков, веселье Катулла и Феокрита — это вечная радость,
которую благодарное человечество никогда не забудет. Но
они радуются мелочам жизни, а не ее истокам. Мелочи слад-
ки для язычника, как маленькие горные ручейки, но все ве-
ликое горько, как море. Увидев сердцевину мира, язычник
замирал в ужасе. За богами, которые просто деспотичны,
стоят губительные Мойры124. Нет, Мойры не смертоносны,
хуже — они сами мертвы. Рационалисты говорят, что ан-
тичный мир был более просвещенным, чем мир христиан, —
и они правы, ведь «просвещенный» означает для них «омра-
ченный беспросветным отчаянием». Несомненно, античный
мир был современнее христианского. И античные, и совре-
менные люди отчаялись в бытии, отчаялись во всем — тут
средневековые люди, конечно, были счастливы. Я признаю,
что язычники, как и современные люди, отчаялись только во
Всем — впрочем, и они были довольно счастливы. Я при-
знаю, что средневековые христиане были в мире только со
Всем — они враждовали со всем остальным. Но что до ос-
нов мира, было больше вселенского лада на грязных улицах
Флоренции, чем в театре Афин или в открытых садах Эпи-
кура. Город Джотто мрачнее, чем город Еврипида125; все-
ленная его радостней.
Почти всем приходилось радоваться маленьким вещам,
грустить из-за больших. Тем не менее (я дерзко объявляю
ОРТОДОКСИЯ
649
последнюю догму) это несвойственно человеку. Человек
больше похож на себя, человек более человечен, когда ра-
дость в нем — основное, скорбь — второстепенное. Мелан-
холия должна быть невинным предисловием, легким, усколь-
зающим налетом — хвала должна быть жизнью души. Пес-
симизм, в лучшем случае, — выходной день для эмоций.
Радость — великий труд, которым мы живы. Язычник или
агностик полагает, глядя на человека, что эта первичная по-
требность никогда не удовлетворится. Радость должна быть
всепроникающей; агностик хочет ужать ее и загнать в один
уголок мира — зато отчаяние его распространяется на непо-
стижимую вечность. Вот что значит родиться вверх ногами.
Скептик живет перевернутым: его ноги пляшут в пустячных
забавах, голова его в бездне. Небеса современного человека
оказались под землей — это понятно, ведь он стоит на голо-
ве, а на ней не устоишь. Но когда он обретает почву под но-
гами, то понимает, что обрел ее. Христианство внезапно и
вполне удовлетворяет древнее стремление человека — сто-
ять на ногах; удовлетворяет прежде всего в том, что радость
становится великой, печаль — малой и узкой. Свод над нами
глух не потому, что Вселенная неразумна. Это не бессердеч-
ное молчание бесконечного, бессмысленного мира; оно боль-
ше похоже на сострадательную, внезапную тишину в комна-
те больного. Быть может, нам из жалости дали трагедию, а
не комедию — неистовая сила Божественного сбила бы нас
с ног, как пьяницу в фарсе. Нам легче перенести наши сле-
зы, чем потрясающее легкомыслие ангелов. Возможно, мы
заключены в звездной палате молчания, ибо смех небес слиш-
ком громок для нас.
Веселье, маленькое и внешнее дело язычника, — вели-
кий секрет христианина. Завершая мою беспорядочную кни-
гу, я вновь открываю ту небольшую книгу, с которой нача-
лось христианство, и вновь я приобщен к этой тайне. Пора-
зительный герой, наполнивший Собою Писание, и здесь пре-
восходит всех мыслителей, считавших себя гигантами. Скорбь
Его естественна, хотя и редка. Стоики, древние и современ-
650 ГИЛБЕРТ КИЙТ ЧЕСТЕРТОН
ные, гордятся тем, что скрывают свои слезы. Он не скрывал
Своих слез, они были ясно видны на Его лице при свете
дня — а день на Его родине ярок. Надутые супермены и
важные дипломаты гордятся тем, что могут сдержать свой
гнев. Он гнева не сдерживал. Он вышвырнул столы из хра-
ма и спрашивал людей, как думают они избежать гибели. Но
кое-что Он сдерживал. Я говорю со всем благоговением: в
этой поразительной Личности было то, что можно назвать
застенчивостью. Что-то Он утаил от всех, когда удалился на
гору для молитвы; Он всегда это скрывал, обрывая речь или
внезапно уединяясь. Было нечто, слишком великое, чтобы
Бог показал нам это, когда Он жил на Земле, — и я думаю
иногда, что это Его радость.
Комментарии
КОММЕНТАРИИ
Святой Франциск Ассизский
Книга написана в 1923 г. Переведена по изданию Chesterton
С.К. St. Francis of Assisi. N. Y., 1957. Перевод HA. Трауберг.
1 Вордсворт Уильям (1770—1850)—знаменитый англий-
ский поэт, воспевавший природу.
2 Джотто —АнджиолеттодиБондоне(1266—1337) —
знаменитый итальянский художник. Есть портрет святого
Франциска его работы.
3 Повествование о святом Франциске входит в третью часть
«Божественной комедии» Данте — «Рай».
4 Миракли — средневековые спектакли, сюжетом кото-
рых были чудеса из жизни Христа, Девы Марии или святых.
5 Стигматы — особые знаки (язвы), появлявшиеся у
глубоко верующих людей в тех местах, где тело Христа было
пронзено гвоздями.
6 Святой Доминик — Доменико Гусман (1170—
1221) — основатель ордена проповедников (доминиканцев),
настаивал на строгом соблюдении предписанных монахам тру-
дов и постов. Позднее в руках доминиканцев оказалась инк-
визиция.
7 Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский
филолог, историк христианства, автор книги «Жизнь
654
КОММЕНТАРИИ
Иисуса», в которой Иисус выведен как реально существо-
вавший в истории человек. Арнолд Мэтью (1822—
1888) — английский поэт и критик, разоблачитель «викто-
рианства».
8 В «Цветочках» Франциска Ассизского рассказывается,
как он обратился с проповедью к «Брату Волку» и убедил его
заключить мир с людьми. Свое тело Франциск называл «Бра-
том Ослом» и не давал ему пощады.
9 Алъверно — гора, на которой жил святой Франциск пос-
ледние годы жизни, когда у него появились стигматы. На горе
Голгофе был распят Христос. Белая королева — персонаж
сказки Льюиса Кэрролла (1832—1898) «Алиса в Зазерка-
лье» (1871).
10 Аркадия — центральная область Пелопонесса, тради-
ционно считается страной счастливых, единых с природой па-
стухов и охотников, отсюда выражение — «и я был в Арка-
дии», т. е. «и я был счастлив».
11 Брат Волк, Сестра Овца — так обращался Франциск
к животным, проповедуя перед ними. Братец Кролик и Бра-
тец Лис — персонажи «Сказок дядюшки Римуса» американ-
ского писателя Дж. Харриса (1848—1901).
12 Тутанхамон — египетский фараон в 1400—1392 гг.
до н. э. Он стал «свежей новостью» в 1922 г., когда была об-
наружена его гробница.
13 Альбигойцы — секта, возникшая в конце XII века на
юге Франции. Альбигойцы отвергали авторитет Церкви и ут-
верждали, что весь материальный мир — зло. Святой Доми-
ник пытался обратить их проповедью. Крестовый поход про-
тив альбигойцев был в 1222—1229 гг.
14 Бесовщина 98-го года — жестокое подавление англий-
скими войсками восстания ирландцев в 1798 г.
15 Политические симпатии Наполеона к ирландцам были
одной из причин непримиримости Англии в конфликте с Ир-
ландией.
16 Эммет Роберт (1778—1803) — деятель ирландского
национального движения, пытался поднять антианглийское
восстание в 1803 г., казнен.
КОММЕНТАРИИ
655
17 Нельсон Горацио (1758—1805) — английский адми-
рал, погиб в Трафальгарской битве против франко-испанско-
го флота.
18 Уэллс Герберт Джордж (1866—1944) — английский
писатель, автор фантастических романов, социальных утопий.
«Исторический очерк» написан в 1920 г.
19 Кафоличность — греческое слово, означающее «все-
приятие», «соборность», от него образовано слово «католи-
ческий».
20 Занялись противоестественным делом — Честертон
имеет в виду однополую мужскую любовь, которая в Древней
Греции считалась более мудрой и возвышенной, чем любовь к
женщине.
21 ...что стояло в их садах вместо солнечных часов и
фонтана — римские сады охранял бог Приап, покровитель
плодородия и мужской силы. Обычно изображался в виде де-
ревянной статуи с обнаженным большим фаллосом или тремя
фаллосами.
22 Согласно греческой мифологии, Пан нагонял беспри-
чинный, «панический» ужас. Венера — древнеиталийское бо-
жество весны и плодородия. Впоследствии под влиянием гре-
ков была отождествлена с Афродитой как богиня любви и
красоты. В европейских языках ее именем названы болезни,
распространяющиеся половым путем.
23 Сей род изгоняется молитвой и постом — Мф 17:21.
24 Папа Григорий VII (на папском престоле в 1073—
1085 гг.) — решительно боролся за утверждение власти церк-
ви, против инвеституры, ввел целибат — принцип безбрачия
духовенства.
25 Монизм — в современной философии учение о единой
субстанции, из которой происходит мир (крайний материализм
или крайний идеализм). Честертон употребляет это слово в
значении «сведение всех явлений к одной сущности или при-
чине», имея в виду мусульманское единобожие.
26 Готфрид IVБульонский (1060—1100) — один из вож-
дей первого крестового похода, в 1099 г. избран королем Иеру-
салима, но предпочел титул «Защитник гроба Господня».
656
КОММЕНТАРИИ
27 Молох — божество, почитавшееся в Финикии. Ему
приносили в жертву детей.
28 Беллок Джозеф Хилер Пьер (1870—1952) — англий-
ский поэт и писатель, друг Честертона. Стихотворение, цити-
руемое Честертоном, неизвестно.
29 ...в духе стиха о том, что ангел — и ветер, и вест-
ник, и пламя — парафраза стихов псалма: «Ты творишь ан-
гелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пыла-
ющий» (Пс 53: 4).
30 Ариосто Лодовико (1474—1533) — знаменитый ита-
льянский поэт. Святая Екатерина Сиенская (1347 —
1380) — монахиня доминиканского ордена, прославилась под-
вигами милосердия и мистическими видениями.
31 Клепем, Уимблдон — пригороды Лондона.
32 Бриен Готье де (ум. 1205 г.) — брат короля Иеруса-
лима, зять Танкреда, короля Сицилии. После смерти Танк-
реда папа поддержал права Бриена на Сицилийское коро-
левство.
33 Карл Великий (742—814) — франкский король, объе-
динивший под своей властью большую часть Западной Евро-
пы. В 800 г. папа провозгласил Карла императором. Это было
попыткой возрождения на христианской основе Римской им-
перии. Империя Карла Великого превратилась в Священную
Римскую империю. Позднейшие легенды рисовали его седо-
бородым старцем, прожившим триста лет. Карл прославился
войнами с испанскими маврами.
34 Символ Веры — краткое изложение христианских дог-
матов, впервые сформулированное вселенским собором 325 г.
в Никее.
35 Не так, как мир дает — цитата евангельского текста:
«...мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин
14:27).
36 «Что Мне и Тебе?» — Ин 2:4; «Кто Матерь
Моя?» — Мф 12:48.
37 Нищий, который просит камень вместо хлеба — ал-
люзия на текст: «Есть ли между вами такой человек, который,
когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?»
(Мф 7:9)
КОММЕНТАРИИ
657
38 А Церковь всегда можно построить заново... — па-
рафраза обетования Христа о Церкви: «Ты — Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Мф 16:18).
39 Святая Клара Ассизская (1194—1253), последователь-
ница святого Франциска, основательница монашеского орде-
на кларисс, прославилась мистическими видениями.
40 ...а видел он, как верблюд во славе проходит сквозь
игольное ушко — в Евангелии рассказано, что Христос запо-
ведал богатому юноше раздать все имущество бедным, и тот ушел
в печали, потому что жалел свое богатство. Тогда Христос ска-
зал ученикам: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф 19:24). Чес-
тертон говорит о поступке Бернарда, раздавшего, в отличие от
юноши из притчи, свои богатства.
41 Ему все возможно — Ср.: «Услышавши это, ученики
его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
А Иисус воззрев сказал им: человекам это невозможно, Богу
же все возможно» (Мф 19:25—26).
42 Фарисеи — набожные иудеи, тщательно выполнявшие
все предписания церкви. Мытари — сборщики налогов, люди
в еврейском обществе презираемые и отверженные.
43 Сэр Бедивер — согласно легенде, один из рыцарей Круг-
лого стола, единственный соратник короля Артура, уцелевший
в последней битве.
44 Наставление ученикам не брать с собою ни золота, ни
серебра — См.: Мф 10:9—10.
45 Взять крест свой — имеется в виду текст: «...если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и
следуй за Мною» (Мф 16:24).
46 Святой Симеон Столпник (390—459) — аскет, мно-
го лет проживший на узкой площадке на столпе; внизу столпа
стояли его почитатели.
47 Данте по его просьбе похоронили в одежде францис-
канцев.
48 «Vita nova» — «Новая жизнь» (1292) — повесть Дан-
те, посвященная встрече с Беатриче, дочерью Фолько Порти-
нари, (1265—1290).
658
КОММЕНТАРИИ
49 Жонглер Богоматери — персонаж народной легенды.
Ремесло жонглера казалось греховным, близким к язычеству.
Один жонглер в старости ушел в монастырь, но там он не мог
служить Богу принятым в монастыре способом, так как не умел
как другие монахи переписывать книги и не знал молитв. Од-
нажды, оставшись один, стоя перед иконой Богоматери, он
решился порадовать Ее своим искусством. Сбежавшиеся мо-
нахи возмутились, увидев, как жонглер кувыркается перед
иконой, но тут сама Богоматерь сошла к выбившемуся из сил
старику и утерла ему пот.
50 До своего обращения Павел (тогда он звался Савлом)
был одним из наиболее яростных гонителей христианства. На
пути в Дамаск, куда он шел, чтобы изловить членов местной
христианской общины, «внезапно осиял его свет с неба; Он
упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл!
что ты гонишь Меня?» (Деян 9:3—4). В Евангелии ничего
не сказано о коне, с которого упал Савл, но Честертон со сво-
ей любовью к деталям дорисовывает эту сцену — не пешком
же «шел» Савл в Дамаск.
51 «Бог повесил землю ни на чем» — Ср.: Иов 26:7.
52 ... Так видел и Петр... — Апостол Петр был распят
вниз головой в 67 г.
53 Тень моста, который дал священнослужителю его
таинственное, древнее имя — римское наименование жреца
«pontifex» («понтифик») происходит от слова «pons» —
«мост».
54 Сокрушительная насмешка Книги Иова — Книга
Иова входит в состав Библии. Праведник Иов был подверг-
нут множеству испытаний, лишился детей и имущества, за-
болел проказой. Он требует у Бога ответа — почему Он по-
ступил так с тем, кто был верен Ему. Вместо ответа Бог, ь
свою очередь, задает Иову вопрос — что знает тот о замыс-
ле Божием? «Где был ты, когда Я полагал основания зем-
ли?» (Иов 28:4).
55 Россетти Данте Габриел (1828—1892) — английский
художник и поэт.
56 «...прибавить себе росту хотя бы на локоть» —
Мф 6:27.
КОММЕНТАРИИ
659
57 Джонсон Сэмюэл (1709—1784) — знаменитый анг-
лийский писатель, оригинал, многие анекдоты о нем сохра-
нились в жизнеописании Джеймса Босуэлла. С доктором
Джонсоном часто сравнивали Честертона. Блейк Уильям
(1757—1827) — английский поэт -мистик, при жизни многие
считали его безумцем. Лэм Чарлз (1775—1834) — английс-
кий критик и эссеист, жил уединенно и отличался многими
странностями.
58 Реализм и номинализм — основные направления сред-
невековой философии. Реалисты признавали реальность об-
щих понятий, номиналисты признавали только отдельные кон-
кретные вещи, а общие понятия считали «просто словами».
59 «Песнь Творения» приводится в «Цветочках святого
Франциска Ассизского».
60 Нонконформисты — протестантская секта, возникла
в XVI в. Нонконформисты отвергали авторитет святых и
Церкви.
61 «Вы все еще спите и почиваете» — слова Христа уче-
никам, которые заснули во время его последней молитвы в
Гефсиманском саду (Мф 26:45).
62 Что собрал Бернард — Святой Бернард Клервосский
(1090—1153) — основатель ордена бернардинцев со строгим
уставом, укрепил власть монастырей.
63 Заквасить мир духовной закваской — аллюзия на два
евангельских текста: наставление Христа ученикам «береги-
тесь закваски фарисейской» (Мф 16:6) и «Царство Небесное
подобно закваске» (Мф 13:33).
64 Соль не должна терять силу — аллюзия на слова
Христа ученикам: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою?» (Мф 5:13).
65 Святой Бонавентура — Джованни Фиданца (1221—
1274) — первый теолог-францисканец.
66 Иннокентий Ш (1162—1216), папа с 1198 г. Его дея-
тельность была направлена и на организацию монастырей, и
на попытку преодоления церковного раскола, и на организа-
цию крестовых походов.
67 Олифант Маргарита (1828—1897) — английская
писательница.
660
КОММЕНТАРИИ
68 Людовик Святой — Людовик IX, король Франции
(1226—1270) — вождь крестовых походов, «самый право-
судный из королей». Людовик, как и Данте, умер в одежде
францисканца.
69 Святой Антоний (250—355) — один из первых мо-
нахов; по преданию, в пустыне подвергался искушению плоти.
70 Самый свет в них — тьма — Лк 9:35.
71 Ньюмен Джон Генри (1801—1890) — английский ка-
толический богослов, с 1879 г. кардинал.
72 Церкви дана власть ключей — Ср.: «И дал тебе клю-
чи Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то и будет
связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разре-
шено на небесах» (Мф 16:19).
73 Слово о лилиях, не пекущихся о завтрашнем дне —
имеется в виду текст: «Посмотрите на полевые лилии, как
они растут: не трудятся, не прядут; Но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них» (Мф 6:28—29).
74 Совет о щеке и о воре, укравшем плащ — ссылка на
текст: «...кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и
другую; И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубаш-
ку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мф 5:39—40).
75 Луллий Раймонд (1235—1315) — философ, монах-
францисканец, проповедовал в Северной Африке.
76 Холм, очертанием похожий на череп — на череп по-
хожа была Голгофа (арамейское слово «gulgalta» обозначает
«череп»).
77 Стал святым покровителем зайцев — шутка Честер-
тона, переводящего на современный язык попытку Францис-
ка проехать без билета, «зайцем».
78 Наивный и поверхностный скепсис — Честертон име-
ет в виду французских энциклопедистов, в первую очередь
Вольтера.
79 Фома Беккет, архиепископ Кентерберийский (1115—
1170), был убит в храме по приказу Генриха II (1133—1189,
английский король с 1154).
80 Святой Патрикий (IV—сер. V в.) — полулегендар-
ный основатель ирландской христианской церкви, патрон Ир-
ландии.
КОММЕНТАРИИ
661
81 Илия Кортонский (ум. 1253) — один из учеников
Франциска, после его смерти — генерал ордена, низложен в
1239 г.
82 Риети, Нурсия, Кортона — области Италии.
83 Ужасные предания об Итисе и Прокне — Прокна и
Филомела, чтобы отомстить мужу Филомелы, убили малень-
кого сына Филомелы Итиса и подали его мясо отцу на обед.
За это боги превратили Прокну в ласточку, а Филомелу в со-
ловья, и она теперь вечно зовет Итиса.
84 Давид — израильский царь XI—X в. до н. э. Сивил-
ла — античная прорицательница, в средневековье считалась
святой.
85 В Доме Господнем обителей много — Ср.: «В доме
Отца Моего обителей много» (Ин 14:2).
86 Флагелланты — «бичующиеся», люди, которые по
обету или ради покаяния истязали сами себя.
87 Бернардино Сиенский (1380—1444) — итальянский
проповедник, обходивший всю Италию пешком. Трижды от-
казывался от епископата, чтобы остаться проповедником.
Вечный человек
Книга написана в 1925 г. Перевод на русский язык сде-
лан в 1963—1965 гг., переработан в 1990 г. НЛ. Трауберг
по изданию: Chesterton С.К. The Everlasting Man. L., 1927.
1 В одной из моих книг — путешествие вокруг света ради
возвращения домой описано Честертоном в романе «Жив че-
ловек» (1912).
2 ...где выцарапаны древние белые лошади — в Сассексе
в течение многих веков выщипывают траву на меловых хол-
мах, так что проступают древние изображения лошади.
3 Святой Франциск Ксаверий (1506—1552) — католи-
ческий миссионер на Востоке, «апостол Индии», стремился
основать миссию в Китае.
4 Юлиан Отступник (331—363), римский император с
361 г. Издал эдикты против христиан, пытался возродить
662
КОММЕНТАРИИ
языческие культы, обосновав их философией и мистикой нео-
платонизма.
5 Уиндем Джордж (1863—1913) — английский полити-
ческий деятель, писатель.
6 Сильный зверолов перед Господом — Немврод
(Быт 10:9).
7 Красная глина рода Адамова — глина, из которой со-
творен первый человек (Быт 2:7). «Adam» буквально означа-
ет «красный»; имя это связано со словом «земля», по-видимо-
му, «краснозем».
8 Аллен Чарлз Грант (1848—1899) — английский уче-
ный, писатель. Книга «Эволюция идеи Бога» написана между
1896 и 1899 гг.
9 «В начале Бог сотворил небо и землю» — Быт 1:1.
10 Первая книга Уэллса — «Машина времени» (1895);
последними, в момент написания «Вечного Человека», были
«Очерк истории» (1920) и «Краткая история мира» (1922).
11 Мистер Манталини — персонаж романа Ч. Диккенса
«Николас Никльби» (1838—1839). Эпитеты «дьявольский»
и «черт знает какой» мистер Манталини применяет решитель-
но ко всему, в том числе и к формам очаровавших его женщин.
12 Моррис Уильям (1834—1896) — английский поэт-ро-
мантик.
13 Пещера Дом-Даниэль фигурирует в «Продолжении
арабских сказок» (позднее подражание «Тысяче и одной ночи»
неизвестного автора). Эта пещера находится глубоко под дном
моря у берегов Туниса, там учатся магии и приносят жертвы
сатане.
14 Дагмар Даблдик в индексе персонажей английской ли-
тературы отсутствует. Весь отрывок — пародия, сочиненная
самим Честертоном.
15 «Человек — мера всех вещей» — изречение древнегре-
ческого философа Протагора (480—410 до н. э.).
16 Человек — странник и пришелеи, на Земле — Ср.:
«Странники мы перед Тобой и пришельцы, как и все отцы
наши; как тень дни наши на земле и нет ничего прочного»
(1 Пар 29:15). Почти те же слова повторены в псалмах
(Пс 38:13). В Новом Завете они получают новое истолкова-
КОММЕНТАРИИ
663
ние: «Все они умерли в вере, не получившие обетовании, а толь-
ко издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что
они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так го-
ворят, показывают, что они ищут отечества» (Евр 9:13).
17 Честертон имеет в виду находку на Яве — останки пи-
текантропа (1920-е годы).
18 Питт Уильям (1759—1806) — английский государ-
ственный деятель, премьер-министр с 1783 г. Фокс Чарлз
Джеймс (1749—1806) — английский государственный дея-
тель, соперник Питта.
19 Честертон имеет в виду книгу Уэллса «Очерк истории».
20 И человек стал душою живою — Ср.: Быт 2:7.
21 Кувада — известный у многих народов обряд, в кото-
ром муж символически разделяет с женой родовые муки.
22 Первые сведения, которые можно счесть достовер-
ными и достаточными, говорят нам о Вавилоне и Егип-
те. — Государство Вавилония существовало на территории
современного Ирака со II тыс. до н. э. по 539 г. до н. э. Египет
известен с конца IV тыс. до н. э.
23 Русская армия 1916 г. —.Честертон имеет в виду на-
чавшееся в 1915 г. отступление, в ходе которого русские войс-
ка оставили Польшу и большую часть Прибалтики.
24 Цитата из стихотворения Альфреде Теннисона (1809—
1892) «Локсли Холл» (1868).
25 Франциск Ассизский обратился с проповедью к «Бра-
ту Волку», убеждая его отказаться от хищничества и заклю-
чить мир с людьми («Цветочки», XXI).
26 Иероглифы — «священные знаки», иерей — «священ-
ник» (греч.).
27 Авраам — библейский патриарх, родоначальник евре-
ев; халдеи — семитское племя, жившее в I тыс. до н. э. в Ме-
сопотамии (современный Ирак). Халдеи славились как маги
и звездочеты. По Библии, они были соплеменниками Авраа-
ма; свидетельств о том, что они были его наставниками, нет.
28 Карлейль Томас (1795—1881) — шотландский исто-
рик, эссеист, моралист.
29 Он гораздо более уверен в империи, которой не ви-
дит, чем в хижине, которую видит — парафраза Послания
664
КОММЕНТАРИИ
ап. Иоанна: «Ибо не любящий брата своего, которого видит,
как может любить Бога, которого не видит» (1 Ин 4:20).
30 Брет‘Гарт Фрэнсис (1839—1902) — американский
писатель.
31 Кригпо-микенская культура существовала на Пелопо-
нессе и островах Эгейского моря в III тыс. до н. э. С 1900 до н.
э. разрушается приходящими с Севера греческими племена-
ми. Галлы — кельтские племена, жившие в I тыс. до н. э. на
территории современной Франции и Швейцарии. Галлы не-
сколько раз совершали набег на территорию современной Ита-
лии и в 387 г. до н. э. дошли до Рима.
32 Эон (греч. — вечность) — в эсхатологии очень про-
должительное, но в принципе конечное состояние мира во вре-
мени.
.33 Ли Хун-чжан (1823—1901) — китайский государ-
ственный деятель, «Бисмарк Азии».
34 Вирсавия — возлюбленная царя Давида. Чтобы сделать
ее своей женой, Давид приказал оставить во время сражения
ее мужа, Урию, в опасном месте и отступить, бросив его в ру-
ках врагов (II Цар., И).
35 В 480 г. до н. э. в морской битве с персами при Соломине
греки отстояли свободу Эллады. В битве при Лепанто (1571 г.)
испано-венецианский флот одержал победу над турками.
2 ...как научились эти варвары гнуть лук и говорить
правду — греческий историк Ксенофонт (430—354 до н. э.)
рассказывает в «Киропедии» (первый исторический роман
Европы), что персы считали величайшими добродетелями уме-
ние гнуть лук и говорить правду.
37 Татары захватили Китай — имеется в виду монголь-
ское завоевание Китая в XIII в.
38 Республика и Церковь, Библия и эпос, Ислам и Изра-
иль, Аристотель и мера вещей — Честертон называет ос-
новные ценности европейской цивилизации. Это — государ-
ственность, начинающаяся с греческих полисов и Рима
(«республика»); монотеистические религии — христианство
(«Церковь»), мусульманство («Ислам») и иудаизм («Изра-
иль»); литература — Библия и эпос Гомера; философия —
«мера вещей» как центральное понятие античной мудрости и
КОММЕНТАРИИ
665
Аристотель (384—322 до н. э.) как главный для Высокого
Средневековья представитель греческой философии.
39 Иония — западное побережье Малой Азии, населен-
ное греками.
40 Имя его носил рыцарь Круглого стола — Гектор —
главный защитник обреченной Трои. Согласно легенде, бри-
танский король Артур (V—VI в.) собрал при своем дворе
лучших рыцарей того времени. Чтобы рыцари не ссорились
из-за почетных мест, Артур усадил их за круглый стол. Имя
Гектор (Эктор) носил один из главных героев этой легенды,
брат Ланселота.
41 Длинное, словно бы скачущее слово, которым завер-
шается «Илиада». Последние слова «Илиады» — «Так
погребали они конеборного Гектора тело» (пер. Н. Гнедича).
В греческом подлиннике слово «конеборный» стоит в конце
стиха.
42 Троянские беженцы основали республику на италий-
ском берегу — римская легенда утверждает, что Эней, спас-
шийся из Трои с немногими друзьями, поселился в Италии.
Потомком Энея был Ромул — основатель Рима.
43 Нептун — римский бог моря. Юпитер — верховное
божество римлян. Божество Сул неизвестно. Очевидно, на
самом деле это — богиня Суль, действительно отождествляв-
шаяся с Минервой — римской богиней мудрости.
44 Неслиянно и нераздельно — слова Символа Веры о
двух природах Христа.
45 Теизм признает потусторонность и в то же время не-
прекращающуюся активность Бога.
46 Имя божества Атакохана неизвестно. Отвечая на кри-
тику, Честертон писал, что это индейское божество, а не авст-
ралийское, как можно вывести из текста.
47 Творец неба и земли, видимого и невидимого — аллю-
зия на слова Символа Веры: «Верую в Творца Неба и Земли,
видимым же всех и невидимым».
48 Имя сельского и лесного божества Пана созвучно гре-
ческому слову «пан» — все; имя «Юпитер» возводится к
латинскому «патер» — отец.
49 Гуд Томас (1799—1845) —английский поэт.
666
КОММЕНТАРИИ
50 ...пророк видел Господа сзади — по Библии, Моисей
просил Господа показать ему Свое Лицо. Тот ответил, что
никто не может узреть Бога и остаться в живых. Чтобы хоть
отчасти исполнить просьбу Моисея, Бог показал ему спину
(Исх 33—34).
51 Бог Израиля — просто грубый. Бог воинств — Сава-
оф (букв. — «Господь воинств») — одно из имен Бога в иуда-
истской традиции.
52 Сома — пища индийских богов; нектар — божествен-
ный напиток бессмертия в греческой мифологии, Валгалла —
царство богов и погибших героев в скандинавской мифологии.
53 Вот пророчество о Том, Кто говорит как власть име-
ющий — парафраза новозаветного текста: «Он учил их, как
власть имеющий, и не как книжники и фарисеи» (Мф 7:29).
Гайавата — индейский вождь, герой написанной аме-
риканским поэтом Г. Лонгфелло (1807—1882) «Песни о Гай-
авате» (1855). В третьей песне этой поэмы няня рассказывает
маленькому Гайавате о сердитом воине и его бабке.
55 Бекки Шарп — персонаж романа У. Теккерея «Ярмар-
ка тщеславия» (1848). В букет Бекки муж ее ближайшей под-
руги, Амелии, вложил любовную записку. Руритания —
вымышленное королевство в центре Европы. Здесь происхо-
дит действие романа Энтони Хоупа «Пленник Зенды» (1894)
Принцесса Руританская Флавия была возлюбленной муже-
ственного рыцаря Рудольфа Рассендила. Они отказались от
своей любви во имя долга.
56 В мифологии слишком много ключей — Честертон,
утрируя, перечисляет основные известные в его время гипоте-
зы о происхождении мифов: миф как выражение бессознатель-
ных психических влечений (интерпретация фаллического куль-
та и его роли в культуре во фрейдизме); возникновение мифа
из поклонения тотему, родоначальнику-животному (Э. Дюр-
кгейм); миф как отражение цикличности природных процес-
сов (культ умирающей и воскресающей природы, солярные
мифы — В. Манхардт, М. Мюллер); рождение мифа из пер-
вичных представлений об одушевленности мира, о бессмертии
души человека (культ предков, погребальные обряды — Э. Ми-
ро, Дж. Фрэзер); миф как версия объяснения древнего ритуала
КОММ ЕНТАР И И
667
(чаще всего — ритуала жертвоприношения), смысл которого
уже забыт (Дж. Фрэзер).
5 7Ленг Эндрью (1844—1912) — шотландский поэт, уче-
ный-фольклорист, собиратель шотландских сказок.
58 В книге «Золотая ветвь» (1890) этнограф Джеймс
Фрэзер (1854—1941) выдвинул предположение, что мифы
произошли из ритуала, в частности ритуала жертвоприно-
шения.
59 В Дельфах было главное святилище Аполлона. Богиня
охоты и скотоводства Диана (Артемида) в поздней античнос-
ти объединялась с Луной (Селеной) и царицей подземного
мира Персефоной. В Эфесе (Малая Азия) был величайший
храм Дианы, одно из семи чудес света.
60 Лары — римские боги домашнего очага.
61 Джек Гроза великанов — герой народной сказки, маль-
чик, одолевший злых людоедов благодаря ловкости, отваге и
счастливой случайности.
62 ...выбросить кольцо в море — по рассказу Геродота,
тиран острова Самос Поликрат был встревожен своей неиз-
менной удачливостью и решил принести жертву, чтобы огра-
дить себя от возможных превратностей судьбы. Он бросил в
море свой любимый перстень, но на следующий день рыбак
нашел перстень в брюхе пойманной им рыбы и принес Поли-
крату. В конце концов счастье отвернулось от Поликрата, он
лишился власти и погиб мучительной смертью (522 до н. э.).
63 Молящийся мальчик — бронзовая статуя, реплика с
греческой статуи IV в. до н. э. (Берлинский гос. музей).
64 Поэт дает нам не абсолют и не вечность, а дом и
имя. — Речь идет о Вергилии. Основная тема его «Энеи-
ды» — поиск человеком того места на земле, где он обретает
дом и имя. Эней после разрушения Трои с немногими спасши-
мися троянцами плывет в Италию, где Троя вновь обретает
стены и имя (Рим).
65 Гомер в «Илиаде» говорит о правдивых снах, проходя-
щих через ворота из рога, и лживых, проходящих через ворота
из слоновой кости.
66 Джамбли и Бармаглот (Верлиока) — персонажи сказ-
ки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (1871).
668
КОММЕНТАРИИ
67 Суинберн Алджернон Чарлз (1837—1909) — англий-
ский поэт. Честертон цитирует стихотворение «Литания на-
ций» (1867) из сборника «Предрассветных песен».
68 Чосер Джеффри (1340—1400) — английский поэт,
автор «Кентерберийских рассказов». История св. Гугона
(Гью), певшего во славу Богоматери и претерпевшего за нее
мученичество, составляет рассказ аббатисы — одного из пер-
сонажей «Кентерберийских рассказов».
69 Честертон имеет в виду Катона Старшего (234—149
до н. э.), автора знаменитой фразы «Карфаген должен быть
разрушен». Илия — библейский пророк (см. III и IV Книги
Царств).
70 Он был похож на фабианцев, которые мечтают при-
норовить своего идеального гражданина к городу — фаби-
анское общество, созданное в 1884 г., проповедовало умерен-
но-реформаторский социализм. Честертон имеет в виду идеи
Платона (427—367 до н. э.) об устройстве идеального госу-
дарства, изложенное им в диалоге «Государство».
71 О философах-царях говорит Платон в «Государстве».
72 Бентам Иеремия (1748—1832) — английский фило-
соф, основатель утилитаризма, не совсем христианин и уж со-
всем не мученик.
73 Филимор Джон Свинертон (1873—1926) — профес-
сор классической филологии в университете г. Глазго.
74 Дик Уиттингтон — полулегендарный персонаж анг-
лийской истории. Мальчиком-сиротой он пришел в Лондон
искать счастья. Не выдержав издевательств хозяина, Дик ре-
шил вернуться в деревню, но, уходя из города, расслышал в
звоне колоколов слова: «Вернись, Уиттингтон, трижды лорд-
мэр Лондона». Дик вернулся, и ему повезло найти доброго
хозяина. Когда этот хозяин снаряжал торговое судно, он пред-
ложил и Дику отправить наудачу какой-нибудь товар. Всю
собственность Дика составляла кошка. Купеческое судно дош-
ло до Африки, и там кошку за большие деньги купил король
Марокко, которого одолели мыши. Пустив вырученные за
кошку деньги в оборот, Дик разбогател, женился на дочери
хозяина и трижды избирался лорд-мэром Лондона (в 1398,
1406, 1419 гг.). Бастет (Бает) — в египетской мифологии
КОММЕНТАРИИ
669
богиня радости. Ее священное животное — кошка. Для Чес-
тертона она — жуткая, потому что языческая богиня.
75 Обряд, когда жрец убивал убийцу — жрец озера Неми
(в прошлом беглый раб и убийца) прятался в священной роще
и убивал всех, кто туда входил. Тот, кому удавалось его убить,
занимая его место. Т. е. речь идет не столько о ритуальном
убийстве преступника, сколько о гибели самого жреца от рук
убийцы.
76 Республика началась с убийства тирана, оскорбив-
шего женщину — сын последнего римского царя Тарквиния
Гордого, Секст, обесчестил Лукрецию, жену Тарквиния Кол-
латина. Лукреция покончила с собой. Согласно римской ле-
генде, это и стало причиной свержения царей.
77 Цинцинат — римский полководец V в. до н. э., сим-
вол римской доблести.
78 С трамантаной (северным ветром, дующим из-за
Альп) Честертон сравнивает нашествие Ганнибала и карфа-
генского войска.
79 Гасдрубал, брат Ганнибала, был убит в битве с римля-
нами в 207 г. до н. э.
80 Луи де Ружмон — псевдоним Генри Льюиса Грина
(1847—1921), автора приключенческих романов о жизни сре-
ди каннибалов.
81 Ганимед — в греческой мифологии прекрасный троянс-
кий царевич, похищенный влюбленным в него Зевсом, символ
гомосексуальной любви.
82 Из римского рода Курциев никто не был напрямую свя-
зан с Македонскими войнами. Честертон имеет в виду либо
легендарного Марка Курция (IV в. до н. э.), либо историю
Квинта Курция Руфа (I в.).
83 Теософы — последователи Е.П. Блаватской (1831—
1891), которая, стремясь к созданию универсальной религии,
соединила в своем учении мистику буддизма и некоторых вос-
точных культов с частью христианских догматов.
84 Тит Лукреций Кар (99—55 до н. э.) — римский фи-
лософ, автор поэмы «О природе вещей», в которой утвержда-
ется, что мир создан не по воле богов, а является результатом
случайного, хаотичного движения атомов.
670
КОММЕНТАРИИ
85 Совершенная республика — идеальное государство в
утопии Платона, Академия — философская школа Платона,
учившая о вечных идеях (эйдосах), предшествующих суще-
ствованию единичных вещей.
86 Предсказанием о Рождестве в христианской традиции
считается IV эклога Вергилия, воспевающая рождение мла-
денца, несущего земле мир и возвращение Золотого века.
87 «Был в повиновении у них» — Лк 2:51.
88 Кальвинисты — последователи Жана Кальвина
(1509—1564), основателя крайнего течения в протестантиз-
ме. Кальвинизм утверждает, что человек изначально предоп-
ределен Богом к спасению или гибели, и этого предопределе-
ния ему не дано изменить. Человек может лишь косвенно
узнать о своем роке: если ему сопутствует удача, значит, он
избран Богом для спасения. Кальвин требовал крайнего аске-
тизма в быту, запрещал «бесовство увеселений». Утилита-
ризм считает пользу критерием оценки любого, в том числе
этического, явления. Манчестерская школа — одно из со-
временных Честертону ответвлений утилитаризма.
89 Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский
епископ, писатель, рассматривавший историю как «разверты-
вание» воли Провидения. Паскаль Блез (1623—1662) —
французский математик, писатель, философ. В «Мыслях»
Паскаля (опубликованы в 1669 г.) развивается представле-
ние о хрупкости человека; спасение от отчаяния Паскаль ви-
дел в христианстве.
90 Речь идет об Ироде: Сим был предком евреев, а, зна-
чит, и Ирода.
91 Речь идет о культе Аполлона. Делос — остров в Эгей-
ском море, родина Аполлона, в Дельфах находилось его глав-
ное святилище.
92 Спенсер Герберт (1820—1903) — английский фило-
соф и социолог, сторонник эволюционного органицизма в со-
циологии.
93 Pieta — образ скорбящей Божьей Матери.
94 Порождения ехиднины — слова Христа (Мф 12:34).
95 «Паси агнцев Моих» — слова Христа Петру (Ин
21:16).
КОММЕНТАРИИ
671
96 «Отойди от Меня, сатана!» — ответ Христа Пет-
ру» уговаривавшему Его уклониться от креста (Мф 16:23):
97 ...почему Он ставит ниже Содома тихую Вифсай-
ду — Честертон имеет в виду следующие слова: «Сказываю
вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу
тому. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо, если бы в
Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно
бы они... покаялись» (Лк 10:12—13).
98 «Выйди из сего человека», — сказал Христос бесу
(Мк 5:8).
99 Сторонники «Христианской науки» считают возмож-
ным исцеление силой духовной сосредоточенности.
100 «Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю» — Мф 5:5.
101 Слова, обращенные к Марфе — Иисус был в гостях у
сестер Марфы и Марии. Марфа хлопотала об ужине, Мария
«села у ног Иисуса и слушала слово Его». Обиженной этим
Марфе Христос сказал: «ты заботишься и суетишься о мно-
гом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть,
которая не отнимется у нее» (Лк 10:41—42).
102 О прекрасных и грозных словах про меч — Честер-
тон имеет в виду слова: «Не мир пришел Я принести, но
меч» (Мф 10:34).
103 Скопцы Царства Небесного — Ср.: Мф 19:16.
104 «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» —
Мф 24:35.
105 Ессеи — аскетическое течение в иудаизме I в. до н. э.—
I в. н. э.
106 Гиллелъ (30 до н. э.—9 н. э.) — иудейский проповед-
ник, толкователь Библии.
107 Бэкер-Эдди Мэри (1821—1910) — основательница
«Христианской науки».
108 «Прежде, нежели был Авраам, Я есмъ» — Ин 8:58.
109 «...если же траву на поле, которая сегодня есть, а
завтра пойдет в печь, Бог так одевает, кольми паче вам,
маловеры» — Лк 12:27—28.
110 Согласно притче, враг человека, посеявшего на своем
поле «доброе семя», засеял его плевелами. Чтобы не загубить
урожай, сеятель не рвет плевелы до жатвы, после которой они
должны быть сожжены (Мф 13:24). Объяснение притчи:
«Поле есть мир; доброе семя, это — сыны Царствия, а плеве-
лы — сыны лукавого;... И ввергнут их в печь огненную...»
(Мф 13:37).
111 «Еще не пришел час Мой» — Ин 2:4.
и2Л исы имеют норы, а птицы гнезда — Ср.: Мф 8:20.
т Перипатетиками (разгуливающими) называли учени-
ков Аристотеля, так как Аристотель вел занятия, прогулива-
ясь в саду.
114 Ищите Царства Божия, и это все приложится
вам — Ср.: Лк 12:31.
115 Изгнание торгующих из храма — См.: Лк 19:45.
116 «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и ко-
льями» — Лк 22:52—53.
117 «Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но
плачьте о себе и детях ваших» — Лк 23:28.
118 «Какое еще нужно нам свидетельство?» — Лк 22:71.
119 Сцена отречения Петра — Лк 20:60—62.
120 «Не ведают, что творят» — Лк 23:34.
121 «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в
раю» — Лк 22:43.
122 Он дал Своей матери нового сына — перед казнью
Иисус сказал Марии, указывая на любимого ученика: «Жено!
се, сын Твой» (Ин 19:26).
123 Мудрость мира его обратилась в безумие — 1 Кор 20.
124 Лифостротон — каменный помост перед домом рим-
ского наместника в Иерусалиме (Ин 19:13), место судилища
над Христом.
125 «Умыть руки» — в переносном смысле снять с
себя ответственность; восходит к библейской легенде: Пон-
тий Пилат предлагал иудеям отпустить Христа, но народ
потребовал казни. Умыв руки, Пилат переложил ответ-
ственность за смерть Христа на иудеев и выдал Его на
распятие (Мф 28:24).
126 Бог на небе и все хорошо — цитата из поэмы Р. Брау-
нинга «Пиппа проходит».
КОММЕНТАРИИ
673
127 Бог оставил Бога — на кресте Иисус возопил:
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
(Мф 27:46).
128 Извещая о чьей-либо смерти, римляне говорили: «он
отжил».
129 Господь-Садовник гулял по саду — Мария Магдали-
на, не узнав воскресшего Христа, обратилась к нему как к са-
довнику (Ин 20:15). Ср. также — Быт 3:8.
130 Симона, первого из апостолов, Христос нарек Петром
(по-гречески — «камень»), сказав: «на сем камне Я создам
Церковь Мою» (Мф 16:18). Святому Петру поручены ключи
от врат рая. Говоря, что Петр более похож на трость, чем на
камень, Честертон намекает на его отречение.
131 Апостол языков (язычников) — Павел, первым об-
ратившийся с проповедью о Христе к неевреям.
132 Георг III (1738—1820) — английский король с 1760 г.
В его царствование Американские Штаты отделились от Ве-
ликобритании.
133 Эон — время материального пребывания мира; деми-
ург — творец мира, низший бог по отношению к высшему,
не вмешивающемуся в земные дела Господу. Понятия Лого-
са и Софии существуют как в ортодоксальной Церкви, так и
в некоторых ересях. В католицизме Логос — второе Лицо
Троицы, т. е. Бог Сын. София-Мудрость может отождеств-
ляться с Духом Святым. Специальное учение о Софии свой-
ственно не католицизму, а православию. Для ересей, осно-
ванных на неоплатонизме (гностицизм, учение Оригена и
др.), характерно создание иерархий, безнадежно отделяю-
щих человека от Бога. Логос в гностицизме — одна из сту-
пеней между Богом и демиургом, в ереси Оригена София за-
нимает место «над логосами». Эти ереси заменяют личного
Бога рядом рационально построенных безличных духовных и
умозрительных сущностей.
134 ...сменил Ария на Аполлона — христианство было пер-
воначально принято римским императором Константином
(285—337) в арианской версии. Сменил Ария на Аполлона,
т. е. на язычество, Юлиан Отступник.
614
КОММЕНТАРИИ
135 Святой Афанасий Великий (293—373) — гречес-
кий отец Церкви, «отец Ортодоксии», всю жизнь боролся с
арианством.
136 Пелагиане — последователи Пелагия (360—ок. 418),
отрицавшего первородный грех. Пелагианство осуждено как
ересь на третьем вселенском соборе (431 г.). '
137 Тертуллиан Квинт Септимий (160—220) — христи-
анский теолог. Утверждал, что каждый согрешивший обречен.
В конце жизни порвал с ортодоксальной церковью, упрекая ее
в непоследовательности в деле мученичества и аскетизма. Зна-
менитой стала фраза Тертуллиана «Credo quia absurdum» ( «Ве-
рую, ибо абсурдно»), характеризующая его позицию в споре о
соотношении веры и разума: по его мнению, божественные
истины принципиально непостижимы.
^<138 Честертон имеет в виду книгу святого Фомы «Сумма
против язычников».
139 «Земля потряслась, и камни расселись» в момент
смерти Христа (Мф 27:51).
140 По-видимому, Честертон имеет в виду пьесу «Гас-
сан», написанную в 1923 г. Дж. Флеккером. В предисловии
к «Рубайате» Омара Хайяма ее переводчик Фицджеральд
писал, что, согласно старой легенде, знаменитый персидский
поэт Омар Хайям (1048— 1123), визирь Низам-уль-
Мульк (1017—1092) и некий Хасан-бен-Сабба учились
вместе у одного мудреца и поклялись в вечной дружбе. Ни-
зам-уль-Мульк стал визирем и назначил пенсию поэту
Омару, а Хасан-бен-Сабба основал секту ассасинов — ре-
лигиозных фанатиков-убийц, опьянявших себя «перед де-
лом» гашишем. Одной из жертв секты стал визирь Низам-
уль-Мульк.
141 Юность Европы много раз обновлялась — аллюзия
на библейский текст (См. Пс 102:65).
142 Анна (1665—1714), английская королева с 1702 г.
Выражение «умерла королева Анна» означает давно устарев-
шую новость.
143 Король-Рыцарь — Ричард Львиное Сердце; Честер-
тон говорит о пяти ранах распятого Христа.
КОММЕНТАРИИ
675
144 Измена в небесах — восстание ангелов, отпавших от
Бога, под предводительством сатаны — См.: Ис 12:11 —15.
145 В христианской трагедии с Орфеем сравнивается Хри-
стос, который, по преданию, после казни сошел в ад и вызво-
лил оттуда библейских патриархов.
146 ...трубный глас свободы разнесся над страною жи-
вых — Честертон перефразирует библейский текст (См.:
Пс 26:13).
147 Солсбери-плейн — одна из главных площадей Лондо-
на, место проведения парадов.
148 Схоластика — христианская философия Высокого
Средневековья (XI—XIV вв.). Одним из величайших схола-
стов был Фома Аквинский (Аквинат).
149 Тайное мусульманство было одним из обвинений про-
тив Иоанна I Безземельного, короля Днглии (1199—1216),
во время его ссоры с папой (1205).
150 Стагирит — прозвание Аристотеля по месту его рож-
дения — городу Стагира.
151 Пессимизм навис над миром, манихеи восстали из
мертвых, чтобы мы имели смерть и имели ее с избытком —
Ср.: «чтобы имели жизнь, и имели ее с избытком» (Ин 19:10).
152 Оксфордское движение (1820—50-е гг.) — движение
за возрождение авторитета Церкви.
153 Гизо Франсуа (1787—1874) — французский исто-
рик; Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — англий-
ский историк и политический деятель, как и Гизо, теоретик
прогресса.
154 Д. Т. — доктор теологии.
155 В Кане Галлилейской Христос превратил воду в вино.
Пирующие удивились, что это вино лучше поданного в начале
пира, и сказали хозяину: обычно сперва дают хорошее вино,
но «ты хорошее вино сберег доселе» (2 Ин).
156 Сэр Альфред Монд, барон Мельчетт — английский
государственный деятель, финансист, во времена написания
этой книги — министр здравоохранения.
157 По плодам Его узнаем Его — Честертон перефрази-
рует текст Евангелия «По плодам их узнаете их» (Мф 7:16).
616
КОММЕНТАРИИ
Святой Фома Аквинский
Книга написана в 1933 г., переведена НА Трауберг по
изданию: Chesterton G.K. St. Thomas Aquinas. N. Y., 1933.
Русский перевод сделан в 1961 —1966 гг., переработан в 1990 г.
1 Раскол XVI века — Реформация, пессимизм XIII века —
ересь альбигойцев. Пуританство Августина едва не побе-
дило свободу Аристотеля — Честертон имеет в виду спор о
свободе воли. В учении Августина большое место занимает
представление об изначальной греховности человека, о пре-
допределении его судьбы.
2 У кого само имя — уменьшительное — в итальянской
традиции святой Франциск именуется «Франческо», это
уменьшительная ферма от «франк», т. е. француз.
3 Бессловесный Вол — ниже Честертон рассказывает, что
в годы учения святой Фома получил это прозвище, потому что
товарищи считали его тупицей. Для Честертона это прозвище
важно еще и потому, что, по преданию, вол и осел присутство-
вали при рождении Христа.
4 Фальстаф — персонаж нескольких пьес Шекспира, в
комедии «Виндзорские насмешницы» он сталкивается с Моз-
гляком. В отличие от тощего Мозгляка, Фальстаф — весе-
лый толстяк.
5 Школяр — один из персонажей «Кентерберийских рас-
сказов» Чосера, о его страсти к Аристотелю говорится в Про-
логе.
6 Акциденция — философский термин, означающий не-
сущностное свойство (в отличие от субстанции).
7 «Вы — соль земли» — слова Христа ученикам (Мф 5:13).
8 Бывший кайзер — Вильгельм II (1859—1941), герман-
ский император (с 1888 г.).
9 «Если соль потеряет силу, что сделает ее вновь соле-
ною?» — Мф 5:13
10 ...странной легенды, рассказанной Джотто — о ка-
кой легенде идет речь, неизвестно. Возможно, Честертон имеет
в виду портрет Франциска работы Джотто.
КОММЕНТАРИИ
677
11 Современники Спенсера «искали лекарства от несваре-
ния», пресытившись всеми видами социальных теорий, ни одну
не принимая слишком близко к сердцу. XX век — век Эйнш-
тейна — сошел с ума, пытаясь воплотить свои теории в жизнь —
ему нужно «лекарство от головокружения». Честертон выбира-
ет Эйнштейна как опознавательный знак этой эпохи, поскольку
физико-космогонические теории этих двух философов характер-
ны для их времени. Спенсер представлял себе бесконечную од-
нородную механически эволюционирующую Вселенную. Тео-
рия относительности, созданная Эйнштейном, описывает
искривленное пространство, лишенное привычных пропорций.
12 Птолемей Клавдий (90—160) — древнегреческий ас-
троном, создатель геоцентрической системы мира. В этой сис-
теме планеты, Солнце и звезды вращаются вокруг неподвиж-
ной Земли. Ньютон Исаак (1643—1727) — английский
философ, физик и математик, основатель классической физи-
ки. И Птолемей, и Ньютон исходили из представления об аб-
солютности пространства и времени, отвергнутого теорией от-
носительности Эйнштейна.
13 Небесные близнецы — в греко-римской мифологии сы-
новья Зевса Кастор и Поллукс, превратившиеся в созвездие
Близнецов. В переносном смысле — неразлучная пара. В Анг-
лии это выражение стало популярным благодаря роману Сары
Грант «Небесные близнецы» (1893).
14 Псевдо-Дионисий — неизвестный автор V в. н. э., мно-
го веков отождествлявшийся с Дионисием Ареопагитом, афи-
нянином I в., крещенным апостолом Павлом. Псевдо-Диони-
сий — автор трактатов в духе неоплатонизма «Священная
иерархия», «Божественные имена» и др., пользовавшихся
большим влиянием в Средневековье.
15 Во исполнение древнего пророчества, Христос въехал в
Иерусалим верхом на молодом ослике (Мк И).
16 В Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе) опи-
сано несколько «чудищ», в том числе «семиглавый зверь с де-
сятью рогами» (гл. 13); изображение шестикрылого быка —
обычный мотив ассирийских барельефов.
17 Только религии по зубам твердая пища труднейшей и
самой здравой из языческих философий — аллюзия на биб-
678
КОММЕНТАРИИ
лейский текст «Твердая же пища свойственна совершенным,
у которых чувства навыком приучены к различению добра и
зла» (Евр 5:14).
18 Фома Аквинский в своих трудах часто ссылается на
Платона и Аристотеля, полагая, что и в греческой мудрости
есть дух истины. Противники Фомы упрекали его в том, что
он цитирует язычников наравне со Священным Писанием.
19 Овидий — Публий Овидий Назон (43 до н. э.—18
н. э.) — римский поэт, «певец любви». Так же, как и в пре-
дыдущем абзаце, Честертон противопоставляет «любовь к
Богу» Франциска и языческое чувство (любовь-наслаждение),
воспеваемое Овидием и Вергилием.
20 Они подражали Ему, когда Франциск смиренно был со
зверями, а Фома благородно спорил с языками — «был со
зверями» Христос во время сорокадневного поста в пустыне
(Мк 1:13). Языки — язычники, в том числе и мусульмане, и
отпавшие от ортодоксального христианства еретики; имеется в
виду «Сумма против язычников» Фомы Аквинского.
21 Уитмен Уолт (1819—1892) — американский поэт.
В его поэзии человек прекрасен благодаря своей близости к
природе, естественности, роднящей его со всем миром, — то
есть именно благодаря своему телу. Лоуренс (Лоренс) Дэй-
вид Герберт (1885—1930) — английский писатель, превоз-
носивший в своих романах «естественную» жизнь, простую
телесную близость.
22 Евангелие от Фомы — шутка; имеется в виду не апок-
рифическое Евангелие, приписывавшееся апостолу Фоме, а
богословские труды Фомы Аквинского.
23 Бог работал в мастерской Иосифа — согласно преда-
нию, приемным отцом Христа был плотник Иосиф, и Хрис-
тос в юности помогал ему.
24 «Серебра и золота нет у меня», — ответил Петр ни-
щему и, вместо подаяния, исцелил его, сказав: «Встань и ходи»
(Деян 3:6).
25 Томсон Фрэнсис (1859—1907) — английский поэт.
26 Торквемада Томас (1420—1498) — с 80-х годов гла-
ва испанской инквизиции, жестокий преследователь еретиков
и евреев. Инквизиция была в руках доминиканцев.
КОММЕНТАРИИ
679
27 Фридрих II (1194—1250) — германский король, им-
ператор Священной Римской империи с 1212 г., отличался
вольнодумством в вопросах религии.
28 отец Теобальд Мэтью (1866—1939) — католический
священник, боролся с пьянством.
29 Азиатское отчаяние — ересь альбигойцев; святой
Доминик был вдохновителем крестового похода против аль-
бигойцев (альбигойские войны 1209—1229).
30 Минориты — «меньшие братья», монахи нищенству-
ющих орденов (францисканцы и доминиканцы).
31 «Лают собаки,..» — английская народная песня, свя-
занная либо с появлением многочисленных нищих в правление
Генриха VIII (первая пол. XVI в.), который разорил монас-
тыри и существовавшие при них приюты для бедных, либо с
нашествием в Англию в конце XVII в. голландцев — спутни-
ков нового короля, Вильгельма Оранского. Честертон прида-
ет этой песенке еще большую древность, относя ее к XIII веку.
32 «Domini canes» — «псы Господни» — так осмыслялось
имя последователей святого Доминика — доминиканцев.
33 Багрянородный, т. е. «родившийся в пурпуре», царско-
го происхождения.
34 Норманны, иначе — викинги, на Руси их называли ва-
рягами — жители Скандинавии, в VIII—XI вв. были морс-
кими разбойниками, совершавшими набеги почти на все обла-
сти Европы.
35 Фридрих I Барбаросса (Рыжебородый) (1125—
1190) — император Священной Римской империи с 1155 г.
36 ...к той станции, которая и сейчас носит имя Чер-
ных монахов — «Блэкфрайерз» (черные братья) — одна из
станций Лондонского метро.
37 Трактат об отношении к евреям — о каком трактате
идет речь, неизвестно.
38 Альберт Великий, фон Больштедт (1193—1280) — не-
мецкий богослов, монах-доминиканец. Альберта считали магом,
ходили слухи, что он сумел сделать механического слугу-робота.
39 Монфор Симон де (1160—1218) — граф Лейстер и
граф Тулузы, вождь крестового похода против альбигойцев
(1209—1218).
680
КОММЕНТАРИИ
40 Эдуард I (1239—1307) — король Англии с 1272 г.,
участник крестовых походов.
41 Фраза о том, что эпос Данте связан с упованиями Гари-
бальди (вождя итальянской революции 1858—1860 гг.), —
чисто ироническая.
42 Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — кар-
динал и первый министр Франции (с 1624 г.). Уильям Питт.
Старший, граф Четэм (1708—1778) — премьер-министр
Великобритании 1766—1768 гг. Отто фон Шёнхаузен,
князь Бисмарк (1815—1898) — 1-й рейхсканцлер Германии
(1871 —1890). Все три государственных деятеля, каждый в
своей стране, проводили узконациональную политику.
43 Карл V (1500—4558) — император Священной Римс-
кой империи с 1519 г.
44 Авель — младший, праведный сын Адама, убитый сво-
им старшим братом Каином (Быт 4).
45 Адвентисты седьмого дня — протестантская секта,
возникшая в начале XIX в. и исповедующая скорое прише-
ствие Христа.
46 Кёльн был основан римлянами в I в. до н. э.
47 Любовь к истине возобладала над смирением — ка-
кой именно биографией пользовался Честертон, установить не
удалось.
48 О дружбе Ионафана, сына царя Саула, и Давида, кото-
рому по воле Бога суждено было унаследовать трон Саула,
рассказано в 1 Цар 20:1—6.
49 Гийом де Сент Амур и его «прославленная книга» не
установлены.
50 Мусульмане превращали учение Аристотеля в пан-
теизм — Честертон имеет в виду аристотелизм как ответв-
ление мусульманской философии, особенно учение Аверроэ-
са, который, соединяя аристотелизм и некоторые догмы ислама,
построил теорию о несотворенном мире и о едином разуме, из
которого исходят и которым поглощаются после смерти души
людей.
51 Греческие отцы Церкви Василий Великий (330—379),
Иоанн Златоуст (350—407) испытали влияние неоплато-
низма.
КОММЕНТАРИИ
681
52 Аттила (?—453) — вождь гуннов, опустошавших в
сер. V в. Римскую империю.
53 Вечная философия Фомы — томизм, объявленный па-
пой Львом XIII в 1879 г. официальной философией католи-
ческой церкви, вечной философией — philosophia perennis.
54 Полумесяц — символ мусульманства, греческий ключ —
античного язычества, колесо Будды — один из символов буд-
дизма, обозначающий вечное коловращение бытия.
55 Сигер Брабантский (1235—1281) — один из основа-
телей западноевропейского аверроизма. Сформулировал уче-
ние о двойственной истине, согласно которому истина рацио-
нального знания может противоречить истине веры. Отрицал
бессмертие индивидуальной души. Взгляды Сигера были осуж-
дены церковью в 1270 и 1277 гг.
56 Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ,
один из главных представителей номинализма. Учение Абеля-
ра осуждено собором 1121 г.
57 Речь идет о 95 тезисах Мартина Лютера (1483—1546),
которые он прибил к дверям Виттенбергского аббатства, про-
тестуя против индульгенций и папской власти (1517). Этот акт
послужил началом Реформации.
58 Папа отправил Фому на II Лионский собор (1274), где
велись переговоры о возможности воссоединения Восточной и
Западной Церквей.
59 Прованс трясла лихорадка всеотрицания и дурной
мистики — речь идет об альбигойской ереси. Северная Фран-
ция была основной силой в крестовом походе против альби-
гойцев.
60 Орифламма («золотое пламя» — старо-франц.) — ко-
ролевское знамя Франции.
61 Капеты (Капетинги) — королевская династия Фран-
ции. Ее родоначальник — Гуго Капет, граф Парижский, с
987 г. король Франции. Прямая линия правила до 1328 г.,
затем наследовали младшие ветви — Валуа и Бурбоны. Фран-
цузская революция, отменив титулы, вернула Французской ко-
ролевской фамилии имя Капет.
62 Олдермен — в Англии лицо, занимающее обществен-
ную (городскую) должность. Исторически — глава гильдии
682
КОММЕНТАРИИ
или управитель города, поставленный королем, что-то вроде
почетного гражданина. В современной Англии — член муни-
ципалитета.
63 «И увидел Бог все, что Он создал...» — Быт 1:31.
64 Лд вымощен благими намерениями — выражение, став-
шее поговоркой, приписывается С. Джонсону; по другой вер-
сии — Дж. Герберту, употребившему его в книге «Jacula Pru-
dentum».
65 Черная месса — применявшееся в колдовских целях
прочтение церковной службы (мессы) задом наперед.
66 Великая энциклика о правах труда — имеется в виду
«Рерум новарум» — энциклика папы Льва XIII от 18 мая
1891 г., призывавшая работодателей и рабочих к взаимному
соглашению.
67 «Платоническая любовь» — Платон считал любовь к
мальчикам более возвышенной, чем к женщинам, поскольку
она не связана с физиологической функцией детородетва и, тем
самым, «дальше» от материального мира. В обыденном созна-
нии понятие «платоническая любовь» означает «чистые» чув-
ства, «не замутненные» похотью и телесной близостью.
68 Джеймс Уильям (1842—1910) — американский фило-
соф, один из основателей прагматизма, считавшего, что фило-
софия должна быть общим методом решения жизненных про-
блем, а не размышлением о первоначалах бытия.
69 Браунинг Роберт (1812—1884) — английский поэт.
Стивенсон Роберт Луис (1850—1894) — английский писа-
тель, автор приключенческих романов.
70 Мрачный интеллектуал эпохи Возрождения — име-
ется в виду Гамлет Шекспира.
71 «Радость моя с сынами человеческими» — Ср.:
Притч 8:3.
72 «Любовь покрывает много грехов» — 1 Пет 4:8.
73 Кинизм (цинизм) — одно из направлений греческой
философии (с конца V в. до н. э.). Киники призывали макси-
мально упростить жизнь. Образец кинизма — легендарный
Диоген, который даже жил в бочке. В современном мире ци-
низм — обозначение грубо материального взгляда на природу
и потребности человека.
КОММЕНТАРИИ
683
74 Порфирий. (232—304) — греческий философ-неоплато-
ник, защитник язычества, автор трактата «Против христиан».
75 Вифания — местность возле Иерусалима, где Христос
остановился и послал двух учеников за ослом, на котором Он дол-
жен был въехать в Иерусалим, где сперва услышал крики при-
ветствующей Его толпы, а потом был предан и казнен (Лк 9).
76 Иоанн Креста — монахи некоторых католических ор-
денов (напр., кармелитского) прибавляют к своему имени не-
что вроде прозвища. Так, Хуан Иепес Альварес (1542—
1591), испанский монах, поэт-мистик, именуется святой Хуан
де ла Крус (Иоанн Креста). Доминиканцы иногда меняют свое
имя, но Фома этого не сделал.
77 Назвать Творца по имени, которое не напишешь ина-
че, чем «Я есмь» — согласно ветхозаветному преданию, имя
Бога было открыто Моисею на горе Хорив. Бог явился ему в
неопалимой купине и на вопрос Моисея о Его имени изрек:
«Я есмь сущий» (Исх 3:14). Так буквально расшифровыва-
ется имя «Ягве».
78 Муссолини Бенито (1883—1945) — основатель и
вождь итальянской фашистской партии, в 1922—1943 гг. дик-
татор Италии. Честертон сочувственно относился к Муссоли-
ни в начале его деятельности, пока Муссолини объявлял своей
целью национальное и католическое возрождение Италии.
79 Граф Фоско — зловещий персонаж в книге английско-
го писателя Уилки Коллинза (1814—1889) «Женщина в бе-
лом» (1860).
80 Гирландайо (Доменико Корради) (1449—1494) —
итальянский художник. О какой картине Гирландайо говорит
Честертон, неясно.
81 Портрет итальянского мастера — вероятно, Честер-
тон имеет в виду портрет Фомы работы Джотто.
82 Рескин Джон (1819—1900) — английский социолог,
искусствовед, Тинторетто — Джиакопо Робусти (1518—
1594) — итальянский художник.
83 Тулуза — город на юге Франции, центр альбигойской
ереси. Другой Фома — святой Фома Беккет.
84 Causa efficiens — причина творящая. Фома Аквинский,
вслед за Аристотелем, различает четыре вида причин: матери-
684
КОММЕНТАРИИ
альную — то, из чего что-то делается; формальную — сущ-
ностную; финальную (целевую) — то, ради чего все делается;
и творящую — то, чем или по воле кого все делается.
85 Диоген Бочечник — «Бочечником» Честертон в шутку
называет киника Диогена (400—325), который жил в бочке.
Есть легенда, что Александр Македонский предложил Дио-
гену попросить у него все, что угодно, и тот ответил: «Отойди,
не заслоняй мне Солнце».
86 Праздник Тела Христова — в таинстве пресуществ-
ления, согласно христианской вере, хлеб и вино превращаются
в плоть и кровь Христа. Богословы спорили о том, с какой
степенью буквальности следует понимать это превращение.
Написав трактат о пресуществлении, Фома положил рукопись
к ногам Распятия. После того, как сам Бог одобрил труд Фомы,
был установлен новый церковный праздник.
87 О'Коннор Джон — католический священник, друг Че-
стертона.
88 Холмс Оливер Уэнделл (1809—1894) — английский
писатель. Автор серии «легких бесед» под общим названием
«Разговоры за завтраком».
89 Отец д'Арси — на рубеже XIX—XX вв. было не-
сколько ирландских священников, носивших это имя и писав-
ших теологические трактаты, в том числе — два аббата, епис-
коп. Кого из них имел в виду Честертон, установить не удалось.
90 Солипсизм — философское учение, считающее, что до-
стоверно существование только самого мыслящего субъекта, а
все остальное может быть только плодом деятельности его со-
знания.
91 Слово «ens» (бытие) в латыни созвучно слову «ensis» —
меч, еще и поэтому оно «остро».
92 Антропофагия — людоедство (Честертон в шутку со-
ставляет из двух греческих корней «ученое слово»).
93 Святой Фома очень похож на великого Томаса Гекс-
ли — Гексли Томас Генри (1825—1895) — английский био-
лог и философ-агностик. Агностицизм отрицает возможность
исчерпывающего познания объективной реальности. Шутка
Честертона основана на том, что имя Фома в английском язы-
ке звучит как Томас.
КОММЕНТАРИИ
685
94 Серафим и херувим — ступени небесной иерархии. Се-
рафим (древн.-евр.) означает «пылающий». Фома Аквинский
истолковывал это имя как «небесная любовь», а херувима —
как «совершенное знание».
95 Древняя краса Града Божьего, несколько похожего на
государство Платона — «О Граде Божьем» (De civitate
Dei) — известное произведение Августина, в котором он про-
тивопоставляет реально существующее государство («Град
земной») и «небесное», «незримое» сообщество избранных к
спасению праведников, связанных друг с другом невидимой
связью («Град Божий»). С платоновской утопией, рисующей
идеальный, но осуществимый в принципе социум, скорее, со-
поставим «Град земной», поскольку Августин полностью от-
вергал возможность построения справедливого государства на
земле.
96 Деисты признают Бога только в качестве перводвига-
теля, «заводящего часы» мира — дальше Вселенная развива-
ется сама по себе, согласно полученным при этом первотолчке
законам.
97 Крайний реализм — в итоге признавал реальность и
полноценное бытие общих понятий. Наиболее ярко крайний
реализм воплотился в философии Платона.
98 Антроморфизм — уподобление Бога человеку, пере-
несение на Него всех человеческих свойств.
99 «Я не воспротивился небесному видению» — слова
апостола Павла (Деян 26:19).
100 Он видел траву и признал, что сегодня она есть, а
завтра будет брошена в печь — аллюзия на библейский
текст: «Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра
будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас,
маловеры!» (Лк 12:28).
101 «Поздно возлюбил я тебя, о древняя красота!» —
цитата из «Исповеди» Блаженного Августина (X, 27).
102 Маритэн Жак (1882—1973) — французский фило-
соф-томист.
103 «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» —
Мф 10:9.
104 Черный Мор — чума XIV в., опустошившая Европу.
fig# КОММЕНТАРИИ
105 На Севере в одном августинском монастыре гото-
вился взрыв — речь идет о Виттенбергском аббатстве, на две-
рях которого М. Лютер прибил свои тезисы.
106 Эпоха Возрождения была эпохой упадка Ватикана —
на папском престоле сменяли друг друга люди алчные, често-
любивые и жадные до всех мирских радостей. Их прозвали
«языческими папами».
107 Августинианец, особенно склонный подчеркивать
одно за счет другого — имеется в виду М. Лютер (1483—
1546).
108 Богословие Мартина Лютера не понравилось бы ни
одному нынешнему протестанту — теологическим обо-
снованием борьбы против католической церкви было учение
Лютера об «оправдании верой», о предопределении. Он про-
возгласил, что человек может спастись только верой, непос-
редственно даруемой Богом. Честертон преувеличивает нега-
тивное отношение современников к богословию Лютера —
существует значительное число приверженцев лютеранства.
Еретики
Перевод выполнен НЛ. Трауберг (гл. Ill, IV, VI, XIV)
и А.К. Сергеевой.
1 Брэдлафиты — последователи атеиста и вольнодумца
Чарльза Брэдлафа (Bradlaugh, 1833—1891).
2 Девет (Де Вет), Кристиан Рудольф (1854—1922) —
крупный фермер, политический деятель Оранжевого Свобод-
ного Государства, генерал, активный участник англо-бурских
войн 1880—1881.
3 Фарината дельи Уберти (род. в нач. XIII века) — гла-
ва флорентийских гибеллинов, враг семьи Данте. Упоминает-
ся в «Божественной комедии», Ад, X, 31.
4 Лорд Росбери (Rosebery, 1847—1929) Арчибальд Фи-
липп Примроуз — британский премьер-министр (1894—
1895).
КОММЕНТАРИИ
687
5 «Arma virumque» — слова из «Энеиды» — «Брани и
мужа пою» буквально «оружие и мужа») Как часто с ним бы-
вало, Честертон цитирует по памяти, несколько искажая смысл.
6 Родс Сесил Джон (1853—1902) — британский поли-
тический деятель, в 1890—1896 гг. премьер-министр Кап-
ской колонии, один из инициаторов англо-бурской войны
1899—1902.
7 Чемберлен Остин (1863—1937), британский государ-
ственный деятель.
8 Арнолд М. Исследование кельтской литературы. 1867,
гл. IV.
9 Как быстро и ловко развил Шоу веру в сверхчелове-
ка — речь идет о философской комедии Шоу «Человек и
сверхчеловек» (1903), отражавшей противоречия его духов-
ных поисков.
10 Бриарей — в греческой мифологии чудовище с пятью-
десятью головами и сотней рук.
11 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю —
Мф 5:5.
12 Аддисон Джозеф (1672—1719) — английский эссеист
и автор цитируемой пьесы «Катон» (1713).
13 Ницше так суммировал все, что можно сказать тол-
кового об идее Сверхчеловека: «Человек есть нечто, что
должно превзойти» — В книге «Так говорил Заратустра»
(Перевод Ю.М. Антоновского).
14 Печальный Цезарь в пьесе Шоу с бесплодной гордос-
тью изрекает: «Тот, кто никогда не знал надежды, не мо-
жет отчаиваться» — В пьесе «Цезарь и Клеопатра» (Пер.
М. Богословской и С. Боброва).
15 «Есть ли болезнь, как моя болезнь?» — Усеченная
цитата из ветхозаветной книги «Плач Иеремии» (1:12).
16 Хенли, Уильям Эрнест (1849—1903) — английский
поэт, писатель и редактор газеты «Нэшнл обсервер» (1889—
1903), в которой он публиковал первые произведения Джорд-
жа Бернарда Шоу, Томаса Гарди, Редьярда Киплинга и дру-
гих писателей.
17 Унизительное поражение англичан у горы Маджуба в
1881 году привело к окончанию первой англо-бурской вой-
668 КОММЕНТАРИИ
ны и к изменению имперской политики правительства Бри-
тании.
18 Имеется в виду стихотворение Уильяма Каупера (1731—
1800) «Строфы, предположительно написанные Александром
Селькирком».
19 Хильперик — король династии Меровингов (561—583).
20 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам — Мф 6:31-33.
21 Романы, кончающиеся свадьбами под звон колоколов.
22 Развлекательный журнал, выходивший миллионным
тиражом и отличавшийся низким литературным уровнем.
23 Популярный роман «Додо» Э.Ф. Бенсона и «Зеленая
гвоздика» Р. Хиченса — сатира на О. Уайльда — вышли в
1893 г. П.-М. Крэги была автором десятков романов и пьес.
Роман Э. Хоупа «Узник Зенды» (1894) имел сенсационный
успех, создав моду на роман политических приключений.
24 Роман Э.Г. Фаулер (1898).
25 Перифраза выражения «от избытка сердца глаголят
уста» (Мф5:5).
26 Из оперы У. Гилберта «Пейшенс, или Невеста Бунтор-
на» (1881).
2: 1 Микобер — персонаж романа Диккенса «Дэвид Коп-
перфилд» (1850). Нелл — героиня его романа «Лавка древ-
ностей» (1841).
28 Слава С. Джонсона во многом основана на его беседах,
запечатленных в книге Дж. Босуэлла «Жизнь Джонсона»
(1791).
29 В книге «О героях, поклонении героям и героическом в
истории» (1840) Т. Карлейль включил рассуждение о молчании,
в котором совершаются все великие дела, в раздел о Кромвеле.
30 «Преизобилующая благодать» (1666) — автобиогра-
фия английского писателя Дж. Беньяна, рассказывающая о его
религиозном обращении.
31 Питт У. (граф Четэм) произносил свою речь в палате
общин против заключения мира с Францией в 1763 г. сидя,
так как из-за болезни он не мог стоять.
32 Киплинг Р. Песня англичан (1893).
33 «Поцелуй меня, Харди» — последние слова Г. Нельсо-
на, обращенные к адъютанту.
Ортодоксия
Перевод выполнен Л.Б. Сумм (гл. I—IV, VIII, IX) и
НА. Трауберг (гл. V—VII) по изданию: Chesterton С.К.
Orthodoxy. L.f 1909.
1 Сборник статей «Еретики» издан в 1905 г. Вошли в него
статьи об Уэллсе, Киплинге и других современных Честерто-
ну писателях.
2 Стрит Джордж Слайт (1867—1930) — английский пи-
сатель и журналист. Честертон приводит его слова из рецен-
зии, напечатанной в «Аутлук» 17 июня 1905.
3 Брайтонский павильон — Брайтон был модным курор-
том в конце XVIII—XIX вв. Георг IV, еще будучи наследни-
ком престола, построил там летнюю резиденцию, позднее пе-
ределанную Джоном Нэшем в «восточном стиле». Поэтому
неопытный путешественник и может принять это здание за
варварский храм.
4 Хэнуолл — сумасшедший дом в западном пригороде
Лондона. Дальше Честертон обыгрывает сходство слов «Han-
well» и «hell» (ад).
5 Сауткотт Джоанна (1750—1814) — английская «про-
рочица», объявившая, что ей предстоит стать матерью нового
Мессии.
6 Кэмпбелл Реджинальд Джон (1867—1965) — англий-
ский священник, богослов, сторонник обновления церкви, ав-
тор книги «Новая теология» (1907).
7 По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писа-
тель-романтик, поэт и критик.
8 Каупер Уильям (1731 —1800) — английский поэт-
сентименталист. По религиозным убеждениям Каупер был
кальвинистом и в моменты душевного расстройства ему каза-
лось, что он приговорен к вечным мукам за некий непрости-
тельный грех. Тем не менее он написал шуточную поэму
«Увлекательная история Джона Джилпина» (1783), главный
герой которой, торговец полотном, взобравшись на одолжен-
ную лошадь, не сумел удержать ее и был унесен в неведомое
путешествие.
690
КОММЕНТАРИИ
9 Кальвин Жан (1509—1564) — видный деятель Рефор-
мации, основатель крайнего течения в протестантизме, полу-
чившего его имя. Кальвинизм утверждает предопределение,
по которому каждый человек изначально предназначен Богом
к спасению или, чаще всего к вечной гибели. Честертон пользу-
ется тем, что французское имя «Жан» соответствует англий-
скому «Джон», имени персонажа поэмы Каупера «Увлекатель-
ная история Джона Джилпина».
10 Драйден Джон (1631 —1700) — английский поэт и пи-
сатель, один из основоположников классицизма. Честертон
цитирует строку из его поэмы «Авессалом и Ахитофель»
(1681).
11 Воэн Генри (1622—1695) и Герберт Джордж (1593—
1632) — английские поэты-метафизики.
^Безумен, как шляпник — английская поговорка, обыг-
ранная в сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес».
13 Журнал «Кларион» издавался Р. Блэтчфордом и Р.Б. Са-
зерсом. Кроме этого, о писателе Сазерсе ничего не известно.
Спор с Блэтчфордом, отрицавшим свободу воли, происходил
на страницах «Кларион» в 1903—1904 гг.
14 Если голова твоя соблазняет тебя — парафраза еван-
гельского текста: «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет
тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без
руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть
ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя,
вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в
жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну ог-
ненную» (Мф 18:8—9).
15 Маккейб Джозеф (1867—1955) — английский фило-
соф-рационалист, в юности был приверженцем католицизма и
даже вступал в орден францисканцев (1883). В 1896 г. оста-
вил церковь. Честертон разбирает его взгляды в книге «Ере-
тики» (гл. XVI).
16 Геккель Эрнст (1834—1919) — немецкий биолог, пос-
ледователь Дарвина.
17 Скептики, которые считают, что все началось с
них самих — Честертон имеет в виду сторонников соли-
псизма.
КОММЕНТАРИИ
691
^Восточный символ: змея, кусающая свой хвост —
Честертон имеет в виду изогнутый значок, принятый в мате-
матике как символ бесконечности.
19 Джеймс Генри (1843—1916) — англо-американский
писатель, автор психологических романов, изощренный стилист.
20 Блэтчфорд Роберт (1891 —1943) — английский ли-
тератор.
21 «Правосудие и милосердие» — девиз инквизиции.
22 Кроткие наследуют землю — парафраза библейского
текста: «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» —
(Мф 5:5).
23 Написал изысканную скептическую вещицу «Сомне-
ния прибора» — эссе «Скептицизм прибора» было прочита-
но Уэллсом перед Оксфордским философским обществом в
1903 г.
24 Митра — головной убор католического священнослу-
жителя.
25 «Мыслю, следовательно существую» (Cogito ergo
sum) — знаменитое изречение французского философа Рене
Декарта (1596—1650), считавшего мышление субъекта един-
ственным фактом, в реальности которого невозможно усом-
ниться и который поэтому может служить не только исходным
пунктом философствования, но и свидетельством, удостоверя-
ющим существование самого субъекта.
26 Мильтон Джон (1608—1674) — автор знаменитой по-
эмы «Потерянный рай» (1667), по убеждениям — пуританин.
27 Честертон приводит цитату из стихотворения А. Тенни-
сона «Локсли-Холл».
28 Дэвидсон Джон (1857—1909) — шотландский поэт,
последователь философии Ницше. Покончил с собой.
29 Основатель утилитаризма Иеремия Бентам (1748—
1832) объявил мерой добра и зла удовольствие, или принцип
наибольшего счастья для наибольшего числа людей.
30 Бидль — церковный сторож.
31 «Любовь треугольников» — существование такой кни-
ги — вымысел Честертона.
32 Франклин Бенджамен (1706—1790) — американский
политический деятель, один из авторов Декларации независи-
692
КОММЕНТАРИИ
мости. Дантон Жорж Жан (1759—1794) — деятель фран-
цузской революции, народный трибун, казненный Робеспье-
ром. Уилкс Джон (1727—1797) — английский политический
деятель, обращавшийся, как и Дантон, с пламенными речами
к народу. Отстаивал суверенность личности, выступал против
войны с объявившей об отделении от Британской империи
Америкой.
33 Известный журналист — Г.К. Честертон имеет в виду
самого себя.
34 Анатоль Франс — Тибо Анатоль Франсуа (1844—
1924) — известный французский писатель, одно время нахо-
дился под влиянием Э. Ренана. В «Жизни Жанны д’Арк»
(1908) изобразил главную героиню как несчастную, подвер-
женную галлюцинациям женщину.
35 Иоанна — транскрипция имени Жанна, в католической
традиции Жанна д’Арк называется святой Иоанной.
36 Разделили ризы Его... — Ср.: «Воины же, когда рас-
пяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части,
каждому воину по части, и хитон: хитон же был не сшитый, а
весь тканый сверху. Итак сказали друг другу: не станем раз-
дирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется
реченное в Писании: «разделили ризы Мои между собою и об
одежде Моей бросали жребий» (Пс 21:19). Так поступили
воины» (Ин 19:23—24).
37 Армагеддон — место последней битвы сил добра и зла
(Откр 16:16).
38 Карлтон-клуб — политический клуб консерваторов в
Лондоне.
39 В английской народной сказке «Джек и бобовый стру-
чок» Джек поднимается по бобовому стеблю на небеса.
40 Якобиты — сторонники восстановления английской
династии Стюартов, приверженцы короля Якова II и его по-
томков.
41 «Величит душа Моя Господа» — слова Девы Марии,
узнавшей, что ей предстоит стать матерью Мессии (Лк 1:46).
42 Гримм Якоб Людвиг Карл (1785—1863) — немецкий
филолог, один из составителей знаменитого сборника сказок
братьев Гримм. Гримм открыл закон передвижения согласных
КОММЕНТАРИИ
693
в индоевропейских языках — «закон о звуках забытых язы-
ков», как говорит Честертон.
43 Возлюби Господа Бога своего, но не знай себя — Чес-
тертон перефразирует библейские заповеди (см.: Мф 22:37;
Мф 22:39).
44 Оселок — персонаж комедии Шекспира «Как вам это
понравится». Фраза, о которой пишет Честертон, из пятого
акта, сцена 4.
45 Честертон цитирует (неточно) строки из поэмы Йейтса
«Будущей Ирландии».
46 Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юно-
ша, возлюбленный Селены — богини Луны.
47 Уайльд Оскар (1854—1900) — английский писатель,
поэт, драматург. Мастер парадоксов, эстет, декадент; был зак-
лючен в тюрьму по обвинению в безнравственности.
48 Г. Спенсер утверждал, что сами размеры космоса ука-
зывают, что он никак не мог быть создан во имя замысла, пре-
дусматривающего такую малость, как человек.
49 Маттерхорн — вершина в Швейцарских Альпах.
50 Пимлико — район Лондона, по архитектуре очень скуч-
ный. Челси — западный, фешенебельный район Лондона.
51 Теория общественного договора, выдвинутая француз-
скими просветителями XVIII столетия (см., напр., трактат Жан
Жака Руссо «Об общественном договоре» (1762), учила, что
государство возникает на основе взаимной договоренности
людей учитывать интересы друг друга, приносить друг другу
пользу.
52 Десять заповедей, согласно Библии, были даны Гос-
подом еврейскому народу через Моисея, во время исхода ев-
реев из Египта и многолетнего странствия в пустыне (Исх
20:3-17).
53 Англо-бурская война (1899—1902) — война Великоб-
ритании против южноафриканских республик Оранжевой и
Трансвааля. В результате этой войны в 1910 г. был образован
Южно-Африканский Союз.
54 Т. Карлейль отстаивал самобытность англосаксонской
культуры, отрицая значимость для ее формирования норман-
дского (1066 года) завоевания.
694
КОММЕНТАРИИ
55 Французская армия 1870 года — армия времен фран-
ко-прусской войны (1870—1871), в которой Франция потер-
пела сокрушительное поражение.
56 Пенденнис Артур — герой романа У.М. Теккерея «Ис-
тория Пенденниса».
57 Арчер Уильям (1866—1924) был первым английским
переводчиком Г. Ибсена.
58 Ср.: «Кто эта блестящая, как заря, прекрасная, как луна,
светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами» (Песн
2:6:10).
59 ...когда золотой корабль пошел ко дну до начала вре-
мен — Честертон имеет в виду гибель, грозившую Римской
империи, а вместе с ней и христианской церкви во время наше-
ствия варваров (IV—VI вв.).
60 «Просят у Бога пищу себе» — Пс 103:21.
61 Мерсия — англосаксонское королевство в Центральной
Англии (IV—IX вв.).
62 Эдинбургская темница — вероятно, имеется в виду
древнейшая часть замка в Эдинбурге (Шотландия), постро-
енная в VI—VII вв.
63 Хэмптон-корт — самый большой дворец в Англии,
подарен Генриху VIII в 1526 г. Лабиринт — один из аттрак-
ционов при дворе.
64 Ноттинг-хилл и Бэттерси — бедные районы Лон-
дона.
65 Апологеты — защитники учения; специально это на-
звание применяется к христианским писателям II—III вв., от-
стаивавшим христианство в полемике с язычеством.
66 Бредлоу (Брэдлаф) Чарлз (1833—1891) — сторонник
отделения церкви от государства, известный журналист, пи-
сал под псевдонимом «Иконоборец».
67 Ингерсолл Роберт Грин (1833—1899) — американский
юрист и политический деятель, сам давший себе прозвище
«Великого агностика», автор книг «Суеверие», «Ошибки
Моисея» и др.
68 Цитата из «Гимна Прозерпине» А.Ч. Суинберна.
69 Эдуард Исповедник (1003—1066) — король Англии с
1042 г., был набожен и кроток, не вмешивался в бесконечные
КОММЕНТАРИИ
695
феодальные распри, хотя они в итоге и стоили ему трона. Ри-
чард Львиное Сердце — Ричард I (1157—1199), король Ан-
глии с 1189 г., большую часть жизни провел на войне, уча-
ствовал в крестовых походах.
70 Кромвель Оливер (1599—1658) — вождь английской
буржуазной революции, протектор (правитель) Англии с
1653 г., утопил в крови католическое восстание ирландцев. Гер-
цог Альба, Фернандо Альварес де Толедо (1507—1582) —
испанский полководец, ввел в Нидерландах режим террора для
подавления реформаторского движения.
71 Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский
философ, идеалист, считавший природу воплощением Духа.
72 Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский
экономист, основатель особого экономико-демографического
учения — мальтузианства. Мальтузианство считает основной
причиной экономических трудностей перенаселение и полагает
необходимыми войны, стихийные бедствия и проч, в качестве
ограничителя прироста населения. Для католиков мальтузиан-
ство было неприемлемо еще и потому, что оно призывало к рас-
пространению противозачаточных средств и особенно абортов,
совершенно недопустимых, с точки зрения католиков.
73 Ср.: «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий
душу свою в мире сем сохранит ее в жизни вечную» (Ин 12:35).
74 Честертон цитирует библейский текст: «Потому что
участь сынов человеческих и участь животных — участь одна;
как те умирают, так умирают и эти, одно дыхание у всех, и нет
у человека преимущества перед скотом; потому что все — су-
ета!» (Еккл 3:19). О печальнейшем уделе обреченного на
смерть человека Гомер говорит постоянно.
75 Святой Бернард из Аосты — Бернард Ментонский
(ум. 1081 г.) — протодьякон в Аосте, основатель (в 1050 г.)
монастыря на Пеннинских Альпах, расположенного на вы-
соте 8114 футов на перевале Большой Сен-Бернар. Серая
зола — символ покаяния, поскольку дело ордена проповед-
ников, основанного святым Домиником — покаяние за гре-
хи мира.
76 Преступника нужно прощать до семижды семидеся-
ти — Ср.: Мф 18:22.
696
КОММЕНТАРИИ
77 «Генрих V» — трагедия У, Шекспира. При короле Ген-
рихе V Англия добилась наибольших успехов в войне с Фран-
цией.
78 Величайший из Плантагенетов — Генрих II (1132—
1189), английский король с 1154 г. Укрепляя королевскую
власть, столкнулся с сопротивлением церкви, в первую оче-
редь, епископа Кентерберийского, Фомы Беккета. Фома Бек-
кет был убит в храме по приказу короля. После убийства Ген-
риху II пришлось принести публичное покаяние.
79 Честертон упоминает известный эпизод из жизни свя-
той Екатерины Сиенской — она навещала в тюрьме и со-
провождала на казнь осужденного рыцаря Николаса ди Толь-
до. Отрубленную голову казненного она взяла в руки и
поцеловала.
80 Дугласы — знаменитый шотландский род, оставивший
много героев и в истории, и в поэзии. Здесь скорее всего речь
идет о сэре Джеймсе Дугласе (1286—1330), который после
нескольких набегов на Англию отправился в Святую землю и
был убит в пути.
81 Лев древнего отчаяния сорвался с цепи в северных ле-
сах — Честертон имеет в виду протестантизм.
82 Если они умолкнут, то камни возопиют — Ср.:
Лк 19:40.
83 Сесил, Хью Ричард (1869—1956) — британский поли-
тический деятель, консерватор, сторонник Высокой Церкви.
84 Каннингэм Грэхем Роберт Бонтайн (1852—1936) —
шотландский писатель, сторонник социализма. Херберт Обе-
рон Эдвард Уильям Молине (1838—1906) — английский
политический философ и писатель, агностик, сторонник пол-
ного отделения церкви от государства. Честертон перечисляет
«модные ереси»: социализм (Маркс и Каннингэм Грэхем),
ницшеанство и толстовство, агностицизм и воинственный ан-
тиклерикализм (Оберон Херберт).
8: > Гредграйнд — персонаж романа Ч. Диккенса «Тяже-
лые времена», живший с девизом «факты, факты и никаких
эмоций».
86 Уистлер Джеймс (1834—1903) — американский ху-
дожник, близкий к импрессионизму, пользовался большой по-
пулярностью у современников.
КОММЕНТАРИИ
697
87 Ср.: «Милость и сила сретятся, правда и мир облобыза-
ются» (Пс 84:2).
88 Иосиф — библейский патриарх, любимый сын Иакова,
по-преданию, в юности любил нарядную одежду.
89 Елизавета I (1533—1603) — английская королева
(с 1558 г.). Укрепила абсолютизм, восстановила англиканскую
церковь. При Елизавете началось морское господство Анг-
лии. Карл I — следующий (после Иакова I) преемник Елиза-
веты. Низложен и казнен во время английской буржуазной
революции.
90 Людовик Любимый — Людовик XV (1710—1774),
король Франции с 1715 г. Его внук и преемник Людовик XVI
(1754—1793) казнен во время французской революции.
91 Они правы, когда не доверяют тому, что устано-
вили люди — аллюзия на библейский текст: «Лучше упо-
вать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше упо-
вать на Господа, нежели надеяться на князей» (Пс
117:8-9).
92 Ср.: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царствие Божие» (Мк 20:25).
93 Лорд Бэкон — имеется в виду философ и политический
деятель Ф. Бэкон, который, будучи лордом-канцлером при
дворе Якова I, был обвинен в казнокрадстве и отстранен от
должности.
94 Герцог Мальборо — Черчиль Джон, герцог Мальборо
(1650—1722) — английский полководец. В 1711 году был
обвинен в присвоении казенных сумм, выделенных на воен-
ные расходы, и вышел в отставку.
95 «Не желаю быть епископом» — слова святого Амвро-
сия (340—397), избранного в 374 г. епископом Милана.
96 Фра Анжелико (Джованни да Фьезоле) — домини-
канский монах, художник (1387—1455).
97 Прерафаэлиты — группа английских художников се-
редины XIX в., пытавшаяся возродить средневековое (дора-
фаэлевское) искусство.
98 Берн-Джонс сэр Эдуард (1833—1898) — английский
художник, близкий к прерафаэлитам, изобретатель цветного
оконного стекла, которое должно было напоминать церковные
витражи.
698
КОММЕНТАРИИ
99 Леви Оскар (1867—1948) — врач-психиатр, осуще-
ствивший полный перевод Ницше на английский язык.
100 Высокая, Низкая и Свободная Церковь — течения
английского протестантизма. Высокая Церковь наиболее близ-
ка к католицизму.
101 Есть вера в их честном сомнении — фраза из поэмы
А. Теннисона «In memoriam» (1849).
102 Сковал Бога, как дьявола в Апокалипсисе — Ср.: «Он
взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и
сковал его на тысячу лет» (Откр 20:2).
103 Имманентизм, имманентная философия — философ-
ское течение конца XIX—XX века, утверждавшее, что ре-
альность (бытие) имманентно сознанию, т. е. что существует
только то, что мыслится, объект неразрывно связан с
субъектом.
104 Не увидите ничего сведенборгианского в зонтике —
Сведенборг Эммануил (1685—1772) — мистик, утверждав-
ший, что получил откровение от Бога и в свете этого открове-
ния истолковывавший Писание. Он упоминается здесь как
пример мистического отношения к миру в противовес обыден-
ному, сугубо материальному взгляду.
105 Безант Анни (1847—1933) — председатель теософ-
ского общества. Занимаясь созданием «универсальной рели-
гии» со многими элементами индуизма и буддизма, одновре-
менно была политическим деятелем, председателем
индийской партии «Национальный конгресс». Христиан-
ство велит детям любить друг друга — Ср.: «Дети мои!
станем любить не словом или языком, но делом и истиною»
(1 Ин 3:18).
106 «Не мир пришел Я принести, но меч» — Мф 10:34.
107 Цитата из стихотворения А. Суинберна «Герта», во-
шедшего в сборник «Песни перед рассветом».
108 «Король Бомба» — Фердинанд II, король Обеих Си-
цилий (1830— 1859). Прозвище «Бомба» заслужил в 1848—
1849 гг., подвергнув артиллерийскому обстрелу восставшие
против него города.
109 Лорд Керзон — Керзон Джордж Натаниел (1859—
1925), вице-король Индии в 1899—1905 гг.
КОММЕНТАРИИ
699
110 Трапписты — члены католического монашеского ор-
дена, образовавшегося в 1664 г. Трапписты давали обет мол-
чания и общались с помощью знаков.
111 Нехорошо Богу быть одному — парафраза библейского
текста: «...не хорошо быть человеку одному» (Быт 2:18).
112 «Не искушай Господа Бога твоего» — Мф 4:7. В саду
Сатана искушал человека — пробравшись в райский сад,
Сатана (змей) уговорил Еву отведать плод запретного древа
познания. За нарушение запрета Адам и Ева были изгнаны из
рая и навлекли беды на все свое потомство (Быт 3:1—22).
113 Бог искушал Бога — Честертон имеет в виду искуше-
ние, которому был подвергнут Иисус в Гефсиманском саду,
где он просил Бога Отца о том, чтобы миновала Его «чаша
сия» (Мф 26:36—43).
114 ...с креста раздался крик, что Бог оставлен Богом —
перед смертью распятый Христос закричал: «Боже мой, Боже
мой! для чего Ты меня оставил?» (Мф 27:46).
115 Король Леопольд — Леопольд II (1835—1909), король
Бельгии с 1865 г. Проводил жестокую колонизаторскую по-
литику, вызвавшую в 1903—1905 гг. кампанию протеста.
116 «Маршалл и Снелгров» — большой лондонский ма-
газин.
117 Погибшие поколения — возможно, аллюзия на «Бо-
жественную комедию» Данте («Я увожу к погибшим поколе-
ньям» — «Ад», III, 3).
118 В историях Исаака и Ифигении — Бог потребовал от
Авраама принести в жертву единственного сына, Исаака.
В последний момент, когда нож уже был занесен, Исаак был
заменен ягненком. В греческой мифологии по воле богини Арте-
миды Ифигения была принесена в жертву своим отцом, Ага-
мемноном, ради благополучного плавания. Во время жертвоп-
риношения Артемида заменила ее ланью и перенесла Ифигению
в Тавриду, где та стала жрицей богини.
119 Люди были взвешены и найдены очень легкими —
Ср.: «...Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан
5:27) — пророчество царю Валтасару о конце его царство-
вания. В Средние века слишком легкий человек считался
одержимым бесом.
700
КОММЕНТАРИИ
120 Ср.: «Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок,
тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою
и купи меч» (Лк 22:36).
121 Константин прибил крест на мачту — по преданию,
в 306 г., перед решающей битвой за престол Константин (280—
337) увидел в небе крест и слова «Сим победиши». В 313 г.
Константин объявил христианство государственной религией.
122 Дизраэли Бенджамен (1804—1881) — премьер-ми-
нистр Великобритании в 1868 и 1874—1880 гг. Сторонник
имперской политики.
123 Лодж Оливер (1851 —1940) — английский физик,
стремился соединить науку и религию. Честертон имеет в виду
его «Субстанцию веры в союзе с наукой. Катехизис для роди-
телей и учителей» (1907).
124 ц Мойры — в античной мифологии богини неумолимой
судьбы, определяющие срок жизни человека.
125 Город Джотто — Флоренция ХШ—XIV вв.; город
Еврипида — Афины V в. до н. э.
Содержание
От издателя.......................5
СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ.........7
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК..................103
СВЯТОЙ ФОМА АКВИНСКИЙ...........305
ЕРЕТИКИ.........................411
ОРТОДОКСИЯ......................509
Комментарии.....................651
Гилберт Кийт Честертон
ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ответственный редактор О. Клокова
Выпускающий редактор О. Юрьева
Художественный редактор А. Сауков
Технический редактор Л. Подъячева
Корректоры Г. Горянова, в. Кизило, О. Фокина
ООО «Издательство «Мидгард».
193012, г. Санкт-Петербург, ул., Чернова., д.11 «Г»
URL: www.midqardr.spb.ru. E-mair.info@midgardr.spb.ru
ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Интернет/Home раде — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@ eksmo.ru
v
По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00.
Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61,745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-8ale.ru
Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095)411-50-76.
1 марта 2004 года открывается новый мелкооптовый филиал ТД «Эксмо»:
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел. (095) 780-58-34
Книжные магазины издательства «Эксмо»:
Супермаркет «Книжная страна». Страстной бульвар, д. 8а. Тел. 783-47-96.
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85.
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»), Тел. 751-70-54.
Москва, Волгоградский пр-т, 78 (м. «Кузьминки»). Тел. 177-22-11.
ООО Дистрибьюторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА». Киев, ул. Луговая, д. 9.
Северо-Западная компания представляет весь ассортимент книг
издательства «Эксмо». Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.
Сеть книжных магазинов «БУКВОЕД». Крупнейшие магазины сети «Книжный супермаркет»
на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34 и Магазин на Невском, д. 13. Тел. (812) 310-22-44.
Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК» представляет самый широкий ассортимент книг
издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.
Всегда в ассортименте новинки издательства «Эксмо»:
ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги в Медведково», «Дом книги на Соколе».
Подписано в печать с готовых диапозитивов 02.02.2004.
Формат 84x108732. Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 36,96.
Тираж 5000 экэ. Заказ 3656.
ISBN 5*699-05411-1
тир.
9 785699 054114 >
Отпечатано с готовых диапозитивов издательства
ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
I
I -WES