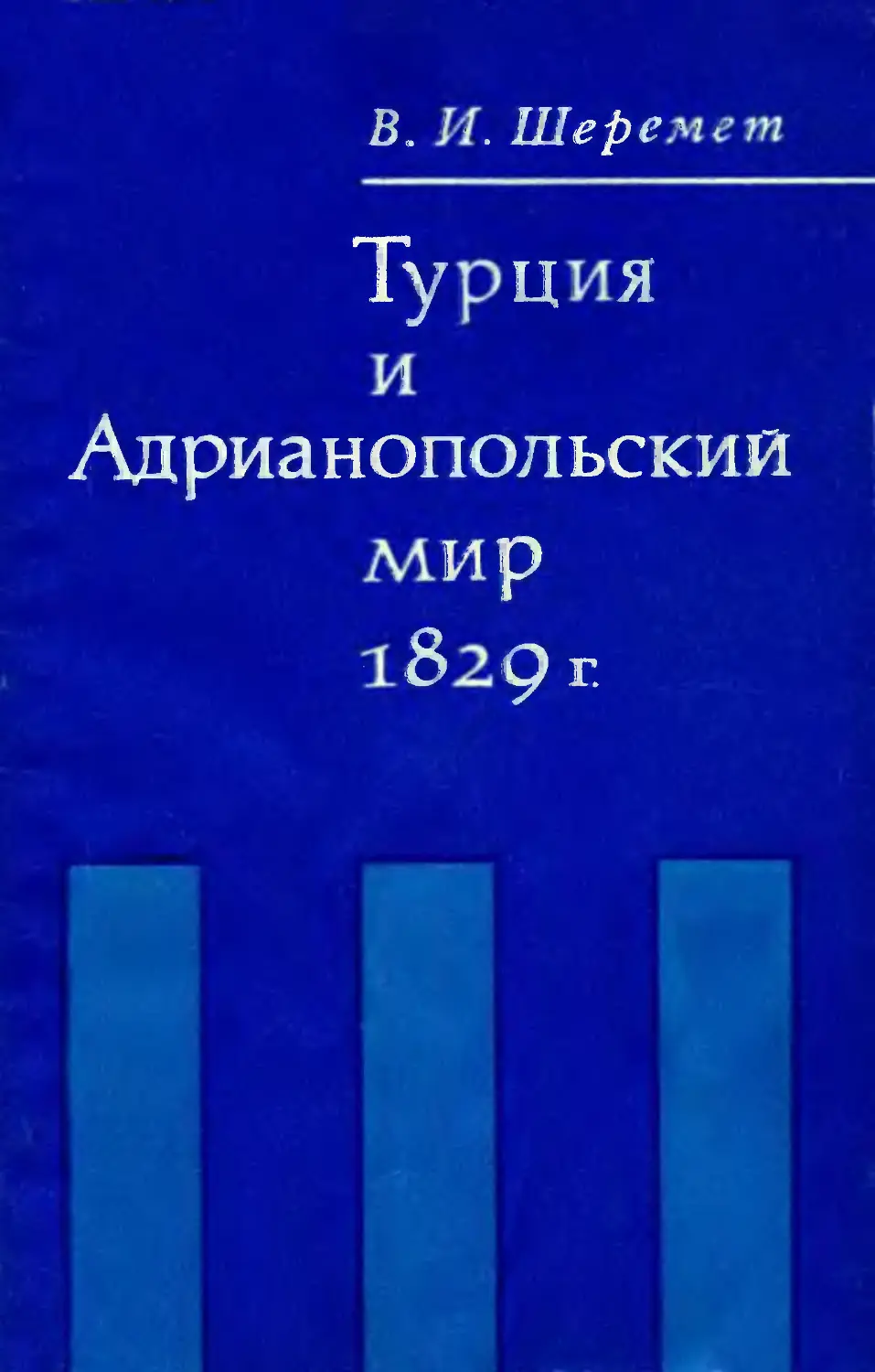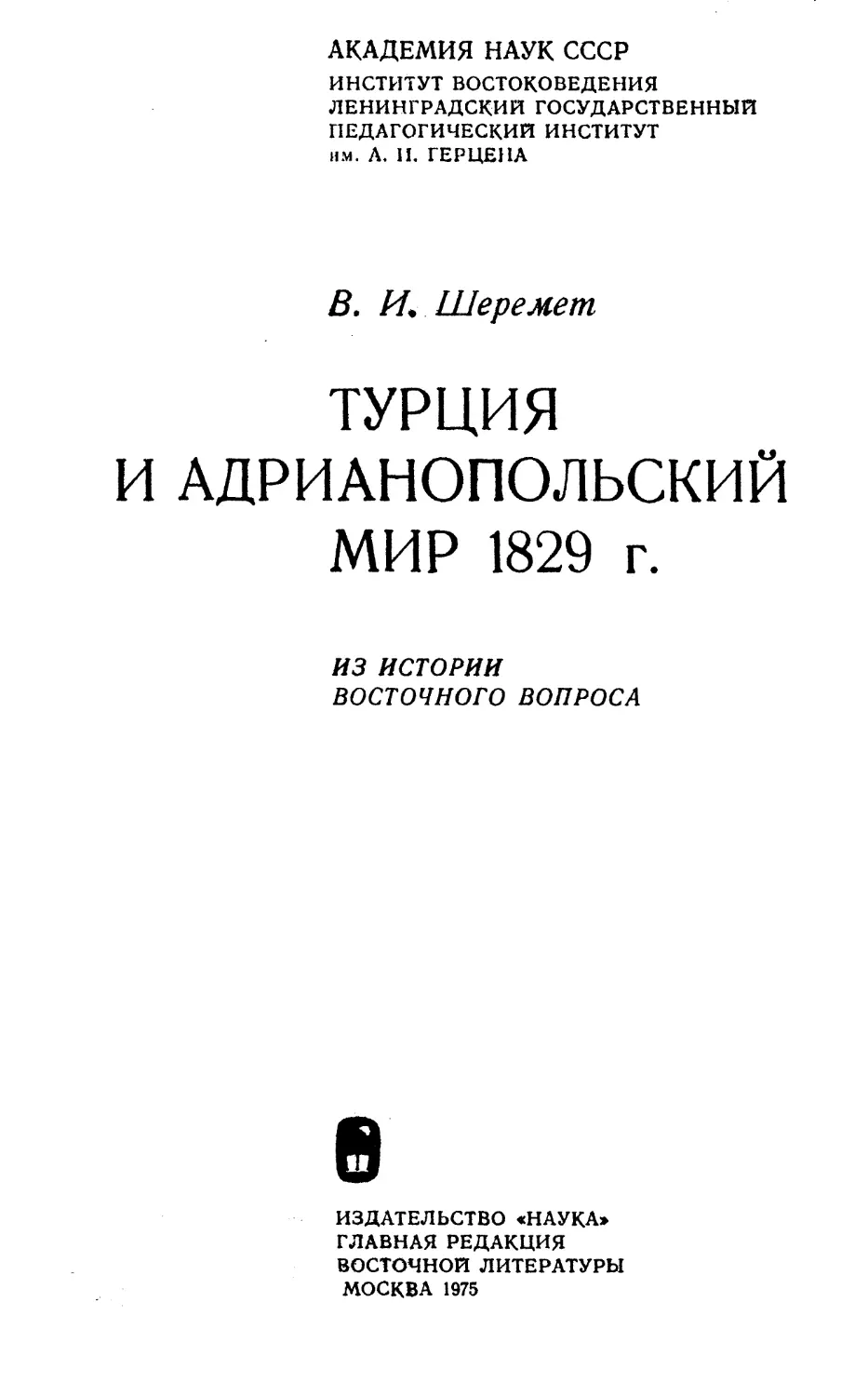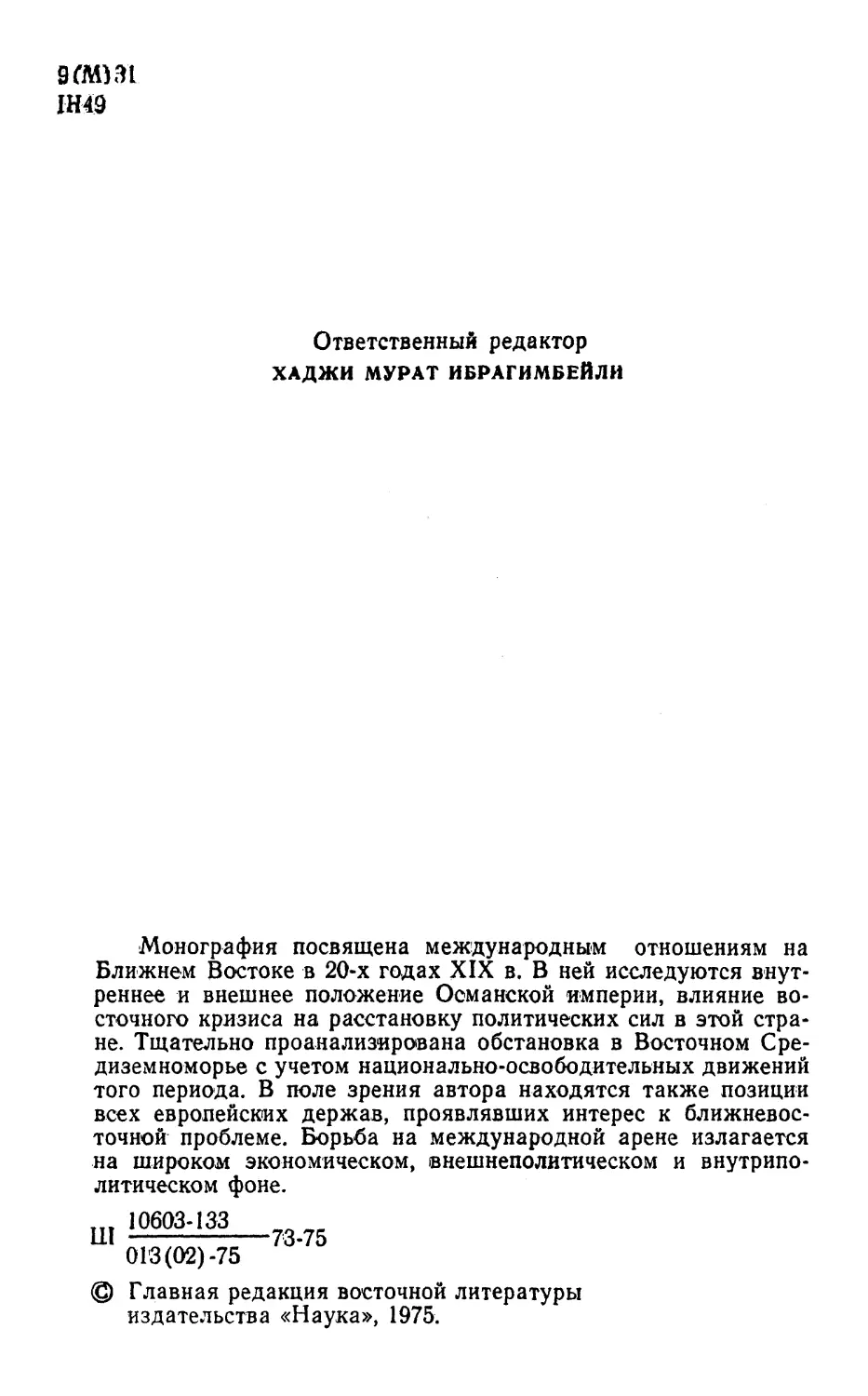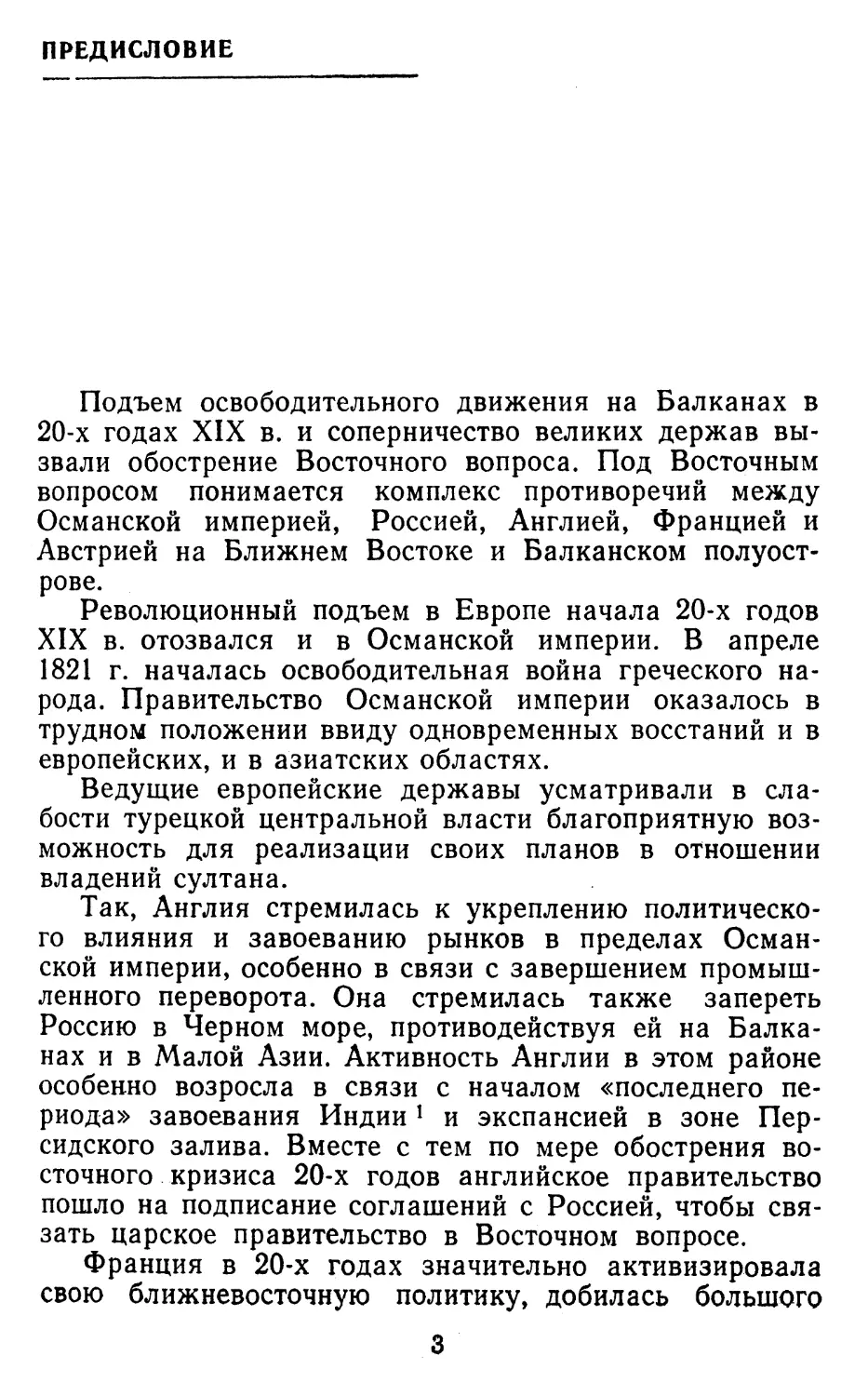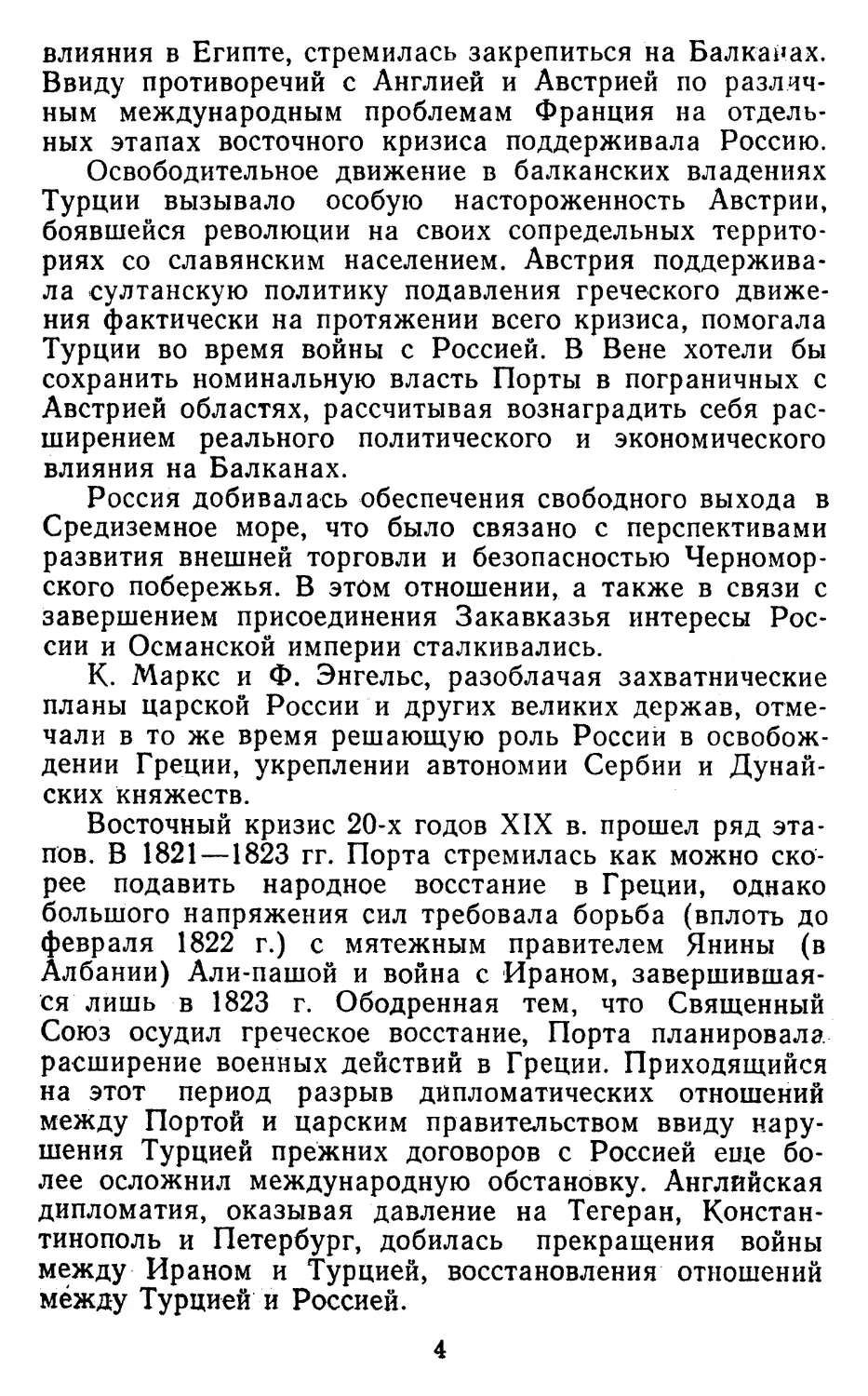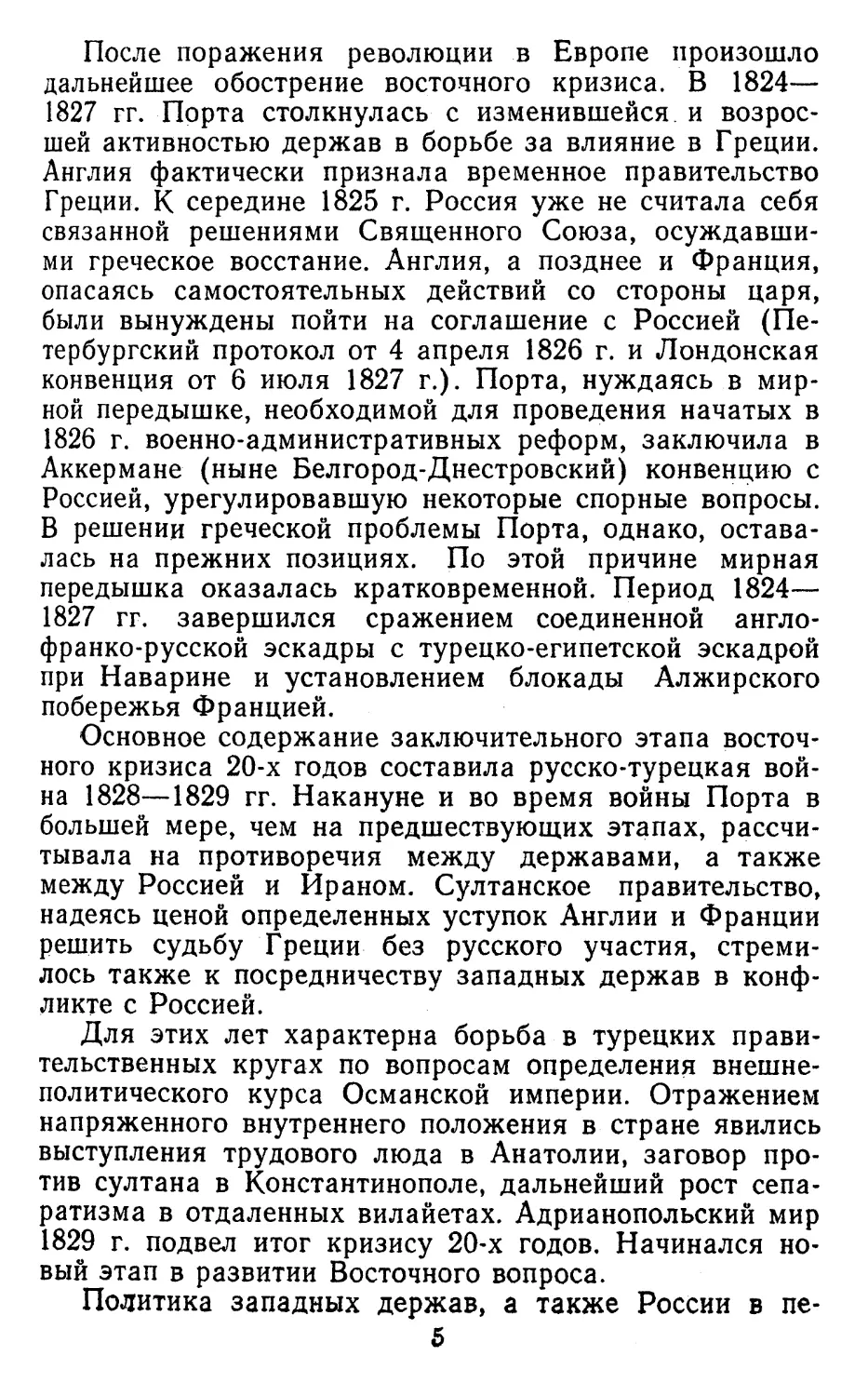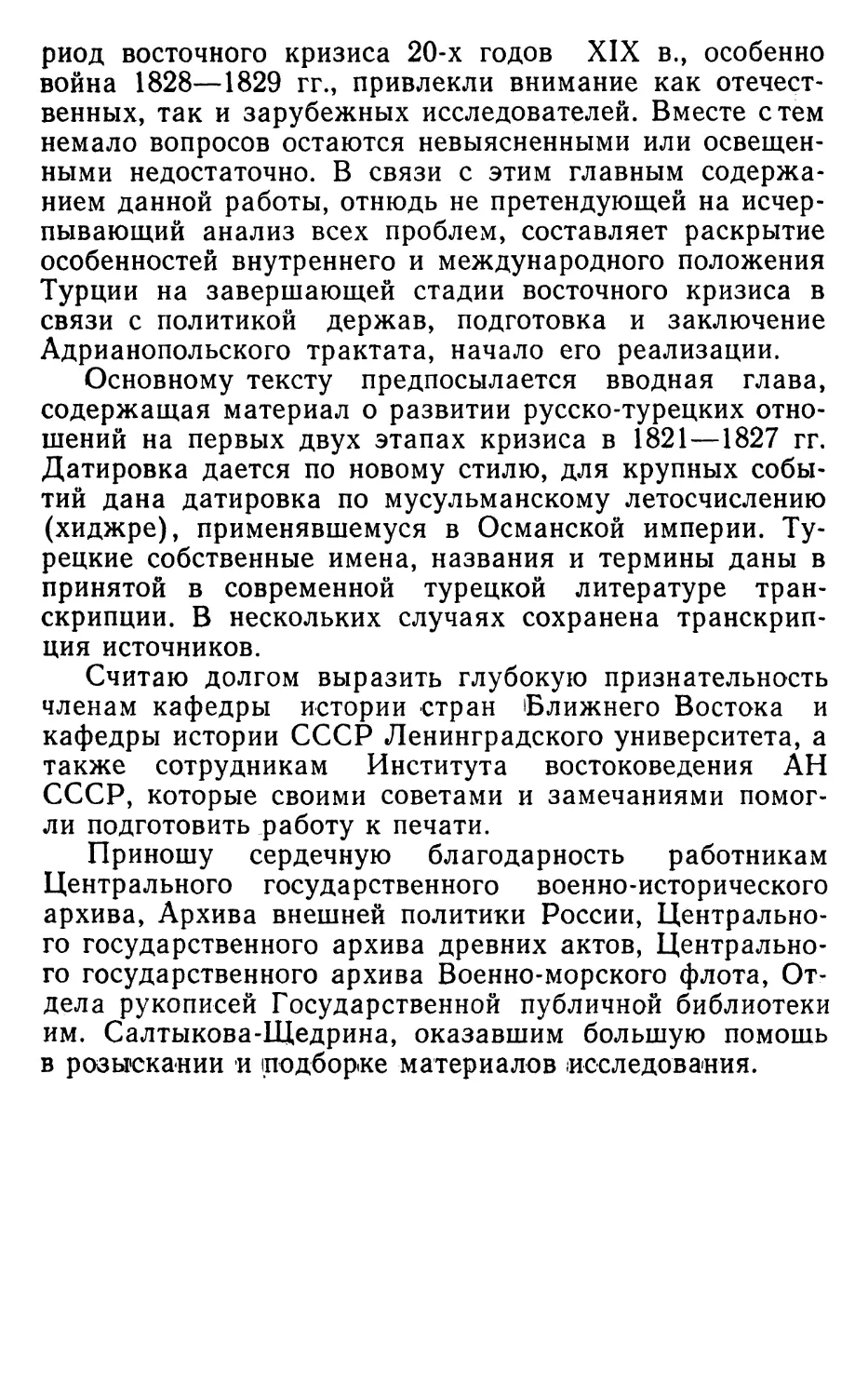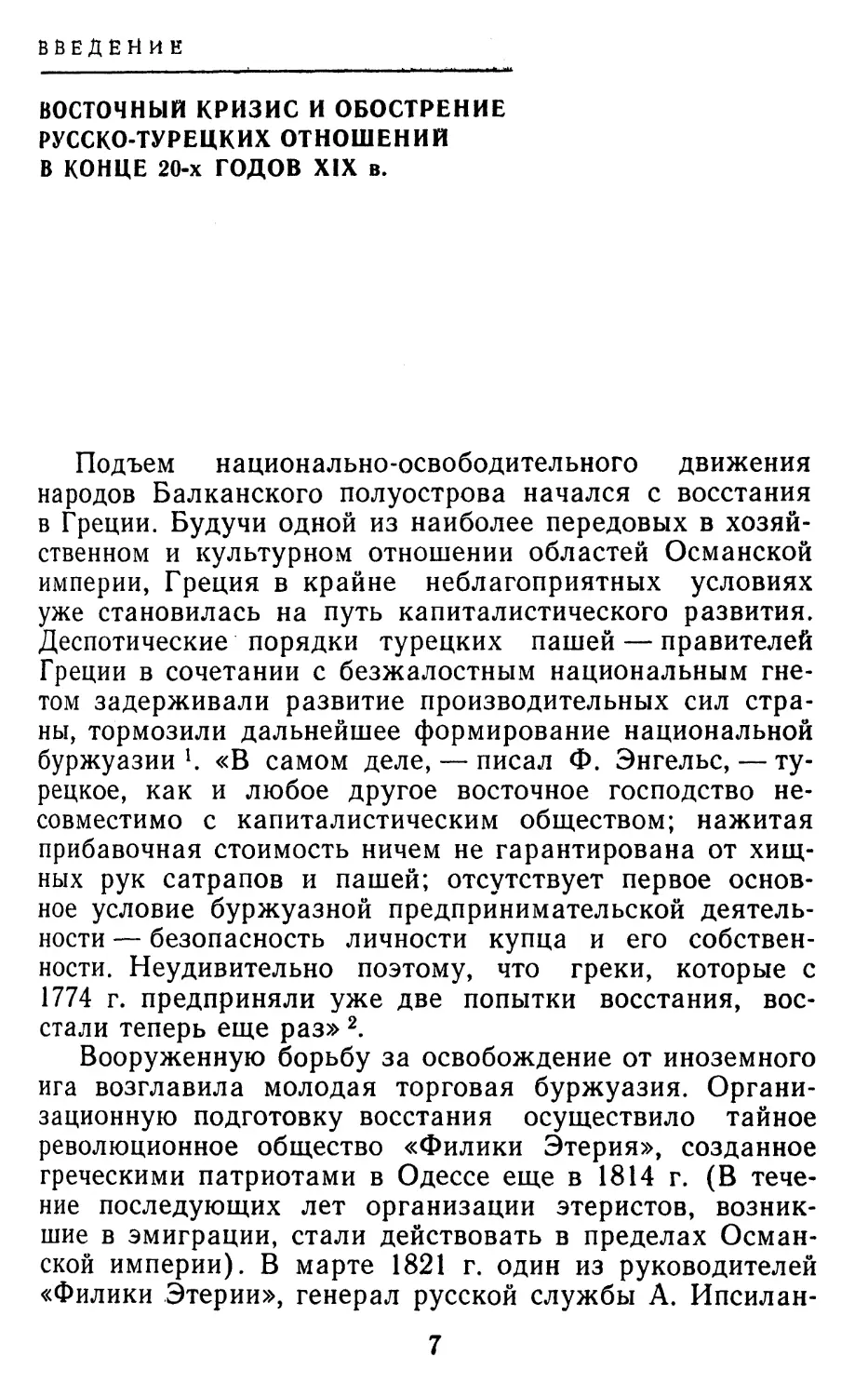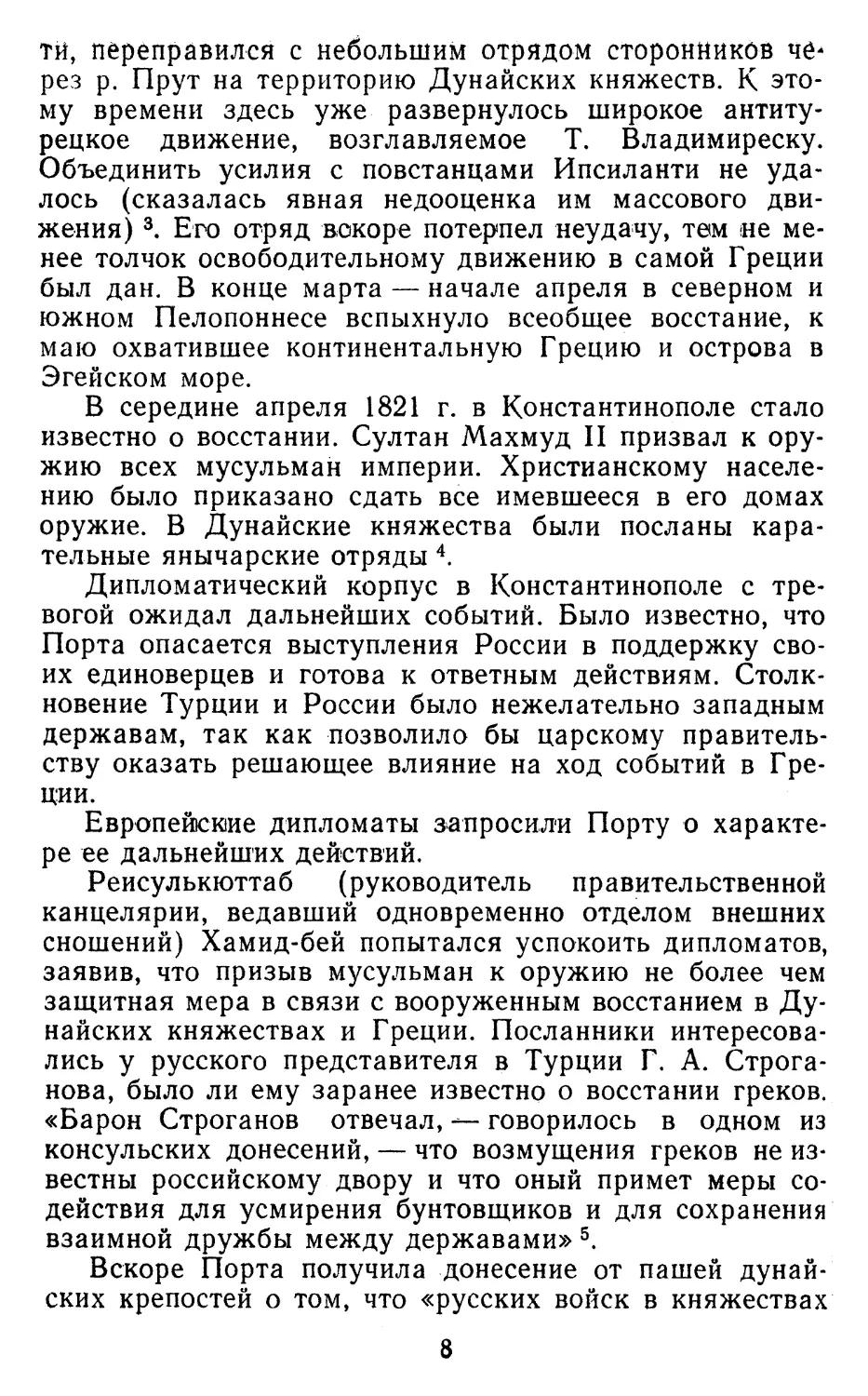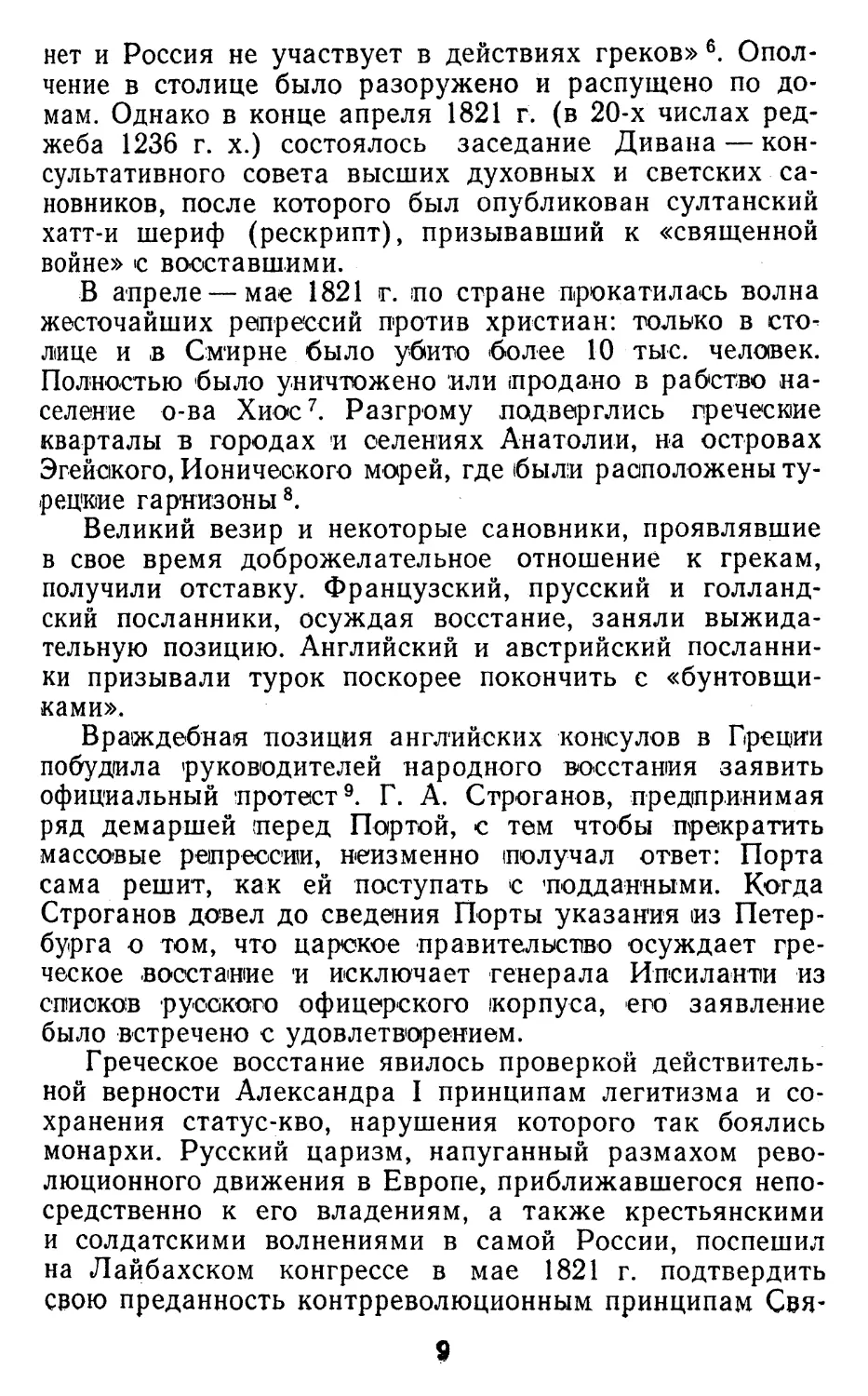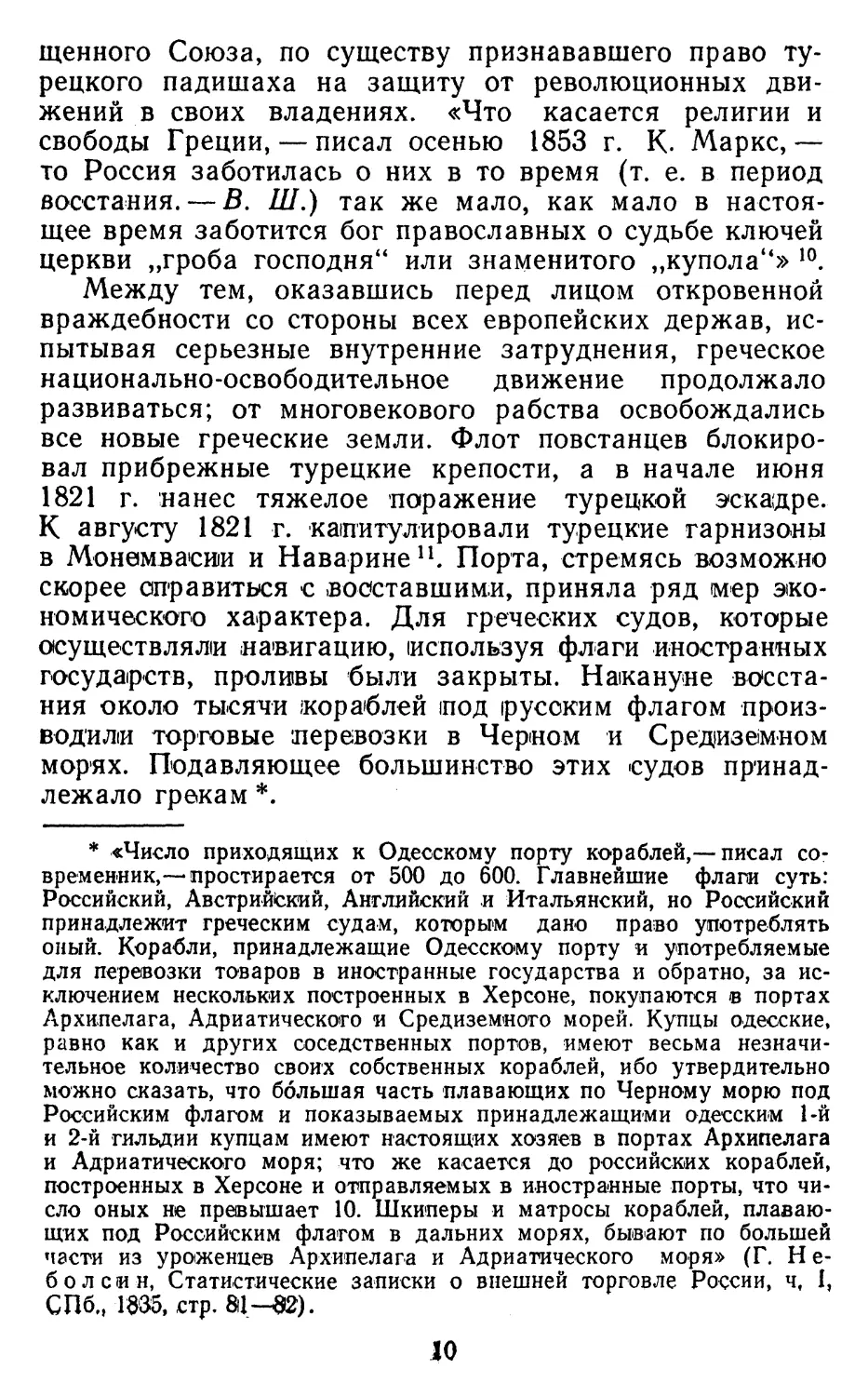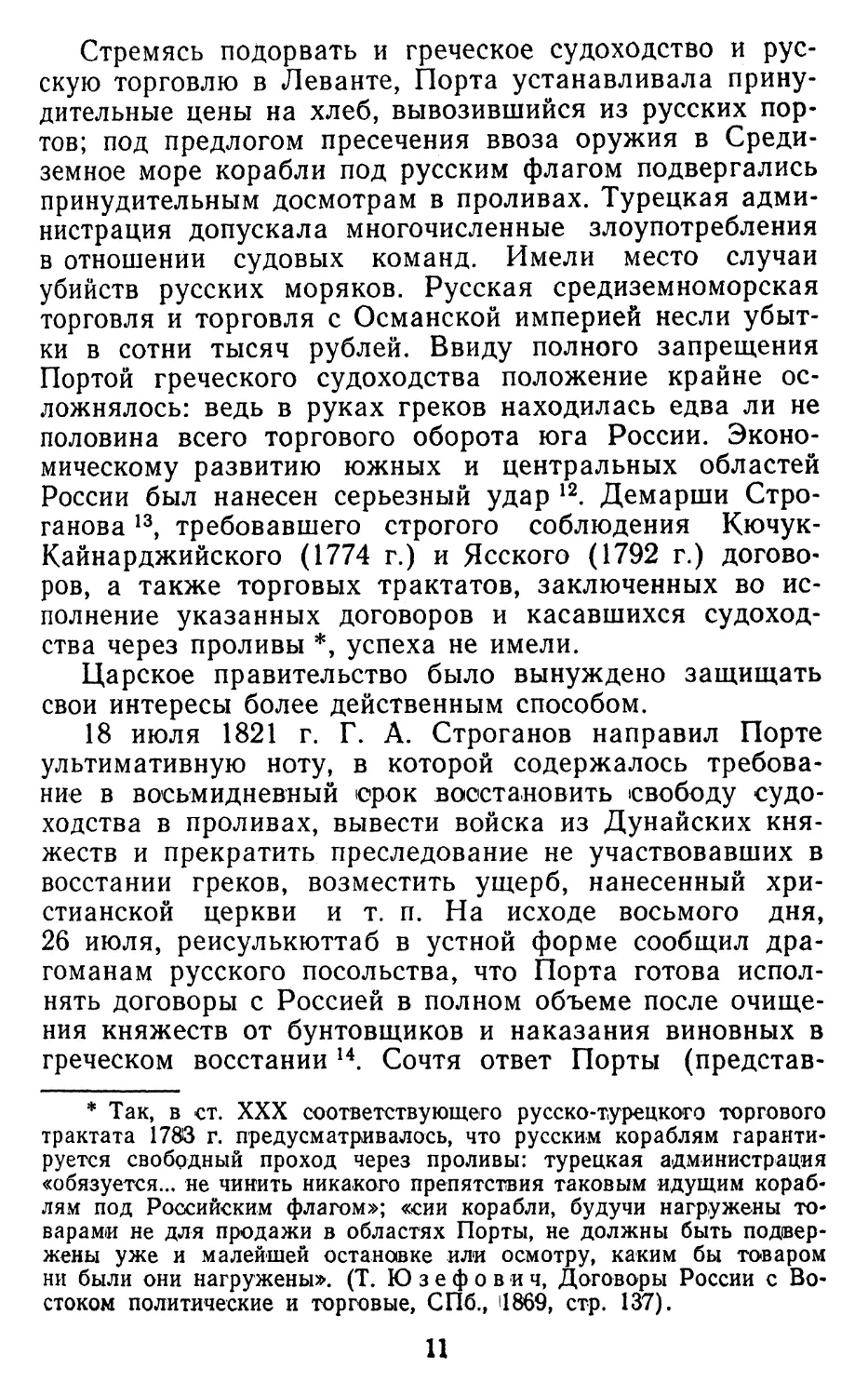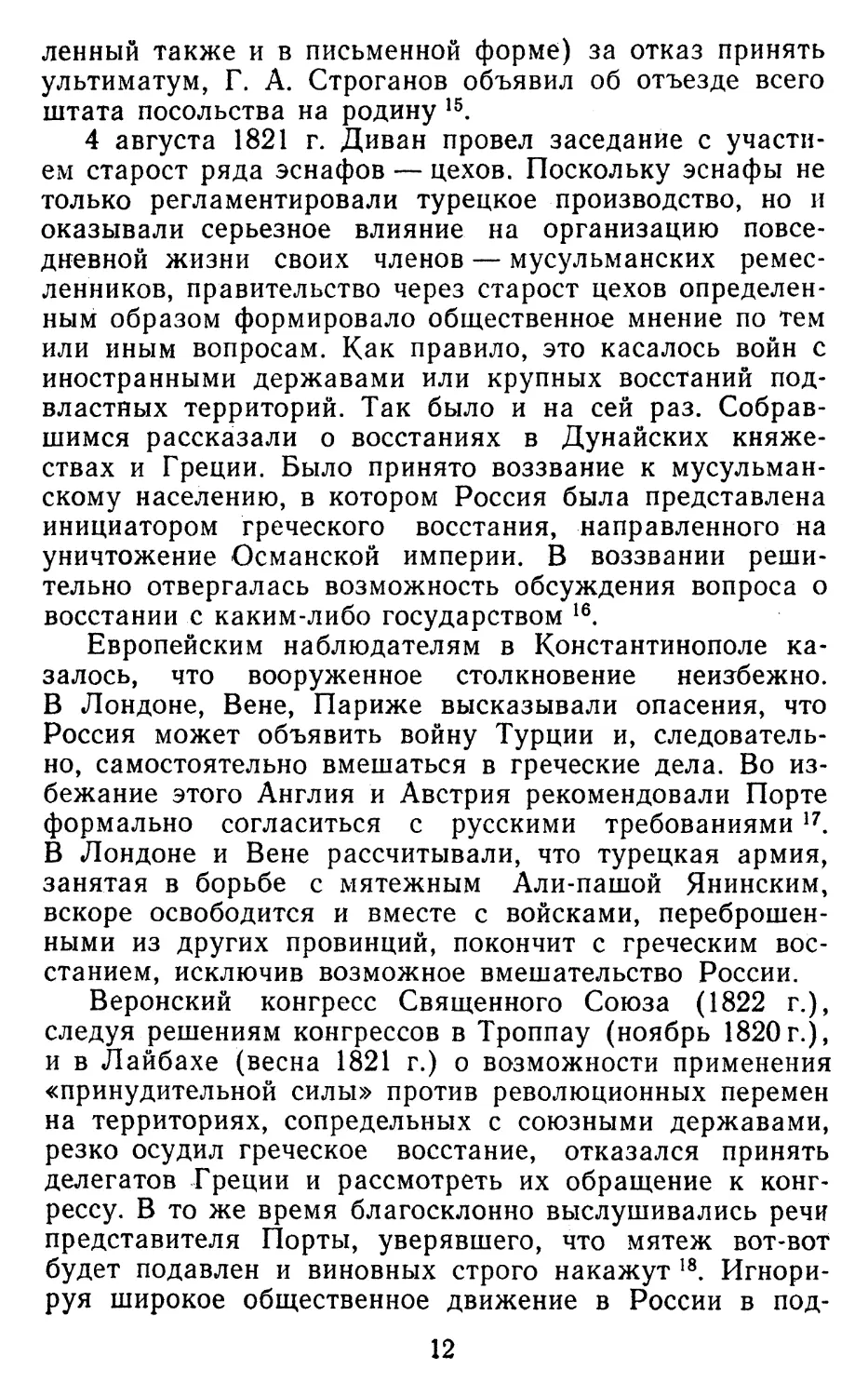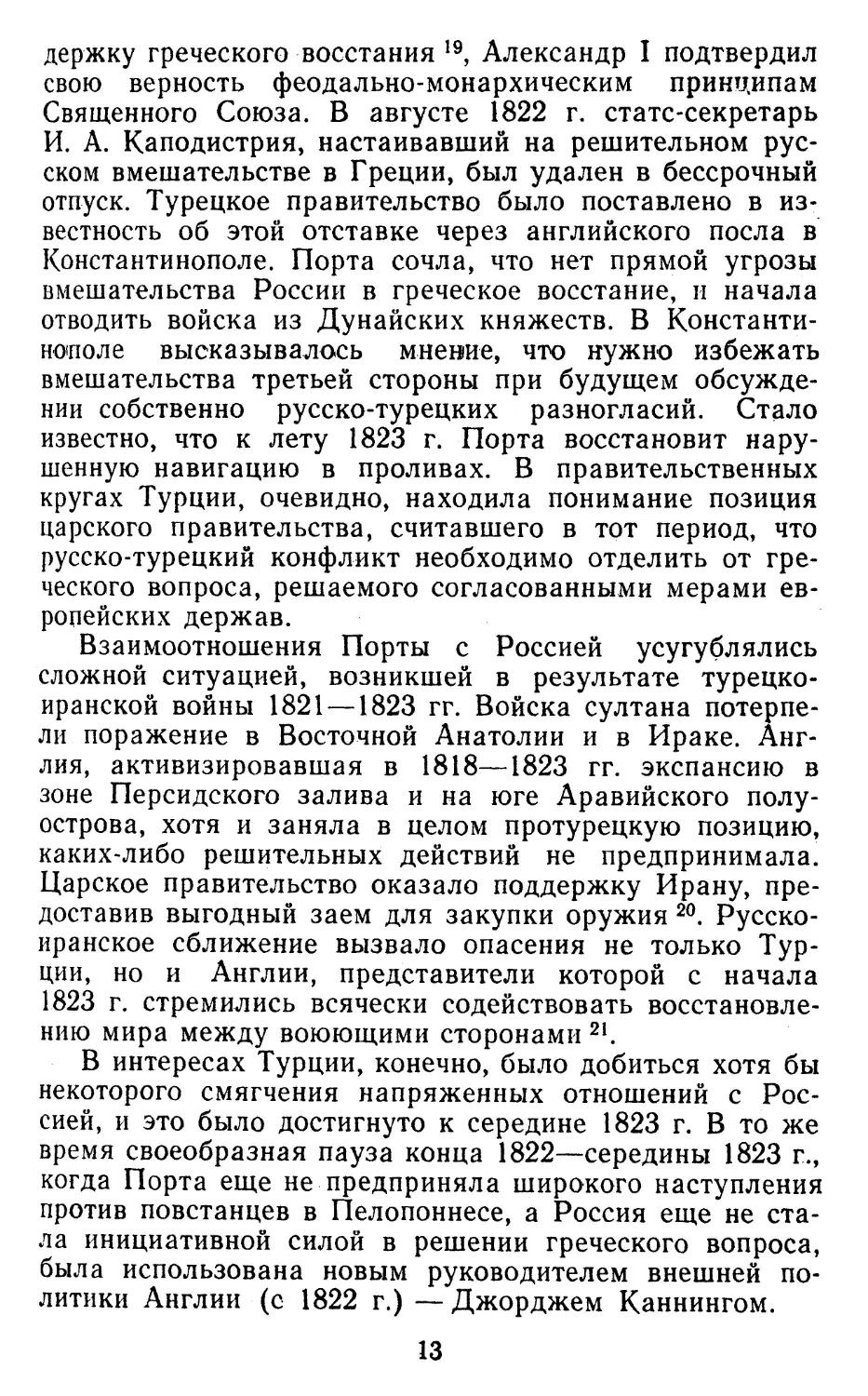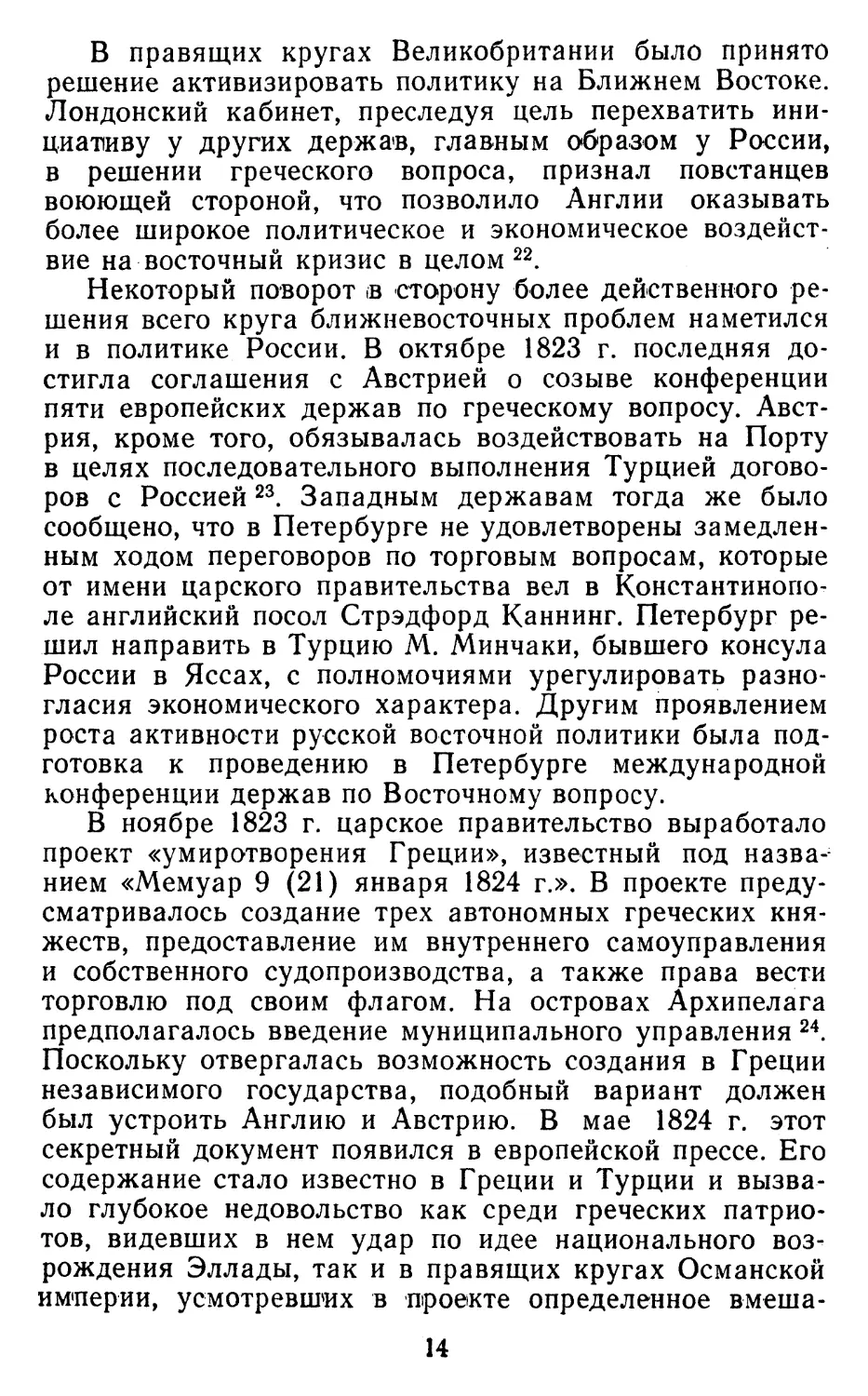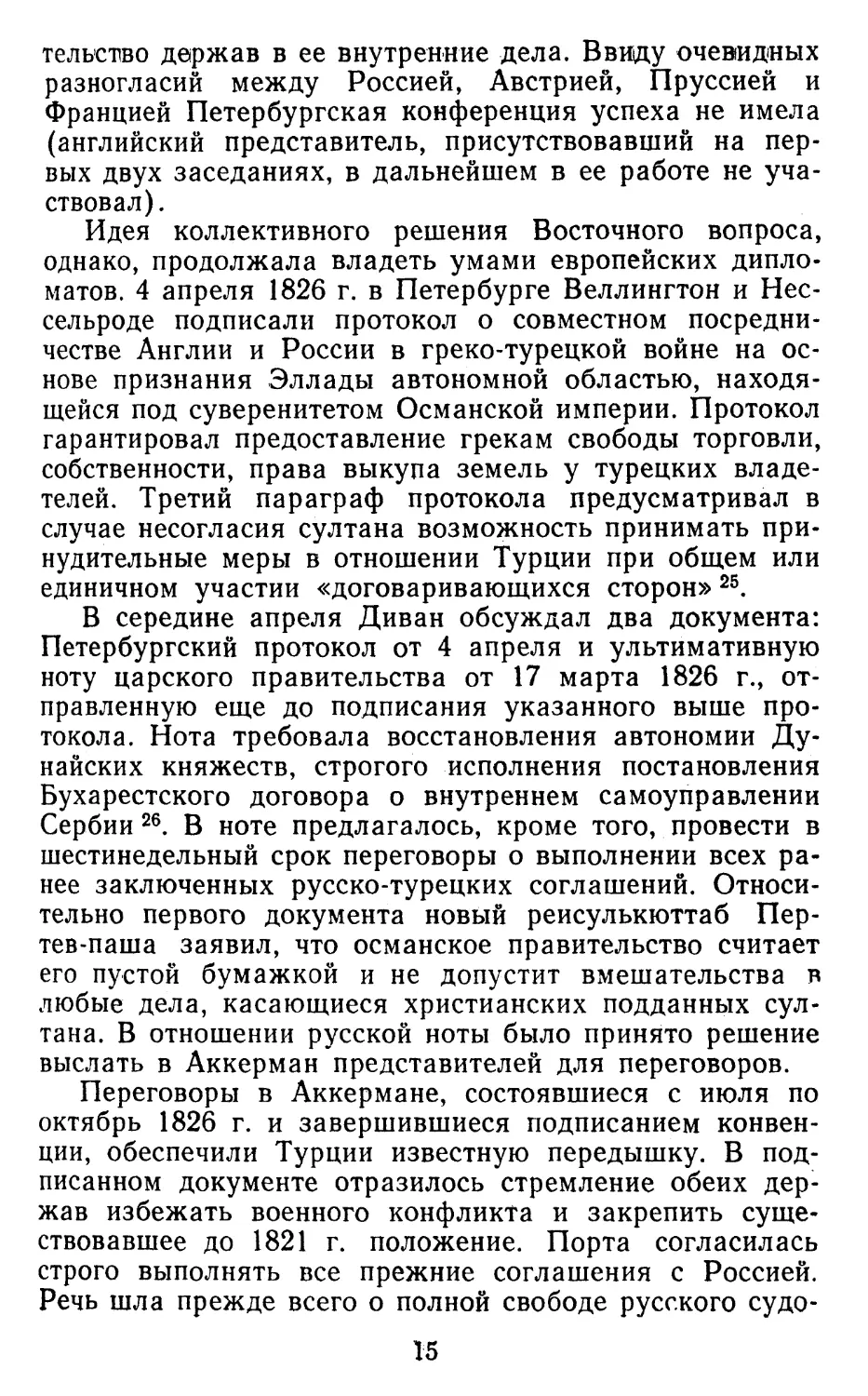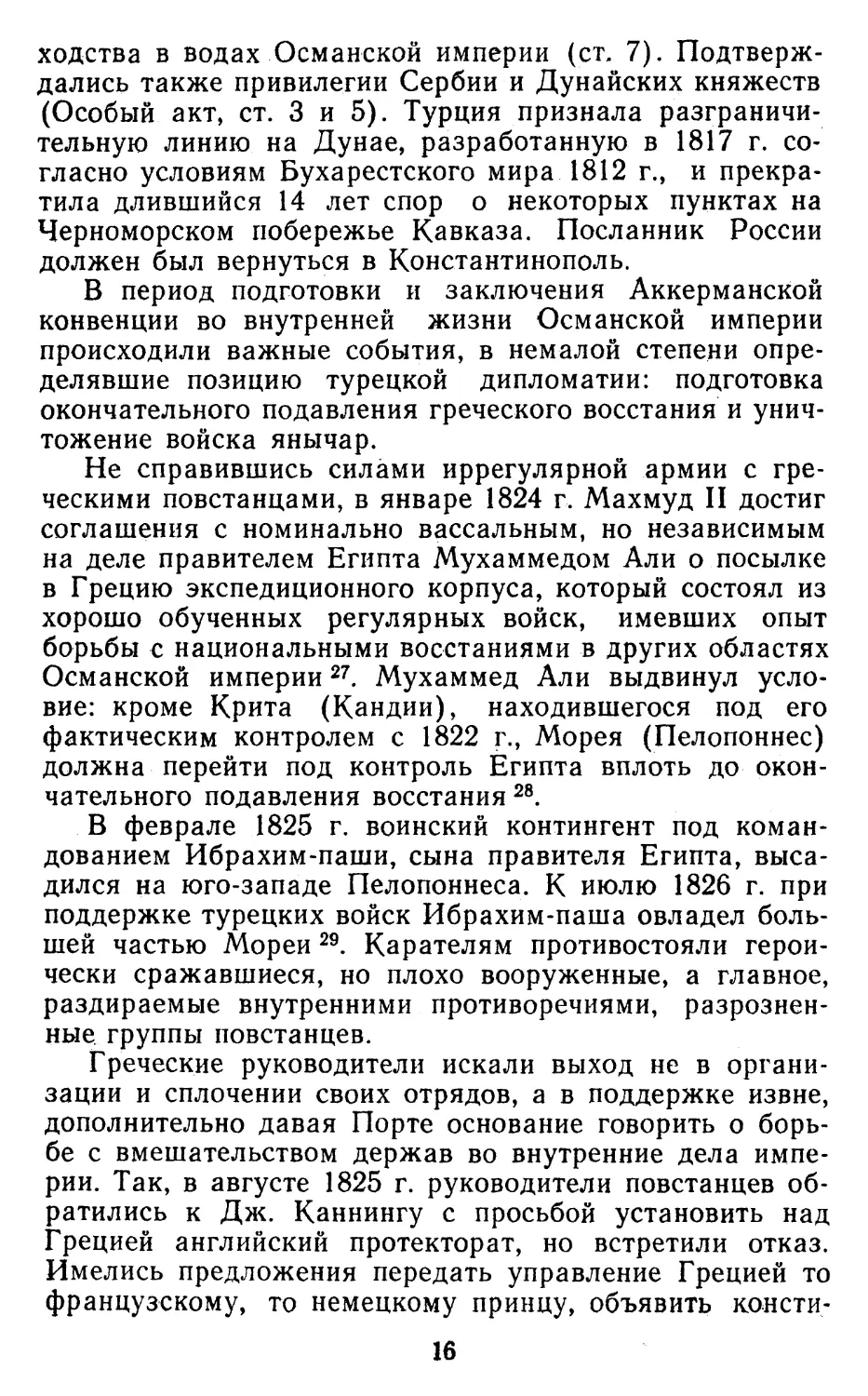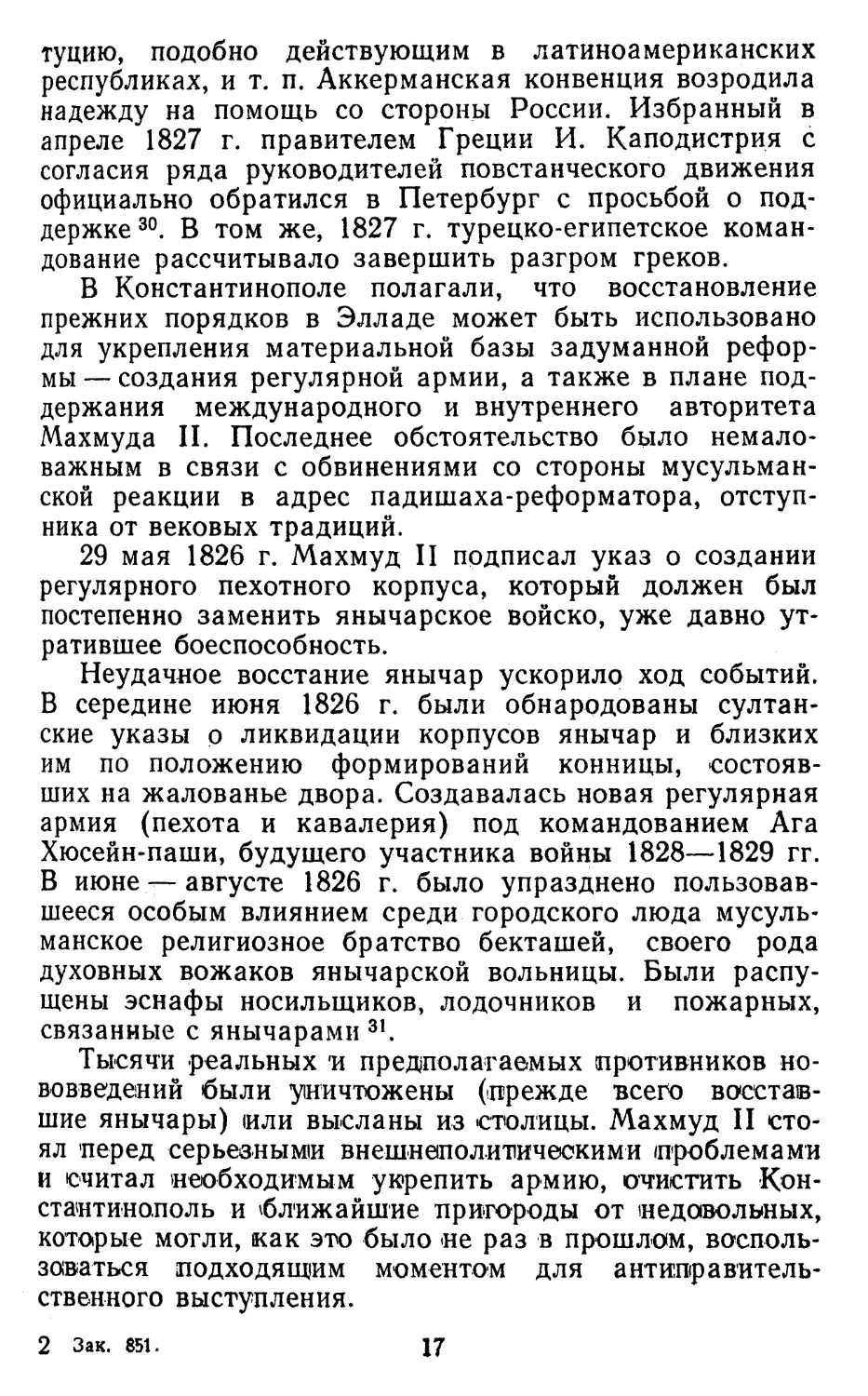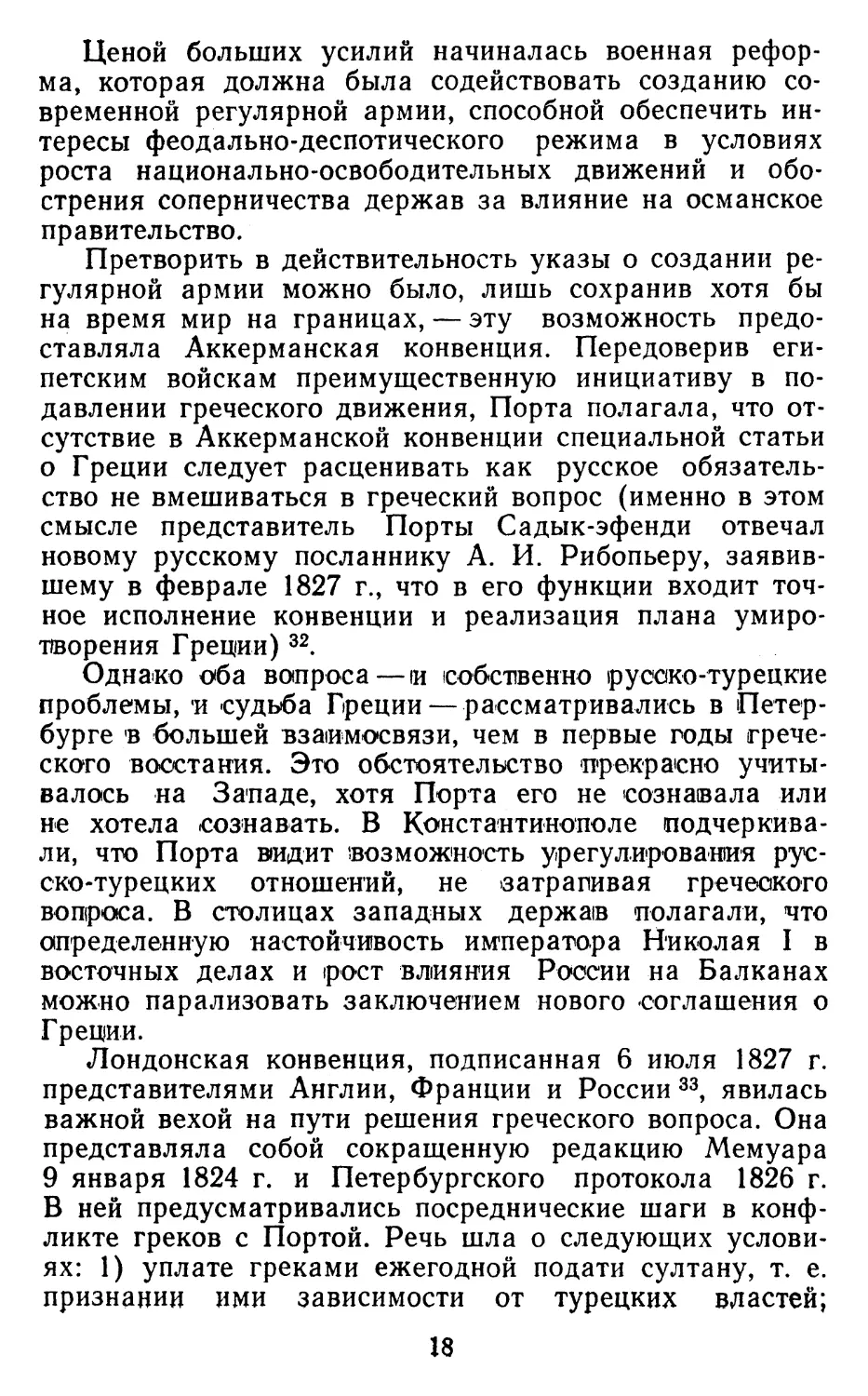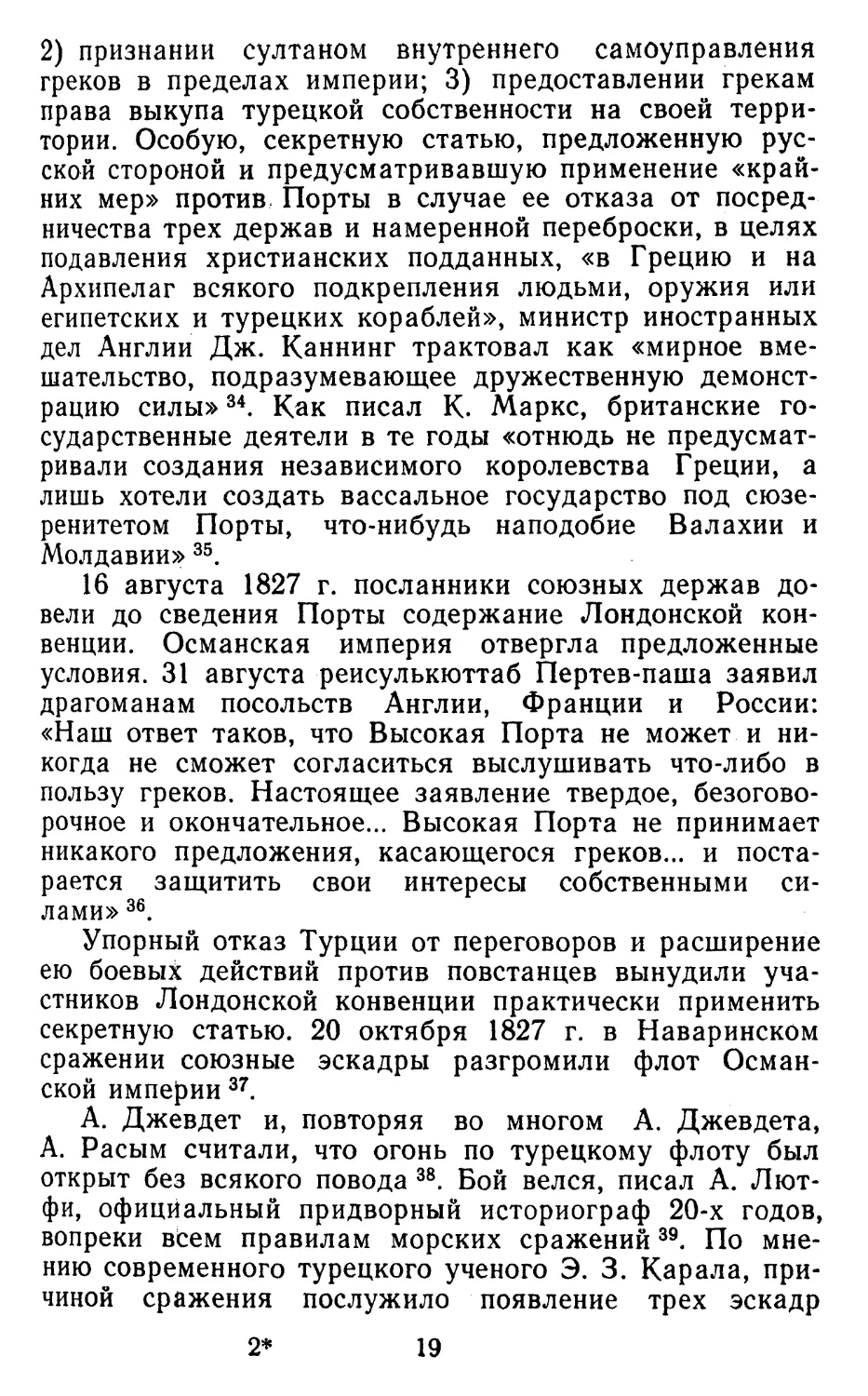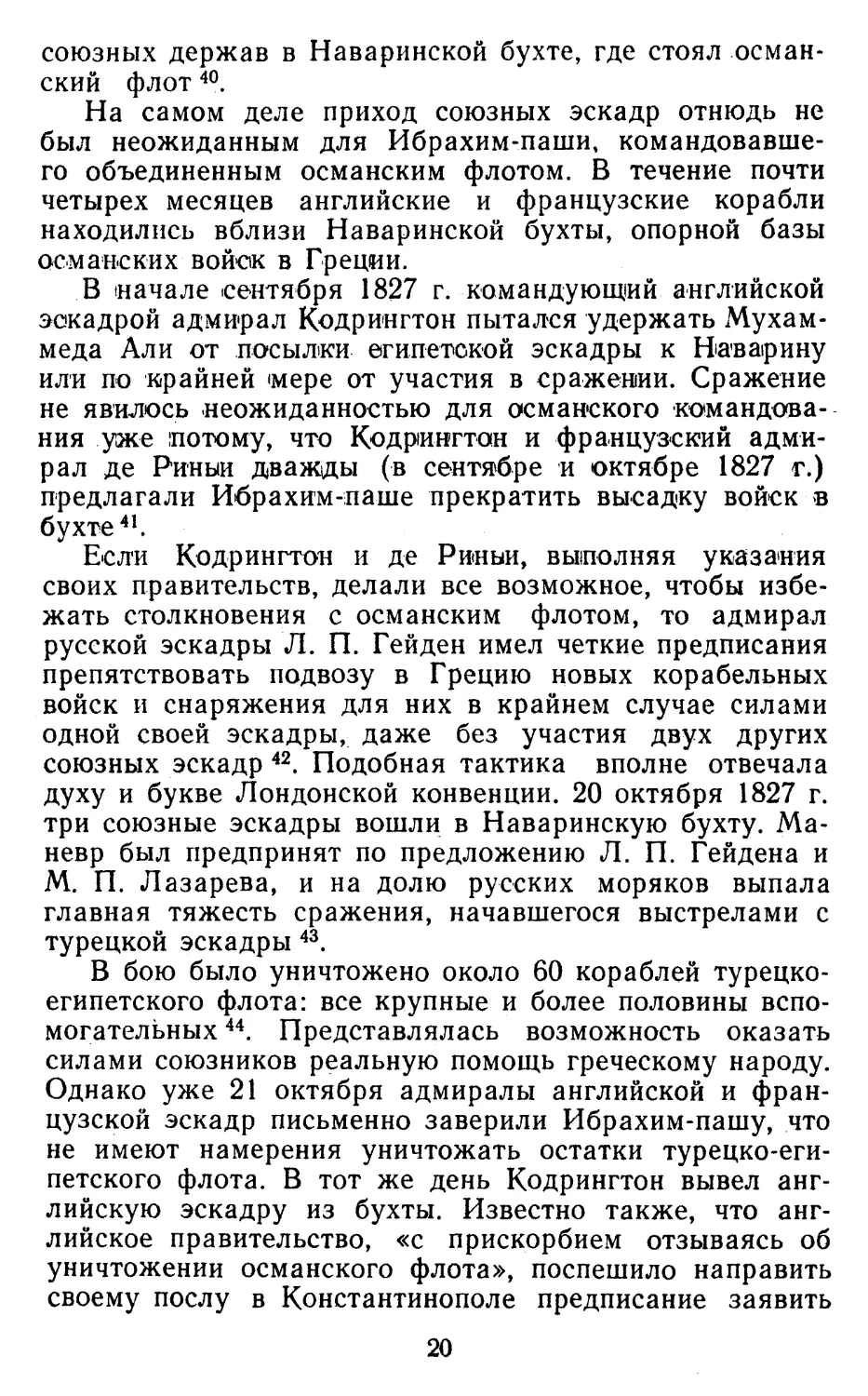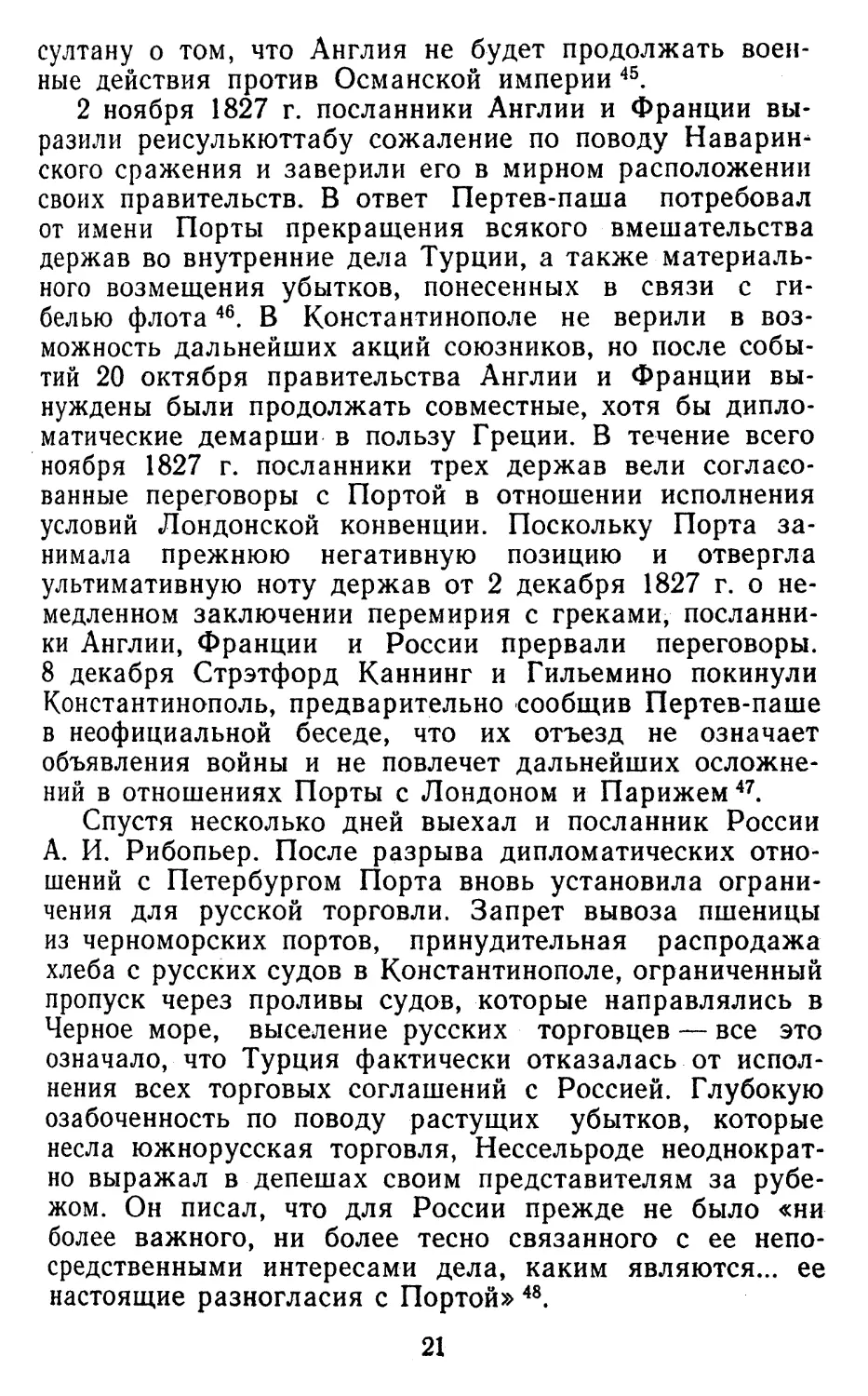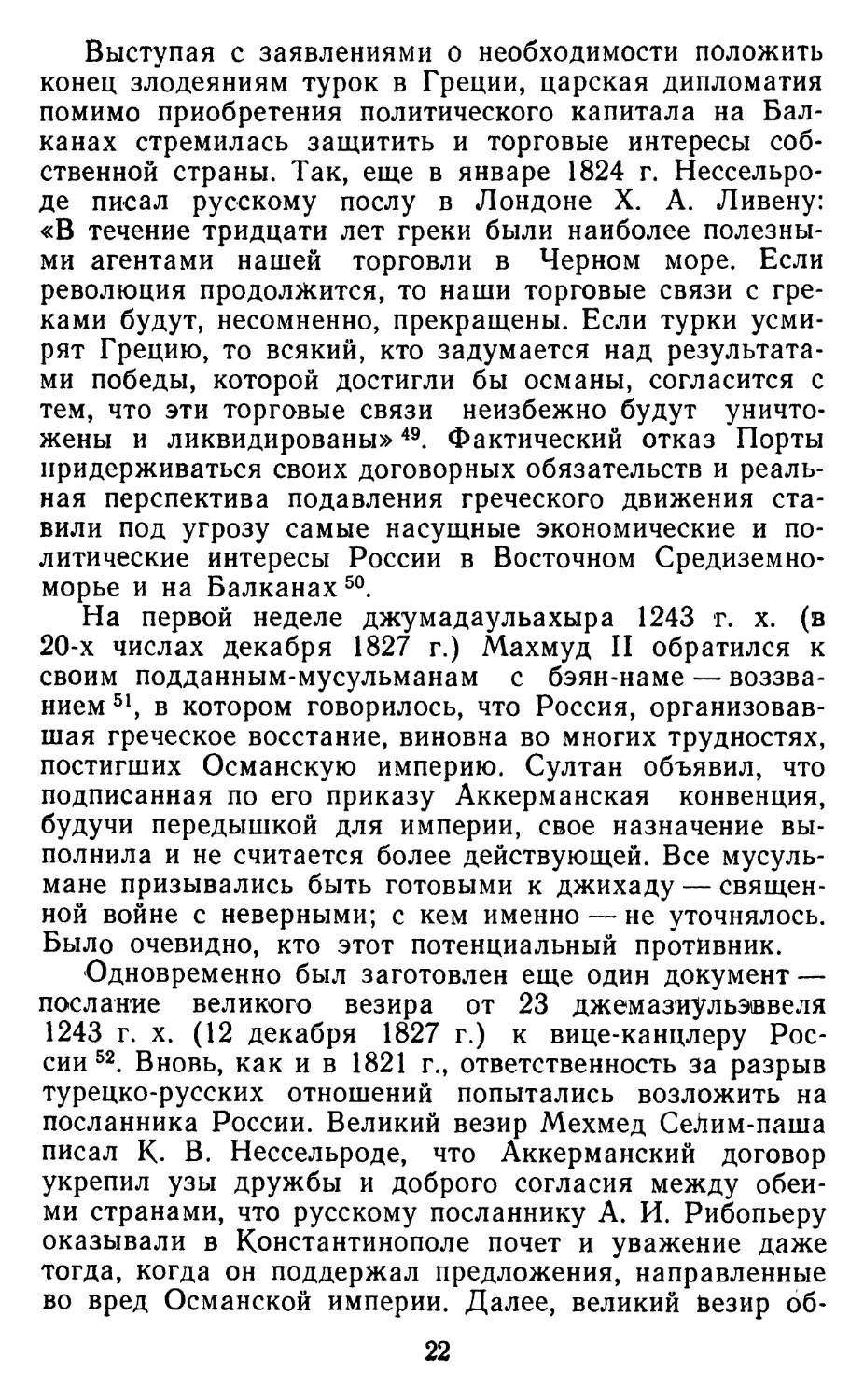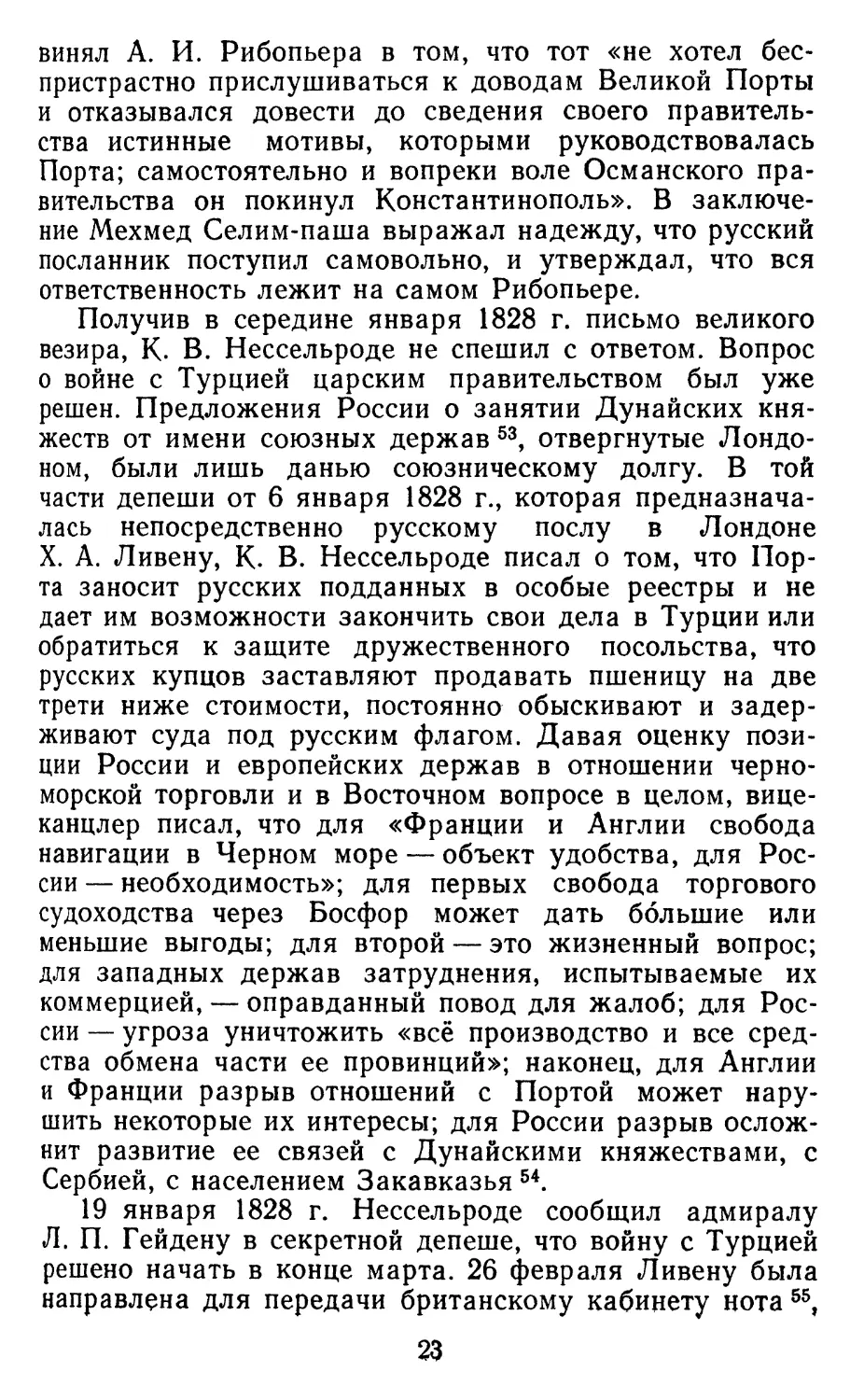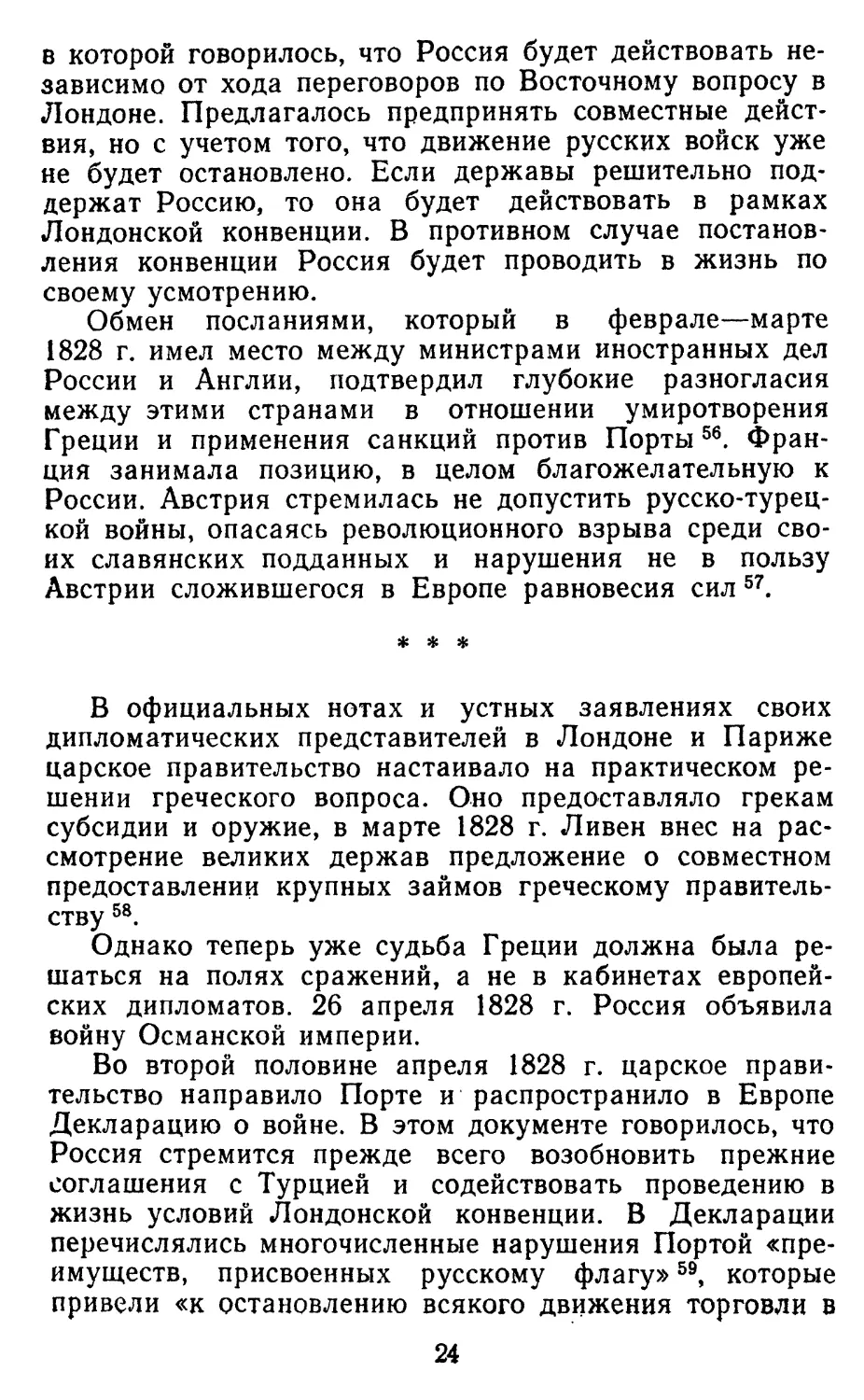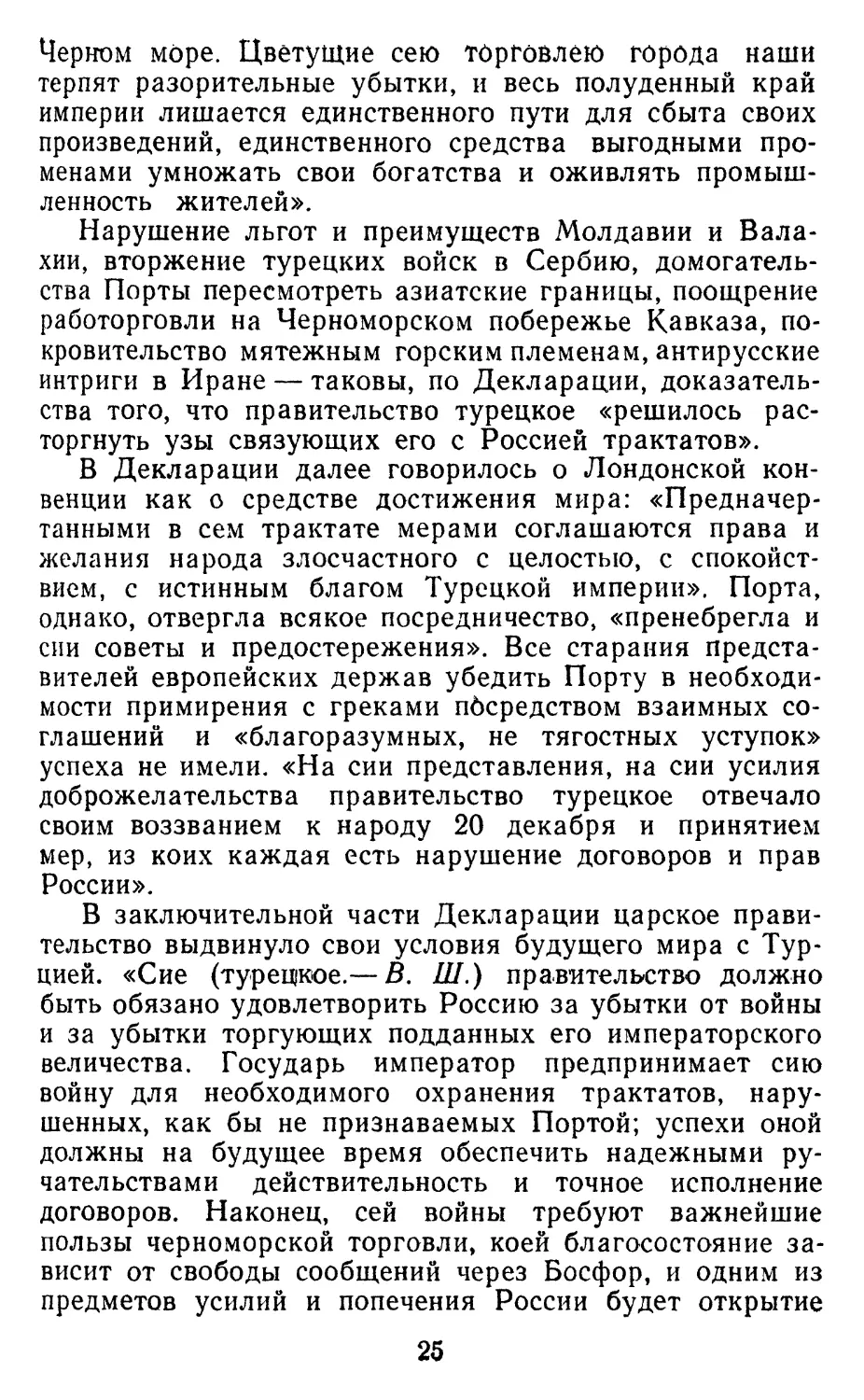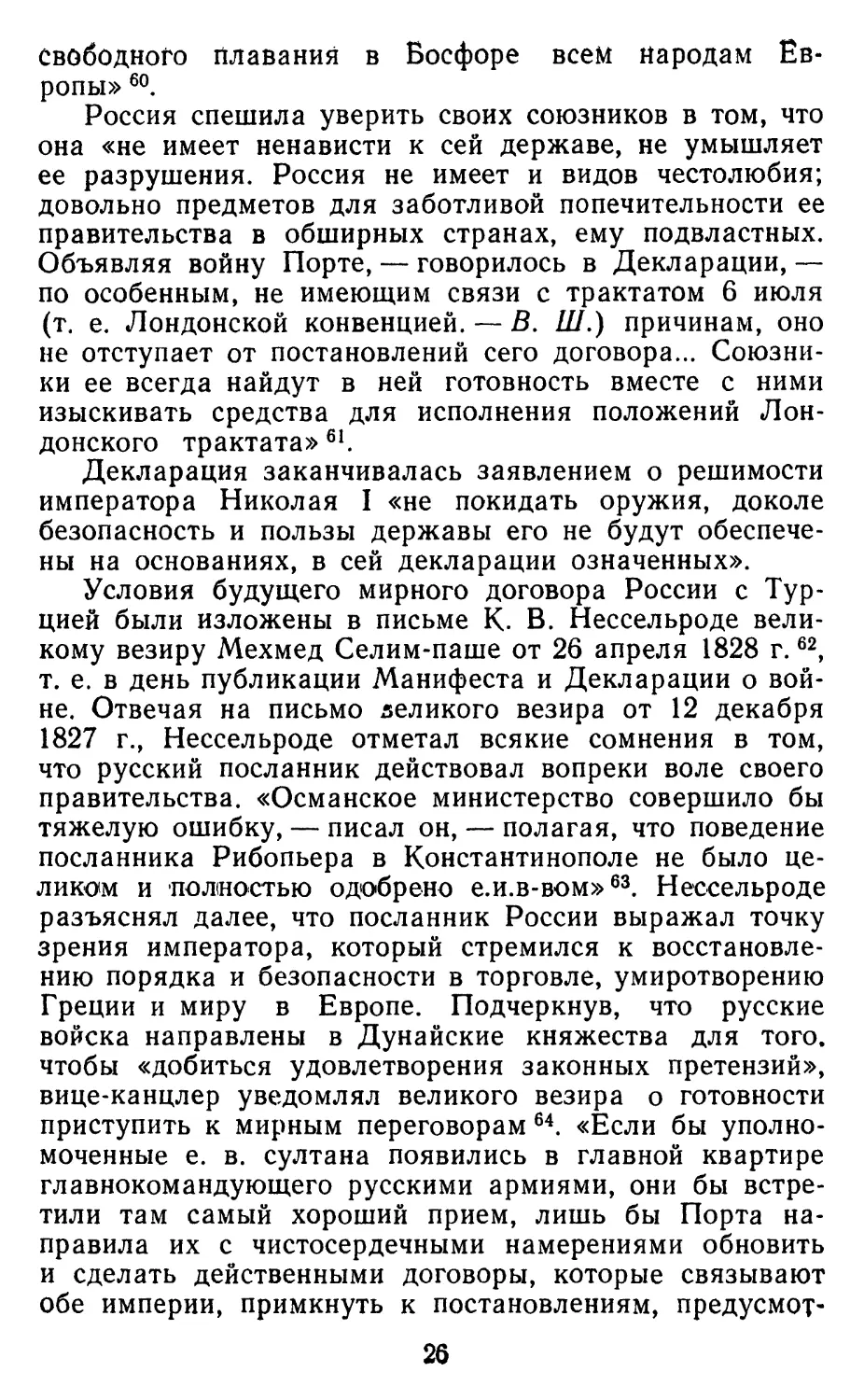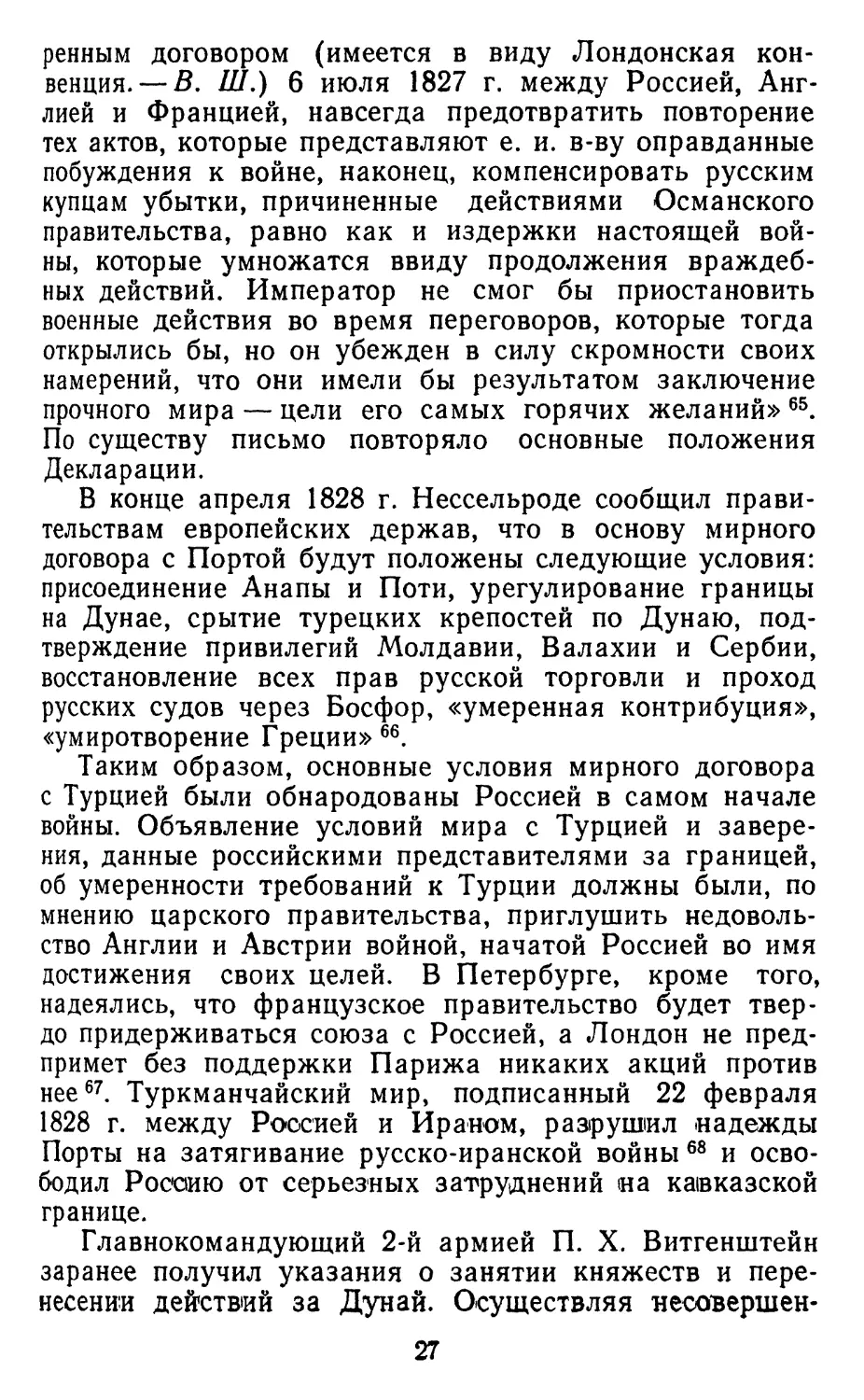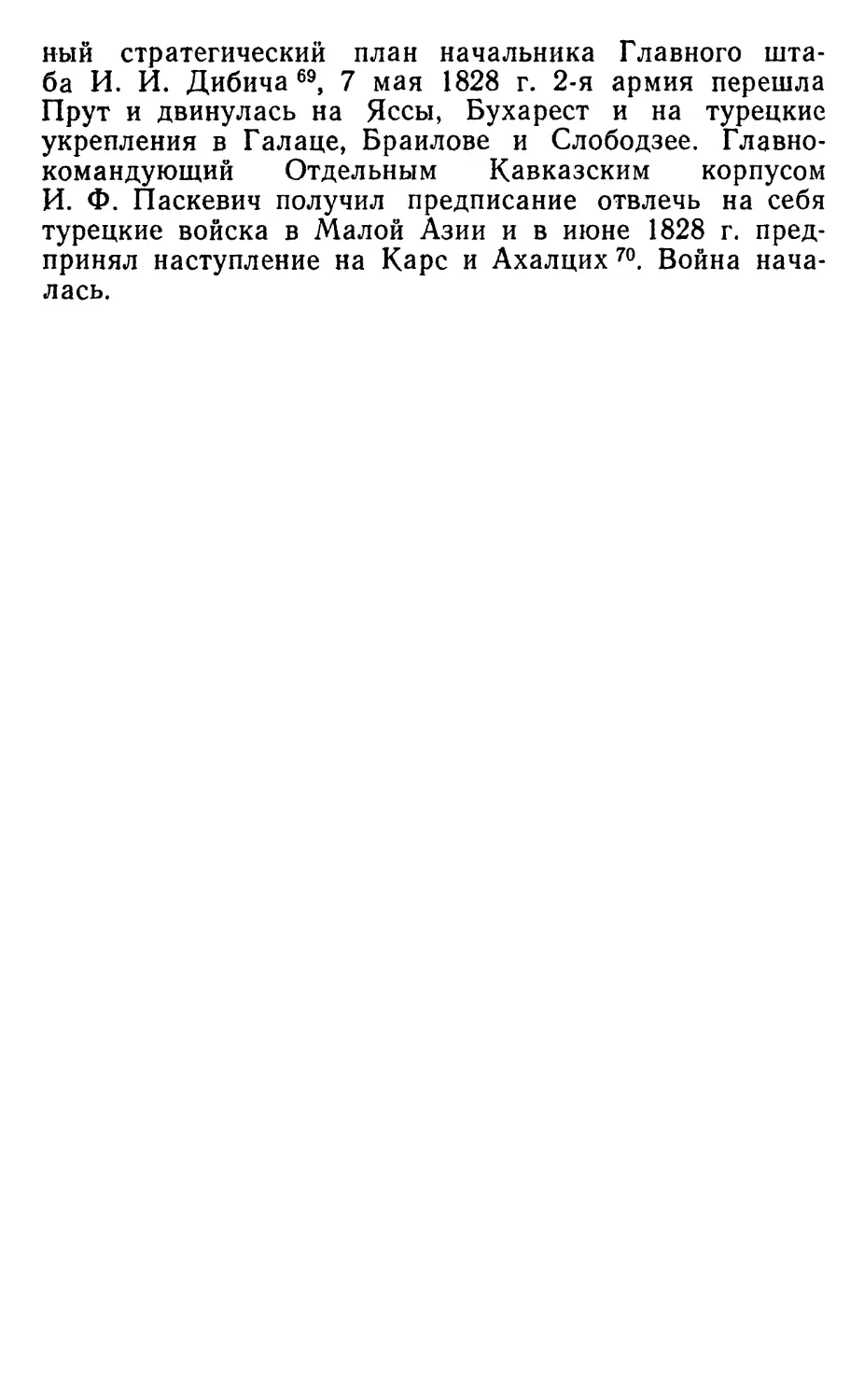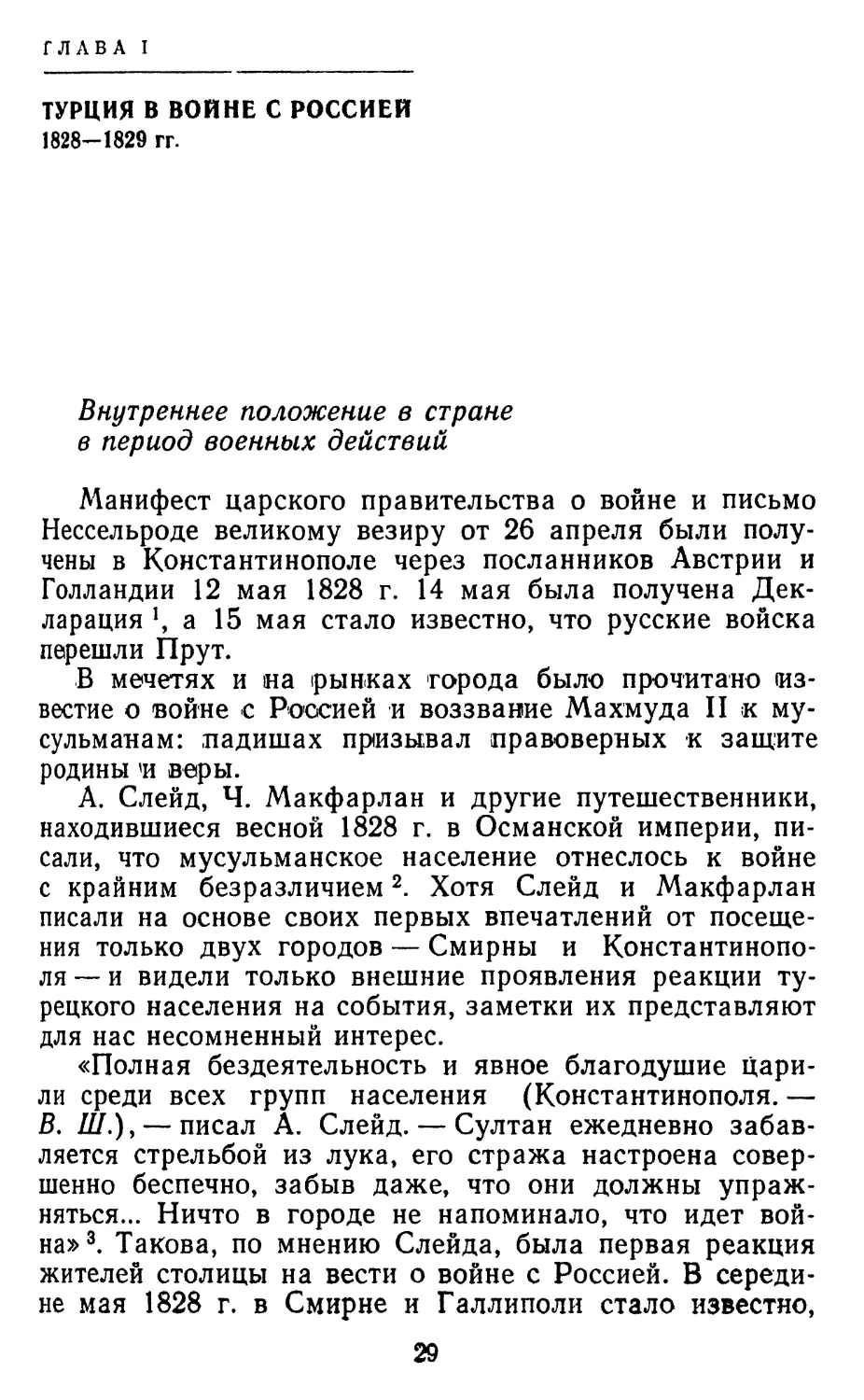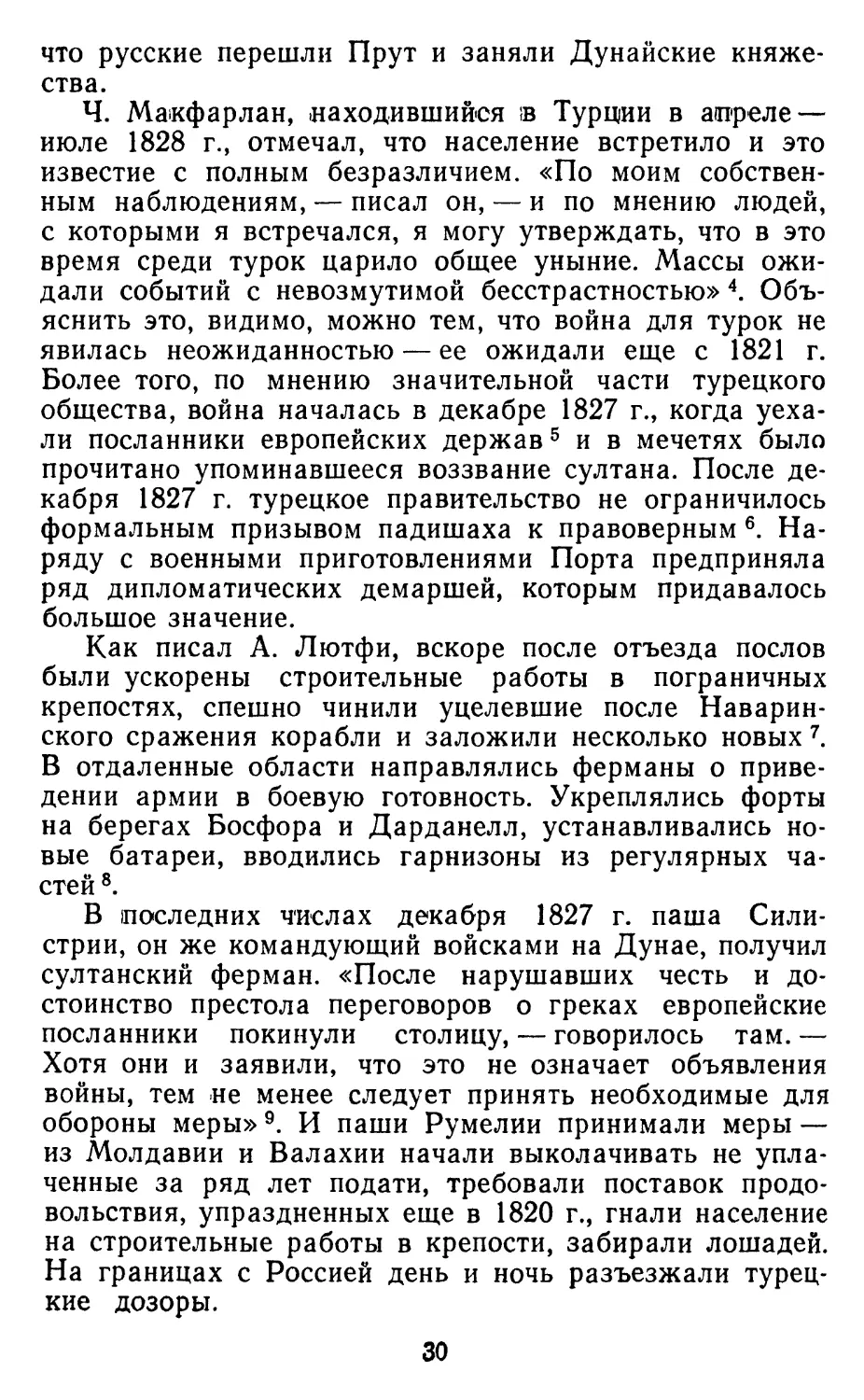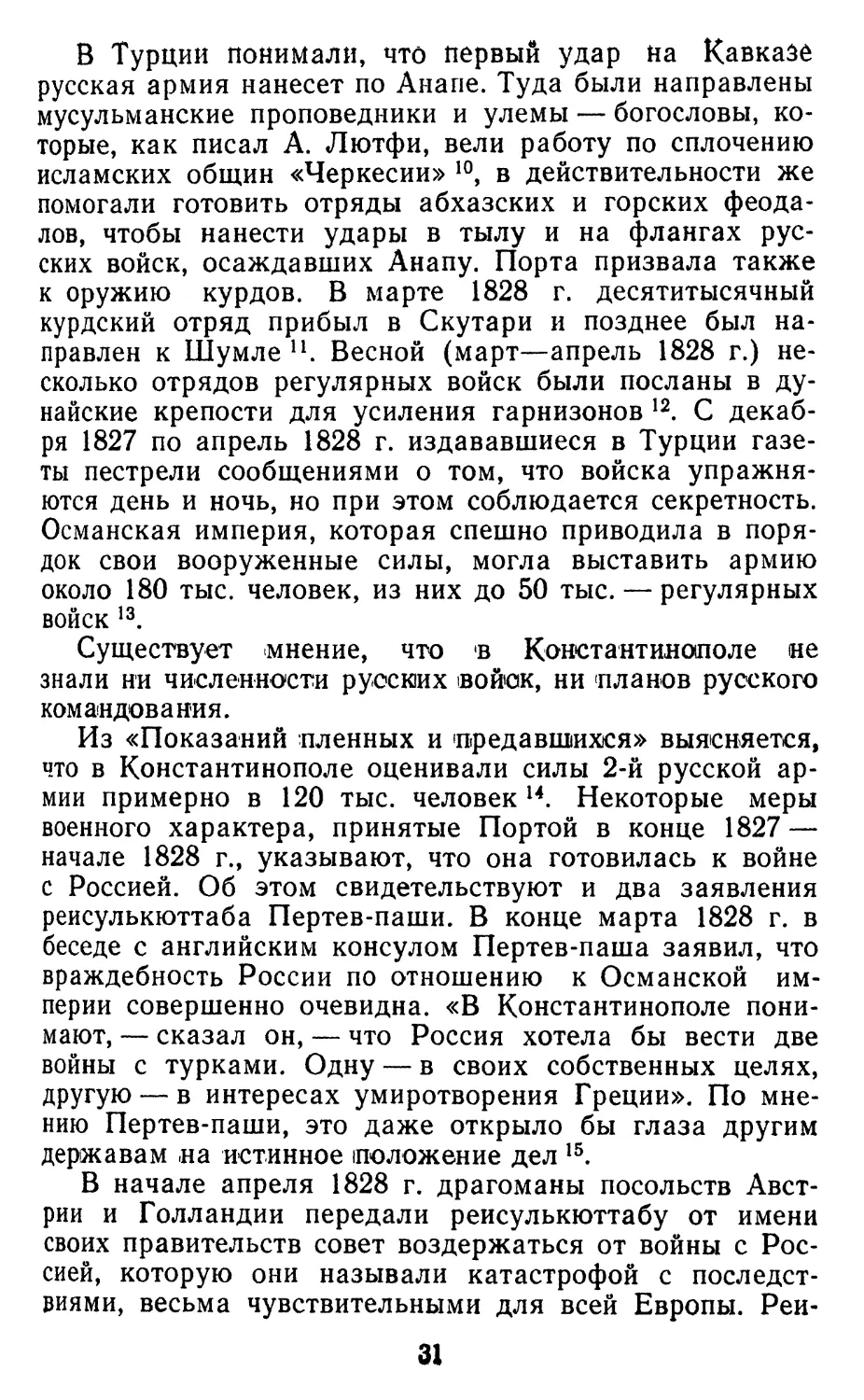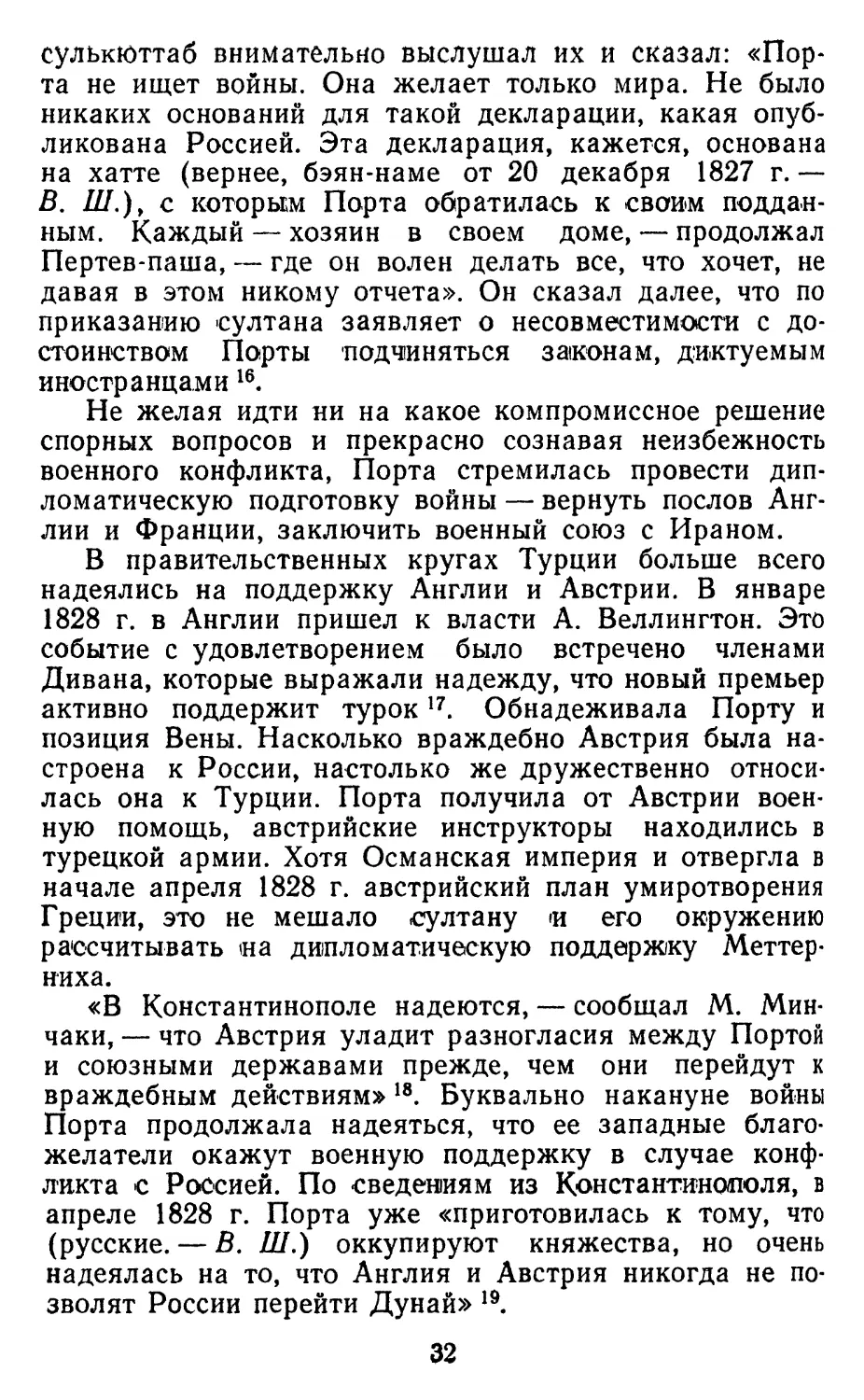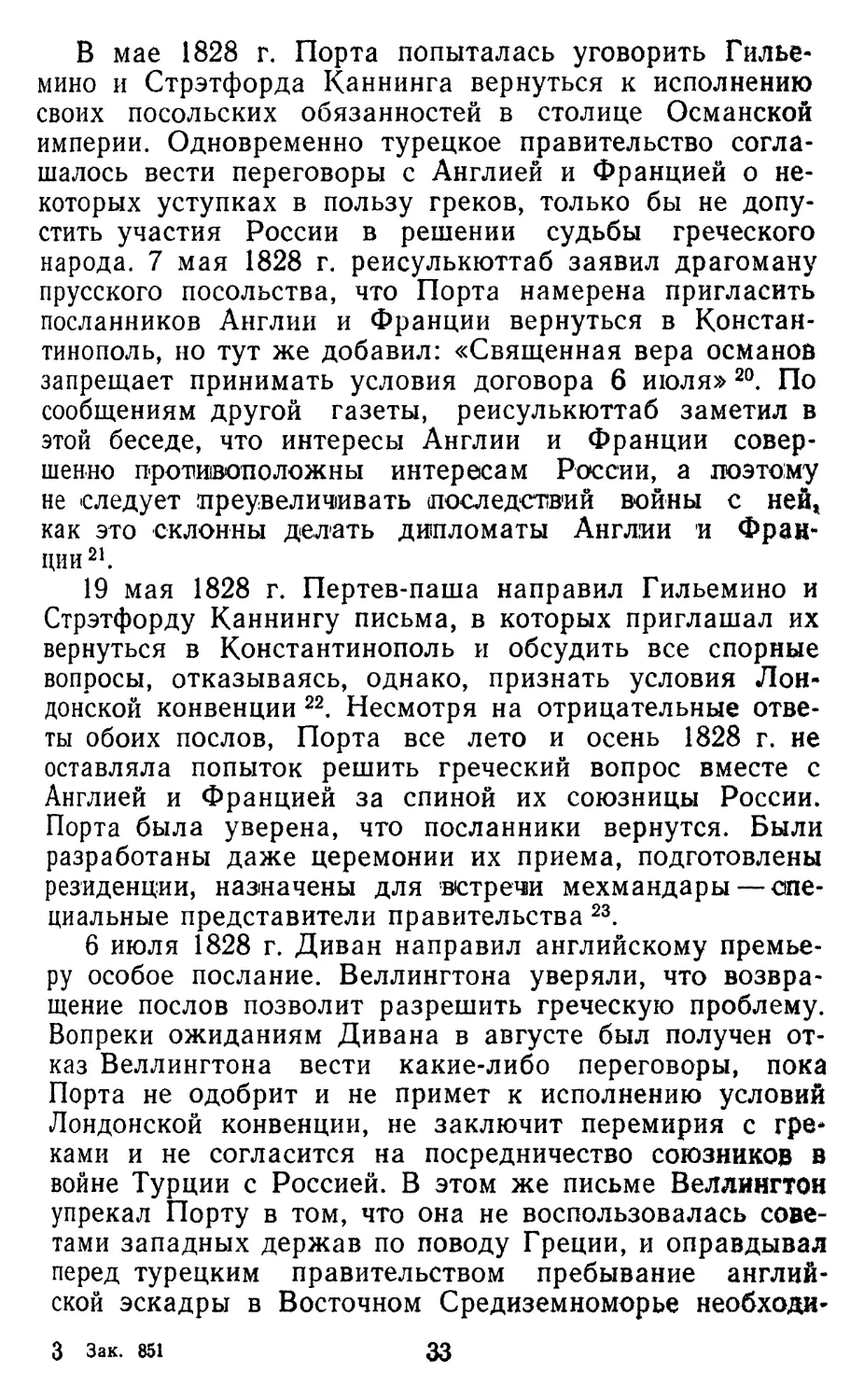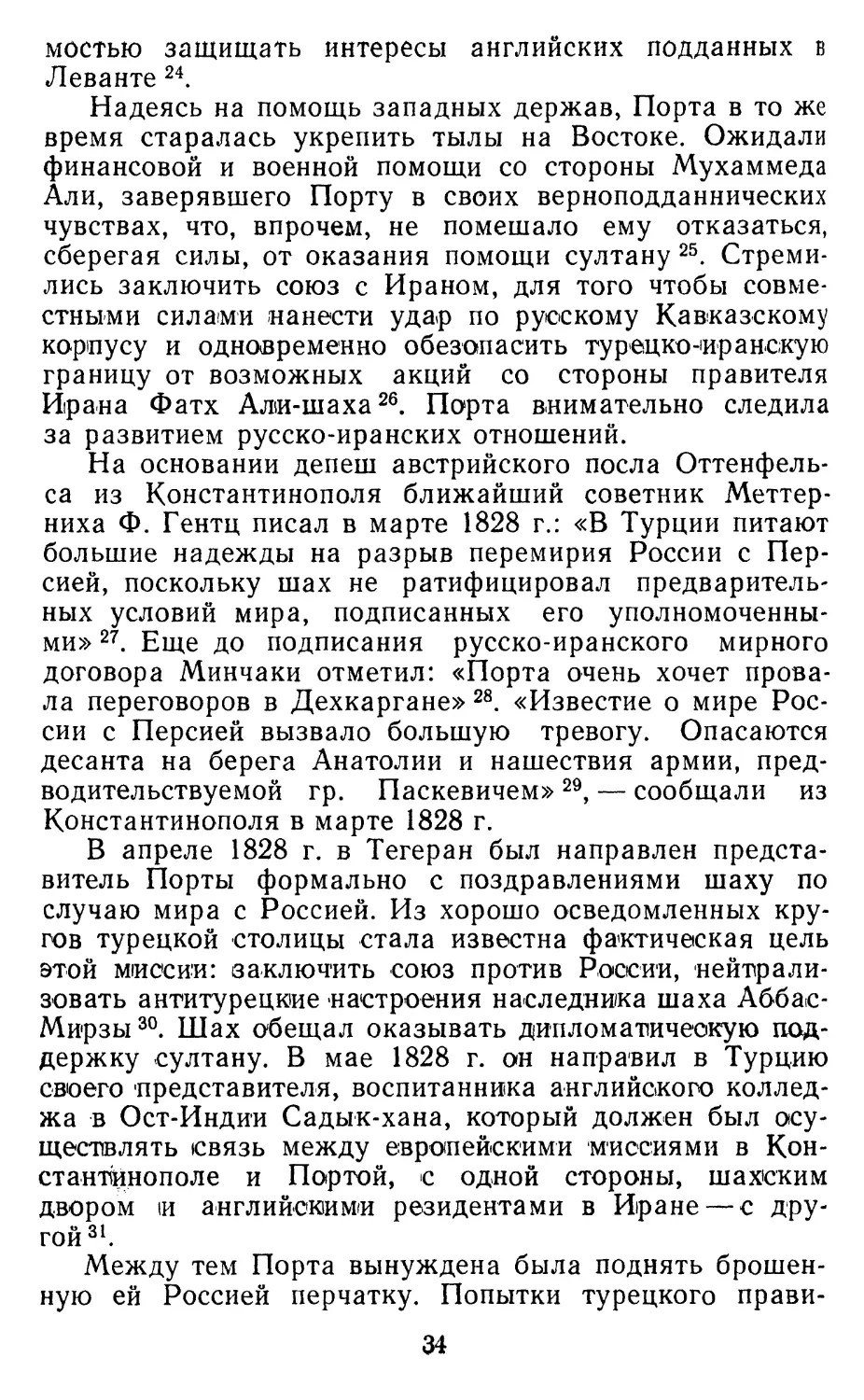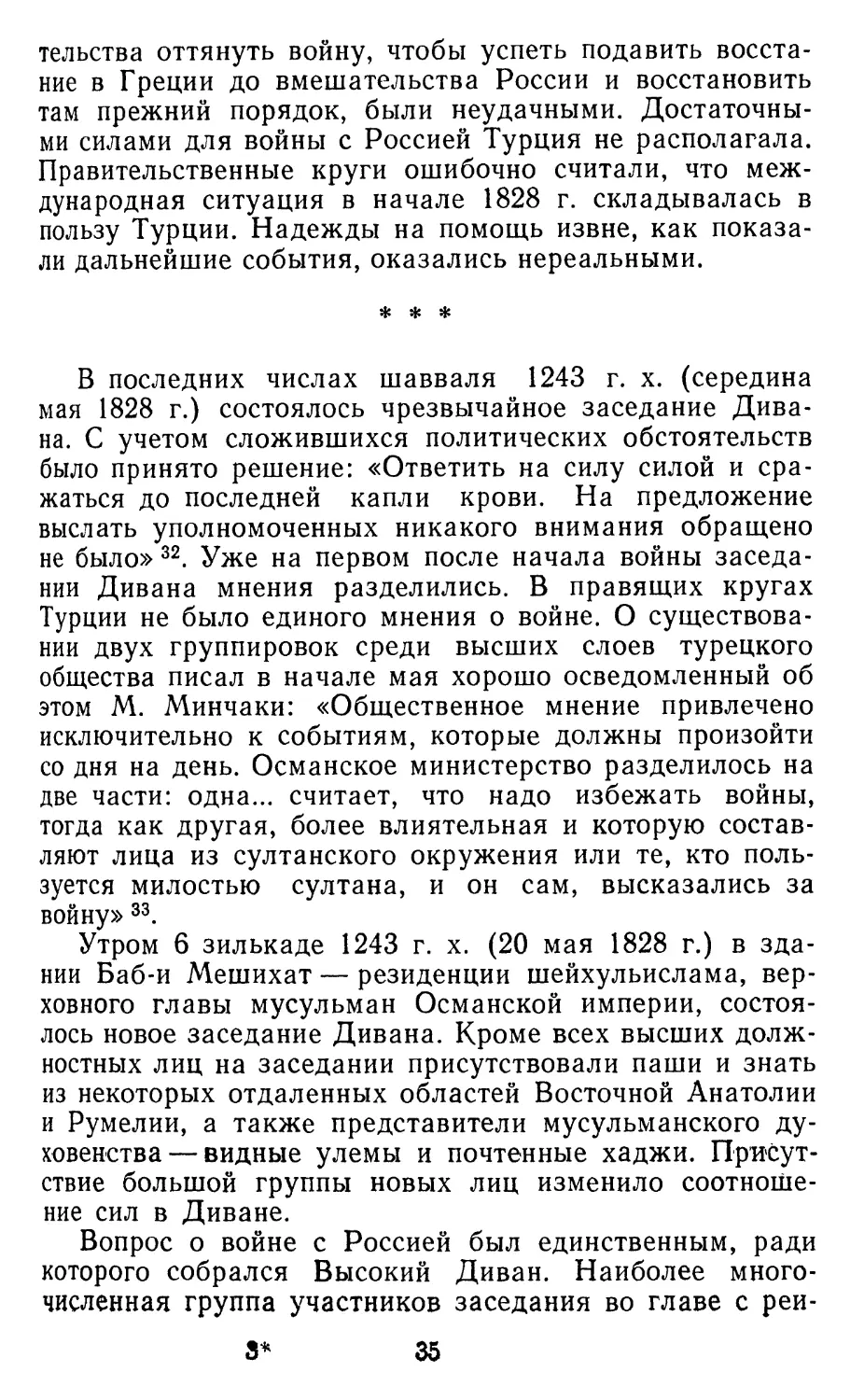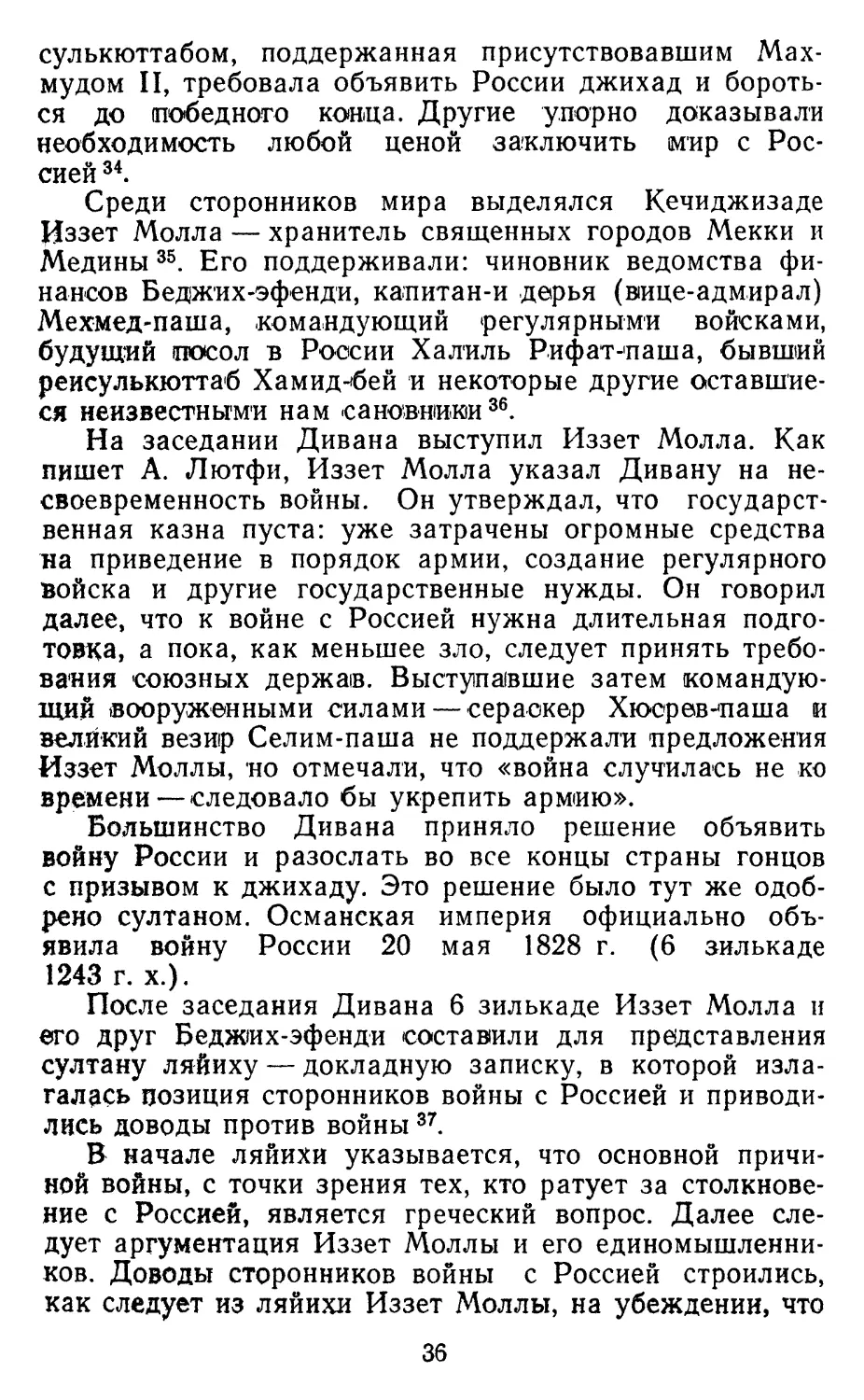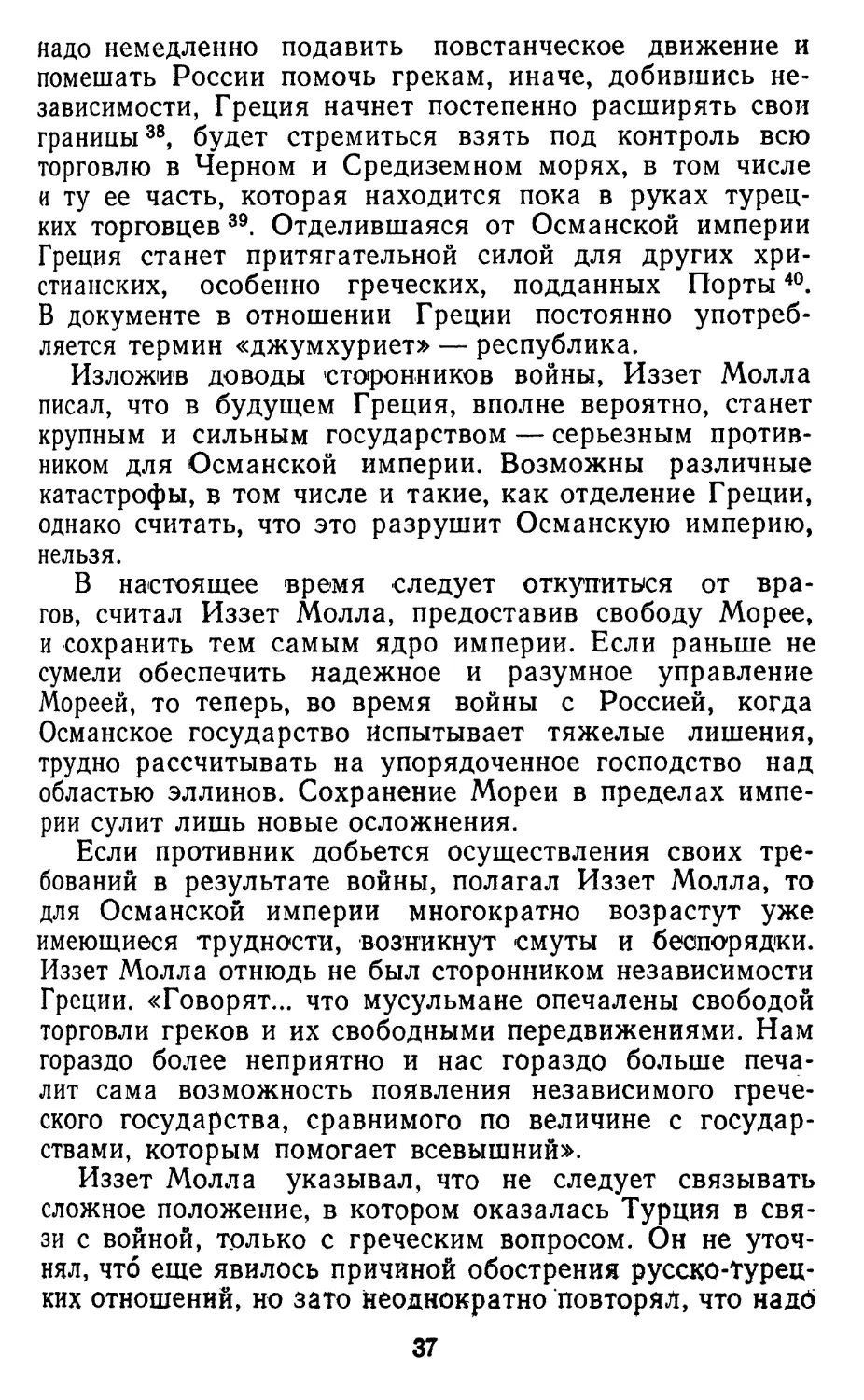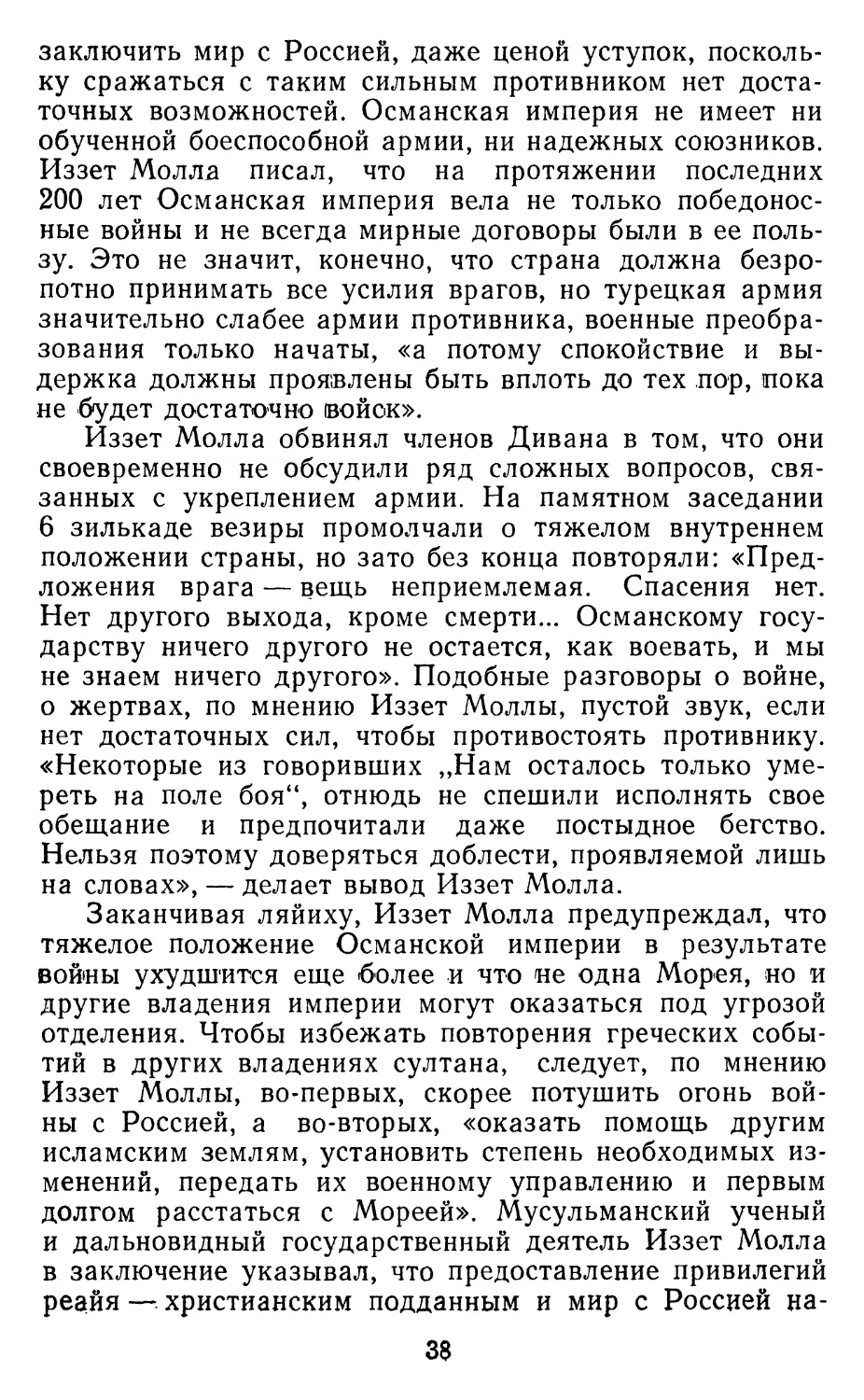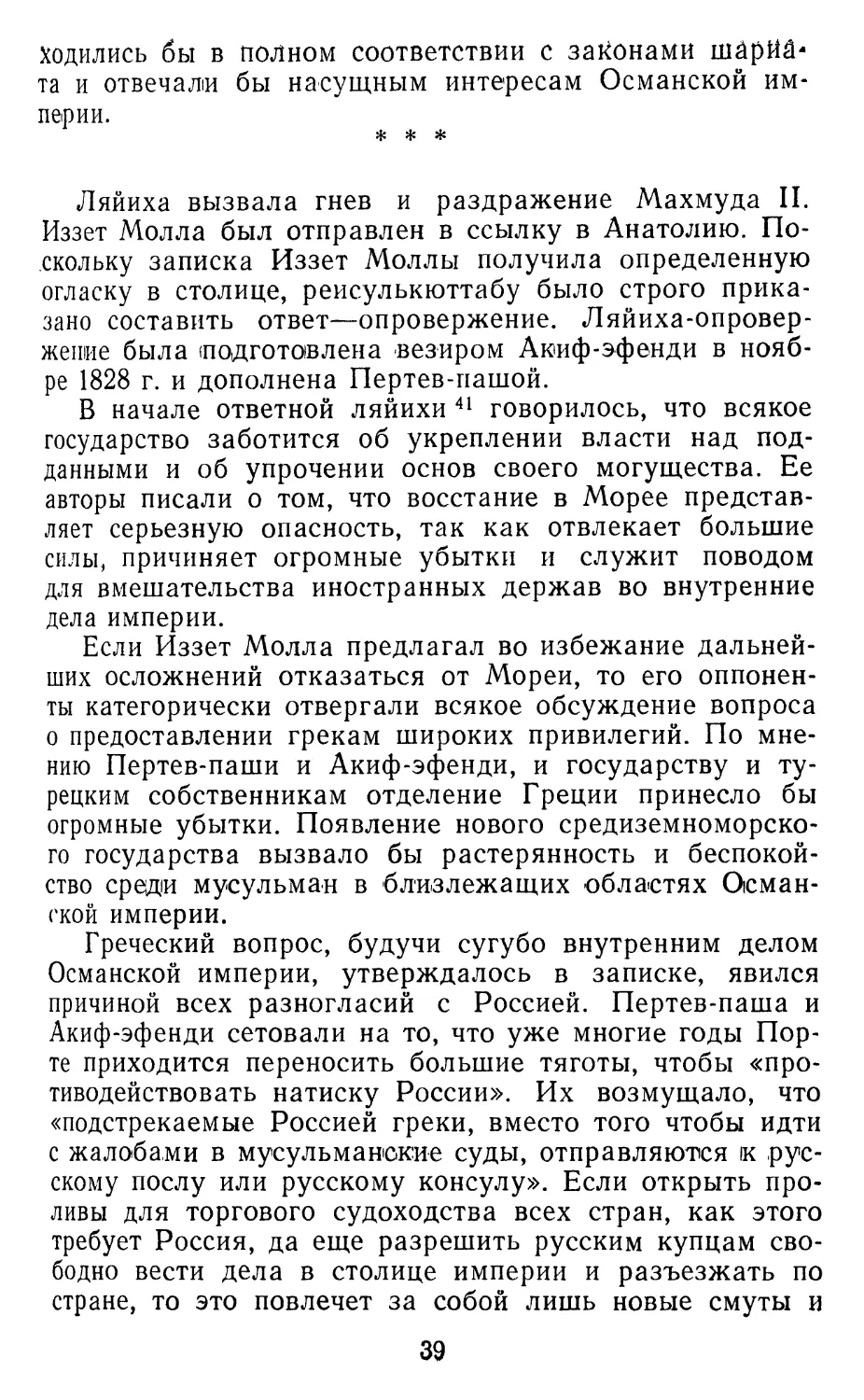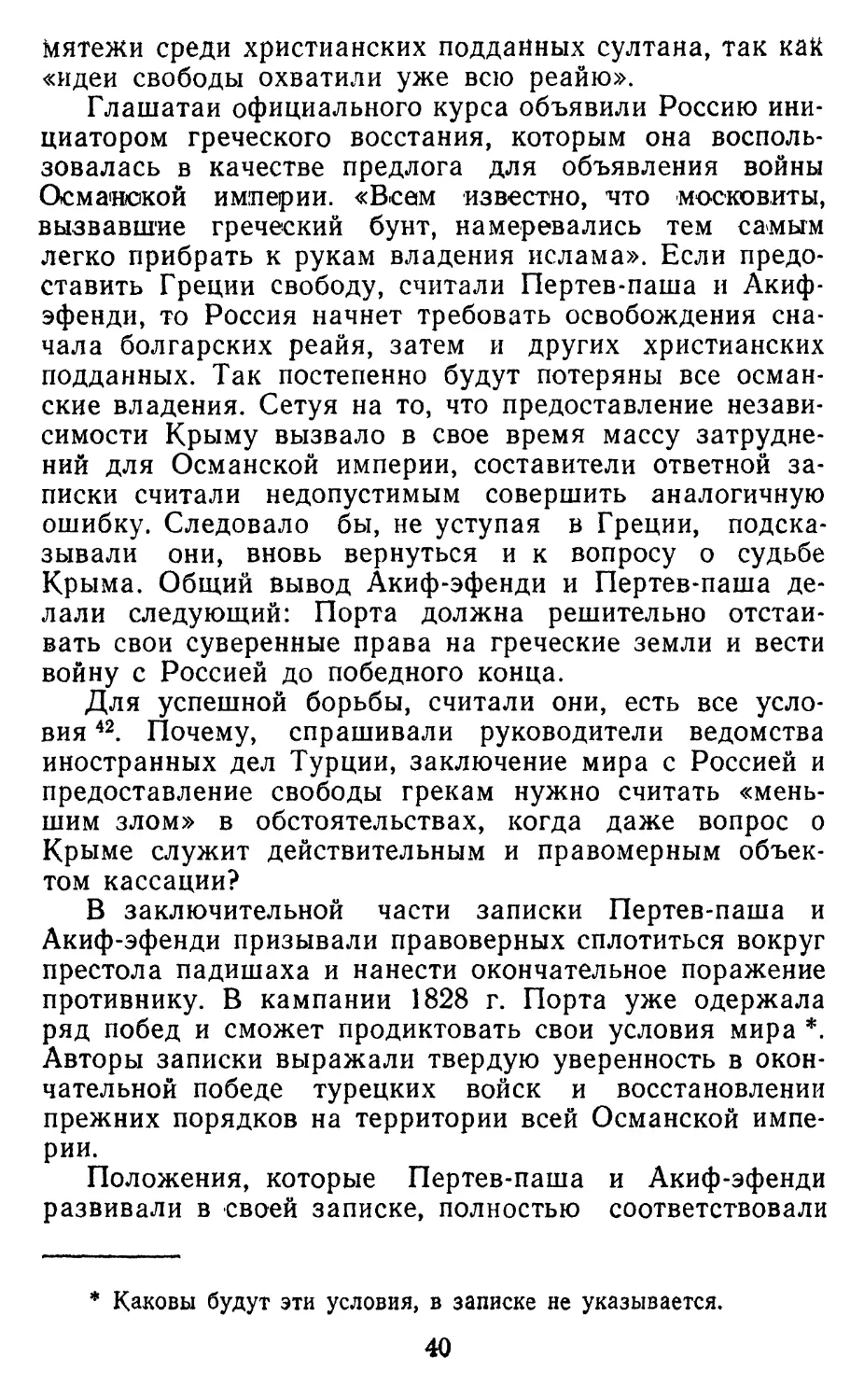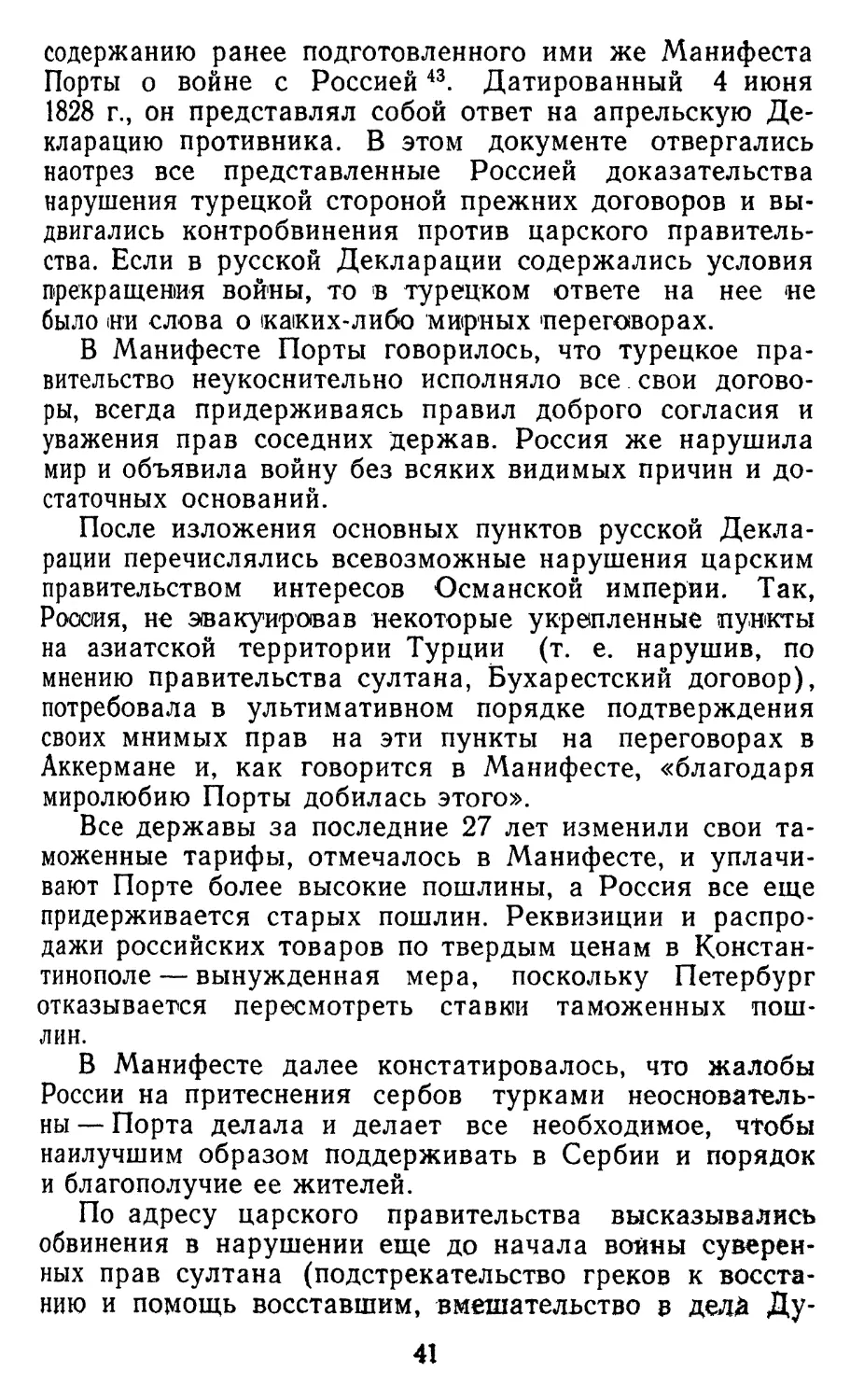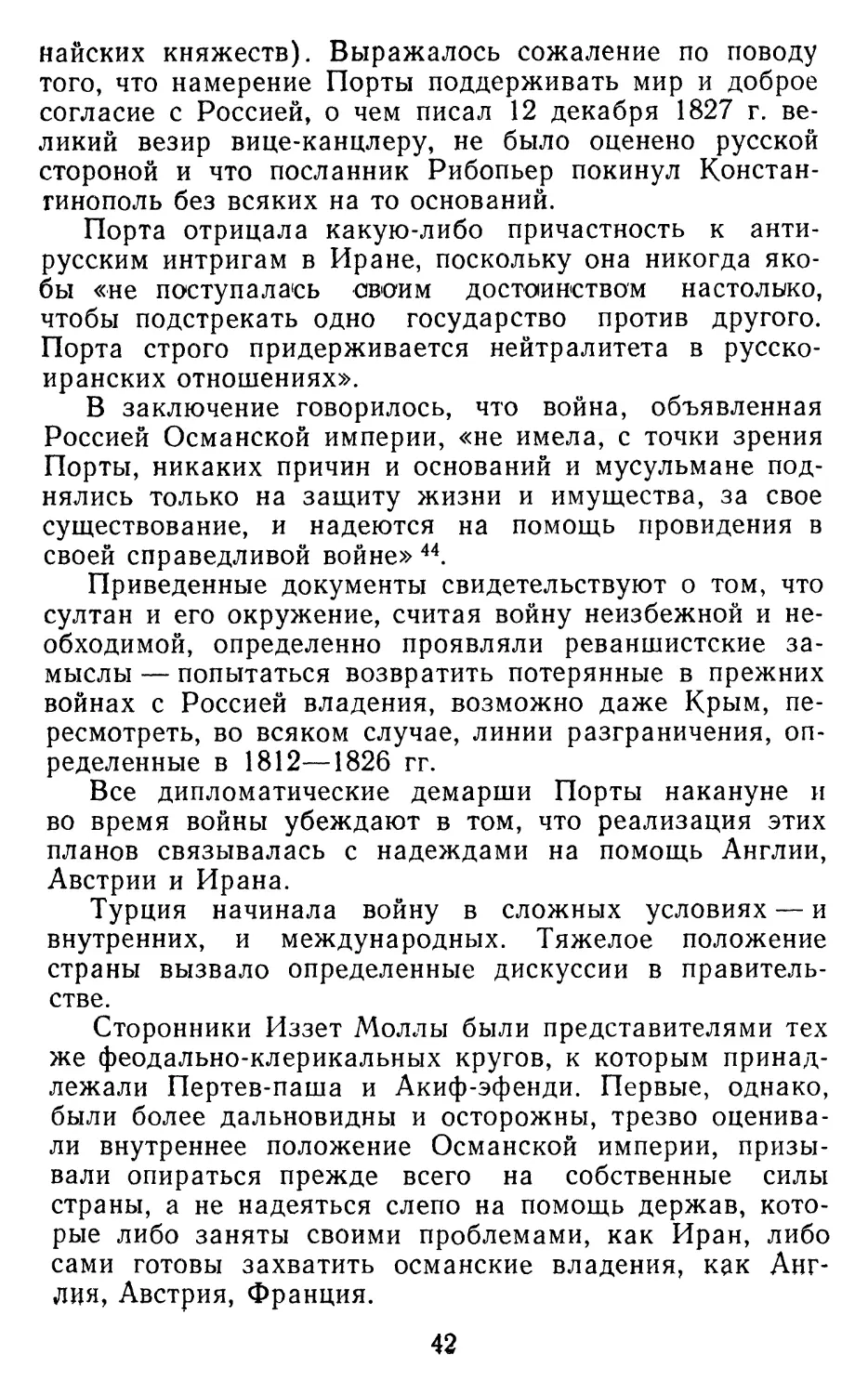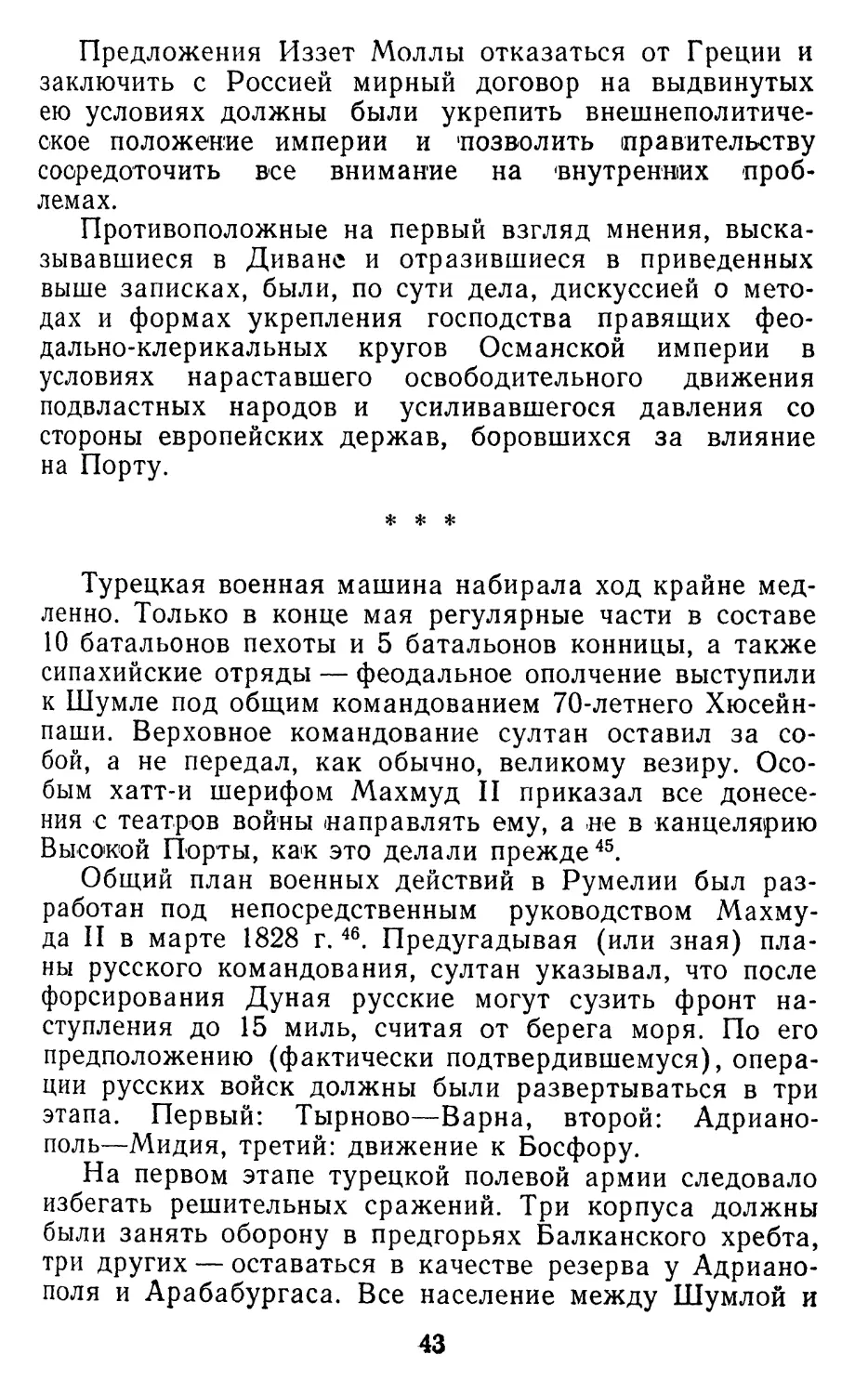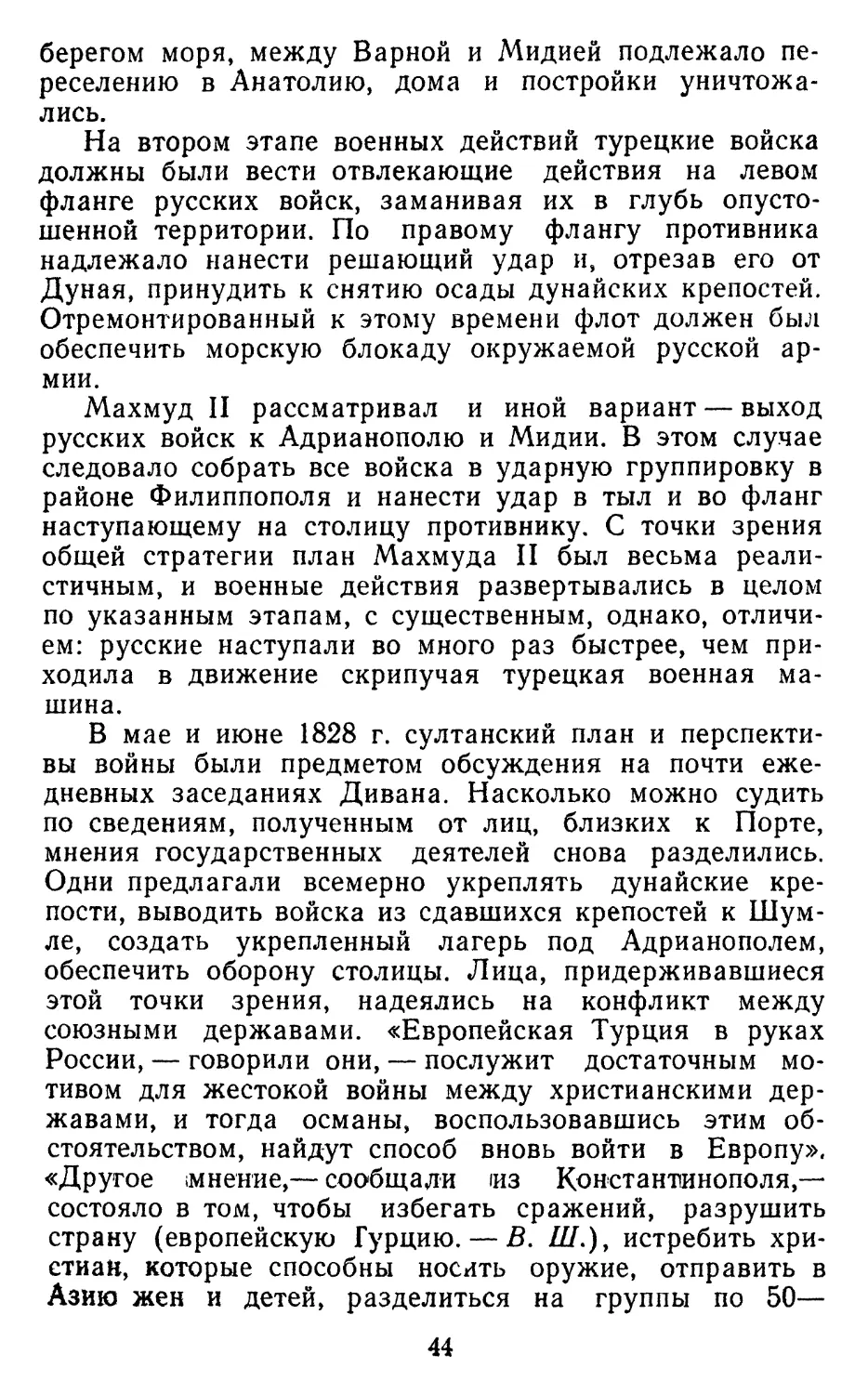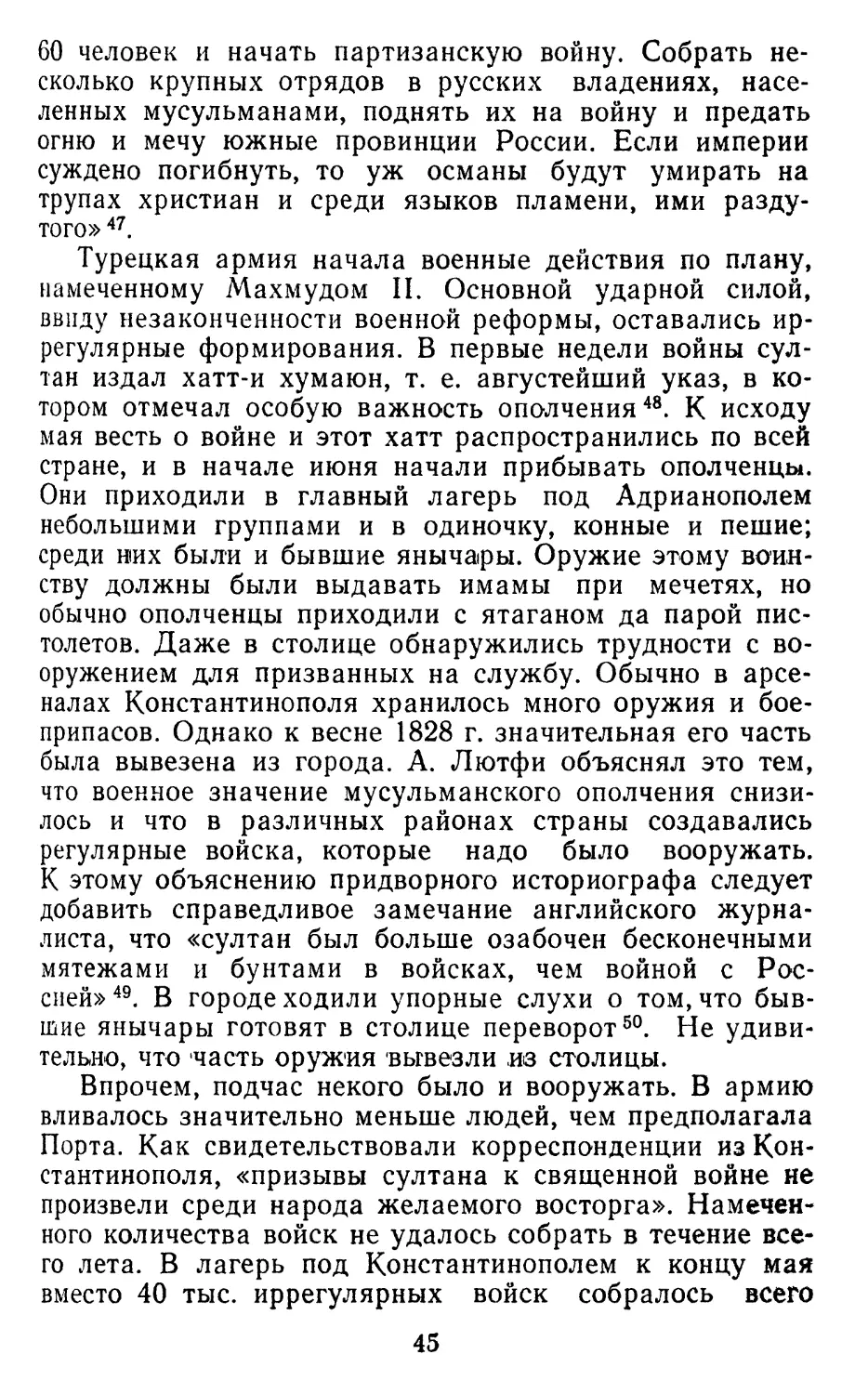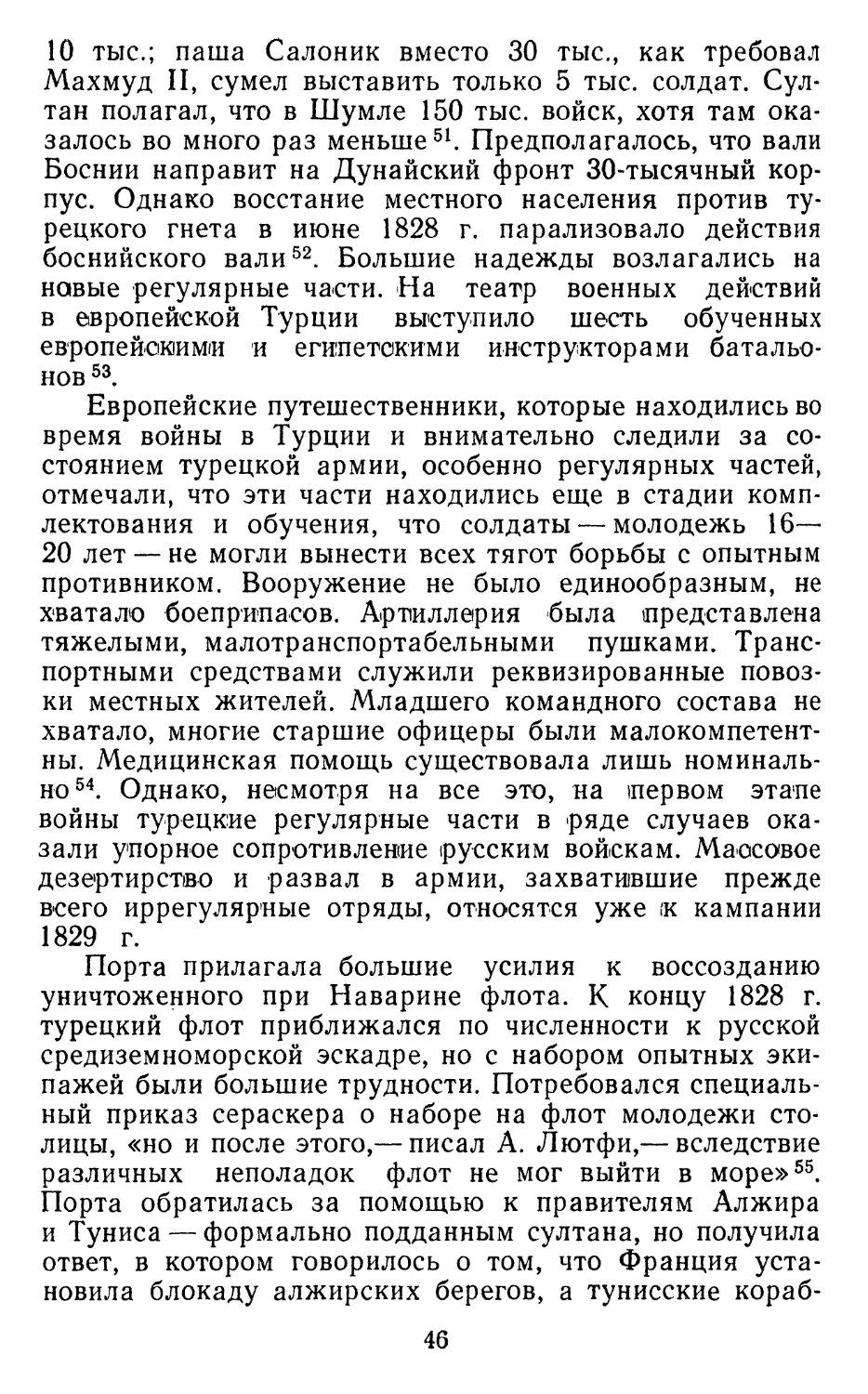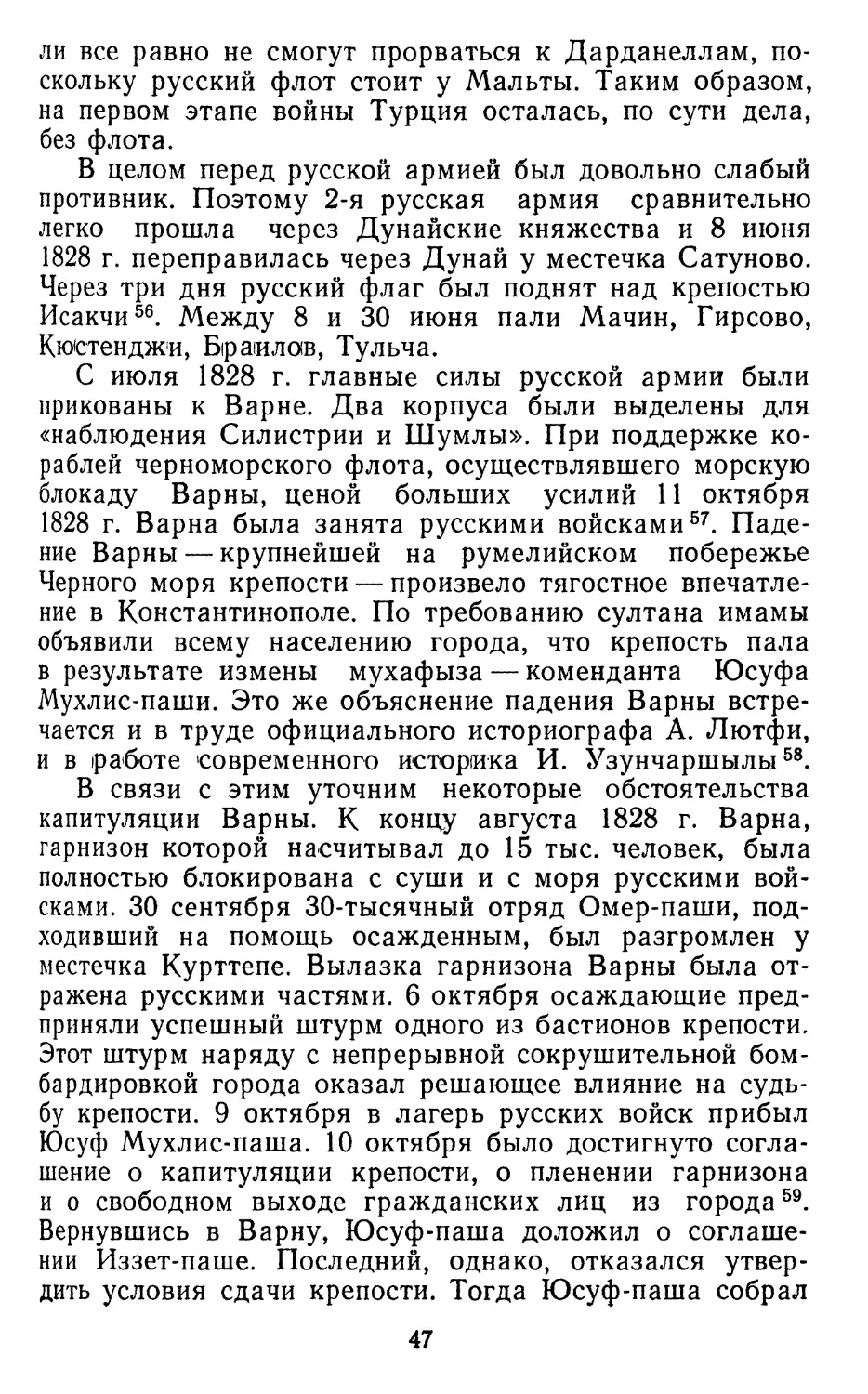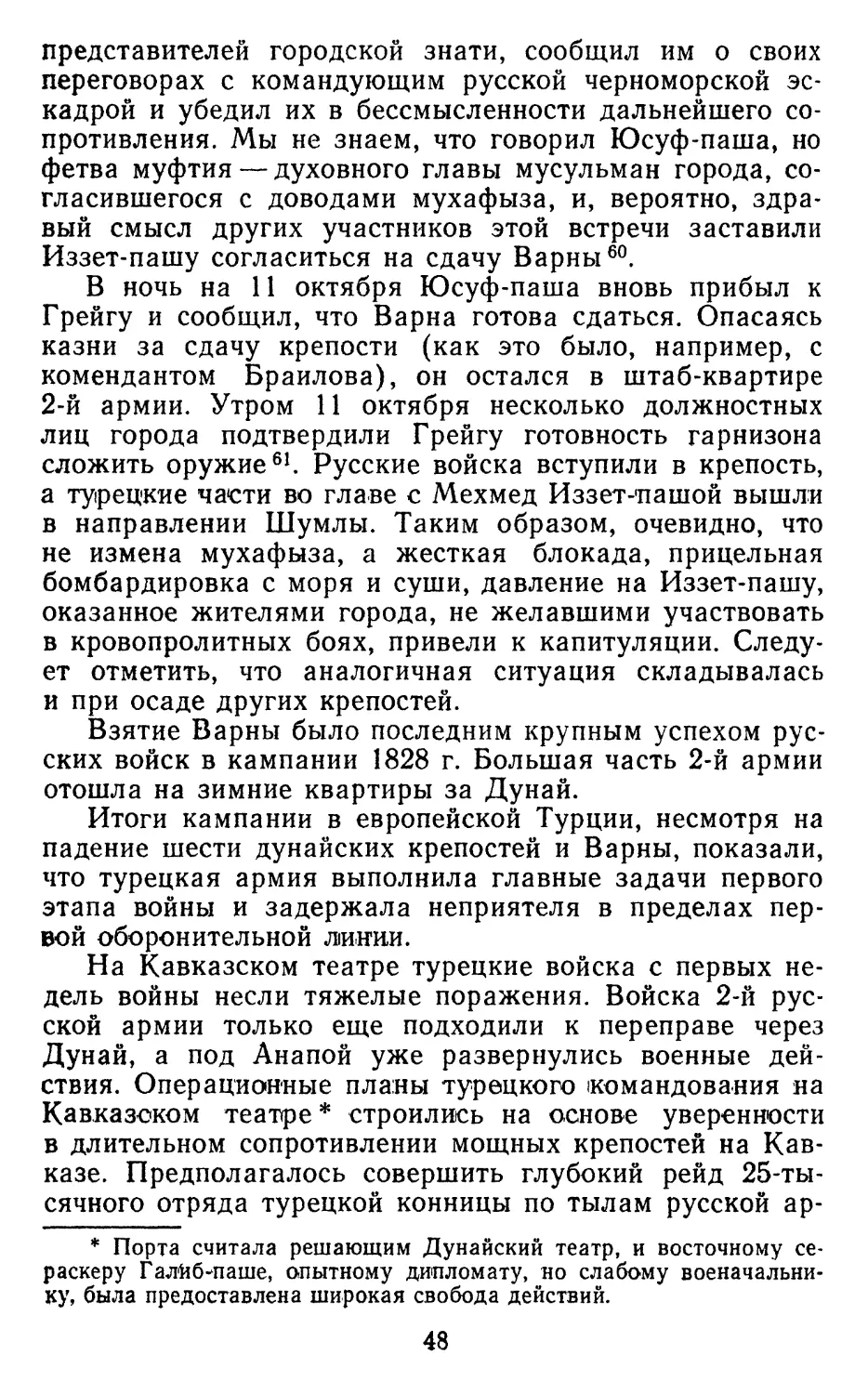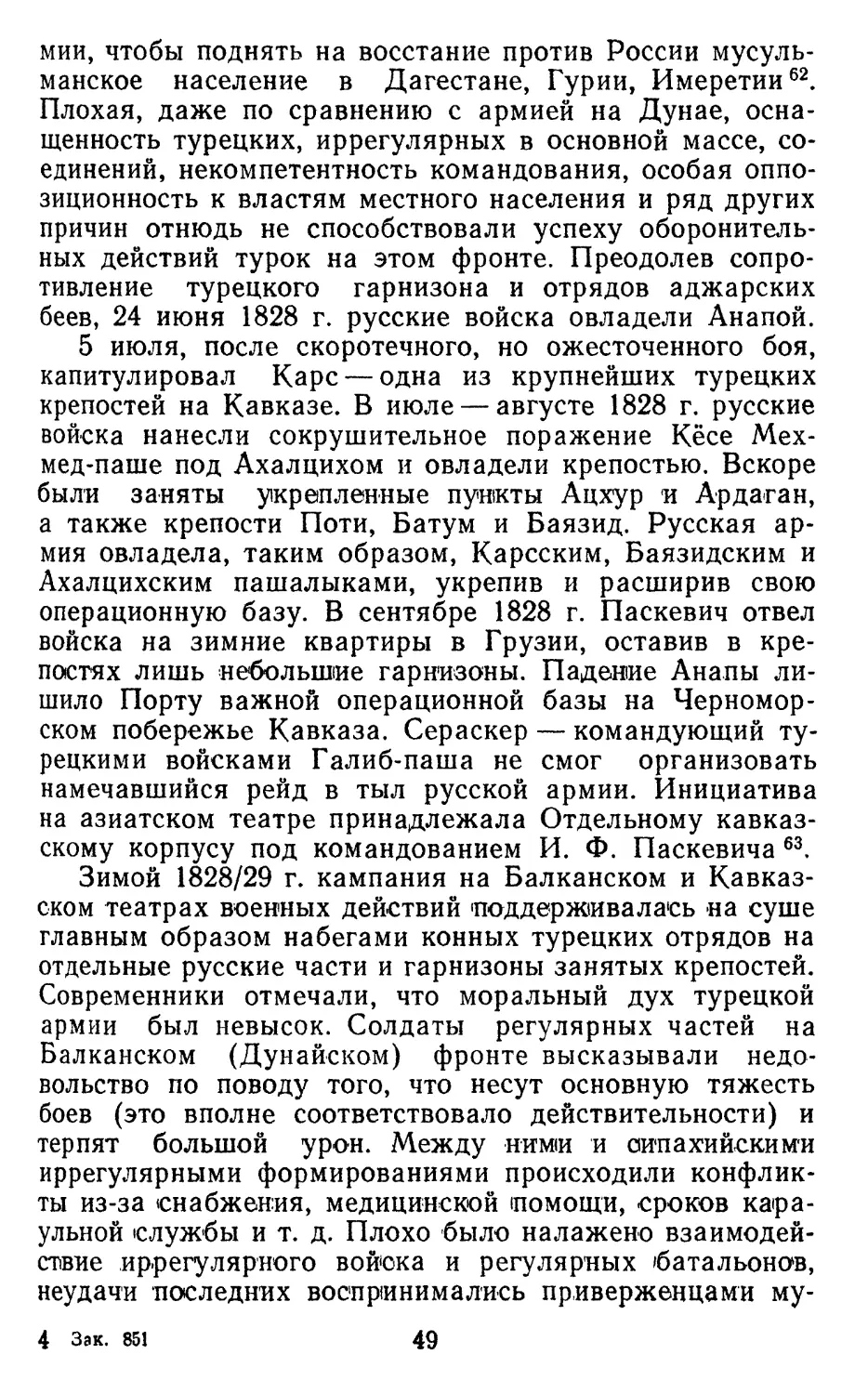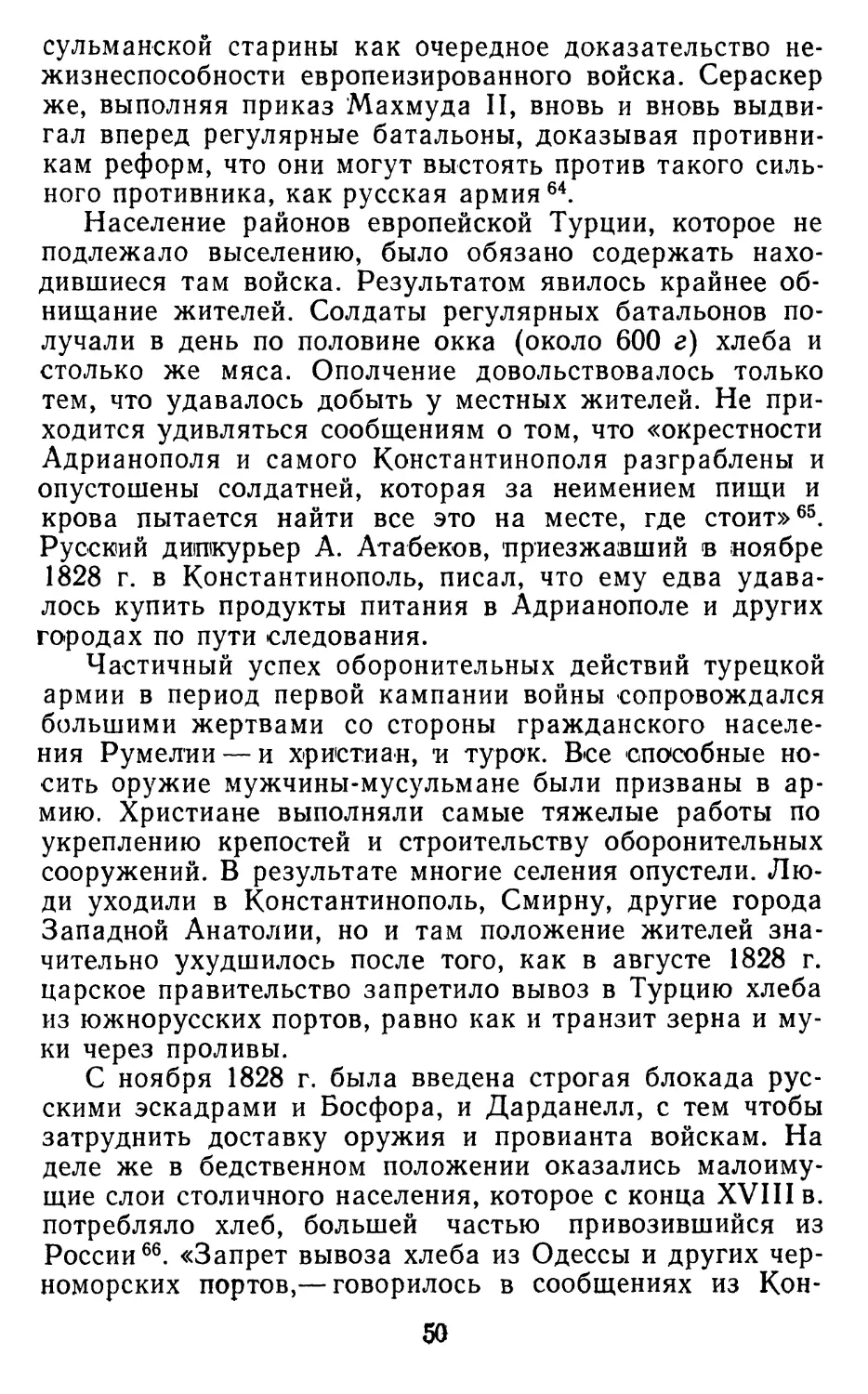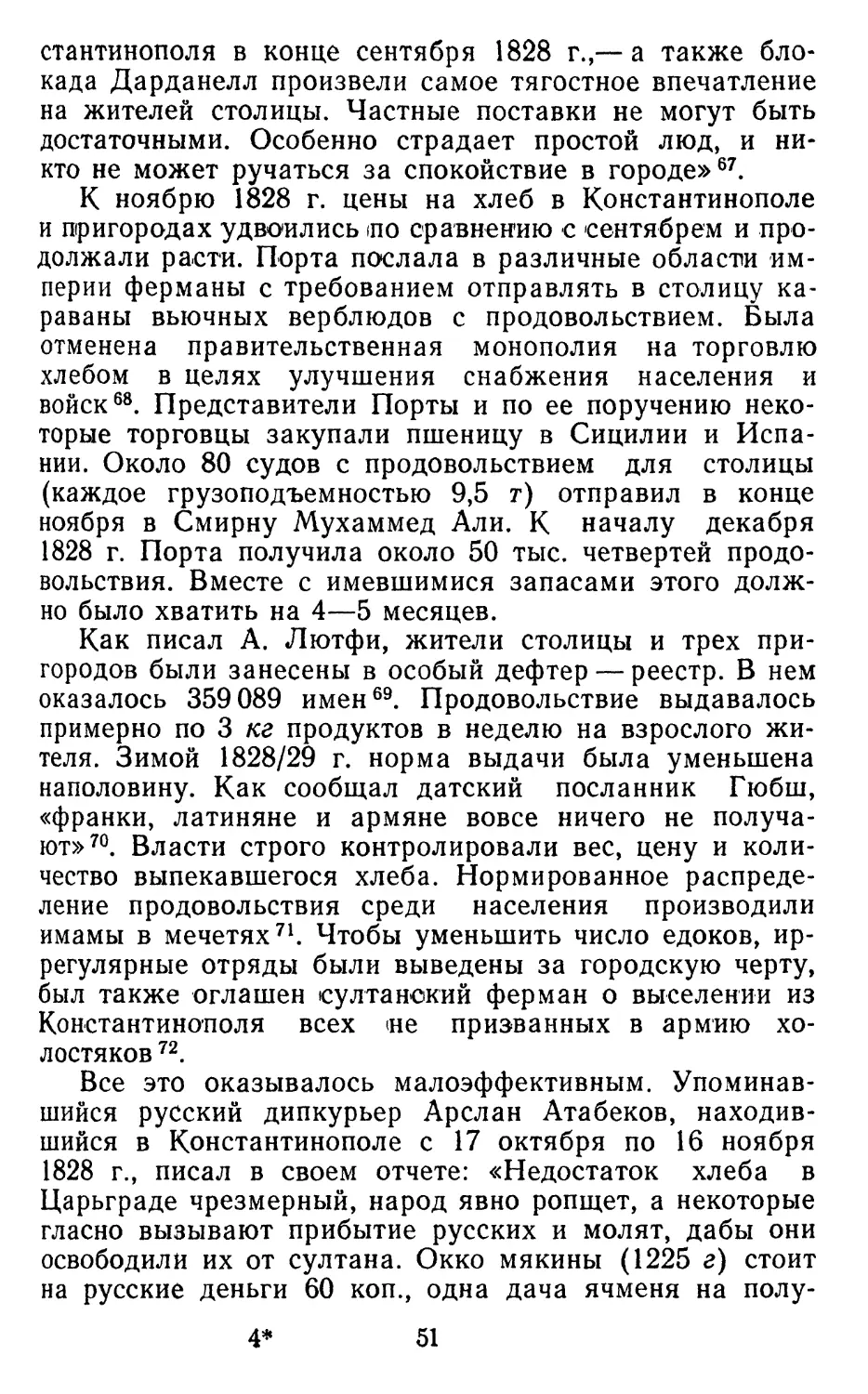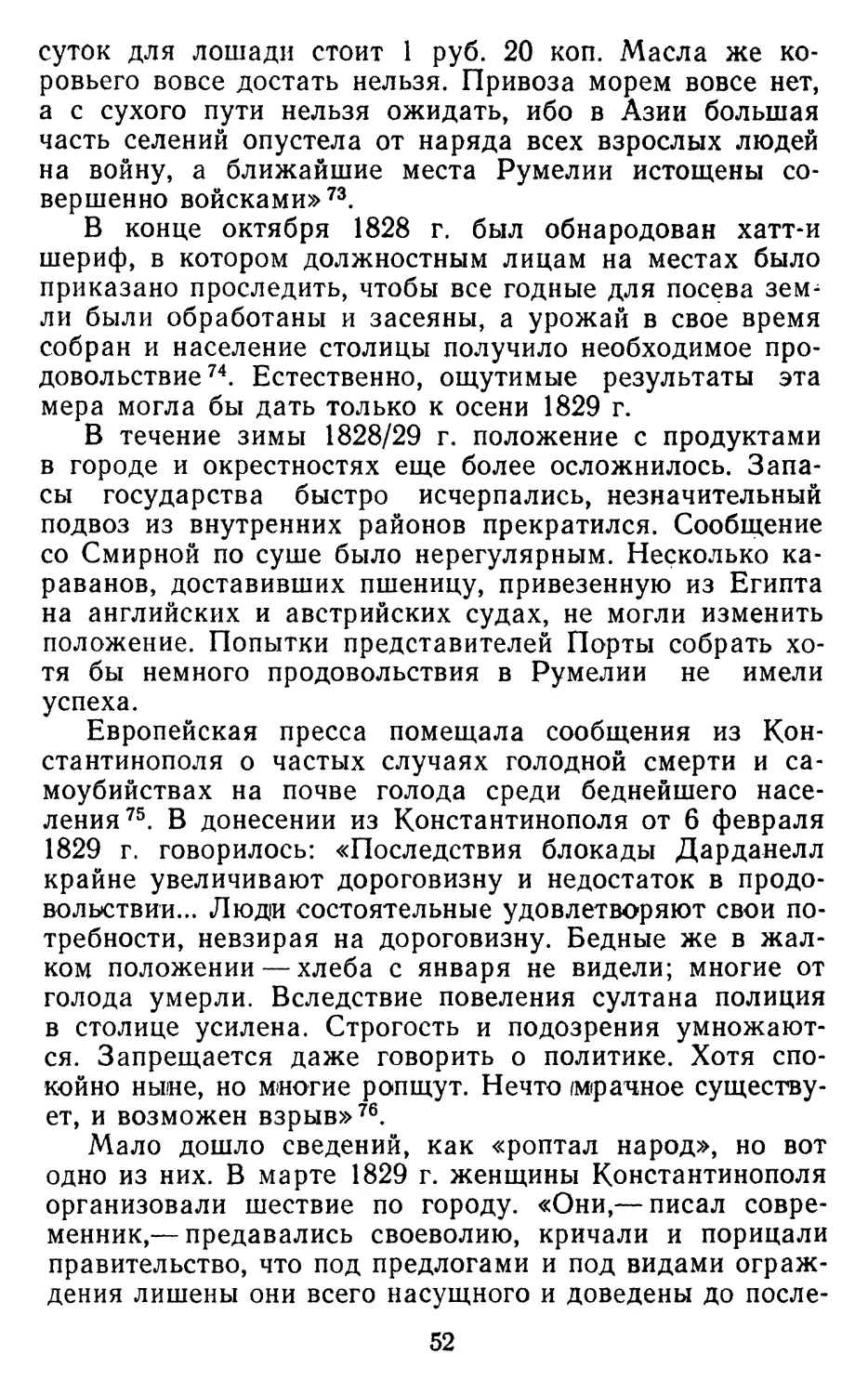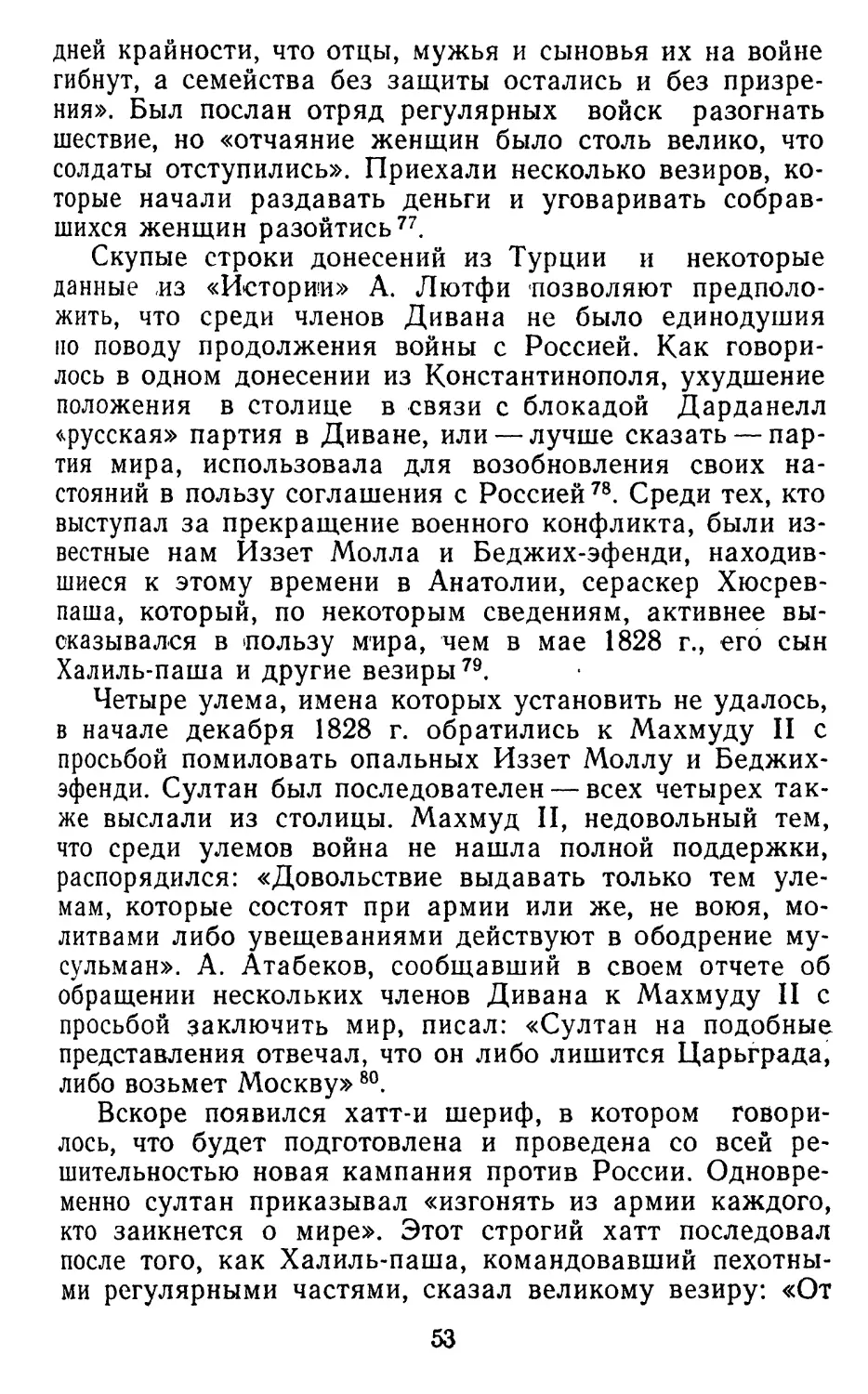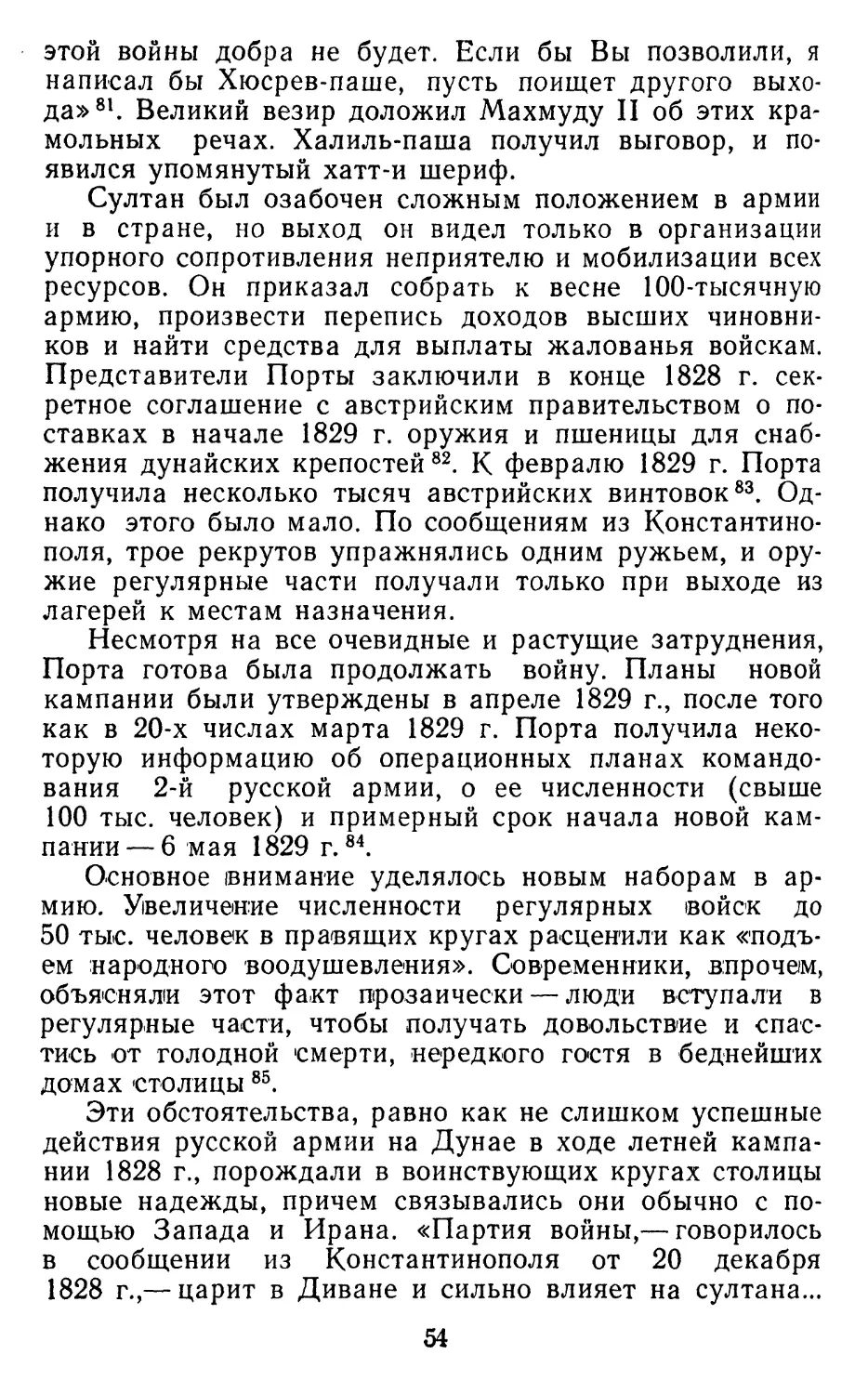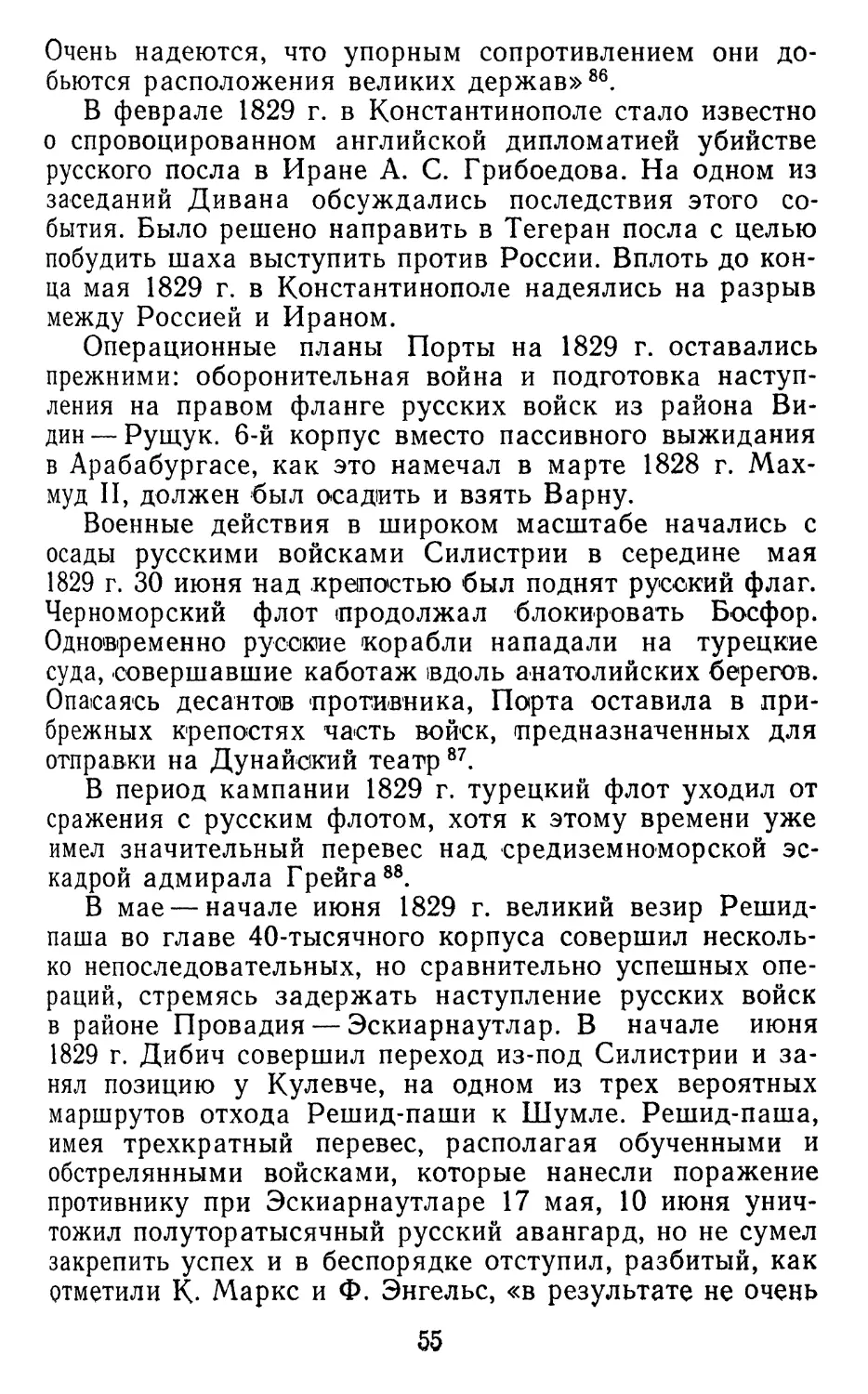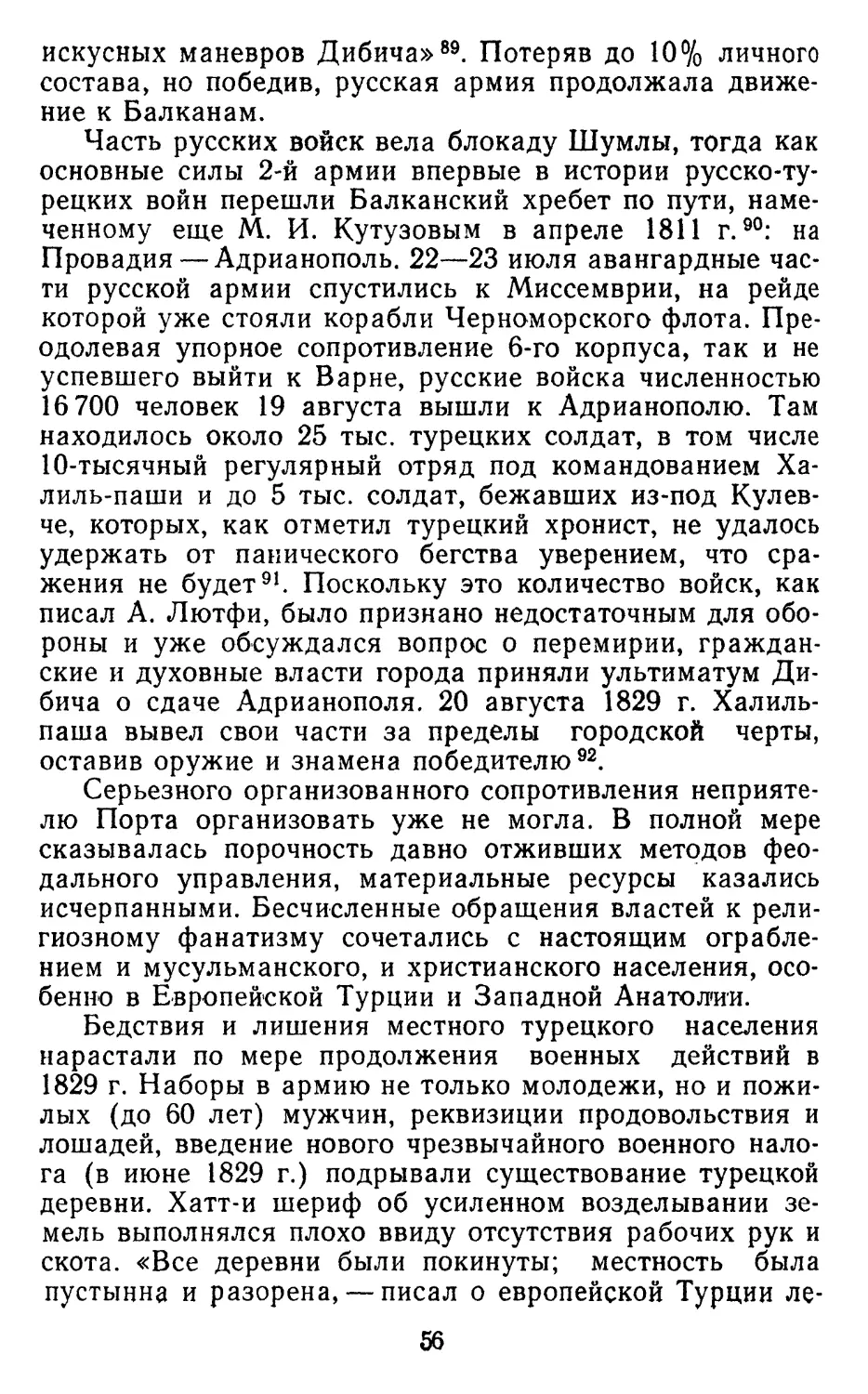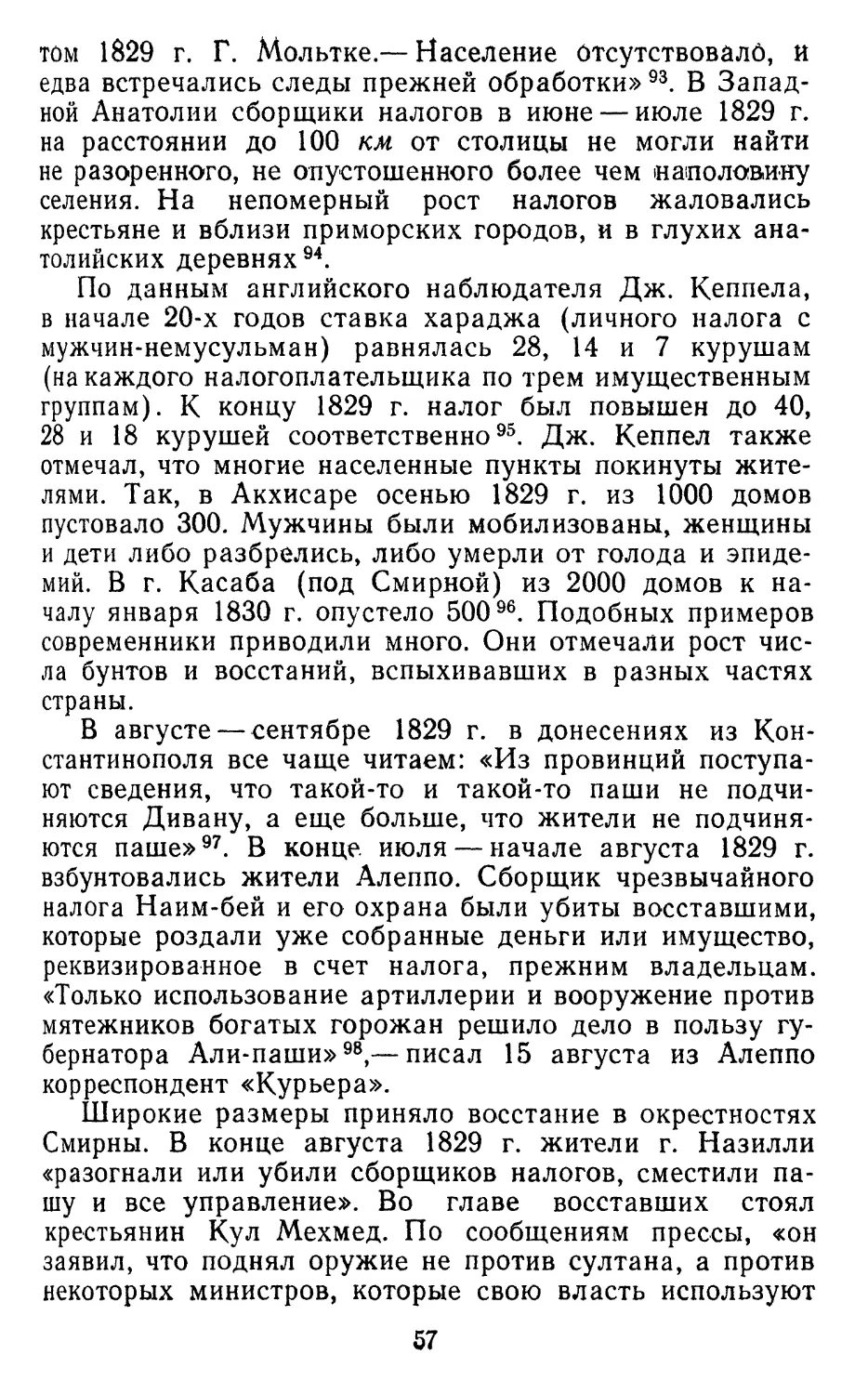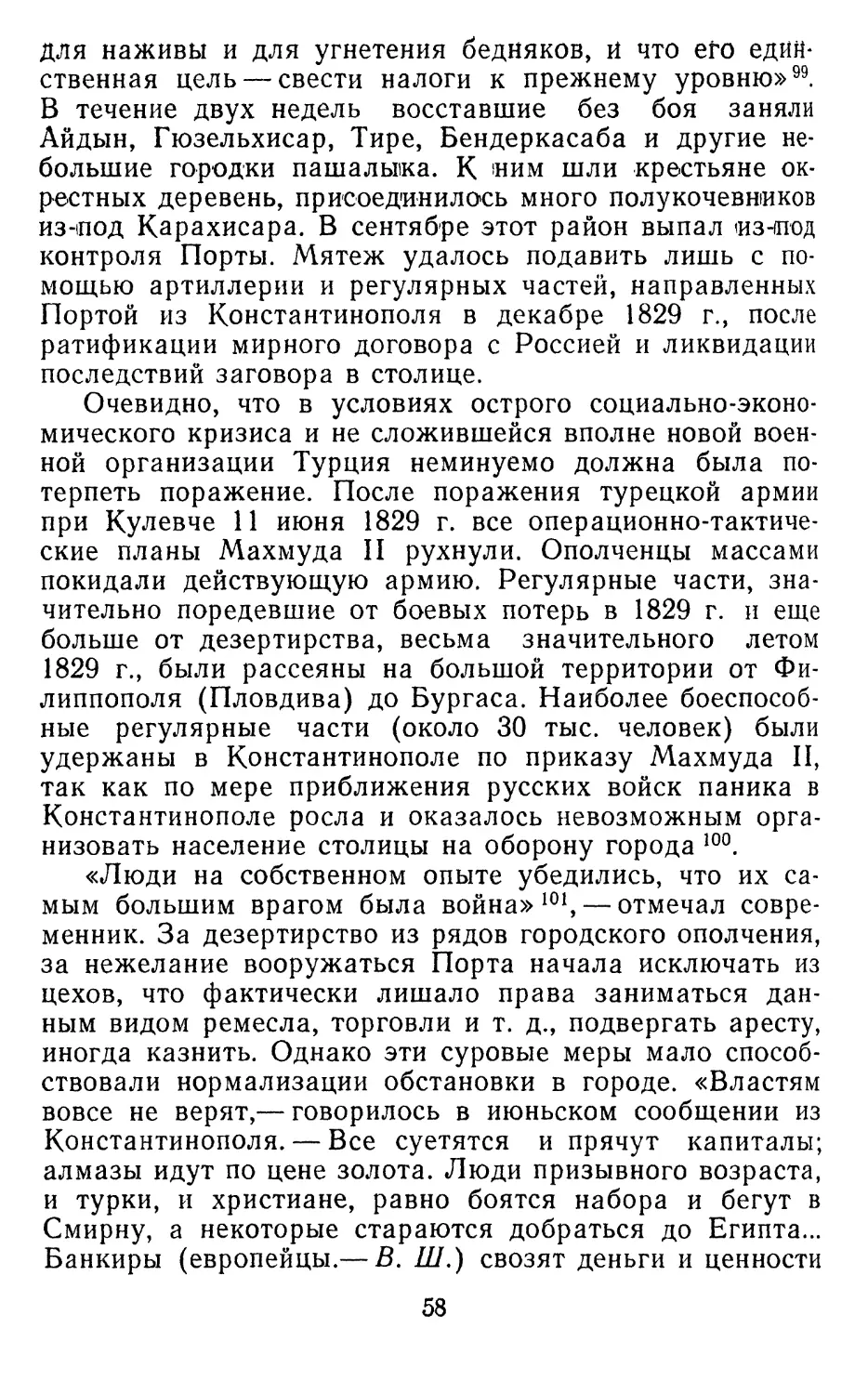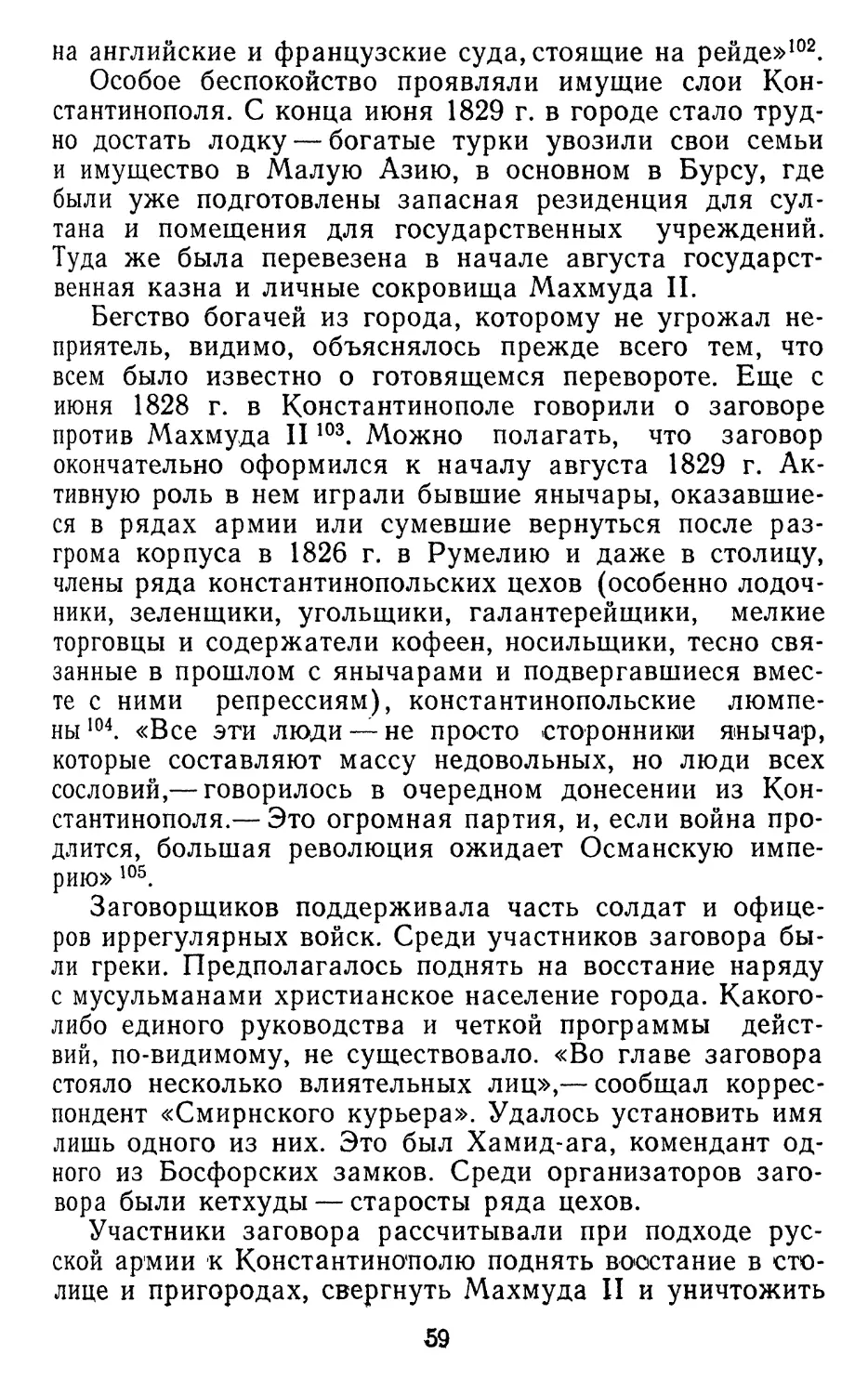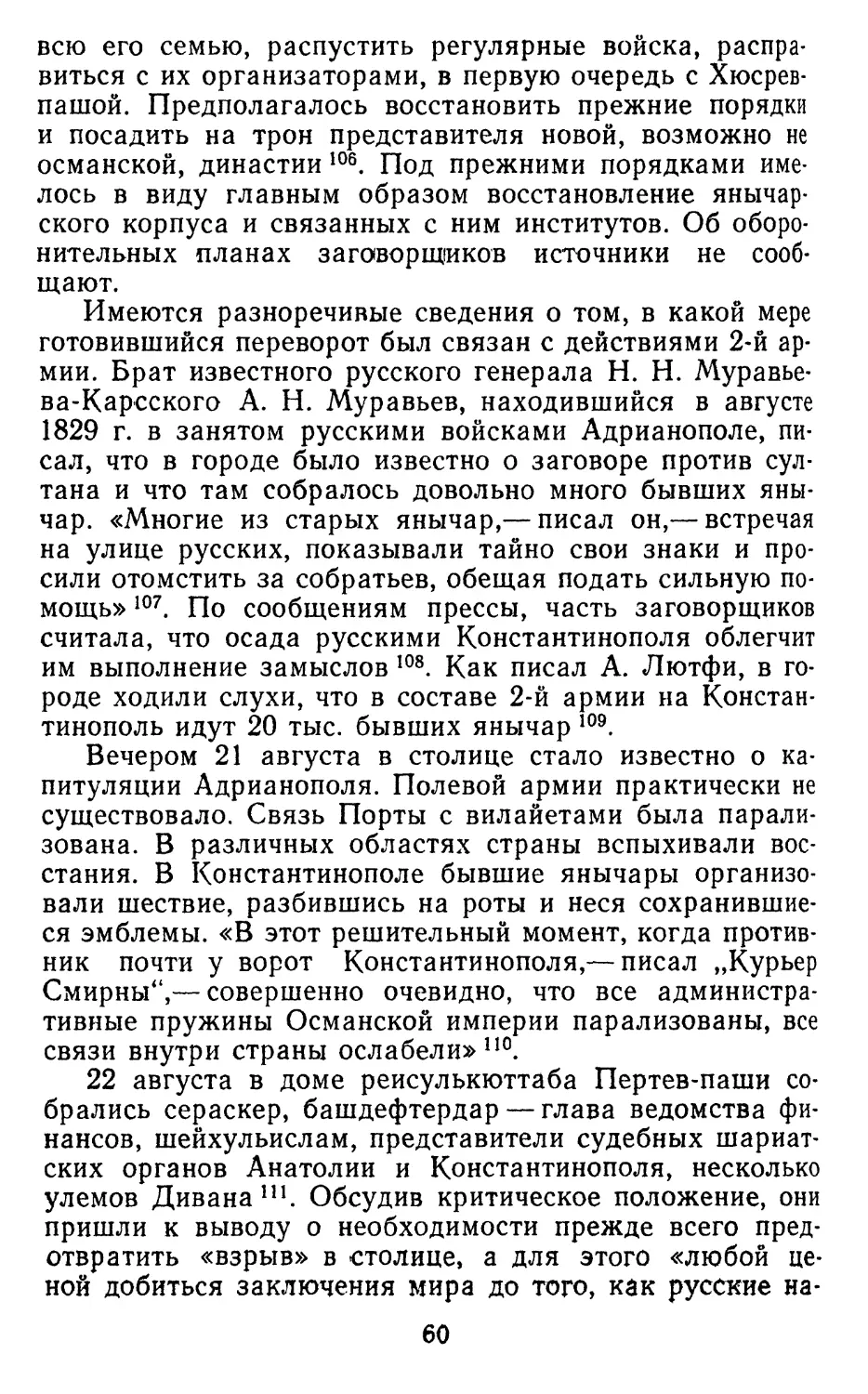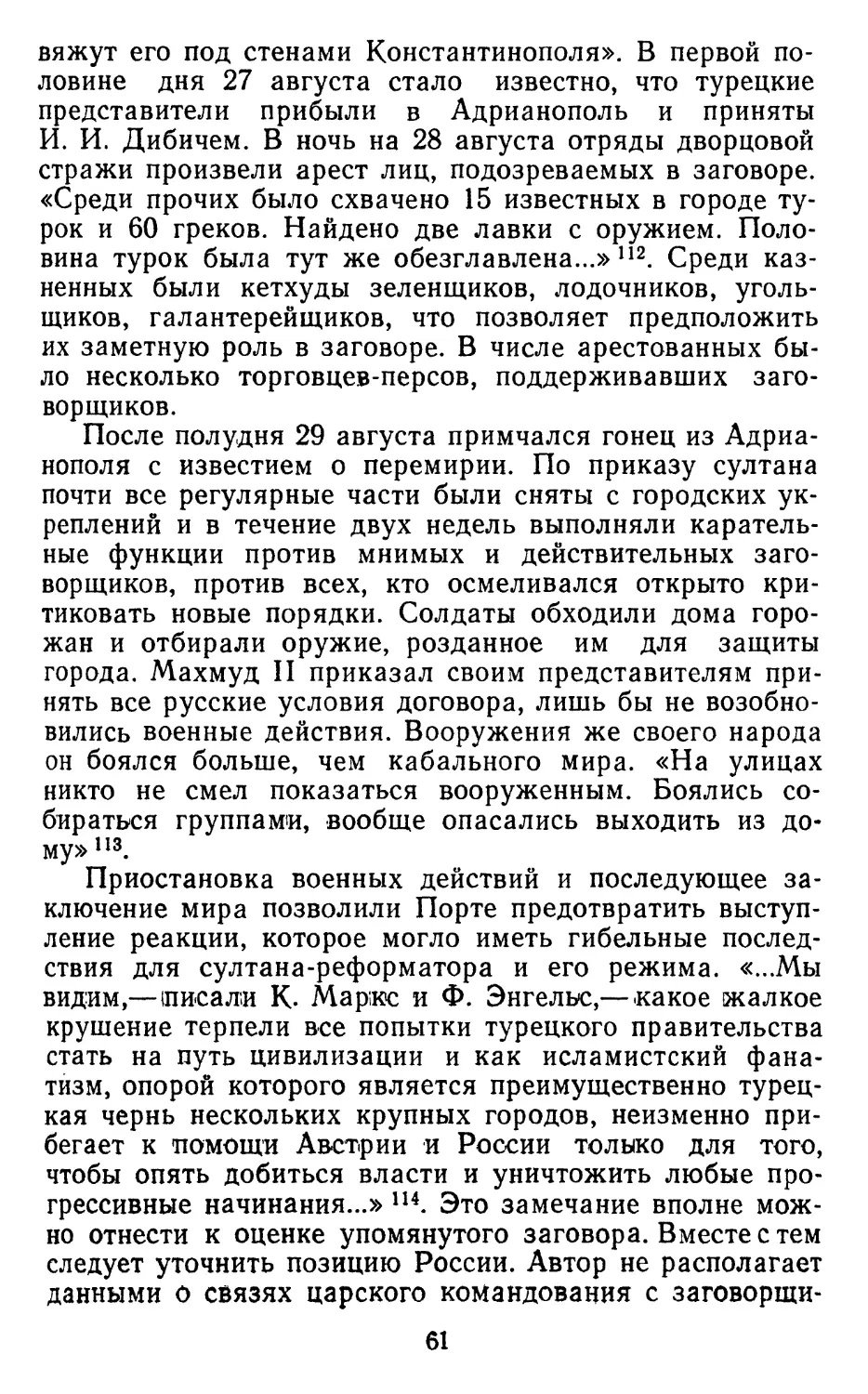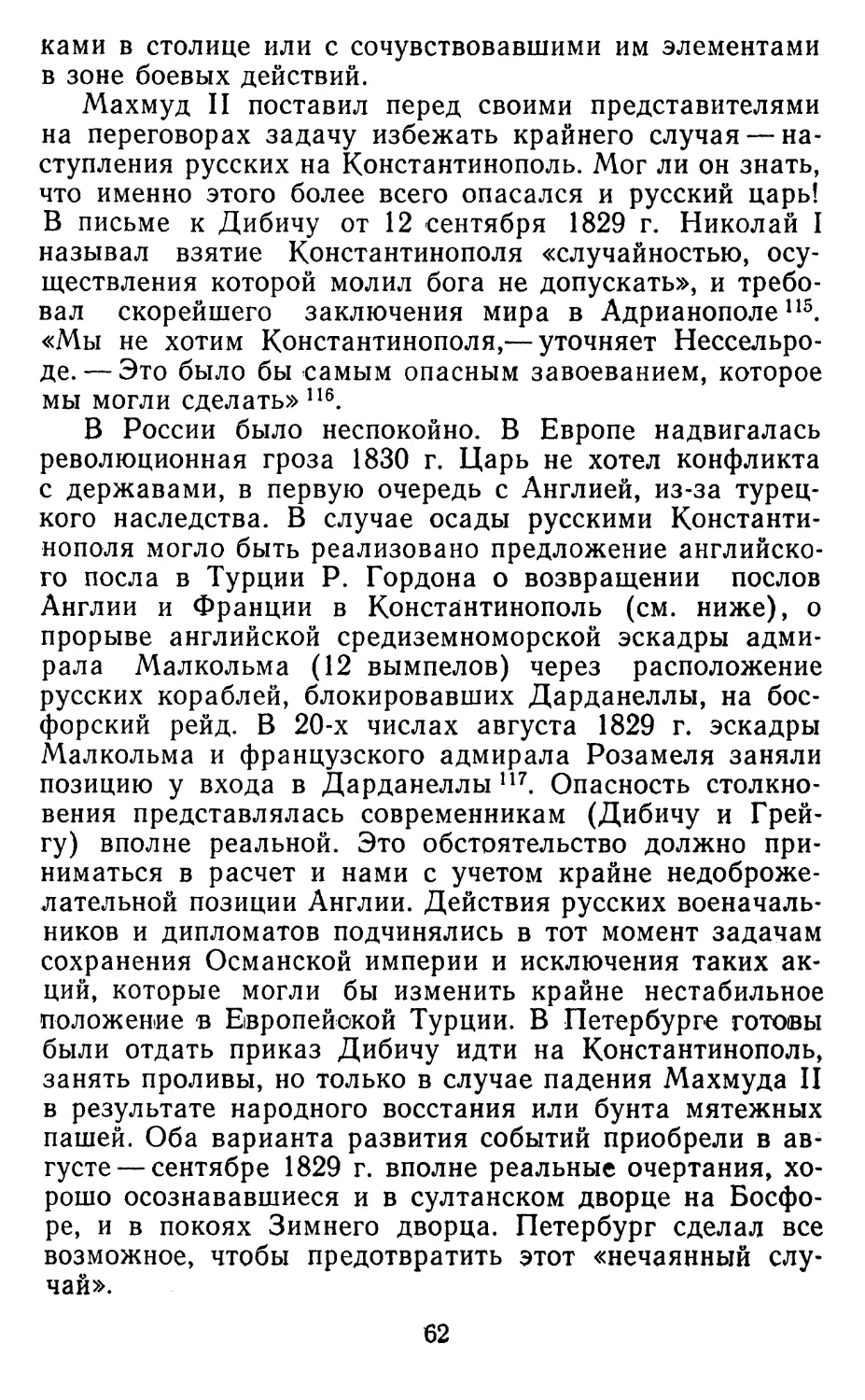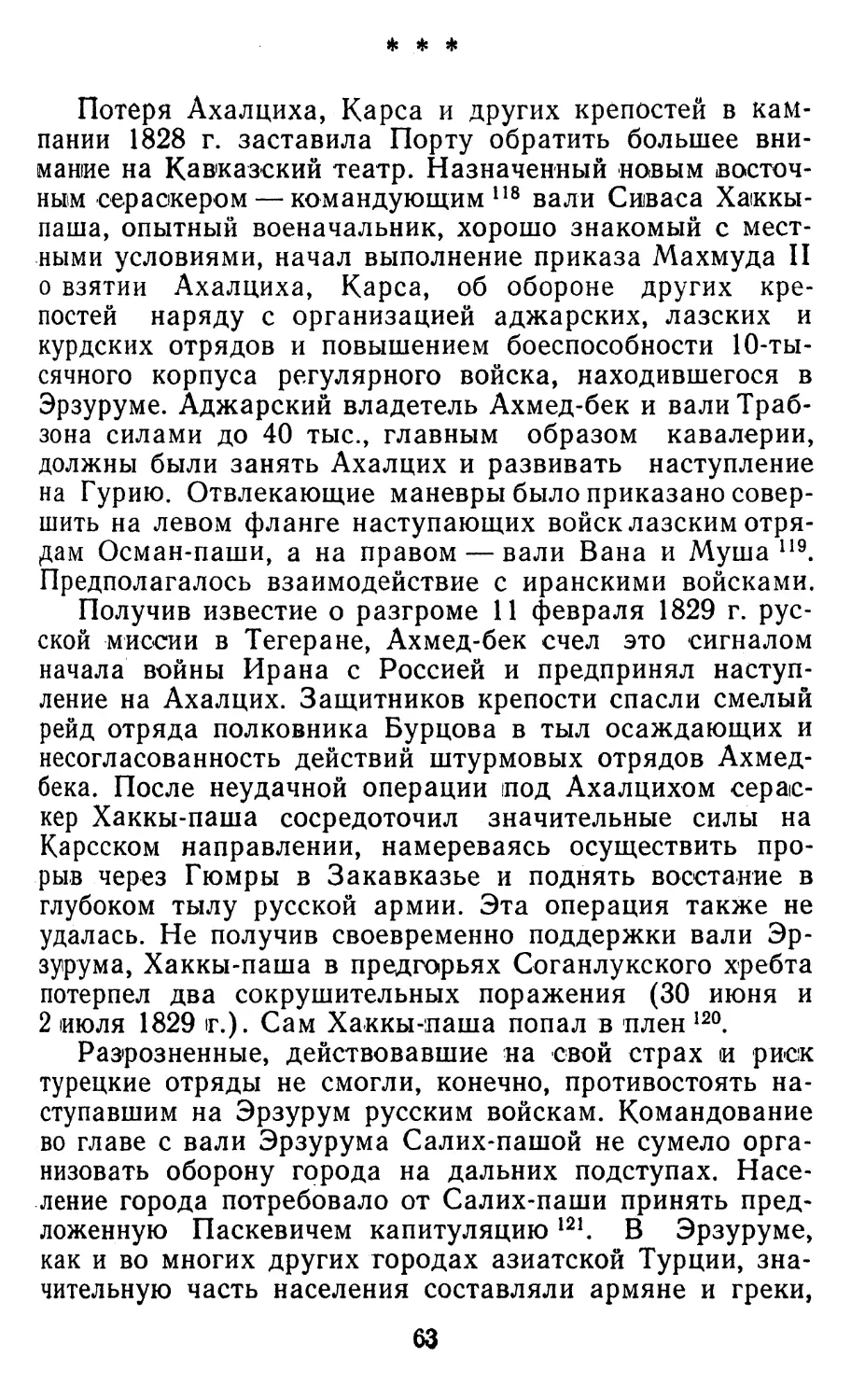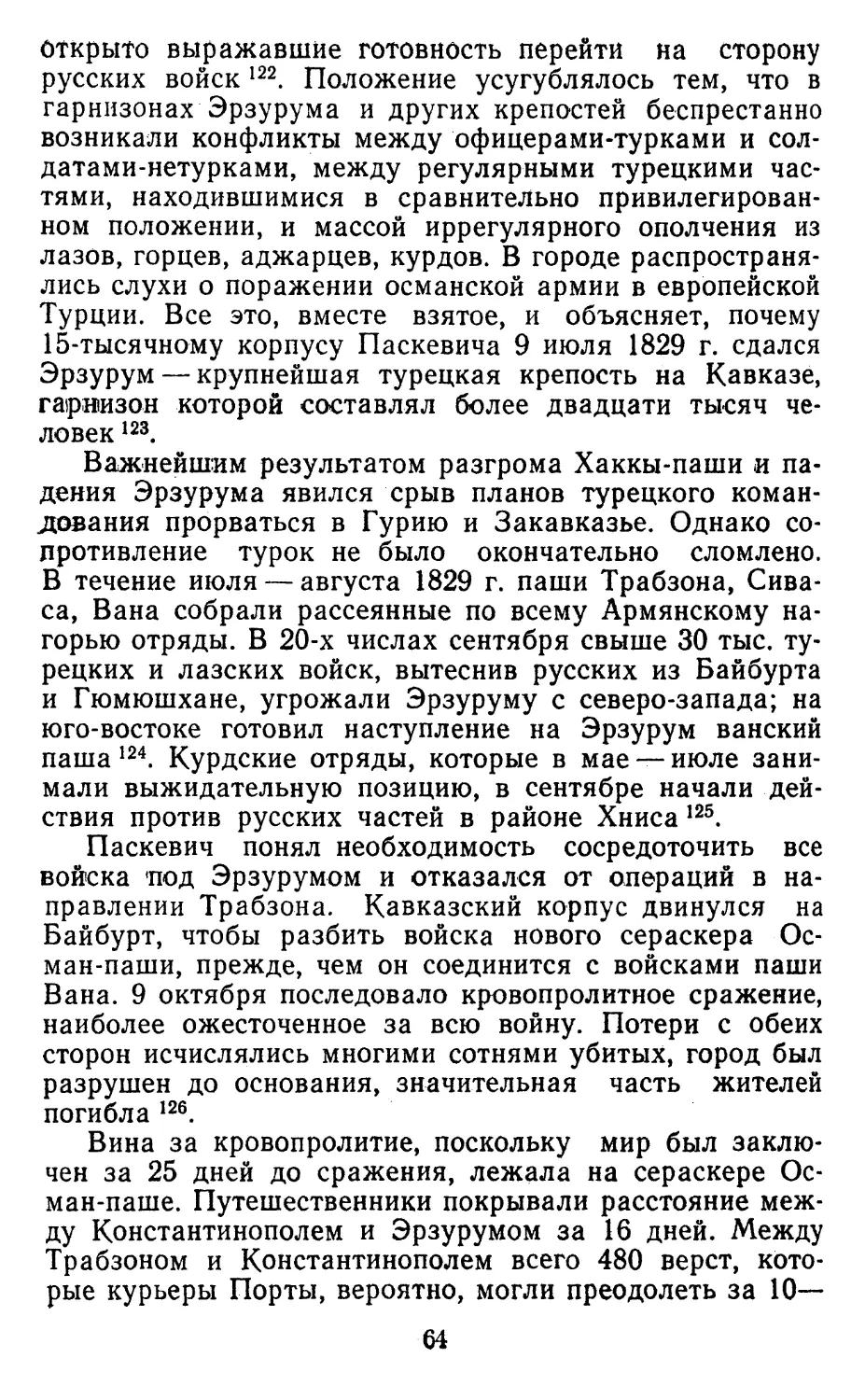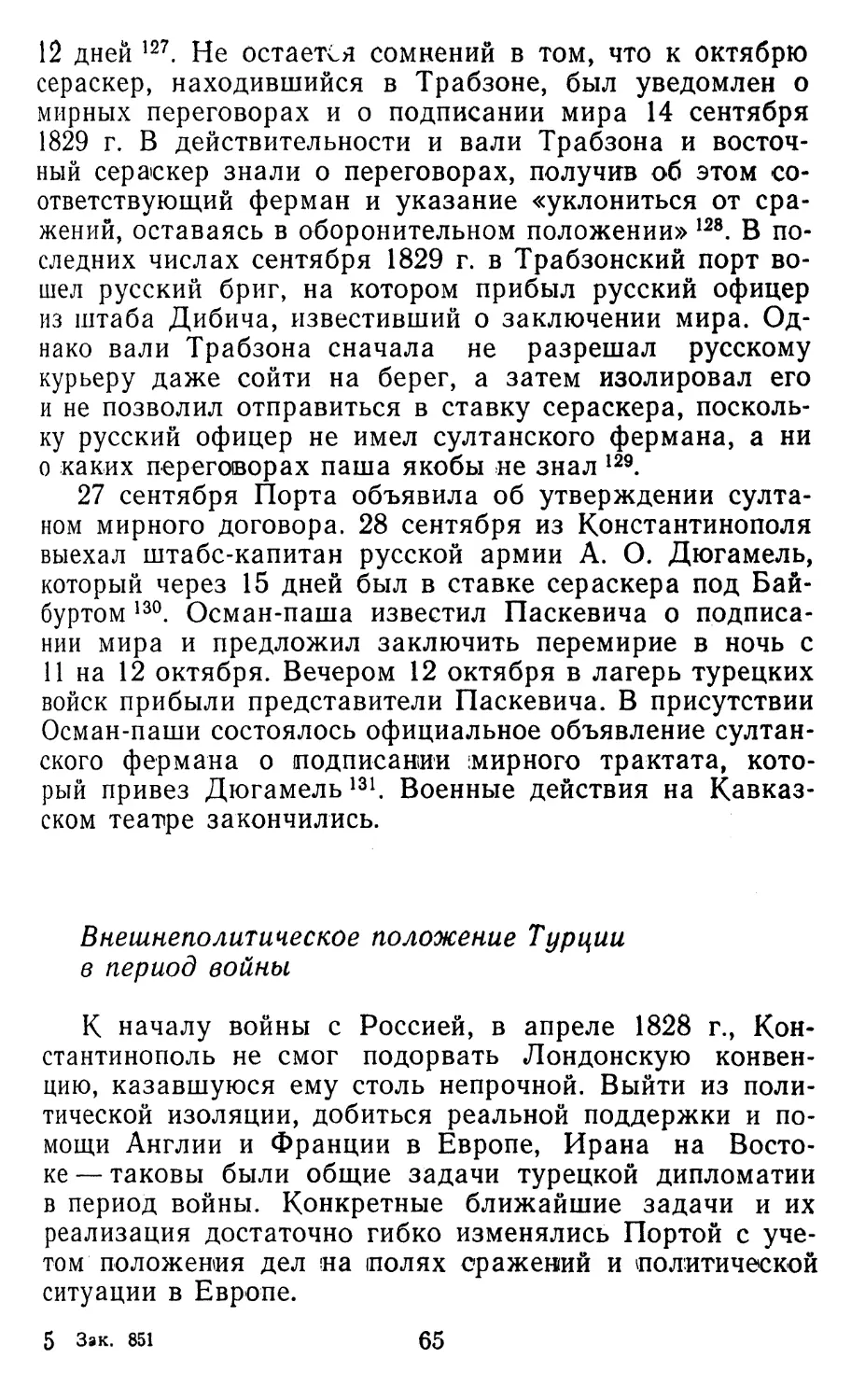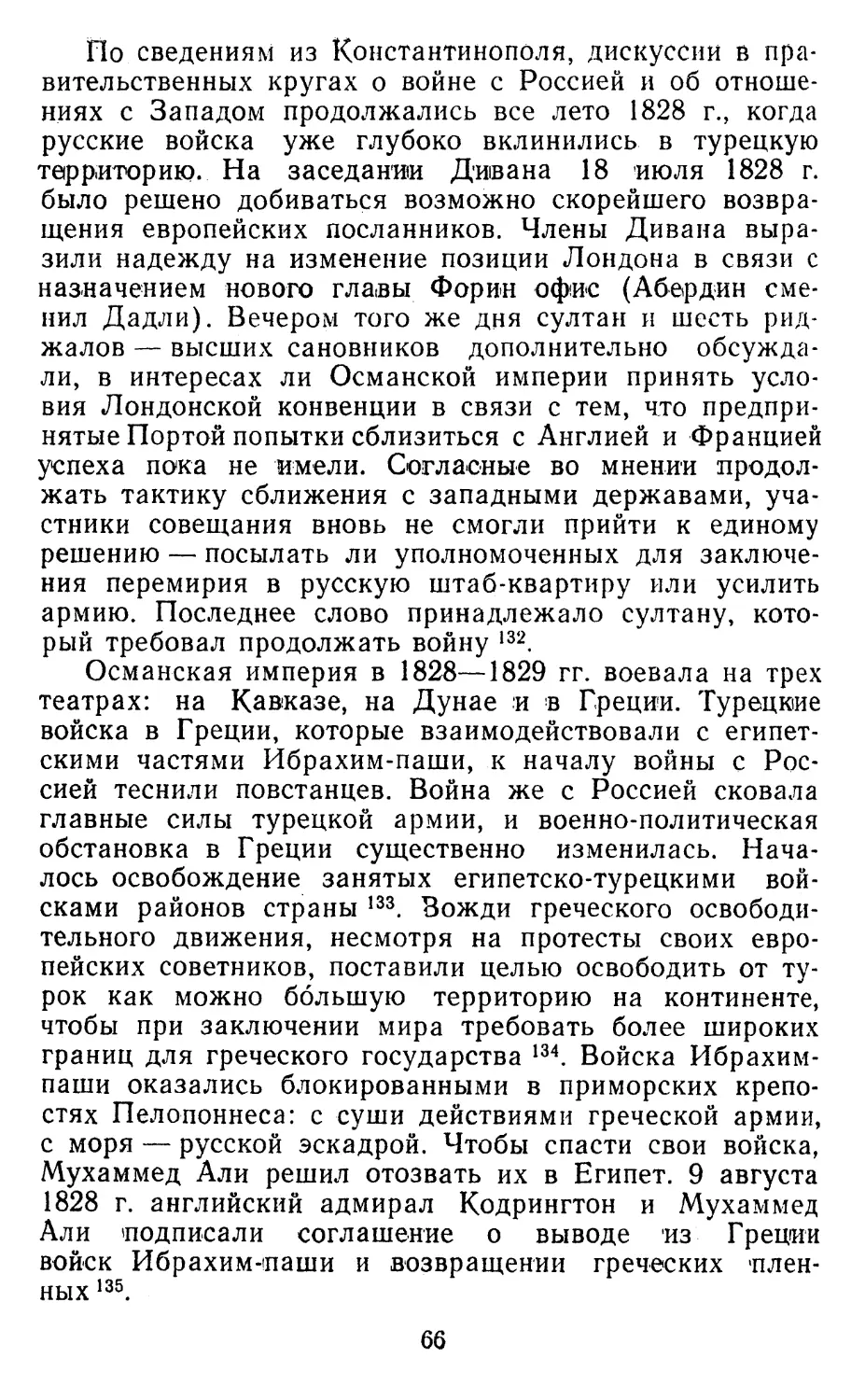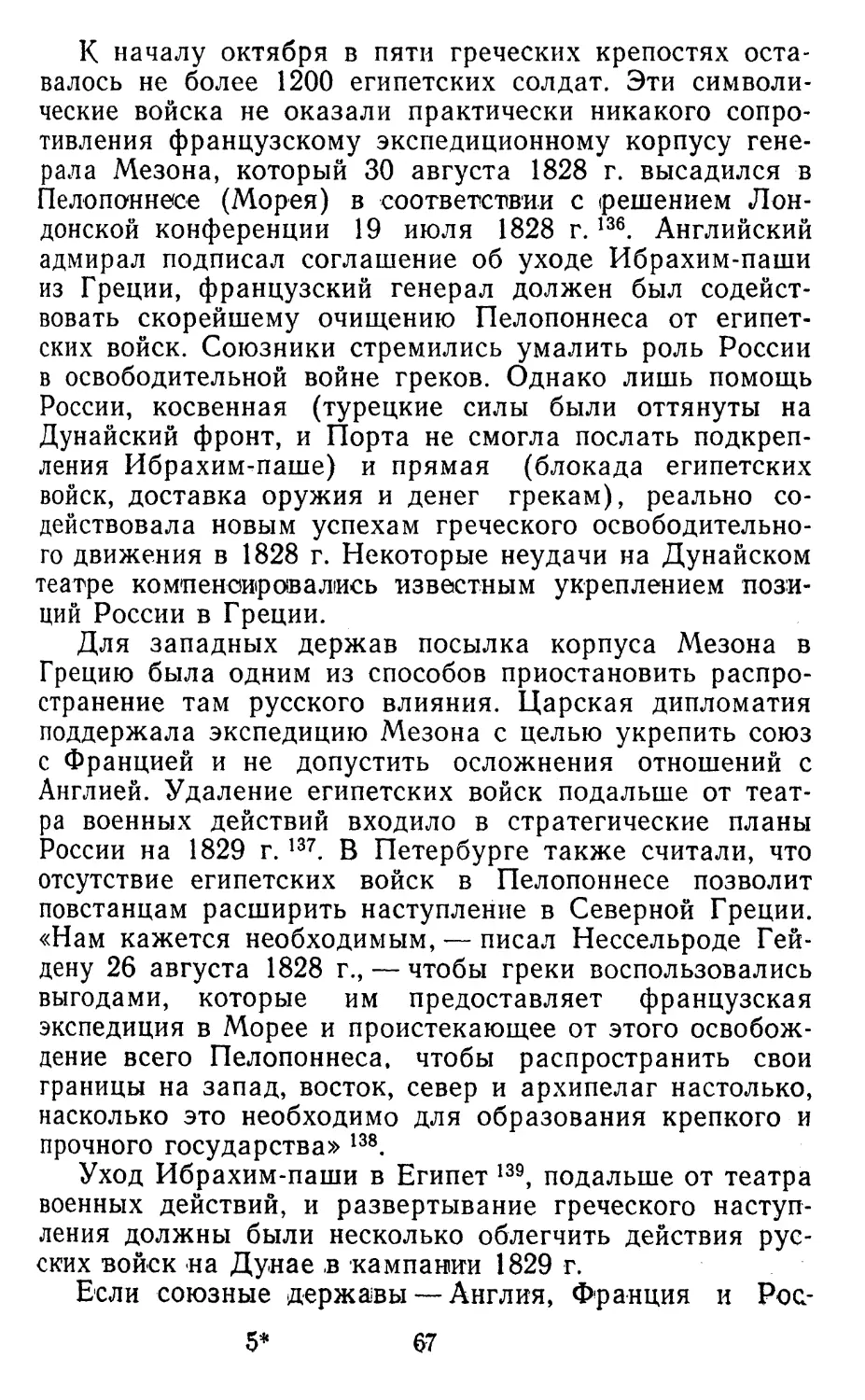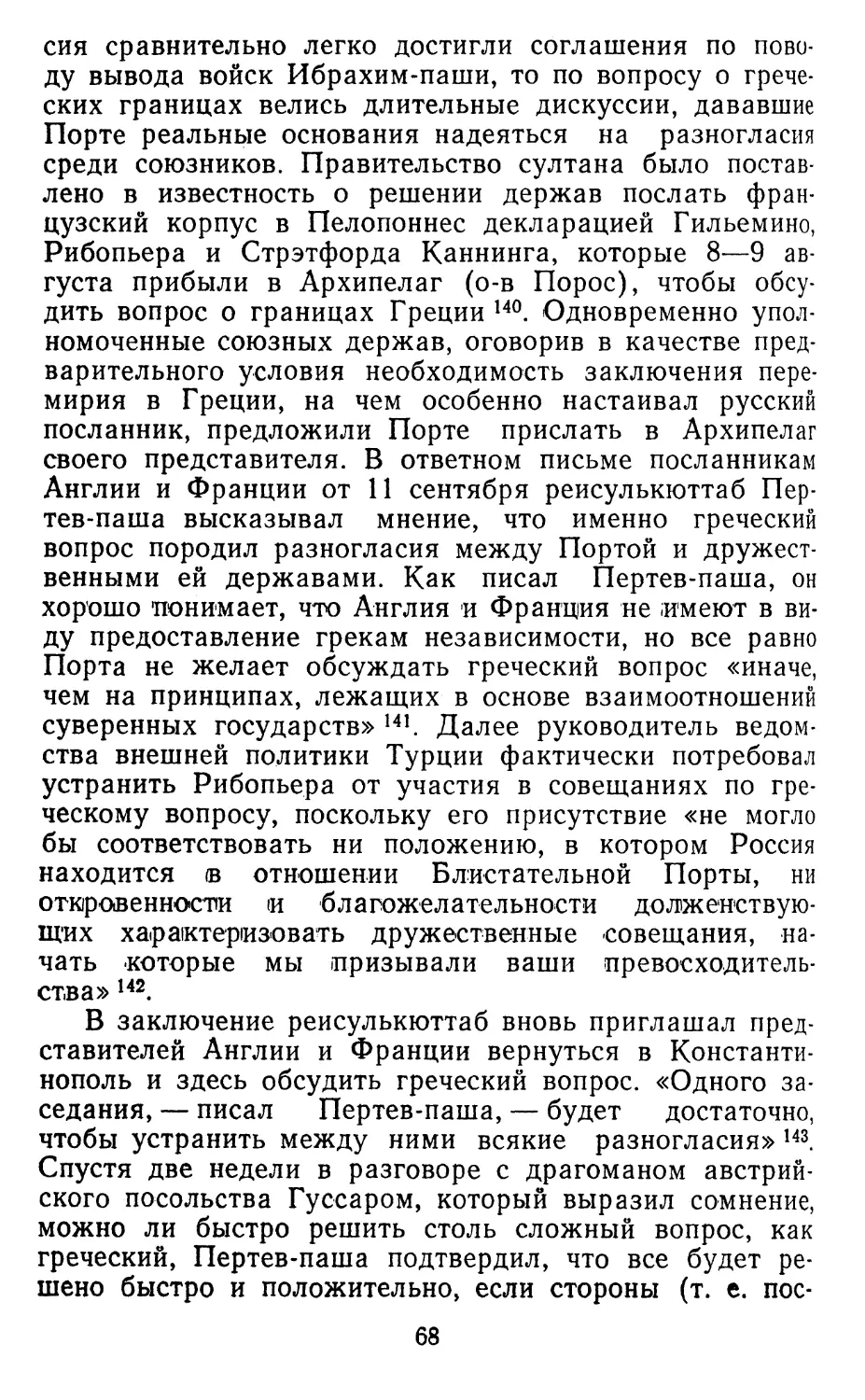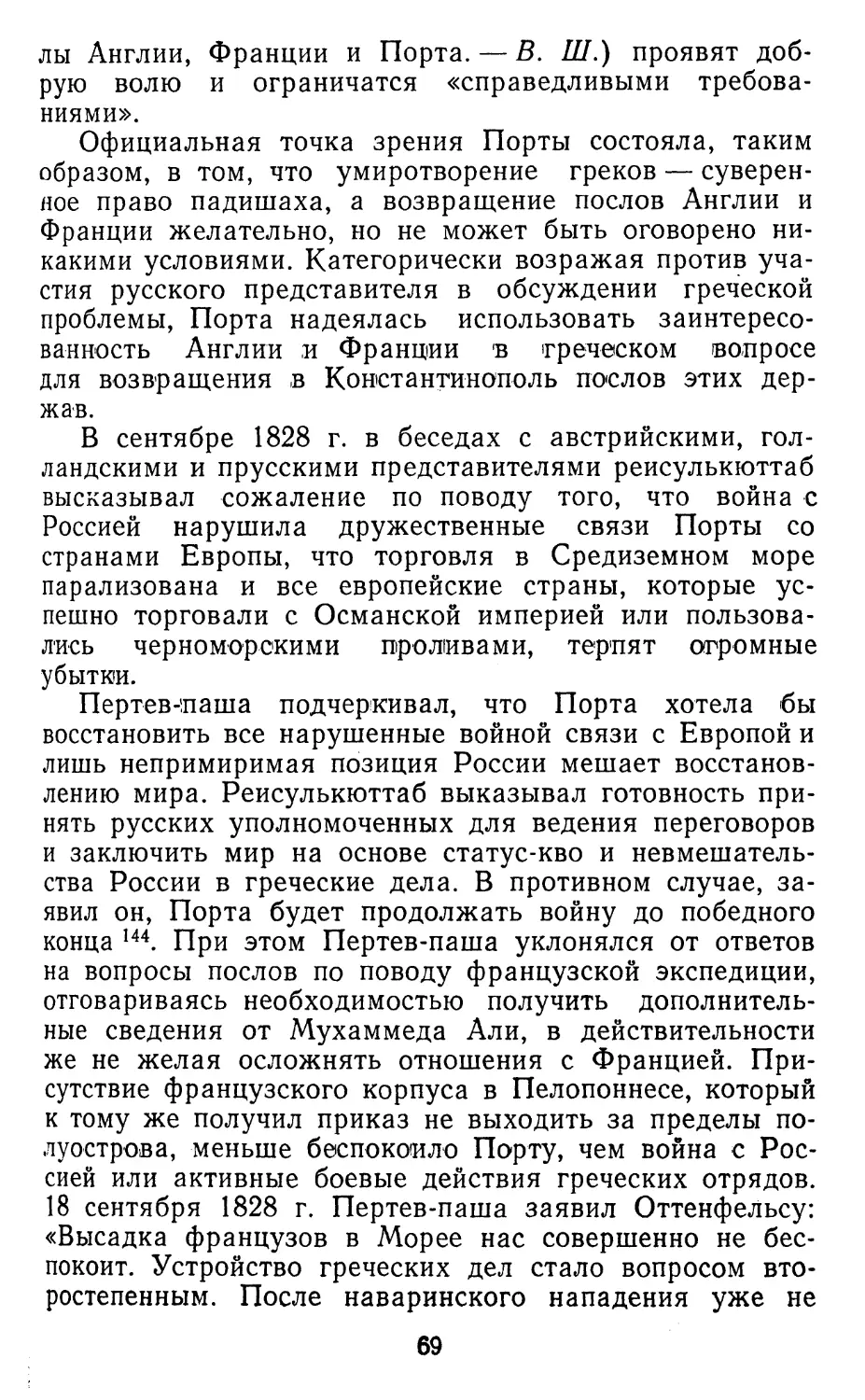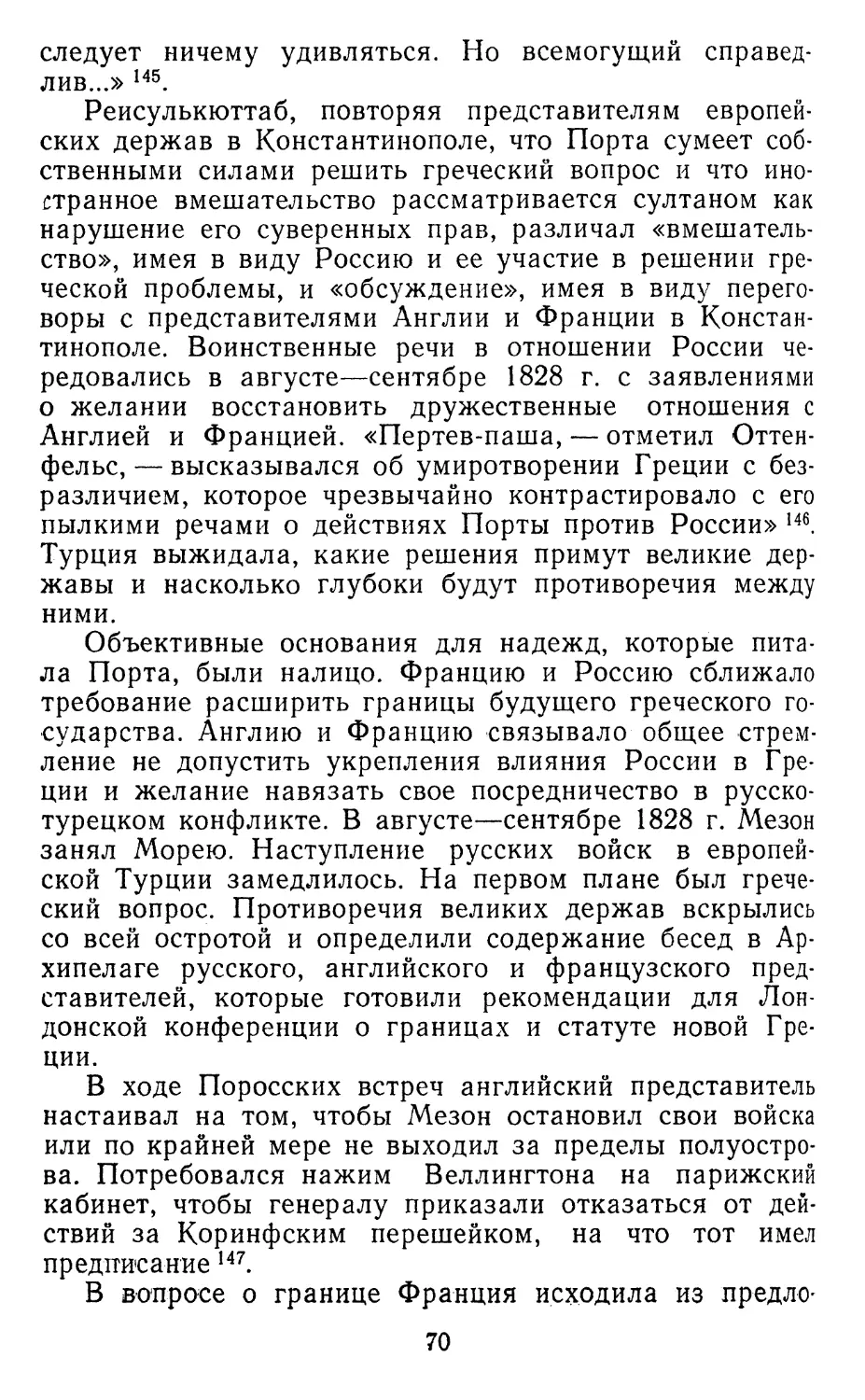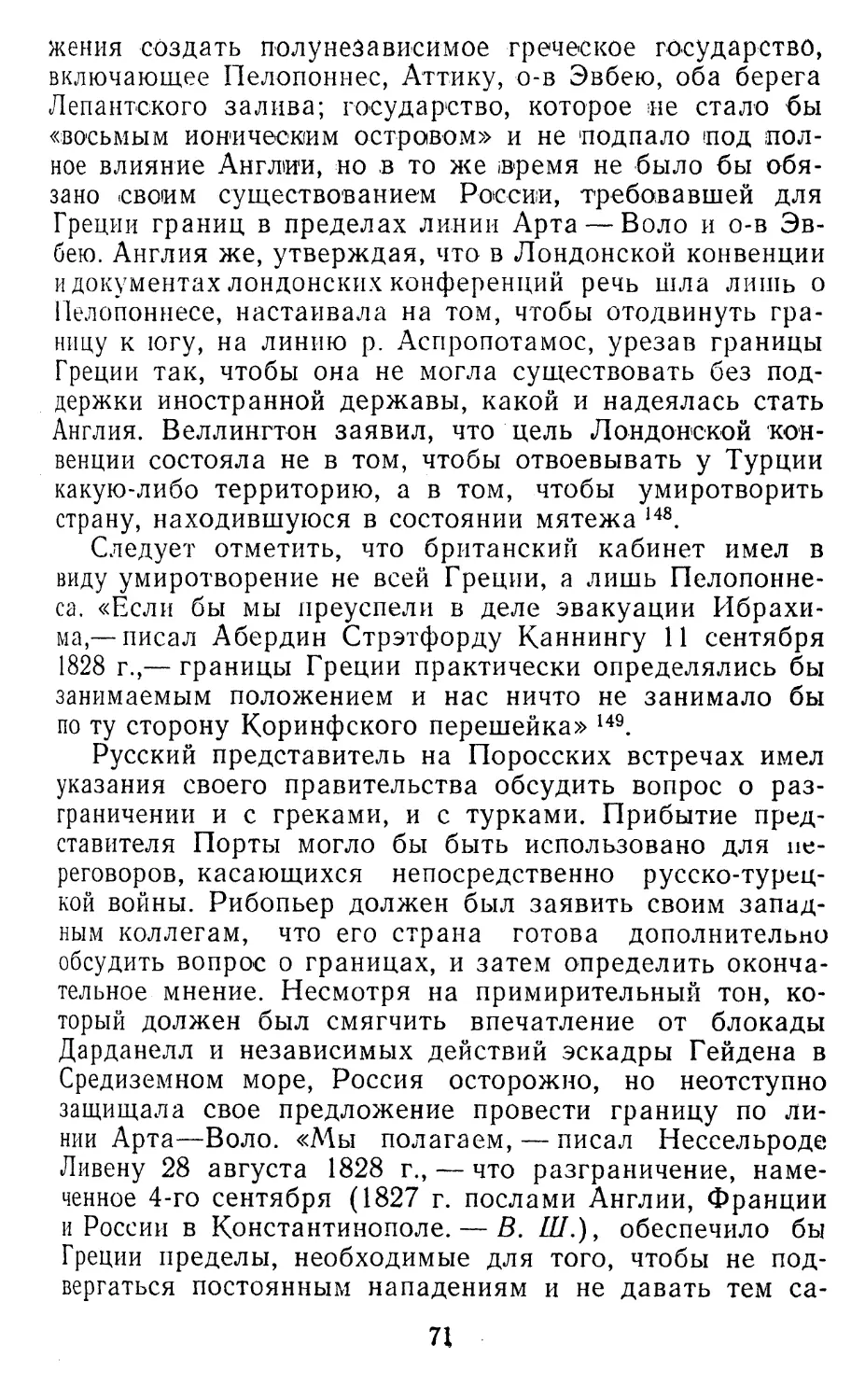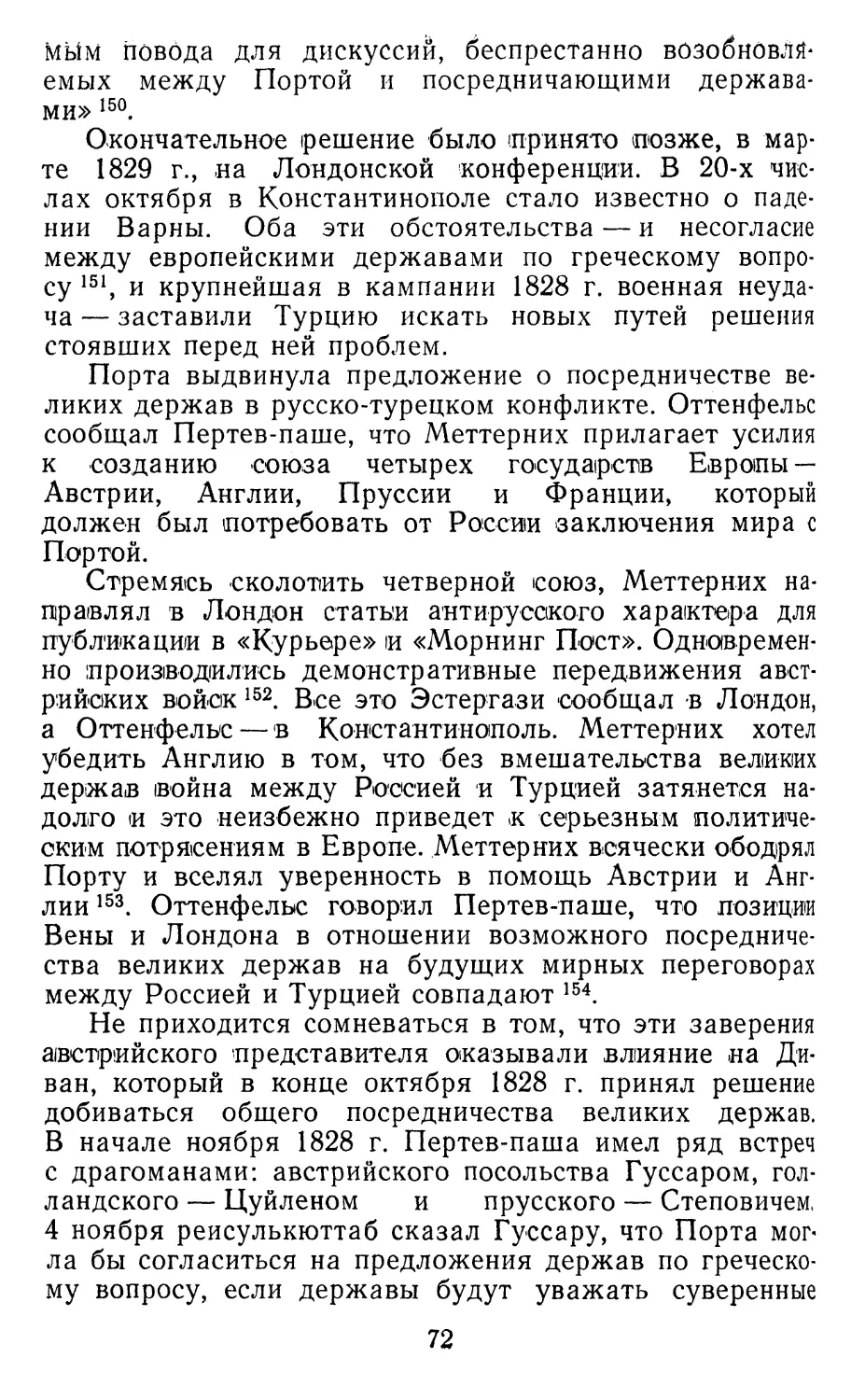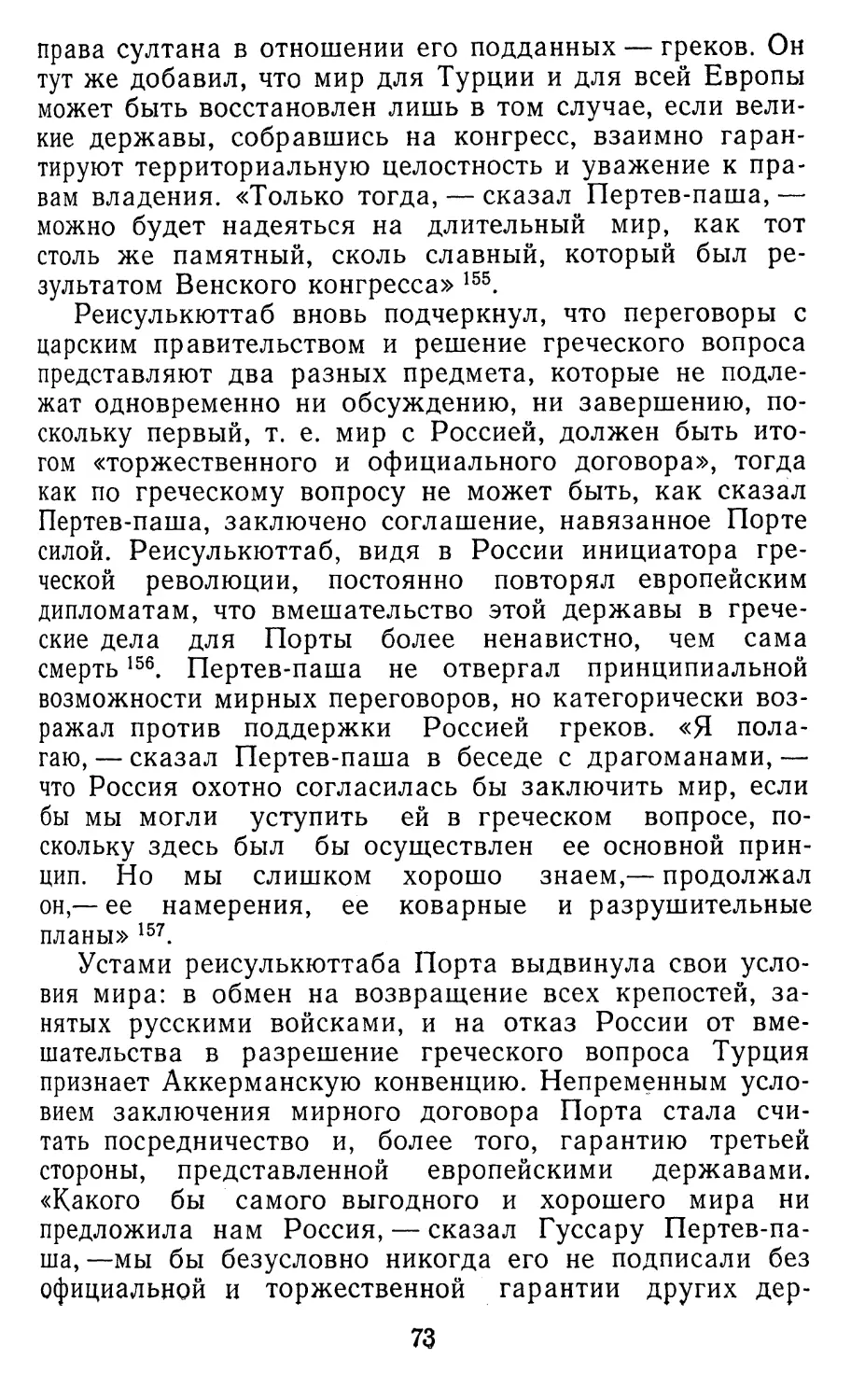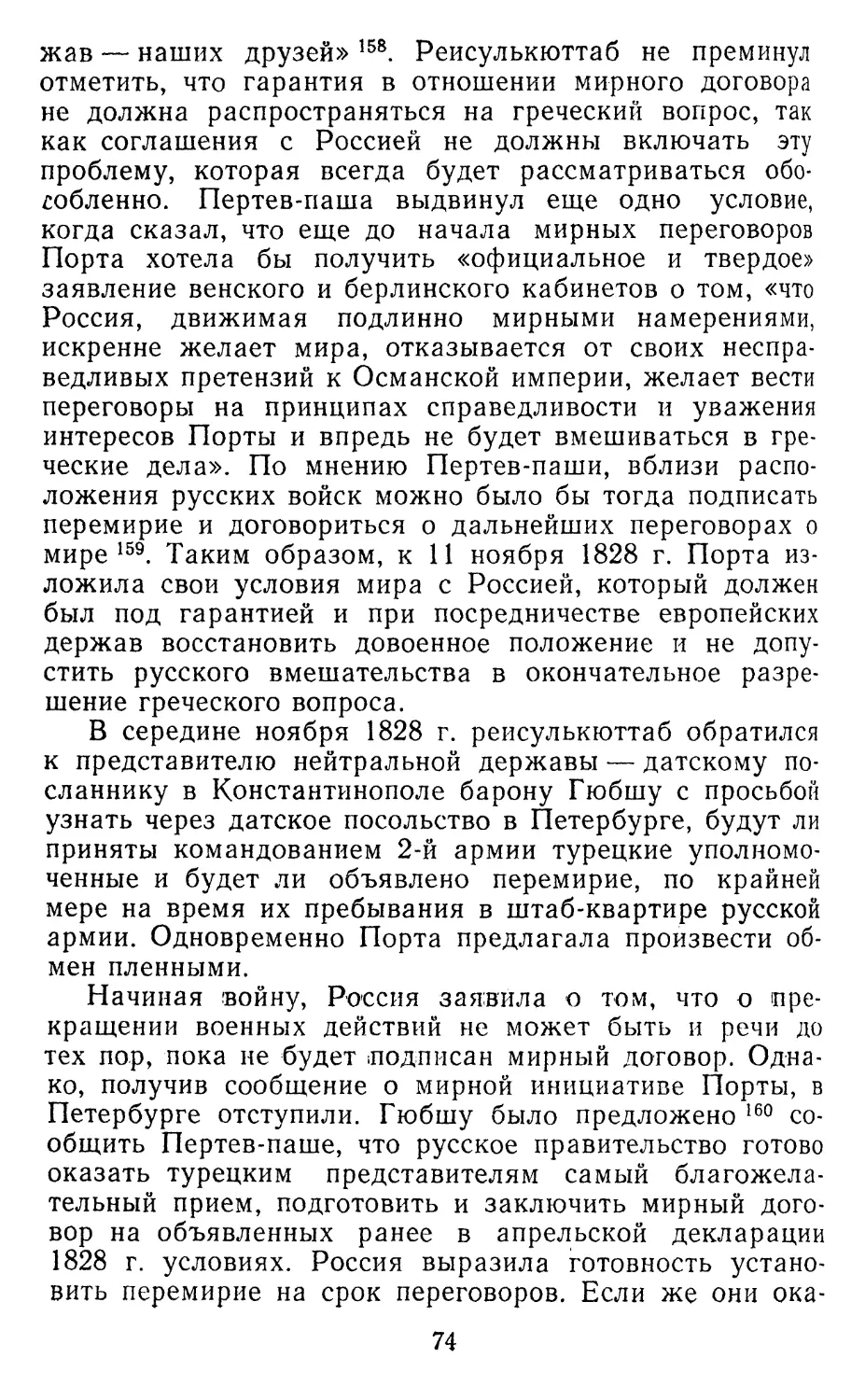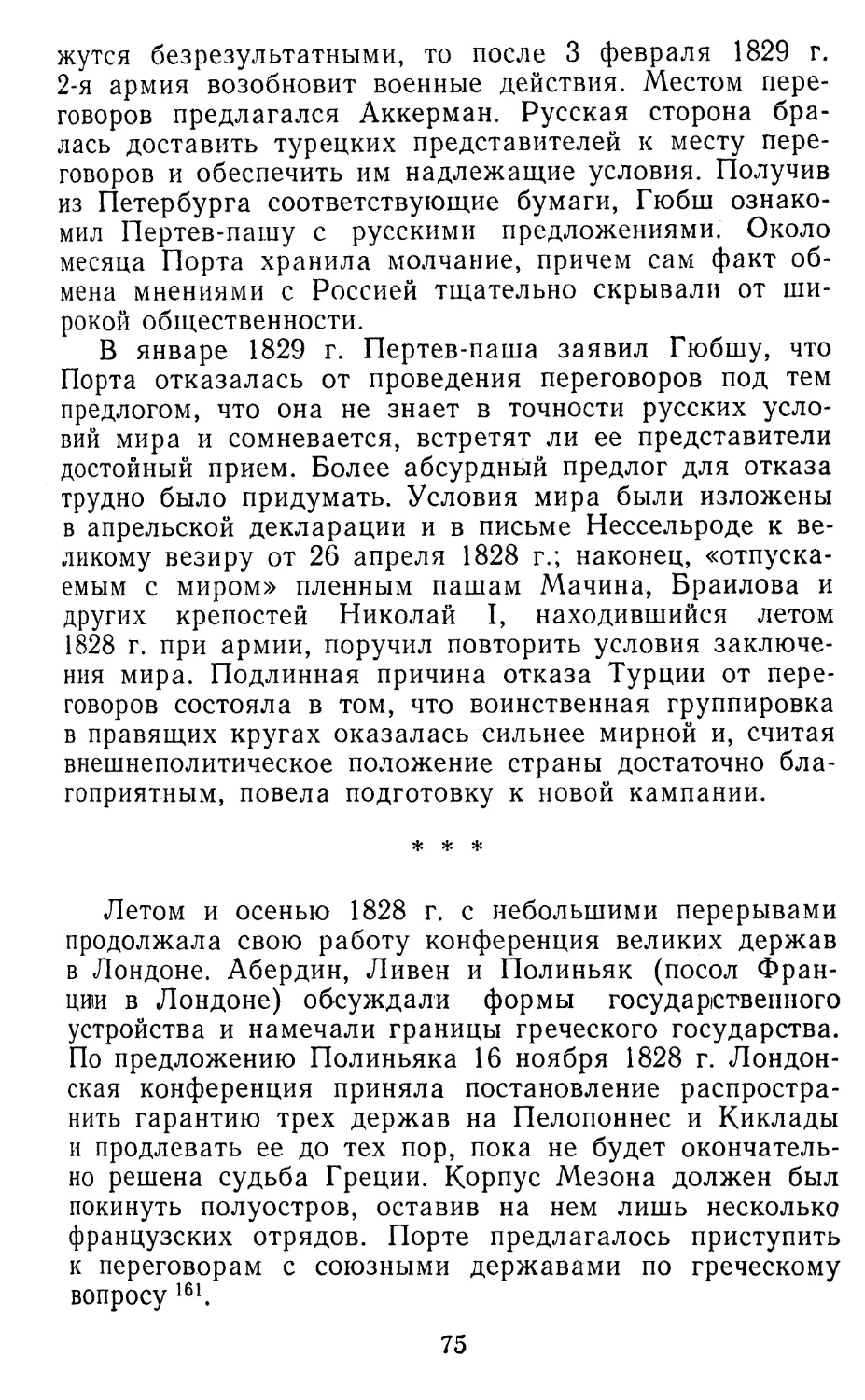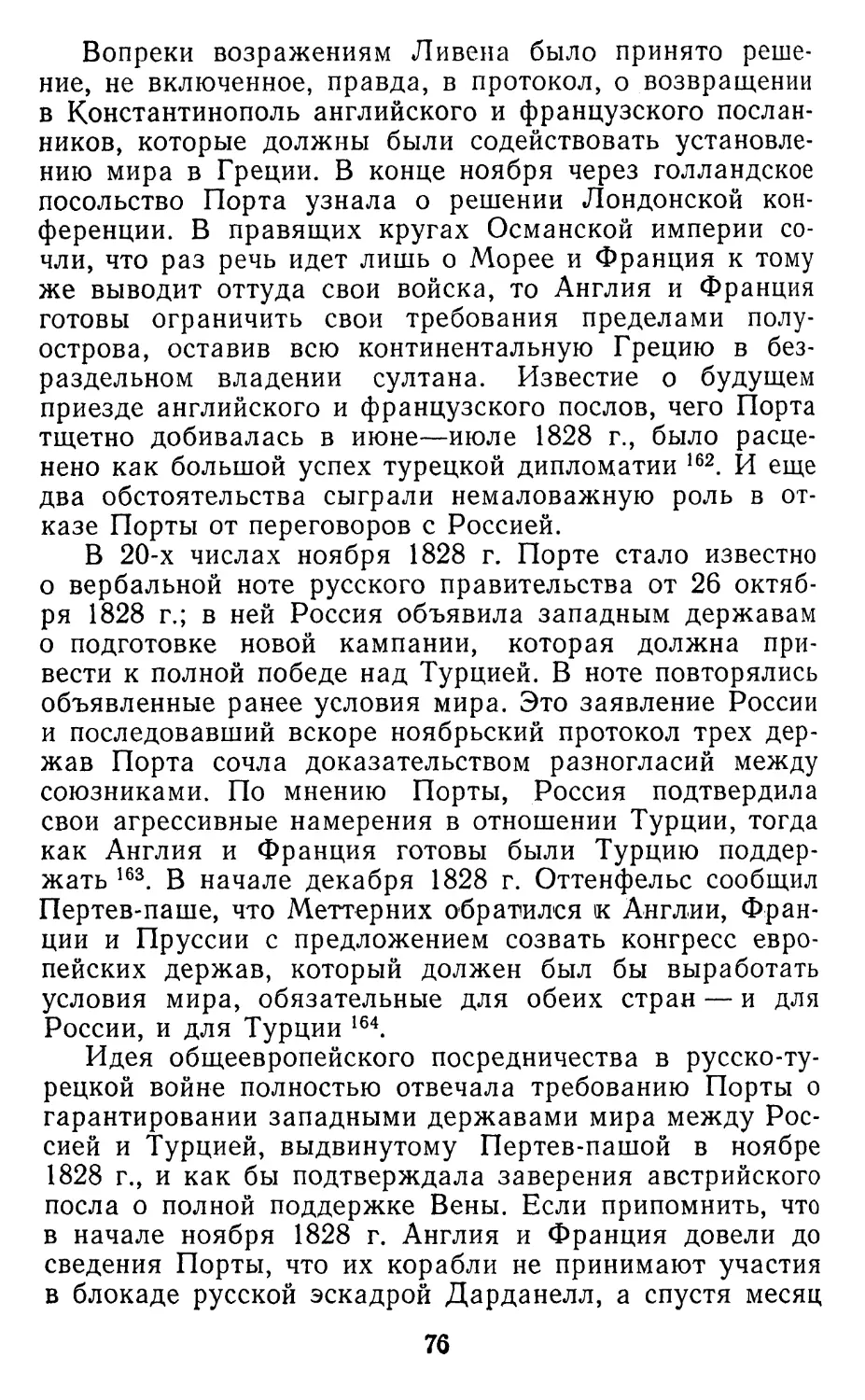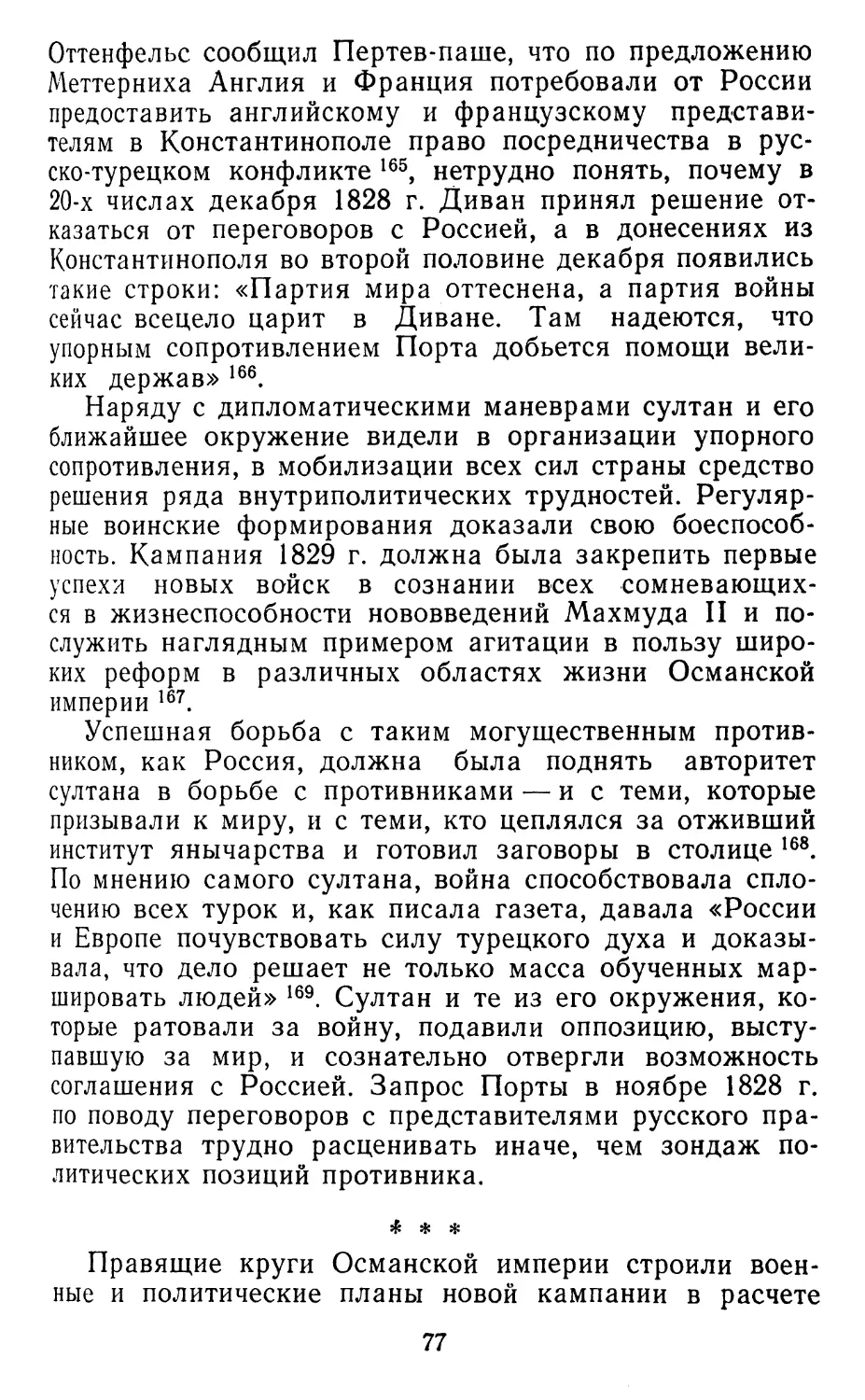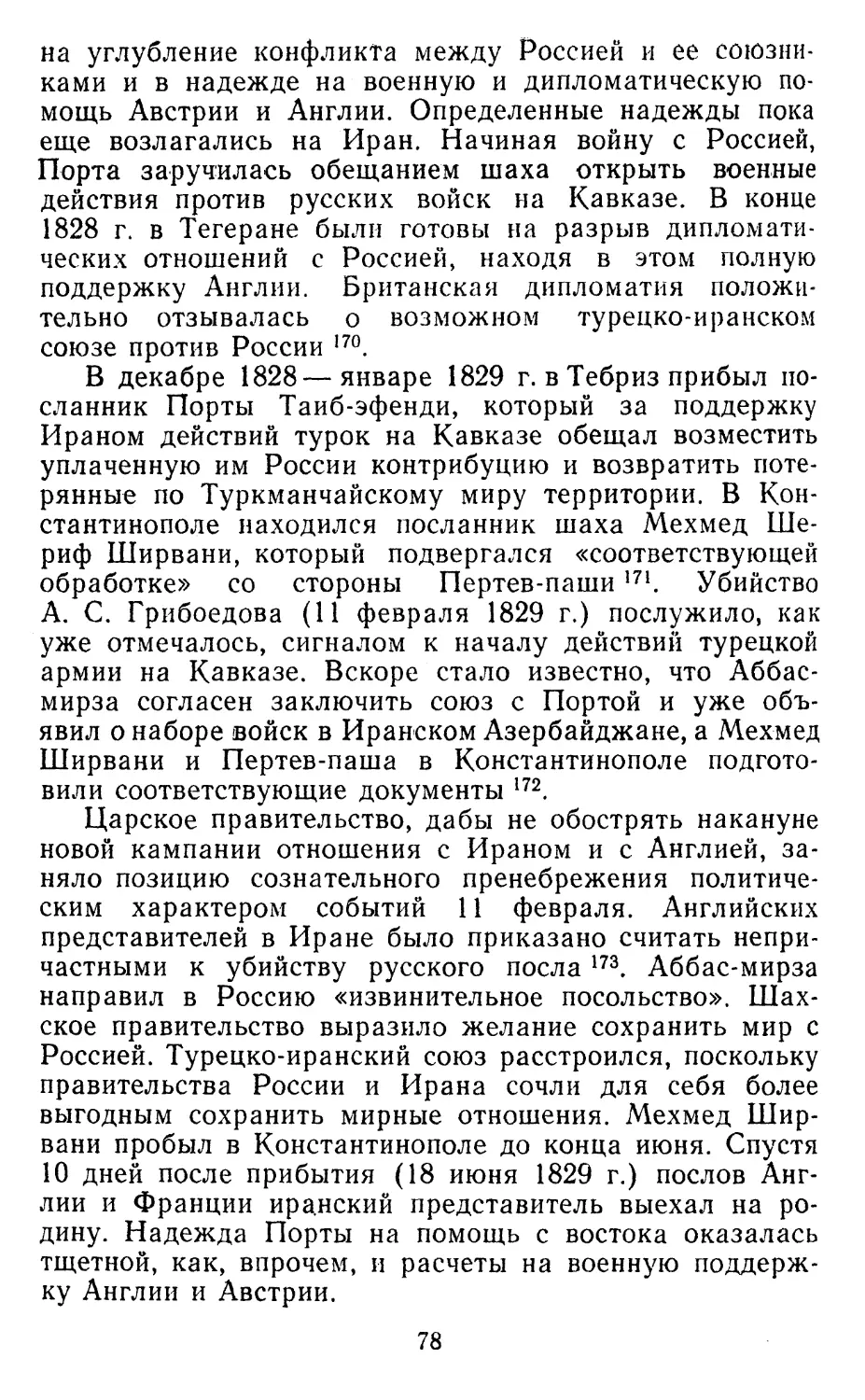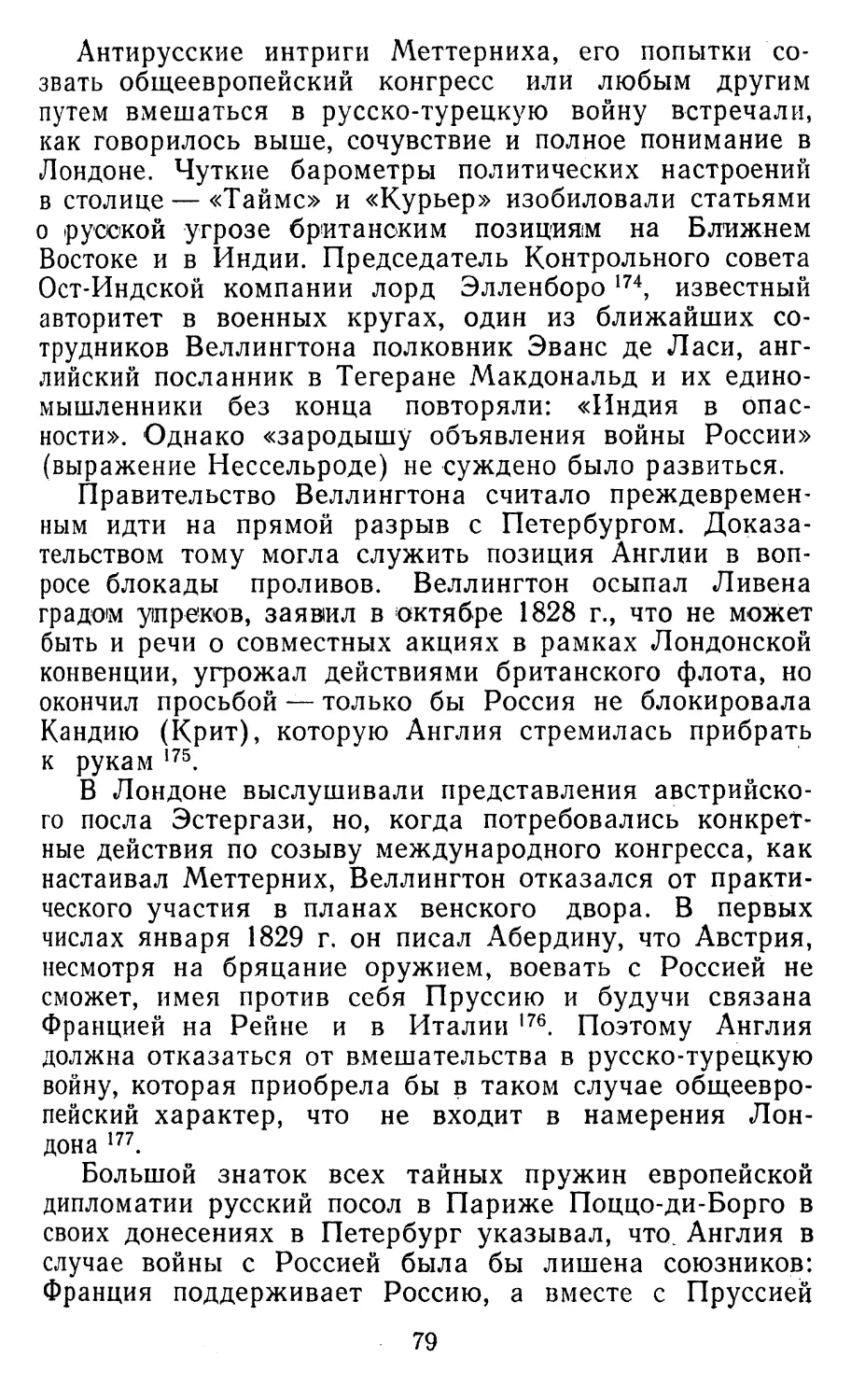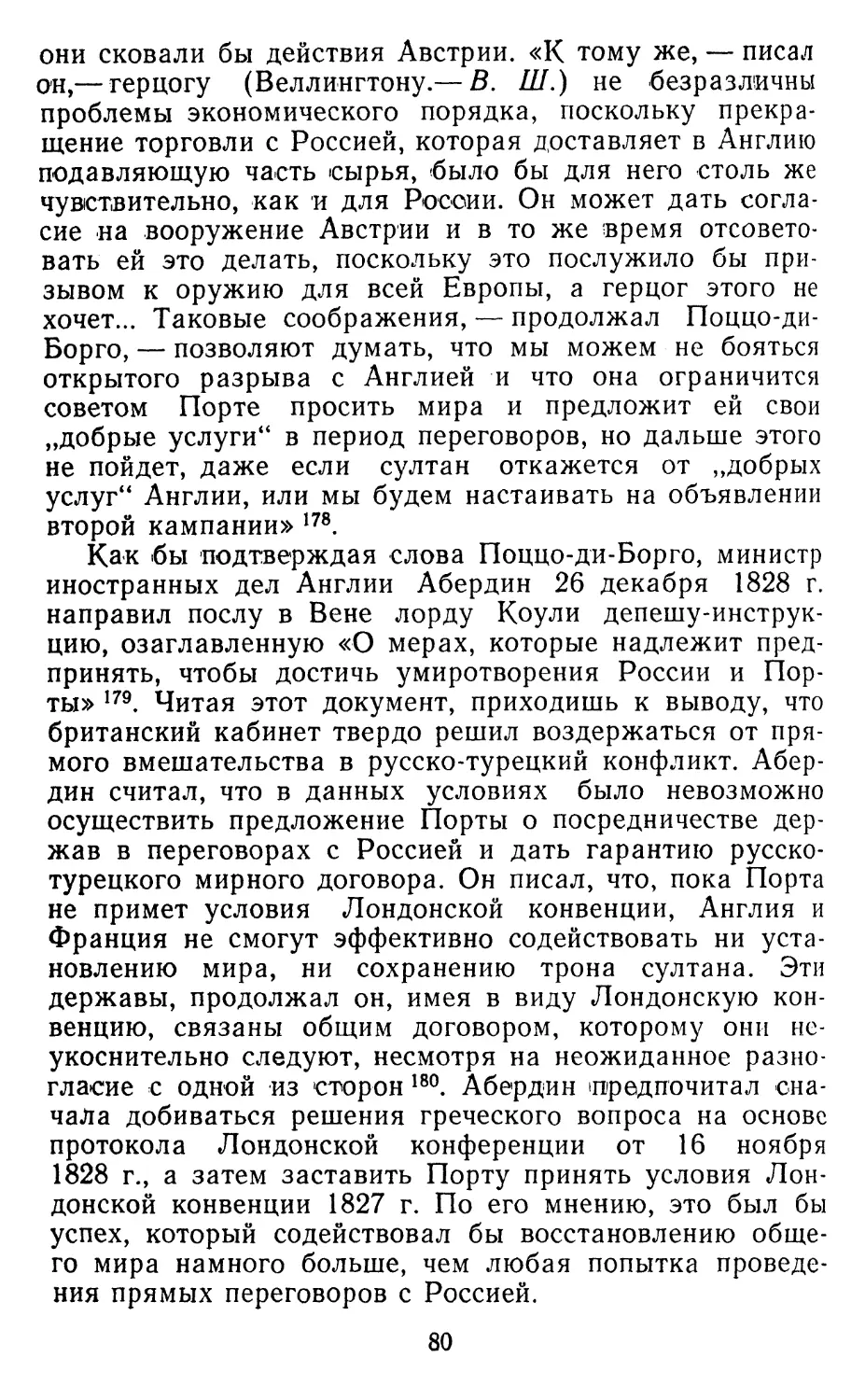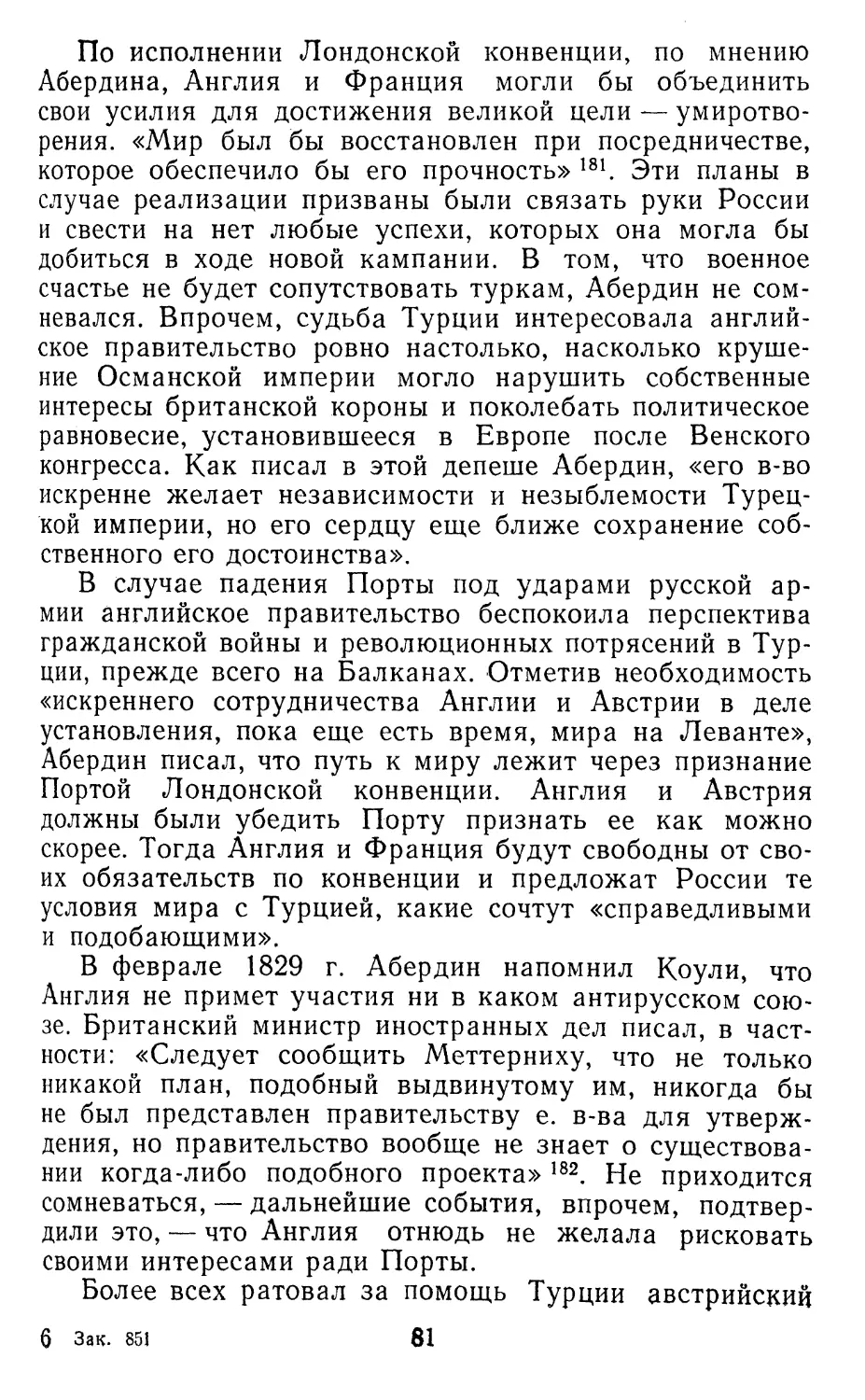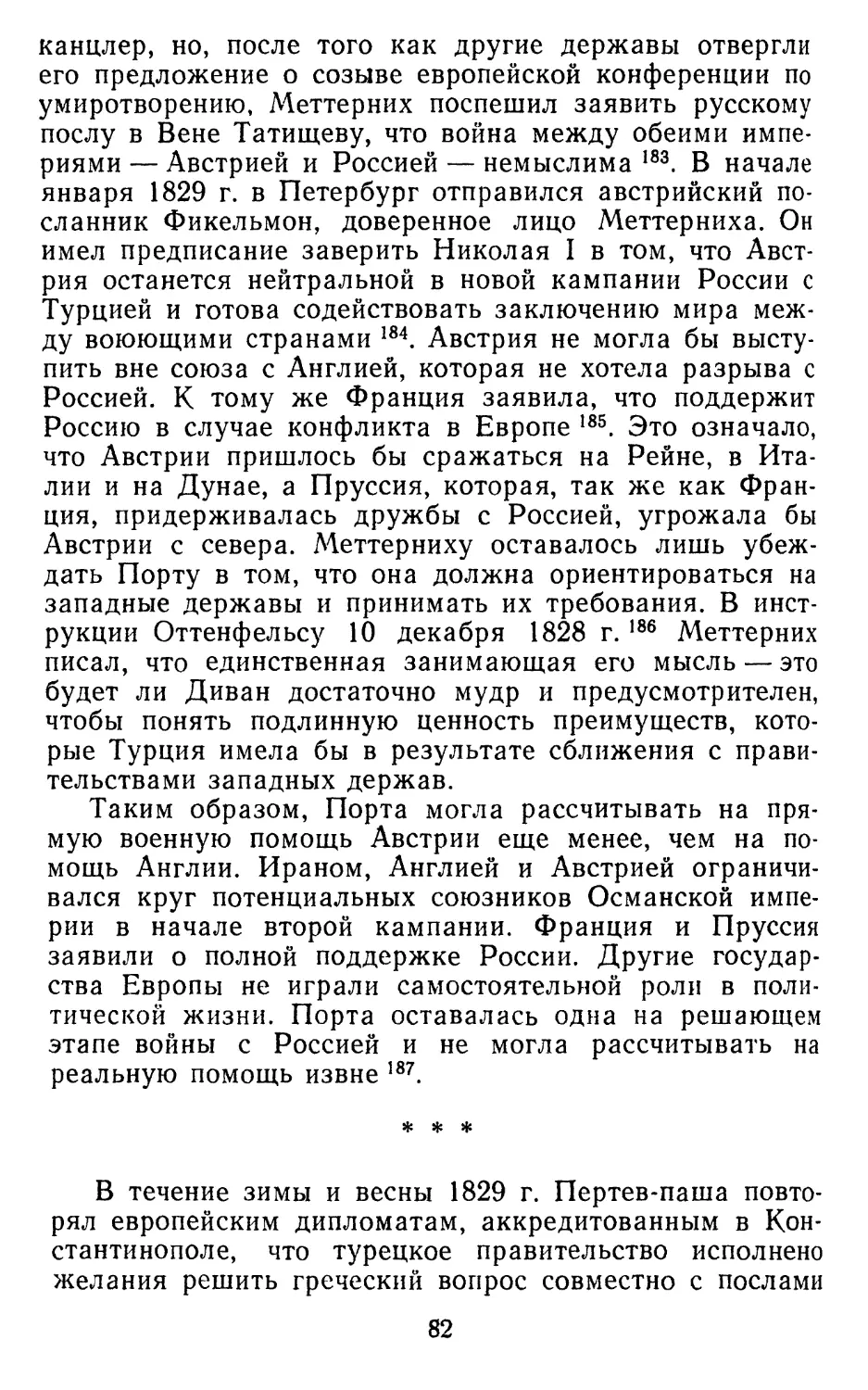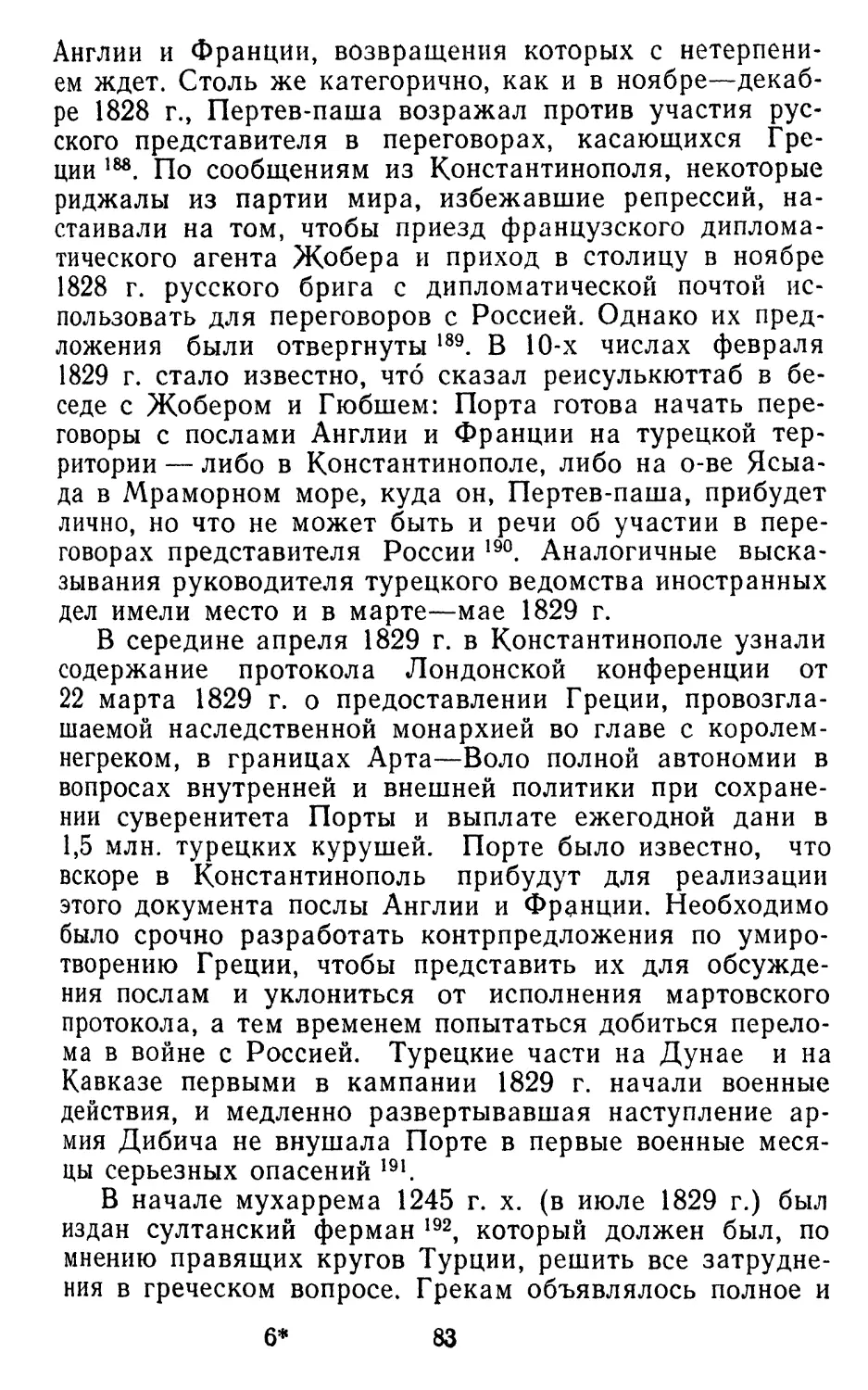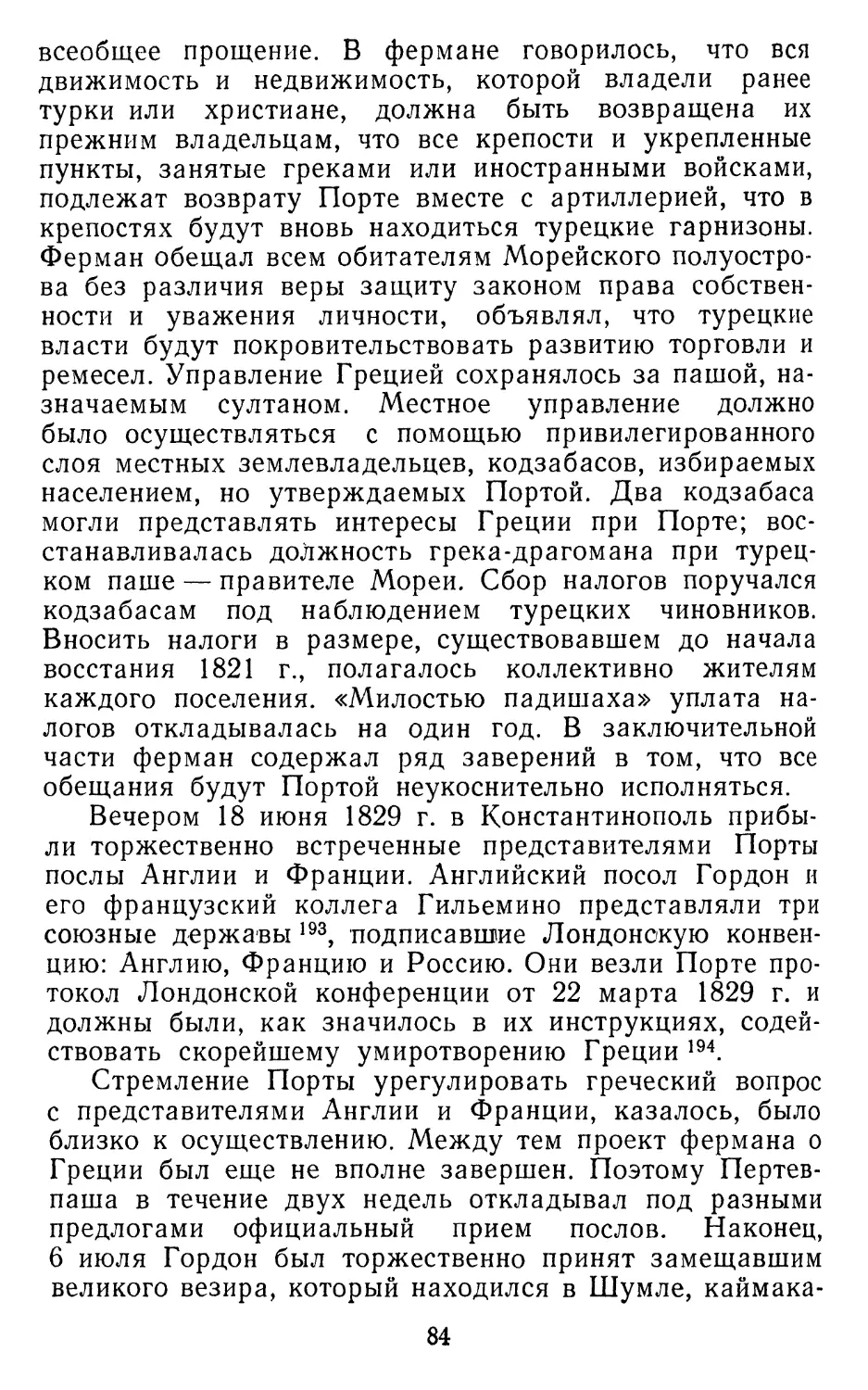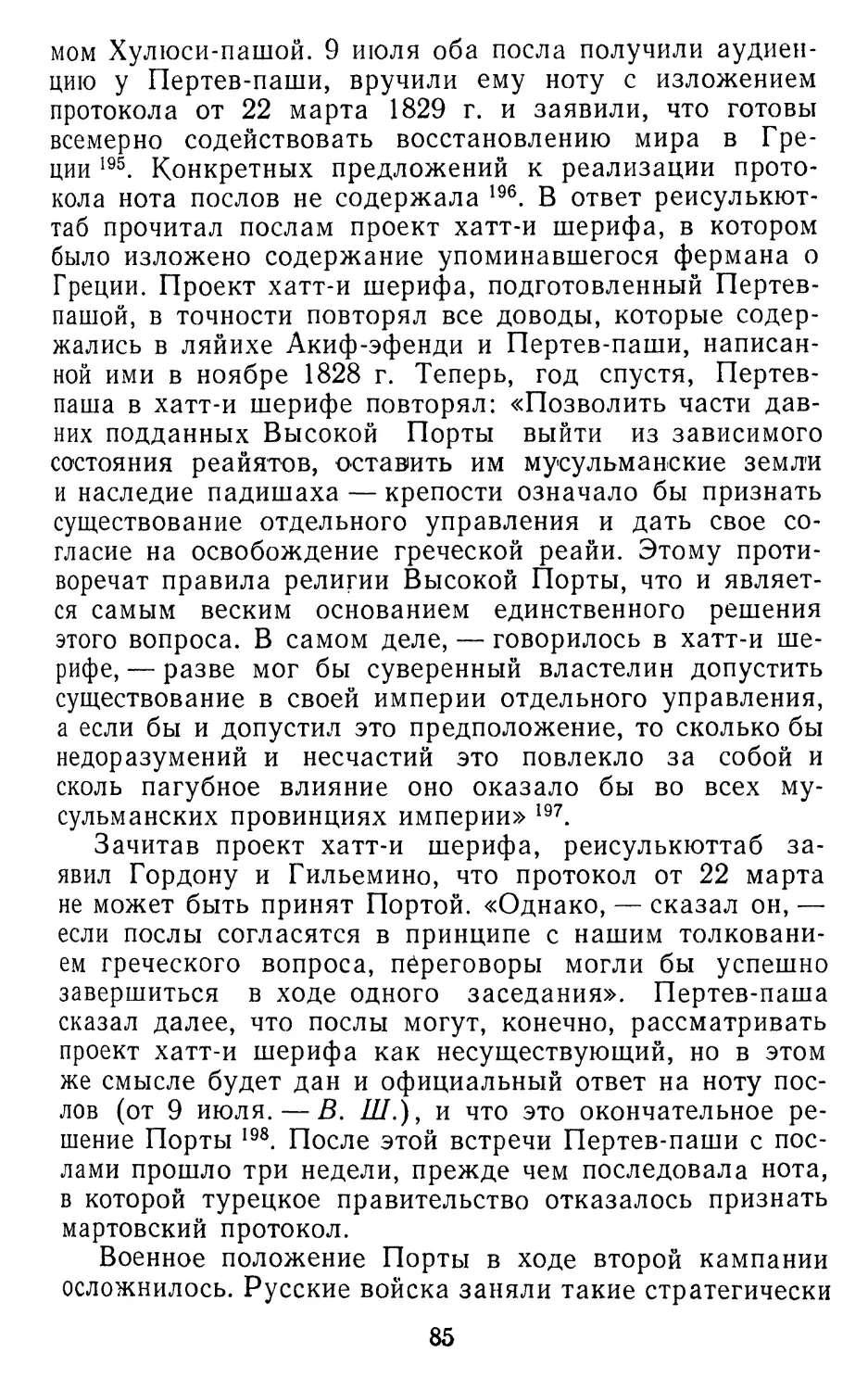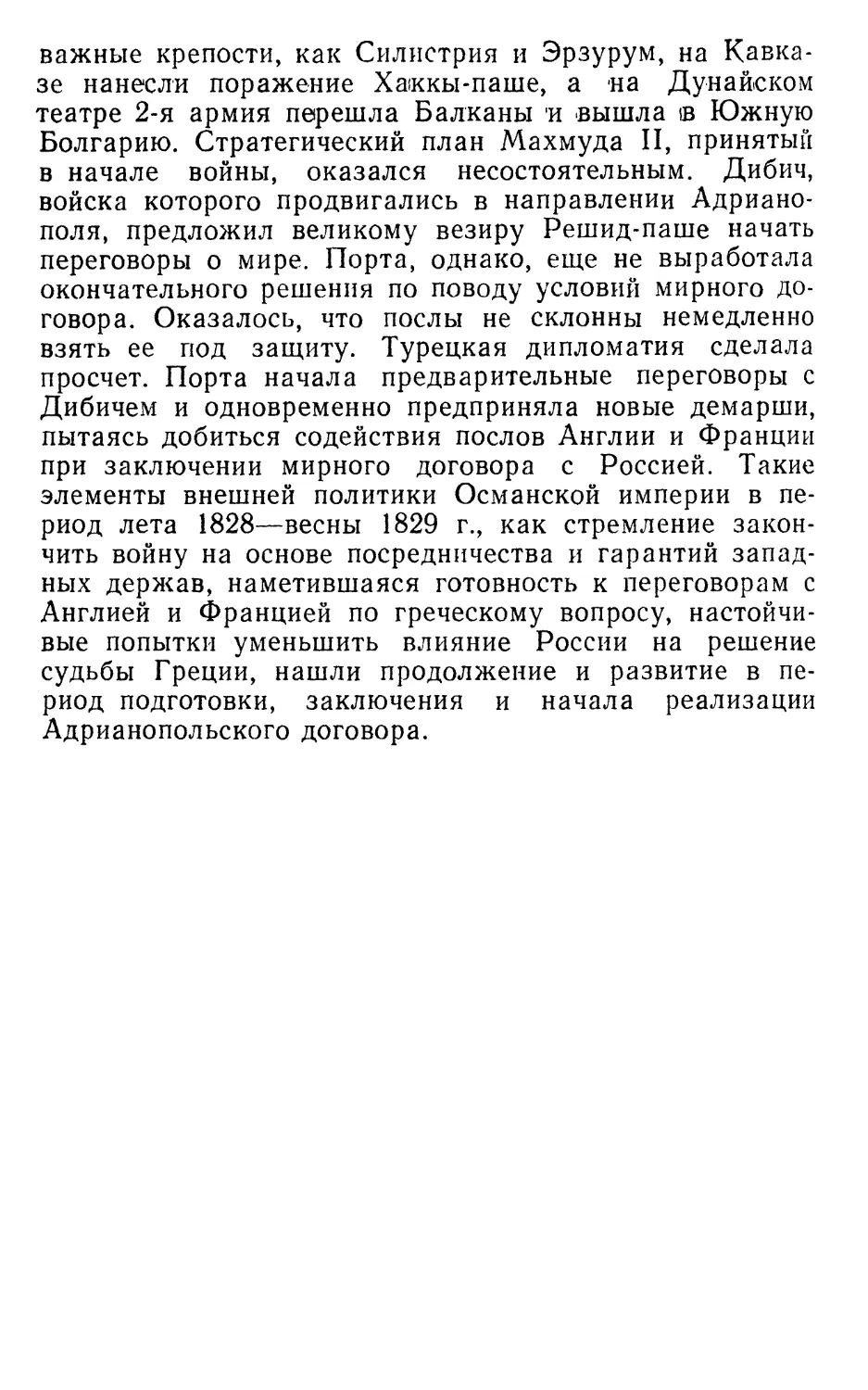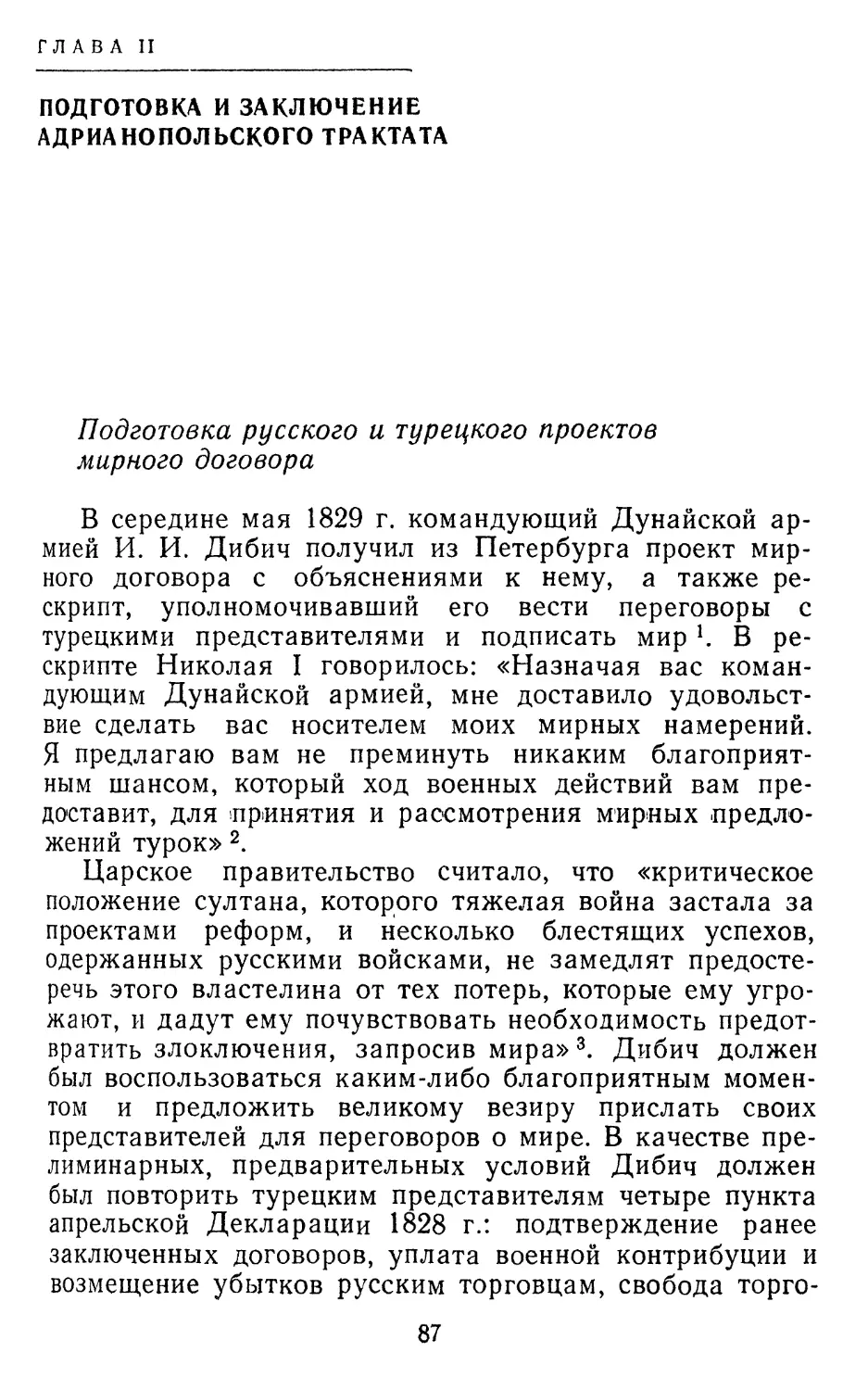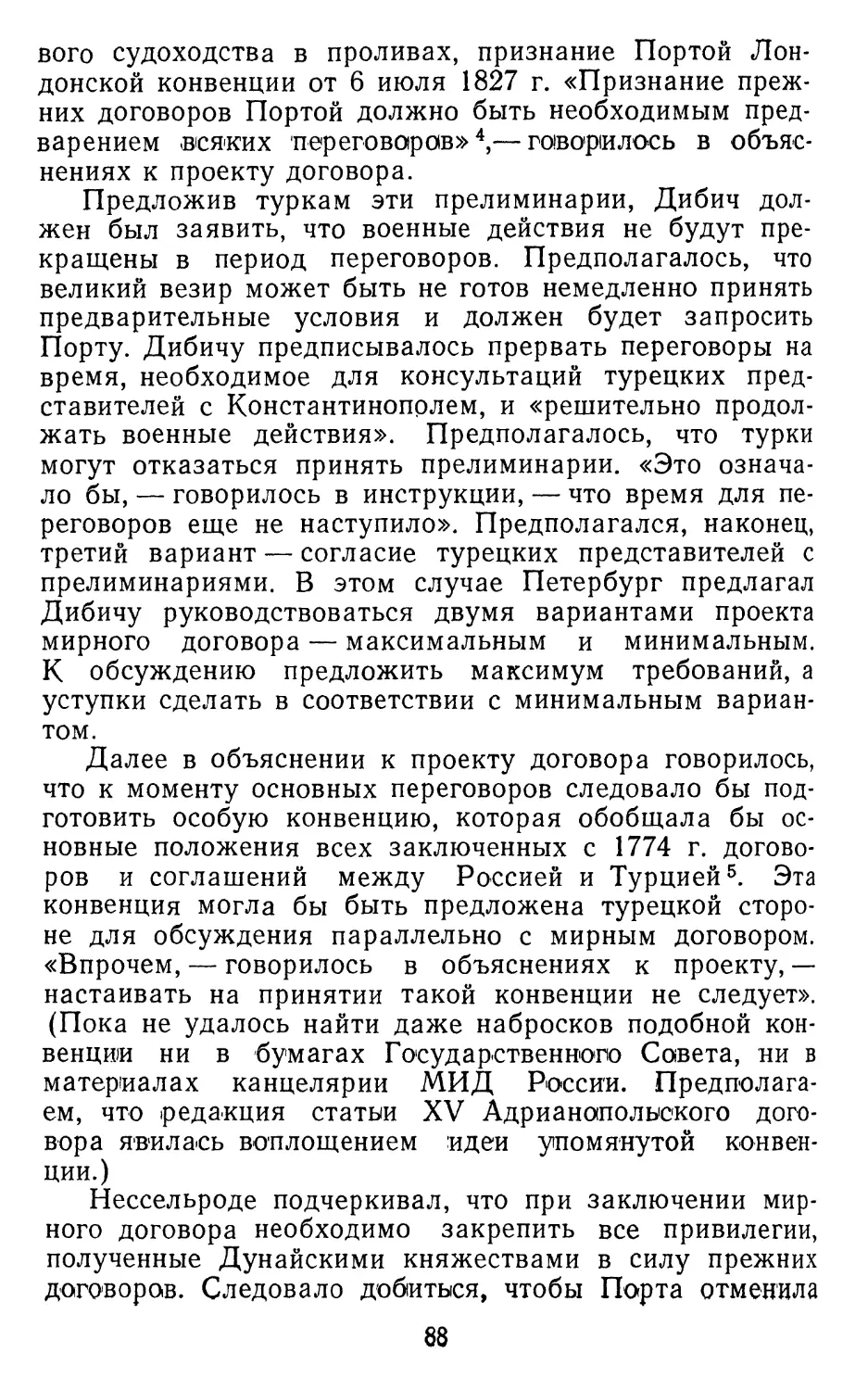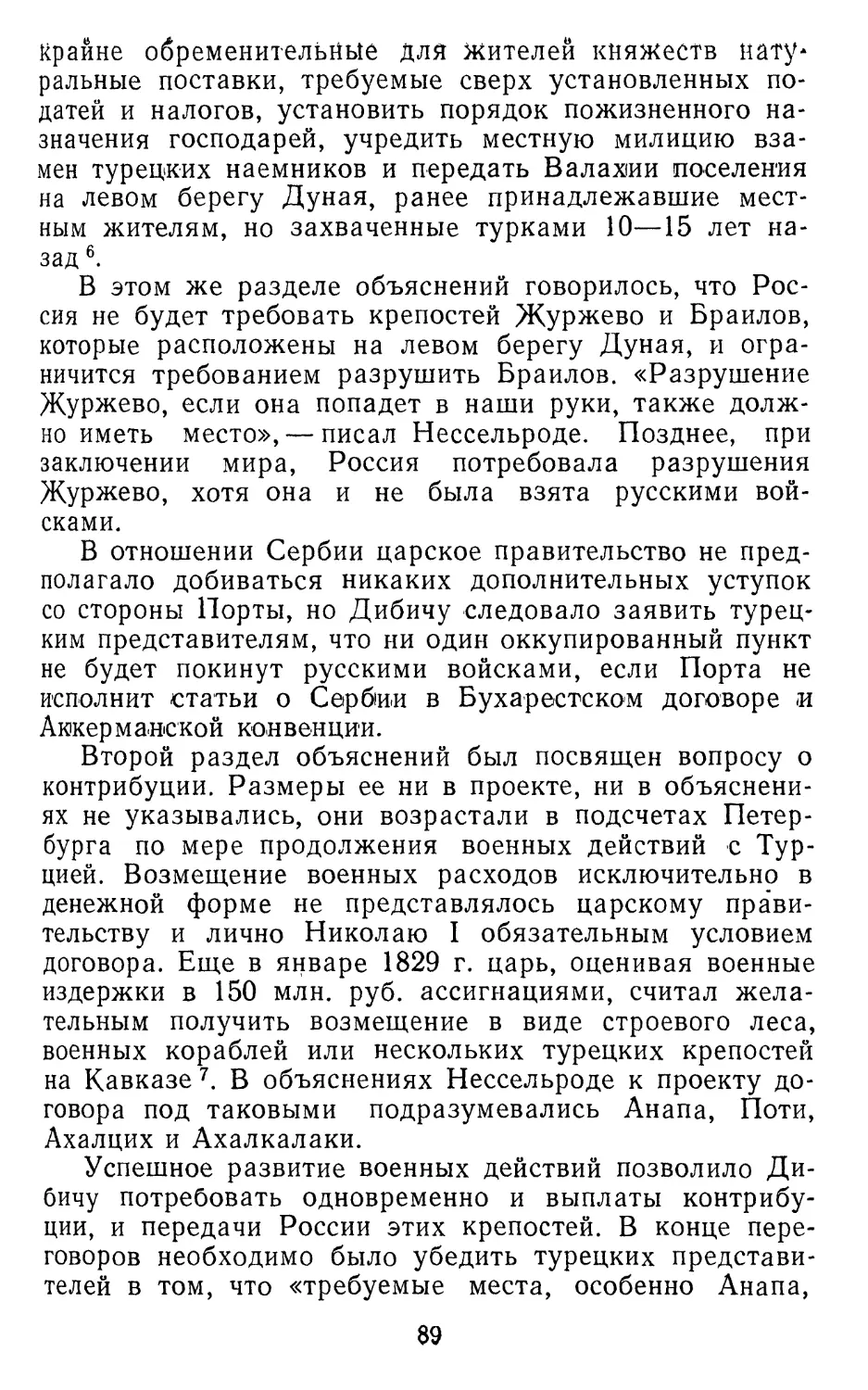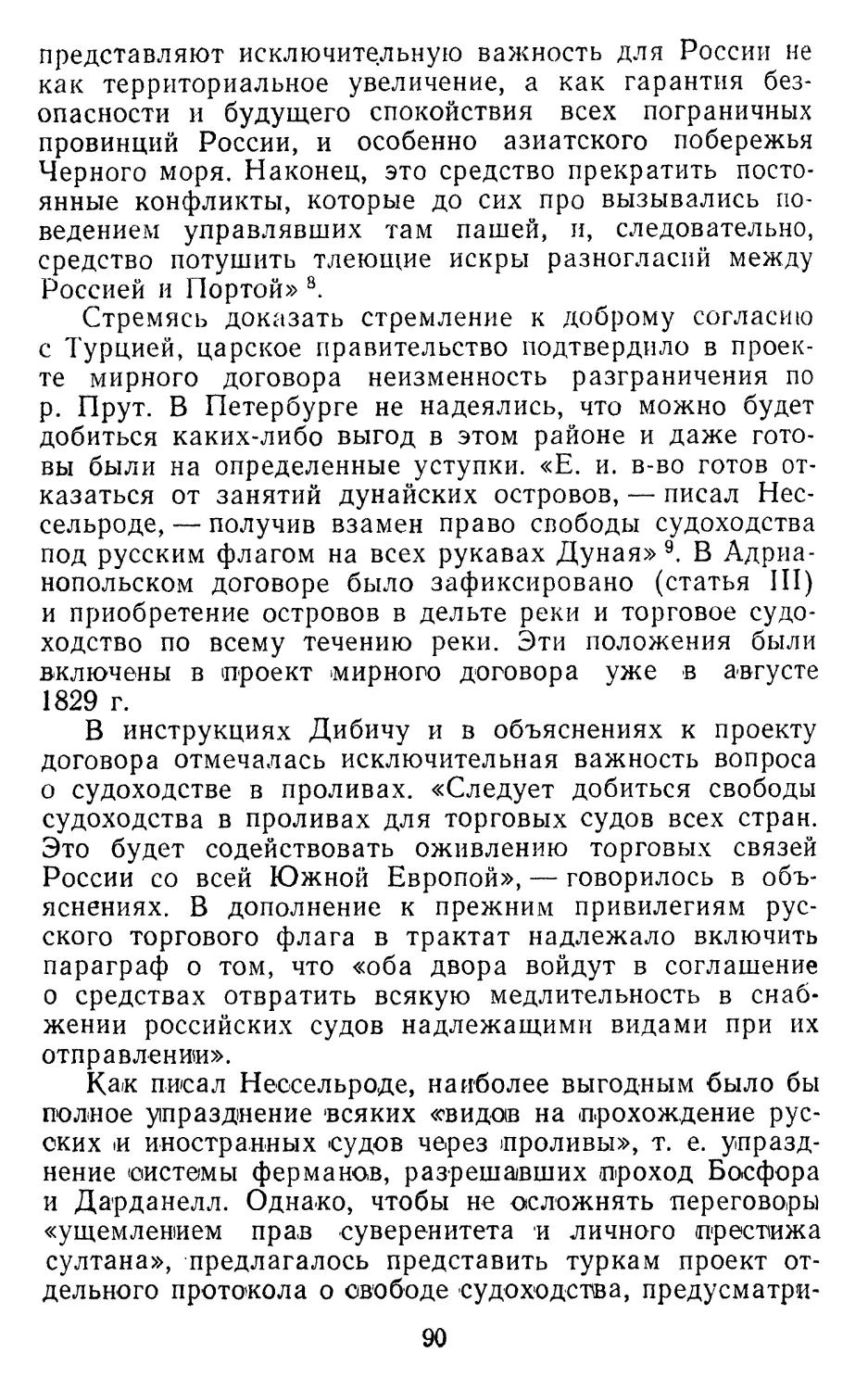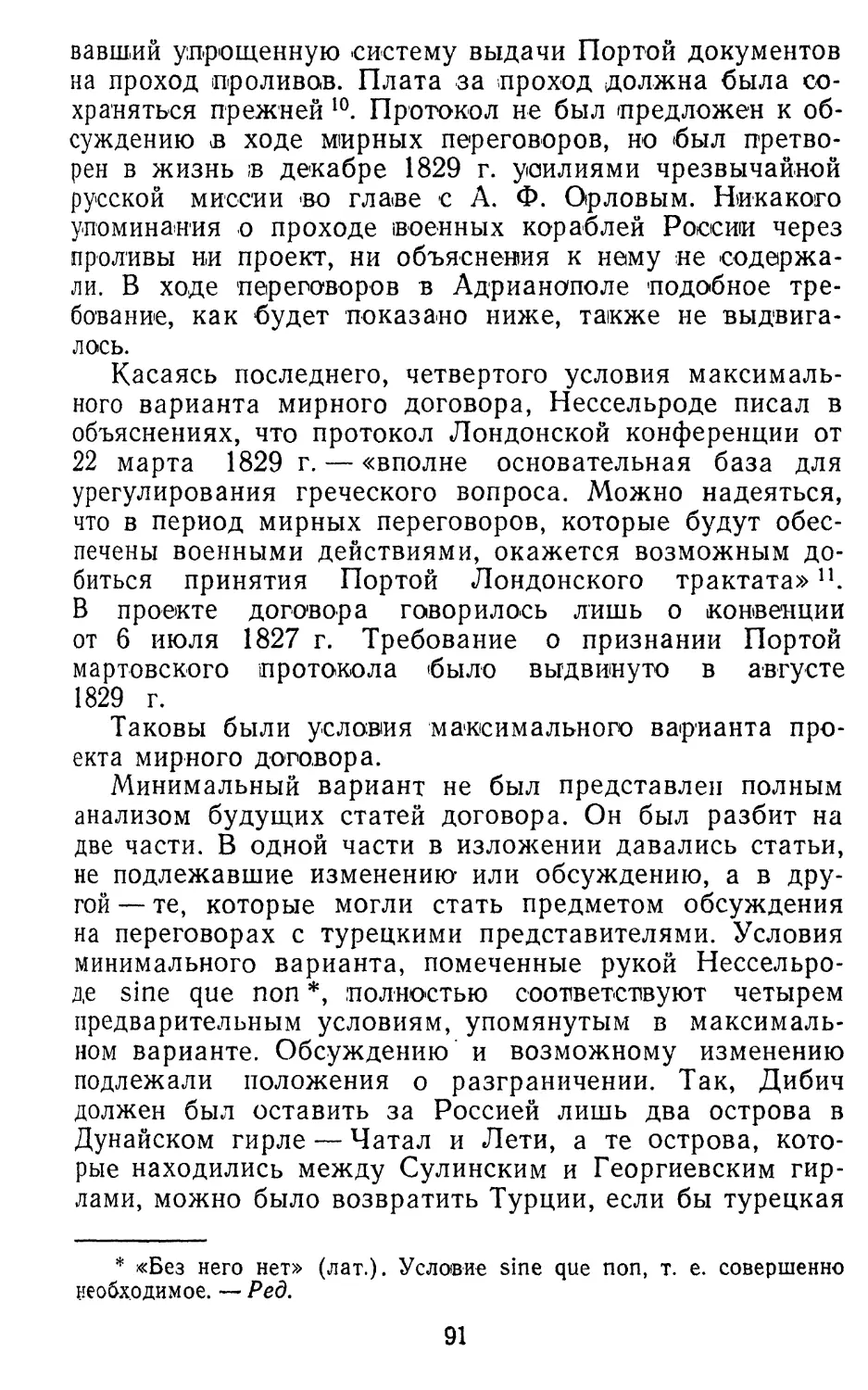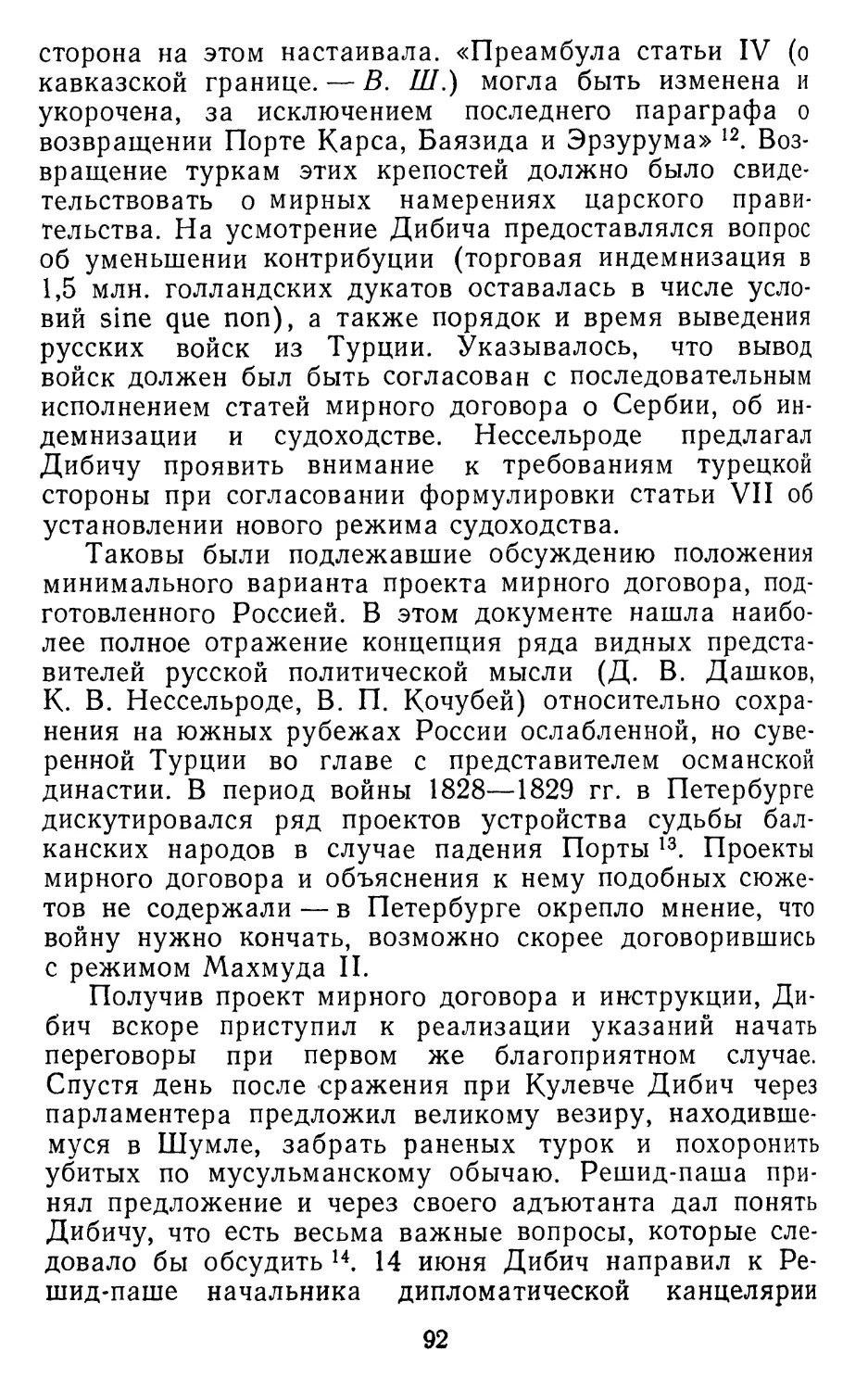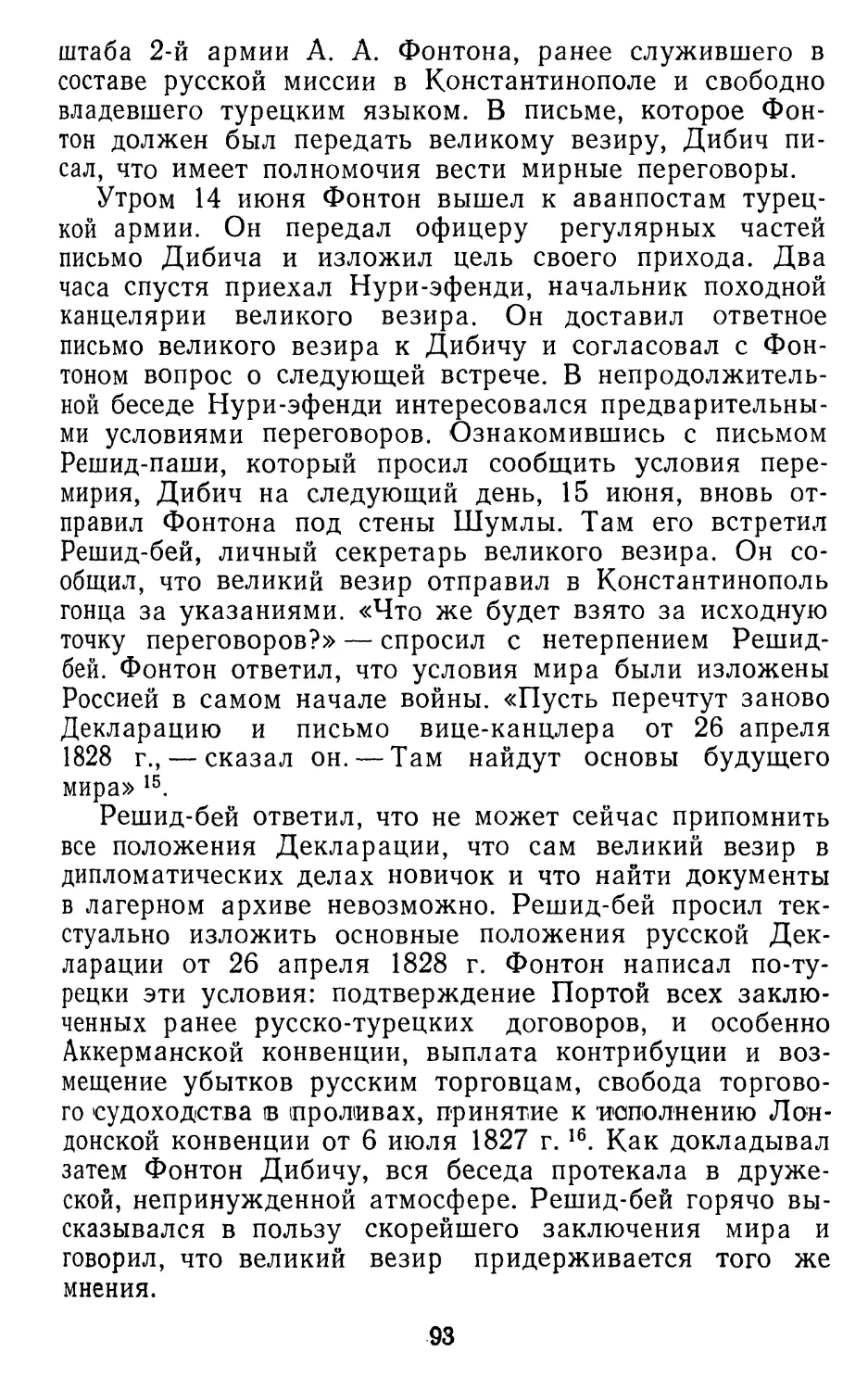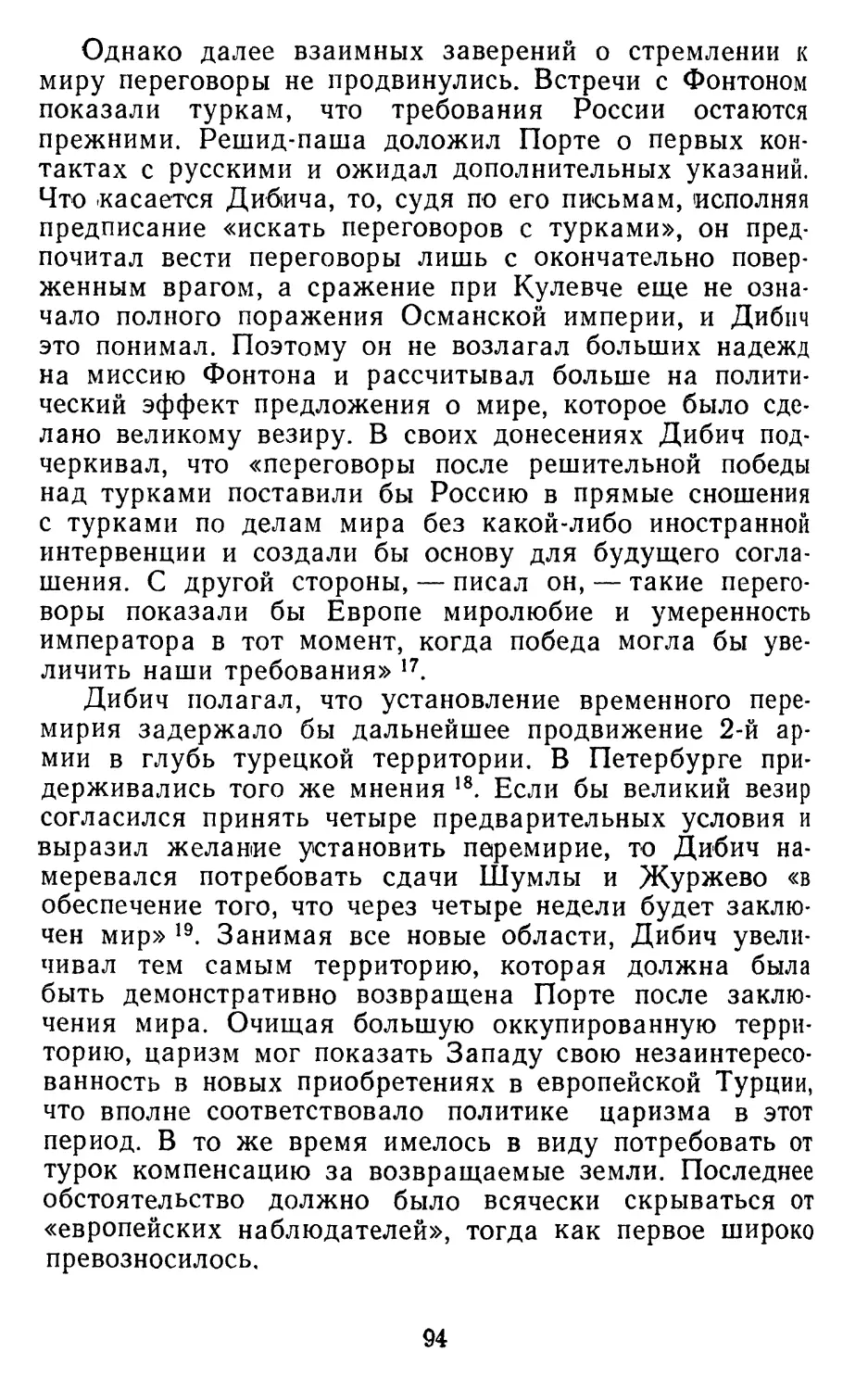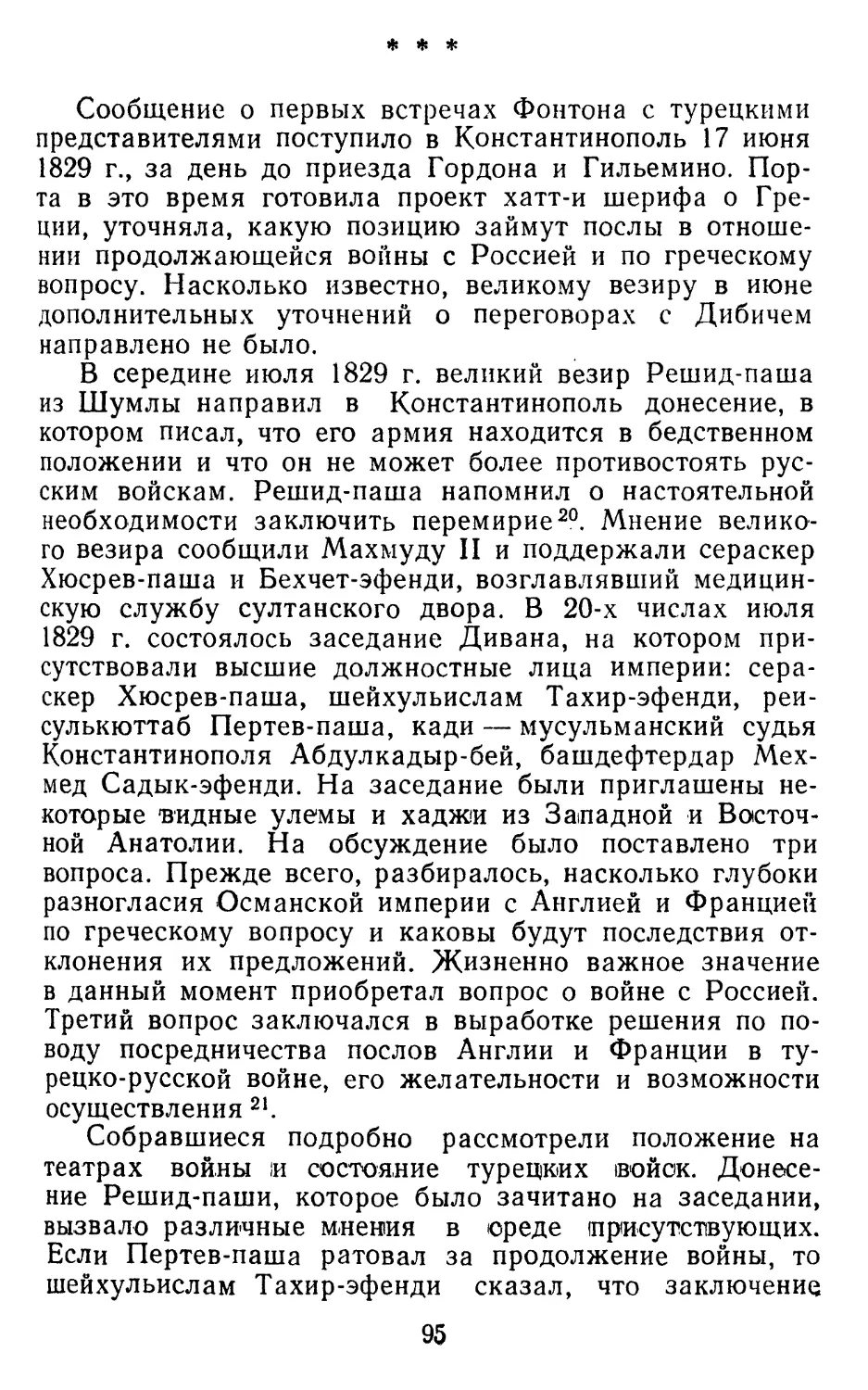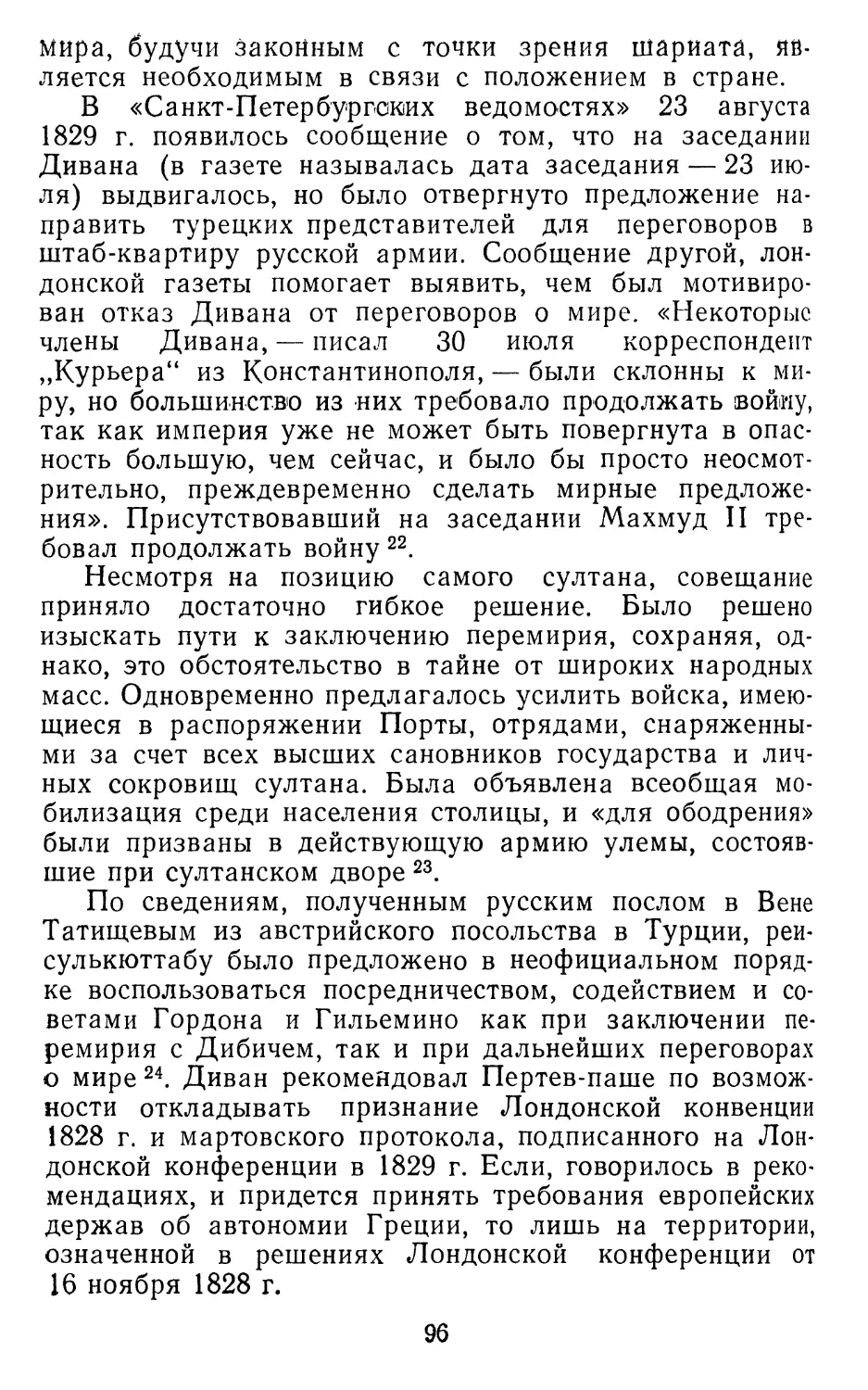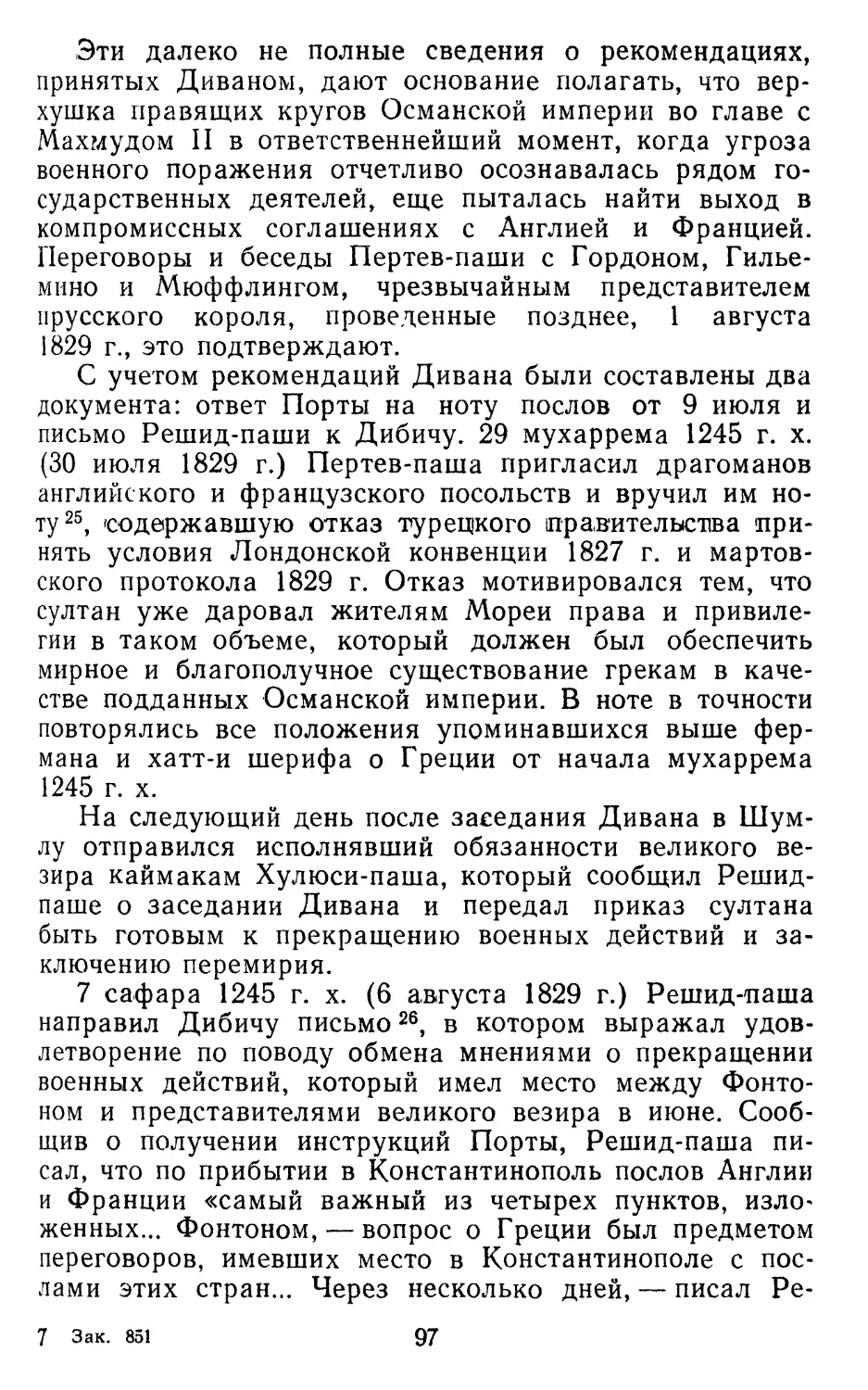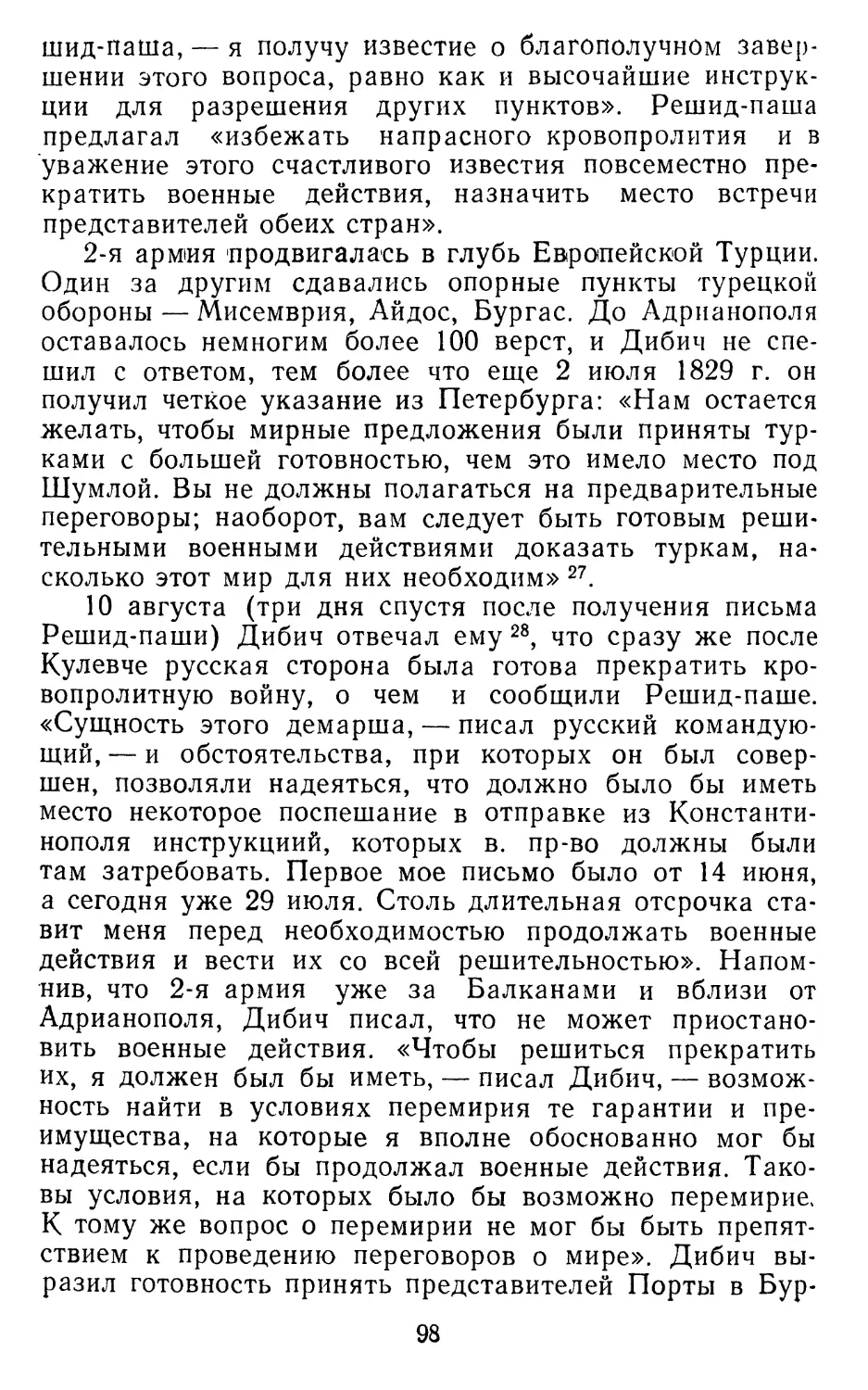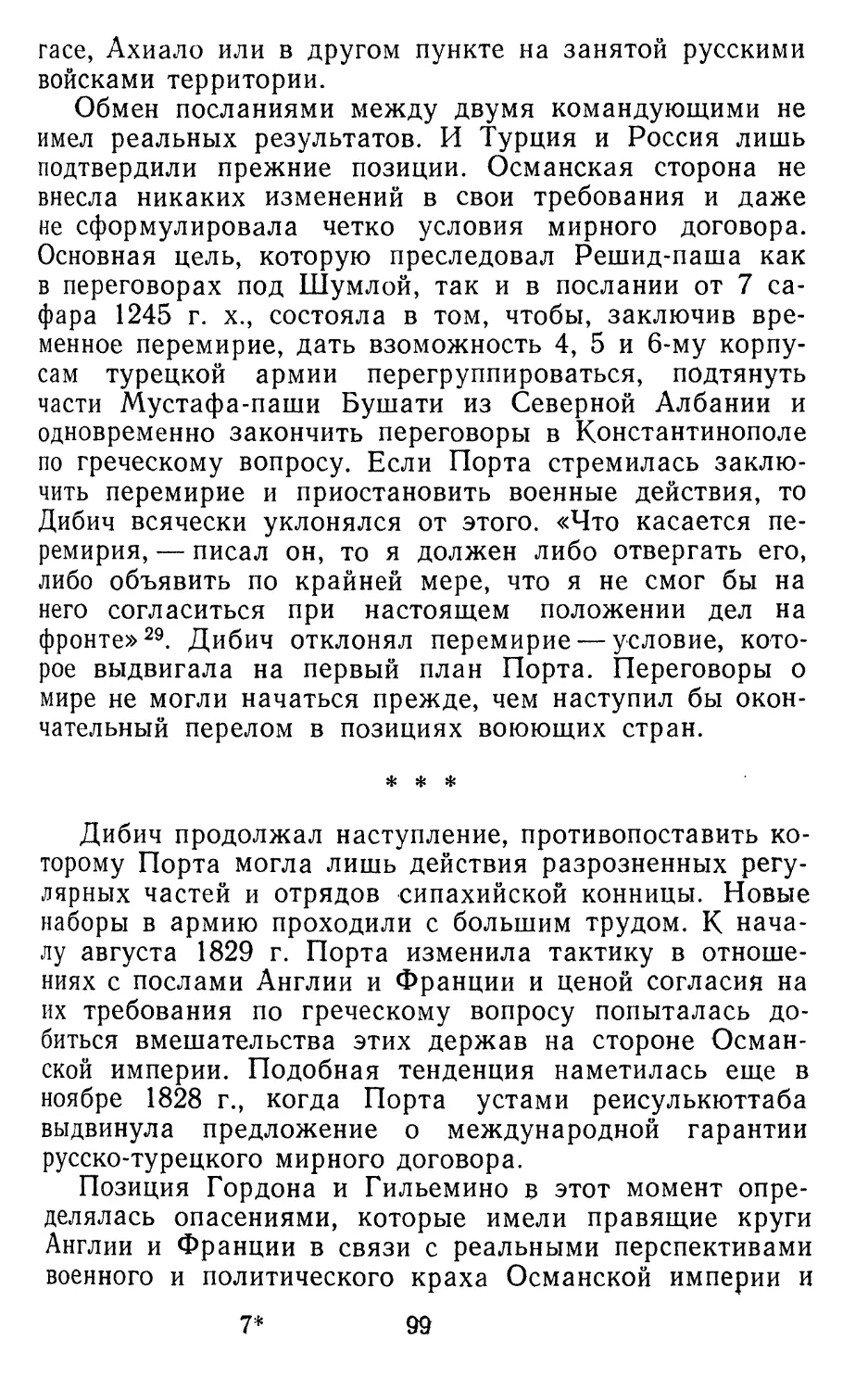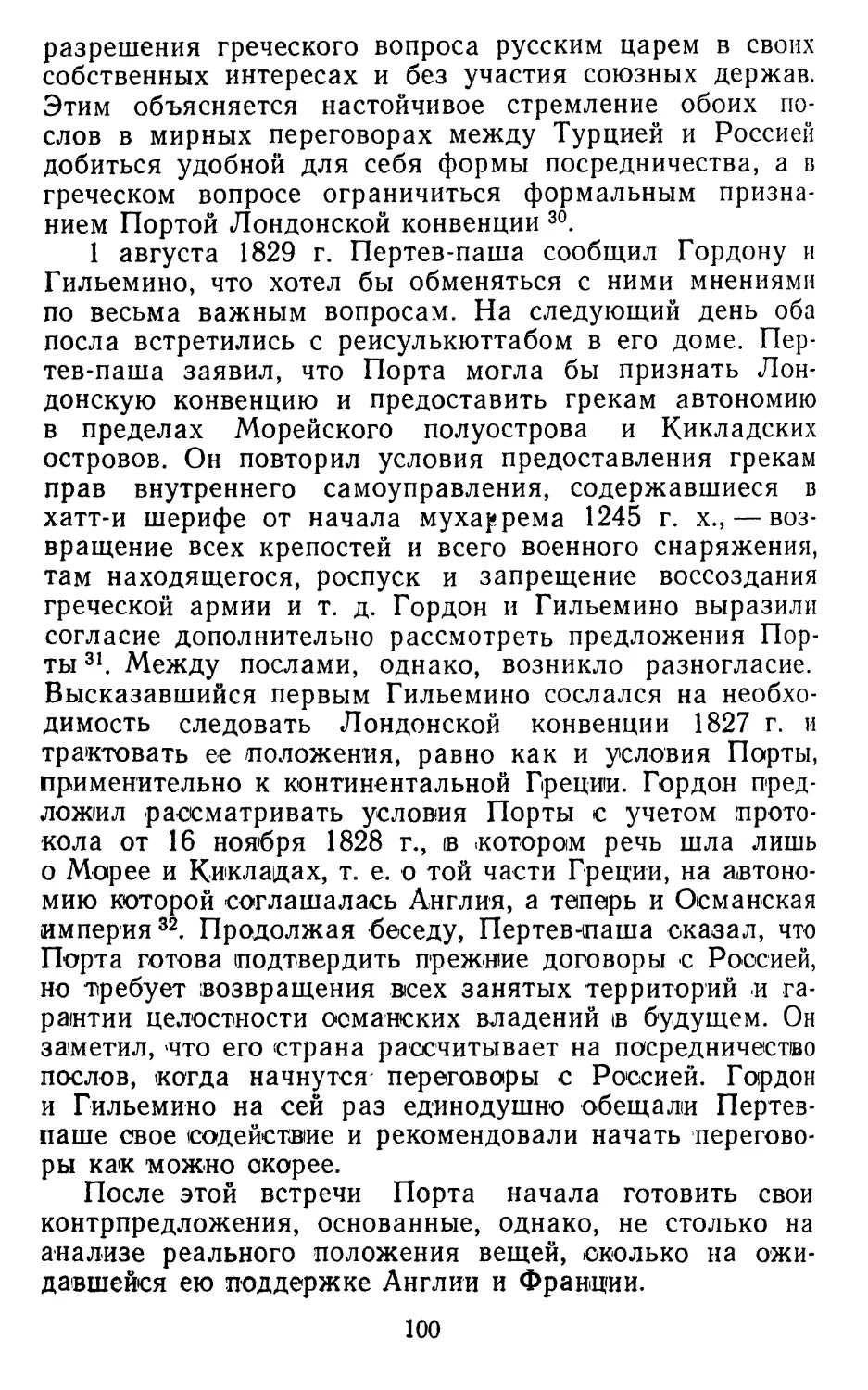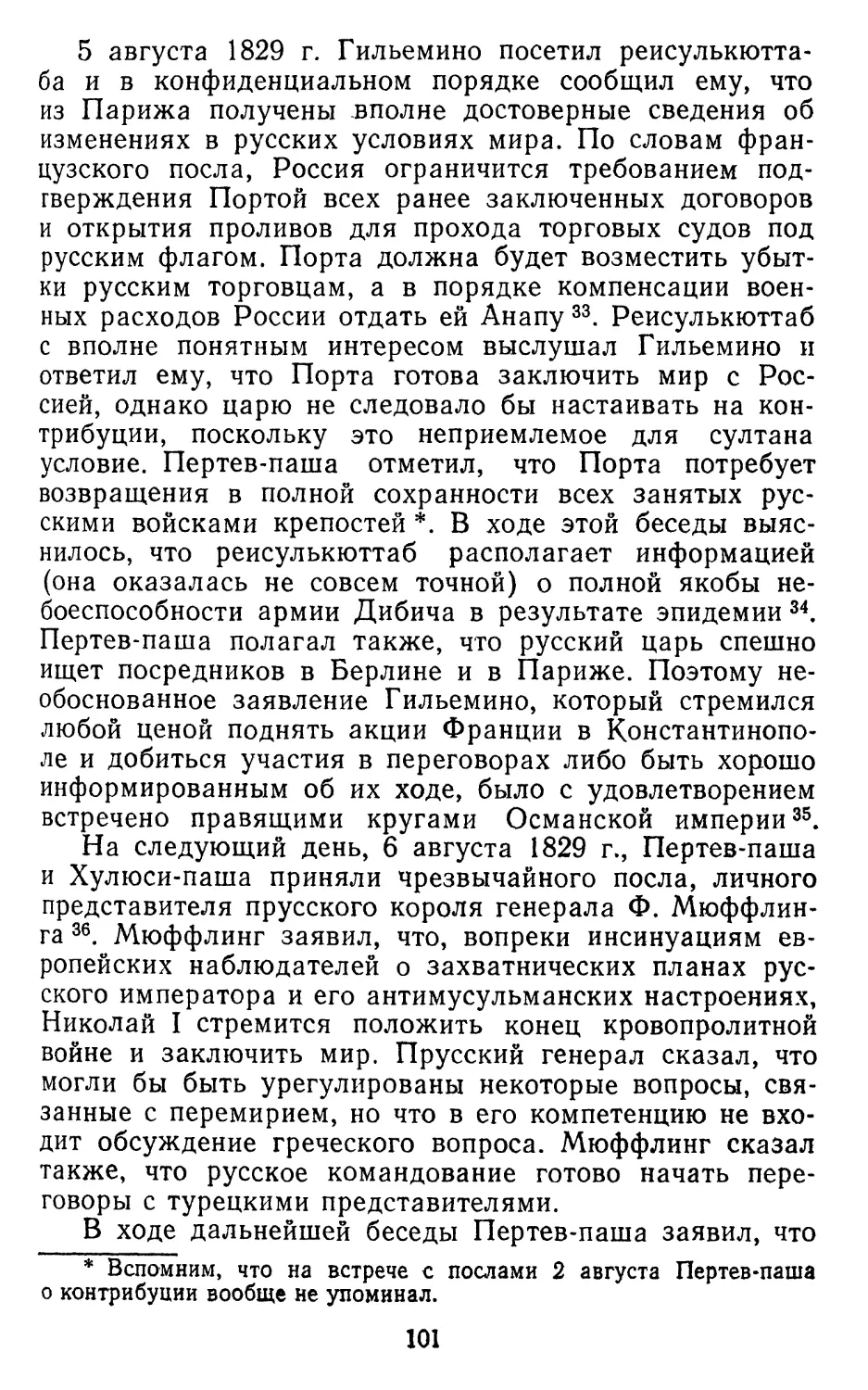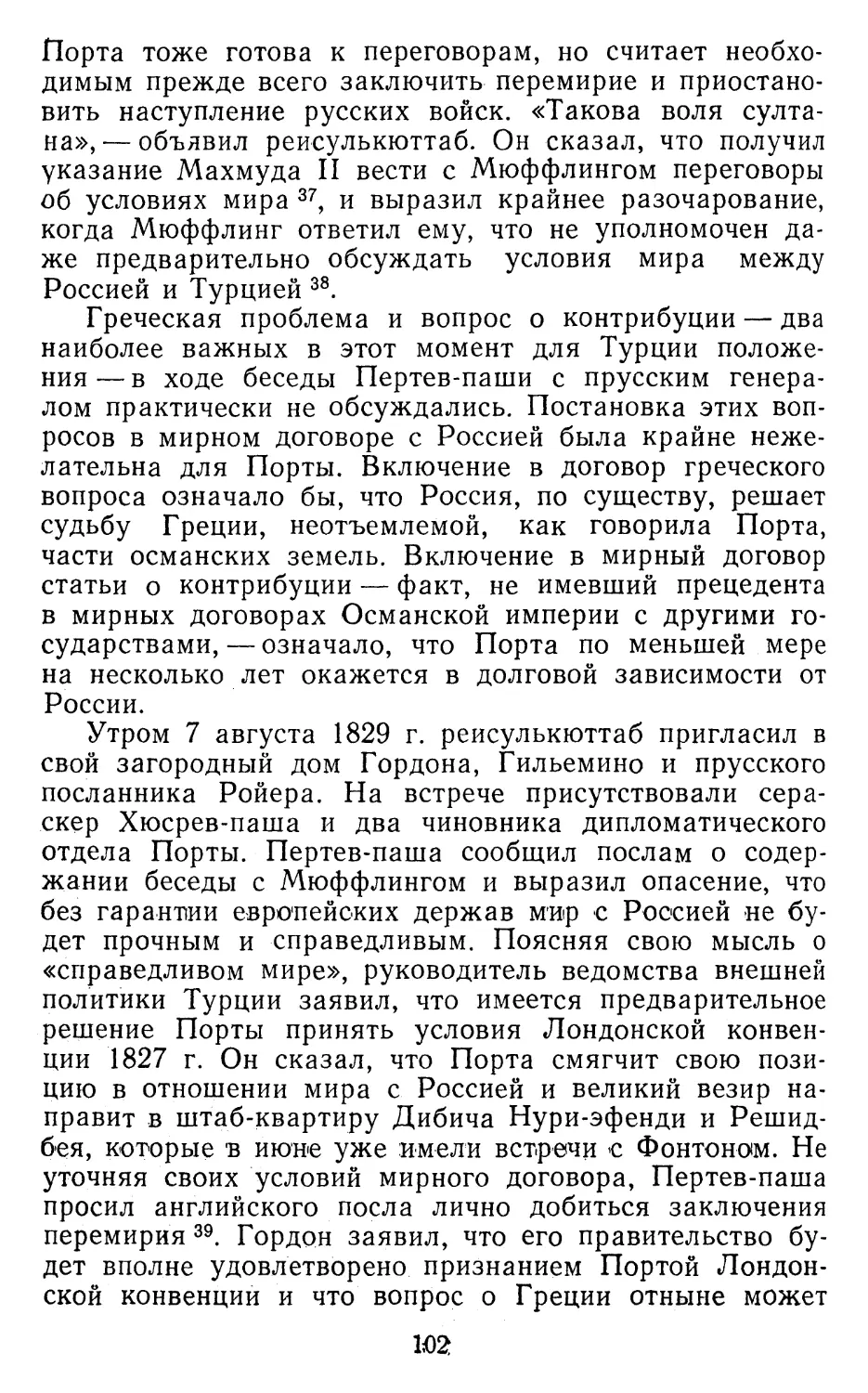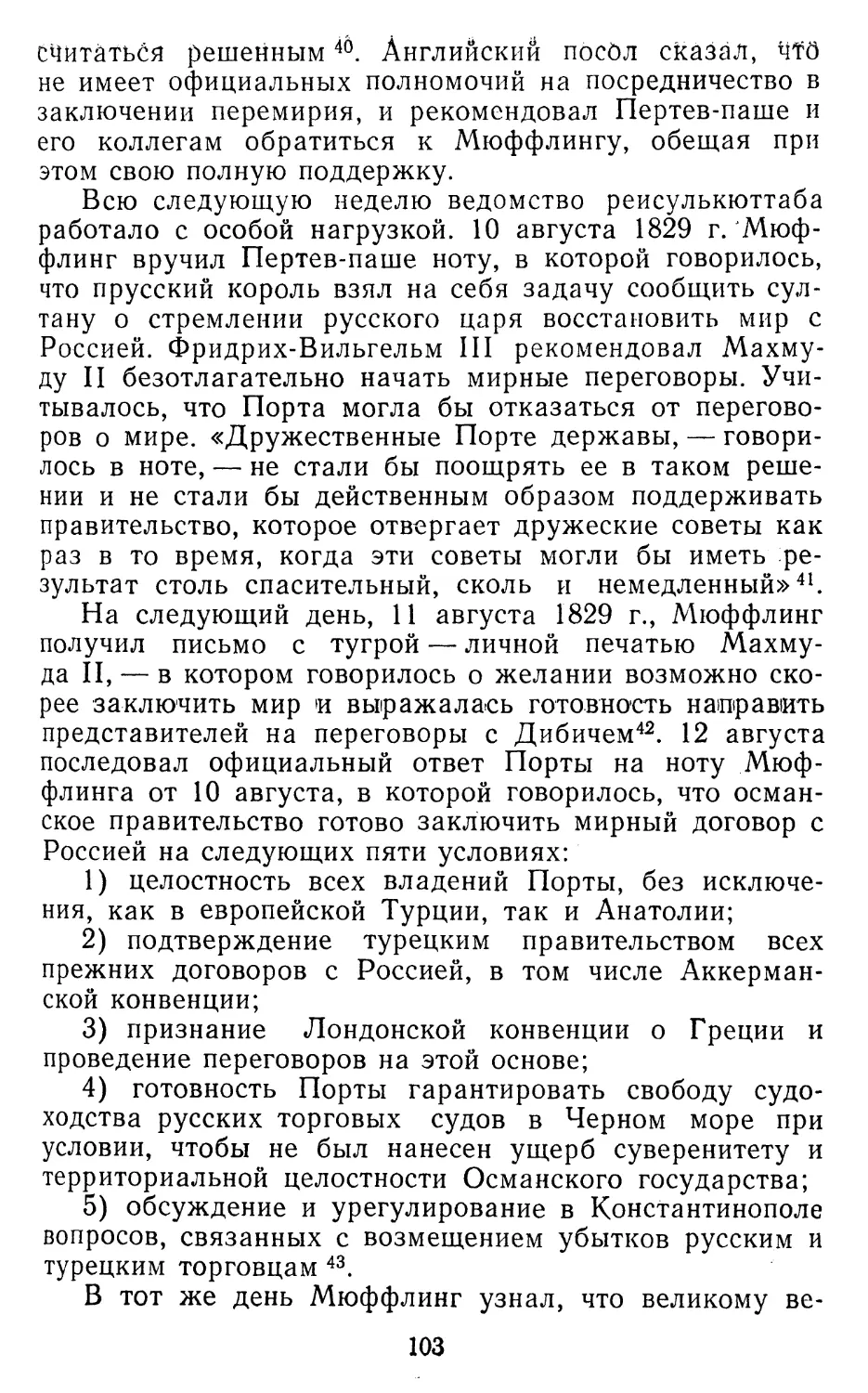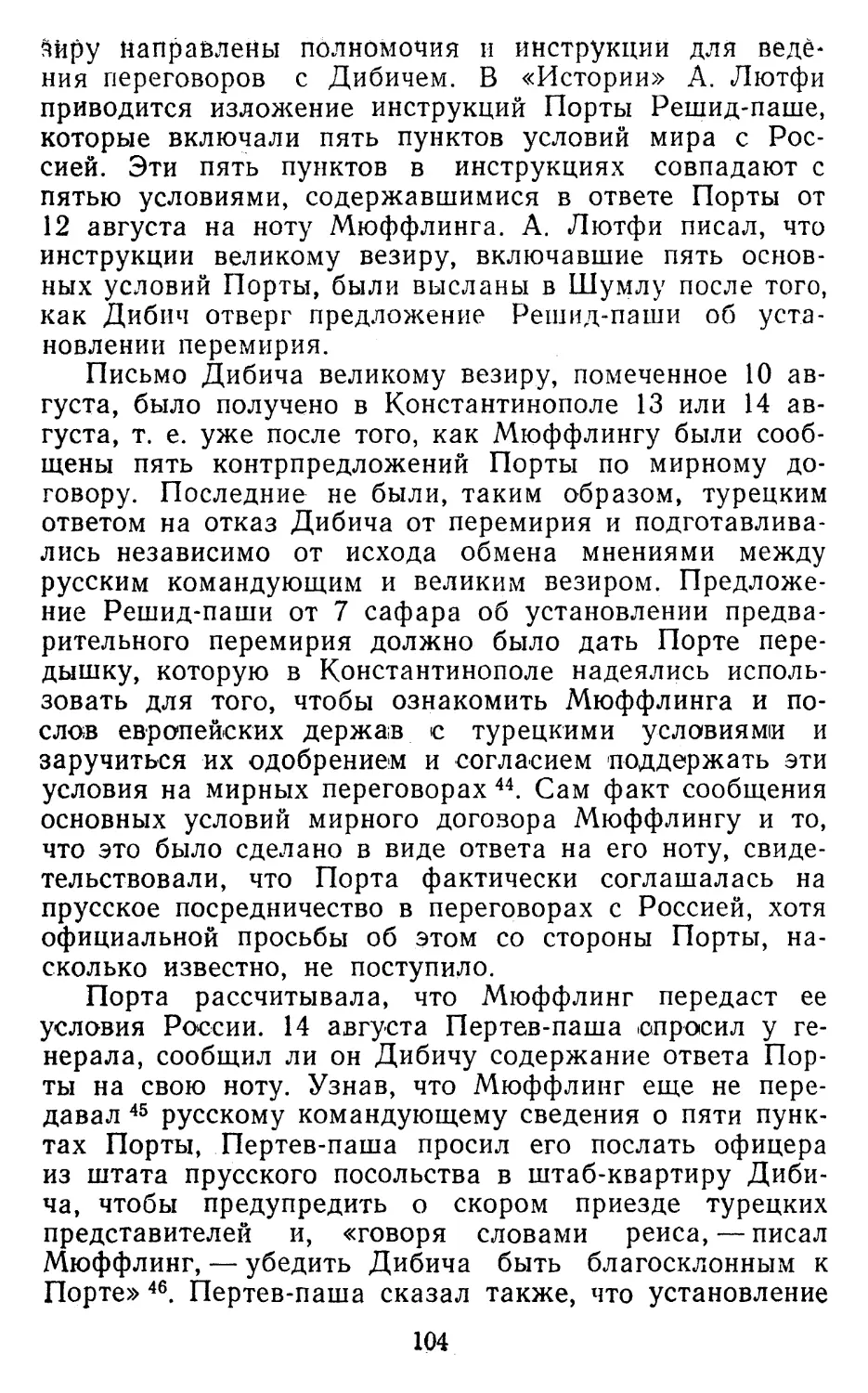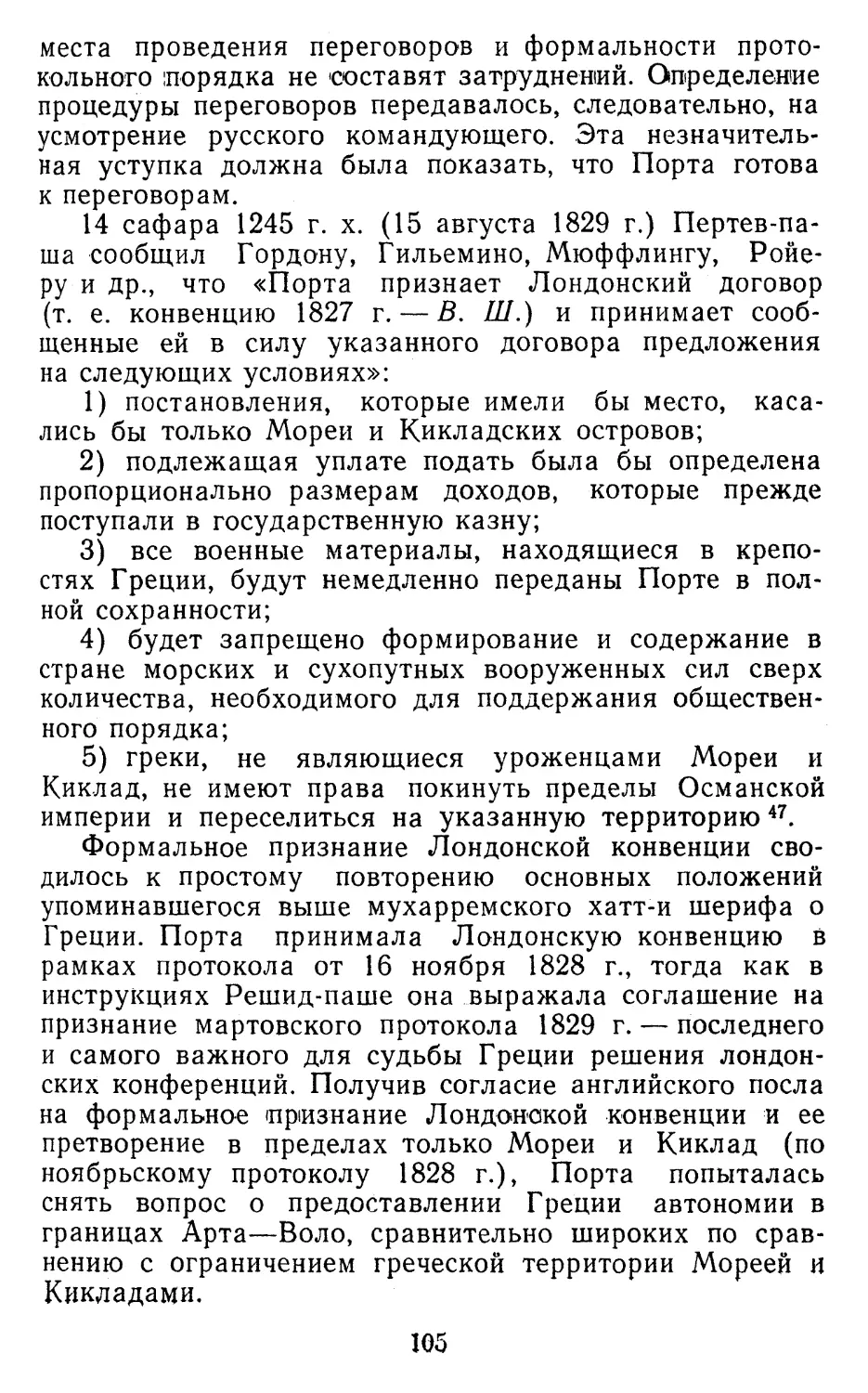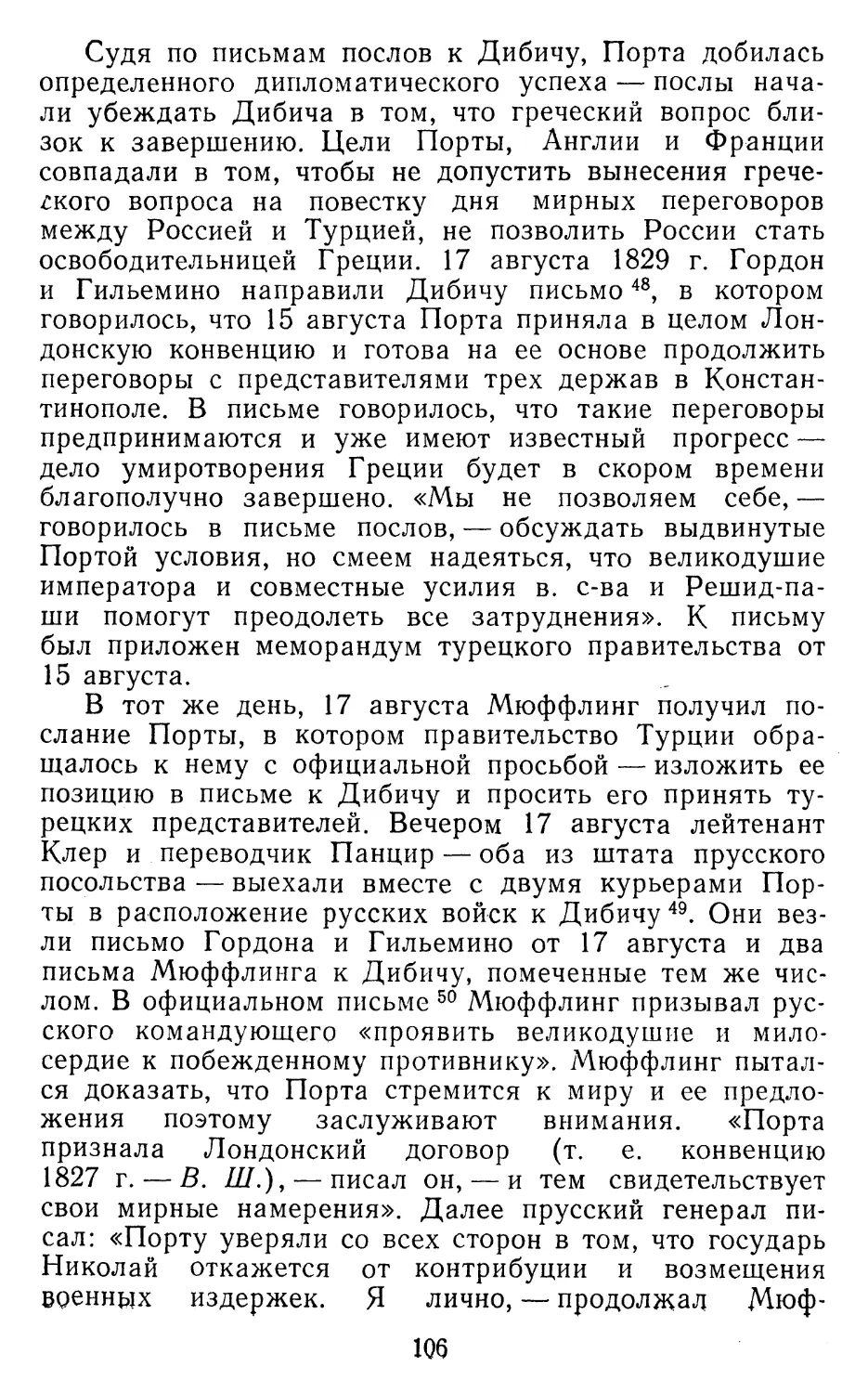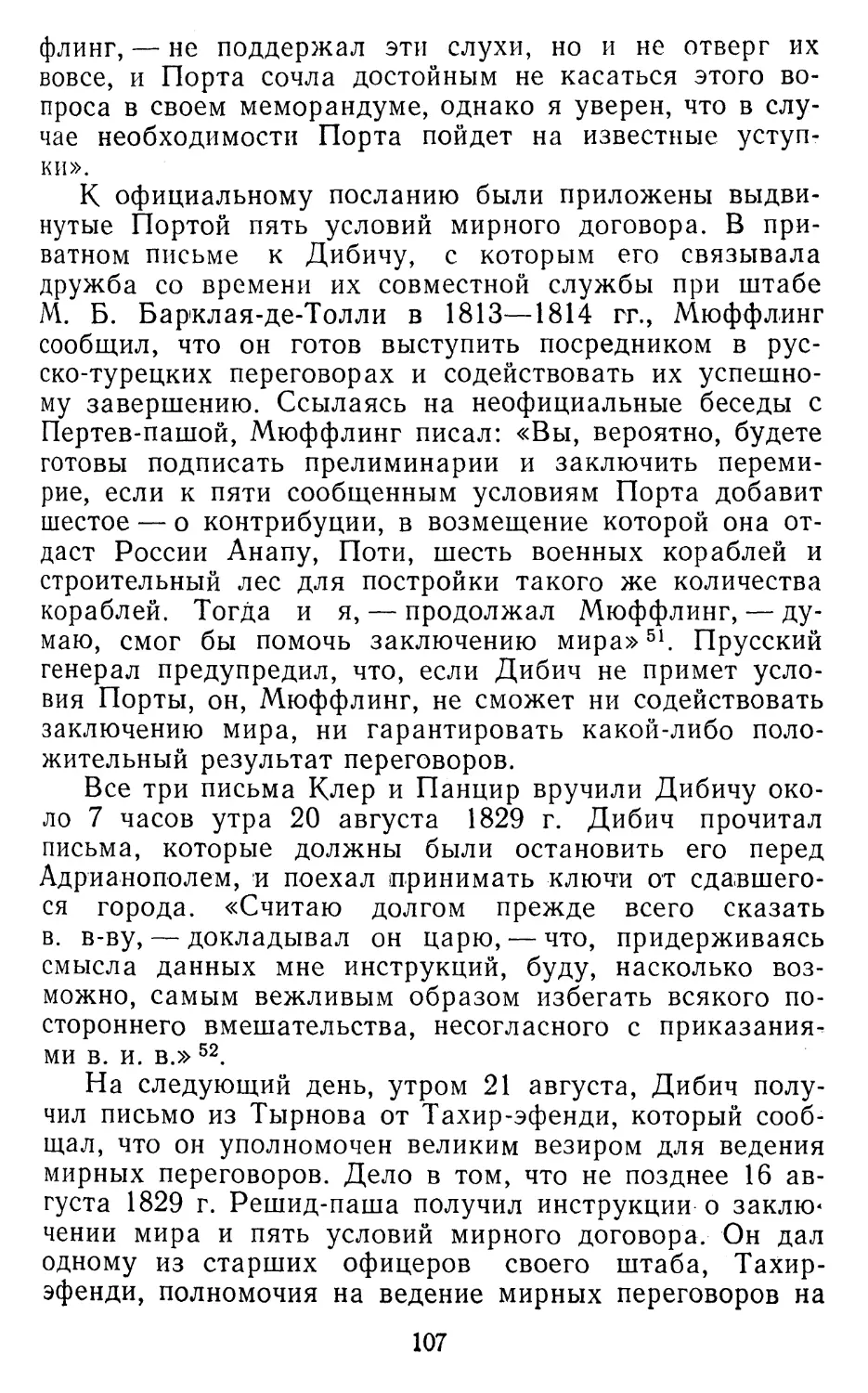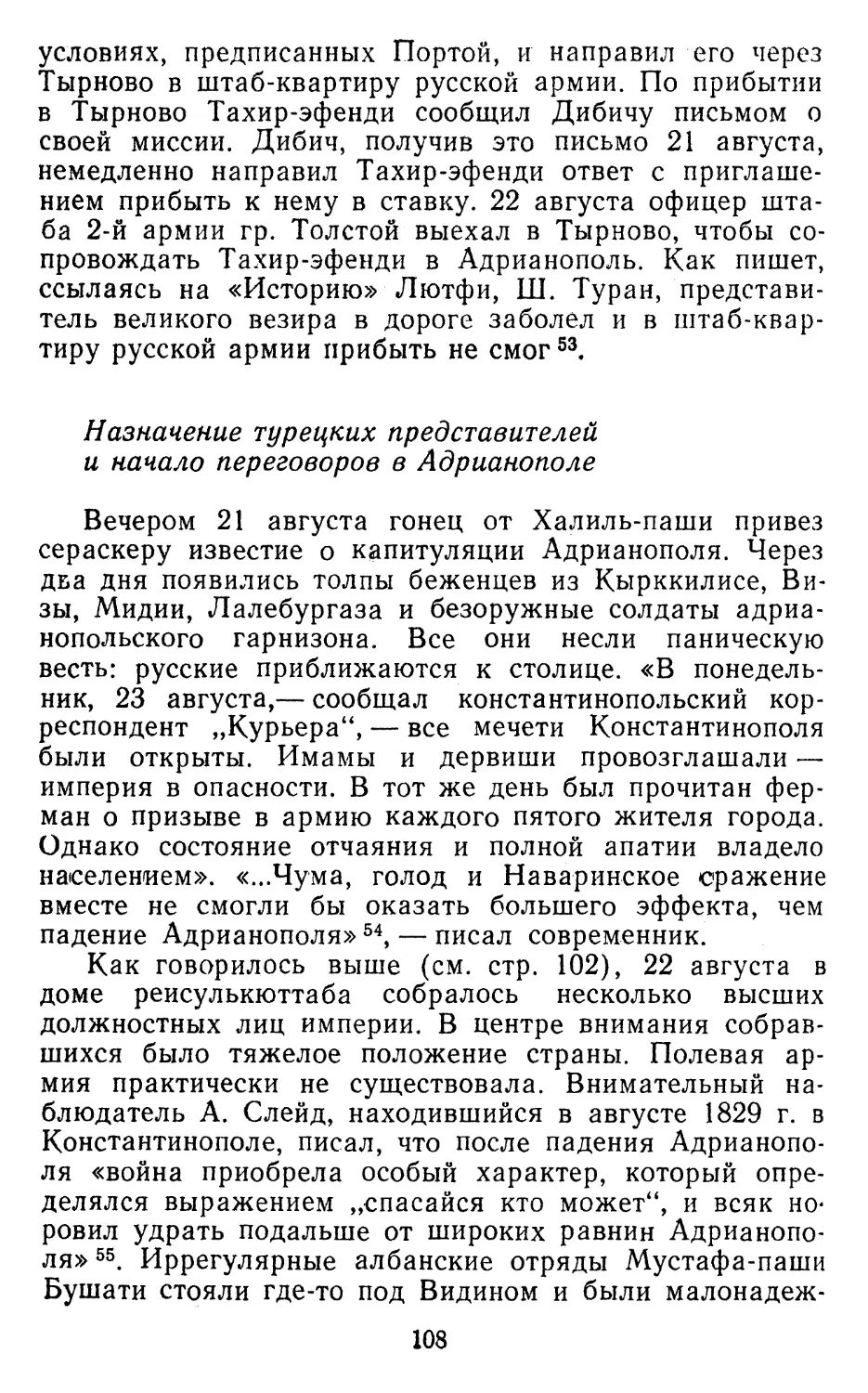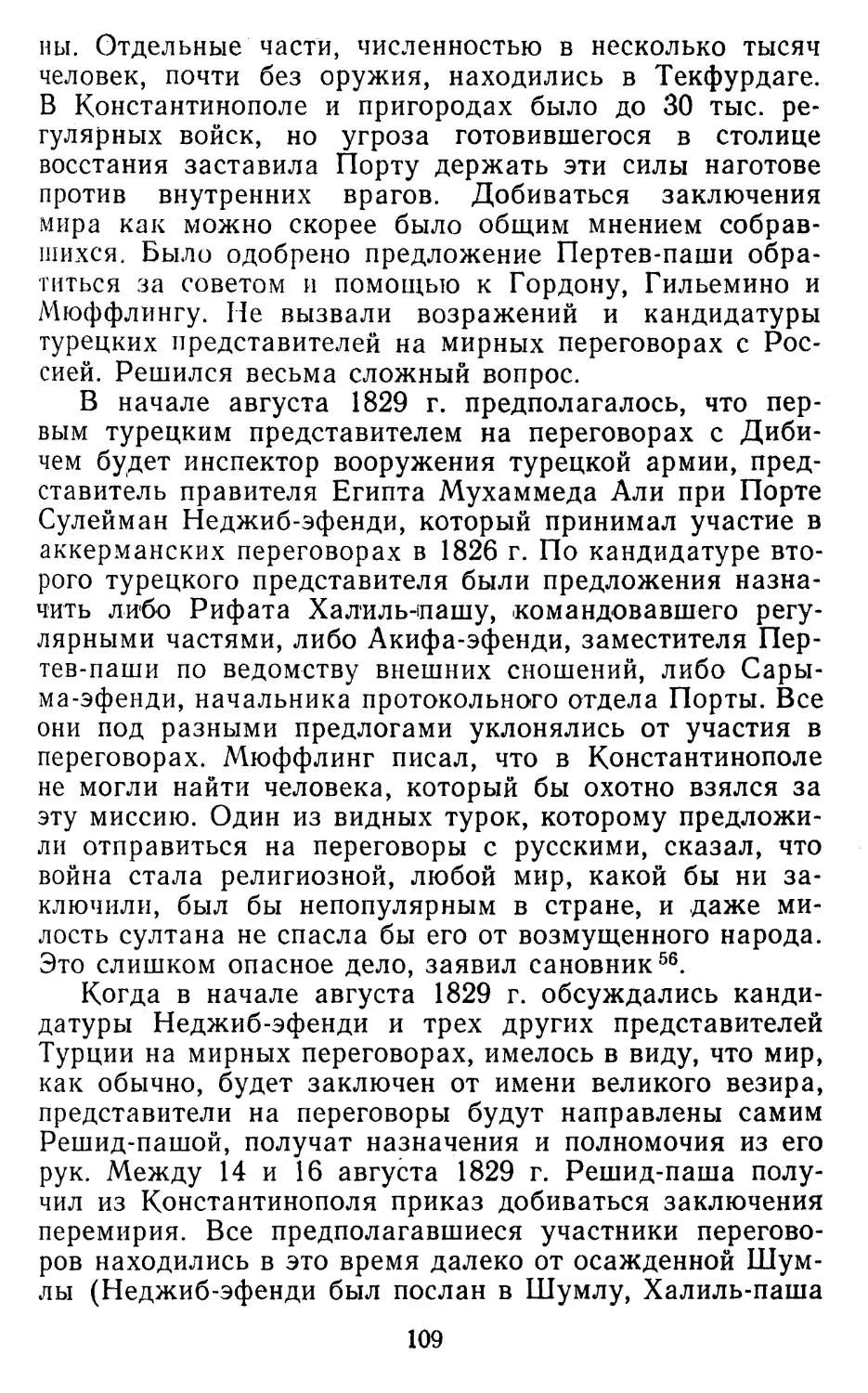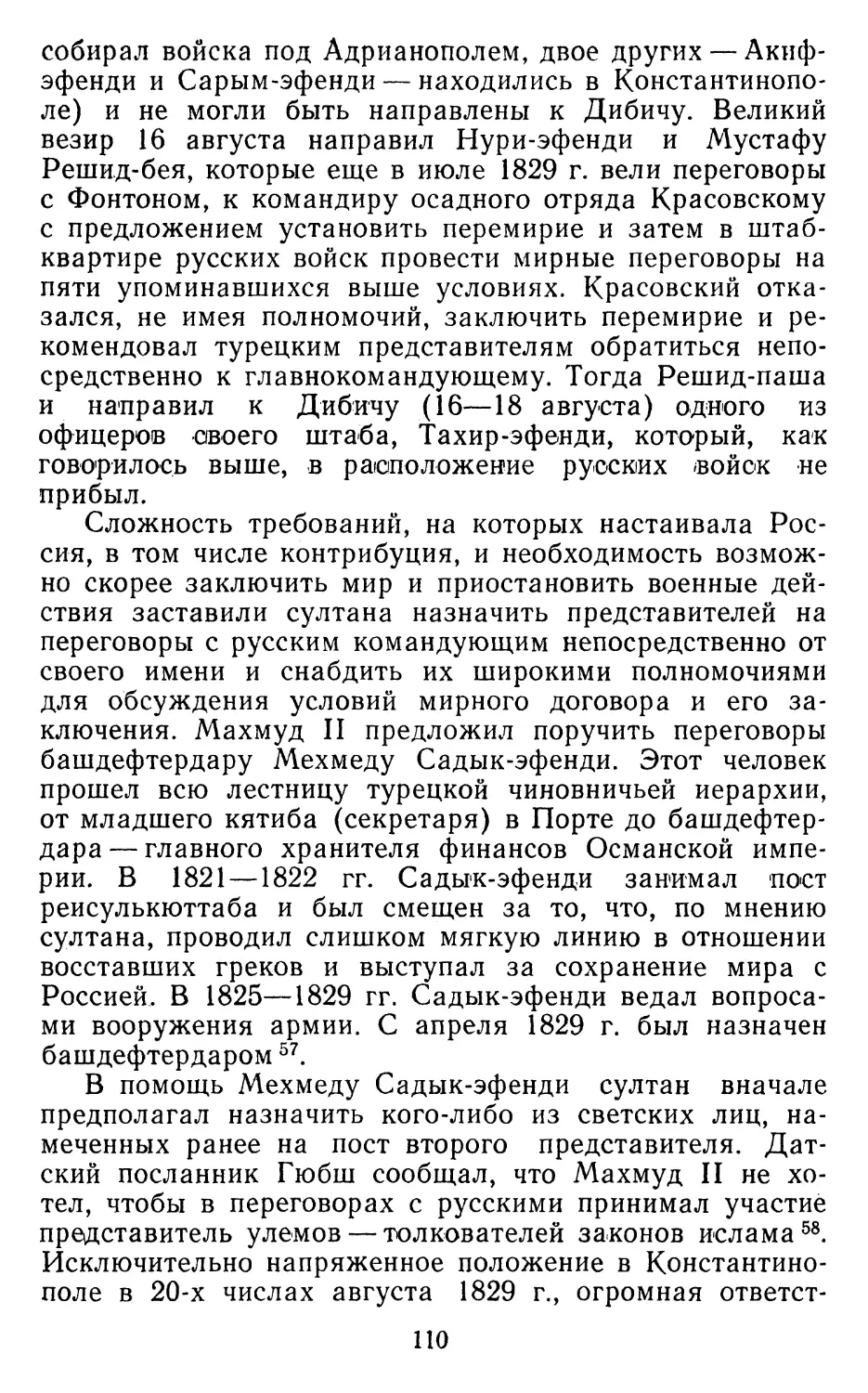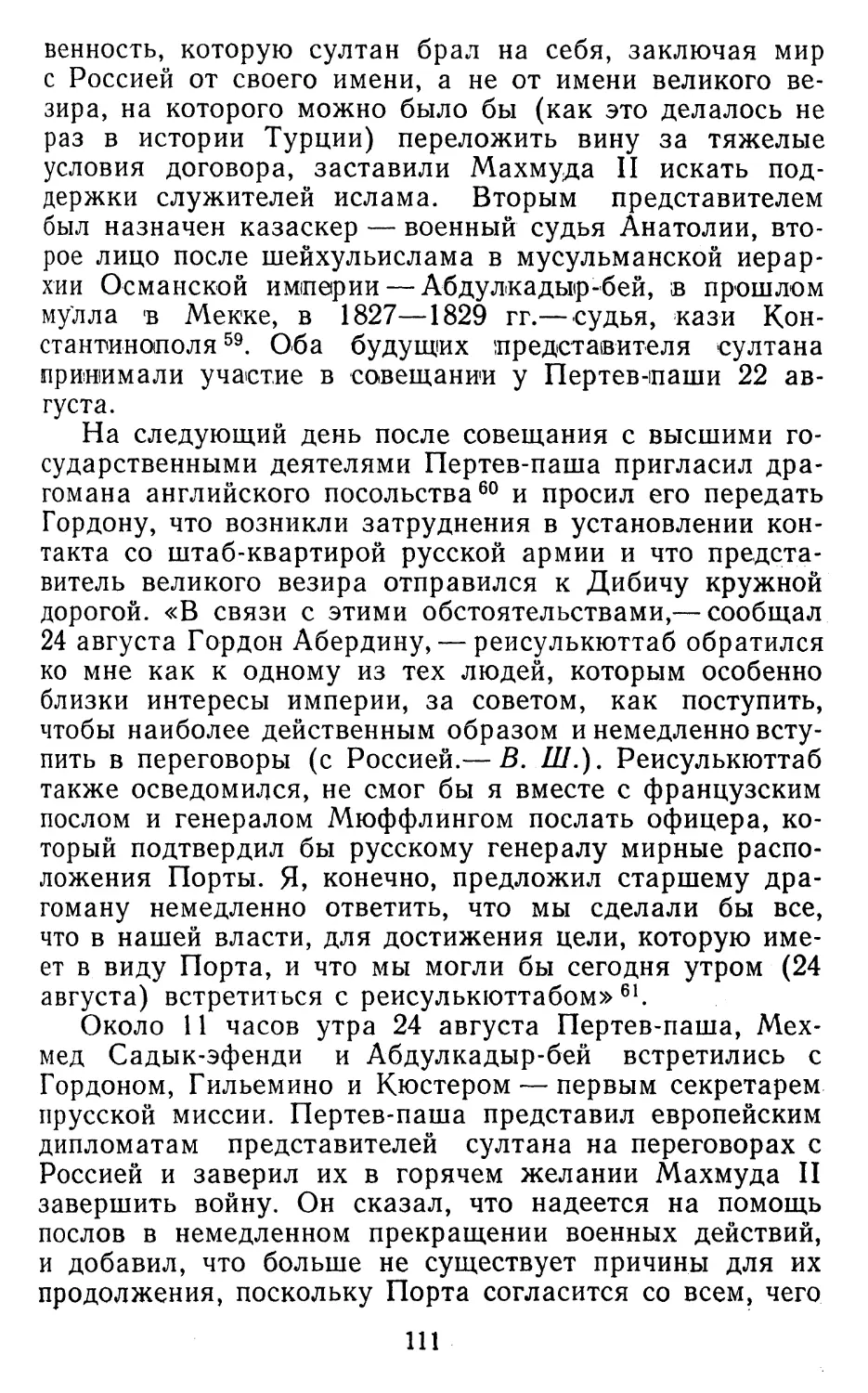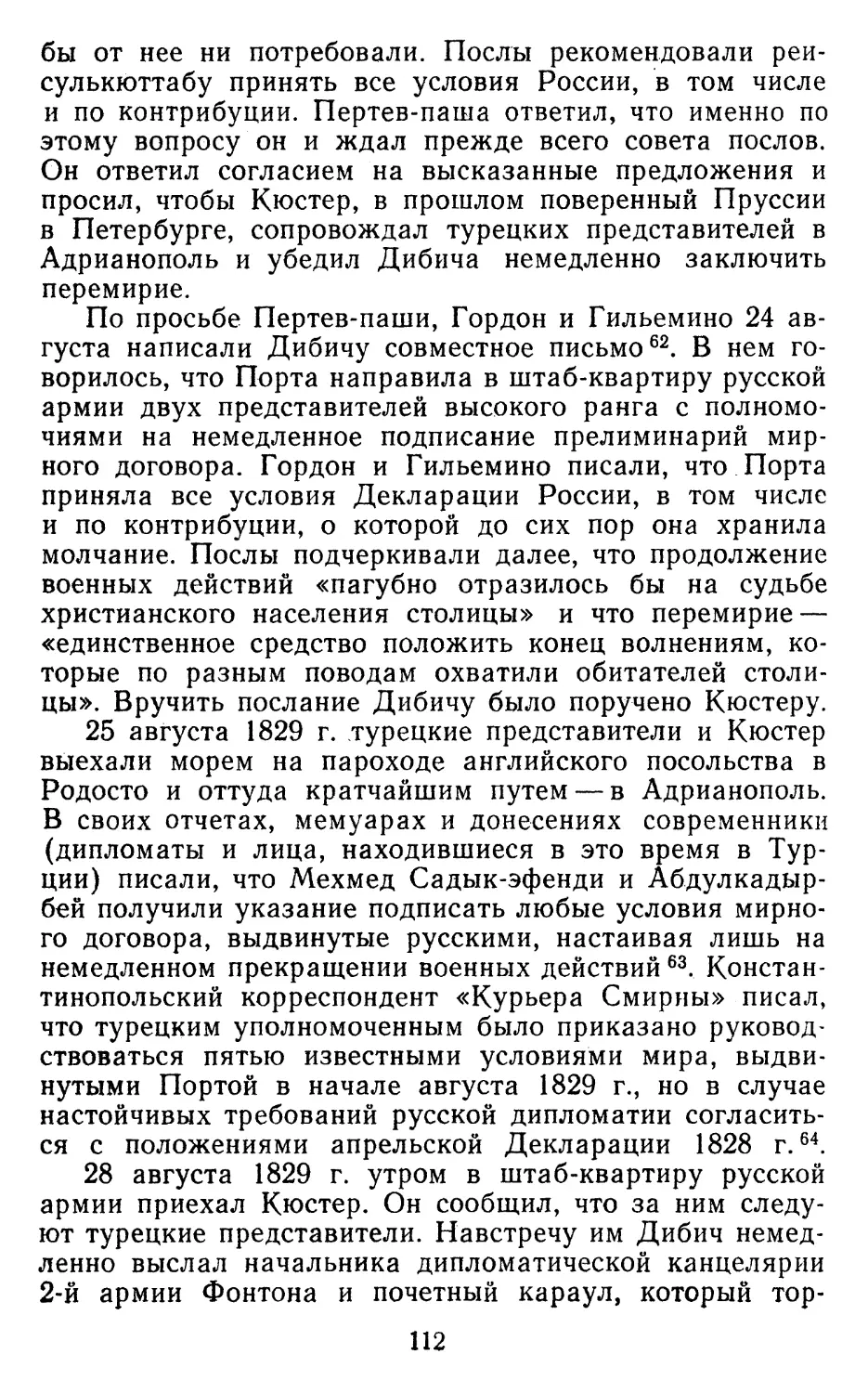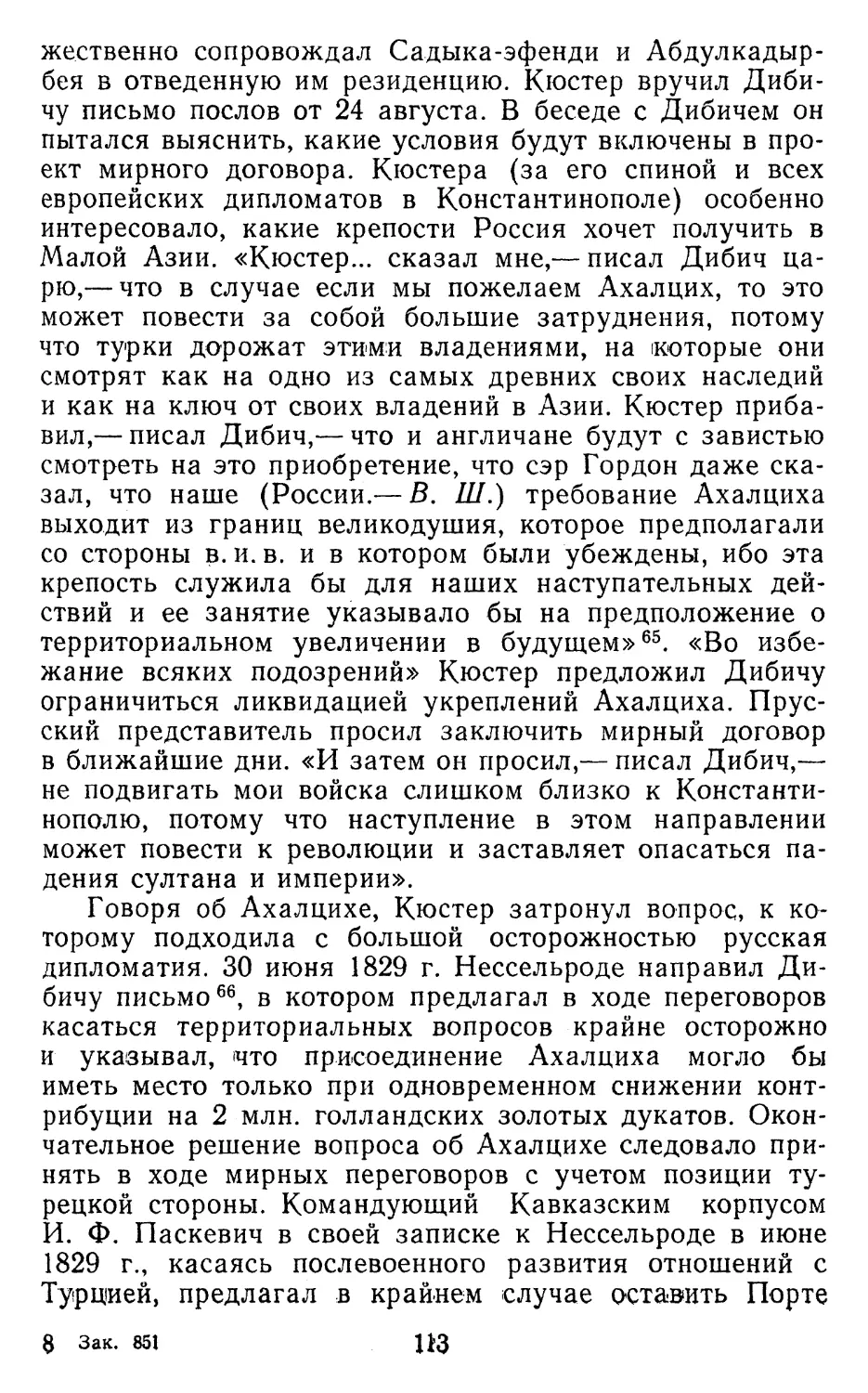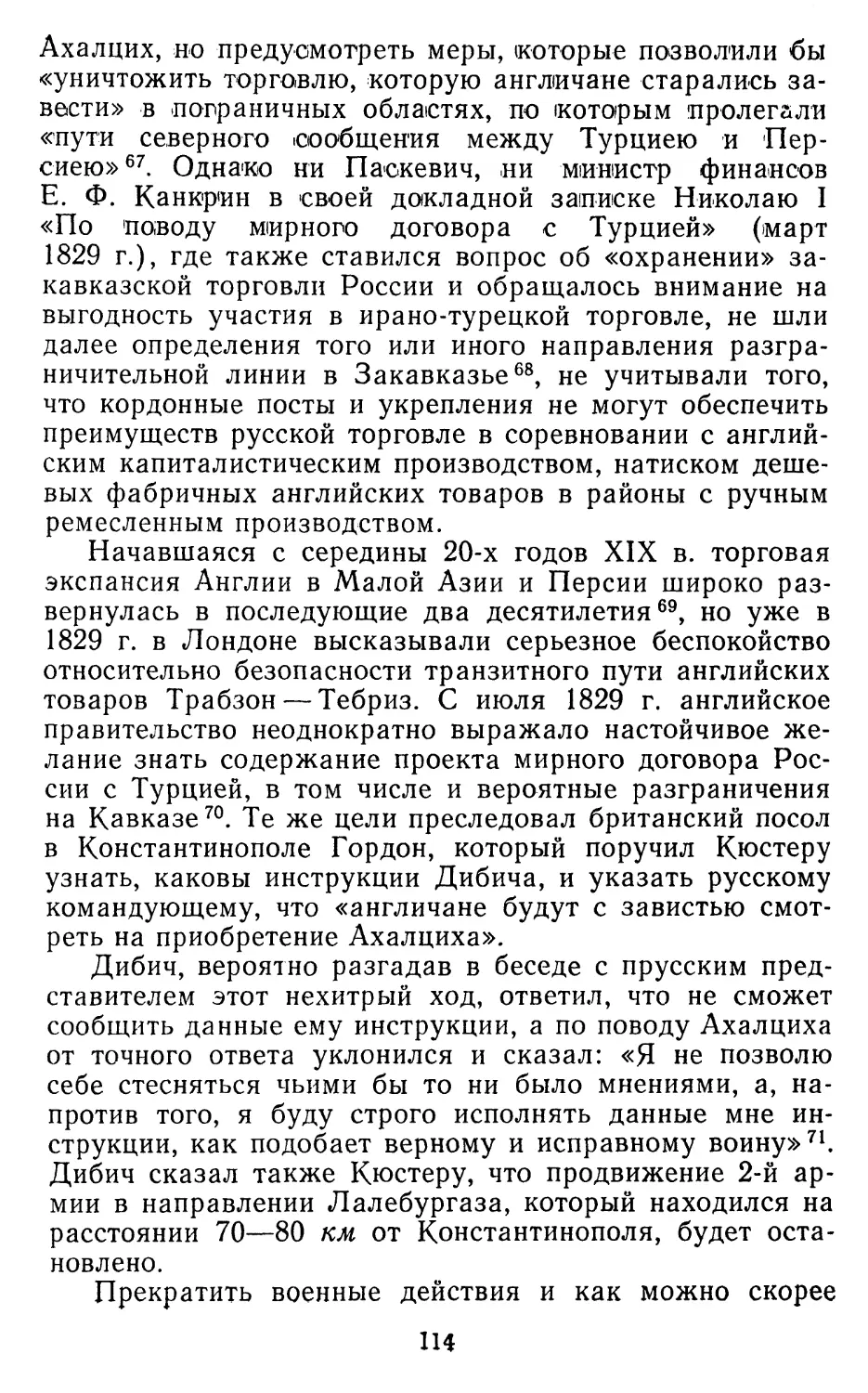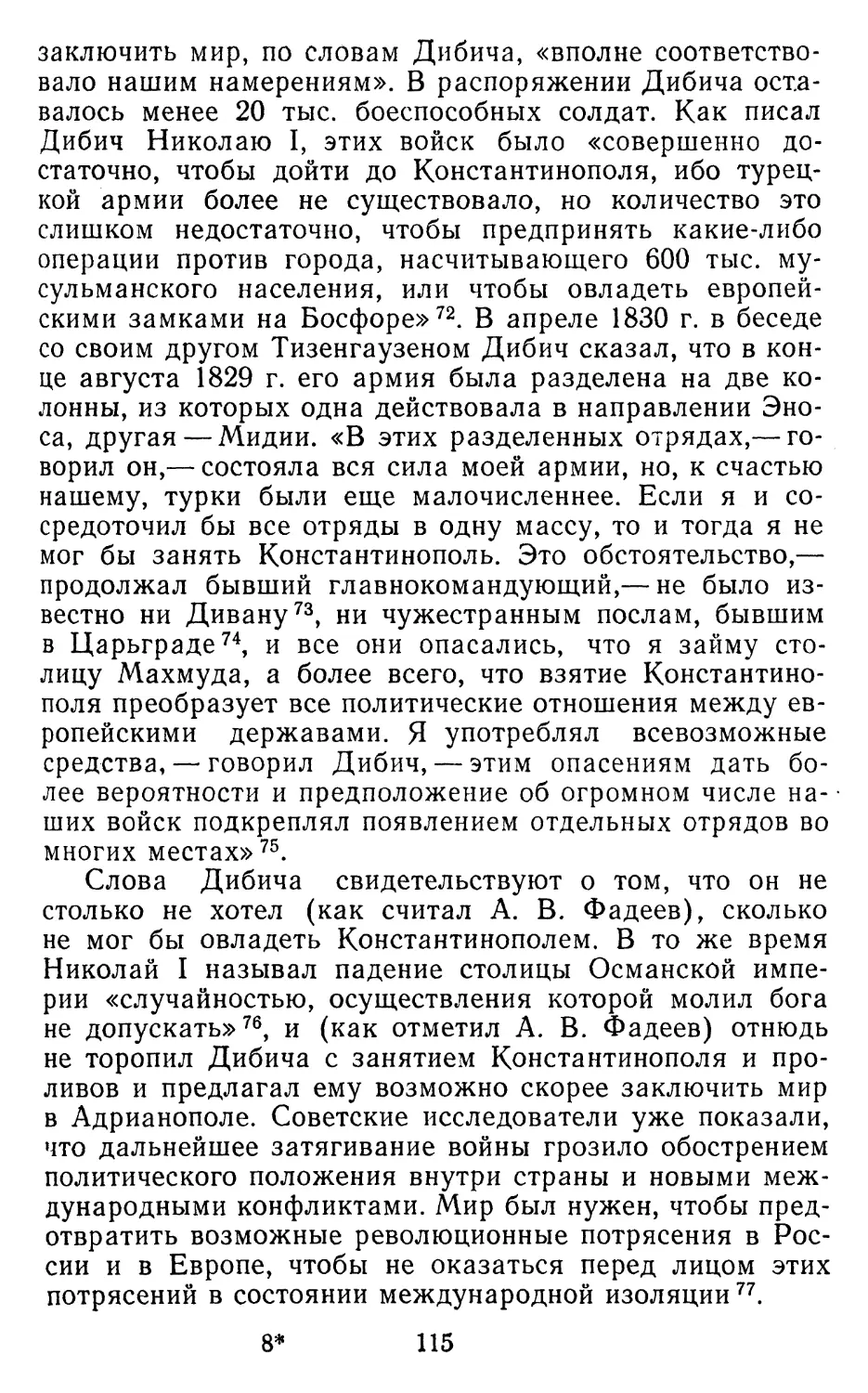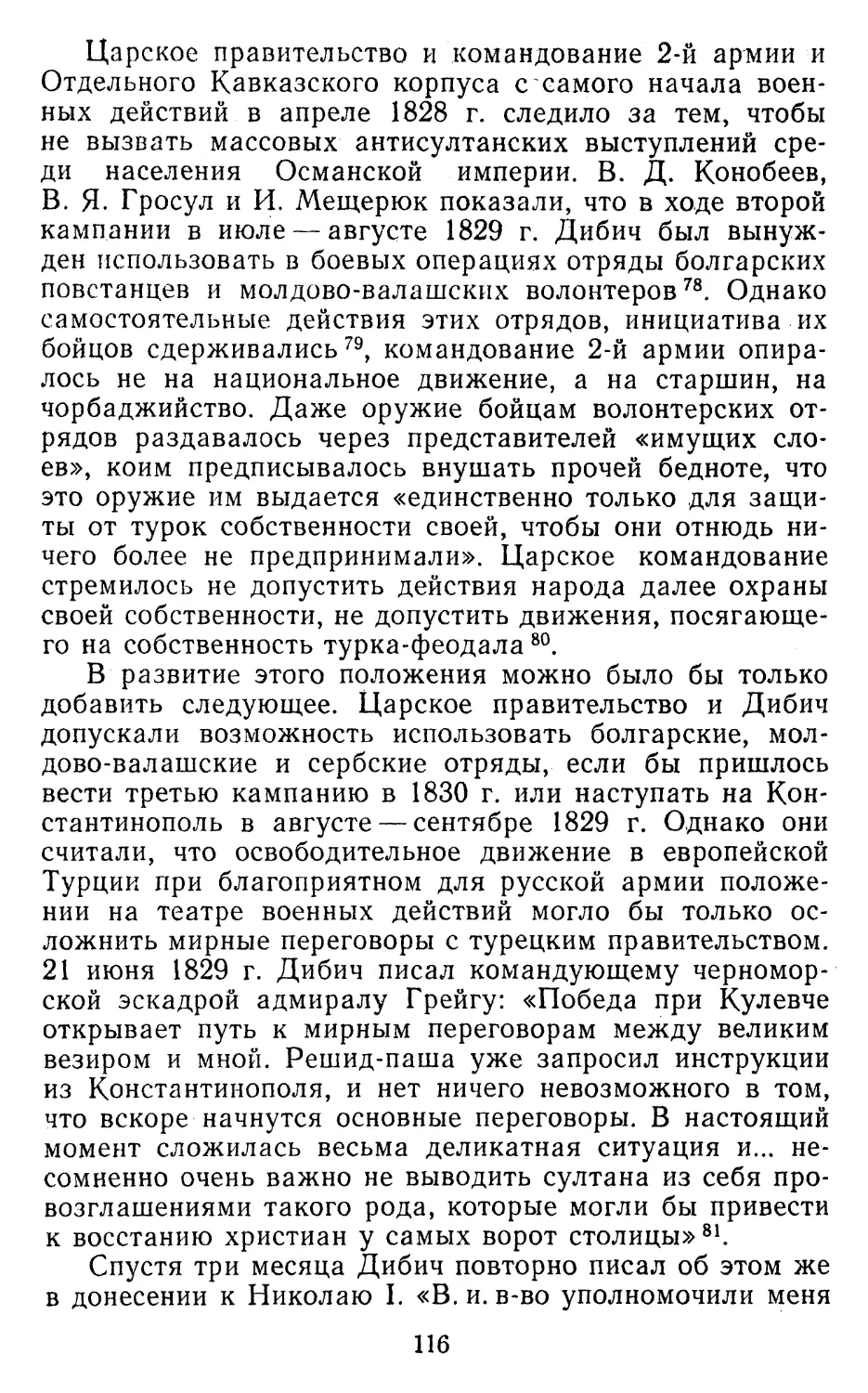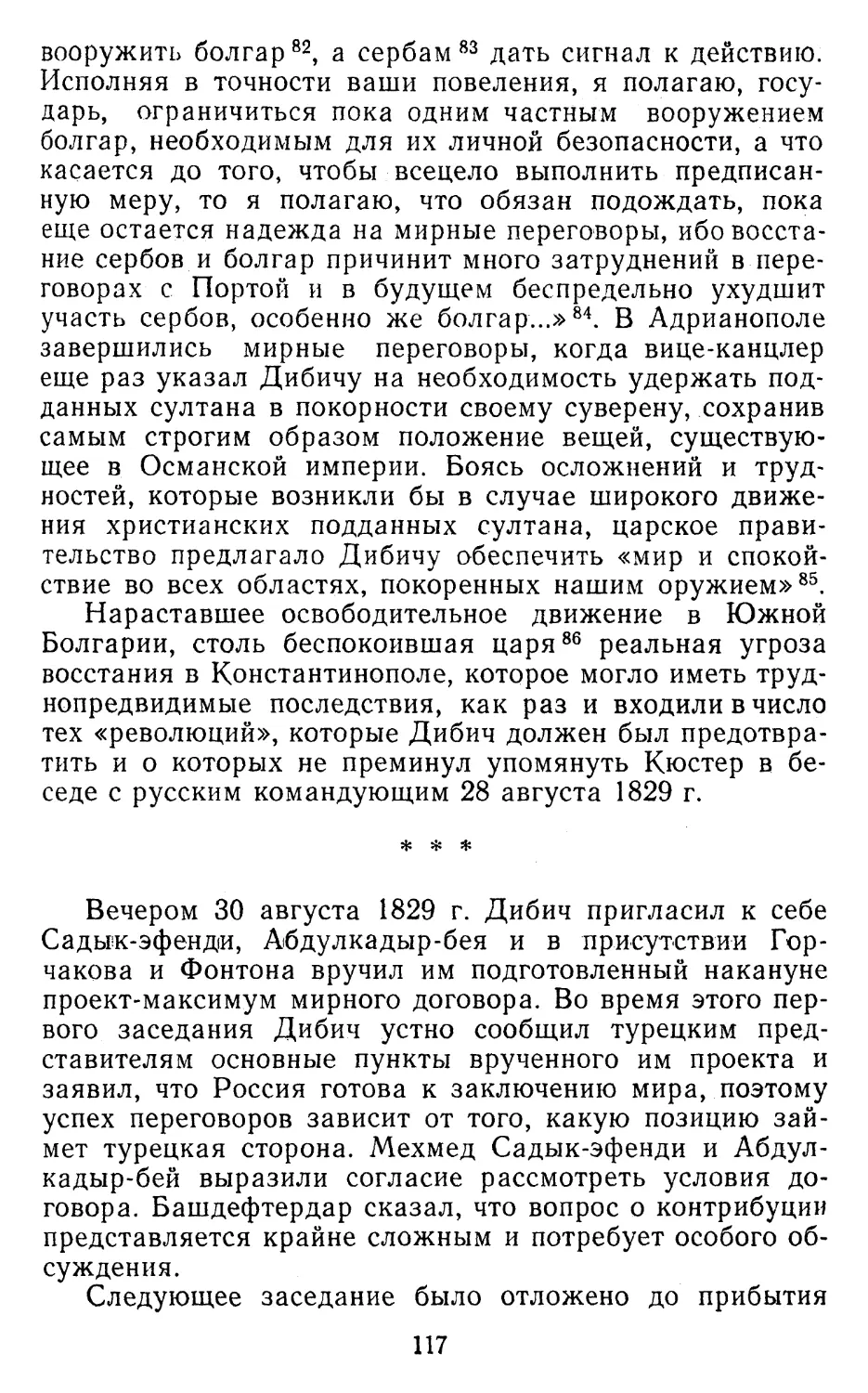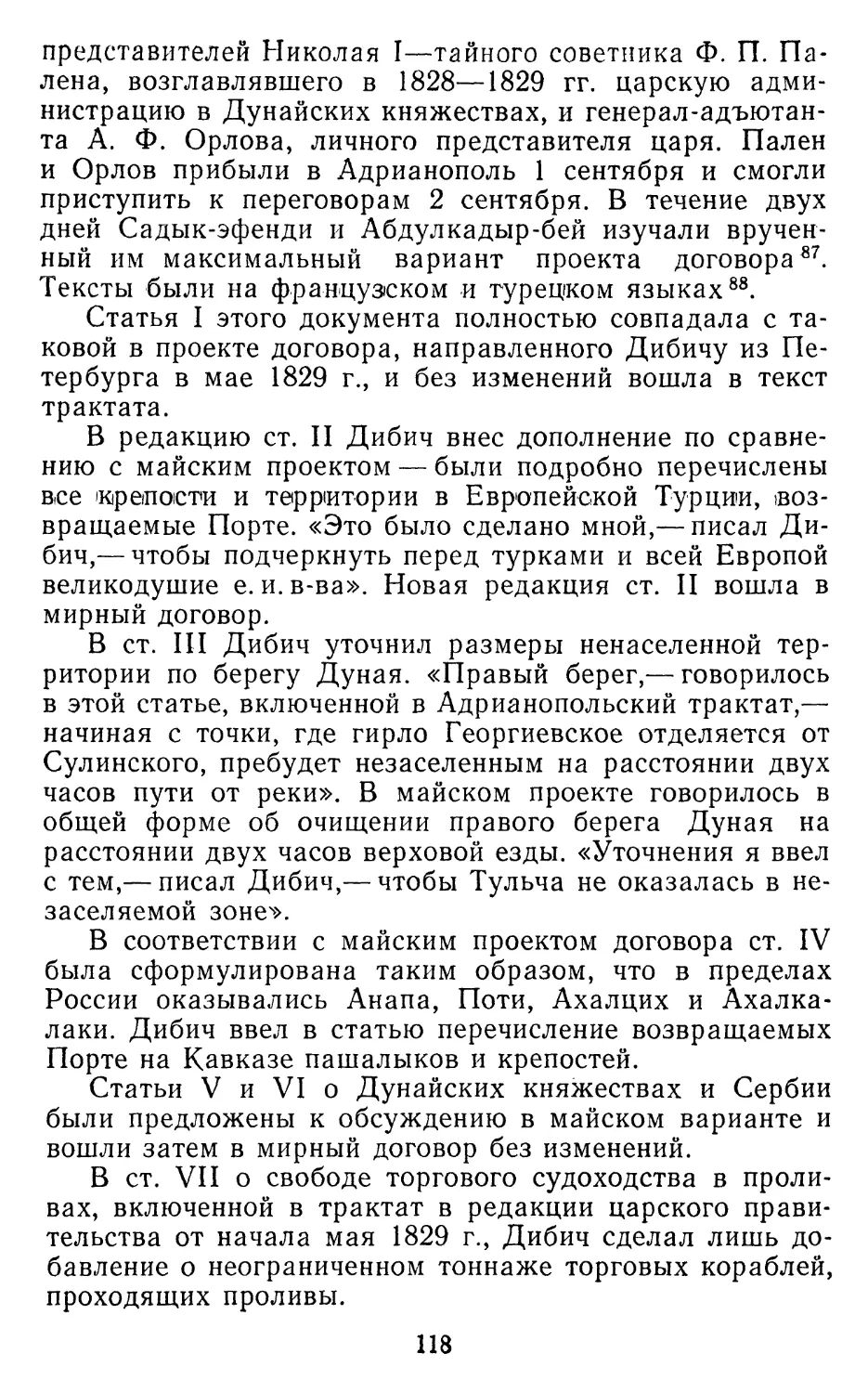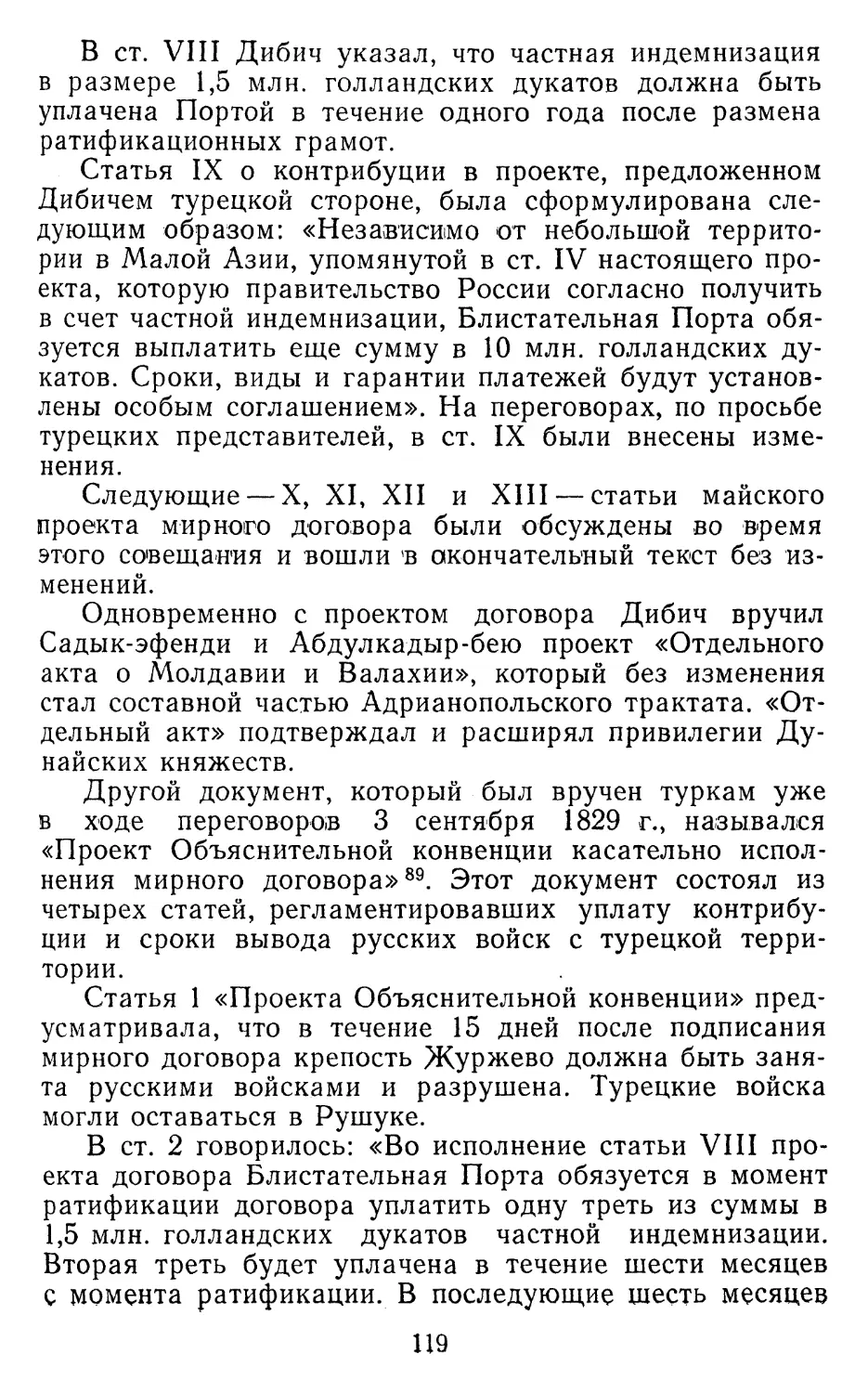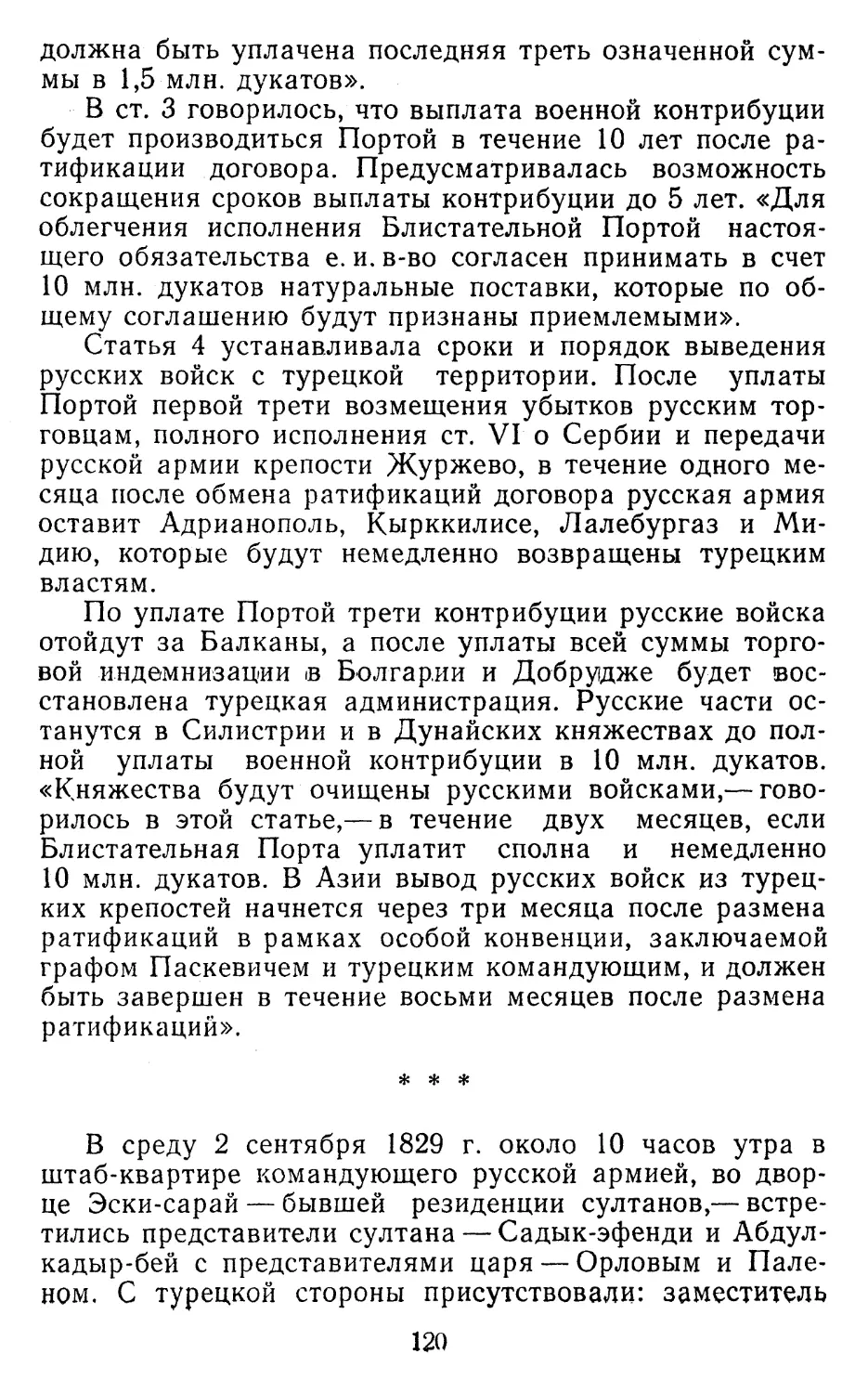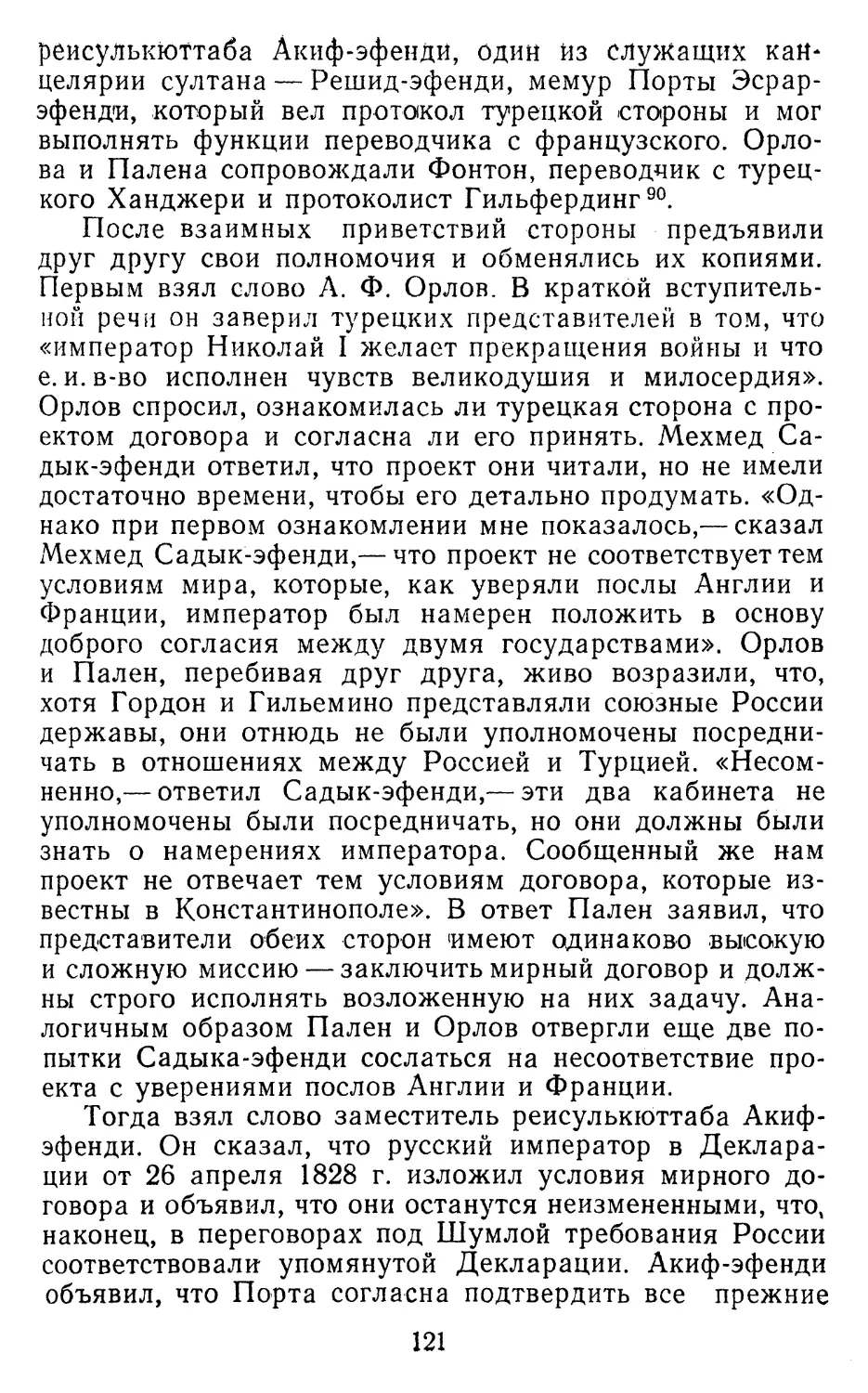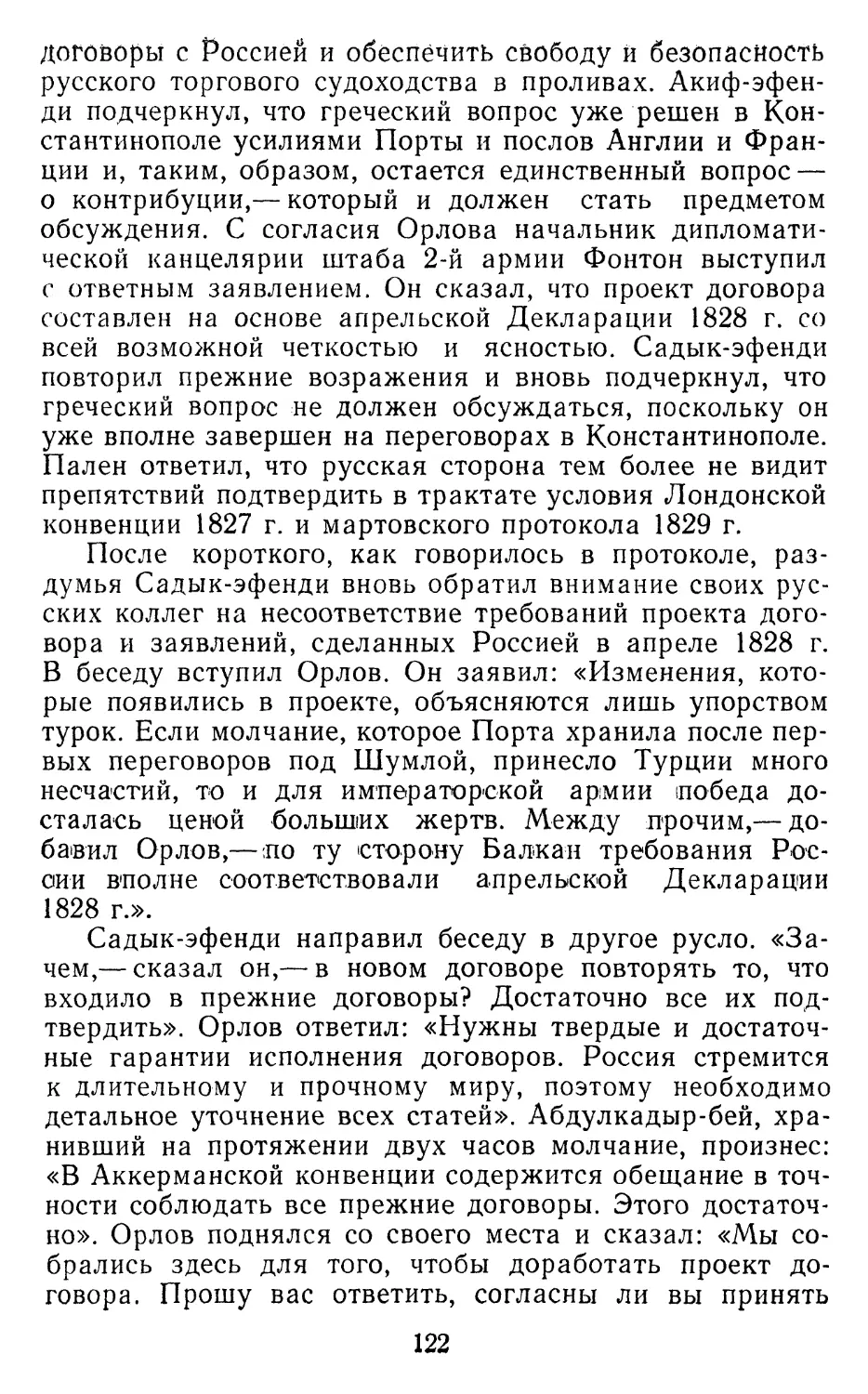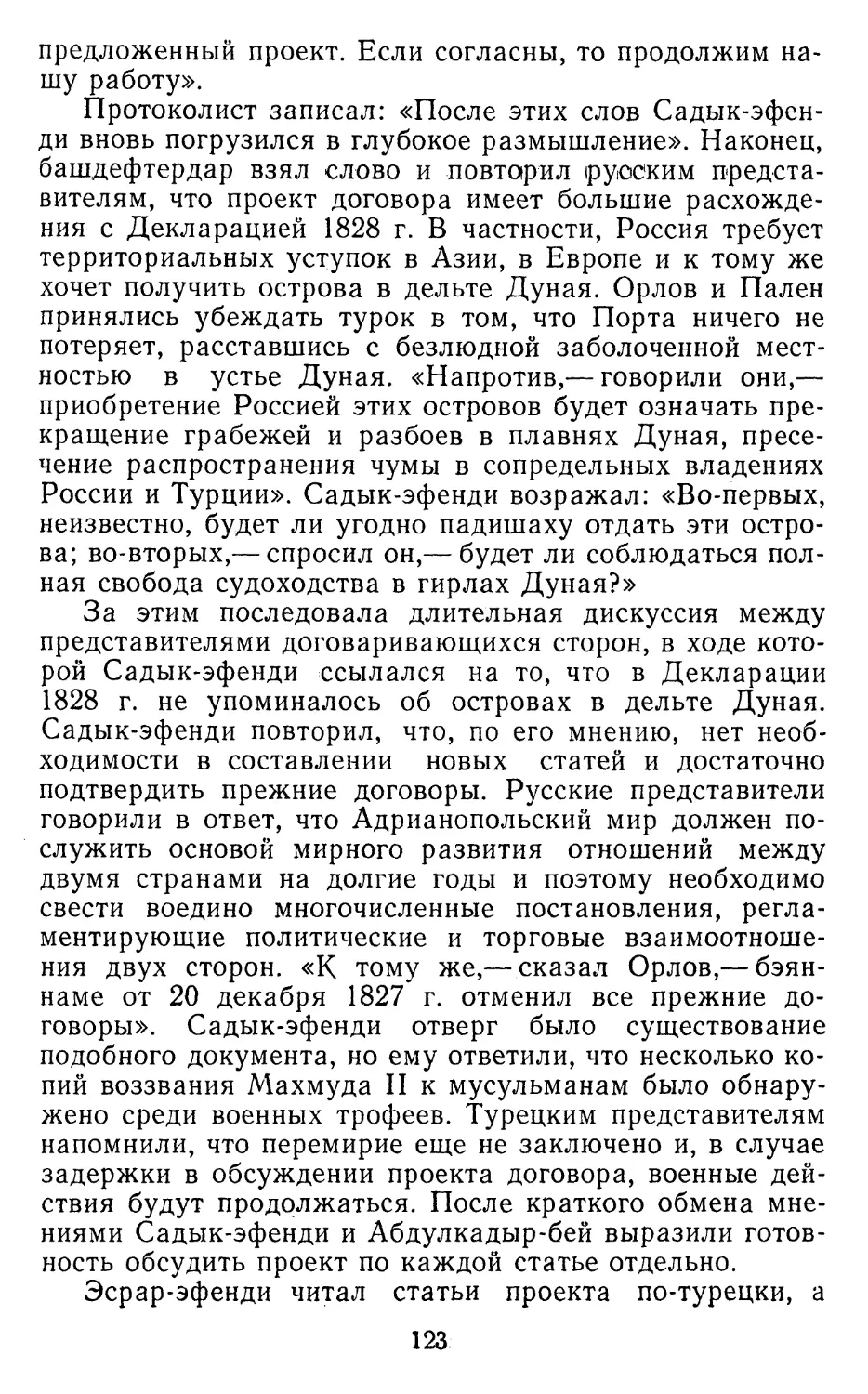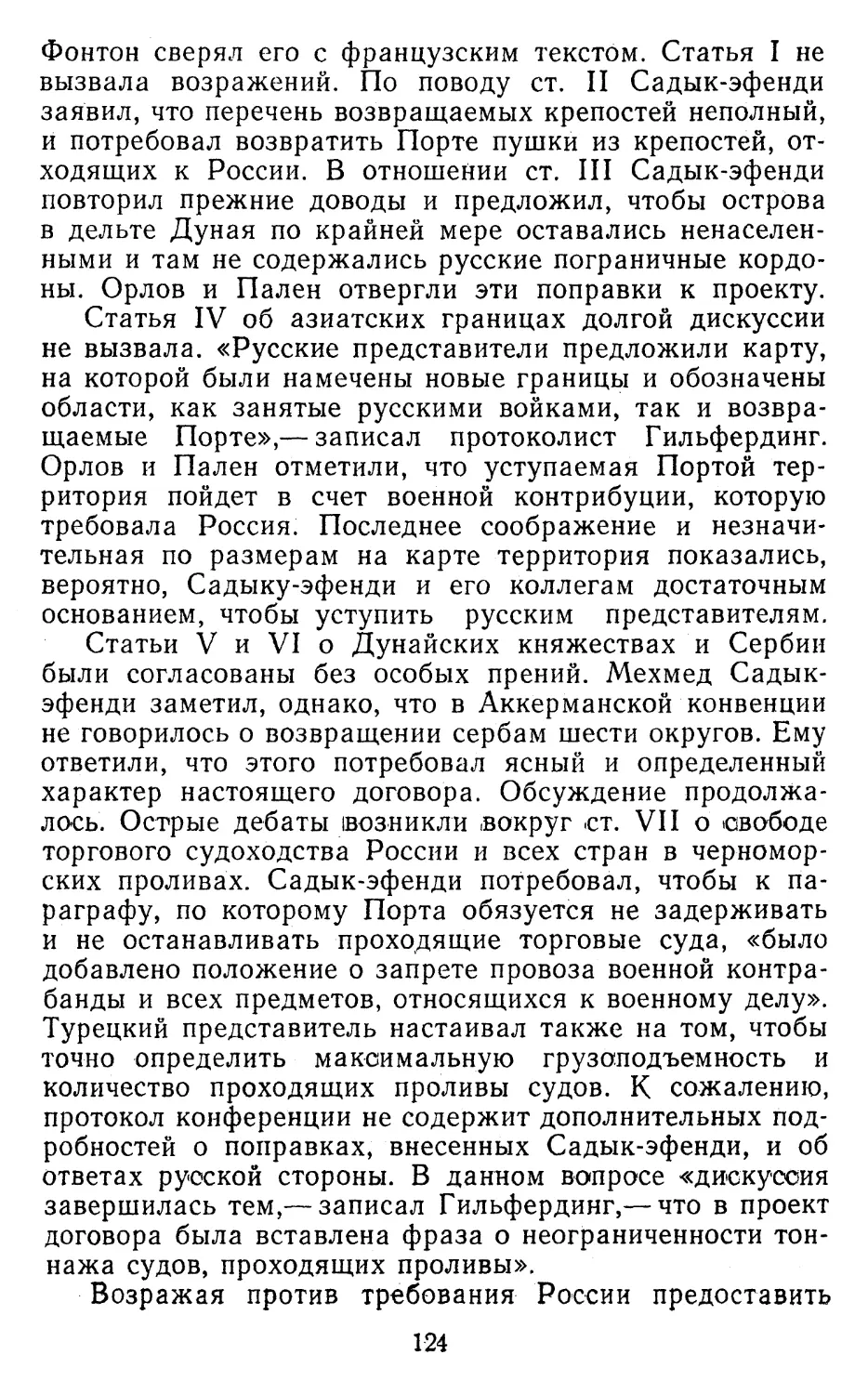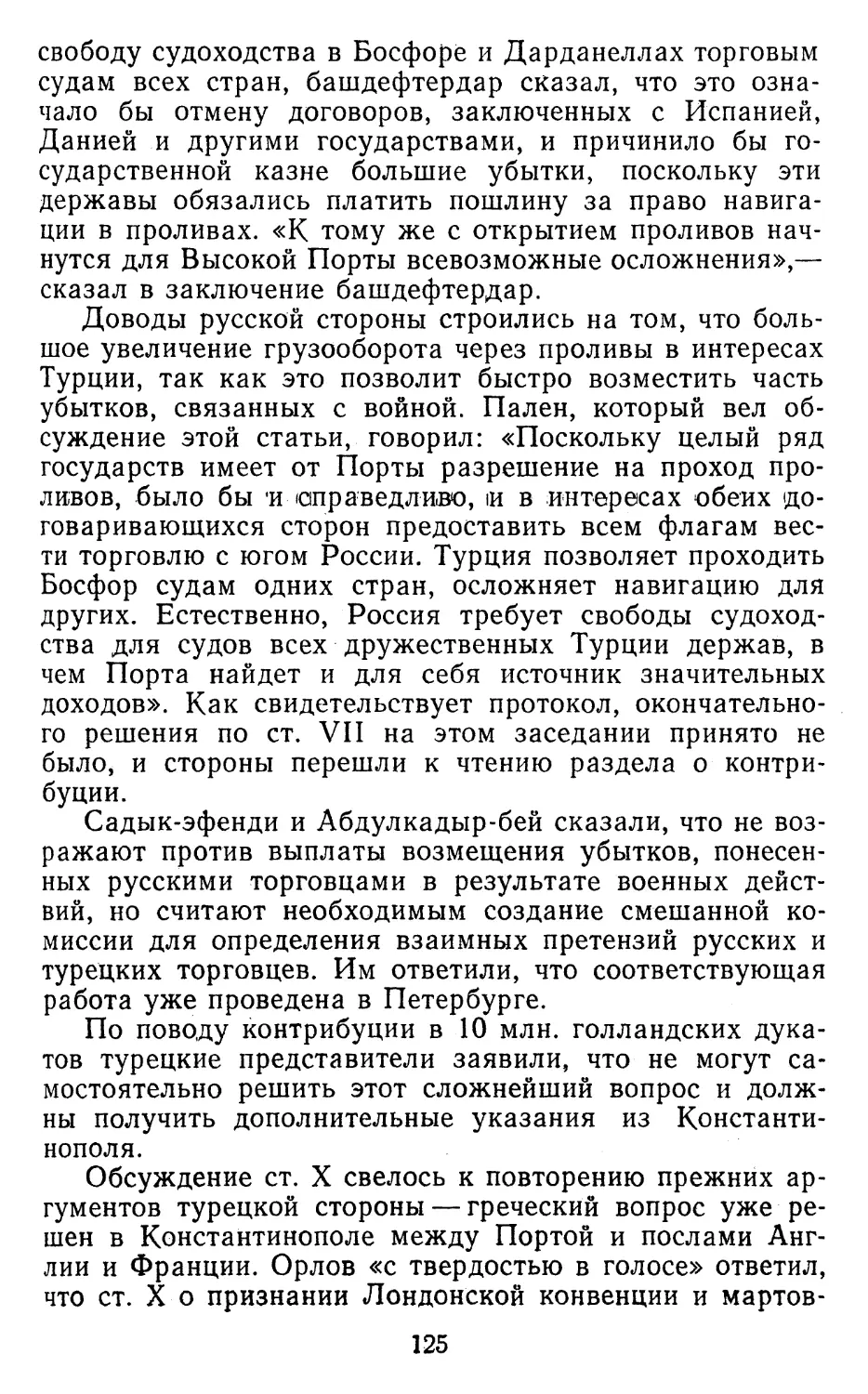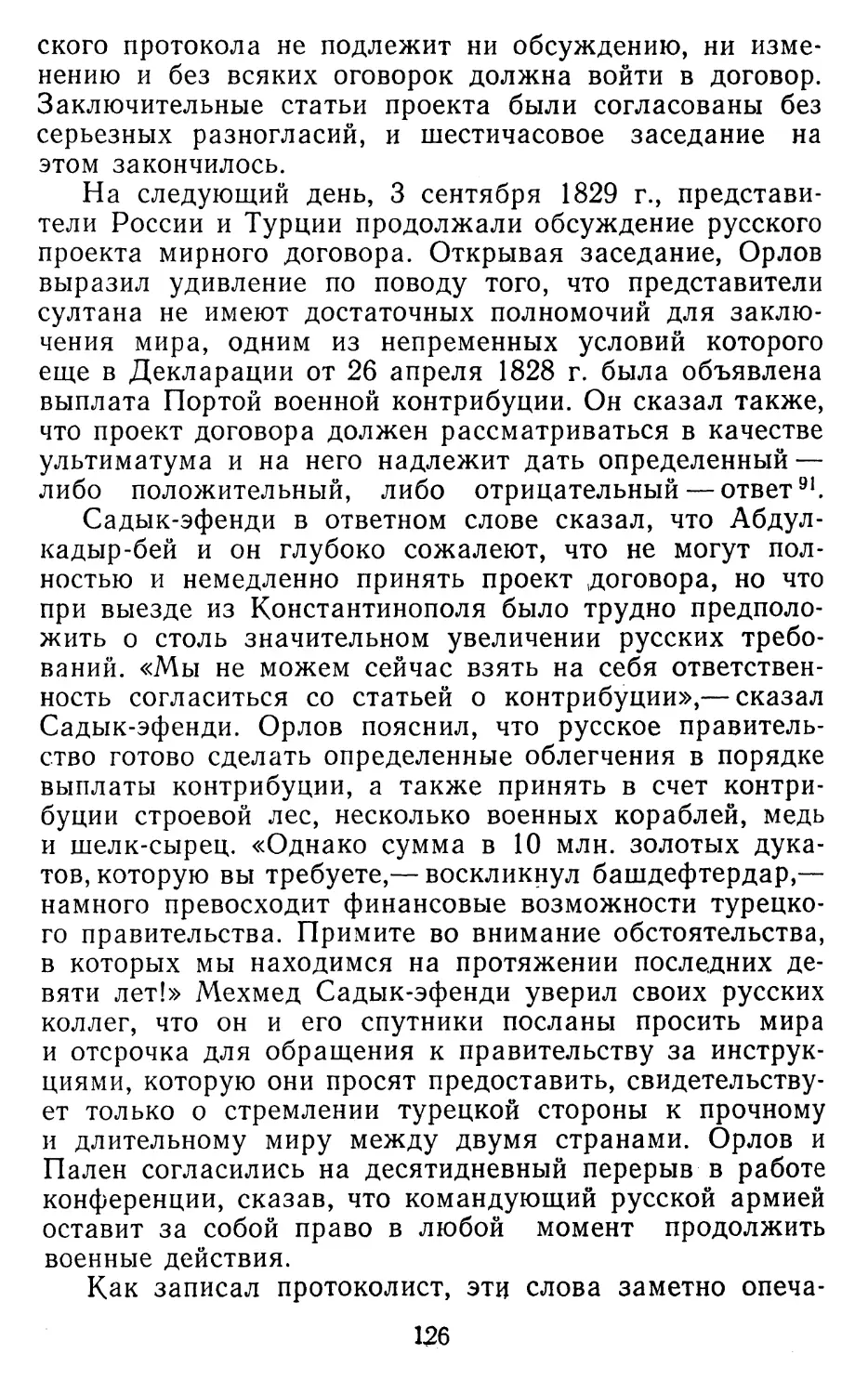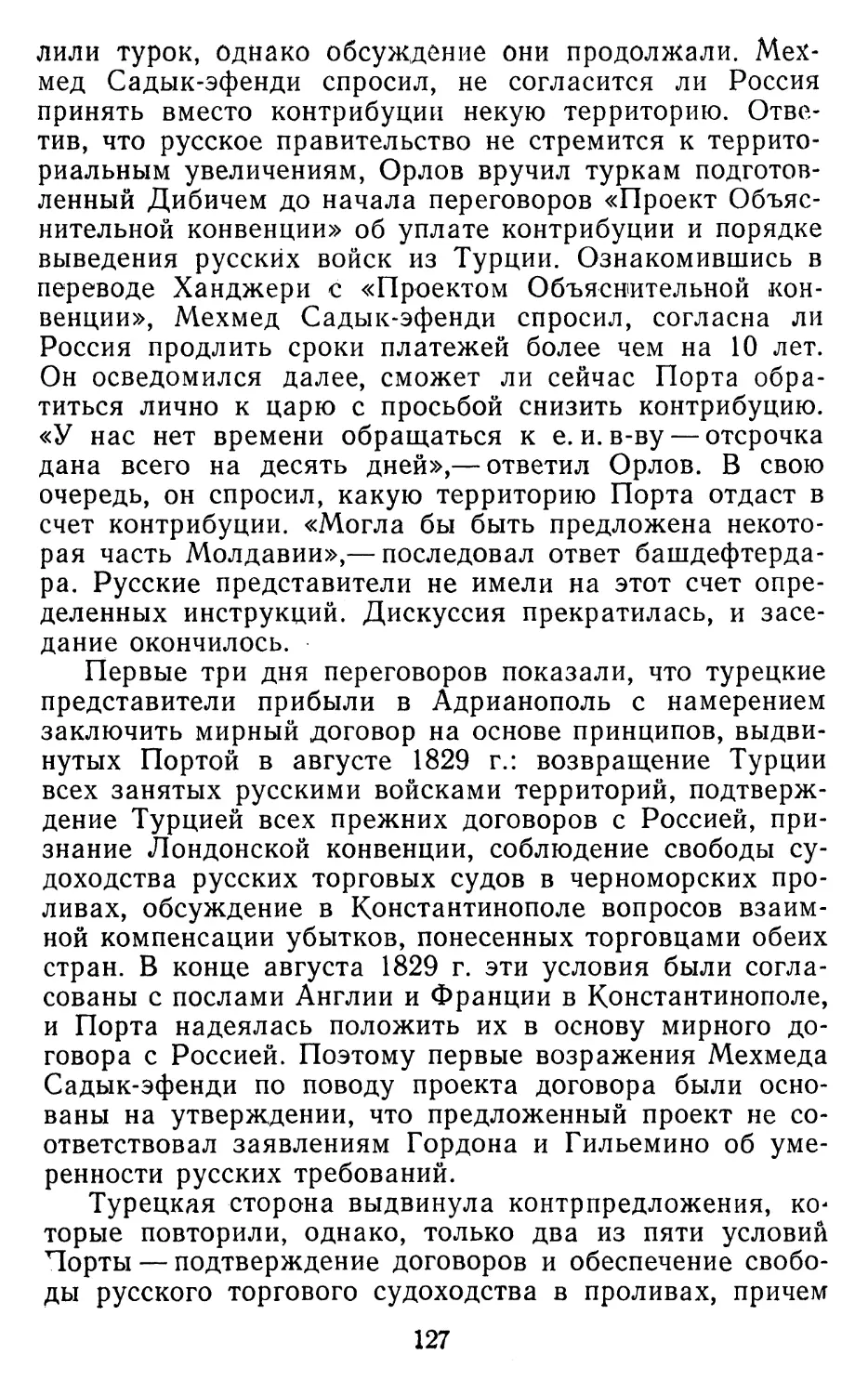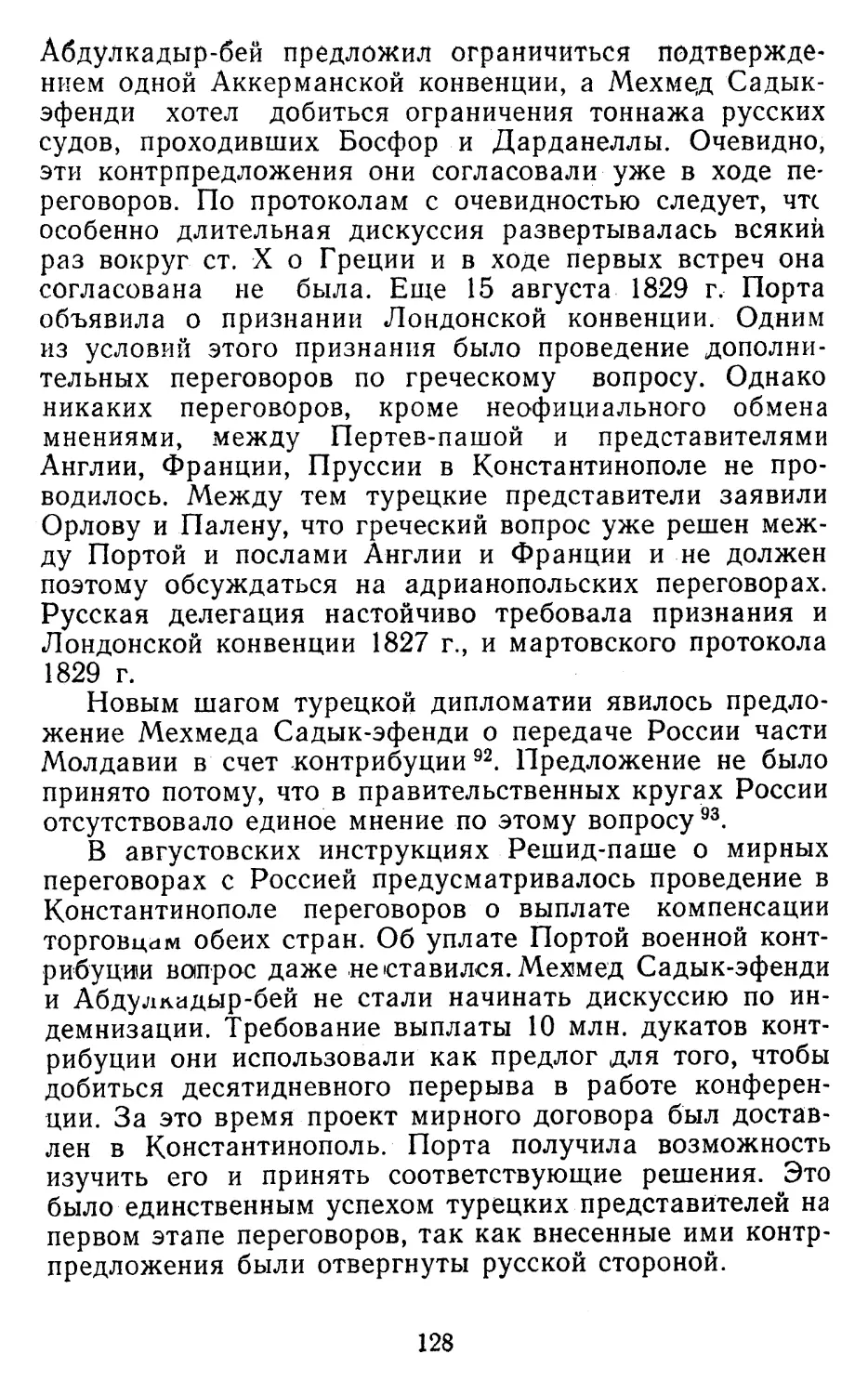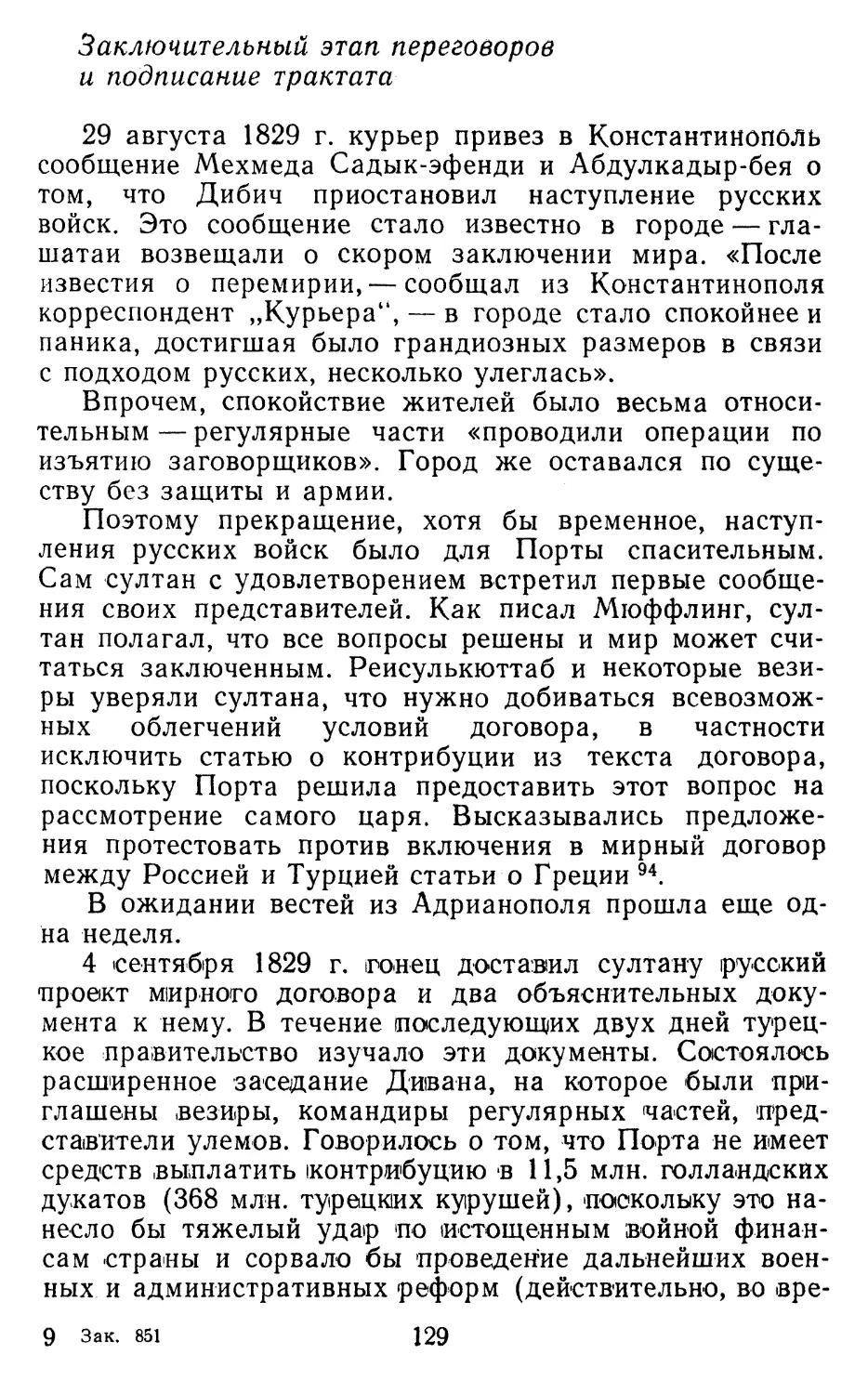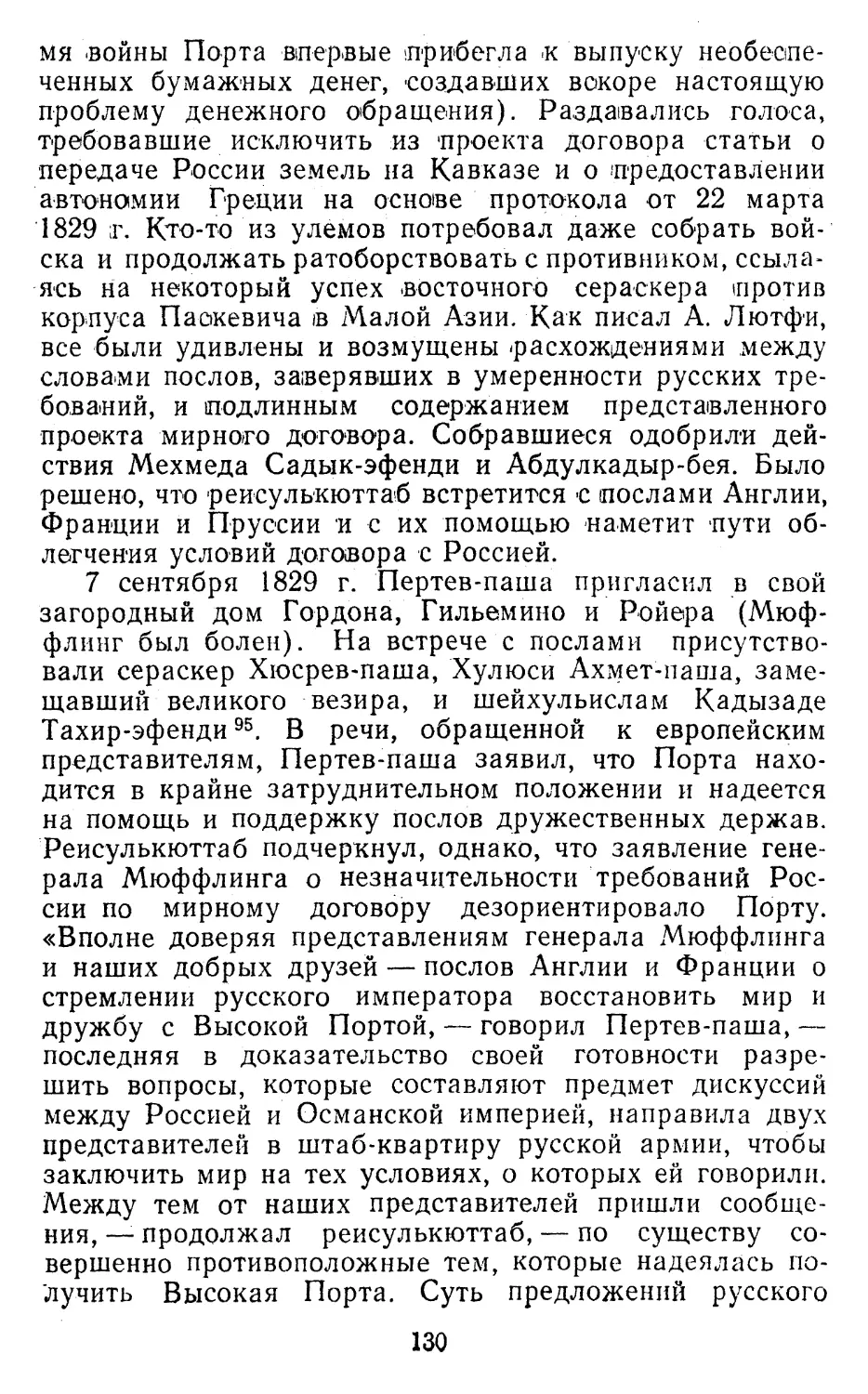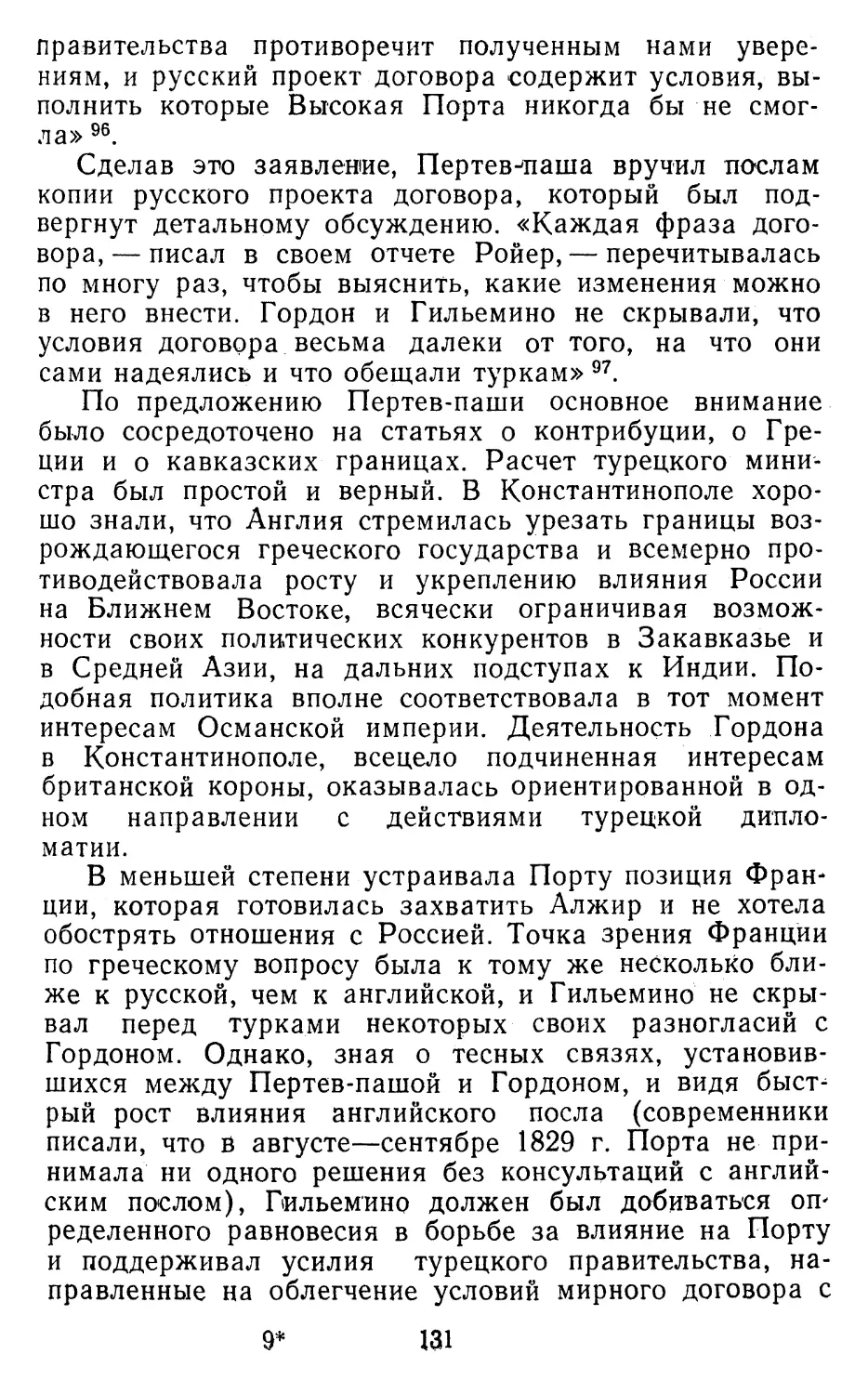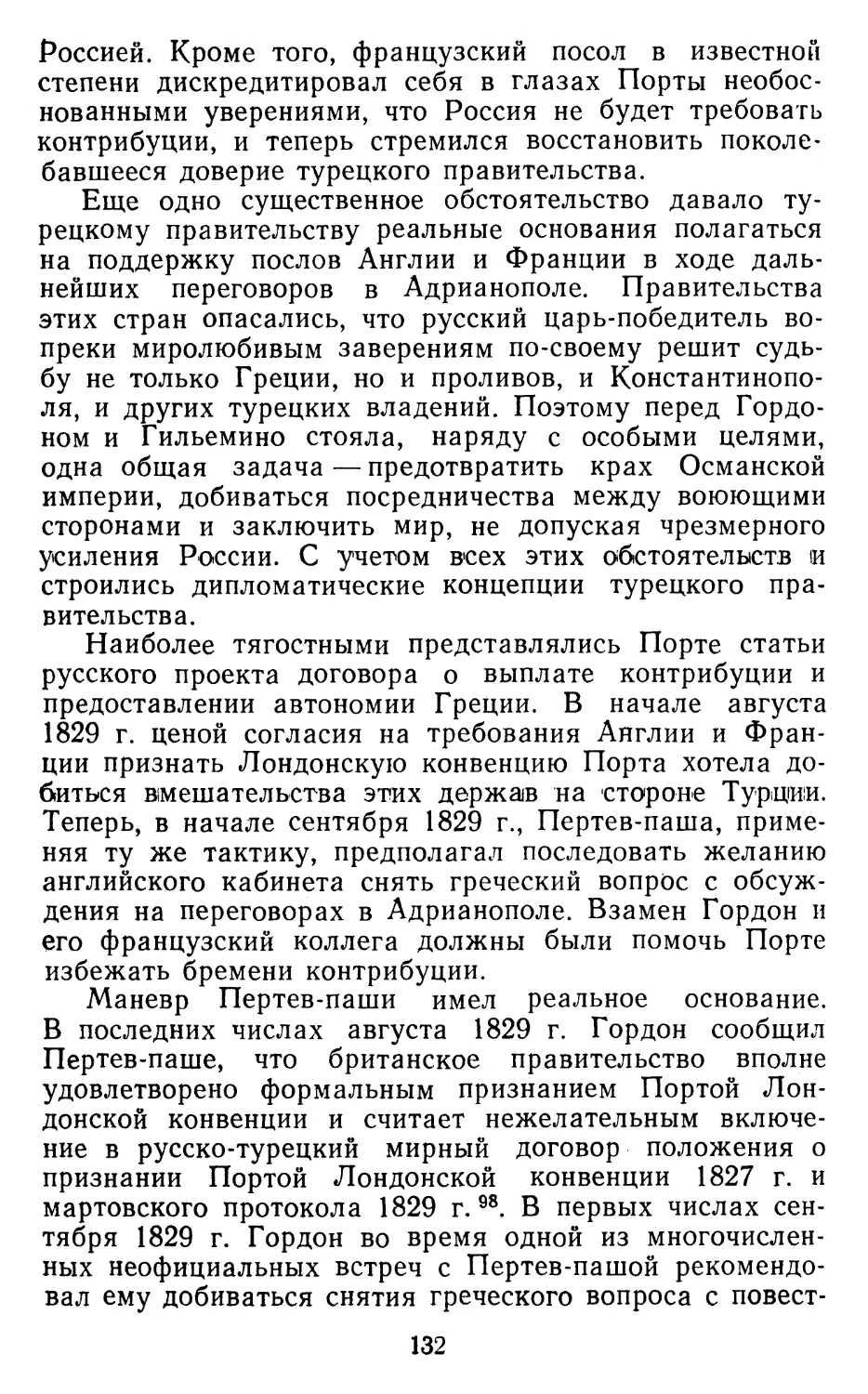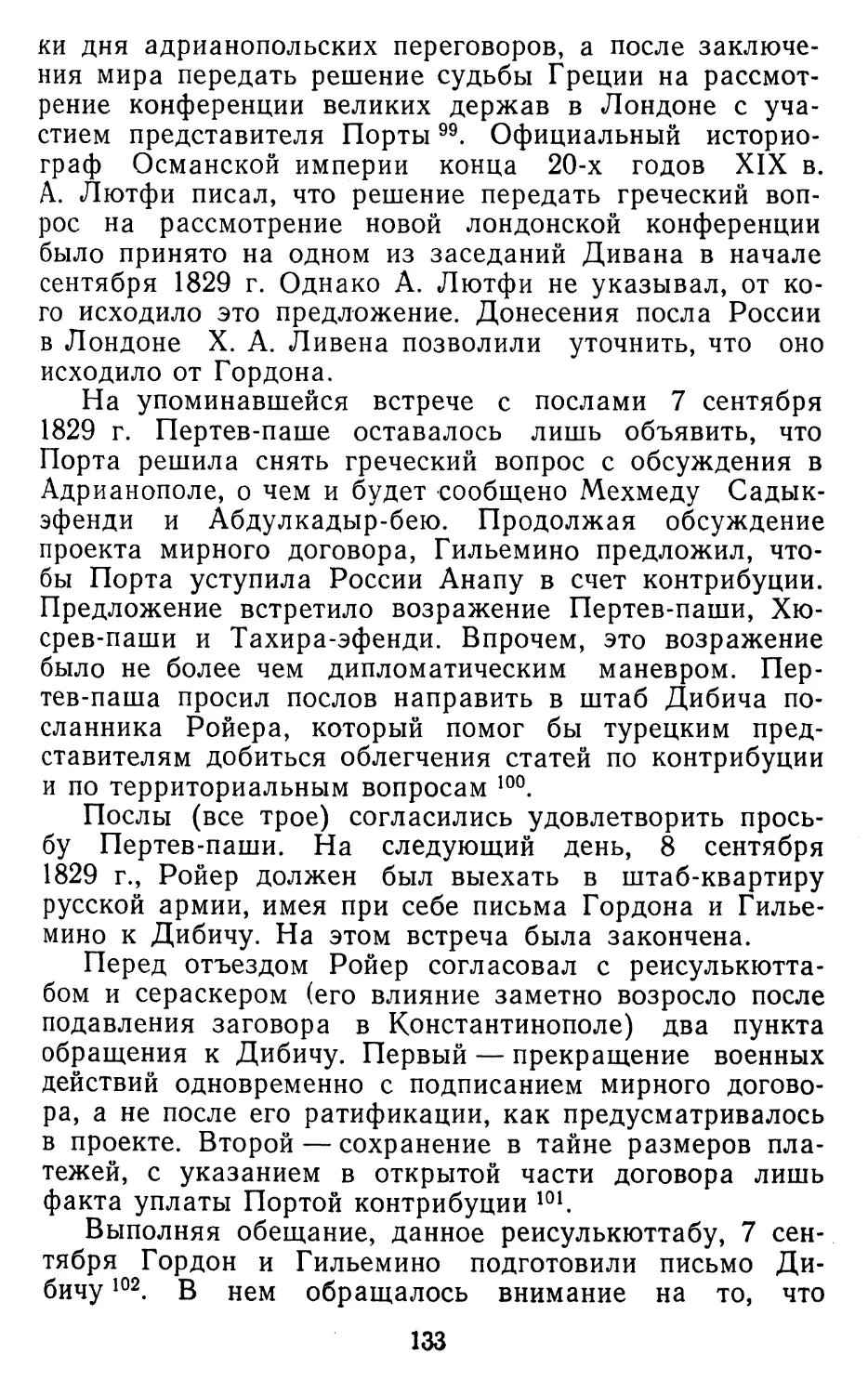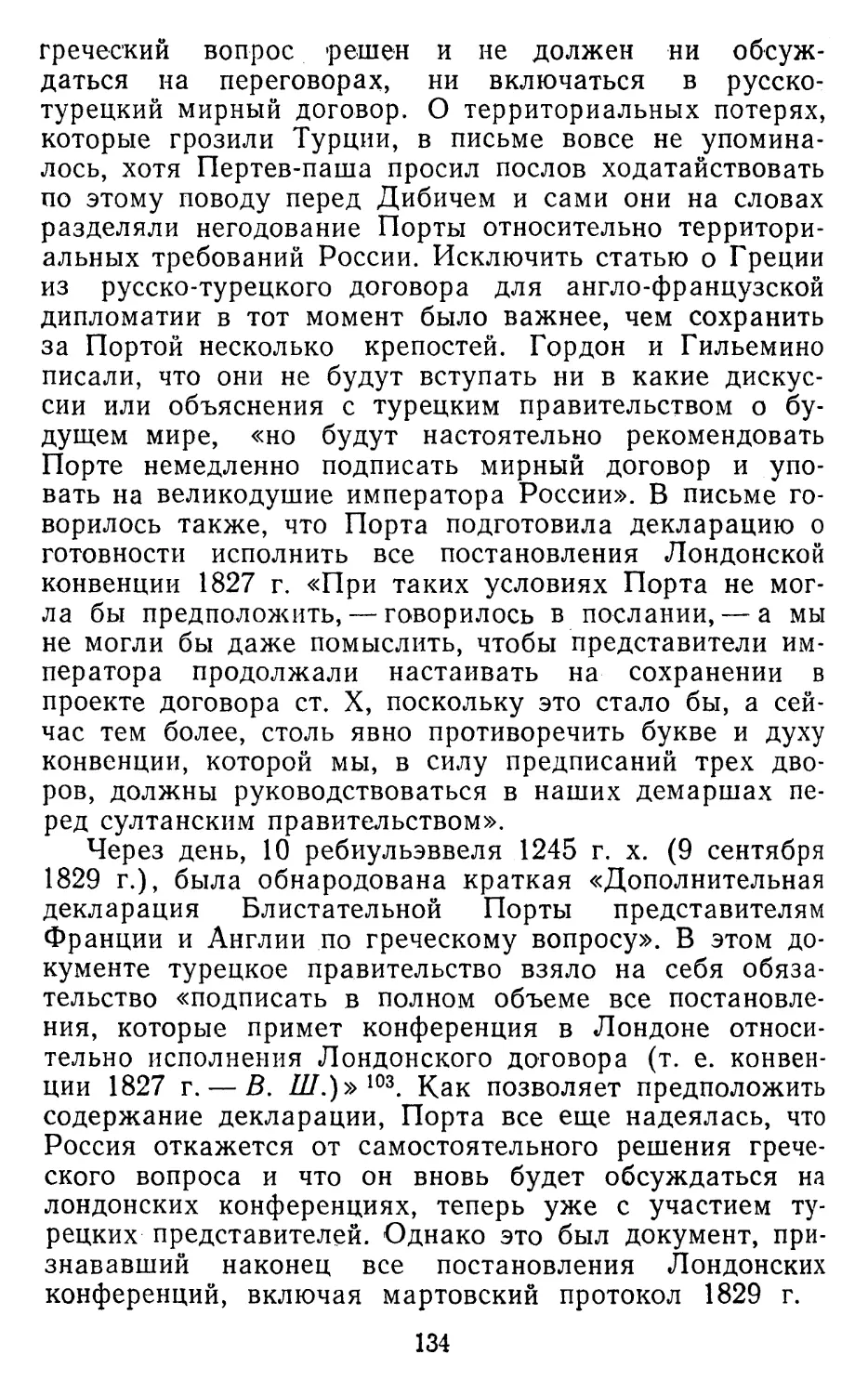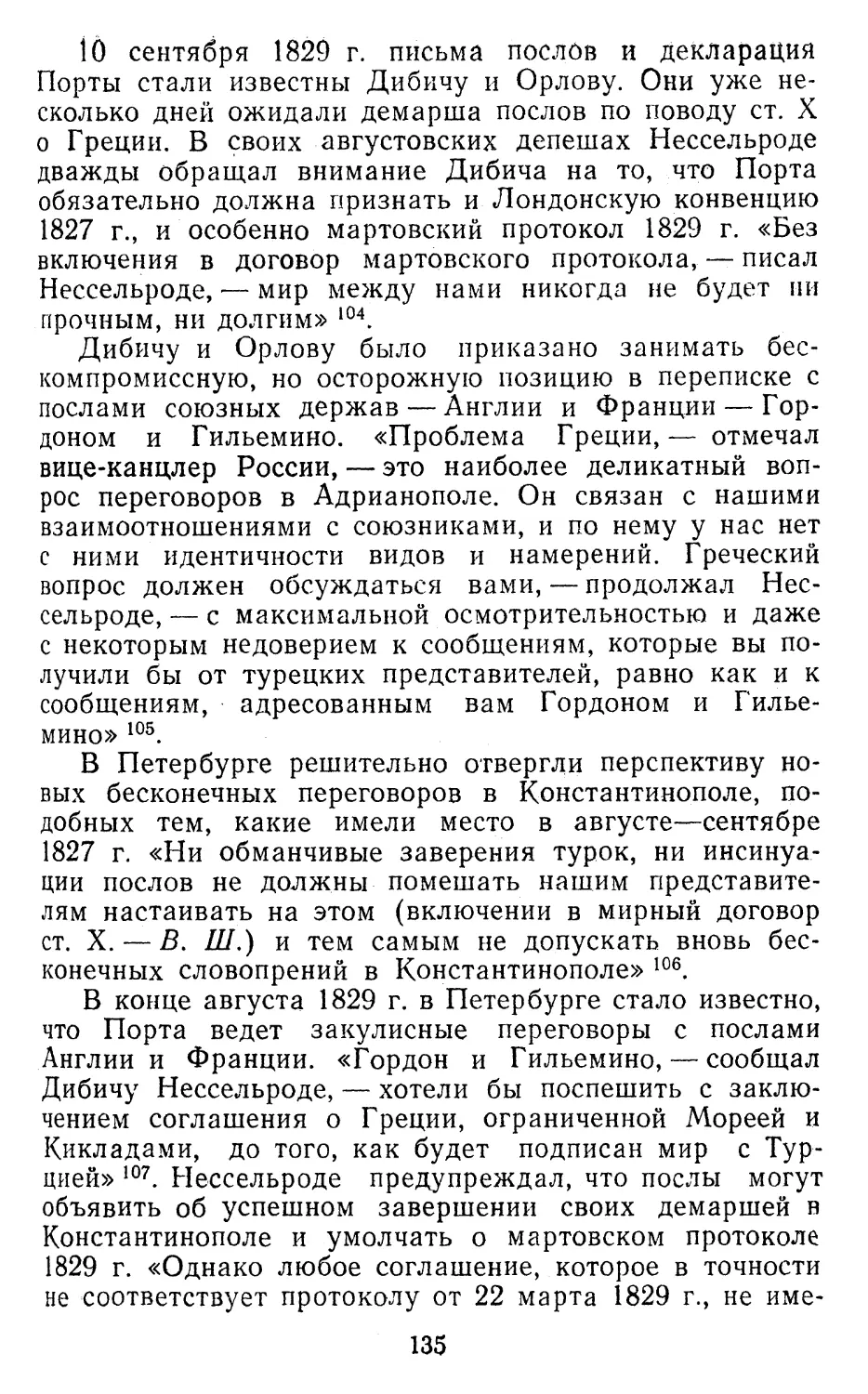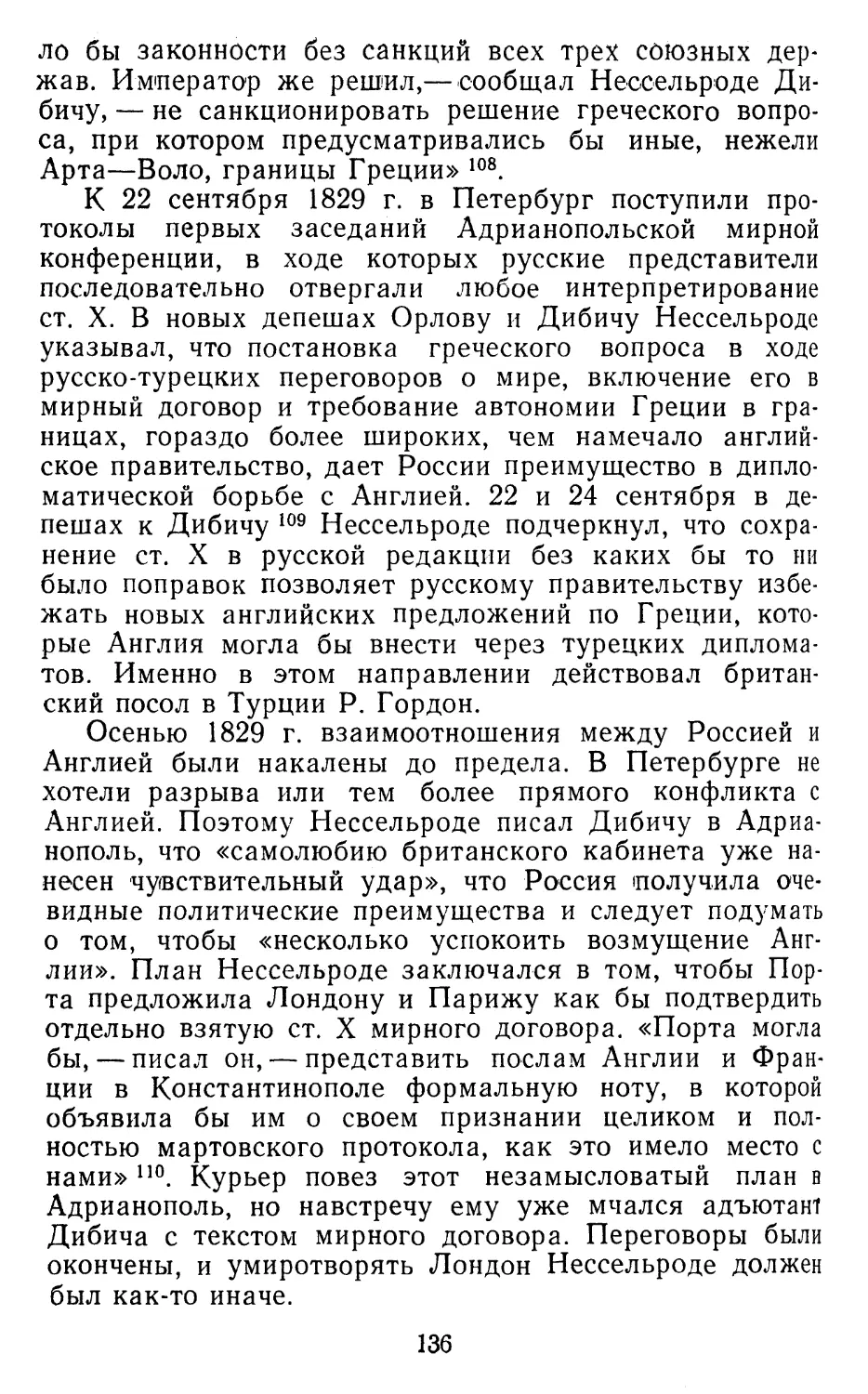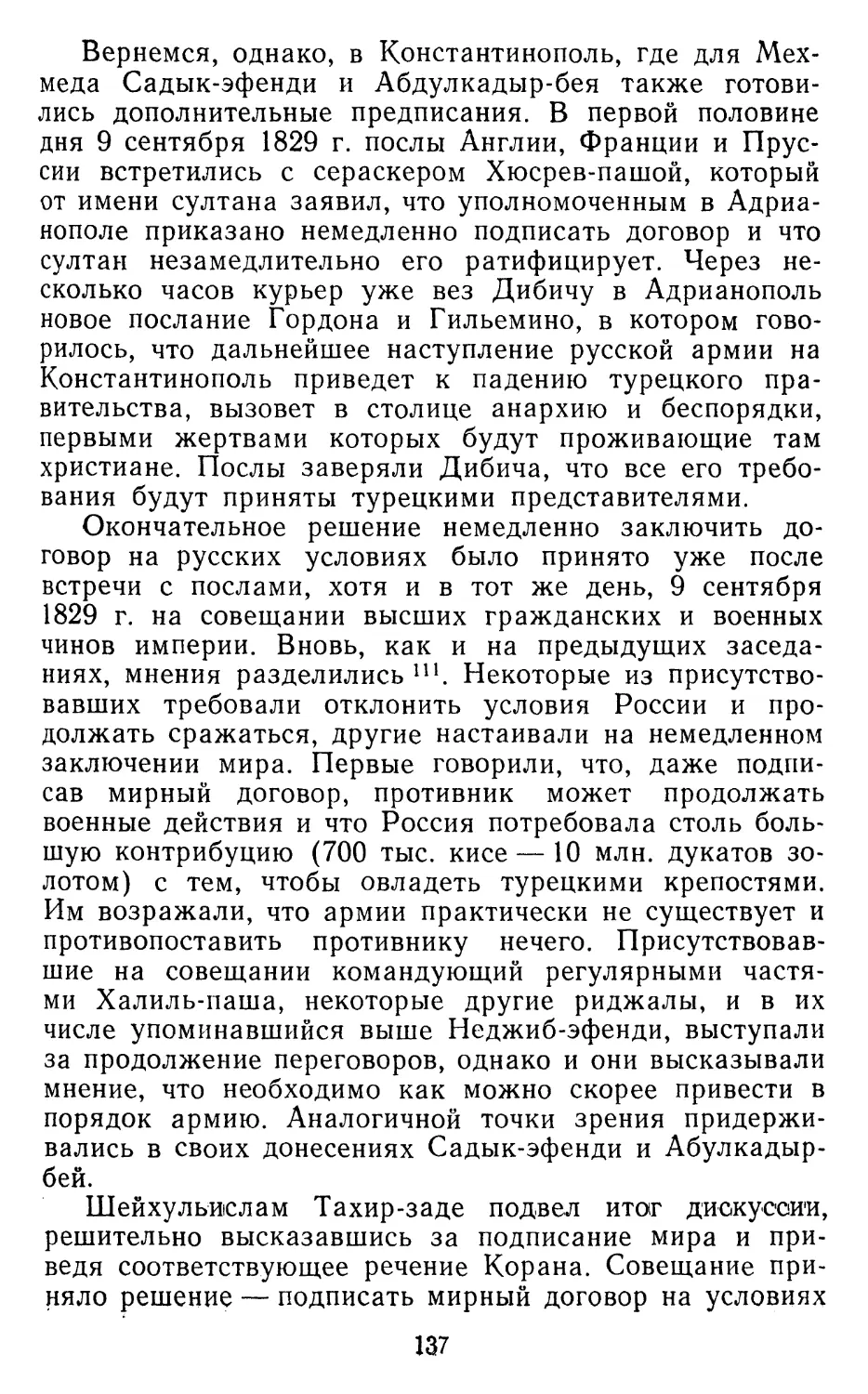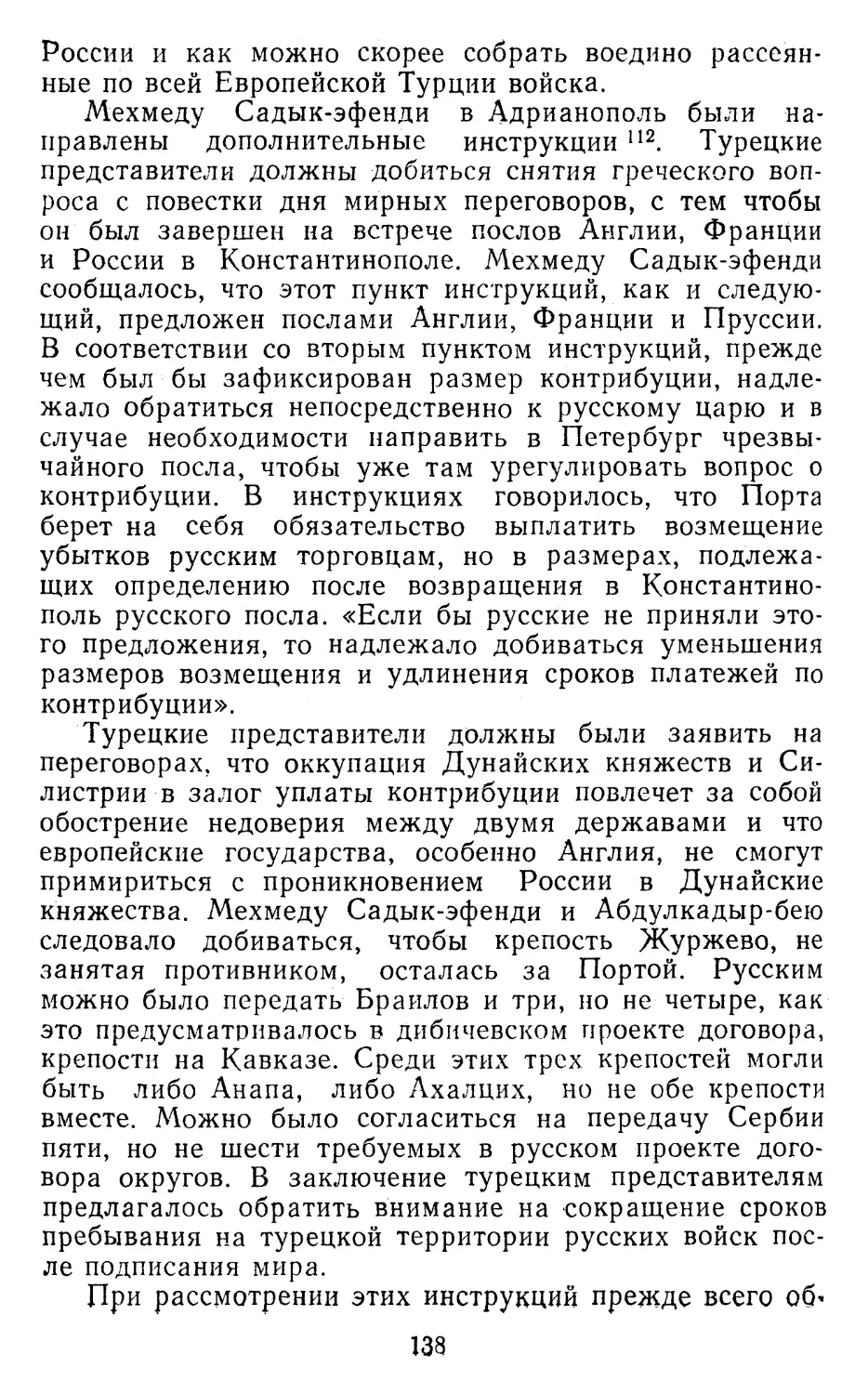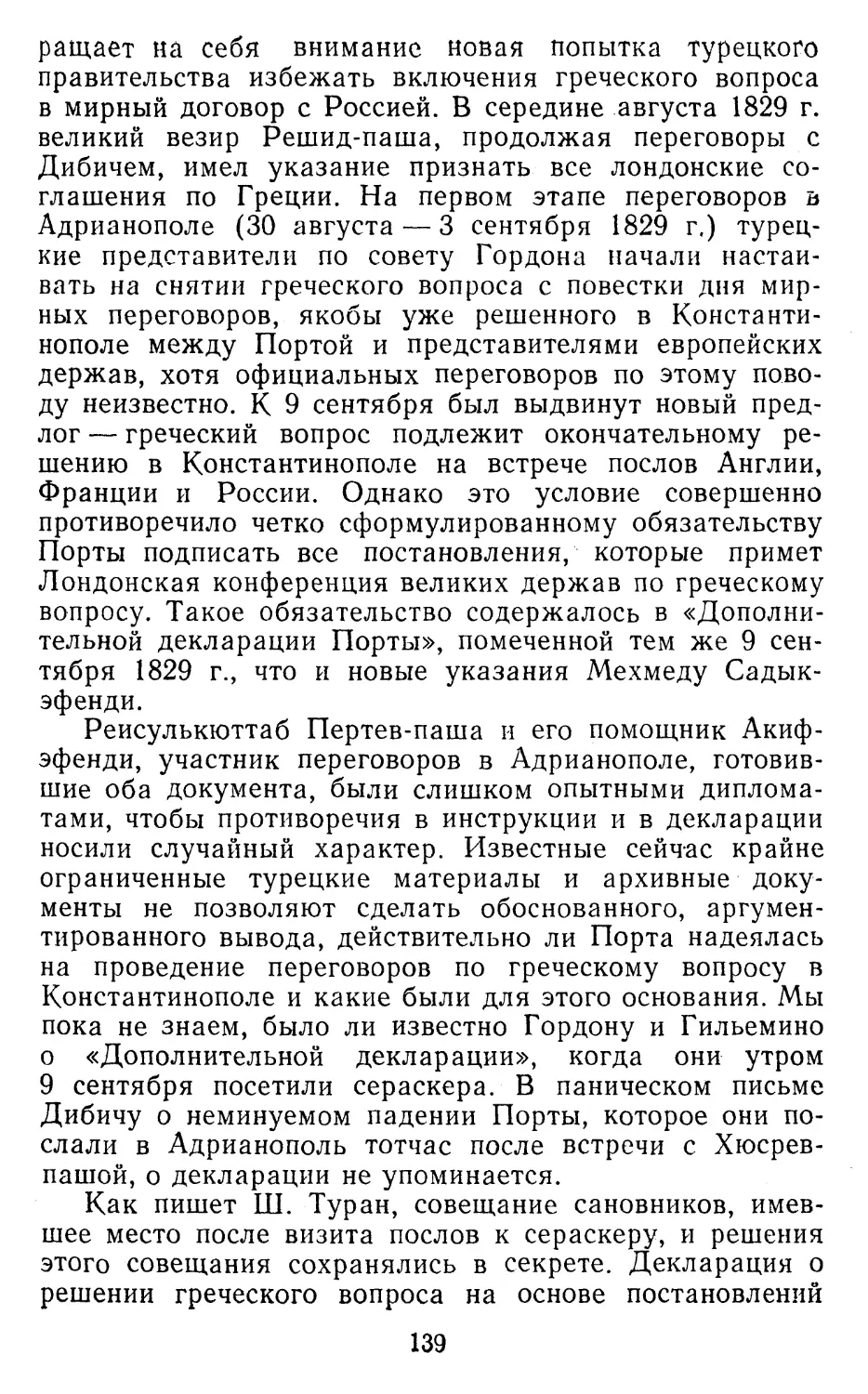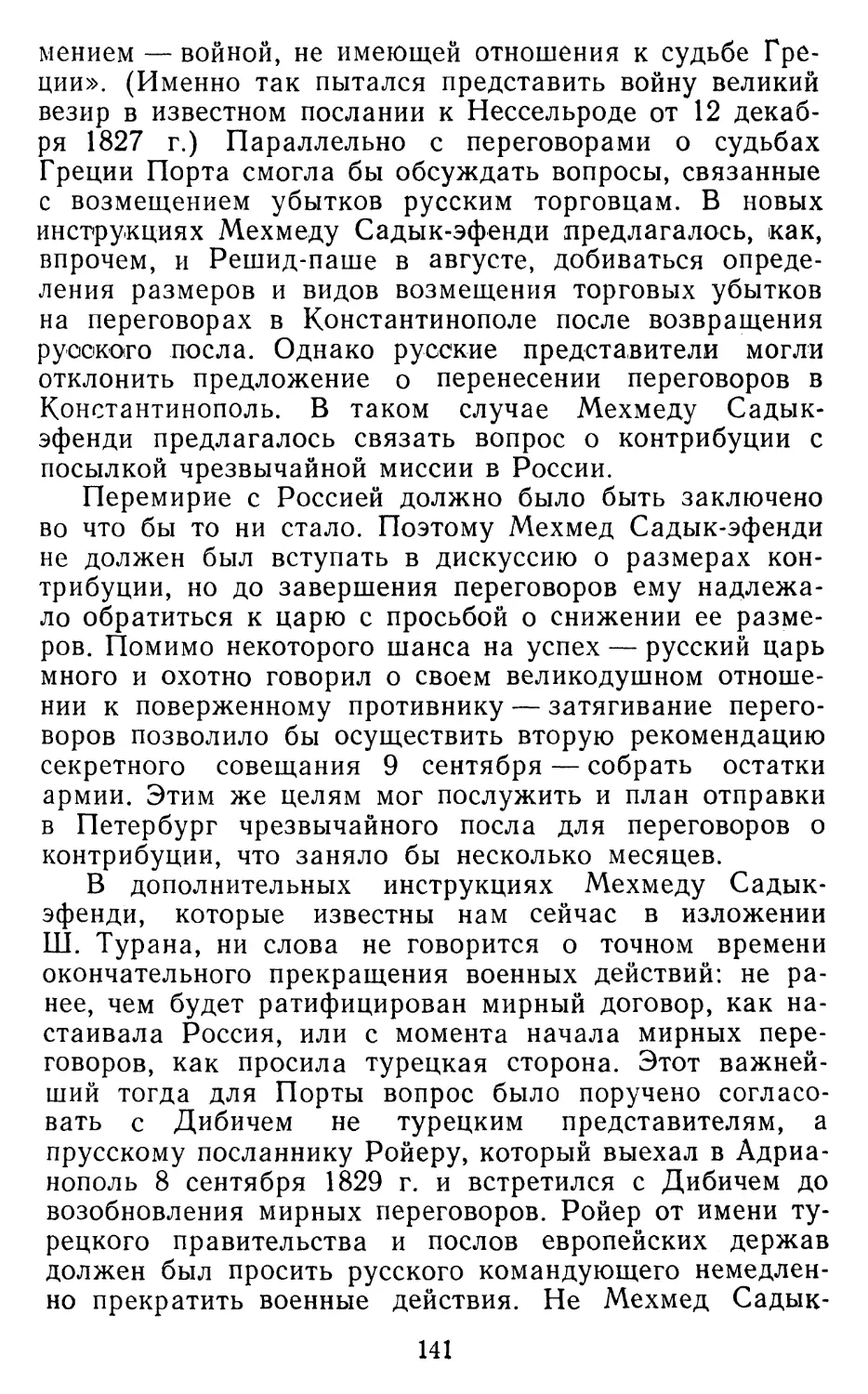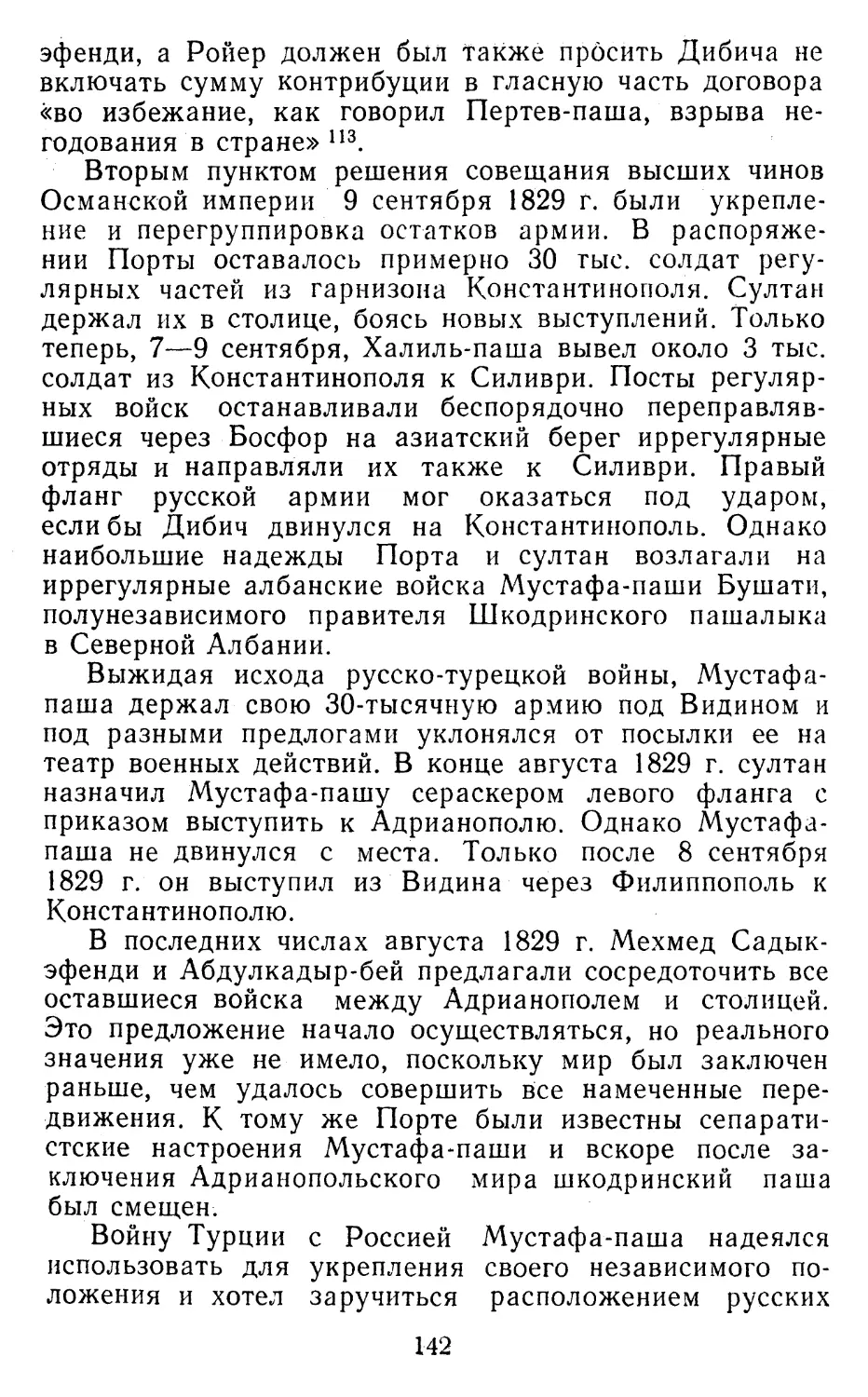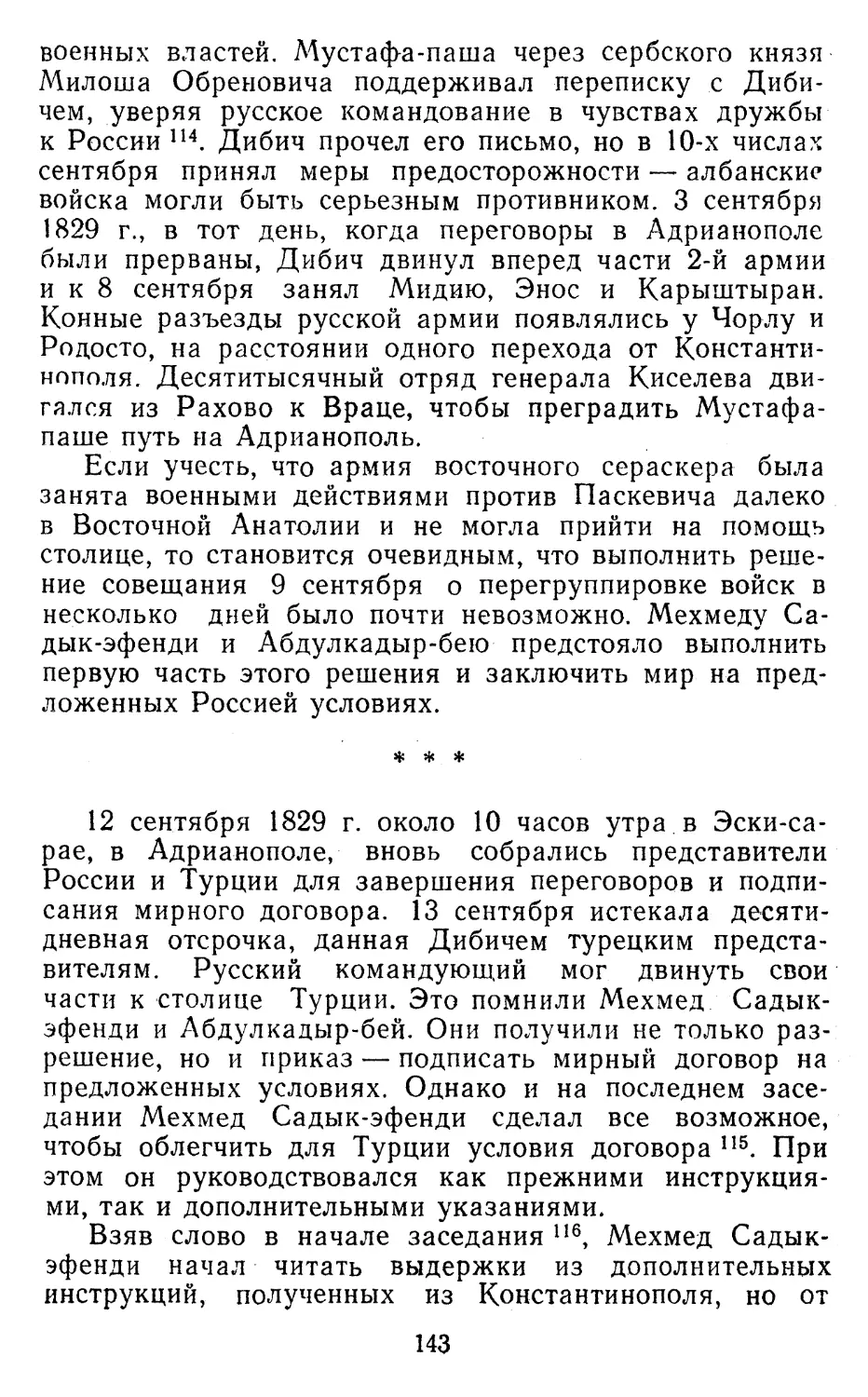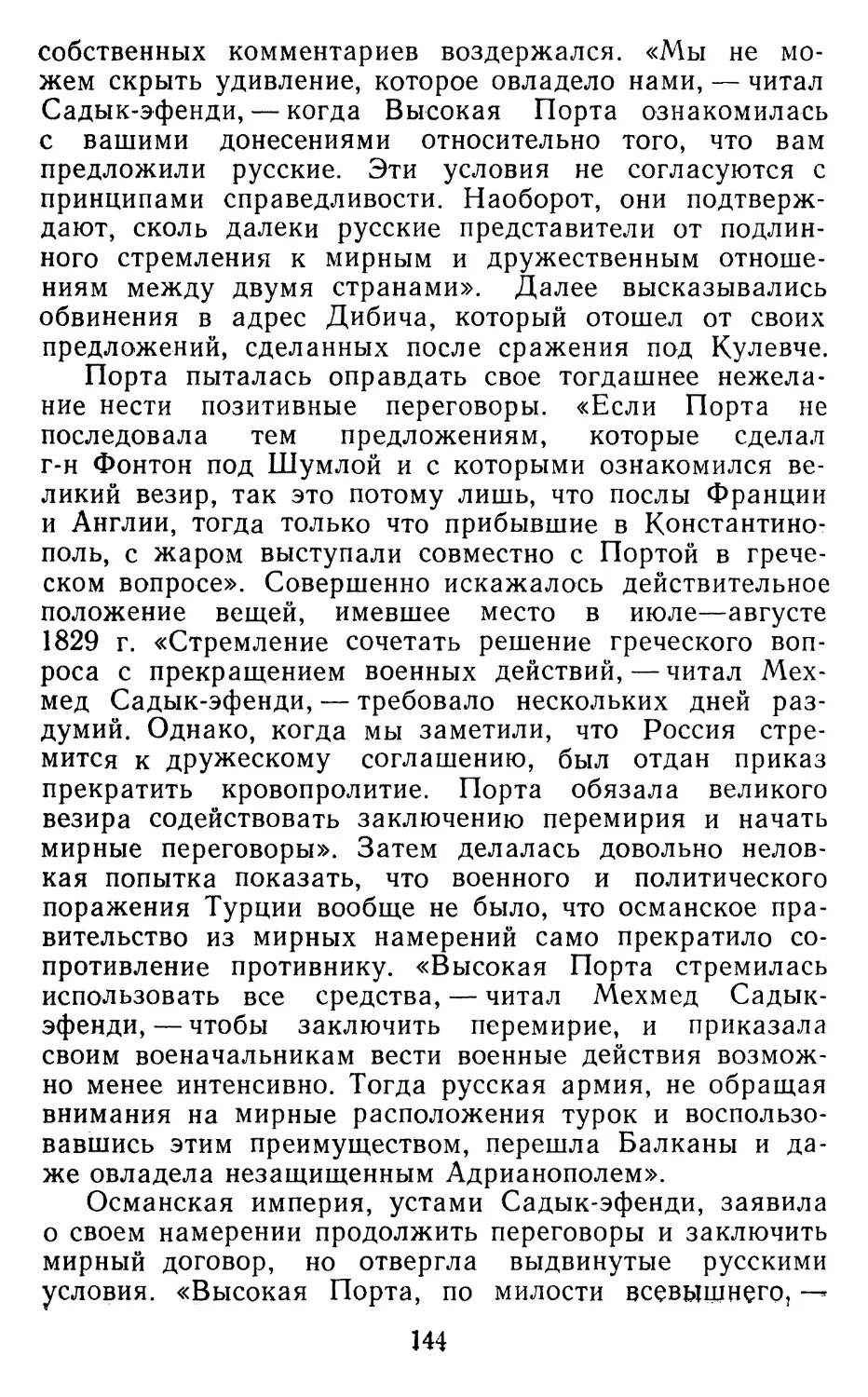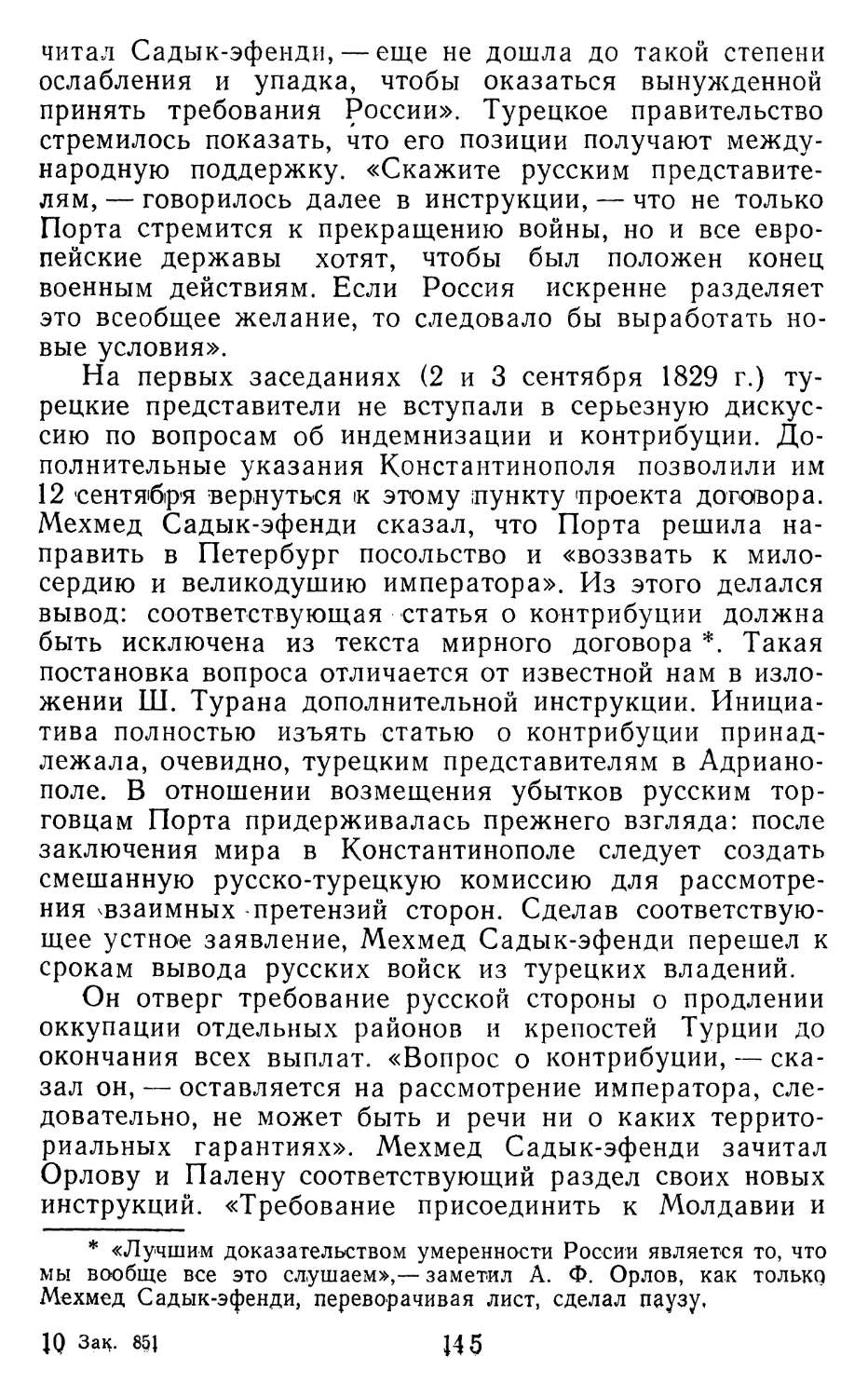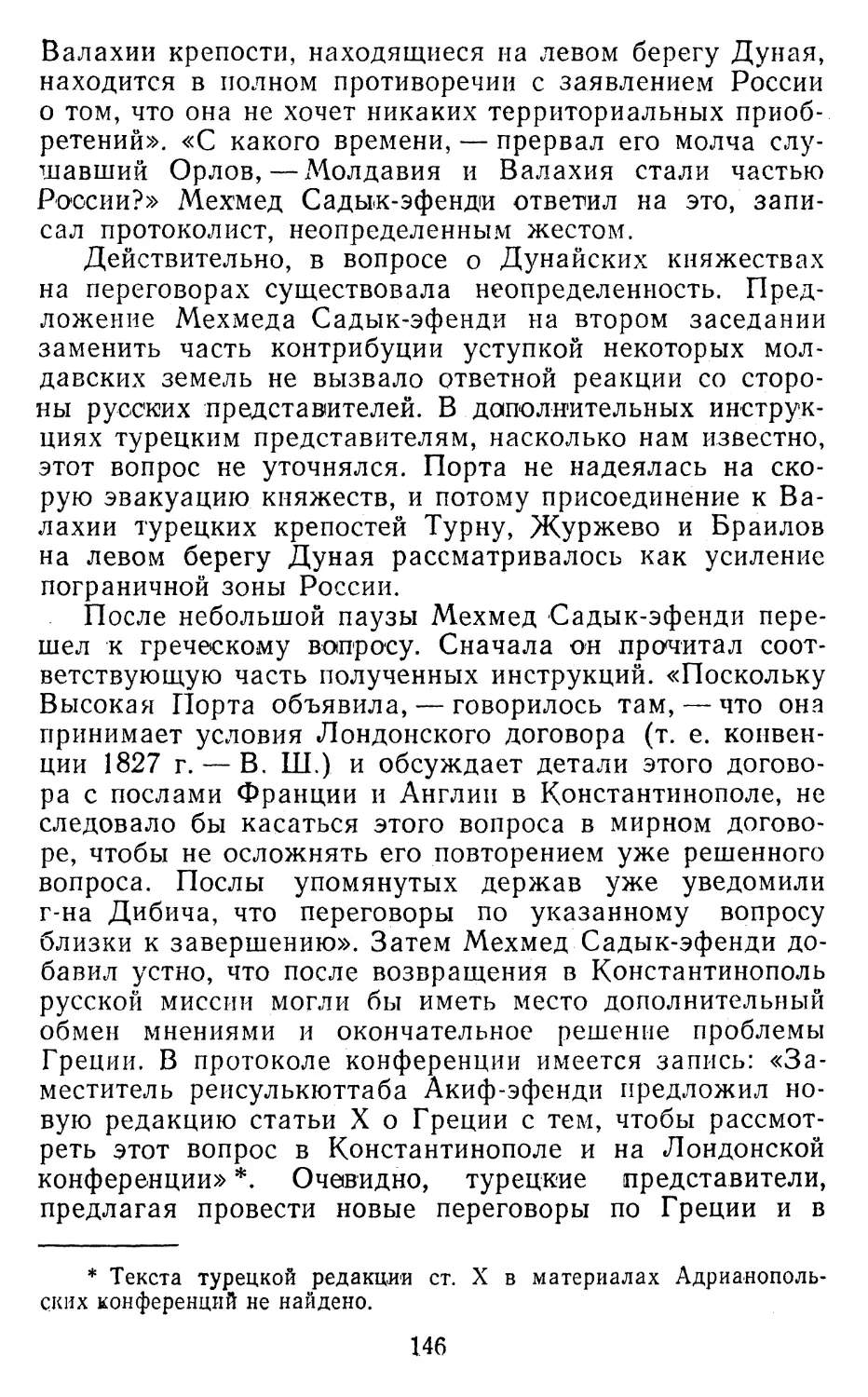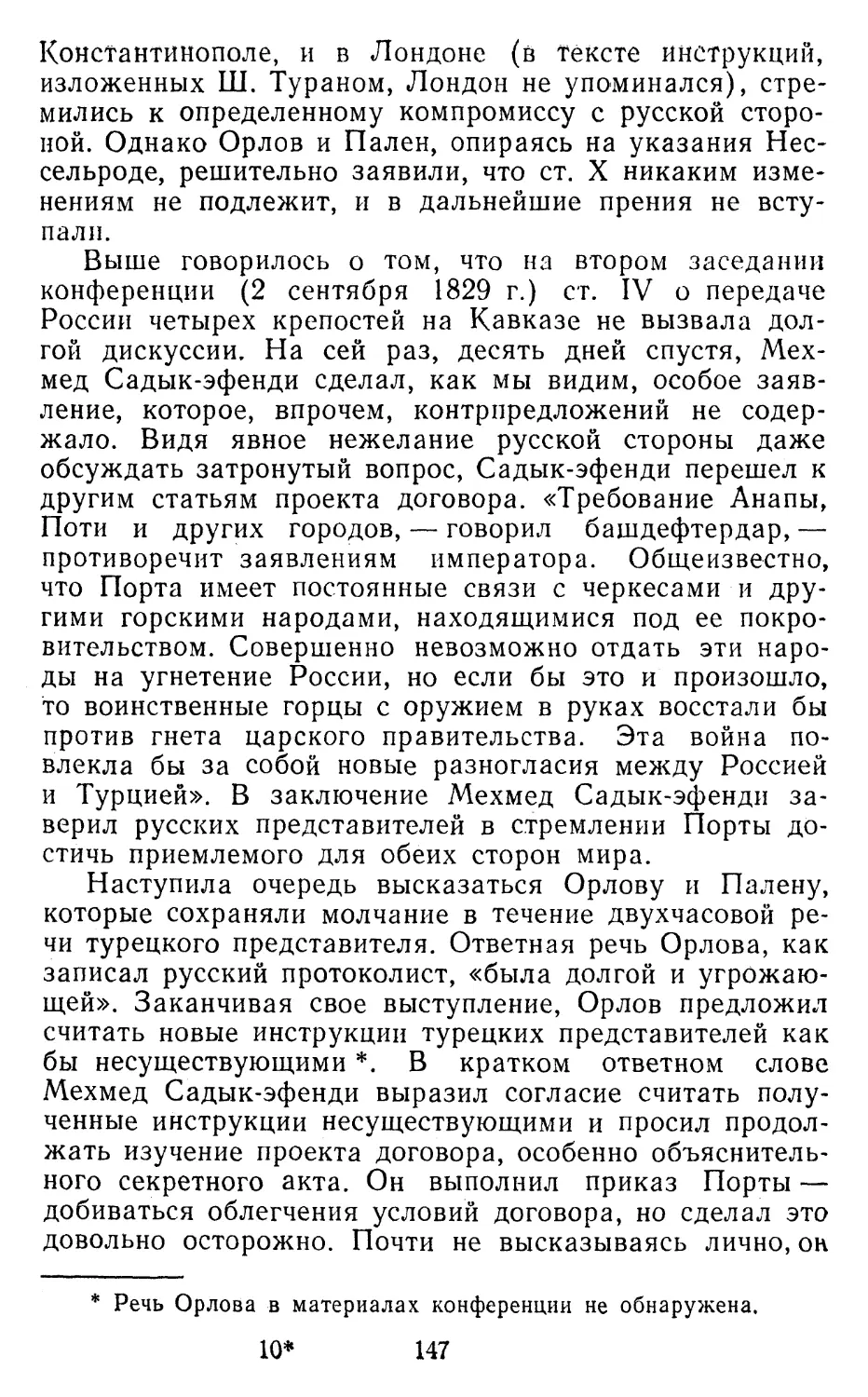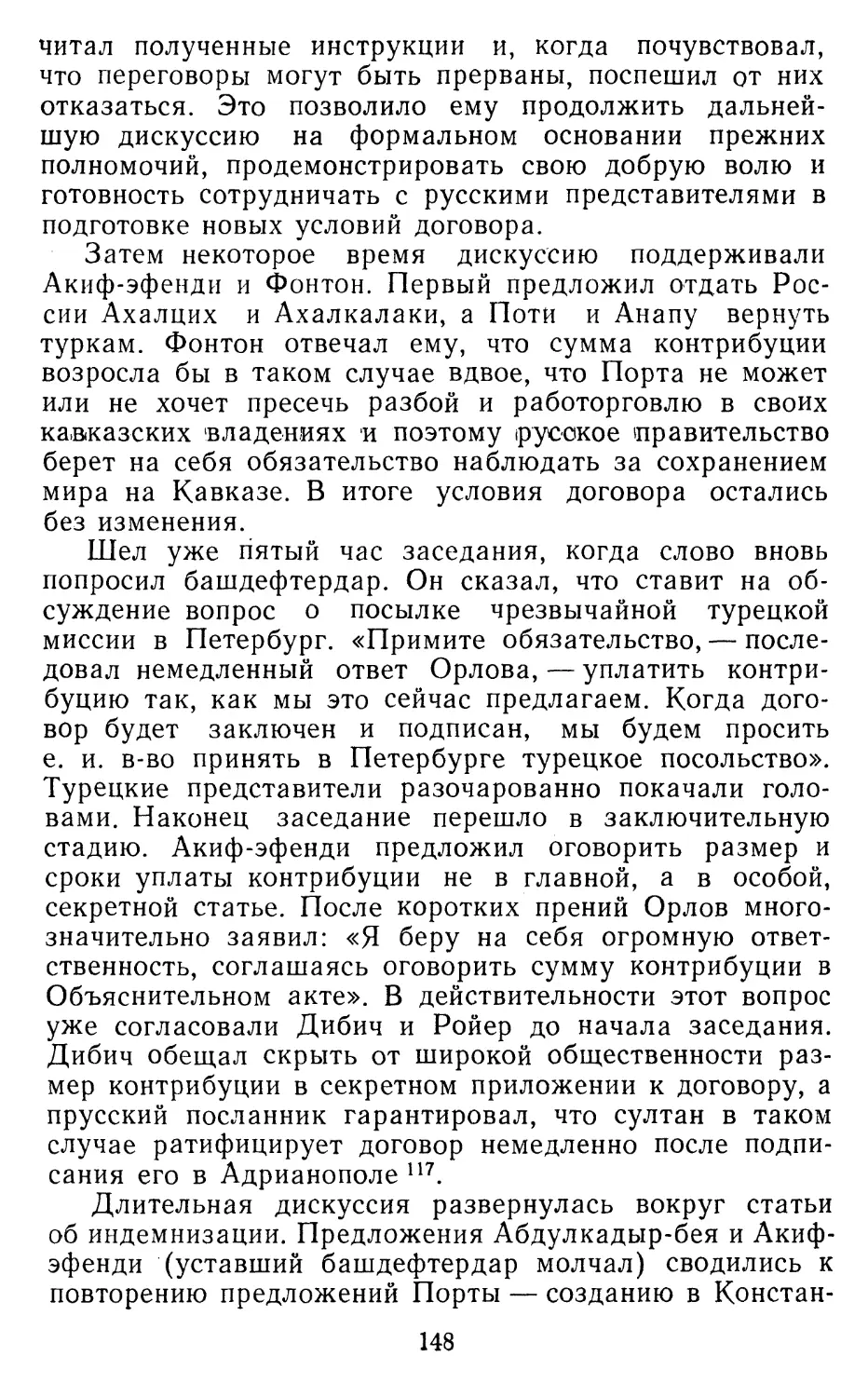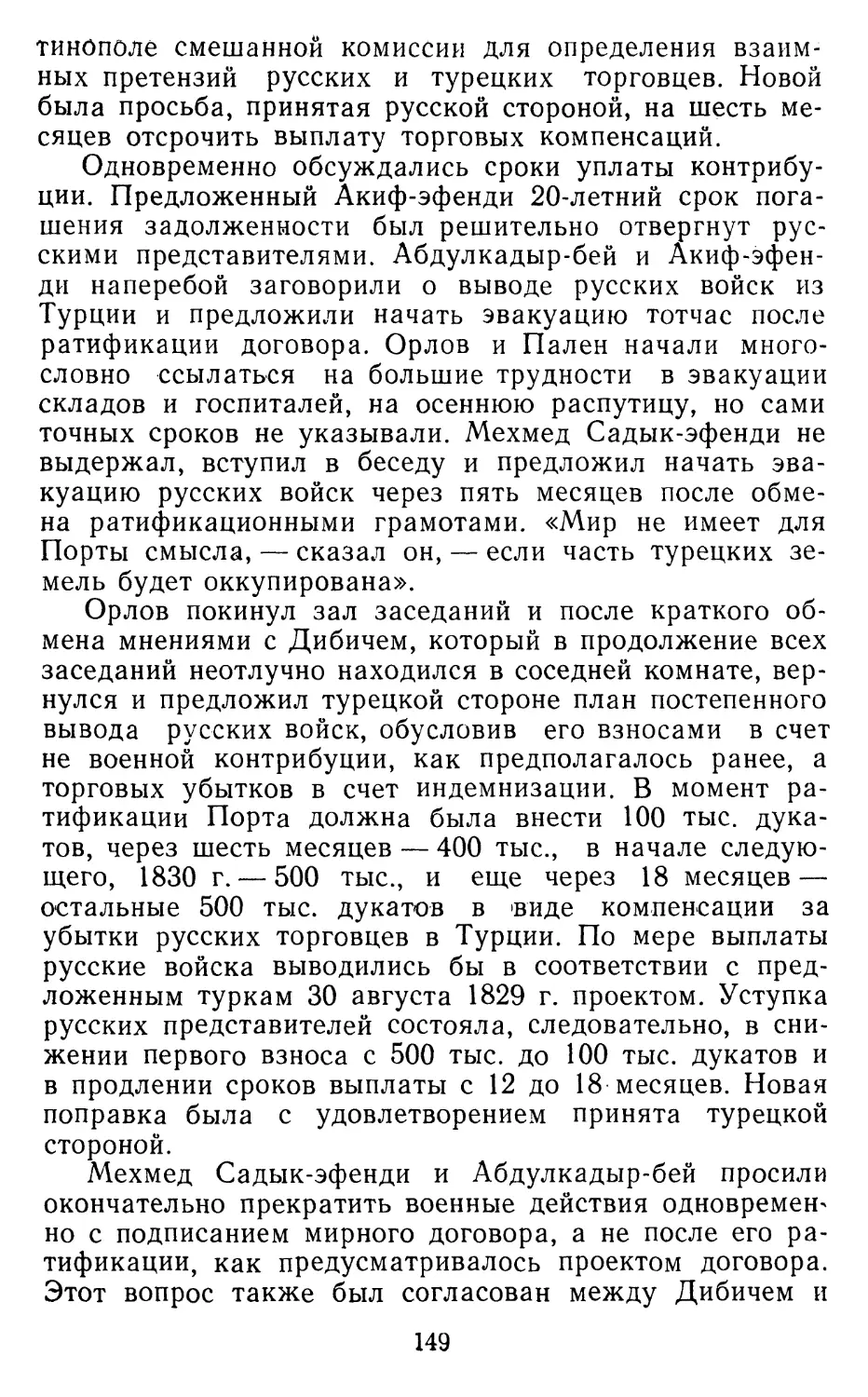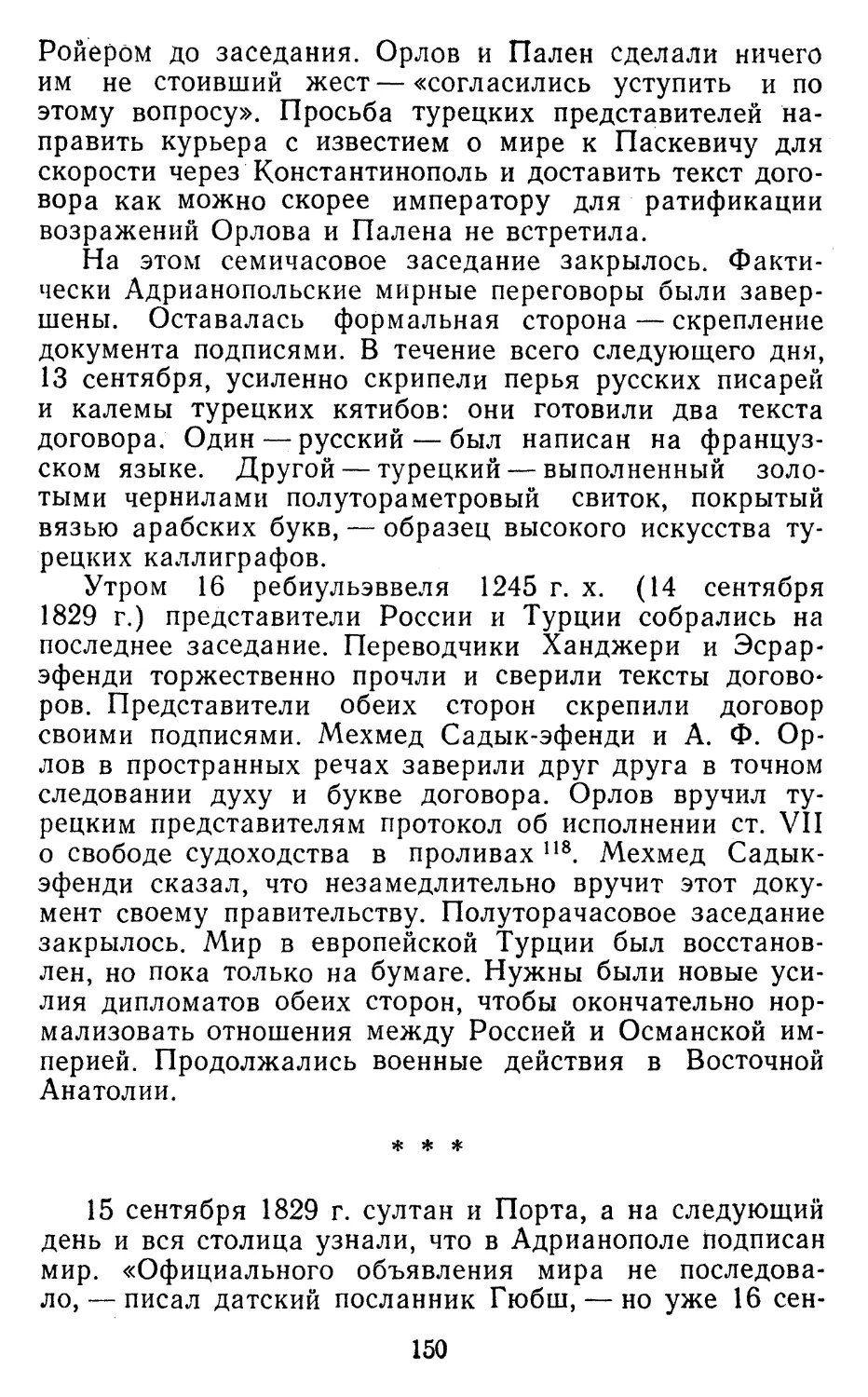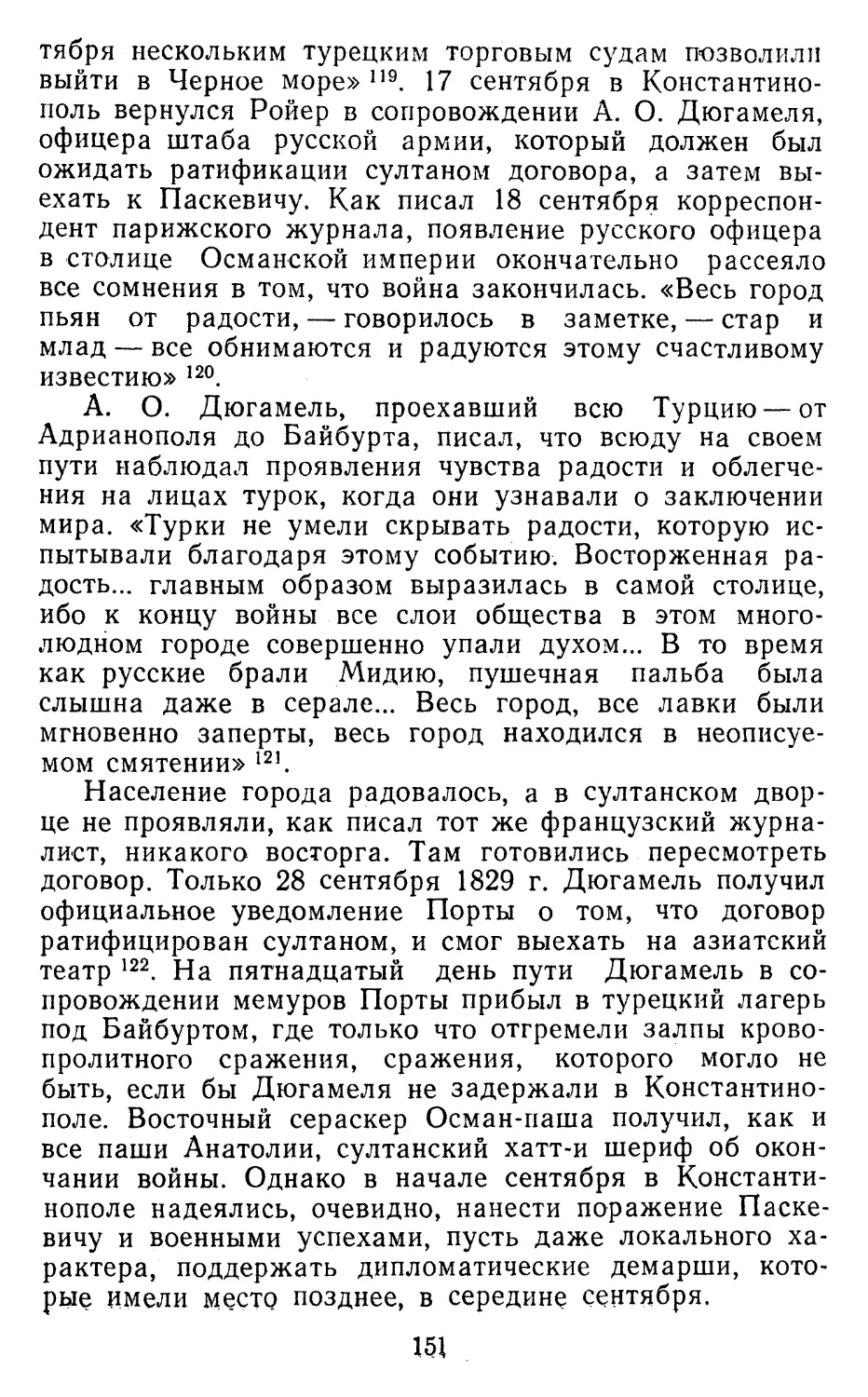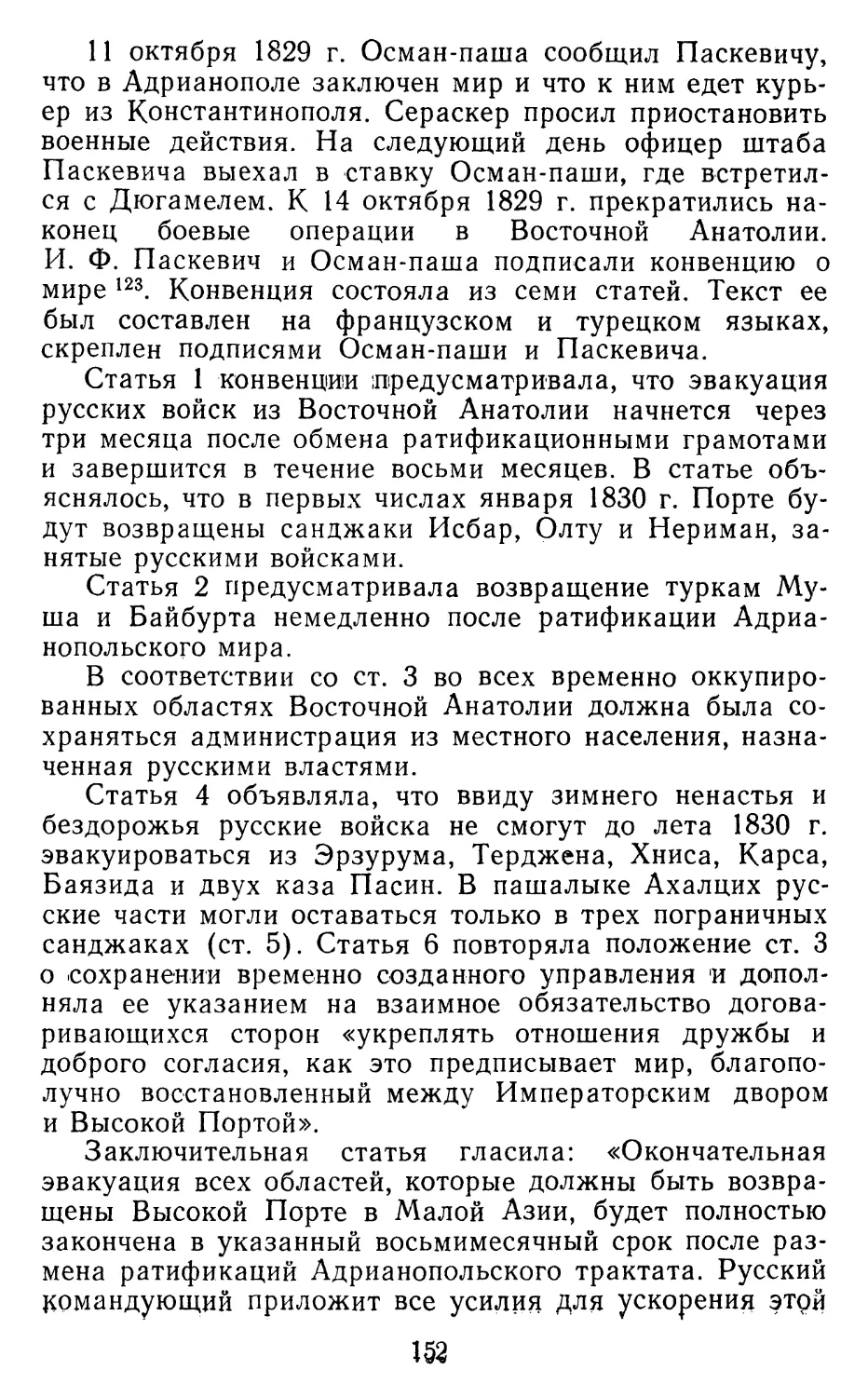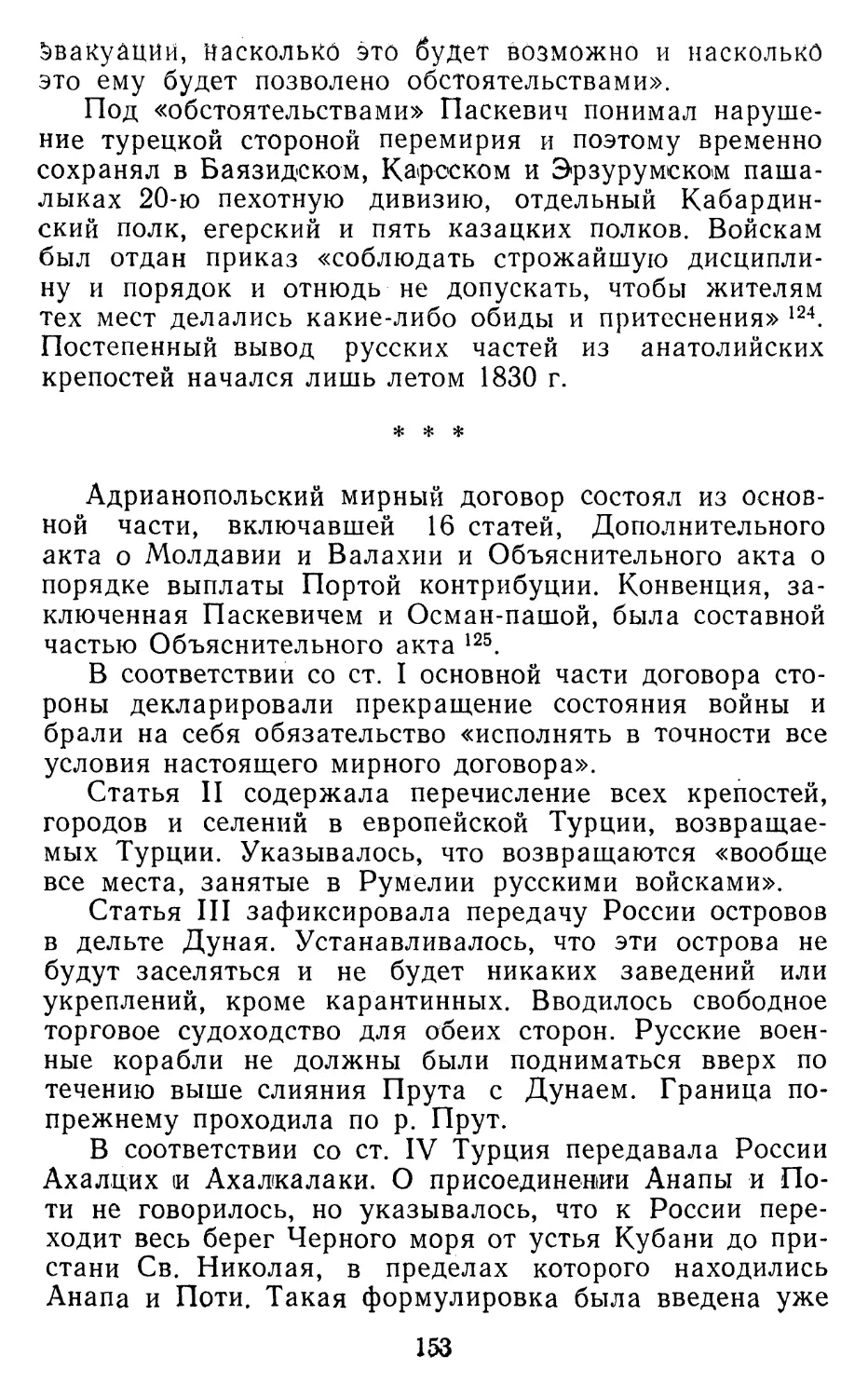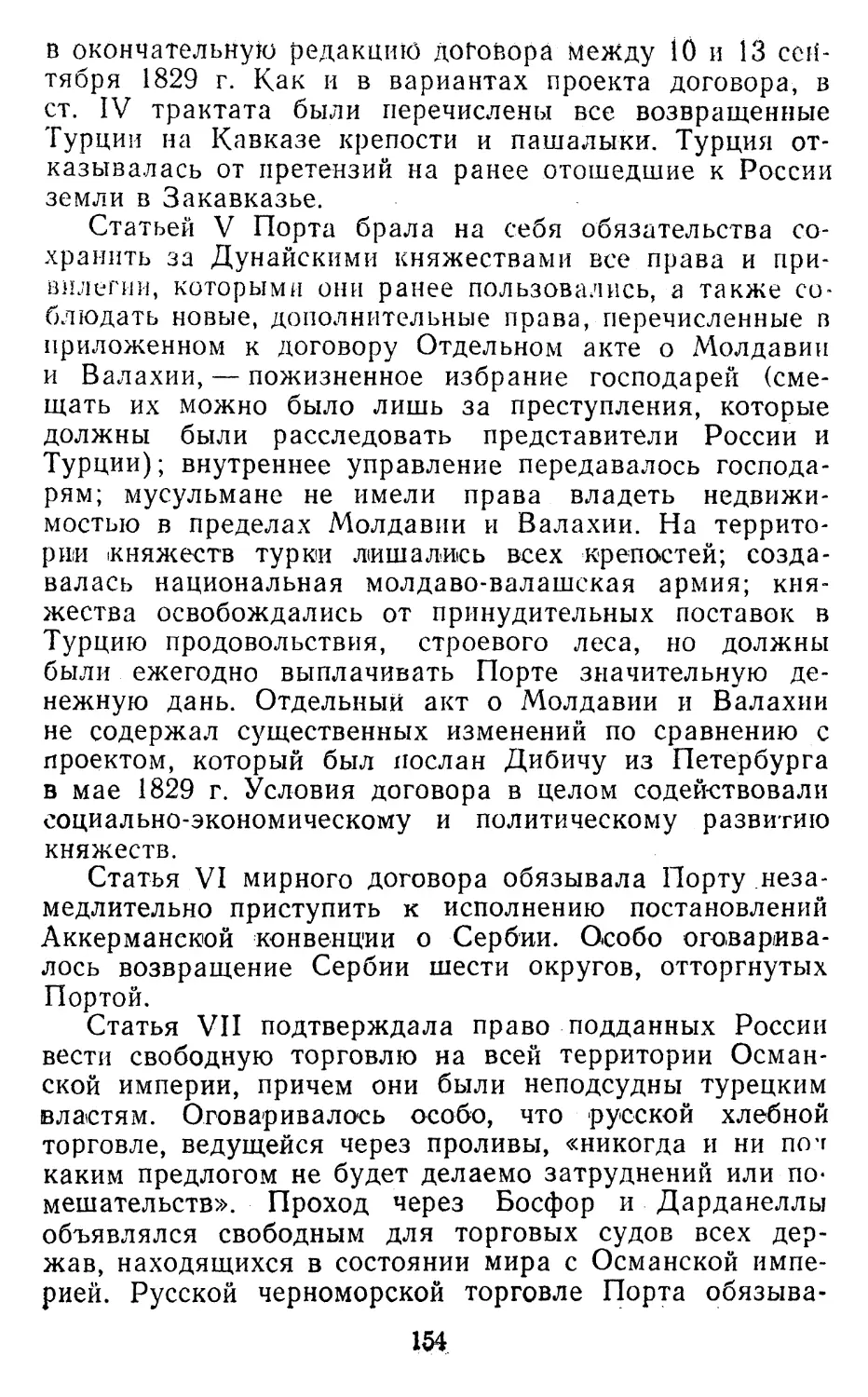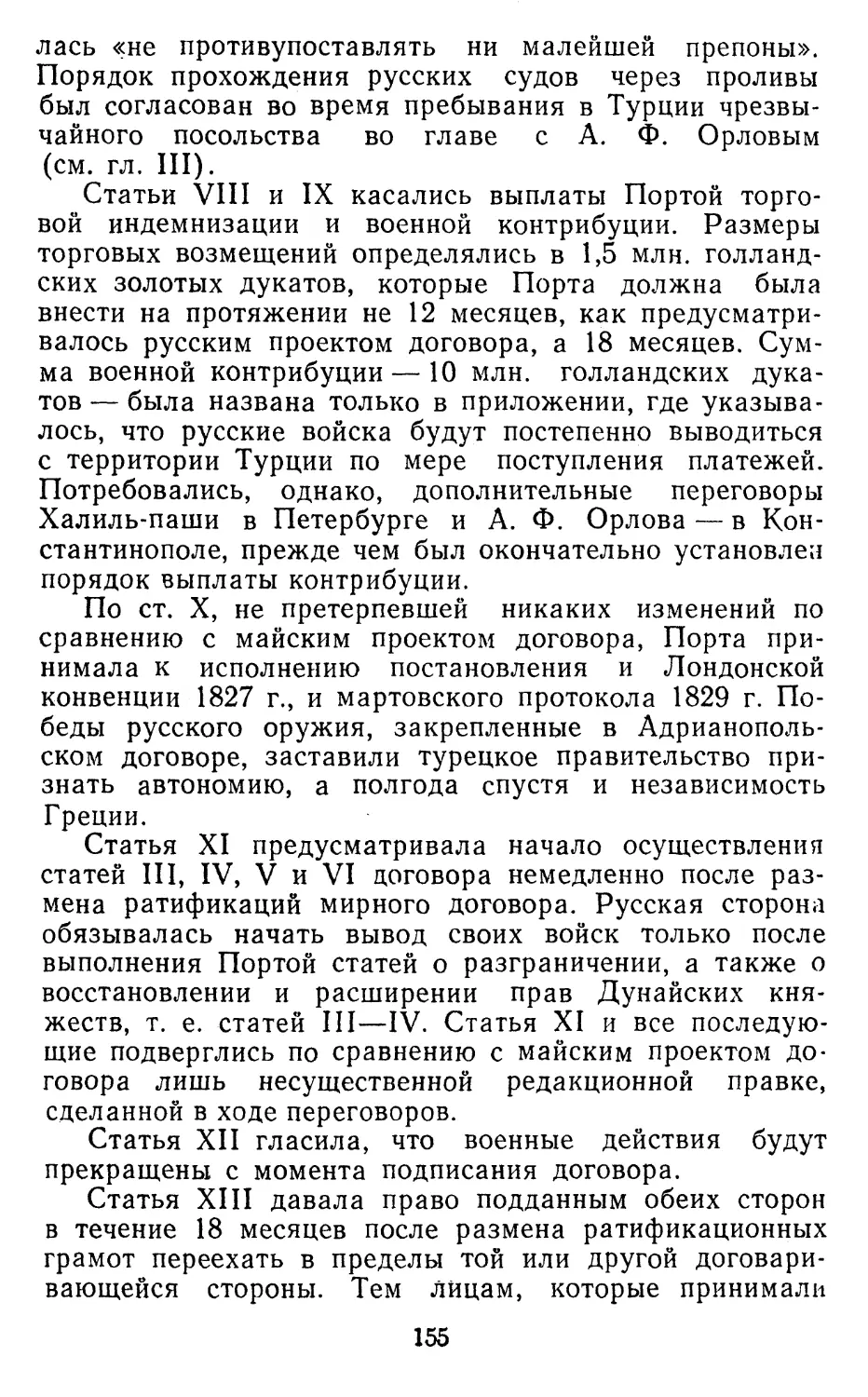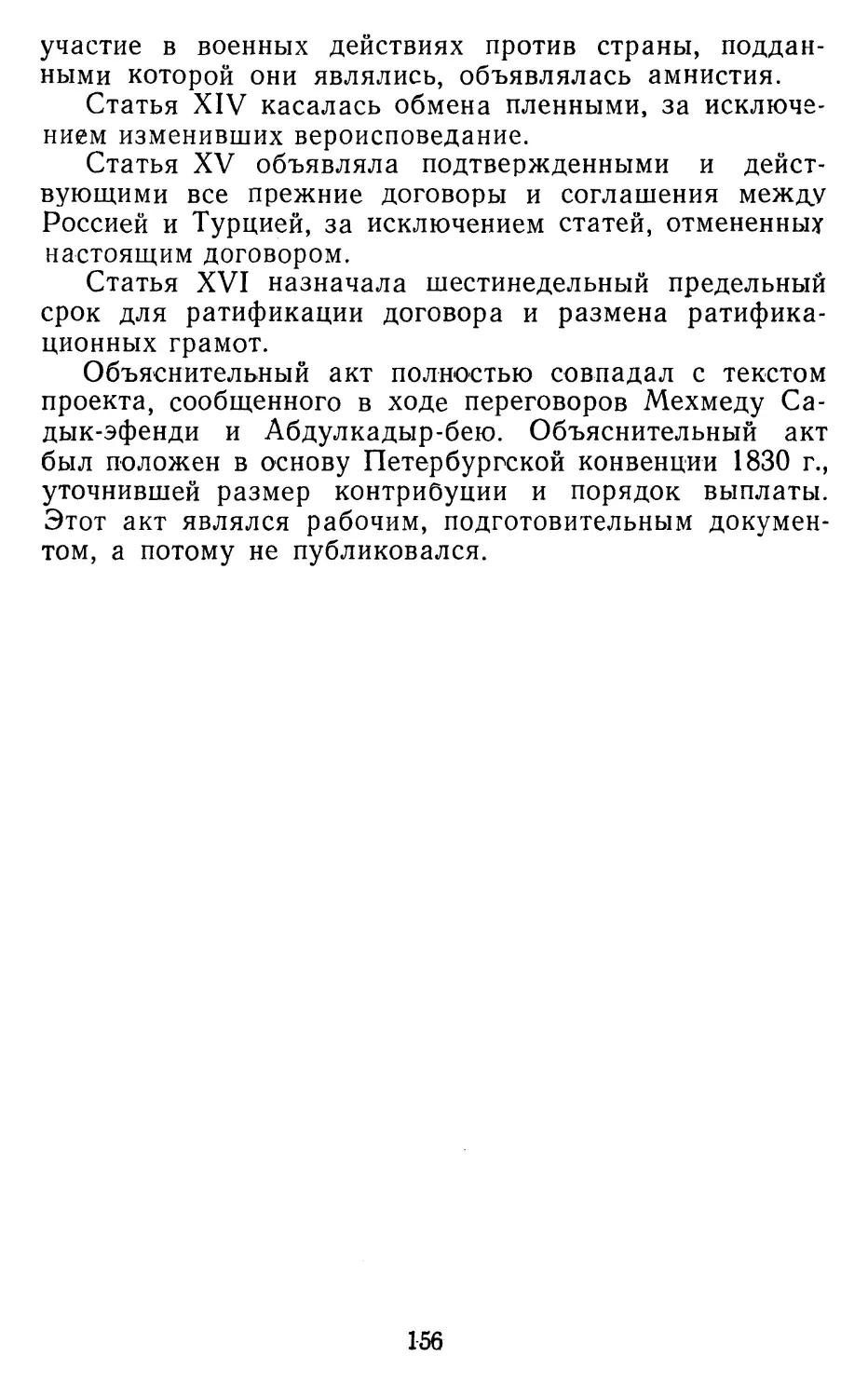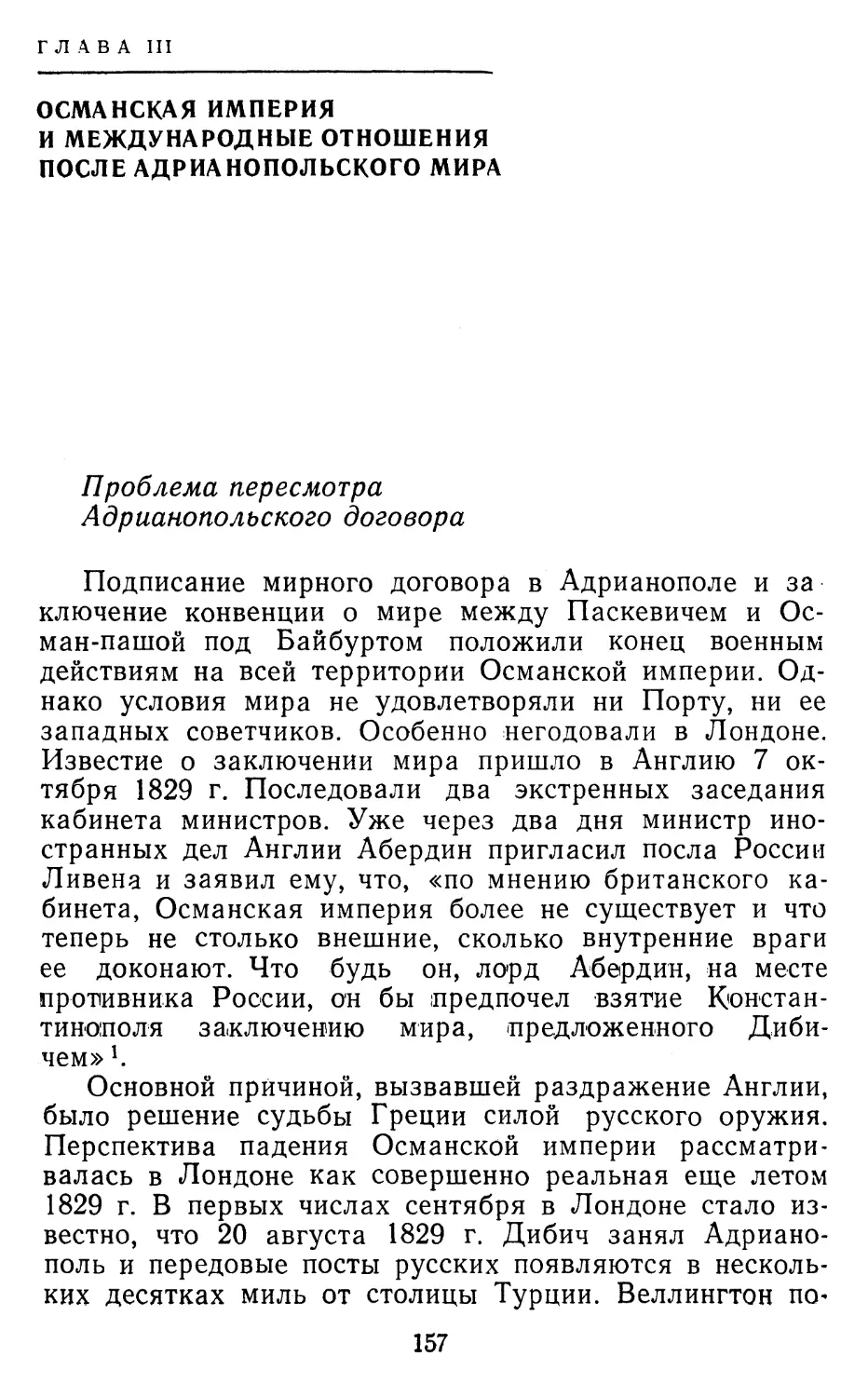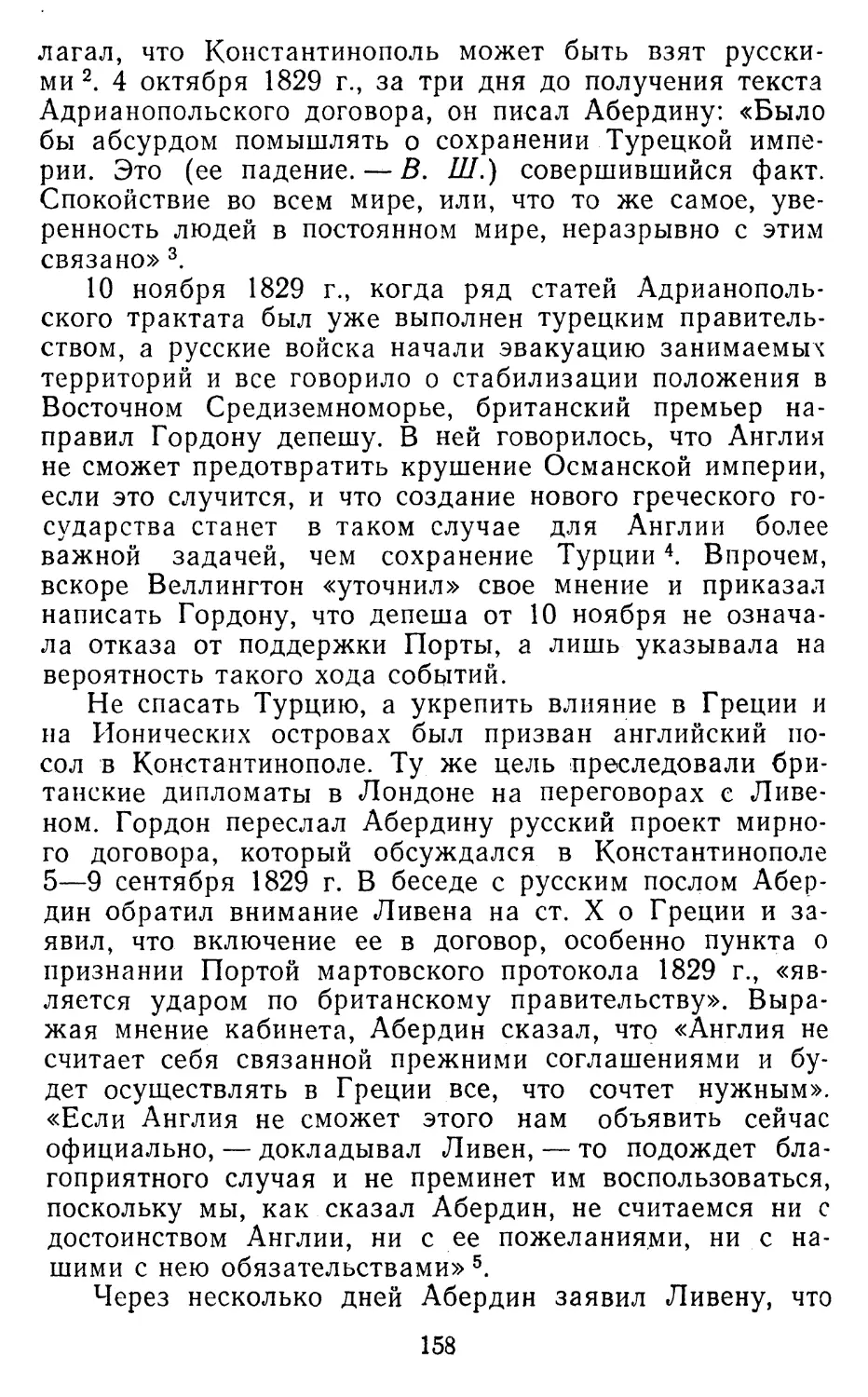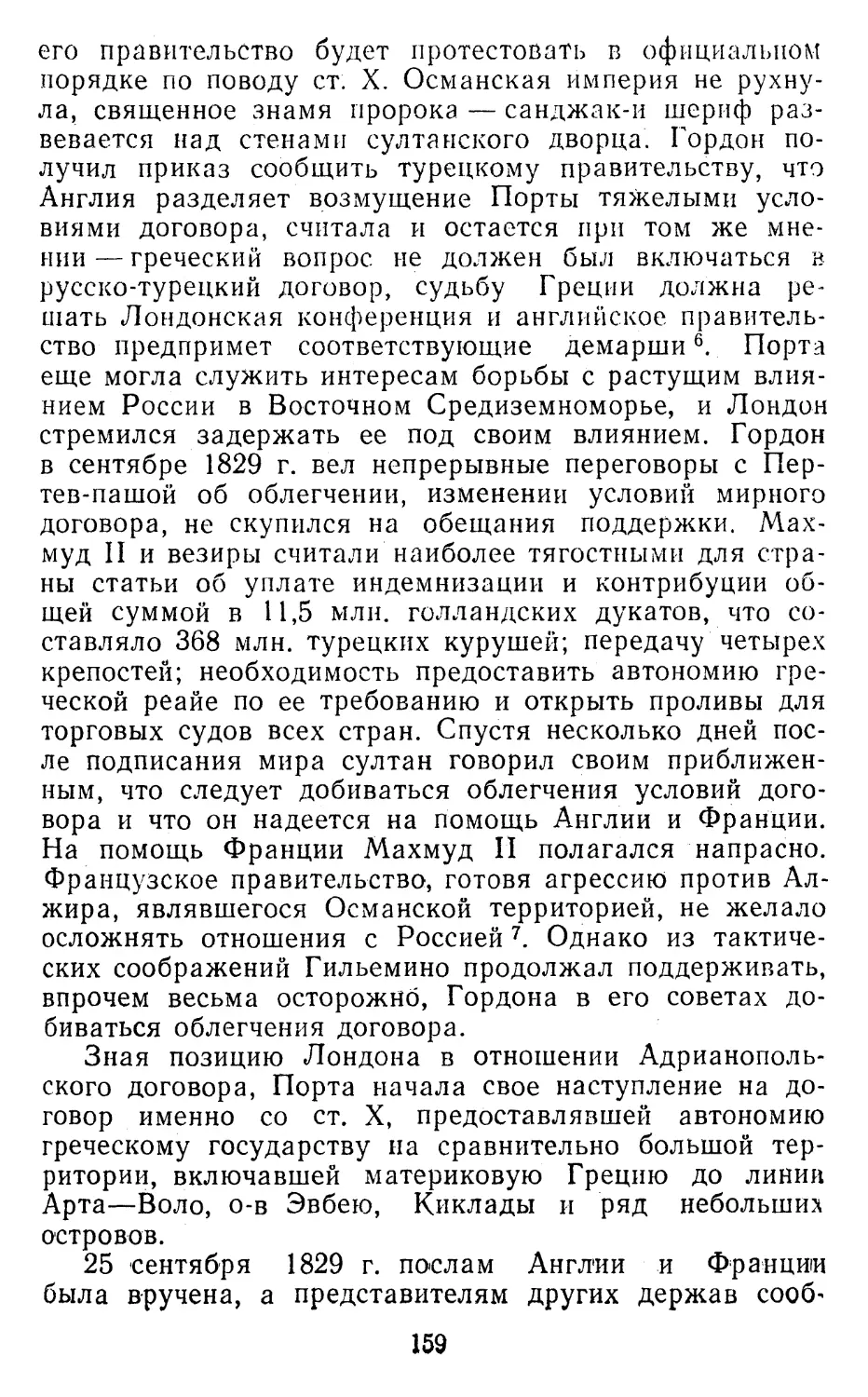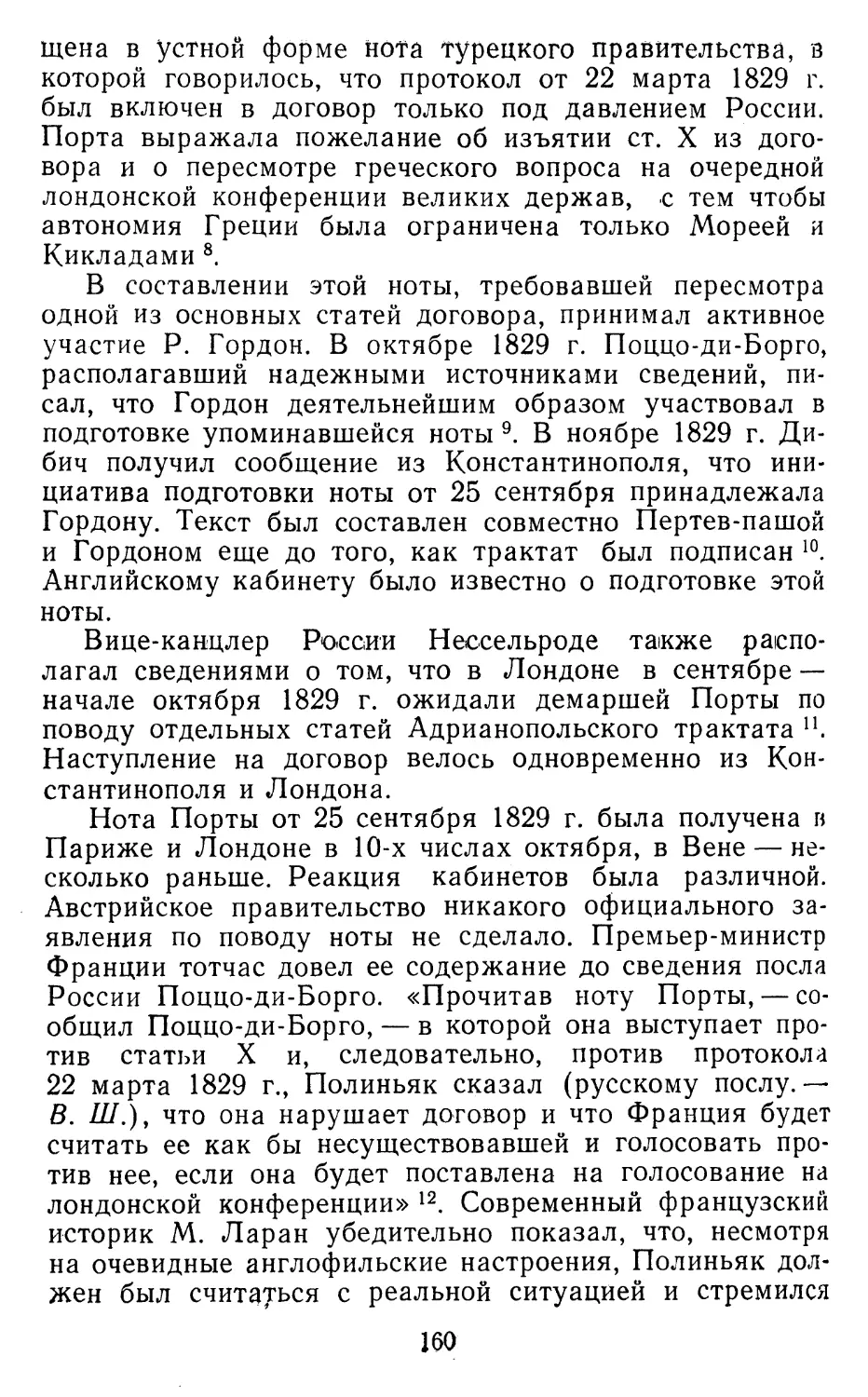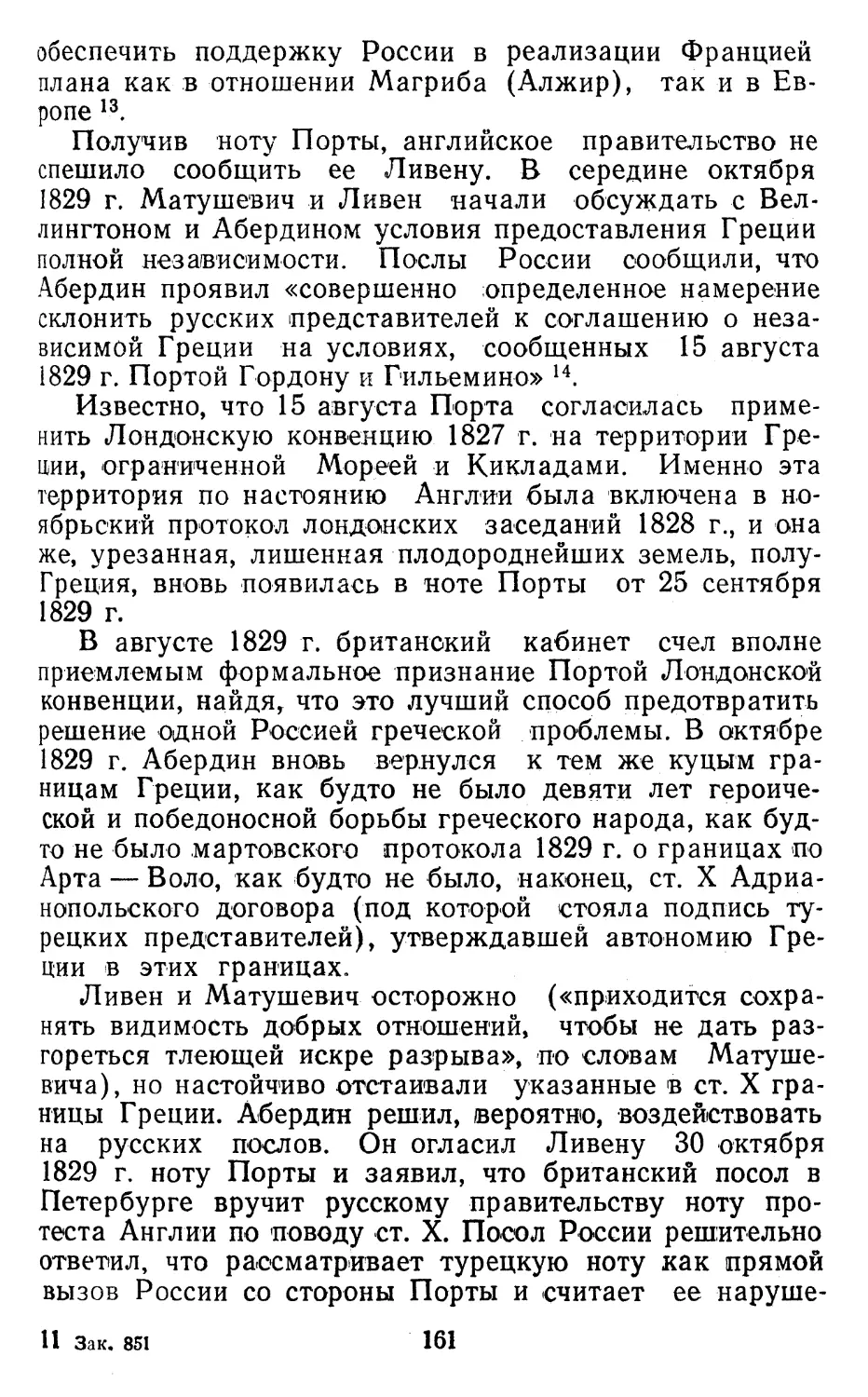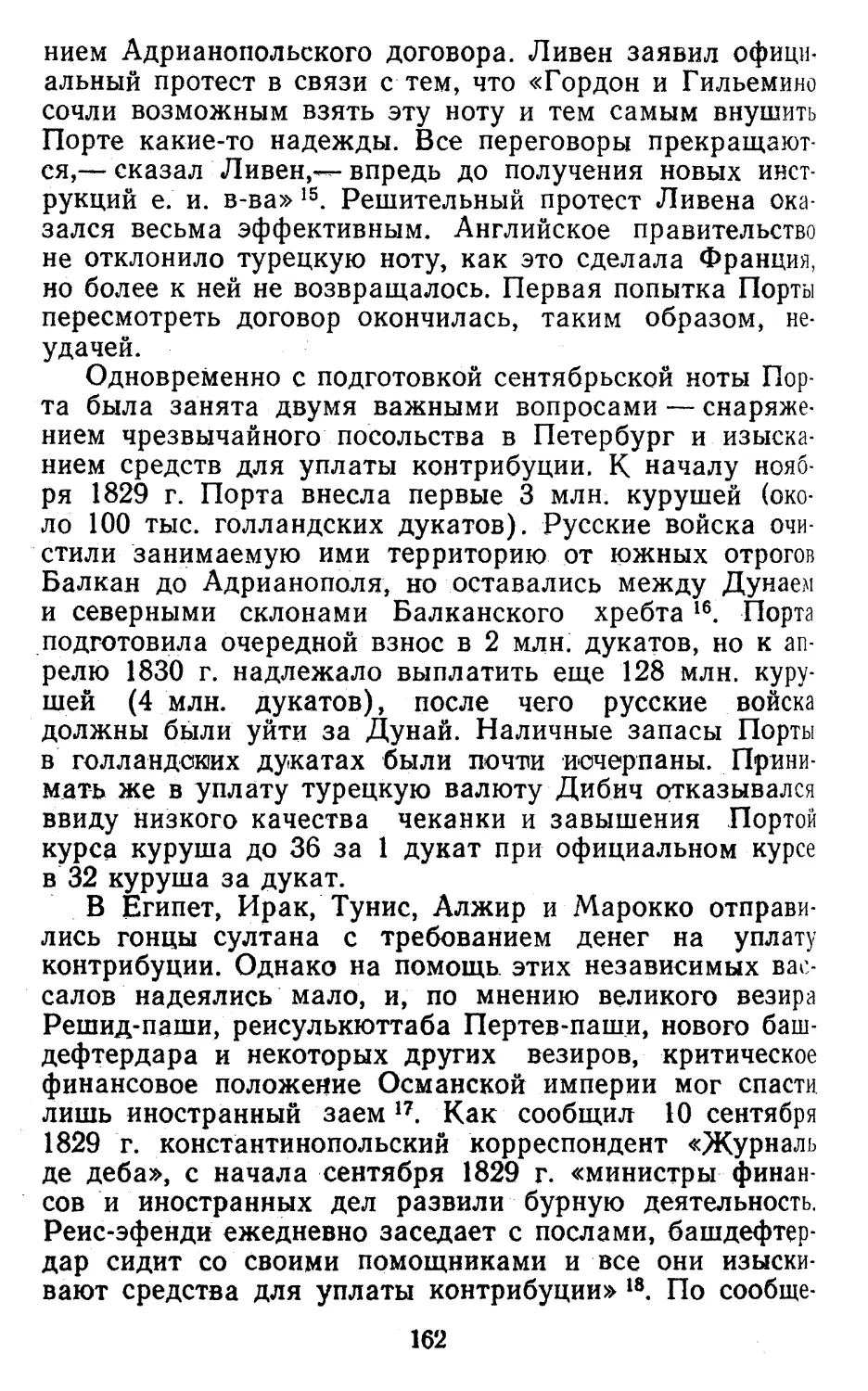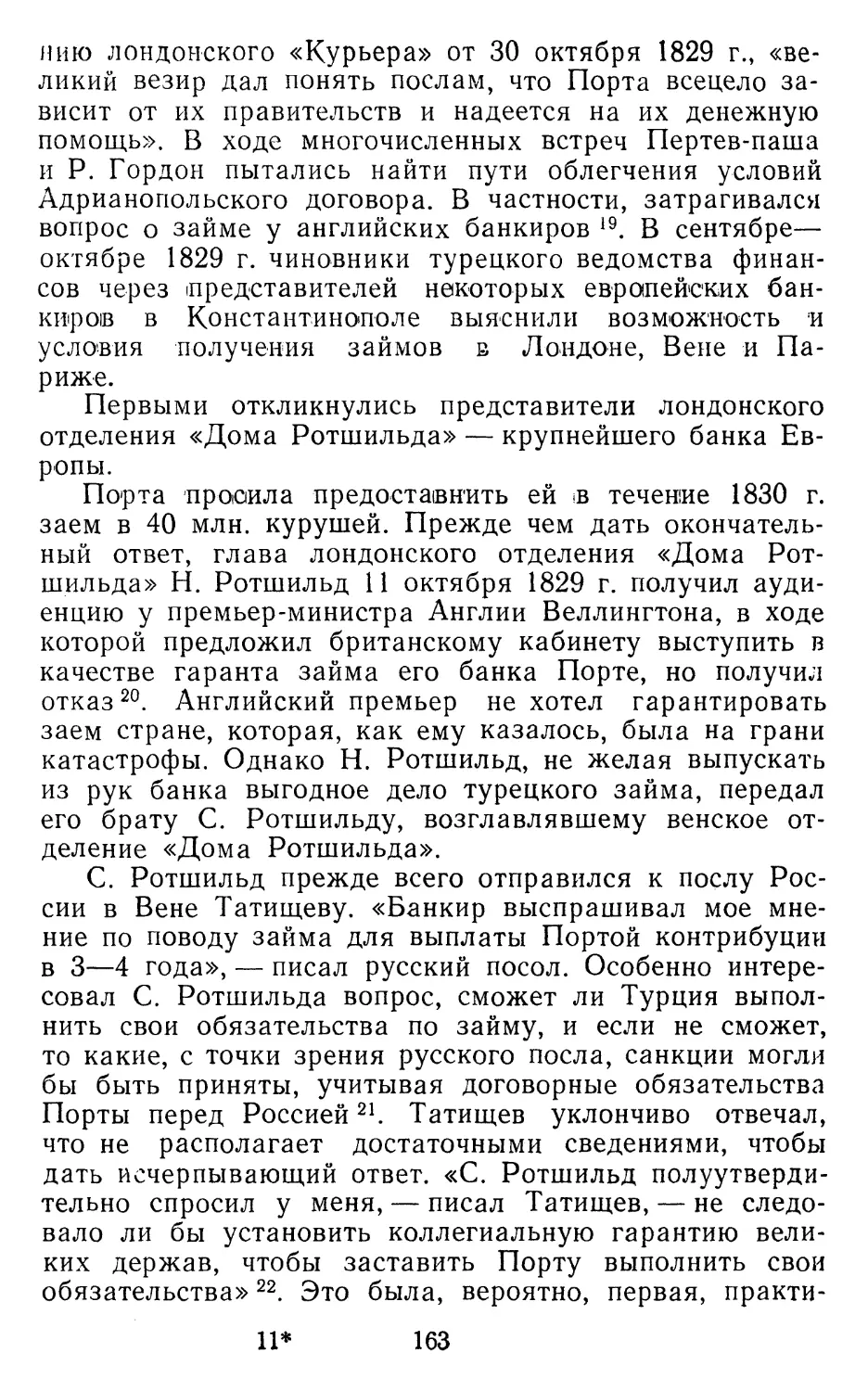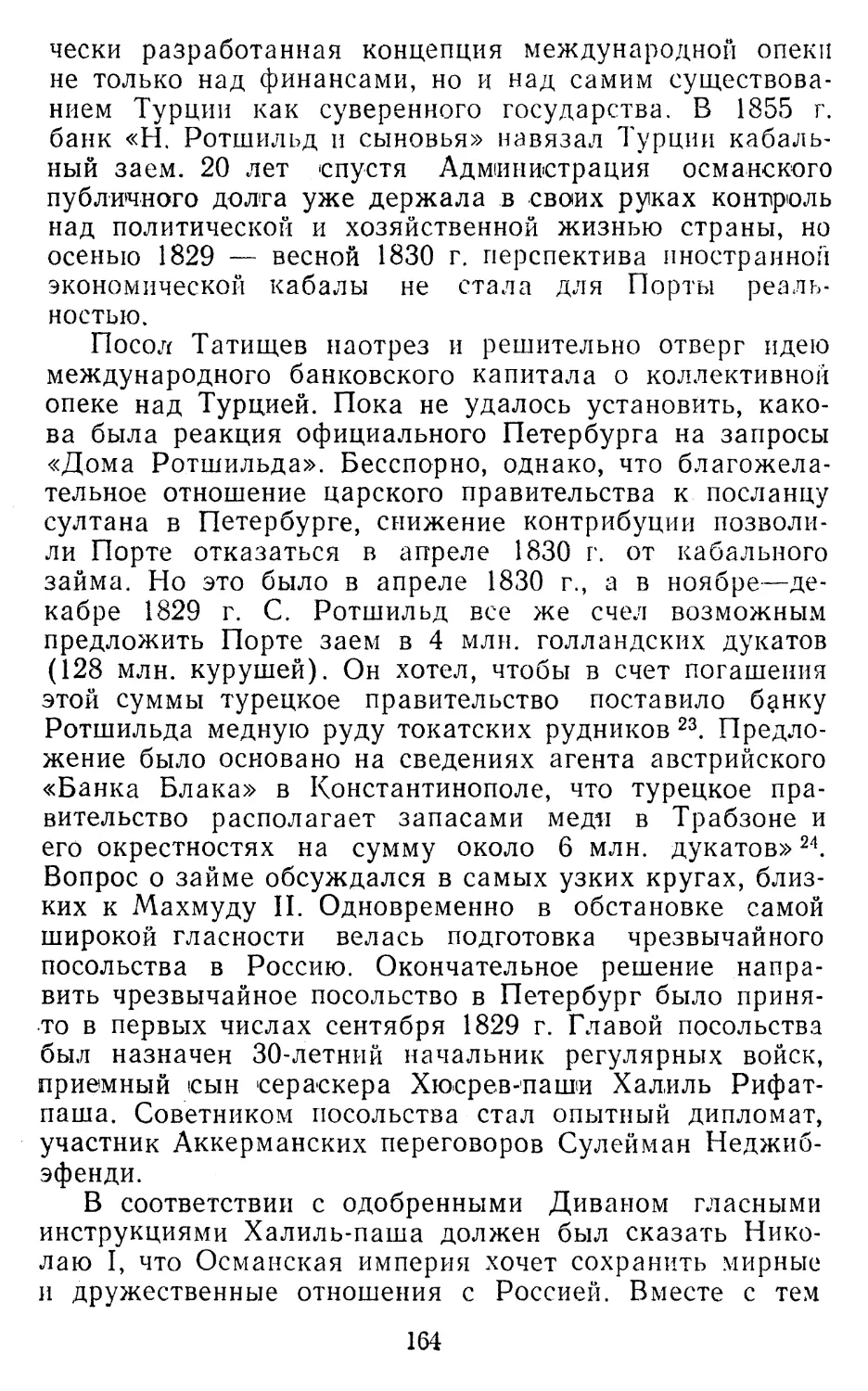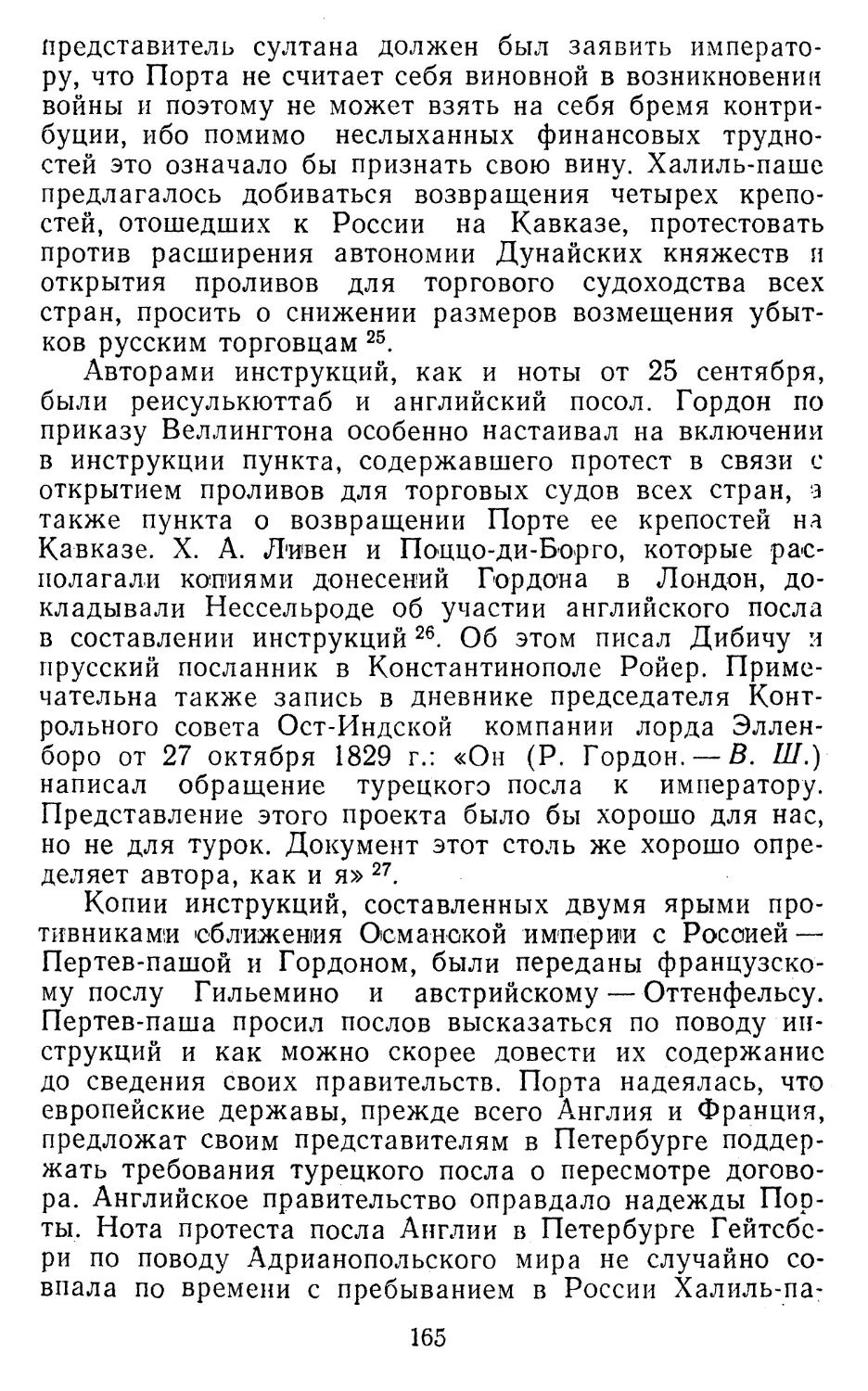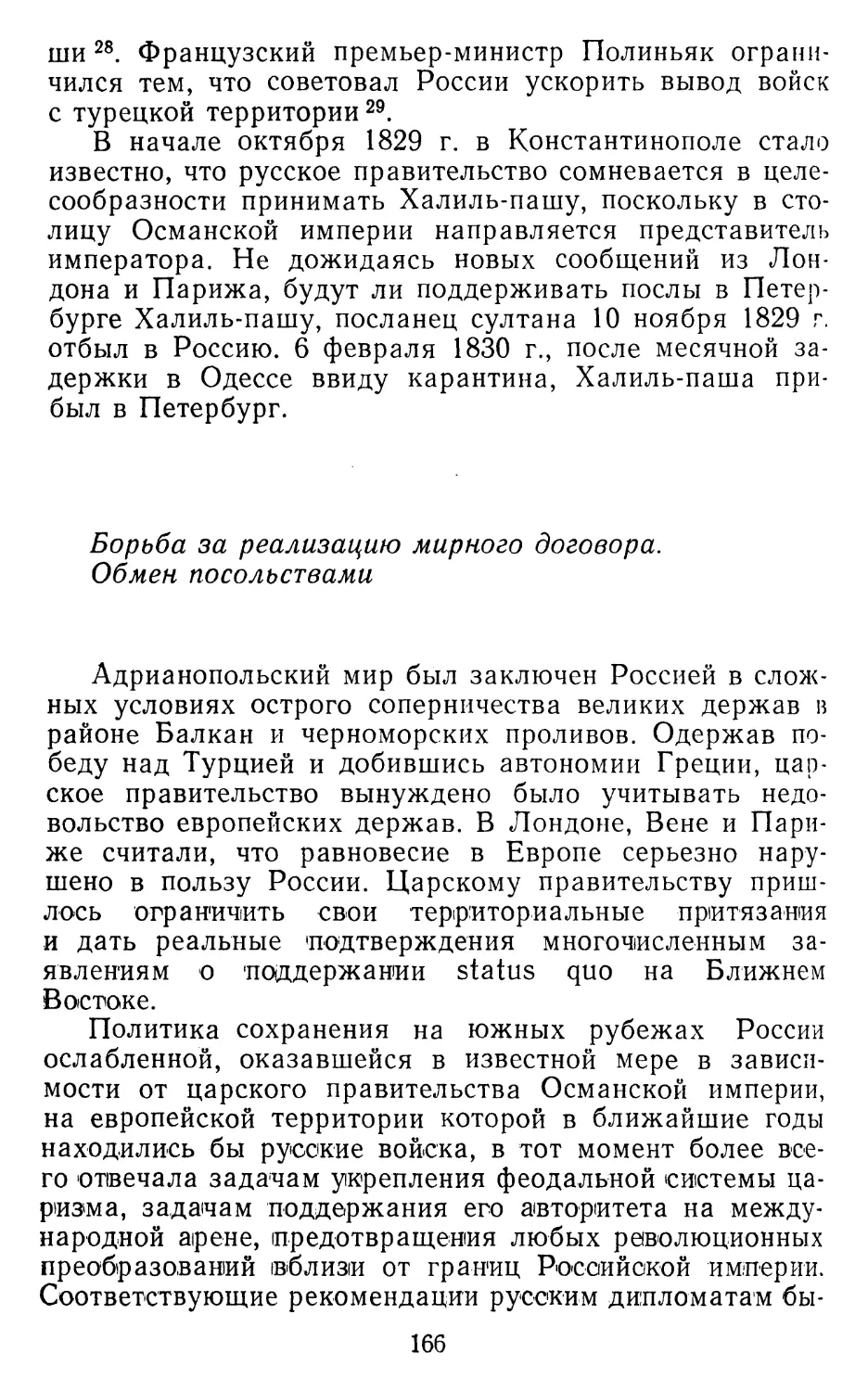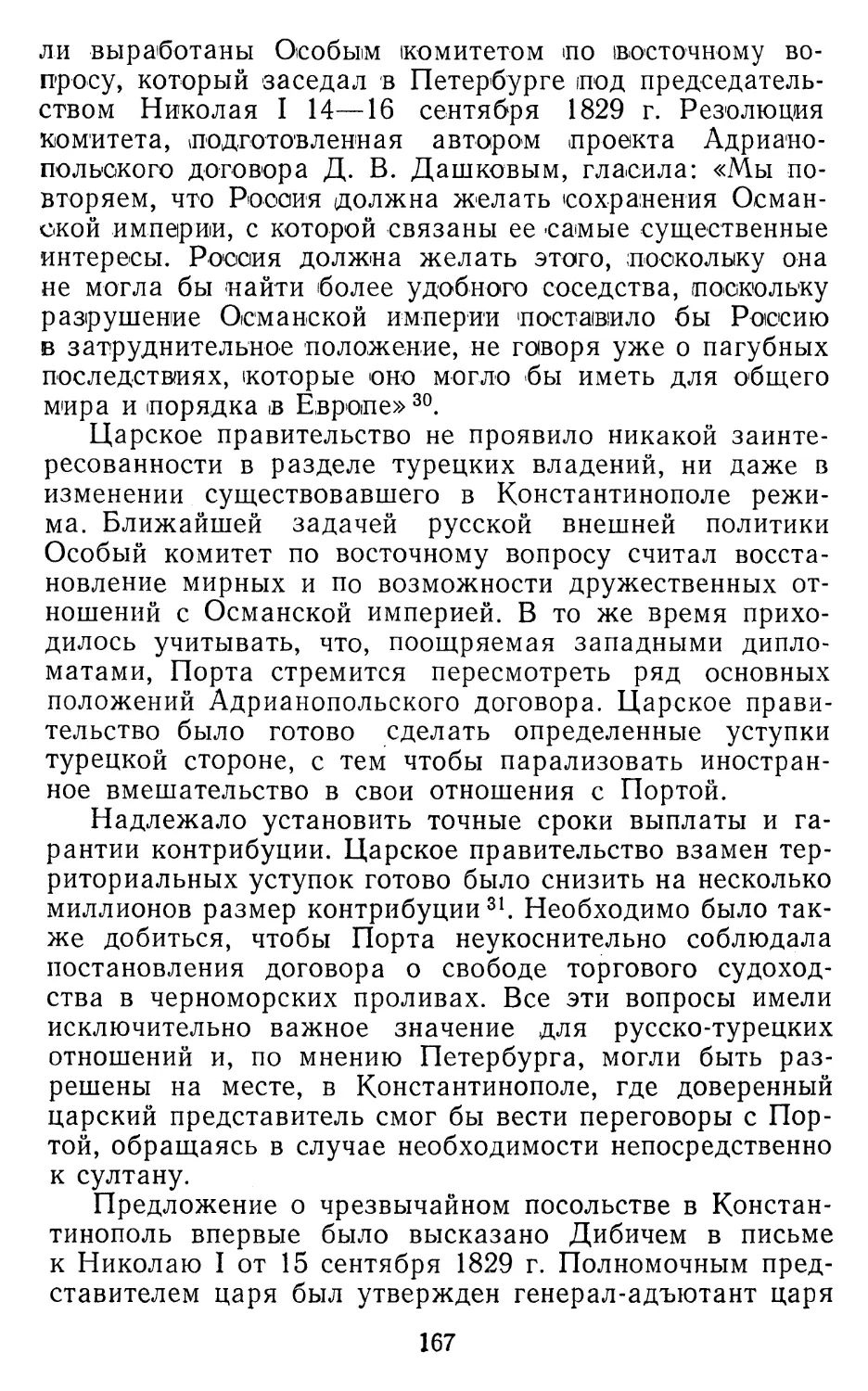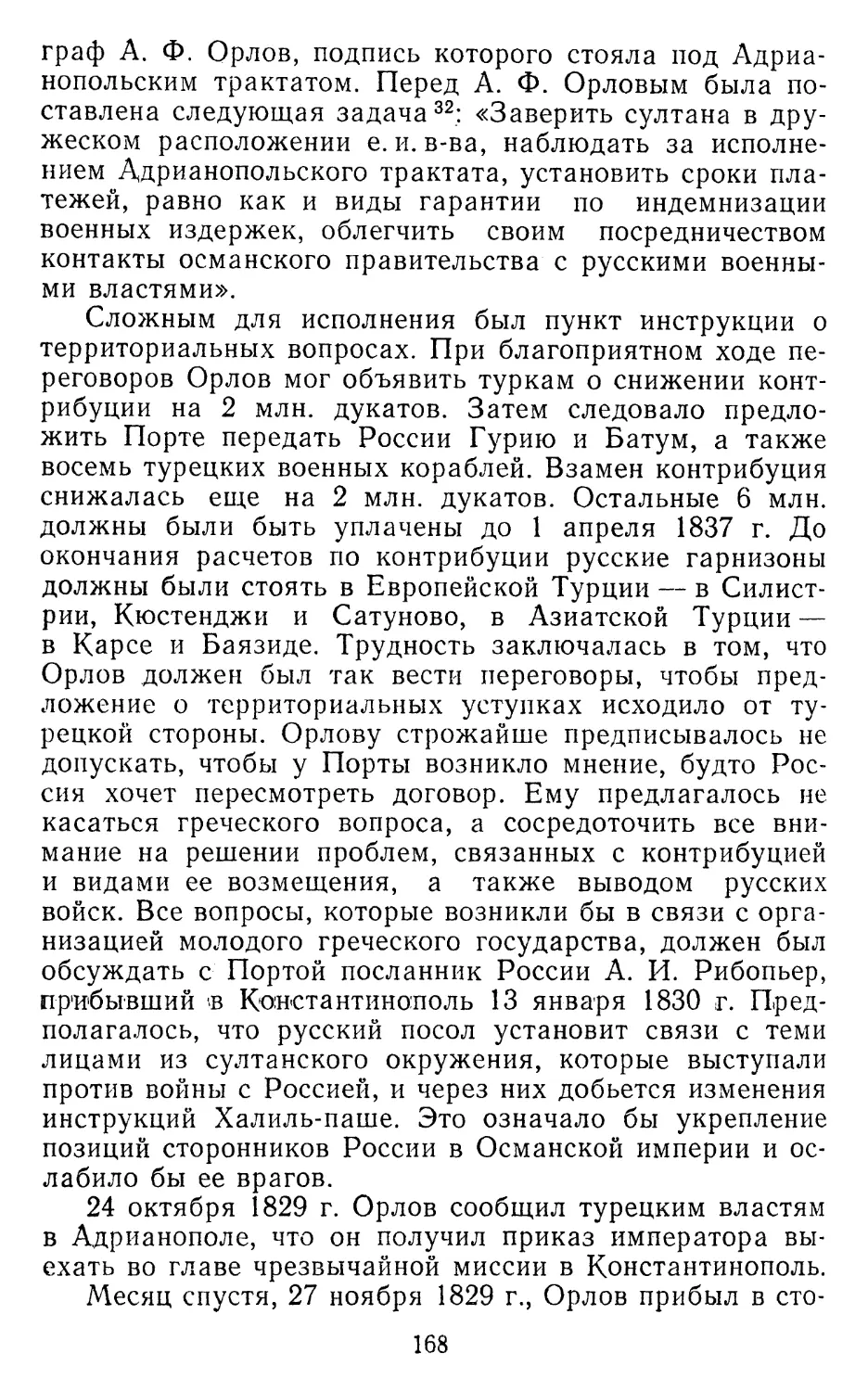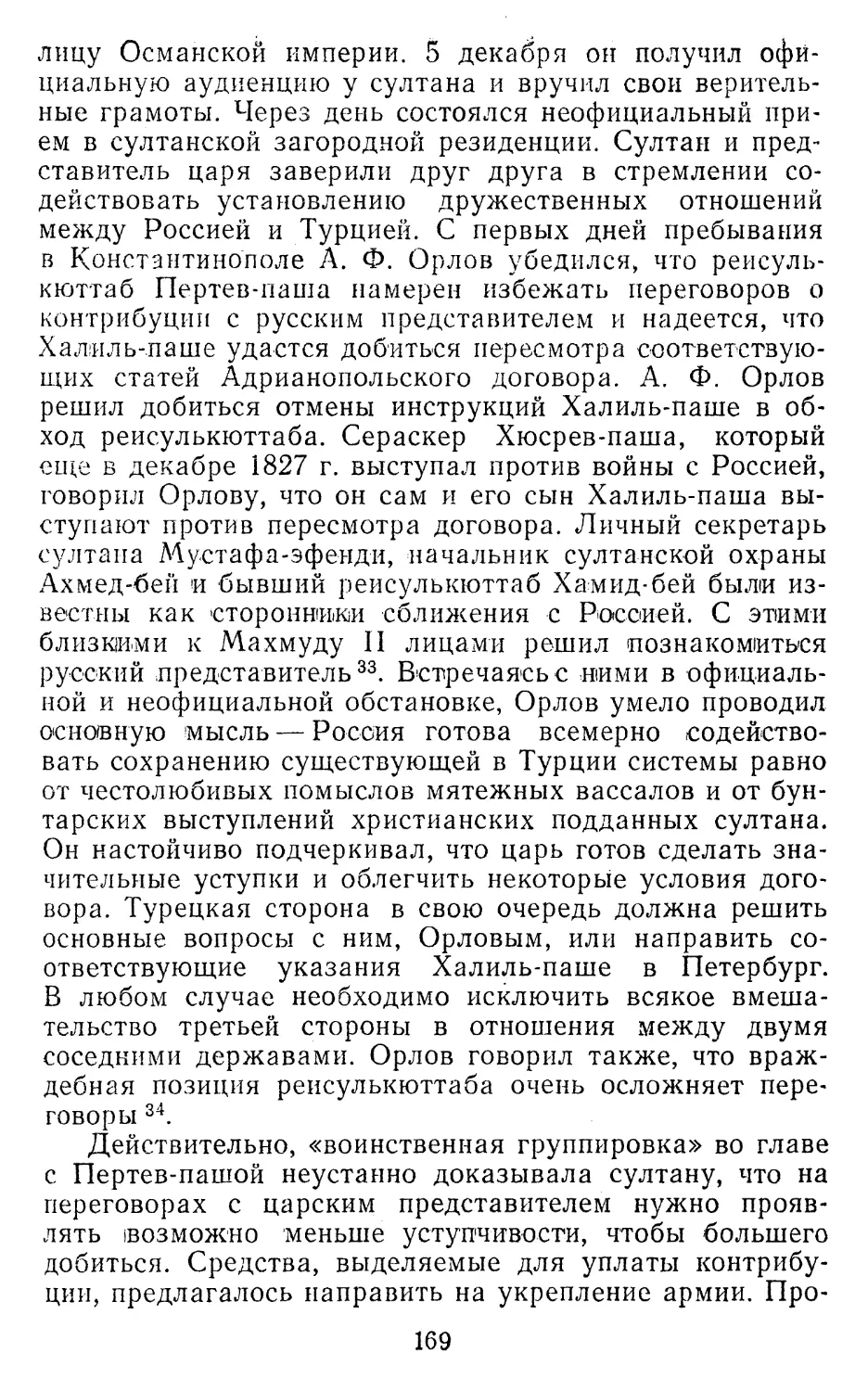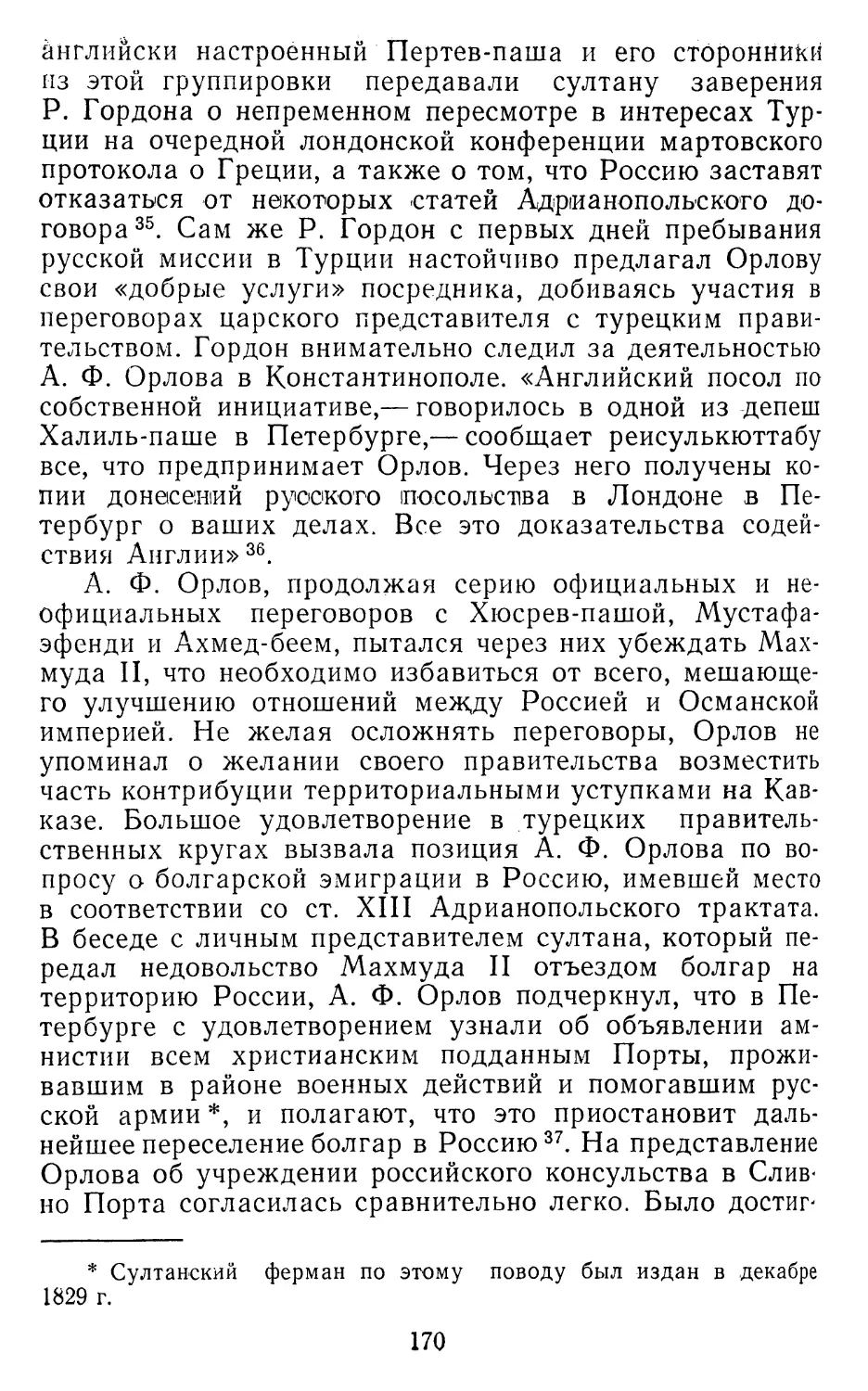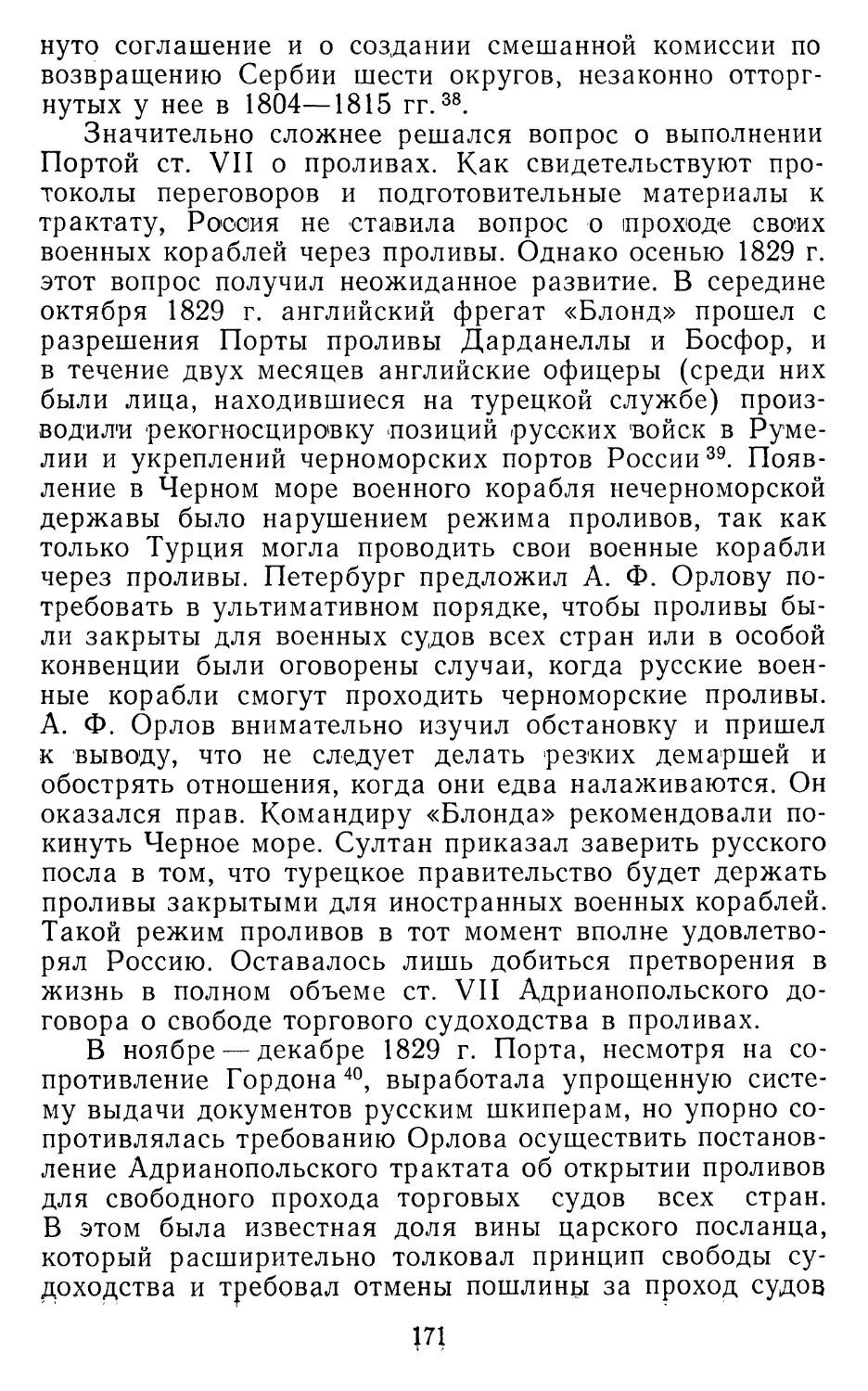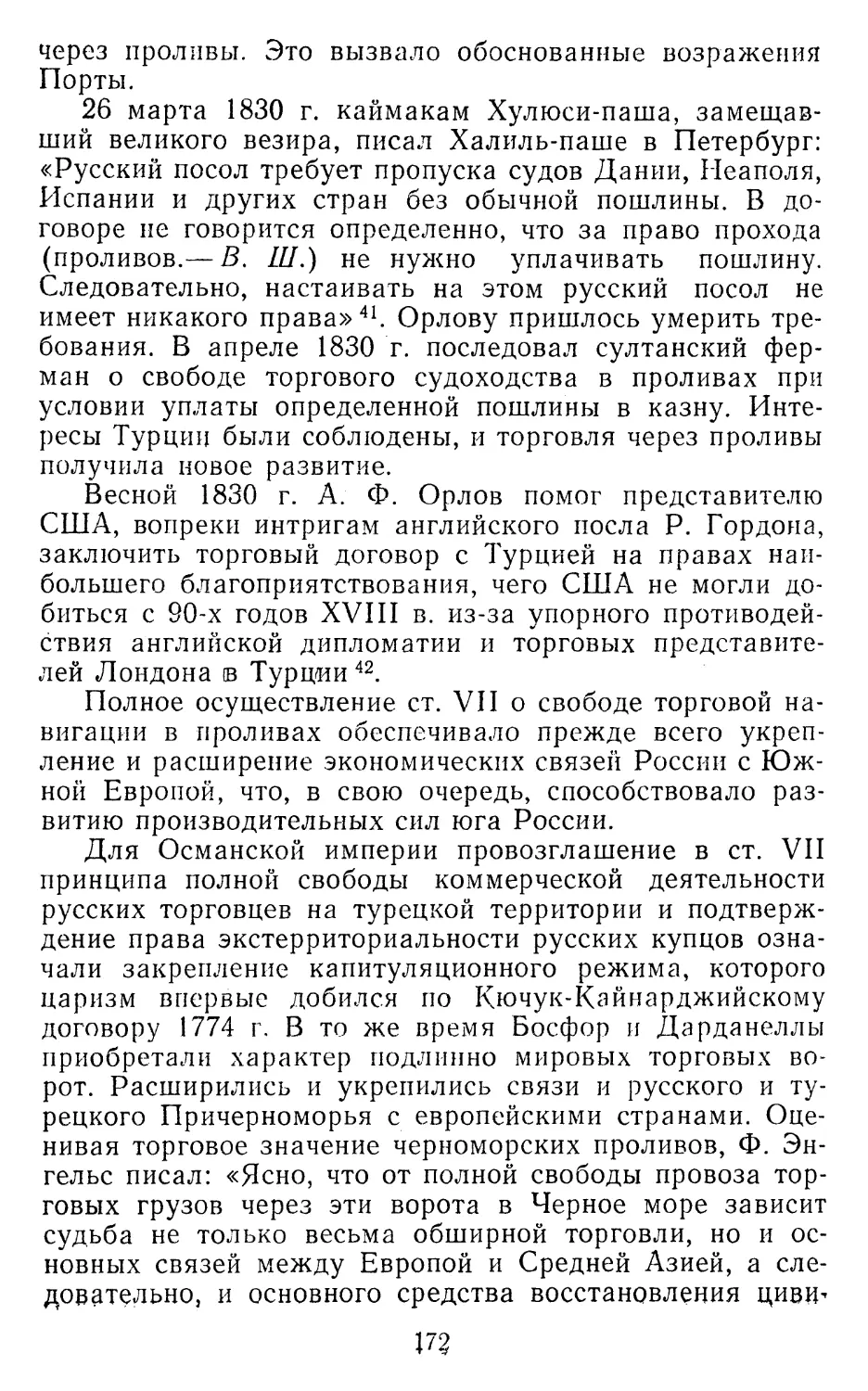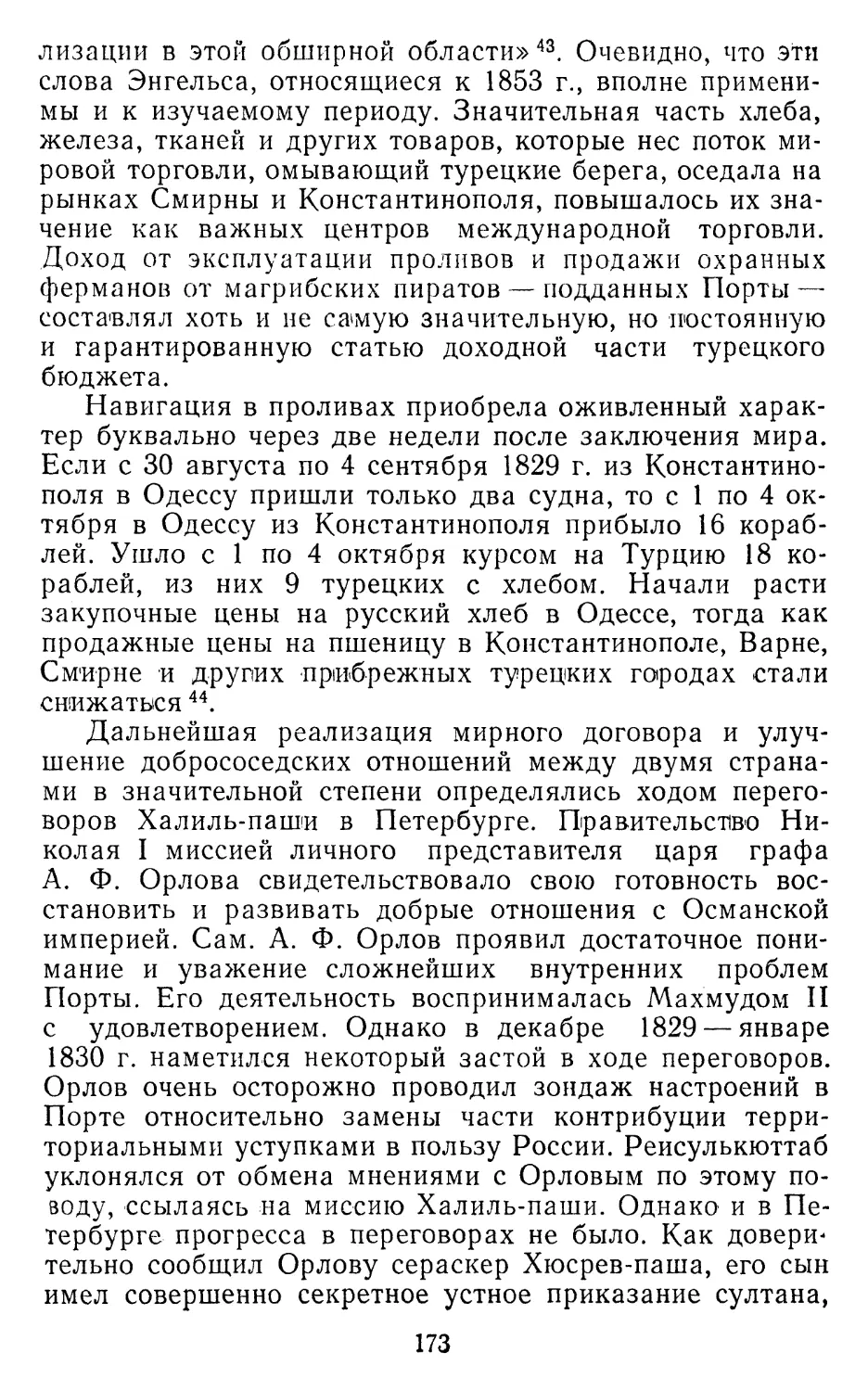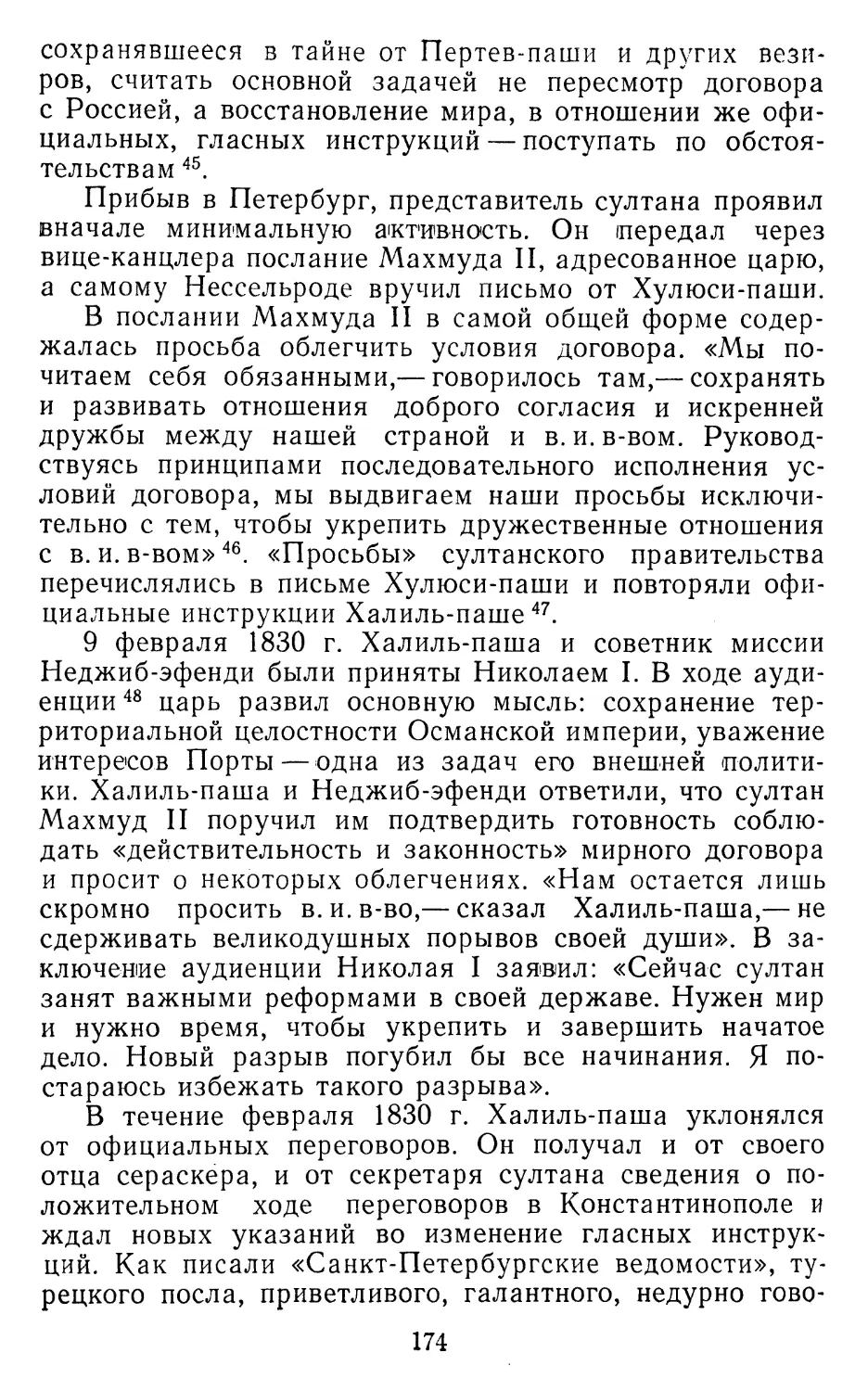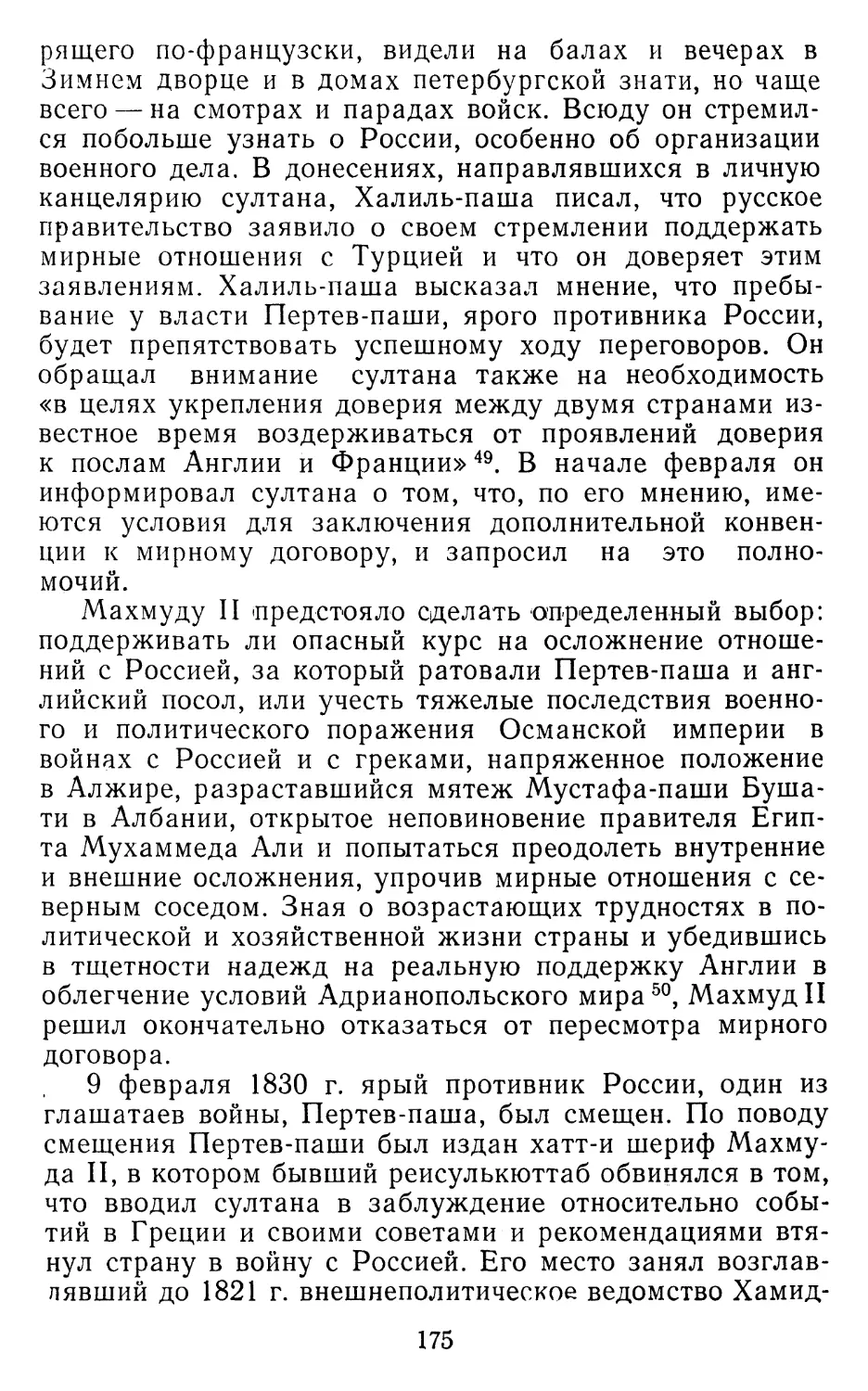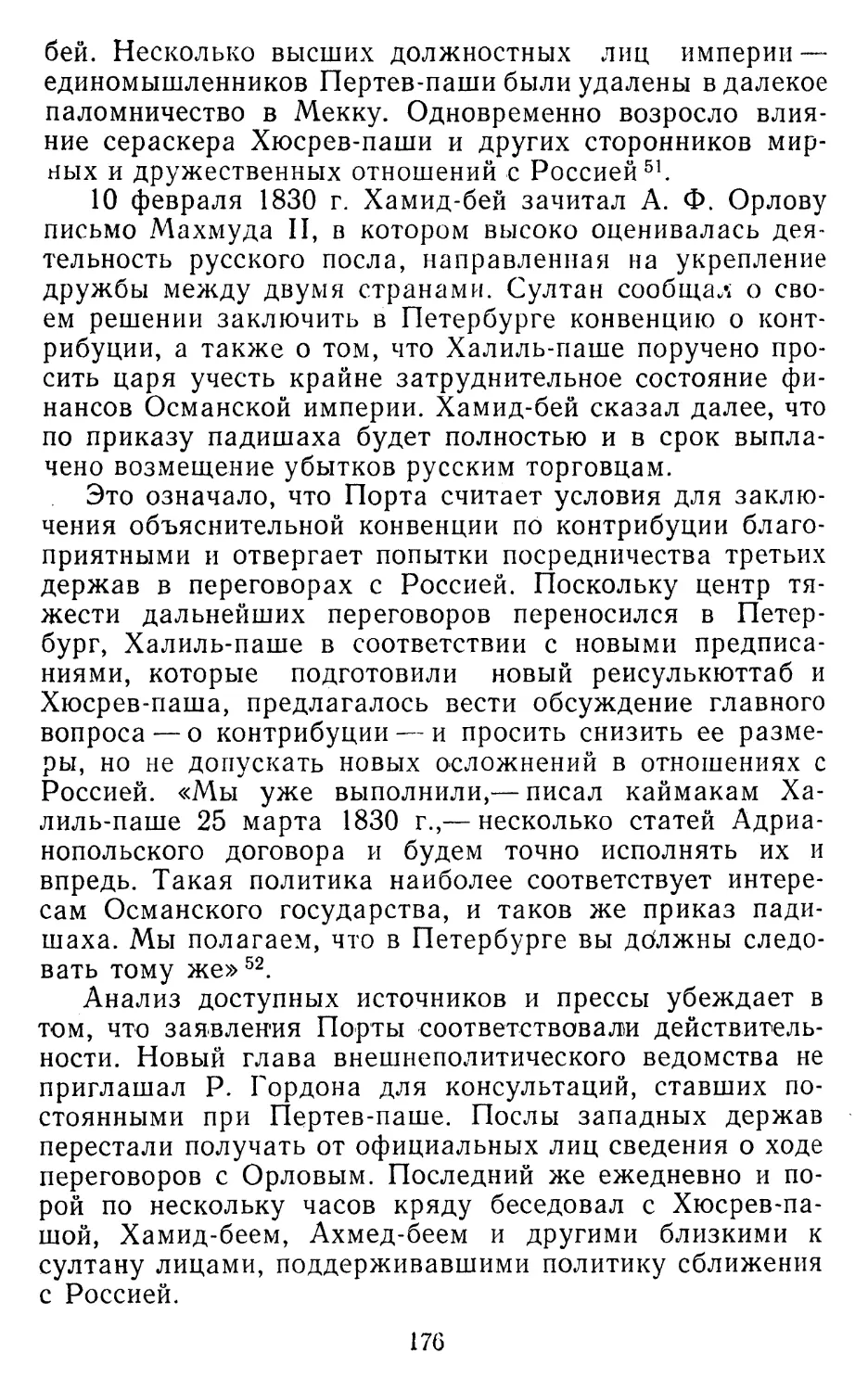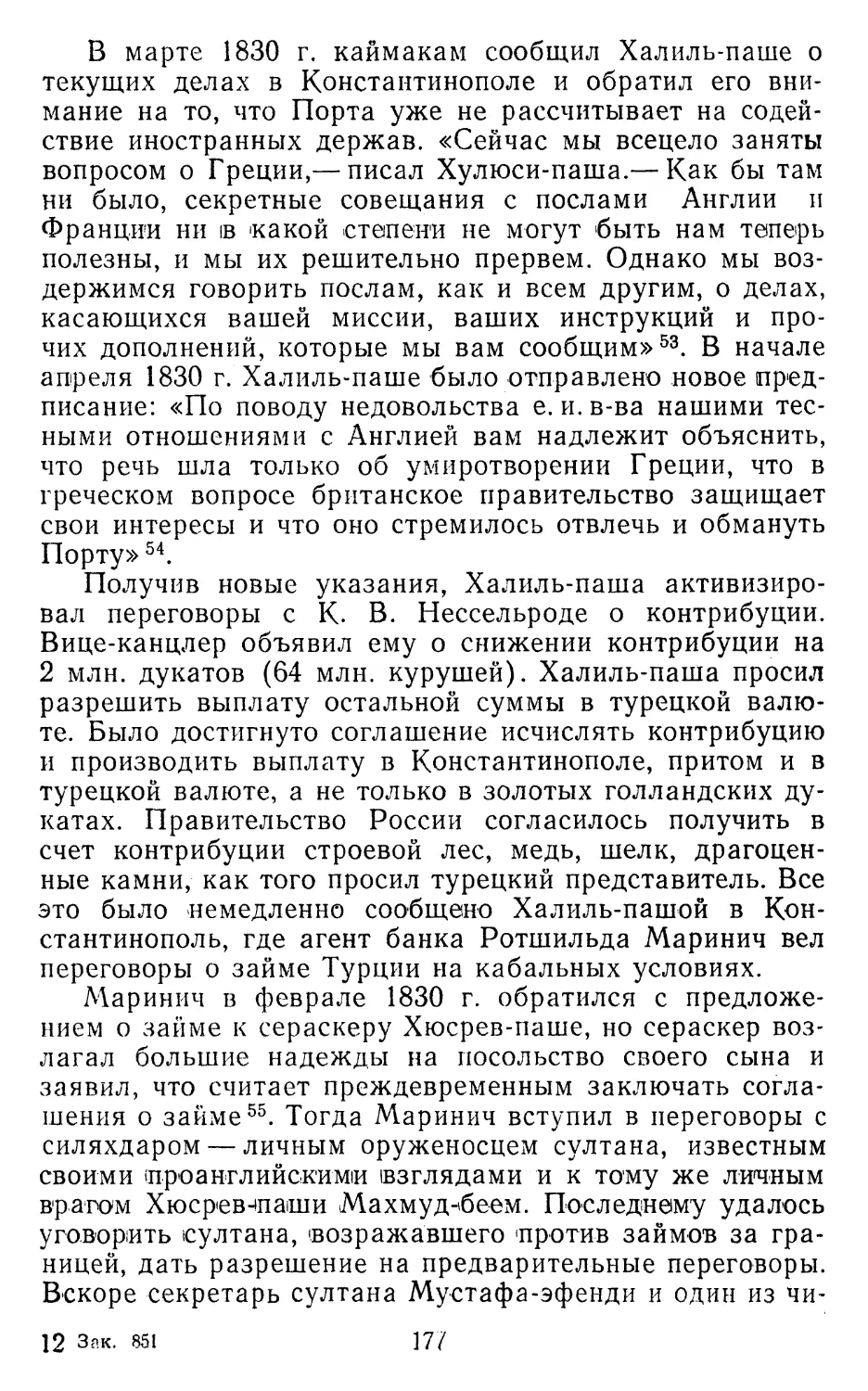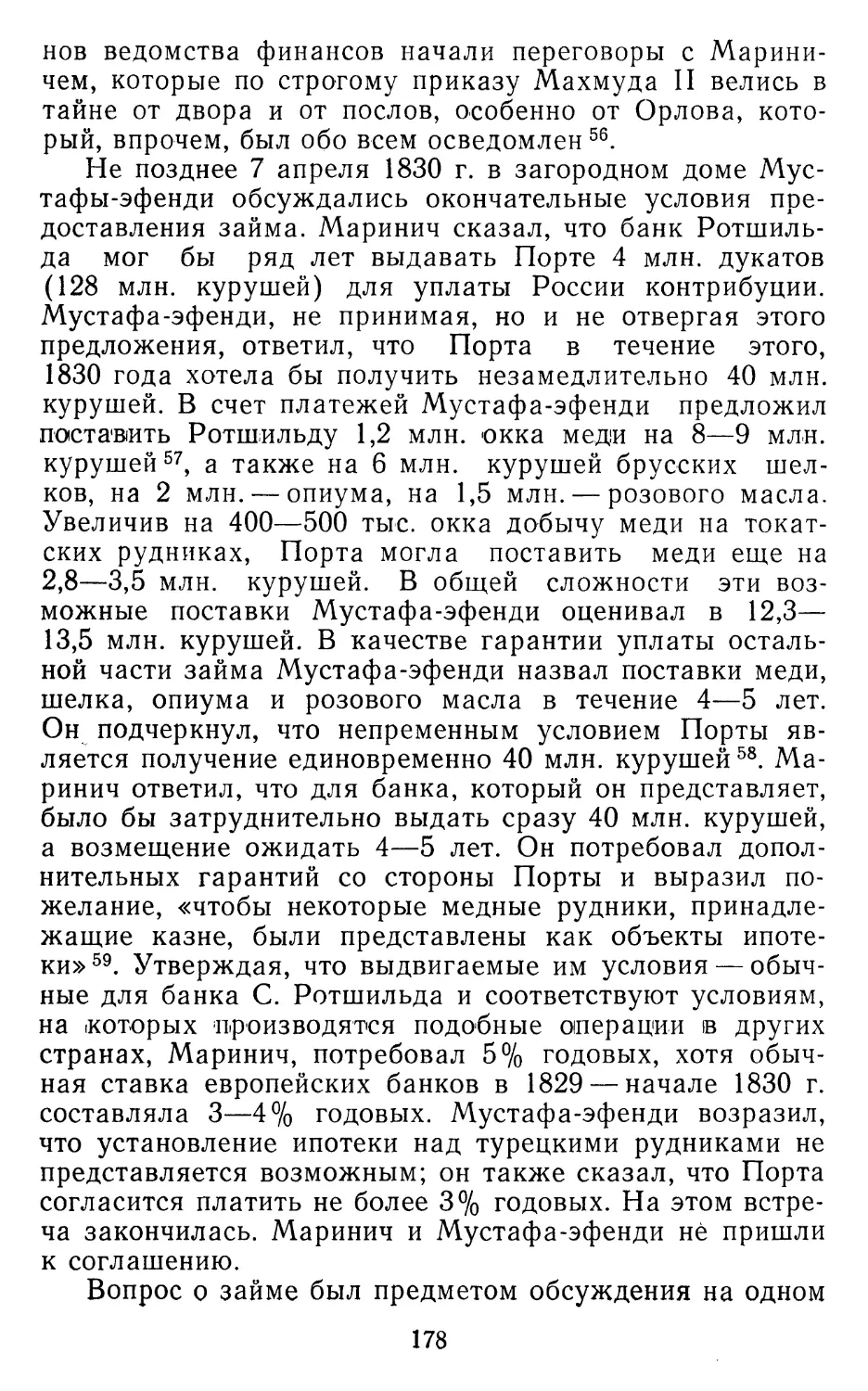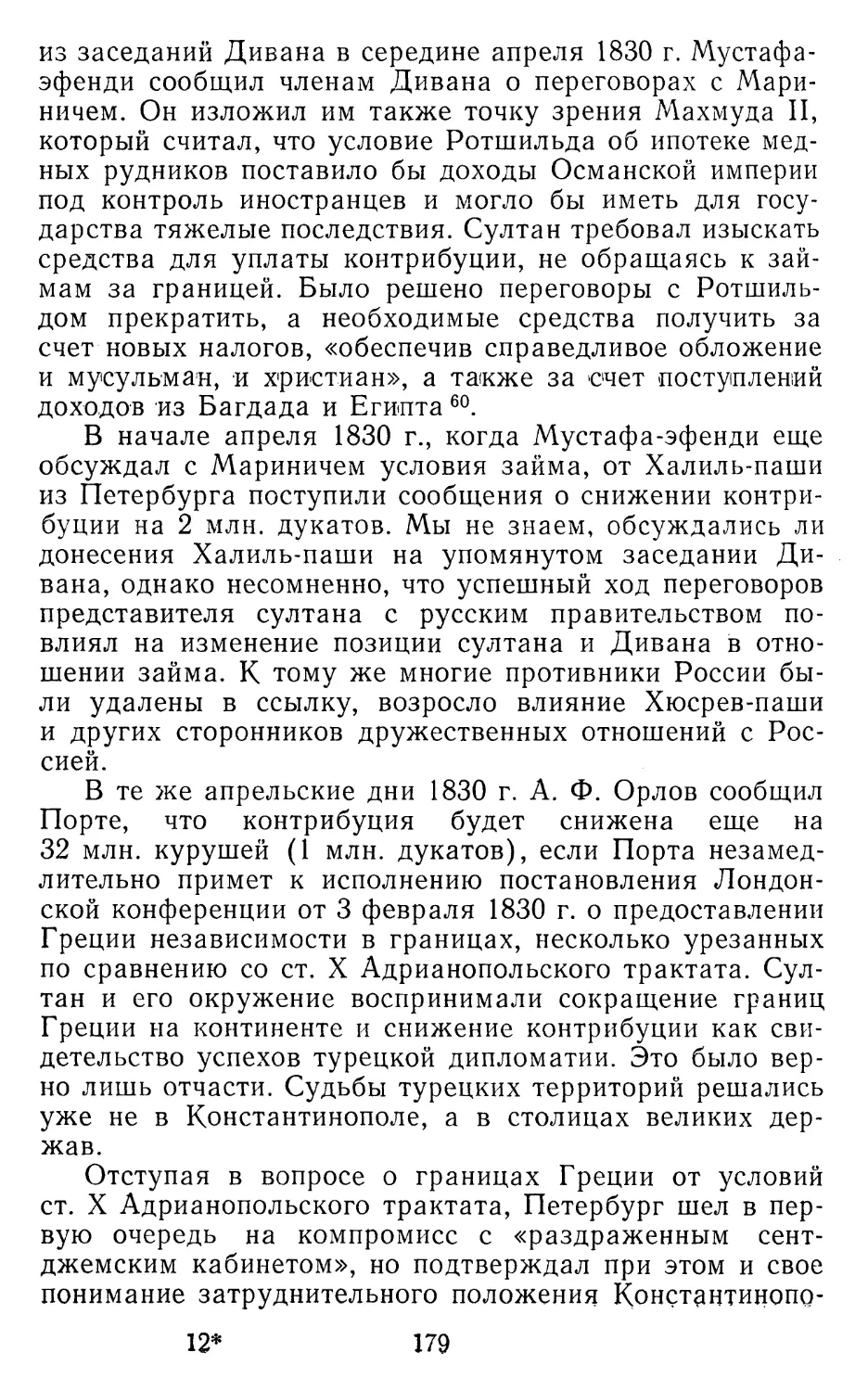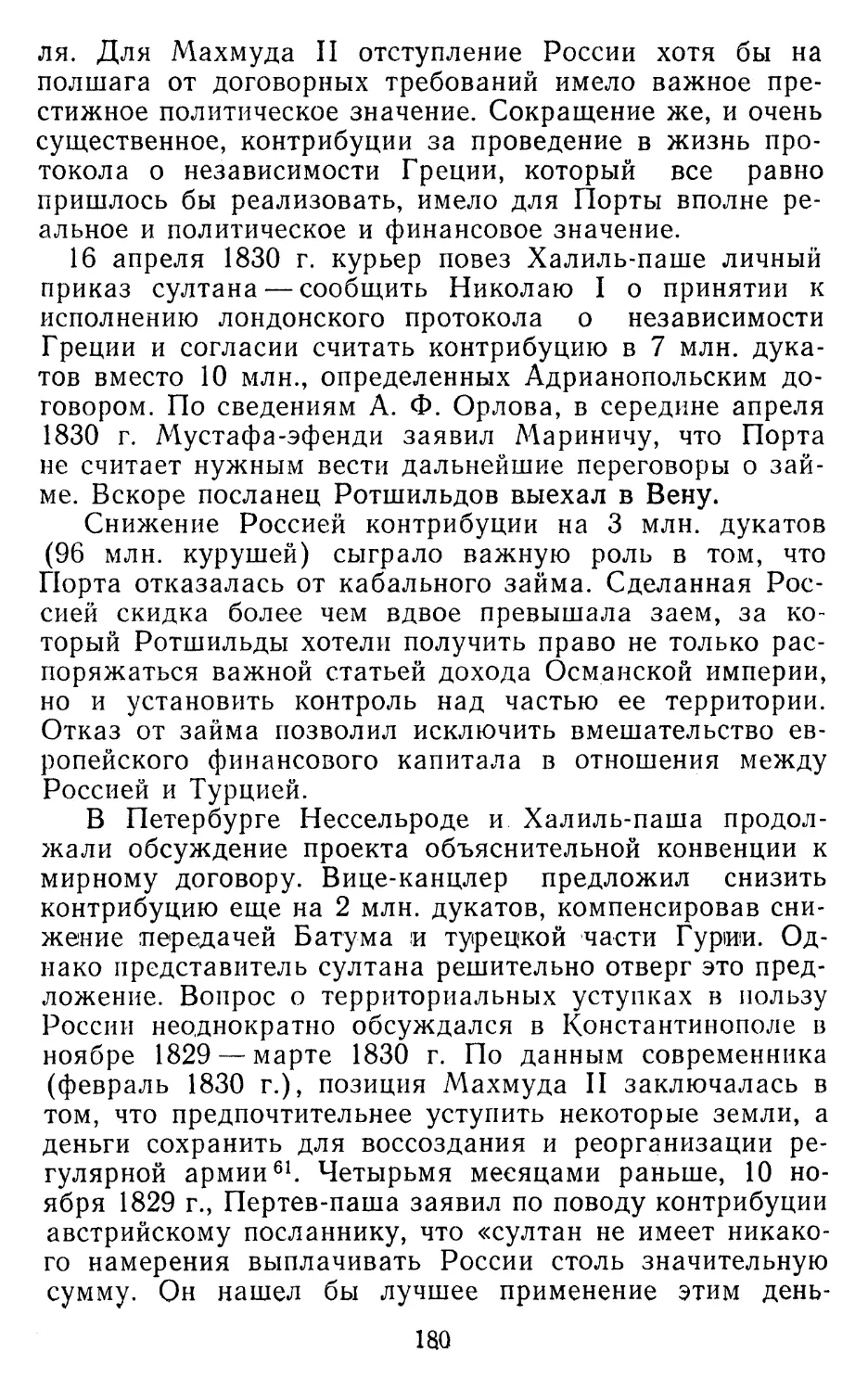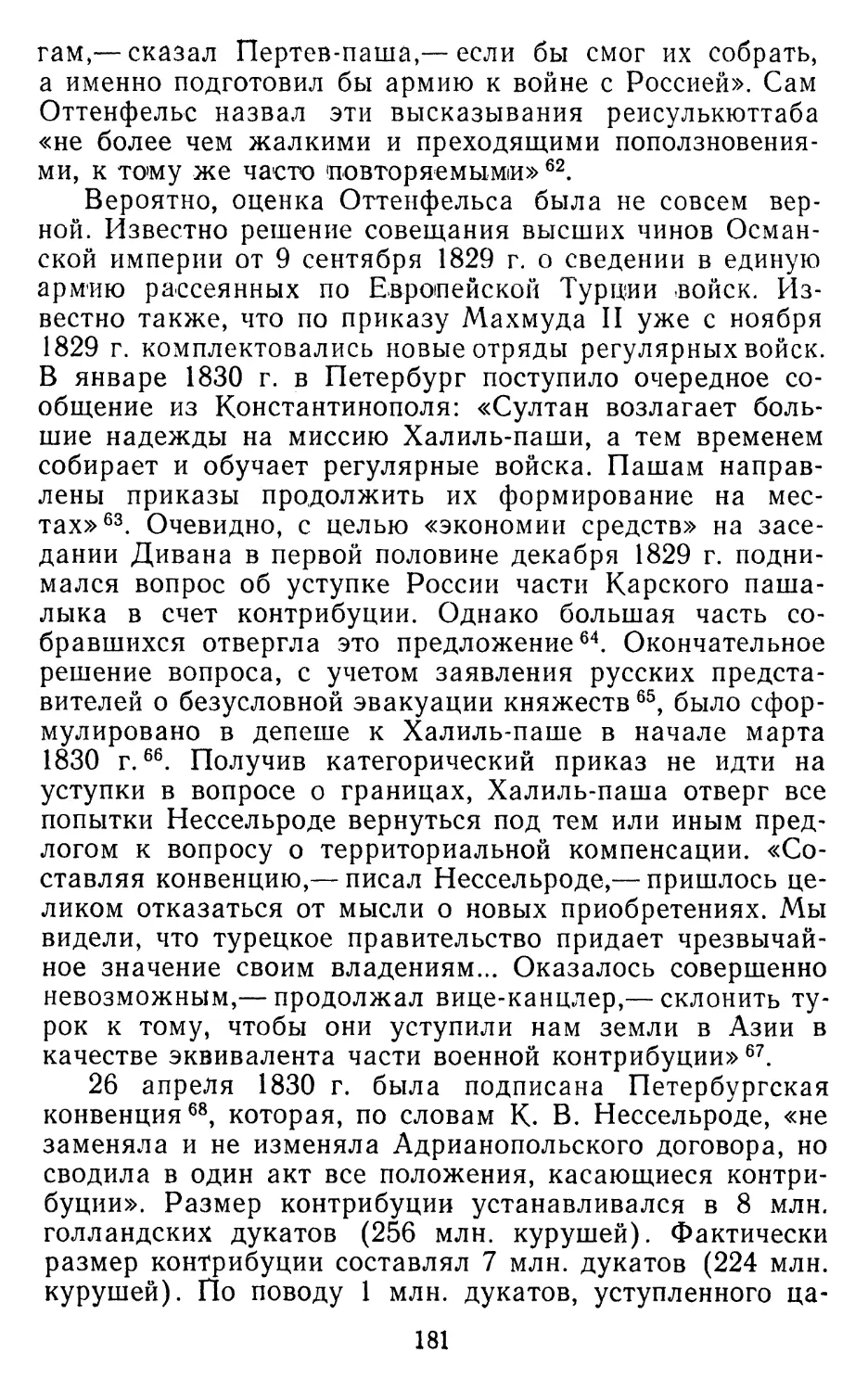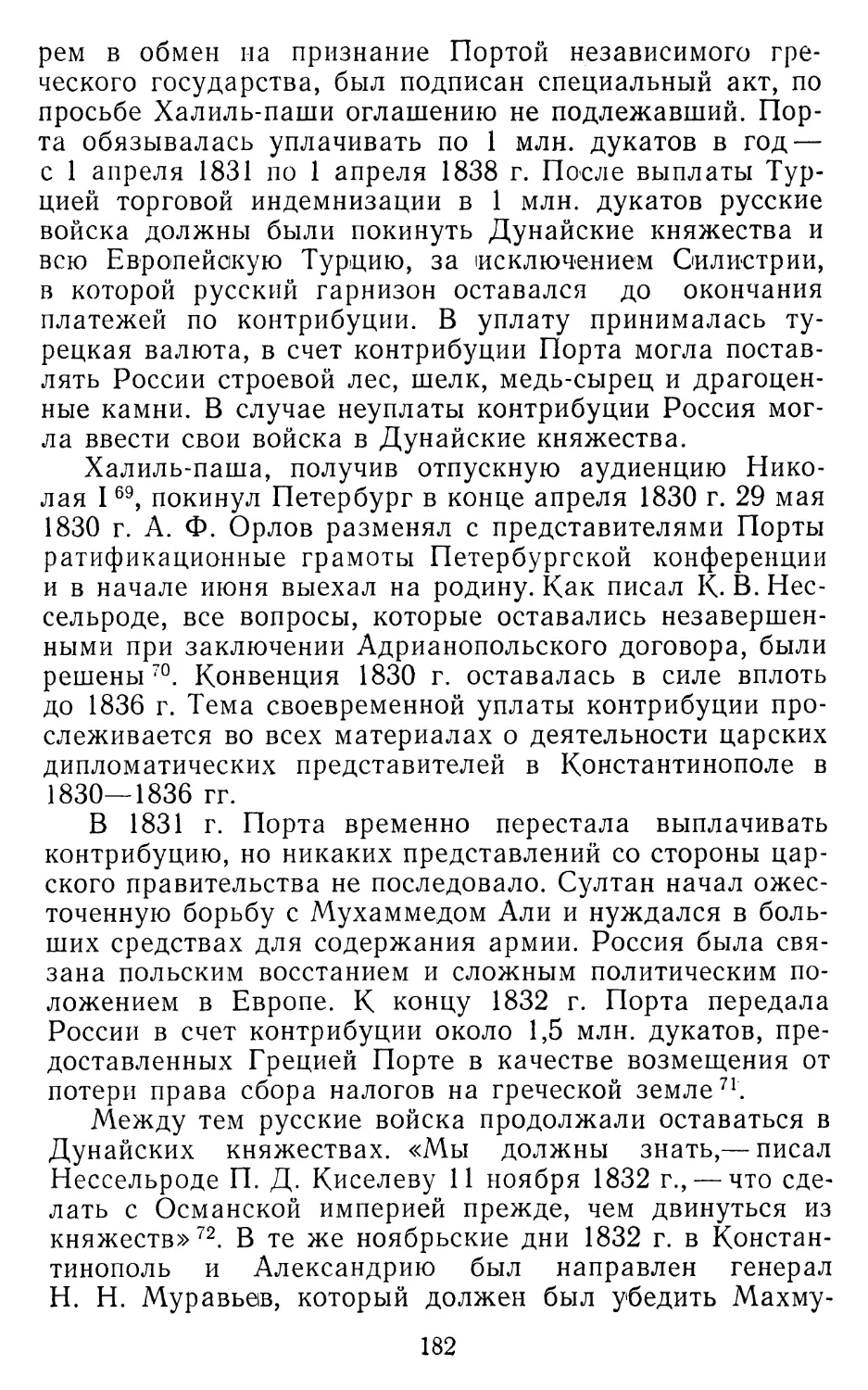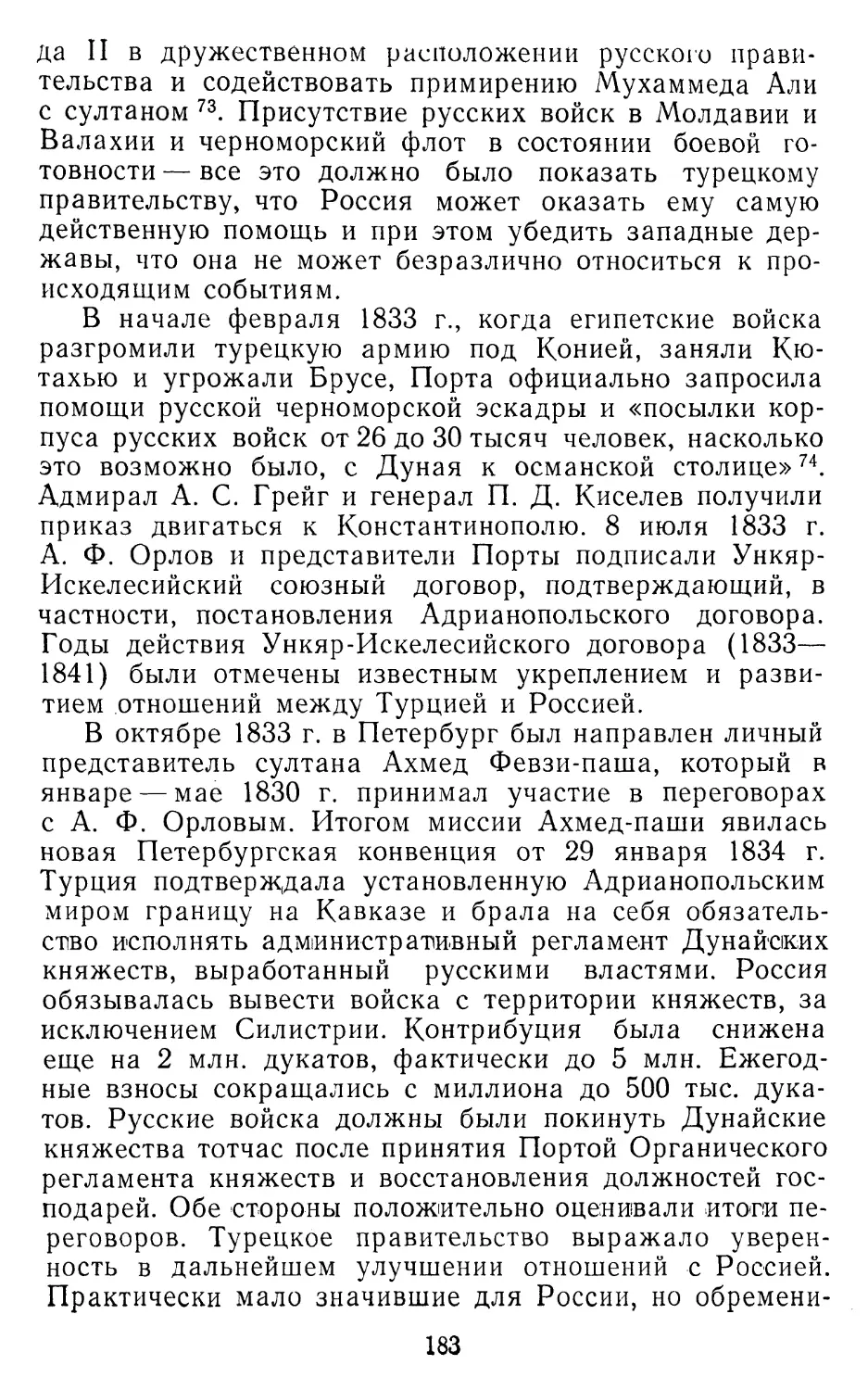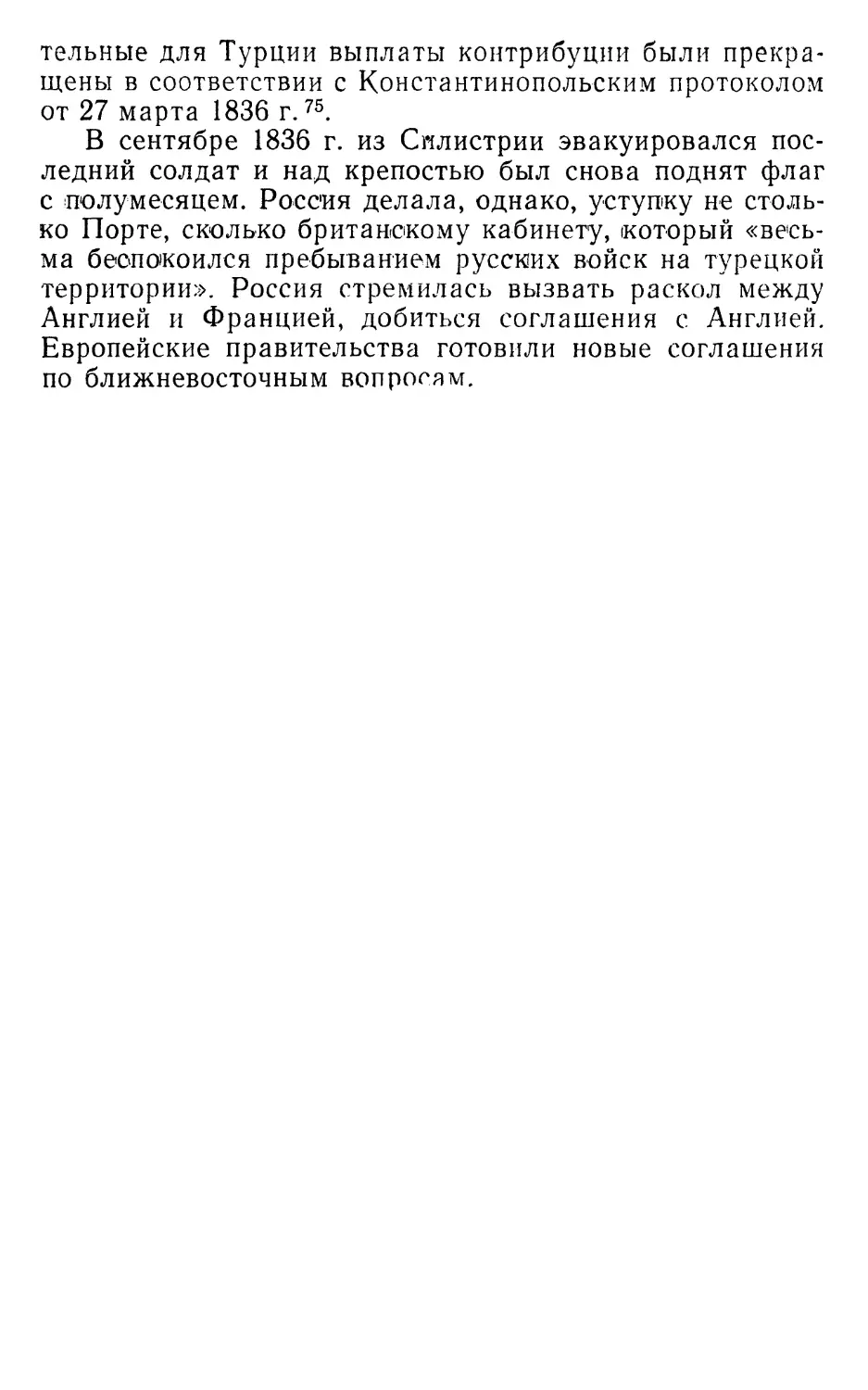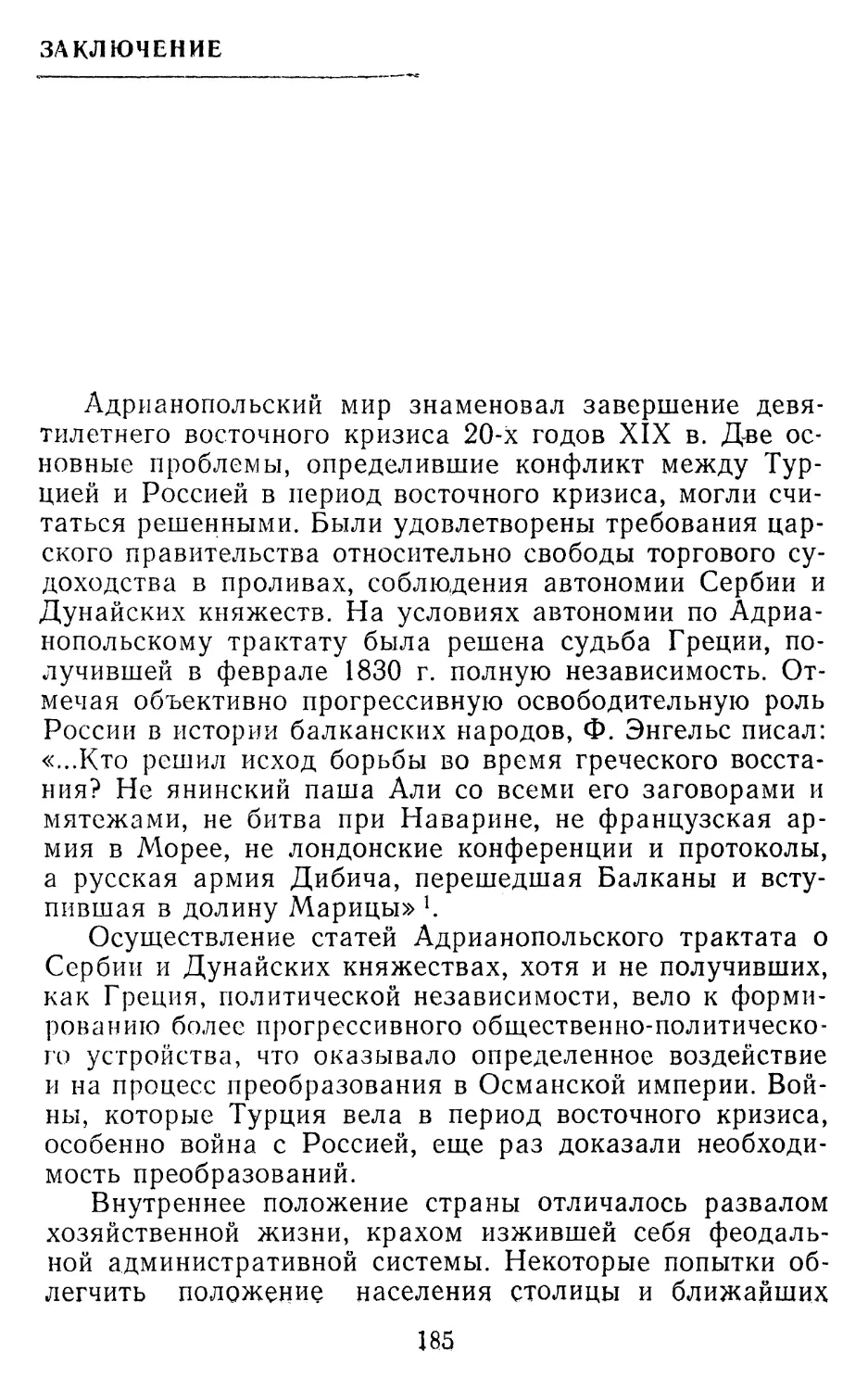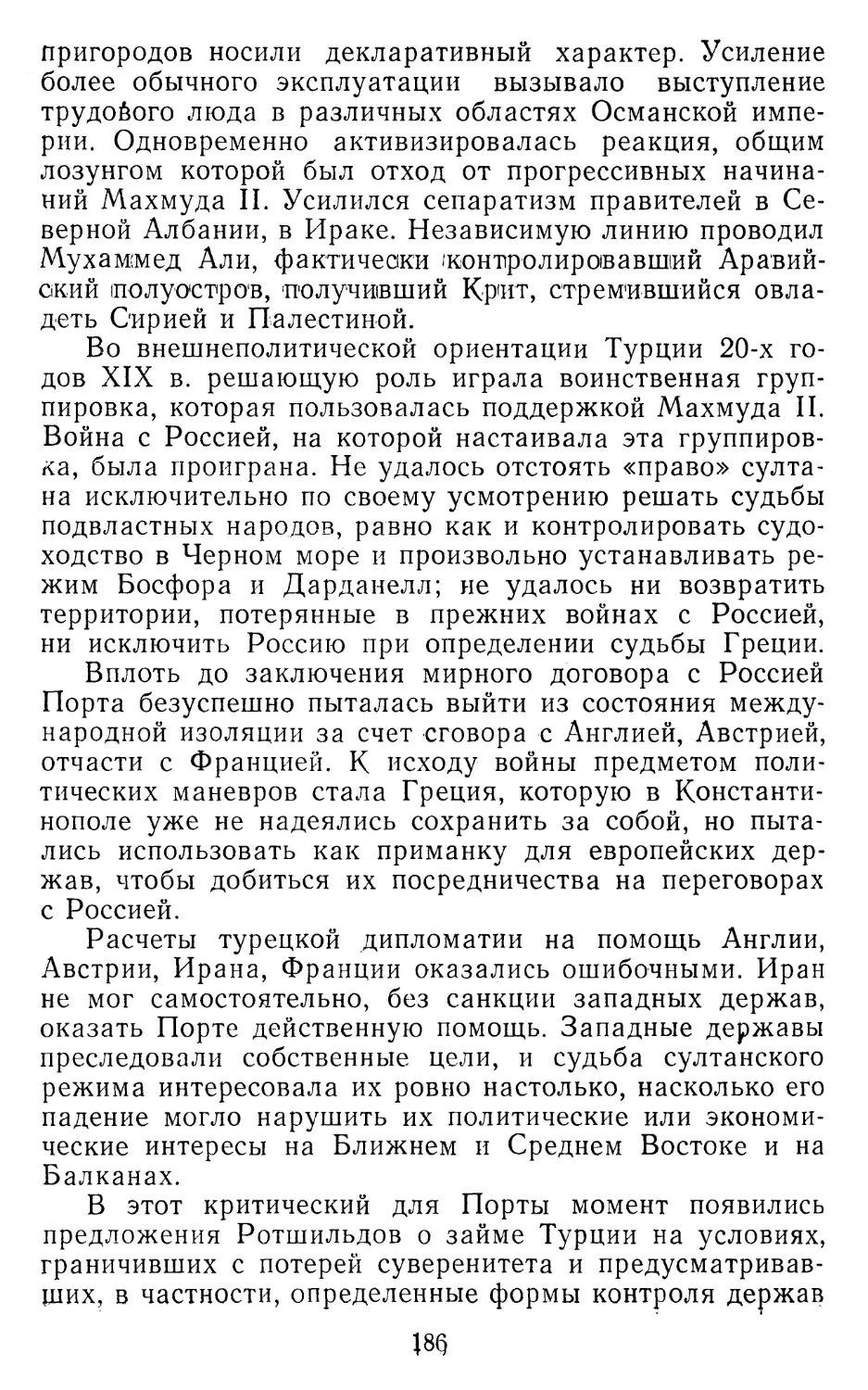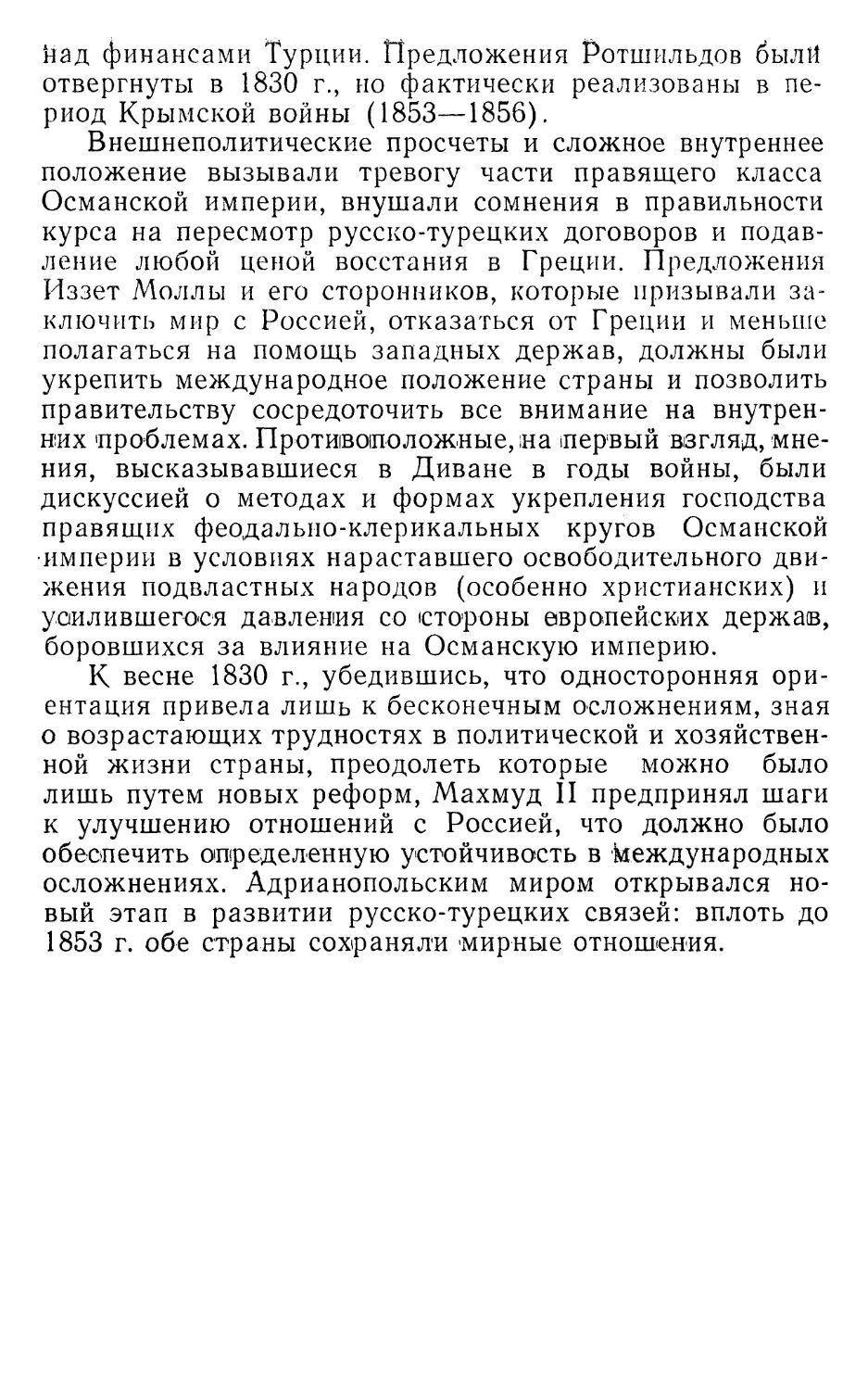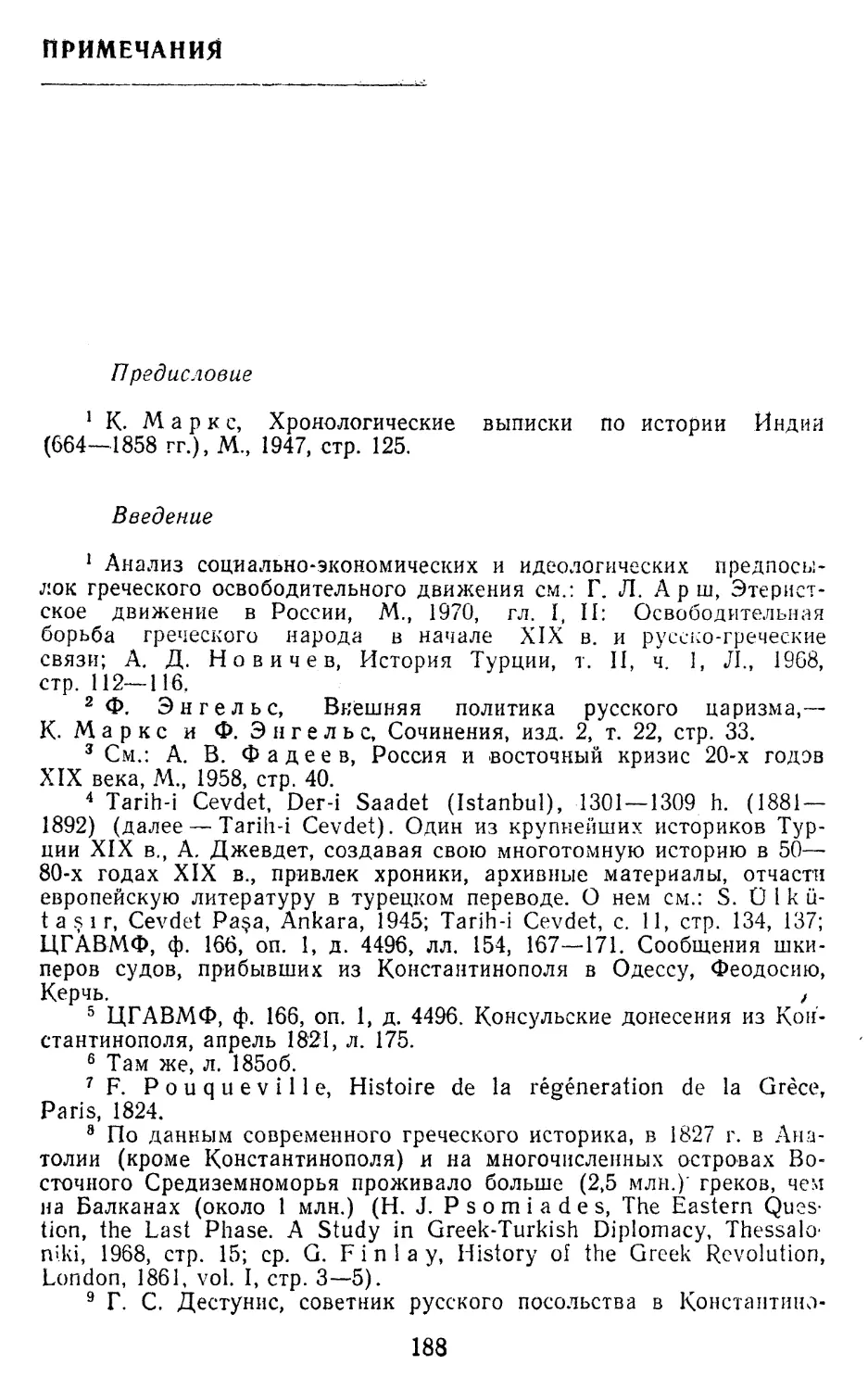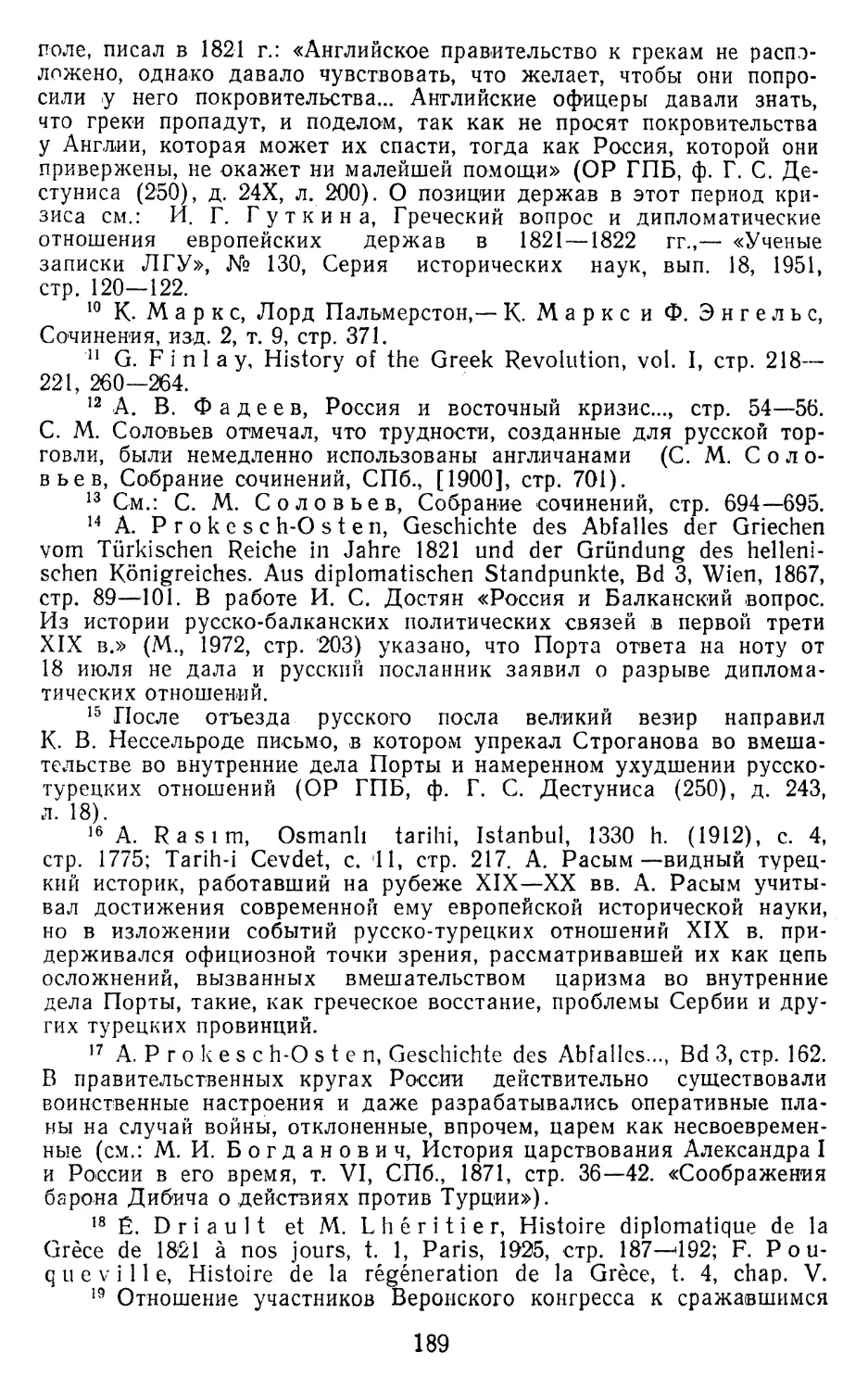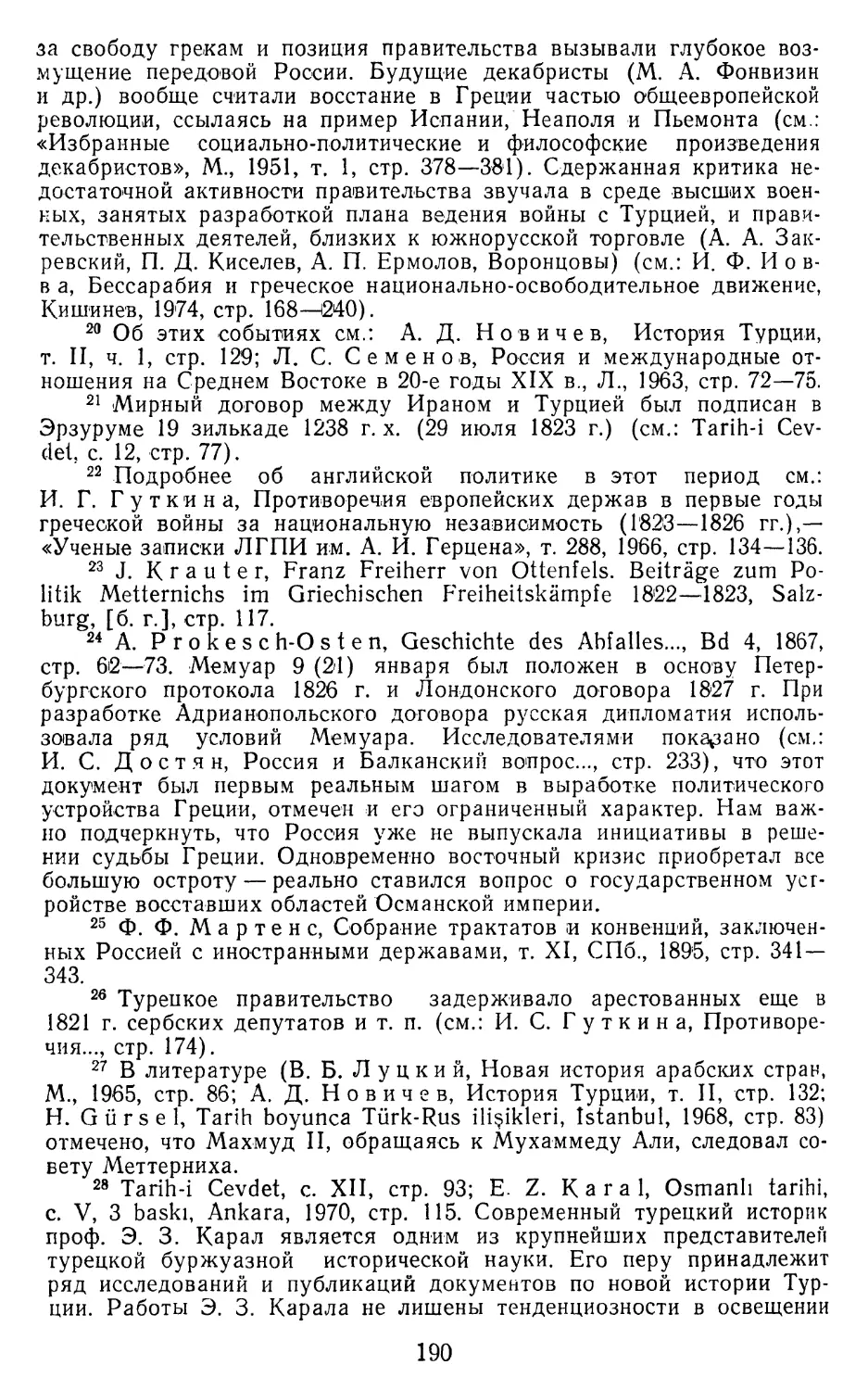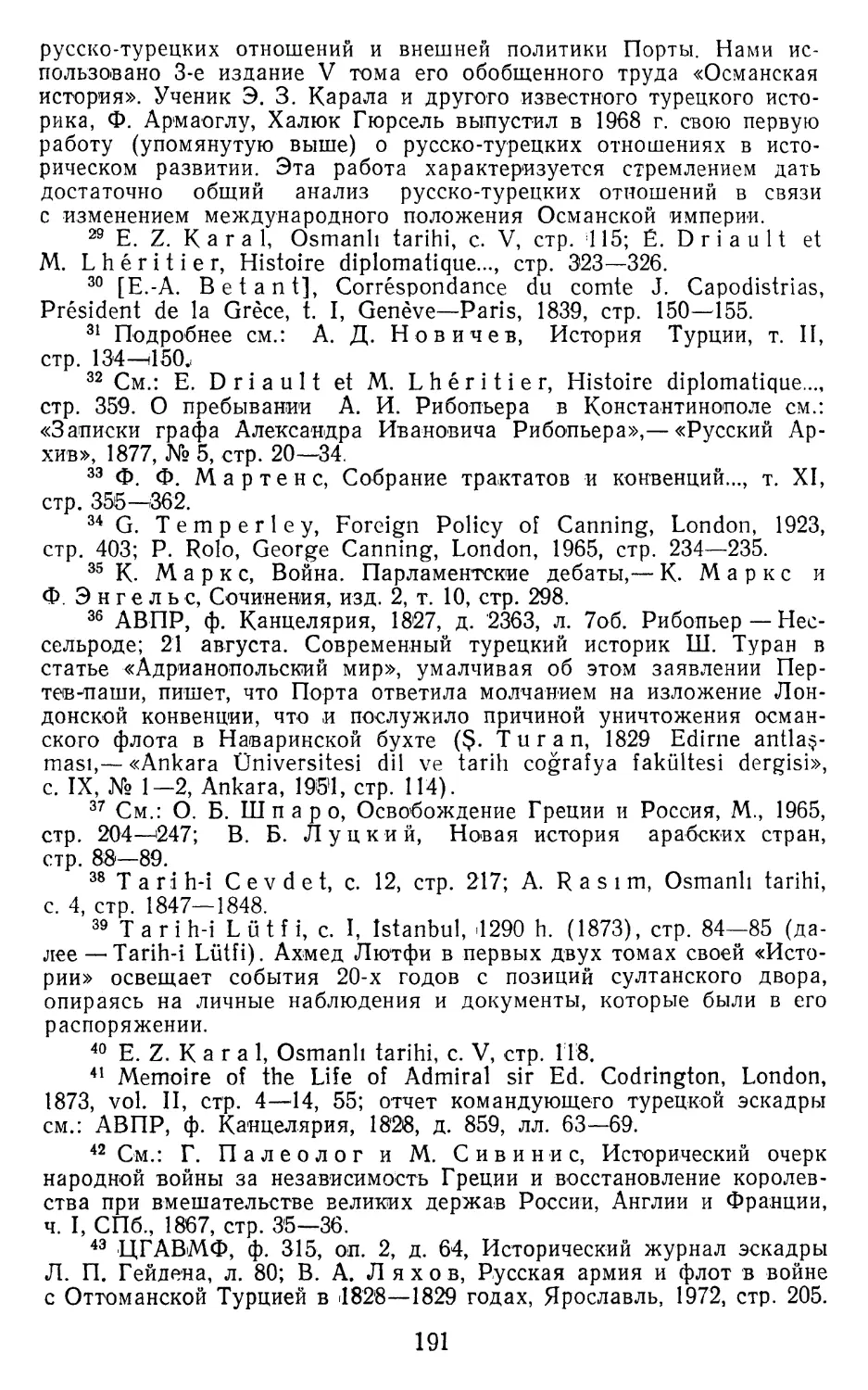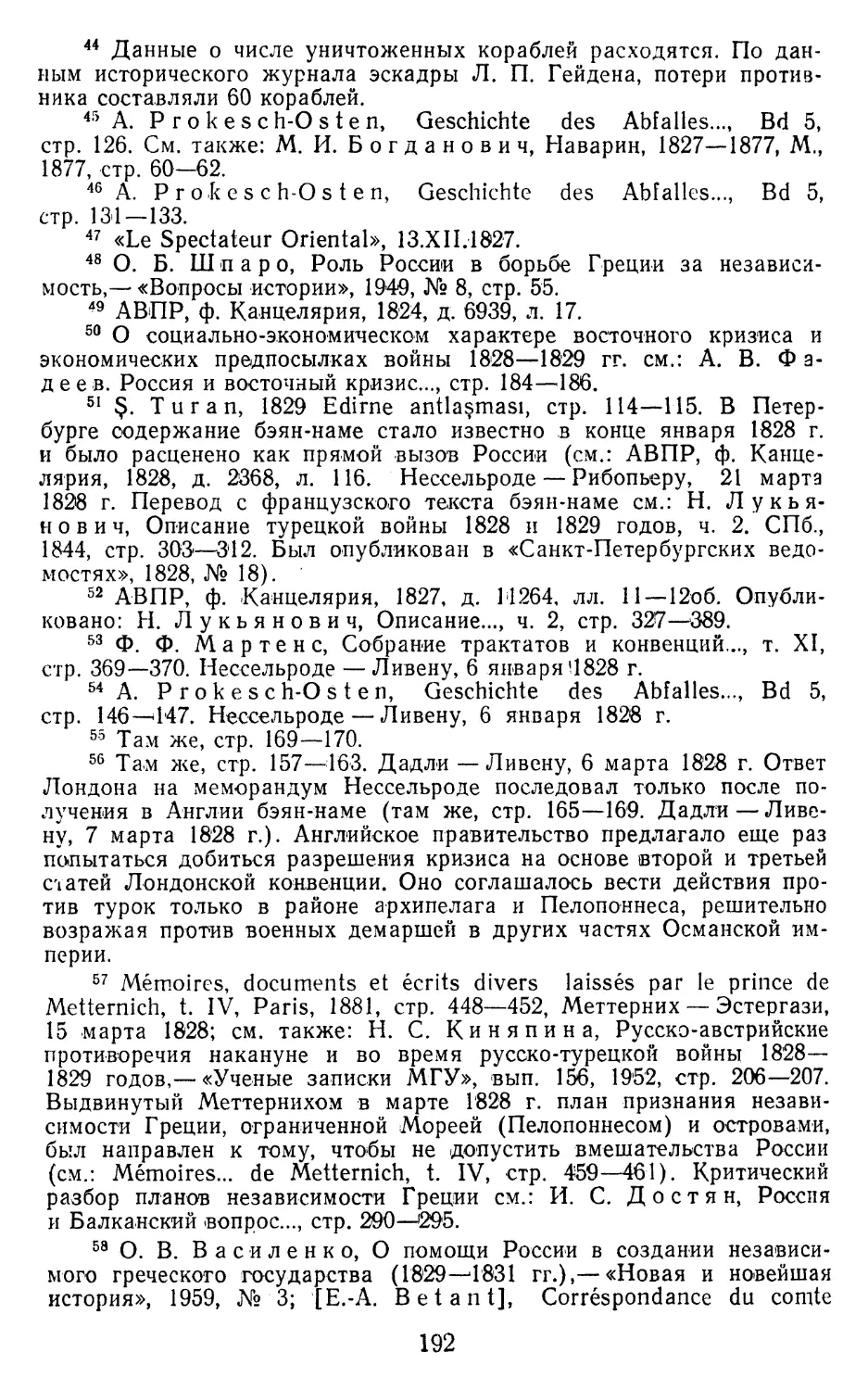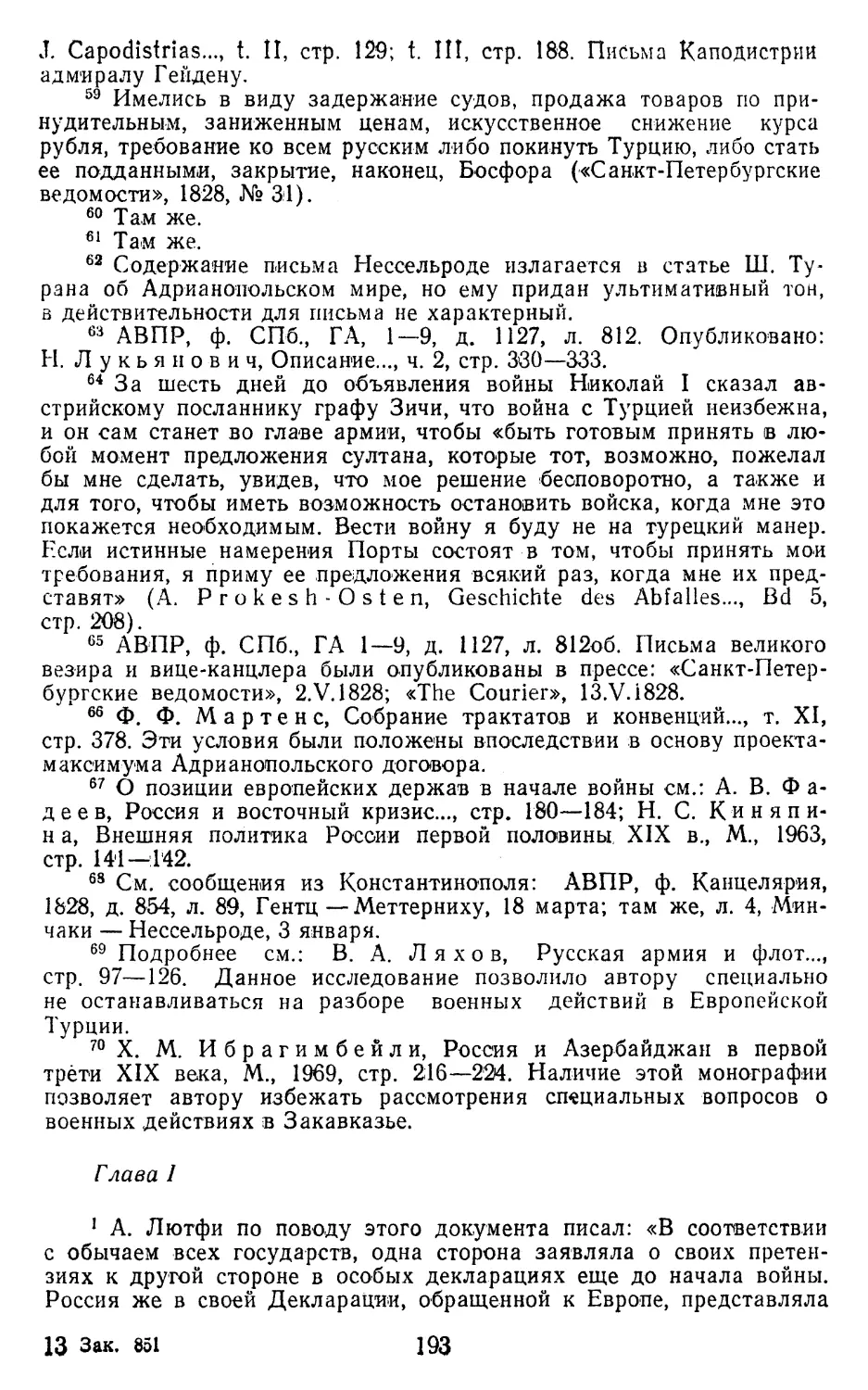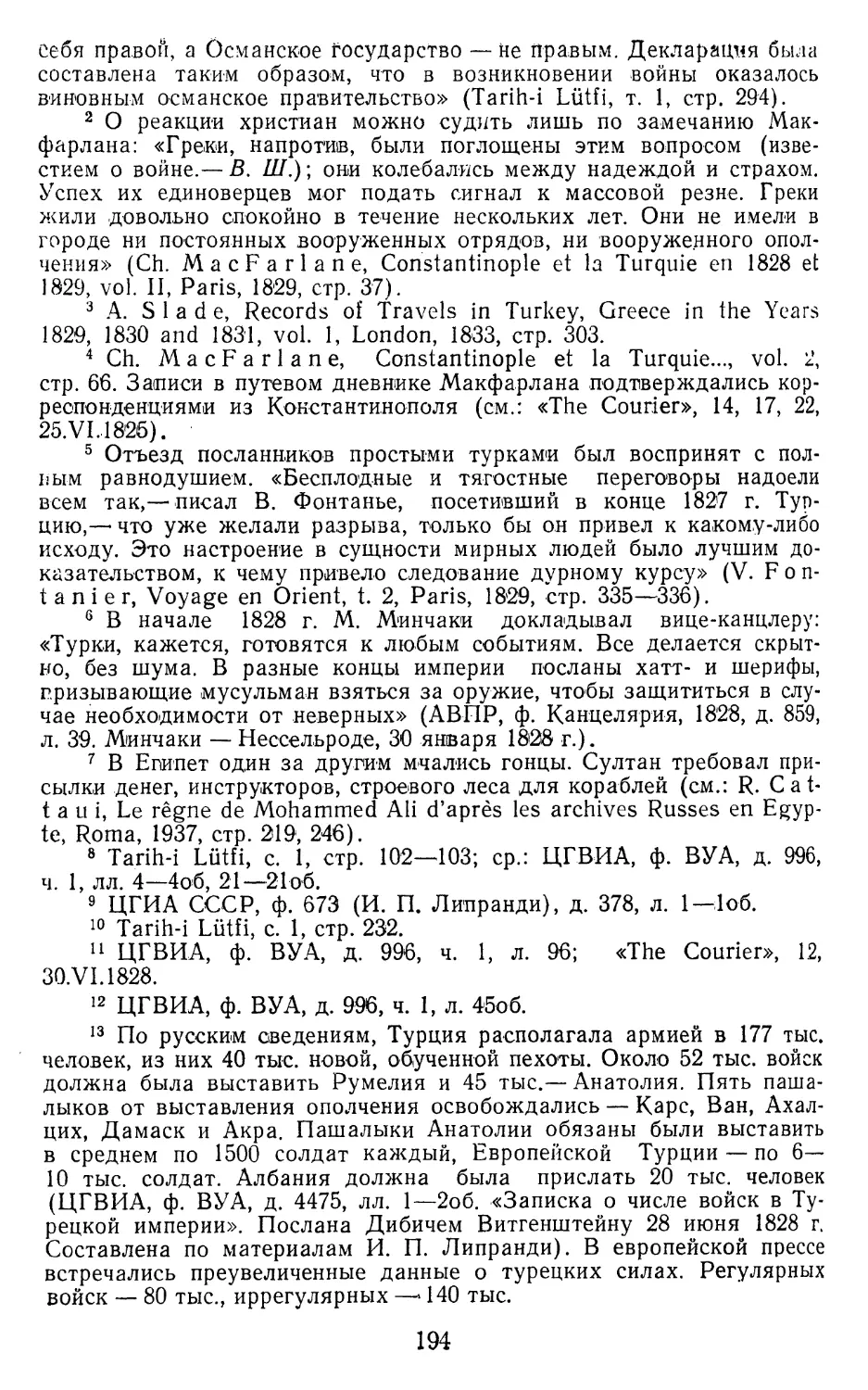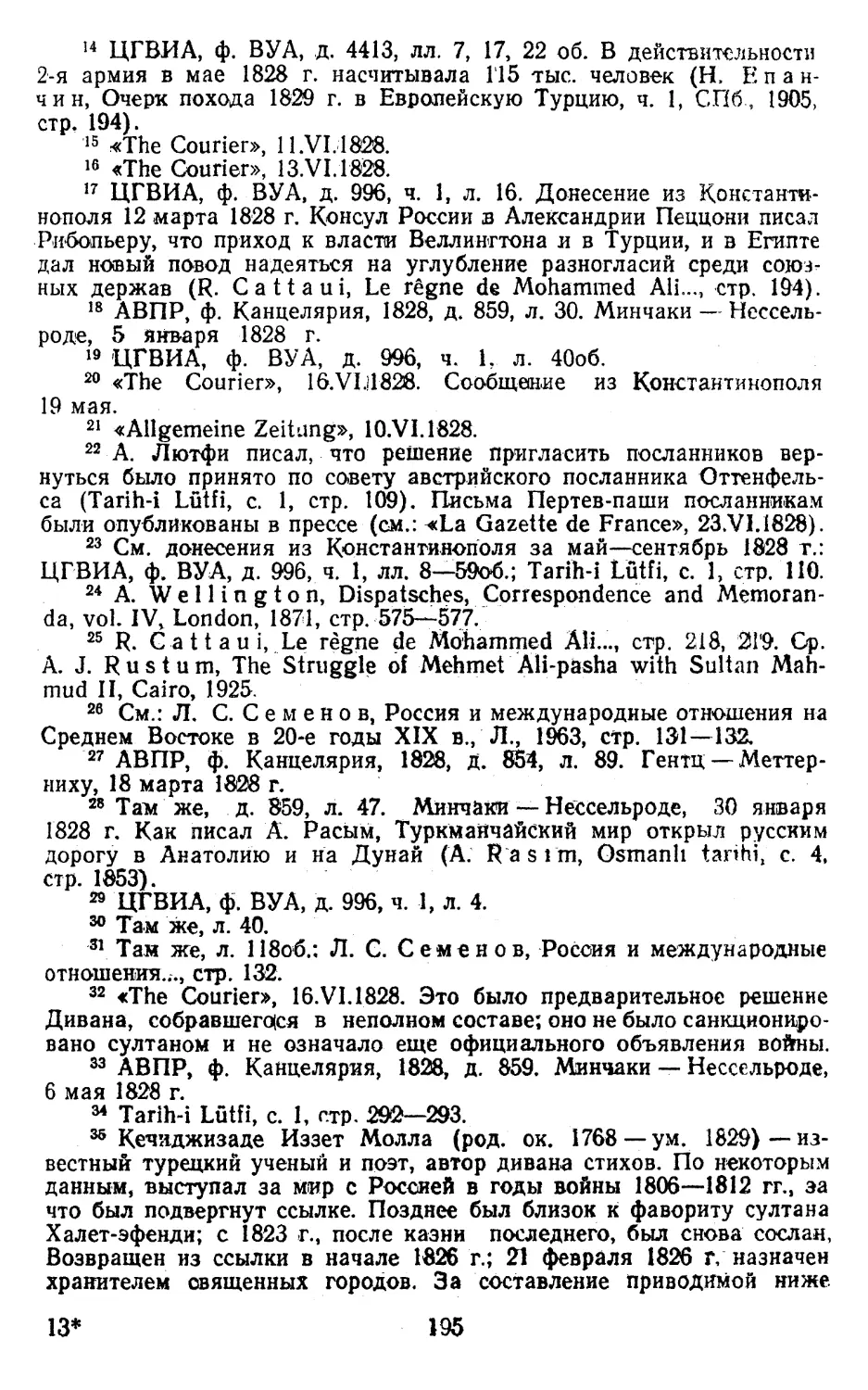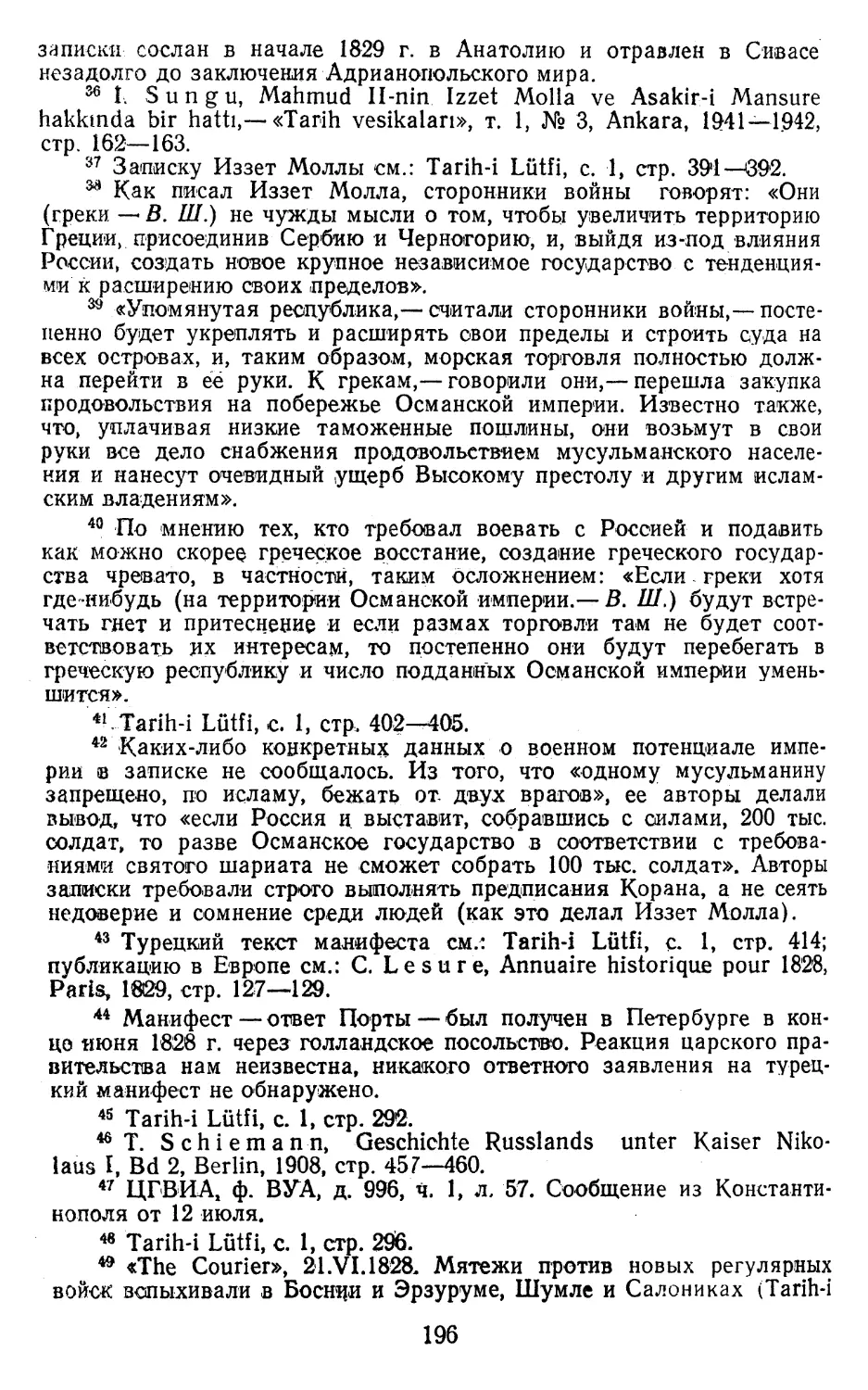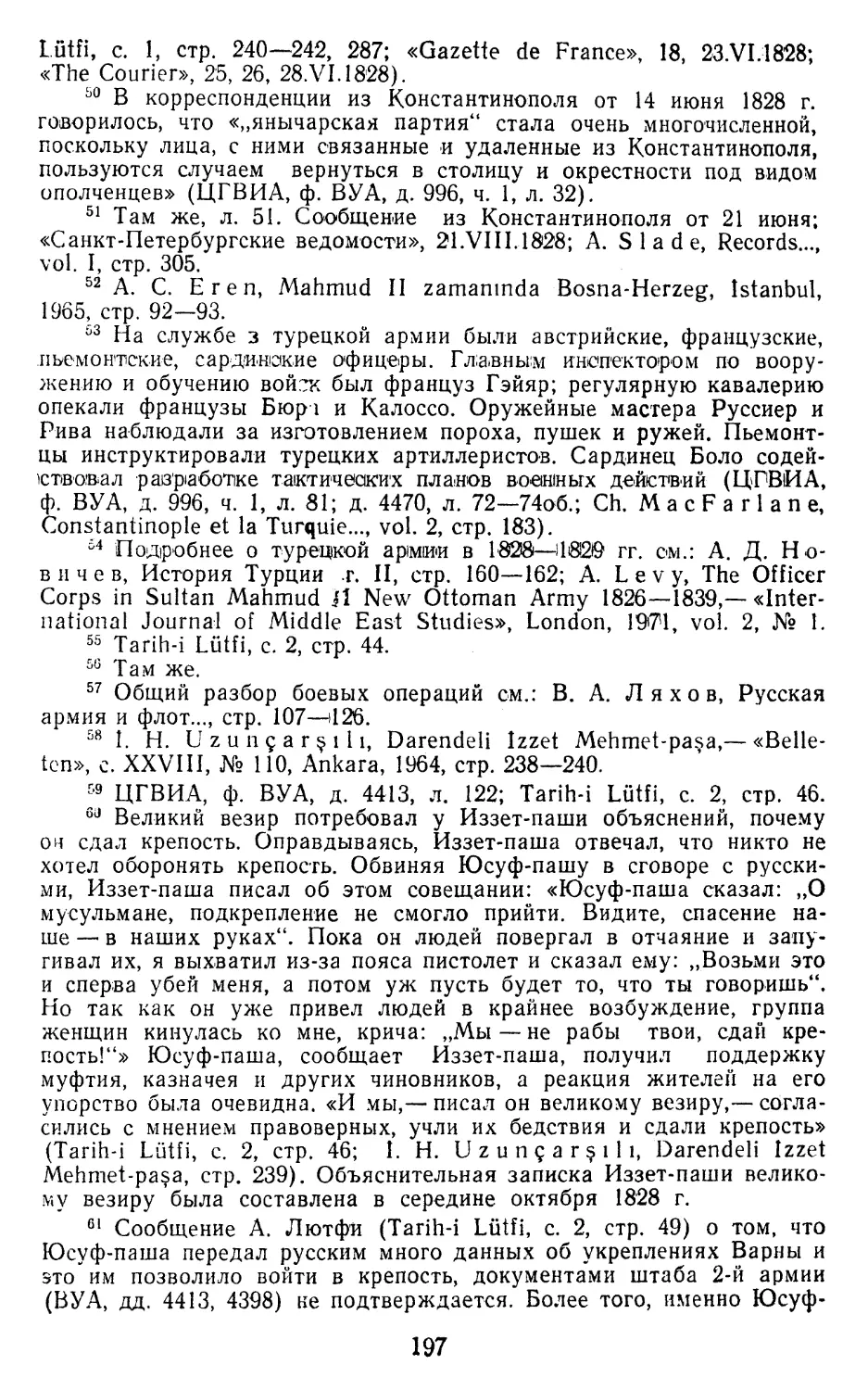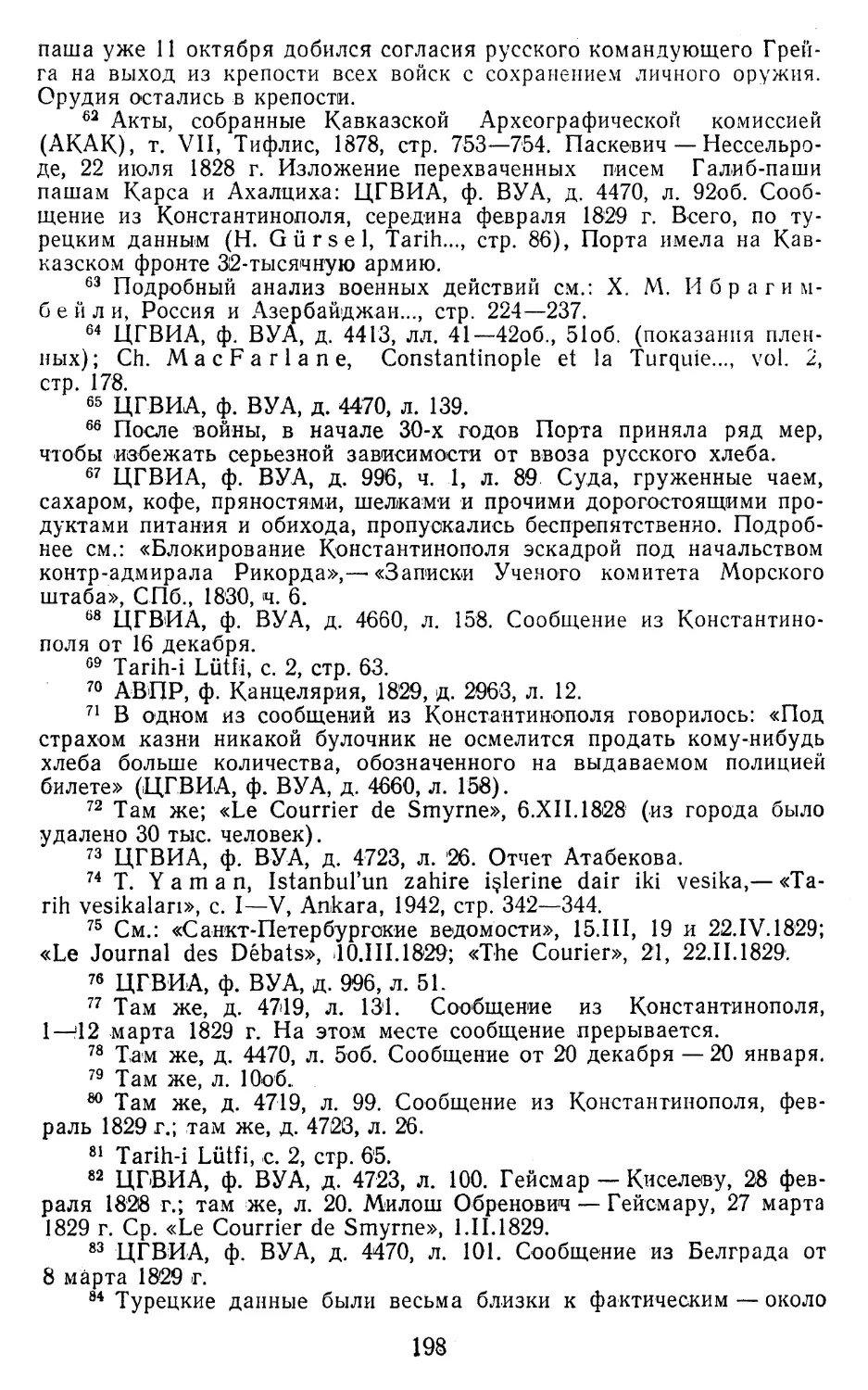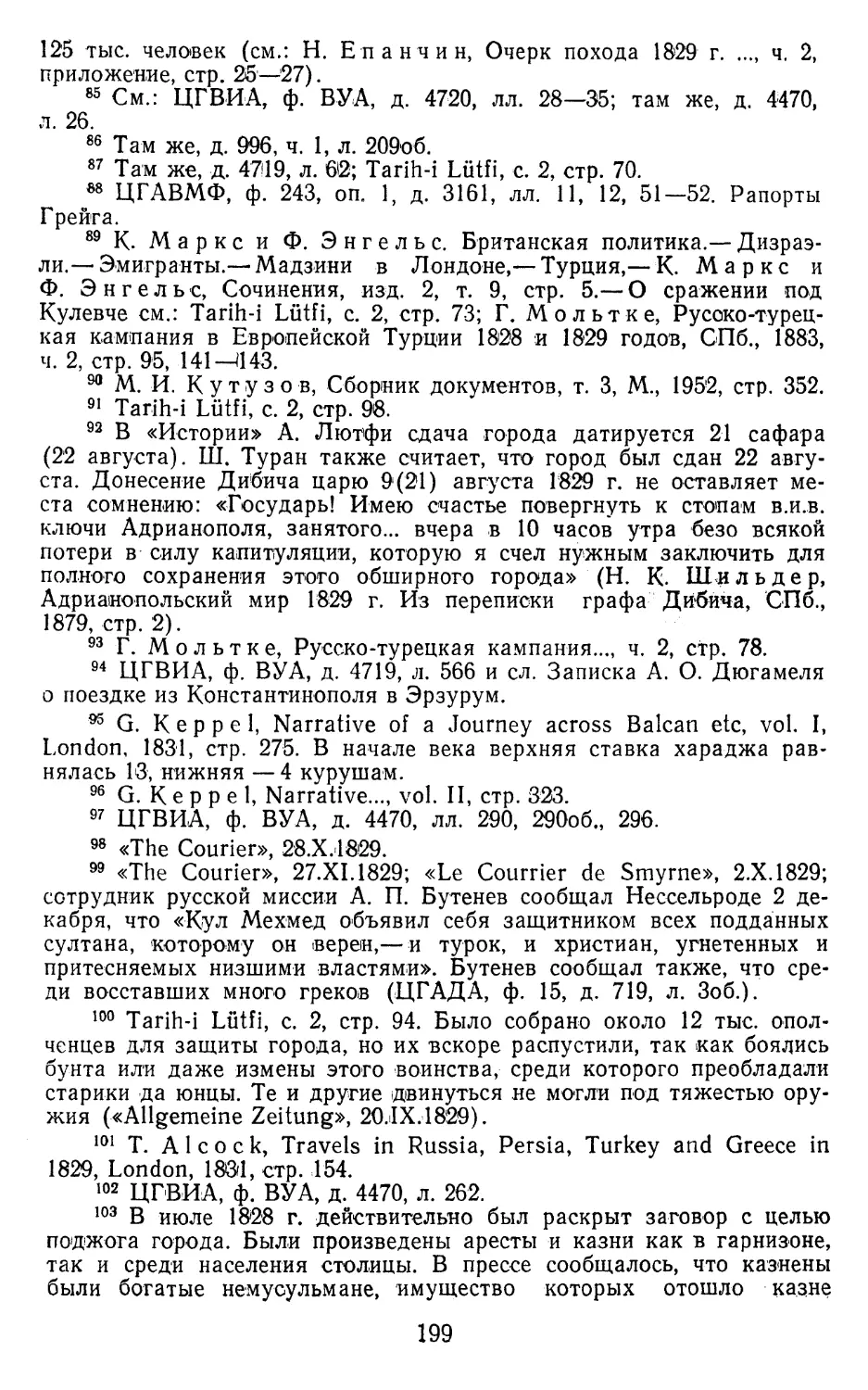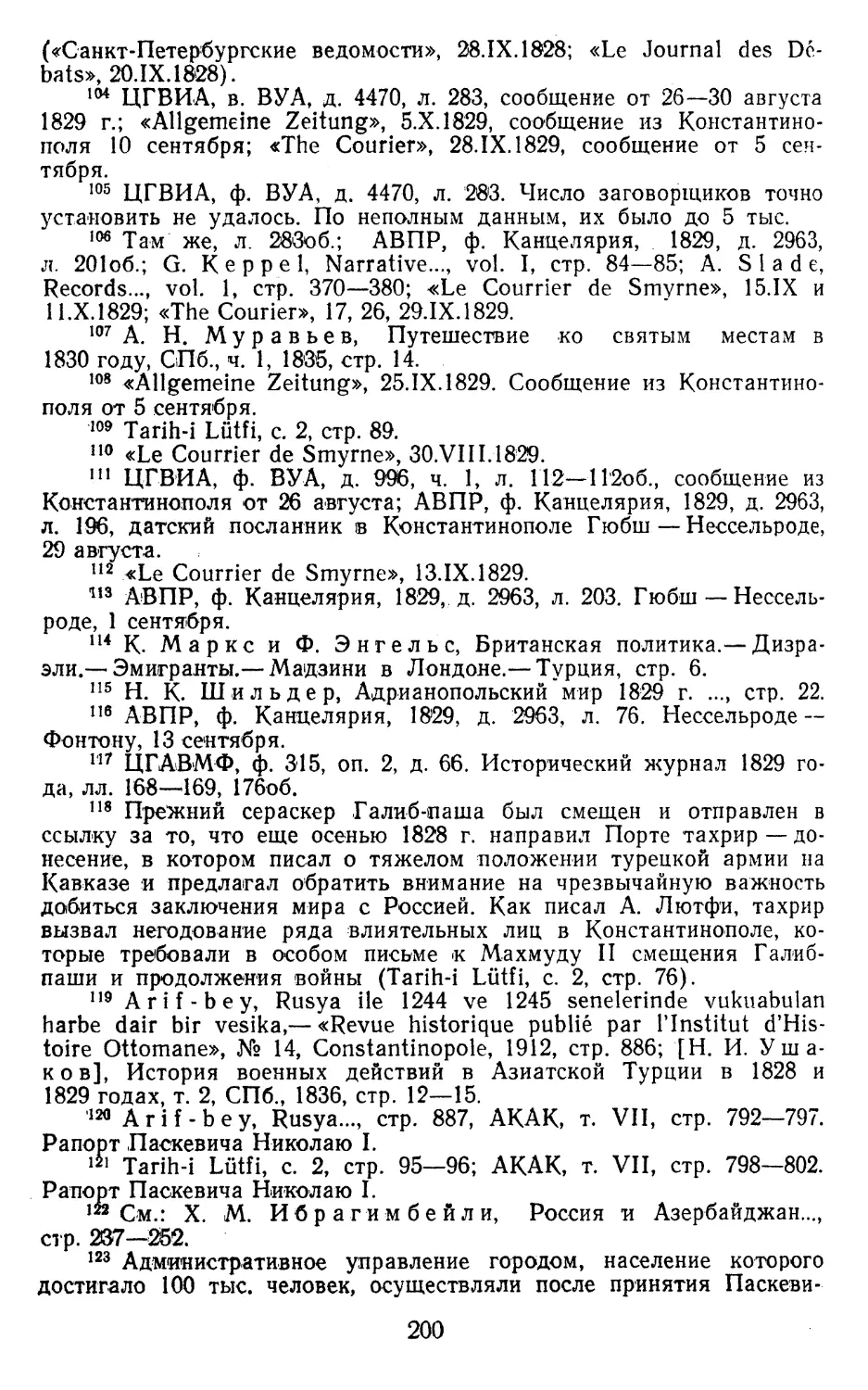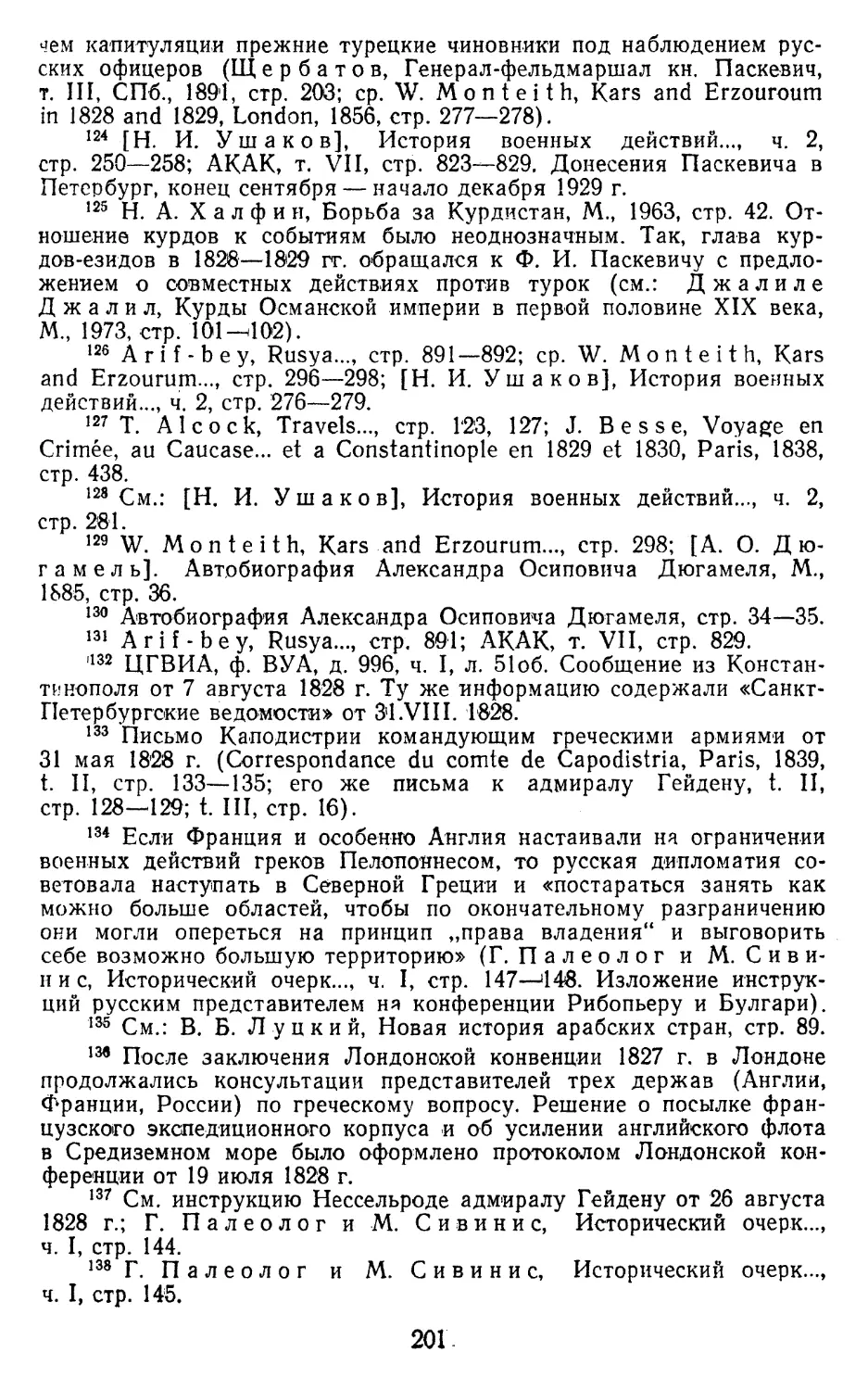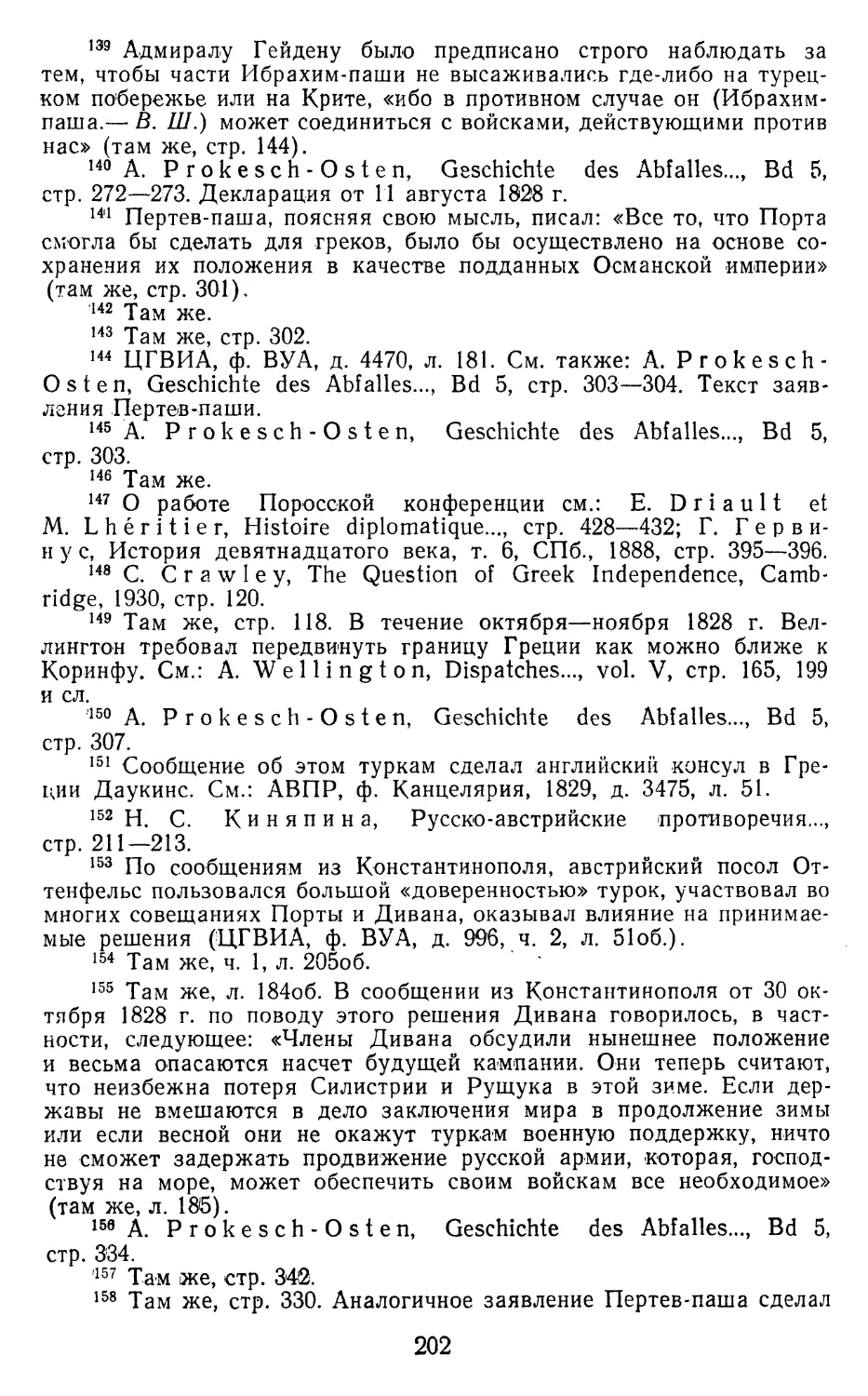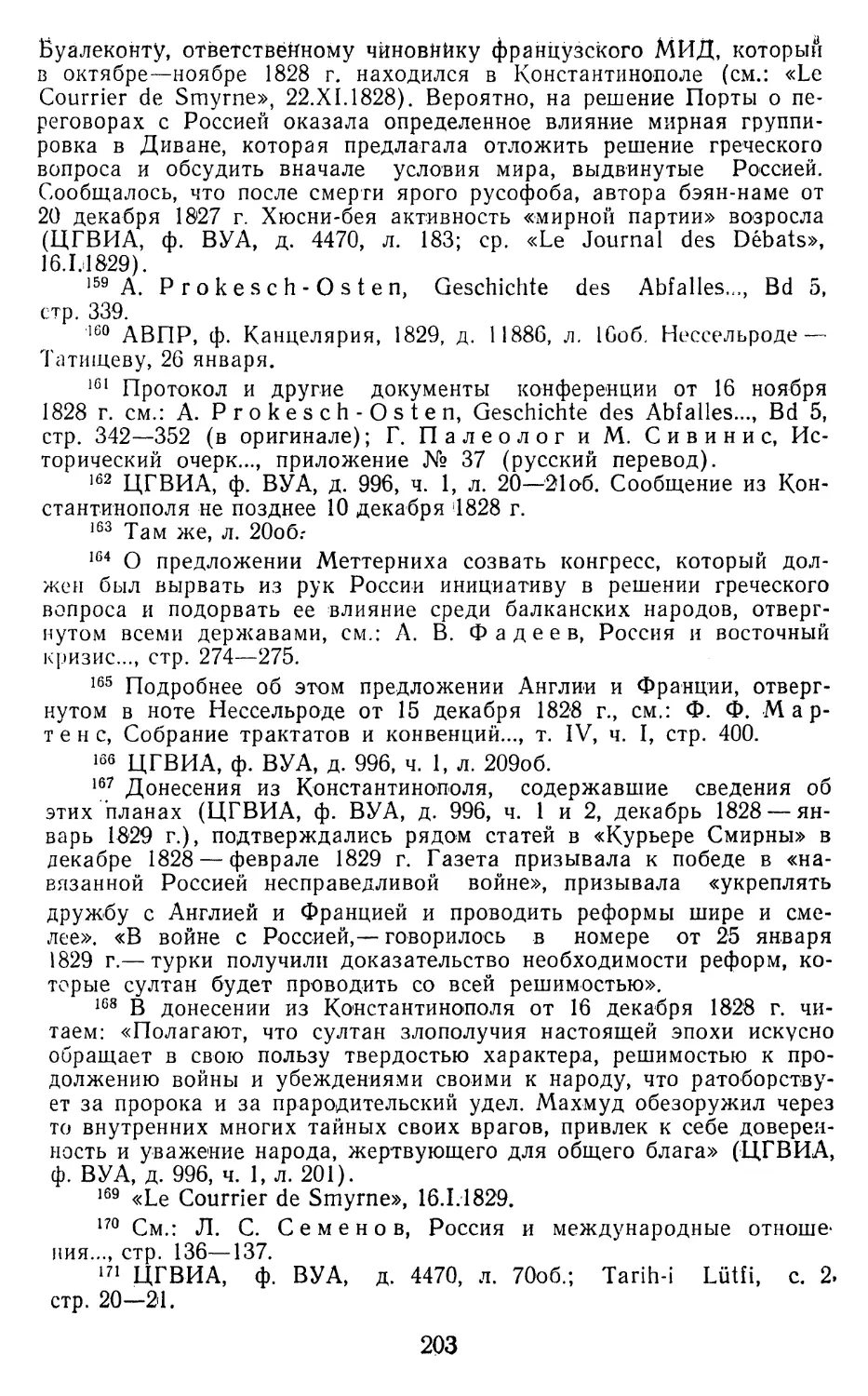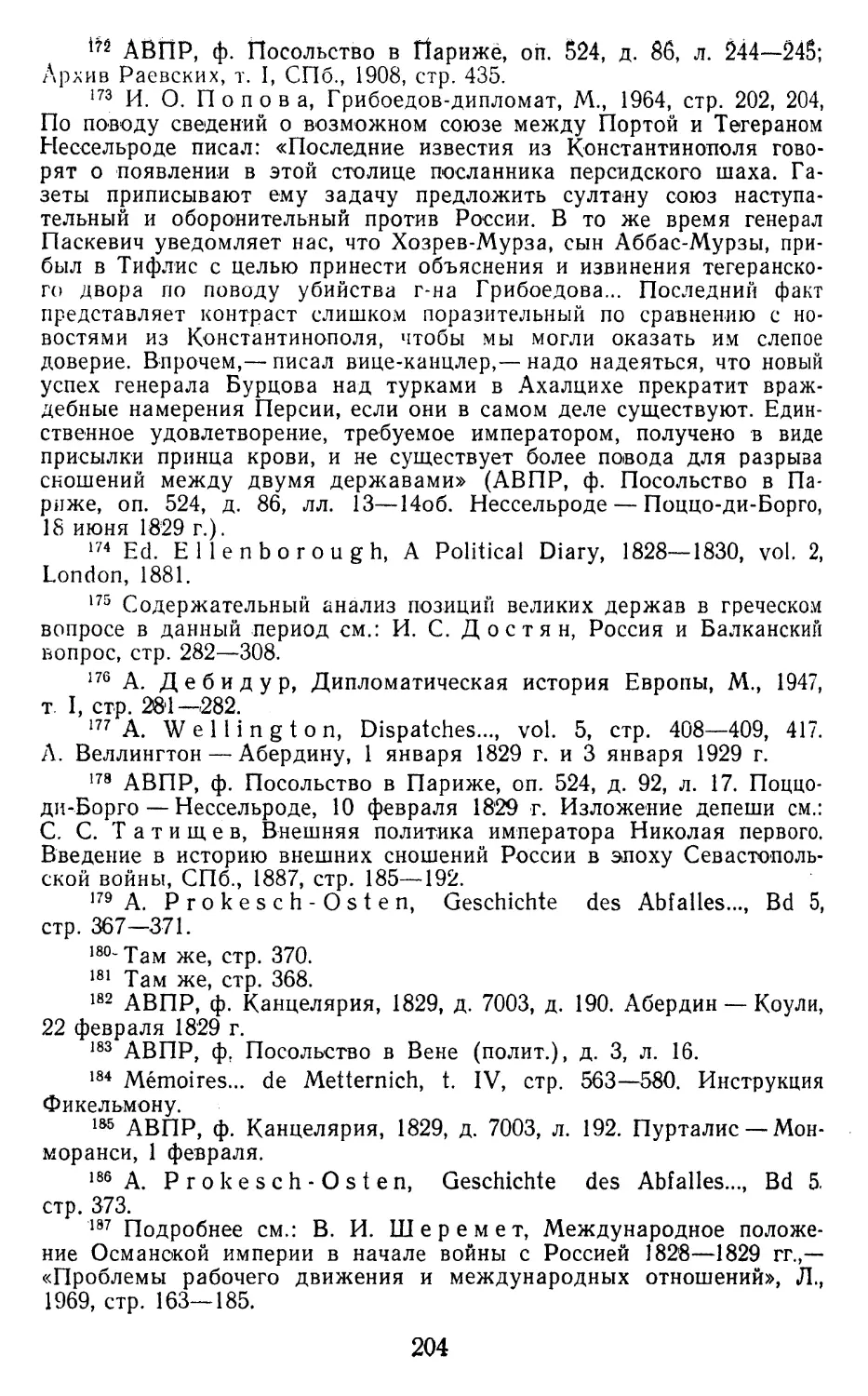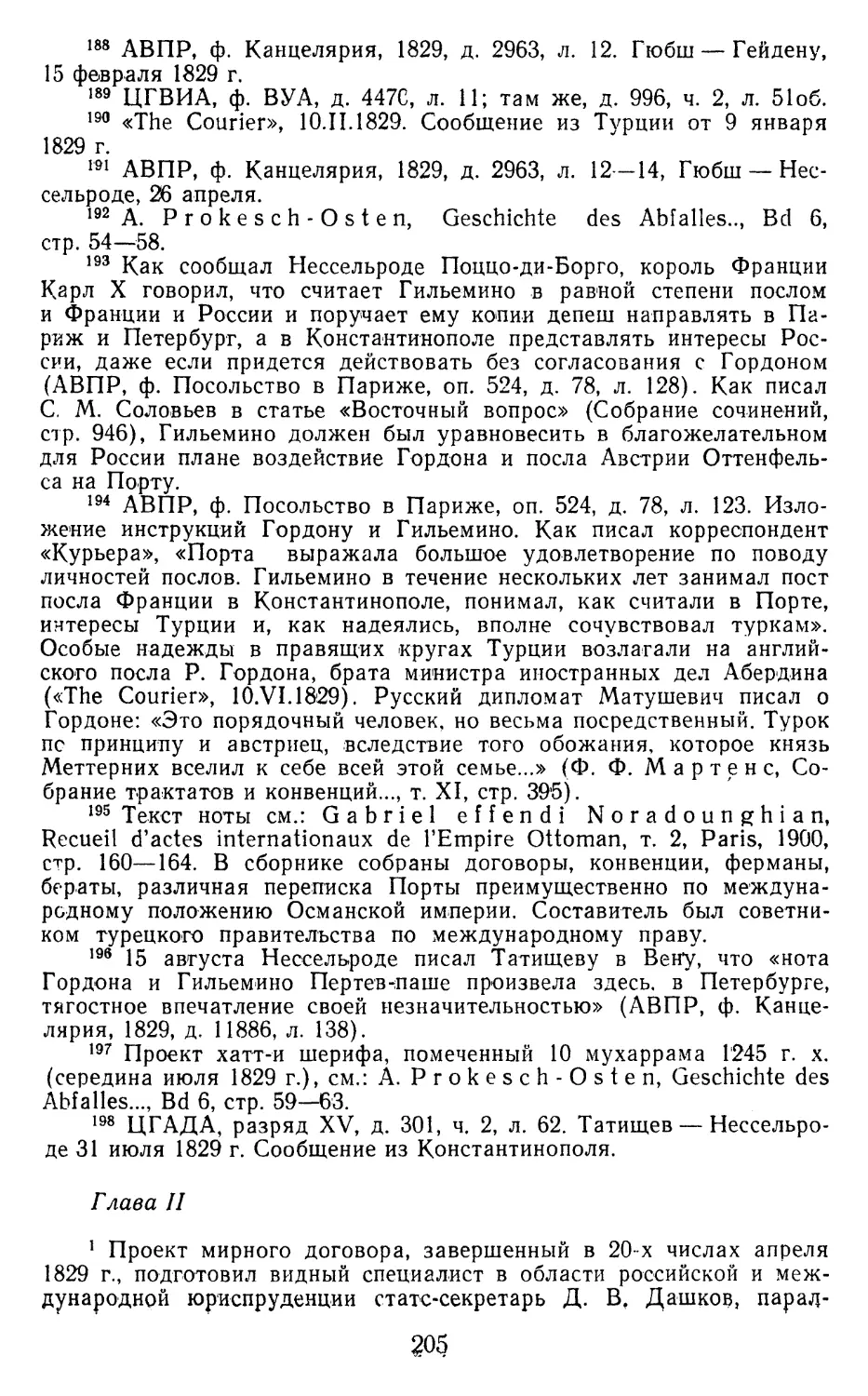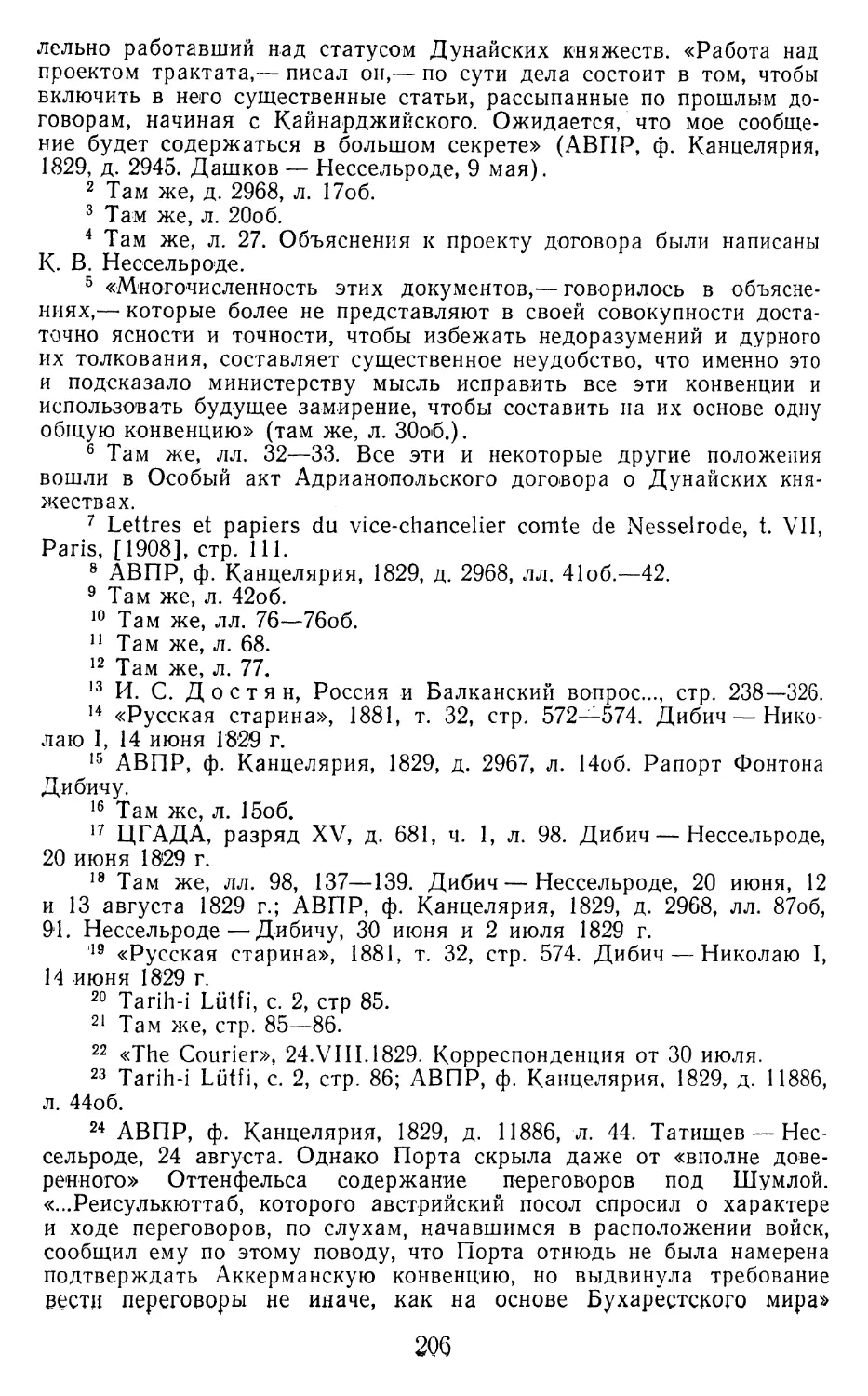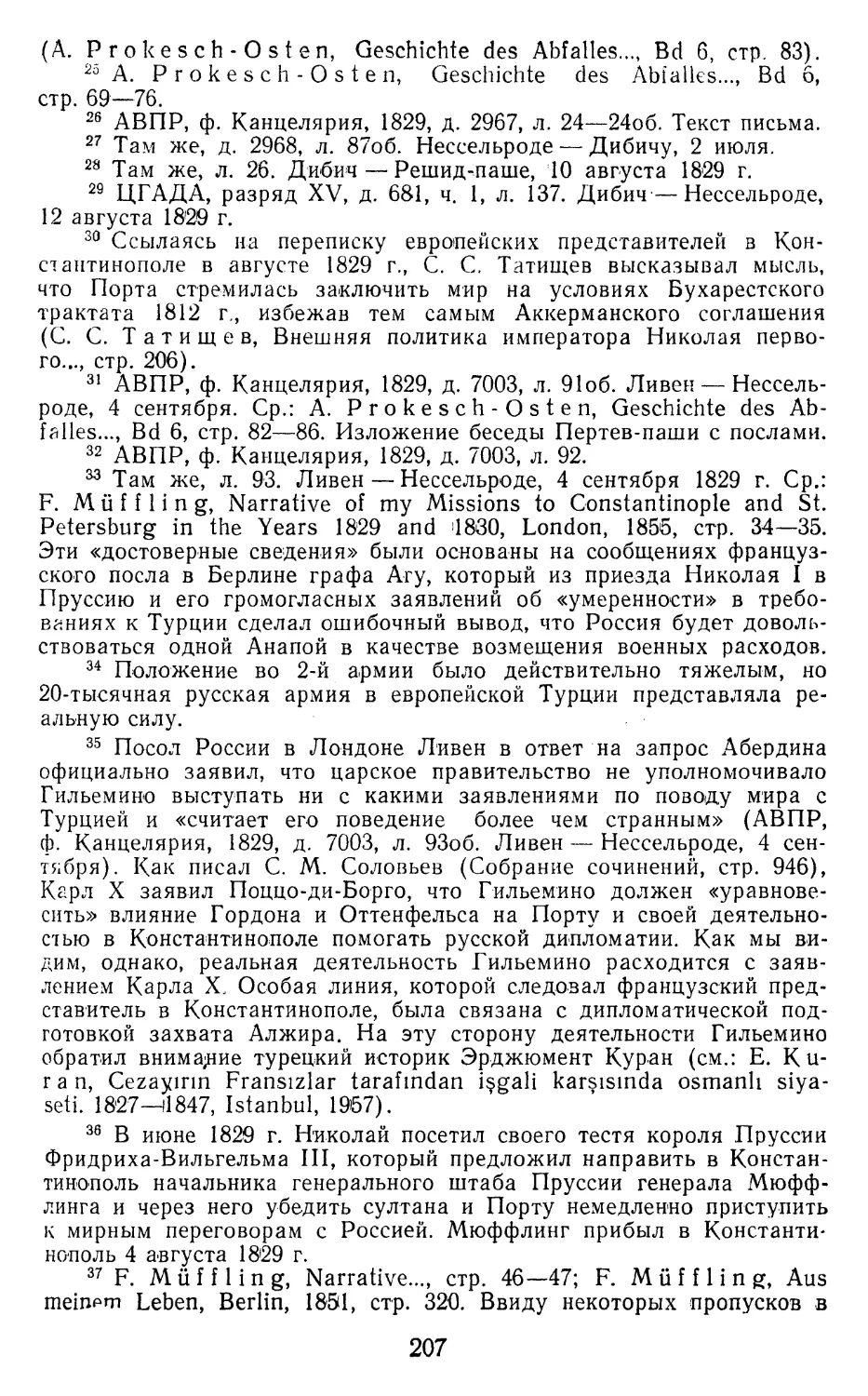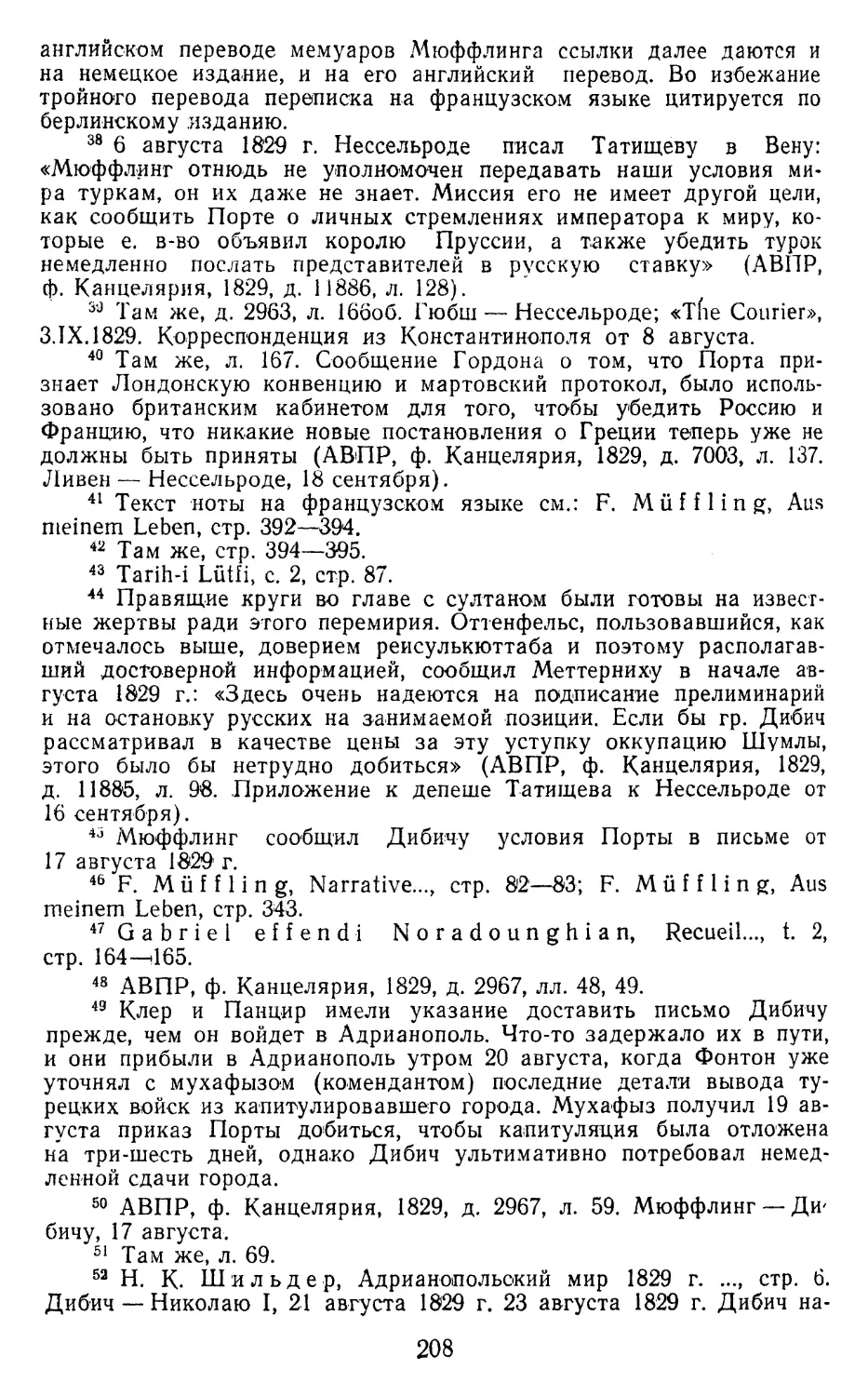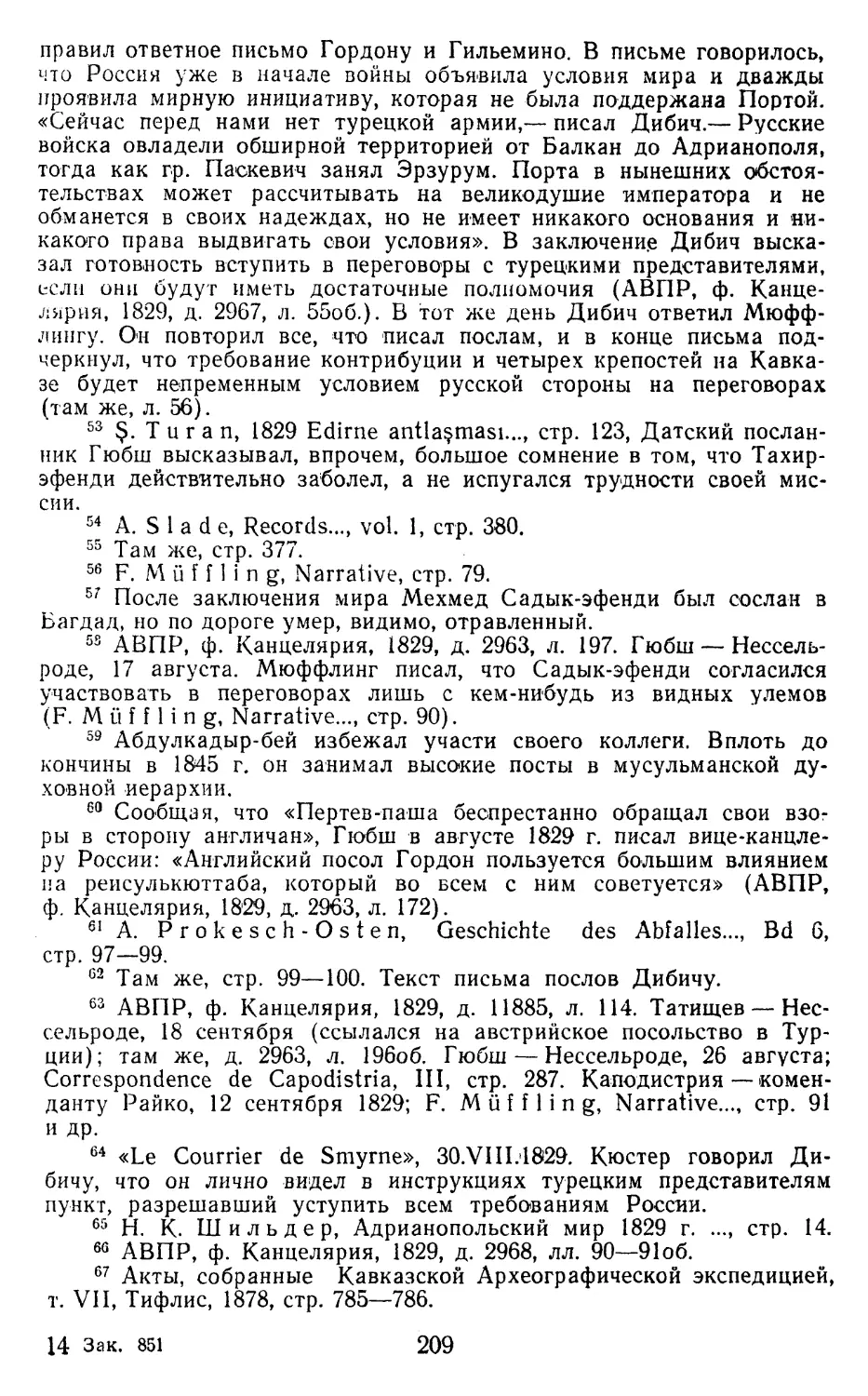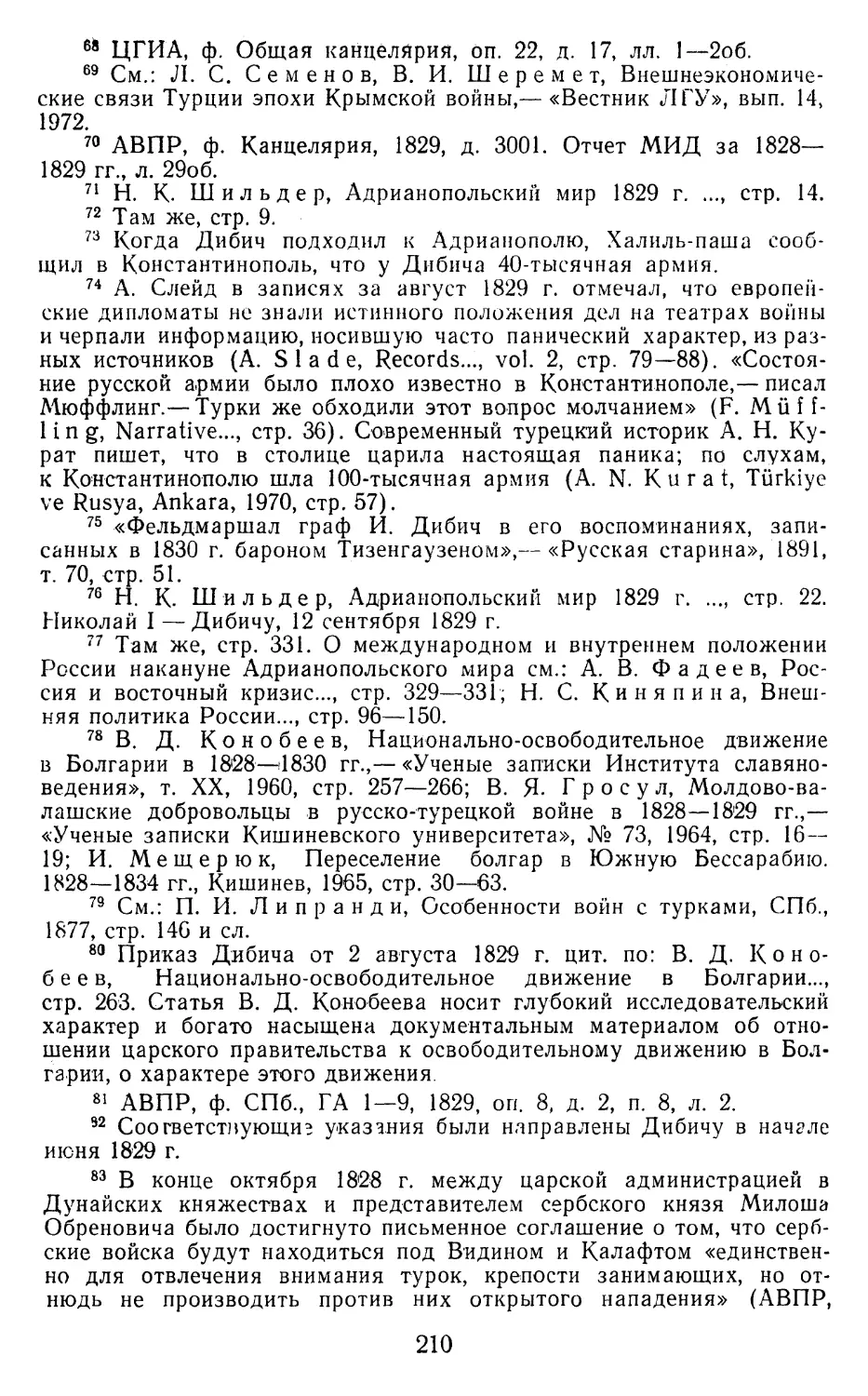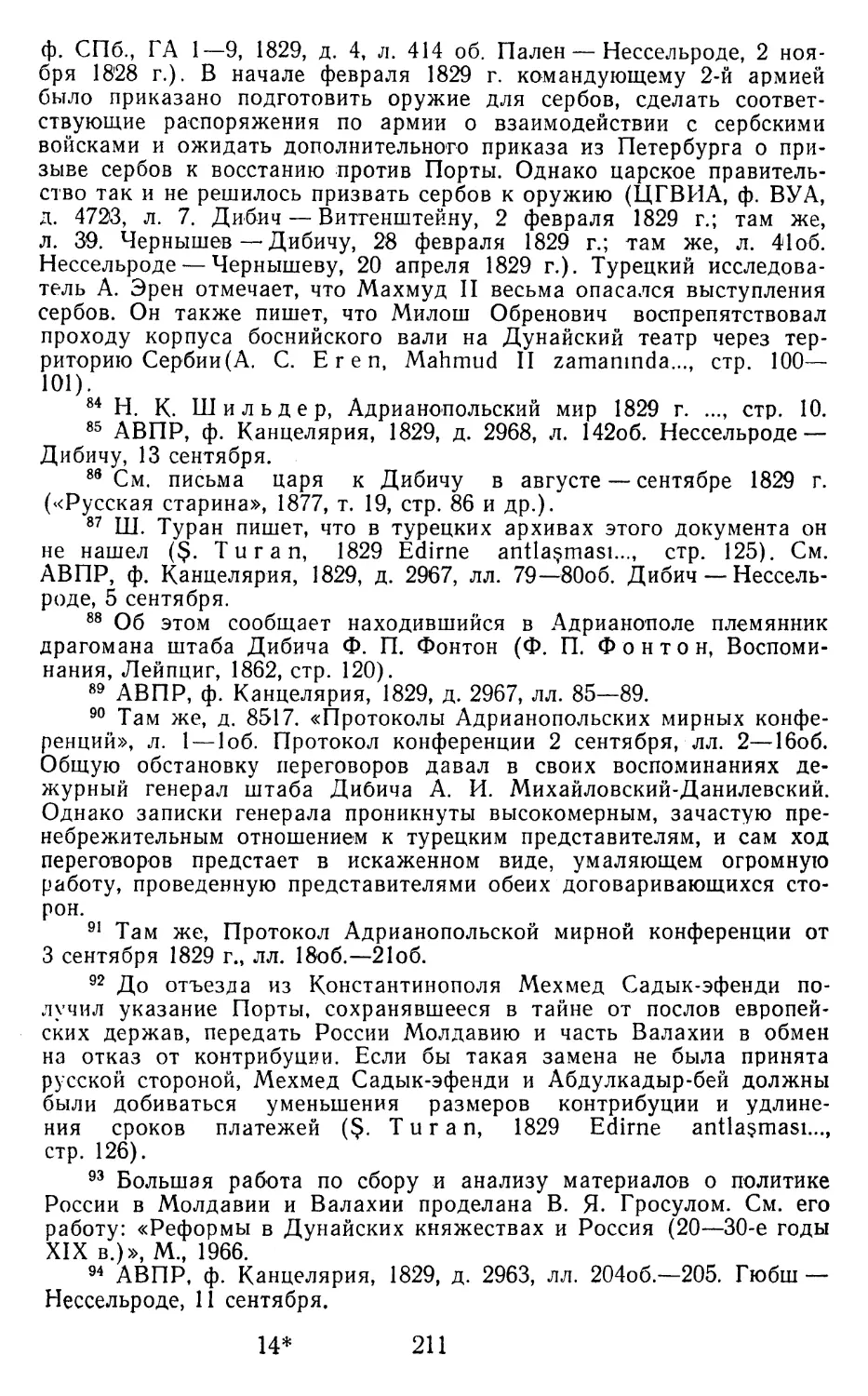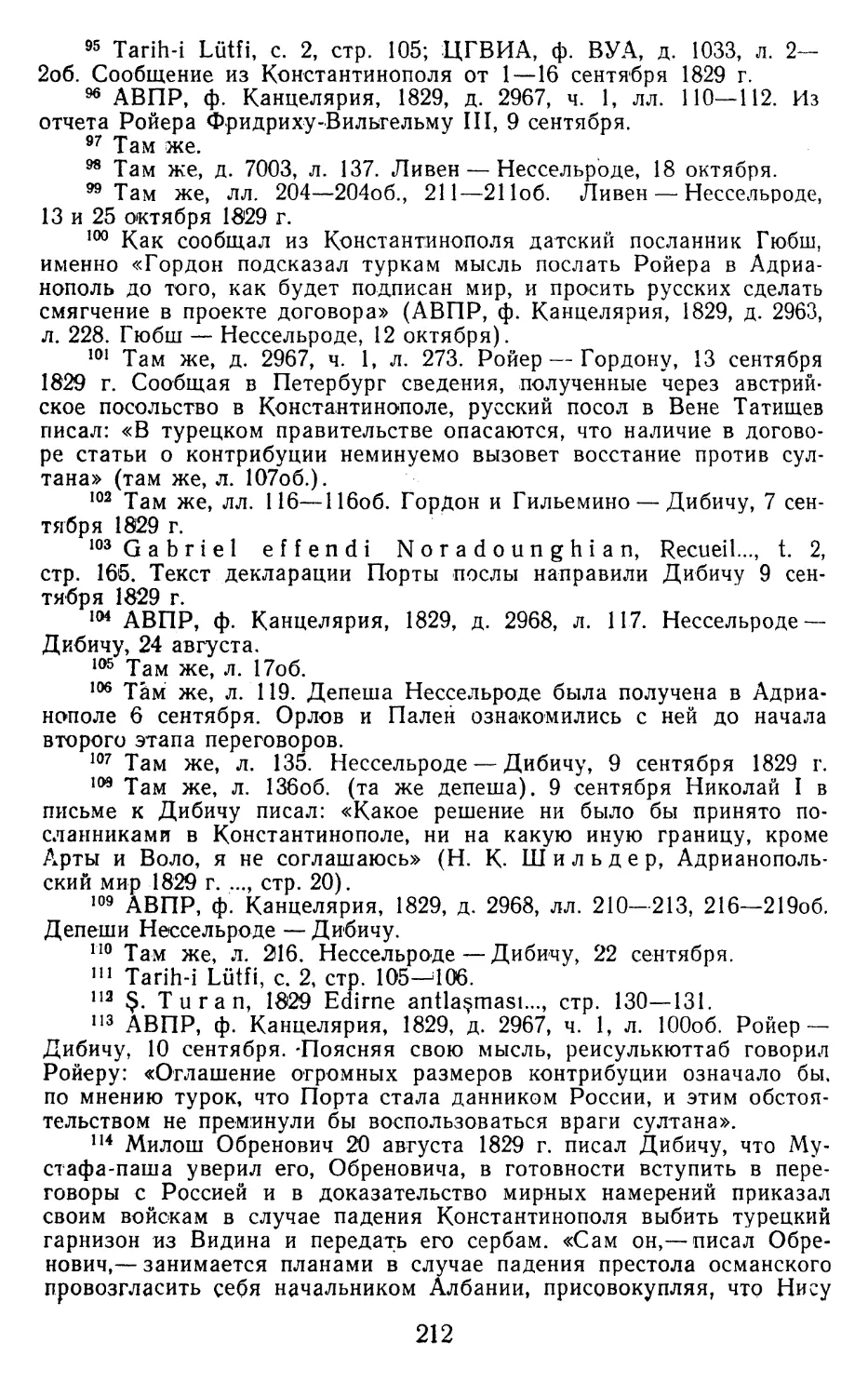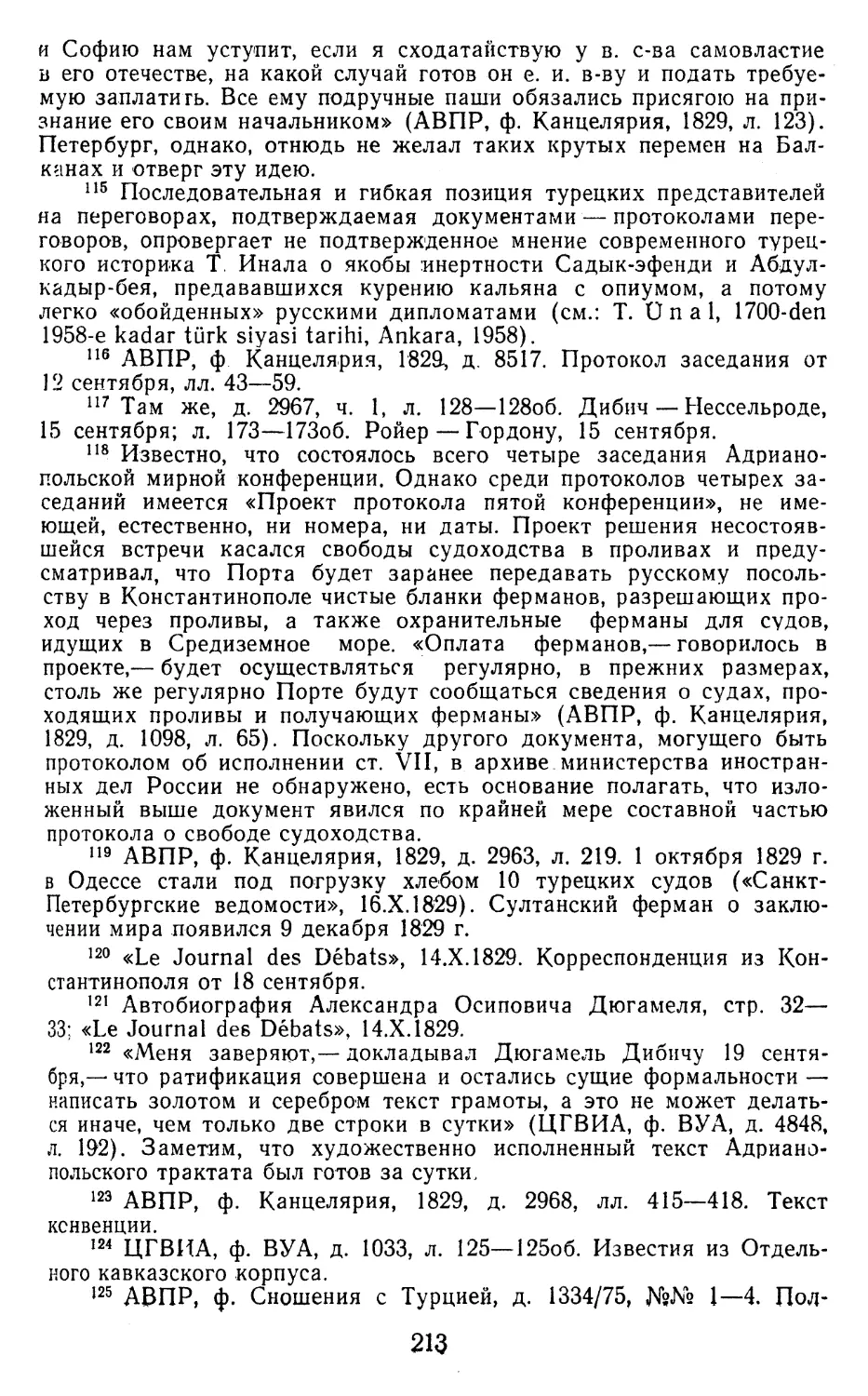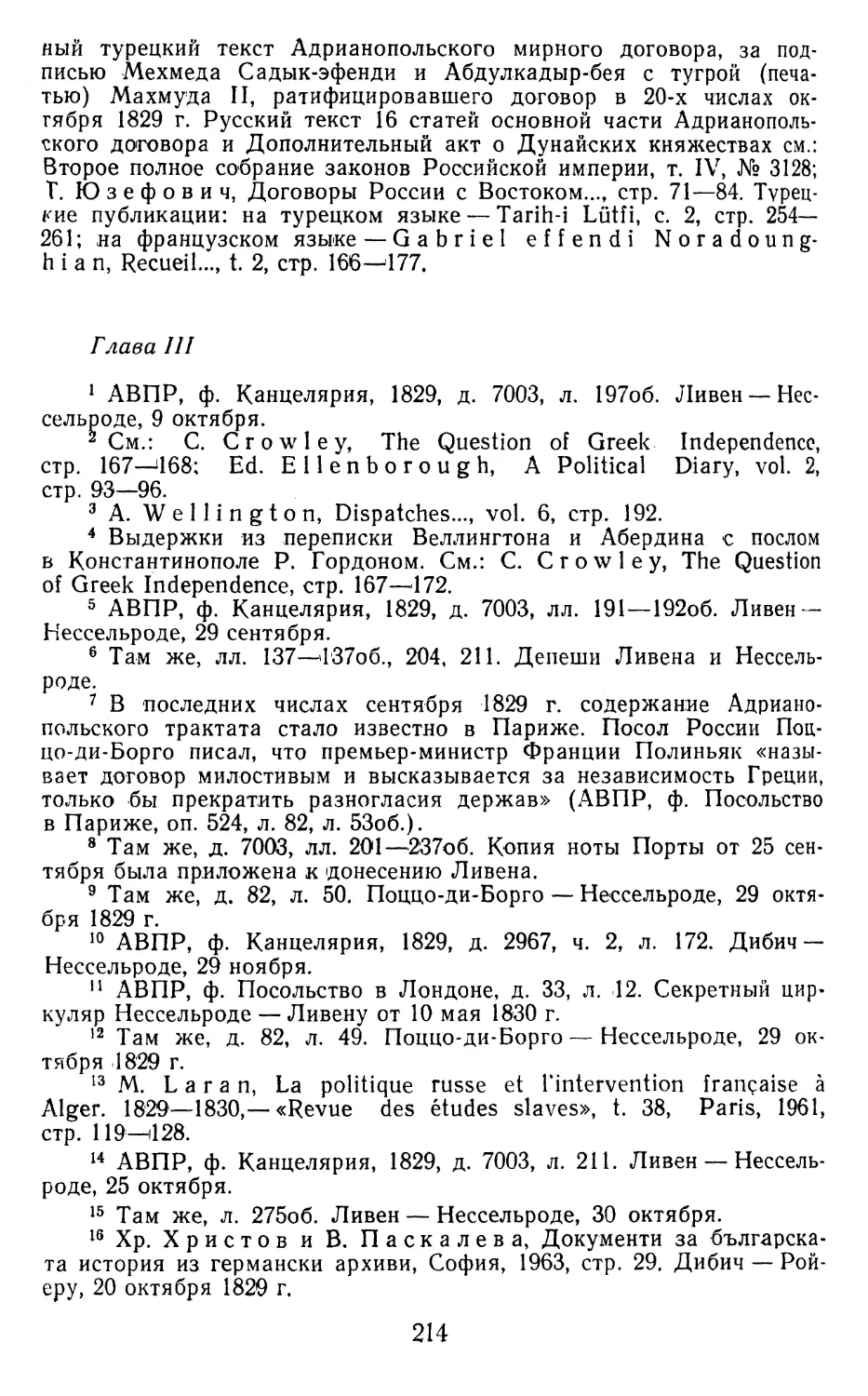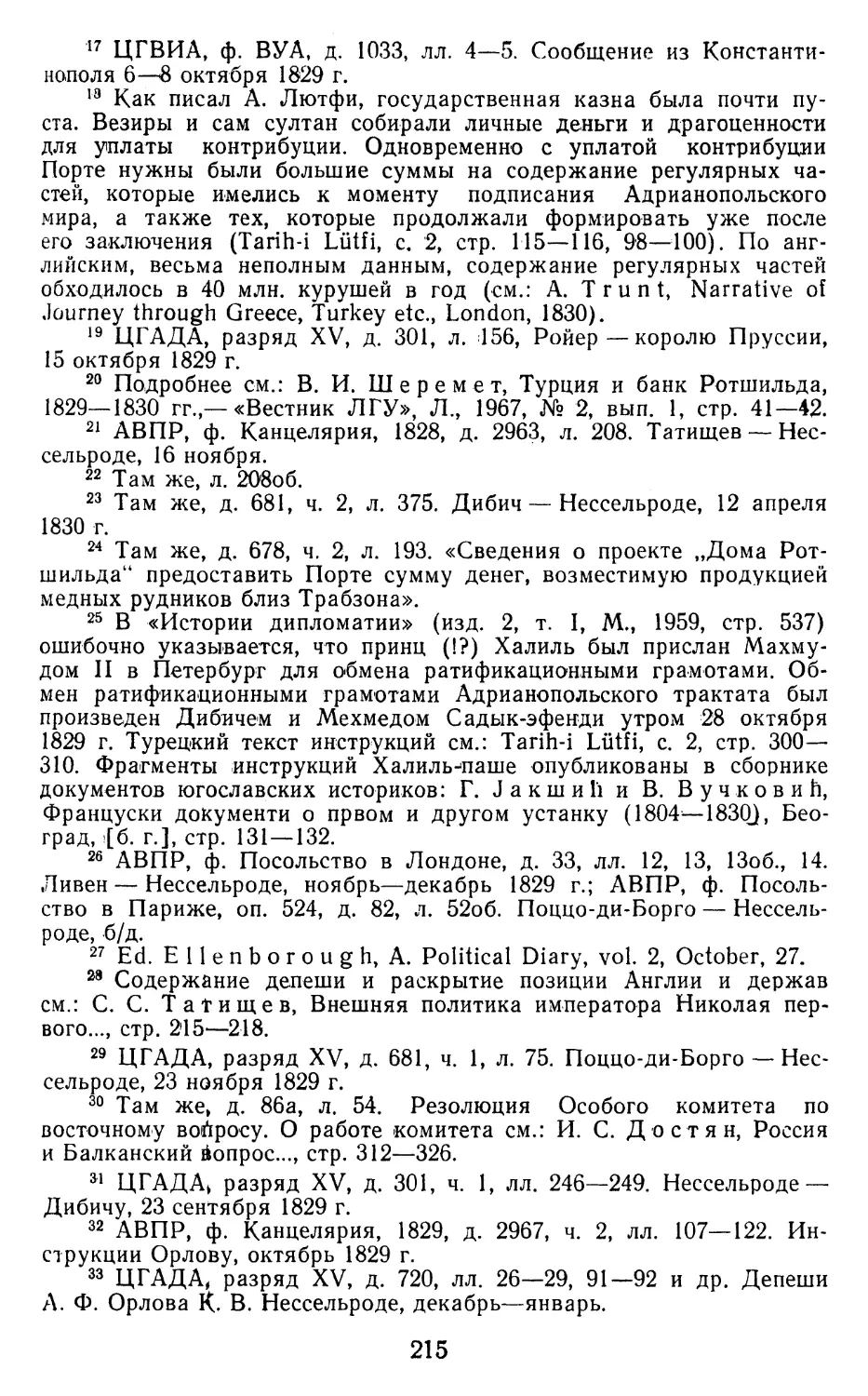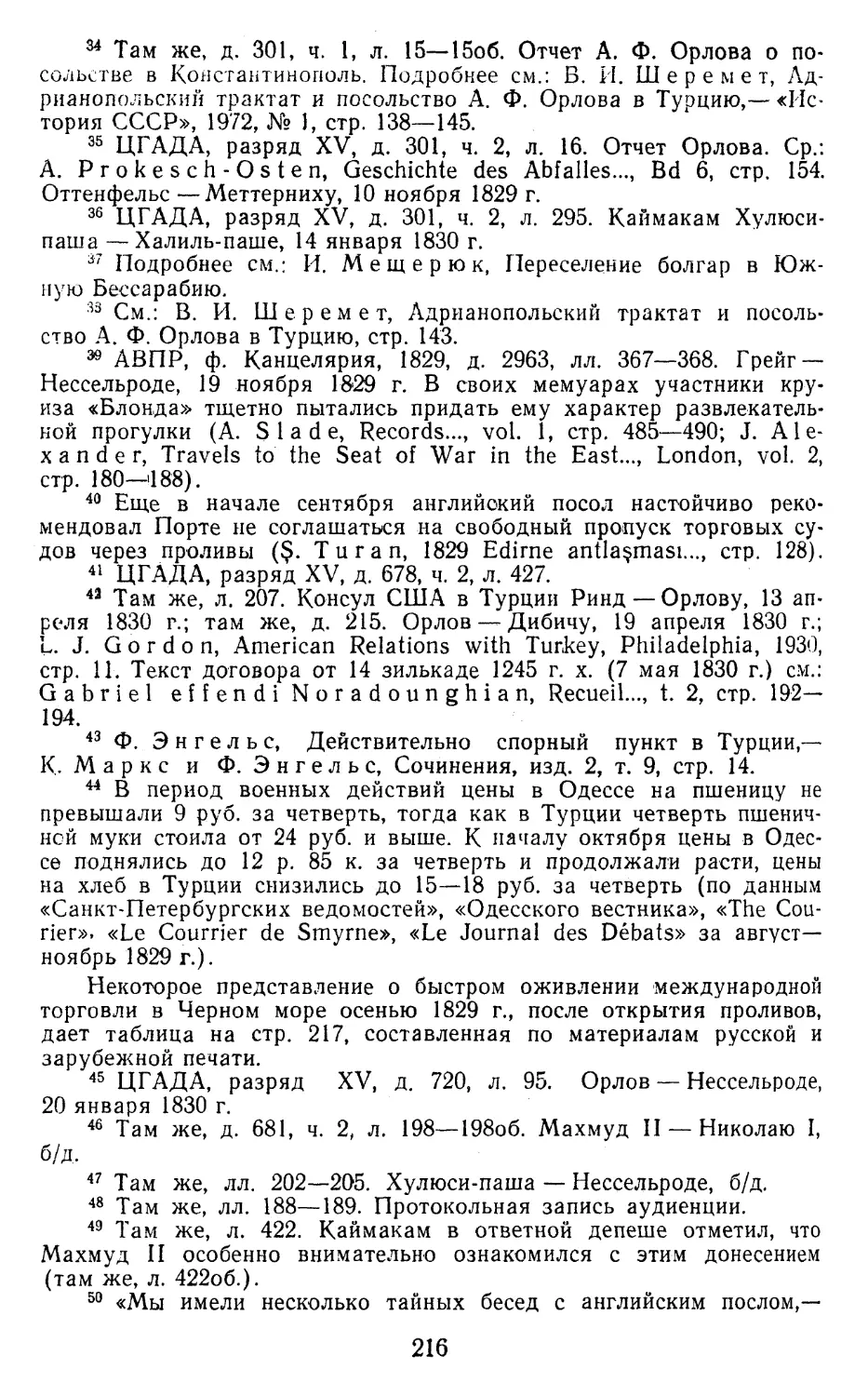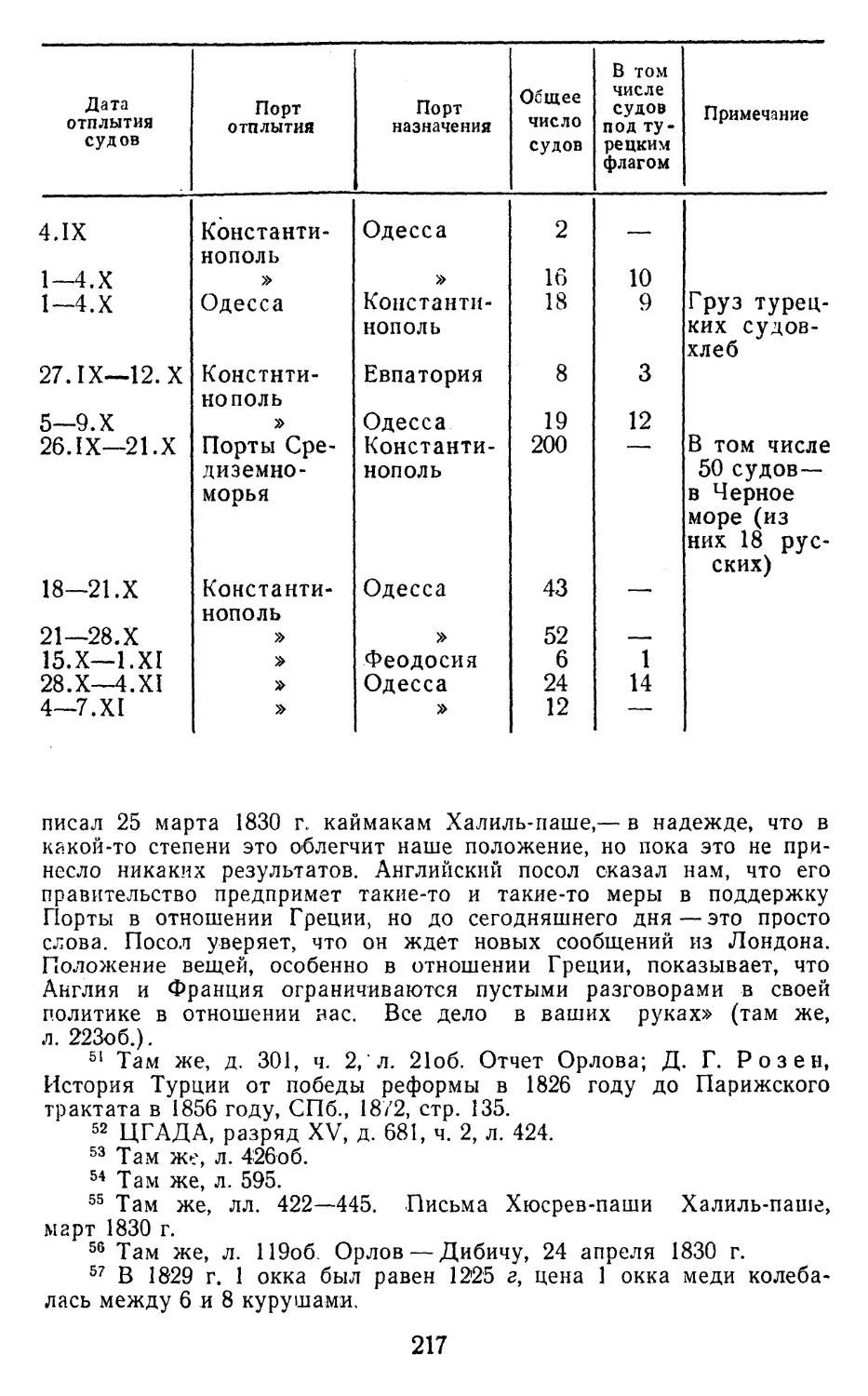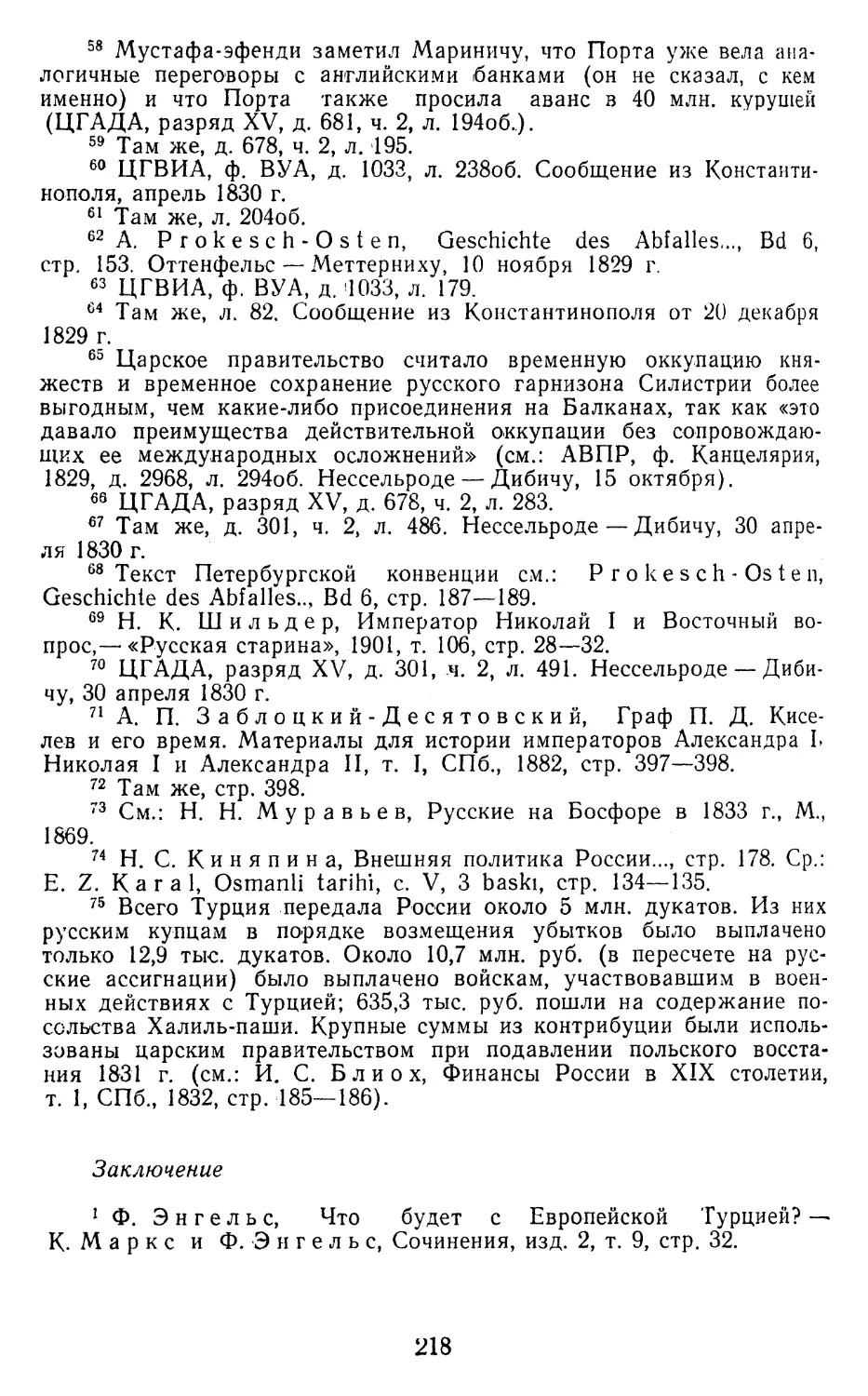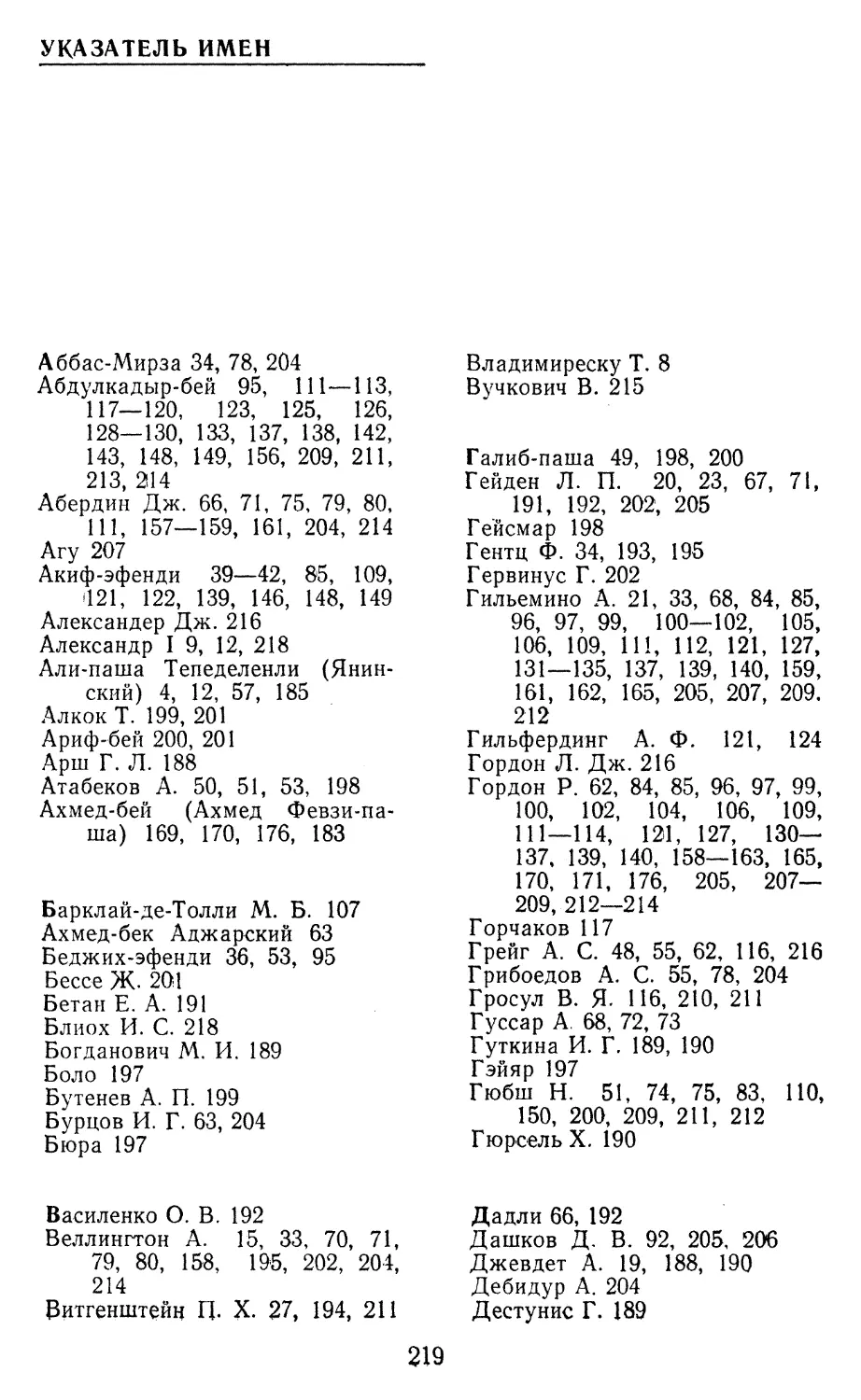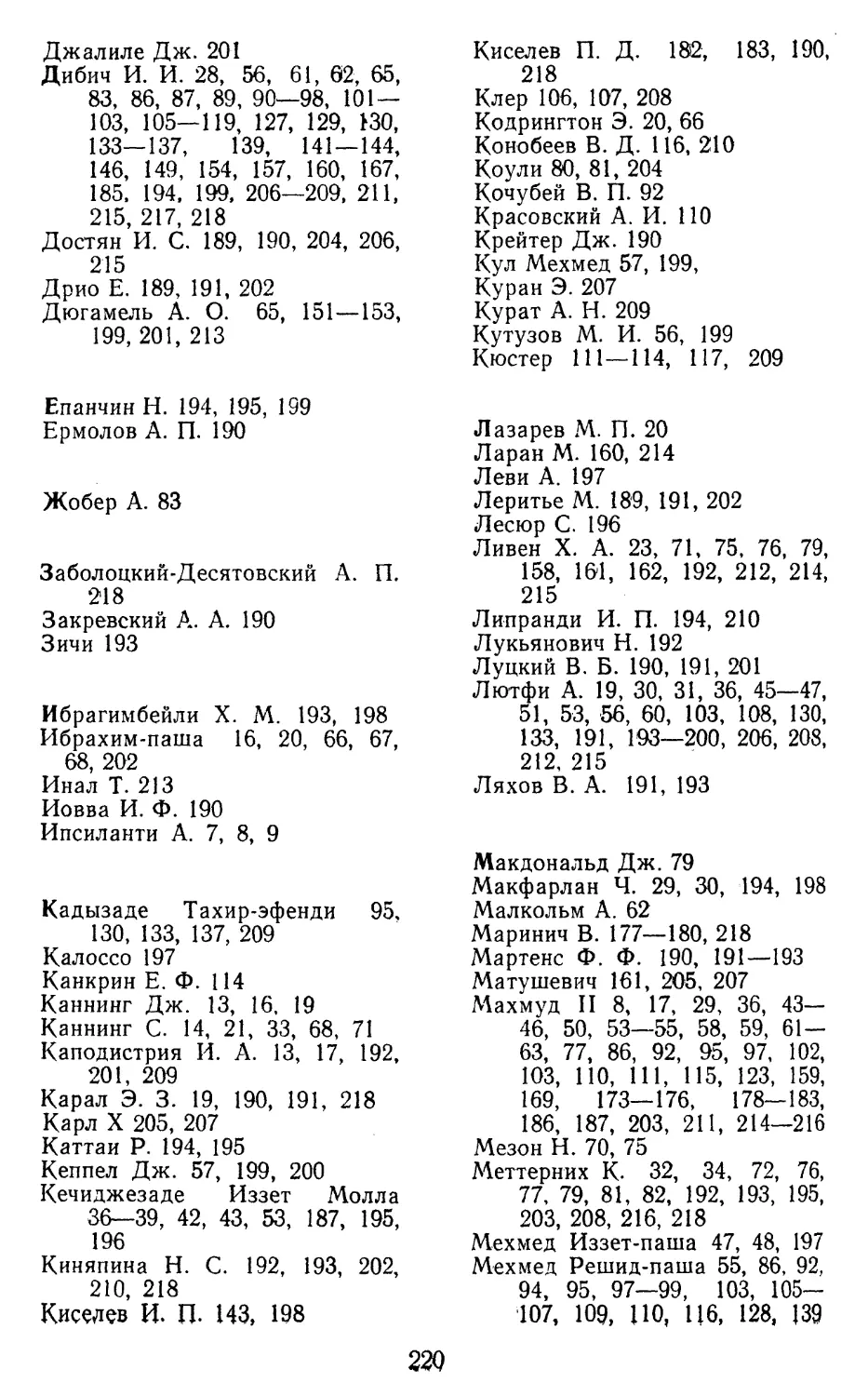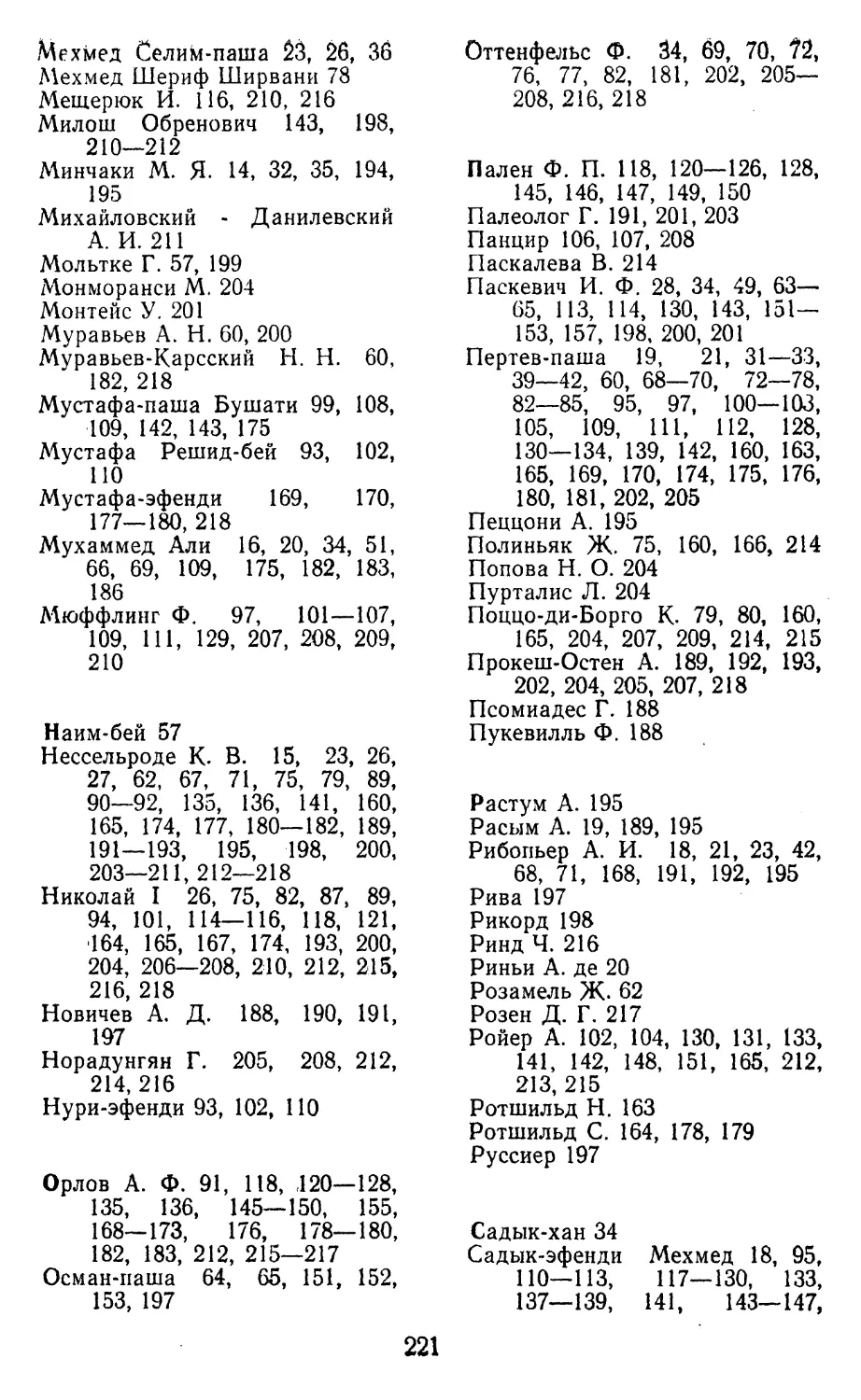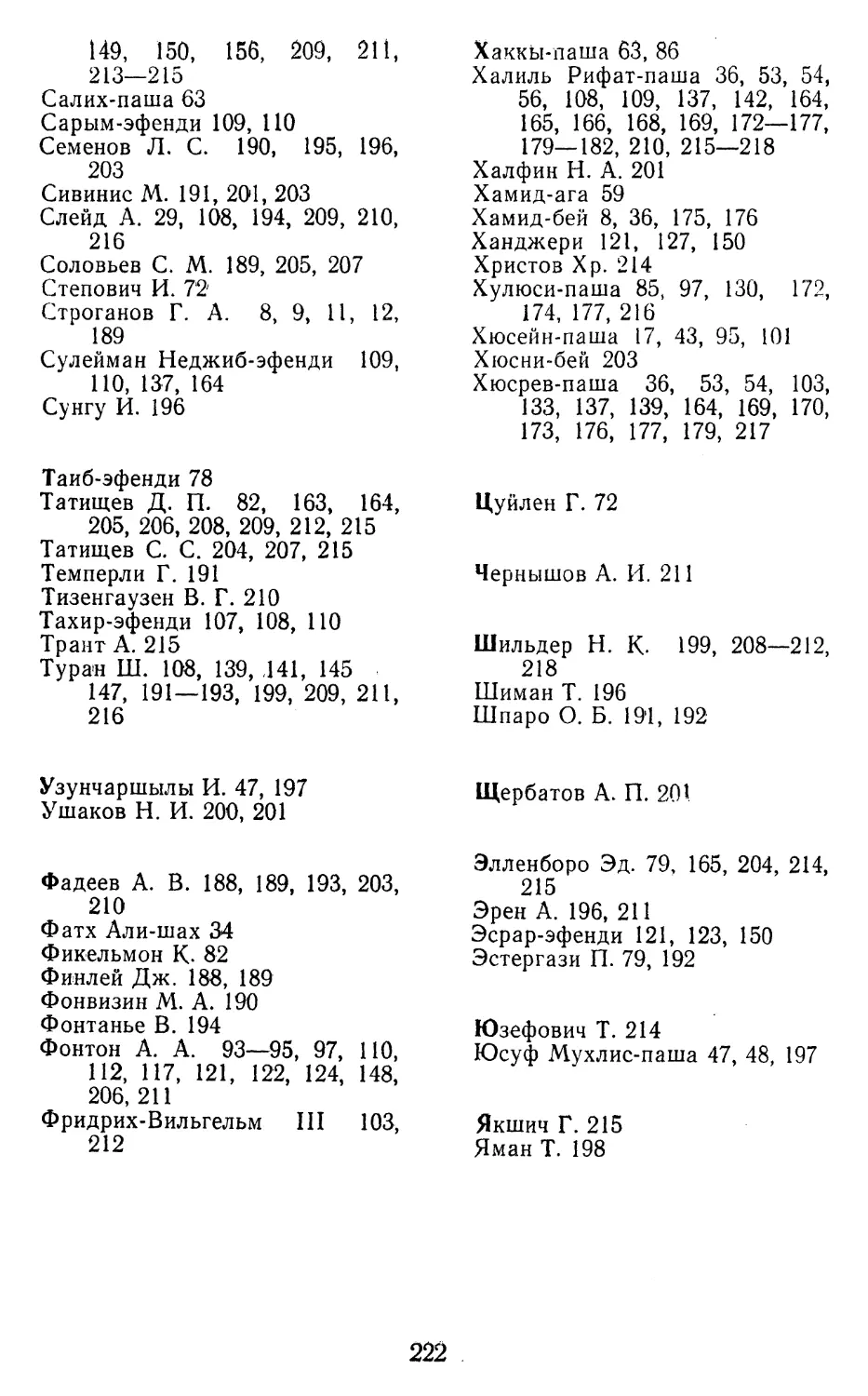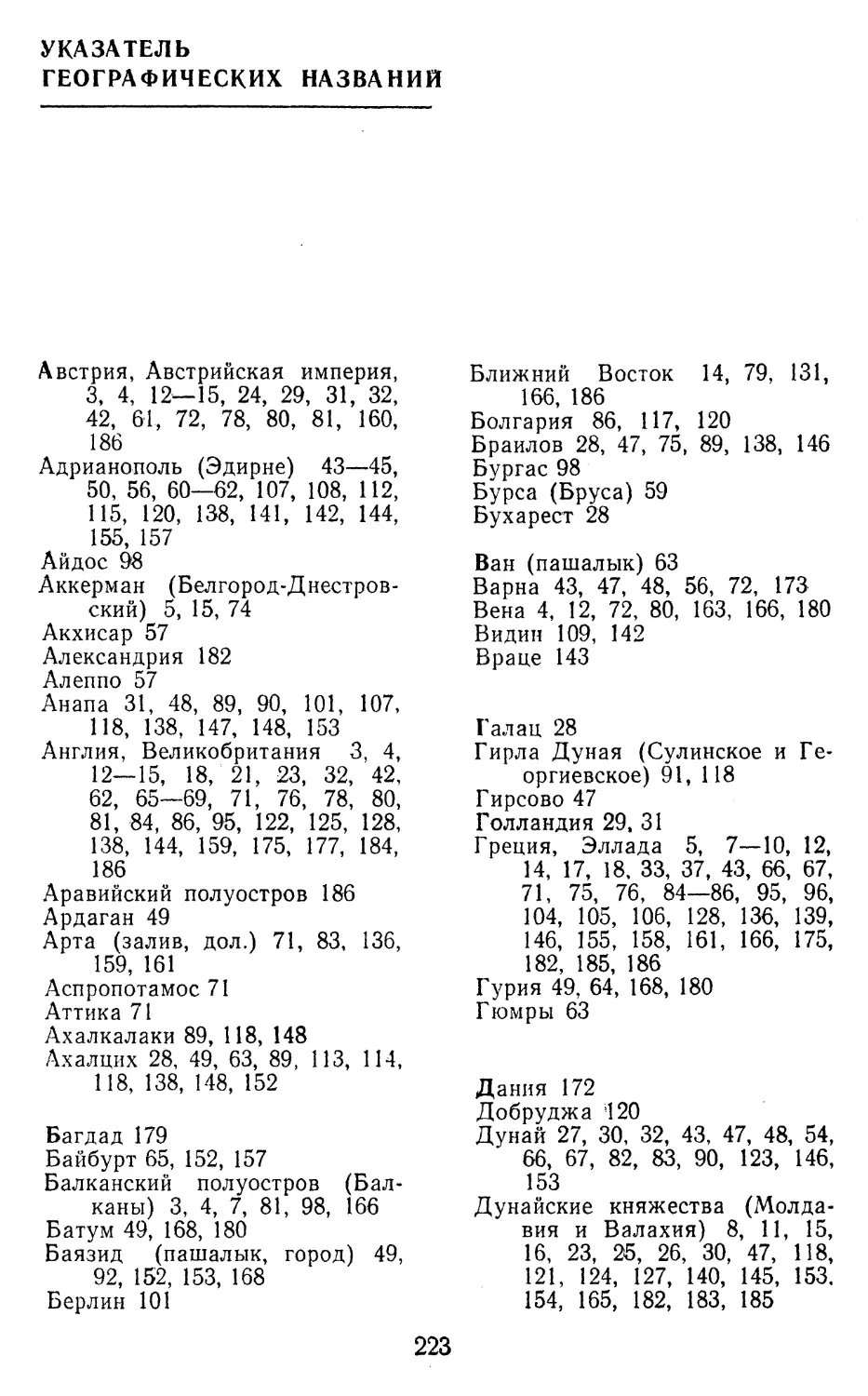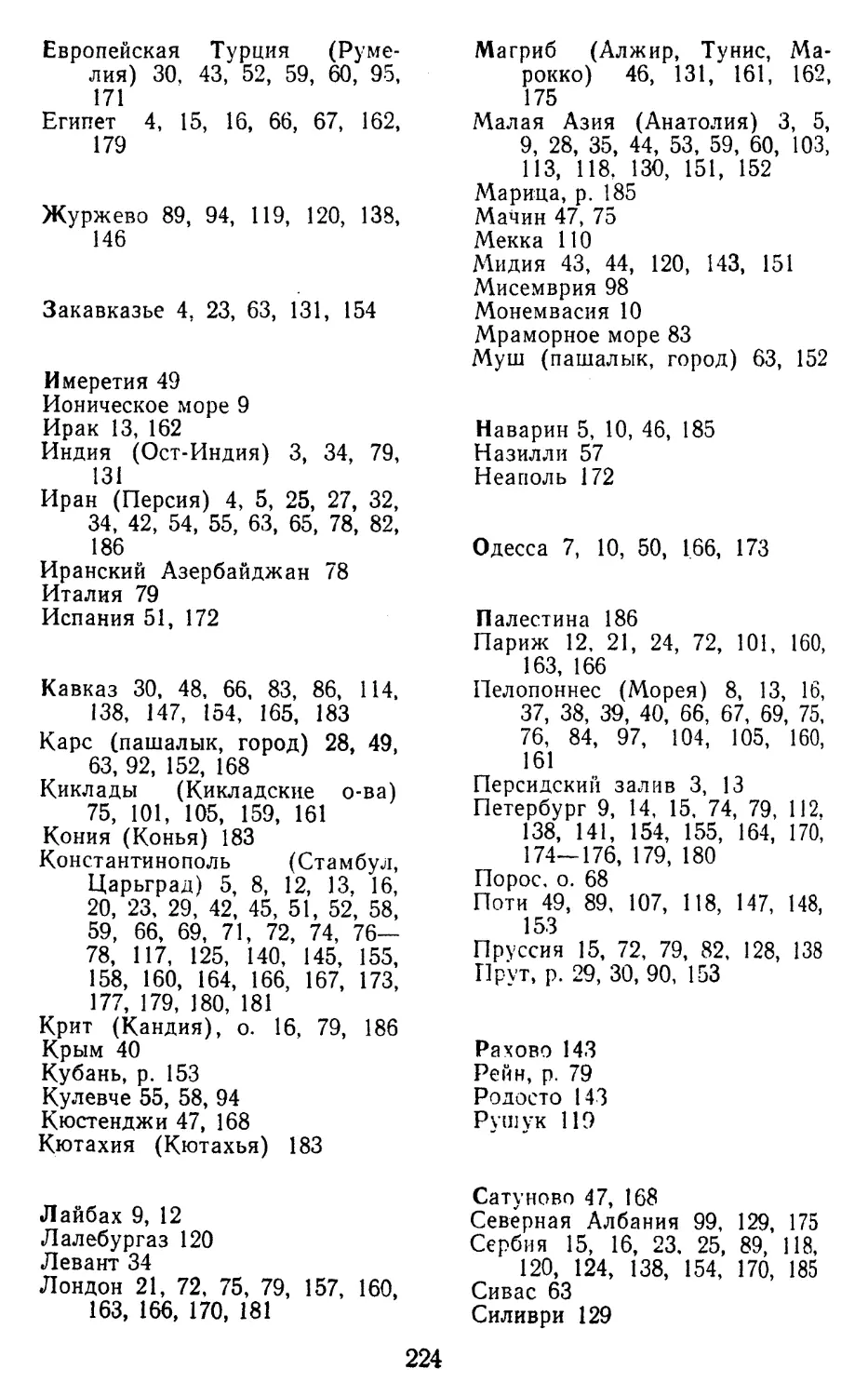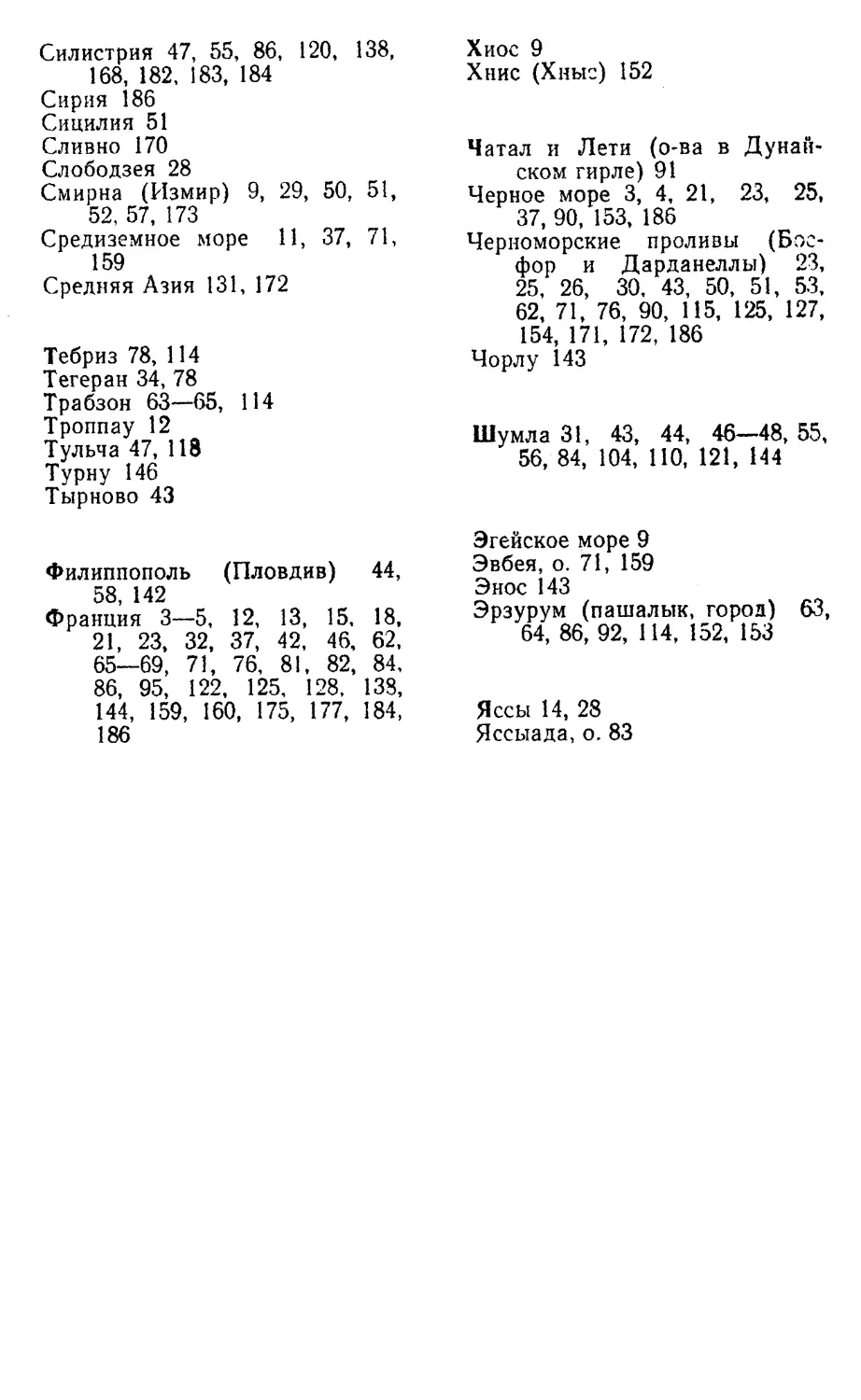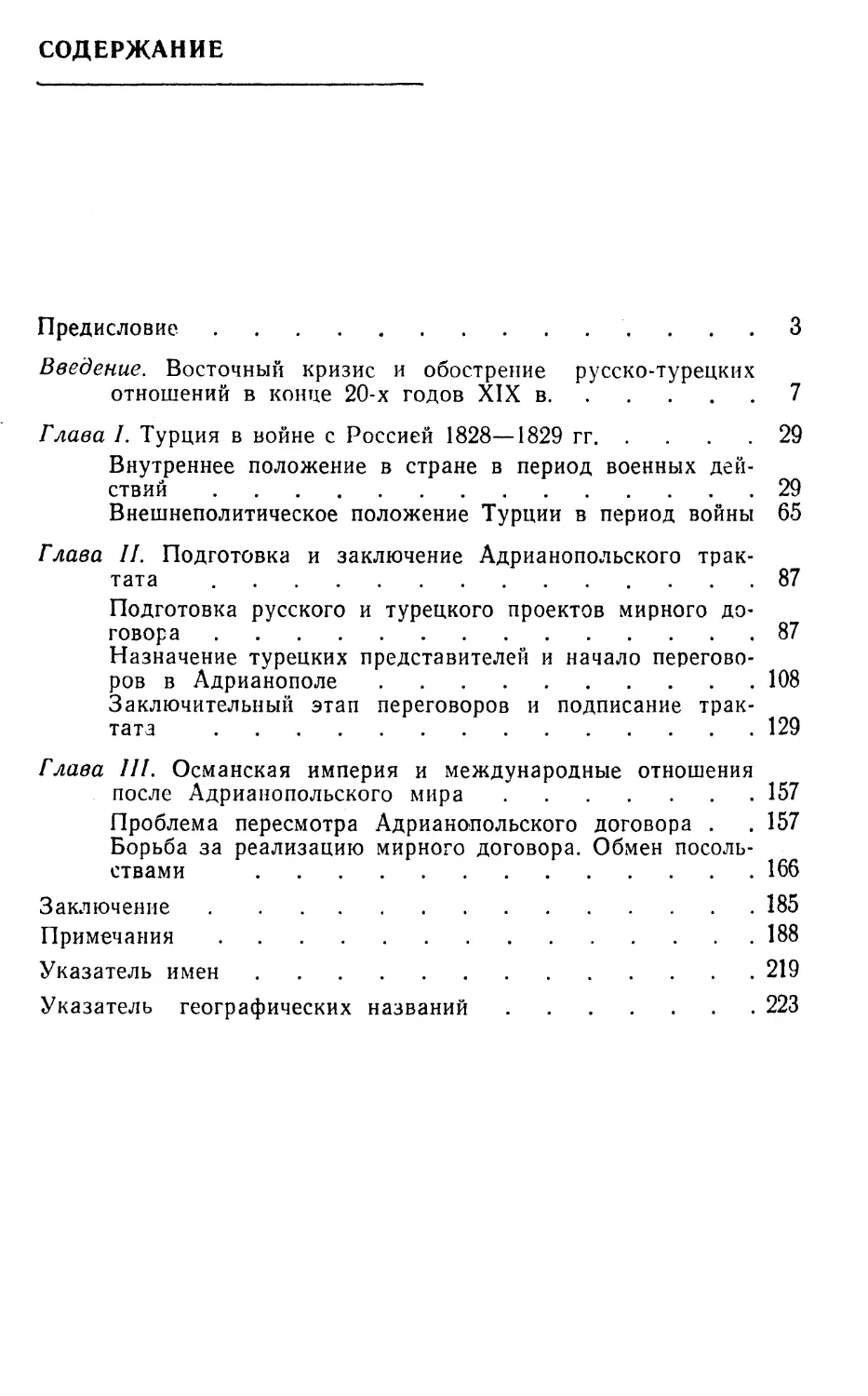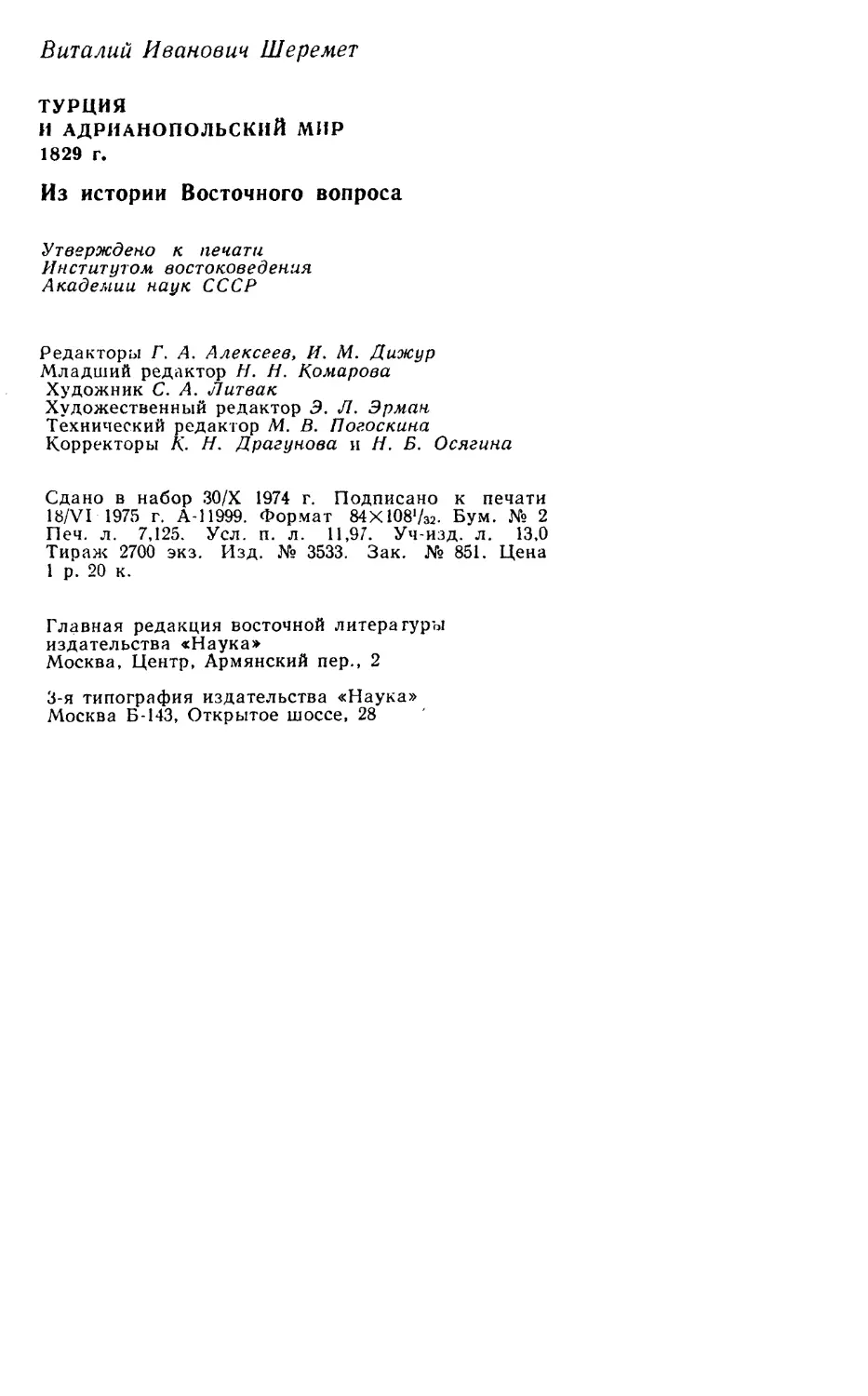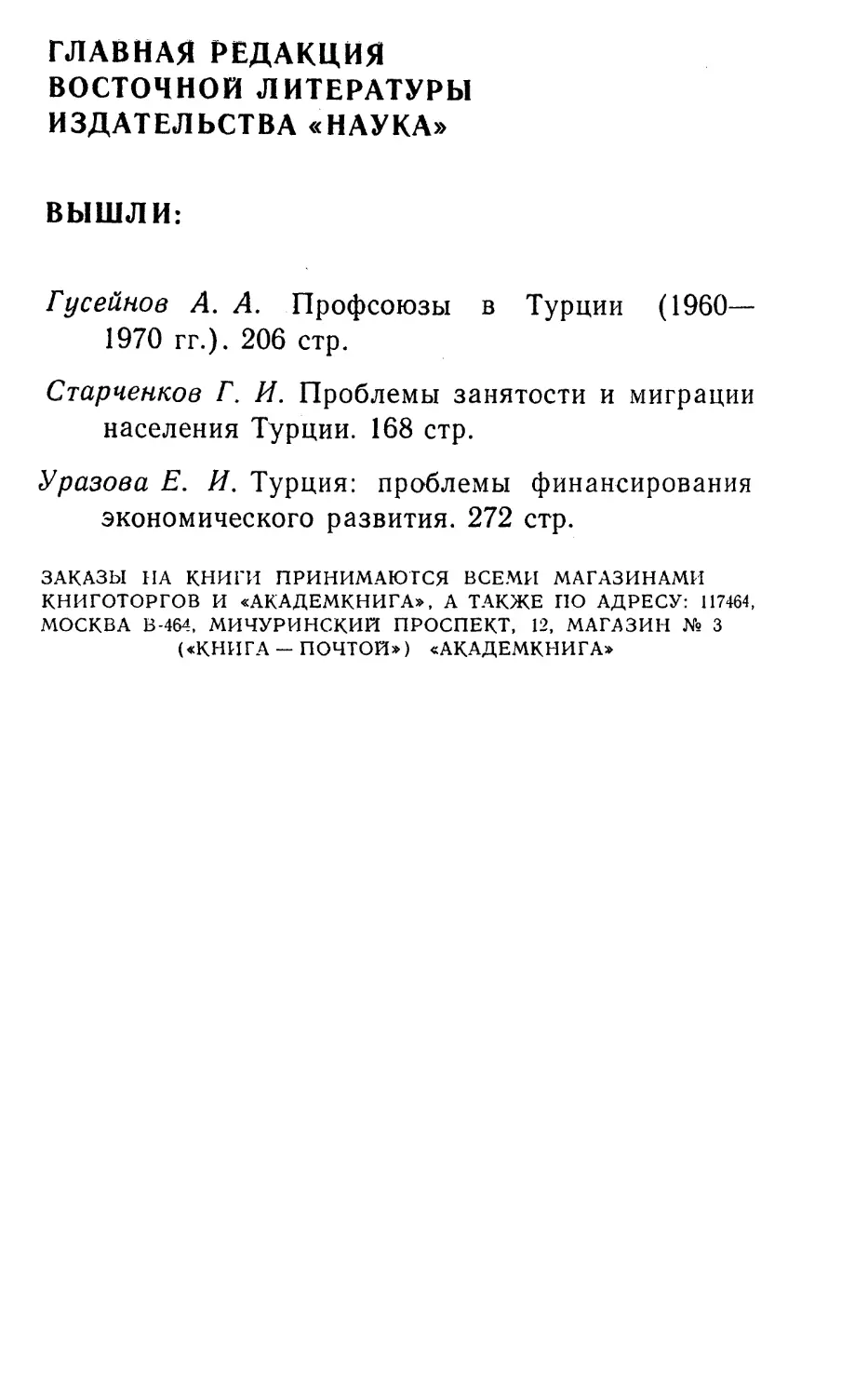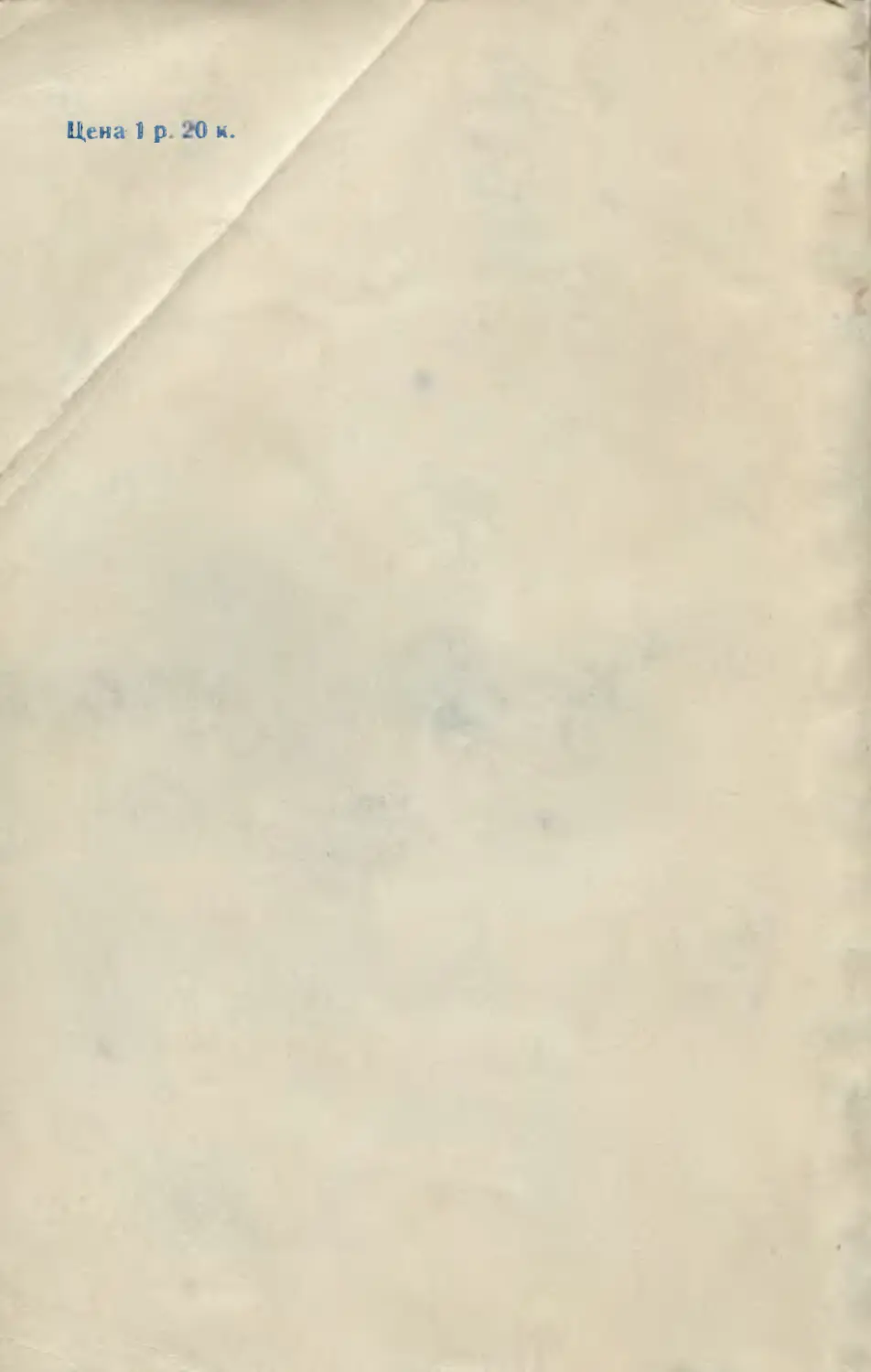Похожие
Текст
В. И. Шеремет
Турция
и
Адрианопольский
мир
1829 г.
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
нм. А. И. ГЕРЦЕНА
В. И. Шеремет
ТУРЦИЯ
И АДРИАНОПОЛЬСКИЙ
МИР 1829 г.
ИЗ ИСТОРИИ
ВОСТОЧНОГО ВОПРОСА
е
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА>
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1975
grmai
IH49
Ответственный редактор
ХАДЖИ МУРАТ ИБРАГИМБЕЙЛИ
Монография посвящена международным отношениям на
Ближнем Востоке в 20-х годах XIX в. В ней исследуются внут-
реннее и внешнее положение Османской империи, влияние во-
сточного кризиса на расстановку политических сил в этой стра-
не. Тщательно проанализирована обстановка в Восточном Сре-
диземноморье с учетом национально-освободительных движений
того периода. В поле зрения автора находятся также позиции
всех европейских держав, проявлявших интерес к ближневос-
точной проблеме. Борьба на международной арене излагается
на широком экономическом, внешнеполитическом и внутрипо-
литическом фоне.
ш 10603-133
013(02) -75
73-75
© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1975.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Подъем освободительного движения на Балканах в
20-х годах XIX в. и соперничество великих держав вы-
звали обострение Восточного вопроса. Под Восточным
вопросом понимается комплекс противоречий между
Османской империей, Россией, Англией, Францией и
Австрией на Ближнем Востоке и Балканском полуост-
рове.
Революционный подъем в Европе начала 20-х годов
XIX в. отозвался и в Османской империи. В апреле
1821 г. началась освободительная война греческого на-
рода. Правительство Османской империи оказалось в
трудном положении ввиду одновременных восстаний и в
европейских, и в азиатских областях.
Ведущие европейские державы усматривали в сла-
бости турецкой центральной власти благоприятную воз-
можность для реализации своих планов в отношении
владений султана.
Так, Англия стремилась к укреплению политическо-
го влияния и завоеванию рынков в пределах Осман-
ской империи, особенно в связи с завершением промыш-
ленного переворота. Она стремилась также запереть
Россию в Черном море, противодействуя ей на Балка-
нах и в Малой Азии. Активность Англии в этом районе
особенно возросла в связи с началом «последнего пе-
риода» завоевания Индии 1 и экспансией в зоне Пер-
сидского залива. Вместе с тем по мере обострения во-
сточного кризиса 20-х годов английское правительство
пошло на подписание соглашений с Россией, чтобы свя-
зать царское правительство в Восточном вопросе.
Франция в 20-х годах значительно активизировала
свою ближневосточную политику, добилась большого
3
влияния в Египте, стремилась закрепиться на Балканах.
Ввиду противоречий с Англией и Австрией по различ-
ным международным проблемам Франция на отдель-
ных этапах восточного кризиса поддерживала Россию.
Освободительное движение в балканских владениях
Турции вызывало особую настороженность Австрии,
боявшейся революции на своих сопредельных террито-
риях со славянским населением. Австрия поддержива-
ла султанскую политику подавления греческого движе-
ния фактически на протяжении всего кризиса, помогала
Турции во время войны с Россией. В Вене хотели бы
сохранить номинальную власть Порты в пограничных с
Австрией областях, рассчитывая вознаградить себя рас-
ширением реального политического и экономического
влияния на Балканах.
Россия добивалась обеспечения свободного выхода в
Средиземное море, что было связано с перспективами
развития внешней торговли и безопасностью Черномор-
ского побережья. В этом отношении, а также в связи с
завершением присоединения Закавказья интересы Рос-
сии и Османской империи сталкивались.
К. Маркс и Ф. Энгельс, разоблачая захватнические
планы царской России и других великих держав, отме-
чали в то же время решающую роль России в освобож-
дении Греции, укреплении автономии Сербии и Дунай-
ских княжеств.
Восточный кризис 20-х годов XIX в. прошел ряд эта-
пов. В 1821—1823 гг. Порта стремилась как можно ско-
рее подавить народное восстание в Греции, однако
большого напряжения сил требовала борьба (вплоть до
февраля 1822 г.) с мятежным правителем Янины (в
Албании) Али-пашой и война с Ираном, завершившая-
ся лишь в 1823 г. Ободренная тем, что Священный
Союз осудил греческое восстание, Порта планировала
расширение военных действий в Греции. Приходящийся
на этот период разрыв дипломатических отношений
между Портой и царским правительством ввиду нару-
шения Турцией прежних договоров с Россией еще бо-
лее осложнил международную обстановку. Английская
дипломатия, оказывая давление на Тегеран, Констан-
тинополь и Петербург, добилась прекращения войны
между Ираном и Турцией, восстановления отношений
между Турцией и Россией.
4
После поражения революции в Европе произошло
дальнейшее обострение восточного кризиса. В 1824—
1827 гг. Порта столкнулась с изменившейся и возрос-
шей активностью держав в борьбе за влияние в Греции.
Англия фактически признала временное правительство
Греции. К середине 1825 г. Россия уже не считала себя
связанной решениями Священного Союза, осуждавши-
ми греческое восстание. Англия, а позднее и Франция,
опасаясь самостоятельных действий со стороны царя,
были вынуждены пойти на соглашение с Россией (Пе-
тербургский протокол от 4 апреля 1826 г. и Лондонская
конвенция от 6 июля 1827 г.). Порта, нуждаясь в мир-
ной передышке, необходимой для проведения начатых в
1826 г. военно-административных реформ, заключила в
Аккермане (ныне Белгород-Днестровский) конвенцию с
Россией, урегулировавшую некоторые спорные вопросы.
В решении греческой проблемы Порта, однако, остава-
лась на прежних позициях. По этой причине мирная
передышка оказалась кратковременной. Период 1824—
1827 гг. завершился сражением соединенной англо-
франко-русской эскадры с турецко-египетской эскадрой
при Наварине и установлением блокады Алжирского
побережья Францией.
Основное содержание заключительного этапа восточ-
ного кризиса 20-х годов составила русско-турецкая вой-
на 1828—1829 гг. Накануне и во время войны Порта в
большей мере, чем на предшествующих этапах, рассчи-
тывала на противоречия между державами, а также
между Россией и Ираном. Султанское правительство,
надеясь ценой определенных уступок Англии и Франции
решить судьбу Греции без русского участия, стреми-
лось также к посредничеству западных держав в конф-
ликте с Россией.
Для этих лет характерна борьба в турецких прави-
тельственных кругах по вопросам определения внешне-
политического курса Османской империи. Отражением
напряженного внутреннего положения в стране явились
выступления трудового люда в Анатолии, заговор про-
тив султана в Константинополе, дальнейший рост сепа-
ратизма в отдаленных вилайетах. Адрианопольский мир
1829 г. подвел итог кризису 20-х годов. Начинался но-
вый этап в развитии Восточного вопроса.
Политика западных держав, а также России в пе-
5
риод восточного кризиса 20-х годов XIX в., особенно
война 1828—1829 гг., привлекли внимание как отечест-
венных, так и зарубежных исследователей. Вместе с тем
немало вопросов остаются невыясненными или освещен-
ными недостаточно. В связи с этим главным содержа-
нием данной работы, отнюдь не претендующей на исчер-
пывающий анализ всех проблем, составляет раскрытие
особенностей внутреннего и международного положения
Турции на завершающей стадии восточного кризиса в
связи с политикой держав, подготовка и заключение
Адрианопольского трактата, начало его реализации.
Основному тексту предпосылается вводная глава,
содержащая материал о развитии русско-турецких отно-
шений на первых двух этапах кризиса в 1821—1827 гг.
Датировка дается по новому стилю, для крупных собы-
тий дана датировка по мусульманскому летосчислению
(хиджре), применявшемуся в Османской империи. Ту-
рецкие собственные имена, названия и термины даны в
принятой в современной турецкой литературе тран-
скрипции. В нескольких случаях сохранена транскрип-
ция источников.
Считаю долгом выразить глубокую признательность
членам кафедры истории стран Ближнего Востока и
кафедры истории СССР Ленинградского университета, а
также сотрудникам Института востоковедения АН
СССР, которые своими советами и замечаниями помог-
ли подготовить работу к печати.
Приношу сердечную благодарность работникам
Центрального государственного военно-исторического
архива, Архива внешней политики России, Центрально-
го государственного архива древних актов, Центрально-
го государственного архива Военно-морского флота, От-
дела рукописей Государственной публичной библиотеки
им. Салтыкова-Щедрина, оказавшим большую помошь
в розыскании и подборке материалов исследования.
ВВЕДЕНИЕ
ВОСТОЧНЫЙ КРИЗИС И ОБОСТРЕНИЕ
РУССКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ
В КОНЦЕ 20-х ГОДОВ XIX в.
Подъем национально-освободительного движения
народов Балканского полуострова начался с восстания
в Греции. Будучи одной из наиболее передовых в хозяй-
ственном и культурном отношении областей Османской
империи, Греция в крайне неблагоприятных условиях
уже становилась на путь капиталистического развития.
Деспотические порядки турецких пашей — правителей
Греции в сочетании с безжалостным национальным гне-
том задерживали развитие производительных сил стра-
ны, тормозили дальнейшее формирование национальной
буржуазии1. «В самом деле, — писал Ф. Энгельс, — ту-
рецкое, как и любое другое восточное господство не-
совместимо с капиталистическим обществом; нажитая
прибавочная стоимость ничем не гарантирована от хищ-
ных рук сатрапов и пашей; отсутствует первое основ-
ное условие буржуазной предпринимательской деятель-
ности — безопасность личности купца и его собствен-
ности. Неудивительно поэтому, что греки, которые с
1774 г. предприняли уже две попытки восстания, вос-
стали теперь еще раз» 2.
Вооруженную борьбу за освобождение от иноземного
ига возглавила молодая торговая буржуазия. Органи-
зационную подготовку восстания осуществило тайное
революционное общество «Филики Этерия», созданное
греческими патриотами в Одессе еще в 1814 г. (В тече-
ние последующих лет организации этеристов, возник-
шие в эмиграции, стали действовать в пределах Осман-
ской империи). В марте 1821 г. один из руководителей
«Филики Этерии», генерал русской службы А. Ипсилан-
1
тй, переправился с небольшим отрядом сторонников че<
рез р. Прут на территорию Дунайских княжеств. К это-
му времени здесь уже развернулось широкое антиту-
рецкое движение, возглавляемое Т. Владимиреску.
Объединить усилия с повстанцами Ипсиланти не уда-
лось (сказалась явная недооценка им массового дви-
жения) 3. Его отряд вскоре потерпел неудачу, тем не ме-
нее толчок освободительному движению в самой Греции
был дан. В конце марта — начале апреля в северном и
южном Пелопоннесе вспыхнуло всеобщее восстание, к
маю охватившее континентальную Грецию и острова в
Эгейском море.
В середине апреля 1821 г. в Константинополе стало
известно о восстании. Султан Махмуд II призвал к ору-
жию всех мусульман империи. Христианскому населе-
нию было приказано сдать все имевшееся в его домах
оружие. В Дунайские княжества были посланы кара-
тельные янычарские отряды 4.
Дипломатический корпус в Константинополе с тре-
вогой ожидал дальнейших событий. Было известно, что
Порта опасается выступления России в поддержку сво-
их единоверцев и готова к ответным действиям. Столк-
новение Турции и России было нежелательно западным
державам, так как позволило бы царскому правитель-
ству оказать решающее влияние на ход событий в Гре-
ции.
Европейские дипломаты запросили Порту о характе-
ре ее дальнейших действий.
Реисулькюттаб (руководитель правительственной
канцелярии, ведавший одновременно отделом внешних
сношений) Хамид-бей попытался успокоить дипломатов,
заявив, что призыв мусульман к оружию не более чем
защитная мера в связи с вооруженным восстанием в Ду-
найских княжествах и Греции. Посланники интересова-
лись у русского представителя в Турции Г. А. Строга-
нова, было ли ему заранее известно о восстании греков.
«Барон Строганов отвечал, — говорилось в одном из
консульских донесений, — что возмущения греков не из-
вестны российскому двору и что оный примет меры со-
действия для усмирения бунтовщиков и для сохранения
взаимной дружбы между державами» 5.
Вскоре Порта получила донесение от пашей дунай-
ских крепостей о том, что «русских войск в княжествах
8
нет и Россия не участвует в действиях греков» 6. Опол-
чение в столице было разоружено и распущено по до-
мам. Однако в конце апреля 1821 г. (в 20-х числах ред-
жеба 1236 г. х.) состоялось заседание Дивана — кон-
сультативного совета высших духовных и светских са-
новников, после которого был опубликован султанский
хатт-и шериф (рескрипт), призывавший к «священной
войне» с восставшими.
В апреле — мае 1821 г. то стране прокатилась волна
жесточайших репрессий против христиан: только в сто-
лице и в Смирне было убито более 10 тыс. человек.
Полностью было уничтожено или (Продано в рабство на-
селение о-ва Хиос7. Разгрому подверглись греческие
кварталы в городах и селениях Анатолии, на островах
Эгейского, Ионического морей, где были расположены ту-
рецкие гарнизоны8.
Великий везир и некоторые сановники, проявлявшие
в свое время доброжелательное отношение к грекам,
получили отставку. Французский, прусский и голланд-
ский посланники, осуждая восстание, заняли выжида-
тельную позицию. Английский и австрийский посланни-
ки призывали турок поскорее покончить с «бунтовщи-
ками».
Враждебная позиция английских консулов в Греции
побудила руководителей народного восстания заявить
официальный протест9. Г. А. Строганов, предпринимая
ряд демаршей перед Портой, с тем чтобы прекратить
массовые репрессии, неизменно получал ответ: Порта
сама решит, как ей поступать с подданными. Когда
Строганов довел до сведения Порты указания из Петер-
бурга о том, что царское правительство осуждает гре-
ческое восстание и исключает генерала Ипсиланти из
списков русского офицерского корпуса, его заявление
было встречено с удовлетворением.
Греческое восстание явилось проверкой действитель-
ной верности Александра I принципам легитизма и со-
хранения статус-кво, нарушения которого так боялись
монархи. Русский царизм, напуганный размахом рево-
люционного движения в Европе, приближавшегося непо-
средственно к его владениям, а также крестьянскими
и солдатскими волнениями в самой России, поспешил
на Лайбахском конгрессе в мае 1821 г. подтвердить
свою преданность контрреволюционным принципам Свя-
9
щенного Союза, по существу признававшего право ту-
рецкого падишаха на защиту от революционных дви-
жений в своих владениях. «Что касается религии и
свободы Греции, — писал осенью 1853 г. К. Маркс,—
то Россия заботилась о них в то время (т. е. в период
восстания. — В. Ш.) так же мало, как мало в настоя-
щее время заботится бог православных о судьбе ключей
церкви „гроба господня" или знаменитого ,,купола“» 10.
Между тем, оказавшись перед лицом откровенной
враждебности со стороны всех европейских держав, ис-
пытывая серьезные внутренние затруднения, греческое
национально-освободительное движение продолжало
развиваться; от многовекового рабства освобождались
все новые греческие земли. Флот повстанцев блокиро-
вал прибрежные турецкие крепости, а в начале июня
1821 г. нанес тяжелое поражение турецкой эскадре.
К августу 1821 г. капитулировали турецкие гарнизоны
в Монемвасии и Наварине11. Порта, стремясь возможно
скорее оправиться с .восставшими, приняла ряд мер эко-
номического характера. Для греческих судов, которые
осуществляли навигацию, (используя флаги иностранных
государств, проливы были закрыты. Накануне восста-
ния около тысячи кораблей под русским флагом произ-
водили торговые перевозки в Черном и Средиземном
морях. Подавляющее большинство этих судов принад-
лежало грекам *.
* «Число приходящих к Одесскому порту кораблей,— писал со-
временник,— простирается от 500 до 600. Главнейшие флаги суть:
Российский, Австрийский, Английский и Итальянский, но Российский
принадлежит греческим судам, которым дано право употреблять
оный. Корабли, принадлежащие Одесскому порту и употребляемые
для перевозки товаров в иностранные государства и обратно, за ис-
ключением нескольких построенных в Херсоне, покупаются в портах
Архипелага, Адриатического и Средиземного морей. Купцы одесские,
равно как и других соседственных портов, имеют весьма незначи-
тельное количество своих собственных кораблей, ибо утвердительно
можно сказать, что большая часть плавающих по Черному морю под
Российским флагом и показываемых принадлежащими одесским 1-й
и 2-й гильдии купцам имеют настоящих хозяев в портах Архипелага
и Адриатического моря; что же касается до российских кораблей,
построенных в Херсоне и отправляемых в иностранные порты, что чи-
сло оных не превышает 10. Шкиперы и матросы кораблей, плаваю-
щих под Российским флагом в дальних морях, бывают по большей
части из уроженцев Архипелага и Адриатического моря» (Г. Н е-
болсин, Статистические записки о внешней торговле России, ч, I,
СПб., 1835, стр. 81-82).
10
Стремясь подорвать и греческое судоходство и рус-
скую торговлю в Леванте, Порта устанавливала прину-
дительные цены на хлеб, вывозившийся из русских пор-
тов; под предлогом пресечения ввоза оружия в Среди-
земное море корабли под русским флагом подвергались
принудительным досмотрам в проливах. Турецкая адми-
нистрация допускала многочисленные злоупотребления
в отношении судовых команд. Имели место случаи
убийств русских моряков. Русская средиземноморская
торговля и торговля с Османской империей несли убыт-
ки в сотни тысяч рублей. Ввиду полного запрещения
Портой греческого судоходства положение крайне ос-
ложнялось: ведь в руках греков находилась едва ли не
половина всего торгового оборота юга России. Эконо-
мическому развитию южных и центральных областей
России был нанесен серьезный удар 12. Демарши Стро-
ганова 13, требовавшего строгого соблюдения Кючук-
Кайнарджийского (1774 г.) и Ясского (1792 г.) догово-
ров, а также торговых трактатов, заключенных во ис-
полнение указанных договоров и касавшихся судоход-
ства через проливы *, успеха не имели.
Царское правительство было вынуждено защищать
свои интересы более действенным способом.
18 июля 1821 г. Г. А. Строганов направил Порте
ультимативную ноту, в которой содержалось требова-
ние в восьмидневный срок восстановить свободу судо-
ходства в проливах, вывести войска из Дунайских кня-
жеств и прекратить преследование не участвовавших в
восстании греков, возместить ущерб, нанесенный хри-
стианской церкви и т. п. На исходе восьмого дня,
26 июля, реисулькюттаб в устной форме сообщил дра-
гоманам русского посольства, что Порта готова испол-
нять договоры с Россией в полном объеме после очище-
ния княжеств от бунтовщиков и наказания виновных в
греческом восстании14. Сочтя ответ Порты (представ-
* Так, в ст. XXX соответствующего русско-турецкого торгового
трактата 1783 г. предусматривалось, что русским кораблям гаранти-
руется свободный проход через проливы: турецкая администрация
«обязуется... не чинить никакого препятствия таковым идущим кораб-
лям под Российским флагом»; «сии корабли, будучи нагружены то-
варами не для продажи в областях Порты, не должны быть подвер-
жены уже и малейшей остановке или осмотру, каким бы товаром
ни были они нагружены». (Т. Юзефович, Договоры России с Во-
стоком политические и торговые, СПб., 1869, стр. 137).
11
ленный также и в письменной форме) за отказ принять
ультиматум, Г. А. Строганов объявил об отъезде всего
штата посольства на родину 15.
4 августа 1821 г. Диван провел заседание с участи-
ем старост ряда эснафов — цехов. Поскольку эснафы не
только регламентировали турецкое производство, но и
оказывали серьезное влияние на организацию повсе-
дневной жизни своих членов — мусульманских ремес-
ленников, правительство через старост цехов определен-
ным образом формировало общественное мнение по тем
или иным вопросам. Как правило, это касалось войн с
иностранными державами или крупных восстаний под-
властных территорий. Так было и на сей раз. Собрав-
шимся рассказали о восстаниях в Дунайских княже-
ствах и Греции. Было принято воззвание к мусульман-
скому населению, в котором Россия была представлена
инициатором греческого восстания, направленного на
уничтожение Османской империи. В воззвании реши-
тельно отвергалась возможность обсуждения вопроса о
восстании с каким-либо государством 16.
Европейским наблюдателям в Константинополе ка-
залось, что вооруженное столкновение неизбежно.
В Лондоне, Вене, Париже высказывали опасения, что
Россия может объявить войну Турции и, следователь-
но, самостоятельно вмешаться в греческие дела. Во из-
бежание этого Англия и Австрия рекомендовали Порте
формально согласиться с русскими требованиями 17.
В Лондоне и Вене рассчитывали, что турецкая армия,
занятая в борьбе с мятежным Али-пашой Янинским,
вскоре освободится и вместе с войсками, переброшен-
ными из других провинций, покончит с греческим вос-
станием, исключив возможное вмешательство России.
Веронский конгресс Священного Союза (1822 г.),
следуя решениям конгрессов в Троппау (ноябрь 1820 г.),
и в Лайбахе (весна 1821 г.) о возможности применения
«принудительной силы» против революционных перемен
на территориях, сопредельных с союзными державами,
резко осудил греческое восстание, отказался принять
делегатов Греции и рассмотреть их обращение к конг-
рессу. В то же время благосклонно выслушивались речи
представителя Порты, уверявшего, что мятеж вот-вот
будет подавлен и виновных строго накажут 18. Игнори-
руя широкое общественное движение в России в под-
12
держку греческого восстания 19, Александр I подтвердил
свою верность феодально-монархическим принципам
Священного Союза. В августе 1822 г. статс-секретарь
И. А. Каподистрия, настаивавший на решительном рус-
ском вмешательстве в Греции, был удален в бессрочный
отпуск. Турецкое правительство было поставлено в из-
вестность об этой отставке через английского посла в
Константинополе. Порта сочла, что нет прямой угрозы
вмешательства России в греческое восстание, и начала
отводить войска из Дунайских княжеств. В Константи-
нополе высказывалось мнение, что нужно избежать
вмешательства третьей стороны при будущем обсужде-
нии собственно русско-турецких разногласий. Стало
известно, что к лету 1823 г. Порта восстановит нару-
шенную навигацию в проливах. В правительственных
кругах Турции, очевидно, находила понимание позиция
царского правительства, считавшего в тот период, что
русско-турецкий конфликт необходимо отделить от гре-
ческого вопроса, решаемого согласованными мерами ев-
ропейских держав.
Взаимоотношения Порты с Россией усугублялись
сложной ситуацией, возникшей в результате турецко-
иранской войны 1821 —1823 гг. Войска султана потерпе-
ли поражение в Восточной Анатолии и в Ираке. Анг-
лия, активизировавшая в 1818—1823 гг. экспансию в
зоне Персидского залива и на юге Аравийского полу-
острова, хотя и заняла в целом протурецкую позицию,
каких-либо решительных действий не предпринимала.
Царское правительство оказало поддержку Ирану, пре-
доставив выгодный заем для закупки оружия 20. Русско-
иранское сближение вызвало опасения не только Тур-
ции, но и Англии, представители которой с начала
1823 г. стремились всячески содействовать восстановле-
нию мира между воюющими сторонами 2I.
В интересах Турции, конечно, было добиться хотя бы
некоторого смягчения напряженных отношений с Рос-
сией, и это было достигнуто к середине 1823 г. В то же
время своеобразная пауза конца 1822—середины 1823 г.,
когда Порта еще не предприняла широкого наступления
против повстанцев в Пелопоннесе, а Россия еще не ста-
ла инициативной силой в решении греческого вопроса,
была использована новым руководителем внешней по-
литики Англии (с 1822 г.) —Джорджем Каннингом.
13
В правящих кругах Великобритании было принято
решение активизировать политику на Ближнем Востоке.
Лондонский кабинет, преследуя цель перехватить ини-
циативу у других держав, главным образом у России,
в решении греческого вопроса, признал повстанцев
воюющей стороной, что позволило Англии оказывать
более широкое политическое и экономическое воздейст-
вие на восточный кризис в целом22.
Некоторый поворот <в сторону более действенного ре-
шения всего круга ближневосточных проблем наметился
и в политике России. В октябре 1823 г. последняя до-
стигла соглашения с Австрией о созыве конференции
пяти европейских держав по греческому вопросу. Авст-
рия, кроме того, обязывалась воздействовать на Порту
в целях последовательного выполнения Турцией догово-
ров с Россией23. Западным державам тогда же было
сообщено, что в Петербурге не удовлетворены замедлен-
ным ходом переговоров по торговым вопросам, которые
от имени царского правительства вел в Константинопо-
ле английский посол Стрэдфорд Каннинг. Петербург ре-
шил направить в Турцию М. Минчаки, бывшего консула
России в Яссах, с полномочиями урегулировать разно-
гласия экономического характера. Другим проявлением
роста активности русской восточной политики была под-
готовка к проведению в Петербурге международной
конференции держав по Восточному вопросу.
В ноябре 1823 г. царское правительство выработало
проект «умиротворения Греции», известный под назва-
нием «Мемуар 9 (21) января 1824 г.». В проекте преду-
сматривалось создание трех автономных греческих кня-
жеств, предоставление им внутреннего самоуправления
и собственного судопроизводства, а также права вести
торговлю под своим флагом. На островах Архипелага
предполагалось введение муниципального управления 24.
Поскольку отвергалась возможность создания в Греции
независимого государства, подобный вариант должен
был устроить Англию и Австрию. В мае 1824 г. этот
секретный документ появился в европейской прессе. Его
содержание стало известно в Греции и Турции и вызва-
ло глубокое недовольство как среди греческих патрио-
тов, видевших в нем удар по идее национального воз-
рождения Эллады, так и в правящих кругах Османской
империи, усмотревших в проекте определенное вмеша-
14
тельство держав в ее внутренние дела. Ввиду очевидных
разногласий между Россией, Австрией, Пруссией и
Францией Петербургская конференция успеха не имела
(английский представитель, присутствовавший на пер-
вых двух заседаниях, в дальнейшем в ее работе не уча-
ствовал).
Идея коллективного решения Восточного вопроса,
однако, продолжала владеть умами европейских дипло-
матов. 4 апреля 1826 г. в Петербурге Веллингтон и Нес-
сельроде подписали протокол о совместном посредни-
честве Англии и России в греко-турецкой войне на ос-
нове признания Эллады автономной областью, находя-
щейся под суверенитетом Османской империи. Протокол
гарантировал предоставление грекам свободы торговли,
собственности, права выкупа земель у турецких владе-
телей. Третий параграф протокола предусматривал в
случае несогласия султана возможность принимать при-
нудительные меры в отношении Турции при общем или
единичном участии «договаривающихся сторон» 25.
В середине апреля Диван обсуждал два документа:
Петербургский протокол от 4 апреля и ультимативную
ноту царского правительства от 17 марта 1826 г., от-
правленную еще до подписания указанного выше про-
токола. Нота требовала восстановления автономии Ду-
найских княжеств, строгого исполнения постановления
Бухарестского договора о внутреннем самоуправлении
Сербии 26. В ноте предлагалось, кроме того, провести в
шестинедельный срок переговоры о выполнении всех ра-
нее заключенных русско-турецких соглашений. Относи-
тельно первого документа новый реисулькюттаб Пер-
тев-паша заявил, что османское правительство считает
его пустой бумажкой и не допустит вмешательства в
любые дела, касающиеся христианских подданных сул-
тана. В отношении русской ноты было принято решение
выслать в Аккерман представителей для переговоров.
Переговоры в Аккермане, состоявшиеся с июля по
октябрь 1826 г. и завершившиеся подписанием конвен-
ции, обеспечили Турции известную передышку. В под-
писанном документе отразилось стремление обеих дер-
жав избежать военного конфликта и закрепить суще-
ствовавшее до 1821 г. положение. Порта согласилась
строго выполнять все прежние соглашения с Россией.
Речь шла прежде всего о полной свободе русского судо-
15
ходства в водах Османской империи (ст. 7). Подтверж-
дались также привилегии Сербии и Дунайских княжеств
(Особый акт, ст. 3 и 5). Турция признала разграничи-
тельную линию на Дунае, разработанную в 1817 г. со-
гласно условиям Бухарестского мира 1812 г., и прекра-
тила длившийся 14 лет спор о некоторых пунктах на
Черноморском побережье Кавказа. Посланник России
должен был вернуться в Константинополь.
В период подготовки и заключения Аккерманской
конвенции во внутренней жизни Османской империи
происходили важные события, в немалой степени опре-
делявшие позицию турецкой дипломатии: подготовка
окончательного подавления греческого восстания и унич-
тожение войска янычар.
Не справившись силами иррегулярной армии с гре-
ческими повстанцами, в январе 1824 г. Махмуд II достиг
соглашения с номинально вассальным, но независимым
на деле правителем Египта Мухаммедом Али о посылке
в Грецию экспедиционного корпуса, который состоял из
хорошо обученных регулярных войск, имевших опыт
борьбы с национальными восстаниями в других областях
Османской империи27. Мухаммед Али выдвинул усло-
вие: кроме Крита (Кандии), находившегося под его
фактическим контролем с 1822 г., Морея (Пелопоннес)
должна перейти под контроль Египта вплоть до окон-
чательного подавления восстания 28.
В феврале 1825 г. воинский контингент под коман-
дованием Ибрахим-паши, сына правителя Египта, выса-
дился на юго-западе Пелопоннеса. К июлю 1826 г. при
поддержке турецких войск Ибрахим-паша овладел боль-
шей частью Морей 29. Карателям противостояли герои-
чески сражавшиеся, но плохо вооруженные, а главное,
раздираемые внутренними противоречиями, разрознен-
ные группы повстанцев.
Греческие руководители искали выход не в органи-
зации и сплочении своих отрядов, а в поддержке извне,
дополнительно давая Порте основание говорить о борь-
бе с вмешательством держав во внутренние дела импе-
рии. Так, в августе 1825 г. руководители повстанцев об-
ратились к Дж. Каннингу с просьбой установить над
Грецией английский протекторат, но встретили отказ.
Имелись предложения передать управление Грецией то
французскому, то немецкому принцу, объявить консти-
16
туцию, подобно действующим в латиноамериканских
республиках, и т. п. Аккерманская конвенция возродила
надежду на помощь со стороны России. Избранный в
апреле 1827 г. правителем Греции И. Каподистрия с
согласия ряда руководителей повстанческого движения
официально обратился в Петербург с просьбой о под-
держке30. В том же, 1827 г. турецко-египетское коман-
дование рассчитывало завершить разгром греков.
В Константинополе полагали, что восстановление
прежних порядков в Элладе может быть использовано
для укрепления материальной базы задуманной рефор-
мы — создания регулярной армии, а также в плане под-
держания международного и внутреннего авторитета
Махмуда П. Последнее обстоятельство было немало-
важным в связи с обвинениями со стороны мусульман-
ской реакции в адрес падишаха-реформатора, отступ-
ника от вековых традиций.
29 мая 1826 г. Махмуд II подписал указ о создании
регулярного пехотного корпуса, который должен был
постепенно заменить янычарское войско, уже давно ут-
ратившее боеспособность.
Неудачное восстание янычар ускорило ход событий.
В середине июня 1826 г. были обнародованы султан-
ские указы о ликвидации корпусов янычар и близких
им по положению формирований конницы, состояв-
ших на жалованье двора. Создавалась новая регулярная
армия (пехота и кавалерия) под командованием Ага
Хюсейн-паши, будущего участника войны 1828—1829 гг.
В июне —августе 1826 г. было упразднено пользовав-
шееся особым влиянием среди городского люда мусуль-
манское религиозное братство бекташей, своего рода
духовных вожаков янычарской вольницы. Были распу-
щены эснафы носильщиков, лодочников и пожарных,
связанные с янычарами 31.
Тысячи реальных 'и предполагаемых противников но-
вовведений были уничтожены (прежде всего восстав-
шие янычары) или высланы из столицы. Махмуд II сто-
ял перед серьезными внешнеполитическими проблемами
и считал необходимым укрепить армию, очистить Кон-
стантинополь и ближайшие пригороды от недовольных,
которые могли, как это было не раз в прошлом, восполь-
зоваться подходящим моментом для антиправитель-
ственного выступления.
2 Зак. 851.
17
Ценой больших усилий начиналась военная рефор-
ма, которая должна была содействовать созданию со-
временной регулярной армии, способной обеспечить ин-
тересы феодально-деспотического режима в условиях
роста национально-освободительных движений и обо-
стрения соперничества держав за влияние на османское
правительство.
Претворить в действительность указы о создании ре-
гулярной армии можно было, лишь сохранив хотя бы
на время мир на границах, — эту возможность предо-
ставляла Аккерманская конвенция. Передоверив еги-
петским войскам преимущественную инициативу в по-
давлении греческого движения, Порта полагала, что от-
сутствие в Аккерманской конвенции специальной статьи
о Греции следует расценивать как русское обязатель-
ство не вмешиваться в греческий вопрос (именно в этом
смысле представитель Порты Садык-эфенди отвечал
новому русскому посланнику А. И. Рибопьеру, заявив-
шему в феврале 1827 г., что в его функции входит точ-
ное исполнение конвенции и реализация плана умиро-
творения Греции) 32.
Однако оба вопроса—и собственно русако-турецкие
проблемы, п судьба Греции — рассматривались в Петер-
бурге 'в большей взаимосвязи, чем в первые годы грече-
ского восстания. Это обстоятельство прекрасно учиты-
валось на Западе, хотя Порта его не сознавала или
не хотела сознавать. В Константинополе подчеркива-
ли, что Порта видит возможность урегулирования рус-
ско-турецких отношений, не затрагивая греческого
вопроса. В столицах западных держав полагали, что
определенную настойчивость императора Николая I в
восточных делах и рост влияния России на Балканах
можно парализовать заключением нового соглашения о
Греции.
Лондонская конвенция, подписанная 6 июля 1827 г.
представителями Англии, Франции и России 33, явилась
важной вехой на пути решения греческого вопроса. Она
представляла собой сокращенную редакцию Мемуара
9 января 1824 г. и Петербургского протокола 1826 г.
В ней предусматривались посреднические шаги в конф-
ликте греков с Портой. Речь шла о следующих услови-
ях: 1) уплате греками ежегодной подати султану, т. е.
признании ими зависимости от турецких властей;
18
2) признании султаном внутреннего самоуправления
греков в пределах империи; 3) предоставлении грекам
права выкупа турецкой собственности на своей терри-
тории. Особую, секретную статью, предложенную рус-
ской стороной и предусматривавшую применение «край-
них мер» против Порты в случае ее отказа от посред-
ничества трех держав и намеренной переброски, в целях
подавления христианских подданных, «в Грецию и на
Архипелаг всякого подкрепления людьми, оружия или
египетских и турецких кораблей», министр иностранных
дел Англии Дж. Каннинг трактовал как «мирное вме-
шательство, подразумевающее дружественную демонст-
рацию силы»34. Как писал К. Маркс, британские го-
сударственные деятели в те годы «отнюдь не предусмат-
ривали создания независимого королевства Греции, а
лишь хотели создать вассальное государство под сюзе-
ренитетом Порты, что-нибудь наподобие Валахии и
Молдавии»35.
16 августа 1827 г. посланники союзных держав до-
вели до сведения Порты содержание Лондонской кон-
венции. Османская империя отвергла предложенные
условия. 31 августа реисулькюттаб Пертев-паша заявил
драгоманам посольств Англии, Франции и России:
«Наш ответ таков, что Высокая Порта не может и ни-
когда не сможет согласиться выслушивать что-либо в
пользу греков. Настоящее заявление твердое, безогово-
рочное и окончательное... Высокая Порта не принимает
никакого предложения, касающегося греков... и поста-
рается защитить свои интересы собственными си-
лами» 36.
Упорный отказ Турции от переговоров и расширение
ею боевых действий против повстанцев вынудили уча-
стников Лондонской конвенции практически применить
секретную статью. 20 октября 1827 г. в Наваринском
сражении союзные эскадры разгромили флот Осман-
ской империи37.
А. Джевдет и, повторяя во многом А. Джевдета,
А. Расым считали, что огонь по турецкому флоту был
открыт без всякого повода 38. Бой велся, писал А. Лют-
фи, официальный придворный историограф 20-х годов,
вопреки всем правилам морских сражений39. По мне-
нию современного турецкого ученого Э. 3. Карала, при-
чиной сражения послужило появление трех эскадр
2*
19
союзных держав в Наваринской бухте, где стоял осман-
ский флот 40.
На самом деле приход союзных эскадр отнюдь не
был неожиданным для Ибрахим-паши, командовавше-
го объединенным османским флотом. В течение почти
четырех месяцев английские и французские корабли
находились вблизи Наваринской бухты, опорной базы
османских войск в Греции.
В начале сентября 1827 г. командующий английской
эскадрой адмирал Кодрингтон пытался удержать Мухам-
меда Али от посылки египетской эскадры к Наварину
или по крайней мере от участия в сражении. Сражение
не явилось неожиданностью для османского командова-
ния уже потому, что Кодрингтон и французский адми-
рал де Риныи дважды (в сентябре и октябре 1827 г.)
предлагали Ибрахим-паше прекратить высадку войск в
бухте41.
Если Кодрингтон и де Риныи, выполняя указания
своих правительств, делали все возможное, чтобы избе-
жать столкновения с османским флотом, то адмирал
русской эскадры Л. П. Гейден имел четкие предписания
препятствовать подвозу в Грецию новых корабельных
войск и снаряжения для них в крайнем случае силами
одной своей эскадры, даже без участия двух других
союзных эскадр 42. Подобная тактика вполне отвечала
духу и букве Лондонской конвенции. 20 октября 1827 г.
три союзные эскадры вошли в Наваринскую бухту. Ма-
невр был предпринят по предложению Л. П. Гейдена и
М. П. Лазарева, и на долю русских моряков выпала
главная тяжесть сражения, начавшегося выстрелами с
турецкой эскадры 43.
В бою было уничтожено около 60 кораблей турецко-
египетского флота: все крупные и более половины вспо-
могательных 44. Представлялась возможность оказать
силами союзников реальную помощь греческому народу.
Однако уже 21 октября адмиралы английской и фран-
цузской эскадр письменно заверили Ибрахим-пашу, что
не имеют намерения уничтожать остатки турецко-еги-
петского флота. В тот же день Кодрингтон вывел анг-
лийскую эскадру из бухты. Известно также, что анг-
лийское правительство, «с прискорбием отзываясь об
уничтожении османского флота», поспешило направить
своему послу в Константинополе предписание заявить
20
султану о том, что Англия не будет продолжать воен-
ные действия против Османской империи 4S.
2 ноября 1827 г. посланники Англии и Франции вы-
разили реисулькюттабу сожаление по поводу Наварин-
ского сражения и заверили его в мирном расположении
своих правительств. В ответ Пертев-паша потребовал
от имени Порты прекращения всякого вмешательства
держав во внутренние дела Турции, а также материаль-
ного возмещения убытков, понесенных в связи с ги-
белью флота46. В Константинополе не верили в воз-
можность дальнейших акций союзников, но после собы-
тий 20 октября правительства Англии и Франции вы-
нуждены были продолжать совместные, хотя бы дипло-
матические демарши в пользу Греции. В течение всего
ноября 1827 г. посланники трех держав вели согласо-
ванные переговоры с Портой в отношении исполнения
условий Лондонской конвенции. Поскольку Порта за-
нимала прежнюю негативную позицию и отвергла
ультимативную ноту держав от 2 декабря 1827 г. о не-
медленном заключении перемирия с греками, посланни-
ки Англии, Франции и России прервали переговоры.
8 декабря Стрэтфорд Каннинг и Гильемино покинули
Константинополь, предварительно сообщив Пертев-паше
в неофициальной беседе, что их отъезд не означает
объявления войны и не повлечет дальнейших осложне-
ний в отношениях Порты с Лондоном и Парижем47.
Спустя несколько дней выехал и посланник России
А. И. Рибопьер. После разрыва дипломатических отно-
шений с Петербургом Порта вновь установила ограни-
чения для русской торговли. Запрет вывоза пшеницы
из черноморских портов, принудительная распродажа
хлеба с русских судов в Константинополе, ограниченный
пропуск через проливы судов, которые направлялись в
Черное море, выселение русских торговцев — все это
означало, что Турция фактически отказалась от испол-
нения всех торговых соглашений с Россией. Глубокую
озабоченность по поводу растущих убытков, которые
несла южнорусская торговля, Нессельроде неоднократ-
но выражал в депешах своим представителям за рубе-
жом. Он писал, что для России прежде не было «ни
более важного, ни более тесно связанного с ее непо-
средственными интересами дела, каким являются... ее
настоящие разногласия с Портой»48.
21
Выступая с заявлениями о необходимости положить
конец злодеяниям турок в Греции, царская дипломатия
помимо приобретения политического капитала на Бал-
канах стремилась защитить и торговые интересы соб-
ственной страны. Так, еще в январе 1824 г. Нессельро-
де писал русскому послу в Лондоне X. А. Ливену:
«В течение тридцати лет греки были наиболее полезны-
ми агентами нашей торговли в Черном море. Если
революция продолжится, то наши торговые связи с гре-
ками будут, несомненно, прекращены. Если турки усми-
рят Грецию, то всякий, кто задумается над результата-
ми победы, которой достигли бы османы, согласится с
тем, что эти торговые связи неизбежно будут уничто-
жены и ликвидированы»49. Фактический отказ Порты
придерживаться своих договорных обязательств и реаль-
ная перспектива подавления греческого движения ста-
вили под угрозу самые насущные экономические и по-
литические интересы России в Восточном Средиземно-
морье и на Балканах50.
На первой неделе джумадаульахыра 1243 г. х. (в
20-х числах декабря 1827 г.) Махмуд II обратился к
своим подданным-мусульманам с бэян-наме — воззва-
нием 51, в котором говорилось, что Россия, организовав-
шая греческое восстание, виновна во многих трудностях,
постигших Османскую империю. Султан объявил, что
подписанная по его приказу Аккерманская конвенция,
будучи передышкой для империи, свое назначение вы-
полнила и не считается более действующей. Все мусуль-
мане призывались быть готовыми к джихаду — священ-
ной войне с неверными; с кем именно — не уточнялось.
Было очевидно, кто этот потенциальный противник.
Одновременно был заготовлен еще один документ —
послание великого везира от 23 джемазиульэввеля
1243 г. х. (12 декабря 1827 г.) к вице-канцлеру Рос-
сии52. Вновь, как и в 1821 г., ответственность за разрыв
турецко-русских отношений попытались возложить на
посланника России. Великий везир Мехмед СеЛим-паша
писал К. В. Нессельроде, что Аккерманский договор
укрепил узы дружбы и доброго согласия между обеи-
ми странами, что русскому посланнику А. И. Рибопьеру
оказывали в Константинополе почет и уважение даже
тогда, когда он поддержал предложения, направленные
во вред Османской империи. Далее, великий Ьезир об-
22
винял А. И. Рибопьера в том, что тот «не хотел бес-
пристрастно прислушиваться к доводам Великой Порты
и отказывался довести до сведения своего правитель-
ства истинные мотивы, которыми руководствовалась
Порта; самостоятельно и вопреки воле Османского пра-
вительства он покинул Константинополь». В заключе-
ние Мехмед Селим-паша выражал надежду, что русский
посланник поступил самовольно, и утверждал, что вся
ответственность лежит на самом Рибопьере.
Получив в середине января 1828 г. письмо великого
везира, К. В. Нессельроде не спешил с ответом. Вопрос
о войне с Турцией царским правительством был уже
решен. Предложения России о занятии Дунайских кня-
жеств от имени союзных держав 53, отвергнутые Лондо-
ном, были лишь данью союзническому долгу. В той
части депеши от 6 января 1828 г., которая предназнача-
лась непосредственно русскому послу в Лондоне
X. А. Ливену, К. В. Нессельроде писал о том, что Пор-
та заносит русских подданных в особые реестры и не
дает им возможности закончить свои дела в Турции или
обратиться к защите дружественного посольства, что
русских купцов заставляют продавать пшеницу на две
трети ниже стоимости, постоянно обыскивают и задер-
живают суда под русским флагом. Давая оценку пози-
ции России и европейских держав в отношении черно-
морской торговли и в Восточном вопросе в целом, вице-
канцлер писал, что для «Франции и Англии свобода
навигации в Черном море — объект удобства, для Рос-
сии — необходимость»; для первых свобода торгового
судоходства через Босфор может дать большие или
меньшие выгоды; для второй — это жизненный вопрос;
для западных держав затруднения, испытываемые их
коммерцией, — оправданный повод для жалоб; для Рос-
сии — угроза уничтожить «всё производство и все сред-
ства обмена части ее провинций»; наконец, для Англии
и Франции разрыв отношений с Портой может нару-
шить некоторые их интересы; для России разрыв ослож-
нит развитие ее связей с Дунайскими княжествами, с
Сербией, с населением Закавказья 54.
19 января 1828 г. Нессельроде сообщил адмиралу
Л. П. Гейдену в секретной депеше, что войну с Турцией
решено начать в конце марта. 26 февраля Ливену была
направлена для передачи британскому кабинету нота 55,
23
в которой говорилось, что Россия будет действовать не-
зависимо от хода переговоров по Восточному вопросу в
Лондоне. Предлагалось предпринять совместные дейст-
вия, но с учетом того, что движение русских войск уже
не будет остановлено. Если державы решительно под-
держат Россию, то она будет действовать в рамках
Лондонской конвенции. В противном случае постанов-
ления конвенции Россия будет проводить в жизнь по
своему усмотрению.
Обмен посланиями, который в феврале—марте
1828 г. имел место между министрами иностранных дел
России и Англии, подтвердил глубокие разногласия
между этими странами в отношении умиротворения
Греции и применения санкций против Порты56. Фран-
ция занимала позицию, в целом благожелательную к
России. Австрия стремилась не допустить русско-турец-
кой войны, опасаясь революционного взрыва среди сво-
их славянских подданных и нарушения не в пользу
Австрии сложившегося в Европе равновесия сил 57.
* * *
В официальных нотах и устных заявлениях своих
дипломатических представителей в Лондоне и Париже
царское правительство настаивало на практическом ре-
шении греческого вопроса. Оно предоставляло грекам
субсидии и оружие, в марте 1828 г. Ливен внес на рас-
смотрение великих держав предложение о совместном
предоставлении крупных займов греческому правитель-
ству 58.
Однако теперь уже судьба Греции должна была ре-
шаться на полях сражений, а не в кабинетах европей-
ских дипломатов. 26 апреля 1828 г. Россия объявила
войну Османской империи.
Во второй половине апреля 1828 г. царское прави-
тельство направило Порте и распространило в Европе
Декларацию о войне. В этом документе говорилось, что
Россия стремится прежде всего возобновить прежние
соглашения с Турцией и содействовать проведению в
жизнь условий Лондонской конвенции. В Декларации
перечислялись многочисленные нарушения Портой «пре-
имуществ, присвоенных русскому флагу»59, которые
привели «к остановлению всякого движения торговли в
24
Черном море. Цветущие сею торговлею города наши
терпят разорительные убытки, и весь полуденный край
империи лишается единственного пути для сбыта своих
произведений, единственного средства выгодными про-
менами умножать свои богатства и оживлять промыш-
ленность жителей».
Нарушение льгот и преимуществ Молдавии и Вала-
хии, вторжение турецких войск в Сербию, домогатель-
ства Порты пересмотреть азиатские границы, поощрение
работорговли на Черноморском побережье Кавказа, по-
кровительство мятежным горским племенам, антирусские
интриги в Иране — таковы, по Декларации, доказатель-
ства того, что правительство турецкое «решилось рас-
торгнуть узы связующих его с Россией трактатов».
В Декларации далее говорилось о Лондонской кон-
венции как о средстве достижения мира: «Предначер-
танными в сем трактате мерами соглашаются права и
желания народа злосчастного с целостью, с спокойст-
вием, с истинным благом Турецкой империи». Порта,
однако, отвергла всякое посредничество, «пренебрегла и
сии советы и предостережения». Все старания предста-
вителей европейских держав убедить Порту в необходи-
мости примирения с греками пбсредством взаимных со-
глашений и «благоразумных, не тягостных уступок»
успеха не имели. «На сии представления, на сии усилия
доброжелательства правительство турецкое отвечало
своим воззванием к народу 20 декабря и принятием
мер, из коих каждая есть нарушение договоров и прав
России».
В заключительной части Декларации царское прави-
тельство выдвинуло свои условия будущего мира с Тур-
цией. «Сие (турецкое.— В. Ш.) правительство должно
быть обязано удовлетворить Россию за убытки от войны
и за убытки торгующих подданных его императорского
величества. Государь император предпринимает сию
войну для необходимого охранения трактатов, нару-
шенных, как бы не признаваемых Портой; успехи оной
должны на будущее время обеспечить надежными ру-
чательствами действительность и точное исполнение
договоров. Наконец, сей войны требуют важнейшие
пользы черноморской торговли, коей благосостояние за-
висит от свободы сообщений через Босфор, и одним из
предметов усилий и попечения России будет открытие
25
свободного плавания в Босфоре всем народам Ев-
ропы» 60.
Россия спешила уверить своих союзников в том, что
она «не имеет ненависти к сей державе, не умышляет
ее разрушения. Россия не имеет и видов честолюбия;
довольно предметов для заботливой попечительности ее
правительства в обширных странах, ему подвластных.
Объявляя войну Порте, — говорилось в Декларации, —
по особенным, не имеющим связи с трактатом 6 июля
(т. е. Лондонской конвенцией. — В. Ш.) причинам, оно
не отступает от постановлений сего договора... Союзни-
ки ее всегда найдут в ней готовность вместе с ними
изыскивать средства для исполнения положений Лон-
донского трактата» 61.
Декларация заканчивалась заявлением о решимости
императора Николая I «не покидать оружия, доколе
безопасность и пользы державы его не будут обеспече-
ны на основаниях, в сей декларации означенных».
Условия будущего мирного договора России с Тур-
цией были изложены в письме К. В. Нессельроде вели-
кому везиру Мехмед Селим-паше от 26 апреля 1828 г.62,
т. е. в день публикации Манифеста и Декларации о вой-
не. Отвечая на письмо великого везира от 12 декабря
1827 г., Нессельроде отметал всякие сомнения в том,
что русский посланник действовал вопреки воле своего
правительства. «Османское министерство совершило бы
тяжелую ошибку, — писал он, — полагая, что поведение
посланника Рибопьера в Константинополе не было це-
ликом и полностью одобрено е.и.в-вом»63. Нессельроде
разъяснял далее, что посланник России выражал точку
зрения императора, который стремился к восстановле-
нию порядка и безопасности в торговле, умиротворению
Греции и миру в Европе. Подчеркнув, что русские
войска направлены в Дунайские княжества для того,
чтобы «добиться удовлетворения законных претензий»,
вице-канцлер уведомлял великого везира о готовности
приступить к мирным переговорам 64. «Если бы уполно-
моченные е. в. султана появились в главной квартире
главнокомандующего русскими армиями, они бы встре-
тили там самый хороший прием, лишь бы Порта на-
правила их с чистосердечными намерениями обновить
и сделать действенными договоры, которые связывают
обе империи, примкнуть к постановлениям, предусмот-
26
ренным договором (имеется в виду Лондонская кон-
венция.— В. Ш.) 6 июля 1827 г. между Россией, Анг-
лией и Францией, навсегда предотвратить повторение
тех актов, которые представляют е. и. в-ву оправданные
побуждения к войне, наконец, компенсировать русским
купцам убытки, причиненные действиями Османского
правительства, равно как и издержки настоящей вой-
ны, которые умножатся ввиду продолжения враждеб-
ных действий. Император не смог бы приостановить
военные действия во время переговоров, которые тогда
открылись бы, но он убежден в силу скромности своих
намерений, что они имели бы результатом заключение
прочного мира — цели его самых горячих желаний»65.
По существу письмо повторяло основные положения
Декларации.
В конце апреля 1828 г. Нессельроде сообщил прави-
тельствам европейских держав, что в основу мирного
договора с Портой будут положены следующие условия:
присоединение Анапы и Поти, урегулирование границы
на Дунае, срытие турецких крепостей по Дунаю, под-
тверждение привилегий Молдавии, Валахии и Сербии,
восстановление всех прав русской торговли и проход
русских судов через Босфор, «умеренная контрибуция»,
«умиротворение Греции»66.
Таким образом, основные условия мирного договора
с Турцией были обнародованы Россией в самом начале
войны. Объявление условий мира с Турцией и завере-
ния, данные российскими представителями за границей,
об умеренности требований к Турции должны были, по
мнению царского правительства, приглушить недоволь-
ство Англии и Австрии войной, начатой Россией во имя
достижения своих целей. В Петербурге, кроме того,
надеялись, что французское правительство будет твер-
до придерживаться союза с Россией, а Лондон не пред-
примет без поддержки Парижа никаких акций против
нее67. Туркманчайский мир, подписанный 22 февраля
1828 г. между Россией и Ираном, разрушил надежды
Порты на затягивание русско-иранской войны 68 и осво-
бодил Россию от серьезных затруднений на кавказской
границе.
Главнокомандующий 2-й армией П. X. Витгенштейн
заранее получил указания о занятии княжеств и пере-
несении действий за Дунай. Осуществляя несовершен-
27
ный стратегический план начальника Главного шта-
ба И. И. Дибича69, 7 мая 1828 г. 2-я армия перешла
Прут и двинулась на Яссы, Бухарест и на турецкие
укрепления в Галаце, Браилове и Слободзее. Главно-
командующий Отдельным Кавказским корпусом
И. Ф. Паскевич получил предписание отвлечь на себя
турецкие войска в Малой Азии и в июне 1828 г. пред-
принял наступление на Карс и Ахалцих 70. Война нача-
лась.
ГЛАВА I
ТУРЦИЯ В ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
1828-1829 гг.
Внутреннее положение в стране
в период военных действий
Манифест царского правительства о войне и письмо
Нессельроде великому везиру от 26 апреля были полу-
чены в Константинополе через посланников Австрии и
Голландии 12 мая 1828 г. 14 мая была получена Дек-
ларация а 15 мая стало известно, что русские войска
перешли Прут.
В мечетях и на рынках города было прочитано из-
вестие о войне с Россией и воззвание Махмуда II к му-
сульманам: падишах призывал правоверных к защите
родины и веры.
А. Слейд, Ч. Макфарлан и другие путешественники,
находившиеся весной 1828 г. в Османской империи, пи-
сали, что мусульманское население отнеслось к войне
с крайним безразличием2. Хотя Слейд и Макфарлан
писали на основе своих первых впечатлений от посеще-
ния только двух городов — Смирны и Константинопо-
ля — и видели только внешние проявления реакции ту-
рецкого населения на события, заметки их представляют
для нас несомненный интерес.
«Полная бездеятельность и явное благодушие Цари-
ли среди всех групп населения (Константинополя.—
В. Ш.), — писал А. Слейд. — Султан ежедневно забав-
ляется стрельбой из лука, его стража настроена совер-
шенно беспечно, забыв даже, что они должны упраж-
няться... Ничто в городе не напоминало, что идет вой-
на»3. Такова, по мнению Слейда, была первая реакция
жителей столицы на вести о войне с Россией. В середи-
не мая 1828 г. в Смирне и Галлиполи стало известно,
29
что русские перешли Прут и заняли Дунайские княже-
ства.
Ч. Макфарлан, находившийся в Турции в апреле —
июле 1828 г., отмечал, что население встретило и это
известие с полным безразличием. «По моим собствен-
ным наблюдениям, — писал он, — и по мнению людей,
с которыми я встречался, я могу утверждать, что в это
время среди турок царило общее уныние. Массы ожи-
дали событий с невозмутимой бесстрастностью» 4. Объ-
яснить это, видимо, можно тем, что война для турок не
явилась неожиданностью — ее ожидали еще с 1821 г.
Более того, по мнению значительной части турецкого
общества, война началась в декабре 1827 г., когда уеха-
ли посланники европейских держав5 и в мечетях было
прочитано упоминавшееся воззвание султана. После де-
кабря 1827 г. турецкое правительство не ограничилось
формальным призывом падишаха к правоверным 6. На-
ряду с военными приготовлениями Порта предприняла
ряд дипломатических демаршей, которым придавалось
большое значение.
Как писал А. Лютфи, вскоре после отъезда послов
были ускорены строительные работы в пограничных
крепостях, спешно чинили уцелевшие после Наварин-
ского сражения корабли и заложили несколько новых7.
В отдаленные области направлялись ферманы о приве-
дении армии в боевую готовность. Укреплялись форты
на берегах Босфора и Дарданелл, устанавливались но-
вые батареи, вводились гарнизоны из регулярных ча-
стей 8.
В последних числах декабря 1827 г. паша Сили-
стрии, он же командующий войсками на Дунае, получил
султанский ферман. «После нарушавших честь и до-
стоинство престола переговоров о греках европейские
посланники покинули столицу, — говорилось там. —
Хотя они и заявили, что это не означает объявления
войны, тем не менее следует принять необходимые для
обороны меры»9. И паши Румелии принимали меры —
из Молдавии и Валахии начали выколачивать не упла-
ченные за ряд лет подати, требовали поставок продо-
вольствия, упраздненных еще в 1820 г., гнали население
на строительные работы в крепости, забирали лошадей.
На границах с Россией день и ночь разъезжали турец-
кие дозоры.
30
В Турции понимали, что первый удар на Кавказе
русская армия нанесет по Анапе. Туда были направлены
мусульманские проповедники и улемы — богословы, ко-
торые, как писал А. Лютфи, вели работу по сплочению
исламских общин «Черкесии» 10, в действительности же
помогали готовить отряды абхазских и горских феода-
лов, чтобы нанести удары в тылу и на флангах рус-
ских войск, осаждавших Анапу. Порта призвала также
к оружию курдов. В марте 1828 г. десятитысячный
курдский отряд прибыл в Скутари и позднее был на-
правлен к Шумле п. Весной (март—апрель 1828 г.) не-
сколько отрядов регулярных войск были посланы в ду-
найские крепости для усиления гарнизонов 12. С декаб-
ря 1827 по апрель 1828 г. издававшиеся в Турции газе-
ты пестрели сообщениями о том, что войска упражня-
ются день и ночь, но при этом соблюдается секретность.
Османская империя, которая спешно приводила в поря-
док свои вооруженные силы, могла выставить армию
около 180 тыс. человек, из них до 50 тыс. — регулярных
войск 13.
Существует мнение, что в Константинополе не
знали ни численности русских войск, ни планов русского
командования.
Из «Показаний пленных и предавшихся» выясняется,
что в Константинополе оценивали силы 2-й русской ар-
мии примерно в 120 тыс. человекн. Некоторые меры
военного характера, принятые Портой в конце 1827 —
начале 1828 г., указывают, что она готовилась к войне
с Россией. Об этом свидетельствуют и два заявления
реисулькюттаба Пертев-паши. В конце марта 1828 г. в
беседе с английским консулом Пертев-паша заявил, что
враждебность России по отношению к Османской им-
перии совершенно очевидна. «В Константинополе пони-
мают, — сказал он, — что Россия хотела бы вести две
войны с турками. Одну — в своих собственных целях,
другую — в интересах умиротворения Греции». По мне-
нию Пертев-паши, это даже открыло бы глаза другим
державам на истинное положение дел 15.
В начале апреля 1828 г. драгоманы посольств Авст-
рии и Голландии передали реисулькюттабу от имени
своих правительств совет воздержаться от войны с Рос-
сией, которую они называли катастрофой с последст-
виями, весьма чувствительными для всей Европы. Реи-
31
сулькюттаб внимательно выслушал их и сказал: «Пор-
та не ищет войны. Она желает только мира. Не было
никаких оснований для такой декларации, какая опуб-
ликована Россией. Эта декларация, кажется, основана
на хатте (вернее, бэян-наме от 20 декабря 1827 г. —
В. Ш.), с которым Порта обратилась к своим поддан-
ным. Каждый — хозяин в своем доме, — продолжал
Пертев-паша, — где он волен делать все, что хочет, не
давая в этом никому отчета». Он сказал далее, что по
приказанию султана заявляет о несовместимости с до-
стоинством Порты подчиняться законам, диктуемым
иностранцами16.
Не желая идти ни на какое компромиссное решение
спорных вопросов и прекрасно сознавая неизбежность
военного конфликта, Порта стремилась провести дип-
ломатическую подготовку войны — вернуть послов Анг-
лии и Франции, заключить военный союз с Ираном.
В правительственных кругах Турции больше всего
надеялись на поддержку Англии и Австрии. В январе
1828 г. в Англии пришел к власти А. Веллингтон. Это
событие с удовлетворением было встречено членами
Дивана, которые выражали надежду, что новый премьер
активно поддержит турок17. Обнадеживала Порту и
позиция Вены. Насколько враждебно Австрия была на-
строена к России, настолько же дружественно относи-
лась она к Турции. Порта получила от Австрии воен-
ную помощь, австрийские инструкторы находились в
турецкой армии. Хотя Османская империя и отвергла в
начале апреля 1828 г. австрийский план умиротворения
Греции, это не мешало султану « его окружению
рассчитывать на дипломатическую поддержку Меттер-
ниха.
«В Константинополе надеются, — сообщал М. Мин-
чаки, — что Австрия уладит разногласия между Портой
и союзными державами прежде, чем они перейдут к
враждебным действиям» *8. Буквально накануне войны
Порта продолжала надеяться, что ее западные благо-
желатели окажут военную поддержку в случае конф-
ликта с Россией. По сведениям из Константинополя, в
апреле 1828 г. Порта уже «приготовилась к тому, что
(русские. — В. Ш.) оккупируют княжества, но очень
надеялась на то, что Англия и Австрия никогда не по-
зволят России перейти Дунай» 19.
32
В мае 1828 г. Порта попыталась уговорить Гилье-
мино и Стрэтфорда Каннинга вернуться к исполнению
своих посольских обязанностей в столице Османской
империи. Одновременно турецкое правительство согла-
шалось вести переговоры с Англией и Францией о не-
которых уступках в пользу греков, только бы не допу-
стить участия России в решении судьбы греческого
народа. 7 мая 1828 г. реисулькюттаб заявил драгоману
прусского посольства, что Порта намерена пригласить
посланников Англии и Франции вернуться в Констан-
тинополь, но тут же добавил: «Священная вера османов
запрещает принимать условия договора 6 июля» 20. По
сообщениям другой газеты, реисулькюттаб заметил в
этой беседе, что интересы Англии и Франции совер-
шенно противоположны интересам России, а поэтому
не следует преувеличивать последствий войны с ней,
как это склонны делать дипломаты Англии и Фран-
ции21.
19 мая 1828 г. Пертев-паша направил Гильемино и
Стрэтфорду Каннингу письма, в которых приглашал их
вернуться в Константинополь и обсудить все спорные
вопросы, отказываясь, однако, признать условия Лон-
донской конвенции 22. Несмотря на отрицательные отве-
ты обоих послов, Порта все лето и осень 1828 г. не
оставляла попыток решить греческий вопрос вместе с
Англией и Францией за спиной их союзницы России.
Порта была уверена, что посланники вернутся. Были
разработаны даже церемонии их приема, подготовлены
резиденции, назначены для встречи мехмандары — спе-
циальные представители правительства 23.
6 июля 1828 г. Диван направил английскому премье-
ру особое послание. Веллингтона уверяли, что возвра-
щение послов позволит разрешить греческую проблему.
Вопреки ожиданиям Дивана в августе был получен от-
каз Веллингтона вести какие-либо переговоры, пока
Порта не одобрит и не примет к исполнению условий
Лондонской конвенции, не заключит перемирия с гре-
ками и не согласится на посредничество союзников в
войне Турции с Россией. В этом же письме Веллингтон
упрекал Порту в том, что она не воспользовалась сове-
тами западных держав по поводу Греции, и оправдывал
перед турецким правительством пребывание англий-
ской эскадры в Восточном Средиземноморье необходи-
3 Зак. 851
33
мостью защищать интересы английских подданных в
Леванте 24.
Надеясь на помощь западных держав, Порта в то же
время старалась укрепить тылы на Востоке. Ожидали
финансовой и военной помощи со стороны Мухаммеда
Али, заверявшего Порту в своих верноподданнических
чувствах, что, впрочем, не помешало ему отказаться,
сберегая силы, от оказания помощи султану 25. Стреми-
лись заключить союз с Ираном, для того чтобы совме-
стными силами нанести удар по русскому Кавказскому
корпусу и одновременно обезопасить турецко-иранскую
границу от возможных акций со стороны правителя
Ирана Фатх Али-шаха26. Порта внимательно следила
за развитием русско-иранских отношений.
На основании депеш австрийского посла Оттенфель-
са из Константинополя ближайший советник Меттер-
ниха Ф. Гентц писал в марте 1828 г.: «В Турции питают
большие надежды на разрыв перемирия России с Пер-
сией, поскольку шах не ратифицировал предваритель-
ных условий мира, подписанных его уполномоченны-
ми» 27. Еще до подписания русско-иранского мирного
договора Минчаки отметил: «Порта очень хочет прова-
ла переговоров в Дехкаргане» 28. «Известие о мире Рос-
сии с Персией вызвало большую тревогу. Опасаются
десанта на берега Анатолии и нашествия армии, пред-
водительствуемой гр. Паскевичем» 29, — сообщали из
Константинополя в марте 1828 г.
В апреле 1828 г. в Тегеран был направлен предста-
витель Порты формально с поздравлениями шаху по
случаю мира с Россией. Из хорошо осведомленных кру-
гов турецкой столицы стала известна фактическая цель
этой миссии: заключить союз против России, нейтрали-
зовать антитурецкие настроения наследника шаха Аббас-
Мирзы30. Шах обещал оказывать дипломатическую под-
держку султану. В мае 1828 г. он направил в Турцию
своего представителя, воспитанника английского коллед-
жа в Ост-Индии Садык-хана, который должен был осу-
ществлять связь между европейскими миссиями в Кон-
стантинополе и Портой, с одной стороны, шахским
двором и английскими резидентами в Иране — с дру-
гой31.
Между тем Порта вынуждена была поднять брошен-
ную ей Россией перчатку. Попытки турецкого прави-
34
тельства оттянуть войну, чтобы успеть подавить восста-
ние в Греции до вмешательства России и восстановить
там прежний порядок, были неудачными. Достаточны-
ми силами для войны с Россией Турция не располагала.
Правительственные круги ошибочно считали, что меж-
дународная ситуация в начале 1828 г. складывалась в
пользу Турции. Надежды на помощь извне, как показа-
ли дальнейшие события, оказались нереальными.
* * *
В последних числах шавваля 1243 г. х. (середина
мая 1828 г.) состоялось чрезвычайное заседание Дива-
на. С учетом сложившихся политических обстоятельств
было принято решение: «Ответить на силу силой и сра-
жаться до последней капли крови. На предложение
выслать уполномоченных никакого внимания обращено
не было» 32. Уже на первом после начала войны заседа-
нии Дивана мнения разделились. В правящих кругах
Турции не было единого мнения о войне. О существова-
нии двух группировок среди высших слоев турецкого
общества писал в начале мая хорошо осведомленный об
этом М. Минчаки: «Общественное мнение привлечено
исключительно к событиям, которые должны произойти
со дня на день. Османское министерство разделилось на
две части: одна... считает, что надо избежать войны,
тогда как другая, более влиятельная и которую состав-
ляют лица из султанского окружения или те, кто поль-
зуется милостью султана, и он сам, высказались за
войну» 33.
Утром 6 зилькаде 1243 г. х. (20 мая 1828 г.) в зда-
нии Баб-и Мешихат — резиденции шейхульислама, вер-
ховного главы мусульман Османской империи, состоя-
лось новое заседание Дивана. Кроме всех высших долж-
ностных лиц на заседании присутствовали паши и знать
из некоторых отдаленных областей Восточной Анатолии
и Румелии, а также представители мусульманского ду-
ховенства— видные улемы и почтенные хаджи. Присут-
ствие большой группы новых лиц изменило соотноше-
ние сил в Диване.
Вопрос о войне с Россией был единственным, ради
которого собрался Высокий Диван. Наиболее много-
численная группа участников заседания во главе с реи-
3*
35
сулькюттабом, поддержанная присутствовавшим Мах-
мудом II, требовала объявить России джихад и бороть-
ся до победного конца. Другие упорно доказывали
необходимость любой ценой заключить мир с Рос-
сией 34.
Среди сторонников мира выделялся Кечиджизаде
Иззет Молла — хранитель священных городов Мекки и
Медины 35. Его поддерживали: чиновник ведомства фи-
нансов Беджих-эфенди, капитан-и дерья (вице-адмирал)
Мехмед-паша, командующий регулярными войсками,
будущий посол в России Халиль Рифат-паша, бывший
реисулькюттаб Хамид-бей и некоторые другие оставшие-
ся неизвестными нам сановники36.
На заседании Дивана выступил Иззет Молла. Как
пишет А. Лютфи, Иззет Молла указал Дивану на не-
своевременность войны. Он утверждал, что государст-
венная казна пуста: уже затрачены огромные средства
на приведение в порядок армии, создание регулярного
войска и другие государственные нужды. Он говорил
далее, что к войне с Россией нужна длительная подго-
товка, а пока, как меньшее зло, следует принять требо-
вания союзных держав. Выступавшие затем командую-
щий вооруженными силами — сераскер Хюсрев-паша и
великий везир Селим-паша не поддержали предложения
Иззет Моллы, но отмечали, что «война случилась не ко
времени — следовало бы укрепить армию».
Большинство Дивана приняло решение объявить
войну России и разослать во все концы страны гонцов
с призывом к джихаду. Это решение было тут же одоб-
рено султаном. Османская империя официально объ-
явила войну России 20 мая 1828 г. (6 зилькаде
1243 г. х.).
После заседания Дивана 6 зилькаде Иззет Молла и
его друг Беджих-эфенди составили для представления
султану ляйиху — докладную записку, в которой изла-
галась позиция сторонников войны с Россией и приводи-
лись доводы против войны37.
В начале ляйихи указывается, что основной причи-
ной войны, с точки зрения тех, кто ратует за столкнове-
ние с Россией, является греческий вопрос. Далее сле-
дует аргументация Иззет Моллы и его единомышленни-
ков. Доводы сторонников войны с Россией строились,
как следует из ляйихи Иззет Моллы, на убеждении, что
36
надо немедленно подавить повстанческое движение и
помешать России помочь грекам, иначе, добившись не-
зависимости, Греция начнет постепенно расширять свои
границы38, будет стремиться взять под контроль всю
торговлю в Черном и Средиземном морях, в том числе
и ту ее часть, которая находится пока в руках турец-
ких торговцев39. Отделившаяся от Османской империи
Греция станет притягательной силой для других хри-
стианских, особенно греческих, подданных Порты40.
В документе в отношении Греции постоянно употреб-
ляется термин «джумхуриет» — республика.
Изложив доводы сторонников войны, Иззет Молла
писал, что в будущем Греция, вполне вероятно, станет
крупным и сильным государством — серьезным против-
ником для Османской империи. Возможны различные
катастрофы, в том числе и такие, как отделение Греции,
однако считать, что это разрушит Османскую империю,
нельзя.
В настоящее время следует откупиться от вра-
гов, считал Иззет Молла, предоставив свободу Морее,
и сохранить тем самым ядро империи. Если раньше не
сумели обеспечить надежное и разумное управление
Мореей, то теперь, во время войны с Россией, когда
Османское государство испытывает тяжелые лишения,
трудно рассчитывать на упорядоченное господство над
областью эллинов. Сохранение Морей в пределах импе-
рии сулит лишь новые осложнения.
Если противник добьется осуществления своих тре-
бований в результате войны, полагал Иззет Молла, то
для Османской империи многократно возрастут уже
имеющиеся трудности, возникнут смуты и беспорядки.
Иззет Молла отнюдь не был сторонником независимости
Греции. «Говорят... что мусульмане опечалены свободой
торговли греков и их свободными передвижениями. Нам
гораздо более неприятно и нас гораздо больше печа-
лит сама возможность появления независимого грече-
ского государства, сравнимого по величине с государ-
ствами, которым помогает всевышний».
Иззет Молла указывал, что не следует связывать
сложное положение, в котором оказалась Турция в свя-
зи с войной, только с греческим вопросом. Он не уточ-
нял, что еще явилось причиной обострения русско-турец-
ких отношений, но зато неоднократно повторял, что надо
37
заключить мир с Россией, даже ценой уступок, посколь-
ку сражаться с таким сильным противником нет доста-
точных возможностей. Османская империя не имеет ни
обученной боеспособной армии, ни надежных союзников.
Иззет Молла писал, что на протяжении последних
200 лет Османская империя вела не только победонос-
ные войны и не всегда мирные договоры были в ее поль-
зу. Это не значит, конечно, что страна должна безро-
потно принимать все усилия врагов, но турецкая армия
значительно слабее армии противника, военные преобра-
зования только начаты, «а потому спокойствие и вы-
держка должны проявлены быть вплоть до тех пор, пока
не будет достаточно войск».
Иззет Молла обвинял членов Дивана в том, что они
своевременно не обсудили ряд сложных вопросов, свя-
занных с укреплением армии. На памятном заседании
6 зилькаде везиры промолчали о тяжелом внутреннем
положении страны, но зато без конца повторяли: «Пред-
ложения врага — вещь неприемлемая. Спасения нет.
Нет другого выхода, кроме смерти... Османскому госу-
дарству ничего другого не остается, как воевать, и мы
не знаем ничего другого». Подобные разговоры о войне,
о жертвах, по мнению Иззет Моллы, пустой звук, если
нет достаточных сил, чтобы противостоять противнику.
«Некоторые из говоривших „Нам осталось только уме-
реть на поле боя“, отнюдь не спешили исполнять свое
обещание и предпочитали даже постыдное бегство.
Нельзя поэтому доверяться доблести, проявляемой лишь
на словах», — делает вывод Иззет Молла.
Заканчивая ляйиху, Иззет Молла предупреждал, что
тяжелое положение Османской империи в результате
войны ухудшится еще более и что не одна Морея, но и
другие владения империи могут оказаться под угрозой
отделения. Чтобы избежать повторения греческих собы-
тий в других владениях султана, следует, по мнению
Иззет Моллы, во-первых, скорее потушить огонь вой-
ны с Россией, а во-вторых, «оказать помощь другим
исламским землям, установить степень необходимых из-
менений, передать их военному управлению и первым
долгом расстаться с Мореей». Мусульманский ученый
и дальновидный государственный деятель Иззет Молла
в заключение указывал, что предоставление привилегий
реайя —. христианским подданным и мир с Россией на-
38
холились бы в полном соответствии с законами шариа-
та и отвечали бы насущным интересам Османской им-
перии.
* * *
Ляйиха вызвала гнев и раздражение Махмуда II.
Иззет Молла был отправлен в ссылку в Анатолию. По-
скольку записка Иззет Моллы получила определенную
огласку в столице, реисулькюттабу было строго прика-
зано составить ответ—опровержение. Ляйиха-опровер-
жепие была (подготовлена везиром Акиф-эфенди в нояб-
ре 1828 г. и дополнена Пертев-пашой.
В начале ответной ляйихи 41 говорилось, что всякое
государство заботится об укреплении власти над под-
данными и об упрочении основ своего могущества. Ее
авторы писали о том, что восстание в Морее представ-
ляет серьезную опасность, так как отвлекает большие
силы, причиняет огромные убытки и служит поводом
для вмешательства иностранных держав во внутренние
дела империи.
Если Иззет Молла предлагал во избежание дальней-
ших осложнений отказаться от Морей, то его оппонен-
ты категорически отвергали всякое обсуждение вопроса
о предоставлении грекам широких привилегий. По мне-
нию Пертев-паши и Акиф-эфенди, и государству и ту-
рецким собственникам отделение Греции принесло бы
огромные убытки. Появление нового средиземноморско-
го государства вызвало бы растерянность и беспокой-
ство среди мусульман в близлежащих областях Осман-
ской империи.
Греческий вопрос, будучи сугубо внутренним делом
Османской империи, утверждалось в записке, явился
причиной всех разногласий с Россией. Пертев-паша и
Акиф-эфенди сетовали на то, что уже многие годы Пор-
те приходится переносить большие тяготы, чтобы «про-
тиводействовать натиску России». Их возмущало, что
«подстрекаемые Россией греки, вместо того чтобы идти
с жалобами в мусульманские суды, отправляются к рус-
скому послу или русскому консулу». Если открыть про-
ливы для торгового судоходства всех стран, как этого
требует Россия, да еще разрешить русским купцам сво-
бодно вести дела в столице империи и разъезжать по
стране, то это повлечет за собой лишь новые смуты и
39
Мятежи среди христианских подданных султана, так как
«идеи свободы охватили уже всю реайю».
Глашатаи официального курса объявили Россию ини-
циатором греческого восстания, которым она восполь-
зовалась в качестве предлога для объявления войны
Османской империи. «Всем известно, что московиты,
вызвавшие греческий бунт, намеревались тем самым
легко прибрать к рукам владения ислама». Если предо-
ставить Греции свободу, считали Пертев-паша и Акиф-
эфенди, то Россия начнет требовать освобождения сна-
чала болгарских реайя, затем и других христианских
подданных. Так постепенно будут потеряны все осман-
ские владения. Сетуя на то, что предоставление незави-
симости Крыму вызвало в свое время массу затрудне-
ний для Османской империи, составители ответной за-
писки считали недопустимым совершить аналогичную
ошибку. Следовало бы, не уступая в Греции, подска-
зывали они, вновь вернуться и к вопросу о судьбе
Крыма. Общий вывод Акиф-эфенди и Пертев-паша де-
лали следующий: Порта должна решительно отстаи-
вать свои суверенные права на греческие земли и вести
войну с Россией до победного конца.
Для успешной борьбы, считали они, есть все усло-
вия 42. Почему, спрашивали руководители ведомства
иностранных дел Турции, заключение мира с Россией и
предоставление свободы грекам нужно считать «мень-
шим злом» в обстоятельствах, когда даже вопрос о
Крыме служит действительным и правомерным объек-
том кассации?
В заключительной части записки Пертев-паша и
Акиф-эфенди призывали правоверных сплотиться вокруг
престола падишаха и нанести окончательное поражение
противнику. В кампании 1828 г. Порта уже одержала
ряд побед и сможет продиктовать свои условия мира *.
Авторы записки выражали твердую уверенность в окон-
чательной победе турецких войск и восстановлении
прежних порядков на территории всей Османской импе-
рии.
Положения, которые Пертев-паша и Акиф-эфенди
развивали в своей записке, полностью соответствовали
* Каковы будут эти условия, в записке не указывается.
40
содержанию ранее подготовленного ими же Манифеста
Порты о войне с Россией43. Датированный 4 июня
1828 г., он представлял собой ответ на апрельскую Де-
кларацию противника. В этом документе отвергались
наотрез все представленные Россией доказательства
нарушения турецкой стороной прежних договоров и вы-
двигались контробвинения против царского правитель-
ства. Если в русской Декларации содержались условия
прекращения войны, то в турецком ответе на нее не
было ни слова о каких-либо мирных переговорах.
В Манифесте Порты говорилось, что турецкое пра-
вительство неукоснительно исполняло все.свои догово-
ры, всегда придерживаясь правил доброго согласия и
уважения прав соседних держав. Россия же нарушила
мир и объявила войну без всяких видимых причин и до-
статочных оснований.
После изложения основных пунктов русской Декла-
рации перечислялись всевозможные нарушения царским
правительством интересов Османской империи. Так,
Россия, не эвакуировав некоторые укрепленные пункты
на азиатской территории Турции (т. е. нарушив, по
мнению правительства султана, Бухарестский договор),
потребовала в ультимативном порядке подтверждения
своих мнимых прав на эти пункты на переговорах в
Аккермане и, как говорится в Манифесте, «благодаря
миролюбию Порты добилась этого».
Все державы за последние 27 лет изменили свои та-
моженные тарифы, отмечалось в Манифесте, и уплачи-
вают Порте более высокие пошлины, а Россия все еще
придерживается старых пошлин. Реквизиции и распро-
дажи российских товаров по твердым ценам в Констан-
тинополе — вынужденная мера, поскольку Петербург
отказывается пересмотреть ставки таможенных пош-
лин.
В Манифесте далее констатировалось, что жалобы
России на притеснения сербов турками неоснователь-
ны — Порта делала и делает все необходимое, чтобы
наилучшим образом поддерживать в Сербии и порядок
и благополучие ее жителей.
По адресу царского правительства высказывались
обвинения в нарушении еще до начала войны суверен-
ных прав султана (подстрекательство греков к восста-
нию и помощь восставшим, вмешательство в дела Ду-
41
майских княжеств). Выражалось сожаление по поводу
того, что намерение Порты поддерживать мир и доброе
согласие с Россией, о чем писал 12 декабря 1827 г. ве-
ликий везир вице-канцлеру, не было оценено русской
стороной и что посланник Рибопьер покинул Констан-
тинополь без всяких на то оснований.
Порта отрицала какую-либо причастность к анти-
русским интригам в Иране, поскольку она никогда яко-
бы «не поступалась своим достоинством настолько,
чтобы подстрекать одно государство против другого.
Порта строго придерживается нейтралитета в русско-
иранских отношениях».
В заключение говорилось, что война, объявленная
Россией Османской империи, «не имела, с точки зрения
Порты, никаких причин и оснований и мусульмане под-
нялись только на защиту жизни и имущества, за свое
существование, и надеются на помощь провидения в
своей справедливой войне» 44.
Приведенные документы свидетельствуют о том, что
султан и его окружение, считая войну неизбежной и не-
обходимой, определенно проявляли реваншистские за-
мыслы — попытаться возвратить потерянные в прежних
войнах с Россией владения, возможно даже Крым, пе-
ресмотреть, во всяком случае, линии разграничения, оп-
ределенные в 1812—1826 гг.
Все дипломатические демарши Порты накануне и
во время войны убеждают в том, что реализация этих
планов связывалась с надеждами на помощь Англии,
Австрии и Ирана.
Турция начинала войну в сложных условиях — и
внутренних, и международных. Тяжелое положение
страны вызвало определенные дискуссии в правитель-
стве.
Сторонники Иззет Моллы были представителями тех
же феодально-клерикальных кругов, к которым принад-
лежали Пертев-паша и Акиф-эфенди. Первые, однако,
были более дальновидны и осторожны, трезво оценива-
ли внутреннее положение Османской империи, призы-
вали опираться прежде всего на собственные силы
страны, а не надеяться слепо на помощь держав, кото-
рые либо заняты своими проблемами, как Иран, либо
сами готовы захватить османские владения, как Анг-
лия, Австрия, Франция.
42
Предложения Иззет Моллы отказаться от Греции и
заключить с Россией мирный договор на выдвинутых
ею условиях должны были укрепить внешнеполитиче-
ское положение империи и 'позволить правительству
сосредоточить все внимание на ‘внутренних проб-
лемах.
Противоположные на первый взгляд мнения, выска-
зывавшиеся в Диване и отразившиеся в приведенных
выше записках, были, по сути дела, дискуссией о мето-
дах и формах укрепления господства правящих фео-
дально-клерикальных кругов Османской империи в
условиях нараставшего освободительного движения
подвластных народов и усиливавшегося давления со
стороны европейских держав, боровшихся за влияние
на Порту.
* * *
Турецкая военная машина набирала ход крайне мед-
ленно. Только в конце мая регулярные части в составе
10 батальонов пехоты и 5 батальонов конницы, а также
сипахийские отряды — феодальное ополчение выступили
к Шумле под общим командованием 70-летнего Хюсейн-
паши. Верховное командование султан оставил за со-
бой, а не передал, как обычно, великому везиру. Осо-
бым хатт-и шерифом Махмуд II приказал все донесе-
ния с театров войны направлять ему, а не в канцелярию
Высокой Порты, как это делали прежде45.
Общий план военных действий в Румелии был раз-
работан под непосредственным руководством Махму-
да II в марте 1828 г.46. Предугадывая (или зная) пла-
ны русского командования, султан указывал, что после
форсирования Дуная русские могут сузить фронт на-
ступления до 15 миль, считая от берега моря. По его
предположению (фактически подтвердившемуся), опера-
ции русских войск должны были развертываться в три
этапа. Первый: Тырново—Варна, второй: Адриано-
поль—Мидия, третий: движение к Босфору.
На первом этапе турецкой полевой армии следовало
избегать решительных сражений. Три корпуса должны
были занять оборону в предгорьях Балканского хребта,
три других — оставаться в качестве резерва у Адриано-
поля и Арабабургаса. Все население между Шумлой и
43
берегом моря, между Варной и Мидией подлежало пе-
реселению в Анатолию, дома и постройки уничтожа-
лись.
На втором этапе военных действий турецкие войска
должны были вести отвлекающие действия на левом
фланге русских войск, заманивая их в глубь опусто-
шенной территории. По правому флангу противника
надлежало нанести решающий удар и, отрезав его от
Дуная, принудить к снятию осады дунайских крепостей.
Отремонтированный к этому времени флот должен был
обеспечить морскую блокаду окружаемой русской ар-
мии.
Махмуд II рассматривал и иной вариант — выход
русских войск к Адрианополю и Мидии. В этом случае
следовало собрать все войска в ударную группировку в
районе Филиппополя и нанести удар в тыл и во фланг
наступающему на столицу противнику. С точки зрения
общей стратегии план Махмуда II был весьма реали-
стичным, и военные действия развертывались в целом
по указанным этапам, с существенным, однако, отличи-
ем: русские наступали во много раз быстрее, чем при-
ходила в движение скрипучая турецкая военная ма-
шина.
В мае и июне 1828 г. султанский план и перспекти-
вы войны были предметом обсуждения на почти еже-
дневных заседаниях Дивана. Насколько можно судить
по сведениям, полученным от лиц, близких к Порте,
мнения государственных деятелей снова разделились.
Одни предлагали всемерно укреплять дунайские кре-
пости, выводить войска из сдавшихся крепостей к Шум-
ле, создать укрепленный лагерь под Адрианополем,
обеспечить оборону столицы. Лица, придерживавшиеся
этой точки зрения, надеялись на конфликт между
союзными державами. «Европейская Турция в руках
России, — говорили они, — послужит достаточным мо-
тивом для жестокой войны между христианскими дер-
жавами, и тогда османы, воспользовавшись этим об-
стоятельством, найдут способ вновь войти в Европу».
«Другое мнение,— сообщали из Константинополя,—
состояло в том, чтобы избегать сражений, разрушить
страну (европейскую Турцию. — В. Ш.), истребить хри-
стиан, которые способны носить оружие, отправить в
Азию жен и детей, разделиться на группы по 50—
44
60 человек и начать партизанскую войну. Собрать не-
сколько крупных отрядов в русских владениях, насе-
ленных мусульманами, поднять их на войну и предать
огню и мечу южные провинции России. Если империи
суждено погибнуть, то уж османы будут умирать на
трупах христиан и среди языков пламени, ими разду-
того» 47.
Турецкая армия начала военные действия по плану,
намеченному Махмудом II. Основной ударной силой,
ввиду незаконченности военной реформы, оставались ир-
регулярные формирования. В первые недели войны сул-
тан издал хатт-и хумаюн, т. е. августейший указ, в ко-
тором отмечал особую важность ополчения48. К исходу
мая весть о войне и этот хатт распространились по всей
стране, и в начале июня начали прибывать ополченцы.
Они приходили в главный лагерь под Адрианополем
небольшими группами и в одиночку, конные и пешие;
среди них были и бывшие янычары. Оружие этому воин-
ству должны были выдавать имамы при мечетях, но
обычно ополченцы приходили с ятаганом да парой пис-
толетов. Даже в столице обнаружились трудности с во-
оружением для призванных на службу. Обычно в арсе-
налах Константинополя хранилось много оружия и бое-
припасов. Однако к весне 1828 г. значительная его часть
была вывезена из города. А. Лютфи объяснял это тем,
что военное значение мусульманского ополчения снизи-
лось и что в различных районах страны создавались
регулярные войска, которые надо было вооружать.
К этому объяснению придворного историографа следует
добавить справедливое замечание английского журна-
листа, что «султан был больше озабочен бесконечными
мятежами и бунтами в войсках, чем войной с Рос-
сией»49. В городе ходили упорные слухи о том, что быв-
шие янычары готовят в столице переворот50. Не удиви-
тельно, что часть оружия вывезли из столицы.
Впрочем, подчас некого было и вооружать. В армию
вливалось значительно меньше людей, чем предполагала
Порта. Как свидетельствовали корреспонденции из Кон-
стантинополя, «призывы султана к священной войне не
произвели среди народа желаемого восторга». Намечен-
ного количества войск не удалось собрать в течение все-
го лета. В лагерь под Константинополем к концу мая
вместо 40 тыс. иррегулярных войск собралось всего
45
10 тыс.; паша Салоник вместо 30 тыс., как требовал
Махмуд II, сумел выставить только 5 тыс. солдат. Сул-
тан полагал, что в Шумле 150 тыс. войск, хотя там ока-
залось во много раз меньше51. Предполагалось, что вали
Боснии направит на Дунайский фронт 30-тысячный кор-
пус. Однако восстание местного населения против ту-
рецкого гнета в июне 1828 г. парализовало действия
боснийского вали52. Большие надежды возлагались на
новые регулярные части. На театр военных действий
в европейской Турции выступило шесть обученных
европейс1иим!и и египетскими инструкторами батальо-
нов 53.
Европейские путешественники, которые находились во
время войны в Турции и внимательно следили за со-
стоянием турецкой армии, особенно регулярных частей,
отмечали, что эти части находились еще в стадии комп-
лектования и обучения, что солдаты — молодежь 16—
20 лет — не могли вынести всех тягот борьбы с опытным
противником. Вооружение не было единообразным, не
хватало боеприпасов. Артиллерия была представлена
тяжелыми, малотранспортабельными пушками. Транс-
портными средствами служили реквизированные повоз-
ки местных жителей. Младшего командного состава не
хватало, многие старшие офицеры были малокомпетент-
ны. Медицинская помощь существовала лишь номиналь-
но54. Однако, несмотря на все это, на первом этапе
войны турецкие регулярные части в ряде случаев ока-
зали упорное сопротивление русским войскам. Массовое
дезертирство и развал в армии, захватившие прежде
всего иррегулярные отряды, относятся уже <к кампании
1829 г.
Порта прилагала большие усилия к воссозданию
уничтоженного при Наварине флота. К концу 1828 г.
турецкий флот приближался по численности к русской
средиземноморской эскадре, но с набором опытных эки-
пажей были большие трудности. Потребовался специаль-
ный приказ сераскера о наборе на флот молодежи сто-
лицы, «но и после этого,— писал А. Лютфи,— вследствие
различных неполадок флот не мог выйти в море»55.
Порта обратилась за помощью к правителям Алжира
и Туниса — формально подданным султана, но получила
ответ, в котором говорилось о том, что Франция уста-
новила блокаду алжирских берегов, а тунисские кораб-
46
ли все равно не смогут прорваться к Дарданеллам, по-
скольку русский флот стоит у Мальты. Таким образом,
на первом этапе войны Турция осталась, по сути дела,
без флота.
В целом перед русской армией был довольно слабый
противник. Поэтому 2-я русская армия сравнительно
легко прошла через Дунайские княжества и 8 июня
1828 г. переправилась через Дунай у местечка Сатуново.
Через три дня русский флаг был поднят над крепостью
Исакчи56. Между 8 и 30 июня пали Мачин, Гирсово,
Кюстенджи, Браилов, Тульча.
С июля 1828 г. главные силы русской армии были
прикованы к Варне. Два корпуса были выделены для
«наблюдения Силистрии и Шумлы». При поддержке ко-
раблей черноморского флота, осуществлявшего морскую
блокаду Варны, ценой больших усилий 11 октября
1828 г. Варна была занята русскими войсками57. Паде-
ние Варны— крупнейшей на румелийском побережье
Черного моря крепости — произвело тягостное впечатле-
ние в Константинополе. По требованию султана имамы
объявили всему населению города, что крепость пала
в результате измены мухафыза — коменданта Юсуфа
Мухлис-паши. Это же объяснение падения Варны встре-
чается и в труде официального историографа А. Лютфи,
и в работе 'современного историка И. Узунчаршылы58.
В связи с этим уточним некоторые обстоятельства
капитуляции Варны. К концу августа 1828 г. Варна,
гарнизон которой насчитывал до 15 тыс. человек, была
полностью блокирована с суши и с моря русскими вой-
сками. 30 сентября 30-тысячный отряд Омер-паши, под-
ходивший на помощь осажденным, был разгромлен у
местечка Курттепе. Вылазка гарнизона Варны была от-
ражена русскими частями. 6 октября осаждающие пред-
приняли успешный штурм одного из бастионов крепости.
Этот штурм наряду с непрерывной сокрушительной бом-
бардировкой города оказал решающее влияние на судь-
бу крепости. 9 октября в лагерь русских войск прибыл
Юсуф Мухлис-паша. 10 октября было достигнуто согла-
шение о капитуляции крепости, о пленении гарнизона
и о свободном выходе гражданских лиц из города59.
Вернувшись в Варну, Юсуф-паша доложил о соглаше-
нии Иззет-паше. Последний, однако, отказался утвер-
дить условия сдачи крепости. Тогда Юсуф-паша собрал
47
представителей городской знати, сообщил им о своих
переговорах с командующим русской черноморской эс-
кадрой и убедил их в бессмысленности дальнейшего со-
противления. Мы не знаем, что говорил Юсуф-паша, но
фетва муфтия — духовного главы мусульман города, со-
гласившегося с доводами мухафыза, и, вероятно, здра-
вый смысл других участников этой встречи заставили
Иззет-пашу согласиться на сдачу Варны60.
В ночь на 11 октября Юсуф-паша вновь прибыл к
Грейгу и сообщил, что Варна готова сдаться. Опасаясь
казни за сдачу крепости (как это было, например, с
комендантом Браилова), он остался в штаб-квартире
2-й армии. Утром И октября несколько должностных
лиц города подтвердили Грейгу готовность гарнизона
сложить оружие61. Русские войска вступили в крепость,
а турецкие части во главе с Мехмед Иззет-пашой вышли
в направлении Шумлы. Таким образом, очевидно, что
не измена мухафыза, а жесткая блокада, прицельная
бомбардировка с моря и суши, давление на Иззет-пашу,
оказанное жителями города, не желавшими участвовать
в кровопролитных боях, привели к капитуляции. Следу-
ет отметить, что аналогичная ситуация складывалась
и при осаде других крепостей.
Взятие Варны было последним крупным успехом рус-
ских войск в кампании 1828 г. Большая часть 2-й армии
отошла на зимние квартиры за Дунай.
Итоги кампании в европейской Турции, несмотря на
падение шести дунайских крепостей и Варны, показали,
что турецкая армия выполнила главные задачи первого
этапа войны и задержала неприятеля в пределах пер-
вой оборонительной линии.
На Кавказском театре турецкие войска с первых не-
дель войны несли тяжелые поражения. Войска 2-й рус-
ской армии только еще подходили к переправе через
Дунай, а под Анапой уже развернулись военные дей-
ствия. Операционные планы турецкого командования на
Кавказском театре* строились на основе уверенности
в длительном сопротивлении мощных крепостей на Кав-
казе. Предполагалось совершить глубокий рейд 25-ты-
сячного отряда турецкой конницы по тылам русской ар-
* Порта считала решающим Дунайский театр, и восточному се-
раскеру ГалНб-паше, опытному дипломату, но слабому военачальни-
ку, была предоставлена широкая свобода действий.
48
мии, чтобы поднять на восстание против России мусуль-
манское население в Дагестане, Гурии, Имеретии62.
Плохая, даже по сравнению с армией на Дунае, осна-
щенность турецких, иррегулярных в основной массе, со-
единений, некомпетентность командования, особая оппо-
зиционность к властям местного населения и ряд других
причин отнюдь не способствовали успеху оборонитель-
ных действий турок на этом фронте. Преодолев сопро-
тивление турецкого гарнизона и отрядов аджарских
беев, 24 июня 1828 г. русские войска овладели Анапой.
5 июля, после скоротечного, но ожесточенного боя,
капитулировал Карс — одна из крупнейших турецких
крепостей на Кавказе. В июле — августе 1828 г. русские
войска нанесли сокрушительное поражение Кёсе Мех-
мед-паше под Ахалцихом и овладели крепостью. Вскоре
были заняты укрепленные пункты Ацхур и Ардаган,
а также крепости Поти, Батум и Баязид. Русская ар-
мия овладела, таким образом, Карсским, Баязидским и
Ахалцихским пашалыками, укрепив и расширив свою
операционную базу. В сентябре 1828 г. Паскевич отвел
войска на зимние квартиры в Грузии, оставив в кре-
постях лишь небольшие гарнизоны. Падение Анапы ли-
шило Порту важной операционной базы на Черномор-
ском побережье Кавказа. Сераскер — командующий ту-
рецкими войсками Галиб-паша не смог организовать
намечавшийся рейд в тыл русской армии. Инициатива
на азиатском театре принадлежала Отдельному кавказ-
скому корпусу под командованием И. Ф. Паскевича 63.
Зимой 1828/29 г. кампания на Балканском и Кавказ-
ском театрах военных действий поддерживалась на суше
главным образом набегами конных турецких отрядов на
отдельные русские части и гарнизоны занятых крепостей.
Современники отмечали, что моральный дух турецкой
армии был невысок. Солдаты регулярных частей на
Балканском (Дунайском) фронте высказывали недо-
вольство по поводу того, что несут основную тяжесть
боев (это вполне соответствовало действительности) и
терпят большой урон. Между ними и смпахийскими
иррегулярными формированиями происходили конфлик-
ты из-за снабжения, медицинской помощи, сроков кара-
ульной службы и т. д. Плохо было налажено взаимодей-
ствие иррегулярного войска и регулярных батальонов,
неудачи последних воспринимались приверженцами му-
4 Зак. 851
49
сульманской старины как очередное доказательство не-
жизнеспособности европеизированного войска. Сераскер
же, выполняя приказ Махмуда II, вновь и вновь выдви-
гал вперед регулярные батальоны, доказывая противни-
кам реформ, что они могут выстоять против такого силь-
ного противника, как русская армия64.
Население районов европейской Турции, которое не
подлежало выселению, было обязано содержать нахо-
дившиеся там войска. Результатом явилось крайнее об-
нищание жителей. Солдаты регулярных батальонов по-
лучали в день по половине окка (около 600 г) хлеба и
столько же мяса. Ополчение довольствовалось только
тем, что удавалось добыть у местных жителей. Не при-
ходится удивляться сообщениям о том, что «окрестности
Адрианополя и самого Константинополя разграблены и
опустошены солдатней, которая за неимением пищи и
крова пытается найти все это на месте, где стоит»65.
Русский дипкурьер А. Атабеков, приезжавший в ноябре
1828 г. в Константинополь, писал, что ему едва удава-
лось купить продукты питания в Адрианополе и других
городах по пути следования.
Частичный успех оборонительных действий турецкой
армии в период первой кампании войны сопровождался
большими жертвами со стороны гражданского населе-
ния Румелии — и христиан, и турок. Все способные но-
сить оружие мужчины-мусульмане были призваны в ар-
мию. Христиане выполняли самые тяжелые работы по
укреплению крепостей и строительству оборонительных
сооружений. В результате многие селения опустели. Лю-
ди уходили в Константинополь, Смирну, другие города
Западной Анатолии, но и там положение жителей зна-
чительно ухудшилось после того, как в августе 1828 г.
царское правительство запретило вывоз в Турцию хлеба
из южнорусских портов, равно как и транзит зерна и му-
ки через проливы.
С ноября 1828 г. была введена строгая блокада рус-
скими эскадрами и Босфора, и Дарданелл, с тем чтобы
затруднить доставку оружия и провианта войскам. На
деле же в бедственном положении оказались малоиму-
щие слои столичного населения, которое с конца XVIII в.
потребляло хлеб, большей частью привозившийся из
России66. «Запрет вывоза хлеба из Одессы и других чер-
номорских портов,— говорилось в сообщениях из Кон-
50
стантинополя в конце сентября 1828 г.,— а также бло-
када Дарданелл произвели самое тягостное впечатление
на жителей столицы. Частные поставки не могут быть
достаточными. Особенно страдает простой люд, и ни-
кто не может ручаться за спокойствие в городе»67.
К ноябрю 1828 г. цены на хлеб в Константинополе
и пригородах удвоились то сравнению с сентябрем и про-
должали расти. Порта послала в различные области им-
перии ферманы с требованием отправлять в столицу ка-
раваны вьючных верблюдов с продовольствием. Была
отменена правительственная монополия на торговлю
хлебом в целях улучшения снабжения населения и
войск68. Представители Порты и по ее поручению неко-
торые торговцы закупали пшеницу в Сицилии и Испа-
нии. Около 80 судов с продовольствием для столицы
(каждое грузоподъемностью 9,5 т) отправил в конце
ноября в Смирну Мухаммед Али. К началу декабря
1828 г. Порта получила около 50 тыс. четвертей продо-
вольствия. Вместе с имевшимися запасами этого долж-
но было хватить на 4—5 месяцев.
Как писал А. Лютфи, жители столицы и трех при-
городов были занесены в особый дефтер — реестр. В нем
оказалось 359089 имен69. Продовольствие выдавалось
примерно по 3 кг продуктов в неделю на взрослого жи-
теля. Зимой 1828/29 г. норма выдачи была уменьшена
наполовину. Как сообщал датский посланник Гюбш,
«франки, латиняне и армяне вовсе ничего не получа-
ют»70. Власти строго контролировали вес, цену и коли-
чество выпекавшегося хлеба. Нормированное распреде-
ление продовольствия среди населения производили
имамы в мечетях71. Чтобы уменьшить число едоков, ир-
регулярные отряды были выведены за городскую черту,
был также оглашен султанский ферман о выселении из
Константинополя всех <не призванных в армию хо-
лостяков 72.
Все это оказывалось малоэффективным. Упоминав-
шийся русский дипкурьер Арслан Атабеков, находив-
шийся в Константинополе с 17 октября по 16 ноября
1828 г., писал в своем отчете: «Недостаток хлеба в
Царьграде чрезмерный, народ явно ропщет, а некоторые
гласно вызывают прибытие русских и молят, дабы они
освободили их от султана. Окко мякины (1225 г) стоит
на русские деньги 60 коп., одна дача ячменя на полу-
4*
51
суток для лошади стоит 1 руб. 20 коп. Масла же ко-
ровьего вовсе достать нельзя. Привоза морем вовсе нет,
а с сухого пути нельзя ожидать, ибо в Азии большая
часть селений опустела от наряда всех взрослых людей
на войну, а ближайшие места Румелии истощены со-
вершенно войсками»73.
В конце октября 1828 г. был обнародован хатт-и
шериф, в котором должностным лицам на местах было
приказано проследить, чтобы все годные для посева зем-
ли были обработаны и засеяны, а урожай в свое время
собран и население столицы получило необходимое про-
довольствие74. Естественно, ощутимые результаты эта
мера могла бы дать только к осени 1829 г.
В течение зимы 1828/29 г. положение с продуктами
в городе и окрестностях еще более осложнилось. Запа-
сы государства быстро исчерпались, незначительный
подвоз из внутренних районов прекратился. Сообщение
со Смирной по суше было нерегулярным. Несколько ка-
раванов, доставивших пшеницу, привезенную из Египта
на английских и австрийских судах, не могли изменить
положение. Попытки представителей Порты собрать хо-
тя бы немного продовольствия в Румелии не имели
успеха.
Европейская пресса помещала сообщения из Кон-
стантинополя о частых случаях голодной смерти и са-
моубийствах на почве голода среди беднейшего насе-
ления75. В донесении из Константинополя от 6 февраля
1829 г. говорилось: «Последствия блокады Дарданелл
крайне увеличивают дороговизну и недостаток в продо-
вольствии... Люди состоятельные удовлетворяют свои по-
требности, невзирая на дороговизну. Бедные же в жал-
ком положении — хлеба с января не видели; многие от
голода умерли. Вследствие повеления султана полиция
в столице усилена. Строгость и подозрения умножают-
ся. Запрещается даже говорить о политике. Хотя спо-
койно ныне, но многие ропщут. Нечто мрачное существу-
ет, и возможен взрыв»76.
Мало дошло сведений, как «роптал народ», но вот
одно из них. В марте 1829 г. женщины Константинополя
организовали шествие по городу. «Они,— писал совре-
менник,— предавались своеволию, кричали и порицали
правительство, что под предлогами и под видами ограж-
дения лишены они всего насущного и доведены до после-
52
дней крайности, что отцы, мужья и сыновья их на войне
гибнут, а семейства без защиты остались и без призре-
ния». Был послан отряд регулярных войск разогнать
шествие, но «отчаяние женщин было столь велико, что
солдаты отступились». Приехали несколько везиров, ко-
торые начали раздавать деньги и уговаривать собрав-
шихся женщин разойтись77.
Скупые строки донесений из Турции и некоторые
данные из «Истории» А. Лютфи позволяют предполо-
жить, что среди членов Дивана не было единодушия
по поводу продолжения войны с Россией. Как говори-
лось в одном донесении из Константинополя, ухудшение
положения в столице в связи с блокадой Дарданелл
«русская» партия в Диване, или — лучше сказать — пар-
тия мира, использовала для возобновления своих на-
стояний в пользу соглашения с Россией78. Среди тех, кто
выступал за прекращение военного конфликта, были из-
вестные нам Иззет Молла и Беджих-эфенди, находив-
шиеся к этому времени в Анатолии, сераскер Хюсрев-
паша, который, по некоторым сведениям, активнее вы-
сказывался в пользу мира, чем в мае 1828 г., его сын
Халиль-паша и другие везиры 79.
Четыре улема, имена которых установить не удалось,
в начале декабря 1828 г. обратились к Махмуду II с
просьбой помиловать опальных Иззет Моллу и Беджих-
эфенди. Султан был последователен — всех четырех так-
же выслали из столицы. Махмуд II, недовольный тем,
что среди улемов война не нашла полной поддержки,
распорядился: «Довольствие выдавать только тем уле-
мам, которые состоят при армии или же, не воюя, мо-
литвами либо увещеваниями действуют в ободрение му-
сульман». А. Атабеков, сообщавший в своем отчете об
обращении нескольких членов Дивана к Махмуду II с
просьбой заключить мир, писал: «Султан на подобные
представления отвечал, что он либо лишится Царьграда,
либо возьмет Москву»80.
Вскоре появился хатт-и шериф, в котором говори-
лось, что будет подготовлена и проведена со всей ре-
шительностью новая кампания против России. Одновре-
менно султан приказывал «изгонять из армии каждого,
кто заикнется о мире». Этот строгий хатт последовал
после того, как Халиль-паша, командовавший пехотны-
ми регулярными частями, сказал великому везиру: «От
53
этой войны добра не будет. Если бы Вы позволили, я
написал бы Хюсрев-паше, пусть поищет другого выхо-
да»81. Великий везир доложил Махмуду II об этих кра-
мольных речах. Халиль-паша получил выговор, и по-
явился упомянутый хатт-и шериф.
Султан был озабочен сложным положением в армии
и в стране, но выход он видел только в организации
упорного сопротивления неприятелю и мобилизации всех
ресурсов. Он приказал собрать к весне 100-тысячную
армию, произвести перепись доходов высших чиновни-
ков и найти средства для выплаты жалованья войскам.
Представители Порты заключили в конце 1828 г. сек-
ретное соглашение с австрийским правительством о по-
ставках в начале 1829 г. оружия и пшеницы для снаб-
жения дунайских крепостей82. К февралю 1829 г. Порта
получила несколько тысяч австрийских винтовок83. Од-
нако этого было мало. По сообщениям из Константино-
поля, трое рекрутов упражнялись одним ружьем, и ору-
жие регулярные части получали только при выходе из
лагерей к местам назначения.
Несмотря на все очевидные и растущие затруднения,
Порта готова была продолжать войну. Планы новой
кампании были утверждены в апреле 1829 г., после того
как в 20-х числах марта 1829 г. Порта получила неко-
торую информацию об операционных планах командо-
вания 2-й русской армии, о ее численности (свыше
100 тыс. человек) и примерный срок начала новой кам-
пании— 6 мая 1829 г.84.
Основное внимание уделялось новым наборам в ар-
мию. Увеличение численности регулярных войск до
50 тыс. человек в правящих кругах расценили как «подъ-
ем народного воодушевления». Современники, впрочем,
объясняли этот факт прозаически — люди вступали в
регулярные части, чтобы получать довольствие и спас-
тись от голодной смерти, нередкого гостя в беднейших
домах столицы85.
Эти обстоятельства, равно как не слишком успешные
действия русской армии на Дунае в ходе летней кампа-
нии 1828 г., порождали в воинствующих кругах столицы
новые надежды, причем связывались они обычно с по-
мощью Запада и Ирана. «Партия войны,— говорилось
в сообщении из Константинополя от 20 декабря
1828 г.,— царит в Диване и сильно влияет на султана...
54
Очень надеются, что упорным сопротивлением они до-
бьются расположения великих держав»86.
В феврале 1829 г. в Константинополе стало известно
о спровоцированном английской дипломатией убийстве
русского посла в Иране А. С. Грибоедова. На одном из
заседаний Дивана обсуждались последствия этого со-
бытия. Было решено направить в Тегеран посла с целью
побудить шаха выступить против России. Вплоть до кон-
ца мая 1829 г. в Константинополе надеялись на разрыв
между Россией и Ираном.
Операционные планы Порты на 1829 г. оставались
прежними: оборонительная война и подготовка наступ-
ления на правом фланге русских войск из района Ви-
дин—Рущук. 6-й корпус вместо пассивного выжидания
в Арабабургасе, как это намечал в марте 1828 г. Мах-
муд II, должен был осадить и взять Варну.
Военные действия в широком масштабе начались с
осады русскими войсками Силистрии в середине мая
1829 г. 30 июня над крепостью был поднят русский флаг.
Черноморский флот продолжал блокировать Босфор.
Одновременно русские корабли нападали на турецкие
суда, -совершавшие каботаж вдоль анатолийских берегов.
Опасаясь десантов противника, Порта оставила в при-
брежных крепостях часть войск, предназначенных для
отправки на Дунайский театр87.
В период кампании 1829 г. турецкий флот уходил от
сражения с русским флотом, хотя к этому времени уже
имел значительный перевес над средиземноморской эс-
кадрой адмирала Грейга88.
В мае — начале июня 1829 г. великий везир Решид-
паша во главе 40-тысячного корпуса совершил несколь-
ко непоследовательных, но сравнительно успешных опе-
раций, стремясь задержать наступление русских войск
в районе Провадия — Эскиарнаутлар. В начале июня
1829 г. Дибич совершил переход из-под Силистрии и за-
нял позицию у Кулевче, на одном из трех вероятных
маршрутов отхода Решид-паши к Шумле. Решид-паша,
имея трехкратный перевес, располагая обученными и
обстрелянными войсками, которые нанесли поражение
противнику при Эскиарнаутларе 17 мая, 10 июня унич-
тожил полуторатысячный русский авангард, но не сумел
закрепить успех и в беспорядке отступил, разбитый, как
отметили К. Маркс и Ф. Энгельс, «в результате не очень
55
искусных маневров Дибича»89. Потеряв до 10% личного
состава, но победив, русская армия продолжала движе-
ние к Балканам.
Часть русских войск вела блокаду Шумлы, тогда как
основные силы 2-й армии впервые в истории русско-ту-
рецких войн перешли Балканский хребет по пути, наме-
ченному еще М. И. Кутузовым в апреле 1811 г.90: на
Провадия — Адрианополь. 22—23 июля авангардные час-
ти русской армии спустились к Миссемврии, на рейде
которой уже стояли корабли Черноморского флота. Пре-
одолевая упорное сопротивление 6-го корпуса, так и не
успевшего выйти к Варне, русские войска численностью
16 700 человек 19 августа вышли к Адрианополю. Там
находилось около 25 тыс. турецких солдат, в том числе
10-тысячный регулярный отряд под командованием Ха-
лиль-паши и до 5 тыс. солдат, бежавших из-под Кулев-
че, которых, как отметил турецкий хронист, не удалось
удержать от панического бегства уверением, что сра-
жения не будет91. Поскольку это количество войск, как
писал А. Лютфи, было признано недостаточным для обо-
роны и уже обсуждался вопрос о перемирии, граждан-
ские и духовные власти города приняли ультиматум Ди-
бича о сдаче Адрианополя. 20 августа 1829 г. Халиль-
паша вывел свои части за пределы городской черты,
оставив оружие и знамена победителю92.
Серьезного организованного сопротивления неприяте-
лю Порта организовать уже не могла. В полной мере
сказывалась порочность давно отживших методов фео-
дального управления, материальные ресурсы казались
исчерпанными. Бесчисленные обращения властей к рели-
гиозному фанатизму сочетались с настоящим ограбле-
нием и мусульманского, и христианского населения, осо-
бенно в Европейской Турции и Западной Анатолии.
Бедствия и лишения местного турецкого населения
нарастали по мере продолжения военных действий в
1829 г. Наборы в армию не только молодежи, но и пожи-
лых (до 60 лет) мужчин, реквизиции продовольствия и
лошадей, введение нового чрезвычайного военного нало-
га (в июне 1829 г.) подрывали существование турецкой
деревни. Хатт-и шериф об усиленном возделывании зе-
мель выполнялся плохо ввиду отсутствия рабочих рук и
скота. «Все деревни были покинуты; местность была
пустынна и разорена, — писал о европейской Турции ле-
56
том 1829 г. Г. Мольтке.— Население отсутствовало, и
едва встречались следы прежней обработки»93. В Запад-
ной Анатолии сборщики налогов в июне — июле 1829 г.
на расстоянии до 100 км от столицы не могли найти
не разоренного, не опустошенного более чем наполовину
селения. На непомерный рост налогов жаловались
крестьяне и вблизи приморских городов, и в глухих ана-
толийских деревнях94.
По данным английского наблюдателя Дж. Кеппела,
в начале 20-х годов ставка хараджа (личного налога с
мужчин-немусульман) равнялась 28, 14 и 7 курушам
(на каждого налогоплательщика по трем имущественным
группам). К концу 1829 г. налог был повышен до 40,
28 и 18 курушей соответственно95. Дж. Кеппел также
отмечал, что многие населенные пункты покинуты жите-
лями. Так, в Акхисаре осенью 1829 г. из 1000 домов
пустовало 300. Мужчины были мобилизованы, женщины
и дети либо разбрелись, либо умерли от голода и эпиде-
мий. В г. Касаба (под Смирной) из 2000 домов к на-
чалу января 1830 г. опустело 50096. Подобных примеров
современники приводили много. Они отмечали рост чис-
ла бунтов и восстаний, вспыхивавших в разных частях
страны.
В августе — сентябре 1829 г. в донесениях из Кон-
стантинополя все чаще читаем: «Из провинций поступа-
ют сведения, что такой-то и такой-то паши не подчи-
няются Дивану, а еще больше, что жители не подчиня-
ются паше»97. В конце июля — начале августа 1829 г.
взбунтовались жители Алеппо. Сборщик чрезвычайного
налога Наим-бей и его охрана были убиты восставшими,
которые роздали уже собранные деньги или имущество,
реквизированное в счет налога, прежним владельцам.
«Только использование артиллерии и вооружение против
мятежников богатых горожан решило дело в пользу гу-
бернатора Али-паши»98,— писал 15 августа из Алеппо
корреспондент «Курьера».
Широкие размеры приняло восстание в окрестностях
Смирны. В конце августа 1829 г. жители г. Назилли
«разогнали или убили сборщиков налогов, сместили па-
шу и все управление». Во главе восставших стоял
крестьянин Кул Мехмед. По сообщениям прессы, «он
заявил, что поднял оружие не против султана, а против
некоторых министров, которые свою власть используют
57
для наживы и для угнетения бедняков, й что его един-
ственная цель — свести налоги к прежнему уровню»99.
В течение двух недель восставшие без боя заняли
Айдын, Гюзельхисар, Тире, Бендеркасаба и другие не-
большие городки пашалыка. К *ним шли крестьяне ок-
рестных деревень, присоединилось много полукочевников
из-под Карахисара. В сентябре этот район выпал из-под
контроля Порты. Мятеж удалось подавить лишь с по-
мощью артиллерии и регулярных частей, направленных
Портой из Константинополя в декабре 1829 г., после
ратификации мирного договора с Россией и ликвидации
последствий заговора в столице.
Очевидно, что в условиях острого социально-эконо-
мического кризиса и не сложившейся вполне новой воен-
ной организации Турция неминуемо должна была по-
терпеть поражение. После поражения турецкой армии
при Кулевче И июня 1829 г. все операционно-тактиче-
ские планы Махмуда II рухнули. Ополченцы массами
покидали действующую армию. Регулярные части, зна-
чительно поредевшие от боевых потерь в 1829 г. и еще
больше от дезертирства, весьма значительного летом
1829 г., были рассеяны на большой территории от Фи-
липпополя (Пловдива) до Бургаса. Наиболее боеспособ-
ные регулярные части (около 30 тыс. человек) были
удержаны в Константинополе по приказу Махмуда II,
так как по мере приближения русских войск паника в
Константинополе росла и оказалось невозможным орга-
низовать население столицы на оборону города 10°.
«Люди на собственном опыте убедились, что их са-
мым большим врагом была война»101, — отмечал совре-
менник. За дезертирство из рядов городского ополчения,
за нежелание вооружаться Порта начала исключать из
цехов, что фактически лишало права заниматься дан-
ным видом ремесла, торговли и т. д., подвергать аресту,
иногда казнить. Однако эти суровые меры мало способ-
ствовали нормализации обстановки в городе. «Властям
вовсе не верят,— говорилось в июньском сообщении из
Константинополя. — Все суетятся и прячут капиталы;
алмазы идут по цене золота. Люди призывного возраста,
и турки, и христиане, равно боятся набора и бегут в
Смирну, а некоторые стараются добраться до Египта...
Банкиры (европейцы.— В. Ш.) свозят деньги и ценности
58
на английские и французские суда, стоящие на рейде»102.
Особое беспокойство проявляли имущие слои Кон-
стантинополя. С конца июня 1829 г. в городе стало труд-
но достать лодку — богатые турки увозили свои семьи
и имущество в Малую Азию, в основном в Бурсу, где
были уже подготовлены запасная резиденция для сул-
тана и помещения для государственных учреждений.
Туда же была перевезена в начале августа государст-
венная казна и личные сокровища Махмуда II.
Бегство богачей из города, которому не угрожал не-
приятель, видимо, объяснялось прежде всего тем, что
всем было известно о готовящемся перевороте. Еще с
июня 1828 г. в Константинополе говорили о заговоре
против Махмуда II103. Можно полагать, что заговор
окончательно оформился к началу августа 1829 г. Ак-
тивную роль в нем играли бывшие янычары, оказавшие-
ся в рядах армии или сумевшие вернуться после раз-
грома корпуса в 1826 г. в Румелию и даже в столицу,
члены ряда константинопольских цехов (особенно лодоч-
ники, зеленщики, угольщики, галантерейщики, мелкие
торговцы и содержатели кофеен, носильщики, тесно свя-
занные в прошлом с янычарами и подвергавшиеся вмес-
те с ними репрессиям), константинопольские люмпе-
ны104. «Все эти люди —не просто сторонники янычар,
которые составляют массу недовольных, но люди всех
сословий,— говорилось в очередном донесении из Кон-
стантинополя.— Это огромная партия, и, если война про-
длится, большая революция ожидает Османскую импе-
рию» 105.
Заговорщиков поддерживала часть солдат и офице-
ров иррегулярных войск. Среди участников заговора бы-
ли греки. Предполагалось поднять на восстание наряду
с мусульманами христианское население города. Какого-
либо единого руководства и четкой программы дейст-
вий, по-видимому, не существовало. «Во главе заговора
стояло несколько влиятельных лиц»,— сообщал коррес-
пондент «Смирнского курьера». Удалось установить имя
лишь одного из них. Это был Хамид-ага, комендант од-
ного из Босфорских замков. Среди организаторов заго-
вора были кетхуды — старосты ряда цехов.
Участники заговора рассчитывали при подходе рус-
ской армии к Константинополю поднять восстание в сто-
лице и пригородах, свергнуть Махмуда II и уничтожить
59
всю его семью, распустить регулярные войска, распра-
виться с их организаторами, в первую очередь с Хюсрев-
пашой. Предполагалось восстановить прежние порядки
и посадить на трон представителя новой, возможно не
османской, династии106. Под прежними порядками име-
лось в виду главным образом восстановление янычар-
ского корпуса и связанных с ним институтов. Об оборо-
нительных планах заговорщиков источники не сооб-
щают.
Имеются разноречивые сведения о том, в какой мере
готовившийся переворот был связан с действиями 2-й ар-
мии. Брат известного русского генерала Н. Н. Муравье-
ва-Карсского А. Н. Муравьев, находившийся в августе
1829 г. в занятом русскими войсками Адрианополе, пи-
сал, что в городе было известно о заговоре против сул-
тана и что там собралось довольно много бывших яны-
чар. «Многие из старых янычар,— писал он,— встречая
на улице русских, показывали тайно свои знаки и про-
сили отомстить за собратьев, обещая подать сильную по-
мощь» 107. По сообщениям прессы, часть заговорщиков
считала, что осада русскими Константинополя облегчит
им выполнение замыслов 108. Как писал А. Лютфи, в го-
роде ходили слухи, что в составе 2-й армии на Констан-
тинополь идут 20 тыс. бывших янычар 109.
Вечером 21 августа в столице стало известно о ка-
питуляции Адрианополя. Полевой армии практически не
существовало. Связь Порты с вилайетами была парали-
зована. В различных областях страны вспыхивали вос-
стания. В Константинополе бывшие янычары организо-
вали шествие, разбившись на роты и неся сохранившие-
ся эмблемы. «В этот решительный момент, когда против-
ник почти у ворот Константинополя,— писал „Курьер
Смирны*1,— совершенно очевидно, что все администра-
тивные пружины Османской империи парализованы, все
связи внутри страны ослабели»110.
22 августа в доме реисулькюттаба Пертев-паши со-
брались сераскер, башдефтердар — глава ведомства фи-
нансов, шейхульислам, представители судебных шариат-
ских органов Анатолии и Константинополя, несколько
улемов Дивана111. Обсудив критическое положение, они
пришли к выводу о необходимости прежде всего пред-
отвратить «взрыв» в столице, а для этого «любой це-
ной добиться заключения мира до того, как русские на-
60
вяжут его под стенами Константинополя». В первой по-
ловине дня 27 августа стало известно, что турецкие
представители прибыли в Адрианополь и приняты
И. И. Дибичем. В ночь на 28 августа отряды дворцовой
стражи произвели арест лиц, подозреваемых в заговоре.
«Среди прочих было схвачено 15 известных в городе ту-
рок и 60 греков. Найдено две лавки с оружием. Поло-
вина турок была тут же обезглавлена...»112. Среди каз-
ненных были кетхуды зеленщиков, лодочников, уголь-
щиков, галантерейщиков, что позволяет предположить
их заметную роль в заговоре. В числе арестованных бы-
ло несколько торговцев-персов, поддерживавших заго-
ворщиков.
После полудня 29 августа примчался гонец из Адриа-
нополя с известием о перемирии. По приказу султана
почти все регулярные части были сняты с городских ук-
реплений и в течение двух недель выполняли каратель-
ные функции против мнимых и действительных заго-
ворщиков, против всех, кто осмеливался открыто кри-
тиковать новые порядки. Солдаты обходили дома горо-
жан и отбирали оружие, розданное им для защиты
города. Махмуд II приказал своим представителям при-
нять все русские условия договора, лишь бы не возобно-
вились военные действия. Вооружения же своего народа
он боялся больше, чем кабального мира. «На улицах
никто не смел показаться вооруженным. Боялись со-
бираться группами, вообще опасались выходить из до-
му» пз.
Приостановка военных действий и последующее за-
ключение мира позволили Порте предотвратить выступ-
ление реакции, которое могло иметь гибельные послед-
ствия для султана-реформатора и его режима. «...Мы
видим,—(писали К- Маркс и Ф. Энгельс,— какое жалкое
крушение терпели все попытки турецкого правительства
стать на путь цивилизации и как исламистский фана-
тизм, опорой которого является преимущественно турец-
кая чернь нескольких крупных городов, неизменно при-
бегает к помощи Австрии и России только для того,
чтобы опять добиться власти и уничтожить любые про-
грессивные начинания...» 114. Это замечание вполне мож-
но отнести к оценке упомянутого заговора. Вместе с тем
следует уточнить позицию России. Автор не располагает
данными о связях царского командования с заговорщи-
61
ками в столице или с сочувствовавшими им элементами
в зоне боевых действий.
Махмуд II поставил перед своими представителями
на переговорах задачу избежать крайнего случая — на-
ступления русских на Константинополь. Мог ли он знать,
что именно этого более всего опасался и русский царь!
В письме к Дибичу от 12 сентября 1829 г. Николай I
называл взятие Константинополя «случайностью, осу-
ществления которой молил бога не допускать», и требо-
вал скорейшего заключения мира в Адрианополе115.
«Мы не хотим Константинополя,— уточняет Нессельро-
де. — Это было бы самым опасным завоеванием, которое
мы могли сделать»116.
В России было неспокойно. В Европе надвигалась
революционная гроза 1830 г. Царь не хотел конфликта
с державами, в первую очередь с Англией, из-за турец-
кого наследства. В случае осады русскими Константи-
нополя могло быть реализовано предложение английско-
го посла в Турции Р. Гордона о возвращении послов
Англии и Франции в Константинополь (см. ниже), о
прорыве английской средиземноморской эскадры адми-
рала Малкольма (12 вымпелов) через расположение
русских кораблей, блокировавших Дарданеллы, на бос-
форский рейд. В 20-х числах августа 1829 г. эскадры
Малкольма и французского адмирала Розамеля заняли
позицию у входа в Дарданеллы117. Опасность столкно-
вения представлялась современникам (Дибичу и Грей-
гу) вполне реальной. Это обстоятельство должно при-
ниматься в расчет и нами с учетом крайне недоброже-
лательной позиции Англии. Действия русских военачаль-
ников и дипломатов подчинялись в тот момент задачам
сохранения Османской империи и исключения таких ак-
ций, которые могли бы изменить крайне нестабильное
положение в Европейской Турции. В Петербурге готовы
были отдать приказ Дибичу идти на Константинополь,
занять проливы, но только в случае падения Махмуда II
в результате народного восстания или бунта мятежных
пашей. Оба варианта развития событий приобрели в ав-
густе— сентябре 1829 г. вполне реальные очертания, хо-
рошо осознававшиеся и в султанском дворце на Босфо-
ре, и в покоях Зимнего дворца. Петербург сделал все
возможное, чтобы предотвратить этот «нечаянный слу-
чай».
62
* * *
Потеря Ахалциха, Карса и других крепостей в кам-
пании 1828 г. заставила Порту обратить большее вни-
мание на Кавказский театр. Назначенный новым восточ-
ным сераскером— командующим 118 вали Сиваса Хаккы-
паша, опытный военачальник, хорошо знакомый с мест-
ными условиями, начал выполнение приказа Махмуда II
о взятии Ахалциха, Карса, об обороне других кре-
постей наряду с организацией аджарских, лазских и
курдских отрядов и повышением боеспособности 10-ты-
сячного корпуса регулярного войска, находившегося в
Эрзуруме. Аджарский владетель Ахмед-бек и вали Траб-
зона силами до 40 тыс., главным образом кавалерии,
должны были занять Ахалцих и развивать наступление
на Гурию. Отвлекающие маневры было приказано совер-
шить на левом фланге наступающих войск лазским отря-
дам Осман-паши, а на правом — вали Вана и Муша119.
Предполагалось взаимодействие с иранскими войсками.
Получив известие о разгроме И февраля 1829 г. рус-
ской миссии в Тегеране, Ахмед-бек счел это сигналом
начала войны Ирана с Россией и предпринял наступ-
ление на Ахалцих. Защитников крепости спасли смелый
рейд отряда полковника Бурцова в тыл осаждающих и
несогласованность действий штурмовых отрядов Ахмед-
бека. После неудачной операции под Ахалцихом серас-
кер Хаккы-паша сосредоточил значительные силы на
Карсском направлении, намереваясь осуществить про-
рыв через Гюмры в Закавказье и поднять восстание в
глубоком тылу русской армии. Эта операция также не
удалась. Не получив своевременно поддержки вали Эр-
зурума, Хаккы-паша в предгорьях Соганлукского хребта
потерпел два сокрушительных поражения (30 июня и
2 июля 1829 г.). Сам Хаккы-паша попал в плен 12°.
Разрозненные, действовавшие на свой страх и риск
турецкие отряды не смогли, конечно, противостоять на-
ступавшим на Эрзурум русским войскам. Командование
во главе с вали Эрзурума Салих-пашой не сумело орга-
низовать оборону города на дальних подступах. Насе-
ление города потребовало от Салих-паши принять пред-
ложенную Паскевичем капитуляцию121. В Эрзуруме,
как и во многих других городах азиатской Турции, зна-
чительную часть населения составляли армяне и греки,
63
открыто выражавшие готовность перейти на сторону
русских войск 122. Положение усугублялось тем, что в
гарнизонах Эрзурума и других крепостей беспрестанно
возникали конфликты между офицерами-турками и сол-
датами-нетурками, между регулярными турецкими час-
тями, находившимися в сравнительно привилегирован-
ном положении, и массой иррегулярного ополчения из
лазов, горцев, аджарцев, курдов. В городе распространя-
лись слухи о поражении османской армии в европейской
Турции. Все это, вместе взятое, и объясняет, почему
15-тысячному корпусу Паскевича 9 июля 1829 г. сдался
Эрзурум — крупнейшая турецкая крепость на Кавказе,
гарнизон которой составлял более двадцати тысяч че-
ловек 123.
Важнейшим результатом разгрома Хаккы-паши и па-
дения Эрзурума явился срыв планов турецкого коман-
дования прорваться в Гурию и Закавказье. Однако со-
противление турок не было окончательно сломлено.
В течение июля — августа 1829 г. паши Трабзона, Сива-
са, Вана собрали рассеянные по всему Армянскому на-
горью отряды. В 20-х числах сентября свыше 30 тыс. ту-
рецких и лазских войск, вытеснив русских из Байбурта
и Гюмюшхане, угрожали Эрзуруму с северо-запада; на
юго-востоке готовил наступление на Эрзурум ванский
паша 124. Курдские отряды, которые в мае — июле зани-
мали выжидательную позицию, в сентябре начали дей-
ствия против русских частей в районе Хниса 125.
Паскевич понял необходимость сосредоточить все
войска под Эрзурумом и отказался от операций в на-
правлении Трабзона. Кавказский корпус двинулся на
Байбурт, чтобы разбить войска нового сераскера Ос-
ман-паши, прежде, чем он соединится с войсками паши
Вана. 9 октября последовало кровопролитное сражение,
наиболее ожесточенное за всю войну. Потери с обеих
сторон исчислялись многими сотнями убитых, город был
разрушен до основания, значительная часть жителей
погибла 126.
Вина за кровопролитие, поскольку мир был заклю-
чен за 25 дней до сражения, лежала на сераскере Ос-
ман-паше. Путешественники покрывали расстояние меж-
ду Константинополем и Эрзурумом за 16 дней. Между
Трабзоном и Константинополем всего 480 верст, кото-
рые курьеры Порты, вероятно, могли преодолеть за 10—
64
12 дней 127. Не остается сомнений в том, что к октябрю
сераскер, находившийся в Трабзоне, был уведомлен о
мирных переговорах и о подписании мира 14 сентября
1829 г. В действительности и вали Трабзона и восточ-
ный сераскер знали о переговорах, получив об этом со-
ответствующий ферман и указание «уклониться от сра-
жений, оставаясь в оборонительном положении» 128. В по-
следних числах сентября 1829 г. в Трабзонский порт во-
шел русский бриг, на котором прибыл русский офицер
из штаба Дибича, известивший о заключении мира. Од-
нако вали Трабзона сначала не разрешал русскому
курьеру даже сойти на берег, а затем изолировал его
и не позволил отправиться в ставку сераскера, посколь-
ку русский офицер не имел султанского фермана, а ни
о каких переговорах паша якобы не знал 129.
27 сентября Порта объявила об утверждении султа-
ном мирного договора. 28 сентября из Константинополя
выехал штабс-капитан русской армии А. О. Дюгамель,
который через 15 дней был в ставке сераскера под Бай-
буртом 13°. Осман-паша известил Паскевича о подписа-
нии мира и предложил заключить перемирие в ночь с
11 на 12 октября. Вечером 12 октября в лагерь турецких
войск прибыли представители Паскевича. В присутствии
Осман-паши состоялось официальное объявление султан-
ского фермана о подписании мирного трактата, кото-
рый привез Дюгамель131. Военные действия на Кавказ-
ском театре закончились.
Внешнеполитическое положение Турции
в период войны
К началу войны с Россией, в апреле 1828 г., Кон-
стантинополь не смог подорвать Лондонскую конвен-
цию, казавшуюся ему столь непрочной. Выйти из поли-
тической изоляции, добиться реальной поддержки и по-
мощи Англии и Франции в Европе, Ирана на Восто-
ке — таковы были общие задачи турецкой дипломатии
в период войны. Конкретные ближайшие задачи и их
реализация достаточно гибко изменялись Портой с уче-
том положения дел на полях сражений и политической
ситуации в Европе.
5 Зак. 851
65
По сведениям из Константинополя, дискуссии в пра-
вительственных кругах о войне с Россией и об отноше-
ниях с Западом продолжались все лето 1828 г., когда
русские войска уже глубоко вклинились в турецкую
территорию. На заседании Дивана 18 июля 1828 г.
было решено добиваться возможно скорейшего возвра-
щения европейских посланников. Члены Дивана выра-
зили надежду на изменение позиции Лондона в связи с
назначением нового главы Форин офис (Абердин сме-
нил Дадли). Вечером того же дня султан и шесть рид-
жалов — высших сановников дополнительно обсужда-
ли, в интересах ли Османской империи принять усло-
вия Лондонской конвенции в связи с тем, что предпри-
нятые Портой попытки сблизиться с Англией и Францией
успеха пока не имели. Согласные во мнении продол-
жать тактику сближения с западными державами, уча-
стники совещания вновь не смогли прийти к единому
решению — посылать ли уполномоченных для заключе-
ния перемирия в русскую штаб-квартиру или усилить
армию. Последнее слово принадлежало султану, кото-
рый требовал продолжать войну 132.
Османская империя в 1828—1829 гг. воевала на трех
театрах: на Кавказе, на Дунае и в Греции. Турецкие
войска в Греции, которые взаимодействовали с египет-
скими частями Ибрахим-паши, к началу войны с Рос-
сией теснили повстанцев. Война же с Россией сковала
главные силы турецкой армии, и военно-политическая
обстановка в Греции существенно изменилась. Нача-
лось освобождение занятых египетско-турецкими вой-
сками районов страны 133. Вожди греческого освободи-
тельного движения, несмотря на протесты своих евро-
пейских советников, поставили целью освободить от ту-
рок как можно большую территорию на континенте,
чтобы при заключении мира требовать более широких
границ для греческого государства 134. Войска Ибрахим-
паши оказались блокированными в приморских крепо-
стях Пелопоннеса: с суши действиями греческой армии,
с моря — русской эскадрой. Чтобы спасти свои войска,
Мухаммед Али решил отозвать их в Египет. 9 августа
1828 г. английский адмирал Кодрингтон и Мухаммед
Али подписали соглашение о выводе из Греции
войск Ибрахим-паши и возвращении греческих плен-
ных 135.
66
К началу октября в пята греческих крепостях оста-
валось не более 1200 египетских солдат. Эти символи-
ческие войска не оказали практически никакого сопро-
тивления французскому экспедиционному корпусу гене-
рала Мезона, который 30 августа 1828 г. высадился в
Пелопоннесе (Морея) в соответствии с решением Лон-
донской конференции 19 июля 1828 г.136. Английский
адмирал подписал соглашение об уходе Ибрахим-паши
из Греции, французский генерал должен был содейст-
вовать скорейшему очищению Пелопоннеса от египет-
ских войск. Союзники стремились умалить роль России
в освободительной войне греков. Однако лишь помощь
России, косвенная (турецкие силы были оттянуты на
Дунайский фронт, и Порта не смогла послать подкреп-
ления Ибрахим-паше) и прямая (блокада египетских
войск, доставка оружия и денег грекам), реально со-
действовала новым успехам греческого освободительно-
го движения в 1828 г. Некоторые неудачи на Дунайском
театре компенсировались известным укреплением пози-
ций России в Греции.
Для западных держав посылка корпуса Мезона в
Грецию была одним из способов приостановить распро-
странение там русского влияния. Царская дипломатия
поддержала экспедицию Мезона с целью укрепить союз
с Францией и не допустить осложнения отношений с
Англией. Удаление египетских войск подальше от теат-
ра военных действий входило в стратегические планы
России на 1829 г.137. В Петербурге также считали, что
отсутствие египетских войск в Пелопоннесе позволит
повстанцам расширить наступление в Северной Греции.
«Нам кажется необходимым, — писал Нессельроде Гей-
дену 26 августа 1828 г., — чтобы греки воспользовались
выгодами, которые им предоставляет французская
экспедиция в Морее и проистекающее от этого освобож-
дение всего Пелопоннеса, чтобы распространить свои
границы на запад, восток, север и архипелаг настолько,
насколько это необходимо для образования крепкого и
прочного государства» 138.
Уход Ибрахим-паши в Египет 139, подальше от театра
военных действий, и развертывание греческого наступ-
ления должны были несколько облегчить действия рус-
ских войск на Дунае в кампании 1829 г.
Если союзные державы — Англия, Франция и Рос-
5*
07
сия сравнительно легко достигли соглашения по пово-
ду вывода войск Ибрахим-паши, то по вопросу о грече-
ских границах велись длительные дискуссии, дававшие
Порте реальные основания надеяться на разногласия
среди союзников. Правительство султана было постав-
лено в известность о решении держав послать фран-
цузский корпус в Пелопоннес декларацией Гильемино,
Рибопьера и Стрэтфорда Каннинга, которые 8—9 ав-
густа прибыли в Архипелаг (о-в Порос), чтобы обсу-
дить вопрос о границах Греции140. Одновременно упол-
номоченные союзных держав, оговорив в качестве пред-
варительного условия необходимость заключения пере-
мирия в Греции, на чем особенно настаивал русский
посланник, предложили Порте прислать в Архипелаг
своего представителя. В ответном письме посланникам
Англии и Франции от 11 сентября реисулькюттаб Пер-
тев-паша высказывал мнение, что именно греческий
вопрос породил разногласия между Портой и дружест-
венными ей державами. Как писал Пертев-паша, он
хорошо понимает, что Англия и Франция не .имеют в ви-
ду предоставление грекам независимости, но все равно
Порта не желает обсуждать греческий вопрос «иначе,
чем на принципах, лежащих в основе взаимоотношений
суверенных государств» 141. Далее руководитель ведом-
ства внешней политики Турции фактически потребовал
устранить Рибопьера от участия в совещаниях по гре-
ческому вопросу, поскольку его присутствие «не могло
бы соответствовать ни положению, в котором Россия
находится в отношении Блистательной Порты, ни
откровенности и благожелательности долженствую-
щих характеризовать дружественные совещания, на-
чать которые мы призывали ваши превосходитель-
ства» 142.
В заключение реисулькюттаб вновь приглашал пред-
ставителей Англии и Франции вернуться в Константи-
нополь и здесь обсудить греческий вопрос. «Одного за-
седания, — писал Пертев-паша, — будет достаточно,
чтобы устранить между ними всякие разногласия» 143.
Спустя две недели в разговоре с драгоманом австрий-
ского посольства Гуссаром, который выразил сомнение,
можно ли быстро решить столь сложный вопрос, как
греческий, Пертев-паша подтвердил, что все будет ре-
шено быстро и положительно, если стороны (т. е. пос-
68
лы Англии, Франции и Порта. — В. Ш.) проявят доб-
рую волю и ограничатся «справедливыми требова-
ниями».
Официальная точка зрения Порты состояла, таким
образом, в том, что умиротворение греков — суверен-
ное право падишаха, а возвращение послов Англии и
Франции желательно, но не может быть оговорено ни-
какими условиями. Категорически возражая против уча-
стия русского представителя в обсуждении греческой
проблемы, Порта надеялась использовать заинтересо-
ванность Англии и Франции в греческом вопросе
для возвращения в Константинополь послов этих дер-
жав.
В сентябре 1828 г. в беседах с австрийскими, гол-
ландскими и прусскими представителями реисулькюттаб
высказывал сожаление по поводу того, что война с
Россией нарушила дружественные связи Порты со
странами Европы, что торговля в Средиземном море
парализована и все европейские страны, которые ус-
пешно торговали с Османской империей или пользова-
лись черноморскими проливами, терпят огромные
убытки.
Пертев-паша подчеркивал, что Порта хотела бы
восстановить все нарушенные войной связи с Европой и
лишь непримиримая позиция России мешает восстанов-
лению мира. Реисулькюттаб выказывал готовность при-
нять русских уполномоченных для ведения переговоров
и заключить мир на основе статус-кво и невмешатель-
ства России в греческие дела. В противном случае, за-
явил он, Порта будет продолжать войну до победного
конца 144. При этом Пертев-паша уклонялся от ответов
на вопросы послов по поводу французской экспедиции,
отговариваясь необходимостью получить дополнитель-
ные сведения от Мухаммеда Али, в действительности
же не желая осложнять отношения с Францией. При-
сутствие французского корпуса в Пелопоннесе, который
к тому же получил приказ не выходить за пределы по-
луострова, меньше беспокоило Порту, чем война с Рос-
сией или активные боевые действия греческих отрядов.
18 сентября 1828 г. Пертев-паша заявил Оттенфельсу:
«Высадка французов в Морее нас совершенно не бес-
покоит. Устройство греческих дел стало вопросом вто-
ростепенным. После наваринского нападения уже не
69
следует ничему удивляться. Но всемогущий справед-
лив...» 145.
Реисулькюттаб, повторяя представителям европей-
ских держав в Константинополе, что Порта сумеет соб-
ственными силами решить греческий вопрос и что ино-
странное вмешательство рассматривается султаном как
нарушение его суверенных прав, различал «вмешатель-
ство», имея в виду Россию и ее участие в решении гре-
ческой проблемы, и «обсуждение», имея в виду перего-
воры с представителями Англии и Франции в Констан-
тинополе. Воинственные речи в отношении России че-
редовались в августе—сентябре 1828 г. с заявлениями
о желании восстановить дружественные отношения с
Англией и Францией. «Пертев-паша, — отметил Оттен-
фельс, — высказывался об умиротворении Греции с без-
различием, которое чрезвычайно контрастировало с его
пылкими речами о действиях Порты против России» 146.
Турция выжидала, какие решения примут великие дер-
жавы и насколько глубоки будут противоречия между
ними.
Объективные основания для надежд, которые пита-
ла Порта, были налицо. Францию и Россию сближало
требование расширить границы будущего греческого го-
сударства. Англию и Францию связывало общее стрем-
ление не допустить укрепления влияния России в Гре-
ции и желание навязать свое посредничество в русско-
турецком конфликте. В августе—сентябре 1828 г. Мезон
занял Морею. Наступление русских войск в европей-
ской Турции замедлилось. На первом плане был грече-
ский вопрос. Противоречия великих держав вскрылись
со всей остротой и определили содержание бесед в Ар-
хипелаге русского, английского и французского пред-
ставителей, которые готовили рекомендации для Лон-
донской конференции о границах и статуте новой Гре-
ции.
В ходе Поросских встреч английский представитель
настаивал на том, чтобы Мезон остановил свои войска
или по крайней мере не выходил за пределы полуостро-
ва. Потребовался нажим Веллингтона на парижский
кабинет, чтобы генералу приказали отказаться от дей-
ствий за Коринфским перешейком, на что тот имел
предписание 147.
В вопросе о границе Франция исходила из лредлО'
70
жеиия создать полунезависимое греческое государство,
включающее Пелопоннес, Аттику, о-в Эвбею, оба берега
Лепантского залива; государство, которое не стало бы
«восьмым ионическим островом» и не подпало под пол-
ное влияние Англии, но в то же (Время не было бы обя-
зано своим существованием России, требовавшей для
Греции границ в пределах линии Арта — Воло и о-в Эв-
бею. Англия же, утверждая, что в Лондонской конвенции
и документах лондонских конференций речь шла лишь о
Пелопоннесе, настаивала на том, чтобы отодвинуть гра-
ницу к югу, на линию р. Аспропотамос, урезав границы
Греции так, чтобы она не могла существовать без под-
держки иностранной державы, какой и надеялась стать
Англия. Веллингтон заявил, что цель Лондонской кон-
венции состояла не в том, чтобы отвоевывать у Турции
какую-либо территорию, а в том, чтобы умиротворить
страну, находившуюся в состоянии мятежа 148.
Следует отметить, что британский кабинет имел в
виду умиротворение не всей Греции, а лишь Пелопонне-
са. «Если бы мы преуспели в деле эвакуации Ибрахи-
ма,—писал Абердин Стрэтфорду Каннингу 11 сентября
1828 г.,— границы Греции практически определялись бы
занимаемым положением и нас ничто не занимало бы
по ту сторону Коринфского перешейка» 149.
Русский представитель на Поросских встречах имел
указания своего правительства обсудить вопрос о раз-
граничении и с греками, и с турками. Прибытие пред-
ставителя Порты могло бы быть использовано для пе-
реговоров, касающихся непосредственно русско-турец-
кой войны. Рибопьер должен был заявить своим запад-
ным коллегам, что его страна готова дополнительно
обсудить вопрос о границах, и затем определить оконча-
тельное мнение. Несмотря на примирительный тон, ко-
торый должен был смягчить впечатление от блокады
Дарданелл и независимых действий эскадры Гейдена в
Средиземном море, Россия осторожно, но неотступно
защищала свое предложение провести границу по ли-
нии Арта—Воло. «Мы полагаем, — писал Нессельроде
Ливену 28 августа 1828 г., — что разграничение, наме-
ченное 4-го сентября (1827 г. послами Англии, Франции
и России в Константинополе. — В. Ш.), обеспечило бы
Греции пределы, необходимые для того, чтобы не под-
вергаться постоянным нападениям и не давать тем са-
71
МЫм повода для дискуссий, беспрестанно возобновлю
емых между Портой и посредничающими держава-
ми» 150.
Окончательное решение было 'принято позже, в мар-
те 1829 г., на Лондонской конференции. В 20-х чис-
лах октября в Константинополе стало известно о паде-
нии Варны. Оба эти обстоятельства — и несогласие
между европейскими державами по греческому вопро-
су 151, и крупнейшая в кампании 1828 г. военная неуда-
ча — заставили Турцию искать новых путей решения
стоявших перед ней проблем.
Порта выдвинула предложение о посредничестве ве-
ликих держав в русско-турецком конфликте. Оттенфельс
сообщал Пертев-паше, что Меттерних прилагает усилия
к созданию союза четырех государств Европы —
Австрии, Англии, Пруссии и Франции, который
должен был потребовать от России заключения мира с
Портой.
Стремясь сколотить четверной союз, Меттерних на-
правлял в Лондон статьи антирусского характера для
публикации в «Курьере» и «Морнинг Пост». Одновремен-
но производились демонстративные передвижения авст-
рийских войск 152. Все это Эстергази сообщал в Лондон,
а Оттенфельс — в Константинополь. Меттерних хотел
убедить Англию в том, что без вмешательства великих
держав война между Россией и Турцией затянется на-
долго и это неизбежно приведет к серьезным политиче-
ским потрясениям в Европе. Меттерних всячески ободрял
Порту и вселял уверенность в помощь Австрии и Анг-
лии 153. Оттенфельс говорил Пертев-паше, что позиции
Вены и Лондона в отношении возможного посредниче-
ства великих держав на будущих мирных переговорах
между Россией и Турцией совпадают 154.
Не приходится сомневаться в том, что эти заверения
австрийского представителя оказывали влияние на Ди-
ван, который в конце октября 1828 г. принял решение
добиваться общего посредничества великих держав.
В начале ноября 1828 г. Пертев-паша имел ряд встреч
с драгоманами: австрийского посольства Гуссаром, гол-
ландского — Цуйленом и прусского — Степовичем,
4 ноября реисулькюттаб сказал Гуссару, что Порта мог*
ла бы согласиться на предложения держав по греческо-
му вопросу, если державы будут уважать суверенные
72
права султана в отношении его подданных — греков. Он
тут же добавил, что мир для Турции и для всей Европы
может быть восстановлен лишь в том случае, если вели-
кие державы, собравшись на конгресс, взаимно гаран-
тируют территориальную целостность и уважение к пра-
вам владения. «Только тогда, — сказал Пертев-паша, —
можно будет надеяться на длительный мир, как тот
столь же памятный, сколь славный, который был ре-
зультатом Венского конгресса» 155.
Реисулькюттаб вновь подчеркнул, что переговоры с
царским правительством и решение греческого вопроса
представляют два разных предмета, которые не подле-
жат одновременно ни обсуждению, ни завершению, по-
скольку первый, т. е. мир с Россией, должен быть ито-
гом «торжественного и официального договора», тогда
как по греческому вопросу не может быть, как сказал
Пертев-паша, заключено соглашение, навязанное Порте
силой. Реисулькюттаб, видя в России инициатора гре-
ческой революции, постоянно повторял европейским
дипломатам, что вмешательство этой державы в грече-
ские дела для Порты более ненавистно, чем сама
смерть156. Пертев-паша не отвергал принципиальной
возможности мирных переговоров, но категорически воз-
ражал против поддержки Россией греков. «Я пола-
гаю,— сказал Пертев-паша в беседе с драгоманами,—
что Россия охотно согласилась бы заключить мир, если
бы мы могли уступить ей в греческом вопросе, по-
скольку здесь был бы осуществлен ее основной прин-
цип. Но мы слишком хорошо знаем,— продолжал
он,—ее намерения, ее коварные и разрушительные
планы» 157.
Устами реисулькюттаба Порта выдвинула свои усло-
вия мира: в обмен на возвращение всех крепостей, за-
нятых русскими войсками, и на отказ России от вме-
шательства в разрешение греческого вопроса Турция
признает Аккерманскую конвенцию. Непременным усло-
вием заключения мирного договора Порта стала счи-
тать посредничество и, более того, гарантию третьей
стороны, представленной европейскими державами.
«Какого бы самого выгодного и хорошего мира ни
предложила нам Россия, — сказал Гуссару Пертев-па-
ша, —мы бы безусловно никогда его не подписали без
официальной и торжественной гарантии других дер-
73
жав — наших друзей» 158. Реисулькюттаб не преминул
отметить, что гарантия в отношении мирного договора
не должна распространяться на греческий вопрос, так
как соглашения с Россией не должны включать эту
проблему, которая всегда будет рассматриваться обо-
собленно. Пертев-паша выдвинул еще одно условие,
когда сказал, что еще до начала мирных переговоров
Порта хотела бы получить «официальное и твердое»
заявление венского и берлинского кабинетов о том, «что
Россия, движимая подлинно мирными намерениями,
искренне желает мира, отказывается от своих неспра-
ведливых претензий к Османской империи, желает вести
переговоры на принципах справедливости и уважения
интересов Порты и впредь не будет вмешиваться в гре-
ческие дела». По мнению Пертев-паши, вблизи распо-
ложения русских войск можно было бы тогда подписать
перемирие и договориться о дальнейших переговорах о
мире159. Таким образом, к 11 ноября 1828 г. Порта из-
ложила свои условия мира с Россией, который должен
был под гарантией и при посредничестве европейских
держав восстановить довоенное положение и не допу-
стить русского вмешательства в окончательное разре-
шение греческого вопроса.
В середине ноября 1828 г. реисулькюттаб обратился
к представителю нейтральной державы — датскому по-
сланнику в Константинополе барону Гюбшу с просьбой
узнать через датское посольство в Петербурге, будут ли
приняты командованием 2-й армии турецкие уполномо-
ченные и будет ли объявлено перемирие, по крайней
мере на время их пребывания в штаб-квартире русской
армии. Одновременно Порта предлагала произвести об-
мен пленными.
Начиная войну, Россия заявила о том, что о пре-
кращении военных действий не может быть и речи до
тех пор, пока не будет подписан мирный договор. Одна-
ко, получив сообщение о мирной инициативе Порты, в
Петербурге отступили. Гюбшу было предложено 160 со-
общить Пертев-паше, что русское правительство готово
оказать турецким представителям самый благожела-
тельный прием, подготовить и заключить мирный дого-
вор на объявленных ранее в апрельской декларации
1828 г. условиях. Россия выразила готовность устано-
вить перемирие на срок переговоров. Если же они ока-
74
жутся безрезультатными, то после 3 февраля 1829 г.
2-я армия возобновит военные действия. Местом пере-
говоров предлагался Аккерман. Русская сторона бра-
лась доставить турецких представителей к месту пере-
говоров и обеспечить им надлежащие условия. Получив
из Петербурга соответствующие бумаги, Гюбш ознако-
мил Пертев-пашу с русскими предложениями. Около
месяца Порта хранила молчание, причем сам факт об-
мена мнениями с Россией тщательно скрывали от ши-
рокой общественности.
В январе 1829 г. Пертев-паша заявил Гюбшу, что
Порта отказалась от проведения переговоров под тем
предлогом, что она не знает в точности русских усло-
вий мира и сомневается, встретят ли ее представители
достойный прием. Более абсурдный предлог для отказа
трудно было придумать. Условия мира были изложены
в апрельской декларации и в письме Нессельроде к ве-
ликому везиру от 26 апреля 1828 г.; наконец, «отпуска-
емым с миром» пленным пашам Мачина, Браилова и
других крепостей Николай I, находившийся летом
1828 г. при армии, поручил повторить условия заключе-
ния мира. Подлинная причина отказа Турции от пере-
говоров состояла в том, что воинственная группировка
в правящих кругах оказалась сильнее мирной и, считая
внешнеполитическое положение страны достаточно бла-
гоприятным, повела подготовку к новой кампании.
* * *
Летом и осенью 1828 г. с небольшими перерывами
продолжала свою работу конференция великих держав
в Лондоне. Абердин, Ливен и Полиньяк (посол Фран-
ции в Лондоне) обсуждали формы государственного
устройства и намечали границы греческого государства.
По предложению Полиньяка 16 ноября 1828 г. Лондон-
ская конференция приняла постановление распростра-
нить гарантию трех держав на Пелопоннес и Киклады
и продлевать ее до тех пор, пока не будет окончатель-
но решена судьба Греции. Корпус Мезона должен был
покинуть полуостров, оставив на нем лишь несколько
французских отрядов. Порте предлагалось приступить
к переговорам с союзными державами по греческому
вопросу 161.
75
Вопреки возражениям Ливена было принято реше-
ние, не включенное, правда, в протокол, о возвращении
в Константинополь английского и французского послан-
ников, которые должны были содействовать установле-
нию мира в Греции. В конце ноября через голландское
посольство Порта узнала о решении Лондонской кон-
ференции. В правящих кругах Османской империи со-
чли, что раз речь идет лишь о Морее и Франция к тому
же выводит оттуда свои войска, то Англия и Франция
готовы ограничить свои требования пределами полу-
острова, оставив всю континентальную Грецию в без-
раздельном владении султана. Известие о будущем
приезде английского и французского послов, чего Порта
тщетно добивалась в июне—июле 1828 г., было расце-
нено как большой успех турецкой дипломатии 162. И еще
два обстоятельства сыграли немаловажную роль в от-
казе Порты от переговоров с Россией.
В 20-х числах ноября 1828 г. Порте стало известно
о вербальной ноте русского правительства от 26 октяб-
ря 1828 г.; в ней Россия объявила западным державам
о подготовке новой кампании, которая должна при-
вести к полной победе над Турцией. В ноте повторялись
объявленные ранее условия мира. Это заявление России
и последовавший вскоре ноябрьский протокол трех дер-
жав Порта сочла доказательством разногласий между
союзниками. По мнению Порты, Россия подтвердила
свои агрессивные намерения в отношении Турции, тогда
как Англия и Франция готовы были Турцию поддер-
жать 163. В начале декабря 1828 г. Оттенфельс сообщил
Пертев-паше, что Меттерних обратился к Англии, Фран-
ции и Пруссии с предложением созвать конгресс евро-
пейских держав, который должен был бы выработать
условия мира, обязательные для обеих стран — и для
России, и для Турции 164.
Идея общеевропейского посредничества в русско-ту-
рецкой войне полностью отвечала требованию Порты о
гарантировании западными державами мира между Рос-
сией и Турцией, выдвинутому Пертев-пашой в ноябре
1828 г., и как бы подтверждала заверения австрийского
посла о полной поддержке Вены. Если припомнить, что
в начале ноября 1828 г. Англия и Франция довели до
сведения Порты, что их корабли не принимают участия
в блокаде русской эскадрой Дарданелл, а спустя месяц
76
Оттенфельс сообщил Пертев-паше, что по предложению
Меттерниха Англия и Франция потребовали от России
предоставить английскому и французскому представи-
телям в Константинополе право посредничества в рус-
ско-турецком конфликте 165, нетрудно понять, почему в
20-х числах декабря 1828 г. Диван принял решение от-
казаться от переговоров с Россией, а в донесениях из
Константинополя во второй половине декабря появились
такие строки: «Партия мира оттеснена, а партия войны
сейчас всецело царит в Диване. Там надеются, что
упорным сопротивлением Порта добьется помощи вели-
ких держав» 166.
Наряду с дипломатическими маневрами султан и его
ближайшее окружение видели в организации упорного
сопротивления, в мобилизации всех сил страны средство
решения ряда внутриполитических трудностей. Регуляр-
ные воинские формирования доказали свою боеспособ-
ность. Кампания 1829 г. должна была закрепить первые
успехи новых войск в сознании всех сомневающих-
ся в жизнеспособности нововведений Махмуда II и по-
служить наглядным примером агитации в пользу широ-
ких реформ в различных областях жизни Османской
империи 1б7.
Успешная борьба с таким могущественным против-
ником, как Россия, должна была поднять авторитет
султана в борьбе с противниками — и с теми, которые
призывали к миру, и с теми, кто цеплялся за отживший
институт янычарства и готовил заговоры в столице 168.
По мнению самого султана, война способствовала спло-
чению всех турок и, как писала газета, давала «России
и Европе почувствовать силу турецкого духа и доказы-
вала, что дело решает не только масса обученных мар-
шировать людей» 169. Султан и те из его окружения, ко-
торые ратовали за войну, подавили оппозицию, высту-
павшую за мир, и сознательно отвергли возможность
соглашения с Россией. Запрос Порты в ноябре 1828 г.
по поводу переговоров с представителями русского пра-
вительства трудно расценивать иначе, чем зондаж по-
литических позиций противника.
£ * *
Правящие круги Османской империи строили воен-
ные и политические планы новой кампании в расчете
77
на углубление конфликта между Россией и ее союзни-
ками и в надежде на военную и дипломатическую по-
мощь Австрии и Англии. Определенные надежды пока
еще возлагались на Иран. Начиная войну с Россией,
Порта заручилась обещанием шаха открыть военные
действия против русских войск на Кавказе. В конце
1828 г. в Тегеране были готовы на разрыв дипломати-
ческих отношений с Россией, находя в этом полную
поддержку Англии. Британская дипломатия положи-
тельно отзывалась о возможном турецко-иранском
союзе против России 17°.
В декабре 1828—январе 1829 г. в Тебриз прибыл по-
сланник Порты Таиб-эфенди, который за поддержку
Ираном действий турок на Кавказе обещал возместить
уплаченную им России контрибуцию и возвратить поте-
рянные по Туркманчайскому миру территории. В Кон-
стантинополе находился посланник шаха Мехмед Ше-
риф Ширвани, который подвергался «соответствующей
обработке» со стороны Пертев-паши171. Убийство
А. С. Грибоедова (11 февраля 1829 г.) послужило, как
уже отмечалось, сигналом к началу действий турецкой
армии на Кавказе. Вскоре стало известно, что Аббас-
мирза согласен заключить союз с Портой и уже объ-
явил о наборе войск в Иранском Азербайджане, а Мехмед
Ширвани и Пертев-паша в Константинополе подгото-
вили соответствующие документы 172.
Царское правительство, дабы не обострять накануне
новой кампании отношения с Ираном и с Англией, за-
няло позицию сознательного пренебрежения политиче-
ским характером событий 11 февраля. Английских
представителей в Иране было приказано считать непри-
частными к убийству русского посла173. Аббас-мирза
направил в Россию «извинительное посольство». Шах-
ское правительство выразило желание сохранить мир с
Россией. Турецко-иранский союз расстроился, поскольку
правительства России и Ирана сочли для себя более
выгодным сохранить мирные отношения. Мехмед Шир-
вани пробыл в Константинополе до конца июня. Спустя
10 дней после прибытия (18 июня 1829 г.) послов Анг-
лии и Франции иранский представитель выехал на ро-
дину. Надежда Порты на помощь с востока оказалась
тщетной, как, впрочем, и расчеты на военную поддерж-
ку Англии и Австрии.
78
Антирусские интриги Меттерниха, его попытки со-
звать общеевропейский конгресс или любым другим
путем вмешаться в русско-турецкую войну встречали,
как говорилось выше, сочувствие и полное понимание в
Лондоне. Чуткие барометры политических настроений
в столице — «Таймс» и «Курьер» изобиловали статьями
о русской угрозе британским позициям на Ближнем
Востоке и в Индии. Председатель Контрольного совета
Ост-Индской компании лорд Элленборо174, известный
авторитет в военных кругах, один из ближайших со-
трудников Веллингтона полковник Эванс де Ласи, анг-
лийский посланник в Тегеране Макдональд и их едино-
мышленники без конца повторяли: «Индия в опас-
ности». Однако «зародышу объявления войны России»
(выражение Нессельроде) не суждено было развиться.
Правительство Веллингтона считало преждевремен-
ным идти на прямой разрыв с Петербургом. Доказа-
тельством тому могла служить позиция Англии в воп-
росе блокады проливов. Веллингтон осыпал Ливена
градом упреков, заявил в октябре 1828 г., что не может
быть и речи о совместных акциях в рамках Лондонской
конвенции, угрожал действиями британского флота, но
окончил просьбой — только бы Россия не блокировала
Кандию (Крит), которую Англия стремилась прибрать
к рукам 175.
В Лондоне выслушивали представления австрийско-
го посла Эстергази, но, когда потребовались конкрет-
ные действия по созыву международного конгресса, как
настаивал Меттерних, Веллингтон отказался от практи-
ческого участия в планах венского двора. В первых
числах января 1829 г. он писал Абердину, что Австрия,
несмотря на бряцание оружием, воевать с Россией не
сможет, имея против себя Пруссию и будучи связана
Францией на Рейне и в Италии 176. Поэтому Англия
должна отказаться от вмешательства в русско-турецкую
войну, которая приобрела бы в таком случае общеевро-
пейский характер, что не входит в намерения Лон-
дона 177.
Большой знаток всех тайных пружин европейской
дипломатии русский посол в Париже Поццо-ди-Борго в
своих донесениях в Петербург указывал, что. Англия в
случае войны с Россией была бы лишена союзников:
Франция поддерживает Россию, а вместе с Пруссией
79
они сковали бы действия Австрии. «К тому же, — писал
он,— герцогу (Веллингтону.— В. Ш.) не безразличны
проблемы экономического порядка, поскольку прекра-
щение торговли с Россией, которая доставляет в Англию
подавляющую часть сырья, было бы для него столь же
чувствительно, как и для России. Он может дать согла-
сие на вооружение Австрии и в то же время отсовето-
вать ей это делать, поскольку это послужило бы при-
зывом к оружию для всей Европы, а герцог этого не
хочет... Таковые соображения, — продолжал Поццо-ди-
Борго, — позволяют думать, что мы можем не бояться
открытого разрыва с Англией и что она ограничится
советом Порте просить мира и предложит ей свои
„добрые услуги“ в период переговоров, но дальше этого
не пойдет, даже если султан откажется от „добрых
услуг“ Англии, или мы будем настаивать на объявлении
второй кампании» 178.
Как бы подтверждая слова Поццо-ди-Борго, министр
иностранных дел Англии Абердин 26 декабря 1828 г.
направил послу в Вене лорду Коули депешу-инструк-
цию, озаглавленную «О мерах, которые надлежит пред-
принять, чтобы достичь умиротворения России и Пор-
ты» 179. Читая этот документ, приходишь к выводу, что
британский кабинет твердо решил воздержаться от пря-
мого вмешательства в русско-турецкий конфликт. Абер-
дин считал, что в данных условиях было невозможно
осуществить предложение Порты о посредничестве дер-
жав в переговорах с Россией и дать гарантию русско-
турецкого мирного договора. Он писал, что, пока Порта
не примет условия Лондонской конвенции, Англия и
Франция не смогут эффективно содействовать ни уста-
новлению мира, ни сохранению трона султана. Эти
державы, продолжал он, имея в виду Лондонскую кон-
венцию, связаны общим договором, которому они не-
укоснительно следуют, несмотря на неожиданное разно-
гласие с одной из сторон 18°. Абердин 'предпочитал сна-
чала добиваться решения греческого вопроса на основе
протокола Лондонской конференции от 16 ноября
1828 г., а затем заставить Порту принять условия Лон-
донской конвенции 1827 г. По его мнению, это был бы
успех, который содействовал бы восстановлению обще-
го мира намного больше, чем любая попытка проведе-
ния прямых переговоров с Россией.
80
По исполнении Лондонской конвенции, по мнению
Абердина, Англия и Франция могли бы объединить
свои усилия для достижения великой цели — умиротво-
рения. «Мир был бы восстановлен при посредничестве,
которое обеспечило бы его прочность» 181. Эти планы в
случае реализации призваны были связать руки России
и свести на нет любые успехи, которых она могла бы
добиться в ходе новой кампании. В том, что военное
счастье не будет сопутствовать туркам, Абердин не сом-
невался. Впрочем, судьба Турции интересовала англий-
ское правительство ровно настолько, насколько круше-
ние Османской империи могло нарушить собственные
интересы британской короны и поколебать политическое
равновесие, установившееся в Европе после Венского
конгресса. Как писал в этой депеше Абердин, «его в-во
искренне желает независимости и незыблемости Турец-
кой империи, но его сердцу еще ближе сохранение соб-
ственного его достоинства».
В случае падения Порты под ударами русской ар-
мии английское правительство беспокоила перспектива
гражданской войны и революционных потрясений в Тур-
ции, прежде всего на Балканах. Отметив необходимость
«искреннего сотрудничества Англии и Австрии в деле
установления, пока еще есть время, мира на Леванте»,
Абердин писал, что путь к миру лежит через признание
Портой Лондонской конвенции. Англия и Австрия
должны были убедить Порту признать ее как можно
скорее. Тогда Англия и Франция будут свободны от сво-
их обязательств по конвенции и предложат России те
условия мира с Турцией, какие сочтут «справедливыми
и подобающими».
В феврале 1829 г. Абердин напомнил Коули, что
Англия не примет участия ни в каком антирусском сою-
зе. Британский министр иностранных дел писал, в част-
ности: «Следует сообщить Меттерниху, что не только
никакой план, подобный выдвинутому им, никогда бы
не был представлен правительству е. в-ва для утверж-
дения, но правительство вообще не знает о существова-
нии когда-либо подобного проекта» 182. Не приходится
сомневаться, — дальнейшие события, впрочем, подтвер-
дили это, — что Англия отнюдь не желала рисковать
своими интересами ради Порты.
Более всех ратовал за помощь Турции австрийский
6 Зак. 851 81
канцлер, но, после того как другие державы отвергли
его предложение о созыве европейской конференции по
умиротворению, Меттерних поспешил заявить русскому
послу в Вене Татищеву, что война между обеими импе-
риями — Австрией и Россией — немыслима 183. В начале
января 1829 г. в Петербург отправился австрийский по-
сланник Фикельмон, доверенное лицо Меттерниха. Он
имел предписание заверить Николая I в том, что Авст-
рия останется нейтральной в новой кампании России с
Турцией и готова содействовать заключению мира меж-
ду воюющими странами 184. Австрия не могла бы высту-
пить вне союза с Англией, которая не хотела разрыва с
Россией. К тому же Франция заявила, что поддержит
Россию в случае конфликта в Европе 185. Это означало,
что Австрии пришлось бы сражаться на Рейне, в Ита-
лии и на Дунае, а Пруссия, которая, так же как Фран-
ция, придерживалась дружбы с Россией, угрожала бы
Австрии с севера. Меттерниху оставалось лишь убеж-
дать Порту в том, что она должна ориентироваться на
западные державы и принимать их требования. В инст-
рукции Оттенфельсу 10 декабря 1828 г. 186 Меттерних
писал, что единственная занимающая его мысль — это
будет ли Диван достаточно мудр и предусмотрителен,
чтобы понять подлинную ценность преимуществ, кото-
рые Турция имела бы в результате сближения с прави-
тельствами западных держав.
Таким образом, Порта могла рассчитывать на пря-
мую военную помощь Австрии еще менее, чем на по-
мощь Англии. Ираном, Англией и Австрией ограничи-
вался круг потенциальных союзников Османской импе-
рии в начале второй кампании. Франция и Пруссия
заявили о полной поддержке России. Другие государ-
ства Европы не играли самостоятельной роли в поли-
тической жизни. Порта оставалась одна на решающем
этапе войны с Россией и не могла рассчитывать на
реальную помощь извне 187.
* * *
В течение зимы и весны 1829 г. Пертев-паша повто-
рял европейским дипломатам, аккредитованным в Кон-
стантинополе, что турецкое правительство исполнено
желания решить греческий вопрос совместно с послами
82
Англии и Франции, возвращения которых с нетерпени-
ем ждет. Столь же категорично, как и в ноябре—декаб-
ре 1828 г., Пертев-паша возражал против участия рус-
ского представителя в переговорах, касающихся Гре-
ции 18в. По сообщениям из Константинополя, некоторые
риджалы из партии мира, избежавшие репрессий, на-
стаивали на том, чтобы приезд французского диплома-
тического агента Жобера и приход в столицу в ноябре
1828 г. русского брига с дипломатической почтой ис-
пользовать для переговоров с Россией. Однако их пред-
ложения были отвергнуты 189. В 10-х числах февраля
1829 г. стало известно, что сказал реисулькюттаб в бе-
седе с Жобером и Гюбшем: Порта готова начать пере-
говоры с послами Англии и Франции на турецкой тер-
ритории — либо в Константинополе, либо на о-ве Ясыа-
да в Мраморном море, куда он, Пертев-паша, прибудет
лично, но что не может быть и речи об участии в пере-
говорах представителя России 19°. Аналогичные выска-
зывания руководителя турецкого ведомства иностранных
дел имели место и в марте—мае 1829 г.
В середине апреля 1829 г. в Константинополе узнали
содержание протокола Лондонской конференции от
22 марта 1829 г. о предоставлении Греции, провозгла-
шаемой наследственной монархией во главе с королем-
негреком, в границах Арта—Воло полной автономии в
вопросах внутренней и внешней политики при сохране-
нии суверенитета Порты и выплате ежегодной дани в
1,5 млн. турецких курушей. Порте было известно, что
вскоре в Константинополь прибудут для реализации
этого документа послы Англии и Франции. Необходимо
было срочно разработать контрпредложения по умиро-
творению Греции, чтобы представить их для обсужде-
ния послам и уклониться от исполнения мартовского
протокола, а тем временем попытаться добиться перело-
ма в войне с Россией. Турецкие части на Дунае и на
Кавказе первыми в кампании 1829 г. начали военные
действия, и медленно развертывавшая наступление ар-
мия Дибича не внушала Порте в первые военные меся-
цы серьезных опасений 191.
В начале мухаррема 1245 г. х. (в июле 1829 г.) был
издан султанский фермам 192, который должен был, по
мнению правящих кругов Турции, решить все затрудне-
ния в греческом вопросе. Грекам объявлялось полное и
б*
83
всеобщее прощение. В фермане говорилось, что вся
движимость и недвижимость, которой владели ранее
турки или христиане, должна быть возвращена их
прежним владельцам, что все крепости и укрепленные
пункты, занятые греками или иностранными войсками,
подлежат возврату Порте вместе с артиллерией, что в
крепостях будут вновь находиться турецкие гарнизоны.
Ферман обещал всем обитателям Морейского полуостро-
ва без различия веры защиту законом права собствен-
ности и уважения личности, объявлял, что турецкие
власти будут покровительствовать развитию торговли и
ремесел. Управление Грецией сохранялось за пашой, на-
значаемым султаном. Местное управление должно
было осуществляться с помощью привилегированного
слоя местных землевладельцев, кодзабасов, избираемых
населением, но утверждаемых Портой. Два кодзабаса
могли представлять интересы Греции при Порте; вос-
станавливалась должность грека-драгомана при турец-
ком паше — правителе Морей. Сбор налогов поручался
кодзабасам под наблюдением турецких чиновников.
Вносить налоги в размере, существовавшем до начала
восстания 1821 г., полагалось коллективно жителям
каждого поселения. «Милостью падишаха» уплата на-
логов откладывалась на один год. В заключительной
части ферман содержал ряд заверений в том, что все
обещания будут Портой неукоснительно исполняться.
Вечером 18 июня 1829 г. в Константинополь прибы-
ли торжественно встреченные представителями Порты
послы Англии и Франции. Английский посол Гордон и
его французский коллега Гильемино представляли три
союзные державы 193, подписавшие Лондонскую конвен-
цию: Англию, Францию и Россию. Они везли Порте про-
токол Лондонской конференции от 22 марта 1829 г. и
должны были, как значилось в их инструкциях, содей-
ствовать скорейшему умиротворению Греции194.
Стремление Порты урегулировать греческий вопрос
с представителями Англии и Франции, казалось, было
близко к осуществлению. Между тем проект фермана о
Греции был еще не вполне завершен. Поэтому Пертев-
паша в течение двух недель откладывал под разными
предлогами официальный прием послов. Наконец,
6 июля Гордон был торжественно принят замещавшим
великого везира, который находился в Шумле, каймака-
84
мом Хулюси-пашой. 9 июля оба посла получили аудиен-
цию у Пертев-паши, вручили ему ноту с изложением
протокола от 22 марта 1829 г. и заявили, что готовы
всемерно содействовать восстановлению мира в Гре-
ции 195. Конкретных предложений к реализации прото-
кола нота послов не содержала 196. В ответ реисулькют-
таб прочитал послам проект хатт-и шерифа, в котором
было изложено содержание упоминавшегося фермана о
Греции. Проект хатт-и шерифа, подготовленный Пертев-
пашой, в точности повторял все доводы, которые содер-
жались в ляйихе Акиф-эфенди и Пертев-паши, написан-
ной ими в ноябре 1828 г. Теперь, год спустя, Пертев-
паша в хатт-и шерифе повторял: «Позволить части дав-
них подданных Высокой Порты выйти из зависимого
состояния реайятов, оставить им мусульманские земли
и наследие падишаха — крепости означало бы признать
существование отдельного управления и дать свое со-
гласие на освобождение греческой реайи. Этому проти-
воречат правила религии Высокой Порты, что и являет-
ся самым веским основанием единственного решения
этого вопроса. В самом деле, — говорилось в хатт-и ше-
рифе, — разве мог бы суверенный властелин допустить
существование в своей империи отдельного управления,
а если бы и допустил это предположение, то сколько бы
недоразумений и несчастий это повлекло за собой и
сколь пагубное влияние оно оказало бы во всех му-
сульманских провинциях империи» 197.
Зачитав проект хатт-и шерифа, реисулькюттаб за-
явил Гордону и Гильемино, что протокол от 22 марта
не может быть принят Портой. «Однако, — сказал он, —
если послы согласятся в принципе с нашим толковани-
ем греческого вопроса, переговоры могли бы успешно
завершиться в ходе одного заседания». Пертев-паша
сказал далее, что послы могут, конечно, рассматривать
проект хатт-и шерифа как несуществующий, но в этом
же смысле будет дан и официальный ответ на ноту пос-
лов (от 9 июля. — В. Ш.), и что это окончательное ре-
шение Порты 198. После этой встречи Пертев-паши с пос-
лами прошло три недели, прежде чем последовала нота,
в которой турецкое правительство отказалось признать
мартовский протокол.
Военное положение Порты в ходе второй кампании
осложнилось. Русские войска заняли такие стратегически
85
важные крепости, как Силистрия и Эрзурум, на Кавка-
зе нанесли поражение Хаккы-паше, а на Дунайском
театре 2-я армия перешла Балканы 'и -вышла в Южную
Болгарию. Стратегический план Махмуда II, принятый
в начале войны, оказался несостоятельным. Дибич,
войска которого продвигались в направлении Адриано-
поля, предложил великому везиру Решид-паше начать
переговоры о мире. Порта, однако, еще не выработала
окончательного решения по поводу условий мирного до-
говора. Оказалось, что послы не склонны немедленно
взять ее под защиту. Турецкая дипломатия сделала
просчет. Порта начала предварительные переговоры с
Дибичем и одновременно предприняла новые демарши,
пытаясь добиться содействия послов Англии и Франции
при заключении мирного договора с Россией. Такие
элементы внешней политики Османской империи в пе-
риод лета 1828—весны 1829 г., как стремление закон-
чить войну на основе посредничества и гарантий запад-
ных держав, наметившаяся готовность к переговорам с
Англией и Францией по греческому вопросу, настойчи-
вые попытки уменьшить влияние России на решение
судьбы Греции, нашли продолжение и развитие в пе-
риод подготовки, заключения и начала реализации
Адрианопольского договора.
ГЛАВА II
ПОДГОТОВКА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АДРИАНОПОЛЬСКОГО ТРАКТАТА
Подготовка русского и турецкого проектов
мирного договора
В середине мая 1829 г. командующий Дунайской ар-
мией И. И. Дибич получил из Петербурга проект мир-
ного договора с объяснениями к нему, а также ре-
скрипт, уполномочивавший его вести переговоры с
турецкими представителями и подписать мир Ч В ре-
скрипте Николая I говорилось: «Назначая вас коман-
дующим Дунайской армией, мне доставило удовольст-
вие сделать вас носителем моих мирных намерений.
Я предлагаю вам не преминуть никаким благоприят-
ным шансом, который ход военных действий вам пре-
доставит, для принятия и рассмотрения мирных предло-
жений турок» 2.
Царское правительство считало, что «критическое
положение султана, которого тяжелая война застала за
проектами реформ, и несколько блестящих успехов,
одержанных русскими войсками, не замедлят предосте-
речь этого властелина от тех потерь, которые ему угро-
жают, и дадут ему почувствовать необходимость предот-
вратить злоключения, запросив мира»3. Дибич должен
был воспользоваться каким-либо благоприятным момен-
том и предложить великому везиру прислать своих
представителей для переговоров о мире. В качестве пре-
лиминарных, предварительных условий Дибич должен
был повторить турецким представителям четыре пункта
апрельской Декларации 1828 г.: подтверждение ранее
заключенных договоров, уплата военной контрибуции и
возмещение убытков русским торговцам, свобода торго-
87
вого судоходства в проливах, признание Портой Лон-
донской конвенции от 6 июля 1827 г. «Признание преж-
них договоров Портой должно быть необходимым пред-
варением всяких переговоров»4,— говорилось в объяс-
нениях к проекту договора.
Предложив туркам эти прелиминарии, Дибич дол-
жен был заявить, что военные действия не будут пре-
кращены в период переговоров. Предполагалось, что
великий везир может быть не готов немедленно принять
предварительные условия и должен будет запросить
Порту. Дибичу предписывалось прервать переговоры на
время, необходимое для консультаций турецких пред-
ставителей с Константинополем, и «решительно продол-
жать военные действия». Предполагалось, что турки
могут отказаться принять прелиминарии. «Это означа-
ло бы, — говорилось в инструкции, — что время для пе-
реговоров еще не наступило». Предполагался, наконец,
третий вариант — согласие турецких представителей с
прелиминариями. В этом случае Петербург предлагал
Дибичу руководствоваться двумя вариантами проекта
мирного договора — максимальным и минимальным.
К обсуждению предложить максимум требований, а
уступки сделать в соответствии с минимальным вариан-
том.
Далее в объяснении к проекту договора говорилось,
что к моменту основных переговоров следовало бы под-
готовить особую конвенцию, которая обобщала бы ос-
новные положения всех заключенных с 1774 г. догово-
ров и соглашений между Россией и Турцией5. Эта
конвенция могла бы быть предложена турецкой сторо-
не для обсуждения параллельно с мирным договором.
«Впрочем, — говорилось в объяснениях к проекту, —
настаивать на принятии такой конвенции не следует».
(Пока не удалось найти даже набросков подобной кон-
венции ни в бумагах Государственного Совета, ни в
материалах канцелярии МИД России. Предполага-
ем, что редакция статьи XV Адрианопольского дого-
вора явилась воплощением идеи упомянутой конвен-
ции.)
Нессельроде подчеркивал, что при заключении мир-
ного договора необходимо закрепить все привилегии,
полученные Дунайскими княжествами в силу прежних
договоров. Следовало добиться, чтобы Порта отменила
88
крайне обременительные для Жителей княжеств кап-
ральные поставки, требуемые сверх установленных по-
датей и налогов, установить порядок пожизненного на-
значения господарей, учредить местную милицию вза-
мен турецких наемников и передать Валахии поселения
на левом берегу Дуная, ранее принадлежавшие мест-
ным жителям, но захваченные турками 10—15 лет на-
зад 6.
В этом же разделе объяснений говорилось, что Рос-
сия не будет требовать крепостей Журжево и Браилов,
которые расположены на левом берегу Дуная, и огра-
ничится требованием разрушить Браилов. «Разрушение
Журжево, если она попадет в наши руки, также долж-
но иметь место», — писал Нессельроде. Позднее, при
заключении мира, Россия потребовала разрушения
Журжево, хотя она и не была взята русскими вой-
сками.
В отношении Сербии царское правительство не пред-
полагало добиваться никаких дополнительных уступок
со стороны Порты, но Дибичу следовало заявить турец-
ким представителям, что ни один оккупированный пункт
не будет покинут русскими войсками, если Порта не
исполнит статьи о Сербии в Бухарестском договоре и
Аккерманской конвенции.
Второй раздел объяснений был посвящен вопросу о
контрибуции. Размеры ее ни в проекте, ни в объяснени-
ях не указывались, они возрастали в подсчетах Петер-
бурга по мере продолжения военных действий с Тур-
цией. Возмещение военных расходов исключительно в
денежной форме не представлялось царскому прави-
тельству и лично Николаю I обязательным условием
договора. Еще в январе 1829 г. царь, оценивая военные
издержки в 150 млн. руб. ассигнациями, считал жела-
тельным получить возмещение в виде строевого леса,
военных кораблей или нескольких турецких крепостей
на Кавказе7. В объяснениях Нессельроде к проекту до-
говора под таковыми подразумевались Анапа, Поти,
Ахалцих и Ахалкалаки.
Успешное развитие военных действий позволило Ди-
бичу потребовать одновременно и выплаты контрибу-
ции, и передачи России этих крепостей. В конце пере-
говоров необходимо было убедить турецких представи-
телей в том, что «требуемые места, особенно Анапа,
89
представляют исключительную важность для России не
как территориальное увеличение, а как гарантия без-
опасности и будущего спокойствия всех пограничных
провинций России, и особенно азиатского побережья
Черного моря. Наконец, это средство прекратить посто-
янные конфликты, которые до сих про вызывались по-
ведением управлявших там пашей, и, следовательно,
средство потушить тлеющие искры разногласий между
Россией и Портой» 8.
Стремясь доказать стремление к доброму согласию
с Турцией, царское правительство подтвердило в проек-
те мирного договора неизменность разграничения по
р. Прут. В Петербурге не надеялись, что можно будет
добиться каких-либо выгод в этом районе и даже гото-
вы были на определенные уступки. «Е. и. в-во готов от-
казаться от занятий дунайских островов, — писал Нес-
сельроде, — получив взамен право свободы судоходства
под русским флагом на всех рукавах Дуная»9. В Адриа-
нопольском договоре было зафиксировано (статья III)
и приобретение островов в дельте реки и торговое судо-
ходство по всему течению реки. Эти положения были
включены в проект мирного договора уже в августе
1829 г.
В инструкциях Дибичу и в объяснениях к проекту
договора отмечалась исключительная важность вопроса
о судоходстве в проливах. «Следует добиться свободы
судоходства в проливах для торговых судов всех стран.
Это будет содействовать оживлению торговых связей
России со всей Южной Европой», — говорилось в объ-
яснениях. В дополнение к прежним привилегиям рус-
ского торгового флага в трактат надлежало включить
параграф о том, что «оба двора войдут в соглашение
о средствах отвратить всякую медлительность в снаб-
жении российских судов надлежащими видами при их
отправлении».
Как писал Нессельроде, наиболее выгодным было бы
полное упразднение всяких «’видов на прохождение рус-
ских и иностранных судов через проливы», т. е. упразд-
нение системы ферманов, разрешавших проход Босфора
и Дарданелл. Однако, чтобы не осложнять переговоры
«ущемлением прав суверенитета и личного престижа
султана», предлагалось представить туркам проект от-
дельного протокола о свободе судоходства, предусматри-
90
вавший упрощенную систему выдачи Портой документов
на проход проливов. Плата за проход должна была со-
храняться прежней 10. Протокол не был предложен к об-
суждению в ходе мирных переговоров, но был претво-
рен в жизнь в декабре 1829 г. усилиями чрезвычайной
русской миссии 'Во главе с А. Ф. Орловым. Никакого
упоминания о проходе военных кораблей России через
проливы ни проект, ни объяснения к нему не содержа-
ли. В ходе переговоров в Адрианополе подобное тре-
бование, как будет показано ниже, также не выдвига-
лось.
Касаясь последнего, четвертого условия максималь-
ного варианта мирного договора, Нессельроде писал в
объяснениях, что протокол Лондонской конференции от
22 марта 1829 г. — «вполне основательная база для
урегулирования греческого вопроса. Можно надеяться,
что в период мирных переговоров, которые будут обес-
печены военными действиями, окажется возможным до-
биться принятия Портой Лондонского трактата» п.
В проекте договора говорилось лишь о конвенции
от 6 июля 1827 г. Требование о признании Портой
мартовского протокола было выдвинуто в августе
1829 г.
Таковы были условия максимального варианта про-
екта мирного договора.
Минимальный вариант не был представлен полным
анализом будущих статей договора. Он был разбит на
две части. В одной части в изложении давались статьи,
не подлежавшие изменению или обсуждению, а в дру-
гой — те, которые могли стать предметом обсуждения
на переговорах с турецкими представителями. Условия
минимального варианта, помеченные рукой Нессельро-
де sine que non *, полностью соответствуют четырем
предварительным условиям, упомянутым в максималь-
ном варианте. Обсуждению и возможному изменению
подлежали положения о разграничении. Так, Дибич
должен был оставить за Россией лишь два острова в
Дунайском гирле — Чатал и Лети, а те острова, кото-
рые находились между Сулинским и Георгиевским гир-
лами, можно было возвратить Турции, если бы турецкая
* «Без него нет» (лат.). Условие sine que non, т. е. совершенно
необходимое. — Ред.
91
сторона на этом настаивала. «Преамбула статьи IV (о
кавказской границе. — В, Ш.) могла быть изменена и
укорочена, за исключением последнего параграфа о
возвращении Порте Карса, Баязида и Эрзурума» 12. Воз-
вращение туркам этих крепостей должно было свиде-
тельствовать о мирных намерениях царского прави-
тельства. На усмотрение Дибича предоставлялся вопрос
об уменьшении контрибуции (торговая индемнизация в
1,5 млн. голландских дукатов оставалась в числе усло-
вий sine que non), а также порядок и время выведения
русских войск из Турции. Указывалось, что вывод
войск должен был быть согласован с последовательным
исполнением статей мирного договора о Сербии, об ин-
демнизации и судоходстве. Нессельроде предлагал
Дибичу проявить внимание к требованиям турецкой
стороны при согласовании формулировки статьи VII об
установлении нового режима судоходства.
Таковы были подлежавшие обсуждению положения
минимального варианта проекта мирного договора, под-
готовленного Россией. В этом документе нашла наибо-
лее полное отражение концепция ряда видных предста-
вителей русской политической мысли (Д. В. Дашков,
К. В. Нессельроде, В. П. Кочубей) относительно сохра-
нения на южных рубежах России ослабленной, но суве-
ренной Турции во главе с представителем османской
династии. В период войны 1828—1829 гг. в Петербурге
дискутировался ряд проектов устройства судьбы бал-
канских народов в случае падения Порты 13. Проекты
мирного договора и объяснения к нему подобных сюже-
тов не содержали — в Петербурге окрепло мнение, что
войну нужно кончать, возможно скорее договорившись
с режимом Махмуда II.
Получив проект мирного договора и инструкции, Ди-
бич вскоре приступил к реализации указаний начать
переговоры при первом же благоприятном случае.
Спустя день после сражения при Кулевче Дибич через
парламентера предложил великому везиру, находивше-
муся в Шумле, забрать раненых турок и похоронить
убитых по мусульманскому обычаю. Решид-паша при-
нял предложение и через своего адъютанта дал понять
Дибичу, что есть весьма важные вопросы, которые сле-
довало бы обсудить 14. 14 июня Дибич направил к Ре-
шид-паше начальника дипломатической канцелярии
92
штаба 2-й армии А. А. Фонтона, ранее служившего в
составе русской миссии в Константинополе и свободно
владевшего турецким языком. В письме, которое Фон-
тов должен был передать великому везиру, Дибич пи-
сал, что имеет полномочия вести мирные переговоры.
Утром 14 июня Фонтон вышел к аванпостам турец-
кой армии. Он передал офицеру регулярных частей
письмо Дибича и изложил цель своего прихода. Два
часа спустя приехал Нури-эфенди, начальник походной
канцелярии великого везира. Он доставил ответное
письмо великого везира к Дибичу и согласовал с Фон-
тоном вопрос о следующей встрече. В непродолжитель-
ной беседе Нури-эфенди интересовался предварительны-
ми условиями переговоров. Ознакомившись с письмом
Решид-паши, который просил сообщить условия пере-
мирия, Дибич на следующий день, 15 июня, вновь от-
правил Фонтона под стены Шумлы. Там его встретил
Решид-бей, личный секретарь великого везира. Он со-
общил, что великий везир отправил в Константинополь
гонца за указаниями. «Что же будет взято за исходную
точку переговоров?» — спросил с нетерпением Решид-
бей. Фонтон ответил, что условия мира были изложены
Россией в самом начале войны. «Пусть перечтут заново
Декларацию и письмо вице-канцлера от 26 апреля
1828 г., — сказал он. — Там найдут основы будущего
мира» 15.
Решид-бей ответил, что не может сейчас припомнить
все положения Декларации, что сам великий везир в
дипломатических делах новичок и что найти документы
в лагерном архиве невозможно. Решид-бей просил тек-
стуально изложить основные положения русской Дек-
ларации от 26 апреля 1828 г. Фонтон написал по-ту-
рецки эти условия: подтверждение Портой всех заклю-
ченных ранее русско-турецких договоров, и особенно
Аккерманской конвенции, выплата контрибуции и воз-
мещение убытков русским торговцам, свобода торгово-
го судоходства ® проливах, принятие к исполнению Лон-
донской конвенции от 6 июля 1827 г.16. Как докладывал
затем Фонтон Дибичу, вся беседа протекала в друже-
ской, непринужденной атмосфере. Решид-бей горячо вы-
сказывался в пользу скорейшего заключения мира и
говорил, что великий везир придерживается того же
мнения.
93
Однако далее взаимных заверений о стремлении к
миру переговоры не продвинулись. Встречи с Фонтаном
показали туркам, что требования России остаются
прежними. Решид-паша доложил Порте о первых кон-
тактах с русскими и ожидал дополнительных указаний.
Что касается Дибича, то, судя по его письмам, исполняя
предписание «искать переговоров с турками», он пред-
почитал вести переговоры лишь с окончательно повер-
женным врагом, а сражение при Кулевче еще не озна-
чало полного поражения Османской империи, и Дибич
это понимал. Поэтому он не возлагал больших надежд
на миссию Фонтана и рассчитывал больше на полити-
ческий эффект предложения о мире, которое было сде-
лано великому везиру. В своих донесениях Дибич под-
черкивал, что «переговоры после решительной победы
над турками поставили бы Россию в прямые сношения
с турками по делам мира без какой-либо иностранной
интервенции и создали бы основу для будущего согла-
шения. С другой стороны, — писал он, — такие перего-
воры показали бы Европе миролюбие и умеренность
императора в тот момент, когда победа могла бы уве-
личить наши требования» 17.
Дибич полагал, что установление временного пере-
мирия задержало бы дальнейшее продвижение 2-й ар-
мии в глубь турецкой территории. В Петербурге при-
держивались того же мнения 18. Если бы великий везир
согласился принять четыре предварительных условия и
выразил желание установить перемирие, то Дибич на-
меревался потребовать сдачи Шумлы и Журжево «в
обеспечение того, что через четыре недели будет заклю-
чен мир» 19. Занимая все новые области, Дибич увели-
чивал тем самым территорию, которая должна была
быть демонстративно возвращена Порте после заклю-
чения мира. Очищая большую оккупированную терри-
торию, царизм мог показать Западу свою незаинтересо-
ванность в новых приобретениях в европейской Турции,
что вполне соответствовало политике царизма в этот
период. В то же время имелось в виду потребовать от
турок компенсацию за возвращаемые земли. Последнее
обстоятельство должно было всячески скрываться от
«европейских наблюдателей», тогда как первое широко
превозносилось.
94
* * *
Сообщение о первых встречах Фонтона с турецкими
представителями поступило в Константинополь 17 июня
1829 г., за день до приезда Гордона и Гильемино. Пор-
та в это время готовила проект хатт-и шерифа о Гре-
ции, уточняла, какую позицию займут послы в отноше-
нии продолжающейся войны с Россией и по греческому
вопросу. Насколько известно, великому везиру в июне
дополнительных уточнений о переговорах с Дибичем
направлено не было.
В середине июля 1829 г. великий везир Решид-паша
из Шумлы направил в Константинополь донесение, в
котором писал, что его армия находится в бедственном
положении и что он не может более противостоять рус-
ским войскам. Решид-паша напомнил о настоятельной
необходимости заключить перемирие20. Мнение велико-
го везира сообщили Махмуду II и поддержали сераскер
Хюсрев-паша и Бехчет-эфенди, возглавлявший медицин-
скую службу султанского двора. В 20-х числах июля
1829 г. состоялось заседание Дивана, на котором при-
сутствовали высшие должностные лица империи: сера-
скер Хюсрев-паша, шейхульислам Тахир-эфенди, реи-
сулькюттаб Пертев-паша, кади — мусульманский судья
Константинополя Абдулкадыр-бей, башдефтердар Мех-
мед Садык-эфенди. На заседание были приглашены не-
которые видные улемы и хаджи из Западной и Восточ-
ной Анатолии. На обсуждение было поставлено три
вопроса. Прежде всего, разбиралось, насколько глубоки
разногласия Османской империи с Англией и Францией
по греческому вопросу и каковы будут последствия от-
клонения их предложений. Жизненно важное значение
в данный момент приобретал вопрос о войне с Россией.
Третий вопрос заключался в выработке решения по по-
воду посредничества послов Англии и Франции в ту-
рецко-русской войне, его желательности и возможности
осуществления 21.
Собравшиеся подробно рассмотрели положение на
театрах войны и состояние турецких войск. Донесе-
ние Решид-паши, которое было зачитано на заседании,
вызвало различные мнения в среде присутствующих.
Если Пертев-паша ратовал за продолжение войны, то
шейхульислам Тахир-эфенди сказал, что заключение
95
мира, будучи законным с точки зрения шариата, яв-
ляется необходимым в связи с положением в стране.
В «Санкт-Петербургских ведомостях» 23 августа
1829 г. появилось сообщение о том, что на заседании
Дивана (в газете называлась дата заседания — 23 ию-
ля) выдвигалось, но было отвергнуто предложение на-
править турецких представителей для переговоров в
штаб-квартиру русской армии. Сообщение другой, лон-
донской газеты помогает выявить, чем был мотивиро-
ван отказ Дивана от переговоров о мире. «Некоторые
члены Дивана, — писал 30 июля корреспондент
„Курьера" из Константинополя, — были склонны к ми-
ру, но большинство из них требовало продолжать войну,
так как империя уже не может быть повергнута в опас-
ность большую, чем сейчас, и было бы просто неосмот-
рительно, преждевременно сделать мирные предложе-
ния». Присутствовавший на заседании Махмуд II тре-
бовал продолжать войну 22.
Несмотря на позицию самого султана, совещание
приняло достаточно гибкое решение. Было решено
изыскать пути к заключению перемирия, сохраняя, од-
нако, это обстоятельство в тайне от широких народных
масс. Одновременно предлагалось усилить войска, имею-
щиеся в распоряжении Порты, отрядами, снаряженны-
ми за счет всех высших сановников государства и лич-
ных сокровищ султана. Была объявлена всеобщая мо-
билизация среди населения столицы, и «для ободрения»
были призваны в действующую армию улемы, состояв-
шие при султанском дворе 23.
По сведениям, полученным русским послом в Вене
Татищевым из австрийского посольства в Турции, реи-
сулькюттабу было предложено в неофициальном поряд-
ке воспользоваться посредничеством, содействием и со-
ветами Гордона и Гильемино как при заключении пе-
ремирия с Дибичем, так и при дальнейших переговорах
о мире24. Диван рекомендовал Пертев-паше по возмож-
ности откладывать признание Лондонской конвенции
1828 г. и мартовского протокола, подписанного на Лон-
донской конференции в 1829 г. Если, говорилось в реко-
мендациях, и придется принять требования европейских
держав об автономии Греции, то лишь на территории,
означенной в решениях Лондонской конференции от
16 ноября 1828 г.
96
Эти далеко не полные сведения о рекомендациях,
принятых Диваном, дают основание полагать, что вер-
хушка правящих кругов Османской империи во главе с
Махмудом II в ответственнейший момент, когда угроза
военного поражения отчетливо осознавалась рядом го-
сударственных деятелей, еще пыталась найти выход в
компромиссных соглашениях с Англией и Францией.
Переговоры и беседы Пертев-паши с Гордоном, Гилье-
мино и Мюффлингом, чрезвычайным представителем
прусского короля, проведенные позднее, 1 августа
1829 г., это подтверждают.
С учетом рекомендаций Дивана были составлены два
документа: ответ Порты на ноту послов от 9 июля и
письмо Решид-паши к Дибичу. 29 мухаррема 1245 г. х.
(30 июля 1829 г.) Пертев-паша пригласил драгоманов
английского и французского посольств и вручил им но-
ту25, 'содержавшую отказ турецкого правительства при-
нять условия Лондонской конвенции 1827 г. и мартов-
ского протокола 1829 г. Отказ мотивировался тем, что
султан уже даровал жителям Морей права и привиле-
гии в таком объеме, который должен был обеспечить
мирное и благополучное существование грекам в каче-
стве подданных Османской империи. В ноте в точности
повторялись все положения упоминавшихся выше фер-
мана и хатт-и шерифа о Греции от начала мухаррема
1245 г. х.
На следующий день после заседания Дивана в Шум-
лу отправился исполнявший обязанности великого ве-
зира каймакам Хулюси-паша, который сообщил Решид-
паше о заседании Дивана и передал приказ султана
быть готовым к прекращению военных действий и за-
ключению перемирия.
7 сафара 1245 г. х. (6 августа 1829 г.) Решид-паша
направил Дибичу письмо26, в котором выражал удов-
летворение по поводу обмена мнениями о прекращении
военных действий, который имел место между Фонта-
ном и представителями великого везира в июне. Сооб-
щив о получении инструкций Порты, Решид-паша пи-
сал, что по прибытии в Константинополь послов Англии
и Франции «самый важный из четырех пунктов, изло-
женных... Фонтаном, — вопрос о Греции был предметом
переговоров, имевших место в Константинополе с пос-
лами этих стран... Через несколько дней, — писал Ре-
7 Зак. 851
97
шид-паша, — я получу известие о благополучном завер-
шении этого вопроса, равно как и высочайшие инструк-
ции для разрешения других пунктов». Решид-паша
предлагал «избежать напрасного кровопролития и в
уважение этого счастливого известия повсеместно пре-
кратить военные действия, назначить место встречи
представителей обеих стран».
2-я арм1ия продвигалась в глубь Европейской Турции.
Один за другим сдавались опорные пункты турецкой
обороны — Мисемврия, Айдос, Бургас. До Адрианополя
оставалось немногим более 100 верст, и Дибич не спе-
шил с ответом, тем более что еще 2 июля 1829 г. он
получил четкое указание из Петербурга: «Нам остается
желать, чтобы мирные предложения были приняты тур-
ками с большей готовностью, чем это имело место под
Шумлой. Вы не должны полагаться на предварительные
переговоры; наоборот, вам следует быть готовым реши-
тельными военными действиями доказать туркам, на-
сколько этот мир для них необходим» 27.
10 августа (три дня спустя после получения письма
Решид-паши) Дибич отвечал ему 28, что сразу же после
Кулевче русская сторона была готова прекратить кро-
вопролитную войну, о чем и сообщили Решид-паше.
«Сущность этого демарша, — писал русский командую-
щий, — и обстоятельства, при которых он был совер-
шен, позволяли надеяться, что должно было бы иметь
место некоторое поспешание в отправке из Константи-
нополя инструкциий, которых в. пр-во должны были
там затребовать. Первое мое письмо было от 14 июня,
а сегодня уже 29 июля. Столь длительная отсрочка ста-
вит меня перед необходимостью продолжать военные
действия и вести их со всей решительностью». Напом-
нив, что 2-я армия уже за Балканами и вблизи от
Адрианополя, Дибич писал, что не может приостано-
вить военные действия. «Чтобы решиться прекратить
их, я должен был бы иметь, — писал Дибич, — возмож-
ность найти в условиях перемирия те гарантии и пре-
имущества, на которые я вполне обоснованно мог бы
надеяться, если бы продолжал военные действия. Тако-
вы условия, на которых было бы возможно перемирие.
К тому же вопрос о перемирии не мог бы быть препят-
ствием к проведению переговоров о мире». Дибич вы-
разил готовность принять представителей Порты в Бур-
98
race, Ахиало или в другом пункте на занятой русскими
войсками территории.
Обмен посланиями между двумя командующими не
имел реальных результатов. И Турция и Россия лишь
подтвердили прежние позиции. Османская сторона не
внесла никаких изменений в свои требования и даже
не сформулировала четко условия мирного договора.
Основная цель, которую преследовал Решид-паша как
в переговорах под Шумлой, так и в послании от 7 са-
фара 1245 г. х., состояла в том, чтобы, заключив вре-
менное перемирие, дать взоможность 4, 5 и 6-му корпу-
сам турецкой армии перегруппироваться, подтянуть
части Мустафа-паши Бушати из Северной Албании и
одновременно закончить переговоры в Константинополе
по греческому вопросу. Если Порта стремилась заклю-
чить перемирие и приостановить военные действия, то
Дибич всячески уклонялся от этого. «Что касается пе-
ремирия, — писал он, то я должен либо отвергать его,
либо объявить по крайней мере, что я не смог бы на
него согласиться при настоящем положении дел на
фронте»29. Дибич отклонял перемирие — условие, кото-
рое выдвигала на первый план Порта. Переговоры о
мире не могли начаться прежде, чем наступил бы окон-
чательный перелом в позициях воюющих стран.
* * *
Дибич продолжал наступление, противопоставить ко-
торому Порта могла лишь действия разрозненных регу-
лярных частей и отрядов сипахийской конницы. Новые
наборы в армию проходили с большим трудом. К нача-
лу августа 1829 г. Порта изменила тактику в отноше-
ниях с послами Англии и Франции и ценой согласия на
их требования по греческому вопросу попыталась до-
биться вмешательства этих держав на стороне Осман-
ской империи. Подобная тенденция наметилась еще в
ноябре 1828 г., когда Порта устами реисулькюттаба
выдвинула предложение о международной гарантии
русско-турецкого мирного договора.
Позиция Гордона и Гильемино в этот момент опре-
делялась опасениями, которые имели правящие круги
Англии и Франции в связи с реальными перспективами
военного и политического краха Османской империи и
7* 99
разрешения греческого вопроса русским царем в своих
собственных интересах и без участия союзных держав.
Этим объясняется настойчивое стремление обоих по-
слов в мирных переговорах между Турцией и Россией
добиться удобной для себя формы посредничества, а в
греческом вопросе ограничиться формальным призна-
нием Портой Лондонской конвенции 30.
1 августа 1829 г. Пертев-паша сообщил Гордону и
Гильемино, что хотел бы обменяться с ними мнениями
по весьма важным вопросам. На следующий день оба
посла встретились с реисулькюттабом в его доме. Пер-
тев-паша заявил, что Порта могла бы признать Лон-
донскую конвенцию и предоставить грекам автономию
в пределах Морейского полуострова и Кикладских
островов. Он повторил условия предоставления грекам
прав внутреннего самоуправления, содержавшиеся в
хатт-и шерифе от начала мухаррема 1245 г. х., — воз-
вращение всех крепостей и всего военного снаряжения,
там находящегося, роспуск и запрещение воссоздания
греческой армии и т. д. Гордон и Гильемино выразили
согласие дополнительно рассмотреть предложения Пор-
ты 31. Между послами, однако, возникло разногласие.
Высказавшийся первым Гильемино сослался на необхо-
димость следовать Лондонской конвенции 1827 г. и
трактовать ее положения, равно как и условия Порты,
применительно к континентальной Греции. Гордон пред-
ложил рассматривать условия Порты с учетом прото-
кола от 16 ноября 1828 г., в котором речь шла лишь
о Морее и Кикладах, т. е. о той части Греции, на автоно-
мию которой соглашалась Англия, а теперь и Османская
империя32. Продолжая беседу, Пертев-паша сказал, что
Порта готова подтвердить прежние договоры с Россией,
но требует .возвращения всех занятых территорий и га-
рантии целостности османских владений ib будущем. Он
заметил, нто его страна рассчитывает на посредничество
послов, когда начнутся переговоры с Россией. Гордон
и Гильемино на сей раз единодушно обещали Пертев-
паше свое содействие и рекомендовали начать перегово-
ры как можно скорее.
После этой встречи Порта начала готовить свои
контрпредложения, основанные, однако, не столько на
анализе реального положения вещей, сколько на ожи-
давшейся ею поддержке Англии и Франции.
100
5 августа 1829 г. Гильемино посетил реисулькютта-
ба и в конфиденциальном порядке сообщил ему, что
из Парижа получены вполне достоверные сведения об
изменениях в русских условиях мира. По словам фран-
цузского посла, Россия ограничится требованием под-
тверждения Портой всех ранее заключенных договоров
и открытия проливов для прохода торговых судов под
русским флагом. Порта должна будет возместить убыт-
ки русским торговцам, а в порядке компенсации воен-
ных расходов России отдать ей Анапу33. Реисулькюттаб
с вполне понятным интересом выслушал Гильемино и
ответил ему, что Порта готова заключить мир с Рос-
сией, однако царю не следовало бы настаивать на кон-
трибуции, поскольку это неприемлемое для султана
условие. Пертев-паша отметил, что Порта потребует
возвращения в полной сохранности всех занятых рус-
скими войсками крепостей *. В ходе этой беседы выяс-
нилось, что реисулькюттаб располагает информацией
(она оказалась не совсем точной) о полной якобы не-
боеспособности армии Дибича в результате эпидемии 34.
Пертев-паша полагал также, что русский царь спешно
ищет посредников в Берлине и в Париже. Поэтому не-
обоснованное заявление Гильемино, который стремился
любой ценой поднять акции Франции в Константинопо-
ле и добиться участия в переговорах либо быть хорошо
информированным об их ходе, было с удовлетворением
встречено правящими кругами Османской империи35.
На следующий день, 6 августа 1829 г., Пертев-паша
и Хулюси-паша приняли чрезвычайного посла, личного
представителя прусского короля генерала Ф. Мюффлин-
га 36. Мюффлинг заявил, что, вопреки инсинуациям ев-
ропейских наблюдателей о захватнических планах рус-
ского императора и его антимусульманских настроениях,
Николай I стремится положить конец кровопролитной
войне и заключить мир. Прусский генерал сказал, что
могли бы быть урегулированы некоторые вопросы, свя-
занные с перемирием, но что в его компетенцию не вхо-
дит обсуждение греческого вопроса. Мюффлинг сказал
также, что русское командование готово начать пере-
говоры с турецкими представителями.
В ходе дальнейшей беседы Пертев-паша заявил, что
* Вспомним, что на встрече с послами 2 августа Пертев-паша
о контрибуции вообще не упоминал.
101
Порта тоже готова к переговорам, но считает необхо-
димым прежде всего заключить перемирие и приостано-
вить наступление русских войск. «Такова воля султа-
на»,— объявил реисулькюттаб. Он сказал, что получил
указание Махмуда II вести с Мюффлингом переговоры
об условиях мира 37, и выразил крайнее разочарование,
когда Мюффлинг ответил ему, что не уполномочен да-
же предварительно обсуждать условия мира между
Россией и Турцией 38.
Греческая проблема и вопрос о контрибуции — два
наиболее важных в этот момент для Турции положе-
ния— в ходе беседы Пертев-паши с прусским генера-
лом практически не обсуждались. Постановка этих воп-
росов в мирном договоре с Россией была крайне неже-
лательна для Порты. Включение в договор греческого
вопроса означало бы, что Россия, по существу, решает
судьбу Греции, неотъемлемой, как говорила Порта,
части османских земель. Включение в мирный договор
статьи о контрибуции — факт, не имевший прецедента
в мирных договорах Османской империи с другими го-
сударствами,— означало, что Порта по меньшей мере
на несколько лет окажется в долговой зависимости от
России.
Утром 7 августа 1829 г. реисулькюттаб пригласил в
свой загородный дом Гордона, Гильемино и прусского
посланника Ройера. На встрече присутствовали сера-
скер Хюсрев-паша и два чиновника дипломатического
отдела Порты. Пертев-паша сообщил послам о содер-
жании беседы с Мюффлингом и выразил опасение, что
без гарантии европейских держав мир с Россией не бу-
дет прочным и справедливым. Поясняя свою мысль о
«справедливом мире», руководитель ведомства внешней
политики Турции заявил, что имеется предварительное
решение Порты принять условия Лондонской конвен-
ции 1827 г. Он сказал, что Порта смягчит свою пози-
цию в отношении мира с Россией и великий везир на-
правит в штаб-квартиру Дибича Нури-эфенди и Решид-
бея, которые в июне уже имели встречи с Фонтеном. Не
уточняя своих условий мирного договора, Пертев-паша
просил английского посла лично добиться заключения
перемирия39. Гордон заявил, что его правительство бу-
дет вполне удовлетворено признанием Портой Лондон-
ской конвенции и что вопрос о Греции отныне может
102
считаться решенным 43. Английский посол сказал, ЧТО
не имеет официальных полномочий на посредничество в
заключении перемирия, и рекомендовал Пертев-паше и
его коллегам обратиться к Мюффлингу, обещая при
этом свою полную поддержку.
Всю следующую неделю ведомство реисулькюттаба
работало с особой нагрузкой. 10 августа 1829 г. Мюф-
флинг вручил Пертев-паше ноту, в которой говорилось,
что прусский король взял на себя задачу сообщить сул-
тану о стремлении русского царя восстановить мир с
Россией. Фридрих-Вильгельм III рекомендовал Махму-
ду II безотлагательно начать мирные переговоры. Учи-
тывалось, что Порта могла бы отказаться от перегово-
ров о мире. «Дружественные Порте державы, — говори-
лось в ноте, — не стали бы поощрять ее в таком реше-
нии и не стали бы действенным образом поддерживать
правительство, которое отвергает дружеские советы как
раз в то время, когда эти советы могли бы иметь ре-
зультат столь спасительный, сколь и немедленный»41.
На следующий день, 11 августа 1829 г., Мюффлинг
получил письмо с тугрой — личной печатью Махму-
да II, — в котором говорилось о желании возможно ско-
рее заключить мир »и выражалась готовность направить
представителей на переговоры с Дибичем42. 12 августа
последовал официальный ответ Порты на ноту Мюф-
флинга от 10 августа, в которой говорилось, что осман-
ское правительство готово заключить мирный договор с
Россией на следующих пяти условиях:
1) целостность всех владений Порты, без исключе-
ния, как в европейской Турции, так и Анатолии;
2) подтверждение турецким правительством всех
прежних договоров с Россией, в том числе Аккерман-
ской конвенции;
3) признание Лондонской конвенции о Греции и
проведение переговоров на этой основе;
4) готовность Порты гарантировать свободу судо-
ходства русских торговых судов в Черном море при
условии, чтобы не был нанесен ущерб суверенитету и
территориальной целостности Османского государства;
5) обсуждение и урегулирование в Константинополе
вопросов, связанных с возмещением убытков русским и
турецким торговцам 43.
В тот же день Мюффлинг узнал, что великому ве-
103
ййру направлены полномочия и инструкции для веде-
ния переговоров с Дибичем. В «Истории» А. Лютфи
приводится изложение инструкций Порты Решид-паше,
которые включали пять пунктов условий мира с Рос-
сией. Эти пять пунктов в инструкциях совпадают с
пятью условиями, содержавшимися в ответе Порты от
12 августа на ноту Мюффлинга. А. Лютфи писал, что
инструкции великому везиру, включавшие пять основ-
ных условий Порты, были высланы в Шумлу после того,
как Дибич отверг предложение Решид-паши об уста-
новлении перемирия.
Письмо Дибича великому везиру, помеченное 10 ав-
густа, было получено в Константинополе 13 или 14 ав-
густа, т. е. уже после того, как Мюффлингу были сооб-
щены пять контрпредложений Порты по мирному до-
говору. Последние не были, таким образом, турецким
ответом на отказ Дибича от перемирия и подготавлива-
лись независимо от исхода обмена мнениями между
русским командующим и великим везиром. Предложе-
ние Решид-паши от 7 сафара об установлении предва-
рительного перемирия должно было дать Порте пере-
дышку, которую в Константинополе надеялись исполь-
зовать для того, чтобы ознакомить Мюффлинга и по-
слов европейских держав с турецкими условиями и
заручиться их одобрением и согласием поддержать эти
условия на мирных переговорах 44. Сам факт сообщения
основных условий мирного договора Мюффлингу и то,
что это было сделано в виде ответа на его ноту, свиде-
тельствовали, что Порта фактически соглашалась на
прусское посредничество в переговорах с Россией, хотя
официальной просьбы об этом со стороны Порты, на-
сколько известно, не поступило.
Порта рассчитывала, что Мюффлинг передаст ее
условия России. 14 августа Пертев-паша спросил у ге-
нерала, сообщил ли он Дибичу содержание ответа Пор-
ты на свою ноту. Узнав, что Мюффлинг еще не пере-
давал 45 русскому командующему сведения о пяти пунк-
тах Порты, Пертев-паша просил его послать офицера
из штата прусского посольства в штаб-квартиру Диби-
ча, чтобы предупредить о скором приезде турецких
представителей и, «говоря словами рейса, — писал
Мюффлинг, — убедить Дибича быть благосклонным к
Порте» 46. Пертев-паша сказал также, что установление
104
места проведения переговоров и формальности прото-
кольного порядка не составят затруднений. Определение
процедуры переговоров передавалось, следовательно, на
усмотрение русского командующего. Эта незначитель-
ная уступка должна была показать, что Порта готова
к переговорам.
14 сафара 1245 г. х. (15 августа 1829 г.) Пертев-па-
ша сообщил Гордону, Гильемино, Мюффлингу, Ройе-
ру и др., что «Порта признает Лондонский договор
(т. е. конвенцию 1827 г. — В. Ш.) и принимает сооб-
щенные ей в силу указанного договора предложения
на следующих условиях»:
1) постановления, которые имели бы место, каса-
лись бы только Морей и Кикладских островов;
2) подлежащая уплате подать была бы определена
пропорционально размерам доходов, которые прежде
поступали в государственную казну;
3) все военные материалы, находящиеся в крепо-
стях Греции, будут немедленно переданы Порте в пол-
ной сохранности;
4) будет запрещено формирование и содержание в
стране морских и сухопутных вооруженных сил сверх
количества, необходимого для поддержания обществен-
ного порядка;
5) греки, не являющиеся уроженцами Морей и
Киклад, не имеют права покинуть пределы Османской
империи и переселиться на указанную территорию47.
Формальное признание Лондонской конвенции сво-
дилось к простому повторению основных положений
упоминавшегося выше мухарремского хатт-и шерифа о
Греции. Порта принимала Лондонскую конвенцию в
рамках протокола от 16 ноября 1828 г., тогда как в
инструкциях Решид-паше она выражала соглашение на
признание мартовского протокола 1829 г. — последнего
и самого важного для судьбы Греции решения лондон-
ских конференций. Получив согласие английского посла
на формальное (признание Лондонской конвенции и ее
претворение в пределах только Морей и Киклад (по
ноябрьскому протоколу 1828 г.), Порта попыталась
снять вопрос о предоставлении Греции автономии в
границах Арта—Воло, сравнительно широких по срав-
нению с ограничением греческой территории Мореей и
Кикладами.
105
Судя по письмам послов к Дибичу, Порта добилась
определенного дипломатического успеха — послы нача-
ли убеждать Дибича в том, что греческий вопрос бли-
зок к завершению. Цели Порты, Англии и Франции
совпадали в том, чтобы не допустить вынесения грече-
ского вопроса на повестку дня мирных переговоров
между Россией и Турцией, не позволить России стать
освободительницей Греции. 17 августа 1829 г. Гордон
и Гильемино направили Дибичу письмо48, в котором
говорилось, что 15 августа Порта приняла в целом Лон-
донскую конвенцию и готова на ее основе продолжить
переговоры с представителями трех держав в Констан-
тинополе. В письме говорилось, что такие переговоры
предпринимаются и уже имеют известный прогресс —
дело умиротворения Греции будет в скором времени
благополучно завершено. «Мы не позволяем себе, —
говорилось в письме послов, — обсуждать выдвинутые
Портой условия, но смеем надеяться, что великодушие
императора и совместные усилия в. с-ва и Решид-па-
ши помогут преодолеть все затруднения». К письму
был приложен меморандум турецкого правительства от
15 августа.
В тот же день, 17 августа Мюффлинг получил по-
слание Порты, в котором правительство Турции обра-
щалось к нему с официальной просьбой — изложить ее
позицию в письме к Дибичу и просить его принять ту-
рецких представителей. Вечером 17 августа лейтенант
Клер и переводчик Панцир — оба из штата прусского
посольства — выехали вместе с двумя курьерами Пор-
ты в расположение русских войск к Дибичу49. Они вез-
ли письмо Гордона и Гильемино от 17 августа и два
письма Мюффлинга к Дибичу, помеченные тем же чис-
лом. В официальном письме 50 Мюффлинг призывал рус-
ского командующего «проявить великодушие и мило-
сердие к побежденному противнику». Мюффлинг пытал-
ся доказать, что Порта стремится к миру и ее предло-
жения поэтому заслуживают внимания. «Порта
признала Лондонский договор (т. е. конвенцию
1827 г. — В. Ш.), — писал он, — и тем свидетельствует
свои мирные намерения». Далее прусский генерал пи-
сал: «Порту уверяли со всех сторон в том, что государь
Николай откажется от контрибуции и возмещения
военных издержек. Я лично, — продолжал Мюф-
106
флинг, — не поддержал эти слухи, но и не отверг их
вовсе, и Порта сочла достойным не касаться этого во-
проса в своем меморандуме, однако я уверен, что в слу-
чае необходимости Порта пойдет на известные уступ-
ки».
К официальному посланию были приложены выдви-
нутые Портой пять условий мирного договора. В при-
ватном письме к Дибичу, с которым его связывала
дружба со времени их совместной службы при штабе
М. Б. Барклая-де-Толли в 1813—1814 гг., Мюффлинг
сообщил, что он готов выступить посредником в рус-
ско-турецких переговорах и содействовать их успешно-
му завершению. Ссылаясь на неофициальные беседы с
Пертев-пашой, Мюффлинг писал: «Вы, вероятно, будете
готовы подписать прелиминарии и заключить переми-
рие, если к пяти сообщенным условиям Порта добавит
шестое — о контрибуции, в возмещение которой она от-
даст России Анапу, Поти, шесть военных кораблей и
строительный лес для постройки такого же количества
кораблей. Тогда и я, — продолжал Мюффлинг, — ду-
маю, смог бы помочь заключению мира»51. Прусский
генерал предупредил, что, если Дибич не примет усло-
вия Порты, он, Мюффлинг, не сможет ни содействовать
заключению мира, ни гарантировать какой-либо поло-
жительный результат переговоров.
Все три письма Клер и Панцир вручили Дибичу око-
ло 7 часов утра 20 августа 1829 г. Дибич прочитал
письма, которые должны были остановить его перед
Адрианополем, и поехал принимать ключи от сдавшего-
ся города. «Считаю долгом прежде всего сказать
в. в-ву, — докладывал он царю, — что, придерживаясь
смысла данных мне инструкций, буду, насколько воз-
можно, самым вежливым образом избегать всякого по-
стороннего вмешательства, несогласного с приказания-
ми в. и. в.» 52.
На следующий день, утром 21 августа, Дибич полу-
чил письмо из Тырнова от Тахир-эфенди, который сооб-
щал, что он уполномочен великим везиром для ведения
мирных переговоров. Дело в том, что не позднее 16 ав-
густа 1829 г. Решид-паша получил инструкции о заклю<
чении мира и пять условий мирного договора. Он дал
одному из старших офицеров своего штаба, Тахир-
эфенди, полномочия на ведение мирных переговоров на
107
условиях, предписанных Портой, и направил его через
Тырново в штаб-квартиру русской армии. По прибытии
в Тырново Тахир-эфенди сообщил Дибичу письмом о
своей миссии. Дибич, получив это письмо 21 августа,
немедленно направил Тахир-эфенди ответ с приглаше-
нием прибыть к нему в ставку. 22 августа офицер шта-
ба 2-й армии гр. Толстой выехал в Тырново, чтобы со-
провождать Тахир-эфенди в Адрианополь. Как пишет,
ссылаясь на «Историю» Лютфи, Ш. Туран, представи-
тель великого везира в дороге заболел и в штаб-квар-
тиру русской армии прибыть не смог53.
Назначение турецких представителей
и начало переговоров в Адрианополе
Вечером 21 августа гонец от Халиль-паши привез
сераскеру известие о капитуляции Адрианополя. Через
два дня появились толпы беженцев из Кырккилисе, Ви-
зы, Мидии, Лалебургаза и безоружные солдаты адриа-
нопольского гарнизона. Все они несли паническую
весть: русские приближаются к столице. «В понедель-
ник, 23 августа,— сообщал константинопольский кор-
респондент „Курьера", — все мечети Константинополя
были открыты. Имамы и дервиши провозглашали —
империя в опасности. В тот же день был прочитан фер-
ман о призыве в армию каждого пятого жителя города.
Однако состояние отчаяния и полной апатии владело
населением». «...Чума, голод и Наваринское сражение
вместе не смогли бы оказать большего эффекта, чем
падение Адрианополя»54, — писал современник.
Как говорилось выше (см. стр. 102), 22 августа в
доме реисулькюттаба собралось несколько высших
должностных лиц империи. В центре внимания собрав-
шихся было тяжелое положение страны. Полевая ар-
мия практически не существовала. Внимательный на-
блюдатель А. Слейд, находившийся в августе 1829 г. в
Константинополе, писал, что после падения Адрианопо-
ля «война приобрела особый характер, который опре-
делялся выражением „спасайся кто может", и всяк но*
ровил удрать подальше от широких равнин Адрианопо-
ля» 55. Иррегулярные албанские отряды Мустафа-паши
Бушати стояли где-то под Видином и были малонадеж-
108
ны. Отдельные части, численностью в несколько тысяч
человек, почти без оружия, находились в Текфурдаге.
В Константинополе и пригородах было до 30 тыс. ре-
гулярных войск, но угроза готовившегося в столице
восстания заставила Порту держать эти силы наготове
против внутренних врагов. Добиваться заключения
мира как можно скорее было общим мнением собрав-
шихся. Было одобрено предложение Пертев-паши обра-
титься за советом и помощью к Гордону, Гильемино и
Мюффлингу. Не вызвали возражений и кандидатуры
турецких представителей на мирных переговорах с Рос-
сией. Решился весьма сложный вопрос.
В начале августа 1829 г. предполагалось, что пер-
вым турецким представителем на переговорах с Диби-
чем будет инспектор вооружения турецкой армии, пред-
ставитель правителя Египта Мухаммеда Али при Порте
Сулейман Неджиб-эфенди, который принимал участие в
аккерманских переговорах в 1826 г. По кандидатуре вто-
рого турецкого представителя были предложения назна-
чить либо Рифата Халиль-пашу, командовавшего регу-
лярными частями, либо Акифа-эфенди, заместителя Пер-
тев-паши по ведомству внешних сношений, либо Сары-
ма-эфенди, начальника протокольного отдела Порты. Все
они под разными предлогами уклонялись от участия в
переговорах. Мюффлинг писал, что в Константинополе
не могли найти человека, который бы охотно взялся за
эту миссию. Один из видных турок, которому предложи-
ли отправиться на переговоры с русскими, сказал, что
война стала религиозной, любой мир, какой бы ни за-
ключили, был бы непопулярным в стране, и даже ми-
лость султана не спасла бы его от возмущенного народа.
Это слишком опасное дело, заявил сановник56.
Когда в начале августа 1829 г. обсуждались канди-
датуры Неджиб-эфенди и трех других представителей
Турции на мирных переговорах, имелось в виду, что мир,
как обычно, будет заключен от имени великого везира,
представители на переговоры будут направлены самим
Решид-пашой, получат назначения и полномочия из его
рук. Между 14 и 16 августа 1829 г. Решид-паша полу-
чил из Константинополя приказ добиваться заключения
перемирия. Все предполагавшиеся участники перегово-
ров находились в это время далеко от осажденной Шум-
лы (Неджиб-эфенди был послан в Шумлу, Халиль-паша
109
собирал войска под Адрианополем, двое других — Акиф-
эфенди и Сарым-эфенди — находились в Константинопо-
ле) и не могли быть направлены к Дибичу. Великий
везир 16 августа направил Нури-эфенди и Мустафу
Решид-бея, которые еще в июле 1829 г. вели переговоры
с Фонтоном, к командиру осадного отряда Красовскому
с предложением установить перемирие и затем в штаб-
квартире русских войск провести мирные переговоры на
пяти упоминавшихся выше условиях. Красовский отка-
зался, не имея полномочий, заключить перемирие и ре-
комендовал турецким представителям обратиться непо-
средственно к главнокомандующему. Тогда Решид-паша
и направил к Дибичу (16—18 августа) одного из
офицеров своего штаба, Тахир-эфенди, который, как
говорилось выше, в расположение русских войск не
прибыл.
Сложность требований, на которых настаивала Рос-
сия, в том числе контрибуция, и необходимость возмож-
но скорее заключить мир и приостановить военные дей-
ствия заставили султана назначить представителей на
переговоры с русским командующим непосредственно от
своего имени и снабдить их широкими полномочиями
для обсуждения условий мирного договора и его за-
ключения. Махмуд II предложил поручить переговоры
башдефтердару Мехмеду Садык-эфенди. Этот человек
прошел всю лестницу турецкой чиновничьей иерархии,
от младшего кятиба (секретаря) в Порте до башдефтер-
дара — главного хранителя финансов Османской импе-
рии. В 1821 —1822 гг. Садык-эфенди занимал пост
реисулькюттаба и был смещен за то, что, по мнению
султана, проводил слишком мягкую линию в отношении
восставших греков и выступал за сохранение мира с
Россией. В 1825—1829 гг. Садык-эфенди ведал вопроса-
ми вооружения армии. С апреля 1829 г. был назначен
башдефтердаром57.
В помощь Мехмеду Садык-эфенди султан вначале
предполагал назначить кого-либо из светских лиц, на-
меченных ранее на пост второго представителя. Дат-
ский посланник Гюбш сообщал, что Махмуд II не хо-
тел, чтобы в переговорах с русскими принимал участие
представитель улемов — толкователей законов ислама58.
Исключительно напряженное положение в Константино-
поле в 20-х числах августа 1829 г., огромная ответст-
110
венность, которую султан брал на себя, заключая мир
с Россией от своего имени, а не от имени великого ве-
зира, на которого можно было бы (как это делалось не
раз в истории Турции) переложить вину за тяжелые
условия договора, заставили Махмуда II искать под-
держки служителей ислама. Вторым представителем
был назначен казаскер — военный судья Анатолии, вто-
рое лицо после шейхульислама в мусульманской иерар-
хии Османской империи — Абдулкадыр-бей, в прошлом
мулла в Мекке, в 1827—1829 гг,—судья, казн Кон-
стантинополя 59. Оба будущих представителя султана
принимали участие в совещании у Пертев-паши 22 ав-
густа.
На следующий день после совещания с высшими го-
сударственными деятелями Пертев-паша пригласил дра-
гомана английского посольства60 и просил его передать
Гордону, что возникли затруднения в установлении кон-
такта со штаб-квартирой русской армии и что предста-
витель великого везира отправился к Дибичу кружной
дорогой. «В связи с этими обстоятельствами,— сообщал
24 августа Гордон Абердину, — реисулькюттаб обратился
ко мне как к одному из тех людей, которым особенно
близки интересы империи, за советом, как поступить,
чтобы наиболее действенным образом и немедленно всту-
пить в переговоры (с Россией.— В. Ш.). Реисулькюттаб
также осведомился, не смог бы я вместе с французским
послом и генералом Мюффлингом послать офицера, ко-
торый подтвердил бы русскому генералу мирные распо-
ложения Порты. Я, конечно, предложил старшему дра-
гоману немедленно ответить, что мы сделали бы все,
что в нашей власти, для достижения цели, которую име-
ет в виду Порта, и что мы могли бы сегодня утром (24
августа) встретиться с реисулькюттабом» 61.
Около 11 часов утра 24 августа Пертев-паша, Мех-
мед Садык-эфенди и Абдулкадыр-бей встретились с
Гордоном, Гильемино и Кюстером — первым секретарем
прусской миссии. Пертев-паша представил европейским
дипломатам представителей султана на переговорах с
Россией и заверил их в горячем желании Махмуда II
завершить войну. Он сказал, что надеется на помощь
послов в немедленном прекращении военных действий,
и добавил, что больше не существует причины для их
продолжения, поскольку Порта согласится со всем, чего
111
бы от нее ни потребовали. Послы рекомендовали реи-
сулькюттабу принять все условия России, в том числе
и по контрибуции. Пертев-паша ответил, что именно по
этому вопросу он и ждал прежде всего совета послов.
Он ответил согласием на высказанные предложения и
просил, чтобы Кюстер, в прошлом поверенный Пруссии
в Петербурге, сопровождал турецких представителей в
Адрианополь и убедил Дибича немедленно заключить
перемирие.
По просьбе Пертев-паши, Гордон и Гильемино 24 ав-
густа написали Дибичу совместное письмо62. В нем го-
ворилось, что Порта направила в штаб-квартиру русской
армии двух представителей высокого ранга с полномо-
чиями на немедленное подписание прелиминарий мир-
ного договора. Гордон и Гильемино писали, что Порта
приняла все условия Декларации России, в том числе
и по контрибуции, о которой до сих пор она хранила
молчание. Послы подчеркивали далее, что продолжение
военных действий «пагубно отразилось бы на судьбе
христианского населения столицы» и что перемирие —
«единственное средство положить конец волнениям, ко-
торые по разным поводам охватили обитателей столи-
цы». Вручить послание Дибичу было поручено Кюстеру.
25 августа 1829 г. турецкие представители и Кюстер
выехали морем на пароходе английского посольства в
Родосто и оттуда кратчайшим путем — в Адрианополь.
В своих отчетах, мемуарах и донесениях современники
(дипломаты и лица, находившиеся в это время в Тур-
ции) писали, что Мехмед Садык-эфенди и Абдулкадыр-
бей получили указание подписать любые условия мирно-
го договора, выдвинутые русскими, настаивая лишь на
немедленном прекращении военных действий63. Констан-
тинопольский корреспондент «Курьера Смирны» писал,
что турецким уполномоченным было приказано руковоД'
ствоваться пятью известными условиями мира, выдви-
нутыми Портой в начале августа 1829 г., но в случае
настойчивых требований русской дипломатии согласить-
ся с положениями апрельской Декларации 1828 г.64.
28 августа 1829 г. утром в штаб-квартиру русской
армии приехал Кюстер. Он сообщил, что за ним следу-
ют турецкие представители. Навстречу им Дибич немед-
ленно выслал начальника дипломатической канцелярии
2-й армии Фонтона и почетный караул, который тор-
112
жественно сопровождал Садыка-эфенди и Абдулкадыр-
бея в отведенную им резиденцию. Кюстер вручил Диби-
чу письмо послов от 24 августа. В беседе с Дибичем он
пытался выяснить, какие условия будут включены в про-
ект мирного договора. Кюстера (за его спиной и всех
европейских дипломатов в Константинополе) особенно
интересовало, какие крепости Россия хочет получить в
Малой Азии. «Кюстер... сказал мне,— писал Дибич ца-
рю,— что в случае если мы пожелаем Ахалцих, то это
может повести за собой большие затруднения, потому
что турки дорожат этими владениями, на которые они
смотрят как на одно из самых древних своих наследий
и как на ключ от своих владений в Азии. Кюстер приба-
вил,— писал Дибич,— что и англичане будут с завистью
смотреть на это приобретение, что сэр Гордон даже ска-
зал, что наше (России.— В. Ш.) требование Ахалциха
выходит из границ великодушия, которое предполагали
со стороны в. и. в. и в котором были убеждены, ибо эта
крепость служила бы для наших наступательных дей-
ствий и ее занятие указывало бы на предположение о
территориальном увеличении в будущем»65. «Во избе-
жание всяких подозрений» Кюстер предложил Дибичу
ограничиться ликвидацией укреплений Ахалциха. Прус-
ский представитель просил заключить мирный договор
в ближайшие дни. «И затем он просил,— писал Дибич,—
не подвигать мои войска слишком близко к Константи-
нополю, потому что наступление в этом направлении
может повести к революции и заставляет опасаться па-
дения султана и империи».
Говоря об Ахалцихе, Кюстер затронул вопрос, к ко-
торому подходила с большой осторожностью русская
дипломатия. 30 июня 1829 г. Нессельроде направил Ди-
бичу письмо66, в котором предлагал в ходе переговоров
касаться территориальных вопросов крайне осторожно
и указывал, что присоединение Ахалциха могло бы
иметь место только при одновременном снижении конт-
рибуции на 2 млн. голландских золотых дукатов. Окон-
чательное решение вопроса об Ахалцихе следовало при-
нять в ходе мирных переговоров с учетом позиции ту-
рецкой стороны. Командующий Кавказским корпусом
И. Ф. Паскевич в своей записке к Нессельроде в июне
1829 г., касаясь послевоенного развития отношений с
Турцией, предлагал в крайнем случае оставить Порте
8 Зак. 851 ПЗ
Ахалцих, но предусмотреть меры, которые позволили бы
«уничтожить торговлю, которую англичане старались за-
вести» в пограничных областях, по которым пролегали
«пути северного сообщения между Турциею и Пер-
сиею»67. Однако ни Паскевич, ни министр финансов
Е. Ф. Канкрин в своей докладной записке Николаю I
«По поводу мирного договора с Турцией» (март
1829 г.), где также ставился вопрос об «охранении» за-
кавказской торговли России и обращалось внимание на
выгодность участия в ирано-турецкой торговле, не шли
далее определения того или иного направления разгра-
ничительной линии в Закавказье68, не учитывали того,
что кордонные посты и укрепления не могут обеспечить
преимуществ русской торговле в соревновании с англий-
ским капиталистическим производством, натиском деше-
вых фабричных английских товаров в районы с ручным
ремесленным производством.
Начавшаяся с середины 20-х годов XIX в. торговая
экспансия Англии в Малой Азии и Персии широко раз-
вернулась в последующие два десятилетия69, но уже в
1829 г. в Лондоне высказывали серьезное беспокойство
относительно безопасности транзитного пути английских
товаров Трабзон — Тебриз. С июля 1829 г. английское
правительство неоднократно выражало настойчивое же-
лание знать содержание проекта мирного договора Рос-
сии с Турцией, в том числе и вероятные разграничения
на Кавказе70. Те же цели преследовал британский посол
в Константинополе Гордон, который поручил Кюстеру
узнать, каковы инструкции Дибича, и указать русскому
командующему, что «англичане будут с завистью смот-
реть на приобретение Ахалциха».
Дибич, вероятно разгадав в беседе с прусским пред-
ставителем этот нехитрый ход, ответил, что не сможет
сообщить данные ему инструкции, а по поводу Ахалциха
от точного ответа уклонился и сказал: «Я не позволю
себе стесняться чьими бы то ни было мнениями, а, на-
против того, я буду строго исполнять данные мне ин-
струкции, как подобает верному и исправному воину»71.
Дибич сказал также Кюстеру, что продвижение 2-й ар-
мии в направлении Лалебургаза, который находился на
расстоянии 70—80 км от Константинополя, будет оста-
новлено.
Прекратить военные действия и как можно скорее
114
заключить мир, по словам Дибича, «вполне соответство-
вало нашим намерениям». В распоряжении Дибича оста-
валось менее 20 тыс. боеспособных солдат. Как писал
Дибич Николаю I, этих войск было «совершенно до-
статочно, чтобы дойти до Константинополя, ибо турец-
кой армии более не существовало, но количество это
слишком недостаточно, чтобы предпринять какие-либо
операции против города, насчитывающего 600 тыс. му-
сульманского населения, или чтобы овладеть европей-
скими замками на Босфоре»72. В апреле 1830 г. в беседе
со своим другом Тизенгаузеном Дибич сказал, что в кон-
це августа 1829 г. его армия была разделена на две ко-
лонны, из которых одна действовала в направлении Эно-
са, другая — Мидии. «В этих разделенных отрядах,— го-
ворил он,— состояла вся сила моей армии, но, к счастью
нашему, турки были еще малочисленнее. Если я и со-
средоточил бы все отряды в одну массу, то и тогда я не
мог бы занять Константинополь. Это обстоятельство,—
продолжал бывший главнокомандующий,— не было из-
вестно ни Дивану73, ни чужестранным послам, бывшим
в Царьграде74, и все они опасались, что я займу сто-
лицу Махмуда, а более всего, что взятие Константино-
поля преобразует все политические отношения между ев-
ропейскими державами. Я употреблял всевозможные
средства, — говорил Дибич, — этим опасениям дать бо-
лее вероятности и предположение об огромном числе на-
ших войск подкреплял появлением отдельных отрядов во
многих местах»75.
Слова Дибича свидетельствуют о том, что он не
столько не хотел (как считал А. В. Фадеев), сколько
не мог бы овладеть Константинополем. В то же время
Николай I называл падение столицы Османской импе-
рии «случайностью, осуществления которой молил бога
не допускать»76, и (как отметил А. В. Фадеев) отнюдь
не торопил Дибича с занятием Константинополя и про-
ливов и предлагал ему возможно скорее заключить мир
в Адрианополе. Советские исследователи уже показали,
что дальнейшее затягивание войны грозило обострением
политического положения внутри страны и новыми меж-
дународными конфликтами. Мир был нужен, чтобы пред-
отвратить возможные революционные потрясения в Рос-
сии и в Европе, чтобы не оказаться перед лицом этих
потрясений в состоянии международной изоляции11.
8*
115
Царское правительство и командование 2-й армии и
Отдельного Кавказского корпуса с самого начала воен-
ных действий в апреле 1828 г. следило за тем, чтобы
не вызвать массовых антисултанских выступлений сре-
ди населения Османской империи. В. Д. Конобеев,
В. Я. Гросул и И. Мещерюк показали, что в ходе второй
кампании в июле — августе 1829 г. Дибич был вынуж-
ден использовать в боевых операциях отряды болгарских
повстанцев и молдово-валашских волонтеров78. Однако
самостоятельные действия этих отрядов, инициатива их
бойцов сдерживались79, командование 2-й армии опира-
лось не на национальное движение, а на старшин, на
чорбаджийство. Даже оружие бойцам волонтерских от-
рядов раздавалось через представителей «имущих сло-
ев», коим предписывалось внушать прочей бедноте, что
это оружие им выдается «единственно только для защи-
ты от турок собственности своей, чтобы они отнюдь ни-
чего более не предпринимали». Царское командование
стремилось не допустить действия народа далее охраны
своей собственности, не допустить движения, посягающе-
го на собственность турка-феодала80.
В развитие этого положения можно было бы только
добавить следующее. Царское правительство и Дибич
допускали возможность использовать болгарские, мол-
дово-валашские и сербские отряды, если бы пришлось
вести третью кампанию в 1830 г. или наступать на Кон-
стантинополь в августе — сентябре 1829 г. Однако они
считали, что освободительное движение в европейской
Турции при благоприятном для русской армии положе-
нии на театре военных действий могло бы только ос-
ложнить мирные переговоры с турецким правительством.
21 июня 1829 г. Дибич писал командующему черномор-
ской эскадрой адмиралу Грейгу: «Победа при Кулевче
открывает путь к мирным переговорам между великим
везиром и мной. Решид-паша уже запросил инструкции
из Константинополя, и нет ничего невозможного в том,
что вскоре начнутся основные переговоры. В настоящий
момент сложилась весьма деликатная ситуация и... не-
сомненно очень важно не выводить султана из себя про-
возглашениями такого рода, которые могли бы привести
к восстанию христиан у самых ворот столицы»81.
Спустя три месяца Дибич повторно писал об этом же
в донесении к Николаю I. «В. и. в-во уполномочили меня
116
вооружить болгар82, а сербам83 дать сигнал к действию.
Исполняя в точности ваши повеления, я полагаю, госу-
дарь, ограничиться пока одним частным вооружением
болгар, необходимым для их личной безопасности, а что
касается до того, чтобы всецело выполнить предписан-
ную меру, то я полагаю, что обязан подождать, пока
еще остается надежда на мирные переговоры, ибо восста-
ние сербов и болгар причинит много затруднений в пере-
говорах с Портой и в будущем беспредельно ухудшит
участь сербов, особенно же болгар...»84. В Адрианополе
завершились мирные переговоры, когда вице-канцлер
еще раз указал Дибичу на необходимость удержать под-
данных султана в покорности своему суверену, сохранив
самым строгим образом положение вещей, существую-
щее в Османской империи. Боясь осложнений и труд-
ностей, которые возникли бы в случае широкого движе-
ния христианских подданных султана, царское прави-
тельство предлагало Дибичу обеспечить «мир и спокой-
ствие во всех областях, покоренных нашим оружием»85.
Нараставшее освободительное движение в Южной
Болгарии, столь беспокоившая царя86 реальная угроза
восстания в Константинополе, которое могло иметь труд-
нопредвидимые последствия, как раз и входили в число
тех «революций», которые Дибич должен был предотвра-
тить и о которых не преминул упомянуть Кюстер в бе-
седе с русским командующим 28 августа 1829 г.
* * *
Вечером 30 августа 1829 г. Дибич пригласил к себе
Садык-эфенди, Абдулкадыр-бея и в присутствии Гор-
чакова и Фонтона вручил им подготовленный накануне
проект-максимум мирного договора. Во время этого пер-
вого заседания Дибич устно сообщил турецким пред-
ставителям основные пункты врученного им проекта и
заявил, что Россия готова к заключению мира, поэтому
успех переговоров зависит от того, какую позицию зай-
мет турецкая сторона. Мехмед Садык-эфенди и Абдул-
кадыр-бей выразили согласие рассмотреть условия до-
говора. Башдефтердар сказал, что вопрос о контрибуции
представляется крайне сложным и потребует особого об-
суждения.
Следующее заседание было отложено до прибытия
117
представителей Николая I—тайного советника Ф. П. Па-
лена, возглавлявшего в 1828—1829 гг. царскую адми-
нистрацию в Дунайских княжествах, и генерал-адъютан-
та А. Ф. Орлова, личного представителя царя. Пален
и Орлов прибыли в Адрианополь 1 сентября и смогли
приступить к переговорам 2 сентября. В течение двух
дней Садык-эфенди и Абдулкадыр-бей изучали вручен-
ный им максимальный вариант проекта договора*7.
Тексты были на француз»ском и турецком языках88.
Статья I этого документа полностью совпадала с та-
ковой в проекте договора, направленного Дибичу из Пе-
тербурга в мае 1829 г., и без изменений вошла в текст
трактата.
В редакцию ст. II Дибич внес дополнение по сравне-
нию с майским проектом — были подробно перечислены
все 'крепости и территории в Европейской Турции, ®оз-
вращаемые Порте. «Это было сделано мной,— писал Ди-
бич,— чтобы подчеркнуть перед турками и всей Европой
великодушие е. и. в-ва». Новая редакция ст. II вошла в
мирный договор.
В ст. III Дибич уточнил размеры ненаселенной тер-
ритории по берегу Дуная. «Правый берег,— говорилось
в этой статье, включенной в Адрианопольский трактат,—
начиная с точки, где гирло Георгиевское отделяется от
Сулинского, пребудет незаселенным на расстоянии двух
часов пути от реки». В майском проекте говорилось в
общей форме об очищении правого берега Дуная на
расстоянии двух часов верховой езды. «Уточнения я ввел
с тем,— писал Дибич,— чтобы Тульча не оказалась в не-
заселяемой зоне».
В соответствии с майским проектом договора ст. IV
была сформулирована таким образом, что в пределах
России оказывались Анапа, Поти, Ахалцих и Ахалка-
лаки. Дибич ввел в статью перечисление возвращаемых
Порте на Кавказе пашалыков и крепостей.
Статьи V и VI о Дунайских княжествах и Сербии
были предложены к обсуждению в майском варианте и
вошли затем в мирный договор без изменений.
В ст. VII о свободе торгового судоходства в проли-
вах, включенной в трактат в редакции царского прави-
тельства от начала мая 1829 г., Дибич сделал лишь до-
бавление о неограниченном тоннаже торговых кораблей,
проходящих проливы.
118
В ст. VIII Дибич указал, что частная индемнизация
в размере 1,5 млн. голландских дукатов должна быть
уплачена Портой в течение одного года после размена
ратификационных грамот.
Статья IX о контрибуции в проекте, предложенном
Дибичем турецкой стороне, была сформулирована сле-
дующим образом: «Независимо от небольшой террито-
рии в Малой Азии, упомянутой в ст. IV настоящего про-
екта, которую правительство России согласно получить
в счет частной индемнизации, Блистательная Порта обя-
зуется выплатить еще сумму в 10 млн. голландских ду-
катов. Сроки, виды и гарантии платежей будут установ-
лены особым соглашением». На переговорах, по просьбе
турецких представителей, в ст. IX были внесены изме-
нения.
Следующие — X, XI, XII и XIII — статьи майского
проекта мирного договора были обсуждены во в-ремя
этого совещания и вошли в окончательный текст без из-
менений.
Одновременно с проектом договора Дибич вручил
Садык-эфенди и Абдулкадыр-бею проект «Отдельного
акта о Молдавии и Валахии», который без изменения
стал составной частью Адрианопольского трактата. «От-
дельный акт» подтверждал и расширял привилегии Ду-
найских княжеств.
Другой документ, который был вручен туркам уже
в ходе переговоров 3 сентября 1829 г., назывался
«Проект Объяснительной конвенции касательно испол-
нения мирного договора»89. Этот документ состоял из
четырех статей, регламентировавших уплату контрибу-
ции и сроки вывода русских войск с турецкой терри-
тории.
Статья 1 «Проекта Объяснительной конвенции» пред-
усматривала, что в течение 15 дней после подписания
мирного договора крепость Журжево должна быть заня-
та русскими войсками и разрушена. Турецкие войска
могли оставаться в Рушуке.
В ст. 2 говорилось: «Во исполнение статьи VIII про-
екта договора Блистательная Порта обязуется в момент
ратификации договора уплатить одну треть из суммы в
1,5 млн. голландских дукатов частной индемнизации.
Вторая треть будет уплачена в течение шести месяцев
с момента ратификации. В последующие шесть месяцев
119
должна быть уплачена последняя треть означенной сум-
мы в 1,5 млн. дукатов».
В ст. 3 говорилось, что выплата военной контрибуции
будет производиться Портой в течение 10 лет после ра-
тификации договора. Предусматривалась возможность
сокращения сроков выплаты контрибуции до 5 лет. «Для
облегчения исполнения Блистательной Портой настоя-
щего обязательства е. и. в-во согласен принимать в счет
10 млн. дукатов натуральные поставки, которые по об-
щему соглашению будут признаны приемлемыми».
Статья 4 устанавливала сроки и порядок выведения
русских войск с турецкой территории. После уплаты
Портой первой трети возмещения убытков русским тор-
говцам, полного исполнения ст. VI о Сербии и передачи
русской армии крепости Журжево, в течение одного ме-
сяца после обмена ратификаций договора русская армия
оставит Адрианополь, Кырккилисе, Лалебургаз и Ми-
дию, которые будут немедленно возвращены турецким
властям.
По уплате Портой трети контрибуции русские войска
отойдут за Балканы, а после уплаты всей суммы торго-
вой индемнизации в Болгарии и Добрудже будет вос-
становлена турецкая администрация. Русские части ос-
танутся в Силистрии и в Дунайских княжествах до пол-
ной уплаты военной контрибуции в 10 млн. дукатов.
«Княжества будут очищены русскими войсками,— гово-
рилось в этой статье,— в течение двух месяцев, если
Блистательная Порта уплатит сполна и немедленно
10 млн. дукатов. В Азии вывод русских войск из турец-
ких крепостей начнется через три месяца после размена
ратификаций в рамках особой конвенции, заключаемой
графом Паскевичем и турецким командующим, и должен
быть завершен в течение восьми месяцев после размена
ратификаций».
* * *
В среду 2 сентября 1829 г. около 10 часов утра в
штаб-квартире командующего русской армией, во двор-
це Эски-сарай — бывшей резиденции султанов,— встре-
тились представители султана — Садык-эфенди и Абдул-
кадыр-бей с представителями царя — Орловым и Пале-
ном. С турецкой стороны присутствовали: заместитель
120
реисулькюттаба Акиф-эфендй, один из служащих кан-
целярии султана — Решид-эфенди, мемур Порты Эсрар-
эфенди, который вел протокол турецкой стороны и мог
выполнять функции переводчика с французского. Орло-
ва и Палена сопровождали Фонтон, переводчик с турец-
кого Ханджери и протоколист Гильфердинг90.
После взаимных приветствий стороны предъявили
друг другу свои полномочия и обменялись их копиями.
Первым взял слово А. Ф. Орлов. В краткой вступитель-
ной речи он заверил турецких представителей в том, что
«император Николай I желает прекращения войны и что
е. и. в-во исполнен чувств великодушия и милосердия».
Орлов спросил, ознакомилась ли турецкая сторона с про-
ектом договора и согласна ли его принять. Мехмед Са-
дык-эфенди ответил, что проект они читали, но не имели
достаточно времени, чтобы его детально продумать. «Од-
нако при первом ознакомлении мне показалось,— сказал
Мехмед Садык-эфенди,— что проект не соответствует тем
условиям мира, которые, как уверяли послы Англии и
Франции, император был намерен положить в основу
доброго согласия между двумя государствами». Орлов
и Пален, перебивая друг друга, живо возразили, что,
хотя Гордон и Гильемино представляли союзные России
державы, они отнюдь не были уполномочены посредни-
чать в отношениях между Россией и Турцией. «Несом-
ненно,— ответил Садык-эфенди,— эти два кабинета не
уполномочены были посредничать, но они должны были
знать о намерениях императора. Сообщенный же нам
проект не отвечает тем условиям договора, которые из-
вестны в Константинополе». В ответ Пален заявил, что
представители обеих сторон имеют одинаково высокую
и сложную миссию — заключить мирный договор и долж-
ны строго исполнять возложенную на них задачу. Ана-
логичным образом Пален и Орлов отвергли еще две по-
пытки Садыка-эфенди сослаться на несоответствие про-
екта с уверениями послов Англии и Франции.
Тогда взял слово заместитель реисулькюттаба Акиф-
эфенди. Он сказал, что русский император в Деклара-
ции от 26 апреля 1828 г. изложил условия мирного до-
говора и объявил, что они останутся неизмененными, что,
наконец, в переговорах под Шумлой требования России
соответствовали упомянутой Декларации. Акиф-эфенди
объявил, что Порта согласна подтвердить все прежние
121
договоры с Россией и обеспечить свободу и безопасность
русского торгового судоходства в проливах. Акиф-эфен-
ди подчеркнул, что греческий вопрос уже решен в Кон-
стантинополе усилиями Порты и послов Англии и Фран-
ции и, таким, образом, остается единственный вопрос —
о контрибуции,— который и должен стать предметом
обсуждения. С согласия Орлова начальник дипломати-
ческой канцелярии штаба 2-й армии Фонтон выступил
с ответным заявлением. Он сказал, что проект договора
составлен на основе апрельской Декларации 1828 г. со
всей возможной четкостью и ясностью. Садык-эфенди
повторил прежние возражения и вновь подчеркнул, что
греческий вопрос не должен обсуждаться, поскольку он
уже вполне завершен на переговорах в Константинополе.
Пален ответил, что русская сторона тем более не видит
препятствий подтвердить в трактате условия Лондонской
конвенции 1827 г. и мартовского протокола 1829 г.
После короткого, как говорилось в протоколе, раз-
думья Садык-эфенди вновь обратил внимание своих рус-
ских коллег на несоответствие требований проекта дого-
вора и заявлений, сделанных Россией в апреле 1828 г.
В беседу вступил Орлов. Он заявил: «Изменения, кото-
рые появились в проекте, объясняются лишь упорством
турок. Если молчание, которое Порта хранила после пер-
вых переговоров под Шумлой, принесло Турции много
несчастий, то и для императорской армии победа до-
сталась ценой больших жертв. Между прочим,— до-
бавил Орлов,— по ту сторону Балкан требования Рос-
сии вполне соответствовали апрельской Декларации
1828 г.».
Садык-эфенди направил беседу в другое русло. «За-
чем,— сказал он,— в новом договоре повторять то, что
входило в прежние договоры? Достаточно все их под-
твердить». Орлов ответил: «Нужны твердые и достаточ-
ные гарантии исполнения договоров. Россия стремится
к длительному и прочному миру, поэтому необходимо
детальное уточнение всех статей». Абдулкадыр-бей, хра-
нивший на протяжении двух часов молчание, произнес:
«В Аккерманской конвенции содержится обещание в точ-
ности соблюдать все прежние договоры. Этого достаточ-
но». Орлов поднялся со своего места и сказал: «Мы со-
брались здесь для того, чтобы доработать проект до-
говора. Прошу вас ответить, согласны ли вы принять
122
предложенный проект. Если согласны, то продолжим на-
шу работу».
Протоколист записал: «После этих слов Садык-эфен-
ди вновь погрузился в глубокое размышление». Наконец,
башдефтердар взял слово и повторил русским предста-
вителям, что проект договора имеет большие расхожде-
ния с Декларацией 1828 г. В частности, Россия требует
территориальных уступок в Азии, в Европе и к тому же
хочет получить острова в дельте Дуная. Орлов и Пален
принялись убеждать турок в том, что Порта ничего не
потеряет, расставшись с безлюдной заболоченной мест-
ностью в устье Дуная. «Напротив,— говорили они,—
приобретение Россией этих островов будет означать пре-
кращение грабежей и разбоев в плавнях Дуная, пресе-
чение распространения чумы в сопредельных владениях
России и Турции». Садык-эфенди возражал: «Во-первых,
неизвестно, будет ли угодно падишаху отдать эти остро-
ва; во-вторых,— спросил он,— будет ли соблюдаться пол-
ная свобода судоходства в гирлах Дуная?»
За этим последовала длительная дискуссия между
представителями договаривающихся сторон, в ходе кото-
рой Садык-эфенди ссылался на то, что в Декларации
1828 г. не упоминалось об островах в дельте Дуная.
Садык-эфенди повторил, что, по его мнению, нет необ-
ходимости в составлении новых статей и достаточно
подтвердить прежние договоры. Русские представители
говорили в ответ, что Адрианопольский мир должен по-
служить основой мирного развития отношений между
двумя странами на долгие годы и поэтому необходимо
свести воедино многочисленные постановления, регла-
ментирующие политические и торговые взаимоотноше-
ния двух сторон. «К тому же,— сказал Орлов,— бэян-
наме от 20 декабря 1827 г. отменил все прежние до-
говоры». Садык-эфенди отверг было существование
подобного документа, но ему ответили, что несколько ко-
пий воззвания Махмуда II к мусульманам было обнару-
жено среди военных трофеев. Турецким представителям
напомнили, что перемирие еще не заключено и, в случае
задержки в обсуждении проекта договора, военные дей-
ствия будут продолжаться. После краткого обмена мне-
ниями Садык-эфенди и Абдулкадыр-бей выразили готов-
ность обсудить проект по каждой статье отдельно.
Эсрар-эфенди читал статьи проекта по-турецки, а
123
Фонтов сверял его с французским текстом. Статья I не
вызвала возражений. По поводу ст. II Садык-эфенди
заявил, что перечень возвращаемых крепостей неполный,
и потребовал возвратить Порте пушки из крепостей, от-
ходящих к России. В отношении ст. III Садык-эфенди
повторил прежние доводы и предложил, чтобы острова
в дельте Дуная по крайней мере оставались ненаселен-
ными и там не содержались русские пограничные кордо-
ны. Орлов и Пален отвергли эти поправки к проекту.
Статья IV об азиатских границах долгой дискуссии
не вызвала. «Русские представители предложили карту,
на которой были намечены новые границы и обозначены
области, как занятые русскими войками, так и возвра-
щаемые Порте»,— записал протоколист Гильфердинг.
Орлов и Пален отметили, что уступаемая Портой тер-
ритория пойдет в счет военной контрибуции, которую
требовала Россия. Последнее соображение и незначи-
тельная по размерам на карте территория показались,
вероятно, Садыку-эфенди и его коллегам достаточным
основанием, чтобы уступить русским представителям.
Статьи V и VI о Дунайских княжествах и Сербии
были согласованы без особых прений. Мехмед Садык-
эфенди заметил, однако, что в Аккерманской конвенции
не говорилось о возвращении сербам шести округов. Ему
ответили, что этого потребовал ясный и определенный
характер настоящего договора. Обсуждение продолжа-
лось. Острые дебаты 1возникли вокруг ст. VII о свободе
торгового судоходства России и всех стран в черномор-
ских проливах. Садык-эфенди потребовал, чтобы к па-
раграфу, по которому Порта обязуется не задерживать
и не останавливать проходящие торговые суда, «было
добавлено положение о запрете провоза военной контра-
банды и всех предметов, относящихся к военному делу».
Турецкий представитель настаивал также на том, чтобы
точно определить максимальную грузоподъемность и
количество проходящих проливы судов. К сожалению,
протокол конференции не содержит дополнительных под-
робностей о поправках, внесенных Садык-эфенди, и об
ответах русской стороны. В данном вопросе «дискуссия
завершилась тем,— записал Гильфердинг,— что в проект
договора была вставлена фраза о неограниченности тон-
нажа судов, проходящих проливы».
Возражая против требования России предоставить
124
свободу судоходства в Босфоре и Дарданеллах торговым
судам всех стран, башдефтердар сказал, что это озна-
чало бы отмену договоров, заключенных с Испанией,
Данией и другими государствами, и причинило бы го-
сударственной казне большие убытки, поскольку эти
державы обязались платить пошлину за право навига-
ции в проливах. «К тому же с открытием проливов нач-
нутся для Высокой Порты всевозможные осложнения»,—
сказал в заключение башдефтердар.
Доводы русской стороны строились на том, что боль-
шое увеличение грузооборота через проливы в интересах
Турции, так как это позволит быстро возместить часть
убытков, связанных с войной. Пален, который вел об-
суждение этой статьи, говорил: «Поскольку целый ряд
государств имеет от Порты разрешение на проход про-
ливов, было бы *и справедливо, и в интересах обеих до-
говаривающихся сторон предоставить всем флагам вес-
ти торговлю с югом России. Турция позволяет проходить
Босфор судам одних стран, осложняет навигацию для
других. Естественно, Россия требует свободы судоход-
ства для судов всех дружественных Турции держав, в
чем Порта найдет и для себя источник значительных
доходов». Как свидетельствует протокол, окончательно-
го решения по ст. VII на этом заседании принято не
было, и стороны перешли к чтению раздела о контри-
буции.
Садык-эфенди и Абдулкадыр-бей сказали, что не воз-
ражают против выплаты возмещения убытков, понесен-
ных русскими торговцами в результате военных дейст-
вий, но считают необходимым создание смешанной ко-
миссии для определения взаимных претензий русских и
турецких торговцев. Им ответили, что соответствующая
работа уже проведена в Петербурге.
По поводу контрибуции в 10 млн. голландских дука-
тов турецкие представители заявили, что не могут са-
мостоятельно решить этот сложнейший вопрос и долж-
ны получить дополнительные указания из Константи-
нополя.
Обсуждение ст. X свелось к повторению прежних ар-
гументов турецкой стороны — греческий вопрос уже ре-
шен в Константинополе между Портой и послами Анг-
лии и Франции. Орлов «с твердостью в голосе» ответил,
что ст. X о признании Лондонской конвенции и мартов-
125
ского протокола не подлежит ни обсуждению, ни изме-
нению и без всяких оговорок должна войти в договор.
Заключительные статьи проекта были согласованы без
серьезных разногласий, и шестичасовое заседание на
этом закончилось.
На следующий день, 3 сентября 1829 г., представи-
тели России и Турции продолжали обсуждение русского
проекта мирного договора. Открывая заседание, Орлов
выразил удивление по поводу того, что представители
султана не имеют достаточных полномочий для заклю-
чения мира, одним из непременных условий которого
еще в Декларации от 26 апреля 1828 г. была объявлена
выплата Портой военной контрибуции. Он сказал также,
что проект договора должен рассматриваться в качестве
ультиматума и на него надлежит дать определенный —
либо положительный, либо отрицательный — ответ91.
Садык-эфенди в ответном слове сказал, что Абдул-
кадыр-бей и он глубоко сожалеют, что не могут пол-
ностью и немедленно принять проект договора, но что
при выезде из Константинополя было трудно предполо-
жить о столь значительном увеличении русских требо-
ваний. «Мы не можем сейчас взять на себя ответствен-
ность согласиться со статьей о контрибуции»,— сказал
Садык-эфенди. Орлов пояснил, что русское правитель-
ство готово сделать определенные облегчения в порядке
выплаты контрибуции, а также принять в счет контри-
буции строевой лес, несколько военных кораблей, медь
и шелк-сырец. «Однако сумма в 10 млн. золотых дука-
тов, которую вы требуете,— воскликнул башдефтердар,—
намного превосходит финансовые возможности турецко-
го правительства. Примите во внимание обстоятельства,
в которых мы находимся на протяжении последних де-
вяти лет!» Мехмед Садык-эфенди уверил своих русских
коллег, что он и его спутники посланы просить мира
и отсрочка для обращения к правительству за инструк-
циями, которую они просят предоставить, свидетельству-
ет только о стремлении турецкой стороны к прочному
и длительному миру между двумя странами. Орлов и
Пален согласились на десятидневный перерыв в работе
конференции, сказав, что командующий русской армией
оставит за собой право в любой момент продолжить
военные действия.
Как записал протоколист, эти слова заметно опеча-
126
лили турок, однако обсуждение они продолжали. Мех-
мед Садык-эфенди спросил, не согласится ли Россия
принять вместо контрибуции некую территорию. Отве-
тив, что русское правительство не стремится к террито-
риальным увеличениям, Орлов вручил туркам подготов-
ленный Дибичем до начала переговоров «Проект Объяс-
нительной конвенции» об уплате контрибуции и порядке
выведения русских войск из Турции. Ознакомившись в
переводе Ханджери с «Проектом Объяснительной кон-
венции», Мехмед Садык-эфенди спросил, согласна ли
Россия продлить сроки платежей более чем на 10 лет.
Он осведомился далее, сможет ли сейчас Порта обра-
титься лично к царю с просьбой снизить контрибуцию.
«У нас нет времени обращаться к е. и. в-ву — отсрочка
дана всего на десять дней»,— ответил Орлов. В свою
очередь, он спросил, какую территорию Порта отдаст в
счет контрибуции. «Могла бы быть предложена некото-
рая часть Молдавии»,— последовал ответ башдефтерда-
ра. Русские представители не имели на этот счет опре-
деленных инструкций. Дискуссия прекратилась, и засе-
дание окончилось.
Первые три дня переговоров показали, что турецкие
представители прибыли в Адрианополь с намерением
заключить мирный договор на основе принципов, выдви-
нутых Портой в августе 1829 г.: возвращение Турции
всех занятых русскими войсками территорий, подтверж-
дение Турцией всех прежних договоров с Россией, при-
знание Лондонской конвенции, соблюдение свободы су-
доходства русских торговых судов в черноморских про-
ливах, обсуждение в Константинополе вопросов взаим-
ной компенсации убытков, понесенных торговцами обеих
стран. В конце августа 1829 г. эти условия были согла-
сованы с послами Англии и Франции в Константинополе,
и Порта надеялась положить их в основу мирного до-
говора с Россией. Поэтому первые возражения Мехмеда
Садык-эфенди по поводу проекта договора были осно-
ваны на утверждении, что предложенный проект не со-
ответствовал заявлениям Гордона и Гильемино об уме-
ренности русских требований.
Турецкая сторона выдвинула контрпредложения, ко-
торые повторили, однако, только два из пяти условий
Порты — подтверждение договоров и обеспечение свобо-
ды русского торгового судоходства в проливах, причем
127
Абдулкадыр-бей предложил ограничиться подтвержде-
нием одной Аккерманской конвенции, а Мехмед Садык-
эфенди хотел добиться ограничения тоннажа русских
судов, проходивших Босфор и Дарданеллы. Очевидно,
эти контрпредложения они согласовали уже в ходе пе-
реговоров. По протоколам с очевидностью следует, чтс
особенно длительная дискуссия развертывалась всякий
раз вокруг ст. X о Греции и в ходе первых встреч она
согласована не была. Еще 15 августа 1829 г. Порта
объявила о признании Лондонской конвенции. Одним
из условий этого признания было проведение дополни-
тельных переговоров по греческому вопросу. Однако
никаких переговоров, кроме неофициального обмена
мнениями, между Пертев-пашой и представителями
Англии, Франции, Пруссии в Константинополе не про-
водилось. Между тем турецкие представители заявили
Орлову и Палену, что греческий вопрос уже решен меж-
ду Портой и послами Англии и Франции и не должен
поэтому обсуждаться на адрианопольских переговорах.
Русская делегация настойчиво требовала признания и
Лондонской конвенции 1827 г., и мартовского протокола
1829 г.
Новым шагом турецкой дипломатии явилось предло-
жение Мехмеда Садык-эфенди о передаче России части
Молдавии в счет контрибуции92. Предложение не было
принято потому, что в правительственных кругах России
отсутствовало единое мнение по этому вопросу93.
В августовских инструкциях Решид-паше о мирных
переговорах с Россией предусматривалось проведение в
Константинополе переговоров о выплате компенсации
торговцам обеих стран. Об уплате Портой военной конт-
рибуции вопрос даже не ставился. Мехмед Садык-эфенди
и Абдулладыр-бей не стали начинать дискуссию по ин-
демнизации. Требование выплаты 10 млн. дукатов конт-
рибуции они использовали как предлог для того, чтобы
добиться десятидневного перерыва в работе конферен-
ции. За это время проект мирного договора был достав-
лен в Константинополь. Порта получила возможность
изучить его и принять соответствующие решения. Это
было единственным успехом турецких представителей на
первом этапе переговоров, так как внесенные ими контр-
предложения были отвергнуты русской стороной.
128
Заключительный этап переговоров
и подписание трактата
29 августа 1829 г. курьер привез в Константинополь
сообщение Мехмеда Садык-эфенди и Абдулкадыр-бея о
том, что Дибич приостановил наступление русских
войск. Это сообщение стало известно в городе — гла-
шатаи возвещали о скором заключении мира. «После
известия о перемирии, — сообщал из Константинополя
корреспондент „Курьера41, — в городе стало спокойнее и
паника, достигшая было грандиозных размеров в связи
с подходом русских, несколько улеглась».
Впрочем, спокойствие жителей было весьма относи-
тельным — регулярные части «проводили операции по
изъятию заговорщиков». Город же оставался по суще-
ству без защиты и армии.
Поэтому прекращение, хотя бы временное, наступ-
ления русских войск было для Порты спасительным.
Сам султан с удовлетворением встретил первые сообще-
ния своих представителей. Как писал Мюффлинг, сул-
тан полагал, что все вопросы решены и мир может счи-
таться заключенным. Реисулькюттаб и некоторые вези-
ры уверяли султана, что нужно добиваться всевозмож-
ных облегчений условий договора, в частности
исключить статью о контрибуции из текста договора,
поскольку Порта решила предоставить этот вопрос на
рассмотрение самого царя. Высказывались предложе-
ния протестовать против включения в мирный договор
между Россией и Турцией статьи о Греции 94.
В ожидании вестей из Адрианополя прошла еще од-
на неделя.
4 сентября 1829 г. гонец доставил султану русский
проект мирного договора и два объяснительных доку-
мента к нему. В течение последующих двух дней турец-
кое правительство изучало эти документы. Состоялось
расширенное заседание Дивана, на которое были при-
глашены везиры, командиры регулярных частей, пред-
ставители улемов. Говорилось о том, что Порта не имеет
средств выплатить контрибуцию в 11,5 млн. голландских
дукатов (368 млн. турецких курушей), поскольку это на-
несло бы тяжелый удар по истощенным войной финан-
сам страны и сорвало бы проведение дальнейших воен-
ных и административных реформ (действительно, во вре-
9 Зак. 851
129
мя -войны Порта впервые прибегла -к выпуску необеспе-
ченных бумажных денег, -создавших вскоре настоящую
проблему денежного обращения). Раздавались голоса,
требовавшие исключить из проекта договора статьи о
передаче России земель на Кавказе и о предоставлении
автономии Греции на основе протокола от 22 марта
1829 ;г. Кто-то из улемов потребовал даже собрать вой-
ска и продолжать ратоборствовать с противником, ссыла-
ясь на некоторый успех восточного сераскера против
корпуса Паокевича в Малой Азии. Как писал А. Лютфи,
все были удивлены и возмущены расхождениями между
слова-ми послов, заверявших в умеренности русских тре-
бований, и подлинным содержанием представленного
проекта мирного договора. Собравшиеся одобрили дей-
ствия Мехмеда Садык-эфенди и Абдулкадыр-бея. Было
решено, что реисулькюттаб встретится -с послами Англии,
Франции и Пруссии и с их помощью наметит пути об-
легчения условий договора с Россией.
7 сентября 1829 г. Пертев-паша пригласил в свой
загородный дом Гордона, Гильемино и Ройера (Мюф-
флинг был болен). На встрече с послами присутство-
вали сераскер Хюсрев-паша, Хулюси Ахмет-паша, заме-
щавший великого везира, и шейхульислам Кадызаде
Тахир-эфенди95. В речи, обращенной к европейским
представителям, Пертев-паша заявил, что Порта нахо-
дится в крайне затруднительном положении и надеется
на помощь и поддержку послов дружественных держав.
Реисулькюттаб подчеркнул, однако, что заявление гене-
рала Мюффлинга о незначительности требований Рос-
сии по мирному договору дезориентировало Порту.
«Вполне доверяя представлениям генерала Мюффлинга
и наших добрых друзей — послов Англии и Франции о
стремлении русского императора восстановить мир и
дружбу с Высокой Портой, — говорил Пертев-паша, —
последняя в доказательство своей готовности разре-
шить вопросы, которые составляют предмет дискуссий
между Россией и Османской империей, направила двух
представителей в штаб-квартиру русской армии, чтобы
заключить мир на тех условиях, о которых ей говорили.
Между тем от наших представителей пришли сообще-
ния, — продолжал реисулькюттаб, — по существу со-
вершенно противоположные тем, которые надеялась по-
лучить Высокая Порта. Суть предложений русского
130
правительства противоречит полученным нами увере-
ниям, и русский проект договора содержит условия, вы-
полнить которые Высокая Порта никогда бы не смог-
ла» 96.
Сделав это заявление, Пертев-паша вручил послам
копии русского проекта договора, который был под-
вергнут детальному обсуждению. «Каждая фраза дого-
вора,— писал в своем отчете Ройер, — перечитывалась
по многу раз, чтобы выяснить, какие изменения можно
в него внести. Гордон и Гильемино не скрывали, что
условия договора весьма далеки от того, на что они
сами надеялись и что обещали туркам» 97.
По предложению Пертев-паши основное внимание
было сосредоточено на статьях о контрибуции, о Гре-
ции и о кавказских границах. Расчет турецкого мини-
стра был простой и верный. В Константинополе хоро-
шо знали, что Англия стремилась урезать границы воз-
рождающегося греческого государства и всемерно про-
тиводействовала росту и укреплению влияния России
на Ближнем Востоке, всячески ограничивая возмож-
ности своих политических конкурентов в Закавказье и
в Средней Азии, на дальних подступах к Индии. По-
добная политика вполне соответствовала в тот момент
интересам Османской империи. Деятельность Гордона
в Константинополе, всецело подчиненная интересам
британской короны, оказывалась ориентированной в од-
ном направлении с действиями турецкой дипло-
матии.
В меньшей степени устраивала Порту позиция Фран-
ции, которая готовилась захватить Алжир и не хотела
обострять отношения с Россией. Точка зрения Франции
по греческому вопросу была к тому же несколько бли-
же к русской, чем к английской, и Гильемино не скры-
вал перед турками некоторых своих разногласий с
Гордоном. Однако, зная о тесных связях, установив-
шихся между Пертев-пашой и Гордоном, и видя быст-
рый рост влияния английского посла (современники
писали, что в августе—сентябре 1829 г. Порта не при-
нимала ни одного решения без консультаций с англий-
ским послом), Гильемино должен был добиваться ош
ределенного равновесия в борьбе за влияние на Порту
и поддерживал усилия турецкого правительства, на-
правленные на облегчение условий мирного договора с
9*
131
Россией. Кроме того, французский посол в известной
степени дискредитировал себя в глазах Порты необос-
нованными уверениями, что Россия не будет требовать
контрибуции, и теперь стремился восстановить поколе-
бавшееся доверие турецкого правительства.
Еще одно существенное обстоятельство давало ту-
рецкому правительству реальные основания полагаться
на поддержку послов Англии и Франции в ходе даль-
нейших переговоров в Адрианополе. Правительства
этих стран опасались, что русский царь-победитель во-
преки миролюбивым заверениям по-своему решит судь-
бу не только Греции, но и проливов, и Константинопо-
ля, и других турецких владений. Поэтому перед Гордо-
ном и Гильемино стояла, наряду с особыми целями,
одна общая задача — предотвратить крах Османской
империи, добиваться посредничества между воюющими
сторонами и заключить мир, не допуская чрезмерного
усиления Ро-ссии. С учетом всех этих обстоятельств и
строились дипломатические концепции турецкого пра-
вительства.
Наиболее тягостными представлялись Порте статьи
русского проекта договора о выплате контрибуции и
предоставлении автономии Греции. В начале августа
1829 г. ценой согласия на требования Англии и Фран-
ции признать Лондонскую конвенцию Порта хотела до-
биться вмешательства этих держа® на стороне Турции.
Теперь, в начале сентября 1829 г., Пертев-паша, приме-
няя ту же тактику, предполагал последовать желанию
английского кабинета снять греческий вопрос с обсуж-
дения на переговорах в Адрианополе. Взамен Гордон и
его французский коллега должны были помочь Порте
избежать бремени контрибуции.
Маневр Пертев-паши имел реальное основание.
В последних числах августа 1829 г. Гордон сообщил
Пертев-паше, что британское правительство вполне
удовлетворено формальным признанием Портой Лон-
донской конвенции и считает нежелательным включе-
ние в русско-турецкий мирный договор положения о
признании Портой Лондонской конвенции 1827 г. и
мартовского протокола 1829 г.98. В первых числах сен-
тября 1829 г. Гордон во время одной из многочислен-
ных неофициальных встреч с Пертев-пашой рекомендо-
вал ему добиваться снятия греческого вопроса с повест-
132
ки дня адрианопольских переговоров, а после заключе-
ния мира передать решение судьбы Греции на рассмот-
рение конференции великих держав в Лондоне с уча-
стием представителя Порты". Официальный историо-
граф Османской империи конца 20-х годов XIX в.
А. Лютфи писал, что решение передать греческий воп-
рос на рассмотрение новой лондонской конференции
было принято на одном из заседаний Дивана в начале
сентября 1829 г. Однако А. Лютфи не указывал, от ко-
го исходило это предложение. Донесения посла России
в Лондоне X. А. Ливена позволили уточнить, что оно
исходило от Гордона.
На упоминавшейся встрече с послами 7 сентября
1829 г. Пертев-паше оставалось лишь объявить, что
Порта решила снять греческий вопрос с обсуждения в
Адрианополе, о чем и будет сообщено Мехмеду Садык-
эфенди и Абдулкадыр-бею. Продолжая обсуждение
проекта мирного договора, Гильемино предложил, что-
бы Порта уступила России Анапу в счет контрибуции.
Предложение встретило возражение Пертев-паши, Хю-
срев-паши и Тахира-эфенди. Впрочем, это возражение
было не более чем дипломатическим маневром. Пер-
тев-паша просил послов направить в штаб Дибича по-
сланника Ройера, который помог бы турецким пред-
ставителям добиться облегчения статей по контрибуции
и по территориальным вопросам 10°.
Послы (все трое) согласились удовлетворить прось-
бу Пертев-паши. На следующий день, 8 сентября
1829 г., Ройер должен был выехать в штаб-квартиру
русской армии, имея при себе письма Гордона и Гилье-
мино к Дибичу. На этом встреча была закончена.
Перед отъездом Ройер согласовал с реисулькютта-
бом и сераскером (его влияние заметно возросло после
подавления заговора в Константинополе) два пункта
обращения к Дибичу. Первый — прекращение военных
действий одновременно с подписанием мирного догово-
ра, а не после его ратификации, как предусматривалось
в проекте. Второй — сохранение в тайне размеров пла-
тежей, с указанием в открытой части договора лишь
факта уплаты Портой контрибуции 101.
Выполняя обещание, данное реисулькюттабу, 7 сен-
тября Гордон и Гильемино подготовили письмо Ди-
бичу 102. В нем обращалось внимание на то, что
133
греческий вопрос решен и не должен ни обсуж-
даться на переговорах, ни включаться в русско-
турецкий мирный договор. О территориальных потерях,
которые грозили Турции, в письме вовсе не упомина-
лось, хотя Пертев-паша просил послов ходатайствовать
по этому поводу перед Дибичем и сами они на словах
разделяли негодование Порты относительно территори-
альных требований России. Исключить статью о Греции
из русско-турецкого договора для англо-французской
дипломатии в тот момент было важнее, чем сохранить
за Портой несколько крепостей. Гордон и Гильемино
писали, что они не будут вступать ни в какие дискус-
сии или объяснения с турецким правительством о бу-
дущем мире, «но будут настоятельно рекомендовать
Порте немедленно подписать мирный договор и упо-
вать на великодушие императора России». В письме го-
ворилось также, что Порта подготовила декларацию о
готовности исполнить все постановления Лондонской
конвенции 1827 г. «При таких условиях Порта не мог-
ла бы предположить, — говорилось в послании, — а мы
не могли бы даже помыслить, чтобы представители им-
ператора продолжали настаивать на сохранении в
проекте договора ст. X, поскольку это стало бы, а сей-
час тем более, столь явно противоречить букве и духу
конвенции, которой мы, в силу предписаний трех дво-
ров, должны руководствоваться в наших демаршах пе-
ред султанским правительством».
Через день, 10 ребиульэввеля 1245 г. х. (9 сентября
1829 г.), была обнародована краткая «Дополнительная
декларация Блистательной Порты представителям
Франции и Англии по греческому вопросу». В этом до-
кументе турецкое правительство взяло на себя обяза-
тельство «подписать в полном объеме все постановле-
ния, которые примет конференция в Лондоне относи-
тельно исполнения Лондонского договора (т. е. конвен-
ции 1827 г. — В, ZZ/.)»103. Как позволяет предположить
содержание декларации, Порта все еще надеялась, что
Россия откажется от самостоятельного решения грече-
ского вопроса и что он вновь будет обсуждаться на
лондонских конференциях, теперь уже с участием ту-
рецких представителей. Однако это был документ, при-
знававший наконец все постановления Лондонских
конференций, включая мартовский протокол 1829 г.
134
10 сентября 1829 г. письма послов и декларация
Порты стали известны Дибичу и Орлову. Они уже не-
сколько дней ожидали демарша послов по поводу ст. X
о Греции. В своих августовских депешах Нессельроде
дважды обращал внимание Дибича на то, что Порта
обязательно должна признать и Лондонскую конвенцию
1827 г., и особенно мартовский протокол 1829 г. «Без
включения в договор мартовского протокола, — писал
Нессельроде, — мир между нами никогда не будет пи
прочным, ни долгим» 104.
Дибичу и Орлову было приказано занимать бес-
компромиссную, но осторожную позицию в переписке с
послами союзных держав — Англии и Франции — Гор-
доном и Гильемино. «Проблема Греции,— отмечал
вице-канцлер России, — это наиболее деликатный воп-
рос переговоров в Адрианополе. Он связан с нашими
взаимоотношениями с союзниками, и по нему у нас нет
с ними идентичности видов и намерений. Греческий
вопрос должен обсуждаться вами, — продолжал Нес-
сельроде, — с максимальной осмотрительностью и даже
с некоторым недоверием к сообщениям, которые вы по-
лучили бы от турецких представителей, равно как и к
сообщениям, адресованным вам Гордоном и Гилье-
мино» 105.
В Петербурге решительно отвергли перспективу но-
вых бесконечных переговоров в Константинополе, по-
добных тем, какие имели место в августе—сентябре
1827 г. «Ни обманчивые заверения турок, ни инсинуа-
ции послов не должны помешать нашим представите-
лям настаивать на этом (включении в мирный договор
ст. X. — В. Ш.) и тем самым не допускать вновь бес-
конечных словопрений в Константинополе» 106.
В конце августа 1829 г. в Петербурге стало известно,
что Порта ведет закулисные переговоры с послами
Англии и Франции. «Гордон и Гильемино, — сообщал
Дибичу Нессельроде, — хотели бы поспешить с заклю-
чением соглашения о Греции, ограниченной Мореей и
Кикладами, до того, как будет подписан мир с Тур-
цией» 107. Нессельроде предупреждал, что послы могут
объявить об успешном завершении своих демаршей в
Константинополе и умолчать о мартовском протоколе
1829 г. «Однако любое соглашение, которое в точности
не соответствует протоколу от 22 марта 1829 г., не име-
135
ло бы законности без санкций всех трех союзных дер-
жав. Император же решил,—сообщал Нессельроде Ди-
бичу, — не санкционировать решение греческого вопро-
са, при котором предусматривались бы иные, нежели
Арта—Воло, границы Греции» 108.
К 22 сентября 1829 г. в Петербург поступили про-
токолы первых заседаний Адрианопольской мирной
конференции, в ходе которых русские представители
последовательно отвергали любое интерпретирование
ст. X. В новых депешах Орлову и Дибичу Нессельроде
указывал, что постановка греческого вопроса в ходе
русско-турецких переговоров о мире, включение его в
мирный договор и требование автономии Греции в гра-
ницах, гораздо более широких, чем намечало англий-
ское правительство, дает России преимущество в дипло-
матической борьбе с Англией. 22 и 24 сентября в де-
пешах к Дибичу 109 Нессельроде подчеркнул, что сохра-
нение ст. X в русской редакции без каких бы то ни
было поправок позволяет русскому правительству избе-
жать новых английских предложений по Греции, кото-
рые Англия могла бы внести через турецких диплома-
тов. Именно в этом направлении действовал британ-
ский посол в Турции Р. Гордон.
Осенью 1829 г. взаимоотношения между Россией и
Англией были накалены до предела. В Петербурге не
хотели разрыва или тем более прямого конфликта с
Англией. Поэтому Нессельроде писал Дибичу в Адриа-
нополь, что «самолюбию британского кабинета уже на-
несен чувствительный удар», что Россия получила оче-
видные политические преимущества и следует подумать
о том, чтобы «несколько успокоить возмущение Анг-
лии». План Нессельроде заключался в том, чтобы Пор-
та предложила Лондону и Парижу как бы подтвердить
отдельно взятую ст. X мирного договора. «Порта могла
бы, — писал он, — представить послам Англии и Фран-
ции в Константинополе формальную ноту, в которой
объявила бы им о своем признании целиком и пол-
ностью мартовского протокола, как это имело место с
нами»110. Курьер повез этот незамысловатый план в
Адрианополь, но навстречу ему уже мчался адъютан!
Дибича с текстом мирного договора. Переговоры были
окончены, и умиротворять Лондон Нессельроде должен
был как-то иначе.
136
Вернемся, однако, в Константинополь, где для Мех-
меда Садык-эфенди и Абдулкадыр-бея также готови-
лись дополнительные предписания. В первой половине
дня 9 сентября 1829 г. послы Англии, Франции и Прус-
сии встретились с сераскером Хюсрев-пашой, который
от имени султана заявил, что уполномоченным в Адриа-
нополе приказано немедленно подписать договор и что
султан незамедлительно его ратифицирует. Через не-
сколько часов курьер уже вез Дибичу в Адрианополь
новое послание Гордона и Гильемино, в котором гово-
рилось, что дальнейшее наступление русской армии на
Константинополь приведет к падению турецкого пра-
вительства, вызовет в столице анархию и беспорядки,
первыми жертвами которых будут проживающие там
христиане. Послы заверяли Дибича, что все его требо-
вания будут приняты турецкими представителями.
Окончательное решение немедленно заключить до-
говор на русских условиях было принято уже после
встречи с послами, хотя и в тот же день, 9 сентября
1829 г. на совещании высших гражданских и военных
чинов империи. Вновь, как и на предыдущих заседа-
ниях, мнения разделились ш. Некоторые из присутство-
вавших требовали отклонить условия России и про-
должать сражаться, другие настаивали на немедленном
заключении мира. Первые говорили, что, даже подпи-
сав мирный договор, противник может продолжать
военные действия и что Россия потребовала столь боль-
шую контрибуцию (700 тыс. кисе — 10 млн. дукатов зо-
лотом) с тем, чтобы овладеть турецкими крепостями.
Им возражали, что армии практически не существует и
противопоставить противнику нечего. Присутствовав-
шие на совещании командующий регулярными частя-
ми Халиль-паша, некоторые другие риджалы, и в их
числе упоминавшийся выше Неджиб-эфенди, выступали
за продолжение переговоров, однако и они высказывали
мнение, что необходимо как можно скорее привести в
порядок армию. Аналогичной точки зрения придержи-
вались в своих донесениях Садык-эфенди и Абулкадыр-
бей.
Шейхульислам Тахир-заде подвел итог дискуссии,
решительно высказавшись за подписание мира и при-
ведя соответствующее речение Корана. Совещание при-
няло решение — подписать мирный договор на условиях
137
России и как можно скорее собрать воедино рассеян-
ные по всей Европейской Турции войска.
Мехмеду Садык-эфенди в Адрианополь были на-
правлены дополнительные инструкции 112. Турецкие
представители должны добиться снятия греческого воп-
роса с повестки дня мирных переговоров, с тем чтобы
он был завершен на встрече послов Англии, Франции
и России в Константинополе. Мехмеду Садык-эфенди
сообщалось, что этот пункт инструкций, как и следую-
щий, предложен послами Англии, Франции и Пруссии.
В соответствии со вторым пунктом инструкций, прежде
чем был бы зафиксирован размер контрибуции, надле-
жало обратиться непосредственно к русскому царю и в
случае необходимости направить в Петербург чрезвы-
чайного посла, чтобы уже там урегулировать вопрос о
контрибуции. В инструкциях говорилось, что Порта
берет на себя обязательство выплатить возмещение
убытков русским торговцам, но в размерах, подлежа-
щих определению после возвращения в Константино-
поль русского посла. «Если бы русские не приняли это-
го предложения, то надлежало добиваться уменьшения
размеров возмещения и удлинения сроков платежей по
контрибуции».
Турецкие представители должны были заявить на
переговорах, что оккупация Дунайских княжеств и Си-
листрии в залог уплаты контрибуции повлечет за собой
обострение недоверия между двумя державами и что
европейские государства, особенно Англия, не смогут
примириться с проникновением России в Дунайские
княжества. Мехмеду Садык-эфенди и Абдулкадыр-бею
следовало добиваться, чтобы крепость Журжево, не
занятая противником, осталась за Портой. Русским
можно было передать Браилов и три, но не четыре, как
это предусматривалось в дибичевском проекте договора,
крепости на Кавказе. Среди этих трех крепостей могли
быть либо Анапа, либо Ахалцих, но не обе крепости
вместе. Можно было согласиться на передачу Сербии
пяти, но не шести требуемых в русском проекте дого-
вора округов. В заключение турецким представителям
предлагалось обратить внимание на сокращение сроков
пребывания на турецкой территории русских войск пос-
ле подписания мира.
При рассмотрении этих инструкций прежде всего об’
138
ращает на себя внимание новая попытка турецкого
правительства избежать включения греческого вопроса
в мирный договор с Россией. В середине августа 1829 г.
великий везир Решид-паша, продолжая переговоры с
Дибичем, имел указание признать все лондонские со-
глашения по Греции. На первом этапе переговоров в
Адрианополе (30 августа — 3 сентября 1829 г.) турец-
кие представители по совету Гордона начали настаи-
вать на снятии греческого вопроса с повестки дня мир-
ных переговоров, якобы уже решенного в Константи-
нополе между Портой и представителями европейских
держав, хотя официальных переговоров по этому пово-
ду неизвестно. К 9 сентября был выдвинут новый пред-
лог — греческий вопрос подлежит окончательному ре-
шению в Константинополе на встрече послов Англии,
Франции и России. Однако это условие совершенно
противоречило четко сформулированному обязательству
Порты подписать все постановления, которые примет
Лондонская конференция великих держав по греческому
вопросу. Такое обязательство содержалось в «Дополни-
тельной декларации Порты», помеченной тем же 9 сен-
тября 1829 г., что и новые указания Мехмеду Садык-
эфенди.
Реисулькюттаб Пертев-паша и его помощник Акиф-
эфенди, участник переговоров в Адрианополе, готовив-
шие оба документа, были слишком опытными диплома-
тами, чтобы противоречия в инструкции и в декларации
носили случайный характер. Известные сейчас крайне
ограниченные турецкие материалы и архивные доку-
менты не позволяют сделать обоснованного, аргумен-
тированного вывода, действительно ли Порта надеялась
на проведение переговоров по греческому вопросу в
Константинополе и какие были для этого основания. Мы
пока не знаем, было ли известно Гордону и Гильемино
о «Дополнительной декларации», когда они утром
9 сентября посетили сераскера. В паническом письме
Дибичу о неминуемом падении Порты, которое они по-
слали в Адрианополь тотчас после встречи с Хюсрев-
пашой, о декларации не упоминается.
Как пишет Ш. Туран, совещание сановников, имев-
шее место после визита послов к сераскеру, и решения
этого совещания сохранялись в секрете. Декларация о
решении греческого вопроса на основе постановлений
139
Лондонской конференции предназначалась, вероятно,
послам европейских держав как свидетельство готов-
ности Порты следовать советам «своих верных друзей»,
пусть они только помогают добиться заключения почет-
ного мира.
Наоборот, предложение провести аналогичную кон-
ференцию в Константинополе имело цель показать цар-
ской дипломатии, что Порта достаточно самостоятельна
в решении сложнейших международных вопросов и го-
това на компромиссное решение проблемы Греции, тем
более что Россия неоднократно заявляла: русско-турец-
кие разногласия должны быть урегулированы без вме-
шательства третьей стороны. Турецкие государственные
и военные деятели, принимавшие эти решения, хорошо
понимали, что Турция потерпела поражение и Россия
может продиктовать ей свои условия. Поэтому предло-
жение о перенесении греческого вопроса на константи-
нопольские переговоры было последним шансом подпи-
сать мирный договор и все же не дать России распоря-
диться судьбой Греции. Если бы это удалось, Порта
могла бы настаивать перед Англией и Францией на
проведении переговоров на территории Османской им-
перии, ссылаясь на обязательства по турецко-русскому
мирному договору, и иметь больше шансов обеспечить
свои интересы в Греции. Если бы демарш с перенесе-
нием переговоров в Константинополь не удался и приш-
лось бы принять требования России, оставалась еще
надежда на поддержку держав на новых лондонских
переговорах, поскольку Порта приняла все их требо-
вания.
Кроме того, в позиции турецких представителей в
Адрианополе должна была соблюдаться внешняя по-
следовательность. Они заверяли своих русских партне-
ров, что судьба Греции уже решена в Константинополе
с участием Гордона и Гильемино. Дополнительное об-
суждение греческого вопроса там же, в Константинопо-
ле, с теми же Гордоном и Гильемино, с турецкими
дипломатами и с новым послом России, который, вер-
нувшись в Турцию, присоединился бы к своим запад-
ным коллегам, означало бы продолжение и завершение
тех переговоров о Греции, которые послы великих дер-
жав вели в турецкой столице два года назад, осенью
1827 г., и которые были прерваны «досадным недоразу-
140
мением — войной, не имеющей отношения к судьбе Гре-
ции». (Именно так пытался представить войну великий
везир в известном послании к Нессельроде от 12 декаб-
ря 1827 г.) Параллельно с переговорами о судьбах
Греции Порта смогла бы обсуждать вопросы, связанные
с возмещением убытков русским торговцам. В новых
инструкциях Мехмеду Садык-эфенди предлагалось, как,
впрочем, и Решид-паше в августе, добиваться опреде-
ления размеров и видов возмещения торговых убытков
на переговорах в Константинополе после возвращения
русского посла. Однако русские представители могли
отклонить предложение о перенесении переговоров в
Константинополь. В таком случае Мехмеду Садык-
эфенди предлагалось связать вопрос о контрибуции с
посылкой чрезвычайной миссии в России.
Перемирие с Россией должно было быть заключено
во что бы то ни стало. Поэтому Мехмед Садык-эфенди
не должен был вступать в дискуссию о размерах кон-
трибуции, но до завершения переговоров ему надлежа-
ло обратиться к царю с просьбой о снижении ее разме-
ров. Помимо некоторого шанса на успех — русский царь
много и охотно говорил о своем великодушном отноше-
нии к поверженному противнику — затягивание перего-
воров позволило бы осуществить вторую рекомендацию
секретного совещания 9 сентября — собрать остатки
армии. Этим же целям мог послужить и план отправки
в Петербург чрезвычайного посла для переговоров о
контрибуции, что заняло бы несколько месяцев.
В дополнительных инструкциях Мехмеду Садык-
эфенди, которые известны нам сейчас в изложении
Ш. Турана, ни слова не говорится о точном времени
окончательного прекращения военных действий: не ра-
нее, чем будет ратифицирован мирный договор, как на-
стаивала Россия, или с момента начала мирных пере-
говоров, как просила турецкая сторона. Этот важней-
ший тогда для Порты вопрос было поручено согласо-
вать с Дибичем не турецким представителям, а
прусскому посланнику Ройеру, который выехал в Адриа-
нополь 8 сентября 1829 г. и встретился с Дибичем до
возобновления мирных переговоров. Ройер от имени ту-
рецкого правительства и послов европейских держав
должен был просить русского командующего немедлен-
но прекратить военные действия. Не Мехмед Садык-
141
эфенди, а Ройер должен был Также просить Дибича не
включать сумму контрибуции в гласную часть договора
«во избежание, как говорил Пертев-паша, взрыва не-
годования в стране» нз.
Вторым пунктом решения совещания высших чинов
Османской империи 9 сентября 1829 г. были укрепле-
ние и перегруппировка остатков армии. В распоряже-
нии Порты оставалось примерно 30 тыс. солдат регу-
лярных частей из гарнизона Константинополя. Султан
держал их в столице, боясь новых выступлений. Только
теперь, 7—9 сентября, Халиль-паша вывел около 3 тыс.
солдат из Константинополя к Силиври. Посты регуляр-
ных войск останавливали беспорядочно переправляв-
шиеся через Босфор на азиатский берег иррегулярные
отряды и направляли их также к Силиври. Правый
фланг русской армии мог оказаться под ударом,
если бы Дибич двинулся на Константинополь. Однако
наибольшие надежды Порта и султан возлагали на
иррегулярные албанские войска Мустафа-паши Бушати,
полунезависимого правителя Шкодринского пашалыка
в Северной Албании.
Выжидая исхода русско-турецкой войны, Мустафа-
паша держал свою 30-тысячную армию под Видином и
под разными предлогами уклонялся от посылки ее на
театр военных действий. В конце августа 1829 г. султан
назначил Мустафа-пашу сераскером левого фланга с
приказом выступить к Адрианополю. Однако Мустафа-
паша не двинулся с места. Только после 8 сентября
1829 г. он выступил из Видина через Филиппополь к
Константинополю.
В последних числах августа 1829 г. Мехмед Садык-
эфенди и Абдулкадыр-бей предлагали сосредоточить все
оставшиеся войска между Адрианополем и столицей.
Это предложение начало осуществляться, но реального
значения уже не имело, поскольку мир был заключен
раньше, чем удалось совершить все намеченные пере-
движения. К тому же Порте были известны сепарати-
стские настроения Мустафа-паши и вскоре после за-
ключения Адрианопольского мира шкодринский паша
был смещен.
Войну Турции с Россией Мустафа-паша надеялся
использовать для укрепления своего независимого по-
ложения и хотел заручиться расположением русских
142
военных властей. Мустафа-паша через сербского князя
Милоша Обреновича поддерживал переписку с Диби-
чем, уверяя русское командование в чувствах дружбы
к России 114. Дибич прочел его письмо, но в 10-х числах
сентября принял меры предосторожности — албанские
войска могли быть серьезным противником. 3 сентября
1829 г., в тот день, когда переговоры в Адрианополе
были прерваны, Дибич двинул вперед части 2-й армии
и к 8 сентября занял Мидию, Энос и Карыштыран.
Конные разъезды русской армии появлялись у Чорлу и
Родосто, на расстоянии одного перехода от Константи-
нополя. Десятитысячный отряд генерала Киселева дви-
гался из Рахово к Враце, чтобы преградить Мустафа-
паше путь на Адрианополь.
Если учесть, что армия восточного сераскера была
занята военными действиями против Паскевича далеко
в Восточной Анатолии и не могла прийти на помощь
столице, то становится очевидным, что выполнить реше-
ние совещания 9 сентября о перегруппировке войск в
несколько дней было почти невозможно. Мехмеду Са-
дык-эфенди и Абдулкадыр-бею предстояло выполнить
первую часть этого решения и заключить мир на пред-
ложенных Россией условиях.
* * *
12 сентября 1829 г. около 10 часов утра в Эски-са-
рае, в Адрианополе, вновь собрались представители
России и Турции для завершения переговоров и подпи-
сания мирного договора. 13 сентября истекала десяти-
дневная отсрочка, данная Дибичем турецким предста-
вителям. Русский командующий мог двинуть свои
части к столице Турции. Это помнили Мехмед Садык-
эфенди и Абдулкадыр-бей. Они получили не только раз-
решение, но и приказ — подписать мирный договор на
предложенных условиях. Однако и на последнем засе-
дании Мехмед Садык-эфенди сделал все возможное,
чтобы облегчить для Турции условия договора 115. При
этом он руководствовался как прежними инструкция-
ми, так и дополнительными указаниями.
Взяв слово в начале заседания П6, Мехмед Садык-
эфенди начал читать выдержки из дополнительных
инструкций, полученных из Константинополя, но от
143
собственных комментариев воздержался. «Мы не мо-
жем скрыть удивление, которое овладело нами, — читал
Садык-эфенди, — когда Высокая Порта ознакомилась
с вашими донесениями относительно того, что вам
предложили русские. Эти условия не согласуются с
принципами справедливости. Наоборот, они подтверж-
дают, сколь далеки русские представители от подлин-
ного стремления к мирным и дружественным отноше-
ниям между двумя странами». Далее высказывались
обвинения в адрес Дибича, который отошел от своих
предложений, сделанных после сражения под Кулевче.
Порта пыталась оправдать свое тогдашнее нежела-
ние нести позитивные переговоры. «Если Порта не
последовала тем предложениям, которые сделал
г-н Фонтон под Шумлой и с которыми ознакомился ве-
ликий везир, так это потому лишь, что послы Франции
и Англии, тогда только что прибывшие в Константино-
поль, с жаром выступали совместно с Портой в грече-
ском вопросе». Совершенно искажалось действительное
положение вещей, имевшее место в июле—августе
1829 г. «Стремление сочетать решение греческого воп-
роса с прекращением военных действий,—читал Мех-
мед Садык-эфенди, — требовало нескольких дней раз-
думий. Однако, когда мы заметили, что Россия стре-
мится к дружескому соглашению, был отдан приказ
прекратить кровопролитие. Порта обязала великого
везира содействовать заключению перемирия и начать
мирные переговоры». Затем делалась довольно нелов-
кая попытка показать, что военного и политического
поражения Турции вообще не было, что османское пра-
вительство из мирных намерений само прекратило со-
противление противнику. «Высокая Порта стремилась
использовать все средства, — читал Мехмед Садык-
эфенди,— чтобы заключить перемирие, и приказала
своим военачальникам вести военные действия возмож-
но менее интенсивно. Тогда русская армия, не обращая
внимания на мирные расположения турок и воспользо-
вавшись этим преимуществом, перешла Балканы и да-
же овладела незащищенным Адрианополем».
Османская империя, устами Садык-эфенди, заявила
о своем намерении продолжить переговоры и заключить
мирный договор, но отвергла выдвинутые русскими
условия. «Высокая Порта, по милости всевышнего?
144
читал Садык-эфенди, — еще не дошла до такой степени
ослабления и упадка, чтобы оказаться вынужденной
принять требования России». Турецкое правительство
стремилось показать, что его позиции получают между-
народную поддержку. «Скажите русским представите-
лям, — говорилось далее в инструкции, — что не только
Порта стремится к прекращению войны, но и все евро-
пейские державы хотят, чтобы был положен конец
военным действиям. Если Россия искренне разделяет
это всеобщее желание, то следовало бы выработать но-
вые условия».
На первых заседаниях (2 и 3 сентября 1829 г.) ту-
рецкие представители не вступали в серьезную дискус-
сию по вопросам об индемнизации и контрибуции. До-
полнительные указания Константинополя позволили им
12 'сентября вернуться к этому пункту проекта договора.
Мехмед Садык-эфенди сказал, что Порта решила на-
править в Петербург посольство и «воззвать к мило-
сердию и великодушию императора». Из этого делался
вывод: соответствующая статья о контрибуции должна
быть исключена из текста мирного договора *. Такая
постановка вопроса отличается от известной нам в изло-
жении Ш. Турана дополнительной инструкции. Инициа-
тива полностью изъять статью о контрибуции принад-
лежала, очевидно, турецким представителям в Адриано-
поле. В отношении возмещения убытков русским тор-
говцам Порта придерживалась прежнего взгляда: после
заключения мира в Константинополе следует создать
смешанную русско-турецкую комиссию для рассмотре-
ния ^взаимных претензий сторон. Сделав соответствую-
щее устное заявление, Мехмед Садык-эфенди перешел к
срокам вывода русских войск из турецких владений.
Он отверг требование русской стороны о продлении
оккупации отдельных районов и крепостей Турции до
окончания всех выплат. «Вопрос о контрибуции, — ска-
зал он, — оставляется на рассмотрение императора, сле-
довательно, не может быть и речи ни о каких террито-
риальных гарантиях». Мехмед Садык-эфенди зачитал
Орлову и Палену соответствующий раздел своих новых
инструкций. «Требование присоединить к Молдавии и
* «Лучшим доказательством умеренности России является то, что
мы вообще все это слушаем»,—заметил А. Ф. Орлов, как только
Мехмед Садык-эфенди, переворачивая лист, сделал паузу,
1Q Зак. 851 145
Валахии крепости, находящиеся на левом берегу Дуная,
находится в полном противоречии с заявлением России
о том, что она не хочет никаких территориальных приоб-
ретений». «С какого времени, — прервал его молча слу-
шавший Орлов,—Молдавия и Валахия стали частью
России?» Мехмед Садык-эфенди ответил на это, запи-
сал протоколист, неопределенным жестом.
Действительно, в вопросе о Дунайски?; княжествах
на переговорах существовала неопределенность. Пред-
ложение Мехмеда Садык-эфенди на втором заседании
заменить часть контрибуции уступкой некоторых мол-
давских земель не вызвало ответной реакции со сторо-
ны русских представителей. В дополнительных инструк-
циях турецким представителям, насколько нам известно,
этот вопрос не уточнялся. Порта не надеялась на ско-
рую эвакуацию княжеств, и потому присоединение к Ва-
лахии турецких крепостей Турну, Журжево и Браилов
на левом берегу Дуная рассматривалось как усиление
пограничной зоны России.
После небольшой паузы Мехмед Садык-эфенди пере-
шел к греческому вопросу. Сначала он прочитал соот-
ветствующую часть полученных инструкций. «Поскольку
Высокая Порта объявила, — говорилось там, — что она
принимает условия Лондонского договора (т. е. конвен-
ции 1827 г. — В. Ш.) и обсуждает детали этого догово-
ра с послами Франции и Англии в Константинополе, не
следовало бы касаться этого вопроса в мирном догово-
ре, чтобы не осложнять его повторением уже решенного
вопроса. Послы упомянутых держав уже уведомили
г-на Дибича, что переговоры по указанному вопросу
близки к завершению». Затем Мехмед Садык-эфенди до-
бавил устно, что после возвращения в Константинополь
русской миссии могли бы иметь место дополнительный
обмен мнениями и окончательное решение проблемы
Греции. В протоколе конференции имеется запись: «За-
меститель реисулькюттаба Акиф-эфенди предложил но-
вую редакцию статьи X о Греции с тем, чтобы рассмот-
реть этот вопрос в Константинополе и на Лондонской
конференции» *. Очевидно, турецкие представители,
предлагая провести новые переговоры по Греции и в
* Текста турецкой редакции ст. X в материалах Адрианополь-
ских конференций не найдено.
146
Константинополе, и в Лондоне (в тексте инструкций,
изложенных Ш. Тураном, Лондон не упоминался), стре-
мились к определенному компромиссу с русской сторо-
ной. Однако Орлов и Пален, опираясь на указания Нес-
сельроде, решительно заявили, что ст. X никаким изме-
нениям не подлежит, и в дальнейшие прения не всту-
пали.
Выше говорилось о том, что на втором заседании
конференции (2 сентября 1829 г.) ст. IV о передаче
России четырех крепостей на Кавказе не вызвала дол-
гой дискуссии. На сей раз, десять дней спустя, Мех-
мед Садык-эфенди сделал, как мы видим, особое заяв-
ление, которое, впрочем, контрпредложений не содер-
жало. Видя явное нежелание русской стороны даже
обсуждать затронутый вопрос, Садык-эфенди перешел к
другим статьям проекта договора. «Требование Анапы,
Поти и других городов, — говорил башдефтердар, —
противоречит заявлениям императора. Общеизвестно,
что Порта имеет постоянные связи с черкесами и дру-
гими горскими народами, находящимися под ее покро-
вительством. Совершенно невозможно отдать эти наро-
ды на угнетение России, но если бы это и произошло,
то воинственные горцы с оружием в руках восстали бы
против гнета царского правительства. Эта война по-
влекла бы за собой новые разногласия между Россией
и Турцией». В заключение Мехмед Садык-эфенди за-
верил русских представителей в стремлении Порты до-
стичь приемлемого для обеих сторон мира.
Наступила очередь высказаться Орлову и Палену,
которые сохраняли молчание в течение двухчасовой ре-
чи турецкого представителя. Ответная речь Орлова, как
записал русский протоколист, «была долгой и угрожаю-
щей». Заканчивая свое выступление, Орлов предложил
считать новые инструкции турецких представителей как
бы несуществующими *. В кратком ответном слове
Мехмед Садык-эфенди выразил согласие считать полу-
ченные инструкции несуществующими и просил продол-
жать изучение проекта договора, особенно объяснитель-
ного секретного акта. Он выполнил приказ Порты —
добиваться облегчения условий договора, но сделал это
довольно осторожно. Почти не высказываясь лично, он
* Речь Орлова в материалах конференции не обнаружена.
10* 147
читал полученные инструкции и, когда почувствовал,
что переговоры могут быть прерваны, поспешил от них
отказаться. Это позволило ему продолжить дальней-
шую дискуссию на формальном основании прежних
полномочий, продемонстрировать свою добрую волю и
готовность сотрудничать с русскими представителями в
подготовке новых условий договора.
Затем некоторое время дискуссию поддерживали
Акиф-эфенди и Фонтон. Первый предложил отдать Рос-
сии Ахалцих и Ахалкалаки, а Поти и Анапу вернуть
туркам. Фонтон отвечал ему, что сумма контрибуции
возросла бы в таком случае вдвое, что Порта не может
или не хочет пресечь разбой и работорговлю в своих
кавказских владениях и поэтому (русское правительство
берет на себя обязательство наблюдать за сохранением
мира на Кавказе. В итоге условия договора остались
без изменения.
Шел уже пятый час заседания, когда слово вновь
попросил башдефтердар. Он сказал, что ставит на об-
суждение вопрос о посылке чрезвычайной турецкой
миссии в Петербург. «Примите обязательство, — после-
довал немедленный ответ Орлова, — уплатить контри-
буцию так, как мы это сейчас предлагаем. Когда дого-
вор будет заключен и подписан, мы будем просить
е. и. в-во принять в Петербурге турецкое посольство».
Турецкие представители разочарованно покачали голо-
вами. Наконец заседание перешло в заключительную
стадию. Акиф-эфенди предложил оговорить размер и
сроки уплаты контрибуции не в главной, а в особой,
секретной статье. После коротких прений Орлов много-
значительно заявил: «Я беру на себя огромную ответ-
ственность, соглашаясь оговорить сумму контрибуции в
Объяснительном акте». В действительности этот вопрос
уже согласовали Дибич и Ройер до начала заседания.
Дибич обещал скрыть от широкой общественности раз-
мер контрибуции в секретном приложении к договору, а
прусский посланник гарантировал, что султан в таком
случае ратифицирует договор немедленно после подпи-
сания его в Адрианополе 117.
Длительная дискуссия развернулась вокруг статьи
об индемнизации. Предложения Абдулкадыр-бея и Акиф-
эфенди (уставший башдефтердар молчал) сводились к
повторению предложений Порты — созданию в Констан-
148
тинополе смешанной комиссии для определения взаим-
ных претензий русских и турецких торговцев. Новой
была просьба, принятая русской стороной, на шесть ме-
сяцев отсрочить выплату торговых компенсаций.
Одновременно обсуждались сроки уплаты контрибу-
ции. Предложенный Акиф-эфенди 20-летний срок пога-
шения задолженности был решительно отвергнут рус-
скими представителями. Абдулкадыр-бей и Акиф-эфен-
ди наперебой заговорили о выводе русских войск из
Турции и предложили начать эвакуацию тотчас после
ратификации договора. Орлов и Пален начали много-
словно ссылаться на большие трудности в эвакуации
складов и госпиталей, на осеннюю распутицу, но сами
точных сроков не указывали. Мехмед Садык-эфенди не
выдержал, вступил в беседу и предложил начать эва-
куацию русских войск через пять месяцев после обме-
на ратификационными грамотами. «Мир не имеет для
Порты смысла, — сказал он, — если часть турецких зе-
мель будет оккупирована».
Орлов покинул зал заседаний и после краткого об-
мена мнениями с Дибичем, который в продолжение всех
заседаний неотлучно находился в соседней комнате, вер-
нулся и предложил турецкой стороне план постепенного
вывода русских войск, обусловив его взносами в счет
не военной контрибуции, как предполагалось ранее, а
торговых убытков в счет индемнизации. В момент ра-
тификации Порта должна была внести 100 тыс. дука-
тов, через шесть месяцев — 400 тыс., в начале следую-
щего, 1830 г. — 500 тыс., и еще через 18 месяцев —
остальные 500 тыс. дукатов в виде компенсации за
убытки русских торговцев в Турции. По мере выплаты
русские войска выводились бы в соответствии с пред-
ложенным туркам 30 августа 1829 г. проектом. Уступка
русских представителей состояла, следовательно, в сни-
жении первого взноса с 500 тыс. до 100 тыс. дукатов и
в продлении сроков выплаты с 12 до 18 месяцев. Новая
поправка была с удовлетворением принята турецкой
стороной.
Мехмед Садык-эфенди и Абдулкадыр-бей просили
окончательно прекратить военные действия одновремеш
но с подписанием мирного договора, а не после его ра-
тификации, как предусматривалось проектом договора.
Этот вопрос также был согласован между Дибичем и
149
Ройером до заседания. Орлов и Пален сделали ничего
им не стоивший жест—«согласились уступить и по
этому вопросу». Просьба турецких представителей на-
править курьера с известием о мире к Паскевичу для
скорости через Константинополь и доставить текст дого-
вора как можно скорее императору для ратификации
возражений Орлова и Палена не встретила.
На этом семичасовое заседание закрылось. Факти-
чески Адрианопольские мирные переговоры были завер-
шены. Оставалась формальная сторона — скрепление
документа подписями. В течение всего следующего дня,
13 сентября, усиленно скрипели перья русских писарей
и калемы турецких кятибов: они готовили два текста
договора. Один — русский — был написан на француз-
ском языке. Другой — турецкий — выполненный золо-
тыми чернилами полутораметровый свиток, покрытый
вязью арабских букв, — образец высокого искусства ту-
рецких каллиграфов.
Утром 16 ребиульэввеля 1245 г. х. (14 сентября
1829 г.) представители России и Турции собрались на
последнее заседание. Переводчики Ханджери и Эсрар-
эфенди торжественно прочли и сверили тексты догово-
ров. Представители обеих сторон скрепили договор
своими подписями. Мехмед Садык-эфенди и А. Ф. Ор-
лов в пространных речах заверили друг друга в точном
следовании духу и букве договора. Орлов вручил ту-
рецким представителям протокол об исполнении ст. VII
о свободе судоходства в проливах 118. Мехмед Садык-
эфенди сказал, что незамедлительно вручит этот доку-
мент своему правительству. Полуторачасовое заседание
закрылось. Мир в европейской Турции был восстанов-
лен, но пока только на бумаге. Нужны были новые уси-
лия дипломатов обеих сторон, чтобы окончательно нор-
мализовать отношения между Россией и Османской им-
перией. Продолжались военные действия в Восточной
Анатолии.
* * *
15 сентября 1829 г. султан и Порта, а на следующий
день и вся столица узнали, что в Адрианополе подписан
мир. «Официального объявления мира не последова-
ло,— писал датский посланник Гюбш, — но уже 16 сен-
150
тября нескольким турецким торговым судам позволили
выйти в Черное море» 119. 17 сентября в Константино-
поль вернулся Ройер в сопровождении А. О. Дюгамеля,
офицера штаба русской армии, который должен был
ожидать ратификации султаном договора, а затем вы-
ехать к Паскевичу. Как писал 18 сентября корреспон-
дент парижского журнала, появление русского офицера
в столице Османской империи окончательно рассеяло
все сомнения в том, что война закончилась. «Весь город
пьян от радости, — говорилось в заметке, — стар и
млад — все обнимаются и радуются этому счастливому
известию» 12°.
А. О. Дюгамель, проехавший всю Турцию — от
Адрианополя до Байбурта, писал, что всюду на своем
пути наблюдал проявления чувства радости и облегче-
ния на лицах турок, когда они узнавали о заключении
мира. «Турки не умели скрывать радости, которую ис-
пытывали благодаря этому событию. Восторженная ра-
дость... главным образом выразилась в самой столице,
ибо к концу войны все слои общества в этом много-
людном городе совершенно упали духом... В то время
как русские брали Мидию, пушечная пальба была
слышна даже в серале... Весь город, все лавки были
мгновенно заперты, весь город находился в неописуе-
мом смятении» 121.
Население города радовалось, а в султанском двор-
це не проявляли, как писал тот же французский журна-
лист, никакого восторга. Там готовились пересмотреть
договор. Только 28 сентября 1829 г. Дюгамель получил
официальное уведомление Порты о том, что договор
ратифицирован султаном, и смог выехать на азиатский
театр 122. На пятнадцатый день пути Дюгамель в со-
провождении мемуров Порты прибыл в турецкий лагерь
под Байбуртом, где только что отгремели залпы крово-
пролитного сражения, сражения, которого могло не
быть, если бы Дюгамеля не задержали в Константино-
поле. Восточный сераскер Осман-паша получил, как и
все паши Анатолии, султанский хатт-и шериф об окон-
чании войны. Однако в начале сентября в Константи-
нополе надеялись, очевидно, нанести поражение Паске-
вичу и военными успехами, пусть даже локального ха-
рактера, поддержать дипломатические демарши, кото-
рые имели место позднее, в середине сентября.
151
11 октября 1829 г. Осман-паша сообщил Паскевичу,
что в Адрианополе заключен мир и что к ним едет курь-
ер из Константинополя. Сераскер просил приостановить
военные действия. На следующий день офицер штаба
Паскевича выехал в ставку Осман-паши, где встретил-
ся с Дюгамелем. К 14 октября 1829 г. прекратились на-
конец боевые операции в Восточной Анатолии.
И. Ф. Паскевич и Осман-паша подписали конвенцию о
мире 123. Конвенция состояла из семи статей. Текст ее
был составлен на французском и турецком языках,
скреплен подписями Осман-паши и Паскевича.
Статья 1 конвенции предусматривала, что эвакуация
русских войск из Восточной Анатолии начнется через
три месяца после обмена ратификационными грамотами
и завершится в течение восьми месяцев. В статье объ-
яснялось, что в первых числах января 1830 г. Порте бу-
дут возвращены санджаки Исбар, Олту и Нериман, за-
нятые русскими войсками.
Статья 2 предусматривала возвращение туркам Му-
ша и Байбурта немедленно после ратификации Адриа-
нопольского мира.
В соответствии со ст. 3 во всех временно оккупиро-
ванных областях Восточной Анатолии должна была со-
храняться администрация из местного населения, назна-
ченная русскими властями.
Статья 4 объявляла, что ввиду зимнего ненастья и
бездорожья русские войска не смогут до лета 1830 г.
эвакуироваться из Эрзурума, Терджена, Хниса, Карса,
Баязида и двух каза Пасин. В пашалыке Ахалцих рус-
ские части могли оставаться только в трех пограничных
санджаках (ст. 5). Статья 6 повторяла положение ст. 3
о сохранении временно созданного управления и допол-
няла ее указанием на взаимное обязательство догова-
ривающихся сторон «укреплять отношения дружбы и
доброго согласия, как это предписывает мир, благопо-
лучно восстановленный между Императорским двором
и Высокой Портой».
Заключительная статья гласила: «Окончательная
эвакуация всех областей, которые должны быть возвра-
щены Высокой Порте в Малой Азии, будет полностью
закончена в указанный восьмимесячный срок после раз-
мена ратификаций Адрианопольского трактата. Русский
командующий приложит все усилия для ускорения этрй
153
Эвакуаций, насколько это будет возможно и насколько
это ему будет позволено обстоятельствами».
Под «обстоятельствами» Паскевич понимал наруше-
ние турецкой стороной перемирия и поэтому временно
сохранял в Баязидском, Карсском и Эрзурумском паша-
лыках 20-ю пехотную дивизию, отдельный Кабардин-
ский полк, егерский и пять казацких полков. Войскам
был отдан приказ «соблюдать строжайшую дисципли-
ну и порядок и отнюдь не допускать, чтобы жителям
тех мест делались какие-либо обиды и притеснения» 124.
Постепенный вывод русских частей из анатолийских
крепостей начался лишь летом 1830 г.
* * *
Адрианопольский мирный договор состоял из основ-
ной части, включавшей 16 статей, Дополнительного
акта о Молдавии и Валахии и Объяснительного акта о
порядке выплаты Портой контрибуции. Конвенция, за-
ключенная Паскевичем и Осман-пашой, была составной
частью Объяснительного акта 125.
В соответствии со ст. I основной части договора сто-
роны декларировали прекращение состояния войны и
брали на себя обязательство «исполнять в точности все
условия настоящего мирного договора».
Статья II содержала перечисление всех крепостей,
городов и селений в европейской Турции, возвращае-
мых Турции. Указывалось, что возвращаются «вообще
все места, занятые в Румелии русскими войсками».
Статья III зафиксировала передачу России островов
в дельте Дуная. Устанавливалось, что эти острова не
будут заселяться и не будет никаких заведений или
укреплений, кроме карантинных. Вводилось свободное
торговое судоходство для обеих сторон. Русские воен-
ные корабли не должны были подниматься вверх по
течению выше слияния Прута с Дунаем. Граница по-
прежнему проходила по р. Прут.
В соответствии со ст. IV Турция передавала России
Ахалцих и Ахалкалаки. О присоединении Анапы и По-
ти не говорилось, но указывалось, что к России пере-
ходит весь берег Черного моря от устья Кубани до при-
стани Св. Николая, в пределах которого находились
Анапа и Поти. Такая формулировка была введена уже
153
в окончательную редакцию договора между 10 и 13 сен-
тября 1829 г. Как и в вариантах проекта договора, в
ст. IV трактата были перечислены все возвращенные
Турции на Кавказе крепости и пашалыки. Турция от-
казывалась от претензий на ранее отошедшие к России
земли в Закавказье.
Статьей V Порта брала на себя обязательства со-
хранить за Дунайскими княжествами все права и при-
вилегии, которыми они ранее пользовались, а также со-
блюдать новые, дополнительные права, перечисленные в
приложенном к договору Отдельном акте о Молдавии
и Валахии, — пожизненное избрание господарей (сме-
щать их можно было лишь за преступления, которые
должны были расследовать представители России и
Турции); внутреннее управление передавалось господа-
рям; мусульмане не имели права владеть недвижи-
мостью в пределах Молдавии и Валахии. На террито-
рии княжеств турки лишались всех крепостей; созда-
валась национальная молдаво-валашская армия; кня-
жества освобождались от принудительных поставок в
Турцию продовольствия, строевого леса, но должны
были ежегодно выплачивать Порте значительную де-
нежную дань. Отдельный акт о Молдавии и Валахии
не содержал существенных изменений по сравнению с
проектом, который был послан Дибичу из Петербурга
в мае 1829 г. Условия договора в целом содействовали
социально-экономическому и политическому развитию
княжеств.
Статья VI мирного договора обязывала Порту неза-
медлительно приступить к исполнению постановлений
Аккерманской конвенции о Сербии. Особо оговарива-
лось возвращение Сербии шести округов, отторгнутых
Портой.
Статья VII подтверждала право подданных России
вести свободную торговлю на всей территории Осман-
ской империи, причем они были неподсудны турецким
властям. Оговаривалось особо, что русской хлебной
торговле, ведущейся через проливы, «никогда и ни пот
каким предлогом не будет делаемо затруднений или по-
мешательств». Проход через Босфор и Дарданеллы
объявлялся свободным для торговых судов всех дер-
жав, находящихся в состоянии мира с Османской импе-
рией. Русской черноморской торговле Порта обязыва-
154
лась «не противупоставлять ни малейшей препоны».
Порядок прохождения русских судов через проливы
был согласован во время пребывания в Турции чрезвы-
чайного посольства во главе с А. Ф. Орловым
(см. гл. III).
Статьи VIII и IX касались выплаты Портой торго-
вой индемнизации и военной контрибуции. Размеры
торговых возмещений определялись в 1,5 млн. голланд-
ских золотых дукатов, которые Порта должна была
внести на протяжении не 12 месяцев, как предусматри-
валось русским проектом договора, а 18 месяцев. Сум-
ма военной контрибуции — 10 млн. голландских дука-
тов— была названа только в приложении, где указыва-
лось, что русские войска будут постепенно выводиться
с территории Турции по мере поступления платежей.
Потребовались, однако, дополнительные переговоры
Халиль-паши в Петербурге и А. Ф. Орлова — в Кон-
стантинополе, прежде чем был окончательно установлен
порядок выплаты контрибуции.
По ст. X, не претерпевшей никаких изменений по
сравнению с майским проектом договора, Порта при-
нимала к исполнению постановления и Лондонской
конвенции 1827 г., и мартовского протокола 1829 г. По-
беды русского оружия, закрепленные в Адрианополь-
ском договоре, заставили турецкое правительство при-
знать автономию, а полгода спустя и независимость
Греции.
Статья XI предусматривала начало осуществления
статей III, IV, V и VI договора немедленно после раз-
мена ратификаций мирного договора. Русская сторона
обязывалась начать вывод своих войск только после
выполнения Портой статей о разграничении, а также о
восстановлении и расширении прав Дунайских кня-
жеств, т. е. статей III—IV. Статья XI и все последую-
щие подверглись по сравнению с майским проектом до-
говора лишь несущественной редакционной правке,
сделанной в ходе переговоров.
Статья XII гласила, что военные действия будут
прекращены с момента подписания договора.
Статья XIII давала право подданным обеих сторон
в течение 18 месяцев после размена ратификационных
грамот переехать в пределы той или другой договари-
вающейся стороны. Тем лицам, которые принимали
155
участие в военных действиях против страны, поддан-
ными которой они являлись, объявлялась амнистия.
Статья XIV касалась обмена пленными, за исключе-
нием изменивших вероисповедание.
Статья XV объявляла подтвержденными и дейст-
вующими все прежние договоры и соглашения между
Россией и Турцией, за исключением статей, отмененные
настоящим договором.
Статья XVI назначала шестинедельный предельный
срок для ратификации договора и размена ратифика-
ционных грамот.
Объяснительный акт полностью совпадал с текстом
проекта, сообщенного в ходе переговоров Мехмеду Са-
дык-эфенди и Абдулкадыр-бею. Объяснительный акт
был положен в основу Петербургской конвенции 1830 г.,
уточнившей размер контрибуции и порядок выплаты.
Этот акт являлся рабочим, подготовительным докумен-
том, а потому не публиковался.
156
ГЛАВА III
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОСЛЕ АДРИАНОПОЛЬСКОГО МИРА
Проблема пересмотра
Адрианопольского договора
Подписание мирного договора в Адрианополе и за
ключение конвенции о мире между Паскевичем и Ос-
ман-пашой под Байбуртом положили конец военным
действиям на всей территории Османской империи. Од-
нако условия мира не удовлетворяли ни Порту, ни ее
западных советчиков. Особенно негодовали в Лондоне.
Известие о заключении мира пришло в Англию 7 ок-
тября 1829 г. Последовали два экстренных заседания
кабинета министров. Уже через два дня министр ино-
странных дел Англии Абердин пригласил посла России
Ливена и заявил ему, что, «по мнению британского ка-
бинета, Османская империя более не существует и что
теперь не столько внешние, сколько внутренние враги
ее доконают. Что будь он, лорд Абердин, на месте
противника России, он бы предпочел взятие Констан-
тинополя заключению мира, предложенного Диби-
чем» Ч
Основной причиной, вызвавшей раздражение Англии,
было решение судьбы Греции силой русского оружия.
Перспектива падения Османской империи рассматри-
валась в Лондоне как совершенно реальная еще летом
1829 г. В первых числах сентября в Лондоне стало из-
вестно, что 20 августа 1829 г. Дибич занял Адриано-
поль и передовые посты русских появляются в несколь-
ких десятках миль от столицы Турции. Веллингтон по-
157
лагал, что Константинополь может быть взят русски-
ми2. 4 октября 1829 г., за три дня до получения текста
Адрианопольского договора, он писал Абердину: «Было
бы абсурдом помышлять о сохранении Турецкой импе-
рии. Это (ее падение. — В. Ш.) совершившийся факт.
Спокойствие во всем мире, или, что то же самое, уве-
ренность людей в постоянном мире, неразрывно с этим
связано» 3.
10 ноября 1829 г., когда ряд статей Адрианополь-
ского трактата был уже выполнен турецким правитель-
ством, а русские войска начали эвакуацию занимаемых
территорий и все говорило о стабилизации положения в
Восточном Средиземноморье, британский премьер на-
правил Гордону депешу. В ней говорилось, что Англия
не сможет предотвратить крушение Османской империи,
если это случится, и что создание нового греческого го-
сударства станет в таком случае для Англии более
важной задачей, чем сохранение Турции4. Впрочем,
вскоре Веллингтон «уточнил» свое мнение и приказал
написать Гордону, что депеша от 10 ноября не означа-
ла отказа от поддержки Порты, а лишь указывала на
вероятность такого хода событий.
Не спасать Турцию, а укрепить влияние в Греции и
на Ионических островах был призван английский по-
сол в Константинополе. Ту же цель преследовали бри-
танские дипломаты в Лондоне на переговорах с Ливе-
ном. Гордон переслал Абердину русский проект мирно-
го договора, который обсуждался в Константинополе
5—9 сентября 1829 г. В беседе с русским послом Абер-
дин обратил внимание Ливена на ст. X о Греции и за-
явил, что включение ее в договор, особенно пункта о
признании Портой мартовского протокола 1829 г., «яв-
ляется ударом по британскому правительству». Выра-
жая мнение кабинета, Абердин сказал, что «Англия не
считает себя связанной прежними соглашениями и бу-
дет осуществлять в Греции все, что сочтет нужным».
«Если Англия не сможет этого нам объявить сейчас
официально, — докладывал Ливен, — то подождет бла-
гоприятного случая и не преминет им воспользоваться,
поскольку мы, как сказал Абердин, не считаемся ни с
достоинством Англии, ни с ее пожеланиями, ни с на-
шими с нею обязательствами» 5.
Через несколько дней Абердин заявил Ливену, что
158
его правительство будет протестовать в официальном
порядке по поводу ст. X. Османская империя не рухну-
ла, священное знамя пророка — санджак-и шериф раз-
вевается над стенами султанского дворца. Гордон по-
лучил приказ сообщить турецкому правительству, что
Англия разделяет возмущение Порты тяжелыми усло-
виями договора, считала и остается при том же мне-
нии — греческий вопрос не должен был включаться в
русско-турецкий договор, судьбу Греции должна ре-
шать Лондонская конференция и английское правитель-
ство предпримет соответствующие демарши6. Порта
еще могла служить интересам борьбы с растущим влия-
нием России в Восточном Средиземноморье, и Лондон
стремился задержать ее под своим влиянием. Гордон
в сентябре 1829 г. вел непрерывные переговоры с Пер-
тев-пашой об облегчении, изменении условий мирного
договора, не скупился на обещания поддержки. Мах-
муд II и везиры считали наиболее тягостными для стра-
ны статьи об уплате индемнизации и контрибуции об-
щей суммой в 11,5 млн. голландских дукатов, что со-
ставляло 368 млн. турецких курушей; передачу четырех
крепостей; необходимость предоставить автономию гре-
ческой реайе по ее требованию и открыть проливы для
торговых судов всех стран. Спустя несколько дней пос-
ле подписания мира султан говорил своим приближен-
ным, что следует добиваться облегчения условий дого-
вора и что он надеется на помощь Англии и Франции.
На помощь Франции Махмуд II полагался напрасно.
Французское правительство, готовя агрессию против Ал-
жира, являвшегося Османской территорией, не желало
осложнять отношения с Россией 7. Однако из тактиче-
ских соображений Гильемино продолжал поддерживать,
впрочем весьма осторожно, Гордона в его советах до-
биваться облегчения договора.
Зная позицию Лондона в отношении Адрианополь-
ского договора, Порта начала свое наступление на до-
говор именно со ст. X, предоставлявшей автономию
греческому государству на сравнительно большой тер-
ритории, включавшей материковую Грецию до линии
Арта—Воло, о-в Эвбею, Киклады и ряд небольших
островов.
25 сентября 1829 г. послам Англии и Франции
была вручена, а представителям других держав сооб-
159
щена в устной форме нота турецкого правительства, в
которой говорилось, что протокол от 22 марта 1829 г.
был включен в договор только под давлением России.
Порта выражала пожелание об изъятии ст. X из дого-
вора и о пересмотре греческого вопроса на очередной
лондонской конференции великих держав, с тем чтобы
автономия Греции была ограничена только Мореей и
Кикладами 8.
В составлении этой ноты, требовавшей пересмотра
одной из основных статей договора, принимал активное
участие Р. Гордон. В октябре 1829 г. Поццо-ди-Борго,
располагавший надежными источниками сведений, пи-
сал, что Гордон деятельнейшим образом участвовал в
подготовке упоминавшейся ноты9. В ноябре 1829 г. Ди-
бич получил сообщение из Константинополя, что ини-
циатива подготовки ноты от 25 сентября принадлежала
Гордону. Текст был составлен совместно Пертев-пашой
и Гордоном еще до того, как трактат был подписан 10.
Английскому кабинету было известно о подготовке этой
ноты.
Вице-канцлер России Нессельроде также распо-
лагал сведениями о том, что в Лондоне в сентябре —
начале октября 1829 г. ожидали демаршей Порты по
поводу отдельных статей Адрианопольского трактата п.
Наступление на договор велось одновременно из Кон-
стантинополя и Лондона.
Нота Порты от 25 сентября 1829 г. была получена в
Париже и Лондоне в 10-х числах октября, в Вене — не-
сколько раньше. Реакция кабинетов была различной.
Австрийское правительство никакого официального за-
явления по поводу ноты не сделало. Премьер-министр
Франции тотчас довел ее содержание до сведения посла
России Поццо-ди-Борго. «Прочитав ноту Порты, — со-
общил Поццо-ди-Борго, — в которой она выступает про-
тив статьи X и, следовательно, против протокола
22 марта 1829 г., Полиньяк сказал (русскому послу.—
В. Ш.), что она нарушает договор и что Франция будет
считать ее как бы несуществовавшей и голосовать про-
тив нее, если она будет поставлена на голосование на
лондонской конференции» 12. Современный французский
историк М. Ларан убедительно показал, что, несмотря
на очевидные англофильские настроения, Полиньяк дол-
жен был считаться с реальной ситуацией и стремился
160
обеспечить поддержку России в реализации Францией
плана как в отношении Магриба (Алжир), так и в Ев-
ропе 13.
Получив ноту Порты, английское правительство не
спешило сообщить ее Ливену. В середине октября
1829 г. Матушевич и Ливен начали обсуждать с Вел-
лингтоном и Абердином условия предоставления Греции
полной независимости. Послы России сообщили, что
Абердин проявил «совершенно определенное намерение
склонить русских представителей к соглашению о неза-
висимой Греции на условиях, сообщенных 15 августа
1829 г. Портой Гордону и Гильемино» 14.
Известно, что 15 августа Порта согласилась приме-
нить Лондонскую конвенцию 1827 г. на территории Гре-
ции, ограниченной Мореей и Кикладами. Именно эта
территория по настоянию Англии была включена в но-
ябрьский протокол лондонских заседаний 1828 г., и она
же, урезанная, лишенная плодороднейших земель, полу-
Греция, вновь появилась в ноте Порты от 25 сентября
1829 г.
В августе 1829 г. британский кабинет счел вполне
приемлемым формальное признание Портой Лондонской
конвенции, найдя, что это лучший способ предотвратить
решение одной Россией греческой проблемы. В октябре
1829 г. Абердин вновь вернулся к тем же куцым гра-
ницам Греции, как будто не было девяти лет героиче-
ской и победоносной борьбы греческого народа, как буд-
то не было мартовского протокола 1829 г. о границах по
Арта — Воло, как будто не было, наконец, ст. X Адриа-
нопольского договора (под которой стояла подпись ту-
рецких представителей), утверждавшей автономию Гре-
ции в этих границах.
Ливен и Матушевич осторожно («приходится сохра-
нять видимость добрых отношений, чтобы не дать раз-
гореться тлеющей искре разрыва», по словам Матуше-
вича), но настойчиво отстаивали указанные в ст. X гра-
ницы Греции. Абердин решил, вероятно, воздействовать
на русских послов. Он огласил Ливену 30 октября
1829 г. ноту Порты и заявил, что британский посол в
Петербурге вручит русскому правительству ноту про-
теста Англии по поводу ст. X. Посол России решительно
ответил, что рассматривает турецкую ноту как прямой
вызов России со стороны Порты и считает ее наруше-
11 Зак. 851
161
нием Адрианопольского договора. Ливен заявил офици-
альный протест в связи с тем, что «Гордон и Гильемино
сочли возможным взять эту ноту и тем самым внушить
Порте какие-то надежды. Все переговоры прекращают-
ся,— сказал Ливен,— впредь до получения новых инст-
рукций е. и. в-ва» 15. Решительный протест Ливена ока-
зался весьма эффективным. Английское правительство
не отклонило турецкую ноту, как это сделала Франция,
но более к ней не возвращалось. Первая попытка Порты
пересмотреть договор окончилась, таким образом, не-
удачей.
Одновременно с подготовкой сентябрьской ноты Пор-
та была занята двумя важными вопросами — снаряже-
нием чрезвычайного посольства в Петербург и изыска-
нием средств для уплаты контрибуции. К началу нояб-
ря 1829 г. Порта внесла первые 3 млн. курушей (око-
ло 100 тыс. голландских дукатов). Русские войска очи-
стили занимаемую ими территорию от южных отрогов
Балкан до Адрианополя, но оставались между Дунаем
и северными склонами Балканского хребта 16. Порта
подготовила очередной взнос в 2 млн. дукатов, но к ап-
релю 1830 г. надлежало выплатить еще 128 млн. куру-
шей (4 млн. дукатов), после чего русские войска
должны были уйти за Дунай. Наличные запасы Порты
в голландских дукатах были почти исчерпаны. Прини-
мать же в уплату турецкую валюту Дибич отказывался
ввиду низкого качества чеканки и завышения Портой
курса куруша до 36 за 1 дукат при официальном курсе
в 32 куруша за дукат.
В Египет, Ирак, Тунис, Алжир и Марокко отправи-
лись гонцы султана с требованием денег на уплату
контрибуции. Однако на помощь этих независимых вас-
салов надеялись мало, и, по мнению великого везира
Решид-паши, реисулькюттаба Пертев-паши, нового баш-
дефтердара и некоторых других везиров, критическое
финансовое положение Османской империи мог спасти
лишь иностранный заем17. Как сообщил 10 сентября
1829 г. константинопольский корреспондент «Журналь
де деба», с начала сентября 1829 г. «министры финан-
сов и иностранных дел развили бурную деятельность.
Реис-эфенди ежедневно заседает с послами, башдефтер-
дар сидит со своими помощниками и все они изыски-
вают средства для уплаты контрибуции» 18. По сообще-
162
пню лондонского «Курьера» от 30 октября 1829 г., «ве-
ликий везир дал понять послам, что Порта всецело за-
висит от их правительств и надеется на их денежную
помощь». В ходе многочисленных встреч Пертев-паша
и Р. Гордон пытались найти пути облегчения условий
Адрианопольского договора. В частности, затрагивался
вопрос о займе у английских банкиров 19. В сентябре—
октябре 1829 г. чиновники турецкого ведомства финан-
сов через 1представителей некоторых европейских бан-
киров в Константинополе выяснили возможность и
условия получения займов в Лондоне, Вене и Па-
риже.
Первыми откликнулись представители лондонского
отделения «Дома Ротшильда» — крупнейшего банка Ев-
ропы.
Порта просила предоставиить ей -в течение 1830 г.
заем в 40 млн. курушей. Прежде чем дать окончатель-
ный ответ, глава лондонского отделения «Дома Рот-
шильда» Н. Ротшильд 11 октября 1829 г. получил ауди-
енцию у премьер-министра Англии Веллингтона, в ходе
которой предложил британскому кабинету выступить в
качестве гаранта займа его банка Порте, но получил
отказ20. Английский премьер не хотел гарантировать
заем стране, которая, как ему казалось, была на грани
катастрофы. Однако Н. Ротшильд, не желая выпускать
из рук банка выгодное дело турецкого займа, передал
его брату С. Ротшильду, возглавлявшему венское от-
деление «Дома Ротшильда».
С. Ротшильд прежде всего отправился к послу Рос-
сии в Вене Татищеву. «Банкир выспрашивал мое мне-
ние по поводу займа для выплаты Портой контрибуции
в 3—4 года», — писал русский посол. Особенно интере-
совал С. Ротшильда вопрос, сможет ли Турция выпол-
нить свои обязательства по займу, и если не сможет,
то какие, с точки зрения русского посла, санкции могли
бы быть приняты, учитывая договорные обязательства
Порты перед Россией21. Татищев уклончиво отвечал,
что не располагает достаточными сведениями, чтобы
дать исчерпывающий ответ. «С. Ротшильд полуутверди-
тельно спросил у меня, — писал Татищев, — не следо-
вало ли бы установить коллегиальную гарантию вели-
ких держав, чтобы заставить Порту выполнить свои
обязательства»22. Это была, вероятно, первая, практи-
11*
163
чески разработанная концепция международной опеки
не только над финансами, но и над самим существова-
нием Турции как суверенного государства. В 1855 г.
банк «Н. Ротшильд и сыновья» навязал Турции кабаль-
ный заем. 20 лет спустя Адм1ини1страция османского
публичного долга уже держала в своих руках контроль
над политической и хозяйственной жизнью страны, но
осенью 1829 — весной 1830 г. перспектива иностранной
экономической кабалы не стала для Порты реаль-
ностью.
Посол Татищев наотрез и решительно отверг идею
международного банковского капитала о коллективной
опеке над Турцией. Пока не удалось установить, како-
ва была реакция официального Петербурга на запросы
«Дома Ротшильда». Бесспорно, однако, что благожела-
тельное отношение царского правительства к посланцу
султана в Петербурге, снижение контрибуции позволи-
ли Порте отказаться в апреле 1830 г. от кабального
займа. Но это было в апреле 1830 г., а в ноябре—де-
кабре 1829 г. С. Ротшильд все же счел возможньш
предложить Порте заем в 4 млн. голландских дукатов
(128 млн. курушей). Он хотел, чтобы в счет погашения
этой суммы турецкое правительство поставило банку
Ротшильда медную руду токатских рудников 23. Предло-
жение было основано на сведениях агента австрийского
«Банка Блака» в Константинополе, что турецкое пра-
вительство располагает запасами меди в Трабзоне и
его окрестностях на сумму около 6 млн. дукатов»24.
Вопрос о займе обсуждался в самых узких кругах, близ-
ких к Махмуду II. Одновременно в обстановке самой
широкой гласности велась подготовка чрезвычайного
посольства в Россию. Окончательное решение напра-
вить чрезвычайное посольство в Петербург было приня-
то в первых числах сентября 1829 г. Главой посольства
был назначен 30-летний начальник регулярных войск,
приемный (сын сераскера Хюсрев-паши Халиль Рифат-
паша. Советником посольства стал опытный дипломат,
участник Аккерманских переговоров Сулейман Неджиб-
эфенди.
В соответствии с одобренными Диваном гласными
инструкциями Халиль-паша должен был сказать Нико-
лаю I, что Османская империя хочет сохранить мирные
и дружественные отношения с Россией. Вместе с тем
164
представитель султана должен был заявить императо-
ру, что Порта не считает себя виновной в возникновении
войны и поэтому не может взять на себя бремя контри-
буции, ибо помимо неслыханных финансовых трудно-
стей это означало бы признать свою вину. Халиль-паше
предлагалось добиваться возвращения четырех крепо-
стей, отошедших к России на Кавказе, протестовать
против расширения автономии Дунайских княжеств и
открытия проливов для торгового судоходства всех
стран, просить о снижении размеров возмещения убыт-
ков русским торговцам 25.
Авторами инструкций, как и ноты от 25 сентября,
были реисулькюттаб и английский посол. Гордон по
приказу Веллингтона особенно настаивал на включении
в инструкции пункта, содержавшего протест в связи с
открытием проливов для торговых судов всех стран, а
также пункта о возвращении Порте ее крепостей на
Кавказе. X. А. Дивен и Поццо-ди-Борго, которые рас-
полагали копиями донесений Гордона в Лондон, до-
кладывали Нессельроде об участии английского посла
в составлении инструкций26. Об этом писал Дибичу и
прусский посланник в Константинополе Ройер. Приме-
чательна также запись в дневнике председателя Конт-
рольного совета Ост-Индской компании лорда Эллен-
боро от 27 октября 1829 г.: «Он (Р. Гордон. — В. Ш.)
написал обращение турецкого посла к императору.
Представление этого проекта было бы хорошо для нас,
но не для турок. Документ этот столь же хорошо опре-
деляет автора, как и я» 27.
Копии инструкций, составленных двумя ярыми про-
тивниками 'сближения Османской империи с Россией —
Пертев-пашой и Гордоном, были переданы французско-
му послу Гильемино и австрийскому — Оттенфельсу.
Пертев-паша просил послов высказаться по поводу ин-
струкций и как можно скорее довести их содержание
до сведения своих правительств. Порта надеялась, что
европейские державы, прежде всего Англия и Франция,
предложат своим представителям в Петербурге поддер-
жать требования турецкого посла о пересмотре догово-
ра. Английское правительство оправдало надежды Пор-
ты. Нота протеста посла Англии в Петербурге Гейтсбс-
ри по поводу Адрианопольского мира не случайно со-
впала по времени с пребыванием в России Халиль-па-
165
ши 28. Французский премьер-министр Полиньяк ограни-
чился тем, что советовал России ускорить вывод войск
с турецкой территории29.
В начале октября 1829 г. в Константинополе стало
известно, что русское правительство сомневается в целе-
сообразности принимать Халиль-пашу, поскольку в сто-
лицу Османской империи направляется представитель
императора. Не дожидаясь новых сообщений из Лон-
дона и Парижа, будут ли поддерживать послы в Петер-
бурге Халиль-пашу, посланец султана 10 ноября 1829 г.
отбыл в Россию. 6 февраля 1830 г., после месячной за-
держки в Одессе ввиду карантина, Халиль-паша при-
был в Петербург.
Борьба за реализацию мирного договора.
Обмен посольствами
Адрианопольский мир был заключен Россией в слож-
ных условиях острого соперничества великих держав в
районе Балкан и черноморских проливов. Одержав по-
беду над Турцией и добившись автономии Греции, цар-
ское правительство вынуждено было учитывать недо-
вольство европейских держав. В Лондоне, Вене и Пари-
же считали, что равновесие в Европе серьезно нару-
шено в пользу России. Царскому правительству приш-
лось ограничить свои территориальные притязания
и дать реальные 'подтверждения многочисленным за-
явлениям о поддержании status quo на Ближнем
Востоке.
Политика сохранения на южных рубежах России
ослабленной, оказавшейся в известной мере в зависи-
мости от царского правительства Османской империи,
на европейской территории которой в ближайшие годы
находились бы русские войска, в тот момент более все-
го отвечала задачам укрепления феодальной системы ца-
ризма, задачам поддержания его авторитета на между-
народной арене, предотвращения любых революционных
преобразований вблизи от границ Российской империи.
Соответствующие рекомендации русским дипломатам бы-
166
ли выработаны Особым комитетом по восточному во-
просу, который заседал в Петербурге под председатель-
ством Николая I 14—16 сентября 1829 г. Резолюция
комитета, подготовленная автором проекта Адриано-
польского договора Д. В. Дашковым, гласила: «Мы по-
вторяем, что Россия должна желать сохранения Осман-
ской империи, с которой связаны ее самые существенные
интересы. Россия должна желать этого, поскольку она
не могла бы найти более удобного соседства, поскольку
разрушение Османской империи поставило бы Россию
в затруднительное положение, не говоря уже о пагубных
последствиях, которые оно могло бы иметь для общего
мира и порядка в Европе»30.
Царское правительство не проявило никакой заинте-
ресованности в разделе турецких владений, ни даже в
изменении существовавшего в Константинополе режи-
ма. Ближайшей задачей русской внешней политики
Особый комитет по восточному вопросу считал восста-
новление мирных и по возможности дружественных от-
ношений с Османской империей. В то же время прихо-
дилось учитывать, что, поощряемая западными дипло-
матами, Порта стремится пересмотреть ряд основных
положений Адрианопольского договора. Царское прави-
тельство было готово сделать определенные уступки
турецкой стороне, с тем чтобы парализовать иностран-
ное вмешательство в свои отношения с Портой.
Надлежало установить точные сроки выплаты и га-
рантии контрибуции. Царское правительство взамен тер-
риториальных уступок готово было снизить на несколько
миллионов размер контрибуции31. Необходимо было так-
же добиться, чтобы Порта неукоснительно соблюдала
постановления договора о свободе торгового судоход-
ства в черноморских проливах. Все эти вопросы имели
исключительно важное значение для русско-турецких
отношений и, по мнению Петербурга, могли быть раз-
решены на месте, в Константинополе, где доверенный
царский представитель смог бы вести переговоры с Пор-
той, обращаясь в случае необходимости непосредственно
к султану.
Предложение о чрезвычайном посольстве в Констан-
тинополь впервые было высказано Дибичем в письме
к Николаю I от 15 сентября 1829 г. Полномочным пред-
ставителем царя был утвержден генерал-адъютант царя
167
граф А. Ф. Орлов, подпись которого стояла под Адриа-
нопольским трактатом. Перед А. Ф. Орловым была по-
ставлена следующая задача32: «Заверить султана в дру-
жеском расположении е. и. в-ва, наблюдать за исполне-
нием Адрианопольского трактата, установить сроки пла-
тежей, равно как и виды гарантии по индемнизации
военных издержек, облегчить своим посредничеством
контакты османского правительства с русскими военны-
ми властями».
Сложным для исполнения был пункт инструкции о
территориальных вопросах. При благоприятном ходе пе-
реговоров Орлов мог объявить туркам о снижении конт-
рибуции на 2 млн. дукатов. Затем следовало предло-
жить Порте передать России Гурию и Батум, а также
восемь турецких военных кораблей. Взамен контрибуция
снижалась еще на 2 млн. дукатов. Остальные 6 млн.
должны были быть уплачены до 1 апреля 1837 г. До
окончания расчетов по контрибуции русские гарнизоны
должны были стоять в Европейской Турции — в Силист-
рии, Кюстенджи и Сатуново, в Азиатской Турции —
в Карсе и Баязиде. Трудность заключалась в том, что
Орлов должен был так вести переговоры, чтобы пред-
ложение о территориальных уступках исходило от ту-
рецкой стороны. Орлову строжайше предписывалось не
допускать, чтобы у Порты возникло мнение, будто Рос-
сия хочет пересмотреть договор. Ему предлагалось не
касаться греческого вопроса, а сосредоточить все вни-
мание на решении проблем, связанных с контрибуцией
и видами ее возмещения, а также выводом русских
войск. Все вопросы, которые возникли бы в связи с орга-
низацией молодого греческого государства, должен был
обсуждать с Портой посланник России А. И. Рибопьер,
прибывший в Константинополь 13 января 1830 г. Пред-
полагалось, что русский посол установит связи с теми
лицами из султанского окружения, которые выступали
против войны с Россией, и через них добьется изменения
инструкций Халиль-паше. Это означало бы укрепление
позиций сторонников России в Османской империи и ос-
лабило бы ее врагов.
24 октября 1829 г. Орлов сообщил турецким властям
в Адрианополе, что он получил приказ императора вы-
ехать во главе чрезвычайной миссии в Константинополь.
Месяц спустя, 27 ноября 1829 г., Орлов прибыл в сто-
168
лицу Османской империи. 5 декабря он получил офи-
циальную аудиенцию у султана и вручил свои веритель-
ные грамоты. Через день состоялся неофициальный при-
ем в султанской загородной резиденции. Султан и пред-
ставитель царя заверили друг друга в стремлении со-
действовать установлению дружественных отношений
между Россией и Турцией. С первых дней пребывания
в Константинополе А. Ф. Орлов убедился, что реисуль-
кюттаб Пертев-паша намерен избежать переговоров о
контрибуции с русским представителем и надеется, что
Халиль-паше удастся добиться пересмотра соответствую-
щих статей Адрианопольского договора. А. Ф. Орлов
решил добиться отмены инструкций Халиль-паше в об-
ход реисулькюттаба. Сераскер Хюсрев-паша, который
еще в декабре 1827 г. выступал против войны с Россией,
говорил Орлову, что он сам и его сын Халиль-паша вы-
ступают против пересмотра договора. Личный секретарь
султана Мустафа-эфенди, начальник султанской охраны
Ахмед-бей и бывший реисулькюттаб Хамид-бей были из-
вестны как 'сторонники сближения с Россией. С этими
близкими к Махмуду II лицами решил познакомиться
русский представитель33. Встречаясь с ними в официаль-
ной и неофициальной обстановке, Орлов умело проводил
основную мысль — Россия готова всемерно содейство-
вать сохранению существующей в Турции системы равно
от честолюбивых помыслов мятежных вассалов и от бун-
тарских выступлений христианских подданных султана.
Он настойчиво подчеркивал, что царь готов сделать зна-
чительные уступки и облегчить некоторые условия дого-
вора. Турецкая сторона в свою очередь должна решить
основные вопросы с ним, Орловым, или направить со-
ответствующие указания Халиль-паше в Петербург.
В любом случае необходимо исключить всякое вмеша-
тельство третьей стороны в отношения между двумя
соседними державами. Орлов говорил также, что враж-
дебная позиция реисулькюттаба очень осложняет пере-
говоры 34.
Действительно, «воинственная группировка» во главе
с Пертев-пашой неустанно доказывала султану, что на
переговорах с царским представителем нужно прояв-
лять возможно меньше уступчивости, чтобы большего
добиться. Средства, выделяемые для уплаты контрибу-
ции, предлагалось направить на укрепление армии. Про-
169
английски настроенный Пертев-паша и его сторонники
из этой группировки передавали султану заверения
Р. Гордона о непременном пересмотре в интересах Тур-
ции на очередной лондонской конференции мартовского
протокола о Греции, а также о том, что Россию заставят
отказаться от некоторых -статей Адрианопольского до-
говора35. Сам же Р. Гордон с первых дней пребывания
русской миссии в Турции настойчиво предлагал Орлову
свои «добрые услуги» посредника, добиваясь участия в
переговорах царского представителя с турецким прави-
тельством. Гордон внимательно следил за деятельностью
А. Ф. Орлова в Константинополе. «Английский посол по
собственной инициативе,— говорилось в одной из депеш
Халиль-паше в Петербурге,— сообщает реисулькюттабу
все, что предпринимает Орлов. Через него получены ко-
пии донесений русского (посольства в Лондоне в Пе-
тербург о ваших делах. Все это доказательства содей-
ствия Англии»36.
А. Ф. Орлов, продолжая серию официальных и не-
официальных переговоров с Хюсрев-пашой, Мустафа-
эфенди и Ахмед-беем, пытался через них убеждать Мах-
муда II, что необходимо избавиться от всего, мешающе-
го улучшению отношений между Россией и Османской
империей. Не желая осложнять переговоры, Орлов не
упоминал о желании своего правительства возместить
часть контрибуции территориальными уступками на Кав-
казе. Большое удовлетворение в турецких правитель-
ственных кругах вызвала позиция А. Ф. Орлова по во-
просу о болгарской эмиграции в Россию, имевшей место
в соответствии со ст. XIII Адрианопольского трактата.
В беседе с личным представителем султана, который пе-
редал недовольство Махмуда II отъездом болгар на
территорию России, А. Ф. Орлов подчеркнул, что в Пе-
тербурге с удовлетворением узнали об объявлении ам-
нистии всем христианским подданным Порты, прожи-
вавшим в районе военных действий и помогавшим рус-
ской армии *, и полагают, что это приостановит даль-
нейшее переселение болгар в Россию37. На представление
Орлова об учреждении российского консульства в Слив<
но Порта согласилась сравнительно легко. Было достиг
* Султанский ферман по этому поводу был издан в декабре
1829 г.
170
нуто соглашение и о создании смешанной комиссии по
возвращению Сербии шести округов, незаконно отторг-
нутых у нее в 1804—1815 гг.38.
Значительно сложнее решался вопрос о выполнении
Портой ст. VII о проливах. Как свидетельствуют про-
токолы переговоров и подготовительные материалы к
трактату, Россия не ставила вопрос о проходе своих
военных кораблей через проливы. Однако осенью 1829 г.
этот вопрос получил неожиданное развитие. В середине
октября 1829 г. английский фрегат «Блонд» прошел с
разрешения Порты проливы Дарданеллы и Босфор, и
в течение двух месяцев английские офицеры (среди них
были лица, находившиеся на турецкой службе) произ-
водили рекогносцировку позиций русских 'войск в Руме-
лии и укреплений черноморских портов России39. Появ-
ление в Черном море военного корабля нечерноморской
державы было нарушением режима проливов, так как
только Турция могла проводить свои военные корабли
через проливы. Петербург предложил А. Ф. Орлову по-
требовать в ультимативном порядке, чтобы проливы бы-
ли закрыты для военных судов всех стран или в особой
конвенции были оговорены случаи, когда русские воен-
ные корабли смогут проходить черноморские проливы.
А. Ф. Орлов внимательно изучил обстановку и пришел
к выводу, что не следует делать резких демаршей и
обострять отношения, когда они едва налаживаются. Он
оказался прав. Командиру «Блонда» рекомендовали по-
кинуть Черное море. Султан приказал заверить русского
посла в том, что турецкое правительство будет держать
проливы закрытыми для иностранных военных кораблей.
Такой режим проливов в тот момент вполне удовлетво-
рял Россию. Оставалось лишь добиться претворения в
жизнь в полном объеме ст. VII Адрианопольского до-
говора о свободе торгового судоходства в проливах.
В ноябре — декабре 1829 г. Порта, несмотря на со-
противление Гордона40, выработала упрощенную систе-
му выдачи документов русским шкиперам, но упорно со-
противлялась требованию Орлова осуществить постанов-
ление Адрианопольского трактата об открытии проливов
для свободного прохода торговых судов всех стран.
В этом была известная доля вины царского посланца,
который расширительно толковал принцип свободы су-
доходства и требовал отмены пошлины за проход судов
1П
через проливы. Это вызвало обоснованные возражения
Порты.
26 марта 1830 г. каймакам Хулюси-паша, замещав-
ший великого везира, писал Халиль-паше в Петербург:
«Русский посол требует пропуска судов Дании, Неаполя,
Испании и других стран без обычной пошлины. В до-
говоре не говорится определенно, что за право прохода
(проливов.— В. Ш.) не нужно уплачивать пошлину.
Следовательно, настаивать на этом русский посол не
имеет никакого права»41. Орлову пришлось умерить тре-
бования. В апреле 1830 г. последовал султанский фер-
ман о свободе торгового судоходства в проливах при
условии уплаты определенной пошлины в казну. Инте-
ресы Турции были соблюдены, и торговля через проливы
получила новое развитие.
Весной 1830 г. А. Ф. Орлов помог представителю
США, вопреки интригам английского посла Р. Гордона,
заключить торговый договор с Турцией на правах наи-
большего благоприятствования, чего США не могли до-
биться с 90-х годов XVIII в. из-за упорного противодей-
ствия английской дипломатии и торговых представите-
лей Лондона в Турции 42.
Полное осуществление ст. VII о свободе торговой на-
вигации в проливах обеспечивало прежде всего укреп-
ление и расширение экономических связей России с Юж-
ной Европой, что, в свою очередь, способствовало раз-
витию производительных сил юга России.
Для Османской империи провозглашение в ст. VII
принципа полной свободы коммерческой деятельности
русских торговцев на турецкой территории и подтверж-
дение права экстерриториальности русских купцов озна-
чали закрепление капитуляционного режима, которого
царизм впервые добился по Кючук-Кайнарджийскому
договору 1774 г. В то же время Босфор и Дарданеллы
приобретали характер подлинно мировых торговых во-
рот. Расширились и укрепились связи и русского и ту-
рецкого Причерноморья с европейскими странами. Оце-
нивая торговое значение черноморских проливов, Ф. Эн-
гельс писал: «Ясно, что от полной свободы провоза тор-
говых грузов через эти ворота в Черное море зависит
судьба не только весьма обширной торговли, но и ос-
новных связей между Европой и Средней Азией, а сле-
довательно, и основного средства восстановления цивщ
17?
лизации в этой обширной области»43. Очевидно, что эти
слова Энгельса, относящиеся к 1853 г., вполне примени-
мы и к изучаемому периоду. Значительная часть хлеба,
железа, тканей и других товаров, которые нес поток ми-
ровой торговли, омывающий турецкие берега, оседала на
рынках Смирны и Константинополя, повышалось их зна-
чение как важных центров международной торговли.
Доход от эксплуатации проливов и продажи охранных
ферманов от магрибских пиратов — подданных Порты —
составлял хоть и не самую значительную, но постоянную
и гарантированную статью доходной части турецкого
бюджета.
Навигация в проливах приобрела оживленный харак-
тер буквально через две недели после заключения мира.
Если с 30 августа по 4 сентября 1829 г. из Константино-
поля в Одессу пришли только два судна, то с 1 по 4 ок-
тября в Одессу из Константинополя прибыло 16 кораб-
лей. Ушло с 1 по 4 октября курсом на Турцию 18 ко-
раблей, из них 9 турецких с хлебом. Начали расти
закупочные цены на русский хлеб в Одессе, тогда как
продажные цены на пшеницу в Константинополе, Варне,
Смирне и других прибрежных турецких городах стали
снижаться44.
Дальнейшая реализация мирного договора и улуч-
шение добрососедских отношений между двумя страна-
ми в значительной степени определялись ходом перего-
воров Халиль-паши в Петербурге. Правительство Ни-
колая I миссией личного представителя царя графа
А. Ф. Орлова свидетельствовало свою готовность вос-
становить и развивать добрые отношения с Османской
империей. Сам. А. Ф. Орлов проявил достаточное пони-
мание и уважение сложнейших внутренних проблем
Порты. Его деятельность воспринималась Махмудом II
с удовлетворением. Однако в декабре 1829 — январе
1830 г. наметился некоторый застой в ходе переговоров.
Орлов очень осторожно проводил зондаж настроений в
Порте относительно замены части контрибуции терри-
ториальными уступками в пользу России. Реисулькюттаб
уклонялся от обмена мнениями с Орловым по этому по-
воду, ссылаясь на миссию Халиль-паши. Однако и в Пе-
тербурге прогресса в переговорах не было. Как довери-
тельно сообщил Орлову сераскер Хюсрев-паша, его сын
имел совершенно секретное устное приказание султана,
173
сохранявшееся в тайне от Пертев-паши и других вези-
ров, считать основной задачей не пересмотр договора
с Россией, а восстановление мира, в отношении же офи-
циальных, гласных инструкций — поступать по обстоя-
тельствам 45.
Прибыв в Петербург, представитель султана проявил
вначале минимальную активность. Он передал через
вице-канцлера послание Махмуда II, адресованное царю,
а самому Нессельроде вручил письмо от Хулюси-паши.
В послании Махмуда II в самой общей форме содер-
жалась просьба облегчить условия договора. «Мы по-
читаем себя обязанными,— говорилось там,— сохранять
и развивать отношения доброго согласия и искренней
дружбы между нашей страной и в. и. в-вом. Руковод-
ствуясь принципами последовательного исполнения ус-
ловий договора, мы выдвигаем наши просьбы исключи-
тельно с тем, чтобы укрепить дружественные отношения
с в. и. в-вом»46. «Просьбы» султанского правительства
перечислялись в письме Хулюси-паши и повторяли офи-
циальные инструкции Халиль-паше47.
9 февраля 1830 г. Халиль-паша и советник миссии
Неджиб-эфенди были приняты Николаем I. В ходе ауди-
енции48 царь развил основную мысль: сохранение тер-
риториальной целостности Османской империи, уважение
интересов Порты — одна из задач его внешней полити-
ки. Халиль-паша и Неджиб-эфенди ответили, что султан
Махмуд II поручил им подтвердить готовность соблю-
дать «действительность и законность» мирного договора
и просит о некоторых облегчениях. «Нам остается лишь
скромно просить в. и. в-во,— сказал Халиль-паша,— не
сдерживать великодушных порывов своей души». В за-
ключение аудиенции Николая I заявил: «Сейчас султан
занят важными реформами в своей державе. Нужен мир
и нужно время, чтобы укрепить и завершить начатое
дело. Новый разрыв погубил бы все начинания. Я по-
стараюсь избежать такого разрыва».
В течение февраля 1830 г. Халиль-паша уклонялся
от официальных переговоров. Он получал и от своего
отца сераскера, и от секретаря султана сведения о по-
ложительном ходе переговоров в Константинополе и
ждал новых указаний во изменение гласных инструк-
ций. Как писали «Санкт-Петербургские ведомости», ту-
рецкого посла, приветливого, галантного, недурно гово-
174
рящего по-французски, видели на балах и вечерах в
Зимнем дворце и в домах петербургской знати, но чаще
всего — на смотрах и парадах войск. Всюду он стремил-
ся побольше узнать о России, особенно об организации
военного дела. В донесениях, направлявшихся в личную
канцелярию султана, Халиль-паша писал, что русское
правительство заявило о своем стремлении поддержать
мирные отношения с Турцией и что он доверяет этим
заявлениям. Халиль-паша высказал мнение, что пребы-
вание у власти Пертев-паши, ярого противника России,
будет препятствовать успешному ходу переговоров. Он
обращал внимание султана также на необходимость
«в целях укрепления доверия между двумя странами из-
вестное время воздерживаться от проявлений доверия
к послам Англии и Франции»49. В начале февраля он
информировал султана о том, что, по его мнению, име-
ются условия для заключения дополнительной конвен-
ции к мирному договору, и запросил на это полно-
мочий.
Махмуду II предстояло сделать определенный выбор:
поддерживать ли опасный курс на осложнение отноше-
ний с Россией, за который ратовали Пертев-паша и анг-
лийский посол, или учесть тяжелые последствия военно-
го и политического поражения Османской империи в
войнах с Россией и с греками, напряженное положение
в Алжире, разраставшийся мятеж Мустафа-паши Буша-
ти в Албании, открытое неповиновение правителя Егип-
та Мухаммеда Али и попытаться преодолеть внутренние
и внешние осложнения, упрочив мирные отношения с се-
верным соседом. Зная о возрастающих трудностях в по-
литической и хозяйственной жизни страны и убедившись
в тщетности надежд на реальную поддержку Англии в
облегчение условий Адрианопольского мира50, МахмудII
решил окончательно отказаться от пересмотра мирного
договора.
9 февраля 1830 г. ярый противник России, один из
глашатаев войны, Пертев-паша, был смещен. По поводу
смещения Пертев-паши был издан хатт-и шериф Махму-
да II, в котором бывший реисулькюттаб обвинялся в том,
что вводил султана в заблуждение относительно собы-
тий в Греции и своими советами и рекомендациями втя-
нул страну в войну с Россией. Его место занял возглав-
лявший до 1821 г. внешнеполитическое ведомство Хамид-
175
бей. Несколько высших должностных лиц империи —
единомышленников Пертев-паши были удалены в далекое
паломничество в Мекку. Одновременно возросло влия-
ние сераскера Хюсрев-паши и других сторонников мир-
ных и дружественных отношений с Россией51.
10 февраля 1830 г. Хамид-бей зачитал А. Ф. Орлову
письмо Махмуда II, в котором высоко оценивалась дея-
тельность русского посла, направленная на укрепление
дружбы между двумя странами. Султан сообщал о сво-
ем решении заключить в Петербурге конвенцию о конт-
рибуции, а также о том, что Халиль-паше поручено про-
сить царя учесть крайне затруднительное состояние фи-
нансов Османской империи. Хамид-бей сказал далее, что
по приказу падишаха будет полностью и в срок выпла-
чено возмещение убытков русским торговцам.
Это означало, что Порта считает условия для заклю-
чения объяснительной конвенции по контрибуции благо-
приятными и отвергает попытки посредничества третьих
держав в переговорах с Россией. Поскольку центр тя-
жести дальнейших переговоров переносился в Петер-
бург, Халиль-паше в соответствии с новыми предписа-
ниями, которые подготовили новый реисулькюттаб и
Хюсрев-паша, предлагалось вести обсуждение главного
вопроса — о контрибуции — и просить снизить ее разме-
ры, но не допускать новых осложнений в отношениях с
Россией. «Мы уже выполнили,— писал каймакам Ха-
лиль-паше 25 марта 1830 г.,— несколько статей Адриа-
нопольского договора и будем точно исполнять их и
впредь. Такая политика наиболее соответствует интере-
сам Османского государства, и таков же приказ пади-
шаха. Мы полагаем, что в Петербурге вы дблжны следо-
вать тому же»52.
Анализ доступных источников и прессы убеждает в
том, что заявления Порты соответствовали действитель-
ности. Новый глава внешнеполитического ведомства не
приглашал Р. Гордона для консультаций, ставших по-
стоянными при Пертев-паше. Послы западных держав
перестали получать от официальных лиц сведения о ходе
переговоров с Орловым. Последний же ежедневно и по-
рой по нескольку часов кряду беседовал с Хюсрев-па-
шой, Хамид-беем, Ахмед-беем и другими близкими к
султану лицами, поддерживавшими политику сближения
с Россией.
176
В марте 1830 г. каймакам сообщил Халиль-паше о
текущих делах в Константинополе и обратил его вни-
мание на то, что Порта уже не рассчитывает на содей-
ствие иностранных держав. «Сейчас мы всецело заняты
вопросом о Греции,— писал Хулюси-паша.— Как бы там
ни было, секретные совещания с послами Англии и
Франции ни в какой степени не могут быть нам теперь
полезны, и мы их решительно прервем. Однако мы воз-
держимся говорить послам, как и всем другим, о делах,
касающихся вашей миссии, ваших инструкций и про-
чих дополнений, которые мы вам сообщим»53. В начале
апреля 1830 г. Халиль-паше было отправлено новое пред-
писание: «По поводу недовольства е. и. в-ва нашими тес-
ными отношениями с Англией вам надлежит объяснить,
что речь шла только об умиротворении Греции, что в
греческом вопросе британское правительство защищает
свои интересы и что оно стремилось отвлечь и обмануть
Порту»54.
Получив новые указания, Халиль-паша активизиро-
вал переговоры с К. В. Нессельроде о контрибуции.
Вице-канцлер объявил ему о снижении контрибуции на
2 млн. дукатов (64 млн. курушей). Халиль-паша просил
разрешить выплату остальной суммы в турецкой валю-
те. Было достигнуто соглашение исчислять контрибуцию
и производить выплату в Константинополе, притом и в
турецкой валюте, а не только в золотых голландских ду-
катах. Правительство России согласилось получить в
счет контрибуции строевой лес, медь, шелк, драгоцен-
ные камни, как того просил турецкий представитель. Все
это было немедленно сообщено Халиль-пашой в Кон-
стантинополь, где агент банка Ротшильда Маринич вел
переговоры о займе Турции на кабальных условиях.
Маринич в феврале 1830 г. обратился с предложе-
нием о займе к сераскеру Хюсрев-паше, но сераскер воз-
лагал большие надежды на посольство своего сына и
заявил, что считает преждевременным заключать согла-
шения о займе55. Тогда Маринич вступил в переговоры с
силяхдаром — личным оруженосцем султана, известным
своими проанглийскимм взглядами и к тому же личным
врагом Хюсрев-паши Махмуд-беем. Последнему удалось
уговорить султана, возражавшего против займов за гра-
ницей, дать разрешение на предварительные переговоры.
Вскоре секретарь султана Мустафа-эфенди и один из чи-
12 Зак. 851
177
нов ведомства финансов начали переговоры с Марини-
чем, которые по строгому приказу Махмуда II велись в
тайне от двора и от послов, особенно от Орлова, кото-
рый, впрочем, был обо всем осведомлен56.
Не позднее 7 апреля 1830 г. в загородном доме Мус-
тафы-эфенди обсуждались окончательные условия пре-
доставления займа. Маринич сказал, что банк Ротшиль-
да мог бы ряд лет выдавать Порте 4 млн. дукатов
(128 млн. курушей) для уплаты России контрибуции.
Мустафа-эфенди, не принимая, но и не отвергая этого
предложения, ответил, что Порта в течение этого,
1830 года хотела бы получить незамедлительно 40 млн.
курушей. В счет платежей Мустафа-эфенди предложил
поставить Ротшильду 1,2 млн. окка меди на 8—9 млн.
курушей57, а также на 6 млн. курушей брусских шел-
ков, на 2 млн. — опиума, на 1,5 млн. — розового масла.
Увеличив на 400—500 тыс. окка добычу меди на токат-
ских рудниках, Порта могла поставить меди еще на
2,8—3,5 млн. курушей. В общей сложности эти воз-
можные поставки Мустафа-эфенди оценивал в 12,3—
13,5 млн. курушей. В качестве гарантии уплаты осталь-
ной части займа Мустафа-эфенди назвал поставки меди,
шелка, опиума и розового масла в течение 4—5 лет.
Он подчеркнул, что непременным условием Порты яв-
ляется получение единовременно 40 млн. курушей58. Ма-
ринич ответил, что для банка, который он представляет,
было бы затруднительно выдать сразу 40 млн. курушей,
а возмещение ожидать 4—5 лет. Он потребовал допол-
нительных гарантий со стороны Порты и выразил по-
желание, «чтобы некоторые медные рудники, принадле-
жащие казне, были представлены как объекты ипоте-
ки»59. Утверждая, что выдвигаемые им условия — обыч-
ные для банка С. Ротшильда и соответствуют условиям,
на которых производятся подобные операции в других
странах, Маринич, потребовал 5% годовых, хотя обыч-
ная ставка европейских банков в 1829 — начале 1830 г.
составляла 3—4% годовых. Мустафа-эфенди возразил,
что установление ипотеки над турецкими рудниками не
представляется возможным; он также сказал, что Порта
согласится платить не более 3% годовых. На этом встре-
ча закончилась. Маринич и Мустафа-эфенди не пришли
к соглашению.
Вопрос о займе был предметом обсуждения на одном
178
из заседаний Дивана в середине апреля 1830 г. Мустафа-
эфенди сообщил членам Дивана о переговорах с Мари-
ничем. Он изложил им также точку зрения Махмуда II,
который считал, что условие Ротшильда об ипотеке мед-
ных рудников поставило бы доходы Османской империи
под контроль иностранцев и могло бы иметь для госу-
дарства тяжелые последствия. Султан требовал изыскать
средства для уплаты контрибуции, не обращаясь к зай-
мам за границей. Было решено переговоры с Ротшиль-
дом прекратить, а необходимые средства получить за
счет новых налогов, «обеспечив справедливое обложение
и мусульман, и христиан», а также за счет поступлений
доходов из Багдада и Египта 60.
В начале апреля 1830 г., когда Мустафа-эфенди еще
обсуждал с Мариничем условия займа, от Халиль-паши
из Петербурга поступили сообщения о снижении контри-
буции на 2 млн. дукатов. Мы не знаем, обсуждались ли
донесения Халиль-паши на упомянутом заседании Ди-
вана, однако несомненно, что успешный ход переговоров
представителя султана с русским правительством по-
влиял на изменение позиции султана и Дивана в отно-
шении займа. К тому же многие противники России бы-
ли удалены в ссылку, возросло влияние Хюсрев-паши
и других сторонников дружественных отношений с Рос-
сией.
В те же апрельские дни 1830 г. А. Ф. Орлов сообщил
Порте, что контрибуция будет снижена еще на
32 млн. курушей (1 млн. дукатов), если Порта незамед-
лительно примет к исполнению постановления Лондон-
ской конференции от 3 февраля 1830 г. о предоставлении
Греции независимости в границах, несколько урезанных
по сравнению со ст. X Адрианопольского трактата. Сул-
тан и его окружение воспринимали сокращение границ
Греции на континенте и снижение контрибуции как сви-
детельство успехов турецкой дипломатии. Это было вер-
но лишь отчасти. Судьбы турецких территорий решались
уже не в Константинополе, а в столицах великих дер-
жав.
Отступая в вопросе о границах Греции от условий
ст. X Адрианопольского трактата, Петербург шел в пер-
вую очередь на компромисс с «раздраженным сент-
джемским кабинетом», но подтверждал при этом и свое
понимание затруднительного положения Конст^нтинопо-
12*
179
ля. Для Махмуда II отступление России хотя бы на
полшага от договорных требований имело важное пре-
стижное политическое значение. Сокращение же, и очень
существенное, контрибуции за проведение в жизнь про-
токола о независимости Греции, который все равно
пришлось бы реализовать, имело для Порты вполне ре-
альное и политическое и финансовое значение.
16 апреля 1830 г. курьер повез Халиль-паше личный
приказ султана — сообщить Николаю I о принятии к
исполнению лондонского протокола о независимости
Греции и согласии считать контрибуцию в 7 млн. дука-
тов вместо 10 млн., определенных Адрианопольским до-
говором. По сведениям А. Ф. Орлова, в середине апреля
1830 г. Мустафа-эфенди заявил Мариничу, что Порта
не считает нужным вести дальнейшие переговоры о зай-
ме. Вскоре посланец Ротшильдов выехал в Вену.
Снижение Россией контрибуции на 3 млн. дукатов
(96 млн. курушей) сыграло важную роль в том, что
Порта отказалась от кабального займа. Сделанная Рос-
сией скидка более чем вдвое превышала заем, за ко-
торый Ротшильды хотели получить право не только рас-
поряжаться важной статьей дохода Османской империи,
но и установить контроль над частью ее территории.
Отказ от займа позволил исключить вмешательство ев-
ропейского финансового капитала в отношения между
Россией и Турцией.
В Петербурге Нессельроде и Халиль-паша продол-
жали обсуждение проекта объяснительной конвенции к
мирному договору. Вице-канцлер предложил снизить
контрибуцию еще на 2 млн. дукатов, компенсировав сни-
жение передачей Батума и турецкой части Гурии. Од-
нако представитель султана решительно отверг это пред-
ложение. Вопрос о территориальных уступках в пользу
России неоднократно обсуждался в Константинополе в
ноябре 1829 — марте 1830 г. По данным современника
(февраль 1830 г.), позиция Махмуда II заключалась в
том, что предпочтительнее уступить некоторые земли, а
деньги сохранить для воссоздания и реорганизации ре-
гулярной армии61. Четырьмя месяцами раньше, 10 но-
ября 1829 г., Пертев-паша заявил по поводу контрибуции
австрийскому посланнику, что «султан не имеет никако-
го намерения выплачивать России столь значительную
сумму. Он нашел бы лучшее применение этим день-
180
гам,— сказал Пертев-паша,— если бы смог их собрать,
а именно подготовил бы армию к войне с Россией». Сам
Оттенфельс назвал эти высказывания реисулькюттаба
«не более чем жалкими и преходящими поползновения-
ми, к тому же часто 'повторяемым1И»62.
Вероятно, оценка Оттенфельса была не совсем вер-
ной. Известно решение совещания высших чинов Осман-
ской империи от 9 сентября 1829 г. о сведении в единую
армию рассеянных по Европейской Турции -войск. Из-
вестно также, что по приказу Махмуда II уже с ноября
1829 г. комплектовались новые отряды регулярных войск.
В январе 1830 г. в Петербург поступило очередное со-
общение из Константинополя: «Султан возлагает боль-
шие надежды на миссию Халиль-паши, а тем временем
собирает и обучает регулярные войска. Пашам направ-
лены приказы продолжить их формирование на мес-
тах»63. Очевидно, с целью «экономии средств» на засе-
дании Дивана в первой половине декабря 1829 г. подни-
мался вопрос об уступке России части Карского паша-
лыка в счет контрибуции. Однако большая часть со-
бравшихся отвергла это предложение64. Окончательное
решение вопроса, с учетом заявления русских предста-
вителей о безусловной эвакуации княжеств65, было сфор-
мулировано в депеше к Халиль-паше в начале марта
1830 г.66. Получив категорический приказ не идти на
уступки в вопросе о границах, Халиль-паша отверг все
попытки Нессельроде вернуться под тем или иным пред-
логом к вопросу о территориальной компенсации. «Со-
ставляя конвенцию,— писал Нессельроде,— пришлось це-
ликом отказаться от мысли о новых приобретениях. Мы
видели, что турецкое правительство придает чрезвычай-
ное значение своим владениям... Оказалось совершенно
невозможным,— продолжал вице-канцлер,— склонить ту-
рок к тому, чтобы они уступили нам земли в Азии в
качестве эквивалента части военной контрибуции»67.
26 апреля 1830 г. была подписана Петербургская
конвенция68, которая, по словам К. В. Нессельроде, «не
заменяла и не изменяла Адрианопольского договора, но
сводила в один акт все положения, касающиеся контри-
буции». Размер контрибуции устанавливался в 8 млн.
голландских дукатов (256 млн. курушей). Фактически
размер контрибуции составлял 7 млн. дукатов (224 млн.
курушей). По поводу 1 млн. дукатов, уступленного ца-
181
рем в обмен на признание Портой независимого гре-
ческого государства, был подписан специальный акт, по
просьбе Халиль-паши оглашению не подлежавший. Пор-
та обязывалась уплачивать по 1 млн. дукатов в год —
с 1 апреля 1831 по 1 апреля 1838 г. После выплаты Тур-
цией торговой индемнизации в 1 млн. дукатов русские
войска должны были покинуть Дунайские княжества и
всю Европейскую Турцию, за исключением Силистрии,
в которой русский гарнизон оставался до окончания
платежей по контрибуции. В уплату принималась ту-
рецкая валюта, в счет контрибуции Порта могла постав-
лять России строевой лес, шелк, медь-сырец и драгоцен-
ные камни. В случае неуплаты контрибуции Россия мог-
ла ввести свои войска в Дунайские княжества.
Халиль-паша, получив отпускную аудиенцию Нико-
лая 169, покинул Петербург в конце апреля 1830 г. 29 мая
1830 г. А. Ф. Орлов разменял с представителями Порты
ратификационные грамоты Петербургской конференции
и в начале июня выехал на родину. Как писал К. В. Нес-
сельроде, все вопросы, которые оставались незавершен-
ными при заключении Адрианопольского договора, были
решены70. Конвенция 1830 г. оставалась в силе вплоть
до 1836 г. Тема своевременной уплаты контрибуции про-
слеживается во всех материалах о деятельности царских
дипломатических представителей в Константинополе в
1830—1836 гг.
В 1831 г. Порта временно перестала выплачивать
контрибуцию, но никаких представлений со стороны цар-
ского правительства не последовало. Султан начал ожес-
точенную борьбу с Мухаммедом Али и нуждался в боль-
ших средствах для содержания армии. Россия была свя-
зана польским восстанием и сложным политическим по-
ложением в Европе. К концу 1832 г. Порта передала
России в счет контрибуции около 1,5 млн. дукатов, пре-
доставленных Грецией Порте в качестве возмещения от
потери права сбора налогов на греческой земле71.
Между тем русские войска продолжали оставаться в
Дунайских княжествах. «Мы должны знать,— писал
Нессельроде П. Д. Киселеву 11 ноября 1832 г., — что сде-
лать с Османской империей прежде, чем двинуться из
княжеств»72. В те же ноябрьские дни 1832 г. в Констан-
тинополь и Александрию был направлен генерал
Н. Н. Муравьев, который должен был убедить Махму-
182
да II в дружественном расположении русского прави-
тельства и содействовать примирению Мухаммеда Али
с султаном 73. Присутствие русских войск в Молдавии и
Валахии и черноморский флот в состоянии боевой го-
товности — все это должно было показать турецкому
правительству, что Россия может оказать ему самую
действенную помощь и при этом убедить западные дер-
жавы, что она не может безразлично относиться к про-
исходящим событиям.
В начале февраля 1833 г., когда египетские войска
разгромили турецкую армию под Конией, заняли Кю-
тахью и угрожали Брусе, Порта официально запросила
помощи русской черноморской эскадры и «посылки кор-
пуса русских войск от 26 до 30 тысяч человек, насколько
это возможно было, с Дуная к османской столице»74.
Адмирал А. С. Грейг и генерал П. Д. Киселев получили
приказ двигаться к Константинополю. 8 июля 1833 г.
А. Ф. Орлов и представители Порты подписали Ункяр-
Искелесийский союзный договор, подтверждающий, в
частности, постановления Адрианопольского договора.
Годы действия Ункяр-Искелесийского договора (1833—
1841) были отмечены известным укреплением и разви-
тием отношений между Турцией и Россией.
В октябре 1833 г. в Петербург был направлен личный
представитель султана Ахмед Февзи-паша, который в
январе — мае 1830 г. принимал участие в переговорах
с А. Ф. Орловым. Итогом миссии Ахмед-паши явилась
новая Петербургская конвенция от 29 января 1834 г.
Турция подтверждала установленную Адрианопольским
миром границу на Кавказе и брала на себя обязатель-
ство исполнять административный регламент Дунайских
княжеств, выработанный русскими властями. Россия
обязывалась вывести войска с территории княжеств, за
исключением Силистрии. Контрибуция была снижена
еще на 2 млн. дукатов, фактически до 5 млн. Ежегод-
ные взносы сокращались с миллиона до 500 тыс. дука-
тов. Русские войска должны были покинуть Дунайские
княжества тотчас после принятия Портой Органического
регламента княжеств и восстановления должностей гос-
подарей. Обе стороны положительно оценивали итоги пе-
реговоров. Турецкое правительство выражало уверен-
ность в дальнейшем улучшении отношений с Россией.
Практически мало значившие для России, но обремени-
183
тельные для Турции выплаты контрибуции были прекра-
щены в соответствии с Константинопольским протоколом
от 27 марта 1836 г.75.
В сентябре 1836 г. из Сплистрии эвакуировался пос-
ледний солдат и над крепостью был снова поднят флаг
с полумесяцем. Россия делала, однако, уступку не столь-
ко Порте, сколько британскому кабинету, который «весь-
ма беспокоился пребыванием русских войск на турецкой
территории:». Россия стремилась вызвать раскол между
Англией и Францией, добиться соглашения с Англией.
Европейские правительства готовили новые соглашения
по ближневосточным вопросам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адрианопольский мир знаменовал завершение девя-
тилетнего восточного кризиса 20-х годов XIX в. Две ос-
новные проблемы, определившие конфликт между Тур-
цией и Россией в период восточного кризиса, могли счи-
таться решенными. Были удовлетворены требования цар-
ского правительства относительно свободы торгового су-
доходства в проливах, соблюдения автономии Сербии и
Дунайских княжеств. На условиях автономии по Адриа-
нопольскому трактату была решена судьба Греции, по-
лучившей в феврале 1830 г. полную независимость. От-
мечая объективно прогрессивную освободительную роль
России в истории балканских народов, Ф. Энгельс писал:
«...Кто решил исход борьбы во время греческого восста-
ния? Не янинский паша Али со всеми его заговорами и
мятежами, не битва при Наварине, не французская ар-
мия в Морее, не лондонские конференции и протоколы,
а русская армия Дибича, перешедшая Балканы и всту-
пившая в долину Марицы» L
Осуществление статей Адрианопольского трактата о
Сербии и Дунайских княжествах, хотя и не получивших,
как Греция, политической независимости, вело к форми-
рованию более прогрессивного общественно-политическо-
го устройства, что оказывало определенное воздействие
и на процесс преобразования в Османской империи. Вой-
ны, которые Турция вела в период восточного кризиса,
особенно война с Россией, еще раз доказали необходи-
мость преобразований.
Внутреннее положение страны отличалось развалом
хозяйственной жизни, крахом изжившей себя феодаль-
ной административной системы. Некоторые попытки об-
легчить положение населения столицы и ближайших
185
пригородов носили декларативный характер. Усиление
более обычного эксплуатации вызывало выступление
трудового люда в различных областях Османской импе-
рии. Одновременно активизировалась реакция, общим
лозунгом которой был отход от прогрессивных начина-
ний Махмуда II. Усилился сепаратизм правителей в Се-
верной Албании, в Ираке. Независимую линию проводил
Мухаммед Али, фактически /контролировавший Аравий-
ский (полуостров, получивший Крит, стремившийся овла-
деть Сирией и Палестиной.
Во внешнеполитической ориентации Турции 20-х го-
дов XIX в. решающую роль играла воинственная груп-
пировка, которая пользовалась поддержкой Махмуда И.
Война с Россией, на которой настаивала эта группиров-
ка, была проиграна. Не удалось отстоять «право» султа-
на исключительно по своему усмотрению решать судьбы
подвластных народов, равно как и контролировать судо-
ходство в Черном море и произвольно устанавливать ре-
жим Босфора и Дарданелл; не удалось ни возвратить
территории, потерянные в прежних войнах с Россией,
ни исключить Россию при определении судьбы Греции.
Вплоть до заключения мирного договора с Россией
Порта безуспешно пыталась выйти из состояния между-
народной изоляции за счет сговора с Англией, Австрией,
отчасти с Францией. К исходу войны предметом поли-
тических маневров стала Греция, которую в Константи-
нополе уже не надеялись сохранить за собой, но пыта-
лись использовать как приманку для европейских дер-
жав, чтобы добиться их посредничества на переговорах
с Россией.
Расчеты турецкой дипломатии на помощь Англии,
Австрии, Ирана, Франции оказались ошибочными. Иран
не мог самостоятельно, без санкции западных держав,
оказать Порте действенную помощь. Западные державы
преследовали собственные цели, и судьба султанского
режима интересовала их ровно настолько, насколько его
падение могло нарушить их политические или экономи-
ческие интересы на Ближнем и Среднем Востоке и на
Балканах.
В этот критический для Порты момент появились
предложения Ротшильдов о займе Турции на условиях,
граничивших с потерей суверенитета и предусматривав-
щих, в частности, определенные формы контроля держав
18Q
йад финансами Турции. Предложения Ротшильдов былй
отвергнуты в 1830 г., но фактически реализованы в пе-
риод Крымской войны (1853—1856).
Внешнеполитические просчеты и сложное внутреннее
положение вызывали тревогу части правящего класса
Османской империи, внушали сомнения в правильности
курса на пересмотр русско-турецких договоров и подав-
ление любой ценой восстания в Греции. Предложения
Иззет Моллы и его сторонников, которые призывали за-
ключить мир с Россией, отказаться от Греции и меньше
полагаться на помощь западных держав, должны были
укрепить международное положение страны и позволить
правительству сосредоточить все внимание на внутрен-
них проблемах. Противоположные, на первый взгляд, мне-
ния, высказывавшиеся в Диване в годы войны, были
дискуссией о методах и формах укрепления господства
правящих феодально-клерикальных кругов Османской
империи в условиях нараставшего освободительного дви-
жения подвластных народов (особенно христианских) и
усилившегося давления со стороны европейских держав,
боровшихся за влияние на Османскую империю.
К весне 1830 г., убедившись, что односторонняя ори-
ентация привела лишь к бесконечным осложнениям, зная
о возрастающих трудностях в политической и хозяйствен-
ной жизни страны, преодолеть которые можно было
лишь путем новых реформ, Махмуд II предпринял шаги
к улучшению отношений с Россией, что должно было
обеспечить определенную устойчивость в международных
осложнениях. Адрианопольским миром открывался но-
вый этап в развитии русско-турецких связей: вплоть до
1853 г. обе страны сохраняли мирные отношения.
ПРИМЕЧАНИЯ
Предисловие
1 К. Маркс, Хронологические выписки по истории Индии
(664—1858 гг.), М., 1947, стр. 125.
Введение
1 Анализ социально-экономических и идеологических предпосы-
лок греческого освободительного движения см.: Г. Л. Арш, Этерист-
ское движение в России, М., 1970, гл. I, II: Освободительная
борьба греческого народа в начале XIX в. и русско-греческие
связи; А. Д. Н о в и ч е в, История Турции, т. II, ч. 1, Л., 1968,
стр. 112—116,
2 Ф. Энгельс, Внешняя политика русского царизма,—
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 22, стр. 33.
3 См.: А. В. Фадеев, Россия и восточный кризис 20-х годов
XIX века, М., 1958, стр. 40.
4 Tarih-i Cevdet, Der-i Saadet (Istanbul), 1301—1309 h. (1881 —
1892) (далее — Tarih-i Cevdet). Один из крупнейших историков Тур-
ции XIX в., А. Джевдет, создавая свою многотомную историю в 50—
80-х годах XIX в., привлек хроники, архивные материалы, отчасти
европейскую литературу в турецком переводе. О нем см.: S. О 1 к й-
t a s 1 г, Cevdet Ра§а, Ankara, 1945; Tarih-i Cevdet, с. 11, стр. 134, 137;
ЦГАВМФ, ф. 166, on. 1, д. 4496, лл. 154, 167—171. Сообщения шки-
перов судов, прибывших из Константинополя в Одессу, Феодосию,
Керчь. >
5 ЦГАВМФ, ф. 166, on. 1, д. 4496. Консульские донесения из Кон-
стантинополя, апрель 1821, л. 175.
6 Там же, л. 185об.
7 F. Pouqueville, Histoire de la regeneration de la Grece,
Paris, 1824.
8 По данным современного греческого историка, в 1827 г. в Ана-
толии (кроме Константинополя) и на многочисленных островах Во-
сточного Средиземноморья проживало больше (2,5 млн.)' греков, чем
на Балканах (около 1 млн.) (Н. J. Psomiades, The Eastern Ques-
tion, the Last Phase. A Study in Greek-Turkish Diplomacy, Thessalo-
niki, 1968, стр. 15; ср. G. Finlay, History of the Greek Revolution,
London, 1861, vol. I, стр. 3—5).
9 Г. С. Дестунис, советник русского посольства в Константино-
188
поле, писал в 1821 г.: «Английское правительство к грекам не распо-
ложено, однако давало чувствовать, что желает, чтобы они попро-
сили у него покровительства... Английские офицеры давали знать,
что греки пропадут, и поделом, так как не просят покровительства
у Англии, которая может их спасти, тогда как Россия, которой они
привержены, не окажет ни малейшей помощи» (ОР ГПБ, ф. Г. С. Де-
стуниса (250), д. 24Х, л. 200). О позиции держав в этот период кри-
зиса см.: И. Г. Г у т к и н а, Греческий вопрос и дипломатические
отношения европейских держав в 1821 —1822 гг.,— «Ученые
записки ЛГУ», № 130, Серия исторических наук, вып. 18, 1951,
стр. 120—122.
10 К. Маркс, Лорд Пальмерстон,— К. Маркс и Ф. Энгельс,
Сочинения, изд. 2, т. 9, стр. 371.
11 G. Finlay, History of the Greek Revolution, vol. I, стр. 218—
221, 260—264.
12 А. В. Ф а д e e в, Россия и восточный кризис..., стр. 54—56.
С. М. Соловьев отмечал, что трудности, созданные для русской тор-
говли, были немедленно использованы англичанами (С. М. Соло-
вьев, Собрание сочинений, СПб., [1900], стр. 701).
13 См.: С. М. Соловьев, Собрание сочинений, стр. 694—695.
14 A. Prokesc h-0 s t е n, Geschichte des Abfalles der Griechen
vom Ttirkischen Reiche in Jahre 1821 und der Griindung des helleni-
schen Konigreiches. Aus diplomatischen Standpunkte, Bd 3, Wien, 1867,
стр. 89—101. В работе И. С. Достян «Россия и Балканский вопрос.
Из истории русско-балканских политических связей в первой трети
XIX в.» (М., 1972, стр. 203) указано, что Порта ответа на ноту от
18 июля не дала и русский посланник заявил о разрыве диплома-
тических отношений.
15 После отъезда русского посла великий везир направил
К. В. Нессельроде письмо, в котором упрекал Строганова во вмеша-
тельстве во внутренние дела Порты и намеренном ухудшении русско-
турецких отношений (ОР ГПБ, ф. Г. С. Дестуниса (250), д. 243,
л. 18).
16 A. Rasim, Osmanli tarihi, Istanbul, 1330 h. (1912), c. 4,
стр. 1775; Tarih-i Cevdet, c. 11, стр. 217. А. Расым—видный турец-
кий историк, работавший на рубеже XIX—XX вв. А. Расым учиты-
вал достижения современной ему европейской исторической науки,
но в изложении событий русско-турецких отношений XIX в. при-
держивался официозной точки зрения, рассматривавшей их как цепь
осложнений, вызванных вмешательством царизма во внутренние
дела Порты, такие, как греческое восстание, проблемы Сербии и дру-
гих турецких провинций.
17 А. Р г о k е s с h-0 s t е n, Geschichte des Abfalles..., Bd 3, стр. 162.
В правительственных кругах России действительно существовали
воинственные настроения и даже разрабатывались оперативные пла-
ны на случай войны, отклоненные, впрочем, царем как несвоевремен-
ные (см.: М. И. Богданович, История царствования Александра I
и России в его время, т. VI, СПб., 1871, стр. 36—42. «Соображения
барона Дибича о действиях против Турции»).
18 Ё. D г i a u 11 et М. L h ё г i t i е г, Histoire diplomatique de la
Grece de 1821 a nos jours, t. 1, Paris, 1925, стр. 187—>192; F. Pou-
q u e v i 11 e, Histoire de la regeneration de la Grece, t. 4, chap. V.
19 Отношение участников Веронского конгресса к сражавшимся
189
за свободу грекам и позиция правительства вызывали глубокое воз-
мущение передовой России. Будущие декабристы (М. А. Фонвизин
и др.) вообще считали восстание в Греции частью общеевропейской
революции, ссылаясь на пример Испании, Неаполя и Пьемонта (см.:
«Избранные социально-политические и философские произведения
декабристов», М., 1951, т. 1, стр. 378—381). Сдержанная критика не-
достаточной активности правительства звучала в среде высших воен-
ных, занятых разработкой плана ведения войны с Турцией, и прави-
тельственных деятелей, близких к южнорусской торговле (А. А. Зак-
ревский, П. Д. Киселев, А. П. Ермолов, Воронцовы) (см.: И. Ф. И о в-
в а, Бессарабия и греческое национально-освободительное движение,
Кишинев, 1974, стр. 168—^240).
20 Об этих событиях см.: А. Д. Н о в и ч е в, История Турции,
т. II, ч. 1, стр. 129; Л. С. Семенов, Россия и международные от-
ношения на Среднем Востоке в 20-е годы XIX в., Л., 1963, стр. 72—75.
21 Мирный договор между Ираном и Турцией был подписан в
Эрзуруме 19 зилькаде 1238 г. х. (29 июля 1823 г.) (см.: Tarih-i Cev-
det, с. 12, стр. 77).
22 Подробнее об английской политике в этот период см.:
И. Г. Гу тки на, Противоречия европейских держав в первые годы
греческой войны за национальную независимость (1823—1826 гг.),—
«Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 288, 1966, стр. 134—136.
23 J. К г a u t е г, Franz Freiherr von Ottenfels. Beitrage zum Po-
litik Metternichs im Griechischen Freiheitskampfe 18'22—1823, Salz-
burg, [б. г.], стр. 117.
24 A. P г о k e s c h-0 s t e n, Geschichte des Abfalles..., Bd 4, 1867,
стр. 62—73. Мемуар 9 (21) января был положен в основу Петер-
бургского протокола 1826 г. и Лондонского договора 1827 г. При
разработке Адрианопольского договора русская дипломатия исполь-
зовала ряд условий Мемуара. Исследователями показано (см.:
И. С. Д о с т я н, Россия и Балканский вопрос..., стр. 233), что этот
документ был первым реальным шагом в выработке политического
устройства Греции, отмечен и его ограниченный характер. Нам важ-
но подчеркнуть, что Россия уже не выпускала инициативы в реше-
нии судьбы Греции. Одновременно восточный кризис приобретал все
большую остроту — реально ставился вопрос о государственном уст-
ройстве восставших областей Османской империи.
25 Ф. Ф. Мартенс, Собрание трактатов и конвенций, заключен-
ных Россией с иностранными державами, т. XI, СПб., 1895, стр. 341 —
343.
26 Турецкое правительство задерживало арестованных еще в
1821 г. сербских депутатов и т. п. (см.: И. С. Г у тки на, Противоре-
чия..., стр. 174).
27 В литературе (В. Б. Луцкий, Новая история арабских стран,
М., 1965, стр. 86; А. Д. Н о в и ч е в, История Турции, т. II, стр. 132;
Н. Giirsel, Tarih boyunca Turk-Rus ili$ikleri, Istanbul, 1968, стр. 83)
отмечено, что Махмуд II, обращаясь к Мухаммеду Али, следовал со-
вету Меттерниха.
28 Tarih-i Cevdet, с. XII, стр. 93; Е. Z. К а г а 1, Osmanh tarihi,
с. V, 3 baski, Ankara, 1970, стр. 115. Современный турецкий историк
проф. Э. 3. Карал является одним из крупнейших представителей
турецкой буржуазно?! исторической науки. Его перу принадлежит
ряд исследований и публикаций документов по новой истории Тур-
ции. Работы Э. 3. Карала не лишены тенденциозности в освещении
190
русско-турецких отношений и внешней политики Порты. Нами ис-
пользовано 3-е издание V тома его обобщенного труда «Османская
история». Ученик Э. 3. Карала и другого известного турецкого исто-
рика, Ф. Армаоглу, Халюк Гюрсель выпустил в 1968 г. свою первую
работу (упомянутую выше) о русско-турецких отношениях в исто-
рическом развитии. Эта работа характеризуется стремлением дать
достаточно общий анализ русско-турецких отношений в связи
с изменением международного положения Османской империи.
29 Е. Z. К а г а 1, Osmanli tarihi, с. V, стр. 115; Ё. D г i a u 11 et
М. Lheritier, Histoire diplomatique..., стр. 323—326.
30 [E.-A. Bet ant], Correspondance du comte J. Capodistrias,
President de la Grece, t. I, Geneve—Paris, 1839, стр. 150—155.
31 Подробнее см.: А. Д. Новичев, История Турции, т. II,
стр. 134—1150-;
32 См.: Е. Driault et М. Lheritier, Histoire diplomatique...,
стр. 359. О пребывании А. И. Рибопьера в Константинополе см.:
«Записки графа Александра Ивановича Рибопьера»,— «Русский Ар-
хив», 1877, № 5, стр. 20—34.
33 Ф. Ф. Мартенс, Собрание трактатов и конвенций..., т. XI,
стр. 355—362.
34 G. Т е m р е г 1 е у, Foreign Policy of Canning, London, 1923,
стр. 403; P. Rolo, George Canning, London, 1965, стр. 234—235.
35 К. Маркс, Война. Парламентские дебаты,— К. М а р к с и
Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 10, стр. 298.
36 АВПР, ф. Канцелярия, 1827, д. 2363, л. 7об. Рибопьер — Нес-
сельроде; 21 августа. Современный турецкий историк Ш. Туран в
статье «Адрианопольский мир», умалчивая об этом заявлении Пер-
тев-паши, пишет, что Порта ответила молчанием на изложение Лон-
донской конвенции, что и послужило причиной уничтожения осман-
ского флота в Наваринской бухте ($. Turan, 1829 Edirne antla$-
masi,— «Ankara Universitesi dil ve tarih cografya fakiiltesi dergisi»,
с. IX, № 1—2, Ankara, 1951, стр. 114).
37 См.: О. Б. Ш п a p о, Освобождение Греции и Россия, М., 1965,
стр. 204—247; В. Б. Луцкий, Новая история арабских стран,
стр. 88—89.
38 Tarih-i Cevdet, с. 12, стр. 217; A. Rasim, Osmanli tarihi,
с. 4, стр. 1847—1848.
39 Tarih-i L u t f i, с. I, Istanbul, 1290 h. (1873), стр. 84—85 (да-
лее—Tarih-i Lutfi). Ахмед Лютфи в первых двух томах своей «Исто-
рии» освещает события 20-х годов с позиций султанского двора,
опираясь на личные наблюдения и документы, которые были в его
распоряжении.
40 Е. Z. К а г а 1, Osmanli tarihi, с. V, стр. Г18.
41 Memoire of the Life of Admiral sir Ed. Codrington, London,
1873, vol. II, стр. 4—14, 55; отчет командующего турецкой эскадры
см.: АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 859, лл. 63—69.
42 См.: Г. Палеолог и М. С и в и ни с, Исторический очерк
народной войны за независимость Греции и восстановление королев-
ства при вмешательстве великих держав России, Англии и Франции,
ч. I, СПб., 1867, стр. 35—36.
43 ЦГАВМФ, ф. 315, оп. 2, д. 64, Исторический журнал эскадры
Л. П. Гейдена, л. 80; В. А. Ляхов, Русская армия и флот в войне
с Оттоманской Турцией в 1828—1829 годах, Ярославль, 1972, стр. 205.
191
44 Данные о числе уничтоженных кораблей расходятся. По дан-
ным исторического журнала эскадры Л. П. Гейдена, потери против-
ника составляли 60 кораблей.
45 А. Р г о k е s с h-0 s t е n, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 126. См. также: M. И. Богданович, Наварин, 1827—-1877, M.,
1877, стр. 60-62.
46 А. Р г o k е s с h-0 s t е n, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 131—133.
47 «Le Spectateur Oriental», 13.XII.1827.
48 О. Б. Ш п a p о, Роль России в борьбе Греции за независи-
мость,— «Вопросы истории», 194*9, № 8, стр. 55.
49 АВПР, ф. Канцелярия, 1824, д. 6939, л. 17.
50 О социально-экономическом характере восточного кризиса и
экономических предпосылках войны 1828—1829 гг. см.: А. В. Ф а-
деев. Россия и восточный кризис..., стр. 184—186.
51 $. Turan, 1829 Edirne antla§masi, стр. 114—115. В Петер-
бурге содержание бэян-наме стало известно в конце января 1828 г.
и было расценено как прямой вызов России (см.: АВПР, ф. Канце-
лярия, 1828, д. 2368, л. 116. Нессельроде — Рибопьеру, 21 марта
1828 г. Перевод с французского текста бэян-наме см.: Н. Лукья-
нович, Описание турецкой войны 1828 и 1829 годов, ч. 2. СПб.,
1844, стр. 303—312. Был опубликован в «Санкт-Петербургских ведо-
мостях», 1828, № 18).
52 АВПР, ф. Канцелярия, 1827, д. 11264, лл. 11—12об. Опубли-
ковано: Н. Лукьянович, Описание..., ч. 2, стр. 327—389.
53 Ф. Ф. Мартенс, Собрание трактатов и конвенций..., т. XI,
стр. 369—370. Нессельроде — Ливену, 6 января 4828 г.
54 А. Р г о k е s с h-O s t е n, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 146 —447. Нессельроде — Ливену, 6 января 1828 г.
55 Там же, стр. 169—170.
56 Там же, стр. 157—163. Дадли — Ливену, 6 марта 1828 г. Ответ
Лондона на меморандум Нессельроде последовал только после по-
лучения в Англии бэян-наме (там же, стр. 165—169. Дадли — Ливе-
ну, 7 марта 1828 г.). Английское правительство предлагало еще раз
попытаться добиться разрешения кризиса на основе второй и третьей
статей Лондонской конвенции. Оно соглашалось веети действия про-
тив турок только в районе архипелага и Пелопоннеса, решительно
возражая против военных демаршей в других частях Османской им-
перии.
57 Memoires, documents et ecrits divers laisses par le prince de
Metternich, t. IV, Paris, 1881, стр. 448—452, Меттерних — Эстергази,
15 марта 1828; см. также: Н. С. Кин я пи на, Русско-австрийские
противоречия накануне и во время русско-турецкой войны 1828—
1829 годов,— «Ученые записки МГУ», вып. 156, 1952, стр. 206—207.
Выдвинутый Меттернихом в марте 1828 г. план признания незави-
симости Греции, ограниченной Мореей (Пелопоннесом) и островами,
был направлен к тому, чтобы не допустить вмешательства России
(см.: Memoires... de Metternich, t. IV, стр. 459—461). Критический
разбор планов независимости Греции см.: И. С. До ст ян, Россия
и Балканский вопрос..., стр. 290—’295.
58 О. В. Василенко, О помощи России в создании независи-
мого греческого государства (1829—‘1831 гг.),— «Новая и новейшая
история», 1959, № 3; [Е.-А. Bet ant], Correspondance du comte
192
J. Capodistrias..., t. II, стр. 129; t. Ill, стр. 188. Письма Каподистрии
адмиралу Гейдену.
59 Имелись в виду задержание судов, продажа товаров по при-
нудительным, заниженным ценам, искусственное снижение курса
рубля, требование ко всем русским либо покинуть Турцию, либо стать
ее подданными, закрытие, наконец, Босфора («Санкт-Петербургские
ведомости», 1828, № 31).
60 Там же.
61 Там же.
62 Содержание письма Нессельроде излагается в статье Ш. Ту-
рана об Адрианопольском мире, но ему придан ультимативный тон,
в действительности для письма не характерный.
63 АВПР, ф. СПб., ГА, 1—9, д. 1127, л. 812. Опубликовано:
Н. Лукьянович, Описание..., ч. 2, стр. 330—333.
64 За шесть дней до объявления войны Николай I сказал ав-
стрийскому посланнику графу Зичи, что война с Турцией неизбежна,
и он сам станет во главе армии, чтобы «быть готовым принять в лю-
бой момент предложения султана, которые тот, возможно, пожелал
бы мне сделать, увидев, что мое решение бесповоротно, а также и
для того, чтобы иметь возможность остановить войска, когда мне это
покажется необходимым. Вести войну я буду не на турецкий манер.
Если истинные намерения Порты состоят в том, чтобы принять мои
требования, я приму ее предложения всякий раз, когда мне их пред-
ставят» (А. Р г о k е s h - О s t е n, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 208).
65 АВПР, ф. СПб., ГА 1—9, д. 1127, л. 812об. Письма великого
везира и вице-канцлера были опубликованы в прессе: «Санкт-Петер-
бургские ведомости», 2.V. 1828; «The Courier», 13.V.1828.
66 Ф. Ф. Мартенс, Собрание трактатов и конвенций..., т. XI,
стр. 378. Эти условия были положены впоследствии в основу проекта-
максимума Адрианопольского договора.
67 О позиции европейских держав в начале войны см.: А. В. Ф а-
деев, Россия и восточный кризис..., стр. 180—184; Н. С. Киняпи-
н а, Внешняя политика России первой половины, XIX в., М., 1963,
стр. 141—1’42.
68 См. сообщения из Константинополя: АВПР, ф. Канцелярия,
1828, д. 854, л. 89, Гентц—Меттерниху, 18 марта; там же, л. 4, Мин-
чаки — Нессельроде, 3 января.
69 Подробнее см.: В. А. Ляхов, Русская армия и флот...,
стр. 97—126. Данное исследование позволило автору специально
не останавливаться на разборе военных действий в Европейской
Турции.
70 X. М. Ибрагимбейли, Россия и Азербайджан в первой
трети XIX века, М., 1969, стр. 216 —224. Наличие этой монографии
позволяет автору избежать рассмотрения специальных вопросов о
военных действиях в Закавказье.
Г лава 1
1 А. Лютфи по поводу этого документа писал: «В соответствии
с обычаем всех государств, одна сторона заявляла о своих претен-
зиях к другой стороне в особых декларациях еще до начала войны.
Россия же в своей Декларации, обращенной к Европе, представляла
13 Зак. 851
193
себя правой, а Османское государство — не правым. Декларация была
составлена таким образом, что в возникновении войны оказалось
виновным османское правительство» (Tarih-i Liitfi, т. 1, стр. 294).
2 О реакции христиан можно судить лишь по замечанию Мак-
Фарлана: «Греки, напротив, были поглощены этим вопросом (изве-
стием о войне.— В. Ш.); они колебались между надеждой и страхом.
Успех их единоверцев мог подать сигнал к массовой резне. Греки
жили довольно спокойно в течение нескольких лет. Они не имели в
городе ни постоянных вооруженных отрядов, ни вооруженного опол-
чения» (Ch. MacFarlane, Constantinople et la Turquie en 1828 et
1829, vol. II, Paris, 1829, стр. 37).
3 A. Slade, Records of Travels in Turkey, Greece in the Years
1829, 1830 and 1831, vol. 1, London, 1833, стр. 303.
4 Ch. MacFarlane, Constantinople et la Turquie..., vol. 2,
стр. 66. Записи в путевом дневнике Макфарлана подтверждались кор-
респонденциями из Константинополя (см.: «The Courier», 14, 17, 22,
25.VI.1825).
5 Отъезд посланников простыми турками был воспринят с пол-
ным равнодушием. «Бесплодные и тягостные переговоры надоели
всем так,— писал В. Фонтанье, посетивший в конце 1827 г. Тур-
цию,—что уже желали разрыва, только бы он привел к какому-либо
исходу. Это настроение в сущности мирных людей было лучшим до-
казательством, к чему привело следование дурному курсу» (V. Fon-
tan i е г, Voyage en Orient, t. 2, Paris, 1829, стр. 335—336).
6 В начале 1828 г. М. Минчаки докладывал вице-канцлеру:
«Турки, кажется, готовятся к любым событиям. Все делается скрыт-
но, без шума. В разные концы империи посланы хатт- и шерифы,
призывающие мусульман взяться за оружие, чтобы защититься в слу-
чае необходимости от неверных» (АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 859,
л. 39. Минчаки — Нессельроде, 30 января 1828 г.).
7 В Египет один за другим мчались гонцы. Султан требовал при-
сылки денег, инструкторов, строевого леса для кораблей (см.: R. Cat-
t а и i, Le regne de Mohammed Ali d’apres les archives Russes en Egyp-
te, Roma, 1937, стр. 219, 246).
8 Tarih-i Liitfi, с. 1, стр. 102—103; ср.: ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996,
ч. 1, лл. 4—4об, 21—21 об.
9 ЦГИА СССР, ф. 673 (И. П. Липранди), д. 378, л. 1—1об.
10 Tarih-i Liitfi, с. 1, стр. 232.
11 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 96; «The Courier», 12,
30. VI. 1828.
12 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 45об.
13 По русским сведениям, Турция располагала армией в 177 тыс.
человек, из них 40 тыс. новой, обученной пехоты. Около 52 тыс. войск
должна была выставить Румелия и 45 тыс.— Анатолия. Пять паша-
лыков от выставления ополчения освобождались — Карс, Ван, Ахал-
цих, Дамаск и Акра. Пашалыки Анатолии обязаны были выставить
в среднем по 1500 солдат каждый, Европейской Турции — по 6—
10 тыс. солдат. Албания должна была прислать 20 тыс. человек
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4475, лл. 1—2об. «Записка о числе войск в Ту-
рецкой империи». Послана Дибичем Витгенштейну 28 июня 1828 г.
Составлена по материалам И. П. Липранди). В европейской прессе
встречались преувеличенные данные о турецких силах. Регулярных
войск — 80 тыс., иррегулярных —* 140 тыс.
194
14 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4413, лл. 7, 17, 22 об. В действительности
2-я армия в мае 1828 г. насчитывала 115 тыс. человек (Н. Епан-
чин, Очерк похода 1829 г. в Европейскую Турцию, ч. 1, СПб , 1905,
стр. 194).
15 «The Courier», 11.VI. 1828.
16 «The Courier», 13.VI.1828.
17 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 16. Донесение из Константи-
нополя 12 -марта 1828 г. Консул России в Александрии Пеццони писал
Рибопьеру, что приход к власти Веллингтона и в Турции, и в Египте
дал новый повод надеяться на углубление разногласий среди союз-
ных держав (R. Cattaui, Le regne de Mohammed Ali..., стр. 194).
18 АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 859, л. 30. Минчаки — Нессель-
роде, 5 января 1828 г.
19 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 40об.
20 «The Courier», 16.VI.11828. Сообщение из Константинополя
19 мая.
21 «Allgemeine Zeitung», 10.VI.1828.
22 А. Лютфи писал, что решение пригласить посланников вер-
нуться было принято по совету австрийского посланника Оттенфель-
са (Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. 109). Письма Пертев-паши посланникам
были опубликованы в прессе (см.: «La Gazette de France», 23.VI.1828).
23 См. донесения из Константинополя за май—сентябрь 1828 т.:
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, лл. 8—59об.; Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. ПО.
24 A. Wellington, Dispatsches, Correspondence and Memoran-
da, vol. IV, London, 1871, стр. 575-—577.
25 R. Cattaui, Le regne de Mohammed Ali..., стр. 218, 2Г9. Op.
A. J. Rus turn, The Struggle of Mehmet Ali-pasha with Sultan Mah-
mud II, Cairo, 1925.
26 См.: Л. С. Семенов, Россия и международные отношения на
Среднем Востоке в 20-е годы XIX в., Л., 1963, стр. 131—132.
27 АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 854, л. 89. Гентц —Меттер-
ниху, 18 марта 1828 г.
28 Там же, д. 859, л. 47. Минчаки — Нессельроде, 30 января
1828 г. Как писал А. Расым, Туркмайчайский мир открыл русским
дорогу в Анатолию и на Дунай (A. Rasim, Osmanh tarihi, с. 4,
стр. 1853).
29 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 4.
30 Там же, л. 40.
31 Там же, л. 118об.: Л. С. Семенов, Россия и международные
отношения..., стр. 132.
32 «The Courier», 16.VI. 1828. Это было предварительное решение
Дивана, собравшегося в неполном составе; оно не было санкциониро-
вано султаном и не означало еще официального объявления войны.
33 АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 859. Минчаки — Нессельроде,
6 мая 1828 г.
34 Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. 292—293.
35 Кечиджизаде Иззет Молла (род. ок. 1768 —ум. 1829)—из-
вестный турецкий ученый и поэт, автор дивана стихов. По некоторым
данным, выступал за мир с Россией в годы войны 1806—1812 гг., за
что был подвергнут ссылке. Позднее был близок к фавориту султана
Халет-эфенди; с 1823 г., после казни последнего, был снова сослан,
Возвращен из ссылки в начале 1826 г.; 21 февраля 1826 г, назначен
хранителем священных городов. За составление приводимой ниже
13*
195
записки сослан в начале 1829 г. в Анатолию и отравлен в Сивасе
незадолго до заключения Адрианопольского мира.
36 L Sungu, Mahmud II-nin Izzet Molla ve Asakir-i Mansure
hakkinda bir hatti,— «Tarih vesikalari», t. 1, № 3, Ankara, 1941—1942,
стр. 162—163.
37 Записку Иззет Моллы см.: Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. 394—<392.
38 Как писал Иззет Молла, сторонники войны говорят: «Они
(греки — В. Ш.) не чужды мысли о том, чтобы увеличить территорию
Греции, присоединив Сербию и Черногорию, и, выйдя из-под влияния
России, создать новое крупное независимое государство с тенденция-
ми к расширению своих пределов».
30 «Упомянутая республика,— считали сторонники войны,—посте-
пенно будет укреплять и расширять свои пределы и строить суда на
всех островах, и, таким образом, морская торговля полностью долж-
на перейти в ее руки. К грекам,— говорили они,—перешла закупка
продовольствия на побережье Османской империи. Известно также,
что, уплачивая низкие таможенные пошлины, они возьмут в свои
руки все дело снабжения продовольствием мусульманского населе-
ния и нанесут очевидный ущерб Высокому престолу и другим ислам-
ским владениям».
40 По мнению тех, кто требовал воевать с Россией и подавить
как можно скорее греческое восстание, создание греческого государ-
ства чревато, в частности, таким осложнением: «Если греки хотя
где-нибудь (на территории Османской империи.— В. Ш.) будут встре-
чать гнет и притеснение и если размах торговли там не будет соот-
ветствовать их интересам, то постепенно они будут перебегать в
греческую республику и число подданных Османской империи умень-
шится».
41 . Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. 402—405.
42 Каких-либо конкретных данных о военном потенциале импе-
рии в записке не сообщалось. Из того, что «одному мусульманину
запрещено, по исламу, бежать от двух врагов», ее авторы делали
вывод, что «если Россия и выставит, собравшись с силами, 200 тыс.
солдат, то разве Османское государство в соответствии с требова-
ниями святого шариата не сможет собрать 100 тыс. солдат». Авторы
записки требовали строго выполнять предписания Корана, а не сеять
недоверие и сомнение среди людей (как это делал Иззет Молла).
43 Турецкий текст манифеста смл Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. 414;
публикацию в Европе см.: С. Lesure, Annuaire historique pour 1828,
Paris, 18129, стр. 127—129.
44 Манифест—ответ Порты — был получен в Петербурге в кон-
це нюня 1828 г. через голландское посольство. Реакция царского пра-
вительства нам неизвестна, никакого ответного заявления на турец-
кий манифест не обнаружено.
45 Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. 292.
46 Т. S с h i е m a n n, Geschichte Russlands unter Kaiser Niko-
laus I, Bd 2, Berlin, 1908, стр. 457—460.
47 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л, 57. Сообщение из Константи-
нополя от 12 июля.
48 Tarih-i Lutfi, с. 1, стр. 296.
«The Courier», 21.VI.1828. Мятежи против новых регулярных
войск вспыхивали в Боснии и Эрзуруме, Шумле и Салониках (Tarih-i
196
Liitfi, с. 1, стр. 240—242, 287; «Gazette de France», 18, 23.VL1828;
«The Courier», 25, 26, 28.VI.1828).
50 В корреспонденции из Константинополя от 14 июня 1828 г.
говорилось, что «„янычарская партия44 стала очень многочисленной,
поскольку лица, с ними связанные и удаленные из Константинополя,
пользуются случаем вернуться в столицу и окрестности под видом
ополченцев» (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 32).
51 Там же, л. 51. Сообщение из Константинополя от 21 июня;
«Санкт-Петербургские ведомости», 21 .VI11.1828; A. Slade, Records...,
vol. I, стр. 305.
52 A. С. E r e n, Mahmud II zamaninda Bosna-Herzeg, Istanbul,
1965, стр. 92—93.
а3 На службе з турецкой армии были австрийские, французские,
пьемонтские, сарданюкие офицеры. Главным инспектором по воору-
жению и обучению войгк был француз Гэйяр; регулярную кавалерию
опекали французы Бюра и Калоссо. Оружейные мастера Руссиер и
Рива наблюдали за изготовлением пороха, пушек и ружей. Пьемонт-
цы инструктировали турецких артиллеристов. Сардинец Боло содей-
ствовал разработке тактических планов военных действий (ЦГВИА,
ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 81; д. 4470, л. 72—74об.; Ch. MacFarlane,
Constantinople et la Turquie..., vol. 2, стр. 183).
54 Подробнее о турецкой армии в 1828—4829 гг. ом.: А. Д. Но-
ви ч е в, История Турции г. II, стр. 160—162; A. Levy, The Officer
Corps in Sultan Mahmud Л New Ottoman Army 1826—1839,— «Inter-
national Journal of Middle East Studies», London, 1971, vol. 2, № 1.
55 Tarih-i Liitfi, c. 2, стр. 44.
50 Там же.
57 Общий разбор боевых операций см.: В. А. Ляхов, Русская
армия и флот..., стр. 107—426.
58 1. Н. U z u п 9 а г § 111, Darendeli Izzet Mehmet-pasa,— «Belle-
ten», с. XXVIII, № 110, Ankara, 1964, стр. 238—240.
59 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4413, л. 122; Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 46.
63 Великий везир потребовал у Иззет-паши объяснений, почему
он сдал крепость. Оправдываясь, Иззет-паша отвечал, что никто не
хотел оборонять крепость. Обвиняя Юсуф-пашу в сговоре с русски-
ми, Иззет-паша писал об этом совещании: «Юсуф-паша сказал: „О
мусульмане, подкрепление не смогло прийти. Видите, спасение на-
ше — в наших руках44. Пока он людей повергал в отчаяние и запу-
гивал их, я выхватил из-за пояса пистолет и сказал ему: „Возьми это
и сперва убей меня, а потом уж пусть будет то, что ты говоришь44.
Но так как он уже привел людей в крайнее возбуждение, группа
женщин кинулась ко мне, крича: „Мы—не рабы твои, сдай кре-
пость!44» Юсуф-паша, сообщает Иззет-паша, получил поддержку
муфтия, казначея и других чиновников, а реакция жителей на его
упорство была очевидна. «И мы,— писал он великому везиру,— согла-
сились с мнением правоверных, учли их бедствия и сдали крепость»
(Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 46; 1. Н. U z u п 9 а г $ 111, Darendeli Izzet
Mehmet-pa^a, стр. 239). Объяснительная записка Иззет-паши велико-
му везиру была составлена в середине октября 1828 г.
61 Сообщение А. Лютфи (Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 49) о том, что
Юсуф-паша передал русским много данных об укреплениях Варны и
это им позволило войти в крепость, документами штаба 2-й армии
(ВУА, дд. 4413, 4398) не подтверждается. Более того, именно Юсуф-
197
паша уже 11 октября добился согласия русского командующего Грей-
га на выход из крепости всех войск с сохранением личного оружия.
Орудия остались в крепости.
62 Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией
(АКАК), т. VII, Тифлис, 1878, стр. 753—754. Паскевич— Нессельро-
де, 22 июля 1828 г. Изложение перехваченных писем Галиб-паши
пашам Карса и Ахалциха: ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 92об. Сооб-
щение из Константинополя, середина февраля 1829 г. Всего, по ту-
рецким данным (Н. Giirsel, Tarih..., стр. 86), Порта имела на Кав-
казском фронте 32-тысячную армию.
63 Подробный анализ военных действий см.: X. М. Ибрагим-
бей л и, Россия и Азербайджан..., стр. 224—237.
64 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4413, лл. 41—42об., 51об. (показания плен-
ных); Ch. MacFarlane, Constantinople et la Turquie..., vol. 2,
стр. 178.
65 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 139.
66 После войны, в начале 30-х годов Порта приняла ряд мер,
чтобы избежать серьезной зависимости от ввоза русского хлеба.
67 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 89. Суда, груженные чаем,
сахаром, кофе, пряностями, шелками и прочими дорогостоящими про-
дуктами питания и обихода, пропускались беспрепятственно. Подроб-
нее см.: «Блокирование Константинополя эскадрой под начальством
контр-адмирала Рикорда»,— «Записки Ученого комитета Морского
штаба», СПб., 1830, ч. 6.
68 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4660, л. 158. Сообщение из Константино-
поля от 16 декабря.
69 Tarih-i Lutfi, с. 2, стр. 63.
70 АВПР, ф. Канцелярия, 18'29, д. 2963, л. 12.
71 В одном из сообщений из Константинополя говорилось: «Под
страхом казни никакой булочник не осмелится продать кому-нибудь
хлеба больше количества, обозначенного на выдаваемом полицией
билете» (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4660, л. 158).
72 Там же; «Le Courrier de Smyrne», 6.ХП.1828 (из города было
удалено 30 тыс. человек).
73 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4723, л. 26. Отчет Атабекова.
74 Т. Y a m a n, Istanbul’un zahire i§lerine dair iki vesika,— «Ta-
rih vesikalari», с. I—V, Ankara, 1942, стр. 342—344.
75 См.: «Санкт-Петербургские ведомости», 15.III, 19 и 22.IV. 1829;
«Le Journal des Debats», 40.111.1829; «The Courier», 21, 22.11.1829.
76 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, л. 51.
77 Там же, д. 4719, л. 131. Сообщение из Константинополя,
1-42 марта 1829 г. На этом месте сообщение прерывается.
78 Там же, д. 4470, л. 5об. Сообщение от 20 декабря — 20 января.
79 Там же, л. Юоб.
80 Там же, д. 4719, л. 99. Сообщение из Константинополя, фев-
раль 1829 г.; там же, д. 4723, л. 26.
81 Tarih-i Lutfi, с. 2, стр. 65.
82 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4723, л. 100. Гейсмар — Киселеву, 28 фев-
раля 1828 г.; там же, л. 20. Милош Обренович — Гейсм ару, 27 марта
1829 г. Ср. «Le Courrier de Smyrne», LIL 1829.
83 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 101. Сообщение из Белграда от
8 марта 1829 г.
84 Турецкие данные были весьма близки к фактическим — около
198
125 тыс. человек (см.: Н. Епанчин, Очерк похода 1829 г. ..., ч. 2,
приложение, стр. 25—27).
85 См.: ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4720, лл. 28—35; там же, д. 4470,
л. 26.
86 Там же, д. 996, ч. 1, л. 209об.
87 Там же, д. 4719, л. 62; Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 70.
88 ЦГАВМФ, ф. 243, on. 1, д. 3161, лл. И, 12, 51-52. Рапорты
Грейга.
89 К. Маркс и Ф. Энгельс. Британская политика.— Дизраэ-
ли.— Эмигранты.— Мадзини в Лондоне,— Турция,— К. М а р к с и
Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 9, стр. 5.— О сражении под
Кулевче см.: Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 73; Г. Мольтке, Русско-турец-
кая кампания в Европейской Турции 1828 и 1829 годов, СПб., 1883,
ч. 2, стр. 95, 141—fl43.
90 М. И. Кутузов, Сборник документов, т. 3, М., 1952, стр. 352.
91 Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 98.
92 В «Истории» А. Лютфи сдача города датируется 21 сафара
(22 августа). Ш. Туран также считает, что город был сдан 22 авгу-
ста. Донесение Дибича царю 9(21) августа 1829 г. не оставляет ме-
ста сомнению: «Государь! Имею счастье повергнуть к стопам в.и.в.
ключи Адрианополя, занятого... вчера в 10 часов утра безо всякой
потери в силу капитуляции, которую я счел нужным заключить для
полного сохранения этого обширного города» (Н. К. Шильдер,
Адрианопольский мир 1829 г. Из переписки графа Дибича, СПб.,
1879, стр. 2).
93 Г. Мольтке, Русско-турецкая кампания..., ч. 2, стр. 78.
94 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4719, л. 566 и сл. Записка А. О. Дюгамеля
о поездке из Константинополя в Эрзурум.
95 G. Keppel, Narrative of a Journey across Balcan etc, vol. I,
London, 1831, стр. 275. В начале века верхняя ставка хараджа рав-
нялась 13, нижняя — 4 курушам.
96 G. К е р р е 1, Narrative..., vol. II, стр. 323.
97 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, лл. 290, 290об., 296.
98 «The Courier», 28.Х.1829.
99 «The Courier», 27.XI.1829; «Le Courrier de Smyrne», 2.X.1829;
сотрудник русской миссии А. П. Бутенев сообщал Нессельроде 2 де-
кабря, что «Кул Мехмед объявил себя защитником всех подданных
султана, которому он верен,— и турок, и христиан, угнетенных и
притесняемых низшими властями». Бутенев сообщал также, что сре-
ди восставших много греков (ЦГАДА, ф. 15, д. 719, л. Зоб.).
100 Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 94. Было собрано около 12 тыс. опол-
ченцев для защиты города, но их вскоре распустили, так как боялись
бунта или даже измены этого воинства, среди которого преобладали
старики да юнцы. Те и другие двинуться не могли под тяжестью ору-
жия («Allgemeine Zeitung», 20.IX.1829).
101 Т. Al cock, Travels in Russia, Persia, Turkey and Greece in
1829, London, 1831, стр. 154.
102 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 262.
103 В июле 1828 г. действительно был раскрыт заговор с целью
поджога города. Были произведены аресты и казни как в гарнизоне,
так и среди населения столицы. В прессе сообщалось, что казнены
были богатые немусульмане, имущество которых отошло казне
199
(«Санкт-Петербургские ведомости», 28.IX.1828; «Le Journal des De-
bats», 20.IX.1828).
104 ЦГВИА, в. ВУА, д. 4470, л. 283, сообщение от 26—30 августа
1829 г.; «Allgemeine Zeitung», 5.Х.1829, сообщение из Константино-
поля 10 сентября; «The Courier», 28.IX. 1829, сообщение от 5 сен-
тября.
105 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 283. Число заговорщиков точно
установить не удалось. По неполным данным, их было до 5 тыс.
106 Там же, л. 283об.; АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963,
л. 201об.; G. Keppel, Narrative..., vol. I, стр. 84—85; A. Slade,
Records..., vol. 1, стр. 370—380; «Le Courrier de Smyrne», 15.IX и
11.X.1829; «The Courier», 17, 26, 29.IX.1829.
107 A. H. Муравьев, Путешествие ко святым местахМ в
1830 году, СПб., ч. 1, 1835, стр. 14.
108 «Allgemeine Zeitung», 25.IX. 1829. Сообщение из Константино-
поля от 5 сентября.
109 Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 89.
110 «Le Courrier de Smyrne», 30.VI11.1829.
1,1 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. Г12—1Г2об., сообщение из
Константинополя от 26 августа; АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963,
л. 196, датский посланник в Константинополе Гюбш—Нессельроде,
29 августа.
112 «Le Courrier de Smyrne», 13.IX.1829.
113 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, л. 203. Гюбш — Нессель-
роде, 1 сентября.
114 К. Маркс и Ф. Энгельс, Британская политика.— Дизра-
эли.— Эмигранты.— Мадзини в Лондоне.— Турция, стр. 6.
115 Н. К. Шильдер, Адрианопольский мир 1829 г. ..., стр. 22.
116 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, л. 76. Нессельроде —
Фонтану, 13 сентября.
117 ЦГАВМФ, ф. 315, оп. 2, д. 66. Исторический журнал 1829 го-
да, лл. 168—169, 176об.
118 Прежний сераскер Галиб-паша был смещен и отправлен в
ссылку за то, что еще осенью 1828 г. направил Порте тахрир — до-
несение, в котором писал о тяжелом положении турецкой армии на
Кавказе и предлагал обратить внимание на чрезвычайную важность
добиться заключения мира с Россией. Как писал А. Лютфи, тахрир
вызвал негодование ряда влиятельных лиц в Константинополе, ко-
торые требовали в особом письме к Махмуду II смещения Галиб-
паши и продолжения войны (Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 76).
119 Arif-bey, Rusya ile 1244 ve 1245 senelerinde vukuabulan
harbe dair bir vesika,—«Revue historique publie par 1’Institut d’His-
toire Ottomane», № 14, Constantinopole, 1912, стр. 886; [H. И. Уша-
ков], История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и
1829 годах, т. 2, СПб., 1836, стр. 12—15.
120 Arif -bey, Rusya..., стр. 887, АКАК, т. VII, стр. 792—797.
Рапорт Паскевича Николаю I.
Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 95—96; АКАК, т. VII, стр. 798—802.
Рапорт Паскевича Николаю I.
122 См.: X. М. Ибрагимбейли, Россия и Азербайджан...,
стр. 237—252.
123 Административное управление городом, население которого
достигало 100 тыс. человек, осуществляли после принятия Паскеви-
200
чем капитуляции прежние турецкие чиновники под наблюдением рус-
ских офицеров (Щербатов, Генерал-фельдмаршал кн. Паскевич,
т. Ш, СПб., 1891, стр. 203; ср. W. Monteith, Kars and Erzouroum
in 1828 and 1829, London, 1856, стр. 277—278).
124 [H. И. Ушаков], История военных действий..., ч. 2,
стр. 250—258; АКАК, т. VII, стр. 823—829. Донесения Паскевича в
Петербург, конец сентября — начало декабря 1929 г.
125 Н. А. X а л ф и и, Борьба за Курдистан, М., 1963, стр. 42. От-
ношение курдов к событиям было неоднозначным. Так, глава кур-
дов-езидов в 1828—1829 гг. обращался к Ф. И. Паскевичу с предло-
жением о совместных действиях против турок (см.: Джалиле
Джалил, Курды Османской империи в первой половине XIX века,
М., 1973, стр. 101—4102).
126 Arif-bey, Rusya..., стр. 891—892; ср. W. Monteith, Kars
and Erzourum..., стр. 296—298; [H. И. Ушаков], История военных
действий..., ч. 2, стр. 276—279.
127 Т. Alcock, Travels..., стр. Г23, 127; J. В esse, Voyage en
Crimee, au Caucase... et a Constantinople en 1829 et 1830, Paris, 1838,
стр. 438.
128 См.: [H. И. Ушаков], История военных действий..., ч. 2,
стр. 281.
129 W. Monteith, Kars and Erzourum..., стр. 298; [А. О. Дю-
гамель]. Автобиография Александра Осиповича Дюгамеля, М.,
1885, стр. 36.
130 Автобиография Александра Осиповича Дюгамеля, стр. 34—35.
131 Arif-bey, Rusya..., стр. 891; АКАК, т. VII, стр. 829.
1132 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. I, л. 51об. Сообщение из Констан-
тинополя от 7 августа 1828 г. Ту же информацию содержали «Санкт-
Петербургские ведомости» от 31 .VIII. 1828.
133 Письмо Каподистрии командующим греческими армиями от
31 мая 18'28 г. (Correspondance du comte de Capodistria, Paris, 1839,
t. II, стр. 133—135; его же письма к адмиралу Гейдену, t. II,
стр. 128—129; t. Ill, стр. 16).
134 Если Франция и особенно Англия настаивали на ограничении
военных действий греков Пелопоннесом, то русская дипломатия со-
ветовала наступать в Северной Греции и «постараться занять как
можно больше областей, чтобы по окончательному разграничению
они могли опереться на принцип „права владения** и выговорить
себе возможно большую территорию» (Г. Палеолог и М. С и в и-
н и с, Исторический очерк..., ч. I, стр. 147—448. Изложение инструк-
ций русским представителем на конференции Рибопьеру и Булгари).
135 См.: В. Б. Луцкий, Новая история арабских стран, стр. 89.
136 После заключения Лондонской конвенции 1827 г. в Лондоне
продолжались консультации представителей трех держав (Англии,
Франции, России) по греческому вопросу. Решение о посылке фран-
цузского экспедиционного корпуса и об усилении английского флота
в Средиземном море было оформлено протоколом Лондонской кон-
ференции от 19 июля 1828 г.
137 См. инструкцию Нессельроде адмиралу Гейдену от 26 августа
1828 г.; Г. Палео лог и М. С и вин и с, Исторический очерк...,
ч. I, стр. 144.
138 Г. Палеолог и М. Сивинис, Исторический очерк...,
ч. I, стр. 145.
201
139 Адмиралу Гейдену было предписано строго наблюдать за
тем, чтобы части Ибрахим-паши не высаживались где-либо на турец-
ком побережье или на Крите, «ибо в противном случае он (Ибрахим-
паша.— В. Ш.) может соединиться с войсками, действующими против
нас» (там же, стр. 144).
140 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 272—273. Декларация от И августа 1828 г.
144 Пертев-паша, поясняя свою мысль, писал: «Все то, что Порта
смогла бы сделать для греков, было бы осуществлено на основе со-
хранения их положения в качестве подданных Османской империи»
(там же, стр. 301).
142 Там же.
143 Там же, стр. 302.
144 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 181. См. также: A. Prokesch-
Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5, стр. 303—304. Текст заяв-
ления Пертев-паши.
145 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 303.
146 Там же.
147 О работе Поросской конференции см.: Е. Driault et
М. L h ё г i t i е г, Histoire diplomatique..., стр. 428—432; Г. Г е р в и-
н у с, История девятнадцатого века, т. 6, СПб., 1888, стр. 395—396.
148 С. С г a w 1 е у, The Question of Greek Independence, Camb-
ridge, 1930, стр. 120.
149 Там же, стр. 118. В течение октября—ноября 1828 г. Вел-
лингтон требовал передвинуть границу Греции как можно ближе к
Коринфу. См.: A. Wellington, Dispatches..., vol. V, стр. 165, 199
и сл.
150 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 307.
151 Сообщение об этом туркам сделал английский консул в Гре-
ции Даукинс. См.: АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 3475, л. 51.
152 И. С. К и н я п и н а, Русско-австрийские противоречия...,
стр. 211—213.
153 По сообщениям из Константинополя, австрийский посол От-
тенфельс пользовался большой «доверенностью» турок, участвовал во
многих совещаниях Порты и Дивана, оказывал влияние на принимае-
мые решения (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 2, л. 51об.).
154 Там же, ч. 1, л. 205об.
155 Там же, л. 184об. В сообщении из Константинополя от 30 ок-
тября 1828 г. по поводу этого решения Дивана говорилось, в част-
ности, следующее: «Члены Дивана обсудили нынешнее положение
и весьма опасаются насчет будущей кампании. Они теперь считают,
что неизбежна потеря Силистрии и Рущука в этой зиме. Если дер-
жавы не вмешаются в дело заключения мира в продолжение зимы
или если весной они не окажут туркам военную поддержку, ничто
не сможет задержать продвижение русской армии, которая, господ-
ствуя на море, может обеспечить своим войскам все необходимое»
(там же, л. 185).
158 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 334.
157 Там же, стр. 342.
158 Там же, стр. 330. Аналогичное заявление Пертев-паша сделал
202
Вуалеконту, ответственному чйновййку французского МИД, который
в октябре—ноябре 1828 г. находился в Константинополе (см.: «Le
Courrier de Smyrne», 22.XI.1828). Вероятно, на решение Порты о пе-
реговорах с Россией оказала определенное влияние мирная группи-
ровка в Диване, которая предлагала отложить решение греческого
вопроса и обсудить вначале условия мира, выдвинутые Россией.
Сообщалось, что после смерти ярого русофоба, автора бэян-наме от
20 декабря 18'27 г. Хюсни-бея активность «мирной партии» возросла
(ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 183; ср. «Le Journal des Debats»,
16.1.1829).
159 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 339.
160 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 11886, л. 16об. Нессельроде —
Татищеву, 26 января.
161 Протокол и другие документы конференции от 16 ноября
1828 г. см.: A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 342—352 (в оригинале); Г. Палеолог и М. Сивинис, Ис-
торический очерк..., приложение № 37 (русский перевод).
162 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 20—21об. Сообщение из Кон-
стантинополя не позднее 10 декабря 4828 г.
163 Там же, л. 20об.-
164 О предложении Меттерниха созвать конгресс, который дол-
жен был вырвать из рук России инициативу в решении греческого
вопроса и подорвать ее влияние среди балканских народов, отверг-
нутом всеми державами, см.: А. В. Фадеев, Россия и восточный
кризис..., стр. 274—275.
165 Подробнее об этом предложении Англии и Франции, отверг-
нутом в ноте Нессельроде от 15 декабря 1828 г., см.: Ф. Ф. Мар-
тенс, Собрание трактатов и конвенций..., т. IV, ч. I, стр. 400.
166 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 209об.
167 Донесения из Константинополя, содержавшие сведения об
этих планах (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 996, ч. 1 и 2, декабрь 1828 — ян-
варь 1829 г.), подтверждались рядом статей в «Курьере Смирны» в
декабре 1828 — феврале 1829 г. Газета призывала к победе в «на-
вязанной Россией несправедливой войне», призывала «укреплять
дружбу с Англией и Францией и проводить реформы шире и сме-
лее». «В войне с Россией,— говорилось в номере от 25 января
1829 г.— турки получили доказательство необходимости реформ, ко-
торые султан будет проводить со всей решимостью».
168 В донесении из Константинополя от 16 декабря 1828 г. чи-
таем: «Полагают, что султан злополучия настоящей эпохи искусно
обращает в свою пользу твердостью характера, решимостью к про-
должению войны и убеждениями своими к народу, что ратоборству-
ет за пророка и за прародительский удел. Махмуд обезоружил через
то внутренних многих тайных своих врагов, привлек к себе доверен-
ность и уважение народа, жертвующего для общего блага» (ЦГВИА,
ф. ВУА, д. 996, ч. 1, л. 201).
169 «Le Courrier de Smyrne», 16.1.1829.
170 См.: Л. С. Семенов, Россия и международные отноше-
ния..., стр. 136—137.
171 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4470, л. 70об.; Tarih-i Lutfi, с. 2,
стр. 20—21.
203
АВПР, ф. Посольство в Париже, оп. 524, д. 86, л. 244—245;
Архив Раевских, т. I, СПб., 1908, стр. 435.
173 И. О. Попова, Грибоедов-дипломат, М., 1964, стр. 202, 204,
По поводу сведений о возможном союзе между Портой и Тегераном
Нессельроде писал: «Последние известия из Константинополя гово-
рят о появлении в этой столице посланника персидского шаха. Га-
зеты приписывают ему задачу предложить султану союз наступа-
тельный и оборонительный против России. В то же время генерал
Паскевич уведомляет нас, что Хозрев-Мурза, сын Аббас-Мурзы, при-
был в Тифлис с целью принести объяснения и извинения тегеранско-
го двора по поводу убийства г-на Грибоедова... Последний факт
представляет контраст слишком поразительный по сравнению с но-
востями из Константинополя, чтобы мы могли оказать им слепое
доверие. Впрочем,— писал вице-канцлер,— надо надеяться, что новый
успех генерала Бурцова над турками в Ахалцихе прекратит враж-
дебные намерения Персии, если они в самом деле существуют. Един-
ственное удовлетворение, требуемое императором, получено в виде
присылки принца крови, и не существует более повода для разрыва
сношений между двумя державами» (АВПР, ф. Посольство в Па-
риже, оп. 524, д. 86, лл. 13—14об. Нессельроде — Поццо-ди-Борго,
18 июня 1829 г.).
174 Ed. Ellenborough, A Political Diary, 1828—1830, vol. 2,
London, 1881.
175 Содержательный анализ позиций великих держав в греческом
вопросе в данный период см.: И. С. Д о с т я н, Россия и Балканский
вопрос, стр. 282—308.
176 А. Де би дур, Дипломатическая история Европы, М., 1947,
т. I, стр. 281—-282.
177 A. Wellington, Dispatches..., vol. 5, стр. 408—409, 417.
А. Веллингтон — Абердину, 1 января 1829 г. и 3 января 1929 г.
178 АВПР, ф. Посольство в Париже, оп. 524, д. 92, л. 17. Поццо-
ди-Борго— Нессельроде, 10 февраля 1829 г. Изложение депеши см.:
С. С. Татищев, Внешняя политика императора Николая первого.
Введение в историю внешних сношений России в эпоху Севастополь-
ской войны, СПб., 1887, стр. 185—192.
179 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5,
стр. 367—371.
180 ~-Там же, стр. 370.
181 Там же, стр. 368.
182 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, д. 190. Абердин — Коули,
22 февраля 1829 г.
183 АВПР, ф. Посольство в Вене (полит.), д. 3, л. 16.
184 Memoires... de Metternich, t. IV, стр. 563—580. Инструкция
Фикельмону.
185 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 192. Пурталис — Мон-
моранси, 1 февраля.
186 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 5.
стр. 373.
187 Подробнее см.: В. И. Шеремет, Международное положе-
ние Османской империи в начале войны с Россией 1828—1829 гг.,—
«Проблемы рабочего движения и международных отношений», Л.,
1969, стр. 163—185.
204
188 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, л. 12. Гюбш — Гейдену,
15 февраля 1829 г.
189 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 447С, л. 11; там же, д. 996, ч. 2, л. 51об.
190 «The Courier», 10.11.1829. Сообщение из Турции от 9 января
1829 г.
191 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, л. 12—14, Гюбш —Нес-
сельроде, 26 апреля.
192 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles.., Bd 6,
стр. 54—58.
193 Как сообщал Нессельроде Поццо-ди-Борго, король Франции
Карл X говорил, что считает Гильемино в равной степени послом
и Франции и России и поручает ему копии депеш направлять в Па-
риж и Петербург, а в Константинополе представлять интересы Рос-
сии, даже если придется действовать без согласования с Гордоном
(АВПР, ф. Посольство в Париже, оп. 524, д. 78, л. 128). Как писал
С. М. Соловьев в статье «Восточный вопрос» (Собрание сочинений,
стр. 946), Гильемино должен был уравновесить в благожелательном
для России плане воздействие Гордона и посла Австрии Оттенфель-
са на Порту.
194 АВПР, ф. Посольство в Париже, оп. 524, д. 78, л. 123. Изло-
жение инструкций Гордону и Гильемино. Как писал корреспондент
«Курьера», «Порта выражала большое удовлетворение по поводу
личностей послов. Гильемино в течение нескольких лет занимал пост
посла Франции в Константинополе, понимал, как считали в Порте,
интересы Турции и, как надеялись, вполне сочувствовал туркам».
Особые надежды в правящих кругах Турции возлагали на англий-
ского посла Р. Гордона, брата министра иностранных дел Абердина
(«The Courier», 10.VI.1829). Русский дипломат Матушевич писал о
Гордоне: «Это порядочный человек, но весьма посредственный. Турок
пс принципу и австриец, вследствие того обожания, которое князь
Меттерних вселил к себе всей этой семье...» (Ф. Ф. Мартенс, Со-
брание трактатов и конвенций..., т. XI, стр. 395).
195 Текст ноты см.: Gabriel effendi Noradounghian,
Recueil d’actes internationaux de 1’Empire Ottoman, t. 2, Paris, 1900,
стр. 160—164. В сборнике собраны договоры, конвенции, ферманы,
бераты, различная переписка Порты преимущественно по междуна-
родному положению Османской империи. Составитель был советни-
ком турецкого правительства по международному праву.
196 15 августа Нессельроде писал Татищеву в Вену, что «нота
Гордона и Гильемино Пертев-паше произвела здесь, в Петербурге,
тягостное впечатление своей незначительностью» (АВПР, ф. Канце-
лярия, 1829, д. 11886, л. 138).
197 Проект хатт-и шерифа, помеченный 10 мухаррама Г245 г. х.
(середина июля 1829 г.), см.: A. Prokesch-Osten, Geschichte des
Abfalles..., Bd 6, стр. 59—63.
198 ЦГАДА, разряд XV, д. 301, ч. 2, л. 62. Татищев — Нессельро-
де 31 июля 1829 г. Сообщение из Константинополя.
Глава Л
1 Проект мирного договора, завершенный в 20-х числах апреля
1829 г., подготовил видный специалист в области российской и меж-
дународной юриспруденции статс-секретарь Д. В, Дашков, парад-
205
лельно работавший над статусом Дунайских княжеств. «Работа над
проектом трактата,— писал он,— по сути дела состоит в том, чтобы
включить в него существенные статьи, рассыпанные по прошлым до-
говорам, начиная с Кайнарджийского. Ожидается, что мое сообще-
ние будет содержаться в большом секрете» (АВПР, ф. Канцелярия,
1829, д. 2945. Дашков — Нессельроде, 9 мая).
2 Там же, д. 2968, л. 17об.
3 Там же, л. 20об.
4 Там же, л. 27. Объяснения к проекту договора были написаны
К. В. Нессельроде.
5 «Многочисленность этих документов,— говорилось в объясне-
ниях,— которые более не представляют в своей совокупности доста-
точно ясности и точности, чтобы избежать недоразумений и дурного
их толкования, составляет существенное неудобство, что именно это
и подсказало министерству мысль исправить все эти конвенции и
использовать будущее замирение, чтобы составить на их основе одну
общую конвенцию» (там же, л. ЗОоб.).
6 Там же, лл. 32—33. Все эти и некоторые другие положения
вошли в Особый акт Адрианопольского договора о Дунайских кня-
жествах.
7 Lettres et papiers du vice-chancelier comte de Nesselrode, t. VII,
Paris, [1908], стр. 111.
8 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, лл. 41об.—42.
9 Там же, л. 42об.
10 Там же, лл. 76—76об.
11 Там же, л. 68.
12 Там же, л. 77.
13 И. С. Д о с т я н, Россия и Балканский вопрос..., стр. 238—326.
14 «Русская старина», 1881, т. 32, стр. 572—574. Дибич — Нико-
лаю I, 14 июня 1829 г.
15 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, л. Моб. Рапорт Фонтона
Дибичу.
16 Там же, л. 15об.
17 ЦГАДА, разряд XV, д. 681, ч. 1, л. 98. Дибич — Нессельроде,
20 июня 18'29 г.
18 Там же, лл. 98, 137—139. Дибич — Нессельроде, 20 июня, 12
и 13 августа 1829 г.; АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, лл. 87об,
91. Нессельроде—Дибичу, 30 июня и 2 июля 1829 г.
19 «Русская старина», 1881, т. 32, стр. 574. Дибич — Николаю I,
14 июня 1829 г.
20 Tarih-i Liitfi, с. 2, стр 85.
21 Там же, стр. 85—86.
22 «The Courier», 24.VIII. 1829. Корреспонденция от 30 июля.
23 Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 86; АВПР, ф. Канцелярия. 1829, д. 11886,
л. 44об.
24 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 11886, л. 44. Татищев — Нес-
сельроде, 24 августа. Однако Порта скрыла даже от «вполне дове-
ренного» Оттенфельса содержание переговоров под Шумлой.
«...Реисулькюттаб, которого австрийский посол спросил о характере
и ходе переговоров, по слухам, начавшимся в расположении войск,
сообщил ему по этому поводу, что Порта отнюдь не была намерена
подтверждать Аккерманскую конвенцию, но выдвинула требование
рести переговоры не иначе, как на основе Бухарестского мира»
2Q6
(A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 6, стр. 83).
25 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 6,
стр. 69—76.
26 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, л. 24—24об. Текст письма.
27 Там же, д. 2968, л. 87об. Нессельроде — Дибичу, 2 июля.
28 Там же, л. 26. Дибич — Решид-паше, 10 августа 1829 г.
29 ЦГАДА, разряд XV, д. 681, ч. 1, л. 137. Дибич — Нессельроде,
12 августа 18'29 г.
30 Ссылаясь на переписку европейских представителей в Кон-
стантинополе в августе 1829 г., С. С. Татищев высказывал мысль,
что Порта стремилась заключить мир на условиях Бухарестского
трактата 1812 г., избежав тем самым Аккерманского соглашения
(С. С. Татищев, Внешняя политика императора Николая перво-
го..., стр. 206).
31 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 91об. Ливен — Нессель-
роде, 4 сентября. Ср.: A. Prokesch-Osten, Geschichte des Ab-
falles..., Bd 6, стр. 82—86. Изложение беседы Пертев-паши с послами.
32 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 92.
33 Там же, л. 93. Ливен — Нессельроде, 4 сентября 1829 г. Ср.:
F. Muffling, Narrative of my Missions to Constantinople and St.
Petersburg in the Years 1829 and 4830, London, 1855, стр. 34—35.
Эти «достоверные сведения» были основаны на сообщениях француз-
ского посла в Берлине графа Агу, который из приезда Николая I в
Пруссию и его громогласных заявлений об «умеренности» в требо-
ваниях к Турции сделал ошибочный вывод, что Россия будет доволь-
ствоваться одной Анапой в качестве возмещения военных расходов.
34 Положение во 2-й армии было действительно тяжелым, но
20-тысячная русская армия в европейской Турции представляла ре-
альную силу.
35 Посол России в Лондоне Ливен в ответ на запрос Абердина
официально заявил, что царское правительство не уполномочивало
Гильемино выступать ни с какими заявлениями по поводу мира с
Турцией и «считает его поведение более чем странным» (АВПР,
ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 93об. Ливен — Нессельроде, 4 сен-
тября). Как писал С. М. Соловьев (Собрание сочинений, стр. 946),
Карл X заявил Поццо-ди-Борго, что Гильемино должен «уравнове-
сить» влияние Гордона и Оттенфельса на Порту и своей деятельно-
стью в Константинополе помогать русской дипломатии. Как мы ви-
дим, однако, реальная деятельность Гильемино расходится с заяв-
лением Карла X. Особая линия, которой следовал французский пред-
ставитель в Константинополе, была связана с дипломатической под-
готовкой захвата Алжира. На эту сторону деятельности Гильемино
обратил внимание турецкий историк Эрджюмент Куран (см.: Е. Ku-
ran, Cezayirin Fransizlar tarafindan i§gali karsisinda osmanh siya-
seti. 1827—4847, Istanbul, 1957).
36 В июне 1829 г. Николай посетил своего тестя короля Пруссии
Фридриха-Вильгельма III, который предложил направить в Констан-
тинополь начальника генерального штаба Пруссии генерала Мюфф-
линга и через него убедить султана и Порту немедленно приступить
к мирным переговорам с Россией. Мюффлинг прибыл в Константи-
нополь 4 августа 1829 г.
37 F. Muffling, Narrative..., стр. 46—47; F. Muffling, Aus
mein^m Leben, Berlin, 1851, стр. 320. Ввиду некоторых пропусков в
207
английском переводе мемуаров Мюффлинга ссылки далее даются и
на немецкое издание, и на его английский перевод. Во избежание
тройного перевода переписка на французском языке цитируется по
берлинскому изданию.
38 6 августа 1829 г. Нессельроде писал Татищеву в Вену:
«Мюффлинг отнюдь не уполномочен передавать наши условия ми-
ра туркам, он их даже не знает. Миссия его не имеет другой цели,
как сообщить Порте о личных стремлениях императора к миру, ко-
торые е. в-во объявил королю Пруссии, а также убедить турок
немедленно послать представителей в русскую ставку» (АВПР,
ф. Канцелярия, 1829, д. 11886, л. 128).
33 Там же, д. 2963, л. 166об. Гюбш — Нессельроде; «Tfie Courier»,
3.IX.1829. Корреспонденция из Константинополя от 8 августа.
40 Там же, л. 167. Сообщение Гордона о том, что Порта при-
знает Лондонскую конвенцию и мартовский протокол, было исполь-
зовано британским кабинетом для того, чтобы убедить Россию и
Францию, что никакие новые постановления о Греции теперь уже не
должны быть приняты (АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 137.
Ливен — Нессельроде, 18 сентября).
41 Текст ноты на французском языке см.: F. Muffling, Aus
meinem Leben, стр. 392—394.
42 Там же, стр. 394—395.
43 Tarih-i Lutfi, с. 2, стр. 87.
44 Правящие круги во главе с султаном были готовы на извест-
ные жертвы ради этого перемирия. Оттенфельс, пользовавшийся, как
отмечалось выше, доверием реисулькюттаба и поэтому располагав-
ший достоверной информацией, сообщил Меттерниху в начале ав-
густа 1829 г.: «Здесь очень надеются на подписание прелиминарий
и на остановку русских на занимаемой позиции. Если бы гр. Дибич
рассматривал в качестве цены за эту уступку оккупацию Шумлы,
этого было бы нетрудно добиться» (АВПР, ф. Канцелярия, 1829,
д. 11885, л. 98. Приложение к депеше Татищева к Нессельроде от
16 сентября).
45 Мюффлинг сообщил Дибичу условия Порты в письме от
17 августа 1829'г.
46 F. Muffling, Narrative..., стр. 82—83; F. Muffling, Aus
meinem Leben, стр. 343.
47 Gabriel effendi Noradounghian, Recueil..., t. 2,
стр. 164—465.
48 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, лл. 48, 49.
43 Клер и Панцир имели указание доставить письмо Дибичу
прежде, чем он войдет в Адрианополь. Что-то задержало их в пути,
и они прибыли в Адрианополь утром 20 августа, когда Фонтон уже
уточнял с мухафызом (комендантом) последние детали вывода ту-
рецких войск из капитулировавшего города. Мухафыз получил 19 ав-
густа приказ Порты добиться, чтобы капитуляция была отложена
на три-шесть дней, однако Дибич ультимативно потребовал немед-
ленной сдачи города.
50 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, л. 59. Мюффлинг — Ди>
бичу, 17 августа.
51 Там же, л. 69.
52 Н. К. Шильдер, Адрианопольский мир 1829 г. ..., стр. 6.
Дибич — Николаю I, 21 августа 1829 г. 23 августа 1829 г. Дибич на-
208
правил ответное письмо Гордону и Гильемино. В письме говорилось,
что Россия уже в начале войны объявила условия мира и дважды
проявила мирную инициативу, которая не была поддержана Портой.
«Сейчас перед нами нет турецкой армии,— писал Дибич.— Русские
войска овладели обширной территорией от Балкан до Адрианополя,
тогда как гр. Паскевич занял Эрзурум. Порта в нынешних обстоя-
тельствах может рассчитывать на великодушие императора и не
обманется в своих надеждах, но не имеет никакого основания и ни-
какого права выдвигать свои условия». В заключение Дибич выска-
зал готовность вступить в переговоры с турецкими представителями,
если они будут иметь достаточные полномочия (АВПР, ф. Канце-
лярия, 1829, д. 2967, л. 55об.). В тот же день Дибич ответил Мюфф-
лингу. Он повторил все, что писал послам, и в конце письма под-
черкнул, что требование контрибуции и четырех крепостей на Кавка-
зе будет непременным условием русской стороны на переговорах
(там же, л. 56).
53 $. Turan, 1829 Edirne antla^masi..., стр. 123, Датский послан-
ник Гюбш высказывал, впрочем, большое сомнение в том, что Тахир-
эфенди действительно заболел, а не испугался трудности своей мис-
сии.
54 A. S 1 a d е, Records..., vol. 1, стр. 380.
55 Там же, стр. 377.
56 F. М й f f 1 i n g, Narrative, стр. 79.
57 После заключения мира Мехмед Садык-эфенди был сослан в
Багдад, но по дороге умер, видимо, отравленный.
53 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, л. 197. Гюбш — Нессель-
роде, 17 августа. Мюффлинг писал, что Садык-эфенди согласился
участвовать в переговорах лишь с кем-нибудь из видных улемов
(F. М й f f 1 i n g, Narrative..., стр. 90).
59 Абдулкадыр-бей избежал участи своего коллеги. Вплоть до
кончины в 1845 г. он занимал высокие посты в мусульманской ду-
ховной иерархии.
60 Сообщая, что «Пертев-паша беспрестанно обращал свои взо-
ры в сторону англичан», Гюбш в августе 1829 г. писал вице-канцле-
ру России: «Английский посол Гордон пользуется большим влиянием
на реисулькюттаба, который во всем с ним советуется» (АВПР,
ф. Канцелярия, 18'29, д. 2963, л. 172).
61 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 6,
стр. 97—99.
62 Там же, стр. 99—100. Текст письма послов Дибичу.
63 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 11885, л. 114. Татищев — Нес-
сельроде, 18 сентября (ссылался на австрийское посольство в Тур-
ции); там же, д. 2963, л. 196об. Гюбш — Нессельроде, 26 августа;
Correspondence de Capodistria, III, стр. 287. Каподистрия—комен-
данту Райко, 12 сентября 1829; F. М й f f 1 i n g, Narrative..., стр. 91
и др.
64 «Le Courrier de Smyrne», 30. VI11.1829. Кюстер говорил Ди-
бичу, что он лично видел в инструкциях турецким представителям
пункт, разрешавший уступить всем требованиям России.
65 Н. К. Шильдер, Адрианопольский мир 1829 г. ..., стр. 14.
66 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, лл. 90—91об.
67 Акты, собранные Кавказской Археографической экспедицией,
т. VII, Тифлис, 1878, стр. 785—786.
14 Зак. 851
209
68 ЦГИА, ф. Общая канцелярия, оп. 22, д. 17, лл. 1—2об.
69 См.: Л. С. Семенов, В. И. Шеремет, Внешнеэкономиче-
ские связи Турции эпохи Крымской войны,— «Вестник ЛГУ», вып. 14,
1972.
70 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 3001. Отчет МИД за 1828—
1829 гг., л. 29об.
71 Н. К. Шильдер, Адрианопольский мир 1829 г. ..., стр. 14.
72 Там же, стр. 9.
73 Когда Дибич подходил к Адрианополю, Халиль-паша сооб-
щил в Константинополь, что у Дибича 40-тысячная армия.
74 А. Слейд в записях за август 1829 г. отмечал, что европей-
ские дипломаты не знали истинного положения дел на театрах войны
и черпали информацию, носившую часто панический характер, из раз-
ных источников (A. Slade, Records..., vol. 2, стр. 79—88). «Состоя-
ние русской армии было плохо известно в Константинополе,— писал
Мюффлинг.—Турки же обходили этот вопрос молчанием» (F. М u f f-
ling, Narrative..., стр. 36). Современный турецкий историк А. Н. Ку-
рат пишет, что в столице царила настоящая паника; по слухам,
к Константинополю шла 100-тысячная армия (A. N. Kura t, Tiirkiye
ve Rusya, Ankara, 1970, стр. 57).
75 «Фельдмаршал граф И. Дибич в его воспоминаниях, запи-
санных в 1830 г. бароном Тизенгаузеном»,— «Русская старина», 1891,
т. 70, стр. 51.
76 Н. К. Шильдер, Адрианопольский мир 1829 г. ..., стр. 22.
Николай I —Дибичу, 12 сентября 1829 г.
77 Там же, стр. 331. О международном и внутреннем положении
России накануне Адрианопольского мира см.: А. В. Фадеев, Рос-
сия и восточный кризис..., стр. 329—331; Н. С. К и н я п и н а, Внеш-
няя политика России..., стр. 96—150.
78 В. Д. Ко но беев, Национально-освободительное движение
в Болгарии в 1828—4830 гг.,— «Ученые записки Института славяно-
ведения», т. XX, 1960, стр. 257—266; В. Я- Г р о с у л, Молдово-ва-
лашские добровольцы в русско-турецкой войне в 1828—18'29 гг.,—
«Ученые записки Кишиневского университета», № 73, 1964, стр. 16—
19; И. Мещерюк, Переселение болгар в Южную Бессарабию.
1828—1834 гг., Кишинев, 1965, стр. 30—63.
79 См.: П. И. Л и п р а н д и, Особенности войн с турками, СПб.,
1877, стр. 146 и сл.
80 Приказ Дибича от 2 августа 1829 г. цит. по: В. Д. Коно-
беев, Национально-освободительное движение в Болгарии...,
стр. 263. Статья В. Д. Конобеева носит глубокий исследовательский
характер и богато насыщена документальным материалом об отно-
шении царского правительства к освободительному движению в Бол-
гарии, о характере этого движения.
81 АВПР, ф. СПб., ГА 1—9, 1829, оп. 8, д. 2, п. 8, л. 2.
92 Соогветствующи* указания были направлены Дибичу в начале
июня 1829 г.
83 В конце октября 1828 г. между царской администрацией в
Дунайских княжествах и представителем сербского князя Милоша
Обреновича было достигнуто письменное соглашение о том, что серб-
ские войска будут находиться под Видином и Калафтом «единствен-
но для отвлечения внимания турок, крепости занимающих, но от-
нюдь не производить против них открытого нападения» (АВПР,
210
ф. СПб., ГА 1—9, 1829, д. 4, л. 414 об. Пален — Нессельроде, 2 ноя-
бря 18'28 г.). В начале февраля 1829 г. командующему 2-й армией
было приказано подготовить оружие для сербов, сделать соответ-
ствующие распоряжения по армии о взаимодействии с сербскими
войсками и ожидать дополнительного приказа из Петербурга о при-
зыве сербов к восстанию против Порты. Однако царское правитель-
ство так и не решилось призвать сербов к оружию (ЦГВИА, ф. ВУА,
д. 4728, л. 7. Дибич — Витгенштейну, 2 февраля 1829 г.; там же,
л. 39. Чернышев — Дибичу, 28 февраля 1829 г.; там же, л. 41об.
Нессельроде — Чернышеву, 20 апреля 1829 г.). Турецкий исследова-
тель А. Эрен отмечает, что Махмуд II весьма опасался выступления
сербов. Он также пишет, что Милош Обренович воспрепятствовал
проходу корпуса боснийского вали на Дунайский театр через тер-
риторию Сербии (А. С. Е г е п, Mahmud II zamamnda..., стр. 100—
101).
84 Н. К. Шильдер, Адрианопольский мир 1829 г. ..., стр. 10.
85 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, л. 142об. Нессельроде —
Дибичу, 13 сентября.
88 См. письма царя к Дибичу в августе — сентябре 1829 г.
(«Русская старина», 1877, т. 19, стр. 86 и др.).
87 Ш. Туран пишет, что в турецких архивах этого документа он
не нашел ($. Turan, 1829 Edirne antla^masi..., стр. 125). См.
АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, лл. 79—80об. Дибич — Нессель-
роде, 5 сентября.
88 Об этом сообщает находившийся в Адрианополе племянник
драгомана штаба Дибича Ф. П. Фонтон (Ф. П. Фонтон, Воспоми-
нания, Лейпциг, 1862, стр. 120).
89 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, лл. 85—89.
90 Там же, д. 8517. «Протоколы Адрианопольских мирных конфе-
ренций», л. 1 — 1об. Протокол конференции 2 сентября, лл. 2—16об.
Общую обстановку переговоров давал в своих воспоминаниях де-
журный генерал штаба Дибича А. И. Михайловский-Данилевский.
Однако записки генерала проникнуты высокомерным, зачастую пре-
небрежительным отношением к турецким представителям, и сам ход
переговоров предстает в искаженном виде, умаляющем огромную
работу, проведенную представителями обеих договаривающихся сто-
рон.
91 Там же, Протокол Адрианопольской мирной конференции от
3 сентября 1829 г., лл. 18об.—21об.
92 До отъезда из Константинополя Мехмед Садык-эфенди по-
лучил указание Порты, сохранявшееся в тайне от послов европей-
ских держав, передать России Молдавию и часть Валахии в обмен
на отказ от контрибуции. Если бы такая замена не была принята
русской стороной, Мехмед Садык-эфенди и Абдулкадыр-бей должны
были добиваться уменьшения размеров контрибуции и удлине-
ния сроков платежей ($. Turan, 1829 Edirne antla§masi...,
стр. 126).
93 Большая работа по сбору и анализу материалов о политике
России в Молдавии и Валахии проделана В. Я. Гросулом. См. его
работу: «Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20—30-е годы
XIX в.)», М., 1966.
94 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, лл. 204об.—205. Гюбш —
Нессельроде, 11 сентября.
14* 211
95 Tarih-i Liitfi, c. 2, стр. 105; ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1033, л. 2-
2об. Сообщение из Константинополя от 1—16 сентября 1829 г.
96 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, ч. 1, лл. НО—112. Из
отчета Ройера Фридриху-Вильгельму III, 9 сентября.
97 Там же.
98 Там же, д. 7003, л. 137. Ливен — Нессельроде, 18 октября.
99 Там же, лл. 204—204об., 211—211об. Ливен — Нессельроде,
13 и 25 октября 1829 г.
100 Как сообщал из Константинополя датский посланник Гюбш,
именно «Гордон подсказал туркам мысль послать Ройера в Адриа-
нополь до того, как будет подписан мир, и просить русских сделать
смягчение в проекте договора» (АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963,
л. 228. Гюбш — Нессельроде, 12 октября).
101 Там же, д. 2967, ч. 1, л. 273. Ройер — Гордону, 13 сентября
1829 г. Сообщая в Петербург сведения, полученные через австрий-
ское посольство в Константинополе, русский посол в Вене Татищев
писал: «В турецком правительстве опасаются, что наличие в догово-
ре статьи о контрибуции неминуемо вызовет восстание против сул-
тана» (там же, л. 107об.).
102 Там же, лл. 116—Нбоб. Гордон и Гильемино — Дибичу, 7 сен-
тября 1829 г.
103 Gabriel effendi Noradounghian, Recueil..., t. 2,
стр. 165. Текст декларации Порты послы направили Дибичу 9 сен-
тября 1829 г.
104 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, л. 117. Нессельроде —
Дибичу, 24 августа.
105 Там же, л. 17об.
106 Там же, л. 119. Депеша Нессельроде была получена в Адриа-
нополе 6 сентября. Орлов и Пален ознакомились с ней до начала
второго этапа переговоров.
107 Там же, л. 135. Нессельроде — Дибичу, 9 сентября 1829 г.
1М Там же, л. 136об. (та же депеша). 9 сентября Николай I в
письме к Дибичу писал: «Какое решение ни было бы принято по-
сланниками в Константинополе, ни на какую иную границу, кроме
Арты и Воло, я не соглашаюсь» (Н. К. Шильдер, Адрианополь-
ский мир 1829 г. ..., стр. 20).
109 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, лл. 210—213, 216—219об.
Депеши Нессельроде — Дибичу.
110 Там же, л. 216. Нессельроде—Дибичу, 22 сентября.
111 Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 105—106.
112 $. Turan, 1829 Edirne antla§masi..., стр. 130—131.
113 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, ч. 1, л. ЮОоб. Ройер —
Дибичу, 10 сентября. -Поясняя свою мысль, реисулькюттаб говорил
Ройеру: «Оглашение огромных размеров контрибуции означало бы.
по мнению турок, что Порта стала данником России, и этим обстоя-
тельством не преминули бы воспользоваться враги султана».
114 Милош Обренович 20 августа 1829 г. писал Дибичу, что Му-
стафа-паша уверил его, Обреновича, в готовности вступить в пере-
говоры с Россией и в доказательство мирных намерений приказал
своим войскам в случае падения Константинополя выбить турецкий
гарнизон из Видина и передать его сербам. «Сам он,— писал Обре-
нович,— занимается планами в случае падения престола османского
провозгласить себя начальником Албании, присовокупляя, что Нису
212
и Софию нам уступит, если я сходатайствую у в. с-ва самовластие
в его отечестве, на какой случай готов он е. и. в-ву и подать требуе-
мую заплатить. Все ему подручные паши обязались присягою на при-
знание его своим начальником» (АВПР, ф. Канцелярия, 1829, л. 123).
Петербург, однако, отнюдь не желал таких крутых перемен на Бал-
канах и отверг эту идею.
115 Последовательная и гибкая позиция турецких представителей
на переговорах, подтверждаемая документами — протоколами пере-
говоров, опровергает не подтвержденное мнение современного турец-
кого историка Т. Инала о якобы инертности Садык-эфенди и Абдул-
кадыр-бея, предававшихся курению кальяна с опиумом, а потому
легко «обойденных» русскими дипломатами (см.: Т. О n а 1, 1700-den
1958-е kadar tiirk siyasi tarihi, Ankara, 1958).
116 АВПР, ф Канцелярия, 1829, д. 8517. Протокол заседания от
12 сентября, лл. 43—59.
117 Там же, д. 2967, ч. 1, л. 128—128об. Дибич — Нессельроде,
15 сентября; л. 173—173об. Ройер — Гордону, 15 сентября.
118 Известно, что состоялось всего четыре заседания Адриано-
польской мирной конференции. Однако среди протоколов четырех за-
седаний имеется «Проект протокола пятой конференции», не име-
ющей, естественно, ни номера, ни даты. Проект решения несостояв-
шейся встречи касался свободы судоходства в проливах и преду-
сматривал, что Порта будет заранее передавать русскому посоль-
ству в Константинополе чистые бланки ферманов, разрешающих про-
ход через проливы, а также охранительные ферманы для судов,
идущих в Средиземное море. «Оплата ферманов,— говорилось в
проекте,— будет осуществляться регулярно, в прежних размерах,
столь же регулярно Порте будут сообщаться сведения о судах, про-
ходящих проливы и получающих ферманы» (АВПР, ф. Канцелярия,
1829, д. 1098, л. 65). Поскольку другого документа, могущего быть
протоколом об исполнении ст. VII, в архиве министерства иностран-
ных дел России не обнаружено, есть основание полагать, что изло-
женный выше документ явился по крайней мере составной частью
протокола о свободе судоходства.
119 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, л. 219. 1 октября 1829 г.
в Одессе стали под погрузку хлебом 10 турецких судов («Санкт-
Петербургские ведомости», 16.Х. 1829). Султанский ферман о заклю-
чении мира появился 9 декабря 1829 г.
120 «Le Journal des Debats», 14.X.1829. Корреспонденция из Кон-
стантинополя от 18 сентября.
121 Автобиография Александра Осиповича Дюгамеля, стр. 32—
33; «Le Journal des Debats», 14.X.1829.
122 «Меня заверяют,— докладывал Дюгамель Дибичу 19 сентя-
бря,— что ратификация совершена и остались сущие формальности —
написать золотом и серебром текст грамоты, а это не может делать-
ся иначе, чем только две строки в сутки» (ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4848,
л. 192). Заметим, что художественно исполненный текст Адриано-
польского трактата был готов за сутки.
123 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2968, лл. 415—418. Текст
кснвенции.
124 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1033, л. 125—125об. Известия из Отдель-
ного кавказского корпуса.
125 АВПР, ф. Сношения с Турцией, д. 1334/75, №№ 1—4. Пол-
213
ный турецкий текст Адрианопольского мирного договора, за под-
писью Мехмеда Садык-эфенди и Абдулкадыр-бея с тугрой (печа-
тью) Махмуда II, ратифицировавшего договор в 20-х числах ок-
тября 1829 г. Русский текст 16 статей основной части Адрианополь-
ского договора и Дополнительный акт о Дунайских княжествах см.:
Второе полное собрание законов Российской империи, т. IV, № 3128;
Г. Юзефович, Договоры России с Востоком..., стр. 71—84. Турец-
кие публикации: на турецком языке — Tarih-i Lutfi, с. 2, стр. 254—
261; на французском языке — G a b г i е 1 effendi Noradoung-
h i a n, Recueil..., t. 2, стр. 166—177.
Глава 111
1 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 197об. Ливен —Нес-
сельроде, 9 октября.
2 См.: С. Crowley, The Question of Greek Independence,
стр. 167—‘168; Ed. Ellenborough, A Political Diary, vol. 2,
стр. 93—96.
3 A. Wellington, Dispatches..., vol. 6, стр. 192.
4 Выдержки из переписки Веллингтона и Абердина с послом
в Константинополе Р. Гордоном. См.: С. Crowley, The Question
of Greek Independence, стр. 167—172.
5 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, лл. 191—192об. Ливен —
Нессельроде, 29 сентября.
6 Там же, лл. 137—437об., 204, 211. Депеши Ливена и Нессель-
роде.
7 В последних числах сентября 1829 г. содержание Адриано-
польского трактата стало известно в Париже. Посол России Поц-
цо-ди-Борго писал, что премьер-министр Франции Полиньяк «назы-
вает договор милостивым и высказывается за независимость Греции,
только бы прекратить разногласия держав» (АВПР, ф. Посольство
в Париже, оп. 524, л. 82, л. 53об.).
8 Там же, д. 7003, лл. 201—237об. Копия ноты Порты от 25 сен-
тября была приложена к донесению Ливена.
9 Там же, д. 82, л. 50. Поццо-ди-Борго — Нессельроде, 29 октя-
бря 1829 г.
10 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, ч. 2, л. 172. Дибич —
Нессельроде, 29 ноября.
11 АВПР, ф. Посольство в Лондоне, д. 33, л. 12. Секретный цир-
куляр Нессельроде — Ливену от 10 мая 1830 г.
12 Там же, д. 82, л. 49. Поццо-ди-Борго — Нессельроде, 29 ок-
тября 1829 г.
13 М. L а г a n, La politique russe et 1'intervention franchise a
Alger. 1829—1830,— «Revue des etudes slaves», t. 38, Paris, 1961,
стр. 119—428.
14 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 7003, л. 211. Ливен — Нессель-
роде, 25 октября.
15 Там же, л. 275об. Ливен — Нессельроде, 30 октября.
16 Хр. Христов и В. Паскалева, Документи за българска-
та история из германски архиви, София, 1963, стр. 29. Дибич — Рой-
еру, 20 октября 1829 г.
214
17 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1033, лл. 4—5. Сообщение из Константи-
нополя 6—8 октября 1829 г.
19 Как писал А. Лютфи, государственная казна была почти пу-
ста. Везиры и сам султан собирали личные деньги и драгоценности
для уплаты контрибуции. Одновременно с уплатой контрибуции
Порте нужны были большие суммы на содержание регулярных ча-
стей, которые имелись к моменту подписания Адрианопольского
мира, а также тех, которые продолжали формировать уже после
его заключения (Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 115—116, 98—100). По анг-
лийским, весьма неполным данным, содержание регулярных частей
обходилось в 40 млн. курушей в год (см.: А. Т г u n t, Narrative of
Journey through Greece, Turkey etc., London, 1830).
19 ЦГАДА, разряд XV, д. 301, л. 156, Ройер—королю Пруссии,
15 октября 1829 г.
20 Подробнее см.: В. И. Шеремет, Турция и банк Ротшильда,
1829—1830 гг.,— «Вестник ЛГУ», Л., 1967, № 2, вып. 1, стр. 41—42.
21 АВПР, ф. Канцелярия, 1828, д. 2963, л. 208. Татищев — Нес-
сельроде, 16 ноября.
22 Там же, л. 208об.
23 Там же, д. 681, ч. 2, л. 375. Дибич — Нессельроде, 12 апреля
1830 г.
24 Там же, д. 678, ч. 2, л. 193. «Сведения о проекте „Дома Рот-
шильда" предоставить Порте сумму денег, возместимую продукцией
медных рудников близ Трабзона».
25 В «Истории дипломатии» (изд. 2, т. I, М., 1959, стр. 537)
ошибочно указывается, что принц (!?) Халиль был прислан Махму-
дом II в Петербург для обмена ратификационными грамотами. Об-
мен ратификационными грамотами Адрианопольского трактата был
произведен Дибичем и Мехмедом Садык-эфенди утром 28 октября
1829 г. Турецкий текст инструкций см.: Tarih-i Liitfi, с. 2, стр. 300—
310. Фрагменты инструкций Халиль-паше опубликованы в сборнике
документов югославских историков: Г. J а к ш и Г1 и В. В у ч к о в и h,
Француски документи о првом и другом устанку (1804—1830), Бео-
град, [б. г.], стр. 131—132.
26 АВПР, ф. Посольство в Лондоне, д. 33, лл. 12, 13, 13об., 14.
Ливен — Нессельроде, ноябрь—декабрь 1829 г.; АВПР, ф. Посоль-
ство в Париже, оп. 524, д. 82, л. 52об. Поццо-ди-Борго — Нессель-
роде, б/д.
27 Ed. Ellenborough, A. Political Diary, vol. 2, October, 27.
28 Содержание депеши и раскрытие позиции Англии и держав
см.: С. С. Татищев, Внешняя политика императора Николая пер-
вого..., стр. 2'15—218.
29 ЦГАДА, разряд XV, д. 681, ч. 1, л. 75. Поццо-ди-Борго — Нес-
сельроде, 23 ноября 1829 г.
30 Там же, д. 86а, л. 54. Резолюция Особого комитета по
восточному войросу. О работе комитета см.: И. С. До ст ян, Россия
и Балканский вопрос..., стр. 312—326.
31 ЦГАДА> разряд XV, д. 301, ч. 1, лл. 246—249. Нессельроде —
Дибичу, 23 сентября 1829 г.
32 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2967, ч. 2, лл. 107—122. Ин-
струкции Орлову, октябрь 1829 г.
33 ЦГАДА, разряд XV, д. 720, лл. 26—29, 91—92 и др. Депеши
А. Ф. Орлова К. В. Нессельроде, декабрь—январь.
215
34 Там же, д. 301, ч. 1, л. 15—15об. Отчет А. Ф. Орлова о по-
сольстве в Константинополь. Подробнее см.: В. И. Шеремет, Ад-
рианопольский трактат и посольство А. Ф. Орлова в Турцию,— «Ис-
тория СССР», 1972, № 1, стр. 138—145.
35 ЦГАДА, разряд XV, д. 301, ч. 2, л. 16. Отчет Орлова. Ср.:
A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 6, стр. 154.
Оттенфельс —Меттерниху, 10 ноября 1829 г.
36 ЦГАДА, разряд XV, д. 301, ч. 2, л. 295. Каймакам Хулюси-
паша — Халиль-паше, 14 января 1830 г.
37 Подробнее см.: И. М е щ е р ю к, Переселение болгар в Юж-
ную Бессарабию.
33 См.: В. И. Шеремет, Адрианопольский трактат и посоль-
ство А. Ф. Орлова в Турцию, стр. 143.
30 АВПР, ф. Канцелярия, 1829, д. 2963, лл. 367—368. Грейг —
Нессельроде, 19 ноября 1829 г. В своих мемуарах участники кру-
иза «Блонда» тщетно пытались придать ему характер развлекатель-
ной прогулки (A. Slade, Records..., vol. 1, стр. 485—490; J. Ale-
xander, Travels to the Seat of War in the East..., London, vol. 2,
стр. 180—188).
40 Еще в начале сентября английский посол настойчиво реко-
мендовал Порте не соглашаться на свободный пропуск торговых су-
дов через проливы ($. Turan, 1829 Edirne antla^masi..., стр. 128).
41 ЦГАДА, разряд XV, д. 678, ч. 2, л. 427.
43 Там же, л. 207. Консул США в Турции Ринд —Орлову, 13 ап-
реля 1830 г.; там же, д. 215. Орлов — Дибичу, 19 апреля 1830 г.;
L. J. Gordon, American Relations with Turkey, Philadelphia, 1930,
стр. 11. Текст договора от 14 зилькаде 1245 г. х. (7 мая 1830 г.) см.:
Gabriel effendi Noradounghian, Recueil..., t. 2, стр. 192—
194.
43 Ф. Энгельс, Действительно спорный пункт в Турции,—
К. М а р к с и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 9, стр. 14.
44 В период военных действий цены в Одессе на пшеницу не
превышали 9 руб. за четверть, тогда как в Турции четверть пшенич-
ной муки стоила от 24 руб. и выше. К началу октября цены в Одес-
се поднялись до 12 р. 85 к. за четверть и продолжали расти, цены
на хлеб в Турции снизились до 15—18 руб. за четверть (по даннььм
«Санкт-Петербургских ведомостей», «Одесского вестника», «The Cou-
rier»» «Le Courrier de Smyrne», «Le Journal des Debats» за август-
ноябрь 1829 г.).
Некоторое представление о быстром оживлении международной
торговли в Черном море осенью 1829 г., после открытия проливов,
дает таблица на стр. 217, составленная по материалам русской и
зарубежной печати.
45 ЦГАДА, разряд XV, д. 720, л. 95. Орлов — Нессельроде,
20 января 1830 г.
46 Там же, д. 681, ч. 2, л. 198—198об. Махмуд II — Николаю I,
б/д,
47 Там же, лл. 202—205. Хулюси-паша — Нессельроде, б/д.
48 Там же, лл. 188—189. Протокольная запись аудиенции.
49 Там же, л. 422. Каймакам в ответной депеше отметил, что
Махмуд II особенно внимательно ознакомился с этим донесением
(там же, л. 422об.).
50 «Мы имели несколько тайных бесед с английским послом,—
216
Дата отплытия судов Порт отплытия Порт назначения Общее число судов В том числе судов под ту- рецким флагом Примечание
4.IX Константи- нополь Одесса 2 —
1—4.Х » » 16 10
1—4.Х Одесса Константи- нополь 18 9 Груз турец- ких судов- хлеб
27. IX—12.Х Констнти- нополь Евпатория 8 3
5—9.Х » Одесса 19 12
26. IX—21.Х Порты Сре- диземно- морья Константи- нополь 200 В том числе 50 судов— в Черное море (из них 18 рус- ских)
18-21.X Константи- нополь Одесса 43 —.
21—28.Х » » 52 —
15.Х—1.XI » Феодосия 6 1
28.Х—4.XI » Одесса 24 14
4—7.XI » » 12 —
писал 25 марта 1830 г. каймакам Халиль-паше,— в надежде, что в
какой-то степени это облегчит наше положение, но пока это не при-
несло никаких результатов. Английский посол сказал нам, что его
правительство предпримет такие-то и такие-то меры в поддержку
Порты в отношении Греции, но до сегодняшнего дня—это просто
слова. Посол уверяет, что он ждет новых сообщений из Лондона.
Положение вещей, особенно в отношении Греции, показывает, что
Англия и Франция ограничиваются пустыми разговорами в своей
политике в отношении нас. Все дело в ваших руках» (там же,
л. 223об.).
51 Там же, д. 301, ч. 2, л. 21об. Отчет Орлова; Д. Г. Розен,
История Турции от победы реформы в 1826 году до Парижского
трактата в 1856 году, СПб., 1872, стр. 135.
52 ЦГАДА, разряд XV, д. 681, ч. 2, л. 424.
53 Там же, л. 426об.
54 Там же, л. 595.
55 Там же, лл. 422—445. Письма Хюсрев-паши Халиль-паше,
март 1830 г.
56 Там же, л. 119об Орлов — Дибичу, 24 апреля 1830 г.
57 В 1829 г. 1 окка был равен 1225 а, цена 1 окка меди колеба-
лась между 6 и 8 курушами.
217
58 Мустафа-эфенди заметил Мариничу, что Порта уже вела ана-
логичные переговоры с английскими банками (он не сказал, с кем
именно) и что Порта также просила аванс в 40 млн. курушей
(ЦГАДА, разряд XV, д. 681, ч. 2, л. 194об.).
59 Там же, д. 678, ч. 2, л. 195.
60 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 1033, л. 238об. Сообщение из Константи-
нополя, апрель 1830 г.
61 Там же, л. 204об.
62 A. Prokesch-Osten, Geschichte des Abfalles..., Bd 6,
стр. 153. Оттенфельс — Меттерниху, 10 ноября 1829 г.
63 ЦГВИА, ф. ВУА, д. 4033, л. 179.
64 Там же, л. 82. Сообщение из Константинополя от 20 декабря
1829 г.
65 Царское правительство считало временную оккупацию кня-
жеств и временное сохранение русского гарнизона Силистрии более
выгодным, чем какие-либо присоединения на Балканах, так как «это
давало преимущества действительной оккупации без сопровождаю-
щих ее международных осложнений» (см.: АВПР, ф. Канцелярия,
1829, д. 2968, л. 294об. Нессельроде — Дибичу, 15 октября).
68 ЦГАДА, разряд XV, д. 678, ч. 2, л. 283.
67 Там же, д. 301, ч. 2, л. 486. Нессельроде — Дибичу, 30 апре-
ля 1830 г.
68 Текст Петербургской конвенции см.: Prokesch-Osten,
Geschichte des Abfalles.., Bd 6, стр. 187—189.
69 H. К. Шильдер, Император Николай I и Восточный во-
прос,— «Русская старина», 1901, т. 106, стр. 28—32.
70 ЦГАДА, разряд XV, д. 301, ч. 2, л. 491. Нессельроде — Диби-
чу, 30 апреля 1830 г.
71 А. П. Заблоцкий-Десятовский, Граф П. Д. Кисе-
лев и его время. Материалы для истории императоров Александра L
Николая I и Александра II, т. I, СПб., 1882, стр. 397—398.
72 Там же, стр. 398.
73 См.: Н. Н. Муравьев, Русские на Босфоре в 1833 г., М.,
1869.
74 Н. С. К и н я п и н а, Внешняя политика России..., стр. 178. Ср.:
Е. Z. К а г а 1, Osmanli tarihi, с. V, 3 baski, стр. 134—135.
75 Всего Турция передала России около 5 млн. дукатов. Из них
русскихМ купцам в порядке возмещения убытков было выплачено
только 12,9 тыс. дукатов. Около 10,7 млн. руб. (в пересчете на рус-
ские ассигнации) было выплачено войскам, участвовавшим в воен-
ных действиях с Турцией; 635,3 тыс. руб. пошли на содержание по-
сольства Халиль-паши. Крупные суммы из контрибуции были исполь-
зованы царским правительством при подавлении польского восста-
ния 1831 г. (см.: И. С. Блиох, Финансы России в XIX столетии,
т. 1, СПб., 1832, стр. 185—186).
Заключение
1 Ф. Энгельс, Что будет с Европейской Турцией? —
К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Сочинения, изд. 2, т. 9, стр. 32.
218
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аббас-Мирза 34, 78, 204
Абдулкадыр-бей 95, 111—113,
117—120, 123, 125, 126,
128—130, 133, 137, 138, 142,
143, 148, 149, 156, 209, 211,
213, 214
Абердин Дж. 66, 71, 75, 79, 80,
111, 157—159, 161, 204, 214
Агу 207
Акиф-эфенди 39—42, 85, 109,
421, 122, 139, 146, 148, 149
Александер Дж. 216
Александр I 9, 12, 218
Али-паша Тепеделенли (Янин-
ский) 4, 12, 57, 185
Ал кок Т. 199, 201
Ариф-бей 200, 201
Арш Г. Л. 188
Атабеков А. 50, 51, 53, 198
Ахмед-бей (Ахмед Февзи-па-
ша) 169, 170, 176, 183
Барклай-де-Толли М. Б. 107
Ахмед-бек Аджарский 63
Беджих-эфенди 36, 53, 95
Бессе Ж. 201
Бетан Е. А. 191
Блиох И. С. 218
Богданович М. И. 189
Боло 197
Бутенев А. П. 199
Бурцов И. Г. 63, 204
Бюра 197
Владимиреску Т. 8
Вучкович В. 215
Галиб-паша 49, 198, 200
Гейден Л. П. 20, 23, 67, 71,
191, 192, 202, 205
Гейсмар 198
Гентц Ф. 34, 193, 195
Гервинус Г. 202
Гильемино А. 21, 33, 68, 84, 85,
96, 97, 99, 100—102, 105,
106, 109, 111, 112, 121, 127,
131—135, 137, 139, 140, 159,
161, 162, 165, 205, 207, 209.
212
Гильфердинг А. Ф. 121, 124
Гордон Л. Дж. 216
Гордон Р. 62, 84, 85, 96, 97, 99,
100, 102, 104, 106, 109,
111—114, 121, 127, 130—
137, 139, 140, 158—163, 165,
170, 171, 176, 205, 207—
209, 212—214
Горчаков 117
Грейг А. С. 48, 55, 62, 116, 216
Грибоедов А. С. 55, 78, 204
Гросул В. Я. 116, 210, 211
Гуссар А. 68, 72, 73
Гуткина И. Г. 189, 190
Гэйяр 197
Гюбш Н. 51, 74, 75, 83, ПО,
150, 200, 209, 211, 212
ГюрсельХ. 190
Василенко О. В. 192
Веллингтон А. 15, 33, 70, 71,
79, 80, 158, 195, 202, 204,
214
Витгенштейн П. X. 27, 194, 211
Дадли 66, 192
Дашков Д. В. 92, 205, 206
Джевдет А. 19, 188, 190
Дебидур А. 204
Дестунис Г. 189
219
Джалиле Дж. 201
Дибич И. И. 28, 56, 61, 62, 65,
83, 86, 87, 89, 90—98, 101 —
103, 105—119, 127, 129, 130,
133—137, 139, 141 — 144,
146, 149, 154, 157, 160, 167,
185, 194, 199, 206—209, 211,
215, 217, 218
Достян И. С. 189, 190, 204, 206,
215
Дрио Е. 189, 191, 202
Дюгамель А. О. 65, 151—153,
199, 201, 213
Епанчин Н. 194, 195, 199
Ермолов А. П. 190
Жобер А. 83
Заболоцкий-Десятовский А. П.
218
Закревский А. А. 190
Зичи 193
Ибрагимбейли X. М. 193, 198
Ибрахим-паша 16, 20, 66, 67,
68, 202
Инал Т. 213
Иовва И. Ф. 190
Ипсиланти А. 7, 8, 9
Кадызаде Тахир-эфенди 95,
130, 133, 137, 209
Калоссо 197
Канкрин Е. Ф. 114
Каннинг Дж. 13, 16, 19
Каннинг С. 14, 21, 33, 68, 71
Каподистрия И. А. 13, 17, 192,
201, 209
Карал Э. 3. 19, 190, 191, 218
Карл X 205, 207
Каттаи Р. 194, 195
Кеппел Дж. 57, 199, 200
Кечиджезаде Иззет Молла
36—39, 42, 43, 53, 187, 195,
196
Киняпина Н. С. 192, 193, 202,
210, 218
Киселев И. П. 143, 198
Киселев П. Д. 182, 183, 190,
218
Клер 106, 107, 208
Кодрингтон Э. 20, 66
Конобеев В. Д. 116, 210
Коули 80, 81, 204
Кочубей В. П. 92
Красовский А. И. ПО
Крейтер Дж. 190
Кул Мехмед 57, 199,
Куран Э. 207
Курат А. Н. 209
Кутузов М. И. 56, 199
Кюстер 111—114, 117, 209
Лазарев М. П. 20
Ларан М. 160, 214
Леви А. 197
Леритье М. 189, 191, 202
Лесюр С. 196
Ливен X. А. 23, 71, 75, 76, 79,
158, 161, 162, 192, 212, 214,
215
Липранди И. И. 194, 210
Лукьянович И. 192
Луцкий В. Б. 190, 191, 201
Лютфи А. 19, 30, 31, 36, 45—47,
51, 53, 56, 60, 103, 108, 130,
133, 191, 193—200, 206, 208,
212 215
Ляхов В. А. 191, 193
Макдональд Дж. 79
Макфарлан Ч. 29, 30, 194, 198
Малкольм А. 62
Маринич В. 177—180, 218
Мартенс Ф. Ф. 190, 191—193
Матушевич 161, 205, 207
Махмуд II 8, 17, 29, 36, 43-
46, 50, 53—55, 58, 59, 61-
63, 77, 86, 92, 95, 97, 102,
103, НО, 111, 115, 123, 159,
169, 173—176, 178—183,
186, 187, 203, 211, 214—216
Мезон Н. 70, 75
Меттерних К. 32, 34, 72, 76,
77, 79, 81, 82, 192, 193, 195,
203, 208, 216, 218
Мехмед Иззет-паша 47, 48, 197
Мехмед Решид-паша 55, 86, 92,
94, 95, 97—99, 103, 105—
107, 109, 110, Ц6, 128, 139
220
Мехмед Селим-паша 23, 26, 36
Мехмед Шериф Ширвани 78
Мещерюк И. 116, 210, 216
Милош Обренович 143, 198,
2Ю______212
Минчаки М. Я. 14, 32, 35, 194,
195
Михайловский - Данилевский
А. И. 211
Мольтке Г. 57, 199
Монморанси М. 204
Монтейс У. 201
Муравьев А. Н. 60, 200
Муравьев-Карсский Н. Н. 60,
182, 218
Мустафа-паша Бушати 99, 108,
109, 142, 143, 175
Мустафа Решид-бей 93, 102,
110
Мустафа-эфенди 169, 170,
177—180, 218
Мухаммед Али 16, 20, 34, 51,
66, 69, 109, 175, 182, 183,
186
Мюффлинг Ф. 97, 101—107,
109, 111, 129, 207, 208, 209,
210
Наим-бей 57
Нессельроде К. В. 15, 23, 26,
27, 62, 67, 71, 75, 79, 89,
90—92, 135, 136, 141, 160,
165, 174, 177, 180—182, 189,
191—193, 195, 198, 200,
203—211, 212—218
Николай I 26, 75, 82, 87, 89,
94, 101, 114—116, 118, 121,
164, 165, 167, 174, 193, 200,
204, 206—208, 210, 212, 215,
216, 218
Новичев А. Д. 188, 190, 191,
197
Норадунгян Г. 205, 208, 212,
214, 216
Нури-эфенди 93, 102, НО
Орлов А. Ф. 91, 118, 120—128,
135, 136, 145—150, 155,
168—173, 176, 178—180,
182, 183, 212, 215—217
Осман-паша 64, 65, 151, 152,
153, 197
Оттенфельс Ф. 34, 69, 70, ?2,
76, 77, 82, 181, 202, 205—
208, 216, 218
Пален Ф. П. 118, 120—126, 128,
145, 146, 147, 149, 150
Палеолог Г. 191, 201, 203
Панцир 106, 107, 208
Паскалева В. 214
Паскевич И. Ф. 28, 34, 49, 63—
65, 113, 114, 130, 143, 151—
153, 157, 198, 200, 201
Пертев-паша 19, 21, 31—33,
39—42, 60, 68—70, 72—78,
82—85, 95, 97, 100—103,
105, 109, 111, 112, 128,
130—134, 139, 142, 160, 163,
165, 169, 170, 174, 175, 176,
180, 181, 202, 205
Пеццони А. 195
Полиньяк Ж. 75, 160, 166, 214
Попова Н. О. 204
Пурталис Л. 204
Поццо-ди-Борго К. 79, 80, 160,
165, 204, 207, 209, 214, 215
Прокеш-Остен А. 189, 192, 193,
202, 204, 205, 207, 218
Псомиадес Г. 188
Пукевилль Ф. 188
Расту м А. 195
Расым А. 19, 189, 195
Рибопьер А. И. 18, 21, 23, 42,
68, 71, 168, 191, 192, 195
Рива 197
Рикорд 198
Ринд Ч. 216
Риньи А. де 20
Розамель Ж. 62
Розен Д. Г. 217
Ройер А. 102, 104, 130, 131, 133,
141, 142, 148, 151, 165, 212,
213, 215
Ротшильд Н. 163
Ротшильд С. 164, 178, 179
Руссиер 197
Садык-хан 34
Садык-эфенди
110—113,
137—139,
Мехмед 18, 95,
117—130, 133,
141, 143—147,
221
149, 150, 156, Ж 211,
213—215
Салих-паша 63
Сарым-эфенди 109, 110
Семенов Л. С. 190, 195, 196,
203
Сивинис М. 191, 201, 203
Слейд А. 29, 108, 194, 209, 210,
216
Соловьев С. М. 189, 205, 207
Степович И. 72
Строганов Г. А. 8, 9, 11, 12,
189
Сулейман Неджиб-эфенди 109,
ПО, 137, 164
Сунгу И. 196
Таиб-эфенди 78
Татищев Д. П. 82, 163, 164,
205, 206, 208, 209, 212, 215
Татищев С. С. 204, 207, 215
Темперли Г. 191
Тизенгаузен В. Г. 210
Тахир-эфенди 107, 108, ПО
Трант А. 215
Туран Ш. 108, 139, ,141, 145
147, 191—193, 199, 209, 211,
216
Хаккы-паша 63, 86
Халиль Рифат-паша 36, 53, 54,
56, 108, 109, 137, 142, 164,
165, 166, 168, 169, 172—177,
179—182, 210, 215—218
Халфин Н. А. 201
Хамид-ага 59
Хамид-бей 8, 36, 175, 176
Ханджери 121, 127, 150
Христов Хр. 214
Хулюси-паша 85, 97, 130, 172,
174, 177, 216
Хюсейн-паша 17, 43, 95, 101
Хюсни-бей 203
Хюсрев-паша 36, 53, 54, 103,
133, 137, 139, 164, 169, 170,
173, 176, 177, 179, 217
Цуйлен Г. 72
Чернышов А. И. 211
Шильдер Н. К. 199, 208—212,
218
Шиман Т. 196
Шпаро О. Б. 19'1, 192
Узунчаршылы И. 47, 197
Ушаков Н. И. 200, 201
Щербатов А. П. 201
Фадеев А. В. 188, 189, 193, 203,
210
Фатх Али-шах 34
Фикельмон К. 82
Финлей Дж. 188, 189
Фонвизин М. А. 190
Фонтанье В. 194
Фонтон А. А. 93—95, 97, 110,
112, 117, 121, 122, 124, 148,
206, 211
Фридрих-Вильгельм III 103,
212
Элленборо Эд. 79, 165, 204, 214,
215
Эрен А. 196, 211
Эсрар-эфенди 121, 123, 150
Эстергази П. 79, 192
Юзефович Т. 214
Юсуф Мухлис-паша 47, 48, 197
Якшич Г. 215
Яман Т. 198
222
УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Австрия, Австрийская империя,
3, 4, 12—15, 24, 29, 31, 32,
42, 61, 72, 78, 80, 81, 160,
186
Адрианополь (Эдирне) 43—45,
50, 56, 60—62, 107, 108, 112,
115, 120, 138, 141, 142, 144,
155, 157
Айдос 98
Аккерман (Белгород-Днестров-
ский) 5, 15, 74
Акхисар 57
Александрия 182
Алеппо 57
Анапа 31, 48, 89, 90, 101, 107,
118, 138, 147, 148, 153
Англия, Великобритания 3, 4,
12—15, 18, 21, 23, 32, 42,
62, 65—69, 71, 76, 78, 80,
81, 84, 86, 95, 122, 125, 128,
138, 144, 159, 175, 177, 184,
186
Аравийский полуостров 186
Ардаган 49
Арта (залив, дол.) 71, 83, 136,
159, 161
Аспропотамос 71
Аттика 71
Ахалкалаки 89, 118, 148
Ахалцих 28, 49, 63, 89, 113, 114,
118, 138, 148, 152
Багдад 179
Байбурт 65, 152, 157
Балканский полуостров (Бал-
каны) 3, 4, 7, 81, 98, 166
Батум 49, 168, 180
Баязид (пашалык, город) 49,
92, 152, 153, 168
Берлин 101
Ближний Восток 14, 79, 131,
166, 186
Болгария 86, 117, 120
Браилов 28, 47, 75, 89, 138, 146
Бургас 98
Бурса (Бруса) 59
Бухарест 28
Ван (пашалык) 63
Варна 43, 47, 48, 56, 72, 173
Вена 4, 12, 72, 80, 163, 166, 180
Видин 109, 142
Враце 143
Галаи 28
Гирла Дуная (Сулинское и Ге-
оргиевское) 91, 118
Гирсово 47
Голландия 29, 31
Греция, Эллада 5, 7—10, 12,
14, 17, 18, 33, 37, 43, 66, 67,
71, 75, 76, 84—86, 95, 96,
104, 105, 106, 128, 136, 139,
146, 155, 158, 161, 166, 175,
182, 185, 186
Гурия 49, 64, 168, 180
Гюмры 63
Дания 172
Добруджа 120
Дунай 27, 30, 32, 43, 47, 48, 54,
66, 67, 82, 83, 90, 123, 146,
153
Дунайские княжества (Молда-
вия и Валахия) 8, 11, 15,
16, 23, 25, 26, 30, 47, 118,
121, 124, 127, 140, 145, 153,
154, 165, 182, 183, 185
223
Европейская Турция (Руме-
лия) 30, 43, 52, 59, 60, 95,
171
Египет 4, 15, 16, 66, 67, 162,
179
Журжево 89, 94, 119, 120, 138,
146
Закавказье 4, 23, 63, 131, 154
Имеретия 49
Ионическое море 9
Ирак 13, 162
Индия (Ост-Индия) 3, 34, 79,
131
Иран (Персия) 4, 5, 25, 27, 32,
34, 42, 54, 55, 63, 65, 78, 82,
186
Иранский Азербайджан 78
Италия 79
Испания 51, 172
Кавказ 30, 48, 66, 83, 86, 114,
138, 147, 154, 165, 183
Карс (пашалык, город) 28, 49,
63, 92, 152, 168
Киклады (Кикладские о-ва)
75, 101, 105, 159, 161
Копия (Конья) 183
Константинополь (Стамбул,
Царьград) 5, 8, 12, 13, 16,
20, 23, 29, 42, 45, 51, 52, 58,
59, 66, 69, 71, 72, 74, 76—
78, 117, 125, 140, 145, 155,
158, 160, 164, 166, 167, 173,
177, 179, 180, 181
Крит (Кандия), о. 16, 79, 186
Крым 40
Кубань, р. 153
Кулевче 55, 58, 94
Кюстенджи 47, 168
Кютахия (Кютахья) 183
Лайбах 9, 12
Лалебургаз 120
Левант 34
Лондон 21, 72, 75, 79, 157, 160,
163, 166, 170, 181
Магриб (Алжир, Тунис, Ма-
рокко) 46, 131, 161, 162,
175
Малая Азия (Анатолия) 3, 5,
9, 28, 35, 44, 53, 59, 60, 103,
113, 118. 130, 151, 152
Марица, р. 185
Мачин 47, 75
Мекка 110
Мидия 43, 44, 120, 143, 151
Мисемврия 98
Монемвасия 10
Мраморное море 83
Муш (пашалык, город) 63, 152
Наварин 5, 10, 46, 185
Назилли 57
Неаполь 172
Одесса 7, 10, 50, 166, 173
Палестина 186
Париж 12, 21, 24, 72, 101, 160,
163, 166
Пелопоннес (Морея) 8, 13, 16,
37, 38, 39, 40, 66, 67, 69, 75,
76, 84, 97, 104, 105, 160,
161
Персидский залив 3, 13
Петербург 9, 14, 15, 74, 79, 112,
138, 141, 154, 155, 164, 170,
174—176, 179, 180
Порос, о. 68
Поти 49, 89, 107, 118, 147, 148,
153
Пруссия 15, 72, 79, 82, 128, 138
Прут, р. 29, 30, 90, 153
Рахово 143
Рейн, р. 79
Родосто 143
Рушук 119
Сатуново 47, 168
Северная Албания 99, 129, 175
Сербия 15, 16, 23. 25, 89, 118,
120, 124, 138, 154, 170, 185
Сивас 63
Силиври 129
224
Силистрия 47, 55, 86, 120, 138,
168, 182, 183, 184
Сирия 186
Сицилия 51
Сливно 170
Слободзея 28
Смирна (Измир) 9, 29, 50, 51,
52, 57, 173
Средиземное море 11, 37, 71,
159
Средняя Азия 131, 172
Тебриз 78, 114
Тегеран 34, 78
Трабзон 63—65, 114
Троппау 12
Тульча 47, 118
Турну 146
Тырново 43
Филиппополь (Пловдив) 44,
58, 142
Франция 3—5, 12, 13, 15, 18,
21, 23, 32, 37, 42, 46, 62,
65—69, 71, 76, 81, 82, 84,
86, 95, 122, 125, 128, 138,
144, 159, 160, 175, 177, 184,
186
Хиос 9
Хнис (Хныс) 152
Чатал и Лети (о-ва в Дунай-
ском гирле) 91
Черное море 3, 4, 21, 23, 25,
37, 90, 153, 186
Черноморские проливы (Бос-
фор и Дарданеллы) 23,
25, 26, 30, 43, 50, 51, 53,
62, 71, 76, 90, 115, 125, 127,
154, 171, 172, 186
Чорлу 143
Шумла 31, 43, 44, 46—48, 55,
56, 84, 104, ПО, 121, 144
Эгейское море 9
Эвбея, о. 71, 159
Энос 143
Эрзурум (пашалык, город) 63,
64, 86, 92, 114, 152, 153
Яссы 14, 28
Яссыада, о. 83
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие............................................... 3
Введение. Восточный кризис и обострение русско-турецких
отношений в конце 20-х годов XIX в...................7
Глава I. Турция в войне с Россией 1828—1829 гг............29
Внутреннее положение в стране в период военных дей-
ствий ..............................................29
Внешнеполитическое положение Турции в период войны 65
Г лава II. Подготовка и заключение Адрианопольского трак-
тата ...............................................87
Подготовка русского и турецкого проектов мирного до-
говора .............................................87
Назначение турецких представителей и начало перегово-
ров в Адрианополе..................................108
Заключительный этап переговоров и подписание трак-
тата ..............................................129
Г лава III. Османская империя и международные отношения
после Адрианопольского мира........................157
Проблема пересмотра Адрианопольского договора . . 157
Борьба за реализацию мирного договора. Обмен посоль-
ствами ............................................166
Заключение...............................................185
Примечания...............................................188
Указатель имен...........................................219
Указатель географических названий........................223
Виталий Иванович Шеремет
ТУРЦИЯ
И АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИР
1829 г»
Из истории Восточного вопроса
Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР
Редакторы Г. А. Алексеев, И. М. Дижур
Младший редактор И. Н. Комарова
Художник С. А. Литвак
Художественный редактор Э. Л. Эрман
Технический редактор М. В. Погоскина
Корректоры К. И. Драгунова и И. Б. Осягина
Сдано в набор 30/Х 1974 г. Подписано к печати
18/VI 1975 г. А-11999. Формат 84X108732- Бум. № 2
Печ. л. 7,125. Усл. п. л. 11,97. Уч-изд. л. 13,0
Тираж 2700 экз. Изд. № 3533. Зак. № 851. Цена
1 р. 20 к.
Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
3-я типография издательства «Наука»
Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
ВЫШЛИ:
Гусейнов А. А. Профсоюзы в Турции (1960—
1970 гг.). 206 стр.
Старченков Г. И. Проблемы занятости и миграции
населения Турции. 168 стр.
Уразова Е. И. Турция: проблемы финансирования
экономического развития. 272 стр.
ЗАКАЗЫ НА КНИГИ ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕМИ МАГАЗИНАМИ
КНИГОТОРГОВ И «АКАДЕМКНИГА», А ТАКЖЕ ПО АДРЕСУ: 117464,
МОСКВА В-464, МИЧУРИНСКИИ ПРОСПЕКТ, 12, МАГАЗИН № 3
(«КНИГА - ПОЧТОЙ») «АКАДЕМКНИГА»
Цена Up 20 к.