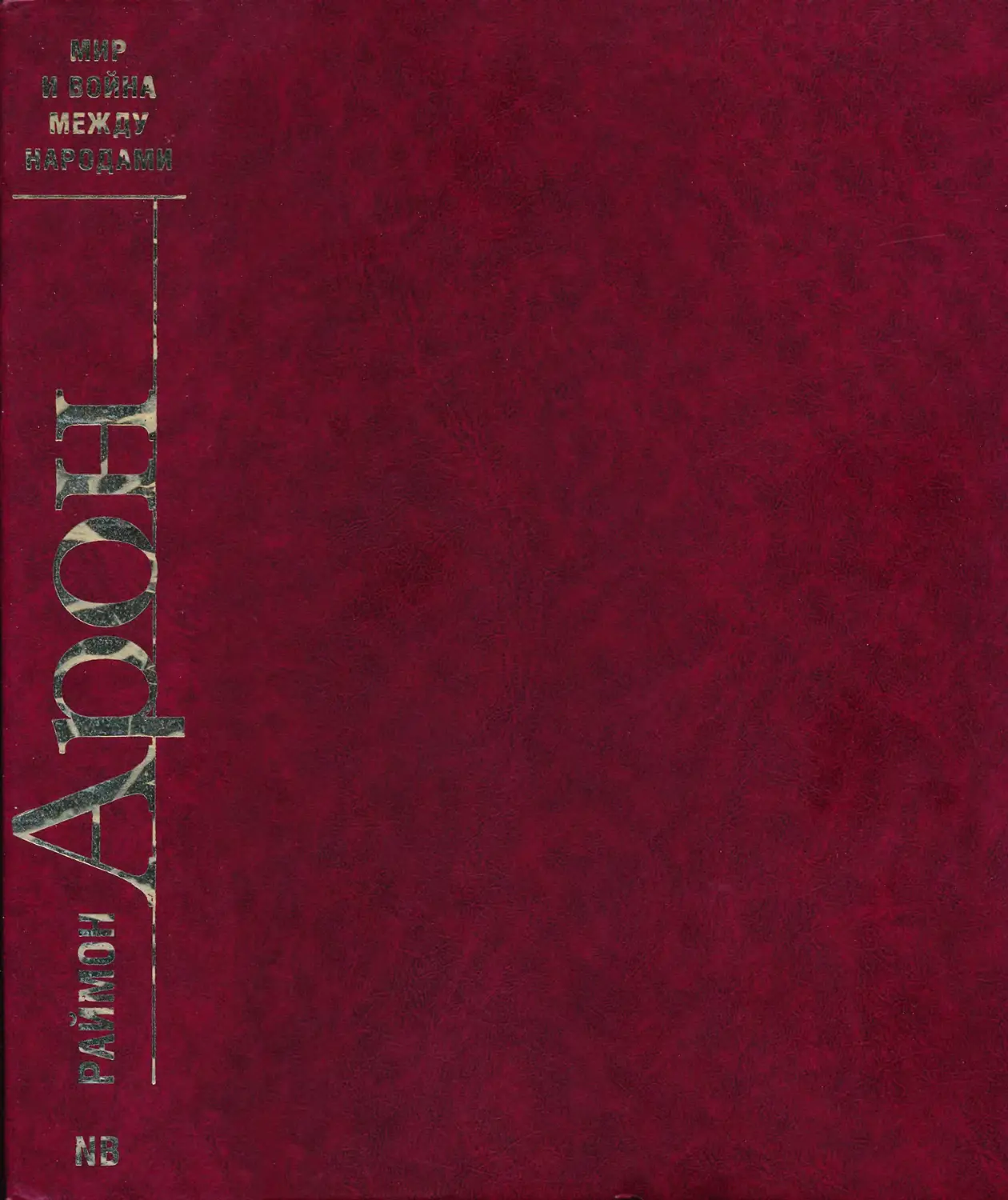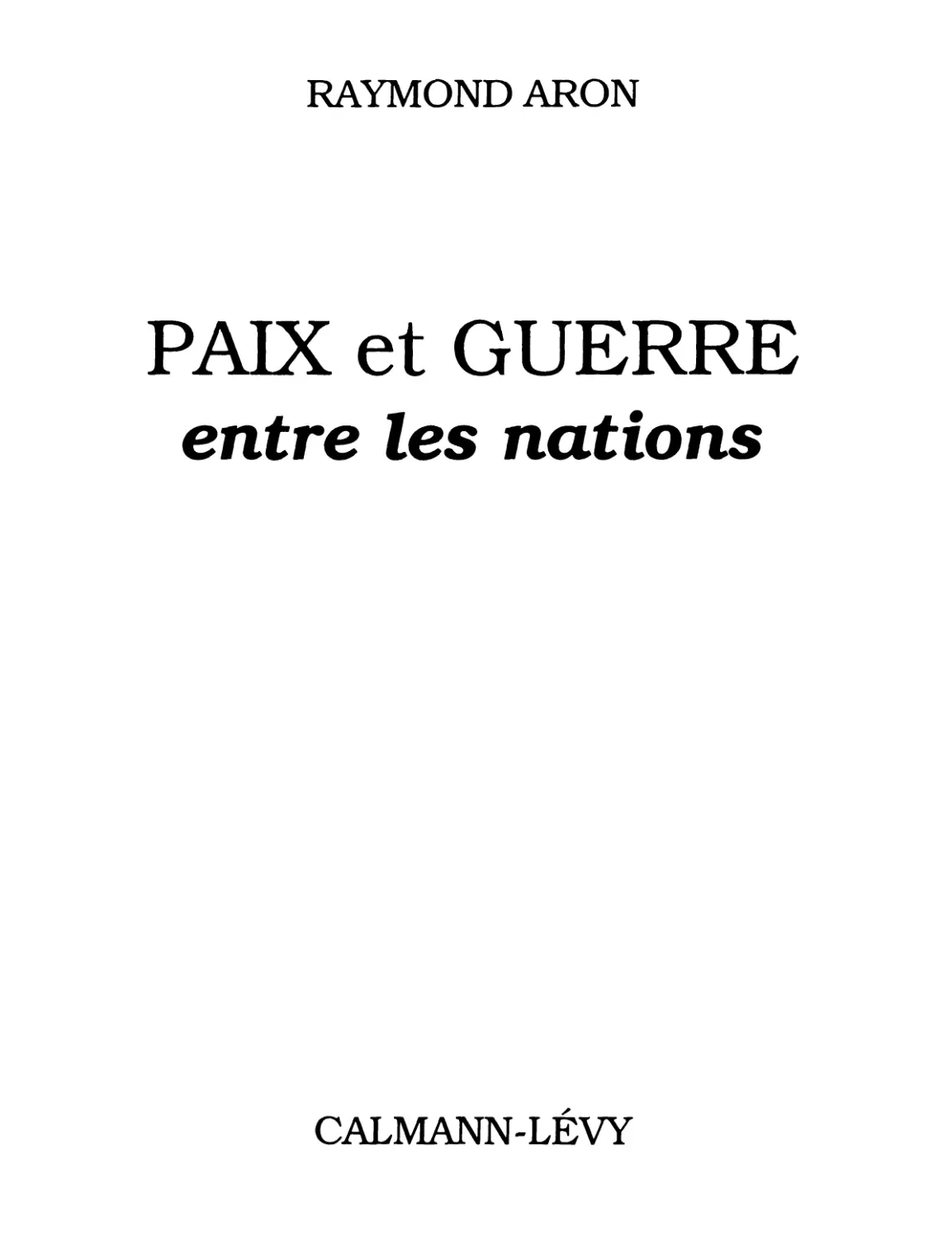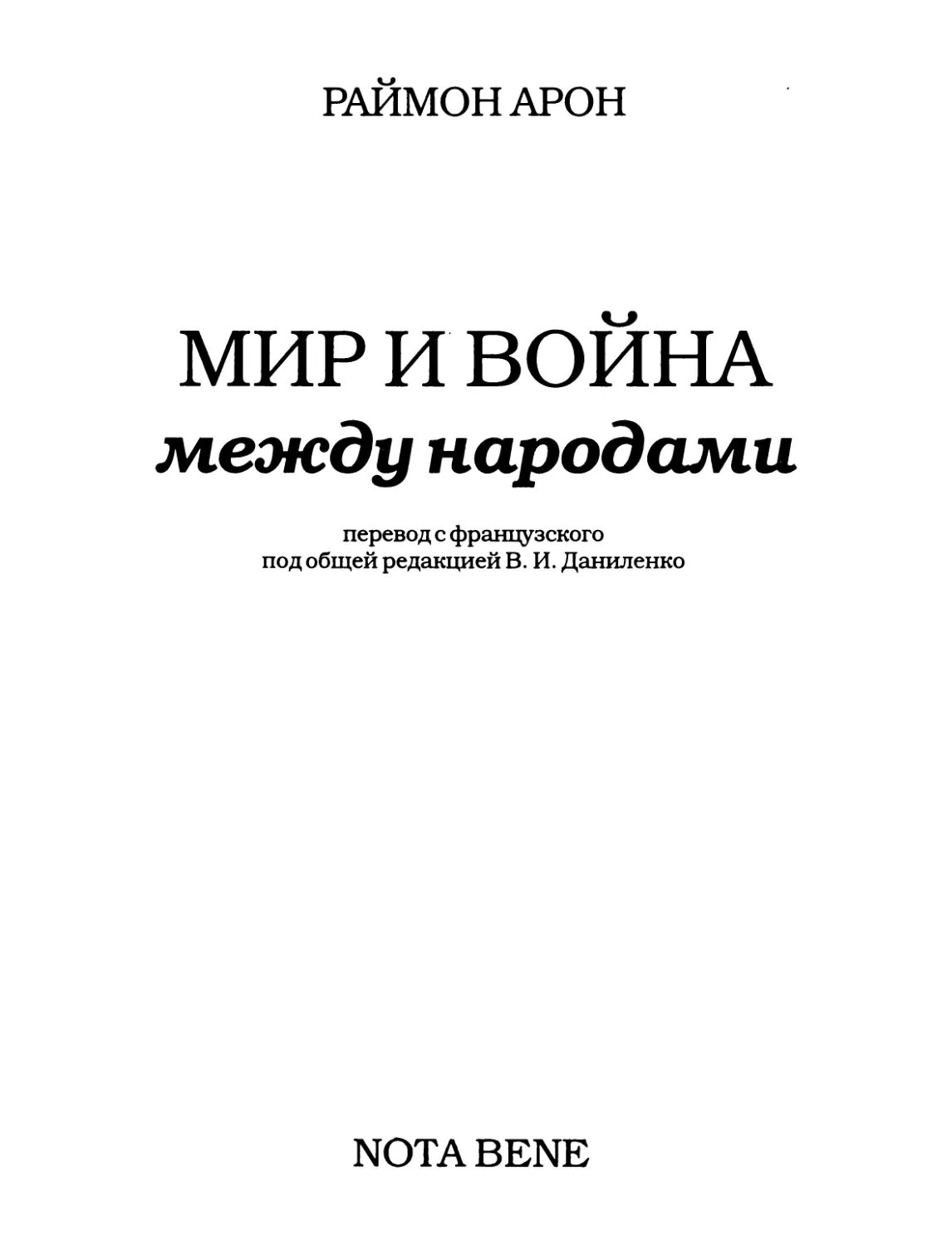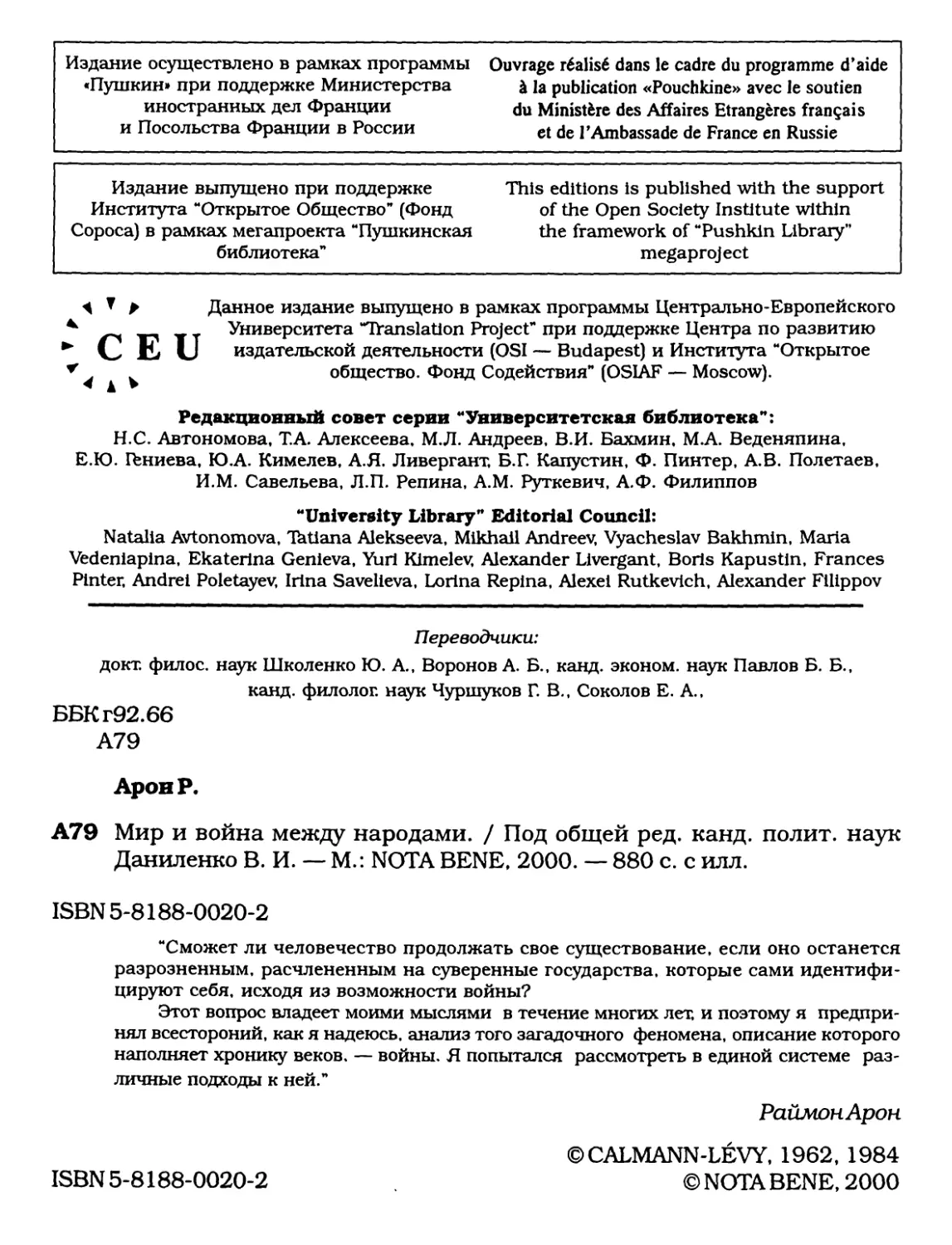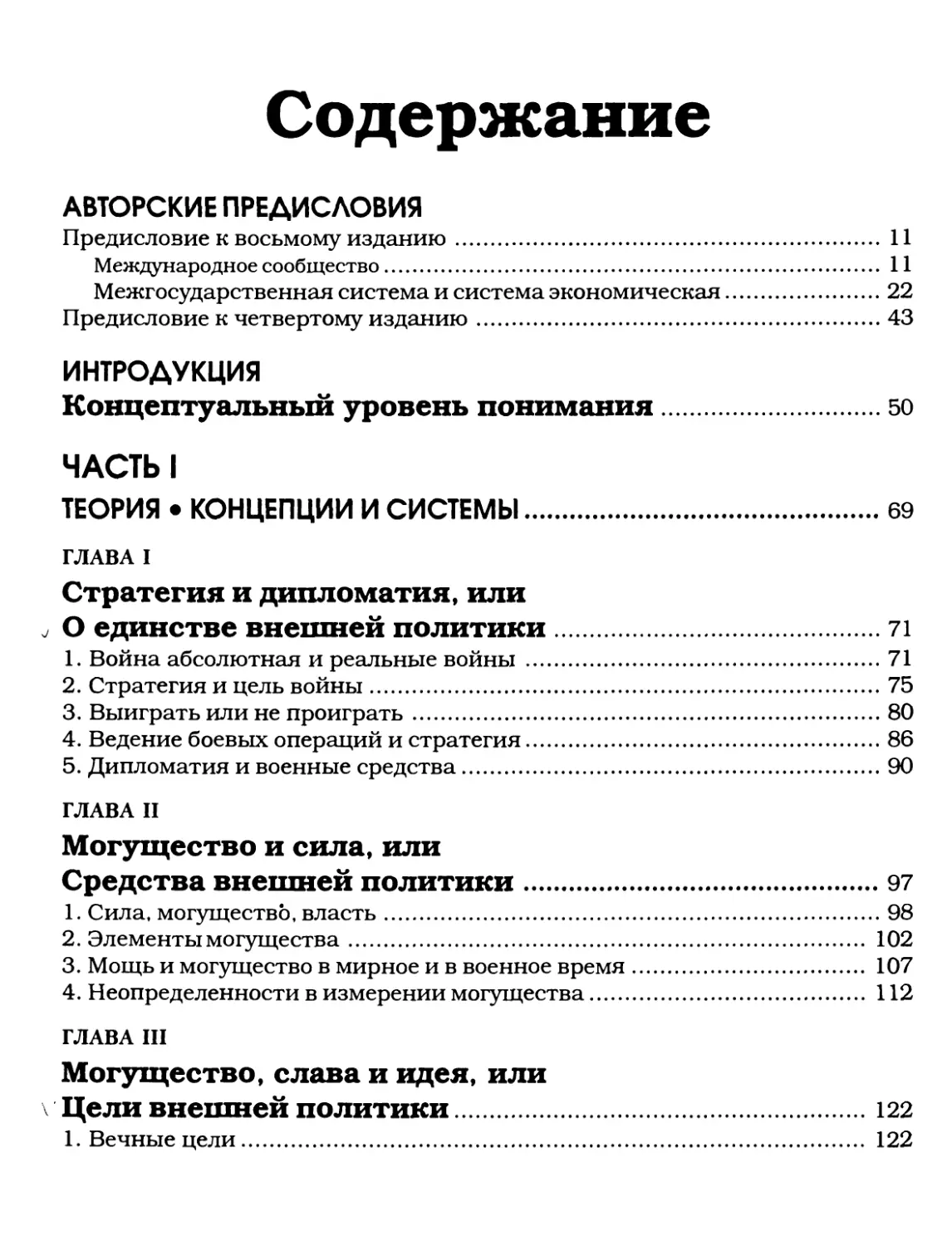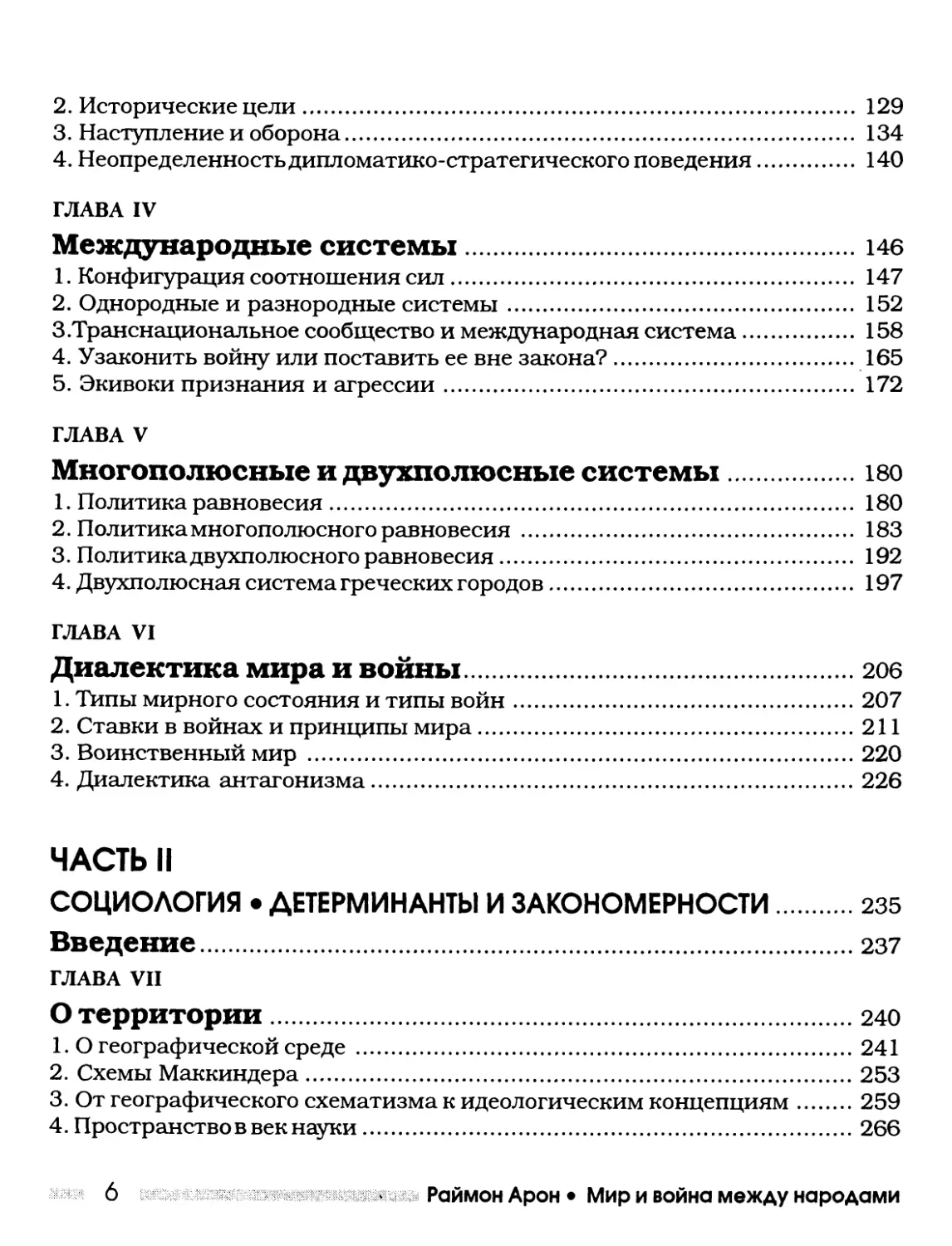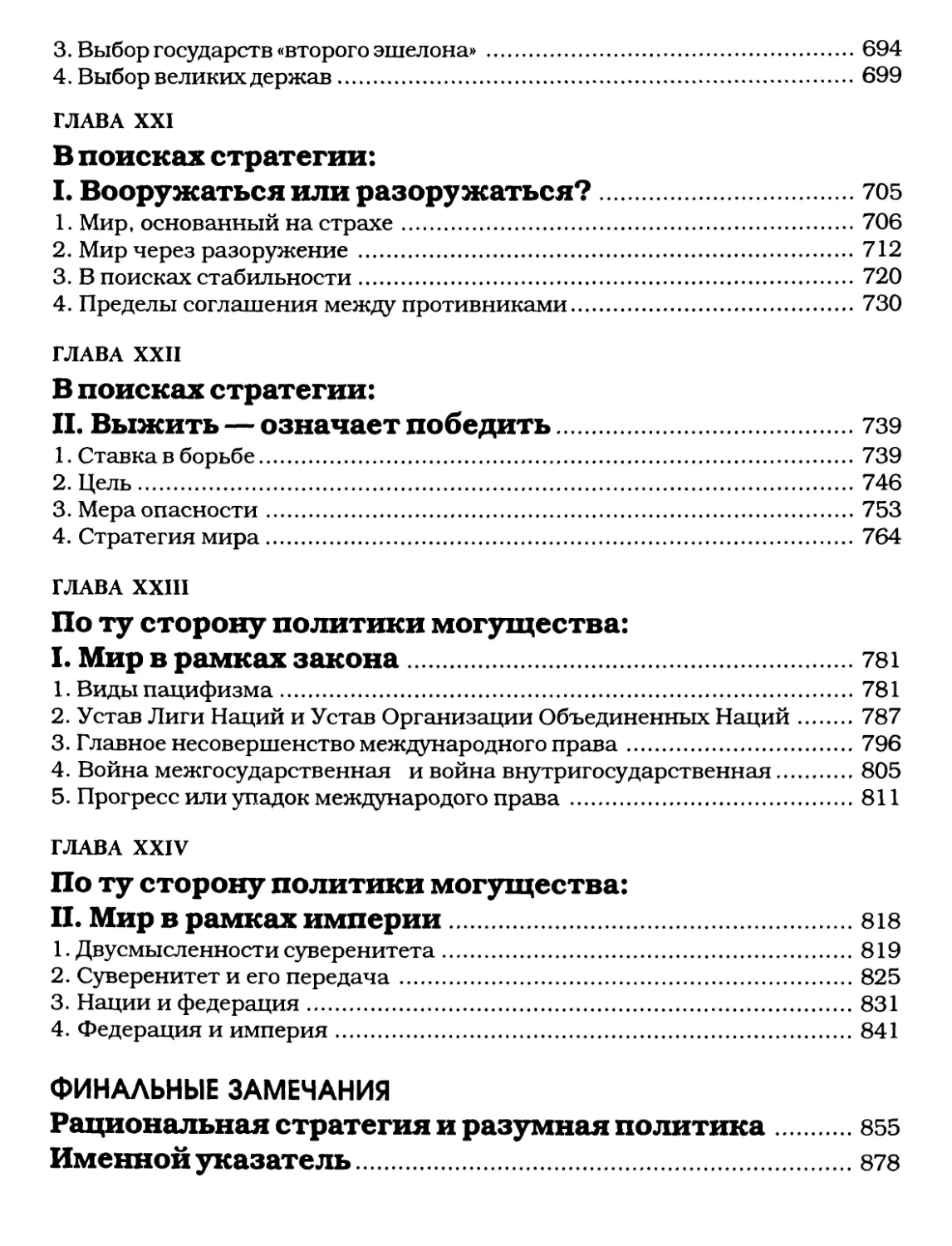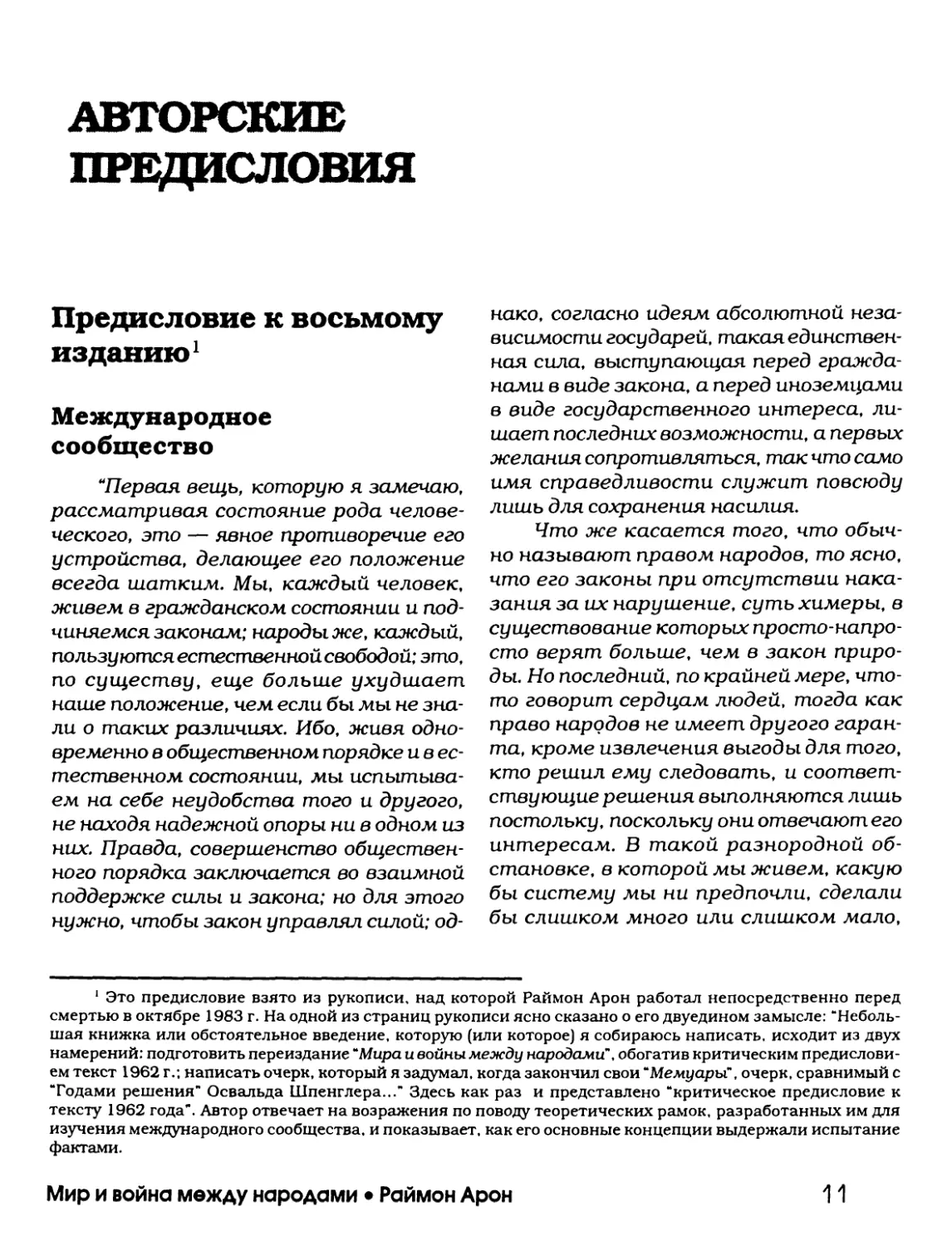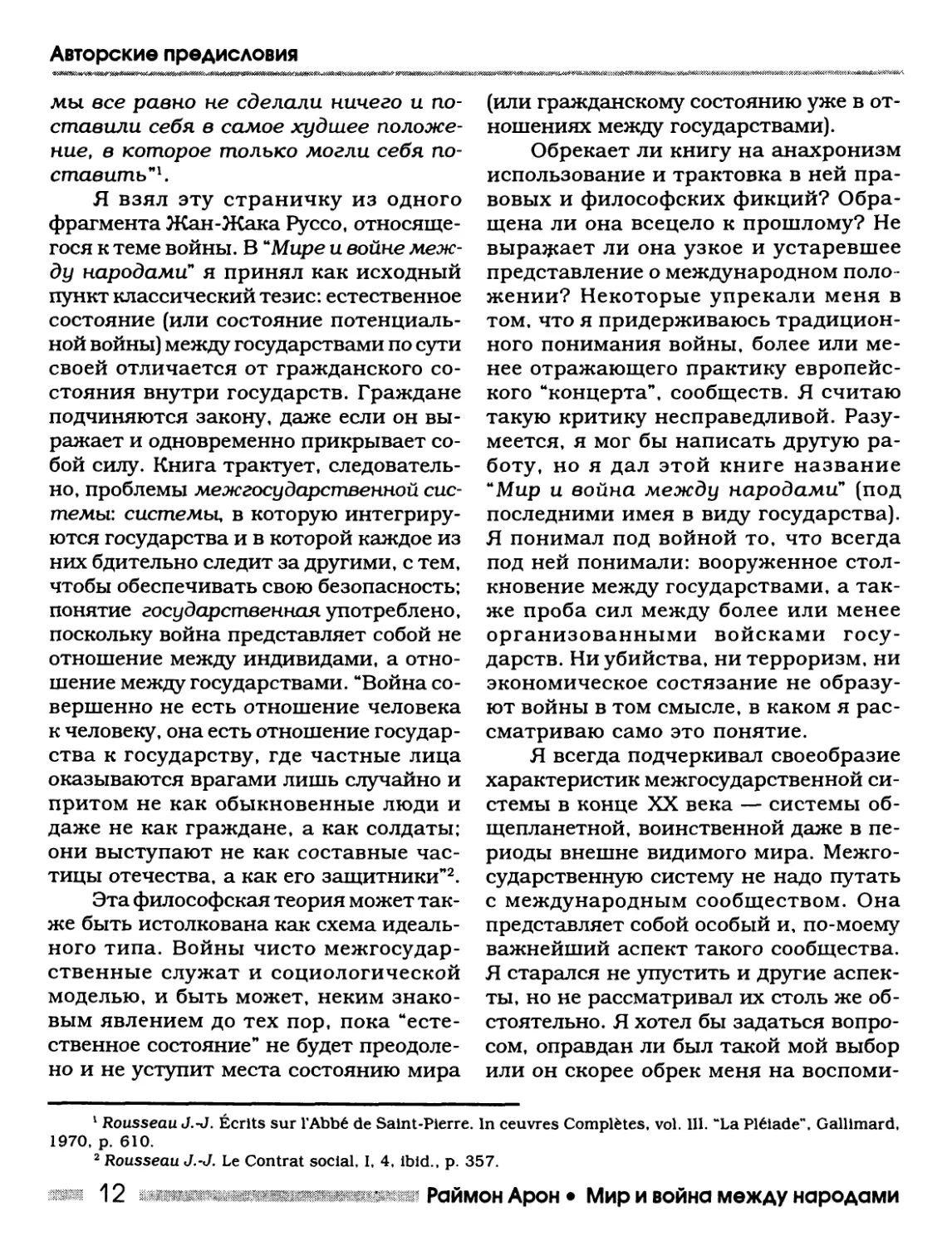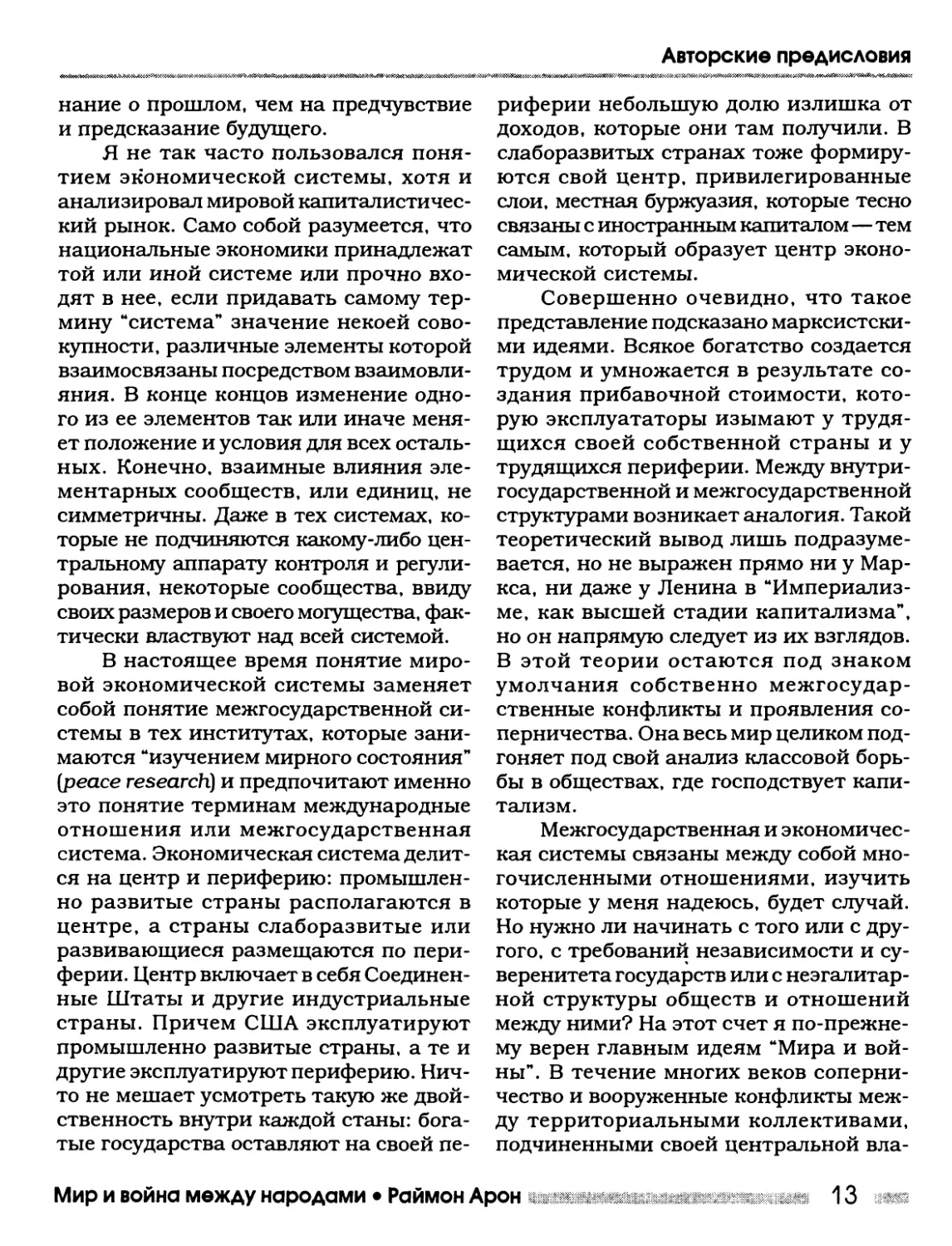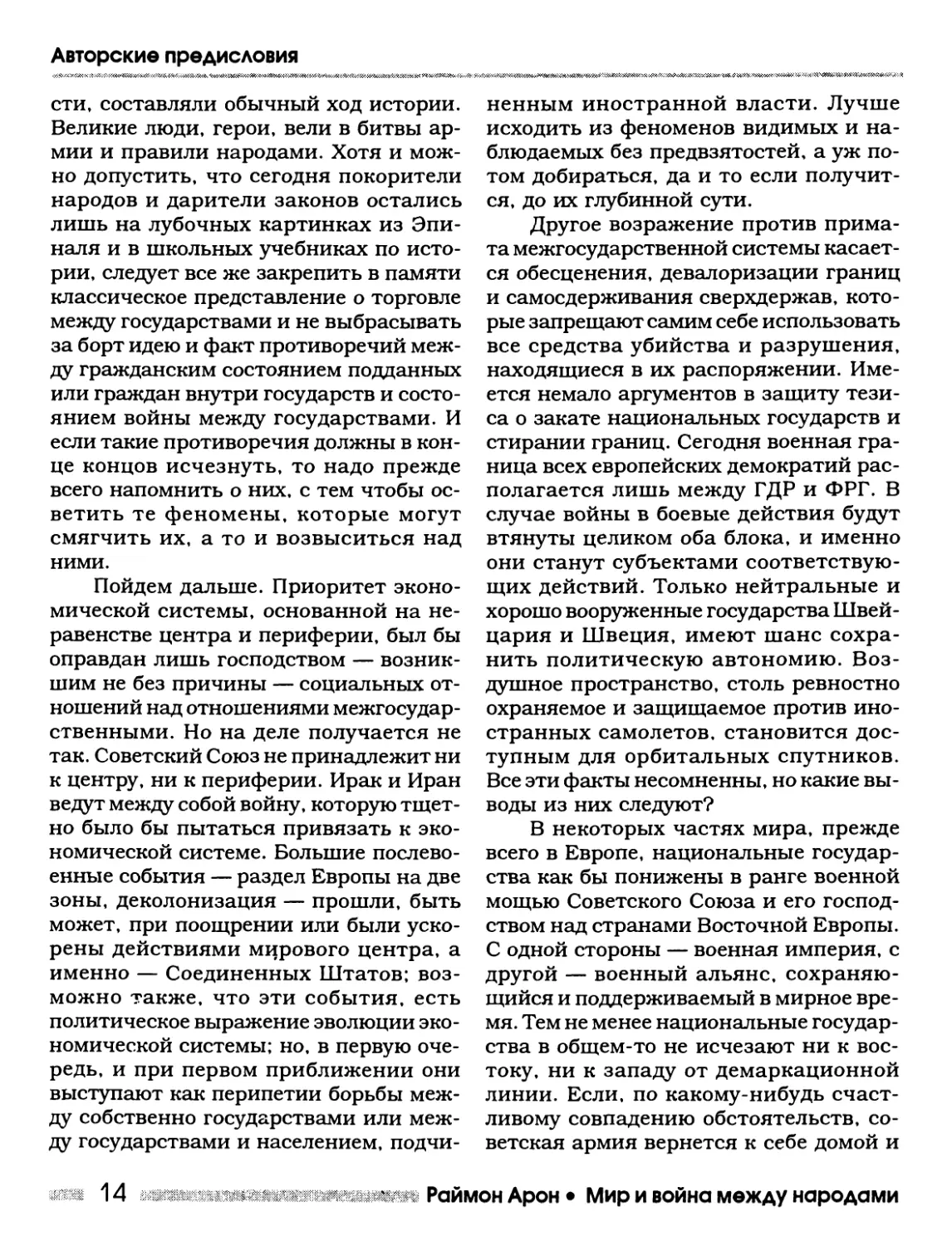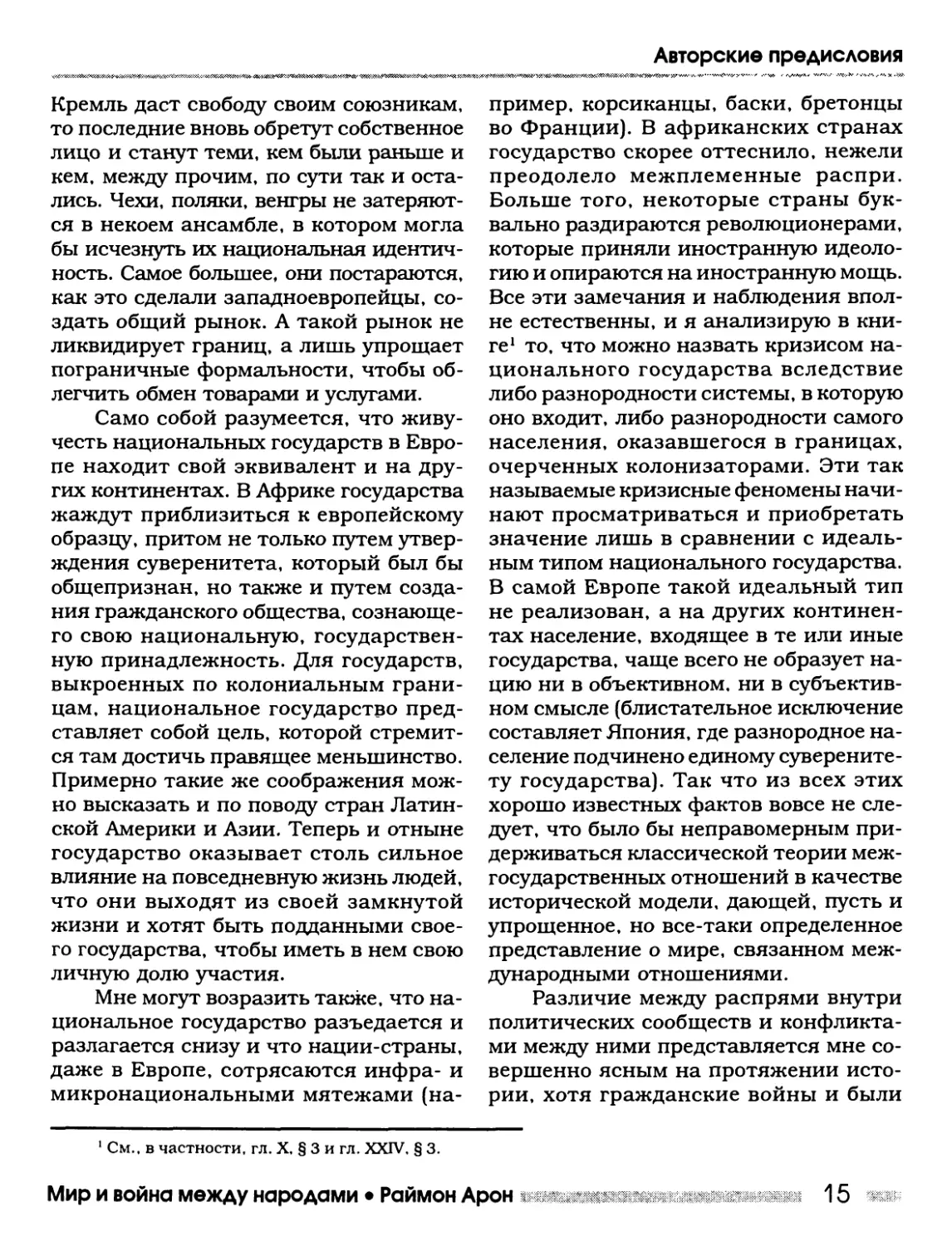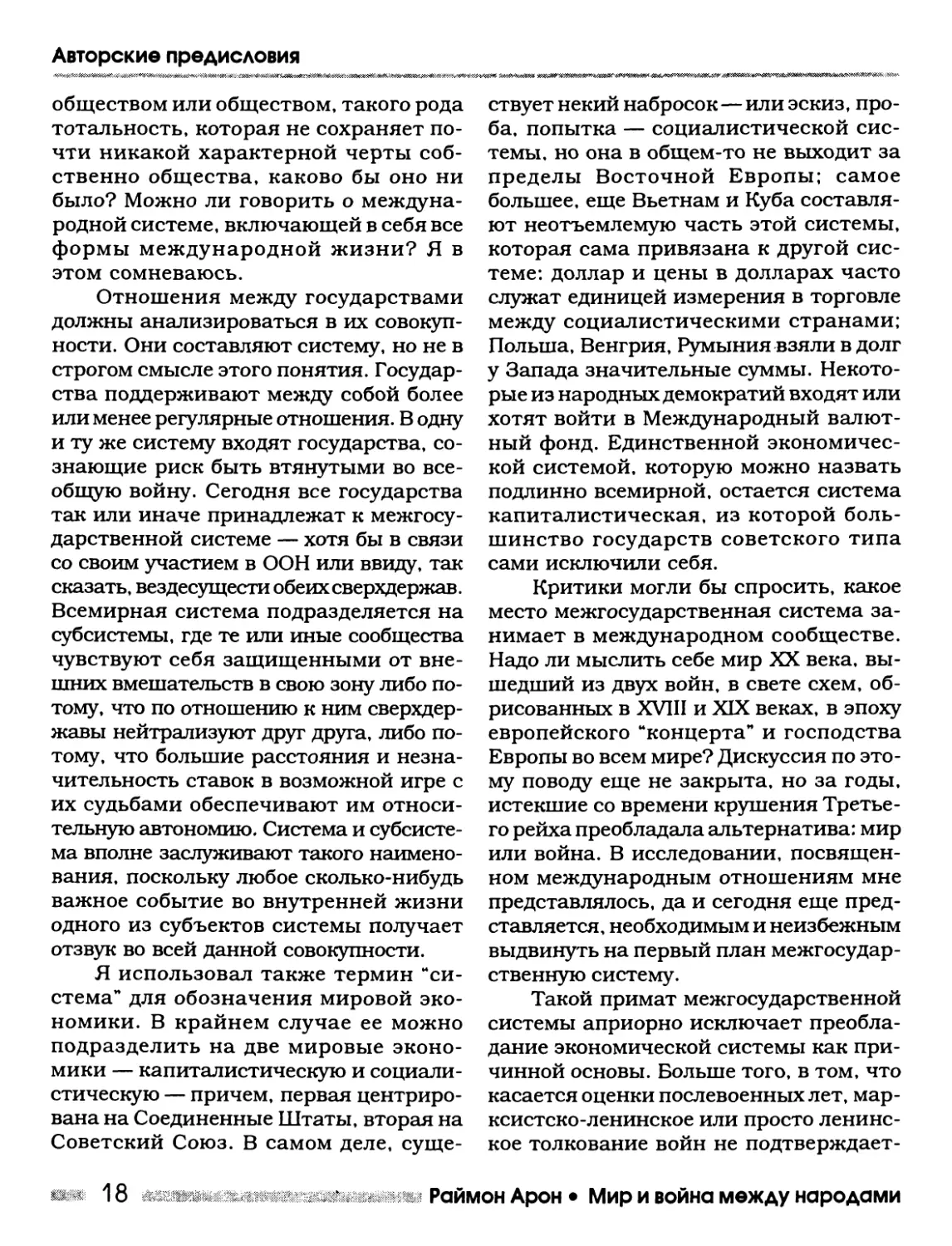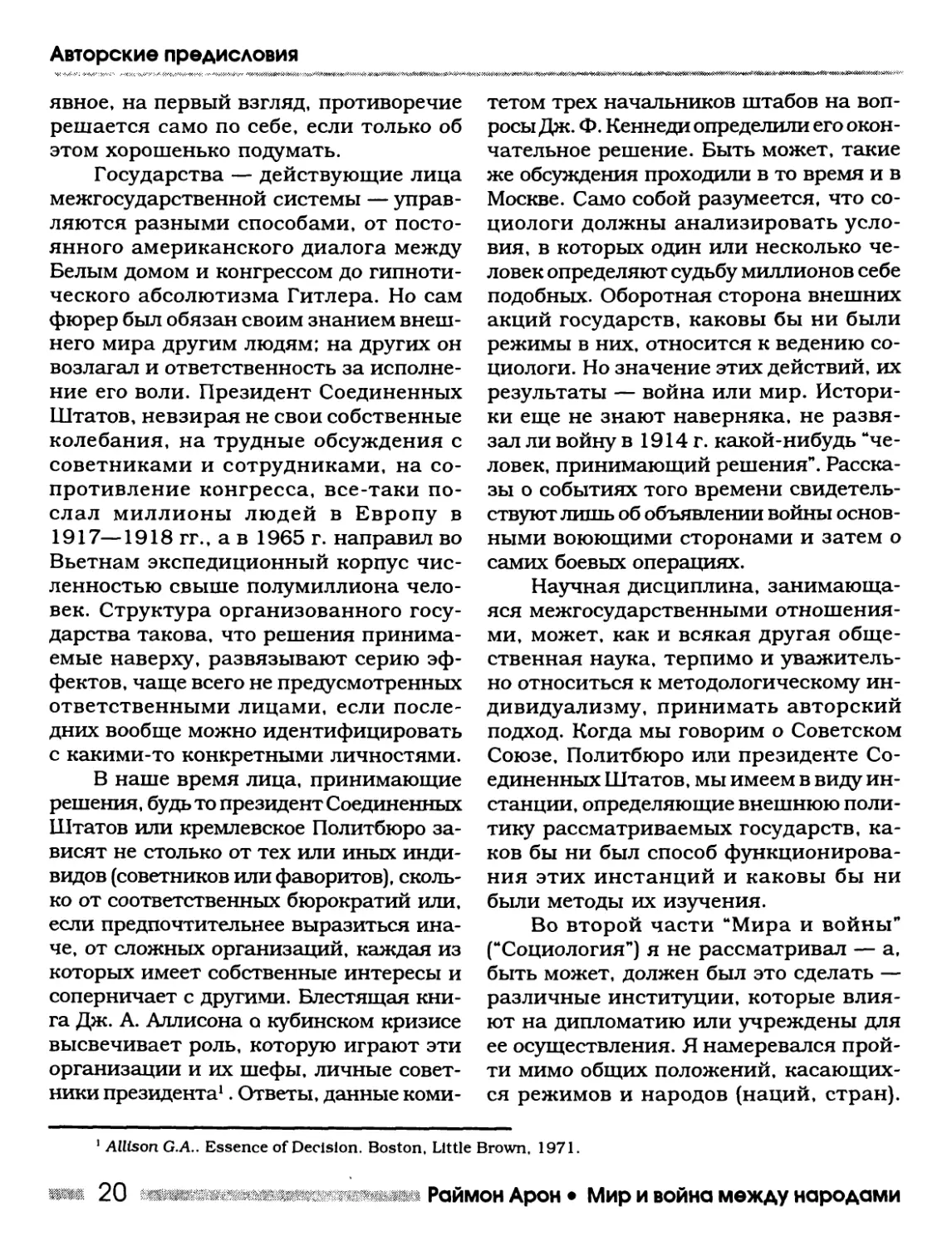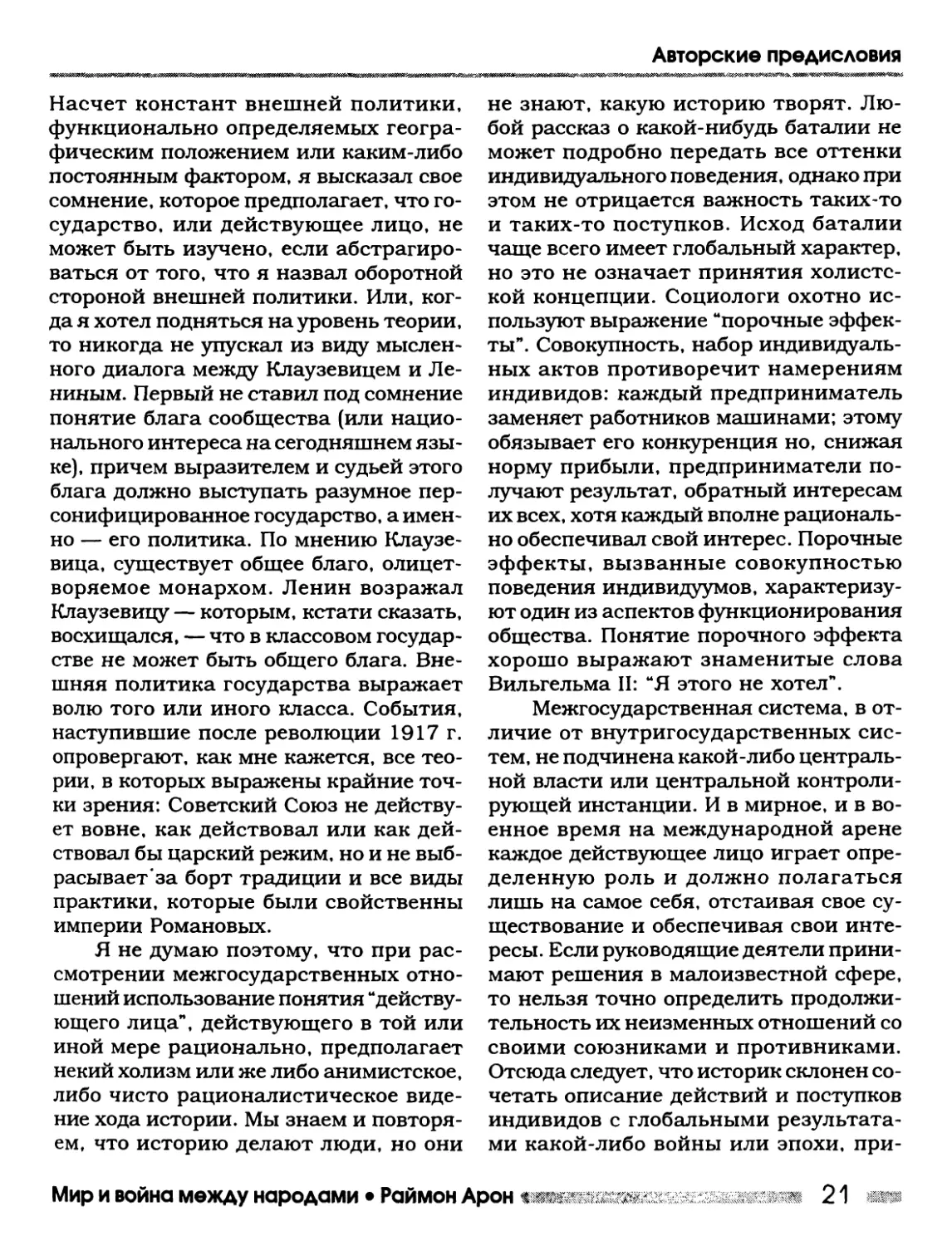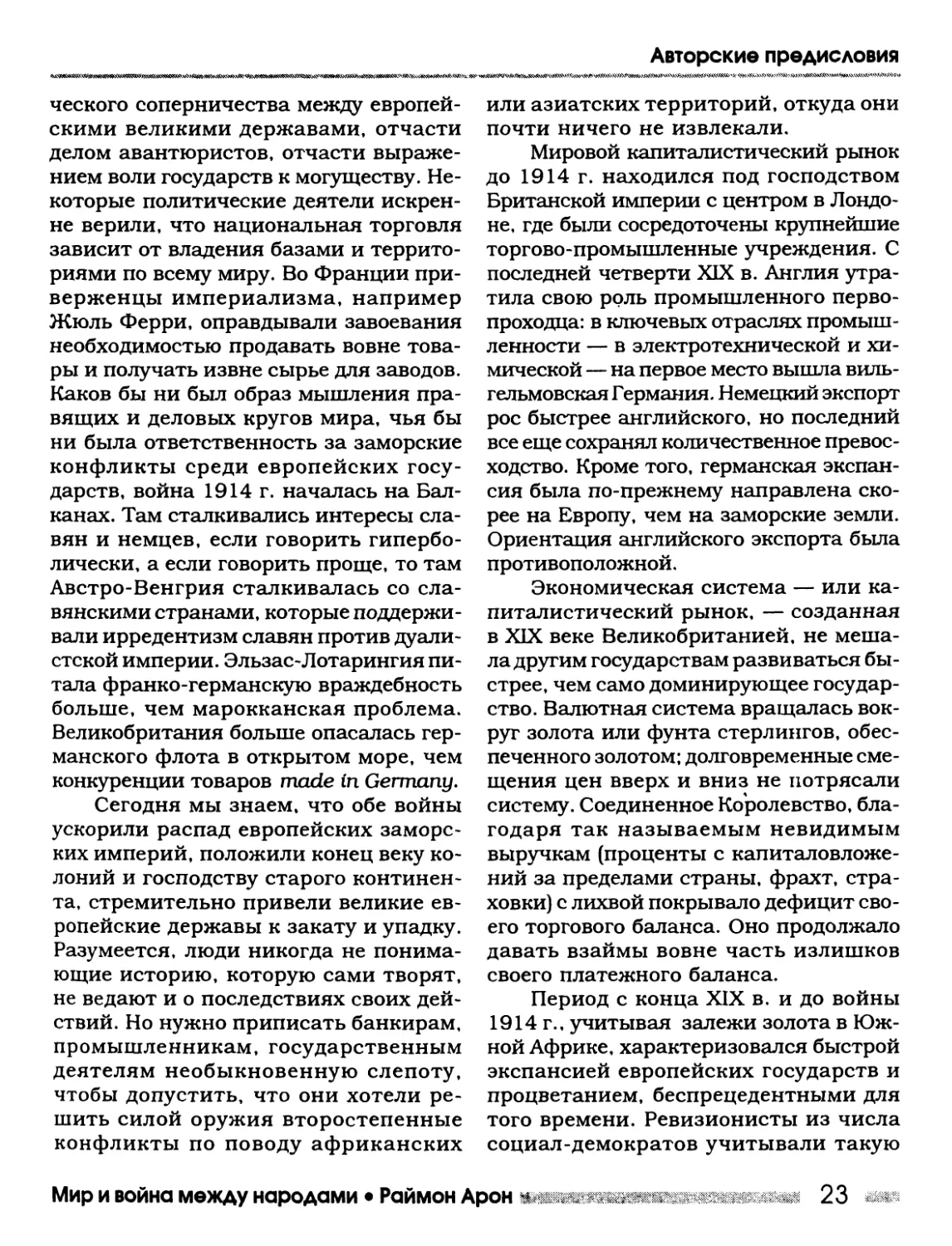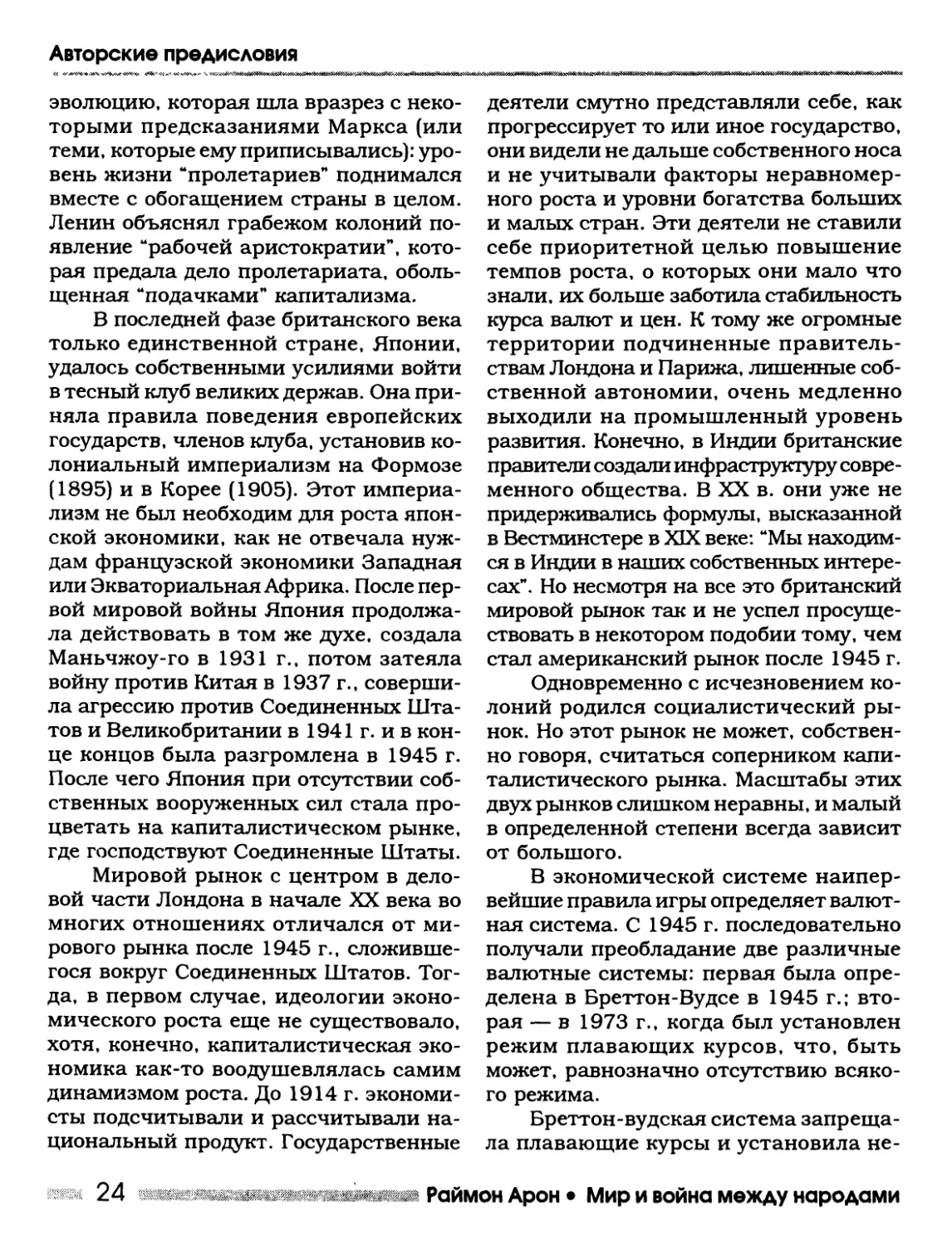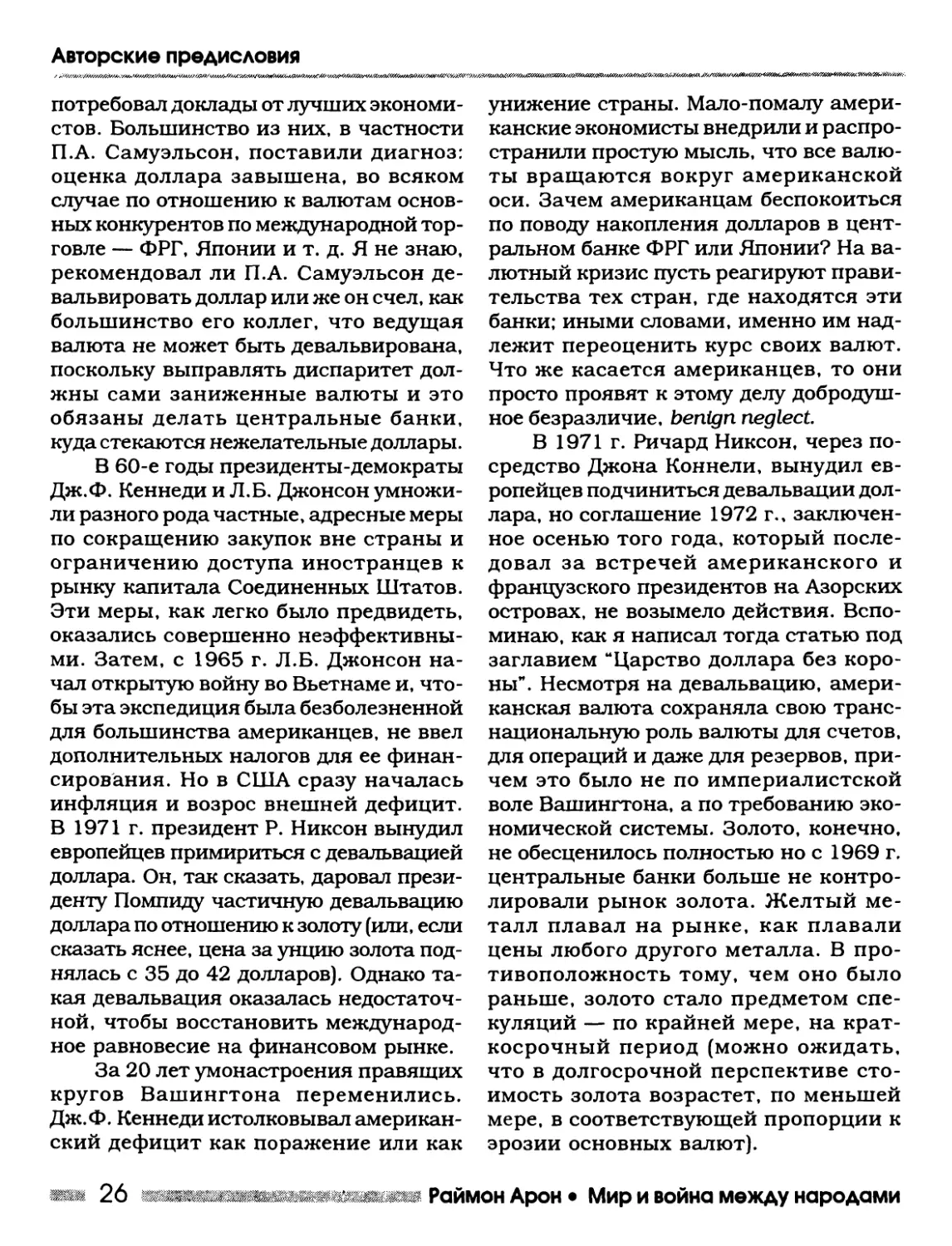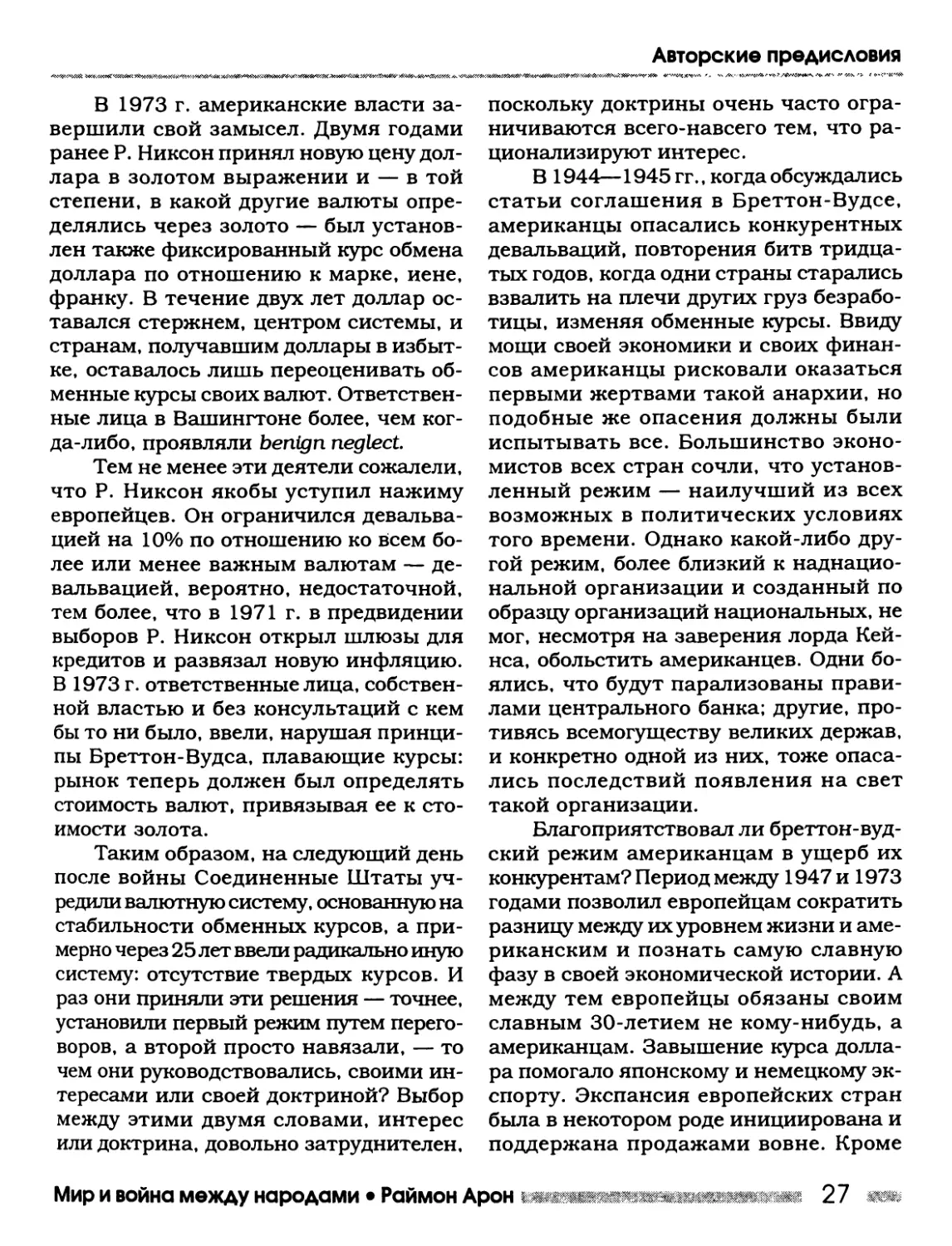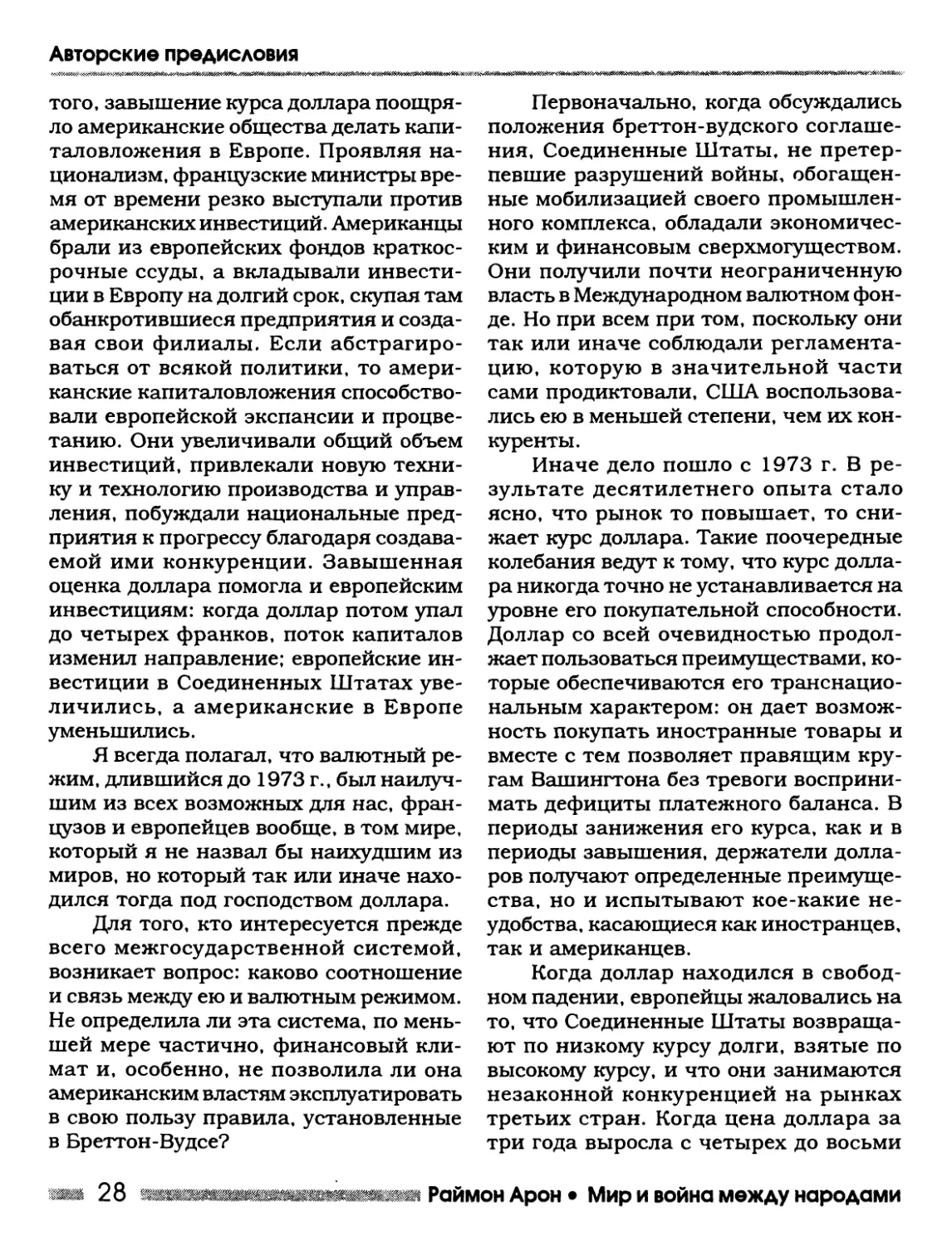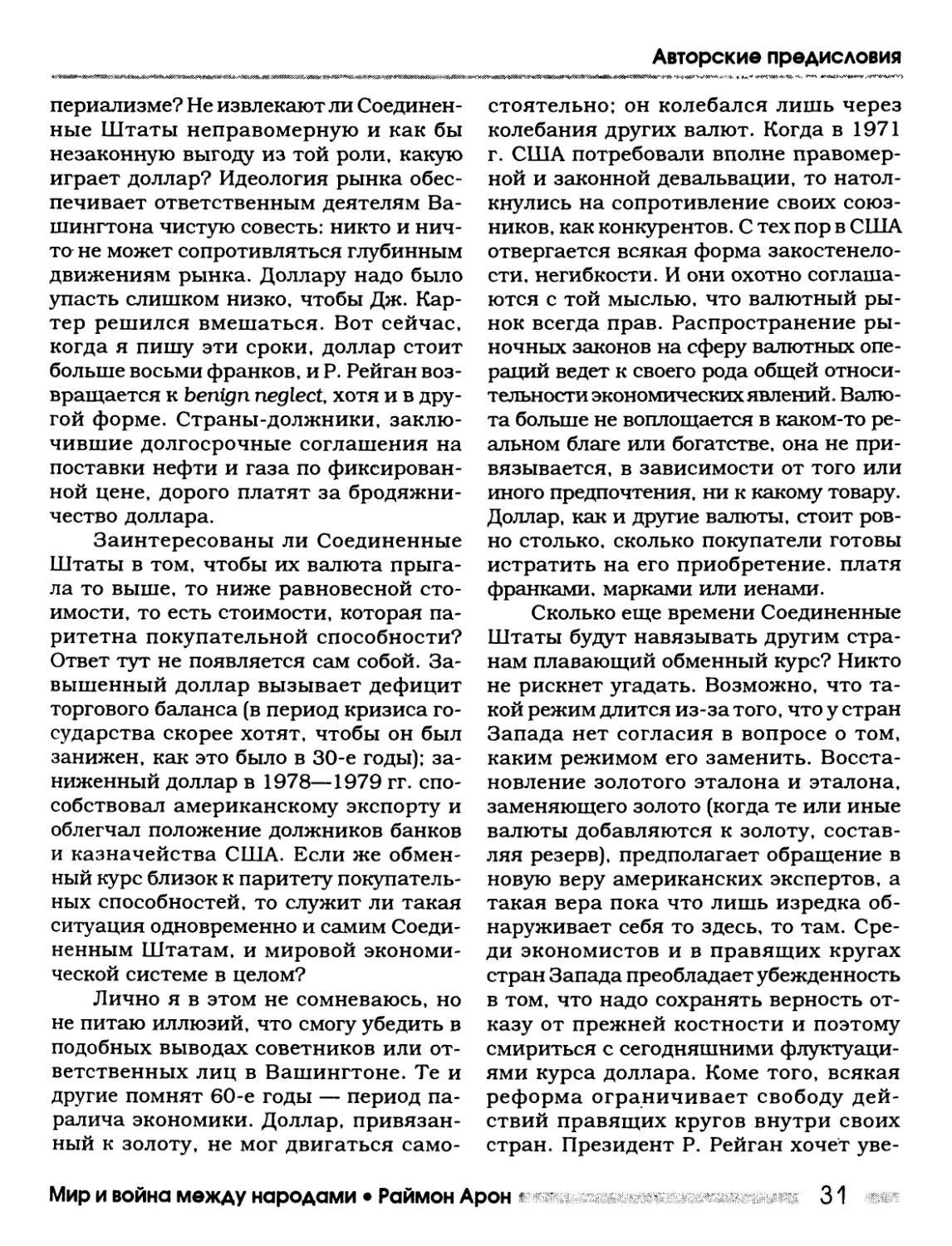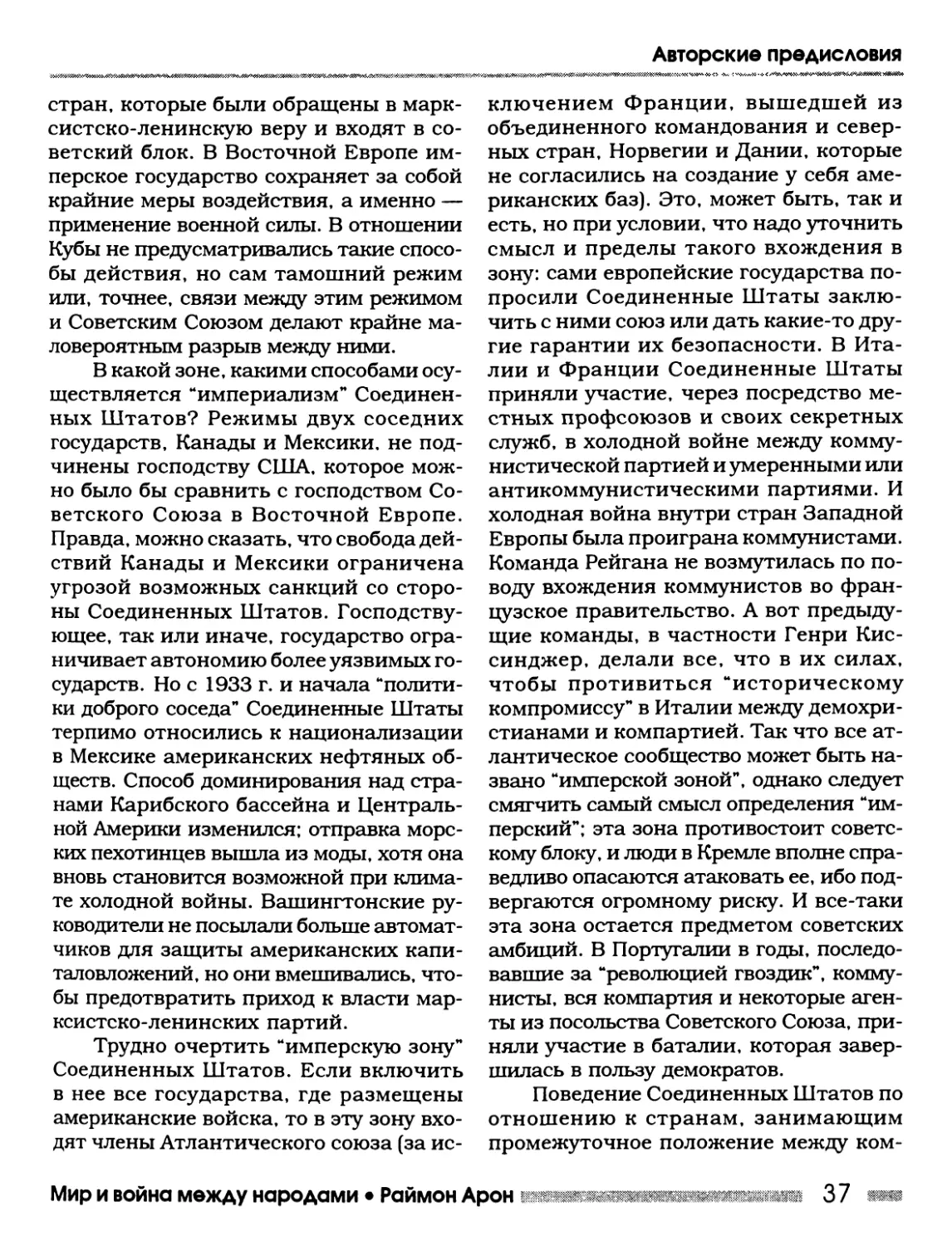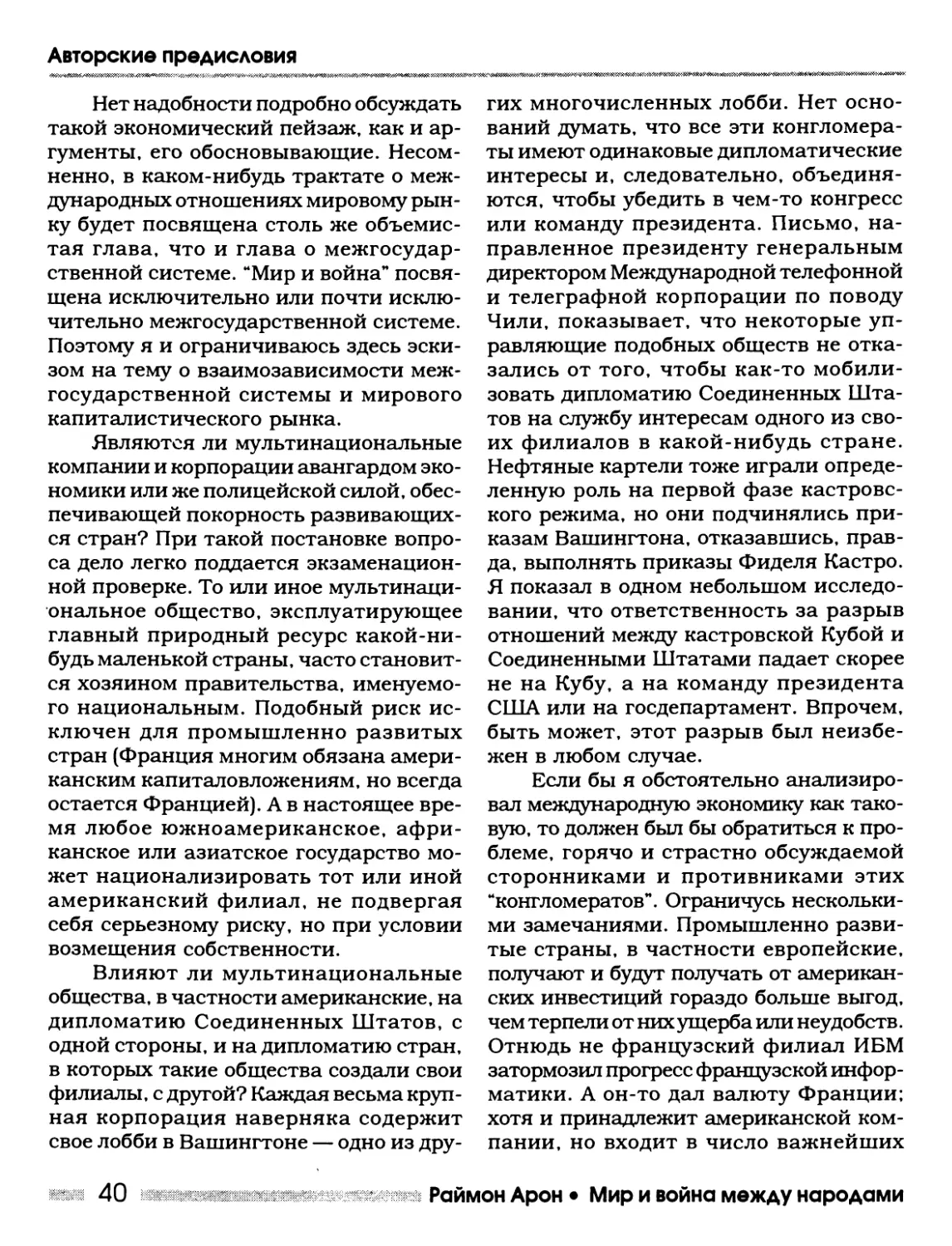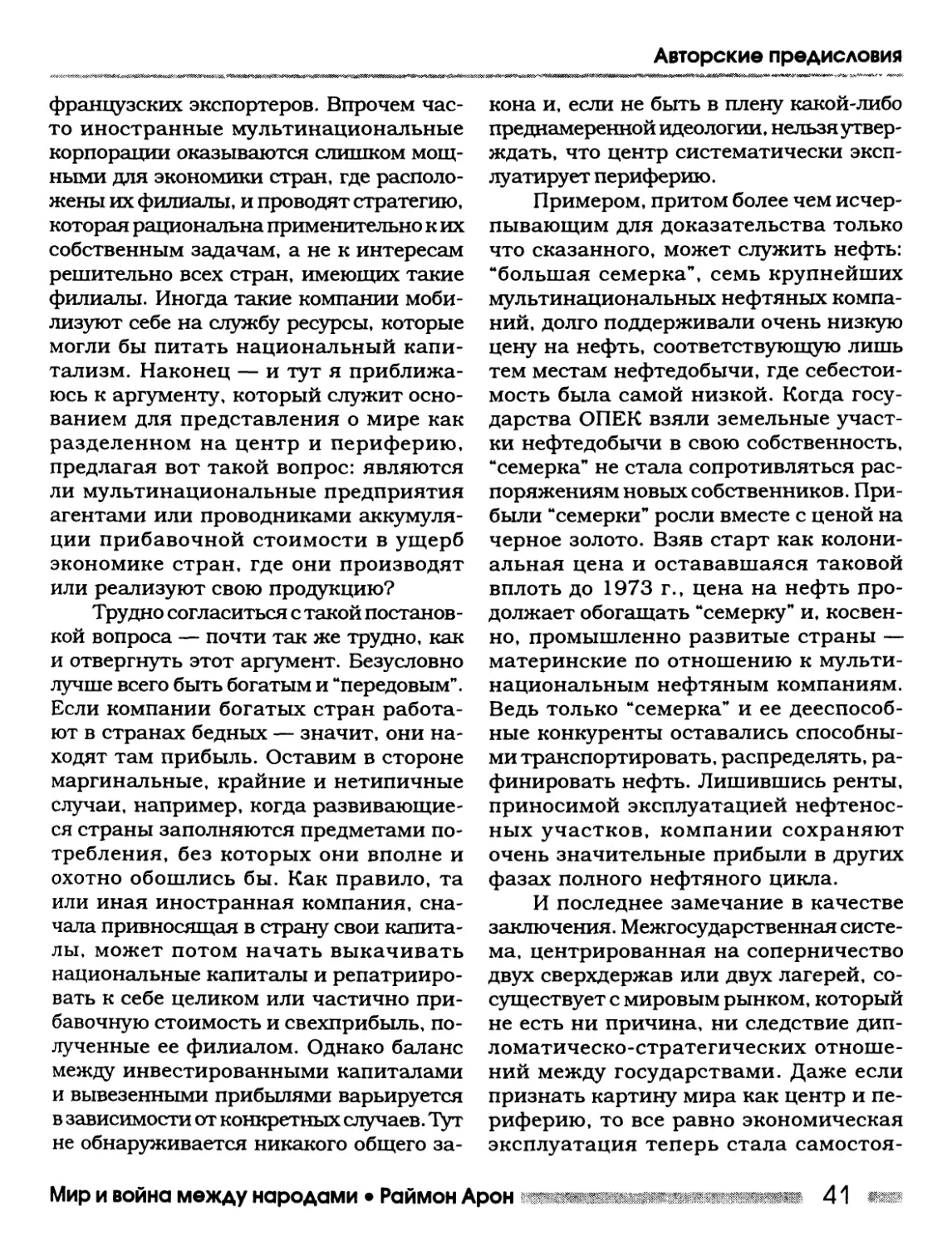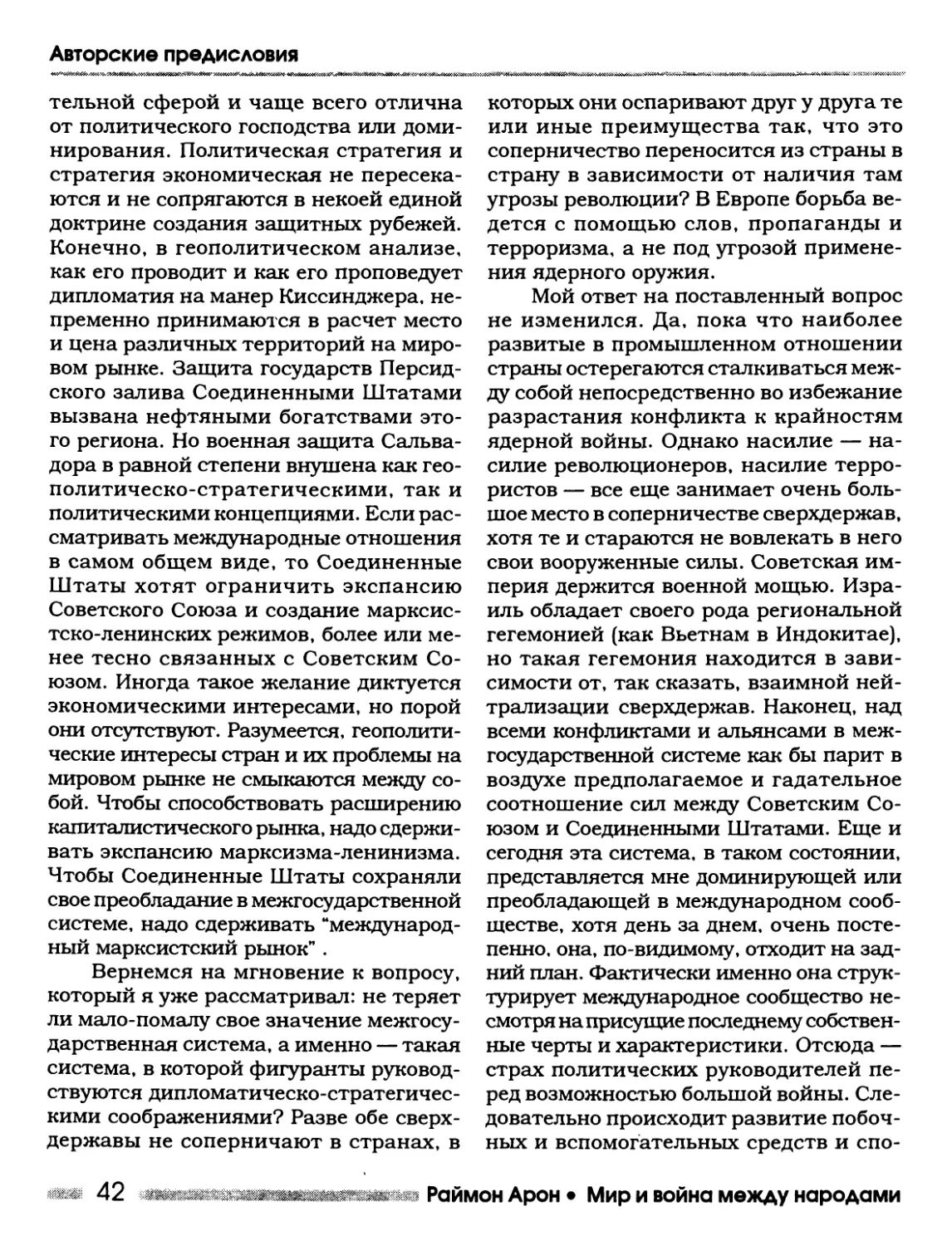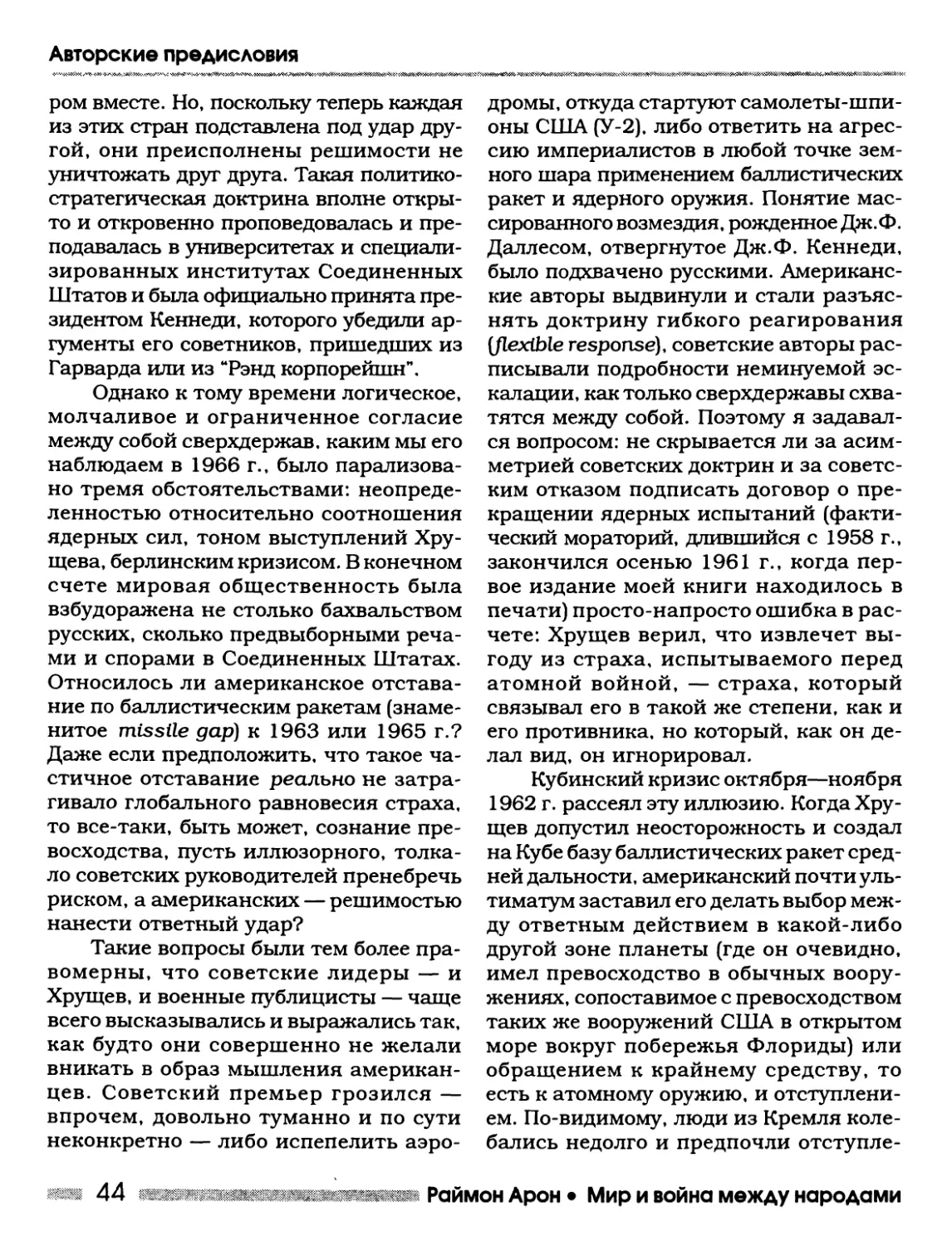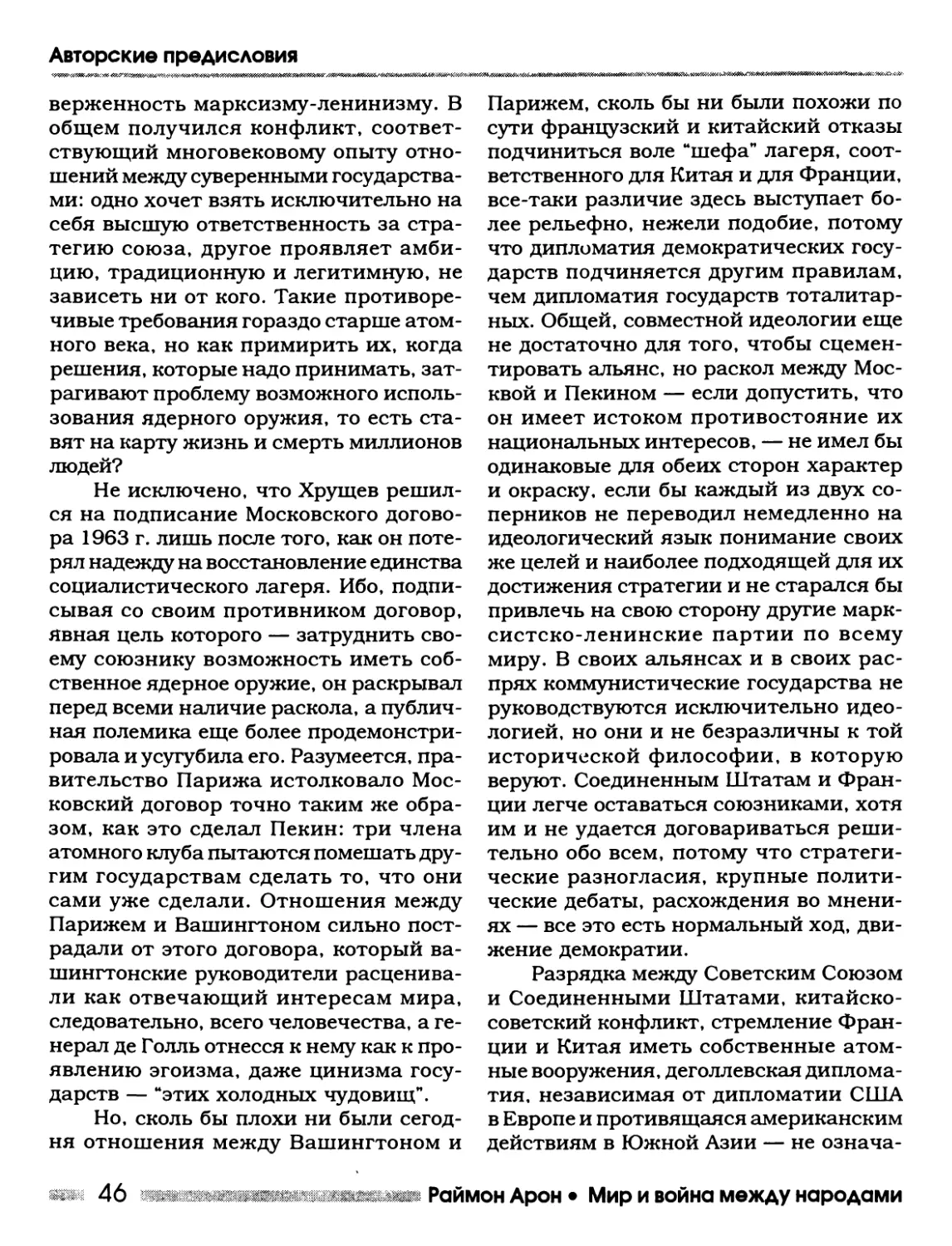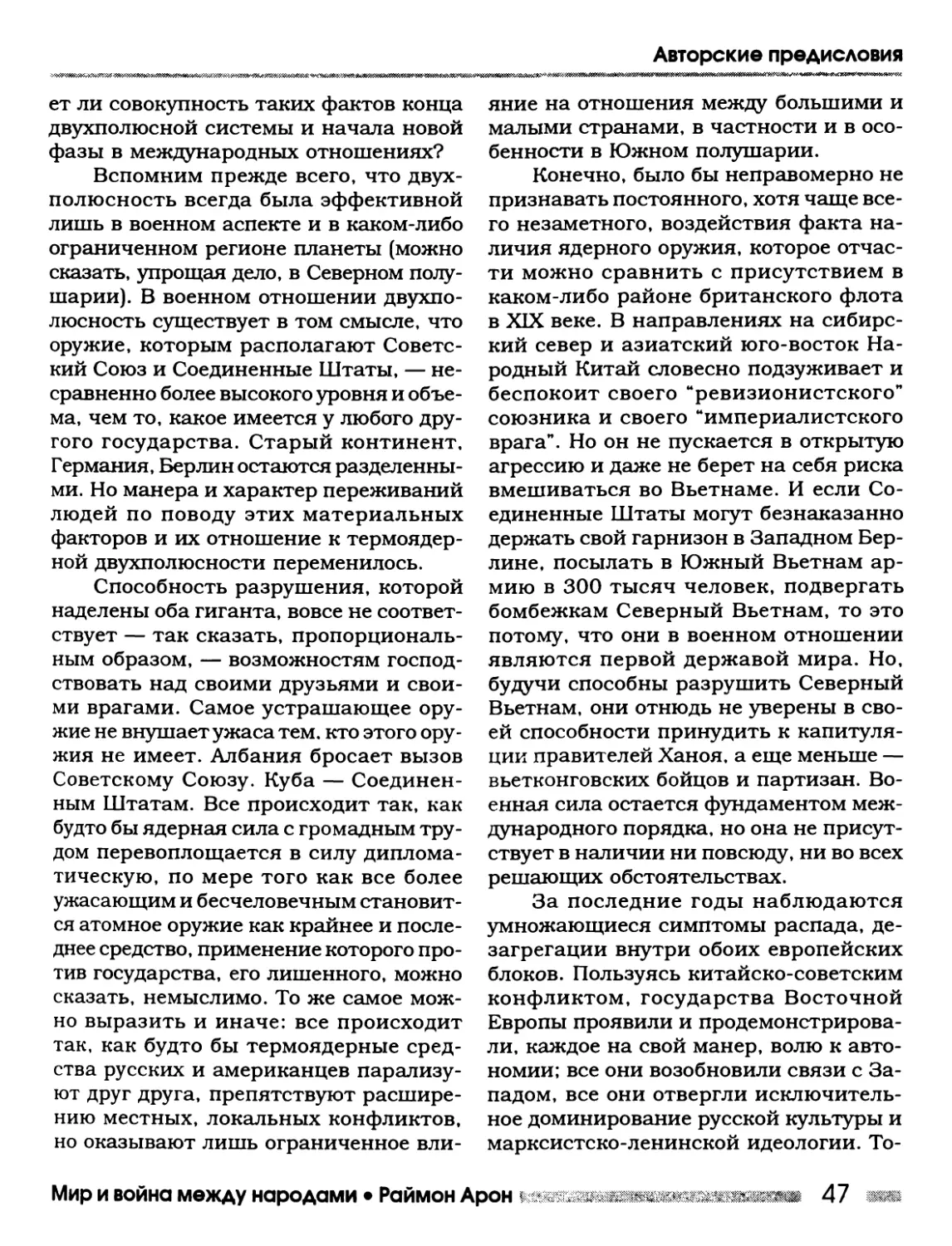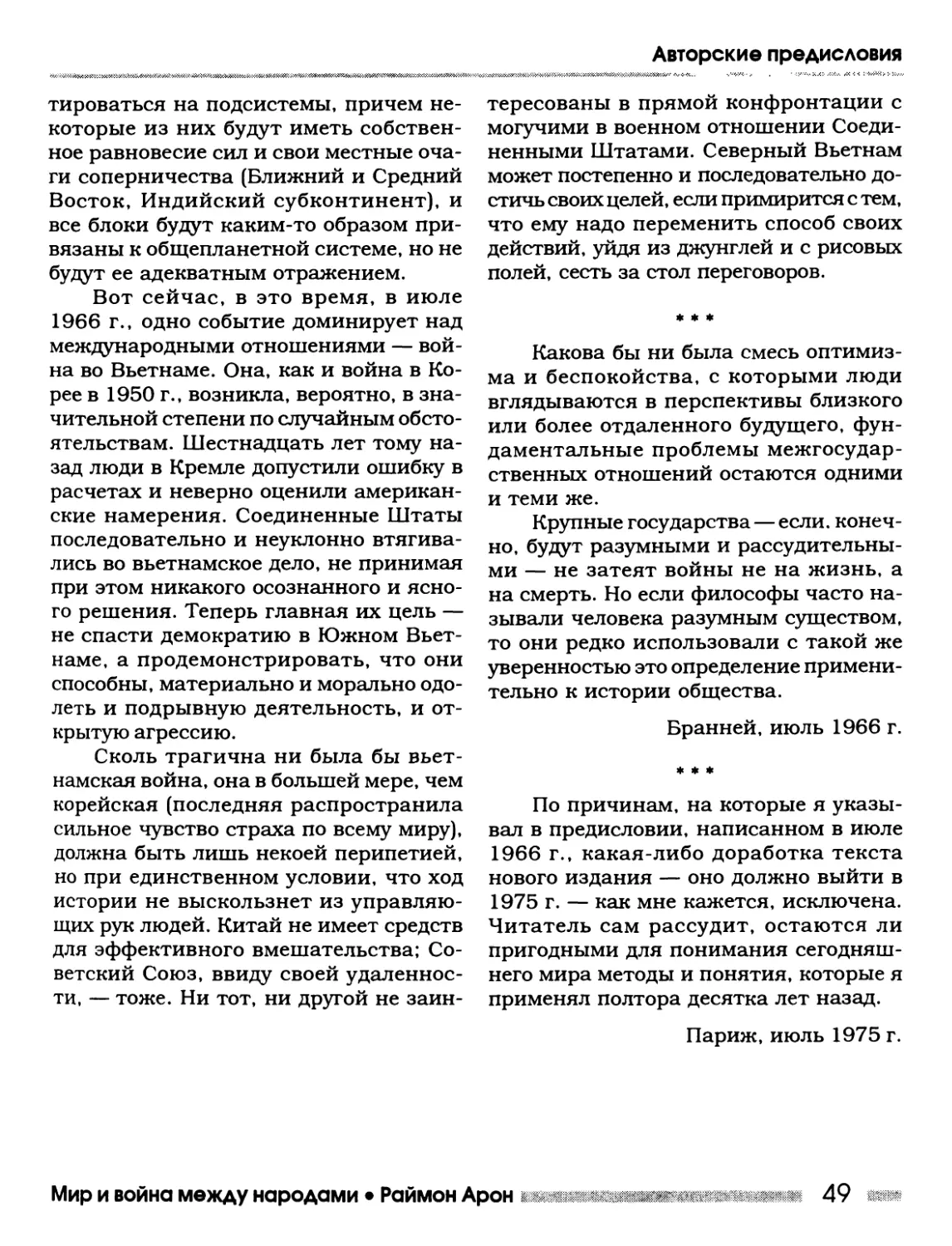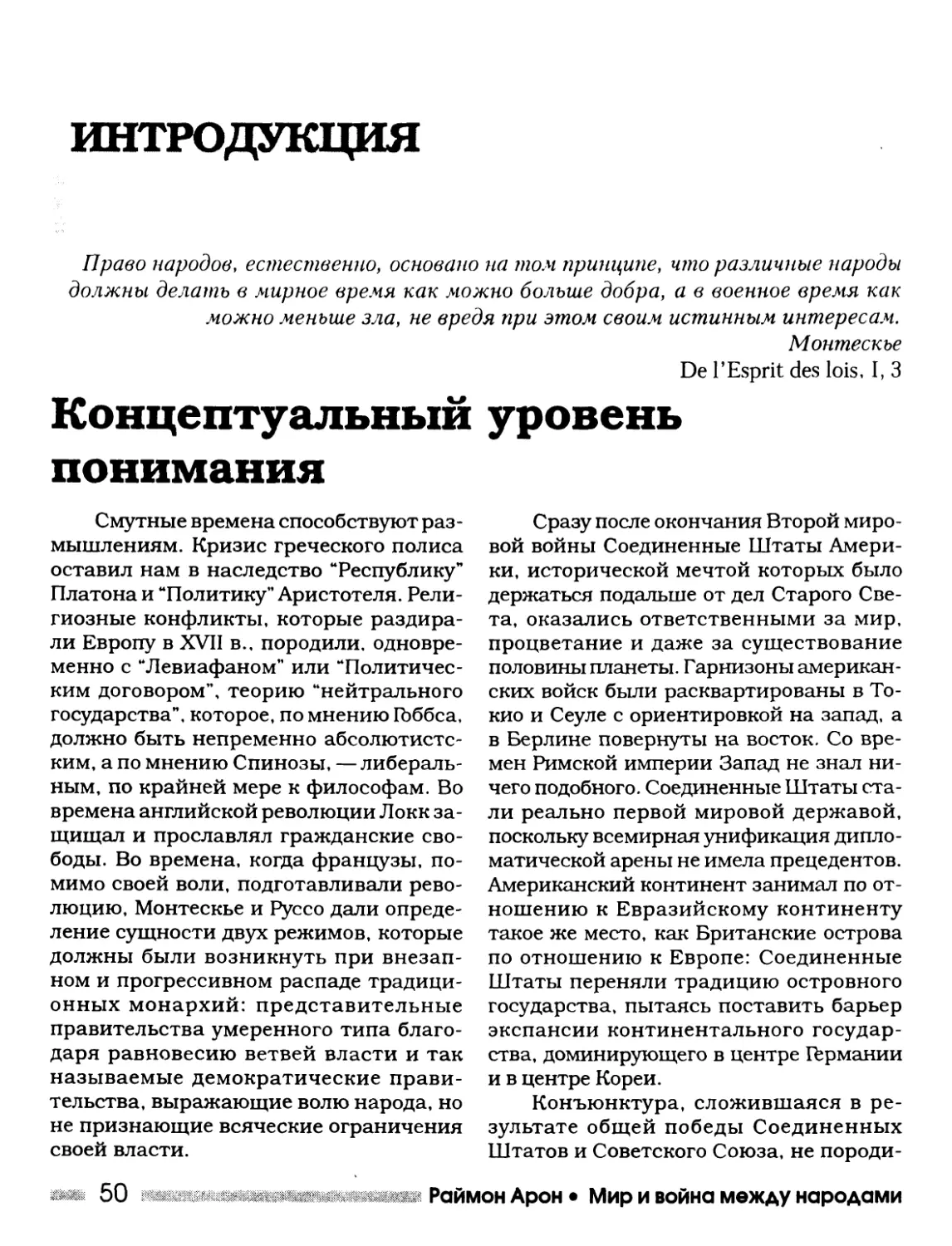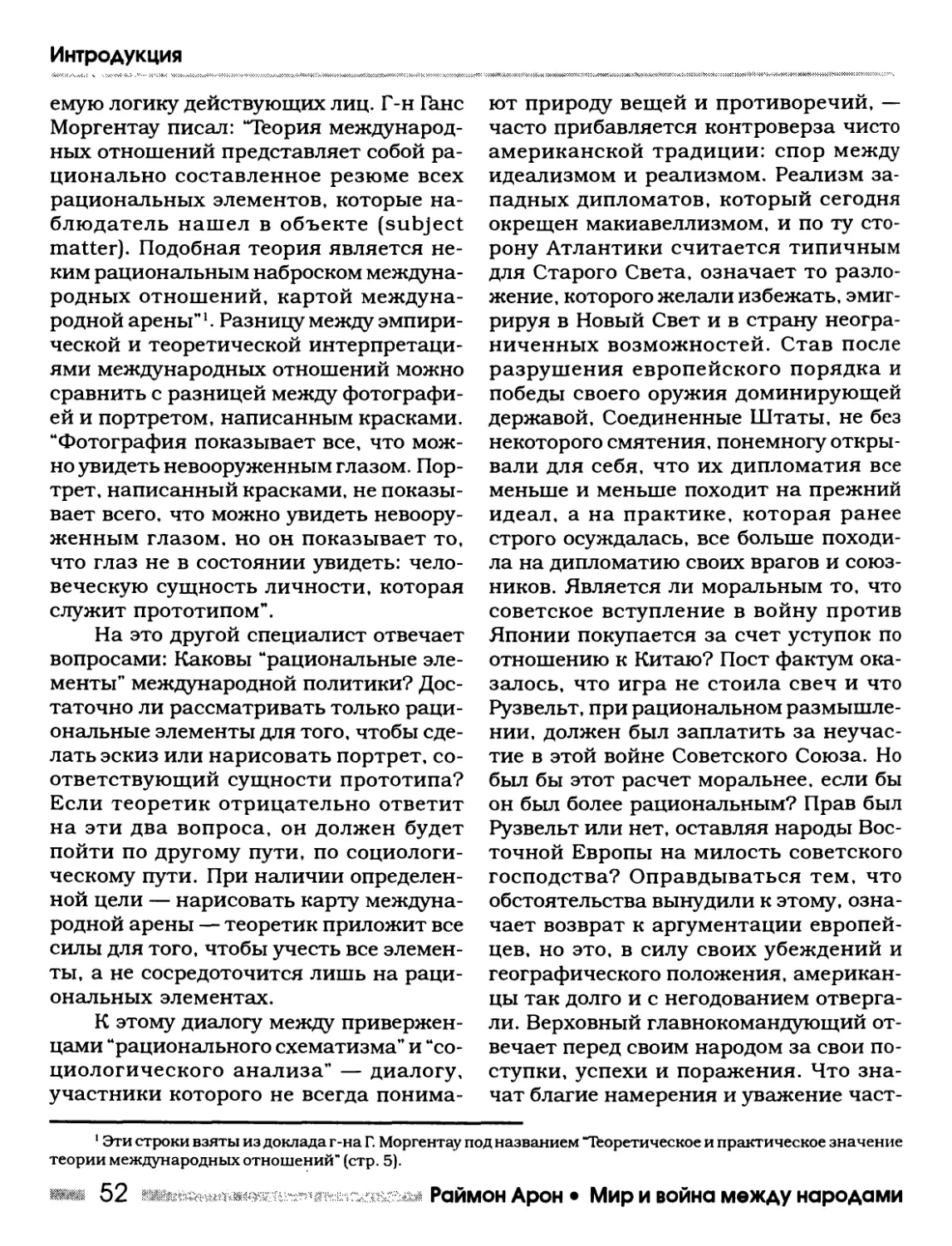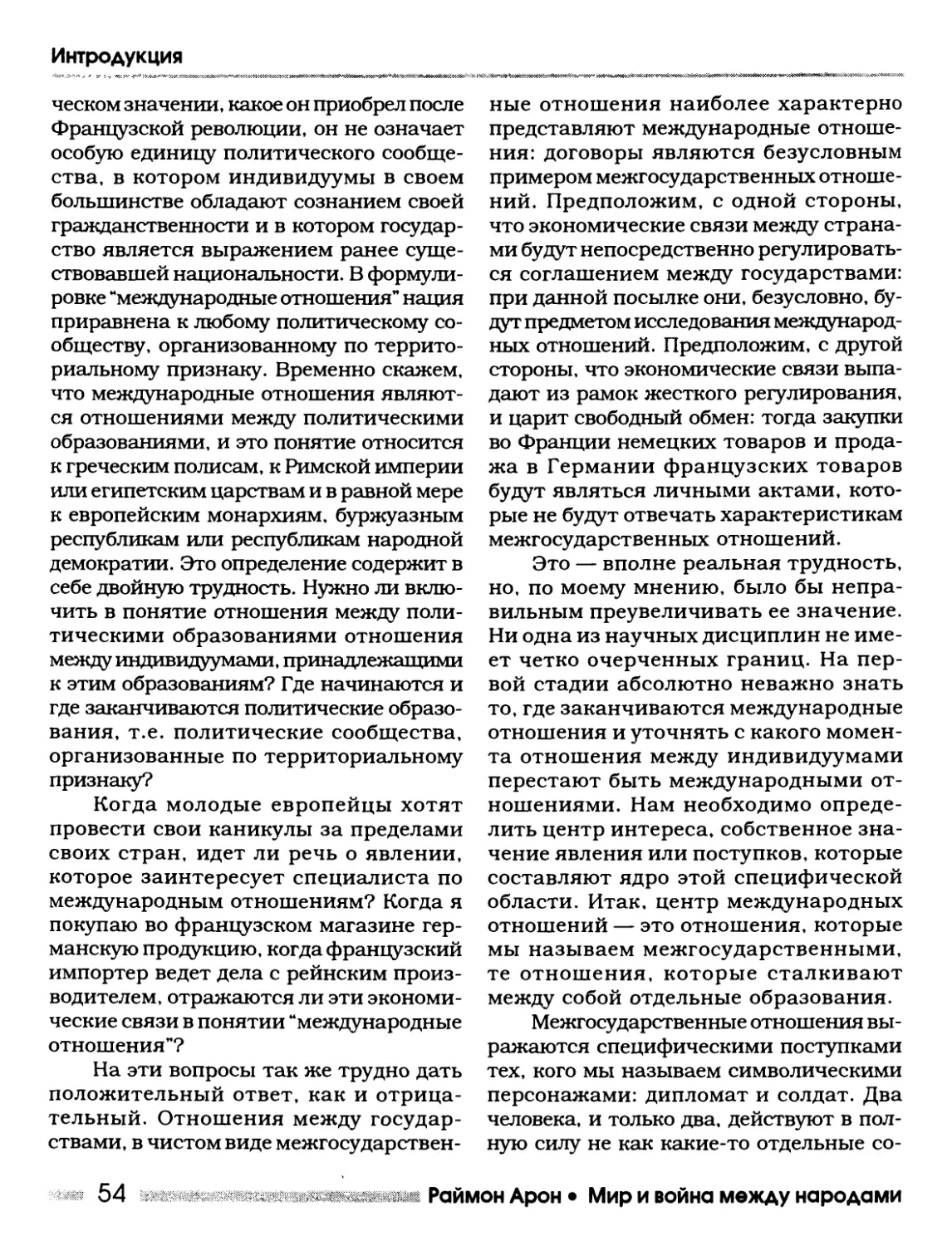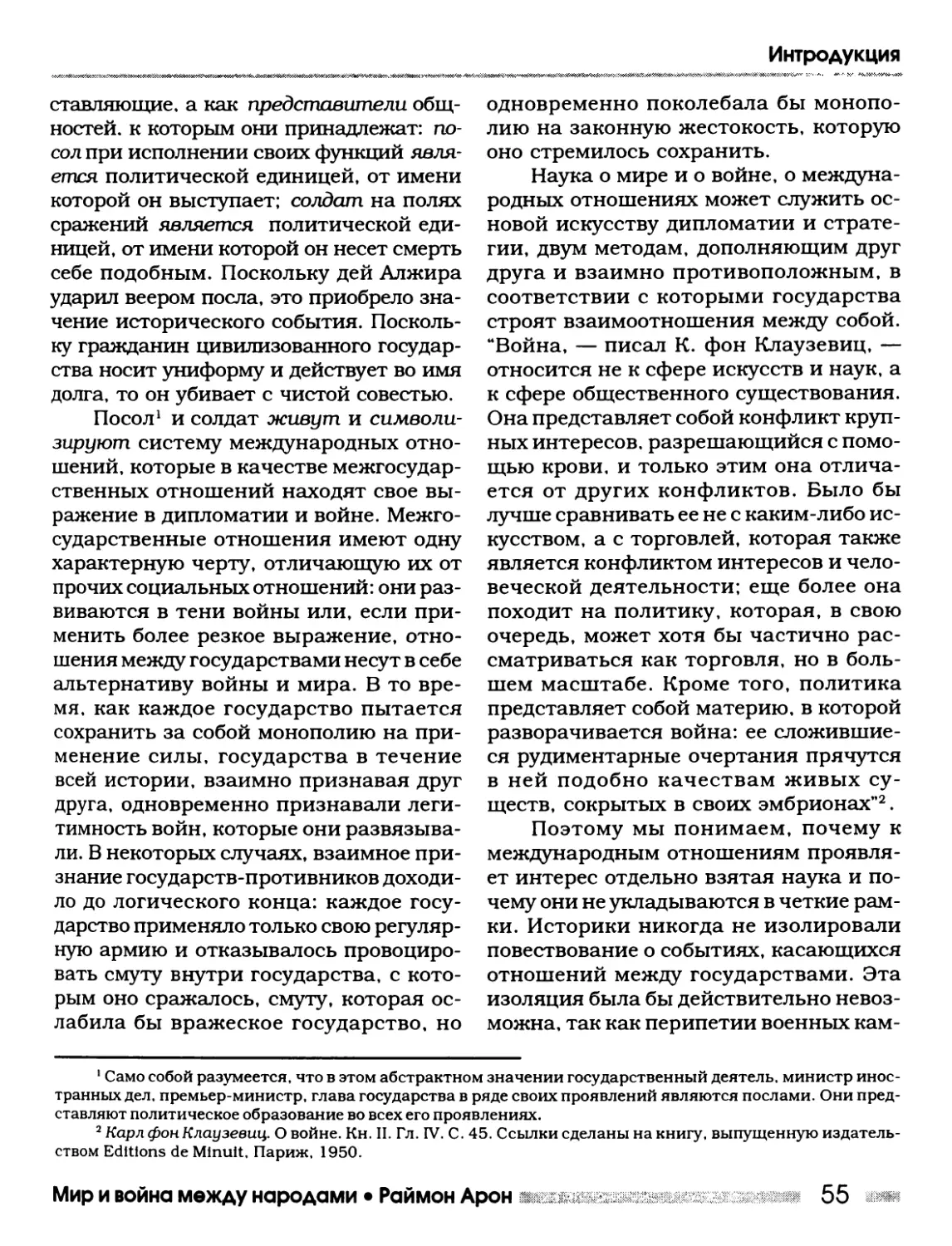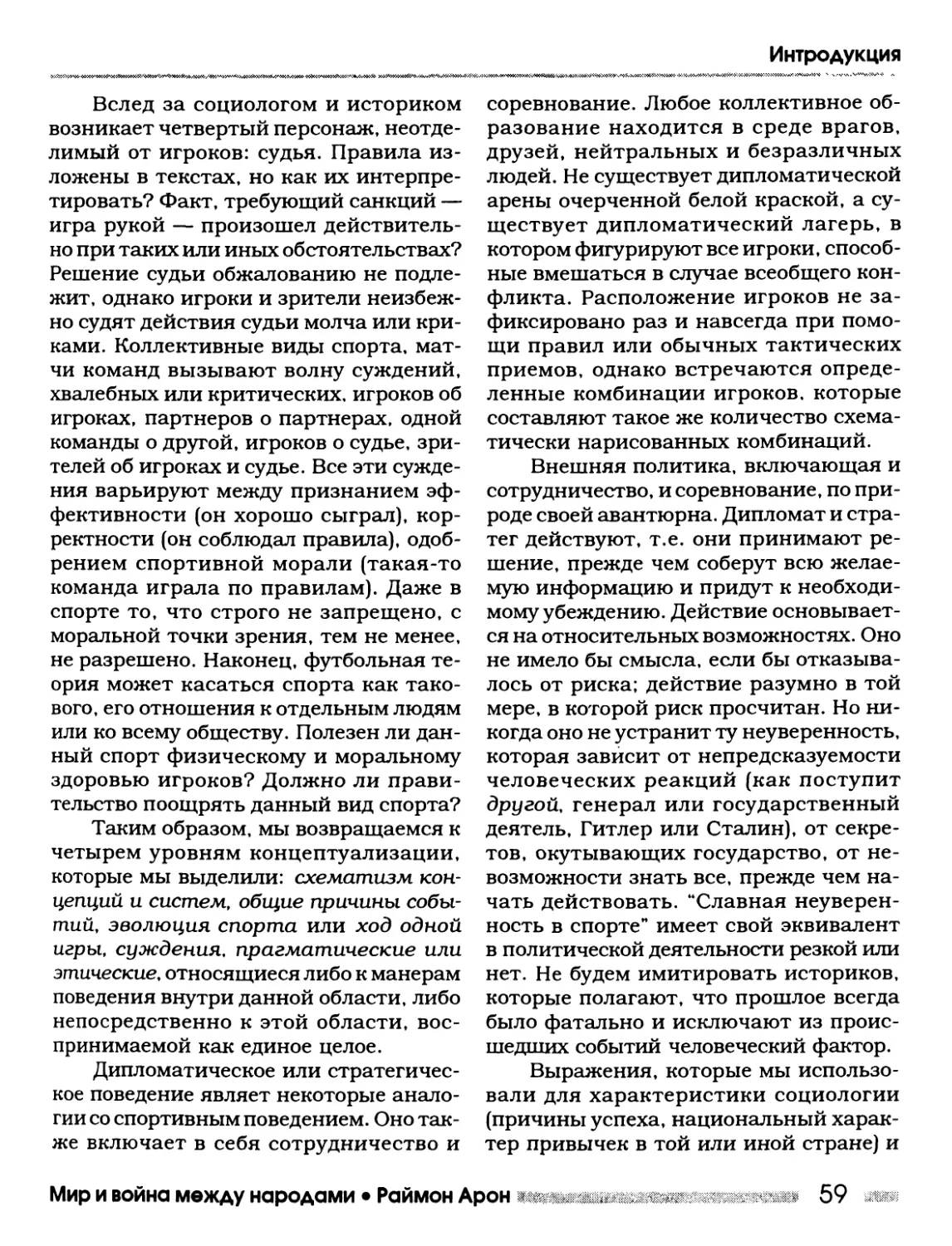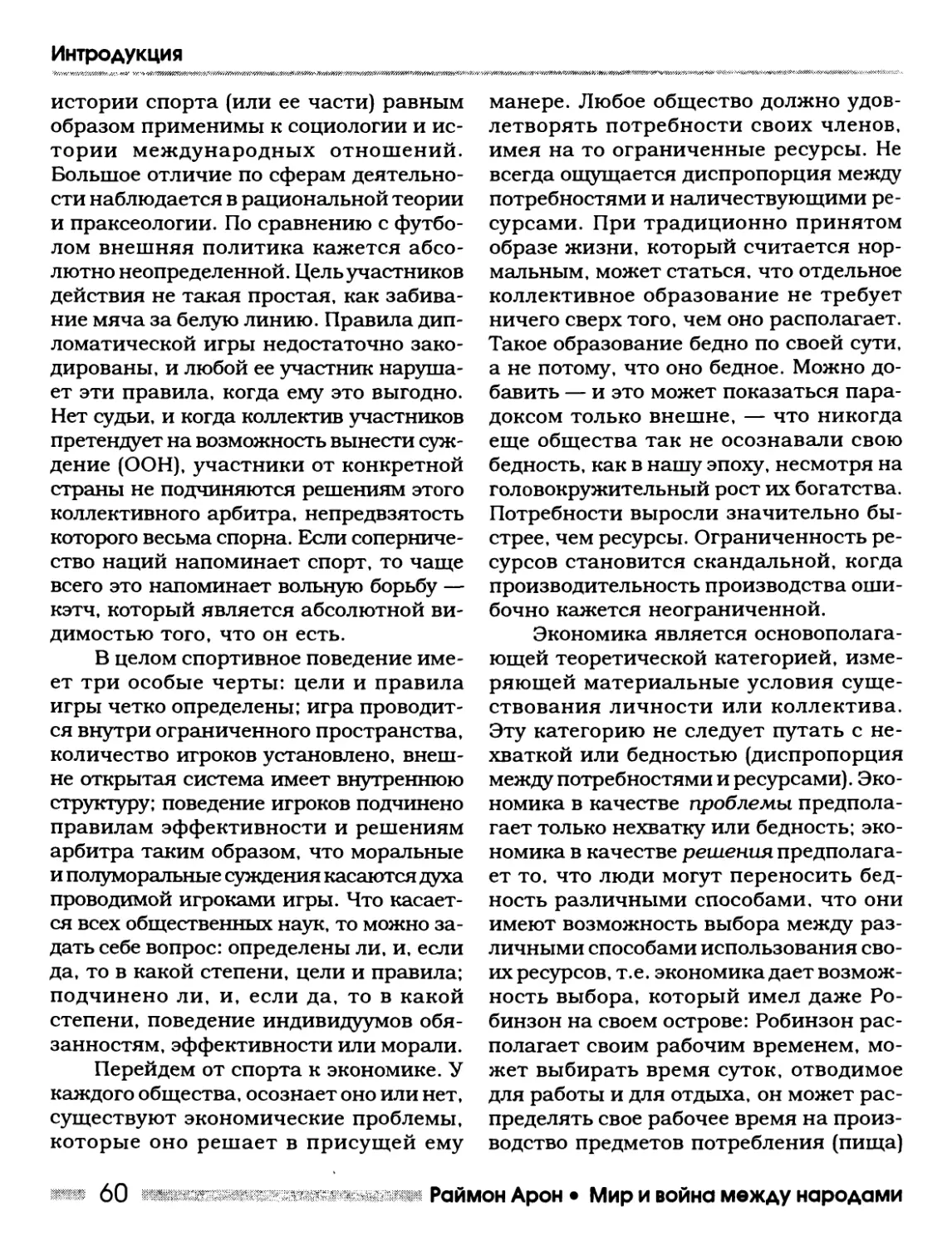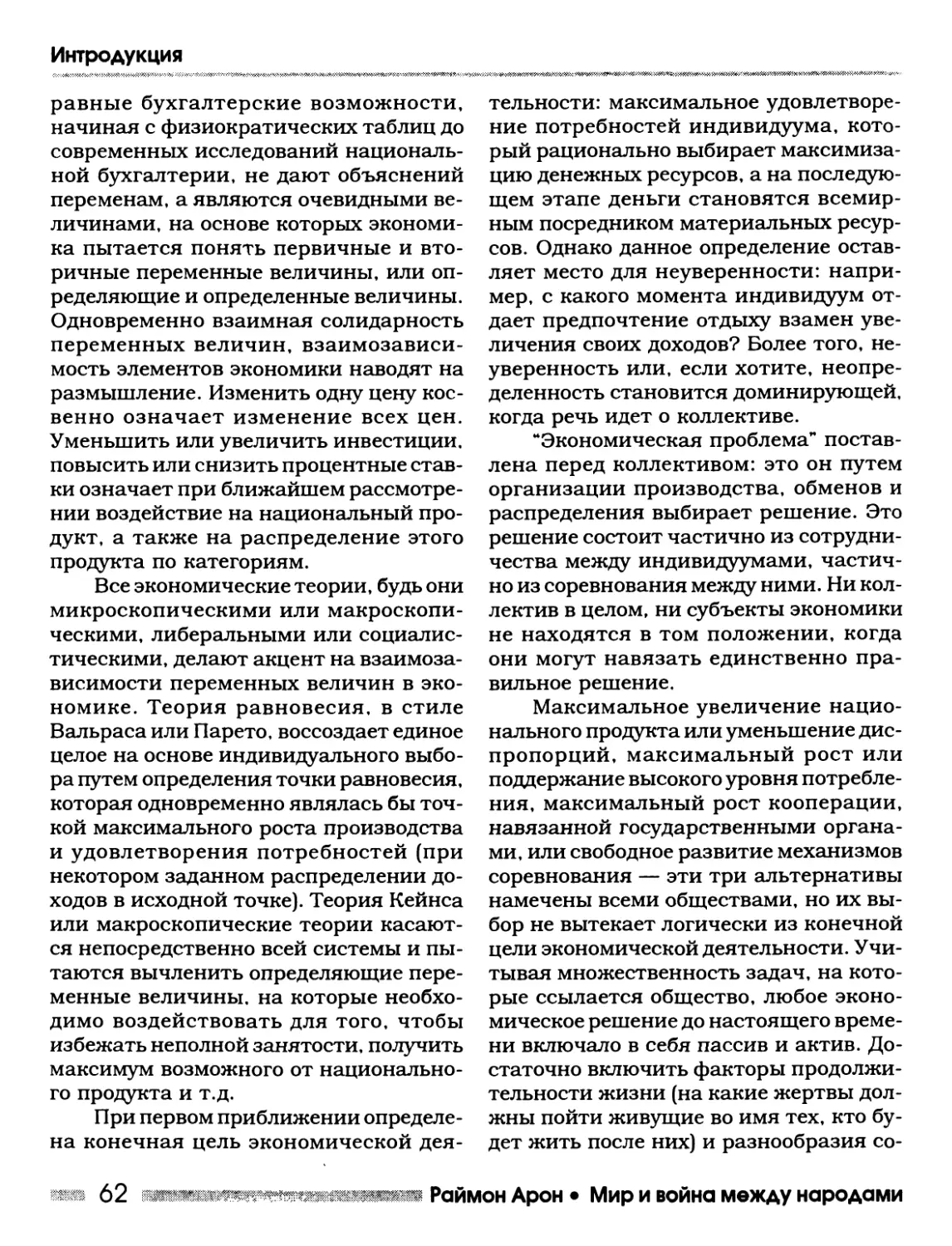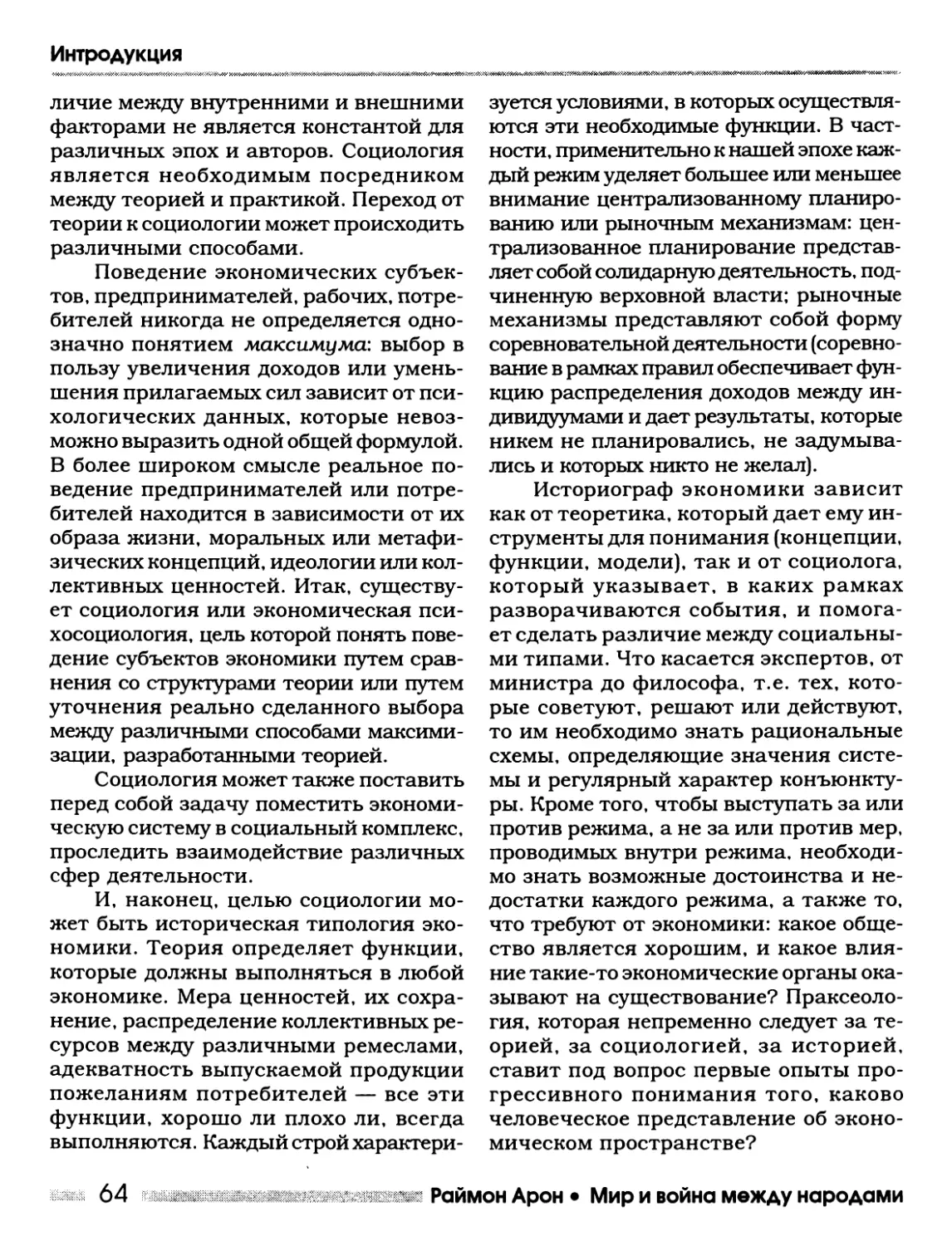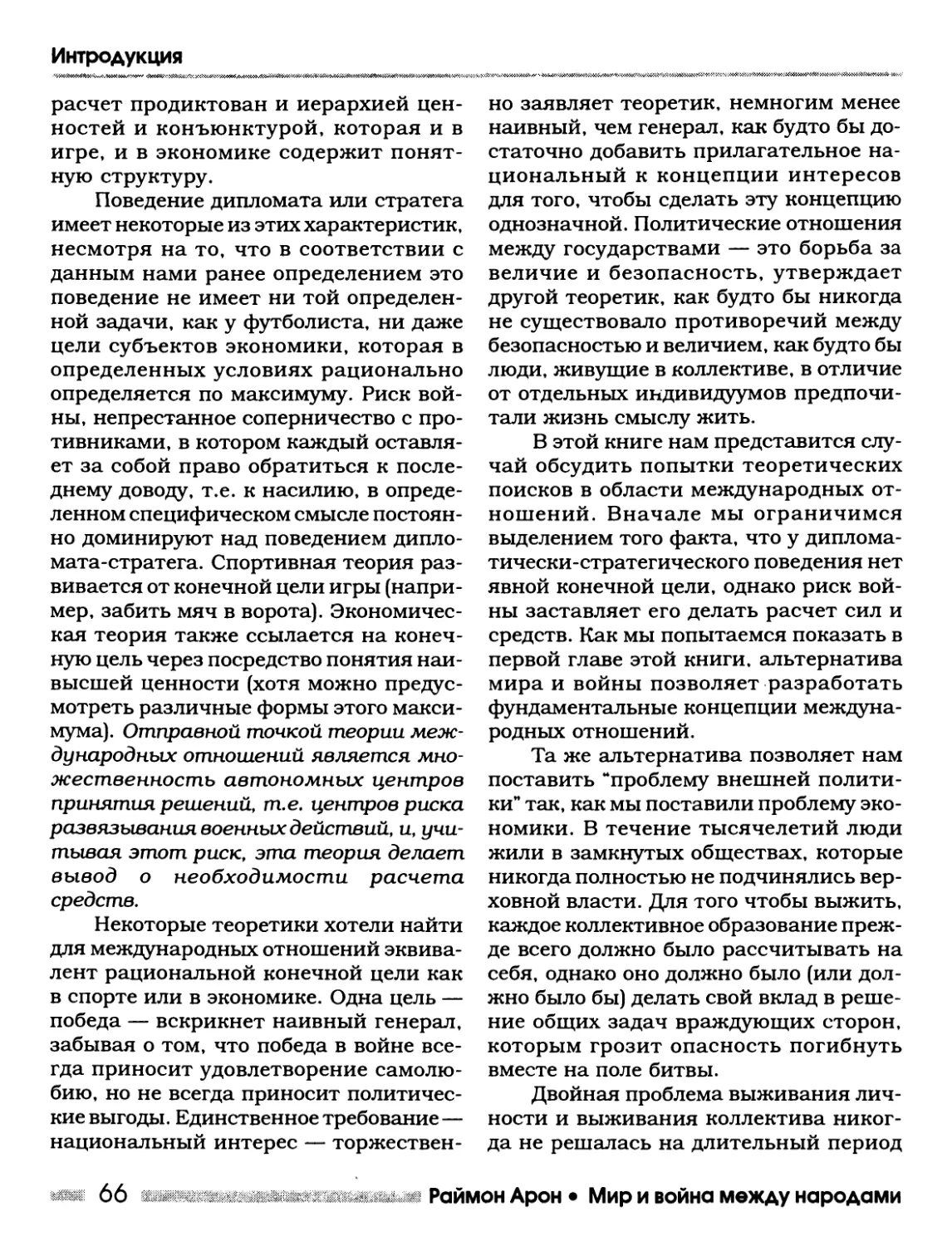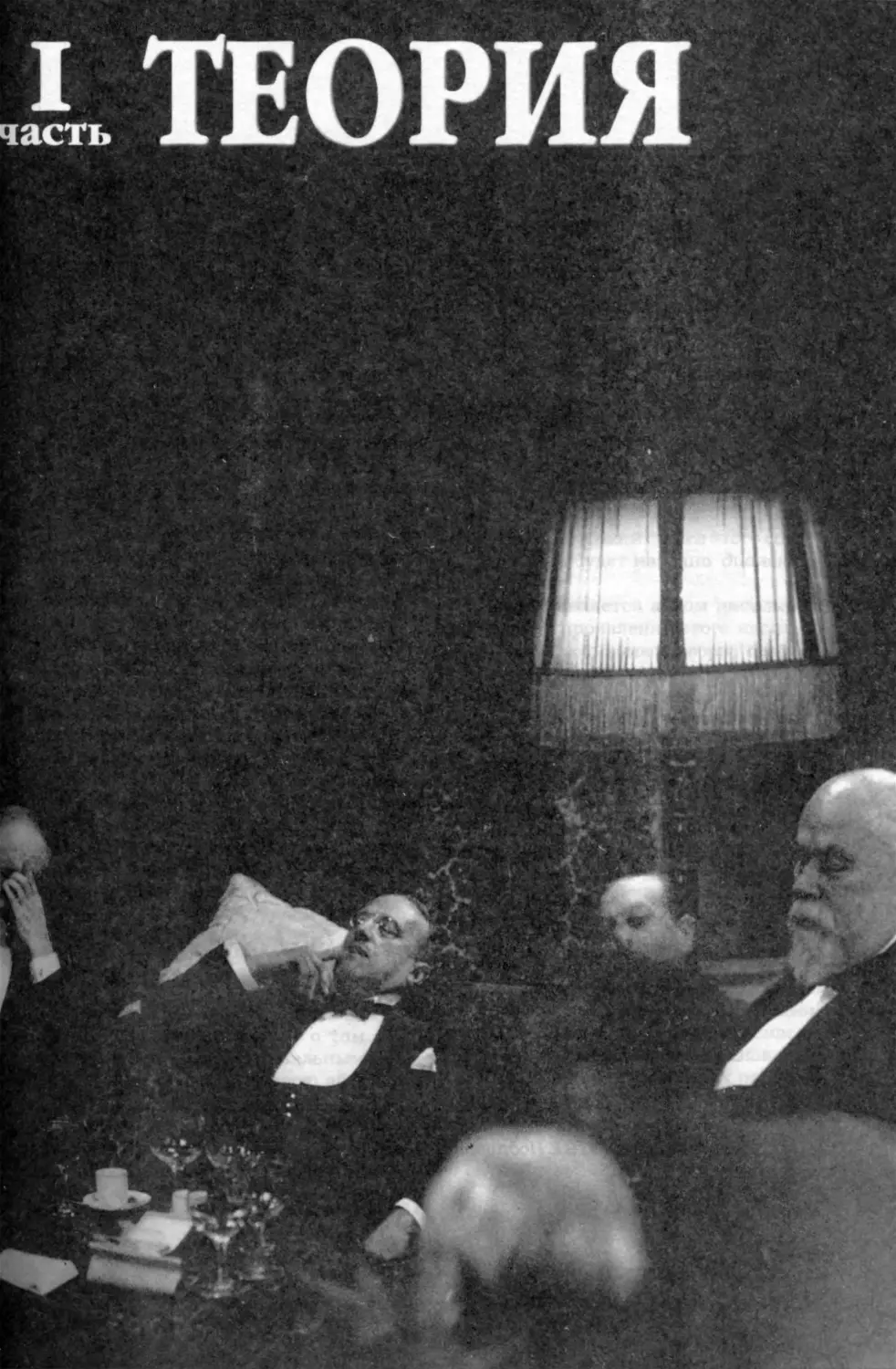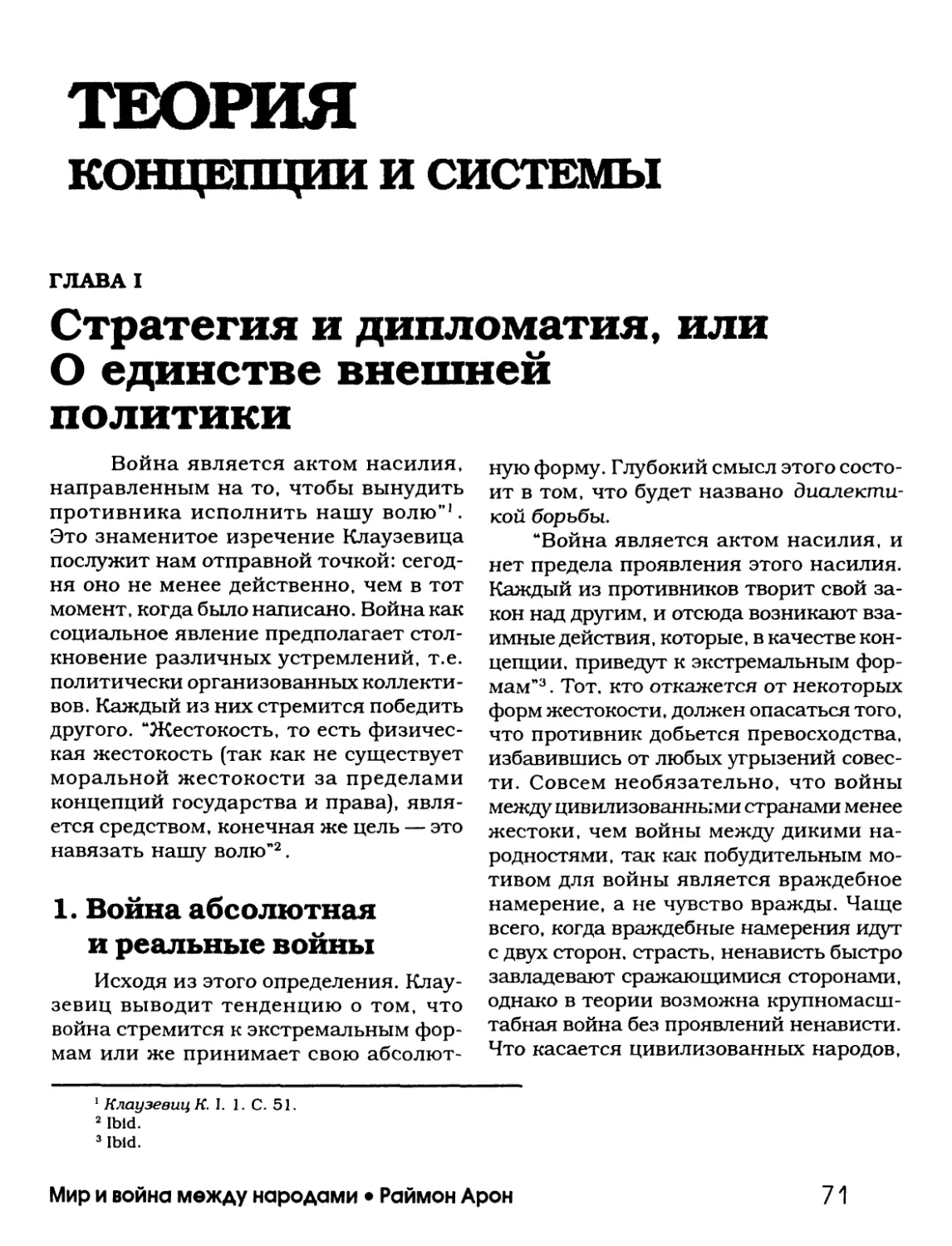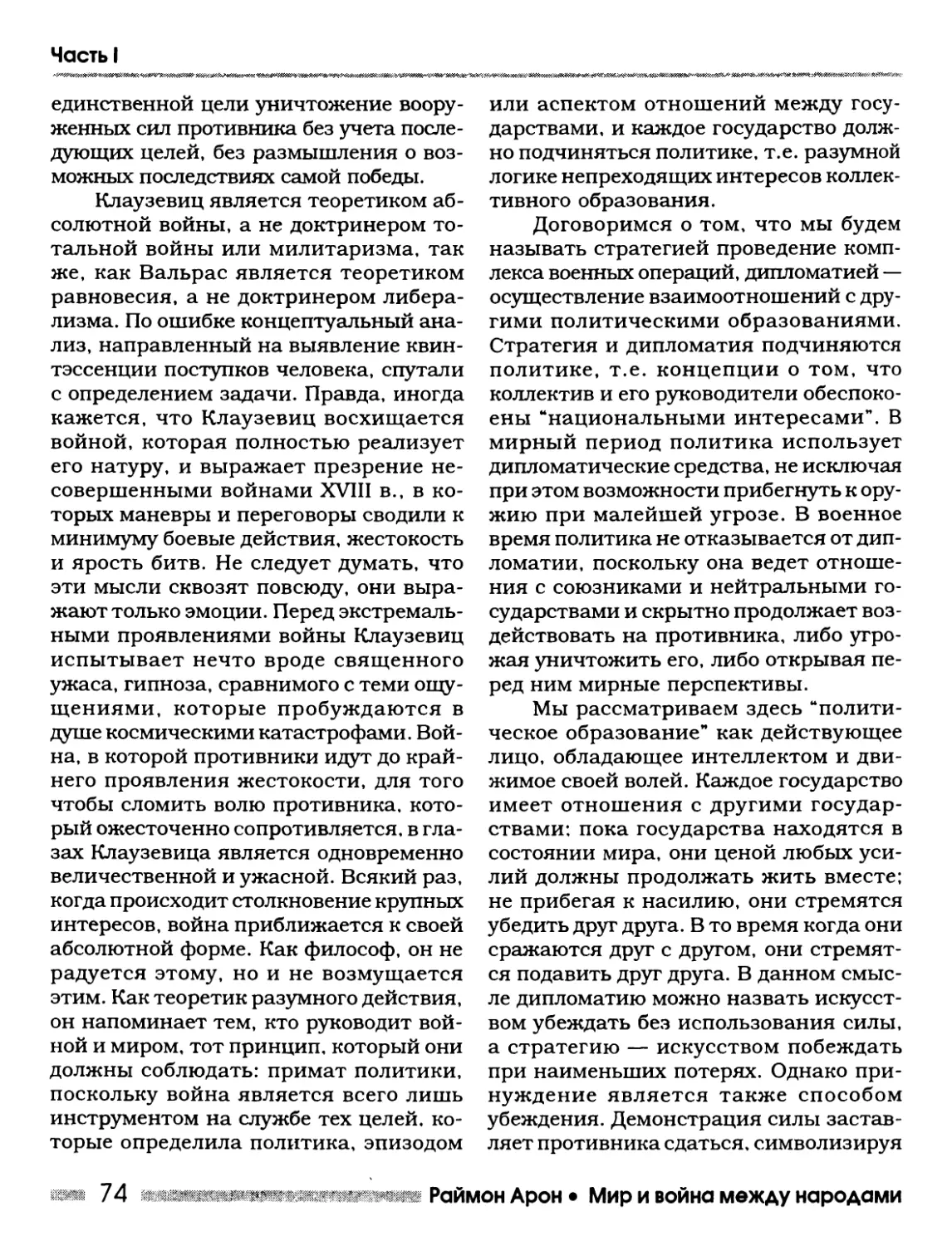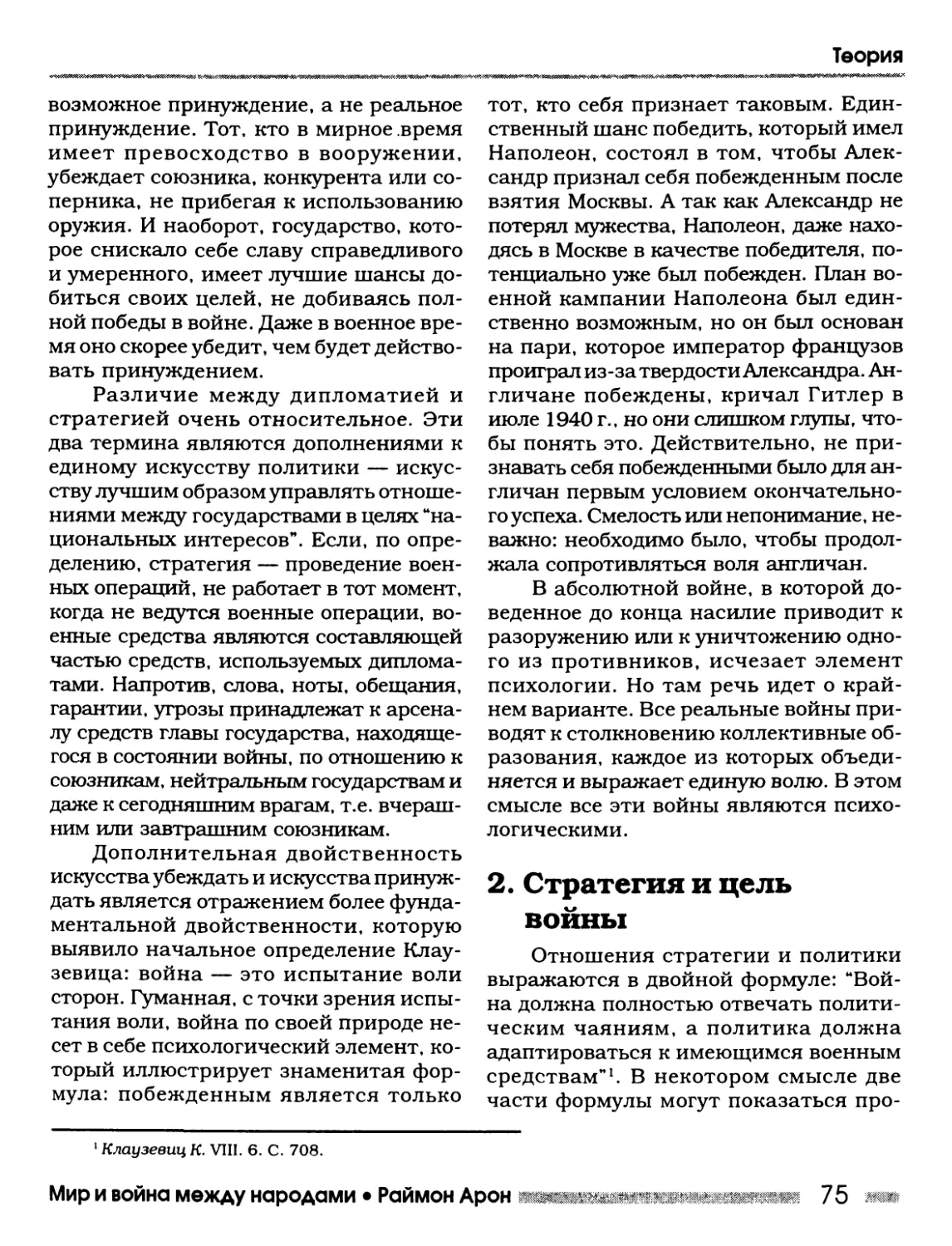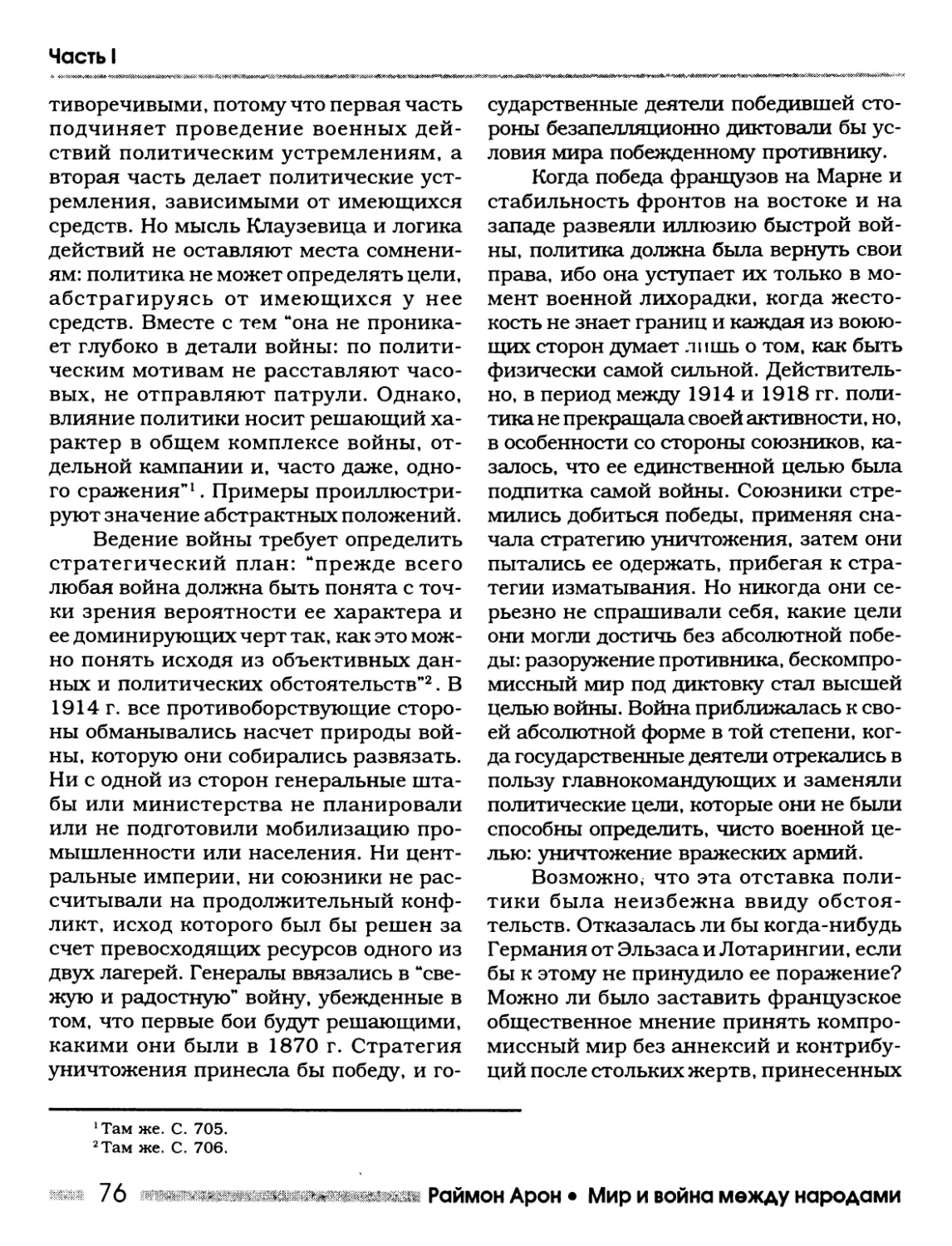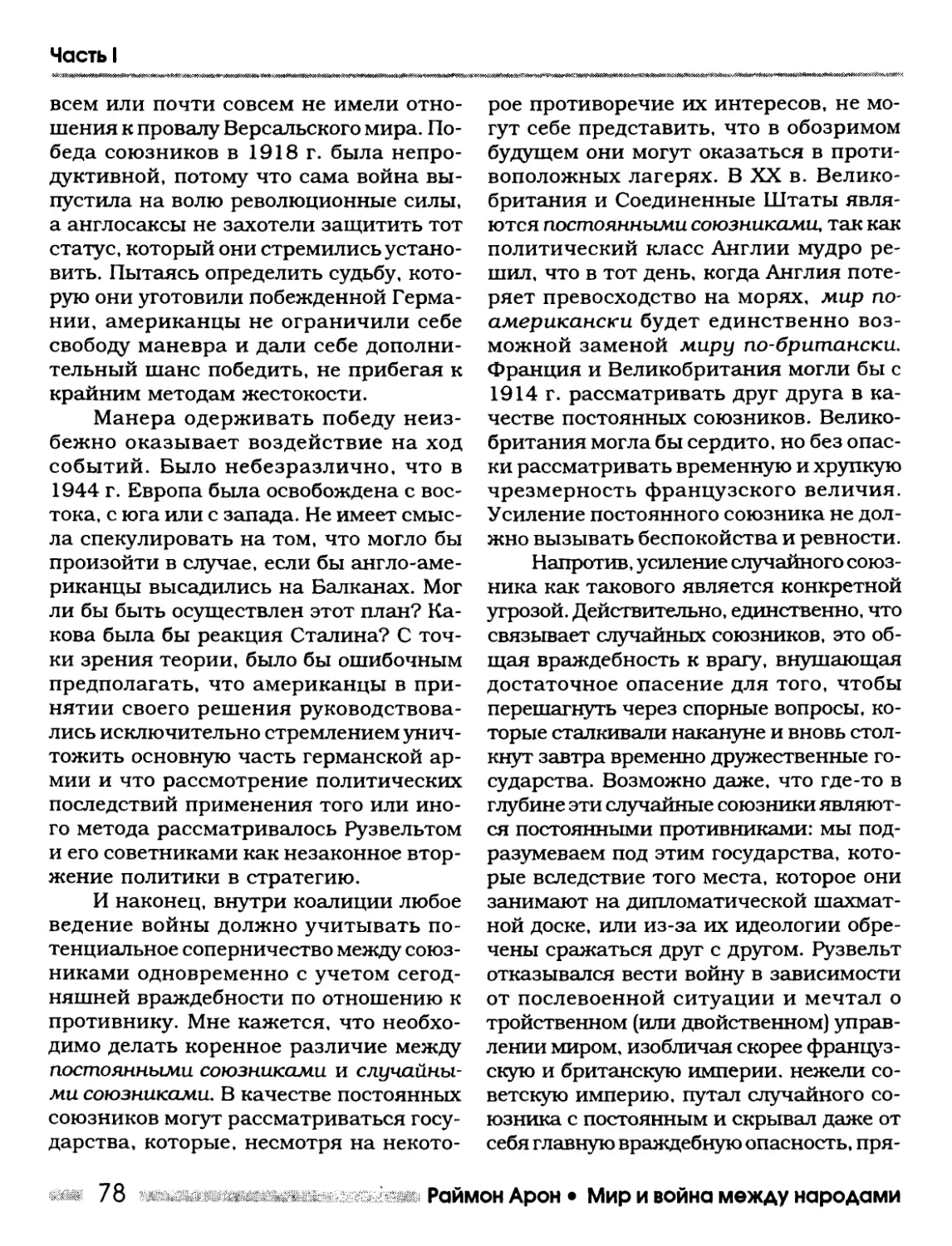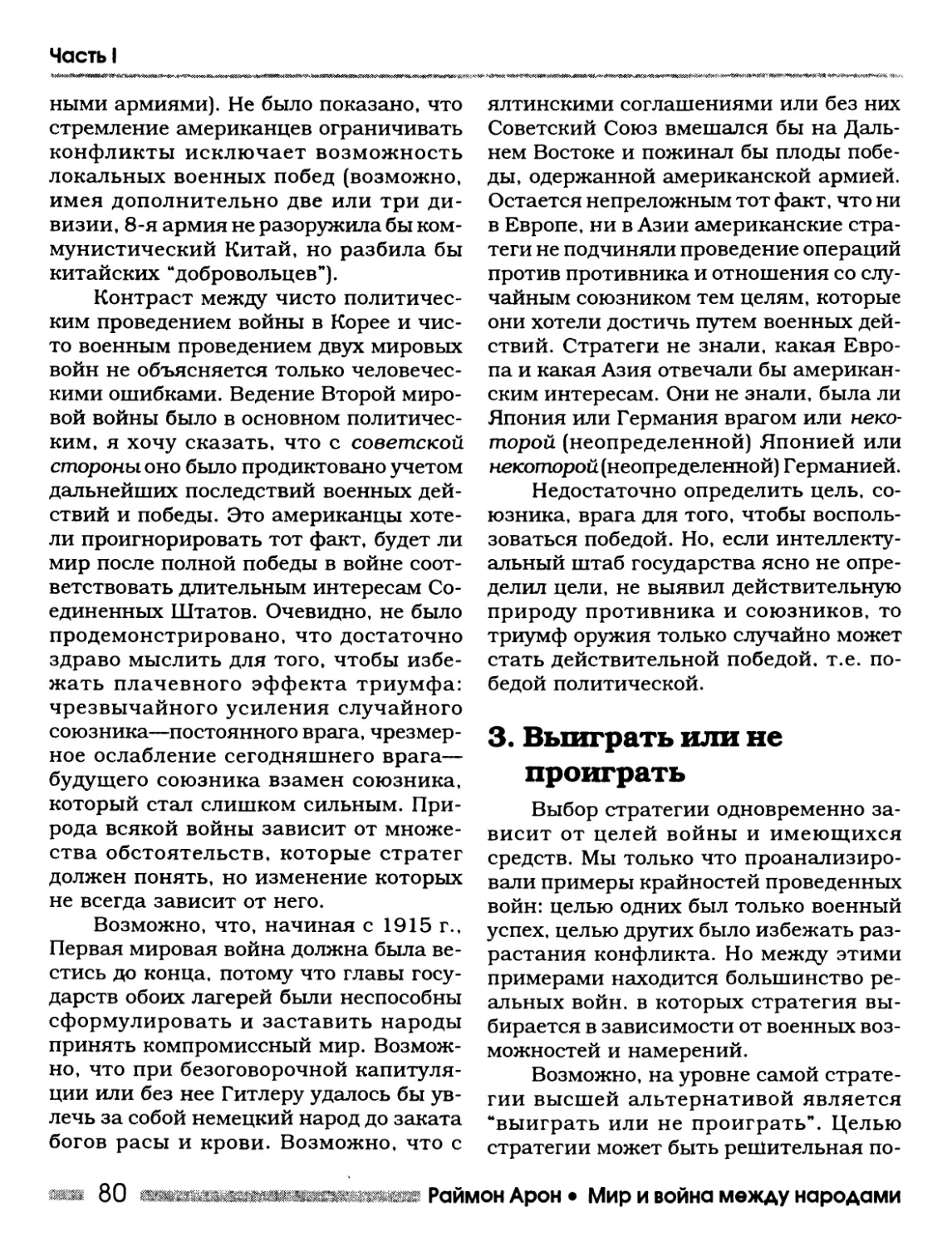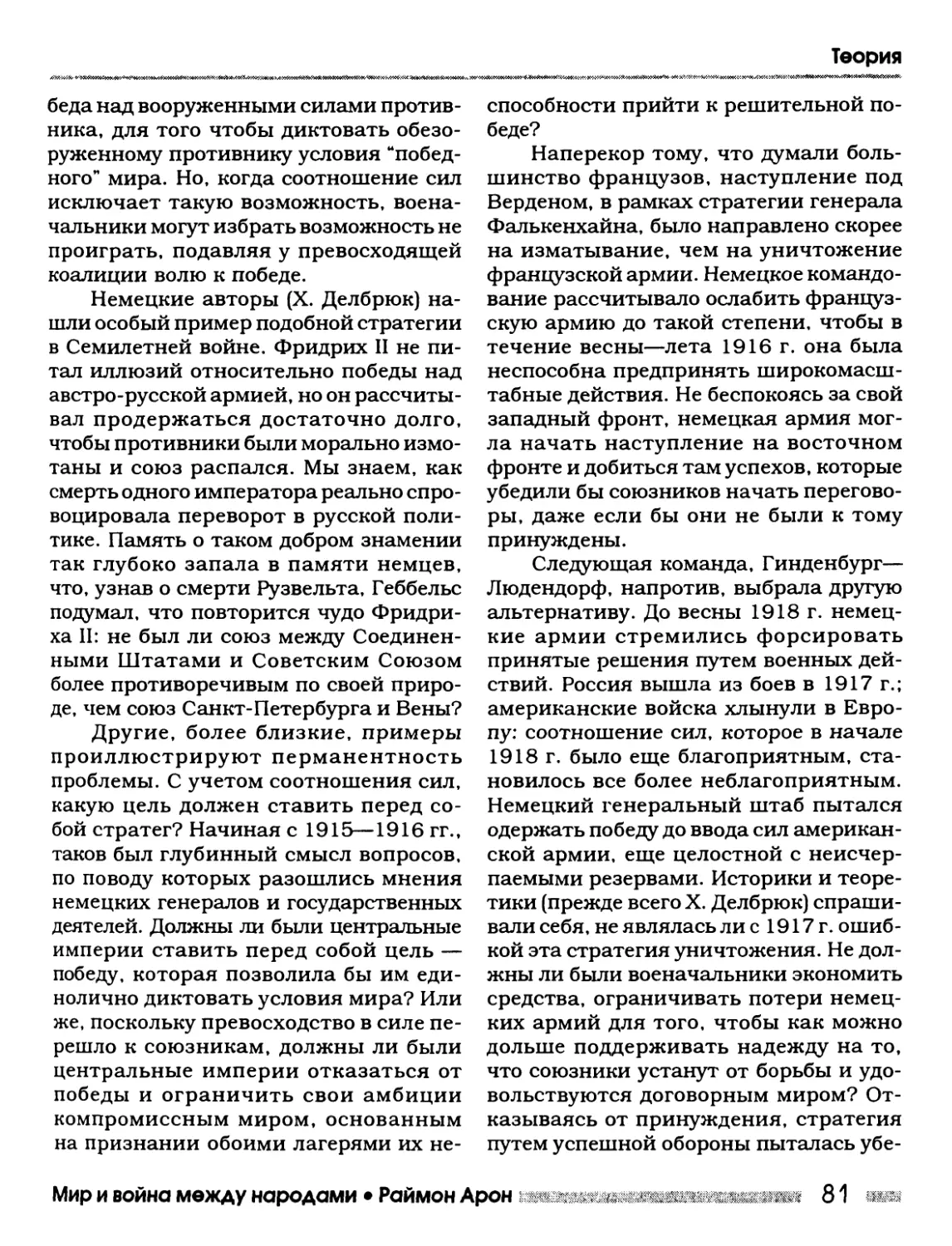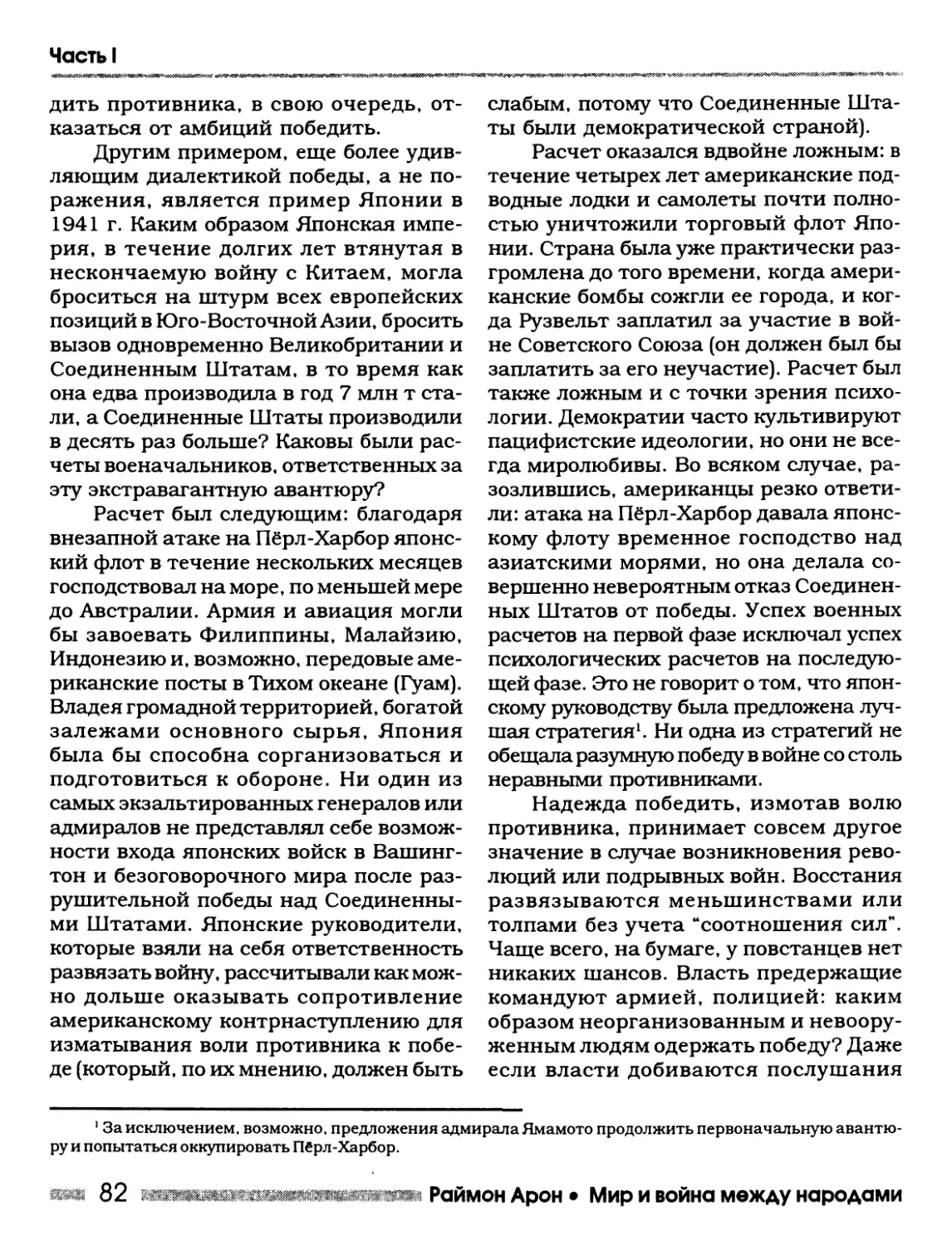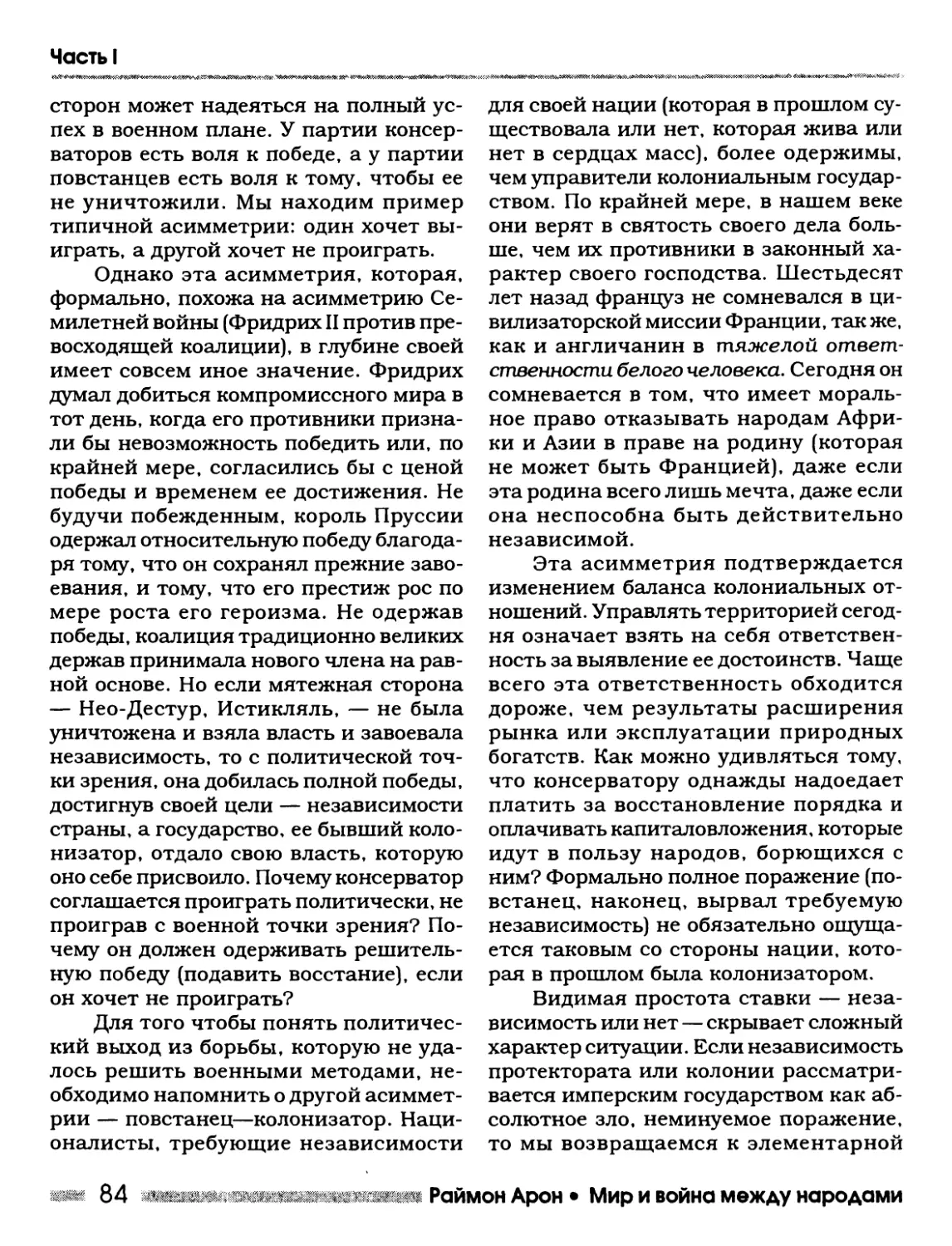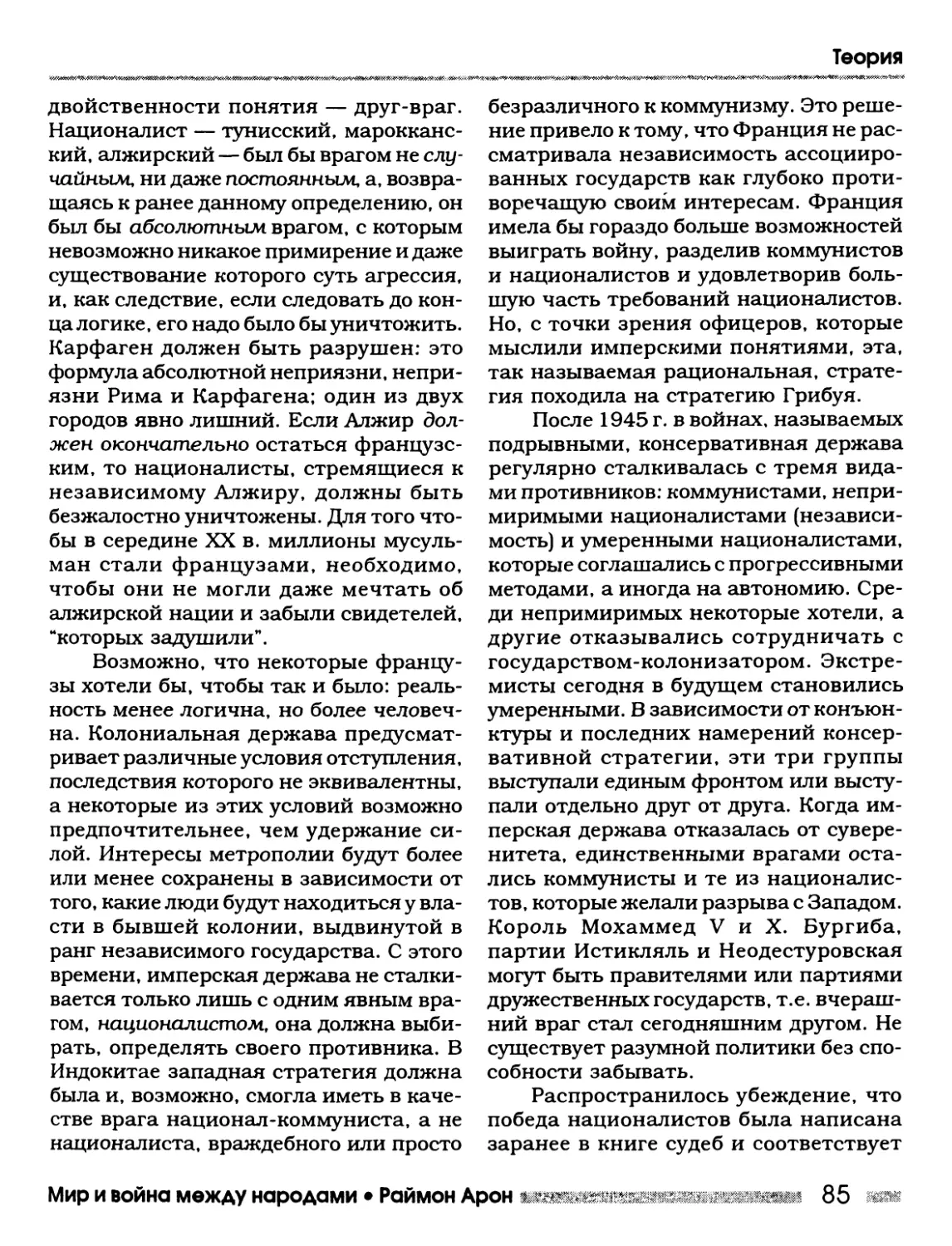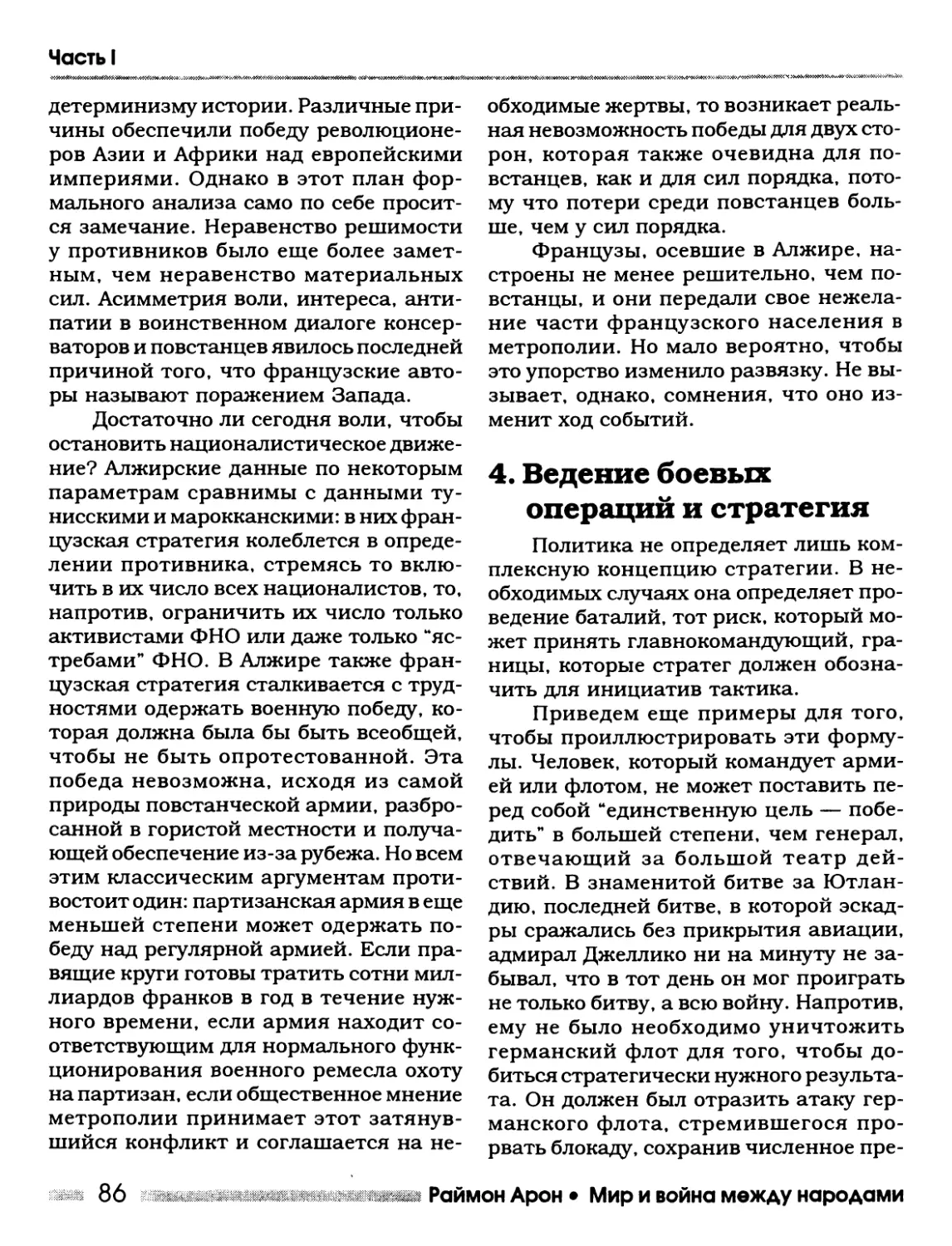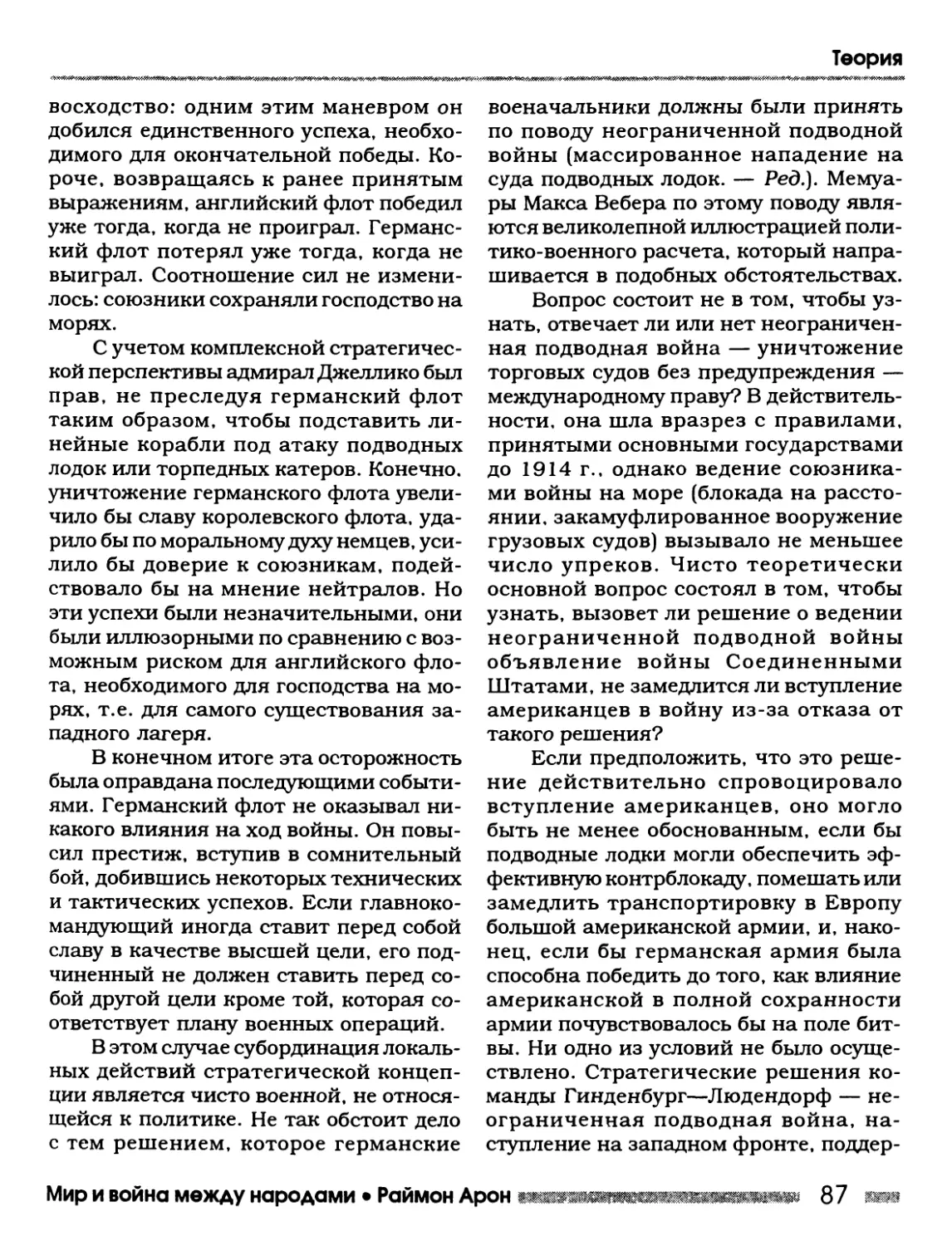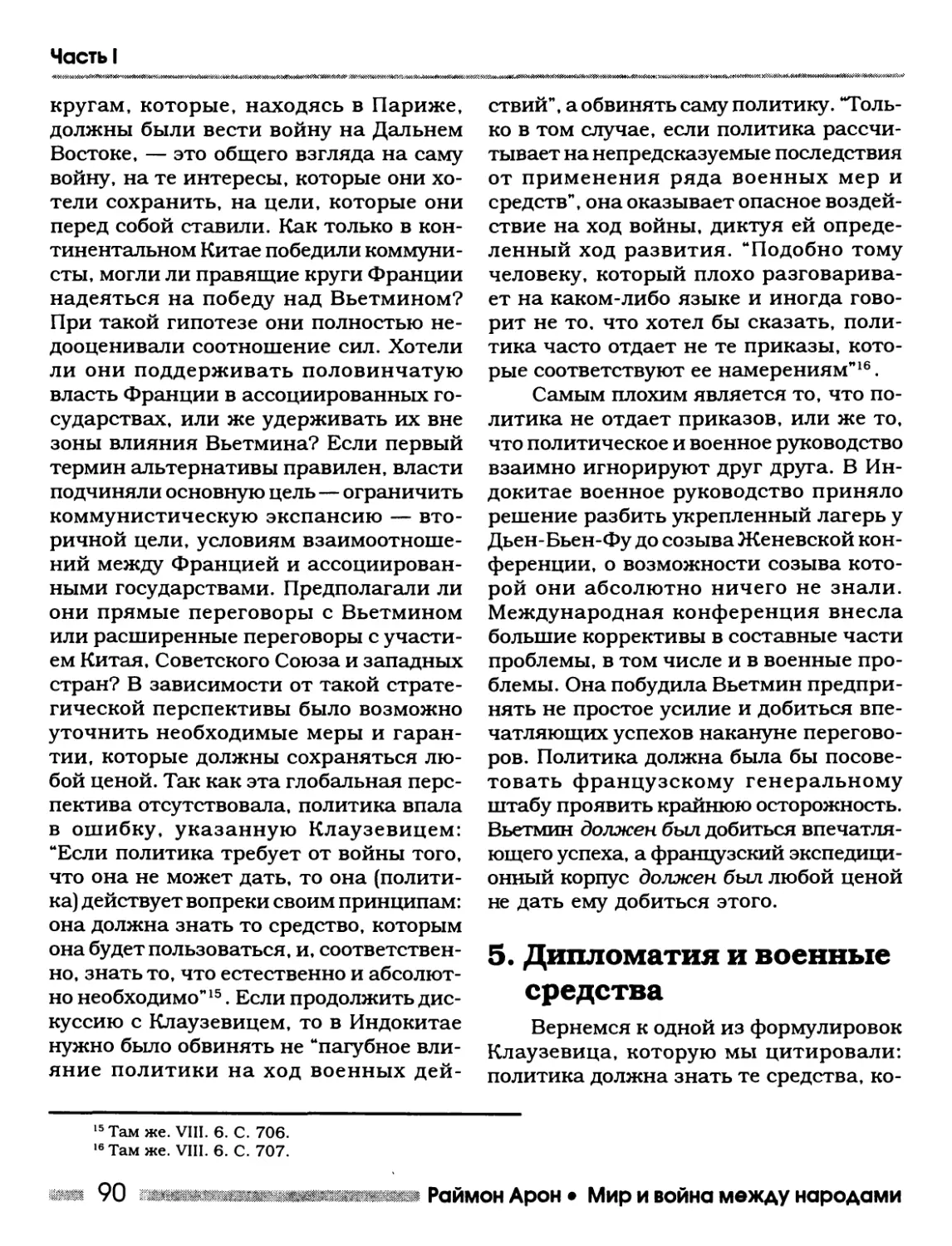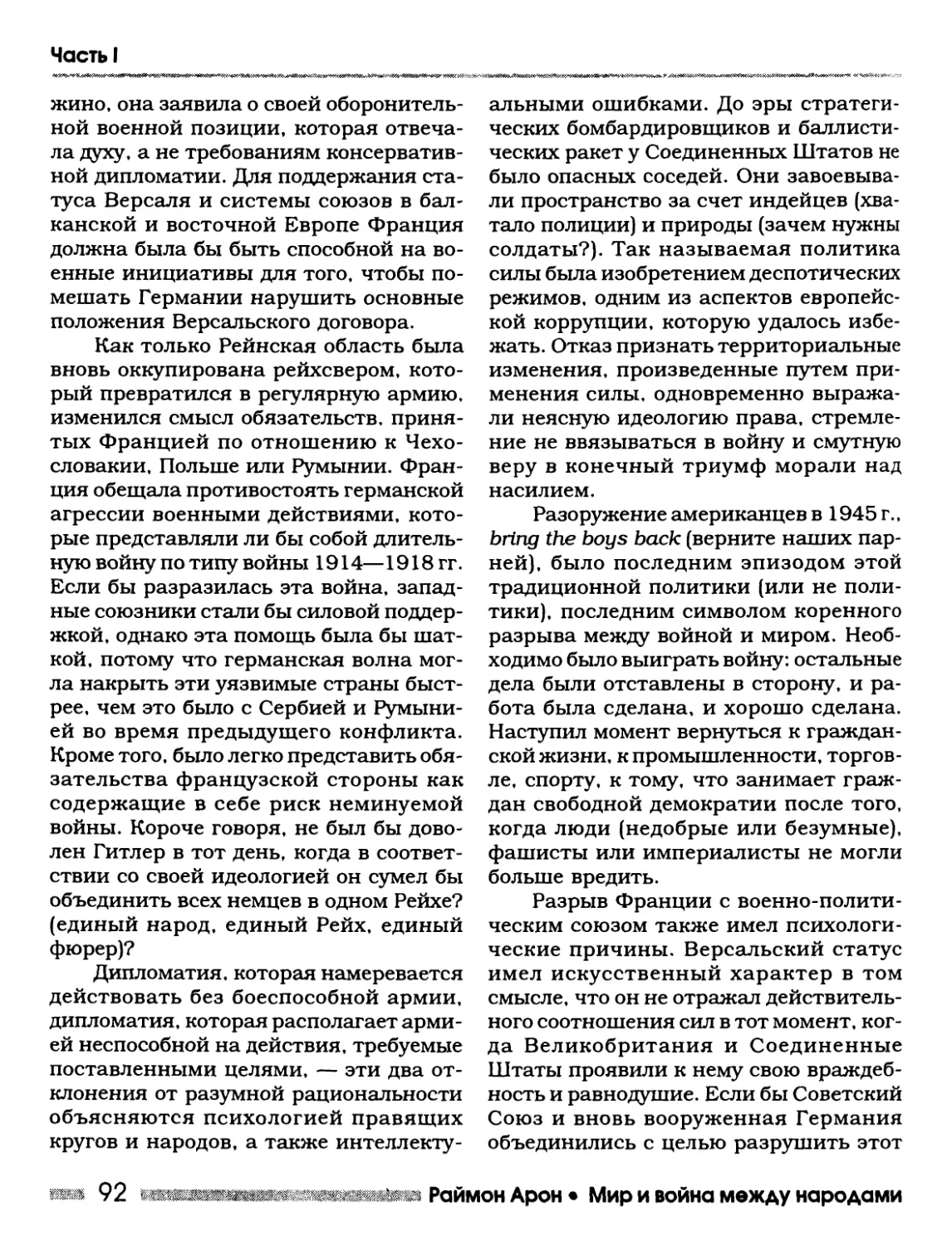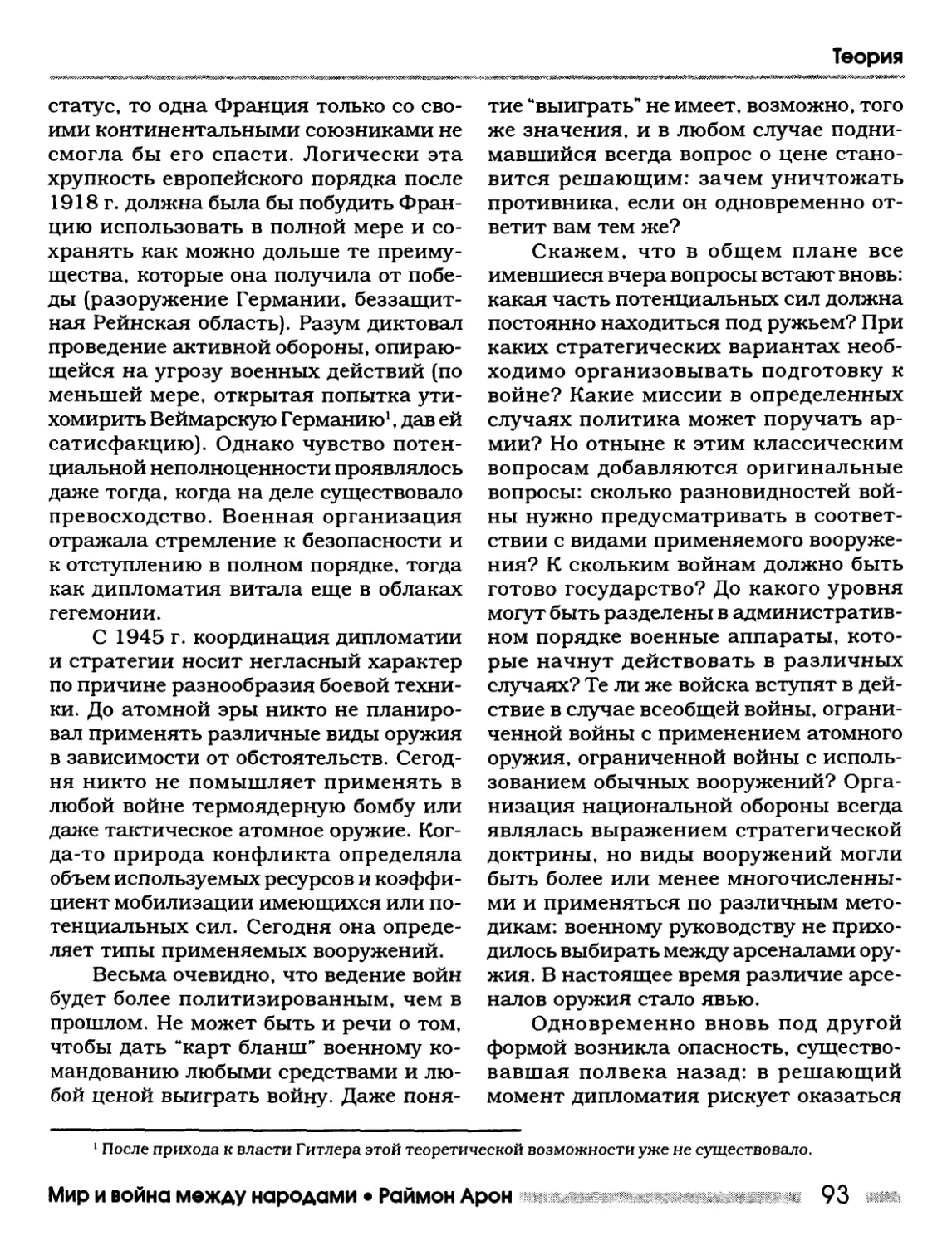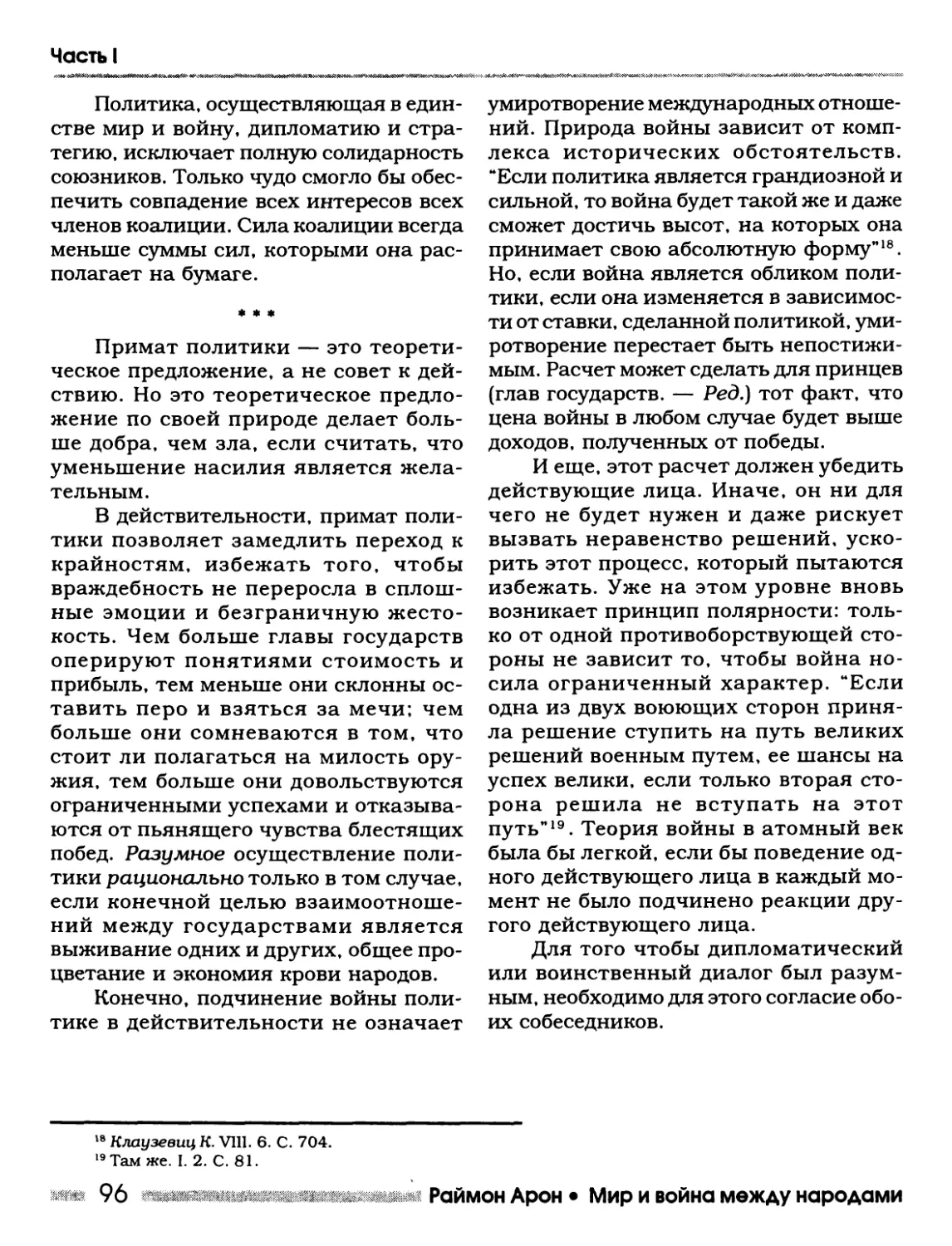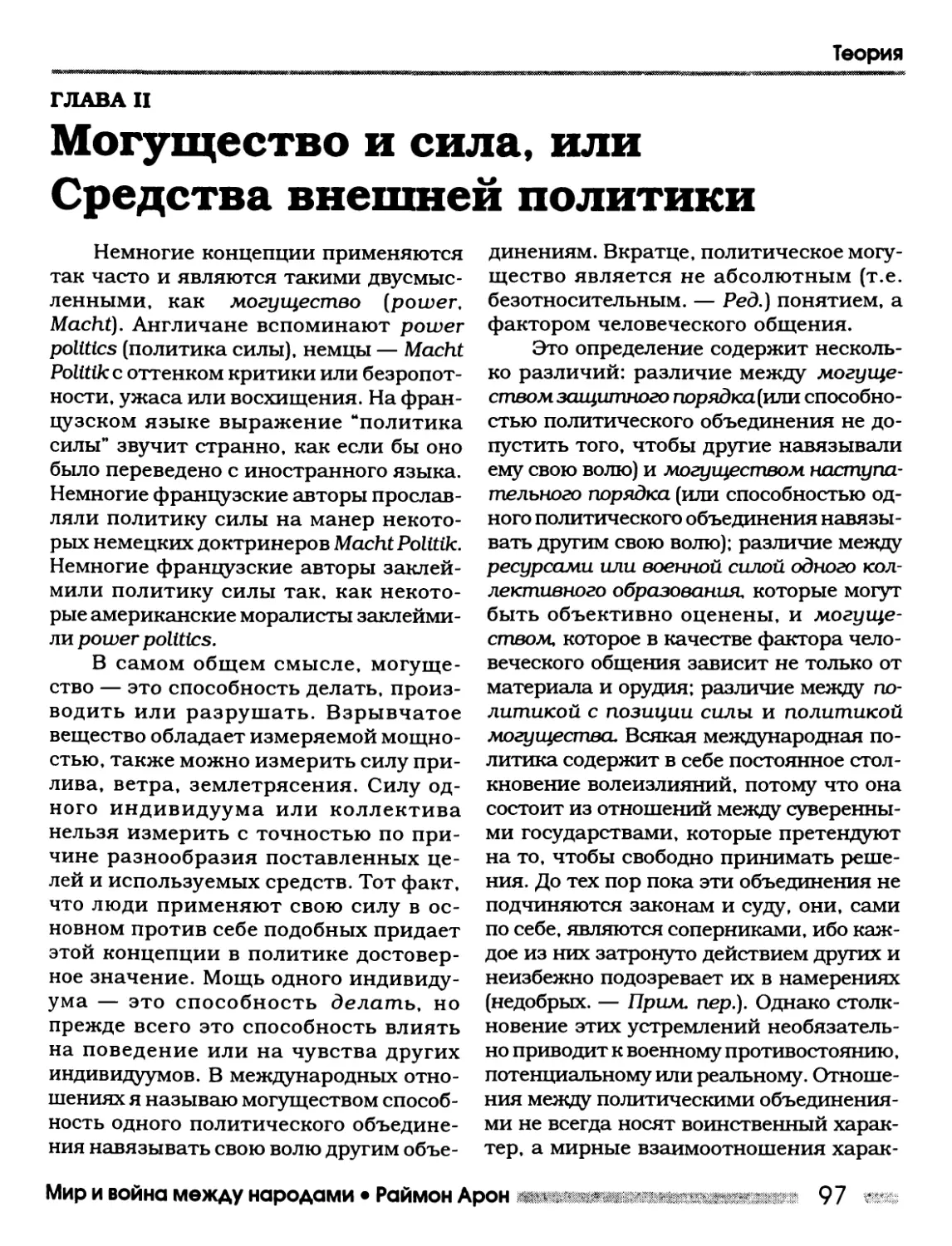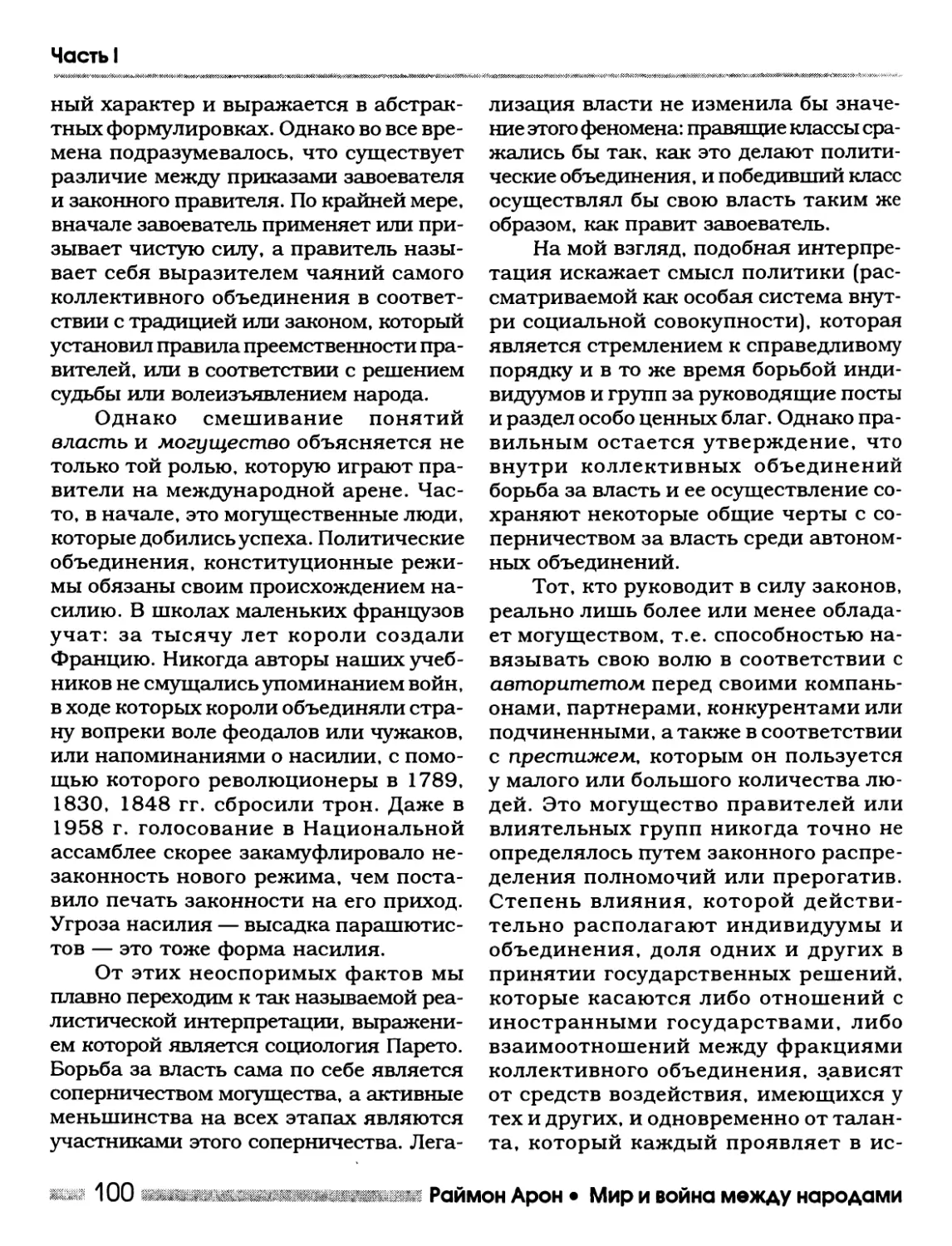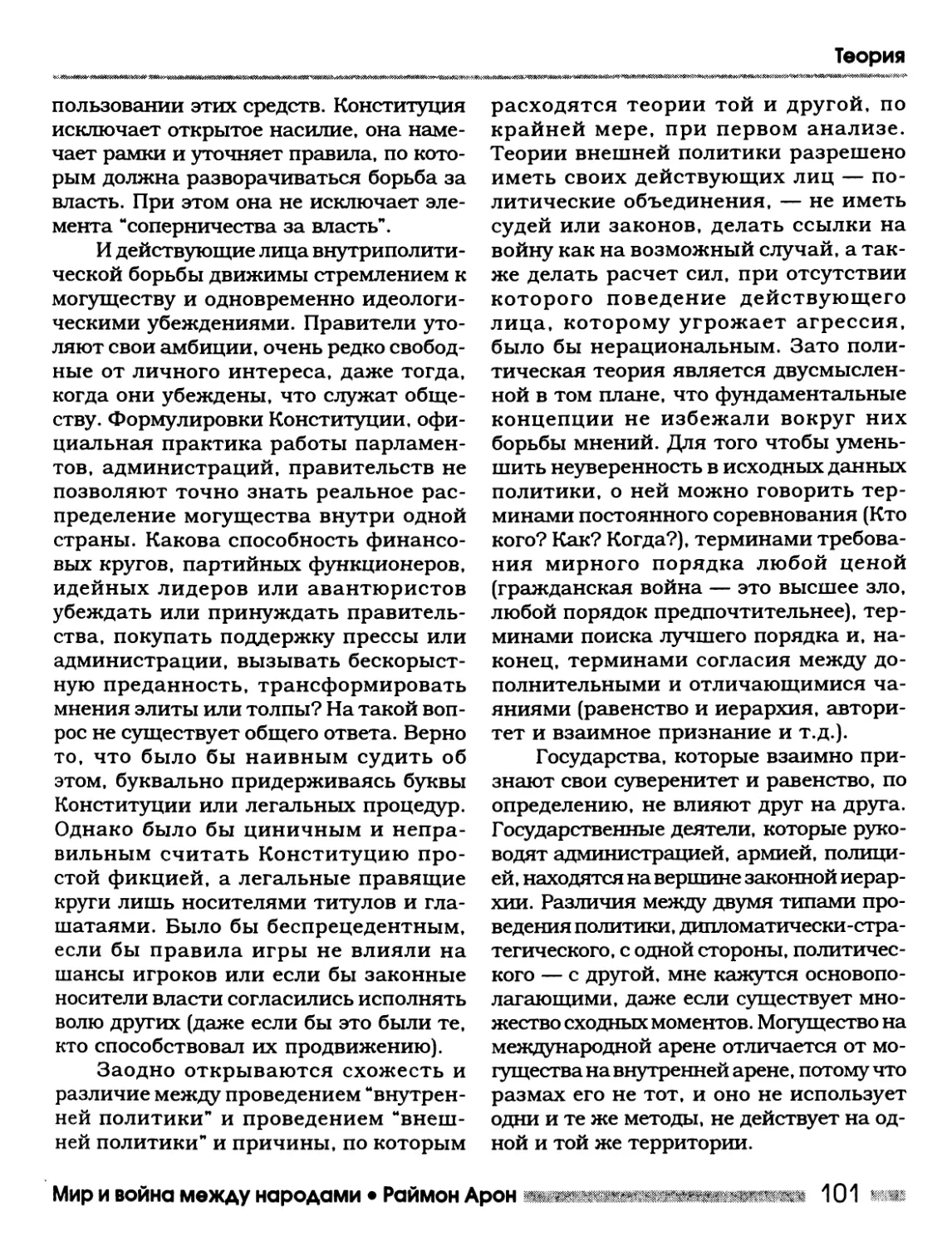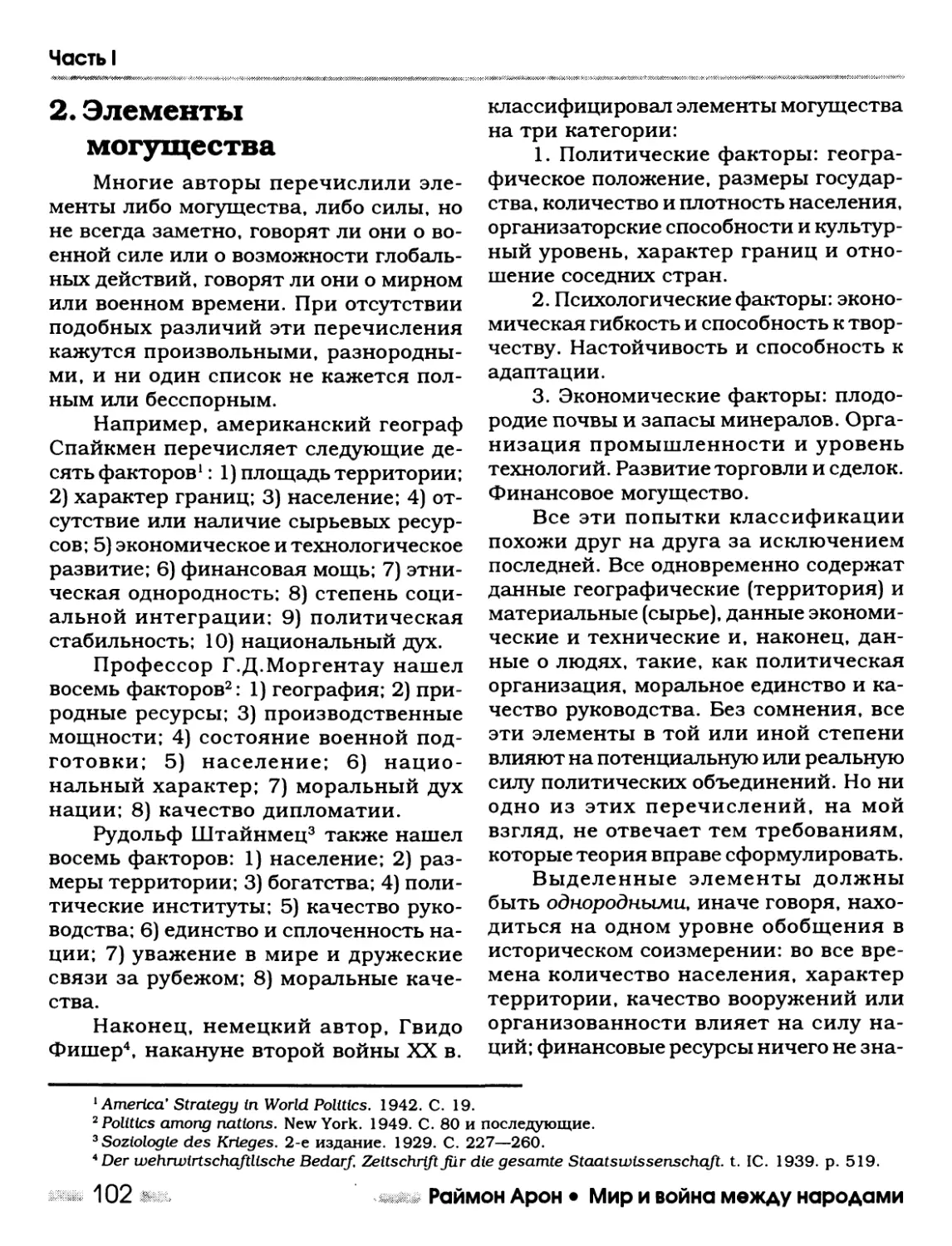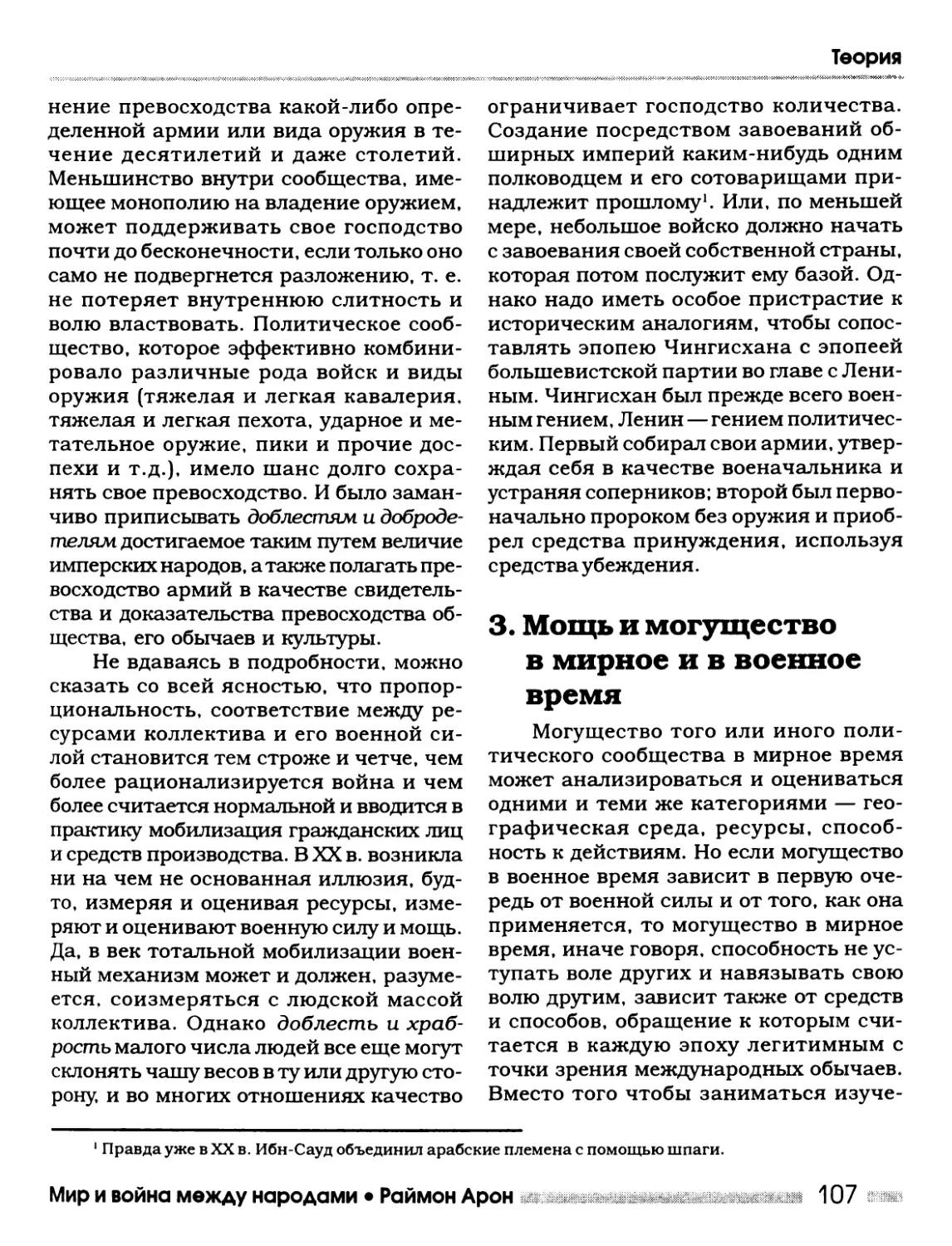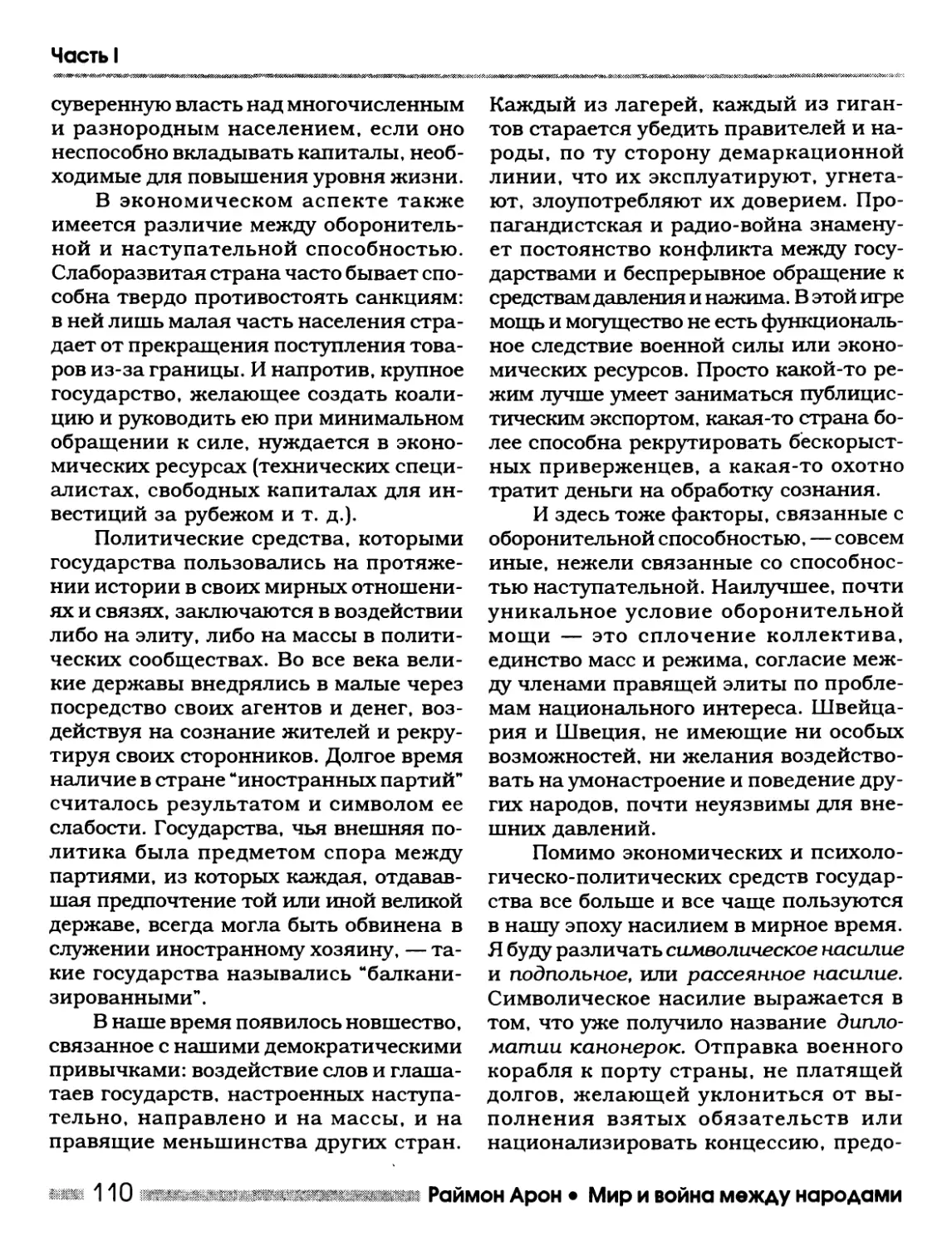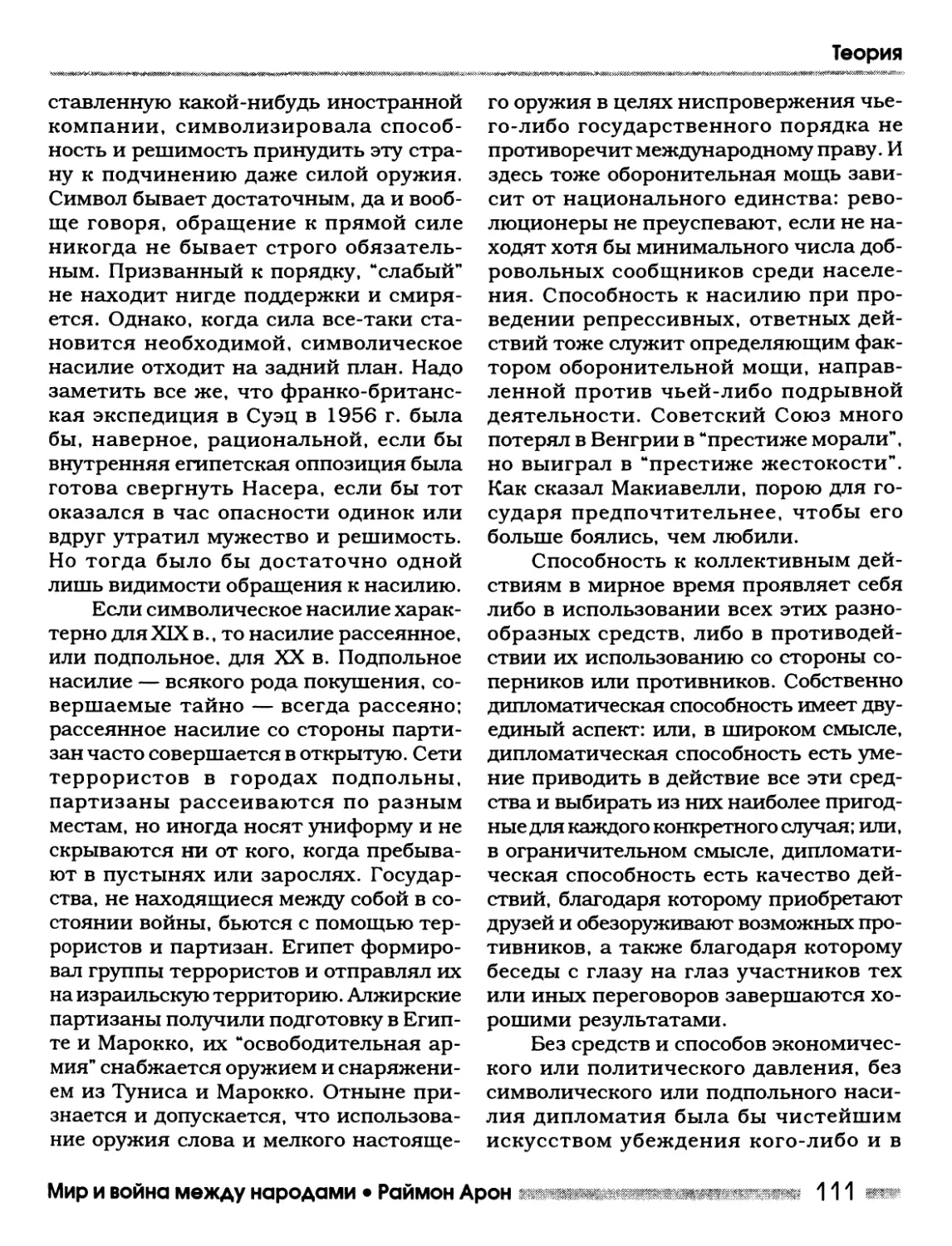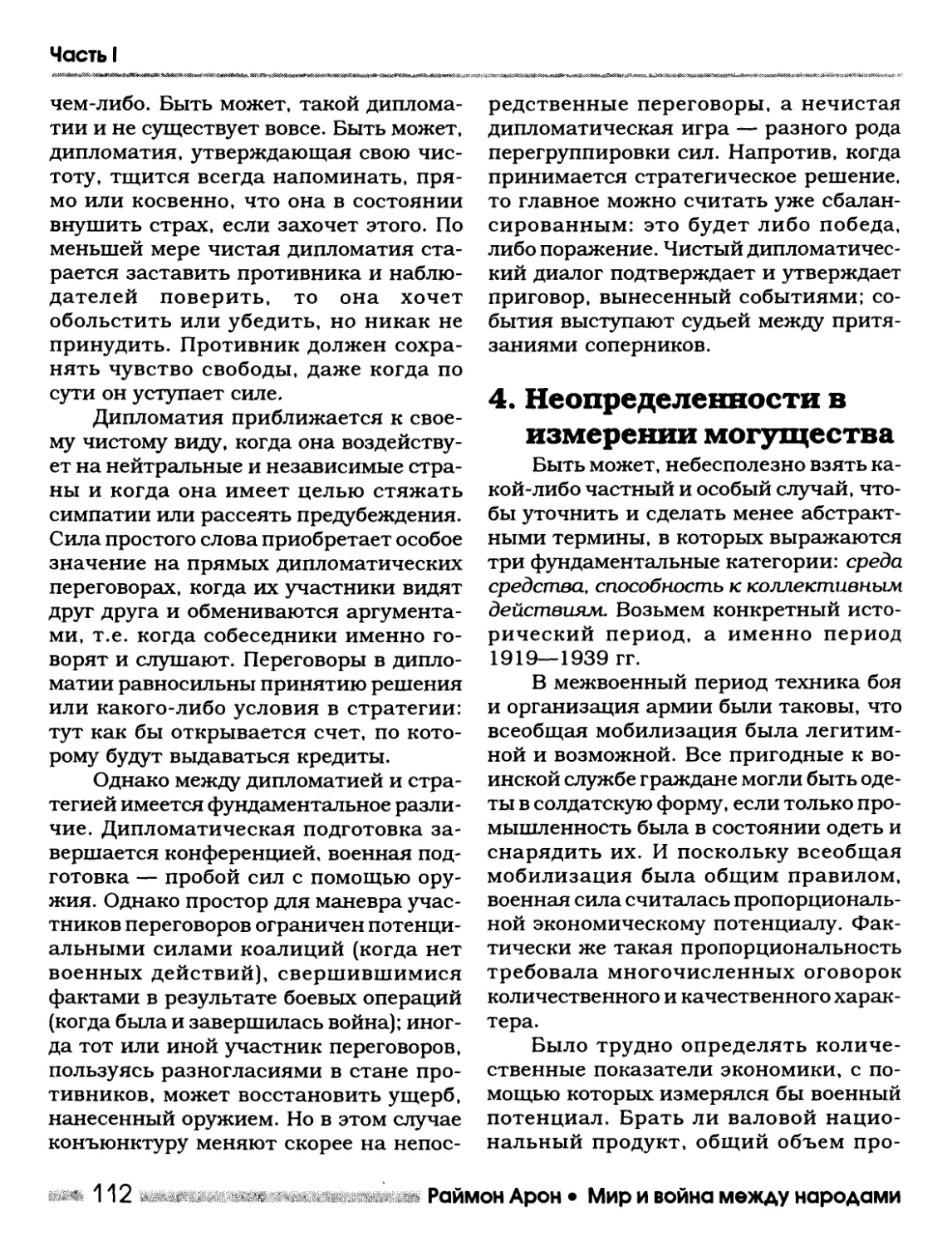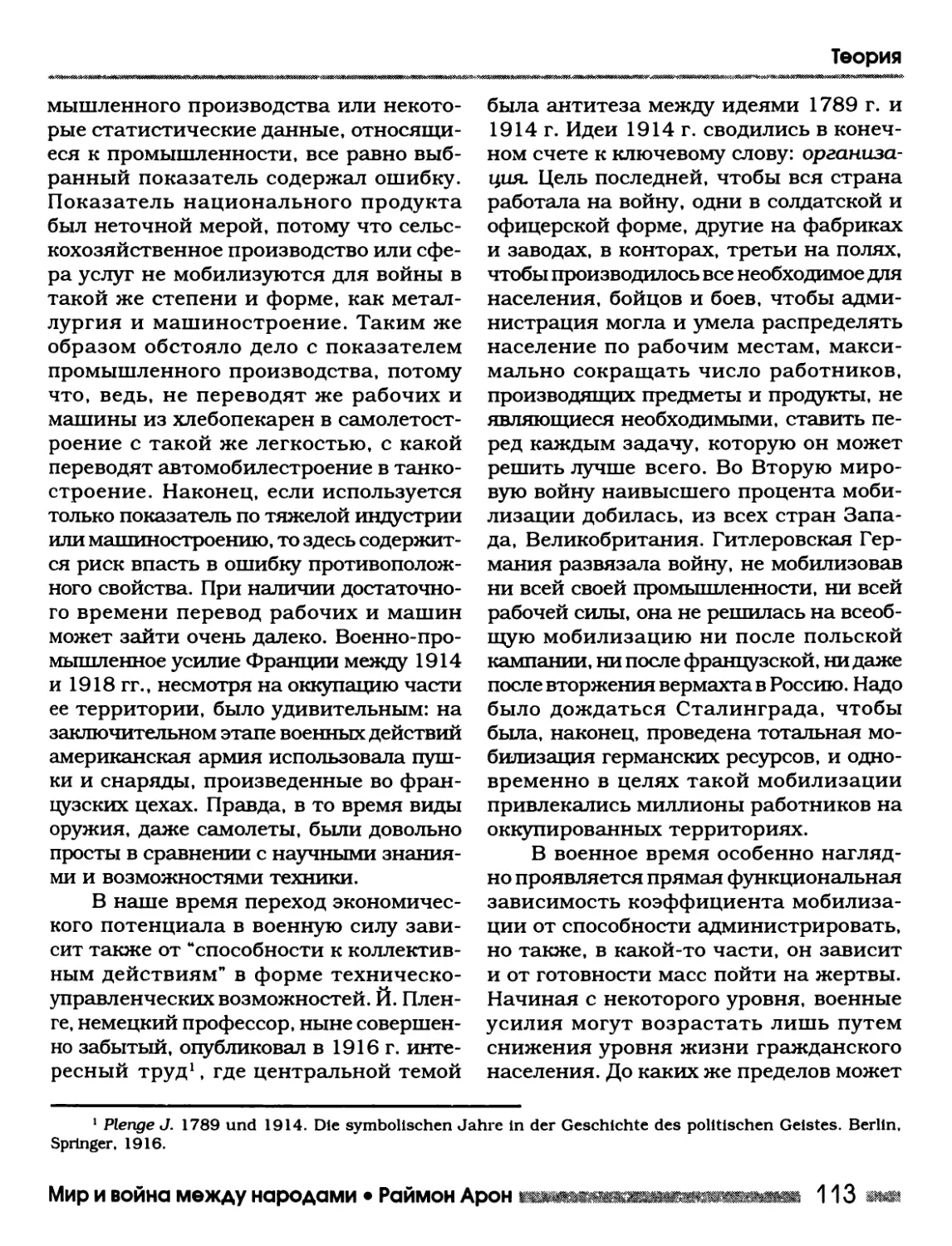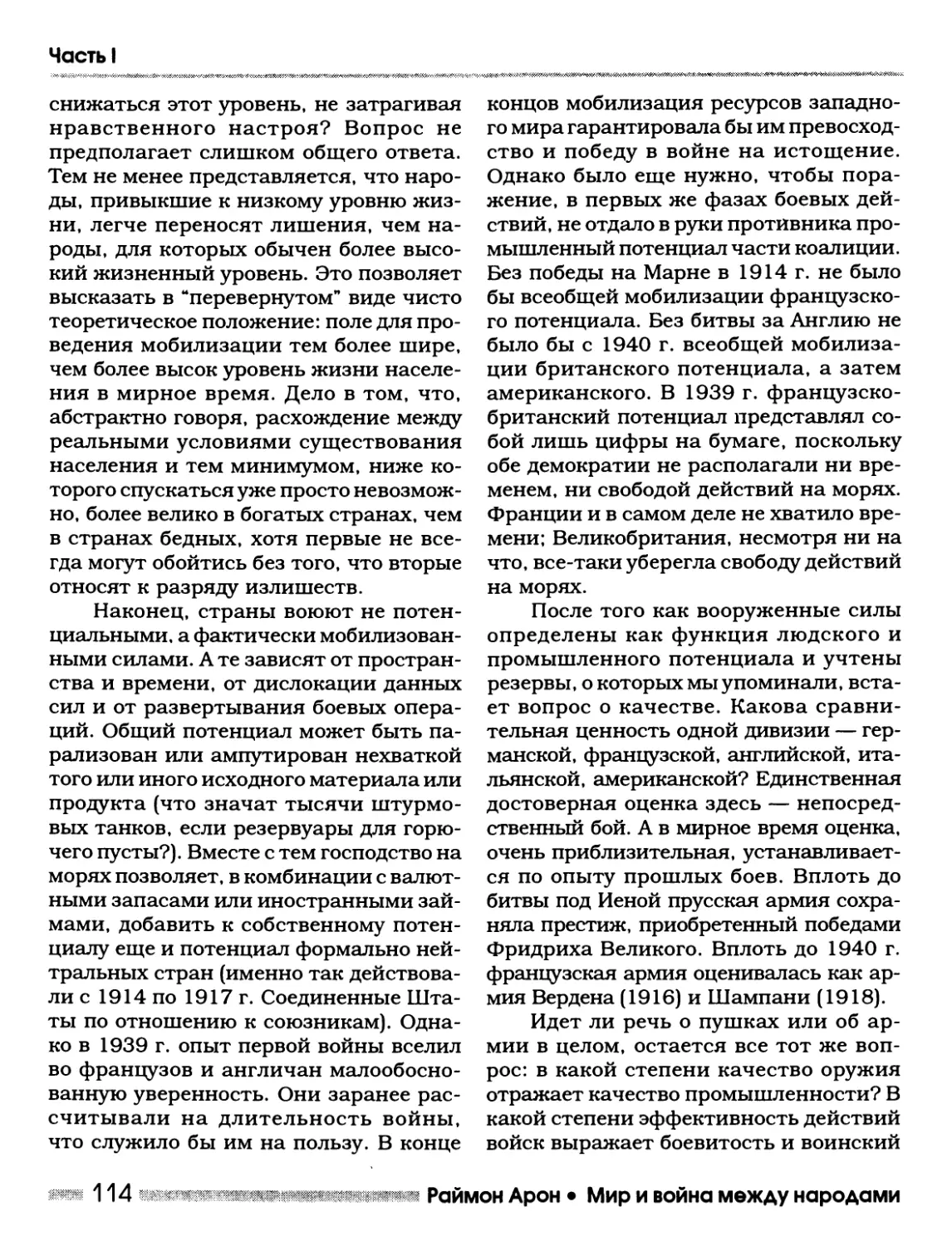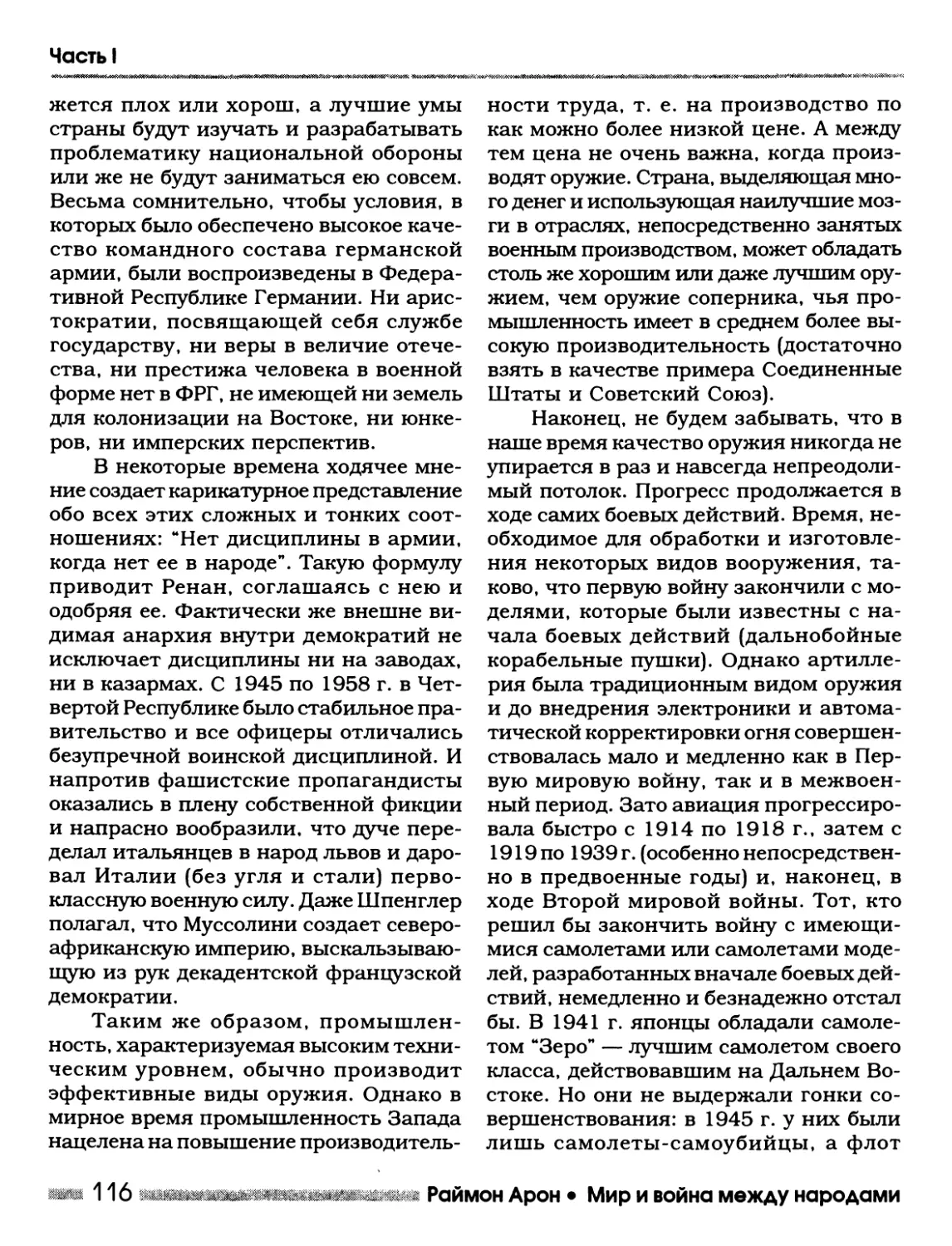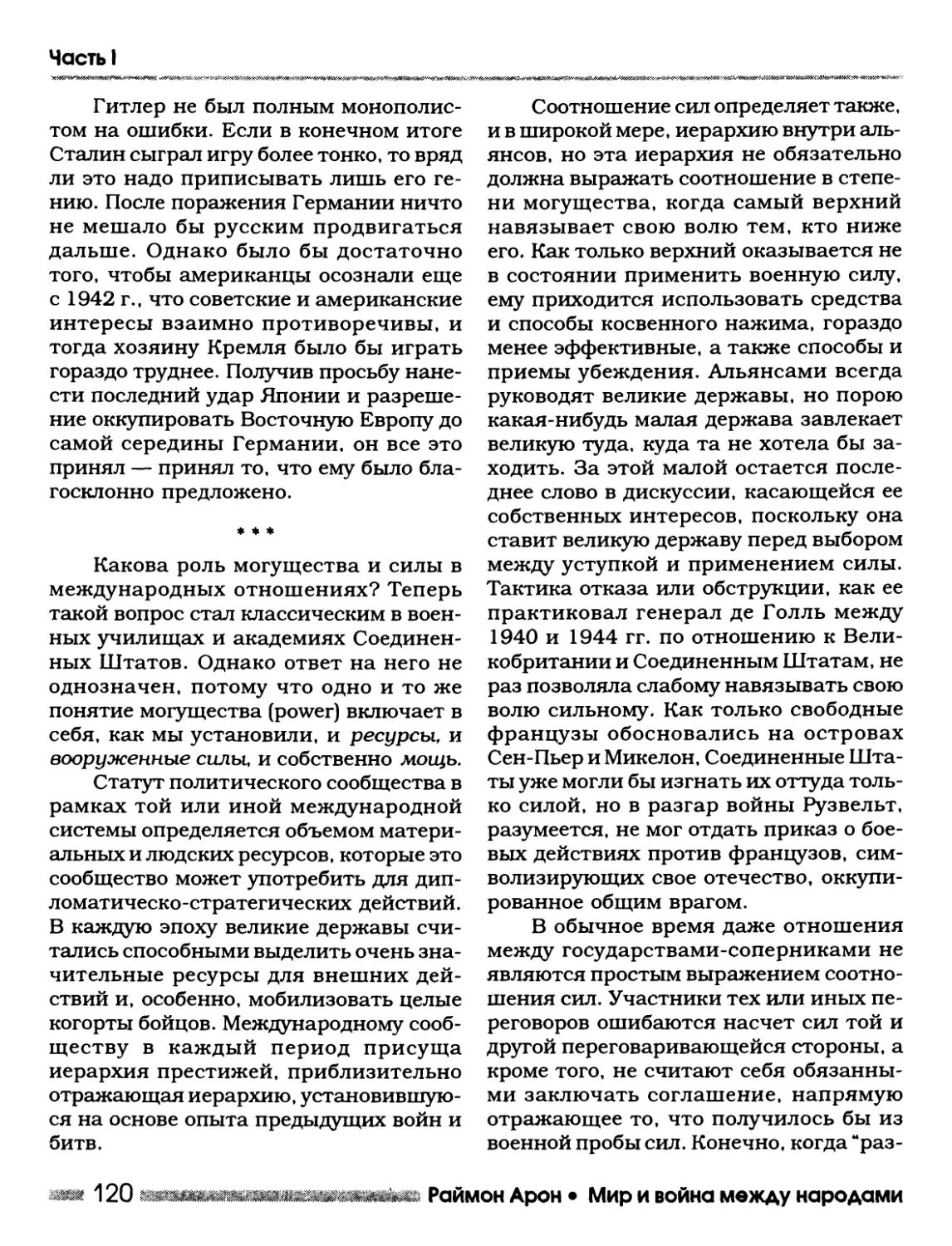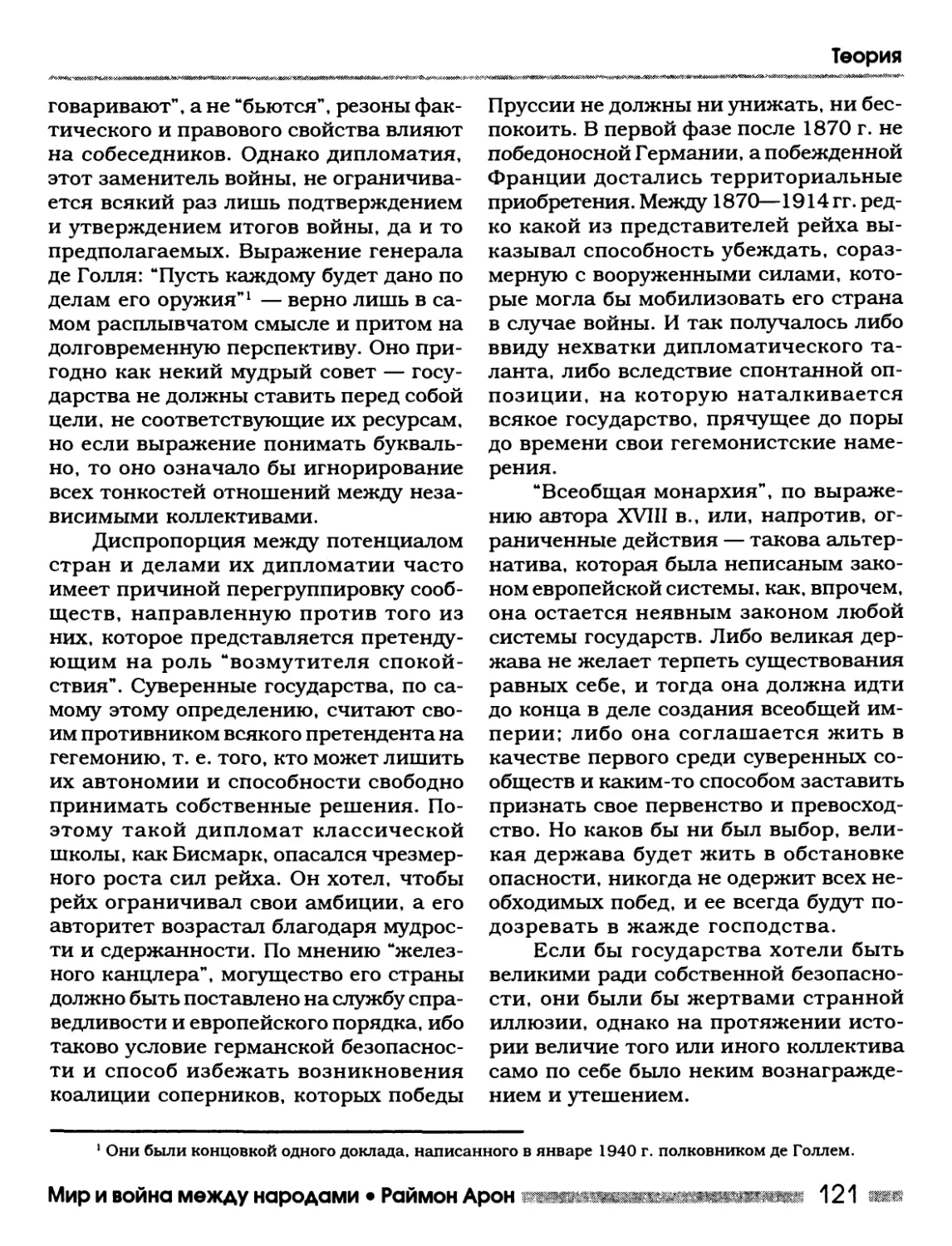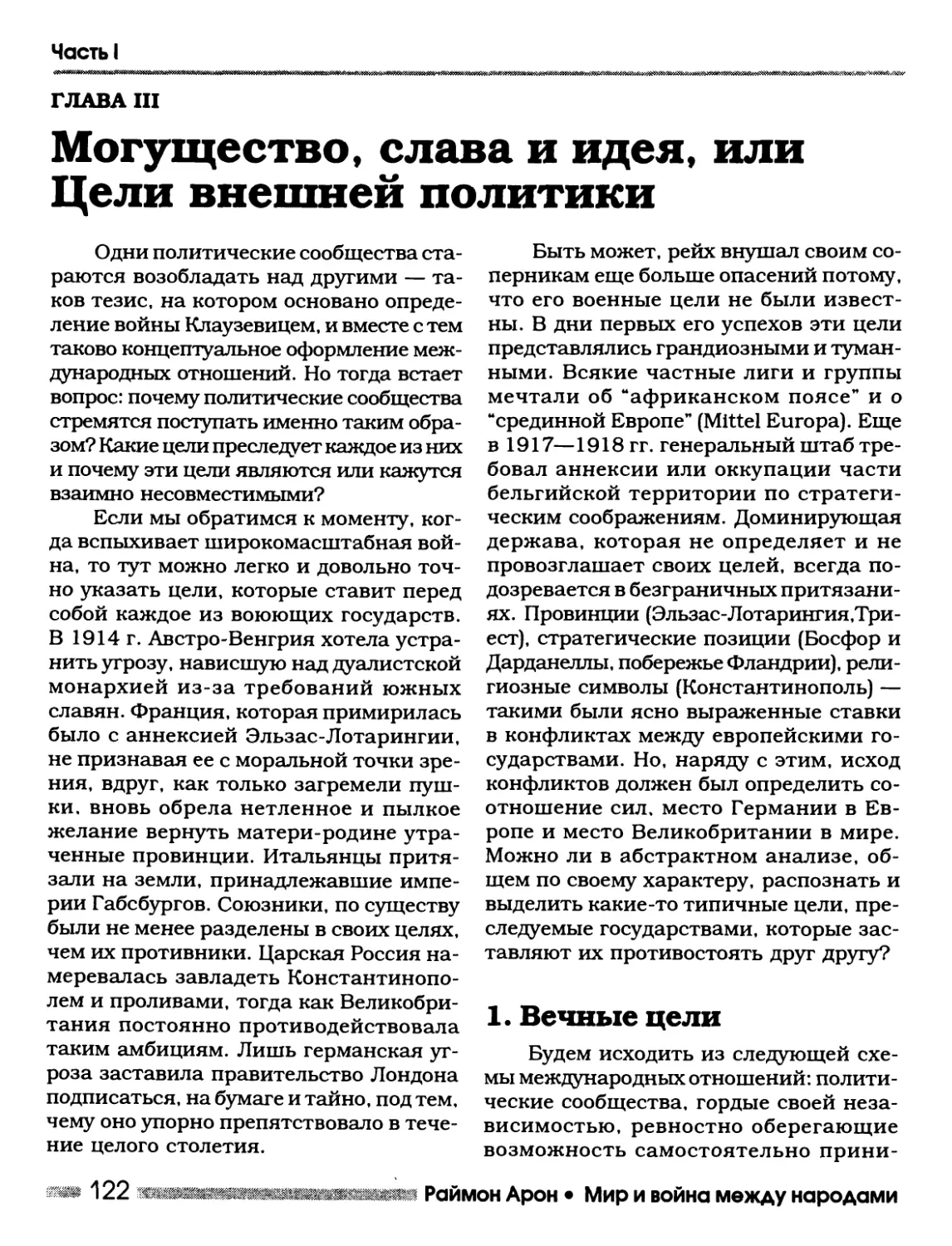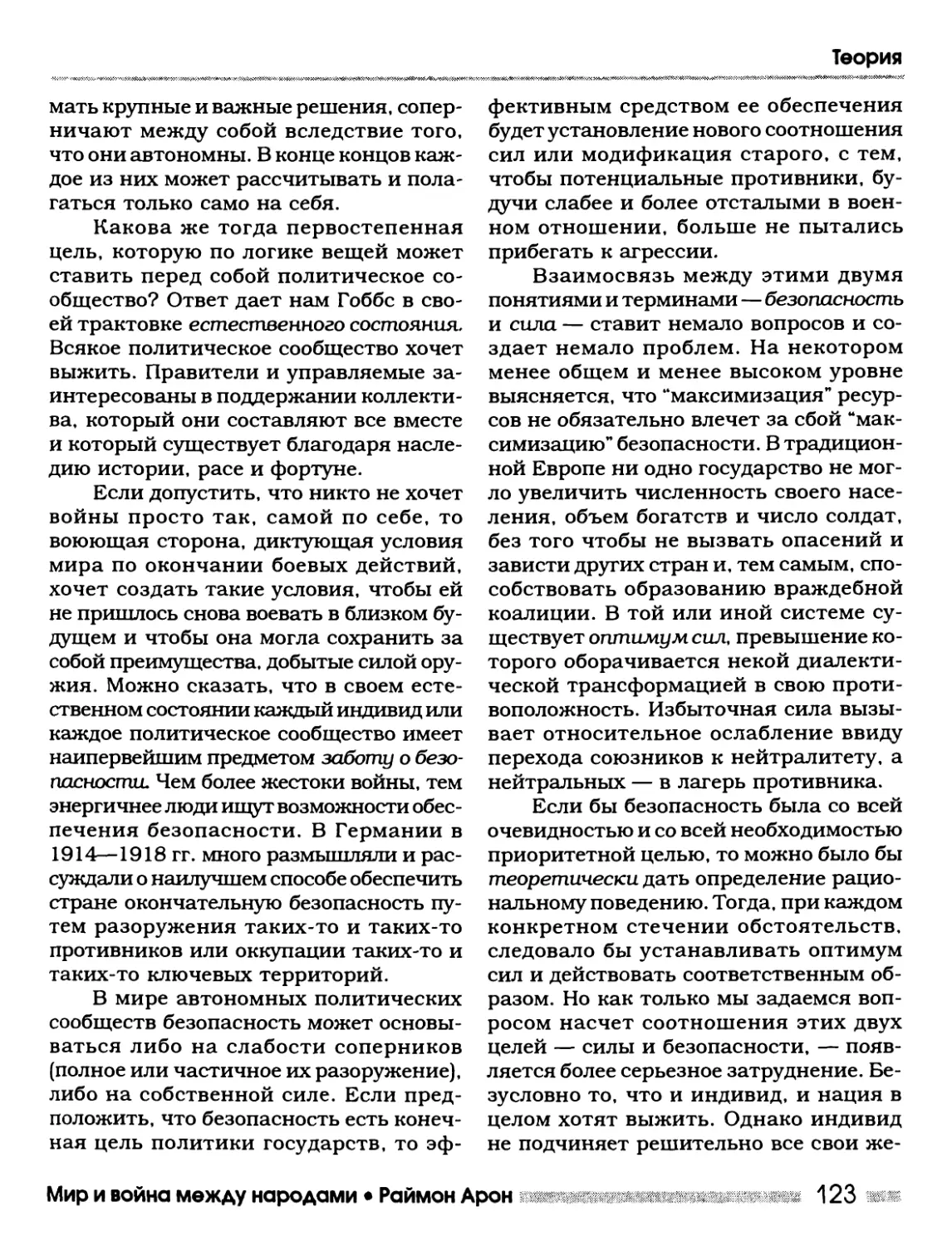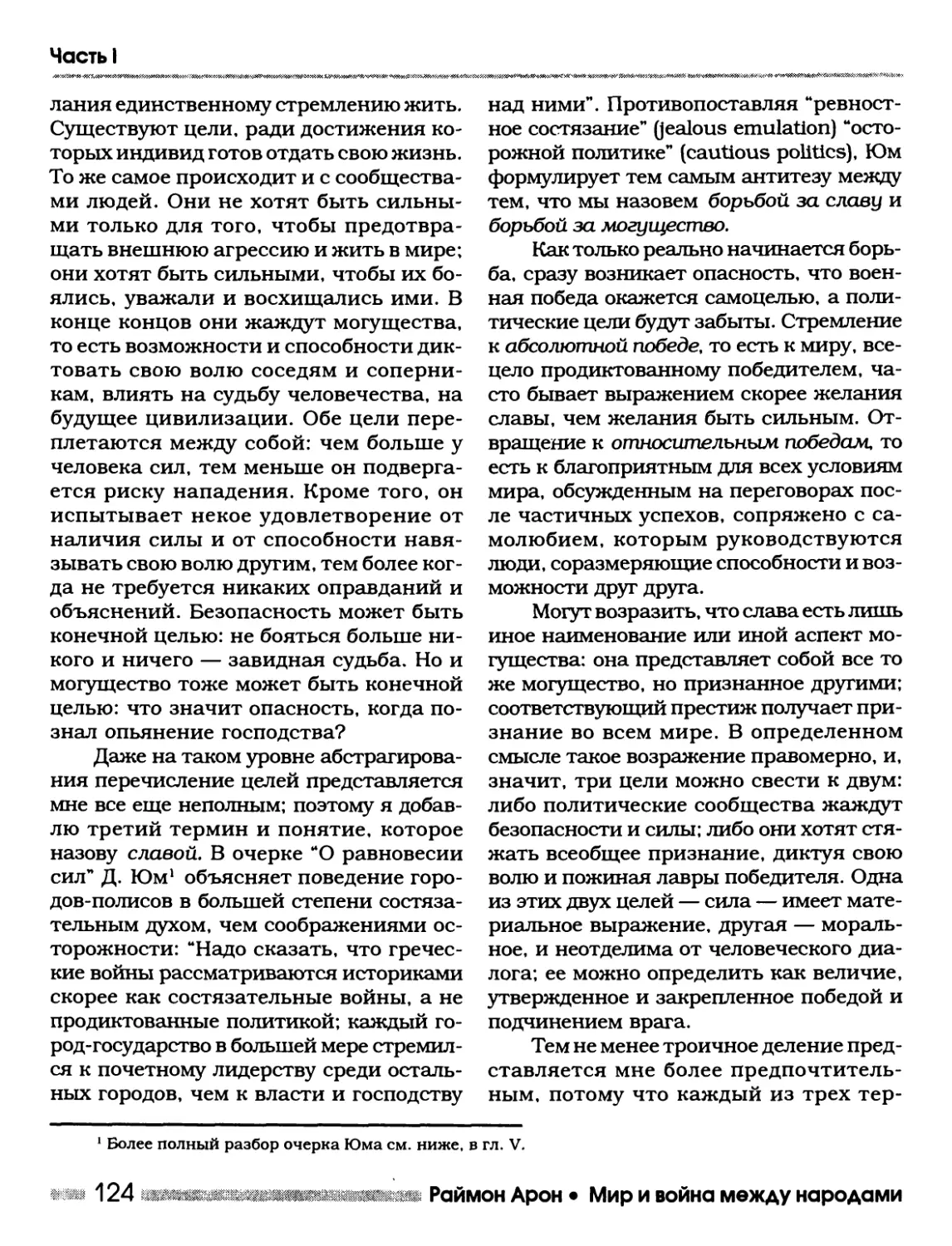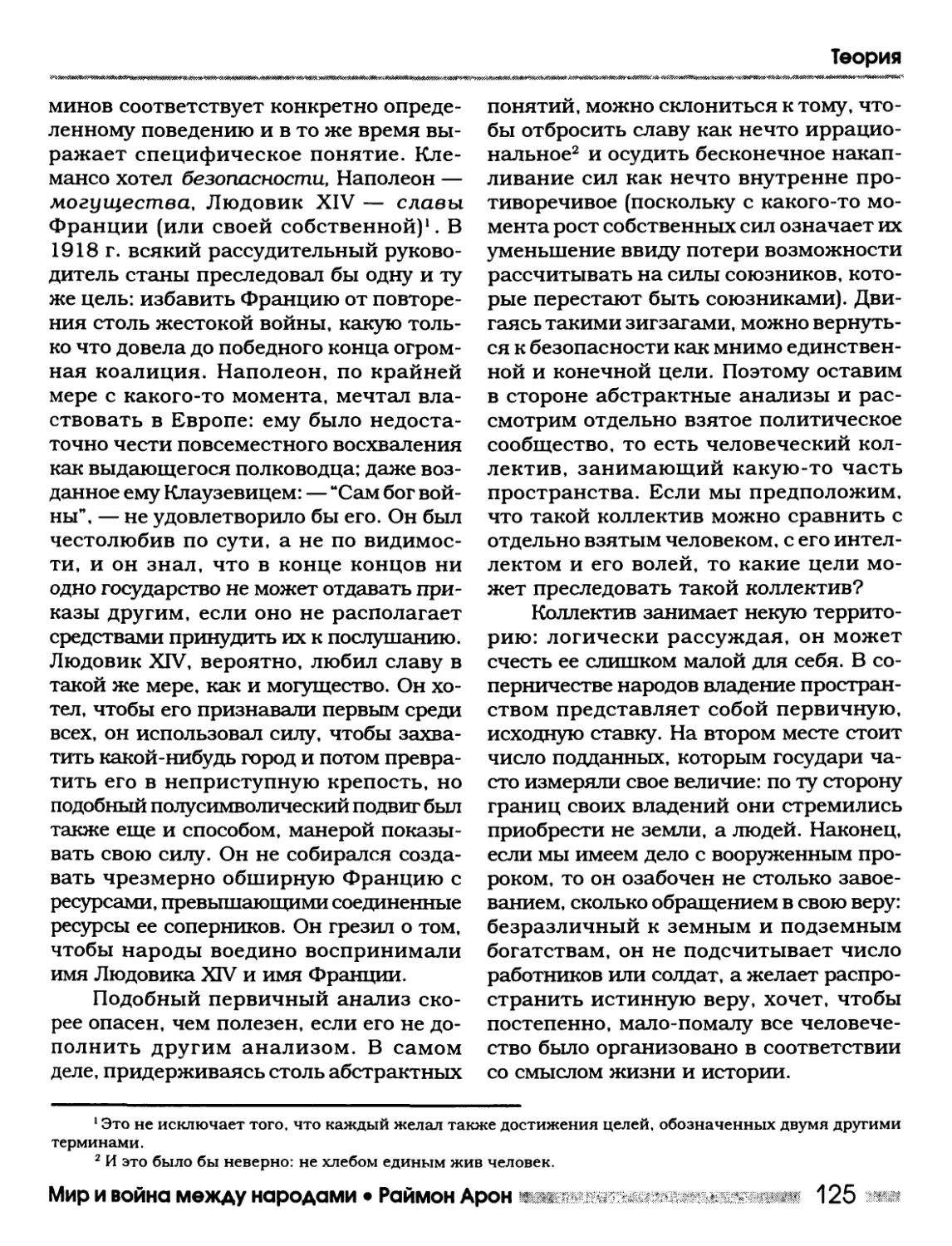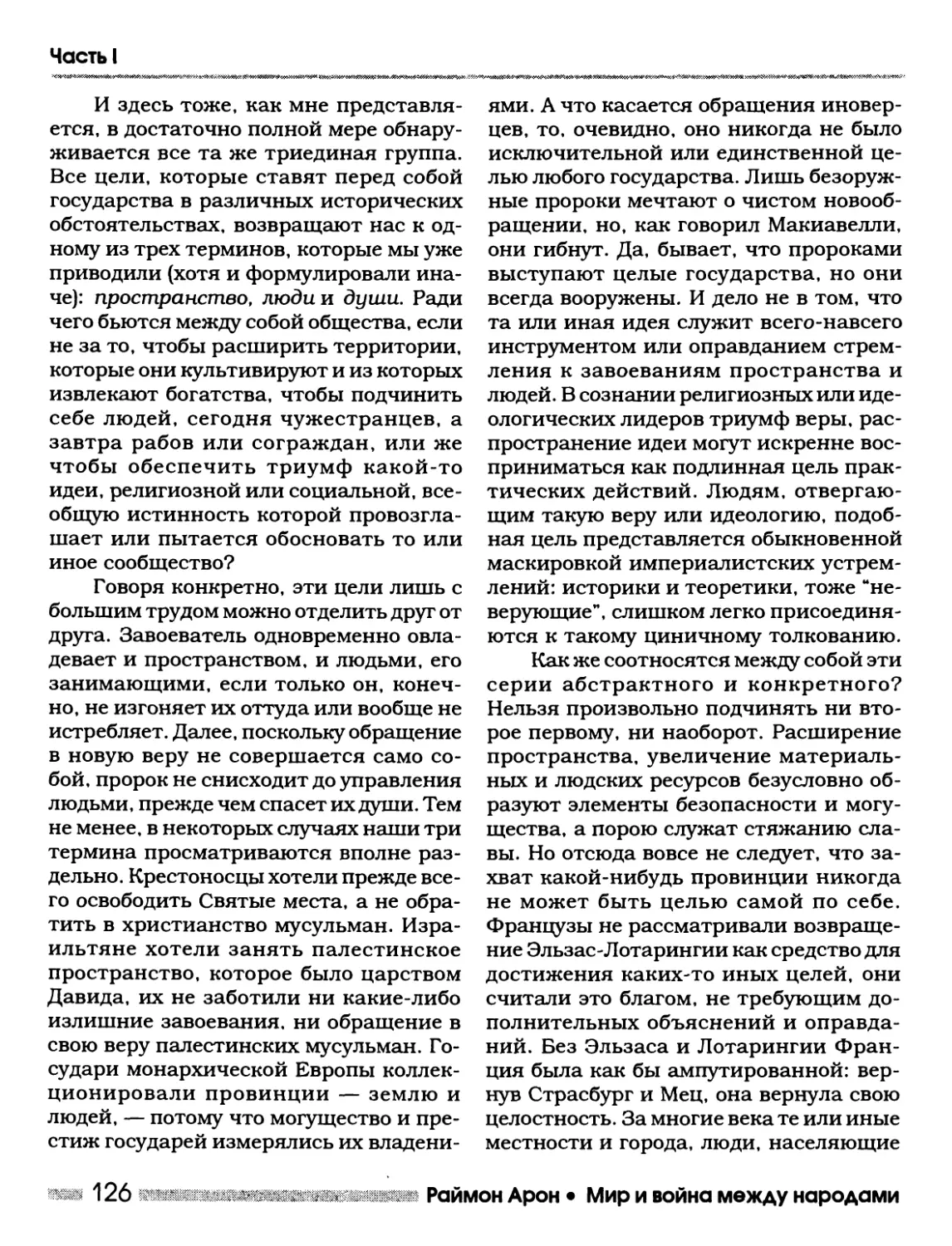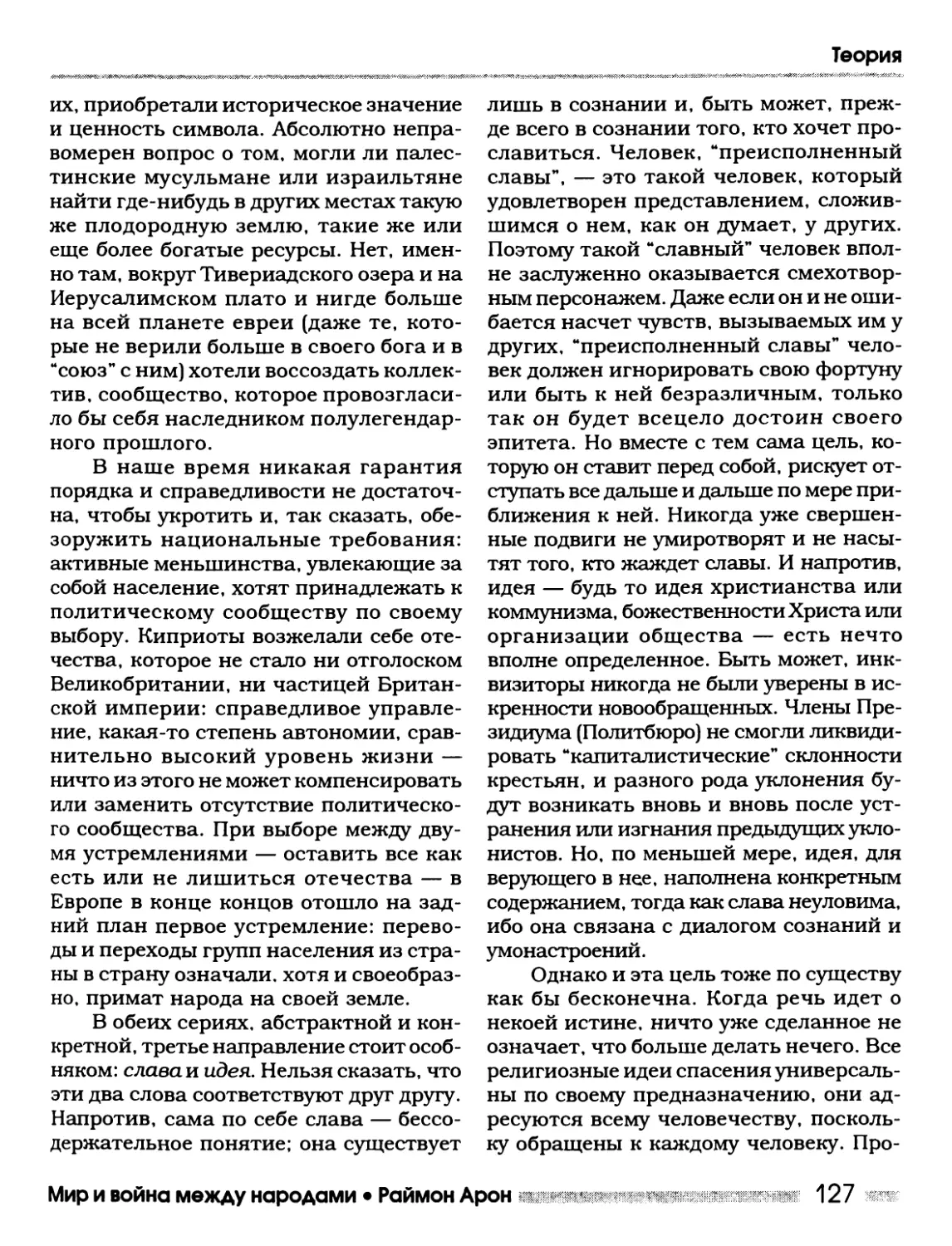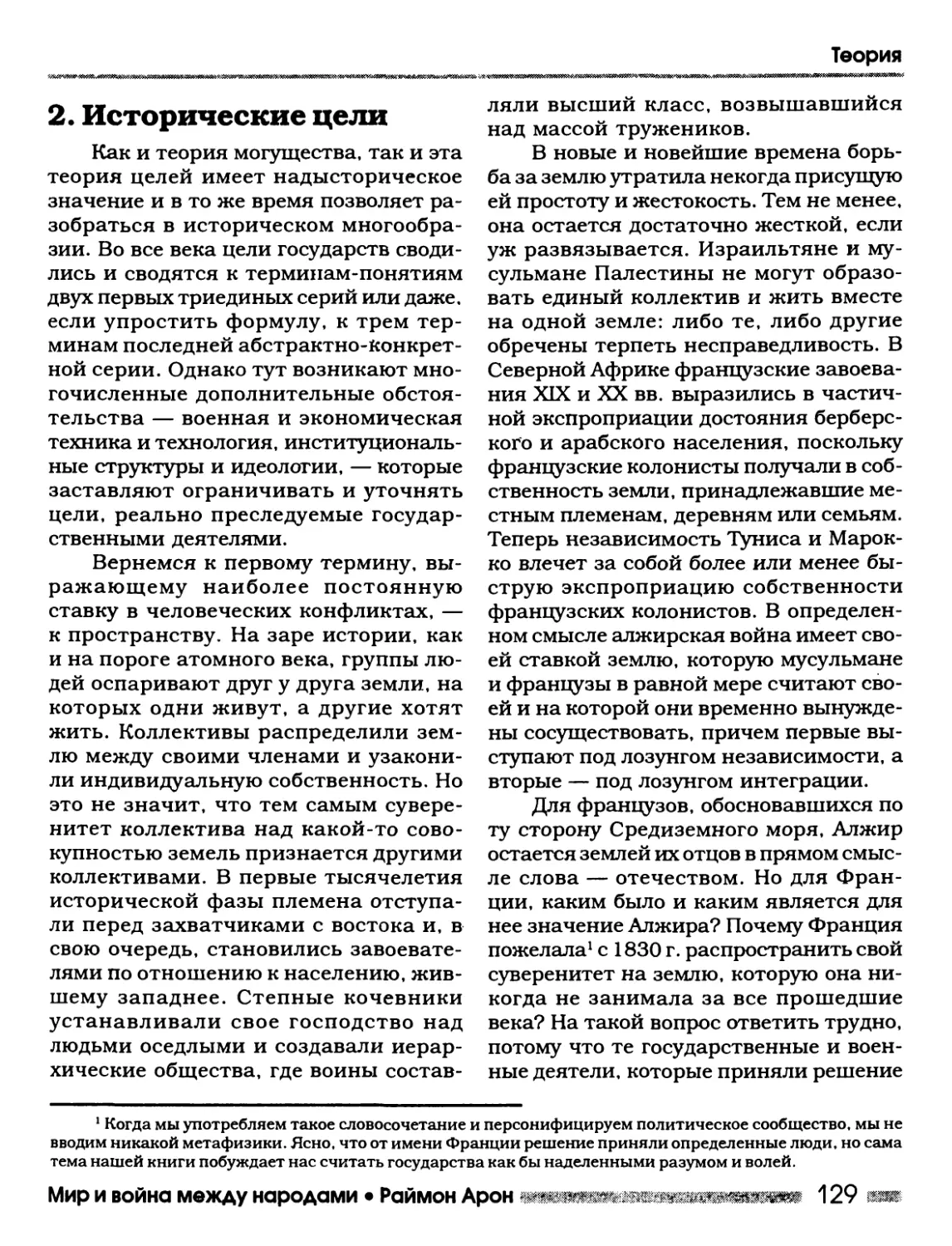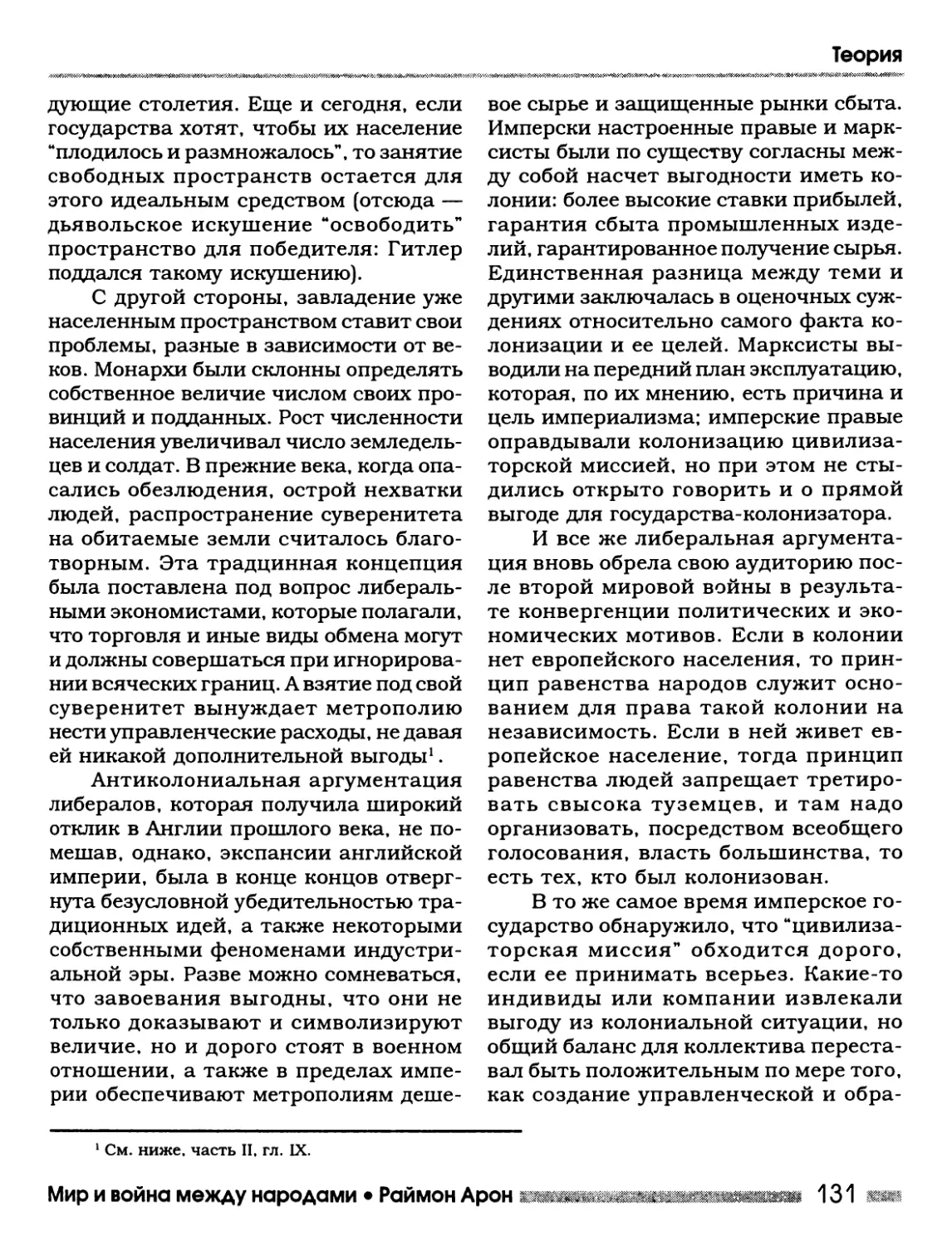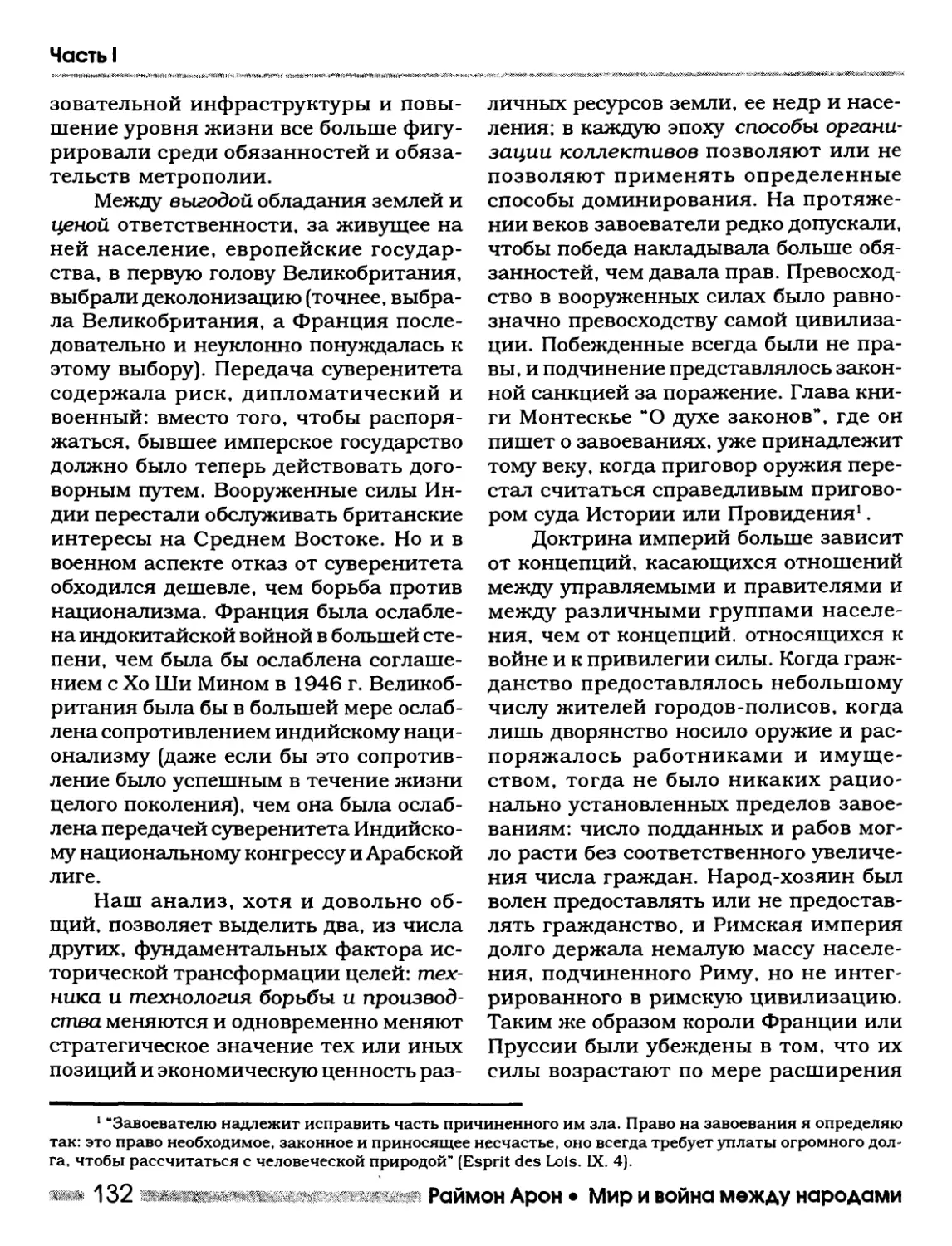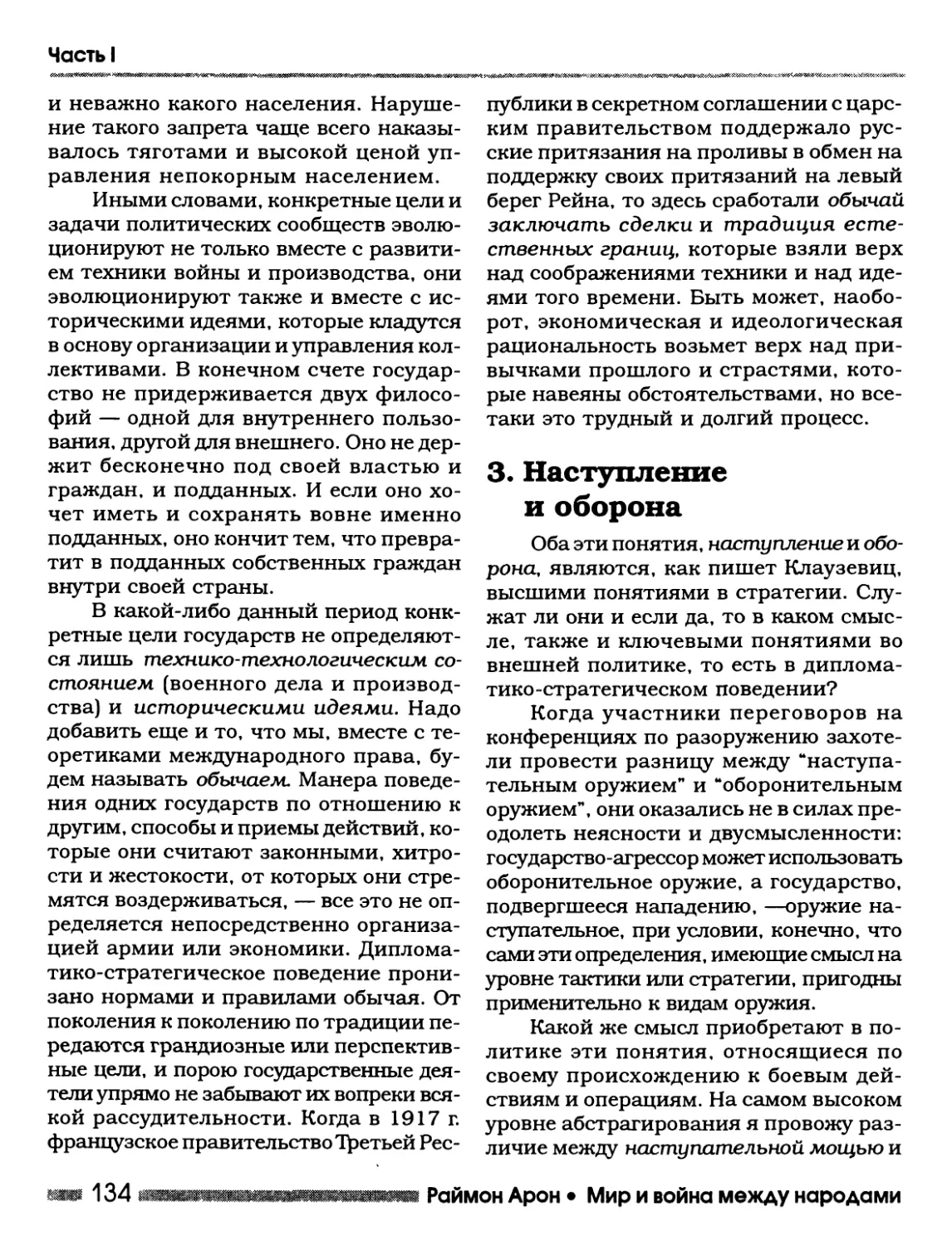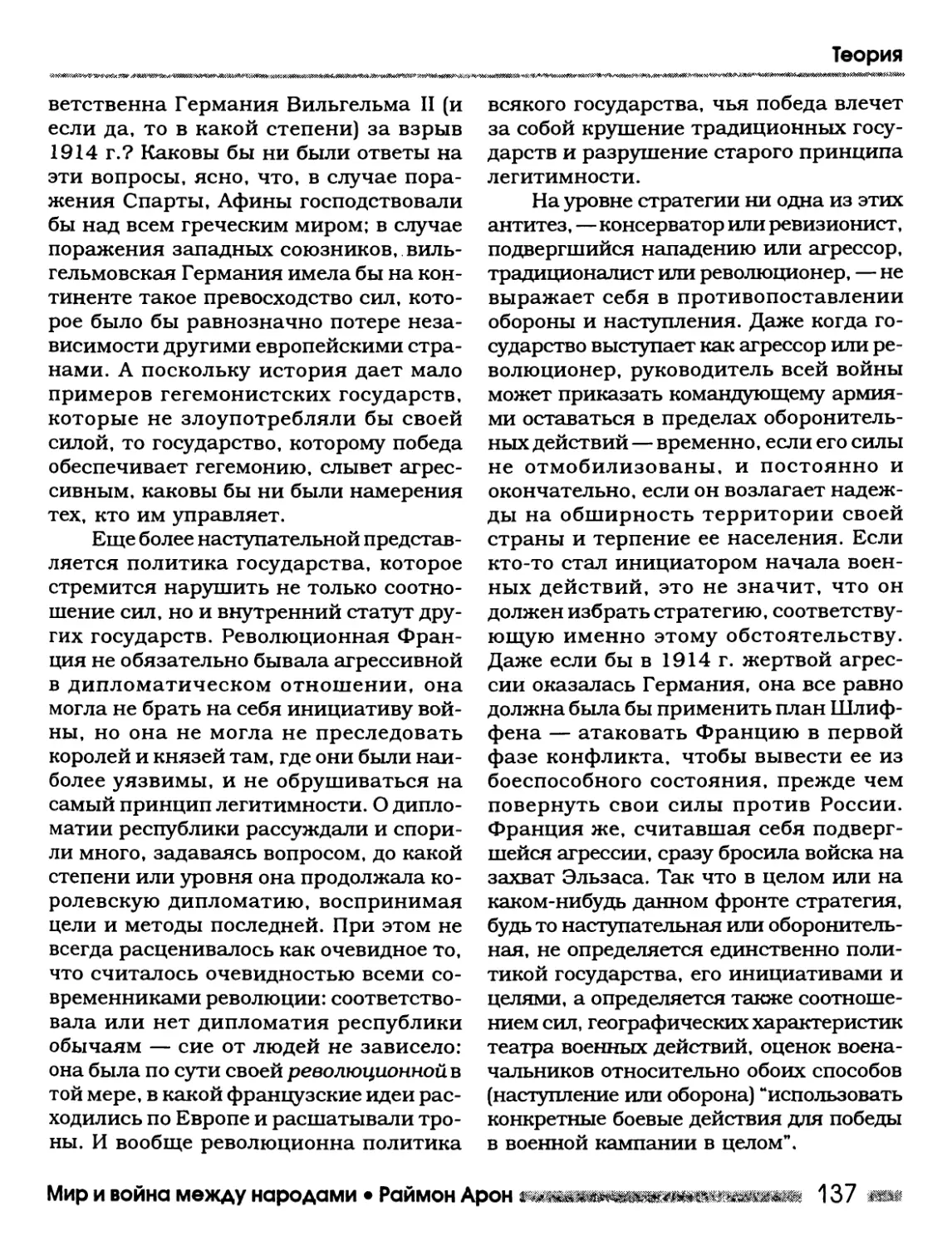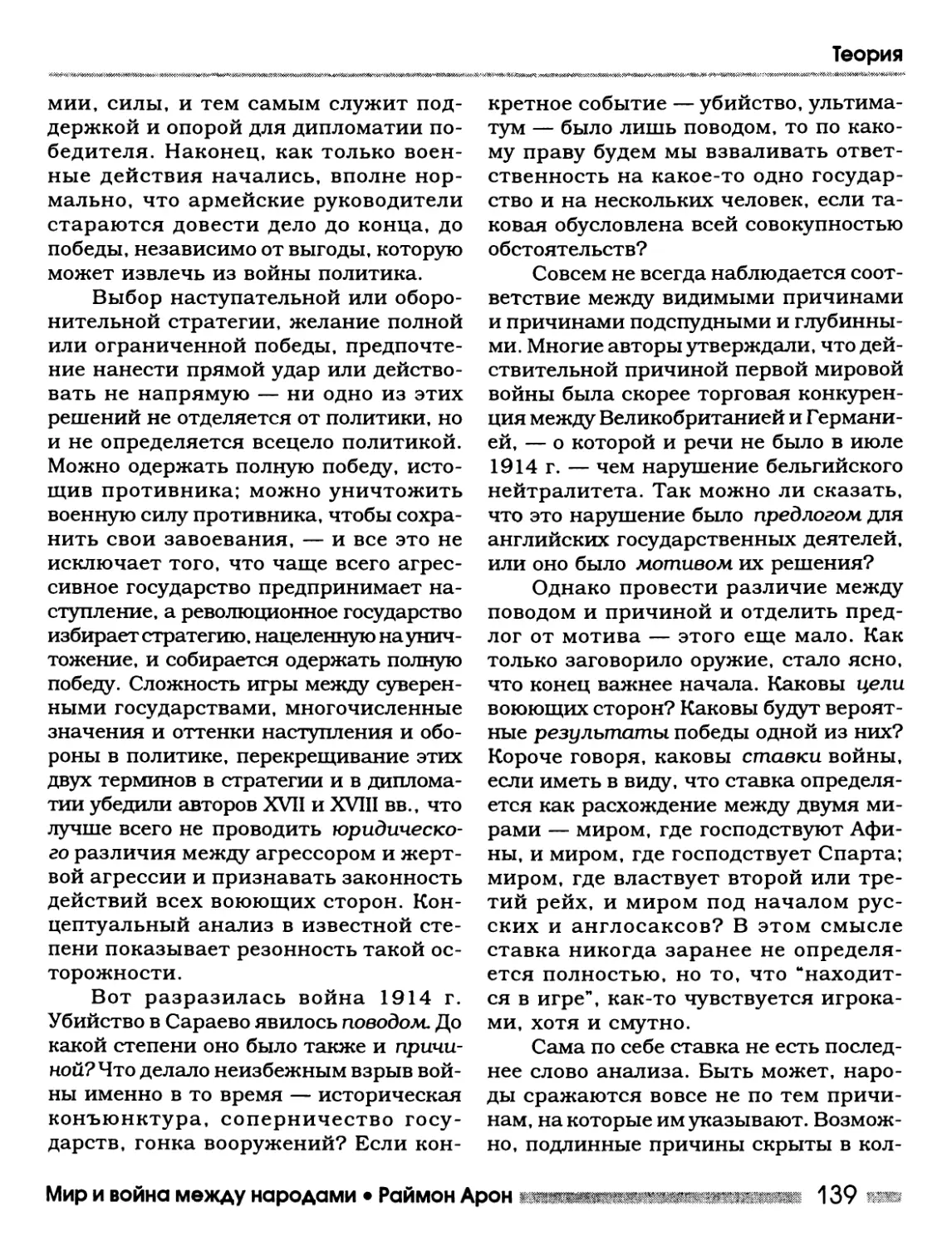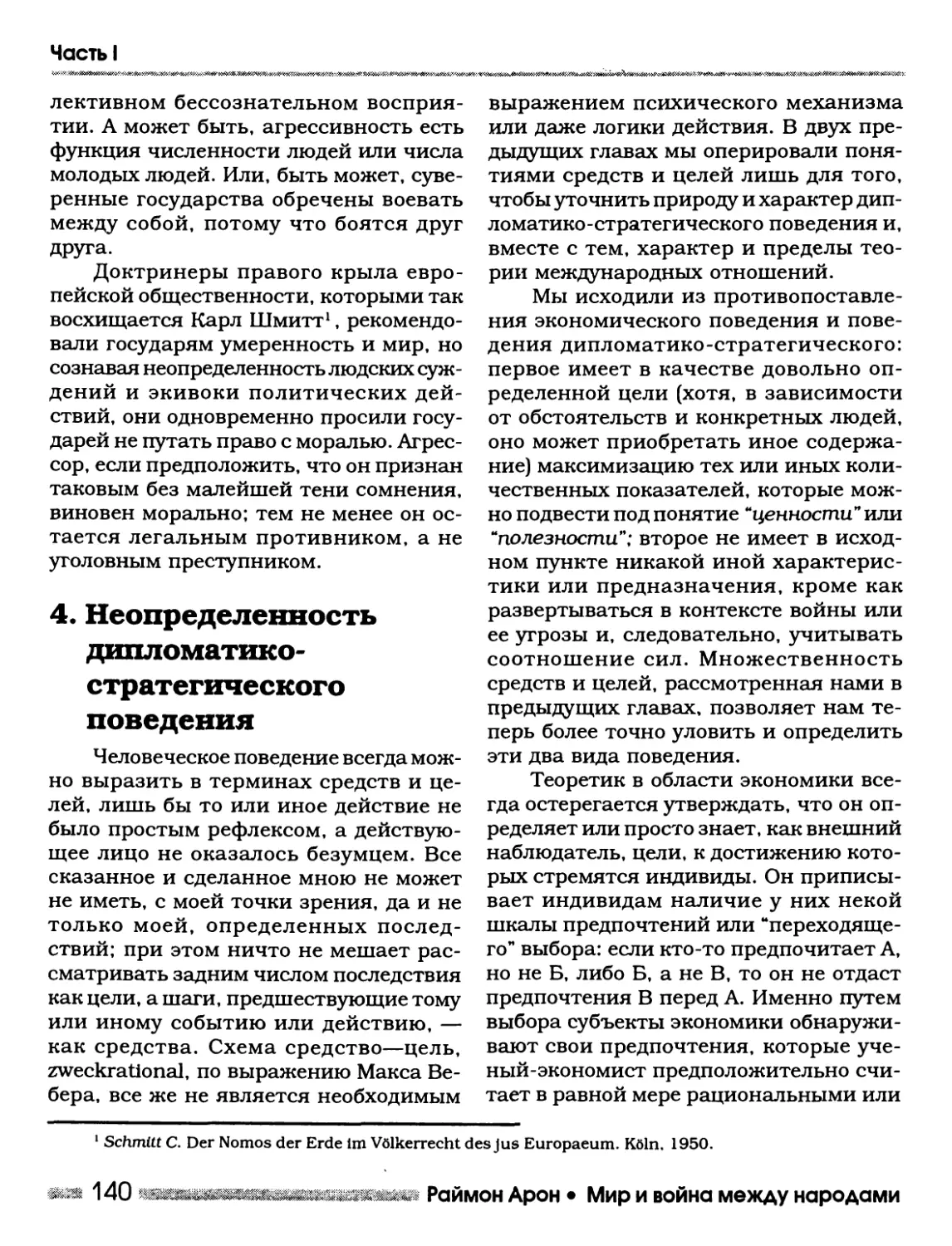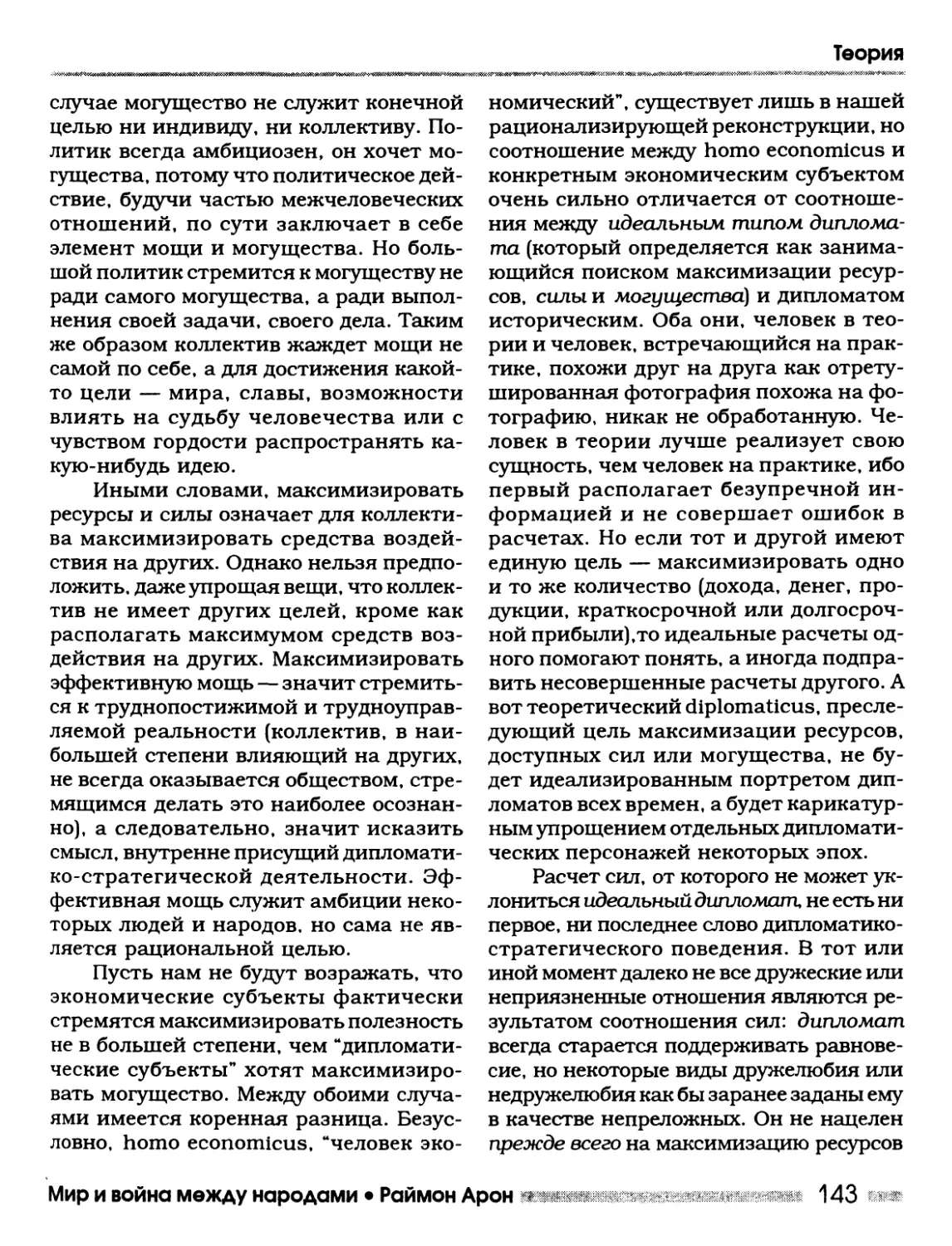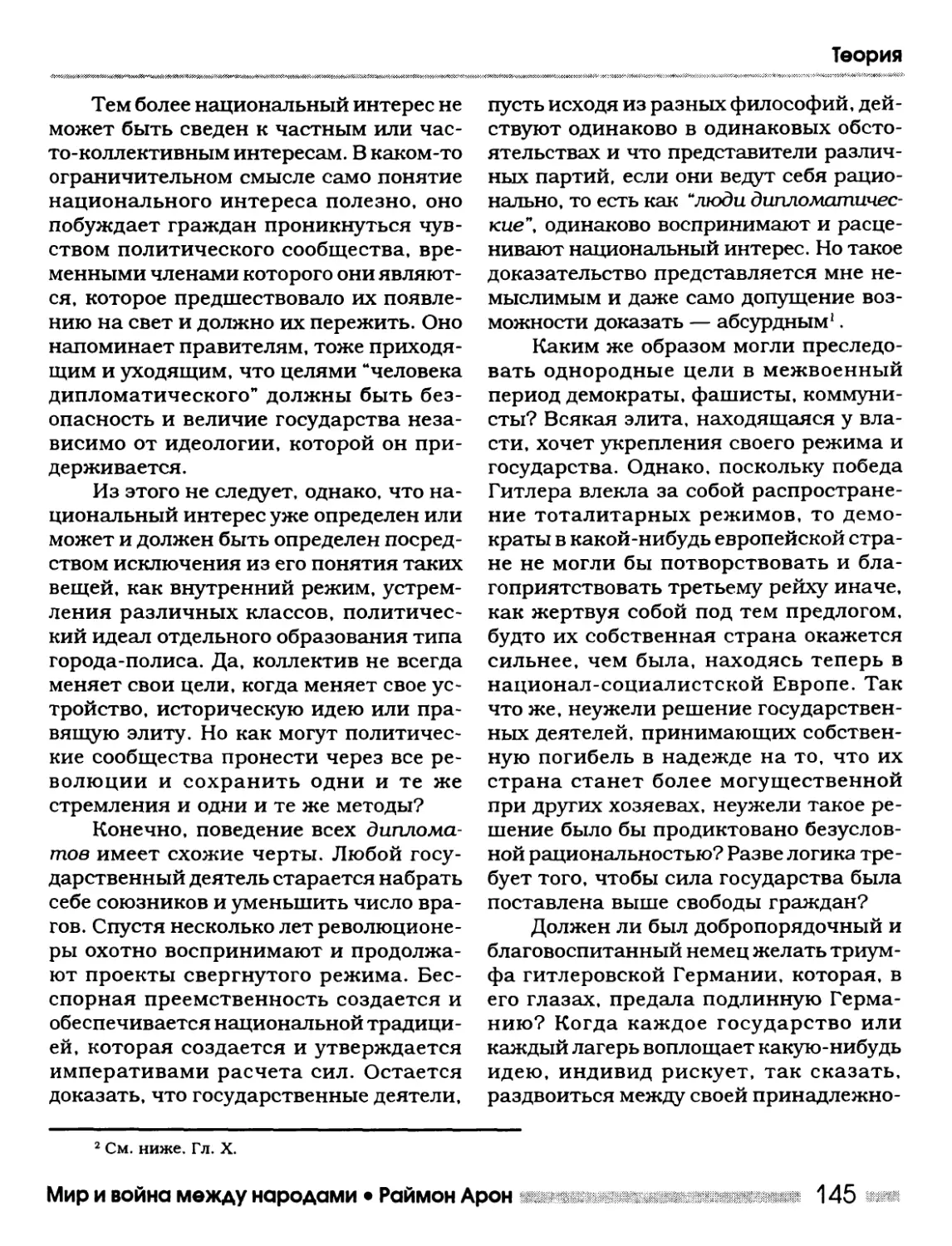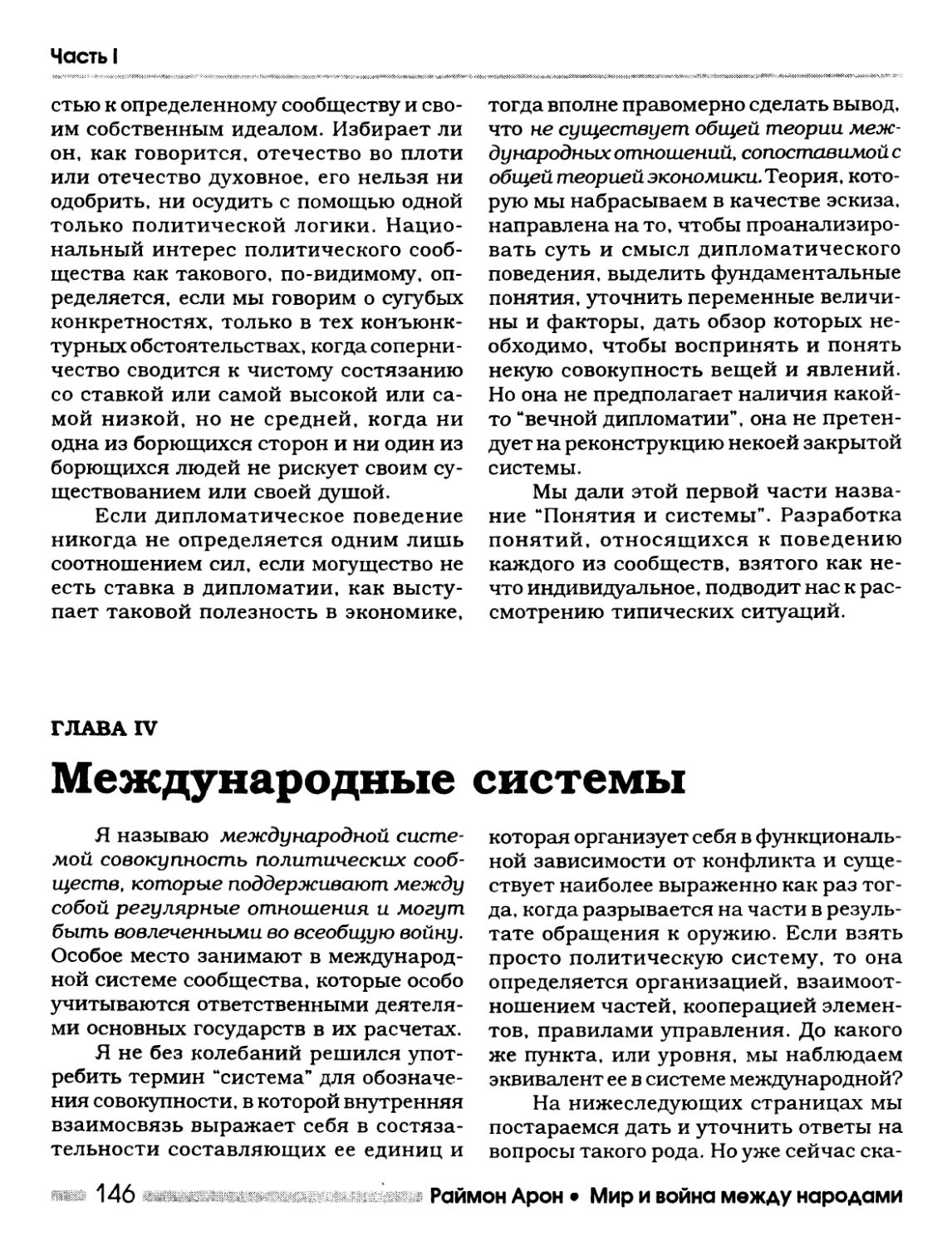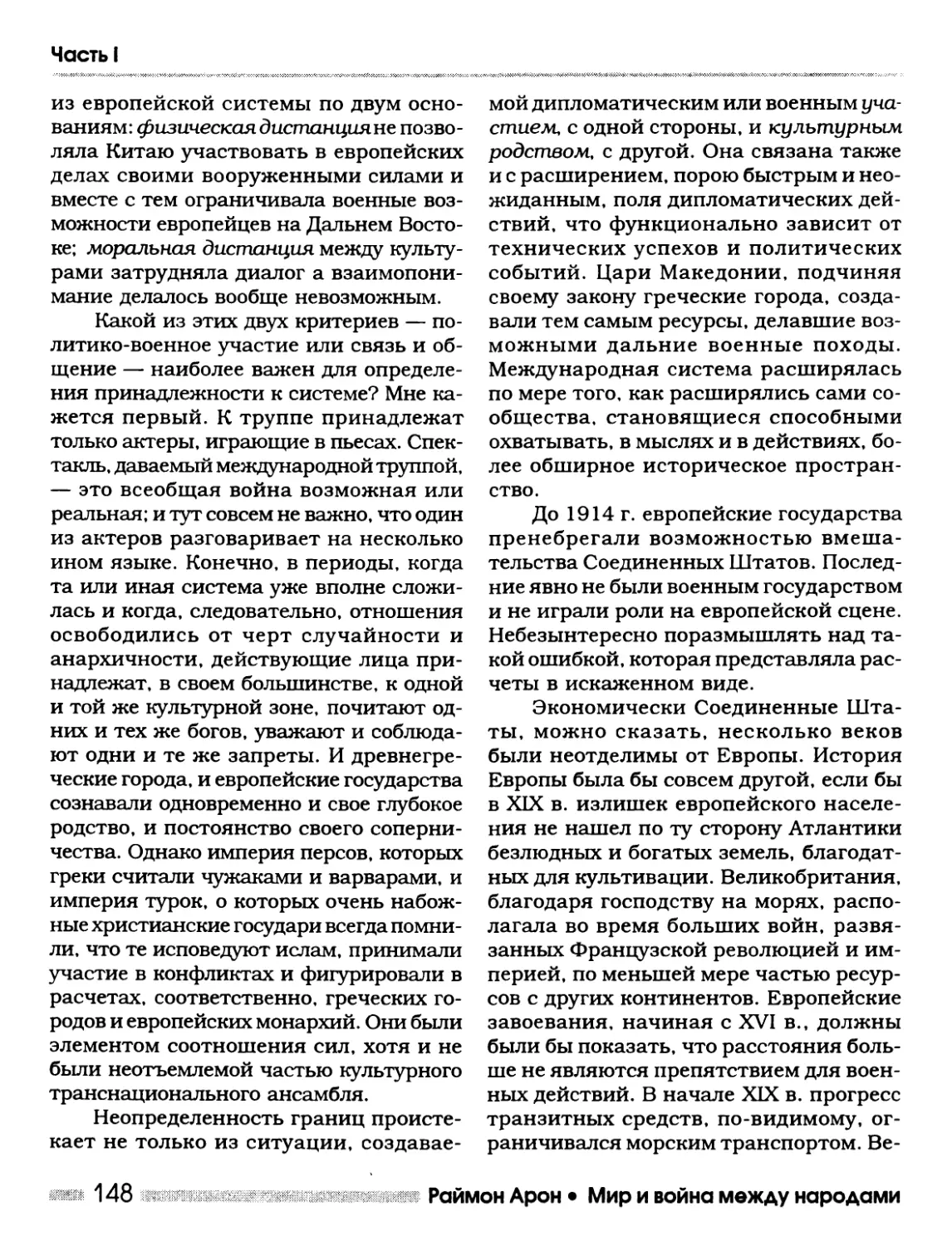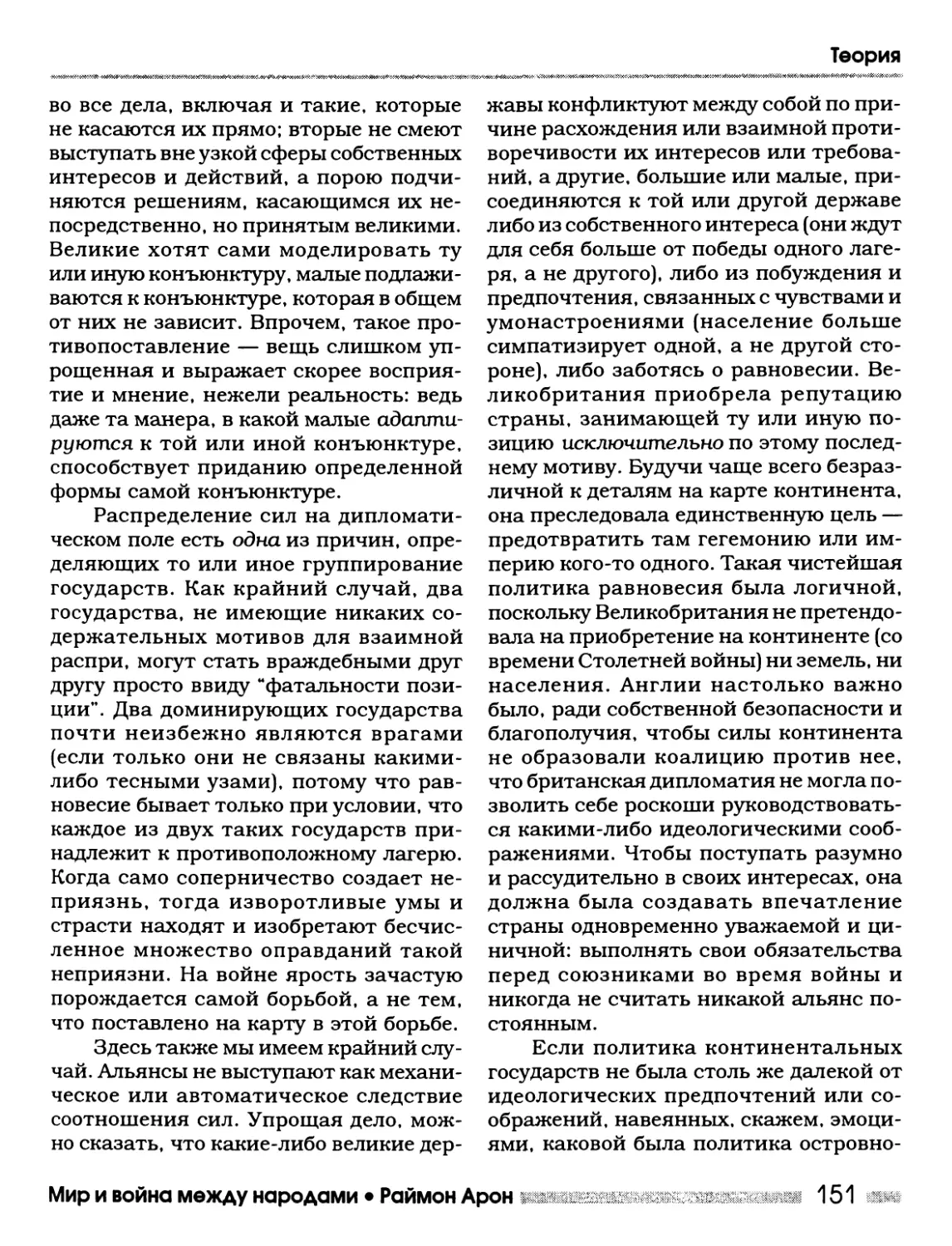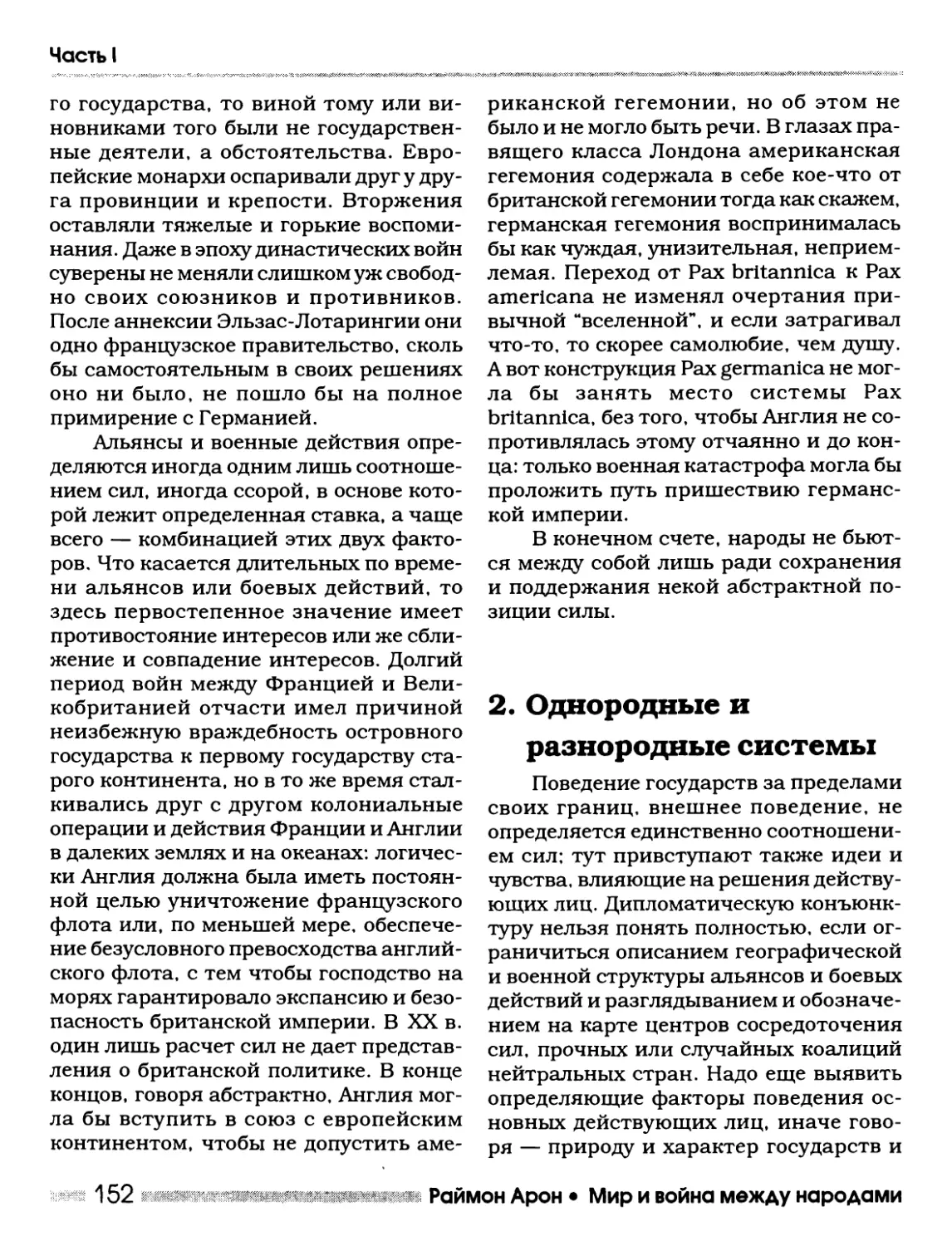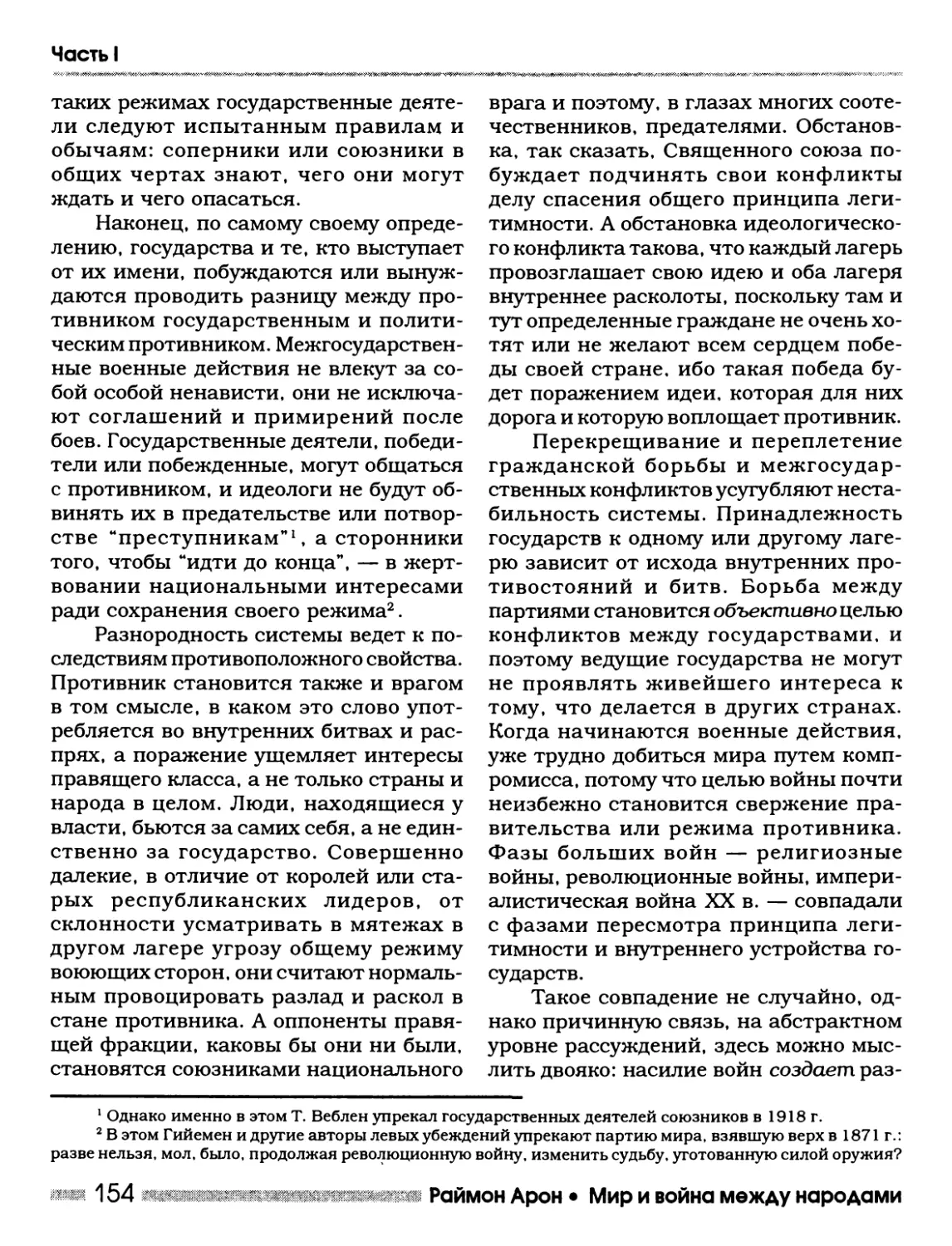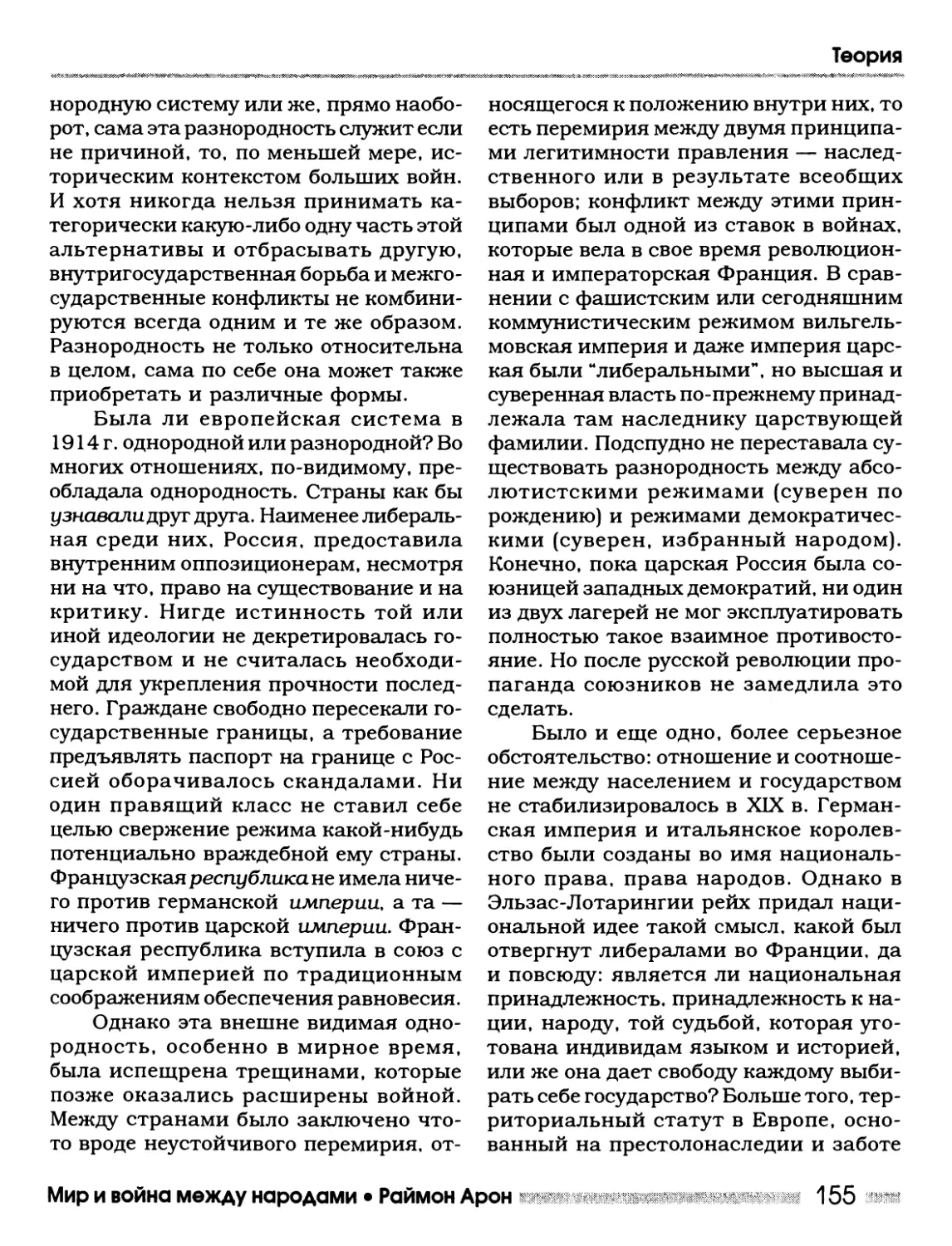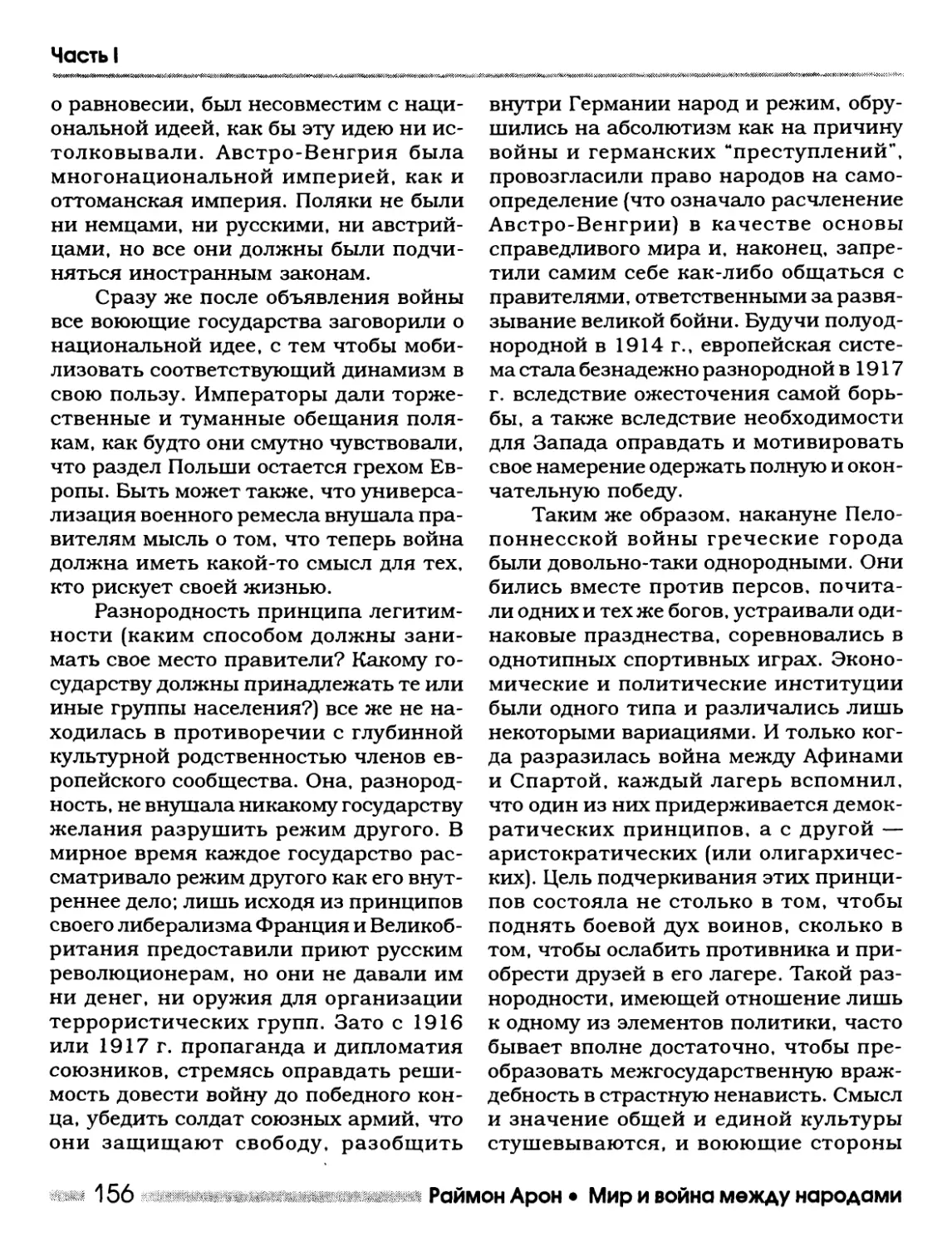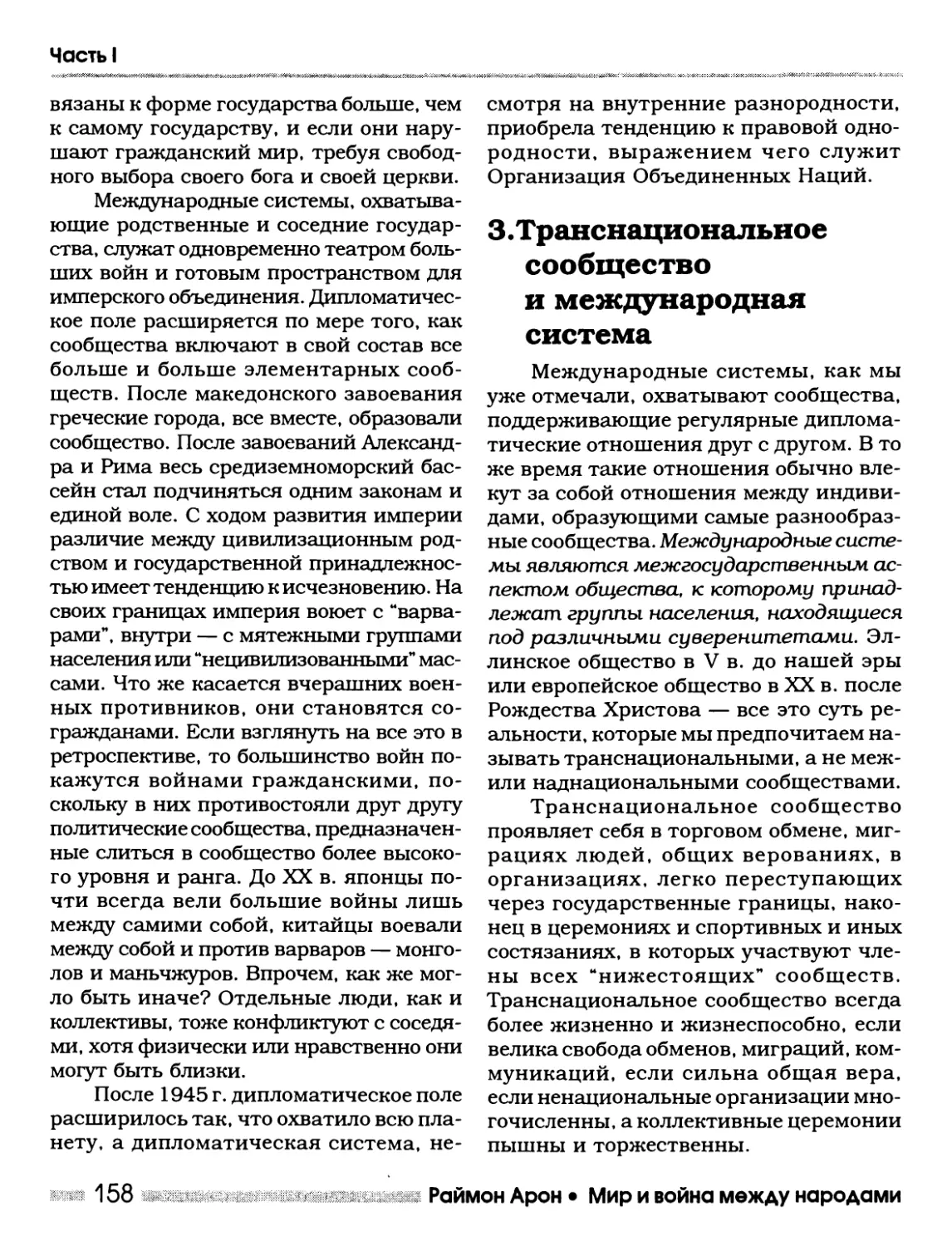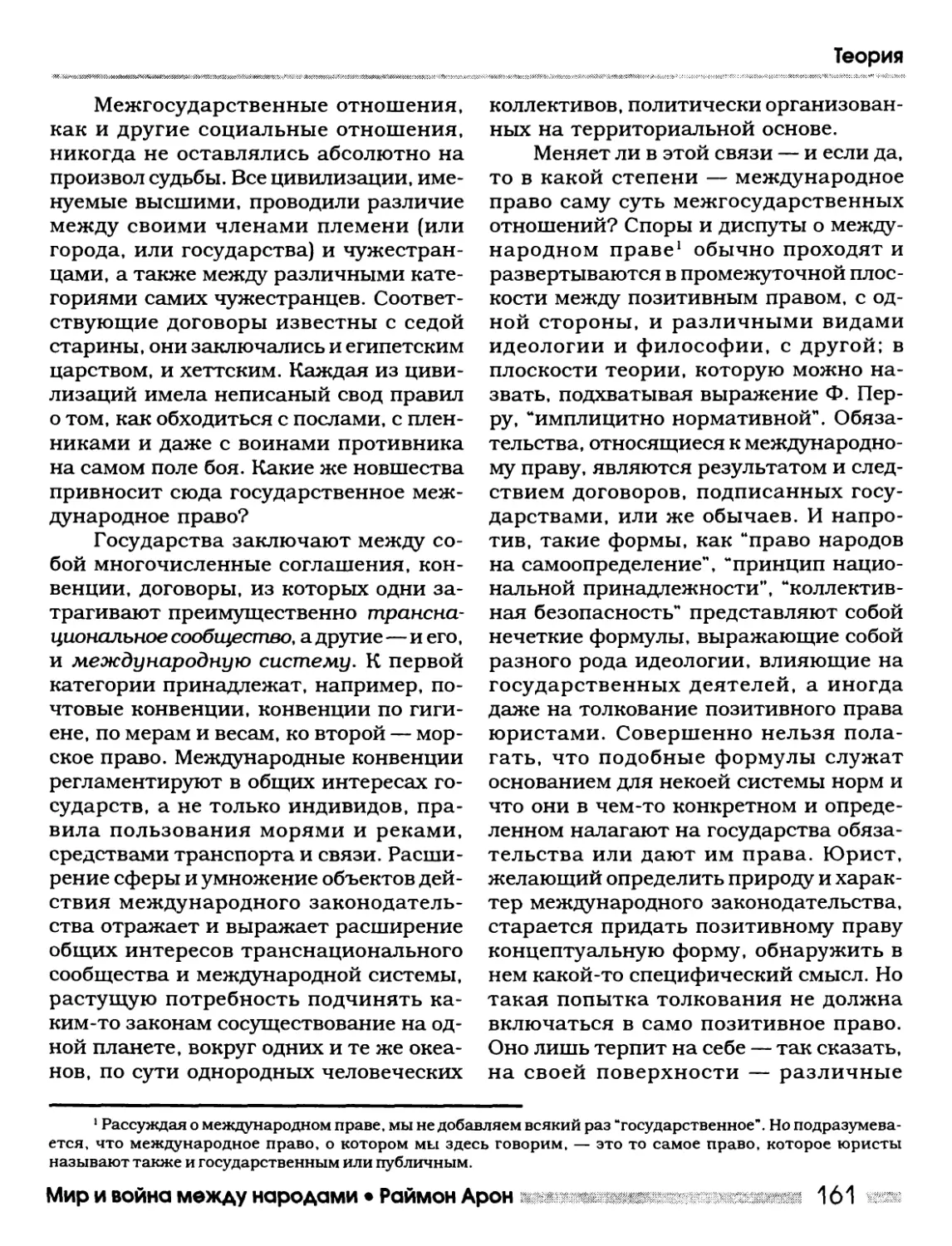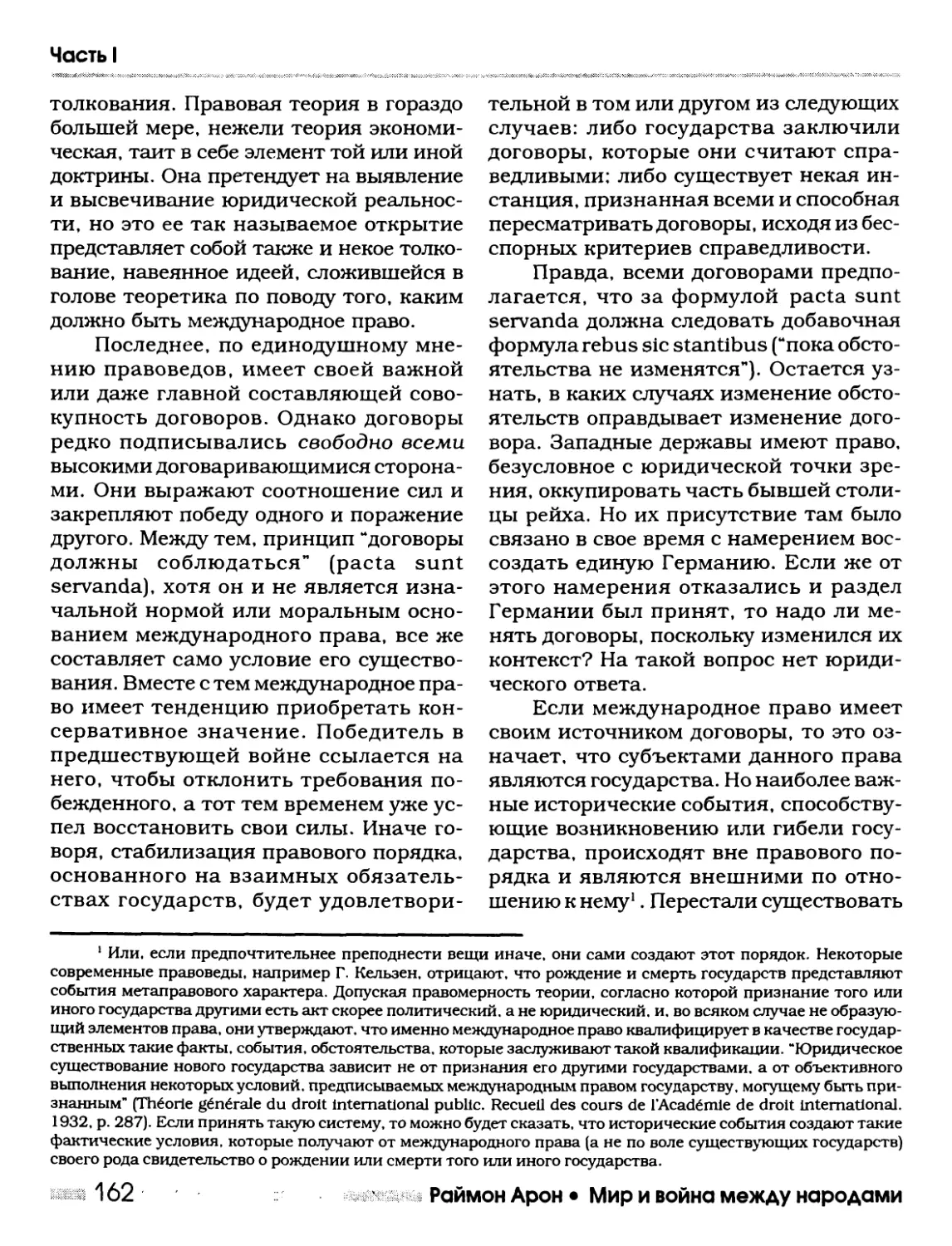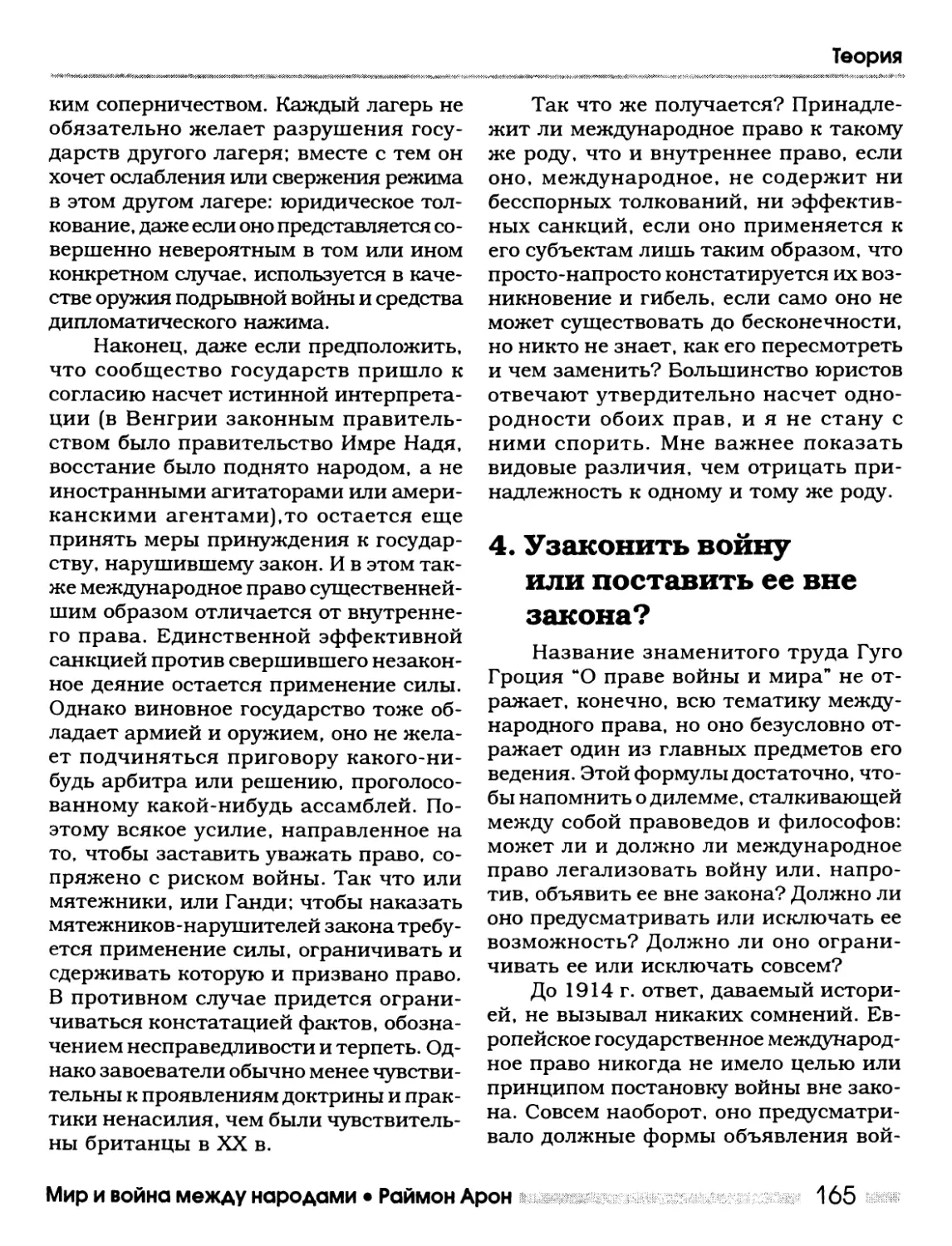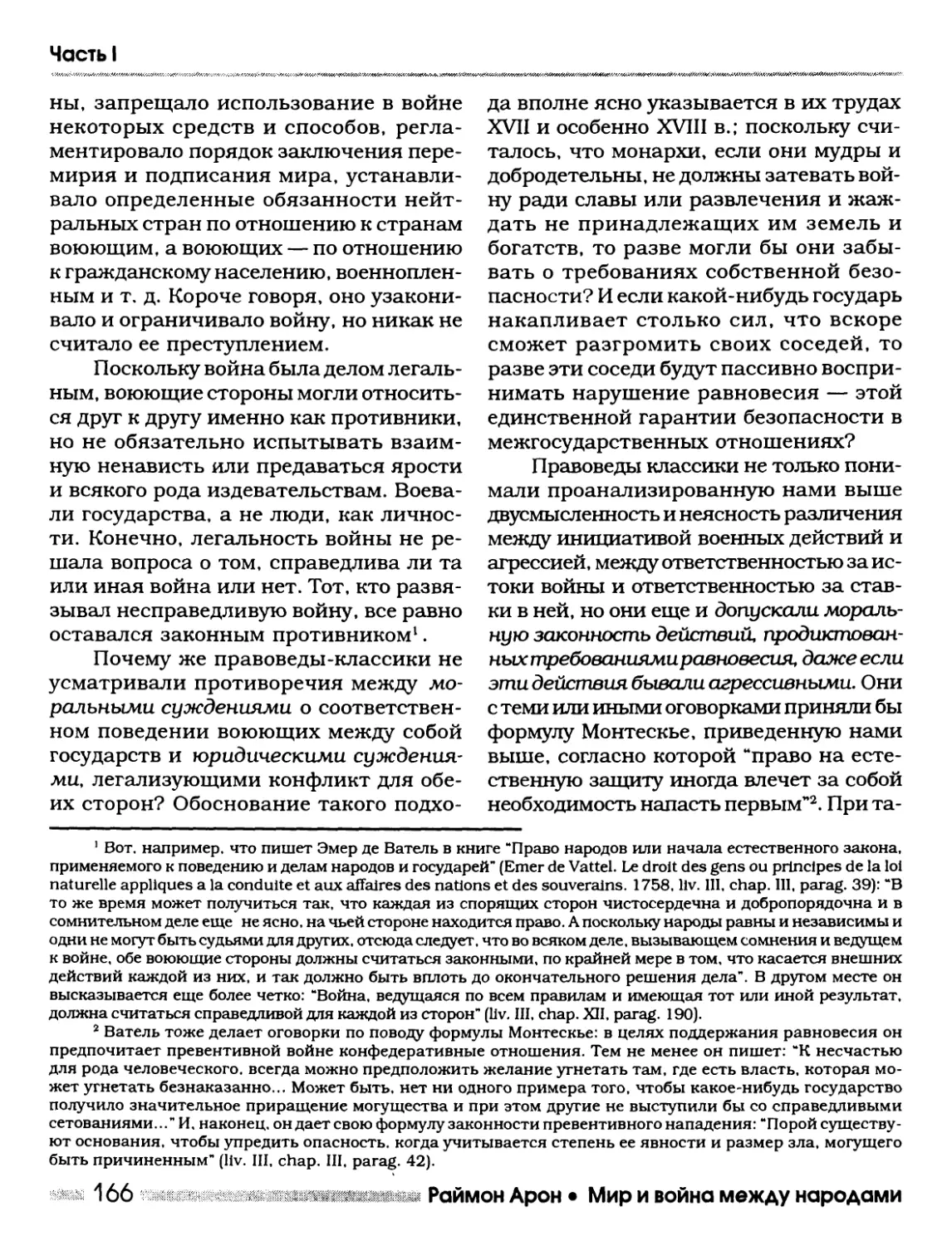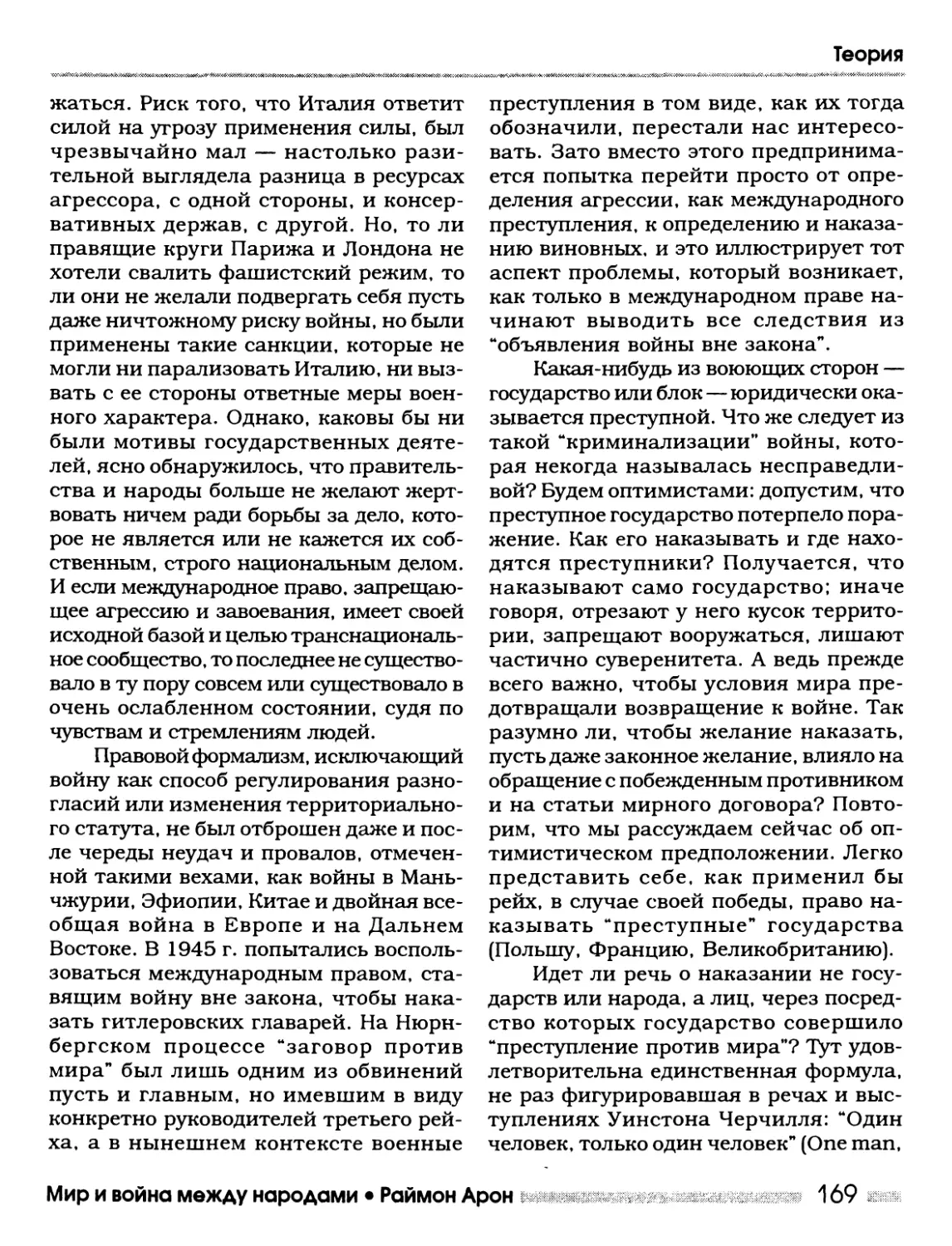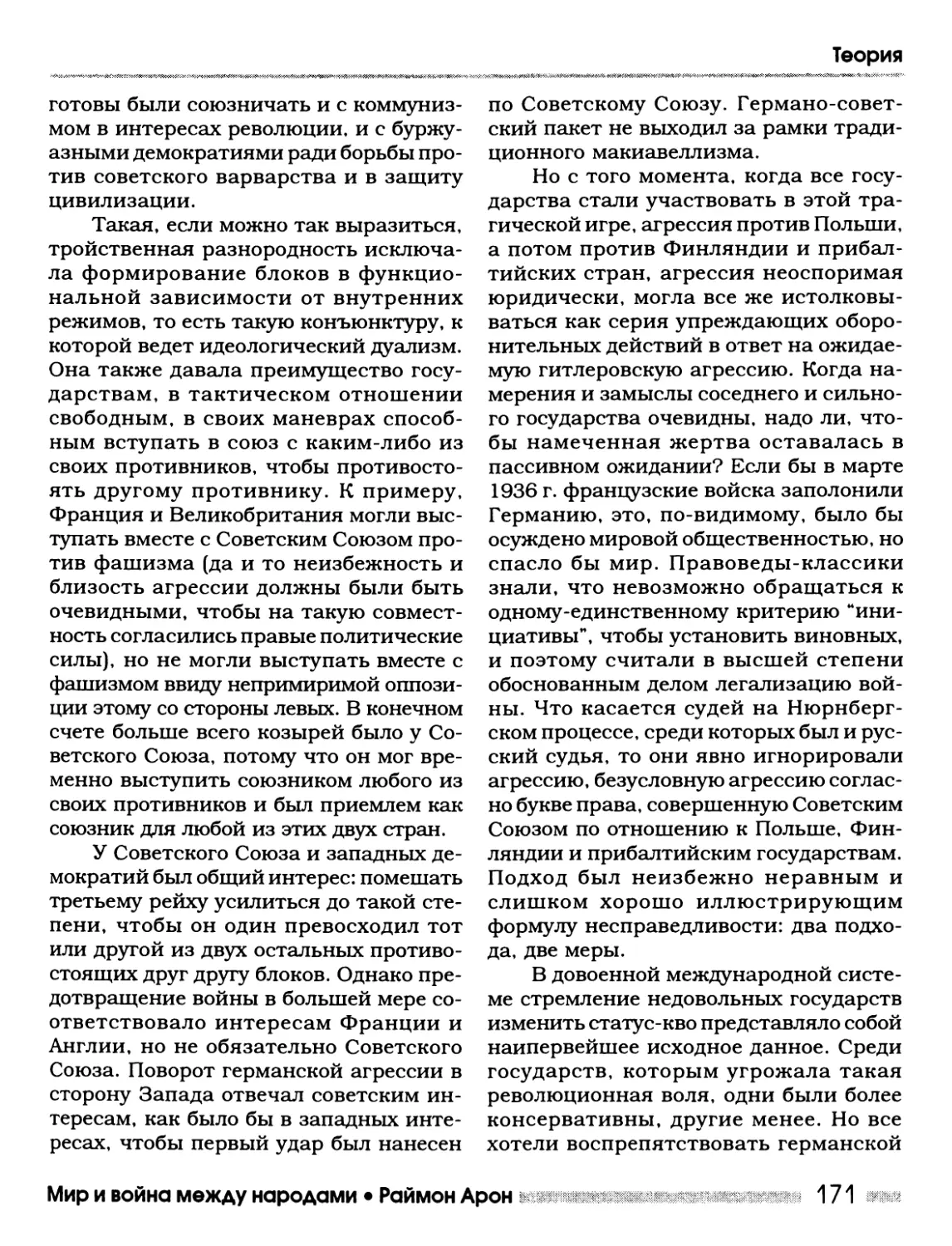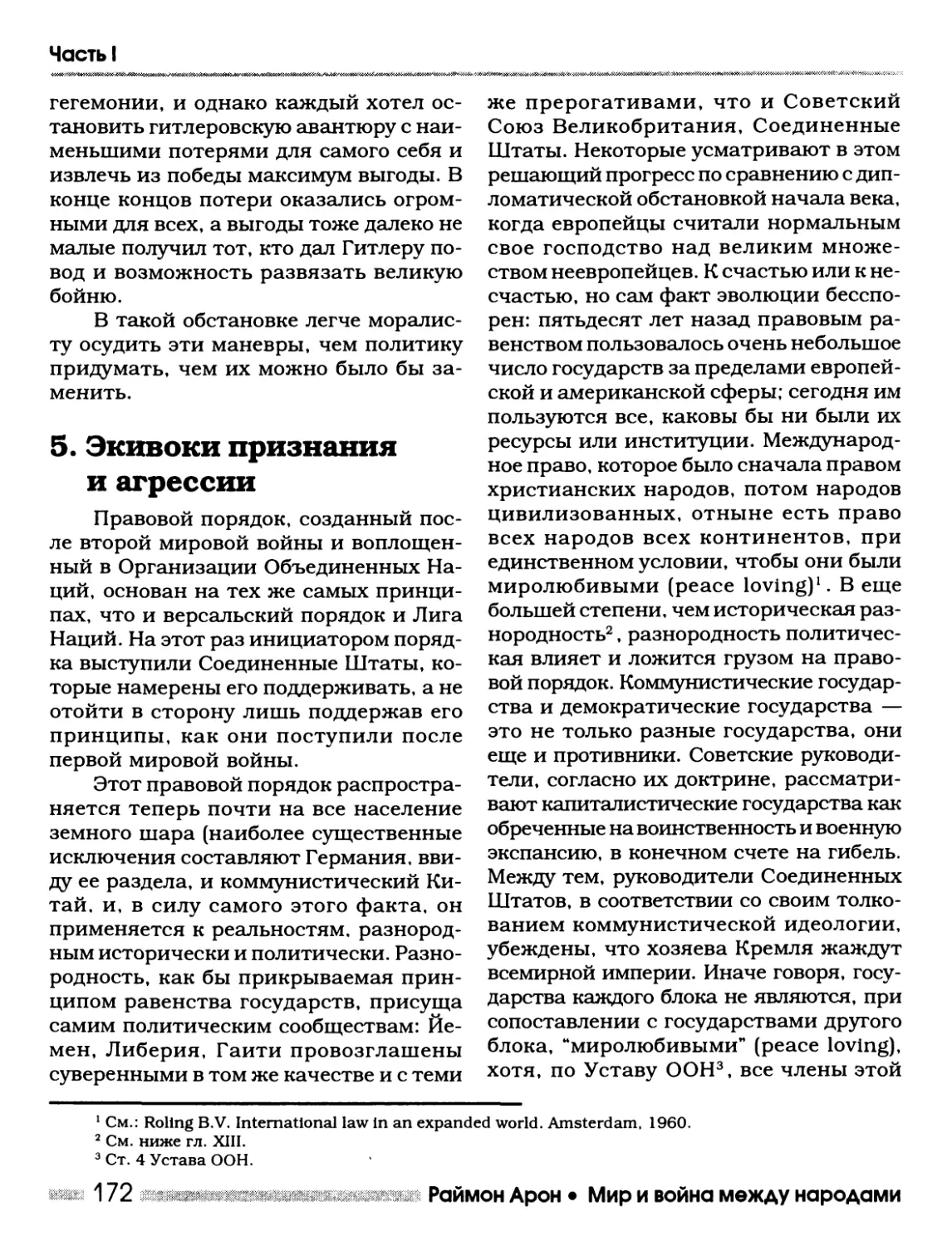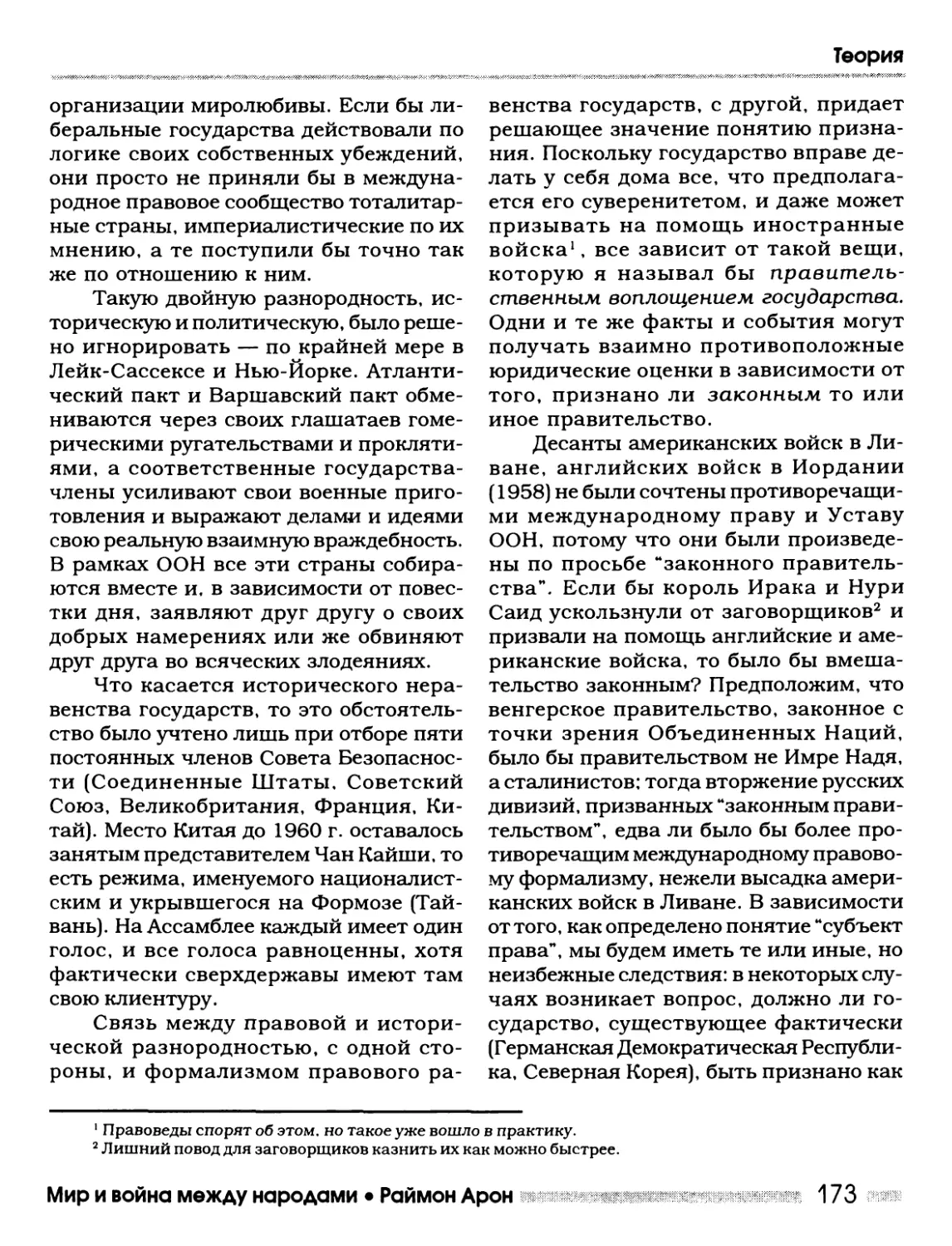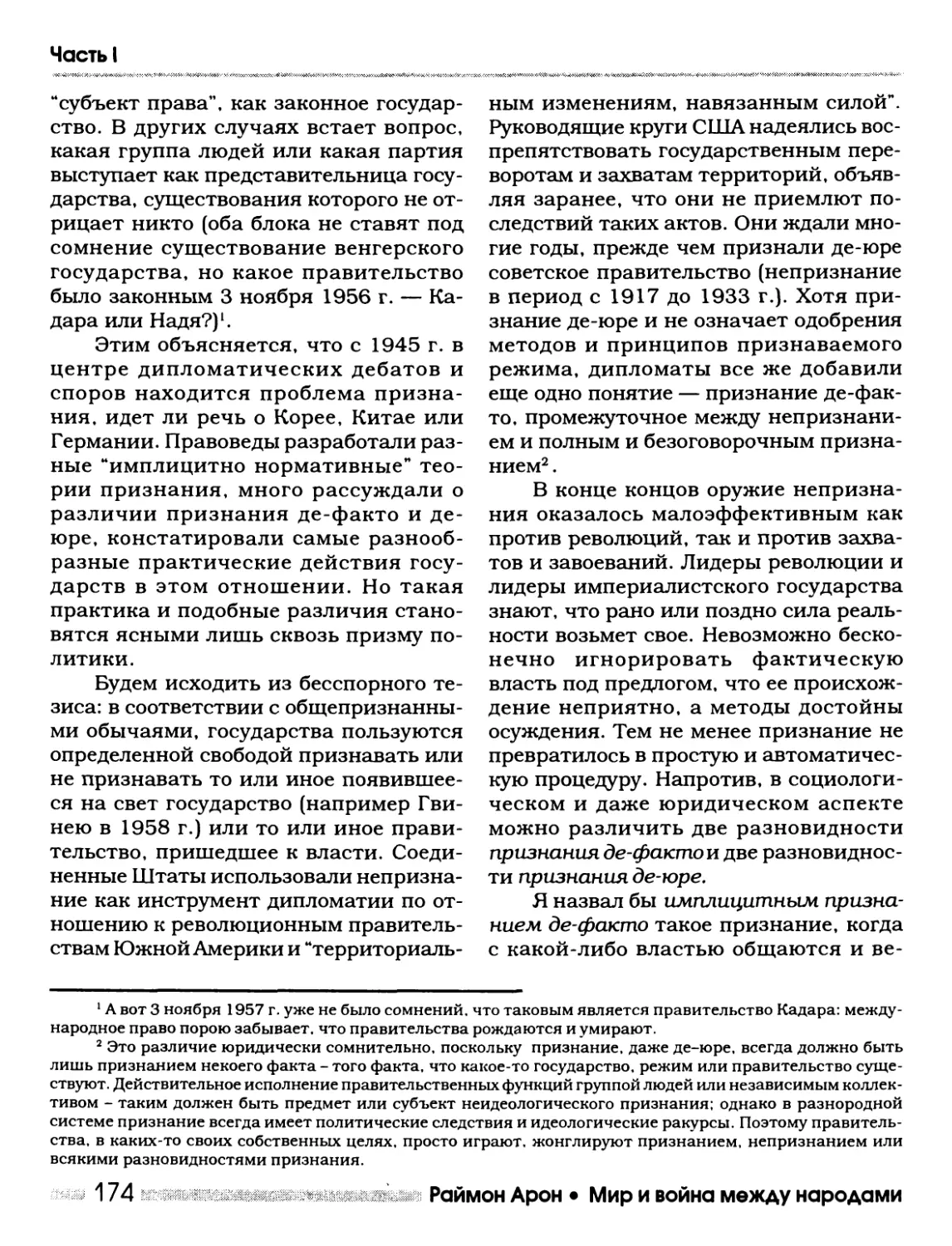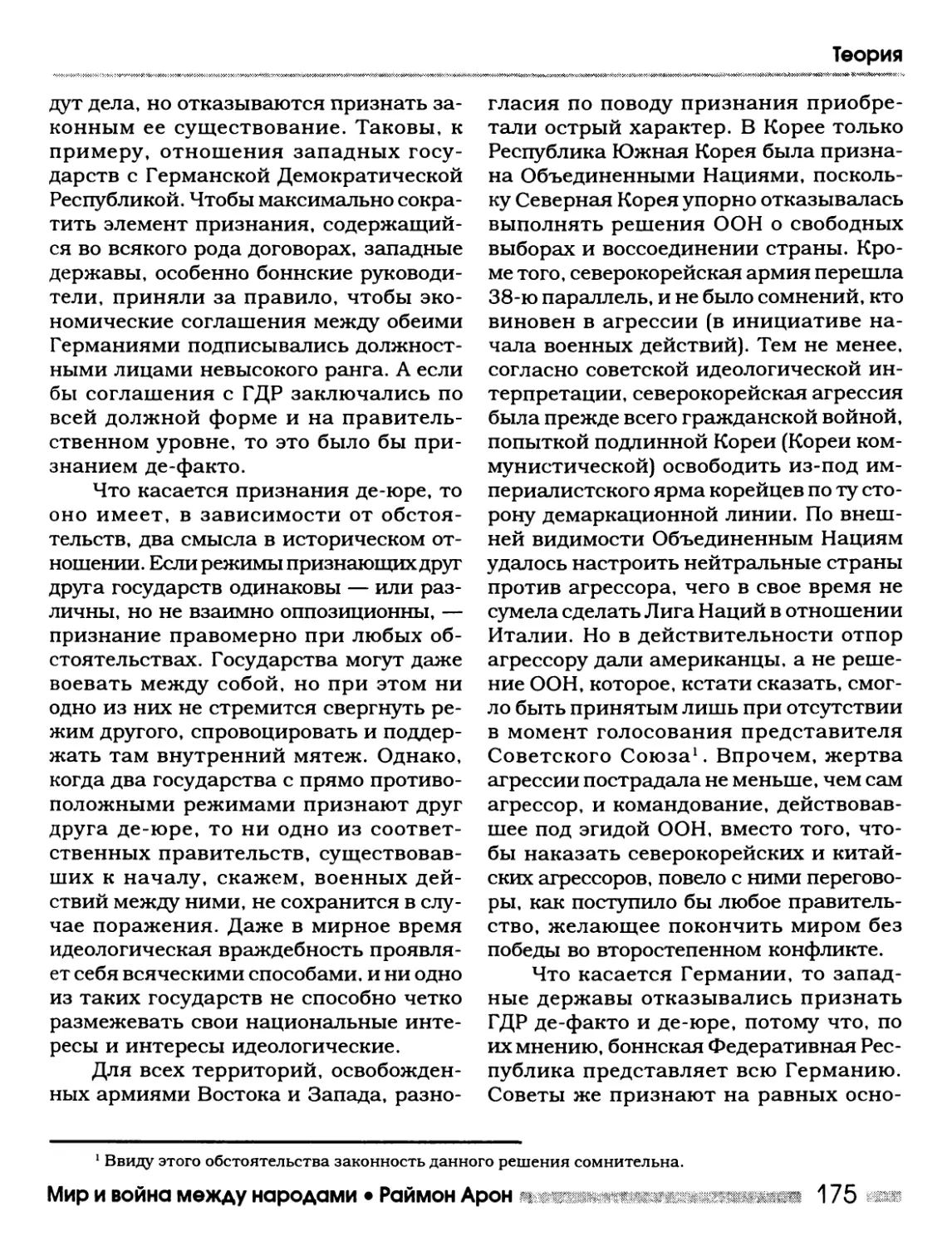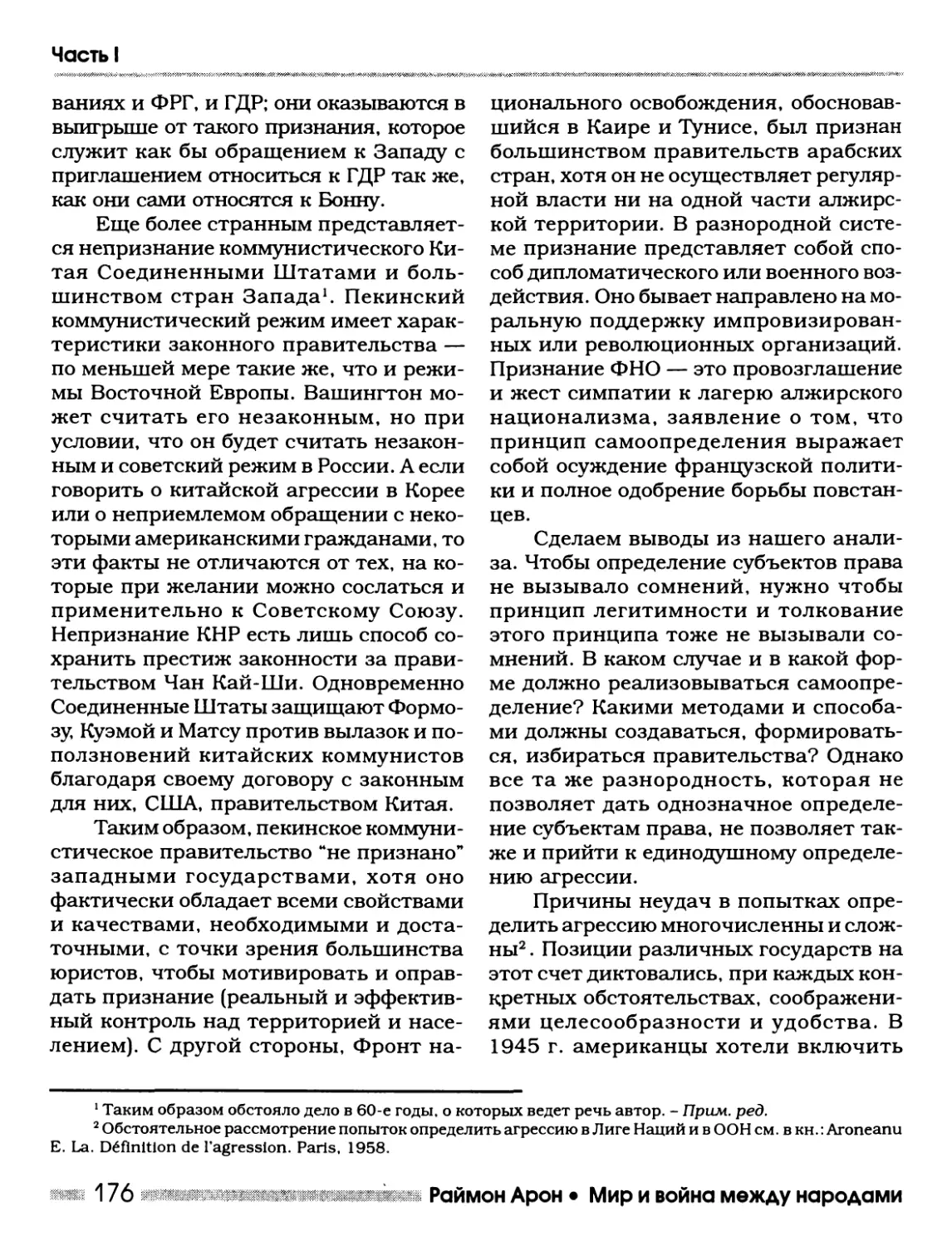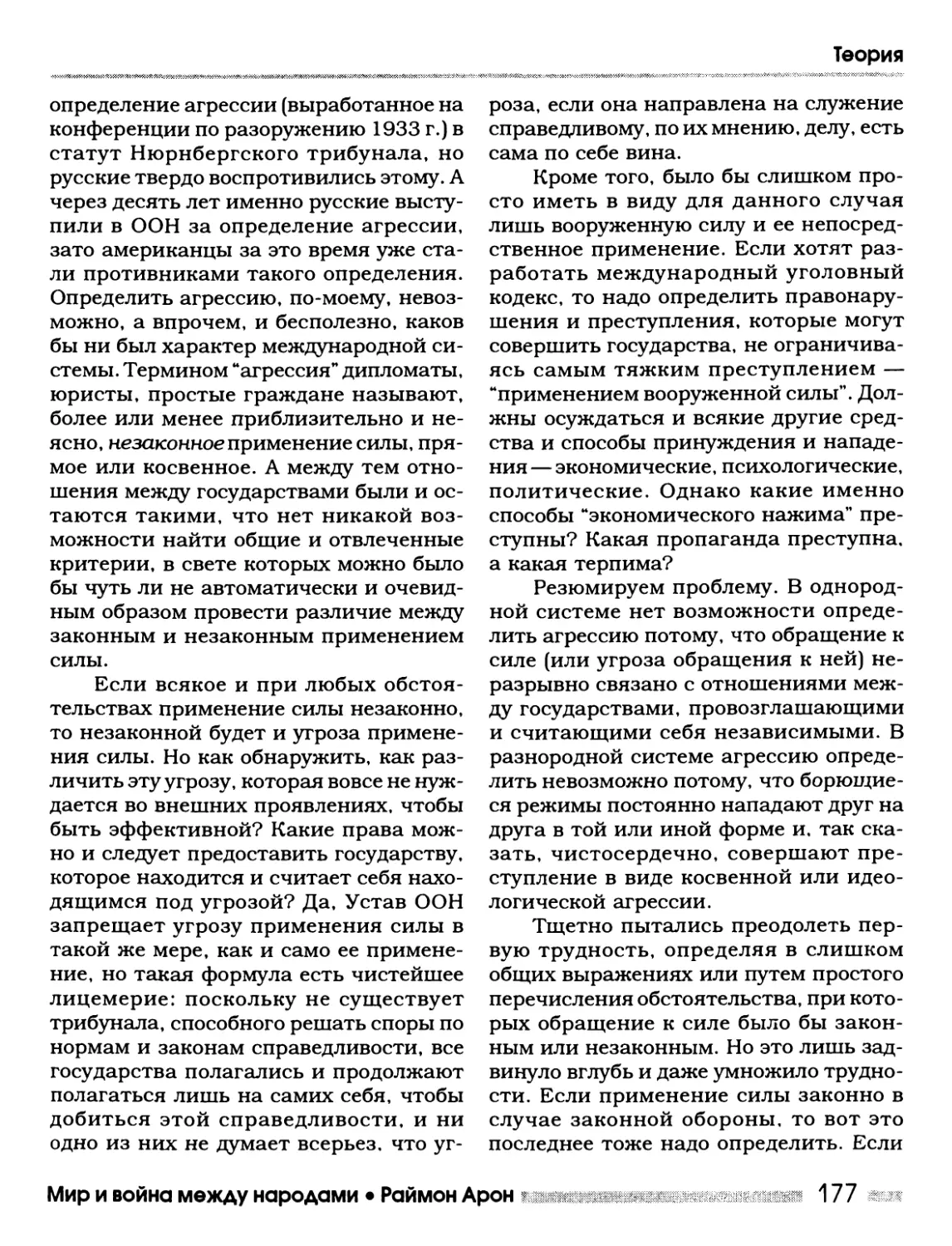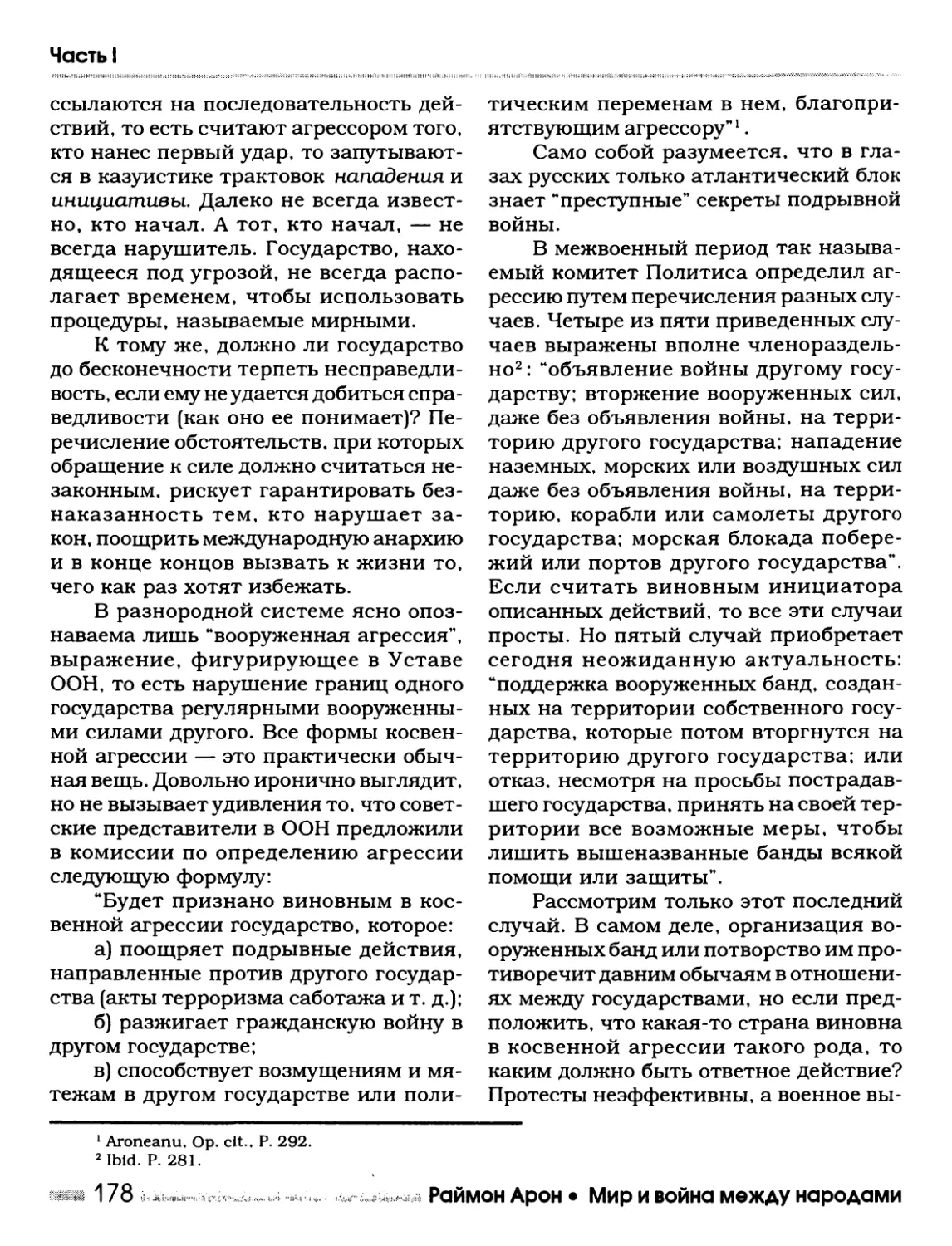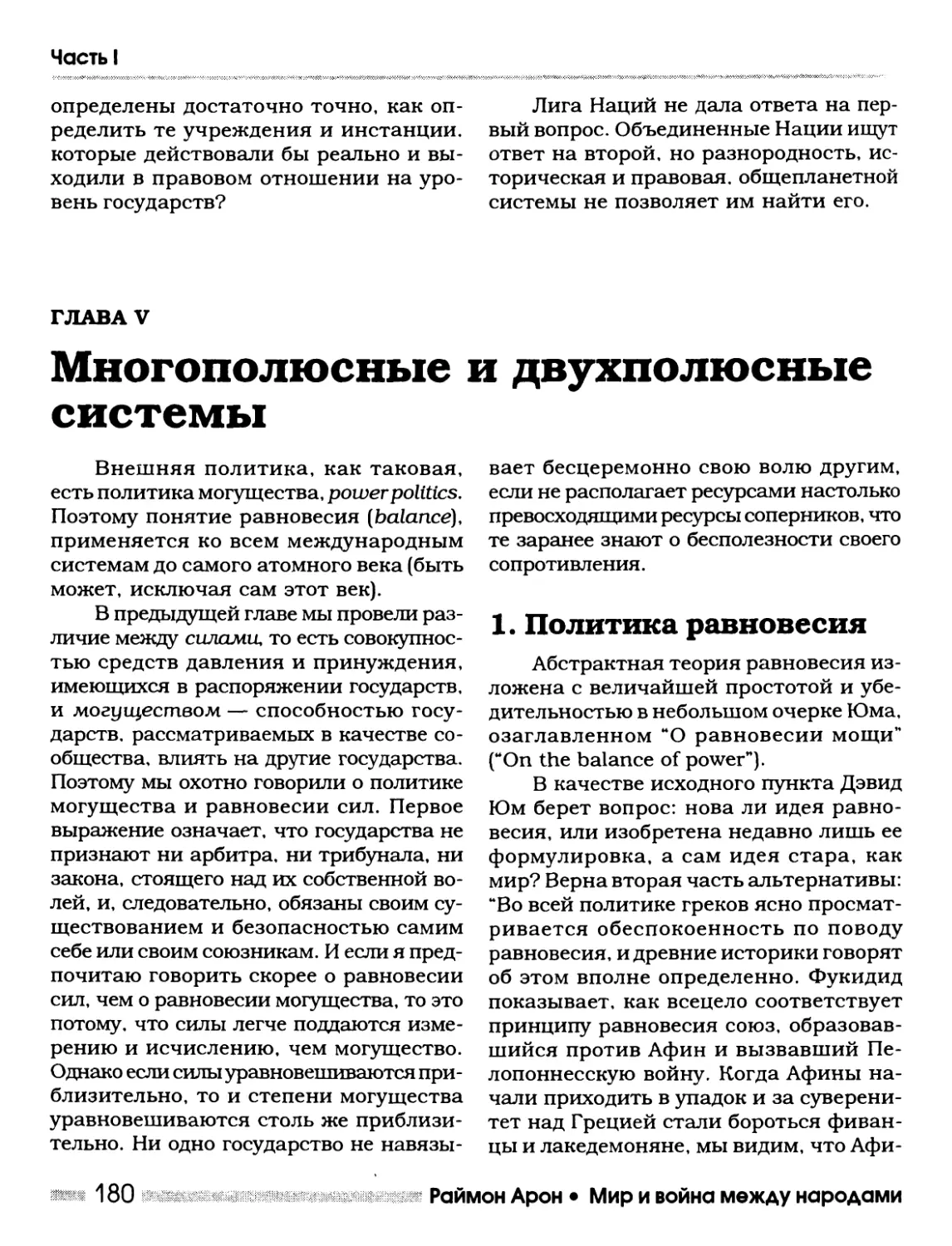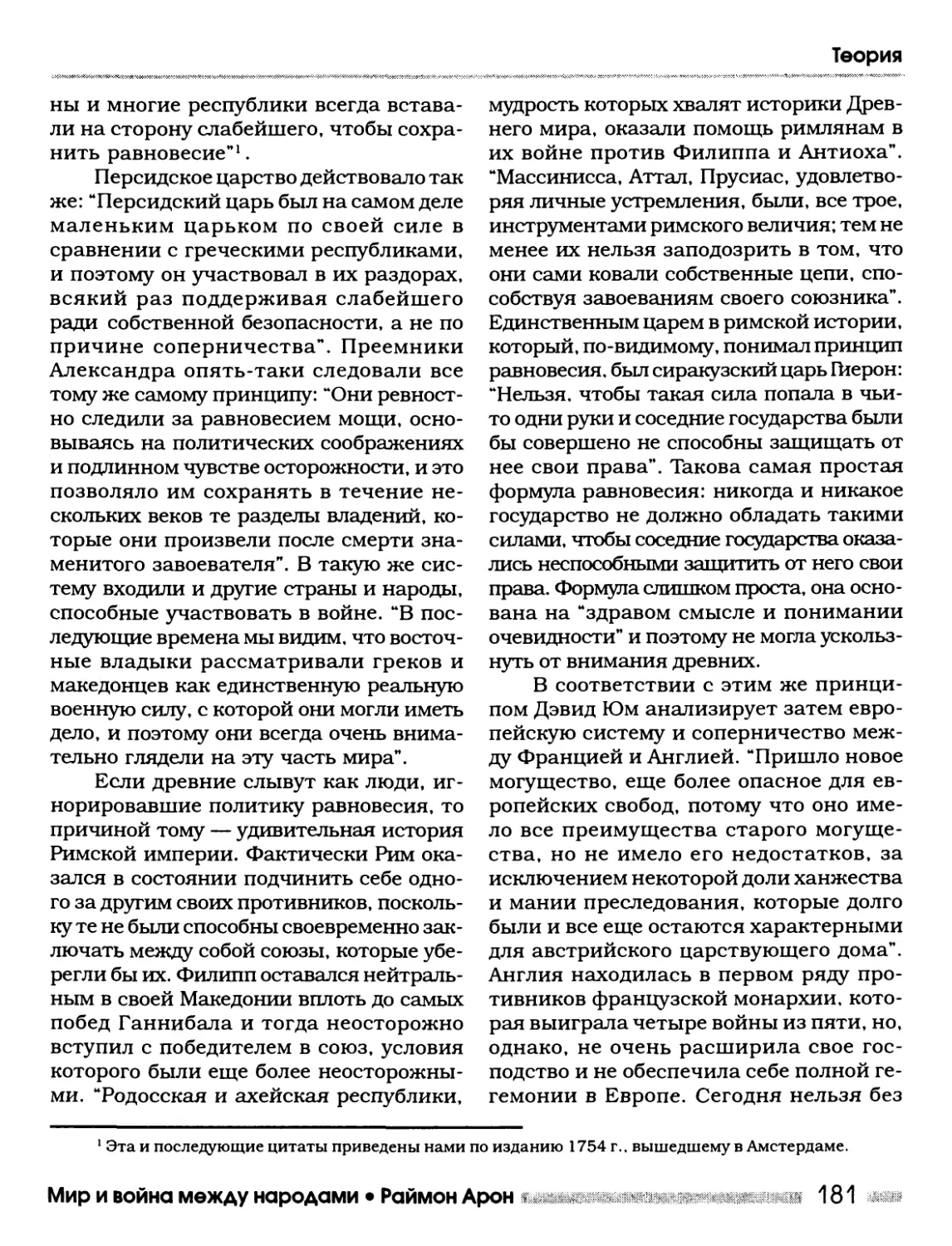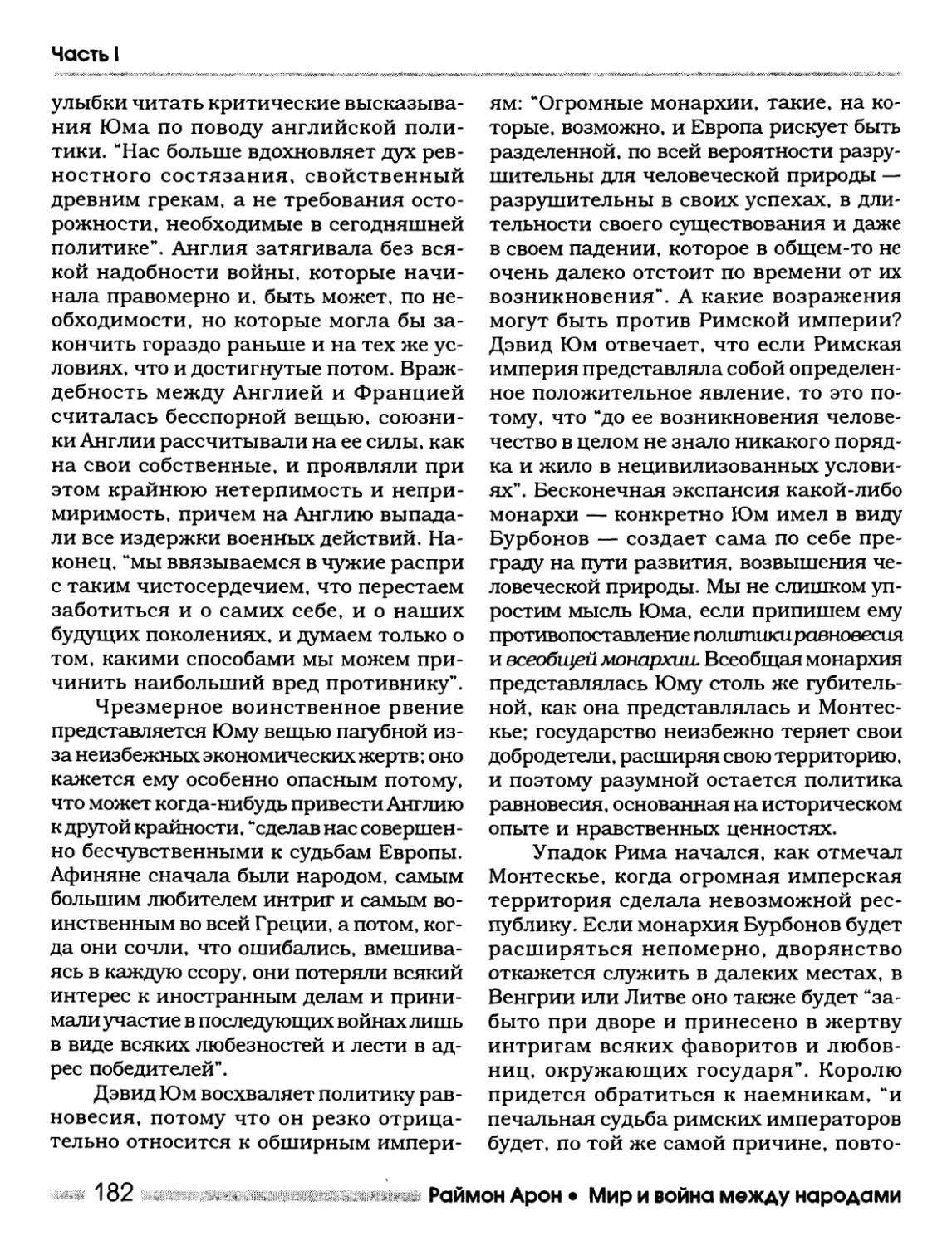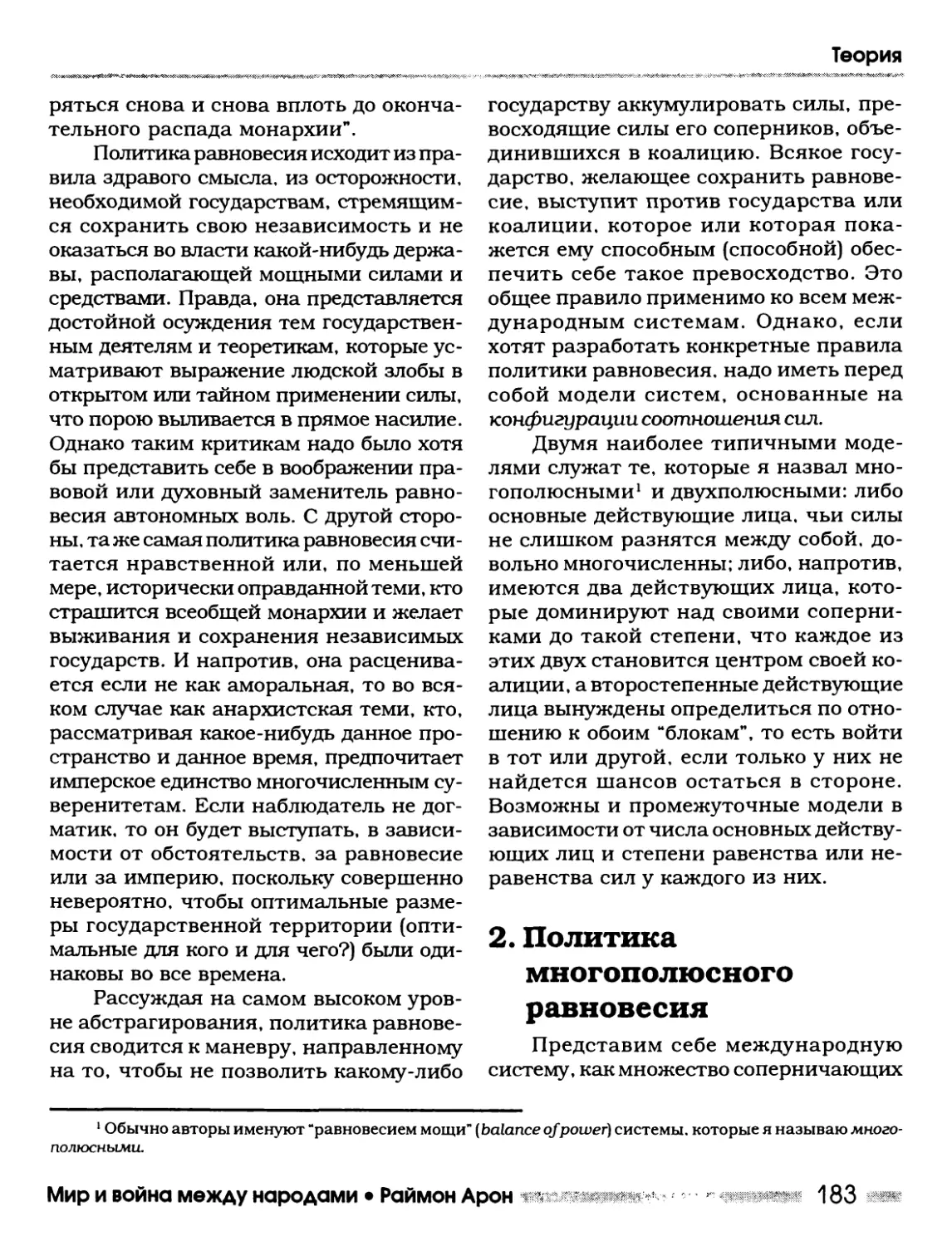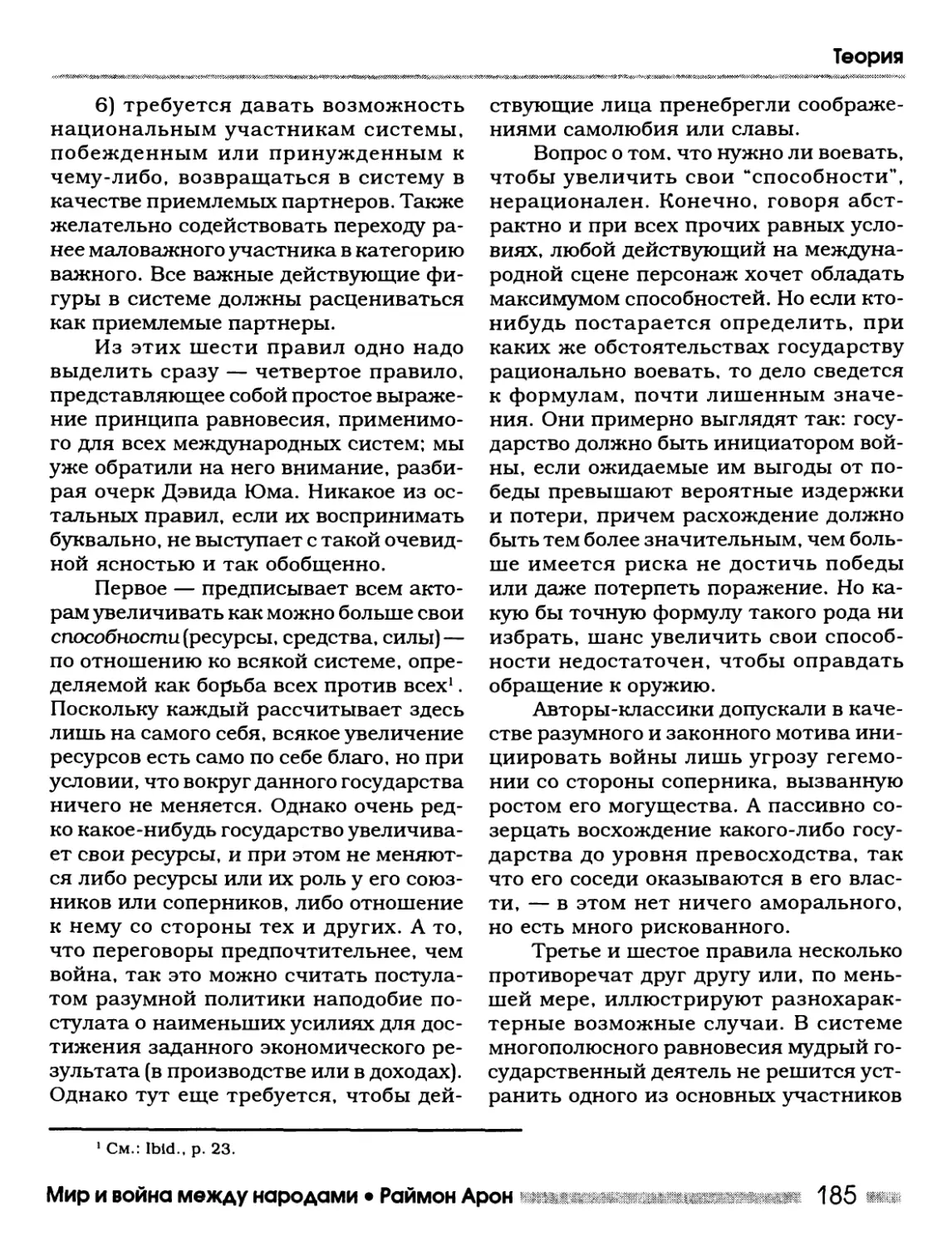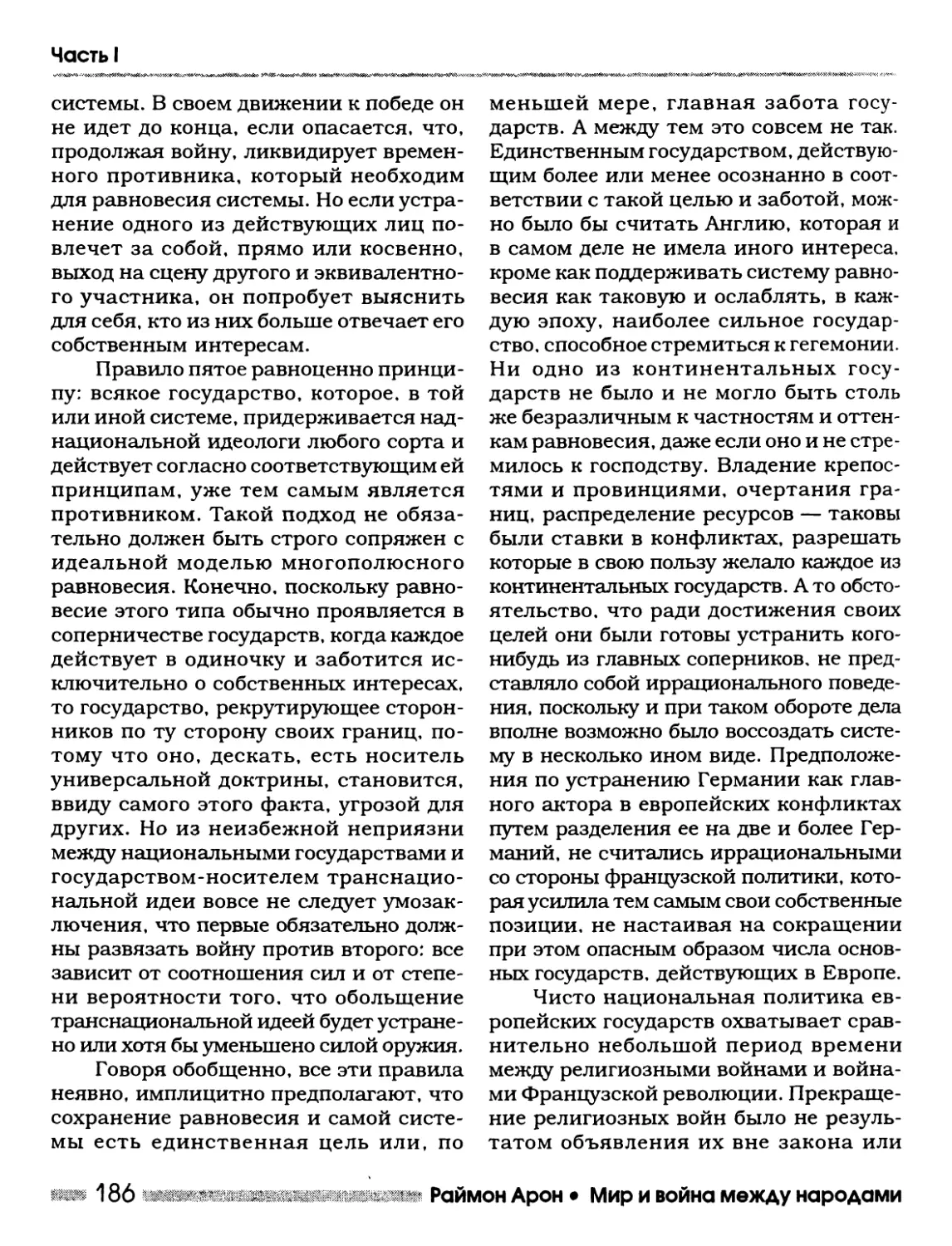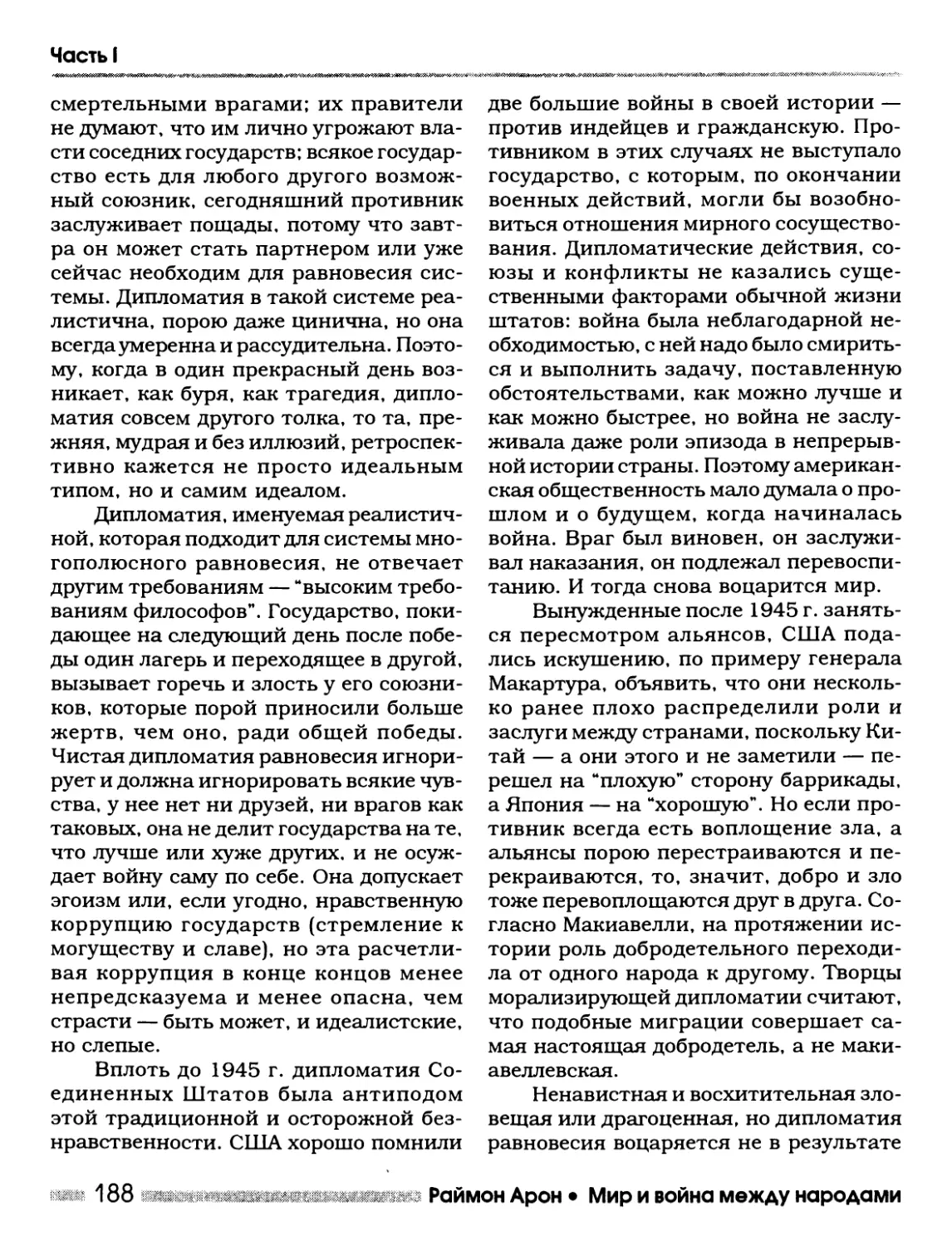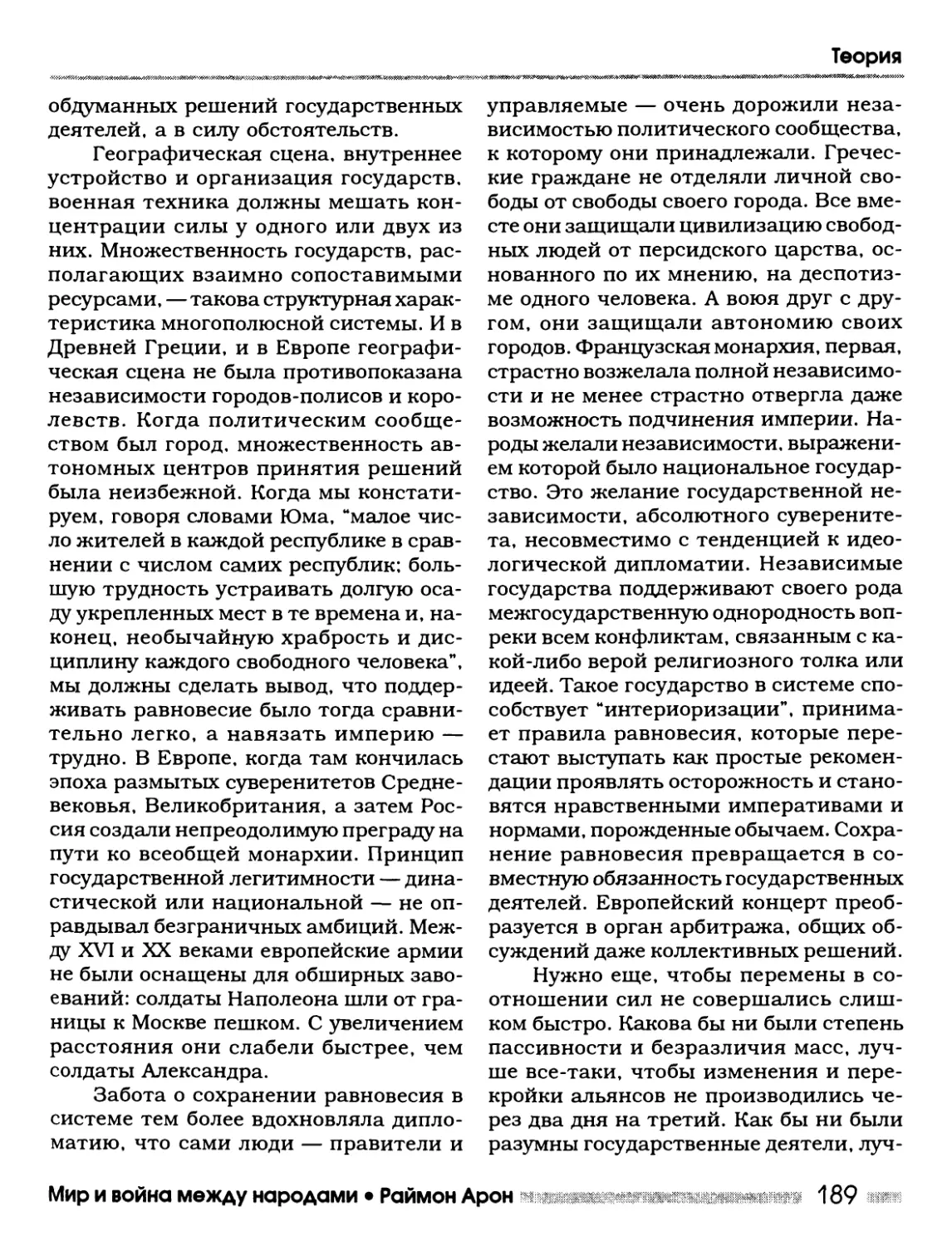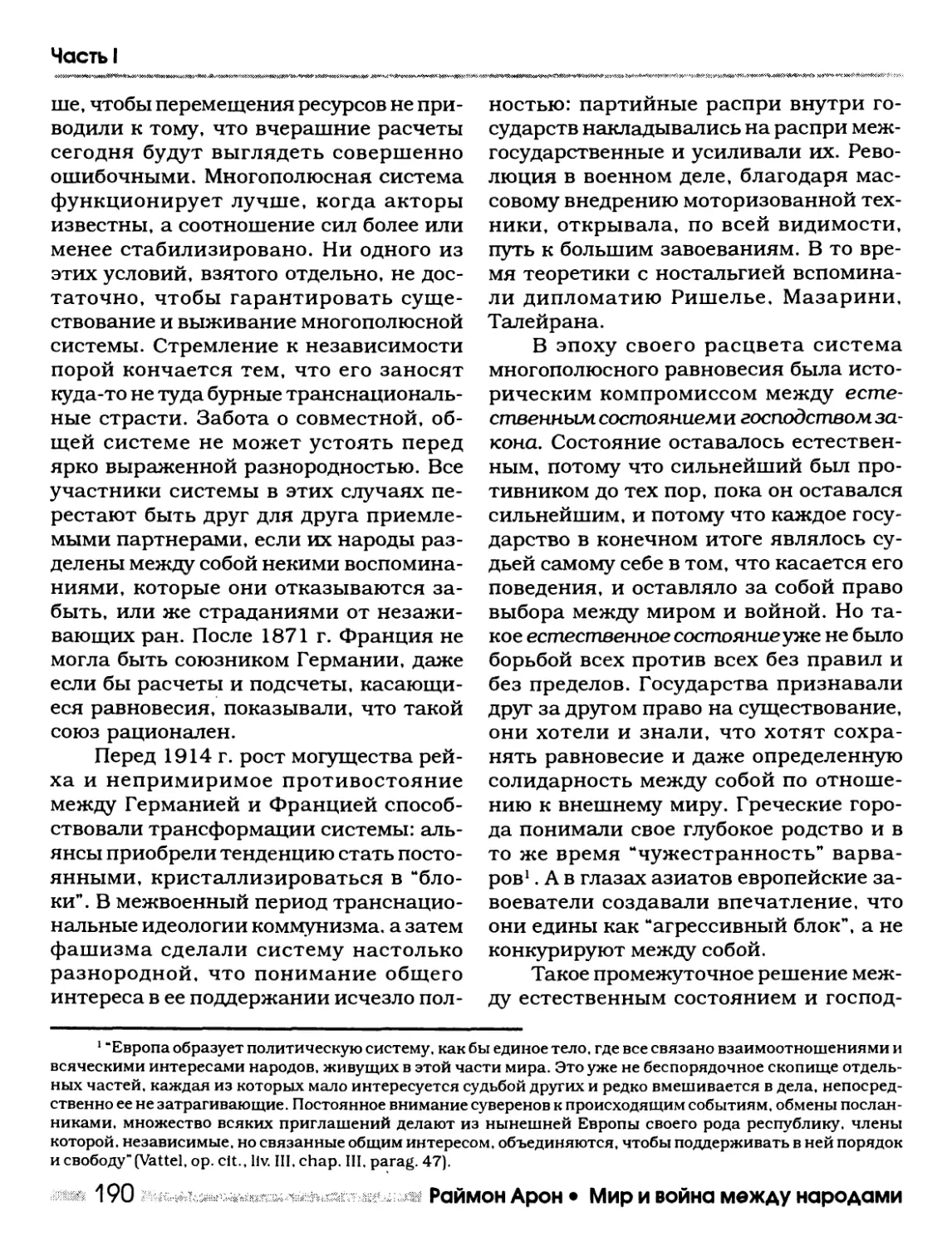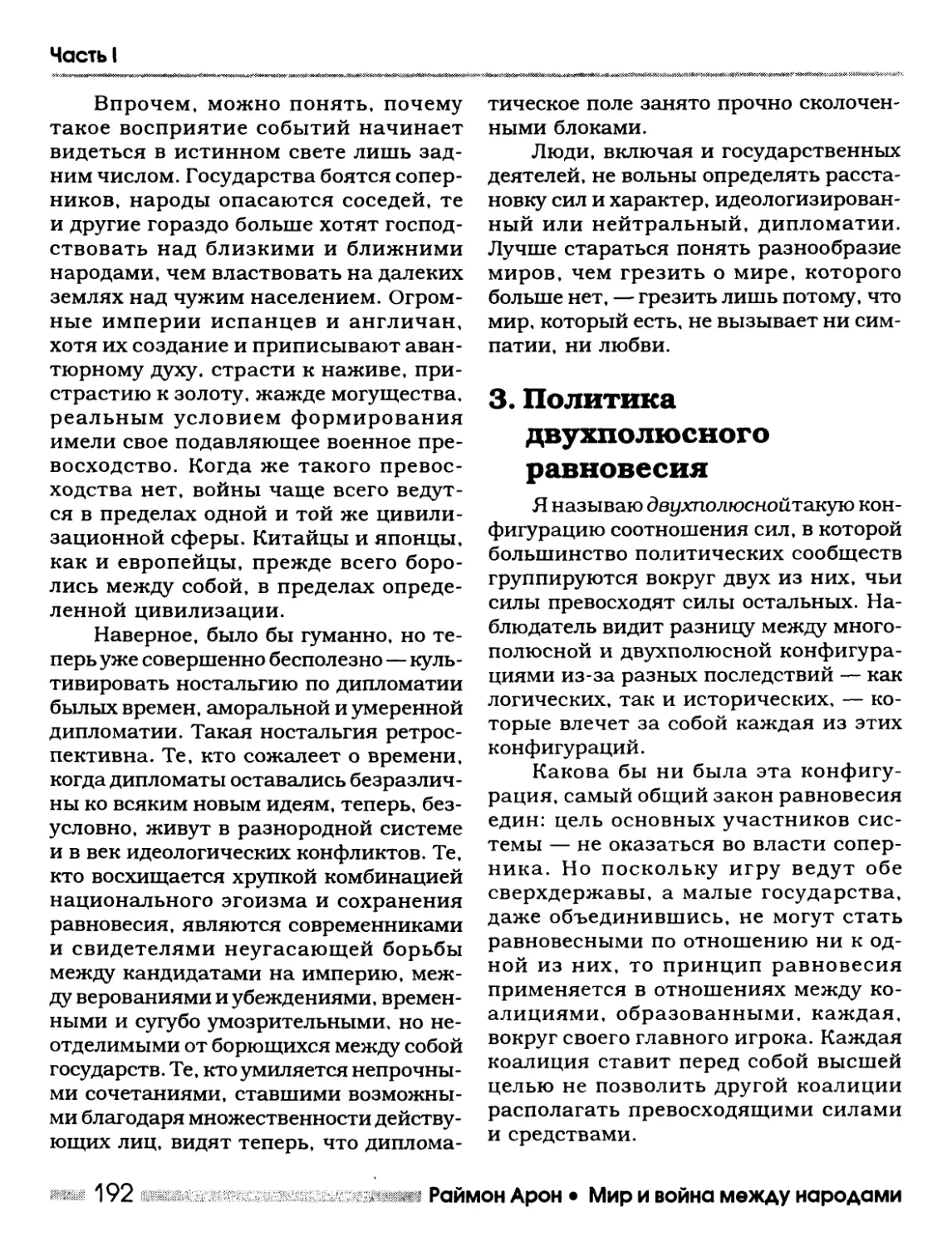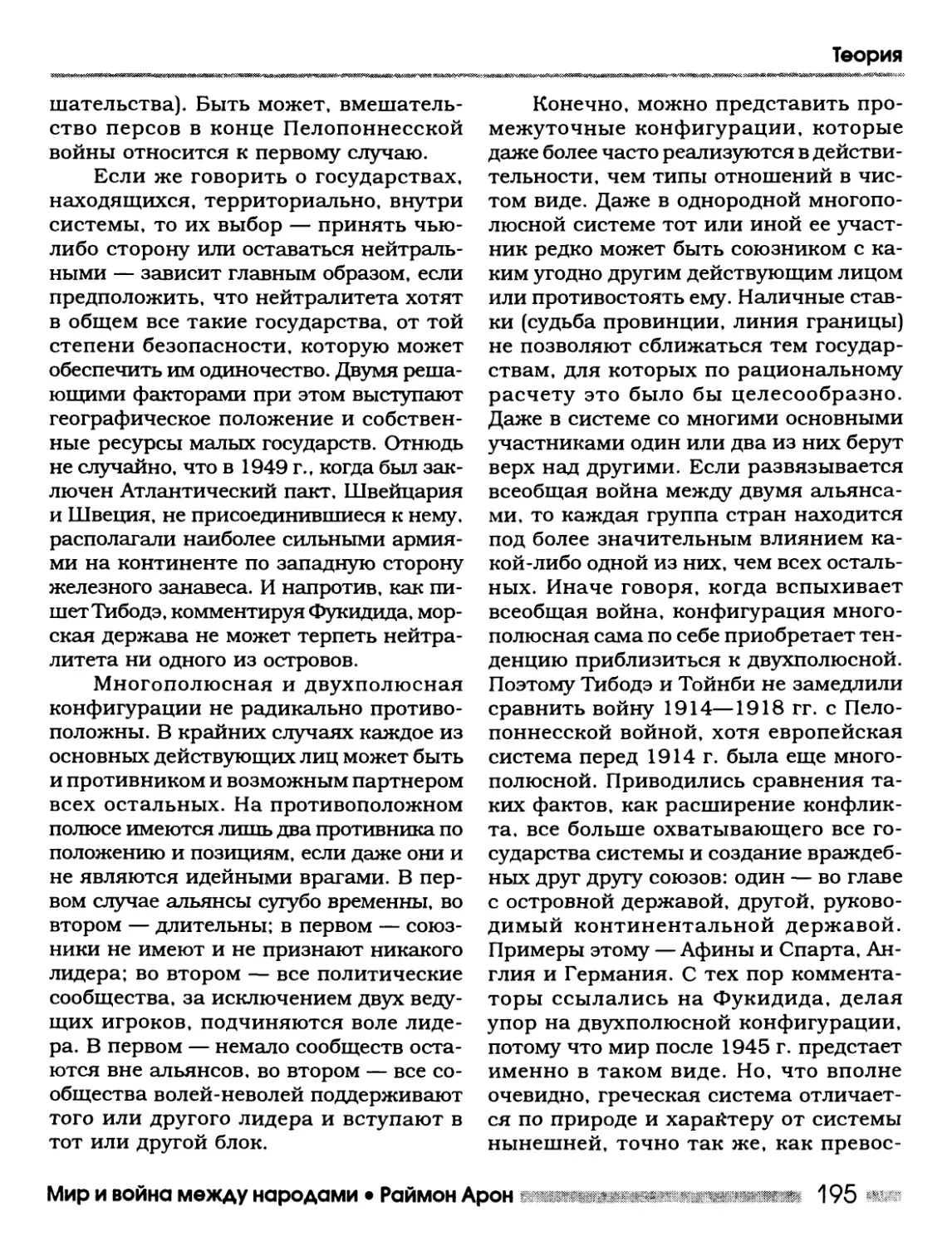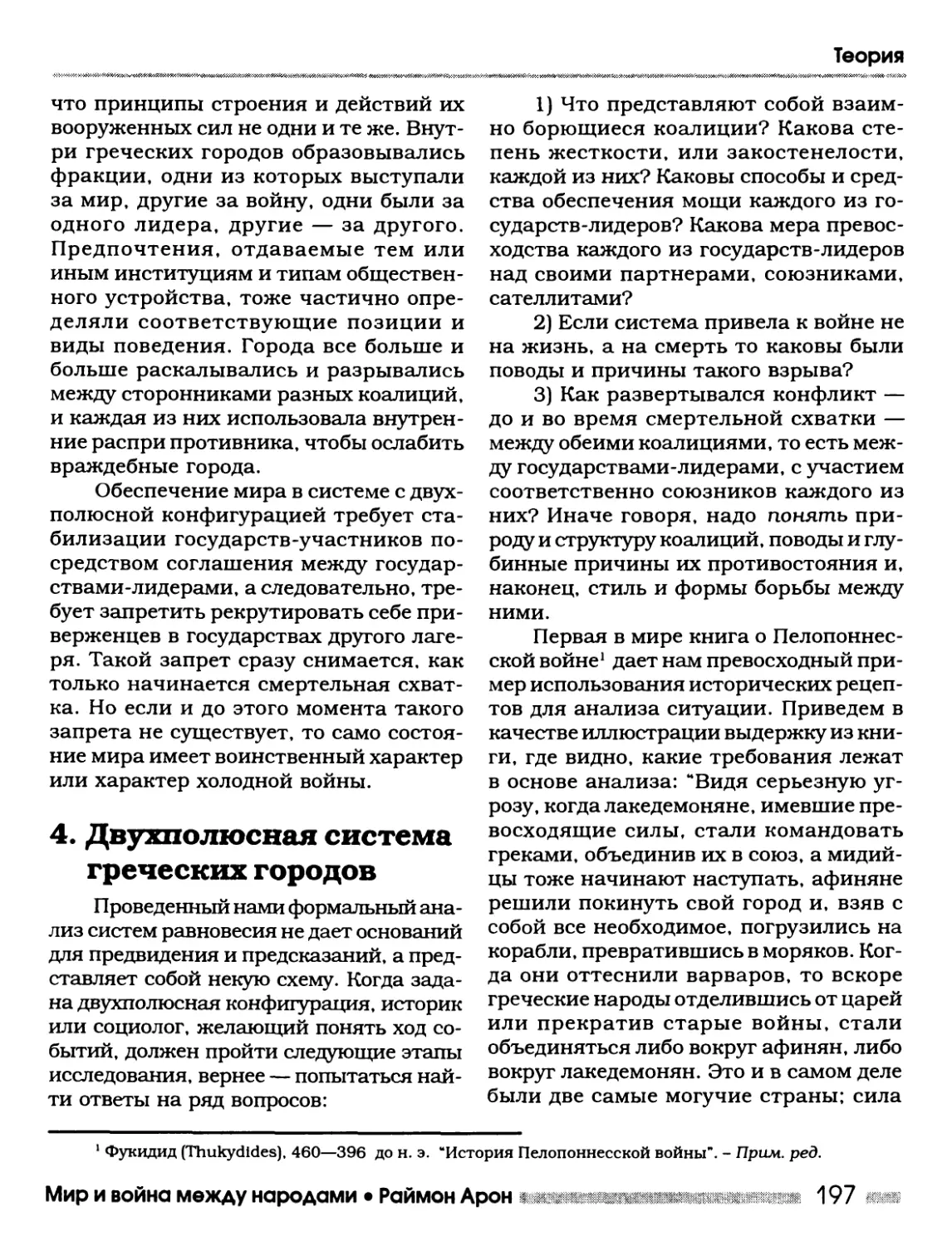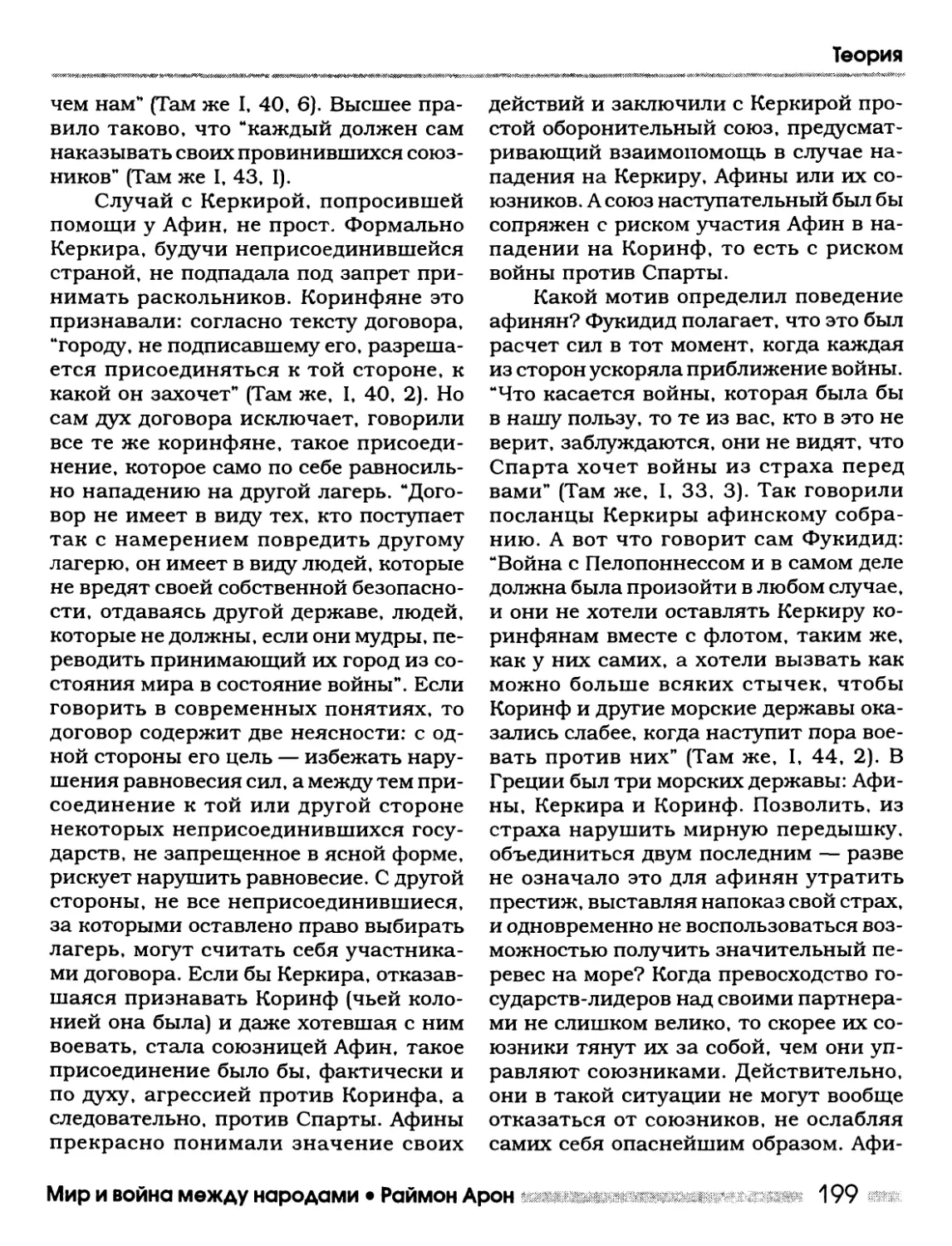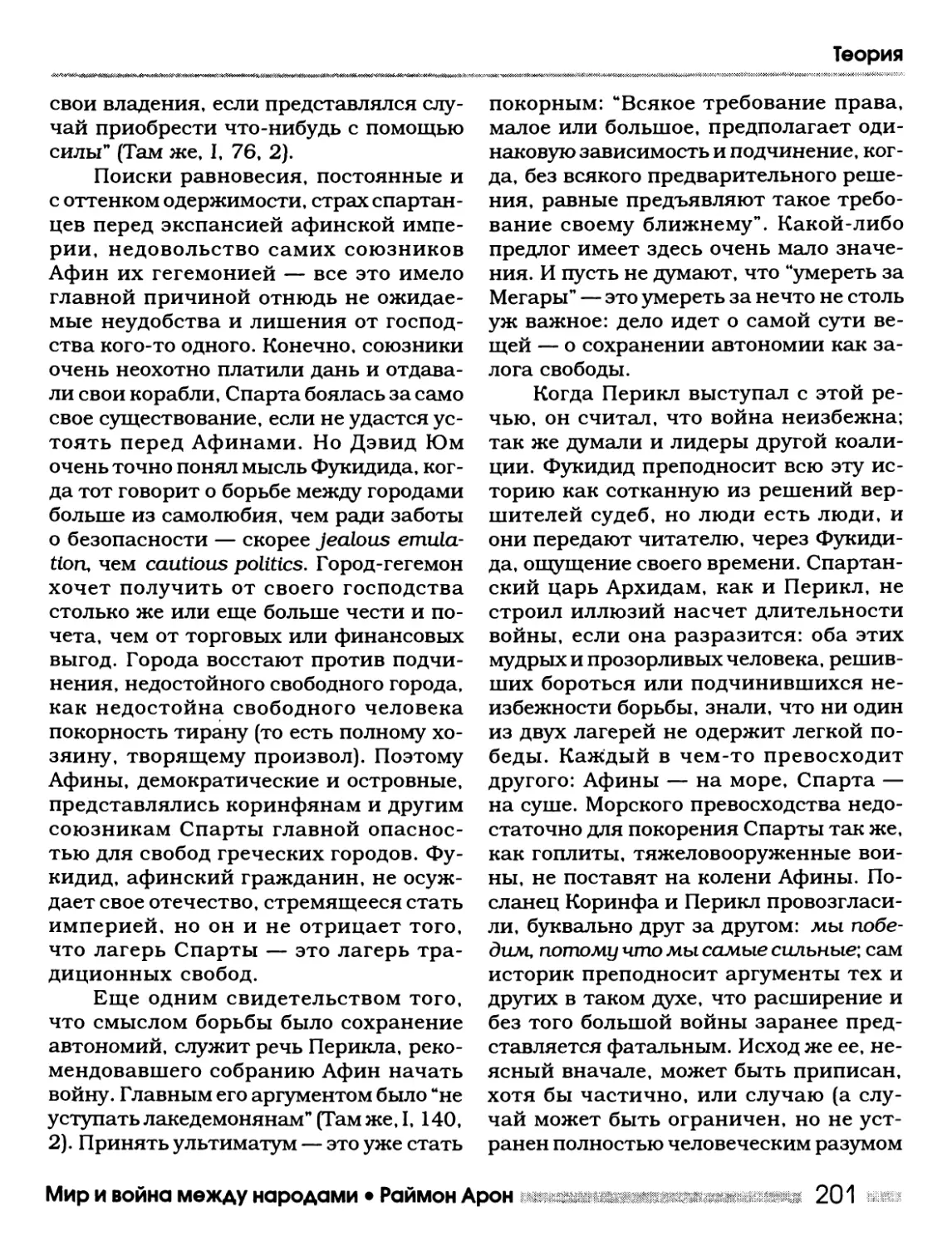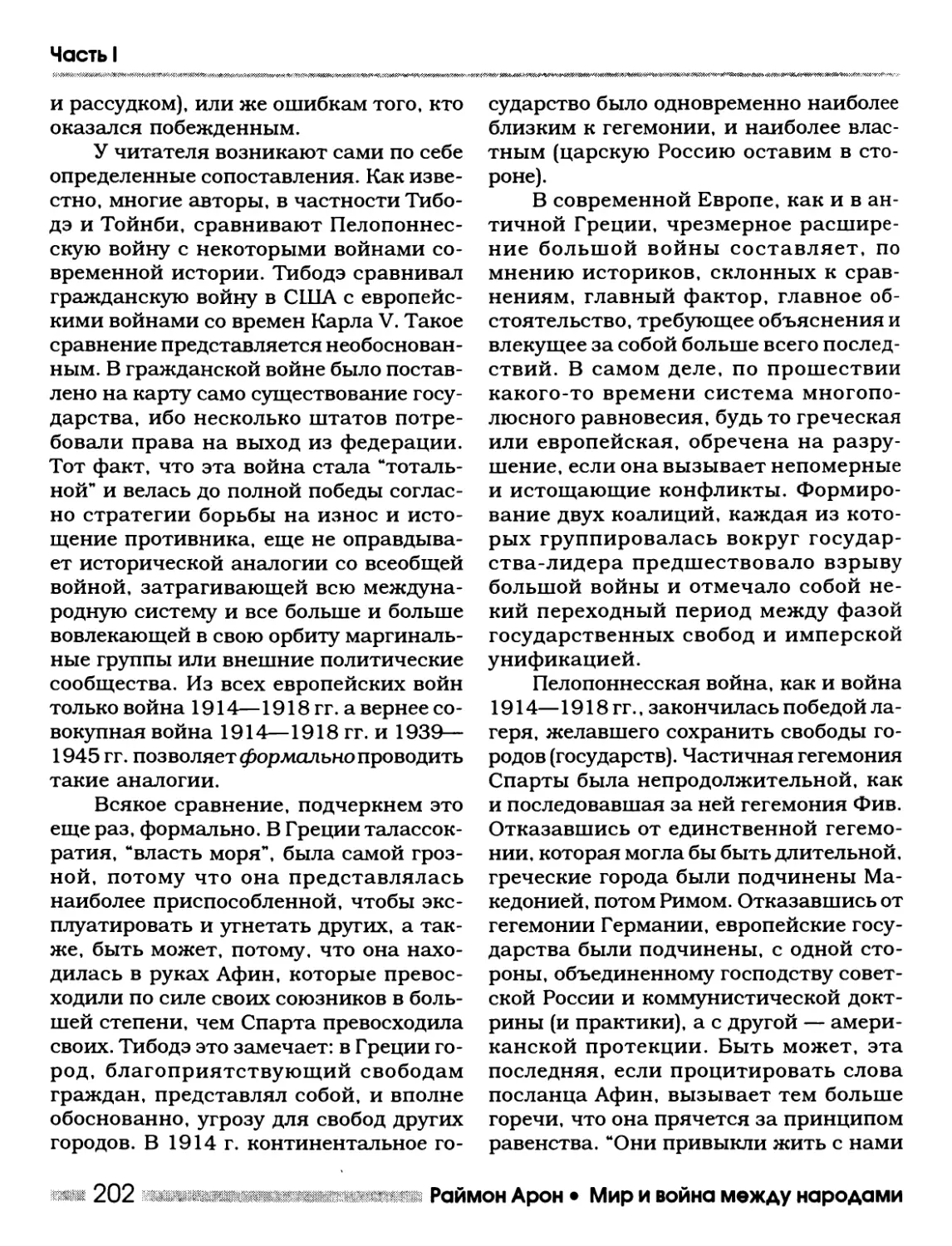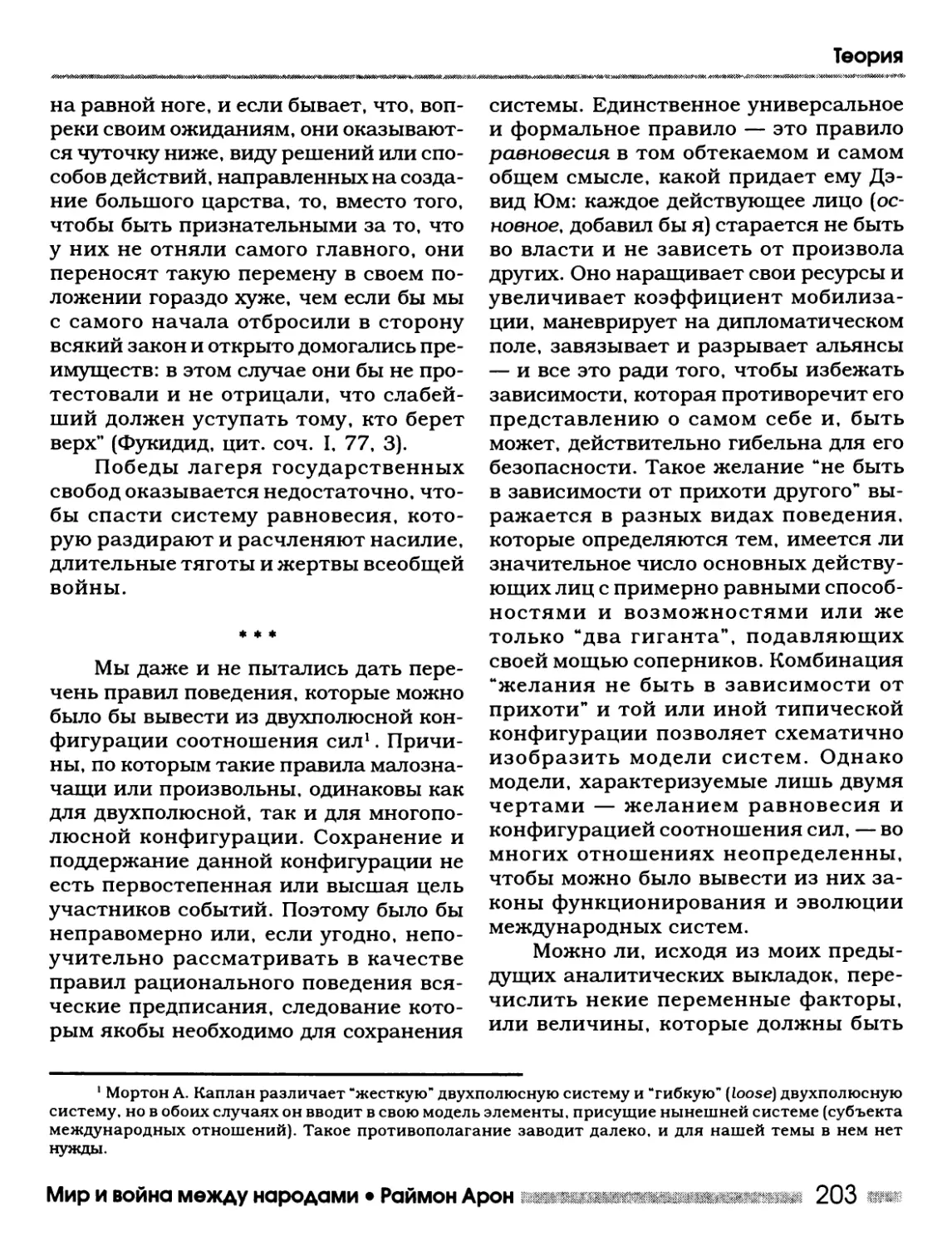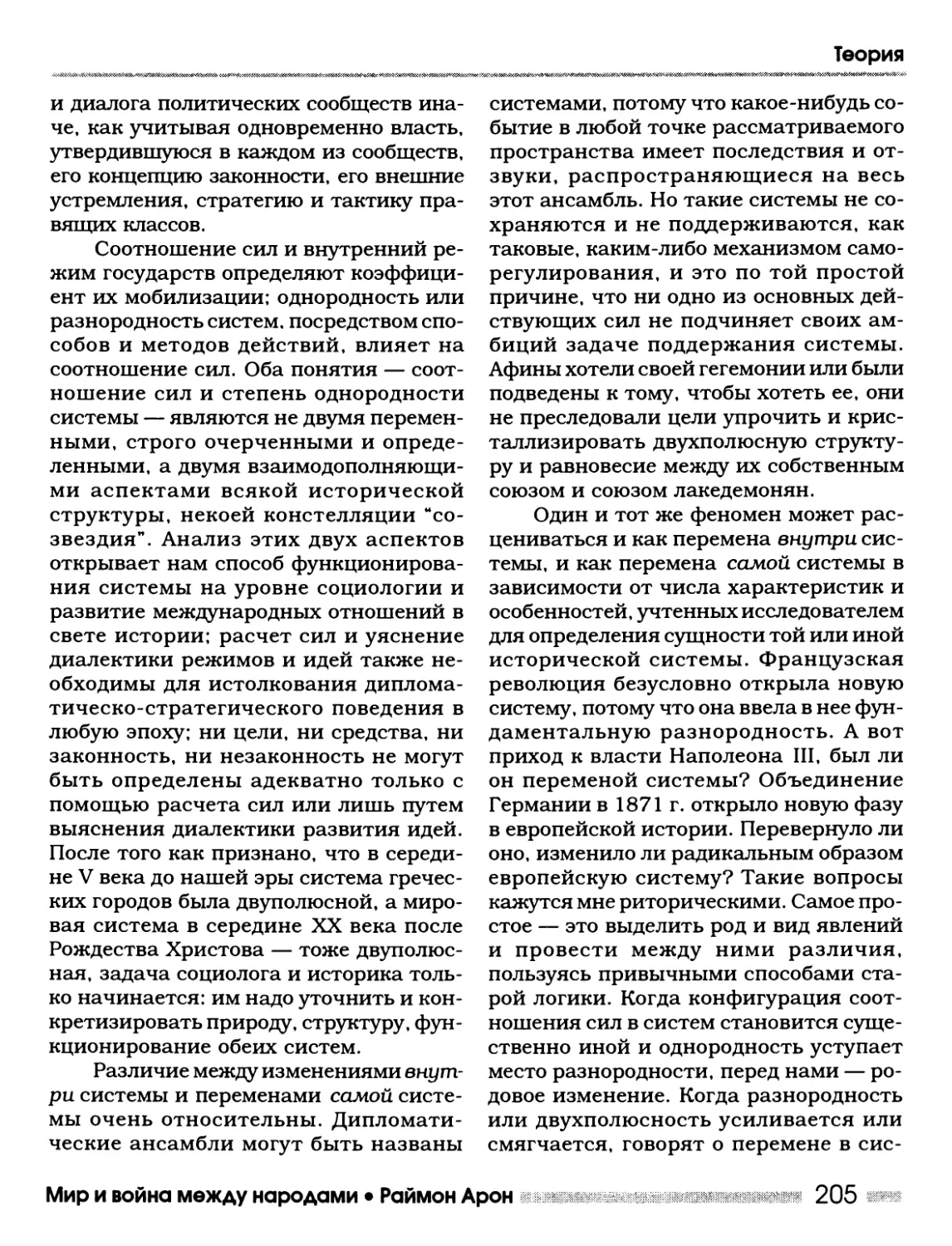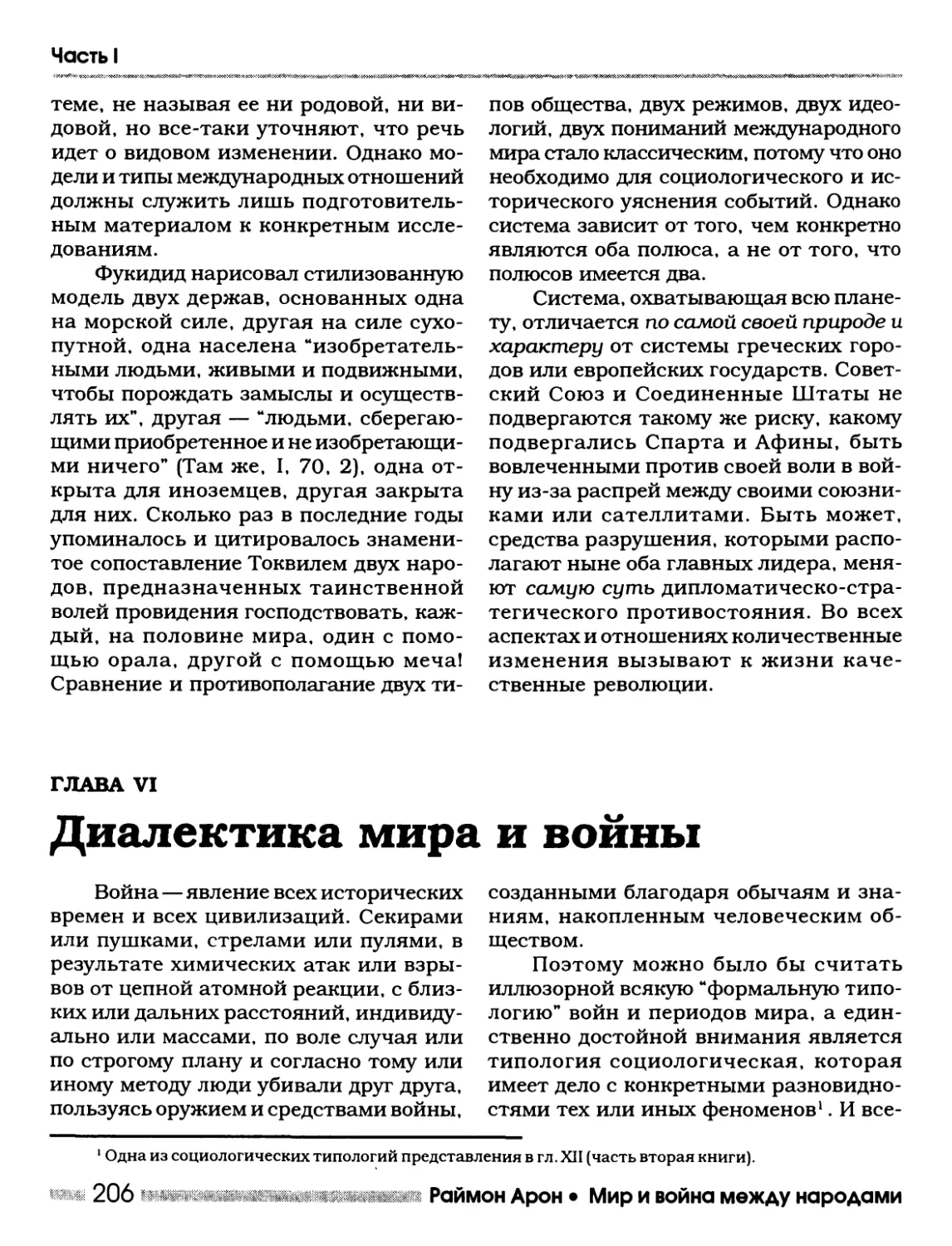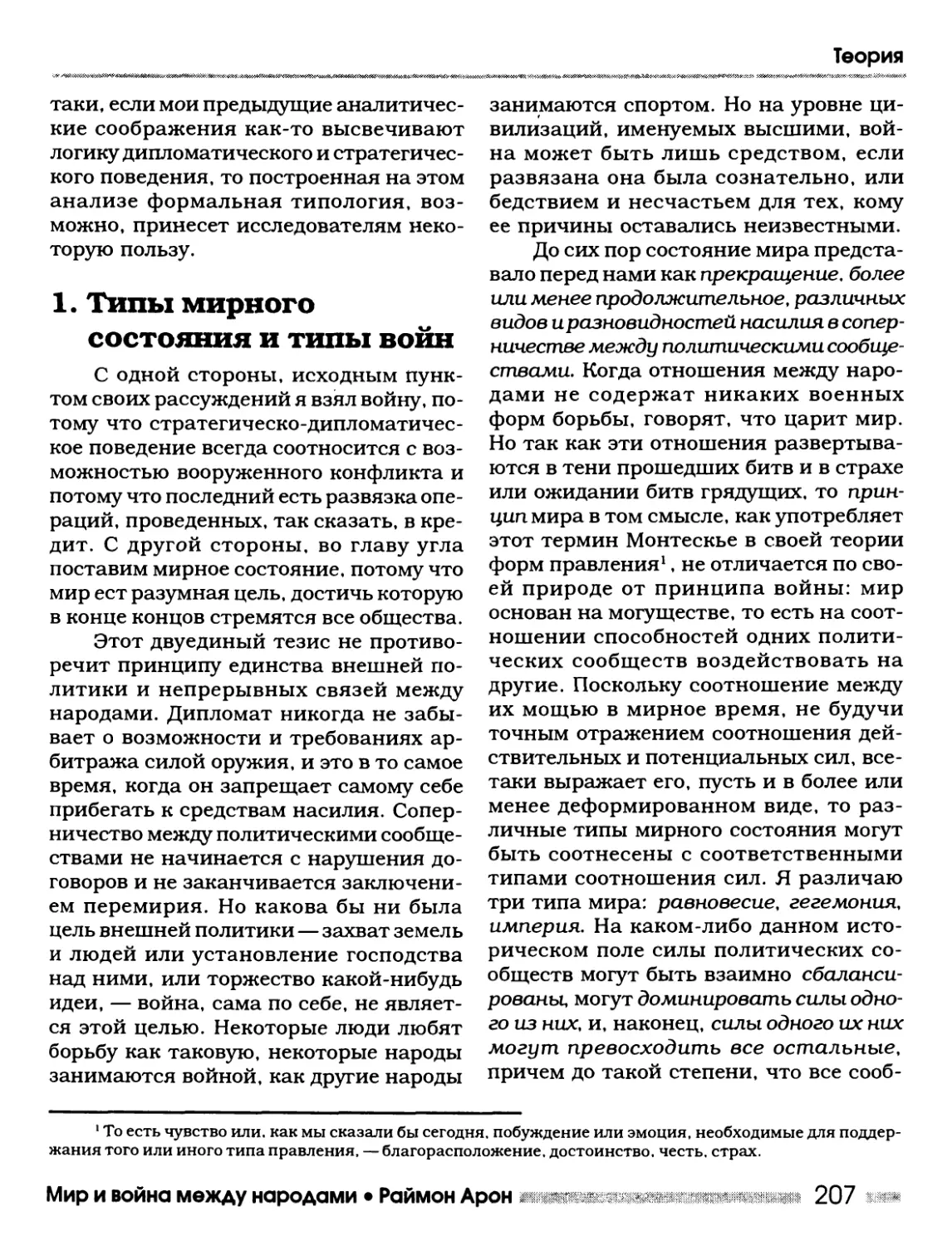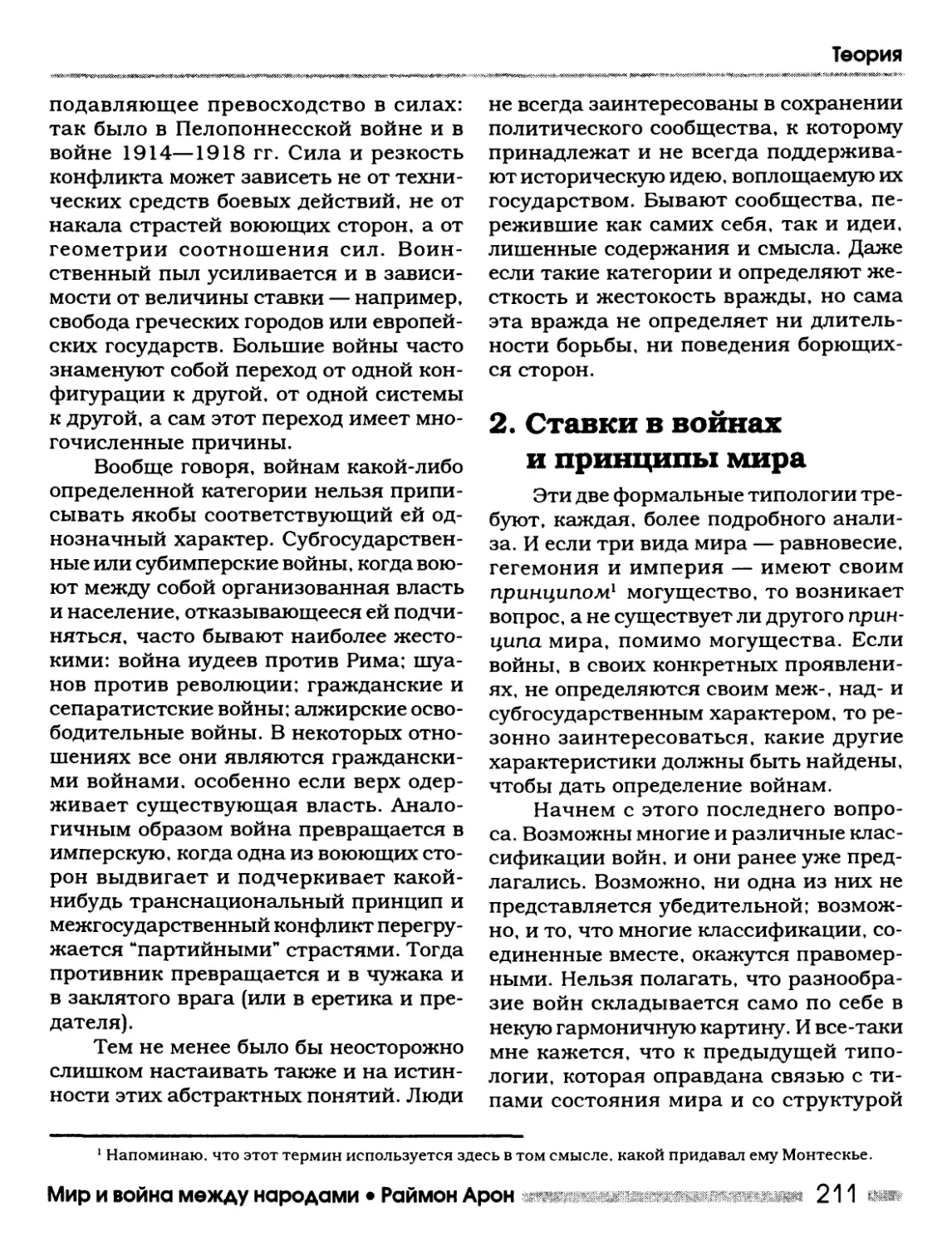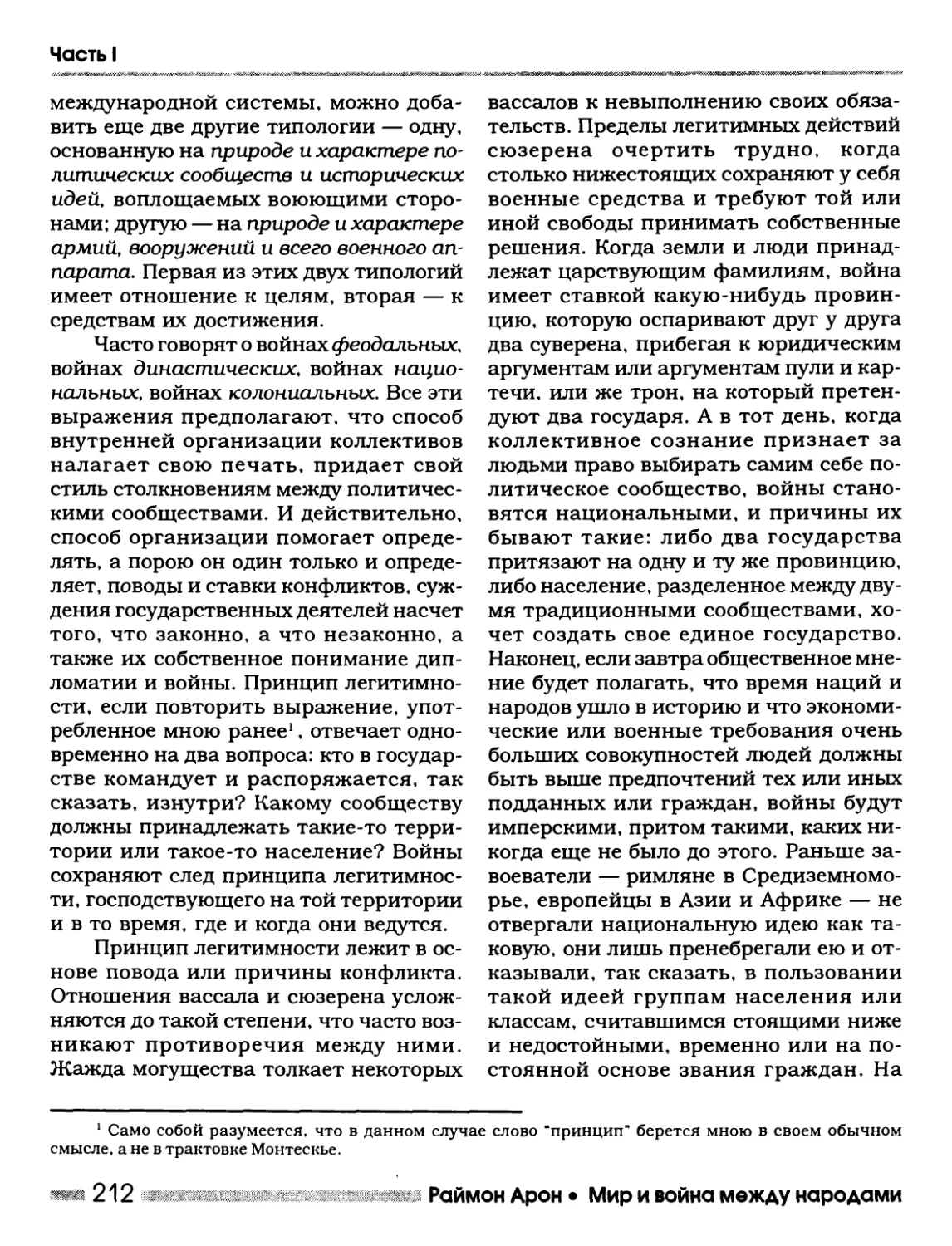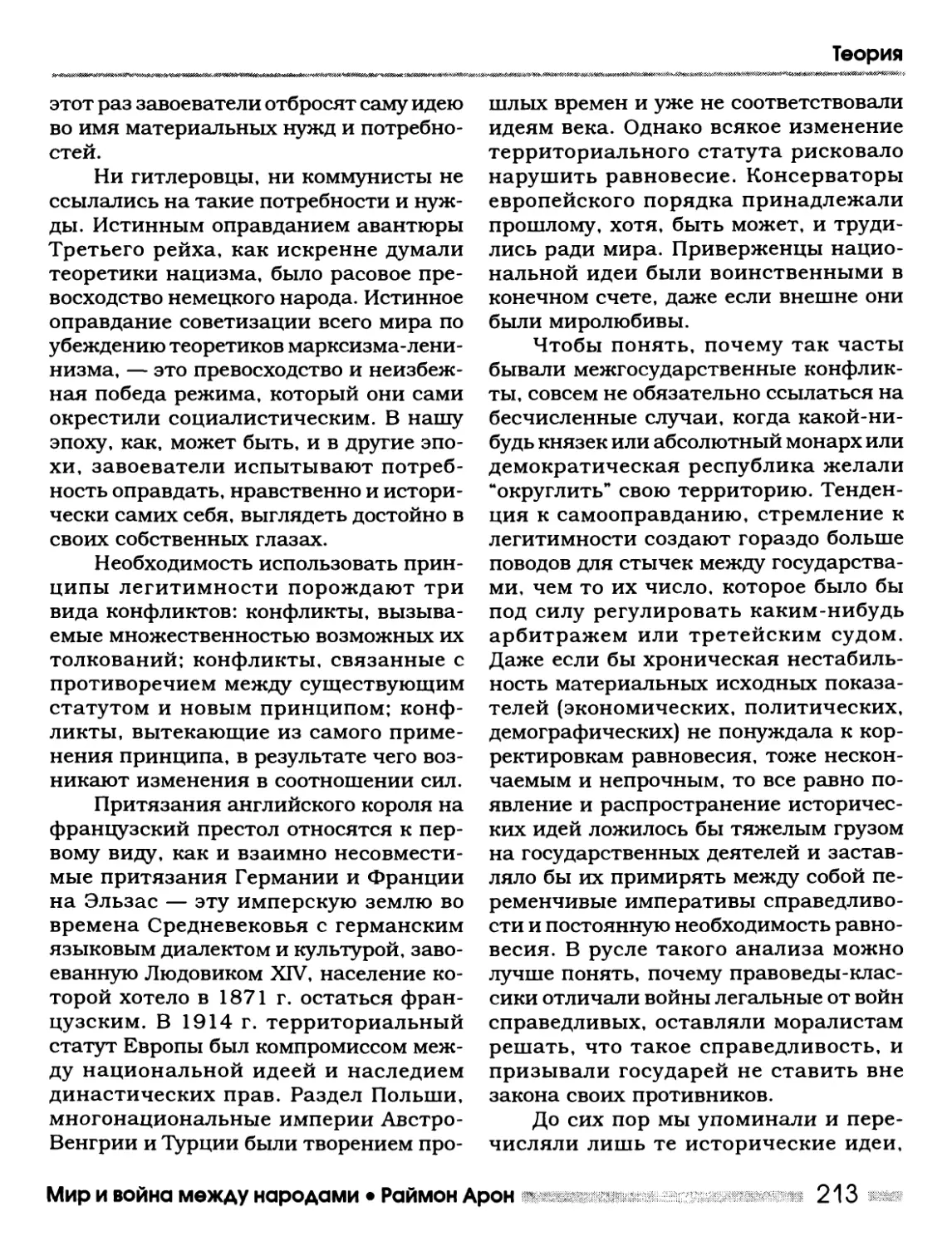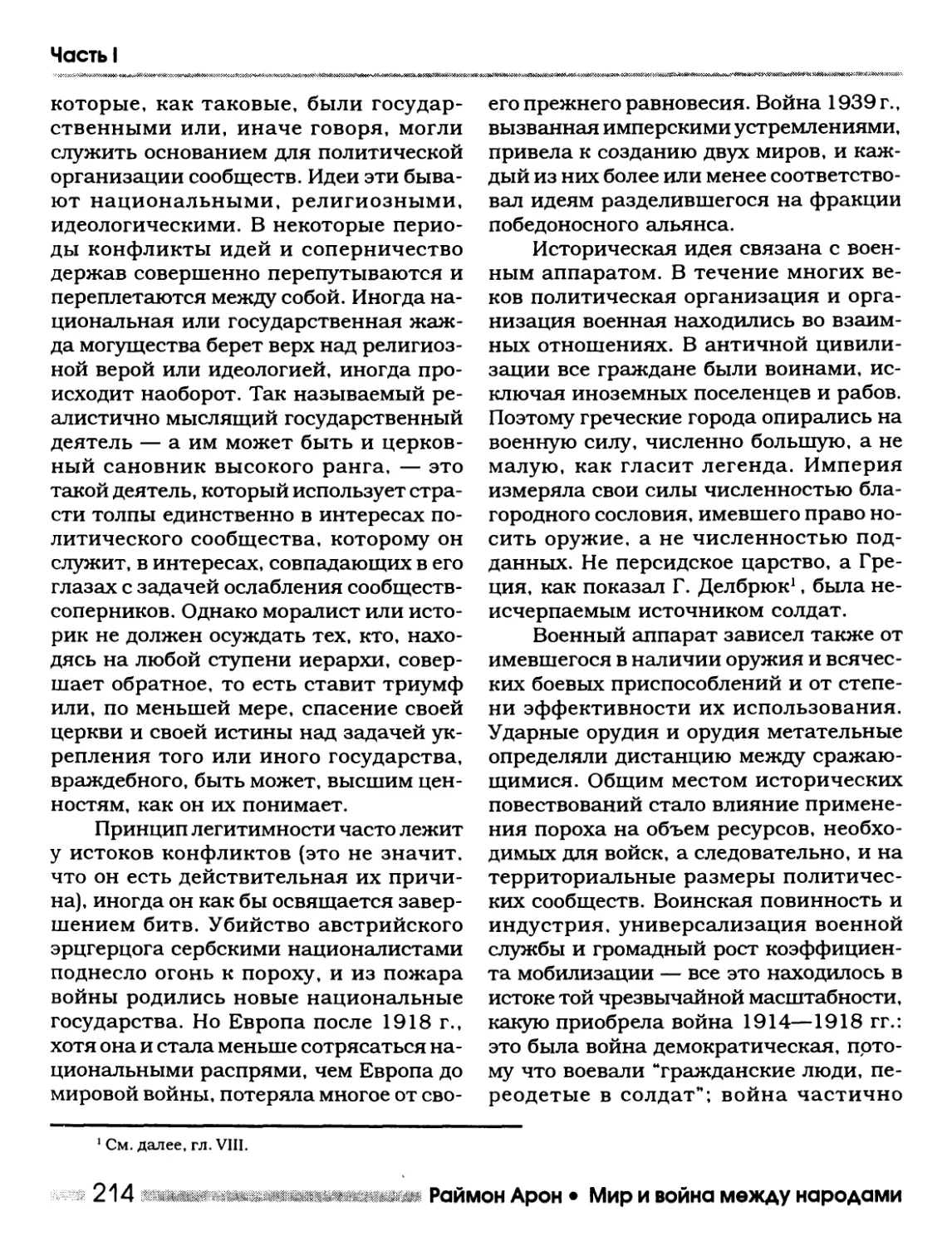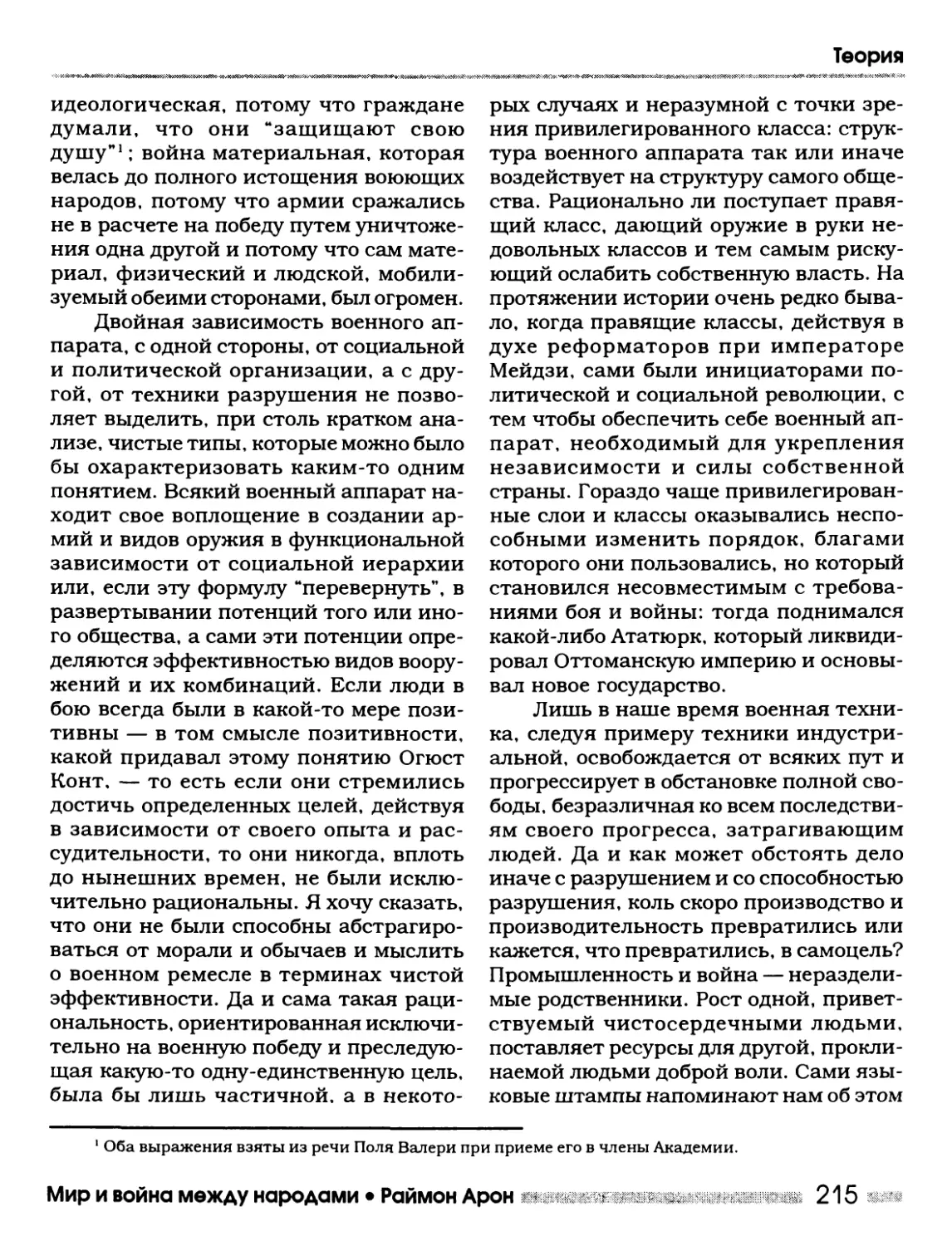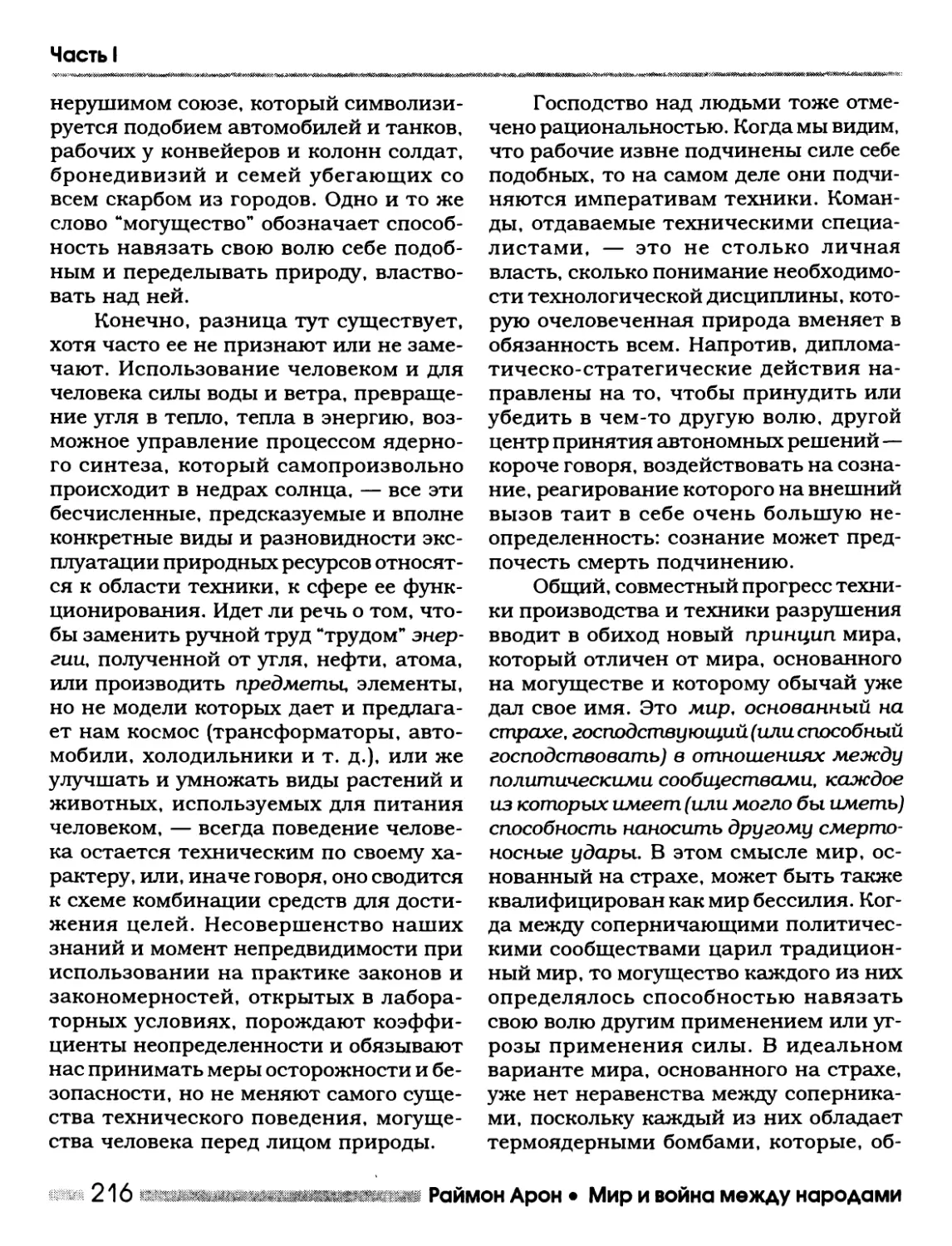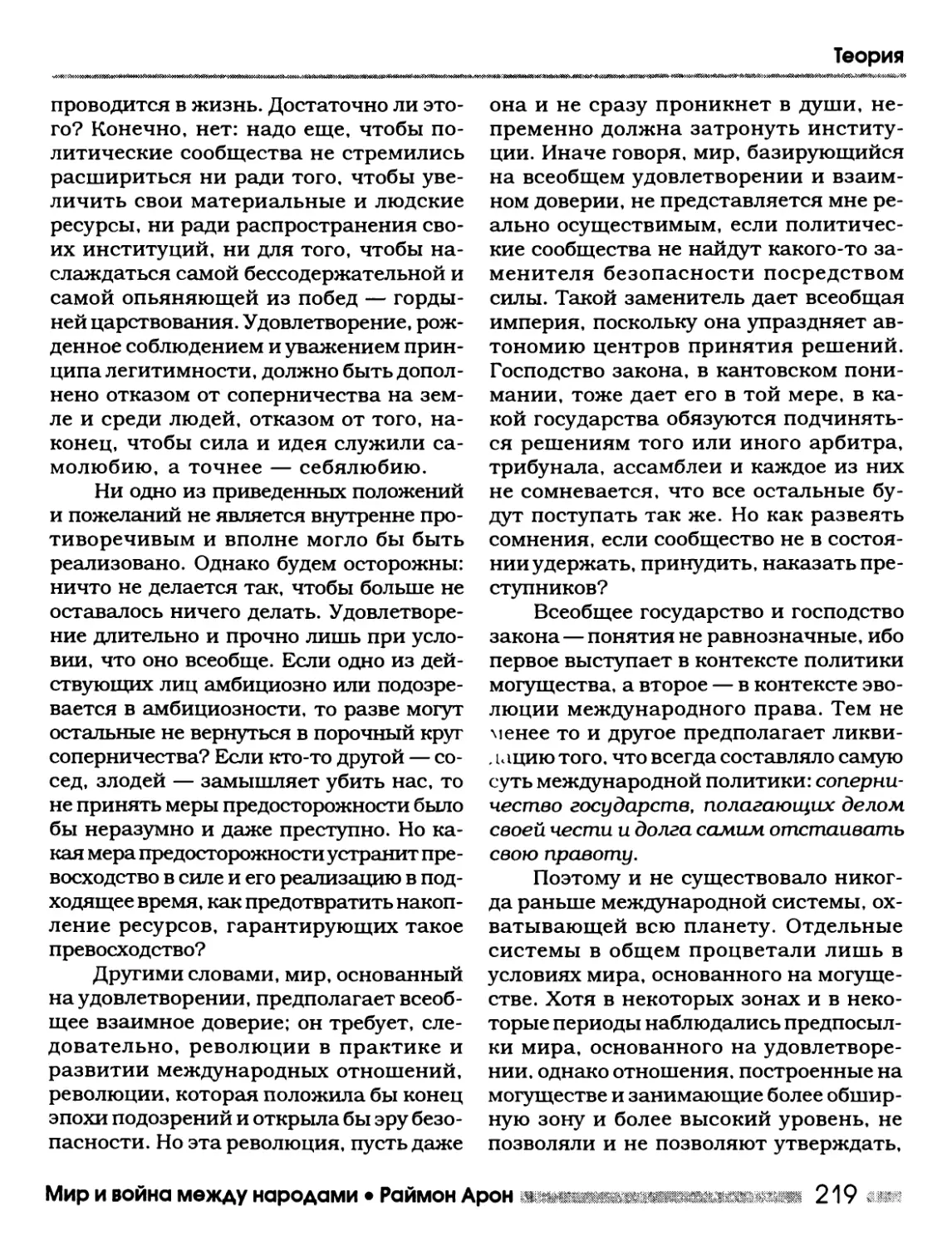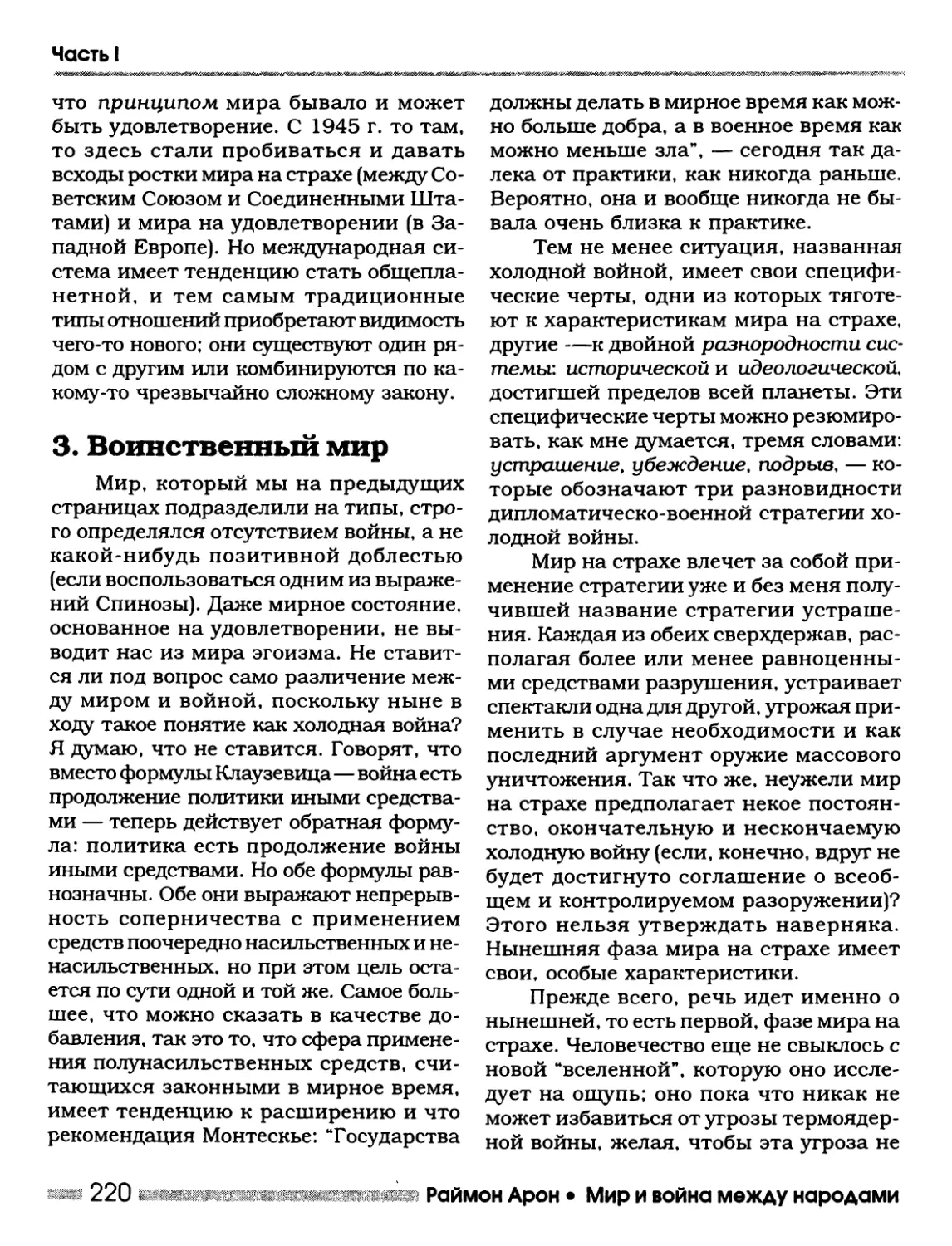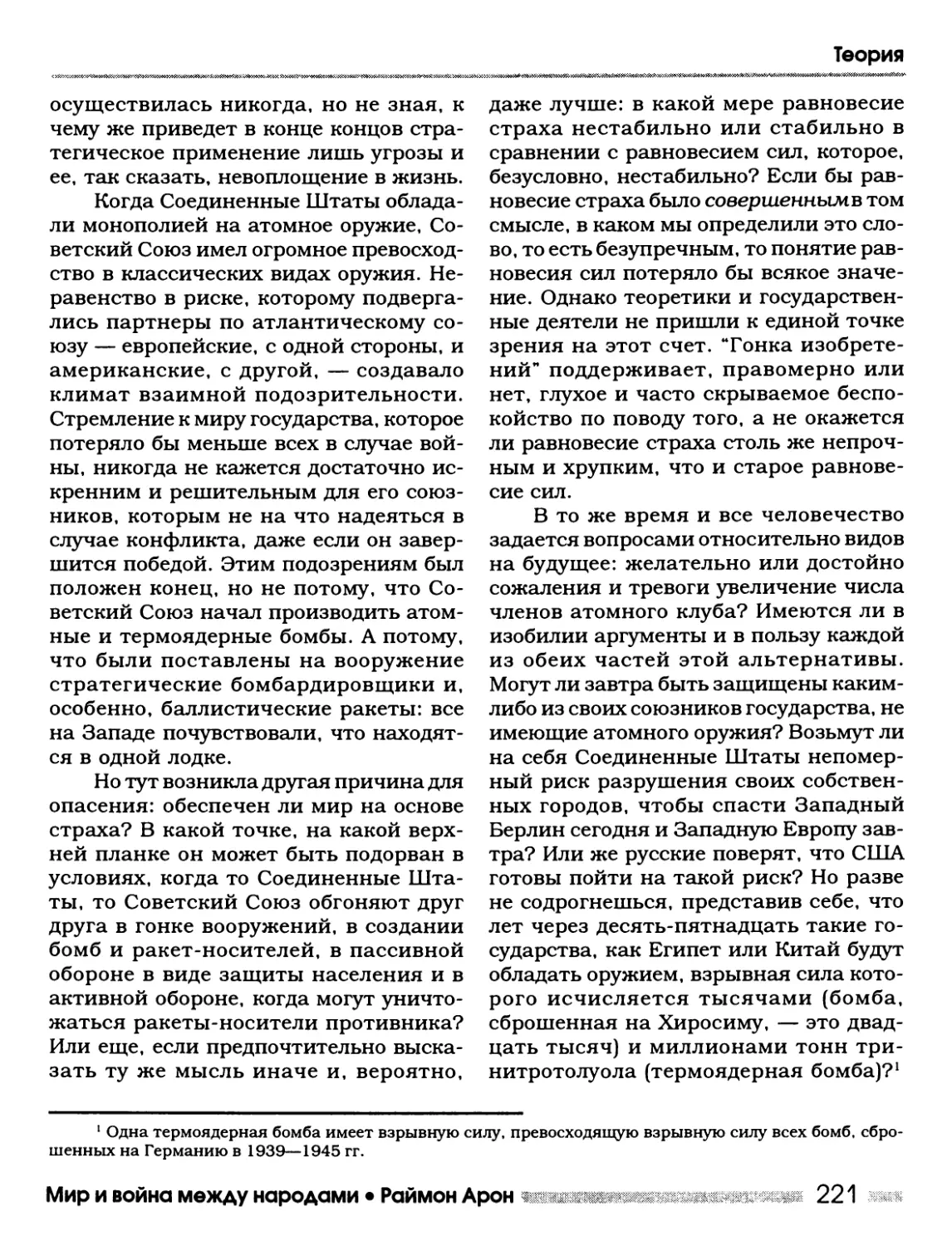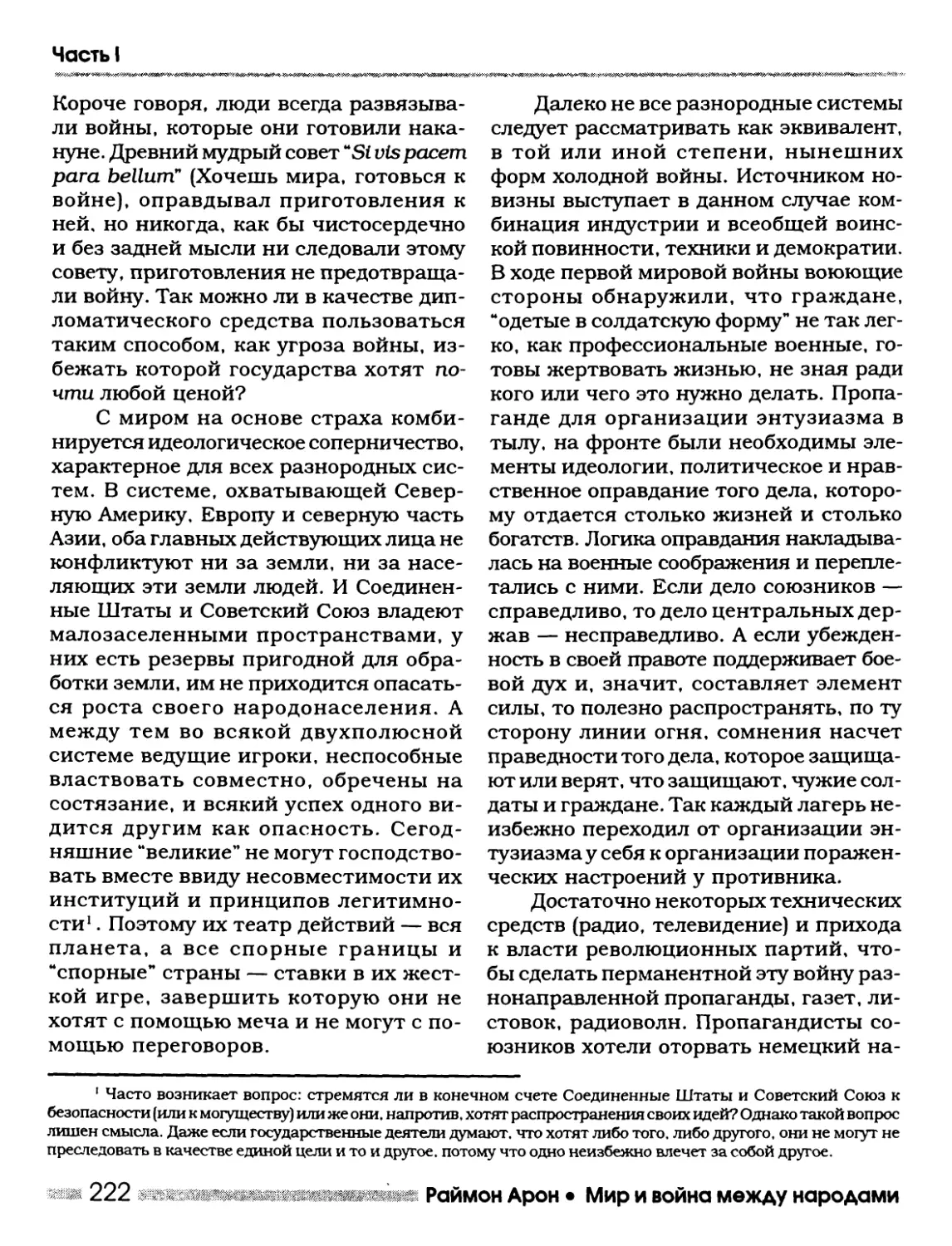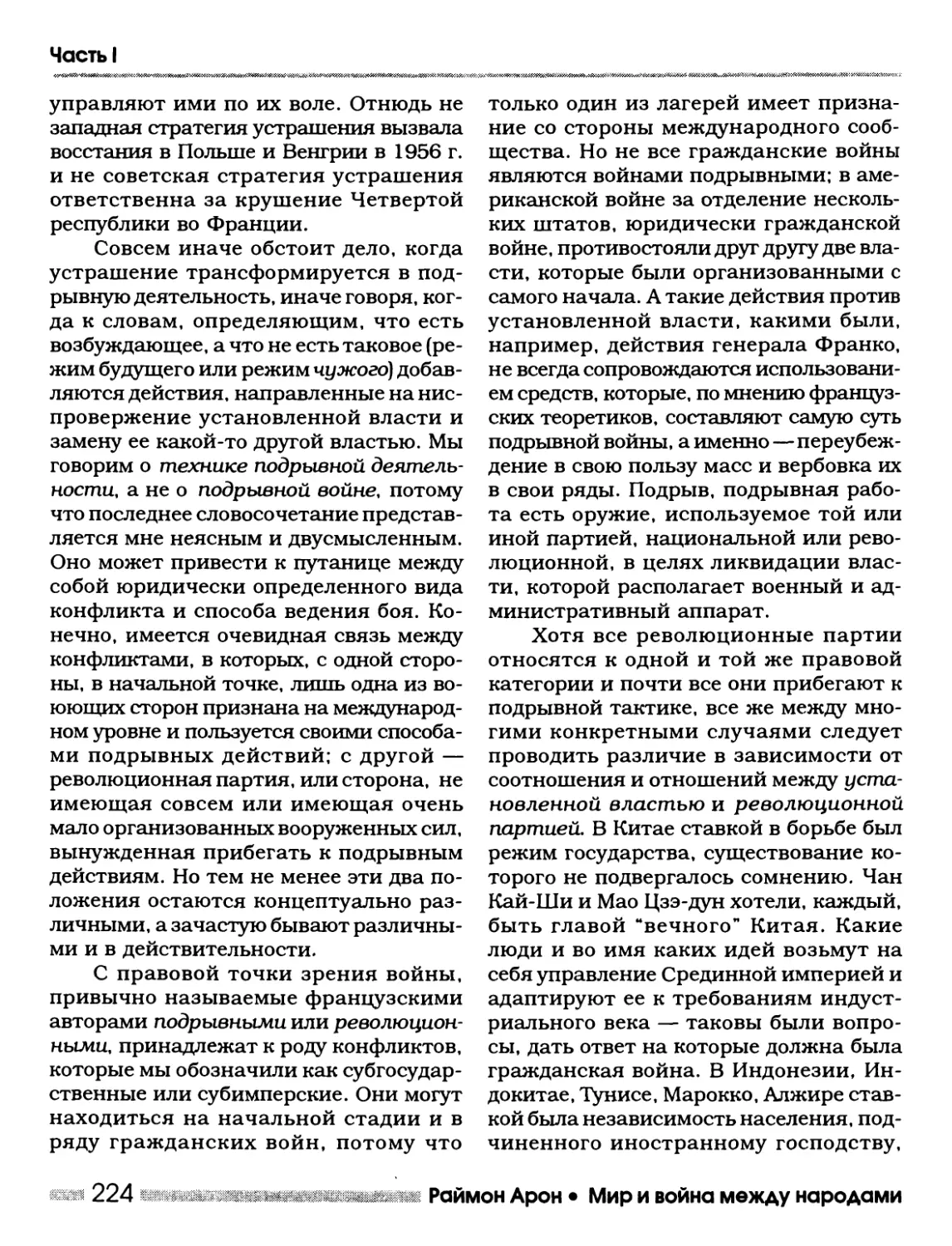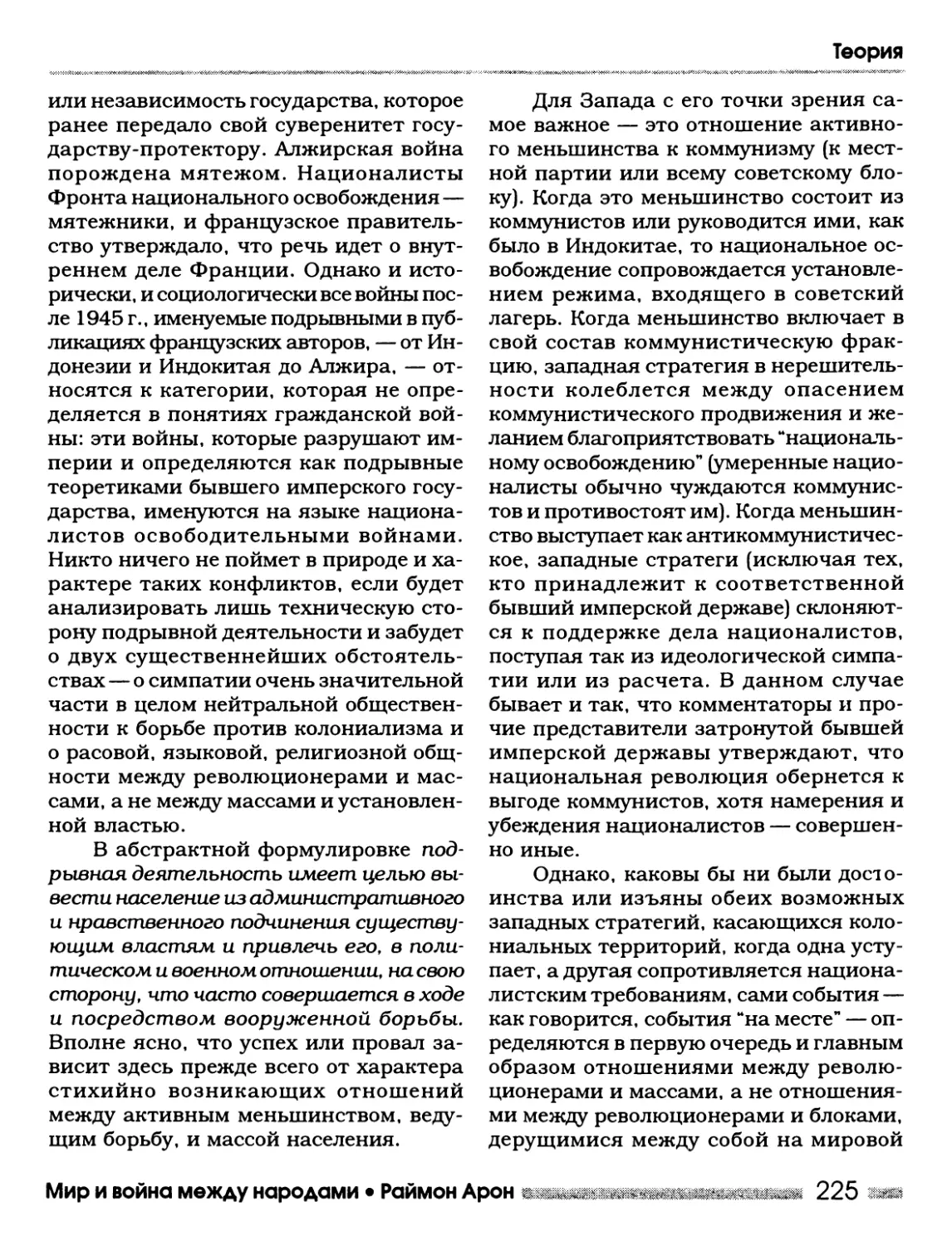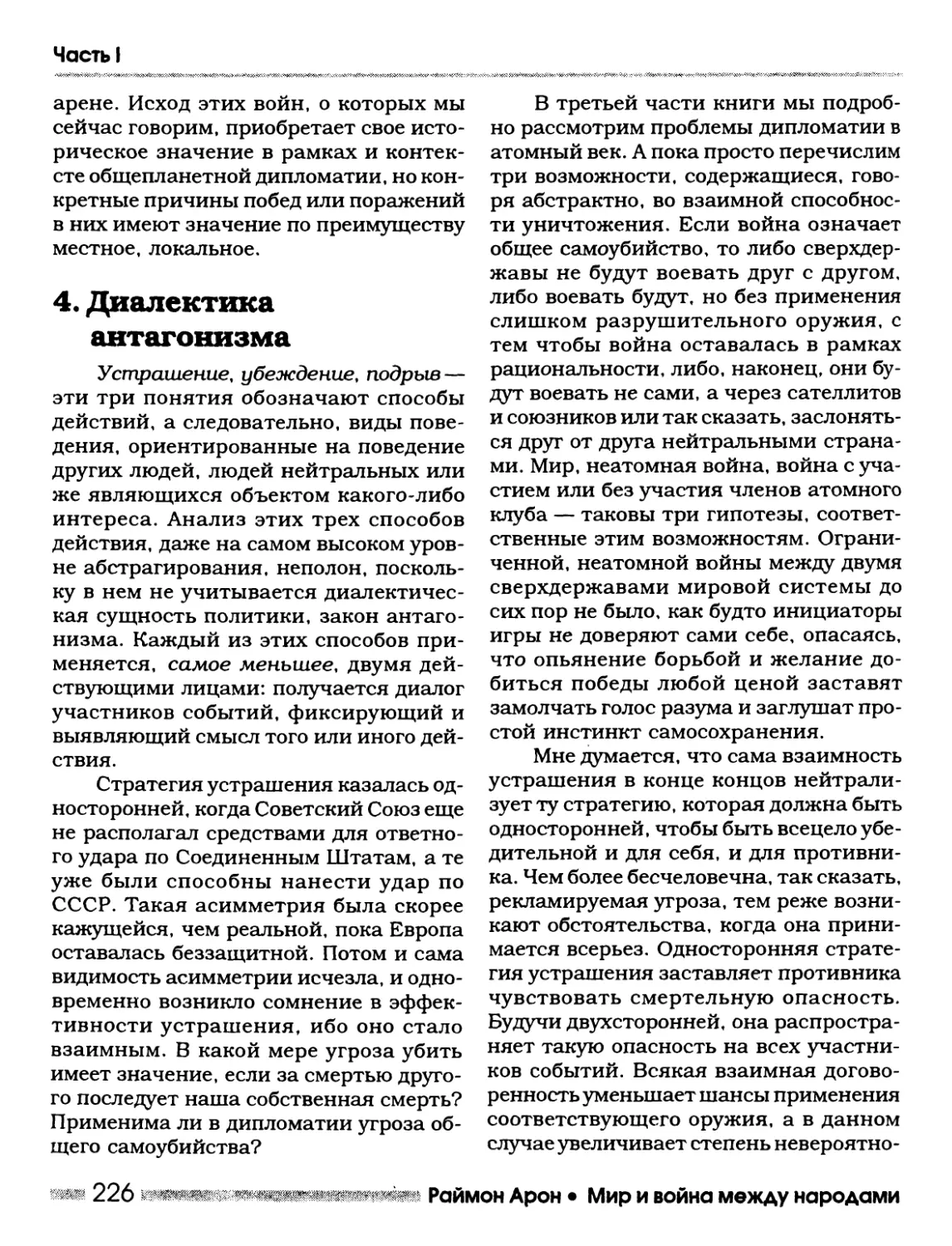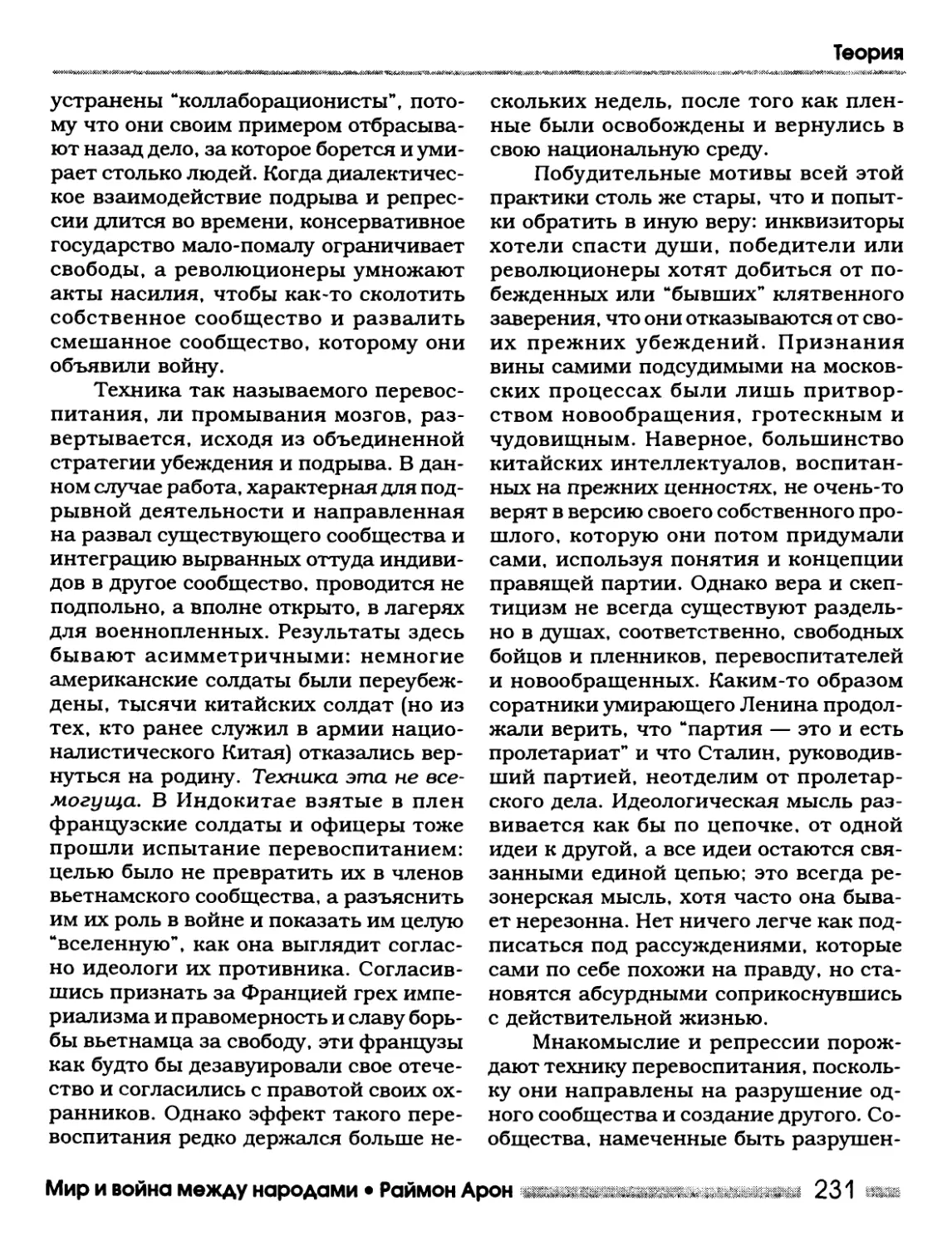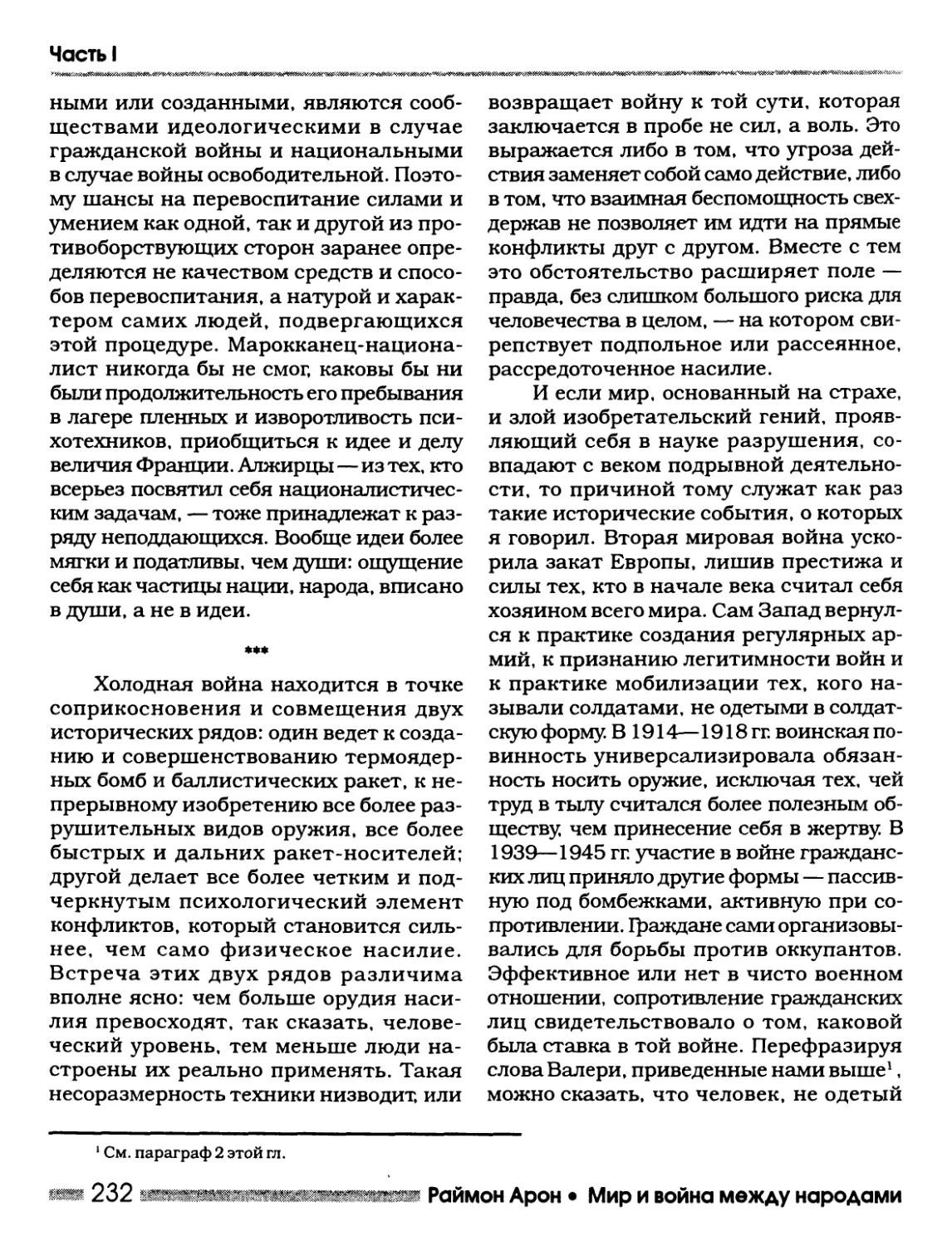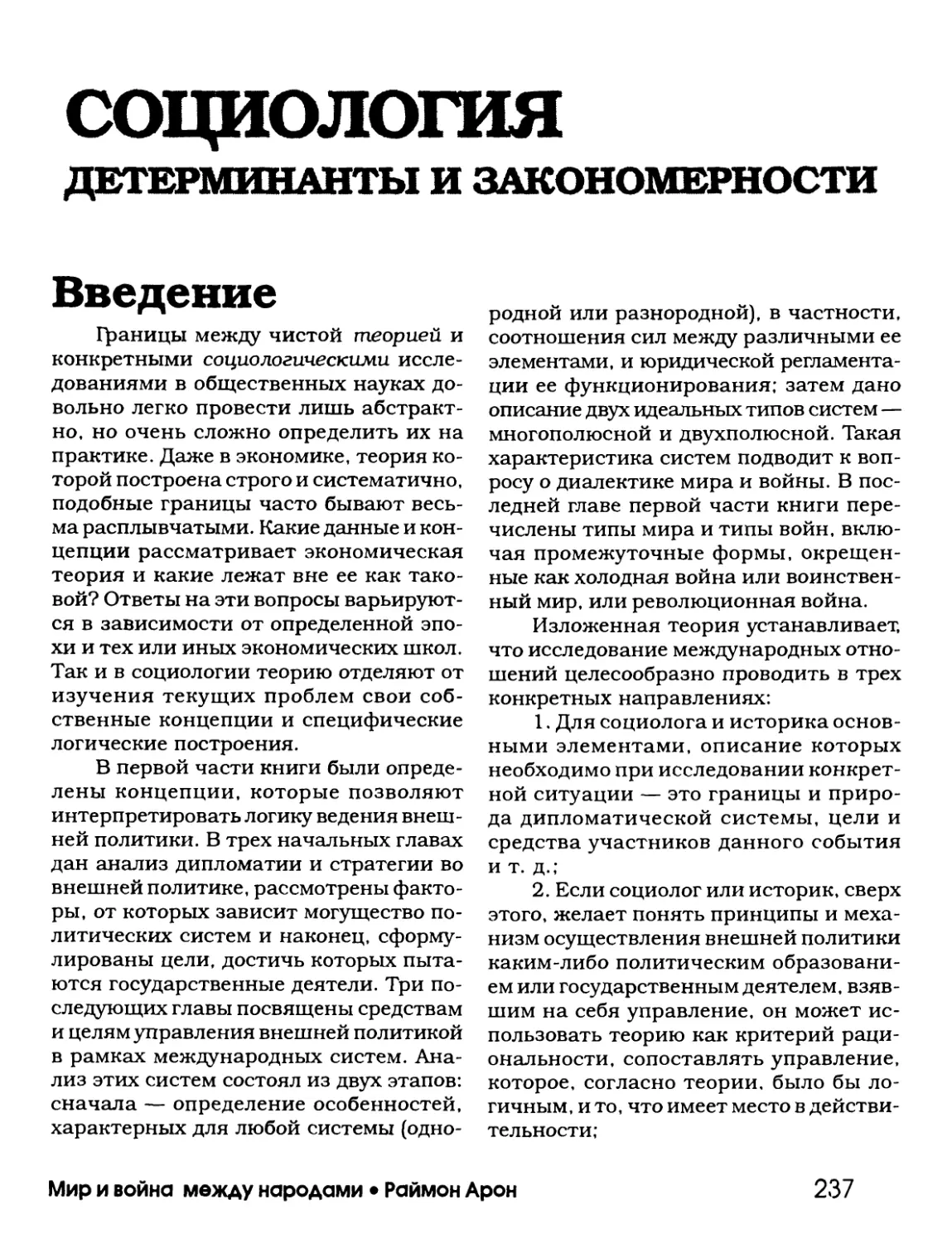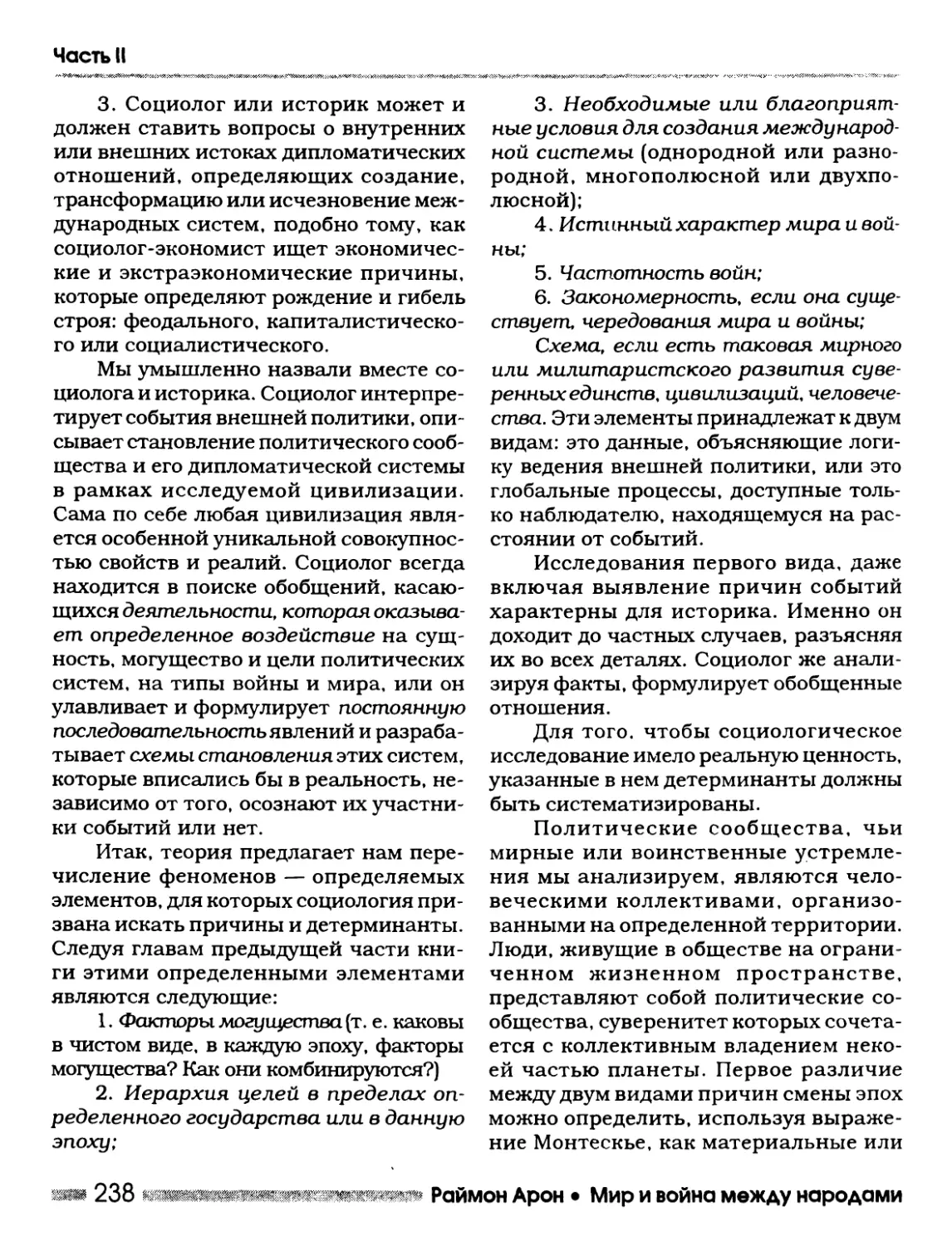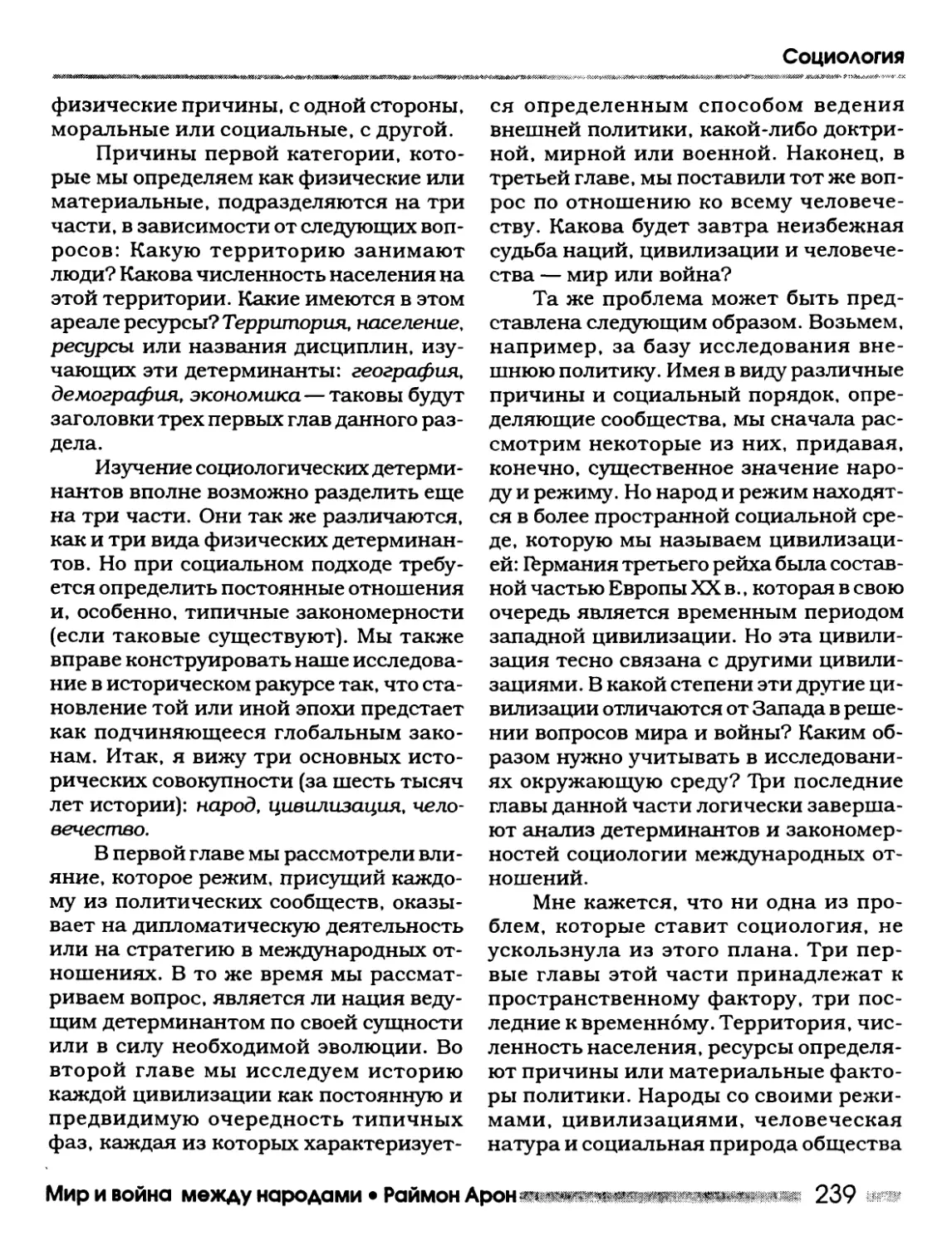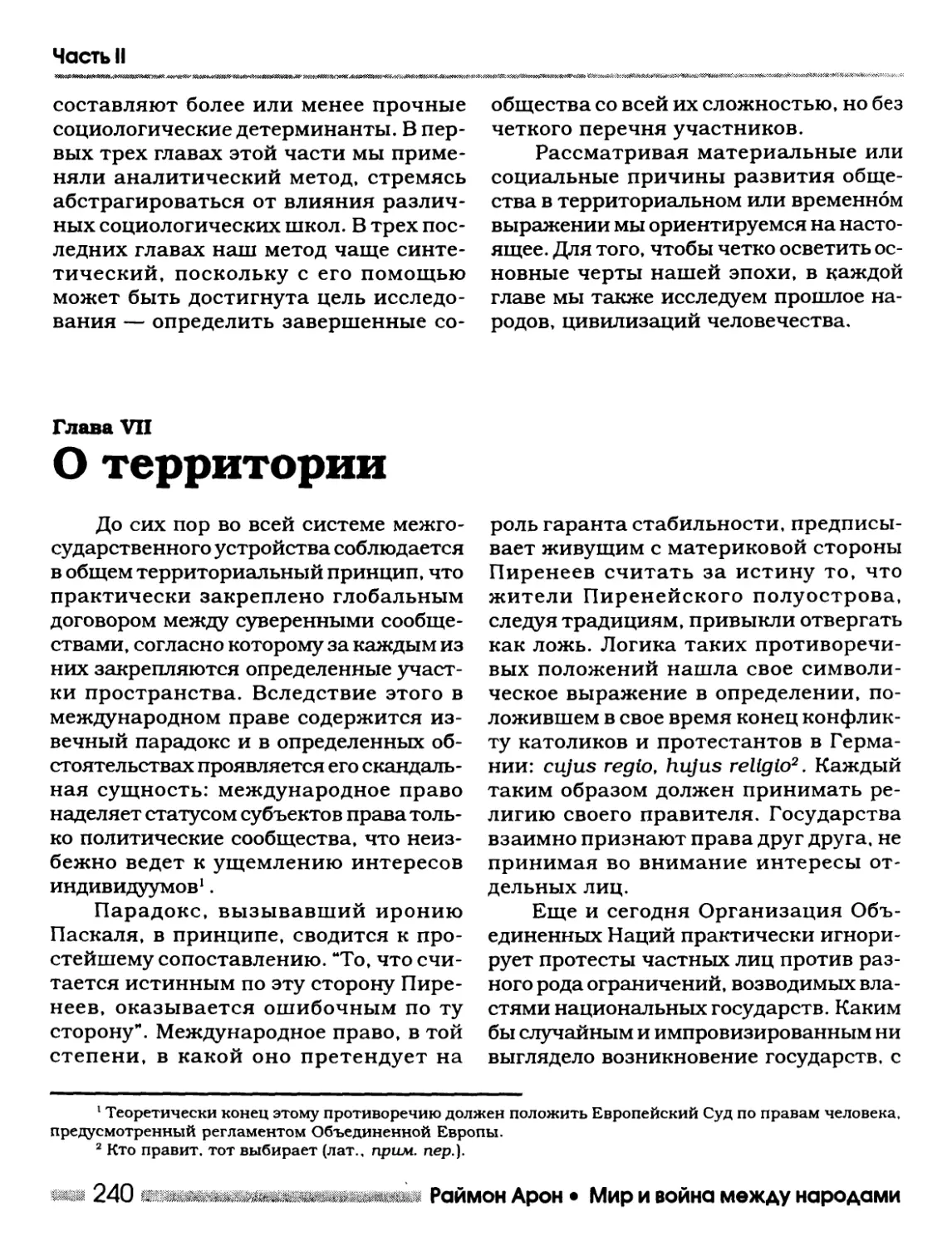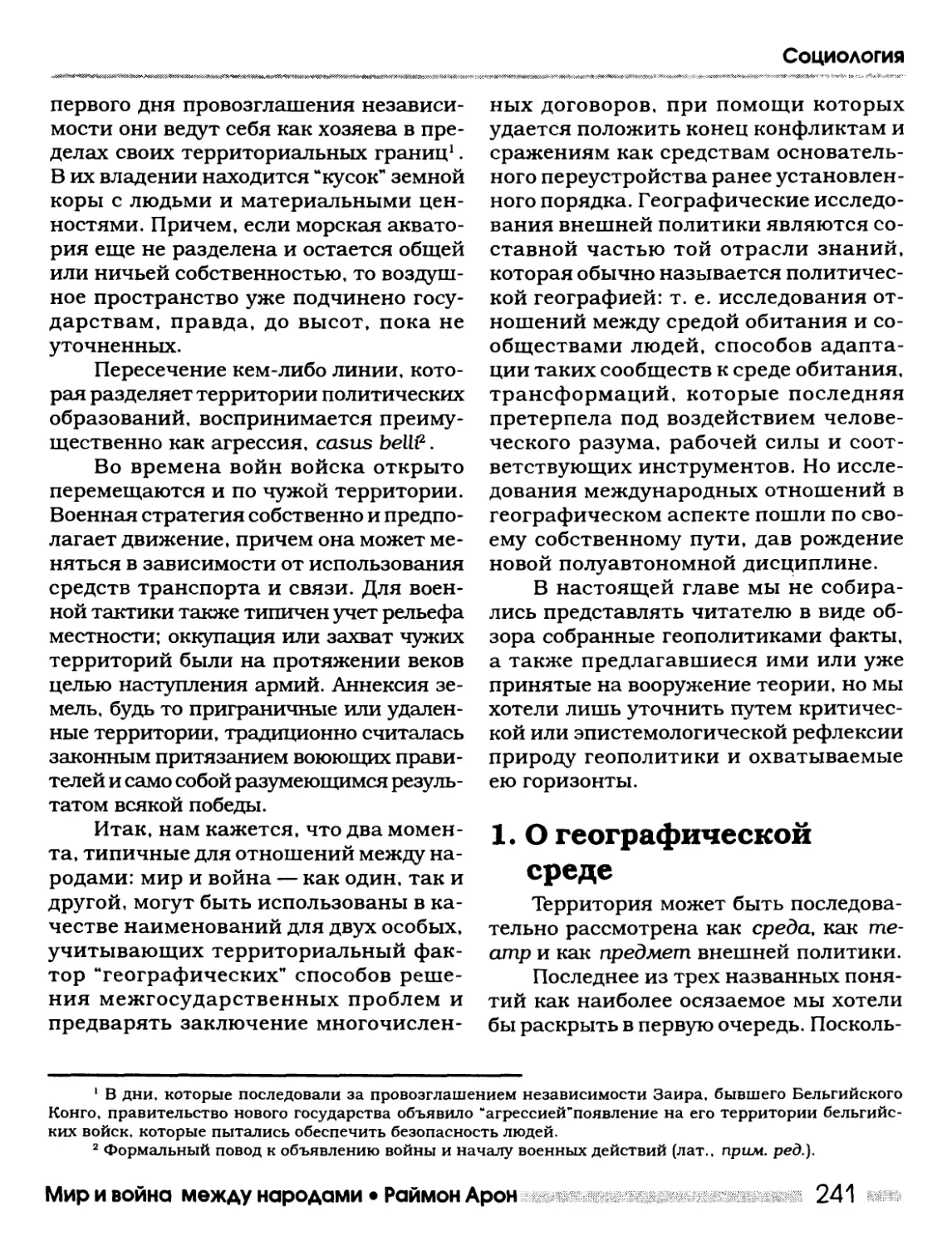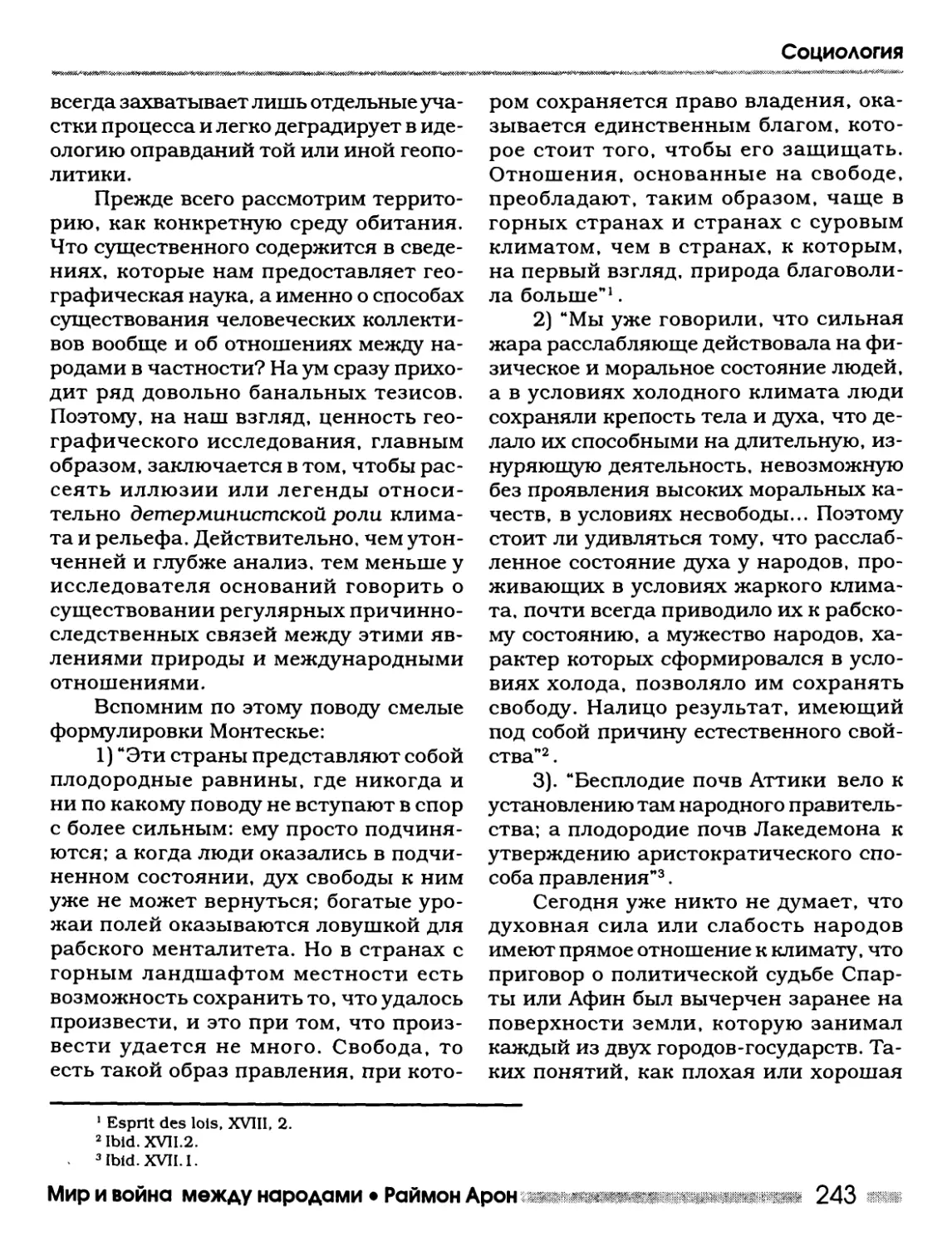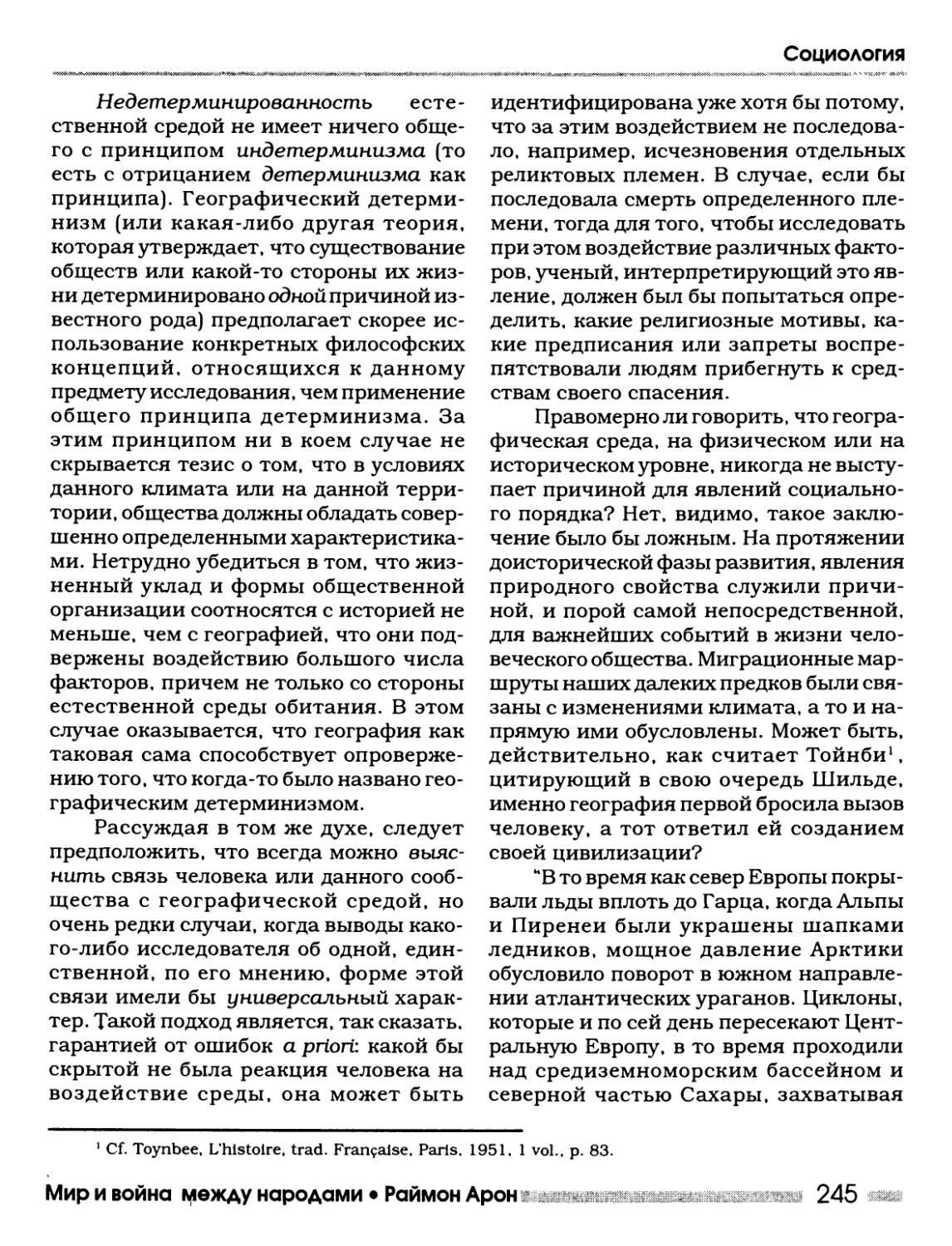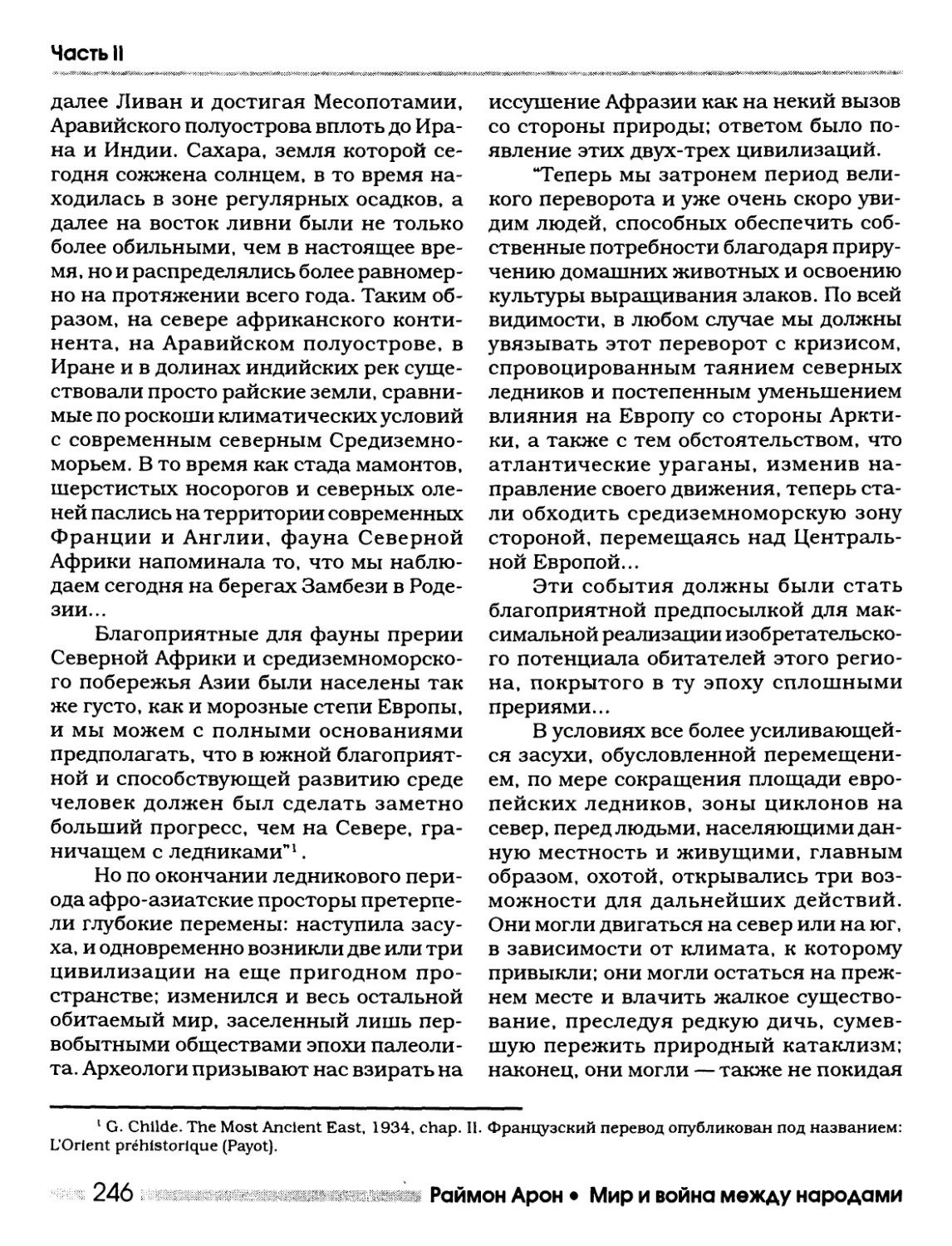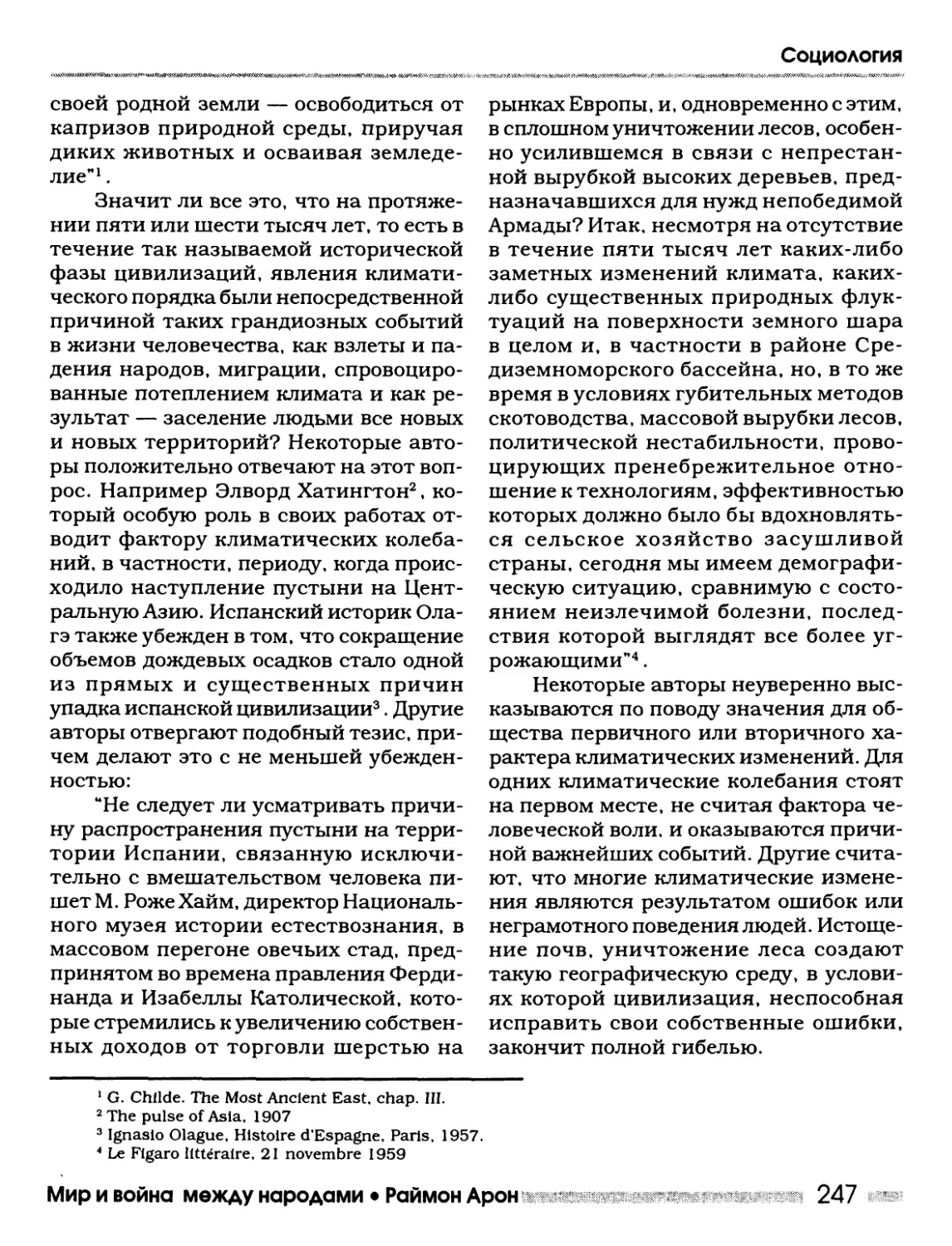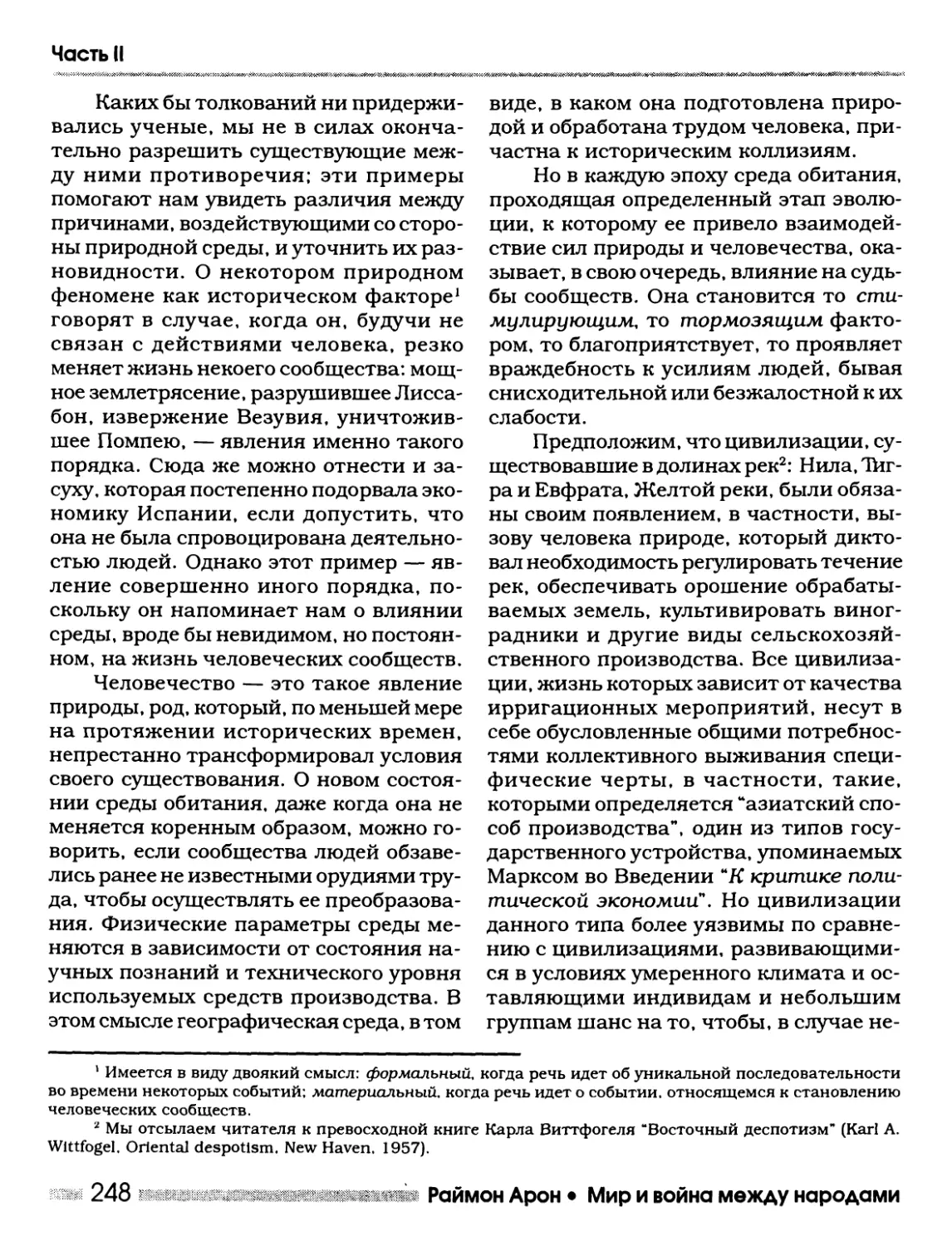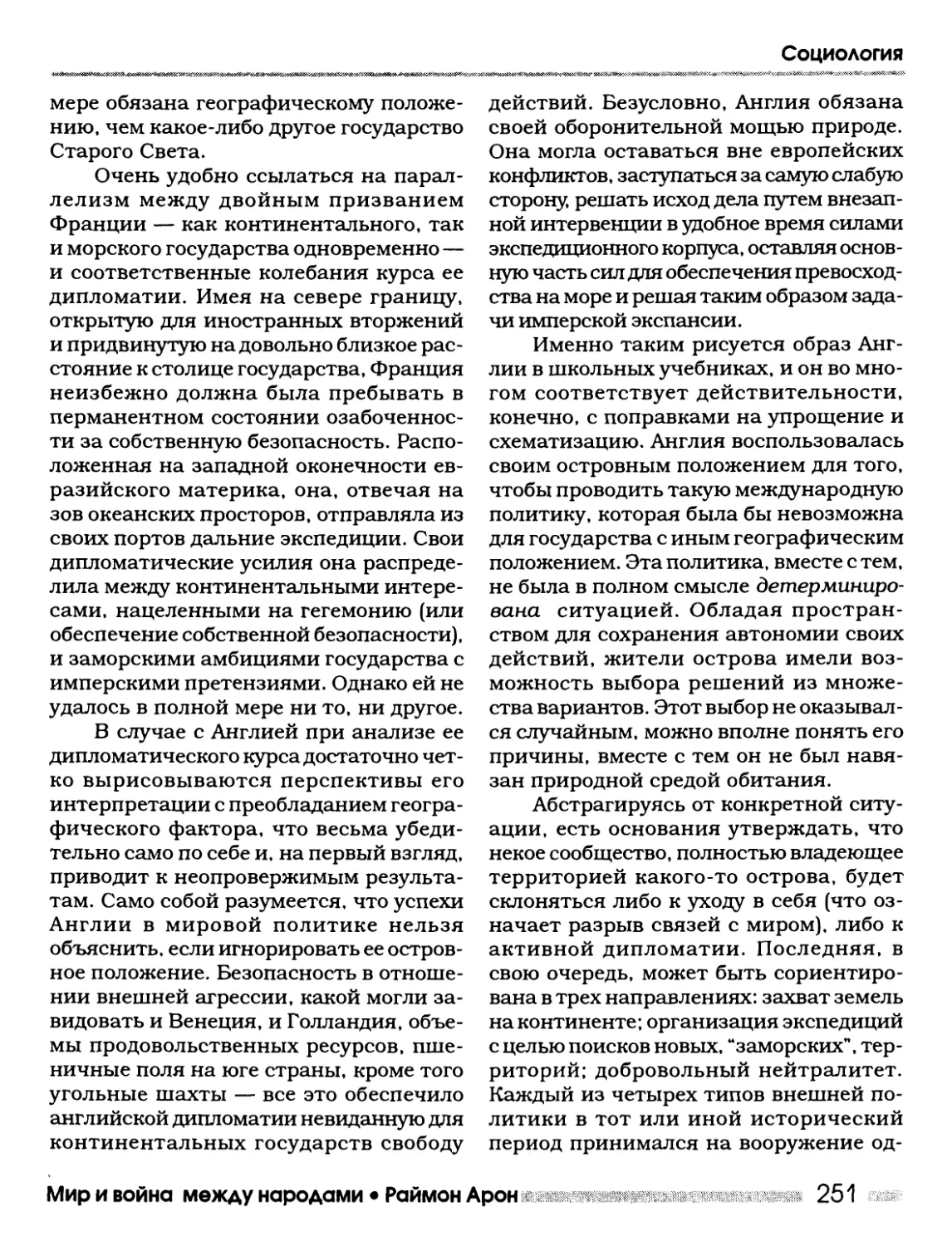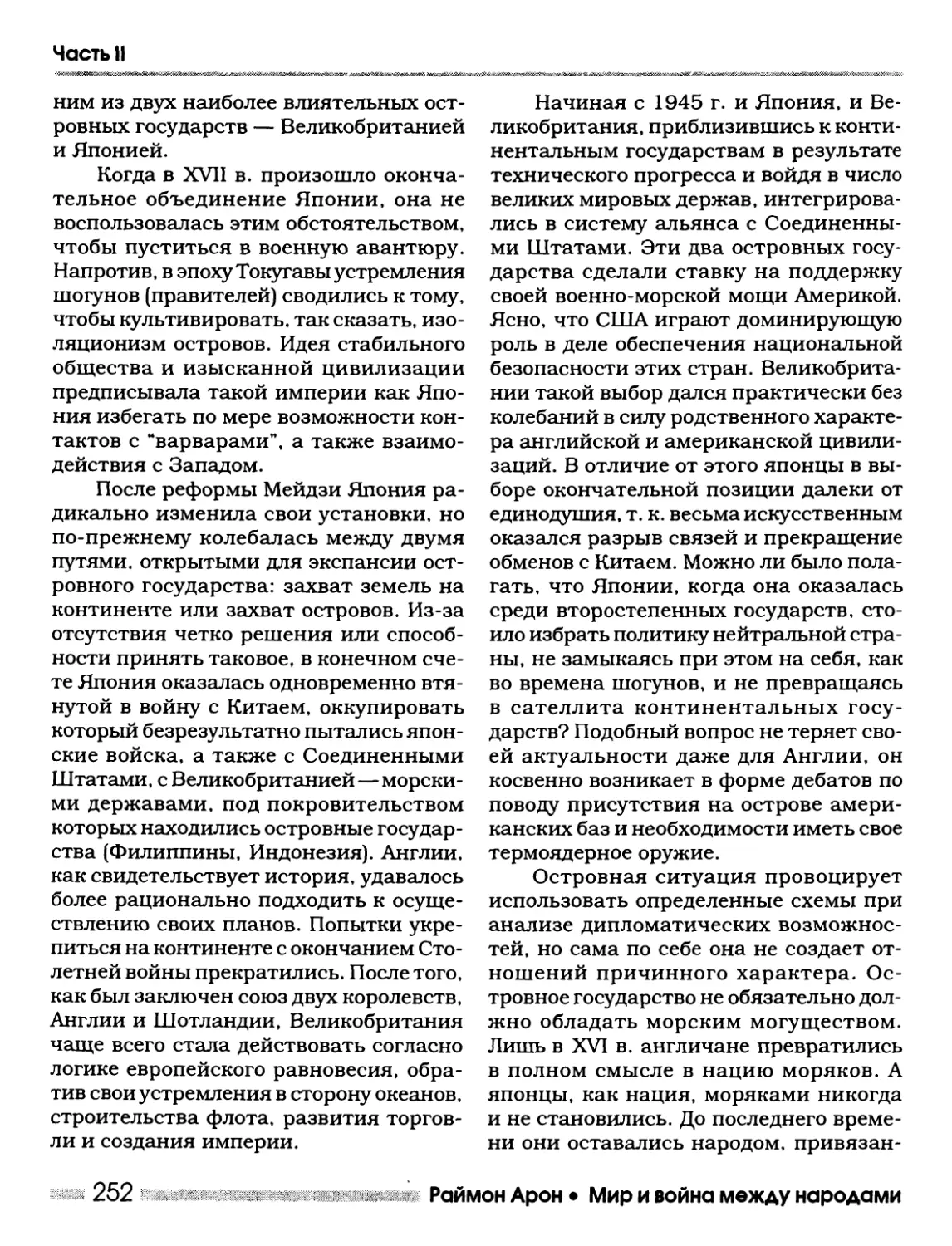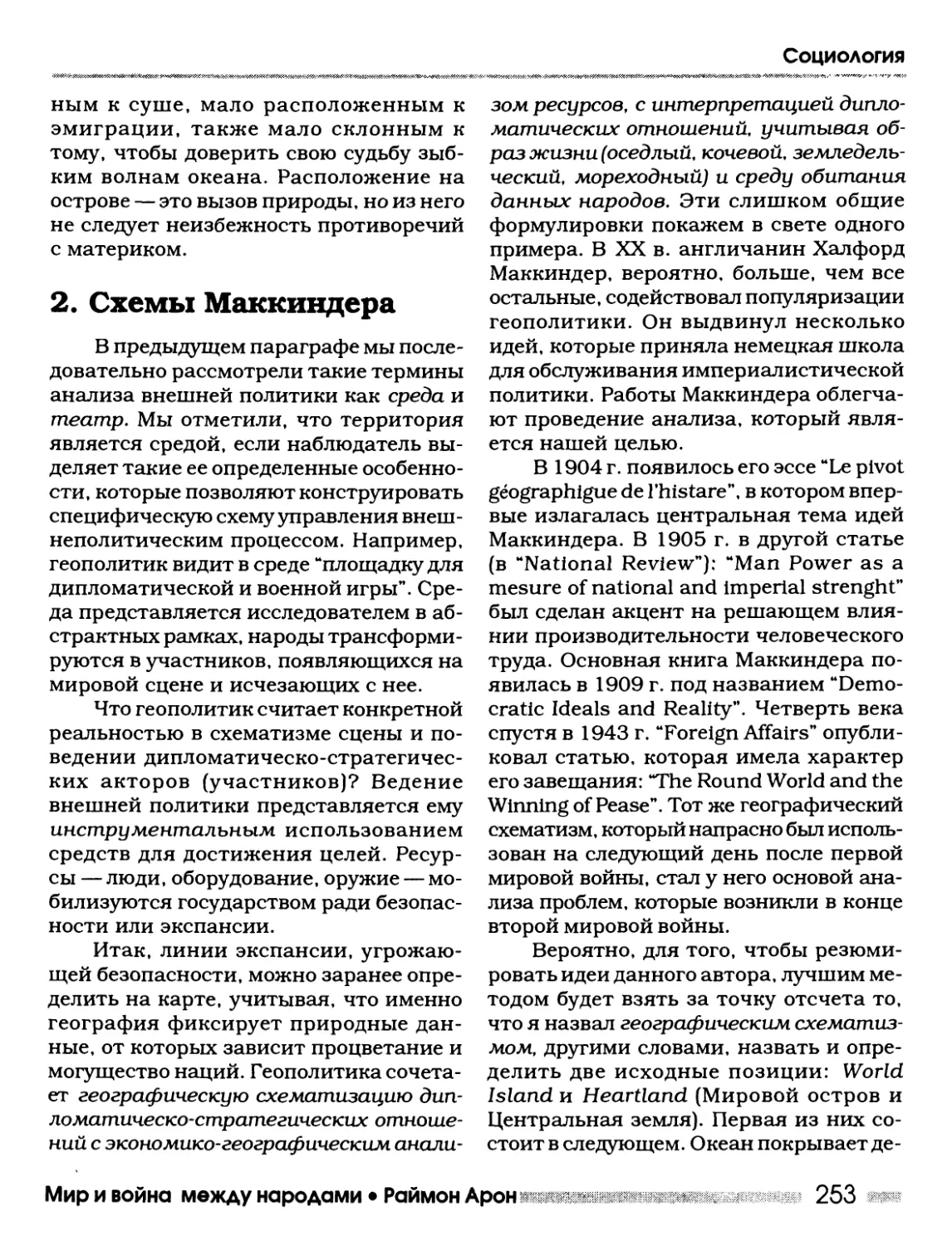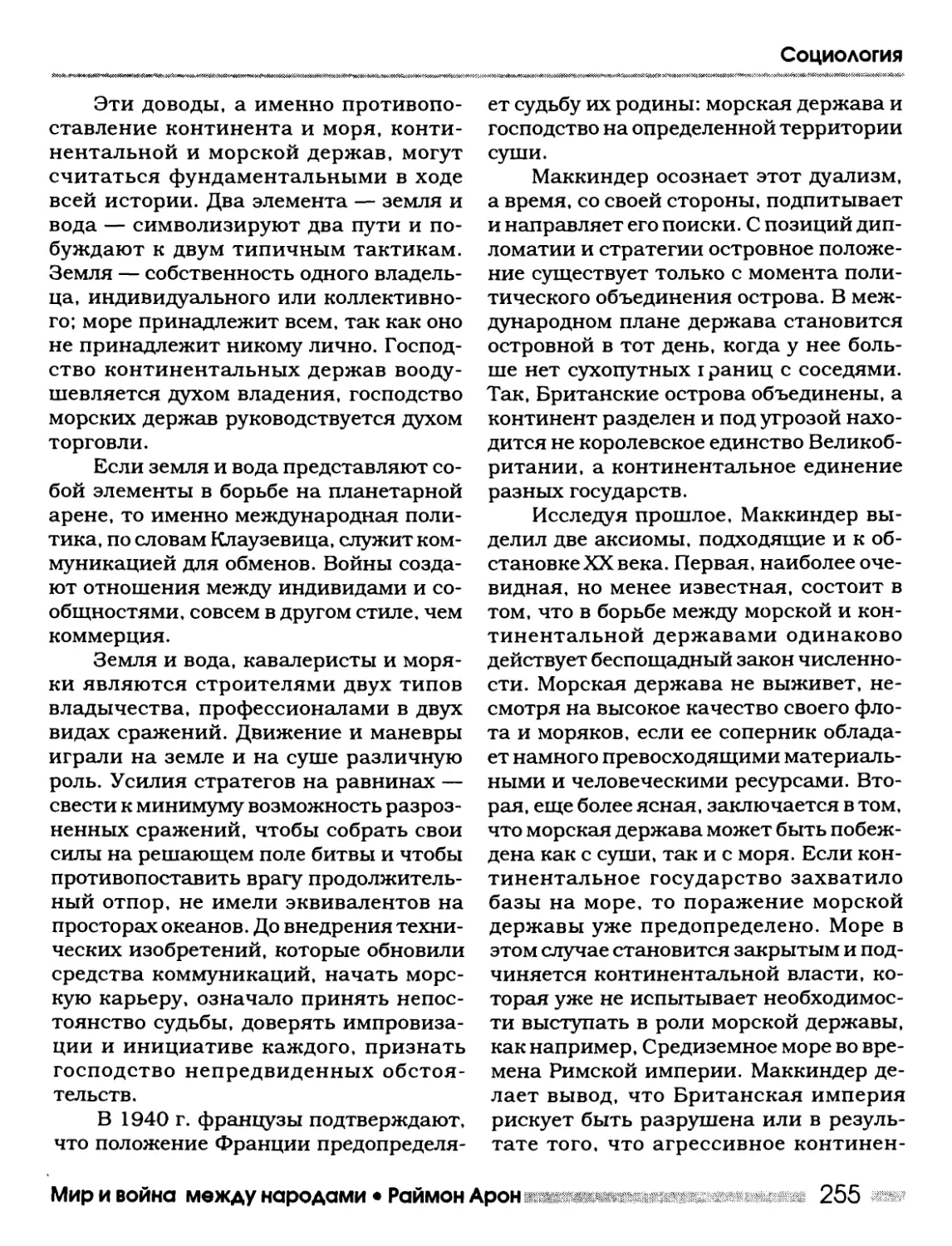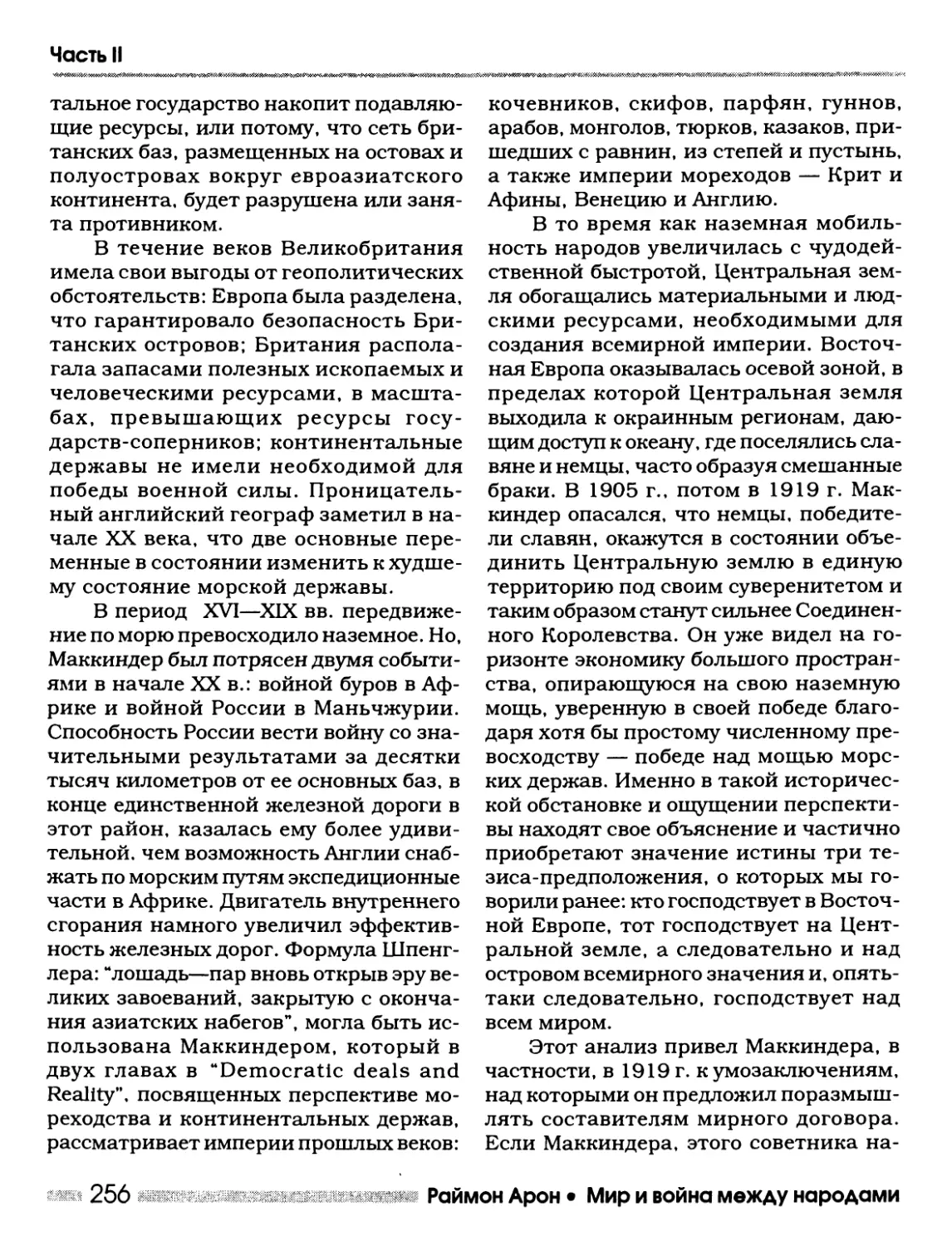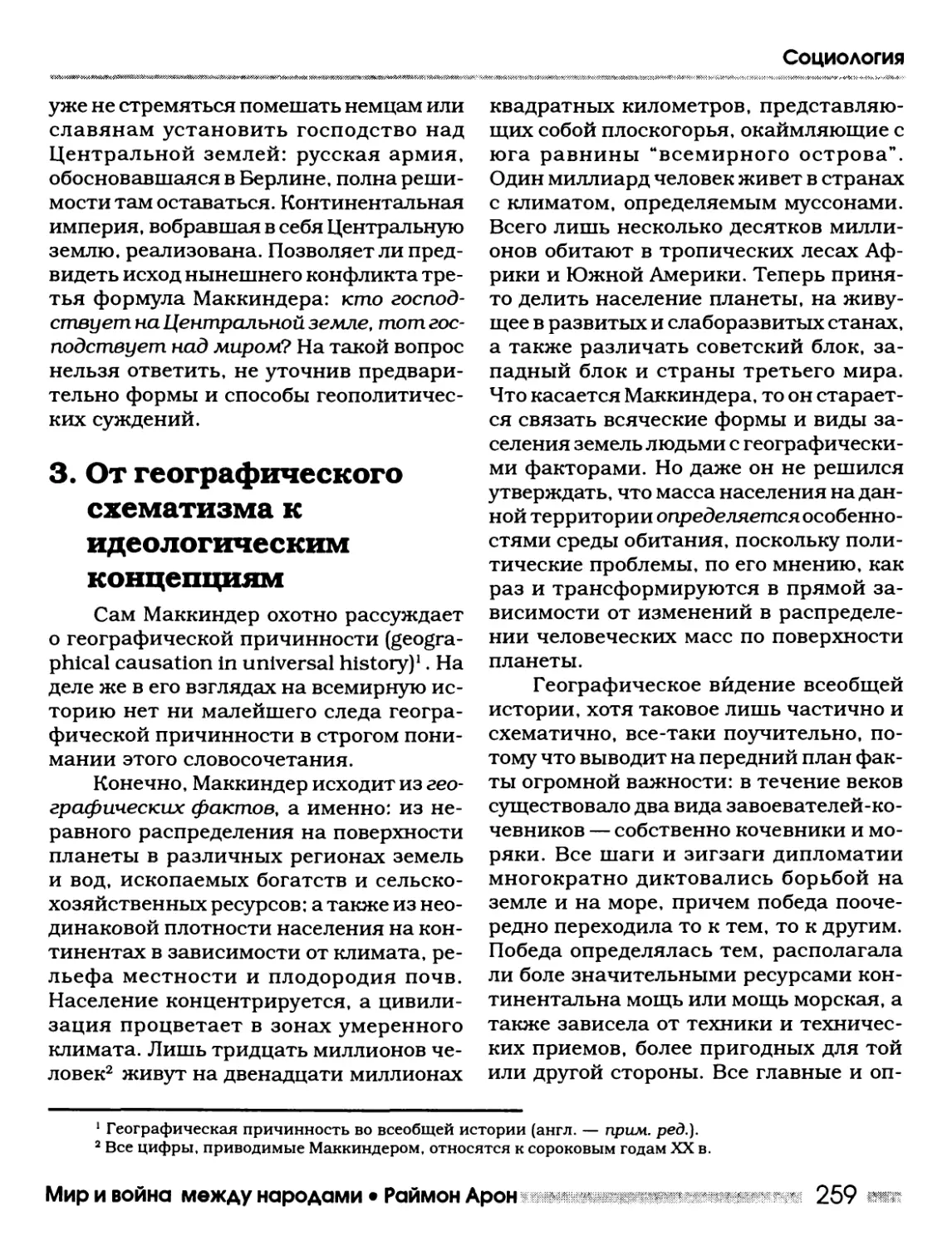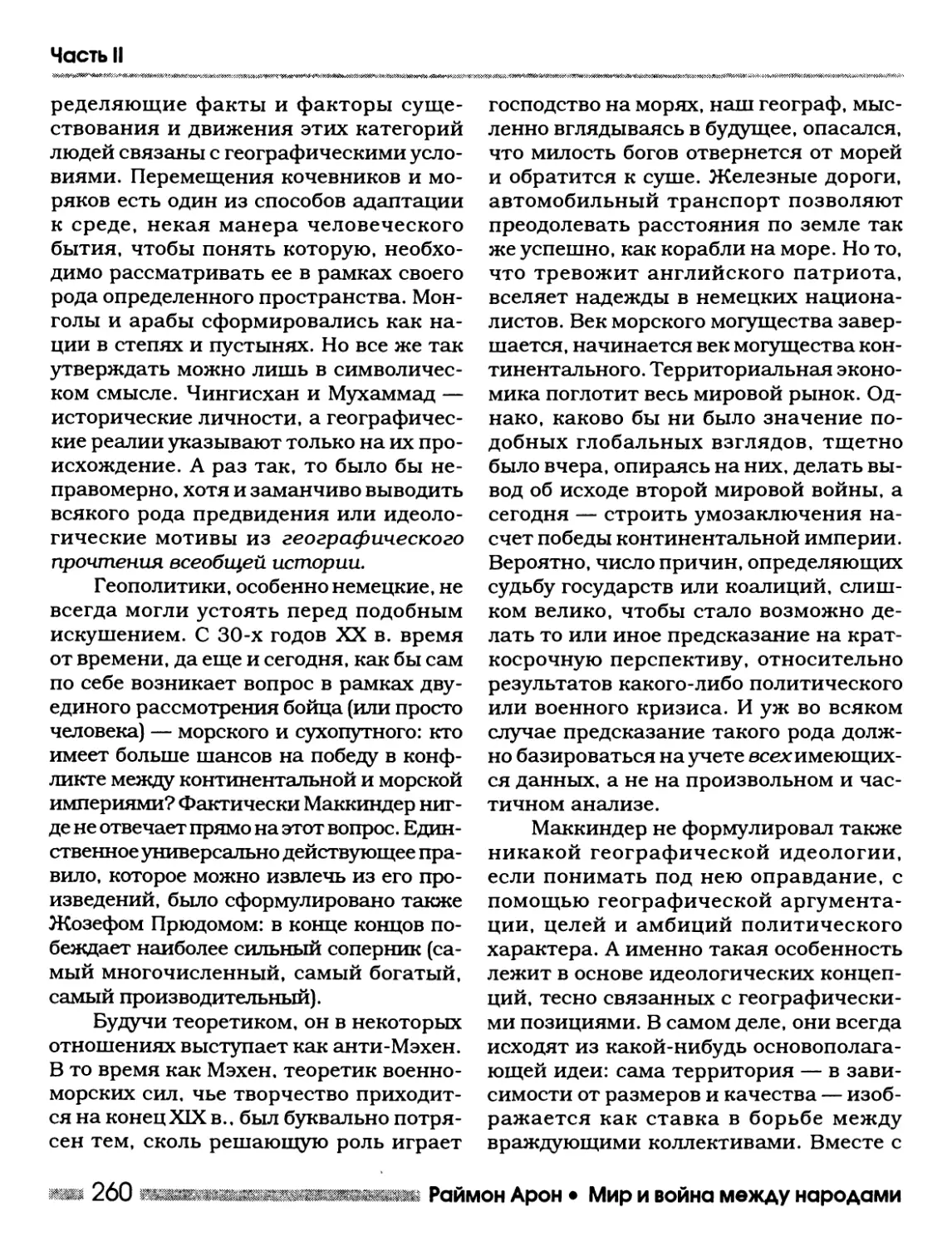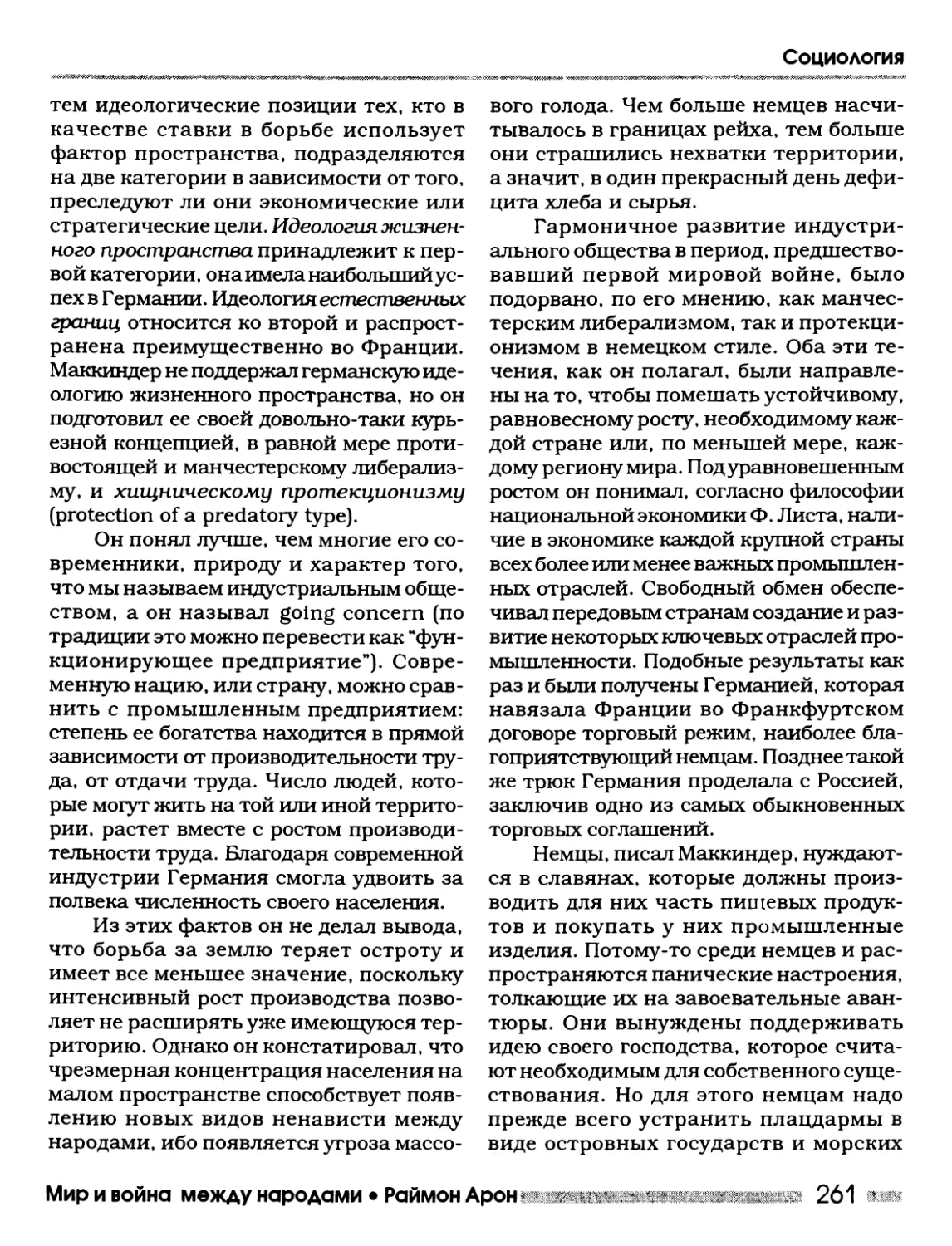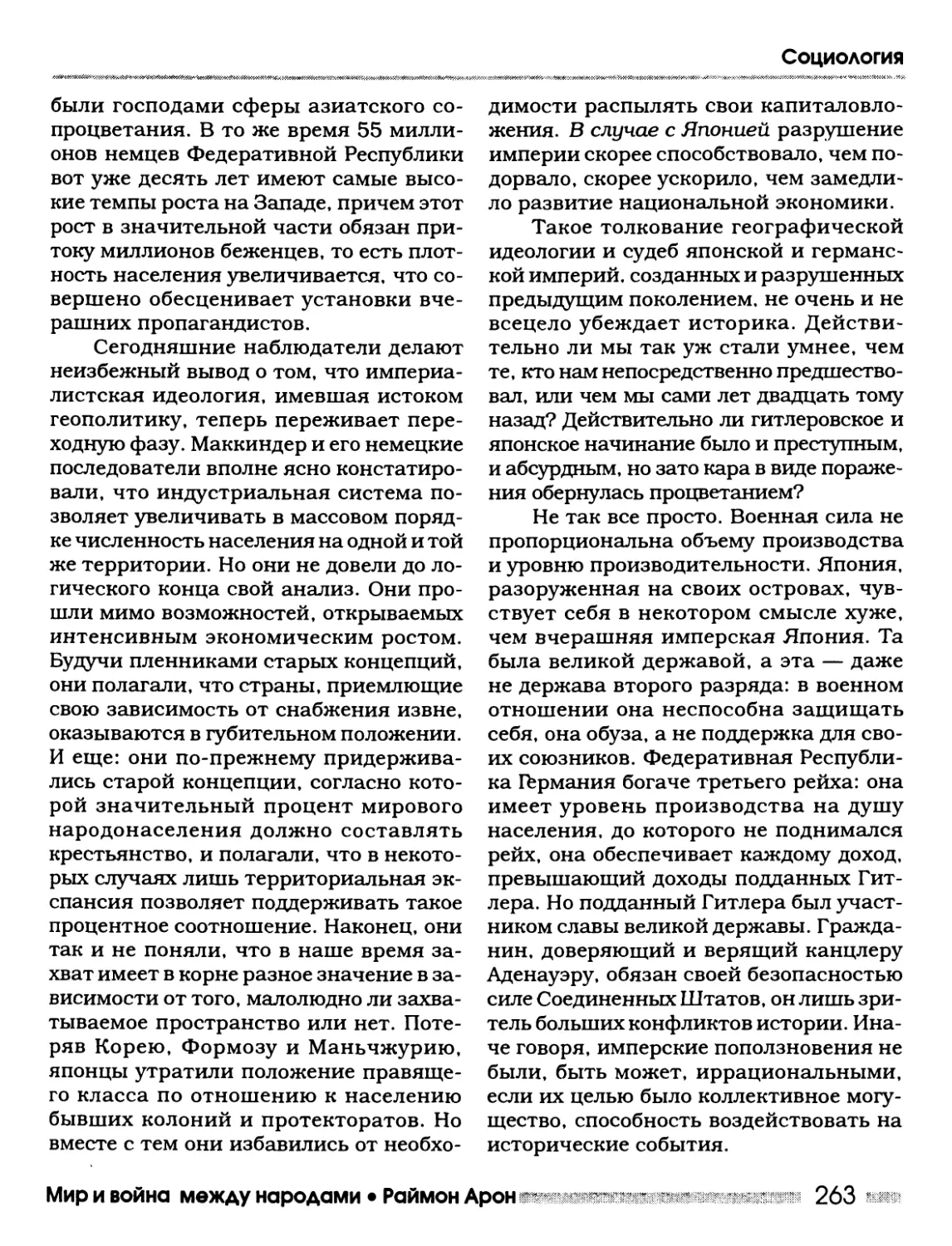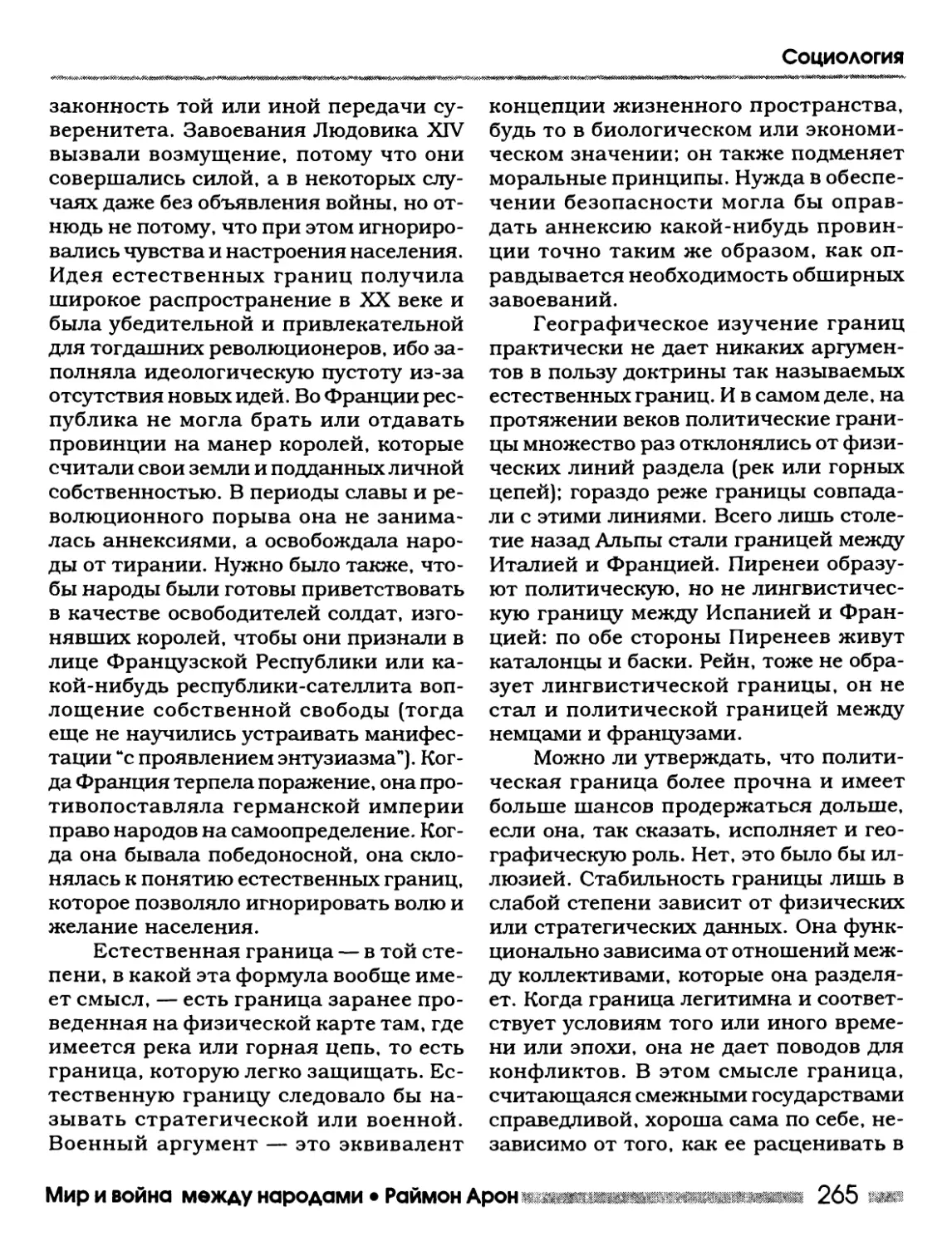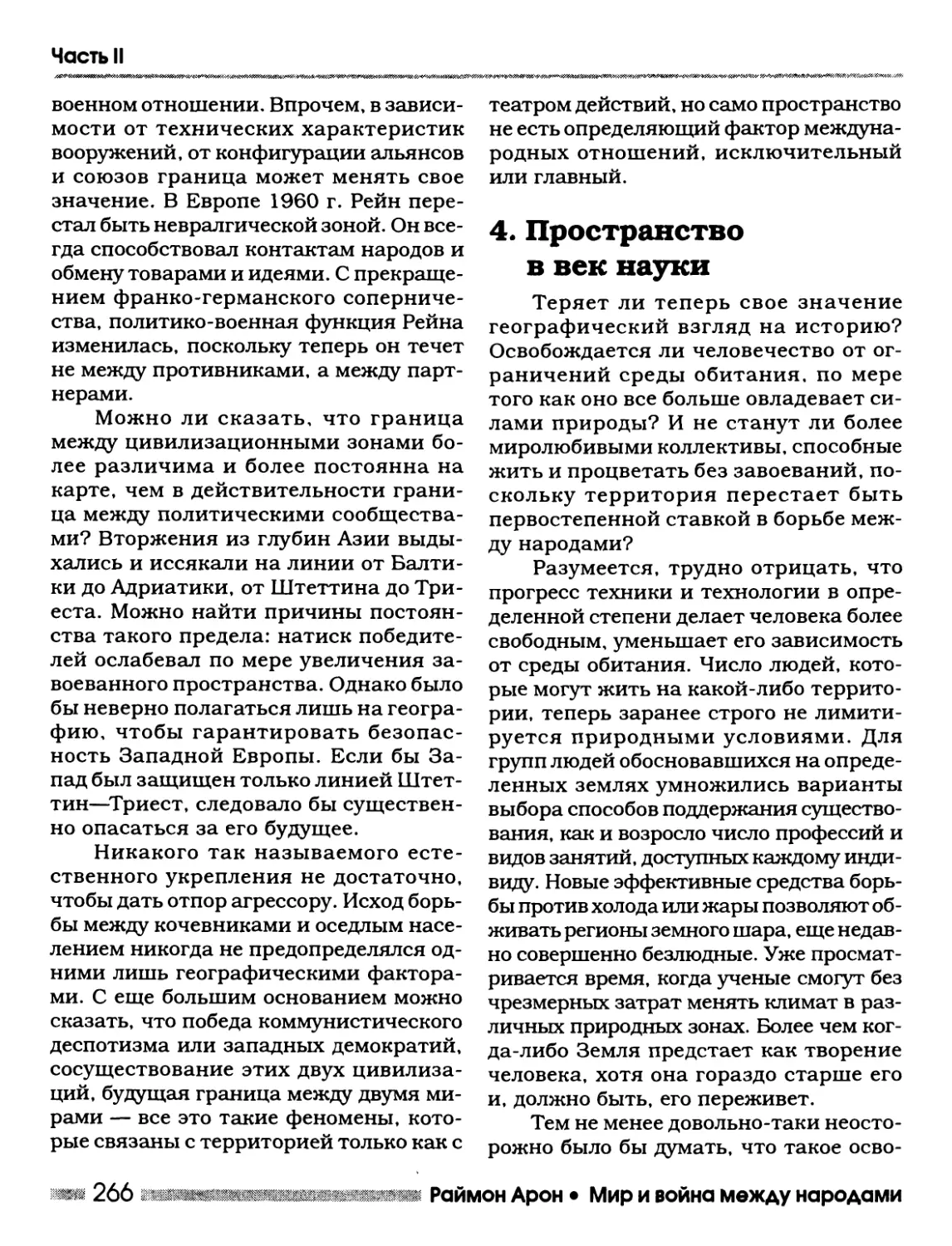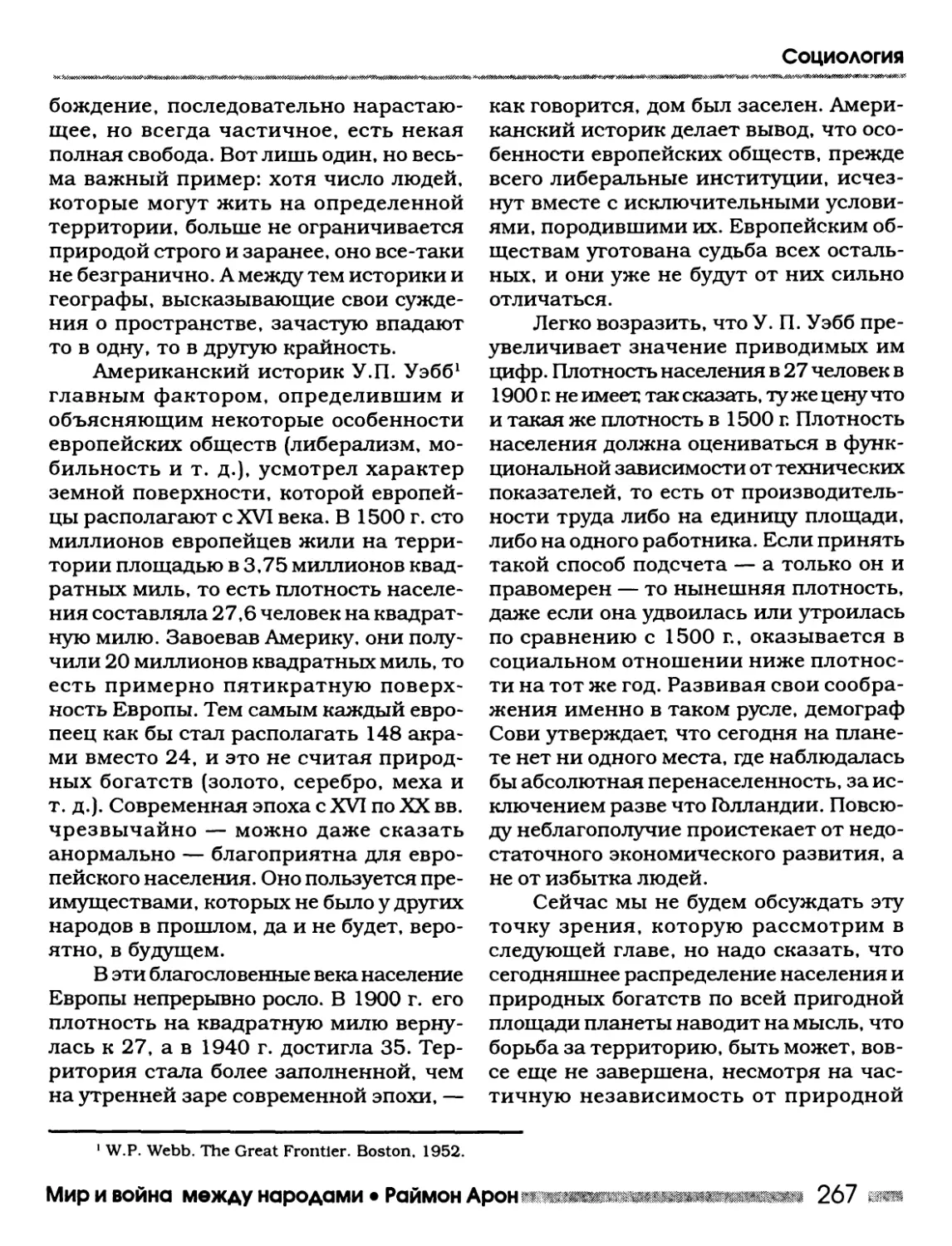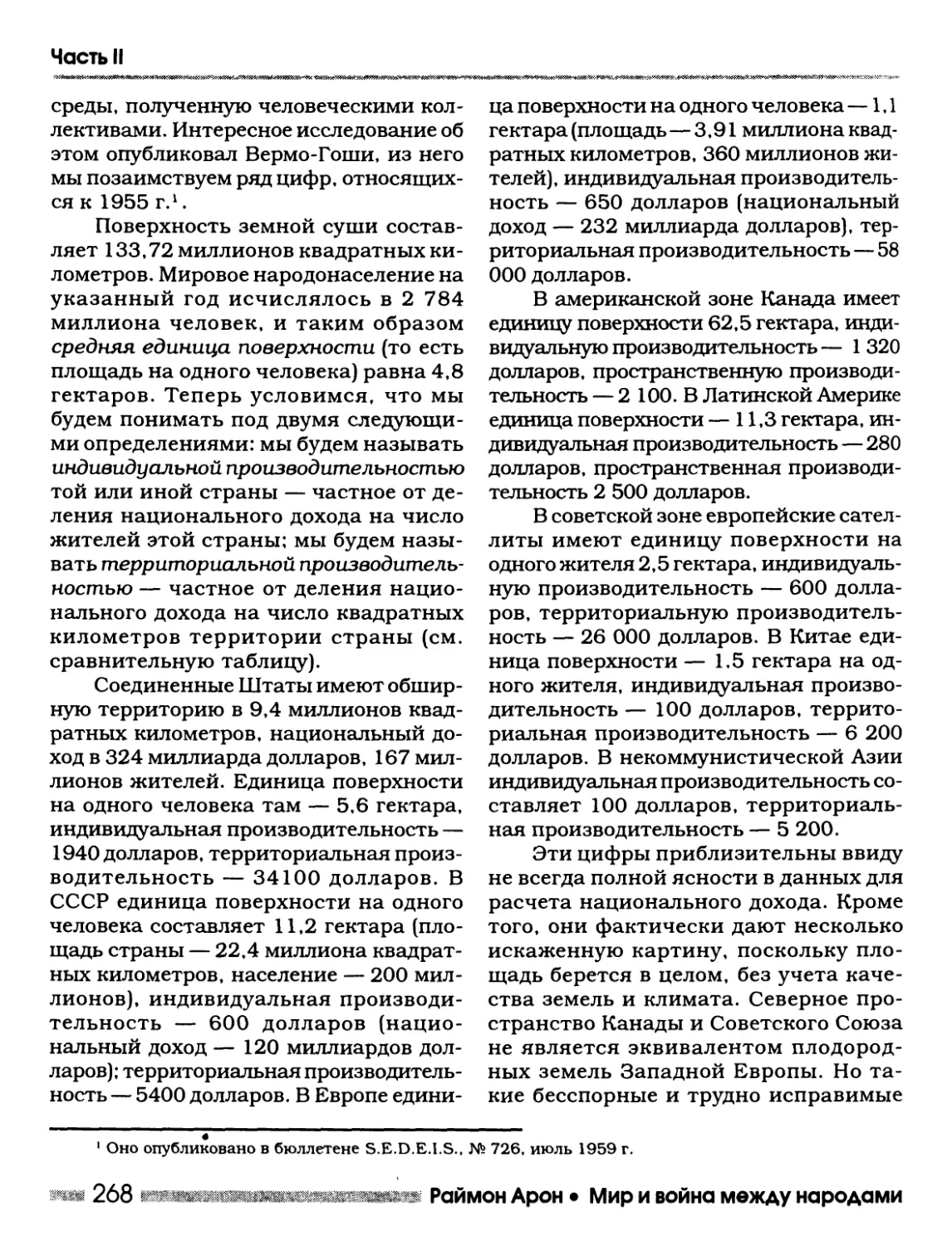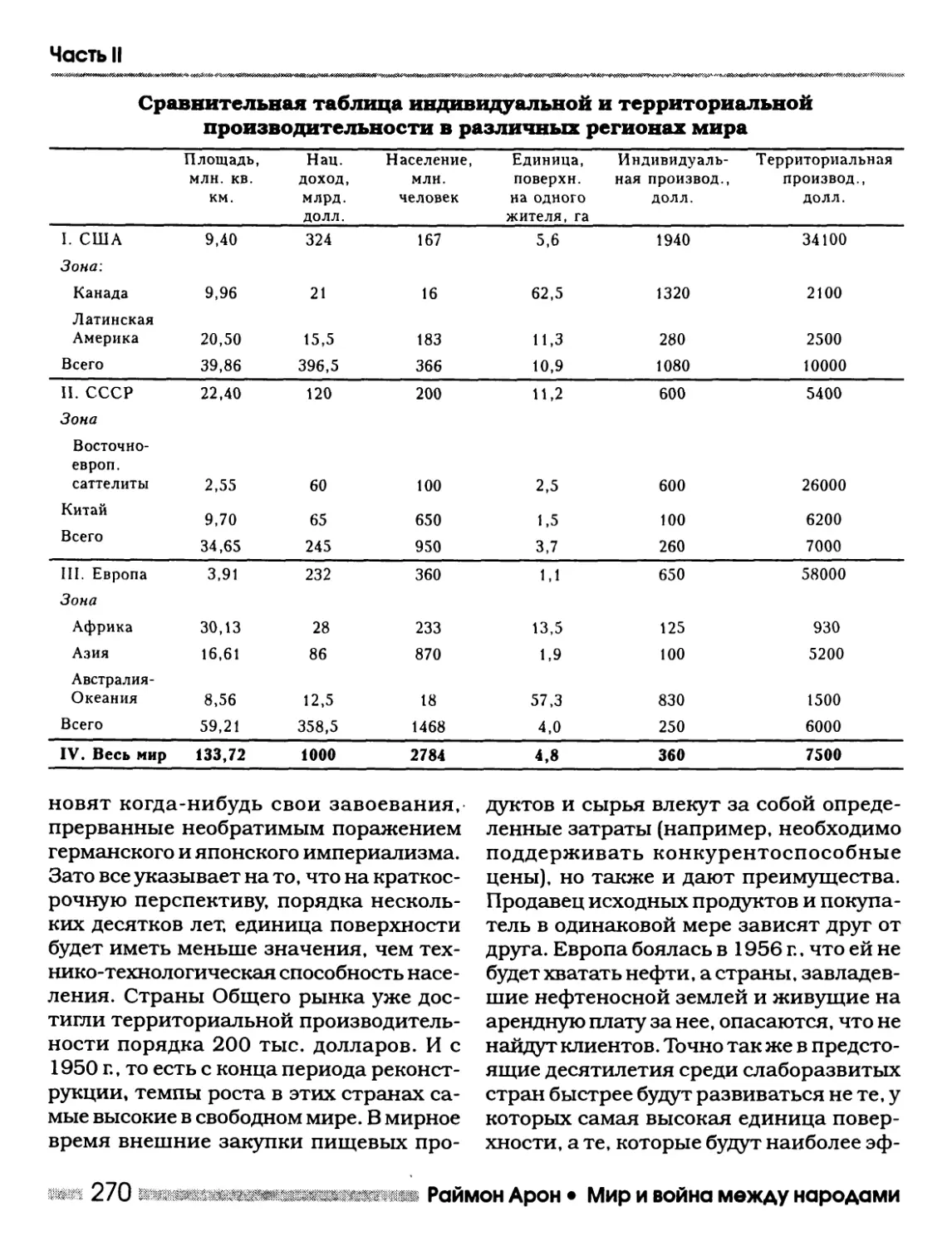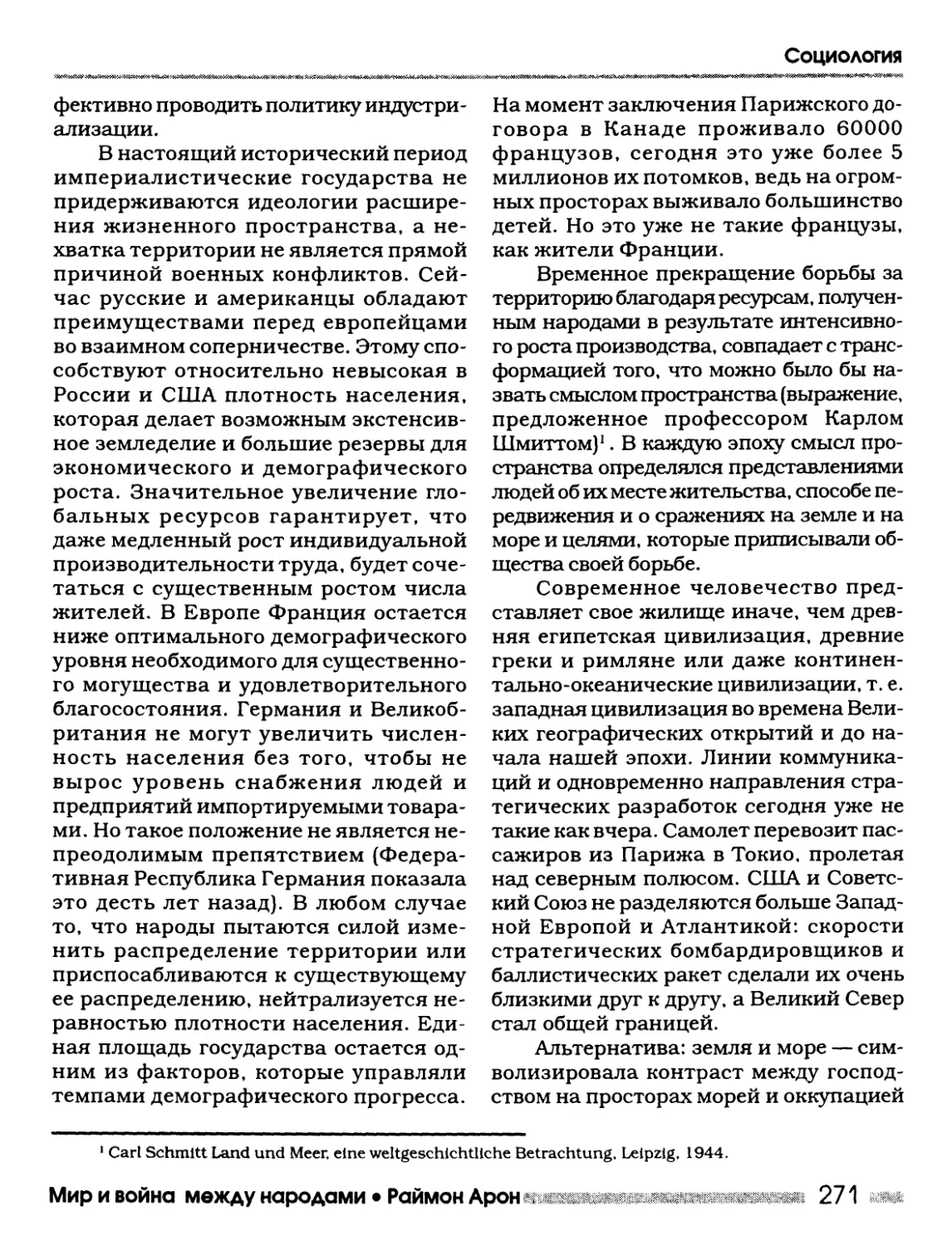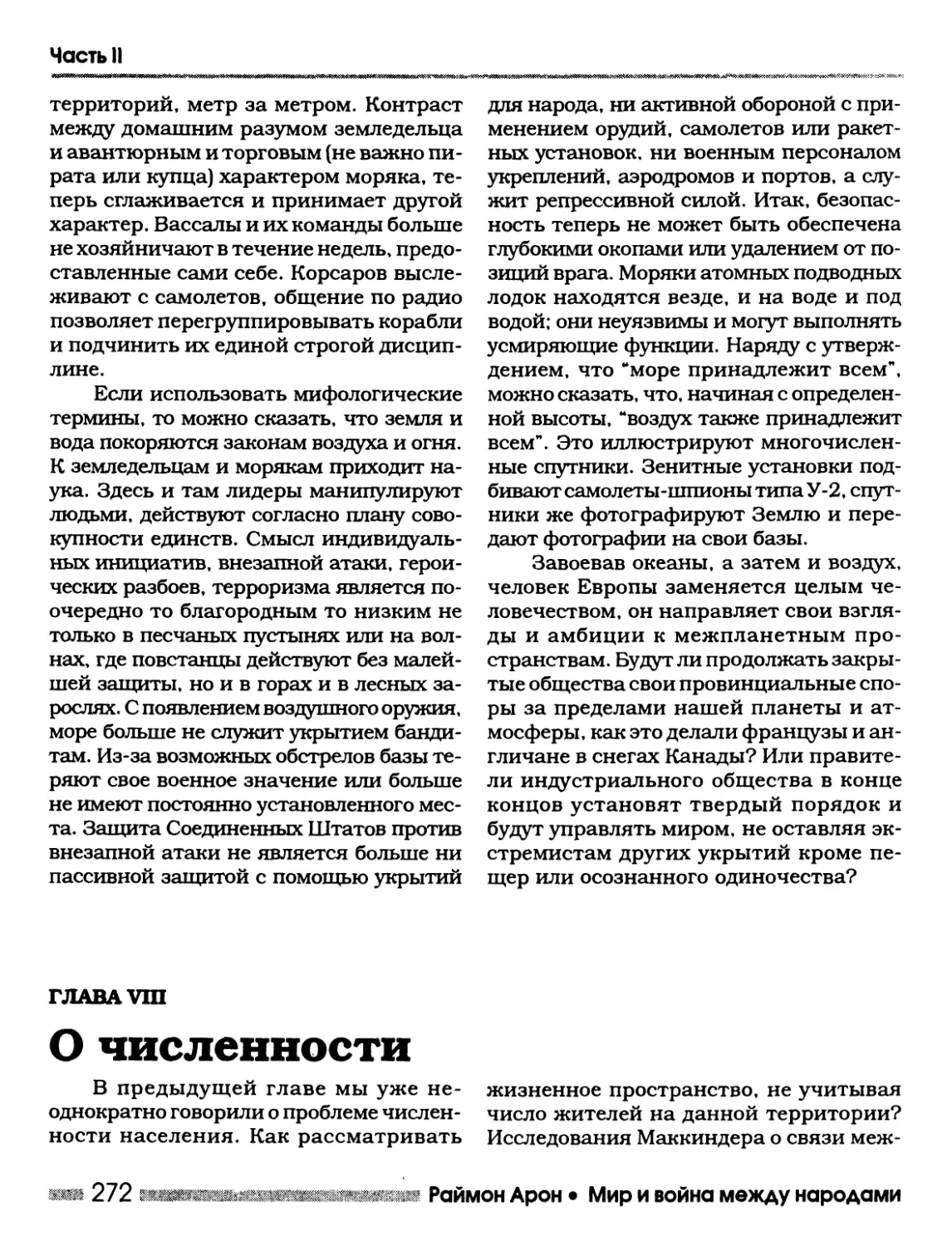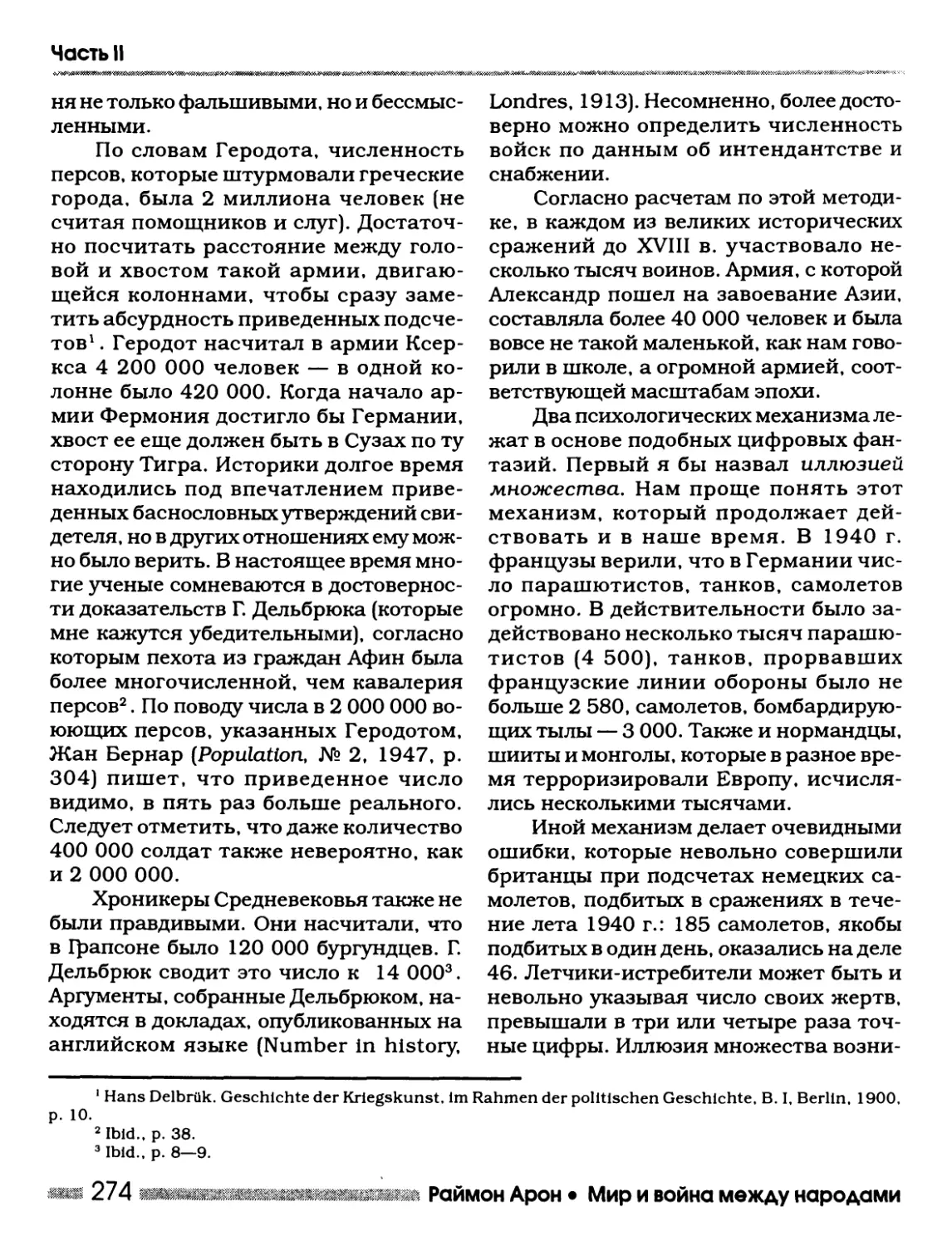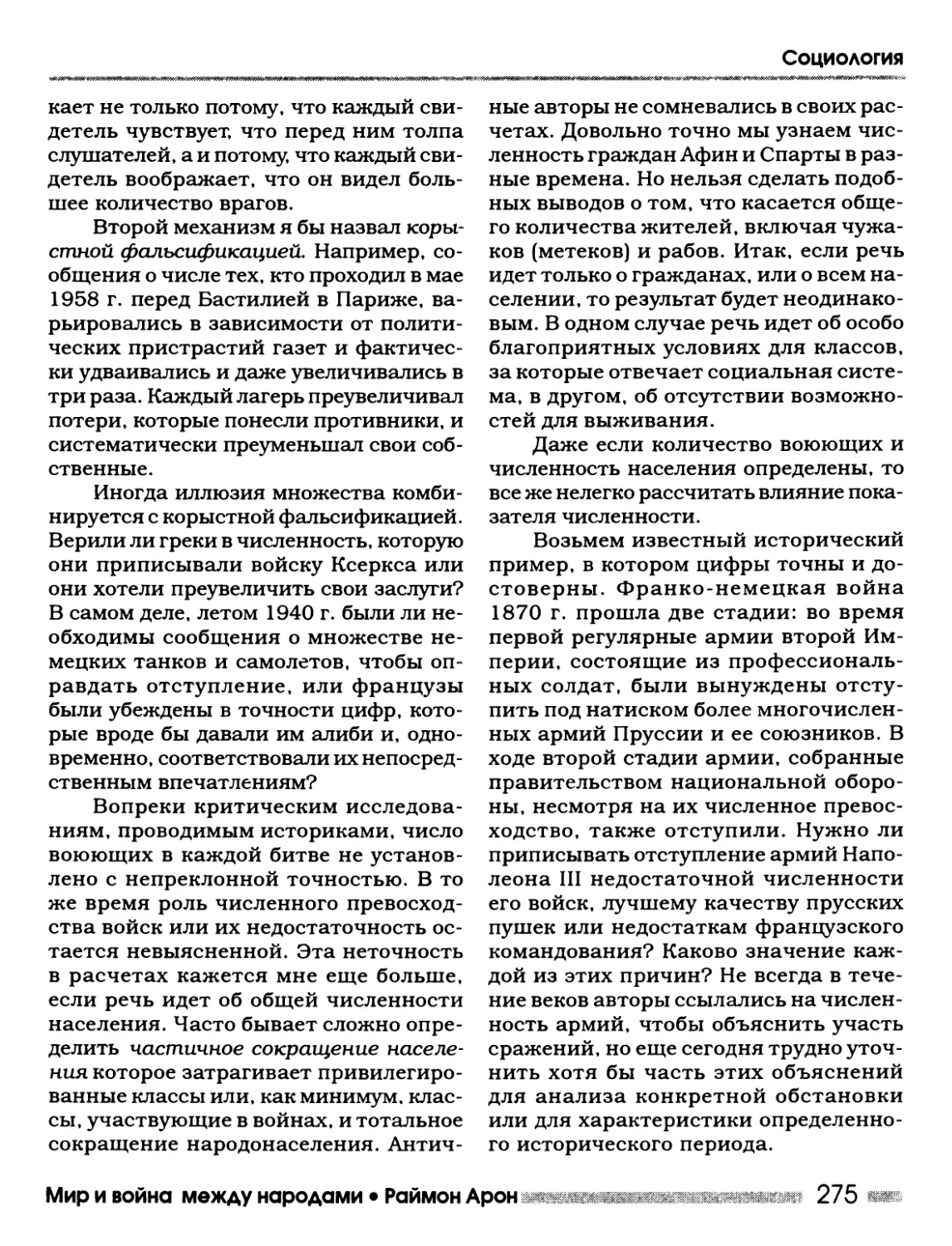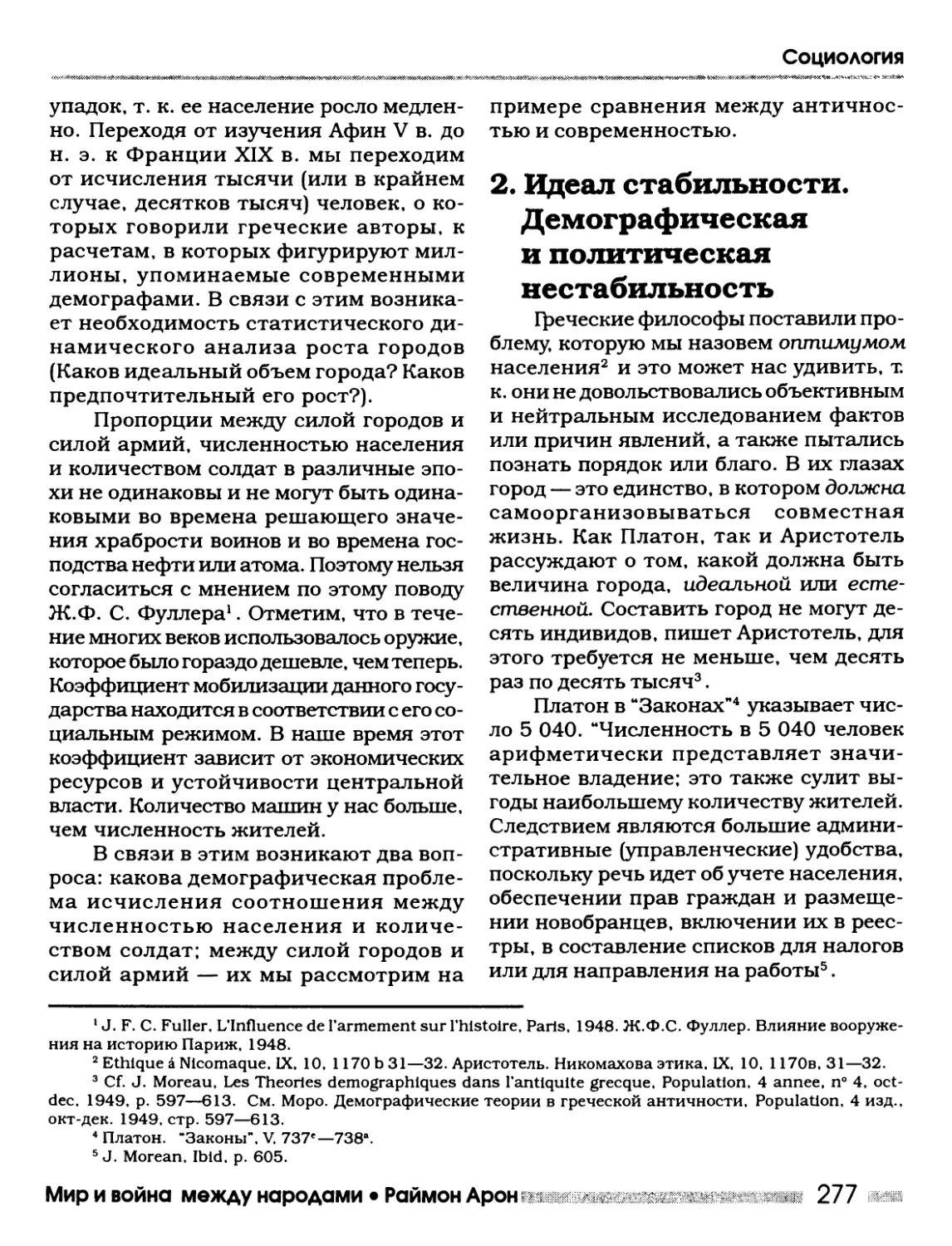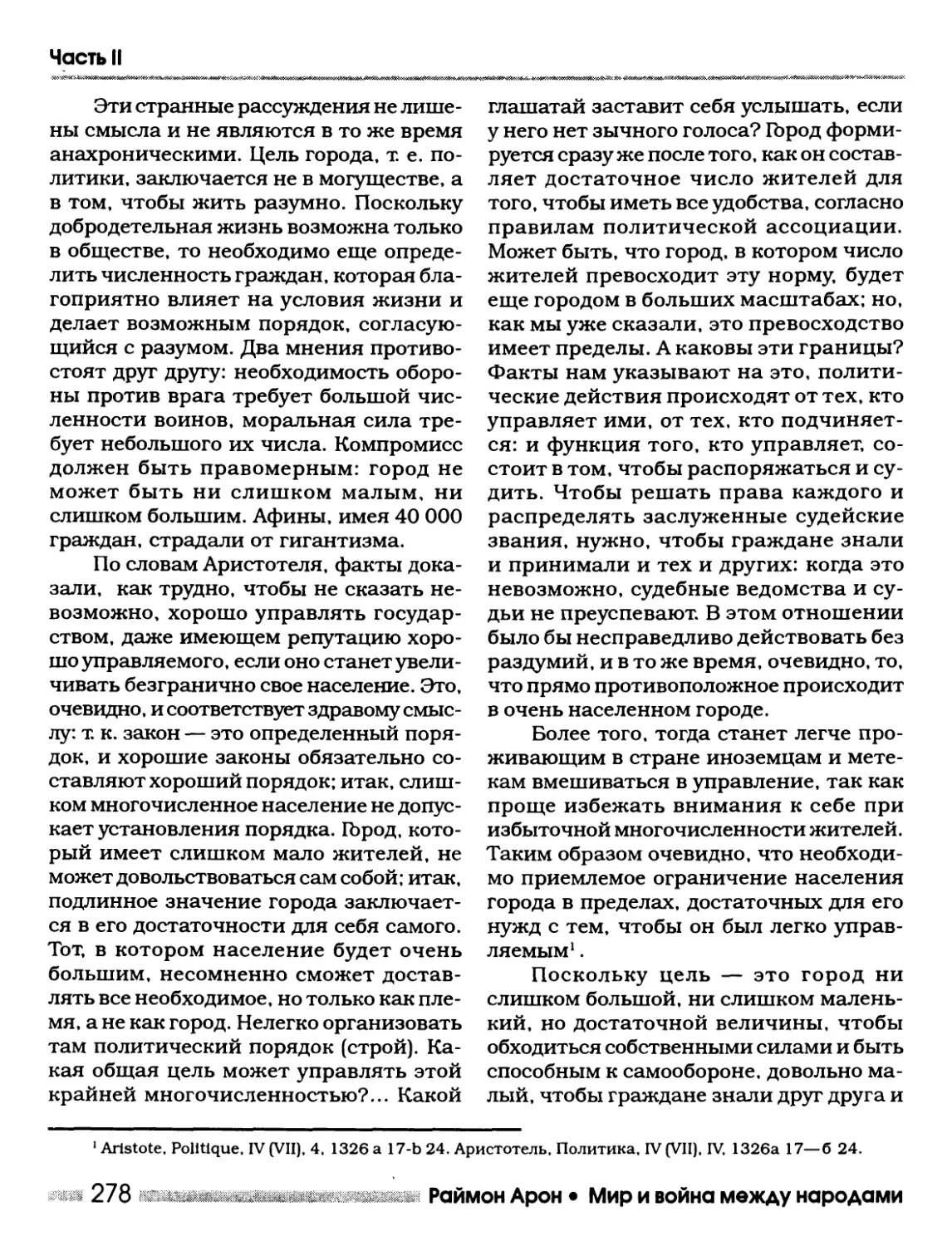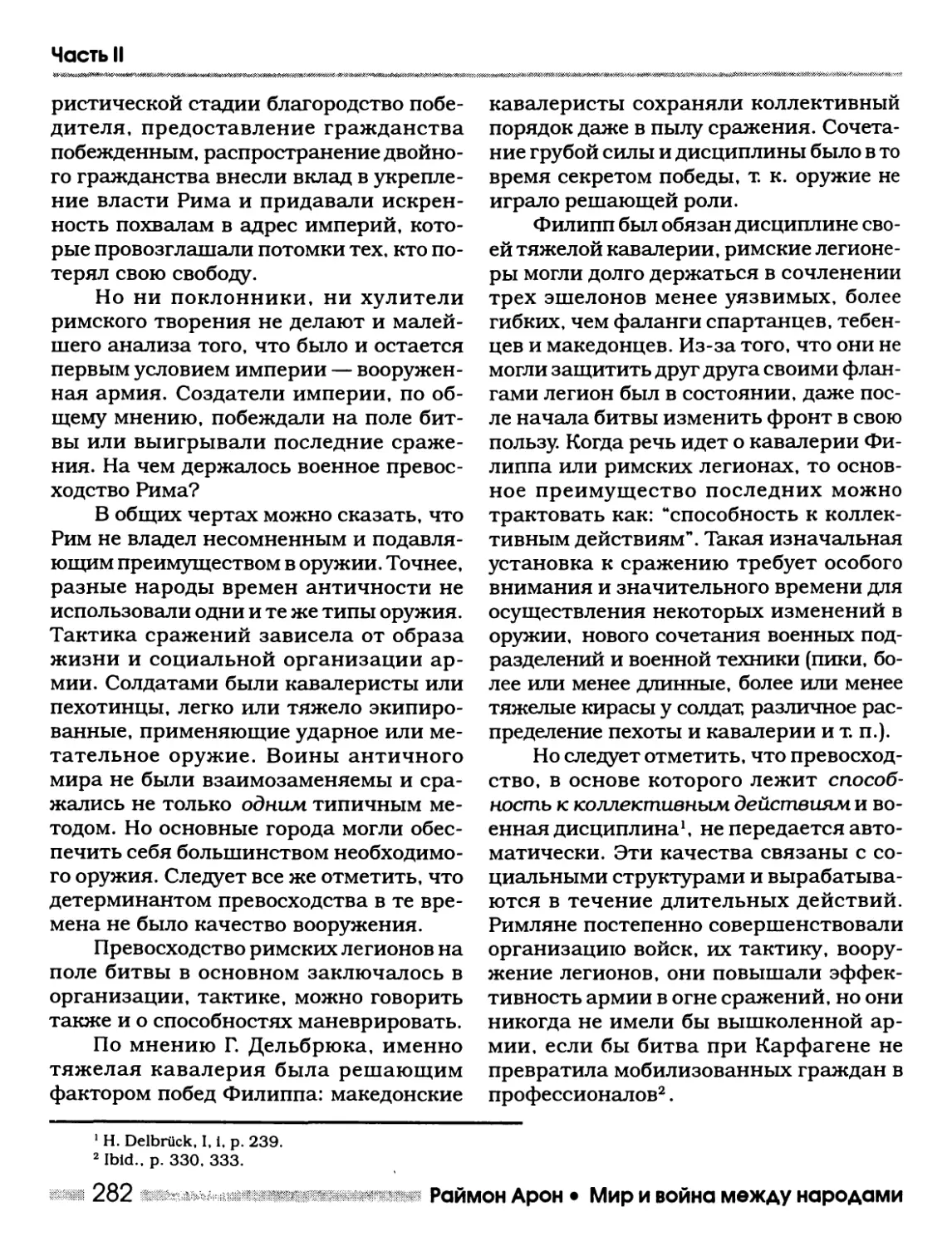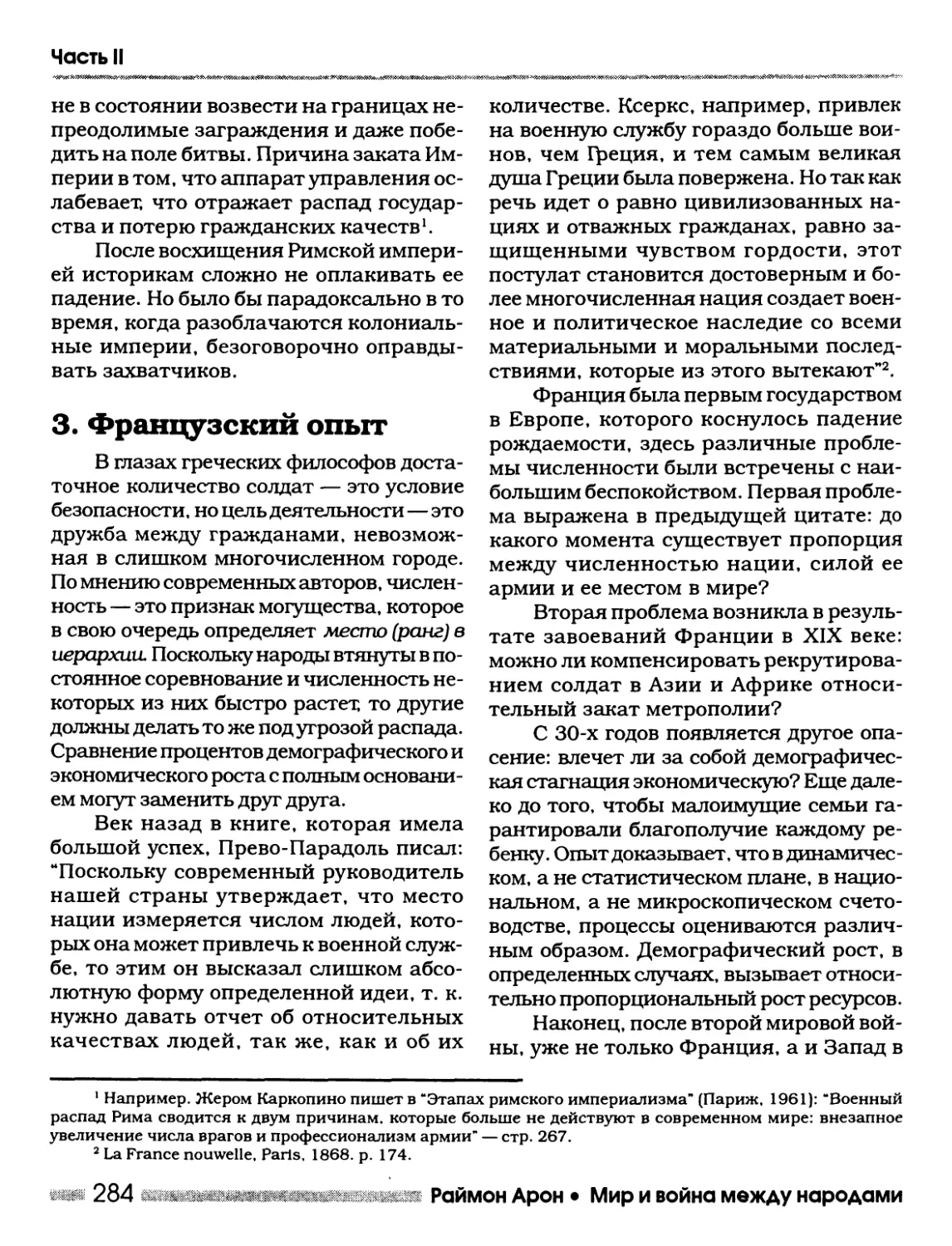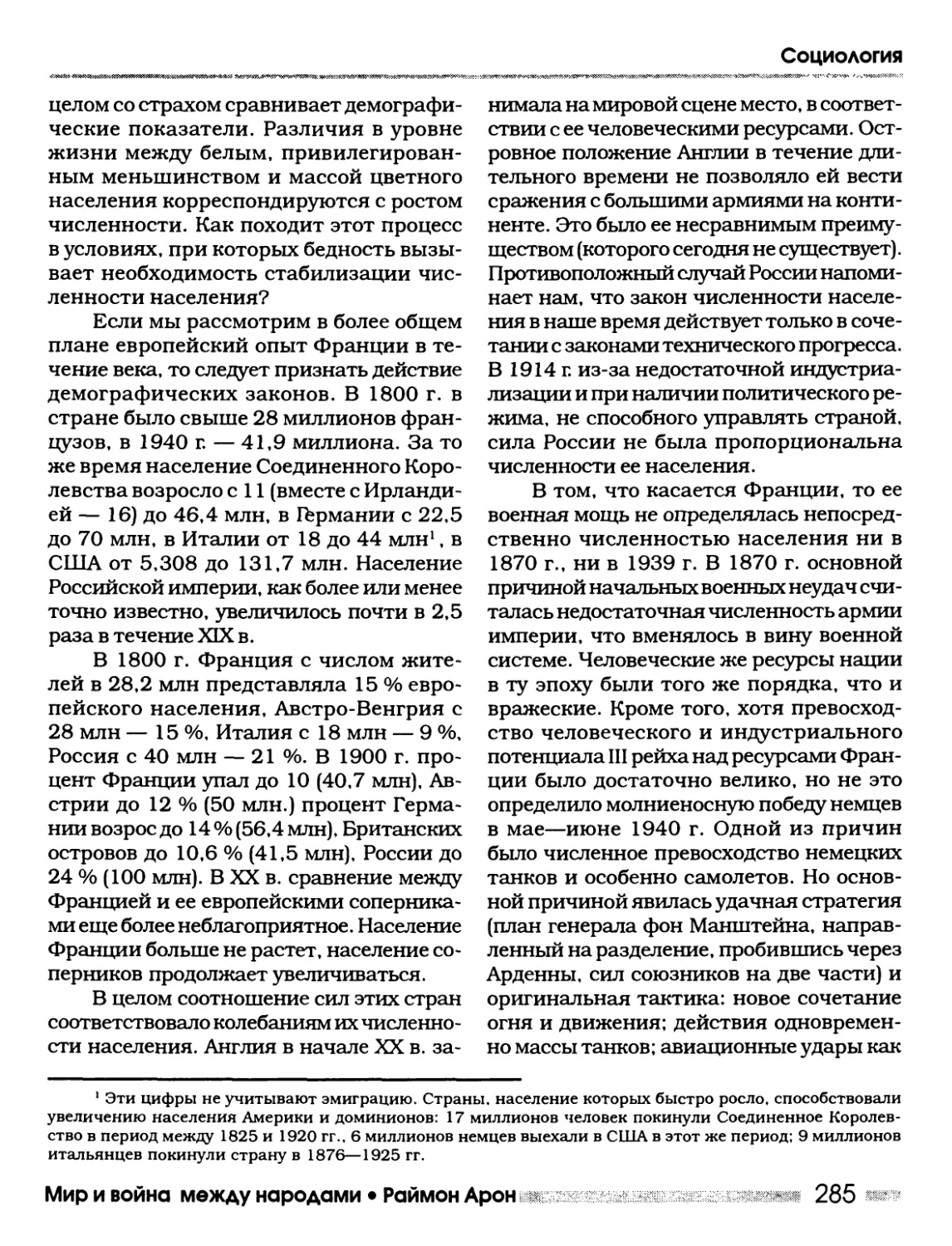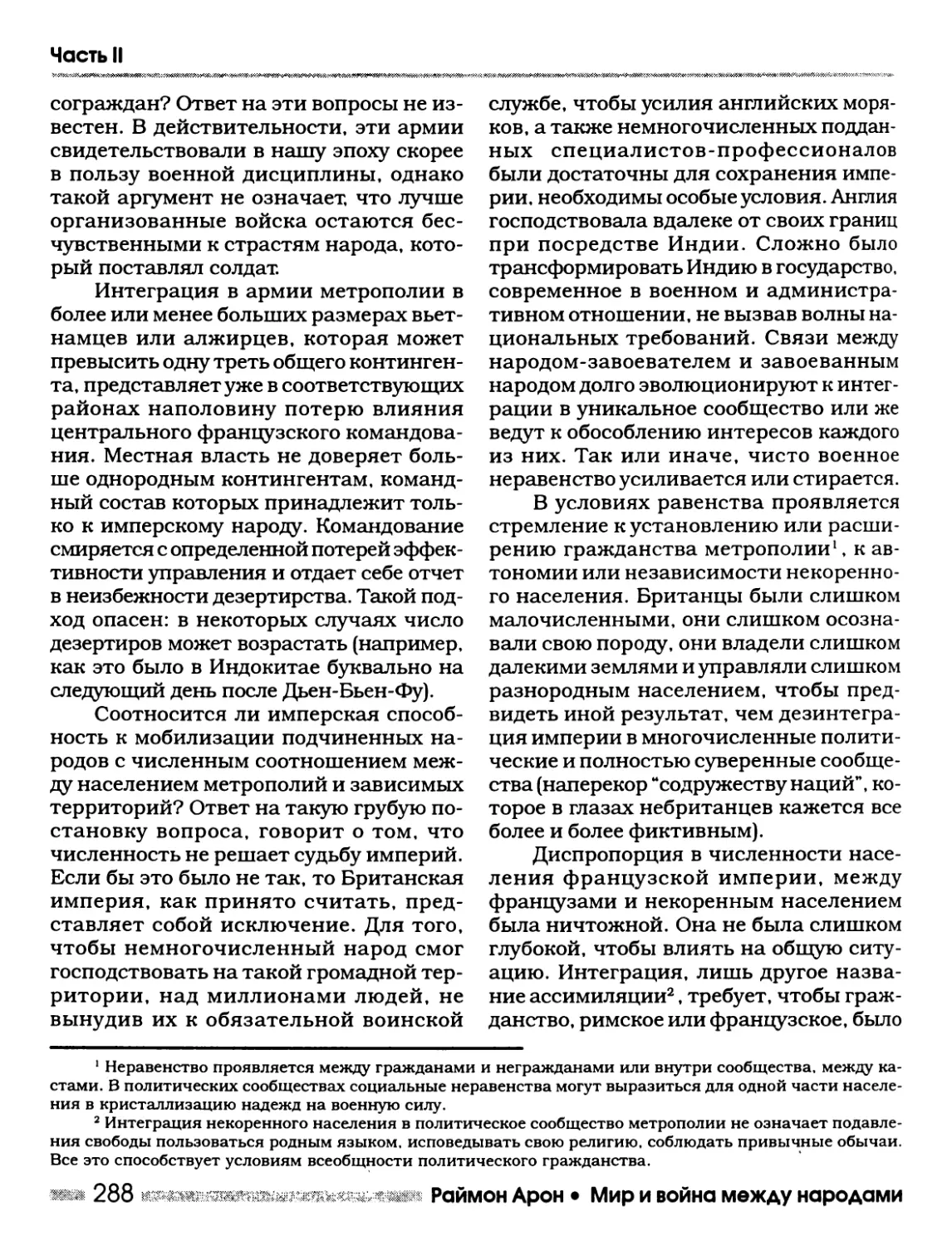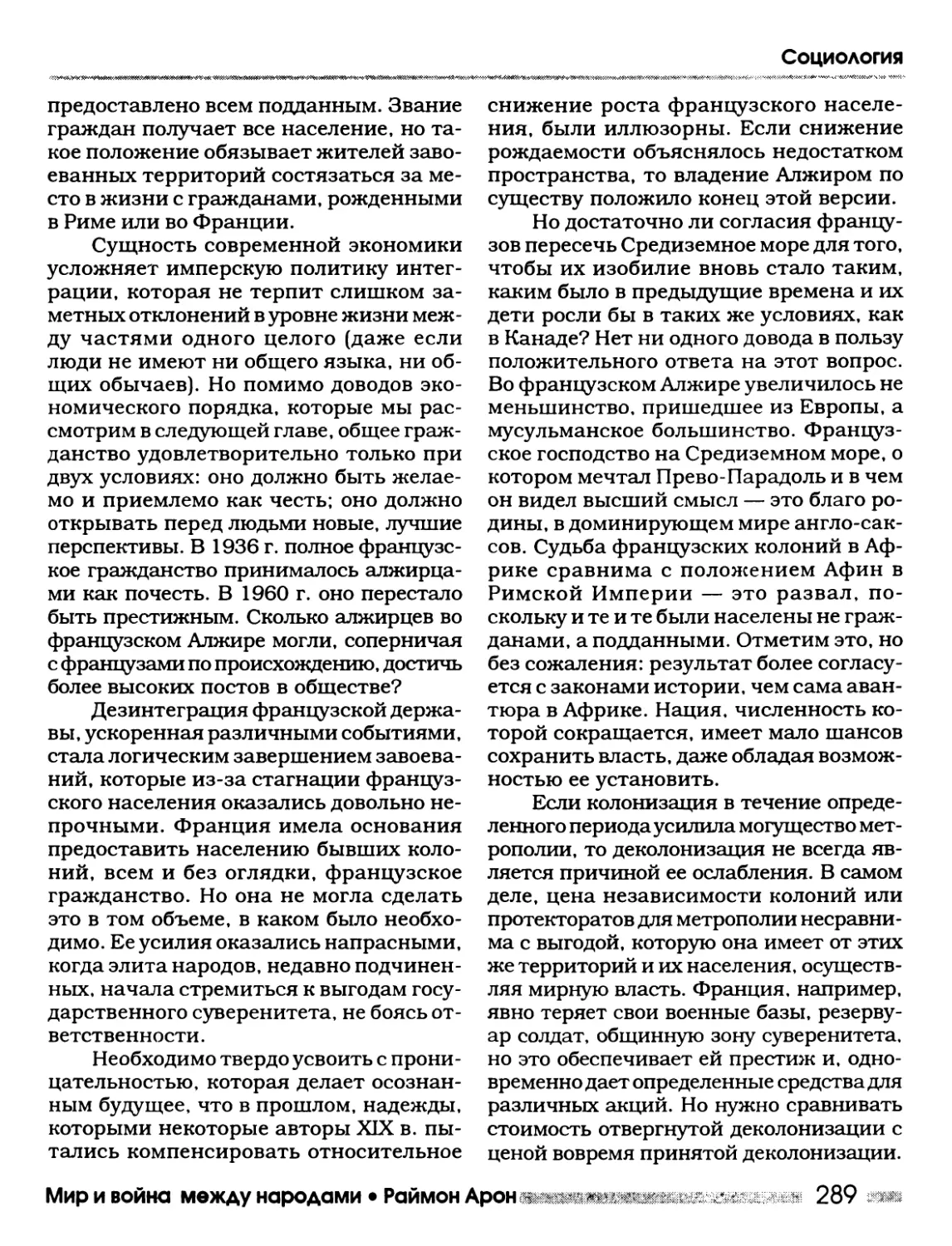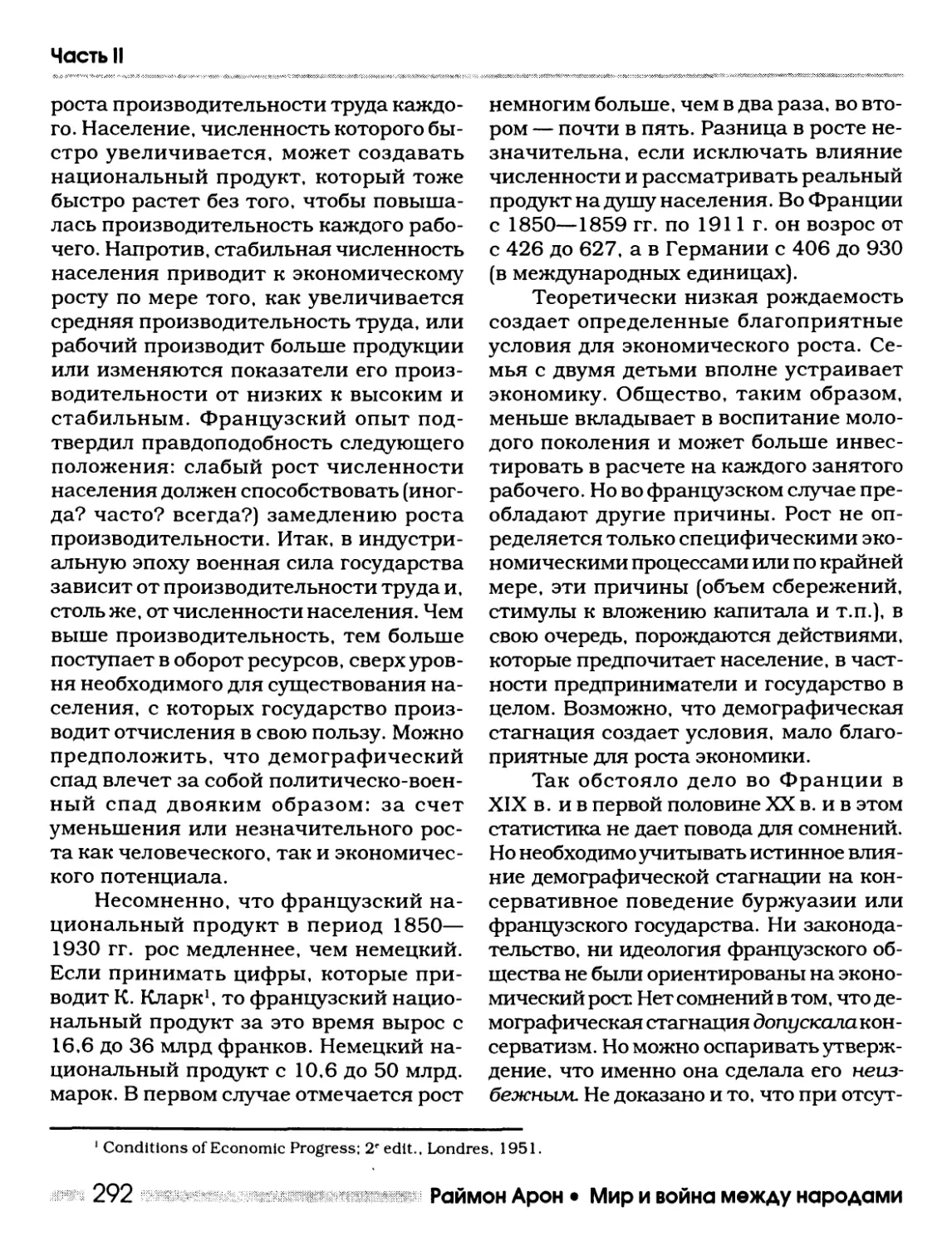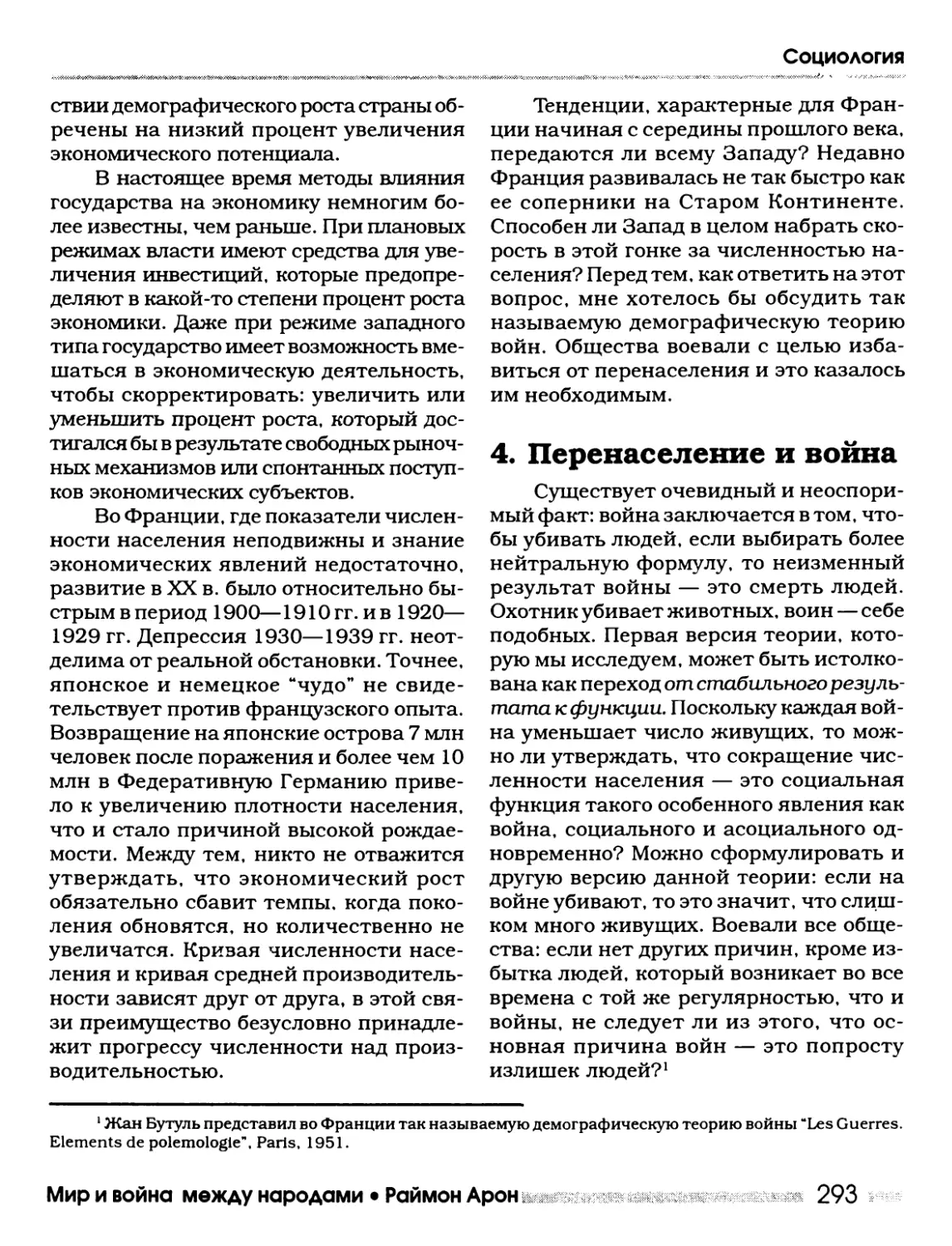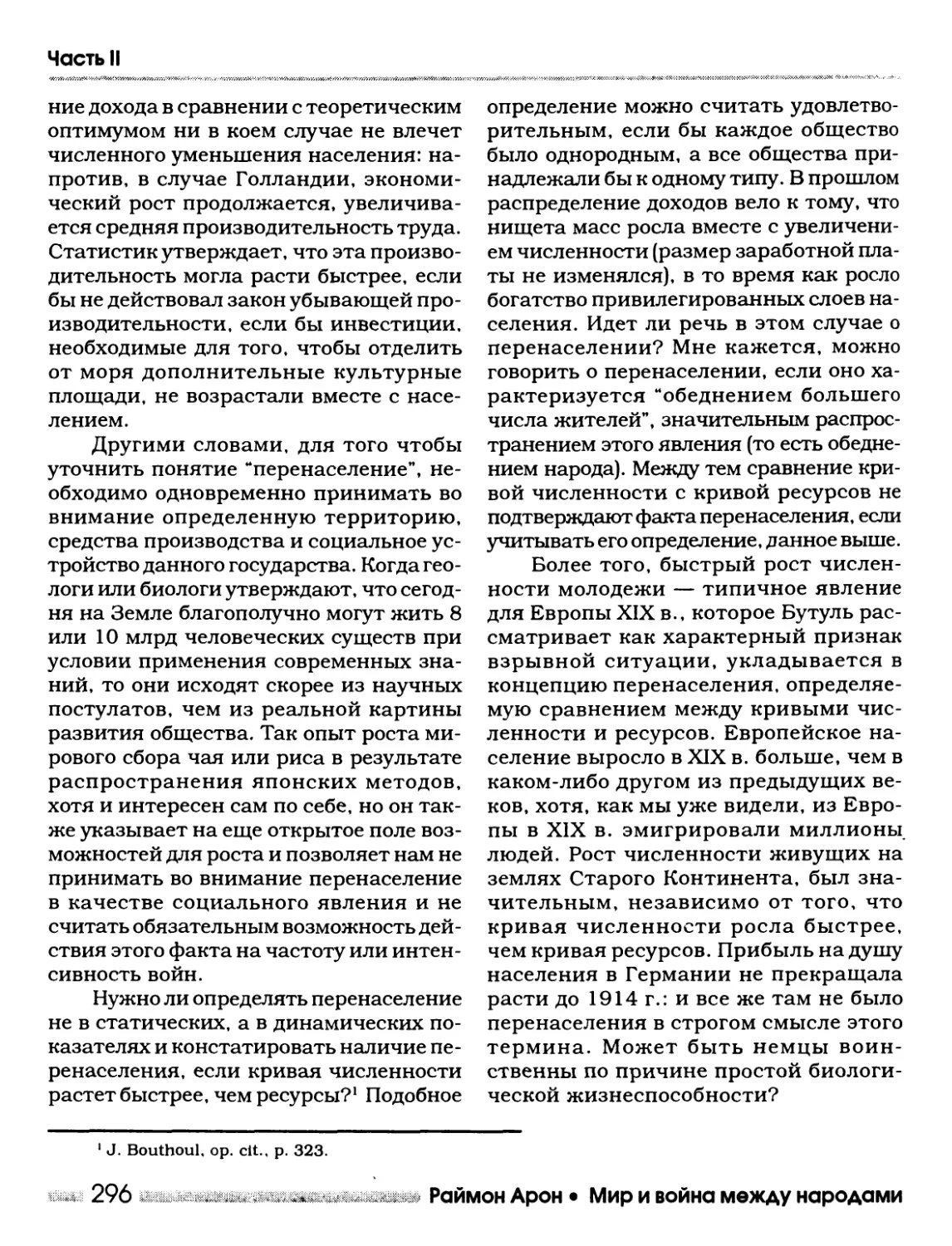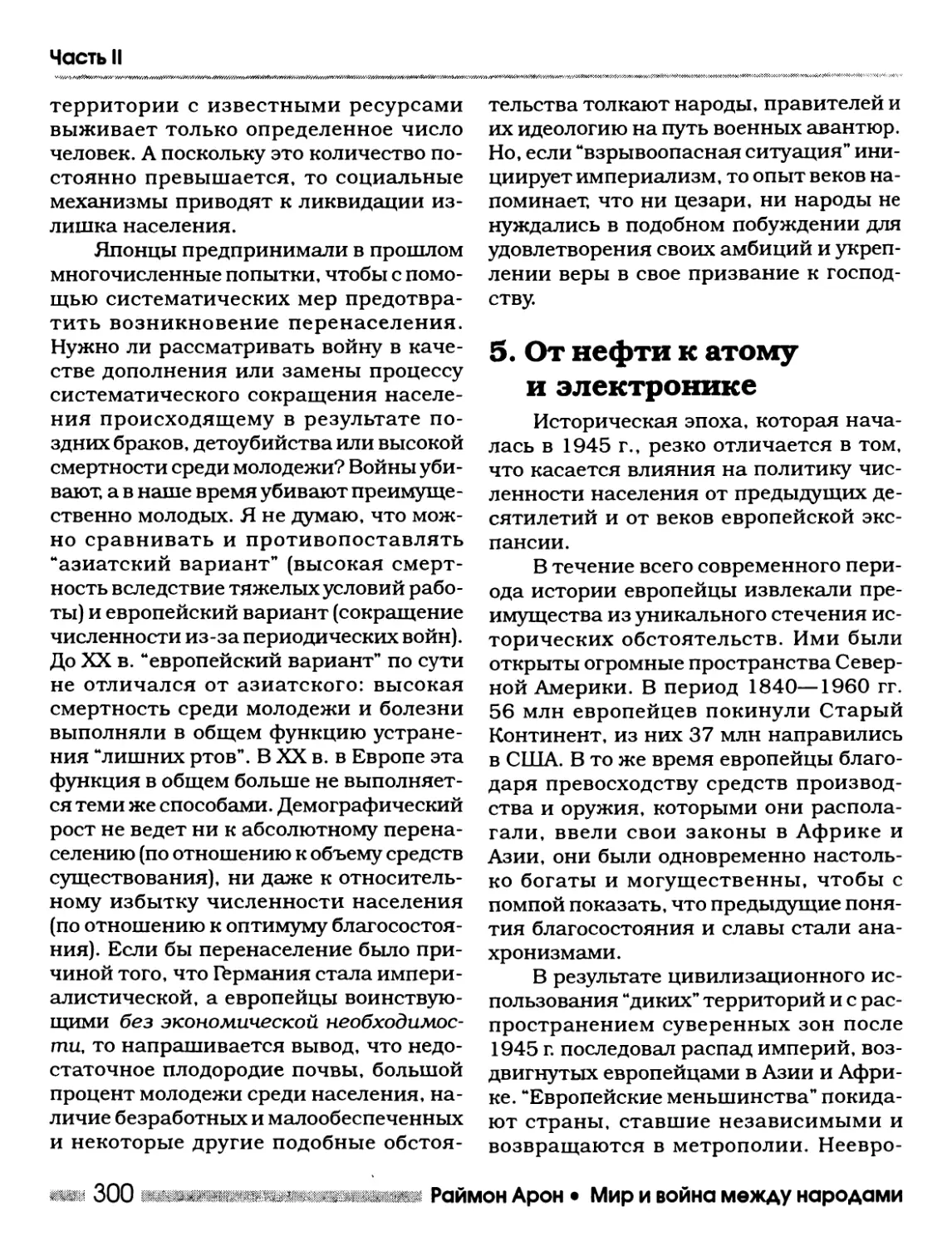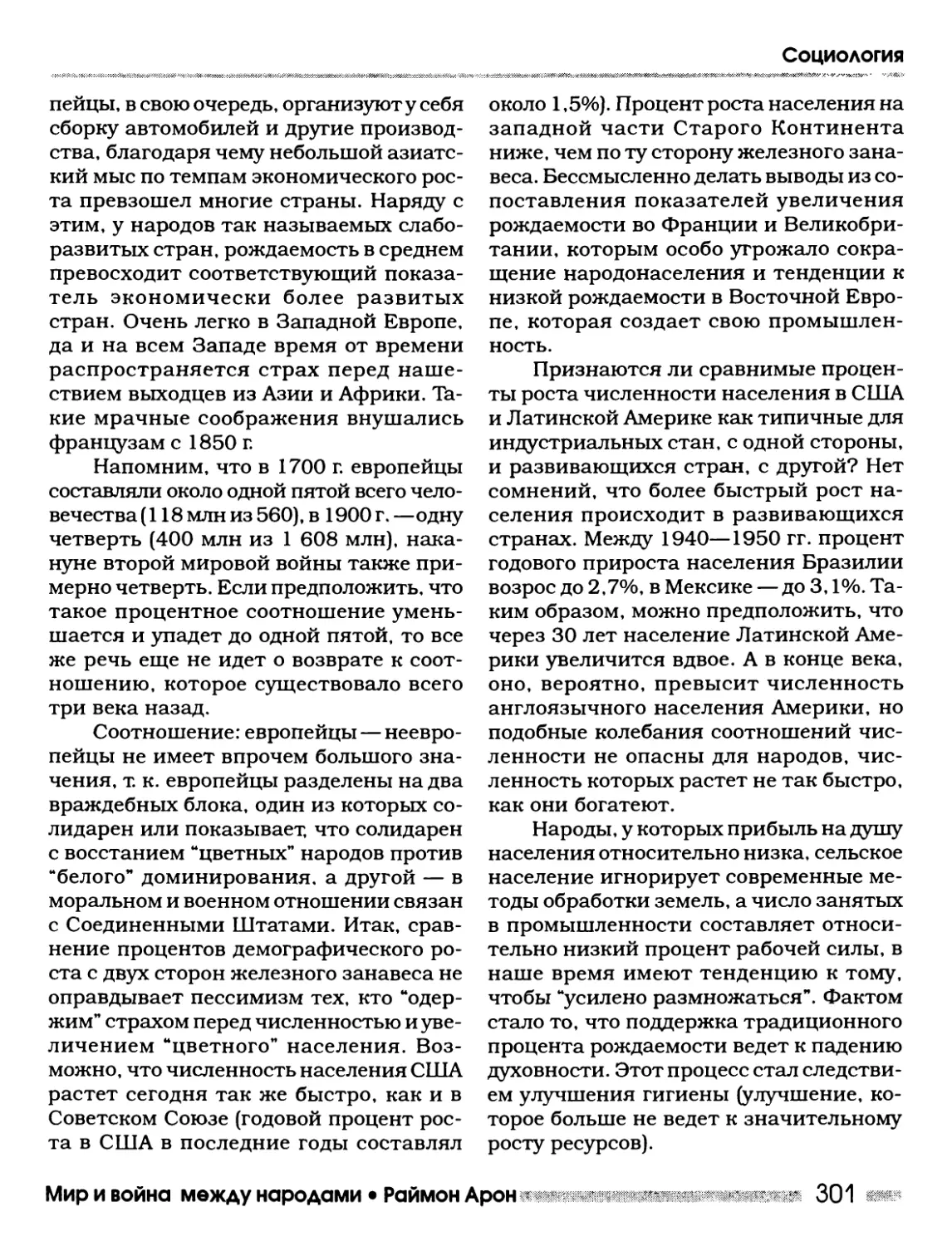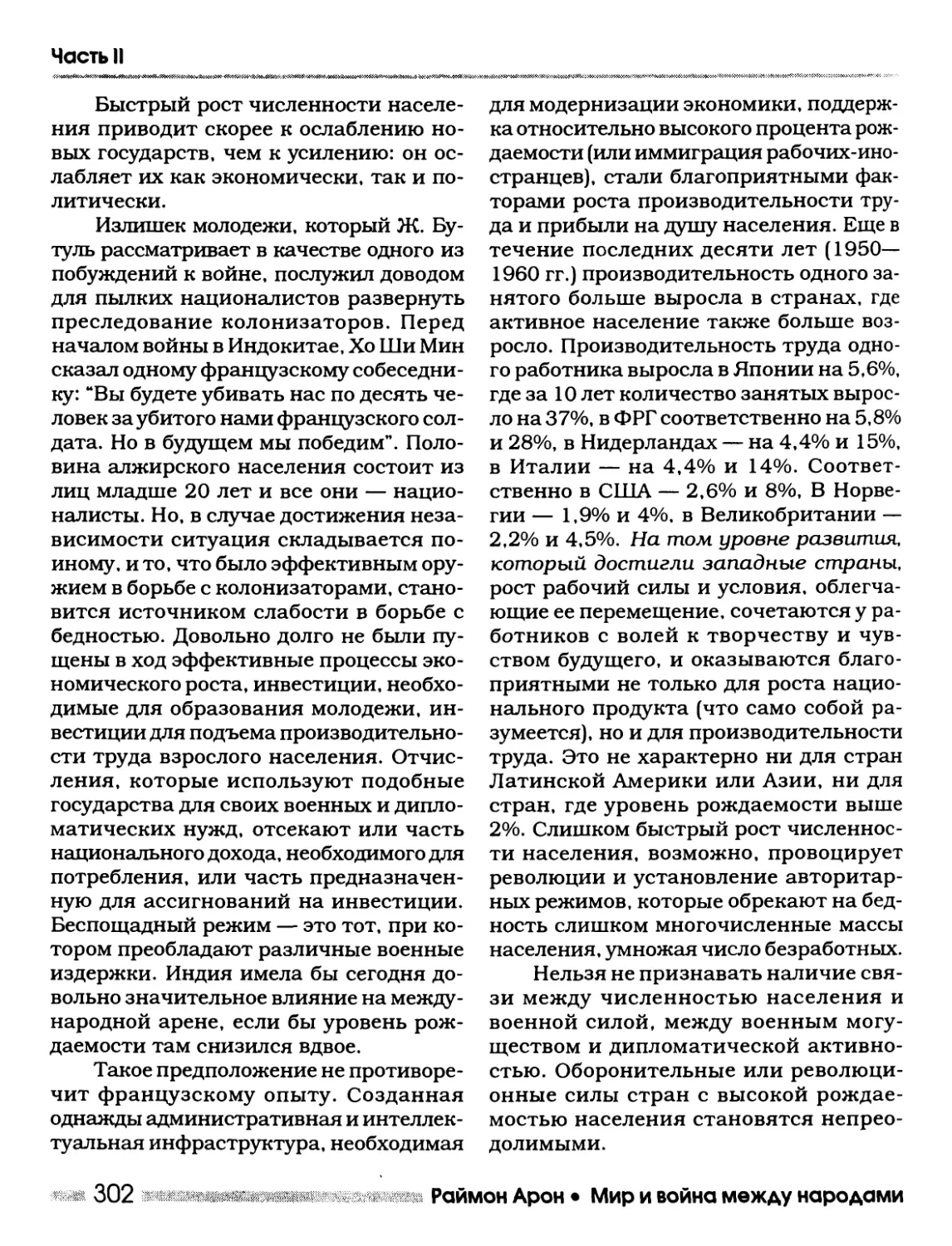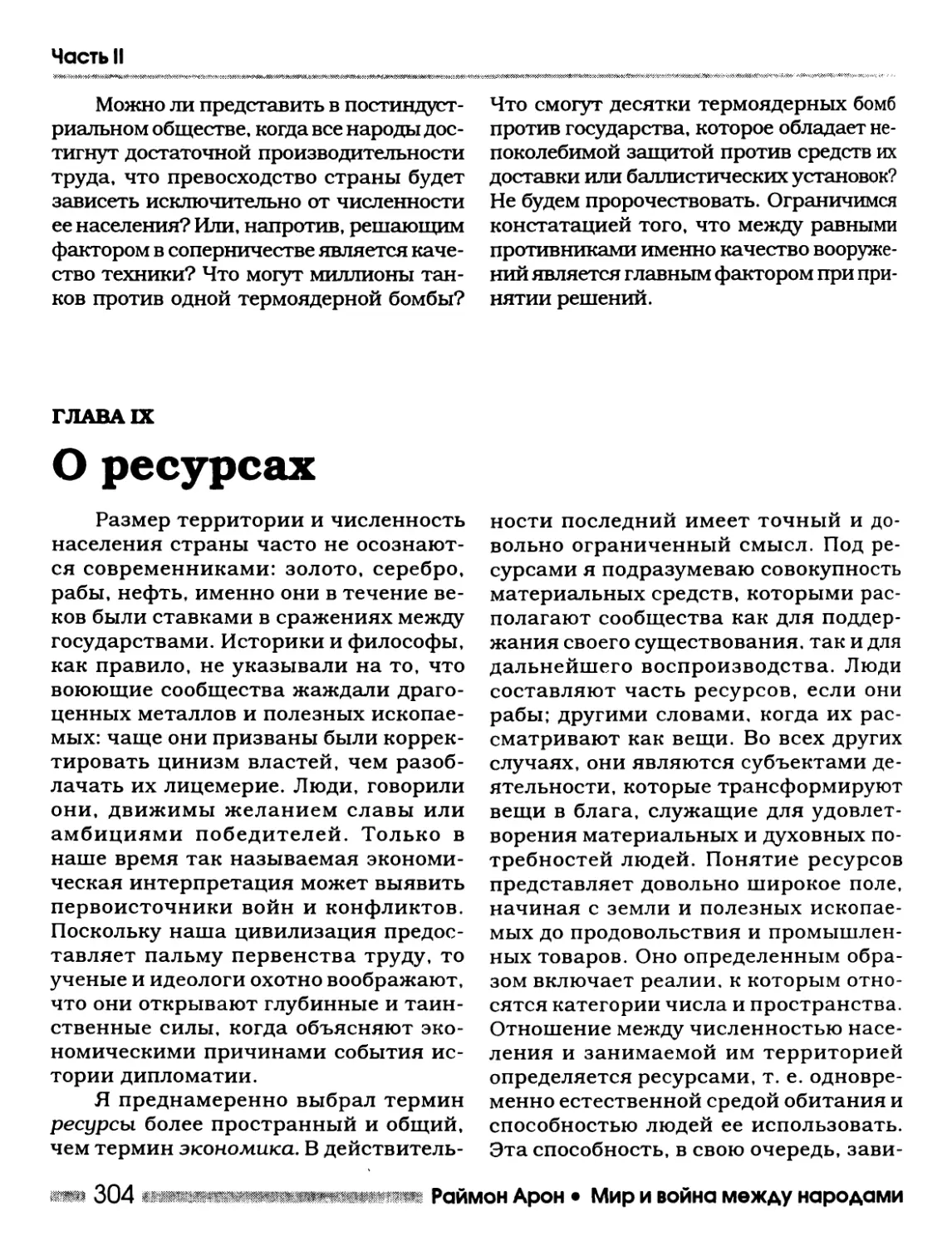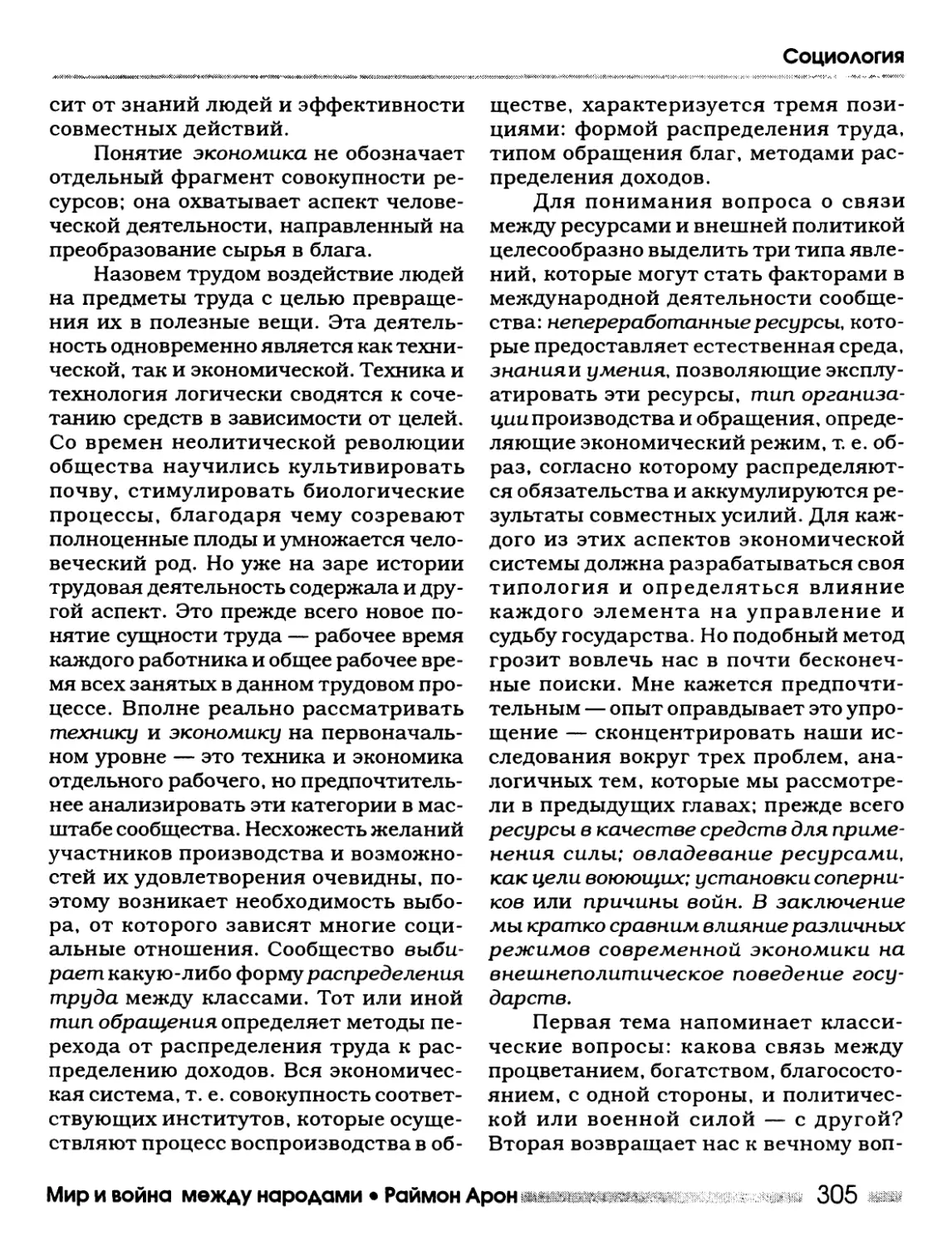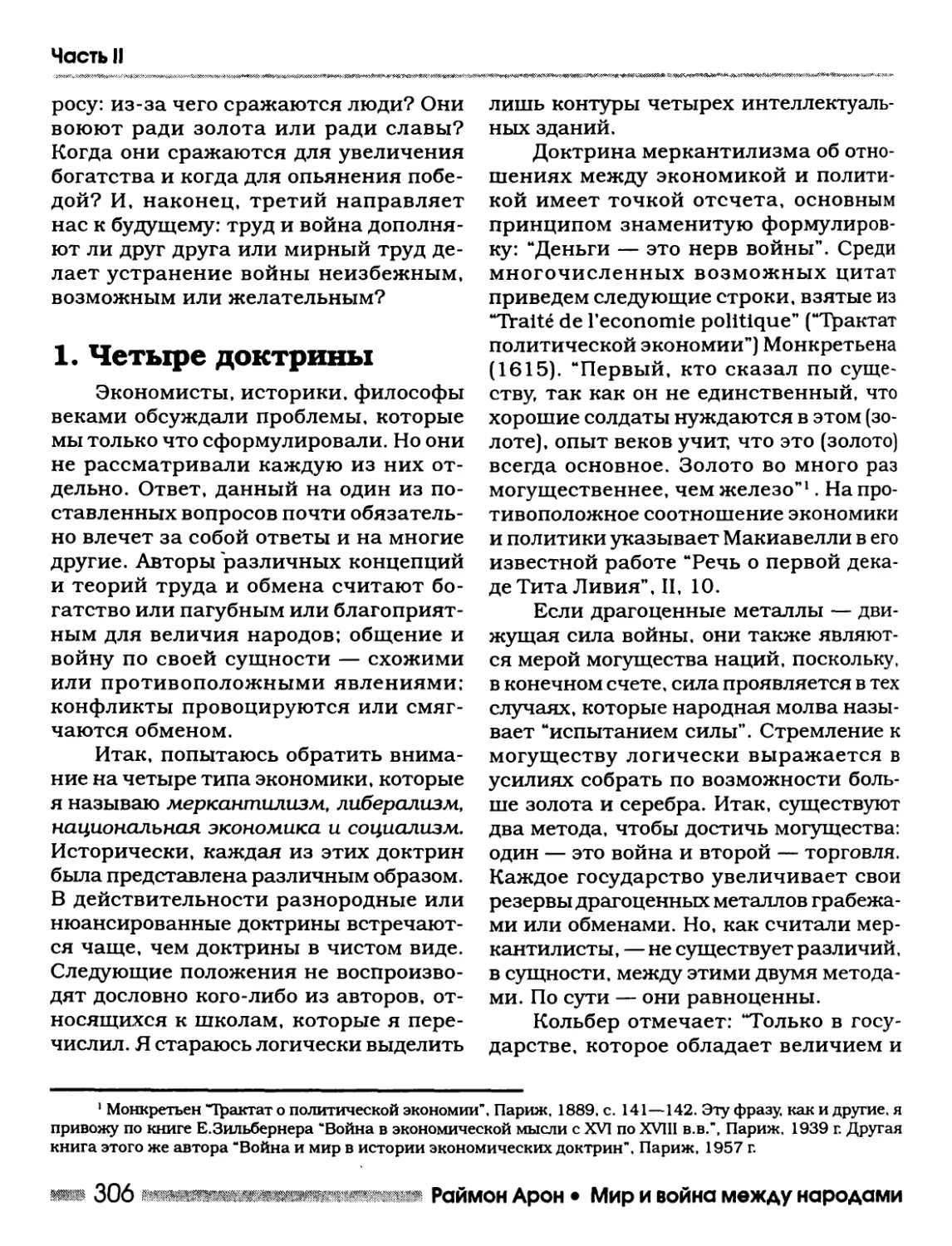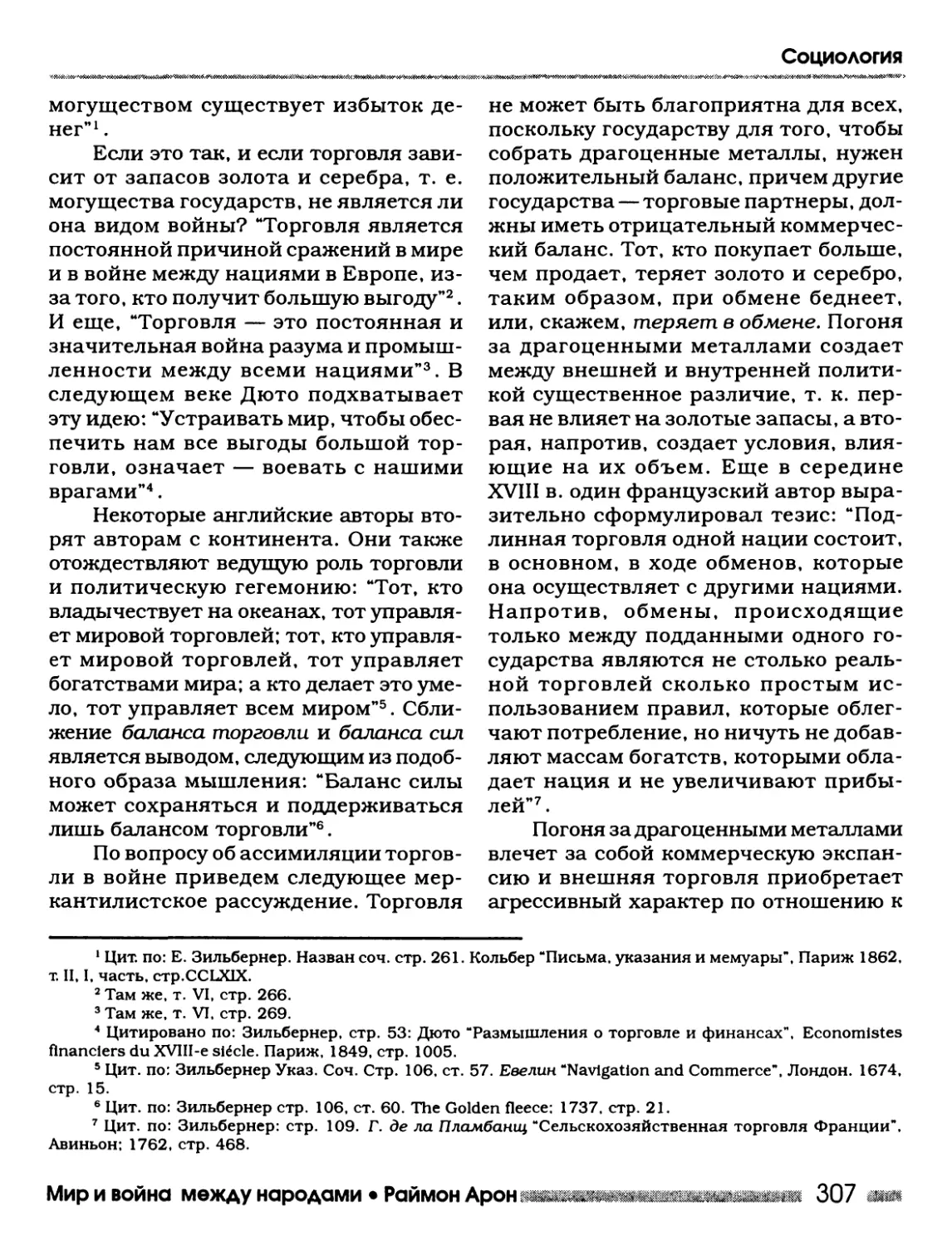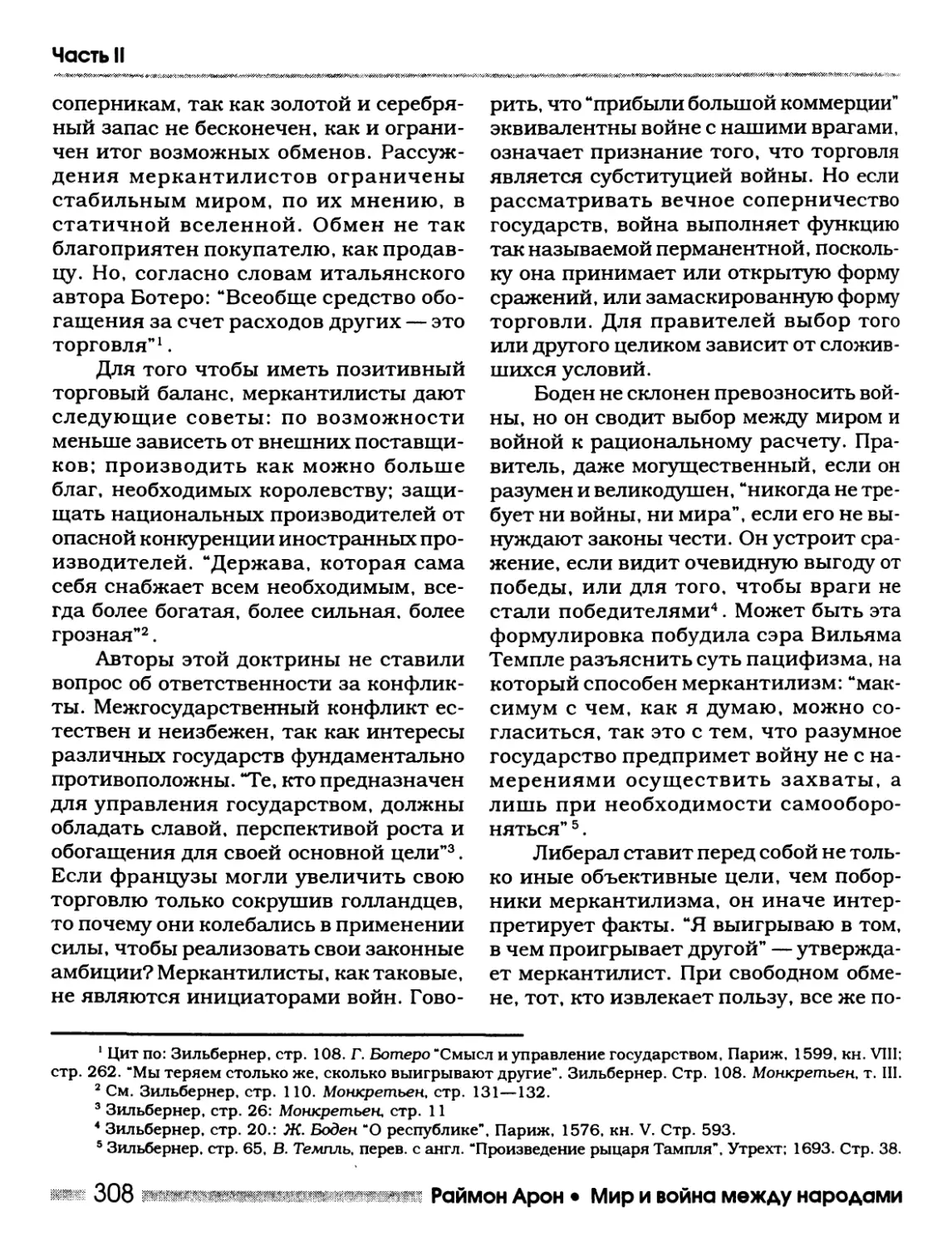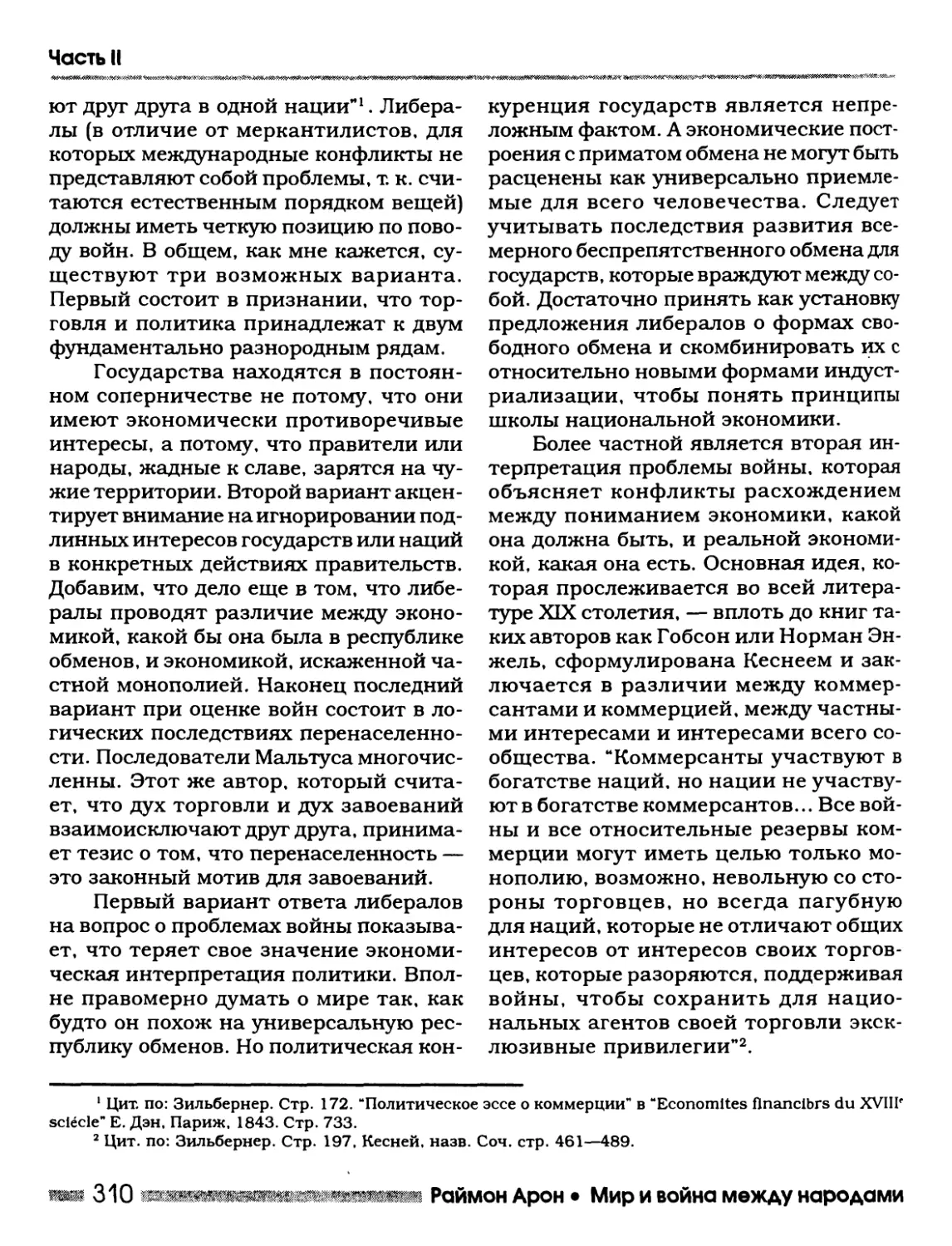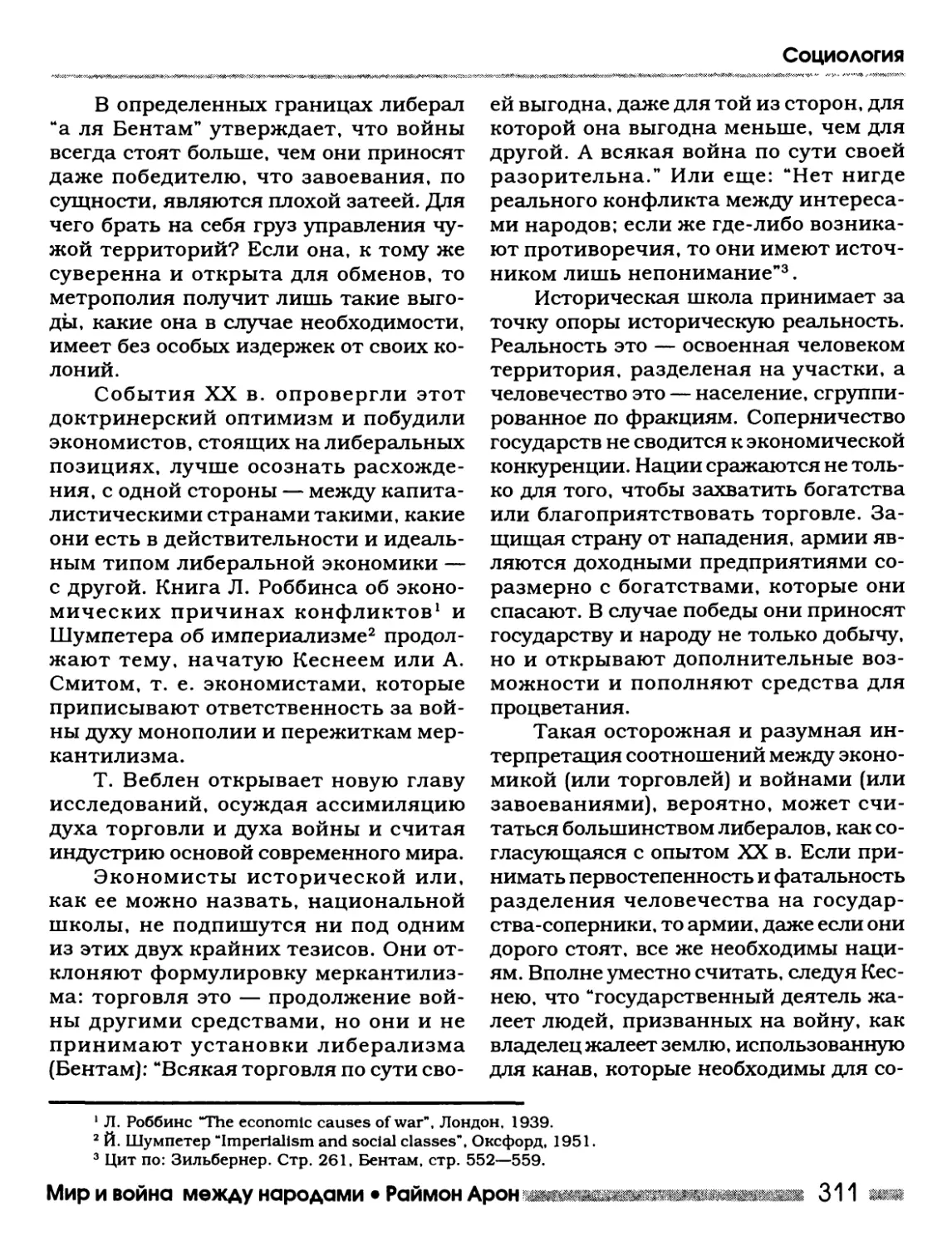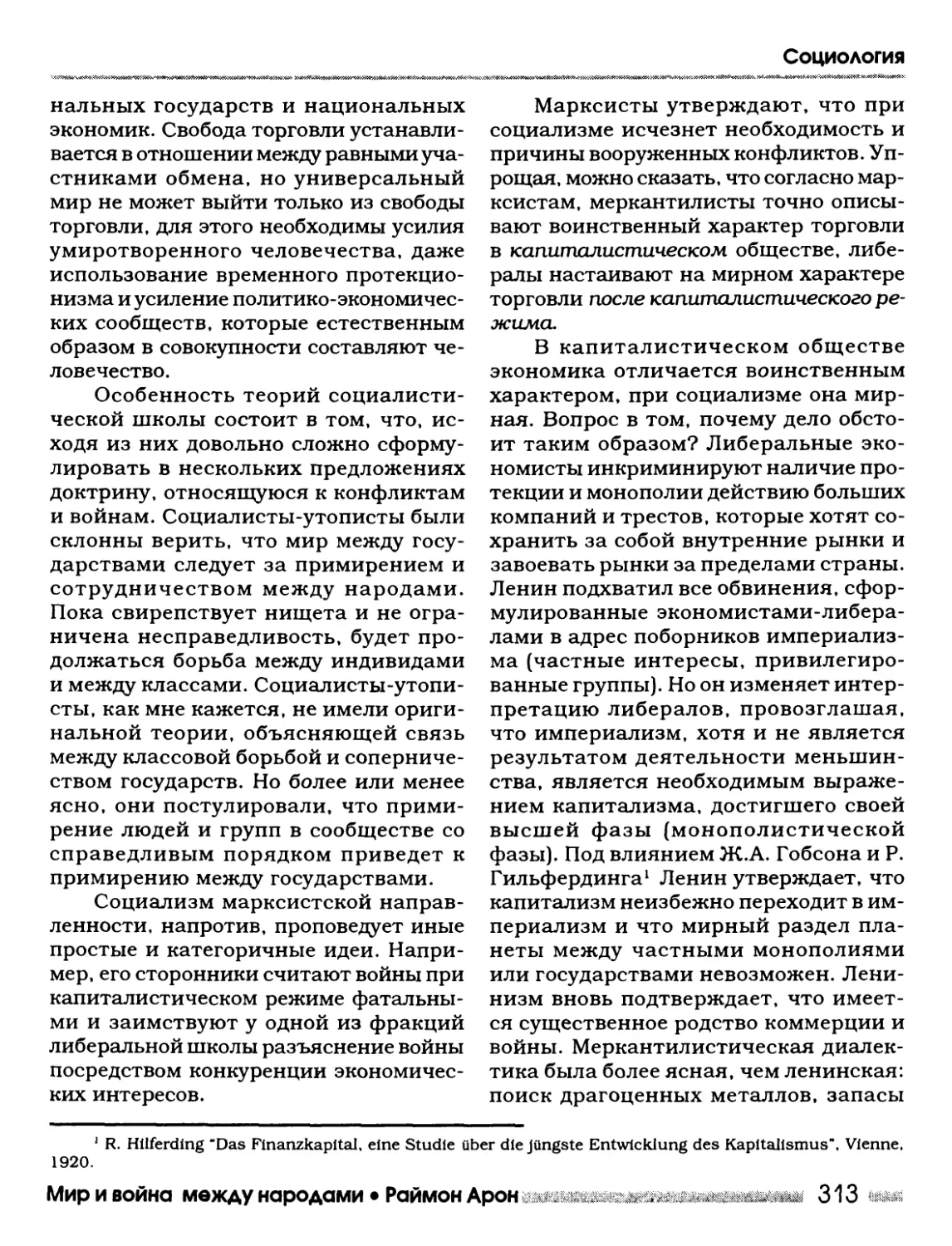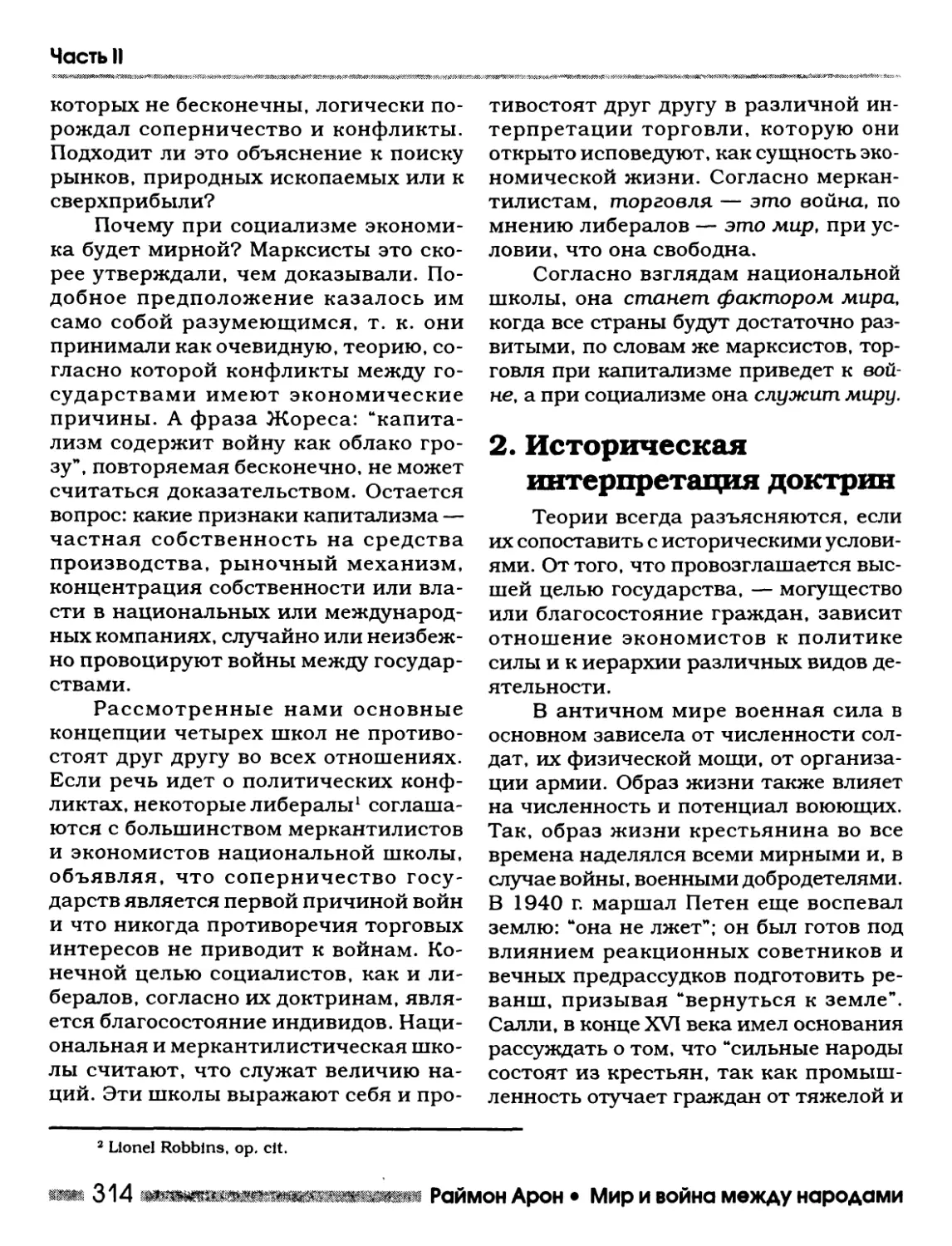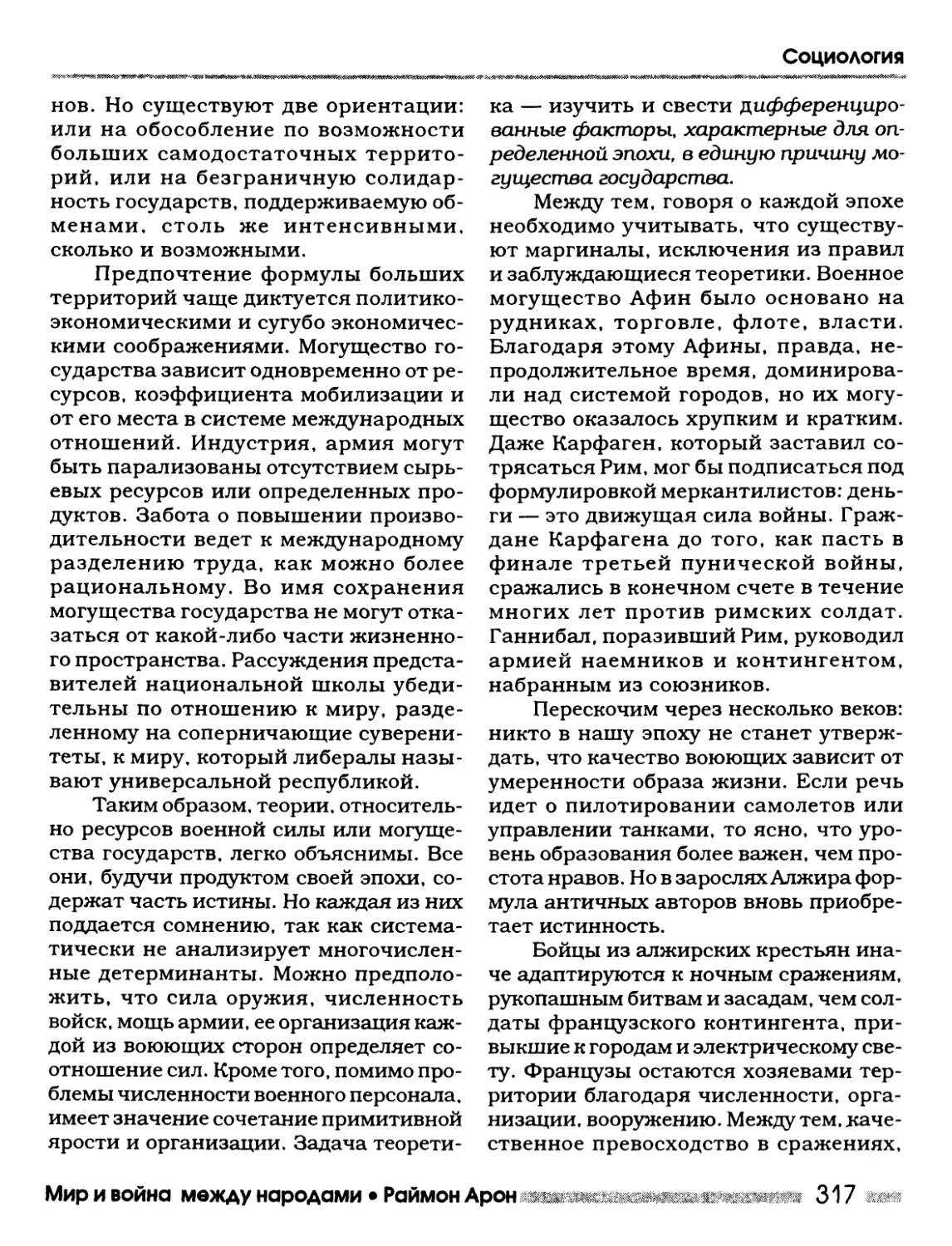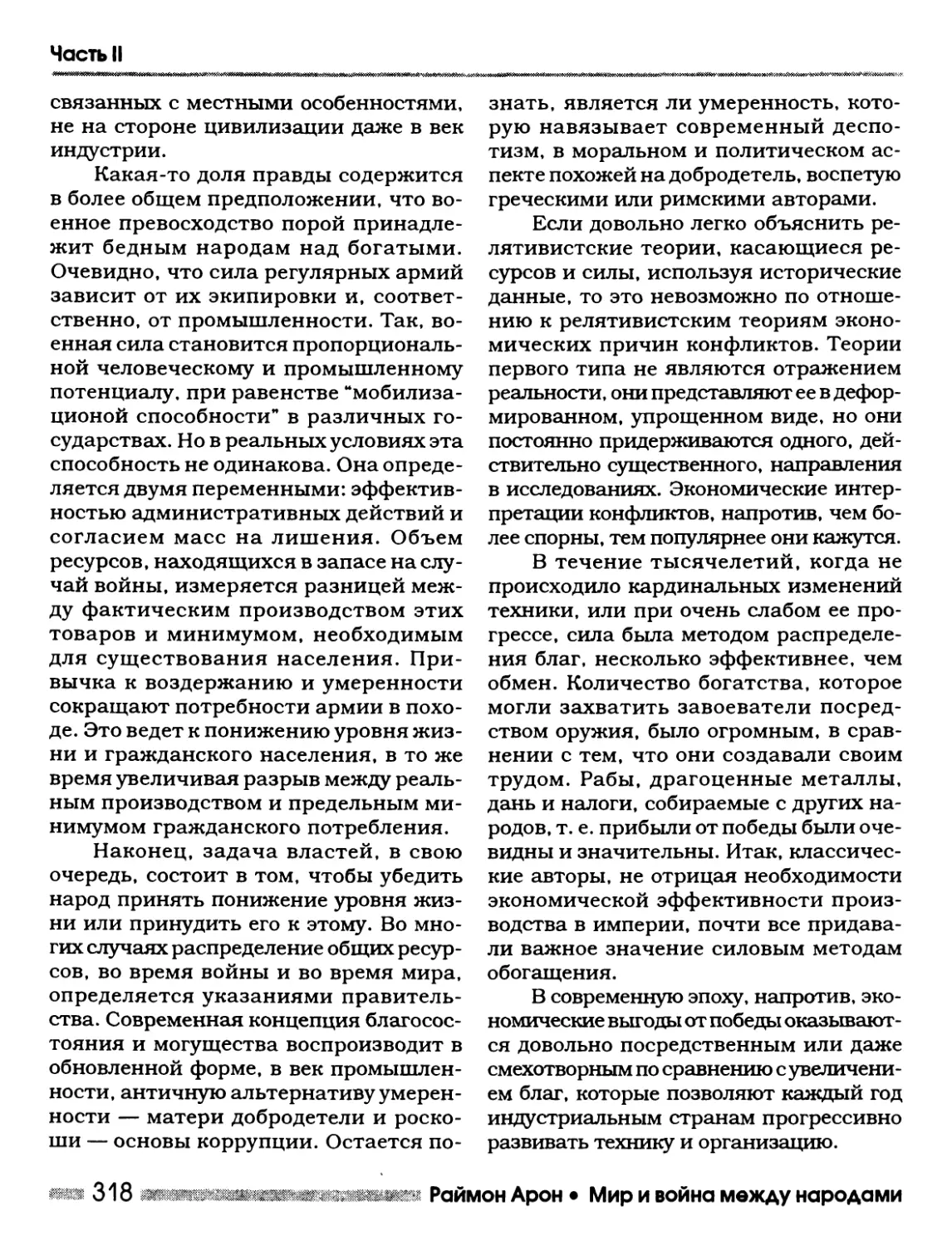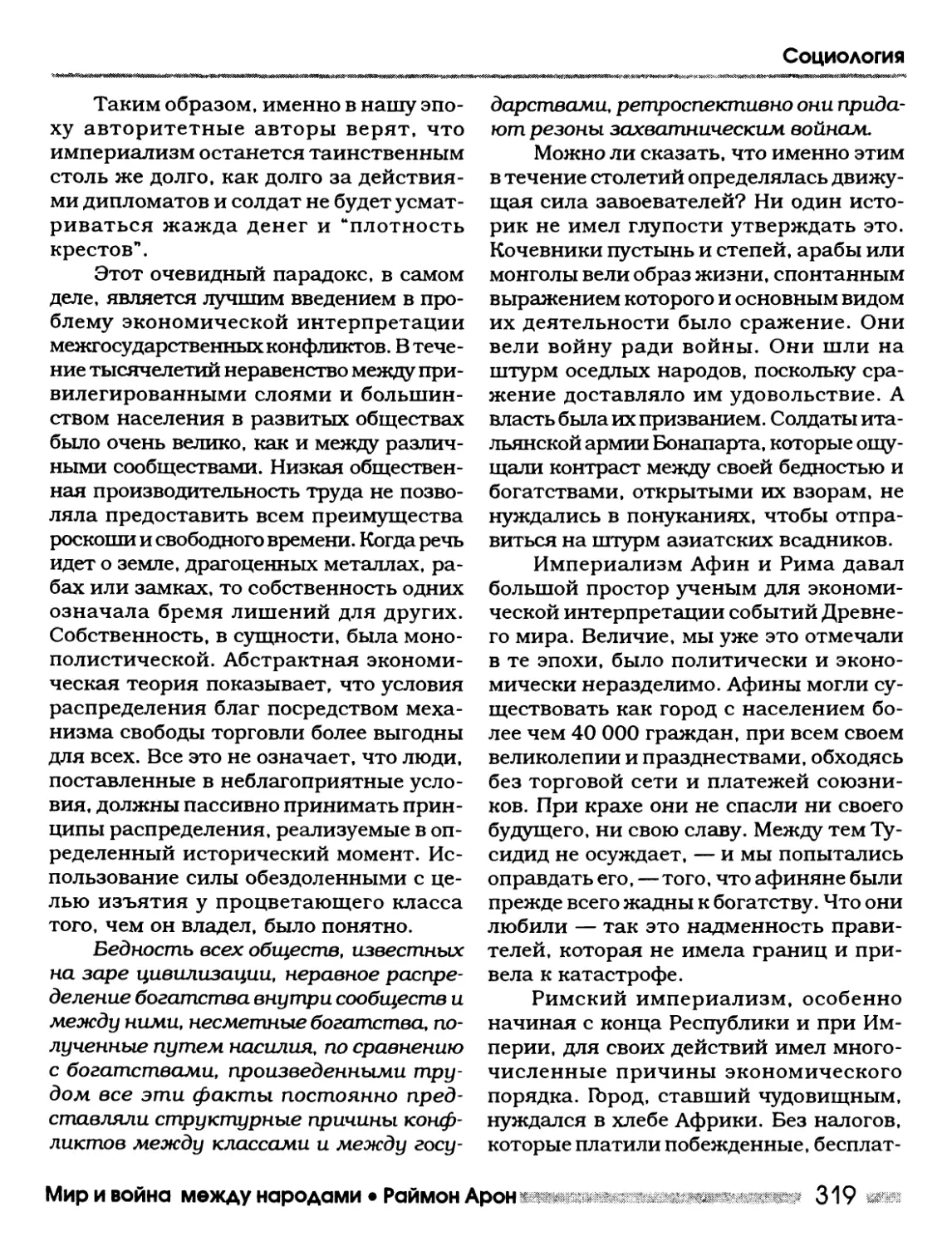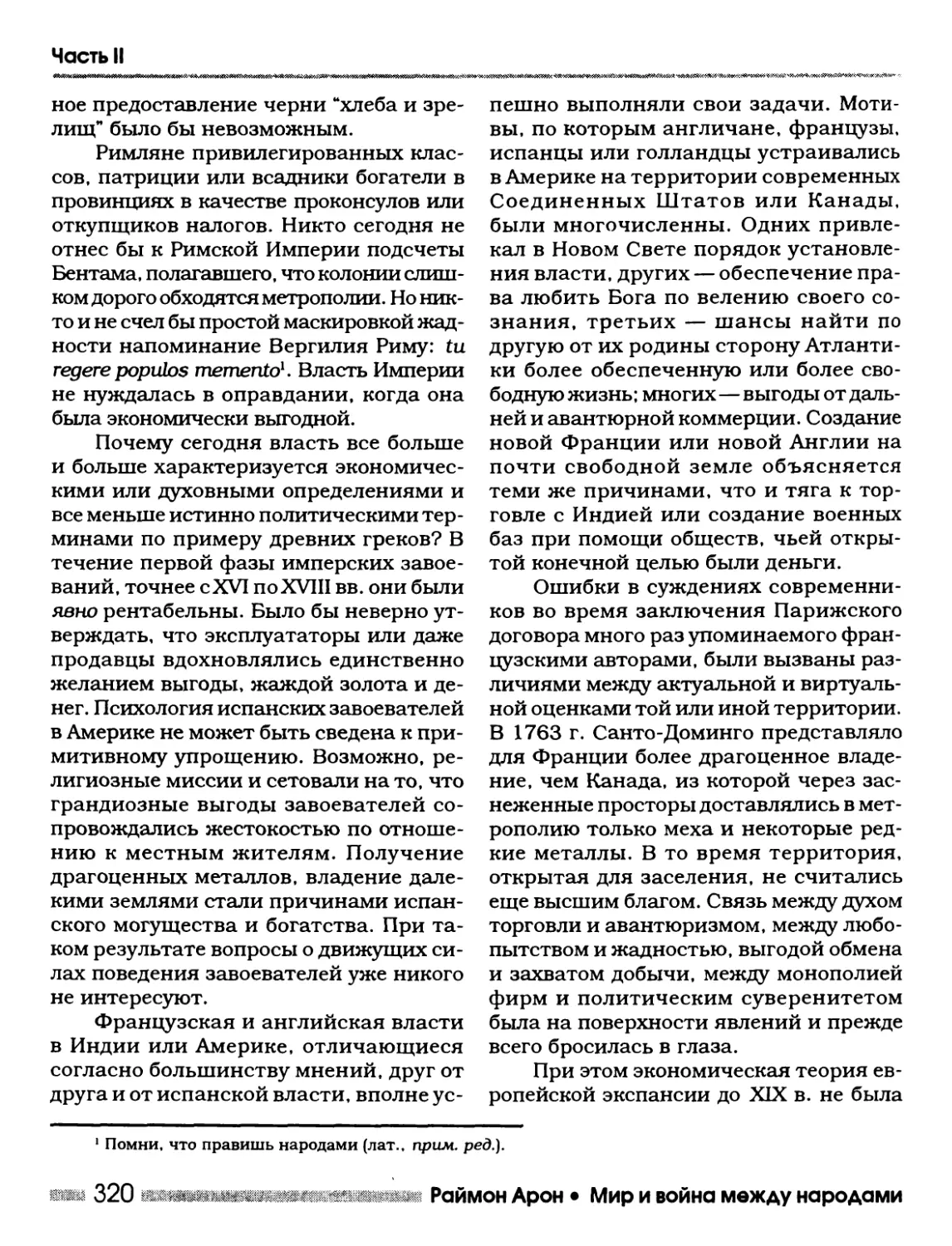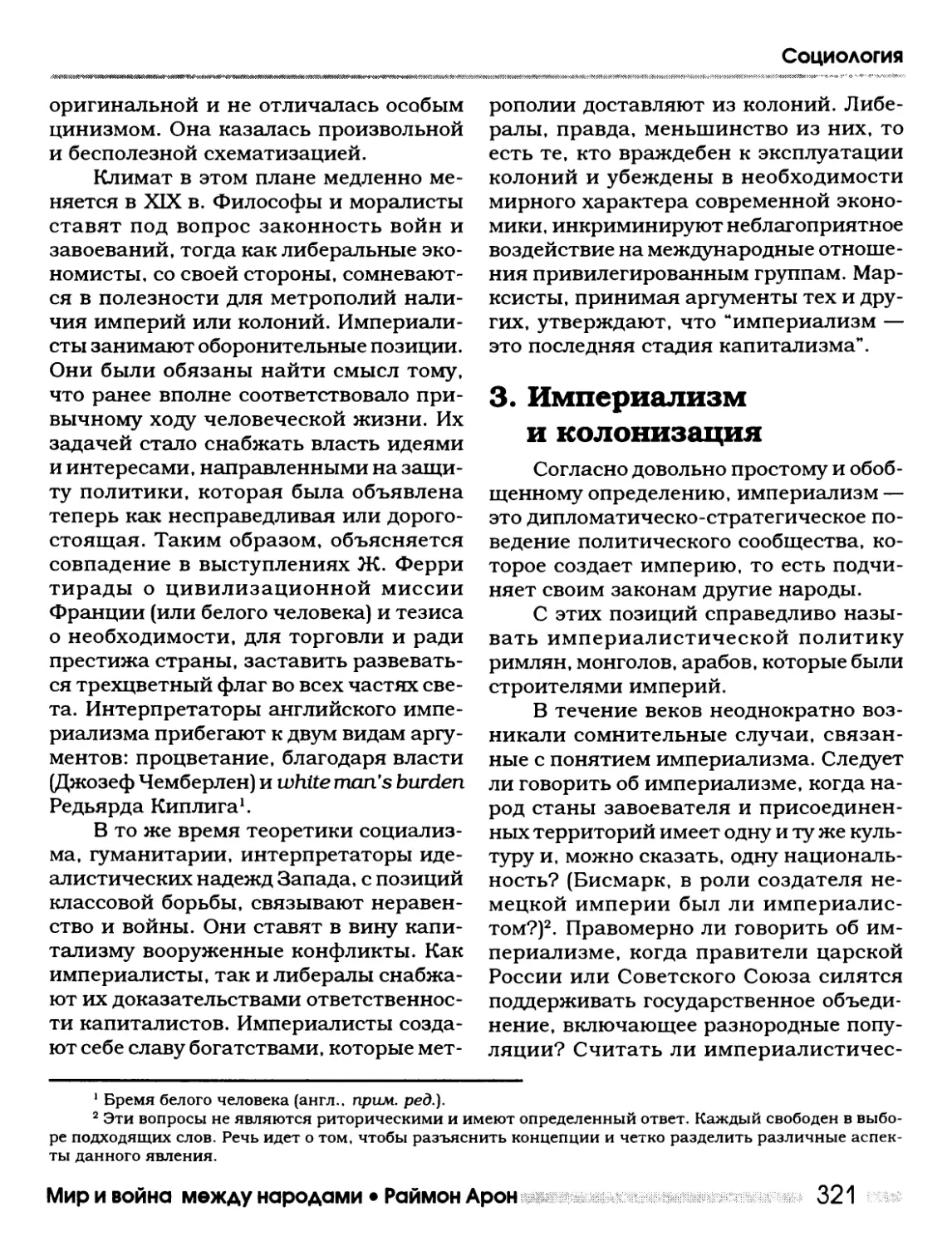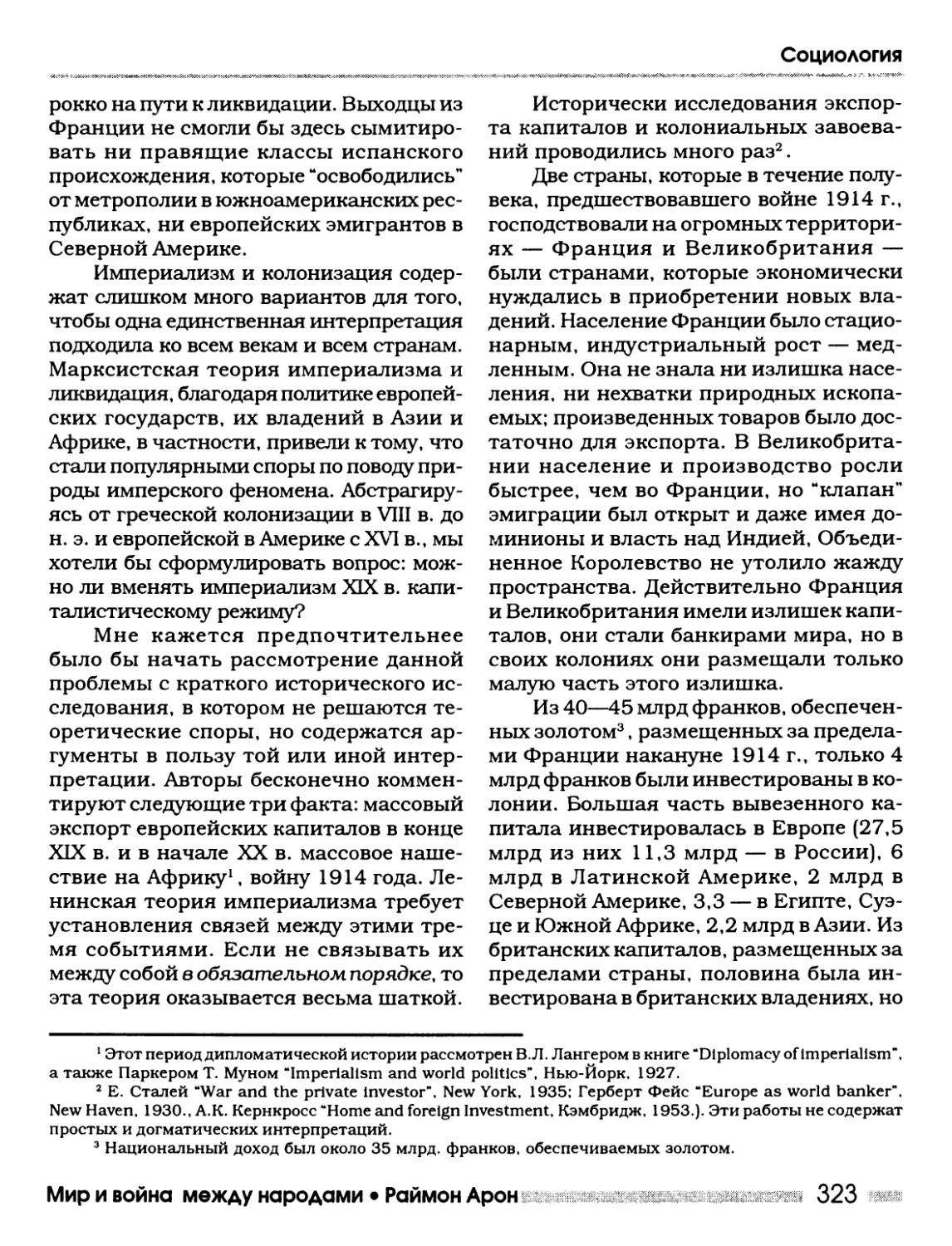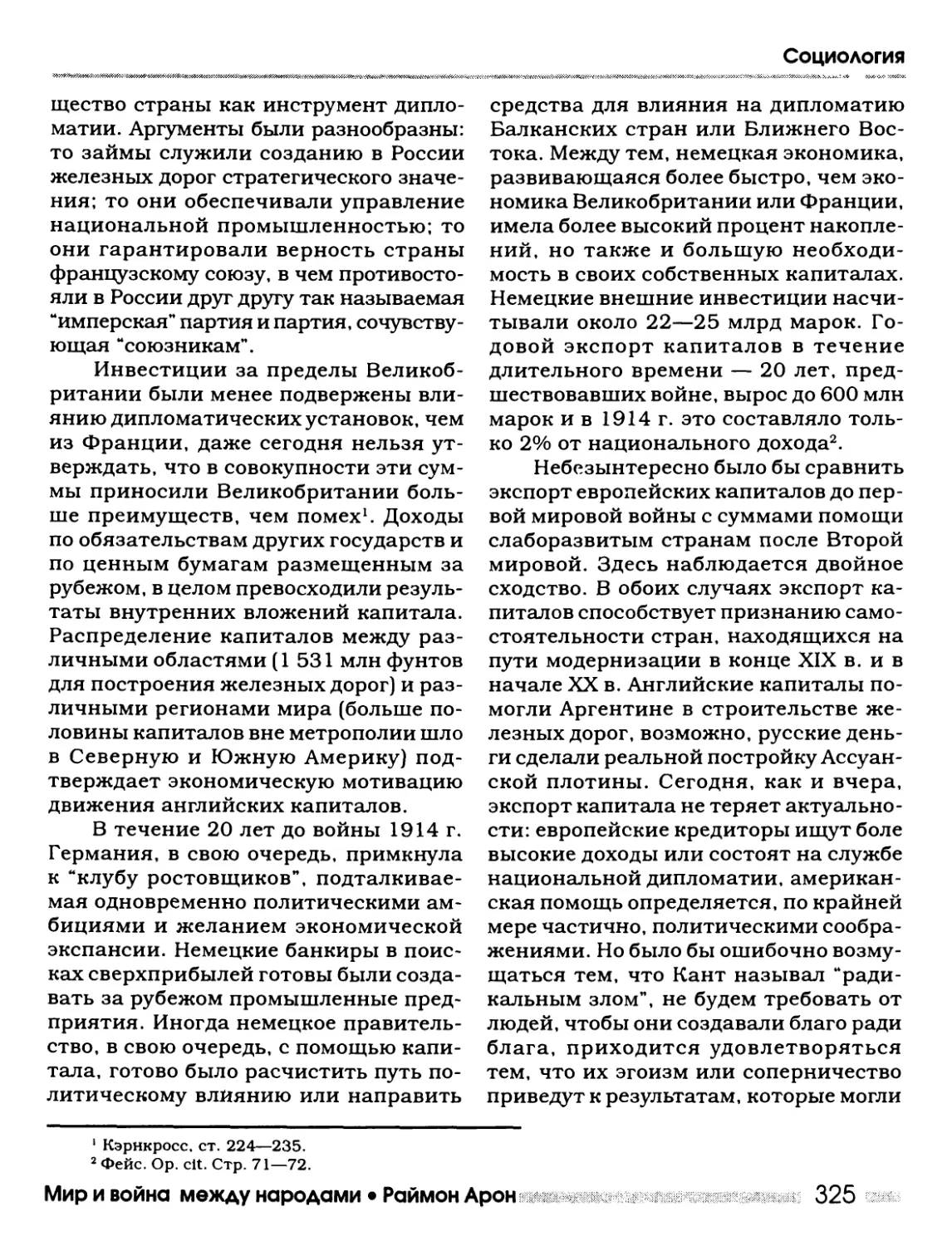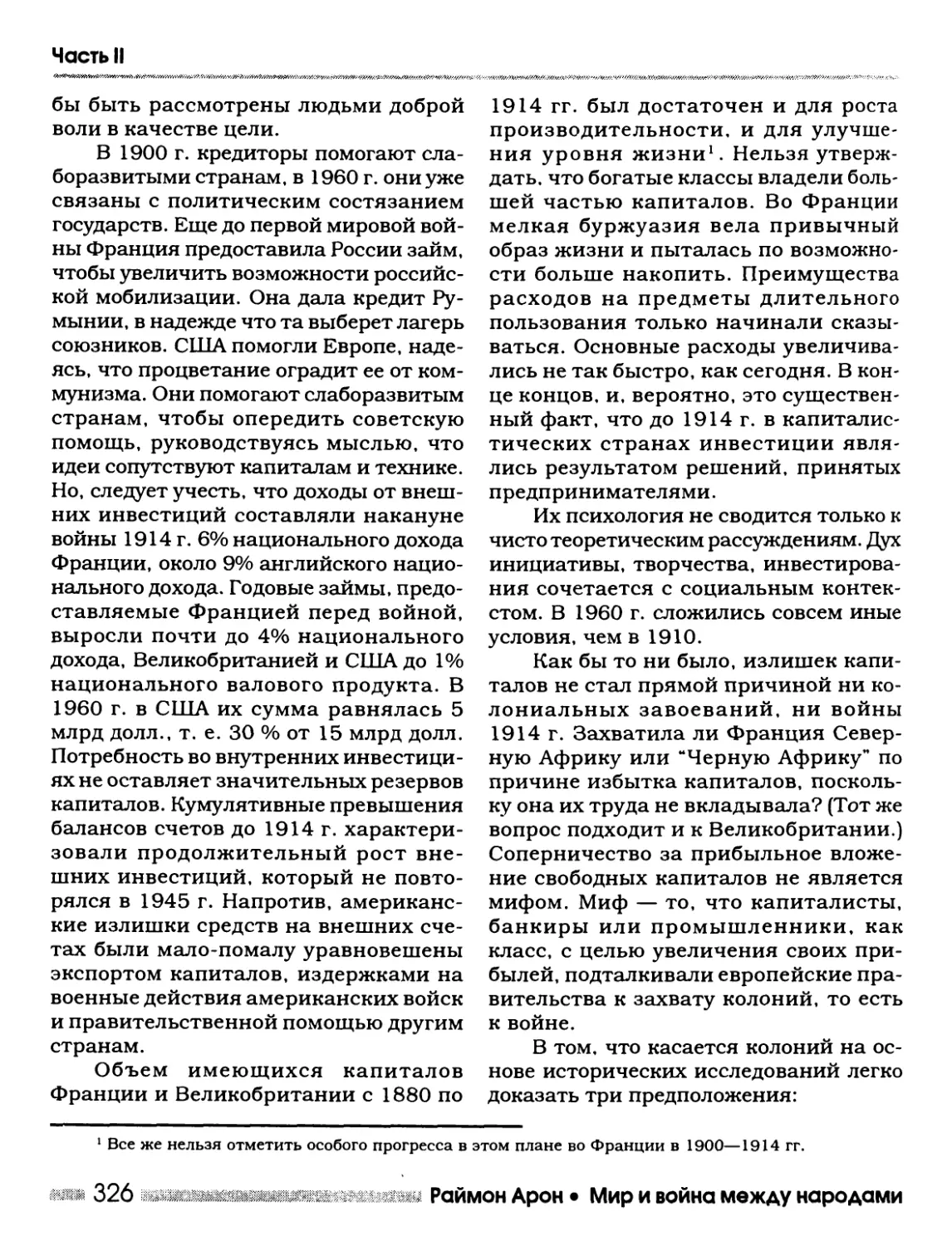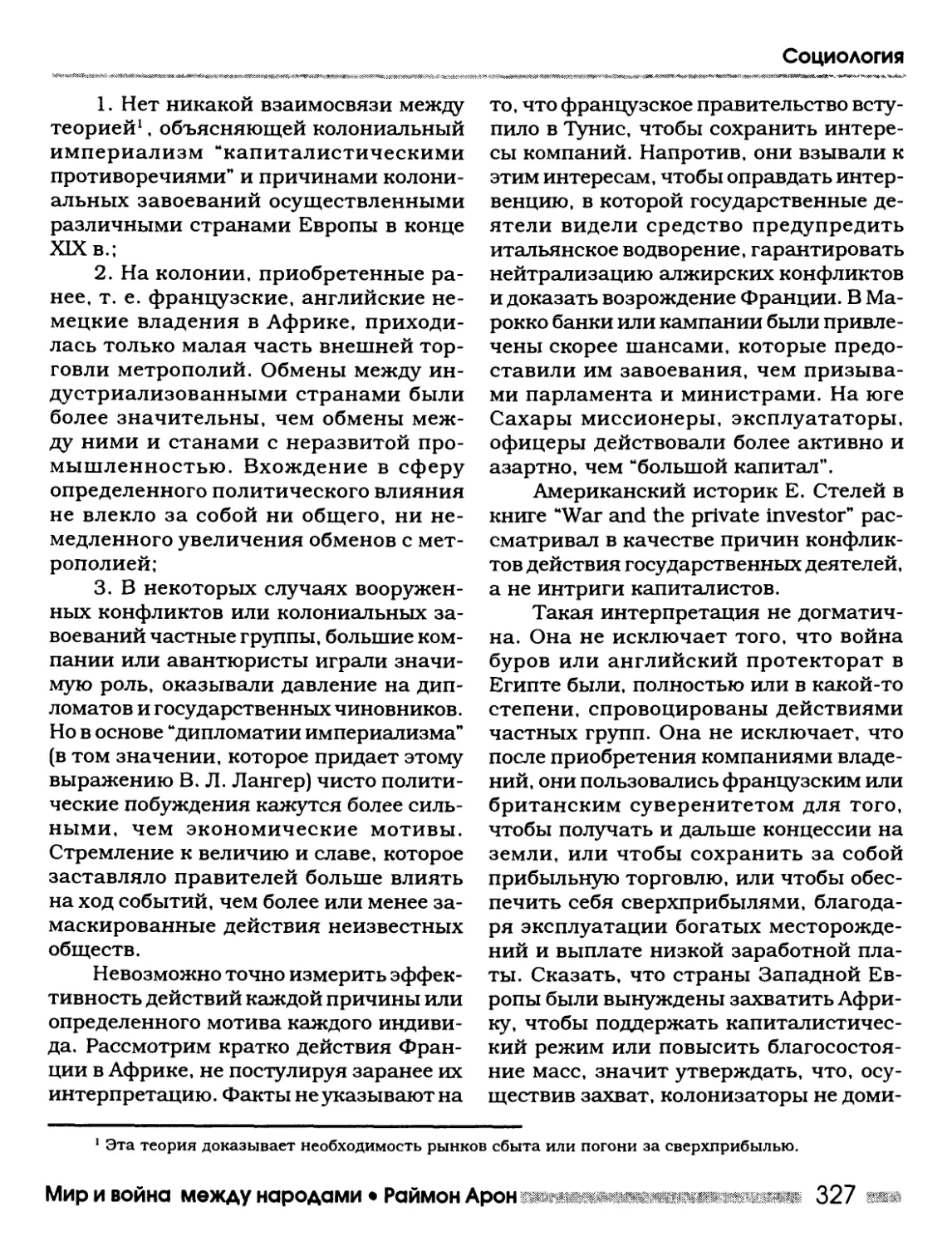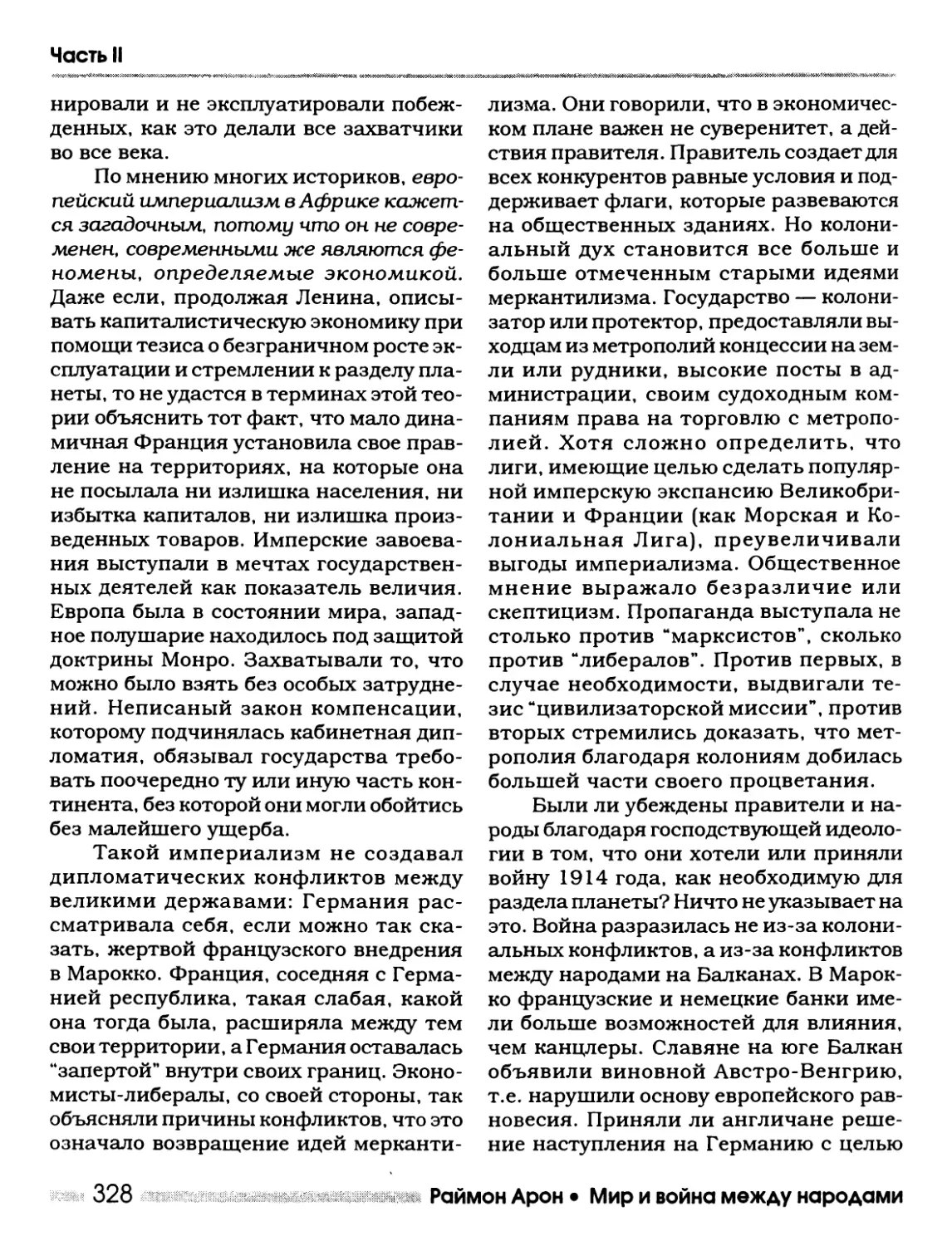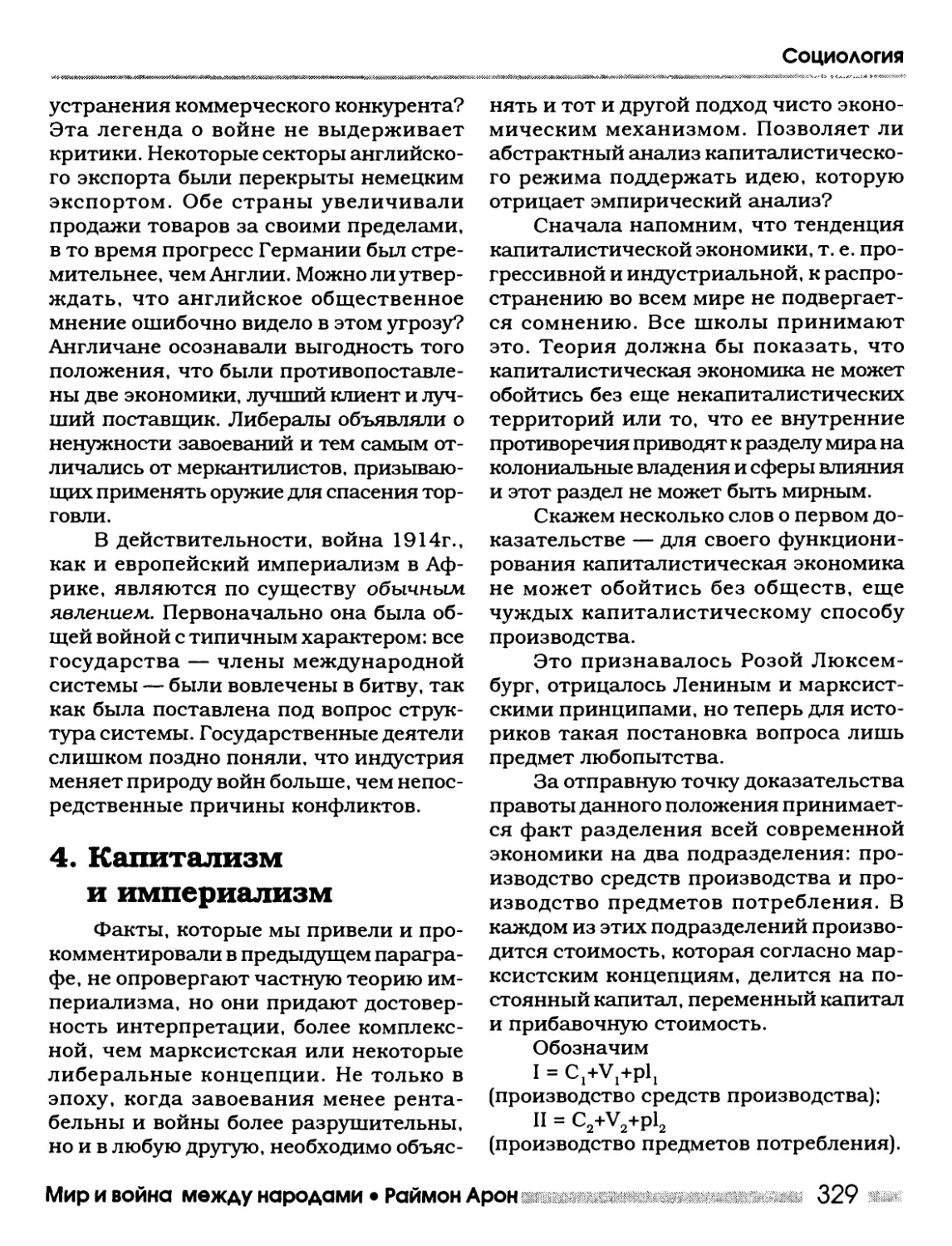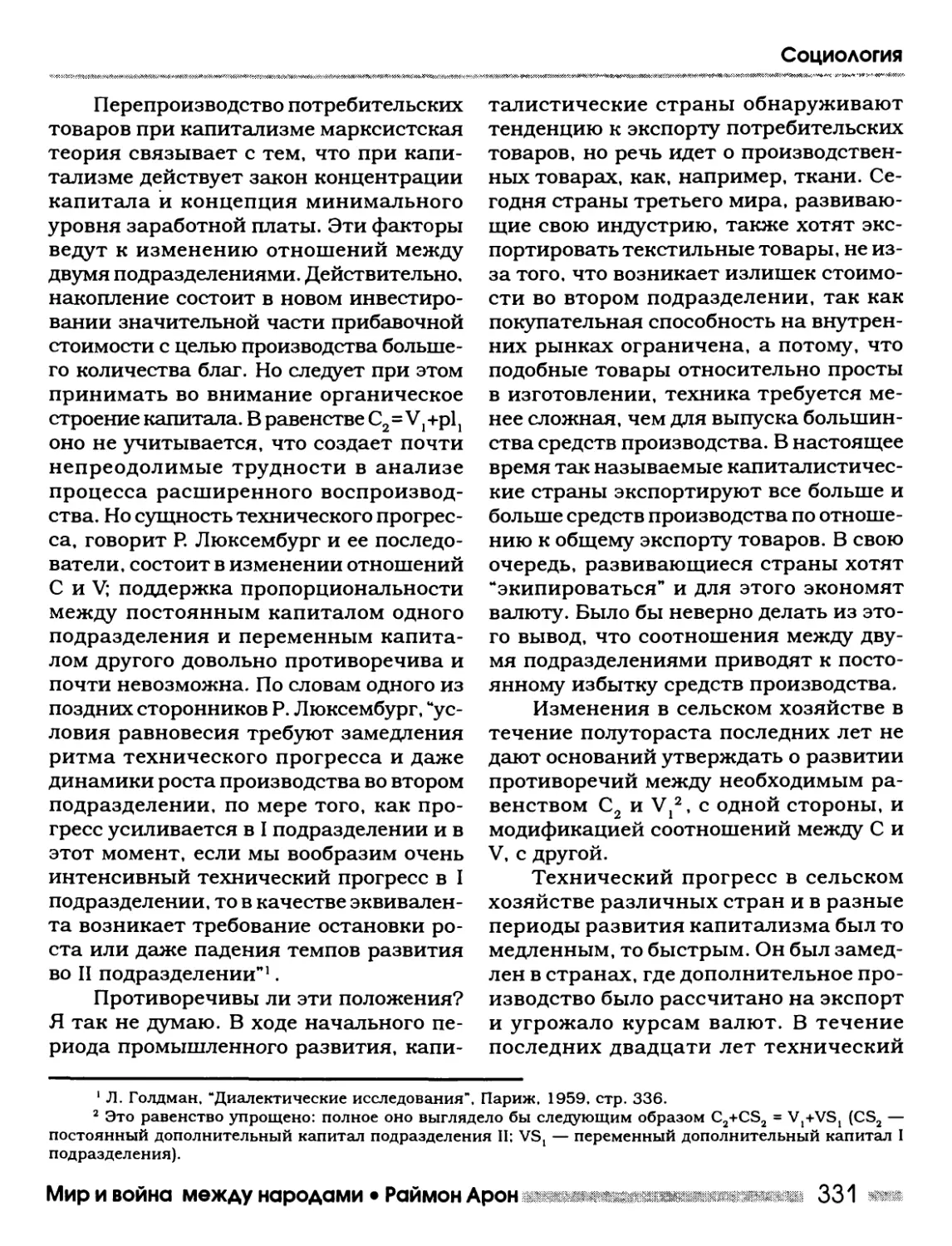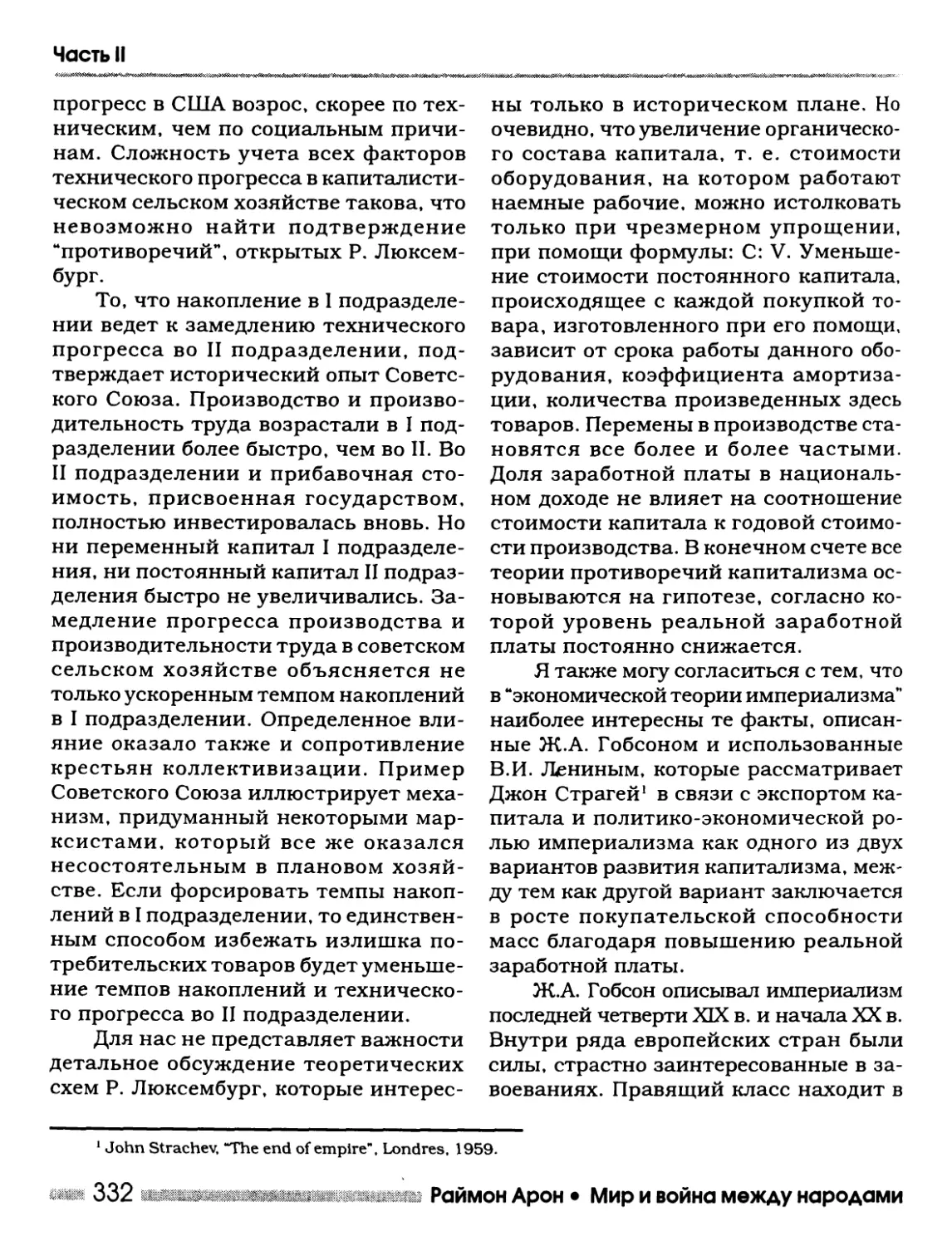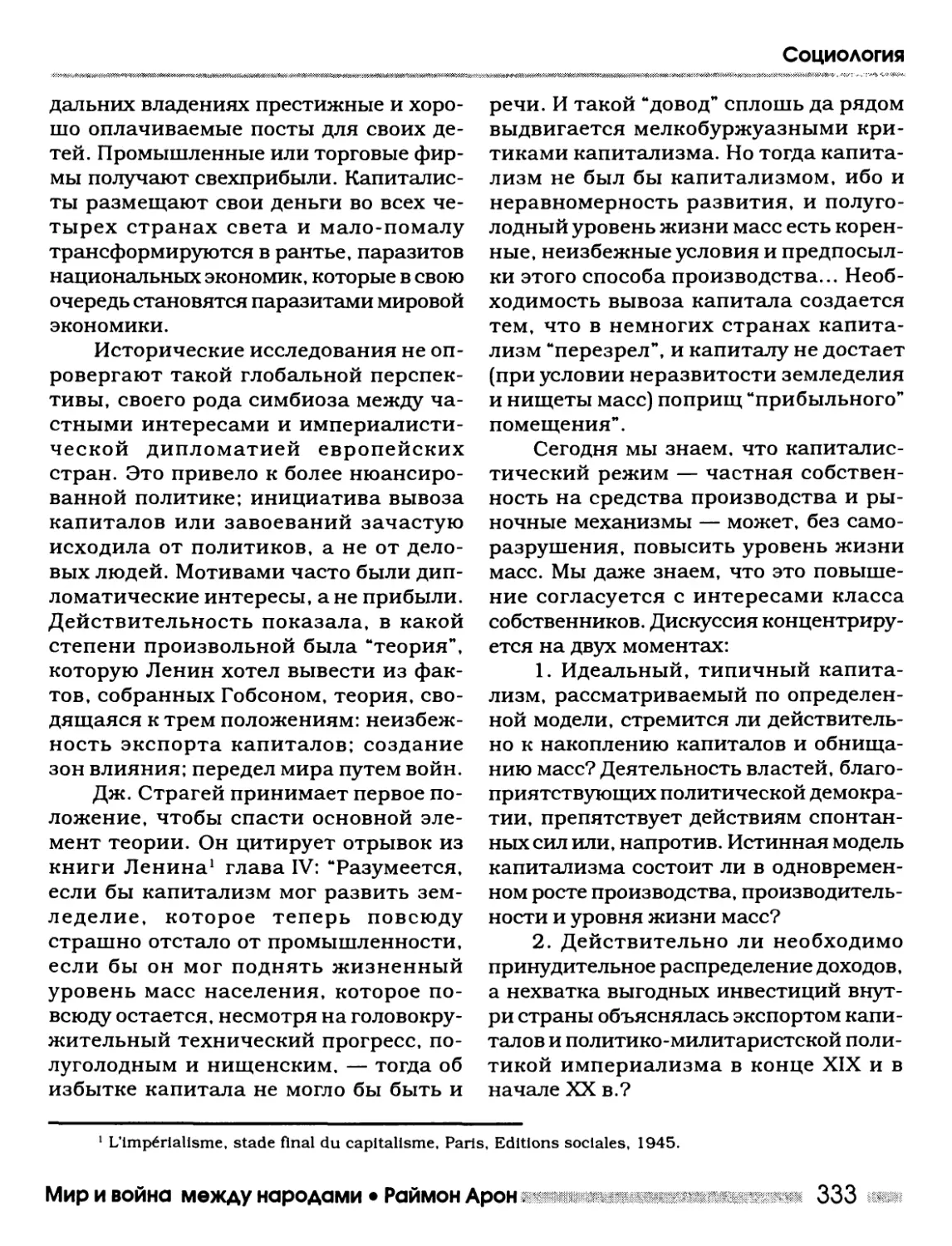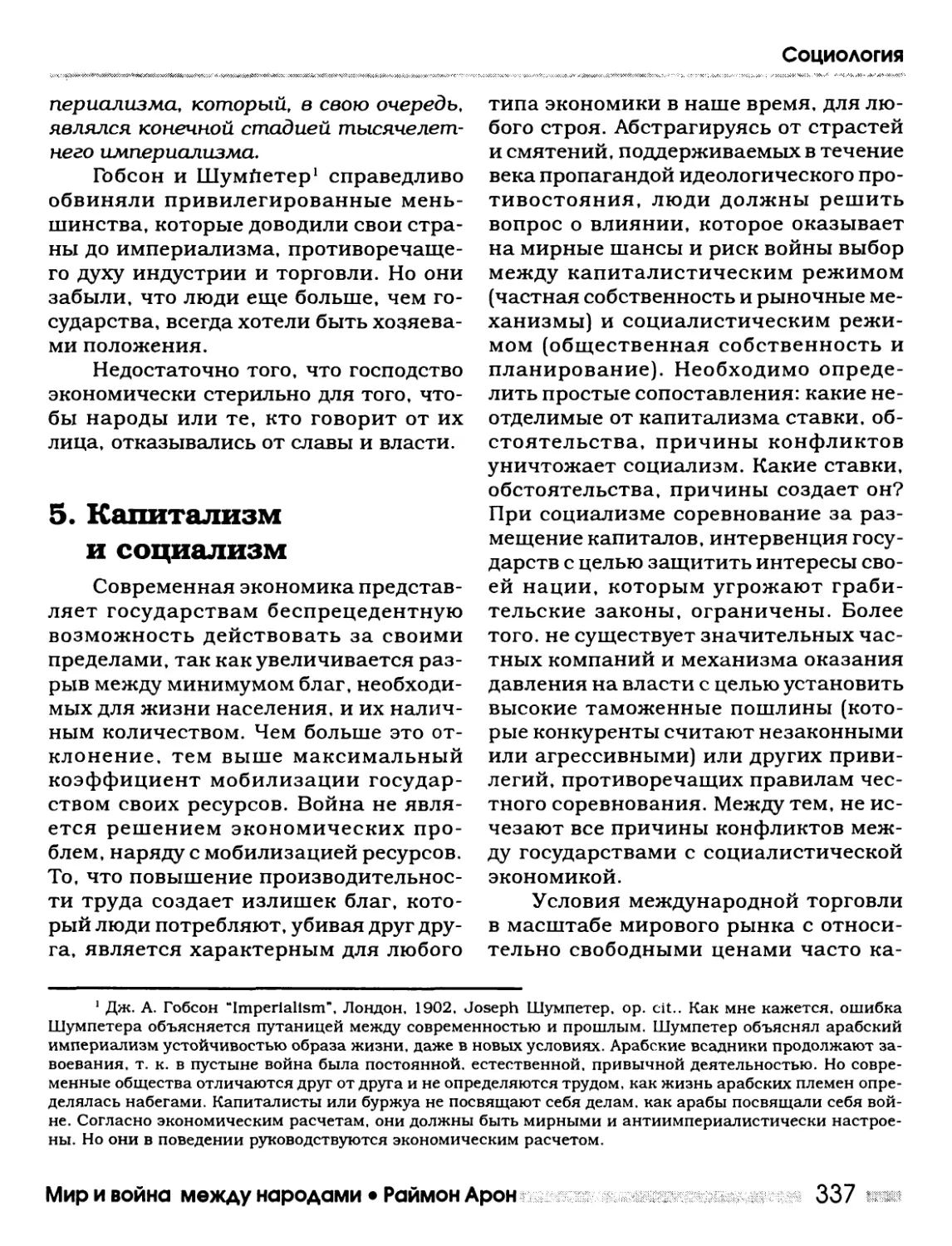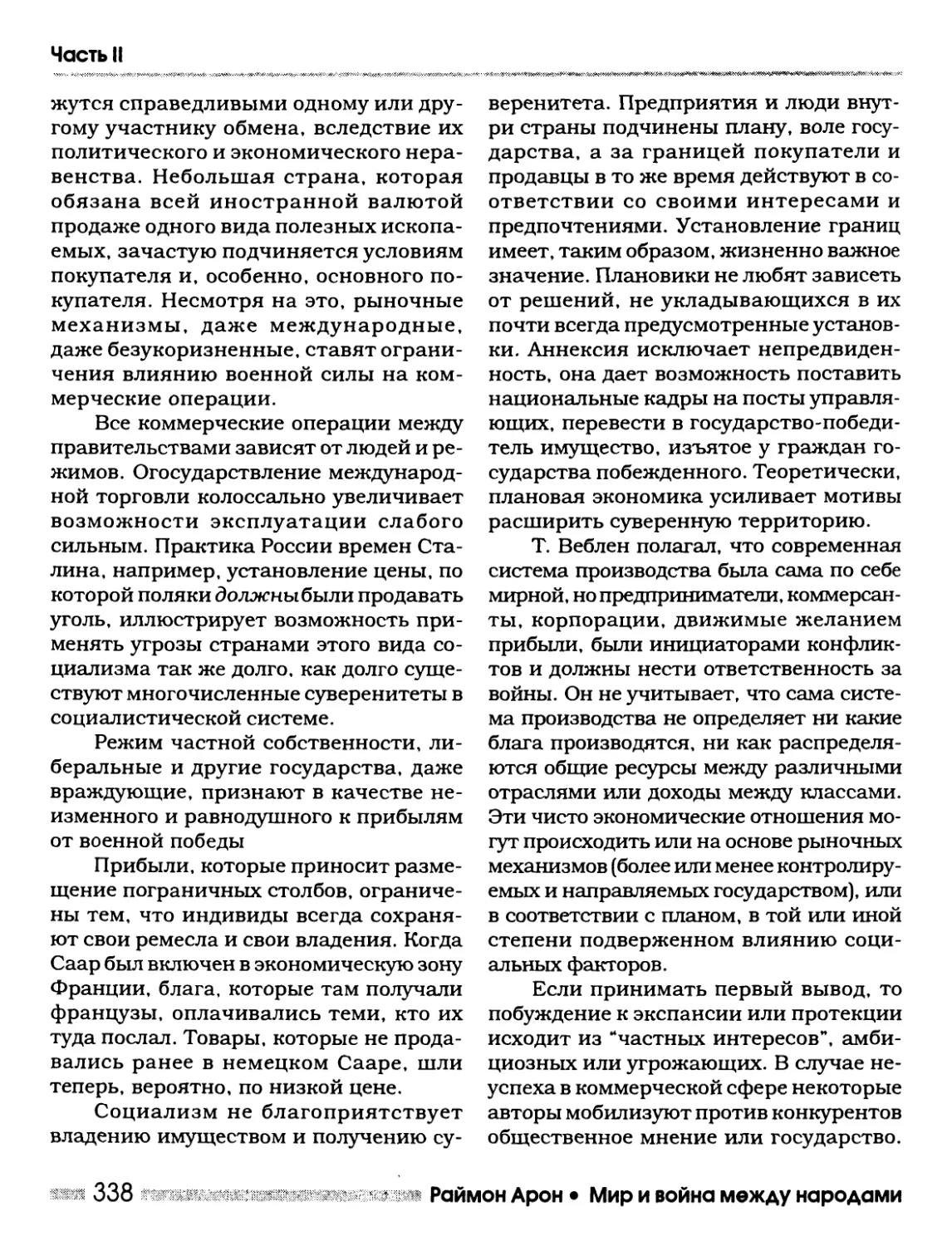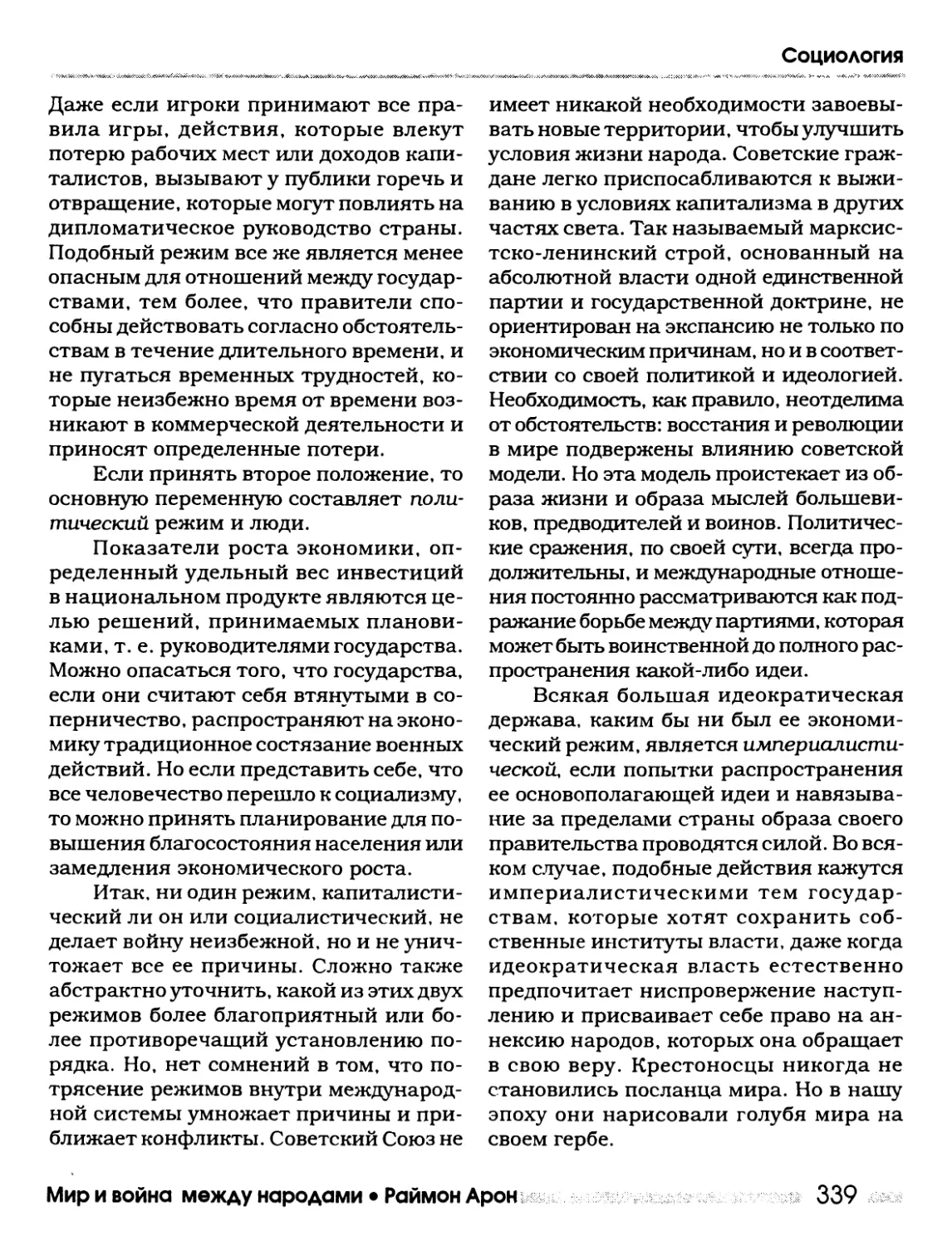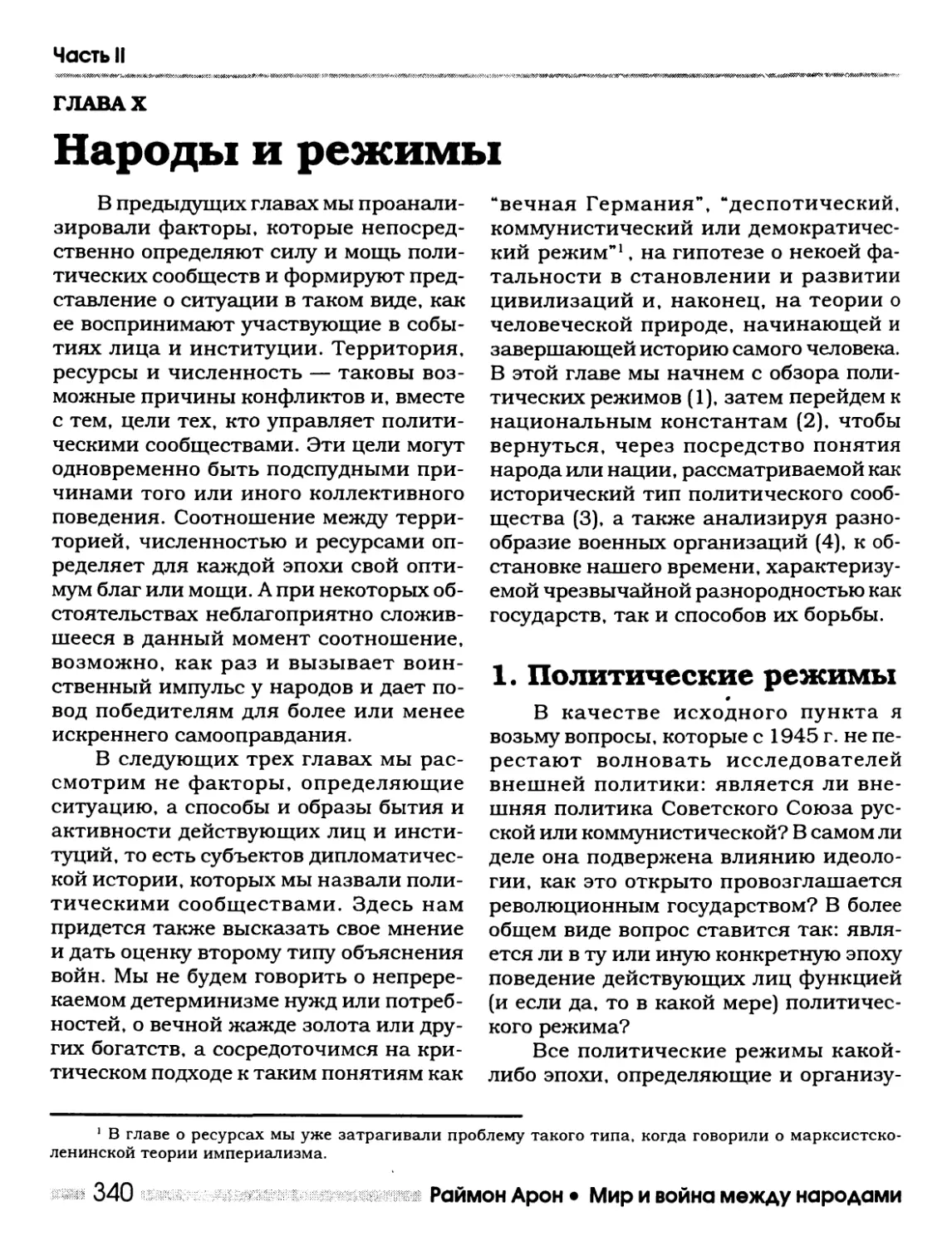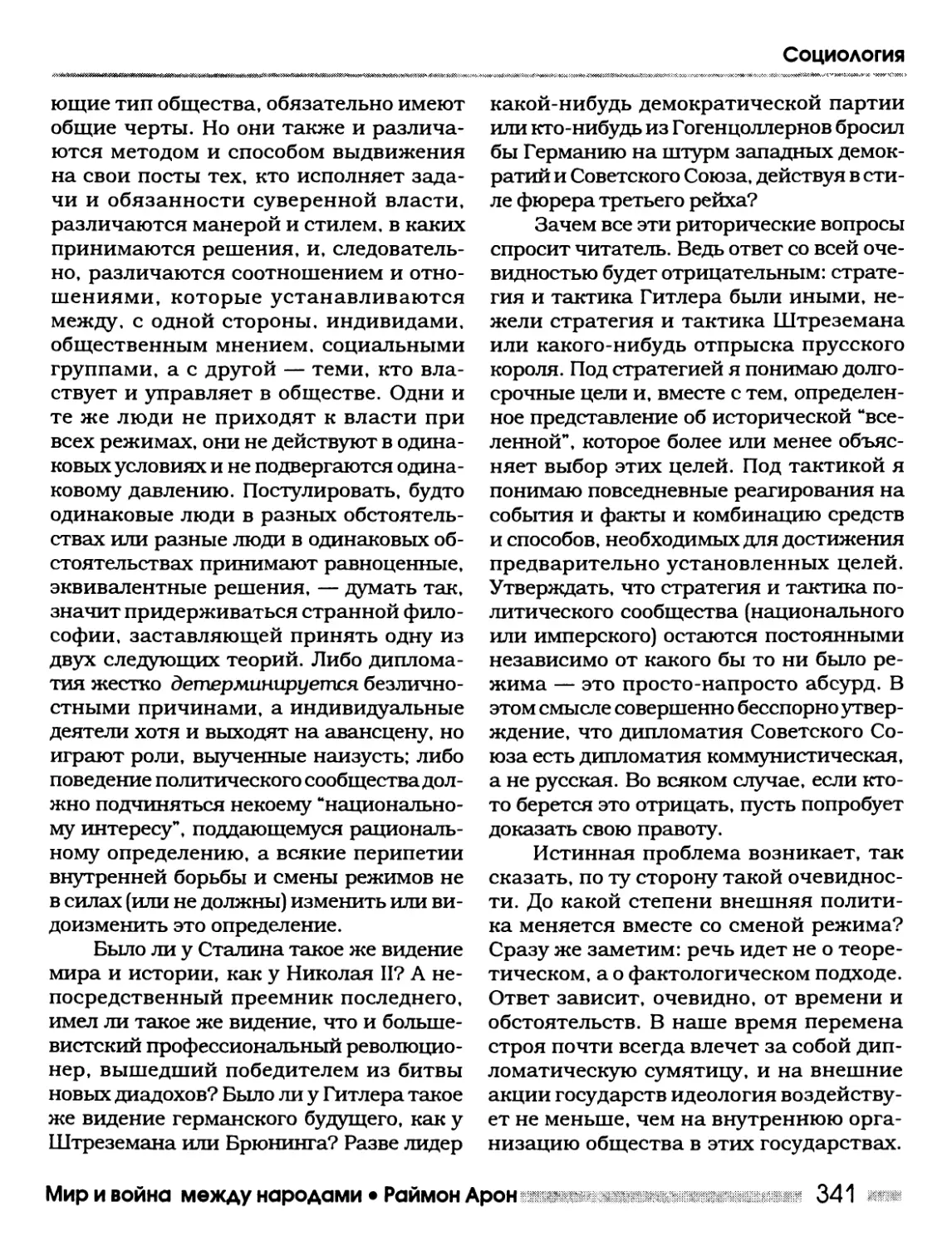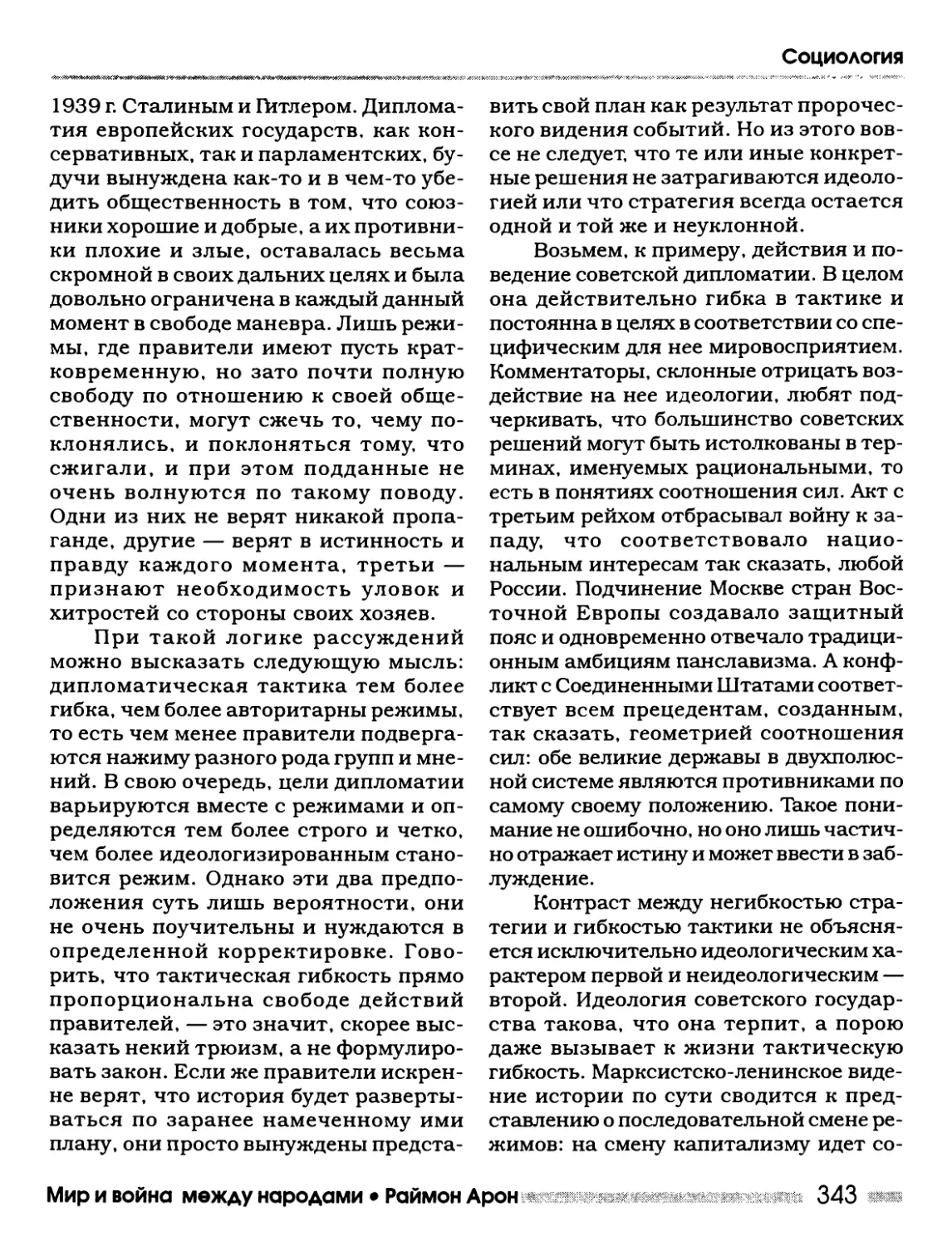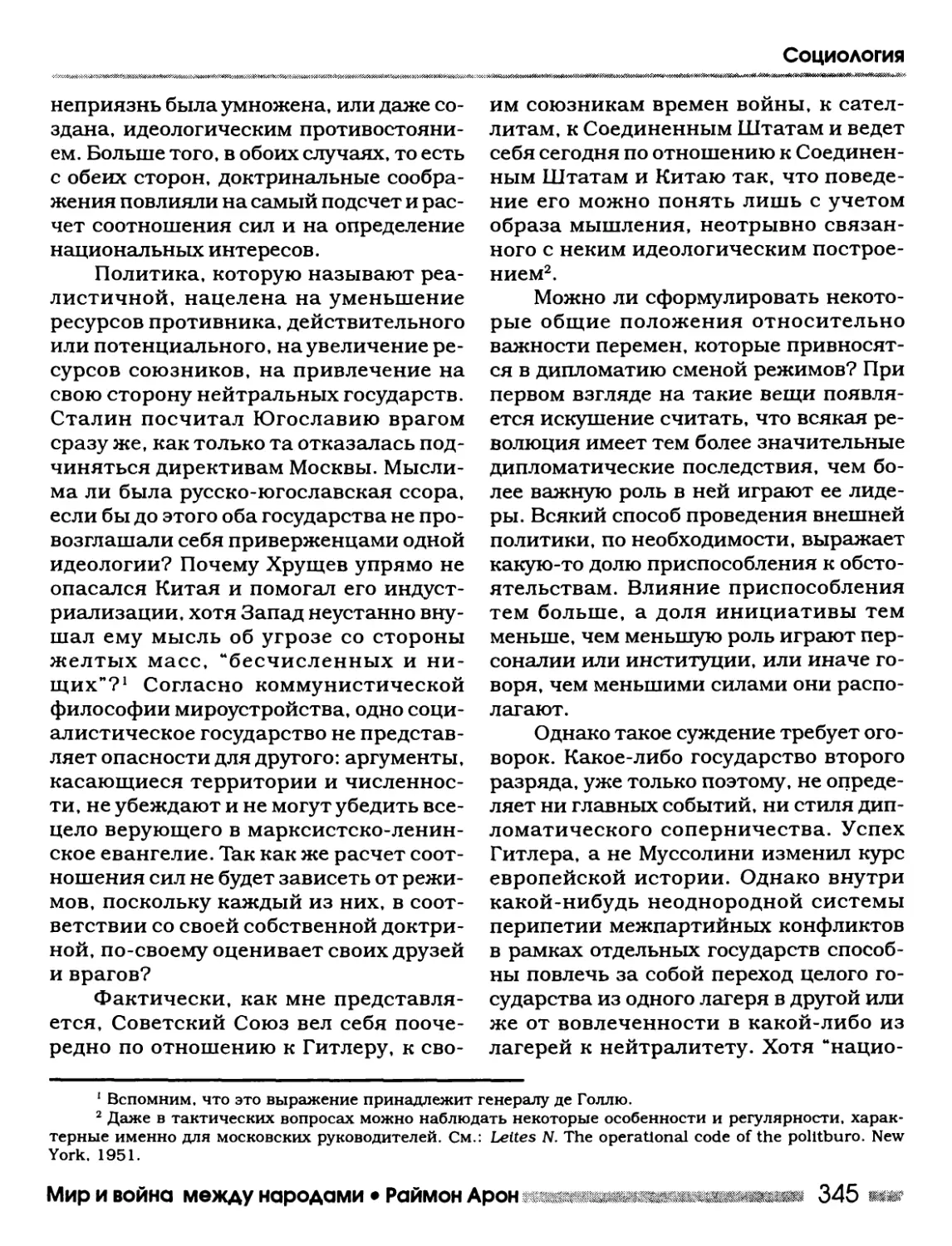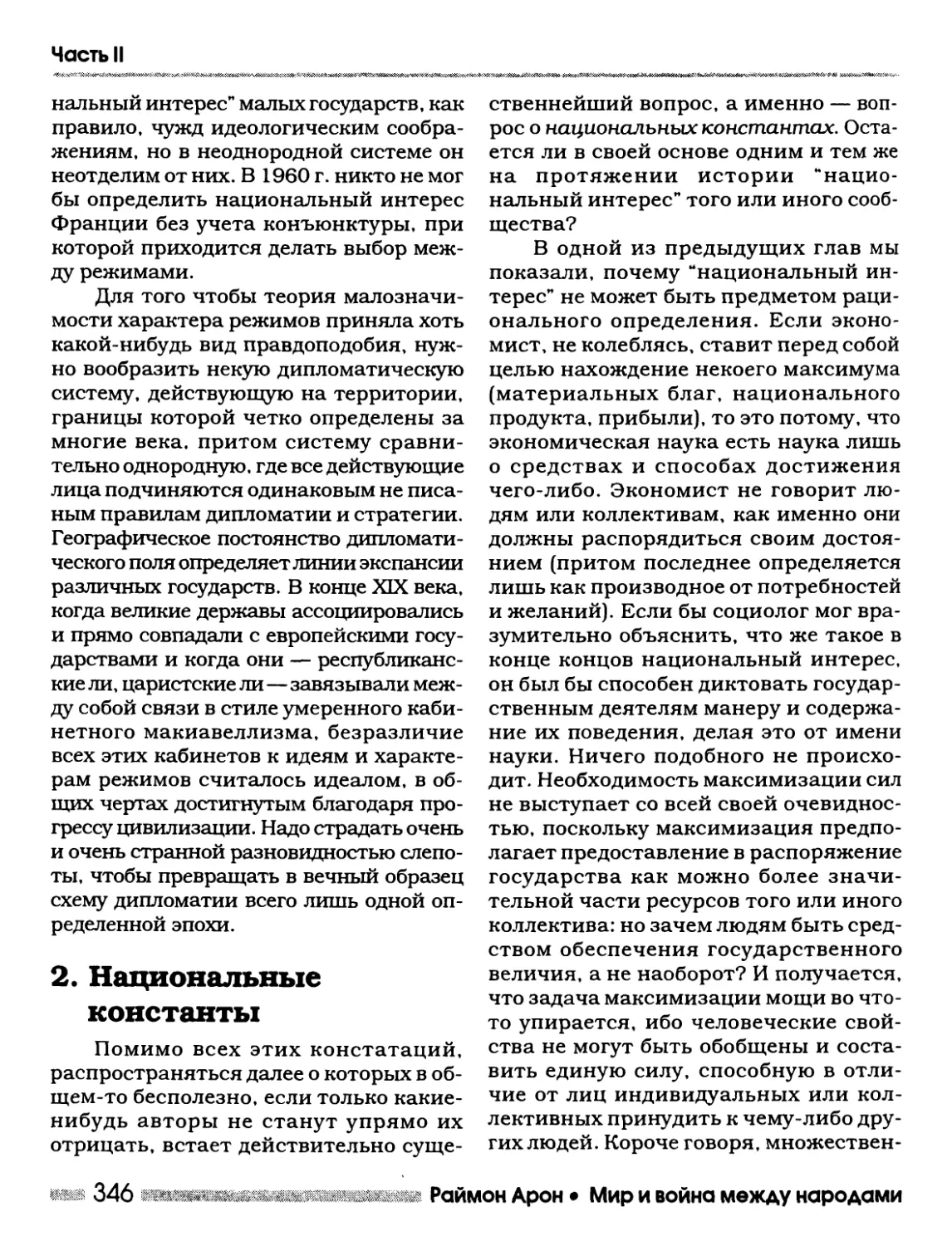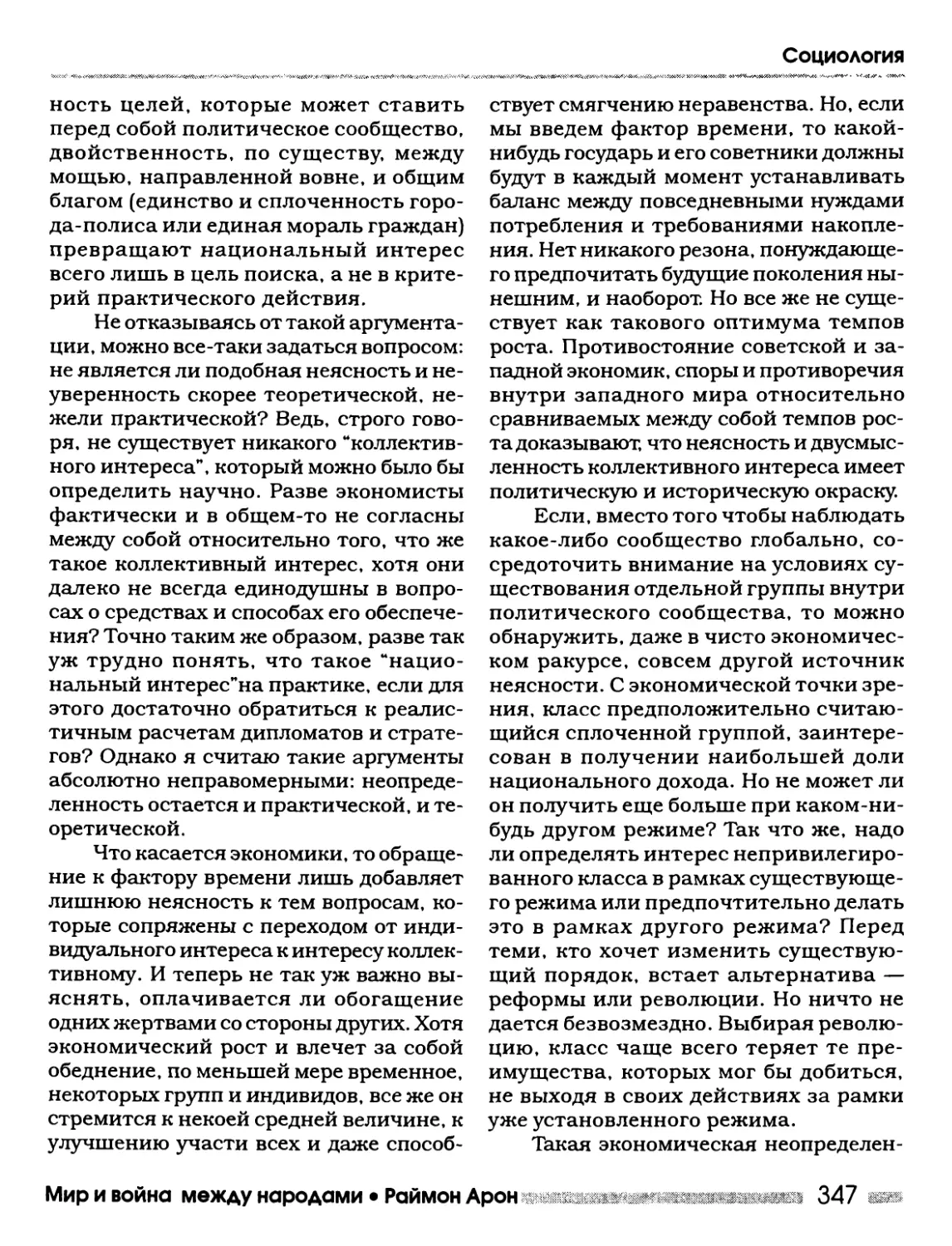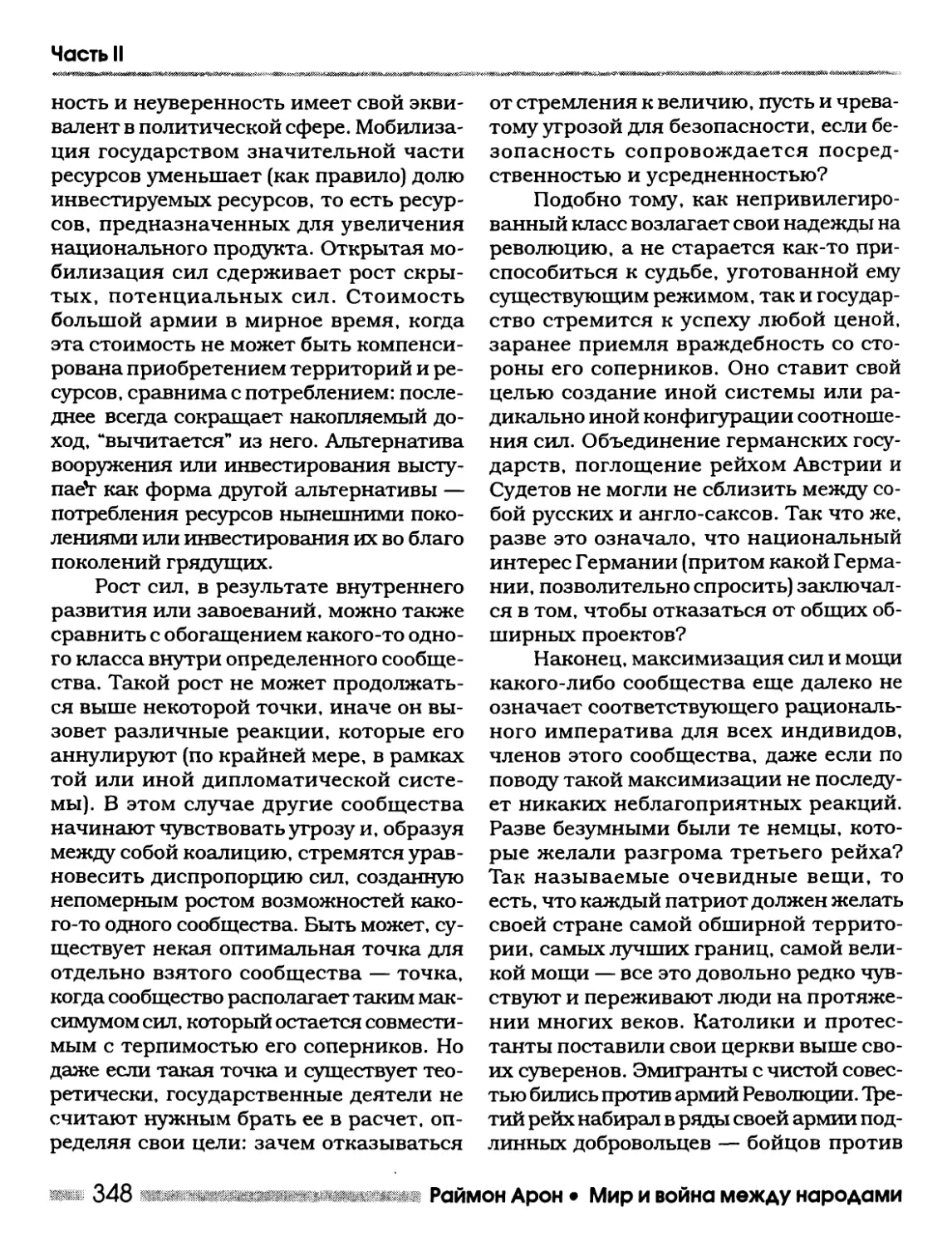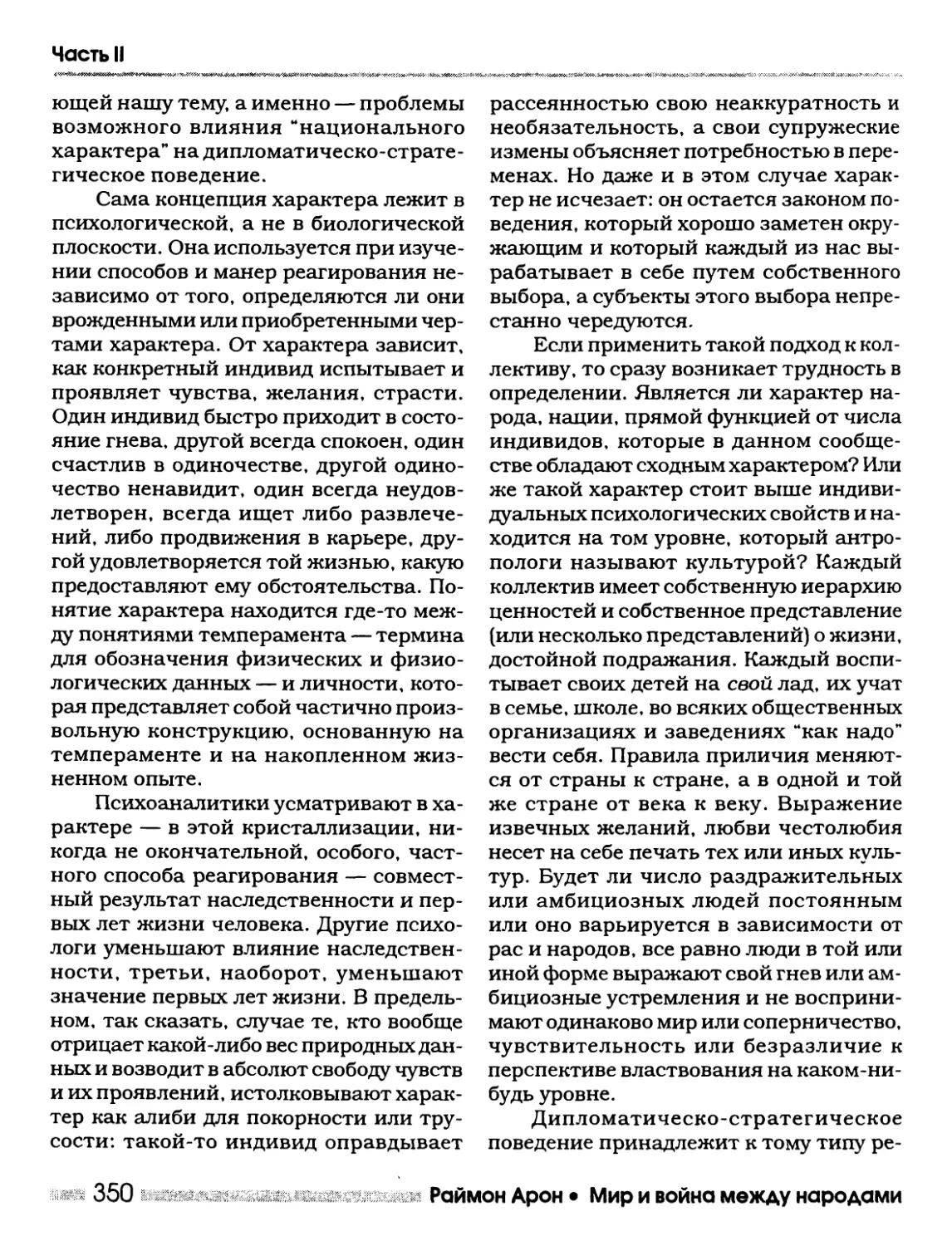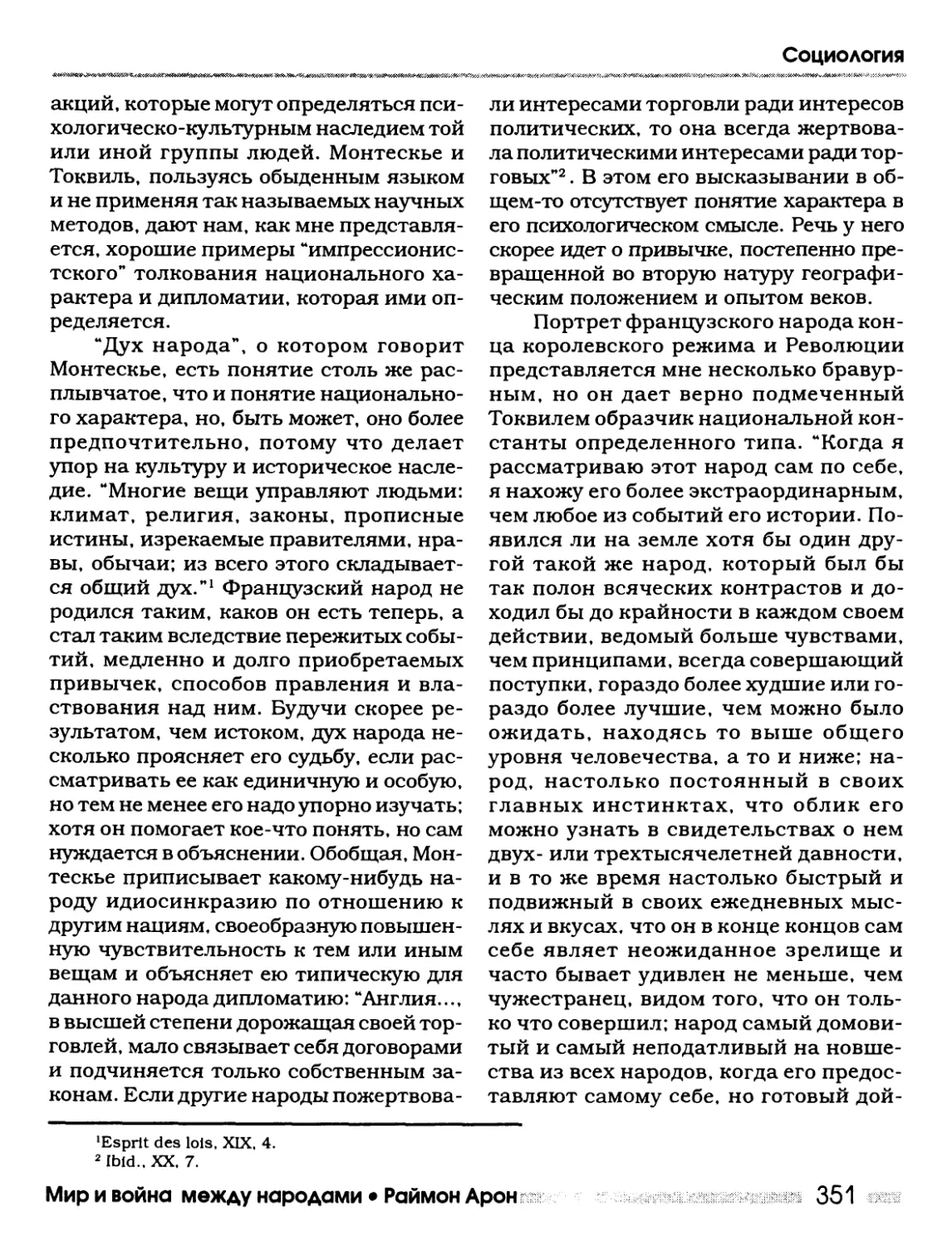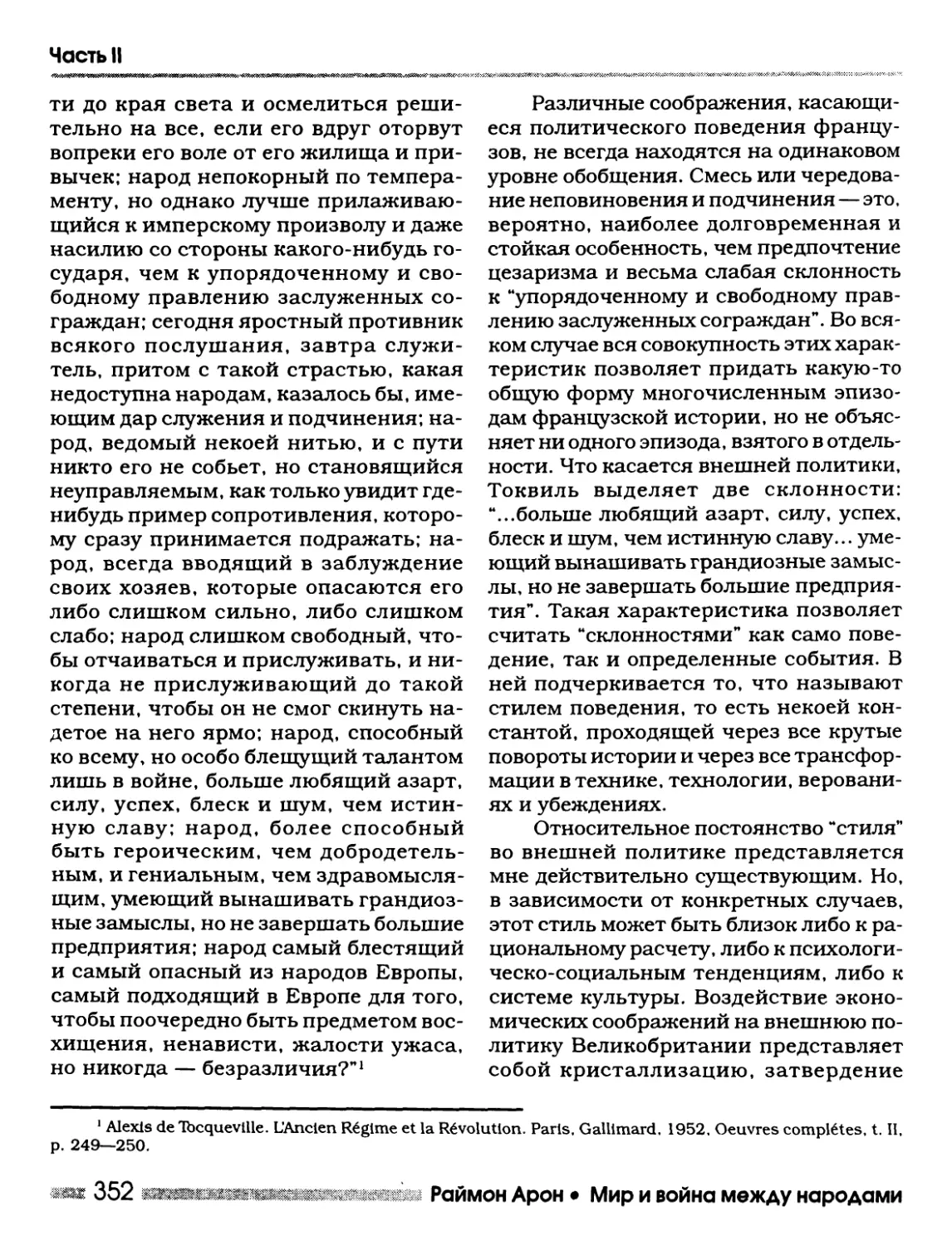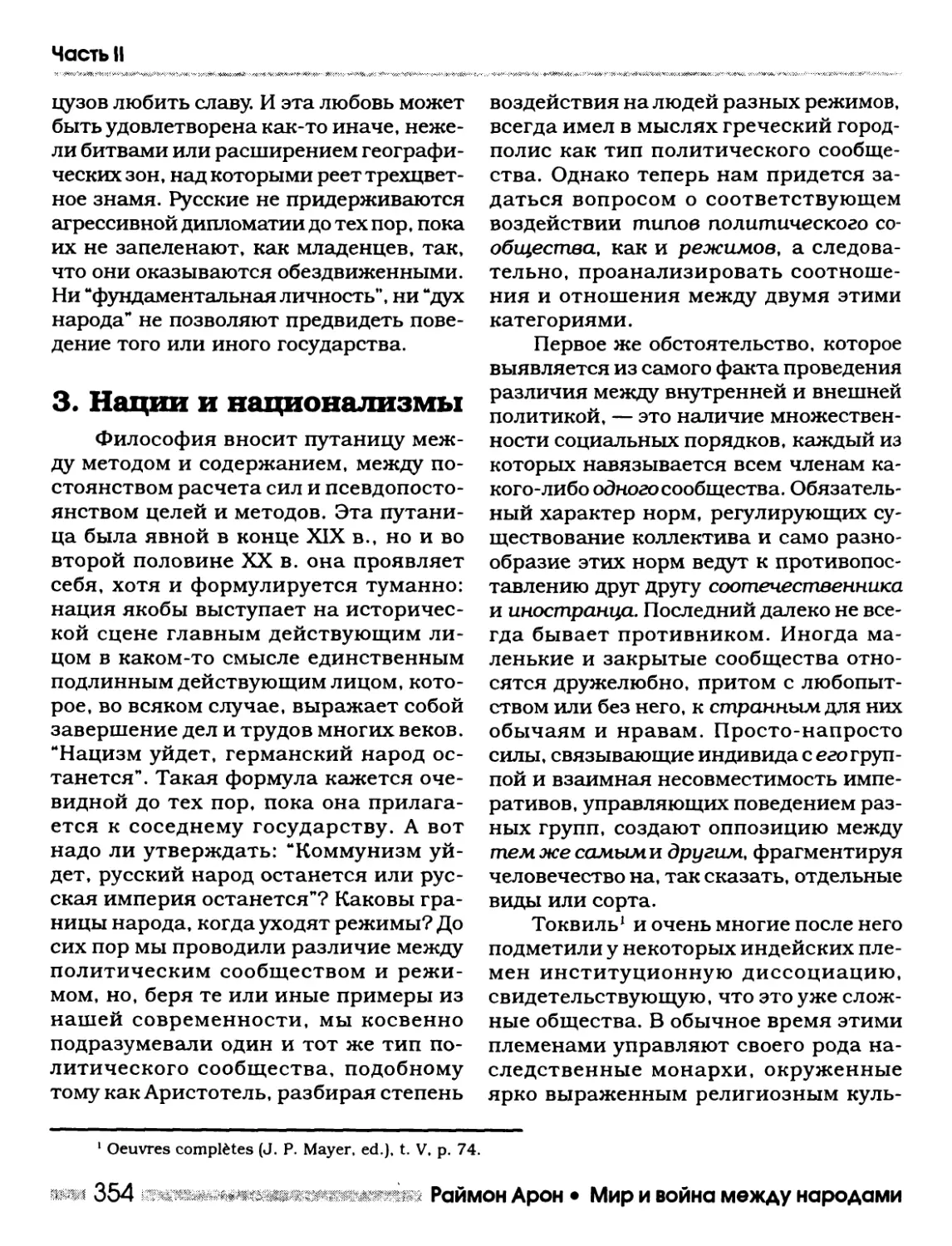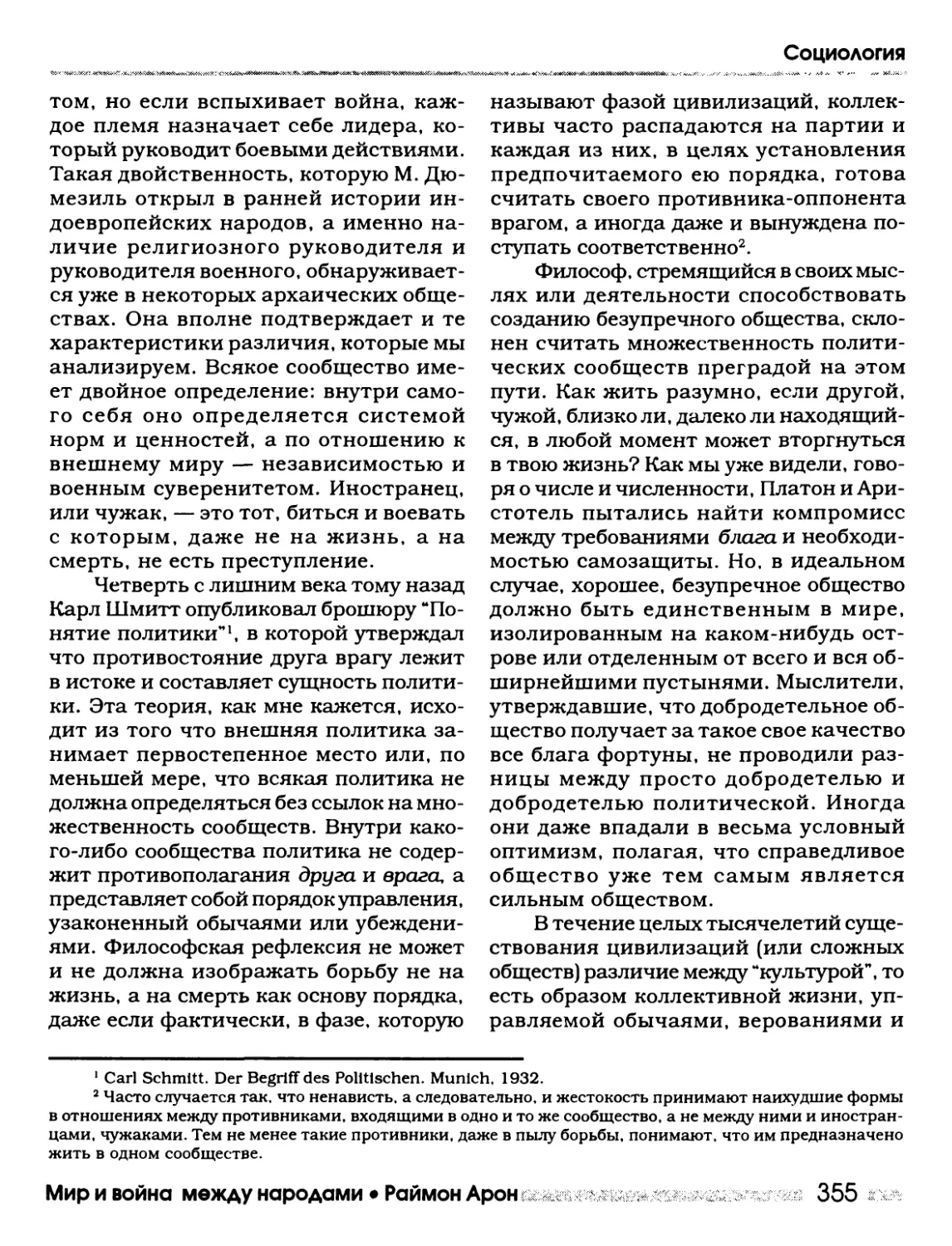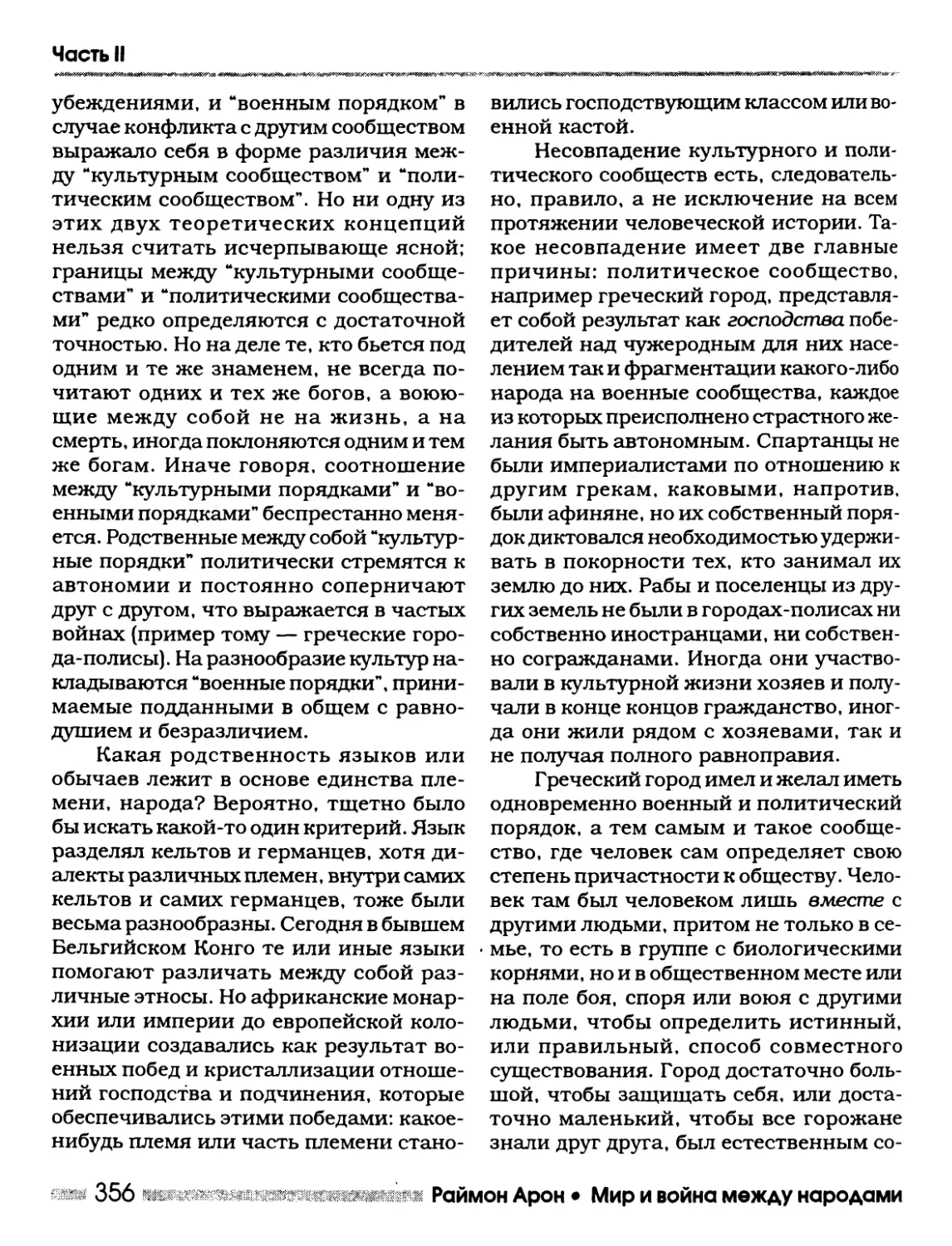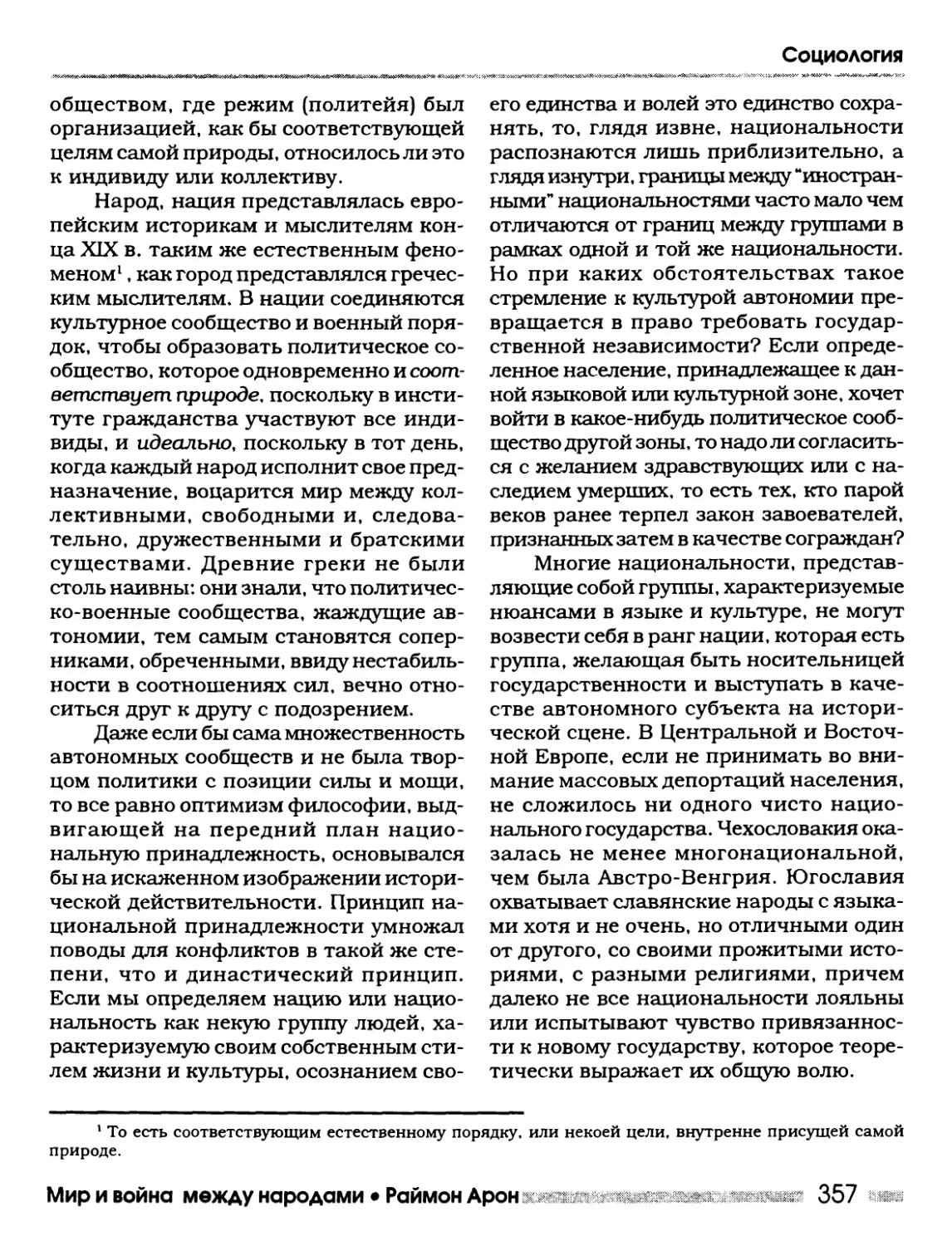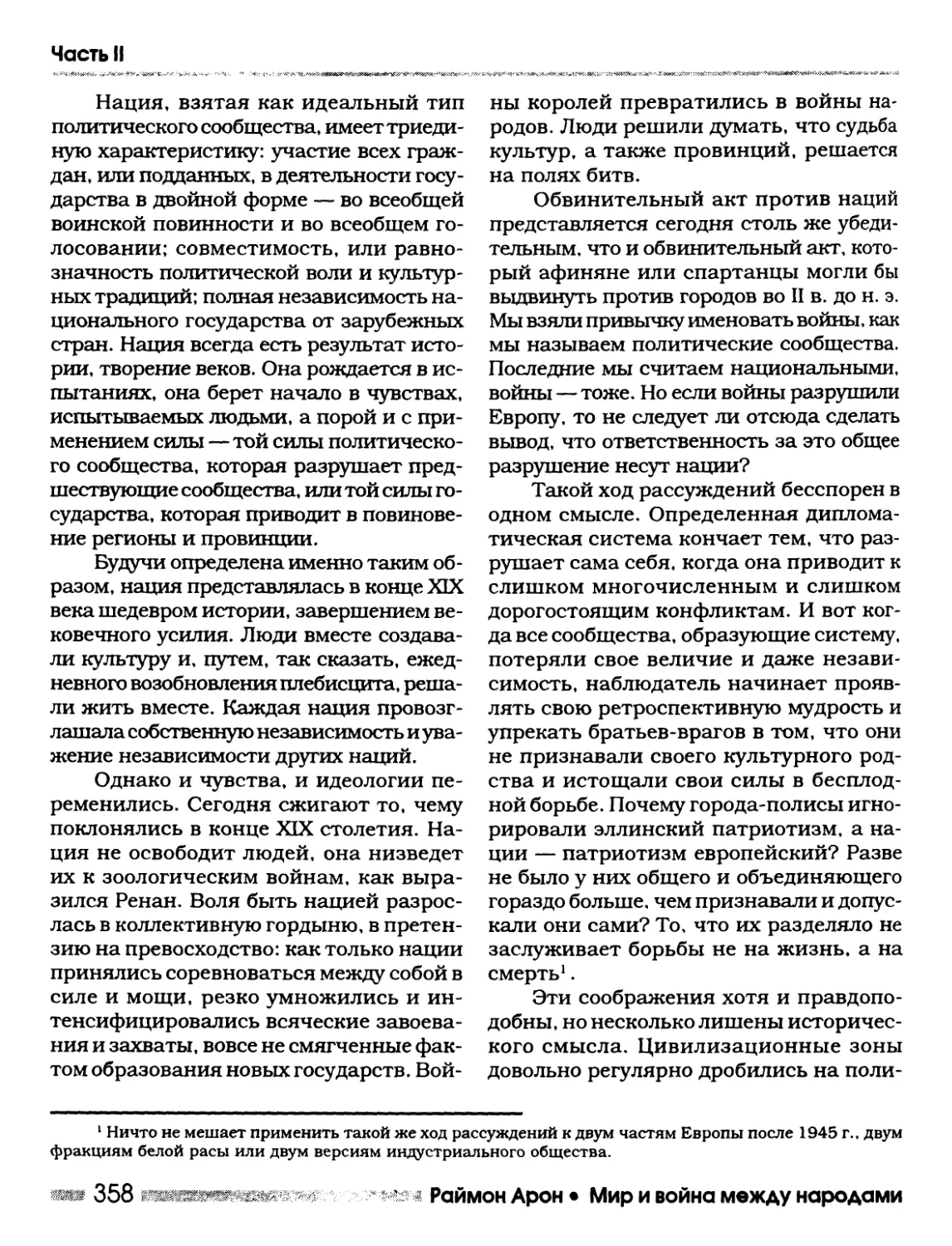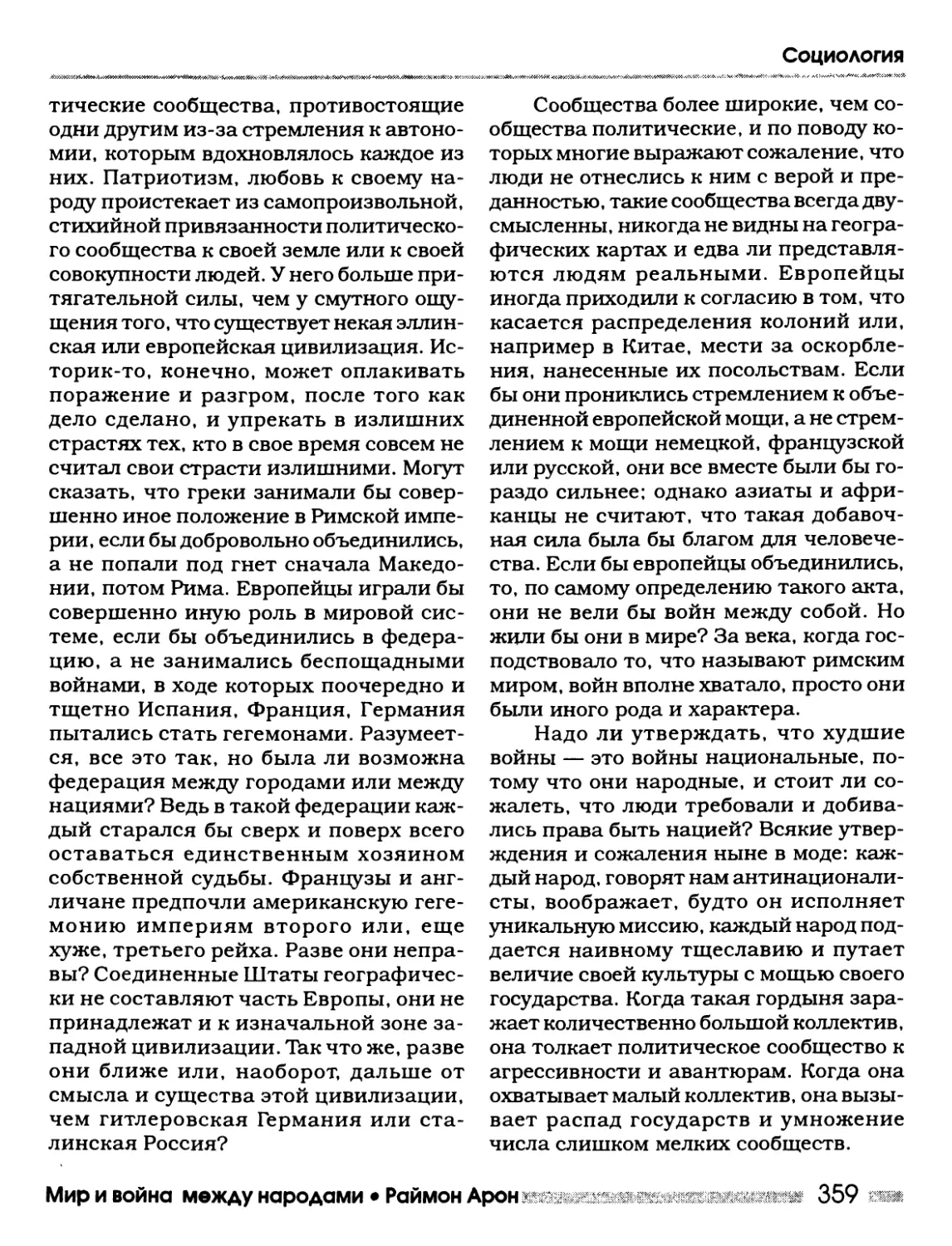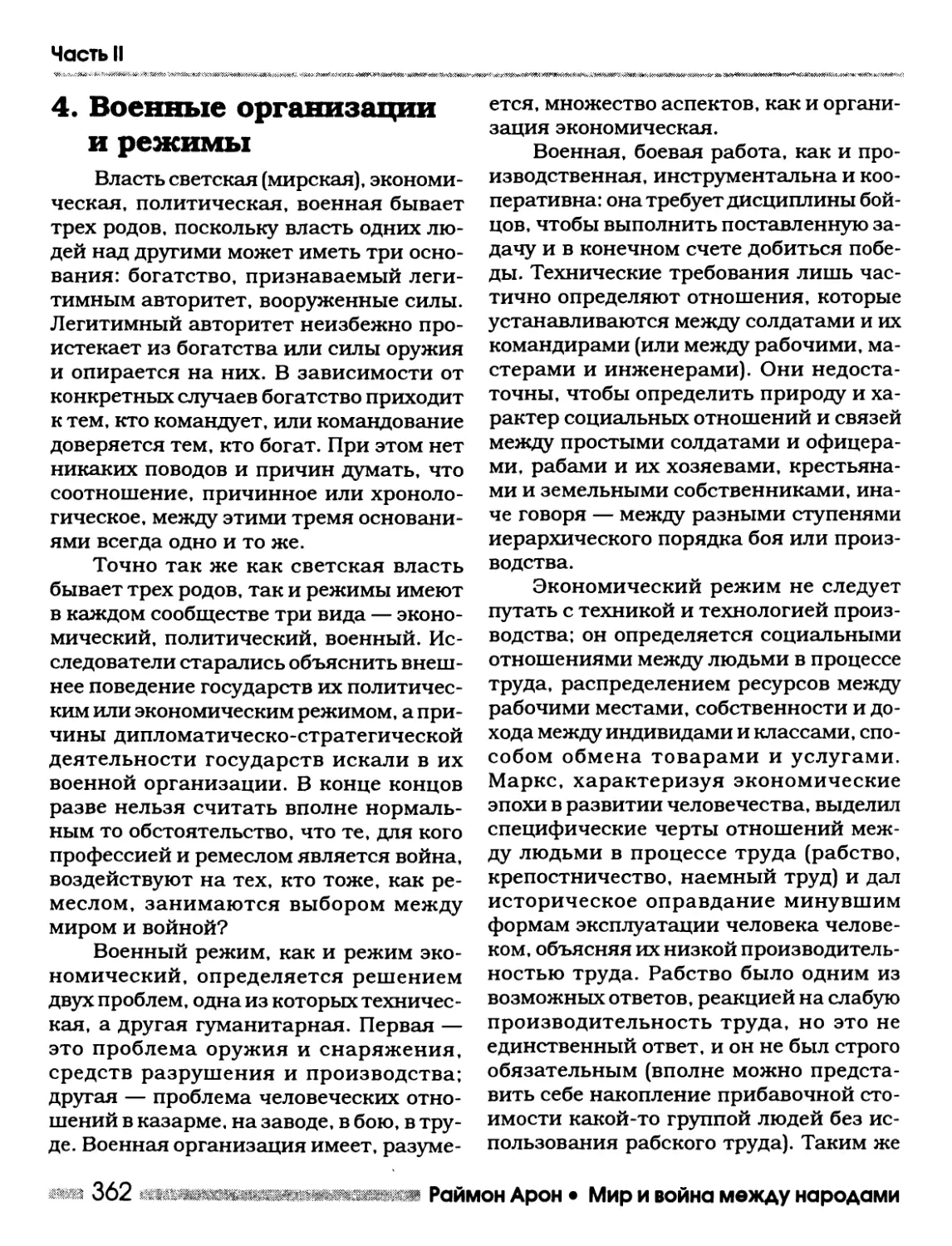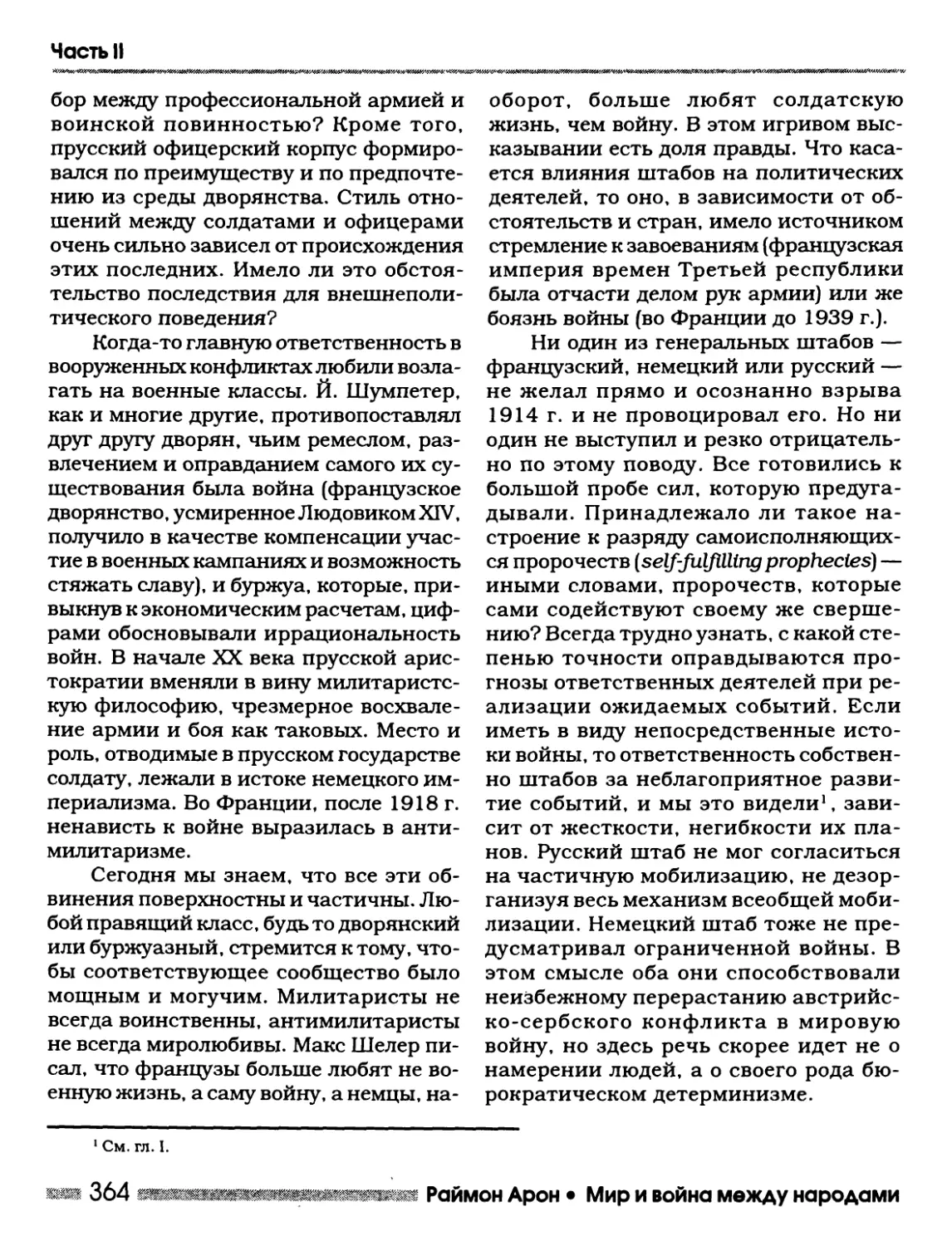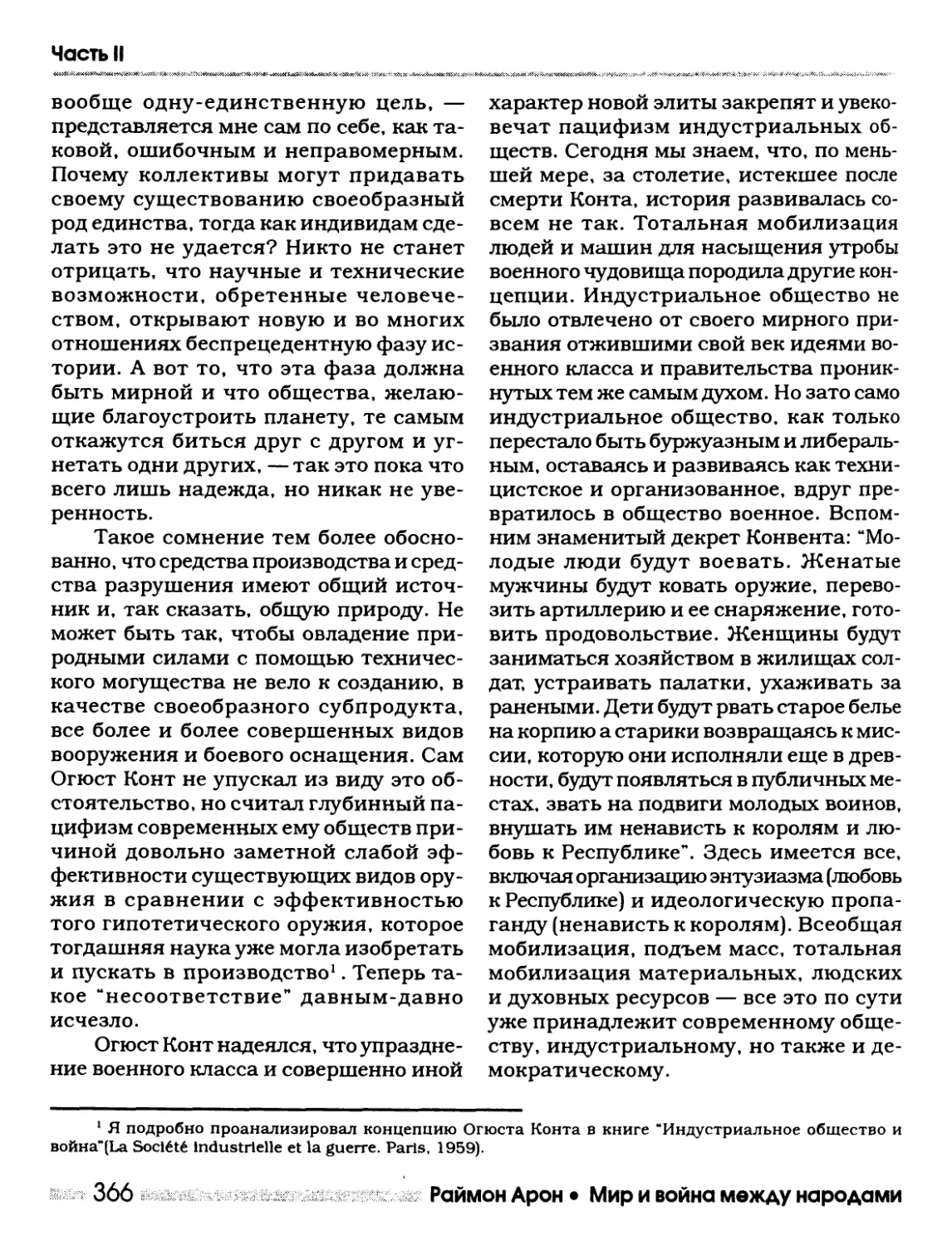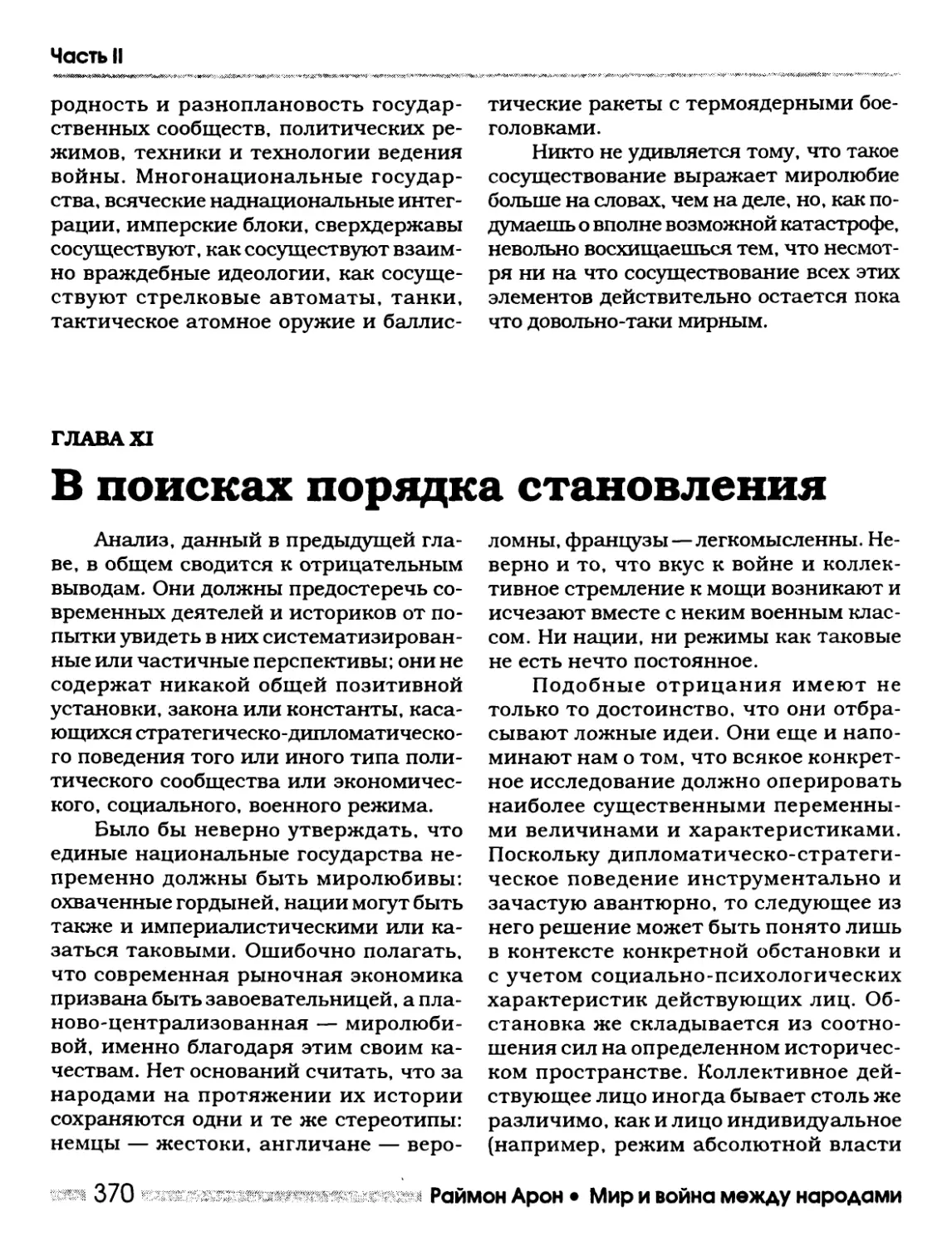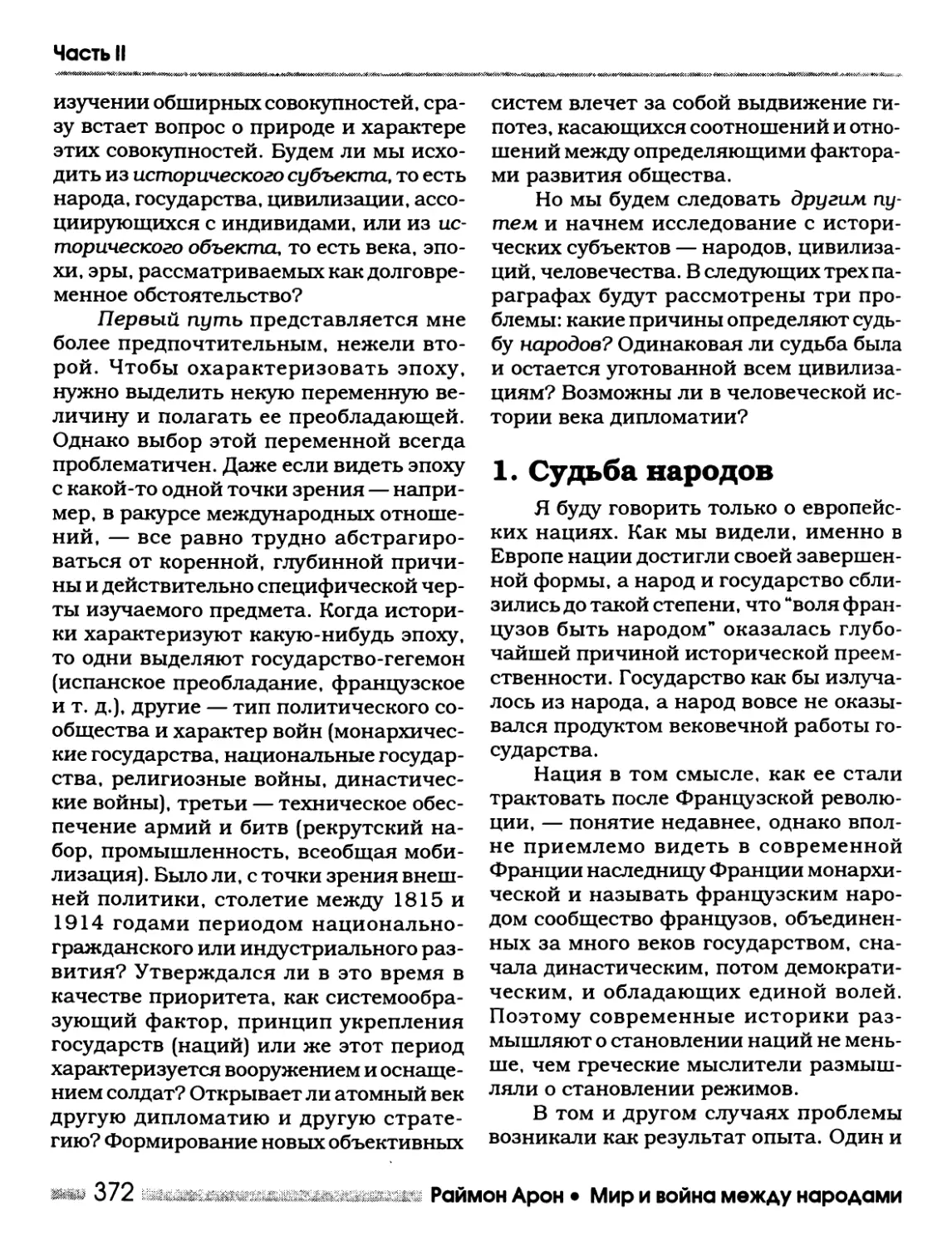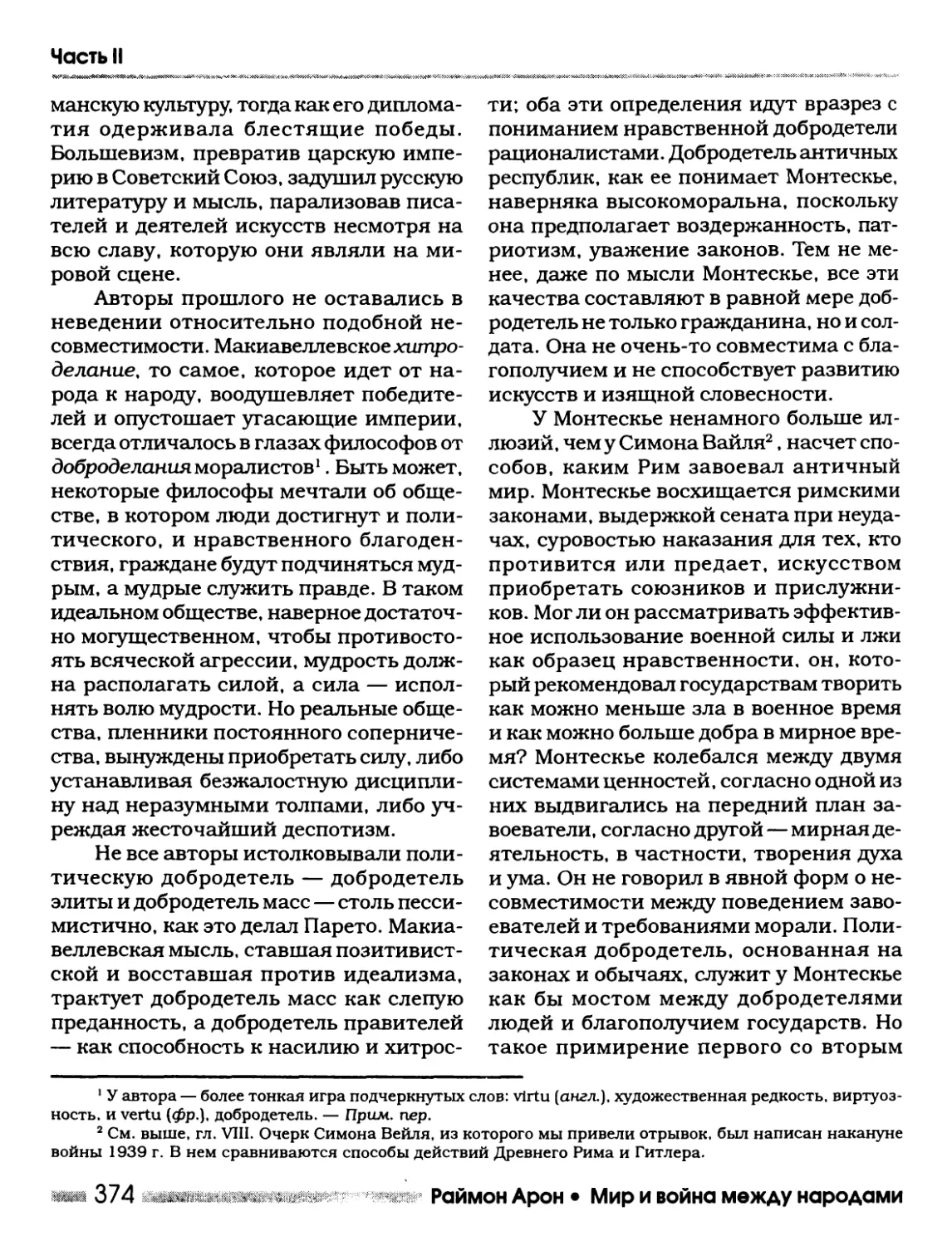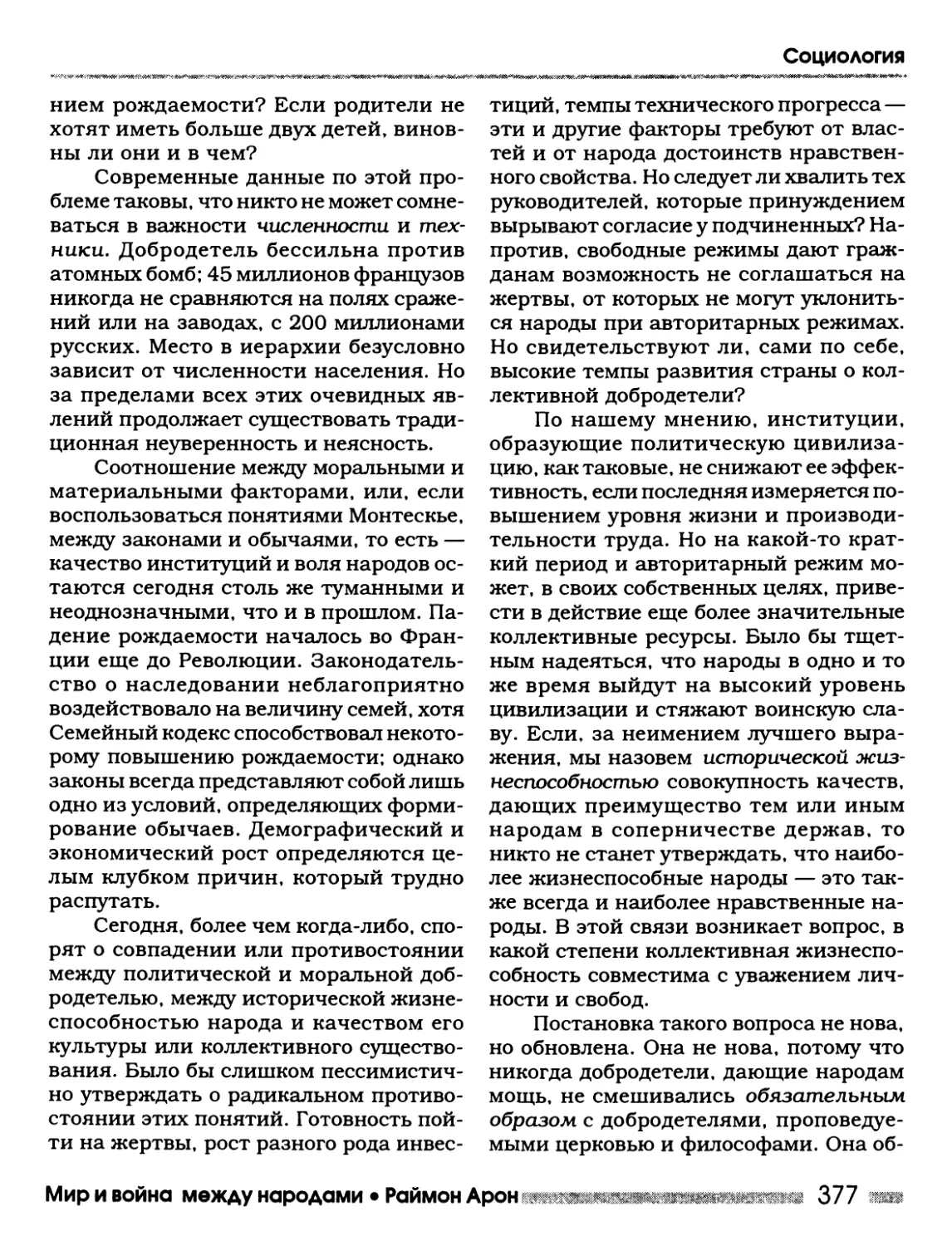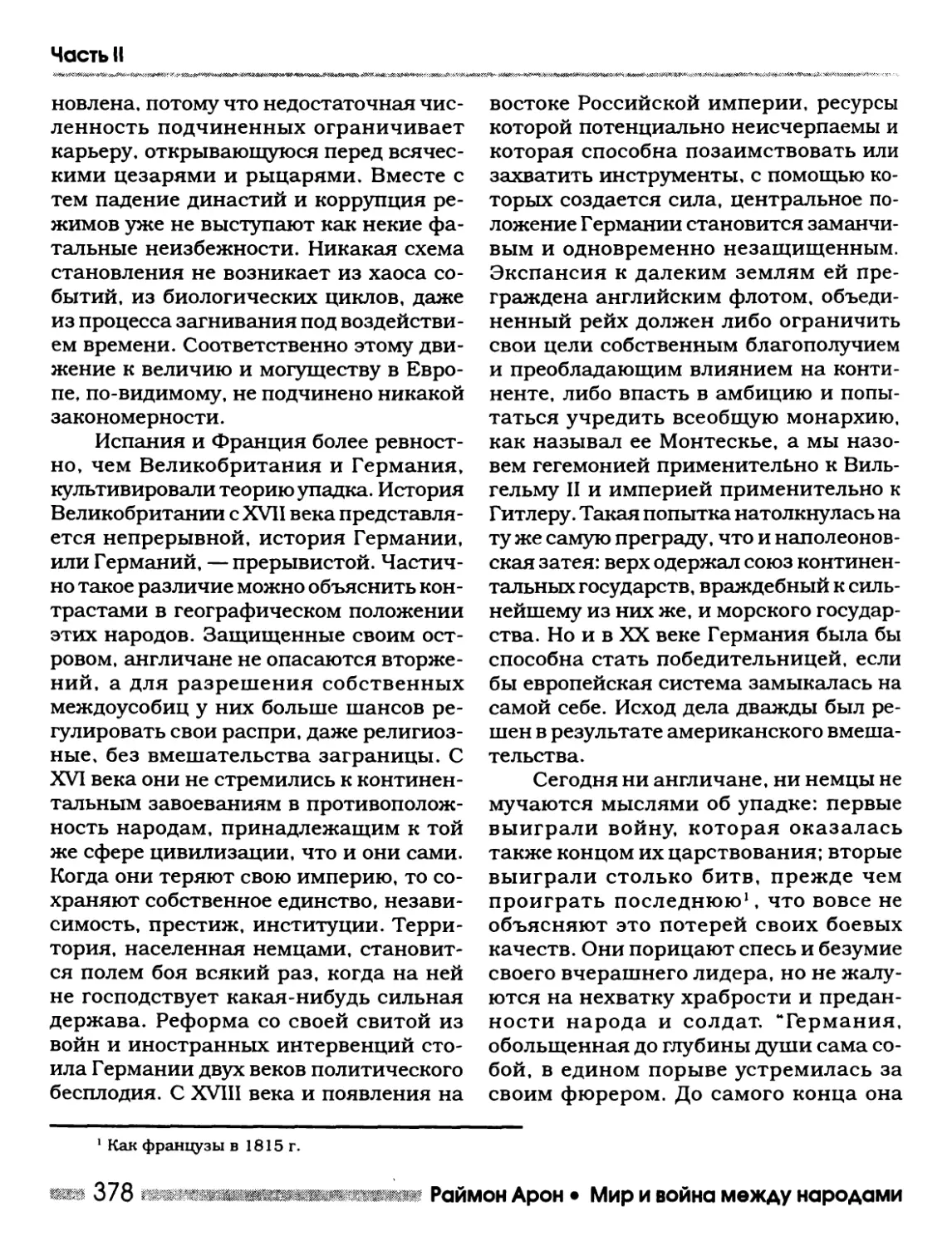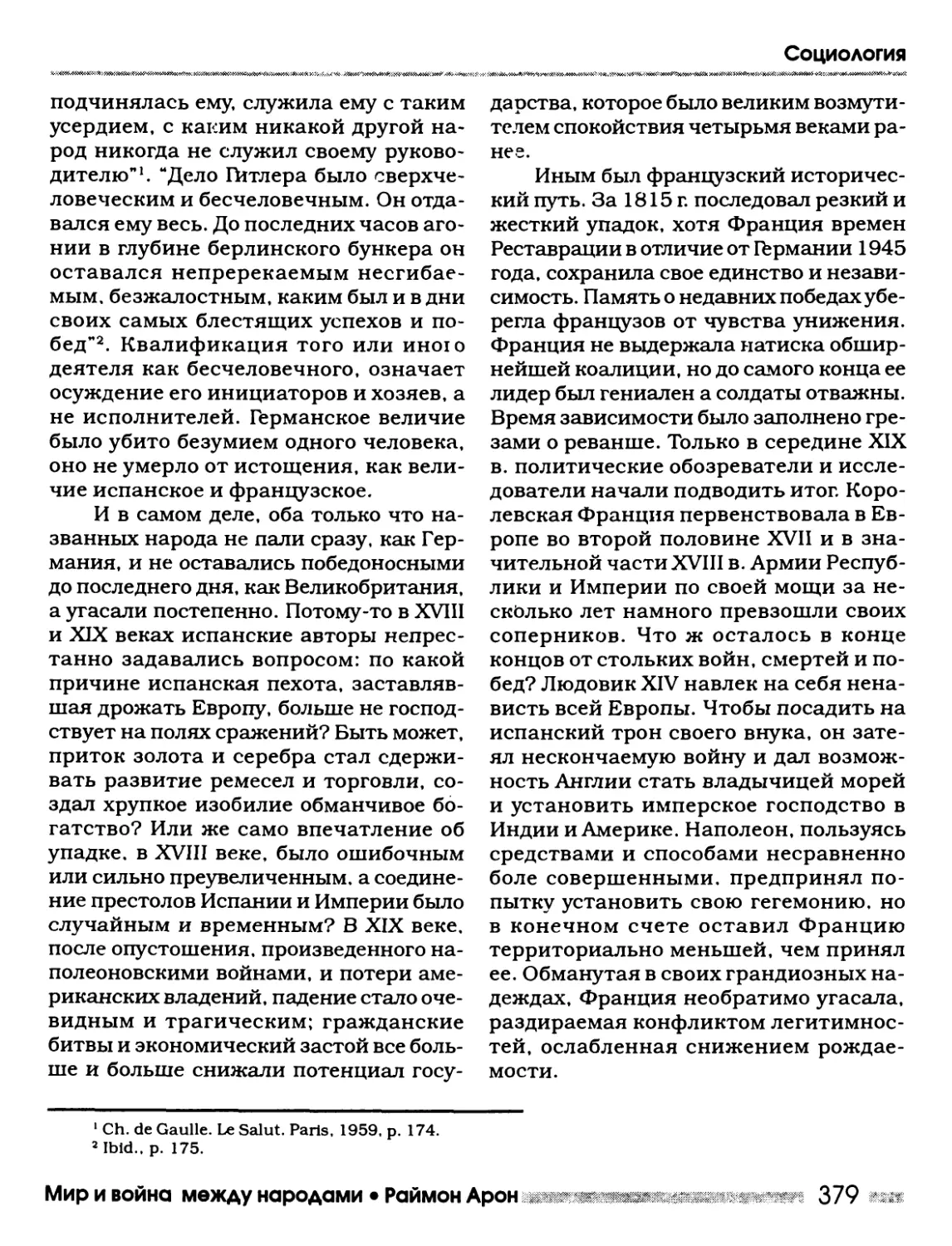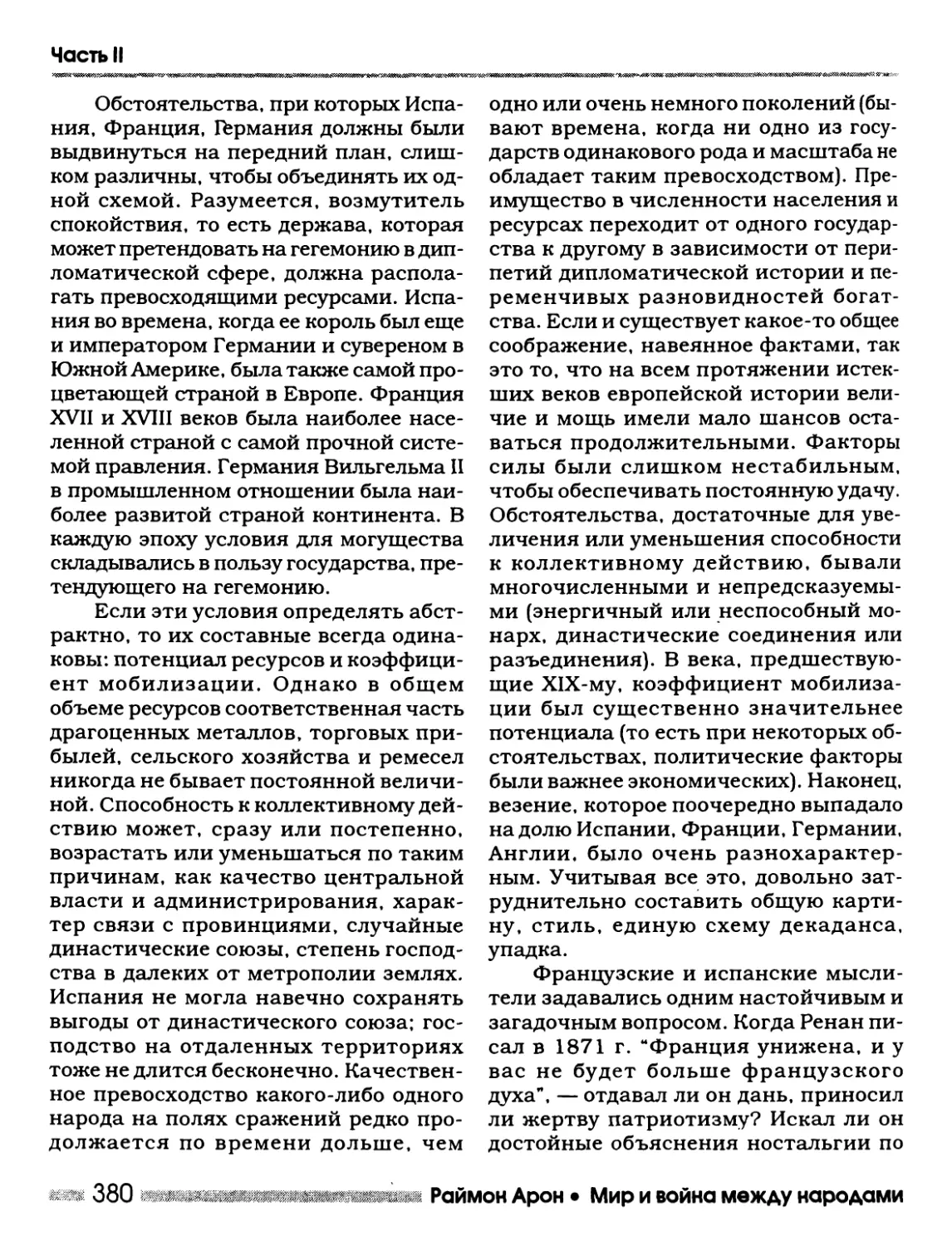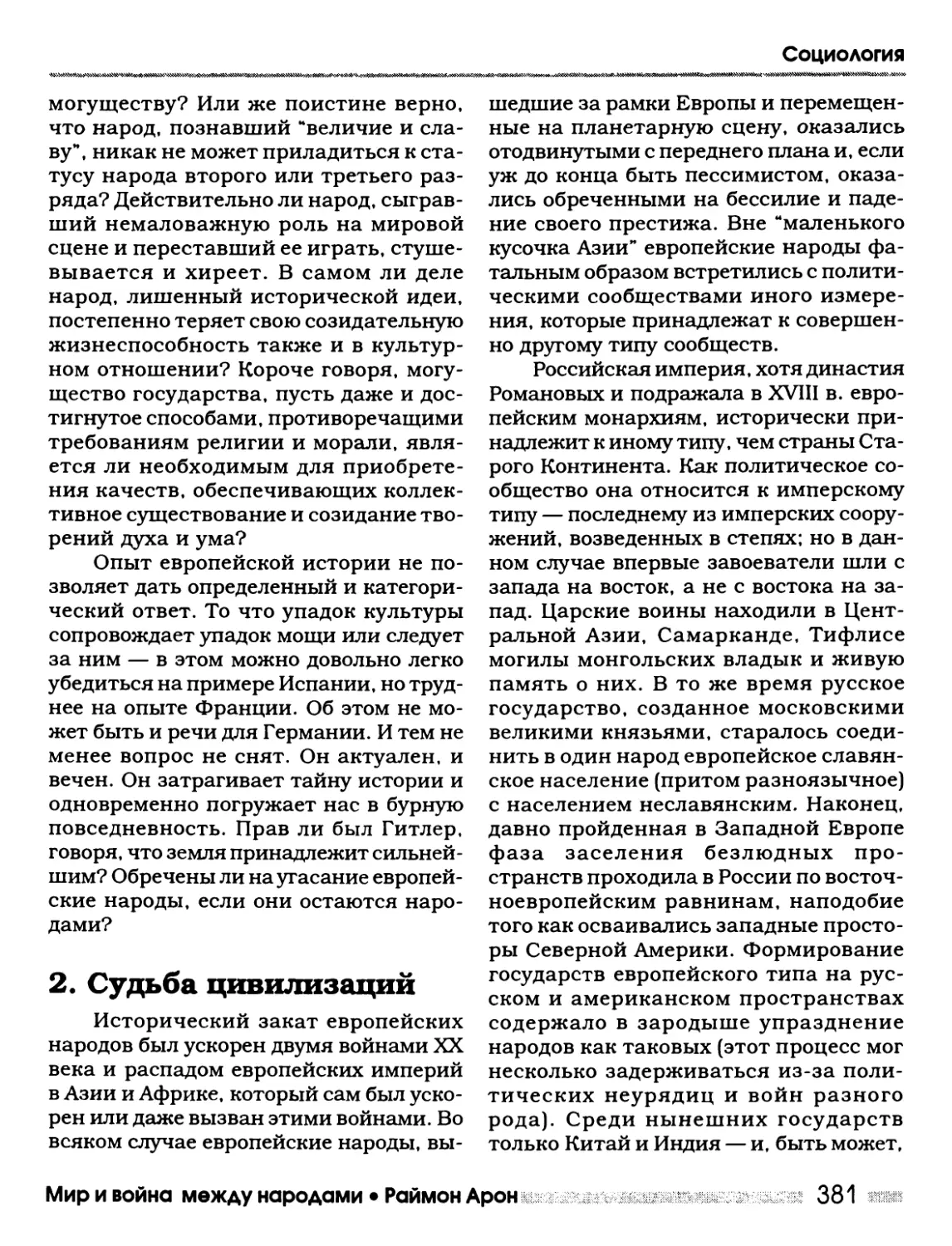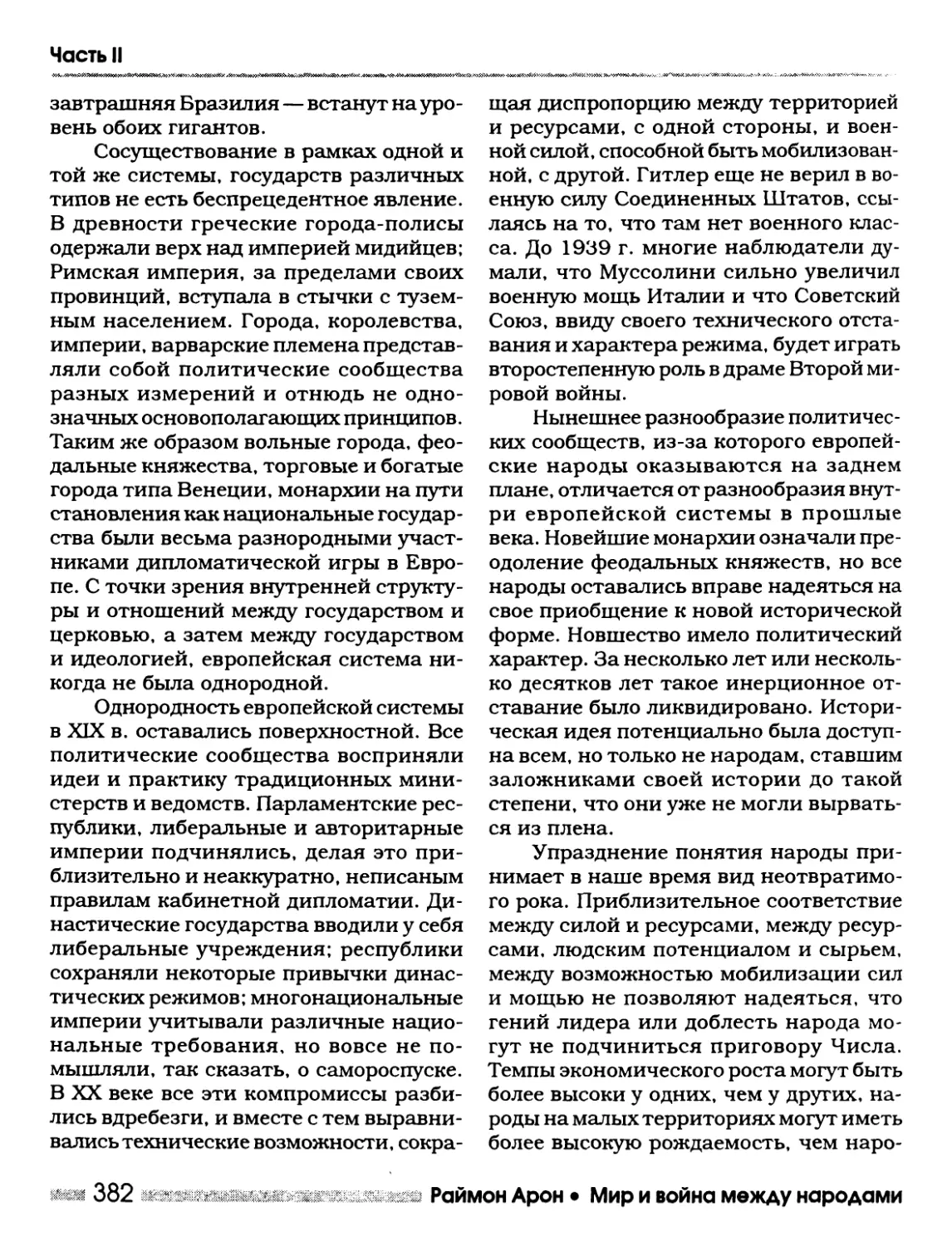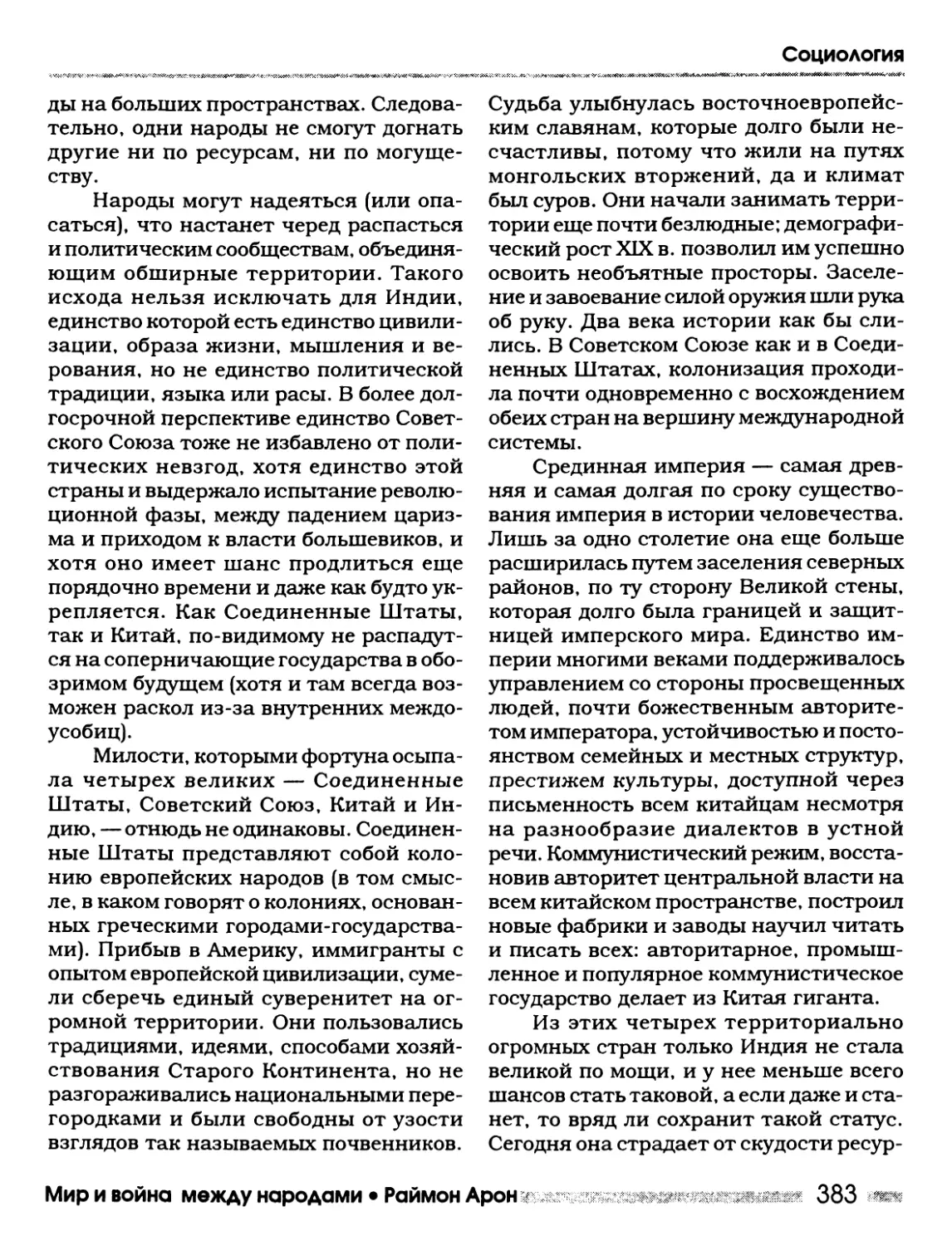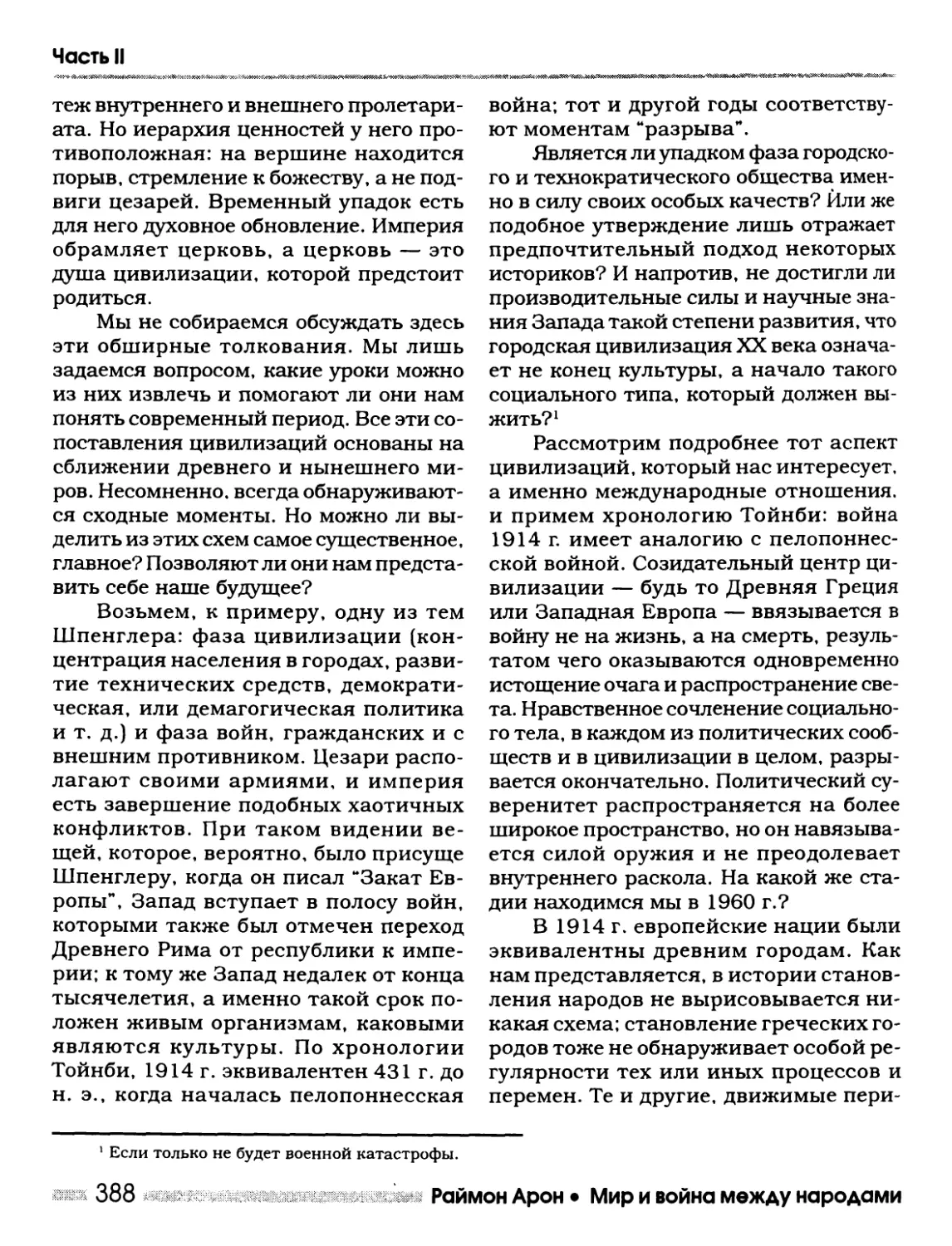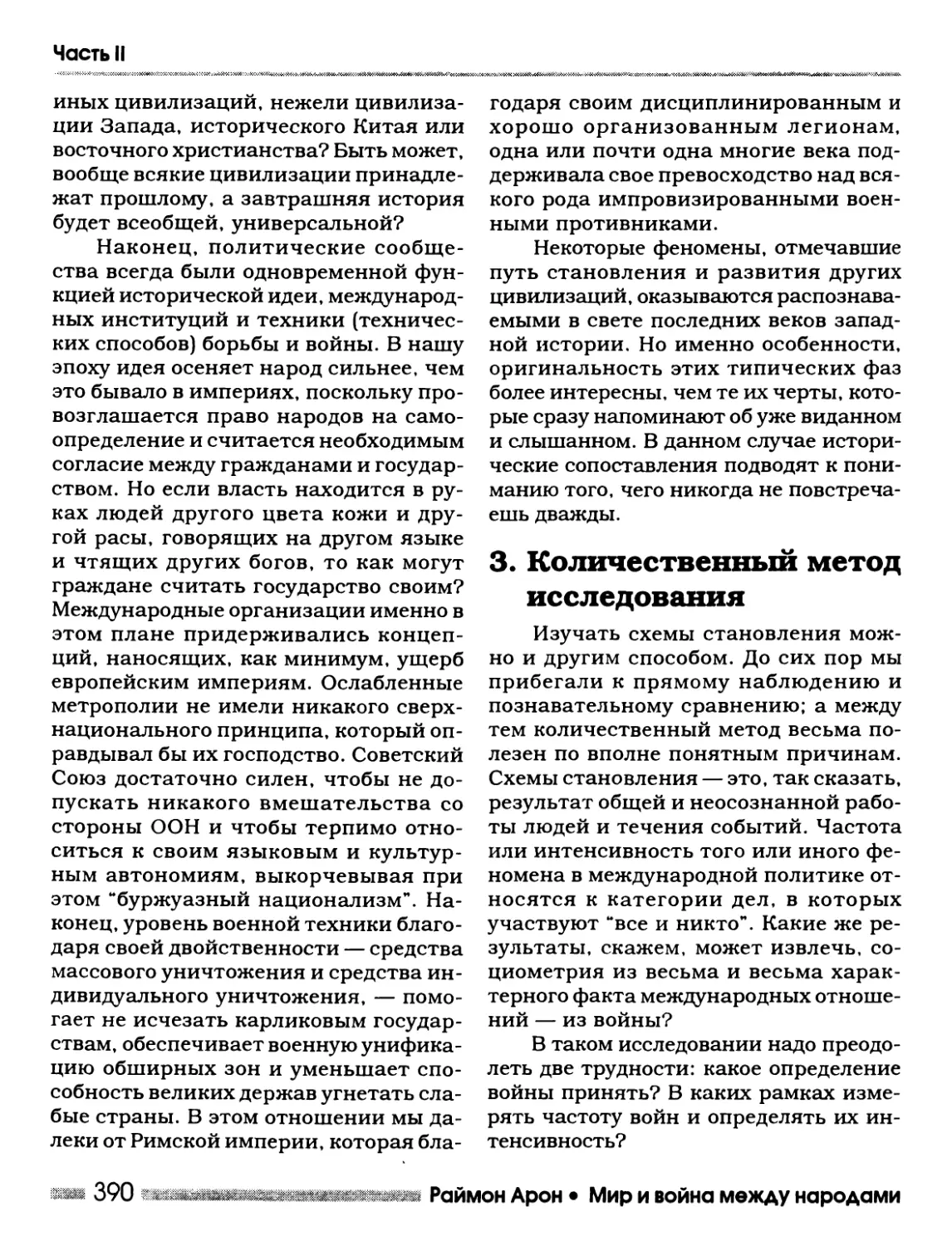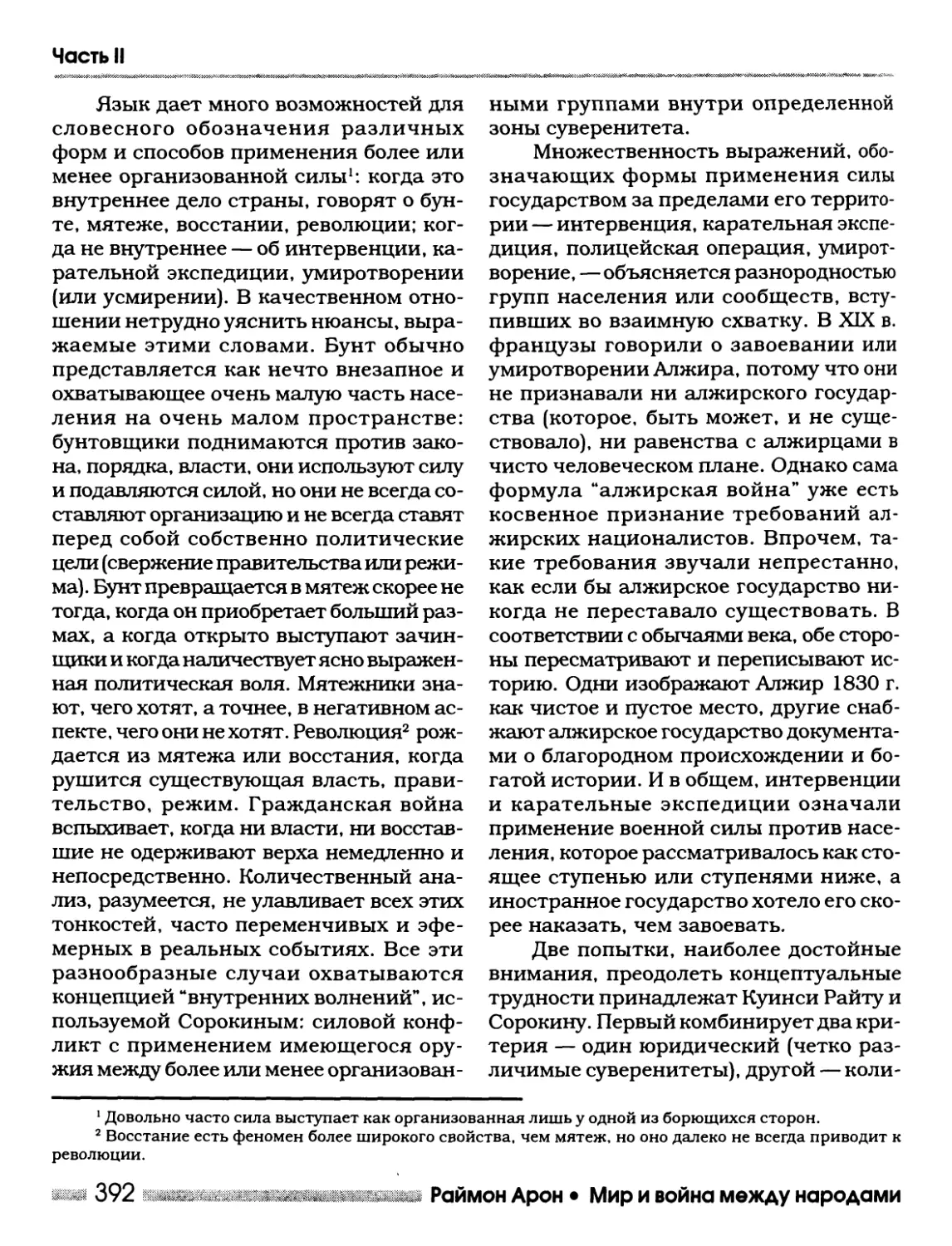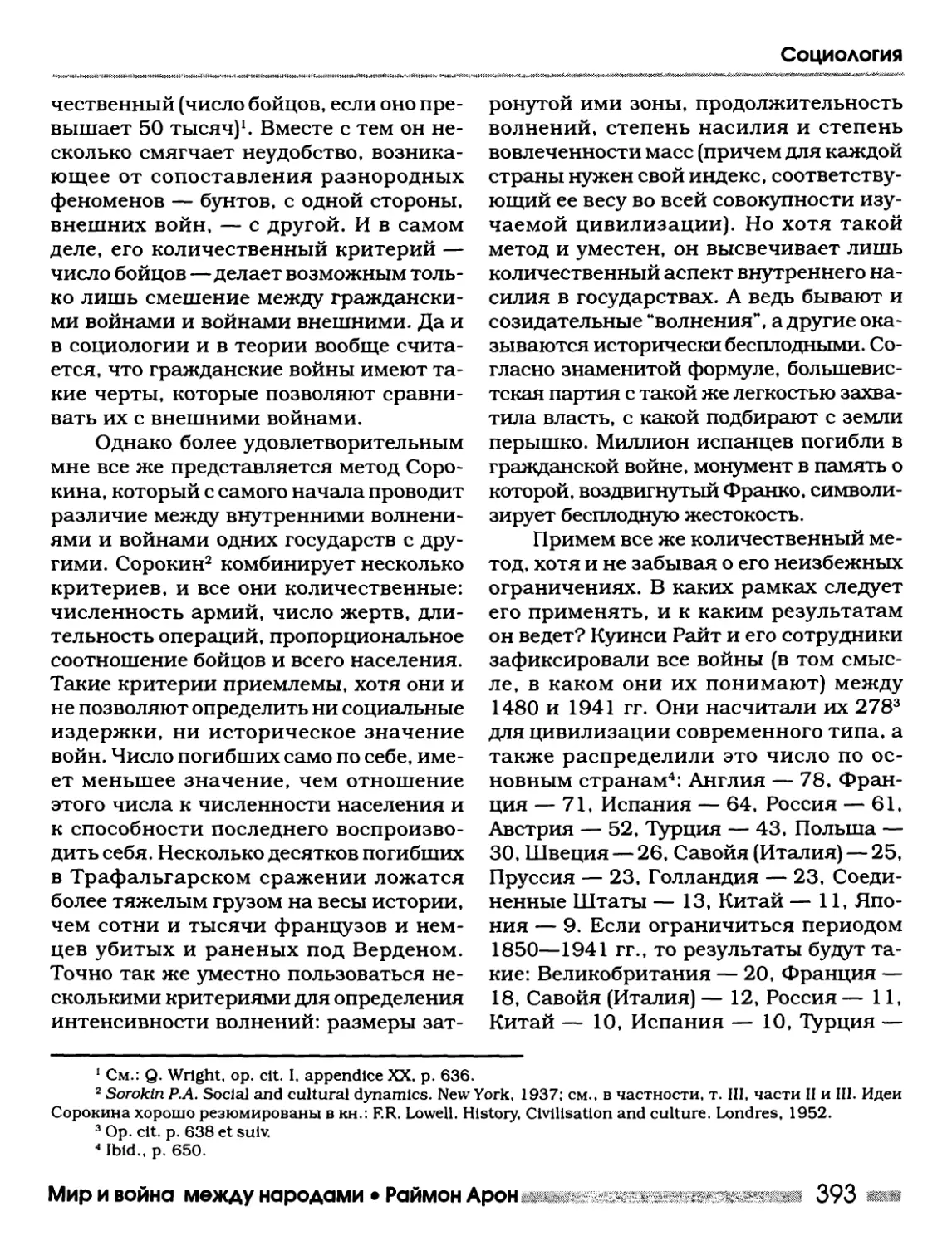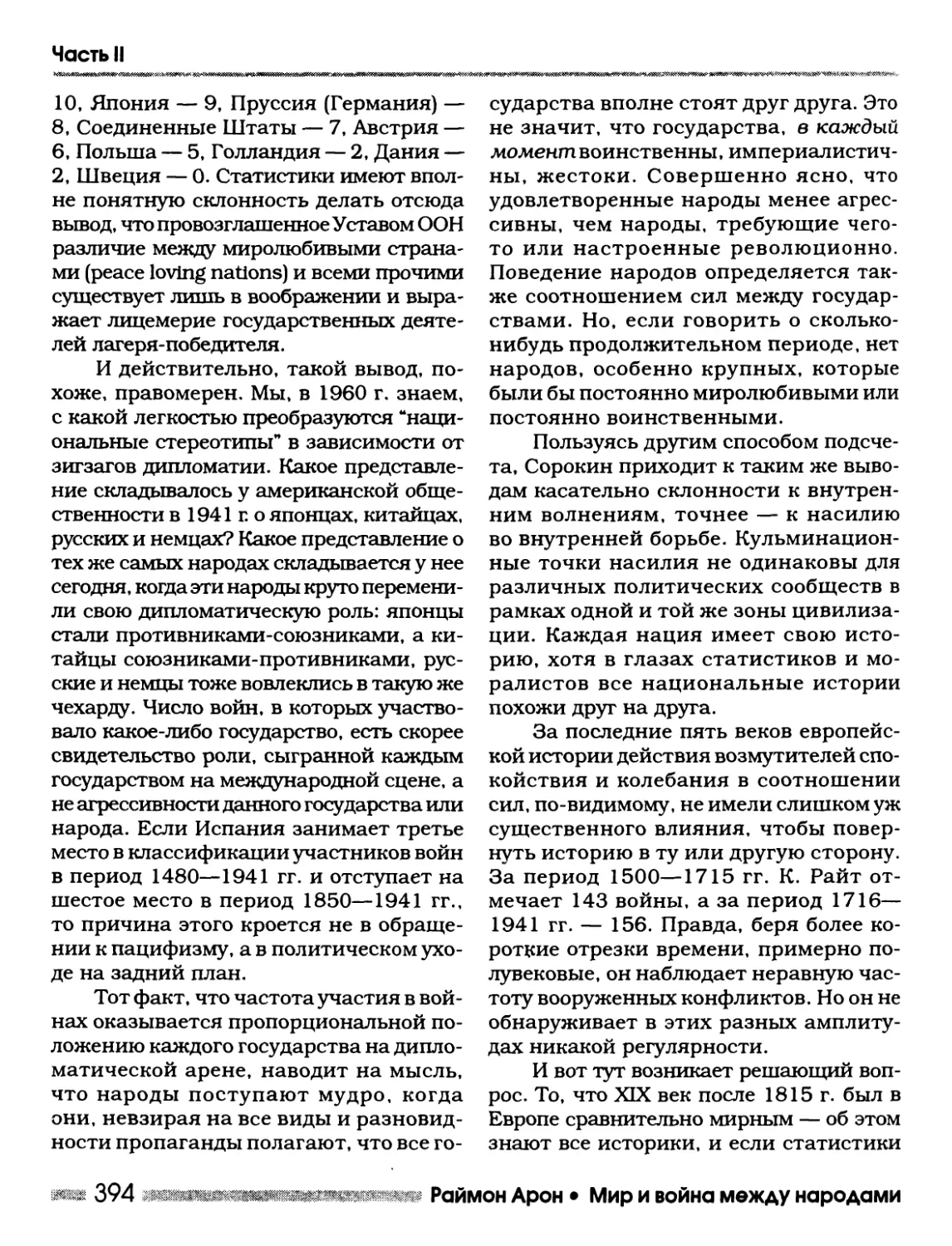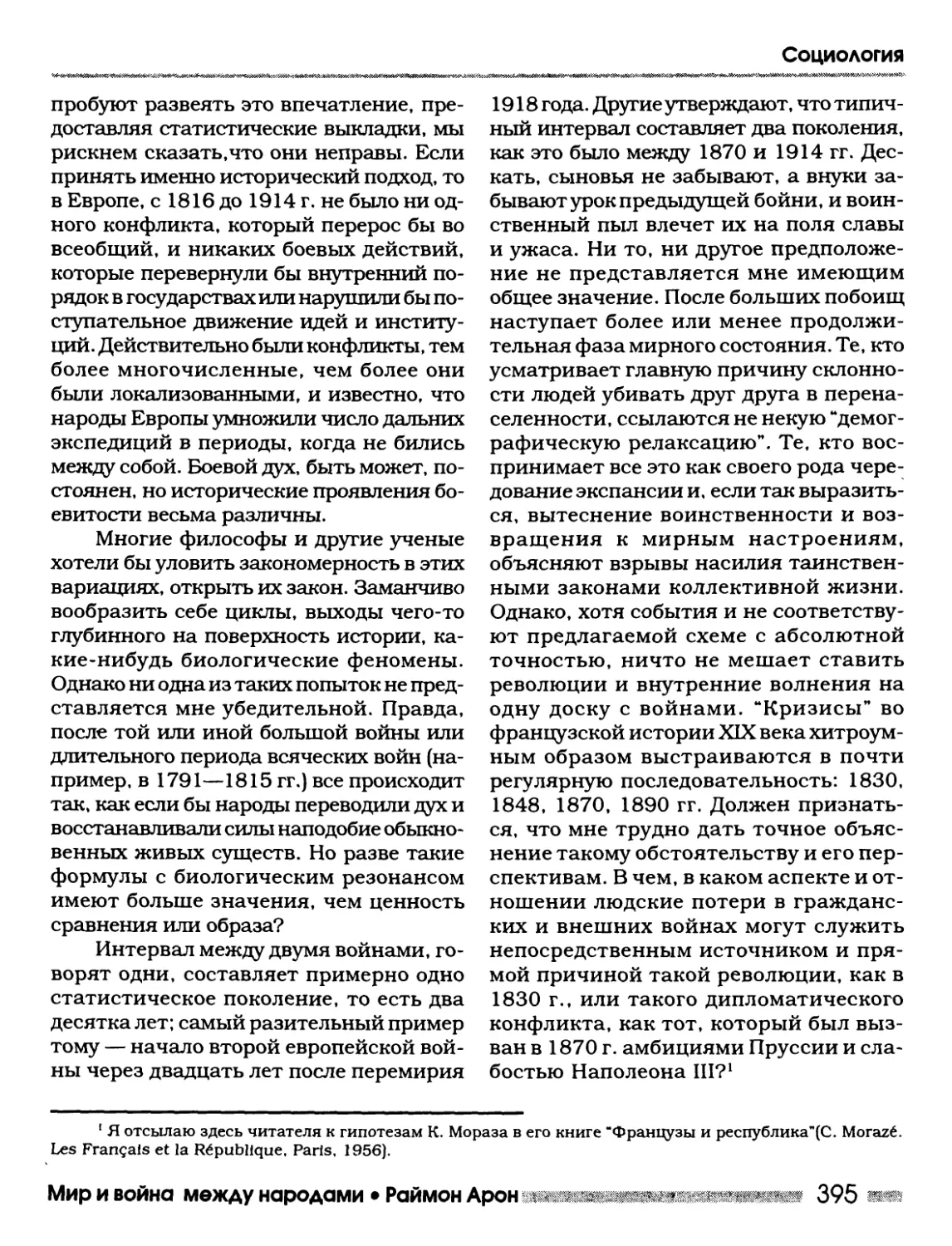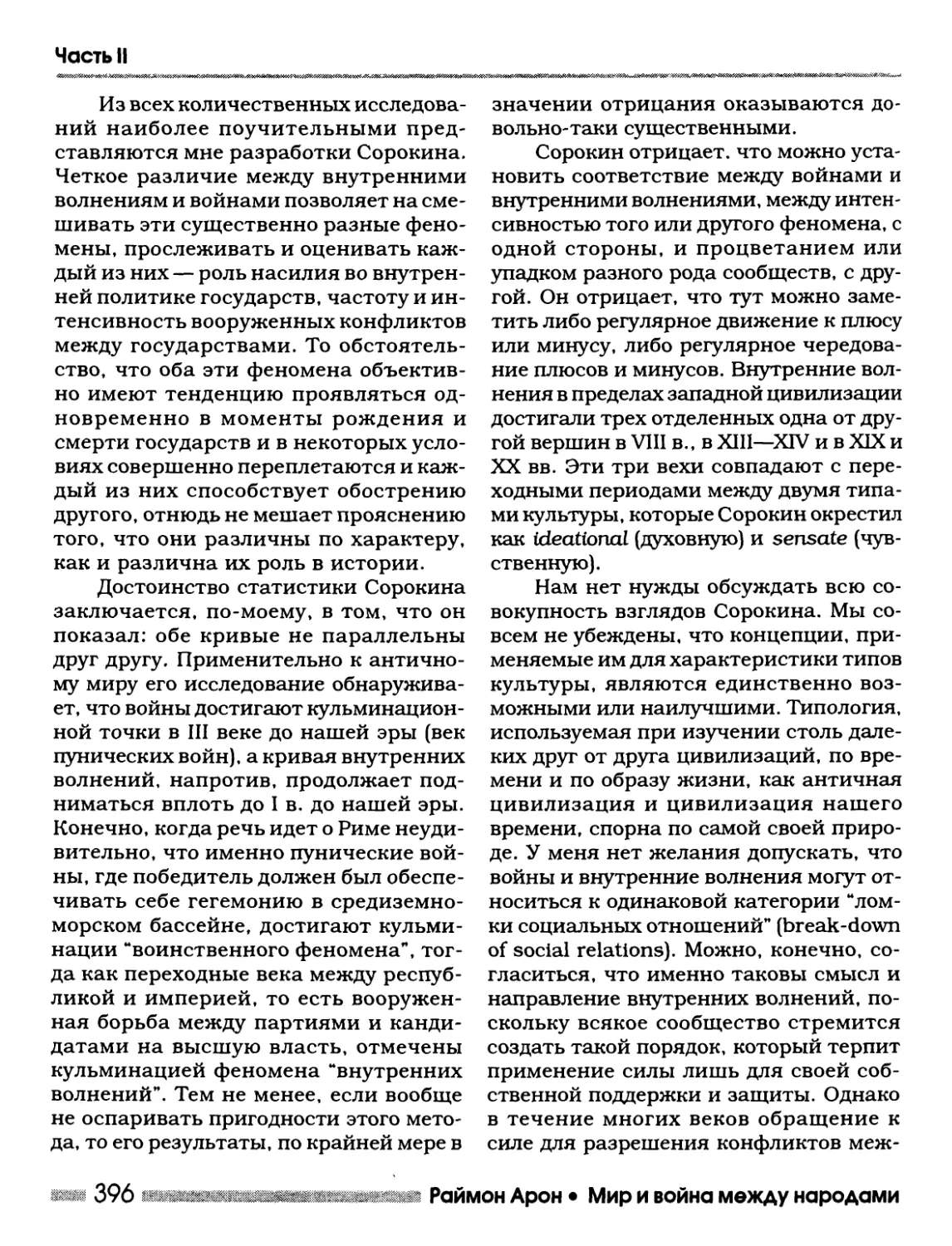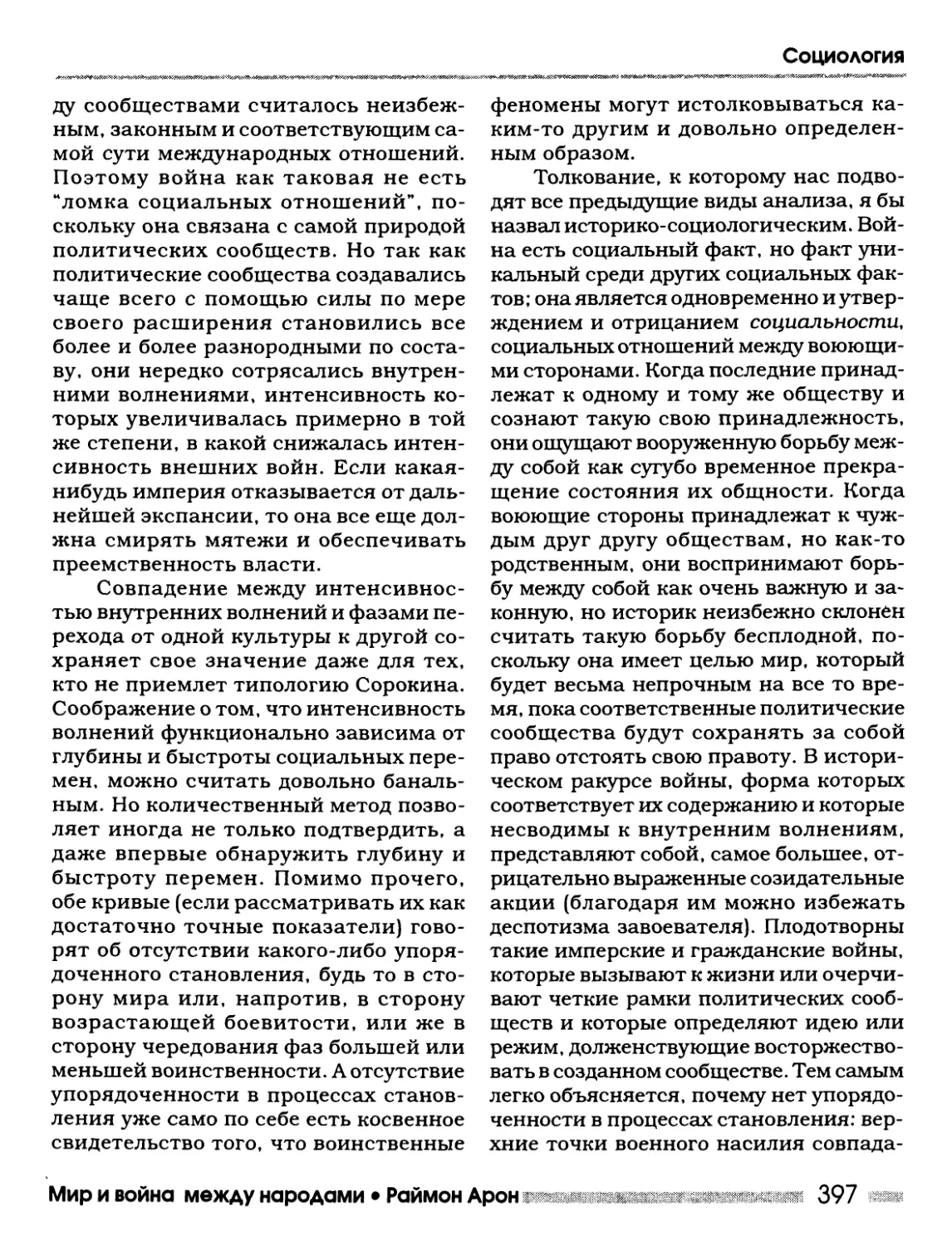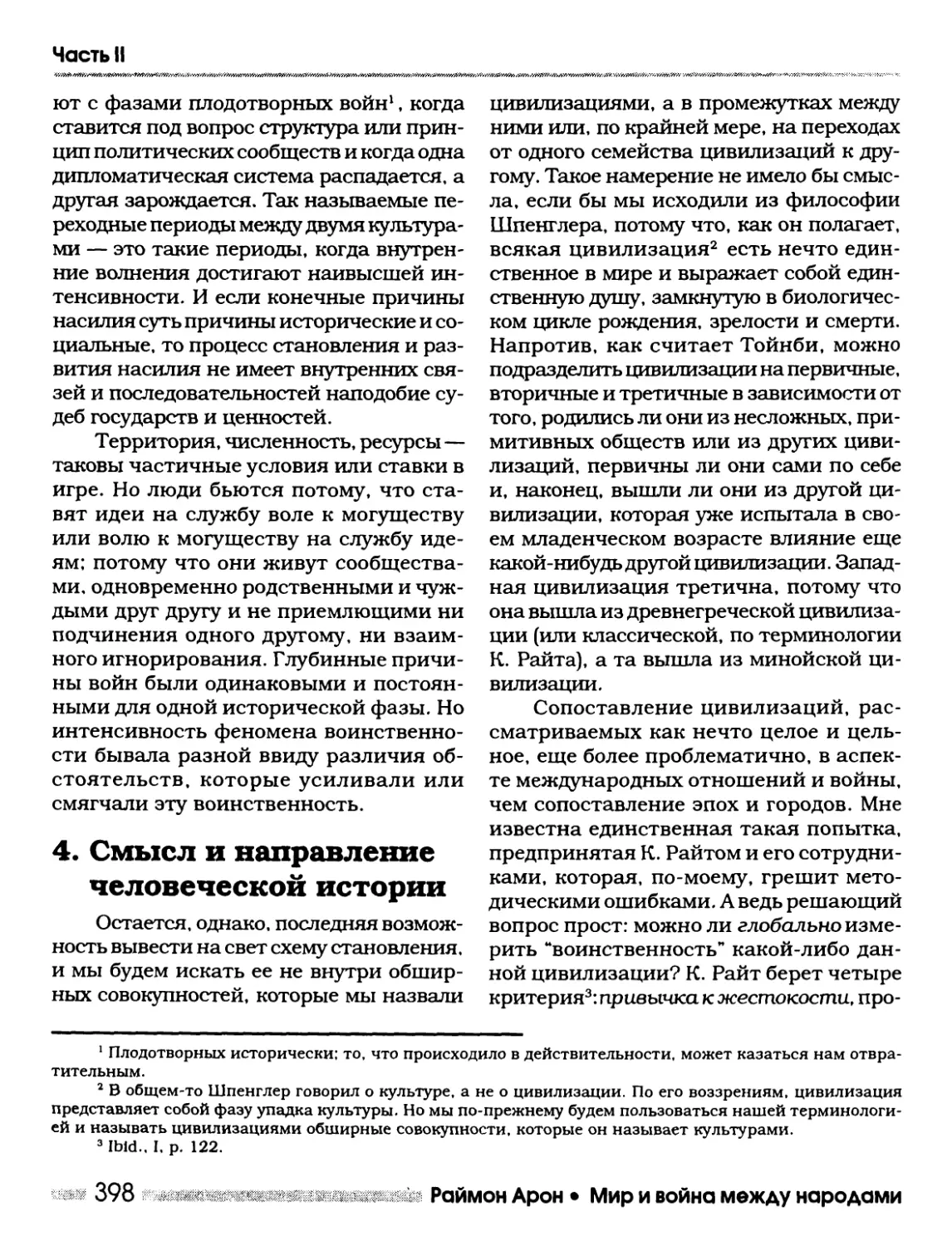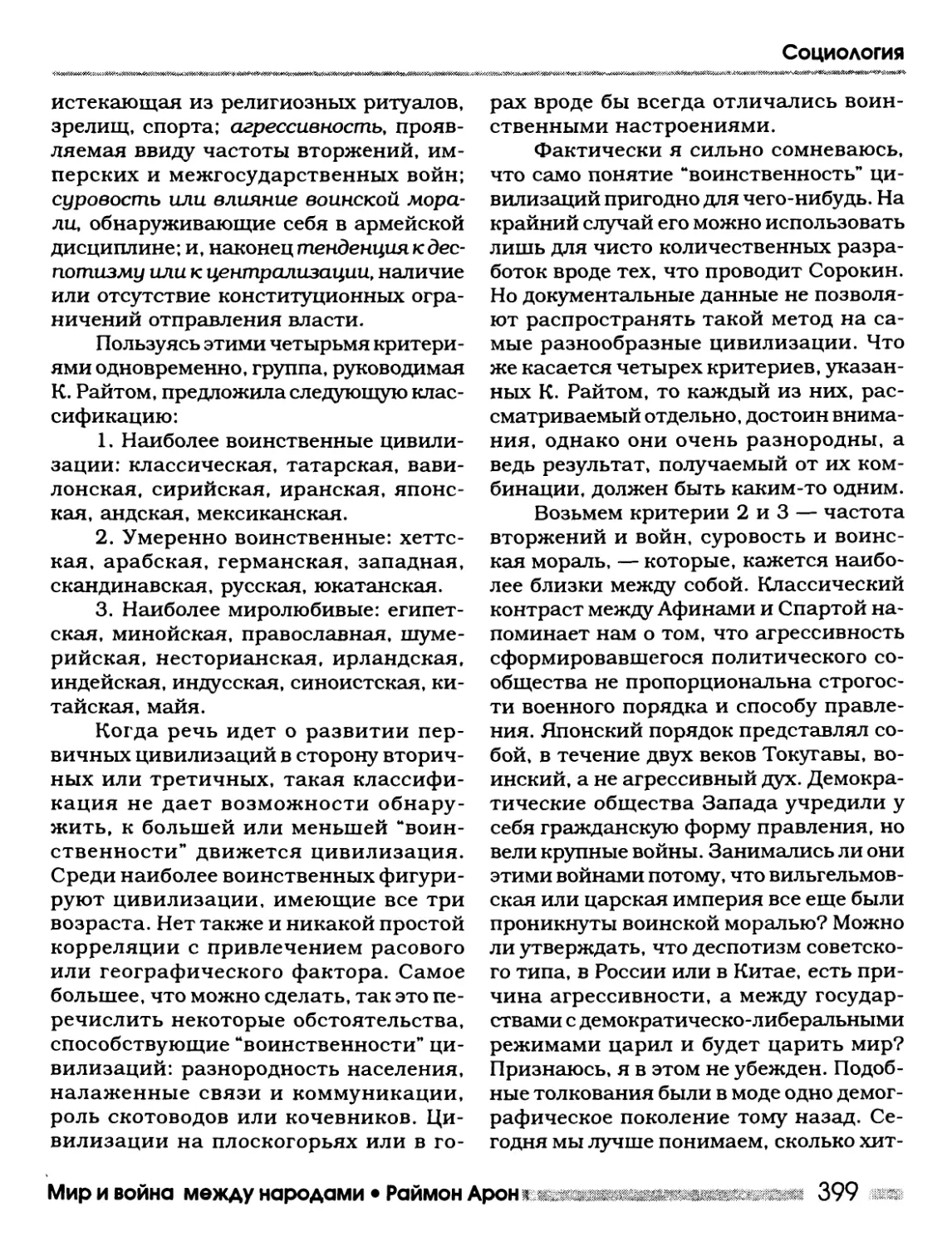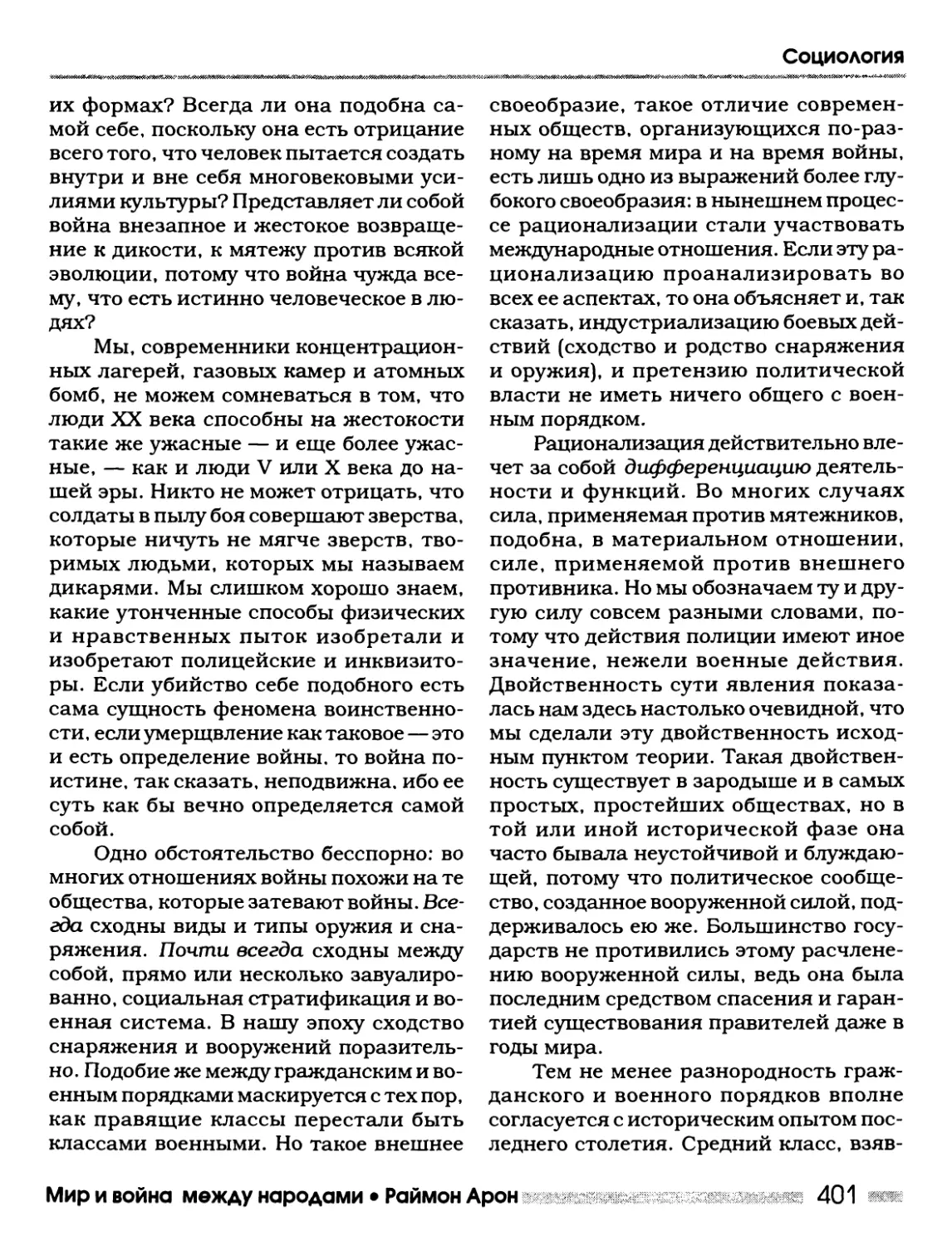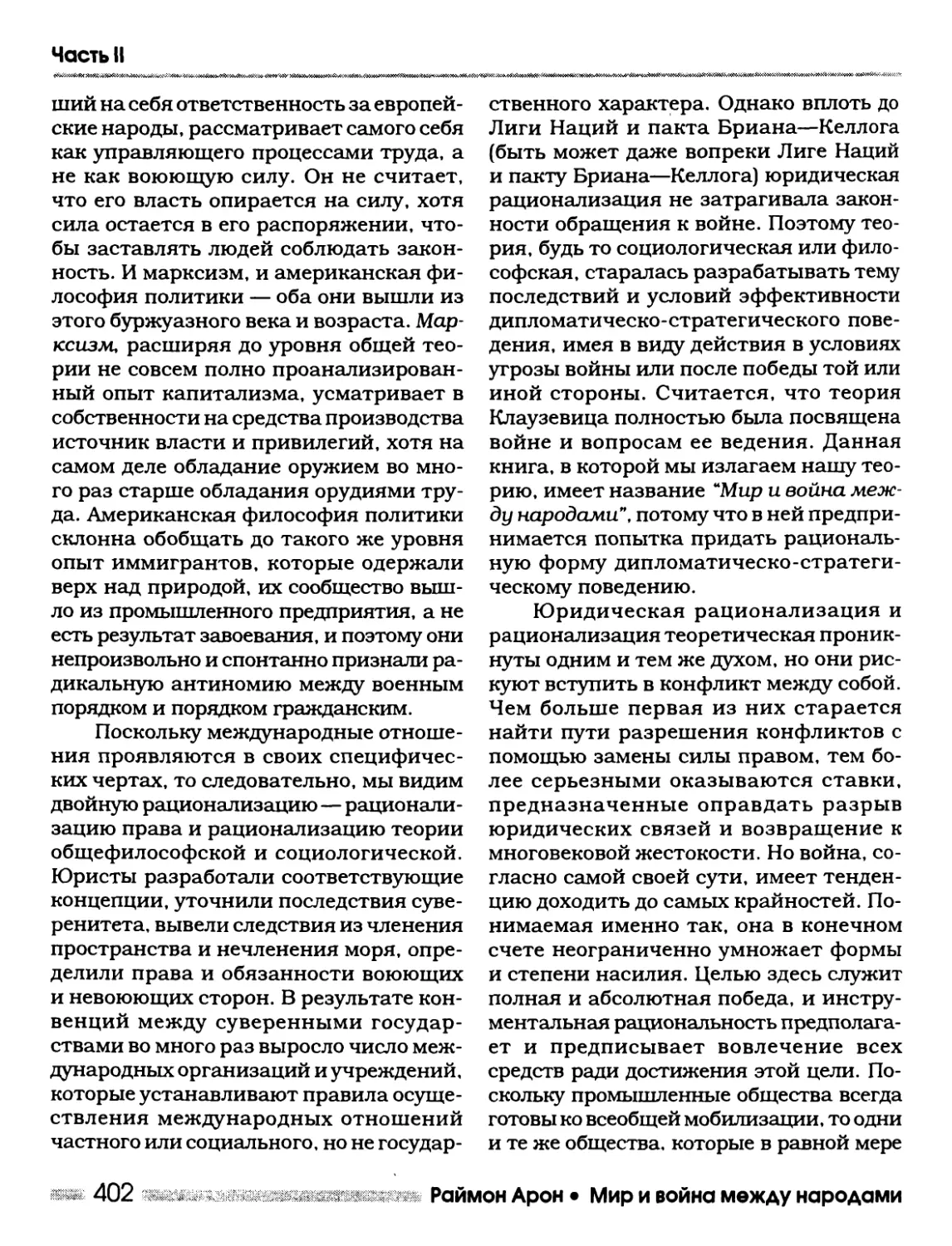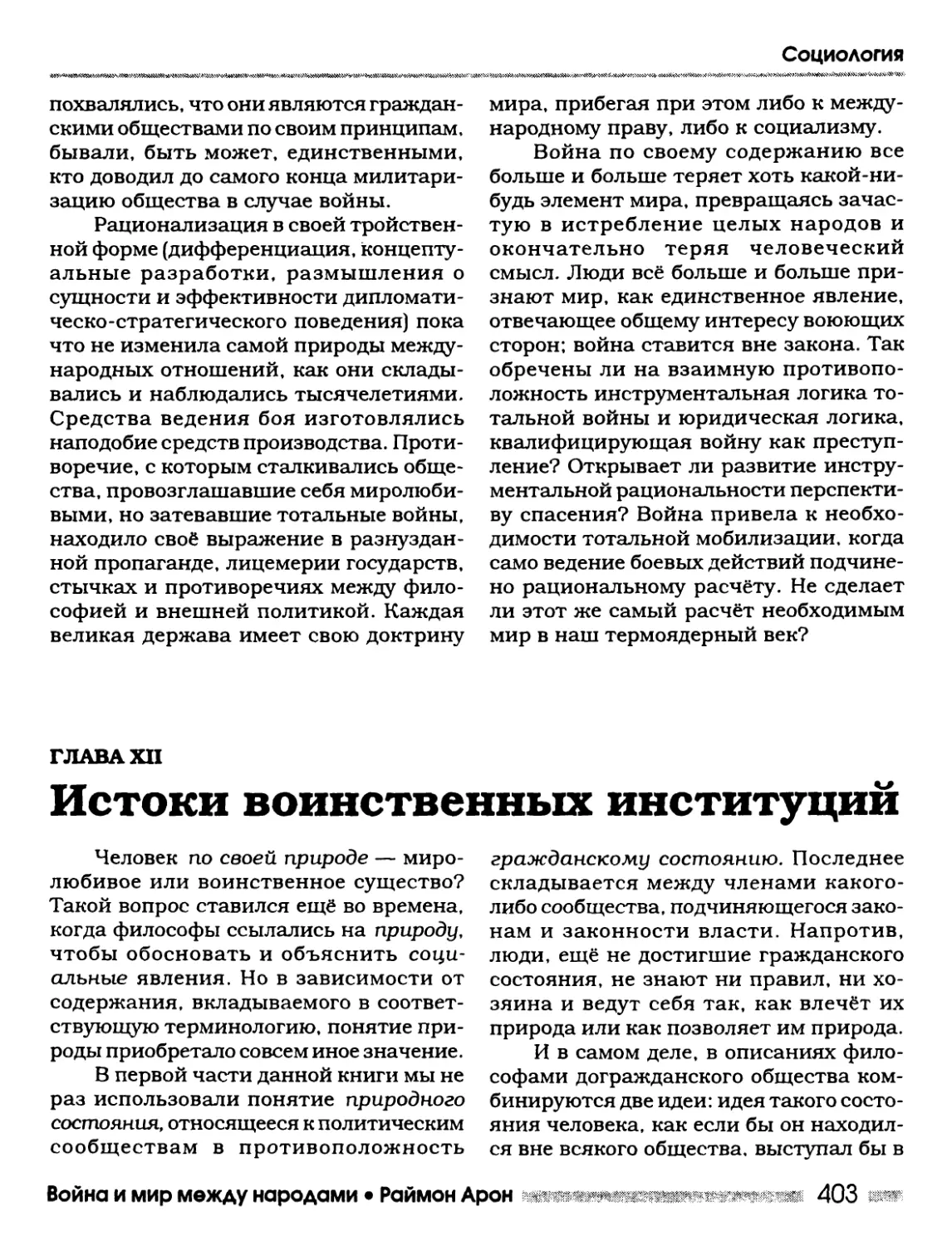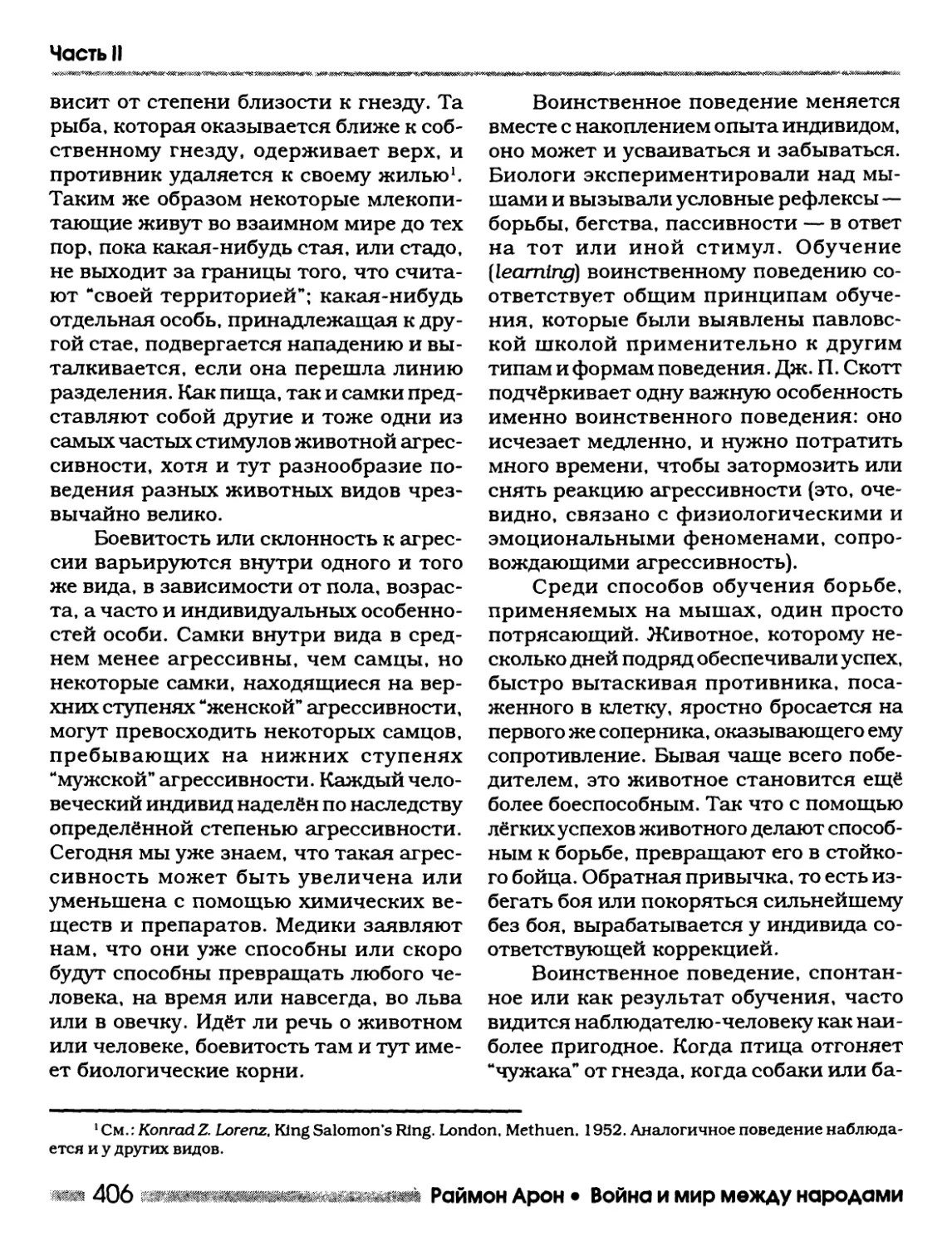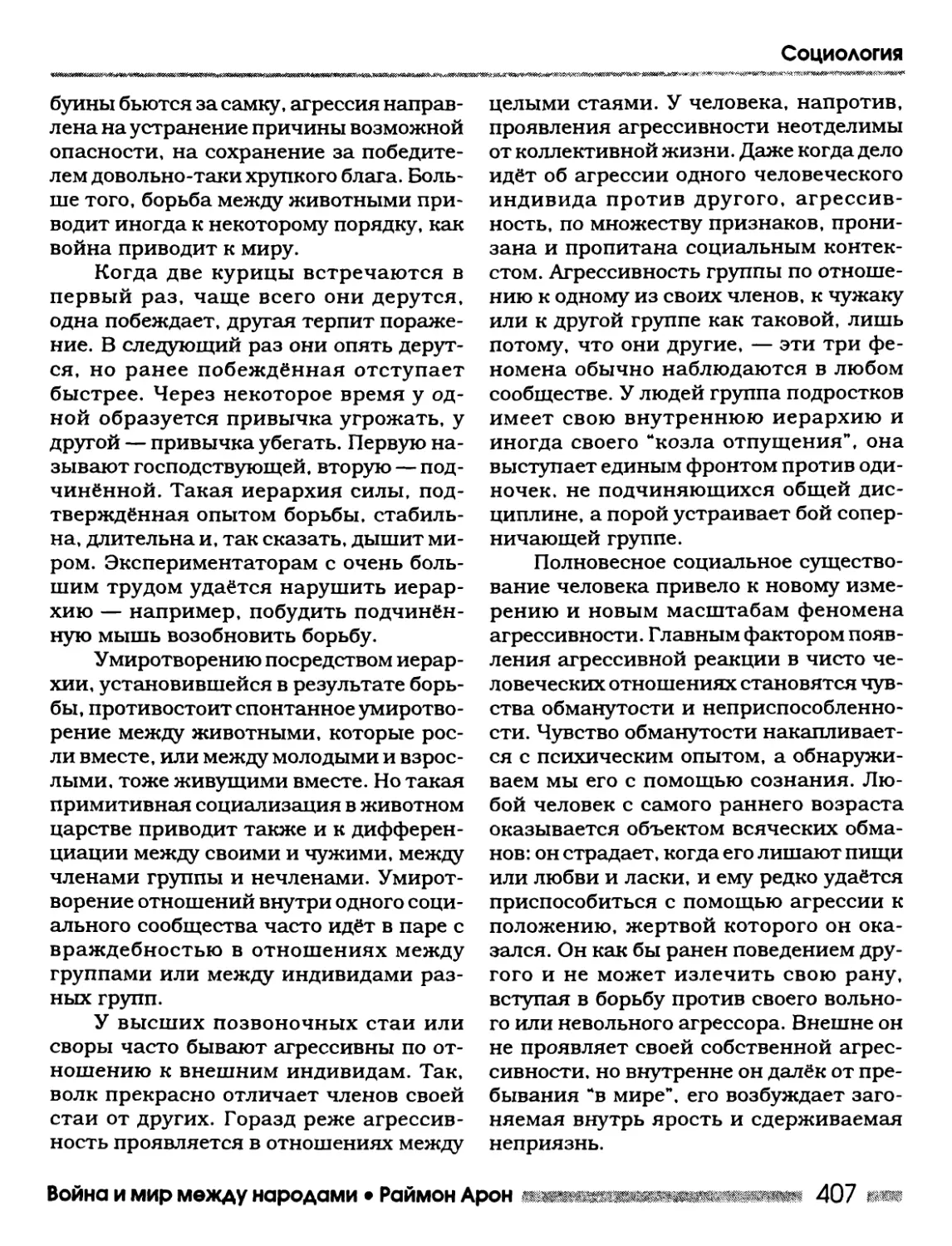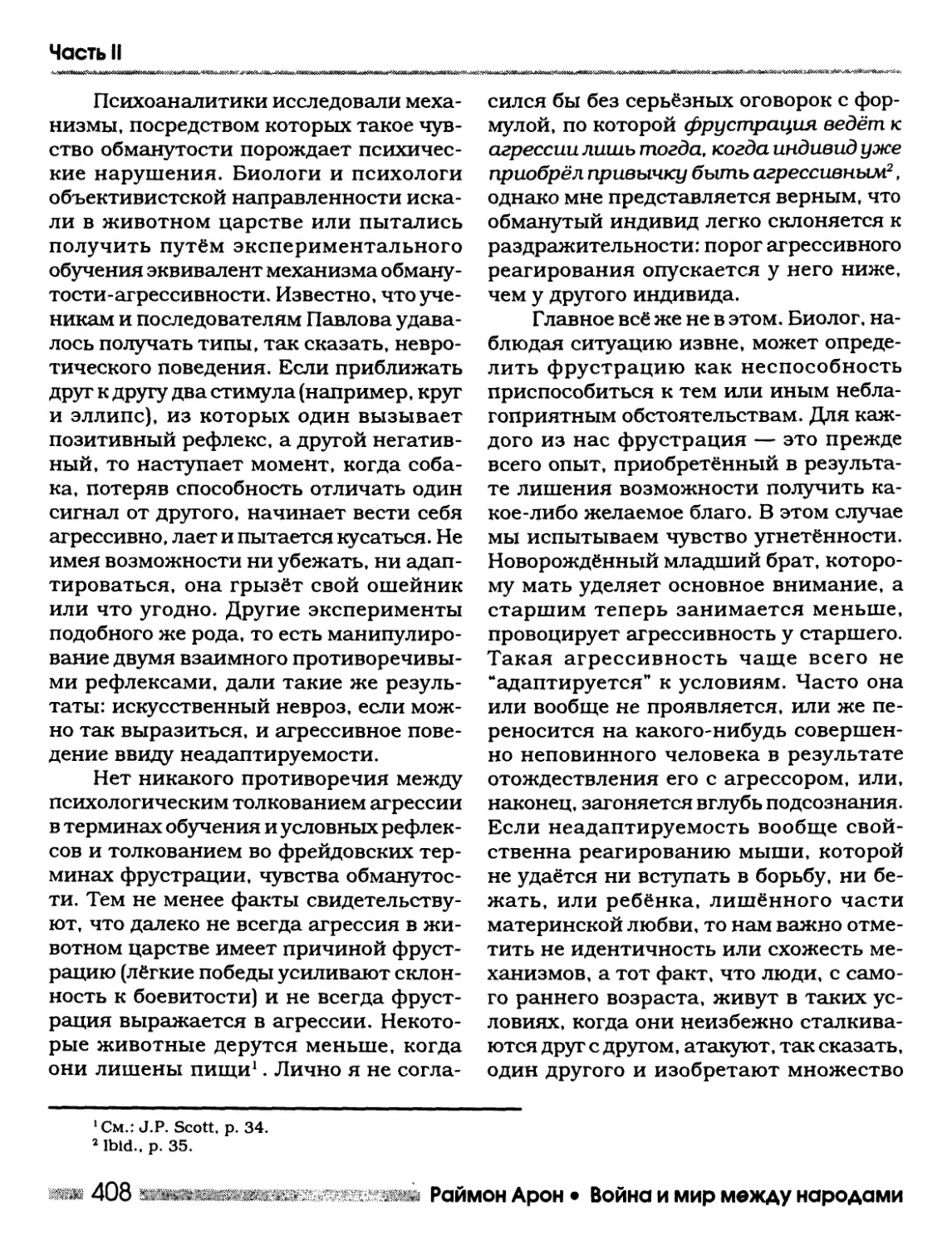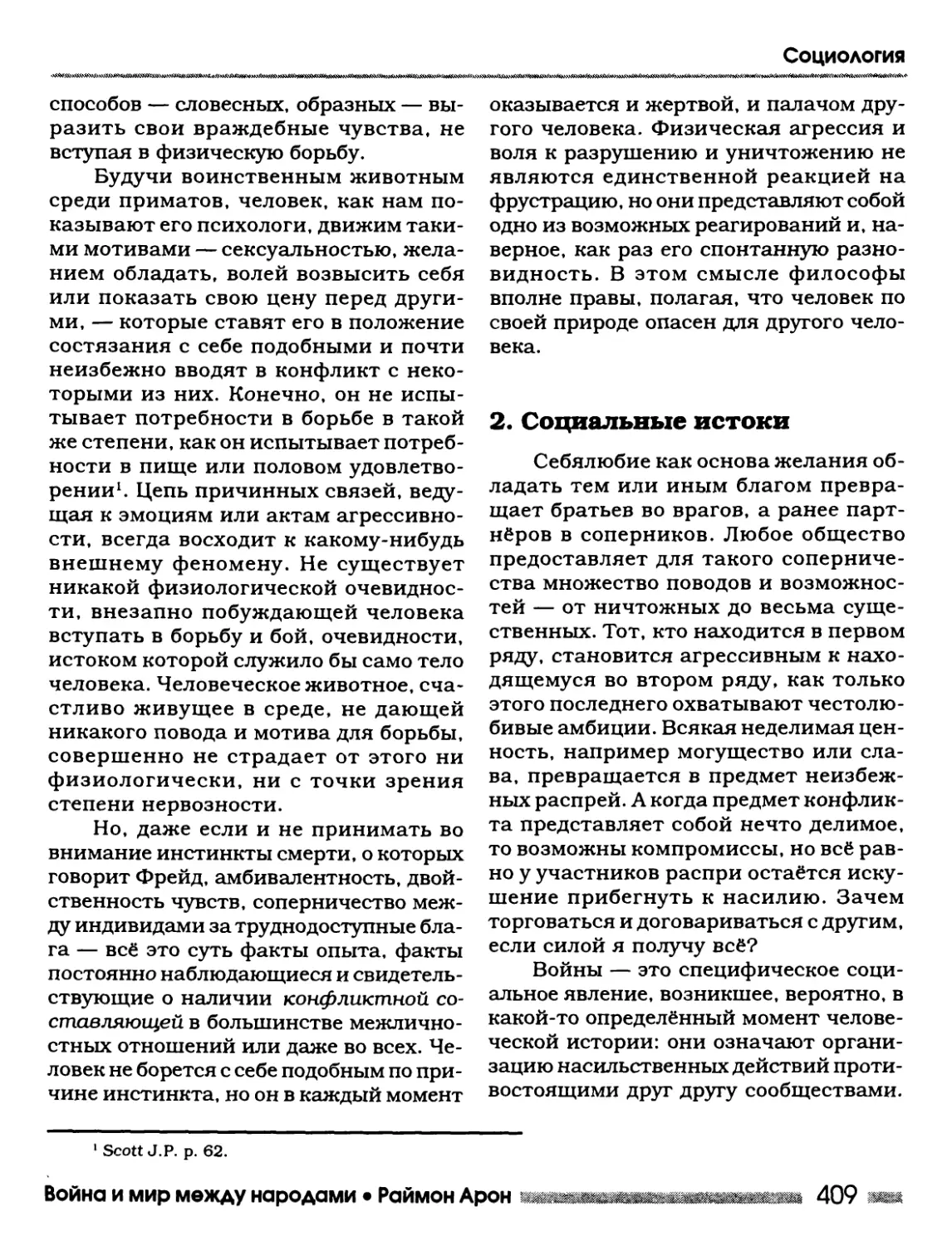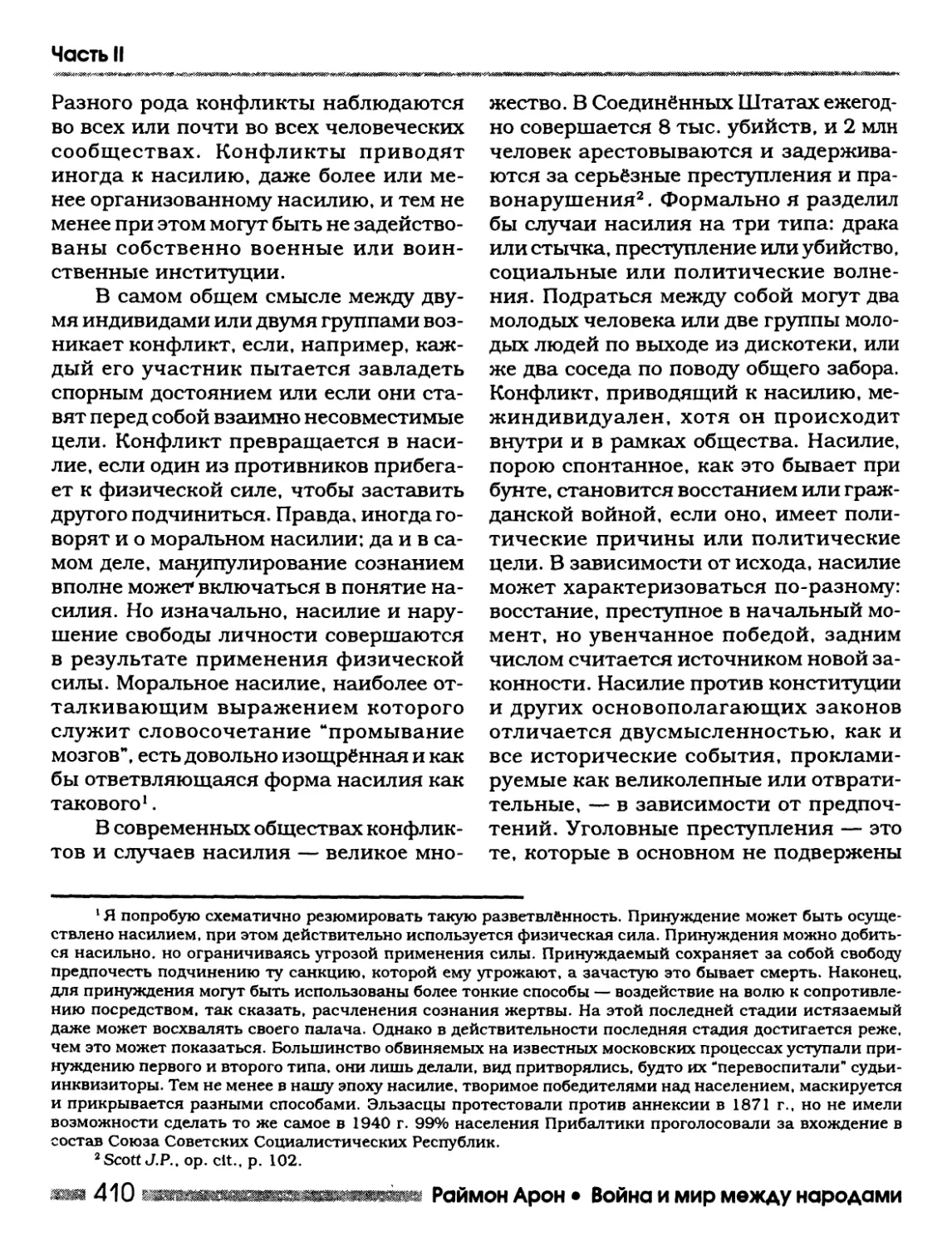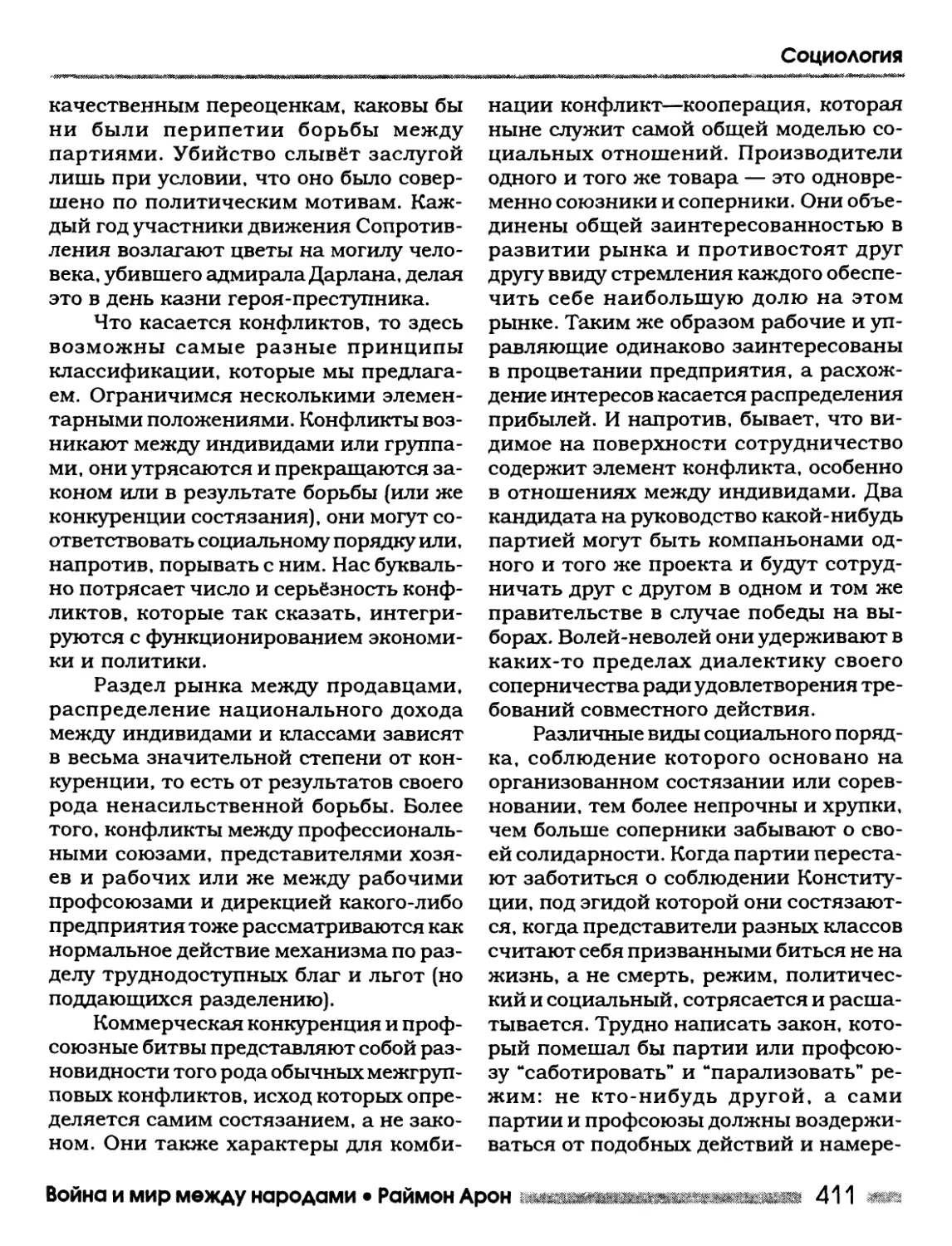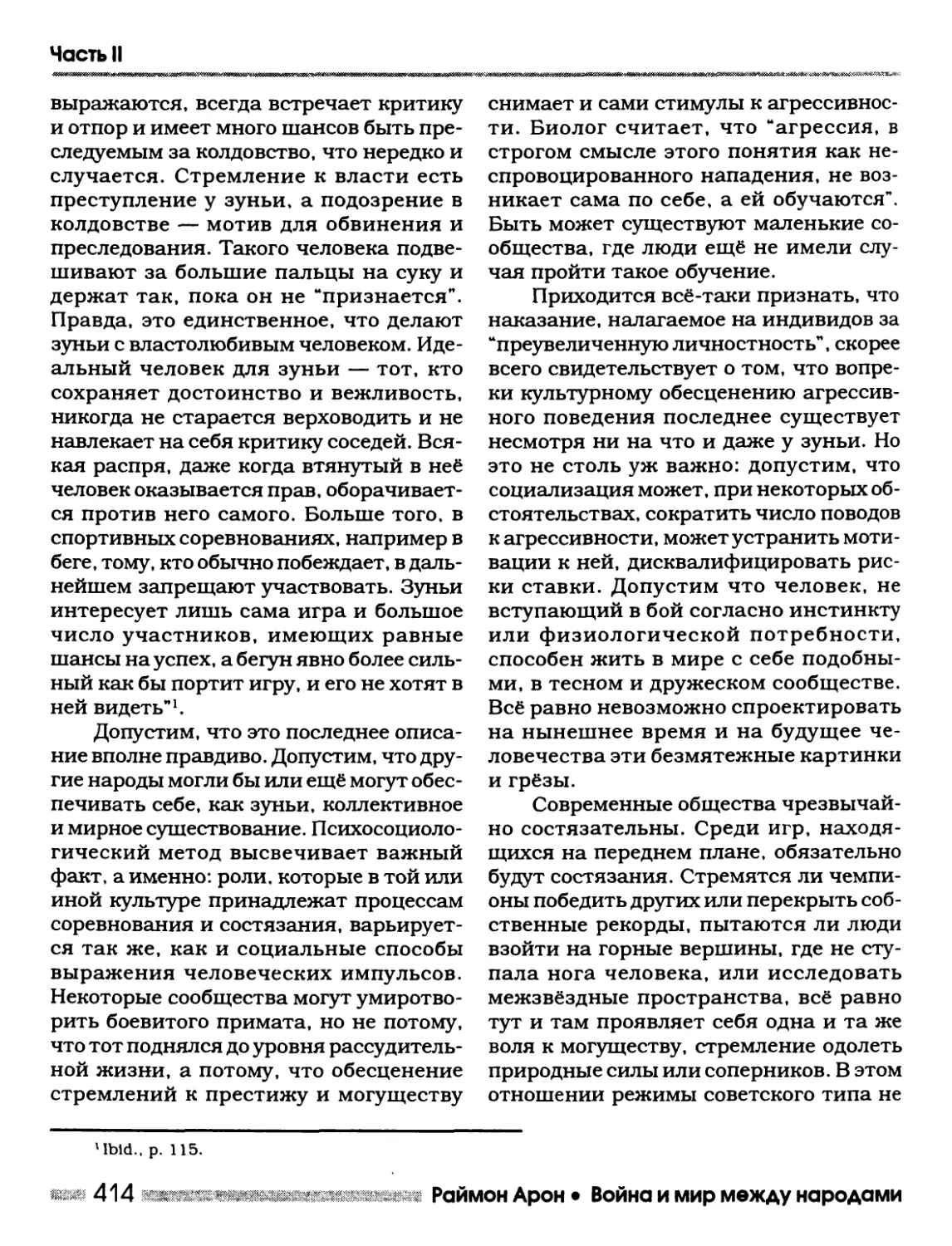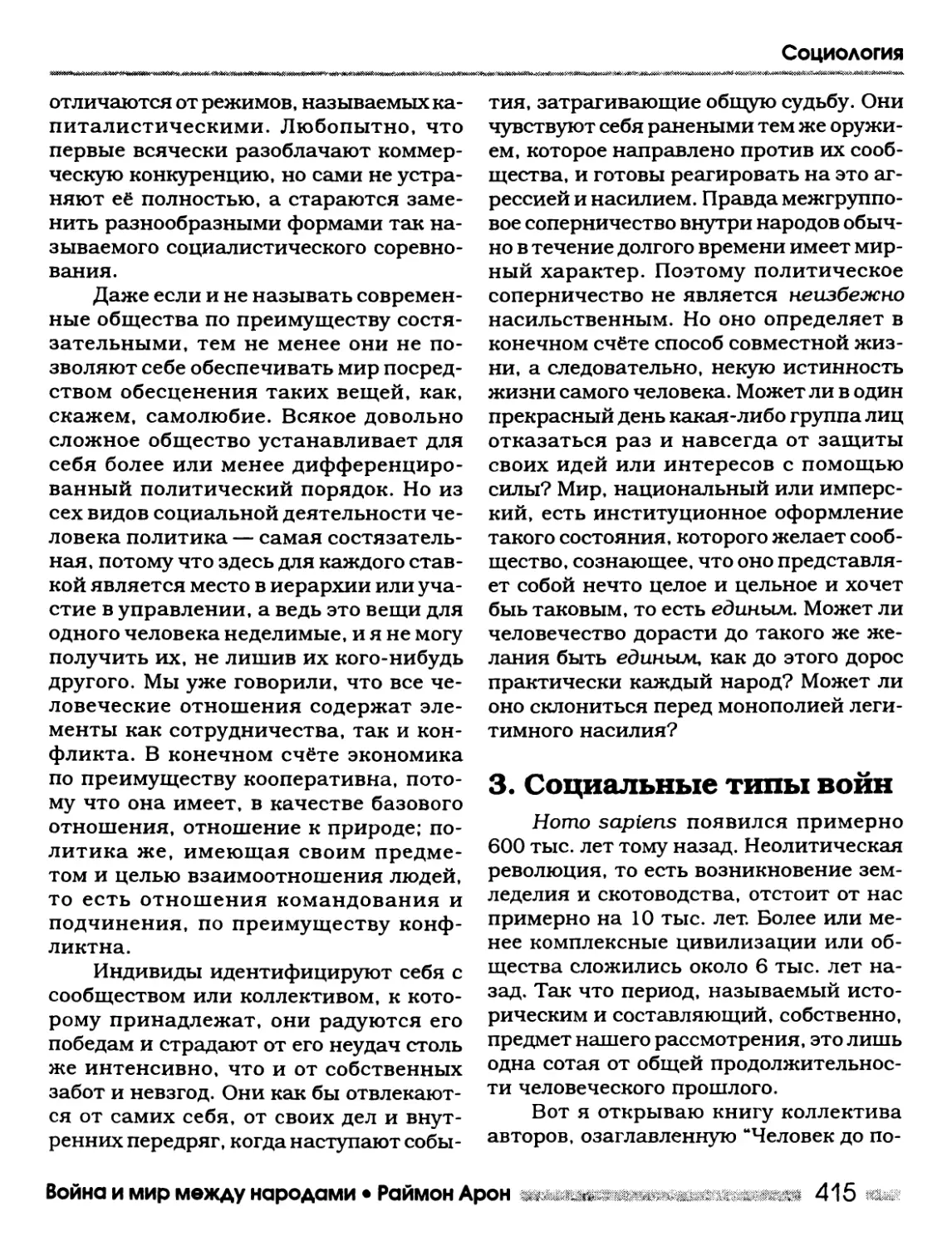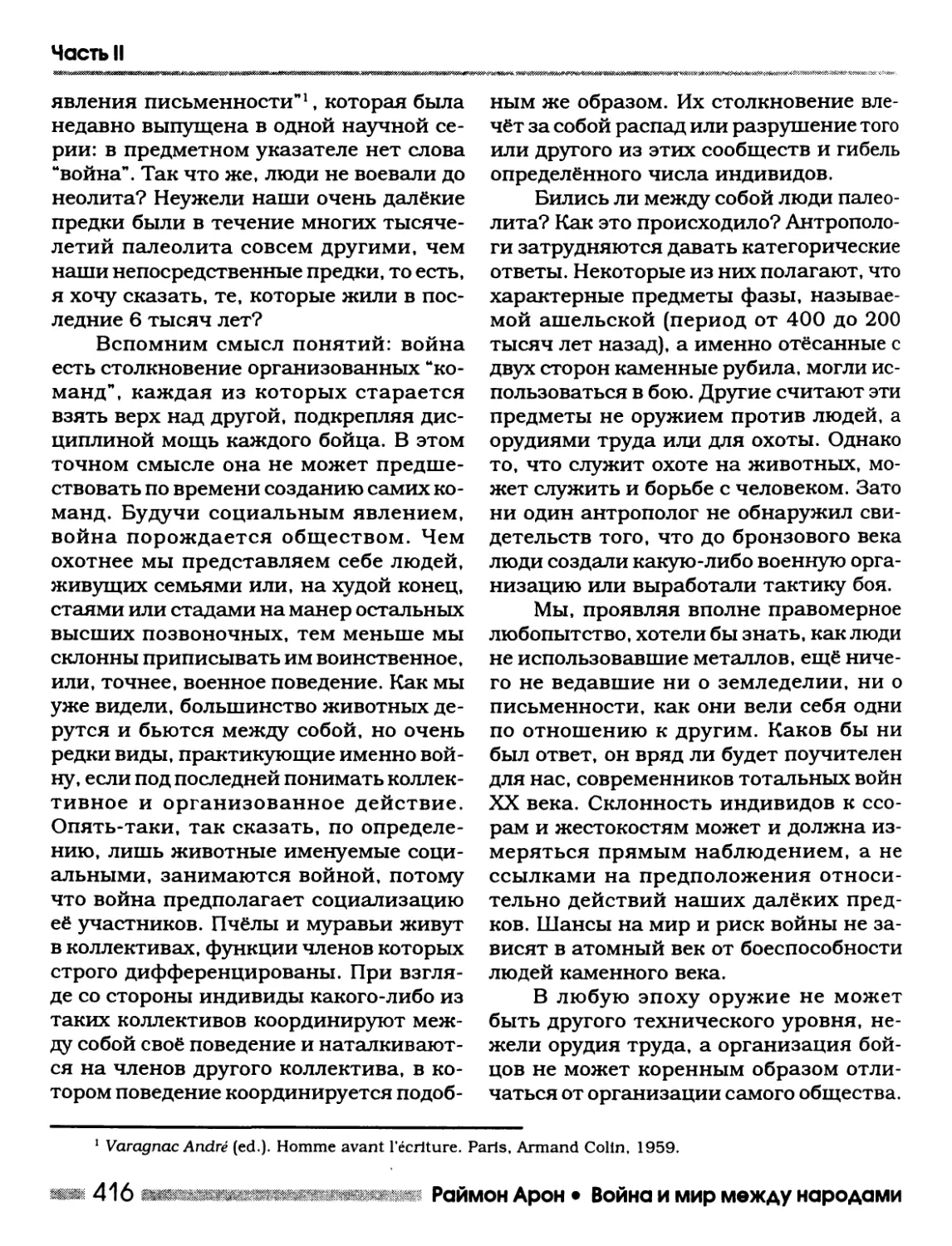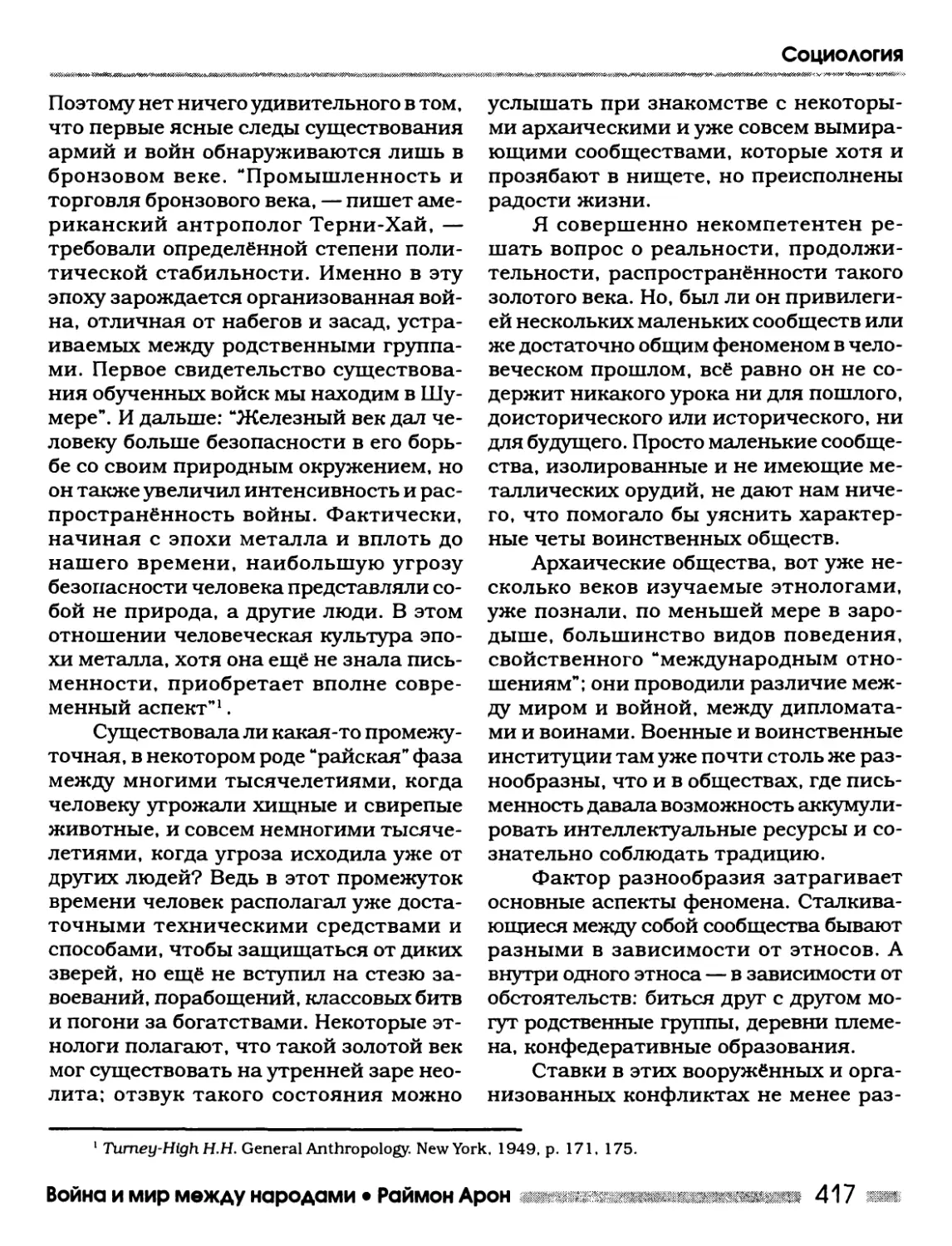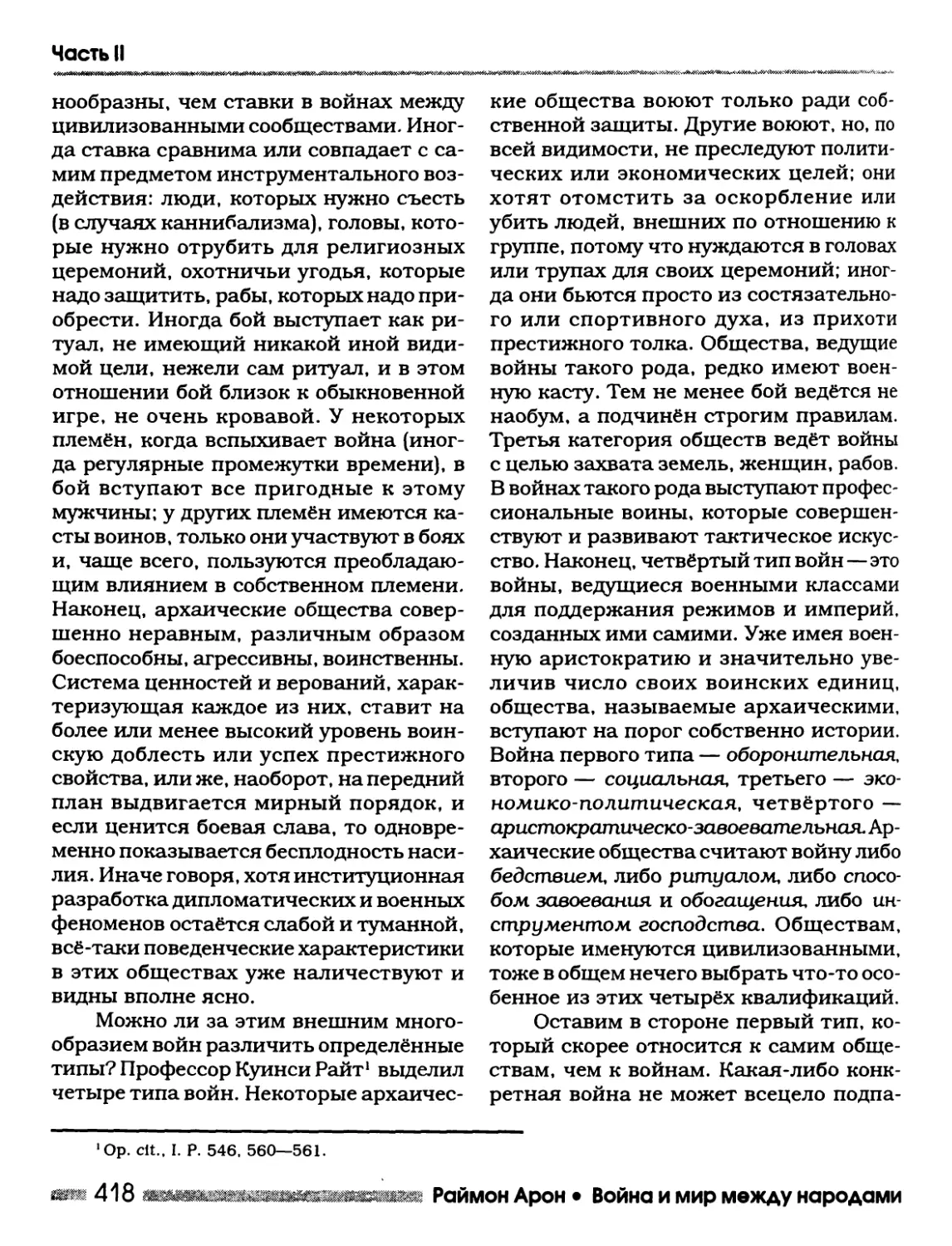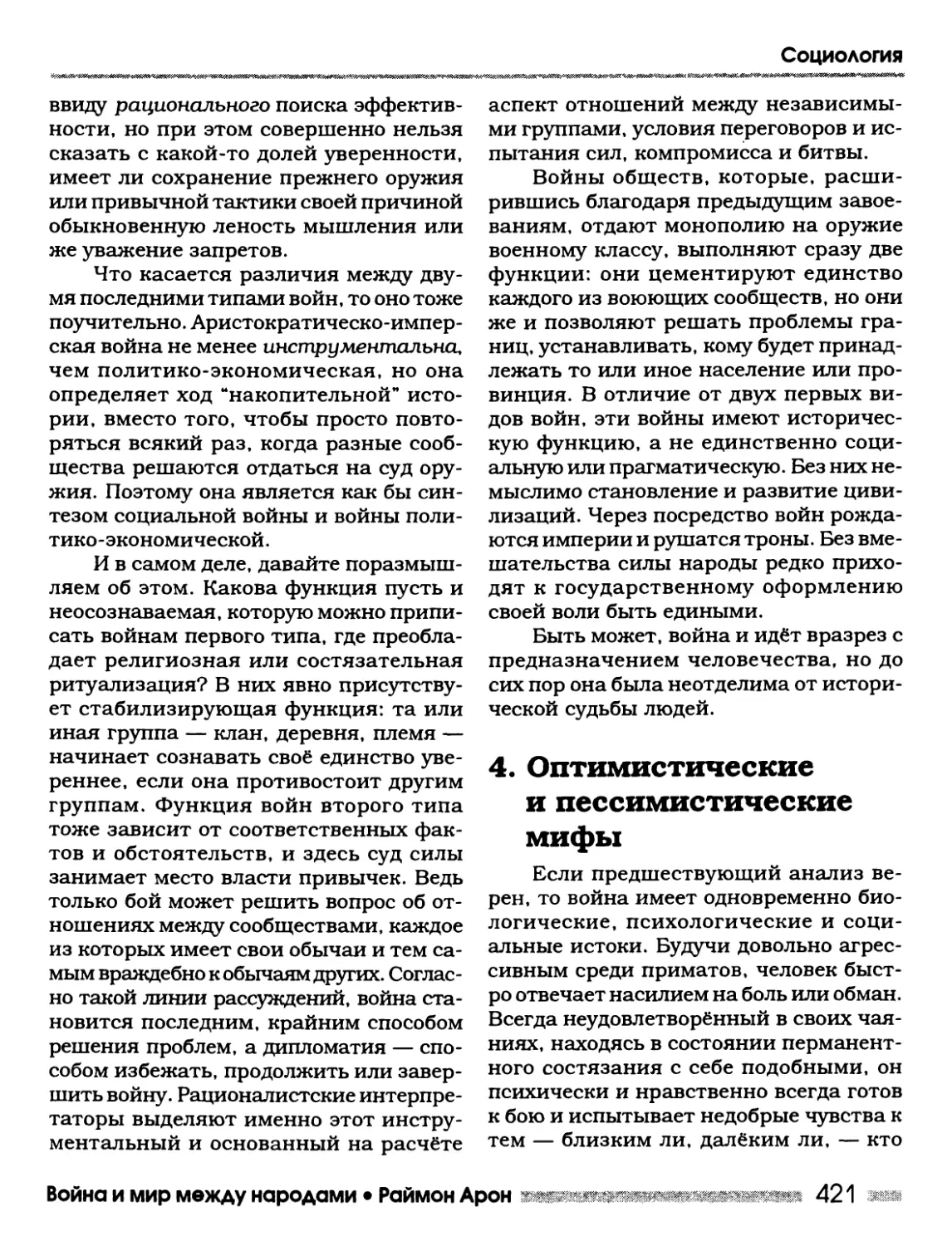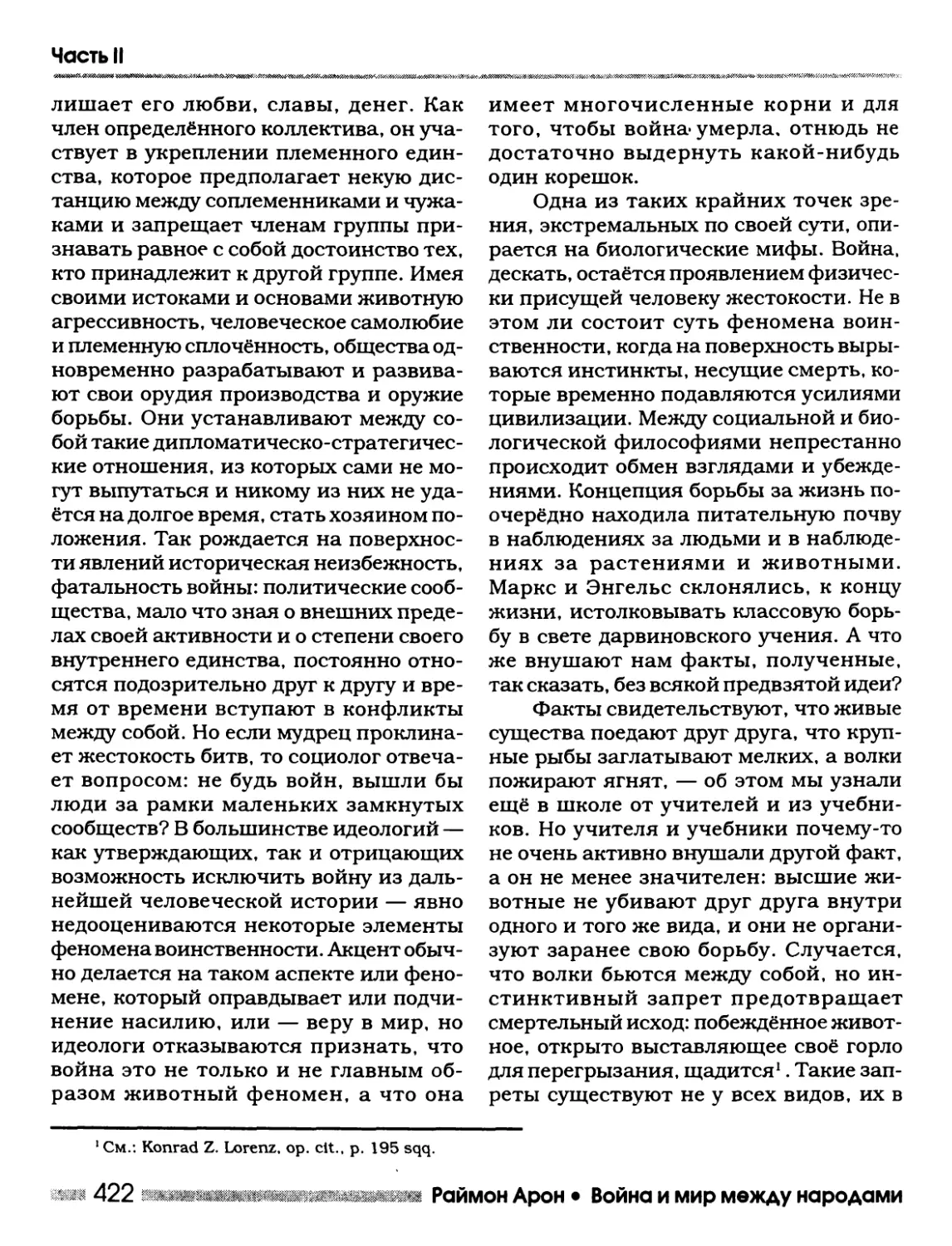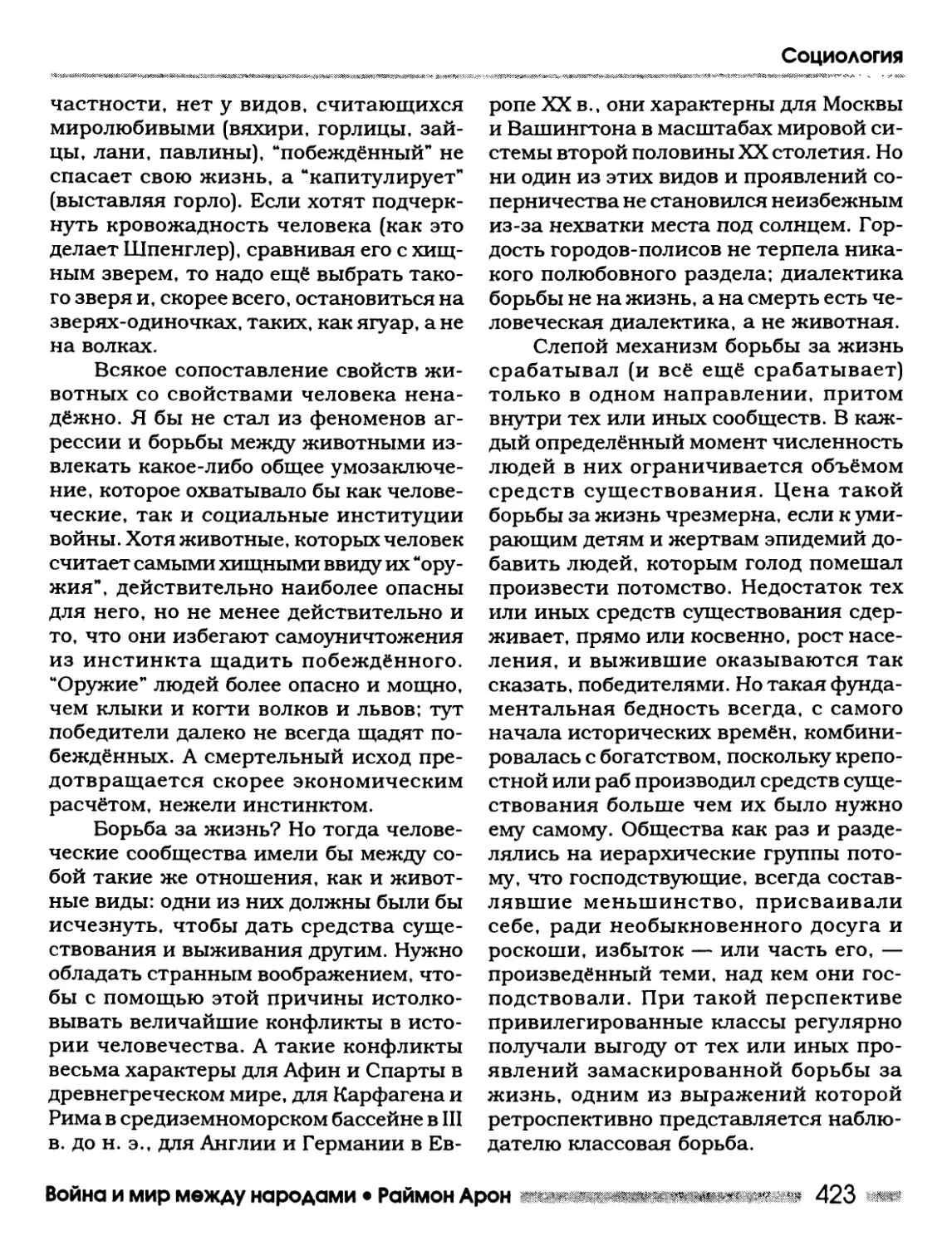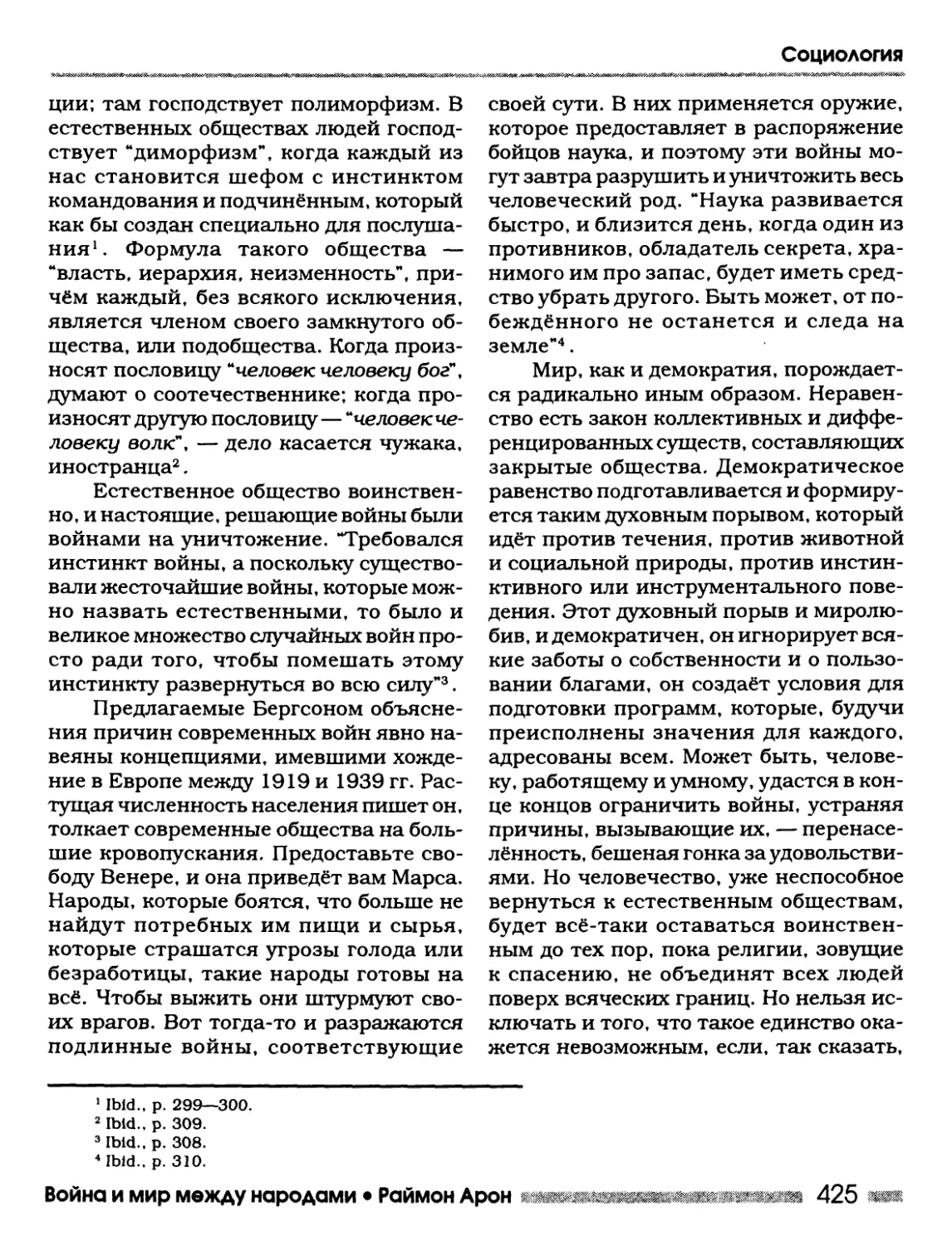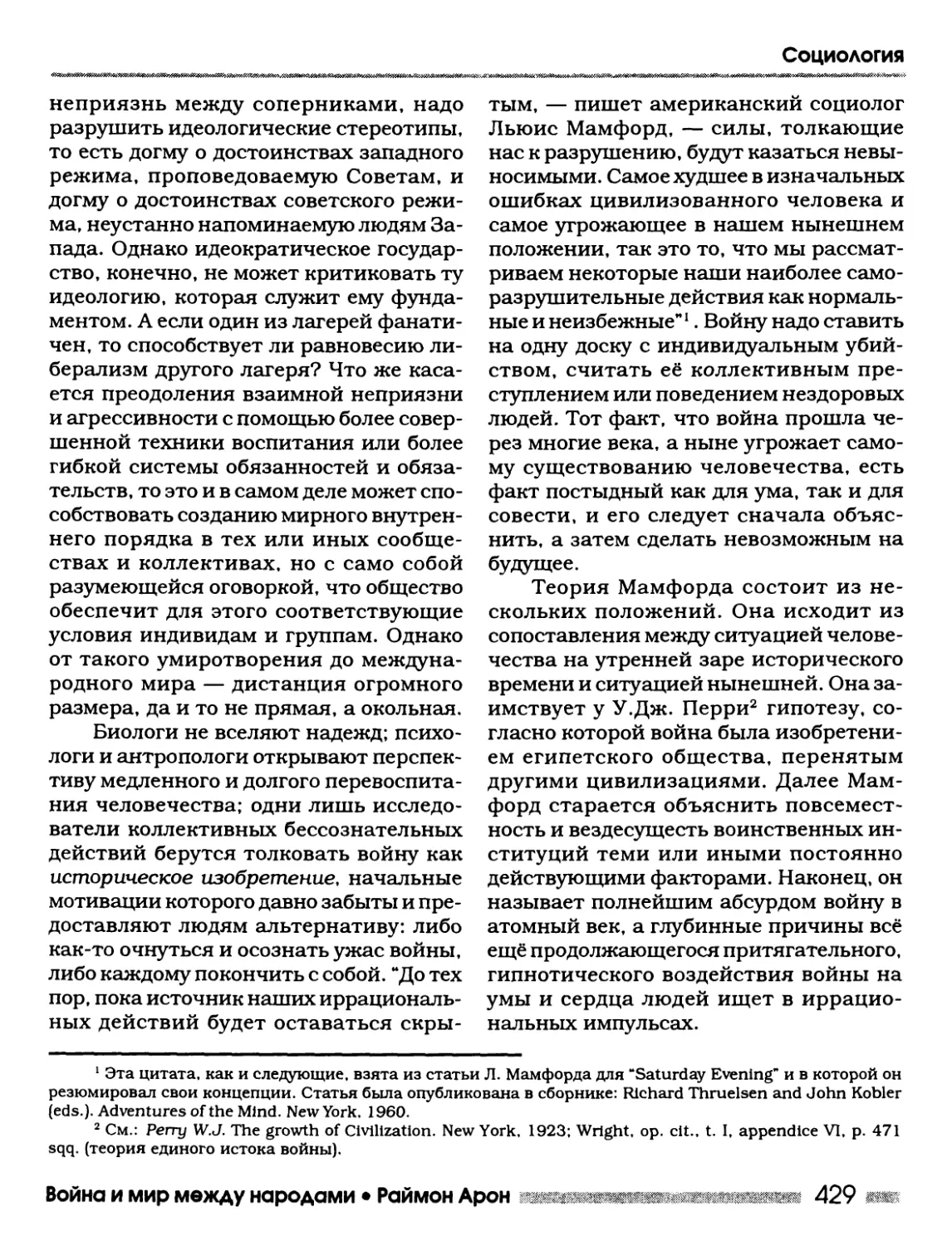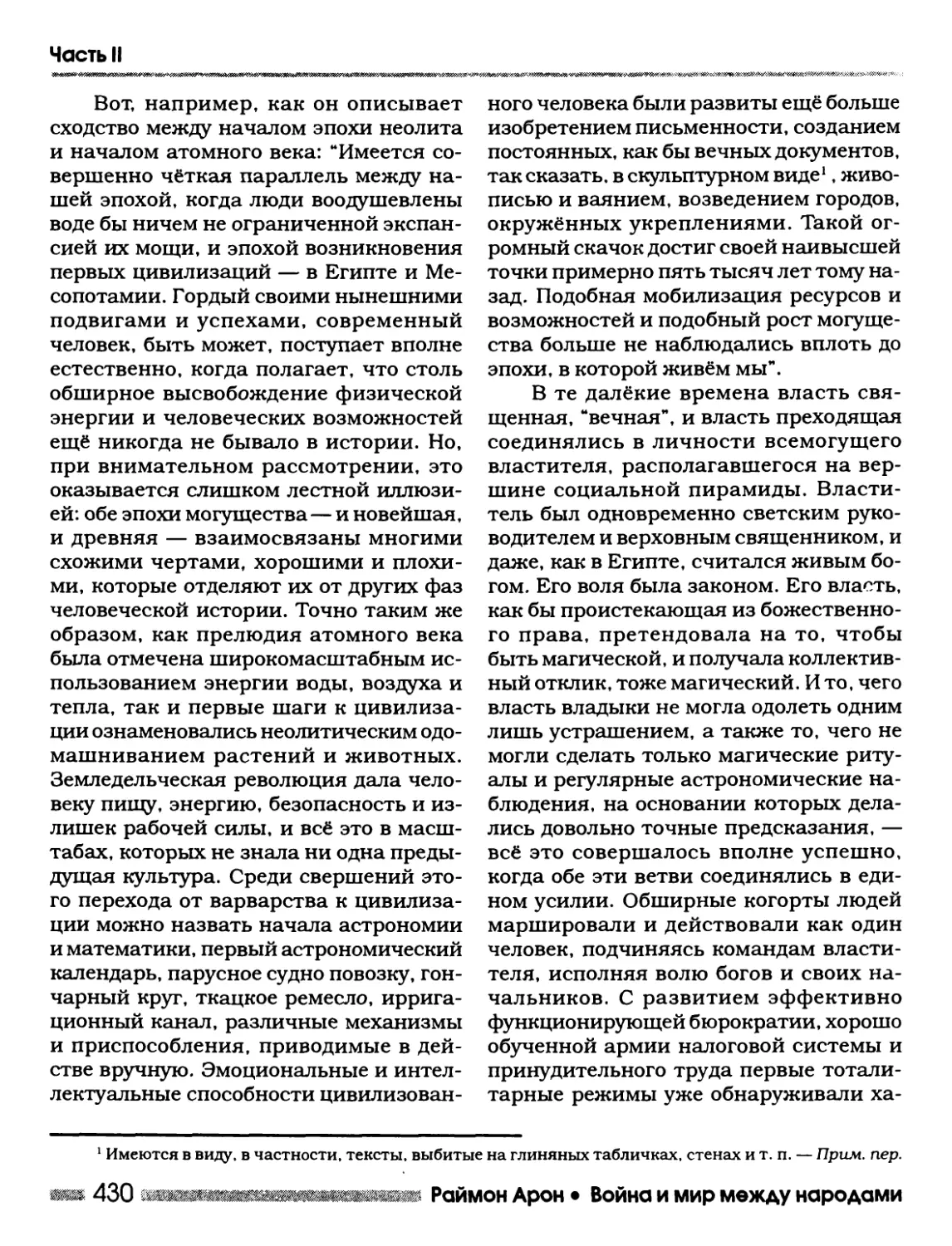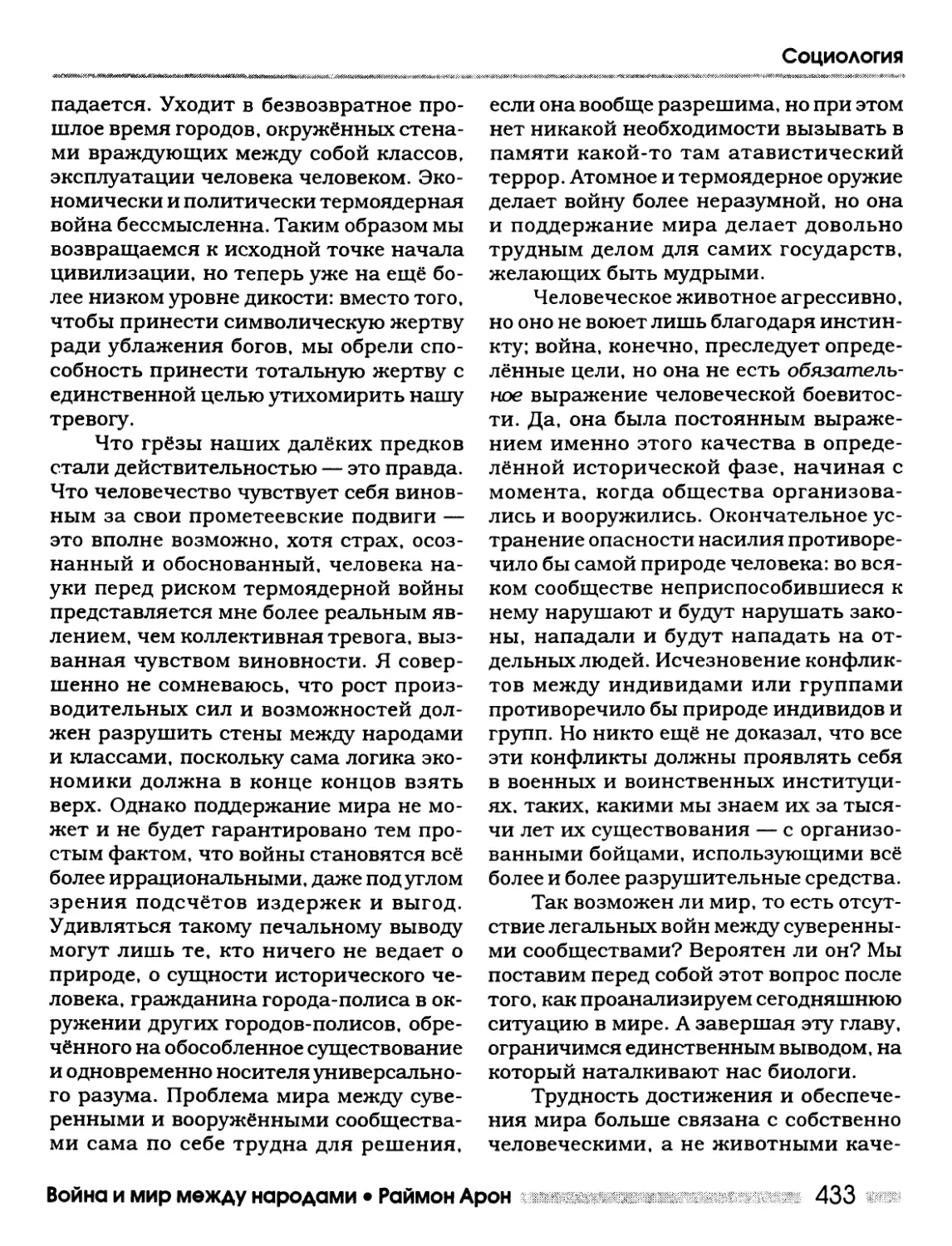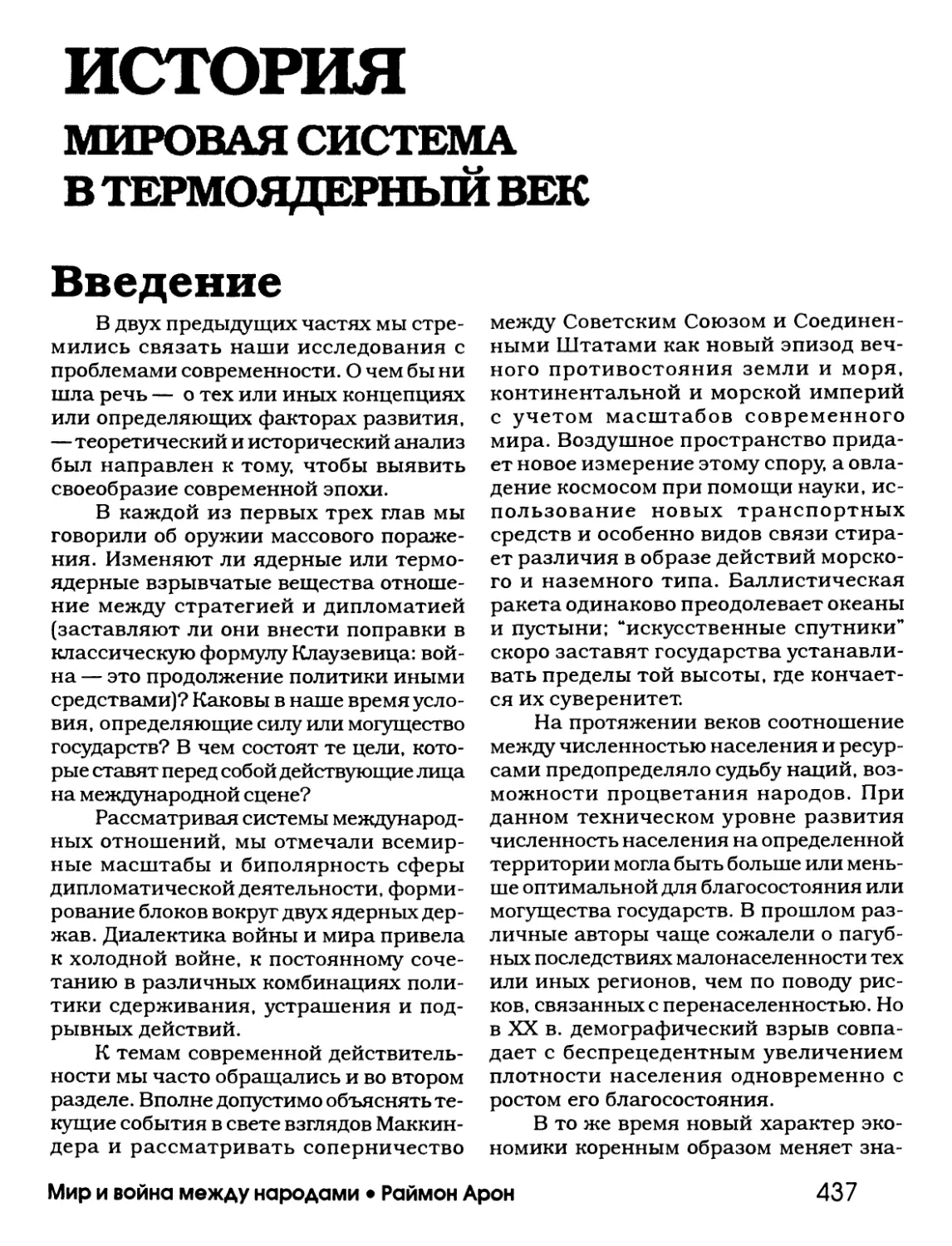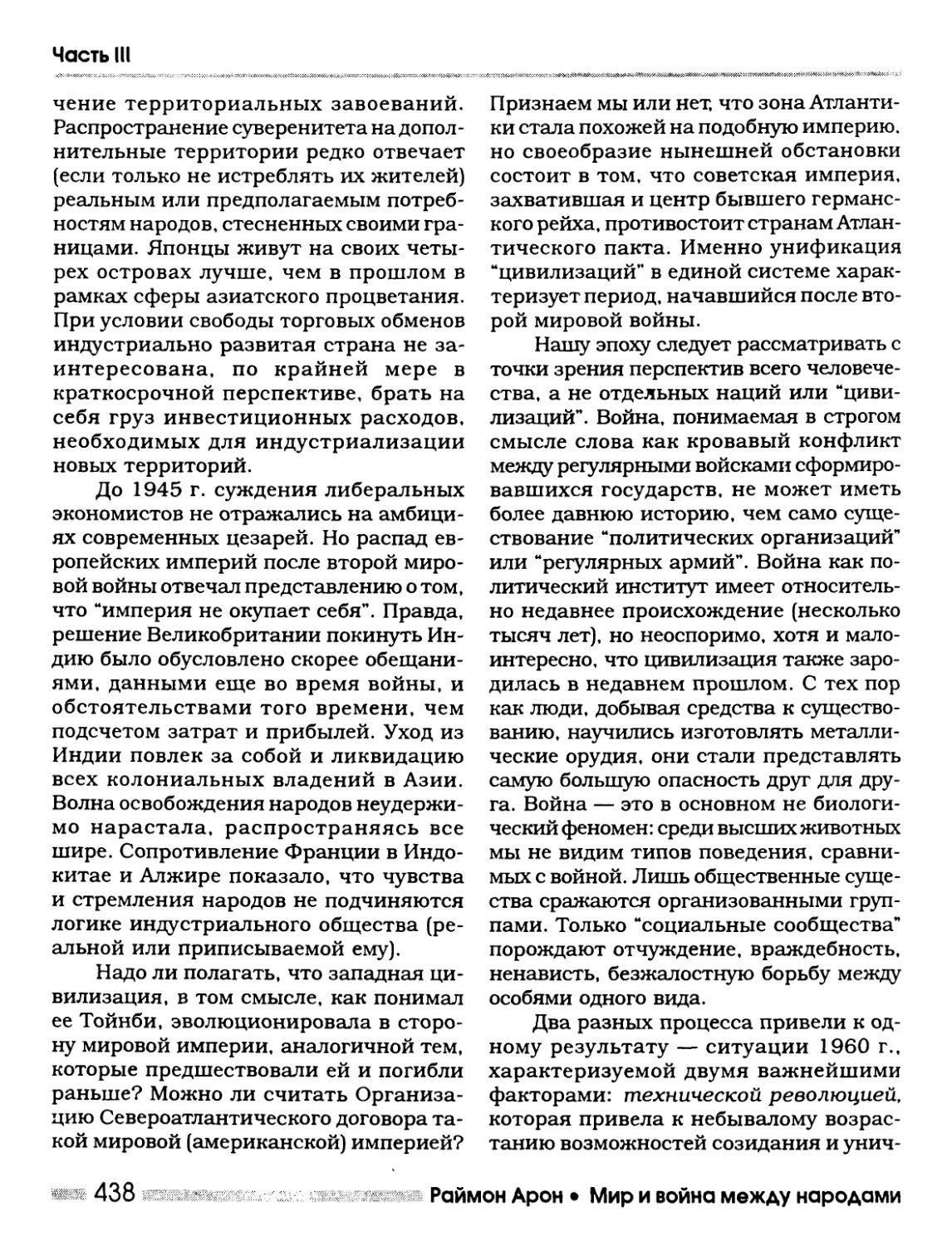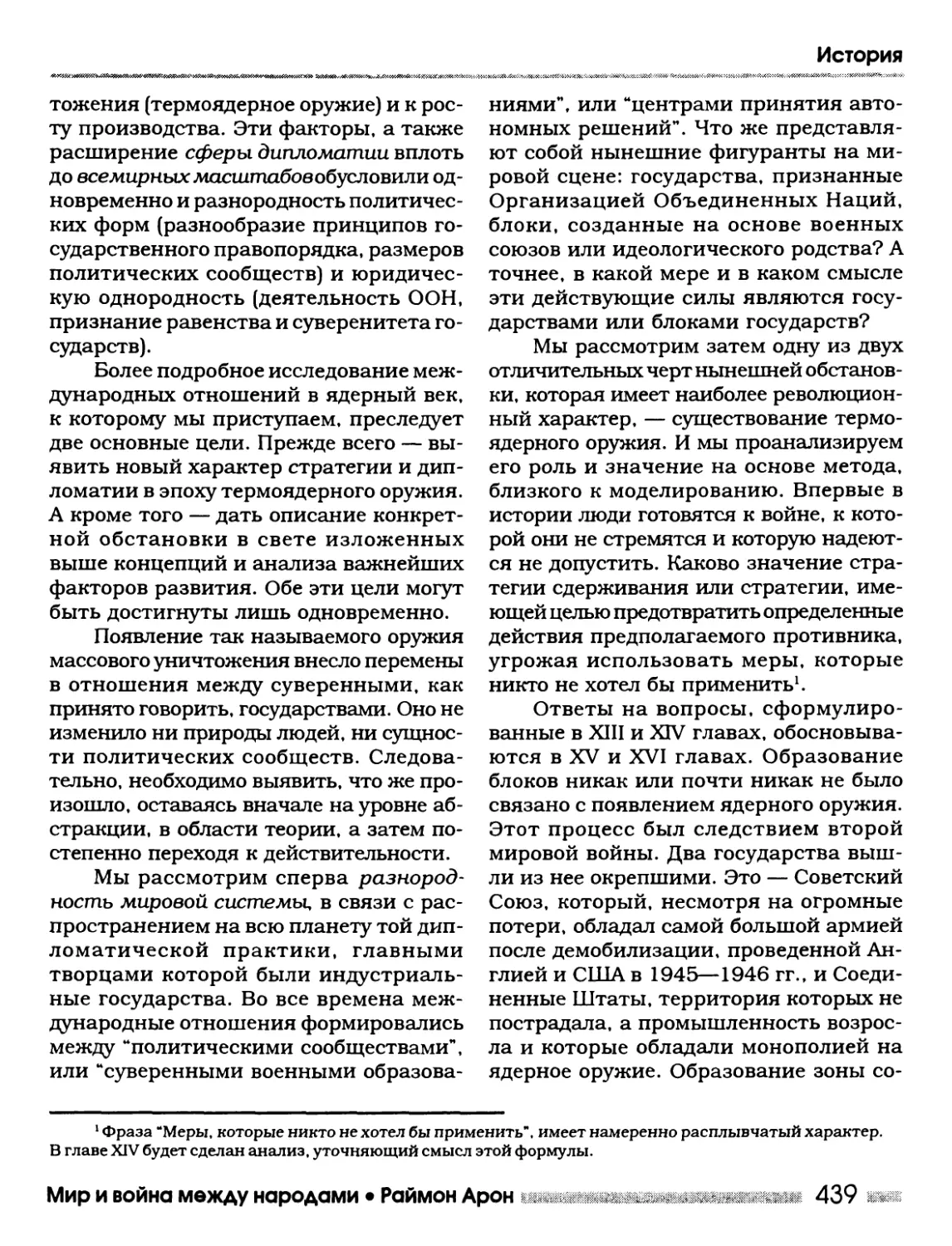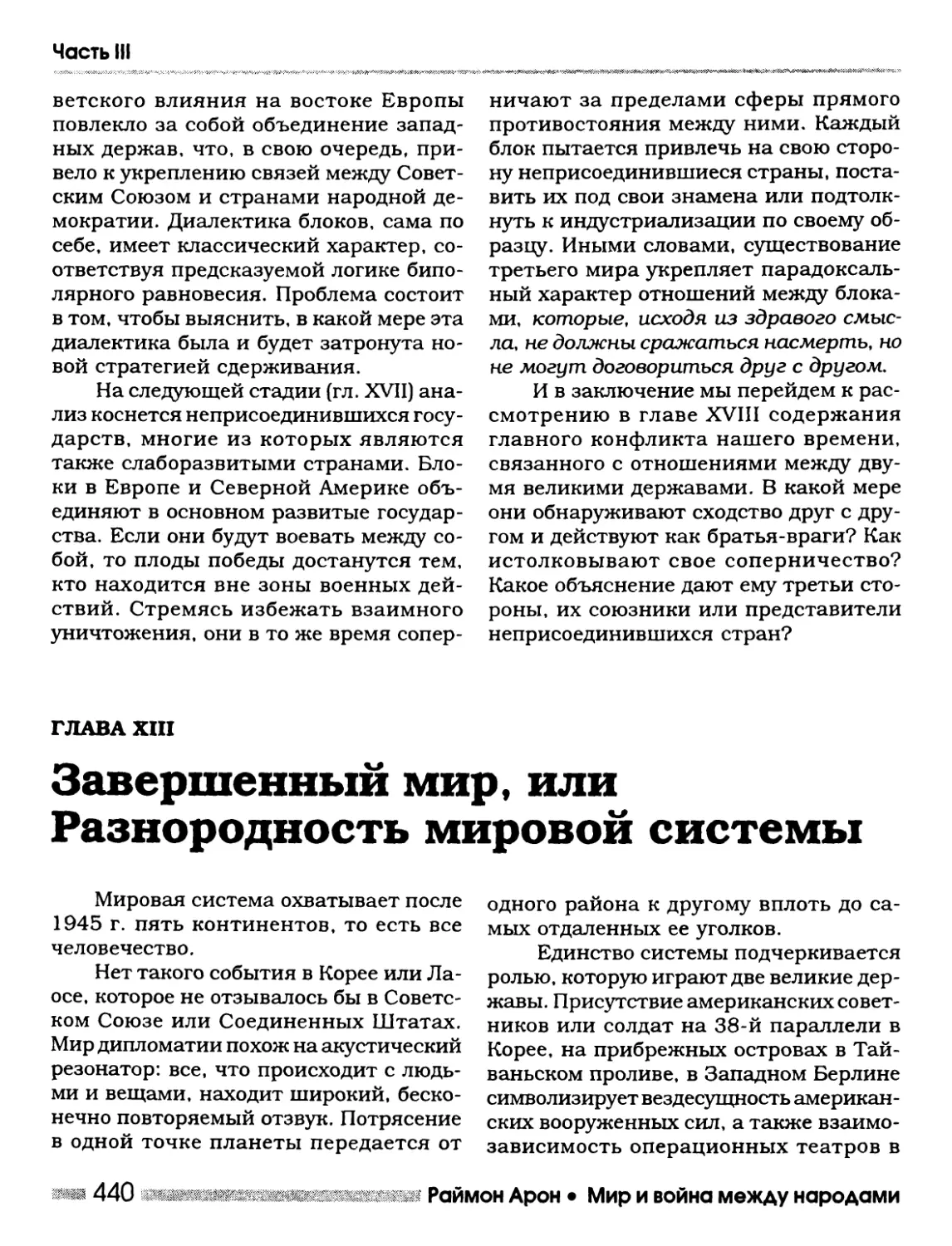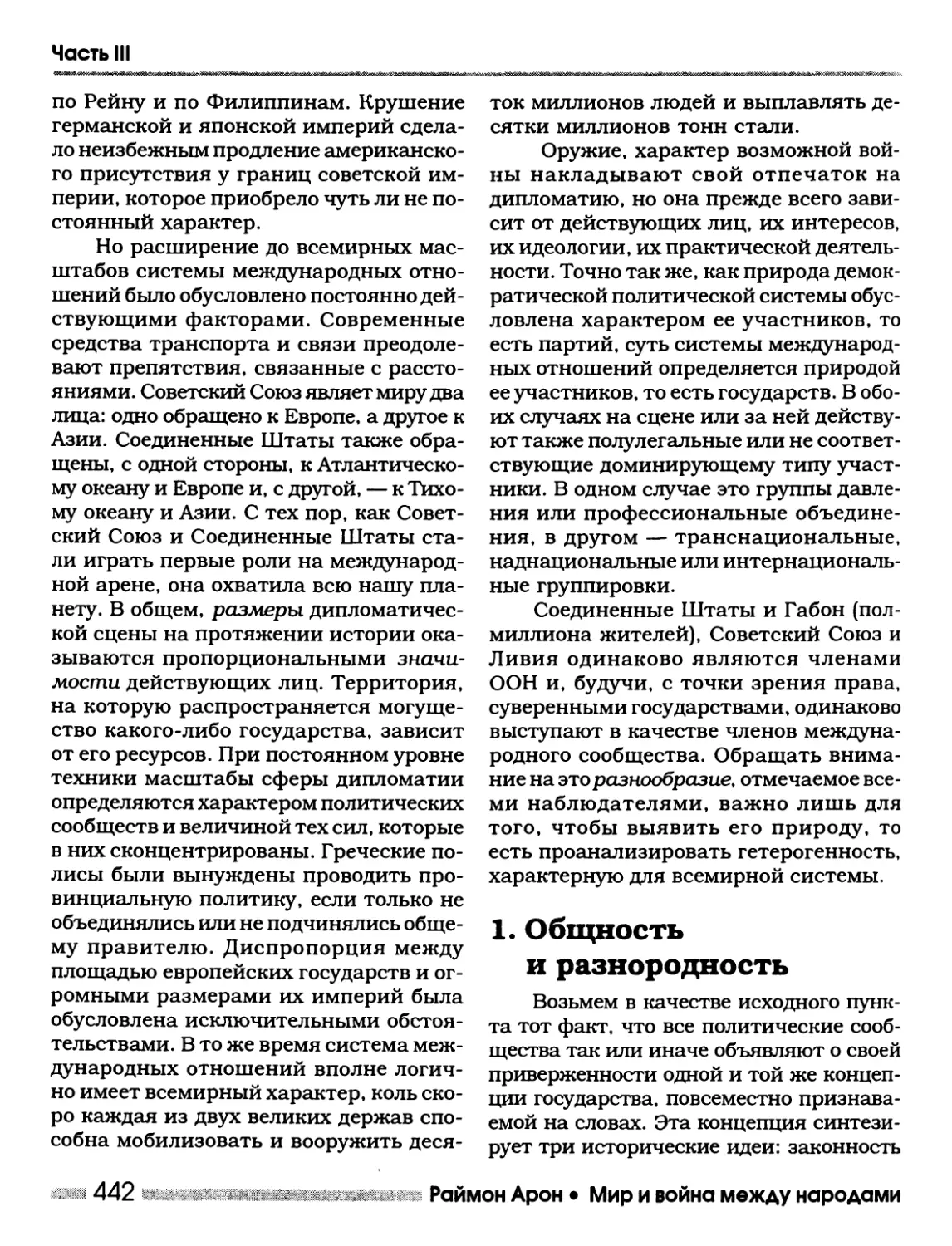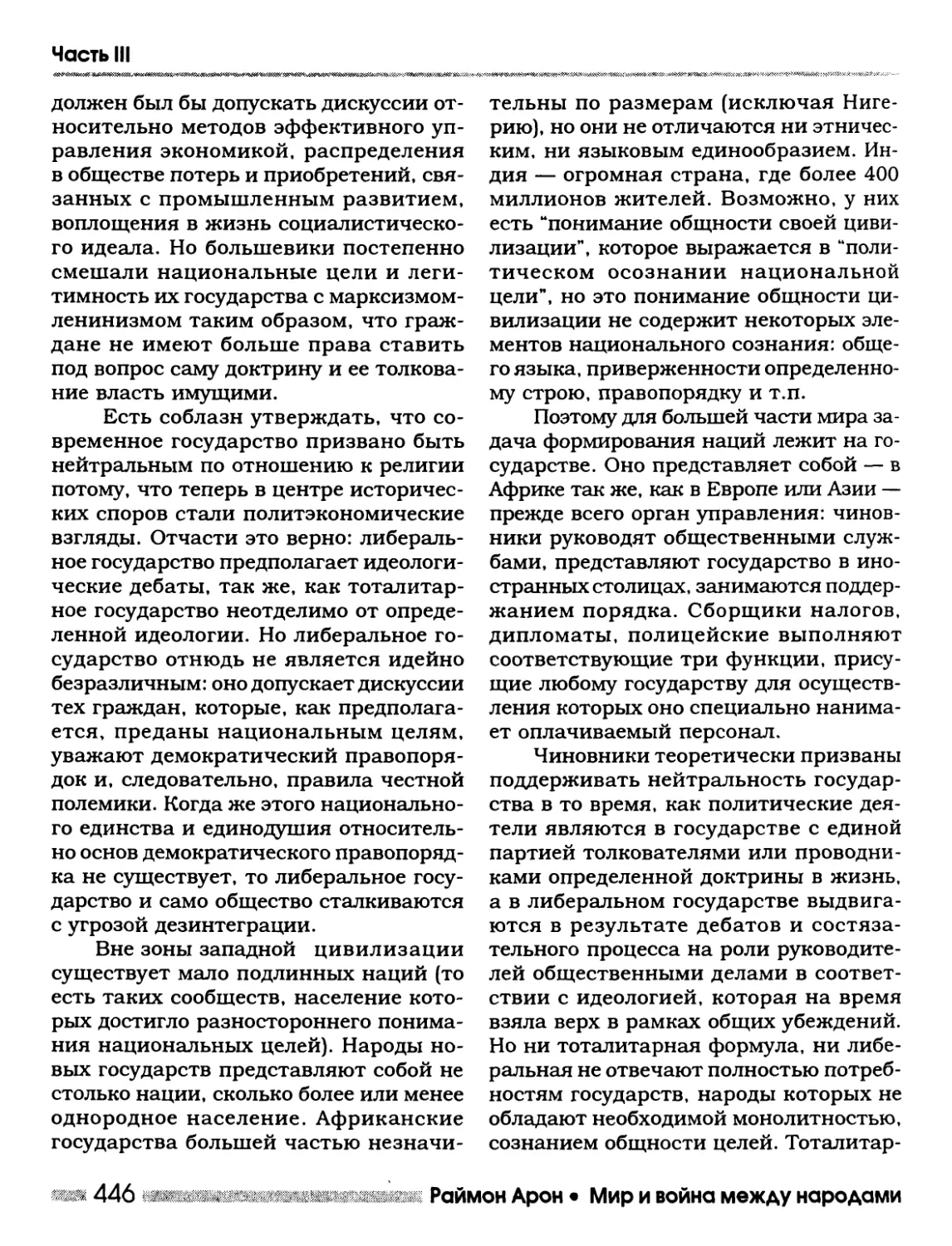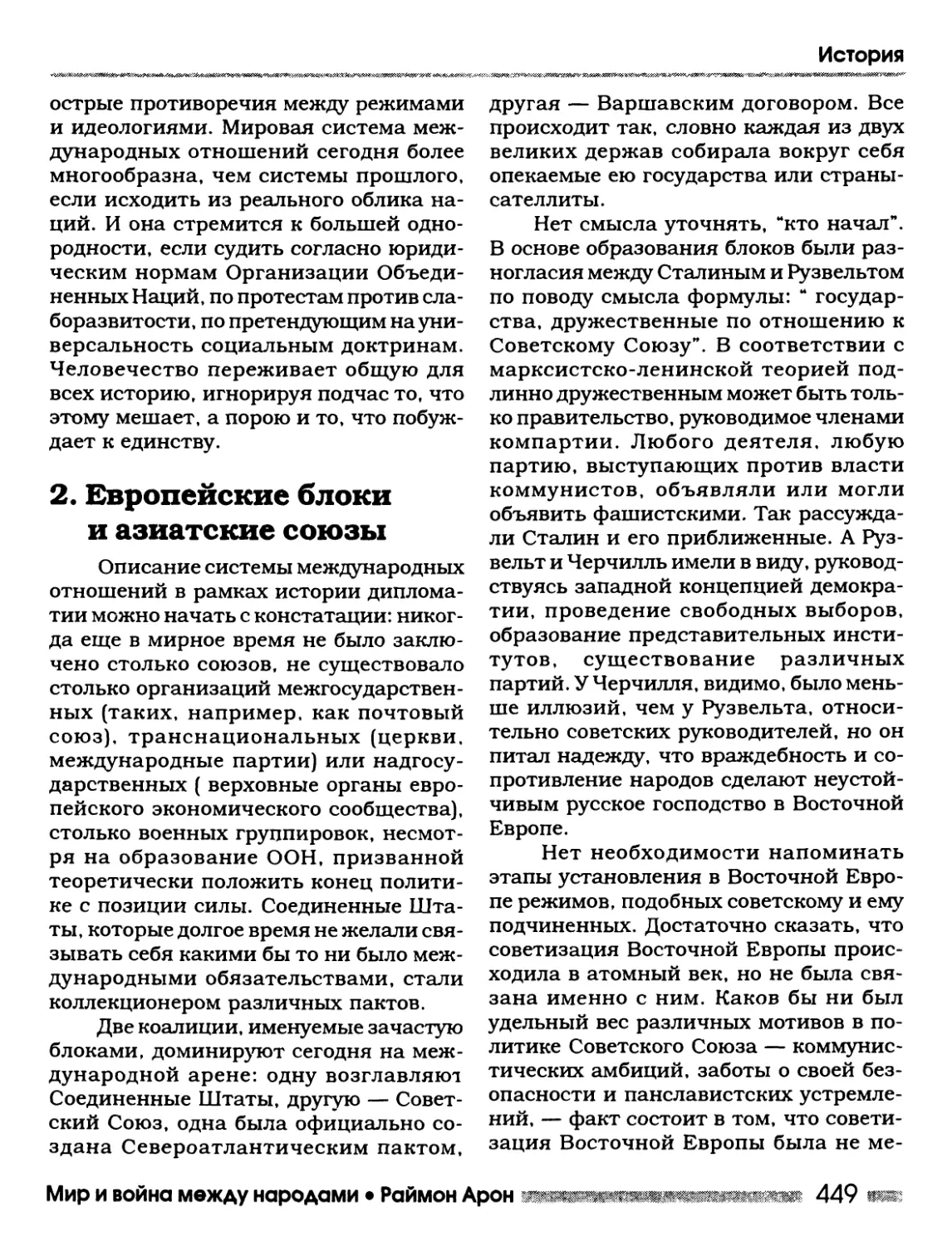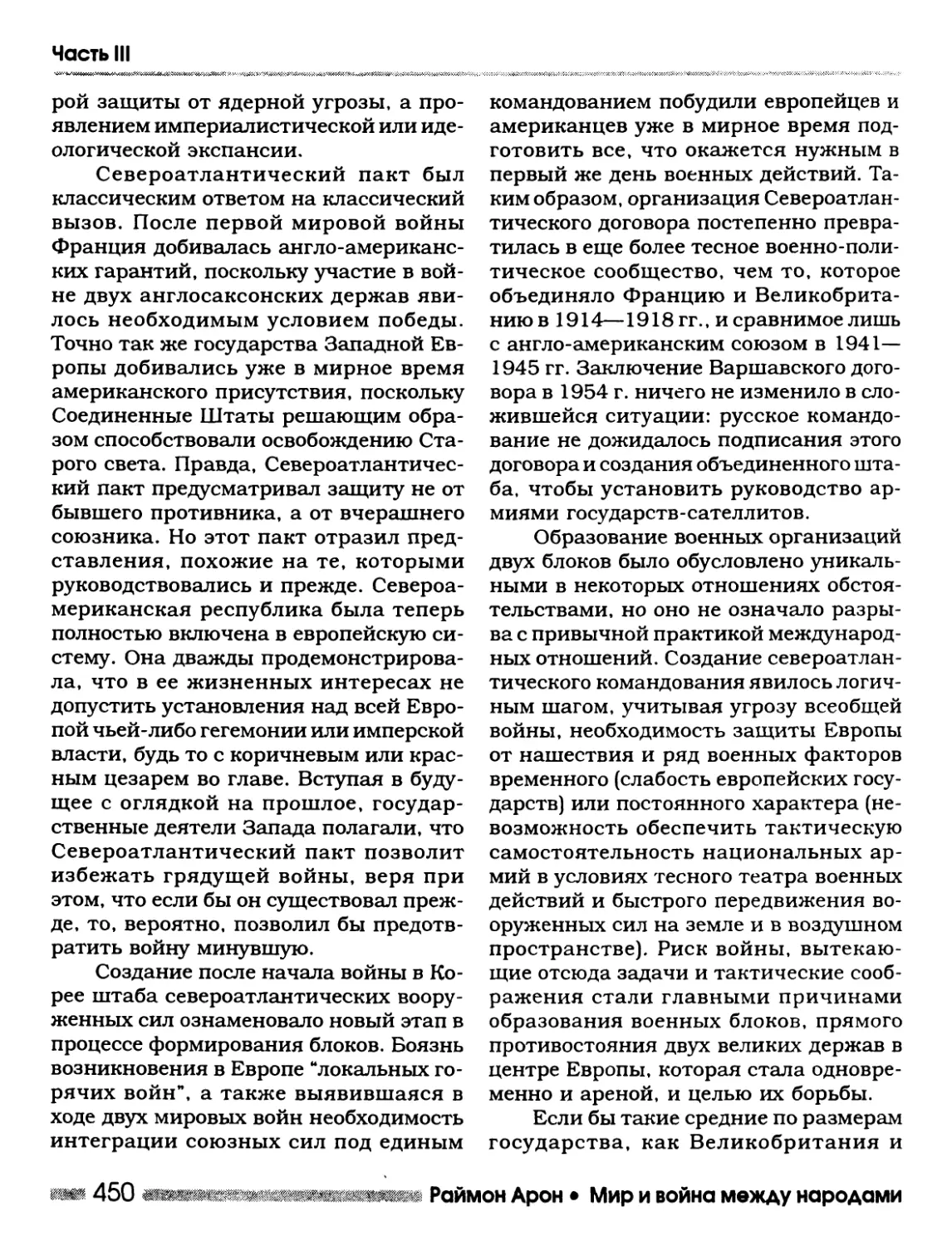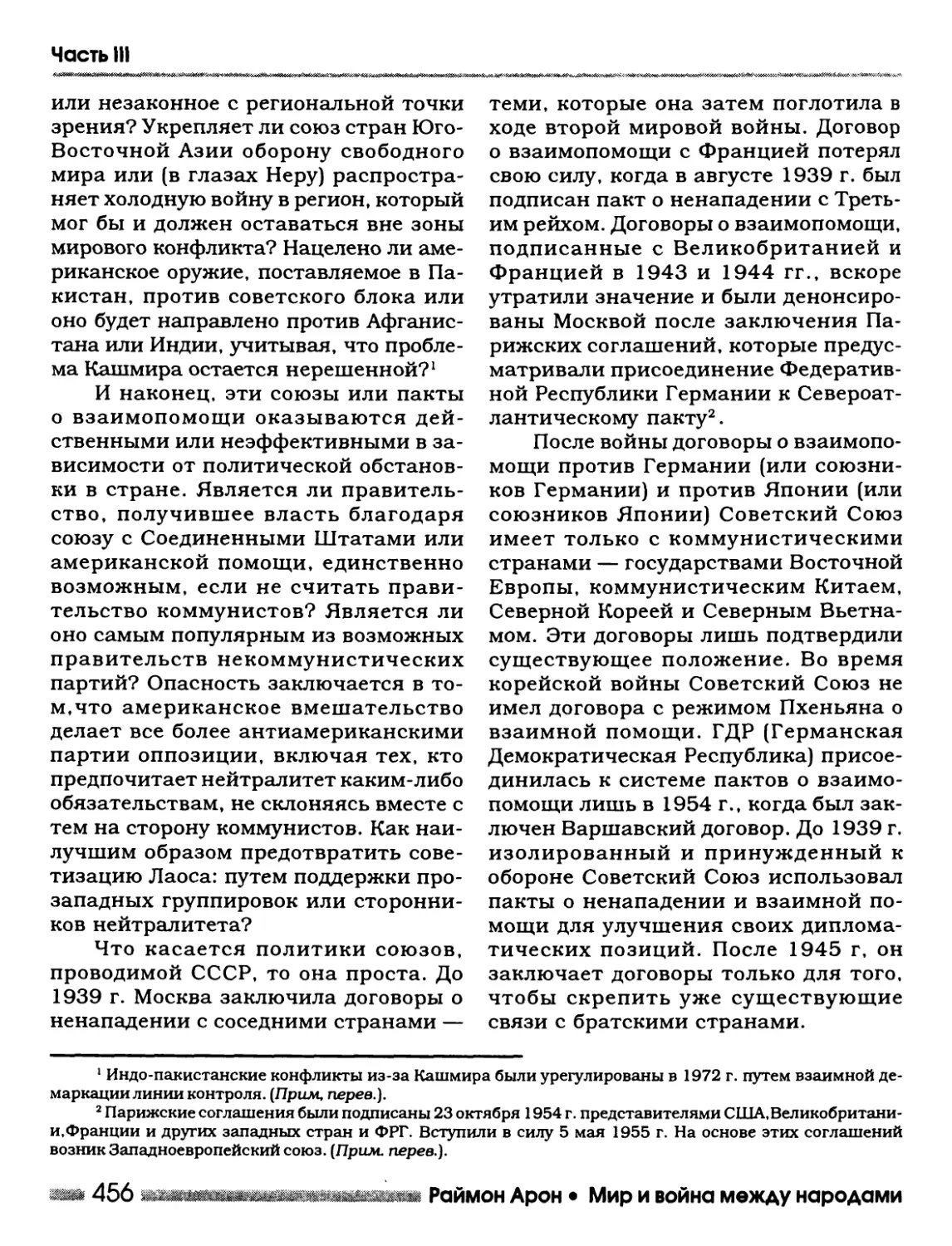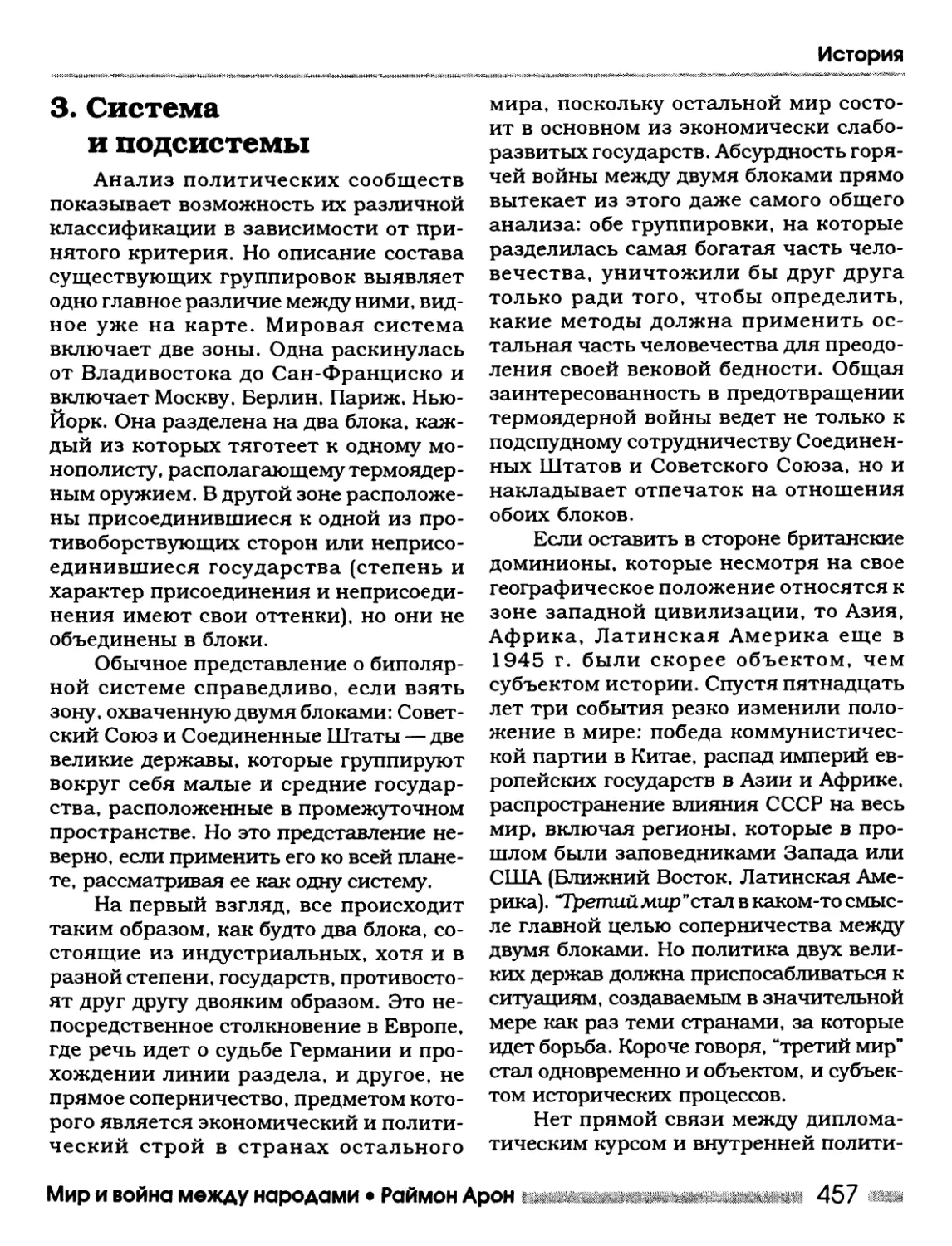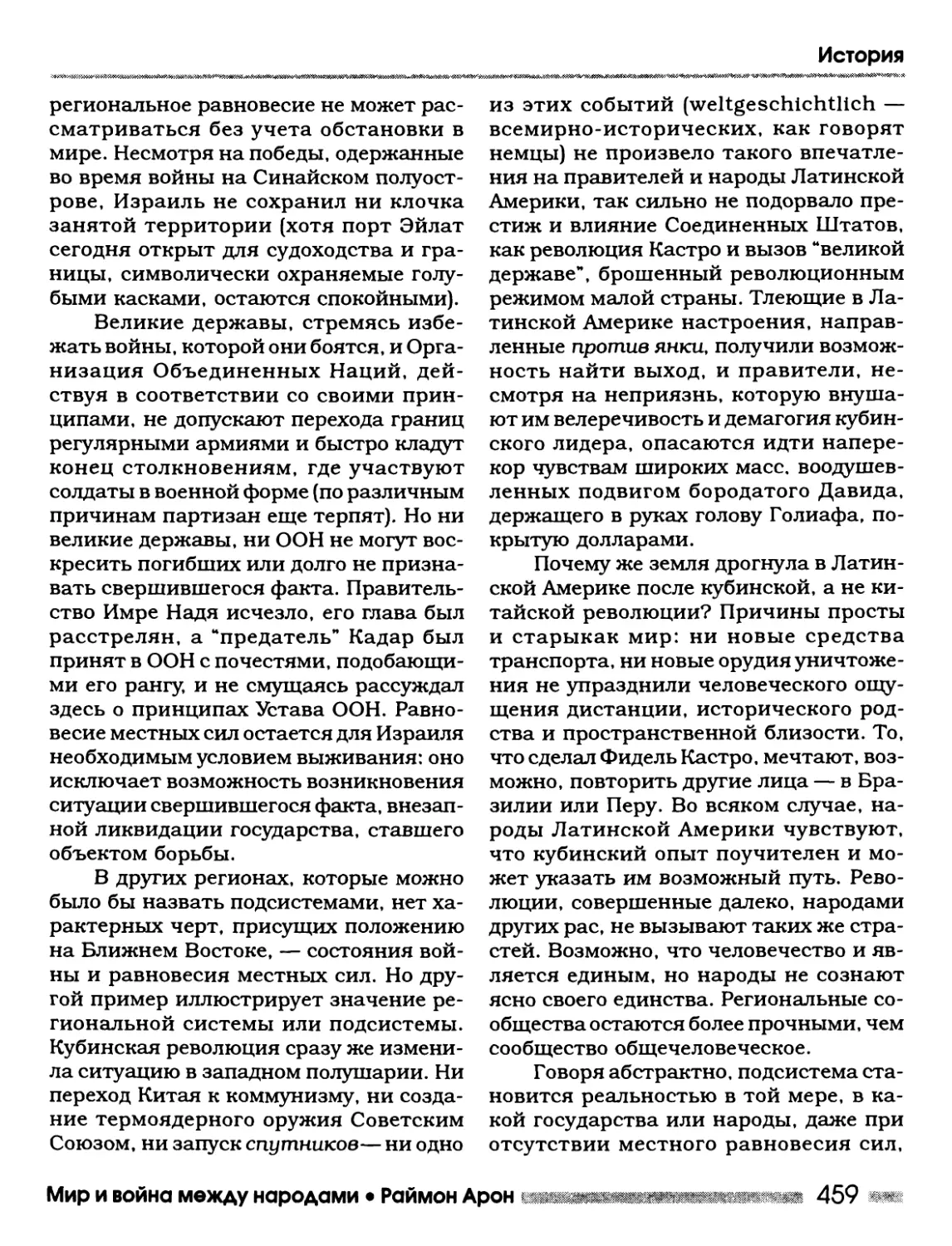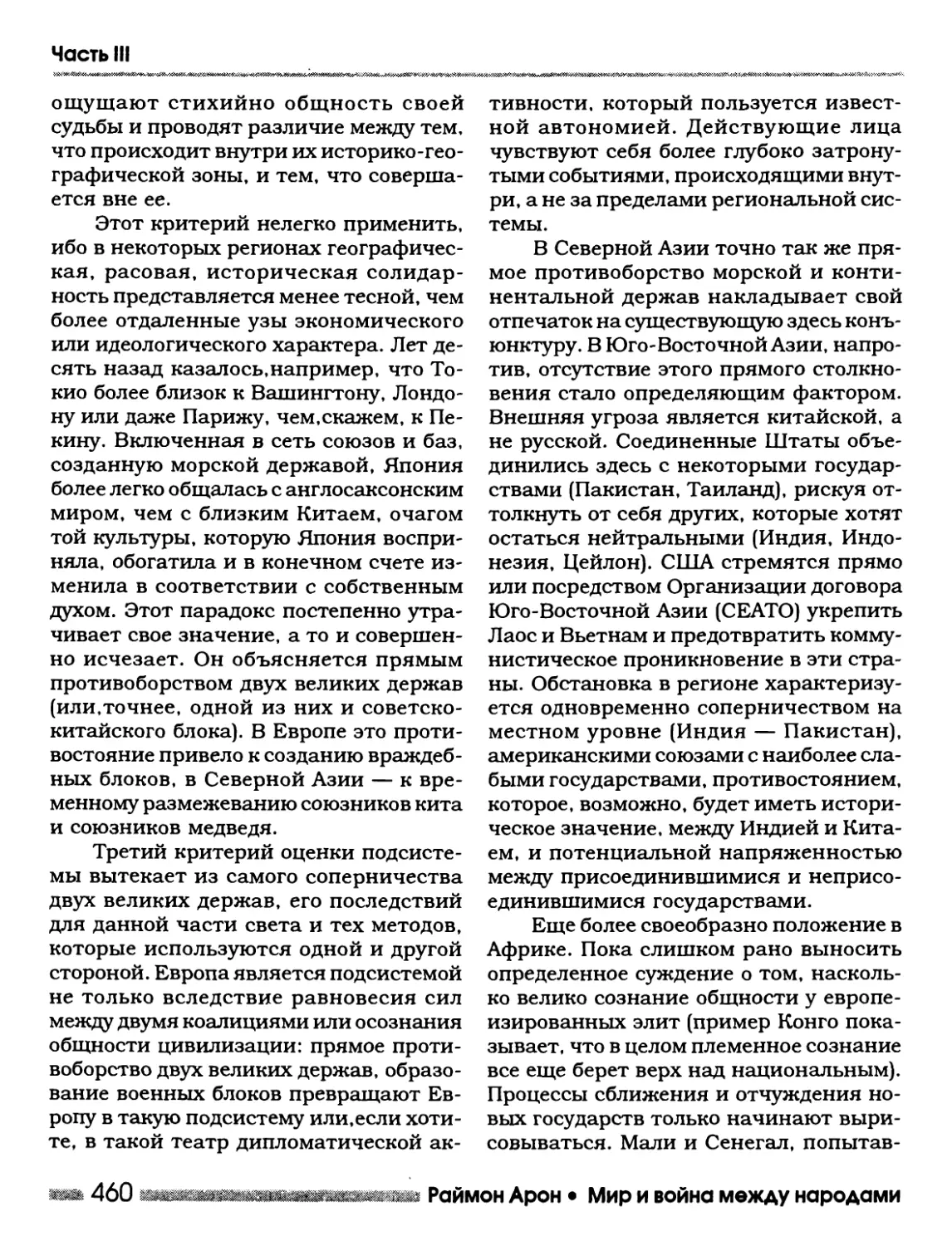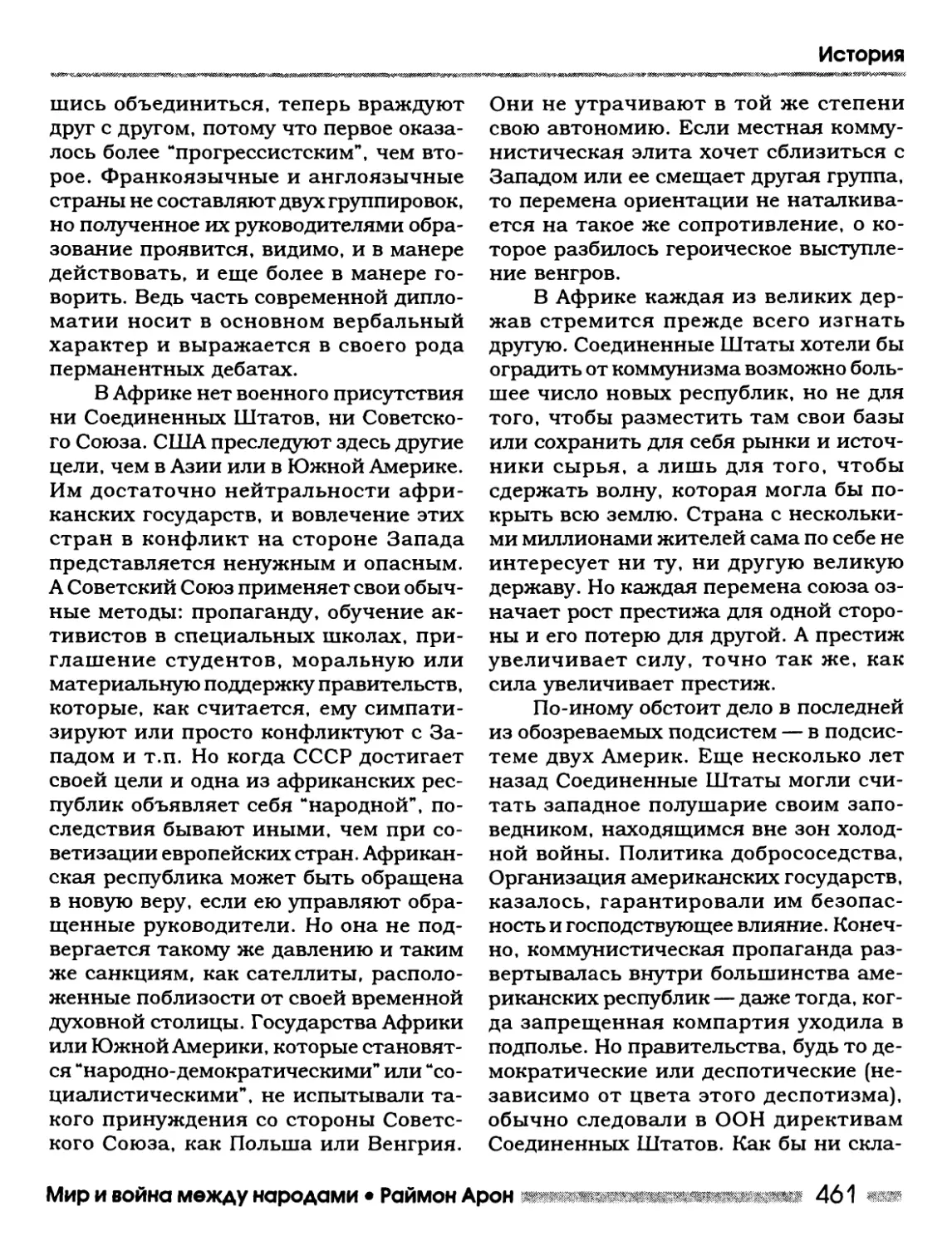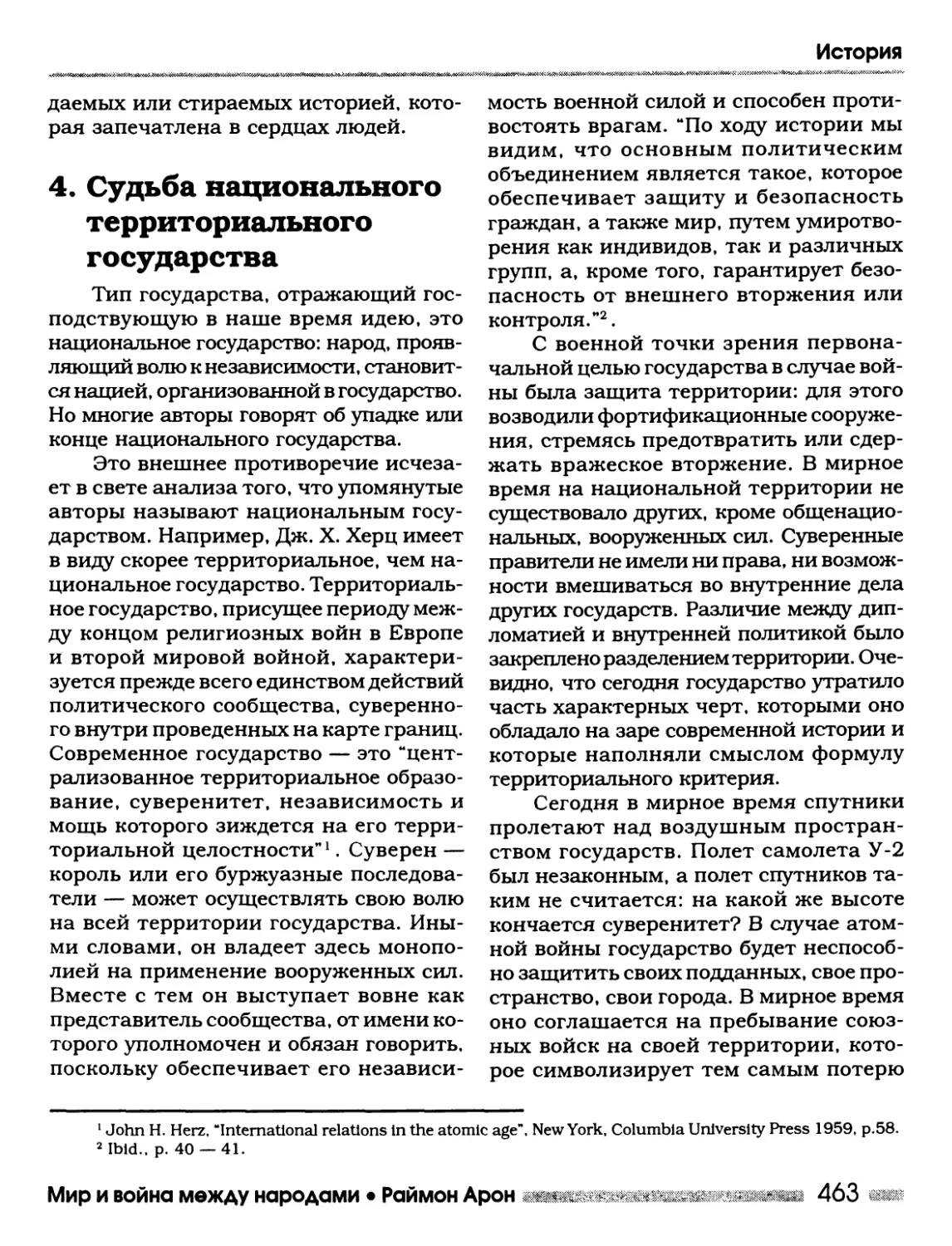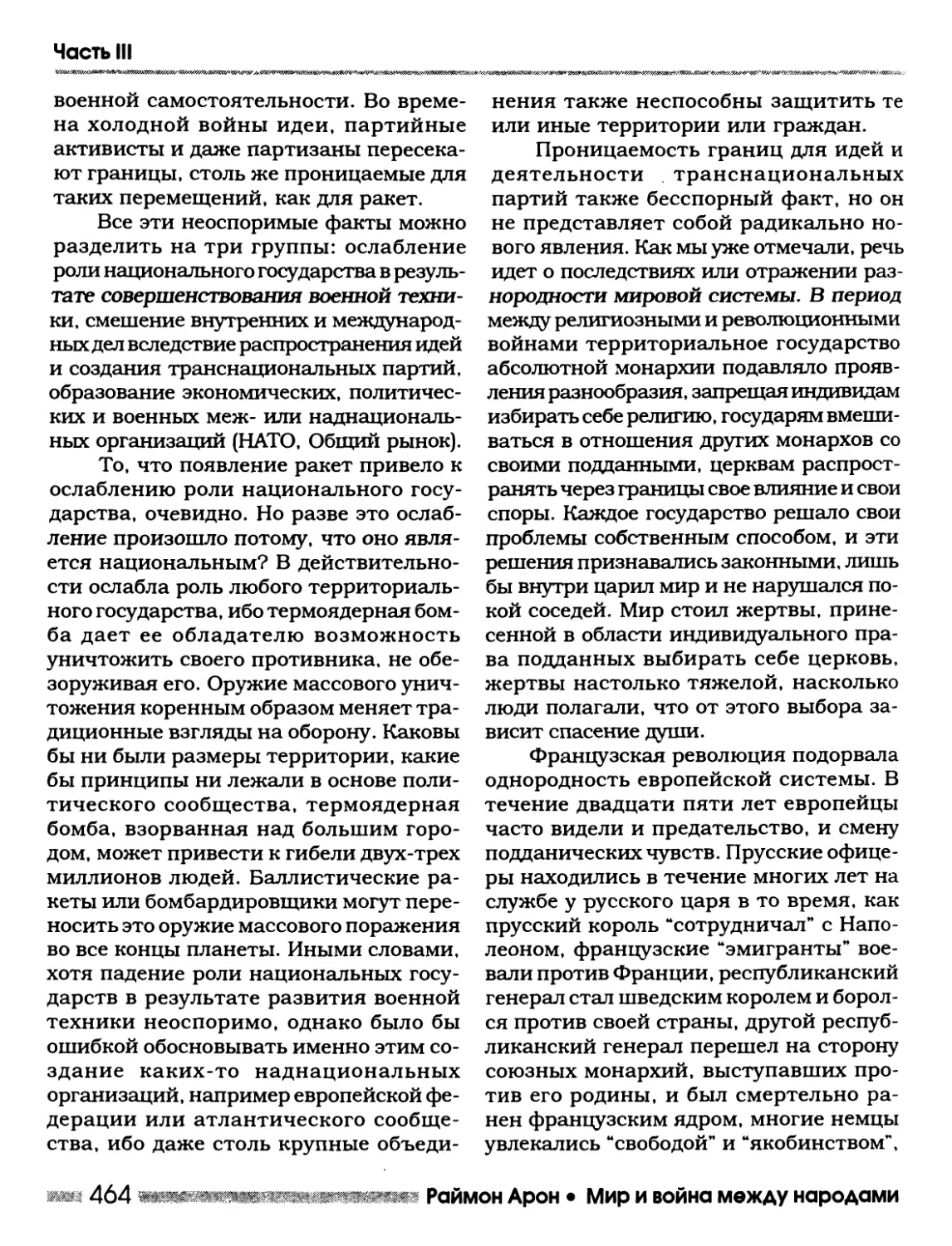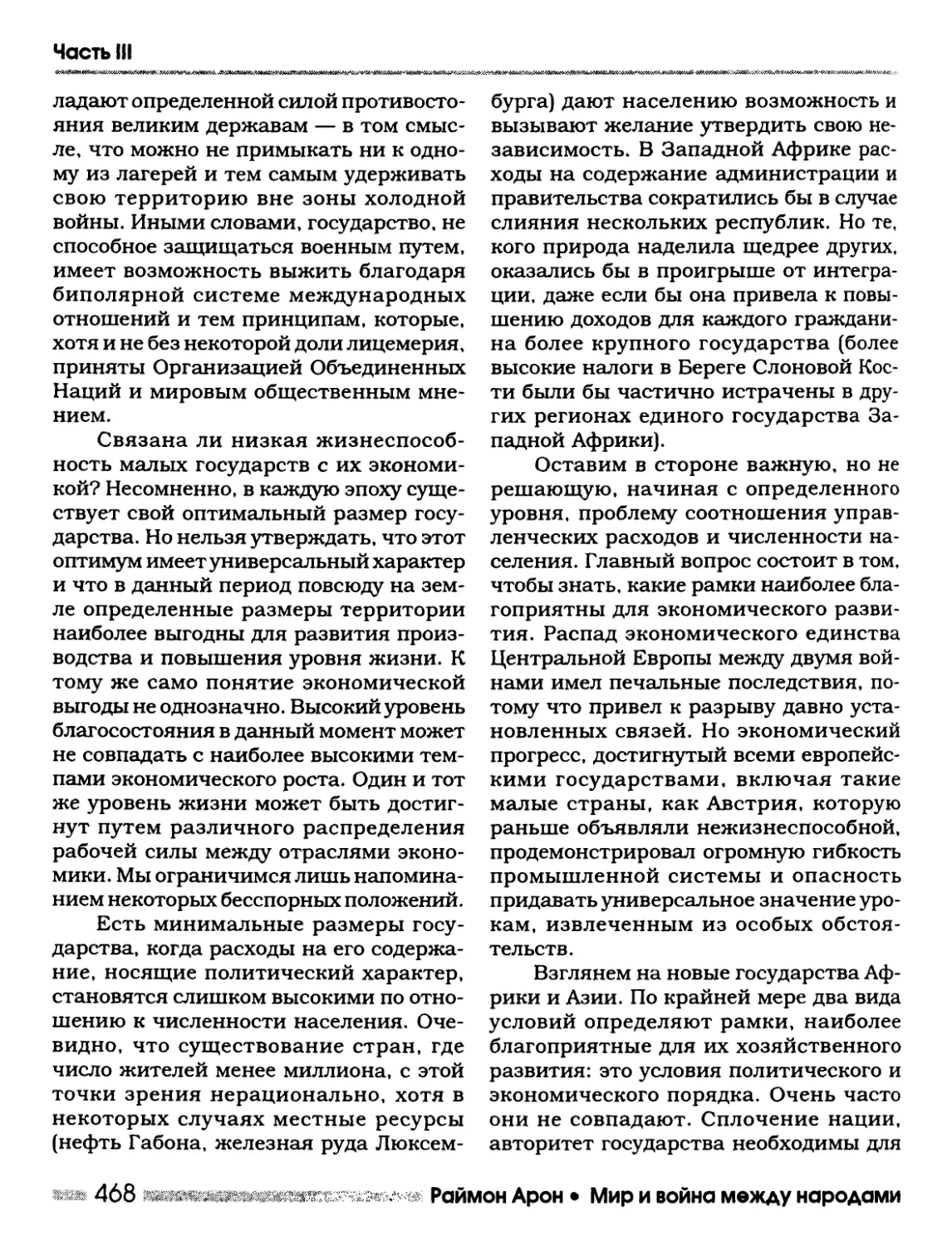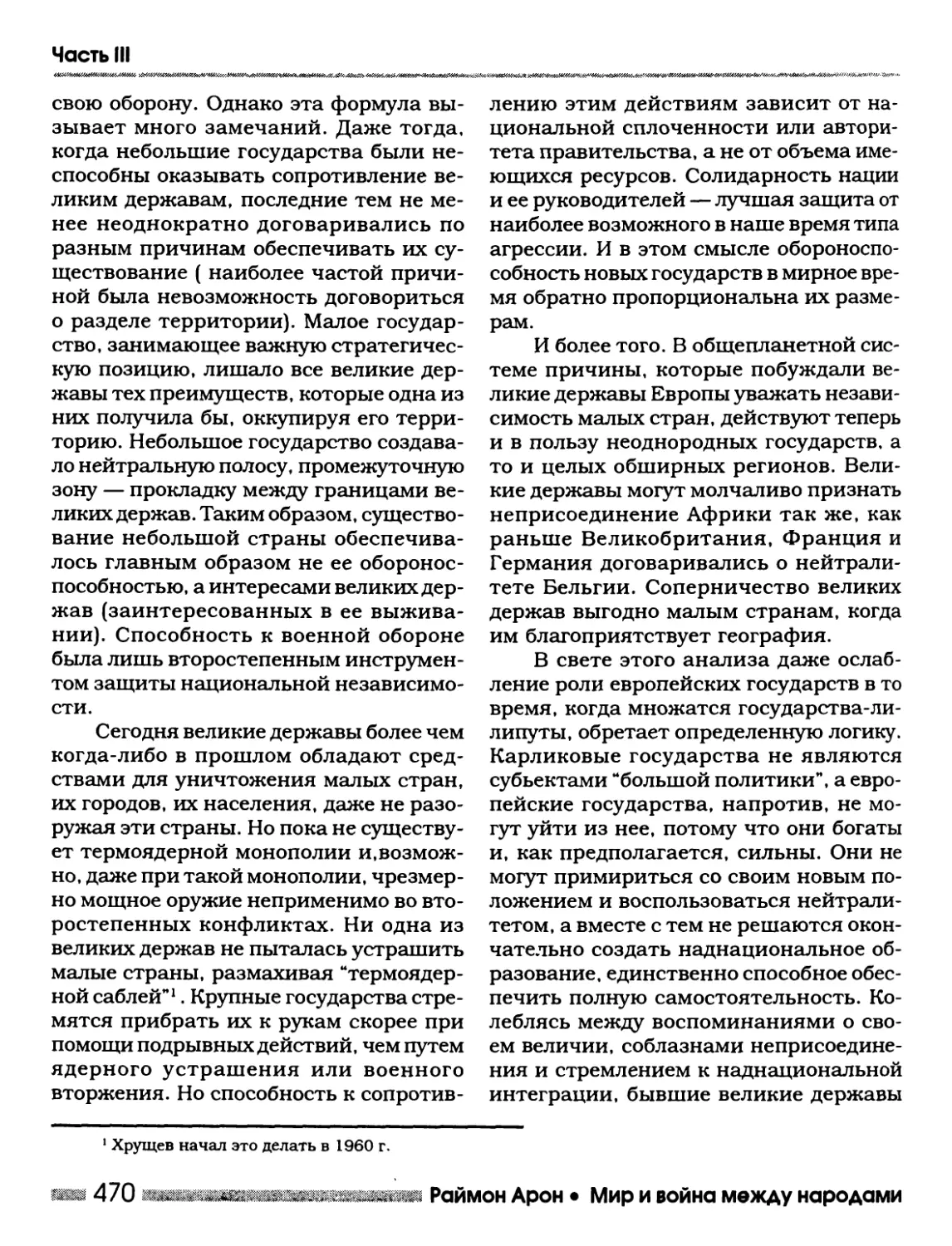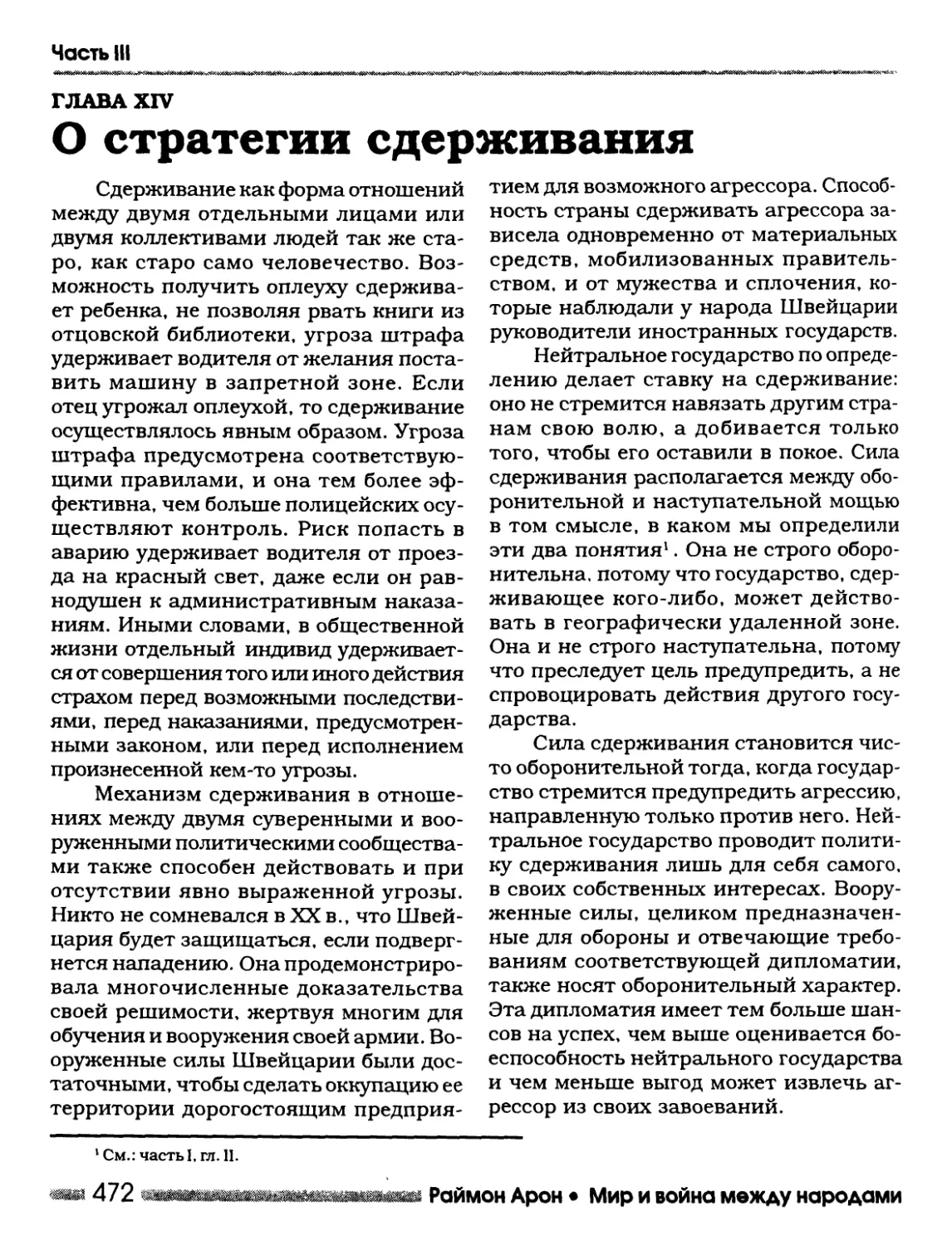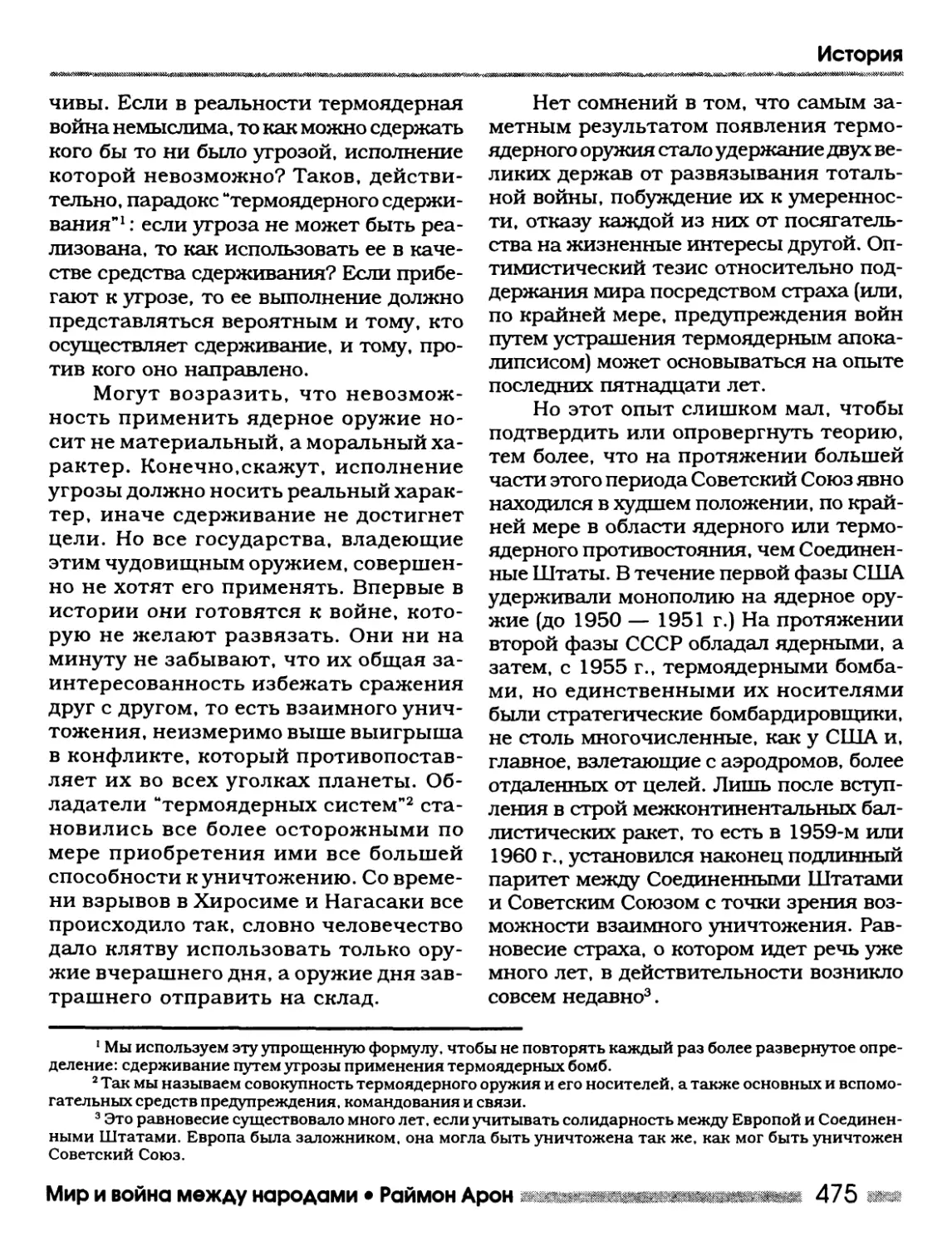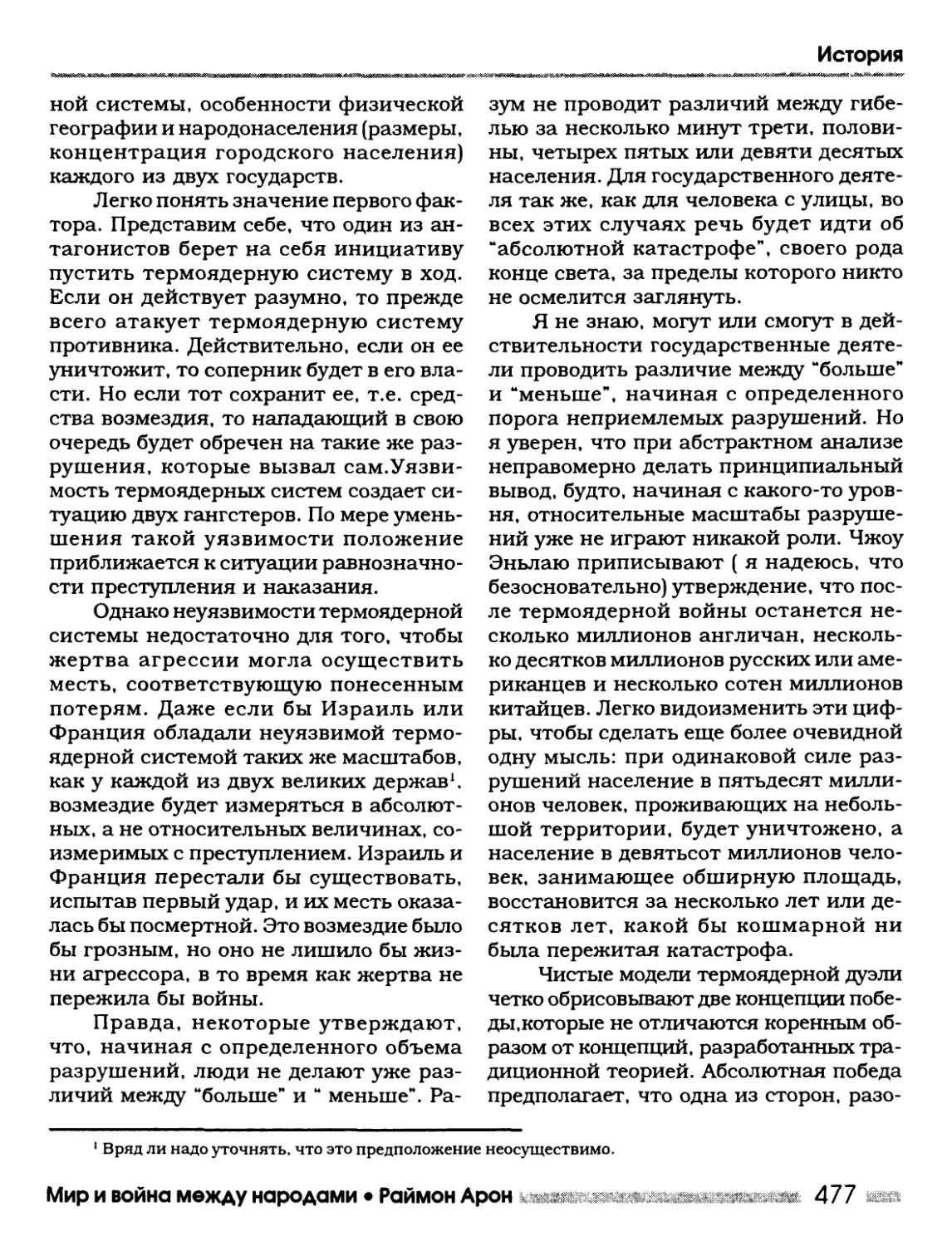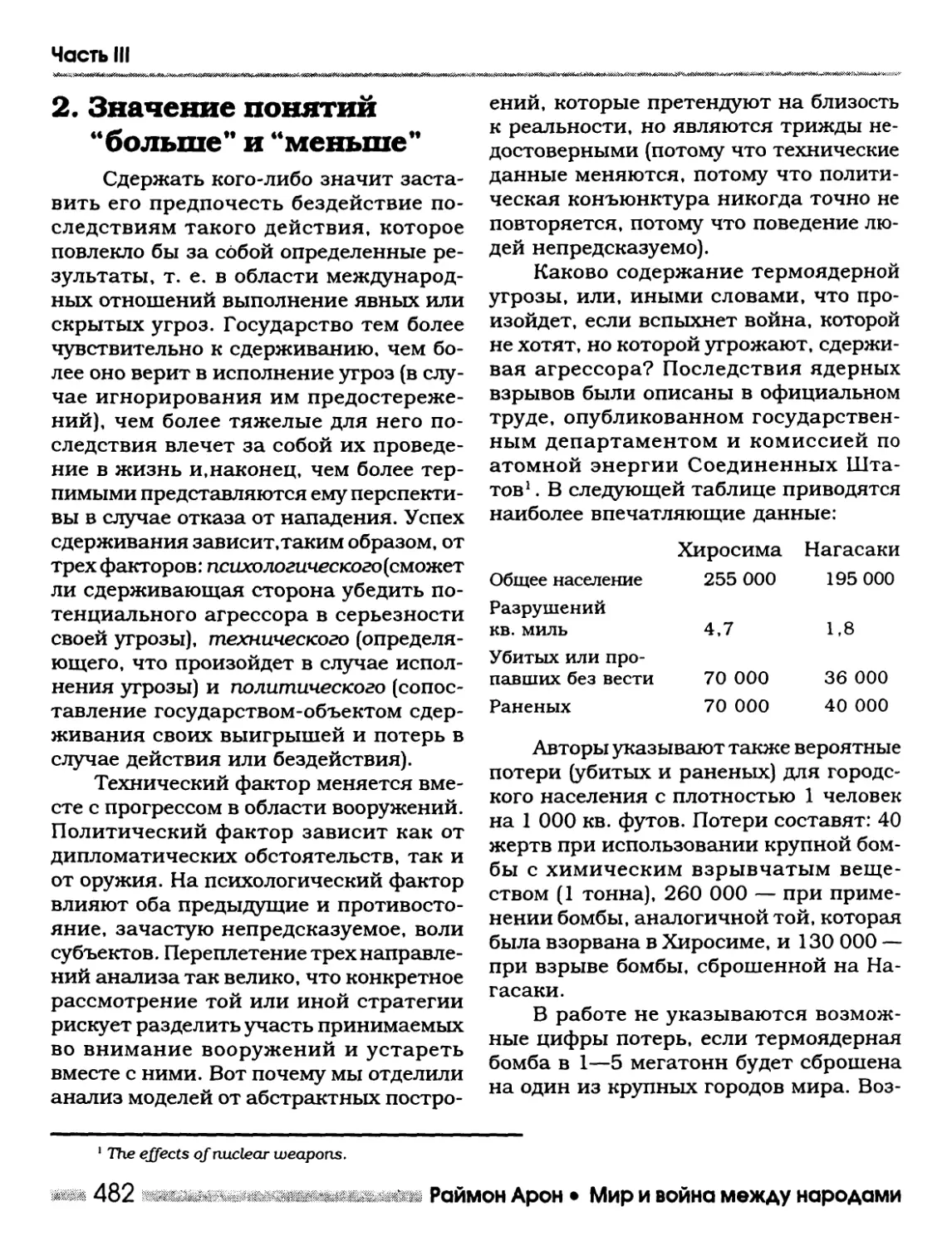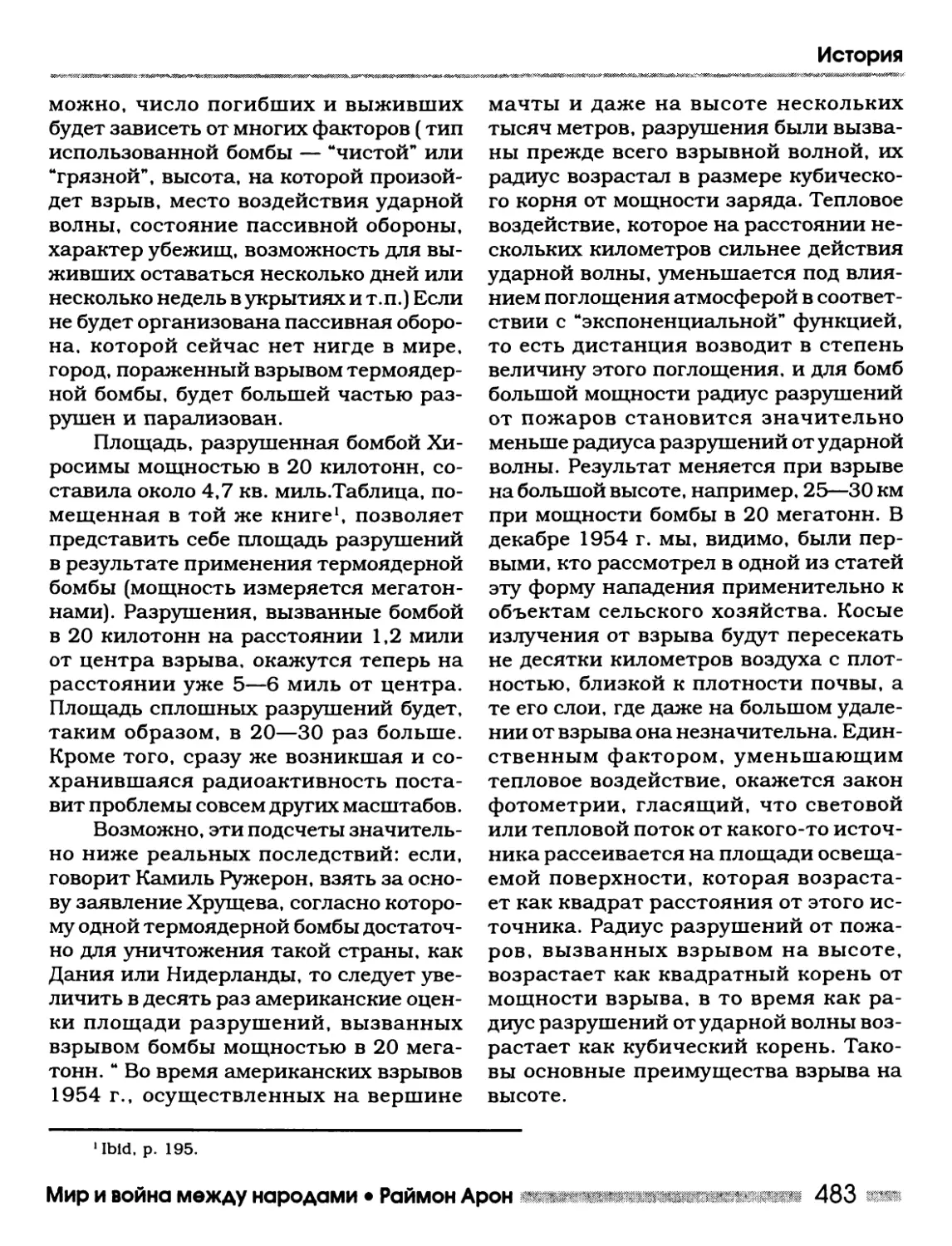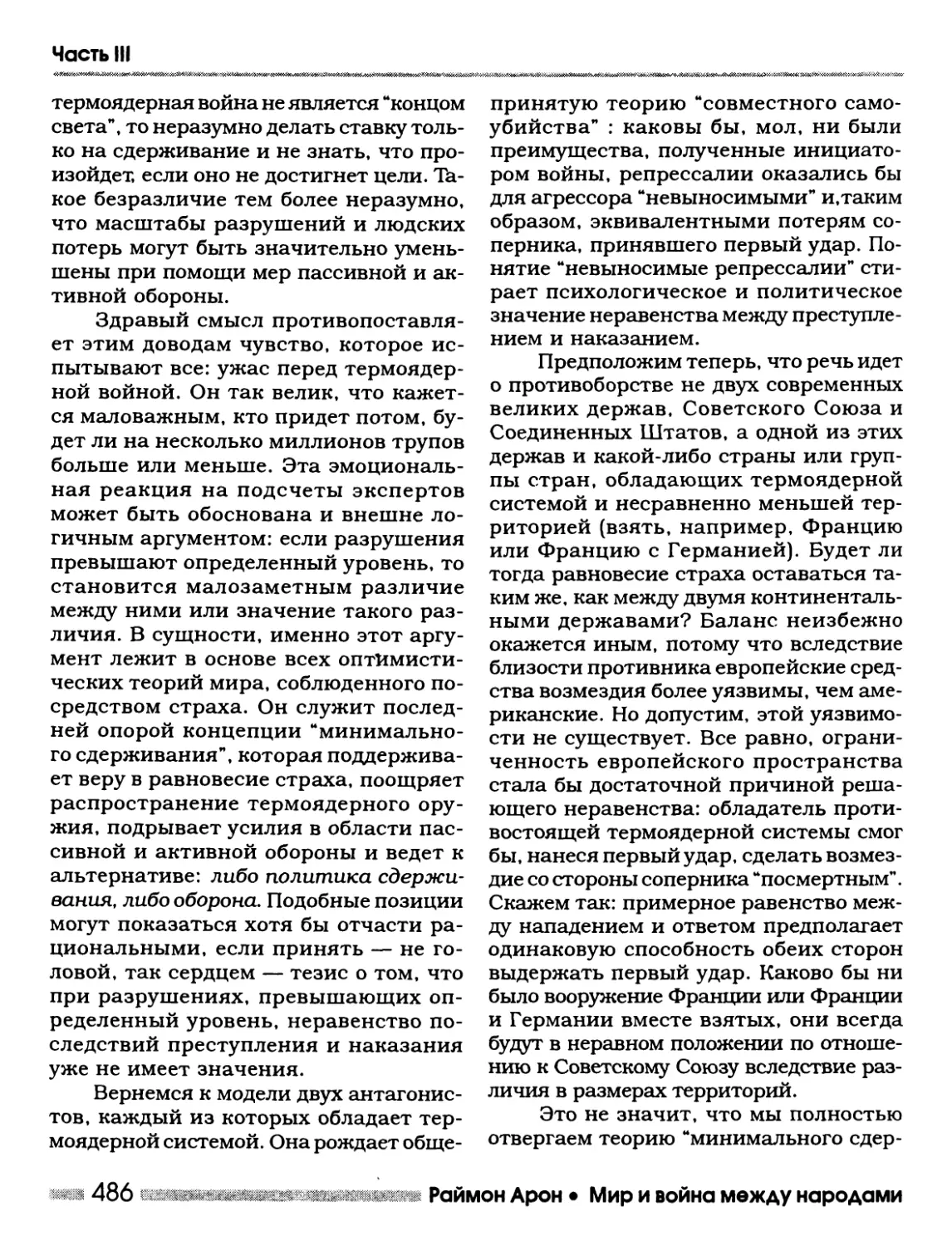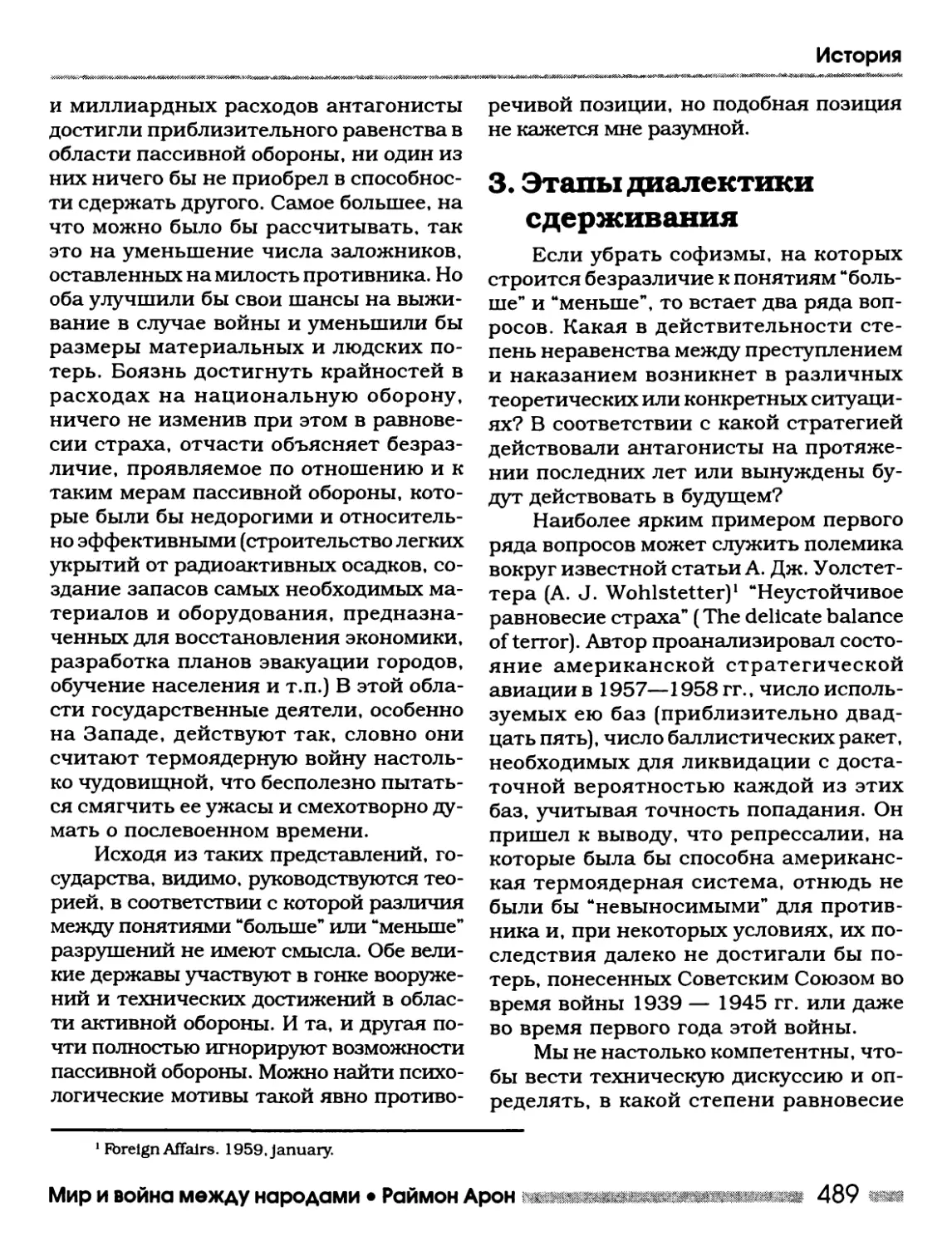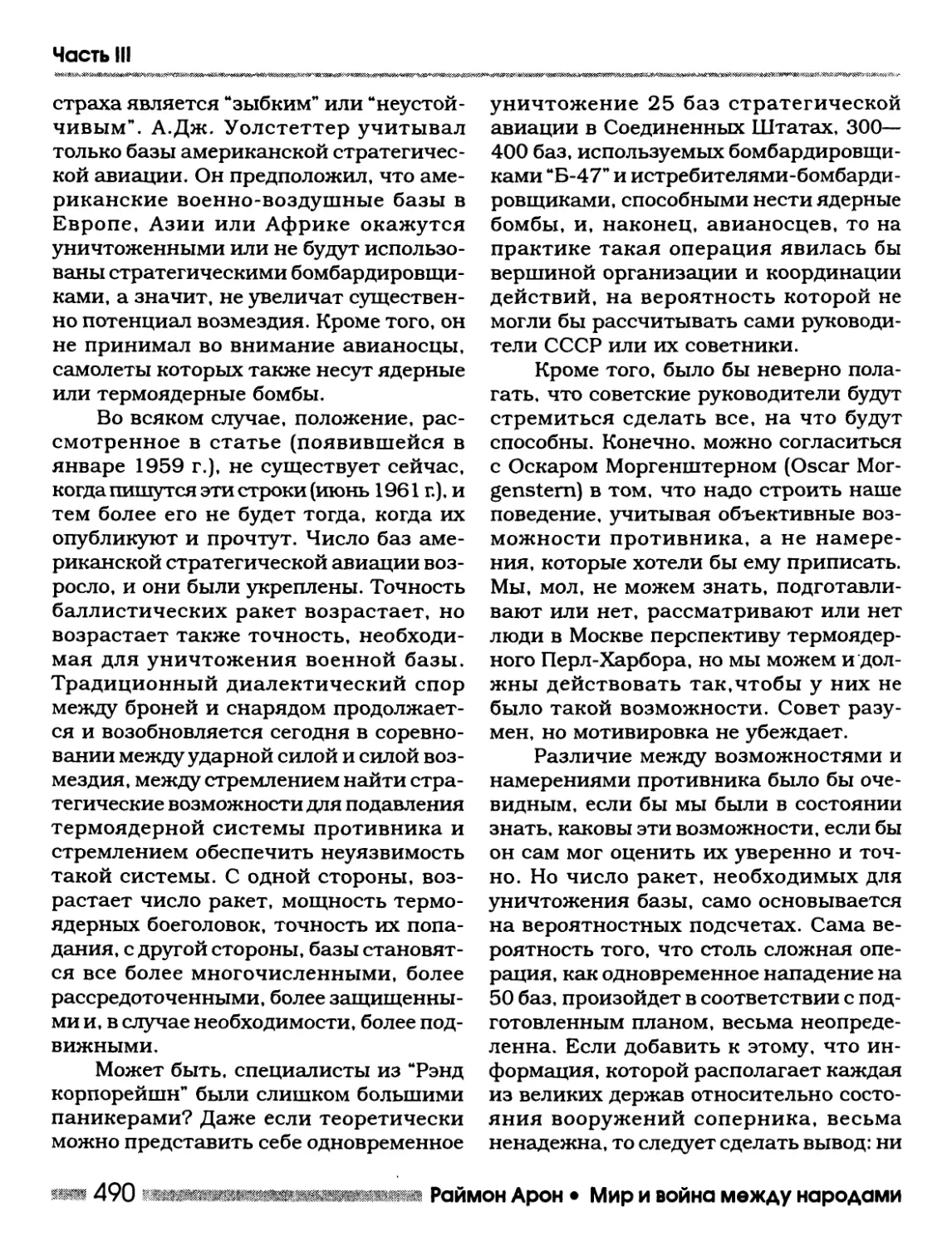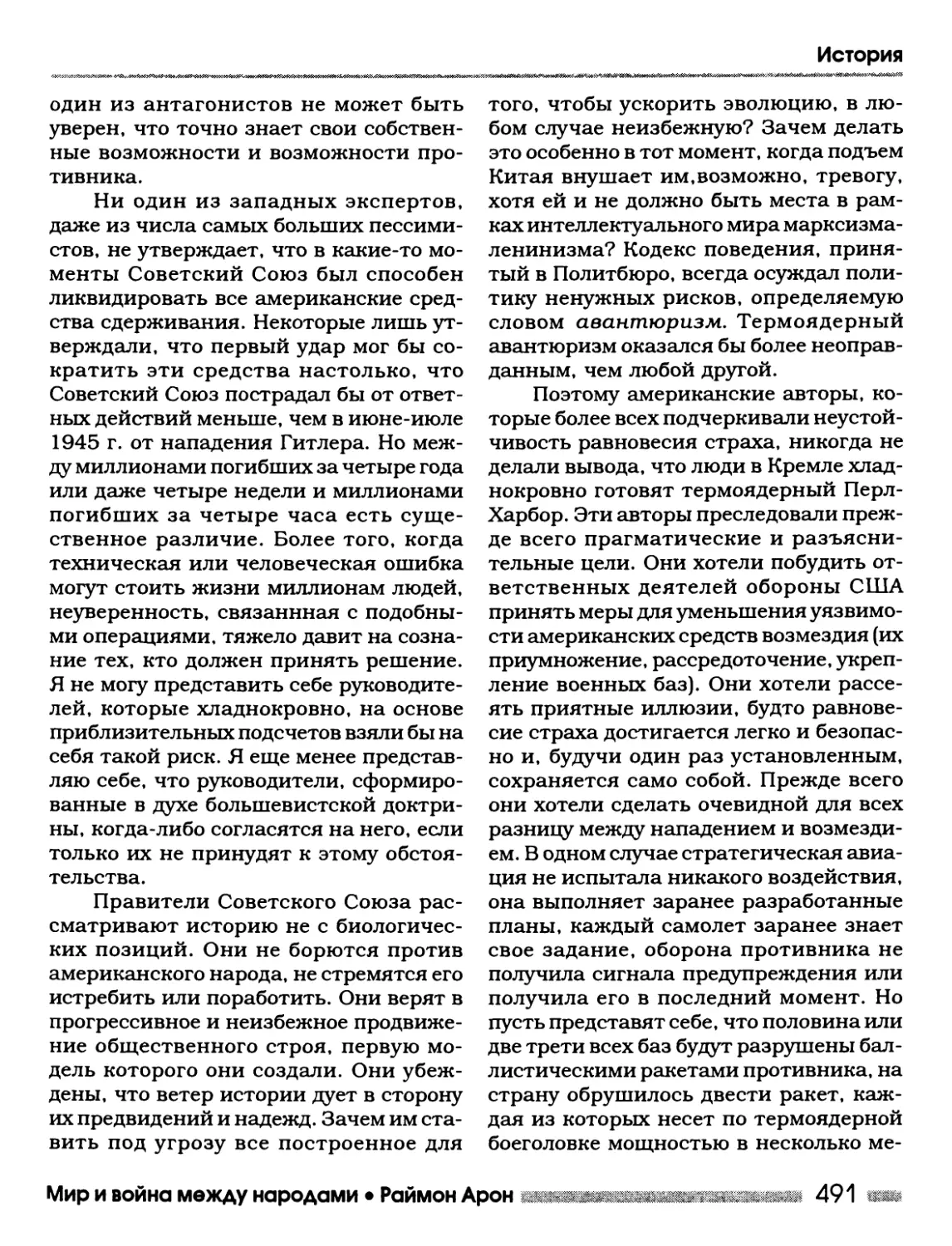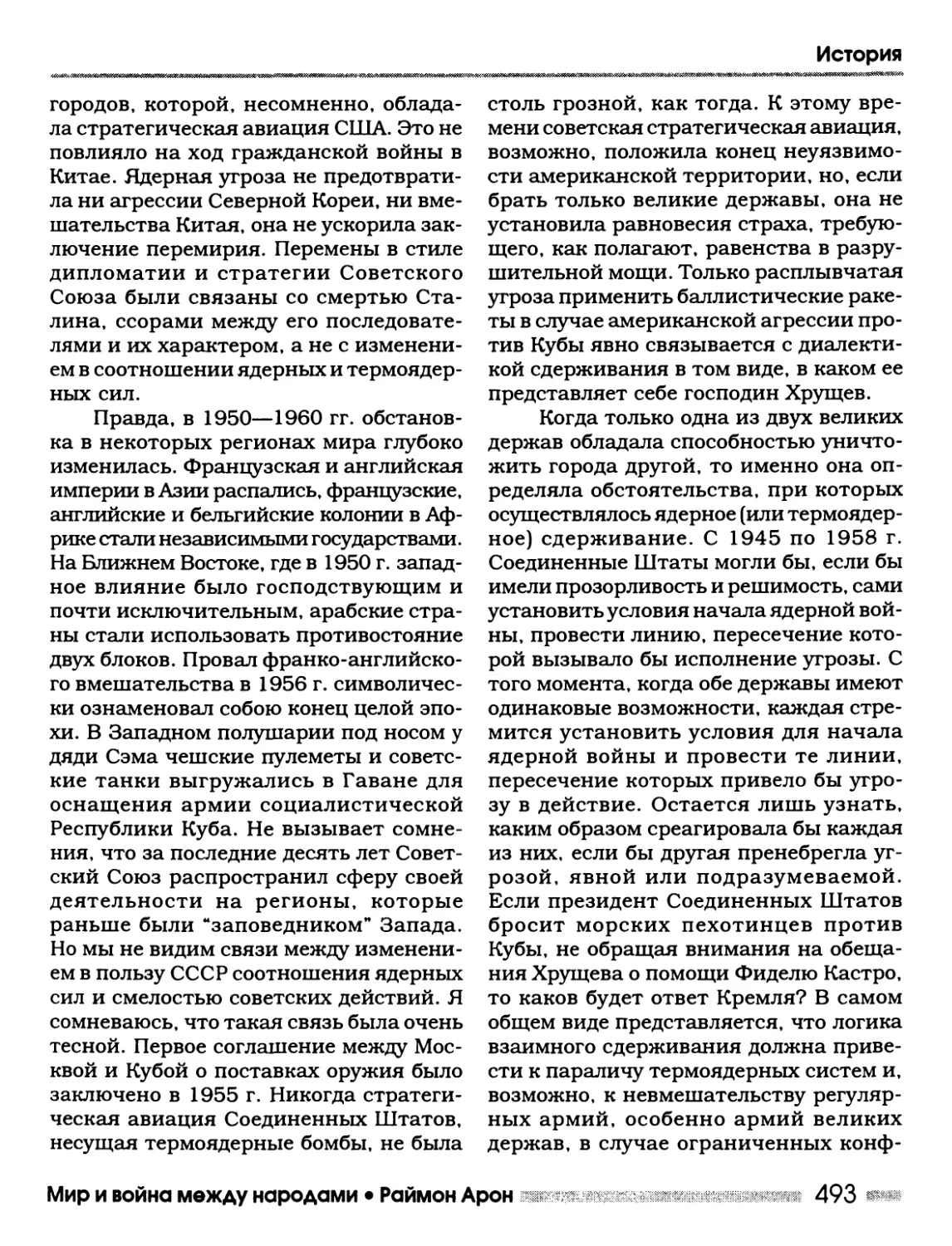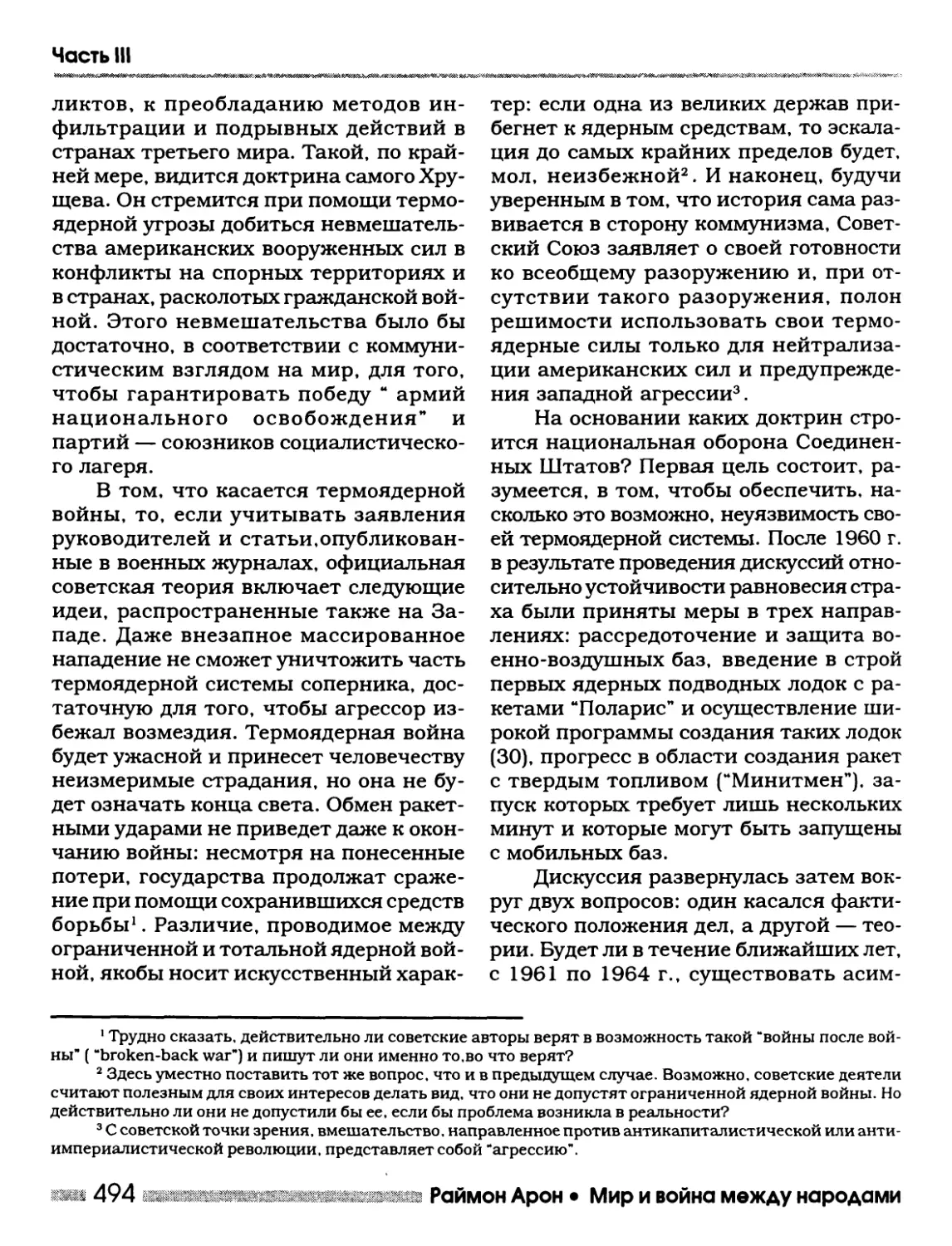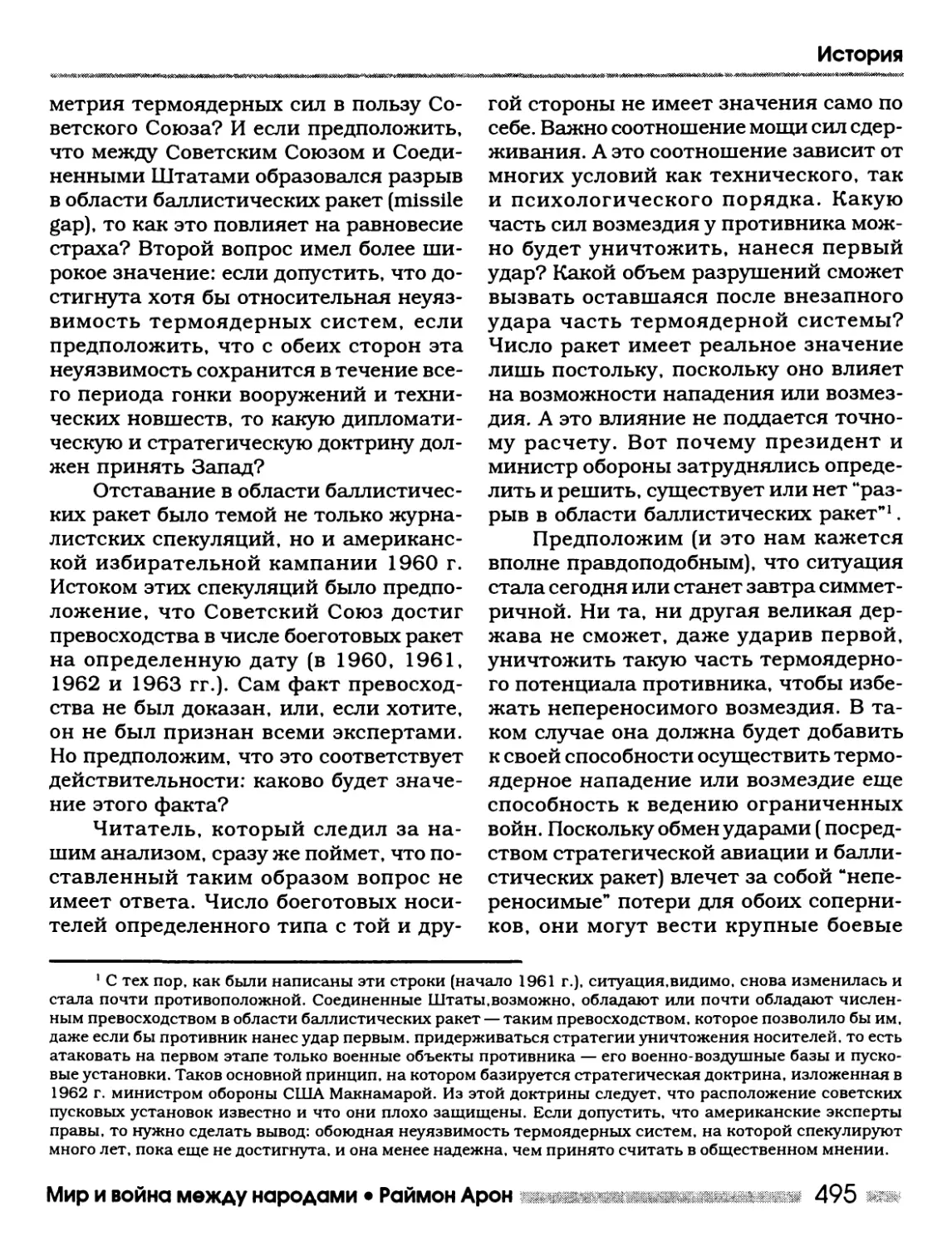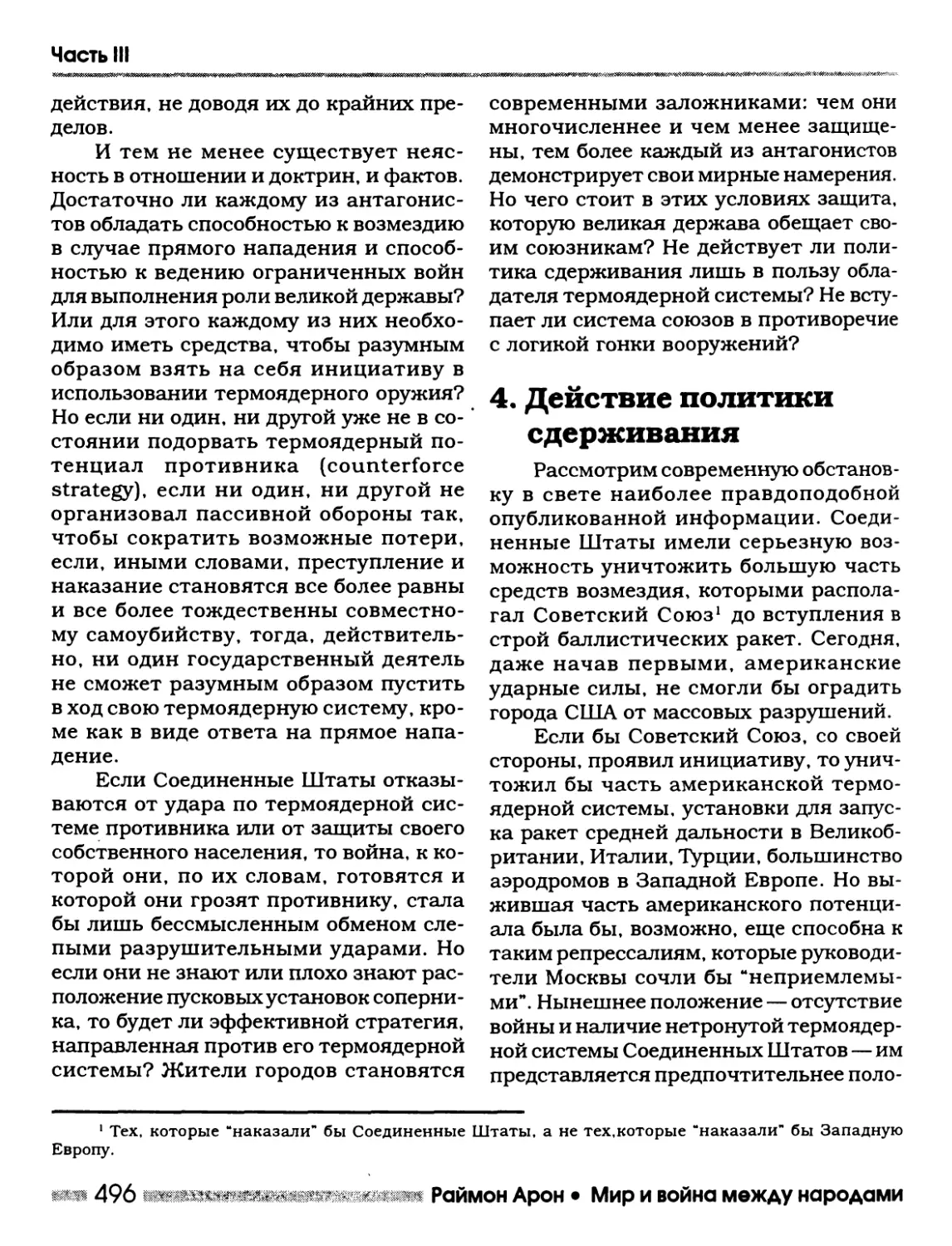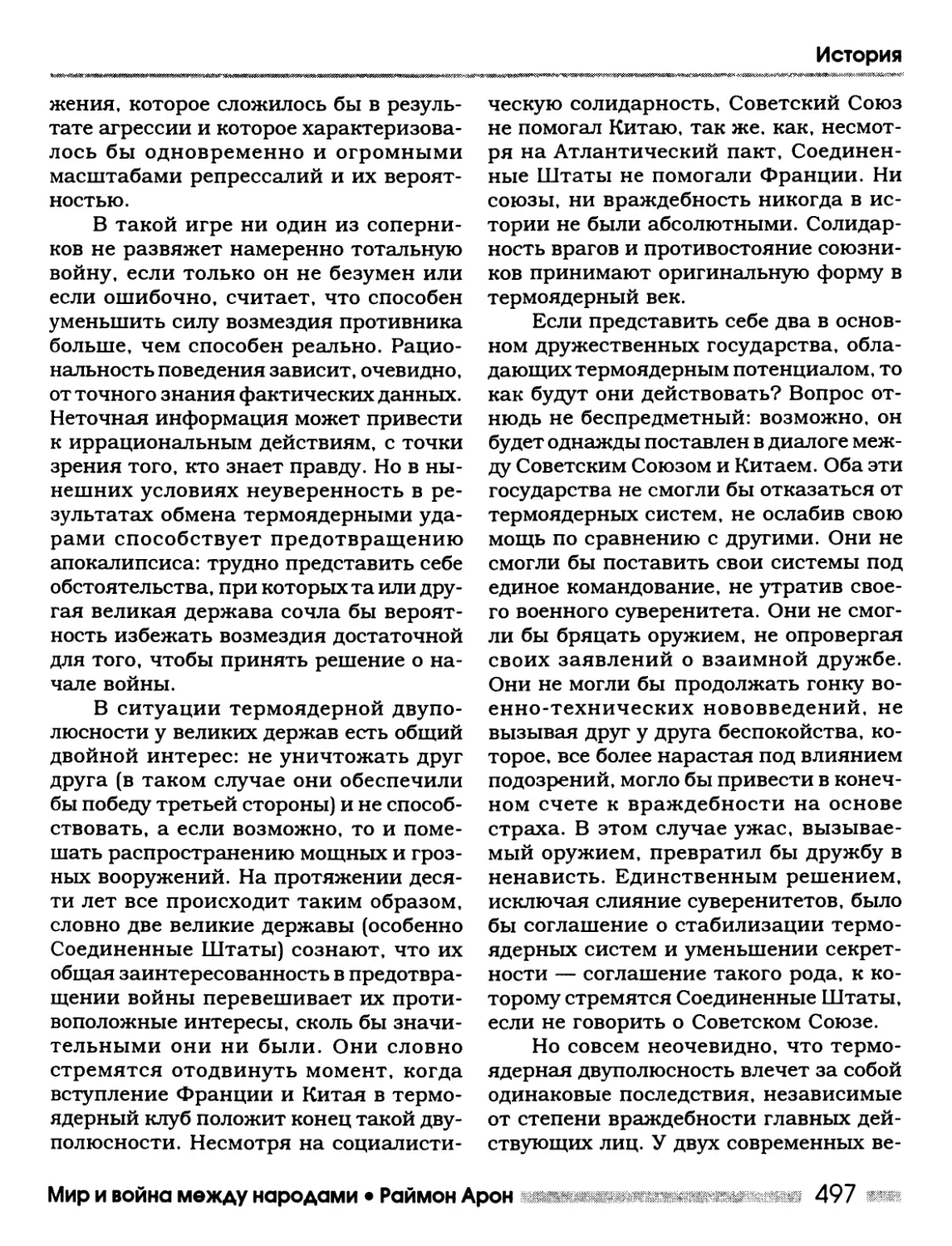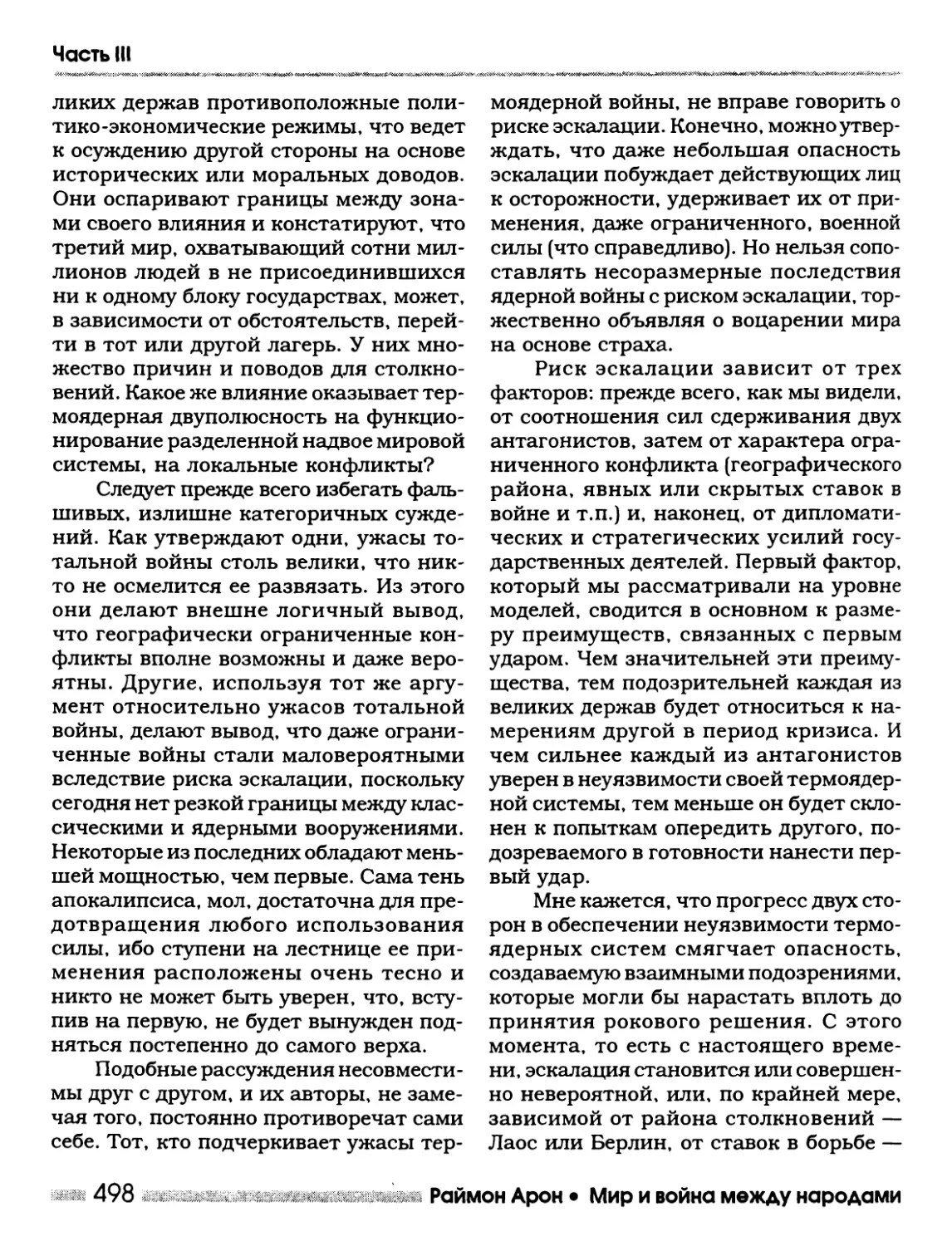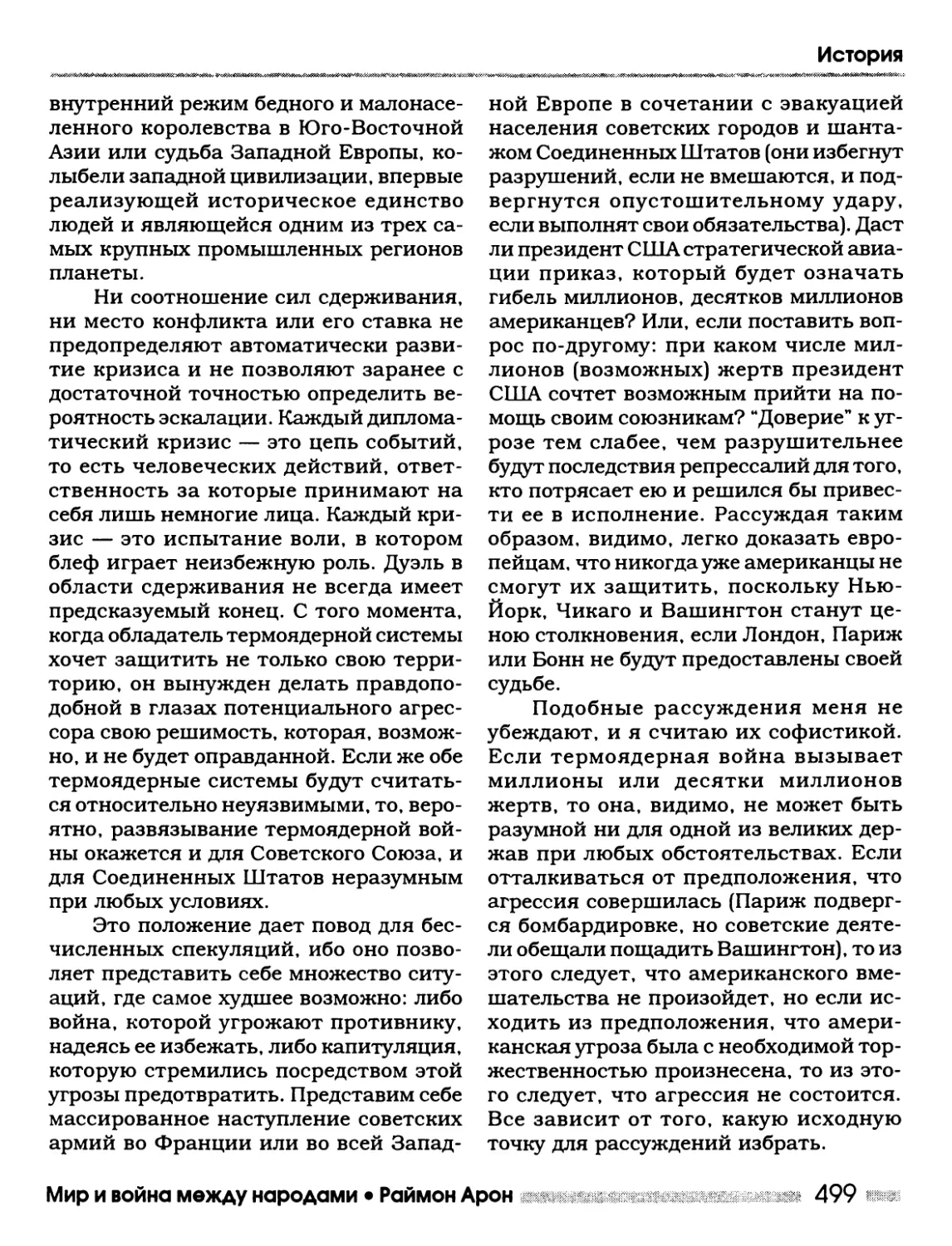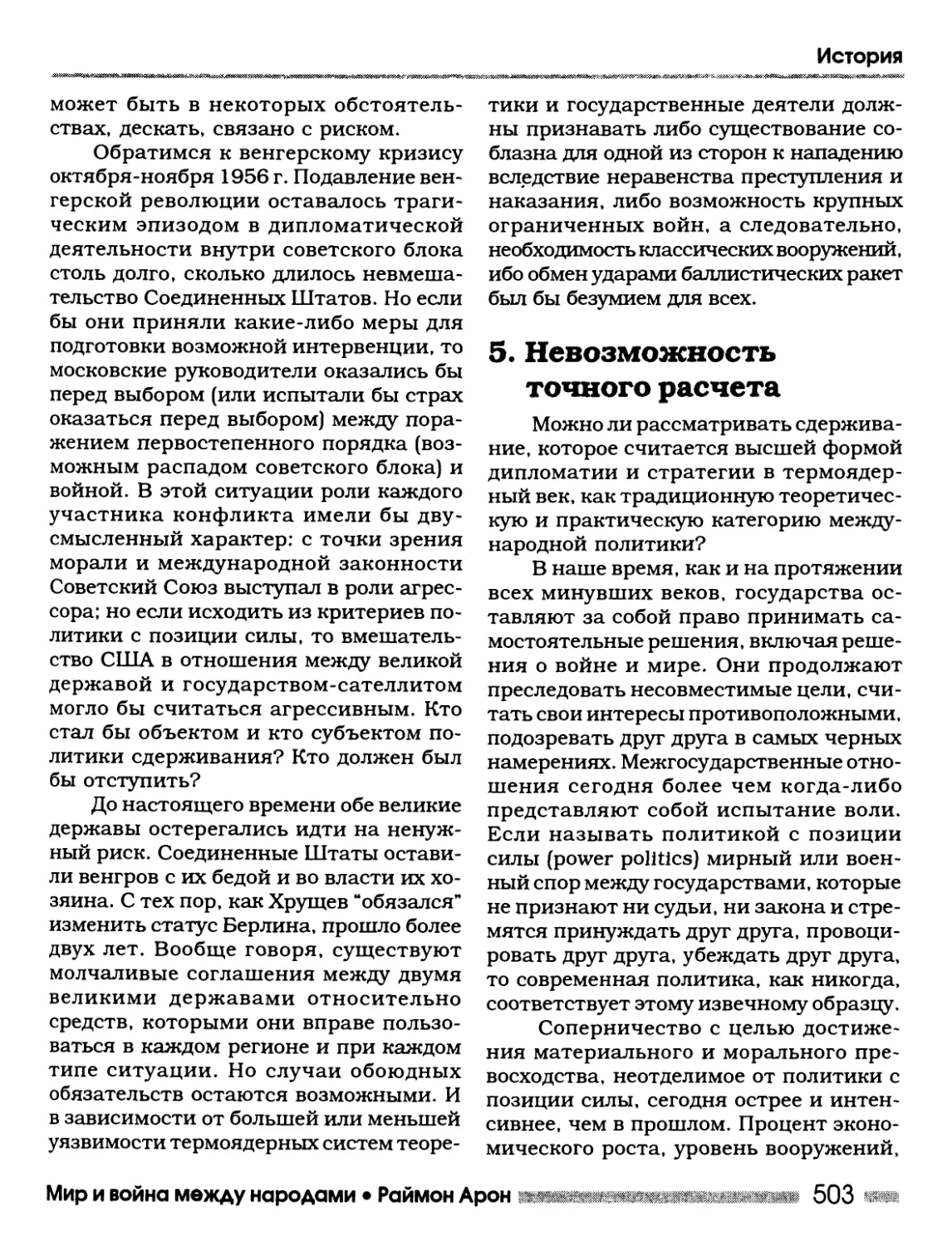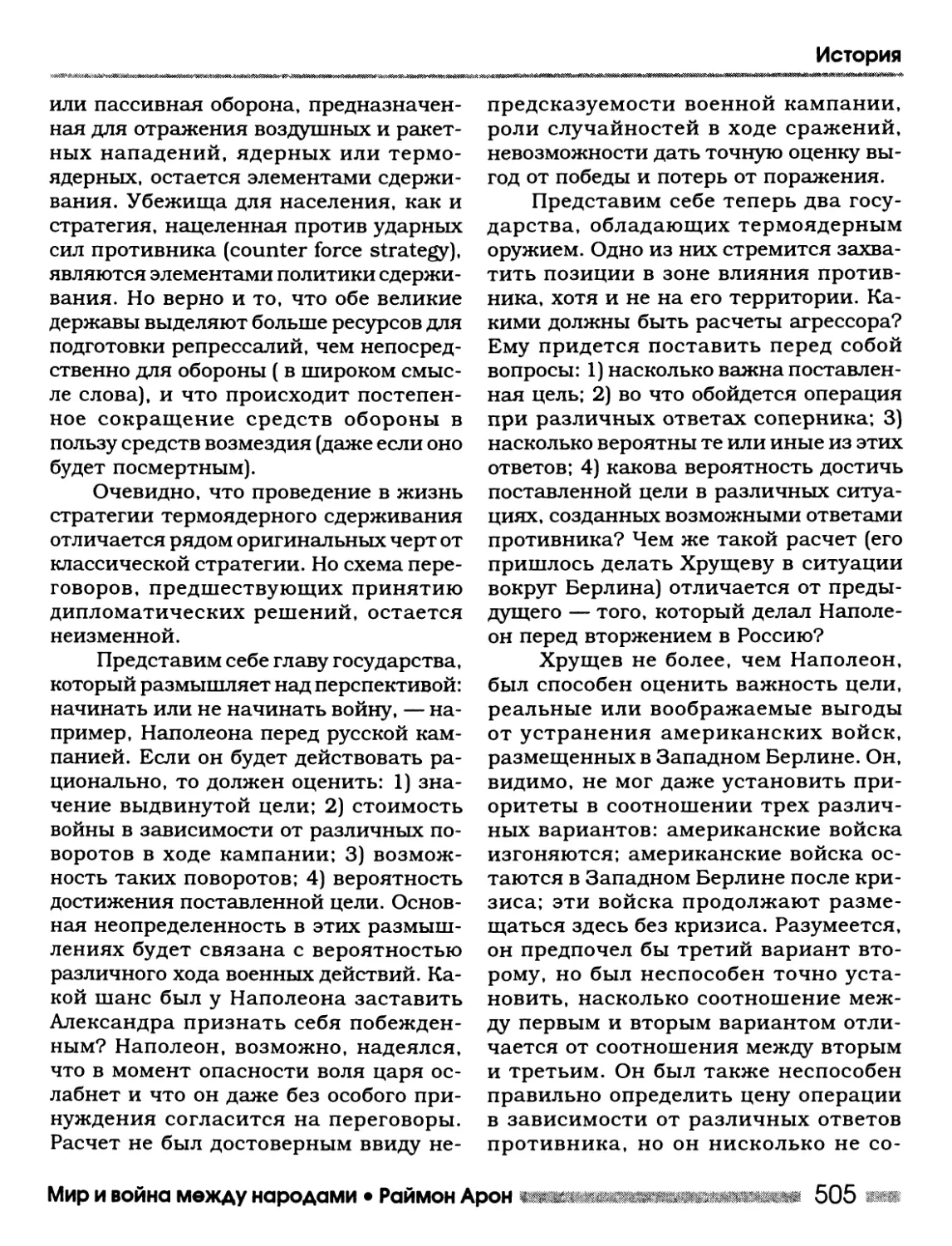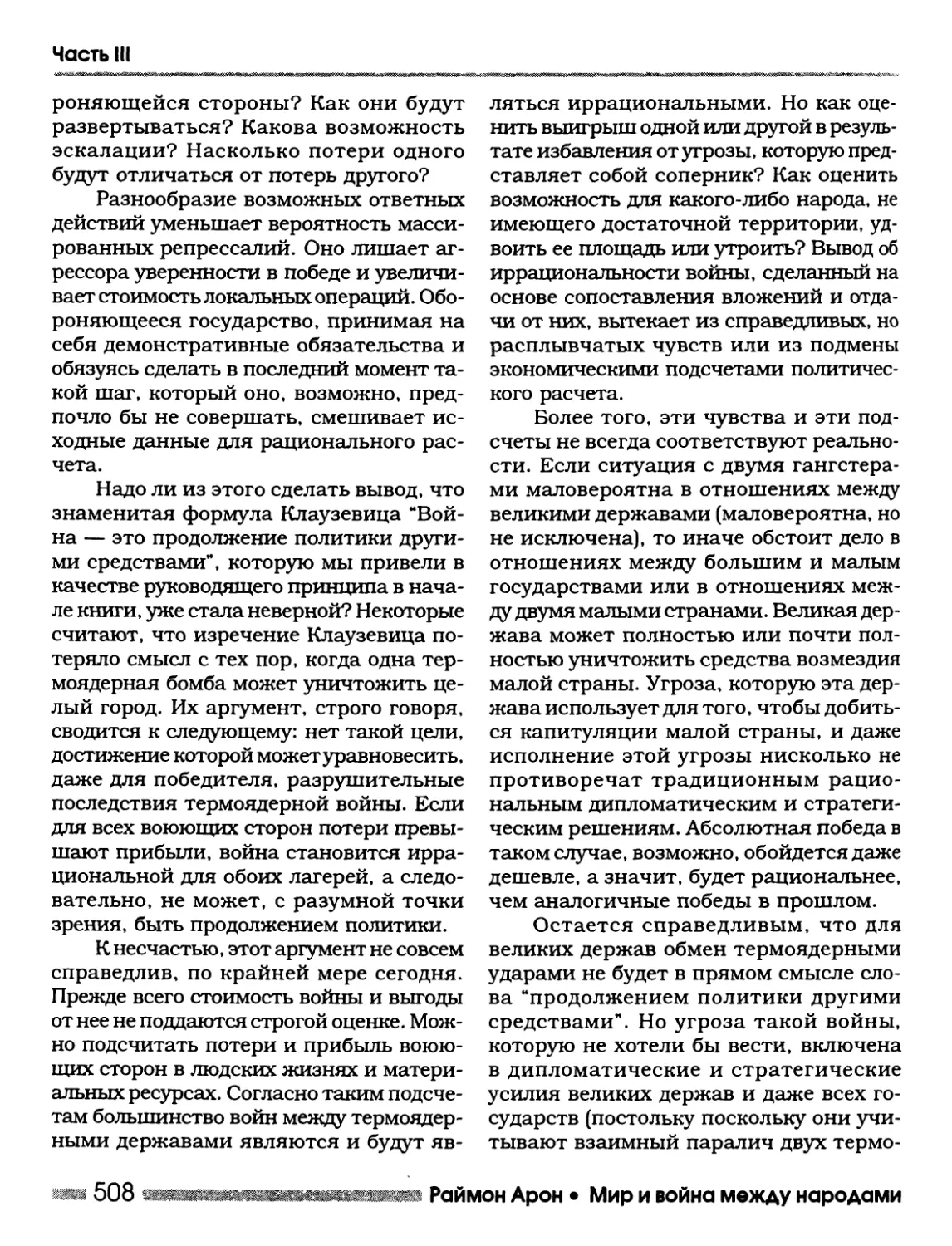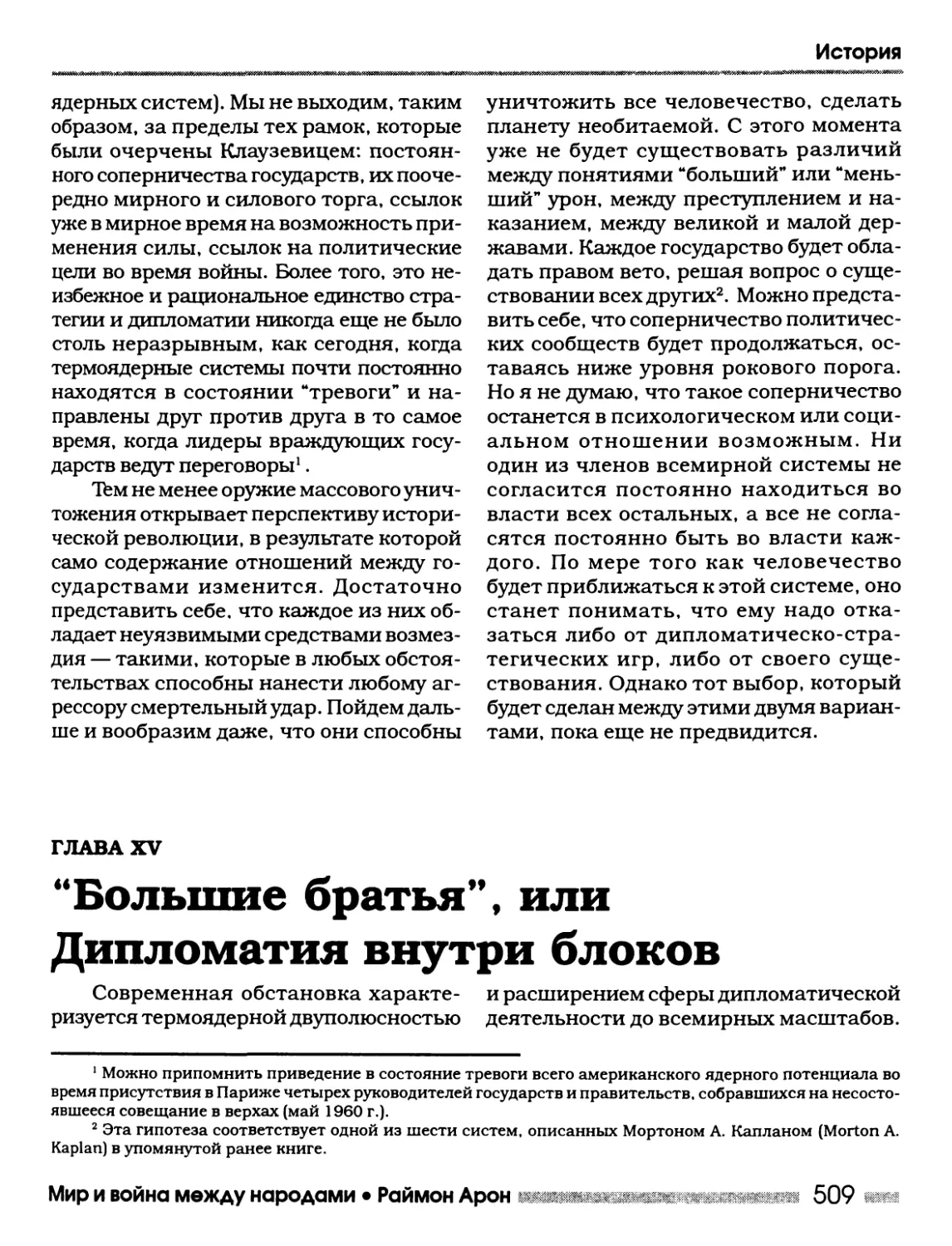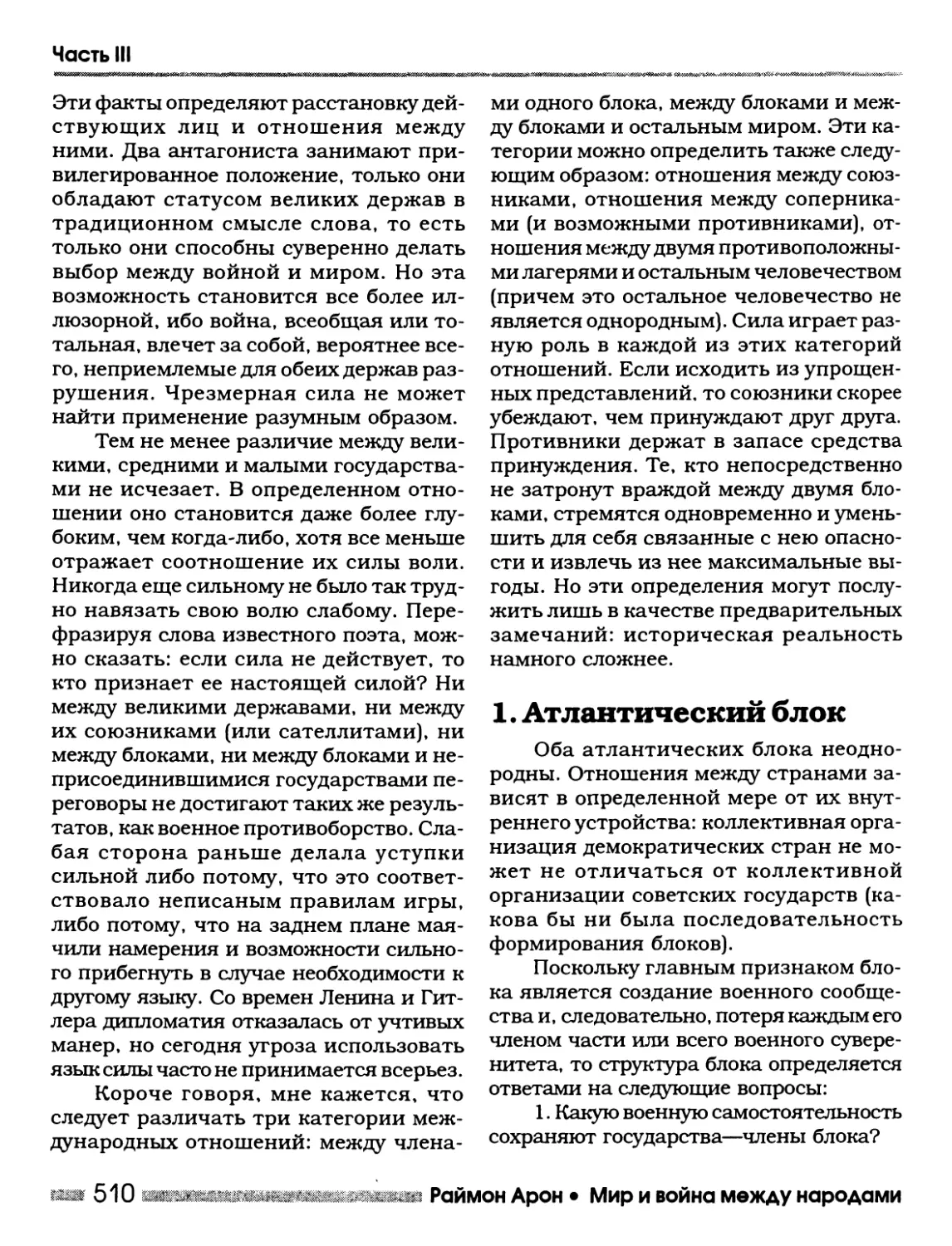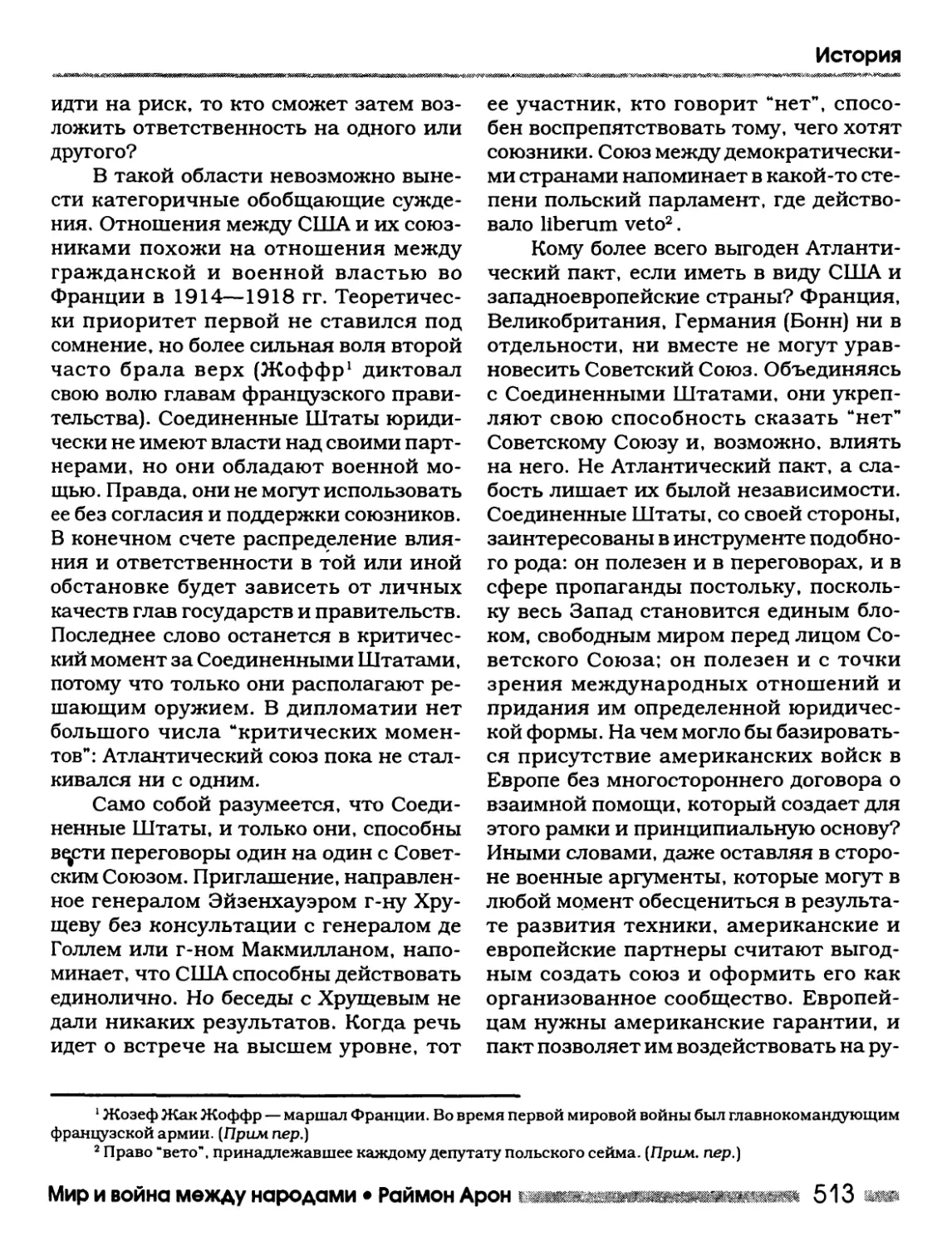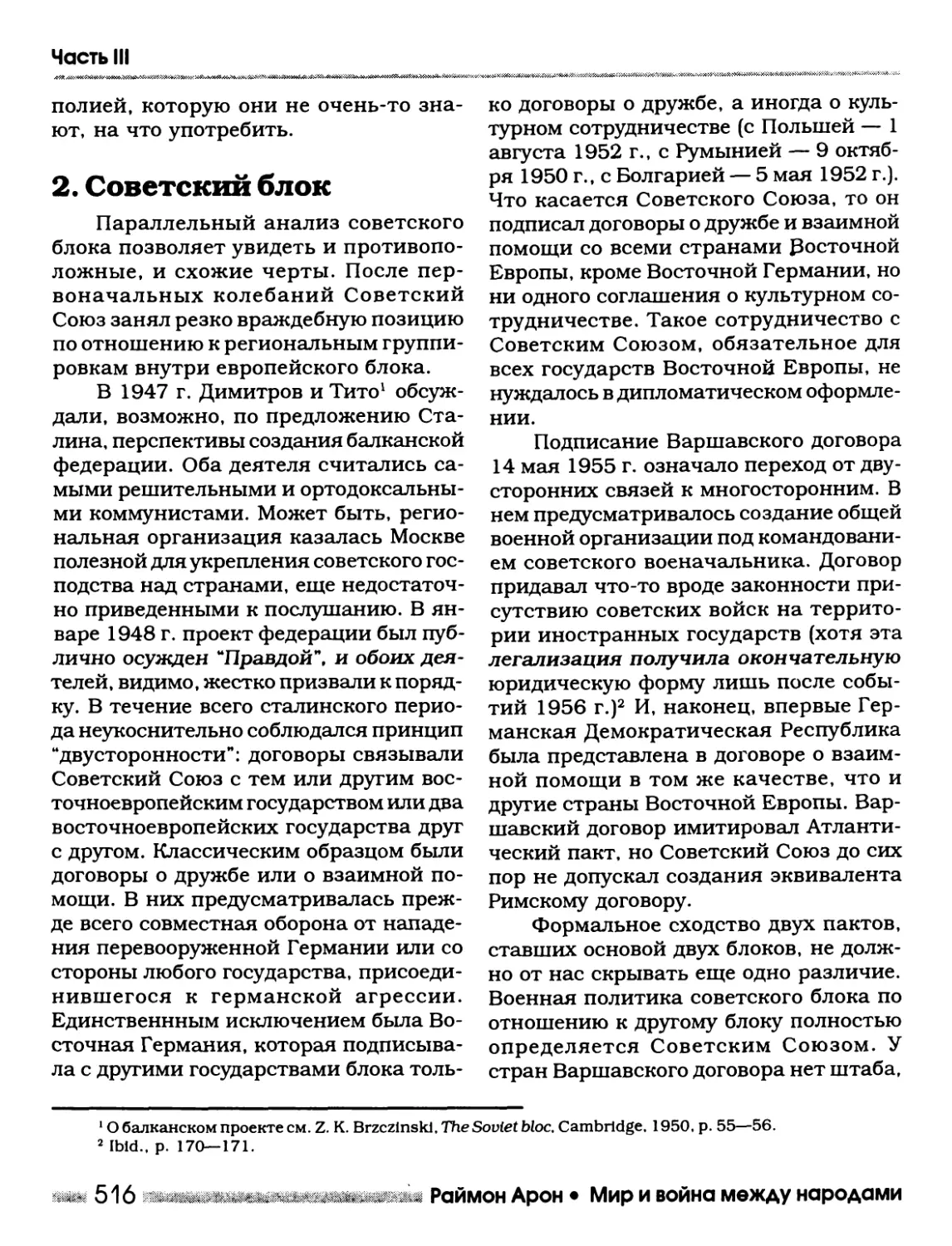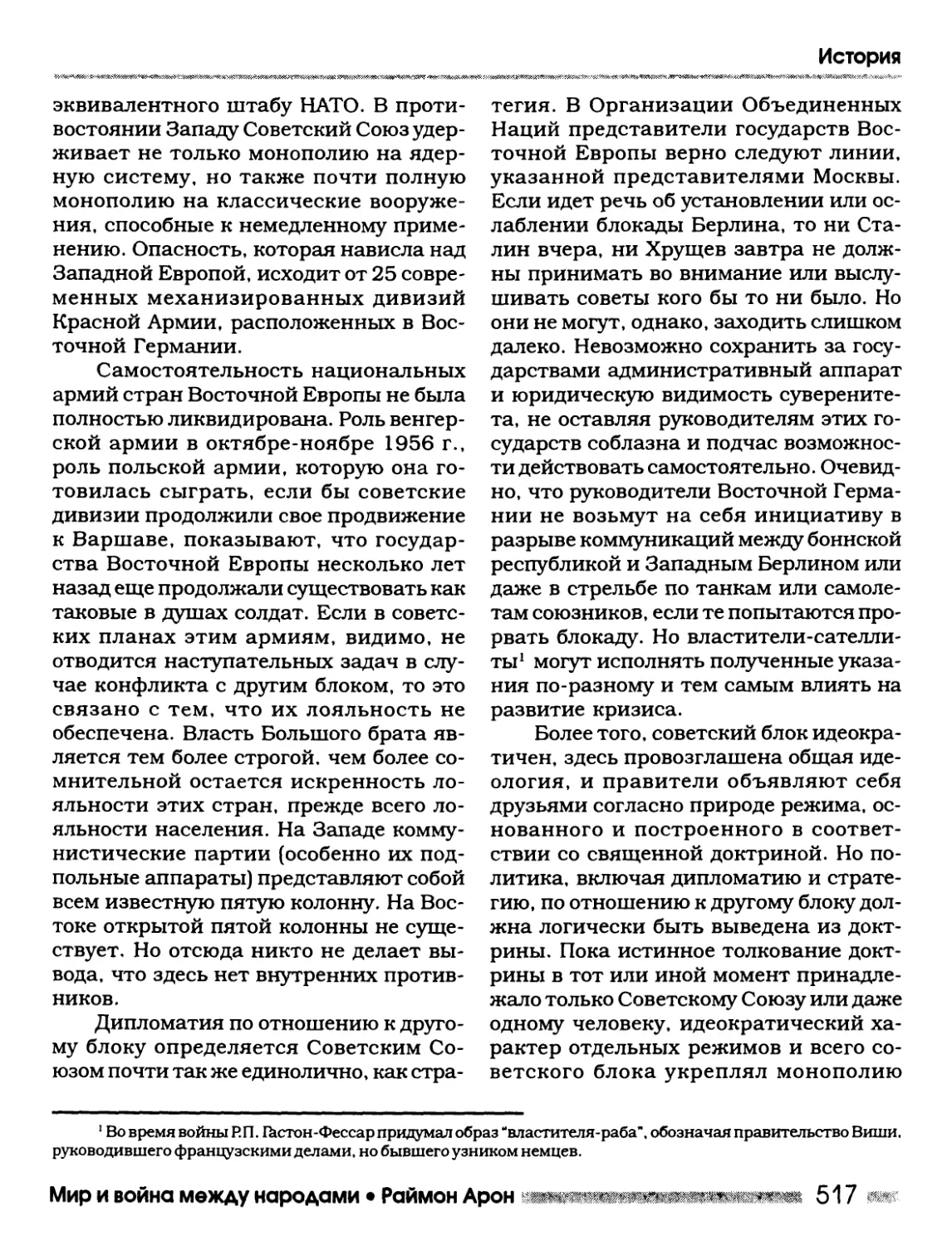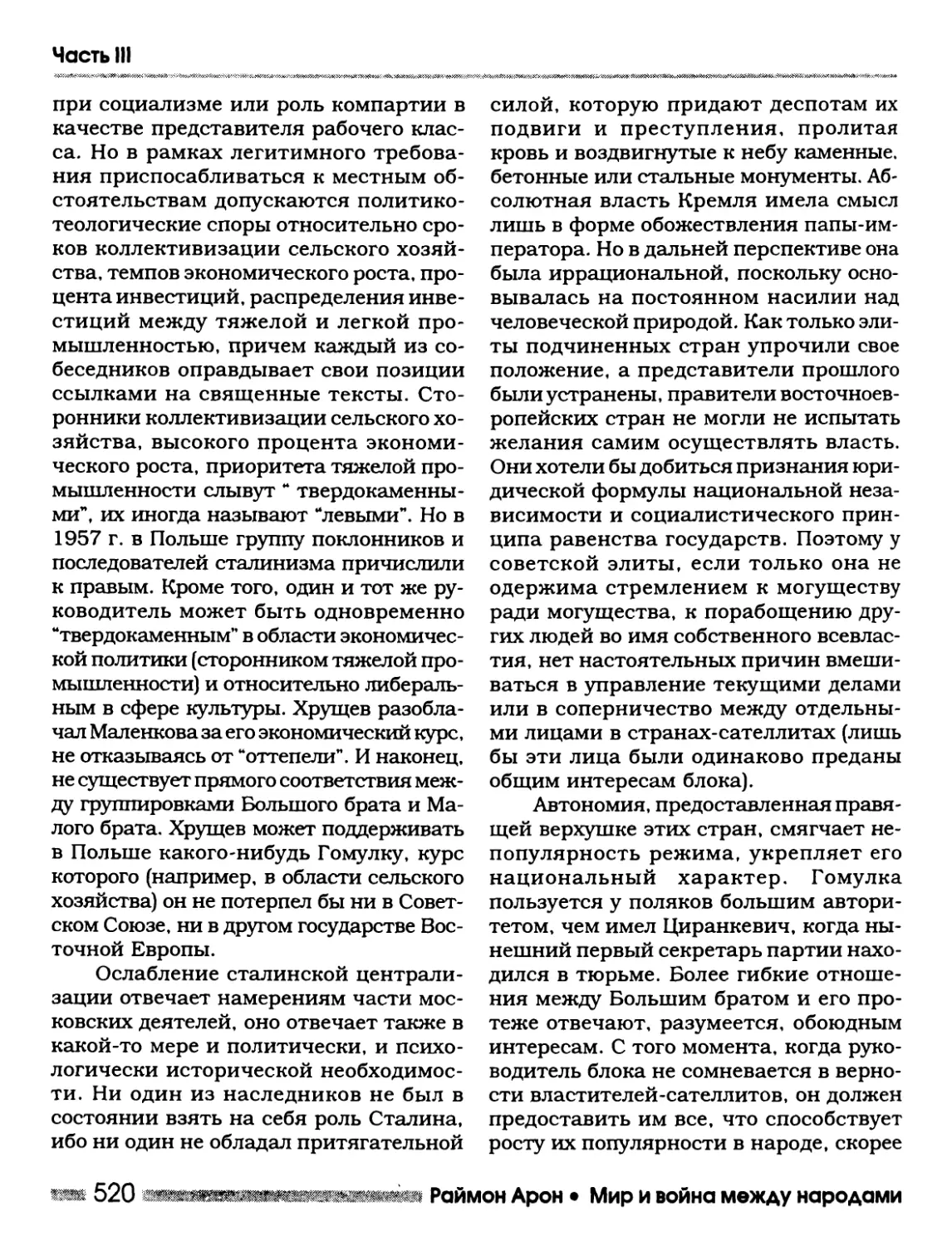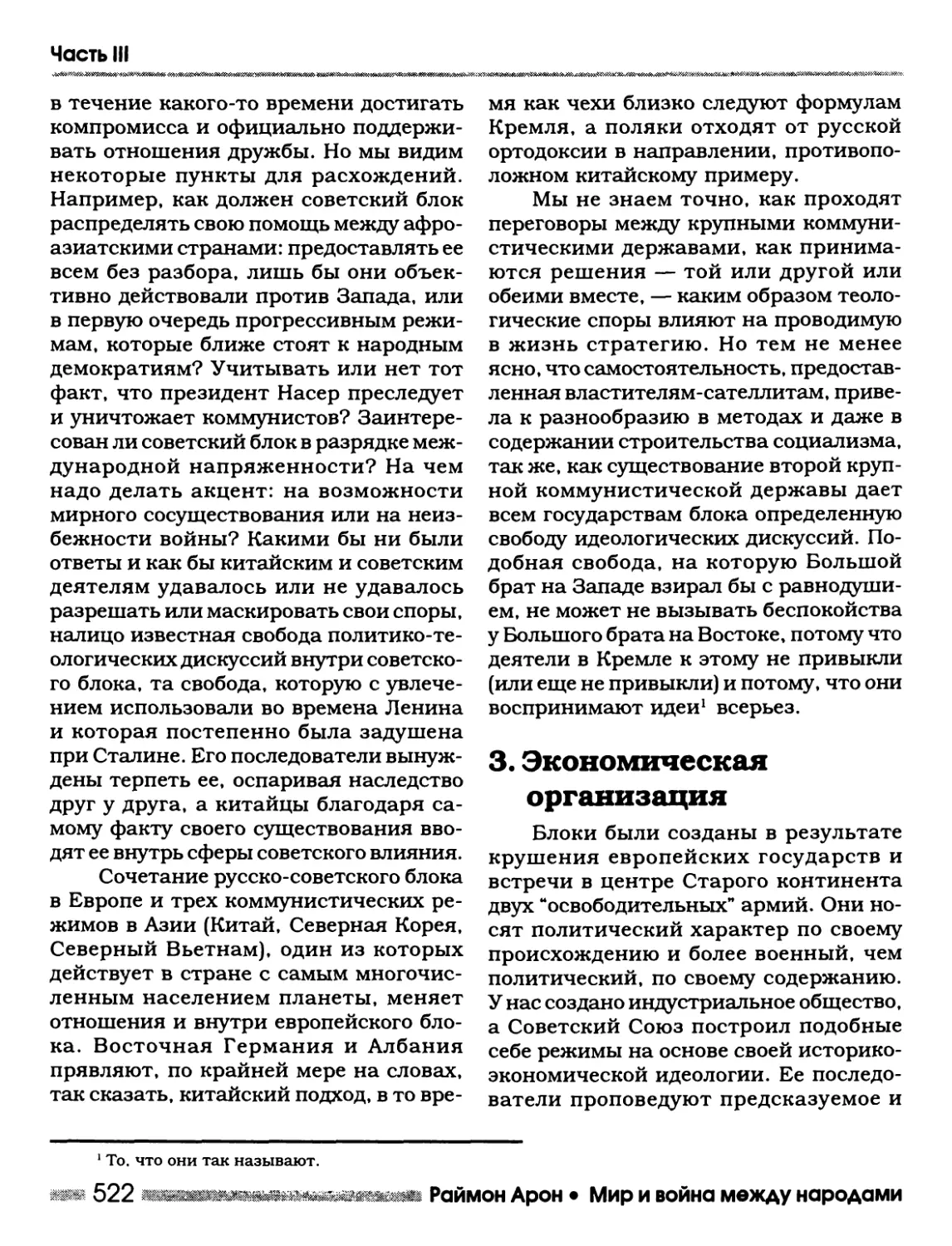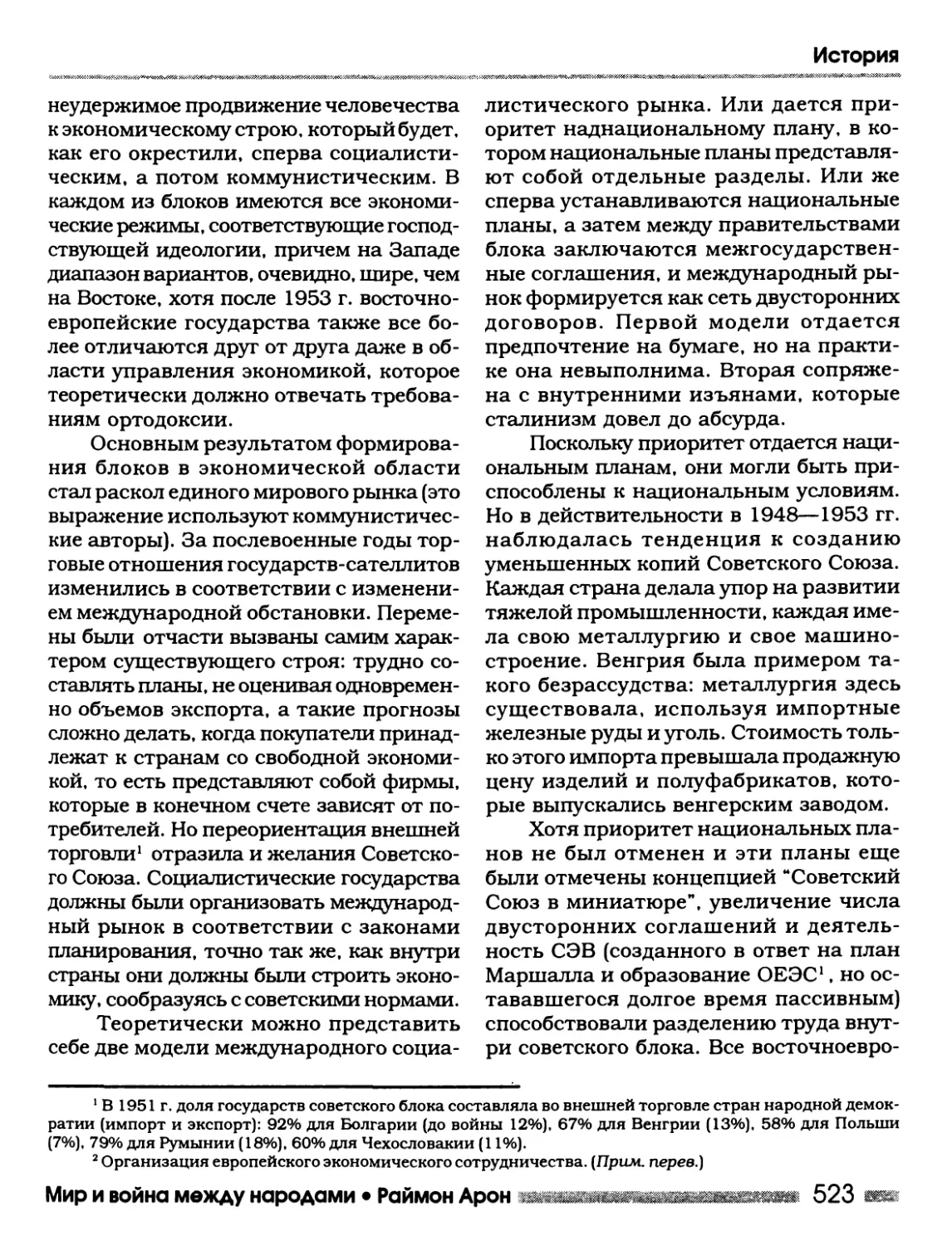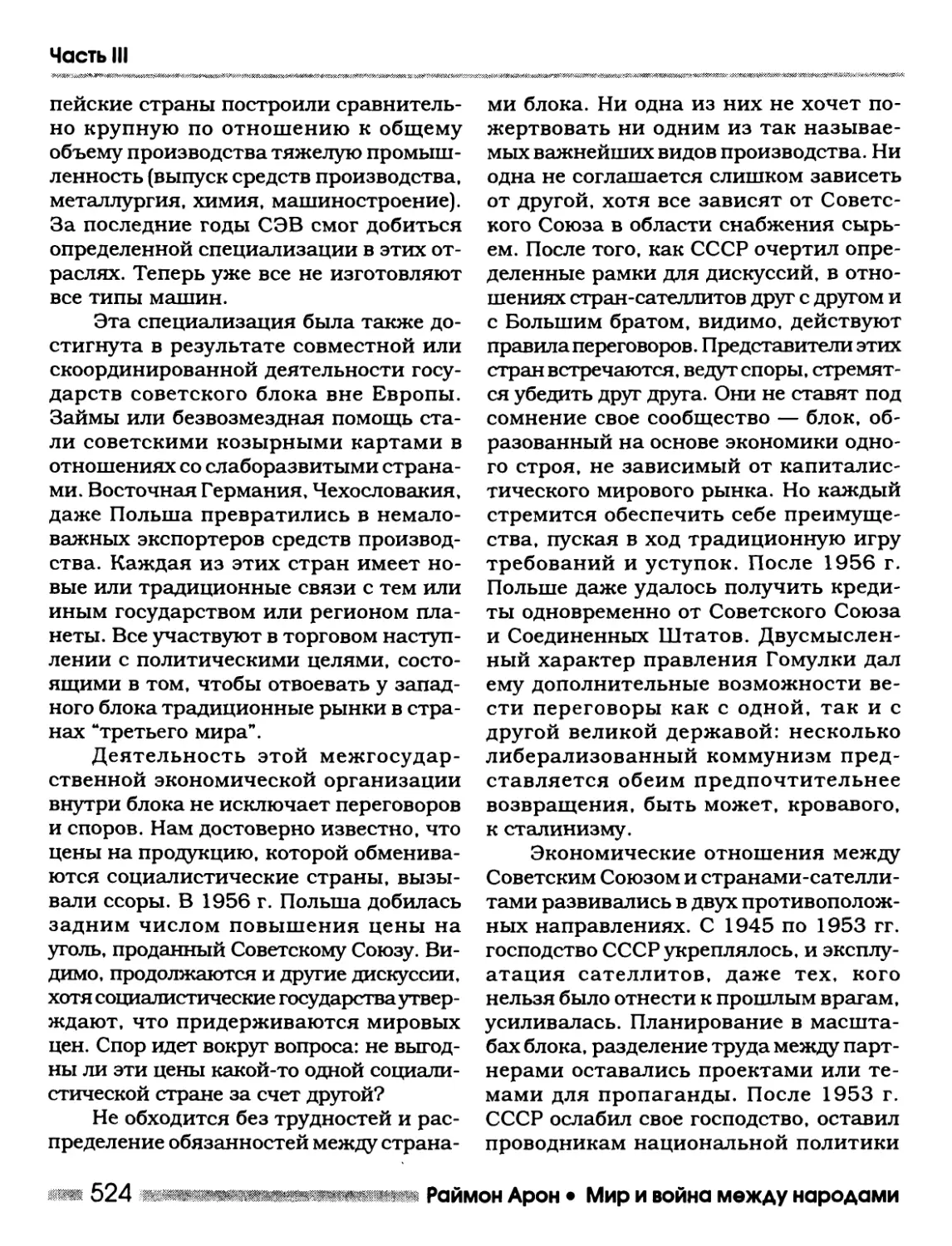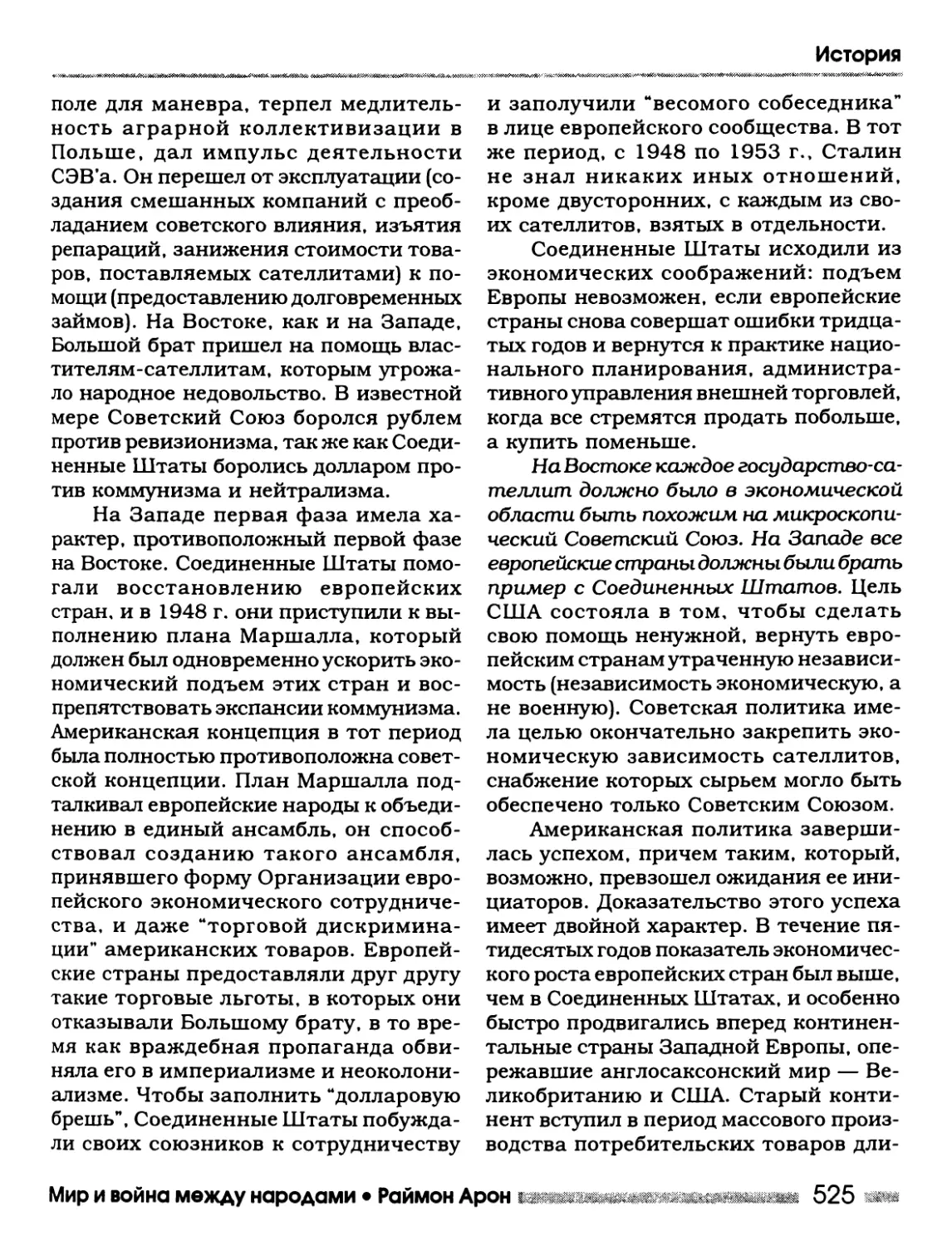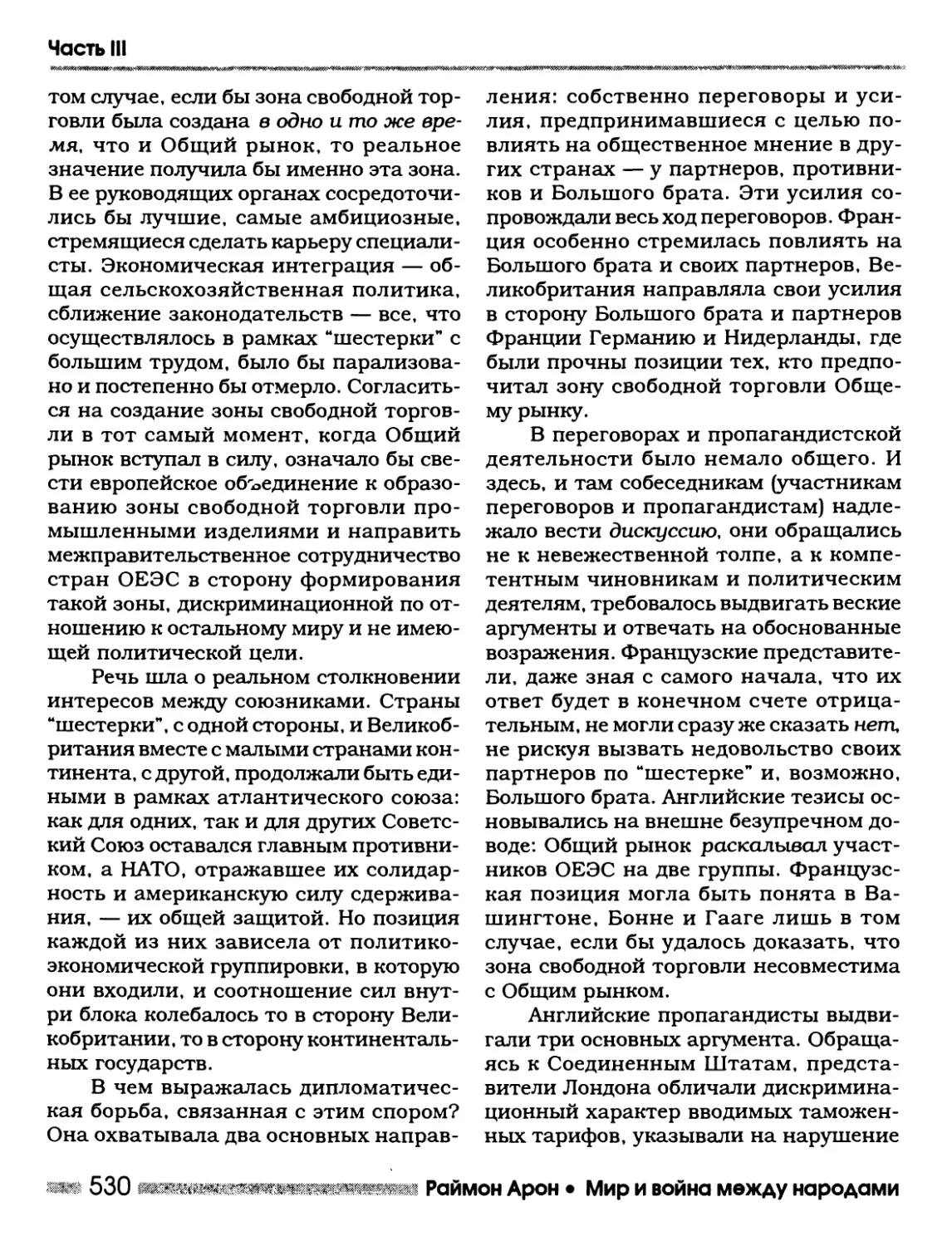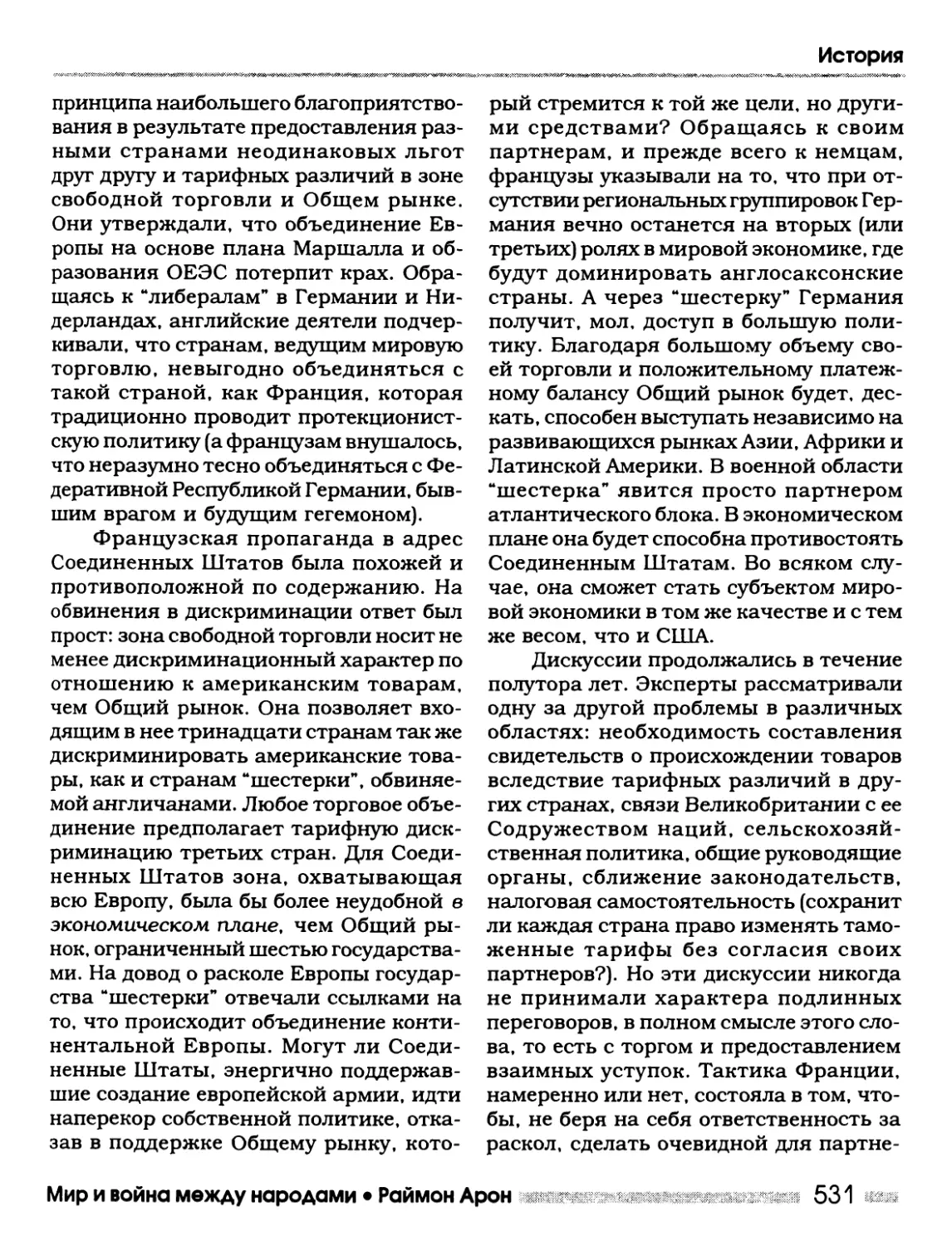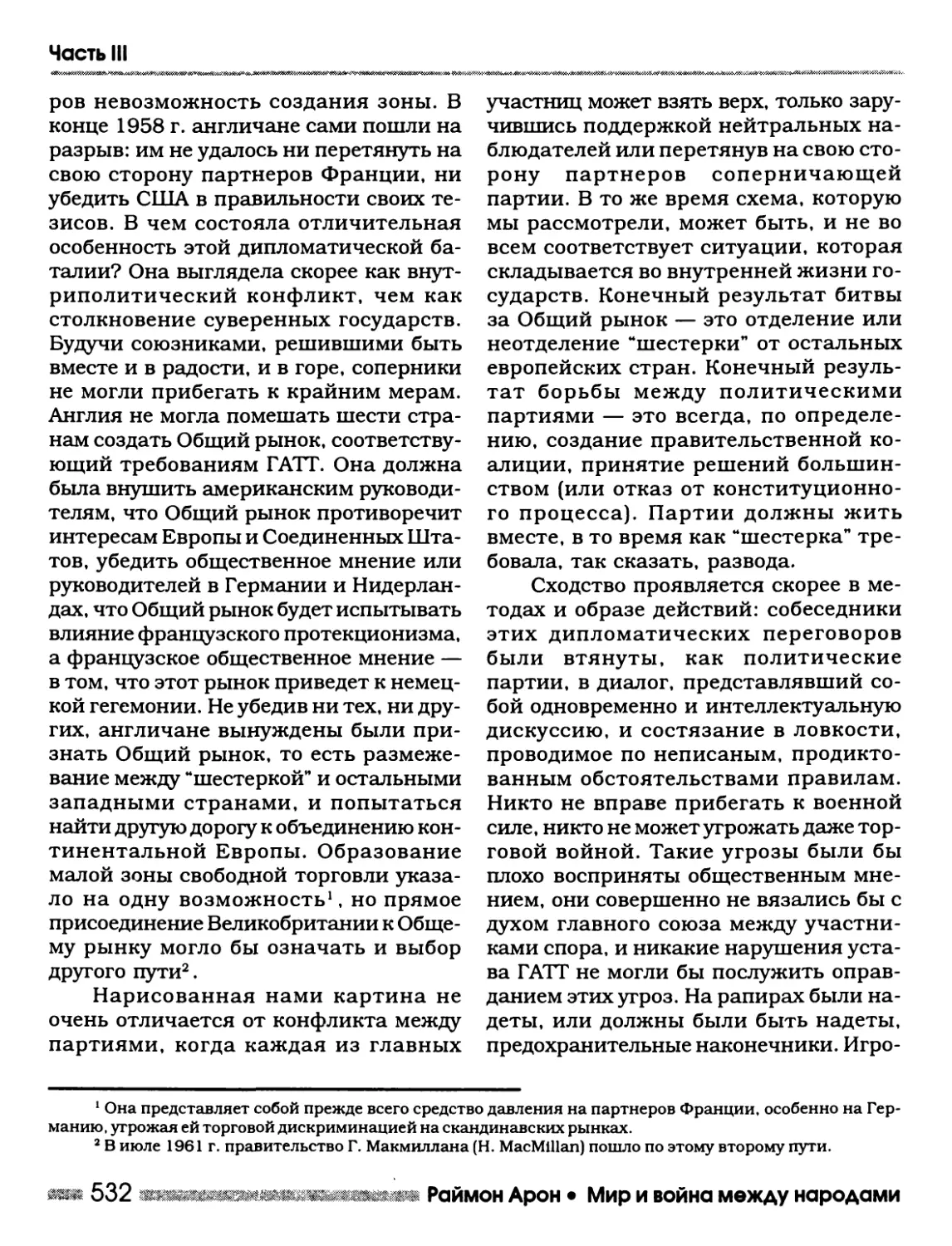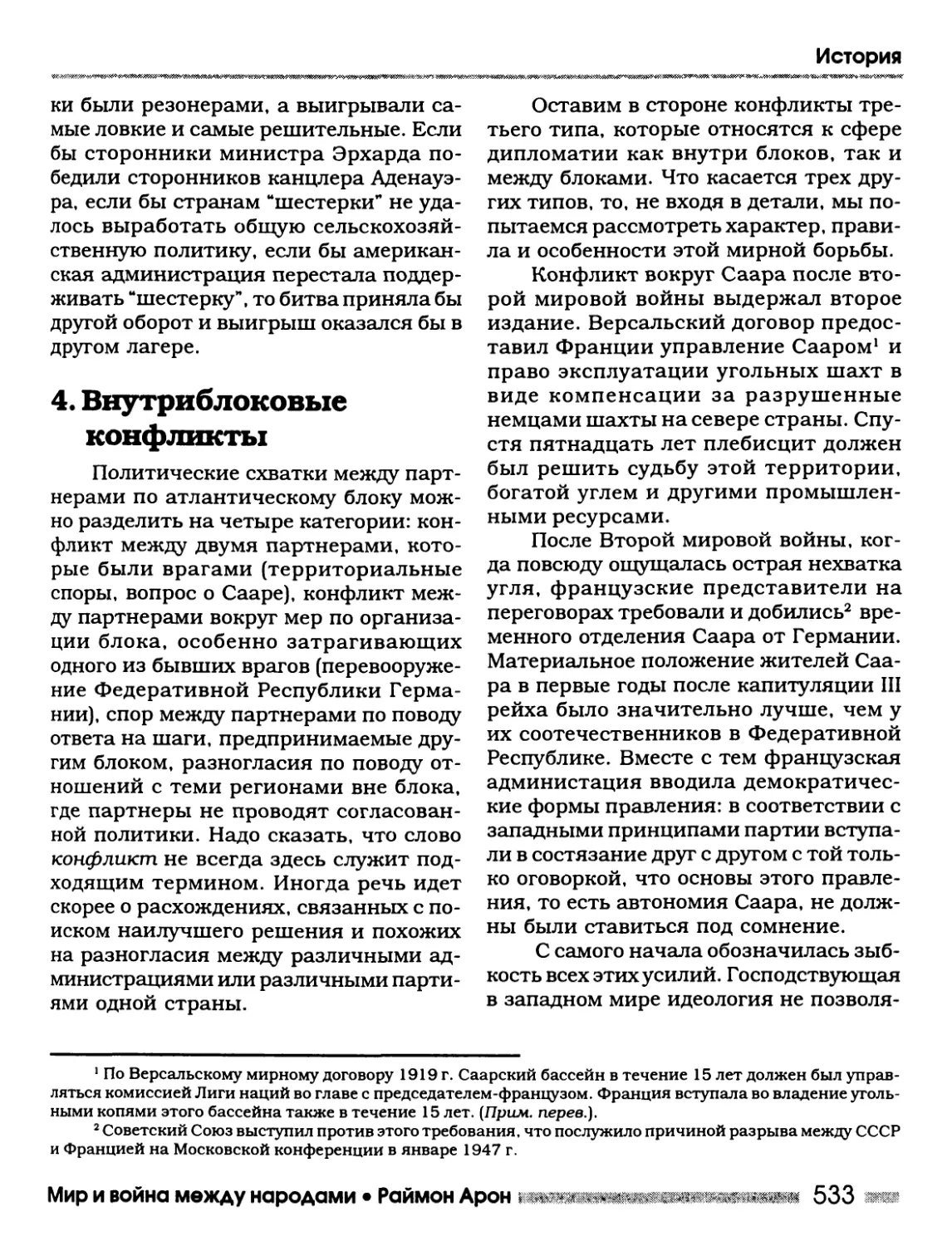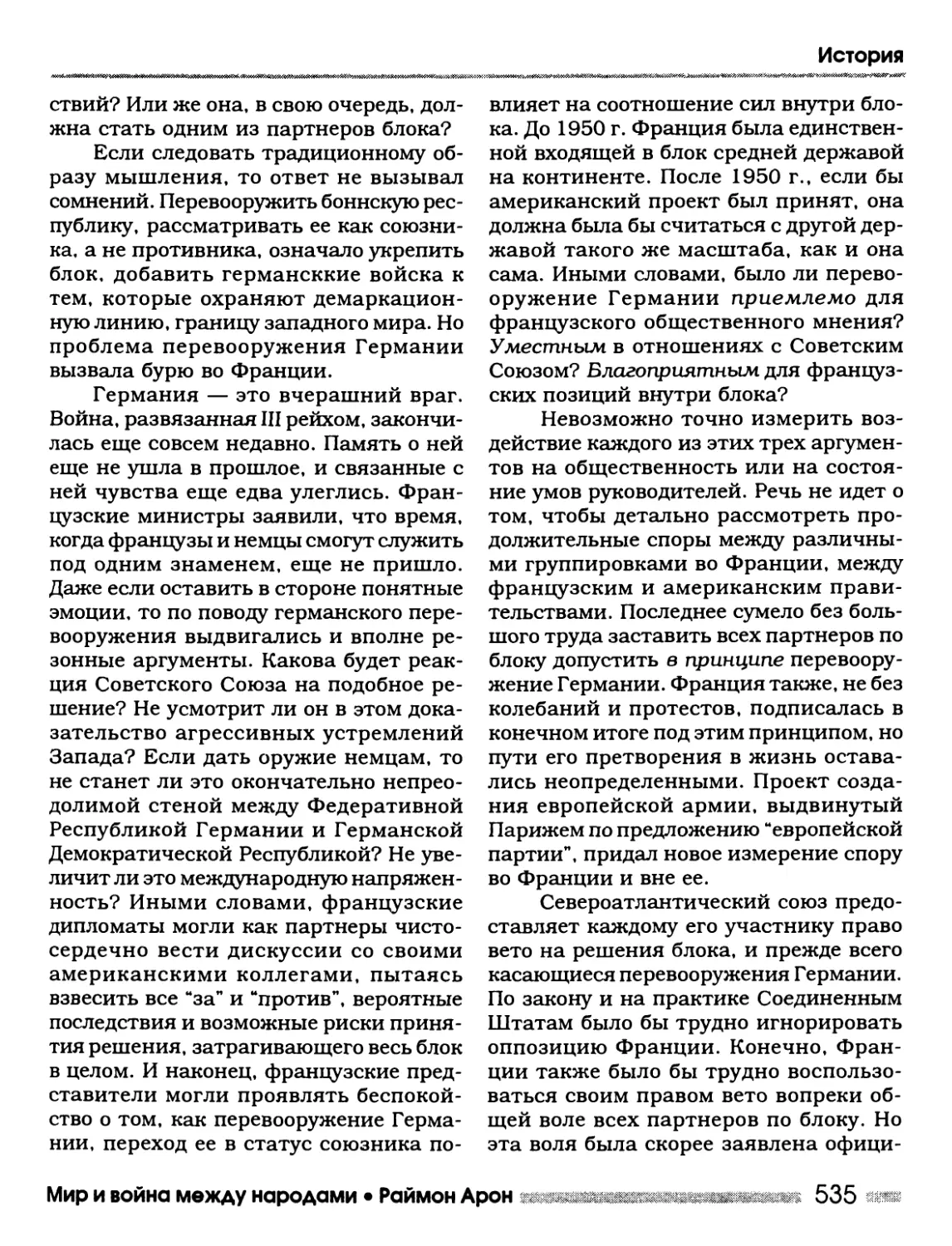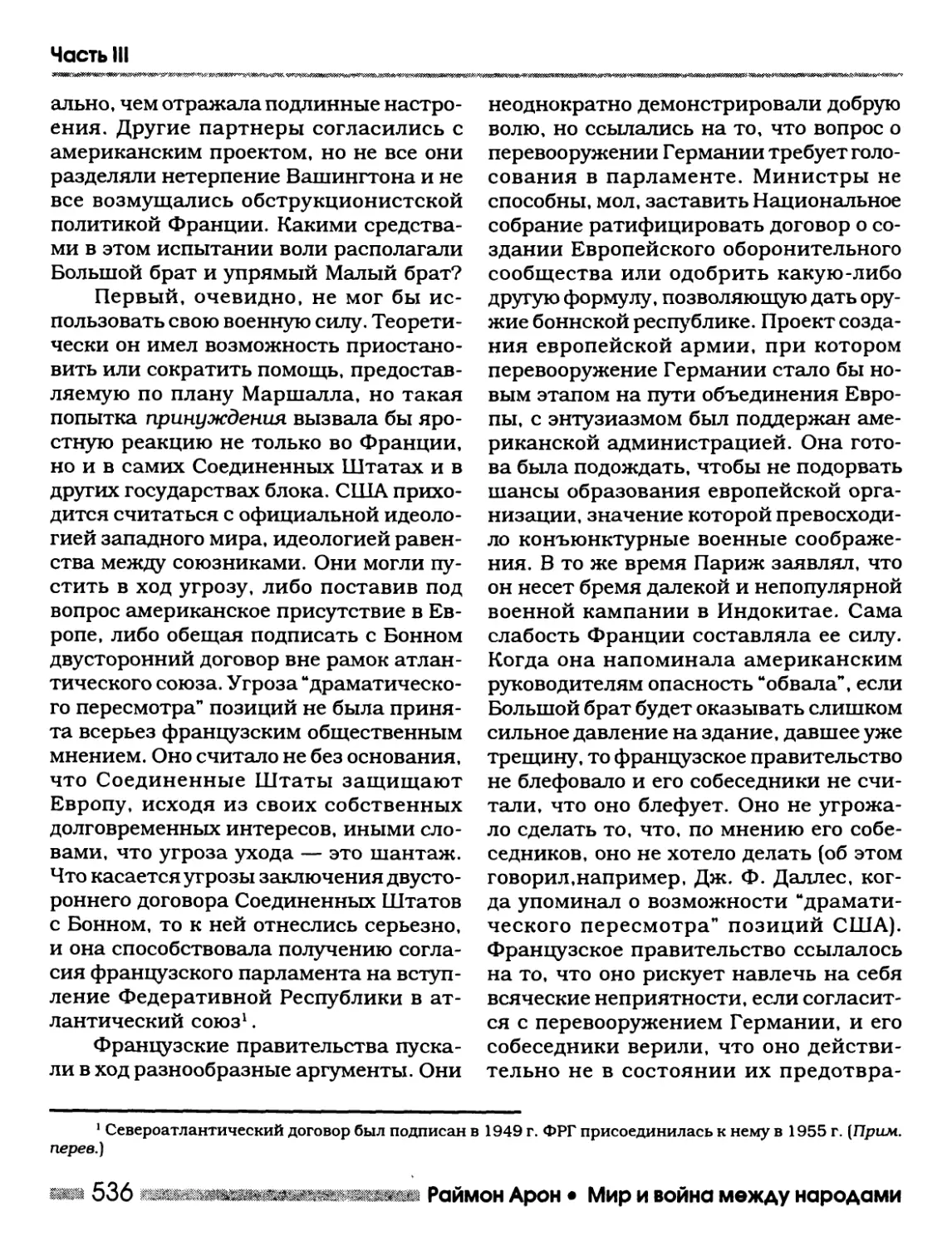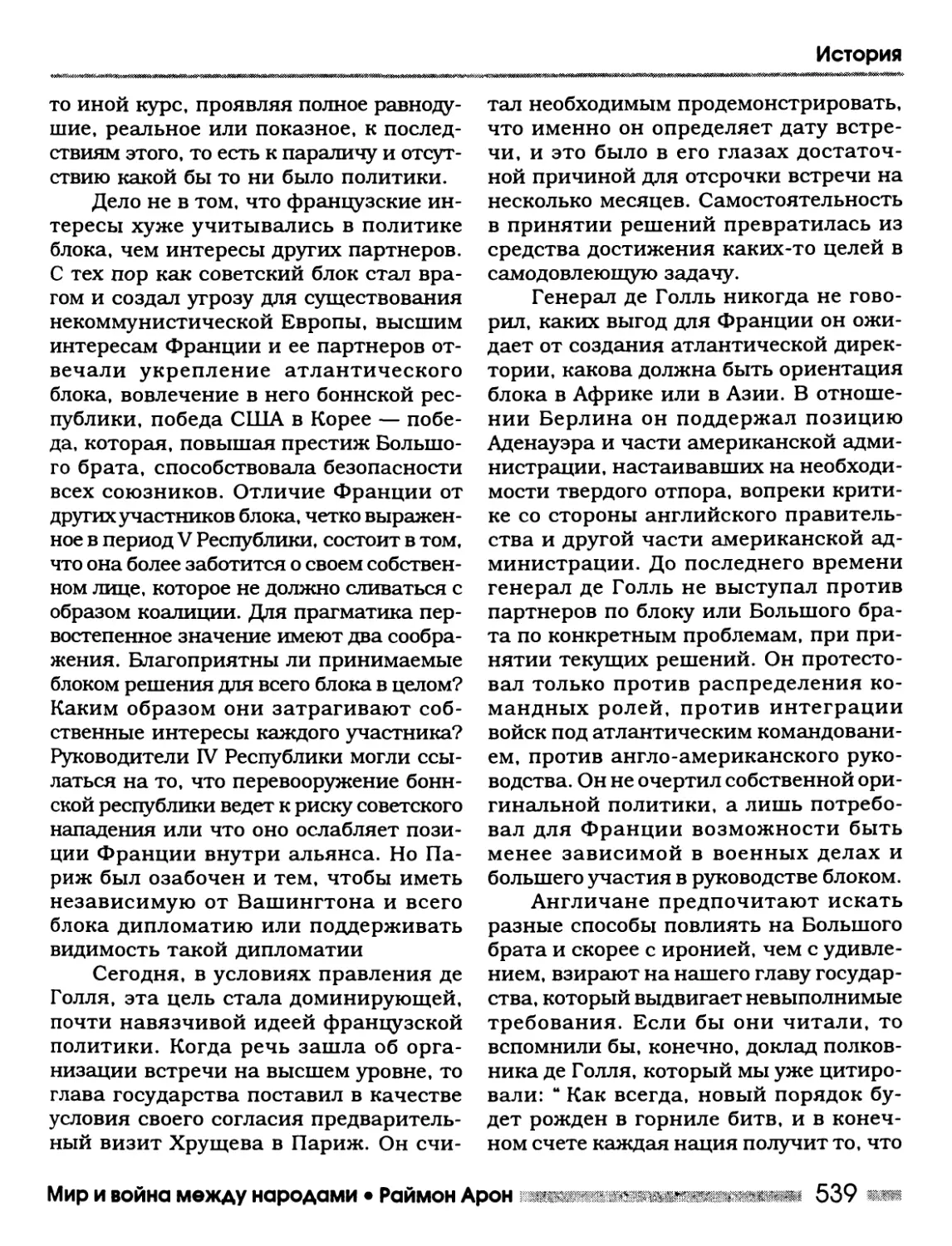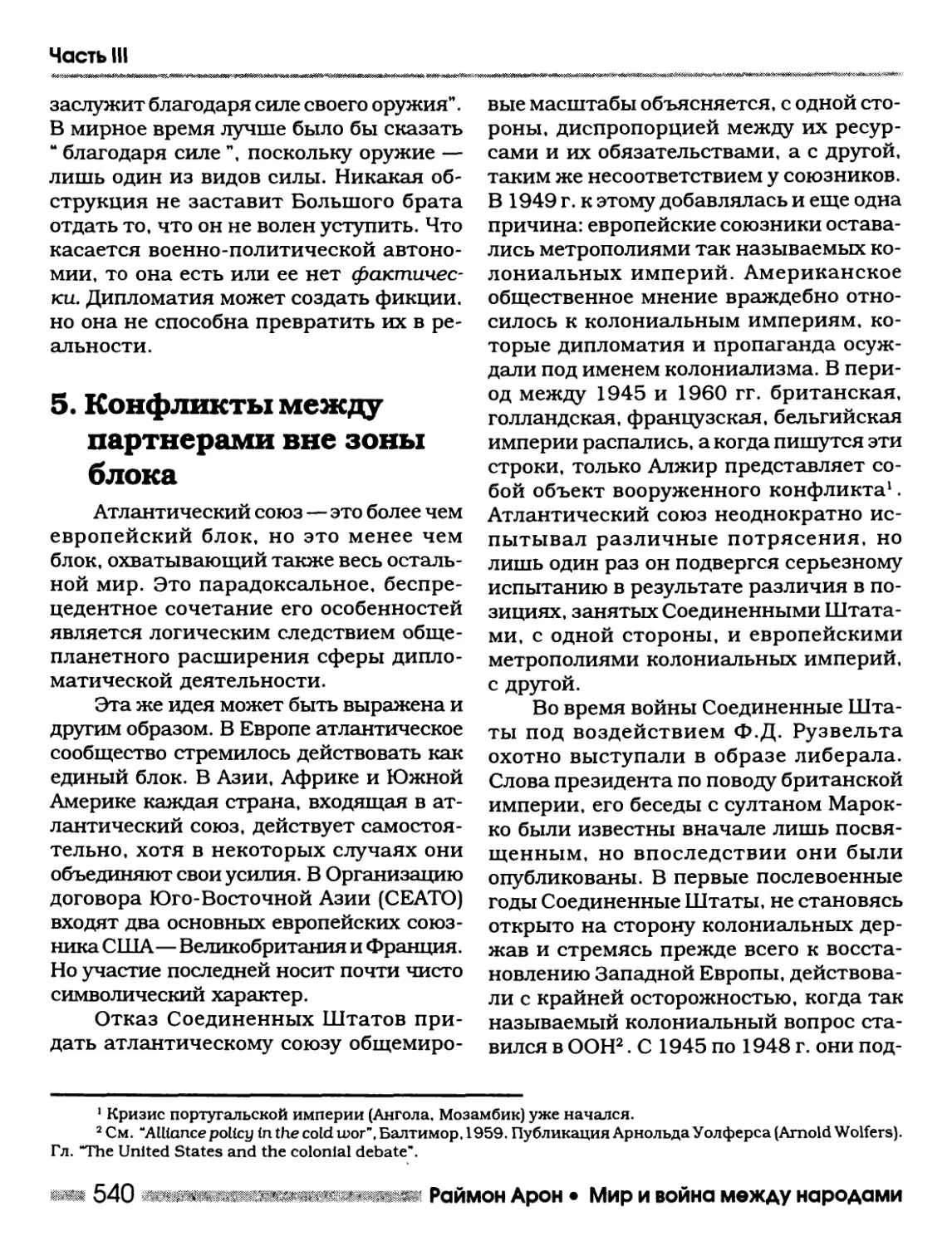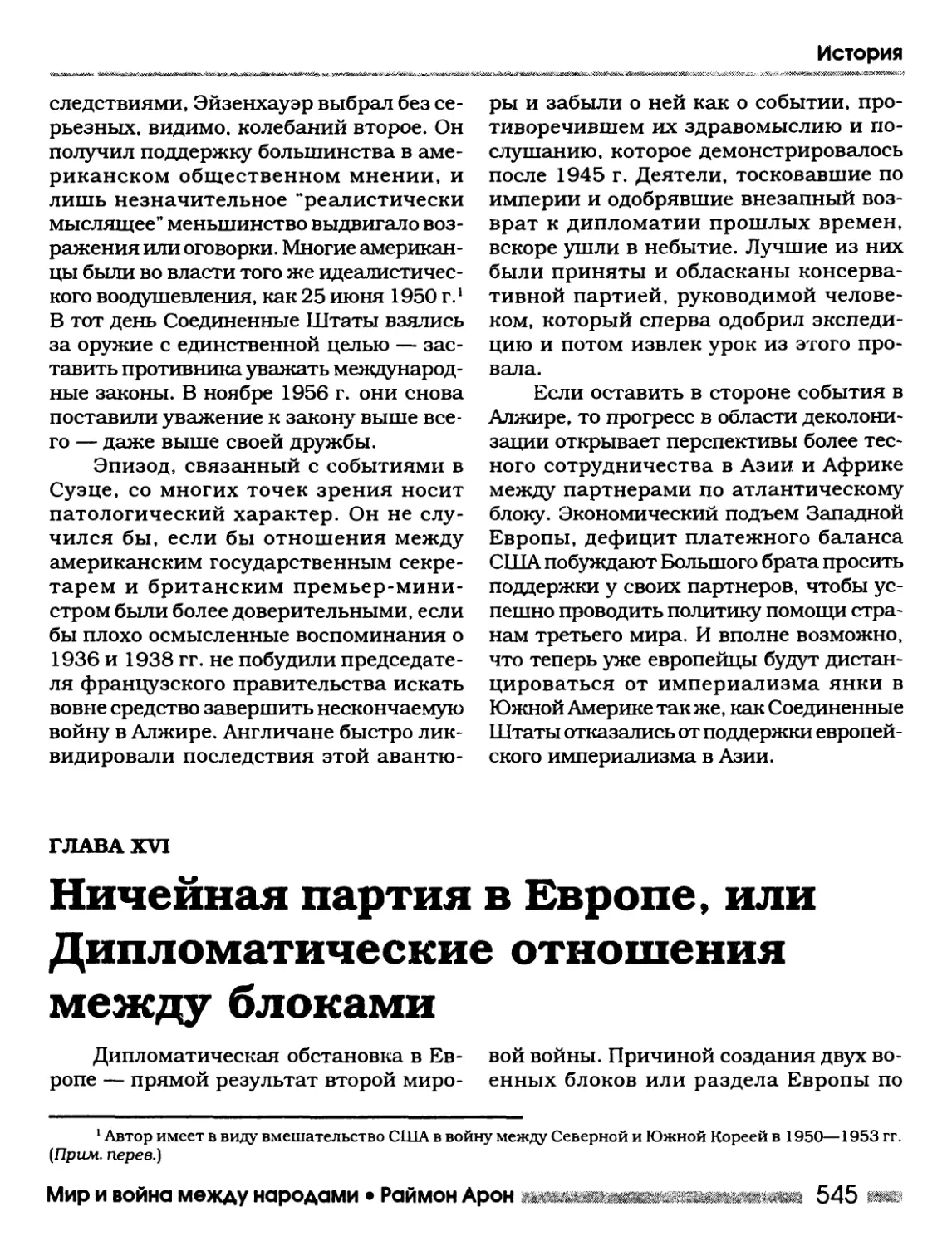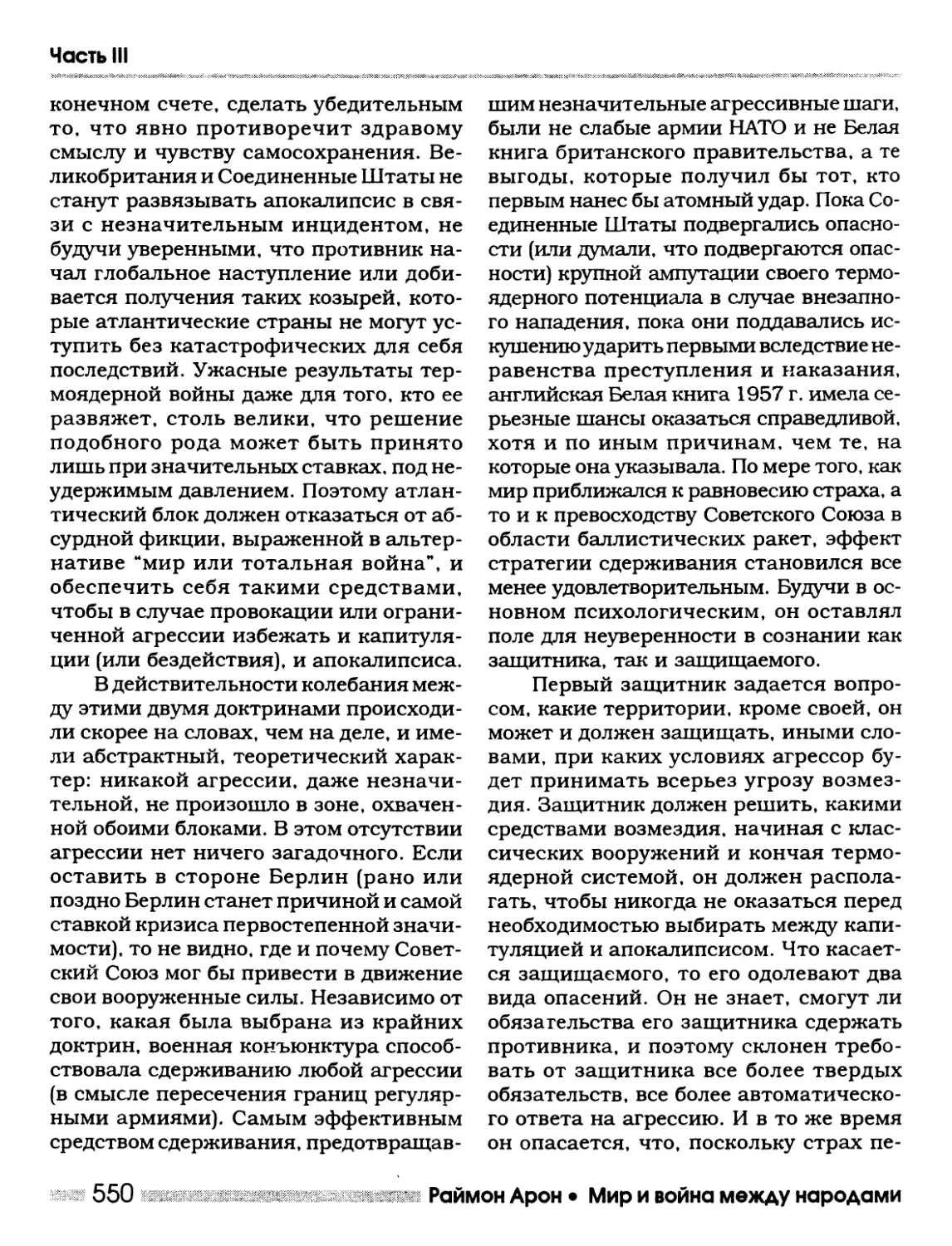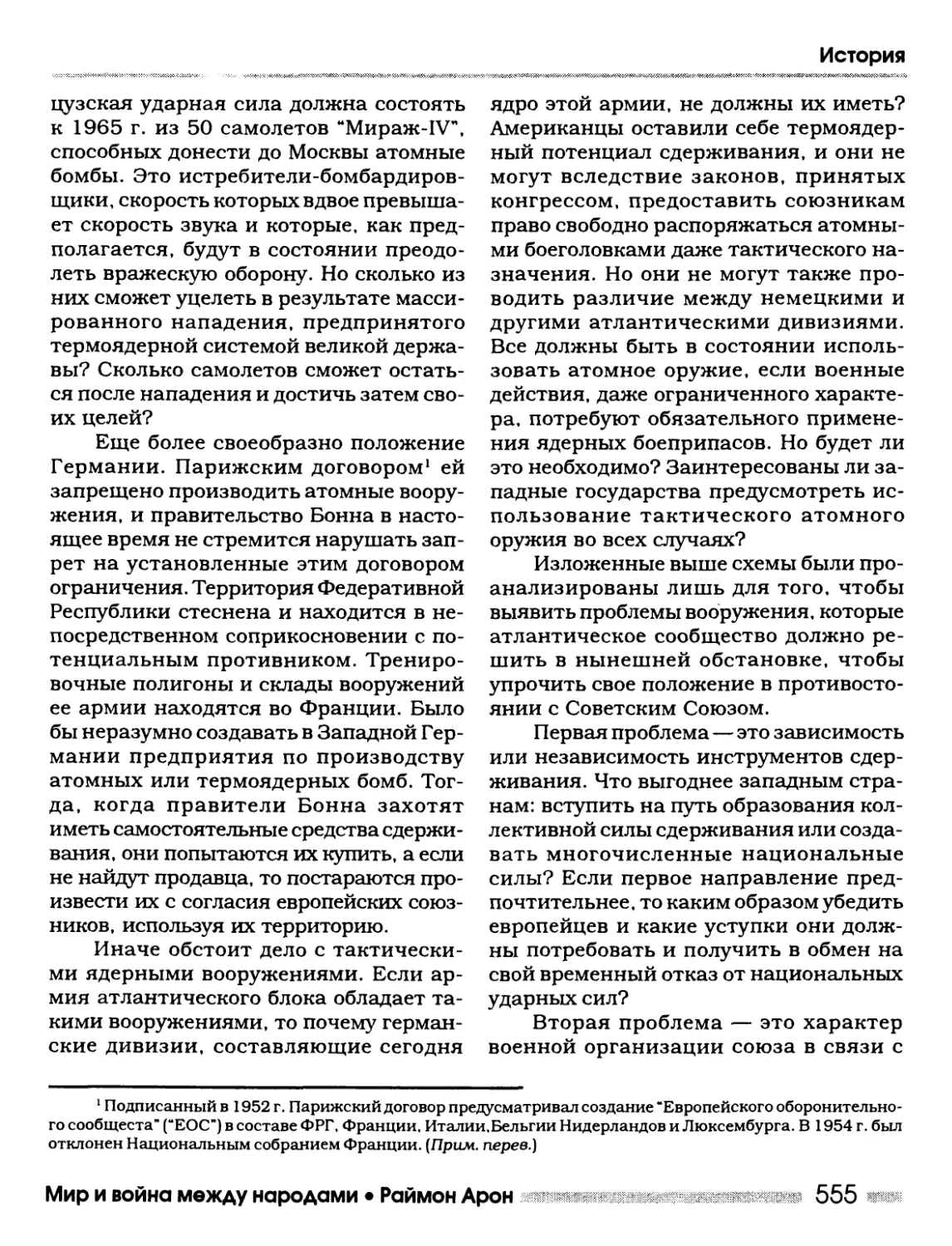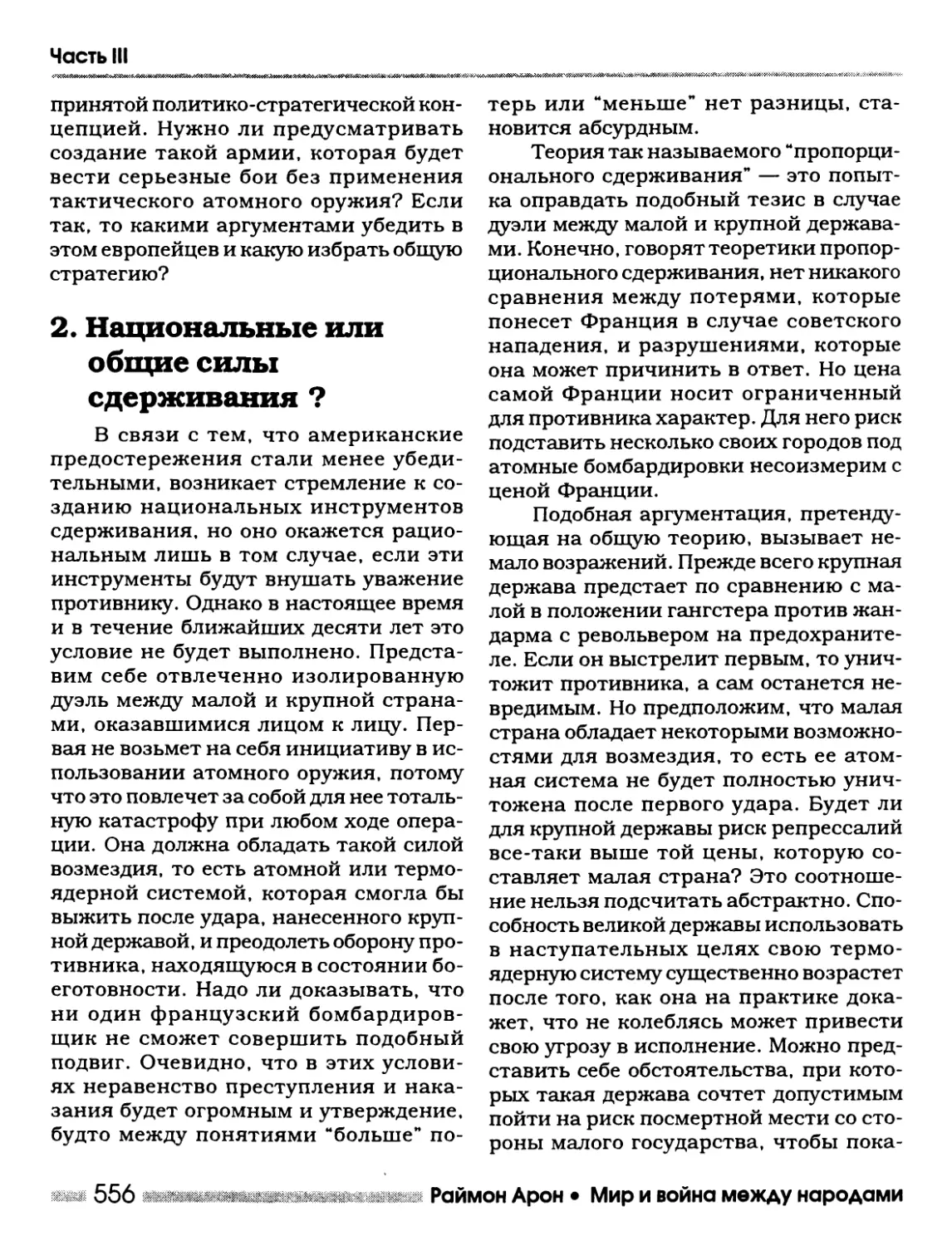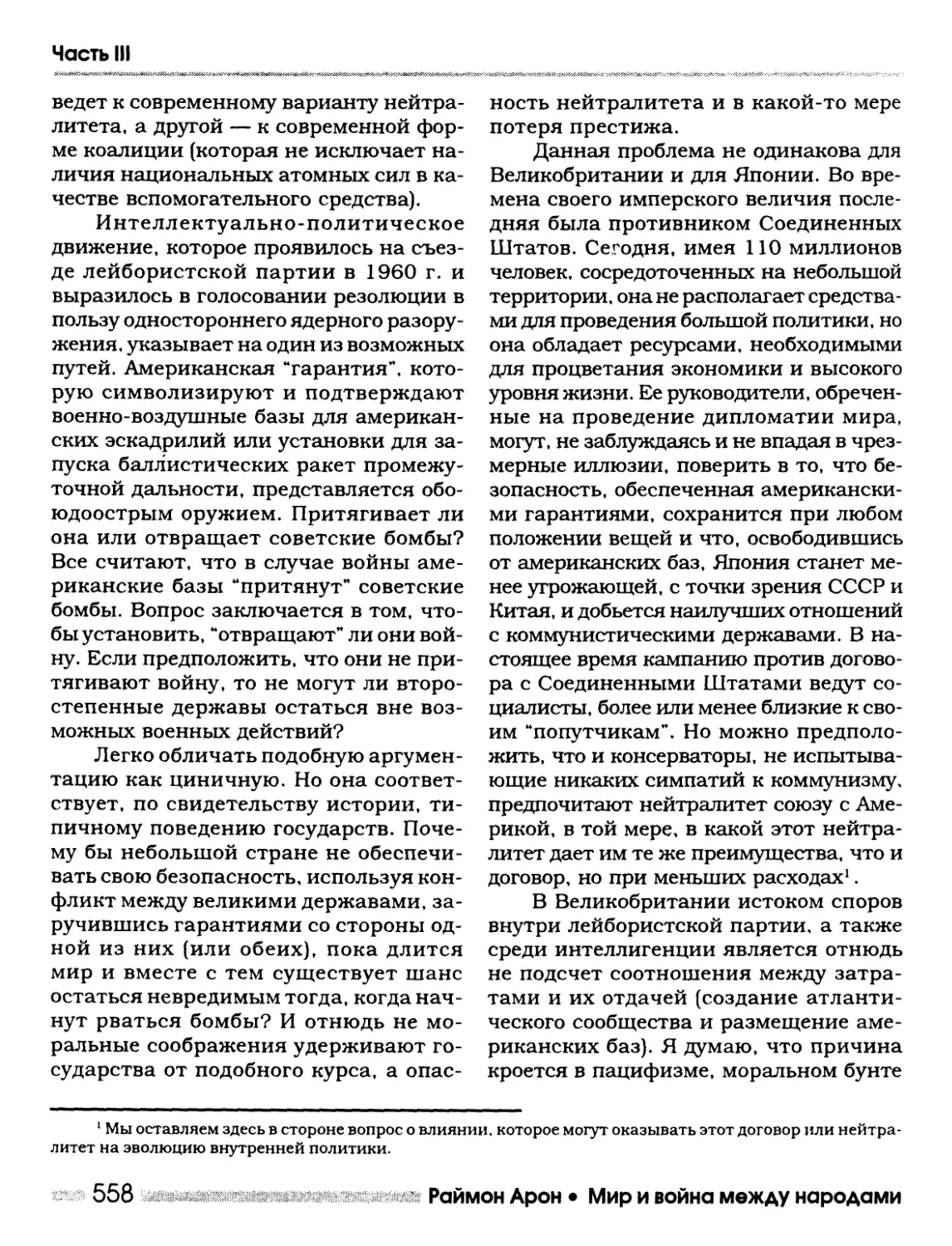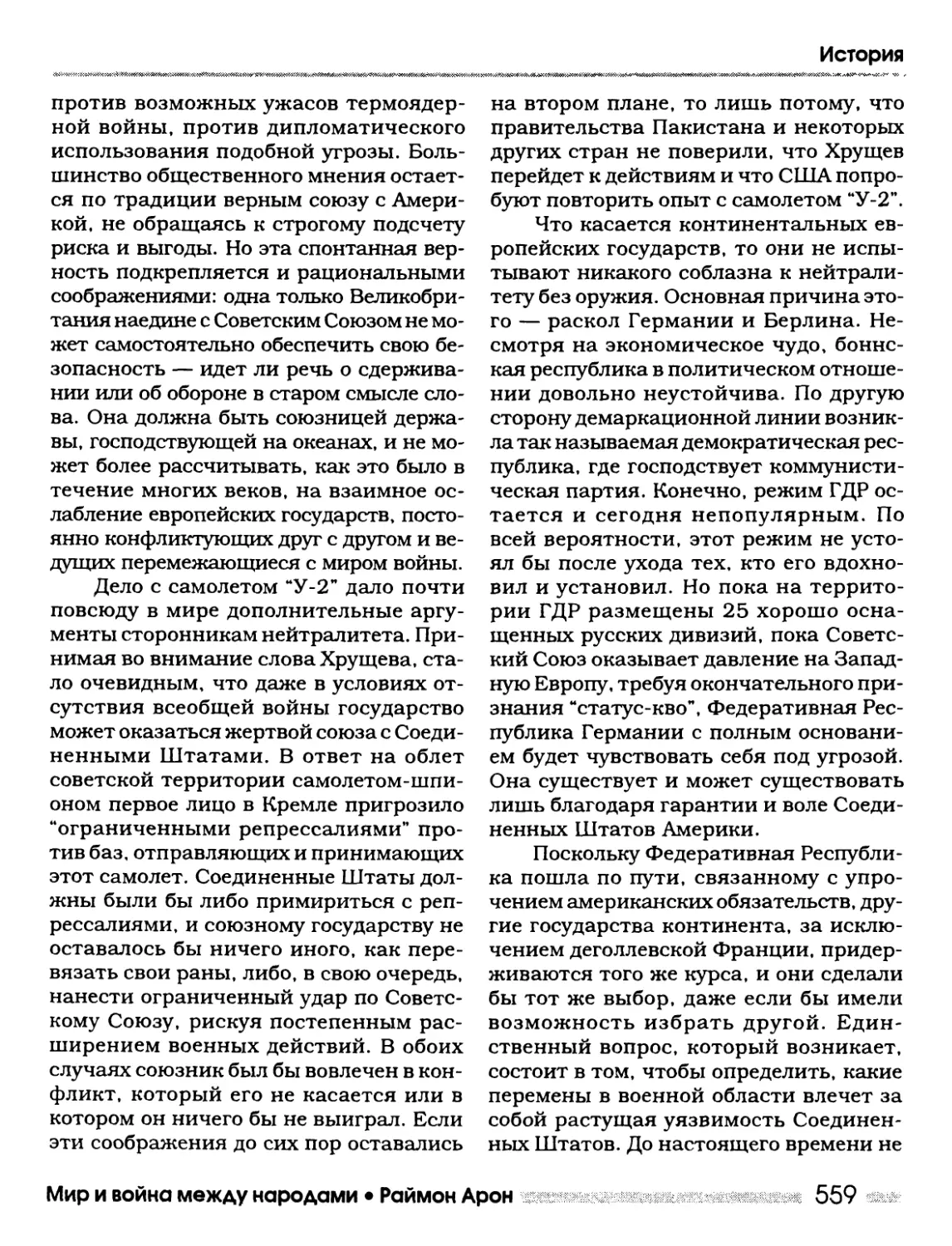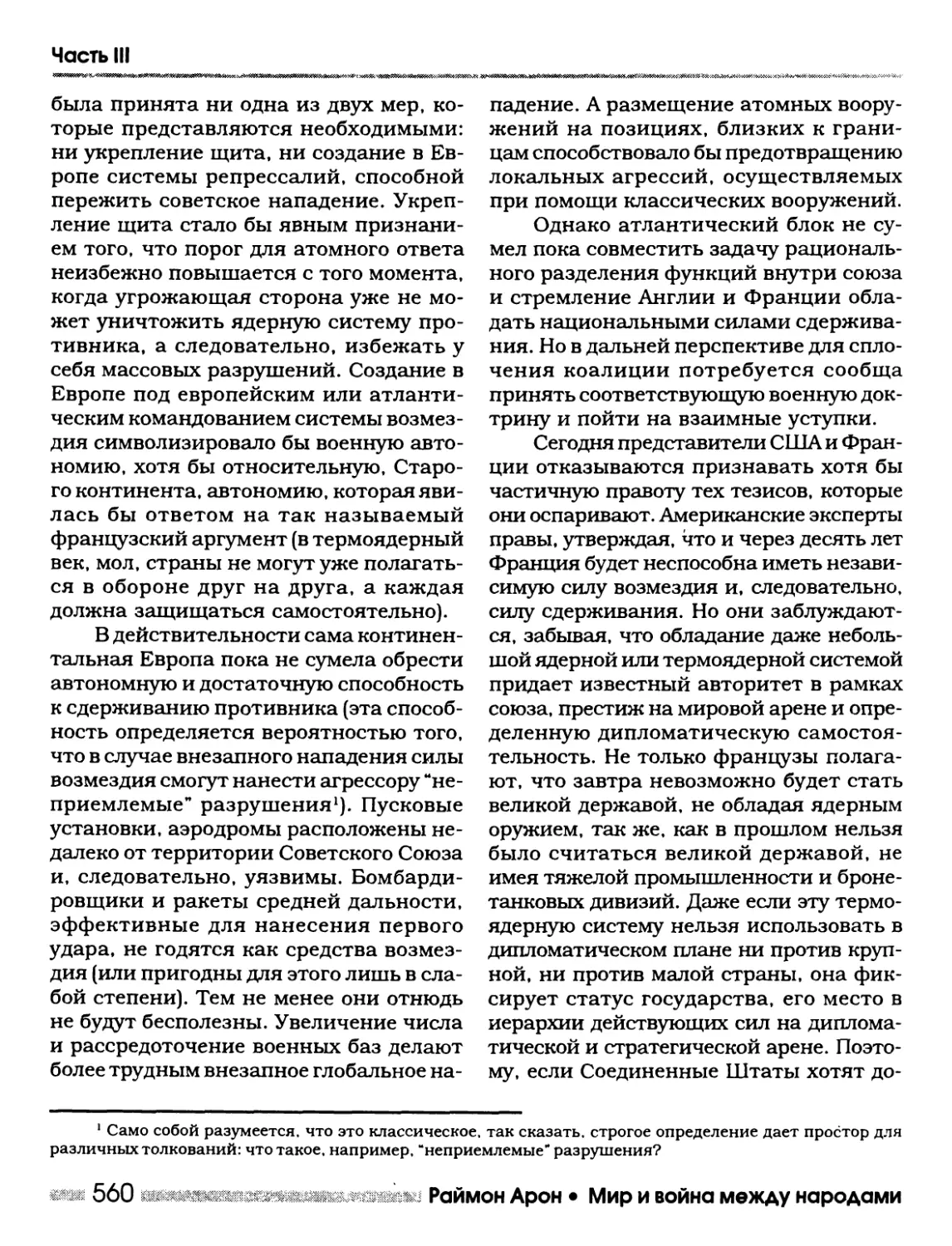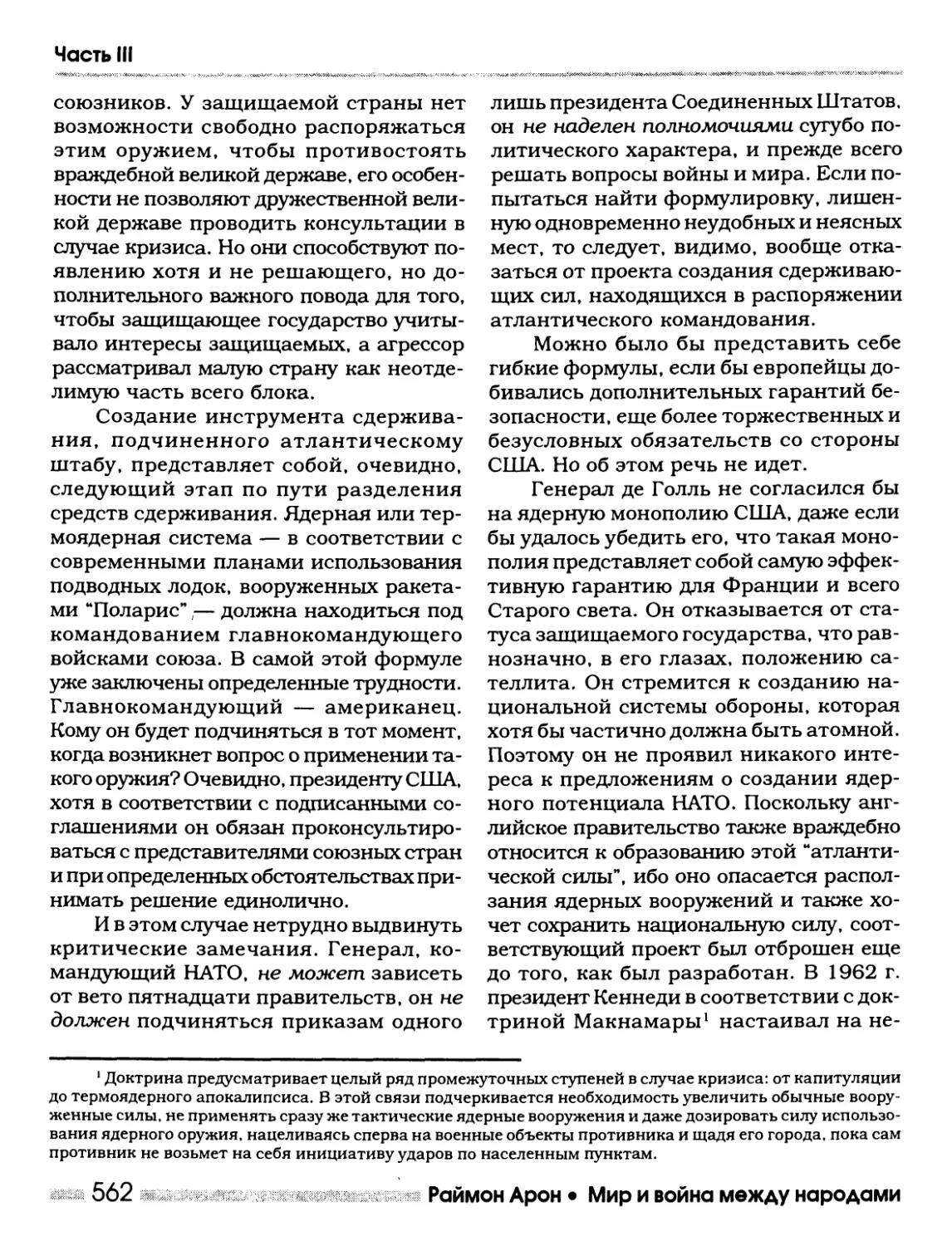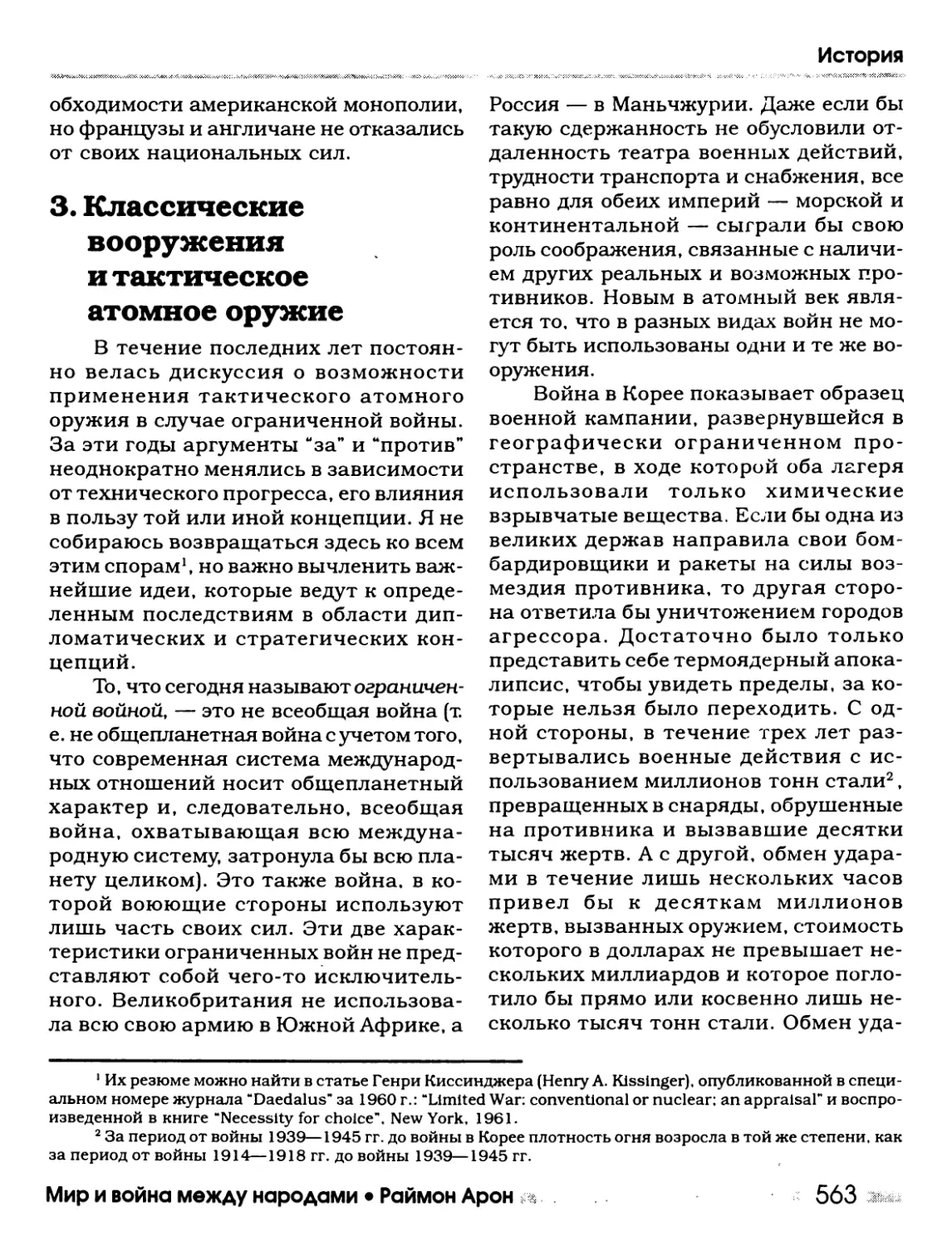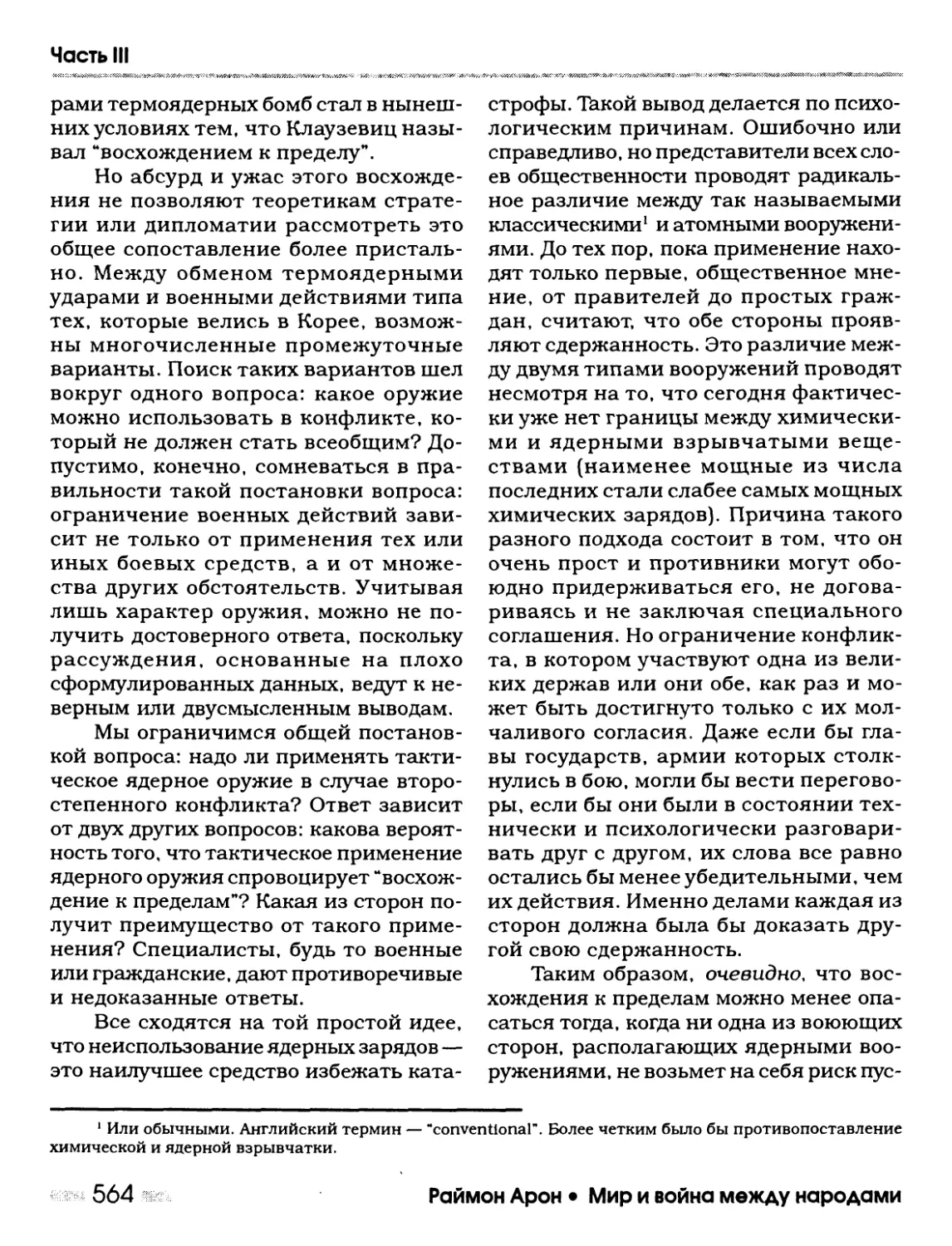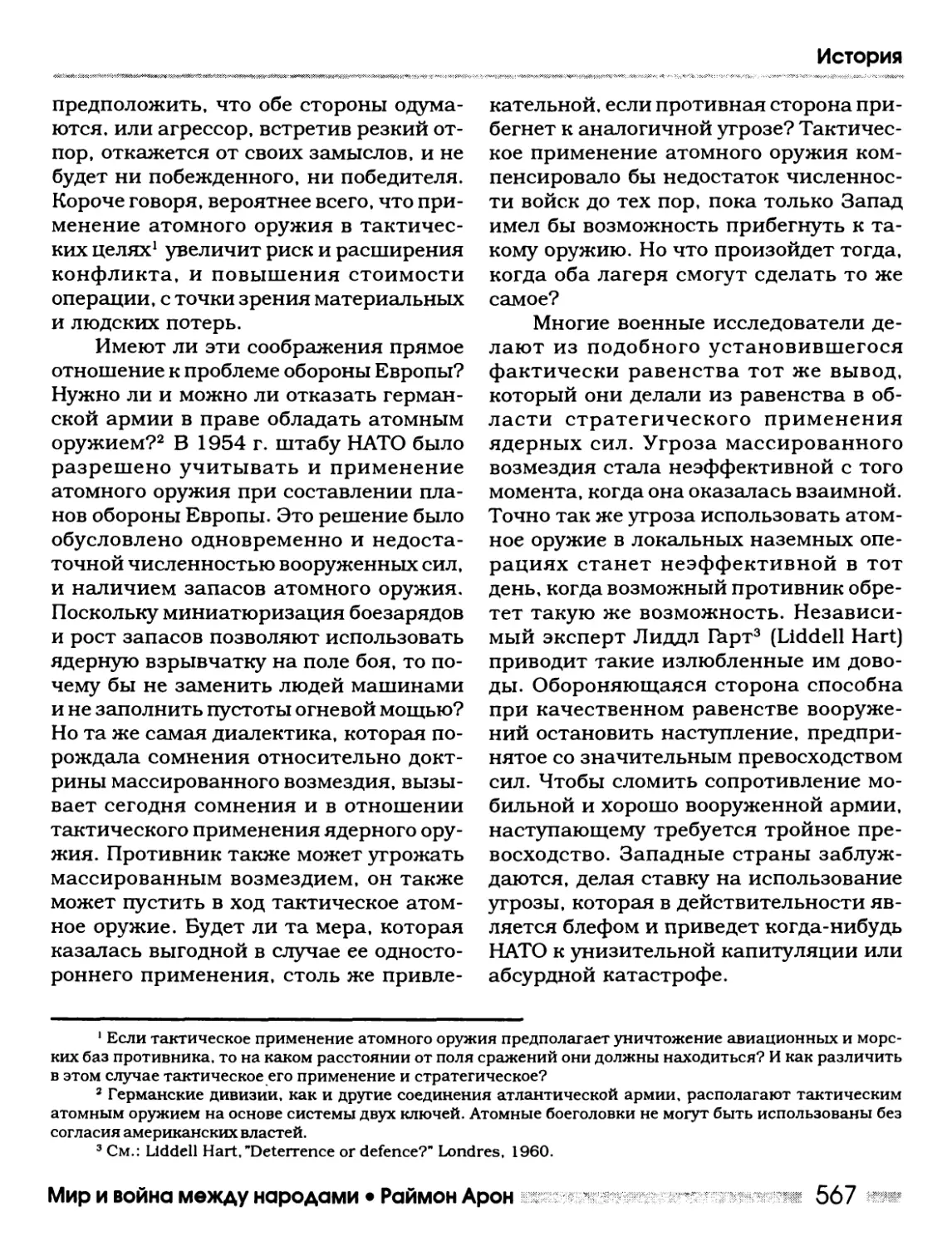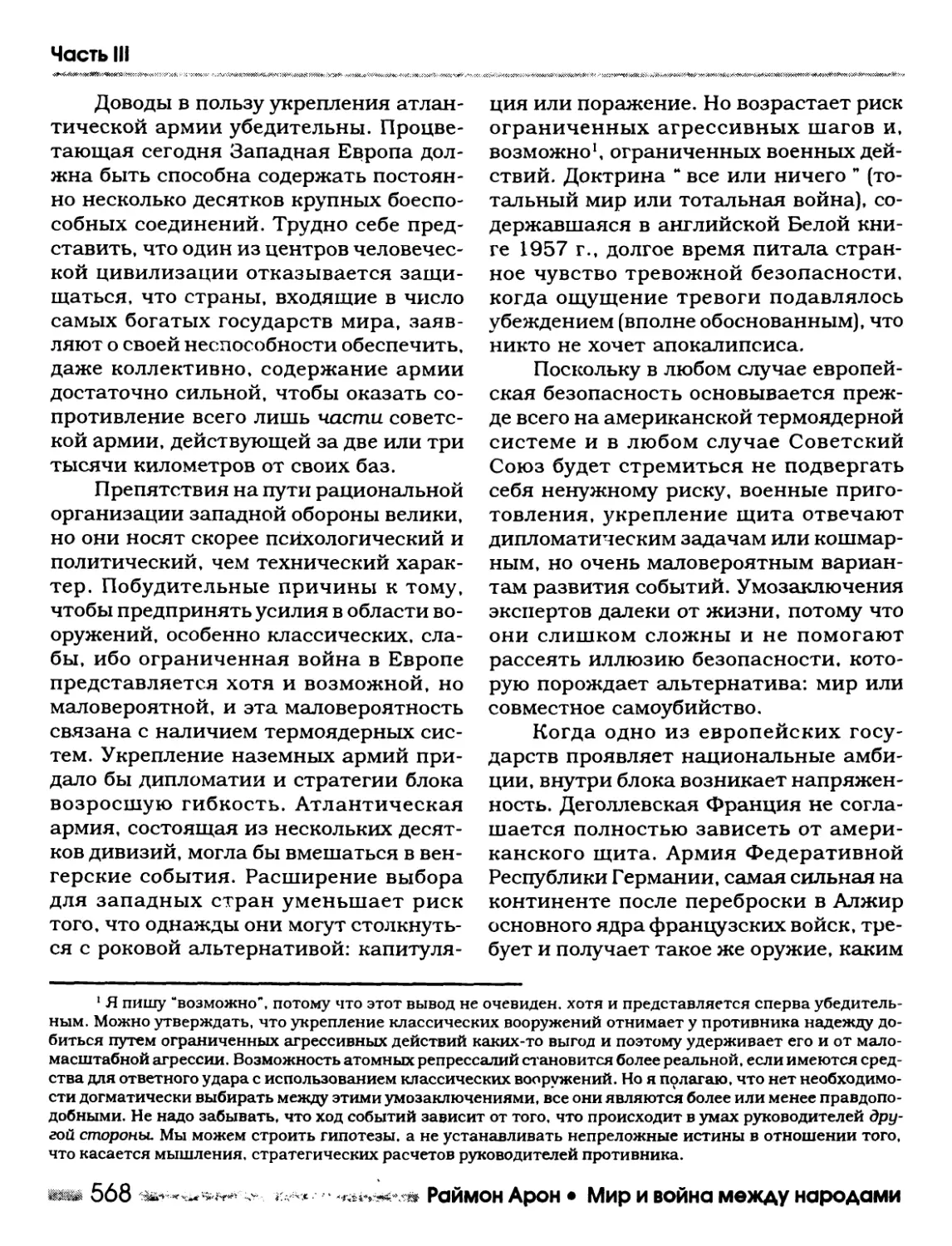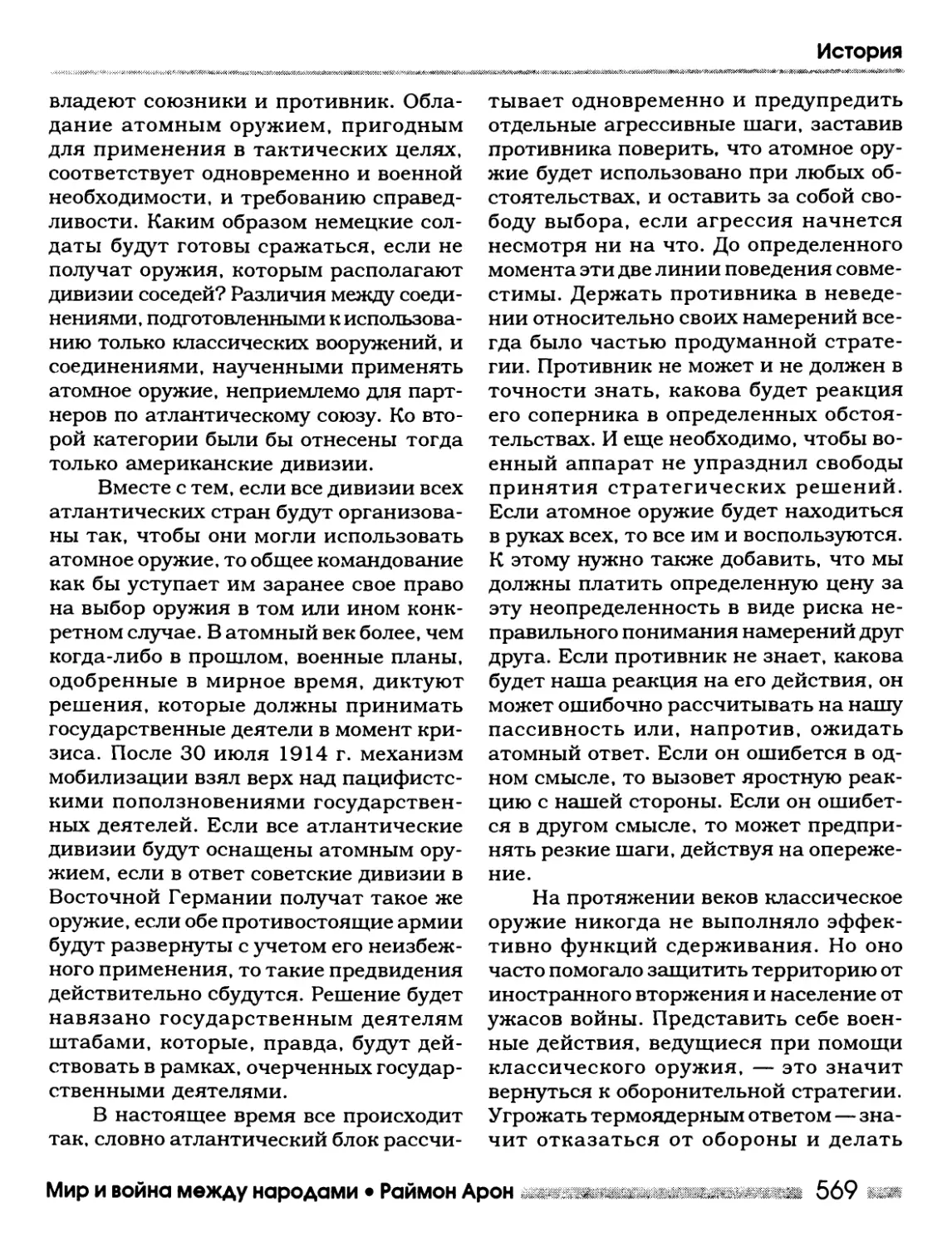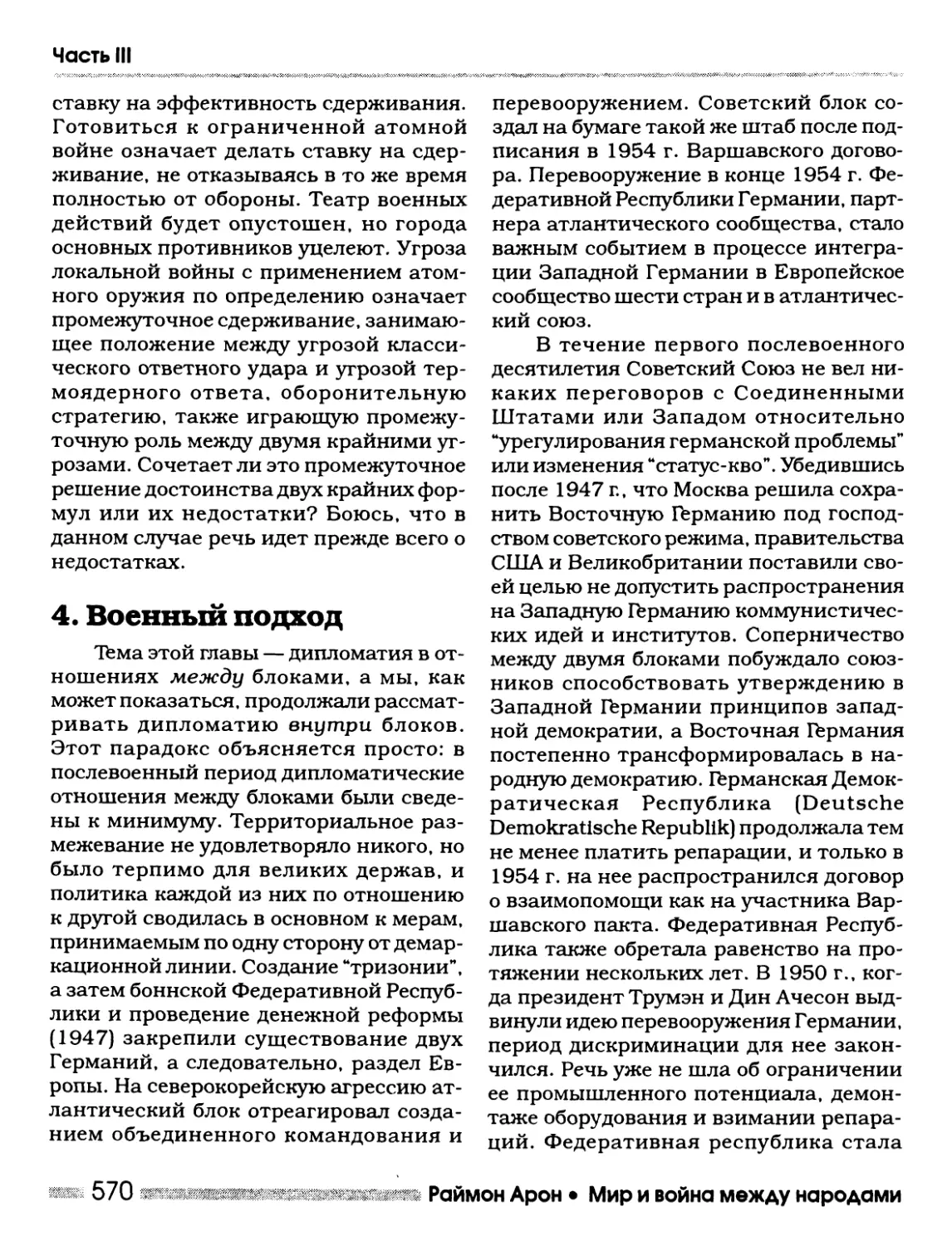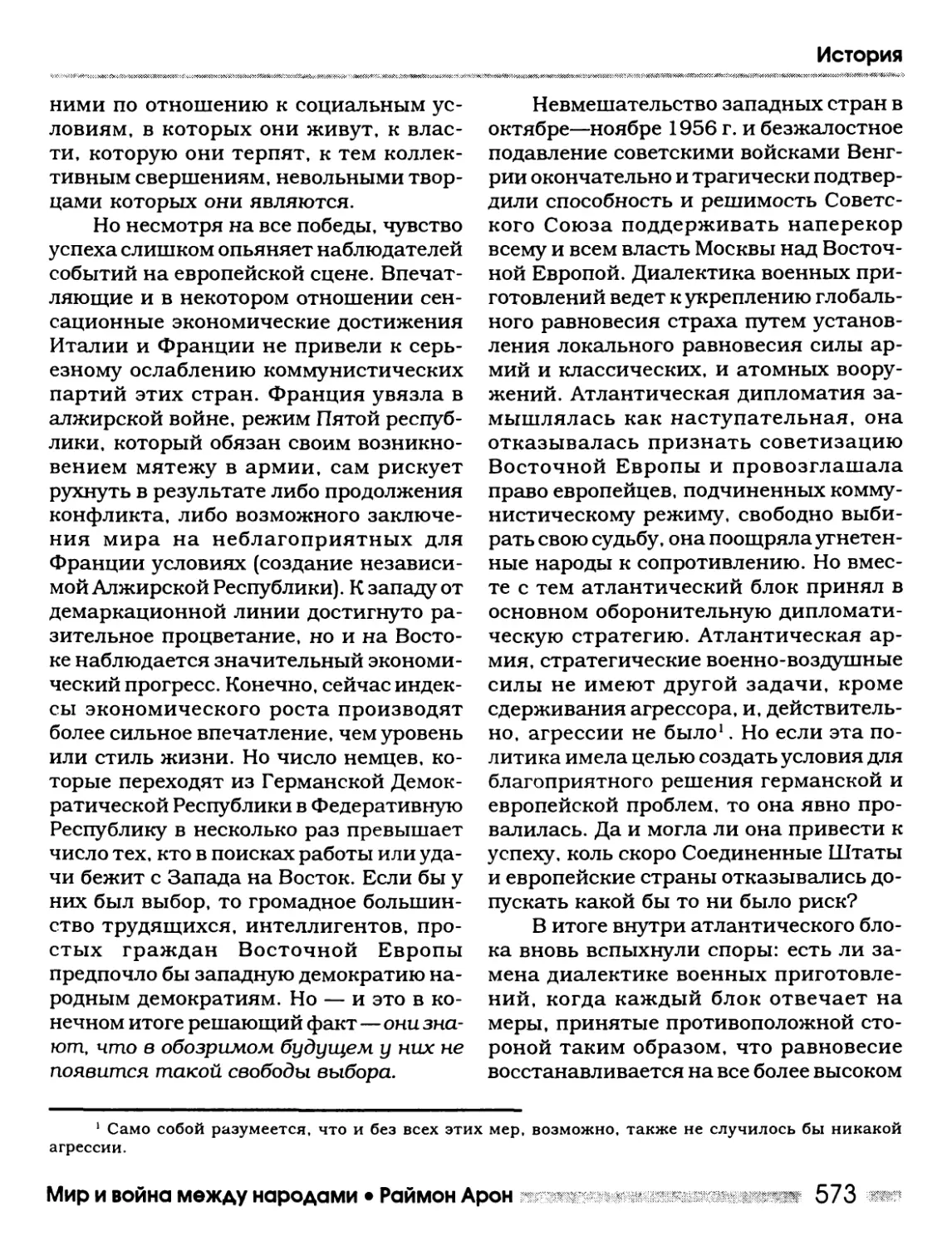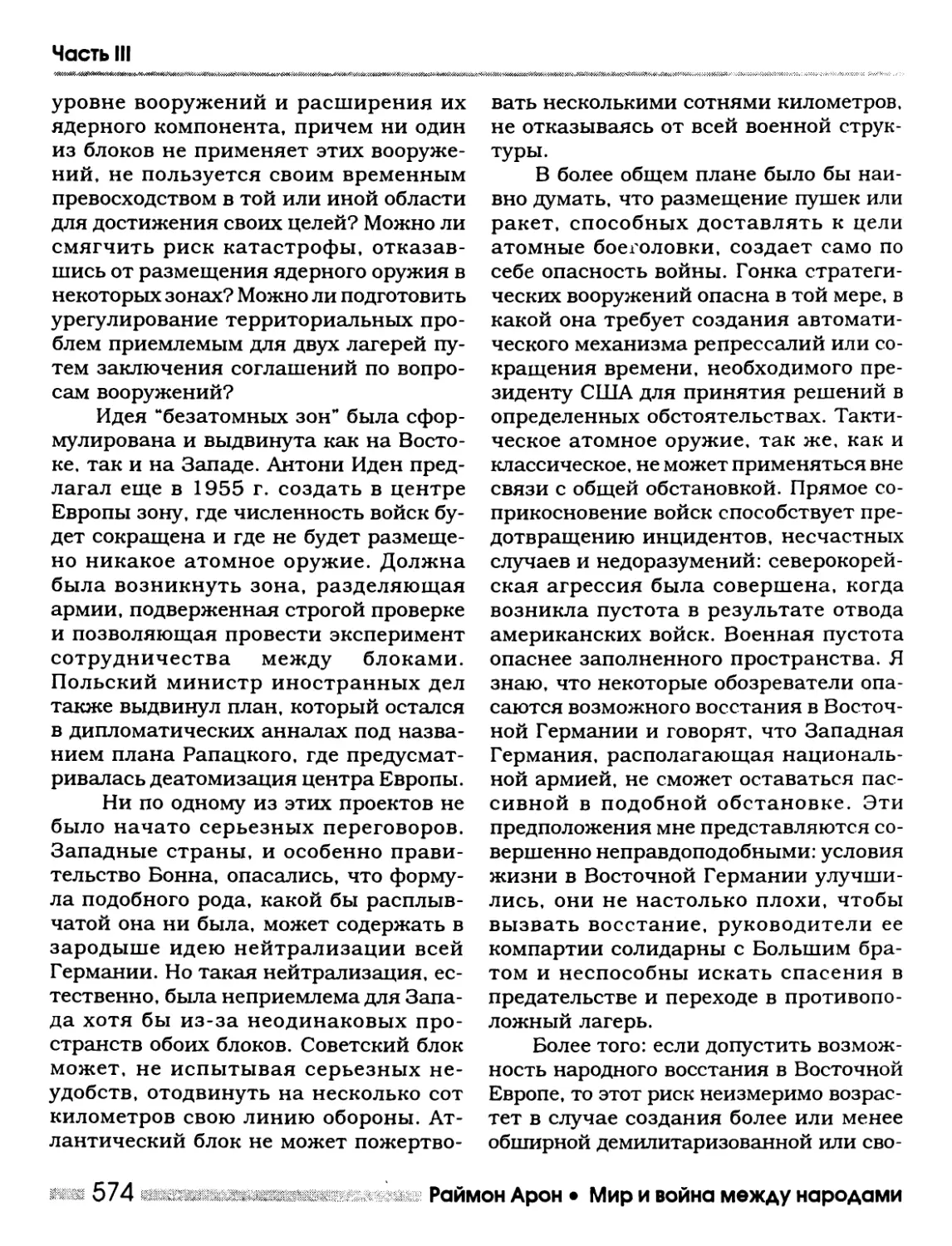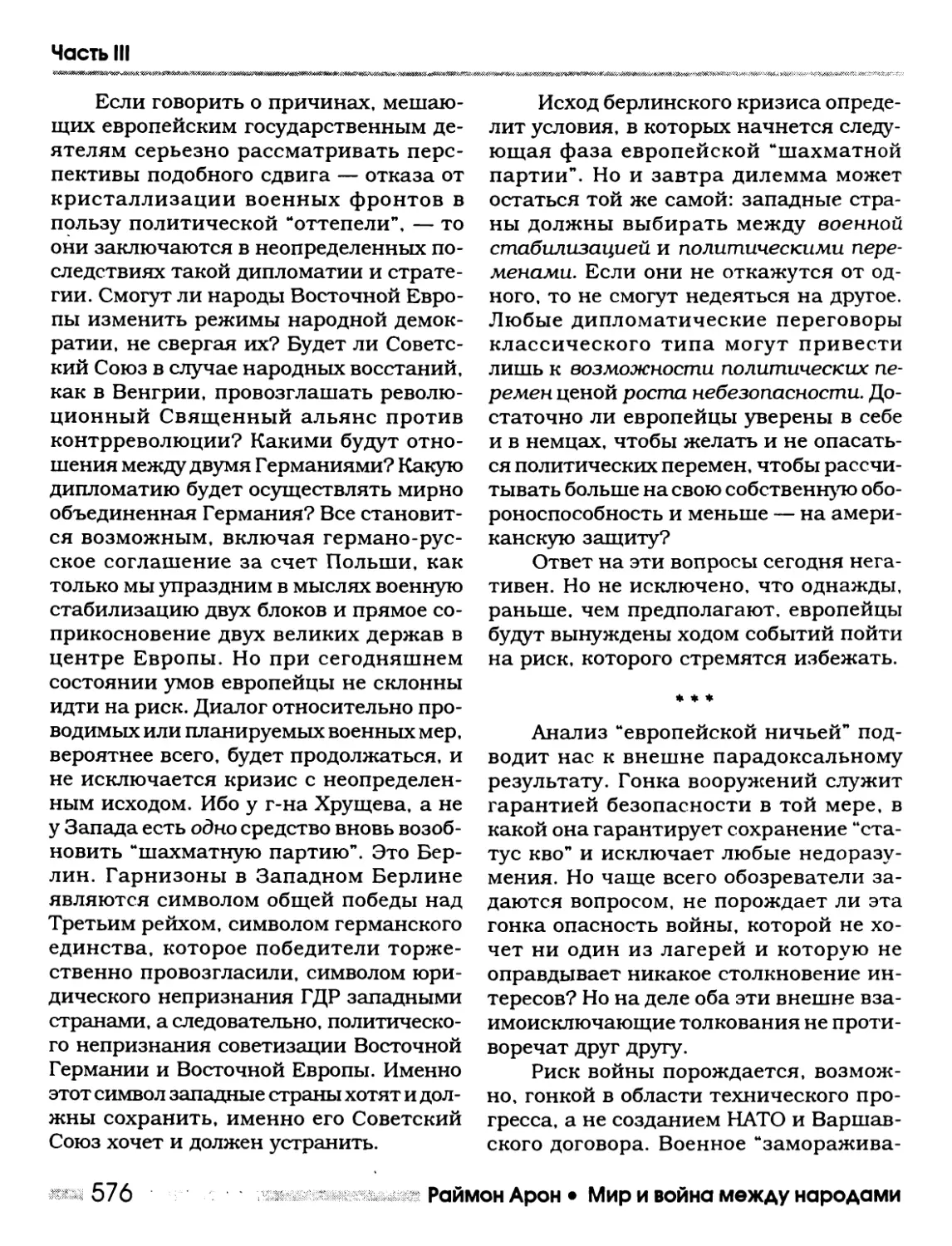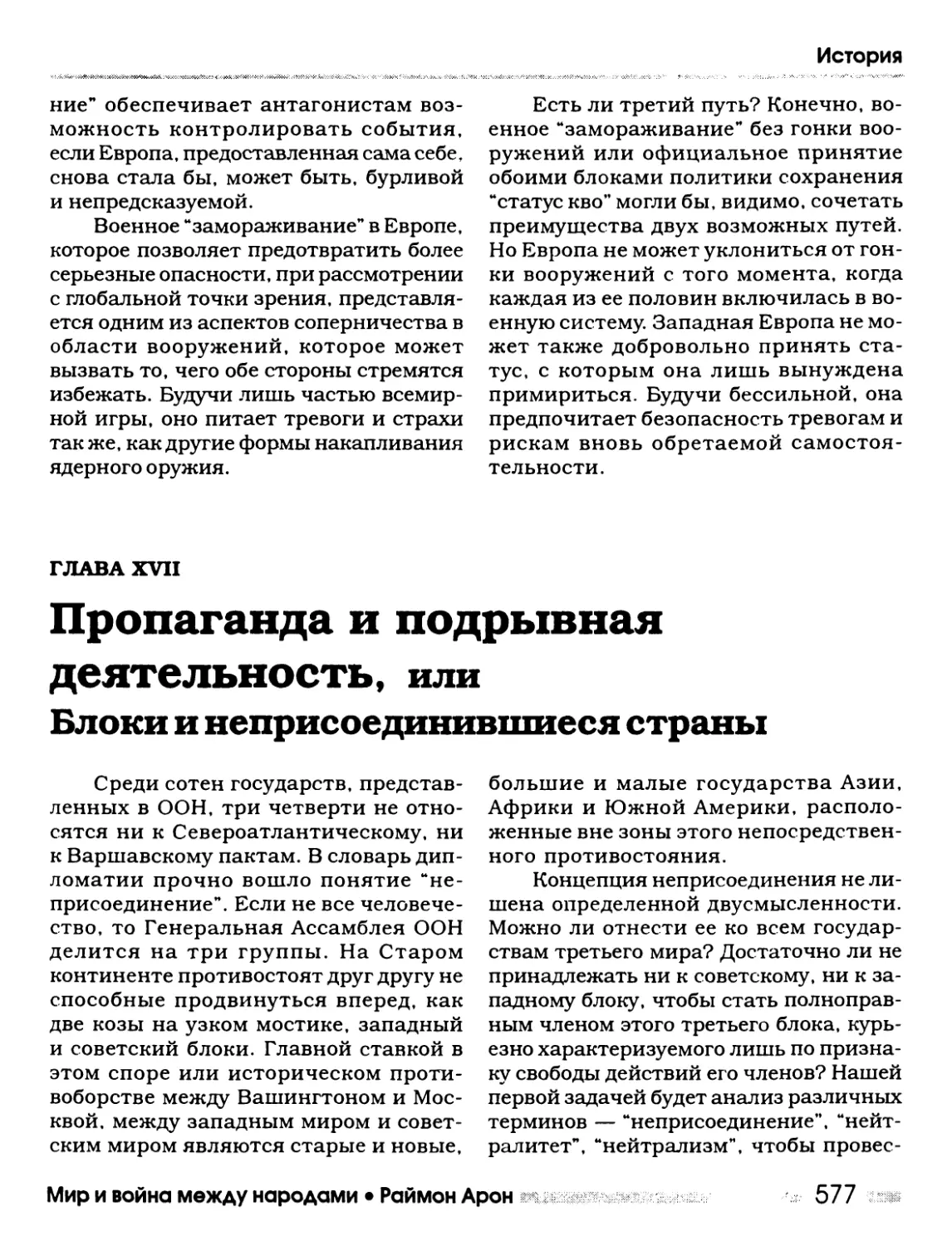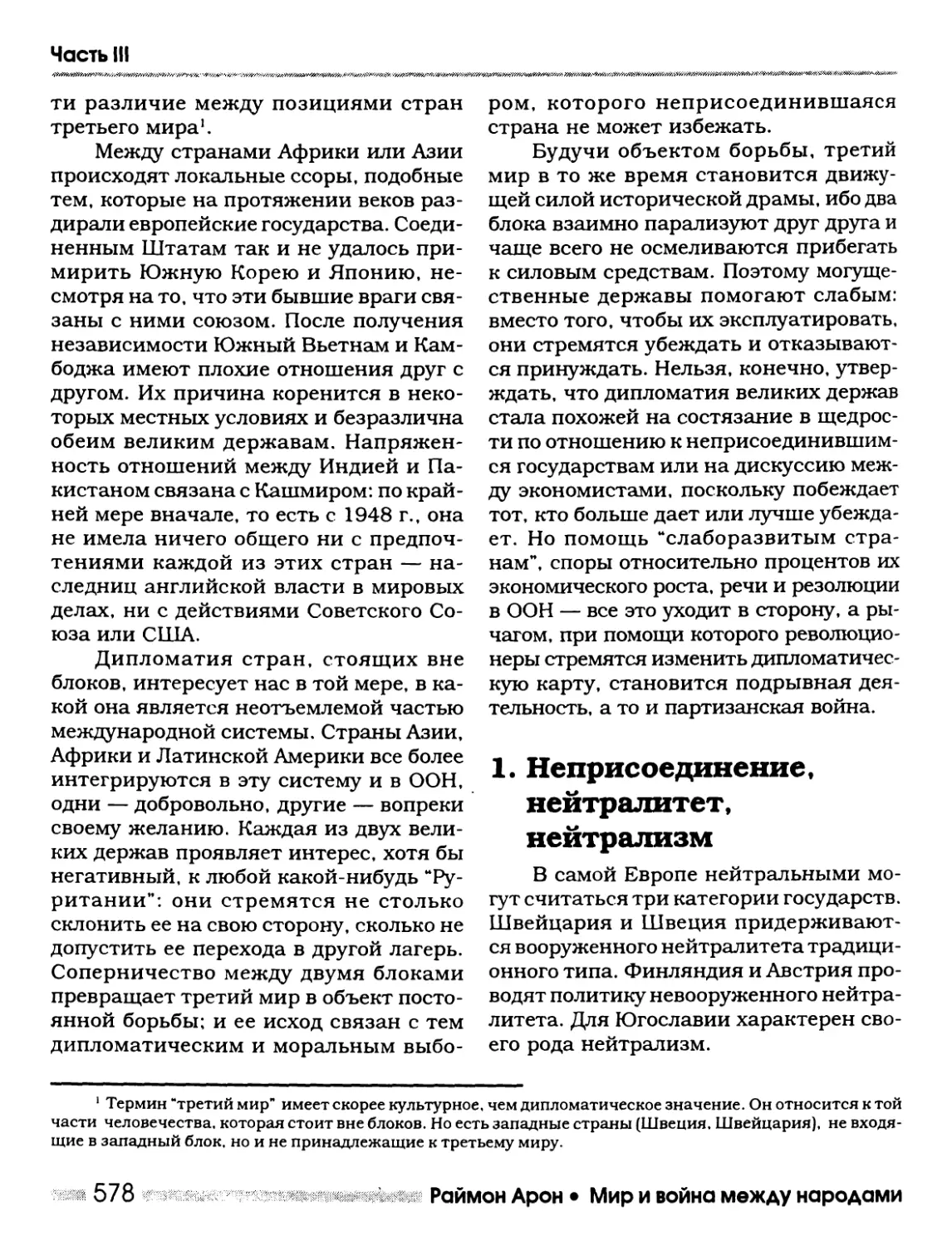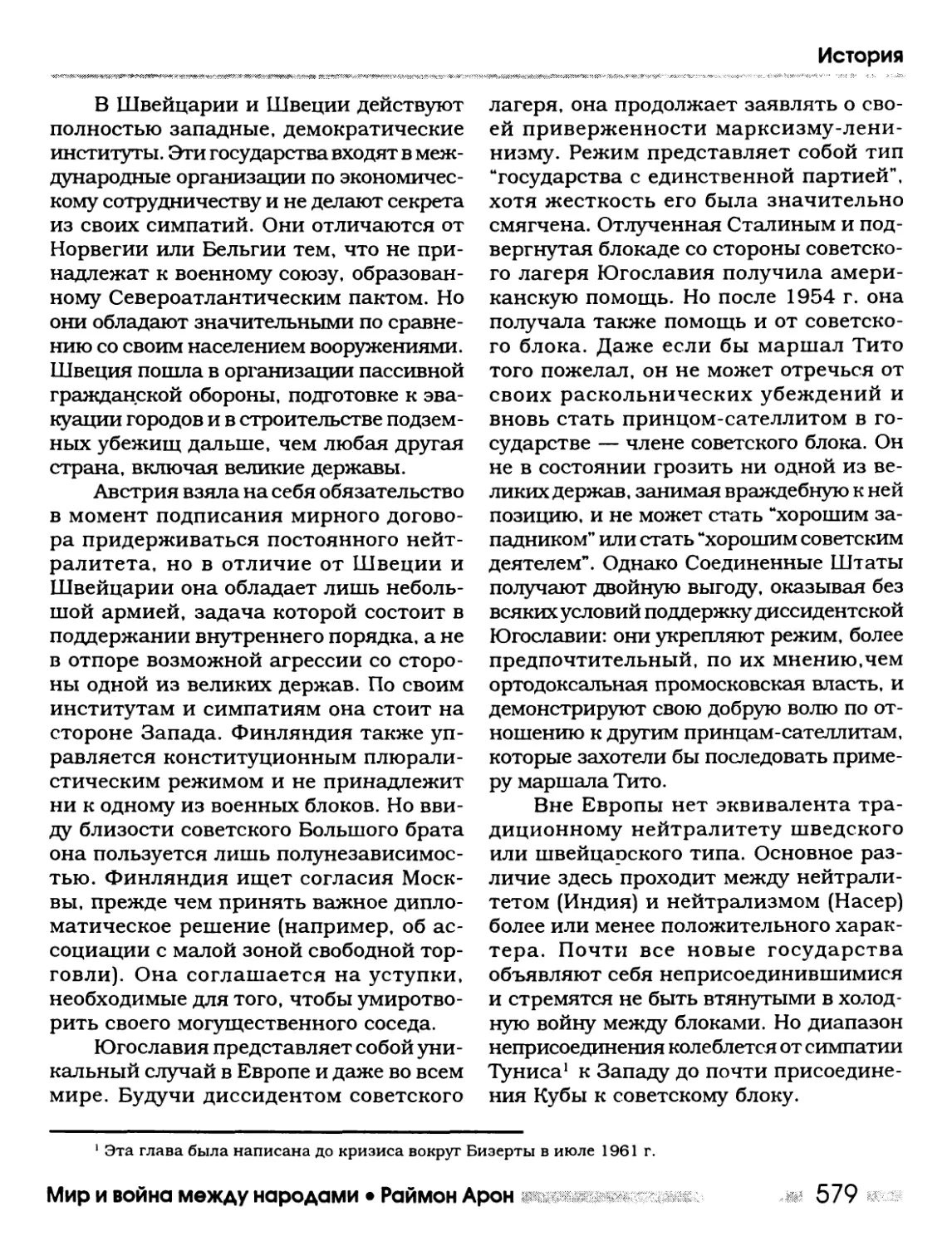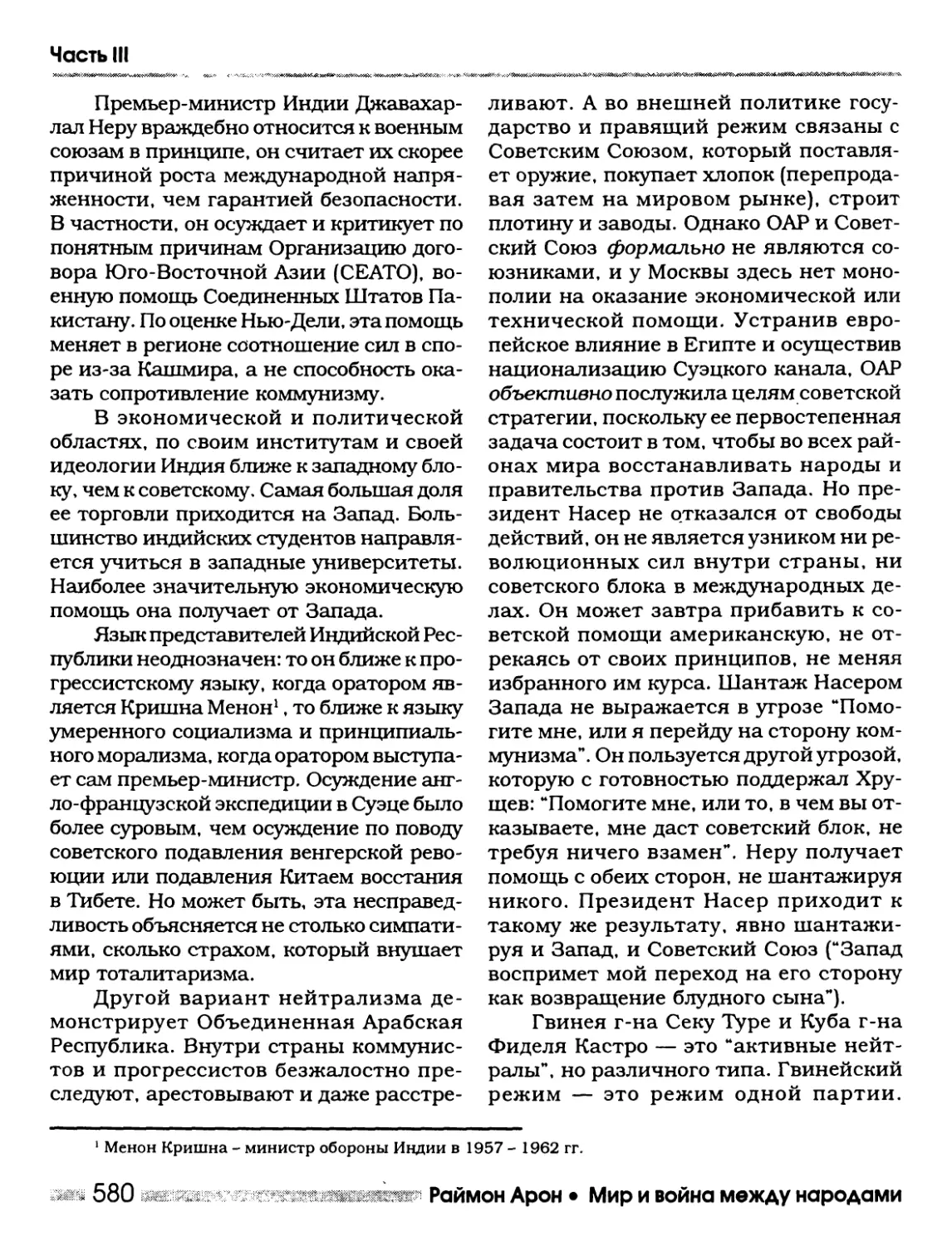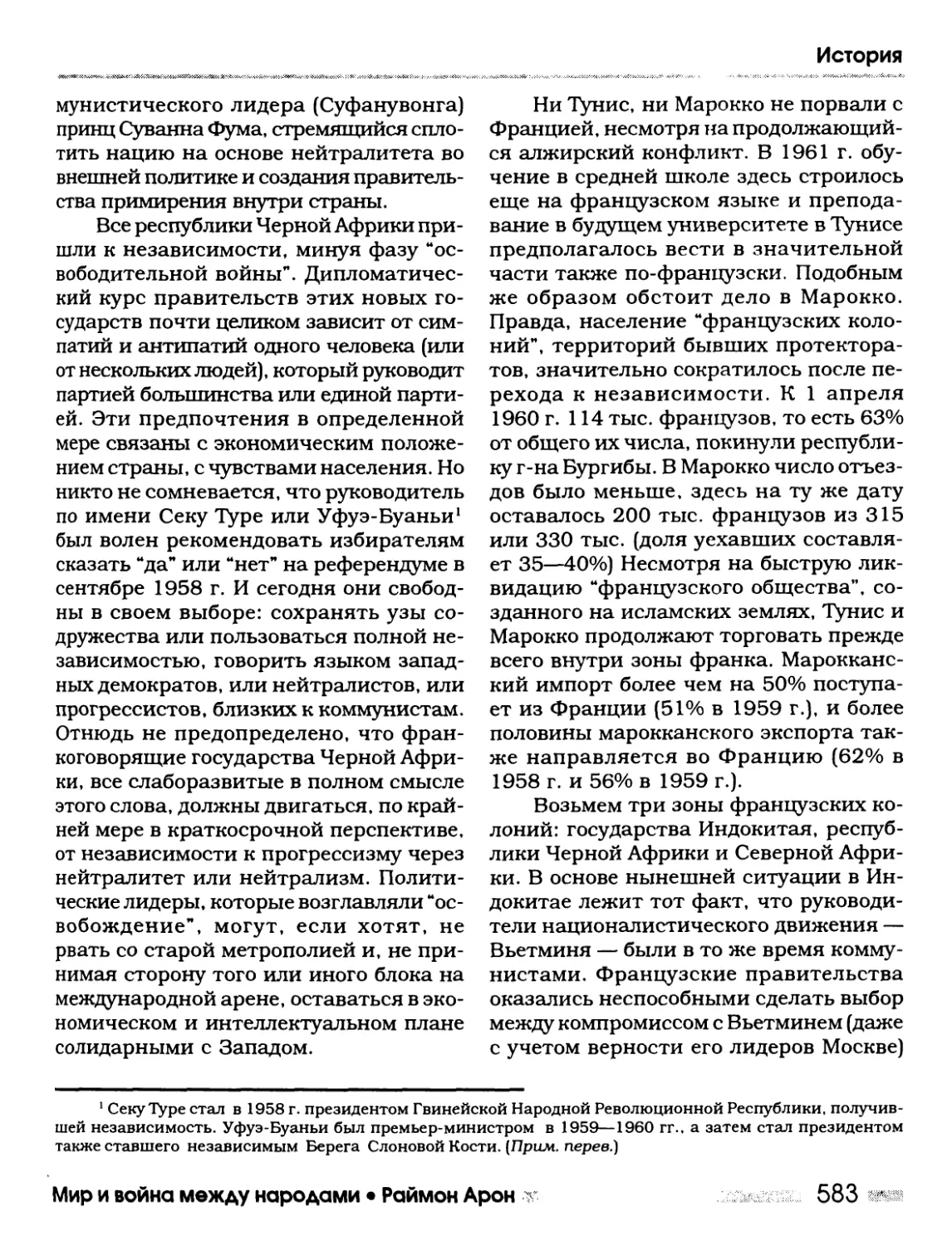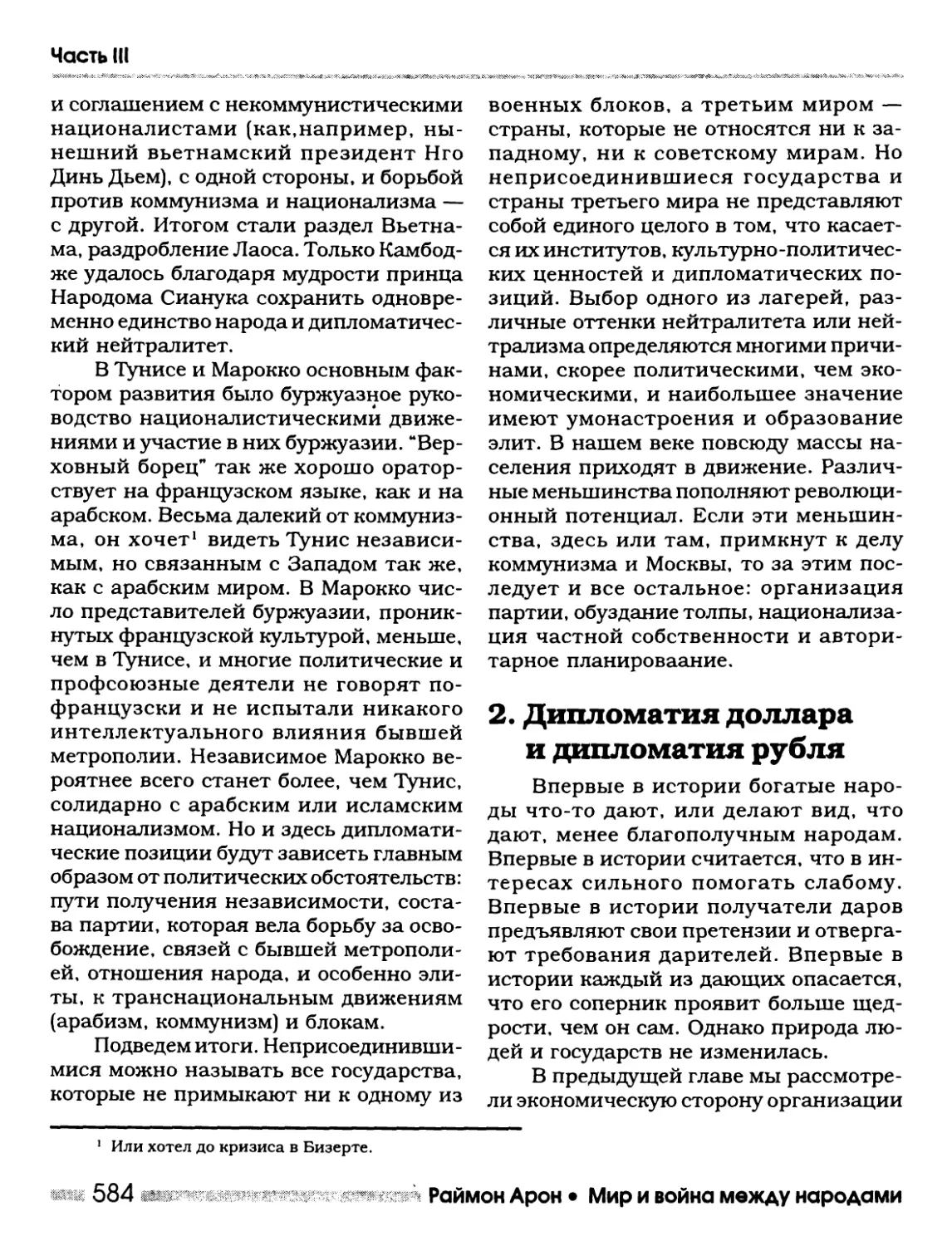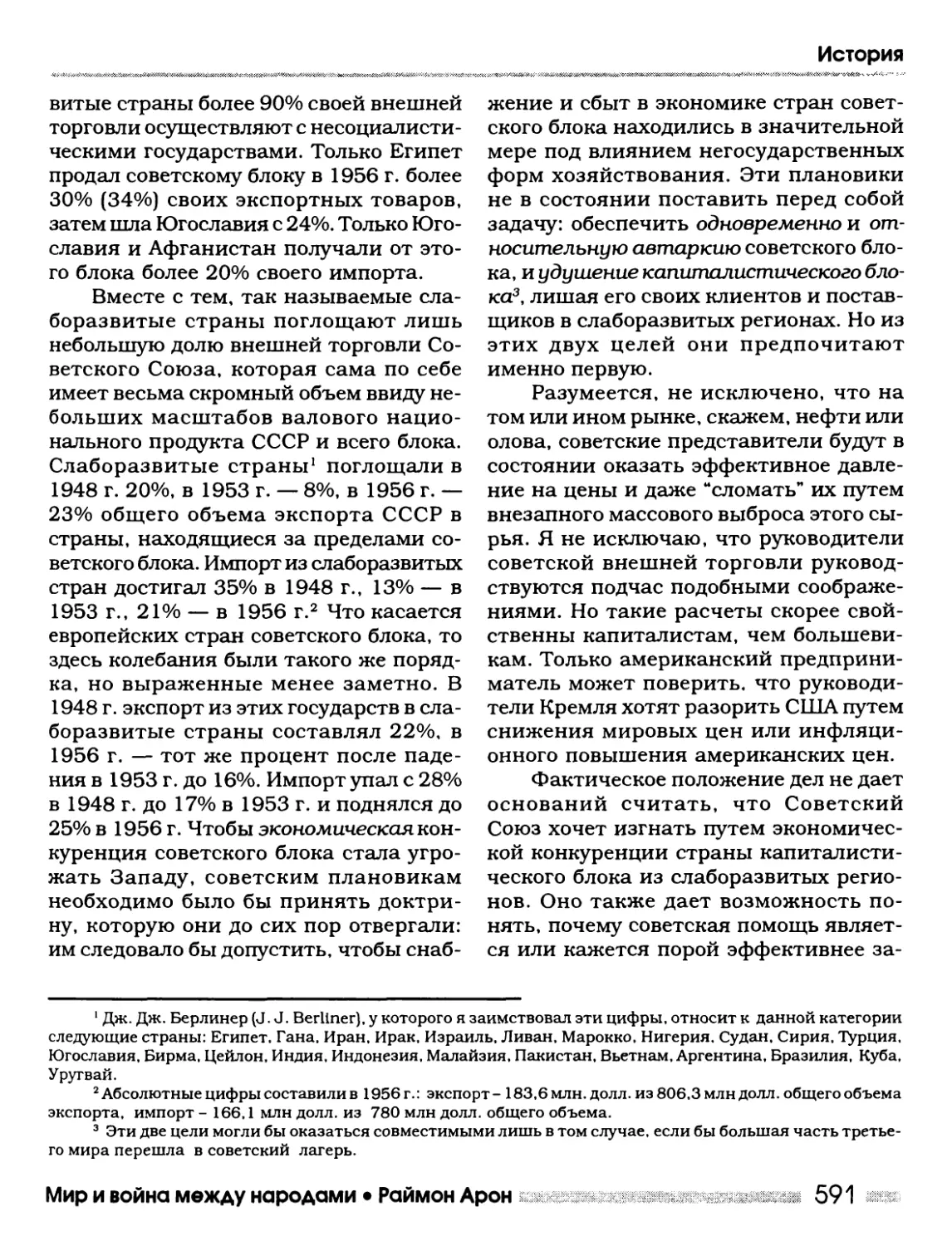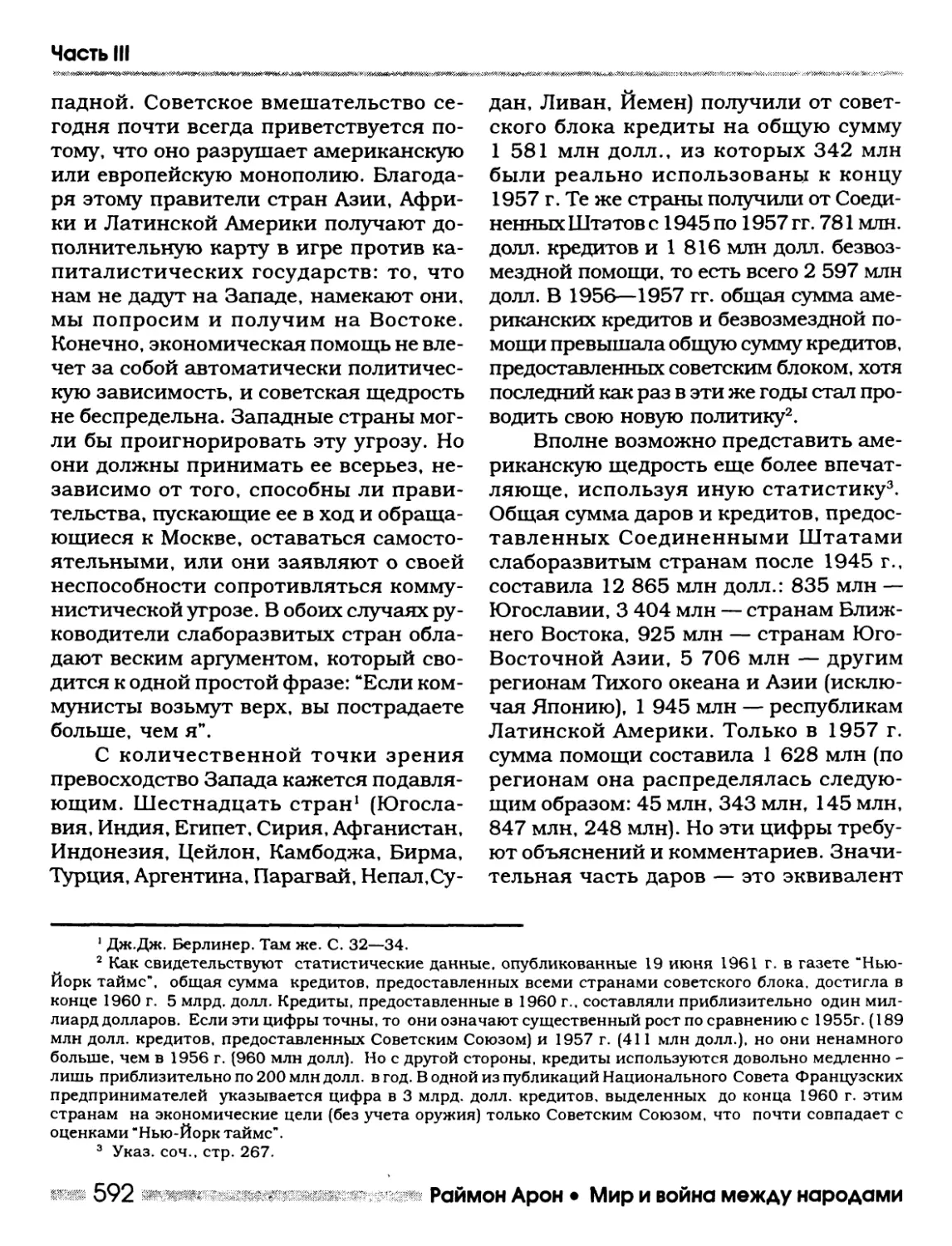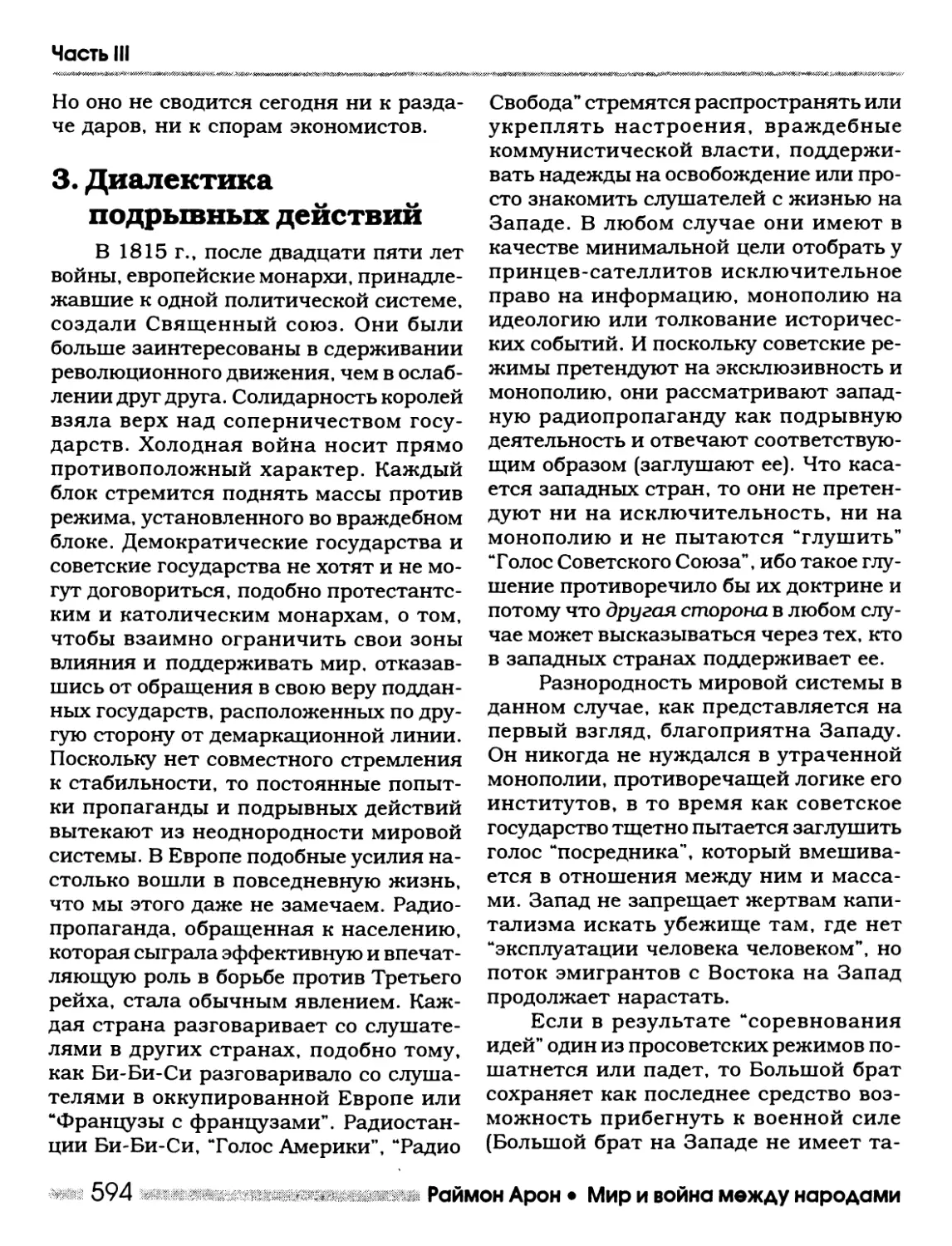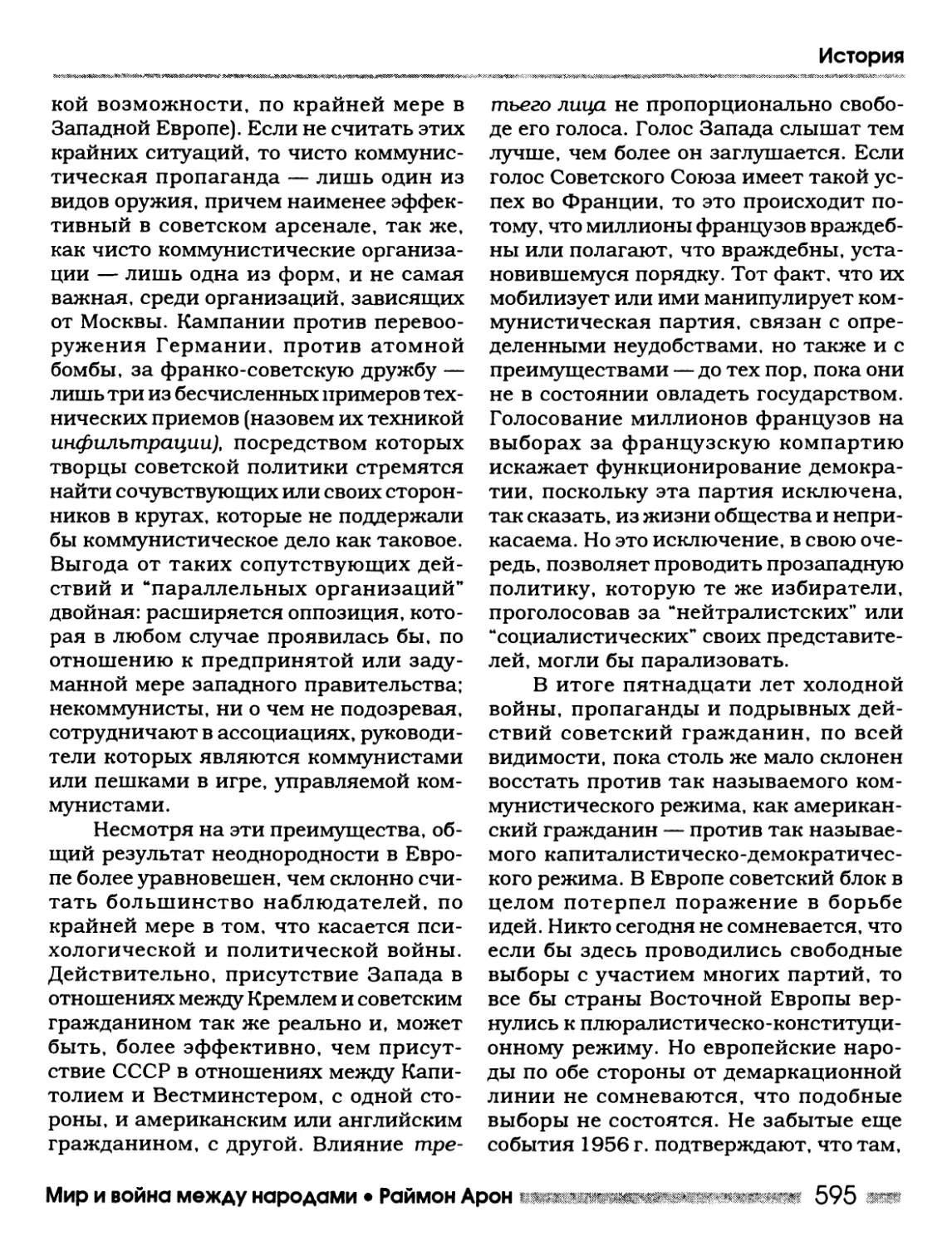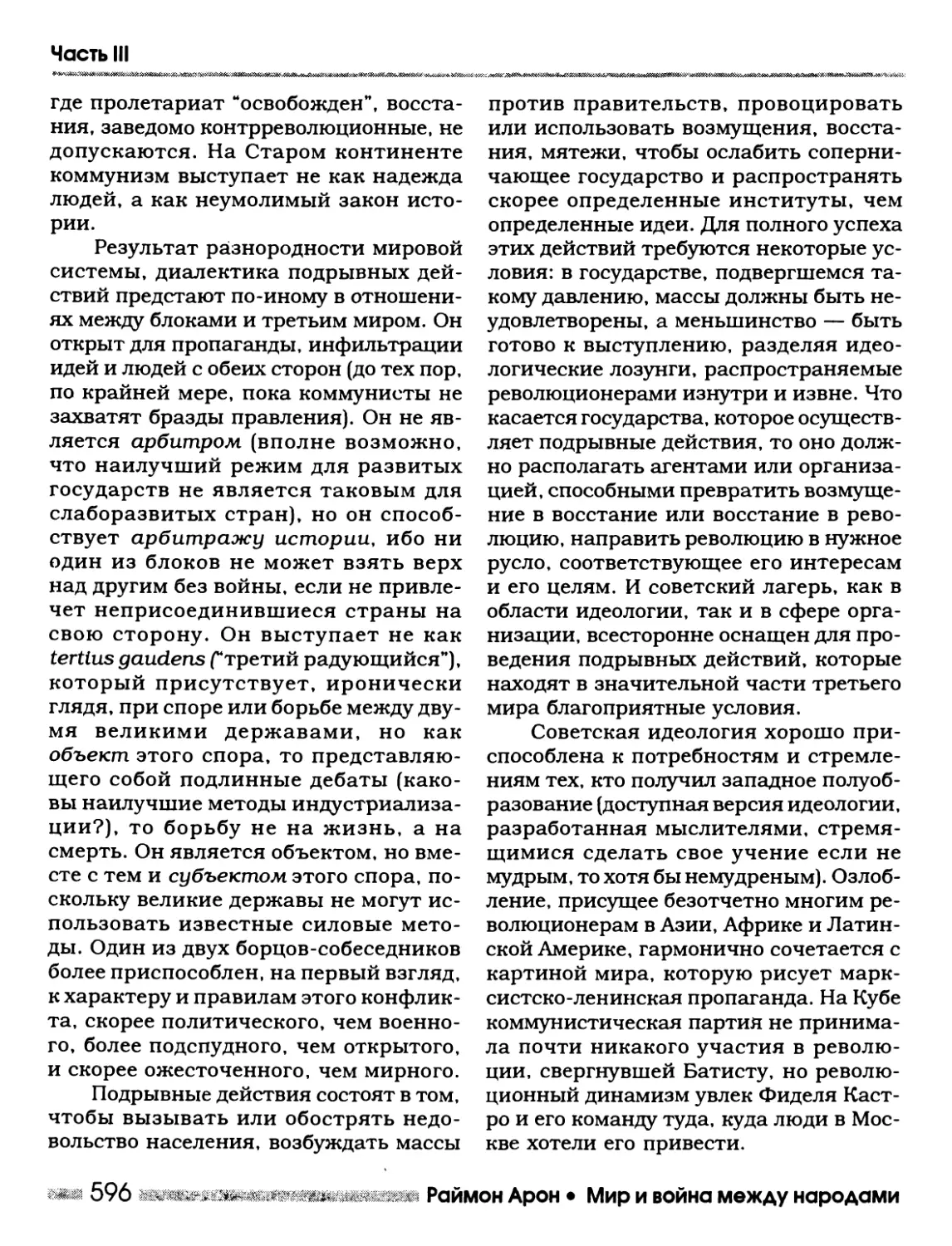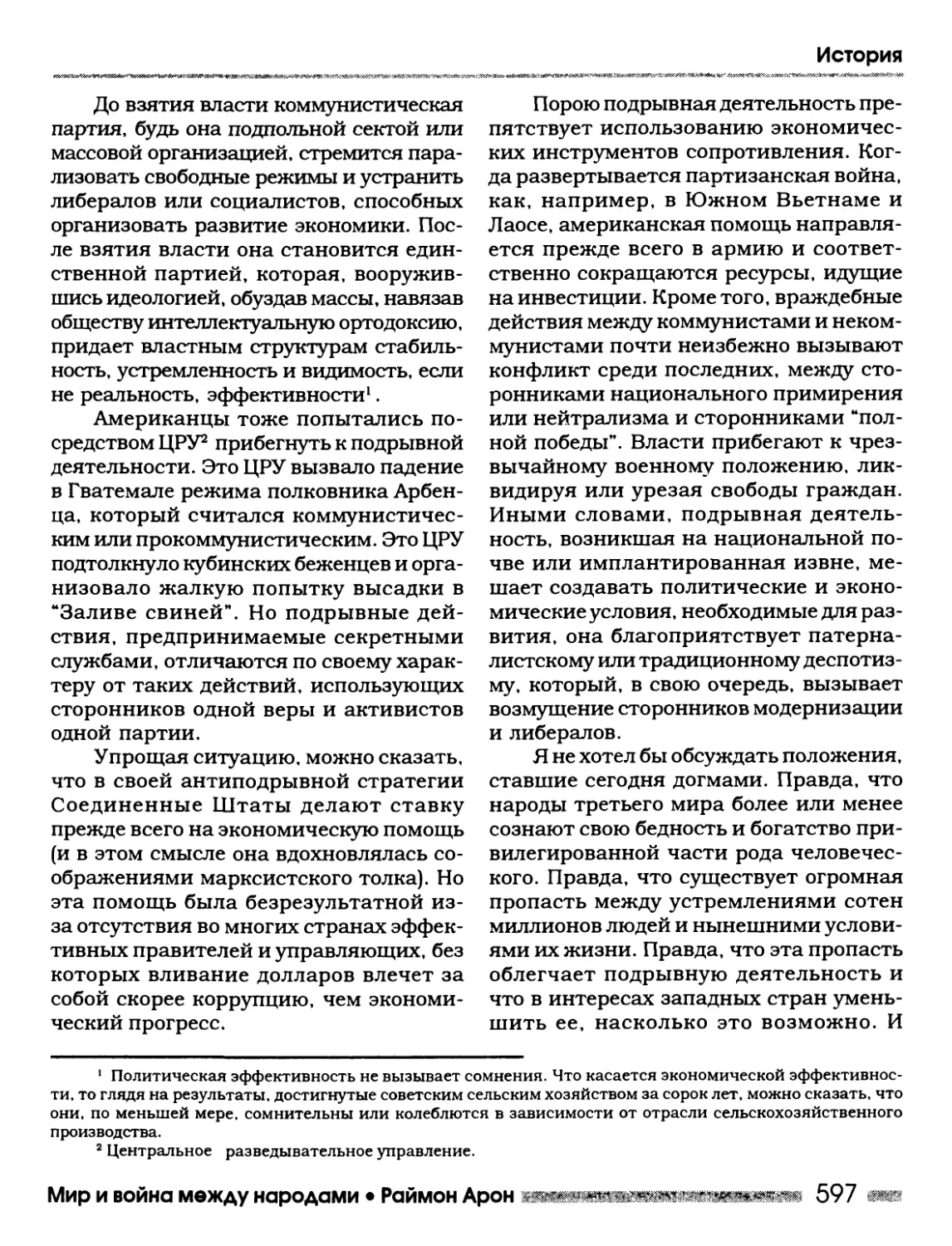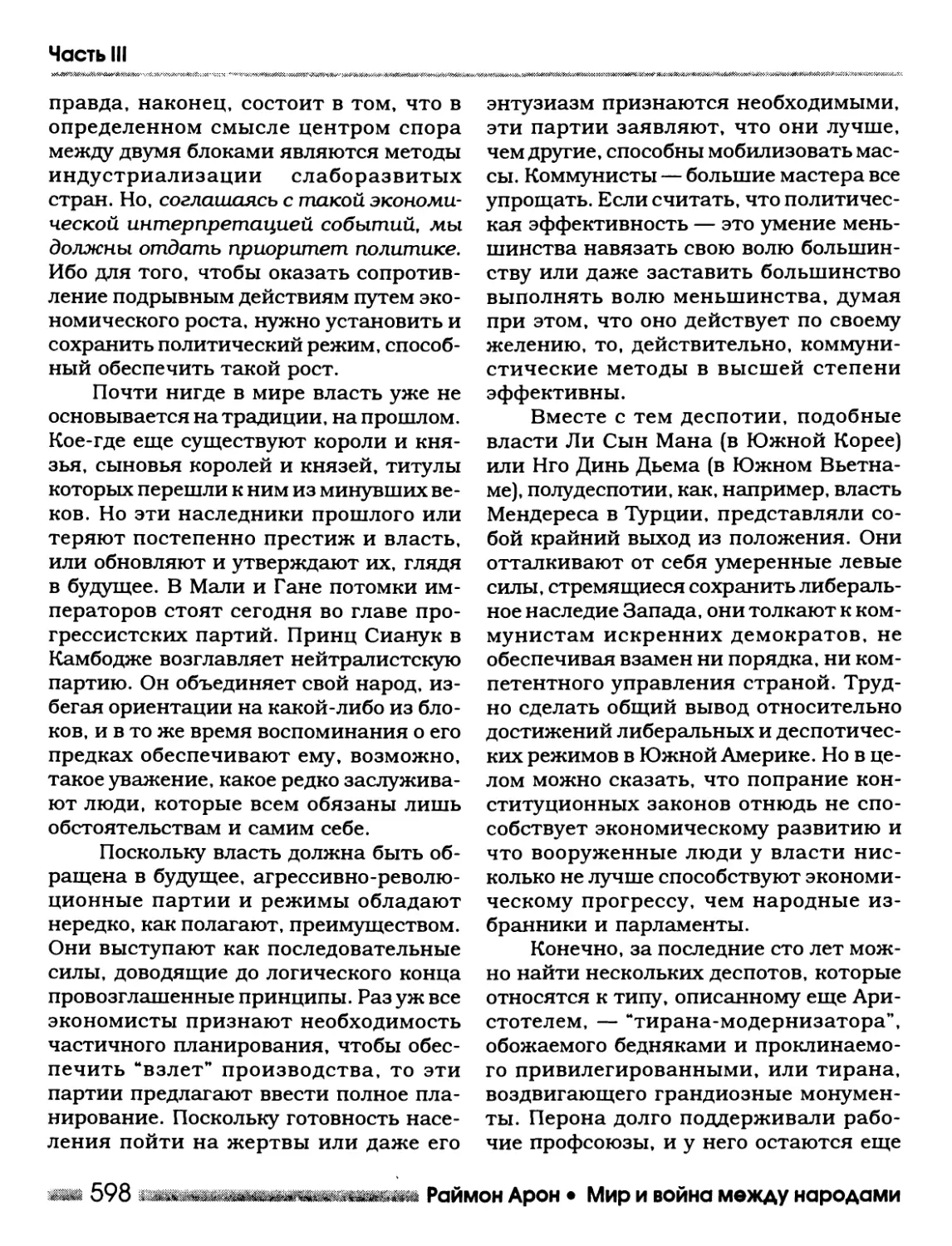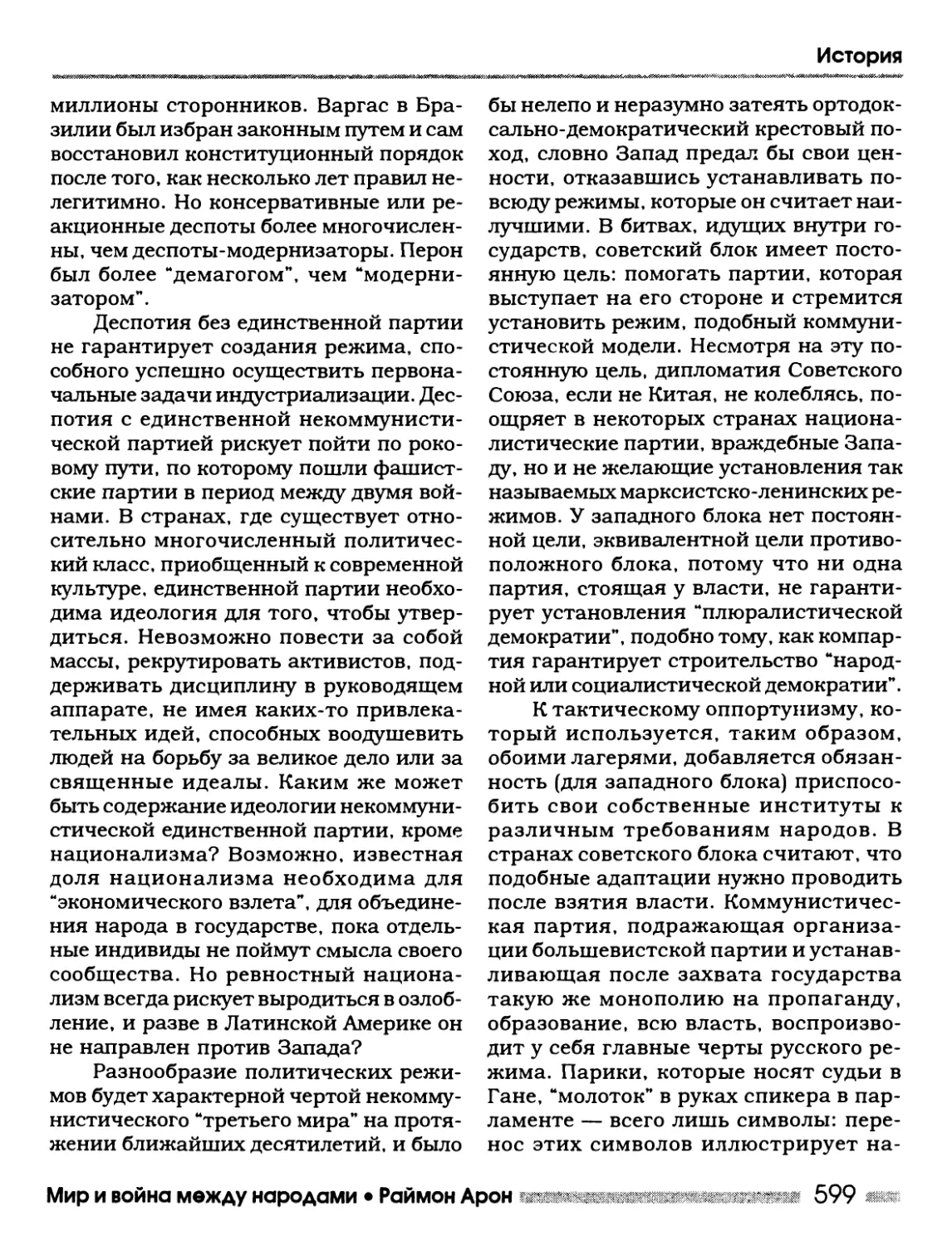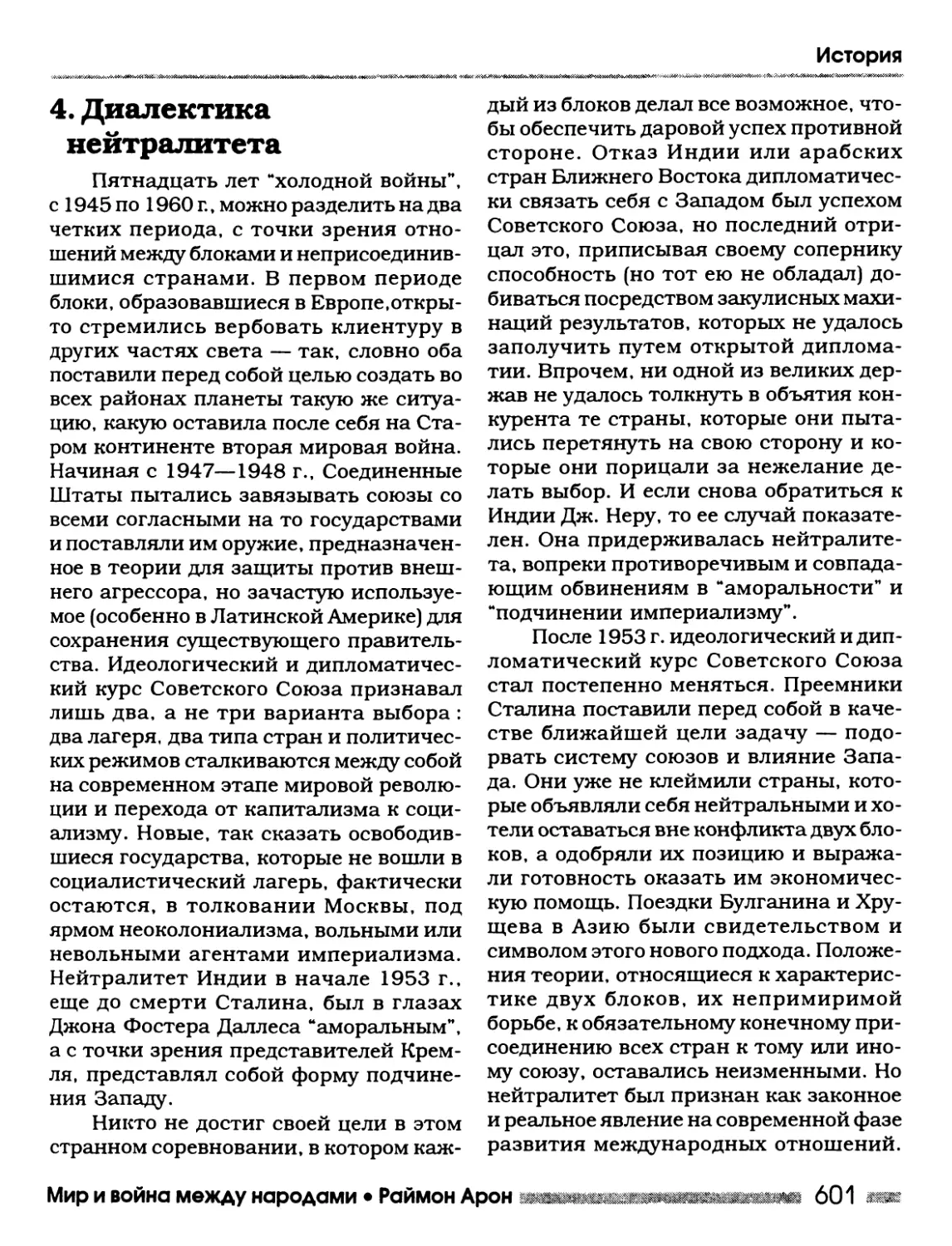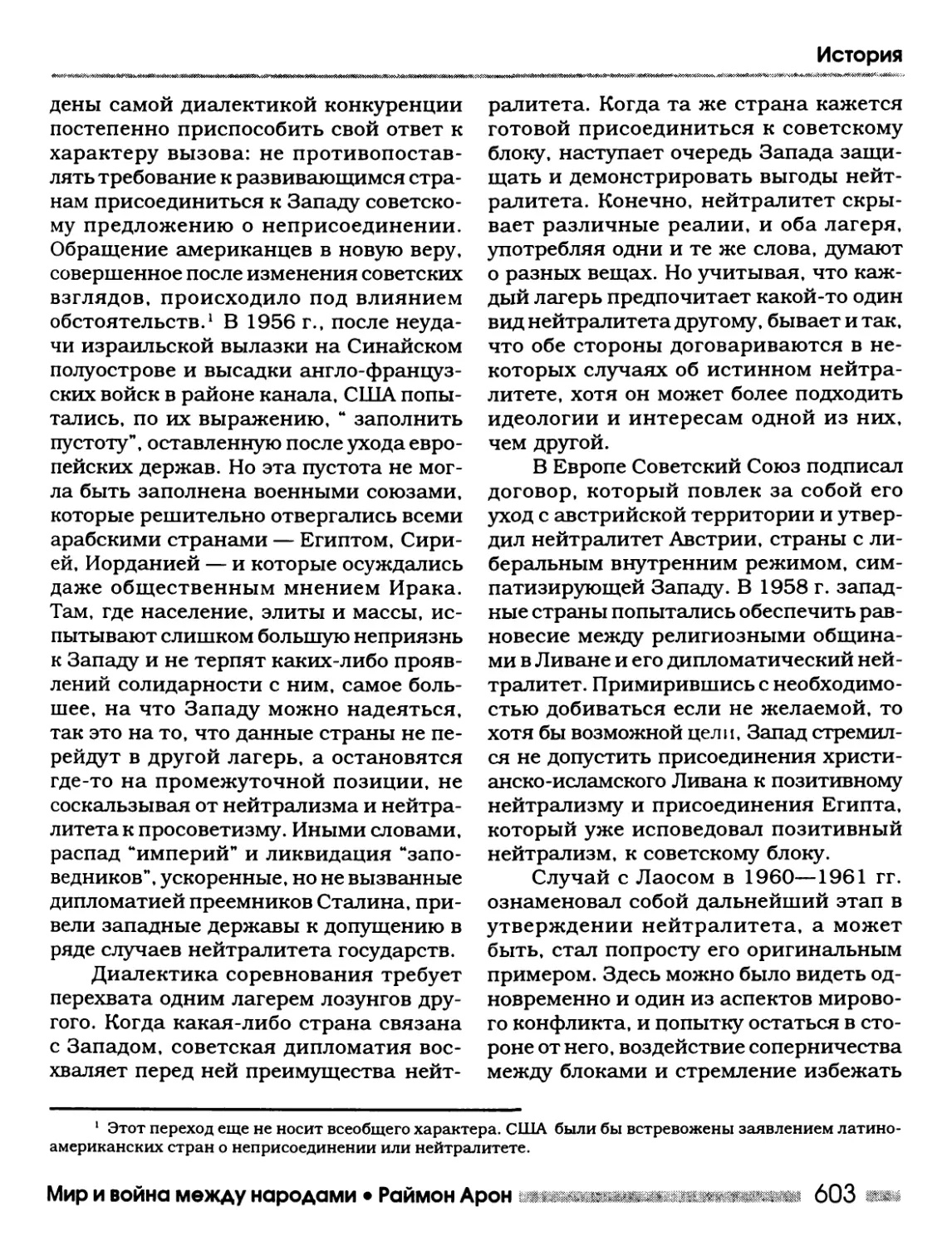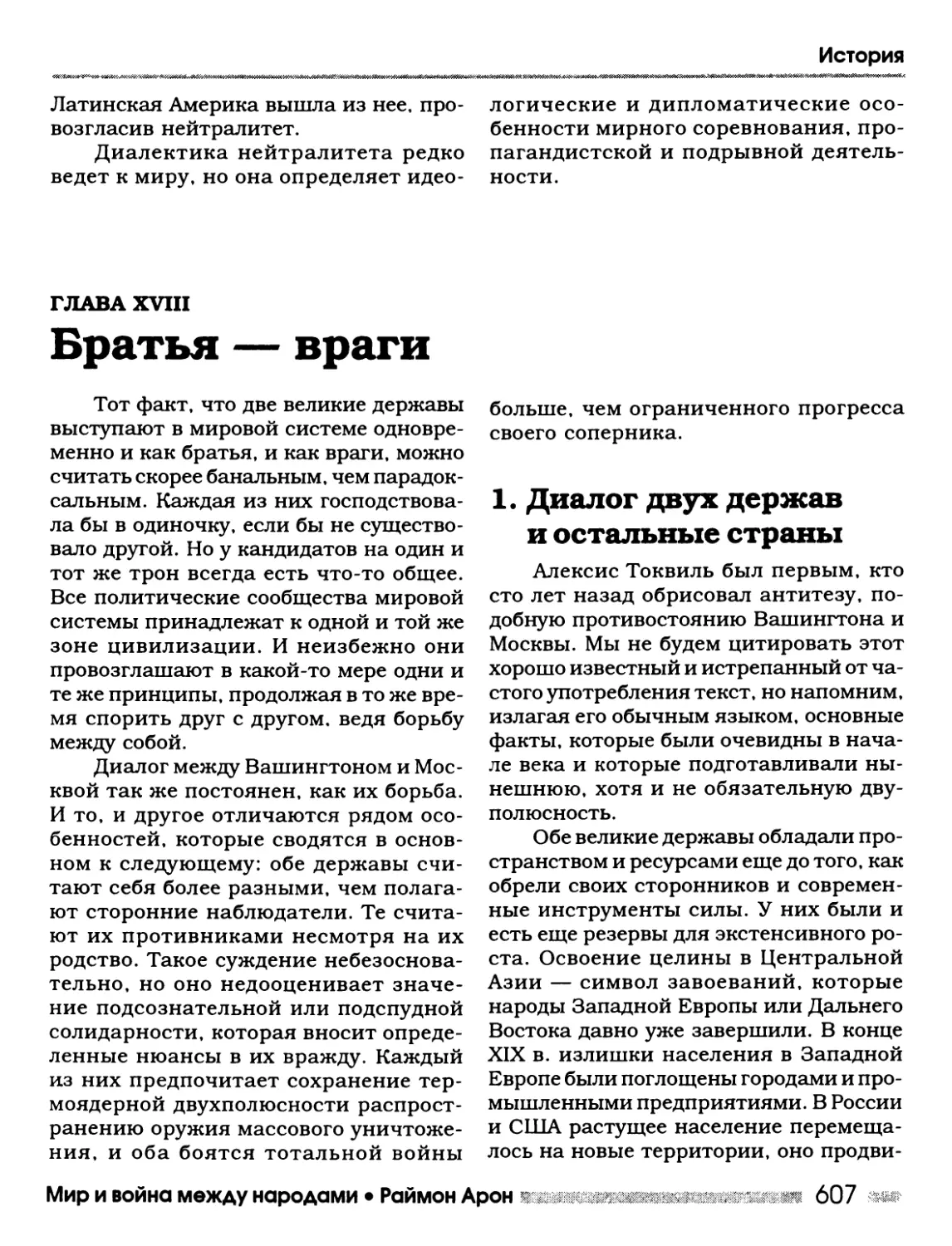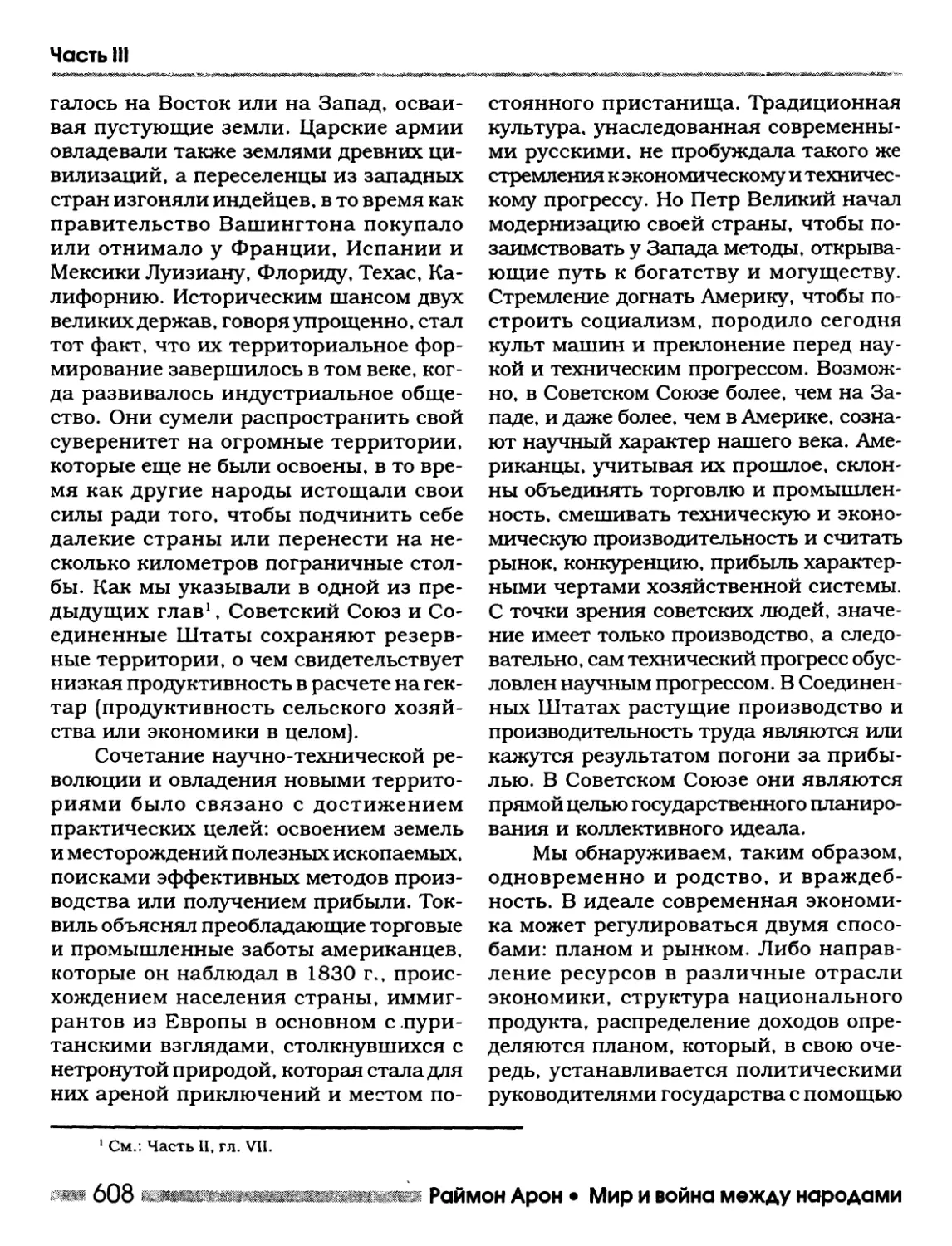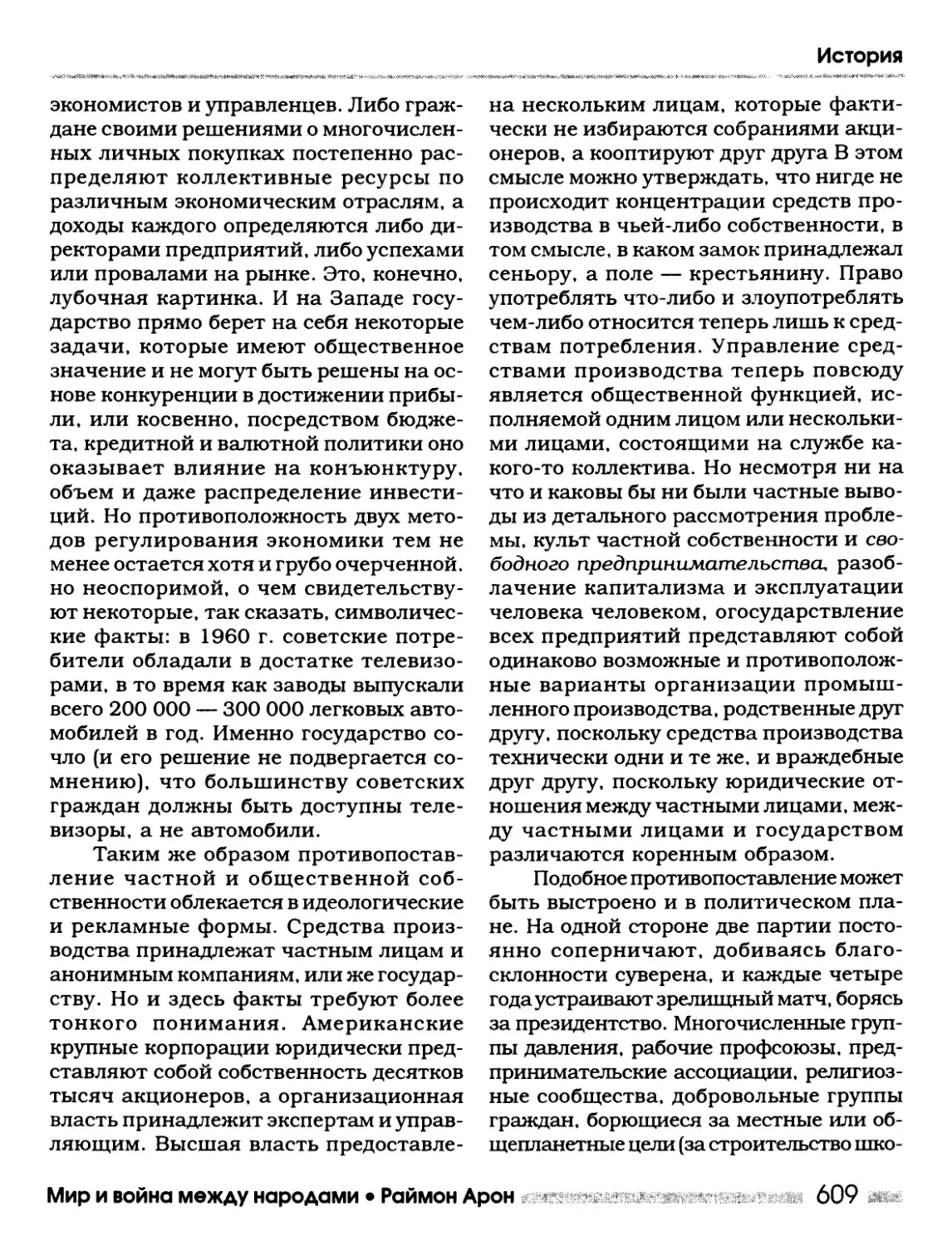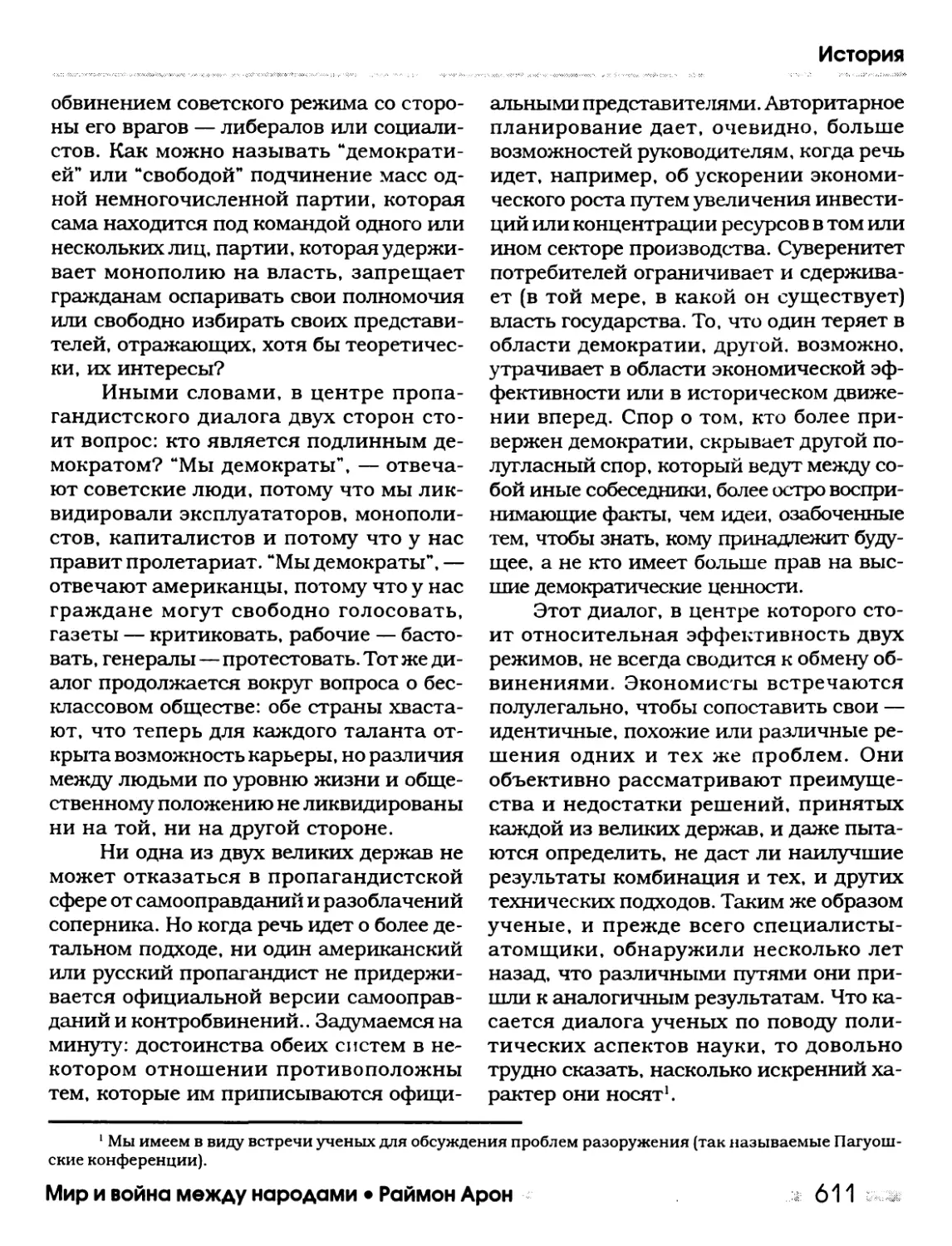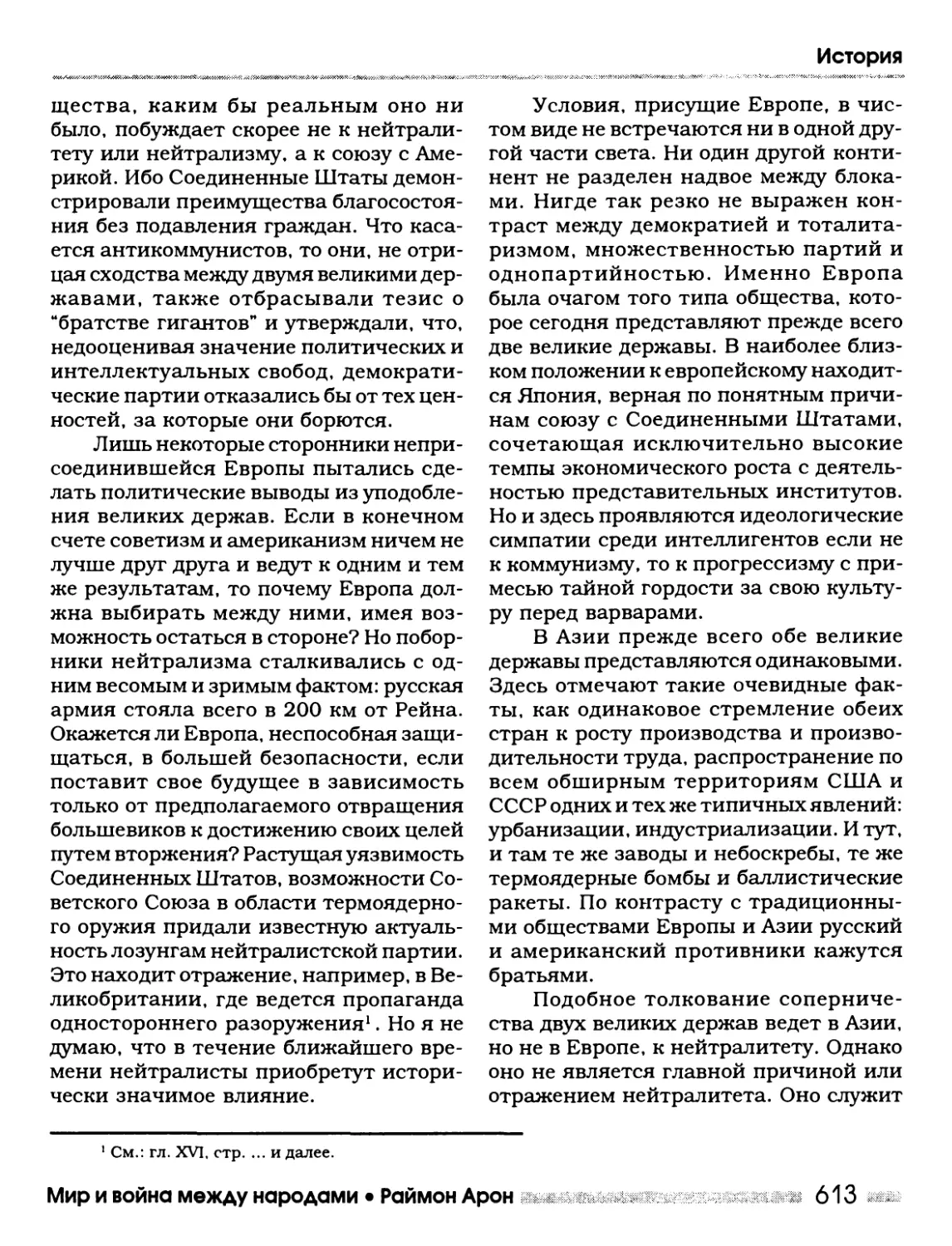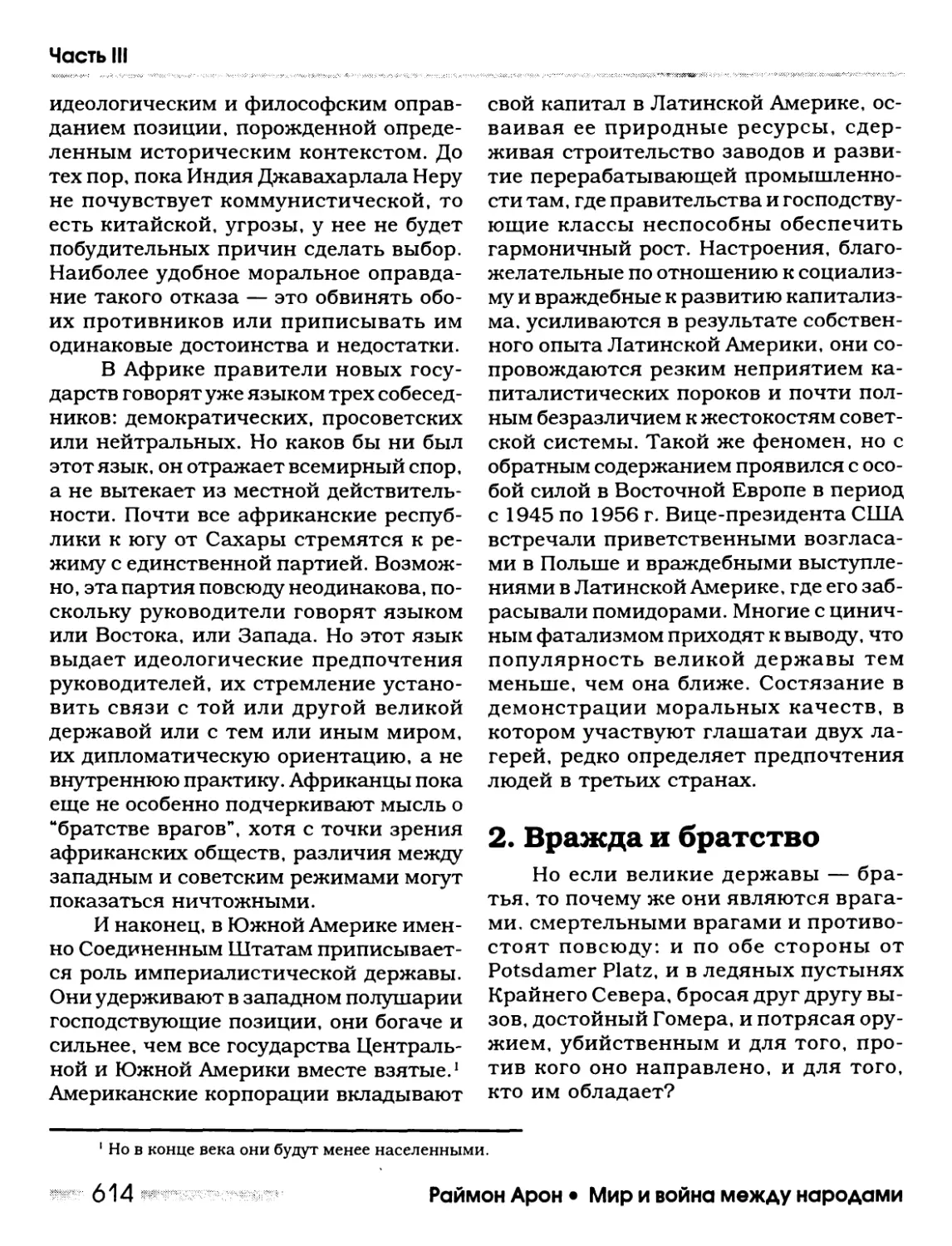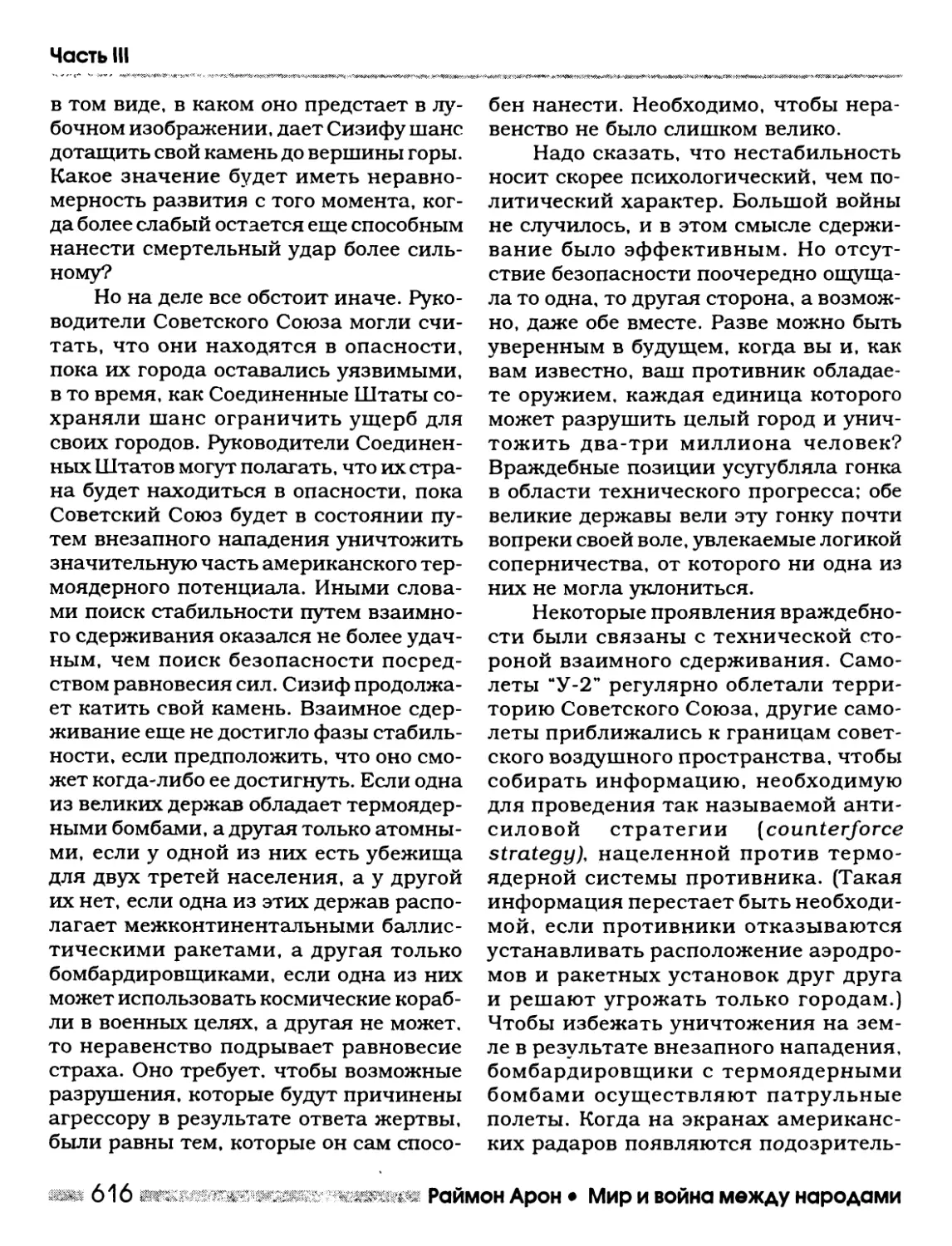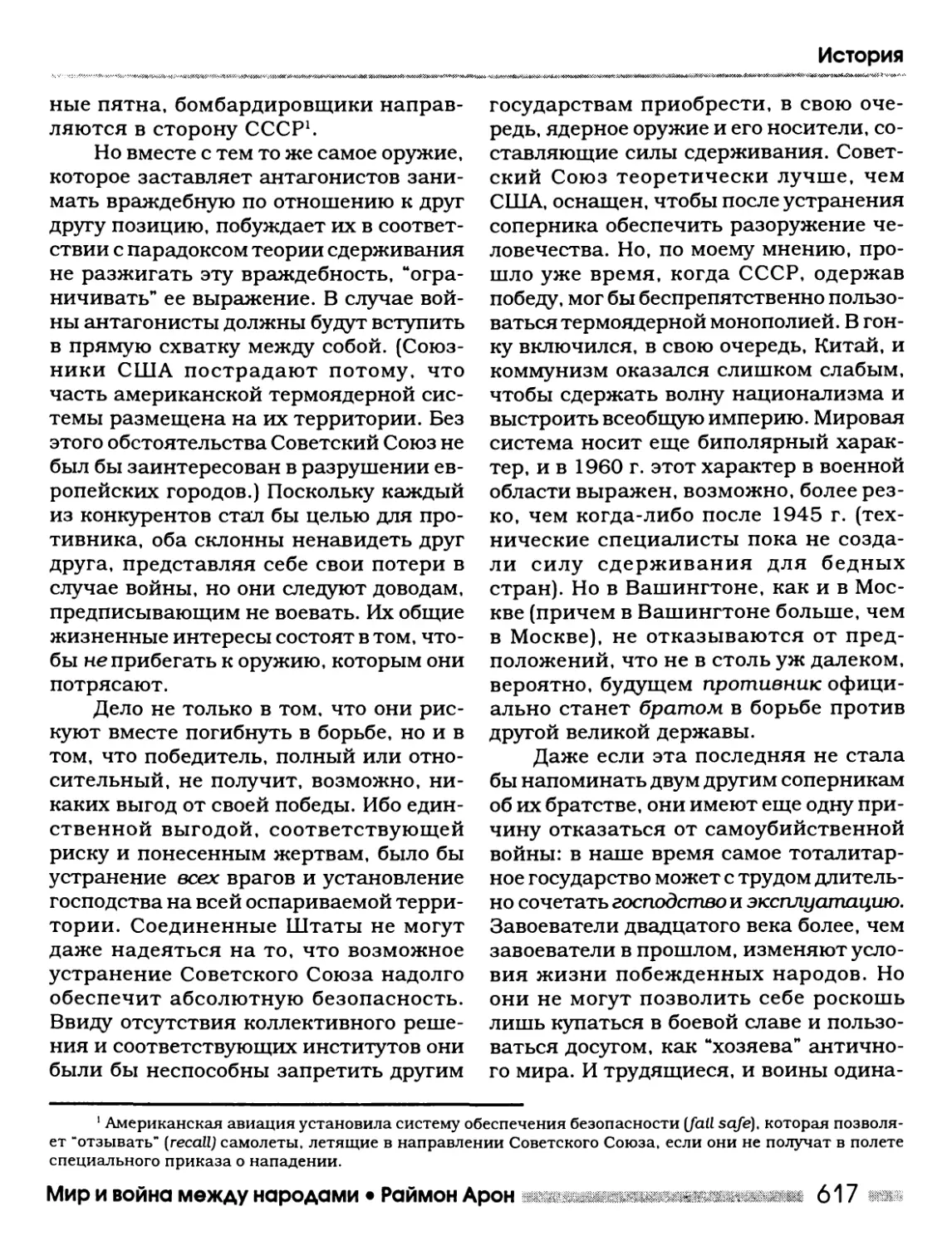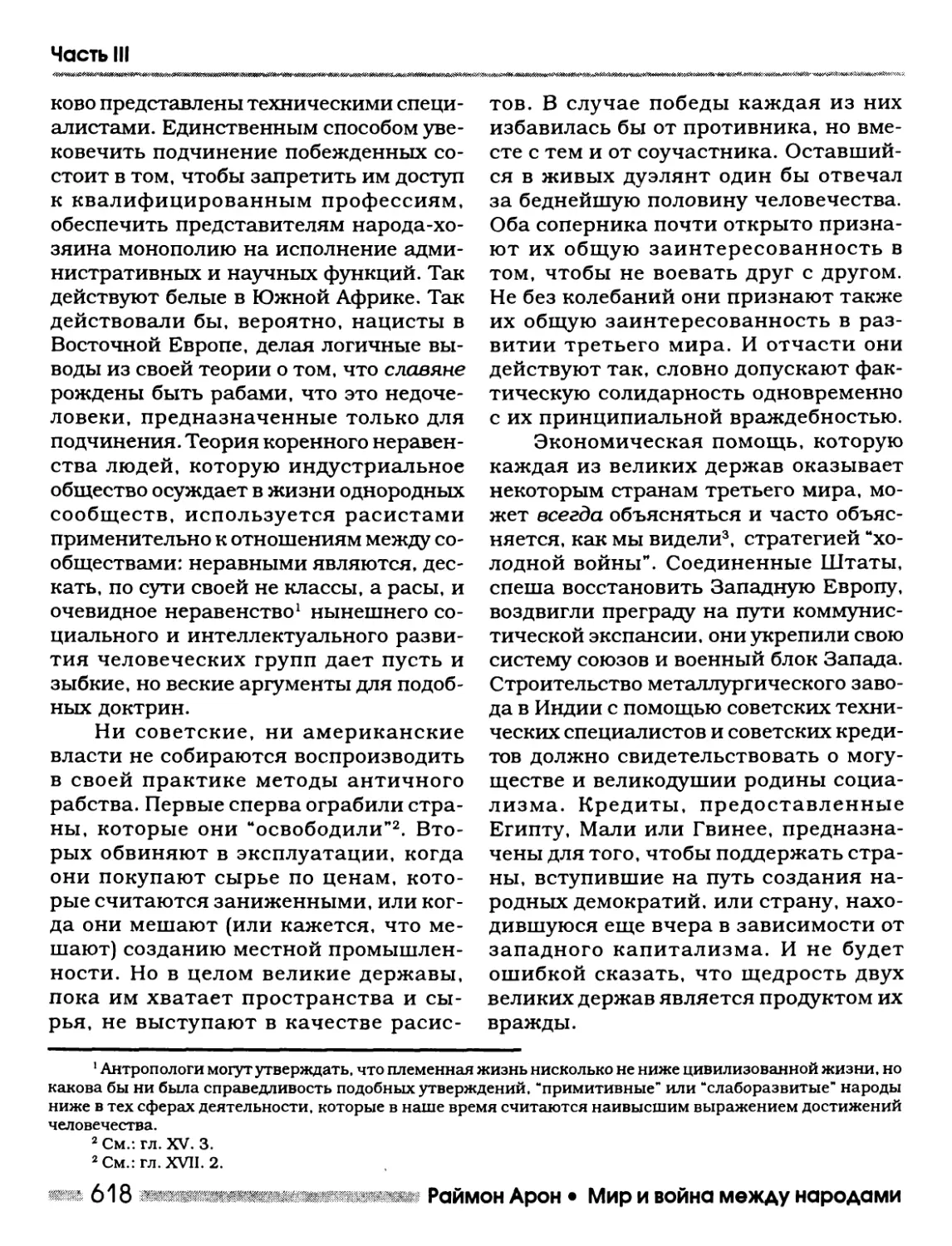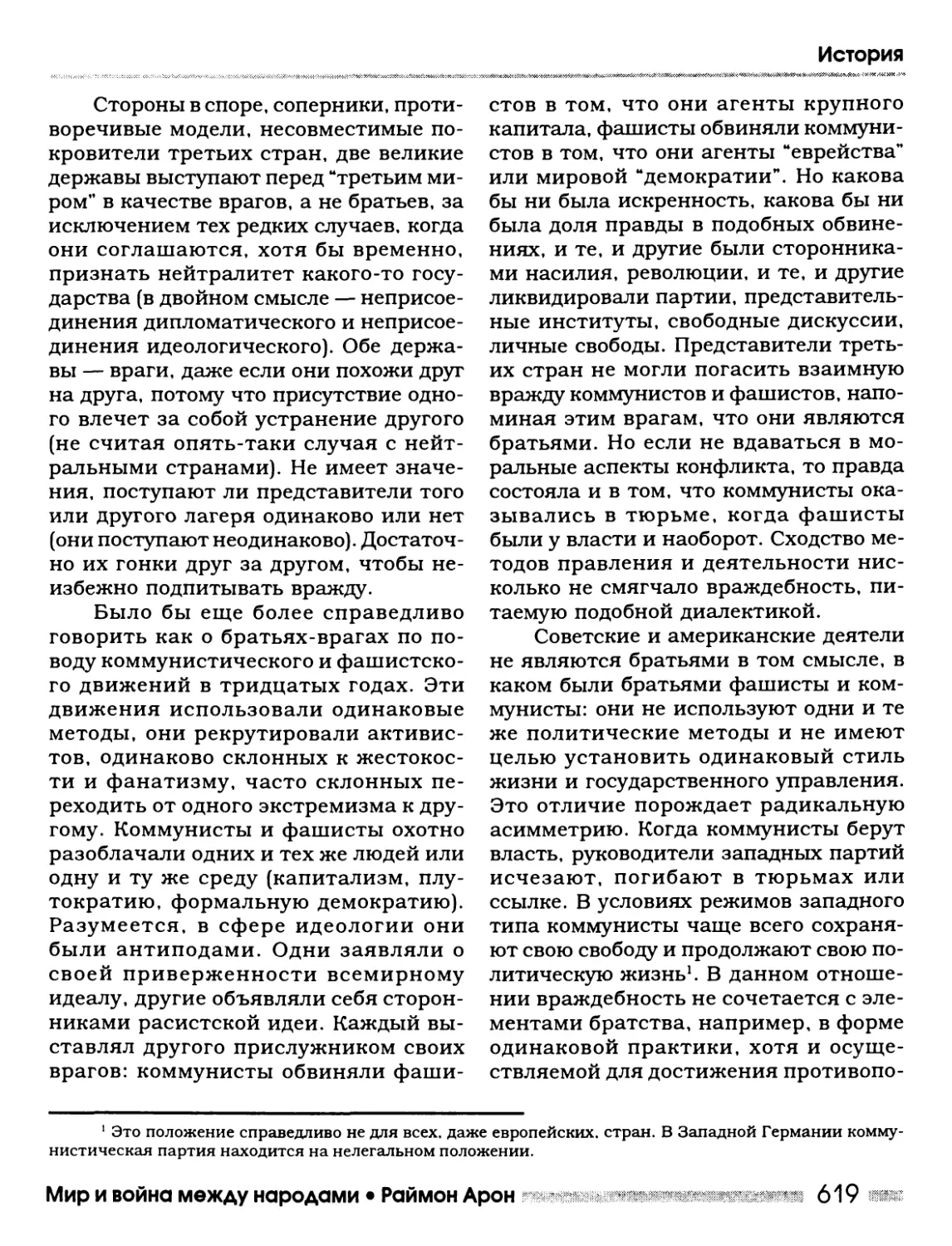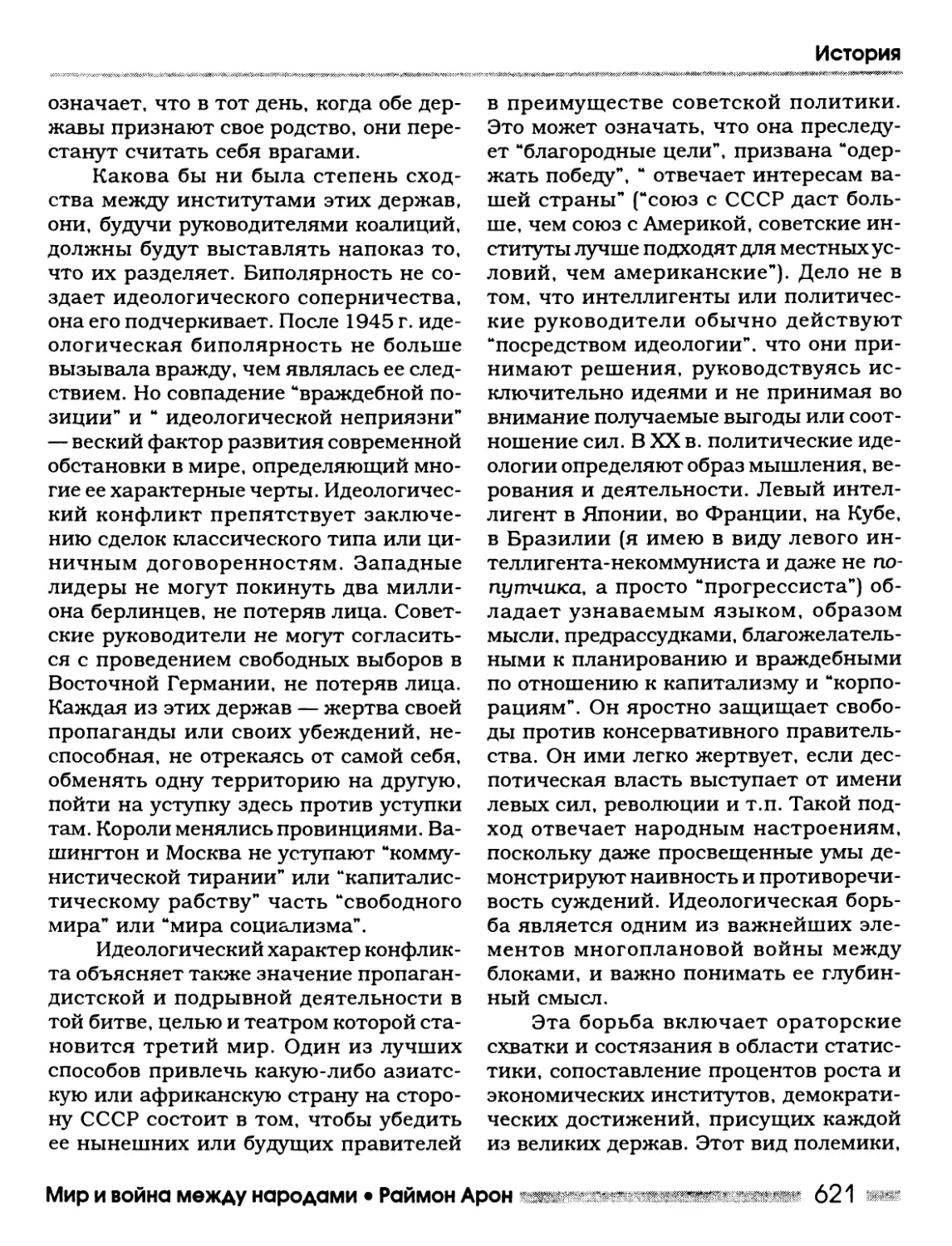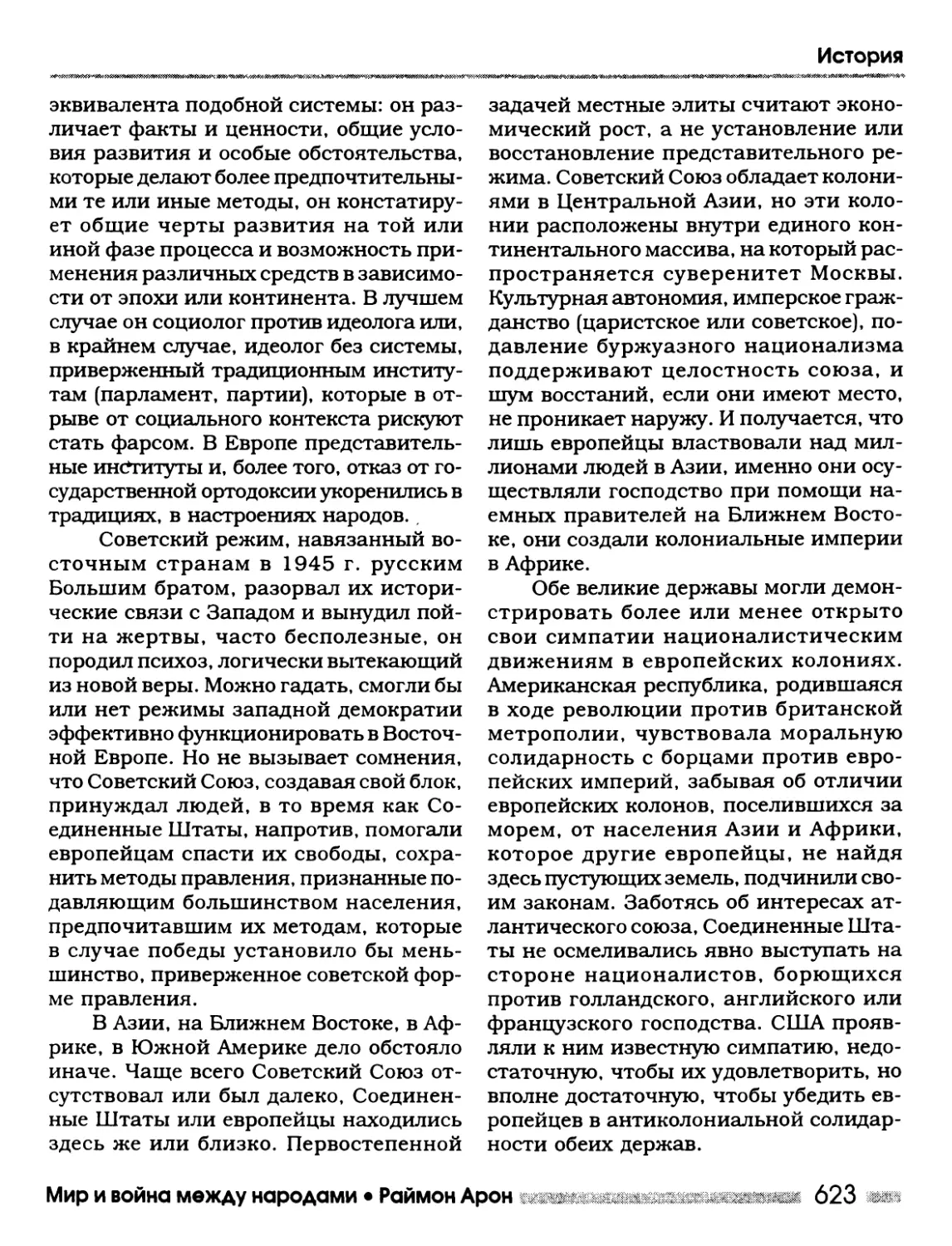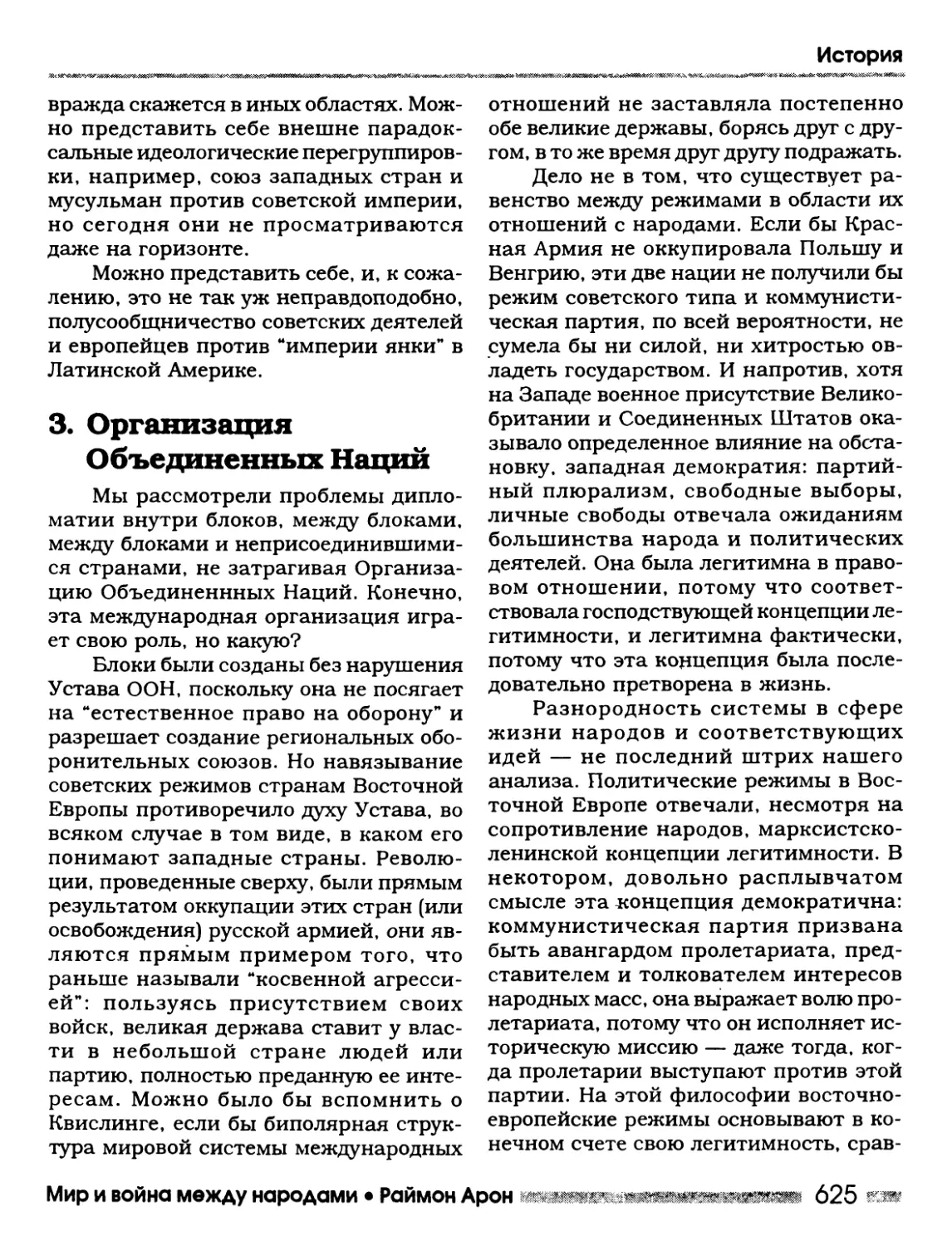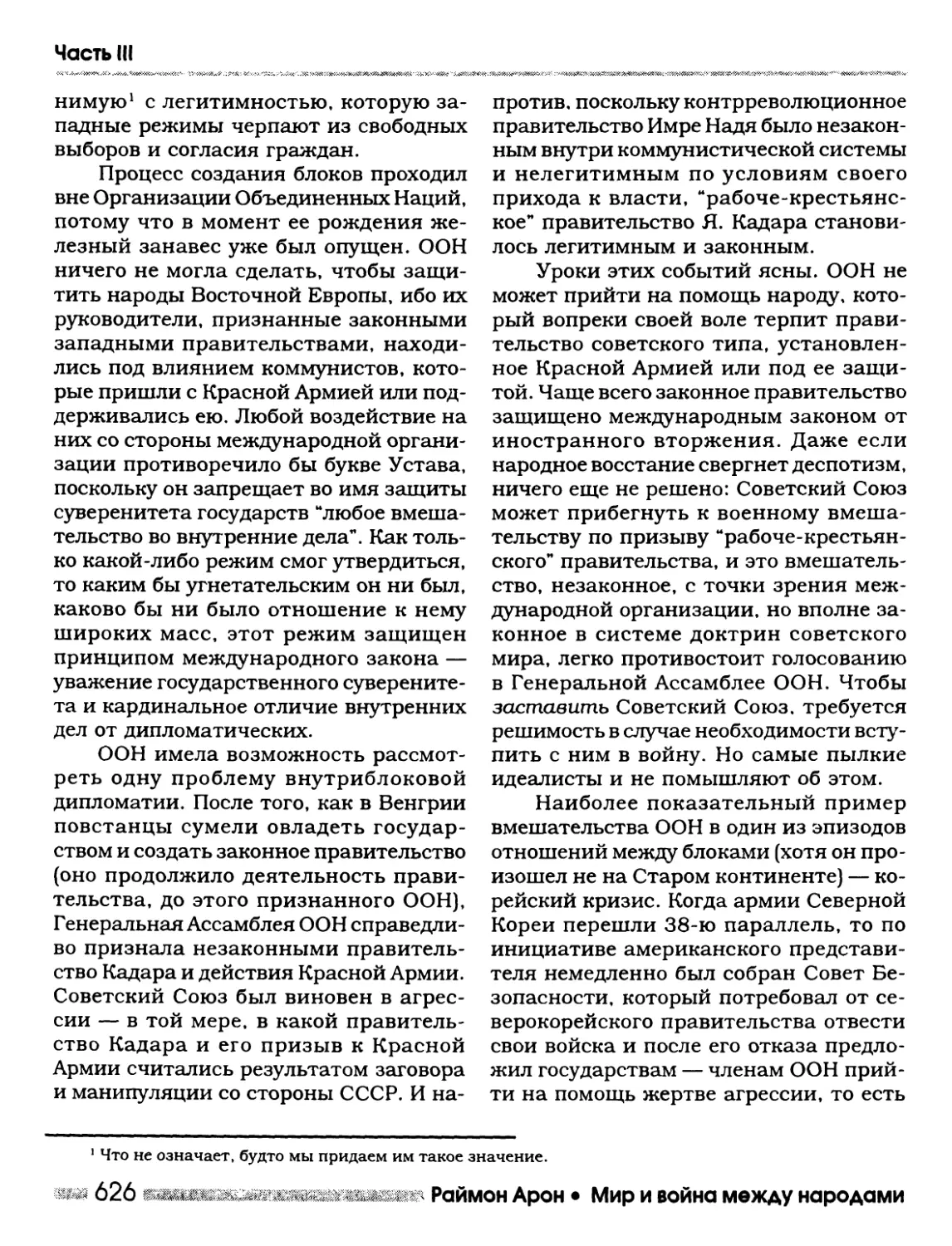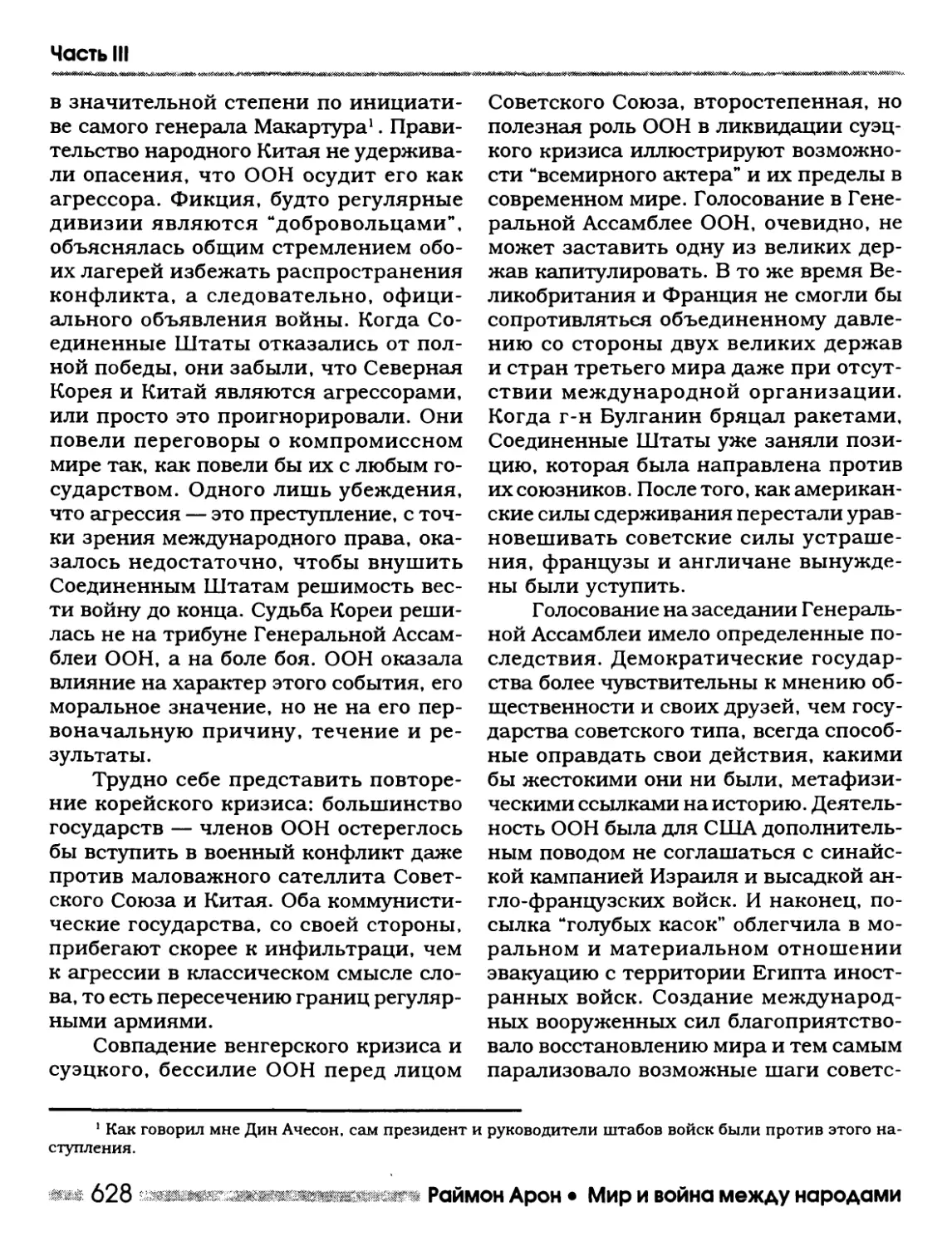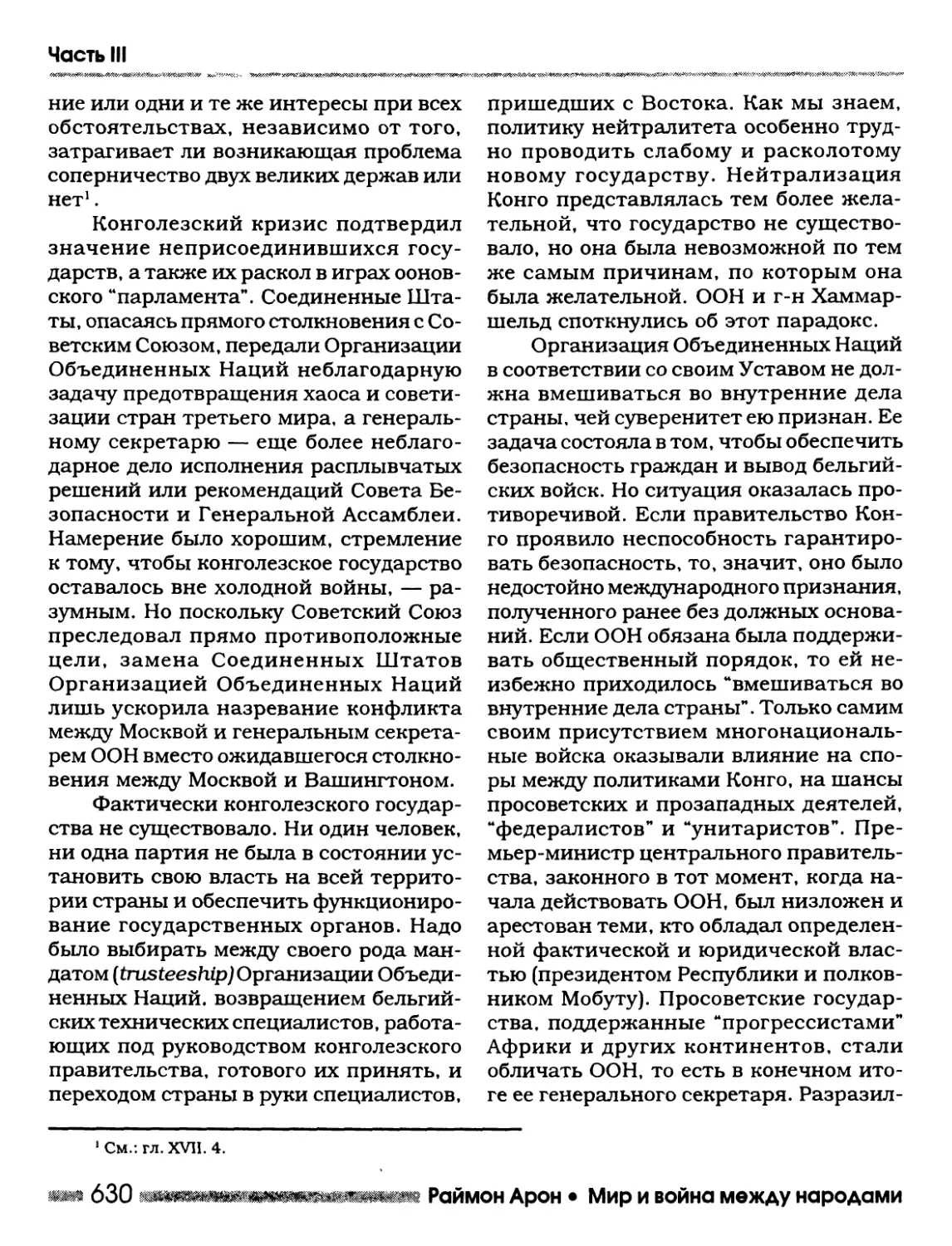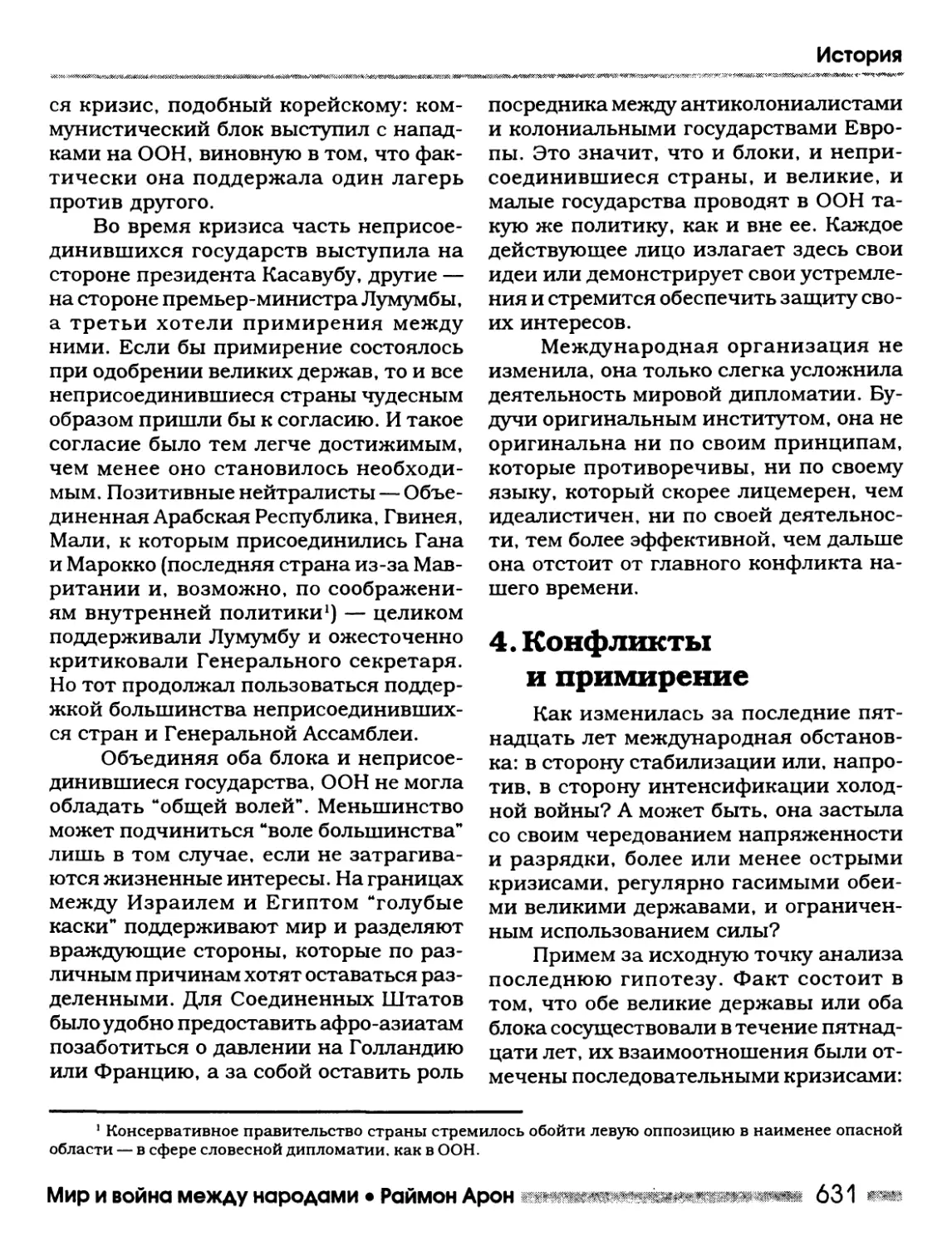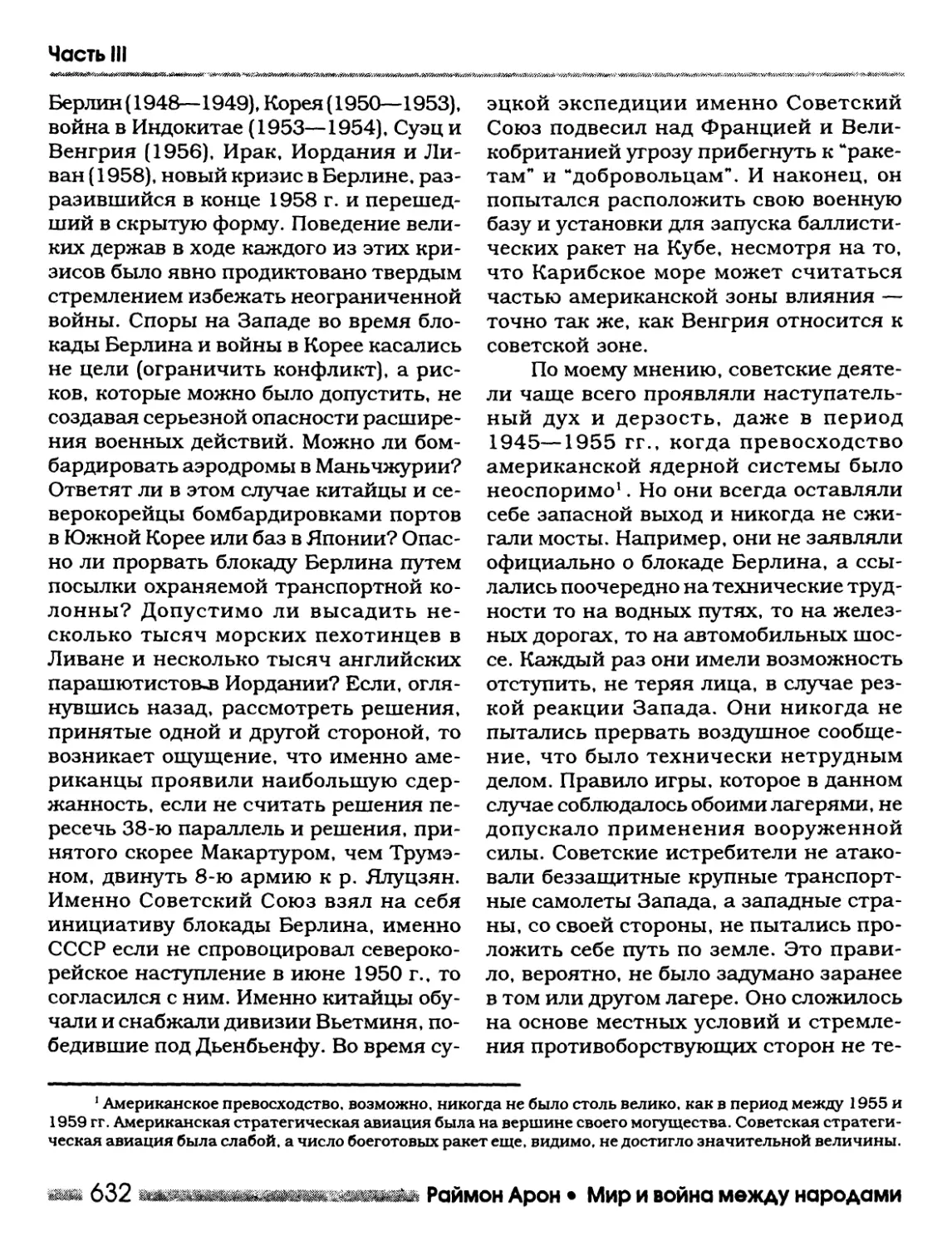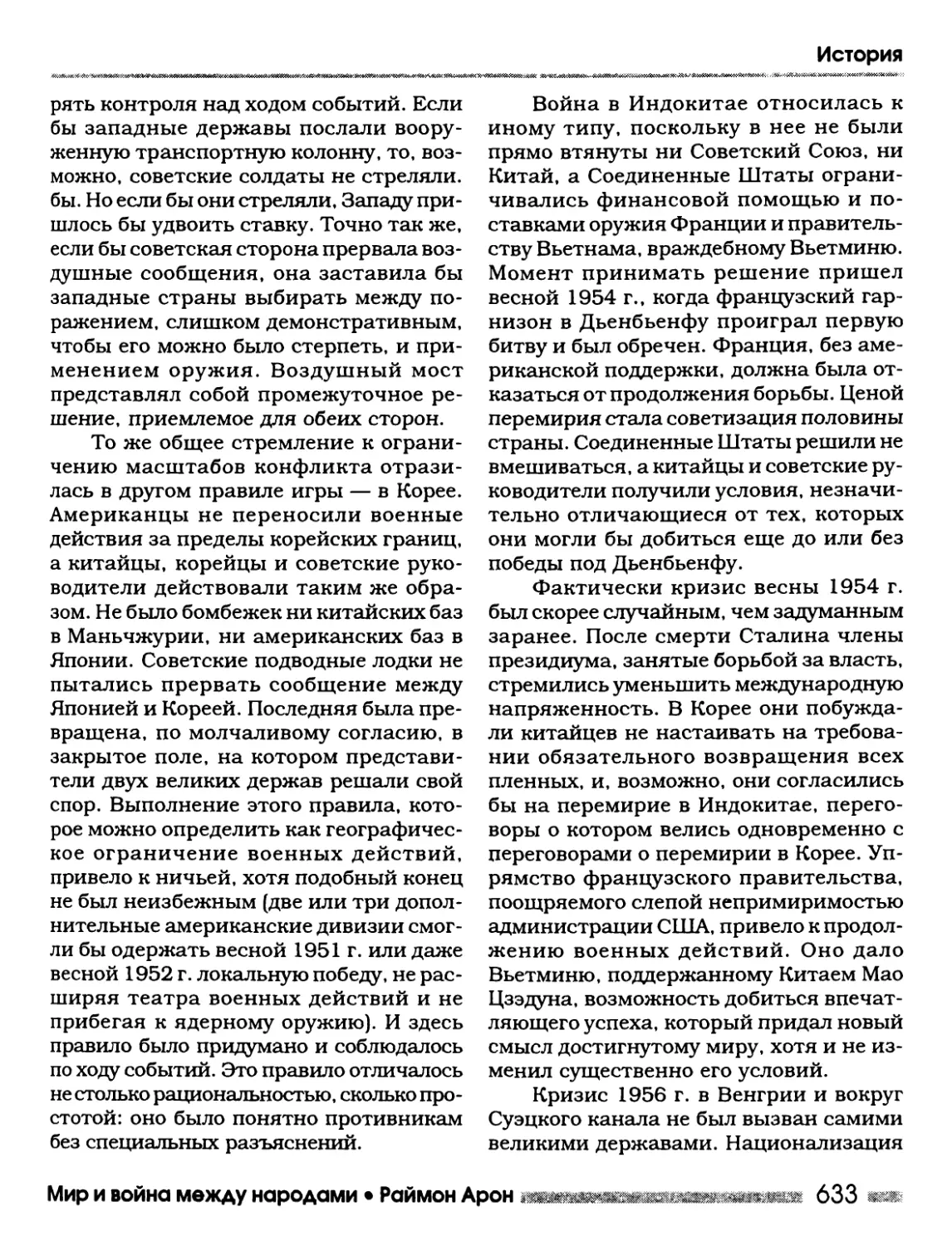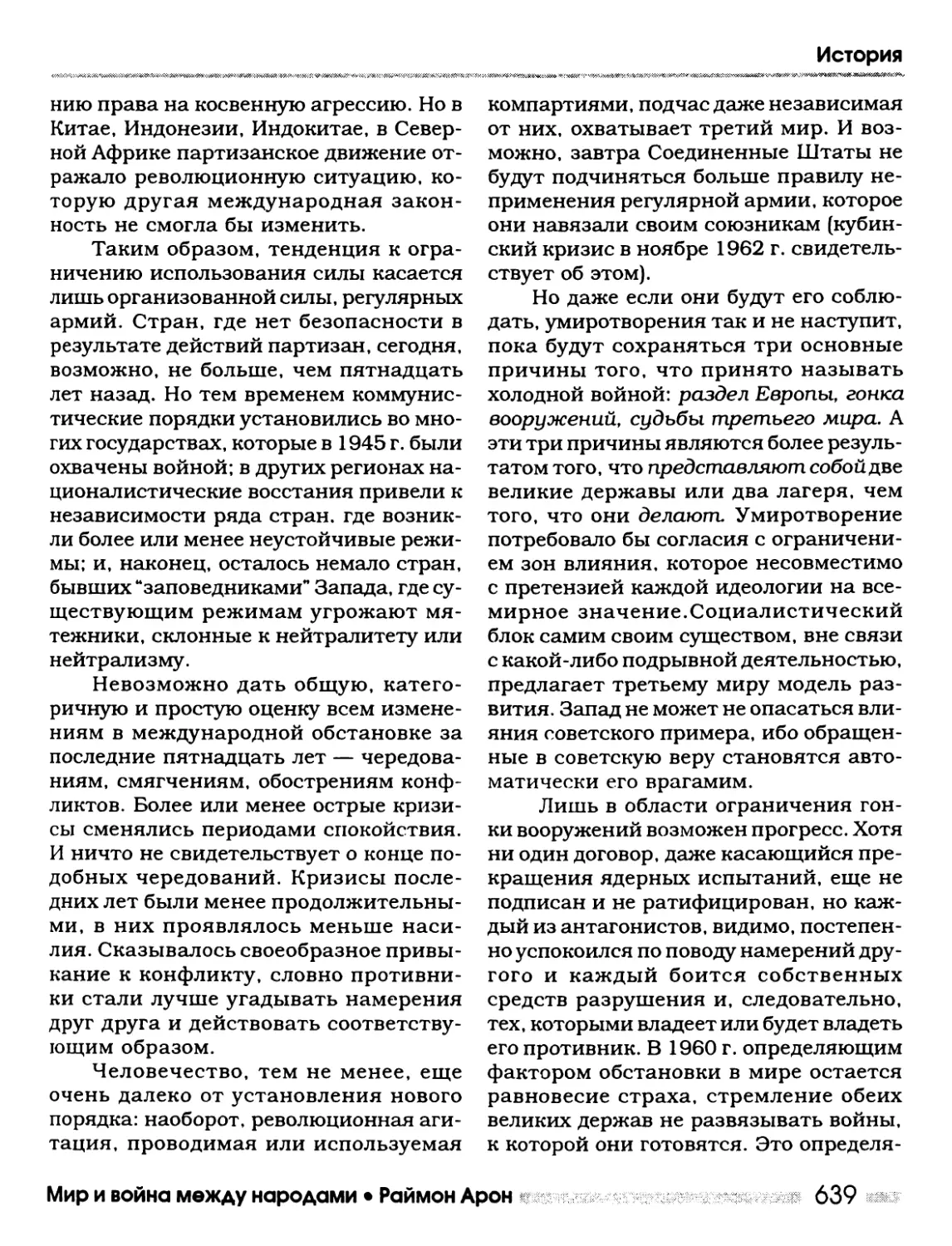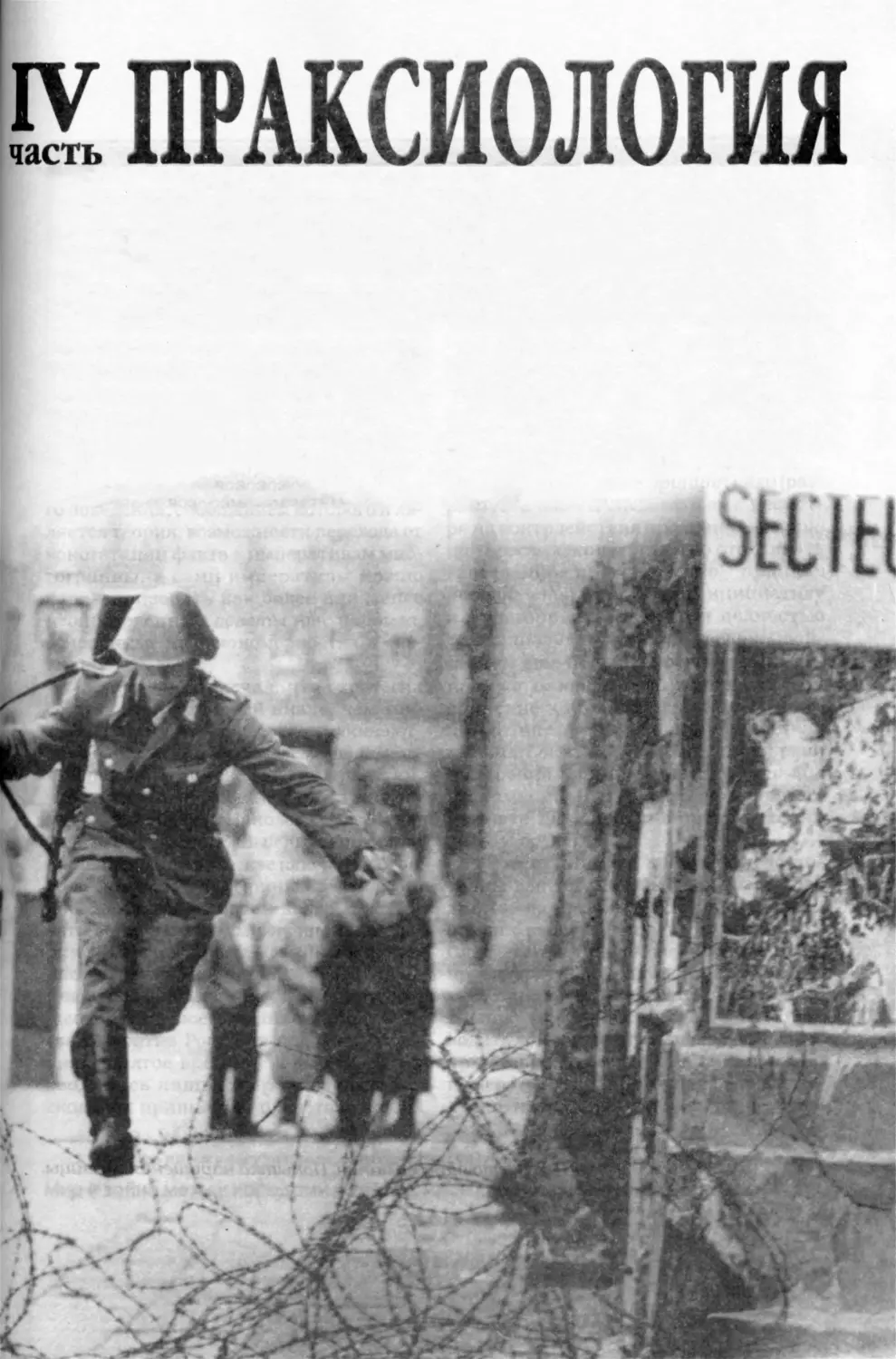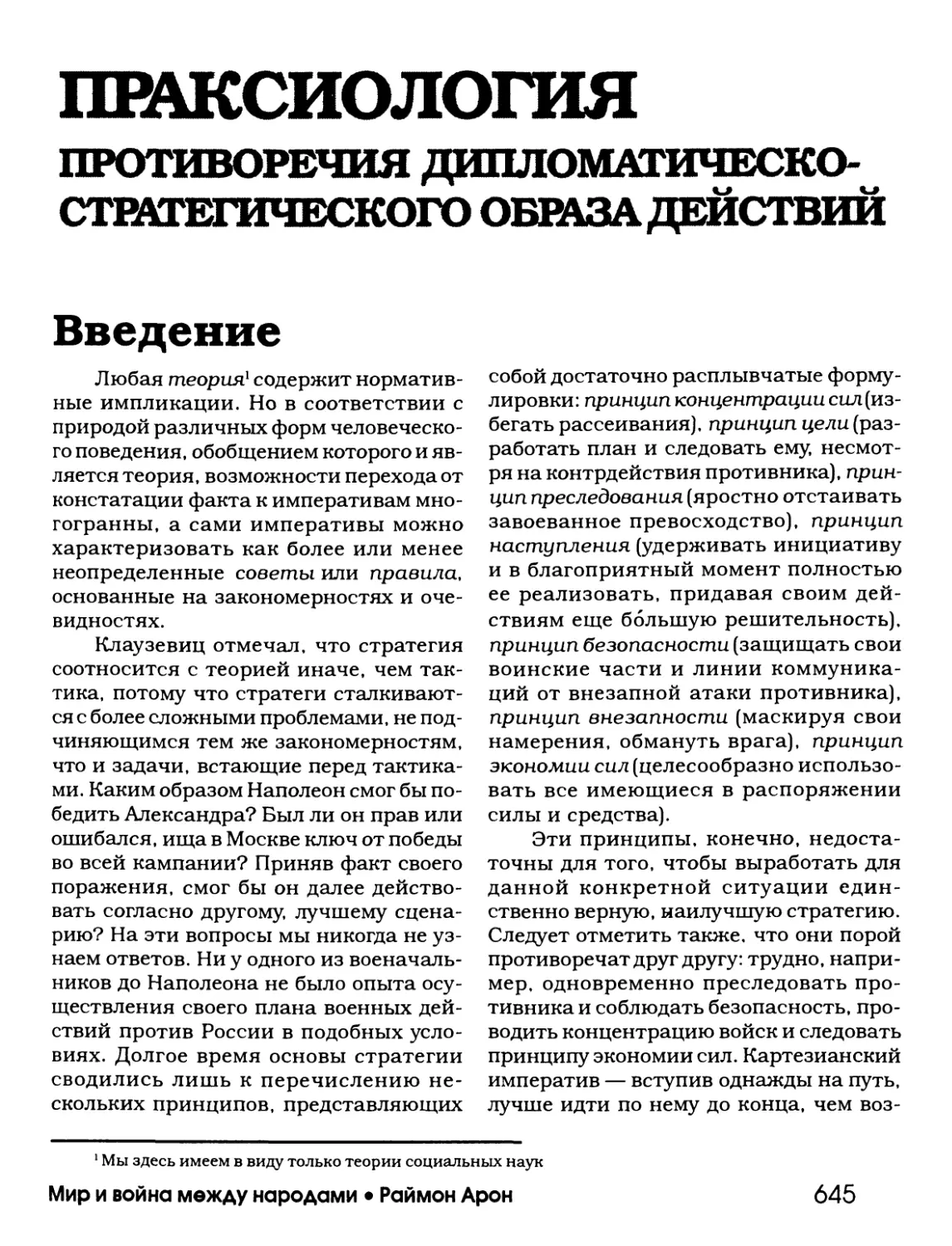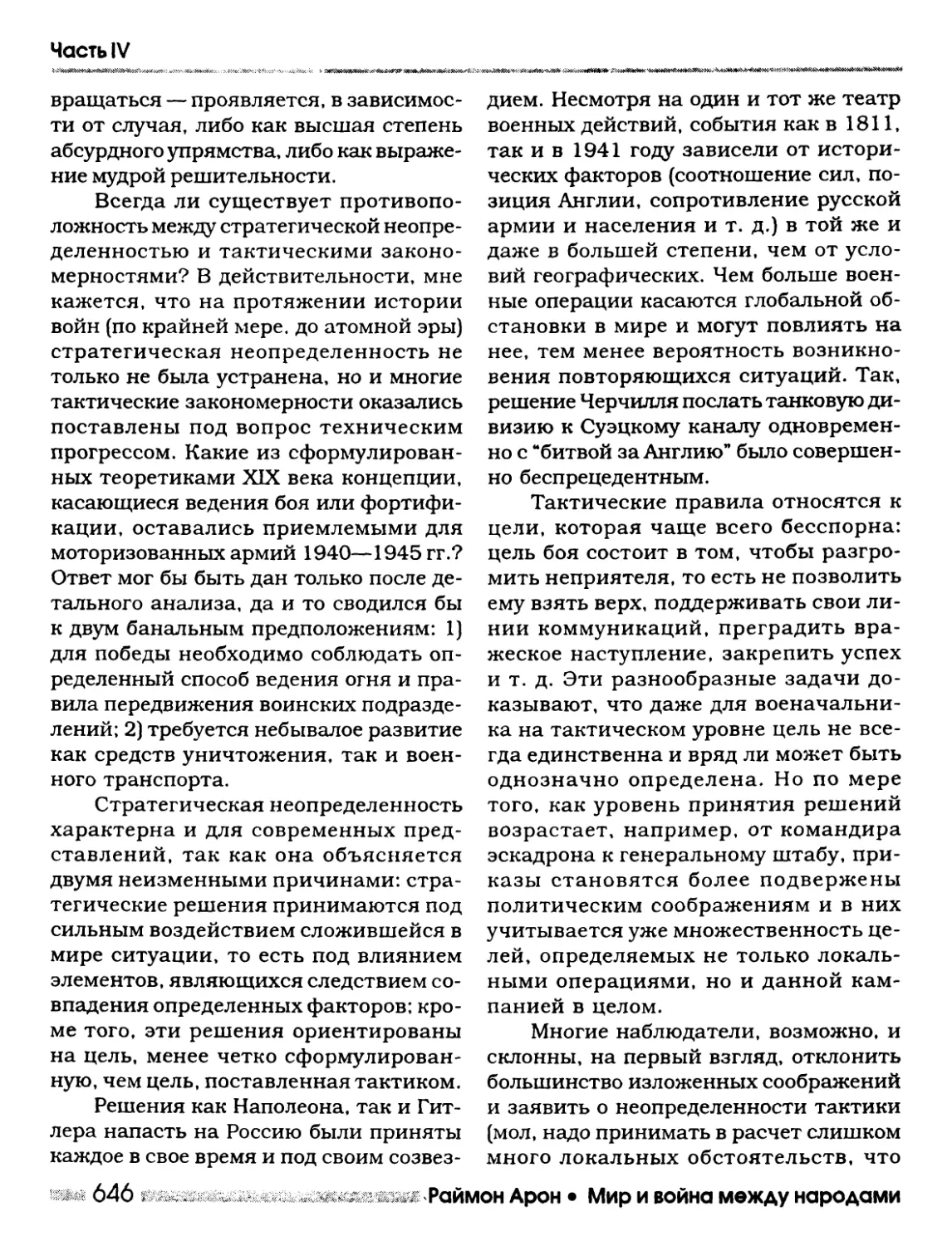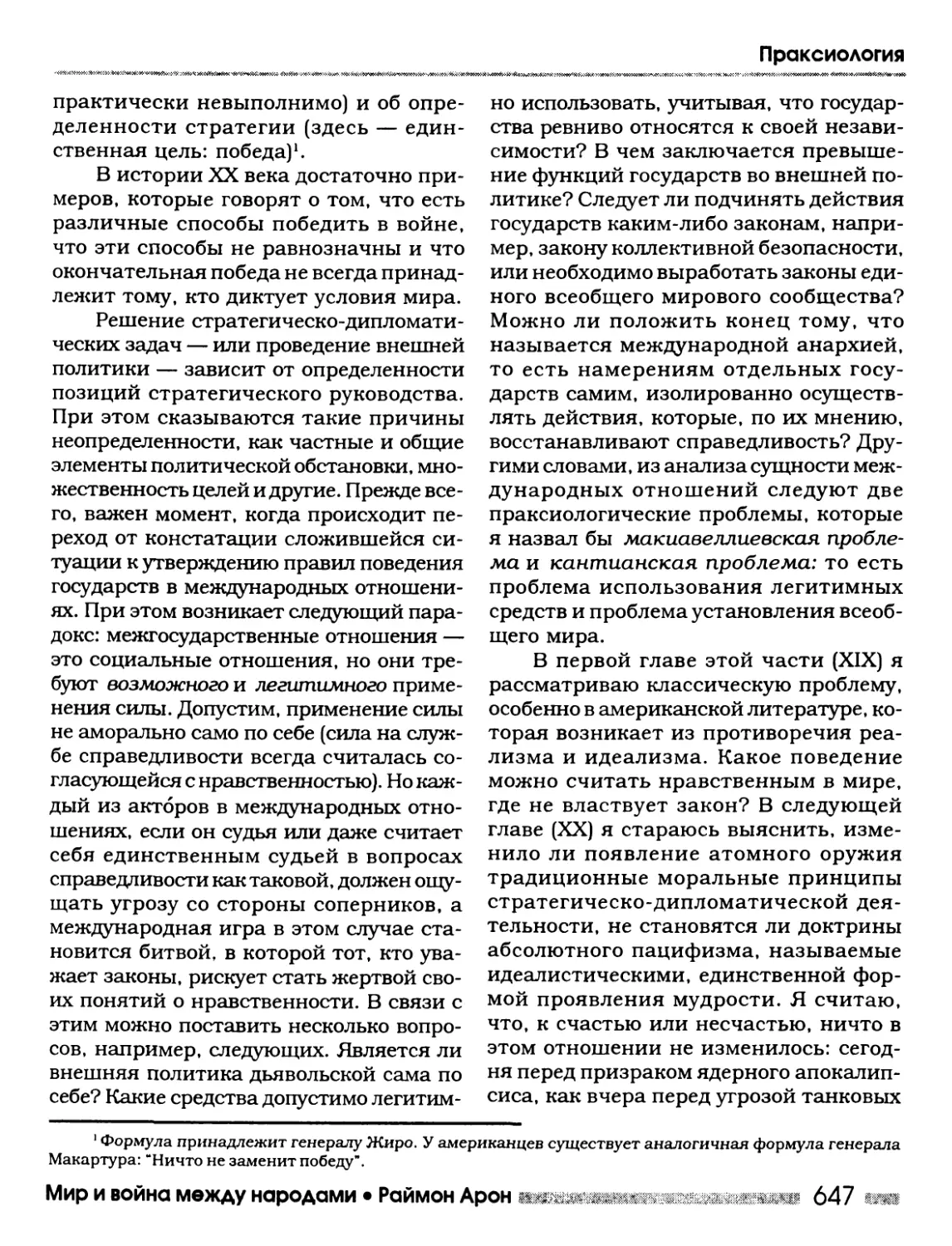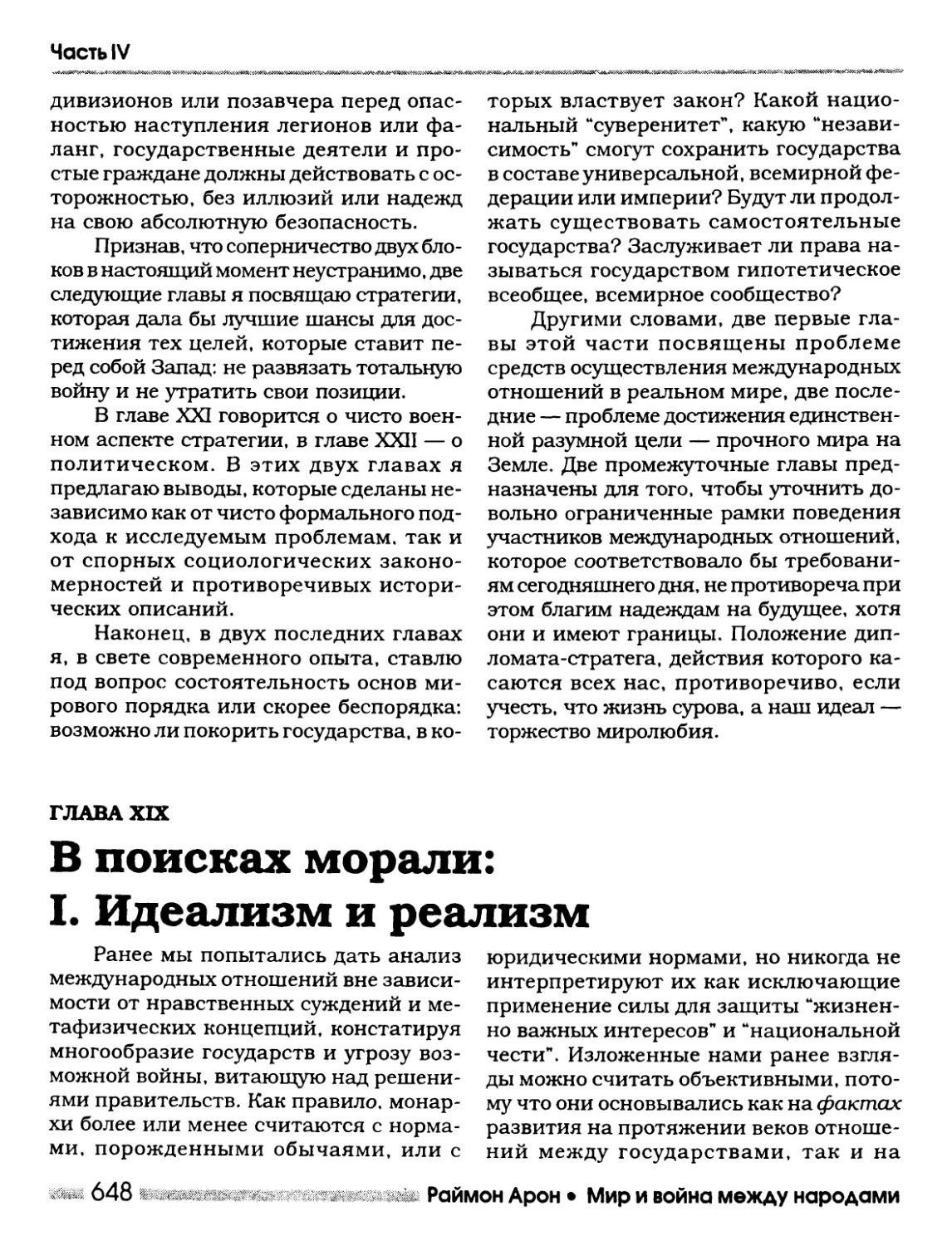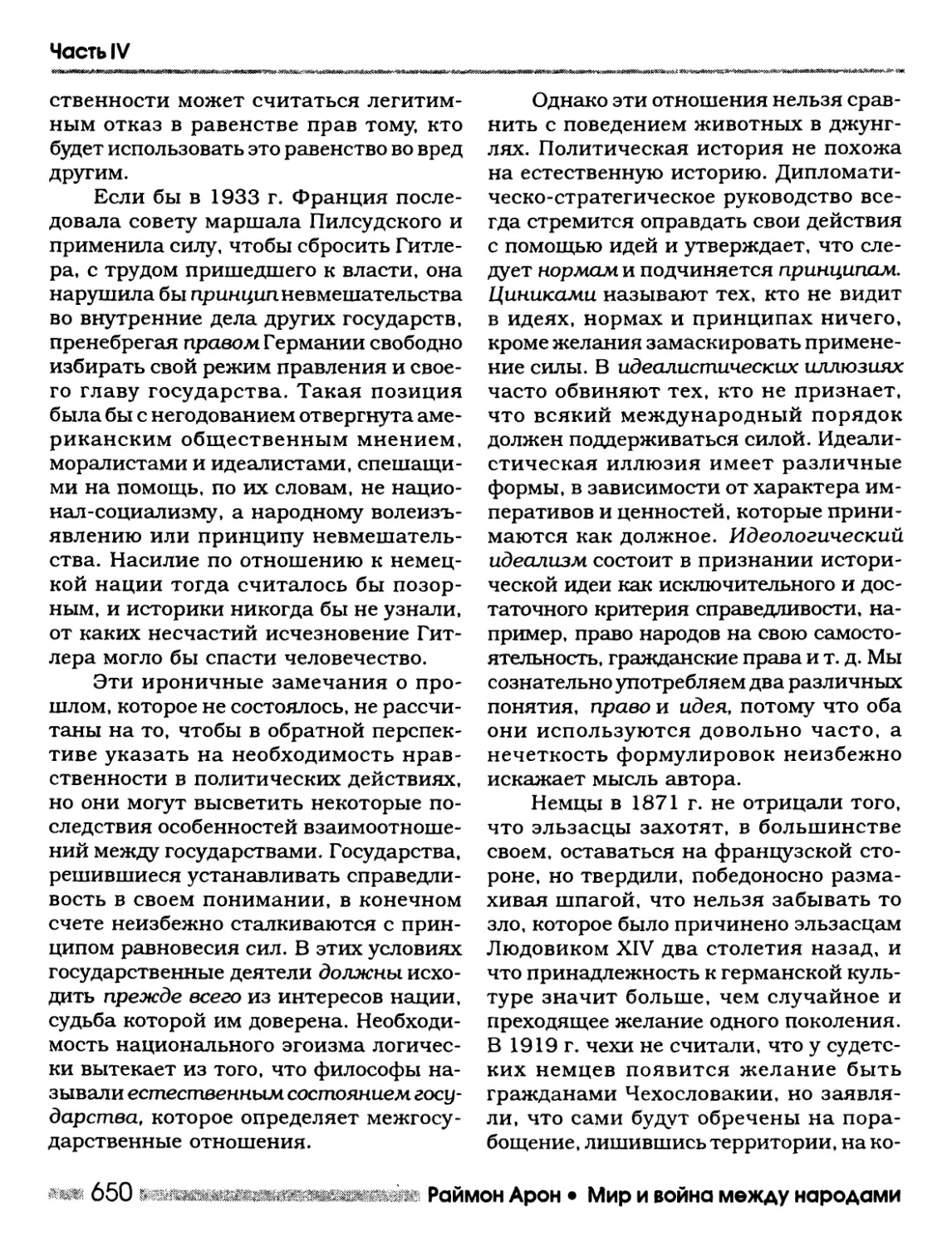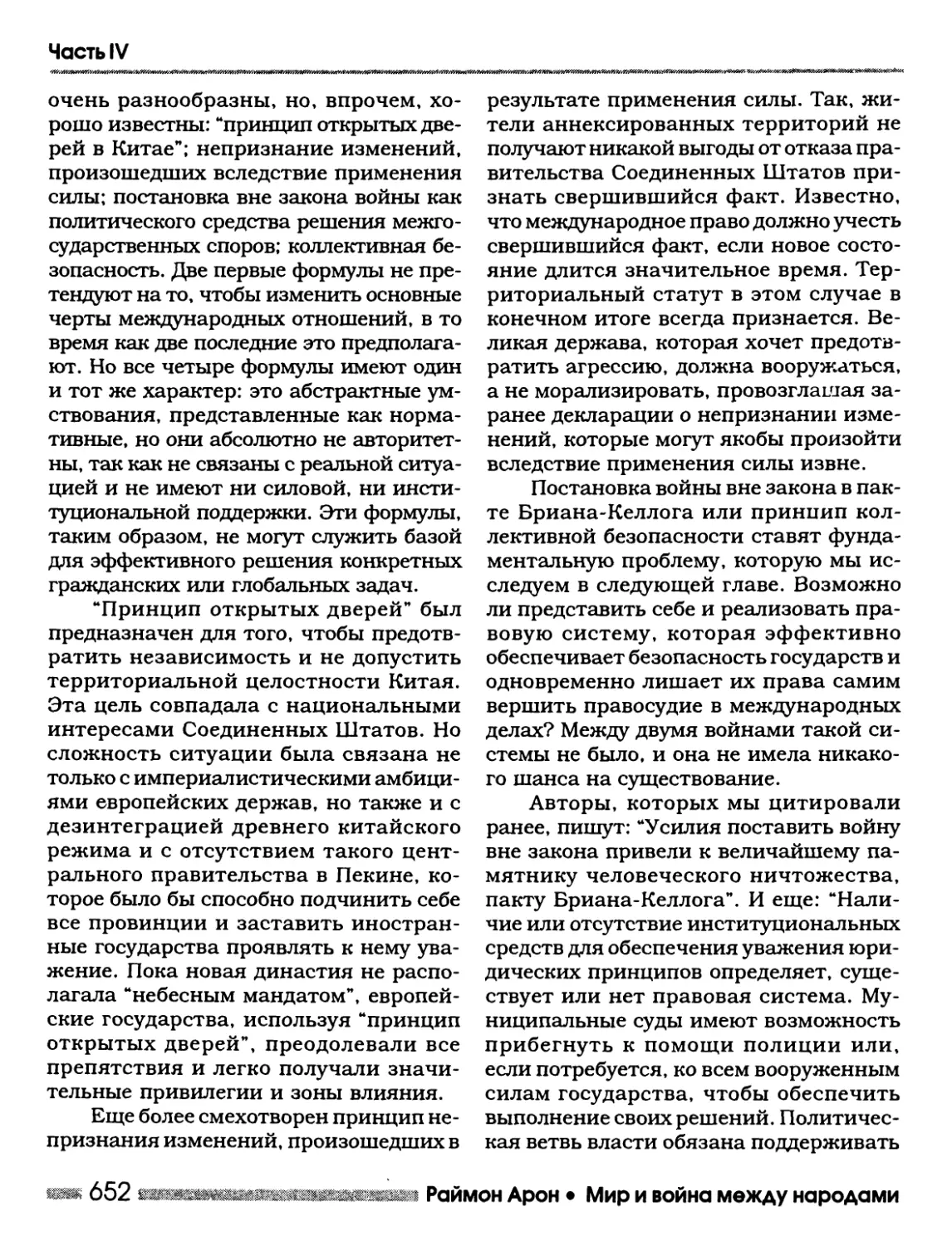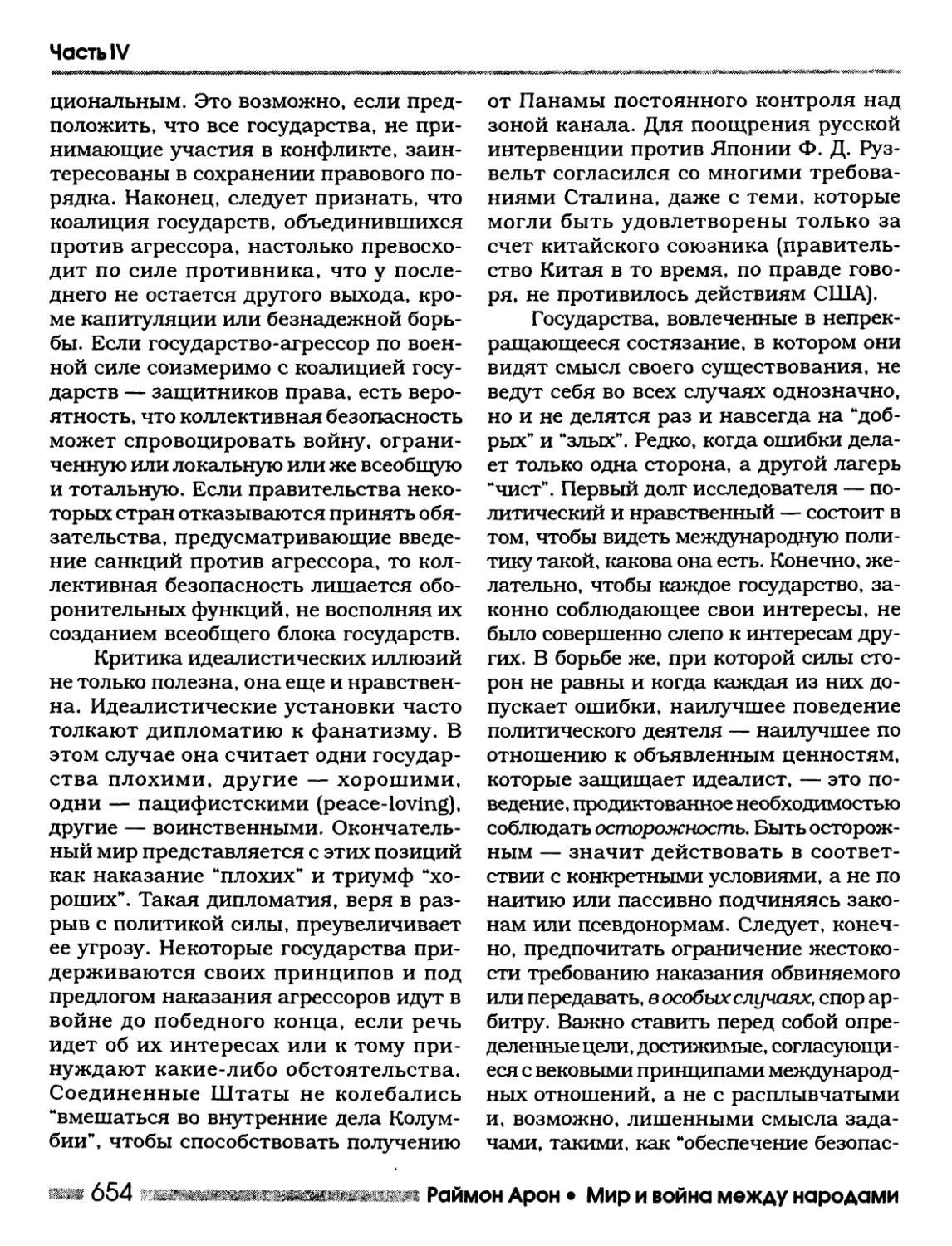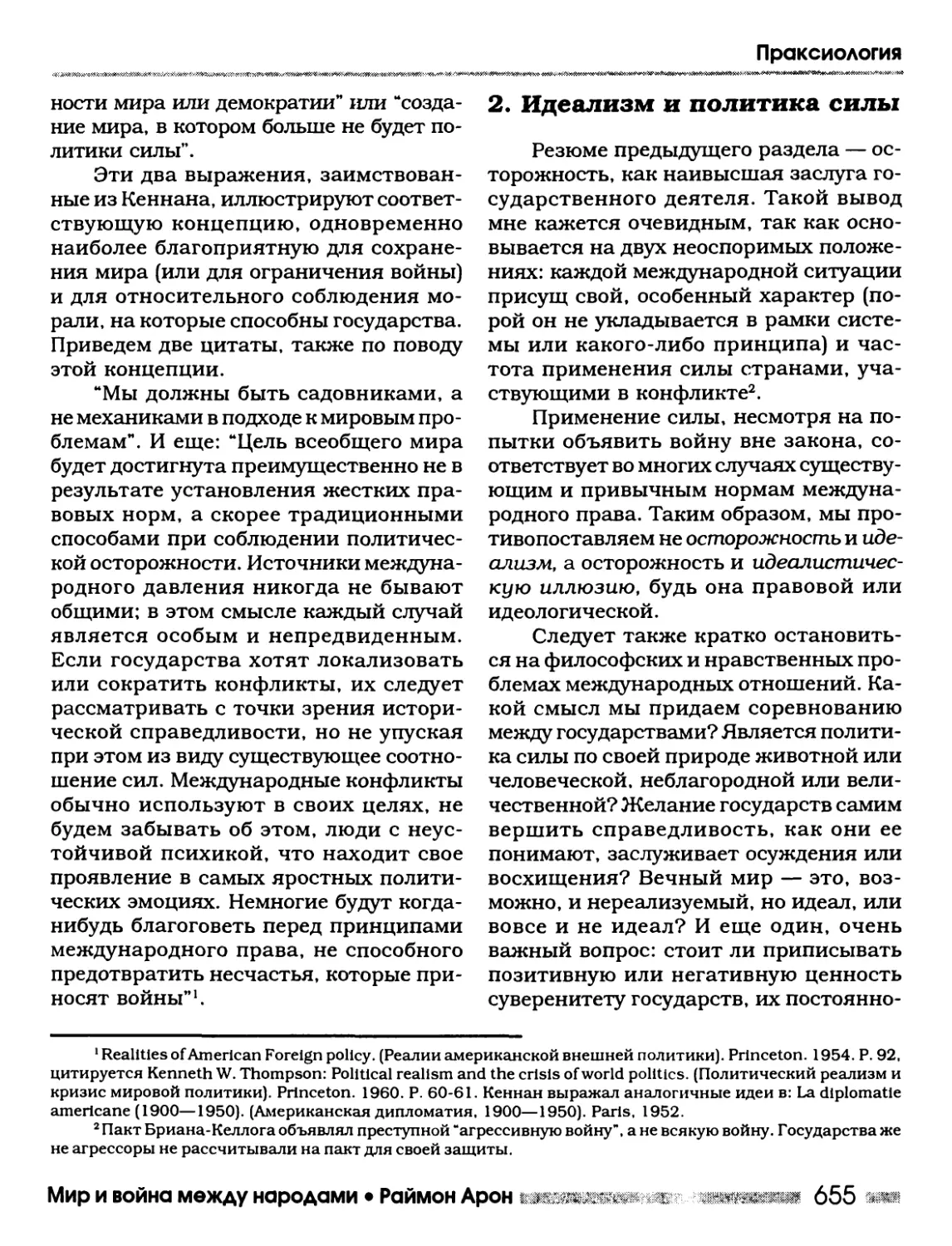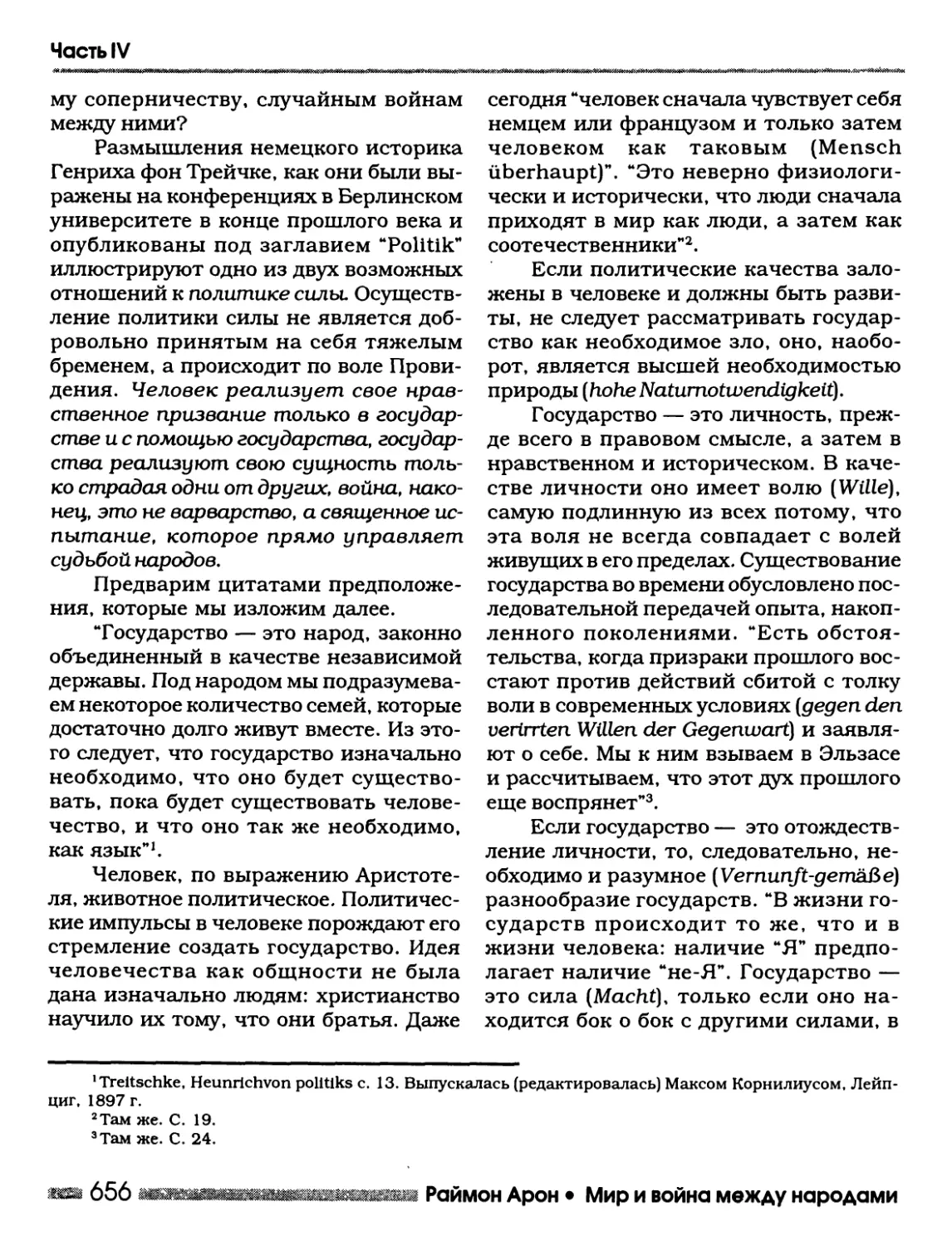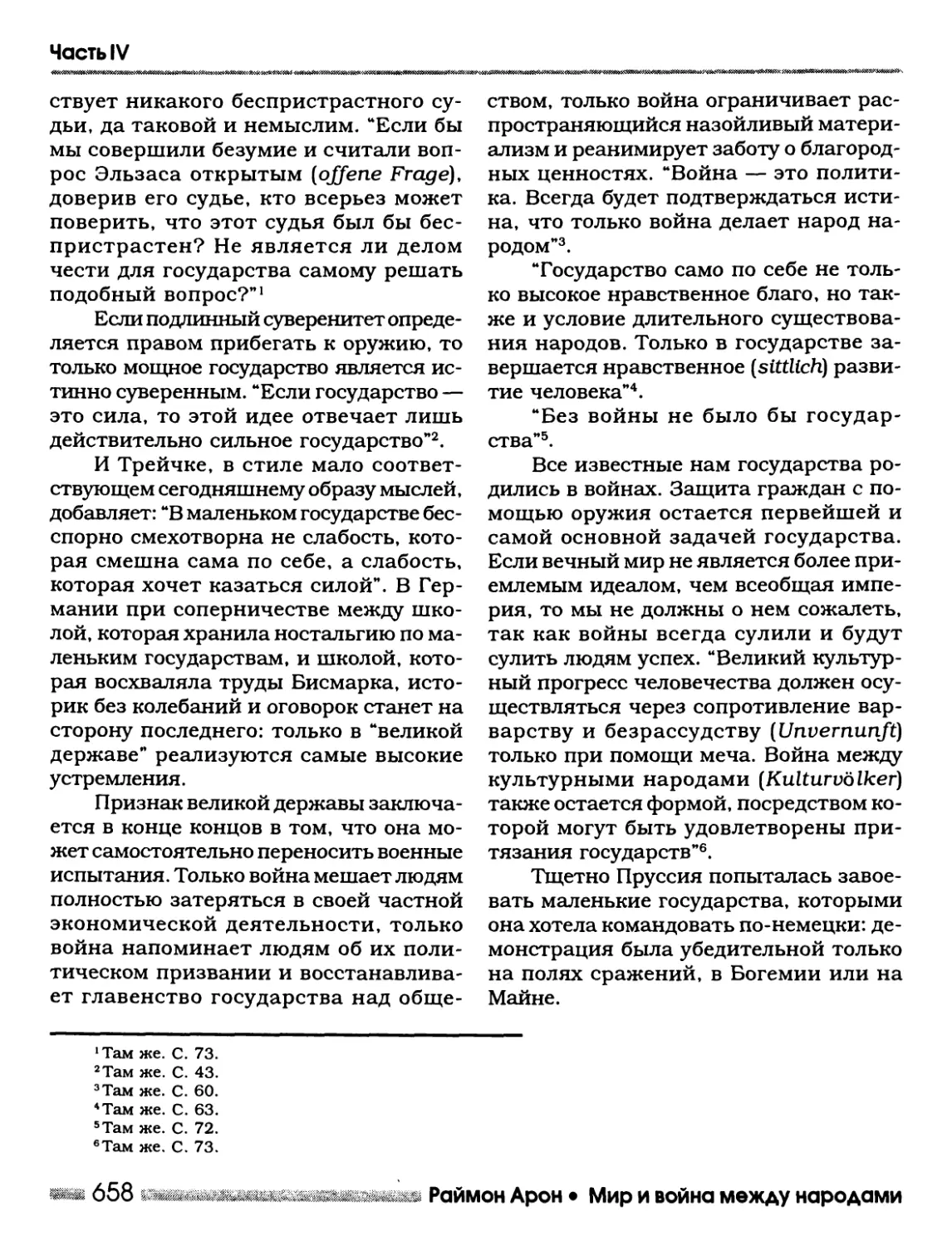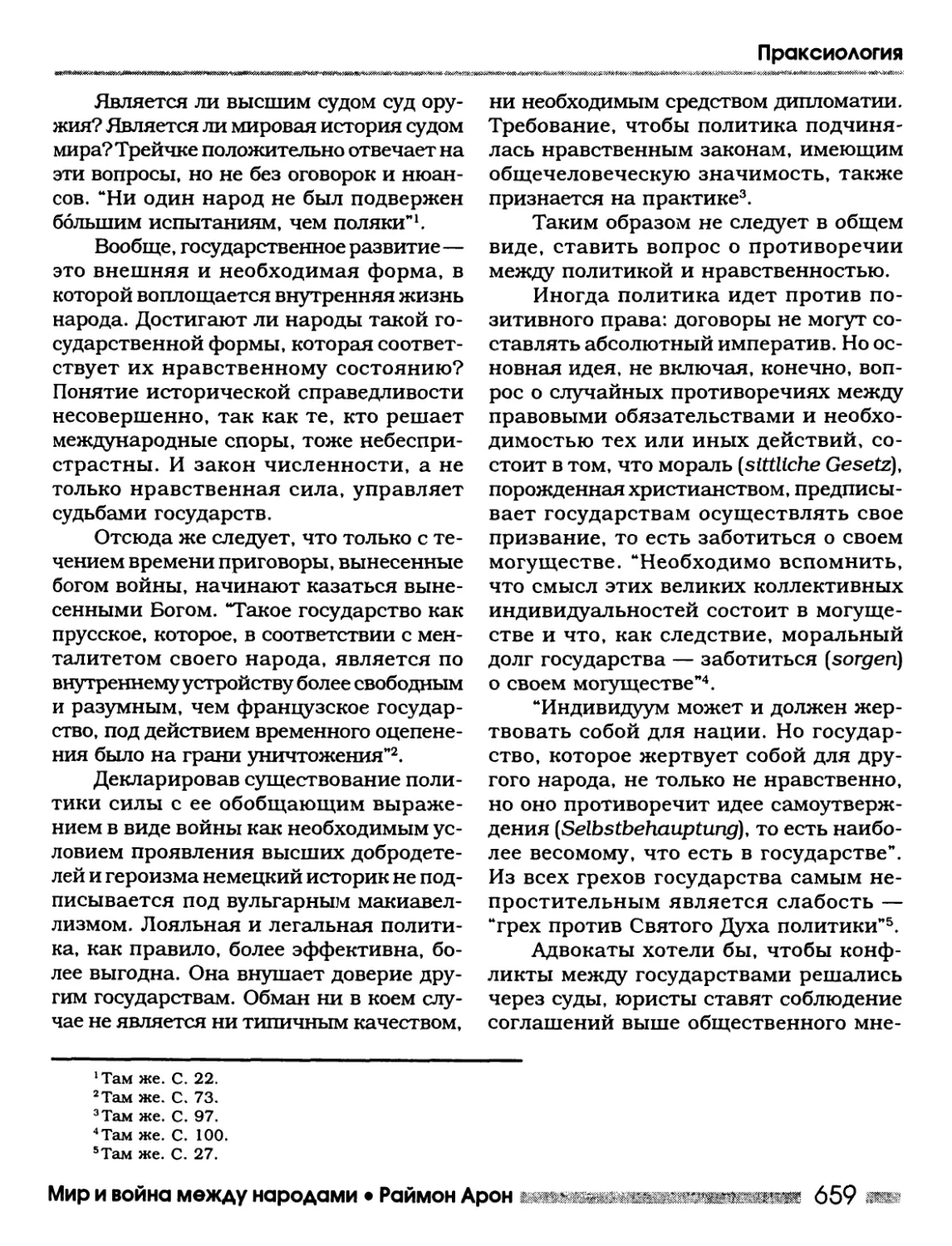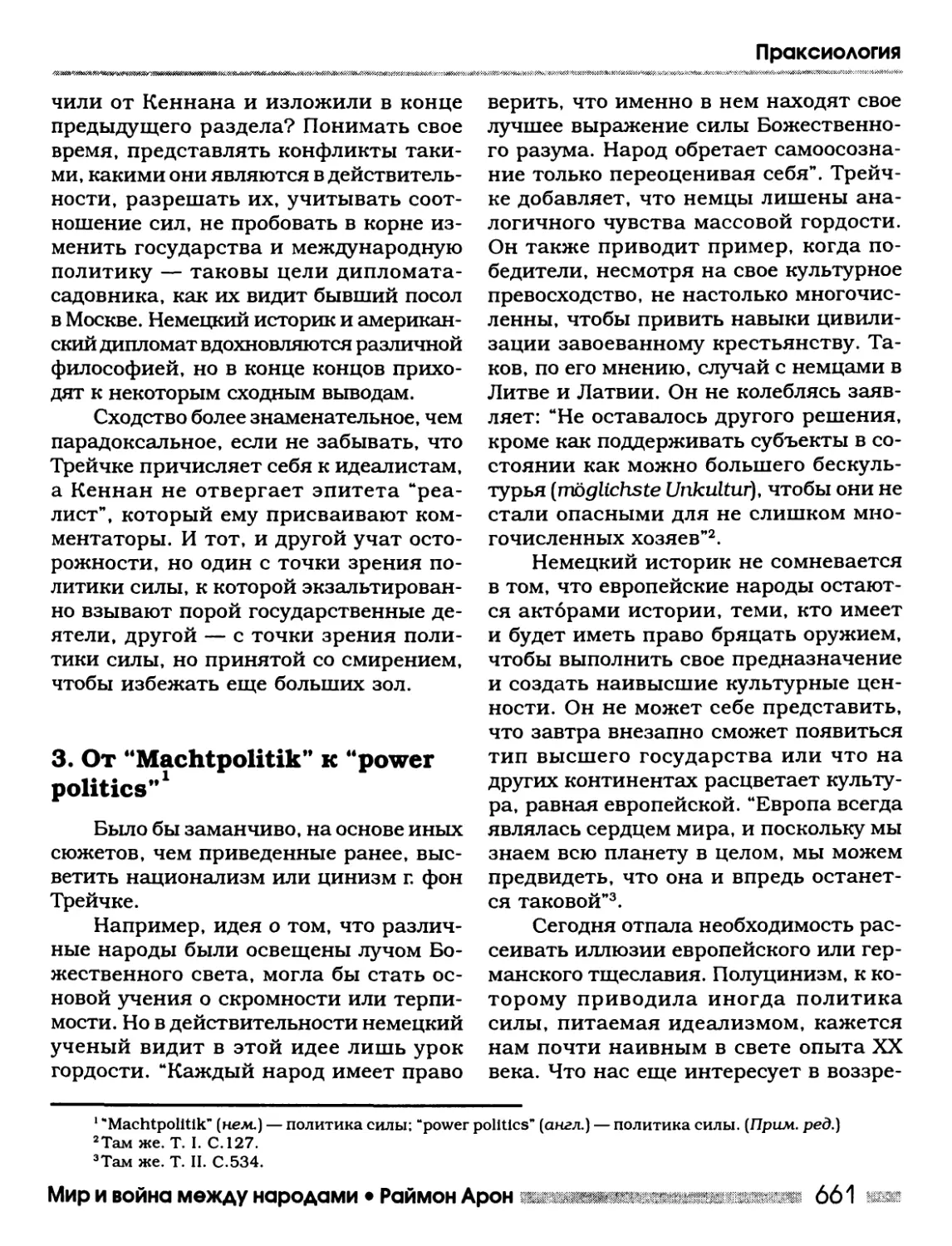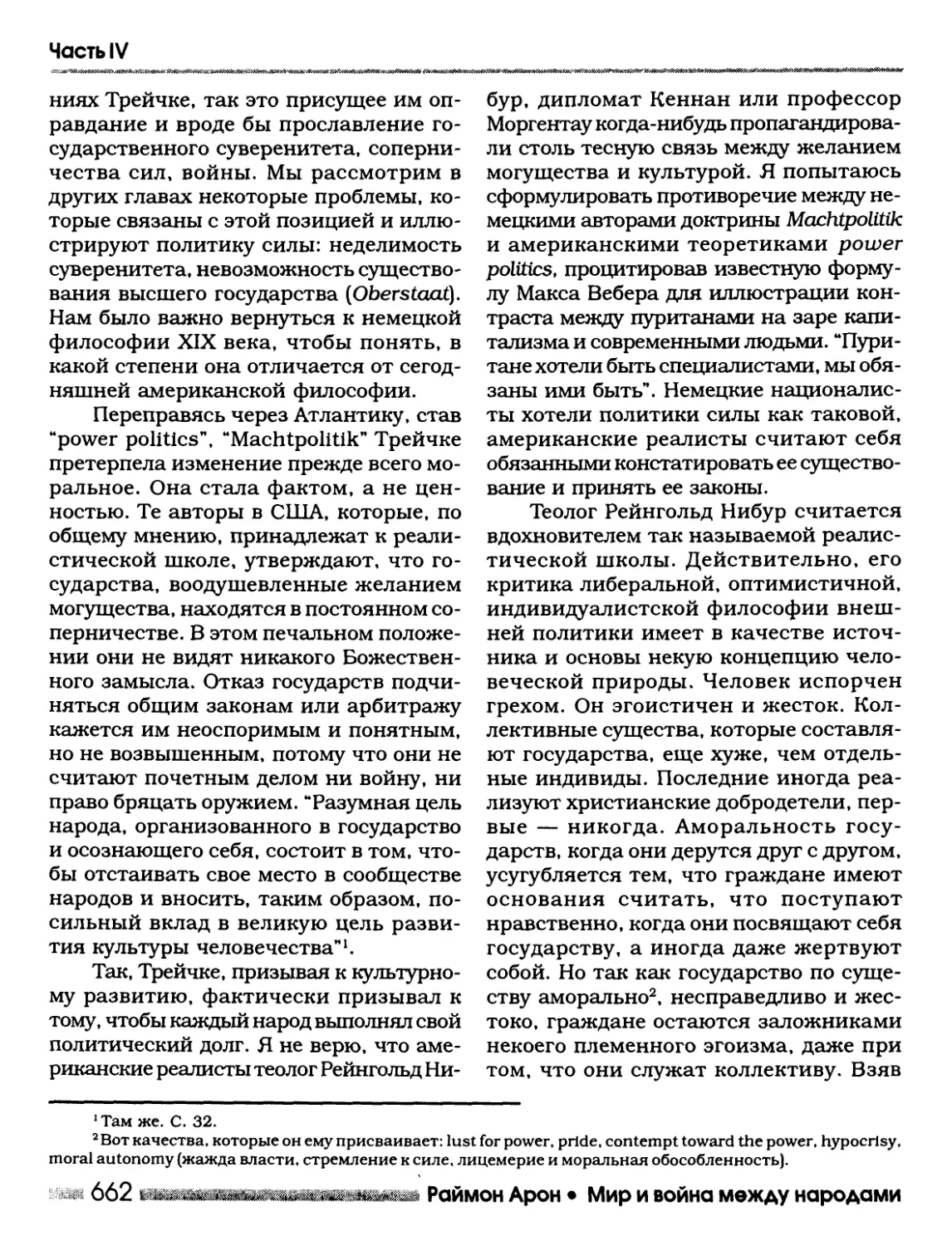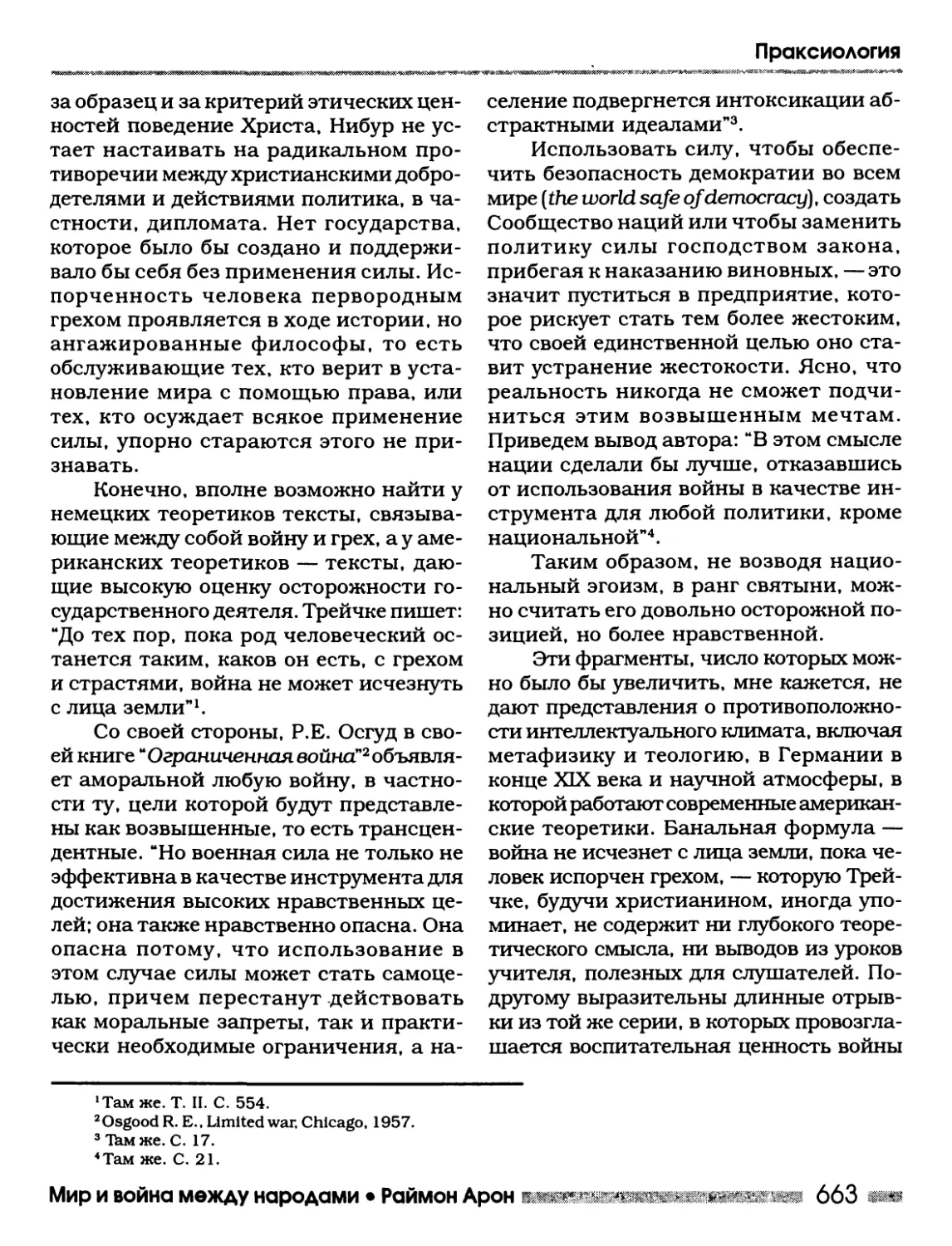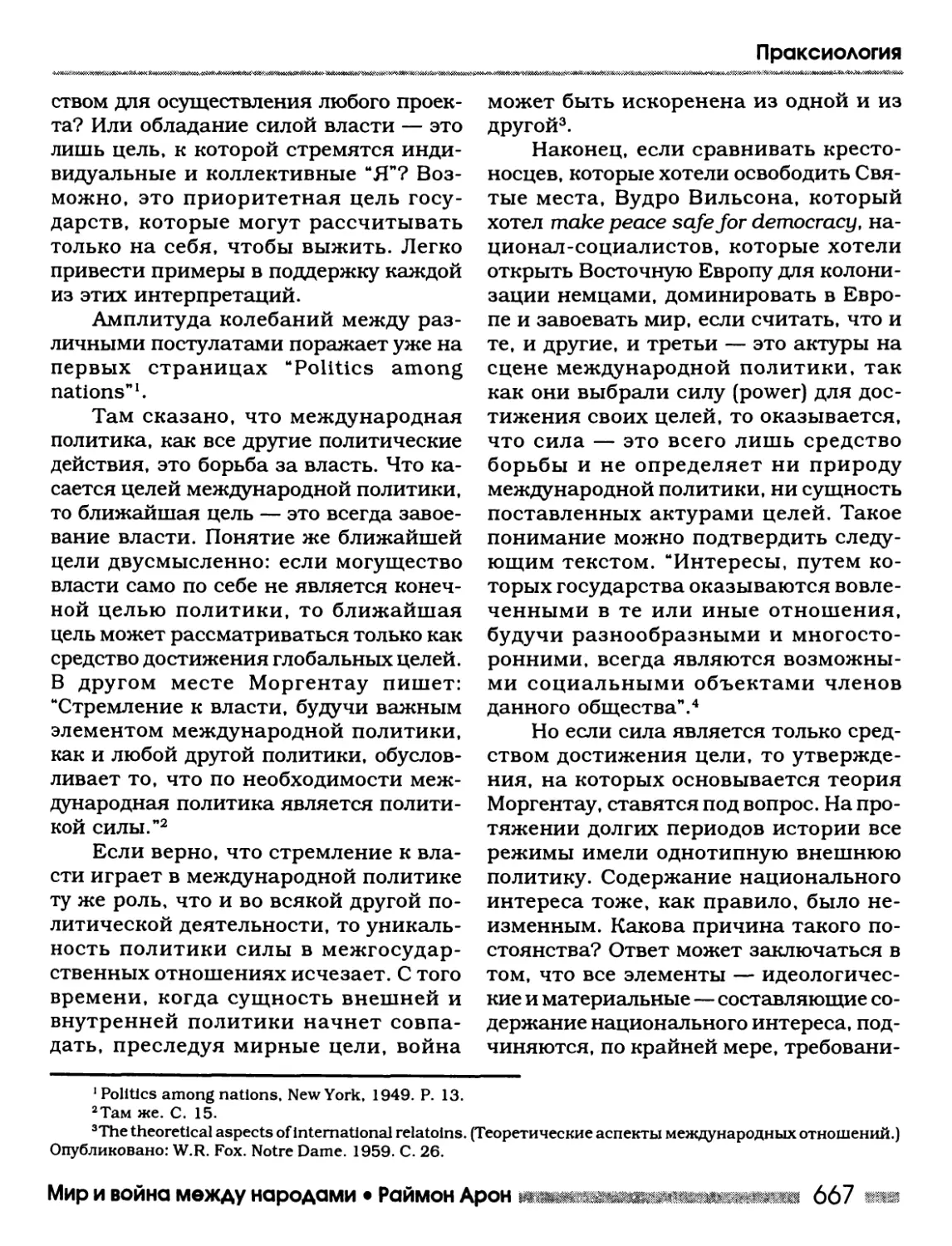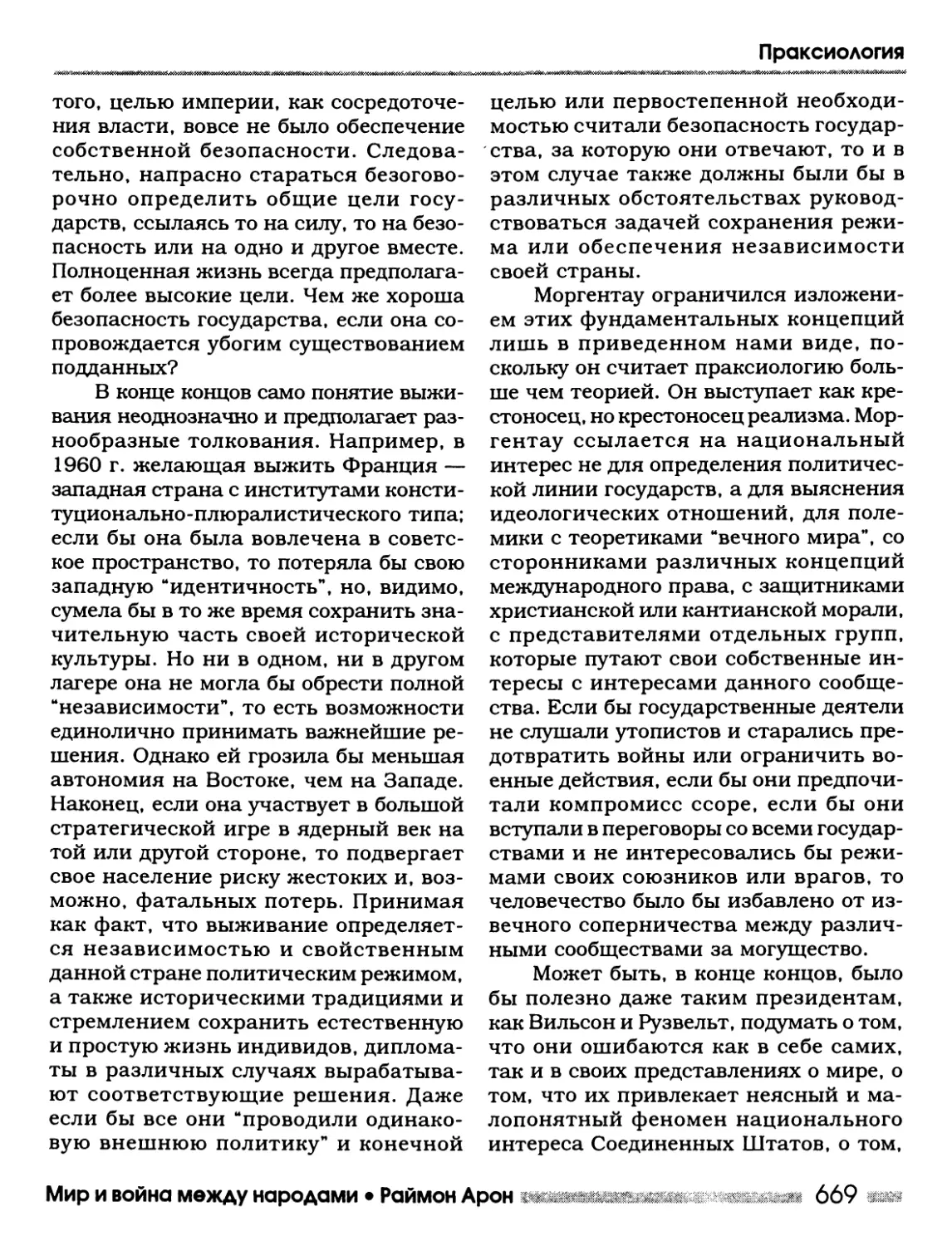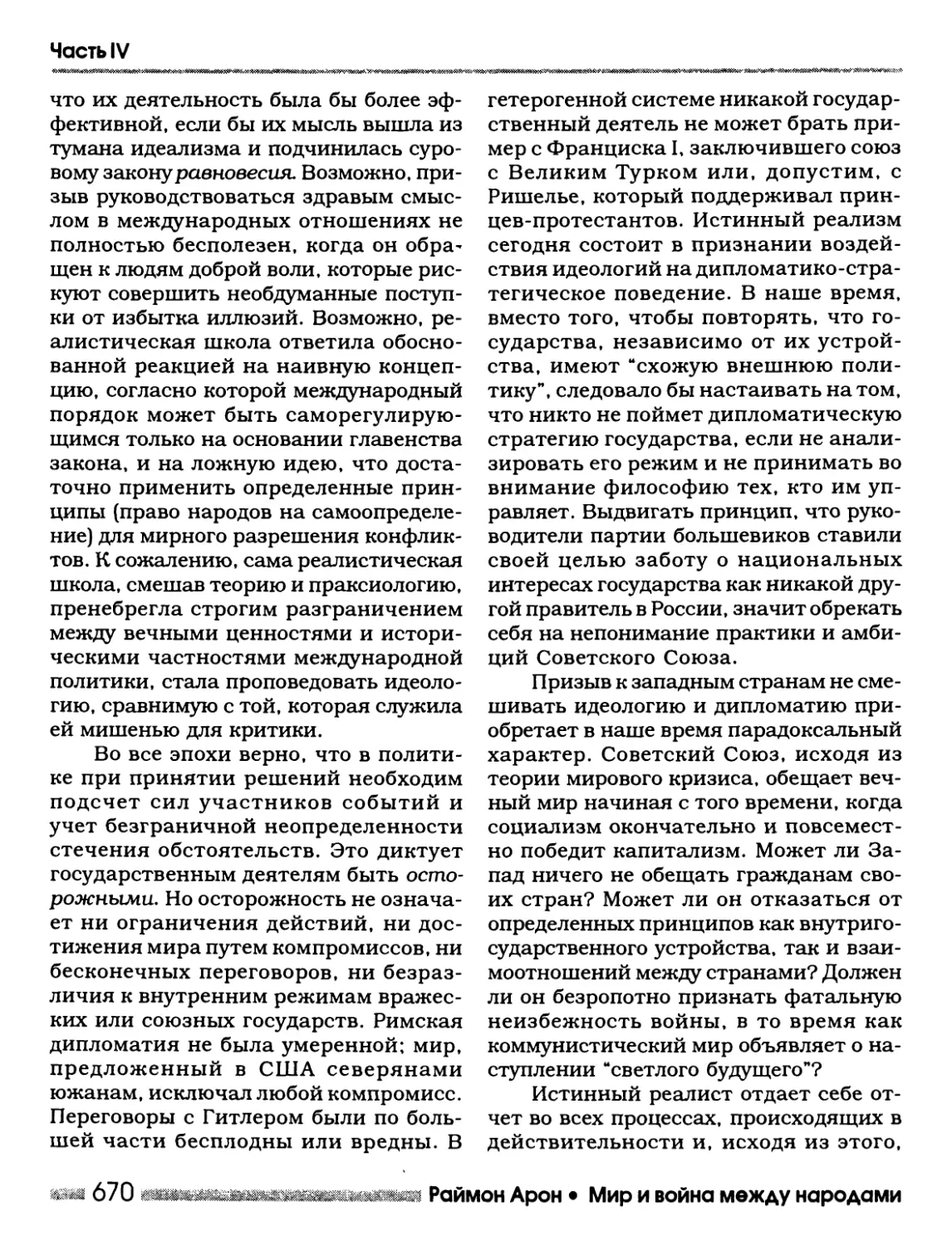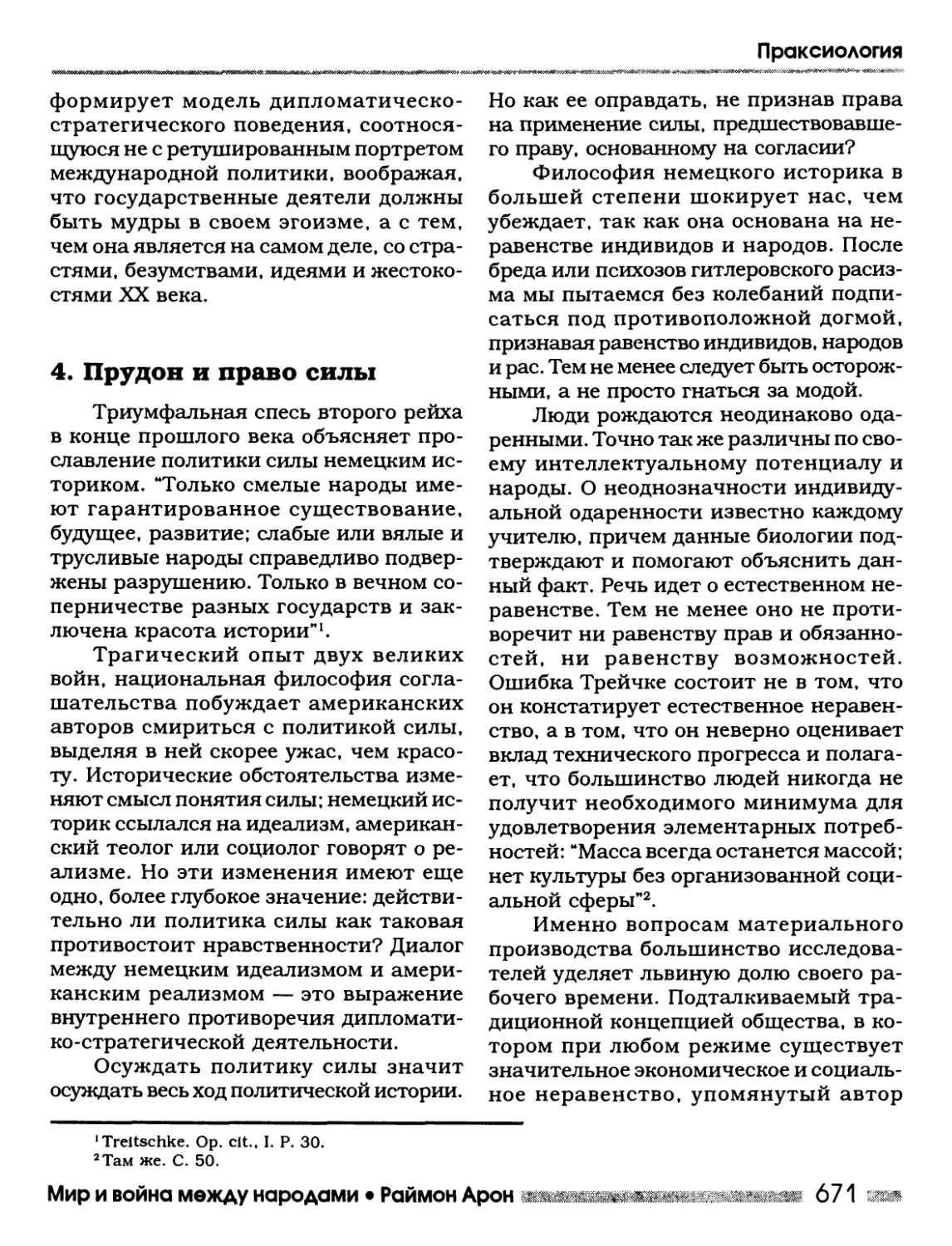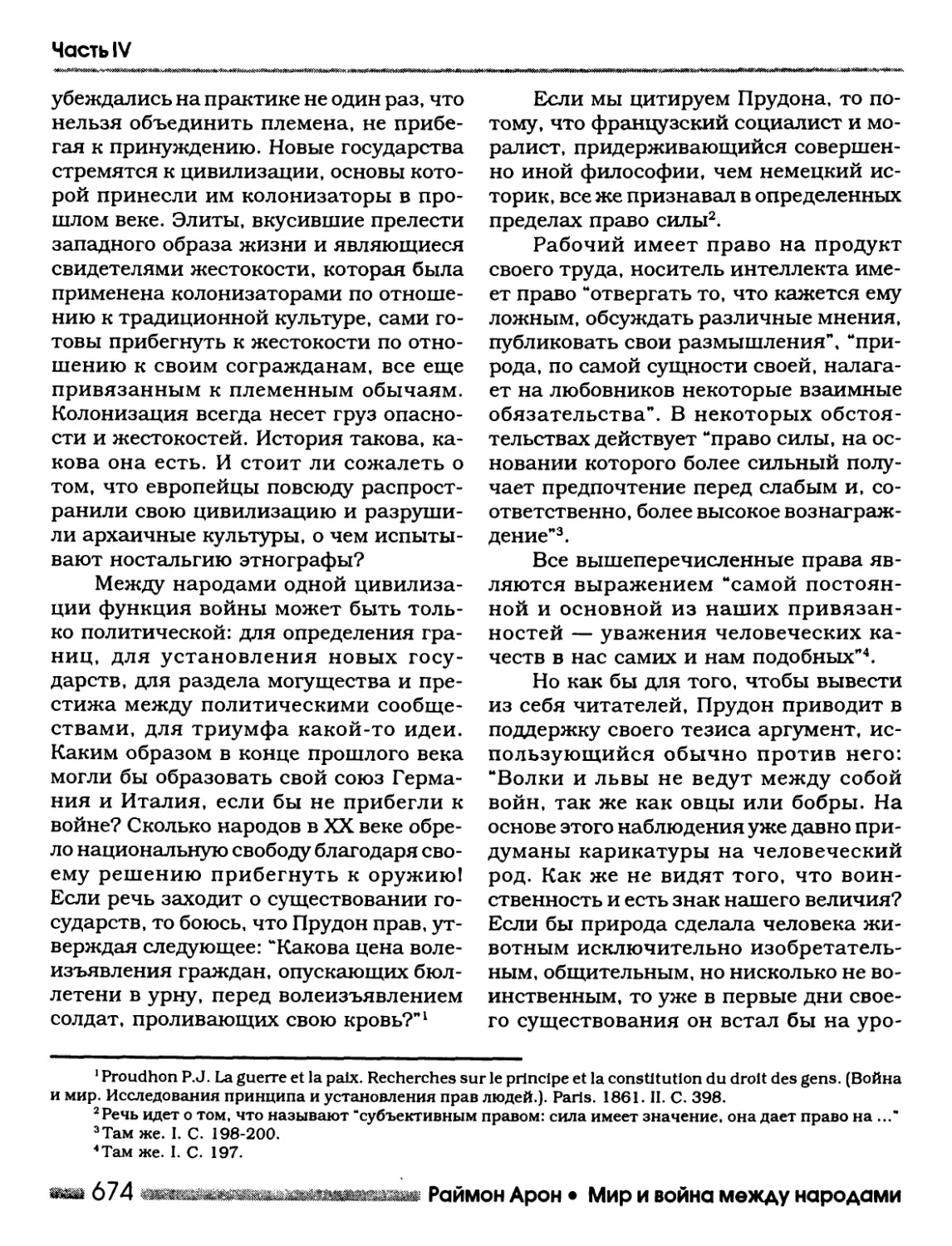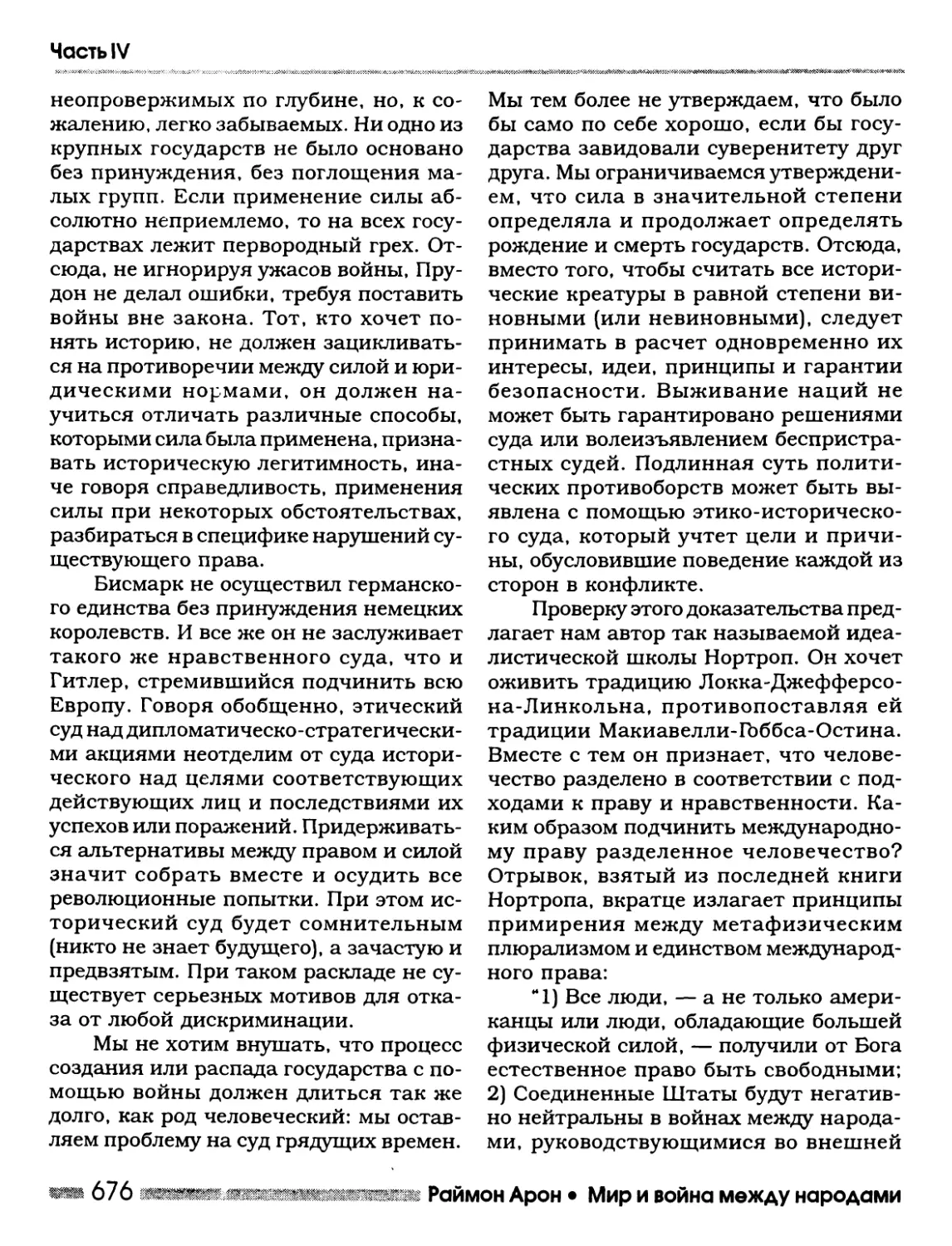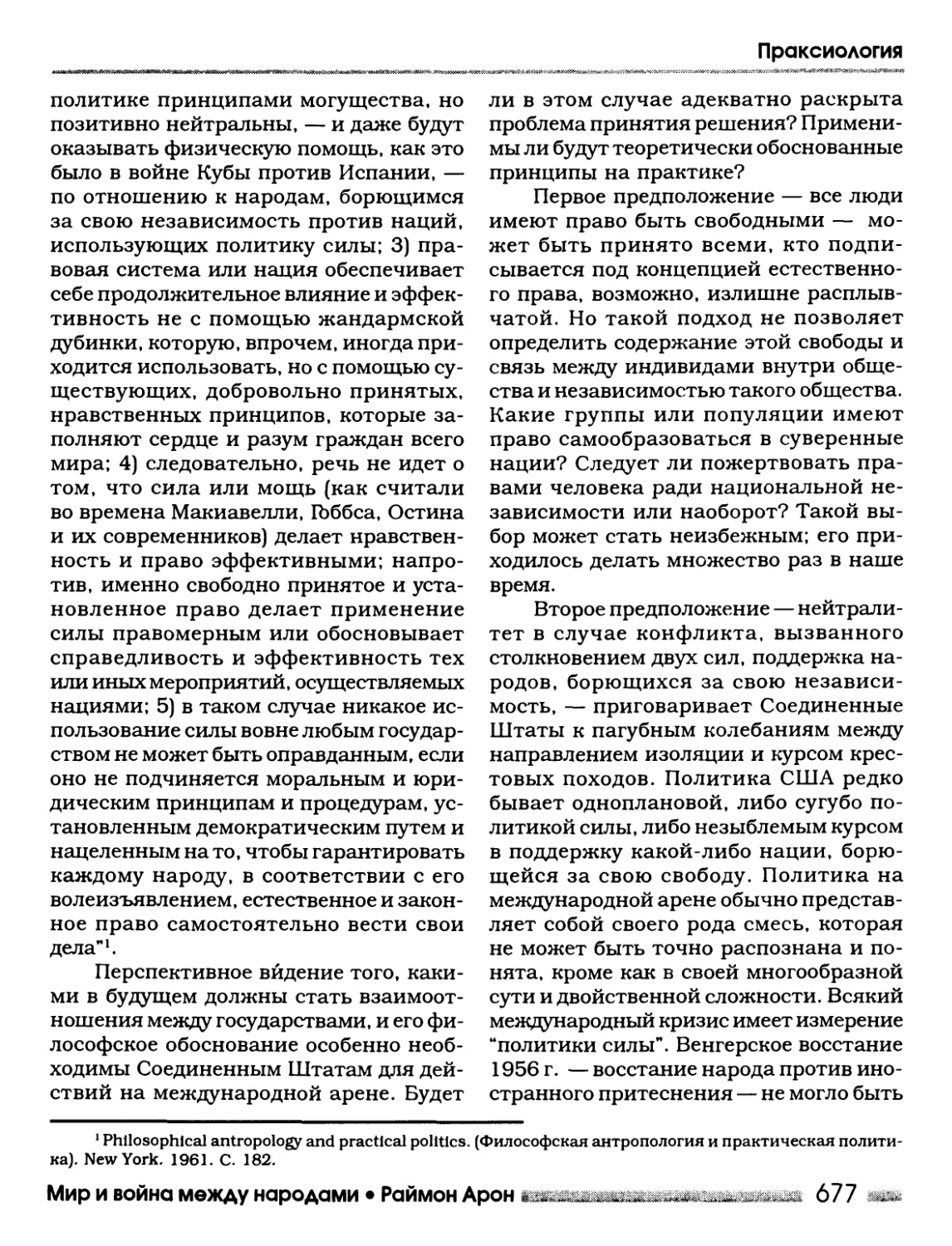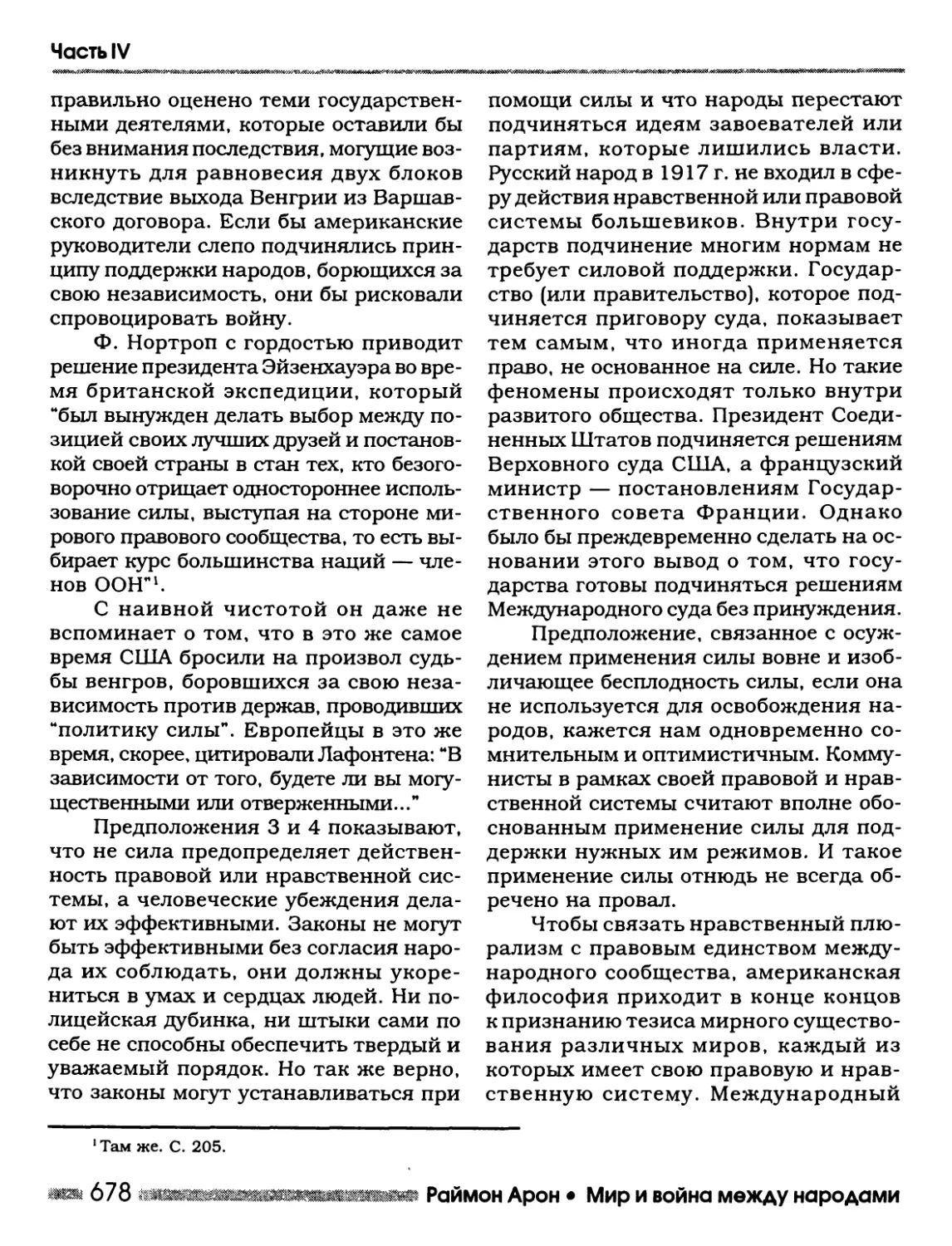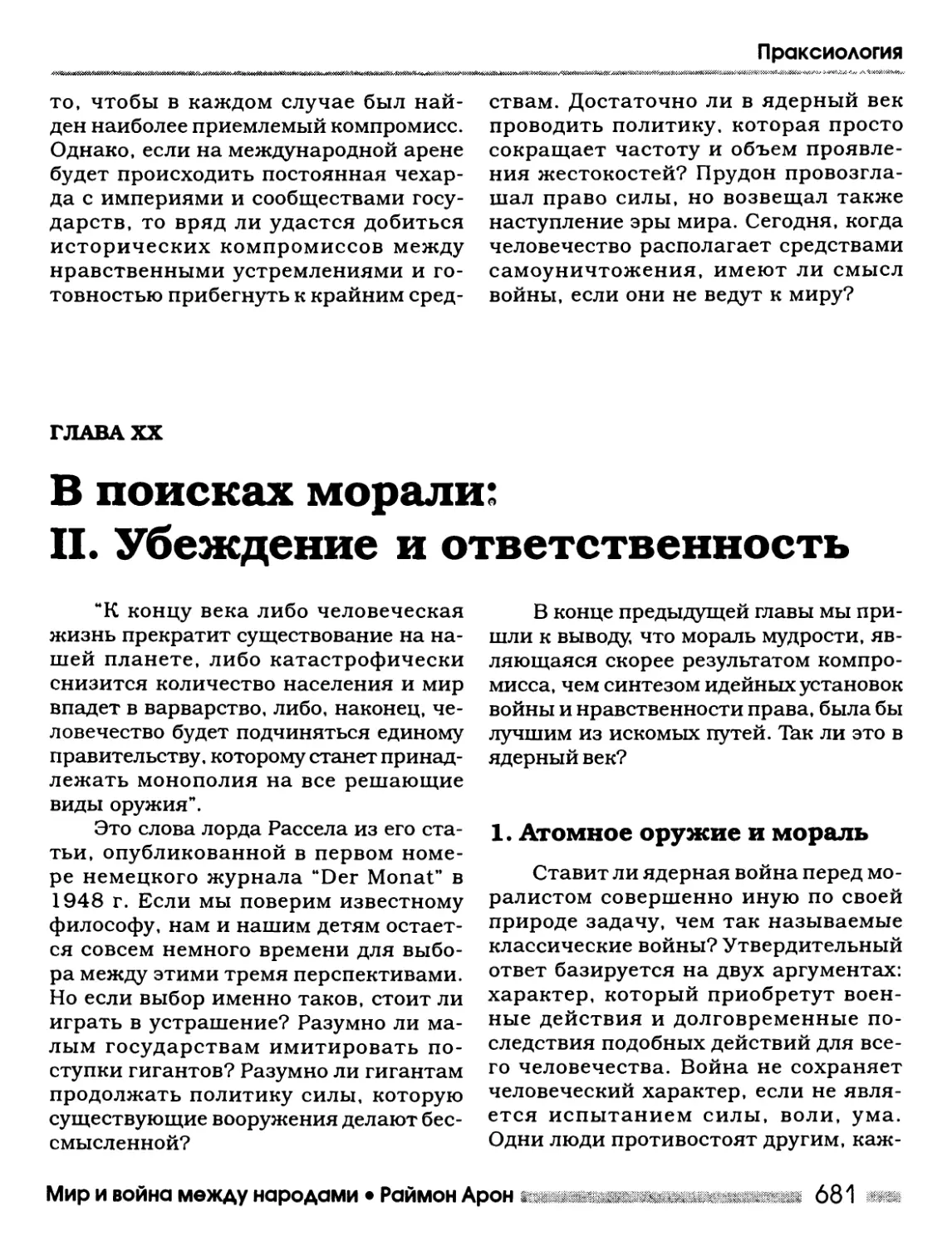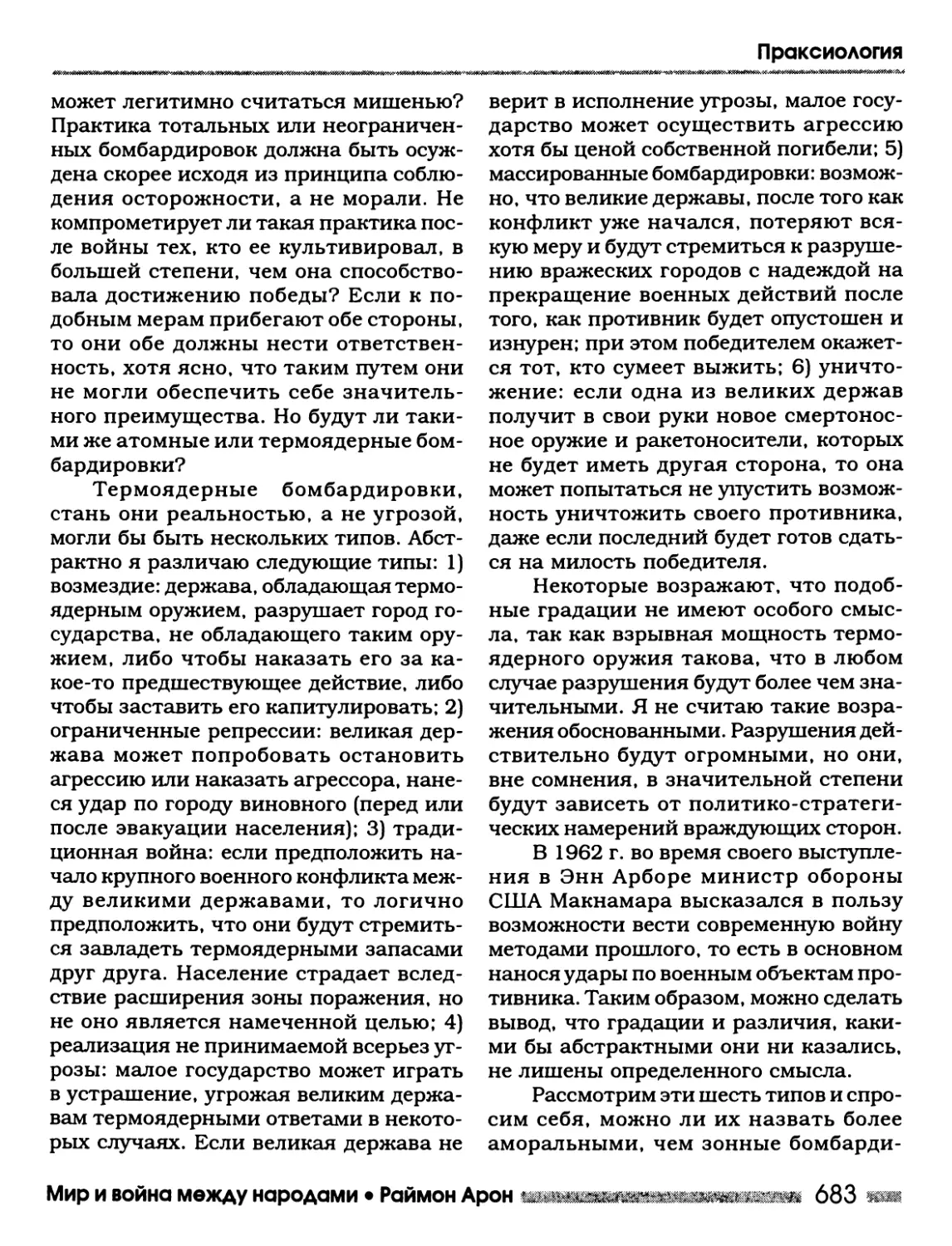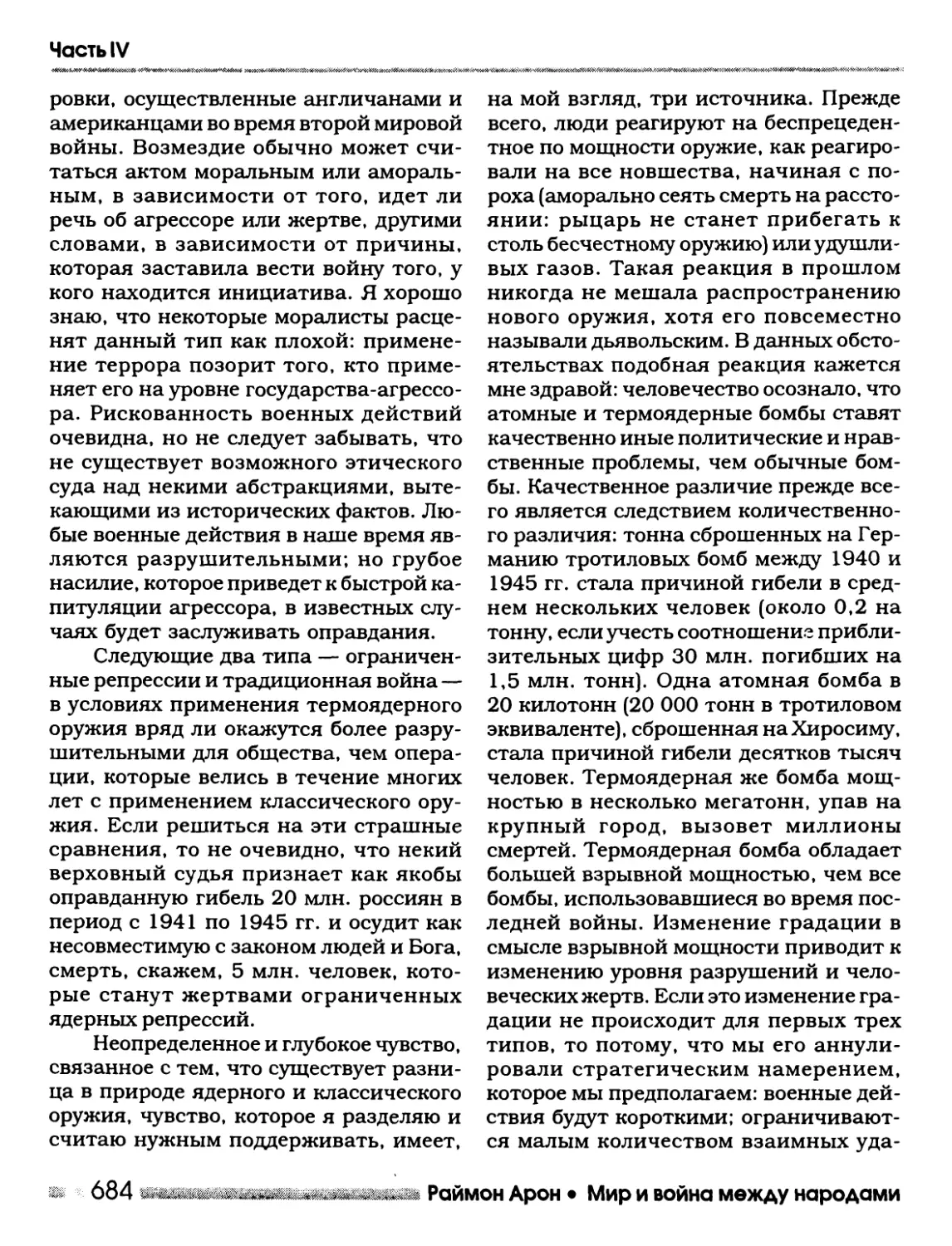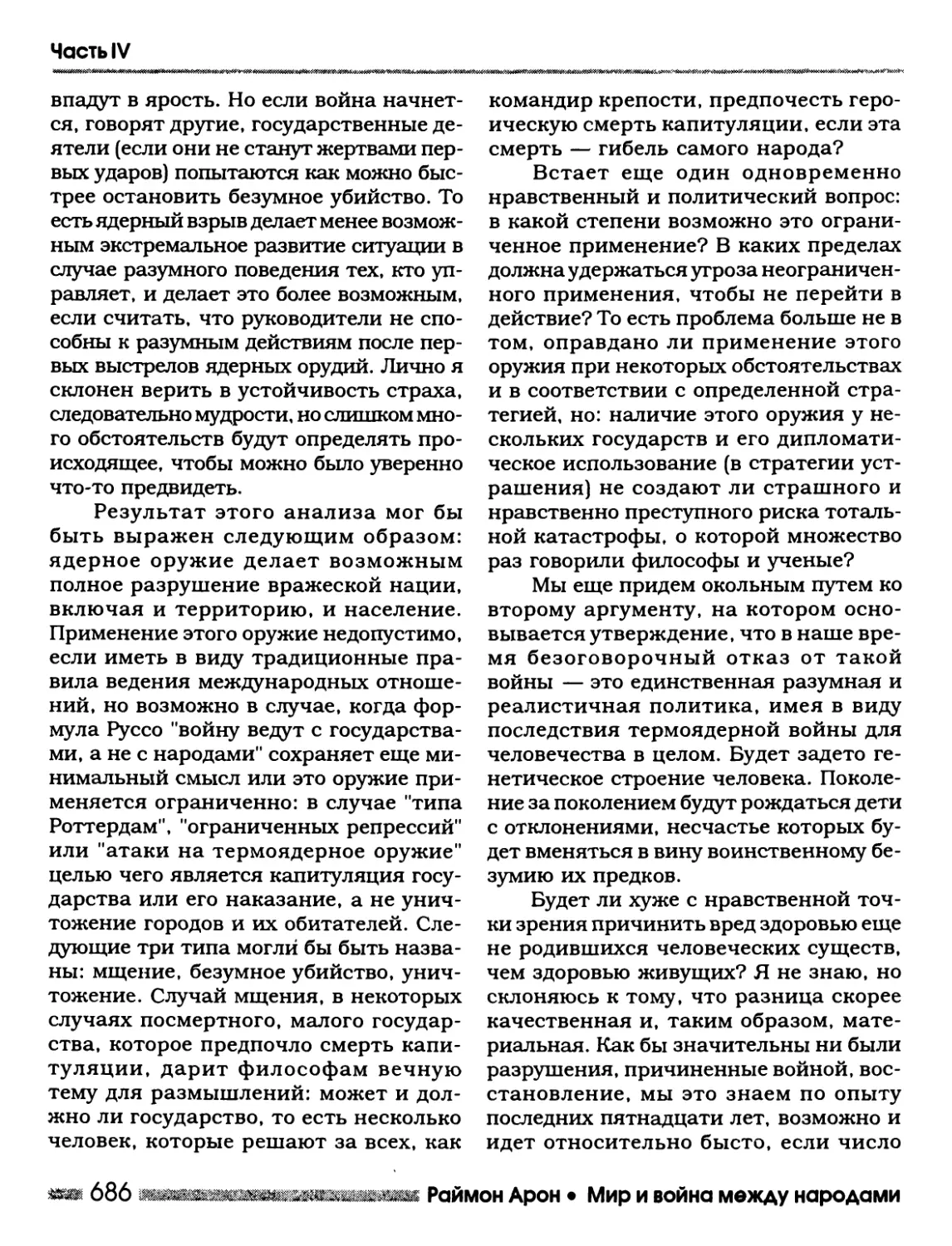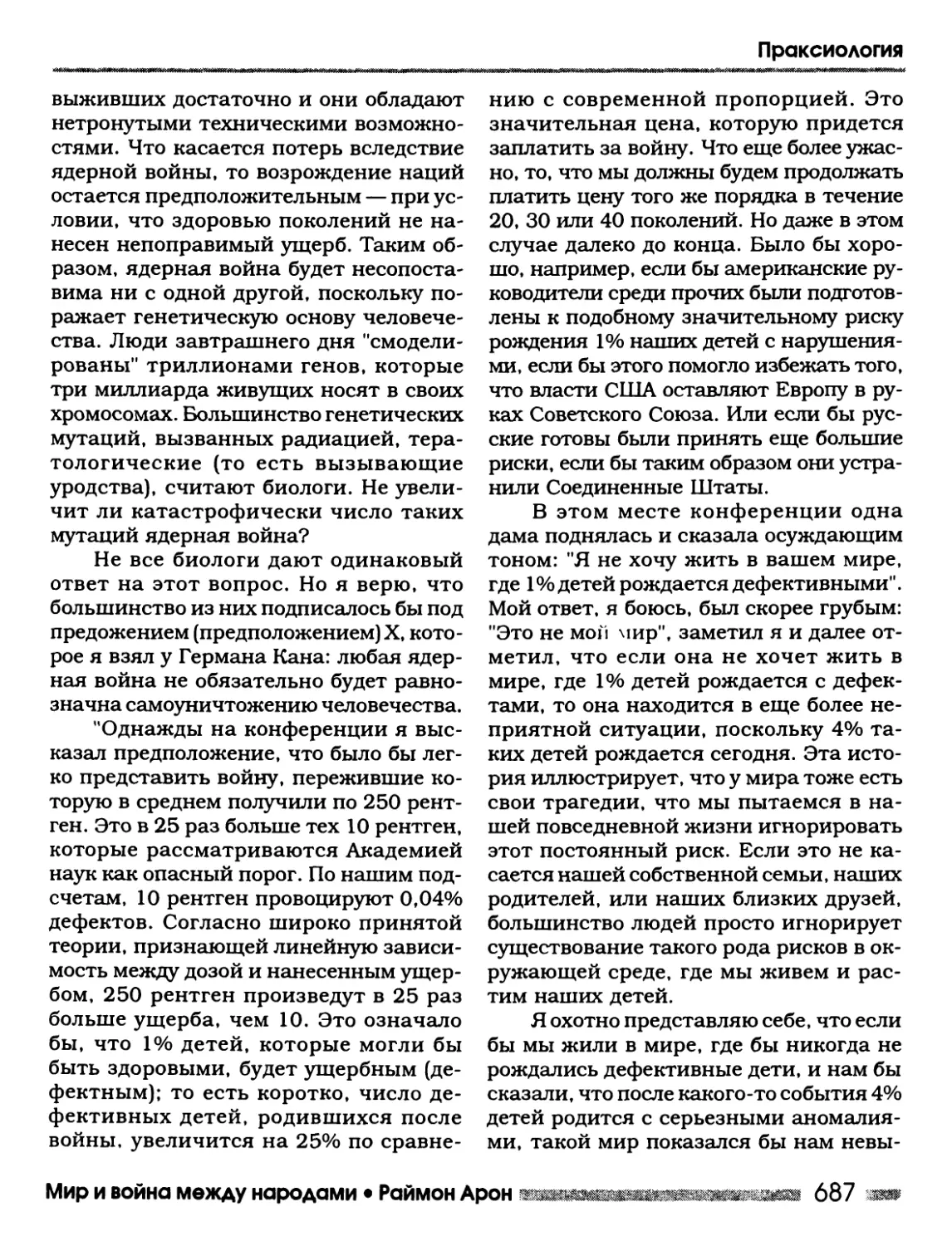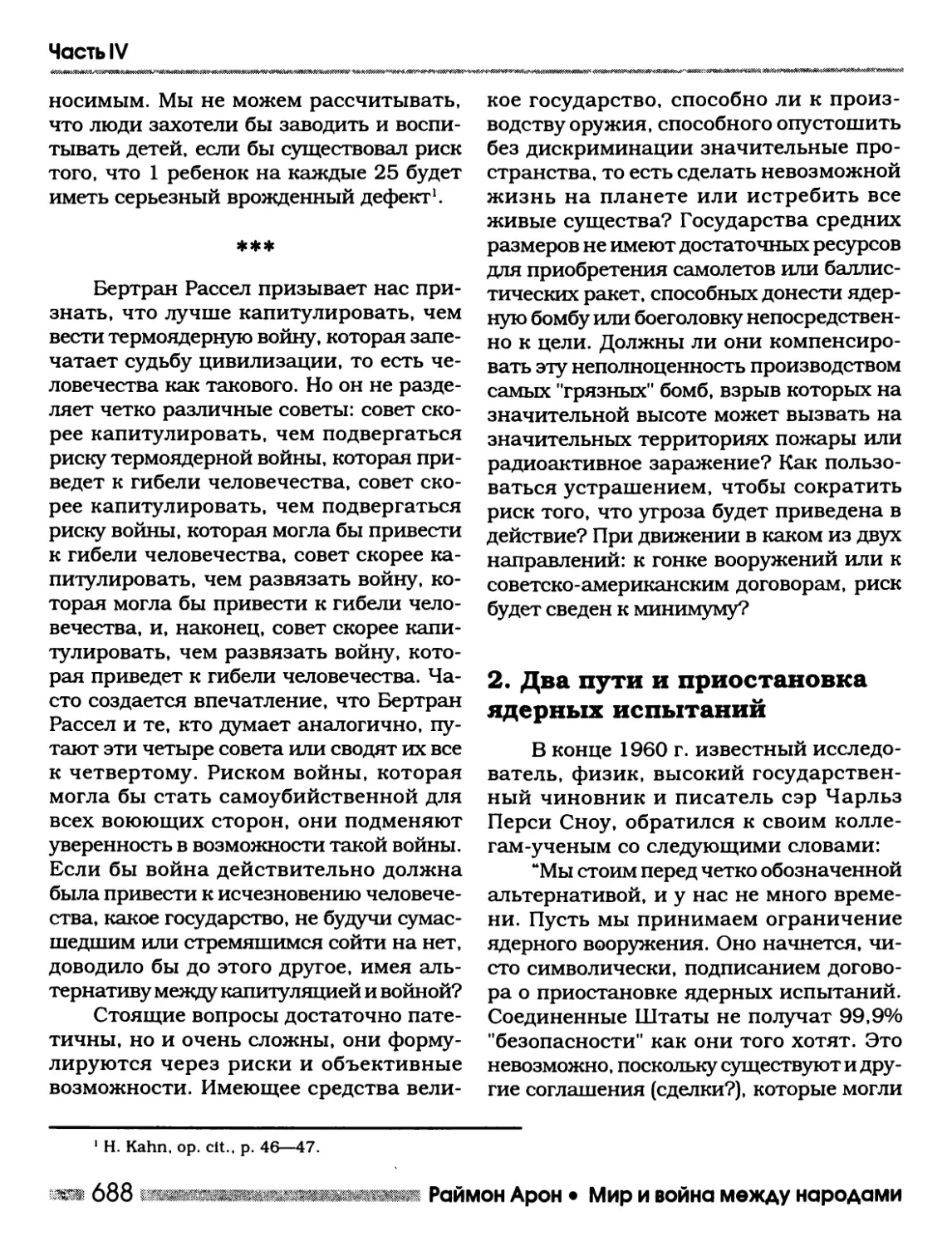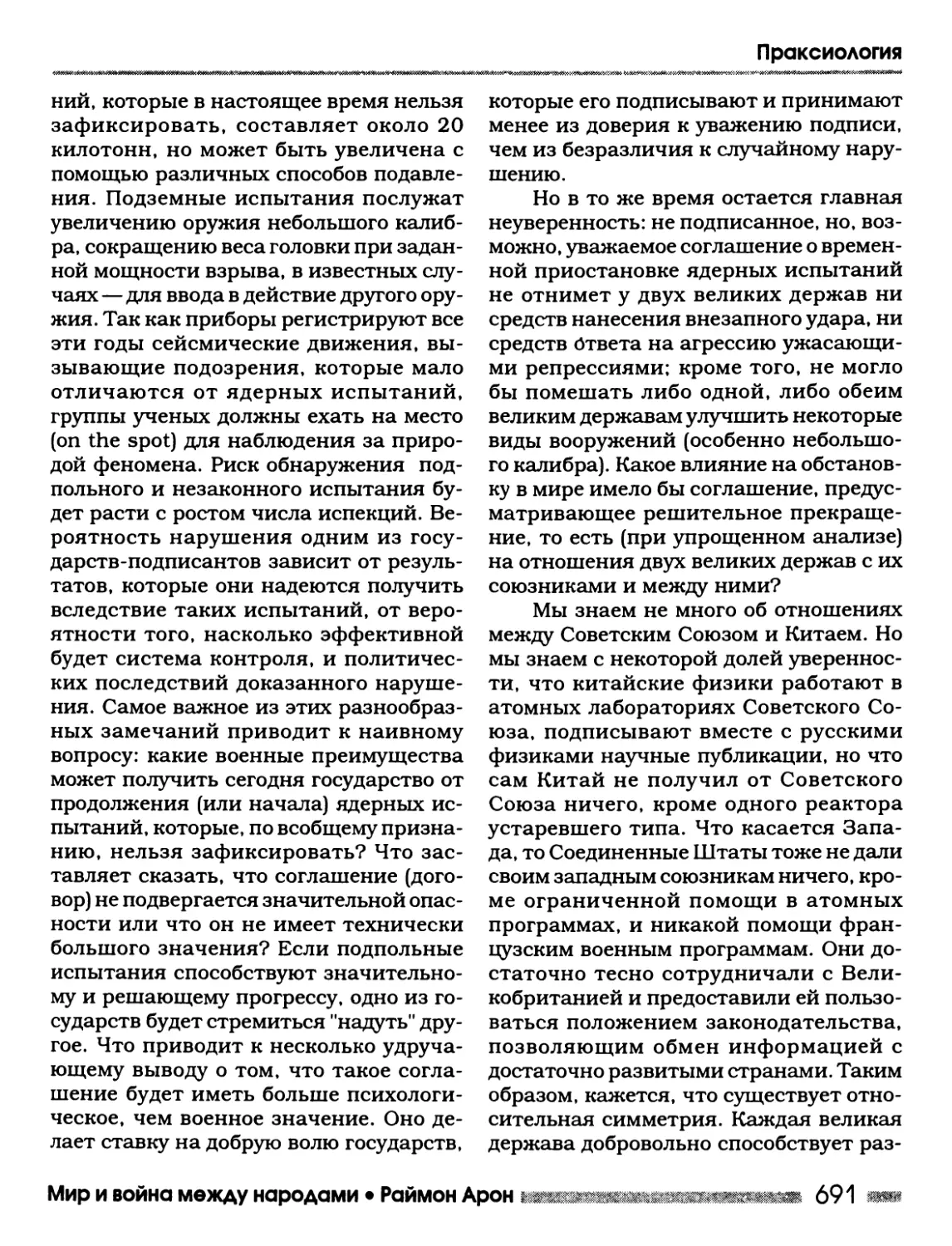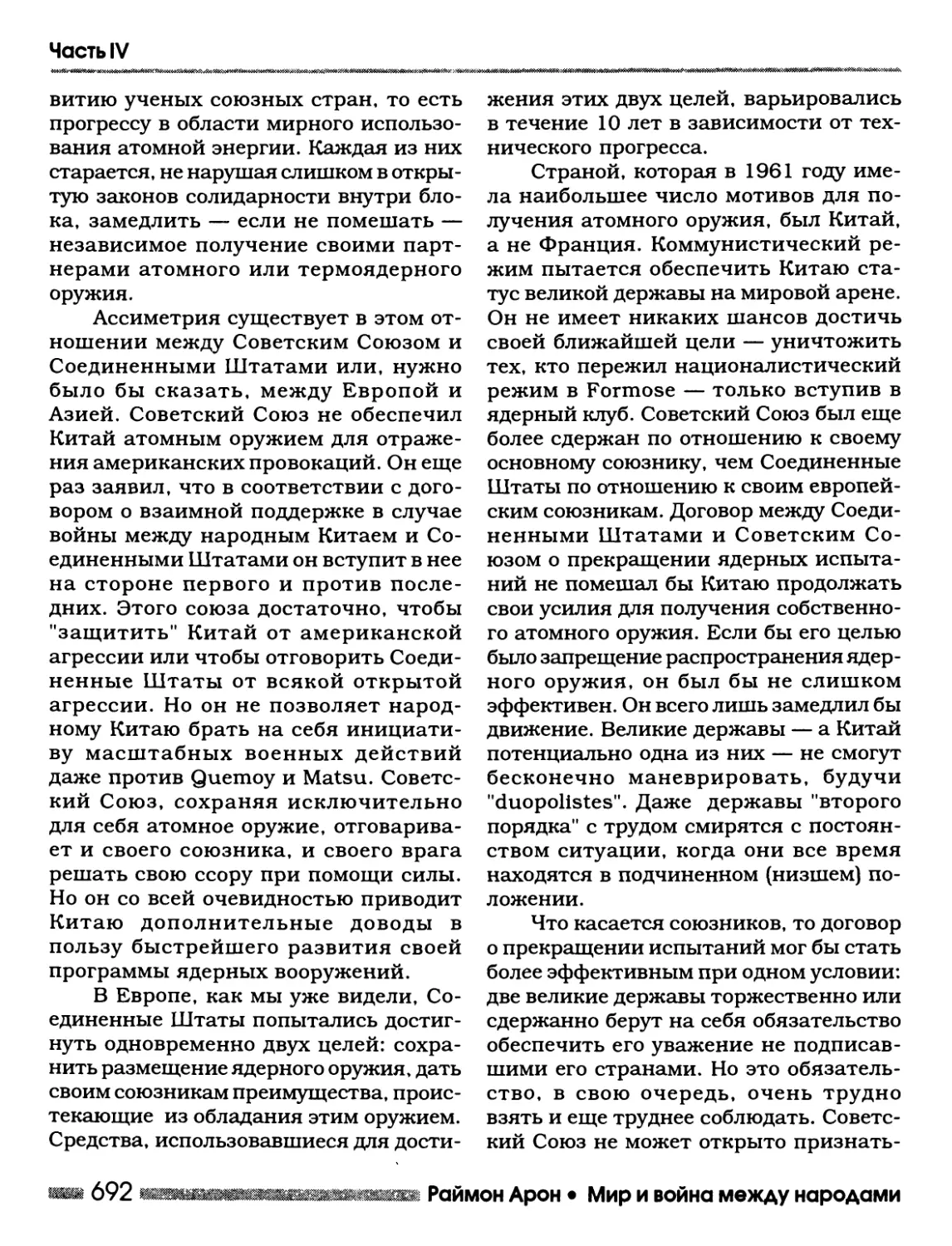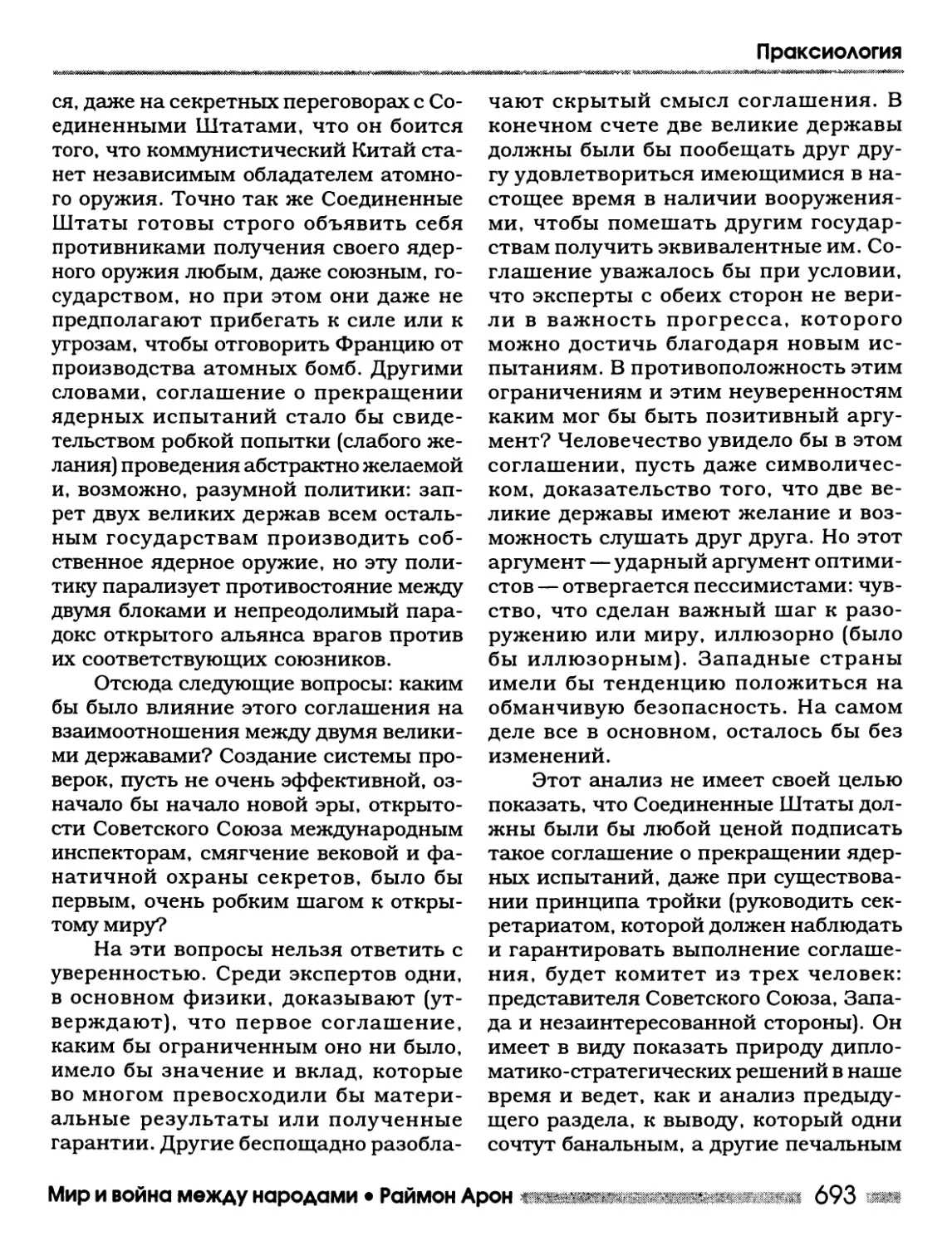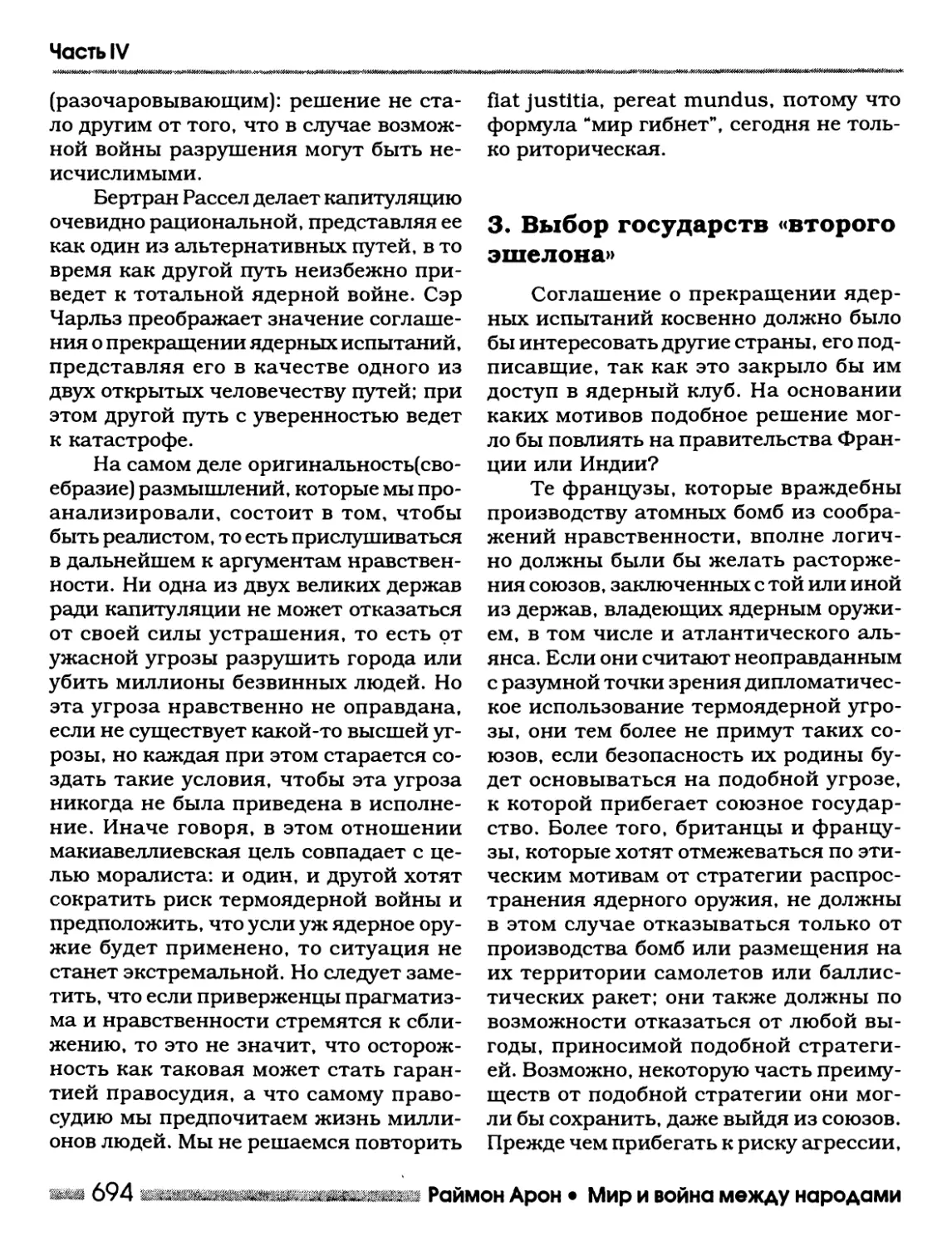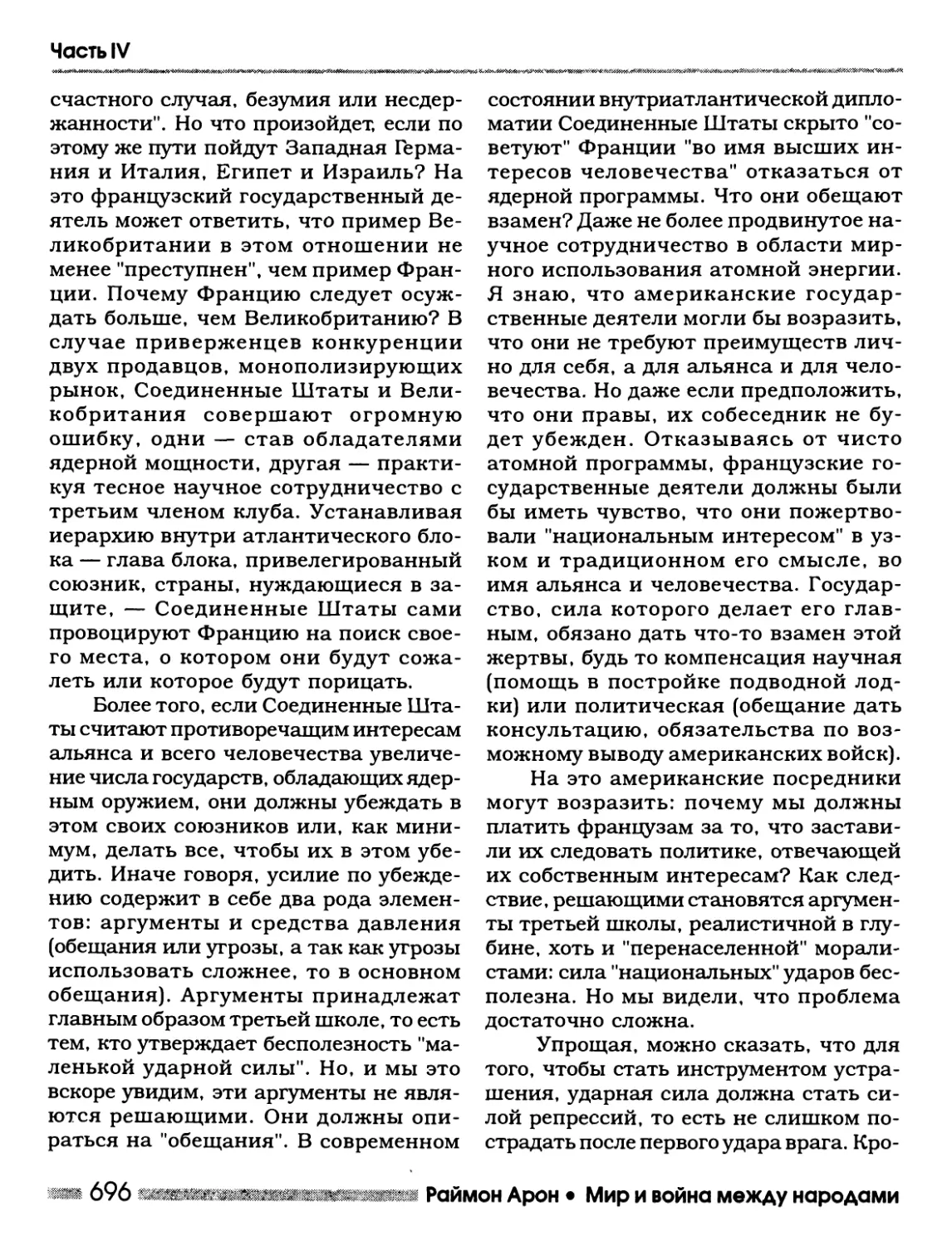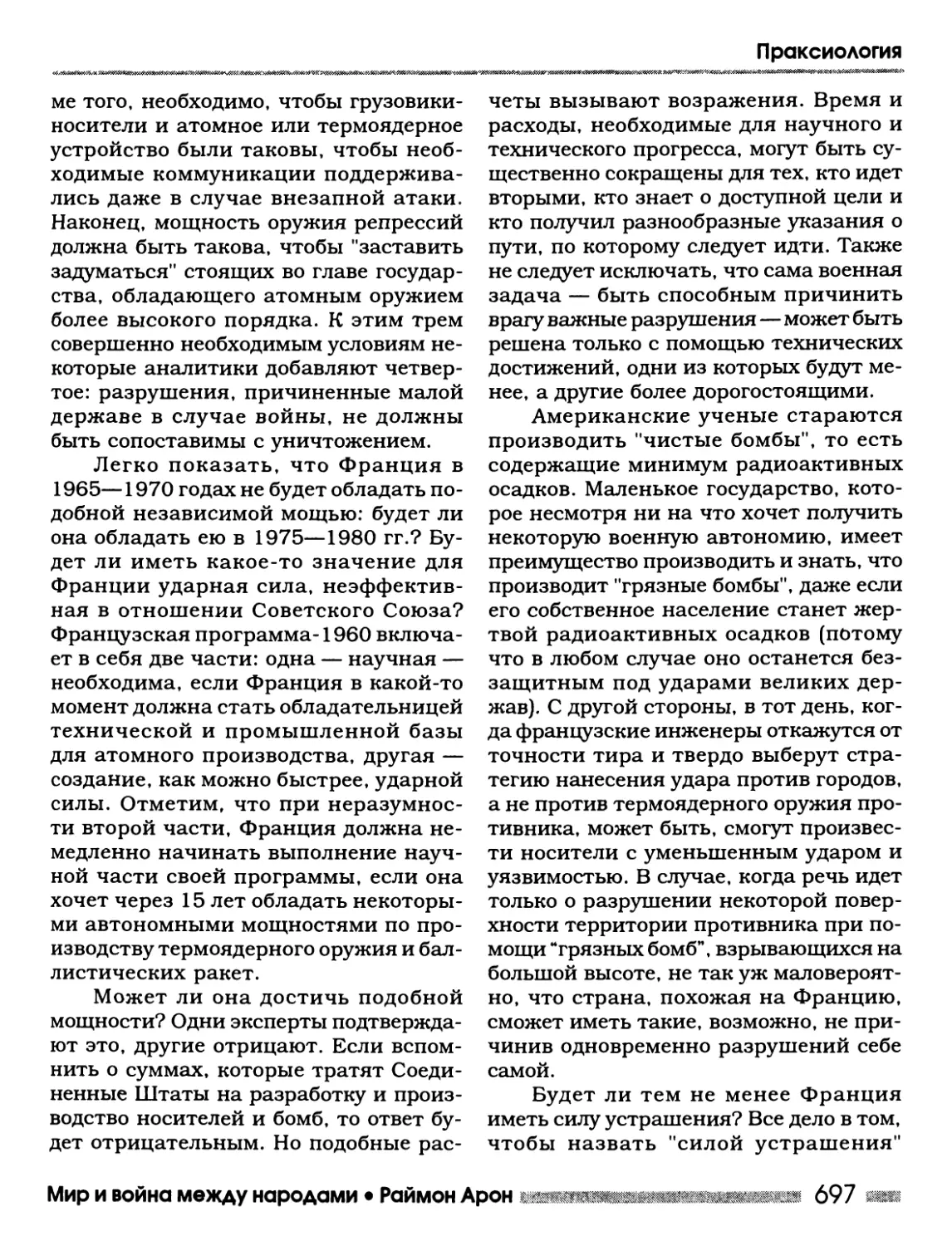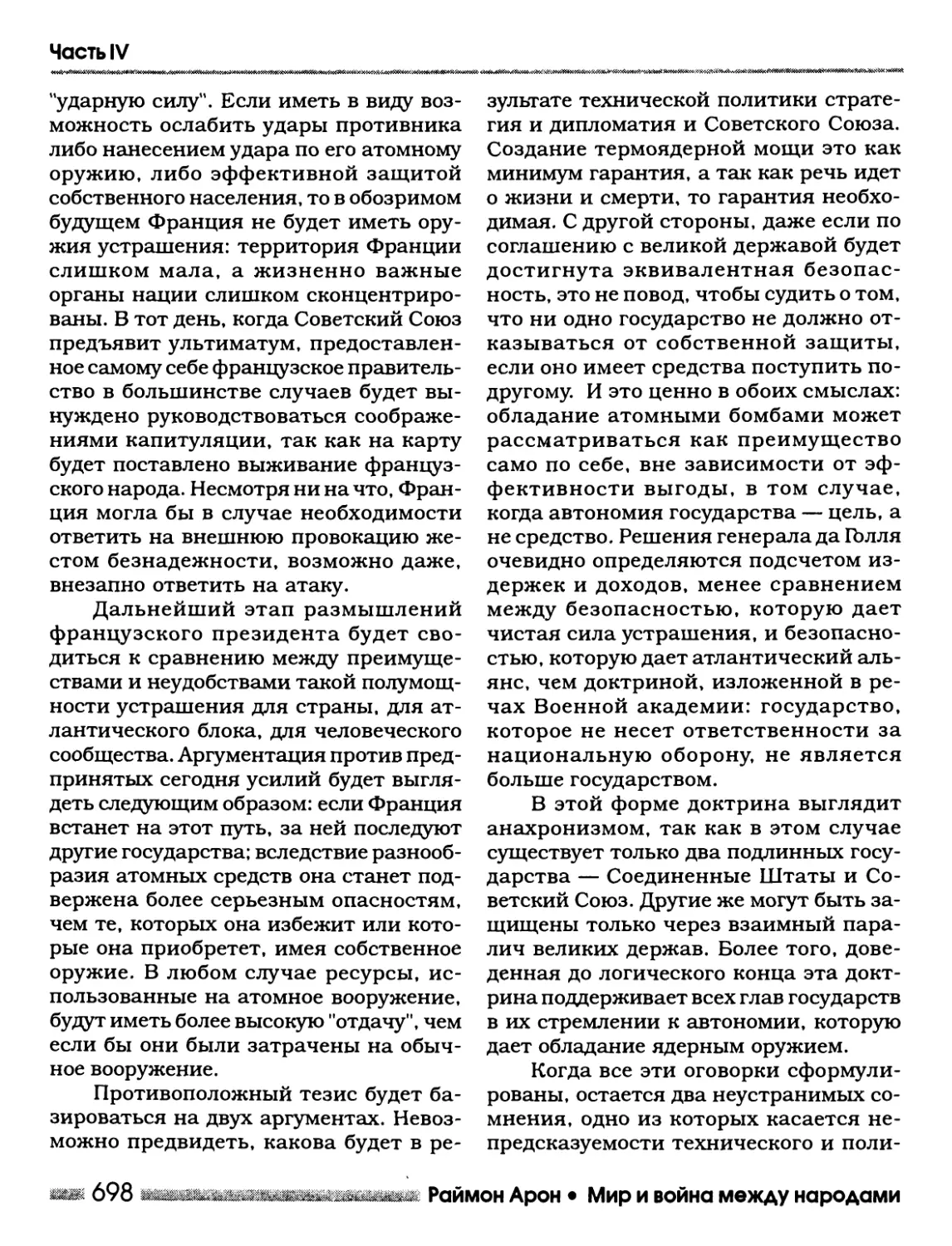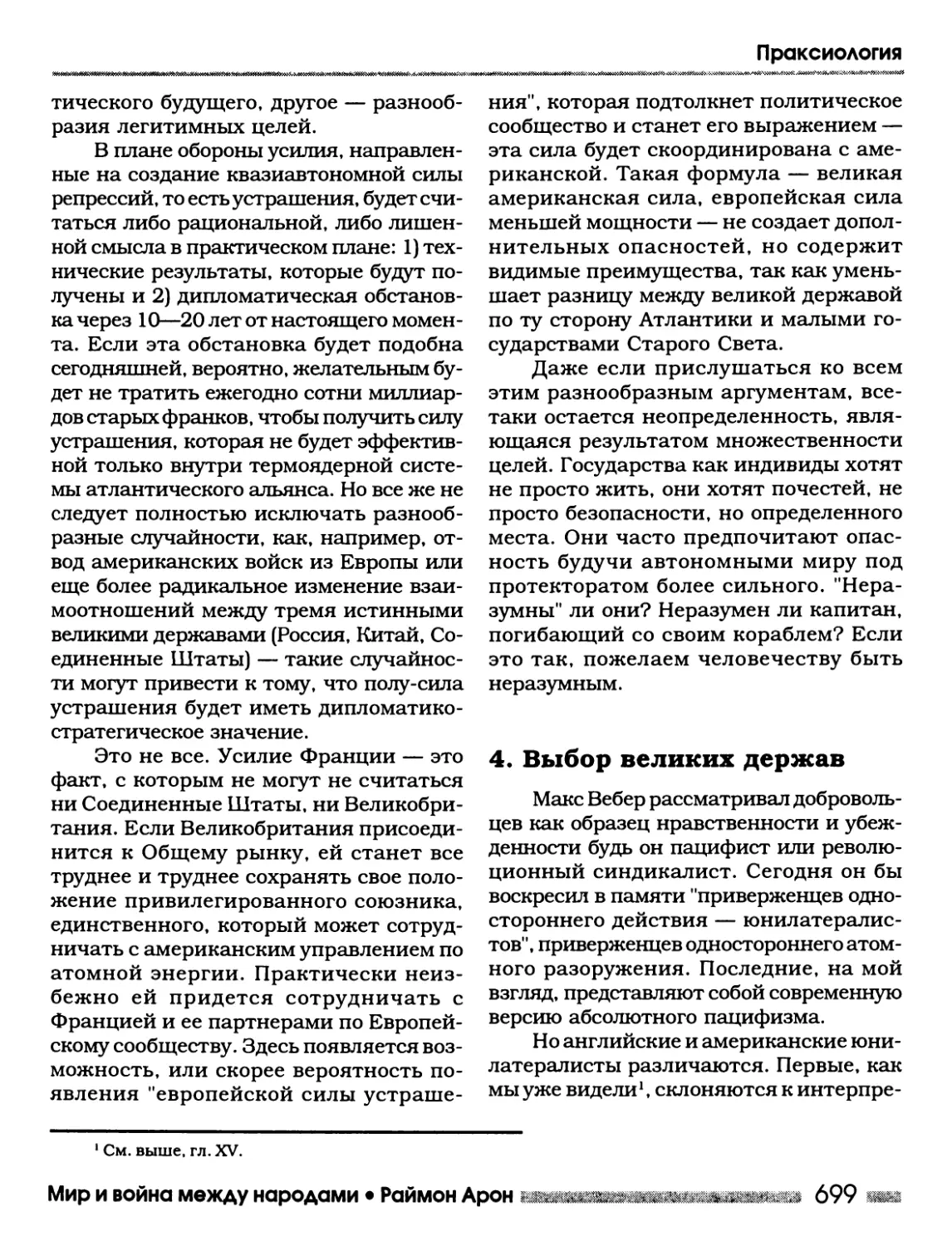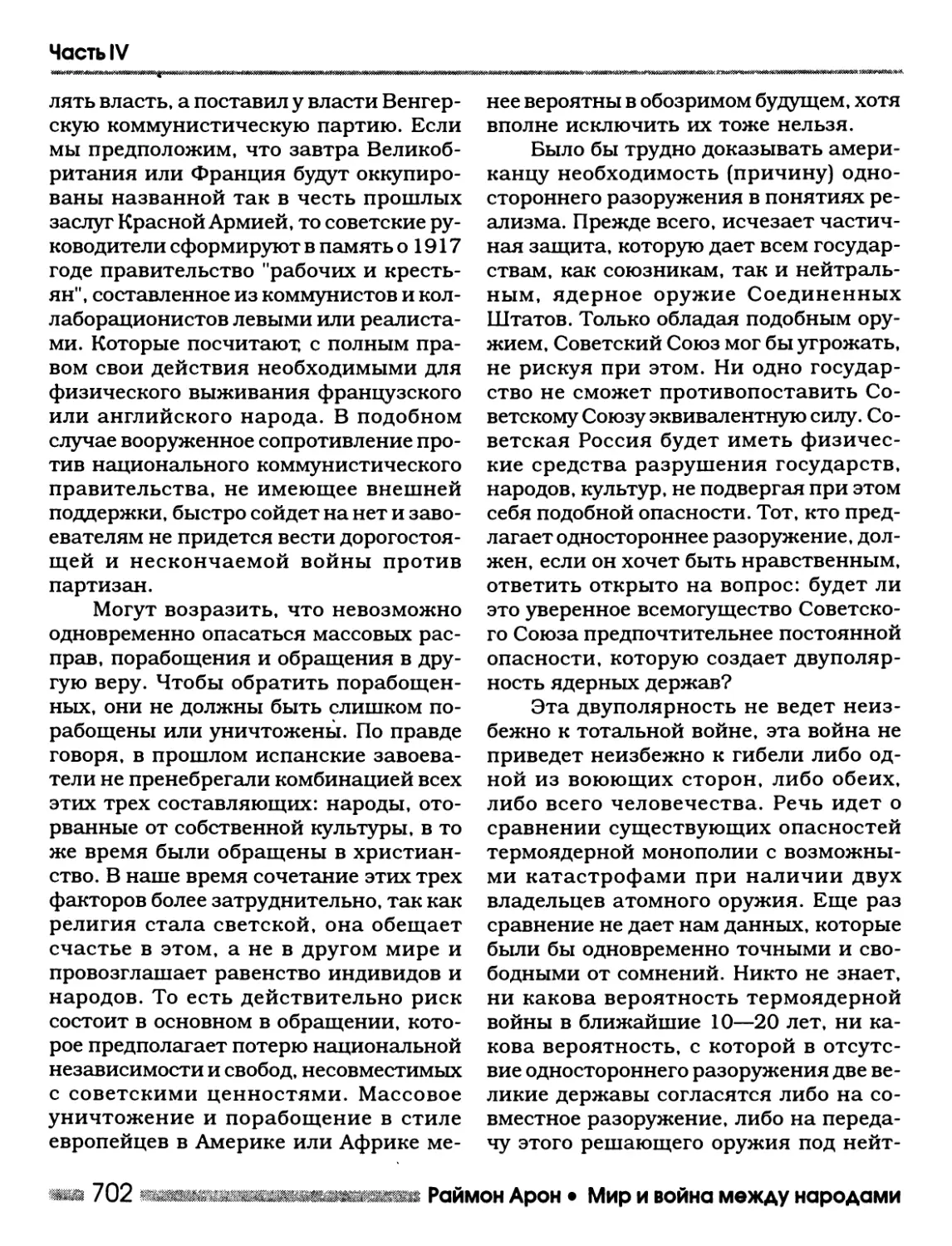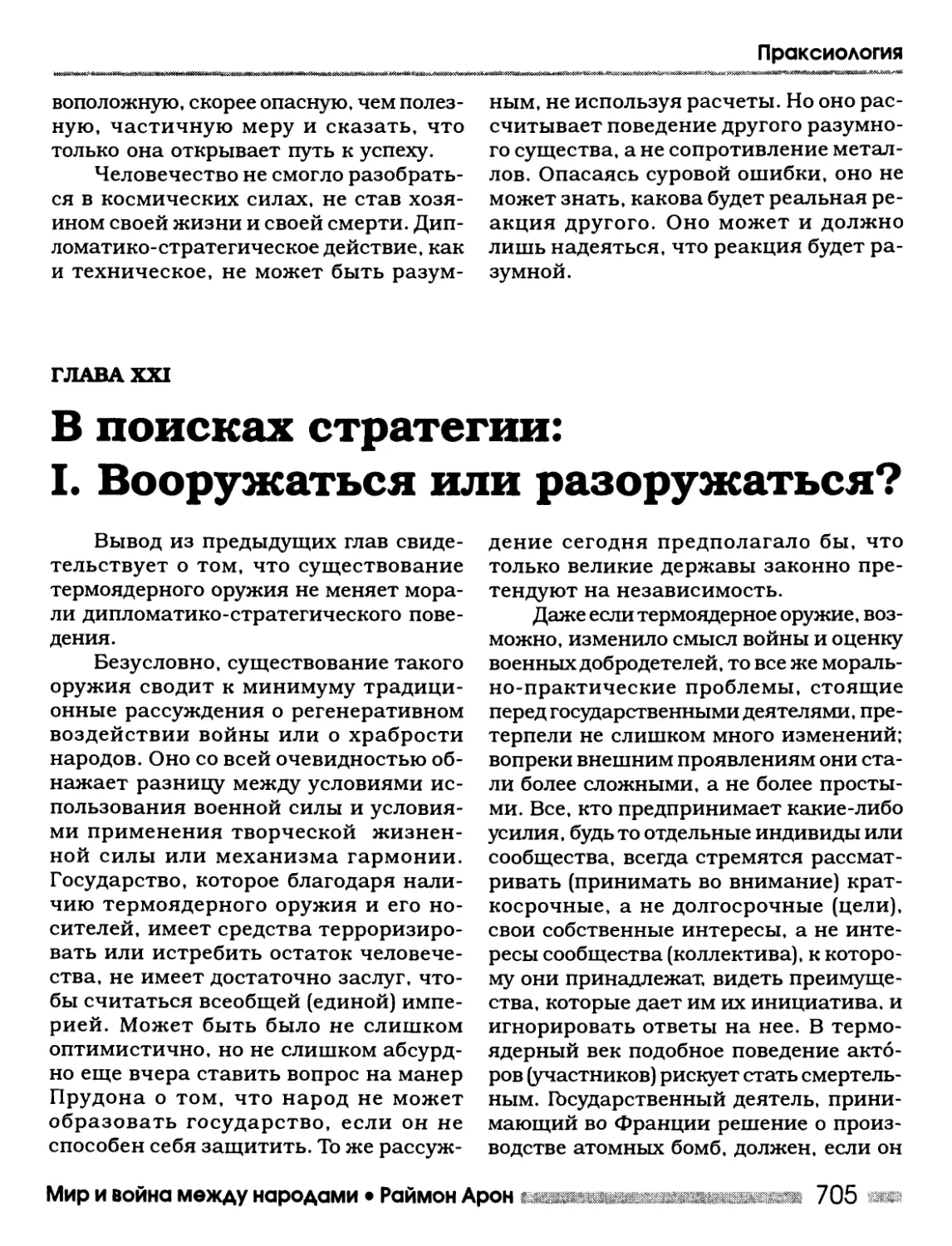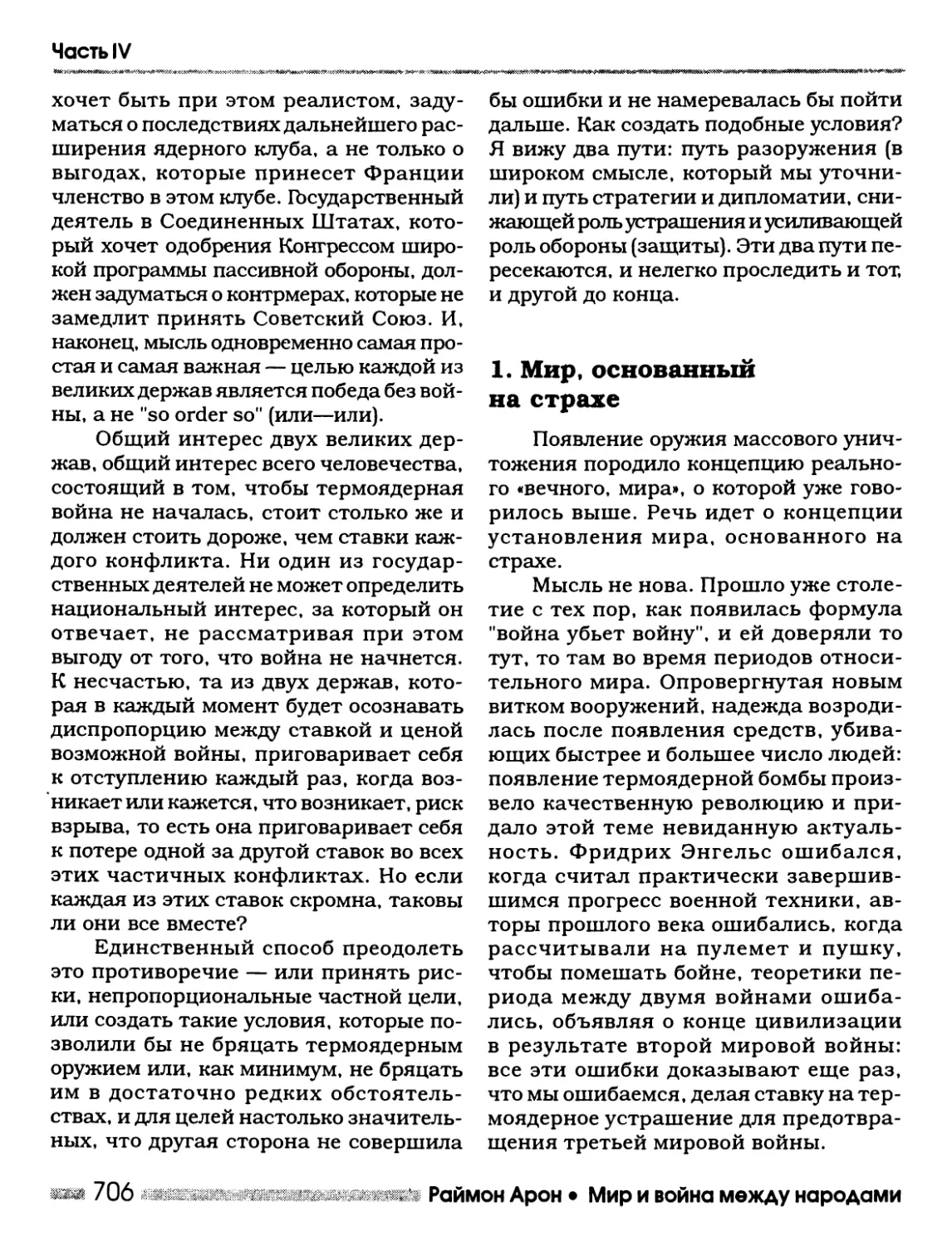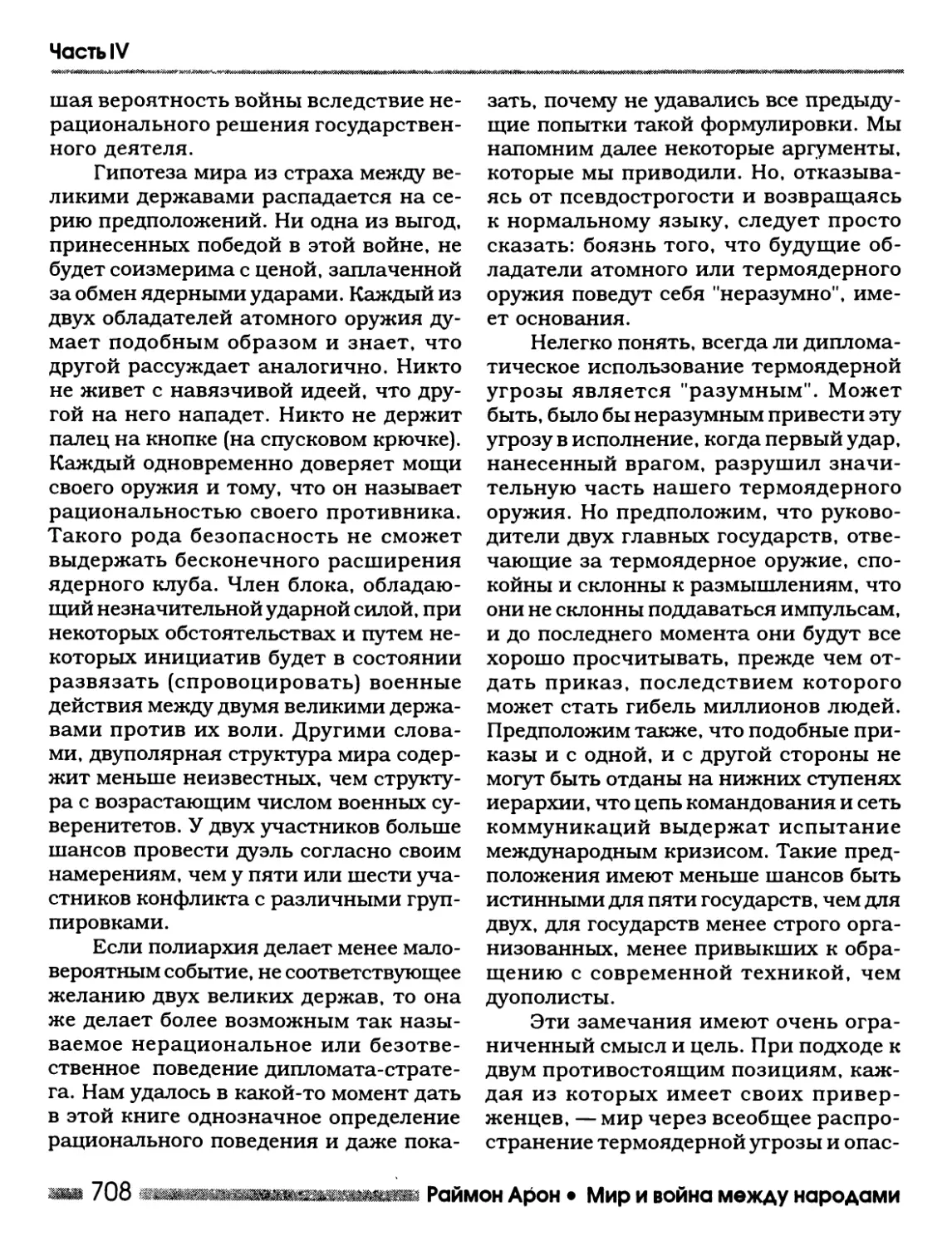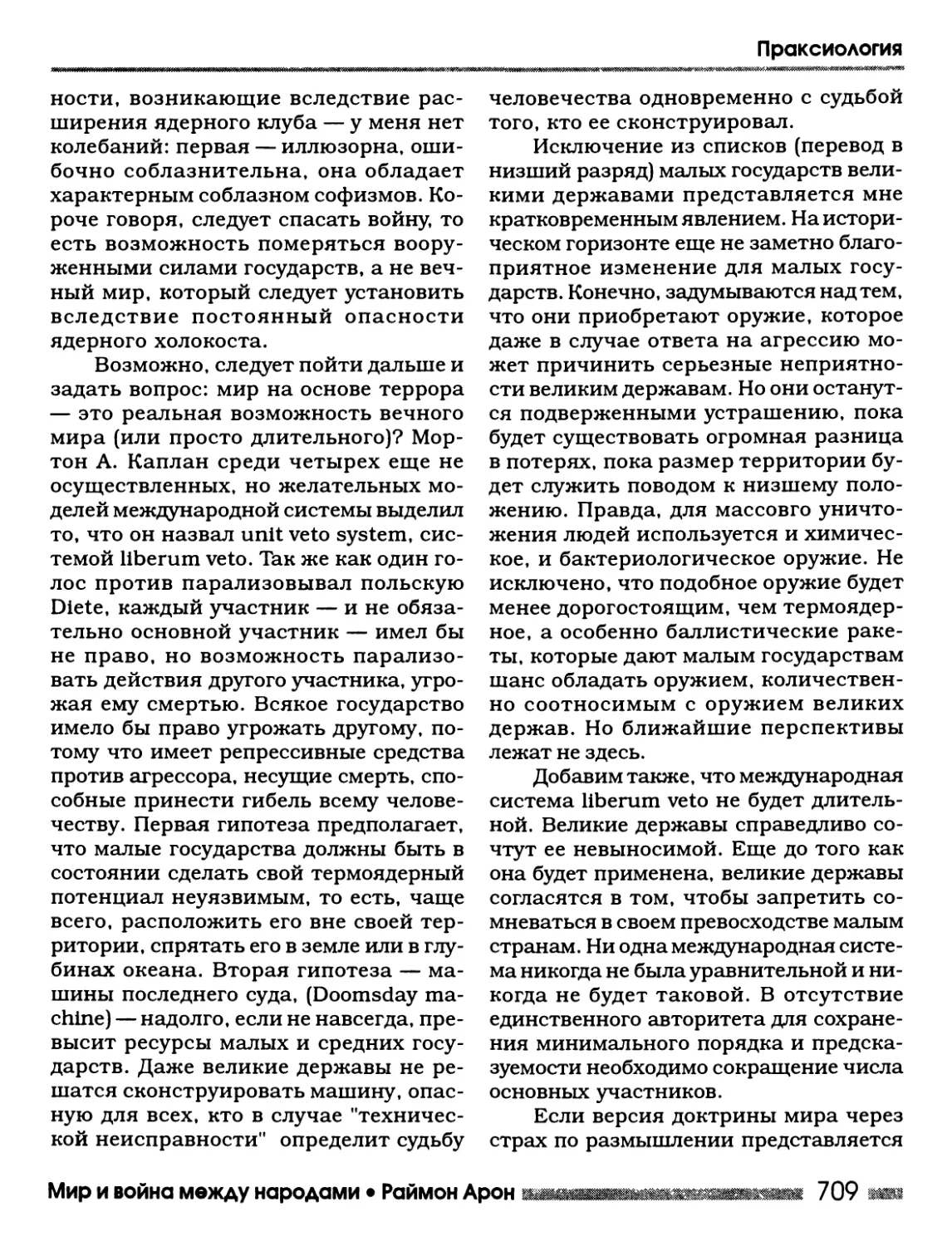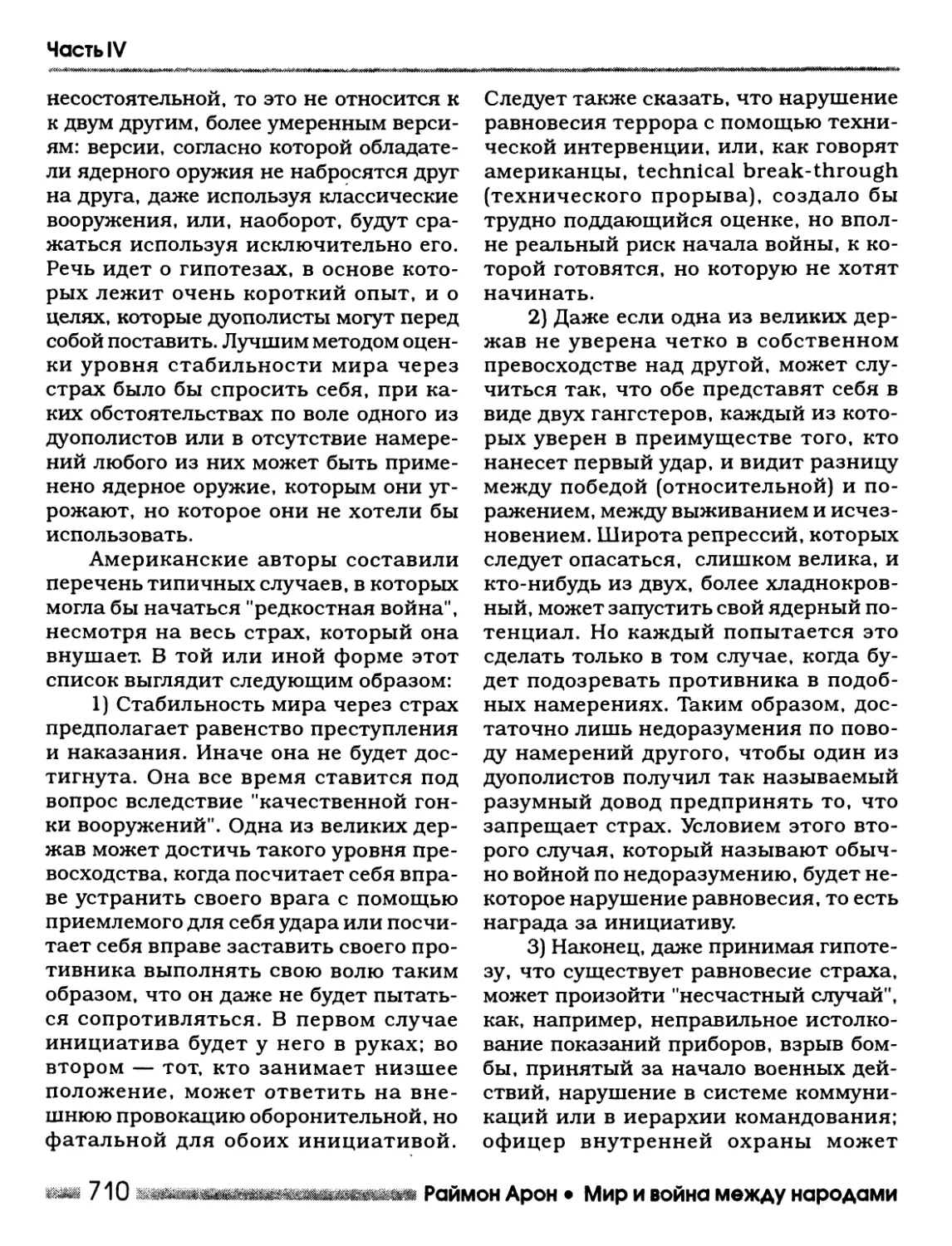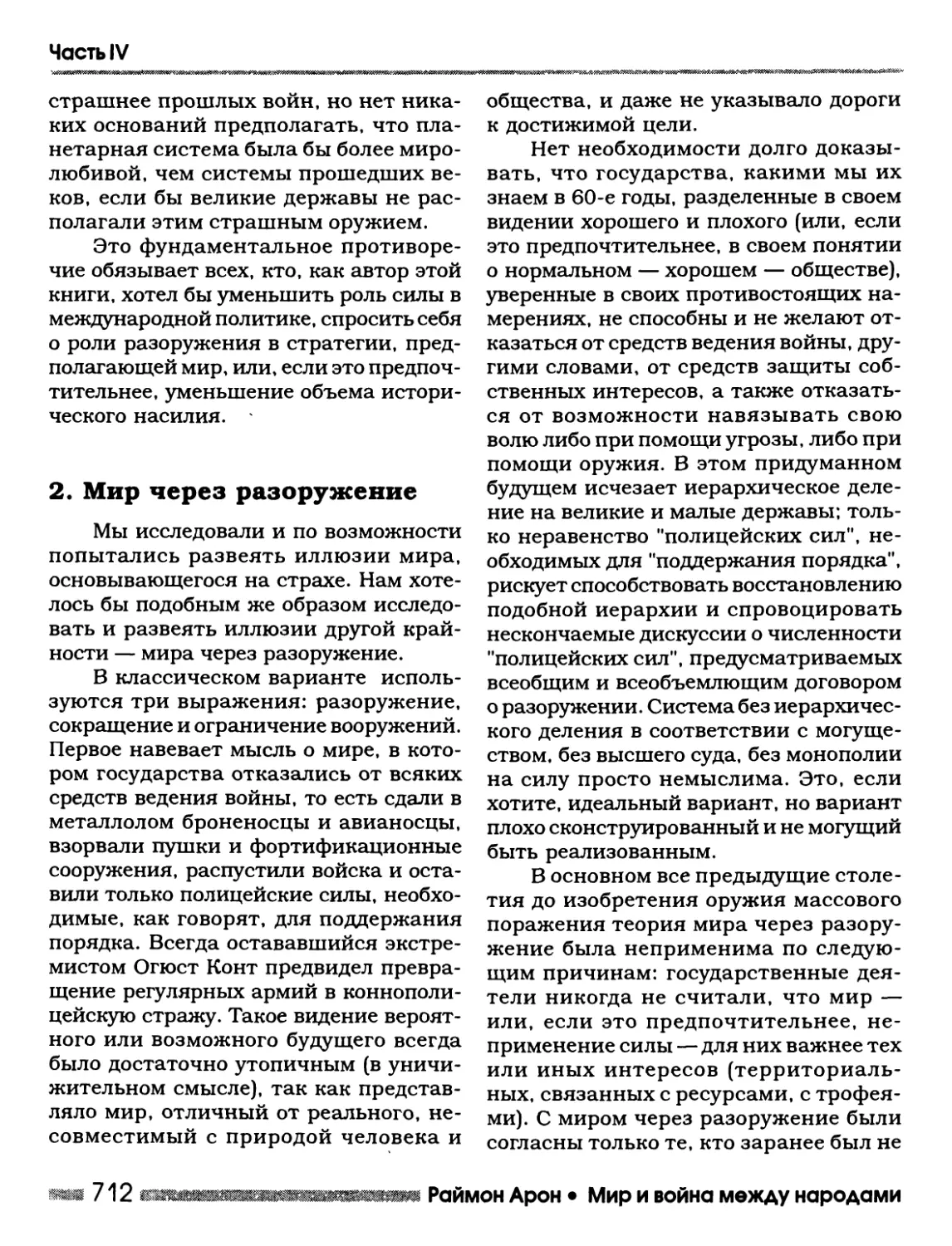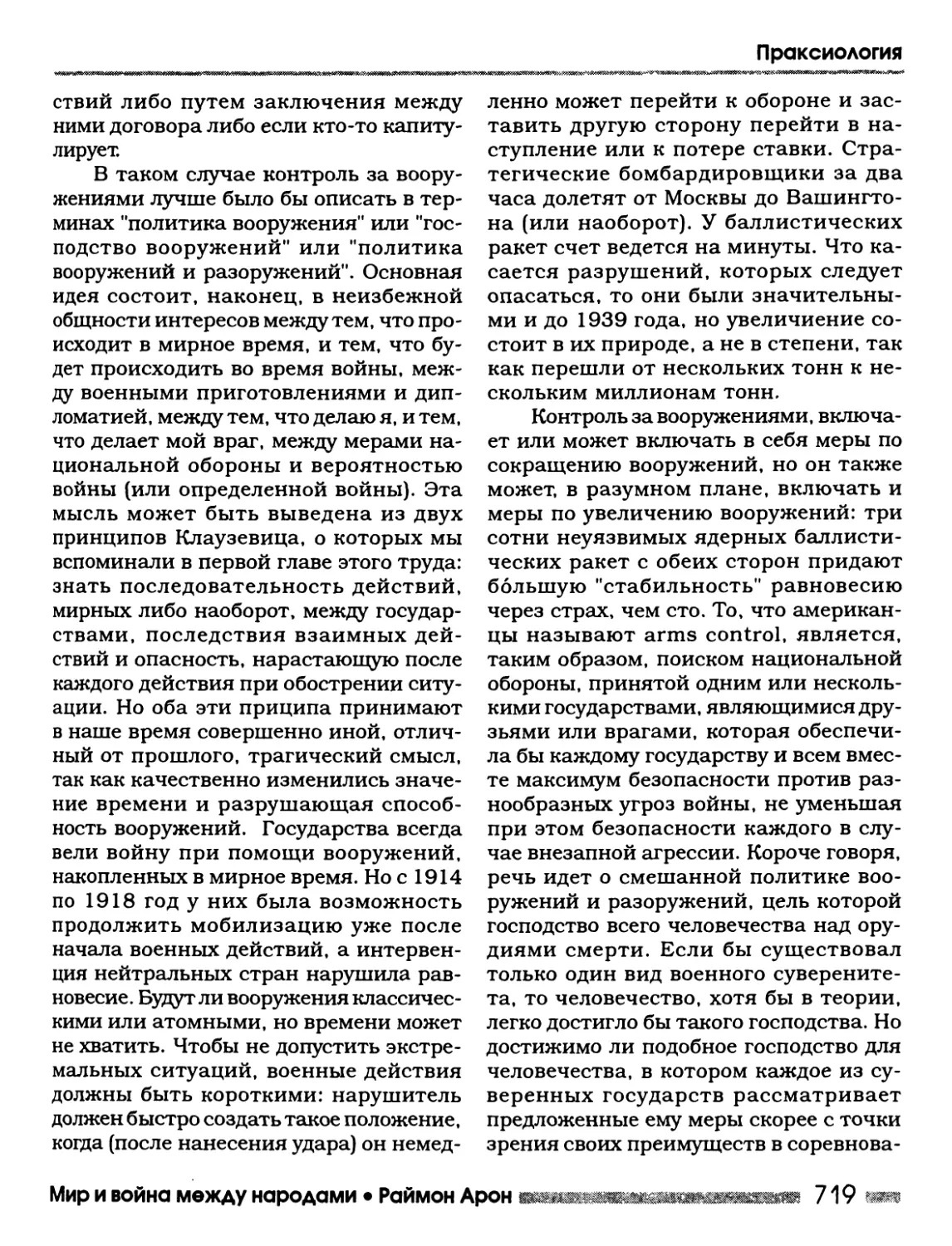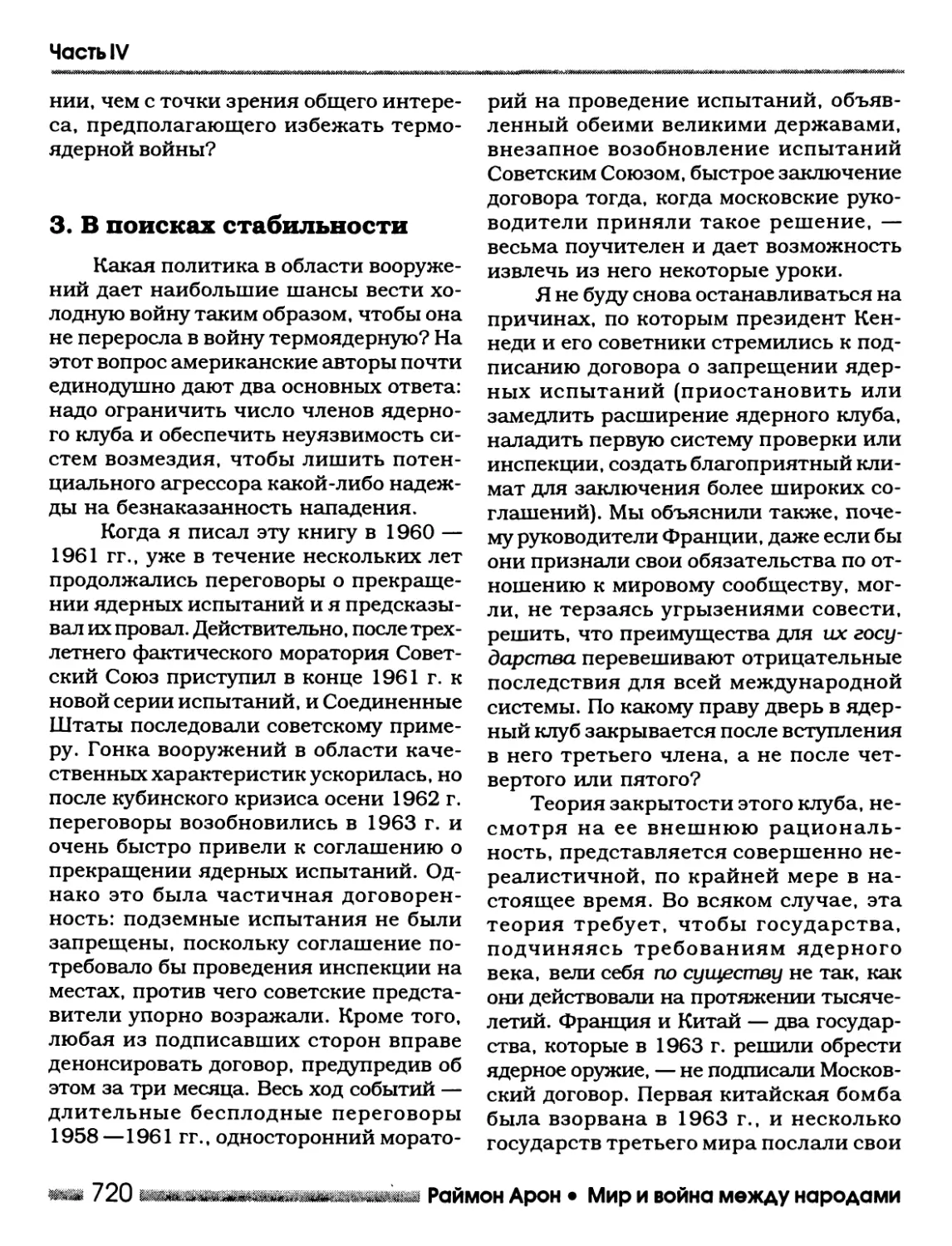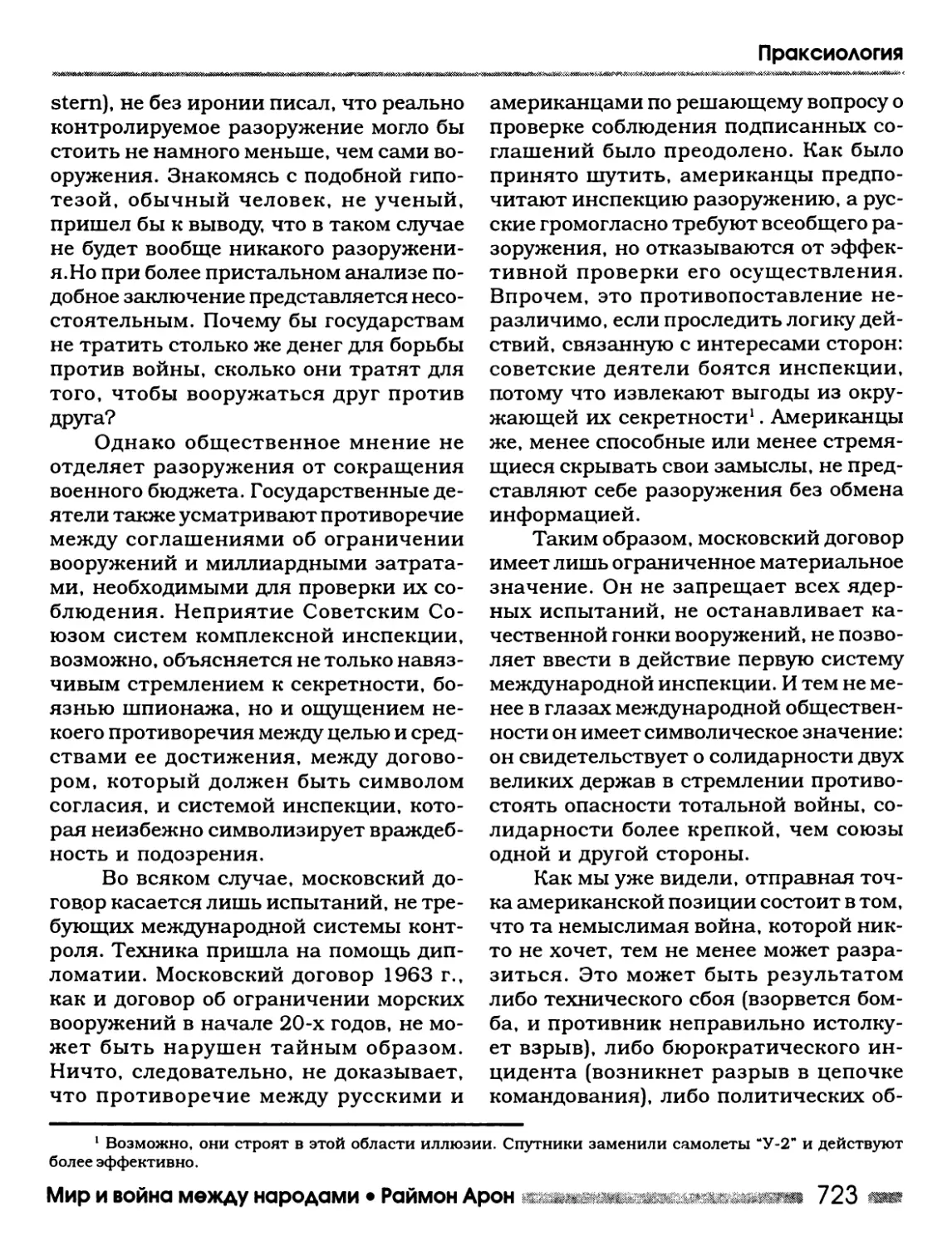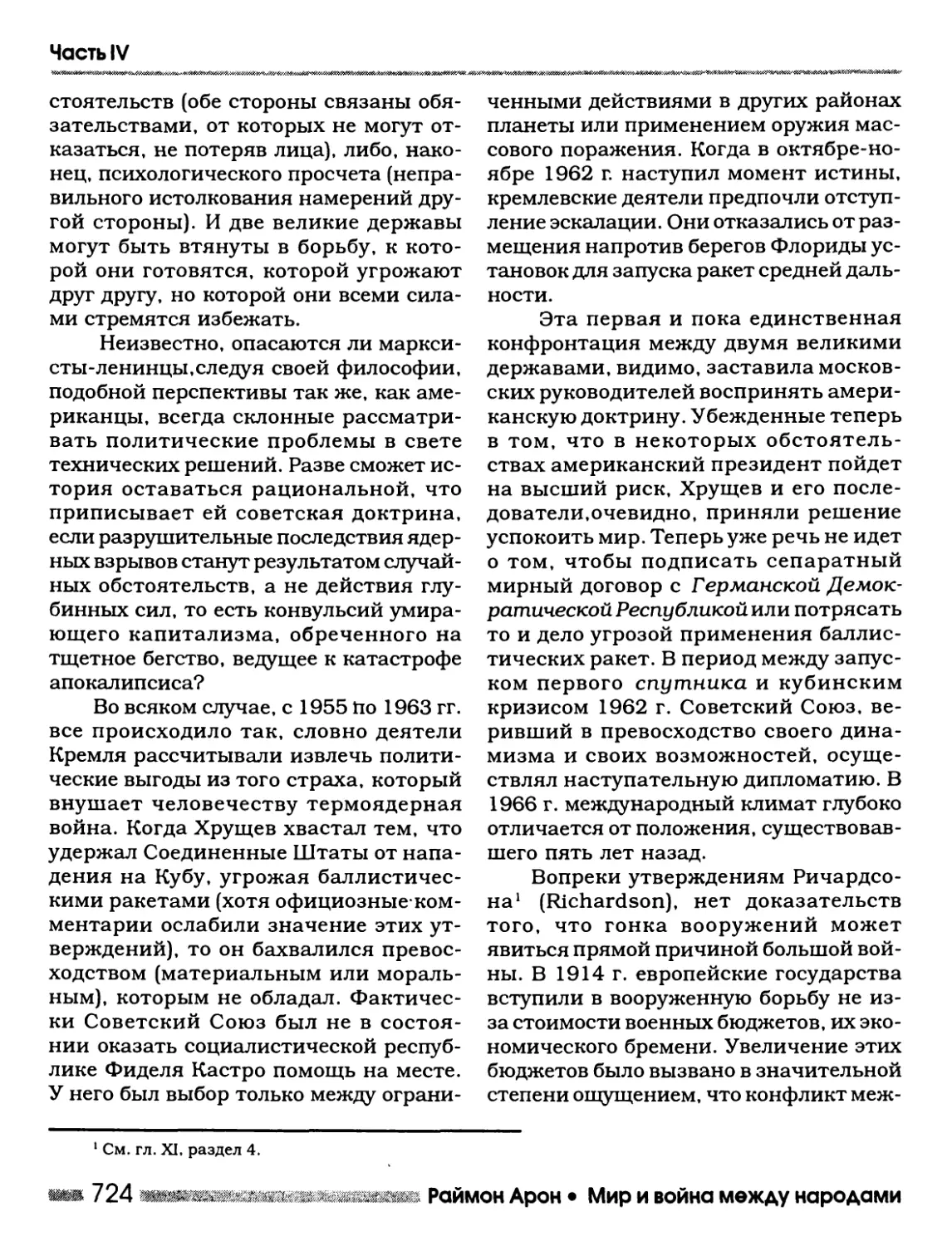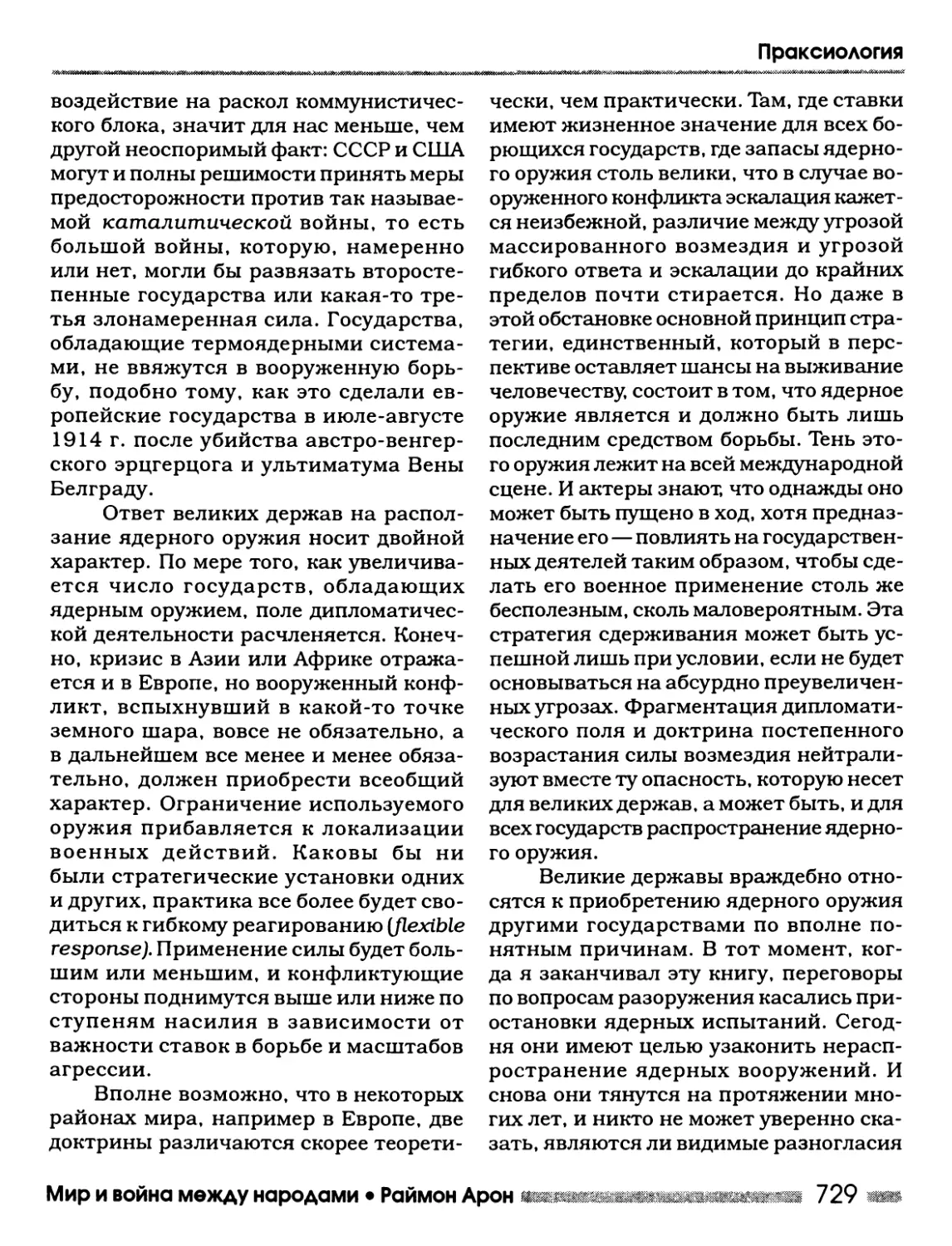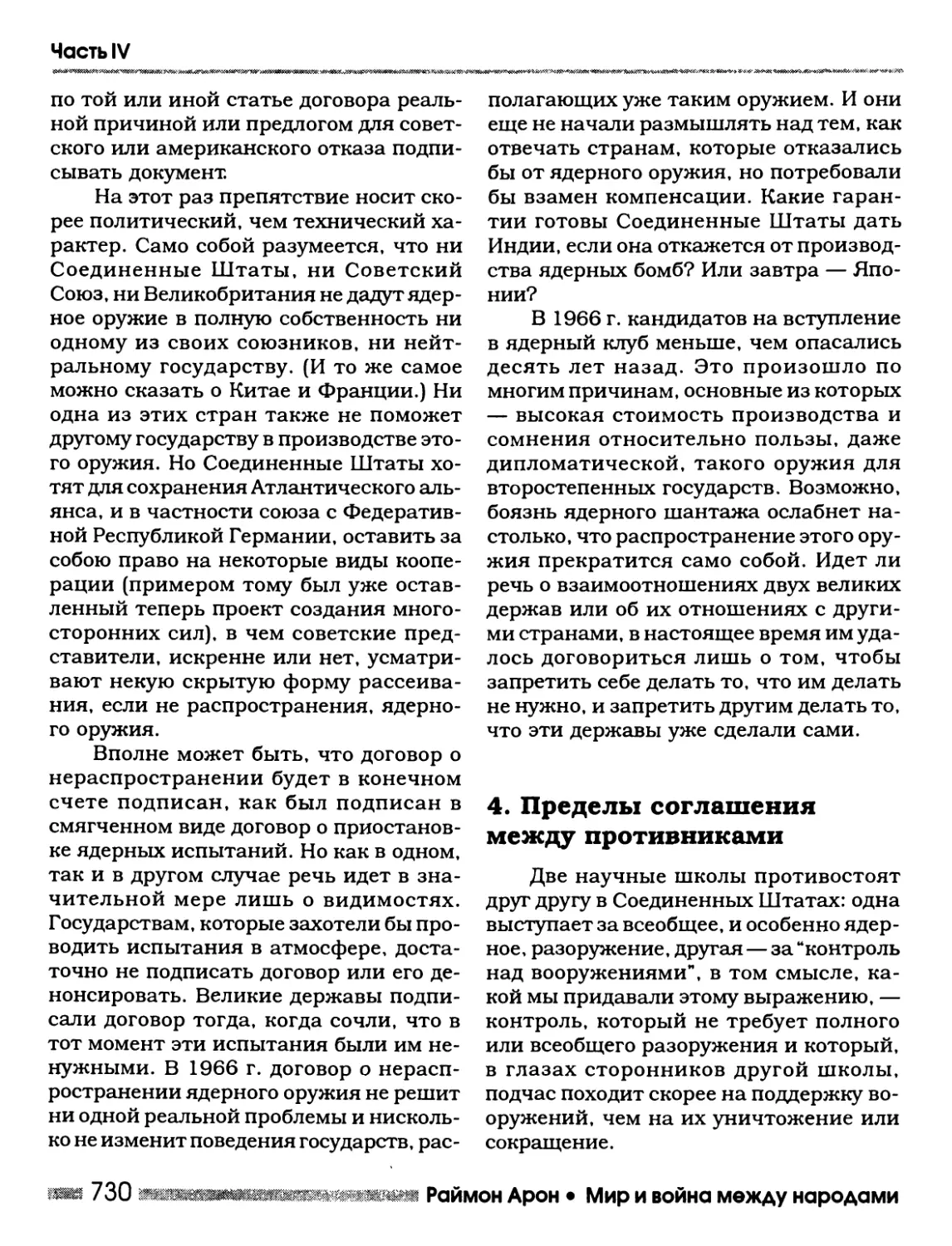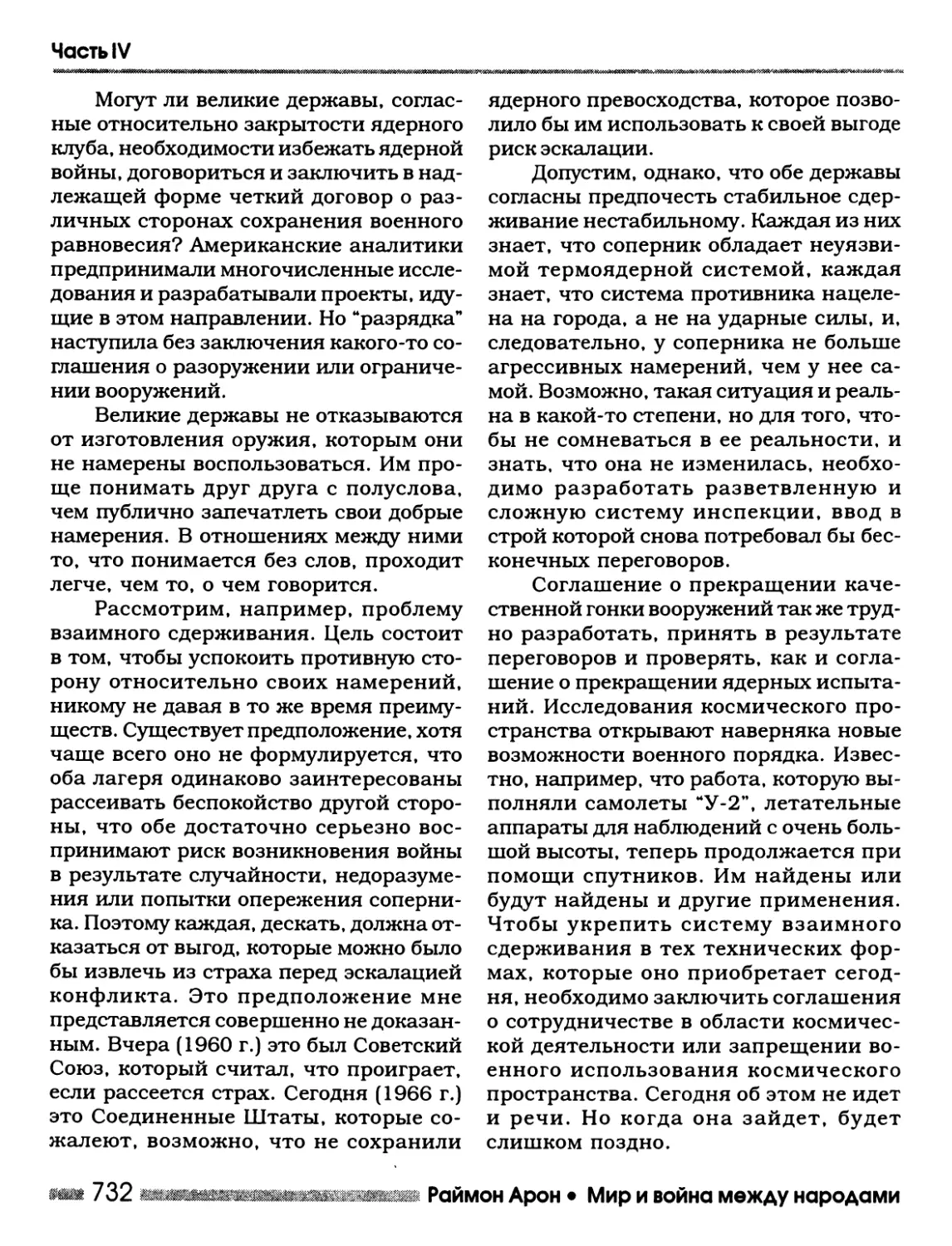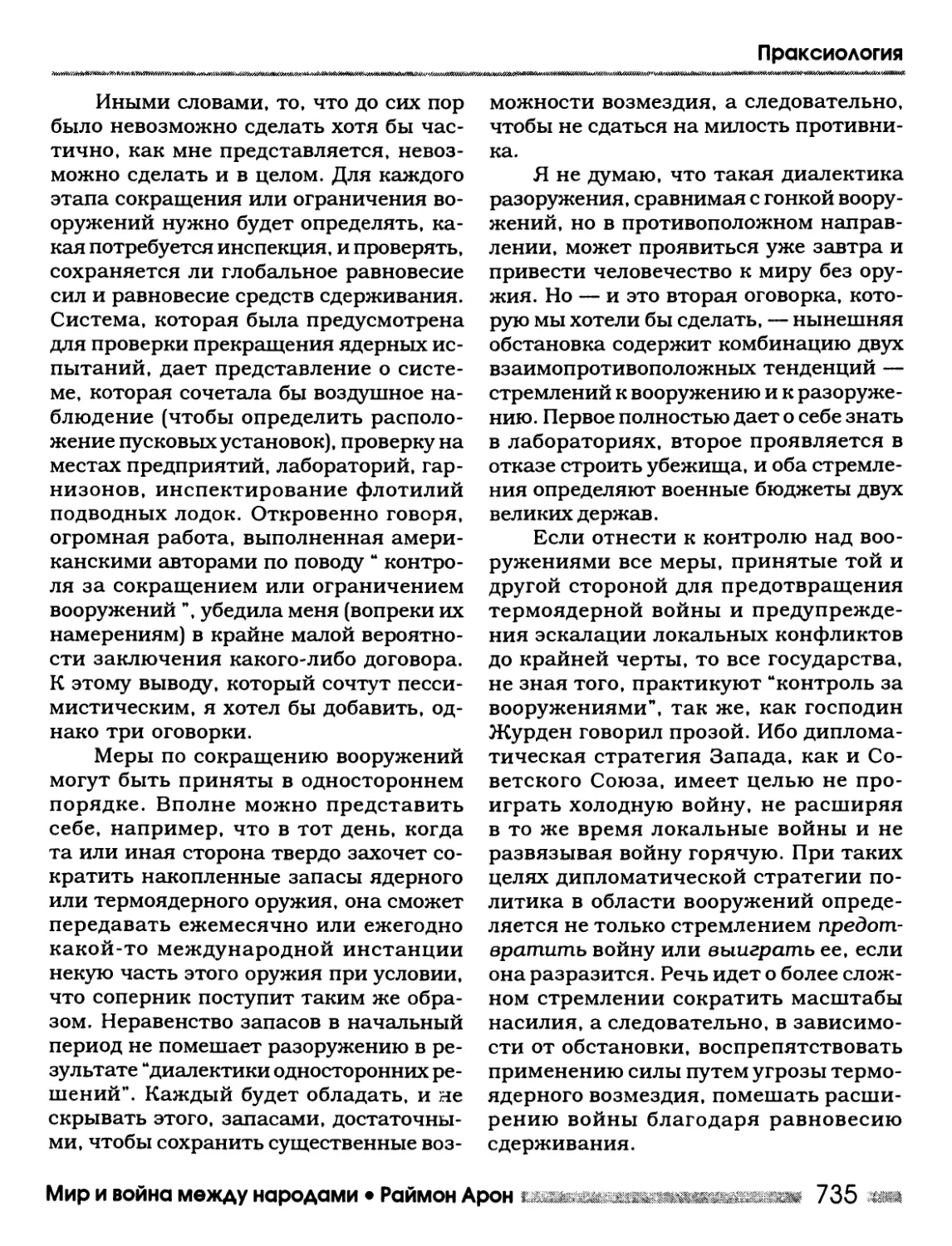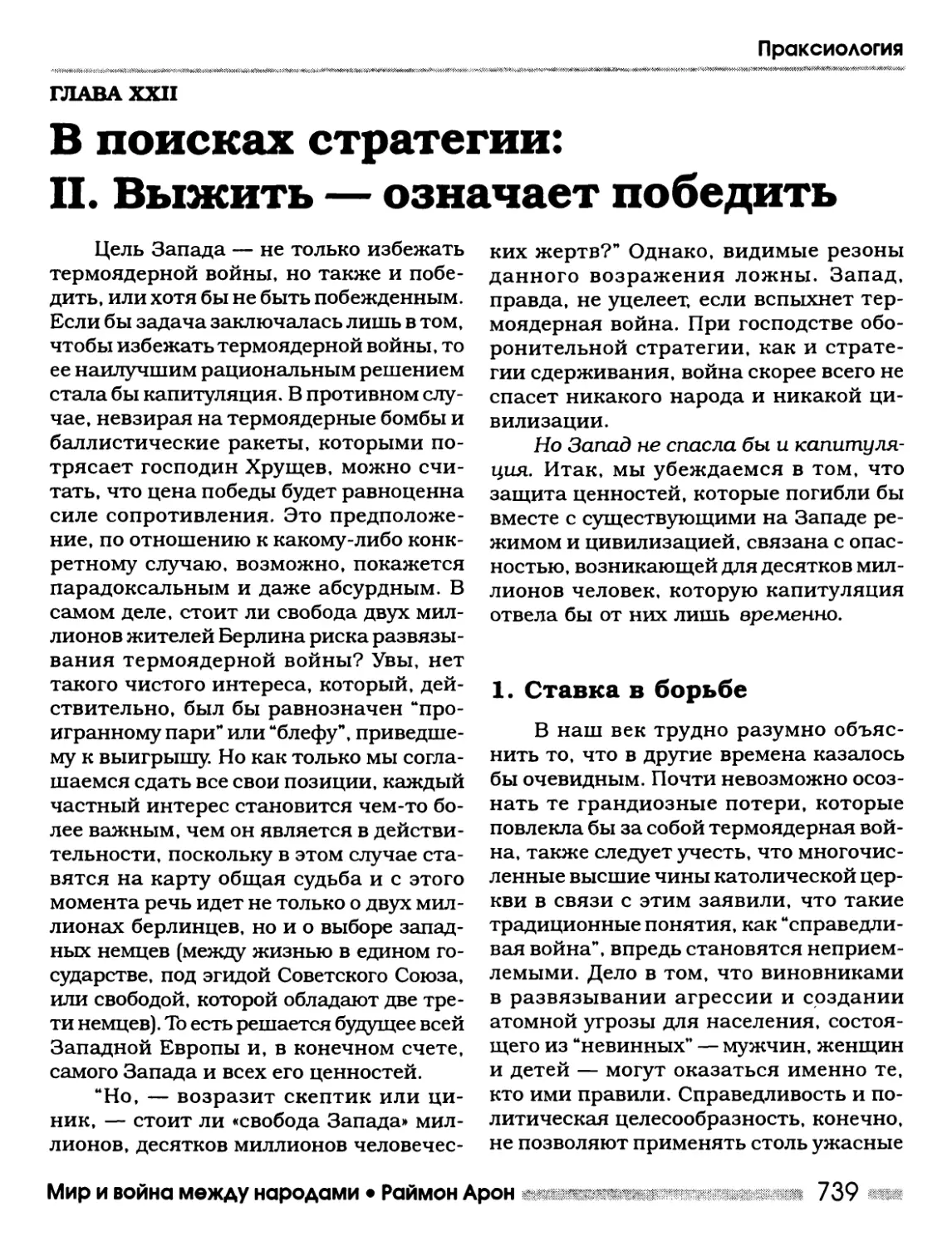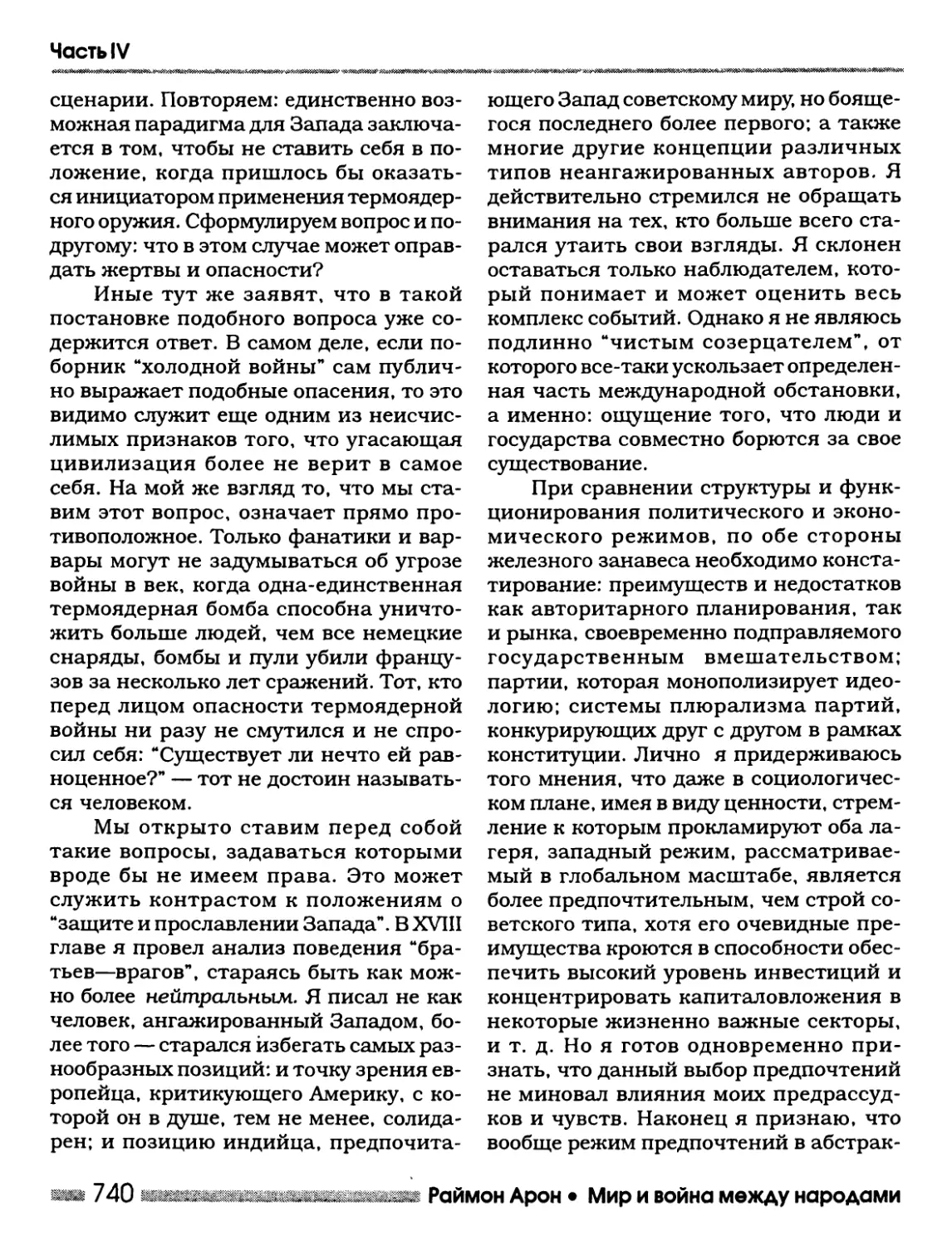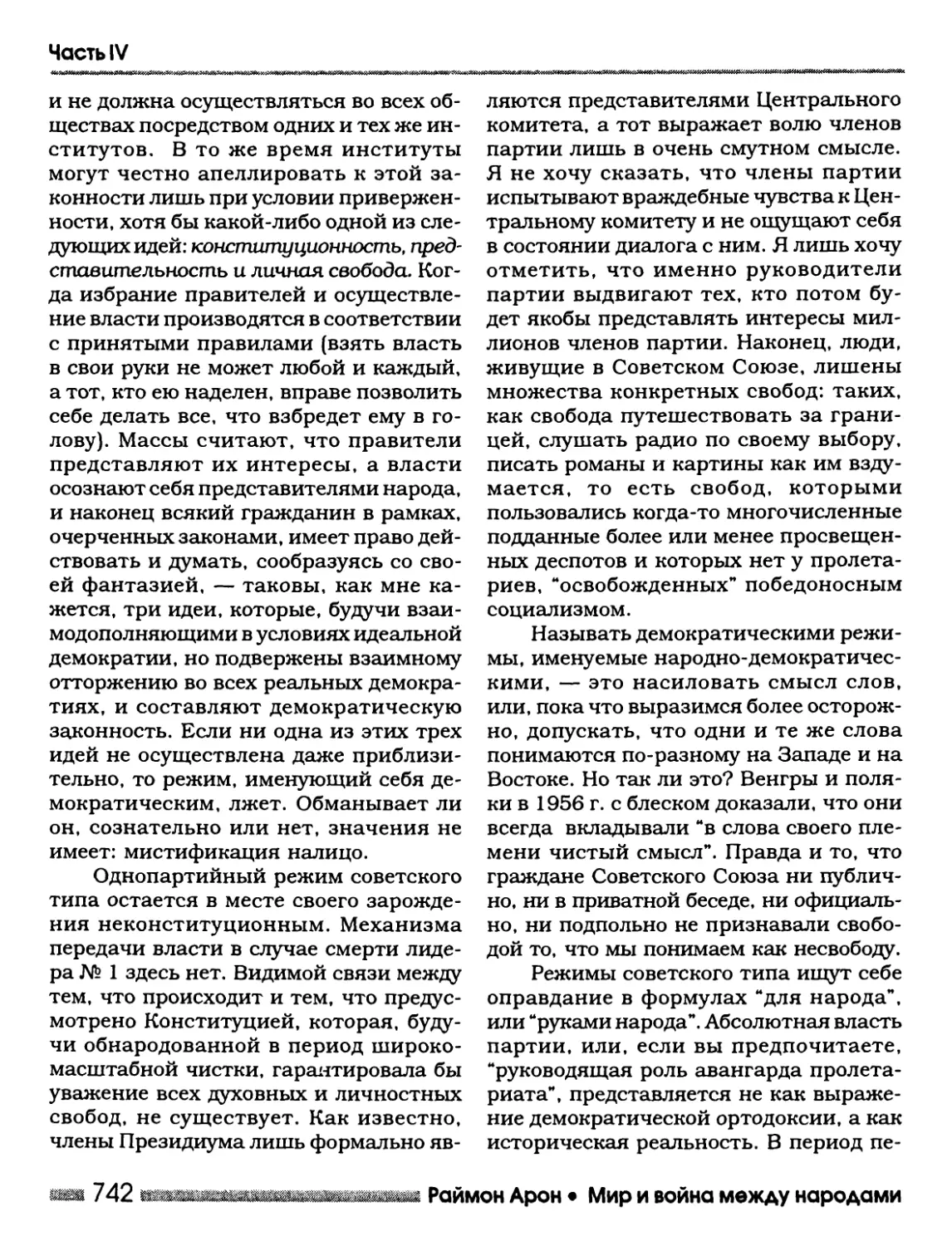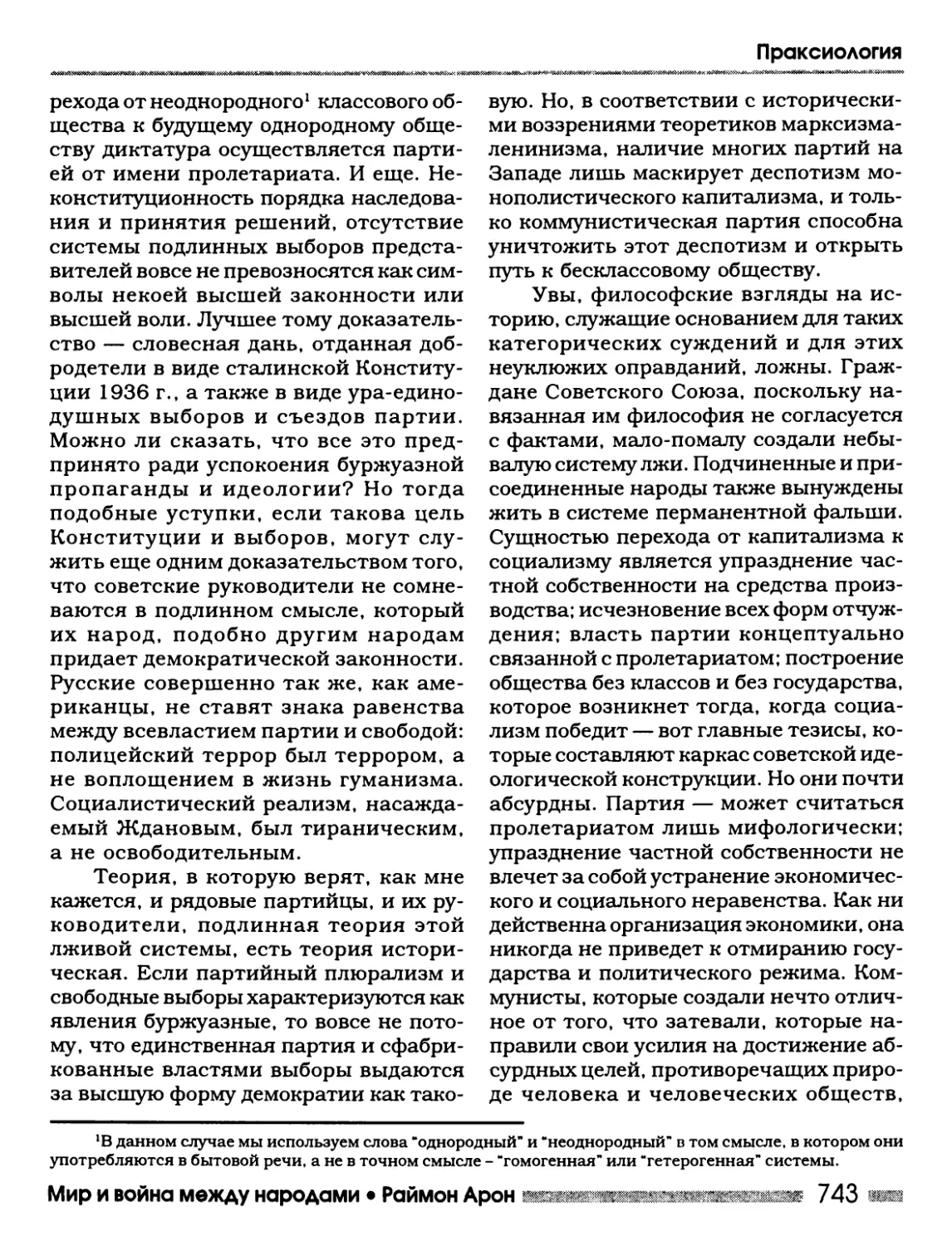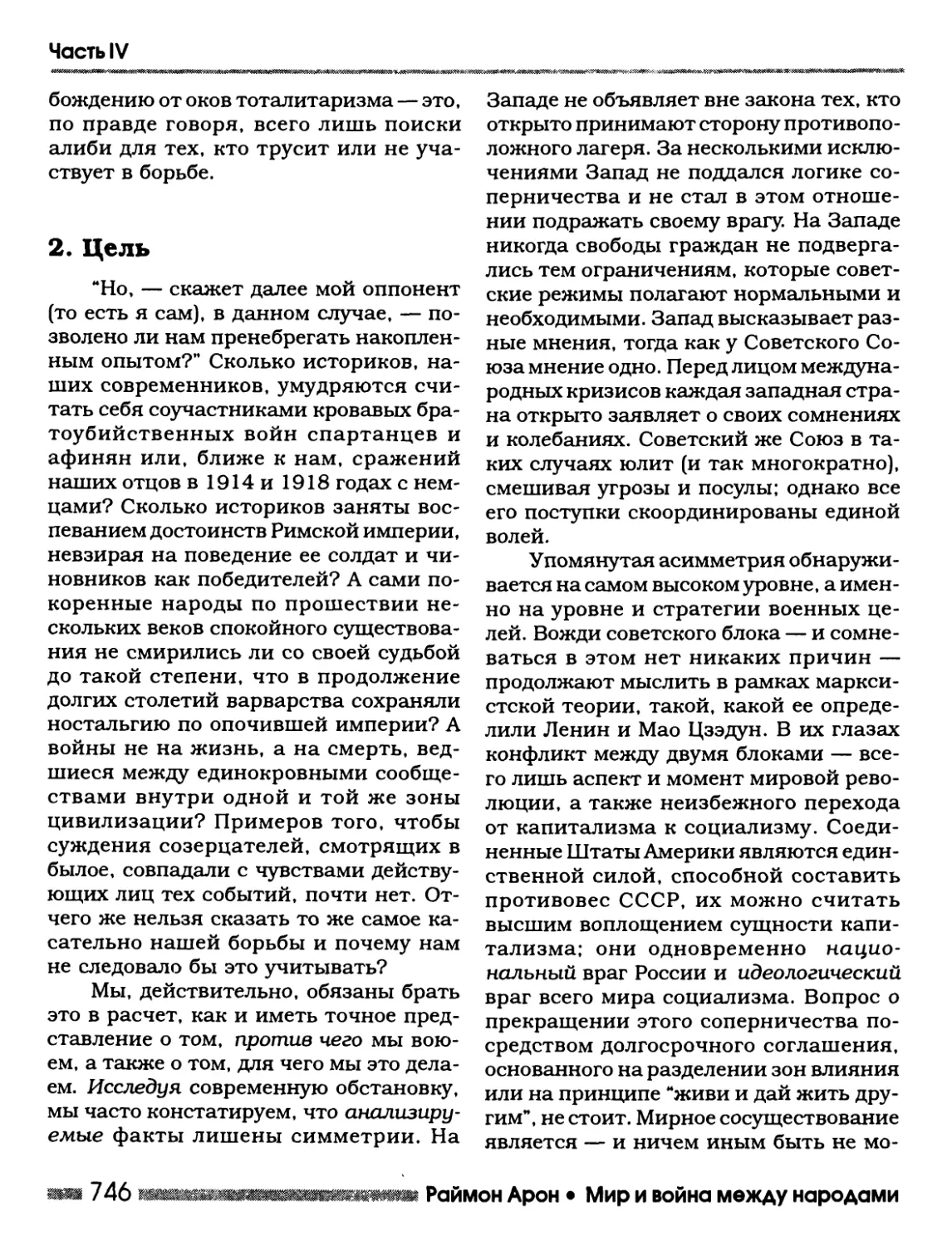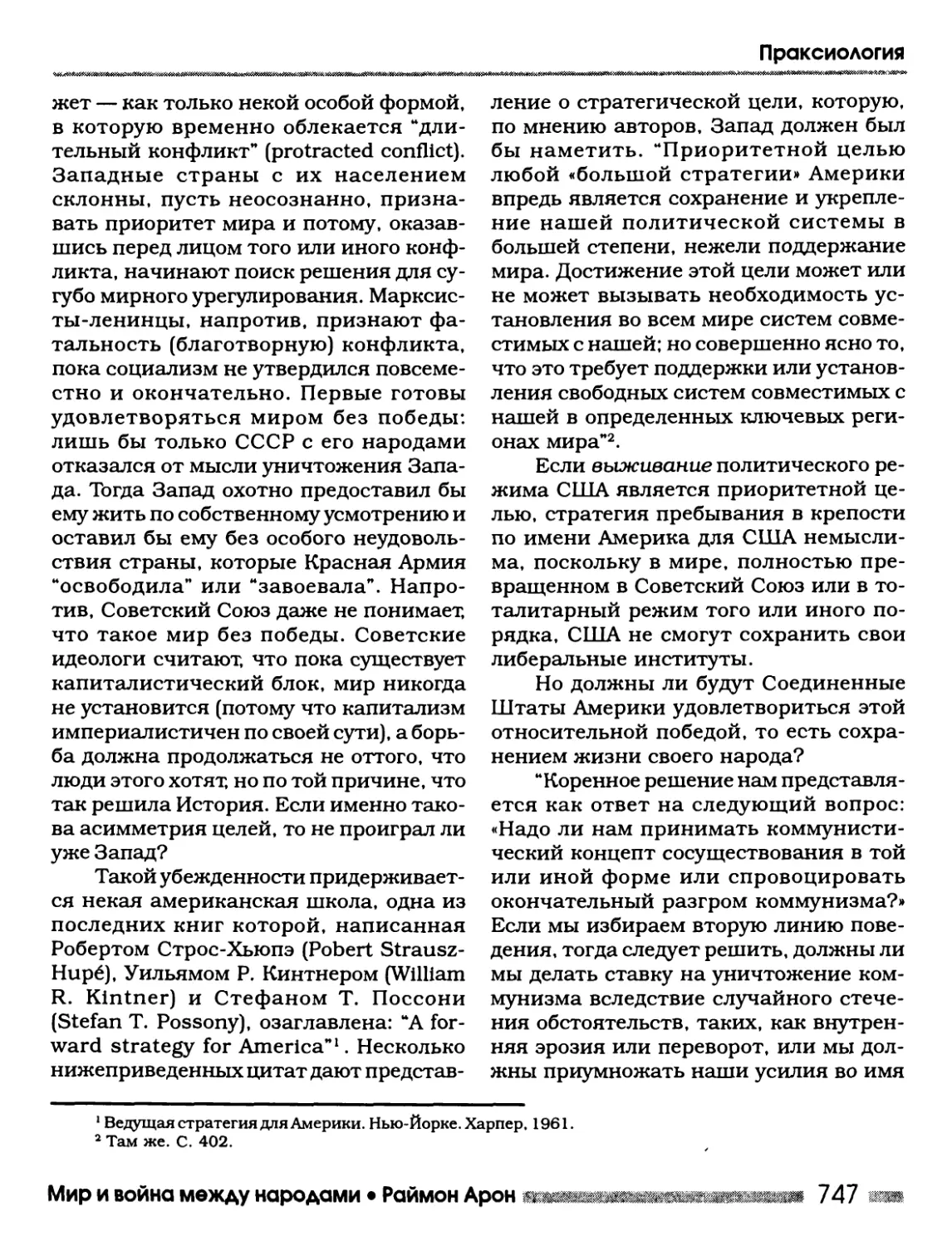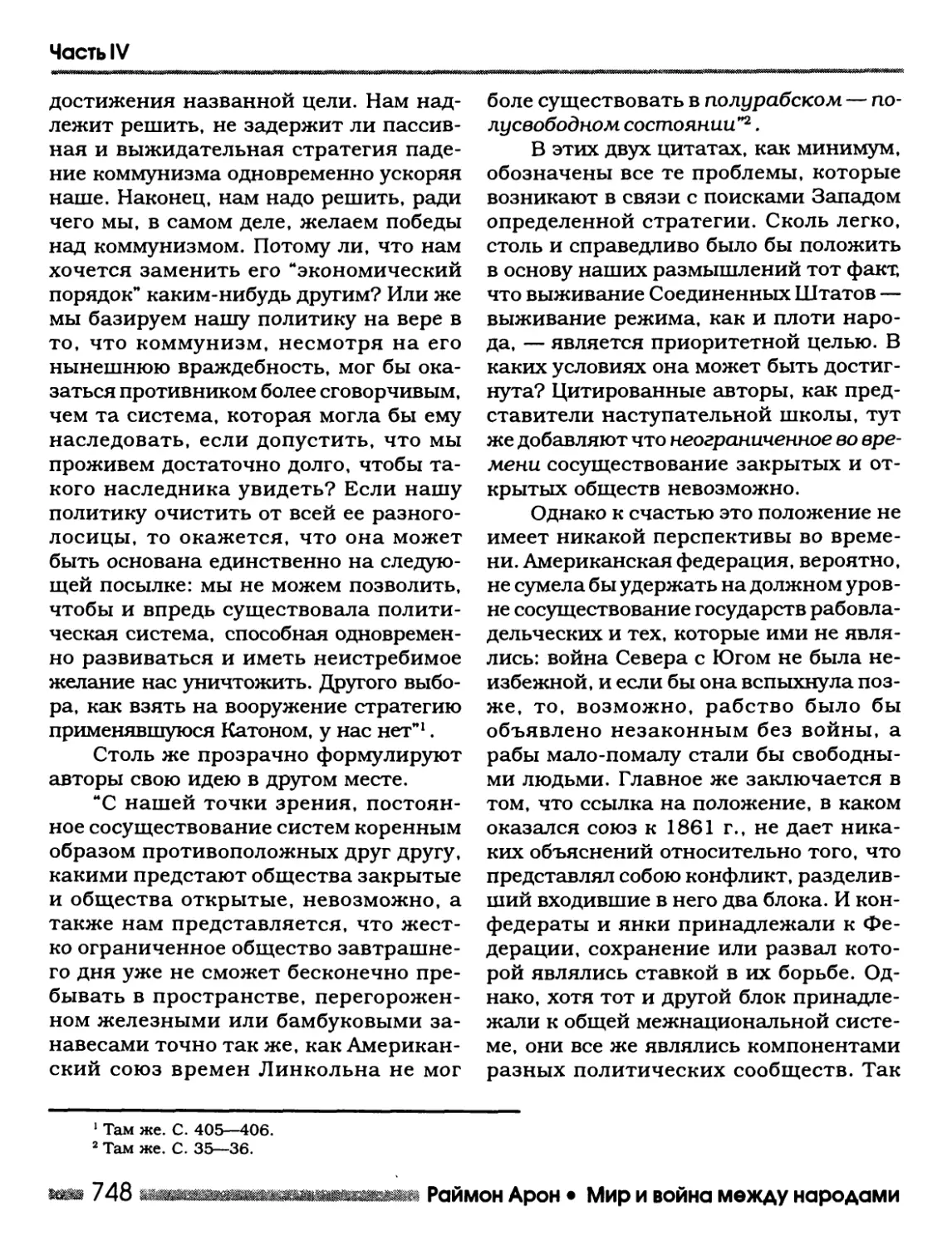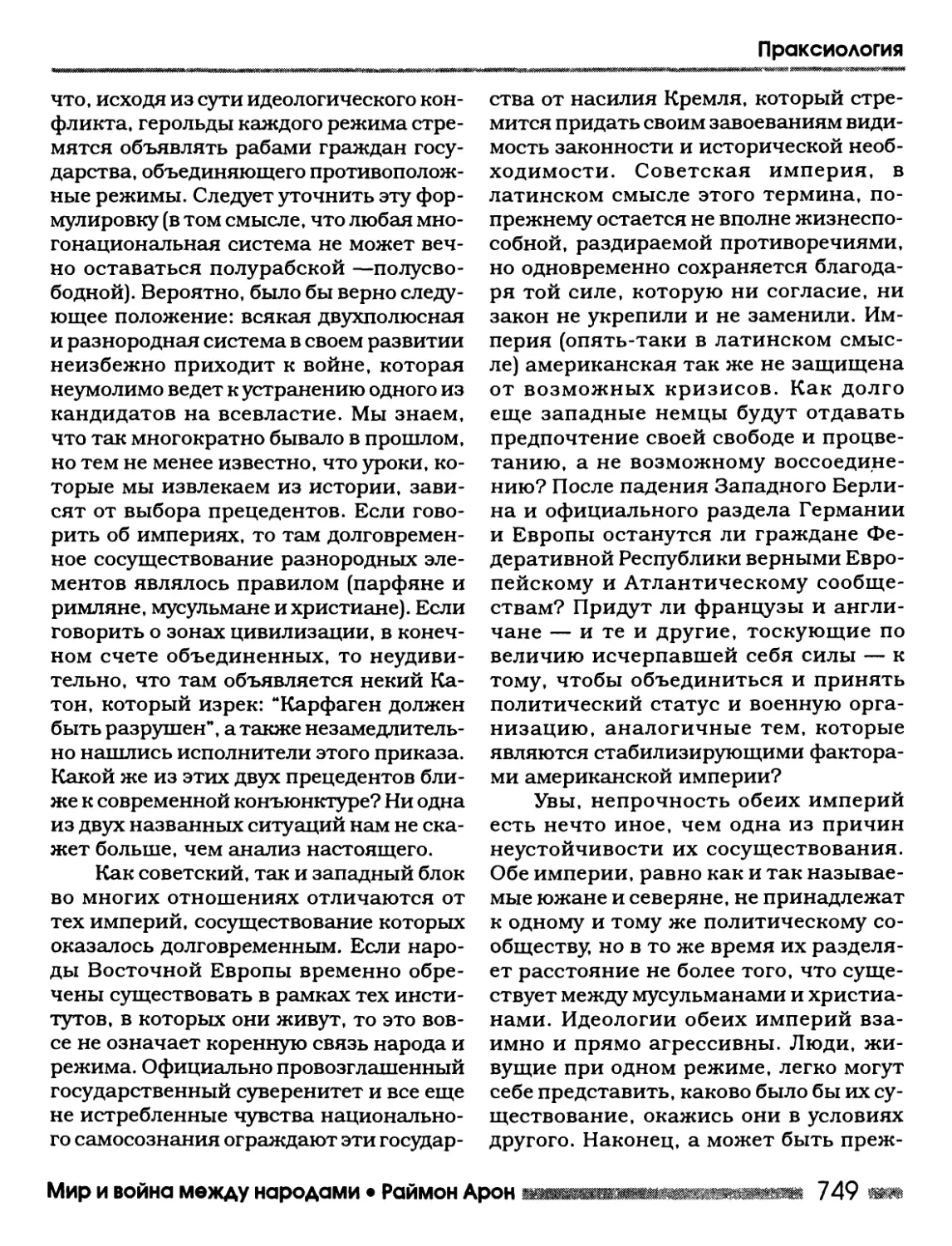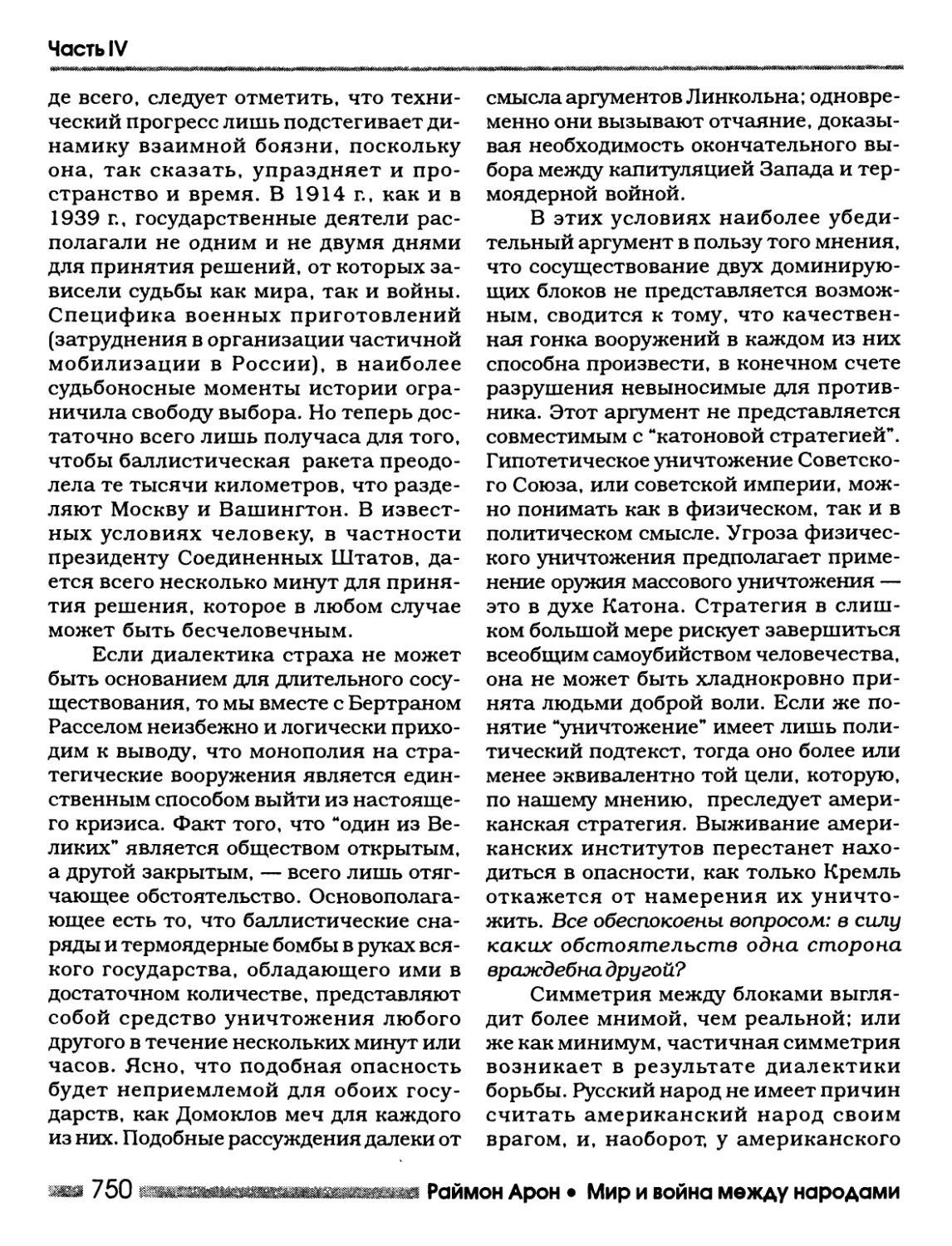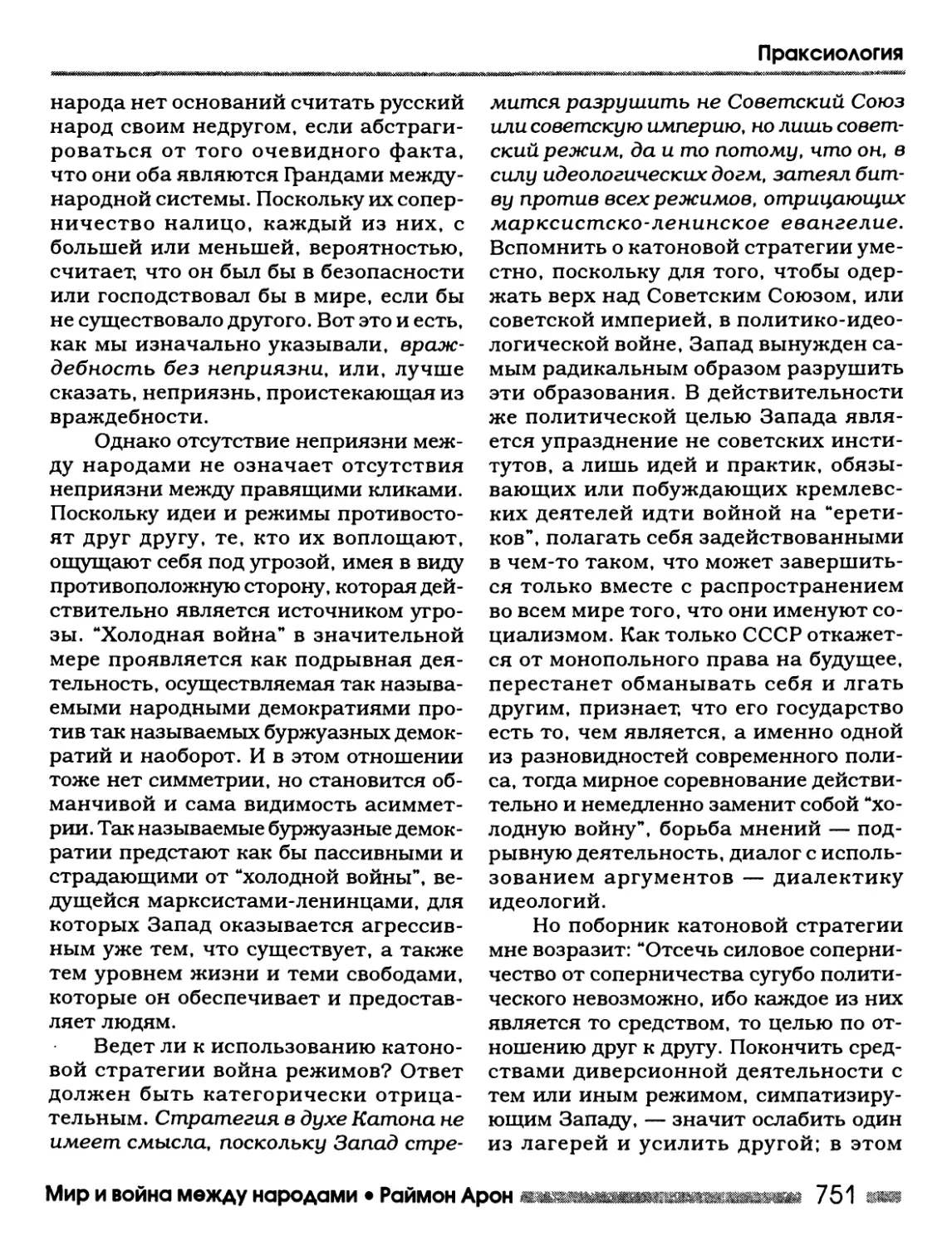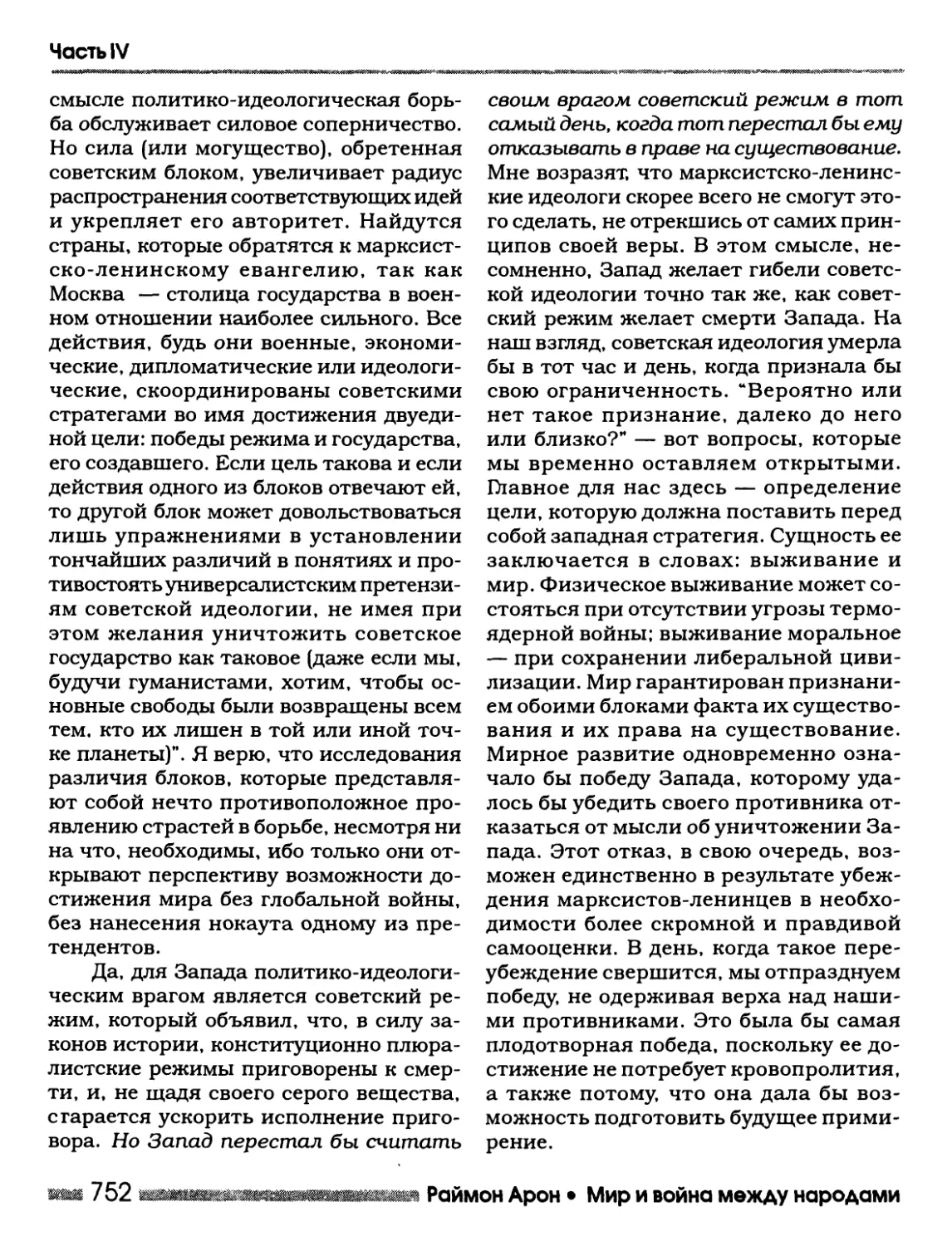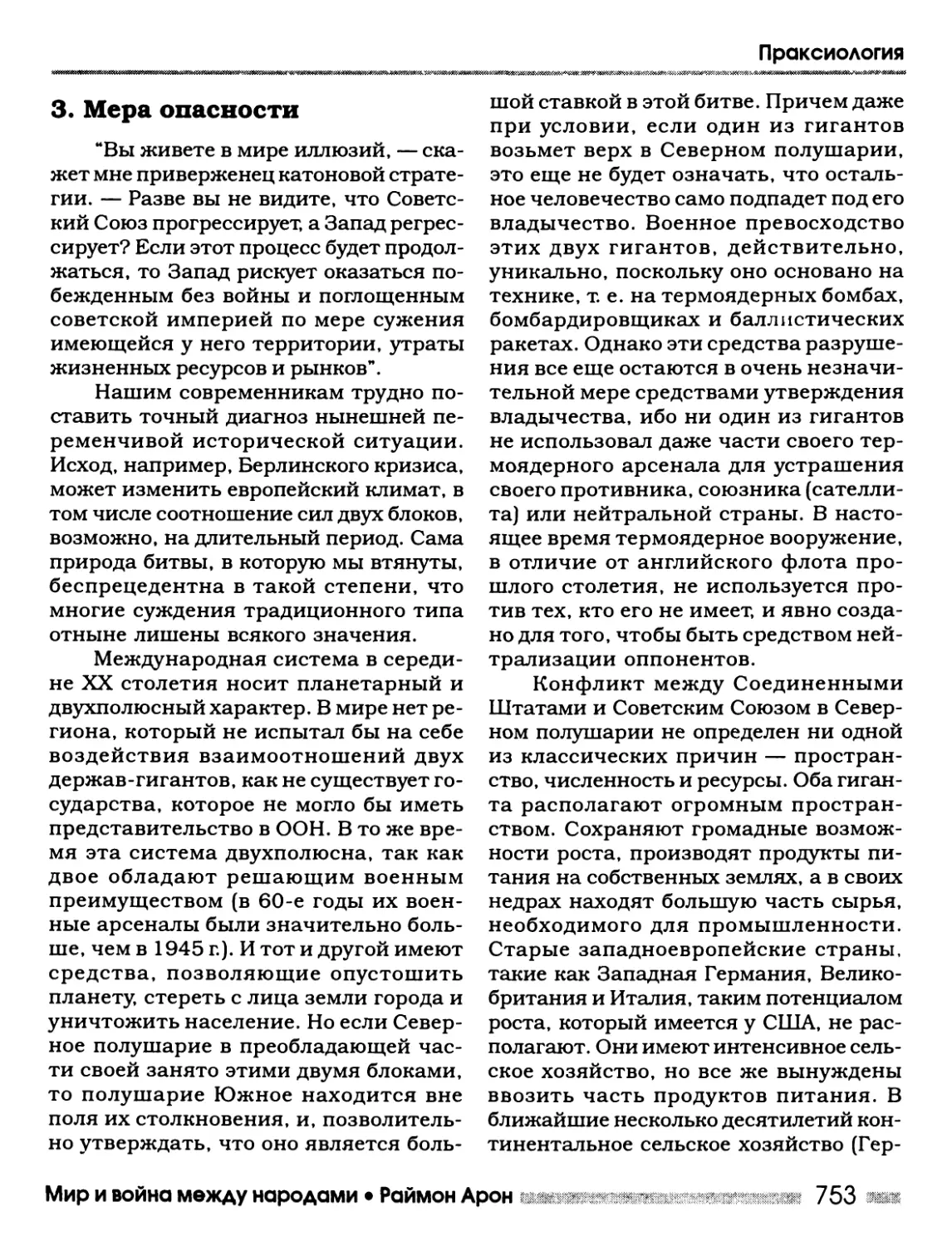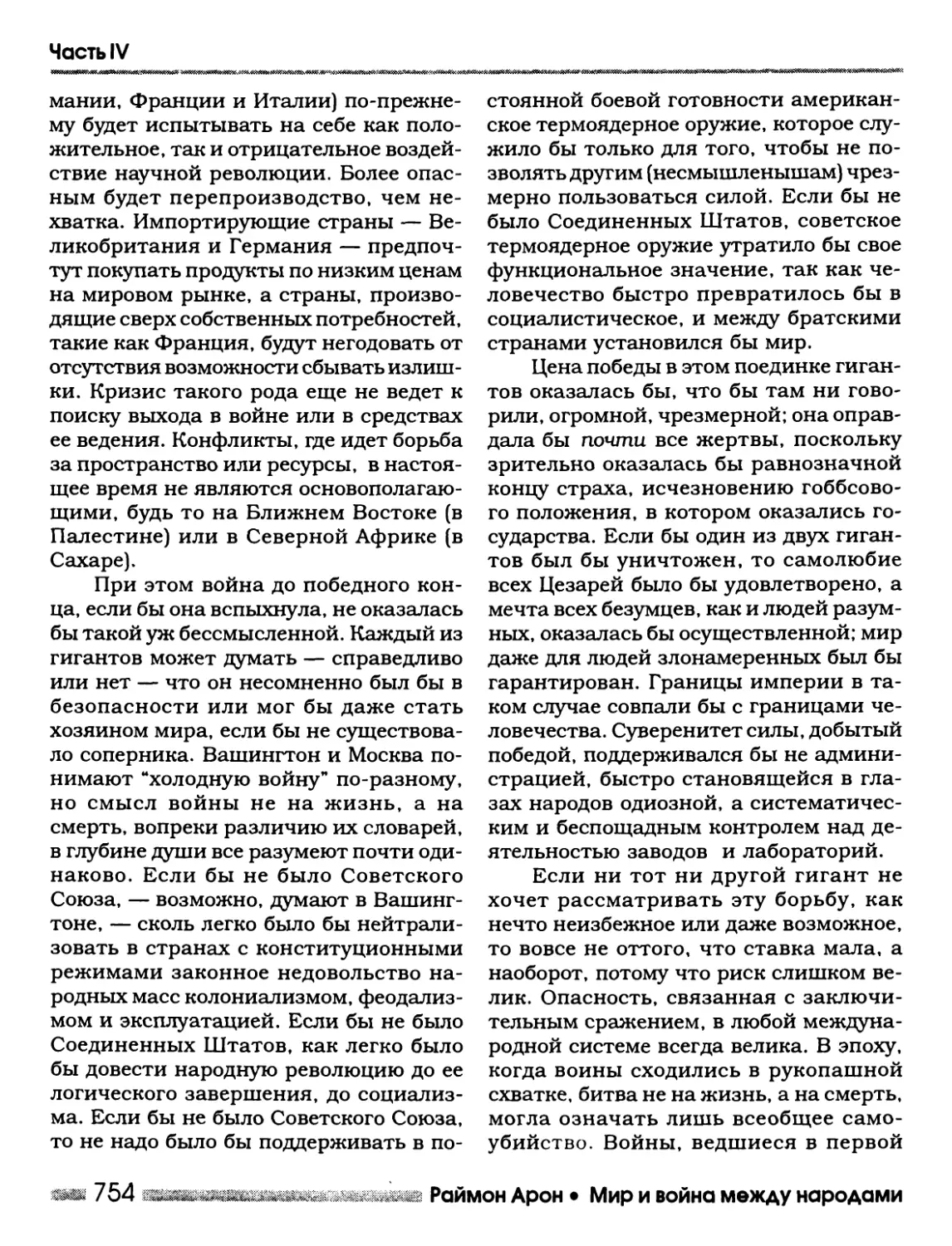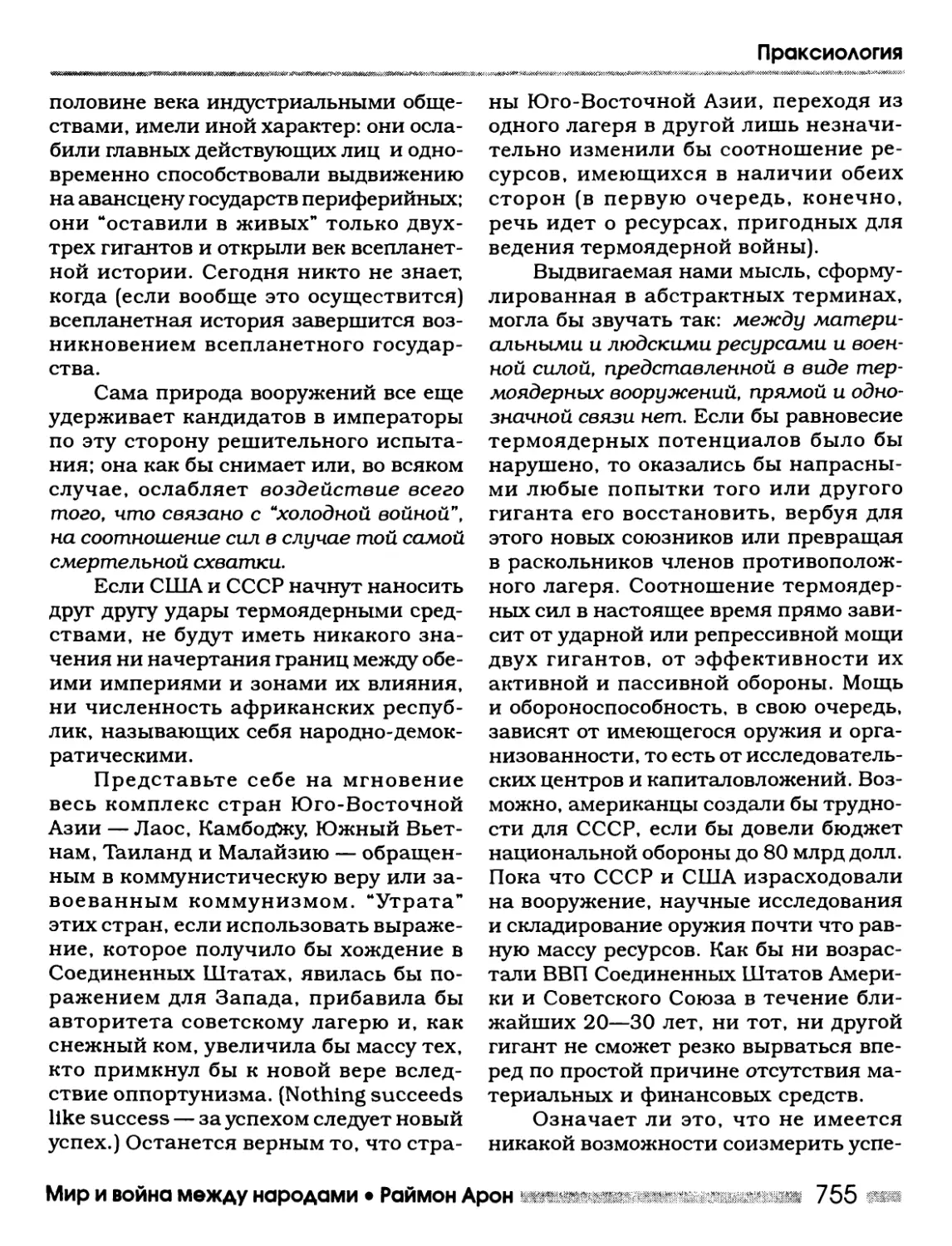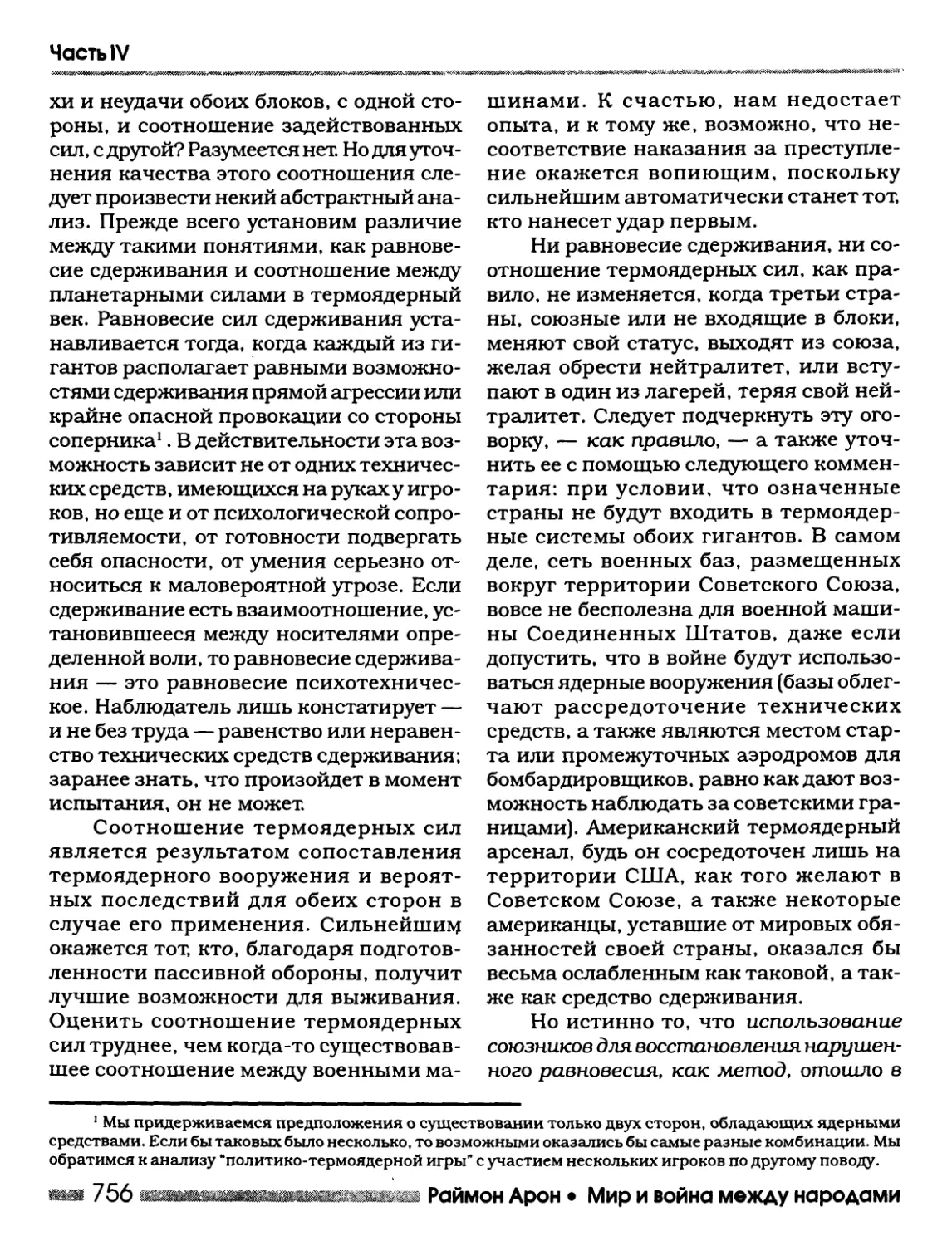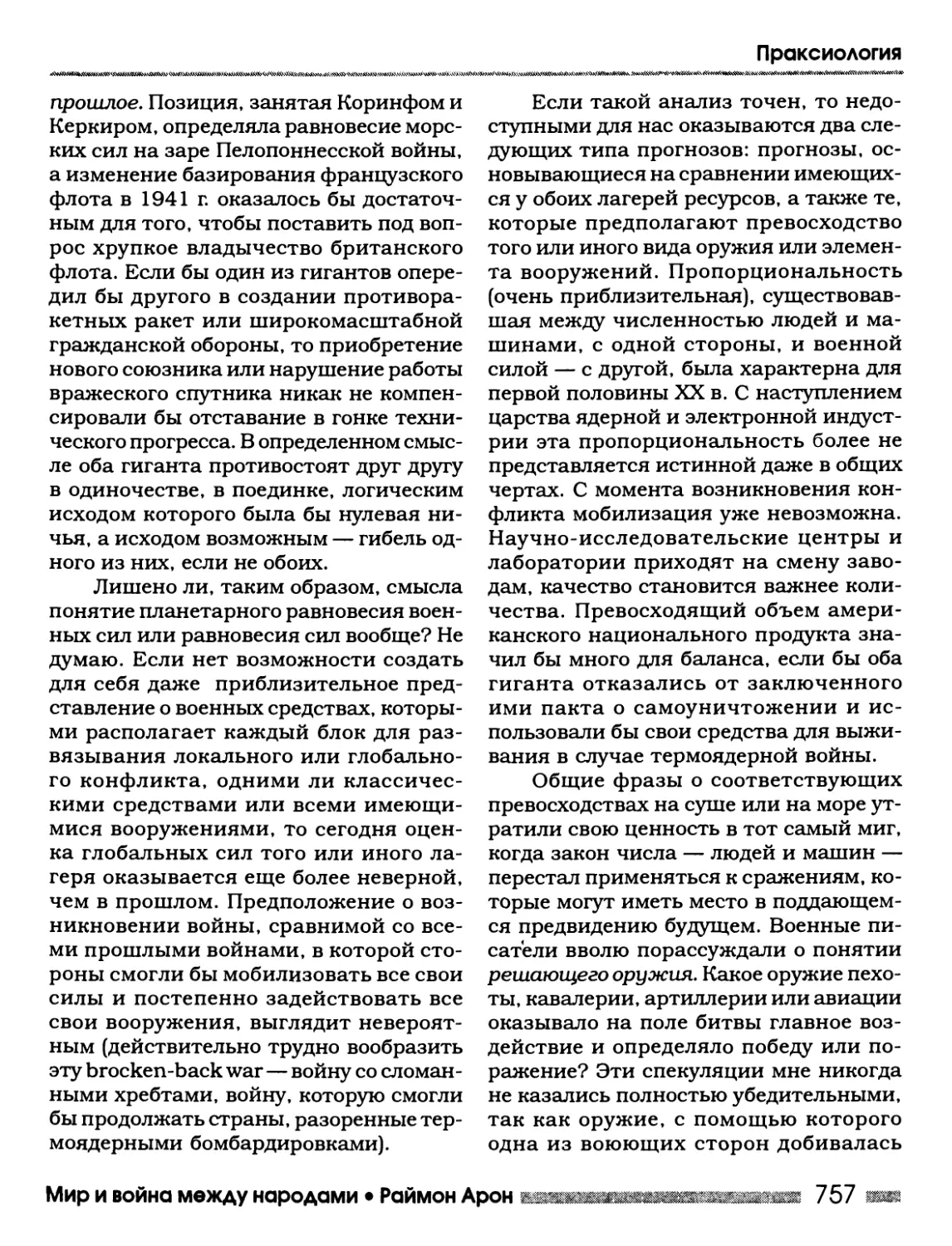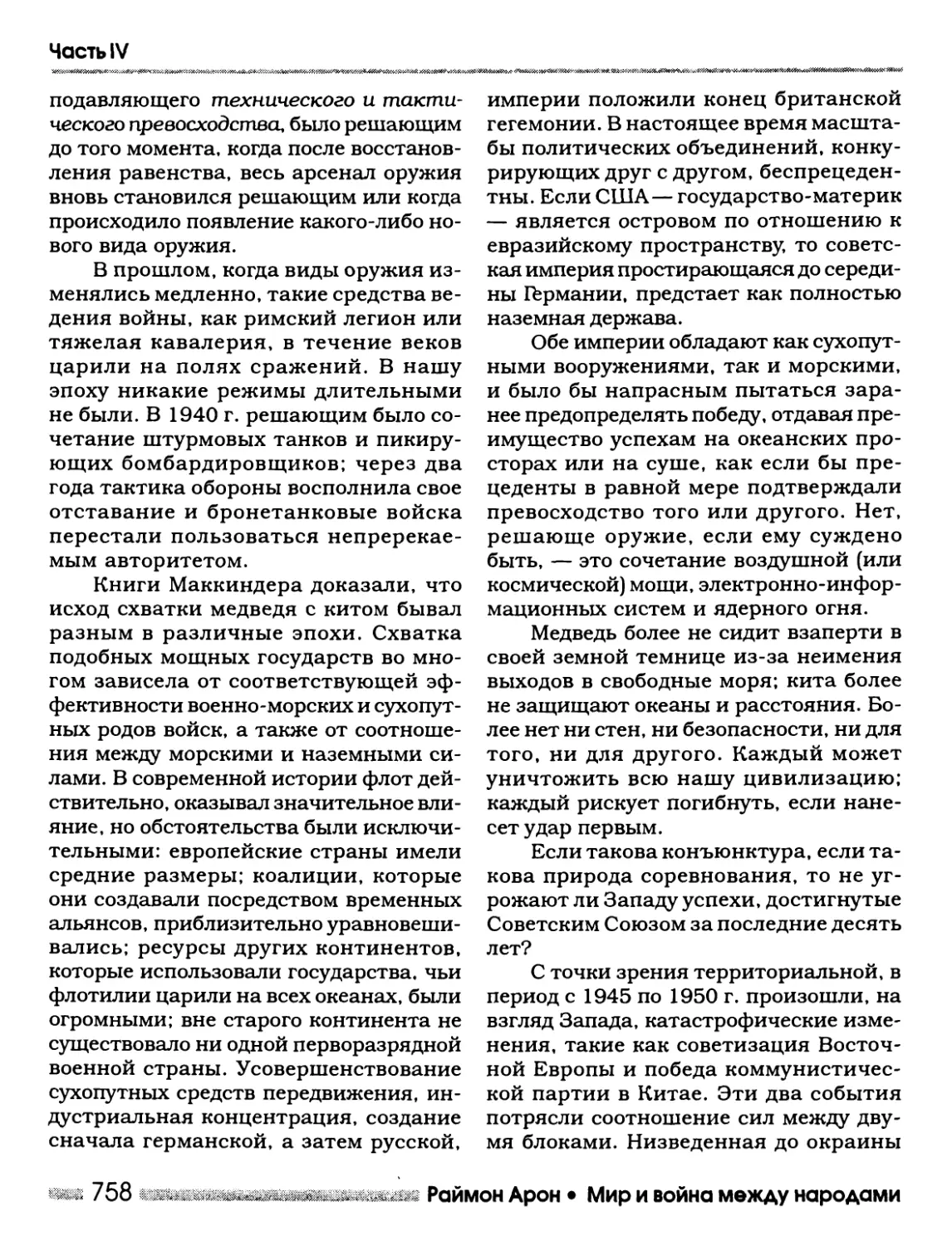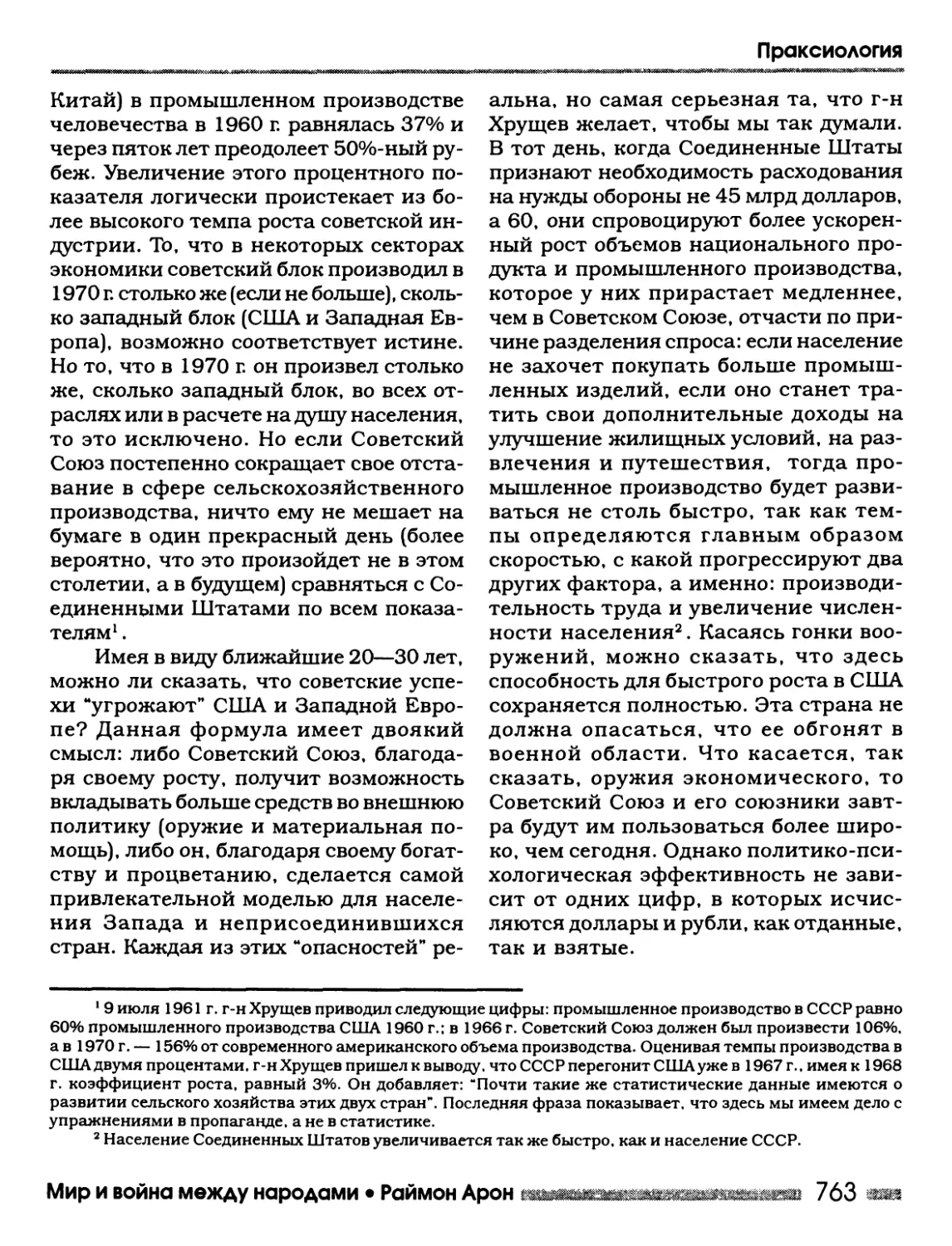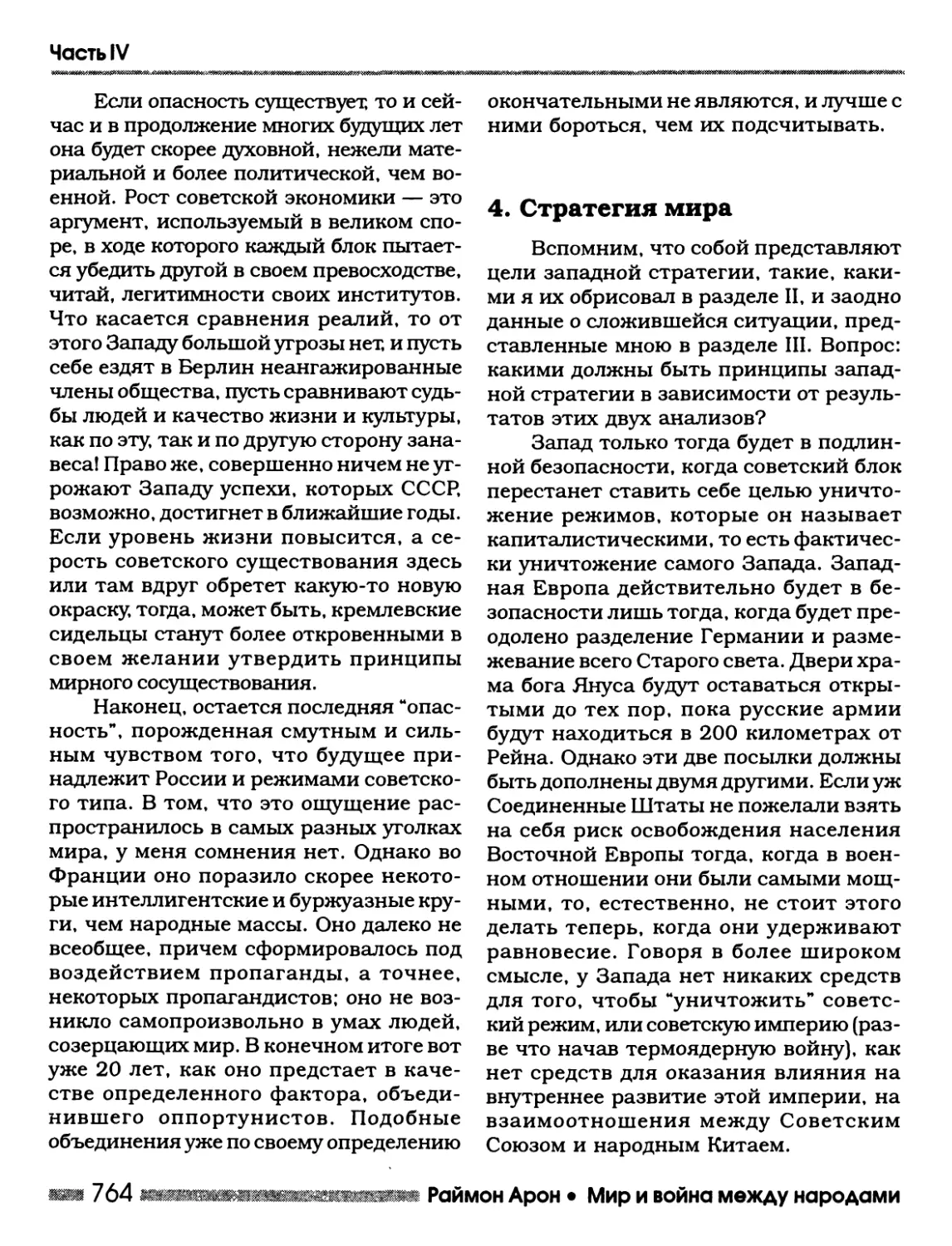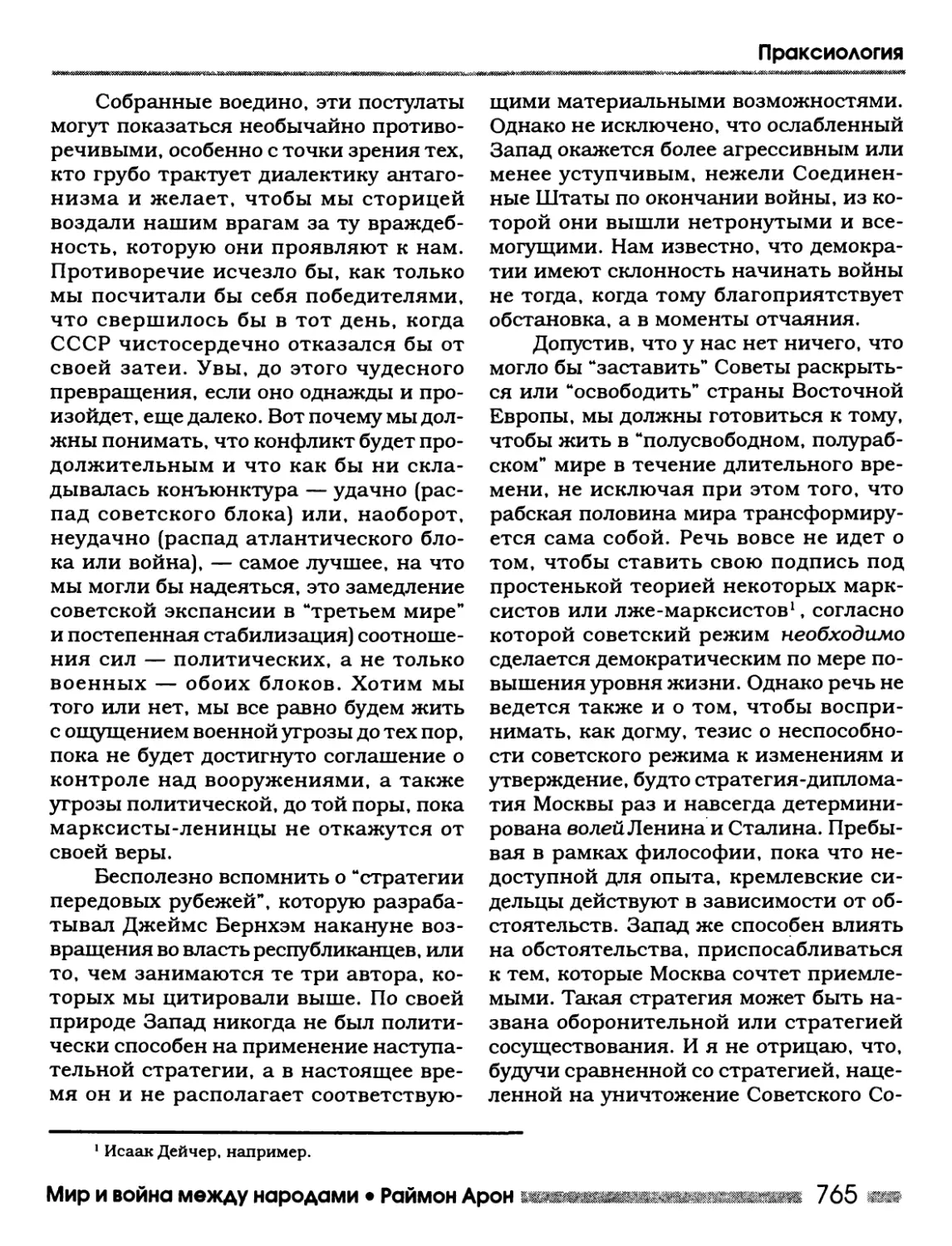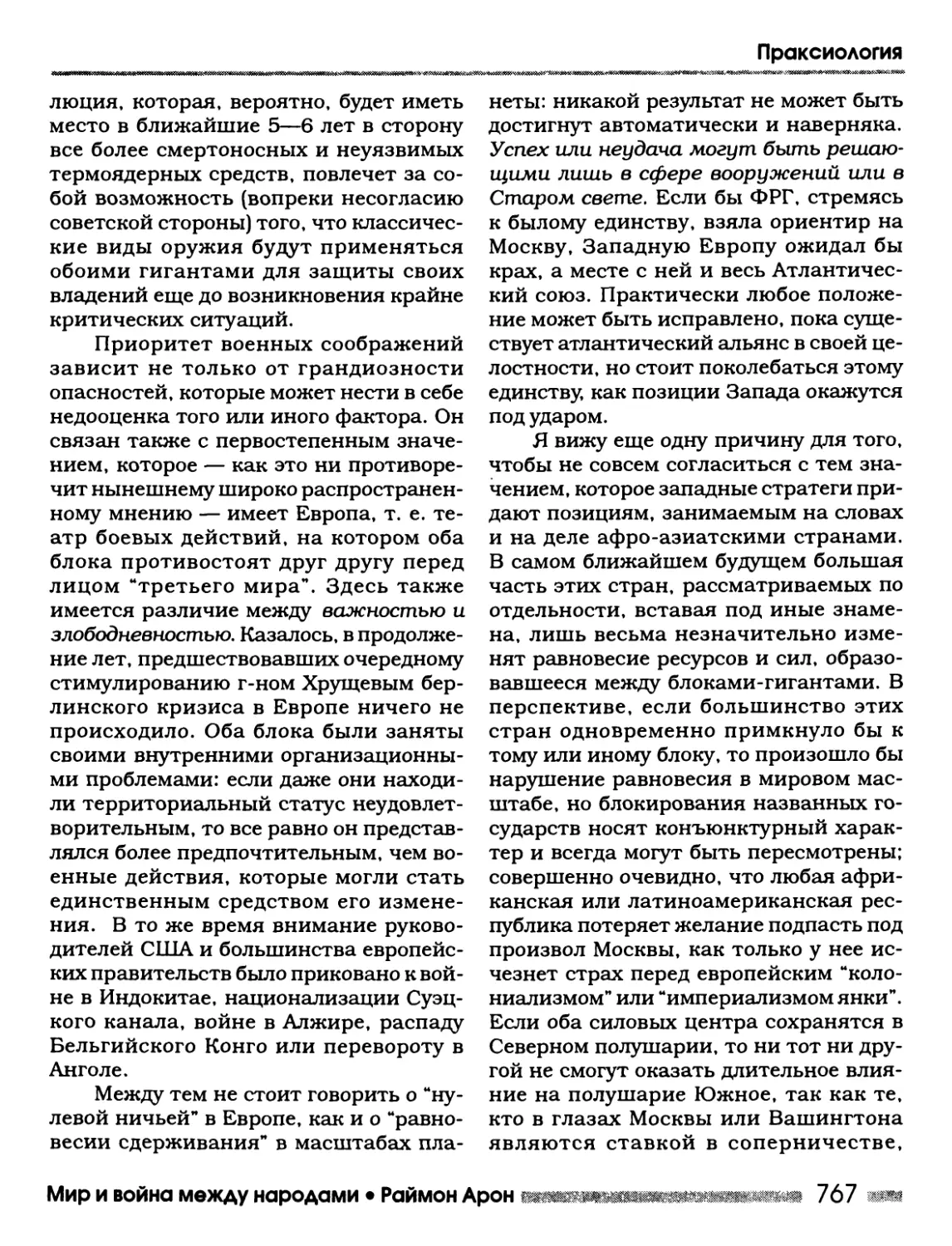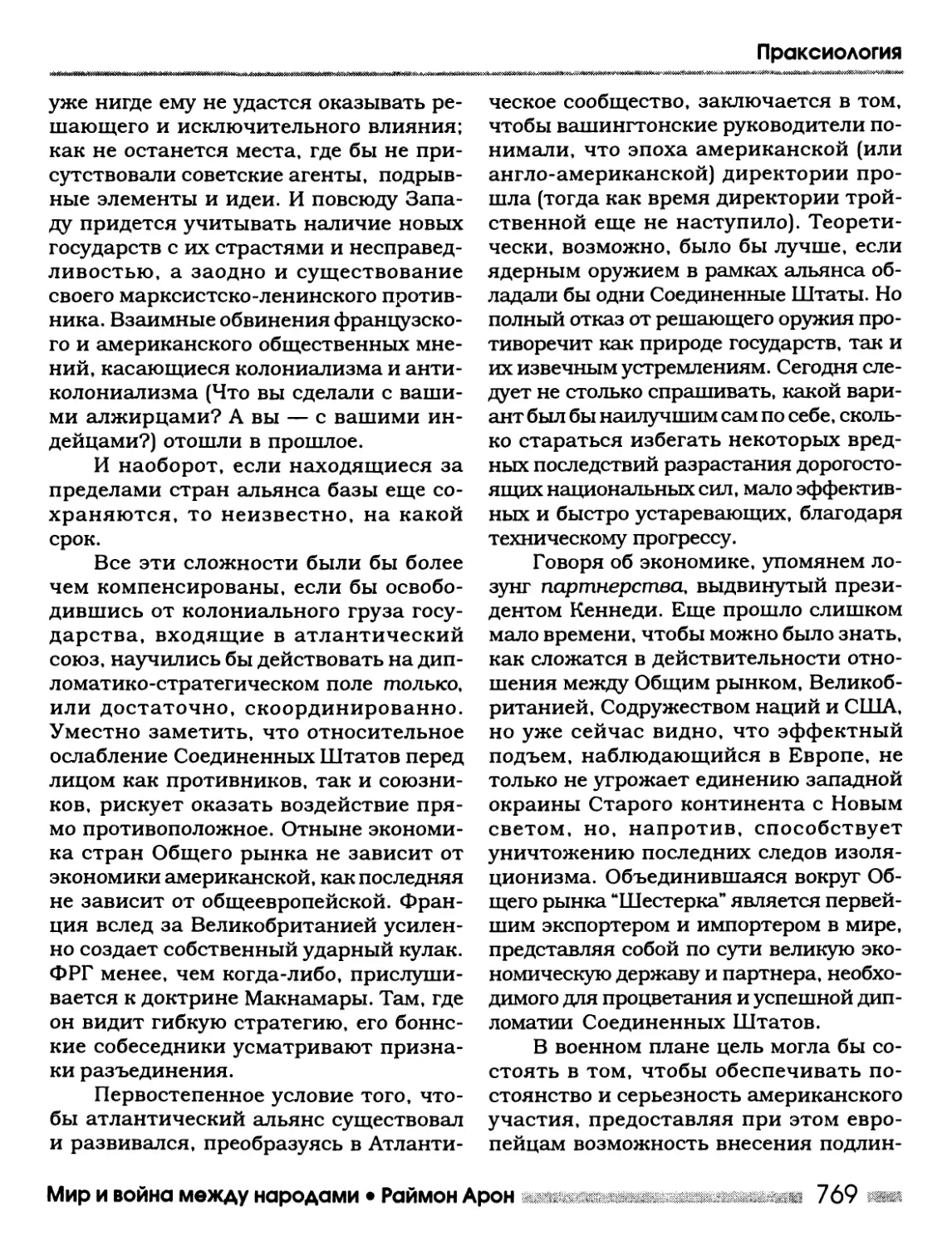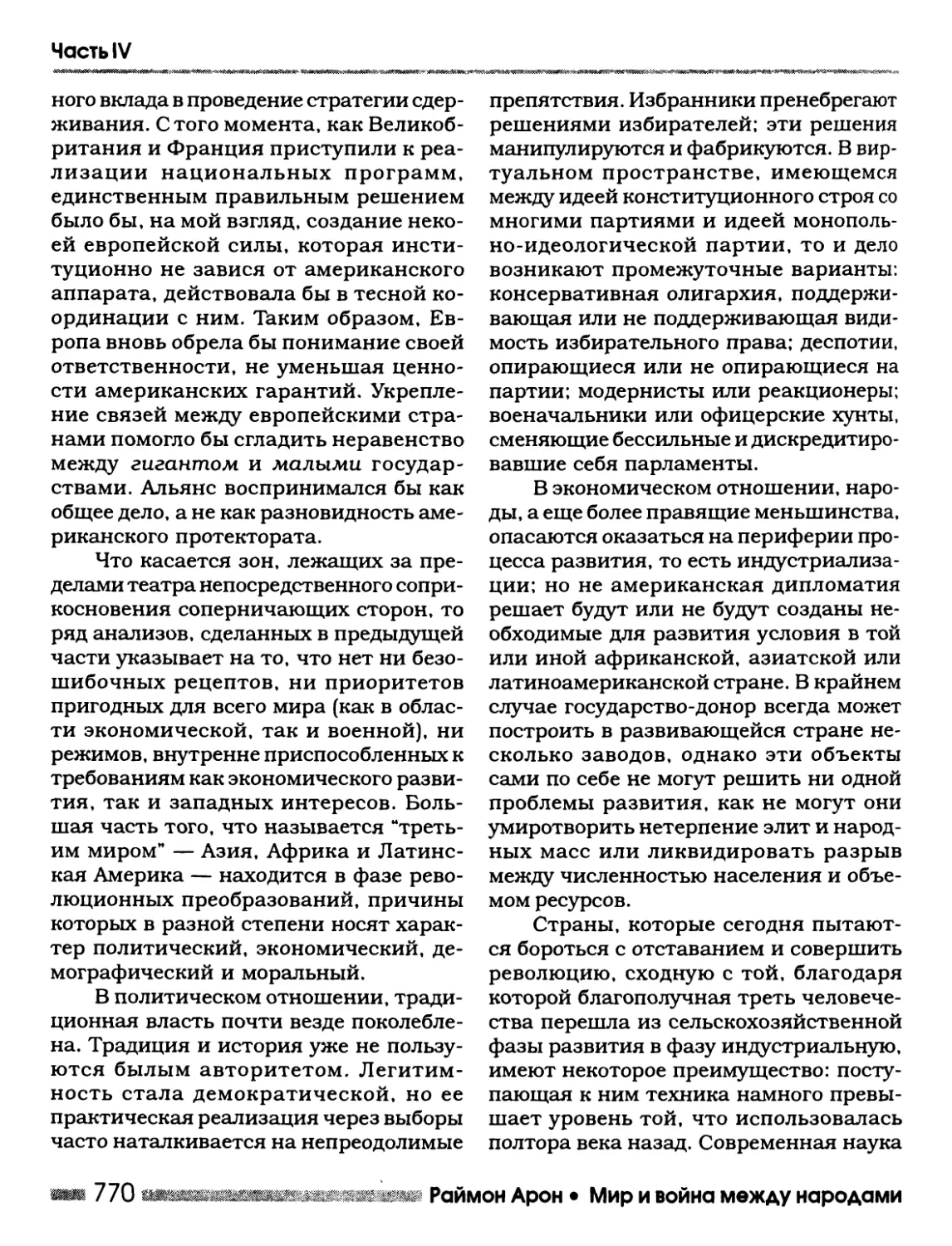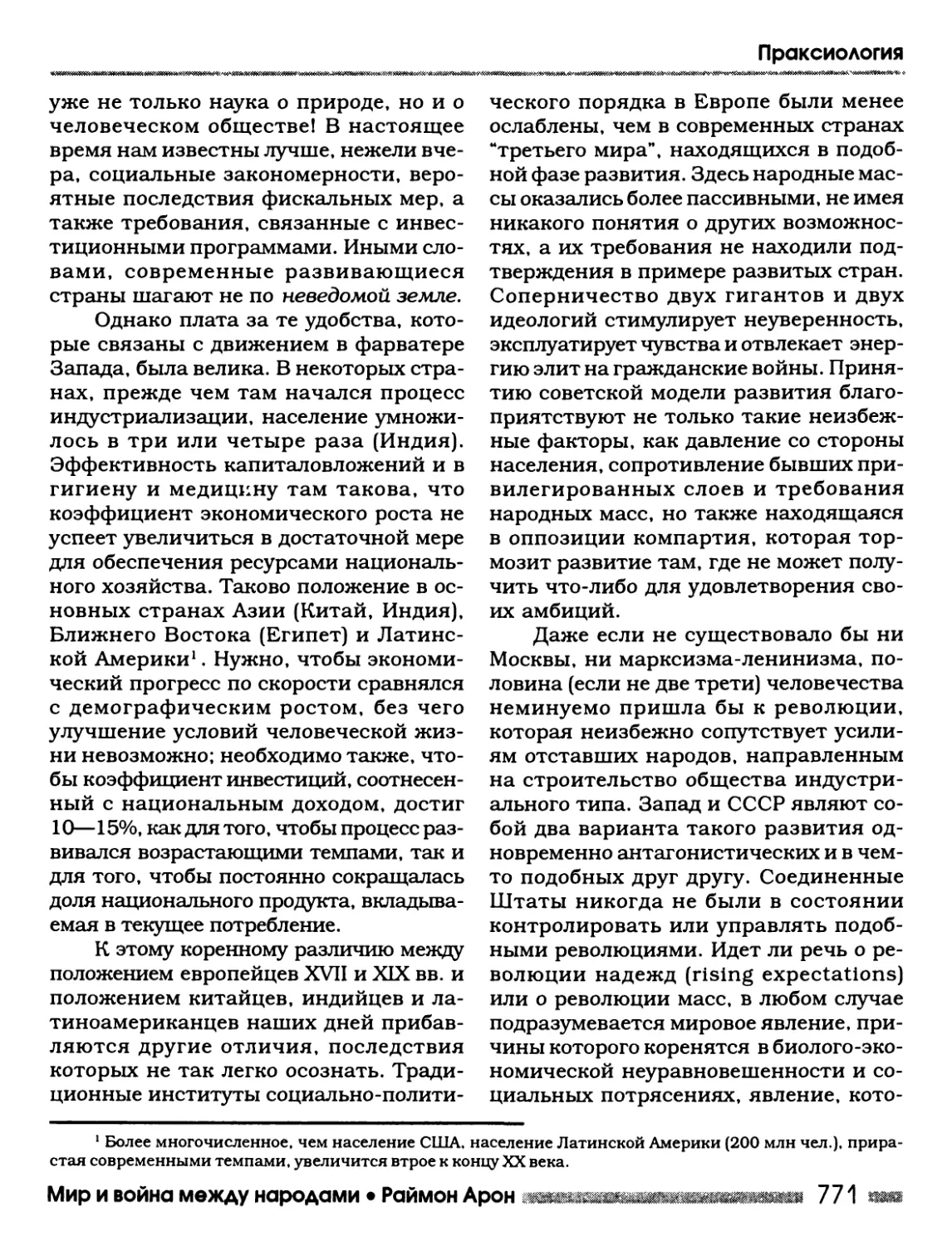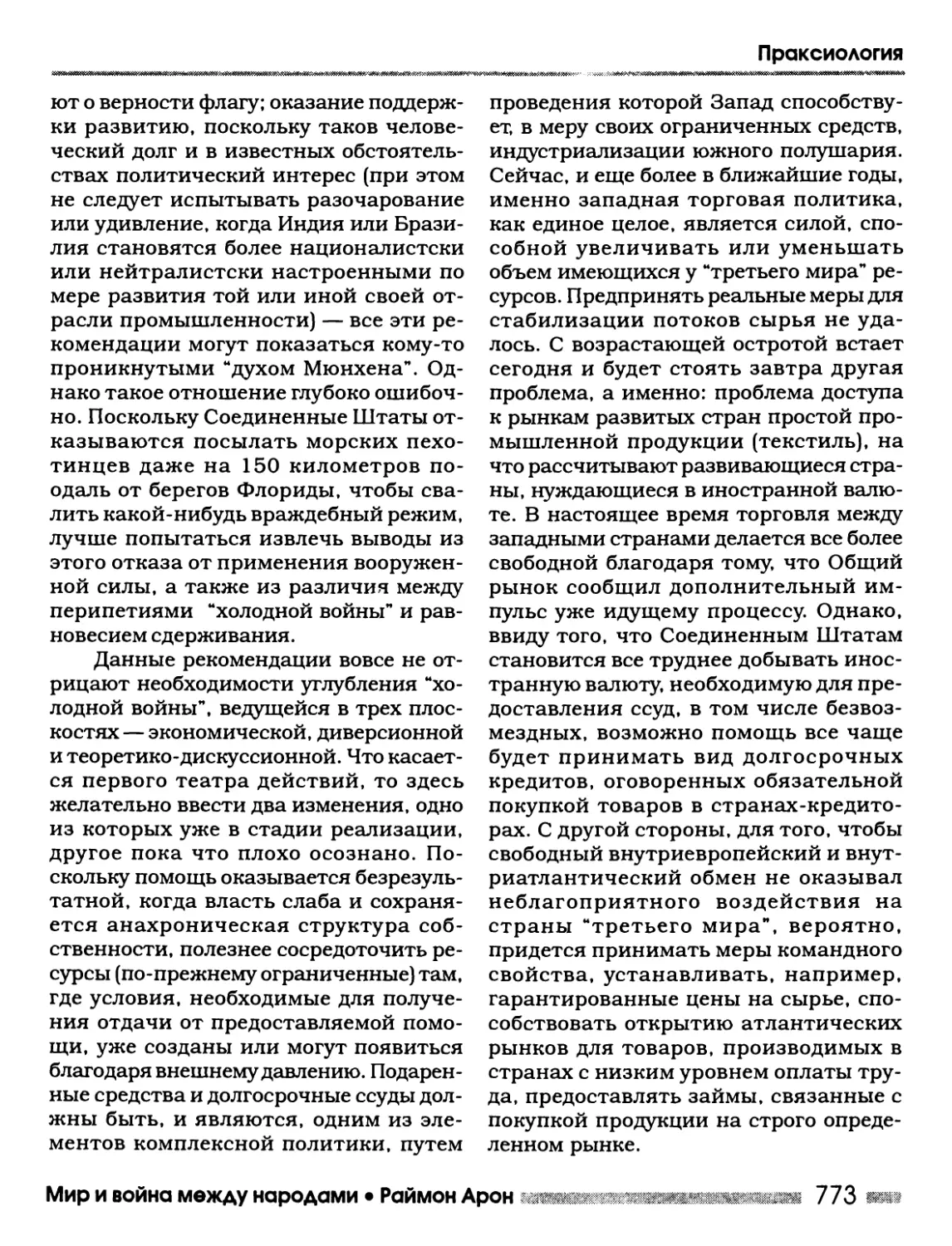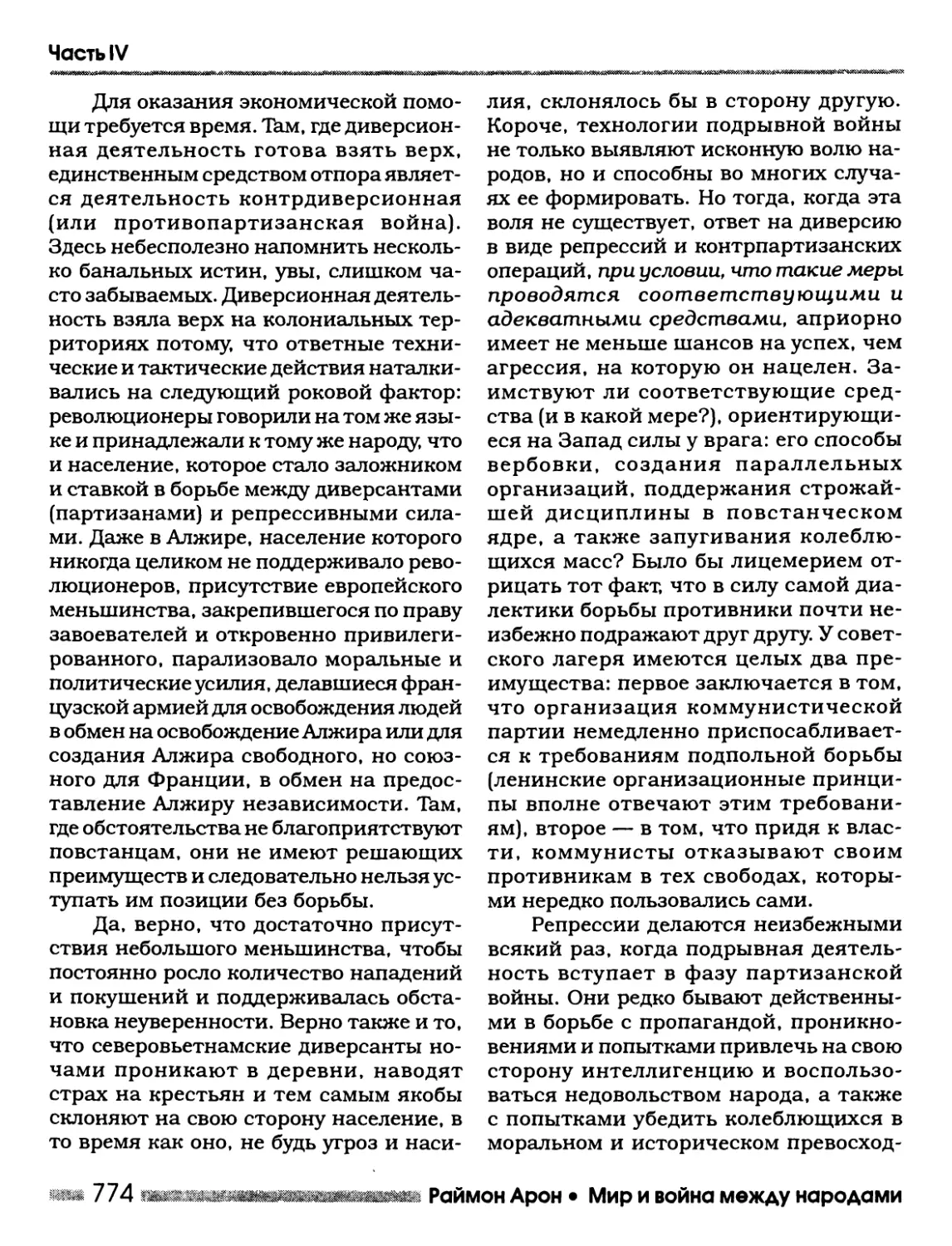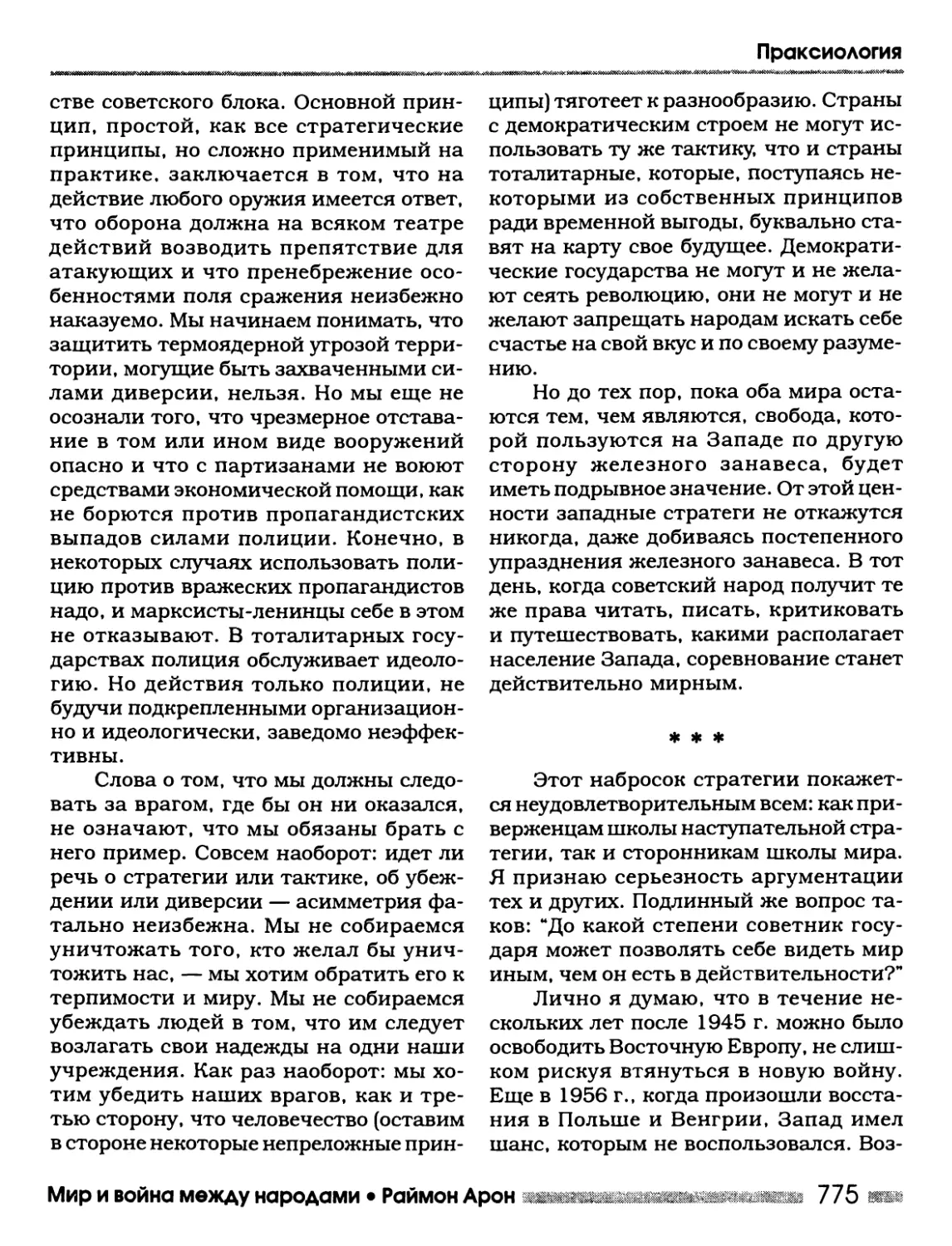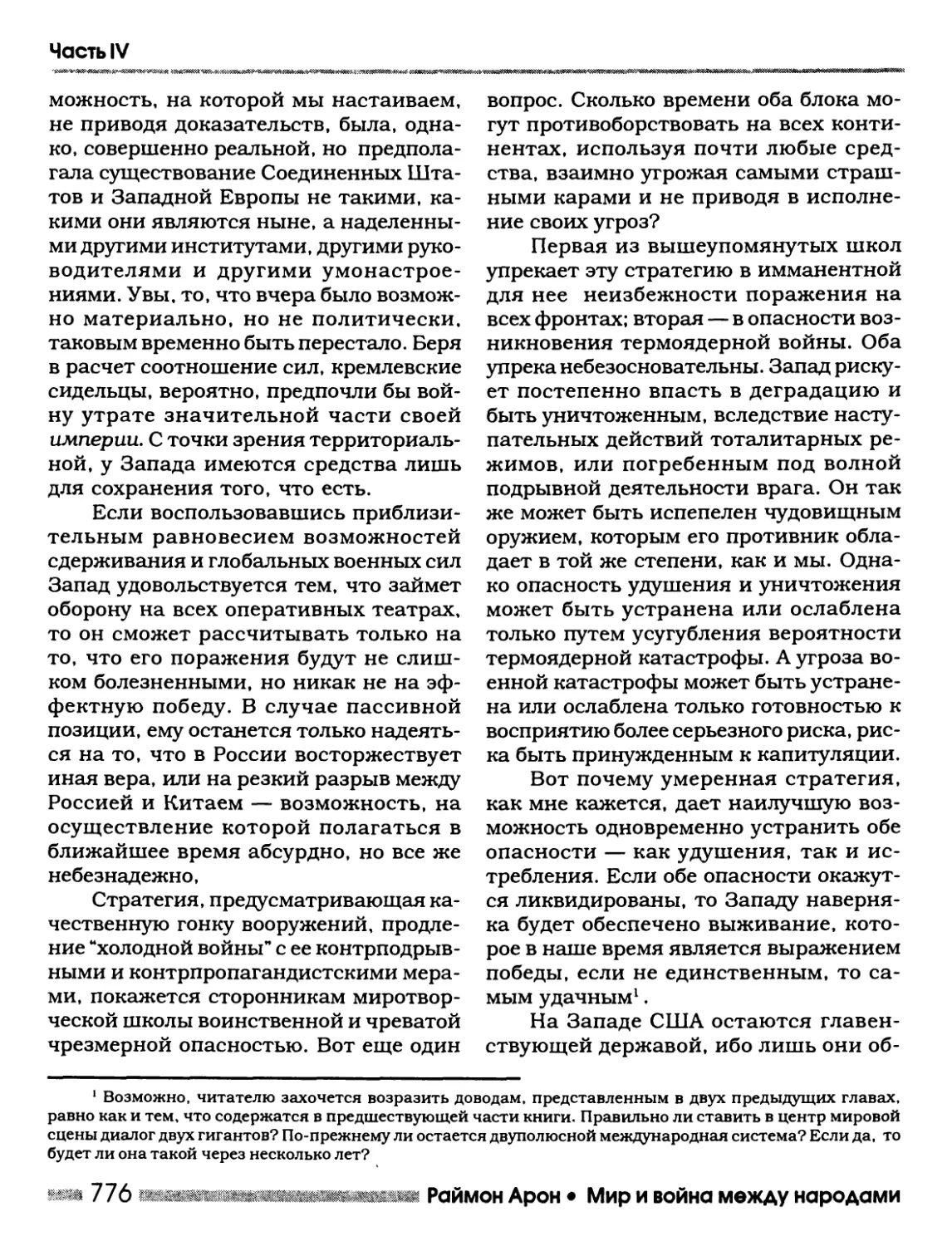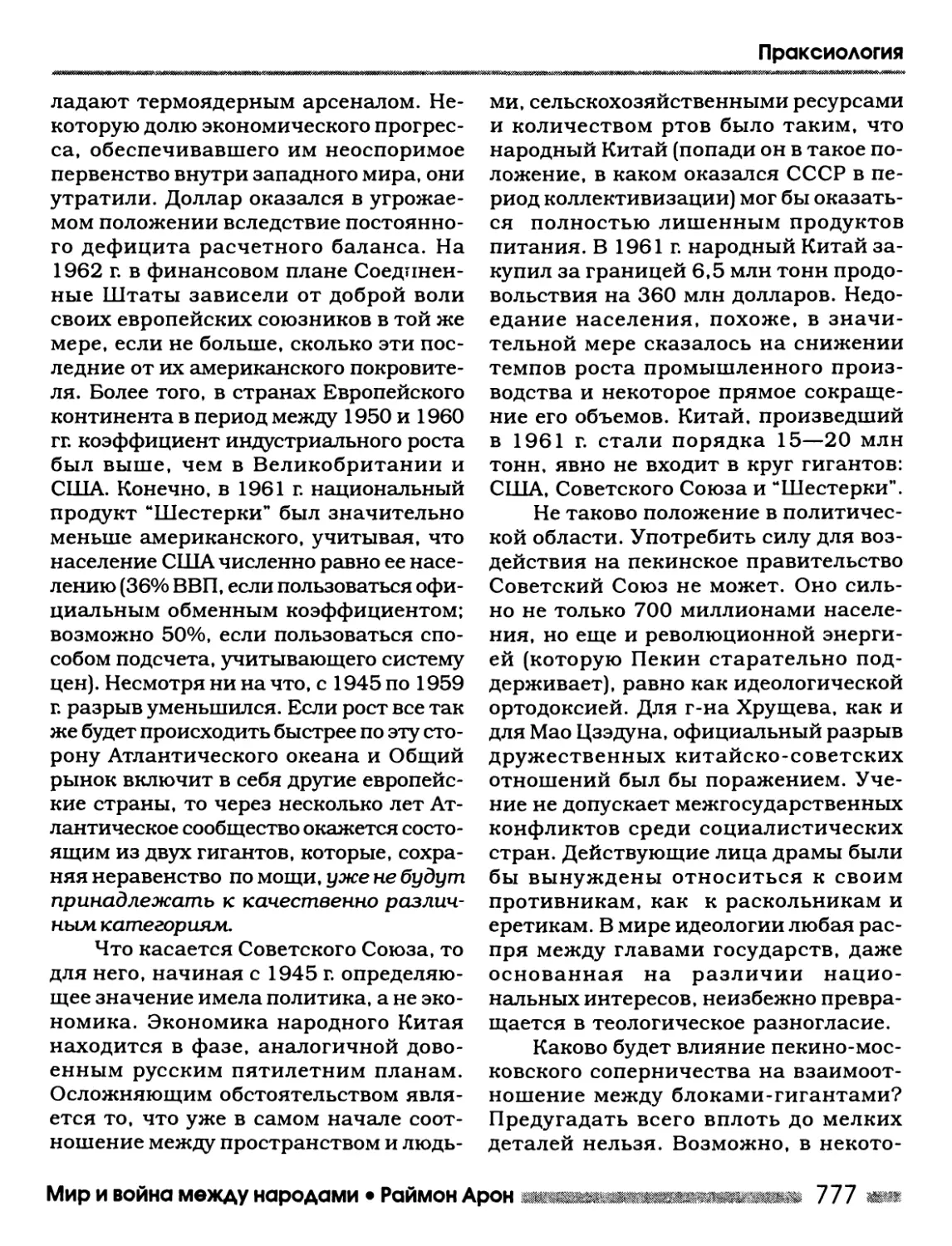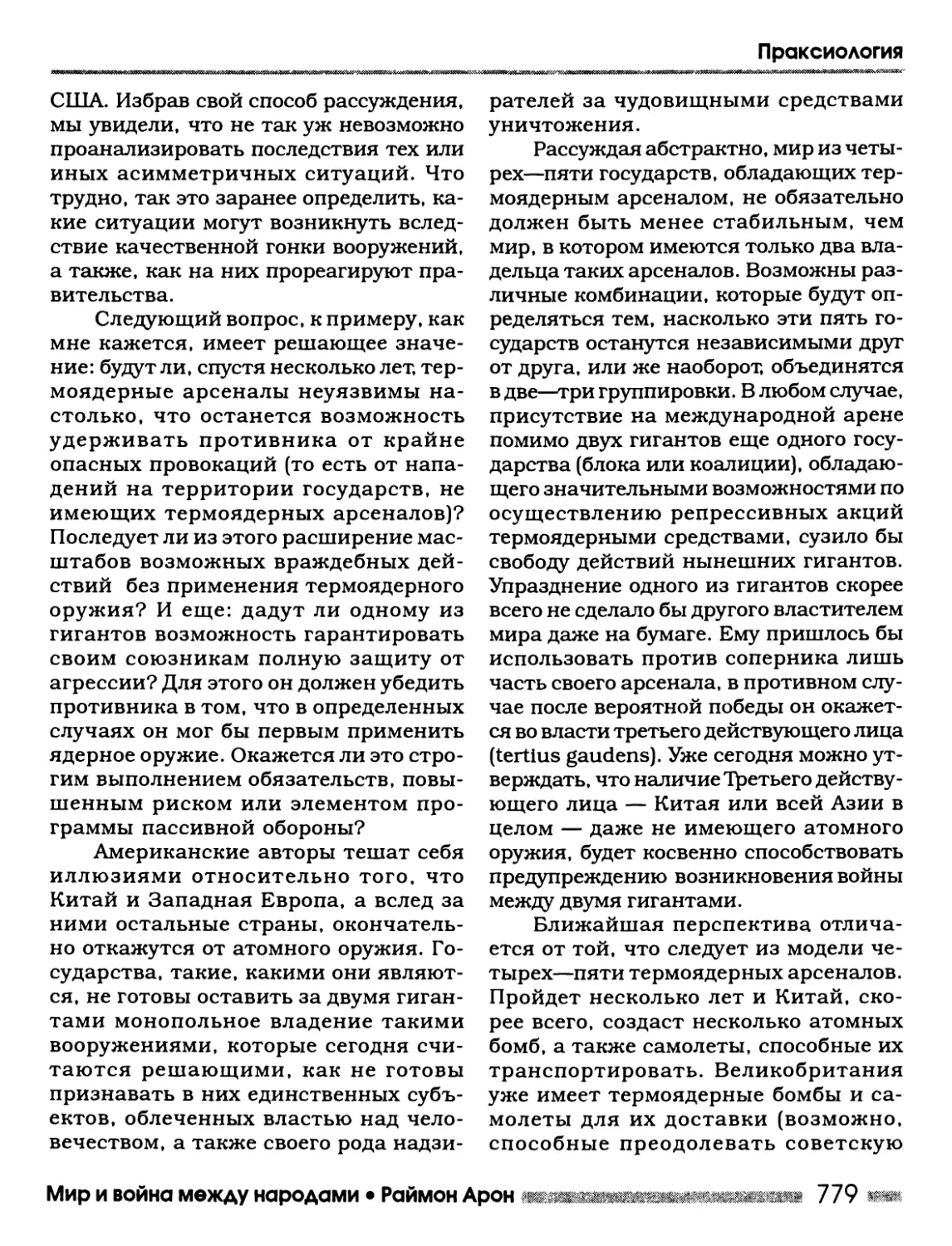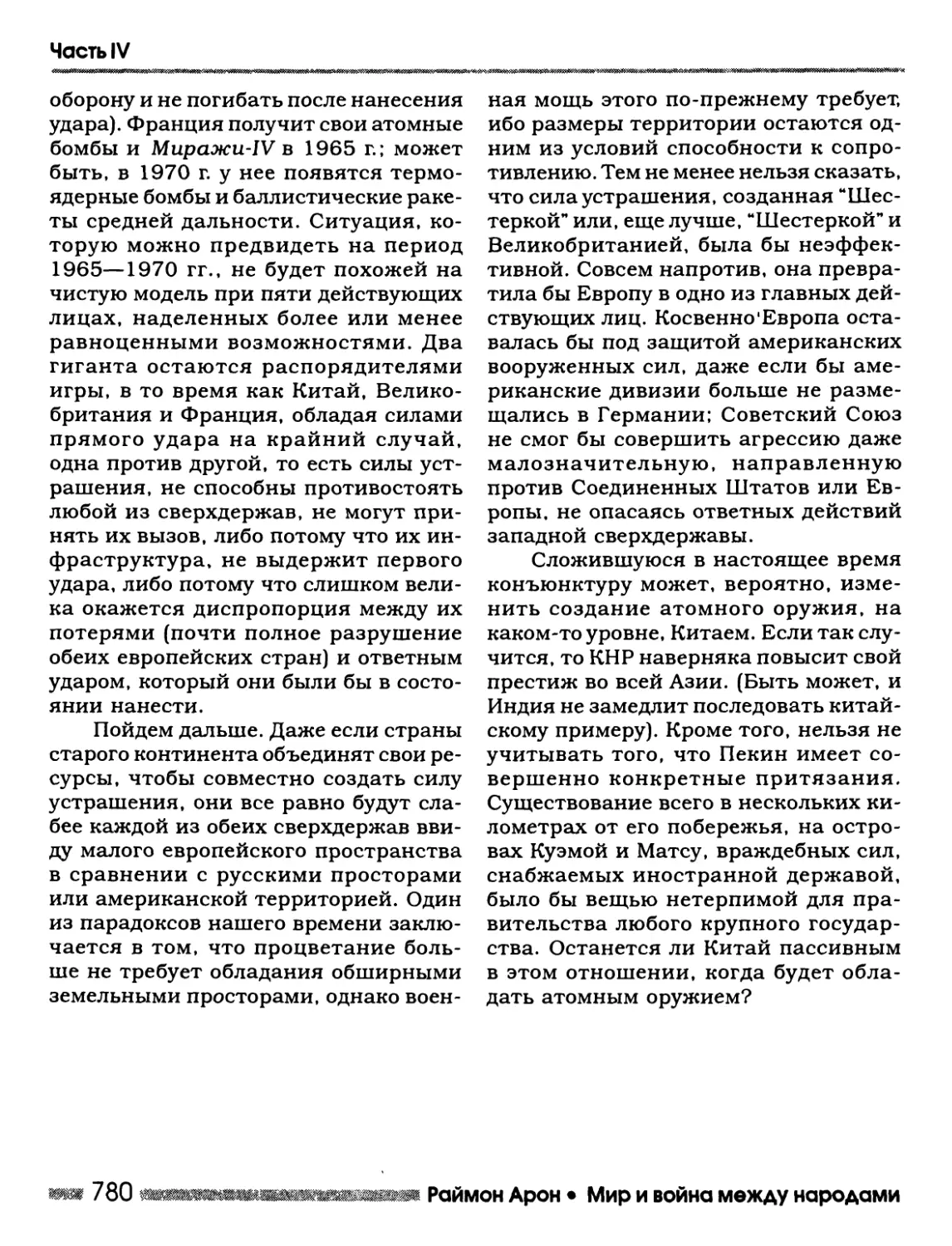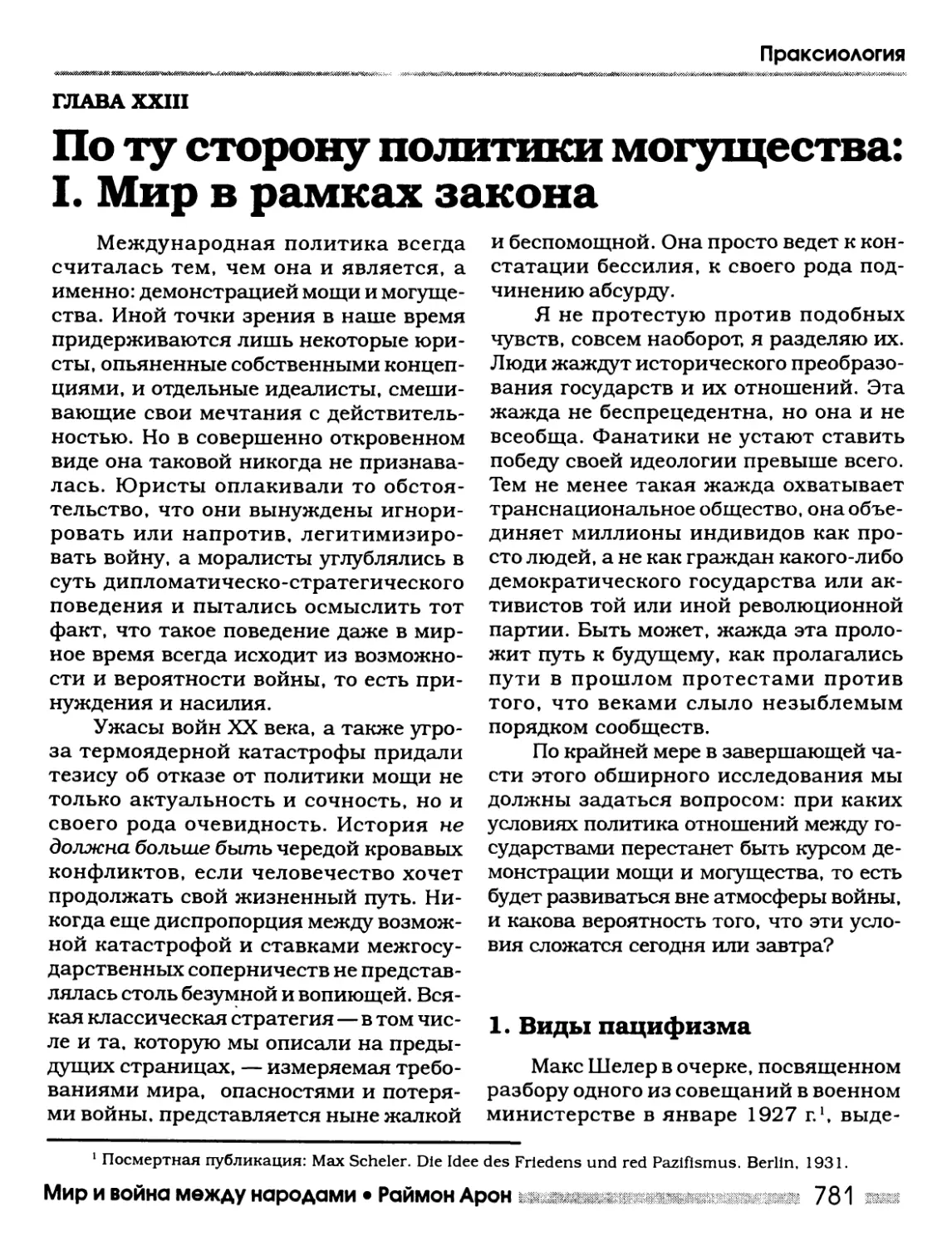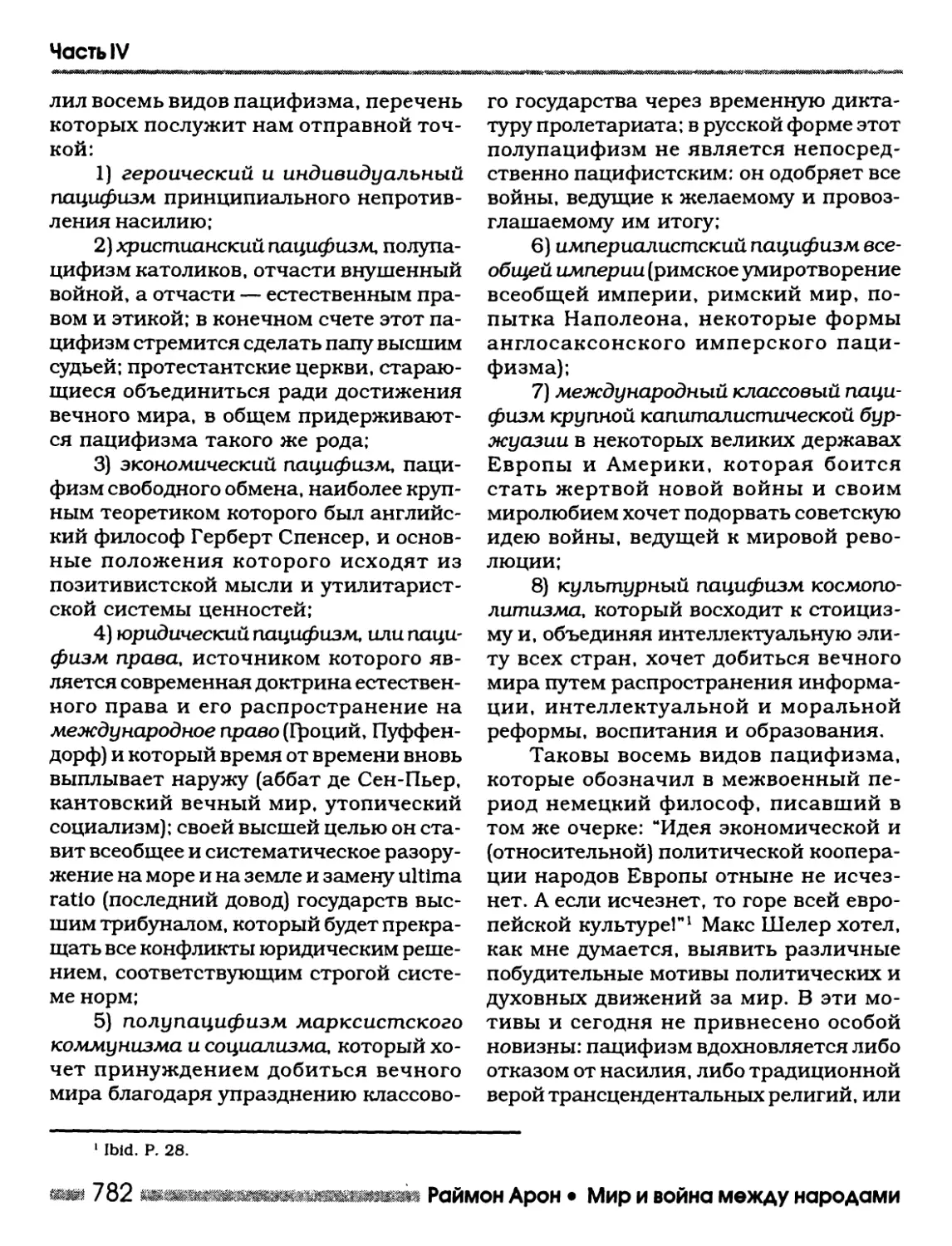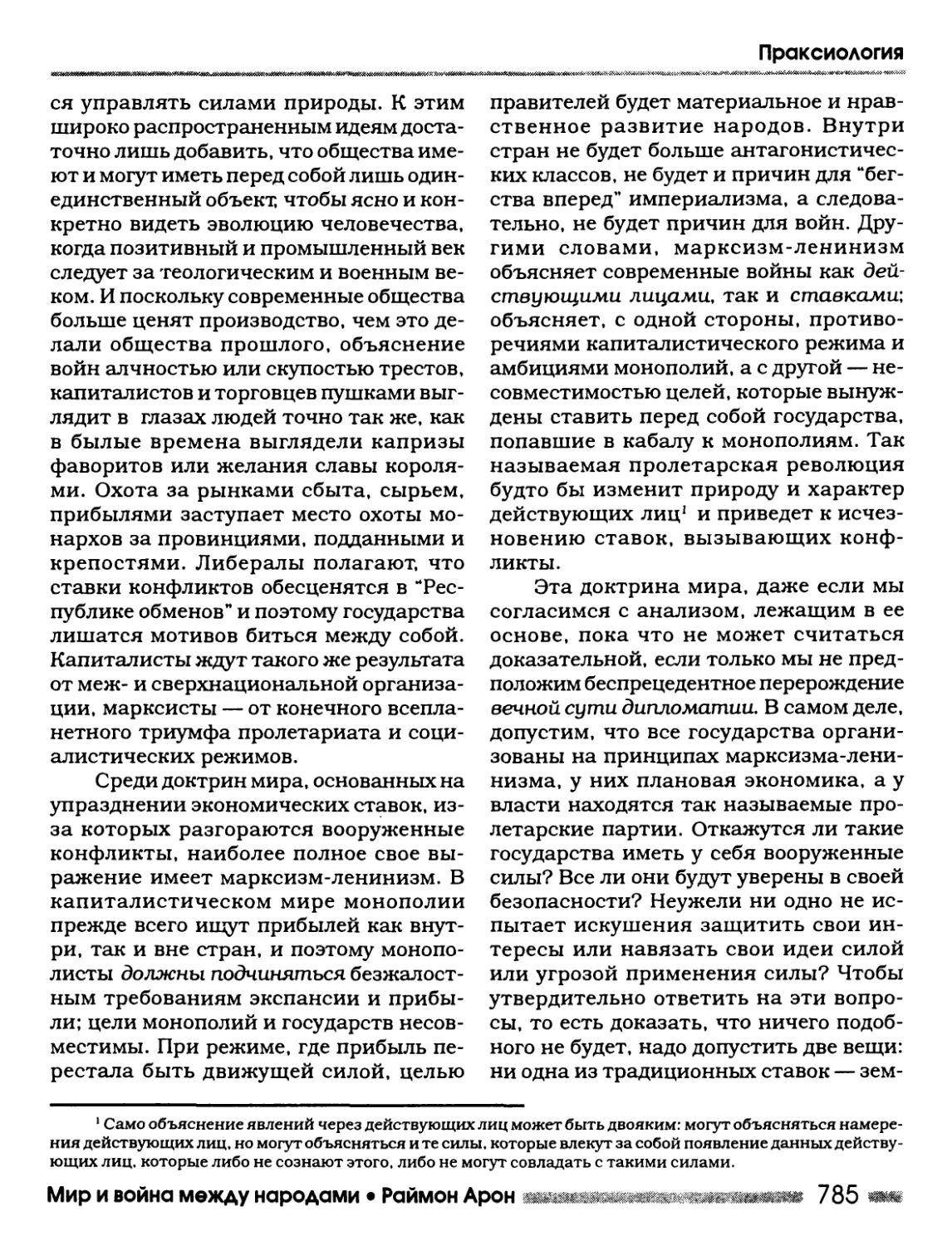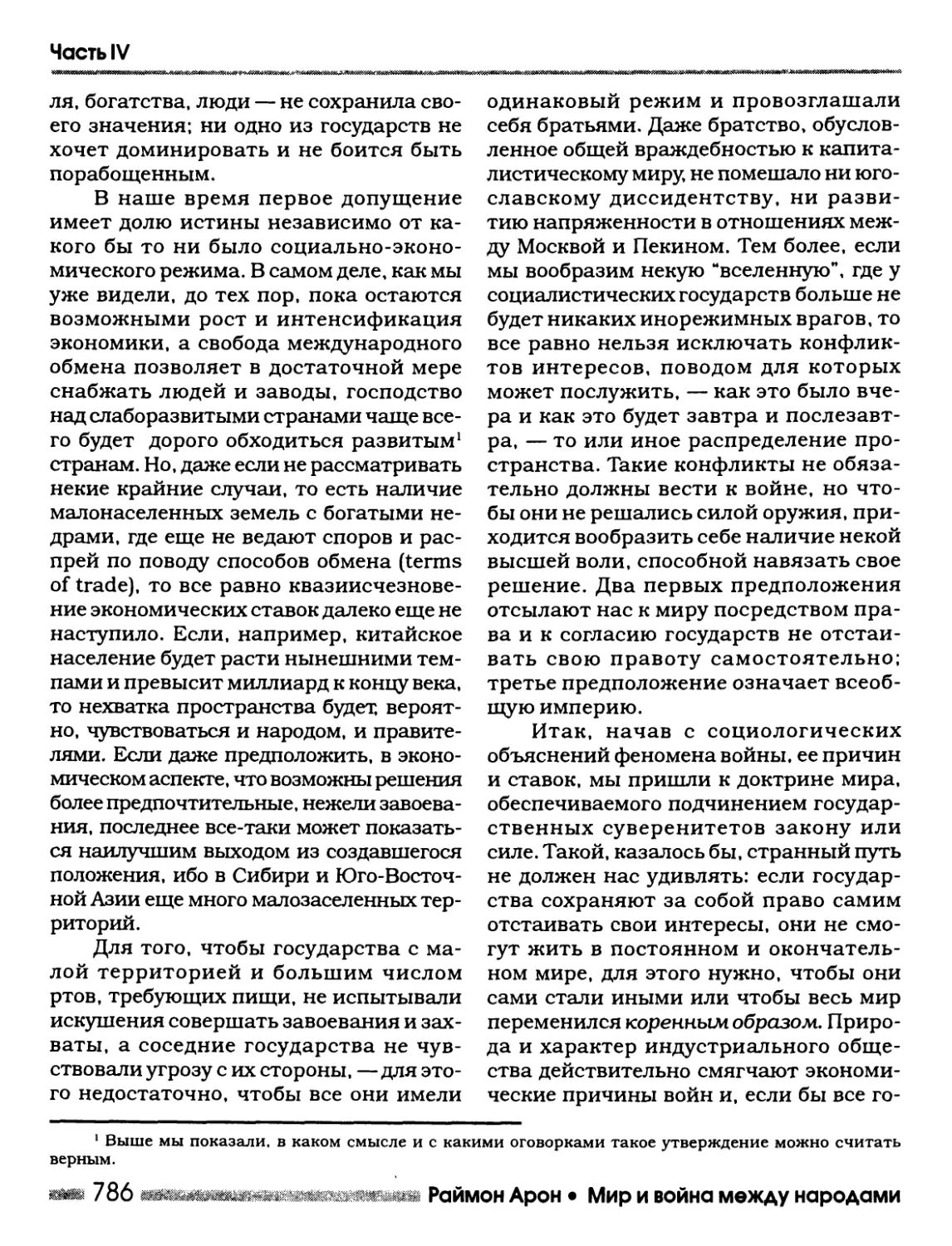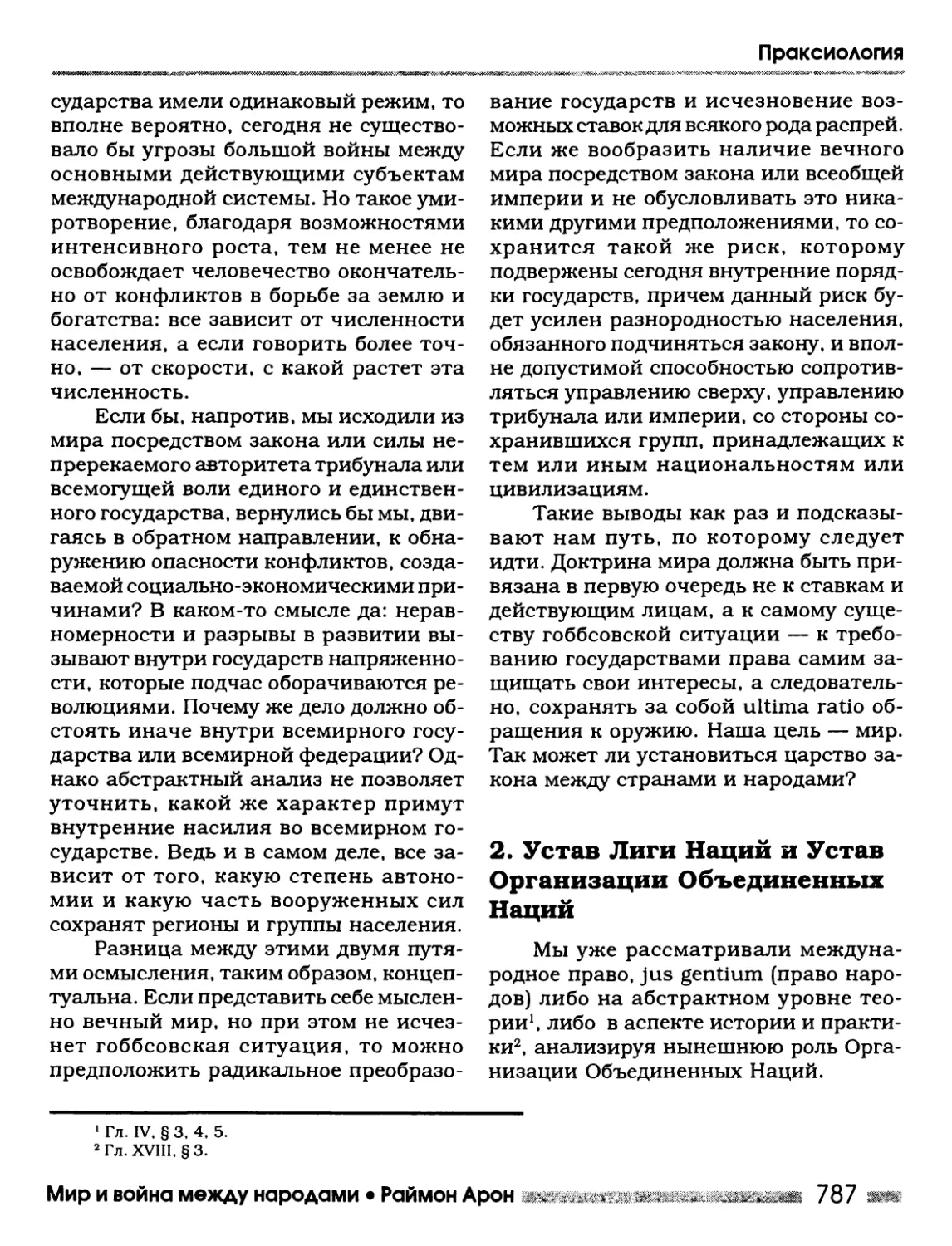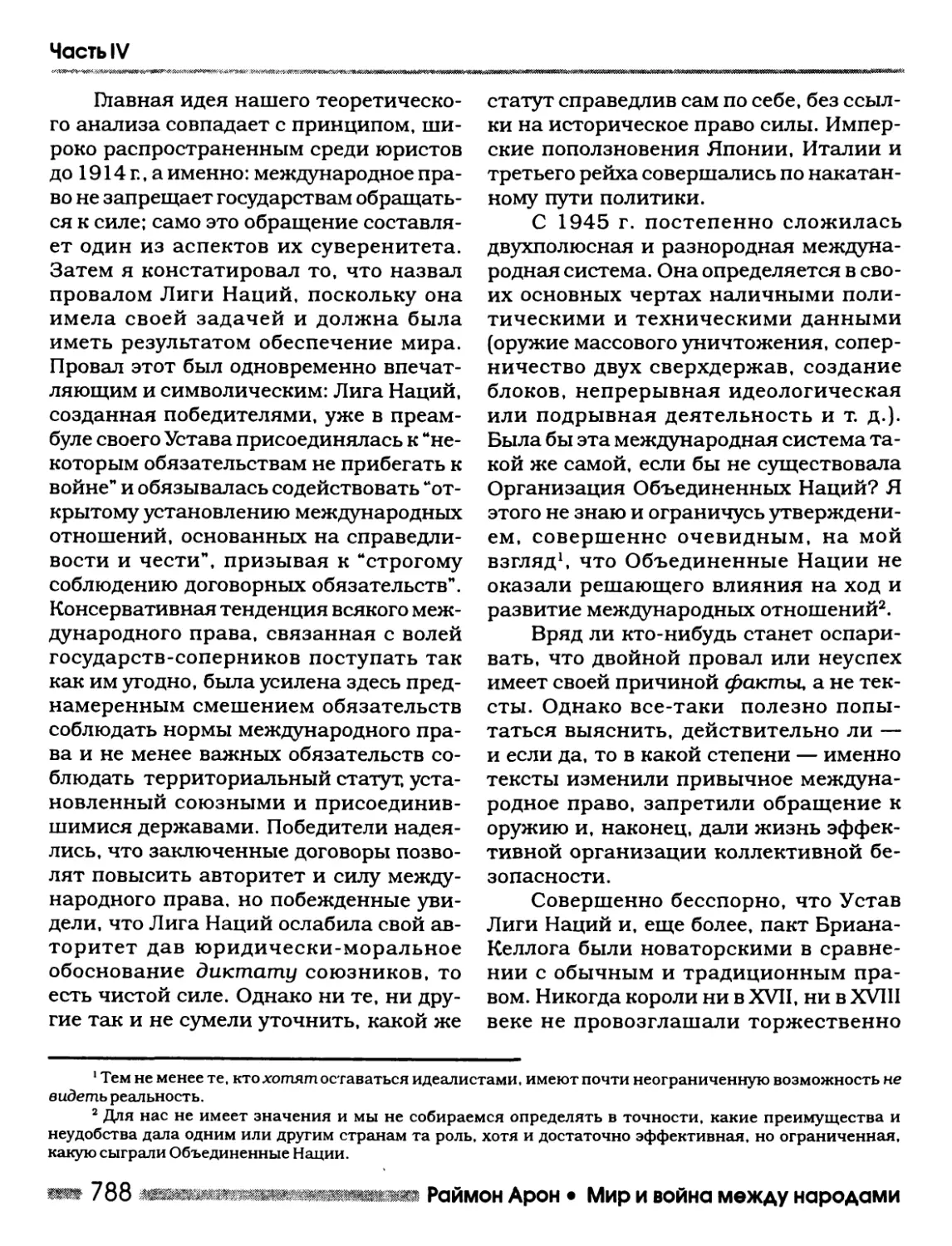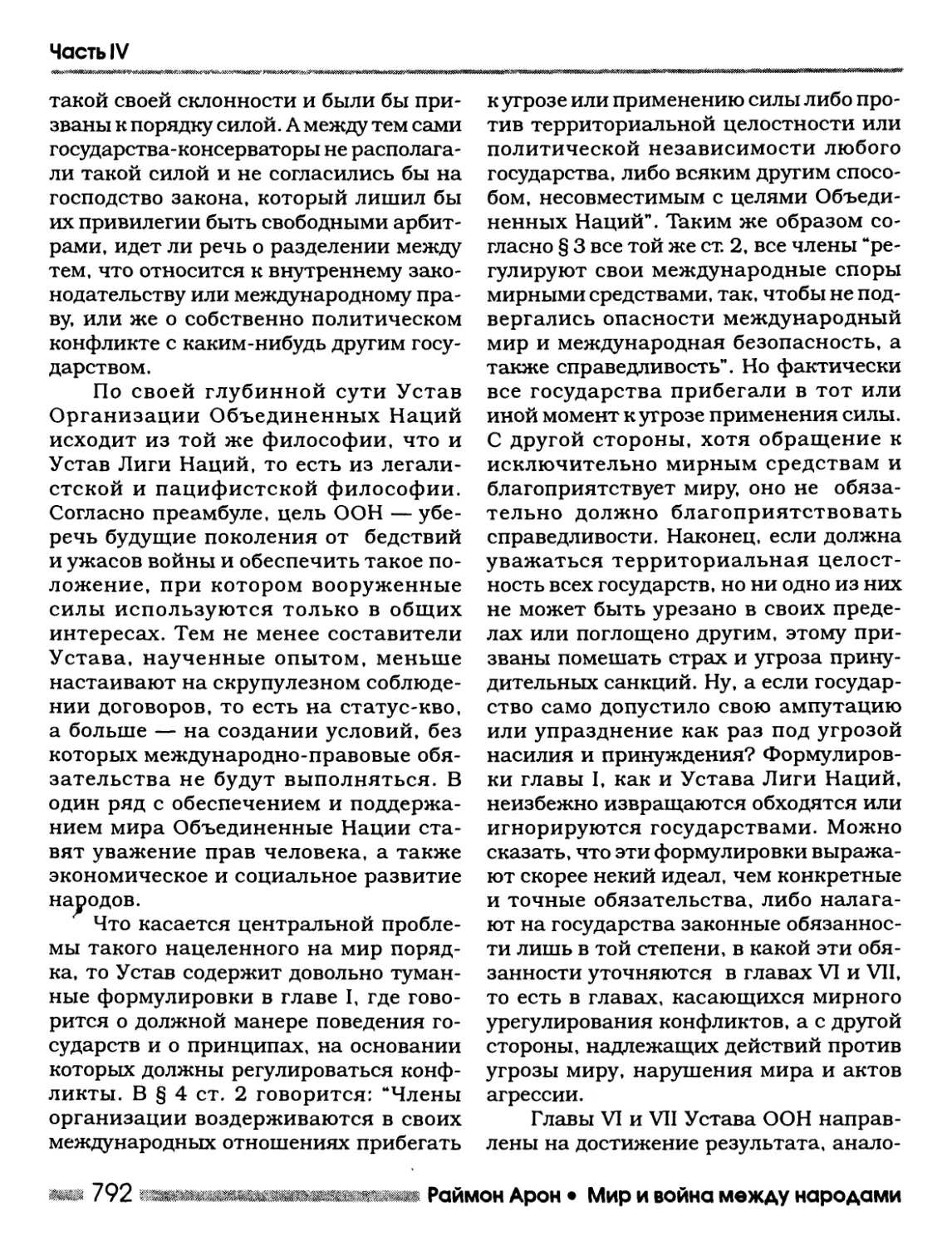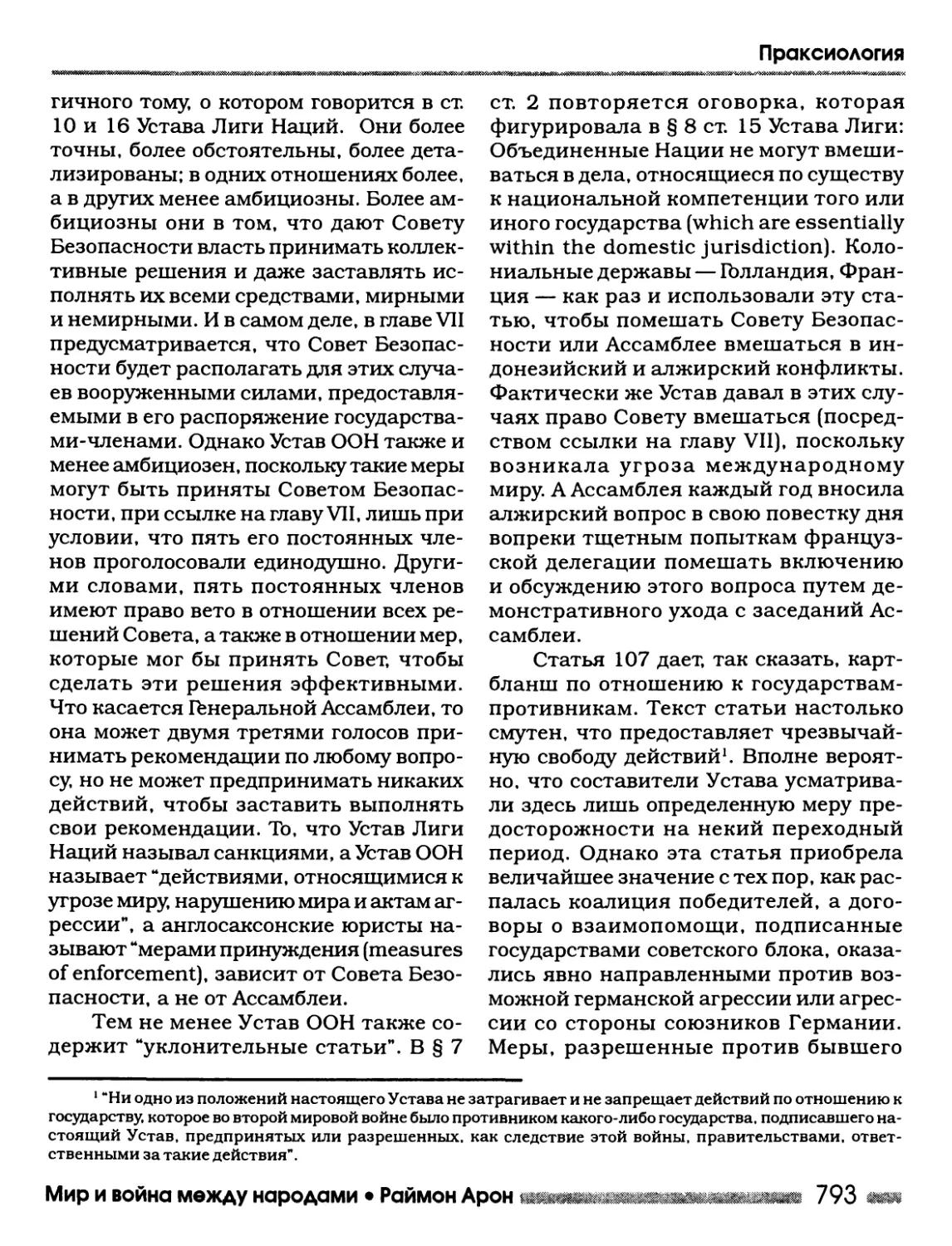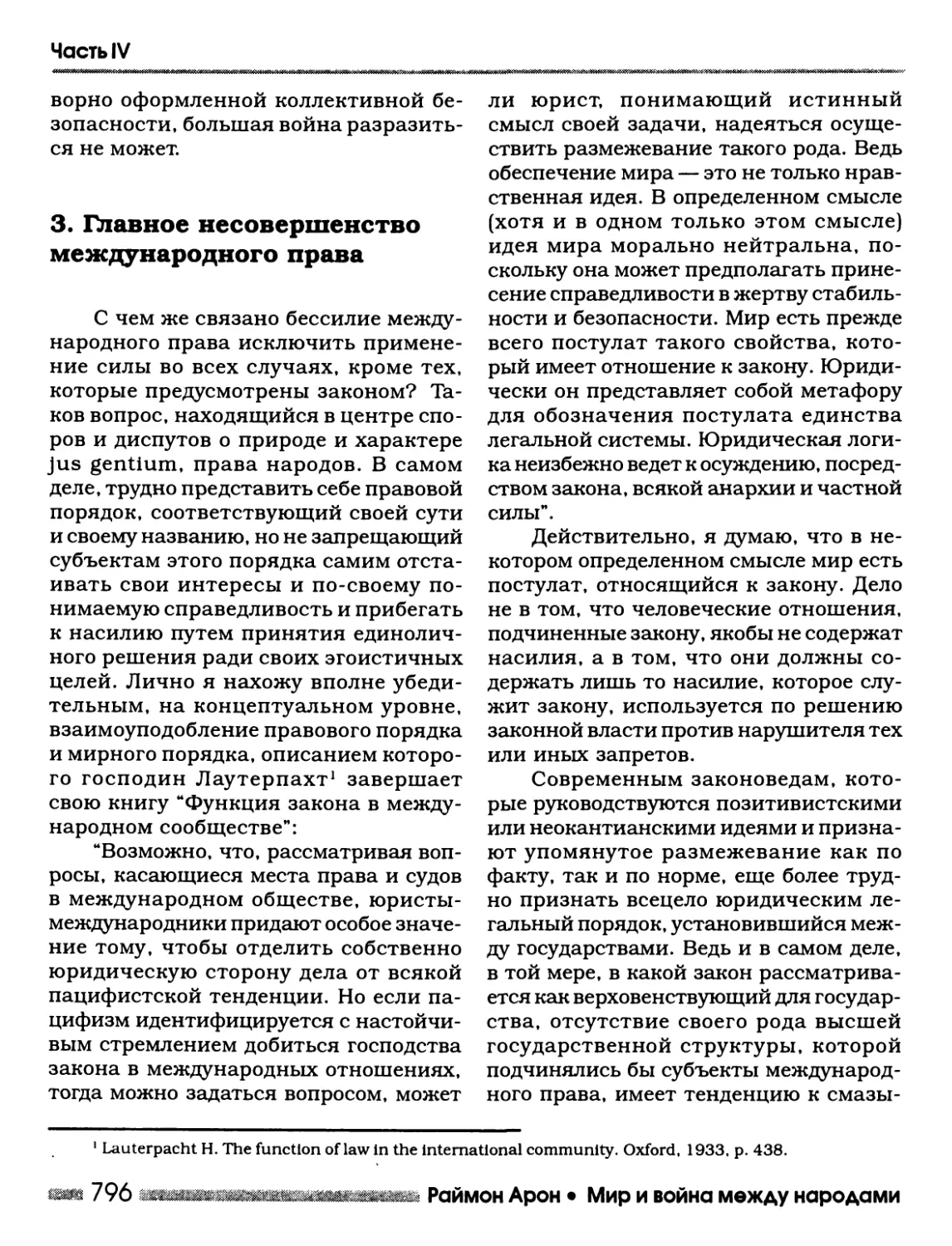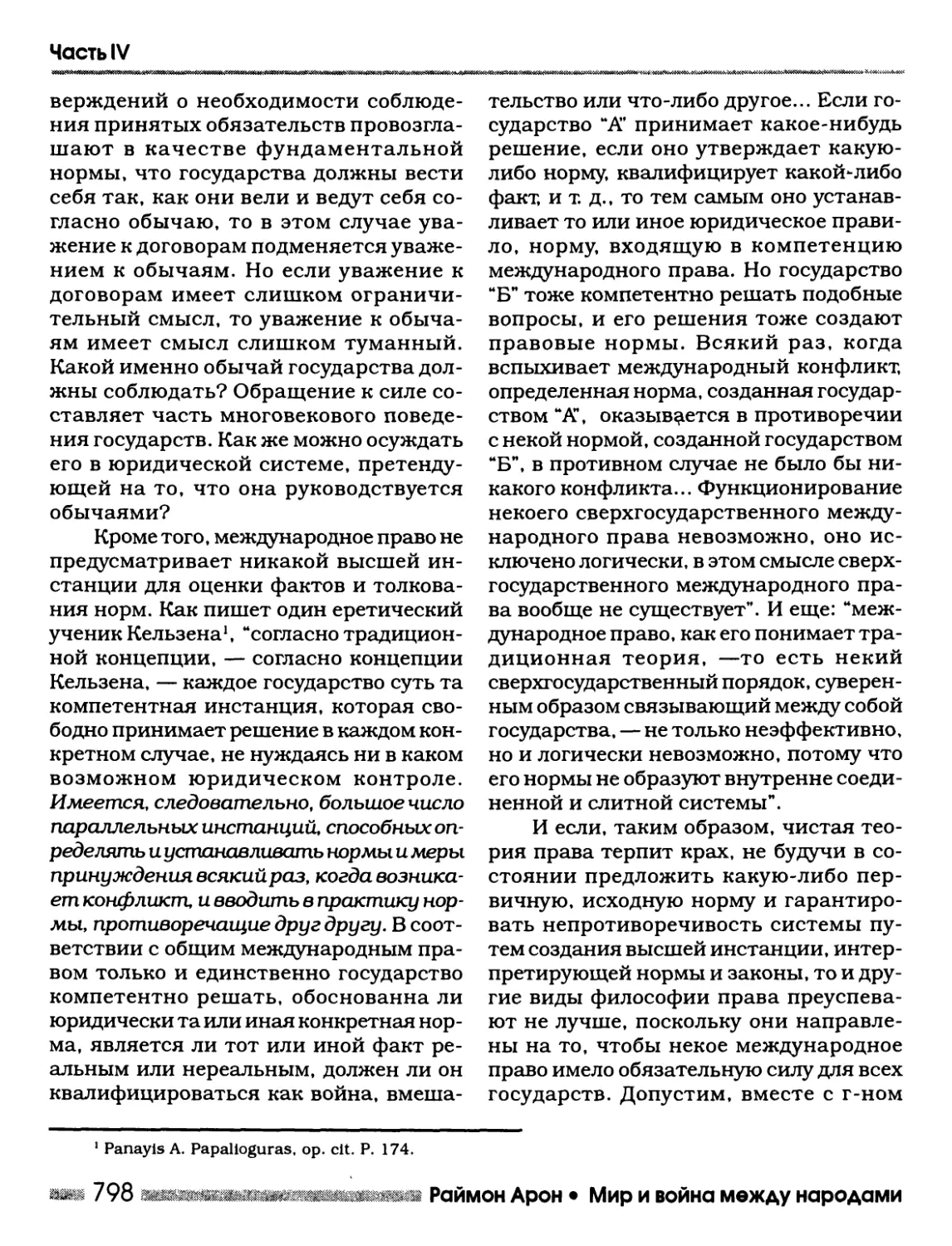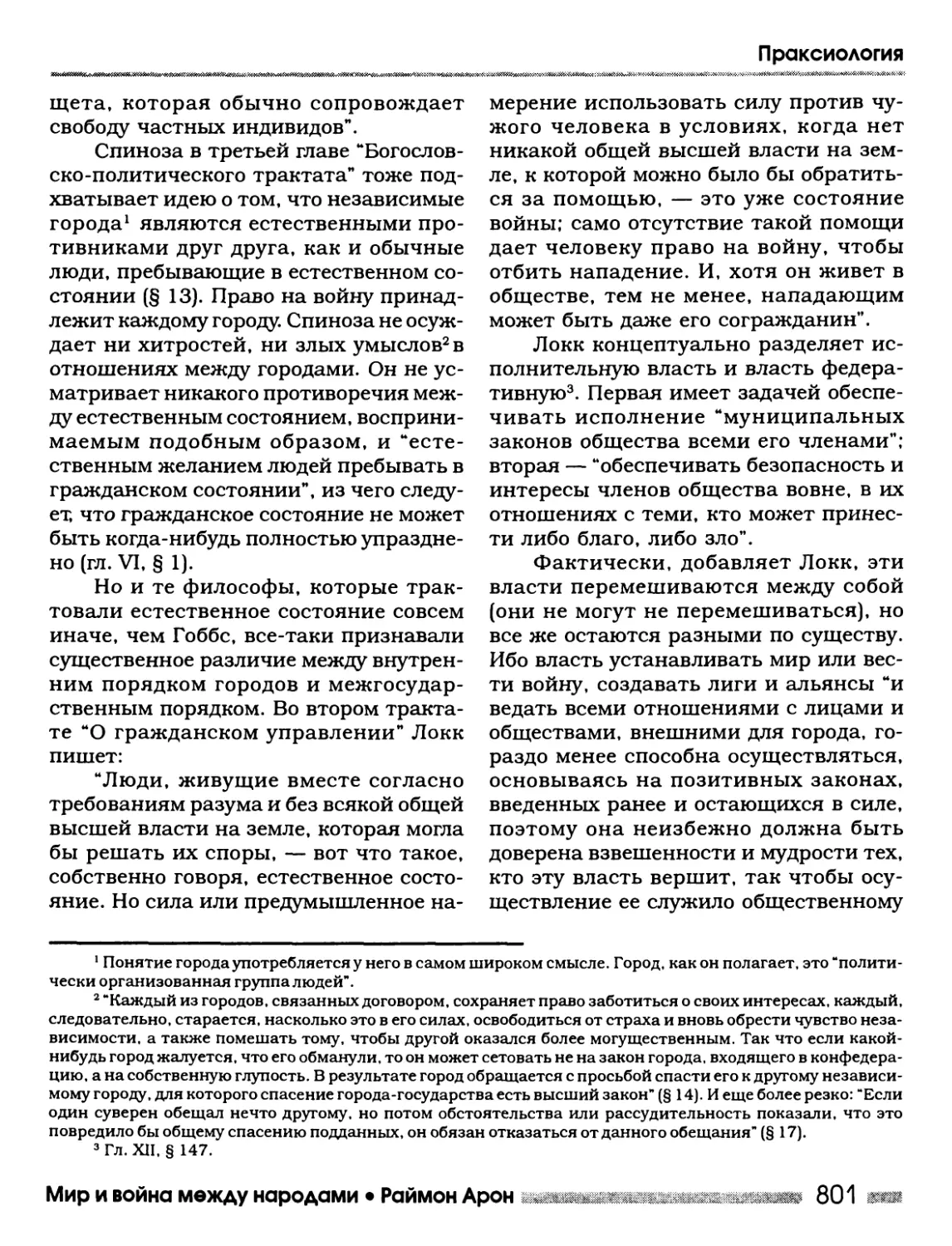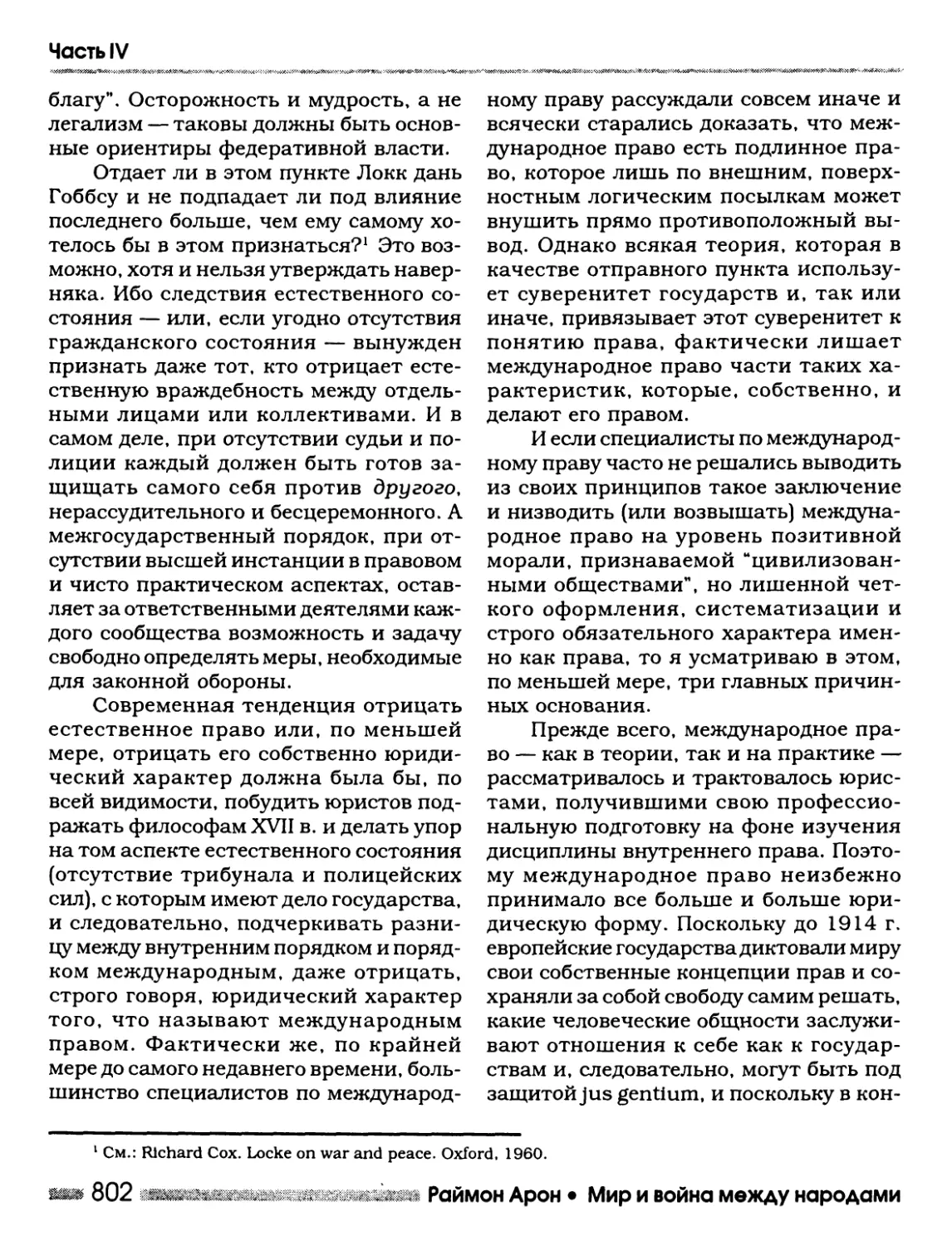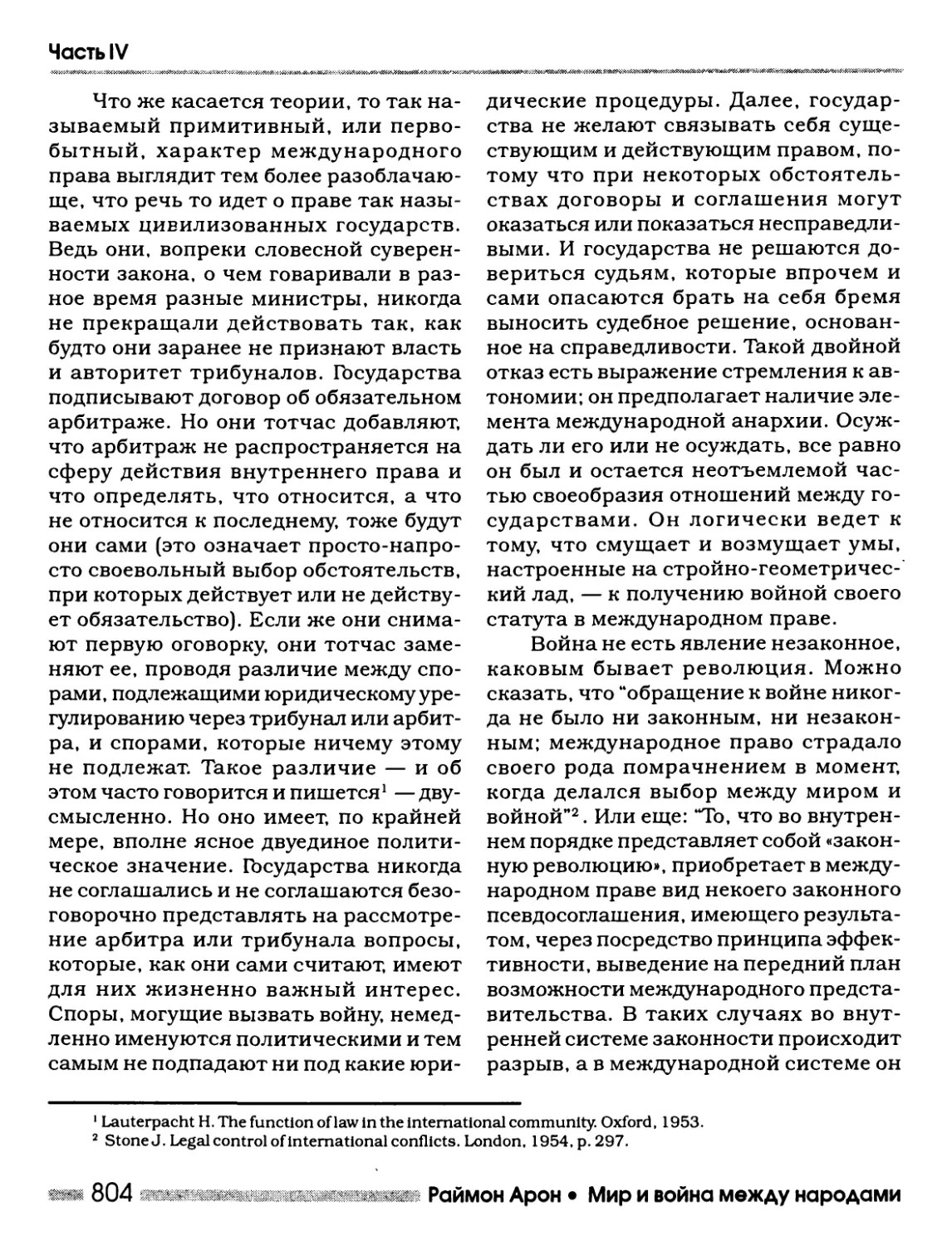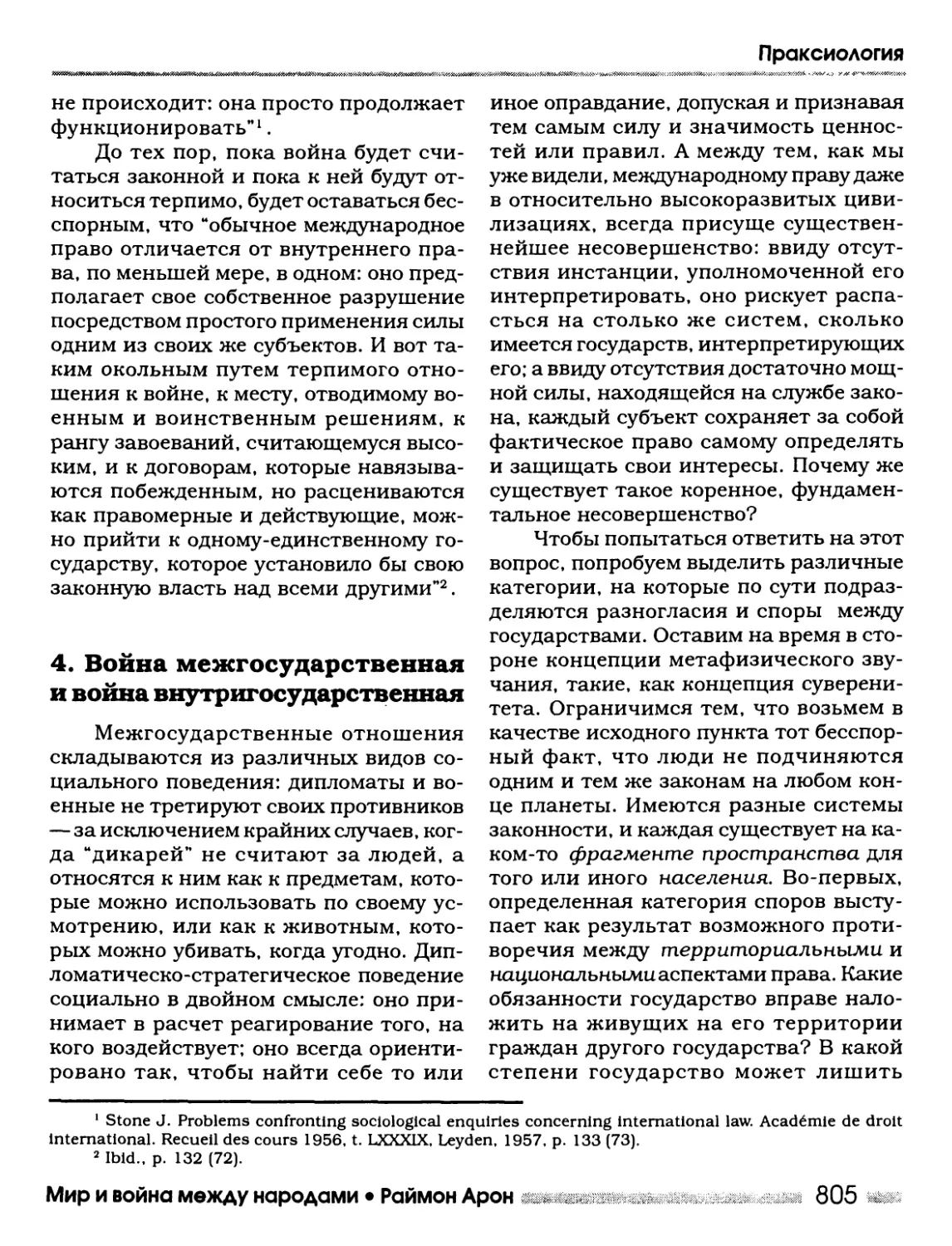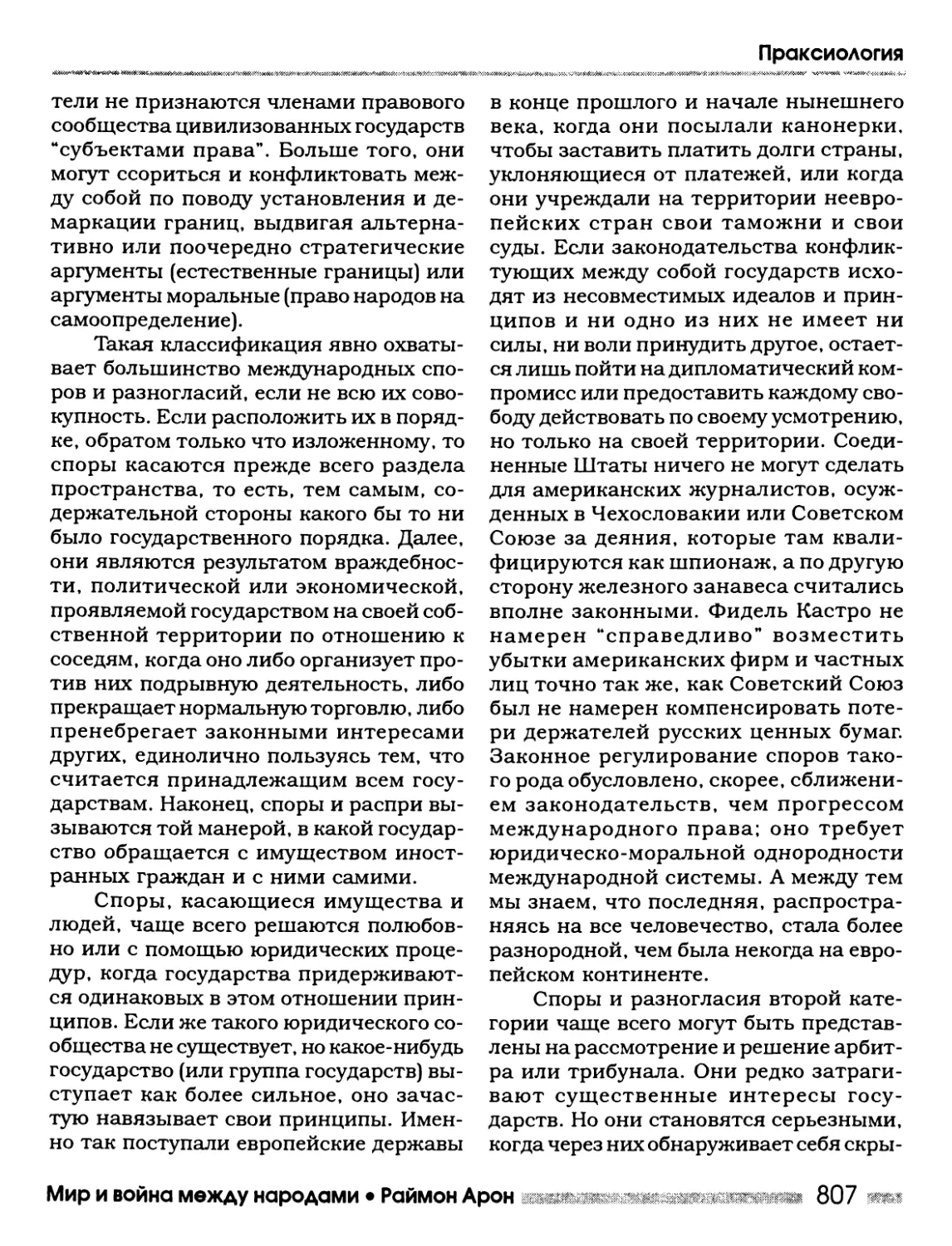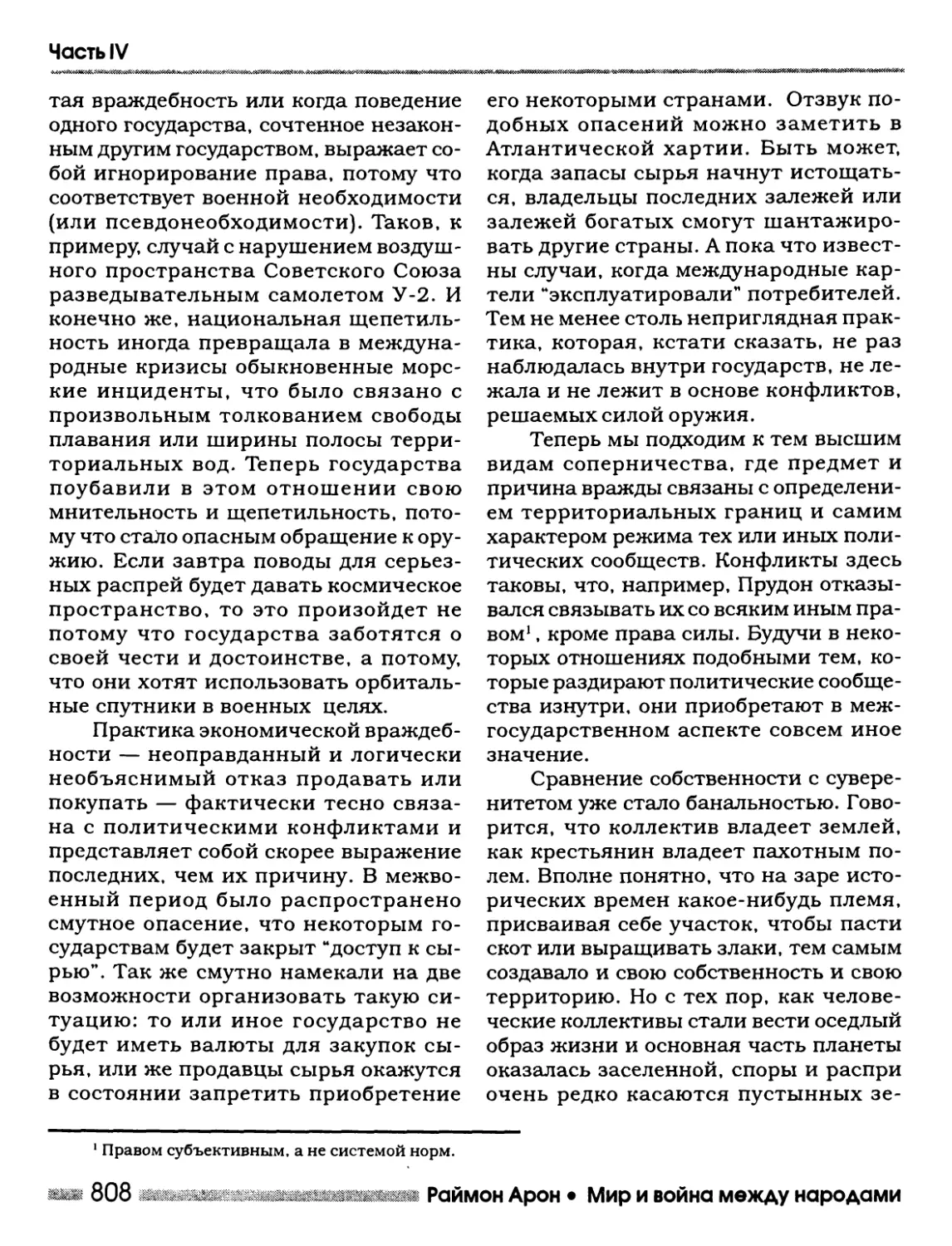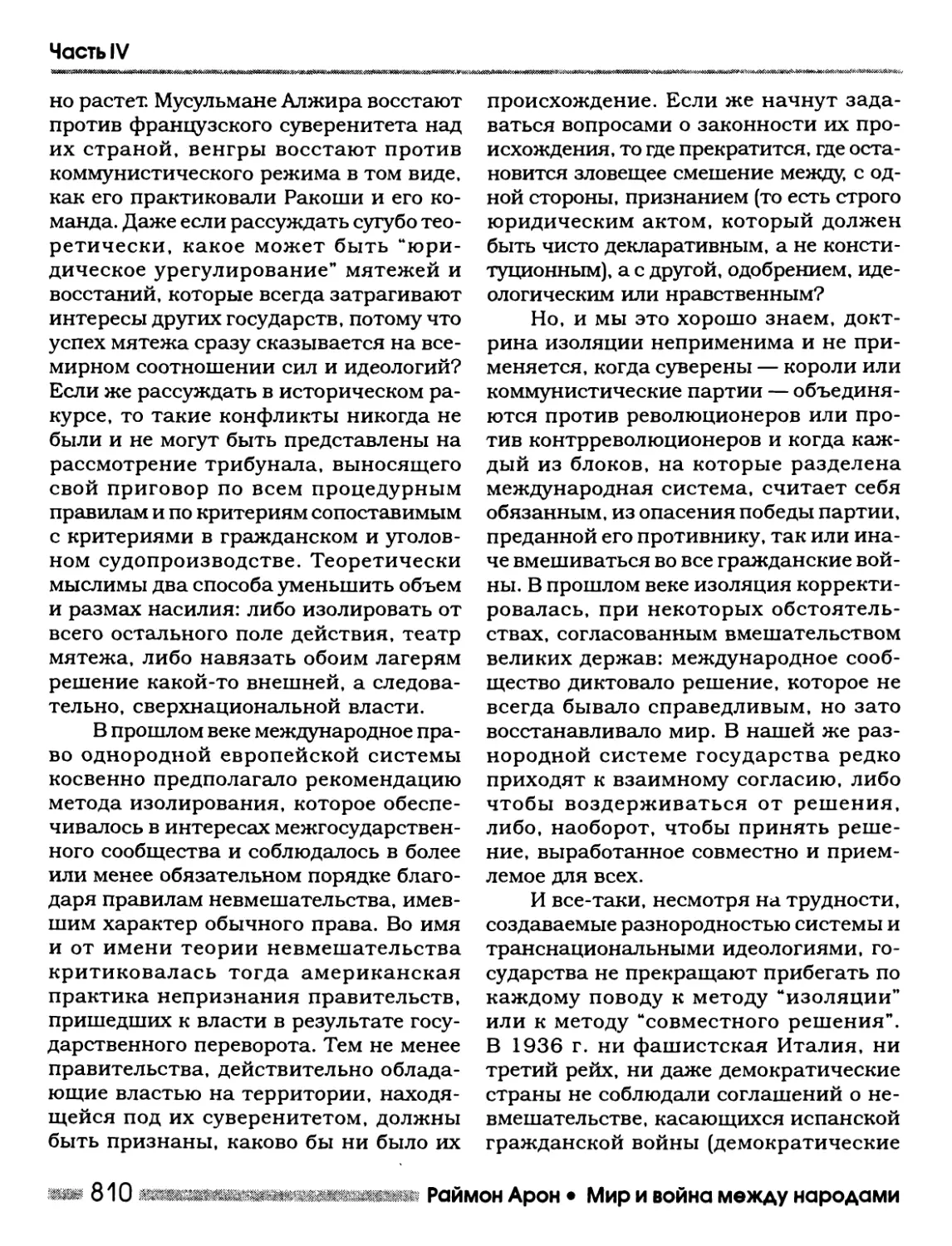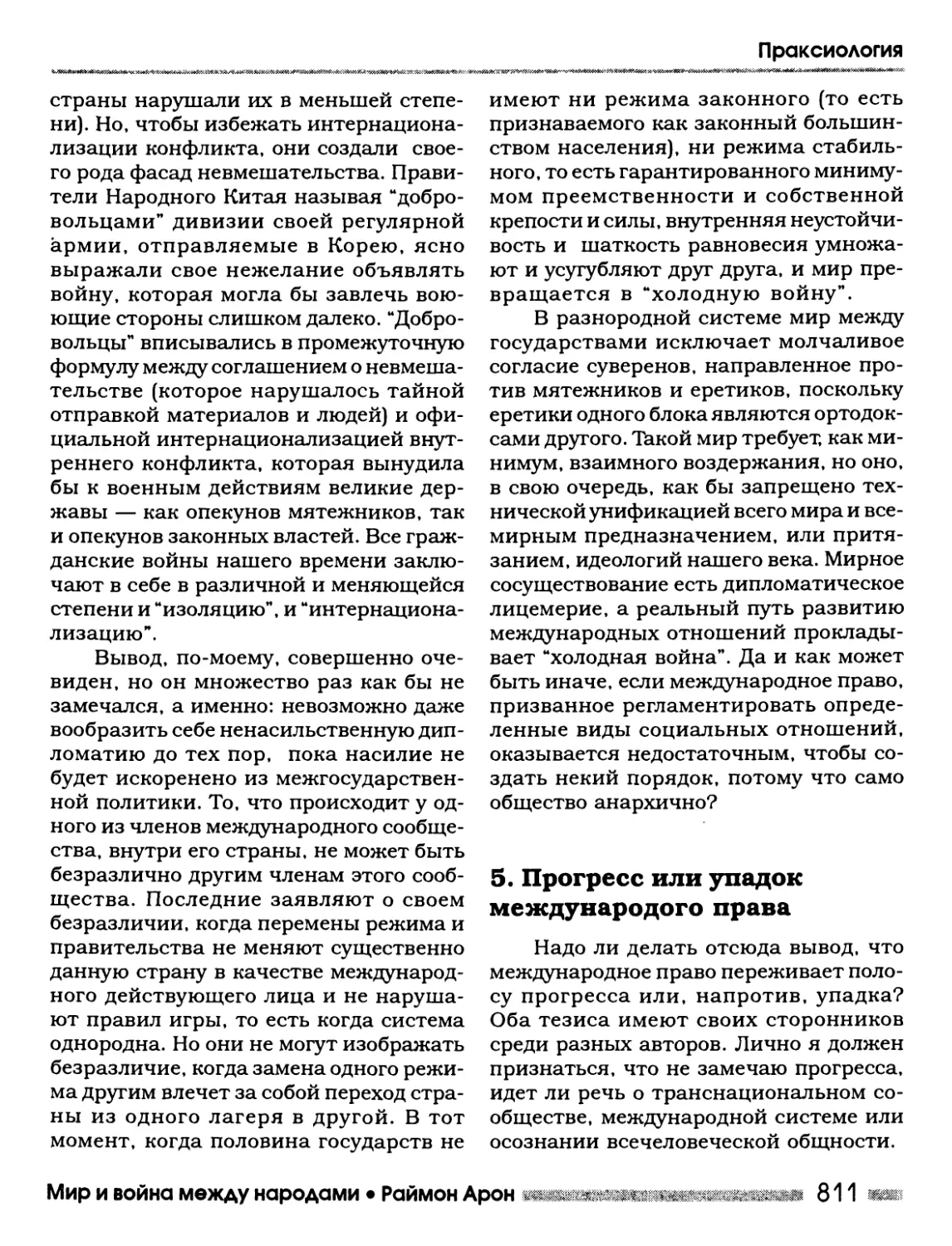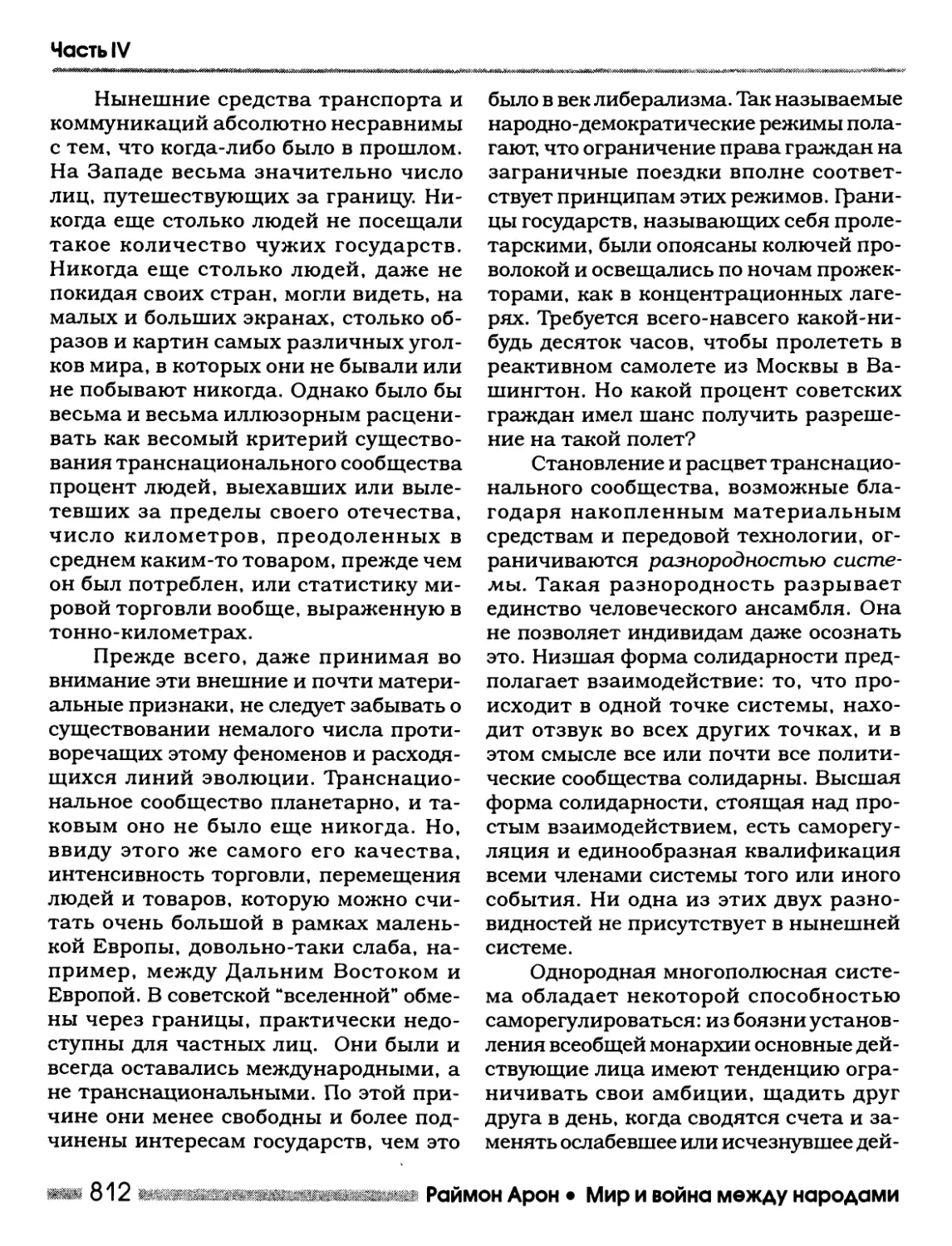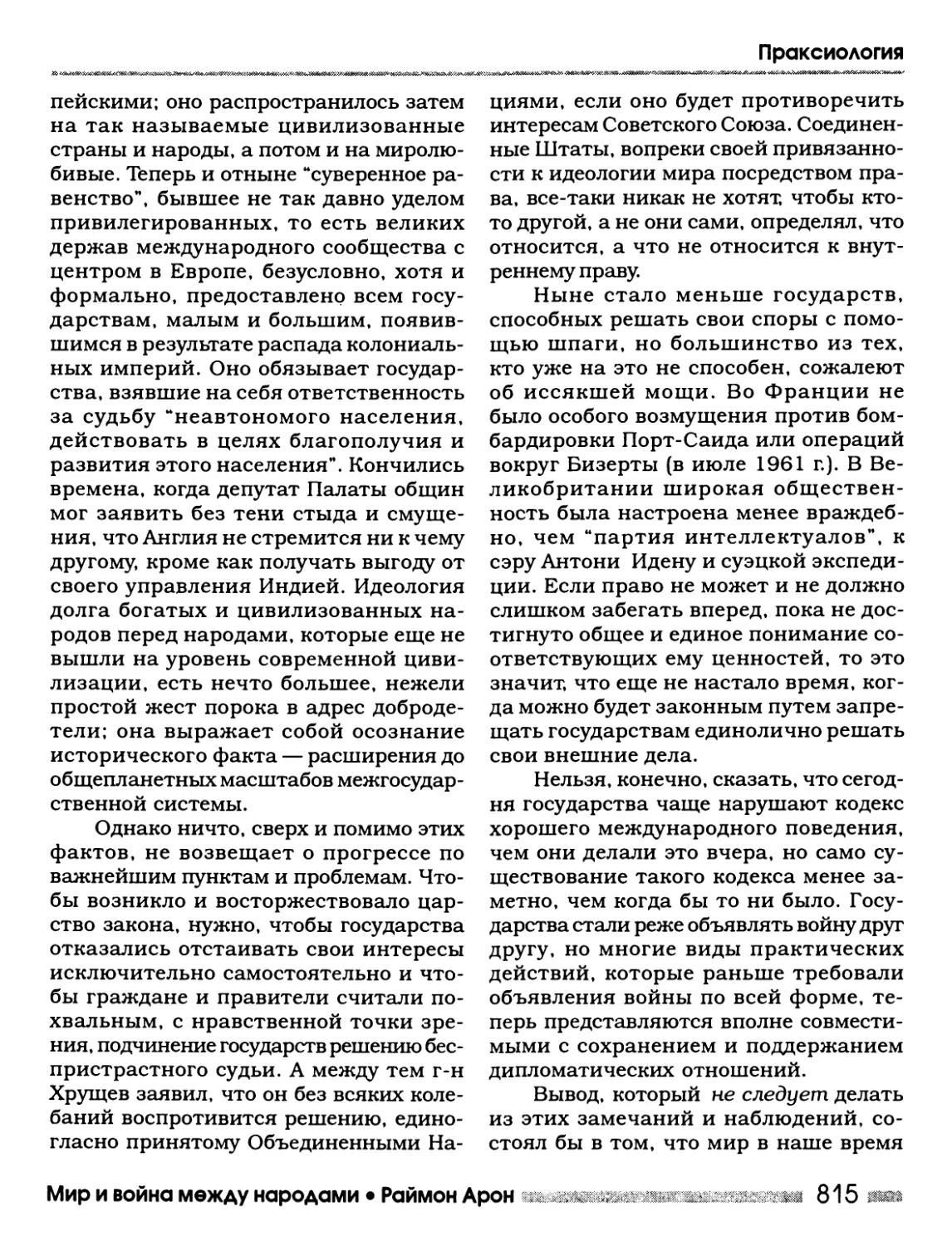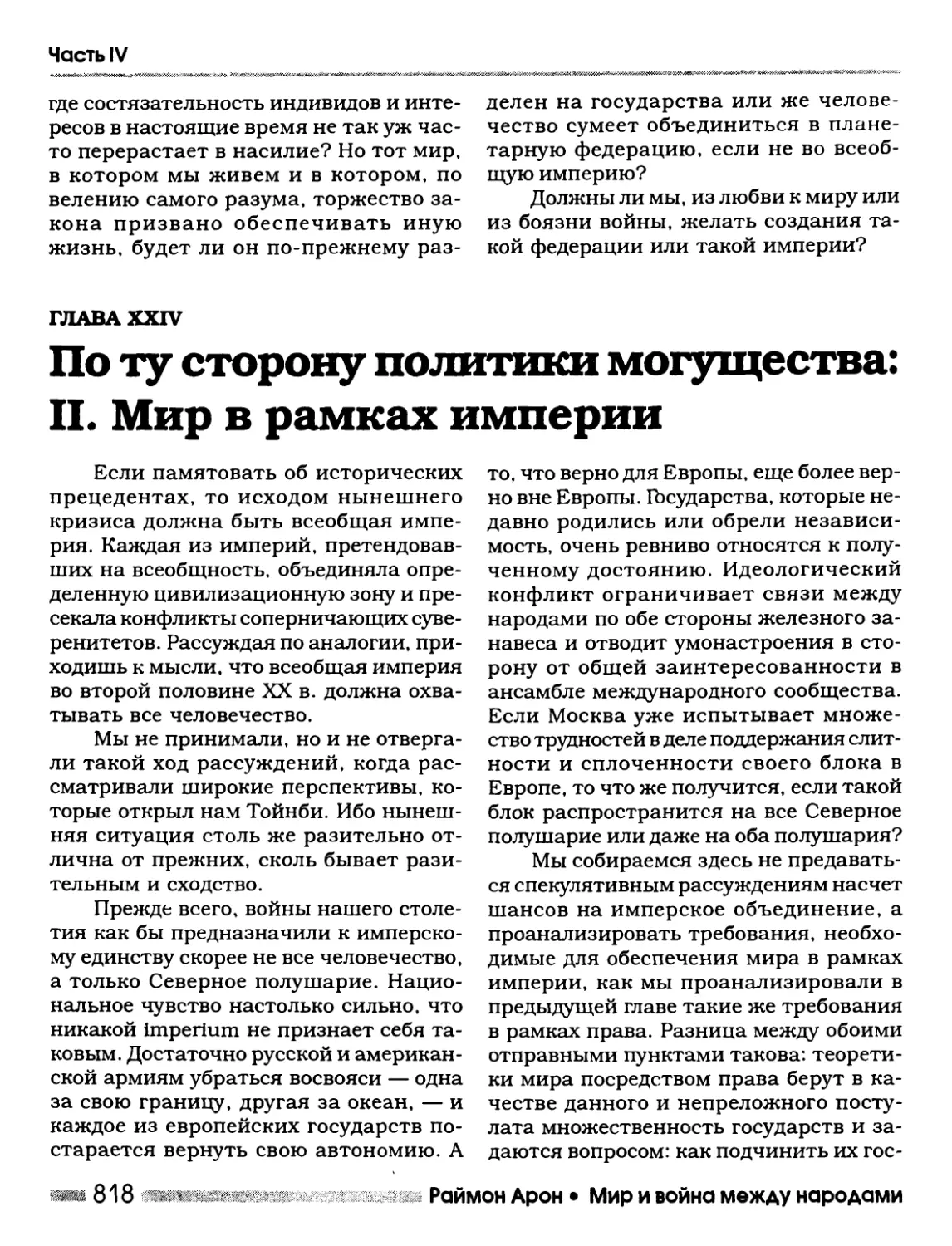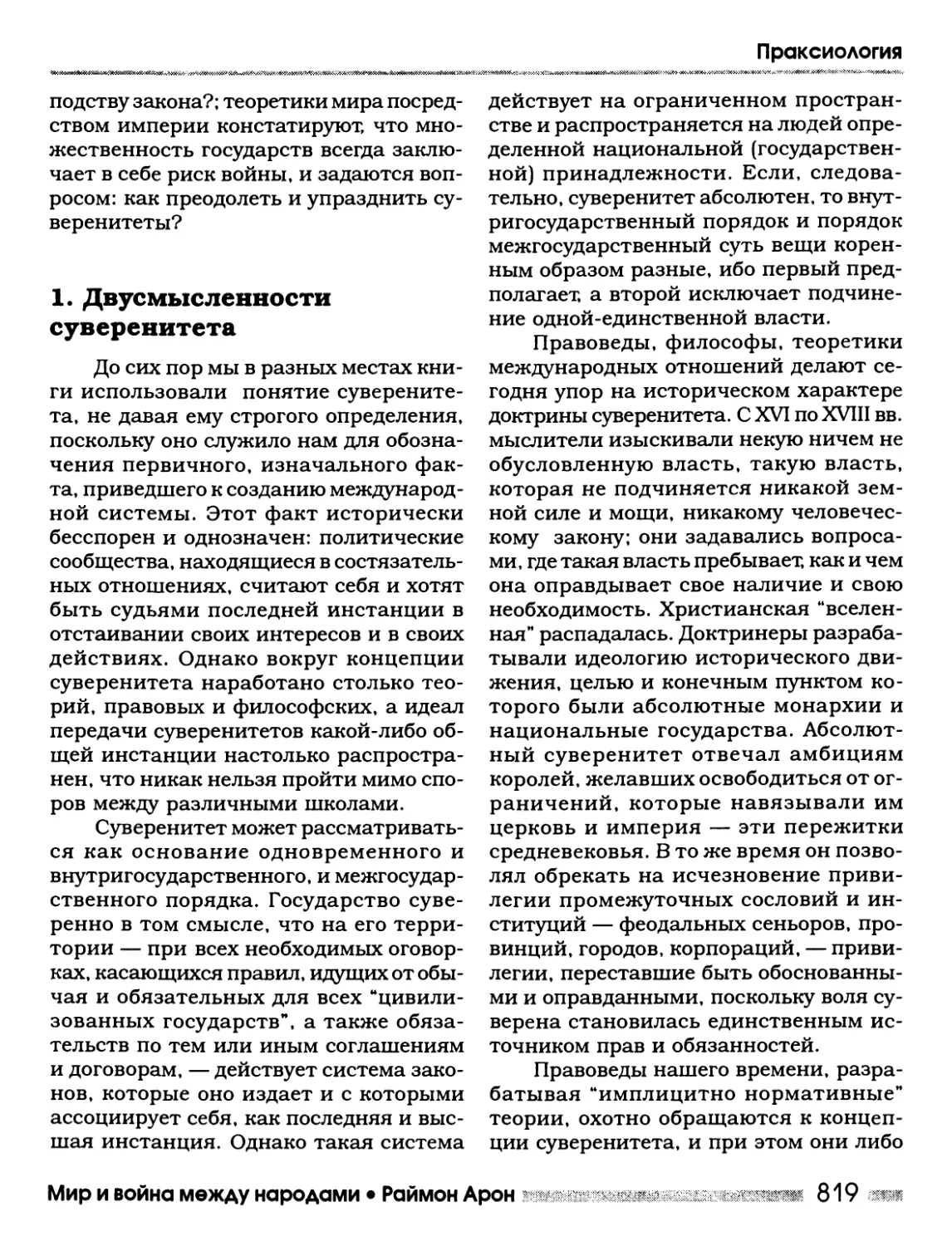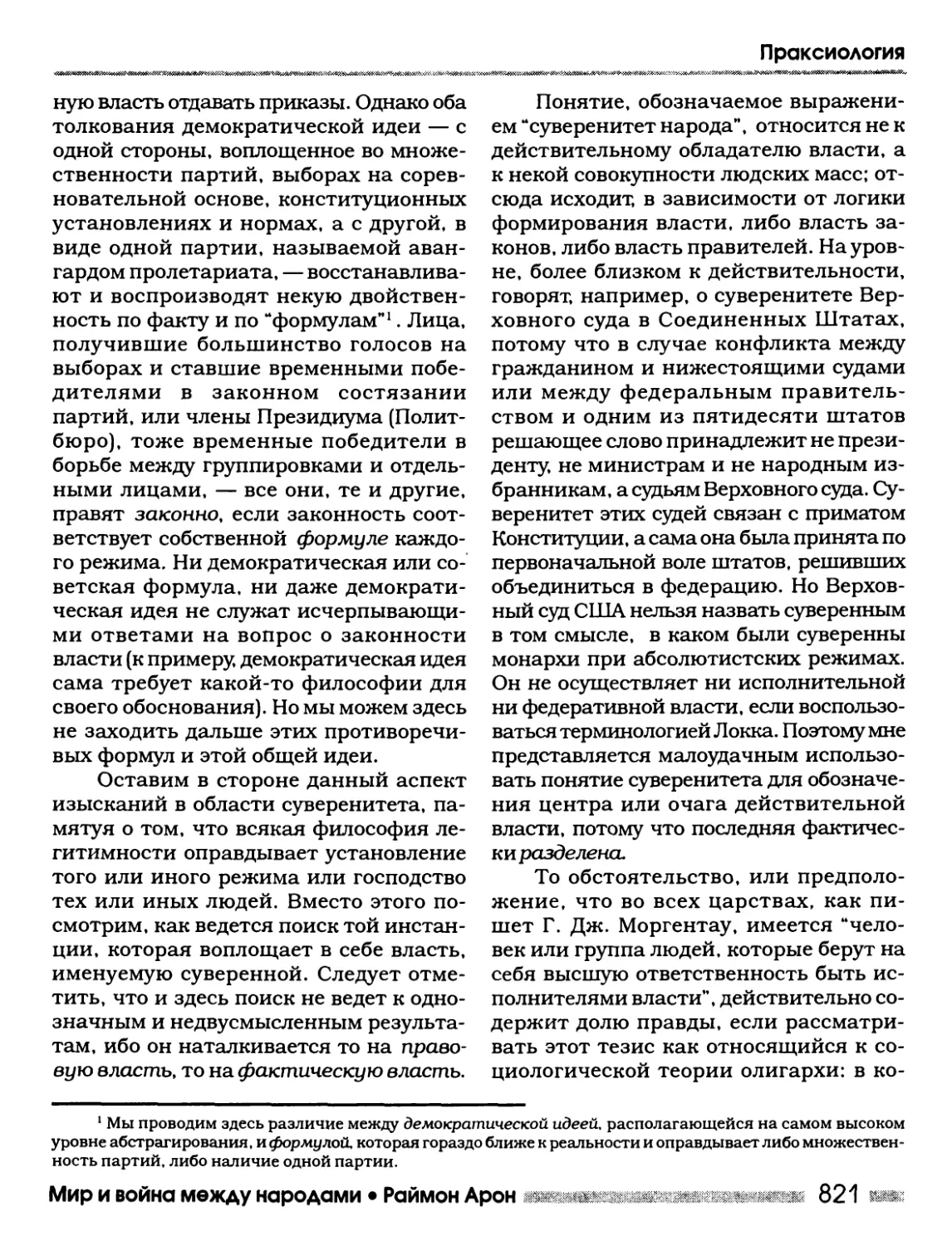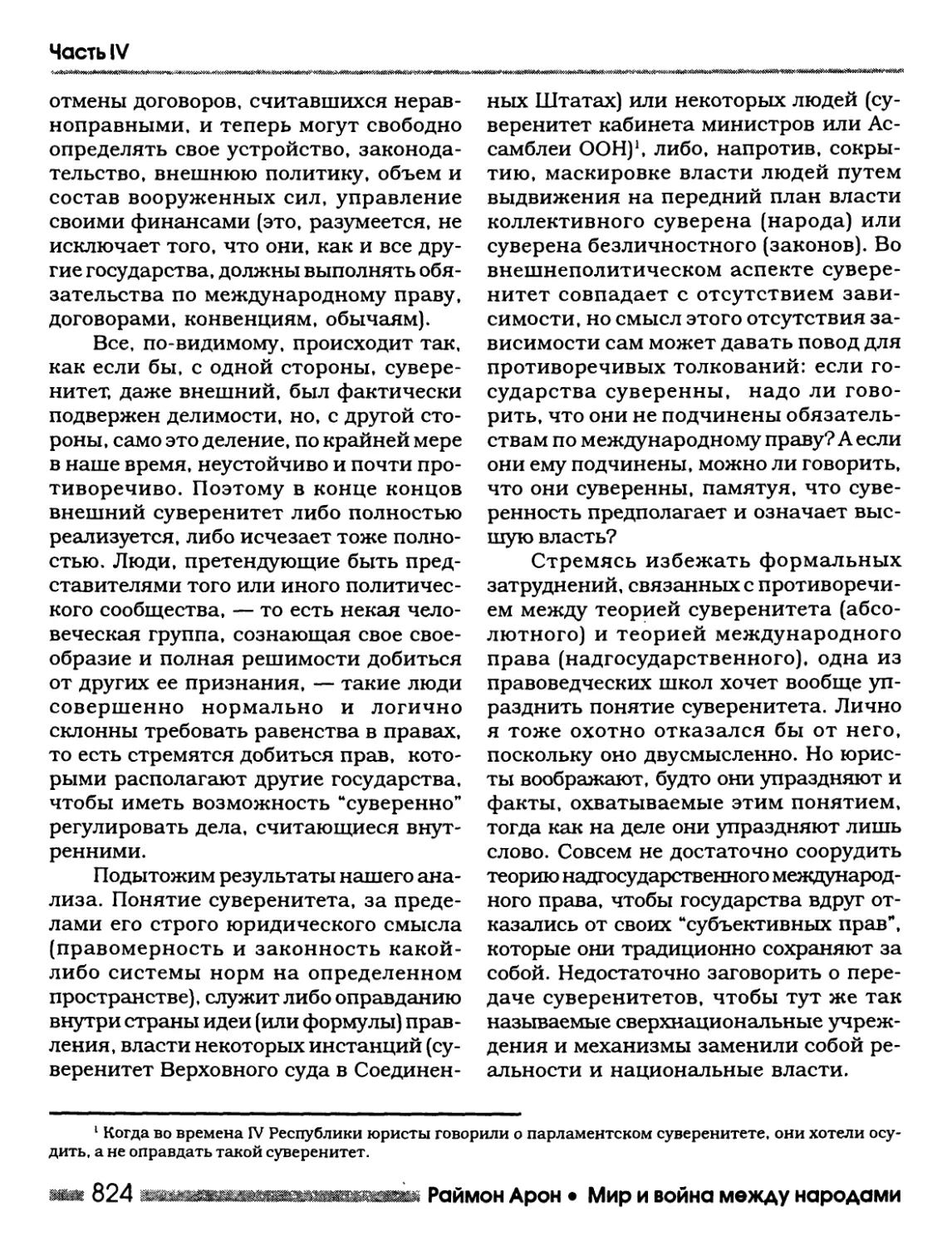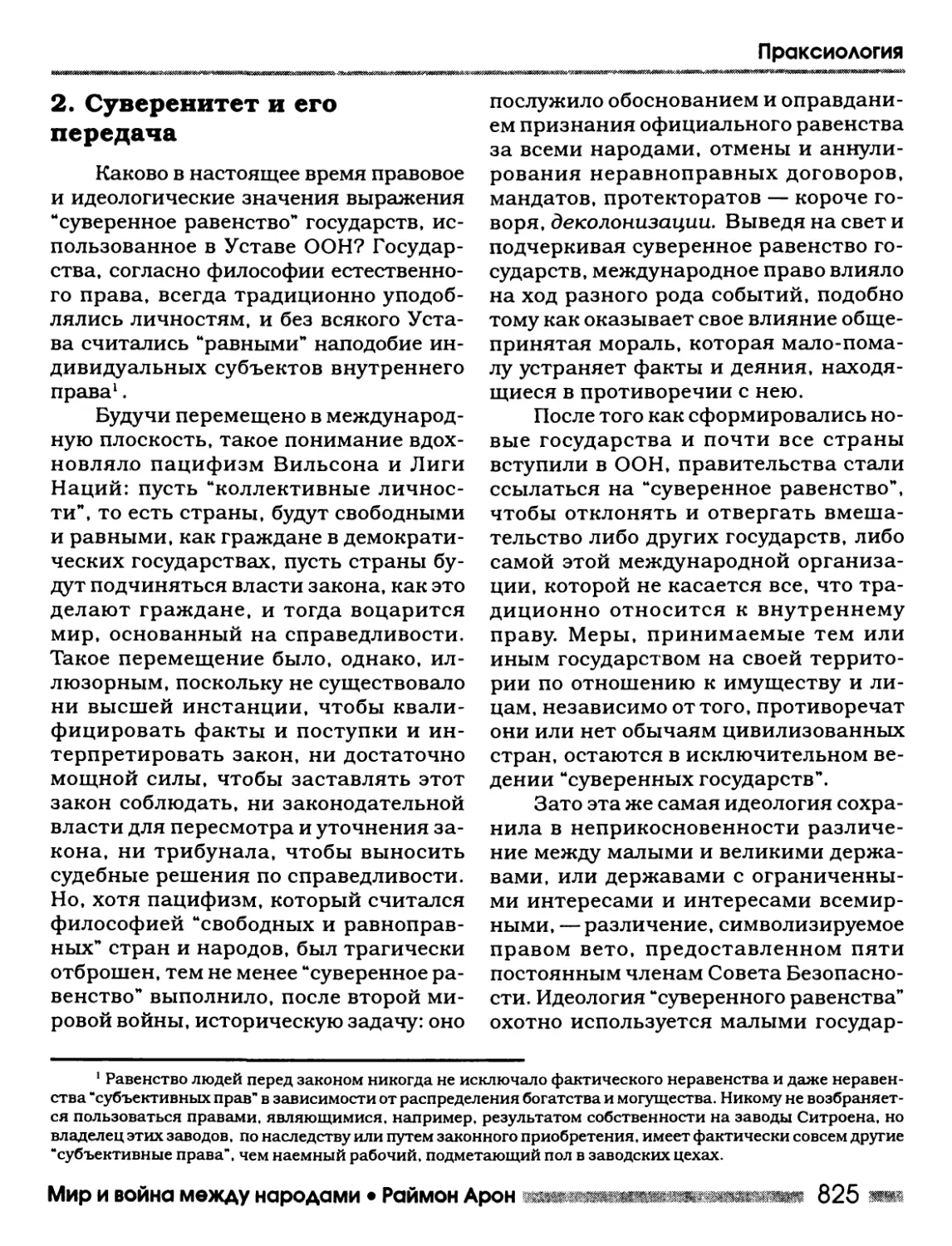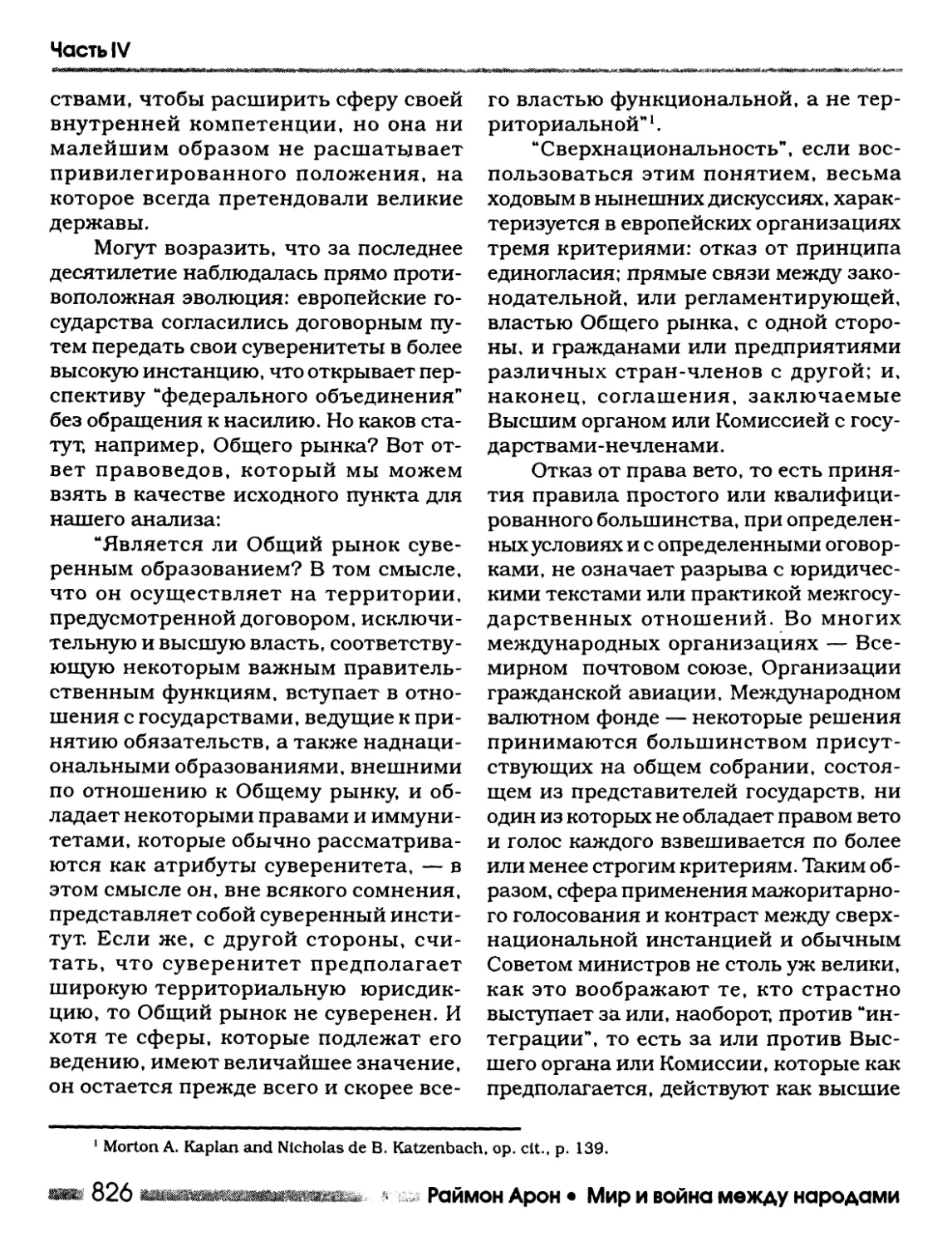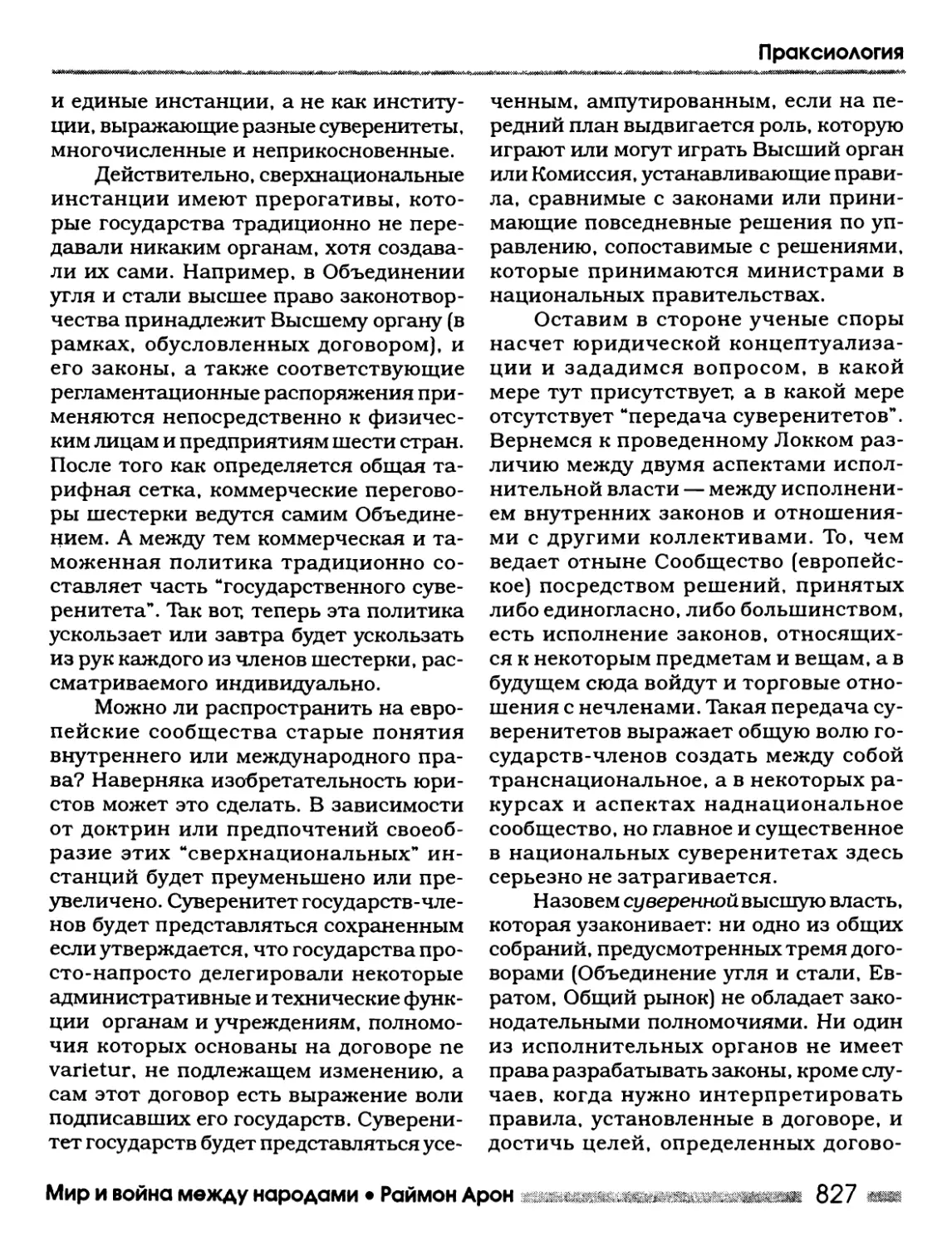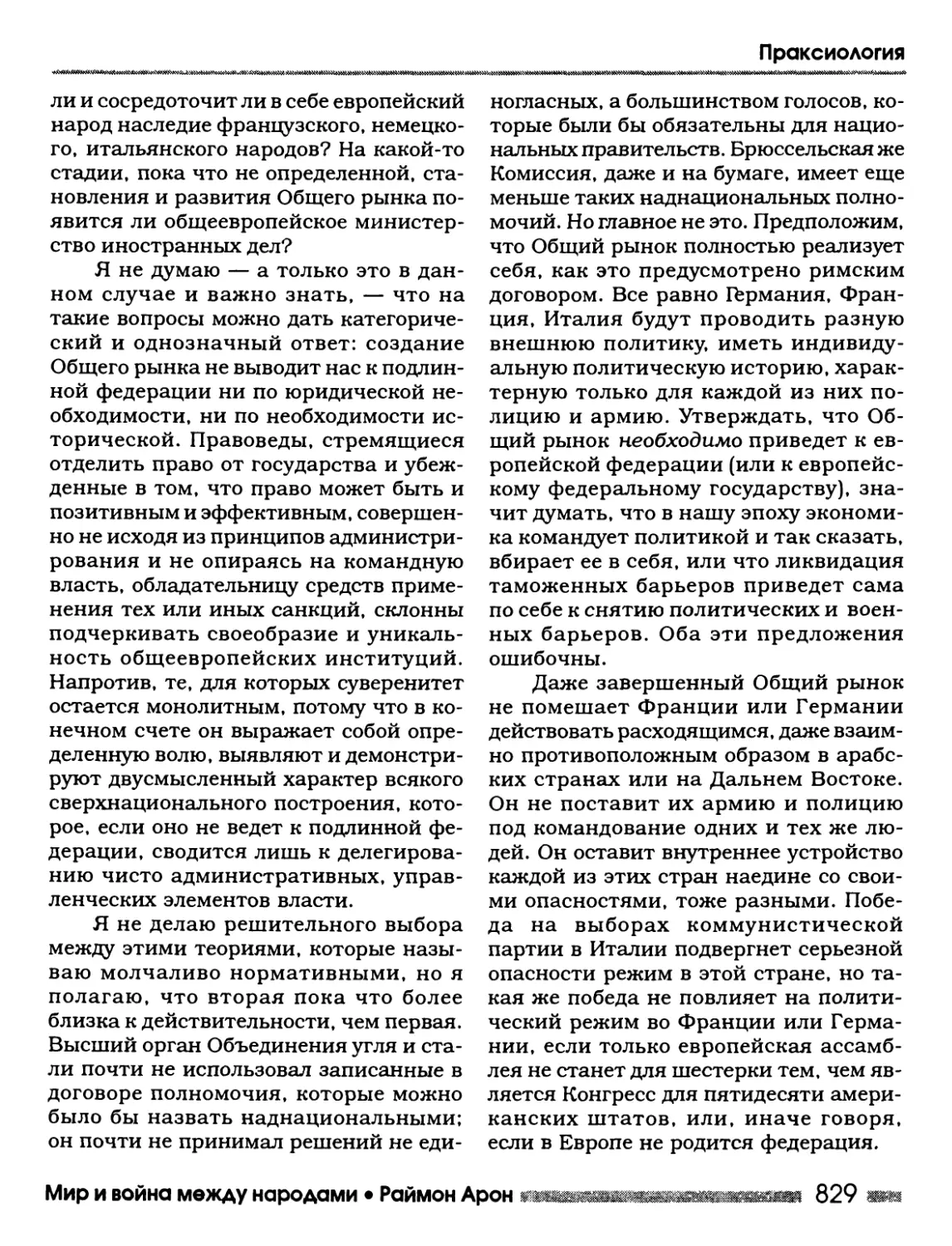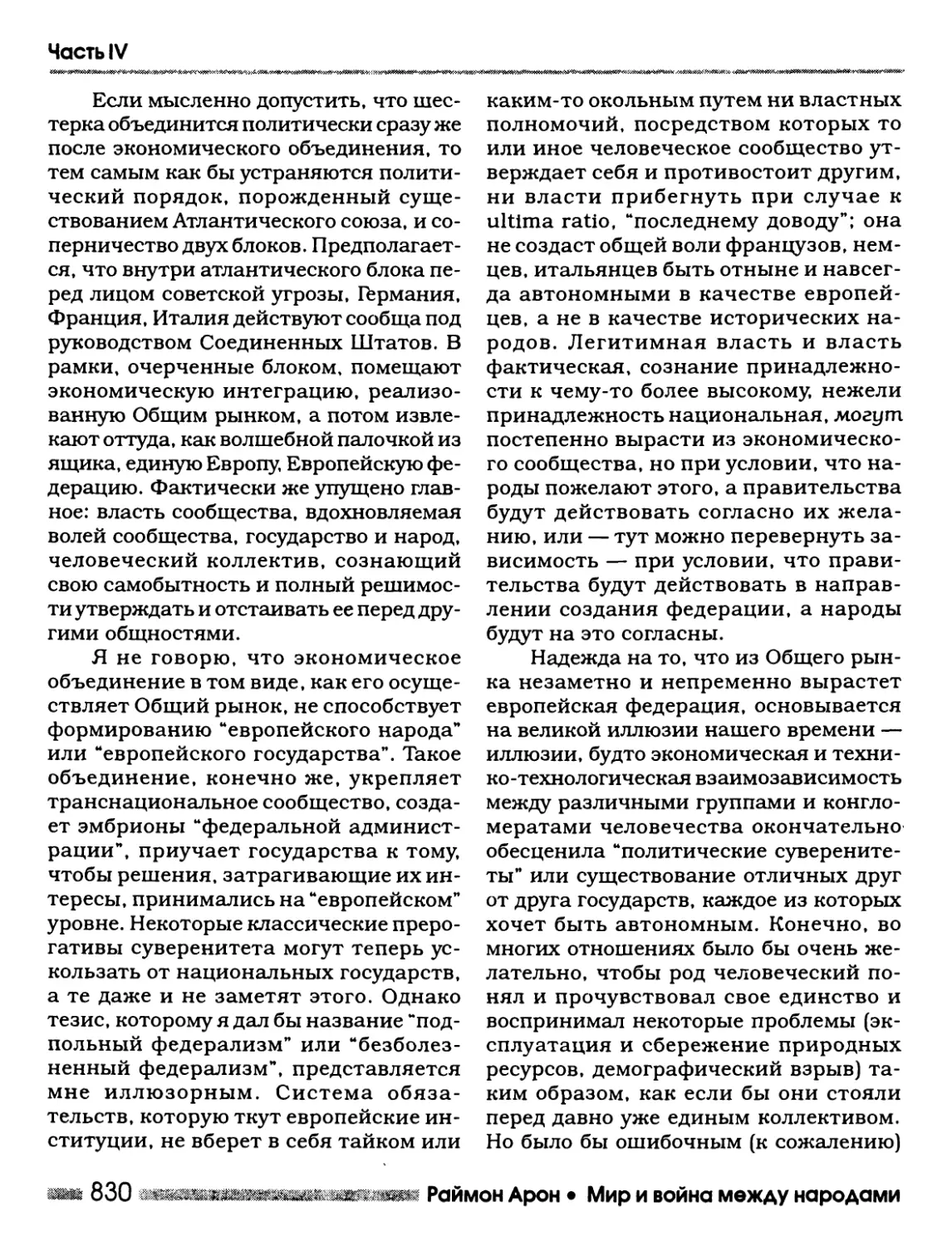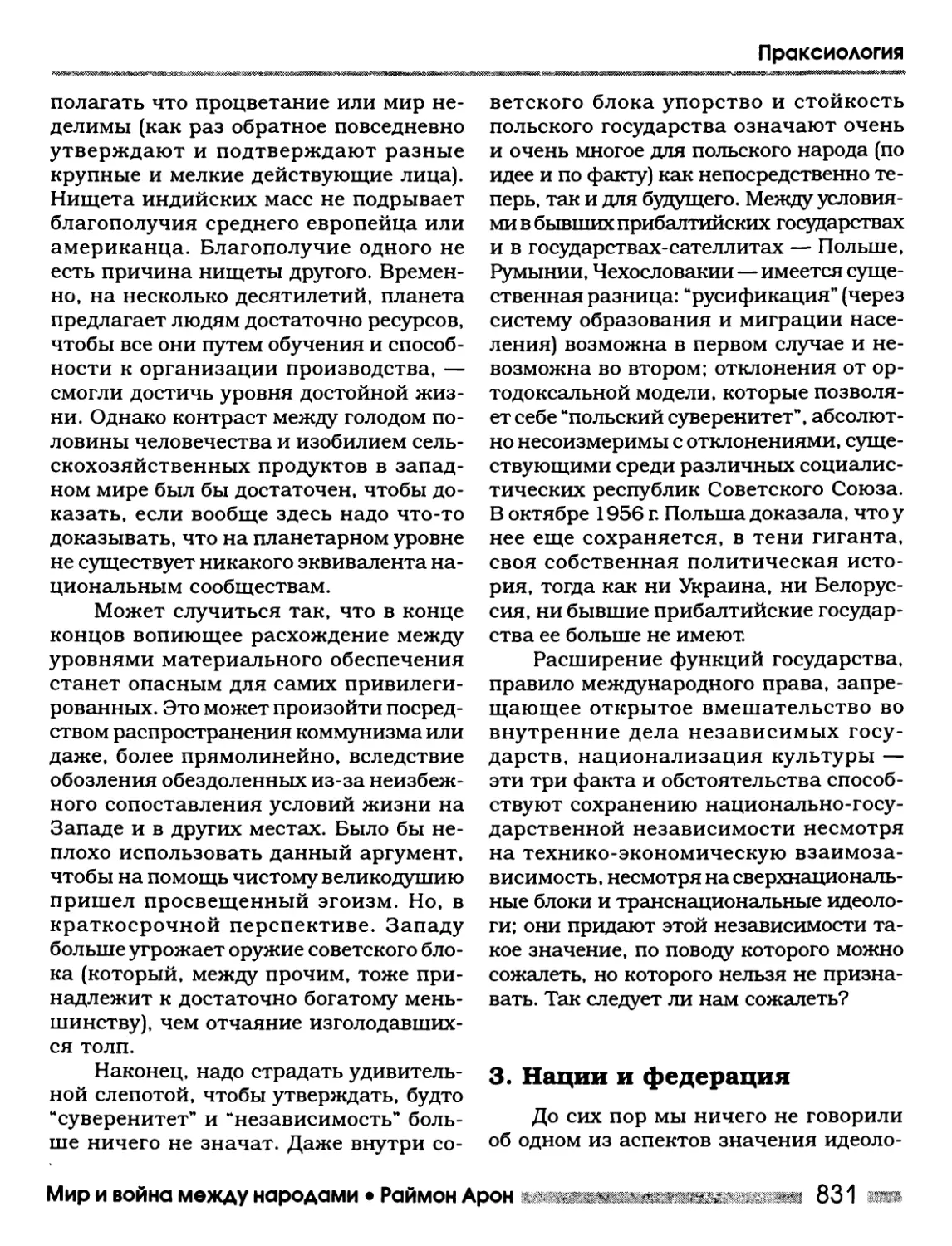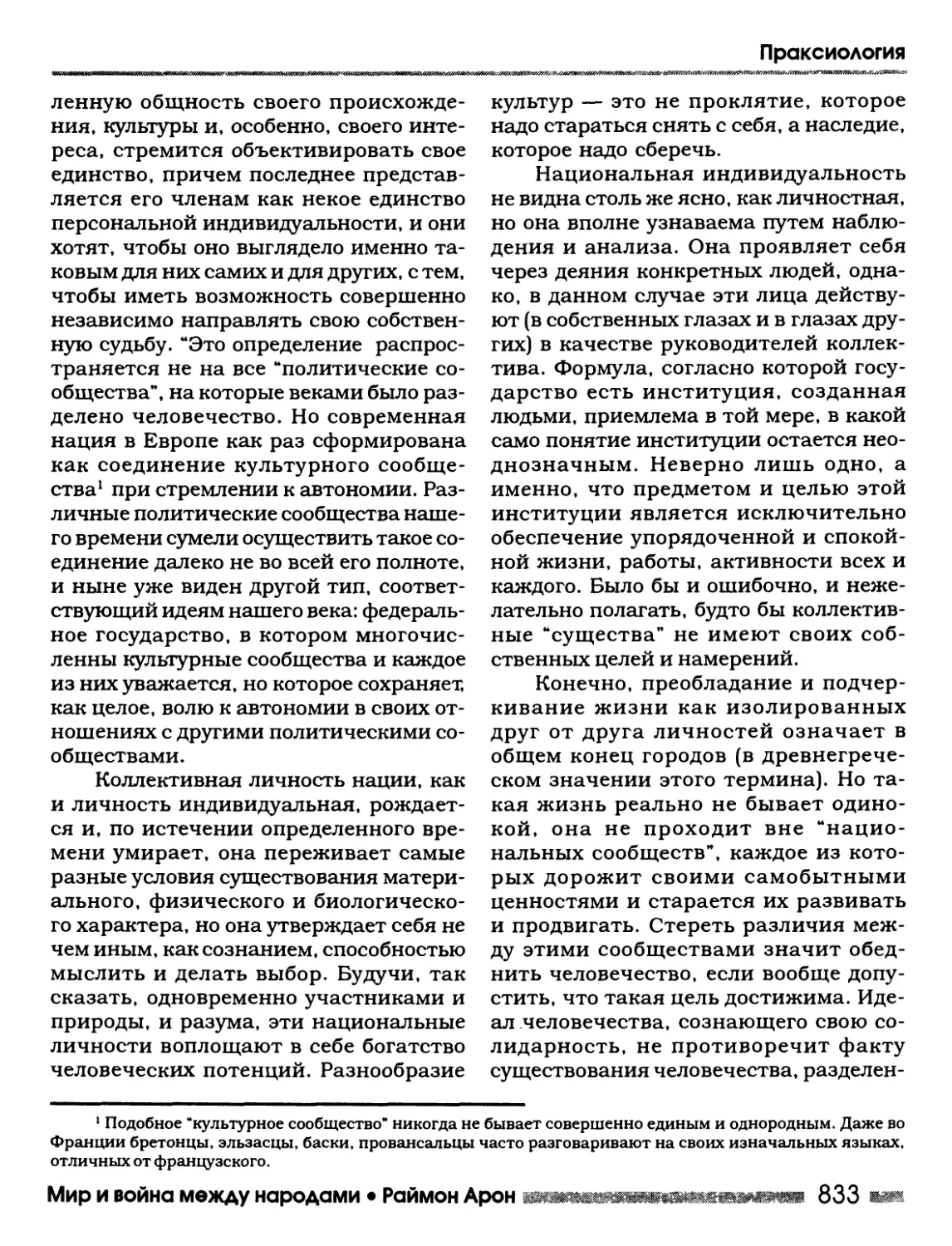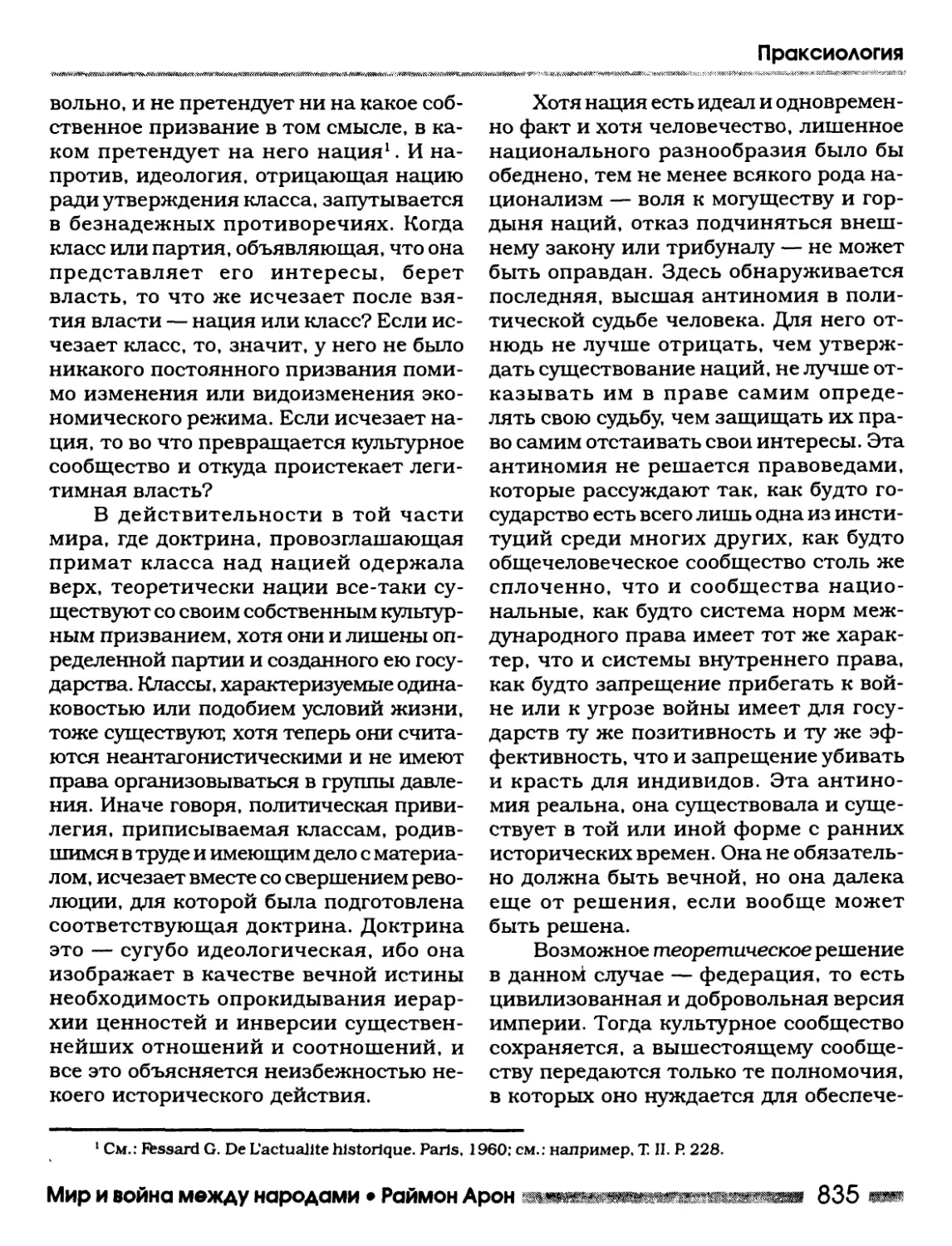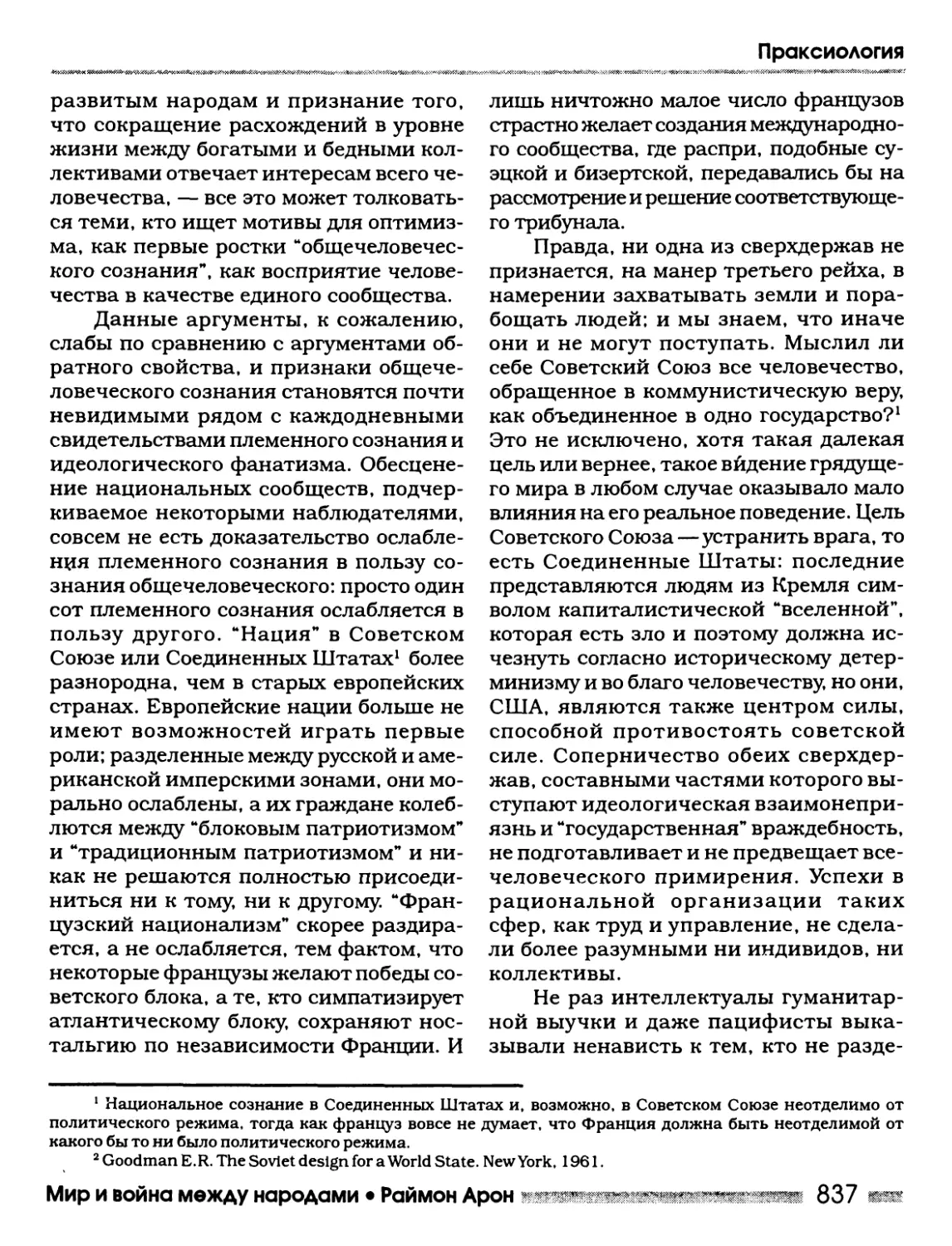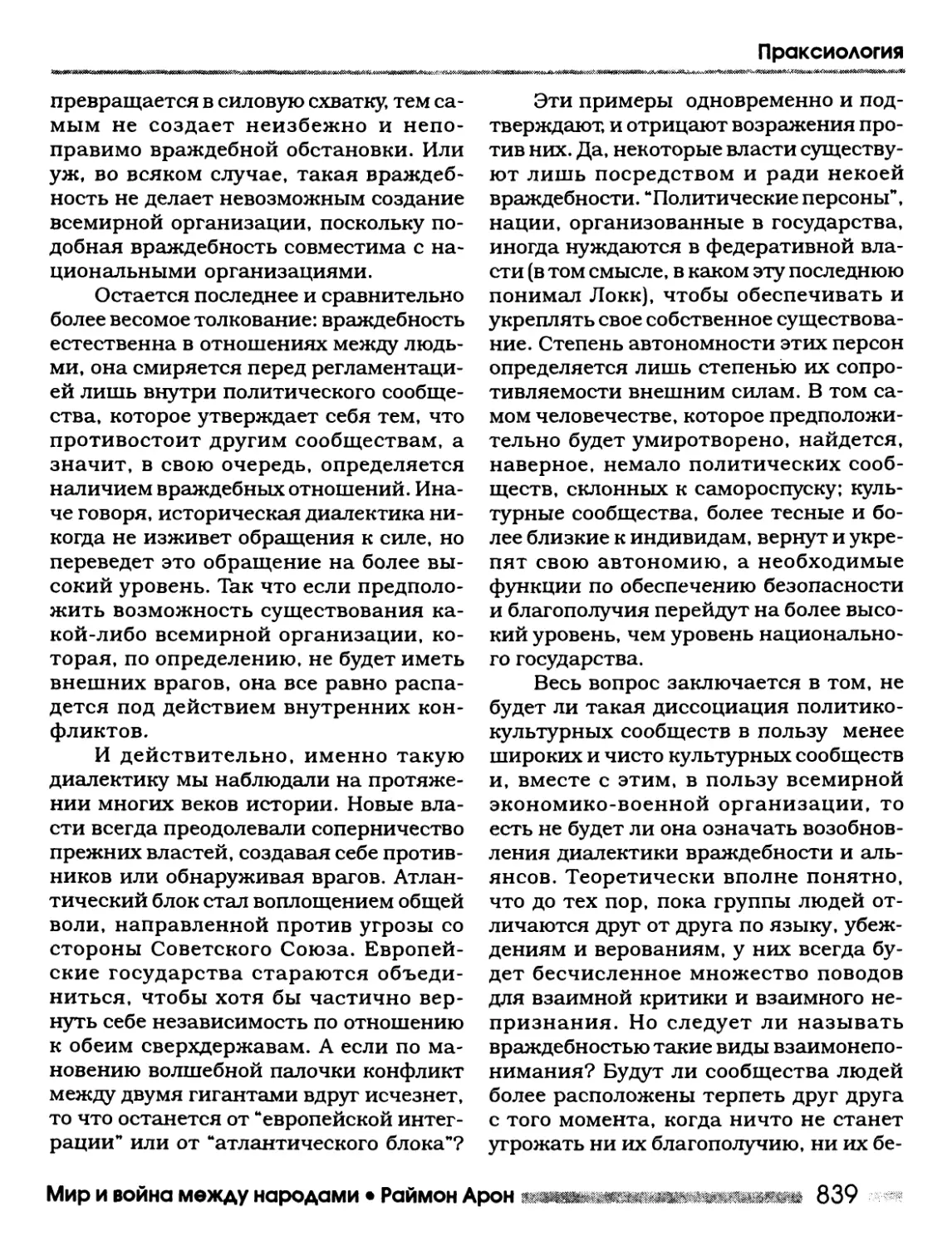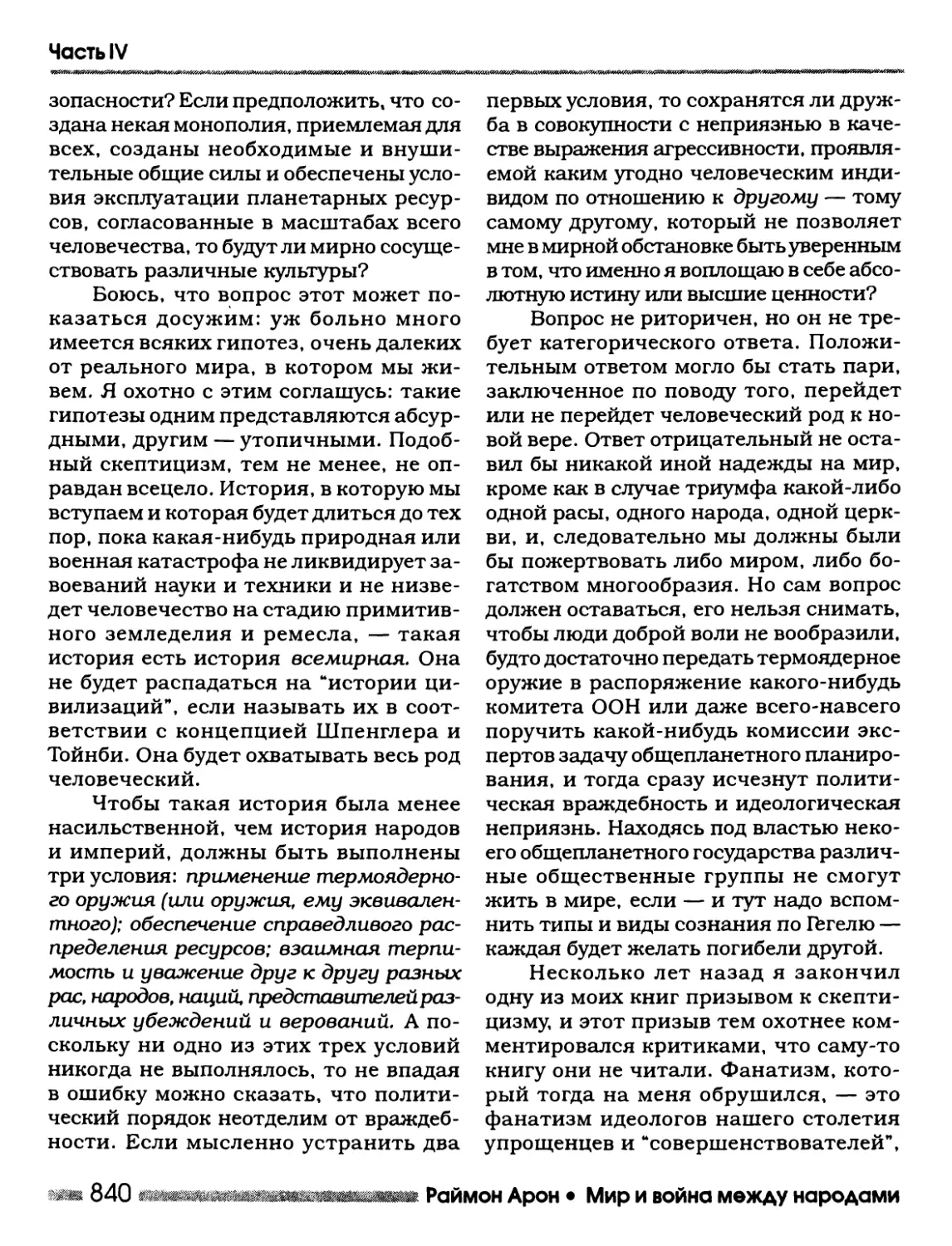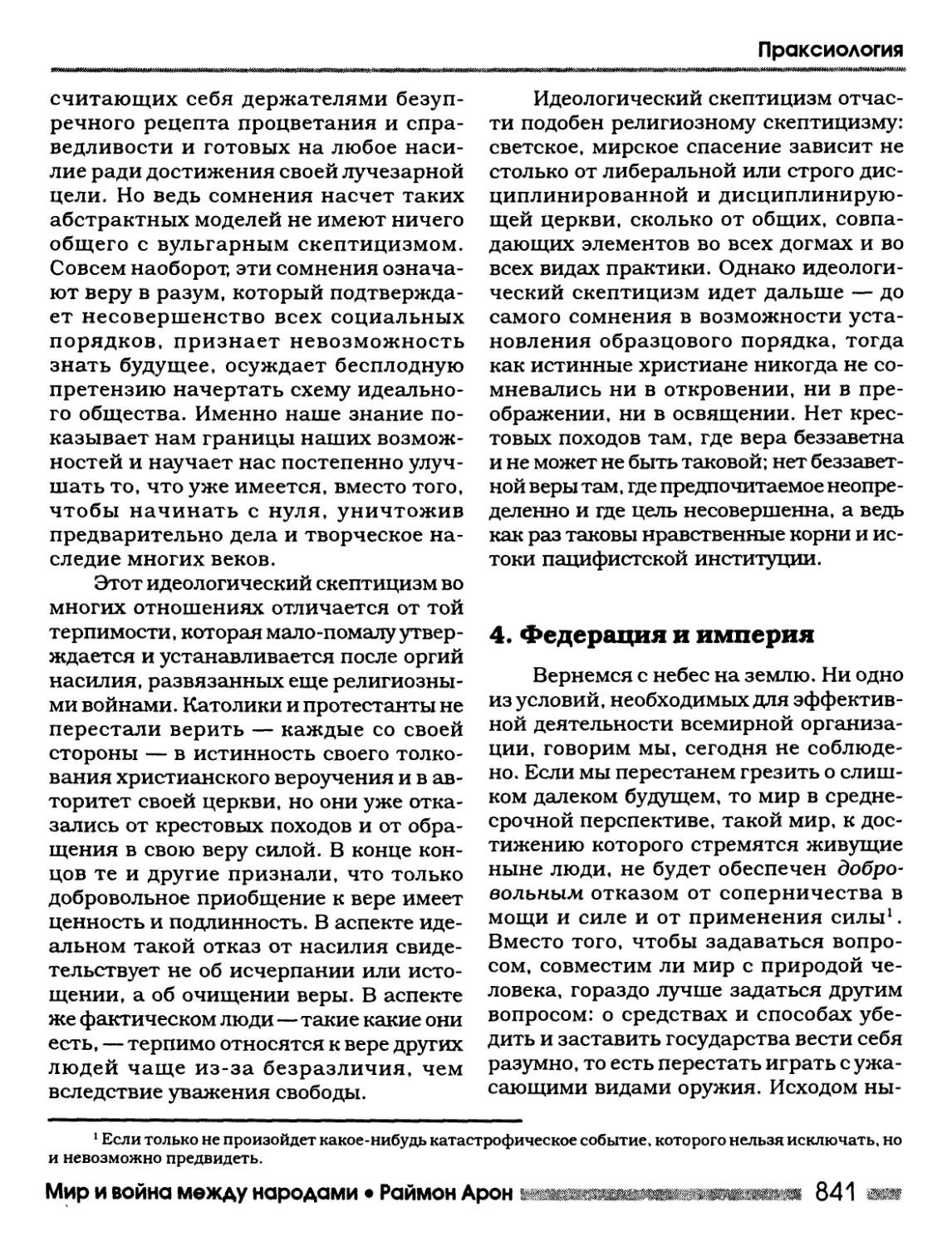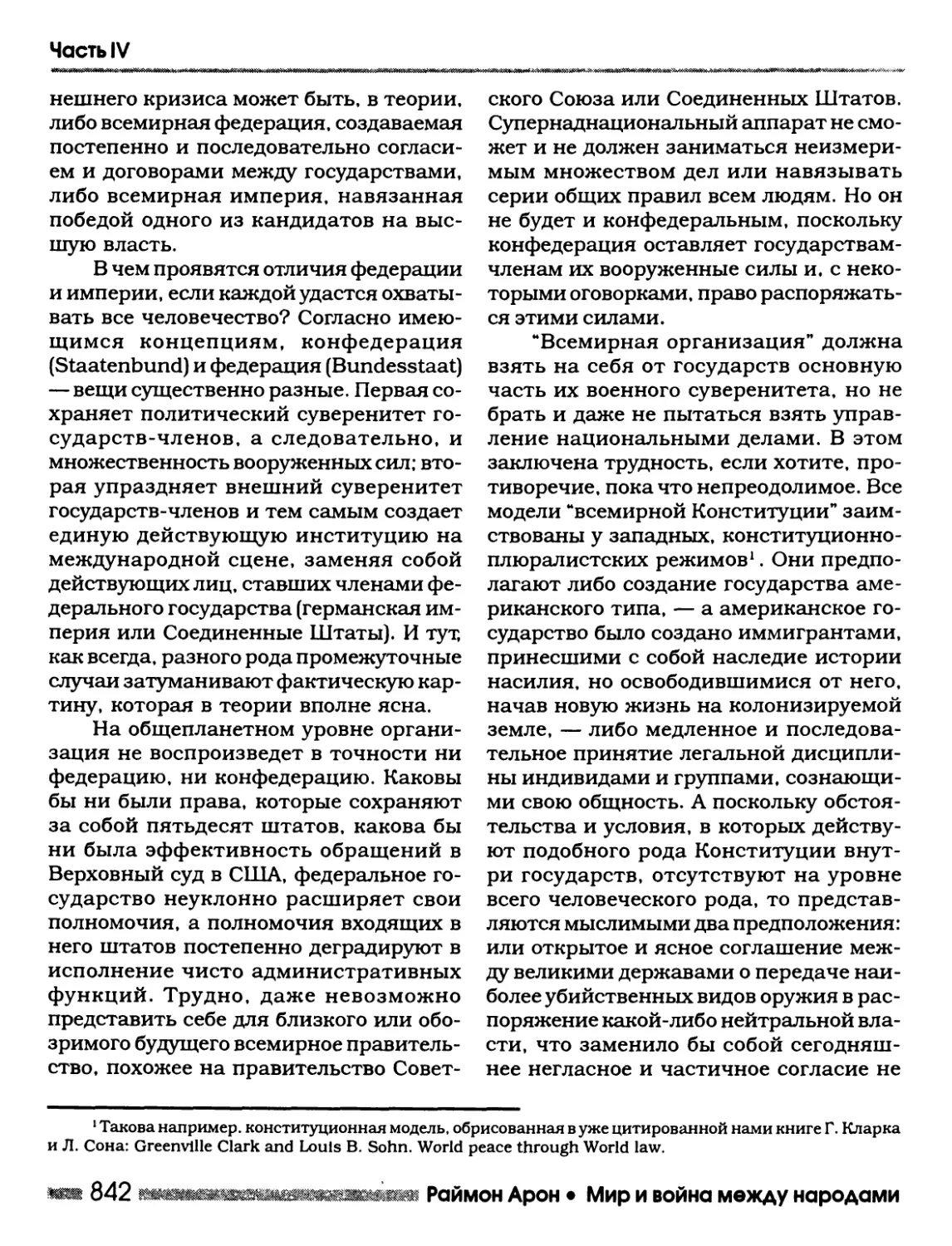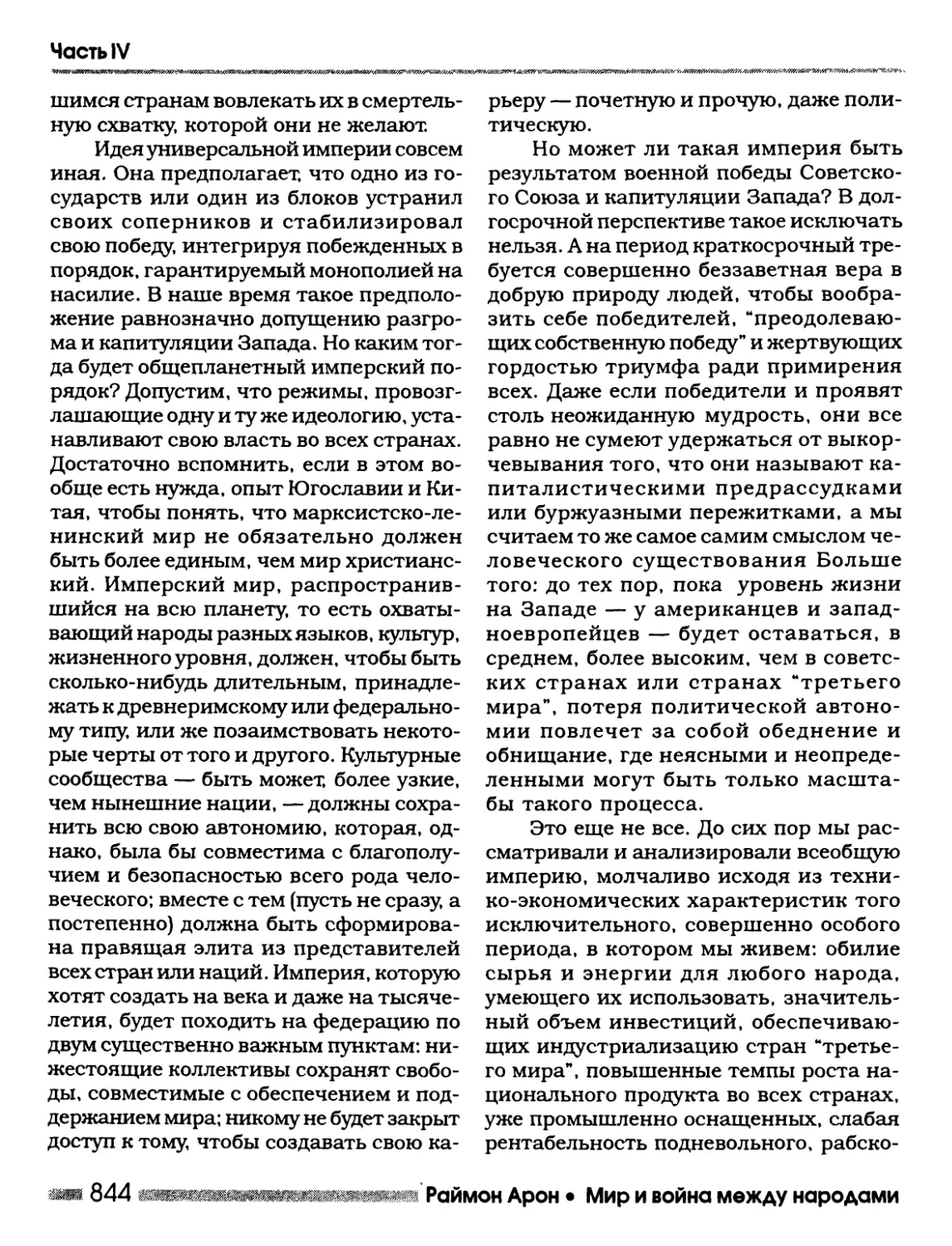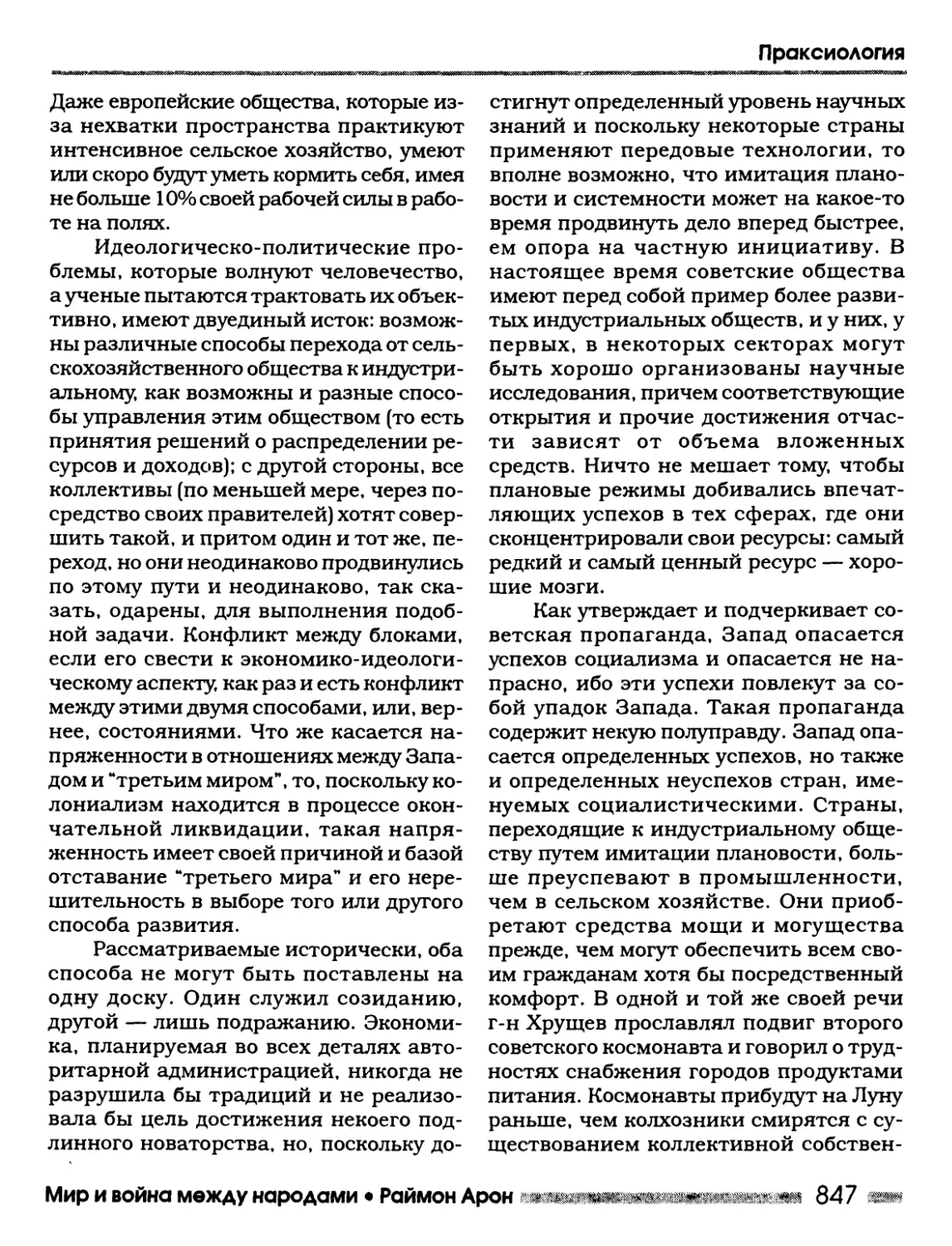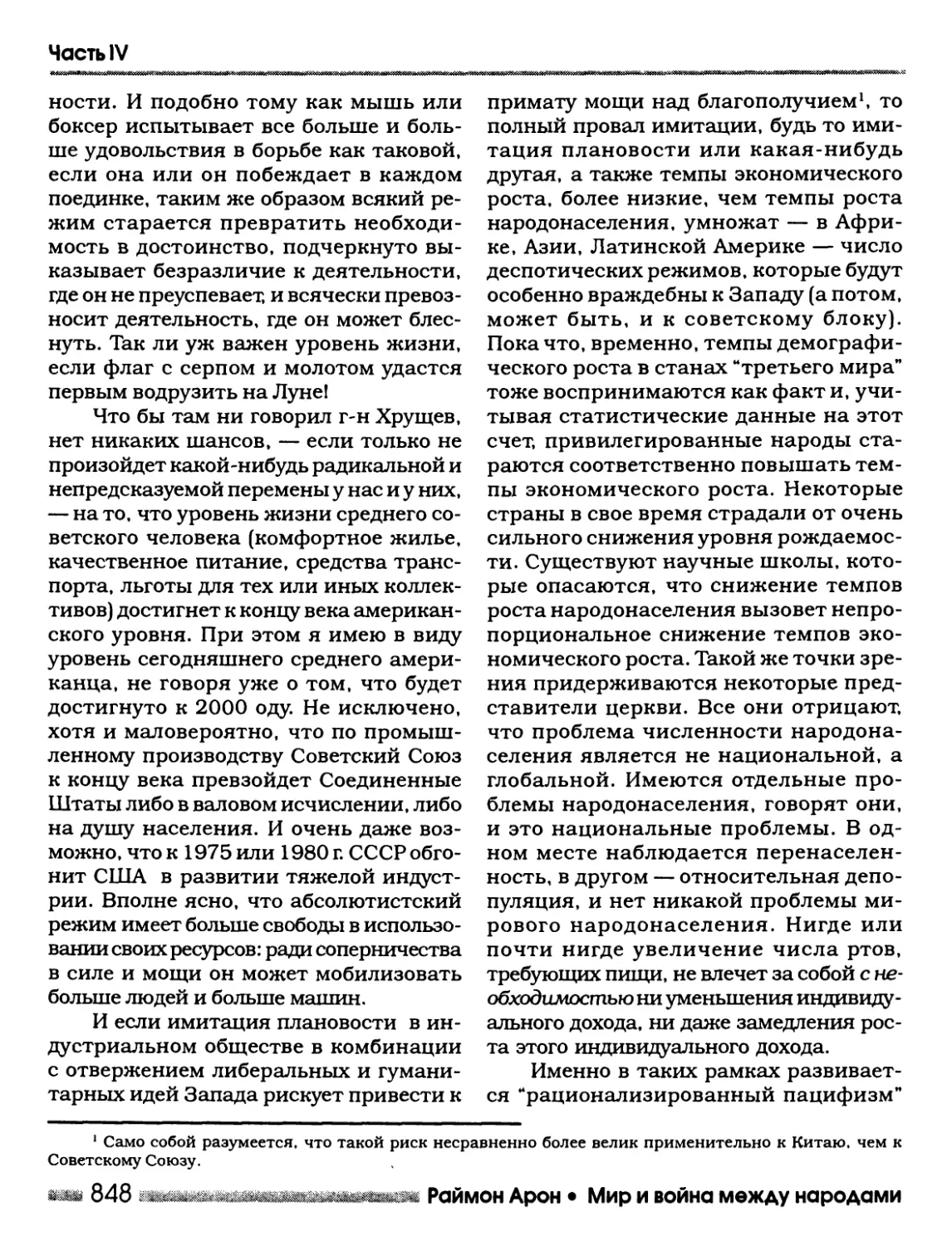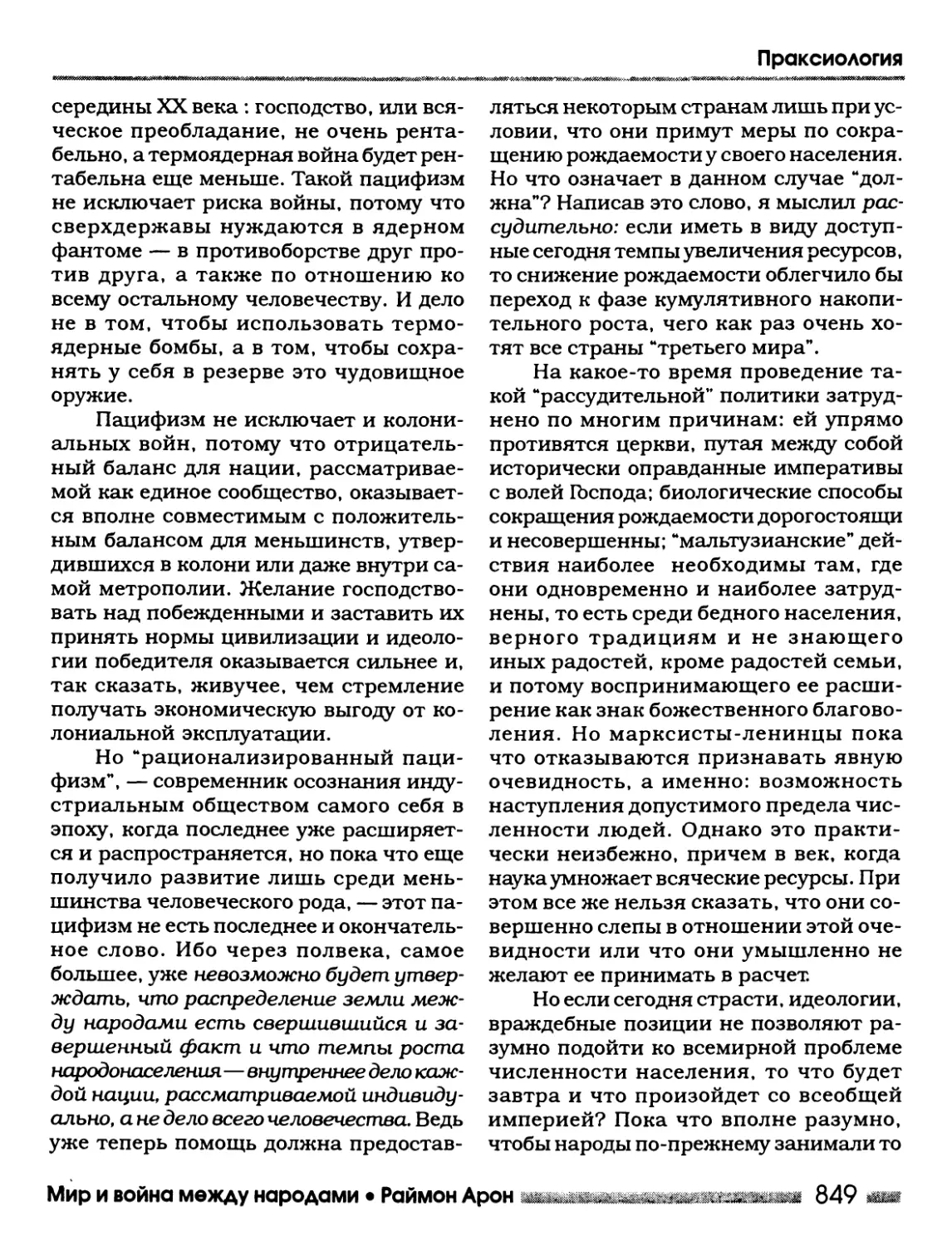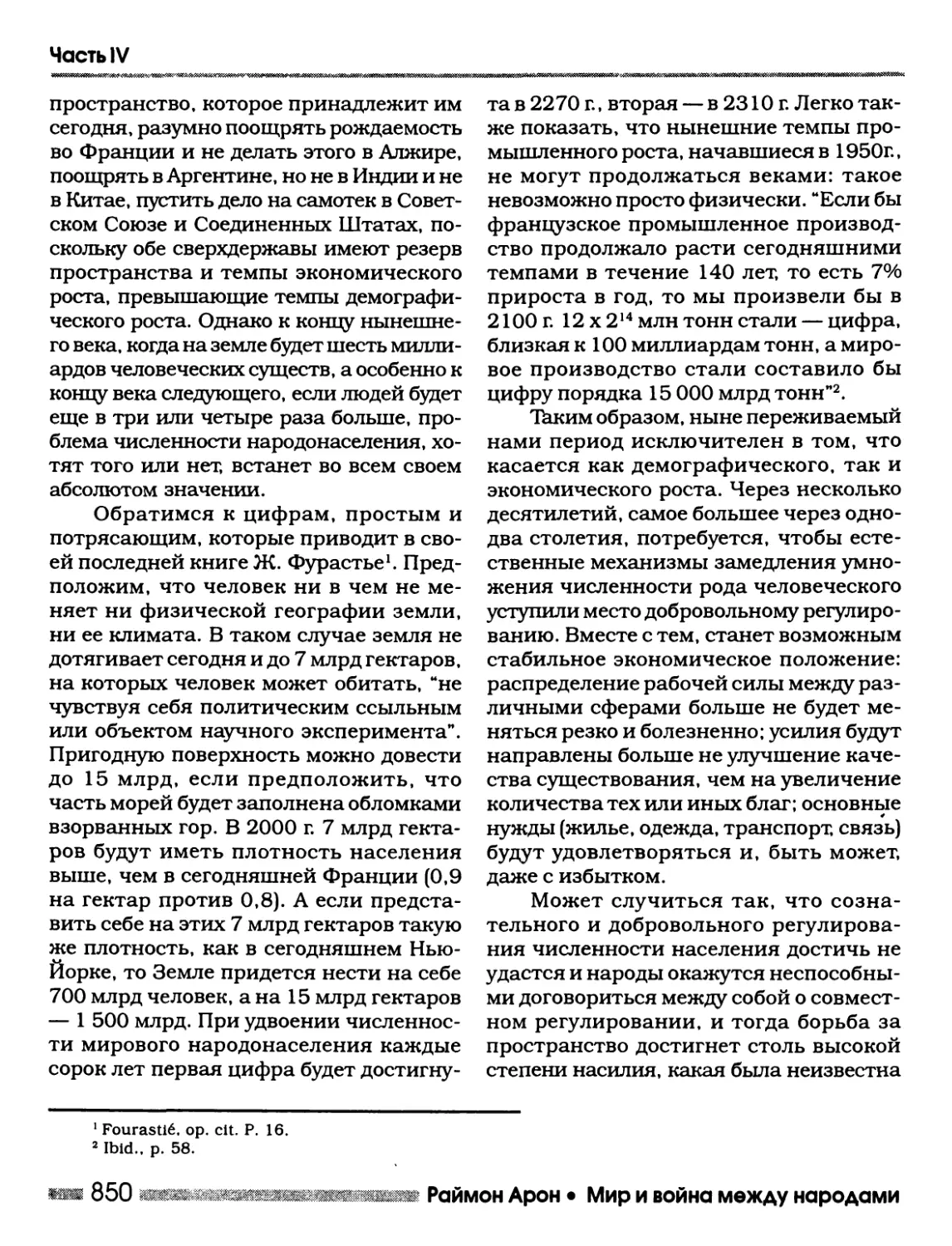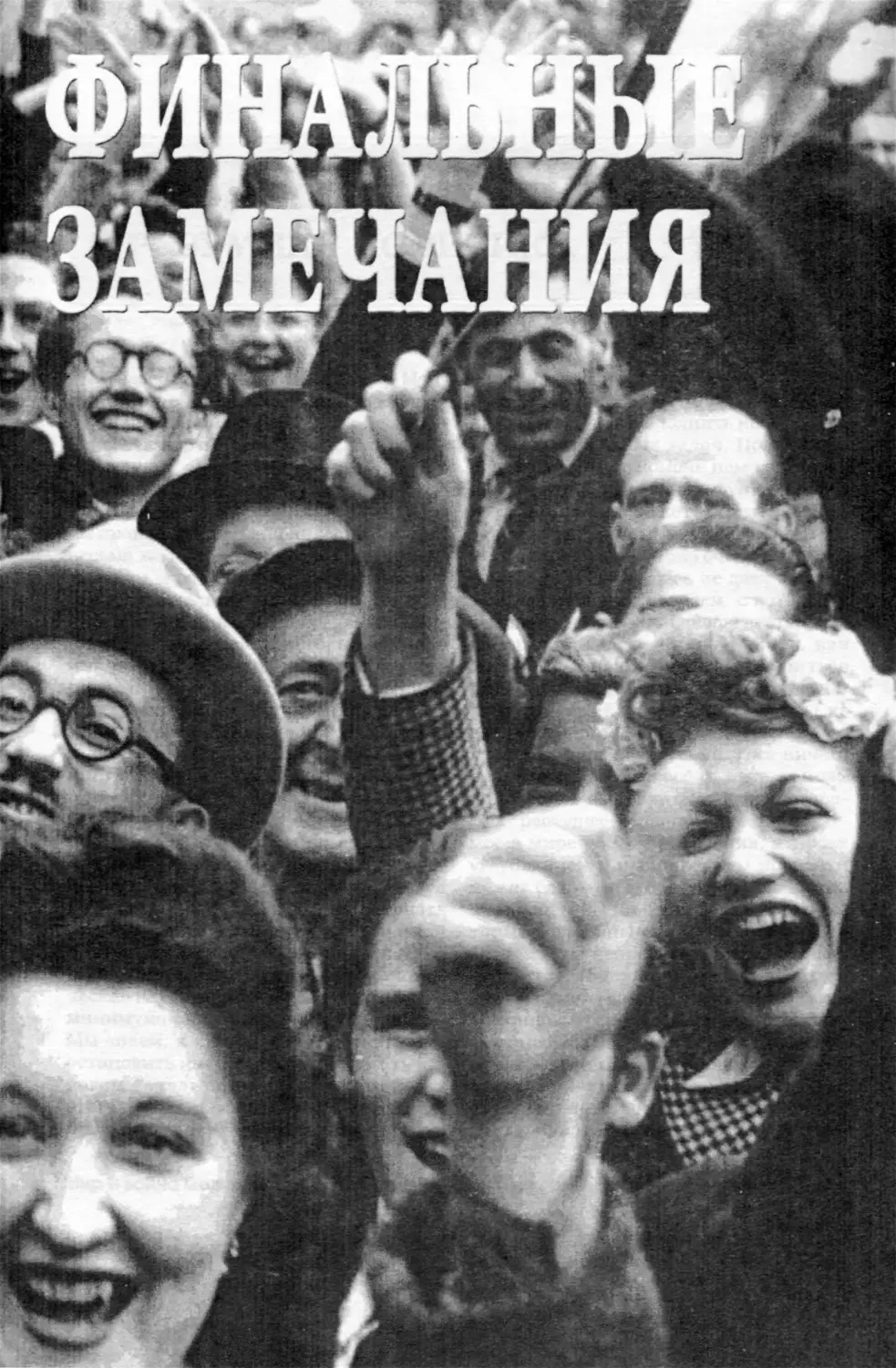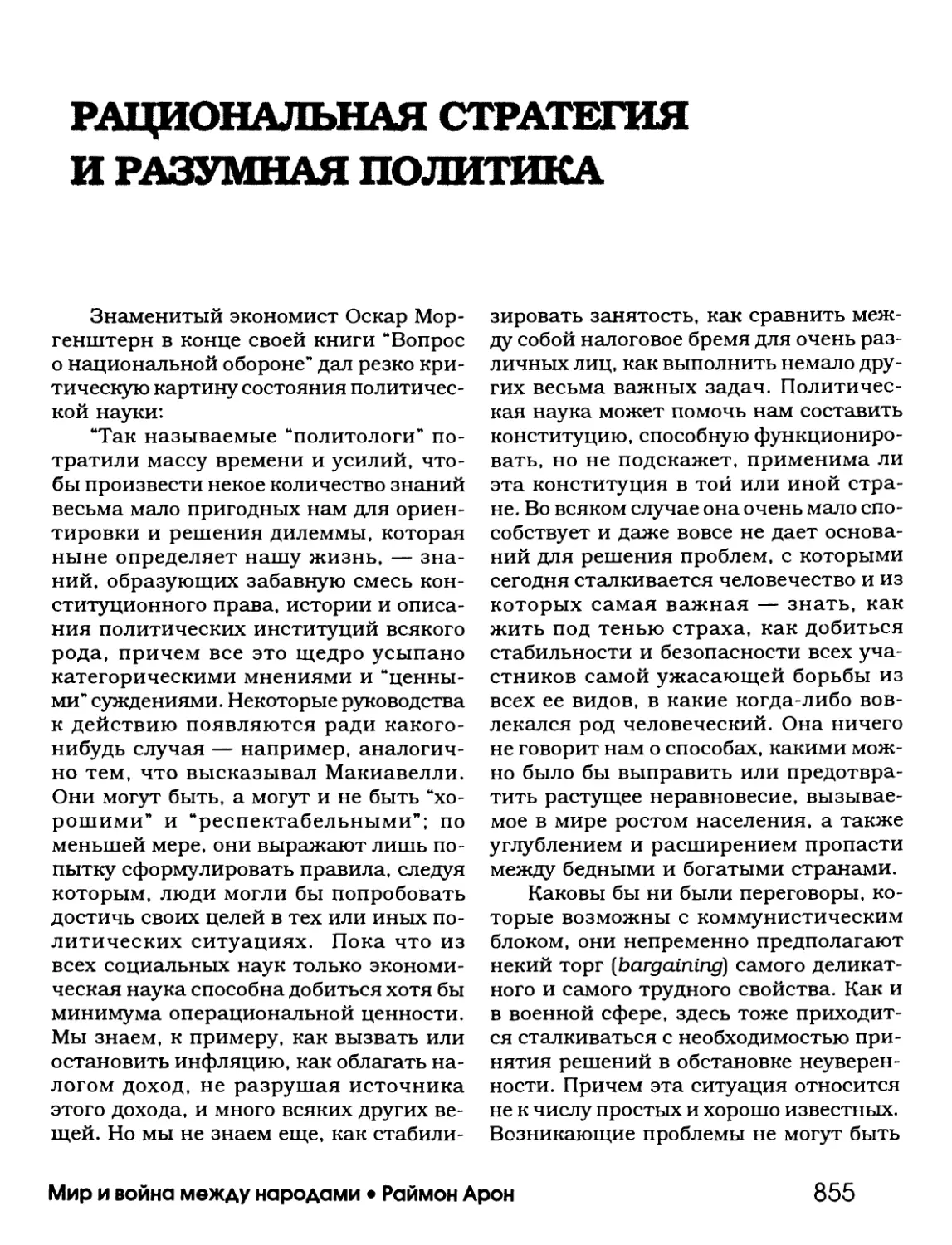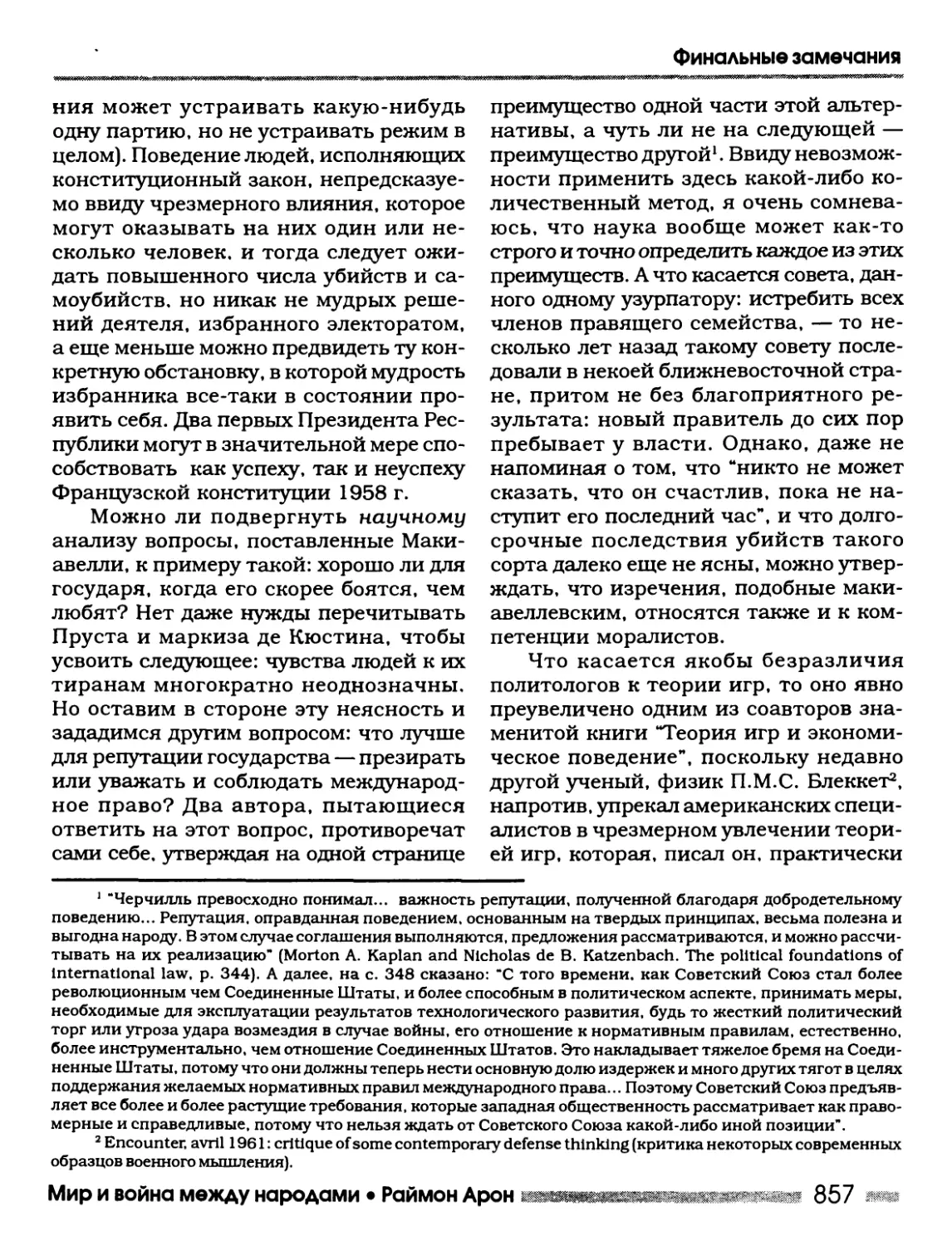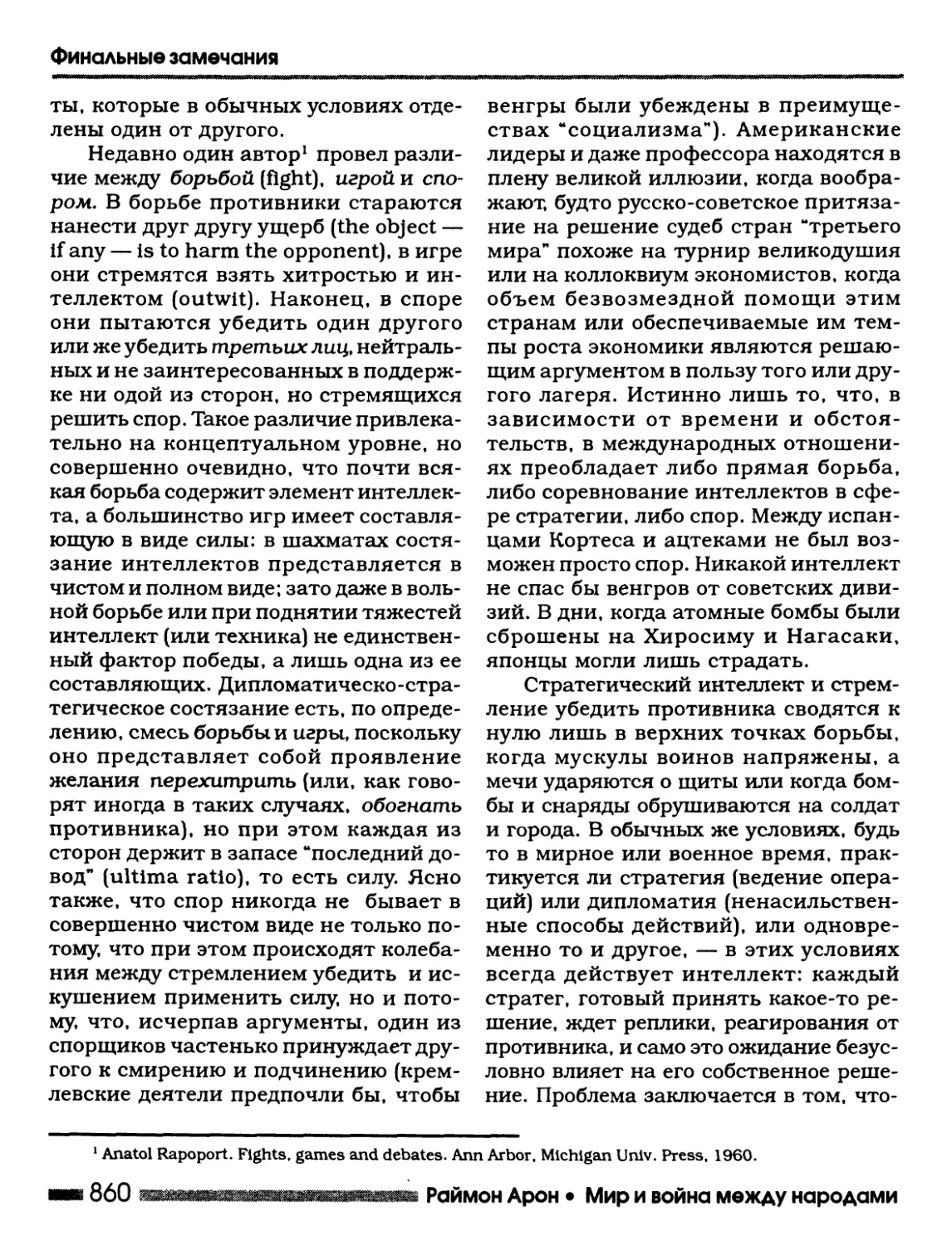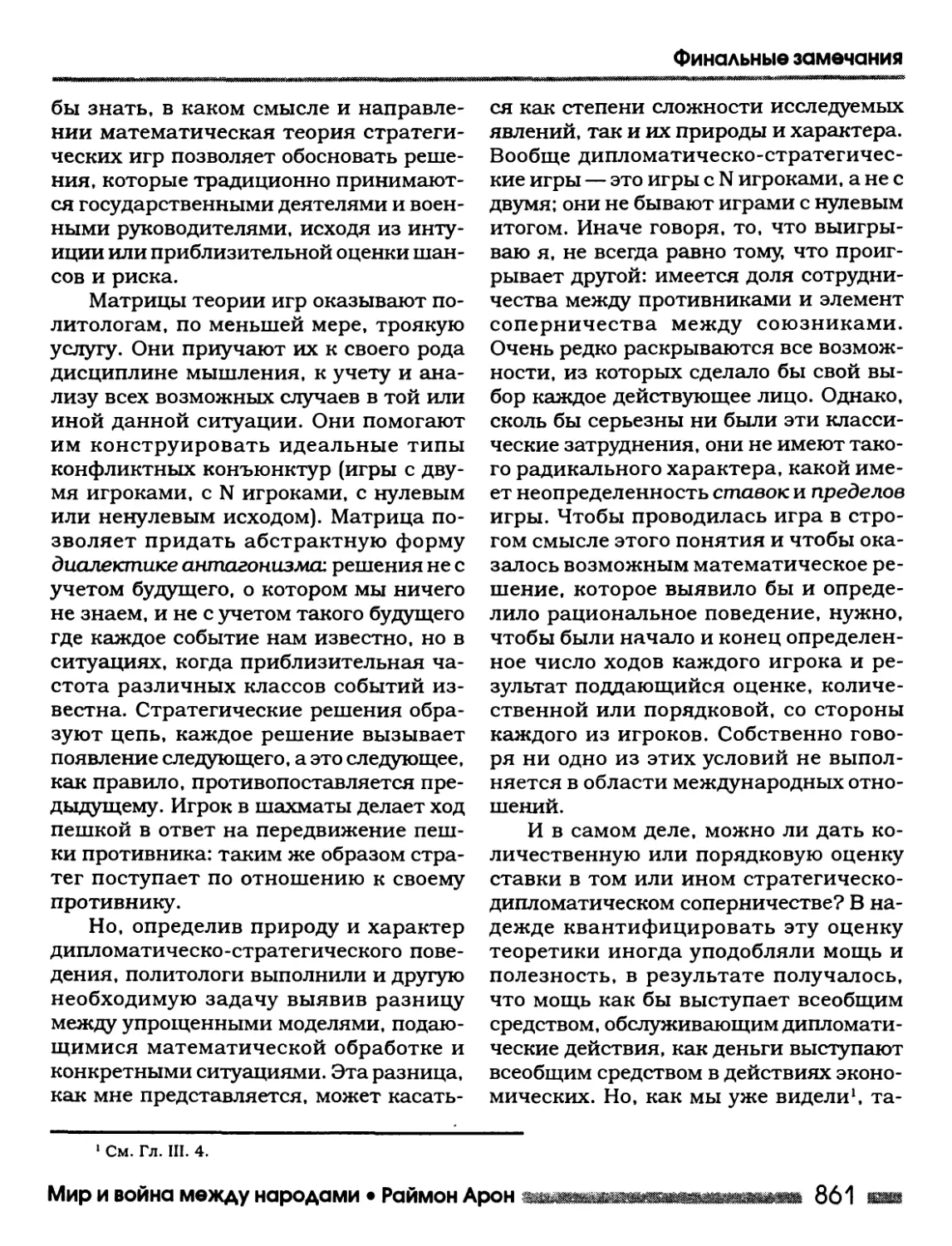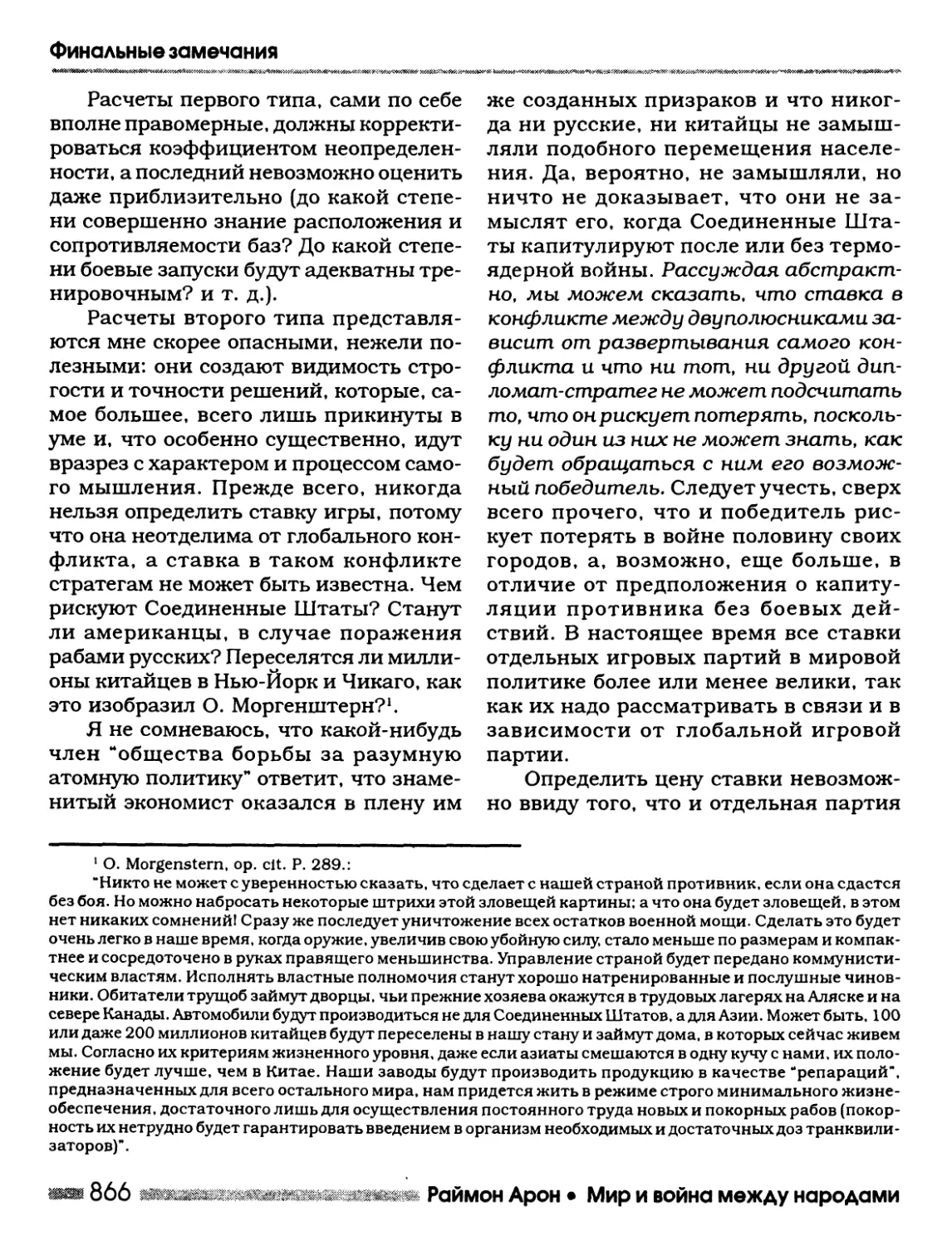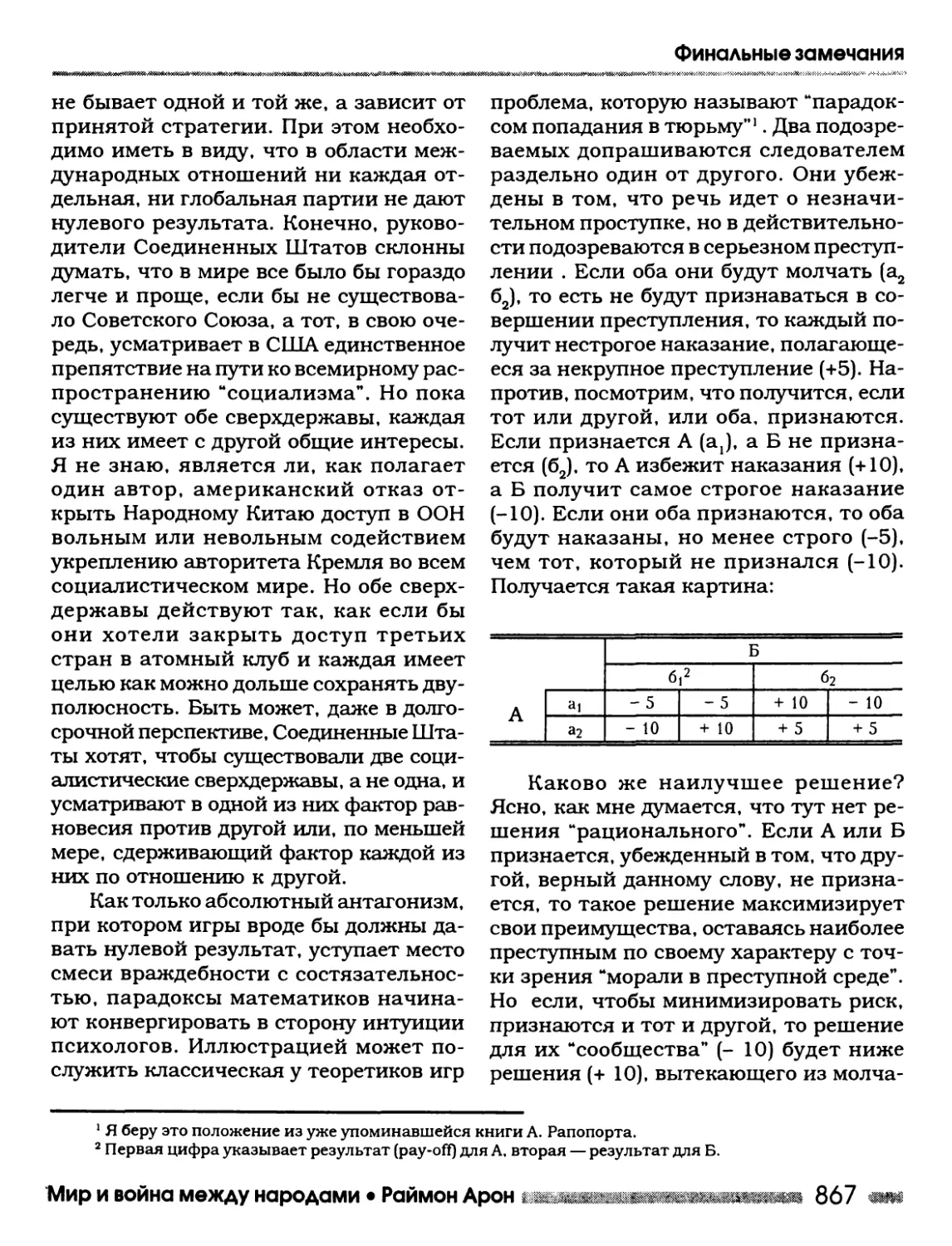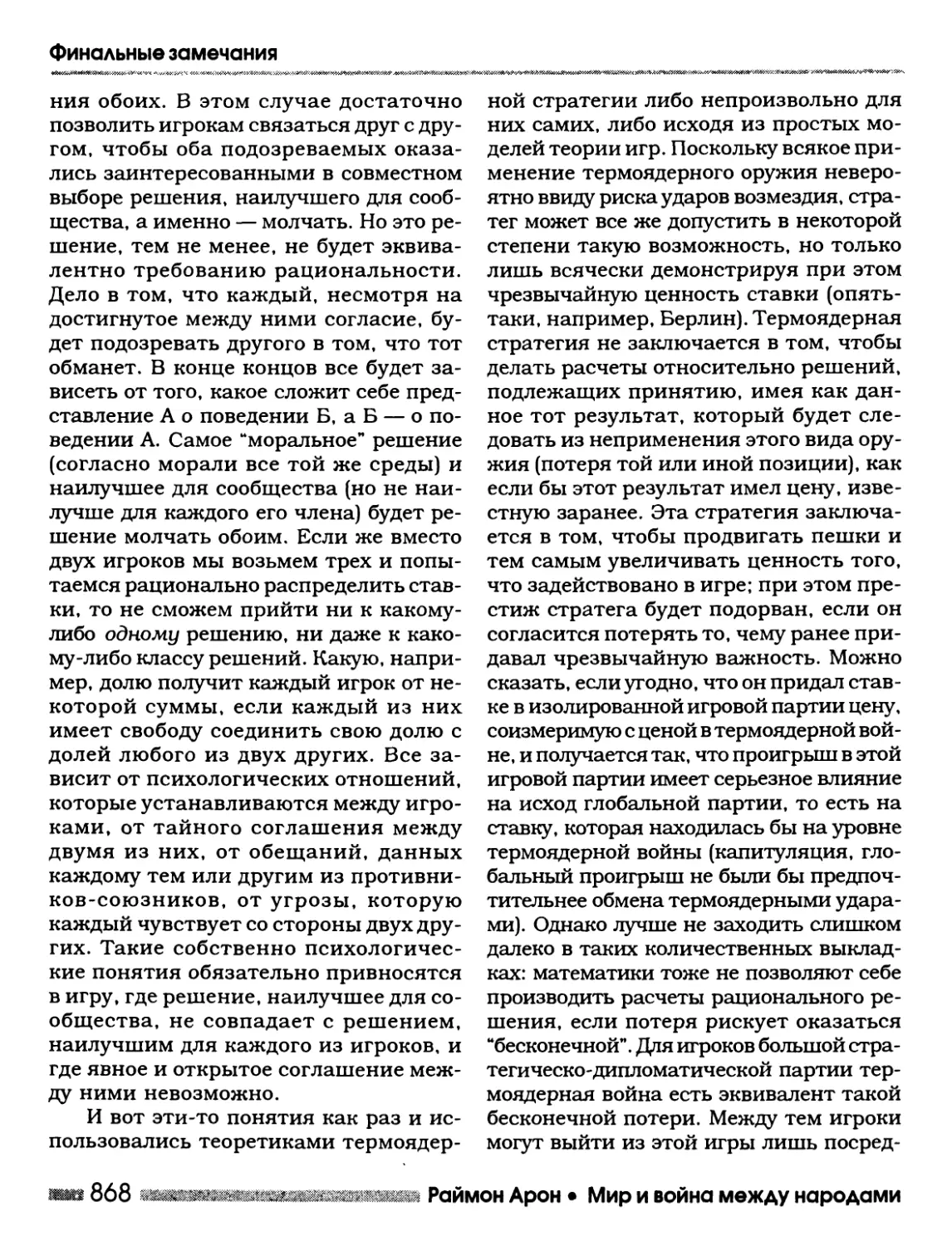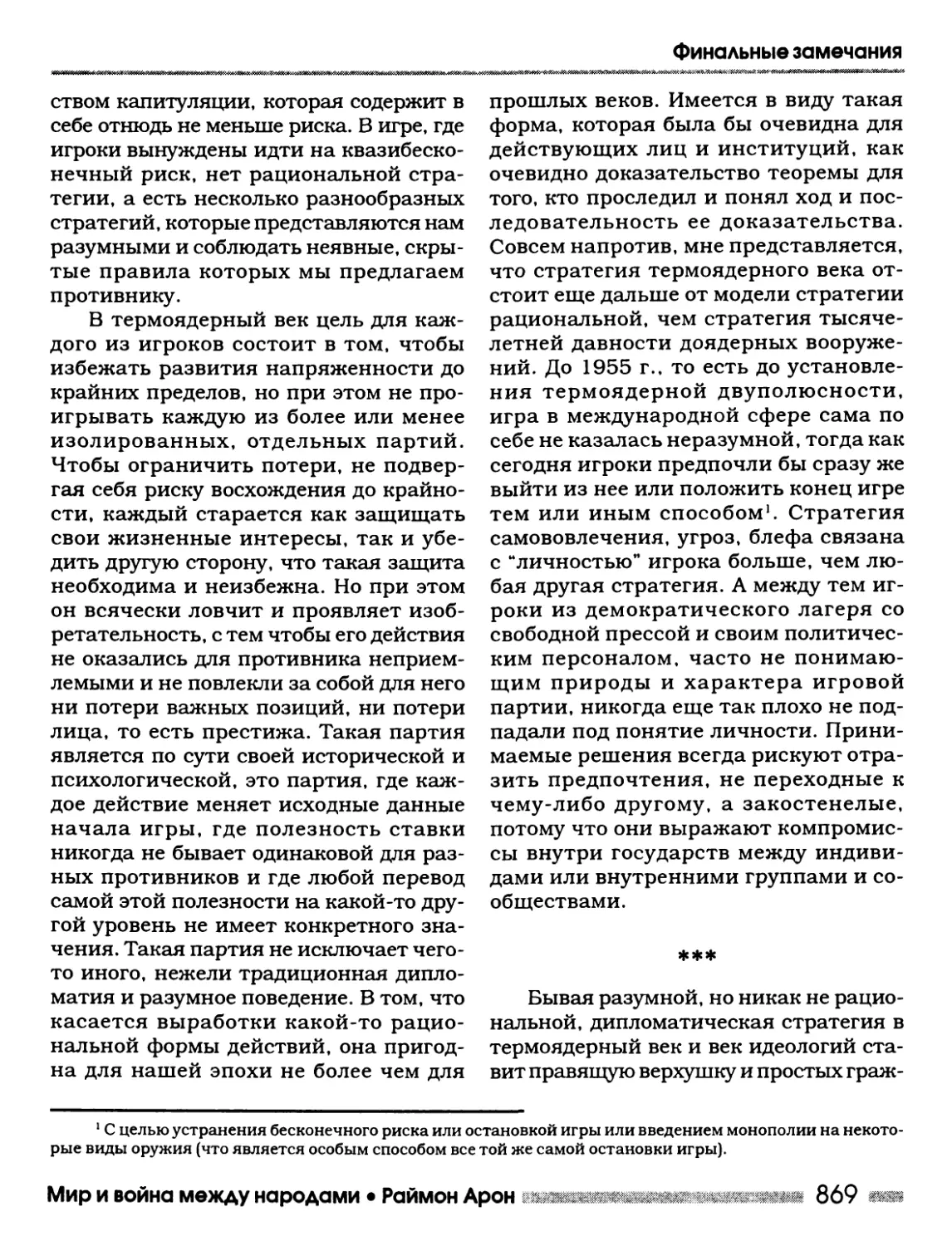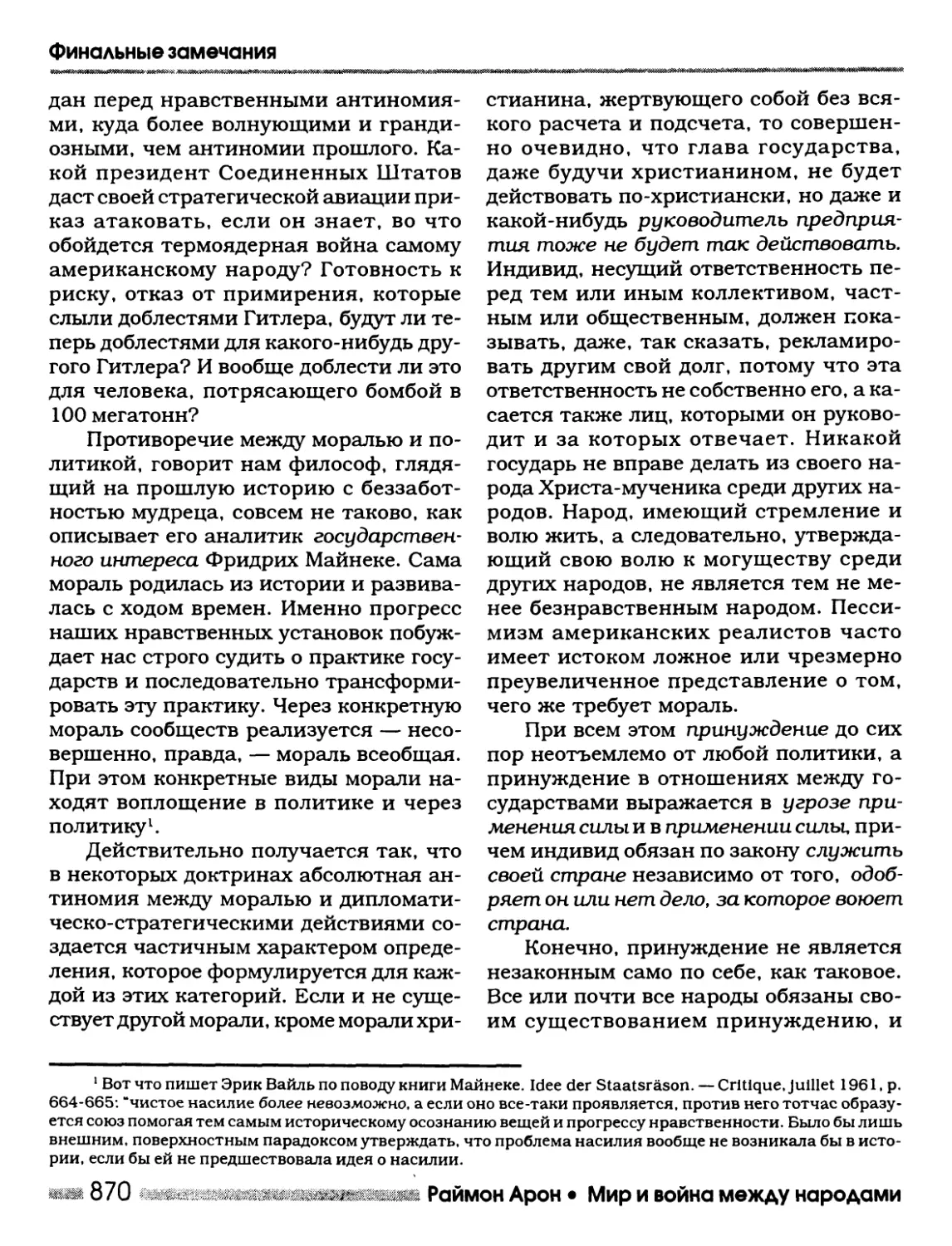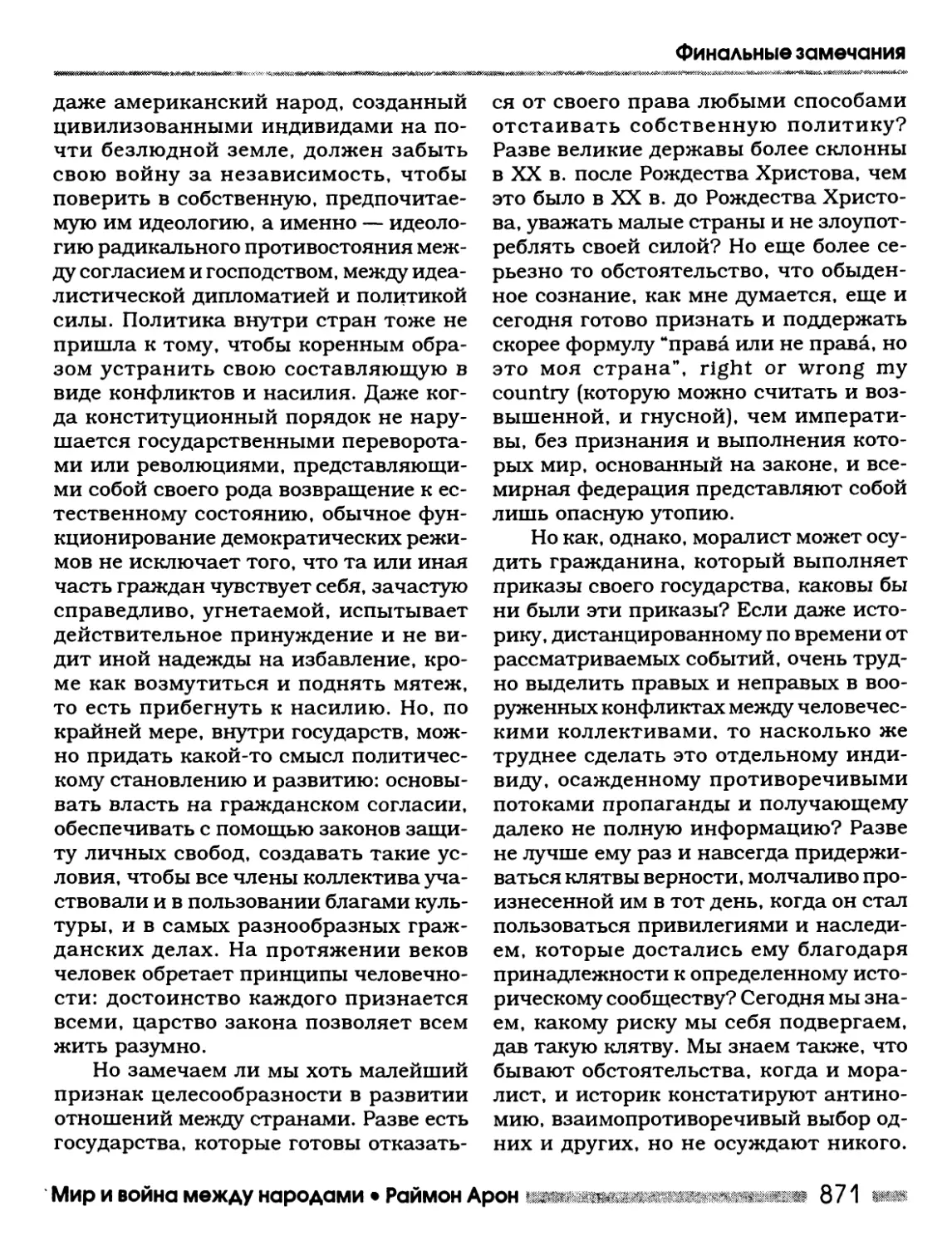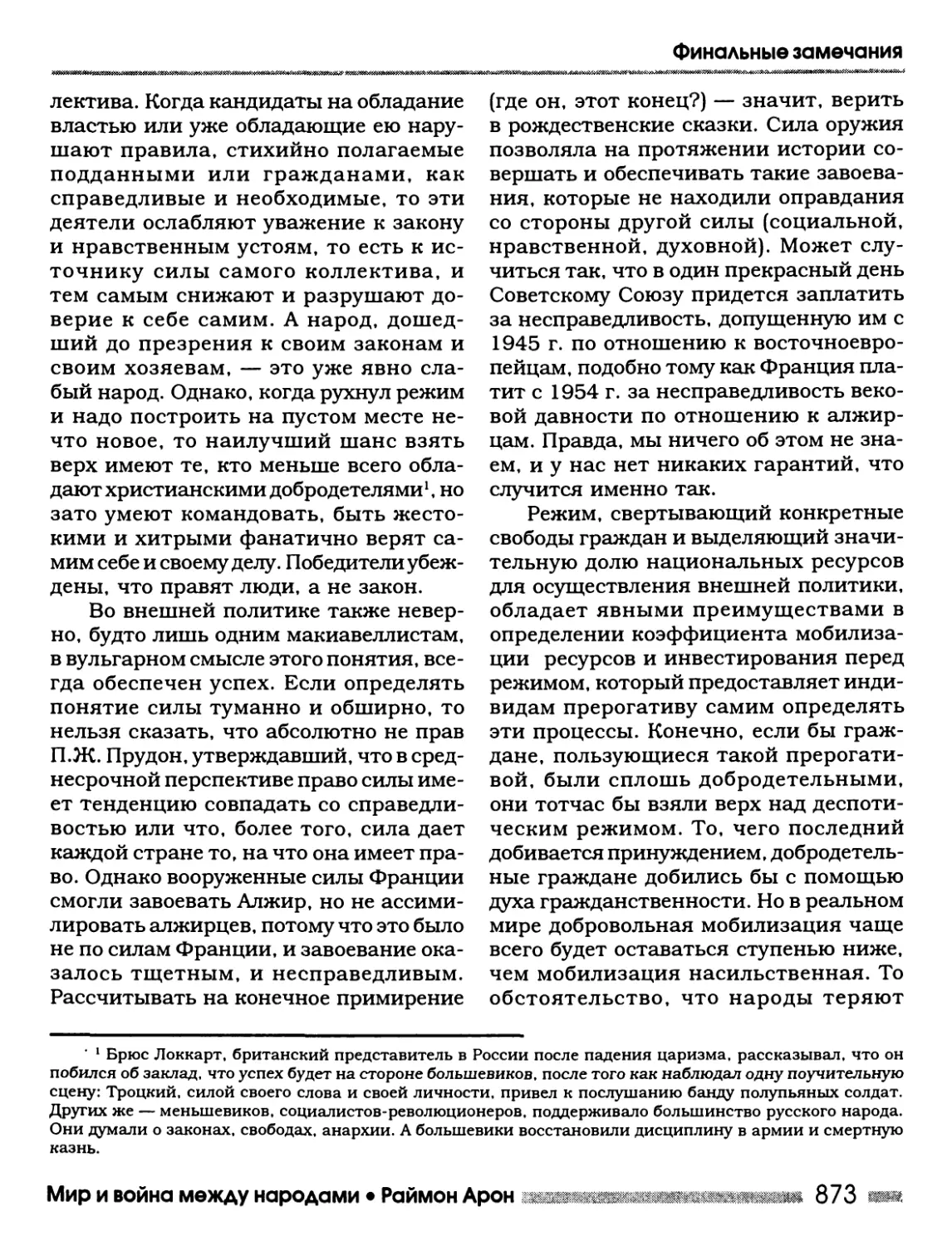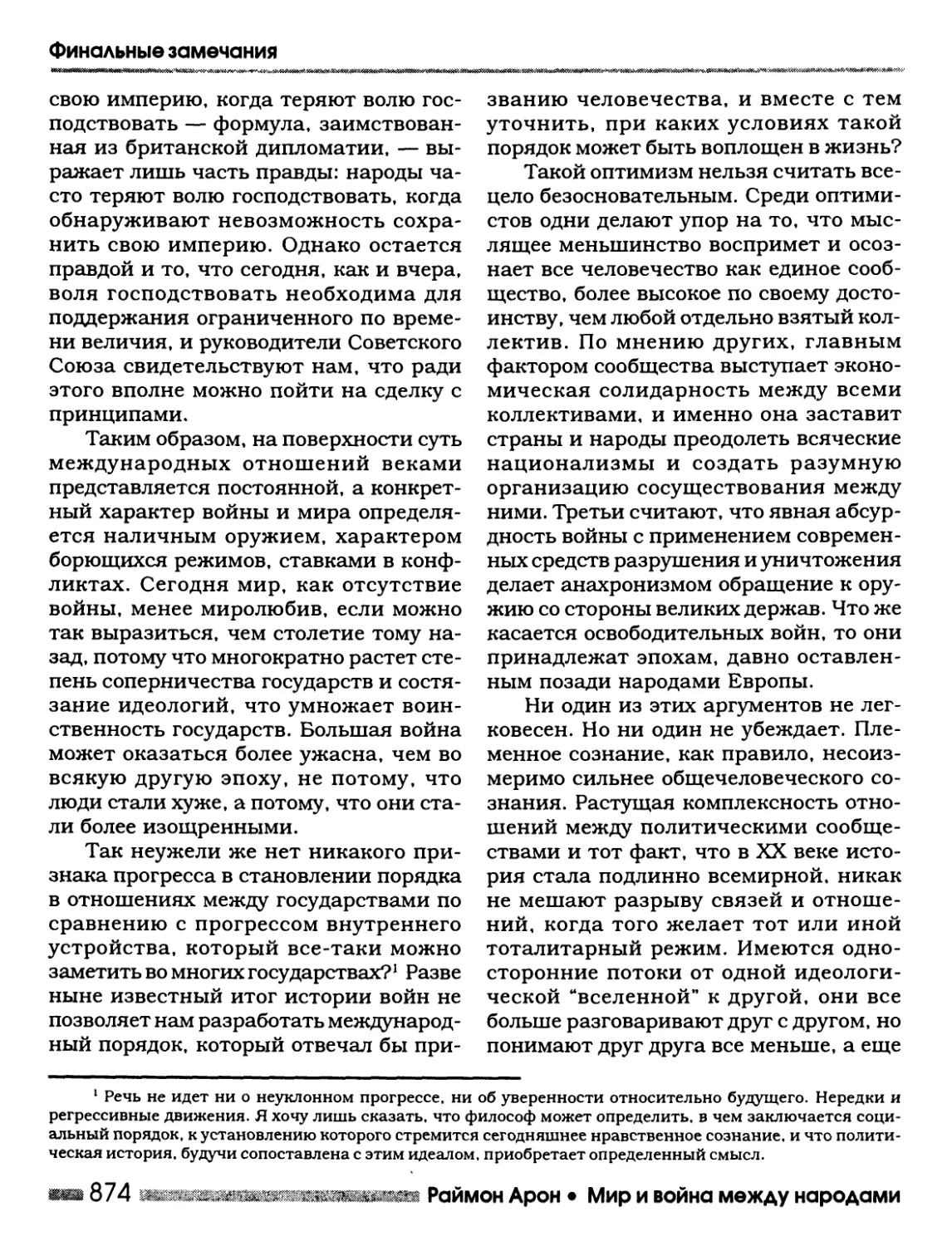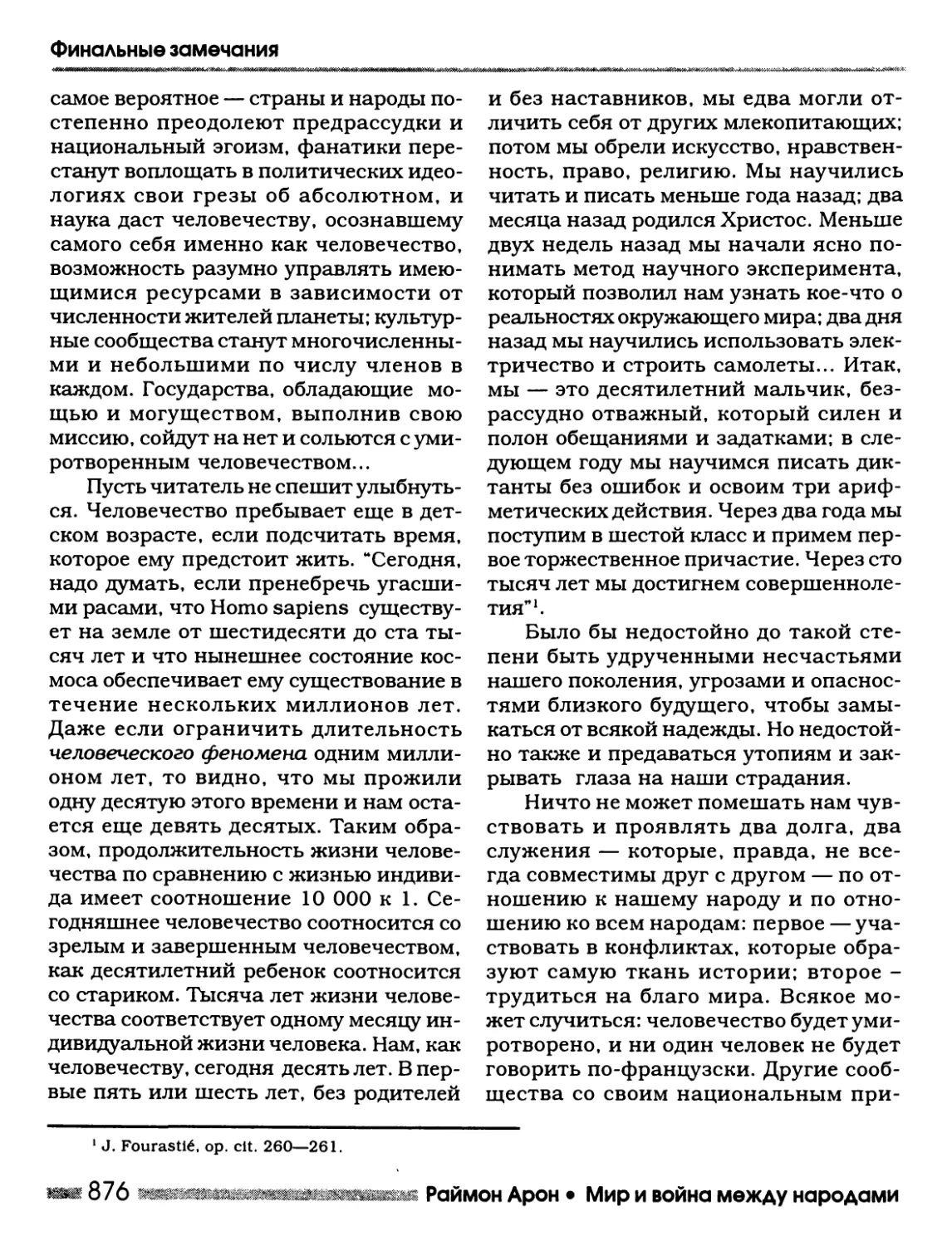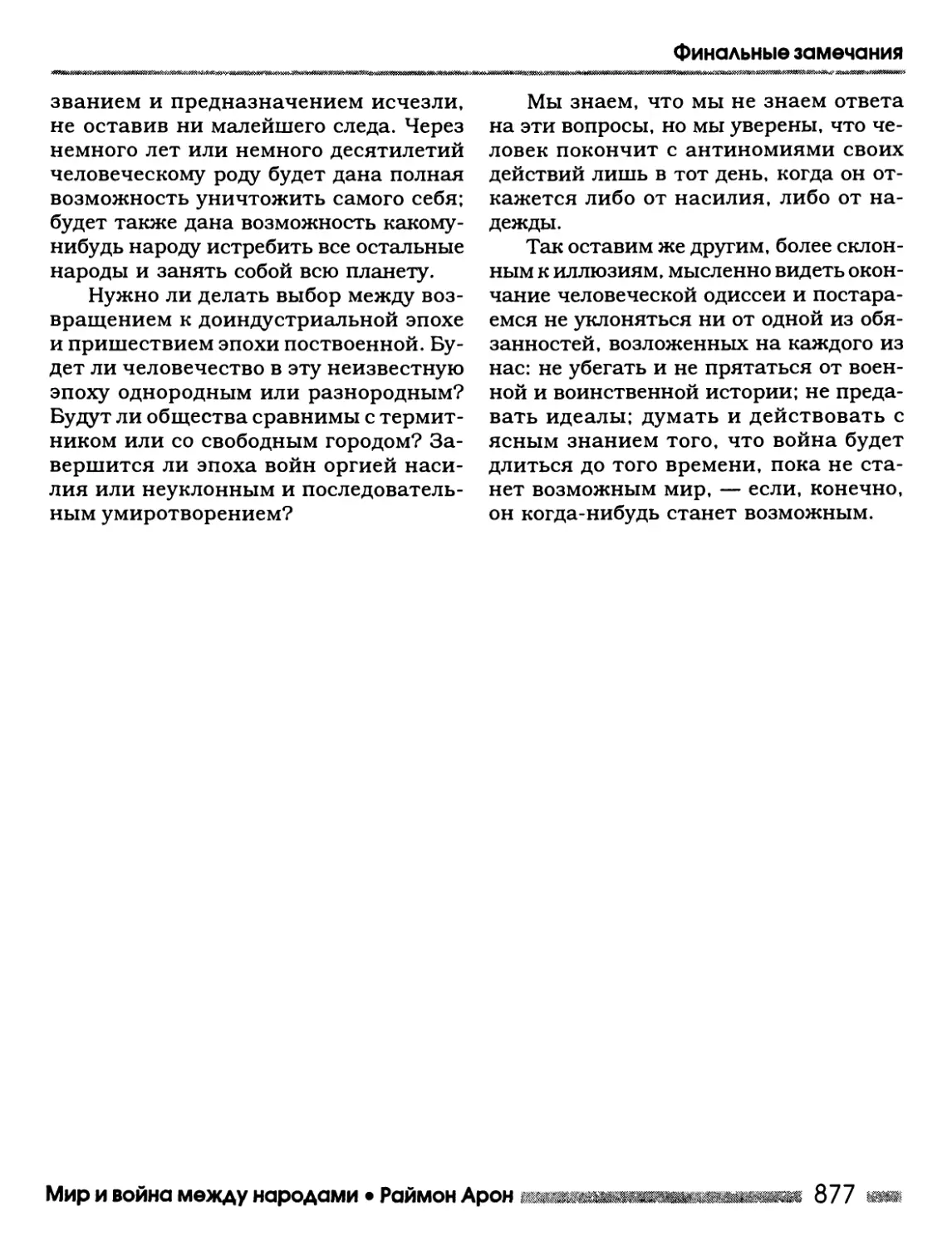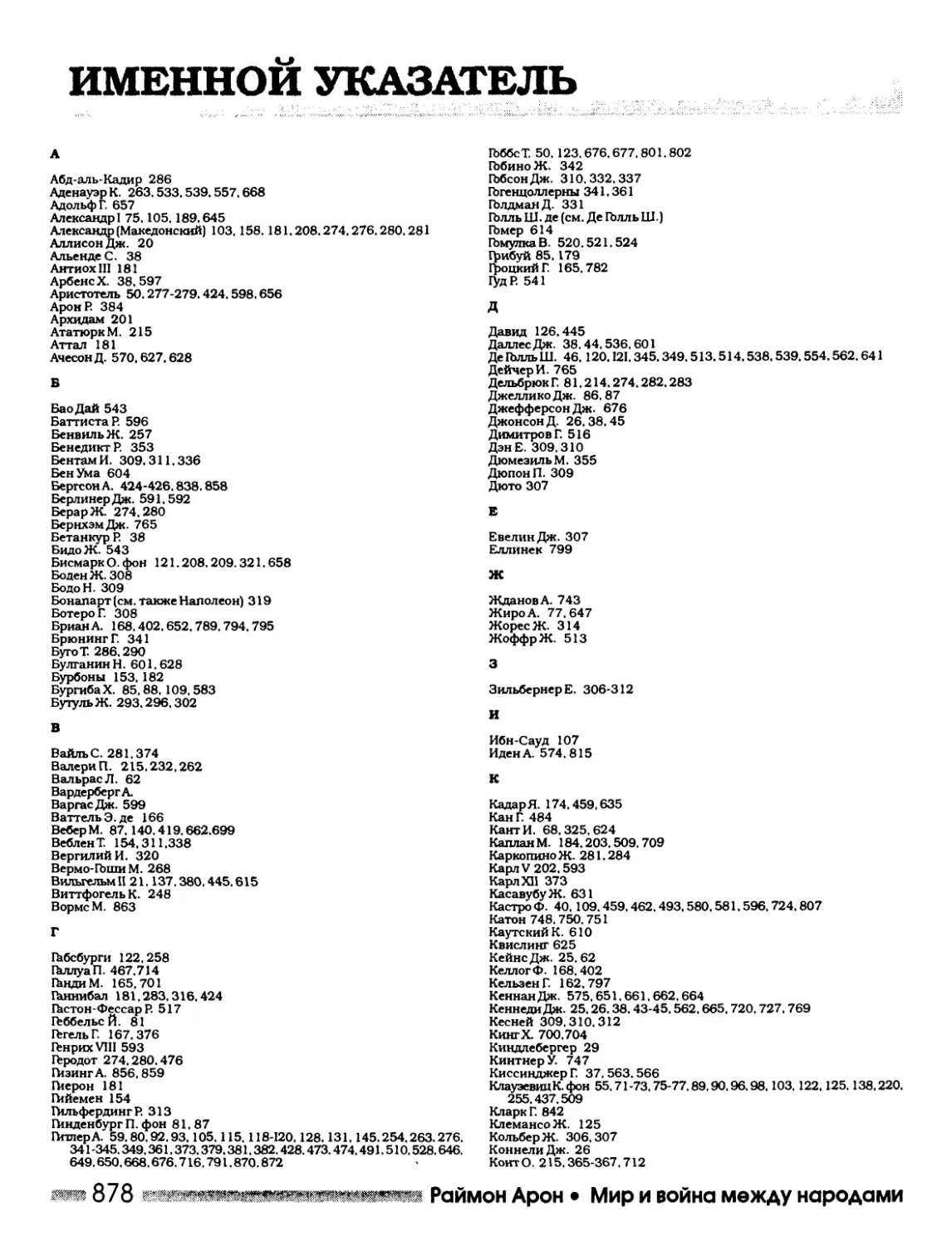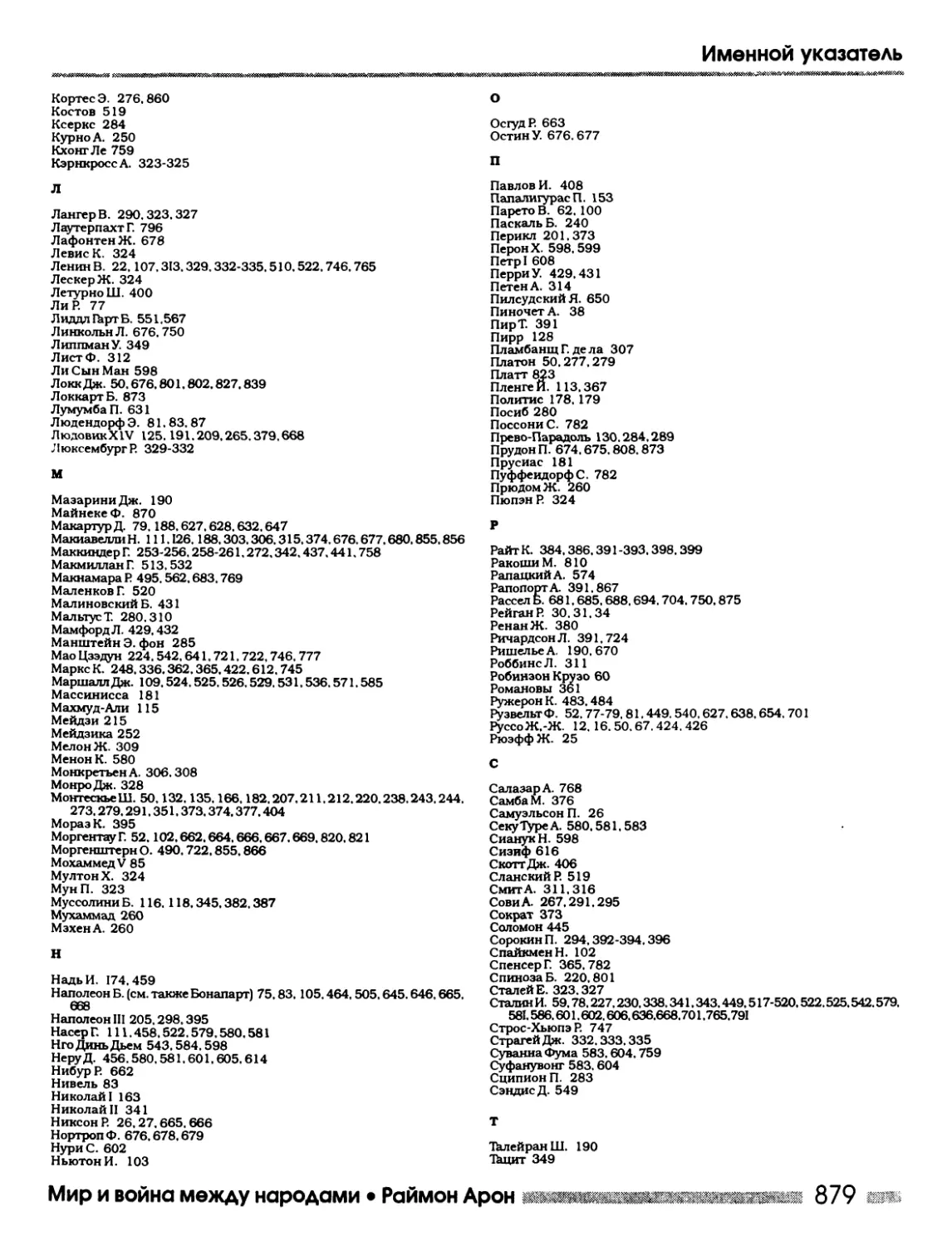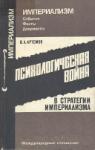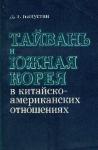Текст
RAYMOND ARON
PAIX et GUERRE
entre les nations
CALMANN-LÉVY
RAYMOND ARON
PAIX et GUERRE
entre les nations
CALMANN-LÉVY
РАЙМОН АРОН
МИР И ВОЙНА между народами перевод с французского
под общей редакцией В. И. Даниленко
NOTA BENE
Переводчики:
докт. филос. наук Школенко Ю. А., Воронов А. Б., канд. эконом, наук Павлов Б. Б.,
канд. филолог, наук Чуршуков Г. В., Соколов Е. А.,
Арон Р.
Мир и война между народами. / Под общей ред. канд. полит, наук
Даниленко В. И. — M.: NOTA BENE, 2000. — 880 с. с илл.
ISBN 5-8188-0020-2
"Сможет ли человечество продолжать свое существование, если оно останется
разрозненным, расчлененным на суверенные государства, которые сами
идентифицируют себя, исходя из возможности войны?
Этот вопрос владеет моими мыслями в течение многих лет, и поэтому я
предпринял всестороний, как я надеюсь, анализ того загадочного феномена, описание которого
наполняет хронику веков, — войны. Я попытался рассмотреть в единой системе
различные подходы к ней."
РаймонАрон
©CALMANN-LÉVY, 1962, 1984
ISBN 5-8188-0020-2 ©NOTABENE, 2000
Содержание
АВТОРСКИЕ ПРЕДИСЛОВИЯ
Предисловие к восьмому изданию
Международное сообщество
Межгосударственная система и система экономическая
Предисловие к четвертому изданию
ИНТРОДУКЦИЯ
Концептуальный уровень понимания
ЧАСТЬ I
ТЕОРИЯ • КОНЦЕПЦИИ И СИСТЕМЫ
ГЛАВА I
Стратегия и дипломатия, или
О единстве внешней политики
1. Война абсолютная и реальные войны
2. Стратегия и цель войны
3. Выиграть или не проиграть
4. Ведение боевых операций и стратегия
5. Дипломатия и военные средства
ГЛАВА II
Могущество и сила, или
Средства внешней политики
1. Сила, могущество, власть
2. Элементы могущества ;
3. Мощь и могущество в мирное и в военное время ]
4. Неопределенности в измерении могущества '
ГЛАВА III
Могущество, слава и идея, или
Цели внешней политики 1
1. Вечные цели ]
2. Исторические цели 129
3. Наступление и оборона 134
4. Неопределенность дипломатико-стратегического поведения 140
ГЛАВА IV
Международные системы 146
1. Конфигурация соотношения сил 147
2. Однородные и разнородные системы 152
3. Транснациональное сообщество и международная система 158
4. Узаконить войну или поставить ее вне закона? 165
5. Экивоки признания и агрессии 172
ГЛАВА V
Многополюсные и двухполюсные системы iso
1. Политика равновесия 180
2. Политика многополюсного равновесия 183
3. Политика двухполюсного равновесия 192
4. Двухполюсная система греческих городов 197
ГЛАВА VI
Диалектика мира и войны 206
1. Типы мирного состояния и типы войн 207
2. Ставки в войнах и принципы мира 211
3. Воинственный мир 220
4. Диалектика антагонизма 226
ЧАСТЬ II
СОЦИОЛОГИЯ • ДЕТЕРМИНАНТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 235
Введение 237
ГЛАВА VII
О территории 240
1. О географической среде 241
2. Схемы Маккиндера 253
3. От географического схематизма к идеологическим концепциям 259
4. Пространство в век науки 266
6
Раймон Арон • Мир и война между народами
ГЛАВА VIII
О численности 272
1. Сомнения в оценках численности 273
2. Идеал стабильности. Демографическая и политическая
нестабильность 277
3. Французский опыт 284
4. Перенаселение и война 293
5. От нефти к атому и электронике 300
ГЛАВА IX
О ресурсах 304
1. Четыре доктрины 306
2. Историческая интерпретация доктрин 314
3. Империализм и колонизация 321
4. Капитализм и империализм 329
5. Капитализм и социализм 337
ГЛАВА X
Народы и режимы 340
1. Политические режимы 340
2. Национальные константы 346
3. Нации и национализмы 354
4. Военные организации и режимы 362
ГЛАВА XI
В поисках порядка становления 370
1. Судьба народов 372
2. Судьба цивилизаций 381
3. Количественный метод исследования 390
4. Смысл и направление человеческой истории 398
ГЛАВА XII
Истоки воинственных институции 403
1. Биологические и психологические истоки 405
2. Социальные истоки 409
3. Социальные типы войн 415
4. Оптимистические и пессимистические мифы 421
Мир и война между народами • Раймон Арон
7
ЧАСТЬ III
ИСТОРИЯ • МИРОВАЯ СИСТЕМА
В ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ВЕК 435
Введение 437
ГЛАВА XIII
Завершенный мир, или
Разнородность мировой системы 440
1. Общность и разнородность 442
2. Европейские блоки и азиатские союзы 449
3. Система и подсистемы 457
4. Судьба национального территориального государства 463
ГЛАВА XIV
О стратегии сдерживания 472
1. Три модели 476
2. Значение понятий “больше” и “меньше” 482
3. Этапы диалектики сдерживания 489
4. Действие политики сдерживания 496
5. Невозможность точного расчета 503
ГЛАВА XV
“Большие братья”, или
Дипломатия внутри блоков 509
1. Атлантический блок 510
2. Советский блок 516
3. Экономическая организация 522
4. Внутриблоковые конфликты 533
5. Конфликты между партнерами вне зоны блока 540
ГЛАВА XVI
Ничейная партия в Европе, или
Дипломатические отношения
между блоками 545
1. От одностороннего сдерживания к равновесию страха 547
2. Национальные или общие силы сдерживания ? 556
8
Раймон Арон • Мир и война между народами
3. Классические вооружения и тактическое атомное оружие 563
4. Военный подход 570
ГЛАВА XVII
Пропаганда и подрывная деятельность, или
Блоки и неприсоединивпшеся страны 577
1. Неприсоединение, нейтралитет, нейтрализм 578
2. Дипломатия доллара и дипломатия рубля 584
3. Диалектика подрывных действий 594
4. Диалектика нейтралитета 601
ГЛАВА XVIII
Братья — враги 607
1. Диалог двух держав и остальные страны 607
2. Вражда и братство 614
3. Организация Объединенных Наций 625
4. Конфликты и примирение 631
ЧАСТЬ IV
ПРАКСИОЛОГИЯ • ПРОТИВОРЕЧИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ДЕЙСТВИЙ 643
Введение 645
ГЛАВА XIX
В поисках морали:
I. Идеализм и реализм 648
1. Идеалистические иллюзии благоразумия 649
2. Идеализм и политика силы 655
3. От “Machtpolitik” к “power politics” 661
4. Прудон и право силы 671
ГЛАВА XX
В поисках морали:
II. Убеждение и ответственность 681
1. Атомное оружие и мораль 681
2. Два пути и приостановка ядерных испытаний 688
Мир и война между народами • Раймон Арон
9
3. Выбор государств «второго эшелона» 694
4. Выбор великих держав 699
ГЛАВА XXI
В поисках стратегии:
I. Вооружаться или разоружаться? 705
1. Мир, основанный на страхе 706
2. Мир через разоружение 712
3. В поисках стабильности 720
4. Пределы соглашения между противниками 730
ГЛАВА XXII
В поисках стратегии:
II. Выжить — означает победить 739
1. Ставка в борьбе 739
2. Цель 746
3. Мера опасности 753
4. Стратегия мира 764
ГЛАВА XXIII
По ту сторону политики могущества:
I. Мир в рамках закона 781
1. Виды пацифизма 781
2. Устав Лиги Наций и Устав Организации Объединенных Наций 787
3. Главное несовершенство международного права 796
4. Война межгосударственная и война внутригосударственная 805
5. Прогресс или упадок международого права 811
ГЛАВА XXIV
По ту сторону политики могущества:
II. Мир в рамках империи 818
1. Двусмысленности суверенитета 819
2. Суверенитет и его передача 825
3. Нации и федерация 831
4. Федерация и империя 841
ФИНАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Рациональная стратегия и разумная политика 855
Именной указатель 878
Предисловие к восьмому
изданию1
Международное
сообщество
"Первая вещь, которую я замечаю,
рассматривая состояние рода
человеческого, это — явное противоречие его
устройства, делающее его положение
всегда шатким. Мы, каждый человек,
живем в гражданском состоянии и
подчиняемся законам; народы же, каждый,
полъзуютсяестественнойсвободой; это,
по существу, еще больше ухудшает
наше положение, чем если бы мы не
знали о таких различиях. Ибо, живя
одновременно в общественном порядке и в
естественном состоянии, мы
испытываем на себе неудобства того и другого,
не находя надежной опоры ни в одном из
них. Правда, совершенство
общественного порядка заключается во взаимной
поддержке силы и закона; но для этого
нужно, чтобы закон управлял силой;
однако, согласно идеям абсолютной
независимости государей, такая
единственная сила, выступающая перед
гражданами в виде закона, а перед иноземцами
в виде государственного интереса,
лишает последних возможности, а первых
желания сопротивляться, так что само
имя справедливости служит повсюду
лишь для сохранения насилия.
Что же касается того, что
обычно называют правом народов, то ясно,
что его законы при отсутствии
наказания за их нарушение, суть химеры, в
существование которых
просто-напросто верят больше, чем в закон
природы. Но последний, по крайней мере, что-
то говорит сердцам людей, тогда как
право народов не имеет другого
гаранта, кроме извлечения выгоды для того,
кто решил ему следовать, и
соответствующие решения выполняются лишь
постольку, поскольку они отвечают его
интересам. В такой разнородной
обстановке, в которой мы живем, какую
бы систему мы ни предпочли, сделали
бы слишком много или слишком мало,
1 Это предисловие взято из рукописи, над которой Раймон Арон работал непосредственно перед
смертью в октябре 1983 г. На одной из страниц рукописи ясно сказано о его двуедином замысле:
"Небольшая книжка или обстоятельное введение, которую (или которое) я собираюсь написать, исходит из двух
намерений: подготовить переиздание "Мира и войны между народами", обогатив критическим
предисловием текст 1962 г.; написать очерк, который я задумал, когда закончил свои "Мемуары", очерк, сравнимый с
"Годами решения" Освальда Шпенглера..." Здесь как раз и представлено "критическое предисловие к
тексту 1962 года". Автор отвечает на возражения по поводу теоретических рамок, разработанных им для
изучения международного сообщества, и показывает, как его основные концепции выдержали испытание
фактами.
Авторские предисловия
мы все равно не сделали ничего и поставили себя в самое худшее положение, в которое только могли себя поставить”1.
Я взял эту страничку из одного фрагмента Жан-Жака Руссо, относящегося к теме войны. В “Мире и войне между народами” я принял как исходный пункт классический тезис: естественное состояние (или состояние потенциальной войны) между государствами по сути своей отличается от гражданского состояния внутри государств. Граждане подчиняются закону, даже если он выражает и одновременно прикрывает собой силу. Книга трактует, следовательно, проблемы межгосударственной системы: системы, в которую интегрируются государства и в которой каждое из них бдительно следит за другими, с тем, чтобы обеспечивать свою безопасность; понятие государственная употреблено, поскольку война представляет собой не отношение между индивидами, а отношение между государствами. “Война совершенно не есть отношение человека к человеку, она есть отношение государства к государству, где частные лица оказываются врагами лишь случайно и притом не как обыкновенные люди и даже не как граждане, а как солдаты; они выступают не как составные частицы отечества, а как его защитники”1 2.
Эта философская теория может также быть истолкована как схема идеального типа. Войны чисто межгосударственные служат и социологической моделью, и быть может, неким знаковым явлением до тех пор, пока “естественное состояние” не будет преодолено и не уступит места состоянию мира (или гражданскому состоянию уже в отношениях между государствами).
Обрекает ли книгу на анахронизм использование и трактовка в ней правовых и философских фикций? Обращена ли она всецело к прошлому? Не выражает ли она узкое и устаревшее представление о международном поло жении? Некоторые упрекали меня в том, что я придерживаюсь традиционного понимания войны, более или менее отражающего практику европейского “концерта”, сообществ. Я считаю такую критику несправедливой. Разумеется, я мог бы написать другую работу, но я дал этой книге название “Мир и война между народами” (под последними имея в виду государства). Я понимал под войной то, что всегда под ней понимали: вооруженное столкновение между государствами, а также проба сил между более или менее организованными войсками государств. Ни убийства, ни терроризм, ни экономическое состязание не образуют войны в том смысле, в каком я рассматриваю само это понятие.
Я всегда подчеркивал своеобразие характеристик межгосударственной системы в конце XX века — системы общепланетной, воинственной даже в периоды внешне видимого мира. Межгосударственную систему не надо путать с международным сообществом. Она представляет собой особый и, по-моему важнейший аспект такого сообщества. Я старался не упустить и другие аспекты, но не рассматривал их столь же обстоятельно. Я хотел бы задаться вопросом, оправдан ли был такой мой выбор или он скорее обрек меня на воспоми-
1 Rousseau J.-J. Écrits sur Г Abbé de Saint-Pierre. In ceuvres Complètes, vol. 111. “La Pléiade", Gallimard, 1970, p. 610.
2 Rousseau J.-J. Le Contrat social, I, 4, Ibid., p 357.
12 ' Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
х Х >^«^>>х х^ х-^ S у тл Ш>\ /л Л'Ч> *z Ш ■х-.-х-' й^й> x-x-z-5 X'iWm.WxW -.-Л 4*WS*z^Sx*xbxx
нание о прошлом, чем на предчувствие и предсказание будущего.
Я не так часто пользовался понятием экономической системы, хотя и анализировал мировой капиталистический рынок. Само собой разумеется, что национальные экономики принадлежат той или иной системе или прочно входят в нее, если придавать самому термину “система” значение некоей совокупности, различные элементы которой взаимосвязаны посредством взаимовлияния. В конце концов изменение одного из ее элементов так или иначе меняет положение и условия для всех остальных. Конечно, взаимные влияния элементарных сообществ, или единиц, не симметричны. Даже в тех системах, которые не подчиняются какому-либо центральному аппарату контроля и регулирования, некоторые сообщества, ввиду своих размеров и своего могущества, фактически властвуют над всей системой.
В настоящее время понятие мировой экономической системы заменяет собой понятие межгосударственной системы в тех институтах, которые занимаются “изучением мирного состояния” (peace research) и предпочитают именно это понятие терминам международные отношения или межгосударственная система. Экономическая система делится на центр и периферию: промышленно развитые страны располагаются в центре, а страны слаборазвитые или развивающиеся размещаются по периферии. Центр включает в себя Соединенные Штаты и другие индустриальные страны. Причем США эксплуатируют промышленно развитые страны, а те и другие эксплуатируют периферию. Ничто не мешает усмотреть такую же двойственность внутри каждой станы: богатые государства оставляют на своей периферии небольшую долю излишка от доходов, которые они там получили. В слаборазвитых странах тоже формируются свой центр, привилегированные слои, местная буржуазия, которые тесно связаны с иностранным капиталом—тем самым, который образует центр экономической системы.
Совершенно очевидно, что такое представление подсказано марксистскими идеями. Всякое богатство создается трудом и умножается в результате создания прибавочной стоимости, которую эксплуататоры изымают у трудящихся своей собственной страны и у трудящихся периферии. Между внутригосударственной и межгосударственной структурами возникает аналогия. Такой теоретический вывод лишь подразумевается, но не выражен прямо ни у Маркса, ни даже у Ленина в “Империализме, как высшей стадии капитализма”, но он напрямую следует из их взглядов. В этой теории остаются под знаком умолчания собственно межгосударственные конфликты и проявления соперничества. Она весь мир целиком подгоняет под свой анализ классовой борьбы в обществах, где господствует капитализм.
Межгосударственная и экономическая системы связаны между собой многочисленными отношениями, изучить которые у меня надеюсь, будет случай. Но нужно ли начинать с того или с другого, с требований независимости и суверенитета государств или с неэгалитарной структуры обществ и отношений между ними? На этот счет я по-прежнему верен главным идеям “Мира и войны”. В течение многих веков соперничество и вооруженные конфликты между территориальными коллективами, подчиненными своей центральной влаМир и война между народами • Раймон Арон
13
Авторские предисловия
сти, составляли обычный ход истории. Великие люди, герои, вели в битвы армии и правили народами. Хотя и можно допустить, что сегодня покорители народов и дарители законов остались лишь на лубочных картинках из Эпиналя и в школьных учебниках по истории, следует все же закрепить в памяти классическое представление о торговле между государствами и не выбрасывать за борт идею и факт противоречий между гражданским состоянием подданных или граждан внутри государств и состоянием войны между государствами. И если такие противоречия должны в конце концов исчезнуть, то надо прежде всего напомнить о них, с тем чтобы осветить те феномены, которые могут смягчить их, а то и возвыситься над ними.
Пойдем дальше. Приоритет экономической системы, основанной на неравенстве центра и периферии, был бы оправдан лишь господством — возникшим не без причины — социальных отношений над отношениями межгосударственными. Но на деле получается не так. Советский Союз не принадлежит ни к центру, ни к периферии. Ирак и Иран ведут между собой войну, которую тщетно было бы пытаться привязать к экономической системе. Большие послевоенные события — раздел Европы на две зоны, деколонизация — прошли, быть может, при поощрении или были ускорены действиями мирового центра, а именно — Соединенных Штатов; возможно также, что эти события, есть политическое выражение эволюции экономической системы; но, в первую очередь, и при первом приближении они выступают как перипетии борьбы между собственно государствами или между государствами и населением, подчиненным иностранной власти. Лучше исходить из феноменов видимых и наблюдаемых без предвзятостей, а уж потом добираться, да и то если получится, до их глубинной сути.
Другое возражение против примата межгосударственной системы касается обесценения, девалоризации границ и самосдерживания сверхдержав, которые запрещают самим себе использовать все средства убийства и разрушения, находящиеся в их распоряжении. Имеется немало аргументов в защиту тезиса о закате национальных государств и стирании границ. Сегодня военная граница всех европейских демократий располагается лишь между ГДР и ФРГ. В случае войны в боевые действия будут втянуты целиком оба блока, и именно они станут субъектами соответствующих действий. Только нейтральные и хорошо вооруженные государства Швейцария и Швеция, имеют шанс сохранить политическую автономию. Воздушное пространство, столь ревностно охраняемое и защищаемое против иностранных самолетов, становится доступным для орбитальных спутников. Все эти факты несомненны, но какие выводы из них следуют?
В некоторых частях мира, прежде всего в Европе, национальные государства как бы понижены в ранге военной мощью Советского Союза и его господством над странами Восточной Европы. С одной стороны — военная империя, с другой — военный альянс, сохраняющийся и поддерживаемый в мирное время. Тем не менее национальные государства в общем-то не исчезают ни к востоку, ни к западу от демаркационной линии. Если, по какому-нибудь счастливому совпадению обстоятельств, советская армия вернется к себе домой и . 14
• Раймон Арон» Мир и война между народами
Авторские предисловия
Кремль даст свободу своим союзникам, то последние вновь обретут собственное лицо и станут теми, кем были раньше и кем, между прочим, по сути так и остались. Чехи, поляки, венгры не затеряются в некоем ансамбле, в котором могла бы исчезнуть их национальная идентичность. Самое большее, они постараются, как это сделали западноевропейцы, создать общий рынок. А такой рынок не ликвидирует границ, а лишь упрощает пограничные формальности, чтобы облегчить обмен товарами и услугами.
Само собой разумеется, что живучесть национальных государств в Европе находит свой эквивалент и на других континентах. В Африке государства жаждут приблизиться к европейскому образцу, притом не только путем утверждения суверенитета, который был бы общепризнан, но также и путем создания гражданского общества, сознающего свою национальную, государственную принадлежность. Для государств, выкроенных по колониальным границам, национальное государство представляет собой цель, которой стремится там достичь правящее меньшинство. Примерно такие же соображения можно высказать и по поводу стран Латинской Америки и Азии. Теперь и отныне государство оказывает столь сильное влияние на повседневную жизнь людей, что они выходят из своей замкнутой жизни и хотят быть подданными своего государства, чтобы иметь в нем свою личную долю участия.
Мне могут возразить также, что национальное государство разъедается и разлагается снизу и что нации-страны, даже в Европе, сотрясаются инфра- и микронациональными мятежами (например, корсиканцы, баски, бретонцы во Франции). В африканских странах государство скорее оттеснило, нежели преодолело межплеменные распри. Больше того, некоторые страны буквально раздираются революционерами, которые приняли иностранную идеологию и опираются на иностранную мощь. Все эти замечания и наблюдения вполне естественны, и я анализирую в книге1 то, что можно назвать кризисом национального государства вследствие либо разнородности системы, в которую оно входит, либо разнородности самого населения, оказавшегося в границах, очерченных колонизаторами. Эти так называемые кризисные феномены начинают просматриваться и приобретать значение лишь в сравнении с идеальным типом национального государства. В самой Европе такой идеальный тип не реализован, а на других континентах население, входящее в те или иные государства, чаще всего не образует нацию ни в объективном, ни в субъективном смысле (блистательное исключение составляет Япония, где разнородное население подчинено единому суверенитету государства). Так что из всех этих хорошо известных фактов вовсе не следует, что было бы неправомерным придерживаться классической теории межгосударственных отношений в качестве исторической модели, дающей, пусть и упрощенное, но все-таки определенное представление о мире, связанном международными отношениями.
Различие между распрями внутри политических сообществ и конфликтами между ними представляется мне совершенно ясным на протяжении истории, хотя гражданские войны и были 1 См , в частности, гл. X, § 3 и гл XXIV, § 3
Мир и война между народами • Раймон Арон
15
Авторские предисловия
наверное, столь же многочисленными, что и войны межгосударственные. Даже в обществах, еще не знавших письменности, где границы четко не определялись, а правящие группы тоже были довольно размытыми, этнологи различают споры, которые решались взаимными объяснениями и компромиссами, и споры, а также ссоры, когда исход решался применением насилия.
Короче говоря, несколько отвлеченный тип мироустройства, суть которого изложена в тексте Руссо, не отражает действительности; напротив, он имеет своим предназначением выявить и продемонстрировать несовершенство межгосударственной системы из-за чрезвычайной разнородности составных элементов как внутри сообществ, именующих себя суверенными, так и в отношениях между ними. Вместе с тем по поводу “Мира и войны” можно задать вопрос: достаточно ли я обращал внимания на феномены, которые не входят как составные части в межгосударственную систему, но воздействуют на нее и испытывают влияние с ее стороны?
Я провожу разницу между феноменами транснациональными, интернациональными (международными) и наднациональными (сверхнациональными). Первые, так сказать, пересекают границы, ускользая в какой-то степени от власти и контроля со стороны государств. Там где власти открыли границы и отменили таможенные пошлины, индивиды обмениваются товарами и услугами в основном без вмешательства государств, гражданами которых они являются. Так называемые мультинациональные общества — национальные общества, имеющие филиалы в некотором числе стран, — образуют транснациональную сеть, контролируемую материнским обществом. Руководители последнего не могут не учитывать того, как реагируют на их решения иностранные правительства — например, когда государство материнского общества накладывает эмбарго на филиалы, которые выступают как французское, германское или английское общество, оставаясь филиалами материнского общества.
Во многих отношениях экономическая система не совпадает и не смыкается с межгосударственной системой. Вернее сказать, что своей политикой государства содействуют формированию экономической системы, которая, определяемая государствами не равным образом, а в зависимости от реального веса каждого из них, образует иную систему, нежели межгосударственная, и ее лучше называть транснациональной, а не межгосударственной и даже не международной.
С неменьшей силой транснациональные реальности проявляются и в неэкономических областях. Верования, убеждения, идеологии, научные открытия не знают границ. Даже католическая церковь, эта формально иерархическая наднациональная организация, не лишает национальные католические церкви их самобытного характера, хотя все или почти все они бывают охвачены одними и теми же волнами, которые влекут их то вправо, то влево. По своей структуре католическая церковь транснациональна, даже если она не всегда и не во всем преуспевает в таком качестве.
Третий Интернационал1, хотя и считает, что по определению имеет именно интернациональный характер, но 1 Имеется в виду международное коммунистическое движение (прим. ред.).
16 •- .'•“■V Раймон Арон • Мир и война между народами
фактически он представляет собой одновременно межгосударственную и транснациональную организацию. Прежде всего он включает в свой состав партии-государства, которые, будучи победителями, представляют ту или иную страну. Ввиду этого к ним относятся в этой организации с уважением, равным их успеху. Однако они расшатывают иерархическую структуру, желательную для советской партии, поскольку провозглашают равенство братских партий. Марксистско-ленинское движение держится на нескольких основах: на транснациональной религии, вере, руководимой и направляемой центральной властью в этом движении; на наднациональной идеологии, распространяемой по всему миру и воплощенной в каждой стране своей национальной партией: на международном сообществе, созданном и поддерживаемом отношениями и связями между индивидами и группами из разных стран.
Наднациональные феномены принадлежат к другой категории, хотя порою они очень слабо вычленяются из межгосударственных или международных отношений. Так, Международный суд в Гааге определяется преимущественно как наднациональный. Судьи назначаются национальными, государственными властями, но исполняют свои функции как толкователи законов, признаваемых всеми государствами (или, по меньшей мере, теми, которые назначают судей в Международный суд). Иначе обстоит дело с ООН — организацией, созданной государствами и в принципе занимающейся урегулированием конфликтов и решением задач по поддержанию мира. Фактически же все государства входящие в ООН, практикуют свою обычную политику, политику as usual.
Авторские предисловия
Резолюции и решения, принимаемые Генеральной Ассамблеей путем голосования, выражают убеждения или интересы по тому или иному вопросу складывающегося большинства государств. Однако подобные резолюции редко выражают искренние чувства всего международного сообщества. Право вето, которым пользуются в Совете Безопасности пять его постоянных членов, препятствует всякому эффективному действию, как только в каком-нибудь конфликте оказываются так или иначе замешанными обе сверхдержавы.
Наверное, можно назвать между народным сообществом или всемирным сообществом ту совокупность, которая охватывает и межгосударственную систему, и мировую экономику (или мировой рынок, или же мировую экономическую систему), и транснациональные и наднациональные феномены, причем прилагательное “международный” (“интернациональный”) применимо ко всем аспектам, которые я сейчас выделил. Назовем, просто ради удобства, международным сообществом совокупность всех тех отношений между государствами и между частными лицами, которые позволяют надеяться на единство рода человеческого в будущем. Я не думаю, что выражение “международное сообщество” или, предпочтительнее “всемирное сообщество” образует истинное понятие. Оно обозначает, не давая описания, все то, что включает в себя межгосударственную систему, экономическую систему, транснациональные движения и различные формы обмена (торговли в широком понимании, присущем XVIII веку) от одних гражданских обществ к другим гражданским обществам, а также наднациональные институты. Но можно ли назвать соМир и война между народами • Раймон Арон
17
Авторские предисловия
обществом или обществом, такого рода тотальность, которая не сохраняет почти никакой характерной черты собственно общества, каково бы оно ни было? Можно ли говорить о международной системе, включающей в себя все формы международной жизни? Я в этом сомневаюсь.
Отношения между государствами должны анализироваться в их совокупности. Они составляют систему, но не в строгом смысле этого понятия. Государства поддерживают между собой более или менее регулярные отношения. В одну и ту же систему входят государства, сознающие риск быть втянутыми во всеобщую войну. Сегодня все государства так или иначе принадлежат к межгосударственной системе — хотя бы в связи со своим участием в ООН или ввиду, так сказать, вездесущести обеих сверхдержав. Всемирная система подразделяется на субсистемы, где те или иные сообщества чувствуют себя защищенными от внешних вмешательств в свою зону либо потому, что по отношению к ним сверхдержавы нейтрализуют друг друга, либо потому, что большие расстояния и незначительность ставок в возможной игре с их судьбами обеспечивают им относительную автономию. Система и субсистема вполне заслуживают такого наименования, поскольку любое сколько-нибудь важное событие во внутренней жизни одного из субъектов системы получает отзвук во всей данной совокупности.
Я использовал также термин “система” для обозначения мировой экономики. В крайнем случае ее можно подразделить на две мировые экономики — капиталистическую и социалистическую — причем, первая центрирована на Соединенные Штаты, вторая на Советский Союз. В самом деле, существует некий набросок — или эскиз, проба, попытка — социалистической системы, но она в общем-то не выходит за пределы Восточной Европы; самое большее, еще Вьетнам и Куба составляют неотъемлемую часть этой системы, которая сама привязана к другой системе: доллар и цены в долларах часто служат единицей измерения в торговле между социалистическими странами; Польша, Венгрия, Румыния взяли в долг у Запада значительные суммы. Некоторые из народных демократий входят или хотят войти в Международный валютный фонд. Единственной экономической системой, которую можно назвать подлинно всемирной, остается система капиталистическая, из которой большинство государств советского типа сами исключили себя.
Критики могли бы спросить, какое место межгосударственная система занимает в международном сообществе. Надо ли мыслить себе мир XX века, вышедший из двух войн, в свете схем, обрисованных в XVIII и XIX веках, в эпоху европейского “концерта” и господства Европы во всем мире? Дискуссия по этому поводу еще не закрыта, но за годы, истекшие со времени крушения Третьего рейха преобладала альтернатива: мир или война. В исследовании, посвященном международным отношениям мне представлялось, да и сегодня еще представляется, необходимым и неизбежным выдвинуть на первый план межгосударственную систему.
Такой примат межгосударственной системы априорно исключает преобладание экономической системы как причинной основы. Больше того, в том, что касается оценки послевоенных лет, марксистско-ленинское или просто ленинское толкование войн не подтверждаетм * 18 ,
Раймон Арон • Мир и война между народами
ся. Ленин склонялся к мысли, что войны между капиталистическими государствами проистекают из экономического соперничества. Однако на сей раз экономическое соперничество развертывается внутри Атлантического союза и японо-американского союза. Мне вспоминается одна советская брошюра, написанная, кажется, в конце или сразу после войны, где автор констатирует, что основное противоречие в тогдашнем мире — это противоречие между Соединенными Штатами и Великобританией, но оно выражает себя в тесном союзе этих двух стран.
Экономическое соперничество происходит между промышленно развитыми государствами, и оно усугубляется замедлением роста. Некоторые называют такое соперничество войной. Однако до сих пор враждебные отношения между блоками и между режимами берут верх над экономическим соперничеством. Мне, наверное, надо было в третьей части книги (“История”) проанализировать исходные, первоначальные соотношения межгосударственной системы и системы экономической. В 1961 г. соперничество смягчалось успешным развитием мировой экономики; политические союзники прощали друг другу отход от своих принципов, а от них отходили все. Но и сегодня “экономическая война” не разрывает на части Атлантический союз. Основания и резоны межгосударственной системы оказываются выше претензий и недовольства, вызываемых экономическими причинами.
Виновен ли я в некоем холизме, философии целостности, рассматривая государства как “действующих лиц”, а межгосударственную систему как состоящую из таких лиц. Этим выбором я запретил себе применять обычные методы Авторские предисловия
социологии. Я писал так, как будто свои решения принимает само государство, а не один или несколько человек. А между тем всякий раз, когда проникаешь вглубь до микрорешений, до физических, во плоти, действующих лиц, то находишь там — и это вполне естественно, это само собой разумеется — диспуты и споры, разногласия, индивидуальные инициативы, которые приводят к пустым фразам вроде: “Австро-Венгрия направила ультиматум Сербии” или “Австрийские пушки обстреляли Белград”. Каждый дипломатический кризис требует расшифровки, чем и занимались историки, изучавшие период июля—августа 1914 г. Американские социологи потом будут заниматься тем же самым по поводу кубинского кризиса. Надо ли делать отсюда вывод, что фикция государства как целого, идентифицируемого с действующим лицом, правомерна или неправомерна и что она служит или не служит изучению и пониманию событий?
Социологи, а тем более историки никогда не игнорировали того обстоятельства, что принимающий решения монарх, глава государства или правительства жили и живут в окружении советников, придворных, министров и что они ничего не решали и не решают единолично, всецело сами от себя. Люди и всякого рода службы передают им информацию, другие люди и службы проводят или не проводят в жизнь их решения и распоряжения. Несколько веков назад вдохновителями действий государя часто считались фаворитки (или фавориты), и тем не менее историки, не колеблясь, говорили о политике “Франции” или “Англии”, как если бы эти сообщества походили на личностей и действовали как личности. Однако столь Мир и война между народами • Раймон Арон *
19
Авторские предисловия
явное, на первый взгляд, противоречие решается само по себе, если только об этом хорошенько подумать.
Государства — действующие лица межгосударственной системы — управляются разными способами, от постоянного американского диалога между Белым домом и конгрессом до гипнотического абсолютизма Гитлера. Но сам фюрер был обязан своим знанием внешнего мира другим людям; на других он возлагал и ответственность за исполнение его воли. Президент Соединенных Штатов, невзирая не свои собственные колебания, на трудные обсуждения с советниками и сотрудниками, на сопротивление конгресса, все-таки послал миллионы людей в Европу в 1917—1918 гг., а в 1965 г. направил во Вьетнам экспедиционный корпус численностью свыше полумиллиона человек. Структура организованного государства такова, что решения принимаемые наверху, развязывают серию эффектов, чаще всего не предусмотренных ответственными лицами, если последних вообще можно идентифицировать с какими-то конкретными личностями.
В наше время лица, принимающие решения, будь то президент Соединенных Штатов или кремлевское Политбюро зависят не столько от тех или иных индивидов (советников или фаворитов), сколько от соответственных бюрократий или, если предпочтительнее выразиться иначе, от сложных организаций, каждая из которых имеет собственные интересы и соперничает с другими. Блестящая книга Дж. А. Аллисона а кубинском кризисе высвечивает роль, которую играют эти организации и их шефы, личные советники президента1. Ответы, данные комитетом трех начальников штабов на вопросы Дж. Ф. Кеннеди определили его окончательное решение. Быть может, такие же обсуждения проходили в то время и в Москве. Само собой разумеется, что социологи должны анализировать условия, в которых один или несколько человек определяют судьбу миллионов себе подобных. Оборотная сторона внешних акций государств, каковы бы ни были режимы в них, относится к ведению социологи. Но значение этих действий, их результаты — война или мир. Историки еще не знают наверняка, не развязал ли войну в 1914 г. какой-нибудь “человек, принимающий решения”. Рассказы о событиях того времени свидетельствуют лишь об объявлении войны основными воюющими сторонами и затем о самих боевых операциях.
Научная дисциплина, занимающаяся межгосударственными отношениями, может, как и всякая другая общественная наука, терпимо и уважительно относиться к методологическому индивидуализму, принимать авторский подход. Когда мы говорим о Советском Союзе, Политбюро или президенте Соединенных Штатов, мы имеем в виду инстанции, определяющие внешнюю политику рассматриваемых государств, каков бы ни был способ функционирования этих инстанций и каковы бы ни были методы их изучения.
Во второй части “Мира и войны” (“Социология”) я не рассматривал — а, быть может, должен был это сделать — различные институции, которые влияют на дипломатию или учреждены для ее осуществления. Я намеревался пройти мимо общих положений, касающихся режимов и народов (наций, стран). 1 Allison G A Essence of Decision Boston Little Brown 1971
■ 20 ■ Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
Насчет констант внешней политики, функционально определяемых географическим положением или каким-либо постоянным фактором, я высказал свое сомнение, которое предполагает, что государство, или действующее лицо, не может быть изучено, если абстрагироваться от того, что я назвал оборотной стороной внешней политики. Или, когда я хотел подняться на уровень теории, то никогда не упускал из виду мысленного диалога между Клаузевицем и Лениным. Первый не ставил под сомнение понятие блага сообщества (или национального интереса на сегодняшнем языке), причем выразителем и судьей этого блага должно выступать разумное персонифицированное государство, а именно — его политика. По мнению Клаузевица, существует общее благо, олицетворяемое монархом. Ленин возражал Клаузевицу — которым, кстати сказать, восхищался, — что в классовом государстве не может быть общего блага. Внешняя политика государства выражает волю того или иного класса. События, наступившие после революции 1917 г. опровергают, как мне кажется, все теории, в которых выражены крайние точки зрения: Советский Союз не действует вовне, как действовал или как действовал бы царский режим, но и не выбрасывает'за борт традиции и все виды практики, которые были свойственны империи Романовых.
Я не думаю поэтому, что при рассмотрении межгосударственных отношений использование понятия “действующего лица”, действующего в той или иной мере рационально, предполагает некий холизм или же либо анимистское, либо чисто рационалистическое видение хода истории. Мы знаем и повторяем, что историю делают люди, но они не знают, какую историю творят. Любой рассказ о какой-нибудь баталии не может подробно передать все оттенки индивидуального поведения, однако при этом не отрицается важность таких-то и таких-то поступков. Исход баталии чаще всего имеет глобальный характер, но это не означает принятия холистской концепции. Социологи охотно используют выражение “порочные эффекты”. Совокупность, набор индивидуальных актов противоречит намерениям индивидов: каждый предприниматель заменяет работников машинами; этому обязывает его конкуренция но, снижая норму прибыли, предприниматели получают результат, обратный интересам их всех, хотя каждый вполне рационально обеспечивал свой интерес. Порочные эффекты, вызванные совокупностью поведения индивидуумов, характеризуют один из аспектов функционирования общества. Понятие порочного эффекта хорошо выражают знаменитые слова Вильгельма II: “Я этого не хотел”.
Межгосударственная система, в отличие от внутригосударственных систем, не подчинена какой-либо центральной власти или центральной контролирующей инстанции. И в мирное, и в военное время на международной арене каждое действующее лицо играет определенную роль и должно полагаться лишь на самое себя, отстаивая свое существование и обеспечивая свои интересы. Если руководящие деятели принимают решения в малоизвестной сфере, то нельзя точно определить продолжительность их неизменных отношений со своими союзниками и противниками. Отсюда следует, что историк склонен сочетать описание действий и поступков индивидов с глобальными результатами какой-либо войны или эпохи, приМир и война между народами • Раймон Арон ч *
21
Авторские предисловия
чем такими результатами, которых никто не ожидал. Этим же объясняется два типа толкования грандиозных исторических событий, например развязывания войны в 1914 г.: с одной стороны большинство историков пересказывают то, что произошло в каждой из европейских столиц в период между австрийским ультиматумом Сербии и объявлениями войны; с другой стороны — Ленин и марксисты пытались объяснить эту войну причинами соизмеримыми с причинами громадой катастрофы. Иногда историки предваряют свои описания конкретных событий вводной главой о неких глубинных силах, но тем не менее не обнаруживают и не излагают связей между этими силами и микро-событиями.
Быть может, в третьей части “Мира и войны” (“История”) я проявил склонность переоценивать логику событий и не всегда заметную на поверхности рациональность “действующих лиц” и недооценивать “изнанку” международных отношений, а также экономические, социальные, психологические перемены, происходившие независимо от деятелей, принимавших решения. Я назвал “Историей” часть, которая сначала была у меня второй и посвящена положению мирового сообщества, зафиксированному в определенное время. Парадоксальным образом, чего я и не скрывал от самого себя, часть, названная “Историей” оказалась синхронической. Если бы я стал внимательно рассматривать мир 1983 г., то есть двадцать лет спустя, то невольно уловил бы динамику эволюции, но не стал бы на этот раз недооценивать “изнанку” внешней политики и тех изменений, которые произошли под влиянием транснациональных феноменов.
Сегодняшнее международное положение вполне можно сравнить с положением в 1961 г., потому что оно, так сказать, узнаваемо. Мировая система остается двухполюсной; границы между обеими частями Европы не передвинулись ни на пядь; государственные деятели и комментаторы продолжают дискутировать по поводу роли ядерного оружия в обороне Европы и риска ядерной войны; военные пропорции между обеими сверхдержавами изменились в пользу Советского Союза; европейцы, а еще и Япония преодолели свое экономическое отставание от Соединенных Штатов. Последние утратили способность и решимость нести на себе всю тяжесть имперского груза.
Межгосударственная система и система экономическая
В “Мире и войне” я рассмотрел ленинский тезис об империализме и проанализировал различные аспекты дипломатическо-военных и экономических отношений.
Ленин четко не отграничивал экономические и колониальные конфликты от конфликтов собственно политических и военных. Война 1914 г. была порождена, по его мнению, распрей между капиталистическими государствами (или их банкирами и предпринимателями), неспособными мирно разделить между собой богатства мира, который все они грабят. Опровергнуть этот тезис, предварительно обозначив его общими чертами, не составляло особого труда. Последняя фаза “европейского империализма”, — раздел Черной Африки, была отчасти субпродуктом класси22 Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
ческого соперничества между европейскими великими державами, отчасти делом авантюристов, отчасти выражением воли государств к могуществу. Некоторые политические деятели искренне верили, что национальная торговля зависит от владения базами и территориями по всему миру. Во Франции приверженцы империализма, например Жюль Ферри, оправдывали завоевания необходимостью продавать вовне товары и получать извне сырье для заводов. Каков бы ни был образ мышления правящих и деловых кругов мира, чья бы ни была ответственность за заморские конфликты среди европейских государств, война 1914 г. началась на Балканах. Там сталкивались интересы славян и немцев, если говорить гиперболически, а если говорить проще, то там Австро-Венгрия сталкивалась со славянскими странами, которые поддерживали ирредентизм славян против дуалистской империи. Эльзас-Лотарингия питала франко-германскую враждебность больше, чем марокканская проблема. Великобритания больше опасалась германского флота в открытом море, чем конкуренции товаров made in Germany.
Сегодня мы знаем, что обе войны ускорили распад европейских заморских империй, положили конец веку колоний и господству старого континента, стремительно привели великие европейские державы к закату и упадку. Разумеется, люди никогда не понимающие историю, которую сами творят, не ведают и о последствиях своих действий. Но нужно приписать банкирам, промышленникам, государственным деятелям необыкновенную слепоту, чтобы допустить, что они хотели решить силой оружия второстепенные конфликты по поводу африканских или азиатских территорий, откуда они почти ничего не извлекали.
Мировой капиталистический рынок до 1914 г. находился под господством Британской империи с центром в Лондоне, где были сосредоточены крупнейшие торгово-промышленные учреждения. С последней четверти XIX в. Англия утратила свою роль промышленного первопроходца: в ключевых отраслях промышленности — в электротехнической и химической — на первое место вышла вильгельмовская Германия. Немецкий экспорт рос быстрее английского, но последний все еще сохранял количественное превосходство. Кроме того, германская экспансия была по-прежнему направлена скорее на Европу, чем на заморские земли. Ориентация английского экспорта была противоположной.
Экономическая система — или капиталистический рынок, — созданная в XIX веке Великобританией, не мешала другим государствам развиваться быстрее, чем само доминирующее государство. Валютная система вращалась вокруг золота или фунта стерлингов, обеспеченного золотом; долговременные смещения цен вверх и вниз не потрясали систему. Соединенное Королевство, благодаря так называемым невидимым выручкам (проценты с капиталовложений за пределами страны, фрахт, страховки) с лихвой покрывало дефицит своего торгового баланса. Оно продолжало давать взаймы вовне часть излишков своего платежного баланса.
Период с конца XIX в. и до войны 1914 г., учитывая залежи золота в Южной Африке, характеризовался быстрой экспансией европейских государств и процветанием, беспрецедентными для того времени. Ревизионисты из числа социал-демократов учитывали такую Мир и война между народами • Раймон Арон
23
Авторские предисловия
эволюцию, которая шла вразрез с некоторыми предсказаниями Маркса (или теми, которые ему приписывались): уровень жизни “пролетариев” поднимался вместе с обогащением страны в целом. Ленин объяснял грабежом колоний появление “рабочей аристократии”, которая предала дело пролетариата, обольщенная “подачками” капитализма.
В последней фазе британского века только единственной стране, Японии, удалось собственными усилиями войти в тесный клуб великих держав. Она приняла правила поведения европейских государств, членов клуба, установив колониальный империализм на Формозе (1895) и в Корее (1905). Этот империализм не был необходим для роста японской экономики, как не отвечала нуждам французской экономики Западная или Экваториальная Африка. После первой мировой войны Япония продолжала действовать в том же духе, создала Маньчжоу-го в 1931 г., потом затеяла войну против Китая в 1937 г., совершила агрессию против Соединенных Штатов и Великобритании в 1941 г. и в конце концов была разгромлена в 1945 г. После чего Япония при отсутствии собственных вооруженных сил стала процветать на капиталистическом рынке, где господствуют Соединенные Штаты.
Мировой рынок с центром в деловой части Лондона в начале XX века во многих отношениях отличался от мирового рынка после 1945 г., сложившегося вокруг Соединенных Штатов. Тогда, в первом случае, идеологии экономического роста еще не существовало, хотя, конечно, капиталистическая экономика как-то воодушевлялась самим динамизмом роста. До 1914 г. экономисты подсчитывали и рассчитывали национальный продукт. Государственные деятели смутно представляли себе, как прогрессирует то или иное государство, они видели не дальше собственного носа и не учитывали факторы неравномерного роста и уровни богатства больших и малых стран. Эти деятели не ставили себе приоритетной целью повышение темпов роста, о которых они мало что знали, их больше заботила стабильность курса валют и цен. К тому же огромные территории подчиненные правительствам Лондона и Парижа, лишенные собственной автономии, очень медленно выходили на промышленный уровень развития. Конечно, в Индии британские правители создали инфраструктуру современного общества. В XX в. они уже не придерживались формулы, высказанной в Вестминстере в XIX веке: “Мы находимся в Индии в наших собственных интересах”. Но несмотря на все это британский мировой рынок так и не успел просуществовать в некотором подобии тому, чем стал американский рынок после 1945 г.
Одновременно с исчезновением колоний родился социалистический рынок. Но этот рынок не может, собственно говоря, считаться соперником капиталистического рынка. Масштабы этих двух рынков слишком неравны, и малый в определенной степени всегда зависит от большого.
В экономической системе наипервейшие правила игры определяет валютная система. С 1945 г. последовательно получали преобладание две различные валютные системы: первая была определена в Бреттон-Вудсе в 1945 г.; вторая — в 1973 г., когда был установлен режим плавающих курсов, что, быть может, равнозначно отсутствию всякого режима.
Бреттон-вудская система запрещала плавающие курсы и установила не24
• Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
обходимость выражения различных валют в золоте и одновременно в долларе. Специальным письмом в Международный валютный фонд правительство Соединенных Штатов обязалось поддерживать конвертируемость доллара в золото.
Бретгон-вудская система давала, на первый взгляд, привилегию доллару, которую европейцы, особенно французы, не признавали именно как привилегию: доллар просто становился эквивалентом золота; будучи транснациональной и одновременно национальной валютой конвертируемой повсюду, в любой саране, доллар позволял (и до сих пор позволяет) американцам покупать любой товар на собственные деньги. Соединенные Штаты стали единствен ным политическим сообществом, которое сохраняло за собой свободу не принимать ограничительных мер в случае дефицита баланса внешних платежей.
Большинство положений соглашения, заключенного в Бреттон-Вудсе, не соответствовали ни какой-то единой концепции, ни какому-то определенному интересу Соединенных Штатов. Великобритания устами лорда Кейнса гоже высказала желание иметь другою систему, учредить нечто вроде центрального всемирного банка. Однако стабильность курсов, не позволявшая проводить состязательные девальвации, представлялась тогда весьма желательной огромному большинству экономистов и государственных деятелей. Как это обычно бывает, ответственные лица двигались в будущее пятками вперед. Они не хотели повторения ситуации тридцатых годов. Тогда крушение режима, основанного на золотом эталоне, повлекло за собой валютную анархию, в которой все способы действий оказывались законными и когда в конце концов проиграли все.
Была ли бреттон-вудская система заранее обречена на неудачу из-за внутренне присущих ей изъянов? Одна из научных школ, где самым постоянным и наиболее красноречивым интерпретатором был Жак Рюэфф, высказалась о непрочности и неустойчивости всей этой конструкции: золотой эталон обменных курсов устанавливал равноценность золота и доллара, и центральные банки разных стран использовали в качестве своих резервов одновременно и желтый металл, и те или иные валюты, в частности доллар, но также и фунт стерлингов. Что же касается самих Соединенных Штатов, то, поскольку доллары идентифицировались с валютными резервами. дефицит баланса внешних платежей США давал возможность предоставлять в распоряжение центральных банков других стран (в частности, Федеративной Республики Германии и Японии) избыточную валюту, которую они помещали в боны американского казначейства. Ввиду этого дедлщит платежей не оказывал никакого влияния на то, чтобы нейтрализовать причины самого этого дефицита. По мнению Жака Рюэффа., золотой обменный эталон с самого начала был обречен на исчезновение. потому что он создавал и поддерживал инфляцию и дефицит внешних платежей Соединенных Штатов.
Фактически на всем протяжении 50-х годов дефицит внешних платежей Соединенных Штатов незначительно колебался вокруг одного миллиарда долларов в год: он вызывал перераспределение золота в полном соответствии с целями вашингтонского правительства. Президент Дж.Ф. Кеннеди первый отнесся по-серьезному к такому дефициту и Мир и война между народами • Раймон Арон < 25
Авторские предисловия
потребовал доклады от лучших экономистов. Большинство из них, в частности П.А. Самуэльсон, поставили диагноз: оценка доллара завышена, во всяком случае по отношению к валютам основных конкурентов по международной торговле — ФРГ, Японии и т. д. Я не знаю, рекомендовал ли П.А. Самуэльсон девальвировать доллар или же он счел, как большинство его коллег, что ведущая валюта не может быть девальвирована, поскольку выправлять диспаритет должны сами заниженные валюты и это обязаны делать центральные банки, куда стекаются нежелательные доллары.
В 60-е годы президенты-демократы Дж.Ф. Кеннеди и Л.Б. Джонсон умножили разного рода частные, адресные меры по сокращению закупок вне страны и ограничению доступа иностранцев к рынку капитала Соединенных Штатов. Эти меры, как легко было предвидеть, оказались совершенно неэффективными. Затем, с 1965 г. Л.Б. Джонсон начал открытую войну во Вьетнаме и, чтобы эта экспедиция была безболезненной для большинства американцев, не ввел дополнительных налогов для ее финансирования. Но в США сразу началась инфляция и возрос внешней дефицит. В 1971 г. президент Р. Никсон вынудил европейцев примириться с девальвацией доллара. Он, так сказать, даровал президенту Помпиду частичную девальвацию доллара по отношению к золоту (или, если сказать яснее, цена за унцию золота поднялась с 35 до 42 долларов). Однако такая девальвация оказалась недостаточной, чтобы восстановить международное равновесие на финансовом рынке.
За 20 лет умонастроения правящих кругов Вашингтона переменились. Дж.Ф. Кеннеди истолковывал американский дефицит как поражение или как унижение страны. Мало-помалу американские экономисты внедрили и распространили простую мысль, что все валюты вращаются вокруг американской оси. Зачем американцам беспокоиться по поводу накопления долларов в центральном банке ФРГ или Японии? На валютный кризис пусть реагируют правительства тех стран, где находятся эти банки; иными словами, именно им надлежит переоценить курс своих валют. Что же касается американцев, то они просто проявят к этому делу добродушное безразличие, benign neglect.
В 1971 г. Ричард Никсон, через посредство Джона Коннели, вынудил европейцев подчиниться девальвации доллара, но соглашение 1972 г., заключенное осенью того года, который последовал за встречей американского и французского президентов на Азорских островах, не возымело действия. Вспоминаю, как я написал тогда статью под заглавием “Царство доллара без короны”. Несмотря на девальвацию, американская валюта сохраняла свою транснациональную роль валюты для счетов, для операций и даже для резервов, причем это было не по империалистской воле Вашингтона, а по требованию экономической системы. Золото, конечно, не обесценилось полностью но с 1969 г. центральные банки больше не контролировали рынок золота. Желтый металл плавал на рынке, как плавали цены любого другого металла. В противоположность тому, чем оно было раньше, золото стало предметом спекуляций — по крайней мере, на краткосрочный период (можно ожидать, что в долгосрочной перспективе стоимость золота возрастет, по меньшей мере, в соответствующей пропорции к эрозии основных валют).
26 \ «VРаймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
В 1973 г. американские власти завершили свой замысел. Двумя годами ранее Р. Никсон принял новую цену доллара в золотом выражении и — в той степени, в какой другие валюты определялись через золото — был установлен также фиксированный курс обмена доллара по отношению к марке, иене, франку. В течение двух лет доллар оставался стержнем, центром системы, и странам, получавшим доллары в избытке, оставалось лишь переоценивать обменные курсы своих валют. Ответственные лица в Вашингтоне более, чем когда-либо, проявляли benign neglect
Тем не менее эти деятели сожалели, что Р. Никсон якобы уступил нажиму европейцев. Он ограничился девальвацией на 10% по отношению ко всем более или менее важным валютам — девальвацией, вероятно, недостаточной, тем более, что в 1971 г. в предвидении выборов Р. Никсон открыл шлюзы для кредитов и развязал новую инфляцию. В 1973 г. ответственные лица, собственной властью и без консультаций с кем бы то ни было, ввели, нарушая принципы Бреттон-Вудса, плавающие курсы: рынок теперь должен был определять стоимость валют, привязывая ее к стоимости золота.
Таким образом, на следующий день после войны Соединенные Штаты учредили валютную систему, основанную на стабильности обменных курсов, а примерно через 25 лет ввели радикально иную
систему: отсутствие твердых курсов. И раз они приняли эти решения — точнее, установили первый режим путем переговоров, а второй просто навязали, — то чем они руководствовались, своими интересами или своей доктриной? Выбор между этими двумя словами, интерес или доктрина, довольно затруднителен. поскольку доктрины очень часто ограничиваются всего-навсего тем, что рационализируют интерес.
В 1944—1945 гг., когда обсуждались статьи соглашения в Бреттон-Вудсе, американцы опасались конкурентных девальваций, повторения битв тридцатых годов, когда одни страны старались взвалить на плечи других груз безработицы, изменяя обменные курсы. Ввиду мощи своей экономики и своих финансов американцы рисковали оказаться первыми жертвами такой анархии, но подобные же опасения должны были испытывать все. Большинство экономистов всех стран сочли, что установленный режим — наилучший из всех возможных в политических условиях того времени. Однако какой-либо другой режим, более близкий к наднациональной организации и созданный по образцу организаций национальных, не мог, несмотря на заверения лорда Кейнса, обольстить американцев. Одни боялись, что будут парализованы правилами центрального банка; другие, противясь всемогуществу великих держав, и конкретно одной из них, тоже опасались последствий появления на свет такой организации.
Благоприятствовал ли бреттон-вудский режим американцам в ущерб их конкурентам? Период между 1947 и 1973 годами позволил европейцам сократить разницу между их уровнем жизни и американским и познать самую славную фазу в своей экономической истории. А между тем европейцы обязаны своим славным 30-летием не кому-нибудь, а американцам. Завышение курса доллара помогало японскому и немецкому экспорту. Экспансия европейских стран была в некотором роде инициирована и поддержана продажами вовне. Кроме Мир и война между народами • Раймон Арон < - и-
27
Авторские предисловия
того, завышение курса доллара поощряло американские общества делать капиталовложения в Европе. Проявляя национализм, французские министры время от времени резко выступали против американских инвестиций. Американцы брали из европейских фондов краткосрочные ссуды, а вкладывали инвестиции в Европу на долгий срок, скупая там обанкротившиеся предприятия и создавая свои филиалы. Если абстрагироваться от всякой политики, то американские капиталовложения способствовали европейской экспансии и процветанию. Они увеличивали общий объем инвестиций, привлекали новую технику и технологию производства и управления, побуждали национальные предприятия к прогрессу благодаря создаваемой ими конкуренции. Завышенная оценка доллара помогла и европейским инвестициям: когда доллар потом упал до четырех франков, поток капиталов изменил направление; европейские инвестиции в Соединенных Штатах увеличились, а американские в Европе уменьшились.
Я всегда полагал, что валютный режим, длившийся до 1973 г., был наилучшим из всех возможных для нас, французов и европейцев вообще, в том мире, который я не назвал бы наихудшим из миров, но который так или иначе находился тогда под господством доллара.
Для того, кто интересуется прежде всего межгосударственной системой, возникает вопрос: каково соотношение и связь между ею и валютным режимом. Не определила ли эта система, по меньшей мере частично, финансовый климат и, особенно, не позволила ли она американским властям эксплуатировать в свою пользу правила, установленные в Бреттон-Вудсе?
Первоначально, когда обсуждались положения бреттон-вудского соглашения, Соединенные Штаты, не претерпевшие разрушений войны, обогащенные мобилизацией своего промышленного комплекса, обладали экономическим и финансовым сверхмогуществом. Они получили почти неограниченную власть в Международном валютном фонде. Но при всем при том, поскольку они так или иначе соблюдали регламентацию, которую в значительной части сами продиктовали, США воспользовались ею в меньшей степени, чем их конкуренты.
Иначе дело пошло с 1973 г. В результате десятилетнего опыта стало ясно, что рынок то повышает, то снижает курс доллара. Такие поочередные колебания ведут к тому, что курс доллара никогда точно не устанавливается на уровне его покупательной способности. Доллар со всей очевидностью продолжает пользоваться преимуществами, которые обеспечиваются его транснациональным характером: он дает возможность покупать иностранные товары и вместе с тем позволяет правящим кругам Вашингтона без тревоги воспринимать дефициты платежного баланса. В периоды занижения его курса, как и в периоды завышения, держатели долларов получают определенные преимущества, но и испытывают кое-какие неудобства, касающиеся как иностранцев, так и американцев.
Когда доллар находился в свободном падении, европейцы жаловались на то, что Соединенные Штаты возвращают по низкому курсу долги, взятые по высокому курсу, и что они занимаются незаконной конкуренцией на рынках третьих стран. Когда цена доллара за три года выросла с четырех до восьми лш 28 Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
франков, европейцы, в частности французы, жаловались на то, что нефть и некоторые другие товары, добытые и произведенные за доллары, стоят дороже для всех, кроме американцев. Правда, в качестве некоего противовеса, торговый дефицит Соединенных Штатов давал дополнительные шансы экспортерам других стран. Для большинства государств, для развивающихся стран, для Франции не существует точного соответствия между сверхценой и сверхэкспортом.
Так как же, не по причине ли своей военной мощи Соединенные Штаты заставили центральные банки других стран аккумулировать доллары, а затем превращать их в боны американского казначейства? Надо ли думать, как писал Киндлебергер, что немцы и все европейцы накопили долларов, с которыми не знали что делать, но это потому, что в качестве эквивалента они пользовались американской защитой, благодаря чему оплачивали лишь частично стоимость своей собственной обороны? Так что, не высказываясь на этот счет ни устно, ни письменно, европейцы якобы финансировали какую-то долю защиты, которую им обеспечивали Соединенные Штаты.
Конечно, европейцы уделяли внимание дипломатическо-стратегическим факторам, при обсуждении с американцами вопросов торговли и валюты. Однако последствия крутого поворота в 1973 г. финансовой политики вызывают, задним числом, сомнения относительно подобного хода дела. Разве бреттон-вудский режим с его переоценками валютного курса для стран, с переизбытком набиравших себе доллары, не был гораздо лучшим режимом для всех, за исключением самих Соединенных Штатов, чем плавающие курсы обмена? Французы жаловались и гневались по поводу американских капиталовложений, лишь выступая как государственное сообщество. А вот мэры крупных городов без колебаний обеспечивали американским фирмам выгодные условия для строительства какого-нибудь завода, хотя те же мэры, приехав в Париж, обличали на разного рода идеологических диспутах империализм доллара. Если бы правящие круги Бонна предвидели последствия плавающих курсов, они, быть может, выступили бы за сохранение долларового режима, существовавшего до 1973 г., причем сделали бы это из экономического интереса, а не потому, что считали США своим защитником.
В настоящее время политика Рональда Рейгана раздражает или даже возмущает большинство руководителей ведущих стран (исключая Японию). Эта политика состоит в комбинировании весьма значительного бюджетного дефицита (100 миллиардов долл., или примерно 6% валового внутреннего продукта) с валютными ограничениями (вплоть до августа 1983 г.). Валютные ограничения вызывают существенное снижение инфляции и повышение процентных ставок. В начальной фазе экономического цикла ставки более высоки, чем когда-либо бывали именно в этой фазе. Высокие проценты привлекают иностранные капиталы и поднимают стоимость доллара на рынках. Однако оживление в экономике рискует быстро затормозиться: чтобы избежать возобновления инфляции в условиях продолжения под ъема деловой активности. Федеральный резервный банк время от времени бывает вынужден принимать валютно-ограничительные меры.
Мир и война между народами • Раймон Арон *
29 г '
Авторские предисловия
По этому поводу отметим следующее. Соединенные Штаты опять извлекают выгоду из своего уникального положения. Никакое другое государство не может привлекать капиталы невзирая на очень большой бюджетный дефицит (даже если дефицит платежного баланса частично компенсируется процентами от внешних капиталовложений). Никакое другое государство не может позволить себе подобный бюджетный дефицит и вместе с тем эффективно бороться против инфляции, используя исключительно, так сказать, валютное оружие. Напомним, что Япония, когда бывала в том нужда, терпела еще более значительный бюджетный дефицит, но японцы всегда сохраняли такой высокий процент на вкладываемые доходы (примерно 32%), что индивидуальные сбережения заполняли бюджетный дефицит без всякого инфляционного эффекта.
А не проводит ли Р. Рейган свою политику лишь благодаря военной мощи США? Формула такого рода, как мне представляется, лишена всякого основания. Разумеется, военная сила составляет часть той совокупности, которая именуется “Соединенные Штаты Америки”. Я вообще не знаю можно ли дать сколько-нибудь вразумительный ответ на вопрос: “Могли бы Соединенные Штаты вести себя так же, если бы не обладали могуществом на земле, на море, в воздушном и надвоздушном пространстве?” Всякое ирреальное предположение кажется мне слишком невероятным, чтобы давать прямой ответ “да” ли “нет”. Важен лишь сам факт, как я думаю, что Соединенные Штаты управляют транснациональной валютой так, как если бы она была именно их национальной валютой. США полны решимости победить инфляцию, но они не в состоянии уменьшить государственные расходы, ибо решили перевооружаться, и президент обязал управляющего Федеральным резервным банком замедлить рост цен, которому в этом деле помогала уникальная ситуация Соединенных Штатов. Их транснациональная валюта выполняет свою, транснациональную функцию, каково бы ни было состояние государственных финансов или платежного баланса.
Конечно, был период, когда Картер оказался вынужден вмешаться в деятельность рынков, чтобы поддержать курс доллара. Рано или поздно доллар должен был свалиться с вершины, на которую взобрался. Ну и что? Не все иностранные капиталы идут туда, где высоки ставки, они также бегут в страны-убежища, то есть опять-таки прежде всего в США, чья экономика, несмотря ни на что, остается самой богатой и, по-видимому, самой динамичной в мире.
Обстояло бы дело иначе, если бы, европейцы не зависели в том, что касается их безопасности, от Соединенных Штатов? Быть может, да, но по-настоящему экономический пейзаж изменился бы лишь в результате достижения подлинного единства Европы. Если Европейское сообщество превратится в эквивалент Соединенных Штатов Америки то трансатлантические переговоры примут другое направление. Валюта Соединенных Штатов Европы, возможно, лишит доллар его монопольного положения, статута транснациональной счетной единицы; ни немецкая, ни британская экономика, взятые в отдельности, не обладают масштабностью, достаточной для того, чтобы служить опорой транснациональной валюты.
Можно ли говорить о валютном им-
30
Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
* ЪЫ&ЮЬЛ «: X <№^SW4<SSf-?«$ ХФ->*4>Л Х5Я?»Я.
периализме? Не извлекают ли Соединенные Штаты неправомерную и как бы незаконную выгоду из той роли, какую играет доллар? Идеология рынка обеспечивает ответственным деятелям Вашингтона чистую совесть: никто и ничто не может сопротивляться глубинным движениям рынка. Доллару надо было упасть слишком низко, чтобы Дж. Картер решился вмешаться. Вот сейчас, когда я пишу эти сроки, доллар стоит больше восьми франков, и Р. Рейган возвращается к benign neglect, хотя и в другой форме. Страны-должники, заключившие долгосрочные соглашения на поставки нефти и газа по фиксированной цене, дорого платят за бродяжничество доллара.
Заинтересованы ли Соединенные Штаты в том, чтобы их валюта прыгала то выше, то ниже равновесной стоимости, то есть стоимости, которая паритетна покупательной способности? Ответ тут не появляется сам собой. Завышенный доллар вызывает дефицит торгового баланса (в период кризиса государства скорее хотят, чтобы он был занижен, как это было в 30-е годы); заниженный доллар в 1978—1979 гг. способствовал американскому экспорту и облегчал положение должников банков и казначейства США. Если же обменный курс близок к паритету покупательных способностей, то служит ли такая ситуация одновременно и самим Соединенным Штатам, и мировой экономической системе в целом?
Лично я в этом не сомневаюсь, но не питаю иллюзий, что смогу убедить в подобных выводах советников или ответственных лиц в Вашингтоне. Те и другие помнят 60-е годы — период паралича экономики. Доллар, привязанный к золоту, не мог двигаться самостоятельно; он колебался лишь через колебания других валют. Когда в 1971 г. США потребовали вполне правомерной и законной девальвации, то натолкнулись на сопротивление своих союзников, как конкурентов. С тех пор в США отвергается всякая форма закостенелости, негибкости. И они охотно соглашаются с той мыслью, что валютный рынок всегда прав. Распространение рыночных законов на сферу валютных операций ведет к своего рода общей относительности экономических явлений. Валюта больше не воплощается в каком-то реальном благе или богатстве, она не привязывается, в зависимости от того или иного предпочтения, ни к какому товару. Доллар, как и другие валюты, стоит ровно столько, сколько покупатели готовы истратить на его приобретение, платя франками, марками или иенами.
Сколько еще времени Соединенные Штаты будут навязывать другим странам плавающий обменный курс? Никто не рискнет угадать. Возможно, что такой режим длится из-за того, что у стран Запада нет согласия в вопросе о том, каким режимом его заменить. Восстановление золотого эталона и эталона, заменяющего золото (когда те или иные валюты добавляются к золоту, составляя резерв), предполагает обращение в новую веру американских экспертов, а такая вера пока что лишь изредка обнаруживает себя то здесь, то там. Среди экономистов и в правящих кругах стран Запада преобладает убежденность в том, что надо сохранять верность отказу от прежней костности и поэтому смириться с сегодняшними флуктуациями курса доллара. Коме того, всякая реформа ограничивает свободу действий правящих кругов внутри своих стран. Президент Р. Рейган хочет увеМир и война между народами • Раймон Арон
31
Авторские предисловия
личить оборонный бюджет, сократить налоги на доходы и одолеть инфляцию. Политика Федерального резервного банка дополняет и примиряет между собой эти намерения, внешне действующие в разных направлениях или даже взаимно противоречивые. В результате следуют повышение процентных ставок и новое восхождение курса доллара.
На это многие заатлантические эксперты возражают, что европейские капиталы текут в Соединенные Штаты не столько из-за привлекательности процентных ставок, сколько ввиду качеств самой американской экономики, готовой сегодня к новому взлету, тогда как экономики всех европейских государств, по-видимому, где-то и в чем-то увязли и, в разной степени, обездвижились. Возможно, что теперь повторяется ситуация первых послевоенных лет, когда старый континент еще не обрел веры в самого себя, как и веры со стороны всего остального мира.
Никто не может измерить весовое соотношение этих двух факторов — процентных ставок и поиска убежища (или привлекательности ожидаемого процветания). В данном случае я больше всего боюсь всяческих экстраполяций. С 1973 по 1982 г. двукратное повышение цен на гидроводородное топливо доминировало над всяческой игрой — дипломатической, экономической и валютной. “Семерка главных”, не стала сопротивляться воле стран-производителей: лишенные собственности на скважины, они остались хозяевами распределения. Прибыли этих стран, пропорциональные ценам на сырую нефть, дали им возможность инвестировать капиталы в разработку других источников энергии. Американские банки получили наибольшую часть излишков доходов, которым страны-производители не могли найти другое применение. С 1982 г. нефтяной рынок потерял равновесие. Несмотря на иракско-иранскую войну и на снижение производства в этих двух воюющих странах, предложение сырой нефти непрерывно превышало спрос. Он уменьшился по нескольким причинам: были открыты новые места нефтедобычи за пределами стран ОПЕК, возросло использование энергозаменителей, более экономично стали потребляться подорожавшие виды топлива. Для Соединенных Штатов повышение цен на гидроводородное топливо не создавало никаких особых проблем, связанных с инфляцией или с внешним дефицитом. Япония и Федеративная Республика Германия после нефтяного шока довольно легко и быстро восстановили равновесие своих внешних платежей. Однако наиболее передовые страны третьего мира, например Бразилия, все-таки влезли в долги. Две из нефтедобывающих стран, Венесуэла и Мексика, настолько плохо распорядились черным “золотом”, дарованным им природой и случайностью, что в 1982 г. обе оказались вынуждены прибегнуть к политике дефляции, чтобы восстановить равновесие своих внешних платежей и сократить свои долги.
Два нефтяных удара не произвели впечатления на вашингтонских руководителей и не пролили свет на суть и направление их интересов. Они просто умножили число мер по предотвращению разного рода катастроф у себя дома и вне его. Но в Вашингтоне не было никакого общего и целостного плана. Развивающиеся страны могли брать взаймы доллары, происходящие от нефтедолларов. Влезая в долги, чтобы поддерживать свой привычный уровень и об32
Раймон Арон • Мир и война между народами
раз жизни, они через несколько лет оказывались не в состоянии выплачивать проценты по займам, а тем более возвращать сами займы. Быть может, некий воображаемый план, сравнимый с планом Маршалла, был невозможен? Ведь и в самом деле, быстро развивающиеся государства Азии — Южная Корея, Тайвань, Сингапур — выкрутились из передряги самостоятельно, собственными усилиями. Правда, Южная Корея буквально обросла долгами, но рост ее экономики остается достаточно значительным, и она умеет отдавать долги. Но такие нефтедобывающие страны, как Венесуэла и Мексика повели себя столь легкомысленно, что Соединенным Штатам пришлось бы с огромным трудом призвать их к дисциплине, необходимой для всякого общего и целостного проекта. Во всяком случае, в глобальном масштабе, стран-производителей нефти, в числе которых страны ОПЕК, не так уж много. Проблема, унаследованная от предыдущей фазы экономического цикла, — это проблема общей задолженности государств, внутренней и внешней, а также долгов предприятий. Сами Соединенные Штаты не составляют исключения, но поскольку держатели фондов доверяют им, то США увеличивают свои долги, одновременно получая капиталы из заграницы. Собственные долги их не беспокоят, потому что доллар по-прежнему притягивает в США капиталы со всего мира. Будучи сами заимодавцами в тяжелейших или безвыходных для других стран положениях, американские банки аккумулируют, если приходится это делать, необходимые суммы транснациональной валюты, в которой могут нуждаться должники, чтобы избежать своего полного банкротства.
Авторские предисловия
Какие же выводы и обобщения, касающиеся соотношения межгосударственной системы и мирового рынка, вырисовываются в результате проведенного выше анализа? В общем, валютное господство доллара не есть эффект или субпродукт военного преобладания Соединенных Штатов в том смысле, что мировой рынок все равно не мог бы обойтись без транснациональной валюты, а при отсутствии золотого стандарта, такую роль могла играть только американская валюта. Поскольку доллар оставался привязанным к золоту, европейцы предпочли бы менее инфляционистскую политику Соединенных Штатов, но для них бреттон-вудский режим был лучше, чем плавающий обменный курс. Конечно, американская валюта не сыграла бы своей роли без присутствия, пусть где-то на заднем плане, военного могущества; в прошлом веке фунт стерлингов опирался и на британский военно-морской флот, и на золото. Так или иначе, но различные государства научились приспосабливаться к ситуациям, создаваемым экономической политикой Вашингтона. Политика эта тем не менее не была империалистской, то есть не направлялась стремлением доминировать и эксплуатировать. В первые послевоенные годы она руководствовалась “просвещенным эгоизмом”, если воспользоваться классическим выражением, а если быть менее пессимистичным, то можно сказать, что американская политика вдохновлялась чувством всемирной ответственности США. Это чувство понемногу притуплялось, по мере того, как уменьшалось господство Соединенных Штатов над их европейскими и японскими конкурентами, а также по мере того, как военная мощь Советского Союза поднималась до уровня, со-
Мир и война между народами • Раймон Арон
33
Авторские предисловия
поставимого с мощью Америки. Р. Рейган и его политика символизируют возвращение страны к ее естественному эгоизму (эгоизм естествен для всех государств, к политике являющейся результатом различных форм и направлений давления на президента, идей и соображений самого президента и противоречий между различными целями, которые ставит перед собой правящая команда. В механизме принятия решений не предусмотрена забота о последствиях американской практики для всего остального мира. Мартин Фелдстайн. председатель Совета экономических советников при президенте США (Council of Economic Advisers), имел основания написать, что борьба против инфляции, содержащейся в завышенной оценке доллара и одновременно в излишке импорта, стоит стране меньше, чем дефляция, которая замедлила бы активность экономики в целом. Страдают несколько экспортных секторов, но потери оказываются меныпиьш, чем при любом другом антиинфляционном методе.
Находится ли американская экономическая политика на службе у политики дипломатическо-стратегической или, наоборот? Независимы ли они одна от другой? Обе эти политики (по меньшей мере в том, что касается экономики, валютной и торговой политики, проводимых Вашингтоном) не являются ни взаимонезависимыми, ни взаимонераздельными. В первой фазе задачи, связанные с межгосударственной системой, влияли на политику на мировом рынке. Создание ГАТТ и МВФ не имело единственной или даже приоритетной целью способствовать реконструкции Западной Европы. Американские руководители, идя дальше плана Маршалла, хотели организовать такой мировой экономический порядок, который со всей ясностью отвечал бы интересам как США, в первую очередь, так и всех других государств, поскольку ведущие деятели в Вашингтоне расценивали мир свободного обмена как соответствующий интересам мирового сообщества (или западного мира, если предпочтительнее так выразиться).
Вместе с тем государства, входящие в мировой рынок, где действуют ГАТТ и МВФ, подчиняются определенной дисциплине; но сохраняют за собой свободу не соблюдать ее полостью, а также имеют возможность перейти от одного режима, в той или иной степени либерального или деспотического, к другому, социалистическому режиму марксистсколенинского типа. Поэтому многие государства советского блока вступили в МВФ. Тем не менее сама организация мирового рынка предполагает условия, которые способна уберечь участвующие в нем страны от искушения стать советскими.
Главные решения Соединенных Штатов в рамках межгосударственной системы принимались не по экономическим соображениям; таковы, к примеру, решения об отправке экспедиционного корпуса в Корею и Вьетнам. Доллар был поставлен на службу дипломатическо-стратегической политике: план Маршалла стал первым тому примером. В некоторых определенных случаях распределение помощи между странами третьего мира находилось и находится под влиянием дипломатических или стратегических интересов.
До сих пор марксисты, из числа умеренных и рассудительных, относились к моим воззрениям без особой критики и протестов. Однако, по их мнению, именно организация мировой экономи34
Раймон Арон • Мир и война между народами
ки образует империализм, обогащает богатых и обедняет бедных, расширяет ножницы между богатыми и бедными вместо того, чтобы их сужать. Но при первом же рассмотрении такое утверждение не подтверждается историческим опытом.
С 1947 по 1973 г. разница между уровнями жизни европейцев и американцев не увеличивалась, а наоборот, сокращалась. Надо, следовательно, исключить отношения между промышленно развитыми странами из только что названной теории. Как только эти государства вступили в фазу непрерывного и регулярного роста, все факты доказывают и демонстрируют мысль о том, что самые богатые и самые передовые страны не обязательно сохраняют и поддерживают свое превосходство. Германская империя приблизилась к уровню Великобритании без обращения к эксплуатации колоний. За 35 лет темпы роста среди европейских стран были неравными, но они не имели никакой связи с эксплуатацией слаборазвитых стран. От конкуренции на мировом рынке между промышленно развитыми странами не выигрывает, как таковая, страна с доминирующей на рынке экономикой или с наиболее передовой экономикой. Отставшие страны могут взять за образец страны, перешедшие на следующий этап развития. Переход рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность и сферу услуг сказывается на повышении темпов роста экономики. В 1950 г., например, Франция располагала более значительным резервом населения, занятого в сельском хозяйстве, чем Великобритания.
Даже марксист согласится с этими констатациями, которые можно расценивать как очевидные. Но он возразит, особенно если это марксист-ленинец, на Авторские предисловия
утверждение, что все индустриальные страны Европы извлекают выгоду из американского империализма. Тезис об “экономическом империализме" представляет картину мира, разделенного на центр и периферию (причем оба этих слова чаще всего употребляются во множественном числе). Согласно этому Соединенные Штаты занимают центр мировой экономики, но внутри Соединенных Штатов тоже существует двойственность: центром здесь выступает буржуазия, присваивающая наибольшую часть прибавочной стоимости, произведенной за границей и изъятой у зарубежных стран, а периферия — это массы, эксплуатируемые центром, возможно даже они и получают крохи от общей прибыли, аккумулируемой Соединенными Штатами. То же и в развивающихся странах — в общем, периферии индустриального центра — марксист будет различать — центр, как скопище национальной буржуазии и периферию в качестве двойной жертвы: как со стороны национального центра, так и центра всемирного.
Такая картина вызывает множество вопросов и возражений. Прежде всего вопрос так сказать, о терминах. Если согласиться, что “центр" центральных обществ эксплуатирует свою периферию — на обычном языке это значит, что капиталисты и привилегированные группы эксплуатируют низшие классы, — то можно ли говорить об империализме? Меньшинство, управляющее большими фирмами и предприятиями, государственными или частными, и исполняющее правительственные функции, не может называться “империалистским" по отношению к массе населения своей страны. Слишком просто и легковесно считать эталоном общество с равным Мир и война между народами • Раймон Арон
35 . »
Авторские предисловия
(или близким к равному) распределением доходов, могущества, престижа. В этом случае те, кто обладает благами, материальными или моральными, в большем объеме, чем это выпало бы на долю других при уравнительном распределении, квалифицируются как эксплуататоры или их сообщники, или пользователи результатов эксплуатации. Если те, кто управляет экономикой и государством, слывут хозяевами общества, то они представляются чем-то вроде центра в центре или хозяевами по преимуществу, окруженными подчиненными-хозяевами или подчиненными среди хозяев.
Такой подбор терминов, такой словарь навеян вненаучными намерениями. Все сложные общества, со времени малых неолитических, дифференцированы по социальным ролям и функциям своих членов, а следовательно все они социально разнородны, гетерогенны. Парето который был совершенно свободен в выборе слов, раз и навсегда разделил общества, которые он наблюдал и изучал, на элиту и массы (или большое число). Аналогичные концепции, косвенно заключающие в себе целую теорию, критиковались, рафинировались, отвергались, оправдывались бесчисленным множеством социологов. Но из всех этих диспутов, непрестанно возобновляемых, всплывают на поверхность лишь несколько утверждений, банальных или очевидных. Как только социальная гетерогенность установлена и существование элиты (то есть людей, занимающих ключевые позиции) признано, задача социолога заключается не в том, чтобы выводить на первый план общие черты всех современных комплексных обществ, а в том, чтобы сопоставлять и сравнивать между собой разновидности этой гетерогенности, различные формы, в которых проявляют себя элиты и отношения между элитами и массами. В частности, если имеется желание сохранить понятие эксплуатации, то надо обнаружить тот момент, с которого “привилегированные меньшинства” начинают эксплуатировать такие-то и такие-то классы или все общество ввиду излишка преимуществ и выгод этого рода меньшинств по сравнению со службой и услугами, которые они оказывают, отдают коллективу.
Отношение центра к периферии на мировом рынке все-таки можно было бы, в крайнем случае и с определенной натяжкой, назвать империалистским. В собственном смысле слова империализм предполагает захват или установление господства одного государства или сообщества над другой страной и ее населением. Включение побежденного государства в зону суверенитета государства-победителя представляет собой чистую форму империализма. Колониальные завоевания Франции в Африке в конце XIX в. и в начале XX в. были исторически специфическим видом империализма. Толкуя это понятие расширительно, говорят также об империализме, когда какое-нибудь политическое сообщество оказывает давление на другое сообщество, либо диктует ему, какие внешние действия оно может и должно предпринимать, либо запрещает ему устанавливать собственный внутренний режим по своему выбору. Государства Восточной Европы принадлежат к имперской зоне Советского Союза. Какие государства третьего мира принадлежат к имперской зоне Соединенных Штатов?
Советский Союз показал в 1956 г. в Венгрии, в 1968 г. в Чехословакии, в 1981 г. в Польше, что он намерен накладывать вето на изменение режима г 36 - г 1
Раймон Арон • Мир и война между народами
стран, которые были обращены в марксистско-ленинскую веру и входят в советский блок. В Восточной Европе имперское государство сохраняет за собой крайние меры воздействия, а именно — применение военной силы. В отношении Кубы не предусматривались такие способы действия, но сам тамошний режим или, точнее, связи между этим режимом и Советским Союзом делают крайне маловероятным разрыв между ними.
В какой зоне, какими способами осуществляется “империализм” Соединенных Штатов? Режимы двух соседних государств, Канады и Мексики, не подчинены господству США, которое можно было бы сравнить с господством Советского Союза в Восточной Европе. Правда, можно сказать, что свобода действий Канады и Мексики ограничена угрозой возможных санкций со стороны Соединенных Штатов. Господствующее, так или иначе, государство ограничивает автономию более уязвимых государств. Но с 1933 г. и начала “политики доброго соседа” Соединенные Штаты терпимо относились к национализации в Мексике американских нефтяных обществ. Способ доминирования над странами Карибского бассейна и Центральной Америки изменился; отправка морских пехотинцев вышла из моды, хотя она вновь становится возможной при климате холодной войны. Вашингтонские руководители не посылали больше автоматчиков для защиты американских капиталовложений, но они вмешивались, чтобы предотвратить приход к власти марксистско-ленинских партий.
Трудно очертить “имперскую зону” Соединенных Штатов. Если включить в нее все государства, где размещены американские войска, то в эту зону входят члены Атлантического союза (за исАвторские предисловия
ключением Франции, вышедшей из объединенного командования и северных стран, Норвегии и Дании, которые не согласились на создание у себя американских баз). Это, может быть, так и есть, но при условии, что надо уточнить смысл и пределы такого вхождения в зону: сами европейские государства попросили Соединенные Штаты заключить с ними союз или дать какие-то другие гарантии их безопасности. В Италии и Франции Соединенные Штаты приняли участие, через посредство местных профсоюзов и своих секретных служб, в холодной войне между коммунистической партией и умеренными или антикоммунистическими партиями. И холодная война внутри стран Западной Европы была проиграна коммунистами. Команда Рейгана не возмутилась по поводу вхождения коммунистов во французское правительство. А вот предыдущие команды, в частности Генри Киссинджер, делали все, что в их силах, чтобы противиться “историческому компромиссу” в Италии между демохристианами и компартией. Так что все атлантическое сообщество может быть названо “имперской зоной”, однако следует смягчить самый смысл определения “имперский”; эта зона противостоит советскому блоку, и люди в Кремле вполне справедливо опасаются атаковать ее, ибо подвергаются огромному риску. И все-таки эта зона остается предметом советских амбиций. В Португалии в годы, последовавшие за “революцией гвоздик”, коммунисты, вся компартия и некоторые агенты из посольства Советского Союза, приняли участие в баталии, которая завершилась в пользу демократов.
Поведение Соединенных Штатов по отношению к странам, занимающим промежуточное положение между комМир и война между народами • Раймон Арон г г < лтй.
37
Авторские предисловия
мунистическим блоком и атлантическим ансамблем, варьируется в зависимости от обстоятельств и региона мира. Дж. Ф. Даллес организовал свержение одного президента, Арбенса, подозреваемого во взглядах, близких к марксизму-ленинизму. Л.Б. Джонсон отправил морских пехотинцев в Доминиканскую Республику при угрозе гражданской войны под предлогом защиты граждан и имущества Соединенных Штатов. Дж. Ф. Кеннеди попытался свергнуть Фиделя Кастро, организовав высадку на остров 1500 кубинских изгнанников. Зона Карибского бассейна и Центральной Америки исторически сложилась как имперская зона в том смысле, что Соединенные Штаты, не включая все эти малые страны в зону своего суверенитета, дали сами себе право применять там военную силу для защиты своих экономических интересов. Такая имперская зона отличается от атлантического сообщества, даже если бы они имели одинаковое название: европейцы пожелали войти в имперскую зону, а государства Америки оказались в ней помимо собственного желания, и дипломатия — или сила — Вашингтона всегда поддерживала или восстанавливала там правителей, покорных имперской воле США.
Латинская Америка не всегда и не вся была покорна воле янки. В XIX в. в мире первенствовала Великобритания, которая участвовала с помощью своих капиталов в экономическом развитии стран этого региона. В Бразилии и Чили интеллектуальное влияние ощущалось скорее из Европы, чем из Северной Америки. Лишь после окончания второй мировой войны дипломаты и общественность начинают пристально присматриваться к южному континенту Западного полушария. Декларация Монро, в обсуждении которой приняли участие сами англичане, была направлена прежде всего против имперских поползновений и пережитков со стороны Испании и Франции.
С 1945 г. Соединенные Штаты через посредство ОАГ (Организация американских государств) старались оказывать нажим на дипломатию стран Латинской Америки и сплотить их против возможной марксистско-ленинской революции. Они преуспели лишь частично. Правление Альенде было свергнуто скорее самими чилийцами, чем ЦРУ, хотя вашингтонские секретные службы и поддерживали всех, кто был в оппозиции к левацкой власти. ЦРУ содействовало заговорам и покушениям, но, конечно, не взяло на себя прямой ответственности за военный переворот, который привел к власти генерала Пиночета.
Если можно как-то резюмировать эти мои разрозненные замечания и наблюдения, то Соединенные Штаты не создали империю янки в Латинской Америке; они не получили там никакой суверенной имперской власти; они не могли ни спровоцировать, ни, наоборот, помешать государственным переворотам и приходу к власти всяческих Каудильо; тем не менее они вели там дипломатию иную по своему характеру, чем по отношению к “обыкновенным” государствам, —дипломатию, которую можно назвать империалистской в том смысле, что они принимали более или менее значительное участие в политических битвах внутри государств этого региона. Они обеспечивали там победу своих клиентов, предпочитая поддерживать демократов, враждебных к герильеросам типа Бетанкура в Венесуэле. Но чаще всего американские власти отдавали предпочтение консервативным 38
Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
деспотам, иногда гнусным, если альтернативой была левая революция, из-за которой та или иная страна могла соскользнуть к марксизму-ленинизму. На других континентах американская дипломатия руководствовалась теми же идеями и чувствам, но больше заботилась о распространении демократии западного типа (что впрочем, часто бывало невозможным), чем о том, чтобы воспрепятствовать марксистско-ленинской революции. Если считать империалистской всякую дипломатию такого рода, которая не только имеет дело с иностранными правительствами, но и старается помогать внутри государств обладателям власти или кандидатам на обладание властью, которые расцениваются как люди благоприятствующие или способные благоприятствовать американским интересам, то я могу разглядеть неимпериалистскую дипломатию только в малых странах. Ни Франция, ни Великобритания не отказались от империалистской дипломатии такого сорта, хотя они не сохранили средств и способов проводить и поддерживать ее в размерах, сопоставимых с возможностями обеих сверхдержав. Согласно такому определению империализма, две сверхдержавы являются по преимуществу империалистскими и не могут не быть таковыми. С одной стороны, благодаря своему могуществу они не остаются простыми наблюдателями нестабильности большинства государств в наш революционный век, а с другой стороны, это же самое могущество побуждает их вмешиваться повсюду, умножая число случаев, когда они подавляют, разжигают или поддерживают мятежи. При всем том, жестко ли противостоят они друг другу или бывают почти соучастницами, обе сверхдержавы не оказывают доминирующего воздействия на ход политической истории.
Картина мира, разделенного на центр и периферию, в принципе не соотносится с неравенством между сильными и слабыми, с господством или влиянием сильных на слабых. Она касается прежде всего экономических отношений. Промышленно развитые страны покупают сырье у стран развивающихся. Иногда эти первичные материалы и сырье перерабатываются американскими, британскими, французскими, даже швейцарскими компаниями непосредственно в тех странах, где они добываются. В более широком плане индустриальные страны эксплуатируют периферию тремя главными способами:
1. Они закупают сырье по ценам, которые в реальном выражении (то есть по отношению к ценам на промышленные товары, закупаемые периферией) имеют тенденцию к снижению.
2. Иностранные компании, созданные на периферии, получают прибыли, которые вообще положено получать при капиталистическом режиме, но прибыли повышенные благодаря использованию передовой техники и технологии при низкой оплате труда в странах, страдающих от избытка рабочей силы по отношению к капиталу.
3. Иностранные компании объединяются с национальными капиталистами, так что те и другие получают сверхприбыли от низкой оплаты труда наемных рабочих, и таким образом “периферия периферии” подвергается двойной эксплуатации. Наличие в экономике мирового центра приводит почти повсюду к созданию центров-сателлитов, которые добавляют свою долю к глобальной норме эксплуатации периферии мировым центром.
Мир и война между народами • Раймон Арон г
< Л"* 39 гт***
Авторские предисловия
Ъ ■> Л * а •< и< у-хх-ч о А-^ ~ ЛУ <. X •>*> 4 *¥
Нет надобности подробно обсуждать такой экономический пейзаж, как и аргументы, его обосновывающие. Несомненно, в каком-нибудь трактате о международных отношениях мировому рынку будет посвящена столь же объемистая глава, что и глава о межгосударственной системе. “Мир и война” посвящена исключительно или почти исключительно межгосударственной системе. Поэтому я и ограничиваюсь здесь эскизом на тему о взаимозависимости межгосударственной системы и мирового капиталистического рынка.
Являются ли мультинациональные компании и корпорации авангардом экономики или же полицейской силой, обеспечивающей покорность развивающихся стран? При такой постановке вопроса дело легко поддается экзаменационной проверке. То или иное мультинациональное общество, эксплуатирующее главный природный ресурс какой-нибудь маленькой страны, часто становится хозяином правительства, именуемого национальным. Подобный риск исключен для промышленно развитых стран (Франция многим обязана американским капиталовложениям, но всегда остается Францией). А в настоящее время любое южноамериканское, африканское или азиатское государство может национализировать тот или иной американский филиал, не подвергая себя серьезному риску, но при условии возмещения собственности.
Влияют ли мультинациональные общества, в частности американские, на дипломатию Соединенных Штатов, с одной стороны, и на дипломатию стран, в которых такие общества создали свои филиалы, с другой? Каждая весьма крупная корпорация наверняка содержит свое лобби в Вашингтоне — одно из других многочисленных лобби. Нет оснований думать, что все эти конгломераты имеют одинаковые дипломатические интересы и, следовательно, объединяются, чтобы убедить в чем-то конгресс или команду президента. Письмо, направленное президенту генеральным директором Международной телефонной и телеграфной корпорации по поводу Чили, показывает, что некоторые управляющие подобных обществ не отказались от того, чтобы как-то мобилизовать дипломатию Соединенных Штатов на службу интересам одного из своих филиалов в какой-нибудь стране. Нефтяные картели тоже играли определенную роль на первой фазе кастровского режима, но они подчинялись приказам Вашингтона, отказавшись, правда, выполнять приказы Фиделя Кастро. Я показал в одном небольшом исследовании, что ответственность за разрыв отношений между кастровской Кубой и Соединенными Штатами падает скорее не на Кубу, а на команду президента США или на госдепартамент. Впрочем, быть может, этот разрыв был неизбежен в любом случае.
Если бы я обстоятельно анализировал международную экономику как таковую, то должен был бы обратиться к проблеме, горячо и страстно обсуждаемой сторонниками и противниками этих “конгломератов”. Ограничусь несколькими замечаниями. Промышленно развитые страны, в частности европейские, получают и будут получать от американских инвестиций гораздо больше выгод, чем терпели от них ущерба или неудобств. Отнюдь не французский филиал ИВМ затормозил прогресс французской информатики. А он-то дал валюту Франции; хотя и принадлежит американской компании, но входит в число важнейших
40
Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
французских экспортеров. Впрочем часто иностранные мультинациональные корпорации оказываются слишком мощными для экономики стран, где расположены их филиалы, и проводят стратегию, которая рациональна применительно к их собственным задачам, а не к интересам решительно всех стран, имеющих такие филиалы. Иногда такие компании мобилизуют себе на службу ресурсы, которые могли бы питать национальный капитализм. Наконец — и тут я приближаюсь к аргументу, который служит основанием для представления о мире как разделенном на центр и периферию, предлагая вот такой вопрос: являются ли мультинациональные предприятия агентами или проводниками аккумуляции прибавочной стоимости в ущерб экономике стран, где они производят или реализуют свою продукцию?
Трудно согласиться с такой постановкой вопроса — почти так же трудно, как и отвергнуть этот аргумент. Безусловно лучше всего быть богатым и “передовым”. Если компании богатых стран работают в странах бедных — значит, они находят там прибыль. Оставим в стороне маргинальные, крайние и нетипичные случаи, например, когда развивающиеся страны заполняются предметами потребления, без которых они вполне и охотно обошлись бы. Как правило, та или иная иностранная компания, сначала привносящая в страну свои капиталы, может потом начать выкачивать национальные капиталы и репатриировать к себе целиком или частично прибавочную стоимость и свехприбыль, полученные ее филиалом. Однако баланс между инвестированными капиталами и вывезенными прибылями варьируется в зависимости от конкретных случаев. Туг не обнаруживается никакого общего закона и, если не быть в плену какой-либо преднамеренной идеологии, нельзя утверждать, что центр систематически эксплуатирует периферию.
Примером, притом более чем исчерпывающим для доказательства только что сказанного, может служить нефть: “большая семерка”, семь крупнейших мультинациональных нефтяных компаний, долго поддерживали очень низкую цену на нефть, соответствующую лишь тем местам нефтедобычи, где себестоимость была самой низкой. Когда государства ОПЕК взяли земельные участки нефтедобычи в свою собственность, “семерка” не стала сопротивляться распоряжениям новых собственников. Прибыли “семерки” росли вместе с ценой на черное золото. Взяв старт как колониальная цена и остававшаяся таковой вплоть до 1973 г., цена на нефть продолжает обогащать “семерку” и, косвенно, промышленно развитые страны — материнские по отношению к мультинациональным нефтяным компаниям. Ведь только “семерка” и ее дееспособные конкуренты оставались способными транспортировать, распределять, рафинировать нефть. Лишившись ренты, приносимой эксплуатацией нефтеносных участков, компании сохраняют очень значительные прибыли в других фазах полного нефтяного цикла.
И последнее замечание в качестве заключения. Межгосударственная система, центрированная на соперничество двух сверхдержав или двух лагерей, сосуществует с мировым рынком, который не есть ни причина, ни следствие дипломатическо-стратегических отношений между государствами. Даже если признать картину мира как центр и периферию, то все равно экономическая эксплуатация теперь стала самостояМир и война между народами • Раймон Арон 41 г <
Авторские предисловия
тельной сферой и чаще всего отлична от политического господства или доминирования. Политическая стратегия и стратегия экономическая не пересекаются и не сопрягаются в некоей единой доктрине создания защитных рубежей. Конечно, в геополитическом анализе, как его проводит и как его проповедует дипломатия на манер Киссинджера, непременно принимаются в расчет место и цена различных территорий на мировом рынке. Защита государств Персидского залива Соединенными Штатами вызвана нефтяными богатствами этого региона. Но военная защита Сальвадора в равной степени внушена как геополитическо-стратегическими, так и политическими концепциями. Если рассматривать международные отношения в самом общем виде, то Соединенные Штаты хотят ограничить экспансию Советского Союза и создание марксистско-ленинских режимов, более или менее тесно связанных с Советским Союзом. Иногда такое желание диктуется экономическими интересами, но порой они отсутствуют. Разумеется, геополитические интересы стран и их проблемы на мировом рынке не смыкаются между собой. Чтобы способствовать расширению капиталистического рынка, надо сдерживать экспансию марксизма-ленинизма. Чтобы Соединенные Штаты сохраняли свое преобладание в межгосударственной системе, надо сдерживать “международный марксистский рынок” .
Вернемся на мгновение к вопросу, который я уже рассматривал: не теряет ли мало-помалу свое значение межгосударственная система, а именно — такая система, в которой фигуранты руководствуются дипломатическо-стратегическими соображениями? Разве обе сверхдержавы не соперничают в странах, в которых они оспаривают друг у друга те или иные преимущества так, что это соперничество переносится из страны в страну в зависимости от наличия там угрозы революции? В Европе борьба ведется с помощью слов, пропаганды и терроризма, а не под угрозой применения ядерного оружия.
Мой ответ на поставленный вопрос не изменился. Да, пока что наиболее развитые в промышленном отношении страны остерегаются сталкиваться между собой непосредственно во избежание разрастания конфликта к крайностям ядерной войны. Однако насилие — насилие революционеров, насилие террористов — все еще занимает очень большое место в соперничестве сверхдержав, хотя те и стараются не вовлекать в него свои вооруженные силы. Советская империя держится военной мощью. Израиль обладает своего рода региональной гегемонией (как Вьетнам в Индокитае), но такая гегемония находится в зависимости от, так сказать, взаимной нейтрализации сверхдержав. Наконец, над всеми конфликтами и альянсами в межгосударственной системе как бы парит в воздухе предполагаемое и гадательное соотношение сил между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Еще и сегодня эта система, в таком состоянии, представляется мне доминирующей или преобладающей в международном сообществе, хотя день за днем, очень постепенно, она, по-видимому, отходит на задний план. Фактически именно она структурирует международное сообщество несмотря на присущие последнему собственные черты и характеристики. Отсюда — страх политических руководителей перед возможностью большой войны. Следовательно происходит развитие побочных и вспомогательных средств и споа.. 42 Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
собов борьбы между государствами и, одновременно, нарастают всяческие виды обмена между обществами и сообществами, что ведет к возникновению транснациональной экономики.
Предисловие к четвертому изданию
Эта книга, написанная в 1960—61 годах, впервые вышла в свет весной 1962 г. Новое издание, шестое1, появляется, таким образом, шесть лет спустя после завершения работы над первым.
Общий пересмотр и переработка текста не были ни возможными, ни необходимыми: это исключалось и объемом труда и тем обстоятельством, что цели, которые я себе ставил в книге, не требовали дополнительной работы над текстом. Я не хотел заниматься злободневными проблемами, как их понимают ежедневные газеты. Третья часть “Мира и войны”, озаглавленная “История” представляет собой аналитический очерк дипломатической “вселенной”, в которой мы живем, охватывающей всю нашу планету, и над этой “вселенной” висит угроза применения термоядерного оружия, находящегося почти исключительно, в руках сверхдержав. В некотором роде и две первые части, “Теория” и “Социология” — разумеется, теория и социология международных отношений, — тоже ориентированы на современность, на наше время. Но прежде всего я стремился показать концептуальный аппарат необходимый для понимания межгосударственных отношений, затем старался обозначить определяющие факторы этих отношений, а по возможности выявить и соответствующие закономерности, которые можно обнаружить при изучении прошлого. Даже соображения исторического характера и толкование различных событий в третьей части имеют целью показать — как бы поверх всех непредсказуемых перипетий холодной войны и мирного сосуществования — долговременные черты и характеристики мира после 1945 г.
Если бы я писал книгу в середине 1966 г., то, очевидно, был бы склонен придавать несколько иные нюансы моим мыслям в связи с теми или иными сюжетами. Но главное заключается в том, что использованный инструментарий анализа остается пригодным и теперь и что перемены, происшедшие за последние пять лет, вполне вписываются в обрисованные рамки. Тем не менее, хотя у меня и нет поползновений развернуто описывать события 1961—1965 гг. я все-таки хотел бы кратко пояснить, что боле или менее впечатляющие трансформации на дипломатической сцене ведут свое начало от тенденций, долгое время не проявлявшихся открыто, но уже как-то различимых в момент прихода президента Кеннеди в Белый дом.
♦ ♦ *
Главной идеей, которой я руководствовался, осмысливая международную конъюнктуру, была идея солидарного отвержения обеими сверхдержавами тотальной войны, первыми жертвами которой стали бы они сами. Неизбежно будучи врагами по своим позициям, по несовместимости своих идеологий, Соединенные Штаты и Советский Союз имеют высший общий интерес. Они не хотят и не могут царствовать над ми1 Так во французском оригинале. — Прим. пер.
Мир и война между народами • Раймон Арон ■и.««««, 43
Авторские предисловия
ром вместе. Но, поскольку теперь каждая из этих стран подставлена под удар другой, они преисполнены решимости не уничтожать друг друга. Такая политикостратегическая доктрина вполне открыто и откровенно проповедовалась и преподавалась в университетах и специализированных институтах Соединенных Штатов и была официально принята президентом Кеннеди, которого убедили аргументы его советников, пришедших из Гарварда или из “Рэнд корпорейшн”.
Однако к тому времени логическое, молчаливое и ограниченное согласие между собой сверхдержав, каким мы его наблюдаем в 1966 г., было парализовано тремя обстоятельствами: неопределенностью относительно соотношения ядерных сил, тоном выступлений Хрущева, берлинским кризисом. В конечном счете мировая общественность была взбудоражена не столько бахвальством русских, сколько предвыборными речами и спорами в Соединенных Штатах. Относилось ли американское отставание по баллистическим ракетам (знаменитое missile дар) к 1963 или 1965 г.? Даже если предположить, что такое частичное отставание реально не затрагивало глобального равновесия страха, то все-таки, быть может, сознание превосходства, пусть иллюзорного, толкало советских руководителей пренебречь риском, а американских — решимостью нанести ответный удар?
Такие вопросы были тем более правомерны, что советские лидеры — и Хрущев, и военные публицисты — чаще всего высказывались и выражались так, как будто они совершенно не желали вникать в образ мышления американцев. Советский премьер грозился — впрочем, довольно туманно и по сути неконкретно — либо испепелить аэродромы, откуда стартуют самолеты-шпионы США (У-2), либо ответить на агрессию империалистов в любой точке земного шара применением баллистических ракет и ядерного оружия. Понятие массированного возмездия, рожденное Дж.Ф. Даллесом, отвергнутое Дж.Ф. Кеннеди, было подхвачено русскими. Американские авторы выдвинули и стали разъяснять доктрину гибкого реагирования (flexible response), советские авторы расписывали подробности неминуемой эскалации, как только сверхдержавы схватятся между собой. Поэтому я задавался вопросом: не скрывается ли за асимметрией советских доктрин и за советским отказом подписать договор о прекращении ядерных испытаний (фактический мораторий, длившийся с 1958 г., закончился осенью 1961 г., когда первое издание моей книги находилось в печати) просто-напросто ошибка в расчете: Хрущев верил, что извлечет выгоду из страха, испытываемого перед атомной войной, — страха, который связывал его в такой же степени, как и его противника, но который, как он делал вид, он игнорировал.
Кубинский кризис октября—ноября 1962 г. рассеял эту иллюзию. Когда Хрущев допустил неосторожность и создал на Кубе базу баллистических ракет средней дальности, американский почти ультиматум заставил его делать выбор между ответным действием в какой-либо другой зоне планеты (где он очевидно, имел превосходство в обычных вооружениях, сопоставимое с превосходством таких же вооружений США в открытом море вокруг побережья Флориды) или обращением к крайнему средству, то есть к атомному оружию, и отступлением. По-видимому, люди из Кремля колебались недолго и предпочли отступле44 - м, * - у v г Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
ние, выслушивая китайские обвинения в "капитулянтстве” перед непредсказуемым риском затягивающегося кризиса.
Не было произведено ни единого выстрела, за исключением того, которым кубинцы сбили один американский разведывательный самолет, и тем не менее дипломатические ноты, подкрепленные военными приготовлениями, составили для Москвы предельно ясное послание. Устрашение перестало быть абстракцией. Советские руководители обнаружили — быть может, с удивлением, — что в некоторых обстоятельствах президент Соединенных Штатов не отступит перед опасностью и гибельными последствиями прямой конфронтации, даже с государством, владеющим термоядерным оружием. Хрущев извлек урок из кризиса и своего поражения. Он не стал менять статус-кво бывшей столицы райха и отныне об атомной войне изъяснялся в тех же выражениях, что и Дж. Ф. Кеннеди. В этом отношении с тех пор, как Хрущев ушел с политической сцены, а Л.Б. Джонсон вошел в Белый дом, ничего не изменилось.
Больше того, советские стратеги продолжают скептически воспринимать всякие тонкости и изворотливые суждения американских аналитиков и по-прежнему полагают, что локальные войны доведут дело до крайности если в них будут вовлечены ядерные державы. Но люди в Кремле, кажется склоняются к осторожности в большей степени, чем советники американского президента; опять-таки еще больше того: теперь все наблюдатели полагают что Соединенные Штаты безусловно держат первенство в том, что касается количества ядерного оружия и ракет-носителей.
Во всяком случае за фазой ускорения гонки вооружений в 1961—1962 гг., что я и констатировал, завершая работу над этой книгой (возобновление ядерных испытаний в атмосфере сначала Советским Союзом, потом Соединенными Штатами), последовала фаза замедления. Такие повороты вполне соответствуют логике этой странной взаимной враждебности, которая ограничена совместным желанием не погибнуть вместе. Подписание в июле 1963 г. Московского договора о частичном прекращении ядерных испытаний и установление прямой линии связи между Кремлем и Белым домом являются символами этого союза врагов, направленного против тотальной войны — войны, которая была бы для каждого из них несоизмеримо более катастрофической, чем какое-либо локальное поражение в любой точке планеты.
Русско-американское сближение, хотя оно и имеет своим главным предметом и задачей лишь уменьшение ядерной опасности, надо рассматривать в том политическом контексте, который, собственно, и вызвал к жизни такое сближение и на который это сближение, в свою очередь, воздействует. Сегодня мы лучше осведомлены о различных эпизодах китайско-советского конфликта. В 1957 г. между Москвой и Пекином было заключено соглашение, предусматривающее советскую помощь в выполнении китайской атомной программы. Двумя годами позже, после операций, проведенных в 1958 г. вооруженными силами Народного Китая в Формозском проливе, соглашение было денонсировано Советским Союзом. Последний хотел сохранить за собой монополию на ядерное оружие в социалистическом лагере, и это желание было одной из причин разрыва между обеими великими державами, которые подчеркивали свою приМир и война между народами • Раймон Арон
. 45 -
Авторские предисловия
верженность марксизму-ленинизму. В общем получился конфликт, соответствующий многовековому опыту отношений между суверенными государствами: одно хочет взять исключительно на себя высшую ответственность за стратегию союза, другое проявляет амбицию, традиционную и легитимную, не зависеть ни от кого. Такие противоречивые требования гораздо старше атомного века, но как примирить их, когда решения, которые надо принимать, затрагивают проблему возможного использования ядерного оружия, то есть ставят на карту жизнь и смерть миллионов людей?
Не исключено, что Хрущев решился на подписание Московского договора 1963 г. лишь после того, как он потерял надежду на восстановление единства социалистического лагеря. Ибо, подписывая со своим противником договор, явная цель которого — затруднить своему союзнику возможность иметь собственное ядерное оружие, он раскрывал перед всеми наличие раскола, а публичная полемика еще более продемонстрировала и усугубила его. Разумеется, правительство Парижа истолковало Московский договор точно таким же образом, как это сделал Пекин: три члена атомного клуба пытаются помешать другим государствам сделать то, что они сами уже сделали. Отношения между Парижем и Вашингтоном сильно пострадали от этого договора, который вашингтонские руководители расценивали как отвечающий интересам мира, следовательно, всего человечества, а генерал де Голль отнесся к нему как к проявлению эгоизма, даже цинизма государств — “этих холодных чудовищ”.
Но, сколь бы плохи ни были сегодня отношения между Вашингтоном и Парижем, сколь бы ни были похожи по сути французский и китайский отказы подчиниться воле “шефа” лагеря, соответственного для Китая и для Франции, все-таки различие здесь выступает более рельефно, нежели подобие, потому что дипломатия демократических государств подчиняется другим правилам, чем дипломатия государств тоталитарных. Общей, совместной идеологии еще не достаточно для того, чтобы сцементировать альянс, но раскол между Москвой и Пекином — если допустить, что он имеет истоком противостояние их национальных интересов, — не имел бы одинаковые для обеих сторон характер и окраску, если бы каждый из двух соперников не переводил немедленно на идеологический язык понимание своих же целей и наиболее подходящей для их достижения стратегии и не старался бы привлечь на свою сторону другие марксистско-ленинские партии по всему миру. В своих альянсах и в своих распрях коммунистические государства не руководствуются исключительно идеологией, но они и не безразличны к той исторической философии, в которую веруют. Соединенным Штатам и Франции легче оставаться союзниками, хотя им и не удается договариваться решительно обо всем, потому что стратегические разногласия, крупные политические дебаты, расхождения во мнениях — все это есть нормальный ход, движение демократии.
Разрядка между Советским Союзом и Соединенными Штатами, китайскосоветский конфликт, стремление Франции и Китая иметь собственные атомные вооружения, деголлевская дипломатия, независимая от дипломатии США в Европе и противящаяся американским действиям в Южной Азии — не означа46
Раймон Арон • Мир и война между народами
Авторские предисловия
ет ли совокупность таких фактов конца двухполюсной системы и начала новой фазы в международных отношениях?
Вспомним прежде всего, что двухполюсность всегда была эффективной лишь в военном аспекте и в каком-либо ограниченном регионе планеты (можно сказать, упрощая дело, в Северном полушарии). В военном отношении двухполюсность существует в том смысле, что оружие, которым располагают Советский Союз и Соединенные Штаты, — несравненно более высокого уровня и объема, чем то, какое имеется у любого другого государства. Старый континент, Германия, Берлин остаются разделенными. Но манера и характер переживаний людей по поводу этих материальных факторов и их отношение к термоядерной двухполюсности переменилось.
Способность разрушения, которой наделены оба гиганта, вовсе не соответствует — так сказать, пропорциональным образом, — возможностям господствовать над своими друзьями и своими врагами. Самое устрашающее оружие не внушает ужаса тем. кто этого оружия не имеет. Албания бросает вызов Советскому Союзу. Куба — Соединенным Штатам. Все происходит так, как будто бы ядерная сила с громадным трудом перевоплощается в силу дипломатическую, по мере того как все более ужасающим и бесчеловечным становится атомное оружие как крайнее и последнее средство, применение которого против государства, его лишенного, можно сказать, немыслимо. То же самое можно выразить и иначе: все происходит так, как будто бы термоядерные средства русских и американцев парализуют друг друга, препятствуют расширению местных, локальных конфликтов, но оказывают лишь ограниченное влияние на отношения между большими и малыми странами, в частности и в особенности в Южном полушарии.
Конечно, было бы неправомерно не признавать постоянного, хотя чаще всего незаметного, воздействия факта наличия ядерного оружия, которое отчасти можно сравнить с присутствием в каком-либо районе британского флота в XIX веке. В направлениях на сибирский север и азиатский юго-восток Народный Китай словесно подзуживает и беспокоит своего “ревизионистского” союзника и своего “империалистского врага”. Но он не пускается в открытую агрессию и даже не берет на себя риска вмешиваться во Вьетнаме. И если Соединенные Штаты могут безнаказанно держать свой гарнизон в Западном Берлине, посылать в Южный Вьетнам армию в 300 тысяч человек, подвергать бомбежкам Северный Вьетнам, то это потому, что они в военном отношении являются первой державой мира. Но, будучи способны разрушить Северный Вьетнам, они отнюдь не уверены в своей способности принудить к капитуляции правителей Ханоя, а еще меньше — вьетконговских бойцов и партизан. Военная сила остается фундаментом международного порядка, но она не присутствует в наличии ни повсюду, ни во всех решающих обстоятельствах.
За последние годы наблюдаются умножающиеся симптомы распада, дезагрегации внутри обоих европейских блоков. Пользуясь китайско-советским конфликтом, государства Восточной Европы проявили и продемонстрировали, каждое на свой манер, волю к автономии: все они возобновили связи с Западом, все они отвергли исключительное доминирование русской культуры и марксистско-ленинской идеологии. То-
Мир и война между народами • Раймон Арон * * < 47 а.
Авторские предисловия
•У ХФ А х «УЧ л,. >Ф«*< -Л-х-л. Л.:«Ф.-Ф«< Ф < ф-Ф < Х-Х^-Хч-даф^л^фУ.-.<<ФФФЙР■«-*■■< ФУФл.:« ■:■•■■ <«^угА
вары, люди, идеи все больше и чаще пересекают то, что было железным занавесом. Умножаются двусторонние соглашения между теми или иными странами Восточной и Западной Европы в области торговли, техники и технологии, культуры. С 1956 г. московские руководители как-то приспосабливаются к неуклонной трансформации “моноцефального”, одноголового и одномозгового, блока в альянс, по-прежнему руководимый самым сильным в блоке государством, которое, однако уже не отнимает у других государств определенной свободы в их внутренних делах и даже в том, что касается совместной стратегии. После кубинского кризиса все те же московские руководители приемлют, по меньшей мере на какое-то время, нынешний статут Берлина и больше не потрясают оружием, чтобы его изменить.
В такой умиротворенной атмосфере и при отсутствии подлинного страха войны члены атлантического союза тоже чувствуют себя менее обязанными быть во всем солидарными с Соединенными Штатами, чья защита им, конечно, все еще необходима, но в любом случае она уже представляется этим странам как нечто приобретенное и неизменное. В частности французская дипломатия, которая с 1958 г. неоднократно и разными способами утверждала свою независимость (отзыв тех или иных контингентов из атлантической организации, вето на вступление Великобритании в Общий рынок, признание Народного Китая, критика американских действий в Южном Вьетнаме), преодолела еще один этап, выведя страну из-под объединенного командования НАТО. Все эти перипетии придают старому континенту образ, довольно-таки отличный от образа, который представлялся наблюдателям пять лет назад. Мысленно следуя направлению нынешних событий, можно представить себе на горизонте истории, объединение Европы “от Атлантики до Урала”.
Но пока что речь идет лишь о возможностях, притом более или менее далеких. До тех пор, пока Германия будет оставаться разделенной, главная ставка холодной войны в Европе будет сохраняться, и последствия второй мировой войны нельзя будет считать устраненными. На территории Германской Демократической Республики размещены двадцать советских дивизий, которые висят угрозой над Западной Европой и вынуждают государства Восточной Европы соблюдать необходимый минимум дисциплины. Территориальное урегулирование, иное, нежели то, которое позволило сначала поднять на ноги Западную Европу, а потом наладить и обеспечить разря дку, может теперь быть лишь результатом и завершением медленной эволюции. Если завтра должны будут начаться переговоры, то они потребуют участия всех — правительств Бонна и Вашингтона, Парижа и Москвы.
За пределами двух европейских блоков так называемые неприсоединившиеся государства со своими многочисленными и нюансированными версиями нейтралитета и нейтрализма стали к 1966 г. тоже более многочисленными, но зато менее едиными, чем в 1961г. Афроазиатский миф исчез почти без следа. Обе сверхдержавы стали меньше интересоваться африканскими государствами из-за их нестабильности, слабости и сопротивления, пусть и пассивного, русским или китайским “инфильтрациям”. Быть может, международная система склоняется к тому, чтобы фрагмен-
48
: Раймон Арон • Мир и война между народами
тироваться на подсистемы, причем некоторые из них будут иметь собственное равновесие сил и свои местные очаги соперничества (Ближний и Средний Восток, Индийский субконтинент), и все блоки будут каким-то образом привязаны к общепланетной системе, но не будут ее адекватным отражением.
Вот сейчас, в это время, в июле 1966 г., одно событие доминирует над международными отношениями — война во Вьетнаме. Она, как и война в Корее в 1950 г., возникла, вероятно, в значительной степени по случайным обстоятельствам. Шестнадцать лет тому назад люди в Кремле допустили ошибку в расчетах и неверно оценили американские намерения. Соединенные Штаты последовательно и неуклонно втягивались во вьетнамское дело, не принимая при этом никакого осознанного и ясного решения. Теперь главная их цель — не спасти демократию в Южном Вьетнаме, а продемонстрировать, что они способны, материально и морально одолеть и подрывную деятельность, и открытую агрессию.
Сколь трагична ни была бы вьетнамская война, она в большей мере, чем корейская (последняя распространила сильное чувство страха по всему миру), должна быть лишь некоей перипетией, но при единственном условии, что ход истории не выскользнет из управляющих рук людей. Китай не имеет средств для эффективного вмешательства; Советский Союз, ввиду своей удаленности, — тоже. Ни тот, ни другой не заинАвторские предисловия
тересованы в прямой конфронтации с могучими в военном отношении Соединенными Штатами. Северный Вьетнам может постепенно и последовательно достичь своих целей, если примирится с тем, что ему надо переменить способ своих действий, уйдя из джунглей и с рисовых полей, сесть за стол переговоров.
* * *
Какова бы ни была смесь оптимизма и беспокойства, с которыми люди вглядываются в перспективы близкого или более отдаленного будущего, фундаментальные проблемы межгосударственных отношений остаются одними и теми же.
Крупные государства — если, конечно, будут разумными и рассудительными — не затеят войны не на жизнь, а на смерть. Но если философы часто называли человека разумным существом, то они редко использовали с такой же уверенностью это определение применительно к истории общества.
Бранней, июль 1966 г.
* * ♦
По причинам, на которые я указывал в предисловии, написанном в июле 1966 г., какая-либо доработка текста нового издания — оно должно выйти в 1975 г. — как мне кажется, исключена. Читатель сам рассудит, остаются ли пригодными для понимания сегодняшнего мира методы и понятия, которые я применял полтора десятка лет назад.
Париж, июль 1975 г.
Мир и война между народами • Раймон Арон
49
ИНТРОДУКЦИЯ
Право народов, естественно, основано на том принципе, что различные народы должны делать в мирное время как можно больше добра, а в военное время как можно меньше зла, не вредя при этом своим истинным интересам.
Монтескье
De Г Esprit des lois, I, 3
Концептуальный уровень
понимания
Смутные времена способствуют размышлениям. Кризис греческого полиса оставил нам в наследство “Республику” Платона и “Политику” Аристотеля. Религиозные конфликты, которые раздирали Европу в XVII в., породили, одновременно с “Левиафаном” или “Политическим договором”, теорию “нейтрального государства”, которое, по мнению 1Ъббса, должно быть непременно абсолютистским, а по мнению Спинозы, —либеральным, по крайней мере к философам. Во времена английской революции Локк защищал и прославлял гражданские свободы. Во времена, когда французы, помимо своей воли, подготавливали революцию, Монтескье и Руссо дали определение сущности двух режимов, которые должны были возникнуть при внезапном и прогрессивном распаде традиционных монархий: представительные правительства умеренного типа благодаря равновесию ветвей власти и так называемые демократические правительства, выражающие волю народа, но не признающие всяческие ограничения своей власти.
Сразу после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки, исторической мечтой которых было держаться подальше от дел Старого Света, оказались ответственными за мир, процветание и даже за существование половины планеты. Гарнизоны американских войск были расквартированы в Токио и Сеуле с ориентировкой на запад, а в Берлине повернуты на восток. Со времен Римской империи Запад не знал ничего подобного. Соединенные Штаты стали реально первой мировой державой, поскольку всемирная унификация дипломатической арены не имела прецедентов. Американский континент занимал по отношению к Евразийскому континенту такое же место, как Британские острова по отношению к Европе: Соединенные Штаты переняли традицию островного государства, пытаясь поставить барьер экспансии континентального государства, доминирующего в центре Германии и в центре Кореи.
Конъюнктура, сложившаяся в результате общей победы Соединенных Штатов и Советского Союза, не породи... 50
Раймон Арон • Мир и война между народами
ла ни одного крупного произведения, сопоставимого с теми, о которых мы упомянули. Международные отношения стали предметом изучения в университетах. Появилось большое количество кафедр, преподаватели которых посвятили себя новой дисциплине. Пропорционально выросло количество книг и учебников. Принесли ли свои плоды эти усилия? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо уточнить то, что американские профессора, вслед за политическими деятелями и общественным мнением, ставили себе целью открыть и разработать.
Историки не стали дожидаться того момента, когда Соединенные Штаты выйдут в первый ряд для того, чтобы приступить к изучению “международных отношений”. Однако они, скорее всего, описывали их или повествовали о них, нежели начали анализировать или трактовать их. Но никакая наука не ограничивается только описанием и повествованием. Кроме того, какую пользу могли почерпнуть государственные деятели или дипломаты из исторического опыта прошлых веков? Оружие массового поражения и безграничность военной силы благодаря наличию авиации и электронных средств привнесли много нового в техническом и гуманитарном плане и сделали сомнительными уроки прошедших веков. Или, по крайней мере, эти уроки не могут быть усвоены, если они не являются составляющими частями теории, которая включает в себя все сказанное выше, вычленяет постоянные величины для того, чтобы разработать, а не устранить часть неизведанного.
Главная проблема состояла в следующем. Специалисты в области международных отношений не желали просто Интродукция
следовать за историками: они хотели, как и все ученые, выйти с обобщающими предложениями, создать свою доктрину. Только геополитику с ее склонностью к абстрагированию и пояснениям интересовали международные отношения. Однако германская геополитика оставила плохие воспоминания, и в любом случае ссылка на пространственное окружение не могла являться целью теории, задачей которой было охватить многообразие причин, воздействующих на ход взаимоотношений между государствами.
Было легко дать общую характеристику теории международных отношений. “Прежде всего она позволяет упорядочить исходные данные. Она является полезным инструментом для понимания”1 . Затем “теория предполагает, что критерии отбора проблем для проведения развернутого анализа будут четко вычленены. Не всегда признается тот факт, что всякий раз, когда отдельная проблема выбирается для проведения исследований и ее анализа в том или ином контексте, практически всегда имеется для выбора скрытая теория”. И, наконец, “теория может быть инструментом для понимания не только единообразия и закономерностей, но и случайных и иррациональных фактов”. У кого возникнут возражения против таких формулировок? Упорядочение данных, отбор проблем, определение закономерностей и случайностей — любая теория из разряда общественных наук должна непременно включать в себя эти три функции. Проблемы возникают за пределами этих неоспоримых постулатов.
Теоретик часто имеет тенденцию упрощать реальность, интерпретировать поступки, вычленяя подразумева1 Thompson Kenneth W. Toward a theory of international politics. American political science review. Vol. XLIX. 1955. №3. Septembre.
Мир и война между народами • Раймон Арон 51
Интродукция
емую логику действующих лиц. Г-н Гкнс Моргентау писал: “Теория международных отношений представляет собой рационально составленное резюме всех рациональных элементов, которые наблюдатель нашел в объекте (subject matter). Подобная теория является неким рациональным наброском международных отношений, картой международной арены”1. Разницу между эмпирической и теоретической интерпретациями международных отношений можно сравнить с разницей между фотографией и портретом, написанным красками. “Фотография показывает все, что можно увидеть невооруженным глазом. Портрет, написанный красками, не показывает всего, что можно увидеть невооруженным глазом, но он показывает то, что глаз не в состоянии увидеть: человеческую сущность личности, которая служит прототипом”.
На это другой специалист отвечает вопросами: Каковы “рациональные элементы” международной политики? Достаточно ли рассматривать только рациональные элементы для того, чтобы сделать эскиз или нарисовать портрет, соответствующий сущности прототипа? Если теоретик отрицательно ответит на эти два вопроса, он должен будет пойти по другому пути, по социологическому пути. При наличии определенной цели — нарисовать карту международной арены — теоретик приложит все силы для того, чтобы учесть все элементы, а не сосредоточится лишь на рациональных элементах.
К этому диалогу между приверженцами “рационального схематизма” и “социологического анализа” — диалогу, участники которого не всегда понимают природу вещей и противоречий, — часто прибавляется контроверза чисто американской традиции: спор между идеализмом и реализмом. Реализм западных дипломатов, который сегодня окрещен макиавеллизмом, и по ту сторону Атлантики считается типичным для Старого Света, означает то разложение, которого желали избежать, эмигрируя в Новый Свет и в страну неограниченных возможностей. Став после разрушения европейского порядка и победы своего оружия доминирующей державой, Соединенные Штаты, не без некоторого смятения, понемногу открывали для себя, что их дипломатия все меньше и меньше походит на прежний идеал, а на практике, которая ранее строго осуждалась, все больше походила на дипломатию своих врагов и союзников. Является ли моральным то, что советское вступление в войну против Японии покупается за счет уступок по отношению к Китаю? Пост фактум оказалось, что игра не стоила свеч и что Рузвельт, при рациональном размышлении, должен был заплатить за неучастие в этой войне Советского Союза. Но был бы этот расчет моральнее, если бы он был более рациональным? Прав был Рузвельт или нет, оставляя народы Восточной Европы на милость советского господства? Оправдываться тем, что обстоятельства вынудили к этому, означает возврат к аргументации европейцев, но это, в силу своих убеждений и географического положения, американцы так долго и с негодованием отвергали. Верховный главнокомандующий отвечает перед своим народом за свои поступки, успехи и поражения. Что значат благие намерения и уважение част1 Эти строки взяты из доклада г-на Г Моргентау под названием “Теоретическое и практическое значение теории международных отношений” (стр 5)
52
Раймон Арон • Мир и война между народами
ных принципов* не таким является закон дипломатии или стратегии. Но чем в таком случае становится противостояние реализма и идеализма, макиавеллизма и кантианства, коррумпированной Европы и благочестивой Америки?
Цель этой книги — сначала осветить эти дебаты, а затем и преодолеть их противоречия. Две концепции обобщающей теории не являются противоречивыми, а дополняют друг друга: рациональный схематизм и социологические постулаты представляют собой переходные моменты в концептуальном воссоздании социального мира.
Понимание сферы деятельности не позволяет разрешать противоречия действия. Только история сгладит когданибудь вечный спор между макиавеллизмом и морализмом. Но, следуя от формальной теории к определению причин, а затем к анализу особой конъюнктуры, я надеюсь проиллюстрировать метод, применимый к другим объектам, показать одновременно границы наших познаний и условия исторического выбора
Для того, чтобы в данном введении вычленить структуру книги, мне прежде всего необходимо дать определение международных отношений, а затем уточнить характеристики четырех уровней концептуализации, которые мы называем теорией, социологией, историей, праксиологией.
1
Не так давно голландский историк1 , назначенный на первую созданную в своей стране в городе Лейдене Интродукция
кафедру международных отношений, во вступительной речи сделал попытку дать определение той дисциплине, которую ему было поручено преподавать. Он закончил ее признанием своего поражения: он пытался, но не смог определить границы сферы предполагаемых исследований.
Это поражение поучительно, поскольку оно является окончательным и, таким образом, очевидным. “Международные отношения” не имеют четко обозначенных границ в реальности, они не являются и не могут быть материально отделены от прочих социальных явлений. Один и тот же постулат применим к экономике и к политике. Если правда то, что “предложение по организации исследований международных отношений, как самоподдерживающей системы, провалилось”, подлинный вопрос находится за пределами этого поражения и касается его смысла. После всего попытка создать замкнутую систему из учения об экономике также потерпела поражение: в действительности не существует экономической науки, в реальности и возможной обособленности которой никто не сомневается. Имеет ли изучение международных отношений свой собственный интерес? Нацелено ли оно на коллективные явления, на поступки людей, специфичность которых узнаваема? Дает ли это специфическое значение международных отношений повод для теоретических исследований?
Похоже, что по определению международные отношения являются отношениями между нациями. Но в таком случае термин нация не взят в том истори1 Vlekke ВНМ On the study of international political The David Davies Memorial Institute of International Studies Londres (s d )
Мир и война между народами • Раймон Арон ■'
53
Интродукция
ческом значении, какое он приобрел после Французской революции, он не означает особую единицу политического сообщества, в котором индивидуумы в своем большинстве обладают сознанием своей гражданственности и в котором государство является выражением ранее существовавшей национальности. В формулировке “международные отношения” нация приравнена к любому политическому сообществу, организованному по территориальному признаку. Временно скажем, что международные отношения являются отношениями между политическими образованиями, и это понятие относится к греческим полисам, к Римской империи или египетским царствам и в равной мере к европейским монархиям, буржуазным республикам или республикам народной демократии. Это определение содержит в себе двойную трудность. Нужно ли включить в понятие отношения между политическими образованиями отношения между индивидуумами, принадлежащими к этим образованиям? Где начинаются и где заканчиваются политические образования, т.е. политические сообщества, организованные по территориальному признаку?
Когда молодые европейцы хотят провести свои каникулы за пределами своих стран, идет ли речь о явлении, которое заинтересует специалиста по международным отношениям? Когда я покупаю во французском магазине германскую продукцию, когда французский импортер ведет дела с рейнским производителем, отражаются ли эти экономические связи в понятии “международные отношения”?
На эти вопросы так же трудно дать положительный ответ, как и отрицательный. Отношения между государствами, в чистом виде межгосударственные отношения наиболее характерно представляют международные отношения: договоры являются безусловным примером межгосударственных отношений. Предположим, с одной стороны, что экономические связи между странами будут непосредственно регулироваться соглашением между государствами: при данной посылке они, безусловно, будут предметом исследования международных отношений. Предположим, с другой стороны, что экономические связи выпадают из рамок жесткого регулирования, и царит свободный обмен: тогда закупки во Франции немецких товаров и продажа в Германии французских товаров будут являться личными актами, которые не будут отвечать характеристикам межгосударственных отношений.
Это — вполне реальная трудность, но, по моему мнению, было бы неправильным преувеличивать ее значение. Ни одна из научных дисциплин не имеет четко очерченных границ. На первой стадии абсолютно неважно знать то, где заканчиваются международные отношения и уточнять с какого момента отношения между индивидуумами перестают быть международными отношениями. Нам необходимо определить центр интереса, собственное значение явления или поступков, которые составляют ядро этой специфической области. Итак, центр международных отношений — это отношения, которые мы называем межгосударственными, те отношения, которые сталкивают между собой отдельные образования.
Межгосударственные отношения выражаются специфическими поступками тех, кого мы называем символическими персонажами: дипломат и солдат. Два человека, и только два, действуют в полную силу не как какие-то отдельные со54
А ( с
• Раймон Арон • Мир и война между народами
ставляющие. а как представители общностей. к которым они принадлежат: посол при исполнении своих функций является политической единицей, от имени которой он выступает; солдат на полях сражений является политической единицей, от имени которой он несет смерть себе подобным. Поскольку дей Алжира ударил веером посла, это приобрело значение исторического события. Поскольку гражданин цивилизованного государства носит униформу и действует во имя долга, то он убивает с чистой совестью.
Посол1 и солдат живут и символизируют систему международных отношений, которые в качестве межгосударственных отношений находят свое выражение в дипломатии и войне. Межгосударственные отношения имеют одну характерную черту, отличающую их от прочих социальных отношений: они развиваются в тени войны или, если применить более резкое выражение, отношения между государствами несут в себе альтернативу войны и мира. В то время. как каждое государство пытается сохранить за собой монополию на применение силы, государства в течение всей истории, взаимно признавая друг друга, одновременно признавали легитимность войн, которые они развязывали. В некоторых случаях, взаимное признание государств-противников доходило до логического конца: каждое государство применяло только свою регулярную армию и отказывалось провоцировать смуту внутри государства, с которым оно сражалось, смуту, которая ослабила бы вражеское государство, но Интродукция
одновременно поколебала бы монополию на законную жестокость, которую оно стремилось сохранить.
Наука о мире и о войне, о международных отношениях может служить основой искусству дипломатии и стратегии, двум методам, дополняющим друг друга и взаимно противоположным, в соответствии с которыми государства строят взаимоотношения между собой. “Война, — писал К. фон Клаузевиц, — относится не к сфере искусств и наук, а к сфере общественного существования. Она представляет собой конфликт крупных интересов, разрешающийся с помощью крови, и только этим она отличается от других конфликтов. Было бы лучше сравнивать ее не с каким-либо искусством, а с торговлей, которая также является конфликтом интересов и человеческой деятельности; еще более она походит на политику, которая, в свою очередь, может хотя бы частично рассматриваться как торговля, но в большем масштабе. Кроме того, политика представляет собой материю, в которой разворачивается война: ее сложившиеся рудиментарные очертания прячутся в ней подобно качествам живых существ, сокрытых в своих эмбрионах”1 2.
Поэтому мы понимаем, почему к международным отношениям проявляет интерес отдельно взятая наука и почему они не укладываются в четкие рамки. Историки никогда не изолировали повествование о событиях, касающихся отношений между государствами. Эта изоляция была бы действительно невозможна, так как перипетии военных кам1 Само собой разумеется, что в этом абстрактном значении государственный деятель, министр иностранных дел, премьер-министр, глава государства в ряде своих проявлений являются послами. Они представляют политическое образование во всех его проявлениях.
2 Карл фон Клаузевиц. О войне. Кн. II. Гл. IV. С. 45. Ссылки сделаны на книгу, выпущенную издательством Editions de Minuit, Париж, 1950.
Мир и война между народами • Раймон Арон
55
Интродукция
паний и дипломатических хитросплетений связаны множеством способов с превратностями национальных судеб, с соперничеством королевских семей или социальных классов. Наука о международных отношениях не может, так же, как история дипломатии, не признавать множественные связи между тем, что происходит на дипломатической арене, и тем, что происходит на национальных аренах. Кроме того, эта наука не может жестко отделить межгосударственные отношения от отношений между индивидуумами, которые интересуют многие политические образования. Но до тех пор, пока человечество не объединится во всемирное государство, будет сохраняться существенная разница между внутренней и внешней политикой. Внутренняя политика стремится сохранить монополию легитимных власть предержащих на применение силы, а внешняя политика согласна с фактом наличия множественных центров вооруженных сил. Политика в части, касающейся внутренней организации общностей, имеет конечной целью подчинение людей власти закона. Смыслом политики — одновременно идеальной и объективной — в той мере, в какой она касается отношений между государствами, является простое выживание государств перед лицом возможной опасности, которую создает существование других государств. Отсюда возникает противоречие в классической философии: искусство политики учит людей жить в мире внутри сообщества, и оно учит сообщества жить либо в состоянии мира, либо в состоянии войны. Государства в своих взаимоотношениях не вышли из первобытного состояния. Если бы они вышли из этого состояния, не было бы и теории международных отношений.
Могут возразить, что такое противопоставление, очевидное на уровне идей, на уровне фактов таковым не является. В действительности, оно предполагает, что политические образования должны быть четко очерчены, узнаваемы. Примером является тот случай, когда такие образования представлены дипломатами и солдатами в униформе, иначе говоря, когда они действительно осуществляют монополию на законное применение силы и взаимно признают друг друга. При отсутствии наций, обладающих самосознанием и осознанием себя как юридически организованных государств, внутренняя и внешняя политика имеют тенденцию к смешиванию: внутренняя политика имеет необязательно мирный характер, а внешняя политика — необязательно радикально воинственна.
Под какую рубрику следует подвести отношения между сувереном и вассалами в средние века, когда король или император уже не располагали безоговорочно послушными им вооруженными силами и когда бароны приносили клятву верности, но не дисциплины? По определению, фазы размытого суверенитета, разбросанного повсюду оружия являются противниками концептуализации, в то время как она соответствует политическим образованиям неограниченным в пространстве и разделенными между собой сознанием людей и суровостью идей.
Неуверенность в определении различий между конфликтами, в которые вступают политические образования, и конфликтами внутри политического образования возникает иногда даже в периоды полного и законно признанного суверенитета. Достаточно того, что в одной провинции, неотъемлемой части территории государства, часть населения откажется подчиниться централь56
Раймон Арон* Мир и война между народами
ной власти и предпримет вооруженную борьбу для того, чтобы столкновения, трактуемые в рамках международного права как гражданская война, рассматривались в качестве войны между иностранными государствами теми, кто считает повстанцев выразителями интересов существующей или нарождающейся нации. Если бы победила Конфедерация, Соединенные Штаты были бы разделены на два государства, и война за независимость, начавшись как гражданская война, закончилась бы как война между иностранными государствами.
Представьте себе в будущем существование мирового государства, охватывающего все человечество. Теоретически, больше не было бы армии (солдат не является ни полицейским, ни палачом, он рискует своей жизнью, сражаясь с другим солдатом), а была бы только полиция. Если бы одна провинция или одна партия взяли в руки оружие, то единое планетарное государство объявило бы их мятежниками и обращалось бы с ними должным образом. Однако эта гражданская война, являющаяся эпизодом внутренней политики, оказалась бы в ретроспективе возвратом ко внешней политике в том случае, если бы мятежники спровоцировали распад мирового государства.
Это двусмысленное толкование предмета “международных отношений” не может быть отнесено к недостаточности нашей концепции: оно исходит из самой реальности. Если необходимо, оно напоминает нам лишний раз, что ход отношений между политическими образованиями находится во многом под влиянием событий внутри этих образований. Оно напоминает нам, что ставкой в войнах является существование, создание или разрушение государств. Изучая отноИнтродукция
шения между организованными государствами, специалисты часто забывают, что излишняя слабость не менее опасна для мира, чем излишняя сила. Территории, по поводу которых возникают вооруженные конфликты, часто являются зонами, в которых происходит распад политических образований. Государства, которые пытаются спасти себя или считают себя обреченными, вызывают притязания соперников или при безуспешной попытке спасти себя провоцируют взрыв, способный их поглотить.
Затрагивая рождение и смерть государств, теряет ли изучение международных отношений свои четкие границы, свою оригинальность? Те, которые заранее представляют себе, что международные отношения можно конкретно разделить, будут разочарованы этим анализом. Но это разочарование не оправдано. Имея в качестве центральной темы межгосударственные отношения в их специфическом значении, т.е. в их характеристике альтернативы и чередования мира и войны, предмет, изучающий международные отношения, не может абстрагироваться ни от различных условий взаимоотношений между нациями и империями, ни от многочисленных определяющих факторов, которые воздействуют на мировую дипломатию, ни от обстоятельств, при которых государства появляются и исчезают. Наука или общая философия политики включила бы в себя международные отношения в качестве одной из своих глав, однако эта глава сохранила бы свою оригинальность, поскольку она рассматривала бы отношения между политическими образованиями, каждое из которых требовало бы себе право творить самому правосудие и быть единственным хозяином принятия решения вступать в войну или нет.
Мир и война между народами • Раймон Арон
57
Интродукция
2
Мы пытаемся поместить международные отношения на трех уровнях создания концепции, а затем мы рассмотрим проблемы, этического и прагматического характера, стоящие перед человеком действия. Но, прежде чем дать характеристику трех уровней, мы хотели бы показать, что две другие сферы деятельности человека — спорт, экономика — заслуживали бы подобным образом быть выделенными при разработке концепции.
Рассмотрим спорт, который во Франции называют football association (футбольная лига). Теория, адресованная профанам, уточняет природу игры и правила, согласно которым она проводится. Сколько игроков противостоят друг другу с обеих сторон средней линии? Какие приемы они имеют или не имеют право применять? (Они имеют право касаться мяча головой, а не рукой.) Как распределяются игроки на разных линиях (нападающие, полузащитники, защитники)? Какие комбинации они применяют и как они переигрывают соперников? Эта абстрактная теория известна и профессионалам, и любителям. Тренеру нет никакой необходимости напоминать о ней игрокам. Напротив, в рамках правил могут возникать различные ситуации: либо непроизвольные, либо заранее запланированные. Тренер заранее разрабатывает план, уточняет роль каждого игрока (такой-то полусредний будет опекать такого-то нападающего противника), ставит задачи и определяет ответственность отдельных игроков в определенных ситуациях, типичных или предусматриваемых. На втором этапе эта теория конкретизируется в рекомендациях, обращенных к разным игрокам: существу ет эффективная теория игры крайнего игрока, центрального нападающего или защитника, одновременно подобная теория существует и для всей команды или ее части для определенных ситуаций.
На следующем этапе теоретик не является больше ни преподавателем, ни тренером, он становится социологом. Как проходят игры не на школьной доске, а на поле? Каковы характеристики методов, принятых игроками той или иной страны? Существует ли футбол латиноамериканский, английский, американский? Какова доля технического мастерства и моральных качеств в успехах команды? На эти вопросы невозможно дать ответ без проведения исторических исследований: нужно разобрать ход игр, эволюцию методов, разнообразие техники и темпераментов. Спортивный социолог мог бы выявить, какие причины, в конкретную эпоху или постоянно, определяют победы одной нации (исключительные данные, количество участников, поддержка государства и т.д.).
Социолог одновременно зависит от теоретика и историка. Если он не понимает логики игры, то напрасно он будет следить за эволюцией действий игроков. Он не сможет постичь смысл различных применяемых тактических средств, личного прессинга или зонального прессинга. Однако данные общего характера о достоинствах или причинах победы недостаточны для объяснения поражения команды Венгрии в финале предпоследнего кубка мира и для полного удовлетворения нашего любопытства. Развитие одной отдельно взятой игры никогда не определяется ни логикой игры, ни общими причинами успеха, а отдельные игры, так же, как и отдельные войны, достойны отдельного повествования, которое историки посвящают героям.
58
Раймон Арон • Мир и война между народами
Вслед за социологом и историком возникает четвертый персонаж, неотделимый от игроков: судья. Правила изложены в текстах, но как их интерпретировать? Факт, требующий санкций — игра рукой — произошел действительно при таких или иных обстоятельствах? Решение судьи обжалованию не подлежит, однако игроки и зрители неизбежно судят действия судьи молча или криками. Коллективные виды спорта, матчи команд вызывают волну суждений, хвалебных или критических, игроков об игроках, партнеров о партнерах, одной команды о другой, игроков о судье, зрителей об игроках и судье. Все эти суждения варьируют между признанием эффективности (он хорошо сыграл), корректности (он соблюдал правила), одобрением спортивной морали (такая-то команда играла по правилам). Даже в спорте то, что строго не запрещено, с моральной точки зрения, тем не менее, не разрешено. Наконец, футбольная теория может касаться спорта как такового, его отношения к отдельным людям или ко всему обществу. Полезен ли данный спорт физическому и моральному здоровью игроков? Должно ли правительство поощрять данный вид спорта?
Таким образом, мы возвращаемся к четырем уровням концептуализации, которые мы выделили: схематизм концепций и систем, общие причины событий, эволюция спорта или ход одной игры, суждения, прагматические или этические, относящиеся либо к манерам поведения внутри данной области, либо непосредственно к этой области, воспринимаемой как единое целое.
Дипломатическое или стратегическое поведение являет некоторые аналогии со спортивным поведением. Оно также включает в себя сотрудничество и Интродукция
соревнование. Любое коллективное образование находится в среде врагов, друзей, нейтральных и безразличных людей. Не существует дипломатической арены очерченной белой краской, а существует дипломатический лагерь, в котором фигурируют все игроки, способные вмешаться в случае всеобщего конфликта. Расположение игроков не зафиксировано раз и навсегда при помощи правил или обычных тактических приемов, однако встречаются определенные комбинации игроков, которые составляют такое же количество схематически нарисованных комбинаций.
Внешняя политика, включающая и сотрудничество, и соревнование, по природе своей авантюрна. Дипломат и стратег действуют, т.е. они принимают решение, прежде чем соберут всю желаемую информацию и придут к необходимому убеждению. Действие основывается на относительных возможностях. Оно не имело бы смысла, если бы отказывалось от риска; действие разумно в той мере, в которой риск просчитан. Но никогда оно не устранит ту неуверенность, которая зависит от непредсказуемости человеческих реакций (как поступит другой, генерал или государственный деятель, Гитлер или Сталин), от секретов, окутывающих государство, от невозможности знать все, прежде чем начать действовать. “Славная неуверенность в спорте” имеет свой эквивалент в политической деятельности резкой или нет. Не будем имитировать историков, которые полагают, что прошлое всегда было фатально и исключают из происшедших событий человеческий фактор.
Выражения, которые мы использовали для характеристики социологии (причины успеха, национальный характер привычек в той или иной стране) и Мир и война между народами • Раймон Арон г.
59
Интродукция
истории спорта (или ее части) равным образом применимы к социологии и истории международных отношений. Большое отличие по сферам деятельности наблюдается в рациональной теории и праксеологии. По сравнению с футболом внешняя политика кажется абсолютно неопределенной. Цель участников действия не такая простая, как забивание мяча за белую линию. Правила дипломатической игры недостаточно закодированы, и любой ее участник нарушает эти правила, когда ему это выгодно. Нет судьи, и когда коллектив участников претендует на возможность вынести суждение (ООН), участники от конкретной страны не подчиняются решениям этого коллективного арбитра, непредвзятость которого весьма спорна. Если соперничество наций напоминает спорт, то чаще всего это напоминает вольную борьбу — кэтч, который является абсолютной видимостью того, что он есть.
В целом спортивное поведение имеет три особые черты: цели и правила игры четко определены; игра проводится внутри ограниченного пространства, количество игроков установлено, внешне открытая система имеет внутреннюю структуру; поведение игроков подчинено правилам эффективности и решениям арбитра таким образом, что моральные и полуморальные суждения касаются духа проводимой игроками игры. Что касается всех общественных наук, то можно задать себе вопрос: определены ли, и, если да, то в какой степени, цели и правила; подчинено ли, и, если да, то в какой степени, поведение индивидуумов обязанностям, эффективности или морали.
Перейдем от спорта к экономике. У каждого общества, осознает оно или нет, существуют экономические проблемы, которые оно решает в присущей ему манере. Любое общество должно удовлетворять потребности своих членов, имея на то ограниченные ресурсы. Не всегда ощущается диспропорция между потребностями и наличествующими ресурсами. При традиционно принятом образе жизни, который считается нормальным, может статься, что отдельное коллективное образование не требует ничего сверх того, чем оно располагает. Такое образование бедно по своей сути, а не потому, что оно бедное. Можно добавить — и это может показаться парадоксом только внешне, — что никогда еще общества так не осознавали свою бедность, как в нашу эпоху, несмотря на головокружительный рост их богатства. Потребности выросли значительно быстрее, чем ресурсы. Ограниченность ресурсов становится скандальной, когда производительность производства ошибочно кажется неограниченной.
Экономика является основополагающей теоретической категорией, измеряющей материальные условия существования личности или коллектива. Эту категорию не следует путать с нехваткой или бедностью (диспропорция между потребностями и ресурсами). Экономика в качестве проблемы предполагает только нехватку или бедность; экономика в качестве решения предполагает то. что люди могут переносить бедность различными способами, что они имеют возможность выбора между различными способами использования своих ресурсов, т.е. экономика дает возможность выбора, который имел даже Робинзон на своем острове: Робинзон располагает своим рабочим временем, может выбирать время суток, отводимое для работы и для отдыха, он может распределять свое рабочее время на производство предметов потребления (пища)
' 60
Раймон Арон • Мир и война между народами
Интродукция
> .• ^микж «л „,■ ,у/уж<-ж/лхГк.>хжу>Ж4Ж'жЯ4:-ж-'хл>у>».»жх*>’?х <■»■ лЛ»ж ау //« Л»»/ :"-"-х- »Аа/,а/жалаил »»«>: лХ-уж-
и на инвестиции (дом). То, что правильно в отношении индивидуума, тем более правильно в отношении общества. Поскольку рабочая сила является первичным ресурсом человеческого общества, то изначально есть возможность различных способов использования ресурсов. По мере развития экономики увеличиваются возможности выбора, а имущество становится все более взаимозаменимым. Один и тот же предмет может служить для различных целей, а различные предметы могут служить для одного и того же.
Бедность и выбор — бедность является проблемой, стоящей перед обществами, а некоторый выбор является эффективно принятым решением — определяют экономическое пространство существования человека. Людям, которые не знают бедности, потому что они не знают своих потребностей, незнакомо понятие экономического пространства. Они живут, как жили их предки, как они сами всегда жили. Привычки сильны до такой степени, что они исключают мечты, неудовлетворение, стремление к прогрессу. Могла бы наступить постэкономическая фаза, если бы при недостатке ресурсов и необходимости выбора исчезал изнурительный труд. Троцкий писал, что отныне изобилие уже виднеется на горизонте истории, и только лишь мещане отказываются верить в это светлое будущее и держатся за вечное проклятие Евангелия. Постэкономический период возможен: производительность достигла такого уровня, что каждый может потреблять исходя из своих фантазий, но, уважая других, он не возьмет из общей корзины больше того, что ему причитается.
Футболисты хотят забить мяч в пространство, ограниченное двумя вертикальными столбами, соединенными на высоте двух метров горизонтальной перекладиной. В качестве экономических субъектов люди хотят наилучшим образом использовать недостаточные ресурсы, использовать их таким образом, чтобы они принесли максимум удовлетворения. Экономисты воссоздали, разработали различными способами логику индивидуального выбора. Но сегодня маргинальная теория является наиболее распространенной версией рационального формирования экономической политики, основывающейся на поведении индивидуумов и их шкалы ценностей.
Несмотря на то, что теория охватывает путь от индивидуального выбора до всеобщего равновесия, с точки зрения логики и философии мне кажется более предпочтительным за отправную точку взять коллектив. Действительно, специфические характеристики экономической реальности открываются только на уровне коллектива. Возможно, в рамках одного данного общества индивидуальная шкала ценностей не различается столь решительным образом, ибо все индивидуумы более или менее придерживаются одной системы ценностей. Тем не менее деятельность, направленная на максимальное удовлетворение индивидуальных потребностей, была бы плохо очерчена, если бы деньги не привнесли возможность строгой и всемирно признанной меры измерения. Африканцы рационально длительное время отдавали предпочтение изделиям из слоновой кости, так как вещи, полученные взамен, не принадлежали к предметам их рынка и не имели денежного выражения.
Монетарное исчисление позволяет признавать равные бухгалтерские возможности тотальной экономики. Эти Мир и война между народами • Раймон Арон
61
Интродукция
равные бухгалтерские возможности, начиная с физиократических таблиц до современных исследований национальной бухгалтерии, не дают объяснений переменам, а являются очевидными величинами, на основе которых экономика пытается понять первичные и вторичные переменные величины, или определяющие и определенные величины. Одновременно взаимная солидарность переменных величин, взаимозависимость элементов экономики наводят на размышление. Изменить одну цену косвенно означает изменение всех цен. Уменьшить или увеличить инвестиции, повысить или снизить процентные ставки означает при ближайшем рассмотрении воздействие на национальный продукт, а также на распределение этого продукта по категориям.
Все экономические теории, будь они микроскопическими или макроскопическими, либеральными или социалистическими, делают акцент на взаимозависимости переменных величин в экономике. Теория равновесия, в стиле Вальраса или Парето, воссоздает единое целое на основе индивидуального выбора путем определения точки равновесия, которая одновременно являлась бы точкой максимального роста производства и удовлетворения потребностей (при некотором заданном распределении доходов в исходной точке). Теория Кейнса или макроскопические теории касаются непосредственно всей системы и пытаются вычленить определяющие переменные величины, на которые необходимо воздействовать для того, чтобы избежать неполной занятости, получить максимум возможного от национального продукта и т.д.
При первом приближении определена конечная цель экономической деятельности: максимальное удовлетворение потребностей индивидуума, который рационально выбирает максимизацию денежных ресурсов, а на последующем этапе деньги становятся всемирным посредником материальных ресурсов Однако данное определение оставляет место для неуверенности: например, с какого момента индивидуум отдает предпочтение отдыху взамен увеличения своих доходов? Более того, неуверенность или, если хотите, неопределенность становится доминирующей, когда речь идет о коллективе.
“Экономическая проблема” поставлена перед коллективом: это он путем организации производства, обменов и распределения выбирает решение. Это решение состоит частично из сотрудничества между индивидуумами, частично из соревнования между ними. Ни коллектив в целом, ни субъекты экономики не находятся в том положении, когда они могут навязать единственно правильное решение.
Максимальное увеличение национального продукта или уменьшение диспропорций, максимальный рост или поддержание высокого уровня потребления, максимальный рост кооперации, навязанной государственными органами, или свободное развитие механизмов соревнования — эти три альтернативы намечены всеми обществами, но их выбор не вытекает логически из конечной цели экономической деятельности. Учитывая множественность задач, на которые ссылается общество, любое экономическое решение до настоящего времени включало в себя пассив и актив. Достаточно включить факторы продолжительности жизни (на какие жертвы должны пойти живущие во имя тех, кто будет жить после них) и разнообразия соГ
■./•■к
62
Раймон Арон • Мир и война между народами
циальных групп (какое распределение вытекает из конкретной организации производства), для того чтобы ни одно из решений экономических проблем не было рационально обязательным в подобных обстоятельствах. Вытекающая конечная цель экономической деятельности однозначно не определяет ни выбора субъектов индивидуально, ни выбора в целом коллективов.
Каковы разновидности типовой рациональной теории экономики в зависимости от данного анализа? Поскольку экономические проблемы являются основополагающими в период между фазой неосознанности и возможной фазой процветания, теоретик сначала стремится разработать основные концепции экономического порядка как такового (производство, обмен, распределение, потребление, деньги).
Вторая глава, наиболее важная, трактует об анализе, разработке или воссоздании экономических систем. Маргиналисты, кейнсианцы, специалисты по бухгалтерии, теоретики игр, вне зависимости от ведущихся ими споров, в равной степени пытаются и добиваются вычленения разумной структуры экономического комплекса и взаимоотношения переменных величин. Ученые споры не касаются самой структуры, выражением которой являются равные бухгалтерские возможности: никто не сомневается в равных бухгалтерских возможностях сбережений и инвестиций, однако это равенство является банальным статистическим результатом, а механизмы его получения сложны и часто неясны. Дискуссия пытается выявить, могут ли и при каких обстоятельствах излишние сбережения быть причиной неполной занятости, могут ли и при каких обстоятельствах сбережения Интродукция
не вызывать реакции, направленной на ликвидацию неполной занятости, может ли и при каких обстоятельствах наступить равновесие без полной занятости.
Другими словами, ни вальрасова схема равновесия, ни современные схемы национальной бухгалтерии не вызывают реакции их отторжения в качестве схем. Вместе с тем модели неполной занятости или кризисные модели, взятые из теорий, могут являться спорными в той мере, в какой они пытаются дать объяснение событиям или их предсказать. “Модели кризисов” — определенные отношения между различными переменными величинами системы — сравнимы с “ситуационными схемами” в игре с той лишь разницей, что экономические субъекты могут не знать точной ситуации, созданной отношениями между переменными величинами, в то время как футболисты четко видят расположение своих противников и своих партнеров.
Экономическая теория, набросок которой мы только что сделали, пытается изолировать экономический комплекс — комплекс мероприятий, который, хорошо ли плохо ли, решает проблему бедности, — и сделать акцент на рациональности этих мероприятий, т.е. на выборе использования ограниченных ресурсов, каждый из которых выполняет различные функции. Любая теория, что бы ни вдохновляло ее создание, заменяет конкретных людей экономическими субъектами, поведение которых упрощено и рационализировано. Она сводит к небольшому количеству определяющих величин многочисленные обстоятельства, которые воздействуют на экономическую активность. Она рассматривает в качестве привнесенных извне некоторые причины, при этом разМир и война между народами • Раймон Арон
63
Интродукция
личие между внутренними и внешними факторами не является константой для различных эпох и авторов. Социология является необходимым посредником между теорией и практикой. Переход от теории к социологии может происходить различными способами.
Поведение экономических субъектов, предпринимателей, рабочих, потребителей никогда не определяется однозначно понятием максимума: выбор в пользу увеличения доходов или уменьшения прилагаемых сил зависит от психологических данных, которые невозможно выразить одной общей формулой. В более широком смысле реальное поведение предпринимателей или потребителей находится в зависимости от их образа жизни, моральных или метафизических концепций, идеологии или коллективных ценностей. Итак, существует социология или экономическая психосоциология, цель которой понять поведение субъектов экономики путем сравнения со структурами теории или путем уточнения реально сделанного выбора между различными способами максимизации, разработанными теорией.
Социология может также поставить перед собой задачу поместить экономическую систему в социальный комплекс, проследить взаимодействие различных сфер деятельности.
И, наконец, целью социологии может быть историческая типология экономики. Теория определяет функции, которые должны выполняться в любой экономике. Мера ценностей, их сохранение, распределение коллективных ресурсов между различными ремеслами, адекватность выпускаемой продукции пожеланиям потребителей — все эти функции, хорошо ли плохо ли, всегда выполняются. Каждый строй характеризуется условиями, в которых осуществляются эти необходимые функции. В частности, применительно к нашей эпохе каждый режим уделяет большее или меньшее внимание централизованному планированию или рыночным механизмам: цен¬
трализованное планирование представляет собой солидарную деятельность, под¬
чиненную верховной власти; рыночные механизмы представляют собой форму соревновательной деятельности (соревнование в рамках правил обеспечивает функцию распределения доходов между индивидуумами и дает результаты, которые никем не планировались, не задумывались и которых никто не желал).
Историограф экономики зависит как от теоретика, который дает ему инструменты для понимания (концепции, функции, модели), так и от социолога, который указывает, в каких рамках разворачиваются события, и помогает сделать различие между социальными типами. Что касается экспертов, от министра до философа, т.е. тех, которые советуют, решают или действуют, то им необходимо знать рациональные схемы, определяющие значения системы и регулярный характер конъюнктуры. Кроме того, чтобы выступать за или против режима, а не за или против мер, проводимых внутри режима, необходимо знать возможные достоинства и недостатки каждого режима, а также то, что требуют от экономики: какое общество является хорошим, и какое влияние такие-то экономические органы оказывают на существование? Праксеология, которая непременно следует за теорией, за социологией, за историей, ставит под вопрос первые опыты прогрессивного понимания того, каково человеческое представление об экономическом пространстве?
64
-■ Раймон Арон» Мир и война между народами
Интродукция
Цель экономической деятельности не так проста, как цель спортивной, однако, несмотря на наличие многочисленных понятий о максимуме, теории могут воссоздать поведение субъектов экономики, каким-то образом определив намеченный максимум и, как следствие, воздействия рациональности. Экономическая система имеет менее жесткую структуру, чем система футбольной игры: ни физические возможности, ни активные участники экономической системы так точно не определены, а взаимная солидарность переменных величин экономической системы, равные бухгалтерские возможности дают возможность, допустив гипотезу рациональности, понять структуру комплекса на основе ее элементов. Что касается правил деятельности, они претендуют на рациональность на уровне теории, на разумность на уровне конкретики. Правила следуют эффективности, когда поставлена однозначная цель, морали, когда речь идет о соблюдении правил соревнования, последним ценностям, когда задают себе вопрос об экономическом пространстве жизни, о работе и отдыхе, изобилии и могуществе.
3
Вернемся к внешней политике и спросим себя, как характеризуются в этой области уровни концептуализации.
Любое поведение человека понимаемо, если только оно не является рефлекторным или поведением безумного человека. Однако существуют различные формы разумного восприятия. Понятно поведение студента, который прослушал лекцию потому, что на улице холодно, или потому, что ему нечем было заняться в перерыве между двумя лекциями. Оно даже может считаться “логичным” (по выражению Парето) или “рациональным” (по определению Макса Вебера), если позволяет укрыться от холода или приятно заполнить свободное время. Но подобное поведение имеет другие характеристики в том случае, если студент слушает лекцию потому, что надеется быть спрошенным на экзамене по теме, освещаемой преподавателем, или если предприниматель принимает решения на основе результатов деятельности на конец года, или если центральный нападающий держится на задней линии для того, чтобы сбить с толку центрального полузащитника команды противника, который его опекает.
Каковы общие черты поведения этих трех действующих лиц — студента, предпринимателя, игрока? Это, конечно, не степень их психологической решимости. Предприниматель может быть лично жаден до денег или, наоборот, равнодушен к ним. Студент, составляющий список лекций, которые он прослушает, исходя из имеющегося у него времени, в зависимости от возможных вопросов по темам лекций на экзамене, может любить или ненавидеть изучаемые предметы, однако ему необходим диплом из честолюбия и необходимости зарабатывать на жизнь. Таким же образом футболист может быть любителем или профессионалом, мечтать о славе или богатстве, однако он обязан добиваться результативности, которая является производной из самой игры. Другими словами, эти манеры поведения заключают в себе, более или менее сознательно, расчет, комбинацию средств для достижения конечной цели, принятие риска в зависимости от возможностей. Сам этот
Мир и война между народами • Раймон Арон > * 65
Интродукция
/»*деде%« V. «дедех уде лде$.де«де ^фа->Л>л< •■» деч«^->де-лде4де/А^де<^де>у«де -/дедеде л
расчет продиктован и иерархией ценностей и конъюнктурой, которая и в игре, и в экономике содержит понятную структуру.
Поведение дипломата или стратега имеет некоторые из этих характеристик, несмотря на то, что в соответствии с данным нами ранее определением это поведение не имеет ни той определенной задачи, как у футболиста, ни даже цели субъектов экономики, которая в определенных условиях рационально определяется по максимуму. Риск войны, непрестанное соперничество с противниками, в котором каждый оставляет за собой право обратиться к последнему доводу, т.е. к насилию, в определенном специфическом смысле постоянно доминируют над поведением дипломата-стратега. Спортивная теория развивается от конечной цели игры (например, забить мяч в ворота). Экономическая теория также ссылается на конечную цель через посредство понятия наивысшей ценности (хотя можно предусмотреть различные формы этого максимума). Отправной точкой теории международных отношений является множественность автономных центров принятия решений, т.е. центров риска развязывания военных действий, и, учитывая этот риск, эта теория делает вывод о необходимости расчета средств.
Некоторые теоретики хотели найти для международных отношений эквивалент рациональной конечной цели как в спорте или в экономике. Одна цель — победа — вскрикнет наивный генерал, забывая о том, что победа в войне всегда приносит удовлетворение самолюбию, но не всегда приносит политические выгоды. Единственное требование — национальный интерес — торжественно заявляет теоретик, немногим менее наивный, чем генерал, как будто бы достаточно добавить прилагательное национальный к концепции интересов для того, чтобы сделать эту концепцию однозначной. Политические отношения между государствами — это борьба за величие и безопасность, утверждает другой теоретик, как будто бы никогда не существовало противоречий между безопасностью и величием, как будто бы люди, живущие в коллективе, в отличие от отдельных индивидуумов предпочитали жизнь смыслу жить.
В этой книге нам представится случай обсудить попытки теоретических поисков в области международных отношений. Вначале мы ограничимся выделением того факта, что у дипломатически-стратегического поведения нет явной конечной цели, однако риск войны заставляет его делать расчет сил и средств. Как мы попытаемся показать в первой главе этой книги, альтернатива мира и войны позволяет разработать фундаментальные концепции международных отношений.
Та же альтернатива позволяет нам поставить “проблему внешней политики” так, как мы поставили проблему экономики. В течение тысячелетий люди жили в замкнутых обществах, которые никогда полностью не подчинялись верховной власти. Для того чтобы выжить, каждое коллективное образование прежде всего должно было рассчитывать на себя, однако оно должно было (или должно было бы) делать свой вклад в решение общих задач враждующих сторон, которым грозит опасность погибнуть вместе на поле битвы.
Двойная проблема выживания личности и выживания коллектива никогда не решалась на длительный период
66
Раймон Арон • Мир и война между народами
ни одной из цивилизаций. Она могла бы быть решена только единым государством или правящим законом. Можно назвать преддипломатическим тот период, когда коллективные образования не поддерживали регулярных связей друг с другом, и постдипломатическим тот период, когда единое государство вело только лишь внутренние войны. До тех пор пока каждое коллективное образование должно думать о своем собственном спасении и о спасении дипломатической системы или рода человеческого, дипломатически-стратегическое поведение никогда (даже в теории) не будет рационально определено.
Эта относительная неопределенность не запрещает нам разработать в первой части теорию рационального типа, начиная с основополагающих концепций (стратегия и дипломатия, средства и цели, величие и сила, сила, слава и идея) до систем и типов систем. Дипломатические системы не выделяются на карте, как спортивные площадки, и не объединяются на основе равных бухгалтерских возможностей и взаимозависимости переменных величин, как экономические системы, однако каждое действующее лицо в общих чертах знает, с какими противниками и какими партнерами оно имеет дело.
Выделяя модели дипломатических систем, делая различие между типичными ситуациями, обрисованными в общих чертах, дипломатическая теория имитирует экономическую теорию, которая разрабатывает модели кризисов или неполной занятости. Однако при отсутствии однозначной цели поведения дипломатии рациональный анализ международных отношений не может перерасти в единую всеобщую теорию.
Интродукция
Глава VI, посвященная типологии мира и войн, служит переходным мостиком между первой и второй частью, между логичной интерпретацией проведения внешней политики и социологическим объяснением с помощью материальных и социальных посылок происходящих событий. Социология ищет обстоятельства, которые воздействуют на ставки в конфликтах между государствами, на цели, поставленные действующими лицами, на благосостояние наций и империй. Теория выявляет разумную структуру социального комплекса; социология показывает, как изменяются определяющие величины (пространство, количество, ресурсы) и субъекты (нации, режимы, цивилизации) международных отношений.
Третья часть книги, посвященная сегодняшней конъюнктуре, имеет целью испытать аналитический способ, который вытекает из двух первых частей. Но, по мнению некоторых, по распространению на планете дипломатической сферы и развитию термоядерного оружия современная конъюнктура уникальна и не имеет прецедентов. Она состоит из ситуаций, которые готовы быть проанализированы с помощью “моделей”. В этом смысле, третья часть на менее абстрактном уровне содержит одновременно рационализирующую теорию и социологическую теорию дипломатии эпохи межпланетных полетов и термоядерного оружия.
В то же время она является необходимым введением к последней части, нормативной и философской, в которой вновь поднимаются первоначальные гипотезы.
Экономика исчезает вместе с нехваткой. Изобилие оставило бы существовать организационные проблемы,
Мир и война между народами • Раймон Арон . 67
Интродукция
•* х <. >- л- ут- & яя^.-здадада 'чрюякг&у
а не экономические расчеты. Таким же образом война перестала бы быть инструментом политики в тот день, когда она вызвала бы самоубийство воюющих сторон. Возможности промышленного производства делают в некоторой степени актуальной утопию изобилия, разрушительная способность вооружений возрождает мечты о вечном мире.
Все общества пережили “проблему международных отношений”, многие культуры были разрушены потому, что они не смогли ограничить войны. В нашу эпоху не только одной культуре, но и всему человечеству грозит неограниченная война. Предотвращение подобной войны становится для всех действующих лиц дипломатической игры такой же ясной целью, как и защита чисто национальных интересов.
По глубокому и, может быть, пророческому мнению Канта, человечество должно пройти кровавым путем войн для того, чтобы однажды прийти к миру. Только в ходе истории происходит подавление естественной агрессивности, приобщение человека к разуму.
*■ 68 Раймон Арон • Мир и война между народами
28 июня 1919 г. Подписание Версальского договора свидетельствовало об окончании первой мировой войны.
28 июня 1919 г. Подписание Версальского договора свидетельствовало об окончании первой мировой войны.
ТЕОРИЯ
КОНЦЕПЦИИ И СИСТЕМЫ
ГЛАВА I
Стратегия и дипломатия, или
О единстве внешней
политики
Война является актом насилия,
направленным на то, чтобы вынудить
противника исполнить нашу волю"1.
Это знаменитое изречение Клаузевица
послужит нам отправной точкой:
сегодня оно не менее действенно, чем в тот
момент, когда было написано. Война как
социальное явление предполагает
столкновение различных устремлений, т.е.
политически организованных
коллективов. Каждый из них стремится победить
другого. "Жестокость, то есть
физическая жестокость (так как не существует
моральной жестокости за пределами
концепций государства и права),
является средством, конечная же цель — это
навязать нашу волю"2.
1. Война абсолютная
и реальные войны
Исходя из этого определения.
Клаузевиц выводит тенденцию о том, что
война стремится к экстремальным
формам или же принимает свою
абсолютную форму. Глубокий смысл этого
состоит в том, что будет названо
диалектикой борьбы.
"Война является актом насилия, и
нет предела проявления этого насилия.
Каждый из противников творит свой
закон над другим, и отсюда возникают
взаимные действия, которые, в качестве
концепции, приведут к экстремальным
формам"3 . Тот, кто откажется от некоторых
форм жестокости, должен опасаться того,
что противник добьется превосходства,
избавившись от любых угрызений
совести. Совсем необязательно, что войны
между цивилизованными странами менее
жестоки, чем войны между дикими
народностями, так как побудительным
мотивом для войны является враждебное
намерение, а не чувство вражды. Чаще
всего, когда враждебные намерения идут
с двух сторон, страсть, ненависть быстро
завладевают сражающимися сторонами,
однако в теории возможна
крупномасштабная война без проявлений ненависти.
Что касается цивилизованных народов,
1 Клаузевиц К.\. 1. С. 51.
2 Ibid.
3 Ibid.
то можно сказать, что “интеллект занимает все большее место в ведении ими военных действий и что он научил их применять силу более эффективными способами, чем грубым проявлением инстинкта“1. Остается непреложным тот факт, что стремление уничтожить противника, присущее концепции войны, не было ни укрощено, ни преодолено прогрессом цивилизации.
В абстрактном плане целью военных операций является разоружение противника. Но поскольку “мы стремимся путем военных действий вынудить противника исполнить нашу волю, то необходимо либо его реально разоружить, либо поставить его в такие условия, в которых он будет чувствовать эту возможность”. Однако противник не является “неодушевленным телом”. Война — это столкновение двух живых сил. “До тех пор, пока я не смогу победить противника, я буду опасаться того, что он меня победит. Я не хозяин самому себе, так как он диктует мне свою волю, так же, как я ему диктую свою”1 2.
Война выиграна только тогда, когда противник подчиняется нашей воле. По крайней мере, можно просчитать те средства, которыми он располагает, и пропорционально соизмерить свои усилия. Однако невозможно просчитать волю сопротивления. Противник поступает подобным же образом, и поскольку каждый увеличивает свою ставку для того, чтобы учесть враждебную волю, это состязание еще дополнительно стимулируется для продолжения до экстремальной ситуации.
Эта диалектика борьбы чисто абстрактна и неприменима к реальным войнам, какие разворачиваются в истории, она выявляет то, что могло бы произойти во время внезапной дуэли между противниками, выявленными только по признаку взаимной неприязни и по стремлению победить. В то же время эта абстрактная диалектика напоминает нам о том, что может произойти в действительности всякий раз, когда страсти или обстоятельства приближают реально историческую борьбу к модели идеальной борьбы и, одновременно, к абсолютной войне.
В реальном мире “война не является изолированным актом, который возникает внезапно и без связи с предшествующей жизнью государства”. Война является “единственным решением или несколькими одновременными решениями”, “сама не приводит к единому всеобъемлющему решению”3. Противники заранее знают друг друга, они имеют примерное представление о ресурсах и даже о стремлениях каждого. Силы каждого из противников никогда полностью не отмобилизованы. Судьбы наций не разыгрываются в один момент4. В случае победы намерения противника не всегда приводят к непоправимому поражению побежденного. Как только вступают в действие многочисленные соображения — замена реальных противников “чистой” идеей врага, длительность операций, возможные намерения враждующих сторон, — военные действия меняют свой характер: они более не являются чисто техническими 1 Клаузевиц К. I. 1. С. 51.
2 Там же. С. 54.
3Там же. С. 55—56.
4 Согласно Клаузевицу, подготовка к единому вступлению в войну, которое все решит, привело бы к абсолютной войне. В XX в. существует опасение, что современное оружие создаст такую ситуацию. До настоящего времени ее еще не было.
72
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
действиями — сбор и применение всех средств для достижения победы и разоружения противника, — они становятся авантюрными действиями, расчетом вероятных вариантов в зависимости от информации, имеющейся у партнеровпротивников в политической игре.
Война — это игра. Она одновременно требует смелости и расчета, и никогда расчет не исключает риска, на всех уровнях допущение опасности проявляется поочередно в виде осторожности и смелости. “Тотчас же сюда примешивается набор возможностей и вероятностей, везения и невезения, которые следуют вдоль каждой нити, толстой или тонкой, из которых сплетена основа, и это делает из войны род человеческой деятельности, которая более всего походит на карточную игру”1.
“Однако война остается серьезным средством для серьезной цели“. Исходным элементом, у животного или у человека, является враждебность, которую следует рассматривать как естественный слепой импульс. Само военное действие, второй элемент, содержит набор вероятностей и случайностей, которые делают из него “свободный полет души“. Но сюда прибавляется третий элемент, который, в конечном счете, управляет двумя другими: война — это политический акт, она возникает из политической ситуации и является результатом политических мотивов. По своей природе война принадлежит к чистому разуму, так как она является инструментом политики. Чувственный элемент особенно интересует народ, элемент случайности интересует командующего и его армию, элемент разума интересует правительство, и этот последний элемент является решающим и руководит всем комплексом.
Знаменитая формула Клаузевица “война является не только политическим актом, но и реальным инструментом политики, продолжением политических отношений, их реализацией другими способами”1 2. Она является простой констатацией очевидного: война не самоцель, победа в войне также не самоцель. Сотрудничество между нациями не прекращается в тот день, когда начинают говорить пушки, воинственная фаза вписывается в преемственность отношений, которыми всегда управляют намерения одних коллективных образований по отношению к другим.
Подчинение войны политике как подчинение средства конечной цели, подразумеваемое в формуле Клаузевица, обосновывает различие между абсолютной войной и реальными войнами. Переход к крайним мерам вызывает наибольшие опасения, а реальные войны все более рискуют приблизиться к абсолютной войне, потому что глава государства теряет контроль над насилием. Кажется, что политика исчезает в тот момент, когда ее единственной целью становится уничтожение вражеской армии. Даже в этом случае война принимает ту форму, которая вытекает из политической цели. Проглядывается или нет политика сквозь военные действия, но они подчиняются политике в том случае, если политика определяется как “интеллект персонифицированного государства“. Именно политика, т.е. глобальный учет всех обстоятельств государственными деятелями, правильный или нет, принимает решение наметить в качестве 1 Там же. С. 65.
2Там же. С. 67.
Мир и война между народами • Раймон Арон
> 73
Часть I
единственной цели уничтожение вооруженных сил противника без учета последующих целей, без размышления о возможных последствиях самой победы.
Клаузевиц является теоретиком абсолютной войны, а не доктринером тотальной войны или милитаризма, так же, как Вальрас является теоретиком равновесия, а не доктринером либерализма. По ошибке концептуальный анализ, направленный на выявление квинтэссенции поступков человека, спутали с определением задачи. Правда, иногда кажется, что Клаузевиц восхищается войной, которая полностью реализует его натуру, и выражает презрение несовершенными войнами XVIII в., в которых маневры и переговоры сводили к минимуму боевые действия, жестокость и ярость битв. Не следует думать, что эти мысли сквозят повсюду, они выражают только эмоции. Перед экстремальными проявлениями войны Клаузевиц испытывает нечто вроде священного ужаса, гипноза, сравнимого с теми ощущениями, которые пробуждаются в душе космическими катастрофами. Война, в которой противники идут до крайнего проявления жестокости, для того чтобы сломить волю противника, который ожесточенно сопротивляется, в глазах Клаузевица является одновременно величественной и ужасной. Всякий раз, когда происходит столкновение крупных интересов, война приближается к своей абсолютной форме. Как философ, он не радуется этому, но и не возмущается этим. Как теоретик разумного действия, он напоминает тем, кто руководит войной и миром, тот принцип, который они должны соблюдать: примат политики, поскольку война является всего лишь инструментом на службе тех целей, которые определила политика, эпизодом или аспектом отношений между государствами, и каждое государство должно подчиняться политике, т.е. разумной логике непреходящих интересов коллективного образования.
Договоримся о том, что мы будем называть стратегией проведение комплекса военных операций, дипломатией — осуществление взаимоотношений с другими политическими образованиями. Стратегия и дипломатия подчиняются политике, т.е. концепции о том, что коллектив и его руководители обеспокоены “национальными интересами”. В мирный период политика использует дипломатические средства, не исключая при этом возможности прибегнуть к оружию при малейшей угрозе. В военное время политика не отказывается от дипломатии, поскольку она ведет отношения с союзниками и нейтральными государствами и скрытно продолжает воздействовать на противника, либо угрожая уничтожить его, либо открывая перед ним мирные перспективы.
Мы рассматриваем здесь “политическое образование” как действующее лицо, обладающее интеллектом и движимое своей волей. Каждое государство имеет отношения с другими государствами: пока государства находятся в состоянии мира, они ценой любых усилий должны продолжать жить вместе; не прибегая к насилию, они стремятся убедить друг друга. В то время когда они сражаются друг с другом, они стремятся подавить друг друга. В данном смысле дипломатию можно назвать искусством убеждать без использования силы, а стратегию — искусством побеждать при наименьших потерях. Однако принуждение является также способом убеждения. Демонстрация силы заставляет противника сдаться, символизируя 74
Раймон Арон* Мир и война между народами
Теория
возможное принуждение, а не реальное принуждение. Тот, кто в мирное время имеет превосходство в вооружении, убеждает союзника, конкурента или соперника, не прибегая к использованию оружия. И наоборот, государство, которое снискало себе славу справедливого и умеренного, имеет лучшие шансы добиться своих целей, не добиваясь полной победы в войне. Даже в военное время оно скорее убедит, чем будет действовать принуждением.
Различие между дипломатией и стратегией очень относительное. Эти два термина являются дополнениями к единому искусству политики — искусству лучшим образом управлять отношениями между государствами в целях “национальных интересов”. Если, по определению, стратегия — проведение военных операций, не работает в тот момент, когда не ведутся военные операции, военные средства являются составляющей частью средств, используемых дипломатами. Напротив, слова, ноты, обещания, гарантии, угрозы принадлежат к арсеналу средств главы государства, находящегося в состоянии войны, по отношению к союзникам, нейтральным государствам и даже к сегодняшним врагам, т.е. вчерашним или завтрашним союзникам.
Дополнительная двойственность искусства убеждать и искусства принуждать является отражением более фундаментальной двойственности, которую выявило начальное определение Клаузевица: война — это испытание воли сторон. Гуманная, с точки зрения испытания воли, война по своей природе несет в себе психологический элемент, который иллюстрирует знаменитая формула: побежденным является только тот, кто себя признает таковым. Единственный шанс победить, который имел Наполеон, состоял в том, чтобы Александр признал себя побежденным после взятия Москвы. А так как Александр не потерял мужества, Наполеон, даже находясь в Москве в качестве победителя, потенциально уже был побежден. План военной кампании Наполеона был единственно возможным, но он был основан на пари, которое император французов проиграл из-за твердости Александра. Англичане побеждены, кричал Гитлер в июле 1940 г., но они слишком глупы, чтобы понять это. Действительно, не признавать себя побежденными было для англичан первым условием окончательного успеха. Смелость или непонимание, неважно: необходимо было, чтобы продолжала сопротивляться воля англичан.
В абсолютной войне, в которой доведенное до конца насилие приводит к разоружению или к уничтожению одного из противников, исчезает элемент психологии. Но там речь идет о крайнем варианте. Все реальные войны приводят к столкновению коллективные образования, каждое из которых объединяется и выражает единую волю. В этом смысле все эти войны являются психологическими.
2. Стратегия и цель войны
Отношения стратегии и политики выражаются в двойной формуле: “Война должна полностью отвечать политическим чаяниям, а политика должна адаптироваться к имеющимся военным средствам”1. В некотором смысле две части формулы могут показаться про-
1 Клаузевиц К. VIII. 6. С. 708.
Мир и война между народами • Раймон Арон 75 г«
Часть I
•У
тиворечивыми, потому что первая часть подчиняет проведение военных действий политическим устремлениям, а вторая часть делает политические устремления, зависимыми от имеющихся средств. Но мысль Клаузевица и логика действий не оставляют места сомнениям: политика не может определять цели, абстрагируясь от имеющихся у нее средств. Вместе с тем “она не проникает глубоко в детали войны: по политическим мотивам не расставляют часовых, не отправляют патрули. Однако, влияние политики носит решающий характер в общем комплексе войны, отдельной кампании и, часто даже, одного сражения”1. Примеры проиллюстрируют значение абстрактных положений.
Ведение войны требует определить стратегический план: “прежде всего любая война должна быть понята с точки зрения вероятности ее характера и ее доминирующих черт так, как это можно понять исходя из объективных данных и политических обстоятельств”1 2. В 1914 г. все противоборствующие стороны обманывались насчет природы войны, которую они собирались развязать. Ни с одной из сторон генеральные штабы или министерства не планировали или не подготовили мобилизацию промышленности или населения. Ни центральные империи, ни союзники не рассчитывали на продолжительный конфликт, исход которого был бы решен за счет превосходящих ресурсов одного из двух лагерей. Генералы ввязались в “свежую и радостную” войну, убежденные в том, что первые бои будут решающими, какими они были в 1870 г. Стратегия уничтожения принесла бы победу, и государственные деятели победившей стороны безапелляционно диктовали бы условия мира побежденному противнику.
Когда победа французов на Марне и стабильность фронтов на востоке и на западе развеяли иллюзию быстрой войны, политика должна была вернуть свои права, ибо она уступает их только в момент военной лихорадки, когда жестокость не знает границ и каждая из воюющих сторон думает лишь о том, как быть физически самой сильной. Действительно, в период между 1914и 1918 гг. политика не прекращала своей активности, но, в особенности со стороны союзников, казалось, что ее единственной целью была подпитка самой войны. Союзники стремились добиться победы, применяя сначала стратегию уничтожения, затем они пытались ее одержать, прибегая к стратегии изматывания. Но никогда они серьезно не спрашивали себя, какие цели они могли достичь без абсолютной победы: разоружение противника, бескомпромиссный мир под диктовку стал высшей целью войны. Война приближалась к своей абсолютной форме в той степени, когда государственные деятели отрекались в пользу главнокомандующих и заменяли политические цели, которые они не были способны определить, чисто военной целью: уничтожение вражеских армий.
Возможно, что эта отставка политики была неизбежна ввиду обстоятельств. Отказалась ли бы когда-нибудь Германия от Эльзаса и Лотарингии, если бы к этому не принудило ее поражение? Можно ли было заставить французское общественное мнение принять компромиссный мир без аннексий и контрибуций после стольких жертв, принесенных 1 Там же С 705
2 Там же С 706
76
*
' и Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
народом, и стольких обещаний, розданных правящими лицами? Секретные договоры союзников заключали в себе столько требований и торжественных обещаний, что любое поползновение вести переговоры без достижения победы могло бы расколоть хрупкую коалицию будущих победителей. И наконец, военные действия создали новый неизгладимый фактор, который перевернул всю предыдущую конъюнктуру: статус всей Европы был поставлен под вопрос, и государственные деятели не верили, что возвращение к предыдущему “статус-кво” дало бы шанс стабильности.
Возможно, крупные войны по причине разбушевавшихся страстей являются теми войнами, которые неподвластны людям, наивно полагающим, что они ими управляют. Глядя в прошлое, обозреватель не всегда замечает те интересы, которые обосновывали бы эти страсти и исключали компромиссы. Быть может, мне хочется верить, что именно сама природа индустриальных битв придает массам жгучую ненависть и вызывает у государственных деятелей желание перекроить карту Старого континента. Факт состоит в том, что первая война века иллюстрирует соскальзывание к абсолютной форме войны, в которой воюющие стороны не способны уточнить политические ставки.
Замена военной цели — победы — мирными целями еще больше проявляется во Второй мировой войне. Генерал Жиро, который не задумывался над высказываниями Клаузевица, повторял в 1942 г.: одна цель — победа. Но самое плохое состояло в том, что президент Рузвельт, даже не произнося эту фразу, действовал так, как будто он ее придерживался. Как можно скорейшее уничтожение вооруженных сил противника стало высшим требованием, которому были подчинены проводимые операции. Требуя безоговорочной капитуляции, штатский главнокомандующий наивно демонстрировал свое непонимание связей между стратегией и политикой.
Безоговорочная капитуляция отвечала логике Войны за независимость. Ставкой в войне было существование Соединенных Штатов, запрет для штатов выходит из состава Федерации. Победа северян вызвала уничтожение Конфедерации. Требование безусловной капитуляции имело рациональное значение, было ли оно обращено к политическим руководителям Конфедерации или к генералу Ли, командующему последней армией южан. Ничего подобного не было в случае с Германией: ни советские, ни американские руководители не имели намерений ликвидировать германское государство. Даже временное прекращение его существования принесло бы победителям столько же неудобств, сколько и преимуществ. В любом случае стратегия, которая ставила перед собой единственную цель — уничтожение германских вооруженных сил и безоговорочную капитуляцию Рейха — подвергалась критике с трех сторон.
Принято, что лучше выигрывать при наименьших затратах (в стратегическом плане формула имеет аналогичное значение с формулой наименьших затрат в экономике). Требование безоговорочной капитуляции побуждало немецкий народ к отчаянному сопротивлению. По их словам, американские руководители стремились избежать повторения того, что произошло в 1918— 1919 гг.: протесты немецкой стороны о нарушении обещаний, содержащихся в “14 пунктах” президента Вильсона. В действительности же эти протесты соМир и война между народами • Раймон Арон >. „ 77
Часть I
всем или почти совсем не имели отношения к провалу Версальского мира. Победа союзников в 1918 г. была непродуктивной, потому что сама война выпустила на волю революционные силы, а англосаксы не захотели защитить тот статус, который они стремились установить. Пытаясь определить судьбу, которую они уготовили побежденной Германии, американцы не ограничили себе свободу маневра и дали себе дополнительный шанс победить, не прибегая к крайним методам жестокости.
Манера одерживать победу неизбежно оказывает воздействие на ход событий. Было небезразлично, что в 1944 г. Европа была освобождена с востока, с юга или с запада. Не имеет смысла спекулировать на том, что могло бы произойти в случае, если бы англо-американцы высадились на Балканах. Мог ли бы быть осуществлен этот план? Какова была бы реакция Сталина? С точки зрения теории, было бы ошибочным предполагать, что американцы в принятии своего решения руководствовались исключительно стремлением уничтожить основную часть германской армии и что рассмотрение политических последствий применения того или иного метода рассматривалось Рузвельтом и его советниками как незаконное вторжение политики в стратегию.
И наконец, внутри коалиции любое ведение войны должно учитывать потенциальное соперничество между союзниками одновременно с учетом сегодняшней враждебности по отношению к противнику. Мне кажется, что необходимо делать коренное различие между постоянными союзниками и случайными союзниками. В качестве постоянных союзников могут рассматриваться государства, которые, несмотря на некоторое противоречие их интересов, не могут себе представить, что в обозримом будущем они могут оказаться в противоположных лагерях. В XX в. Великобритания и Соединенные Штаты являются постоянными союзниками, так как политический класс Англии мудро решил, что в тот день, когда Англия потеряет превосходство на морях, мир поамерикански будет единственно возможной заменой миру по-британски. Франция и Великобритания могли бы с 1914 г. рассматривать друг друга в качестве постоянных союзников. Великобритания могла бы сердито, но без опаски рассматривать временную и хрупкую чрезмерность французского величия. Усиление постоянного союзника не должно вызывать беспокойства и ревности.
Напротив, усиление случайного союзника как такового является конкретной угрозой. Действительно, единственно, что связывает случайных союзников, это общая враждебность к врагу, внушающая достаточное опасение для того, чтобы перешагнуть через спорные вопросы, которые сталкивали накануне и вновь столкнут завтра временно дружественные государства. Возможно даже, что где-то в глубине эти случайные союзники являются постоянными противниками: мы подразумеваем под этим государства, которые вследствие того места, которое они занимают на дипломатической шахматной доске, или из-за их идеологии обречены сражаться друг с другом. Рузвельт отказывался вести войну в зависимости от послевоенной ситуации и мечтал о тройственном (или двойственном) управлении миром, изобличая скорее французскую и британскую империи, нежели советскую империю, путал случайного союзника с постоянным и скрывал даже от себя главную враждебную опасность, пря78
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
тавшуюся под маской временного сотрудничества.
Разрушительные последствия глобальной войны были задним числом частично приписаны навязчивой идее победы в войне любой ценой и любыми средствами. Возможно, политические поражения стран Запада, дважды последовавшие за победой оружия (в первый раз поражение за счет реванша побежденного, в следующий раз за счет чрезмерного усиления случайного союзника — постоянного врага) сумели внушить государственным деятелям сознание главенства политики. Война в Корее дает противоположный, практически чистый, пример ведения войны в постоянной зависимости от политики, а не от единственной цели — победы в войне. Когда генерал Макартур провозгласил: “Ничто не заменит победы” (если победа не означает военную победу, то фраза ничего не значит или же это лишь банальная правда), — казалось, что он воспринял концепцию Рузвельта, провозглашающую целью уничтожение вооруженных сил противника и заключение продиктованного мира после разоружения последнего.
Президент Трумэн и его советники колебались в выборе политических целей, которые они должны были себе наметить. Было ли единственной целью отбить агрессию северных корейцев и восстановить предшествующий “статускво”, т.е. раздел Кореи по линии, проходящей по 38-й параллели, или объединение двух корейских государств в соответствии с голосованием в ООН? Само собой разумеется, что все американские руководители предпочли бы второй вариант первому. Однако вопреки тому, что произошло в течение двух великих войн, они не руководствовались целью: победа в войне, — для того, чтобы прийти к всеобщей мобилизации, привлечению союзников, безжалостным боям и т.д. Они руководствовались целью — не дать локальной войне перерасти во всеобщую войну — и задавали себе вопрос, какие цели достижимы в рамках решения отказаться от расширения конфликта.
После высадки в Имчоне и уничтожения северокорейской армии президент Трумэн, по совету генерала Макартура, который не верил в интервенцию китайцев, взял на себя риск перейти 38-ю параллель. Вмешательство китайских “добровольцев” вызвало первое расширение военных действий. Китай стал неофициальной воюющей стороной, однако американские руководители вновь поставили перед собой цель — ограничить конфликт. Ограничение театра действий этого конфликта рассматривалось как пространственная проекция и как символ. Весной 1951 г. в последний раз поднимался вопрос о достижении целей без расширения военных действий. Вскоре и этот вопрос был оставлен в стороне, и американские руководители, отказавшись от локальной и частичной победы, хотели только добиться мира, что практически означало возврат к предшествующему “статус-кво”.
Кто стал бы победителем? Американцы, потому что они отбили агрессию северных корейцев? Китайцы, потому что отбили попытку американцев ликвидировать существование Корейской Народно-Демократической Республики? Престиж китайцев вырос, так как первая мировая держава не смогла победить их. Однако американцы подтвердили цену гарантиям, которые они раздают по всей планете и с блеском подтвердили то, что они не потерпят неприкрытых агрессий (переход границ регулярМир и война между народами • Раймон Арон
79 •
Часть I
ными армиями). Не было показано, что стремление американцев ограничивать конфликты исключает возможность локальных военных побед (возможно, имея дополнительно две или три дивизии, 8-я армия не разоружила бы коммунистический Китай, но разбила бы китайских “добровольцев”).
Контраст между чисто политическим проведением войны в Корее и чисто военным проведением двух мировых войн не объясняется только человеческими ошибками. Ведение Второй мировой войны было в основном политическим, я хочу сказать, что с советской стороны оно было продиктовано учетом дальнейших последствий военных действий и победы. Это американцы хотели проигнорировать тот факт, будет ли мир после полной победы в войне соответствовать длительным интересам Соединенных Штатов. Очевидно, не было продемонстрировано, что достаточно здраво мыслить для того, чтобы избежать плачевного эффекта триумфа: чрезвычайного усиления случайного союзника—постоянного врага, чрезмерное ослабление сегодняшнего врага— будущего союзника взамен союзника, который стал слишком сильным. Природа всякой войны зависит от множества обстоятельств, которые стратег должен понять, но изменение которых не всегда зависит от него.
Возможно, что, начиная с 1915 г., Первая мировая война должна была вестись до конца, потому что главы государств обоих лагерей были неспособны сформулировать и заставить народы принять компромиссный мир. Возможно, что при безоговорочной капитуляции или без нее Гитлеру удалось бы увлечь за собой немецкий народ до заката богов расы и крови. Возможно, что с ялтинскими соглашениями или без них Советский Союз вмешался бы на Дальнем Востоке и пожинал бы плоды победы, одержанной американской армией. Остается непреложным тот факт, что ни в Европе, ни в Азии американские стратеги не подчиняли проведение операций против противника и отношения со случайным союзником тем целям, которые они хотели достичь путем военных действий. Стратеги не знали, какая Европа и какая Азия отвечали бы американским интересам. Они не знали, была ли Япония или Германия врагом или некоторой (неопределенной) Японией или некоторой (неопределенной) Германией.
Недостаточно определить цель, союзника, врага для того, чтобы воспользоваться победой. Но, если интеллектуальный штаб государства ясно не определил цели, не выявил действительную природу противника и союзников, то триумф оружия только случайно может стать действительной победой, т.е. победой политической.
3. Выиграть или не проиграть
Выбор стратегии одновременно зависит от целей войны и имеющихся средств. Мы только что проанализировали примеры крайностей проведенных войн: целью одних был только военный успех, целью других было избежать разрастания конфликта. Но между этими примерами находится большинство реальных войн, в которых стратегия выбирается в зависимости от военных возможностей и намерений.
Возможно, на уровне самой стратегии высшей альтернативой является “выиграть или не проиграть”. Целью стратегии может быть решительная по80 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
беда над вооруженными силами противника, для того чтобы диктовать обезоруженному противнику условия “победного” мира. Но, когда соотношение сил исключает такую возможность, военачальники могут избрать возможность не проиграть, подавляя у превосходящей коалиции волю к победе.
Немецкие авторы (X. Делбрюк) нашли особый пример подобной стратегии в Семилетней войне. Фридрих II не питал иллюзий относительно победы над австро-русской армией, но он рассчитывал продержаться достаточно долго, чтобы противники были морально измотаны и союз распался. Мы знаем, как смерть одного императора реально спровоцировала переворот в русской политике. Память о таком добром знамении так глубоко запала в памяти немцев, что, узнав о смерти Рузвельта, Геббельс подумал, что повторится чудо Фридриха II: не был ли союз между Соединенными Штатами и Советским Союзом более противоречивым по своей природе, чем союз Санкт-Петербурга и Вены?
Другие, более близкие, примеры проиллюстрируют перманентность проблемы. С учетом соотношения сил, какую цель должен ставить перед собой стратег? Начиная с 1915—1916 гг., таков был глубинный смысл вопросов, по поводу которых разошлись мнения немецких генералов и государственных деятелей. Должны ли были центральные империи ставить перед собой цель — победу, которая позволила бы им единолично диктовать условия мира? Или же, поскольку превосходство в силе перешло к союзникам, должны ли были центральные империи отказаться от победы и ограничить свои амбиции компромиссным миром, основанным на признании обоими лагерями их неспособности прийти к решительной победе?
Наперекор тому, что думали большинство французов, наступление под Верденом, в рамках стратегии генерала Фалькенхайна, было направлено скорее на изматывание, чем на уничтожение французской армии. Немецкое командование рассчитывало ослабить французскую армию до такой степени, чтобы в течение весны—лета 1916 г. она была неспособна предпринять широкомасштабные действия. Не беспокоясь за свой западный фронт, немецкая армия могла начать наступление на восточном фронте и добиться там успехов, которые убедили бы союзников начать переговоры, даже если бы они не были к тому принуждены.
Следующая команда, Гинденбург— Людендорф, напротив, выбрала другую альтернативу. До весны 1918 г. немецкие армии стремились форсировать принятые решения путем военных действий. Россия вышла из боев в 1917 г.; американские войска хлынули в Европу: соотношение сил, которое в начале 1918 г. было еще благоприятным, становилось все более неблагоприятным. Немецкий генеральный штаб пытался одержать победу до ввода сил американской армии, еще целостной с неисчерпаемыми резервами. Историки и теоретики (прежде всего X. Делбрюк) спрашивали себя, не являлась ли с 1917 г. ошибкой эта стратегия уничтожения. Не должны ли были военачальники экономить средства, ограничивать потери немецких армий для того, чтобы как можно дольше поддерживать надежду на то, что союзники устанут от борьбы и удовольствуются договорным миром? Отказываясь от принуждения, стратегия путем успешной обороны пыталась убеМир и война между народами • Раймон Арон \ л <; 81 <
Часть!
дить противника, в свою очередь, отказаться от амбиций победить.
Другим примером, еще более удивляющим диалектикой победы, а не поражения, является пример Японии в 1941 г. Каким образом Японская империя, в течение долгих лет втянутая в нескончаемую войну с Китаем, могла броситься на штурм всех европейских позиций в Юго-Восточной Азии, бросить вызов одновременно Великобритании и Соединенным Штатам, в то время как она едва производила в год 7 млн т стали, а Соединенные Штаты производили в десять раз больше? Каковы были расчеты военачальников, ответственных за эту экстравагантную авантюру?
Расчет был следующим: благодаря внезапной атаке на Пёрл-Харбор японский флот в течение нескольких месяцев господствовал на море, по меньшей мере до Австралии. Армия и авиация могли бы завоевать Филиппины, Малайзию, Индонезию и, возможно, передовые американские посты в Тихом океане (Гуам). Владея громадной территорией, богатой залежами основного сырья, Япония была бы способна сорганизоваться и подготовиться к обороне. Ни один из самых экзальтированных генералов или адмиралов не представлял себе возможности входа японских войск в Вашингтон и безоговорочного мира после разрушительной победы над Соединенными Штатами. Японские руководители, которые взяли на себя ответственность развязать войну, рассчитывали как можно дольше оказывать сопротивление американскому контрнаступлению для изматывания воли противника к победе (который, по их мнению, должен быть слабым, потому что Соединенные Штаты были демократической страной).
Расчет оказался вдвойне ложным: в течение четырех лет американские подводные лодки и самолеты почти полностью уничтожили торговый флот Японии. Страна была уже практически разгромлена до того времени, когда американские бомбы сожгли ее города, и когда Рузвельт заплатил за участие в войне Советского Союза (он должен был бы заплатить за его неучастие). Расчет был также ложным и с точки зрения психологии. Демократии часто культивируют пацифистские идеологии, но они не всегда миролюбивы. Во всяком случае, разозлившись, американцы резко ответили: атака на Пёрл-Харбор давала японскому флоту временное господство над азиатскими морями, но она делала совершенно невероятным отказ Соединенных Штатов от победы. Успех военных расчетов на первой фазе исключал успех психологических расчетов на последующей фазе. Это не говорит о том, что японскому руководству была предложена лучшая стратегия1. Ни одна из стратегий не обещала разумную победу в войне со столь неравными противниками.
Надежда победить, измотав волю противника, принимает совсем другое значение в случае возникновения революций или подрывных войн. Восстания развязываются меньшинствами или толпами без учета “соотношения сил”. Чаще всего, на бумаге, у повстанцев нет никаких шансов. Власть предержащие командуют армией, полицией: каким образом неорганизованным и невооруженным людям одержать победу? Даже если власти добиваются послушания 1 За исключением, возможно, предложения адмирала Ямамото продолжить первоначальную авантюру и попытаться оккупировать П€рл-Харбор
82 Раймон Арон • Мир и война между народами
подданных, не побеждают ли эти люди? Парижские повстанцы в 1830 и 1848 гг. победили, потому что ни солдаты регулярной армии, ни, в 1848 г., национальная гвардия не имели решимости сражаться, и, будучи покинуты частью политиков, сами монархи потеряли смелость и поспешили отречься и выбрать изгнание.
Восстания, которые благодаря моральной слабости армий перерастают в революции, не вытекают из теории международных отношений. Мы упомянули о них, поскольку так называемые подрывные войны являют собой некоторые элементы революций: и прежде всего решающее значение психологических элементов. В ходе гражданской войны в России между большевиками, хозяевами государства, и генералами, ратующими за реставрацию, воля правящих меньшинств и состояние умов масс воздействовали на исход событий не меньше, чем материальные ресурсы, которыми располагали оба лагеря. (Однако в Испании именно материальное превосходство Франко решило исход событий в большей степени, чем разногласия в лагере республиканцев.) Вандейцы не менее ожесточенно сражались против революционной власти, чем рабочие в комбинезонах за новый мир. Оставим в стороне мифологию. Повстанцы с пустыми руками непобедимы, когда правящие силы не могут или не хотят защищаться. Русские армии в XIX и XX вв. действительно восстановили порядок в Варшаве или в Будапеште.
Войны, которые сегодня называются “подрывными”, например, война народа, находящегося под колониальным игом, против европейской державы, являются переходными между гражданскими войнами и внешними войнами. Теория
Если юридически территория входила в состав метрополии — это касается Алжира, — то война с точки зрения международного права прежде всего является гражданской (суверенитет Франции над Алжиром был признан всеми государствами), несмотря на то что повстанцы рассматривают ее как войну с иностранным государством в той мере, в которой они хотят создать независимое политическое образование. В Тонкине, в Аннаме, в Тунисе, в Марокко, в странах, которые не были колониями, но над которыми Франция установила свой протекторат или суверенитет, даже с точки зрения международного права побеждает аспект “международный конфликт” над аспектом “гражданская война”.
Мы постараемся сблизить проблему, поднимаемую подрывными войнами, с проблемами, с которыми сталкивается стратег, разрабатывая свой план войны, поскольку и глава повстанцев, и глава консерваторов должны выбрать альтернативу: выиграть или не проиграть. Существует ли различие: в 1916 г., в 1917 г. и еще в 1918 г. высшее руководство с обеих сторон питало надежду разрушить способность противника к сопротивлению. Нивелль весной 1917 г., Людендорф весной 1918 г. рассчитывали форсировать принятие решения путем лобовой атаки. Оба мечтали об уничтожающей победе в стиле Наполеона, победе, которая до конца ускользала от усилий обоих лагерей: крайняя усталость одного, усиление другого за счет американских частей, решившее исход войны. В случае подрывной войны, в которой у одного из лагерей есть и администрация и полиция, он осуществляет порядок, мобилизует регулярную армию, диспропорция сил такова, что только одна из противоборствующих Мир и война между народами • Раймон Арон
83
Часть I
сторон может надеяться на полный успех в военном плане. У партии консерваторов есть воля к победе, а у партии повстанцев есть воля к тому, чтобы ее не уничтожили. Мы находим пример типичной асимметрии: один хочет выиграть, а другой хочет не проиграть.
Однако эта асимметрия, которая, формально, похожа на асимметрию Семилетней войны (Фридрих II против превосходящей коалиции), в глубине своей имеет совсем иное значение. Фридрих думал добиться компромиссного мира в тот день, когда его противники признали бы невозможность победить или, по крайней мере, согласились бы с ценой победы и временем ее достижения. Не будучи побежденным, король Пруссии одержал относительную победу благодаря тому, что он сохранял прежние завоевания, и тому, что его престиж рос по мере роста его героизма. Не одержав победы, коалиция традиционно великих держав принимала нового члена на равной основе. Но если мятежная сторона — Нео-Дестур, Истикляль, — не была уничтожена и взяла власть и завоевала независимость, то с политической точки зрения, она добилась полной победы, достигнув своей цели — независимости страны, а государство, ее бывший колонизатор, отдало свою власть, которую оно себе присвоило. Почему консерватор соглашается проиграть политически, не проиграв с военной точки зрения? Почему он должен одерживать решительную победу (подавить восстание), если он хочет не проиграть?
Для того чтобы понять политический выход из борьбы, которую не удалось решить военными методами, необходимо напомнить о другой асимметрии — повстанец—колонизатор. Националисты, требующие независимости для своей нации (которая в прошлом существовала или нет, которая жива или нет в сердцах масс), более одержимы, чем управители колониальным государством. По крайней мере, в нашем веке они верят в святость своего дела больше, чем их противники в законный характер своего господства. Шестьдесят лет назад француз не сомневался в цивилизаторской миссии Франции, так же, как и англичанин в тяжелой ответственности белого человека. Сегодня он сомневается в том, что имеет моральное право отказывать народам Африки и Азии в праве на родину (которая не может быть Францией), даже если эта родина всего лишь мечта, даже если она неспособна быть действительно независимой.
Эта асимметрия подтверждается изменением баланса колониальных отношений. Управлять территорией сегодня означает взять на себя ответственность за выявление ее достоинств. Чаще всего эта ответственность обходится дороже, чем результаты расширения рынка или эксплуатации природных богатств. Как можно удивляться тому, что консерватору однажды надоедает платить за восстановление порядка и оплачивать капиталовложения, которые идут в пользу народов, борющихся с ним? Формально полное поражение (повстанец, наконец, вырвал требуемую независимость) не обязательно ощущается таковым со стороны нации, которая в прошлом была колонизатором.
Видимая простота ставки — независимость или нет — скрывает сложный характер ситуации. Если независимость протектората или колонии рассматривается имперским государством как абсолютное зло, неминуемое поражение, то мы возвращаемся к элементарной 84 к г <7^ч Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
двойственности понятия — друг-враг. Националист — тунисский, марокканский, алжирский — был бы врагом не случайным, ни даже постоянным, а, возвращаясь к ранее данному определению, он был бы абсолютным врагом, с которым невозможно никакое примирение и даже существование которого суть агрессия, и, как следствие, если следовать до конца логике, его надо было бы уничтожить. Карфаген должен быть разрушен: это формула абсолютной неприязни, неприязни Рима и Карфагена; один из двух городов явно лишний. Если Алжир должен окончательно остаться французским, то националисты, стремящиеся к независимому Алжиру, должны быть безжалостно уничтожены. Для того чтобы в середине XX в. миллионы мусульман стали французами, необходимо, чтобы они не могли даже мечтать об алжирской нации и забыли свидетелей, “которых задушили”.
Возможно, что некоторые французы хотели бы, чтобы так и было: реальность менее логична, но более человечна. Колониальная держава предусматривает различные условия отступления, последствия которого не эквивалентны, а некоторые из этих условий возможно предпочтительнее, чем удержание силой. Интересы метрополии будут более или менее сохранены в зависимости от того, какие люди будут находиться у власти в бывшей колонии, выдвинутой в ранг независимого государства. С этого времени, имперская держава не сталкивается только лишь с одним явным врагом, националистом, она должна выбирать, определять своего противника. В Индокитае западная стратегия должна была и, возможно, смогла иметь в качестве врага национал-коммуниста, а не националиста, враждебного или просто безразличного к коммунизму. Это решение привело к тому, что Франция не рассматривала независимость ассоциированных государств как глубоко противоречащую своим интересам. Франция имела бы гораздо больше возможностей выиграть войну, разделив коммунистов и националистов и удовлетворив большую часть требований националистов. Но, с точки зрения офицеров, которые мыслили имперскими понятиями, эта, так называемая рациональная, стратегия походила на стратегию Грибуя.
После 1945 г. в войнах, называемых подрывными, консервативная держава регулярно сталкивалась с тремя видами противников: коммунистами, непримиримыми националистами (независимость) и умеренными националистами, которые соглашались с прогрессивными методами, а иногда на автономию. Среди непримиримых некоторые хотели, а другие отказывались сотрудничать с государством-колонизатором. Экстремисты сегодня в будущем становились умеренными. В зависимости от конъюнктуры и последних намерений консервативной стратегии, эти три группы выступали единым фронтом или выступали отдельно друг от друга. Когда имперская держава отказалась от суверенитета, единственными врагами остались коммунисты и те из националистов, которые желали разрыва с Западом. Король Мохаммед V и X. Бургиба, партии Истикляль и Неодестуровская могут быть правителями или партиями дружественных государств, т.е. вчерашний враг стал сегодняшним другом. Не существует разумной политики без способности забывать.
Распространилось убеждение, что победа националистов была написана заранее в книге судеб и соответствует Мир и война между народами • Раймон Арон и г* - г « 85
Часть I
детерминизму истории. Различные причины обеспечили победу революционеров Азии и Африки над европейскими империями. Однако в этот план формального анализа само по себе просится замечание. Неравенство решимости у противников было еще более заметным, чем неравенство материальных сил. Асимметрия воли, интереса, антипатии в воинственном диалоге консерваторов и повстанцев явилось последней причиной того, что французские авторы называют поражением Запада.
Достаточно ли сегодня воли, чтобы остановить националистическое движение? Алжирские данные по некоторым параметрам сравнимы с данными тунисскими и марокканскими: в них французская стратегия колеблется в определении противника, стремясь то включить в их число всех националистов, то, напротив, ограничить их число только активистами ФНО или даже только “ястребами” ФНО. В Алжире также французская стратегия сталкивается с трудностями одержать военную победу, которая должна была бы быть всеобщей, чтобы не быть опротестованной. Эта победа невозможна, исходя из самой природы повстанческой армии, разбросанной в гористой местности и получающей обеспечение из-за рубежа. Но всем этим классическим аргументам противостоит один: партизанская армия в еще меньшей степени может одержать победу над регулярной армией. Если правящие круги готовы тратить сотни миллиардов франков в год в течение нужного времени, если армия находит соответствующим для нормального функционирования военного ремесла охоту на партизан, если общественное мнение метрополии принимает этот затянувшийся конфликт и соглашается на необходимые жертвы, то возникает реальная невозможность победы для двух сторон, которая также очевидна для повстанцев, как и для сил порядка, потому что потери среди повстанцев больше, чем у сил порядка.
Французы, осевшие в Алжире, настроены не менее решительно, чем повстанцы, и они передали свое нежелание части французского населения в метрополии. Но мало вероятно, чтобы это упорство изменило развязку. Не вызывает, однако, сомнения, что оно изменит ход событий.
4. Ведение боевых операций и стратегия
Политика не определяет лишь комплексную концепцию стратегии. В необходимых случаях она определяет проведение баталий, тот риск, который может принять главнокомандующий, границы, которые стратег должен обозначить для инициатив тактика.
Приведем еще примеры для того, чтобы проиллюстрировать эти формулы. Человек, который командует армией или флотом, не может поставить перед собой “единственную цель — победить” в большей степени, чем генерал, отвечающий за большой театр действий. В знаменитой битве за Ютландию, последней битве, в которой эскадры сражались без прикрытия авиации, адмирал Джеллико ни на минуту не забывал, что в тот день он мог проиграть не только битву, а всю войну. Напротив, ему не было необходимо уничтожить германский флот для того, чтобы добиться стратегически нужного результата. Он должен был отразить атаку германского флота, стремившегося прорвать блокаду, сохранив численное пре86
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
восходство: одним этим маневром он добился единственного успеха, необходимого для окончательной победы. Короче, возвращаясь к ранее принятым выражениям, английский флот победил уже тогда, когда не проиграл. Германский флот потерял уже тогда, когда не выиграл. Соотношение сил не изменилось: союзники сохраняли господство на морях.
С учетом комплексной стратегической перспективы адмирал Джеллико был прав, не преследуя германский флот таким образом, чтобы подставить линейные корабли под атаку подводных лодок или торпедных катеров. Конечно, уничтожение германского флота увеличило бы славу королевского флота, ударило бы по моральному духу немцев, усилило бы доверие к союзникам, подействовало бы на мнение нейтралов. Но эти успехи были незначительными, они были иллюзорными по сравнению с возможным риском для английского флота, необходимого для господства на морях, т.е. для самого существования западного лагеря.
В конечном итоге эта осторожность была оправдана последующими событиями. Германский флот не оказывал никакого влияния на ход войны. Он повысил престиж, вступив в сомнительный бой, добившись некоторых технических и тактических успехов. Если главнокомандующий иногда ставит перед собой славу в качестве высшей цели, его подчиненный не должен ставить перед собой другой цели кроме той, которая соответствует плану военных операций.
В этом случае субординация локальных действий стратегической концепции является чисто военной, не относящейся к политике. Не так обстоит дело с тем решением, которое германские военачальники должны были принять по поводу неограниченной подводной войны (массированное нападение на суда подводных лодок. — Ред.). Мемуары Макса Вебера по этому поводу являются великолепной иллюстрацией политико-военного расчета, который напрашивается в подобных обстоятельствах.
Вопрос состоит не в том, чтобы узнать, отвечает ли или нет неограниченная подводная война — уничтожение торговых судов без предупреждения — международному праву? В действительности, она шла вразрез с правилами, принятыми основными государствами до 1914 г., однако ведение союзниками войны на море (блокада на расстоянии, закамуфлированное вооружение грузовых судов) вызывало не меньшее число упреков. Чисто теоретически основной вопрос состоял в том, чтобы узнать, вызовет ли решение о ведении неограниченной подводной войны объявление войны Соединенными Штатами, не замедлится ли вступление американцев в войну из-за отказа от такого решения?
Если предположить, что это решение действительно спровоцировало вступление американцев, оно могло быть не менее обоснованным, если бы подводные лодки могли обеспечить эффективную контрблокаду, помешать или замедлить транспортировку в Европу большой американской армии, и, наконец, если бы германская армия была способна победить до того, как влияние американской в полной сохранности армии почувствовалось бы на поле битвы. Ни одно из условий не было осуществлено. Стратегические решения команды Гинденбург—Людендорф — неограниченная подводная война, наступление на западном фронте, поддерМир и война между народами • Раймон Арон 87 жж*
Часть I
жание относительно больших сил для сохранения завоеваний на востоке — были в основном ошибочными, по меньшей мере слишком авантюрными. Главы центральных империй сыграли вабанк, не отступая ни перед вызовом Соединенным Штатам, ни перед наступлениями, которые ускоряли неминуемое поражение в том случае, если они не приносили всеобщей победы. Для того, чтобы читатель не потерял чувства исторической иронии, добавим, что американский флот применял то, что в 1917 г. называли неограниченной подводной войной, с первого дня военных действий против Японии.
Не является чем-то оригинальным ограничение военных операций в зависимости от политической ситуации, на которое жаловались в Корее американские генералы и в Алжире французские генералы. Возможно, что бомбардировки аэродромов в Манчжурии в 1951 или в 1952 гг. не спровоцировали бы расширения театра действий или увеличения числа воюющих сторон. Однако бомбардировки не изменили бы в значительной степени ход боев, потому что китайские МИГи не атаковали позиции американцев и не мешали американским бомбардировщикам выполнять их миссию. Кроме того, в ответ на бомбардировки аэродромов Манчжурии китайцы могли бы осуществить бомбардировки корейских портов или же баз в Японии. Неписаное соглашение этой ограниченной войны содержало в себе взаимное уважение к “зонам укрытия”, “святыням”, находящимся за пределами территории, где разворачивалось соперничество двух Корей, поддерживалось соответственно китайцами и американцами.
Несколько отличается решение Францией проблемы Туниса (с 1955 г.). Теоретически Тунис был нейтрален в конфликте между ФНО (Фронт национального освобождения) и французскими властями в Алжире, который, с точки зрения международного права, не являлся войной. Фактически Тунис, на территории которого располагались войска ФНО, не вел себя как нейтральное государство, он помогал повстанцам, что противоречило международным нормам того времени, но соответствует современным нормам. С точки зрения права и морали, Франция могла проводить, по меньшей мере, рейды на базы алжирских партизан. Важно знать, каковы будут последствия, цена и отдача от таких рейдов.
Вторжение в Тунис, пусть даже временное, возможно, сделало бы неизбежным отъезд оставшейся части “французской колонии” и вынудило бы правительство X. Бургибы порвать с Францией и искать поддержку в другом месте. Оно вызвало бы осуждение (справедливое или нет, не столь важно) со стороны общественного мнения Азии и Африки и значительной части общественного мнения западных стран. Эти политические минусы могли быть сбалансированы только за счет военных завоеваний значительного масштаба. Для окончательного разрушения баз ФНО в Тунисе необходимо было бы на долгий срок оккупировать страну (не вдаваясь в политические резоны, этого не хотел французский генеральный штаб, у которого не хватало войск). Временная оккупация Туниса, которая могла бы иметь непредсказуемые политические последствия, изменила бы в малой степени основные начальные обстоятельства алжирского конфликта.
88 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
Данный анализ в меньшей степени доказывает определенный тезис, скорее он напоминает общеизвестное суждение. В новейшей истории Европы редко происходили события, когда правящие круги имели полную свободу делать все, что казалось им эффективным и полезным в чисто военном плане. То, что генералы должны отказываться от определенных акций, учитывая международное право, скорее правило, чем исключение.
Возможно, было бы хорошо предусмотреть последний вариант политиковоенного решения, спровоцированного развитием событий, ответственность за который министры и генералы перекладывают друг на друга: решение защищать Лаос, затем организовать оборону вокруг укрепленного лагеря Дьен-Бьен-Фу. Тезисом незадачливого генерала является то, что решение защищать Лаос от вторжения Вьетмина было принято “верховным главнокомандующим” в лице правительства в Париже. Продолжая, защита говорит, что это решение вынудило бы разбить укрепленный лагерь в Дьен-Бьен-Фу, единственном месте, откуда можно было защищать Лаос. В очередной раз не в нашей власти провести детальный анализ ситуации, т.е. определить, действительно ли лагерь в Дьен-Бьен-Фу является единственным возможным решением защитить Лаос, и мог ли этот лагерь быть организован таким образом, чтобы сопротивление имело бы шанс на успех, если бы, несмотря на все кажущиеся признаки, этот лагерь выполнил, по меньшей мере, одну функцию — защитить столицу Лаоса и отвести от Тонкинской дельты основные силы Вьетмина.
Ретроспективная полемика между правительством и военным командованием относительно Лаоса или ДьенБьен-Фу нас интересует вдвойне, потому что она касается двух аспектов отношений между стратегией и политикой. Действительно, с политической точки зрения было важно защитить Лаос, правящие круги и население которого были наименее враждебны из “ассоциированных государств” к Франции. Потеря Лаоса, факт второстепенный с военной точки зрения, нанесла бы серьезный удар по престижу Франции во всем Индокитае и открыто символизировала бы слабость французского оружия. Однако было бы ошибочным делать из этого заключение, что политические и военные соображения вступили в конфликт. Забота о престиже, учет морального значения владения территорией входят в компетенцию политического порядка, не решая, конечно, всего. При любой конъюнктуре частные политические аргументы могут войти в противоречие с частными военными аргументами. Но в данном случае речь не идет о конфликте между стратегией и дипломатией, потому что и у военных, и у политиков часто имеются аргументы за и против какого-либо решения.
Было бы ошибочным путать частные мотивы политического характера с самим политическим порядком, который в основном определяется совокупностью и объединяющим разумом. “Политика объединяет и примиряет интересы внутренней администрации с интересами человечества и со всем тем, что может предположить философский склад ума, так как она по своей сути является представителем всех интересов по отношению к остальным государствам”1. То, чего не хватало правящим 1 Клаузевиц К VIII 6 С 705
Мир и война между народами • Раймон Арон ч. v-кл n 89
Часть I
кругам, которые, находясь в Париже, должны были вести войну на Дальнем Востоке, — это общего взгляда на саму войну, на те интересы, которые они хотели сохранить, на цели, которые они перед собой ставили. Как только в континентальном Китае победили коммунисты, могли ли правящие круги Франции надеяться на победу над Вьетмином? При такой гипотезе они полностью недооценивали соотношение сил. Хотели ли они поддерживать половинчатую власть Франции в ассоциированных государствах, или же удерживать их вне зоны влияния Вьетмина? Если первый термин альтернативы правилен, власти подчиняли основную цель—ограничить коммунистическую экспансию — вторичной цели, условиям взаимоотношений между Францией и ассоциированными государствами. Предполагали ли они прямые переговоры с Вьетмином или расширенные переговоры с участием Китая, Советского Союза и западных стран? В зависимости от такой стратегической перспективы было возможно уточнить необходимые меры и гарантии, которые должны сохраняться любой ценой. Так как эта глобальная перспектива отсутствовала, политика впала в ошибку, указанную Клаузевицем: “Если политика требует от войны того, что она не может дать, то она (политика) действует вопреки своим принципам: она должна знать то средство, которым она будет пользоваться, и, соответственно, знать то, что естественно и абсолютно необходимо”15. Если продолжить дискуссию с Клаузевицем, то в Индокитае нужно было обвинять не “пагубное влияние политики на ход военных действий”, а обвинять саму политику. “Только в том случае, если политика рассчитывает на непредсказуемые последствия от применения ряда военных мер и средств”, она оказывает опасное воздействие на ход войны, диктуя ей определенный ход развития. “Подобно тому человеку, который плохо разговаривает на каком-либо языке и иногда говорит не то. что хотел бы сказать, политика часто отдает не те приказы, которые соответствуют ее намерениям”16.
Самым плохим является то, что политика не отдает приказов, или же то, что политическое и военное руководство взаимно игнорируют друг друга. В Индокитае военное руководство приняло решение разбить укрепленный лагерь у Дьен-Бьен-Фу до созыва Женевской конференции, о возможности созыва которой они абсолютно ничего не знали. Международная конференция внесла большие коррективы в составные части проблемы, в том числе и в военные проблемы. Она побудила Вьетмин предпринять не простое усилие и добиться впечатляющих успехов накануне переговоров. Политика должна была бы посоветовать французскому генеральному штабу проявить крайнюю осторожность. Вьетмин должен был добиться впечатляющего успеха, а французский экспедиционный корпус должен был любой ценой не дать ему добиться этого.
5. Дипломатия и военные средства
Вернемся к одной из формулировок Клаузевица, которую мы цитировали: политика должна знать те средства, ко15 Там же. VIII. 6. С. 706.
16 Там же. VIII. 6. С. 707.
90 л Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
торыми она будет пользоваться. Эта формулировка справедлива как в мирное, так и в военное время. До войны в Корее проведение Американской республикой внешней политики колебалось из крайности в крайность, ею владела единственная цель — победа в войне, она была равнодушна к военным проблемам в мирное время. Алексис де Токвиль уже отметил эту склонность к двойственному неразумию — минимум солдат в обычное время, пренебрежение дипломатическими тонкостями, когда говорит оружие, — в этом он видел проявление духа демократии.
Напротив, рационализм заставляет думать о мире вопреки грохоту битв, не забывать о войне вопреки молчанию оружия. Отношения между нациями вечны, дипломатия и война лишь дополнительные факторы, они поочередно доминируют, но никогда одна из них не исчезает полностью в угоду другой. Это происходит лишь в экстренных случаях абсолютной вражды или абсолютной дружбы и полного федерализма.
В мирное время военная индифферентность может принимать две формы: одна характерная в наше время для Соединенных Штатов, другая — для Франции. Первая форма путает военный потенциал с имеющимися вооруженными силами, предполагает, что дипломатические ноты имеют одинаковую силу независимо от того, подкреплены ли они статистическими данными о металлургической промышленности или же наличием флота броненосцев, авианосцев и самолетов. С 1931 по лето 1940 г. Соединенные Штаты одновременно отказывались и признавать завоевания Японии, и противостоять силой этим завоеваниям.
Второй вариант дипломатии, несогласованной со стратегией, — это французский вариант, который характеризуется противоречием между войной, которую с военной точки зрения можно вести, и войной, которую дипломатические соглашения обязывают в дальнейшем вести. Между 1919 и 1936 гг. оккупация или разоружение правого берега Рейна давали Франции возможность навязывать свою волю Германии, для этого ей было необходимо иметь стремление и смелость применять силу. До тех пор пока французская армия удерживала мосты через Рейн, она в случае конфликта имела почти решающее преимущество. С первого дня вооруженного конфликта она имела возможность ударить в сердце промышленного арсенала Рейха. При такой военной конъюнктуре теневые альянсы со странами, появившимися после распада Австро-Венгерской империи, содействовали в меньшей степени укреплению безопасности Франции, чем осуществлению гегемонии Франции на Старом континенте. При той ситуации, что Германия, открытая на запад, с востока и юга была окружена враждебными ей государствами, Франция распространяла свое могущество до границ Советского Союза. Для поддержания этого превосходства ей необходима была армия, способная с наступательной точки зрения извлечь выгоду от демилитаризации левого берега Рейна и запретить Рейхсверу повторную оккупацию этой зоны, жизненно важной с военной точки зрения. В решающий момент, в марте 1936 г., военный министр и генеральный штаб потребовали провести всеобщую мобилизацию, прежде чем согласиться на контратаку. У Франции не было армии для вторжения, и, соорудив линию МаМир и война между народами • Раймон Арон 91 р-
Часть I
жино, она заявила о своей оборонительной военной позиции, которая отвечала духу, а не требованиям консервативной дипломатии. Для поддержания статуса Версаля и системы союзов в балканской и восточной Европе Франция должна была бы быть способной на военные инициативы для того, чтобы помешать Германии нарушить основные положения Версальского договора.
Как только Рейнская область была вновь оккупирована рейхсвером, который превратился в регулярную армию, изменился смысл обязательств, принятых Францией по отношению к Чехословакии, Польше или Румынии. Франция обещала противостоять германской агрессии военными действиями, которые представляли ли бы собой длительную войну по типу войны 1914—1918гг. Если бы разразилась эта война, западные союзники стали бы силовой поддержкой, однако эта помощь была бы шаткой, потому что германская волна могла накрыть эти уязвимые страны быстрее, чем это было с Сербией и Румынией во время предыдущего конфликта. Кроме того, было легко представить обязательства французской стороны как содержащие в себе риск неминуемой войны. Короче говоря, не был бы доволен Гитлер в тот день, когда в соответствии со своей идеологией он сумел бы объединить всех немцев в одном Рейхе? (единый народ, единый Рейх, единый фюрер)?
Дипломатия, которая намеревается действовать без боеспособной армии, дипломатия, которая располагает армией неспособной на действия, требуемые поставленными целями, — эти два отклонения от разумной рациональности объясняются психологией правящих кругов и народов, а также интеллектуальными ошибками. До эры стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет у Соединенных Штатов не было опасных соседей. Они завоевывали пространство за счет индейцев (хватало полиции) и природы (зачем нужны солдаты?). Так называемая политика силы была изобретением деспотических режимов, одним из аспектов европейской коррупции, которую удалось избежать. Отказ признать территориальные изменения, произведенные путем применения силы, одновременно выражали неясную идеологию права, стремление не ввязываться в войну и смутную веру в конечный триумф морали над насилием.
Разоружение американцев в 1945 г., bring the boys back (верните наших парней), было последним эпизодом этой традиционной политики (или не политики), последним символом коренного разрыва между войной и миром. Необходимо было выиграть войну: остальные дела были отставлены в сторону, и работа была сделана, и хорошо сделана. Наступил момент вернуться к гражданской жизни, к промышленности, торговле, спорту, к тому, что занимает граждан свободной демократии после того, когда люди (недобрые или безумные), фашисты или империалисты не могли больше вредить.
Разрыв Франции с военно-политическим союзом также имел психологические причины. Версальский статус имел искусственный характер в том смысле, что он не отражал действительного соотношения сил в тот момент, когда Великобритания и Соединенные Штаты проявили к нему свою враждебность и равнодушие. Если бы Советский Союз и вновь вооруженная Германия объединились с целью разрушить этот 92 а Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
статус, то одна Франция только со своими континентальными союзниками не смогла бы его спасти. Логически эта хрупкость европейского порядка после 1918 г. должна была бы побудить Францию использовать в полной мере и сохранять как можно дольше те преимущества, которые она получила от победы (разоружение Германии, беззащитная Рейнская область). Разум диктовал проведение активной обороны, опирающейся на угрозу военных действий (по меньшей мере, открытая попытка утихомирить Веймарскую Германию1, дав ей сатисфакцию). Однако чувство потенциальной неполноценности проявлялось даже тогда, когда на деле существовало превосходство. Военная организация отражала стремление к безопасности и к отступлению в полном порядке, тогда как дипломатия витала еще в облаках гегемонии.
С 1945 г. координация дипломатии и стратегии носит негласный характер по причине разнообразия боевой техники. До атомной эры никто не планировал применять различные виды оружия в зависимости от обстоятельств. Сегодня никто не помышляет применять в любой войне термоядерную бомбу или даже тактическое атомное оружие. Когда-то природа конфликта определяла объем используемых ресурсов и коэффициент мобилизации имеющихся или потенциальных сил. Сегодня она определяет типы применяемых вооружений.
Весьма очевидно, что ведение войн будет более политизированным, чем в прошлом. Не может быть и речи о том, чтобы дать “карт бланш” военному командованию любыми средствами и любой ценой выиграть войну. Даже понятие “выиграть” не имеет, возможно, того же значения, и в любом случае поднимавшийся всегда вопрос о цене становится решающим: зачем уничтожать противника, если он одновременно ответит вам тем же?
Скажем, что в общем плане все имевшиеся вчера вопросы встают вновь: какая часть потенциальных сил должна постоянно находиться под ружьем? При каких стратегических вариантах необходимо организовывать подготовку к войне? Какие миссии в определенных случаях политика может поручать армии? Но отныне к этим классическим вопросам добавляются оригинальные вопросы: сколько разновидностей войны нужно предусматривать в соответствии с видами применяемого вооружения? К скольким войнам должно быть готово государство? До какого уровня могут быть разделены в административном порядке военные аппараты, которые начнут действовать в различных случаях? Те ли же войска вступят в действие в случае всеобщей войны, ограниченной войны с применением атомного оружия, ограниченной войны с использованием обычных вооружений? Организация национальной обороны всегда являлась выражением стратегической доктрины, но виды вооружений могли быть более или менее многочисленными и применяться по различным методикам: военному руководству не приходилось выбирать между арсеналами оружия. В настоящее время различие арсеналов оружия стало явью.
Одновременно вновь под другой формой возникла опасность, существовавшая полвека назад: в решающий момент дипломатия рискует оказаться 1 После прихода к власти Гитлера этой теоретической возможности уже не существовало.
Мир и война между народами • Раймон Арон
93
Часть I
заложницей военных механизмов, которые необходимо создавать заранее. Правящие круги вольны давать им ход или нет, но они не могут более их изменять. В течение роковой недели июля 1914 г., которая предшествовала взрыву, дважды начальники генеральных штабов России и Германии объясняли монархам и их советникам, что некоторые меры были технически невозможны. Царь хотел провести частичную мобилизацию против Австрии, но подобная мобилизация не была предусмотрена: она могла бы опрокинуть все планы и ускорить хаос. Итак, единственной стратегией, предусмотренной императорским генеральным штабом, была война на два фронта с первоначальной обороной на западе. Рейх также не мог провести мобилизацию против одной России и после мобилизации оставаться с оружием наготове: как можно скорее Франция должна быть атакована и повержена, прежде чем Россия введет в бой свои основные силы. В определенный момент, когда судьба еще колебалась, включился механизм военной машины, подготовленной в соответствии с военными планами, и люди, помимо их воли, оказались вовлечены в военные действия.
В настоящее время так называемая стратегия сдерживания требует, чтобы репрессивный аппарат был готов заранее. Существует ли риск того, что этот аппарат будет введен в действие по ошибке? Или же он начнет функционировать в соответствии с заранее составленными планами, в то время как по различным причинам военное руководство захочет изменить эти планы (частичное возмездие, а не всеобщее возмездие)? До 1914 г. действовал только автоматизм “административных машин”, военной бюрократии, отвечавшей за мобилизацию. В 60-е г. опасаются автоматизма электронных машин в такой же степени, как и автоматизма стратегических планов. В 1914 г. государственные деятели имели несколько дней для принятия решений. В 60-е г. у них было бы лишь несколько минут.
Действительно, слишком просто говорить только о двух действующих лицах. Особенно в нашу эпоху государства средних размеров должны определить свое место по отношению к противоположной коалиции, а также по отношению к союзникам, которые также желают поражения противника, но которые могут противиться или быть безразличными к особым целям своих соратников по борьбе. В период между 1939 и 1945 гг. Соединенные Штаты и Великобритания не были обязаны спасать французскую империю. Объединившись с целью уничтожить Третий рейх, Соединенные Штаты даже на Западе не всегда преследовали те же цели.
Любопытно, что самые большие разногласия между американцами и англичанами не были вызваны реальными противоречиями их интересов. У Соединенных Штатов было не меньшее, чем у Великобритании, желание ограничить советскую экспансию, предотвратить советизацию Восточной Европы. Стратегия вторжения на западе, атаки “самых крупных сил” противника была продиктована исключительно военными доводами. Правда, что тогда Рузвельт и его советники представляли это не так, как представляют сегодня американские руководители западное сообщество и неистребимую враждебность Советского Союза.
Концепция, которая отличалась бы от концепции победить наилучшим об94
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
разом, способна сделать затруднительным ведение войны коалицией. Но очень редко различные варианты победы дают одни и те же результаты всем партнерам. Логично, что каждое государство хочет внести свой вклад в победу, но при этом не желает стать слабее своих союзников. Эти противоречия неизбежно ослабляют эффективность коалиции.
Двойственный характер соображений — защита собственных интересов и вклад в общее дело — перемешивается с полиморфизмом войн и создает современную конъюнктуру атлантического союза. Правило поведения в коалиции, которому надо следовать и которое чаще всего действует, состоит в концентрации сил на той территории, где особые интересы страны являются наиболее важными. В этой связи война в Индокитае, даже рассматриваемая как фронт сопротивления коммунизму, была ошибкой со стороны Франции, которая задействовала значительную часть своих общих ресурсов на театре действий, который был для нее и для Запада вторичным.
В этом контексте более оправдан перевод в Алжир большей части французской армии. Конечно, по этой причине коалиция стала слабее, отныне щит НАТО слишком тонок. В соответствии с тем, что другие западные страны не считают алжирский национализм опасным, они склонны критиковать Францию и за то, что она не вносит обещанного вклада в атлантическую армию, и за то, что она компрометирует отношения между Западом и исламским миром. Даже если эти упреки с точки зрения союза были обоснованными, из этого не вытекает, что решение Франции было ошибочным. Ослабление атлантической армии чувствительным образом не увеличивает опасность войны в Европе; перевод французских дивизий дает шанс сохранить суверенитет на юге Средиземного моря. Если бы этот суверенитет имел жизненно важное значение, ввод в Алжир основных сил был бы оправданным, даже если это не понравилось другим членам союза.
Опасность состоит в том, что, повторяя один и тот же довод — я мало забочусь об общем интересе, но я в большой степени забочусь о собственном интересе, — союзники, в конечном итоге, помогают победе противника. Нейтральный человек, который желает победы одного лагеря, но считает, что жертвы, которые потребует интервенция, слишком велики для него самого и не приносят существенной выгоды силам той партии, успеха которой он желает, прав при условии, если он не станет никого поучать. В конечном счете, останется лишь одно государство, которое будет нести бремя необходимых действий. В той же мере можно спросить, один ли лишь лидер коалиции склонен путать интересы коалиции со своими собственными?
В течение уже нескольких лет для каждого союзника становится более трудным выбор его вклада в союз из-за возможности альтернативного применения обычного или атомного оружия. Вчера Великобритания, сегодня Франция хотят войти в атомный клуб: какая часть останется на долю обычного оружия, если атомное оружие и ракеты-носители получат то, к чему они стремятся? Даже понятие выбора становится двусмысленным: защитит ли атомное оружие Францию от возможной советской агрессии или возможного шантажа, или усилит ли оно позицию Франции внутри союза?
Мир и война между народами • Раймон Арон *
95
Часть!
Политика, осуществляющая в единстве мир и войну, дипломатию и стратегию, исключает полную солидарность союзников. Только чудо смогло бы обеспечить совпадение всех интересов всех членов коалиции. Сила коалиции всегда меньше суммы сил, которыми она располагает на бумаге.
♦ * ♦
Примат политики — это теоретическое предложение, а не совет к действию. Но это теоретическое предложение по своей природе делает больше добра, чем зла, если считать, что уменьшение насилия является желательным.
В действительности, примат политики позволяет замедлить переход к крайностям, избежать того, чтобы враждебность не переросла в сплошные эмоции и безграничную жестокость. Чем больше главы государств оперируют понятиями стоимость и прибыль, тем меньше они склонны оставить перо и взяться за мечи; чем больше они сомневаются в том, что стоит ли полагаться на милость оружия, тем больше они довольствуются ограниченными успехами и отказываются от пьянящего чувства блестящих побед. Разумное осуществление политики рационально только в том случае, если конечной целью взаимоотношений между государствами является выживание одних и других, общее процветание и экономия крови народов.
Конечно, подчинение войны политике в действительности не означает умиротворение международных отношений. Природа войны зависит от комплекса исторических обстоятельств. “Если политика является грандиозной и сильной, то война будет такой же и даже сможет достичь высот, на которых она принимает свою абсолютную форму”18. Но, если война является обликом политики, если она изменяется в зависимости от ставки, сделанной политикой, умиротворение перестает быть непостижимым. Расчет может сделать для принцев (глав государств. — Ред.) тот факт, что цена войны в любом случае будет выше доходов, полученных от победы.
И еще, этот расчет должен убедить действующие лица. Иначе, он ни для чего не будет нужен и даже рискует вызвать неравенство решений, ускорить этот процесс, который пытаются избежать. Уже на этом уровне вновь возникает принцип полярности: только от одной противоборствующей стороны не зависит то, чтобы война носила ограниченный характер. “Если одна из двух воюющих сторон приняла решение ступить на путь великих решений военным путем, ее шансы на успех велики, если только вторая сторона решила не вступать на этот путь”19. Теория войны в атомный век была бы легкой, если бы поведение одного действующего лица в каждый момент не было подчинено реакции другого действующего лица.
Для того чтобы дипломатический или воинственный диалог был разумным, необходимо для этого согласие обоих собеседников.
18 Клаузевиц К. VIII. 6. С. 704.
19Тамже. I. 2. С. 81.
96 г.; х <4 >' V
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
ГЛАВА II
Могущество и сила, или Средства внешней политики
Немногие концепции применяются так часто и являются такими двусмысленными, как могущество (power, Macht). Англичане вспоминают power politics (политика силы), немцы — Macht Politik с оттенком критики или безропотности, ужаса или восхищения. На французском языке выражение “политика силы” звучит странно, как если бы оно было переведено с иностранного языка. Немногие французские авторы прославляли политику силы на манер некоторых немецких доктринеров Macht Politik. Немногие французские авторы заклеймили политику силы так, как некоторые американские моралисты заклеймили power politics.
В самом общем смысле, могущество — это способность делать, производить или разрушать. Взрывчатое вещество обладает измеряемой мощностью, также можно измерить силу прилива, ветра, землетрясения. Силу одного индивидуума или коллектива нельзя измерить с точностью по причине разнообразия поставленных целей и используемых средств. Тот факт, что люди применяют свою силу в основном против себе подобных придает этой концепции в политике достоверное значение. Мощь одного индивидуума — это способность делать, но прежде всего это способность влиять на поведение или на чувства других индивидуумов. В международных отношениях я называю могуществом способность одного политического объединения навязывать свою волю другим объединениям. Вкратце, политическое могущество является не абсолютным (т.е. безотносительным. — Ред.) понятием, а фактором человеческого общения.
Это определение содержит несколько различий: различие между могуществом защитного порядка(пли способностью политического объединения не допустить того, чтобы другие навязывали ему свою волю) и могуществом наступательного порядка (или способностью одного политического объединения навязывать другим свою волю); различие между ресурсами или военной силой одного коллективного образования, которые могут быть объективно оценены, и могуществом, которое в качестве фактора человеческого общения зависит не только от материала и орудия; различие между политикой с позиции силы и политикой могущества. Всякая международная политика содержит в себе постоянное столкновение волеизлияний, потому что она состоит из отношений между суверенными государствами, которые претендуют на то, чтобы свободно принимать решения. До тех пор пока эти объединения не подчиняются законам и суду, они, сами по себе, являются соперниками, ибо каждое из них затронуто действием других и неизбежно подозревает их в намерениях (недобрых. — Прим. пер.). Однако столкновение этих устремлений необязательно приводит к военному противостоянию, потенциальному или реальному. Отношения между политическими объединениями не всегда носят воинственный характер, а мирные взаимоотношения харакМир и война между народами • Раймон Арон
97 -
Часть I
теризуются, но не определяются прошлыми или будущими военными действиями.
1. Сила, могущество, власть
Французский, английский, немецкий языки в равной степени различают два понятия: могущество и сила, la puissance et la force, power and strength, Macht und Kraft. С языковой точки зрения мне не кажется противоречивым сохранить первый термин за человеческими отношениями, за самой деятельностью, а второй — за орудиями, мускулами индивидуума или за вооруженными силами государства.
С физической точки зрения сильным человеком является тот человек, который, благодаря своему весу или своей мускулатуре, располагает средствами сопротивляться другим людям или же склонить их к своей воле. Однако сила ничто без нервного импульса, изобретательности, решимости. То же самое мы предлагаем в отношении коллективных образований: различать силы военные, экономические и даже моральные от могущества, которое представляет собой приведение в действие этих сил в определенных обстоятельствах и для достижения определенных целей. Если существует возможность дать примерную оценку сил, то определить могущество со ссылкой на имеющиеся силы можно лишь с большим допуском. Существует так много возможных расхождений между оборонительным и наступательным могуществом, между могуществом в военное и в мирное время, могуществом в рамках определенной географической зоны и могуществом за пределами этой зоны, что расчет предполагаемого абсолютного и действительного могущества мне кажется скорее вредным, чем полезным. Вредным для государственного деятеля, который полагает, что он владеет точной информацией, в то время как он располагает лишь незначительно важной долей конечного результата, имеющего сомнительное значение. Вредным для человека науки, который подменяет межгосударственные отношения, т.е. отношения человеческих коллективных образований, конфронтацией масс и тем самым лишает предмет изучения его действительного смысла.
Понятие сил, в свою очередь, требует определения различий. По меньшей мере, до наступления атомного века движущей силой и конечным результатом войны была борьба. Столкновение солдат независимо от расстояния между противниками, которого требовал прогресс вооружений, оставалось высшим испытанием, сравнимым с расплатой наличными деньгами, которой заканчивались все кредитные операции. В день развязки, т.е. в день сражения, на судьбу оказывали воздействие лишь действительно отмобилизованные силы, обращенные в пушки и снаряды сырьевые ресурсы, вовлеченные в битву граждане. “В действительности нам нужны не уголь, сера и селитра, медь и цинк, необходимые для изготовления пороха и пушек, а готовое оружие и его эффективность”1.
Назовем потенциальной силой комплекс материальных, людских, моральных ресурсов, которым на бумаге владеет каждое объединение; назовем реальной силой те из этих ресурсов, которые привлечены для проведения внешней политики в военное или в мирное
1 Клаузевиц К. II. 2. С. 139.
98 Раймон Арон • Мир и война между народами
время. В военное время реальная сила приближается к военной силе (не путать полностью с этой силой, так как ход операций определяется и невоенными условиями борьбы). В мирное время реальная сила не смешивается с военной силой, потому что дивизии, флоты и авиация, находящиеся в готовности, но не действующие, являются лишь одним из инструментов на службе внешней политики.
Между потенциальными и реальными силами существует мобилизация. Силы, которые каждое политическое объединение использует в споре с другими объединениями, пропорциональны не потенциалу, а мобилизационному потенциалу. В свою очередь, этот потенциал зависит от различных обстоятельств, которые можно свести к двум абстрактным терминам: способность и воля. Условия для реализации способности, экономической или административной, и коллективной решимости, утверждаемой руководством и поддерживаемой массами, не являются постоянными в течение хода истории, они меняются от эпохи к эпохе.
Одна ли природа у могущества людей, находящихся у власти, и у политических объединений?
Связь между двумя понятиями власти (обозначенными одним и тем же словом на английском и немецком языках power, Macht) внутри политического объединения и могущества самого политического объединения легко ощущается. Политическое объединение утверждает себя путем противостояния, оно становится собой тогда, когда становится способным действовать за своими пределами. Однако политическое объединение может действовать как таковое лишь через посредство одного или нескольких людей. Переводя дословно с Теория
немецкого языка выражение — те, кто приходят к могуществу (an die Macht kommen) — это проводники, представители политического объединения в отношении внешнего мира. В то же самое время им поручено мобилизовать силы объединения для того, чтобы выжить в джунглях, где сражаются “холодные чудовища”. Другими словами, до тех пор пока международные отношения не вышли из своего первоначального состояния, люди во власти, т.е. ответственные представители нации в отношении внешнего мира, являются в то же время людьми могущества, иначе говоря, держателями широких полномочий, позволяющих им влиять на поведение себе подобных и на само существование коллективного объединения.
Этот анализ не приводит нас к смешиванию понятий могущество и власть. Действия государственного деятеля носят иной характер, они не ограничены одними и теми же рамками в случаях, когда они направлены на внутренние или внешние дела, даже если в обоих этих случаях они стремятся предопределить поведение других людей. Является ли правитель наследным монархом или главой партии, считает ли он себя правителем по рождению или избранным правителем, он хочет быть легитимным правителем, ему гораздо легче заставить повиноваться себе, если эта легитимность широко признана. Условия, при которых то или иное лицо приходит к власти, а также правила, согласно которым правитель должен управлять, требуют создания соответствующих кодексов. Выбор главы государства и формы управления постепенно приобретают официальные формы. Создание официальных форм в современных обществах приобретает легальМир и война между народами • Раймон Арон
- 99
Часть I
ный характер и выражается в абстрактных формулировках. Однако во все времена подразумевалось, что существует различие между приказами завоевателя и законного правителя. По крайней мере, вначале завоеватель применяет или призывает чистую силу, а правитель называет себя выразителем чаяний самого коллективного объединения в соответствии с традицией или законом, который установил правила преемственности правителей, или в соответствии с решением судьбы или волеизъявлением народа.
Однако смешивание понятий власть и могущество объясняется не только той ролью, которую играют правители на международной арене. Часто, в начале, это могущественные люди, которые добились успеха. Политические объединения, конституционные режимы обязаны своим происхождением насилию. В школах маленьких французов учат: за тысячу лет короли создали Францию. Никогда авторы наших учебников не смущались упоминанием войн, в ходе которых короли объединяли страну вопреки воле феодалов или чужаков, или напоминаниями о насилии, с помощью которого революционеры в 1789, 1830, 1848 гг. сбросили трон. Даже в 1958 г. голосование в Национальной ассамблее скорее закамуфлировало незаконность нового режима, чем поставило печать законности на его приход. Угроза насилия — высадка парашютистов — это тоже форма насилия.
От этих неоспоримых фактов мы плавно переходим к так называемой реалистической интерпретации, выражением которой является социология Парето. Борьба за власть сама по себе является соперничеством могущества, а активные меньшинства на всех этапах являются участниками этого соперничества. Легализация власти не изменила бы значение этого феномена: правящие классы сражались бы так, как это делают политические объединения, и победивший класс осуществлял бы свою власть таким же образом, как правит завоеватель.
На мой взгляд, подобная интерпретация искажает смысл политики (рассматриваемой как особая система внутри социальной совокупности), которая является стремлением к справедливому порядку и в то же время борьбой индивидуумов и групп за руководящие посты и раздел особо ценных благ. Однако правильным остается утверждение, что внутри коллективных объединений борьба за власть и ее осуществление сохраняют некоторые общие черты с соперничеством за власть среди автономных объединений.
Тот, кто руководит в силу законов, реально лишь более или менее обладает могуществом, т.е. способностью навязывать свою волю в соответствии с авторитетом перед своими компаньонами, партнерами, конкурентами или подчиненными, а также в соответствии с престижем, которым он пользуется у малого или большого количества людей. Это могущество правителей или влиятельных групп никогда точно не определялось путем законного распределения полномочий или прерогатив. Степень влияния, которой действительно располагают индивидуумы и объединения, доля одних и других в принятии государственных решений, которые касаются либо отношений с иностранными государствами, либо взаимоотношений между фракциями коллективного объединения, зависят от средств воздействия, имеющихся у тех и других, и одновременно от таланта, который каждый проявляет в ис100 ч.ч 4 л V Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
пользовании этих средств. Конституция исключает открытое насилие, она намечает рамки и уточняет правила, по которым должна разворачиваться борьба за власть. При этом она не исключает элемента “соперничества за власть”.
И действующие лица внутриполитической борьбы движимы стремлением к могуществу и одновременно идеологическими убеждениями. Правители утоляют свои амбиции, очень редко свободные от личного интереса, даже тогда, когда они убеждены, что служат обществу. Формулировки Конституции, официальная практика работы парламентов, администраций, правительств не позволяют точно знать реальное распределение могущества внутри одной страны. Какова способность финансовых кругов, партийных функционеров, идейных лидеров или авантюристов убеждать или принуждать правительства, покупать поддержку прессы или администрации, вызывать бескорыстную преданность, трансформировать мнения элиты или толпы? На такой вопрос не существует общего ответа. Верно то, что было бы наивным судить об этом, буквально придерживаясь буквы Конституции или легальных процедур. Однако было бы циничным и неправильным считать Конституцию простой фикцией, а легальные правящие круги лишь носителями титулов и глашатаями. Было бы беспрецедентным, если бы правила игры не влияли на шансы игроков или если бы законные носители власти согласились исполнять волю других (даже если бы это были те, кто способствовал их продвижению).
Заодно открываются схожесть и различие между проведением “внутренней политики” и проведением “внешней политики” и причины, по которым расходятся теории той и другой, по крайней мере, при первом анализе. Теории внешней политики разрешено иметь своих действующих лиц — политические объединения, — не иметь судей или законов, делать ссылки на войну как на возможный случай, а также делать расчет сил, при отсутствии которого поведение действующего лица, которому угрожает агрессия, было бы нерациональным. Зато политическая теория является двусмысленной в том плане, что фундаментальные концепции не избежали вокруг них борьбы мнений. Для того чтобы уменьшить неуверенность в исходных данных политики, о ней можно говорить терминами постоянного соревнования (Кто кого? Как? Когда?), терминами требования мирного порядка любой ценой (гражданская война — это высшее зло, любой порядок предпочтительнее), терминами поиска лучшего порядка и, наконец, терминами согласия между дополнительными и отличающимися чаяниями (равенство и иерархия, авторитет и взаимное признание и т.д.).
Государства, которые взаимно признают свои суверенитет и равенство, по определению, не влияют друг на друга. Государственные деятели, которые руководят администрацией, армией, полицией, находятся на вершине законной иерархии. Различия между двумя типами проведения политики, дипломатически-стратегического, с одной стороны, политического — с другой, мне кажутся основополагающими, даже если существует множество сходных моментов. Могущество на международной арене отличается от могущества на внутренней арене, потому что размах его не тот, и оно не использует одни и те же методы, не действует на одной и той же территории.
Мир и война между народами • Раймон Арон 101 ‘
Часть I
2. Элементы
могущества
Многие авторы перечислили элементы либо могущества, либо силы, но не всегда заметно, говорят ли они о военной силе или о возможности глобальных действий, говорят ли они о мирном или военном времени. При отсутствии подобных различий эти перечисления кажутся произвольными, разнородными, и ни один список не кажется полным или бесспорным.
Например, американский географ Спайкмен перечисляет следующие десять факторов1: 1) площадь территории; 2) характер границ; 3) население; 4) отсутствие или наличие сырьевых ресурсов; 5) экономическое и технологическое развитие; 6) финансовая мощь; 7) этническая однородность; 8) степень социальной интеграции; 9) политическая стабильность; 10) национальный дух.
Профессор Г.Д.Моргентау нашел восемь факторов1 2; 1) география; 2) природные ресурсы; 3) производственные мощности; 4) состояние военной подготовки; 5) население; 6) национальный характер; 7) моральный дух нации; 8) качество дипломатии.
Рудольф Штайнмец3 также нашел восемь факторов; 1) население; 2) размеры территории; 3) богатства; 4) политические институты; 5) качество руководства; 6) единство и сплоченность нации; 7) уважение в мире и дружеские связи за рубежом; 8) моральные качества.
Наконец, немецкий автор, Гвидо Фишер4, накануне второй войны XX в. классифицировал элементы могущества на три категории:
1. Политические факторы: географическое положение, размеры государства, количество и плотность населения, организаторские способности и культурный уровень, характер границ и отношение соседних стран.
2. Психологические факторы: экономическая гибкость и способность к творчеству. Настойчивость и способность к адаптации.
3. Экономические факторы: плодородие почвы и запасы минералов. Организация промышленности и уровень технологий. Развитие торговли и сделок. Финансовое могущество.
Все эти попытки классификации похожи друг на друга за исключением последней. Все одновременно содержат данные географические (территория) и материальные (сырье), данные экономические и технические и, наконец, данные о людях, такие, как политическая организация, моральное единство и качество руководства. Без сомнения, все эти элементы в той или иной степени влияют на потенциальную или реальную силу политических объединений. Но ни одно из этих перечислений, на мой взгляд, не отвечает тем требованиям, которые теория вправе сформулировать.
Выделенные элементы должны быть однородными, иначе говоря, находиться на одном уровне обобщения в историческом соизмерении: во все времена количество населения, характер территории, качество вооружений или организованности влияет на силу наций; финансовые ресурсы ничего не зна1 America’ Strategy in World Politics. 1942. C. 19.
2 Politics among nations. New York. 1949. C. 80 и последующие.
3 Soziologie des Krieges. 2-е издание. 1929. C. 227—260.
4 Der wehrwirtschaftlische Bedarf. Zeitschrift für die gesamte Staatsivissenschaft. t. IC. 1939. p. 519.
102 Раймон Арон • Мир и война между народами
чили для монгольских завоевателей и очень мало значили для Александра (Македонского).
Перечень должен быть полным, а это означает, что элементы должны выражаться в виде концепций, охватывающих конкретное разнообразие феноменов, меняющихся от эпохи к эпохе. Даже зависимость военных действий от географической ситуации может меняться с изменением транспортной и боевой техники, однако влияние географического положения на возможные действия политических объединений является постоянной величиной.
Наконец, классификация должна быть такой, чтобы она позволяла понять, почему факторы могущества не являются одинаковыми из века в век, и почему мера могущества по существу является приблизительной. Это последнее замечание является одновременно очевидным и, по отношению к соответствующей многочисленной литературе, парадоксальным. Читая теоретиков, часто можно было бы подумать, что у них есть безошибочные весы для точного измерения могущества политических объединений. Если бы такое измерение было возможным, войн бы не было, потому что результаты были бы известны заранее. Или, по крайней мере, войны объяснялись бы только человеческим безумием. Нет войны на морях, пишет Анатоль Франс в “ Острове пингвинов”, поскольку иерархия флотов избавлена от сомнений. Поскольку все армии считают себя первыми в мире, только бой установит действительную иерархию.
Теория
Еще раз вернемся к Клаузевицу. Никто в большей степени, чем этот рациональный теоретик, не подчеркивал долю случая в войне. “Война — это область случая. Никакая другая сфера человеческой деятельности не оставляет такую свободу действий этому чужаку, так как ни одна из этих сфер не находится во всех отношениях в постоянном контакте с ним. Он усиливает неуверенность при любых обстоятельствах и сковывает ход событий"1. И еще: “На войне разнообразие, нечеткое разграничение всех отношений заставляет брать в расчет большое количество факторов. Большинство из этих факторов можно оценить только по закону вероятностей. Бонапарт точно сказал по этому случаю, что многие решения, которые выпадают на долю главнокомандующего в военное время, могли бы предложить Ньютону или Эйлеру математические задачи, которые не были бы недостойны их”1 2. И, наконец: “Большая неточность всех данных составляет особенную трудность войны, потому что любое действие происходит, так сказать, в потемках, которые часто придают вещам туманный или лунный вид, преувеличенные размеры, гротескную походку. При отсутствии объективной мудрости и здесь необходимо доверяться таланту, даже воле случая”3. Прибегая к войне, политика соглашается с большим количеством сомнений, она “мало озабочена конечными возможностями и придерживается сиюминутных возможностей”. Конечно, “все кабинеты считают себя более ловкими и прозорливыми в этой игре, чем их противники”4. Но их уве1 Клаузевиц К. I. 3. С. 86.
2Там же. I. 3. С. 101.
3Там же. II. 2. С. 133.
4Там же. VIII. 6. С. 704.
Мир и война между народами • Раймон Арон «мижадаетввваджте» 103
Часть I
ренность не всегда подтверждается событиями.
Полагают ли они, что теоретик могущества мог бы исключить неуверенность в войне и, прибавляя вес различных элементов, заранее объявить о развязке боев? Итак, могущество или способность коллективного объединения навязывать свою волю другому объединению не спутаешь с боеспособностью. Но если исход битв неясен, то это связано с тем, что военную мощь точно не измеришь, а глобальное могущество можно еще меньше измерить, чем военное.
Я предлагаю различать три основополагающих элемента: сначала пространство, которое занимают политические объединения, затем имеющиеся в наличии ресурсы и знания, которые позволяют превращать их в оружие, количество населениям искусство превращать его в солдат (или еще количество и качество орудий и бойцов), и, наконец, способность к коллективным действиям, которая включает также организацию армии, дисциплину бойцов, качество гражданского и военного руководства в военное и в мирное время, солидарность граждан перед лицом испытаний, удачи или неудачи. Эти элементы в их абстрактном выражении охватывают весь комплекс могущества, поскольку они эквивалентны суждению: могущество одного коллективного объединения зависит от арены его действий и от его способности использовать материальные и людские ресурсы, которые ему даны: среда, ресурсы, коллективная деятельность; таковы, совершенно очевидно, определяющие элементы могущества независимо от времени и условий соревнования между политическими объединениями.
Эти три термина, определяющие элементы могущества, в равной степени пригодны для его анализа на всех уровнях: от тактического эшелона малых воинских объединений до стратегического уровня, когда сталкиваются миллионные армии, и до дипломатического уровня, на котором постоянно соперничают государства. Могущество пехотного полка французской регулярной армии в противостоянии с пехотным полком алжирской армии национального освобождения зависит от места сражения, численности и вооружения и, наконец, от дисциплины и командования обоих полков. На высшем эшелоне стратегии или политики способность организовать армию, провести мобилизацию гражданского населения, подготовить солдат входит в структуру вооруженных сил и, похоже, характеризуется вторым термином: поведение военного руководства, его стратегический и дипломатический талант, а также решимость народа охватываются третьим термином.
Это перечисление порождает пригодные для всех предложения в меньшей степени, чем способ учета исторических перемен. Единственно первый термин частично избежал превратностей развития техники производства и разрушения.
Некоторые факторы способствуют оборонной мощи1, иначе говоря, они возводят препятствия на пути завоевателя: горы, реки, большие расстояния, пустыня. Чаще всего одна и та же территория, которая дает относительную 1 Существуют два аспекта обороноспособности: в военное время она сводится к способности остановить захватчика, в мирное время она зависит от могущества обороны и также от монолитности объединения.
Г.- 104 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
защиту объединению, в то же время уменьшает его наступательные возможности за пределами своей территории. “Малые государства”11 считают божьей благодатью преграды, созданные самой природой, потому что они не претендуют играть первые роли, теряют интерес к оборонной мощи. Однако оборонное могущество (военное) объединения является производным от характера занимаемого им пространства.
Именно своему рельефу обязана Швейцария своей исключительной обороноспособностью в военное время, своим пространствам обязана Россия тем, что ее никогда полностью не оккупировали с тех пор, когда московские князья стряхнули монгольское иго. Несмотря на блестящие успехи Наполеона и еще более блестящие успехи Гитлера, ни Наполеон, ни Гитлер не смогли победить сопротивление царя и мужиков, коммунистического государства и его народов. Взятие Москвы не сломило смелости Александра, Гитлер не взял Москву. Еще в 1941—1942 гг. Россия была обязана своим спасеньем географическому положению и недостаткам в модернизации (плохим дорогам), а также тем, что до начала конфликта на Урале были созданы и на Урал были переведены многие заводы.
Государство, которое имеет большие амбиции, должно быть уверено в своих собственных естественных преградах, сохраняя возможности для выступления за пределами своей территории. До недавнего времени расстояния лишали царскую и советскую Россию большой доли возможности к наступлению, и в то же время они усиливали ее обороноспособность. Англия в течение веков обладала территорией, достаточно удаленной от континента, что делало вторжение малоудобным. Эта территория была идеальной базой для дальних экспедиций и даже для посылки на континент экспедиционных корпусов. Ни Венеция, ни Голландия не обладали территорией, имеющей такую степень безопасности. Франция должна была делить свои ресурсы между армией и флотом и страдала от особой уязвимости, вызванной относительной близостью своей столицы по отношению к открытой с севера границе.
Ни один из трех терминов, даже первый — пространство, не может быть внеисторическим. Верно то, что труднодоступная территория увеличивает обороноспособность и уменьшает наступательную способность политического объединения. Народы, живущие в Алжире, не менее способны, используя рельеф, противостоять сегодня французскому умиротворению, как они противостояли римскому умиротворению семнадцать веков назад. Англия уязвима или неуязвима, проливы являются узлом стратегических путей или кажущимся сужением между двумя закрытыми морями, для военной технологии земля и воздух предоставляют другие возможные пути сообщений.
Что касается двух других терминов, предложения общего плана представляли бы слабый интерес или не представляли никакого интереса. Можно сказать, 11 Мы избегаем здесь принятого выражения “малые державы" для того, чтобы не вносить путаницы в названиях. Объяснимо применение слова “могущество" для обозначения действующих лиц, а не только для обозначения способности действующих лиц. Термин “могущество" неотделим от международной жизни, путают понятия действующие лица и способности действующих лиц, устанавливают иерархию действующих лиц в зависимости от их способностей.
Мир и война между народами • Раймон Арон 105
Часть I
что при равных возможностях на дипломатическом поприще, как и на поле боя, побеждает количество, но, поскольку возможности никогда не равны, это предложение нам ничего не говорит.
Можно считать важными и разместить по степени важности три элемента: эффективность оружия, коллективный характер действия, число солдат. Чрезмерное неравенство в оружии не может быть компенсировано ни дисциплиной, ни числом солдат. Слишком больше неравенство в организации и дисциплине не может быть компенсировано числом (в этом заключается превосходство римлян над варварами, регулярных армий над армиями милицейского типа, т. е. ополчениями, и над мятежными массами). Но было бы желательно, хотя это и невозможно — уточнить меру неравенства, выше которой оно уже не может быть компенсировано ничем. В XX в. народы, не имеющие промышленности, нашли способ боя — партизанские действия, позволяющие им воевать против народов, оснащенных всеми видами современной техники. Даже в столкновении между политическими сообществами, из которых одно обладает подавляющим техническим превосходством, другое, благодаря своей изобретательности и решимости, может применить неизвестный механизм длительного, пусть и не победоносного, сопротивления.
Историческое или социологическое изучение элементов совокупной силы сообществ делится на два принципиально существенных этапа. Сначала надо определить, каковы элементы военной силы. В каждую эпоху механизм ведения боя обеспечивает свою эффективность сочетанием определенных видов оружия, определенной организации и достаточного количества вооружений и бойцов.
Второй этап анализа касается отношений и соотношений между военной силой и самим коллективом. В какой степени превосходство в оружии и в организации выражает вообще техническое и социальное превосходство (если допустить, что два этих последних вида превосходства могут быть определены объективно)? Армия как социальная организация всегда выражает сущность коллектива в целом. Коэффициент мобилизации, т.е. пропорция боеспособных и действительно мобилизуемых людей, зависит от структуры общества, от численности граждан по отношению к негражданам (если только граждане имеют честь носить оружие), от числа лиц благородного происхождения, если речь идет об обществах, запрещающих участие в войнах простолюдинам.
Во всех обществах и во все эпохи имелся предельный уровень мобилизации: всегда нужно оставлять в сфере обычного труда достаточно людей, чтобы производить ресурсы, необходимые для жизни коллектива (теоретический коэффициент мобилизации повышается при избытке сельского населения и если можно получать те же объемы продуктов с меньшим числом работников). Но реальный коэффициент редко достигает теоретического и даже редко приближается к нему, поскольку объем мобилизации определяется социальными обстоятельствами, традиционным способом ведения боя, боязнью давать оружие в руки тех слоев или частей населения, которые считаются низшими или потенциально враждебными.
И поскольку организация армии и способ ведения войны следуют из обычая, это облегчает понимание и объяс-
<106 Раймон Арон • Мир и война между народами
нение превосходства какой-либо определенной армии или вида оружия в течение десятилетий и даже столетий. Меньшинство внутри сообщества, имеющее монополию на владение оружием, может поддерживать свое господство почти до бесконечности, если только оно само не подвергнется разложению, т. е. не потеряет внутреннюю слитность и волю властвовать. Политическое сообщество, которое эффективно комбинировало различные рода войск и виды оружия (тяжелая и легкая кавалерия, тяжелая и легкая пехота, ударное и метательное оружие, пики и прочие доспехи и т.д.), имело шанс долго сохранять свое превосходство. И было заманчиво приписывать доблестям и добродетелям достигаемое таким путем величие имперских народов, а также полагать превосходство армий в качестве свидетельства и доказательства превосходства общества, его обычаев и культуры.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать со всей ясностью, что пропорциональность, соответствие между ресурсами коллектива и его военной силой становится тем строже и четче, чем более рационализируется война и чем более считается нормальной и вводится в практику мобилизация гражданских лиц и средств производства. В XX в. возникла ни на чем не основанная иллюзия, будто, измеряя и оценивая ресурсы, измеряют и оценивают военную силу и мощь. Да, в век тотальной мобилизации военный механизм может и должен, разумеется, соизмеряться с людской массой коллектива. Однако доблесть и храбрость малого числа людей все еще могут склонять чашу весов в ту или другую сторону, и во многих отношениях качество
Теория ограничивает господство количества. Создание посредством завоеваний обширных империй каким-нибудь одним полководцем и его сотоварищами принадлежит прошлому1. Или, по меньшей мере, небольшое войско должно начать с завоевания своей собственной страны, которая потом послужит ему базой. Однако надо иметь особое пристрастие к историческим аналогиям, чтобы сопоставлять эпопею Чингисхана с эпопеей большевистской партии во главе с Лениным. Чингисхан был прежде всего военным гением, Ленин — гением политическим. Первый собирал свои армии, утверждая себя в качестве военачальника и устраняя соперников; второй был первоначально пророком без оружия и приобрел средства принуждения, используя средства убеждения.
3. Мощь и могущество в мирное и в военное время
Могущество того или иного политического сообщества в мирное время может анализироваться и оцениваться одними и теми же категориями — географическая среда, ресурсы, способность к действиям. Но если могущество в военное время зависит в первую очередь от военной силы и от того, как она применяется, то могущество в мирное время, иначе говоря, способность не уступать воле других и навязывать свою волю другим, зависит также от средств и способов, обращение к которым считается в каждую эпоху легитимным с точки зрения международных обычаев. Вместо того чтобы заниматься изуче-
* Правда уже в XX в Ибн-Сауд объединил арабские племена с помощью шпаги.
Мир и война между народами • Раймон Арон
107
Часть I
нием военного механизма, нам следует рассмотреть ненасильственные средства (или средства насильственные, но терпимые в мирное время). Что же касается способности к действиям, то она выражается при наступательных операциях в умении убеждать или принуждать без обращения к силе, а в обороне — в умении не поддаваться натиску, устрашению, разного рода впечатлениям и не допускать разделения своих сил и раскола своих рядов.
Традиционная европейская дипломатия в принципе исходила из довольно-таки нечеткого, туманного соотношения между “могуществом в мирное время” и “могуществом в военное время”. Политические сообщества, которые именовались великими державами, определялись прежде всего объемом их ресурсов (территорией и населением) и их военной силой. Пруссия в XVIII в., Япония в начале XX в. принимались как равные клубом “великих”, потому что они доказали свое величие на полях сражений.
Статут великой державы давал некоторые права: никакое сколько-нибудь важное дело не должно было обсуждаться внутри системы без консультаций со всеми входящими в нее великими державами. Когда одна из “великих” приобретала или вырывала силой преимущество, какое-нибудь и где-нибудь, остальные “великие”, партнеры или соперники, ссылаясь на свое величие, требовали компенсации.
Статут великой державы был выгоден, поскольку мирные обмены разного рода и достигнутые договорным путем соглашения имели тенденцию отражать соотношение сил (скорее предполагаемое, чем реальное). Малая держава была склонна уступать великой, потому что та была сильнее. Великая же, если оказывалась в изоляции на той или иной конференции, уступала воле коалиции, общий потенциал которой превосходил ее собственный. В целях мирного разрешения какого-либо спора ссылались на силу, потому что такая ссылка казалась сравнительно объективным критерием и была заменителем испытания оружием, результат которого предопределялся заранее исходя из соотношения сил. Постепенно, а особенно после Второй мировой войны, такая политическая коммерция, такой макиавеллизм исчез.
В межвоенный период дипломаты совершили столько ошибок, переоценивая до абсурда силу Италии, не признавая силу советской России, что понятие “великая держава” стало подозрительным. “Великие” вчерашней Европы, Великобритания и Франция, хотят оставаться великими во всемирной дипломатии, и эта их претензия, по-видимому, подтверждена постоянным членством в Совете Безопасности ООН. Однако реальный статут этих “великих” настолько непрочен, что статут официальный теперь уже не добавляет им ни престижа, ни чего-нибудь еще. Атомное оружие ставит под сомнение традиционные концепции; вообще оружие становится менее применимым по мере того, как оно становится более устрашающим. Учтивость и одновременно цинизм старого доброго общества покинули правительственные кабинеты. Дипломатия в традиционном смысле слова еще как-то срабатывает между союзниками, но почти никак между противниками, ни даже между блоками или между неприсоединившимися государствами. Наконец и особенно, ни “малый”, ни “великий” теперь не считает себя обя108 г Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
занным или вынужденным подчиняться более сильному, чем он сам, поскольку самый сильный из них вряд ли решится воспользоваться своей силой. Тактика “вызова” (“Ты не посмеешь меня принудить”) стала обычным делом в международных отношениях1. Фактически государства постоянно практикуют некую тотальную дипломатию, применяя методы и способы экономические, политические, психологические, насильственные и полунасильственные.
Чтобы заставить или убедить какоенибудь государство уступить, другое государство или коалиция государств могут прибегнуть к экономическому давлению. Так, Лига Наций приняла решение о санкциях против Италии: запрещалось покупать у нее некоторые товары и продавать ей некоторые другие. Эта псевдоблокада была неэффективной, потому что она не была общей. Италия нашла достаточно клиентов, чтобы приобрести минимум иностранной валюты, без которого не могла обойтись. Запрет продавать не распространялся на те товары и продукты, нехватка которых могла бы нанести ей смертельный удар. Блокада, устроенная советским блоком, чтобы ликвидировать югославское диссидентство, была не более эффективной, поскольку Запад тотчас пришел на помощь государству, само существование которого свидетельствовало о возможном разделении режима, провозглашающего себя приверженцем марксизма, и выходе из лагеря, руководимого Советским Союзом. Соединенные Штаты, в свою очередь, тщетно стараются свалить блокадой Фиделя Кастро.
Тем не менее экономические способы давления не всегда оказываются малодейственными. Только что приведенные нами примеры имеют особый, специфический характер: в данных случаях мы имеем дело с попыткой экономического принуждения или же с использованием экономических средств в качестве заменителя средств военных. Провал подобных попыток знаменателен, но он имеет причиной невозможность создания всеобщей коалиции против какого-то одного государства. В наше время оружие блокады могло бы быть более мощным; однако для этого нужно, чтобы государство, рассматриваемое как преступное, не нашло нигде себе союзников. А такое, вплоть до наших дней, никогда еще не было реализовано.
Зато в двусторонних отношениях, в целях укрепления и закрепления дружбы или сцементирования коалиции, экономические средства полезны и даже необходимы. План Маршалла привел к Атлантическому пакту. Государство, которое много покупает за границей, может влиять на государства, чьим основным клиентом оно является (обвал цен на сырье — катастрофа для страны, извлекающей из этого продукта основную часть своих ресурсов в твердой валюте). Одно государство способно также воздействовать на другие, ждущие от него финансовой помощи или чувствующие себя зависимыми от его экономической системы. Особенно в наше время согласие так называемых слаборазвитых стран оставаться в пределах определенной зоны функционально зависимо от помощи и содействия, получаемых ими в этой зоне в целях своей собственной индустриализации. Теперь какое-либо одно (и тем более в одиночку) государство имеет мало шансов сохранить свою 1 Но тут бывают и промахи. Такая тактика, использованная в июле 1961 г. г-ном Бургибой, спровоцировала резкое реагирование французских войск.
Мир и война между народами • Раймон Арон ж 109 <
Часть I
суверенную власть над многочисленным и разнородным населением, если оно неспособно вкладывать капиталы, необходимые для повышения уровня жизни.
В экономическом аспекте также имеется различие между оборонительной и наступательной способностью. Слаборазвитая страна часто бывает способна твердо противостоять санкциям: в ней лишь малая часть населения страдает от прекращения поступления товаров из-за границы. И напротив, крупное государство, желающее создать коалицию и руководить ею при минимальном обращении к силе, нуждается в экономических ресурсах (технических специалистах, свободных капиталах для инвестиций за рубежом и т. д.).
Политические средства, которыми государства пользовались на протяжении истории в своих мирных отношениях и связях, заключаются в воздействии либо на элиту, либо на массы в политических сообществах. Во все века великие державы внедрялись в малые через посредство своих агентов и денег, воздействуя на сознание жителей и рекрутируя своих сторонников. Долгое время наличие в стране “иностранных партий“ считалось результатом и символом ее слабости. Государства, чья внешняя политика была предметом спора между партиями, из которых каждая, отдававшая предпочтение той или иной великой державе, всегда могла быть обвинена в служении иностранному хозяину, — такие государства назывались “балканизированными”.
В наше время появилось новшество, связанное с нашими демократическими привычками: воздействие слов и глашатаев государств, настроенных наступательно, направлено и на массы, и на правящие меньшинства других стран. Каждый из лагерей, каждый из гигантов старается убедить правителей и народы, по ту сторону демаркационной линии, что их эксплуатируют, угнетают, злоупотребляют их доверием. Пропагандистская и радио-война знаменует постоянство конфликта между государствами и беспрерывное обращение к средствам давления и нажима. В этой игре мощь и могущество не есть функциональное следствие военной силы или экономических ресурсов. Просто какой-то режим лучше умеет заниматься публицистическим экспортом, какая-то страна более способна рекрутировать бескорыстных приверженцев, а какая-то охотно тратит деньги на обработку сознания.
И здесь тоже факторы, связанные с оборонительной способностью, — совсем иные, нежели связанные со способностью наступательной. Наилучшее, почти уникальное условие оборонительной мощи — это сплочение коллектива, единство масс и режима, согласие между членами правящей элиты по проблемам национального интереса. Швейцария и Швеция, не имеющие ни особых возможностей, ни желания воздействовать на умонастроение и поведение других народов, почти неуязвимы для внешних давлений.
Помимо экономических и психологическо-политических средств государства все больше и все чаще пользуются в нашу эпоху насилием в мирное время. Я буду различать символическое насилие и подпольное, или рассеянное насилие. Символическое насилие выражается в том, что уже получило название дипломатии канонерок. Отправка военного корабля к порту страны, не платящей долгов, желающей уклониться от выполнения взятых обязательств или национализировать концессию, предо110 т е гглж» д Раймон Арон • Мир и война между народами
ставленную какой-нибудь иностранной компании, символизировала способность и решимость принудить эту страну к подчинению даже силой оружия. Символ бывает достаточным, да и вообще говоря, обращение к прямой силе никогда не бывает строго обязательным. Призванный к порядку, “слабый” не находит нигде поддержки и смиряется. Однако, когда сила все-таки становится необходимой, символическое насилие отходит на задний план. Надо заметить все же, что франко-британская экспедиция в Суэц в 1956 г. была бы, наверное, рациональной, если бы внутренняя египетская оппозиция была готова свергнуть Насера, если бы тот оказался в час опасности одинок или вдруг утратил мужество и решимость. Но тогда было бы достаточно одной лишь видимости обращения к насилию.
Если символическое насилие характерно для XIX в., то насилие рассеянное, или подпольное, для XX в. Подпольное насилие — всякого рода покушения, совершаемые тайно — всегда рассеяно; рассеянное насилие со стороны партизан часто совершается в открытую. Сети террористов в городах подпольны, партизаны рассеиваются по разным местам, но иногда носят униформу и не скрываются ни от кого, когда пребывают в пустынях или зарослях. Государства, не находящиеся между собой в состоянии войны, бьются с помощью террористов и партизан. Египет формировал группы террористов и отправлял их на израильскую территорию. Алжирские партизаны получили подготовку в Египте и Марокко, их “освободительная армия” снабжается оружием и снаряжением из Туниса и Марокко. Отныне признается и допускается, что использование оружия слова и мелкого настоящеТеория
го оружия в целях ниспровержения чьего-либо государственного порядка не противоречит международному праву. И здесь тоже оборонительная мощь зависит от национального единства: революционеры не преуспевают, если не находят хотя бы минимального числа добровольных сообщников среди населения. Способность к насилию при проведении репрессивных, ответных действий тоже служит определяющим фактором оборонительной мощи, направленной против чьей-либо подрывной деятельности. Советский Союз много потерял в Венгрии в “престиже морали”, но выиграл в “престиже жестокости”. Как сказал Макиавелли, порою для государя предпочтительнее, чтобы его больше боялись, чем любили.
Способность к коллективным действиям в мирное время проявляет себя либо в использовании всех этих разнообразных средств, либо в противодействии их использованию со стороны соперников или противников. Собственно дипломатическая способность имеет двуединый аспект: или, в широком смысле, дипломатическая способность есть умение приводить в действие все эти средства и выбирать из них наиболее пригодные для каждого конкретного случая: или, в ограничительном смысле, дипломатическая способность есть качество действий, благодаря которому приобретают друзей и обезоруживают возможных противников, а также благодаря которому беседы с глазу на глаз участников тех или иных переговоров завершаются хорошими результатами.
Без средств и способов экономического или политического давления, без символического или подпольного насилия дипломатия была бы чистейшим искусством убеждения кого-либо и в Мир и война между народами • Раймон Арон <
11
Часть I
чем-либо. Быть может, такой дипломатии и не существует вовсе. Быть может, дипломатия, утверждающая свою чистоту, тщится всегда напоминать, прямо или косвенно, что она в состоянии внушить страх, если захочет этого. По меньшей мере чистая дипломатия старается заставить противника и наблюдателей поверить, то она хочет обольстить или убедить, но никак не принудить. Противник должен сохранять чувство свободы, даже когда по сути он уступает силе.
Дипломатия приближается к своему чистому виду, когда она воздействует на нейтральные и независимые страны и когда она имеет целью стяжать симпатии или рассеять предубеждения. Сила простого слова приобретает особое значение на прямых дипломатических переговорах, когда их участники видят друг друга и обмениваются аргументами, т.е. когда собеседники именно говорят и слушают. Переговоры в дипломатии равносильны принятию решения или какого-либо условия в стратегии: тут как бы открывается счет, по которому будут выдаваться кредиты.
Однако между дипломатией и стратегией имеется фундаментальное различие. Дипломатическая подготовка завершается конференцией, военная подготовка — пробой сил с помощью оружия. Однако простор для маневра участников переговоров ограничен потенциальными силами коалиций (когда нет военных действий), свершившимися фактами в результате боевых операций (когда была и завершилась война); иногда тот или иной участник переговоров, пользуясь разногласиями в стане противников, может восстановить ущерб, нанесенный оружием. Но в этом случае конъюнктуру меняют скорее на непосредственные переговоры, а нечистая дипломатическая игра — разного рода перегруппировки сил. Напротив, когда принимается стратегическое решение, то главное можно считать уже сбалансированным: это будет либо победа, либо поражение. Чистый дипломатический диалог подтверждает и утверждает приговор, вынесенный событиями; события выступают судьей между притязаниями соперников.
4. Неопределенности в измерении могущества
Быть может, небесполезно взять какой-либо частный и особый случай, чтобы уточнить и сделать менее абстрактными термины, в которых выражаются три фундаментальные категории: среда средства, способность к коллективным действиям. Возьмем конкретный исторический период, а именно период 1919—1939 гг.
В межвоенный период техника боя и организация армии были таковы, что всеобщая мобилизация была легитимной и возможной. Все пригодные к воинской службе граждане могли быть одеты в солдатскую форму, если только промышленность была в состоянии одеть и снарядить их. И поскольку всеобщая мобилизация была общим правилом, военная сила считалась пропорциональной экономическому потенциалу. Фактически же такая пропорциональность требовала многочисленных оговорок количественного и качественного характера.
Было трудно определять количественные показатели экономики, с помощью которых измерялся бы военный потенциал. Брать ли валовой национальный продукт, общий объем про< 112 •
- Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
мышленного производства или некоторые статистические данные, относящиеся к промышленности, все равно выбранный показатель содержал ошибку. Показатель национального продукта был неточной мерой, потому что сельскохозяйственное производство или сфера услуг не мобилизуются для войны в такой же степени и форме, как металлургия и машиностроение. Таким же образом обстояло дело с показателем промышленного производства, потому что, ведь, не переводят же рабочих и машины из хлебопекарен в самолетостроение с такой же легкостью, с какой переводят автомобилестроение в танкостроение. Наконец, если используется только показатель по тяжелой индустрии или машиностроению, то здесь содержится риск впасть в ошибку противоположного свойства. При наличии достаточного времени перевод рабочих и машин может зайти очень далеко. Военно-промышленное усилие Франции между 1914 и 1918 гг., несмотря на оккупацию части ее территории, было удивительным: на заключительном этапе военных действий американская армия использовала пушки и снаряды, произведенные во французских цехах. Правда, в то время виды оружия, даже самолеты, были довольно просты в сравнении с научными знаниями и возможностями техники.
В наше время переход экономического потенциала в военную силу зависит также от “способности к коллективным действиям“ в форме техническоуправленческих возможностей. Й. Пленге, немецкий профессор, ныне совершенно забытый, опубликовал в 1916 г. интересный труд1, где центральной темой была антитеза между идеями 1789 г. и 1914 г. Идеи 1914 г. сводились в конечном счете к ключевому слову: организация. Цель последней, чтобы вся страна работала на войну, одни в солдатской и офицерской форме, другие на фабриках и заводах, в конторах, третьи на полях, чтобы производилось все необходимое для населения, бойцов и боев, чтобы администрация могла и умела распределять население по рабочим местам, максимально сокращать число работников, производящих предметы и продукты, не являющиеся необходимыми, ставить перед каждым задачу, которую он может решить лучше всего. Во Вторую мировую войну наивысшего процента мобилизации добилась, из всех стран Запада, Великобритания. Гитлеровская Германия развязала войну, не мобилизовав ни всей своей промышленности, ни всей рабочей силы, она не решилась на всеобщую мобилизацию ни после польской кампании, ни после французской, ни даже после вторжения вермахта в Россию. Надо было дождаться Сталинграда, чтобы была, наконец, проведена тотальная мобилизация германских ресурсов, и одновременно в целях такой мобилизации привлекались миллионы работников на оккупированных территориях.
В военное время особенно наглядно проявляется прямая функциональная зависимость коэффициента мобилизации от способности администрировать, но также, в какой-то части, он зависит и от готовности масс пойти на жертвы. Начиная с некоторого уровня, военные усилия могут возрастать лишь путем снижения уровня жизни гражданского населения. До каких же пределов может 1 Plenge J. 1789 und 1914. Die symbolischen Jahre In der Geschichte des politischen Geistes. Berlin. Springer. 1916.
Мир и война между народами • Раймон Арон 113 л«
Часть I
снижаться этот уровень, не затрагивая нравственного настроя? Вопрос не предполагает слишком общего ответа. Тем не менее представляется, что народы, привыкшие к низкому уровню жизни, легче переносят лишения, чем народы, для которых обычен более высокий жизненный уровень. Это позволяет высказать в “перевернутом” виде чисто теоретическое положение: поле для проведения мобилизации тем более шире, чем более высок уровень жизни населения в мирное время. Дело в том, что, абстрактно говоря, расхождение между реальными условиями существования населения и тем минимумом, ниже которого спускаться уже просто невозможно, более велико в богатых странах, чем в странах бедных, хотя первые не всегда могут обойтись без того, что вторые относят к разряду излишеств.
Наконец, страны воюют не потенциальными, а фактически мобилизованными силами. А те зависят от пространства и времени, от дислокации данных сил и от развертывания боевых операций. Общий потенциал может быть парализован или ампутирован нехваткой того или иного исходного материала или продукта (что значат тысячи штурмовых танков, если резервуары для горючего пусты?). Вместе с тем господство на морях позволяет, в комбинации с валютными запасами или иностранными займами, добавить к собственному потенциалу еще и потенциал формально нейтральных стран (именно так действовали с 1914 по 1917 г. Соединенные Штаты по отношению к союзникам). Однако в 1939 г. опыт первой войны вселил во французов и англичан малообоснованную уверенность. Они заранее рассчитывали на длительность войны, что служило бы им на пользу. В конце концов мобилизация ресурсов западного мира гарантировала бы им превосходство и победу в войне на истощение. Однако было еще нужно, чтобы поражение, в первых же фазах боевых действий, не отдало в руки противника промышленный потенциал части коалиции. Без победы на Марне в 1914 г. не было бы всеобщей мобилизации французского потенциала. Без битвы за Англию не было бы с 1940 г. всеобщей мобилизации британского потенциала, а затем американского. В 1939 г. французскобританский потенциал представлял собой лишь цифры на бумаге, поскольку обе демократии не располагали ни временем, ни свободой действий на морях. Франции и в самом деле не хватило времени; Великобритания, несмотря ни на что, все-таки уберегла свободу действий на морях.
После того как вооруженные силы определены как функция людского и промышленного потенциала и учтены резервы, о которых мы упоминали, встает вопрос о качестве. Какова сравнительная ценность одной дивизии — германской, французской, английской, итальянской, американской? Единственная достоверная оценка здесь — непосредственный бой. А в мирное время оценка, очень приблизительная, устанавливается по опыту прошлых боев. Вплоть до битвы под Иеной прусская армия сохраняла престиж, приобретенный победами Фридриха Великого. Вплоть до 1940 г. французская армия оценивалась как армия Вердена (1916) и Шампани (1918).
Идет ли речь о пушках или об армии в целом, остается все тот же вопрос: в какой степени качество оружия отражает качество промышленности? В какой степени эффективность действий войск выражает боевитость и воинский 114 > Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
дух народа? Иначе говоря, можно ли оценить военную силу по тому положению и состоянию, в котором находится народ? Или же военная сила зависит прежде всего от свойств, присущих самой военной системе?
Гитлер не верил, что Соединенные Штаты сумеют, даже в ходе самой войны, создать первоклассную армию, потому что у них нет соответствующей традиции, нет класса, сравнимого с германским офицерским корпусом, потому что американские массы глубоко миролюбивы и интересуются лишь торговлей. К своему несчастью и к нашему спасению, фюрер ошибся. Это было продемонстрировано в двояком отношении и вполне убедительно: обеспечение войск кадровыми офицерами не менее важно в XX в., чем оно было в XIX в., но такое обеспечение уже не требует наличия какого-то особого социального класса, посвятившего себя войне и военному делу. Многие военные проблемы — организация, тыловое обеспечение — схожи с проблемами промышленными и транспортными. Технические специалисты быстро обучаются выполнению задач в военном аппарате, которые подобны их гражданской службе и их профессиям. Больше того, богатые граждане процветающей страны поставляют солдат, унтер-офицеров, офицеров, способных выдерживать суровые условия и опасности современных боевых действий.
Другими словами, чудо вождя, ведущего людей, обеспечивающего только лишь своим гением или своей фортуной почетное место целой стране на мировой сцене, авантюра на манер Махмуда-Али, — такое чудо, возможное еще в прошлом столетии, уже не срабатывает в столетии нынешнем. Когда дело идет о регулярных армиях, людской и промышленный потенциал устанавливают узкие рамки, в которых может действовать шеф, руководитель, лидер. Не существует большой современной армии без большой промышленности. Всякая страна, имеющая большую индустрию, способна поставить на ноги большую армию.
Эти два утверждения о том, что возможно, а что невозможно, относятся к сугубой теории, и было бы ошибкой придавать этой бесспорной взаимосвязи строгость и однозначность, которых у нее на деле нет. Пусть и оснащенные одинаково, две дивизии не равны друг другу. Роль дюжины бронетанковых немецких дивизий, внесших решающий вклад в разгром Польши, потом Франции, затем в первые победы на русском фронте, может напомнить нам, если в том есть нужда, о непреходящем значении военной элиты даже в век количественных факторов. Думается, что в последнюю войну боевая подготовка и техника сочетались со страстным стремлением офицеров и солдат создать единый инструмент победы, который, однако, получил непоправимые повреждения под Москвой в ноябре—декабре 1941 г. У вермахта были еще успехи и после, были у него и другие ударные войска, но никогда уже не было эквивалента того бронированного корпуса, который был безупречным метательным орудием на востоке, на западе и снова на востоке.
Но разве сомневается кто-нибудь в том, что качество военных кадров и эффективность армии зависят от политического режима и психологического настоя народа и страны? В зависимости от степени престижа воинской службы и от материальной и моральной ситуации, окружающей офицеров страны, набор кадрового состава в армию окаМир и война между народами • Раймон Арон 115 <
Часть I
жется плох или хорош, а лучшие умы страны будут изучать и разрабатывать проблематику национальной обороны или же не будут заниматься ею совсем. Весьма сомнительно, чтобы условия, в которых было обеспечено высокое качество командного состава германской армии, были воспроизведены в Федеративной Республике Германии. Ни аристократии, посвящающей себя службе государству, ни веры в величие отечества, ни престижа человека в военной форме нет в ФРГ, не имеющей ни земель для колонизации на Востоке, ни юнкеров, ни имперских перспектив.
В некоторые времена ходячее мнение создает карикатурное представление обо всех этих сложных и тонких соотношениях: “Нет дисциплины в армии, когда нет ее в народе”. Такую формулу приводит Ренан, соглашаясь с нею и одобряя ее. Фактически же внешне видимая анархия внутри демократий не исключает дисциплины ни на заводах, ни в казармах. С 1945 по 1958 г. в Четвертой Республике было стабильное правительство и все офицеры отличались безупречной воинской дисциплиной. И напротив фашистские пропагандисты оказались в плену собственной фикции и напрасно вообразили, что дуче переделал итальянцев в народ львов и даровал Италии (без угля и стали) первоклассную военную силу. Даже Шпенглер полагал, что Муссолини создает североафриканскую империю, выскальзывающую из рук декадентской французской демократии.
Таким же образом, промышленность, характеризуемая высоким техническим уровнем, обычно производит эффективные виды оружия. Однако в мирное время промышленность Запада нацелена на повышение производительности труда, т. е. на производство по как можно более низкой цене. А между тем цена не очень важна, когда производят оружие. Страна, выделяющая много денег и использующая наилучшие мозги в отраслях, непосредственно занятых военным производством, может обладать столь же хорошим или даже лучшим оружием, чем оружие соперника, чья промышленность имеет в среднем более высокую производительность (достаточно взять в качестве примера Соединенные Штаты и Советский Союз).
Наконец, не будем забывать, что в наше время качество оружия никогда не упирается в раз и навсегда непреодолимый потолок. Прогресс продолжается в ходе самих боевых действий. Время, необходимое для обработки и изготовления некоторых видов вооружения, таково, что первую войну закончили с моделями, которые были известны с начала боевых действий (дальнобойные корабельные пушки). Однако артиллерия была традиционным видом оружия и до внедрения электроники и автоматической корректировки огня совершенствовалась мало и медленно как в Первую мировую войну, так и в межвоенный период. Зато авиация прогрессировала быстро с 1914 по 1918 г., затем с 1919 по 1939 г. (особенно непосредственно в предвоенные годы) и, наконец, в ходе Второй мировой войны. Тот, кто решил бы закончить войну с имеющимися самолетами или самолетами моделей, разработанных вначале боевых действий, немедленно и безнадежно отстал бы. В 1941 г. японцы обладали самолетом “Зеро" — лучшим самолетом своего класса, действовавшим на Дальнем Востоке. Но они не выдержали гонки совершенствования: в 1945 г. у них были лишь самолеты-самоубийцы, а флот 116 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
был уничтожен. Теперь научно-техническое соревнование, в котором выражается соперничество между вооруженными силами, никем и никогда не выигрывается. В качественном и количественном отношении преимущество все время переходит от одного лагеря к другому. В последнюю войну французская авиация была бы совершенно иной, если бы имела в своем распоряжении лишние полгода — иначе говоря, если бы промышленная мобилизация началась шестью месяцами раньше или активные боевые действия начались шестью месяцами позже. В самом общем виде промышленность более высокого технико-технологического уровня имеет больше шансов взять верх; однако надо всегда помнить, что путем более высокой концентрации усилий на каком-то одном секторе сравнительно слабая промышленность может компенсировать свое общее отставание и что также в сугубо мирном производстве пальма первенства не всегда принадлежит одной и той же стране.
Помимо этих расчетов, касающихся непосредственно силы, надо еще принимать во внимание талантливость и интеллект высшего командования, манеру и способ ведения войны государственно ответственными лицами как той, так и другой стороны, и наконец, поддержку народами своих режимов и степень их решимости, когда наступает час испытаний. Были ли верны советские массы государству и партии, ответственным за коллективизацию в сельском хозяйстве и за большие чистки? Следовали ли с энтузиазмом германские и итальянские массы за своим фюрером и дуче? Способны ли еще массы демократических стран мужественно встретить ужасы войны? Идет ли речь о военных руководителях или вождях народов, заранее подготовленные ответы ничего не доказывают.
Ответ, даваемый самими событиями, есть отрицание так называемой прямой зависимости между поведением людей и народов и характером режима. Итальянцы никогда не были убеждены в том, что война на стороне Третьего рейха — это их война и поэтом оправдывает великие жертвы: партизаны, бившиеся с немецкими войсками в Северной Италии после падения итальянского фашизма, засвидетельствовали совсем иную мораль, нежели солдаты (к тому же плохо экипированные) в Ливии. Германские массы не покинули своего фюрера, но в правящих кругах заговор 20 июля имел обширные ответвления: в своей глубинной сути национал-социалистский режим был менее един, чем британская или американская демократии. В Советском Союзе не было заговора в правящих сферах, но в первой фазе военных действий часть масс, особенно среди национальных меньшинств, встретила захватчиков без враждебности, а в некоторых воинских частях был слаб боевой дух. Короче говоря, в 1939 г. только гитлеровская Германия и демократическая Англия были двумя европейскими странами, где режим и народ составляли единое целое, причем надо добавить, что в Англии больше, чем в Германии, национальное единство было способно противостоять угрозе поражения страны.
Так какие же соображения можно высказать на основе ретроспективного анализа событий 30-х гг., исходящего из всех этих расчетов? В мирное время тоталитарные страны были более могущественны, чем страны демократические, при примерном равенстве собственно Мир и война между народами • Раймон Арон 117
Часть I
вооруженных сил у тех и других. Первые внешне демонстрировали единство, тогда как вторые выставляли всем напоказ свои ссоры и распри. Франция и Великобритания были странами, насыщенными и удовлетворенными, Италия и Германия — странами, недовольными и требующими. Режимы, где распоряжается один человек и где всяческие переговоры и совещания ведутся тайно, более способны, чем режимы со свободной прессой и открытыми парламентскими дебатами, создать впечатление своей неодолимой мощи и твердой решимости. В дипломатическом покере тоталитаристский игрок часто блефует и почти всегда выигрывает — до тех пор, пока противник не догадается о блефе.
Итальянская политика с 1935 по 1941 г. состояла из серии “блефов” и “пари”. Когда Муссолини заявлял, что он скорее готов воевать с Великобританией и Францией, чем отказаться от захвата Эфиопии, он со всей очевидностью просто похвалялся, но сделать ничего не мог. То, что произошло в 1943 г., наверняка произошло бы в 1936 г., если бы Муссолини впал в безумие и втянул Италию в войну, проигрышную заранее, против французско-британской коалиции. А тогда он одержал верх, потому что сторонники санкций не хотели подвергать себя риску войны, а в правящих кругах Франции и Великобритании не было единодушного мнения насчет целесообразности и последствий вполне вероятного ниспровержения итальянского фашизма. В 1940 г. был уже не блеф, а пари—пари насчет того, что война подспудно уже закончена и что, вступив в нее, Италия получит более значительную добычу от разбитого врага.
Германская эпопея проходила в совсем другом стиле. Сама она подразделяется на две фазы. Между январем 1933 и мартом 1936 г. Германия не смогла бы выдержать ответный вооруженный удар Франции. Гитлер сильно рисковал, по крайней мере это было видно на поверхности, последовательно нарушая все главные статьи Версальского договора. Способом дипломатических действий был вызов: Гитлер провоцировал Францию на применение вооруженной силы, чтобы запретить Германии принимать решения, направленные всего-навсего на устранение неравенства, созданного Версальским договором. Получая вызовы, Франция ограничивалась протестами — наихудшим из решений между двумя крайностями (в равной мере неприемлемыми в глазах французской общественности), т. е. между прямым согласием и вооруженным отпором.
С 1936 г. тактика вызова продолжалась. но уже в другой форме. Гитлер все так же провоцировал Францию и Англию на вооруженное выступление, но теперь оно означало бы всеобщую войну, которую Германия по-прежнему имела все шансы проиграть, но которая в любом случае была бы равносильна катастрофе д ля богатых и консервативных государств. С 1938 г. гитлеровская Германия имела превосходство в наличных силах, не столь великое, как она старалась показать — об этом стало доподлинно известно впоследствии, — но достаточное, чтобы сокрушить Чехословакию в 1938 г. и Польшу в 1939 г. В случае всеобщей войны Запад мог одержать верх только после длительных, затяжных боевых действий путем мобилизации своего более высокого потенциала. Гитлеру оставалось преодолеть последний этап, чтобы получить шанс, по всей видимости серьезный, победить даже во всеобщей войне: для этого надо ^118 ■ шжжашл Раймон Арон • Мир и война между народами
было нейтрализовать главного противника на востоке (Советский Союз), предварительно ликвидировав второстепенного противника на том же востоке (Польша), а затем континентального противника на западе.
С этого момента всякий расчет потенциалов не означал больше ничего, поскольку все дело основывалось теперь на последовательности кампаний и на разного рода пари: разбить Польшу, прежде чем выступит Франция; разбить Францию, прежде чем мобилизуется Великобритания и будет достаточно боеспособным Советский Союз; разбить Советский Союз, прежде чем Великобритания окажется в состоянии высадиться на континенте. Все эти пари были выиграны, кроме последнего. Сталин предпочел сберечь свои силы, подписав пакт с Гитлером. Польша была разделена, а французская армия не сдвинулась с места; Франция была разгромлена. А Великобритания располагала лишь десятком дивизий. Однако Великобритания не была ни оккупирована в 1940 г., ни парализована бомбардировками. Советская армия, несмотря на поражения и неудачи 1941 г., оправилась на подступах к Москве. Это последнее проигранное пари определило весь дальнейший ход событий. В декабре 1941г. японская агрессия вовлекла в войну Соединенные Штаты. Война на два фронта, которую Германия уже вела однажды и проиграла и которой германский генштаб не переставал опасаться, считая проигранной заранее, возникала воочию, безжалостно развеивая надежды фюрера. Те немцы, которые были настроены оппозиционно и предсказывали создание коалиции Восток—Запад в случае всеобщей войны, видели, как сбываются их предТеория
сказания. Пари и успехи лишь затянули фатальный исход.
Японское пари в 1941 г. было бессмысленным, потому что даже при расчетах на бумаге страна Восходящего Солнца не имела ни единого шанса выиграть и ускользнула бы от разгрома лишь в случае, если бы американцы оказались слишком ленивыми или слишком трусливыми, чтобы взять себе победу. Гитлеровское пари было авантюрным, и другой, легитимный глава государства ни за что бы на него не пошел, потому что Германия могла бы получить больше без войны, а лишь угрожая войной, и потому, что потери и ущерб оказались несоразмерно великими. Правда, в данном случае пари не было проиграно заранее.
Гитлер постоянно выигрывал вплоть до перемирия в июне 1940 г. То было, говоря языком Клаузевица, кульминацией победы. После он стал умножать число своих ошибок. Он не решил, как отнестись к Франции — как к несгибаемому врагу или как к возможному союзнику; он не решился захватить Англию и в конце концов бросил незанятый вермахт в русскую кампанию. Проводя свою дипломатию, он привел дело к созданию враждебного большого альянса, возникновение которого старался предотвратить. В своей стратегии он не обрел храбрости дойти до конца в деле концентрации сил, что, быть может, принесло бы ему решающие успехи. Как полководец он превратил в категорический императив сопротивление на месте. Как вообще военный руководитель он до самого конца надеялся на распад вражеской коалиции и умер в вагнеровском трагедийно-катастрофическом стиле, давно утратив контакт с действительностью.
Мир и война между народами • Раймон Арон . :
3 119 V.
Часть I
Гитлер не был полным монополистом на ошибки. Если в конечном итоге Сталин сыграл игру более тонко, то вряд ли это надо приписывать лишь его гению. После поражения Германии ничто не мешало бы русским продвигаться дальше. Однако было бы достаточно того, чтобы американцы осознали еще с 1942 г., что советские и американские интересы взаимно противоречивы, и тогда хозяину Кремля было бы играть гораздо труднее. Получив просьбу нанести последний удар Японии и разрешение оккупировать Восточную Европу до самой середины Германии, он все это принял — принял то, что ему было благосклонно предложено.
♦ ♦ ♦
Какова роль могущества и силы в международных отношениях? Теперь такой вопрос стал классическим в военных училищах и академиях Соединенных Штатов. Однако ответ на него не однозначен, потому что одно и то же понятие могущества (power) включает в себя, как мы установили, и ресурсы, и вооруженные силы, и собственно мощь.
Статут политического сообщества в рамках той или иной международной системы определяется объемом материальных и людских ресурсов, которые это сообщество может употребить для дипломатическо-стратегических действий. В каждую эпоху великие державы считались способными выделить очень значительные ресурсы для внешних действий и, особенно, мобилизовать целые когорты бойцов. Международному сообществу в каждый период присуща иерархия престижей, приблизительно отражающая иерархию, установившуюся на основе опыта предыдущих войн и битв.
Соотношение сил определяет также, и в широкой мере, иерархию внутри альянсов, но эта иерархия не обязательно должна выражать соотношение в степени могущества, когда самый верхний навязывает свою волю тем, кто ниже его. Как только верхний оказывается не в состоянии применить военную силу, ему приходится использовать средства и способы косвенного нажима, гораздо менее эффективные, а также способы и приемы убеждения. Альянсами всегда руководят великие державы, но порою какая-нибудь малая держава завлекает великую туда, куда та не хотела бы заходить. За этой малой остается последнее слово в дискуссии, касающейся ее собственных интересов, поскольку она ставит великую державу перед выбором между уступкой и применением силы. Тактика отказа или обструкции, как ее практиковал генерал де Голль между 1940 и 1944 гг. по отношению к Великобритании и Соединенным Штатам, не раз позволяла слабому навязывать свою волю сильному. Как только свободные французы обосновались на островах Сен-Пьер и Микелон, Соединенные Штаты уже могли бы изгнать их оттуда только силой, но в разгар войны Рузвельт, разумеется, не мог отдать приказ о боевых действиях против французов, символизирующих свое отечество, оккупированное общим врагом.
В обычное время даже отношения между государствами-соперниками не являются простым выражением соотношения сил. Участники тех или иных переговоров ошибаются насчет сил той и другой переговаривающейся стороны, а кроме того, не считают себя обязанными заключать соглашение, напрямую отражающее то, что получилось бы из военной пробы сил. Конечно, когда “раз120 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
говаривают”, а не “бьются”, резоны фактического и правового свойства влияют на собеседников. Однако дипломатия, этот заменитель войны, не ограничивается всякий раз лишь подтверждением и утверждением итогов войны, да и то предполагаемых. Выражение генерала де Голля: “Пусть каждому будет дано по делам его оружия”1 — верно лишь в самом расплывчатом смысле и притом на долговременную перспективу. Оно пригодно как некий мудрый совет — государства не должны ставить перед собой цели, не соответствующие их ресурсам, но если выражение понимать буквально, то оно означало бы игнорирование всех тонкостей отношений между независимыми коллективами.
Диспропорция между потенциалом стран и делами их дипломатии часто имеет причиной перегруппировку сообществ, направленную против того из них, которое представляется претендующим на роль “возмутителя спокойствия”. Суверенные государства, по самому этому определению, считают своим противником всякого претендента на гегемонию, т. е. того, кто может лишить их автономии и способности свободно принимать собственные решения. Поэтому такой дипломат классической школы, как Бисмарк, опасался чрезмерного роста сил рейха. Он хотел, чтобы рейх ограничивал свои амбиции, а его авторитет возрастал благодаря мудрости и сдержанности. По мнению “железного канцлера”, могущество его страны должно быть поставлено на службу справедливости и европейского порядка, ибо таково условие германской безопасности и способ избежать возникновения коалиции соперников, которых победы Пруссии не должны ни унижать, ни беспокоить. В первой фазе после 1870 г. не победоносной Германии, а побежденной Франции достались территориальные приобретения. Между 1870—1914гг. редко какой из представителей рейха выказывал способность убеждать, соразмерную с вооруженными силами, которые могла бы мобилизовать его страна в случае войны. И так получалось либо ввиду нехватки дипломатического таланта, либо вследствие спонтанной оппозиции, на которую наталкивается всякое государство, прячущее до поры до времени свои гегемонистские намерения.
“Всеобщая монархия”, по выражению автора XVIII в., или, напротив, ограниченные действия — такова альтернатива, которая была неписаным законом европейской системы, как, впрочем, она остается неявным законом любой системы государств. Либо великая держава не желает терпеть существования равных себе, и тогда она должна идти до конца в деле создания всеобщей империи; либо она соглашается жить в качестве первого среди суверенных сообществ и каким-то способом заставить признать свое первенство и превосходство. Но каков бы ни был выбор, великая держава будет жить в обстановке опасности, никогда не одержит всех необходимых побед, и ее всегда будут подозревать в жажде господства.
Если бы государства хотели быть великими ради собственной безопасности, они были бы жертвами странной иллюзии, однако на протяжении истории величие того или иного коллектива само по себе было неким вознаграждением и утешением.
1 Они были концовкой одного доклада, написанного в январе 1940 г. полковником де Голлем.
Мир и война между народами • Раймон Арон 121 ж>
Часть I
ГЛАВА III
Могущество, слава и идея, или Цели внешней политики
Одни политические сообщества стараются возобладать над другими — таков тезис, на котором основано определение войны Клаузевицем, и вместе с тем таково концептуальное оформление международных отношений. Но тогда встает вопрос: почему политические сообщества стремятся поступать именно таким образом? Какие цели преследует каждое из них и почему эти цели являются или кажутся взаимно несовместимыми?
Если мы обратимся к моменту, когда вспыхивает широкомасштабная война, то тут можно легко и довольно точно указать цели, которые ставит перед собой каждое из воюющих государств. В 1914 г. Австро-Венгрия хотела устранить угрозу, нависшую над дуалистской монархией из-за требований южных славян. Франция, которая примирилась было с аннексией Эльзас-Лотарингии, не признавая ее с моральной точки зрения, вдруг, как только загремели пушки. вновь обрела нетленное и пылкое желание вернуть матери-родине утраченные провинции. Итальянцы притязали на земли, принадлежавшие империи Габсбургов. Союзники, по существу были не менее разделены в своих целях, чем их противники. Царская Россия намеревалась завладеть Константинополем и проливами, тогда как Великобритания постоянно противодействовала таким амбициям. Лишь германская угроза заставила правительство Лондона подписаться, на бумаге и тайно, под тем, чему оно упорно препятствовало в течение целого столетия.
Быть может, рейх внушал своим соперникам еще больше опасений потому, что его военные цели не были известны. В дни первых его успехов эти цели представлялись грандиозными и туманными. Всякие частные лиги и группы мечтали об “африканском поясе” и о “срединной Европе” (Mittel Europa). Еще в 1917—1918 гг. генеральный штаб требовал аннексии или оккупации части бельгийской территории по стратегическим соображениям. Доминирующая держава, которая не определяет и не провозглашает своих целей, всегда подозревается в безграничных притязаниях. Провинции (Эльзас-Лотарингия,Триест), стратегические позиции (Босфор и Дарданеллы, побережье Фландрии), религиозные символы (Константинополь) — такими были ясно выраженные ставки в конфликтах между европейскими государствами. Но, наряду с этим, исход конфликтов должен был определить соотношение сил. место Германии в Европе и место Великобритании в мире. Можно ли в абстрактном анализе, общем по своему характеру, распознать и выделить какие-то типичные цели, преследуемые государствами, которые заставляют их противостоять друг другу?
1. Вечные цели
Будем исходить из следующей схемы международных отношений: политические сообщества, гордые своей независимостью, ревностно оберегающие возможность самостоятельно прини122 Раймон Арон • Мир и война между народами
мать крупные и важные решения, соперничают между собой вследствие того, что они автономны. В конце концов каждое из них может рассчитывать и полагаться только само на себя.
Какова же тогда первостепенная цель, которую по логике вещей может ставить перед собой политическое сообщество? Ответ дает нам Гоббс в своей трактовке естественного состояния. Всякое политическое сообщество хочет выжить. Правители и управляемые заинтересованы в поддержании коллектива, который они составляют все вместе и который существует благодаря наследию истории, расе и фортуне.
Если допустить, что никто не хочет войны просто так, самой по себе, то воюющая сторона, диктующая условия мира по окончании боевых действий, хочет создать такие условия, чтобы ей не пришлось снова воевать в близком будущем и чтобы она могла сохранить за собой преимущества, добытые силой оружия. Можно сказать, что в своем естественном состоянии каждый индивид или каждое политическое сообщество имеет наипервейшим предметом заботу о безопасности. Чем более жестоки войны, тем энергичнее люди ищут возможности обеспечения безопасности. В Германии в 1914—1918 гг. много размышляли и рассуждали о наилучшем способе обеспечить стране окончательную безопасность путем разоружения таких-то и таких-то противников или оккупации таких-то и таких-то ключевых территорий.
В мире автономных политических сообществ безопасность может основываться либо на слабости соперников (полное или частичное их разоружение), либо на собственной силе. Если предположить, что безопасность есть конечная цель политики государств, то эфТеория
фективным средством ее обеспечения будет установление нового соотношения сил или модификация старого, с тем, чтобы потенциальные противники, будучи слабее и более отсталыми в военном отношении, больше не пытались прибегать к агрессии.
Взаимосвязь между этими двумя понятиями и терминами—безопасность и сила — ставит немало вопросов и создает немало проблем. На некотором менее общем и менее высоком уровне выясняется, что “максимизация” ресурсов не обязательно влечет за сбой “максимизацию” безопасности. В традиционной Европе ни одно государство не могло увеличить численность своего населения, объем богатств и число солдат, без того чтобы не вызвать опасений и зависти других стран и, тем самым, способствовать образованию враждебной коалиции. В той или иной системе существует оптимум сил, превышение которого оборачивается некой диалектической трансформацией в свою противоположность. Избыточная сила вызывает относительное ослабление ввиду перехода союзников к нейтралитету, а нейтральных — в лагерь противника.
Если бы безопасность была со всей очевидностью и со всей необходимостью приоритетной целью, то можно было бы теоретически дать определение рациональному поведению. Тогда, при каждом конкретном стечении обстоятельств, следовало бы устанавливать оптимум сил и действовать соответственным образом. Но как только мы задаемся вопросом насчет соотношения этих двух целей — силы и безопасности, — появляется более серьезное затруднение. Безусловно то, что и индивид, и нация в целом хотят выжить. Однако индивид не подчиняет решительно все свои жеМир и война между народами • Раймон Арон
- 123
Часть I
лания единственному стремлению жить. Существуют цели, ради достижения которых индивид готов отдать свою жизнь. То же самое происходит и с сообществами людей. Они не хотят быть сильными только для того, чтобы предотвращать внешнюю агрессию и жить в мире; они хотят быть сильными, чтобы их боялись, уважали и восхищались ими. В конце концов они жаждут могущества, то есть возможности и способности диктовать свою волю соседям и соперникам, влиять на судьбу человечества, на будущее цивилизации. Обе цели переплетаются между собой: чем больше у человека сил, тем меньше он подвергается риску нападения. Кроме того, он испытывает некое удовлетворение от наличия силы и от способности навязывать свою волю другим, тем более когда не требуется никаких оправданий и объяснений. Безопасность может быть конечной целью: не бояться больше никого и ничего — завидная судьба. Но и могущество тоже может быть конечной целью: что значит опасность, когда познал опьянение господства?
Даже на таком уровне абстрагирования перечисление целей представляется мне все еще неполным; поэтому я добавлю третий термин и понятие, которое назову славой. В очерке “О равновесии сил” Д. Юм1 объясняет поведение городов-полисов в большей степени состязательным духом, чем соображениями осторожности: “Надо сказать, что греческие войны рассматриваются историками скорее как состязательные войны, а не продиктованные политикой; каждый город-государство в большей мере стремился к почетному лидерству среди остальных городов, чем к власти и господству над ними”. Противопоставляя “ревностное состязание” (jealous emulation) “осторожной политике” (cautious politics), Юм формулирует тем самым антитезу между тем, что мы назовем борьбой за славу и борьбой за могущество.
Как только реально начинается борьба, сразу возникает опасность, что военная победа окажется самоцелью, а политические цели будут забыты. Стремление к абсолютной победе, то есть к миру, всецело продиктованному победителем, часто бывает выражением скорее желания славы, чем желания быть сильным. Отвращение к относительным победам, то есть к благоприятным для всех условиям мира, обсужденным на переговорах после частичных успехов, сопряжено с самолюбием, которым руководствуются люди, соразмеряющие способности и возможности друг друга.
Могут возразить, что слава есть лишь иное наименование или иной аспект могущества: она представляет собой все то же могущество, но признанное другими; соответствующий престиж получает признание во всем мире. В определенном смысле такое возражение правомерно, и, значит, три цели можно свести к двум: либо политические сообщества жаждут безопасности и силы; либо они хотят стяжать всеобщее признание, диктуя свою волю и пожиная лавры победителя. Одна из этих двух целей — сила — имеет материальное выражение, другая — моральное, и неотделима от человеческого диалога; ее можно определить как величие, утвержденное и закрепленное победой и подчинением врага.
Тем не менее троичное деление представляется мне более предпочтительным, потому что каждый из трех тер1 Более полный разбор очерка Юма см. ниже, в гл. V.
124 лайд ♦ ж . л < Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
минов соответствует конкретно определенному поведению и в то же время выражает специфическое понятие. Клемансо хотел безопасности, Наполеон — могущества, Людовик XIV — славы Франции (или своей собственной)1. В 1918 г. всякий рассудительный руководитель станы преследовал бы одну и ту же цель: избавить Францию от повторения столь жестокой войны, какую только что довела до победного конца огромная коалиция. Наполеон, по крайней мере с какого-то момента, мечтал властвовать в Европе: ему было недостаточно чести повсеместного восхваления как выдающегося полководца: даже возданное ему Клаузевицем: — “Сам бог войны”, — не удовлетворило бы его. Он был честолюбив по сути, а не по видимости, и он знал, что в конце концов ни одно государство не может отдавать приказы другим, если оно не располагает средствами принудить их к послушанию. Людовик XIV, вероятно, любил славу в такой же мере, как и могущество. Он хотел, чтобы его признавали первым среди всех, он использовал силу, чтобы захватить какой-нибудь город и потом превратить его в неприступную крепость, но подобный полусимволический подвиг был также еще и способом, манерой показывать свою силу. Он не собирался создавать чрезмерно обширную Францию с ресурсами, превышающими соединенные ресурсы ее соперников. Он грезил о том, чтобы народы воедино воспринимали имя Людовика XIV и имя Франции.
Подобный первичный анализ скорее опасен, чем полезен, если его не дополнить другим анализом. В самом деле, придерживаясь столь абстрактных понятий, можно склониться к тому, чтобы отбросить славу как нечто иррациональное1 2 и осудить бесконечное накапливание сил как нечто внутренне противоречивое (поскольку с какого-то момента рост собственных сил означает их уменьшение ввиду потери возможности рассчитывать на силы союзников, которые перестают быть союзниками). Двигаясь такими зигзагами, можно вернуться к безопасности как мнимо единственной и конечной цели. Поэтому оставим в стороне абстрактные анализы и рассмотрим отдельно взятое политическое сообщество, то есть человеческий коллектив, занимающий какую-то часть пространства. Если мы предположим, что такой коллектив можно сравнить с отдельно взятым человеком, с его интеллектом и его волей, то какие цели может преследовать такой коллектив?
Коллектив занимает некую территорию: логически рассуждая, он может счесть ее слишком малой для себя. В соперничестве народов владение пространством представляет собой первичную, исходную ставку. На втором месте стоит число подданных, которым государи часто измеряли свое величие: по ту сторону границ своих владений они стремились приобрести не земли, а людей. Наконец, если мы имеем дело с вооруженным пророком, то он озабочен не столько завоеванием, сколько обращением в свою веру: безразличный к земным и подземным богатствам, он не подсчитывает число работников или солдат, а желает распространить истинную веру, хочет, чтобы постепенно, мало-помалу все человечество было организовано в соответствии со смыслом жизни и истории.
1 Это не исключает того, что каждый желал также достижения целей, обозначенных двумя другими терминами.
2 И это было бы неверно: не хлебом единым жив человек.
Мир и война между народами • Раймон Арон * • <. % • 125 " *
И здесь тоже, как мне представляется, в достаточно полной мере обнаруживается все та же триединая группа. Все цели, которые ставят перед собой государства в различных исторических обстоятельствах, возвращают нас к одному из трех терминов, которые мы уже приводили (хотя и формулировали иначе): пространство, люди и души. Ради чего бьются между собой общества, если не за то, чтобы расширить территории, которые они культивируют и из которых извлекают богатства, чтобы подчинить себе людей, сегодня чужестранцев, а завтра рабов или сограждан, или же чтобы обеспечить триумф какой-то идеи, религиозной или социальной, всеобщую истинность которой провозглашает или пытается обосновать то или иное сообщество?
Говоря конкретно, эти цели лишь с большим трудом можно отделить друг от друга. Завоеватель одновременно овладевает и пространством, и людьми, его занимающими, если только он, конечно, не изгоняет их оттуда или вообще не истребляет. Далее, поскольку обращение в новую веру не совершается само собой, пророк не снисходит до управления людьми, прежде чем спасет их души. Тем не менее, в некоторых случаях наши три термина просматриваются вполне раздельно. Крестоносцы хотели прежде всего освободить Святые места, а не обратить в христианство мусульман. Израильтяне хотели занять палестинское пространство, которое было царством Давида, их не заботили ни какие-либо излишние завоевания, ни обращение в свою веру палестинских мусульман. Государи монархической Европы коллекционировали провинции — землю и людей, — потому что могущество и престиж государей измерялись их владениями. А что касается обращения иноверцев, то, очевидно, оно никогда не было исключительной или единственной целью любого государства. Лишь безоружные пророки мечтают о чистом новообращении, но, как говорил Макиавелли, они гибнут. Да, бывает, что пророками выступают целые государства, но они всегда вооружены. И дело не в том, что та или иная идея служит всего-навсего инструментом или оправданием стремления к завоеваниям пространства и людей. В сознании религиозных или идеологических лидеров триумф веры, распространение идеи могут искренне восприниматься как подлинная цель практических действий. Людям, отвергающим такую веру или идеологию, подобная цель представляется обыкновенной маскировкой империалистских устремлений: историки и теоретики, тоже “неверующие”, слишком легко присоединяются к такому циничному толкованию.
Как же соотносятся между собой эти серии абстрактного и конкретного? Нельзя произвольно подчинять ни второе первому, ни наоборот. Расширение пространства, увеличение материальных и людских ресурсов безусловно образуют элементы безопасности и могущества, а порою служат стяжанию славы. Но отсюда вовсе не следует, что захват какой-нибудь провинции никогда не может быть целью самой по себе. Французы не рассматривали возвращение Эльзас-Лотарингии как средство для достижения каких-то иных целей, они считали это благом, не требующим дополнительных объяснений и оправданий. Без Эльзаса и Лотарингии Франция была как бы ампутированной: вернув Страсбург и Мец, она вернула свою целостность. За многие века те или иные местности и города, люди, населяющие •, 126 -
~ ■ Раймон Арон* Мир и война между народами
Теория
их, приобретали историческое значение и ценность символа. Абсолютно неправомерен вопрос о том, могли ли палестинские мусульмане или израильтяне найти где-нибудь в других местах такую же плодородную землю, такие же или еще более богатые ресурсы. Нет, именно там, вокруг Тивериадского озера и на Иерусалимском плато и нигде больше на всей планете евреи (даже те, которые не верили больше в своего бога и в “союз” с ним) хотели воссоздать коллектив, сообщество, которое провозгласило бы себя наследником полулегендарного прошлого.
В наше время никакая гарантия порядка и справедливости не достаточна, чтобы укротить и, так сказать, обезоружить национальные требования: активные меньшинства, увлекающие за собой население, хотят принадлежать к политическому сообществу по своему выбору. Киприоты возжелали себе отечества, которое не стало ни отголоском Великобритании, ни частицей Британской империи: справедливое управление, какая-то степень автономии, сравнительно высокий уровень жизни — ничто из этого не может компенсировать или заменить отсутствие политического сообщества. При выборе между двумя устремлениями — оставить все как есть или не лишиться отечества — в Европе в конце концов отошло на задний план первое устремление: переводы и переходы групп населения из страны в страну означали, хотя и своеобразно, примат народа на своей земле.
В обеих сериях, абстрактной и конкретной, третье направление стоит особняком: слазай идея. Нельзя сказать, что эти два слова соответствуют друг другу. Напротив, сама по себе слава — бессодержательное понятие; она существует лишь в сознании и, быть может, прежде всего в сознании того, кто хочет прославиться. Человек, “преисполненный славы”, — это такой человек, который удовлетворен представлением, сложившимся о нем, как он думает, у других. Поэтому такой “славный” человек вполне заслуженно оказывается смехотворным персонажем. Даже если он и не ошибается насчет чувств, вызываемых им у других, “преисполненный славы” человек должен игнорировать свою фортуну или быть к ней безразличным, только так он будет всецело достоин своего эпитета. Но вместе с тем сама цель, которую он ставит перед собой, рискует отступать все дальше и дальше по мере приближения к ней. Никогда уже свершенные подвиги не умиротворят и не насытят того, кто жаждет славы. И напротив, идея — будь то идея христианства или коммунизма, божественности Христа или организации общества — есть нечто вполне определенное. Быть может, инквизиторы никогда не были уверены в искренности новообращенных. Члены Президиума (Политбюро) не смогли ликвидировать “капиталистические” склонности крестьян, и разного рода уклонения будут возникать вновь и вновь после устранения или изгнания предыдущих уклонистов. Но, по меньшей мере, идея, для верующего в нее, наполнена конкретным содержанием, тогда как слава неуловима, ибо она связана с диалогом сознаний и умонастроений.
Однако и эта цель тоже по существу как бы бесконечна. Когда речь идет о некоей истине, ничто уже сделанное не означает, что больше делать нечего. Все религиозные идеи спасения универсальны по своему предназначению, они адресуются всему человечеству, поскольку обращены к каждому человеку. ПроМир и война между народами • Раймон Арон
127
Часть I
рок и вооружается для того, чтобы распространять их, и его дело не завершится, если оно не сделает круг по всей планете. И все же войны ради славы и войны ради идеи гораздо больше проникнуты человеческими свойствами, чем войны за земли или за подземные богатства. Крестоносцы были возвышенны и грозны. Благородные рыцари, ведущие борьбу между собой из-за престижа, никогда еще не доводили такую схватку до завершения. Если цель — победить, чтобы тебя признали победителем, или победить, чтобы приобщить побежденных к истине, то достаточно одинаковой решимости каждой из борющихся сторон, и тогда насилие дойдет до своих крайних пределов. Так что войны, самые человечные по своему истоку, часто оказываются и самыми бесчеловечными, потому что они самые безжалостные.
Вот почему мы хотим предложить еще и третью серию триединых словпонятий, а именно: следуя платоновской модели, серию, состоящую из тела, сердца и духа. Идет ли диспут о земле и населяющих ее людях, о безопасности или силе, ставка всегда в конечном счете материальна: политические сообщества хотят расширить свое пространство или аккумулировать ресурсы, чтобы жить вне опасности или иметь средства парировать ее. Но ни безопасность, ни сила не удовлетворяют устремлений сообществ: каждое хочет взять верх над другими, добиться признания своего первенства своими соперниками. Политическим сообществам присуще самолюбие, как и людям, а быть может, они даже еще более щепетильны. Поэтому они иногда предпочитают опьянение триумфом тем выгодам, которые дает мир, достигнутый в результате переговоров. Иногда желание славы удовлетворяется лишь благодаря распространению какой-то идеи, единственным носителем-источником которой провозглашает себя некое сообщество. Наконец, то, что мы назвали духом, так сказать, воодушевляет диалектику насилия, доводя последнее до верхних пределов, как только он, дух, начинает связывать свое предназначение с предназначением государства, то есть вооруженного или могущего быть вооруженным человеческого коллектива.
Конечно, само по себе стремление к безопасности и силе тоже ведет к крайностям. В конце концов то или иное политическое сообщество будет чувствовать себя в совершенной безопасности лишь при условии, что у него не будет больше врагов, иными словами, если оно расширится до размеров всеобщего или всемирного государства. Однако желание безопасности и силы не перерастает в желание безграничного могущества, если самолюбие или вера не вдохновляют на соответствующие деяния и не опрокидывают в конечном итоге всех расчетов, связанных с реальными интересами. Ни Пирр, ни Наполеон, ни Гитлер, если бы они заботились только об обеспечении мирной жизни, не пошли бы на огромные и вполне предсказуемые жертвы в обмен на весьма призрачные, в смысле достижимости, преимущества.
Завоеватели иногда оправдывали свои авантюры, суля процветание своему народу после победы. Такие утопии служили извинением, но не источником вдохновения. Эти предводители хотели мощи и могущества для достижения своей славы, для торжества какой-то идеи, самой по себе, но никогда не для того, чтобы люди познали сладость жизни.
128 .
> <
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
2. Исторические цели
Как и теория могущества, так и эта теория целей имеет надысторическое значение и в то же время позволяет разобраться в историческом многообразии. Во все века цели государств сводились и сводятся к терминам-понятиям двух первых триединых серий или даже, если упростить формулу, к трем терминам последней абстрактно-конкретной серии. Однако тут возникают многочисленные дополнительные обстоятельства — военная и экономическая техника и технология, институциональные структуры и идеолотии, — которые заставляют ограничивать и уточнять цели, реально преследуемые государственными деятелями.
Вернемся к первому термину, выражающему наиболее постоянную ставку в человеческих конфликтах, — к пространству. На заре истории, как и на пороге атомного века, группы людей оспаривают друг у друга земли, на которых одни живут, а другие хотят жить. Коллективы распределили землю между своими членами и узаконили индивидуальную собственность. Но это не значит, что тем самым суверенитет коллектива над какой-то совокупностью земель признается другими коллективами. В первые тысячелетия исторической фазы племена отступали перед захватчиками с востока и, в свою очередь, становились завоевателями по отношению к населению, жившему западнее. Степные кочевники устанавливали свое господство над людьми оседлыми и создавали иерархические общества, где воины составляли высший класс, возвышавшийся над массой тружеников.
В новые и новейшие времена борьба за землю утратила некогда присущую ей простоту и жестокость. Тем не менее, она остается достаточно жесткой, если уж развязывается. Израильтяне и мусульмане Палестины не могут образовать единый коллектив и жить вместе на одной земле: либо те, либо другие обречены терпеть несправедливость. В Северной Африке французские завоевания XIX и XX вв. выразились в частичной экспроприации достояния берберского и арабского населения, поскольку французские колонисты получали в собственность земли, принадлежавшие местным племенам, деревням или семьям. Теперь независимость Туниса и Марокко влечет за собой более или менее быструю экспроприацию собственности французских колонистов. В определенном смысле алжирская война имеет своей ставкой землю, которую мусульмане и французы в равной мере считают своей и на которой они временно вынуждены сосуществовать, причем первые выступают под лозунгом независимости, а вторые — под лозунгом интеграции.
Для французов, обосновавшихся по ту сторону Средиземного моря, Алжир остается землей их отцов в прямом смысле слова — отечеством. Но для Франции, каким было и каким является для нее значение Алжира? Почему Франция пожелала1 с 1830 г. распространить свой суверенитет на землю, которую она никогда не занимала за все прошедшие века? На такой вопрос ответить трудно, потому что те государственные и военные деятели, которые приняли решение 1 Когда мы употребляем такое словосочетание и персонифицируем политическое сообщество, мы не вводим никакой метафизики. Ясно, что от имени Франции решение приняли определенные люди, но сама тема нашей книги побуждает нас считать государства как бы наделенными разумом и волей.
Мир и война между народами • Раймон Арон 129 ^ж
Часть I
об этом завоевании и осуществили его, либо не знали, зачем они так действуют, либо сильно расходились во мнениях насчет мотивов завоевания.
Одни из них обращали особое внимание на опасность берберийского пиратства, расстраивающего навигацию, и на необходимость безопасности, которую обеспечивало овладение алжирским побережьем. Заметим, что на первое место они выдвигали военный мотив. Другие подчеркивали возможность заселения новых земель и говорили о французской империи в сто миллионов человек по обеим берегам Средиземного моря. Опять-таки заметим, что в данном случае мы констатируем соображения, относящиеся одновременно к расширению французского пространства и к росту французского населения1. Впрочем, и сегодня об этом говорят не меньше, а, возможно, даже больше, чем вчера, —перечисляются экономические преимущества суверенитета Франции над Алжиром, который является резервом рабочей силы, клиентом и поставщиком для экономики метрополии, источником сырья, в частности, нефти, начиная с 1956 г. И снова заметим, что речь идет уже об экономических выгодах. Короче говоря, данный пример позволяет нам выделить три типичных аргумента в пользу завоеваний: военно-стратегическая важность, пространственно-демографическое преимущество, пространственно-экономическая выгода.
Каждый из этих аргументов подчинен закону изменения. Военная демографическая и экономическая ценность земли меняется вместе с изменением военной и производственной техники и технологии вместе с трансформацией человеческих отношений и институций. Одни и те же позиции стратегически важны или не важны в зависимости от состояния международных отношений (после того как русская армия обосновалась в двух сотнях километров от Рейна, старая граница между Германией и Францией больше ничего не значит в военном отношении), в зависимости от вооружений (Босфор и Суэцкий канал утратили основную долю своей важности, потому что их слишком легко “застегнуть” атомной бомбежкой и слишком легко “перескочить”, используя транспортную авиацию). После получения Алжиром независимости берберийские пираты перестали быть грозой Средиземного моря.
Демографический аргумент выступает в полностью отличных друг от друга формах. Пространство всегда ценно, когда оно почти безлюдно или заселено очень слабо. Невозможно переоценить историческое влияние того факта, что с XVI в. европейцы получили в свое распоряжение малолюдные просторы Америки. В XIX в., когда смертность сокращалась, а прежние темпы рождаемости медленно снижались, миллионы англичан, немцев, а за ними итальянцев и славян могли пересечь Атлантику и занять обширные территории Северной Америки. Число канадских французов, составлявшее 65 тысяч к моменту подписания Парижского договора, выросло до 5 с лишним миллионов за два после-
1 “Пусть же скорее наступит день, когда наши соотечественники, теснящиеся в нашей африканской Франции, хлынут в Марокко и Тунис и создадут наконец средиземноморскую империю, которая не только послужит удовлетворению нашей гордости, но и безусловно будет, при будущем состоянии всего мира, последним источником нашего величия”. Таким текстом заканчивается книга Прево-Парадоля “Новая Франция” (Prévost-Paradol. La France nouvelle).
_ 130
■ , Раймон Арон • Мир и война между народами
дующие столетия. Еще и сегодня, если государства хотят, чтобы их население “плодилось и размножалось”, то занятие свободных пространств остается для этого идеальным средством (отсюда — дьявольское искушение “освободить” пространство для победителя: Гитлер поддался такому искушению).
С другой стороны, завладение уже населенным пространством ставит свои проблемы, разные в зависимости от веков. Монархи были склонны определять собственное величие числом своих провинций и подданных. Рост численности населения увеличивал число земледельцев и солдат. В прежние века, когда опасались обезлюдения, острой нехватки людей, распространение суверенитета на обитаемые земли считалось благотворным. Эта традцинная концепция была поставлена под вопрос либеральными экономистами, которые полагали, что торговля и иные виды обмена могут и должны совершаться при игнорировании всяческих границ. А взятие под свой суверенитет вынуждает метрополию нести управленческие расходы, не давая ей никакой дополнительной выгоды1.
Антиколониальная аргументация либералов, которая получила широкий отклик в Англии прошлого века, не помешав, однако, экспансии английской империи, была в конце концов отвергнута безусловной убедительностью традиционных идей, а также некоторыми собственными феноменами индустриальной эры. Разве можно сомневаться, что завоевания выгодны, что они не только доказывают и символизируют величие, но и дорого стоят в военном отношении, а также в пределах империи обеспечивают метрополиям дешеТеория
вое сырье и защищенные рынки сбыта. Имперски настроенные правые и марксисты были по существу согласны между собой насчет выгодности иметь колонии: более высокие ставки прибылей, гарантия сбыта промышленных изделий, гарантированное получение сырья. Единственная разница между теми и другими заключалась в оценочных суждениях относительно самого факта колонизации и ее целей. Марксисты выводили на передний план эксплуатацию, которая, по их мнению, есть причина и цель империализма: имперские правые оправдывали колонизацию цивилизаторской миссией, но при этом не стыдились открыто говорить и о прямой выгоде для государства-колонизатора.
И все же либеральная аргументация вновь обрела свою аудиторию после второй мировой войны в результате конвергенции политических и экономических мотивов. Если в колонии нет европейского населения, то принцип равенства народов служит основанием для права такой колонии на независимость. Если в ней живет европейское население, тогда принцип равенства людей запрещает третировать свысока туземцев, и там надо организовать, посредством всеобщего голосования, власть большинства, то есть тех, кто был колонизован.
В то же самое время имперское государство обнаружило, что “цивилизаторская миссия” обходится дорого, если ее принимать всерьез. Какие-то индивиды или компании извлекали выгоду из колониальной ситуации, но общий баланс для коллектива переставал быть положительным по мере того, как создание управленческой и обра1 См. ниже, часть II, гл. IX.
Мир и война между народами • Раймон Арон 131
зовательной инфраструктуры и повышение уровня жизни все больше фигурировали среди обязанностей и обязательств метрополии.
Между выгодой обладания землей и ценой ответственности, за живущее на ней население, европейские государства, в первую голову Великобритания, выбрали деколонизацию (точнее, выбрала Великобритания, а Франция последовательно и неуклонно понуждалась к этому выбору). Передача суверенитета содержала риск, дипломатический и военный: вместо того, чтобы распоряжаться, бывшее имперское государство должно было теперь действовать договорным путем. Вооруженные силы Индии перестали обслуживать британские интересы на Среднем Востоке. Но и в военном аспекте отказ от суверенитета обходился дешевле, чем борьба против национализма. Франция была ослаблена индокитайской войной в большей степени, чем была бы ослаблена соглашением с Хо Ши Мином в 1946 г. Великобритания была бы в большей мере ослаблена сопротивлением индийскому национализму (даже если бы это сопротивление было успешным в течение жизни целого поколения), чем она была ослаблена передачей суверенитета Индийскому национальному конгрессу и Арабской лиге.
Наш анализ, хотя и довольно общий, позволяет выделить два, из числа других, фундаментальных фактора исторической трансформации целей: техника и технология борьбы и производства меняются и одновременно меняют стратегическое значение тех или иных позиций и экономическую ценность различных ресурсов земли, ее недр и населения; в каждую эпоху способы организации коллективов позволяют или не позволяют применять определенные способы доминирования. На протяжении веков завоеватели редко допускали, чтобы победа накладывала больше обязанностей, чем давала прав. Превосходство в вооруженных силах было равнозначно превосходству самой цивилизации. Побежденные всегда были не правы, и подчинение представлялось законной санкцией за поражение. Глава книги Монтескье “О духе законов”, где он пишет о завоеваниях, уже принадлежит тому веку, когда приговор оружия перестал считаться справедливым приговором суда Истории или Провидения1.
Доктрина империй больше зависит от концепций, касающихся отношений между управляемыми и правителями и между различными группами населения, чем от концепций относящихся к войне и к привилегии силы. Когда гражданство предоставлялось небольшому числу жителей городов-полисов, когда лишь дворянство носило оружие и распоряжалось работниками и имуществом, тогда не было никаких рационально установленных пределов завоеваниям* число подданных и рабов могло расти без соответственного увеличения числа граждан Народ-хозяин был волен предоставлять или не предоставлять гражданство, и Римская империя долго держала немалую массу населения, подчиненного Риму, но не интегрированного в римскую цивилизацию Таким же образом короли Франции или Пруссии были убеждены в том, что их силы возрастают по мере расширения 1 “Завоевателю надлежит исправить часть причиненного им зла Право на завоевания я определяю так это право необходимое, законное и приносящее несчастье, оно всегда требует уплаты огромного дол га чтобы рассчитаться с человеческой природой" (Esprit des Lois IX 4)
х л 132 '»*5 - » *ч ' Раймон Арон» Мир и война между народами
Теория
их территории и увеличения числа подданных. Тогда полагали, что желание людей подчиняться одному хозяину, а не другому в счет не идет, да и вообще по большей части такого желания у людей нет вовсе. Религиозные конфликты, приводившие к кровавым побоищам в Европе. подтверждали правоту и достоинства старой политической мудрости: лучше всего запрещать людям самим вмешиваться в дела, их касающиеся. Чтобы восстановить мир в Европе, требовалось приказать всем и каждому верить в истины той церкви, которая признана государем.
Иначе пошло дело, начиная с Французской революции, когда умами постепенно стали овладевать две новые идеи: юридическое равенство всех членов коллектива и стремление управляемых быть частью того сообщества, которое они изберут для себя сами.
Первая идея, доведенная до логических следствий, предполагала стирание различий между победителями и побежденными внутри сообщества, между сословиями, между благородными и простолюдинами. “Завоеватель, порабощающий народ, всегда должен иметь средства (а они бесчисленны) вывести его из порабощения”1. В век демократии написали бы мы, имперское господство завершается либо предоставлением независимости завоеванному населению, либо интеграцией колоний в метрополию и образованием многонациональной совокупности (более или менее федерализированной или централизованной). Выбор между этими двумя вариантами определяется не столько желаниями государственных деятелей, сколько природой и характером самой метрополии. Строго национальное государство — как, например, Франция — с большим трудом превращается в центр многонационального сообщества. Государство со всемирными претензиями, такое, как советское государство, вполне могло пытаться проводить политику интеграции в широких масштабах.
Вторая идея, прочно связанная с первой, означает, что воля управляемых принадлежать к тому или иному сообществу не может быть отброшена и не должна быть ограничена или навязана силой. Правда, национальная идея всегда колеблется между двумя установками — между национальной принадлежностью, вписанной в историческое и даже биологическое бытие населения, и добровольным решением каждого человека и каждой группы людей принадлежать к тому или иному политическому коллективу. Согласно первой установке, в 1971 г. Эльзас был скорее немецким; согласно второй, он был французским.
Национальная идея не была всецело новой, и подлинные граждане городов-полисов или монархий не подчинялись с равным безразличием какому угодно государю. Тем не менее, даже представители благородного сословия могли переходить на службу от одного суверена к другому, не вызывая при этом скандала и обвинения в предательстве. Распространение статуса гражданства на всех членов коллектива глубоко преобразовало суть и значение национальной идеи. Если все подданные становились гражданами и если граждане отказывались служить любому хозяину без разбора, то политические сообщества больше не должны были иметь целью завоевание неважно какой территории 1 De L’Esprit des Lois IX 3
Мир и война между народами • Раймон Арон г ■<t.tuv 133
Часть I
и неважно какого населения. Нарушение такого запрета чаще всего наказывалось тяготами и высокой ценой управления непокорным населением.
Иными словами, конкретные цели и задачи политических сообществ эволюционируют не только вместе с развитием техники войны и производства, они эволюционируют также и вместе с историческими идеями, которые кладутся в основу организации и управления коллективами. В конечном счете государство не придерживается двух философий — одной для внутреннего пользования, другой для внешнего. Оно не держит бесконечно под своей властью и граждан, и подданных. И если оно хочет иметь и сохранять вовне именно подданных, оно кончит тем, что превратит в подданных собственных граждан внутри своей страны.
В какой-либо данный период конкретные цели государств не определяются лишь технико-технологическим состоянием (военного дела и производства) и историческими идеями. Надо добавить еще и то, что мы, вместе с теоретиками международного права, будем называть обычаем. Манера поведения одних государств по отношению к другим, способы и приемы действий, которые они считают законными, хитрости и жестокости, от которых они стремятся воздерживаться, — все это не определяется непосредственно организацией армии или экономики. Дипломатико-стратегическое поведение пронизано нормами и правилами обычая. От поколения к поколению по традиции передаются грандиозные или перспективные цели, и порою государственные деятели упрямо не забывают их вопреки всякой рассудительности. Когда в 1917 г. французское правительство Третьей Республики в секретном соглашении с царским правительством поддержало русские притязания на проливы в обмен на поддержку своих притязаний на левый берег Рейна, то здесь сработали обычай заключать сделки и традиция естественных границ, которые взяли верх над соображениями техники и над идеями того времени. Быть может, наоборот, экономическая и идеологическая рациональность возьмет верх над привычками прошлого и страстями, которые навеяны обстоятельствами, но всетаки это трудный и долгий процесс.
3. Наступление и оборона
Оба эти понятия, наступление и оборона, являются, как пишет Клаузевиц, высшими понятиями в стратегии. Служат ли они и если да, то в каком смысле, также и ключевыми понятиями во внешней политике, то есть в дипломатико-стратегическом поведении?
Когда участники переговоров на конференциях по разоружению захотели провести разницу между “наступательным оружием” и “оборонительным оружием“, они оказались не в силах преодолеть неясности и двусмысленности: государство-агрессор может использовать оборонительное оружие, а государство, подвергшееся нападению, —оружие наступательное, при условии, конечно, что сами эти определения, имеющие смысл на уровне тактики или стратегии, пригодны применительно к видам оружия.
Какой же смысл приобретают в политике эти понятия, относящиеся по своему происхождению к боевым действиям и операциям. На самом высоком уровне абстрагирования я провожу различие между наступательной мощью и в 134 $
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
оборонительной мощью, то есть способностью политического сообщества навязывать свою волю другим и способность не поддаваться такому навязыванию и парировать его. На дипломатическом поприще государство обороняется, когда сберегает свою автономию и образ существования и не приемлет подчинения своих внутренних законов и внешних действий желаниям и распоряжениям других. Государства, окрещенные “малыми державами”, имеют и могут иметь лишь оборонительные чаяния. Они хотят выжить такими, какие они есть,—очагами свободных решений. Зато страны, которые называются “великими державами”, хотят обладать возможностями наступательными, иначе говоря — быть в состоянии воздействовать на другие политические сообщества, в чем-то их убедить и в чем-то принудить. “Великие державы” должны брать на себя инициативу, создавать альянсы, возглавлять коалиции. Если большое и сильное государство пользуется только “оборонительной мощью” то оно занимает “изоляционистскую” позицию, отказывается участвовать в состязаниях и соревнованиях, входить в какую-либо систему, оно хочет, чтобы его оставили в мире и покое. Изоляционизм — например, изоляционизм Японии в XVIII в. или Соединенных Штатов после первой мировой войны — не всегда похвален как таковой. Изоляционизм Японии не имел серьезных последствий для других государств, но изоляционизм Соединенных Штатов нарушал расчеты соотношения сил. Германия дважды игнорировала потенциал далекого государства, провозглашавшего самоотстранение от мировой политики.
На более низком уровне иногда путают наступление с требованиями оборонительного и консервативного характера. При той или иной конъюнктуре бывает, что государства, получившие удовлетворение, — как правило, те, кто продиктовал условия мира по окончании последней войны, — хотят сохранения статус-кво, а неудовлетворенные государства желают перемен. После 1871 г. Германия была, на западе, консервативной, а Франция — ревизионистской, поскольку ставкой была ЭльзасЛотарингия. После 1918 г. Франция стала глобально-консервативной, а Германия выдвигала требования на всех фронтах дипломатии по поводу всех своих границ.
Противопоставление ревизии и консервации не обязательно должно определять соответственное распределение ролей и ответственностей в момент, когда вспыхивает война. Иначе говоря, вполне мыслимо, что государство-консерватор может первым применить оружие. Например, видя, что другие недовольные государства собирают силы, оно упреждает агрессию, которую считает опасной и неизбежной. Монтескье в “Духе законов” даже признает легитимность такой превентивной агрессии, или консервативного наступления: “Между обществами право на естественную защиту иногда влечет за собой необходимость упреждающего нападения, если какой-то народ видит, что продолжение мира дает другому народу возможность нанести ему поражение, и тогда нападение оказывается единственным способом предотвратить такое поражение”1. Израильская операция на Синае в ноябре 1 De Г Esprit des Lois. X. 2.
Мир и война между народами • Раймон Арон 135
Часть I
1956 г. может быть оправдана правом на “превентивную агрессию”.
Столкновение между двумя коалициями вовлекает, с той и другой стороны, и консервативные, и ревизионистские государства: в 1914 г. Германия, будучи консервативной касательно территориального статуса на западе, начала войну против ревизионистской Франции, но сделала это в рамках всеобщей войны. Наконец, государство или даже целый лагерь, не формулируя конкретных требований, могут испытывать чувство постоянной несправедливости по отношению к себе: они не имеют положенной им доли богатства, которая была бы пропорциональна их силе. Они считают себя способными победить и занять виднейшее место в случае победы. Перед 1914 г. Италия и Франция предъявляли более конкретные и жесткие требования, чем Германия. Быть может, она проявляла большую склонность к испытанию оружием, чем две упомянутых страны, являвшихся к тому же более требовательными, но менее сильными.
Таким образом, противопоставление ревизионистского государства консервативному нередко вводит в заблуждение. Склонность быть инициатором военных действий в первую очередь зависит от соотношения сил, а уже во вторую очередь от шансов на успех, на который рассчитывает каждое государство и каждый лагерь. Консерватизм редко бывает целостным и полным, как редко бывает полным и удовлетворение. Едва только представляется случай, как “удовлетворенное” государство старается изменить в свою пользу территориальные границы с противниками или союзниками. И далеко не всегда побежденные в предыдущей войне развязывают следующую войну.
Таким же образом — и это еще один парадокс, — неудовлетворенное и агрессивное государство охотно создает видимость своих мирных намерений. В июле 1914 г., когда австрийские пушки уже стреляли по Белграду, правительство Вены призывало к “локализации конфликта”. И дело не в том, что государство, обнажающее шпагу, обязательно должно быть вероломным, когда оно провозглашает свое стремление не расширять театр военных действий и не увеличивать число воюющих сторон. Если оно действительно хочет не всеобщей войны, а политического успеха, оно достигает своих целей, если другие государства системы не вмешиваются. В 1914 г. Россия не могла остановить австрийских действий против Сербии, не создав, по меньшей мере, обстановку вероятности всеобщей войны. Перед 1939 г. консервативная коалиция могла остановить недовольный третий рейх не иначе как угрозой всеобщей войны. После обратного взятия немцами левого берега Рейна Франция потеряла шанс (предоставленный ей Версальским договором) ответить на это лимитированным, но эффективным действием.
Преследуемые цели и роль государств, стоящих у истоков военных действий, недостаточны для определения характера и направлений той или иной политики. Окончательный суд и суждение зависят еще и от следствий и развития событий после победы какоголибо государства или какого-либо лагеря. Разве Афины развязали Пелопоннесскую войну и разве граждане Афин сознательно хотели гегемонии над другими греческими народами? Была ли от•ыж 136 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
ветственна Германия Вильгельма II (и если да, то в какой степени) за взрыв 1914 г.? Каковы бы ни были ответы на эти вопросы, ясно, что, в случае поражения Спарты, Афины господствовали бы над всем греческим миром; в случае поражения западных союзников, вильгельмовская Германия имела бы на континенте такое превосходство сил, которое было бы равнозначно потере независимости другими европейскими странами. А поскольку история дает мало примеров гегемонистских государств, которые не злоупотребляли бы своей силой, то государство, которому победа обеспечивает гегемонию, слывет агрессивным, каковы бы ни были намерения тех, кто им управляет.
Еще более наступательной представляется политика государства, которое стремится нарушить не только соотношение сил, но и внутренний статут других государств. Революционная Франция не обязательно бывала агрессивной в дипломатическом отношении, она могла не брать на себя инициативу войны, но она не могла не преследовать королей и князей там, где они были наиболее уязвимы, и не обрушиваться на самый принцип легитимности. О дипломатии республики рассуждали и спорили много, задаваясь вопросом, до какой степени или уровня она продолжала королевскую дипломатию, воспринимая цели и методы последней. При этом не всегда расценивалось как очевидное то, что считалось очевидностью всеми современниками революции: соответствовала или нет дипломатия республики обычаям — сие от людей не зависело: она была по сути своей революционнойв той мере, в какой французские идеи расходились по Европе и расшатывали троны. И вообще революционна политика всякого государства, чья победа влечет за собой крушение традиционных государств и разрушение старого принципа легитимности.
На уровне стратегии ни одна из этих антитез,—консерватор или ревизионист, подвергшийся нападению или агрессор, традиционалист или революционер, — не выражает себя в противопоставлении обороны и наступления. Даже когда государство выступает как агрессор или революционер, руководитель всей войны может приказать командующему армиями оставаться в пределах оборонительных действий — временно, если его силы не отмобилизованы, и постоянно и окончательно, если он возлагает надежды на обширность территории своей страны и терпение ее населения. Если кто-то стал инициатором начала военных действий, это не значит, что он должен избрать стратегию, соответствующую именно этому обстоятельству. Даже если бы в 1914 г. жертвой агрессии оказалась Германия, она все равно должна была бы применить план Шлиффена — атаковать Францию в первой фазе конфликта, чтобы вывести ее из боеспособного состояния, прежде чем повернуть свои силы против России. Франция же, считавшая себя подвергшейся агрессии, сразу бросила войска на захват Эльзаса. Так что в целом или на каком-нибудь данном фронте стратегия, будь то наступательная или оборонительная, не определяется единственно политикой государства, его инициативами и целями, а определяется также соотношением сил, географических характеристик театра военных действий, оценок военачальников относительно обоих способов (наступление или оборона) “использовать конкретные боевые действия для победы в военной кампании в целом”.
Мир и война между народами • Раймон Арон 137
Часть I
Мы встречаем здесь формулы, служащие дополнением к тем, которые мы проанализировали в первой главе. На самом низовом тактическом уровне действия солдата, роты, батальона, полка подчинены строго военным соображениям. В первый же день командир или командующий стремятся выиграть бой или сражение, хотя и подвергают себя более или менее серьезному риску; они как бы нацелены на успех, который может оказаться полным или неполным в зависимости от общей конъюнктуры и целей каждой боевой операции. Напротив, выработка плана всей войны зависит, в теории и на практике, от политики государства, от соотношения всех сил, от, так сказать, географии конфликта. Но хотя “шеф”, руководящий всеми военными операциями, должен всегда учитывать политические соображения, не существует никакого соответствия между, с одной стороны, различными формами и смыслами наступления и обороны в дипломатии, как мы их выделили выше, а с другой — между двумя одноименными формами стратегии, как их обрисовал Клаузевиц.
Япония с 1931 или 1937 г. проводила на Дальнем Востоке явно агрессивную и революционную политику. Она превратила Маньчжурию, отделенную от Китая, в империю Маньчжоу-го, она стремилась — и не делала из этого тайны — учредить “новый порядок” на огромном пространстве Азии от Мукдена до Джакарты. Ей принадлежит инициатива войны против Китая в 1937 г., против Соединенных Штатов, Великобритании и голландских владений в 1941 г. Вместе с тем она приняла наступательно-оборонительную стратегию: в первой фазе японские адмиралы и генералы, пользуясь локальным и временным превосходством, рассчитывали на блестящие успехи и на территориальные захваты в качестве некоего залога; во второй фазе они намеревались упорно обороняться и тем самым истощить волю Соединенных Штатов к победе. Однако с самого начала такая комбинация политики захватов и наступательно-оборонительной стратегии, долженствующая привести к миру в результате переговоров, имела мало шансов на успех. Редко какое государство осуществляет столь грандиозные замыслы, если при этом не одерживает полной военной победы. Однако верно и то, что ревизионистское, захватническое, революционное государство может принять оборонительную стратегию, рассчитывая изнурить, физически и морально, своих противников, не намереваясь разбить их в боях и разоружить.
И наоборот, государство, не имеющее завоевательных амбиций и не ответственное за развязывание войны, намерено порою добиться решительной победы, полного разгрома, уничтожения противника и предпочитает косвенным методам и окольным операциям прямой и мощный удар по главным силам противника. Можно ли сказать, что главный руководитель военных операций, “шеф” войны, добивающийся полной победы, но ставящий перед собой ограниченные цели, действует иррационально? Такое умозаключение было бы ошибочным. Все зависит от того, на какие уступки пойдет противник, исчерпав свои возможности сопротивляться: Гитлер вел борьбу до самого конца даже без всякой надежды. Победа полная и абсолютная в военном отношении, даже если в ней нет необходимости при реализации политических замыслов и намерений, увеличивает престиж ар» 138 Раймон Арон • Мир и война между народами
мии, силы, и тем самым служит поддержкой и опорой для дипломатии победителя. Наконец, как только военные действия начались, вполне нормально, что армейские руководители стараются довести дело до конца, до победы, независимо от выгоды, которую может извлечь из войны политика.
Выбор наступательной или оборонительной стратегии, желание полной или ограниченной победы, предпочтение нанести прямой удар или действовать не напрямую — ни одно из этих решений не отделяется от политики, но и не определяется всецело политикой. Можно одержать полную победу, истощив противника; можно уничтожить военную силу противника, чтобы сохранить свои завоевания, — и все это не исключает того, что чаще всего агрессивное государство предпринимает наступление, а революционное государство избирает стратегию, нацеленную на уничтожение, и собирается одержать полную победу. Сложность игры между суверенными государствами, многочисленные значения и оттенки наступления и обороны в политике, перекрещивание этих двух терминов в стратегии и в дипломатии убедили авторов XVII и XVIII вв., что лучше всего не проводить юридического различия между агрессором и жертвой агрессии и признавать законность действий всех воюющих сторон. Концептуальный анализ в известной степени показывает резонность такой осторожности.
Вот разразилась война 1914 г. Убийство в Сараево явилось поводом. До какой степени оно было также и причиной? Что делало неизбежным взрыв войны именно в то время — историческая конъюнктура, соперничество государств, гонка вооружений? Если конТеория
кретное событие — убийство, ультиматум — было лишь поводом, то по какому праву будем мы взваливать ответственность на какое-то одно государство и на нескольких человек, если таковая обусловлена всей совокупностью обстоятельств?
Совсем не всегда наблюдается соответствие между видимыми причинами и причинами подспудными и глубинными. Многие авторы утверждали, что действительной причиной первой мировой войны была скорее торговая конкуренция между Великобританией и Германией, — о которой и речи не было в июле 1914 г. — чем нарушение бельгийского нейтралитета. Так можно ли сказать, что это нарушение было предлогом для английских государственных деятелей, или оно было мотивом их решения?
Однако провести различие между поводом и причиной и отделить предлог от мотива — этого еще мало. Как только заговорило оружие, стало ясно, что конец важнее начала. Каковы цели воюющих сторон? Каковы будут вероятные результаты победы одной из них? Короче говоря, каковы ставки войны, если иметь в виду, что ставка определяется как расхождение между двумя мирами — миром, где господствуют Афины, и миром, где господствует Спарта; миром, где властвует второй или третий рейх, и миром под началом русских и англосаксов? В этом смысле ставка никогда заранее не определяется полностью, но то, что “находится в игре”, как-то чувствуется игроками, хотя и смутно.
Сама по себе ставка не есть последнее слово анализа. Быть может, народы сражаются вовсе не по тем причинам, на которые им указывают. Возможно, подлинные причины скрыты в колМир и война между народами • Раймон Арон 139
Часть I
лективном бессознательном восприятии. А может быть, агрессивность есть функция численности людей или числа молодых людей. Или, быть может, суверенные государства обречены воевать между собой, потому что боятся друг Друга.
Доктринеры правого крыла европейской общественности, которыми так восхищается Карл Шмитт1, рекомендовали государям умеренность и мир, но сознавая неопределенность людских суждений и экивоки политических действий, они одновременно просили государей не путать право с моралью. Агрессор, если предположить, что он признан таковым без малейшей тени сомнения, виновен морально; тем не менее он остается легальным противником, а не уголовным преступником.
4. Неопределенность дипломатикостратегического поведения
Человеческое поведение всегда можно выразить в терминах средств и целей, лишь бы то или иное действие не было простым рефлексом, а действующее лицо не оказалось безумцем. Все сказанное и сделанное мною не может не иметь, с моей точки зрения, да и не только моей, определенных последствий; при этом ничто не мешает рассматривать задним числом последствия как цели, а шаги, предшествующие тому или иному событию или действию, — как средства. Схема средство—цель, гтсескгаИопа!, по выражению Макса Вебера, все же не является необходимым выражением психического механизма или даже логики действия. В двух предыдущих главах мы оперировали понятиями средств и целей лишь для того, чтобы уточнить природу и характер дипломатико-стратегического поведения и, вместе с тем, характер и пределы теории международных отношений.
Мы исходили из противопоставления экономического поведения и поведения дипломатико-стратегического; первое имеет в качестве довольно определенной цели (хотя, в зависимости от обстоятельств и конкретных людей, оно может приобретать иное содержание) максимизацию тех или иных количественных показателей, которые можно подвести под понятие "ценности” или "полезности^; второе не имеет в исходном пункте никакой иной характеристики или предназначения, кроме как развертываться в контексте войны или ее угрозы и, следовательно, учитывать соотношение сил. Множественность средств и целей, рассмотренная нами в предыдущих главах, позволяет нам теперь более точно уловить и определить эти два вида поведения.
Теоретик в области экономики всегда остерегается утверждать, что он определяет или просто знает, как внешний наблюдатель, цели, к достижению которых стремятся индивиды. Он приписывает индивидам наличие у них некой шкалы предпочтений или “переходящего” выбора: если кто-то предпочитает А, но не Б, либо Б, а не В, то он не отдаст предпочтения В перед А. Именно путем выбора субъекты экономики обнаруживают свои предпочтения, которые ученый-экономист предположительно считает в равной мере рациональными или 1 Schmitt С. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Europaeum Köln. 1950.
140 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
иррациональными. Тот, кто предпочитает досуг наращиванию доходов, не более иррационален, чем миллионер, подрывающий свое здоровье, стараясь накапливать прибыли Теория преодолевает хаос выбора, делаемого множеством индивидов, благодаря деньгам — мере ценностей и универсальному средству приобретения благ. Максимизация денежных доходов считается рациональной целью, поскольку индивид свободно решает, как ему использовать приобретенную сумму денег. Деньги—лишь средство для покупки товаров, а выбор самих товаров зависит от нужд и склонностей каждого. Теоретик, не вмешиваясь в, так сказать, интимность индивидуальностей и уважая разнообразие вкусов, постепенно и последовательно реконструирует экономическую систему, ограничиваясь при этом некой аксиомой, что субъект, желающий максимизировать удовлетворение своих потребностей, тем самым хочет и максимизировать денежные средства, потребные для такого удовлетворения. Когда речь идет о поведении индивида, у экономиста нет другой возможности определения интереса, кроме его установления через шкалу предпочтений, меняющихся от индивида к индивиду, или через максимизацию полезности, измеряемой количеством денег.
Желая перейти от индивидуального интереса к коллективному интересу, экономисты наталкивались на многочисленные трудности, которые были предметом столь же многочисленных дискуссий. Ограничимся указанием на главную трудность: если продолжать ссылаться на индивидуальные предпочтения, то любое определение коллективного интереса требует сопоставления удовлетворения потребностей одних с неудовлетворением потребностей других. Тут заманчиво допустить, что бедный, чей доход немного увеличился, испытывает больше удовлетворения, чем богатый, чей доход немного уменьшился, неудовлетворения. Путем такого рассуждения оправдывают и объясняют перевод части доходов от богатых классов к классам бедным и тенденцию к сокращению неравенства в доходах. Лично я разделяю такой способ мышления, а также нравственные идеи, за ним лежащие, однако подобный ход рассуждений не является иррациональным в том очевидном и доказательном смысле, в каком рациональны математические формулы, выкладки или даже положения, относящиеся к уолрасовской схеме равновесия. Сравнение удовлетворения с неудовлетворением, одного индивида с другим, не имеет психологического смысла;
оно вводит в оборот способ рассмотрения,
радикально чуждый тому, который выражен в теории индивидуального поведения в экономической сфере. Думаю, что В. Парето не был неправ, полагая, что только вопрос о максимуме интереса для коллектива может быть предметом рационального определения. До тех пор, пока можно будет увеличивать удовлетворение потребностей одних, не уменьшая удовлетворения потребностей других, будет правомерно и законно абстрагироваться от конфликтов между индивидами и группами. Никто не будет испытывать чувства несправедливости, а некоторые получат милости. Если не принимать во внимание недовольство некоторых, лицезреющих счастье других, и если пренебрегать последствиями распределения доходов, то государственный деятель всегда может ссылаться на науку до тех пор, пока он старается обеспечивать максимум интереса для коллектива.
Мир и война между народами • Раймон Арон 141
Часть I
В. Парето не считал, что такой максимум интереса, обеспечиваемый коллективу, является одновременно максимумом интереса самого коллектива. Рассматриваемый как некое сообщество, коллектив не обязательно должен намереваться обеспечивать наибольшему числу своих членов как можно большее количество средств удовлетворения потребностей. Он должен или он может иметь целью могущество, престиж, славу. А сумма индивидуальных удовлетворенных потребностей вовсе не равнозначна интересу политического сообщества как такового. Дипломатико-стратегическое поведение является, по определению, таким поведением, которое функционально зависимо от интереса коллектива, если воспользоваться языком Парето, или функционально зависимо от “национального интереса”, если говорить языком теоретиков в области международных отношений. И вот зададимся, хотя бы абстрактно, таким вопросом: поддается ли этот интерес рациональному определению, которое служило бы критерием или идеалом для государственных деятелей? Мне кажется, что все три наши предыдущие главы заставляют нас дать отрицательный ответ.
Многие авторы, желая предложить “рационализирующее толкование” дипломатико-стратегического поведения и выработать некую общую теорию международных отношений, которую можно было бы поставить в один ряд с экономической теорией, выдвинули в качестве основополагающего понятия понятие мощи, или могущества (power или Macht), призванное быть эквивалентом понятия ценности, или стоимости (или полезности). Но фактически это понятие такую функцию выполнить не может.
Предположим, что мы понимаем под могуществом потенциал ресурсов: последний не может рассматриваться как рационально поставленная цель. А если может, то речь идет о ресурсах, способных быть мобилизованными для борьбы с внешними соперниками: в этом случае ставить перед собой цель максимизации потенциала, значит признавать абсолютный приоритет силы или коллективной мощи. Но коллектив, расширяющий свою территорию и увеличивающий численность своего населения, становится другим коллективом: он либо деградирует, либо преуспевает. Классические философы всегда полагали, что для политических сообществ пригодны не большие и не малые, а оптимальные размеры. Так на каком же основании теоретики внешней политики оправдывают одержимых мыслью о могуществе и критикуют тех, кто хотел и хочет прежде всего внутренней сплоченности и добродетельной жизни городов-полисов или государств?
Следует ли понимать под могуществом не потенциал ресурсов, а силы, то есть наличные и готовые ресурсы, которые можно мобилизовать для соответствующего проведения внешней политики? На каком основании максимизация коэффициента мобилизации может и должна считаться очевидной и рациональной целью? В каждую эпоху, в зависимости от внешней опасности и настроений населения, глава государства старается определить правильный и справедливый коэффициент мобилизации. Но и тут пока что нет оснований подчинять все и вся требованиям дипломатико-стратегической мобилизации.
Надо ли, наконец, определять могущество как способность навязывать и диктовать свою волю другим? В этом — 142 * . Раймон Арон • Мир и война между народами
случае могущество не служит конечной целью ни индивиду, ни коллективу. Политик всегда амбициозен, он хочет могущества, потому что политическое действие, будучи частью межчеловеческих отношений, по сути заключает в себе элемент мощи и могущества. Но большой политик стремится к могуществу не ради самого могущества, а ради выполнения своей задачи, своего дела. Таким же образом коллектив жаждет мощи не самой по себе, а для достижения какойто цели — мира, славы, возможности влиять на судьбу человечества или с чувством гордости распространять какую-нибудь идею.
Иными словами, максимизировать ресурсы и силы означает для коллектива максимизировать средства воздействия на других. Однако нельзя предположить, даже упрощая вещи, что коллектив не имеет других целей, кроме как располагать максимумом средств воздействия на других. Максимизировать эффективную мощь — значит стремиться к труднопостижимой и трудноуправляемой реальности (коллектив, в наибольшей степени влияющий на других, не всегда оказывается обществом, стремящимся делать это наиболее осознанно), а следовательно, значит исказить смысл, внутренне присущий дипломатико-стратегической деятельности. Эффективная мощь служит амбиции некоторых людей и народов, но сама не является рациональной целью.
Пусть нам не будут возражать, что экономические субъекты фактически стремятся максимизировать полезность не в большей степени, чем “дипломатические субъекты” хотят максимизировать могущество. Между обоими случаями имеется коренная разница. Безусловно, homo economicus, “человек экоТеория
номический”, существует лишь в нашей рационализирующей реконструкции, но соотношение между homo economicus и конкретным экономическим субъектом очень сильно отличается от соотношения между идеальным типом дипломата (который определяется как занимающийся поиском максимизации ресурсов, силы и могущества) и дипломатом историческим. Оба они, человек в теории и человек, встречающийся на практике, похожи друг на друга как отретушированная фотография похожа на фотографию, никак не обработанную. Человек в теории лучше реализует свою сущность, чем человек на практике, ибо первый располагает безупречной информацией и не совершает ошибок в расчетах. Но если тот и другой имеют единую цель — максимизировать одно и то же количество (дохода, денег, продукции, краткосрочной или долгосрочной прибыли),то идеальные расчеты одного помогают понять, а иногда подправить несовершенные расчеты другого. А вот теоретический diplomaticus, преследующий цель максимизации ресурсов, доступных сил или могущества, не будет идеализированным портретом дипломатов всех времен, а будет карикатурным упрощением отдельных дипломатических персонажей некоторых эпох.
Расчет сил, от которого не может уклониться идеальный дипломат не есть ни первое, ни последнее слово дипломатикостратегического поведения. В тот или иной момент далеко не все дружеские или неприязненные отношения являются результатом соотношения сил: дипломат всегда старается поддерживать равновесие, но некоторые виды дружелюбия или недружелюбия как бы заранее заданы ему в качестве непреложных. Он не нацелен прежде всего на максимизацию ресурсов Мир и война между народами • Раймон Арон
143
Часть I
своей страны, а просто хочет способствовать приобретению какой-нибудь провинции, стратегической позиции, символического города. Возможная субординация между абстрактной целью приобретения силы и какой-нибудь конкретной и близкой целью не противоречит ни логике человеческих действий вообще, ни логике соперничества между государствами. Для того, кто верит в Христа и в страсти Господни, изгнание неверных из Святых мест — предприятие гораздо более разумное, чем поиски силы ради силы. Даже стремление к реваншу не более иррационально, чем стремление к могуществу. Политические сообщества соревнуются между собой: удовлетворение самолюбия, победа или престиж не менее реальны, чем удовлетворение так называемых материальных притязаний — приобретение провинций и добавочного населения.
Не только исторически обусловленные цели политических сообществ несводимы к соотношению сил, но и высшие цели сообществ неясны и сомнительны в том, что касается их легитимности. Безопасность, могущество, слава, идея — такие разнородные и разноплановые цели можно свести к единому термину или обозначению, лишь нарушив и исказив человеческий смысл дипломатико-стратегической деятельности. Если сравнивать соперничество государств с игрой, тогда то, что находится “в игре”, не может быть обозначено единым понятием, пригодным для всех цивилизаций и всех эпох. Дипломатия — это такая игра, в которой игроки порою рискуют жизнью, а порой предпочитают победу как таковую тем выгодам, которые она дает. Поэтому количественное выражение ставок здесь невозможно: ведь не только неизвестно заранее, какова же ставка (то есть как поступит тот, кто окажется победителем), но и победа никогда не будет для воина достаточной сама по себе.
Множественность конкретных целей и целей высших не позволяет дать рациональное определение “национального интереса”, даже если тот не содержит неопределенностей, характерных для коллективного интереса, как его преподносит экономическая наука. Коллективы состоят из индивидов и групп, из которых каждый или каждая преследует собственные цели и стремится максимизировать свои ресурсы, свою долю в национальном доходе или свое положение в социальной иерархии. Интересы этих индивидов и групп — в том виде, как они выражаются в их реальном поведении, — не дарованы им кем-то вдруг и не служат добавкой к общему интересу, не суммируются, чтобы создать его. Даже в чисто экономическом аспекте общий интерес не выводится из интересов частных или коллективных посредством некоего таинственного вычисления какой-то средней или компенсационной величины. Темпы роста, распределение ресурсов между потреблением и капиталовложениями, доля, отводимая благосостоянию, и доля, предназначенная для внешней деятельности, — все это определяется решениями, могущими быть внушенными мудростью, а не наукой, которая ничего этого не может определить1.
1 Единственной наукой, способной при случае быть заменителем мудрости, была бы наука, которая развилась бы из теории игр и сформулировала правила, по которым противоречия между индивидуальными волями складывались бы в общую волю.
«яп 144 Раймон Арон • Мир и война между народами
Тем более национальный интерес не может быть сведен к частным или часто-коллективным интересам. В каком-то ограничительном смысле само понятие национального интереса полезно, оно побуждает граждан проникнуться чувством политического сообщества, временными членами которого они являются, которое предшествовало их появлению на свет и должно их пережить. Оно напоминает правителям, тоже приходящим и уходящим, что целями “человека дипломатического” должны быть безопасность и величие государства независимо от идеологии, которой он придерживается.
Из этого не следует, однако, что национальный интерес уже определен или может и должен быть определен посредством исключения из его понятия таких вещей, как внутренний режим, устремления различных классов, политический идеал отдельного образования типа города-полиса. Да, коллектив не всегда меняет свои цели, когда меняет свое устройство, историческую идею или правящую элиту. Но как могут политические сообщества пронести через все революции и сохранить одни и те же стремления и одни и те же методы?
Конечно, поведение всех дипломатов имеет схожие черты. Любой государственный деятель старается набрать себе союзников и уменьшить число врагов. Спустя несколько лет революционеры охотно воспринимают и продолжают проекты свергнутого режима. Бесспорная преемственность создается и обеспечивается национальной традицией, которая создается и утверждается императивами расчета сил. Остается доказать, что государственные деятели, Теория
пусть исходя из разных философий, действуют одинаково в одинаковых обстоятельствах и что представители различных партий, если они ведут себя рационально, то есть как “люди дипломатические”, одинаково воспринимают и расценивают национальный интерес. Но такое доказательство представляется мне немыслимым и даже само допущение возможности доказать — абсурдным1.
Каким же образом могли преследовать однородные цели в межвоенный период демократы, фашисты, коммунисты? Всякая элита, находящаяся у власти, хочет укрепления своего режима и государства. Однако, поскольку победа Гитлера влекла за собой распространение тоталитарных режимов, то демократы в какой-нибудь европейской стране не могли бы потворствовать и благоприятствовать третьему рейху иначе, как жертвуя собой под тем предлогом, будто их собственная страна окажется сильнее, чем была, находясь теперь в национал-социалистской Европе. Так что же, неужели решение государственных деятелей, принимающих собственную погибель в надежде на то, что их страна станет более могущественной при других хозяевах, неужели такое решение было бы продиктовано безусловной рациональностью? Разве логика требует того, чтобы сила государства была поставлена выше свободы граждан?
Должен ли был добропорядочный и благовоспитанный немец желать триумфа гитлеровской Германии, которая, в его глазах, предала подлинную Германию? Когда каждое государство или каждый лагерь воплощает какую-нибудь идею, индивид рискует, так сказать, раздвоиться между своей принадлежно2 См. ниже. Гл. X.
Мир и война между народами • Раймон Арон
145
Часть I
стью к определенному сообществу и своим собственным идеалом. Избирает ли он, как говорится, отечество во плоти или отечество духовное, его нельзя ни одобрить, ни осудить с помощью одной только политической логики. Национальный интерес политического сообщества как такового, по-видимому, определяется, если мы говорим о сугубых конкретностях, только в тех конъюнктурных обстоятельствах, когда соперничество сводится к чистому состязанию со ставкой или самой высокой или самой низкой, но не средней, когда ни одна из борющихся сторон и ни один из борющихся людей не рискует своим существованием или своей душой.
Если дипломатическое поведение никогда не определяется одним лишь соотношением сил, если могущество не есть ставка в дипломатии, как выступает таковой полезность в экономике, тогда вполне правомерно сделать вывод, что не существует общей теории международных отношений, сопоставимой с общей теорией экономики. Теория, которую мы набрасываем в качестве эскиза, направлена на то, чтобы проанализировать суть и смысл дипломатического поведения, выделить фундаментальные понятия, уточнить переменные величины и факторы, дать обзор которых необходимо, чтобы воспринять и понять некую совокупность вещей и явлений. Но она не предполагает наличия какойто “вечной дипломатии”, она не претендует на реконструкцию некоей закрытой системы.
Мы дали этой первой части название “Понятия и системы”. Разработка понятий, относящихся к поведению каждого из сообществ, взятого как нечто индивидуальное, подводит нас к рассмотрению типических ситуаций.
ГЛАВА IV
Международные системы
Я называю международной системой совокупность политических сообществ, которые поддерживают между собой регулярные отношения и могут быть вовлеченными во всеобщую войну. Особое место занимают в международной системе сообщества, которые особо учитываются ответственными деятелями основных государств в их расчетах.
Я не без колебаний решился употребить термин “система” для обозначения совокупности, в которой внутренняя взаимосвязь выражает себя в состязательности составляющих ее единиц и которая организует себя в функциональной зависимости от конфликта и существует наиболее выраженно как раз тогда, когда разрывается на части в результате обращения к оружию. Если взять просто политическую систему, то она определяется организацией, взаимоотношением частей, кооперацией элементов, правилами управления. До какого же пункта, или уровня, мы наблюдаем эквивалент ее в системе международной?
На нижеследующих страницах мы постараемся дать и уточнить ответы на вопросы такого рода. Но уже сейчас ска146
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
жем, что термин “система” представляется нам приемлемым в том смысле, в каком он используется, например, в выражении “система партий“. Ведь и в этом случае некая совокупность, образуемая коллективными действующими лицами, находящимися в состоянии состязания и соревнования, тоже называется системой. Правда, состязание между партиями подчинено правилам и нормам Конституции, а в международном праве точно соответствующего ей эквивалента нет. Тем не менее численность, соответственные организационные параметры, средства и способы деятельности и действий партий не предусмотрены, по крайней мере со всей обстоятельностью, в законодательных текстах: партии — это, преимущественно, борющиеся организации. Однако остается их существеннейшее отличие от действующих лиц на международной сцене, ибо в решающие моменты партии обращаются к избирательным бюллетеням а государства — к снарядам и бомбам. Национальные и международные действующие лица имеют тенденцию к взаимному сближению лишь тогда, когда партии не гнушаются применять боевое оружие, а государства объединяются в один прекрасный день во всеобщую империю.
Международная система, как и система партий, имеет лишь небольшое число действующих лиц. И хотя их общая численность постепенно увеличивается (в ООН представлена добрая сотня государств), количество основных действующих лиц не возрастает в соответственной пропорции, а то и не меняется совсем. В общепланетной системе 1950 г. было две сверхдержавы и не больше пяти или шести великих держав действительных или потенциальных. Поэтому основные действующие лица никогда не чувствуют себя подчиненными системе на манер того, как подчинена законам рынка какая-нибудь фирма средних размеров. Структура международных систем всегда олигополистична, то есть в ней господствуют и определяют ее немногие. В каждую эпоху основные действующие лица определяют систему в гораздо большей степени, чем она определяет их. Достаточно перемены режима внутри одной из стран, выступающей как одно из основных действующих лиц, и переменится весь стиль, а иногда и самый ход развития международных отношений.
1. Конфигурация
соотношения сил
Первой, или первостепенной, характеристикой международной системы служит конфигурация соотношения сил. Само это словосочетание содержит несколько аспектов: каковы границы системы? Как распределяются силы между различными действующими лицами? Как действующие лица располагаются на географической карте?
До нашего времени точнее до 1945 г. никогда еще не существовало международной системы, которая охватывала бы всю планету. Всего-навсего столетие с небольшим тому назад британский посол с трудом добивался аудиенции у китайского императора, отказывался выполнять ритуал, который считал унизительным (коленопреклонение), и на предложения о торговых связях получал исполненный презрения ответ: что может производить эта маленькая далекая страна, чего не может производить Срединная империя столь же хорошо и даже лучше? В те времена Китай исключался Мир и война между народами • Раймон Арон -
, 147
Часть I
из европейской системы по двум основаниям: физическая дистанцияне позволяла Китаю участвовать в европейских делах своими вооруженными силами и вместе с тем ограничивала военные возможности европейцев на Дальнем Востоке; моральная дистанция между культурами затрудняла диалог а взаимопонимание делалось вообще невозможным.
Какой из этих двух критериев — политико-военное участие или связь и общение — наиболее важен для определения принадлежности к системе? Мне кажется первый. К труппе принадлежат только актеры, играющие в пьесах. Спектакль, даваемый международной труппой, — это всеобщая война возможная или реальная; и тут совсем не важно, что один из актеров разговаривает на несколько ином языке. Конечно, в периоды, когда та или иная система уже вполне сложилась и когда, следовательно, отношения освободились от черт случайности и анархичности, действующие лица принадлежат, в своем большинстве, к одной и той же культурной зоне, почитают одних и тех же богов, уважают и соблюдают одни и те же запреты. И древнегреческие города, и европейские государства сознавали одновременно и свое глубокое родство, и постоянство своего соперничества. Однако империя персов, которых греки считали чужаками и варварами, и империя турок, о которых очень набожные христианские государи всегда помнили, что те исповедуют ислам, принимали участие в конфликтах и фигурировали в расчетах, соответственно, греческих городов и европейских монархий. Они были элементом соотношения сил, хотя и не были неотъемлемой частью культурного транснационального ансамбля.
Неопределенность границ проистекает не только из ситуации, создаваемой дипломатическим или военным участием, с одной стороны, и культурным родством, с другой. Она связана также и с расширением, порою быстрым и неожиданным, поля дипломатических действий, что функционально зависит от технических успехов и политических событий. Цари Македонии, подчиняя своему закону греческие города, создавали тем самым ресурсы, делавшие возможными дальние военные походы. Международная система расширялась по мере того, как расширялись сами сообщества, становящиеся способными охватывать, в мыслях и в действиях, более обширное историческое пространство.
До 1914 г. европейские государства пренебрегали возможностью вмешательства Соединенных Штатов. Последние явно не были военным государством и не играли роли на европейской сцене. Небезынтересно поразмышлять над такой ошибкой, которая представляла расчеты в искаженном виде.
Экономически Соединенные Штаты, можно сказать, несколько веков были неотделимы от Европы. История Европы была бы совсем другой, если бы в XIX в. излишек европейского населения не нашел по ту сторону Атлантики безлюдных и богатых земель, благодатных для культивации. Великобритания, благодаря господству на морях, располагала во время больших войн, развязанных Французской революцией и империей, по меньшей мере частью ресурсов с других континентов. Европейские завоевания, начиная с XVI в., должны были бы показать, что расстояния больше не являются препятствием для военных действий. В начале XIX в. прогресс транзитных средств, по-видимому, ограничивался морским транспортом. Ве• 148
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
ликобритания утвердилась в обеих Индиях, но чтобы пройти от Рима до Парижа, Наполеону требовалось примерно столько же времени, что и Цезарю. Зато потом, в том же XIX и начале XX в., средства наземного транспорта развились чудодейственным образом благодаря железным дорогам, а затем двигателю внутреннего сгорания — автомобилям. Этот прогресс делал еще более неоправданным непризнание элементарного правила взаимности: если военная сила Европы могла обеспечить свое присутствие в Индии и Мексике, то почему военная сила Соединенных Штатов не могла бы проявить себя на старом континенте?
Такое непризнание возможного возвращения в Европу уже в военном обмундировании европейских эмигрантов, обосновавшихся по ту сторону Атлантики. имеет, как мне кажется, несколько причин: испанцам было вполне достаточно немногочисленных экспедиционных корпусов, чтобы завоевать Центральную и Южную Америку. Европейцы, в то самое время, когда они господствовали в мире, тратили основную часть своих ресурсов на столкновения и битвы, которые теперь, ретроспективно, мы расцениваем как братоубийственные. Они плохо представляли себе, как можно переправлять через Атлантический океан огромные армии. Военные-профессионалы были склонны преувеличивать значение офицерского корпуса, а еще больше — значение аристократического класса, из которого набирался или считалось, что набирался, этот корпус. Образ, созданный Эпиналем — “торговый город или военный город”, — заслонял собой и мешал разглядеть новый факт, а именно: приблизительную пропорциональную зависимость военного потенциала от потенциала промышленного. К тому же зачем было бы Соединенным Штатам, изначально отрицательно настроенным ко всяким альянсам (entanglement) и желающим держаться в стороне от европейских конфликтов, — зачем им было участвовать в войнах, происхождение которых туманно, а ставки двусмысленны? Кстати, последний довод отнюдь не лишен смысла, но в нем не учитывается то обстоятельство, что первые баталии не решают исхода войны и боевые действия могут длиться годами. Иначе говоря, государственные деятели и генералы совершали ошибку, как бы не ведая о том, что материально Соединенные Штаты вполне были в состоянии послать в Европу большую армию. Не предвидя усиления и расширения войны в результате новых мобилизаций людей и промышленности и поддержания примерного равенства борющихся сил, они вдруг и с удивлением увидели, что динамизм конфликта вовлек в него Соединенные Штаты и что теперь европейское дипломатическое поле расширилось до Америки.
Это поле, границы которого очерчены техническими возможностями транспортных средств и боевых действий и одновременно отношениями между государствами, разделено на политические сообщества и их группировки (временные союзы или постоянные коалиции). География дипломатического поля не меняется или меняется очень медленно. Зато сила каждого сообщества или группы порою меняются быстро. Поэтому так называемые константы, диктуемые географией, часто бывают обманчивыми. Совсем не география, а, так сказать, проецирование на географическую карту определенного соотношения сил внушает идею дружМир и война между народами • Раймон Арон
149
Часть I
бы или, наоборот, неприязни, притом и первая, и вторая бывают исходной или постоянной. Как только это соотношение эволюционирует в какую-нибудь сторону, тотчас становится разумной и иная политика. В начале века в учебниках по истории дипломатии подчеркивалась нужность и мудрость создания альянса-противовеса; то была традиция, созданная географией и действительно нужная для соответствующей конфигурации соотношения сил. Государство, расположенное в центре Европы, должно быть сильнее Франции, чтобы приобрел смысл альянс, призванный восстановить равновесие и создать для такого центрального государства угрозу войны на два фронта. Однако альянспротивовес с Польшей или Советским Союзом против боннской Федеративной Республики, а завтра, быть может, даже против воссоединенной Германии (простирающейся до самой линии Одер— Нейсе), был бы бессмысленным. Даже объединенная Германия была бы теперь слабее остальной Западной Европы (то есть Франции, имеющей поддержку англо-саксонских стран) или советского блока. Почему же Франция будет или должна стараться ослабить уже неопасного соседа, планируя его окружение?
Конечно, географическое размещение альянсов оказывает воздействие на ход и развитие дипломатии. В зависимости от занимаемого пространства политические сообщества имеют соответственные ресурсы цели и устремления. Совершенно нельзя полагать, что альянсы не имеют никакого отношения к географическому месту государств: более могущественный союзник беспокоит и настораживает меньше, если он находится далеко. Соседнее же государство легко превращается в противника, если оно не является “постоянным союзником”. Но, несмотря ни на что, главный аспект той или иной системы — это конфигурация соотношения сил, а пространство как таковое приобретает дипломатическое значение лишь в зависимости от локальной привязки больших и малых стран, стабильных и нестабильных государств, невралгических точек (в военном или политическом отношении) и зон умиротворения.
Чтобы определить то, что мы понимаем под конфигурацией соотношения сил1, самое простое — это противопоставить друг другу две типические конфигурации: многополюсную конфигурацию и конфигурацию двухполюсную. В первом случае дипломатическое соперничество происходит и развертывается между несколькими сообществами, принадлежащими к одному и тому же классу или разряду. Здесь возможны различные комбинации равновесия; перестановки и перестройки альянсов представляют собой нормальный дипломатический процесс. Во втором случае два сообщества превосходят все остальные до такой степени, что равновесие возможно лишь в форме двух коалиций, когда большинство средних и малых стран вынуждены входить в лагерь той или другой сверхдержавы.
Какова бы ни была конфигурация, политические сообщества образуют некую иерархию, более или менее официально признанную и определяемую силами, которые каждое из них способно мобилизовать: наверху иерархии царят великие, внизу пребывают малые; первые притязают на право вмешиваться 1 По-немецки: Gestaltung der Kraftverhaltnisse.
-150 л Раймон Арон • Мир и война между народами
во все дела, включая и такие, которые не касаются их прямо; вторые не смеют выступать вне узкой сферы собственных интересов и действий, а порою подчиняются решениям, касающимся их непосредственно, но принятым великими. Великие хотят сами моделировать ту или иную конъюнктуру, малые подлаживаются к конъюнктуре, которая в общем от них не зависит. Впрочем, такое противопоставление — вещь слишком упрощенная и выражает скорее восприятие и мнение, нежели реальность: ведь даже та манера, в какой малые адаптируются к той или иной конъюнктуре, способствует приданию определенной формы самой конъюнктуре.
Распределение сил на дипломатическом поле есть одна из причин, определяющих то или иное группирование государств. Как крайний случай, два государства, не имеющие никаких содержательных мотивов для взаимной распри, могут стать враждебными друг другу просто ввиду “фатальности позиции”. Два доминирующих государства почти неизбежно являются врагами (если только они не связаны какимилибо тесными узами), потому что равновесие бывает только при условии, что каждое из двух таких государств принадлежит к противоположному лагерю. Когда само соперничество создает неприязнь, тогда изворотливые умы и страсти находят и изобретают бесчисленное множество оправданий такой неприязни. На войне ярость зачастую порождается самой борьбой, а не тем, что поставлено на карту в этой борьбе.
Здесь также мы имеем крайний случай. Альянсы не выступают как механическое или автоматическое следствие соотношения сил. Упрощая дело, можно сказать, что какие-либо великие дерТеория
жавы конфликтуют между собой по причине расхождения или взаимной противоречивости их интересов или требований, а другие, большие или малые, присоединяются к той или другой державе либо из собственного интереса (они ждут для себя больше от победы одного лагеря, а не другого), либо из побуждения и предпочтения, связанных с чувствами и умонастроениями (население больше симпатизирует одной, а не другой стороне), либо заботясь о равновесии. Великобритания приобрела репутацию страны, занимающей ту или иную позицию исключительно по этому последнему мотиву. Будучи чаще всего безразличной к деталям на карте континента, она преследовала единственную цель — предотвратить там гегемонию или империю кого-то одного. Такая чистейшая политика равновесия была логичной, поскольку Великобритания не претендовала на приобретение на континенте (со времени Столетней войны) ни земель, ни населения. Англии настолько важно было, ради собственной безопасности и благополучия, чтобы силы континента не образовали коалицию против нее, что британская дипломатия не могла позволить себе роскоши руководствоваться какими-либо идеологическими соображениями. Чтобы поступать разумно и рассудительно в своих интересах, она должна была создавать впечатление страны одновременно уважаемой и циничной: выполнять свои обязательства перед союзниками во время войны и никогда не считать никакой альянс постоянным.
Если политика континентальных государств не была столь же далекой от идеологических предпочтений или соображений, навеянных, скажем, эмоциями, каковой была политика островноМир и война между народами • Раймон Арон ;
151
Часть I
го государства, то виной тому или виновниками того были не государственные деятели, а обстоятельства. Европейские монархи оспаривали друг у друга провинции и крепости. Вторжения оставляли тяжелые и горькие воспоминания. Даже в эпоху династических войн суверены не меняли слишком уж свободно своих союзников и противников. После аннексии Эльзас-Лотарингии они одно французское правительство, сколь бы самостоятельным в своих решениях оно ни было, не пошло бы на полное примирение с Германией.
Альянсы и военные действия определяются иногда одним лишь соотношением сил, иногда ссорой, в основе которой лежит определенная ставка, а чаще всего — комбинацией этих двух факторов. Что касается длительных по времени альянсов или боевых действий, то здесь первостепенное значение имеет противостояние интересов или же сближение и совпадение интересов. Долгий период войн между Францией и Великобританией отчасти имел причиной неизбежную враждебность островного государства к первому государству старого континента, но в то же время сталкивались друг с другом колониальные операции и действия Франции и Англии в далеких землях и на океанах: логически Англия должна была иметь постоянной целью уничтожение французского флота или, по меньшей мере, обеспечение безусловного превосходства английского флота, с тем чтобы господство на морях гарантировало экспансию и безопасность британской империи. В XX в. один лишь расчет сил не дает представления о британской политике. В конце концов, говоря абстрактно, Англия могла бы вступить в союз с европейским континентом, чтобы не допустить американской гегемонии, но об этом не было и не могло быть речи. В глазах правящего класса Лондона американская гегемония содержала в себе кое-что от британской гегемонии тогда как скажем, германская гегемония воспринималась бы как чуждая, унизительная, неприемлемая. Переход от Рах britannica к Рах americana не изменял очертания привычной “вселенной”, и если затрагивал что-то, то скорее самолюбие, чем душу. А вот конструкция Рах germanica не могла бы занять место системы Рах britannica, без того, чтобы Англия не сопротивлялась этому отчаянно и до конца: только военная катастрофа могла бы проложить путь пришествию германской империи.
В конечном счете, народы не бьются между собой лишь ради сохранения и поддержания некой абстрактной позиции силы.
2. Однородные и разнородные системы
Поведение государств за пределами своих границ, внешнее поведение, не определяется единственно соотношением сил: тут привступают также идеи и чувства, влияющие на решения действующих лиц. Дипломатическую конъюнктуру нельзя понять полностью, если ограничиться описанием географической и военной структуры альянсов и боевых действий и разглядыванием и обозначением на карте центров сосредоточения сил, прочных или случайных коалиций нейтральных стран. Надо еще выявить определяющие факторы поведения основных действующих лиц, иначе говоря — природу и характер государств и 152
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
те цели, которые ставят перед собой люди, находящиеся у власти. В этой связи проведение различия между однородными системами и разнородными системами представляется мне фундаментальным1 . Я называю однородными такие системы, где государства принадлежат к одному типу и придерживаются одинакового понимания политики. И напротив, я называю разнородными системы, в которых государства организуются по разным принципам и имеют взаимно противоречивые ценности и оценки. В период между окончанием религиозных войн и Французской революцией европейская система была одновременно многополюсной и однородной. Европейско-американская система, начиная с 1945 г., является двухполюсной и разнородной.
При первом приближении, при первичном анализе, однородные системы выступают как более стабильные. Правители не игнорируют объединяющих и династических или идеологических интересов, хотя национальные интересы их стран могут расходиться. Признание однородности нашло свое полное воплощение, притом в торжественном обрамлении, в формуле Священного союза. Правители суверенных государств обещали помогать друг другу в борьбе против революционеров. Священный союз разоблачался и критиковался либералами как заговор королей против народов. Он не имел “национального” оправдания, потому что в прошлом веке перемена режима не влекла за собой опрокидывания и переворачивания альянсов: победа революции в Испании, быть может, и угрожала бы Бурбонам, но только не во Франции. В наше время каждый их двух блоков стремится подхватить, для внутреннего употребления, формулу Священного союза. Советская интервенция в Венгрии была равнозначна провозглашению права русских армий вторгаться во все страны Восточной Европы, чтобы подавлять там контрреволюцию (то есть, реально, всякое восстание против так называемого социалистического режима). На Западе также режимы потенциально являются союзниками против революции. В конце концов, Священный союз против контрреволюции или революции необходим для выживания каждого из обоих блоков.
Однородность системы благоприятствует ограничению насилия. До тех пор, пока люди, находящиеся у власти в борющихся между собой государствах, сознают некую свою солидарность, они склонны как-то щадить совокупно свои страны. Революционеры слывут врагами всех правителей, а не просто союзников того или иного государства или вообще того или иного альянса. Если революционеры побеждают в каком-нибудь одном государстве, то потрясается и режим в других государствах. Боязнь революции побуждает военных руководителей либо смириться с собственным поражением, либо умерить свои притязания.
Однородная система представляется стабильной также и потому, что она предсказуема. Если все государства имеют аналогичные режимы, то последние не могут быть никакими иными, кроме как традиционными, унаследованными временем, неимпровизированными. При 1 Я заимствую тезис о подобном различии из замечательной диссертации Паноиса Папалигураса (Panoyis Papaligouras. Théorie de la société Internationale. Thèse de l’Université de Genève, 1941). О существовании этой работы мне сообщила м-ль Ж. Херш.
Мир и война между народами • Раймон Арон ^ 153'
Часть I
таких режимах государственные деятели следуют испытанным правилам и обычаям: соперники или союзники в общих чертах знают, чего они могут ждать и чего опасаться.
Наконец, по самому своему определению, государства и те, кто выступает от их имени, побуждаются или вынуждаются проводить разницу между противником государственным и политическим противником. Межгосударственные военные действия не влекут за собой особой ненависти, они не исключают соглашений и примирений после боев. Государственные деятели, победители или побежденные, могут общаться с противником, и идеологи не будут обвинять их в предательстве или потворстве “преступникам”1, а сторонники того, чтобы “идти до конца”, — в жертвовании национальными интересами ради сохранения своего режима1 2.
Разнородность системы ведет к последствиям противоположного свойства. Противник становится также и врагом в том смысле, в каком это слово употребляется во внутренних битвах и распрях, а поражение ущемляет интересы правящего класса, а не только страны и народа в целом. Люди, находящиеся у власти, бьются за самих себя, а не единственно за государство. Совершенно далекие, в отличие от королей или старых республиканских лидеров, от склонности усматривать в мятежах в другом лагере угрозу общему режиму воюющих сторон, они считают нормальным провоцировать разлад и раскол в стане противника. А оппоненты правящей фракции, каковы бы они ни были, становятся союзниками национального врага и поэтому, в глазах многих соотечественников, предателями. Обстановка, так сказать, Священного союза побуждает подчинять свои конфликты делу спасения общего принципа легитимности. А обстановка идеологического конфликта такова, что каждый лагерь провозглашает свою идею и оба лагеря внутреннее расколоты, поскольку там и тут определенные граждане не очень хотят или не желают всем сердцем победы своей стране, ибо такая победа будет поражением идеи, которая для них дорога и которую воплощает противник.
Перекрещивание и переплетение гражданской борьбы и межгосударственных конфликтов усугубляют нестабильность системы. Принадлежность государств к одному или другому лагерю зависит от исхода внутренних противостояний и битв. Борьба между партиями становится объективно целью конфликтов между государствами, и поэтому ведущие государства не могут не проявлять живейшего интереса к тому, что делается в других странах. Когда начинаются военные действия, уже трудно добиться мира путем компромисса, потому что целью войны почти неизбежно становится свержение правительства или режима противника. Фазы больших войн — религиозные войны, революционные войны, империалистическая война XX в. — совпадали с фазами пересмотра принципа легитимности и внутреннего устройства государств.
Такое совпадение не случайно, однако причинную связь, на абстрактном уровне рассуждений, здесь можно мыслить двояко: насилие войн создает раз1 Однако именно в этом T. Веблен упрекал государственных деятелей союзников в 1918 г.
2 В этом Гийемен и другие авторы левых убеждений упрекают партию мира, взявшую верх в 1871 г.: разве нельзя, мол, было, продолжая революционную войну, изменить судьбу, уготованную силой оружия?
154 >->• " - л - л" Раймон Арон • Мир и война между народами
нородную систему или же, прямо наоборот, сама эта разнородность служит если не причиной, то, по меньшей мере, историческим контекстом больших войн. И хотя никогда нельзя принимать категорически какую-либо одну часть этой альтернативы и отбрасывать другую, внутригосударственная борьба и межгосударственные конфликты не комбинируются всегда одним и те же образом. Разнородность не только относительна в целом, сама по себе она может также приобретать и различные формы.
Была ли европейская система в 1914 г. однородной или разнородной? Во многих отношениях, по-видимому, преобладала однородность. Страны как бы узнавали друг друга. Наименее либеральная среди них, Россия, предоставила внутренним оппозиционерам, несмотря ни на что, право на существование и на критику. Нигде истинность той или иной идеологии не декретировалась государством и не считалась необходимой для укрепления прочности последнего. Граждане свободно пересекали государственные границы, а требование предъявлять паспорт на границе с Россией оборачивалось скандалами. Ни один правящий класс не ставил себе целью свержение режима какой-нибудь потенциально враждебной ему страны. Французскаяреспубликане имела ничего против германской империи, а та — ничего против царской империи. Французская республика вступила в союз с царской империей по традиционным соображениям обеспечения равновесия.
Однако эта внешне видимая однородность, особенно в мирное время, была испещрена трещинами, которые позже оказались расширены войной. Между странами было заключено чтото вроде неустойчивого перемирия, отТеория
носящегося к положению внутри них, то есть перемирия между двумя принципами легитимности правления — наследственного или в результате всеобщих выборов; конфликт между этими принципами был одной из ставок в войнах, которые вела в свое время революционная и императорская Франция. В сравнении с фашистским или сегодняшним коммунистическим режимом вильгельмовская империя и даже империя царская были “либеральными”, но высшая и суверенная власть по-прежнему принадлежала там наследнику царствующей фамилии. Подспудно не переставала существовать разнородность между абсолютистскими режимами (суверен по рождению) и режимами демократическими (суверен, избранный народом). Конечно, пока царская Россия была союзницей западных демократий, ни один из двух лагерей не мог эксплуатировать полностью такое взаимное противостояние. Но после русской революции пропаганда союзников не замедлила это сделать.
Было и еще одно, более серьезное обстоятельство: отношение и соотношение между населением и государством не стабилизировалось в XIX в. Германская империя и итальянское королевство были созданы во имя национального права, права народов. Однако в Эльзас-Лотарингии рейх придал национальной идее такой смысл, какой был отвергнут либералами во Франции, да и повсюду: является ли национальная принадлежность, принадлежность к нации, народу, той судьбой, которая уготована индивидам языком и историей, или же она дает свободу каждому выбирать себе государство? Больше того, территориальный статут в Европе, основанный на престолонаследии и заботе Мир и война между народами • Раймон Арон
155
Часть I
о равновесии, был несовместим с национальной идеей, как бы эту идею ни истолковывали. Австро-Венгрия была многонациональной империей, как и оттоманская империя. Поляки не были ни немцами, ни русскими, ни австрийцами, но все они должны были подчиняться иностранным законам.
Сразу же после объявления войны все воюющие государства заговорили о национальной идее, с тем чтобы мобилизовать соответствующий динамизм в свою пользу. Императоры дали торжественные и туманные обещания полякам, как будто они смутно чувствовали, что раздел Польши остается грехом Европы. Быть может также, что универсализация военного ремесла внушала правителям мысль о том, что теперь война должна иметь какой-то смысл для тех, кто рискует своей жизнью.
Разнородность принципа легитимности (каким способом должны занимать свое место правители? Какому государству должны принадлежать те или иные группы населения?) все же не находилась в противоречии с глубинной культурной родственностью членов европейского сообщества. Она, разнородность, не внушала никакому государству желания разрушить режим другого. В мирное время каждое государство рассматривало режим другого как его внутреннее дело; лишь исходя из принципов своего либерализма Франция и Великобритания предоставили приют русским революционерам, но они не давали им ни денег, ни оружия для организации террористических групп. Зато с 1916 или 1917 г. пропаганда и дипломатия союзников, стремясь оправдать решимость довести войну до победного конца, убедить солдат союзных армий, что они защищают свободу, разобщить внутри Германии народ и режим, обрушились на абсолютизм как на причину войны и германских “преступлений”, провозгласили право народов на самоопределение (что означало расчленение Австро-Венгрии) в качестве основы справедливого мира и, наконец, запретили самим себе как-либо общаться с правителями, ответственными за развязывание великой бойни. Будучи полуоднородной в 1914 г., европейская система стала безнадежно разнородной в 1917 г. вследствие ожесточения самой борьбы, а также вследствие необходимости для Запада оправдать и мотивировать свое намерение одержать полную и окончательную победу.
Таким же образом, накануне Пелопоннесской войны греческие города были довольно-таки однородными. Они бились вместе против персов, почитали одних и тех же богов, устраивали одинаковые празднества, соревновались в однотипных спортивных играх. Экономические и политические институции были одного типа и различались лишь некоторыми вариациями. И только когда разразилась война между Афинами и Спартой, каждый лагерь вспомнил, что один из них придерживается демократических принципов, а с другой — аристократических (или олигархических). Цель подчеркивания этих принципов состояла не столько в том, чтобы поднять боевой дух воинов, сколько в том, чтобы ослабить противника и приобрести друзей в его лагере. Такой разнородности, имеющей отношение лишь к одному из элементов политики, часто бывает вполне достаточно, чтобы преобразовать межгосударственную враждебность в страстную ненависть. Смысл и значение общей и единой культуры стушевываются, и воюющие стороны
156
Раймон Арон • Мир и война между народами
держат в памяти и на совести только то, что их разделяет. Возможно даже, что самый опасный для мира и умеренности вид разнородности тот, который возникает на фоне или на базе ранее существовавших общих ценностей.
Но, несмотря ни на что, разнородность греческих городов во время Пелопоннесской войны или европейских государств в 1917 или 1939 гг. была гораздо менее выраженной и рельефной, чем разнородность между греческими городами и персидским царством, между этими городами и Македонией, между христианскими королевствами и оттоманской империей, а тем более между испанскими завоевателями и империями инков и ацтеков, между европейскими завоевателями и африканскими племенами. Все эти примеры, даже упомянутые кратко и в общем виде подводят нас к выводу о трех типических ситуациях. 1) Политические сообщества, принадлежащие к одной и той же цивилизационной зоне, часто поддерживали регулярные отношения с политическими сообществами, не входящими в эту зону и ясно признанными как иные, иностранные. Греки, в соответствии со своей целью свободного человека, довольно снисходительно относились к подданным восточных империй. Ислам отделял христианские королевства от оттоманской империи, но не запрещал альянса короля Франции с командором духовного ордена. 2) Испанцы, с одной стороны, инки и ацтеки, с другой, были по сути разными. Завоеватели, будучи в малом числе, все-таки победили благодаря привычке племен подчиняться народу-хозяину империй и благодаря устрашавшей эффективности оружия испанцев. Завоеватели разрушили цивилизации, которые они не могли и не
Теория
• Л -Л.-Х Л*. -УУ» 'Л Ч fry ЧЧ-.
желали понять, притом даже не сознавая, что они совершают преступление; возможно, отношения между европейцами и африканскими чернокожими фундаментально не отличаются от только что описанных отношений между испанцами и инками. 3) Сегодняшние антропологи призывают нас признать специфическую “культуру” тех, кого наши отцы называли дикарями, и не торопиться выстраивать иерархию ценности культур. И все же мне представляется обоснованным отличать архаичную жизнь племен от доколумбовских цивилизаций.
Невозможно определять и различать какие-то степени жестокости и ужаса, когда речь заходит о войнах между родственными и разнородными политическими сообществами, между сообществами, принадлежащими к иным цивилизациям, о войнах завоевателей против цивилизаций, понять которые они не способны, или наконец, о войнах между людьми цивилизованными и дикими. Все захватчики, будь то монголы или испанцы, убивали и грабили. Воюющим сторонам не обязательно быть чуждыми друг другу, чтобы проявлять свирепость и кровожадность: для этого достаточно политической разнородности, которую часто создает или, по меньшей мере, усиливает сама война. Больше того, борьба между сообществами, входящими в одну цивилизационную семью, часто бывает более яростной, чем всякая другая борьба, потому что она выступает также как гражданская война и война религиозная. Межгосударственная война превращается в гражданскую, как только каждый из лагерей устанавливает связь с какой-либо из фракций внутри государств: она становится религиозной, если индивиды при-
Мир и война между народами • Раймон Арон
157 ’
Часть I
вязаны к форме государства больше, чем к самому государству, и если они нарушают гражданский мир, требуя свободного выбора своего бога и своей церкви.
Международные системы, охватывающие родственные и соседние государства, служат одновременно театром больших войн и готовым пространством для имперского объединения. Дипломатическое поле расширяется по мере того, как сообщества включают в свой состав все больше и больше элементарных сообществ. После македонского завоевания греческие города, все вместе, образовали сообщество. После завоеваний Александра и Рима весь средиземноморский бассейн стал подчиняться одним законам и единой воле. С ходом развития империи различие между цивилизационным родством и государственной принадлежностью имеет тенденцию к исчезновению. На своих границах империя воюет с “варварами”, внутри — с мятежными группами населения или “нецивилизованными” массами. Что же касается вчерашних военных противников, они становятся согражданами. Если взглянуть на все это в ретроспективе, то большинство войн покажутся войнами гражданскими, поскольку в них противостояли друг другу политические сообщества, предназначенные слиться в сообщество более высокого уровня и ранга. До XX в. японцы почти всегда вели большие войны лишь между самими собой, китайцы воевали между собой и против варваров — монголов и маньчжуров. Впрочем, как же могло быть иначе? Отдельные люди, как и коллективы, тоже конфликтуют с соседями, хотя физически или нравственно они могут быть близки.
После 1945 г. дипломатическое поле расширилось так, что охватило всю планету, а дипломатическая система, несмотря на внутренние разнородности, приобрела тенденцию к правовой однородности, выражением чего служит Организация Объединенных Наций.
З.Транснациональное сообщество и международная система
Международные системы, как мы уже отмечали, охватывают сообщества, поддерживающие регулярные дипломатические отношения друг с другом. В то же время такие отношения обычно влекут за собой отношения между индивидами, образующими самые разнообразные сообщества. Международные системы являются межгосударственным аспектом общества, к которому принадлежат группы населения, находящиеся под различными суверенитетами. Эллинское общество в V в. до нашей эры или европейское общество в XX в. после Рождества Христова — все это суть реальности, которые мы предпочитаем называть транснациональными, а не межили наднациональными сообществами.
Транснациональное сообщество проявляет себя в торговом обмене, миграциях людей, общих верованиях, в организациях, легко переступающих через государственные границы, наконец в церемониях и спортивных и иных состязаниях, в которых участвуют члены всех “нижестоящих” сообществ. Транснациональное сообщество всегда более жизненно и жизнеспособно, если велика свобода обменов, миграций, коммуникаций, если сильна общая вера, если ненациональные организации многочисленны, а коллективные церемонии пышны и торжественны.
158
Раймон Арон • Мир и война между народами
Жизненность транснационального сообщества легко проиллюстрировать примерами. До 1914 г. экономические обмены в Европе пользовались такой свободой, которую лучше всякого законодательства обеспечивали золотой эталон и конвертируемость валют. Рабочие партии были сгруппированы в Интернационал. Возродилась греческая традиция Олимпийских игр. Несмотря на множественность христианских церквей, религиозные верования, нравственные принципы и даже политические установки были в своей основе аналогичны по обе стороны каждой из границ. Француз мог без особых трудностей и преград выбрать местом жительства Германию, как и немец мог жить во Франции. Этот пример, как и схожий с ним пример эллинского общества V в., показывает нам определенную автономию межгосударственного порядка — включая состояние мира или состояние войны — по отношению к контексту транснационального сообщества. Чтобы между суверенными сообществами царил мир, отнюдь не достаточно того, чтобы индивиды посещали друг друга, знакомились. обменивались товарами и идеями: для формирования будущего интернационального или наднационального сообщества нужно еще, чтобы эти связи и контакты были необходимы именно для такой цели.
Обратный пример являют нам Европа и весь остальной мир между 1946 и 1953 гг. и даже в настоящее время, хотя с 1953 г. некоторые элементы транснационального сообщества начали восстанавливаться, преодолевая железный занавес. Торговый обмен между коммунистическими странами и странами Западной Европы был сведен к минимуму. А в той мере, в какой он всетаки существовал, он зависел единТеория
ственно от государств (по крайней мере, это относится к одной из обменивающихся сторон). “Советский индивид” не имел права обмениваться с “капиталистическими индивидами”, разве что через посредство государственной администрации. Он не мог общаться с ним, не навлекая на себя всяческих подозрений. Межиндивидуальные связи были в большинстве случаев запрещены и разрешались лишь как выражение межгосударственных связей: чиновники и дипломаты встречались и беседовали со своими западными коллегами, но главным образом в рамках исполнения своих служебных обязанностей.
Такой тотальный разрыв транснационального сообщества имел, строго говоря, патологический характер. С тех пор Советский Союз стал посылать своих граждан на научные форумы и спортивные соревнования, принимать у себя иностранных туристов и разрешать нескольким тысячам советских граждан ежегодно посещать страны Запада, да и личные контакты с иностранцами уже не запрещаются столь радикальным образом, как раньше. Русские жены английских летчиков смогли воссоединиться с мужьями. Мало-помалу расширился торговый обмен. Сомнительно, однако, что такая реставрация транснационального сообщества меняет существо дела: по-прежнему сохраняется радикальная разнородность в том, что касается принципа легитимности, формы государства и социальной структуры. Христианская общность имеет здесь очень малое значение, потому что политическая вера располагается гораздо выше веры религиозной, которая теперь является всего-навсего частным делом; наконец, никакая организация — политическая, профсоюзная или идеологиМир и война между народами • Раймон Арон >
159 > -
Часть I
ческая — не может объединить советских граждан и граждан западных, если эта организация не находится, открыто или тайно, на службе у Советского Союза. Разнородность межгосударственной системы непоправимо раскалывает транснациональное сообщество.
Во все эпохи существование и деятельность транснационального сообщества регламентировались обычаями, соглашениями и неким специфическим правом. Так, отношения, которые разрешалось поддерживать гражданам одного государства с гражданами другого на время, когда между этими странами велась война, предусматривались скорее обычаем нежели законом. Соглашения и конвенции между государствами уточняли статут граждан каждого из них, находящихся или живущих на территории другого. Посредством соответствующего законодательства разрешалось или не разрешалось создавать транснациональные движения или участвовать в профессиональных или идеологических организациях, которые считают и называют себя наднациональными.
С социологической точки зрения, я склоняюсь к тому, чтобы называть частным международным правом то право, которое регламентирует транснациональное сообщество, как мы его охарактеризовали, то есть довольно далекое от совершенства сообщество, образуемое индивидами, которые принадлежат к совершенно разным политическим сообществам и, как частные лица, находятся в разного рода отношениях друг с другом. И вполне нормально, что многие юристы относят значительную долю частного международного права к праву внутреннему. Идет ли речь о семейных или торговых отношениях, нормы, применяемые к иностранцам или к отношениям между своими и иностранными гражданами, составляют неотъемлемую часть системы норм того или иного рассматриваемого государства. Даже если эти нормы следуют из соглашения с каким-нибудь другим государством, это обстоятельство не вносит сколько-нибудь существенных изменений: например, соглашения о двойном налогообложении гарантируют определенную взаимность со стороны всех стран, участвующих в соглашениях, по отношению к гражданам страны-партнера и защищают своих и иностранных налогоплательщиков от неправомерного наложения друг на друга налоговых ставок. Следствия, вытекающие из таких соглашений между государствами, конечно, находят свое отражение и место во внутренней законодательной системе каждого из государств.
С другой стороны, те или иные положения, запреты и обязательства, включаемые в договоры между государствами, образуют элементы, из которых складывается государственное международное право. В двух предыдущих параграфах мы рассмотрели конфигурацию соотношения сил, а затем однородность и неоднородность систем. Проблематика регламентации международных отношений располагается как бы на стыке этих двух сюжетов. До какого уровня или момента межгосударственные отношения — как в состоянии мира, так и в состоянии войны — подчинены некоему праву в том смысле, в каком подчинены праву и, можно сказать, были подчинены всегда, а не только сегодня, межиндивидуальные отношения, затрагивающие семейные или торговые дела?1
1 Здесь всегда существовала социальная регламентация, но не всегда разработанная юридически, ни тем более фигурирующая в письменном законе.
'• 160 ' -- Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
Межгосударственные отношения, как и другие социальные отношения, никогда не оставлялись абсолютно на произвол судьбы. Все цивилизации, именуемые высшими, проводили различие между своими членами племени (или города, или государства) и чужестранцами, а также между различными категориями самих чужестранцев. Соответствующие договоры известны с седой старины, они заключались и египетским царством, и хеттским. Каждая из цивилизаций имела неписаный свод правил о том, как обходиться с послами, с пленниками и даже с воинами противника на самом поле боя. Какие же новшества привносит сюда государственное международное право?
Государства заключают между собой многочисленные соглашения, конвенции, договоры, из которых одни затрагивают преимущественно транснациональное сообщество, а другие—и его, и международную систему. К первой категории принадлежат, например, почтовые конвенции, конвенции по гигиене, по мерам и весам, ко второй — морское право. Международные конвенции регламентируют в общих интересах государств, а не только индивидов, правила пользования морями и реками, средствами транспорта и связи. Расширение сферы и умножение объектов действия международного законодательства отражает и выражает расширение общих интересов транснационального сообщества и международной системы, растущую потребность подчинять каким-то законам сосуществование на одной планете, вокруг одних и те же океанов, по сути однородных человеческих коллективов, политически организованных на территориальной основе.
Меняет ли в этой связи — и если да, то в какой степени — международное право саму суть межгосударственных отношений? Споры и диспуты о международном праве1 обычно проходят и развертываются в промежуточной плоскости между позитивным правом, с одной стороны, и различными видами идеологии и философии, с другой; в плоскости теории, которую можно назвать, подхватывая выражение Ф. Перру, “имплицитно нормативной”. Обязательства, относящиеся к международному праву, являются результатом и следствием договоров, подписанных государствами, или же обычаев. И напротив, такие формы, как “право народов на самоопределение”, “принцип национальной принадлежности”, “коллективная безопасность” представляют собой нечеткие формулы, выражающие собой разного рода идеологии, влияющие на государственных деятелей, а иногда даже на толкование позитивного права юристами. Совершенно нельзя полагать, что подобные формулы служат основанием для некоей системы норм и что они в чем-то конкретном и определенном налагают на государства обязательства или дают им права. Юрист, желающий определить природу и характер международного законодательства, старается придать позитивному праву концептуальную форму, обнаружить в нем какой-то специфический смысл. Но такая попытка толкования не должна включаться в само позитивное право. Оно лишь терпит на себе — так сказать, на своей поверхности — различные 1 Рассуждая о международном праве, мы не добавляем всякий раз “государственное". Но подразумевается, что международное право, о котором мы здесь говорим, — это то самое право, которое юристы называют также и государственным или публичным.
Мир и война между народами • Раймон Арон - 161
Часть I
толкования. Правовая теория в гораздо большей мере, нежели теория экономическая, таит в себе элемент той или иной доктрины. Она претендует на выявление и высвечивание юридической реальности, но это ее так называемое открытие представляет собой также и некое толкование, навеянное идеей, сложившейся в голове теоретика по поводу того, каким должно быть международное право.
Последнее, по единодушному мнению правоведов, имеет своей важной или даже главной составляющей совокупность договоров. Однако договоры редко подписывались свободно всеми высокими договаривающимися сторонами. Они выражают соотношение сил и закрепляют победу одного и поражение другого. Между тем, принцип “договоры должны соблюдаться” (pacta sunt servanda), хотя он и не является изначальной нормой или моральным основанием международного права, все же составляет само условие его существования. Вместе с тем международное право имеет тенденцию приобретать консервативное значение. Победитель в предшествующей войне ссылается на него, чтобы отклонить требования побежденного, а тот тем временем уже успел восстановить свои силы. Иначе говоря, стабилизация правового порядка, основанного на взаимных обязательствах государств, будет удовлетворительной в том или другом из следующих случаев: либо государства заключили договоры, которые они считают справедливыми: либо существует некая инстанция, признанная всеми и способная пересматривать договоры, исходя из бесспорных критериев справедливости.
Правда, всеми договорами предполагается, что за формулой pacta sunt servanda должна следовать добавочная формула rebus sic stantibus (“пока обстоятельства не изменятся”). Остается узнать, в каких случаях изменение обстоятельств оправдывает изменение договора. Западные державы имеют право, безусловное с юридической точки зрения, оккупировать часть бывшей столицы рейха. Но их присутствие там было связано в свое время с намерением воссоздать единую Германию. Если же от этого намерения отказались и раздел Германии был принят, то надо ли менять договоры, поскольку изменился их контекст? На такой вопрос нет юридического ответа.
Если международное право имеет своим источником договоры, то это означает, что субъектами данного права являются государства. Но наиболее важные исторические события, способствующие возникновению или гибели государства, происходят вне правового порядка и являются внешними по отношению к нему1. Перестали существовать
1 Или, если предпочтительнее преподнести вещи иначе, они сами создают этот порядок. Некоторые современные правоведы, например Г Кельзен, отрицают, что рождение и смерть государств представляют события метаправового характера. Допуская правомерность теории, согласно которой признание того или иного государства другими есть акт скорее политический, а не юридический, и. во всяком случае не образующий элементов права, они утверждают, что именно международное право квалифицирует в качестве государственных такие факты, события, обстоятельства, которые заслуживают такой квалификации. “Юридическое существование нового государства зависит не от признания его другими государствами, а от объективного выполнения некоторых условий, предписываемых международным правом государству, могущему быть признанным” (Théorie générale du droit international public. Recueil des cours de l’Académie de droit international. 1932, p. 287). Если принять такую систему, то можно будет сказать, что исторические события создают такие фактические условия, которые получают от международного права (а не по воле существующих государств) своего рода свидетельство о рождении или смерти того или иного государства.
162 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
прибалтийские государства, они больше не субъекты права1; ничто из того, что Советский Союз осуществляет на территориях, которые в 1939 г. находились под эстонским или литовским суверенитетом, больше не относится к международному праву, по крайней мере в глазах тех государств, которые перестали “признавать” Эстонию. Латвию и Литву (а это почти все государства). Когда какая-нибудь страна стирается с карты мира, она становится жертвой правонарушения, попрания международного права. Если никто не приходит к ней на помощь, о ней вскоре забывают, а государство, уничтожившее данную страну, по-прежнему встречает вежливый прием на разных ассамблеях так называемых миролюбивых стран. Идеологии мешают утверждать или отрицать, будь то в абстрактной форме или в какой-либо особой ситуации, что некоторые народы имеют право, а некоторые не имеют, конституироваться в нацию, страну, государство. Иначе говоря, даже беспристрастный и честный наблюдатель часто затрудняется определить, является ли такое-то нарушение территориального статус-кво справедливым или несправедливым, отвечающим или противоречащим интересам непосредственно затронутого народа или всего международного сообщества, и притом имеет ли данное событие краткосрочное или долгосрочное значение.
Права государств вступают в силу, если вообще можно так говорить, с того дня, когда эти государства признаны другими. Неорганизованные мятежники не пользуются никакой законной защитой. Законная власть третирует их как преступников и должна так поступать, если сама хочет удержаться, сохранить себя. Если мятежники организуются и осуществляют свою власть на какой-то части территории, они получают некоторые права воюющей стороны, складывается обстановка гражданской войны и практически возникает тенденция стирания разницы между “законной властью” и “мятежниками”; они выступают теперь как два борющихся правительства, и законность или незаконность каждой из сторон решается исходом войны. Международное право может лишь утвердить то, что получило решение с помощью оружия и силы. По истечении нескольких лет алжирский Фронт национального освобождения превратился из “банды мятежников” в “правительство в изгнании”. И теперь, надо думать, оно через несколько лет будет совершенно свободно действовать в границах независимого Алжира, осуществляя национальный суверенитет.
Юристы выработали правила, которые должны вменяться государствам в обязанность или приниматься ими добровольно на случай гражданской войны. Однако практически и даже в наши новейшие времена реальность варьируется самым разнообразным образом в зависимости от множества обстоятельств. Как мы уже видели, имеется два крайних случая. Однородная система может привести к образованию Священного союза, к совместной защите установленного порядка; в 1827 г. французская армия обрушилась с репрессиями на испанскую революцию, а в 1848 г. армия Николая I подавила венгерскую революцию. И напротив, в разнородной системе каждый лагерь поддерживает мятежников, восстающих против режи1 Это и некоторые последующие замечания автора, относящиеся к 60-м годам, в настоящее время уже не соответствуют действительности. -Прим.ред.
Мир и война между народами • Раймон Арон
163
Часть I
ма, благоприятного или благоприятствующего лагерю противника. Правила “невмешательств” были выработаны и более или менее соблюдались лишь в промежуточные переходные периоды, когда ни власти, ни революционеры не могли протягивать друг другу руку через границы. Когда не существует ни Интернационала народов, ни Интернационала королей, государства воздерживаются принимать сторону суверена или мятежников, потому что победа того или других не затрагивает сути их интересов.
Юридические нормы нуждаются в интерпретации. Их смысл не всегда очевиден, а применение в конкретных случаях вызывает споры. А между тем международное право не предусматривает органа, который имел бы высшую власть при разборе и толковании дел. Если государства не взяли на себя обязательства передавать свои дела и споры в Международный суд1, то каждое, подписавшее документ о статусе этого суда, фактически оставляет за собой право самому интерпретировать договоры. Когда государства имеют различные юридические и политические концепции, международное право, под которыми они подписались, будет подвергаться противоречивым толкованиям, будет расчленено на множество правил и порядков, основанных на одних и тех же текстах, но ведущих к взаимно несовместимым результатам.
Достаточно того, чтобы одни и те же государства или правительства были “признаны” одними государствами и “не признаны” другими, чтобы сразу было видно и ясно значение таких несовместимых толкований. Если даже предположить, что государства пришли к согласию насчет того, как надо вообще относиться к “мятежникам” и к “законному правительству”, то все равно те, которых одни считают мятежниками, в глазах других будут считаться представителями законной власти, и правовой порядок, охватывающий собой разнородную систему, обнаружит свою внутреннюю противоречивость. Государства не квалифицируют одинаково одни и те же реальные ситуации. Алжирский ФНО расценивается одними как “банда мятежников”, а другими — как законное правительство. Правительство Германской Демократической Республики называют и “так называемым правительством” и “подлинным правительством”. Переход 38-й параллели северокорейской армией следует именовать то ли “эпизодом гражданской войны”, то ли “актом агрессии”.
Могут возразить, что такие толкования не являются правдоподобными в равной степени, не станем против этого возражать. Демаркационная линия в Корее была установлена соглашением между Советским Союзом и Соединенными Штатами. “Мятежники” не осуществляли в 1958 г. регулярной власти ни на одной из частей алжирской территории. Объективно, для наблюдателя, применяющего традиционные критерии, не отягощенные идеологией, предпочтительной будет именно эта, а не другая интерпретация. Но чего ради государства станут придерживаться такой интерпретации, если она не благоприятствует их замыслам и деяниям? Государства заботятся о поддержании правового порядка, отвечающего их совместным интересам, поэтому они и признают друг друга и свои режимы. Однако в разнородной системе это взаимное признание ограничено идеологичес1 Или если они сами решают, как и когда выполнять им это обязательство.
164 * Раймон Арон • Мир и война между народами
ким соперничеством. Каждый лагерь не обязательно желает разрушения государств другого лагеря; вместе с тем он хочет ослабления или свержения режима в этом другом лагере: юридическое толкование, даже если оно представляется совершенно невероятным в том или ином конкретном случае, используется в качестве оружия подрывной войны и средства дипломатического нажима.
Наконец, даже если предположить, что сообщество государств пришло к согласию насчет истинной интерпретации (в Венгрии законным правительством было правительство Имре Надя, восстание было поднято народом, а не иностранными агитаторами или американскими агентами),то остается еще принять меры принуждения к государству, нарушившему закон. И в этом также международное право существеннейшим образом отличается от внутреннего права. Единственной эффективной санкцией против свершившего незаконное деяние остается применение силы. Однако виновное государство тоже обладает армией и оружием, оно не желает подчиняться приговору какого-нибудь арбитра или решению, проголосованному какой-нибудь ассамблей. Поэтому всякое усилие, направленное на то, чтобы заставить уважать право, сопряжено с риском войны. Так что или мятежники, или Ганди: чтобы наказать мятежников-нарушителей закона требуется применение силы, ограничивать и сдерживать которую и призвано право. В противном случае придется ограничиваться констатацией фактов, обозначением несправедливости и терпеть. Однако завоеватели обычно менее чувствительны к проявлениям доктрины и практики ненасилия, чем были чувствительны британцы в XX в.
Теория
Так что же получается? Принадлежит ли международное право к такому же роду, что и внутреннее право, если оно, международное, не содержит ни бесспорных толкований, ни эффективных санкций, если оно применяется к его субъектам лишь таким образом, что просто-напросто констатируется их возникновение и гибель, если само оно не может существовать до бесконечности, но никто не знает, как его пересмотреть и чем заменить? Большинство юристов отвечают утвердительно насчет однородности обоих прав, и я не стану с ними спорить. Мне важнее показать видовые различия, чем отрицать принадлежность к одному и тому же роду.
4. Узаконить войну или поставить ее вне закона?
Название знаменитого труда Гуго Гроция “О праве войны и мира" не отражает, конечно, всю тематику международного права, но оно безусловно отражает один из главных предметов его ведения. Этой формулы достаточно, чтобы напомнить о дилемме, сталкивающей между собой правоведов и философов: может ли и должно ли международное право легализовать войну или. напротив, объявить ее вне закона? Должно ли оно предусматривать или исключать ее возможность? Должно ли оно ограничивать ее или исключать совсем?
До 1914 г. ответ, даваемый историей, не вызывал никаких сомнений. Европейское государственное международное право никогда не имело целью или принципом постановку войны вне закона. Совсем наоборот, оно предусматривало должные формы объявления войМир и война между народами • Раймон Арон
165
Часть I
ны, запрещало использование в войне некоторых средств и способов, регламентировало порядок заключения перемирия и подписания мира, устанавливало определенные обязанности нейтральных стран по отношению к странам воюющим, а воюющих — по отношению к гражданскому населению, военнопленным и т. д. Короче говоря, оно узаконивало и ограничивало войну, но никак не считало ее преступлением.
Поскольку война была делом легальным, воюющие стороны могли относиться друг к другу именно как противники, но не обязательно испытывать взаимную ненависть или предаваться ярости и всякого рода издевательствам. Воевали государства, а не люди, как личности. Конечно, легальность войны не решала вопроса о том, справедлива ли та или иная война или нет. Тот, кто развязывал несправедливую войну, все равно оставался законным противником1.
Почему же правоведы-классики не усматривали противоречия между моральными суждениями о соответственном поведении воюющих между собой государств и юридическими суждениями, легализующими конфликт для обеих сторон? Обоснование такого подхода вполне ясно указывается в их трудах XVII и особенно XVIII в.; поскольку считалось, что монархи, если они мудры и добродетельны, не должны затевать войну ради славы или развлечения и жаждать не принадлежащих им земель и богатств, то разве могли бы они забывать о требованиях собственной безопасности? И если какой-нибудь государь накапливает столько сил, что вскоре сможет разгромить своих соседей, то разве эти соседи будут пассивно воспринимать нарушение равновесия — этой единственной гарантии безопасности в межгосударственных отношениях?
Правоведы классики не только понимали проанализированную нами выше двусмысленность и неясность различения между инициативой военных действий и агрессией, между ответственностью за истоки войны и ответственностью за ставки в ней, но они еще и допускали моральную законность действий, продиктованных требованиями равновесия, даже если эти действия бывали агрессивными. Они с теми или иными оговорками приняли бы формулу Монтескье, приведенную нами выше, согласно которой “право на естественную защиту иногда влечет за собой необходимость напасть первым“1 2. При та1 Вот, например, что пишет Эмер де Ватель в книге “Право народов или начала естественного закона, применяемого к поведению и делам народов и государей” (Emer de Vattel. Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques a la conduite et aux affaires des nations et des souverains. 1758, llv. Ill, chap. Ill, parag. 39): “B то же время может получиться так, что каждая из спорящих сторон чистосердечна и добропорядочна и в сомнительном деле еще не ясно, на чьей стороне находится право. А поскольку народы равны и независимы и одни не могут быть судьями для других, отсюда следует, что во всяком деле, вызывающем сомнения и ведущем к войне, обе воюющие стороны должны считаться законными, по крайней мере в том, что касается внешних действий каждой из них, и так должно быть вплоть до окончательного решения дела". В другом месте он высказывается еще более четко: “Война, ведущаяся по всем правилам и имеющая тот или иной результат, должна считаться справедливой для каждой из сторон” (liv. Ill, chap. XII, parag. 190).
2 Ватель тоже делает оговорки по поводу формулы Монтескье: в целях поддержания равновесия он предпочитает превентивной войне конфедеративные отношения. Тем не менее он пишет: “К несчастью для рода человеческого, всегда можно предположить желание угнетать там, где есть власть, которая может угнетать безнаказанно... Может быть, нет ни одного примера того, чтобы какое-нибудь государство получило значительное приращение могущества и при этом другие не выступили бы со справедливыми сетованиями..." И, наконец, он дает свою формулу законности превентивного нападения: “Порой существуют основания, чтобы упредить опасность, когда учитывается степень ее явности и размер зла, могущего быть причиненным” (liv. Ill, chap. Ill, parag. 42).
166 . л. ?.. ■ , Раймон Арон • Мир и война между народами
ком подходе трудно было установить с достоверностью, кто есть действительной агрессор (а не агрессор лишь по видимости). Мораль равновесия содержала немало казуистики и не исключала своевольного обращения к силе.
И Ж.-Ж. Руссо, и ГЪгель необычайно четко выразили идеи, лежащие в основе такого европейского международного права. Руссо писал в “Общественном договоре”: “Война есть не отношение человека к человеку, а отношение государства к государству, и частные лица оказываются в ней врагами лишь случайно и не как люди и даже не как граждане, а как солдаты. И не как люди, составляющие отечество, а как его защитники. В конце концов каждое государство может иметь противником только другие государства, а не других людей, ибо между разнородными вещами невозможно найти никакого подлинного соответствия”. В чисто межгосударственной войне у индивидов нет мотива ненавидеть друг друга, и государство-победитель должно тотчас прекратить наносить ущерб подданным государствапротивника, как только признает свое поражение. Насилие ограничивается столкновением между армиями.
Еще более радикальны высказывания Гегеля в “Философии права”: “Международное право следует из отношений между независимыми государствами. Его содержание в себе и для себя имеет форму долженствования, потому что его осуществление зависит от отличных друг от друга суверенных воль”. Такая формула равнозначна напоминанию о том, что ввиду множественности суверенных государств конкретные обязательства, связанные с международным правом, не могут подкрепляться санкциями: они остаются долженствованием, как и мораль.
Теория
“Основанием для права народов как универсального права, которое должно в себе и для себя соблюдаться в отношениях между государствами, и как несводимого к частному содержанию тех или иных договоров, служит принцип, согласно которому договоры должны соблюдаться — pacta sunt servanda. Ибо именно на нем основаны обязательства государств по отношению друг к другу. Но поскольку они оберегают свой суверенитет, из этого следует, что они в своих взаимоотношениях пребывают в естественном состоянии, они не отдают своего права, чтобы оно было частью некоей универсальной воли, конституированной как власть над ними, а их взаимные отношения реально осуществляются как проявление частной воли. Это та самая формула, которую можно вывести из анализа предыдущего параграфа данной главы нашей книги. Международное право складывается из обязательств, принимаемых, молчаливо или открыто, государствами друг перед другом. Поскольку государства, беря на себя обязательства, не отчуждают в их пользу своего суверенитета, всегда остается возможной война — либо потому, что стороны расходятся в толковании договоров, либо потому, что одна или другая сторона хочет изменить статьи какого-либо договора.
“И напротив, даже в войне, как неправовой ситуации насилия и спора, между государствами сохраняется некая связь в том смысле, что они признают друг друга как таковых, то есть как государства. Эта связь означает, что каждое из них остается для другого существующим в себе и для себя. И это именно так, поскольку сама война рассматривается как явление временное”. Война есть определенное правовое состояМир и война между народами • Раймон Арон
167
Часть I
ние, предусмотренное заранее, отменяющее большинство обязательств, взаимно принятых государствами в мирное время, но не теряющее из-за этого своего легального характера. Воюющие стороны не используют какие угодно средства, без всякого разбора, и в то же время, когда совершается насилие, они не забывают о будущем восстановлении правовых отношений (при условии, конечно, что на карту не поставлено существование того или другого государства.
Эта классическая концепция всегда казалась неудовлетворительной некоторым философам, она с трудом совместима с обязывающим характером права, и она стала неприемлемой для широкой общественности после мировой войны. Столько смертей, столько материальных разрушений, столько ужасов больше не могли восприниматься как соответствующие нормальному ходу человеческих дел. Война не должна была больше считаться эпизодом в межгосударственных отношениях, ее надо было в самом прямом смысле слова объявить вне закона. А так как победители обвинили побежденных в развязывании войны, то теперь, ретроспективно, всякая инициатива военных действий стала считаться преступлением. Была учреждена Лига Наций, миссия которой заключалась в сохранении и поддержании мира. Десять лет спустя пакт Бриана— Келлога, подписанный по подсказке Соединенных Штатов, еще более торжественно провозгласил незаконность войны как инструмента политики.
Правовая система Лиги Наций и пакта Бриана—Келлога обанкротилась потому, что неудовлетворенные государства пожелали изменить установленный порядок, а международная организация не располагала средствами ни для того, чтобы мирным путем осуществить перемены которых, быть может, требовала справедливость, ни для того, чтобы остановить и обуздать революционные государства. Когда Япония превратила Маньчжурию в Маньчжоу-го и была осуждена Лигой Наций, она просто-напросто покинула Женеву. Агрессия была совершенно откровенной, но что могла сделать Ассамблея, если государства, располагавшие силой, не хотели ее использовать? Таким же образом и Германия ушла из Женевы, не получив удовлетворения по вопросам, касающимся разоружения.
Итальянские действия в Эфиопии не очень отличались от других аналогичных действий европейцев в Азии и Африке. Но Эфиопия была принята в Лигу Наций, был провозглашен принцип равенства государств, больших и малых, цивилизованных и варварских1, и итальянский захват нельзя было терпеть, не разрушив самих основ правового порядка, явившегося следствием первой мировой войны и французской политики. Были проголосованы санкции, которые частично выполнялись, однако страныучастницы Лиги Наций не решились применить санкцию, имевшую наибольшие шансы быть успешной (блокировать транспортировку нефти). А между тем, напомним, государства-члены Лиги Наций (даже только два главных из них — Франция и Великобритания), были многократно сильнее одинокой Италии, которую не могла поддержать Германия, только-только начавшая перевоору-
1 Если, конечно, предположить, что все еще можно, в контексте идей нашего времени, отличить первых от вторых
168
Раймон Арон • Мир и война между народами
жаться. Риск того, что Италия ответит силой на угрозу применения силы, был чрезвычайно мал — настолько разительной выглядела разница в ресурсах агрессора, с одной стороны, и консервативных держав, с другой. Но, то ли правящие круги Парижа и Лондона не хотели свалить фашистский режим, то ли они не желали подвергать себя пусть даже ничтожному риску войны, но были применены такие санкции, которые не могли ни парализовать Италию, ни вызвать с ее стороны ответные меры военного характера. Однако, каковы бы ни были мотивы государственных деятелей, ясно обнаружилось, что правительства и народы больше не желают жертвовать ничем ради борьбы за дело, которое не является или не кажется их собственным, строго национальным делом. И если международное право, запрещающее агрессию и завоевания, имеет своей исходной базой и целью транснациональное сообщество, то последнее не существовало в ту пору совсем или существовало в очень ослабленном состоянии, судя по чувствам и стремлениям людей.
Правовой формализм, исключающий войну как способ регулирования разногласий или изменения территориального статута, не был отброшен даже и после череды неудач и провалов, отмеченной такими вехами, как войны в Маньчжурии, Эфиопии, Китае и двойная всеобщая война в Европе и на Дальнем Востоке. В 1945 г. попытались воспользоваться международным правом, ставящим войну вне закона, чтобы наказать гитлеровских главарей. На Нюрнбергском процессе “заговор против мира” был лишь одним из обвинений пусть и главным, но имевшим в виду конкретно руководителей третьего рейха, а в нынешнем контексте военные
Теория преступления в том виде, как их тогда обозначили, перестали нас интересовать. Зато вместо этого предпринимается попытка перейти просто от определения агрессии, как международного преступления, к определению и наказанию виновных, и это иллюстрирует тот аспект проблемы, который возникает, как только в международном праве начинают выводить все следствия из “объявления войны вне закона*’.
Какая-нибудь из воюющих сторон — государство или блок — юридически оказывается преступной. Что же следует из такой “криминализации” войны, которая некогда называлась несправедливой? Будем оптимистами: допустим, что преступное государство потерпело поражение. Как его наказывать и где находятся преступники? Получается, что наказывают само государство; иначе говоря, отрезают у него кусок территории, запрещают вооружаться, лишают частично суверенитета. А ведь прежде всего важно, чтобы условия мира предотвращали возвращение к войне. Так разумно ли, чтобы желание наказать, пусть даже законное желание, влияло на обращение с побежденным противником и на статьи мирного договора? Повторим, что мы рассуждаем сейчас об оптимистическом предположении. Легко представить себе, как применил бы рейх, в случае своей победы, право наказывать “преступные” государства (Польшу, Францию, Великобританию).
Идет ли речь о наказании не государств или народа, а лиц, через посредство которых государство совершило “преступление против мира”? Тут удовлетворительна единственная формула, не раз фигурировавшая в речах и выступлениях Уинстона Черчилля: “Один человек, только один человек” (One man,
Мир и война между народами • Раймон Арон
169.
Часть I
one alone). Если только один человек принял решения, обязывающие народ, если он один располагал абсолютной властью и действовал в одиночестве, тогда такой человек воплощает в себе преступное государство и заслуживает наказания за преступление целого народа. Но такое никогда не случалось; в прямом и переносном смысле компаньоны и соратники лидера принимали участие в принятии решений, они вместе с ним замышляли нарушить мир и завоевать страны или территории. До какого же предела можно доводить поиск виновных? В какой мере долг послушания или солидарности с отечеством может рассматриваться как извиняющее и оправдывающее обстоятельство?
Впрочем, даже если бы поиск преступных индивидов, подлежащих наказанию за деяния государства, руководителями или орудиями которого они себя объявили, был делом юридически безупречным, он все равно был бы сопряжен с риском и разными подвохами. Могут ли государственные деятели в чем-то уступить, не исчерпав предварительно всех своих сил и средств сопротивления, если они знают, что в глазах противника они преступники и с ними поступят именно как с преступниками в случае поражения? Щадить руководителей государства-противника, быть может, и безнравственно, но чаще всего это было бы мудро, иначе эти люди, в тщетной надежде спасти самих себя, будут жертвовать жизнями и богатствами своих сограждан или своих подданных. Если война преступна как таковая, она будет беспощадна и принесет неискупимые потери.
Больше того, даже если взять последнюю войну, где вина и ответственность явно падала на Германию, это совсем не означало, что все невиновные государства располагались по одну сторону, а все виновные — по другую Перед 1939 годом международная система была разнородной. Притом разнородность была комплексной, поскольку сталкивались между собой три режима, глубоко враждебные каждый к каждому, и каждый был склонен засунуть двух своих противников “в один мешок” Коммунисты расценивали фашизм и парламентаризм просто как две разновидности капитализма Для западных демократий коммунизм и фашизм представляли собой две версии тоталитаризма А с точки зрения фашизма, парламентаризм и коммунизм, как выражения, соответственно, демократической и рационалистской идеи, были двумя этапами вырождения — этапом плутократии и этапом деспотической уравниловки Однако, в случае нужды, каждый из этих режимов был готов признать элементы родственности с одним из своих противников. Во время войны Сталин проводил различие между фашизмом, попирающим и уничтожающим свободы и рабочие организации, и буржуазными демократическими режимами, которые, по крайней мере, терпят у себя профсоюзы и партии Но в период германо-советского пакта он тепло отзывался о любви германского народа к своему фюреру и говорил о “встрече двух революций”. Западные демократии, в период антифашистской коалиции и “Большой тройки”, признавали свою общность с устремлениями, характерными для левых, но, когда на демаркационную линию опустился железный занавес, они вспомнили, что красный тоталитаризм ничуть не лучше тоталитаризма коричневого. Что же касается фашистов, то они, в зависимости от обстоятельств, ’ 170
Раймон Арон • Мир и война между народами
готовы были союзничать и с коммунизмом в интересах революции, и с буржуазными демократиями ради борьбы против советского варварства и в защиту цивилизации.
Такая, если можно так выразиться, тройственная разнородность исключала формирование блоков в функциональной зависимости от внутренних режимов, то есть такую конъюнктуру, к которой ведет идеологический дуализм. Она также давала преимущество государствам, в тактическом отношении свободным, в своих маневрах способным вступать в союз с каким-либо из своих противников, чтобы противостоять другому противнику. К примеру, Франция и Великобритания могли выступать вместе с Советским Союзом против фашизма (да и то неизбежность и близость агрессии должны были быть очевидными, чтобы на такую совместность согласились правые политические силы), но не могли выступать вместе с фашизмом ввиду непримиримой оппозиции этому со стороны левых. В конечном счете больше всего козырей было у Советского Союза, потому что он мог временно выступить союзником любого из своих противников и был приемлем как союзник для любой из этих двух стран.
У Советского Союза и западных демократий был общий интерес: помешать третьему рейху усилиться до такой степени, чтобы он один превосходил тот или другой из двух остальных противостоящих друг другу блоков. Однако предотвращение войны в большей мере соответствовало интересам Франции и Англии, но не обязательно Советского Союза. Поворот германской агрессии в сторону Запада отвечал советским интересам, как было бы в западных интересах, чтобы первый удар был нанесен Теория
по Советскому Союзу. Германо-советский пакет не выходил за рамки традиционного макиавеллизма.
Но с того момента, когда все государства стали участвовать в этой трагической игре, агрессия против Польши, а потом против Финляндии и прибалтийских стран, агрессия неоспоримая юридически, могла все же истолковываться как серия упреждающих оборонительных действий в ответ на ожидаемую гитлеровскую агрессию. Когда намерения и замыслы соседнего и сильного государства очевидны, надо ли, чтобы намеченная жертва оставалась в пассивном ожидании? Если бы в марте 1936 г. французские войска заполонили Германию, это, по-видимому, было бы осуждено мировой общественностью, но спасло бы мир. Правоведы-классики знали, что невозможно обращаться к одному-единственному критерию “инициативы’’, чтобы установить виновных, и поэтому считали в высшей степени обоснованным делом легализацию войны. Что касается судей на Нюрнбергском процессе, среди которых был и русский судья, то они явно игнорировали агрессию, безусловную агрессию согласно букве права, совершенную Советским Союзом по отношению к Польше, Финляндии и прибалтийским государствам. Подход был неизбежно неравным и слишком хорошо иллюстрирующим формулу несправедливости: два подхода, две меры.
В довоенной международной системе стремление недовольных государств изменить статус-кво представляло собой наипервейшее исходное данное. Среди государств, которым угрожала такая революционная воля, одни были более консервативны, другие менее. Но все хотели воспрепятствовать германской Мир и война между народами • Раймон Арон
171
Часть I
гегемонии, и однако каждый хотел остановить гитлеровскую авантюру с наименьшими потерями для самого себя и извлечь из победы максимум выгоды. В конце концов потери оказались огромными для всех, а выгоды тоже далеко не малые получил тот, кто дал Гитлеру повод и возможность развязать великую бойню.
В такой обстановке легче моралисту осудить эти маневры, чем политику придумать, чем их можно было бы заменить.
5. Экивоки признания и агрессии
Правовой порядок, созданный после второй мировой войны и воплощенный в Организации Объединенных Наций, основан на тех же самых принципах, что и версальский порядок и Лига Наций. На этот раз инициатором порядка выступили Соединенные Штаты, которые намерены его поддерживать, а не отойти в сторону лишь поддержав его принципы, как они поступили после первой мировой войны.
Этот правовой порядок распространяется теперь почти на все население земного шара (наиболее существенные исключения составляют Германия, ввиду ее раздела, и коммунистический Китай, и, в силу самого этого факта, он применяется к реальностям, разнородным исторически и политически. Разнородность, как бы прикрываемая принципом равенства государств, присуща самим политическим сообществам: Йемен, Либерия, Гаити провозглашены суверенными в том же качестве и с теми же прерогативами, что и Советский Союз Великобритания, Соединенные Штаты. Некоторые усматривают в этом решающий прогресс по сравнению с дипломатической обстановкой начала века, когда европейцы считали нормальным свое господство над великим множеством неевропейцев. К счастью или к несчастью, но сам факт эволюции бесспорен: пятьдесят лет назад правовым равенством пользовалось очень небольшое число государств за пределами европейской и американской сферы; сегодня им пользуются все, каковы бы ни были их ресурсы или институции. Международное право, которое было сначала правом христианских народов, потом народов цивилизованных, отныне есть право всех народов всех континентов, при единственном условии, чтобы они были миролюбивыми (peace loving)1. В еще большей степени, чем историческая разнородность1 2 , разнородность политическая влияет и ложится грузом на правовой порядок. Коммунистические государства и демократические государства — это не только разные государства, они еще и противники. Советские руководители, согласно их доктрине, рассматривают капиталистические государства как обреченные на воинственность и военную экспансию, в конечном счете на гибель. Между тем, руководители Соединенных Штатов, в соответствии со своим толкованием коммунистической идеологии, убеждены, что хозяева Кремля жаждут всемирной империи. Иначе говоря, государства каждого блока не являются, при сопоставлении с государствами другого блока, “миролюбивыми” (peace loving), хотя, по Уставу ООН3, все члены этой 1 См.: Rollng B.V. International law In an expanded world. Amsterdam, 1960.
2 См. ниже гл. XIII.
3 Ст. 4 Устава ООН.
172 v-- Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
организации миролюбивы. Если бы либеральные государства действовали по логике своих собственных убеждений, они просто не приняли бы в международное правовое сообщество тоталитарные страны, империалистические по их мнению, а те поступили бы точно так же по отношению к ним.
Такую двойную разнородность, историческую и политическую, было решено игнорировать — по крайней мере в Лейк-Сассексе и Нью-Йорке. Атлантический пакт и Варшавский пакт обмениваются через своих глашатаев гомерическими ругательствами и проклятиями, а соответственные государствачлены усиливают свои военные приготовления и выражают делами и идеями свою реальную взаимную враждебность. В рамках ООН все эти страны собираются вместе и, в зависимости от повестки дня, заявляют друг другу о своих добрых намерениях или же обвиняют друг друга во всяческих злодеяниях.
Что касается исторического неравенства государств, то это обстоятельство было учтено лишь при отборе пяти постоянных членов Совета Безопасности (Соединенные Штаты. Советский Союз, Великобритания, Франция, Китай). Место Китая до 1960 г. оставалось занятым представителем Чан Кайши, то есть режима, именуемого националистским и укрывшегося на Формозе (Тайвань). На Ассамблее каждый имеет один голос, и все голоса равноценны, хотя фактически сверхдержавы имеют там свою клиентуру.
Связь между правовой и исторической разнородностью, с одной стороны, и формализмом правового равенства государств, с другой, придает решающее значение понятию признания. Поскольку государство вправе делать у себя дома все, что предполагается его суверенитетом, и даже может призывать на помощь иностранные войска1, все зависит от такой вещи, которую я называл бы правительственным воплощением государства. Одни и те же факты и события могут получать взаимно противоположные юридические оценки в зависимости от того, признано ли законным то или иное правительство.
Десанты американских войск в Ливане, английских войск в Иордании (1958) не были сочтены противоречащими международному праву и Уставу ООН, потому что они были произведены по просьбе “законного правительства”. Если бы король Ирака и Нури Саид ускользнули от заговорщиков1 2 и призвали на помощь английские и американские войска, то было бы вмешательство законным? Предположим, что венгерское правительство, законное с точки зрения Объединенных Наций, было бы правительством не Имре Надя, а сталинистов: тогда вторжение русских дивизий, призванных “законным правительством“, едва ли было бы более противоречащим международному правовому формализму, нежели высадка американских войск в Ливане. В зависимости оттого, как определено понятие “субъект права”, мы будем иметь те или иные, но неизбежные следствия: в некоторых случаях возникает вопрос, должно ли государство, существующее фактически (Германская Демократическая Республика, Северная Корея), быть признано как 1 Правоведы спорят об этом, но такое уже вошло в практику
2 Лишний повод для заговорщиков казнить их как можно быстрее
Мир и война между народами • Раймон Арон
173
Часть I
“субъект права”, как законное государство. В других случаях встает вопрос, какая группа людей или какая партия выступает как представительница государства, существования которого не отрицает никто (оба блока не ставят под сомнение существование венгерского государства, но какое правительство было законным 3 ноября 1956 г. — Кадара или Надя?)1.
Этим объясняется, что с 1945 г. в центре дипломатических дебатов и споров находится проблема признания, идет ли речь о Корее, Китае или Германии. Правоведы разработали разные “имплицитно нормативные” теории признания, много рассуждали о различии признания де-факто и деюре, констатировали самые разнообразные практические действия государств в этом отношении. Но такая практика и подобные различия становятся ясными лишь сквозь призму политики.
Будем исходить из бесспорного тезиса: в соответствии с общепризнанными обычаями, государства пользуются определенной свободой признавать или не признавать то или иное появившееся на свет государство (например Гвинею в 1958 г.) или то или иное правительство, пришедшее к власти. Соединенные Штаты использовали непризнание как инструмент дипломатии по отношению к революционным правительствам Южной Америки и “территориальным изменениям, навязанным силой”. Руководящие круги США надеялись воспрепятствовать государственным переворотам и захватам территорий, объявляя заранее, что они не приемлют последствий таких актов. Они ждали многие годы, прежде чем признали де-юре советское правительство (непризнание в период с 1917 до 1933 г.). Хотя признание де-юре и не означает одобрения методов и принципов признаваемого режима, дипломаты все же добавили еще одно понятие — признание де-факто, промежуточное между непризнанием и полным и безоговорочным признанием1 2 .
В конце концов оружие непризнания оказалось малоэффективным как против революций, так и против захватов и завоеваний. Лидеры революции и лидеры империалистского государства знают, что рано или поздно сила реальности возьмет свое. Невозможно бесконечно игнорировать фактическую власть под предлогом, что ее происхождение неприятно, а методы достойны осуждения. Тем не менее признание не превратилось в простую и автоматическую процедуру. Напротив, в социологическом и даже юридическом аспекте можно различить две разновидности признания де-факто и две разновидности признания де-юре.
Я назвал бы имплицитным признанием де-факто такое признание, когда с какой-либо властью общаются и ве1 А вот 3 ноября 1957 г. уже не было сомнений, что таковым является правительство Кадара: международное право порою забывает, что правительства рождаются и умирают
2 Это различие юридически сомнительно, поскольку признание, даже де-юре, всегда должно быть лишь признанием некоего факта - того факта, что какое-то государство, режим или правительство существуют. Действительное исполнение правительственных функций группой людей или независимым коллективом - таким должен быть предмет или субъект неидеологического признания: однако в разнородной системе признание всегда имеет политические следствия и идеологические ракурсы. Поэтому правительства, в каких-то своих собственных целях, просто играют, жонглируют признанием, непризнанием или всякими разновидностями признания.
174
Раймон Арон • Мир и война между народами
дут дела, но отказываются признать законным ее существование. Таковы, к примеру, отношения западных государств с Германской Демократической Республикой. Чтобы максимально сократить элемент признания, содержащийся во всякого рода договорах, западные державы, особенно боннские руководители, приняли за правило, чтобы экономические соглашения между обеими Германиями подписывались должностными лицами невысокого ранга. А если бы соглашения с ГДР заключались по всей должной форме и на правительственном уровне, то это было бы признанием де-факто.
Что касается признания де-юре, то оно имеет, в зависимости от обстоятельств, два смысла в историческом отношении. Если режимы признающих друг друга государств одинаковы — или различны, но не взаимно оппозиционны, — признание правомерно при любых обстоятельствах. Государства могут даже воевать между собой, но при этом ни одно из них не стремится свергнуть режим другого, спровоцировать и поддержать там внутренний мятеж. Однако, когда два государства с прямо противоположными режимами признают друг друга де-юре, то ни одно из соответственных правительств, существовавших к началу, скажем, военных действий между ними, не сохранится в случае поражения. Даже в мирное время идеологическая враждебность проявляет себя всяческими способами, и ни одно из таких государств не способно четко размежевать свои национальные интересы и интересы идеологические.
Для всех территорий, освобожденных армиями Востока и Запада, разноТеория
гласил по поводу признания приобретали острый характер. В Корее только Республика Южная Корея была признана Объединенными Нациями, поскольку Северная Корея упорно отказывалась выполнять решения ООН о свободных выборах и воссоединении страны. Кроме того, северокорейская армия перешла 38-ю параллель, и не было сомнений, кто виновен в агрессии (в инициативе начала военных действий). Тем не менее, согласно советской идеологической интерпретации, северокорейская агрессия была прежде всего гражданской войной, попыткой подлинной Кореи (Кореи коммунистической) освободить из-под империалистского ярма корейцев по ту сторону демаркационной линии. По внешней видимости Объединенным Нациям удалось настроить нейтральные страны против агрессора, чего в свое время не сумела сделать Лига Наций в отношении Италии. Но в действительности отпор агрессору дали американцы, а не решение ООН, которое, кстати сказать, смогло быть принятым лишь при отсутствии в момент голосования представителя Советского Союза1. Впрочем, жертва агрессии пострадала не меньше, чем сам агрессор, и командование, действовавшее под эгидой ООН, вместо того, чтобы наказать северокорейских и китайских агрессоров, повело с ними переговоры, как поступило бы любое правительство, желающее покончить миром без победы во второстепенном конфликте.
Что касается Германии, то западные державы отказывались признать ГДР де-факто и де-юре, потому что, по их мнению, боннская Федеративная Республика представляет всю Германию. Советы же признают на равных осно1 Ввиду этого обстоятельства законность данного решения сомнительна.
Мир и война между народами • Раймон Арон ) :
. 175
Часть I
ваниях и ФРГ, и ГДР; они оказываются в выигрыше от такого признания, которое служит как бы обращением к Западу с приглашением относиться к ГДР так же, как они сами относятся к Бонну.
Еще более странным представляется непризнание коммунистического Китая Соединенными Штатами и большинством стран Запада1. Пекинский коммунистический режим имеет характеристики законного правительства — по меньшей мере такие же, что и режимы Восточной Европы. Вашингтон может считать его незаконным, но при условии, что он будет считать незаконным и советский режим в России. А если говорить о китайской агрессии в Корее или о неприемлемом обращении с некоторыми американскими гражданами, то эти факты не отличаются от тех, на которые при желании можно сослаться и применительно к Советскому Союзу. Непризнание КНР есть лишь способ сохранить престиж законности за правительством Чан Кай-Ши. Одновременно Соединенные Штаты защищают Формозу, Куэмой и Матсу против вылазок и поползновений китайских коммунистов благодаря своему договору с законным для них, США, правительством Китая.
Таким образом, пекинское коммунистическое правительство “не признано” западными государствами, хотя оно фактически обладает всеми свойствами и качествами, необходимыми и достаточными, с точки зрения большинства юристов, чтобы мотивировать и оправдать признание (реальный и эффективный контроль над территорией и населением). С другой стороны, Фронт национального освобождения, обосновавшийся в Каире и Тунисе, был признан большинством правительств арабских стран, хотя он не осуществляет регулярной власти ни на одной части алжирской территории. В разнородной системе признание представляет собой способ дипломатического или военного воздействия. Оно бывает направлено на моральную поддержку импровизированных или революционных организаций. Признание ФИО — это провозглашение и жест симпатии к лагерю алжирского национализма, заявление о том, что принцип самоопределения выражает собой осуждение французской политики и полное одобрение борьбы повстанцев.
Сделаем выводы из нашего анализа. Чтобы определение субъектов права не вызывало сомнений, нужно чтобы принцип легитимности и толкование этого принципа тоже не вызывали сомнений. В каком случае и в какой форме должно реализовываться самоопределение? Какими методами и способами должны создаваться, формироваться, избираться правительства? Однако все та же разнородность, которая не позволяет дать однозначное определение субъектам права, не позволяет также и прийти к единодушному определению агрессии.
Причины неудач в попытках определить агрессию многочисленны и сложны1 2 . Позиции различных государств на этот счет диктовались, при каждых конкретных обстоятельствах, соображениями целесообразности и удобства. В 1945 г. американцы хотели включить 1 Таким образом обстояло дело в 60-е годы, о которых ведет речь автор. - Прим. ред.
2 Обстоятельное рассмотрение попыток определить агрессию в Лиге Наций и в ООН см. в кн. : Aroneanu Е. La. Définition de l’agression. Paris, 1958.
176
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
определение агрессии (выработанное на конференции по разоружению 1933 г.) в статут Нюрнбергского трибунала, но русские твердо воспротивились этому. А через десять лет именно русские выступили в ООН за определение агрессии, зато американцы за это время уже стали противниками такого определения. Определить агрессию, по-моему, невозможно, а впрочем, и бесполезно, каков бы ни был характер международной системы. Термином “агрессия*’ дипломаты, юристы, простые граждане называют, более или менее приблизительно и неясно, незаконное применение силы, прямое или косвенное. А между тем отношения между государствами были и остаются такими, что нет никакой возможности найти общие и отвлеченные критерии, в свете которых можно было бы чуть ли не автоматически и очевидным образом провести различие между законным и незаконным применением силы.
Если всякое и при любых обстоятельствах применение силы незаконно, то незаконной будет и угроза применения силы. Но как обнаружить, как различить эту угрозу, которая вовсе не нуждается во внешних проявлениях, чтобы быть эффективной? Какие права можно и следует предоставить государству, которое находится и считает себя находящимся под угрозой? Да, Устав ООН запрещает угрозу применения силы в такой же мере, как и само ее применение, но такая формула есть чистейшее лицемерие: поскольку не существует трибунала, способного решать споры по нормам и законам справедливости, все государства полагались и продолжают полагаться лишь на самих себя, чтобы добиться этой справедливости, и ни одно из них не думает всерьез, что угроза, если она направлена на служение справедливому, по их мнению, делу, есть сама по себе вина.
Кроме того, было бы слишком просто иметь в виду для данного случая лишь вооруженную силу и ее непосредственное применение. Если хотят разработать международный уголовный кодекс, то надо определить правонарушения и преступления, которые могут совершить государства, не ограничиваясь самым тяжким преступлением — “применением вооруженной силы”. Должны осуждаться и всякие другие средства и способы принуждения и нападения — экономические, психологические, политические. Однако какие именно способы “экономического нажима” преступны? Какая пропаганда преступна, а какая терпима?
Резюмируем проблему. В однородной системе нет возможности определить агрессию потому, что обращение к силе (или угроза обращения к ней) неразрывно связано с отношениями между государствами, провозглашающими и считающими себя независимыми. В разнородной системе агрессию определить невозможно потому, что борющиеся режимы постоянно нападают друг на друга в той или иной форме и. так сказать, чистосердечно, совершают преступление в виде косвенной или идеологической агрессии.
Тщетно пытались преодолеть первую трудность, определяя в слишком общих выражениях или путем простого перечисления обстоятельства, при которых обращение к силе было бы законным или незаконным. Но это лишь задвинуло вглубь и даже умножило трудности. Если применение силы законно в случае законной обороны, то вот это последнее тоже надо определить. Если Мир и война между народами • Раймон Арон
177
Часть I
ссылаются на последовательность действий, то есть считают агрессором того, кто нанес первый удар, то запутываются в казуистике трактовок нападения и инициативы. Далеко не всегда известно, кто начал. А тот, кто начал, — не всегда нарушитель. Государство, находящееся под угрозой, не всегда располагает временем, чтобы использовать процедуры, называемые мирными.
К тому же, должно ли государство до бесконечности терпеть несправедливость, если ему не удается добиться справедливости (как оно ее понимает)? Перечисление обстоятельств, при которых обращение к силе должно считаться незаконным, рискует гарантировать безнаказанность тем, кто нарушает закон, поощрить международную анархию и в конце концов вызвать к жизни то, чего как раз хотят избежать.
В разнородной системе ясно опознаваема лишь “вооруженная агрессия”, выражение, фигурирующее в Уставе ООН, то есть нарушение границ одного государства регулярными вооруженными силами другого. Все формы косвенной агрессии — это практически обычная вещь. Довольно иронично выглядит, но не вызывает удивления то, что советские представители в ООН предложили в комиссии по определению агрессии следующую формулу:
“Будет признано виновным в косвенной агрессии государство, которое:
а) поощряет подрывные действия, направленные против другого государства (акты терроризма саботажа и т. д.);
б) разжигает гражданскую войну в другом государстве;
в) способствует возмущениям и мятежам в другом государстве или политическим переменам в нем, благоприятствующим агрессору”1.
Само собой разумеется, что в глазах русских только атлантический блок знает “преступные” секреты подрывной войны.
В межвоенный период так называемый комитет Политиса определил агрессию путем перечисления разных случаев. Четыре из пяти приведенных случаев выражены вполне членораздельно1 2 : “объявление войны другому государству; вторжение вооруженных сил, даже без объявления войны, на территорию другого государства; нападение наземных, морских или воздушных сил даже без объявления войны, на территорию, корабли или самолеты другого государства; морская блокада побережий или портов другого государства”. Если считать виновным инициатора описанных действий, то все эти случаи просты. Но пятый случай приобретает сегодня неожиданную актуальность: “поддержка вооруженных банд, созданных на территории собственного государства, которые потом вторгнутся на территорию другого государства; или отказ, несмотря на просьбы пострадавшего государства, принять на своей территории все возможные меры, чтобы лишить вышеназванные банды всякой помощи или защиты”.
Рассмотрим только этот последний случай. В самом деле, организация вооруженных банд или потворство им противоречит давним обычаям в отношениях между государствами, но если предположить, что какая-то страна виновна в косвенной агрессии такого рода, то каким должно быть ответное действие? Протесты неэффективны, а военное вы1 Агопеапи. Ор. сК., Р. 292.
2 1Ыд. Р. 281.
178 . . - -
Раймон Арон • Мир и война между народами
ступление рискует свести все дело к уравнению Грибуйя: соблюдение международного закона равно войне посредством санкций. Совершенно нельзя сказать наверняка, что французская армия преследовала бы отряды и группы алжирских мятежников на тунисской и марокканской территории, даже если бы не существовало Организации Объединенных Наций.
В определении Политиса имеется также перечисление условий и обстоятельств, не делающих легальными военные меры со стороны иностранного государства: “внутреннее положение в каком-либо государстве, например его политическое, экономическое или социальное устройство, ошибки и промахи управления в нем, волнения, вызванные забастовками, революции, контрреволюции или гражданские войны; поведение государства на международной арене, например нарушение им или опасность нарушения прав и материальных и моральных интересов иностранного государства и его граждан, разрыв дипломатических или экономических отношений, экономический или финансовый бойкот, споры и разногласия по поводу экономических, финансовых или других обязательств перед иностранными государствами, пограничные инциденты, не достигающие уровня какого-либо из случаев агрессии, указанных в статье первой”. Запрещение вмешиваться в целях подавления революции или контрреволюции прямо касается советских действий в Венгрии, а запрещение использовать силу для защиты материальных интересов, поставленных под угрозу каким-либо иностранным государством, очень точно характеризует франко-бриТеория
танские действия против Египта. Это определение агрессии было включено во многие договоры, подписанные Советским Союзом, в частности с прибалтийскими странами и Филяндией1. Однако это не уберегло и не спасло их. В конце концов Объединенные Нации не стали пытаться определить агрессию и охотнее пользуются другими понятиями, фигурирующими в Уставе: нарушение мира, угроза миру и международной безопасности, покушение на территориальную целостность или политическую независимость государств. ООН ограничивается применением термина “агрессия” к одному-единственному случаю, когда регулярная армия одного государства переходит границы другого без его согласия. Однако пропаганда, диверсанты и провокаторы, группы террористов постоянно переходят через границы, но формально их не осуждают ни международные организации, ни даже толкователи международного права.
Правовой формализм склонился перед реальностями “холодной войны”.
♦ * *
Ни одна правовая система не дала ответа, даже в теории, на два фундаментальных вопроса: как избежать правового нарушения при всяком изменении статус-кво? Или скажем иначе, формулируя тот же вопрос в других выражениях: исходя из каких критериев тот ли иной арбитр или трибунал мог бы отдать распоряжение о мирных изменениях и переменах, без которых частное международное право, основанное на воле государств, может быть лишь консервативным? Поскольку предполагается, что права и обязанности государств 1 Ibid. Р. 286.
Мир и война между народами • Раймон Арон *
179
Часть I
определены достаточно точно, как определить те учреждения и инстанции, которые действовали бы реально и выходили в правовом отношении на уровень государств?
Лига Наций не дала ответа на первый вопрос. Объединенные Нации ищут ответ на второй, но разнородность, историческая и правовая, общепланетной системы не позволяет им найти его.
ГЛАВА V
Многополюсные и двухполюсные системы
Внешняя политика, как таковая, есть политика могущества, power politics. Поэтому понятие равновесия (balance), применяется ко всем международным системам до самого атомного века (быть может, исключая сам этот век).
В предыдущей главе мы провели различие между силами, то есть совокупностью средств давления и принуждения, имеющихся в распоряжении государств, и могуществом — способностью государств. рассматриваемых в качестве сообщества, влиять на другие государства. Поэтому мы охотно говорили о политике могущества и равновесии сил. Первое выражение означает, что государства не признают ни арбитра, ни трибунала, ни закона, стоящего над их собственной волей, и, следовательно, обязаны своим существованием и безопасностью самим себе или своим союзникам. И если я предпочитаю говорить скорее о равновесии сил, чем о равновесии могущества, то это потому, что силы легче поддаются измерению и исчислению, чем могущество. Однако если силы уравновешиваются приблизительно, то и степени могущества уравновешиваются столь же приблизительно. Ни одно государство не навязывает бесцеремонно свою волю другим, если не располагает ресурсами настолько превосходящими ресурсы соперников, что те заранее знают о бесполезности своего сопротивления.
1. Политика равновесия
Абстрактная теория равновесия изложена с величайшей простотой и убедительностью в небольшом очерке Юма, озаглавленном “О равновесии мощи” (“On the balance of power”).
В качестве исходного пункта Дэвид Юм берет вопрос: нова ли идея равновесия, или изобретена недавно лишь ее формулировка, а сам идея стара, как мир? Верна вторая часть альтернативы: “Во всей политике греков ясно просматривается обеспокоенность по поводу равновесия, и древние историки говорят об этом вполне определенно. Фукидид показывает, как всецело соответствует принципу равновесия союз, образовавшийся против Афин и вызвавший Пелопоннесскую войну. Когда Афины начали приходить в упадок и за суверенитет над Грецией стали бороться фиванцы и лакедемоняне, мы видим, что Афи180
Раймон Арон • Мир и война между народами
ны и многие республики всегда вставали на сторону слабейшего, чтобы сохранить равновесие”1.
Персидское царство действовало так же: “Персидский царь был на самом деле маленьким царьком по своей силе в сравнении с греческими республиками, и поэтому он участвовал в их раздорах, всякий раз поддерживая слабейшего ради собственной безопасности, а не по причине соперничества”. Преемники Александра опять-таки следовали все тому же самому принципу: “Они ревностно следили за равновесием мощи, основываясь на политических соображениях и подлинном чувстве осторожности, и это позволяло им сохранять в течение нескольких веков те разделы владений, которые они произвели после смерти знаменитого завоевателя”. В такую же систему входили и другие страны и народы, способные участвовать в войне. “В последующие времена мы видим, что восточные владыки рассматривали греков и македонцев как единственную реальную военную силу, с которой они могли иметь дело, и поэтому они всегда очень внимательно глядели на эту часть мира”.
Если древние слывут как люди, игнорировавшие политику равновесия, то причиной тому — удивительная история Римской империи. Фактически Рим оказался в состоянии подчинить себе одного за другим своих противников, поскольку те не были способны своевременно заключать между собой союзы, которые уберегли бы их. Филипп оставался нейтральным в своей Македонии вплоть до самых побед Ганнибала и тогда неосторожно вступил с победителем в союз, условия которого были еще более неосторожными. “Родосская и ахейская республики, Теория
мудрость которых хвалят историки Древнего мира, оказали помощь римлянам в их войне против Филиппа и Антиоха”. “Массинисса, Аттал, Прусиас, удовлетворяя личные устремления, были, все трое, инструментами римского величия; тем не менее их нельзя заподозрить в том, что они сами ковали собственные цепи, способствуя завоеваниям своего союзника”. Единственным царем в римской истории, который, по-видимому, понимал принцип равновесия, был сиракузский царь Шерон: “Нельзя, чтобы такая сила попала в чьито одни руки и соседние государства были бы совершено не способны защищать от нее свои права”. Такова самая простая формула равновесия: никогда и никакое государство не должно обладать такими силами, чтобы соседние государства оказались неспособными защитить от него свои права. Формула слишком проста, она основана на “здравом смысле и понимании очевидности” и поэтому не могла ускользнуть от внимания древних.
В соответствии с этим же принципом Дэвид Юм анализирует затем европейскую систему и соперничество между Францией и Англией. “Пришло новое могущество, еще более опасное для европейских свобод, потому что оно имело все преимущества старого могущества, но не имело его недостатков, за исключением некоторой доли ханжества и мании преследования, которые долго были и все еще остаются характерными для австрийского царствующего дома”. Англия находилась в первом ряду противников французской монархии, которая выиграла четыре войны из пяти, но, однако, не очень расширила свое господство и не обеспечила себе полной гегемонии в Европе. Сегодня нельзя без 1 Эта и последующие цитаты приведены нами по изданию 1754 г., вышедшему в Амстердаме.
Мир и война между народами • Раймон Арон , * 181
Часть I
улыбки читать критические высказывания Юма по поводу английской политики. “Нас больше вдохновляет дух ревностного состязания, свойственный древним грекам, а не требования осторожности, необходимые в сегодняшней политике”. Англия затягивала без всякой надобности войны, которые начинала правомерно и, быть может, по необходимости, но которые могла бы закончить гораздо раньше и на тех же условиях, что и достигнутые потом. Враждебность между Англией и Францией считалась бесспорной вещью, союзники Англии рассчитывали на ее силы, как на свои собственные, и проявляли при этом крайнюю нетерпимость и непримиримость, причем на Англию выпадали все издержки военных действий. Наконец, “мы ввязываемся в чужие распри с таким чистосердечием, что перестаем заботиться и о самих себе, и о наших будущих поколениях, и думаем только о том, какими способами мы можем причинить наибольший вред противнику”.
Чрезмерное воинственное рвение представляется Юму вещью пагубной изза неизбежных экономических жертв; оно кажется ему особенно опасным потому, что может когда-нибудь привести Англию к другой крайности, “сделав нас совершенно бесчувственными к судьбам Европы. Афиняне сначала были народом, самым большим любителем интриг и самым воинственным во всей Греции, а потом, когда они сочли, что ошибались, вмешиваясь в каждую ссору, они потеряли всякий интерес к иностранным делам и принимали участие в последующих войнах лишь в виде всяких любезностей и лести в адрес победителей”.
Дэвид Юм восхваляет политику равновесия, потому что он резко отрицательно относится к обширным империям: “Огромные монархии, такие, на которые, возможно, и Европа рискует быть разделенной, по всей вероятности разрушительны для человеческой природы — разрушительны в своих успехах, в длительности своего существования и даже в своем падении, которое в общем-то не очень далеко отстоит по времени от их возникновения”. А какие возражения могут быть против Римской империи? Дэвид Юм отвечает, что если Римская империя представляла собой определенное положительное явление, то это потому, что “до ее возникновения человечество в целом не знало никакого порядка и жило в нецивилизованных условиях”. Бесконечная экспансия какой-либо монархи — конкретно Юм имел в виду Бурбонов — создает сама по себе преграду на пути развития, возвышения человеческой природы. Мы не слишком упростим мысль Юма, если припишем ему противопоставление политикиравновесия и всеобщей монархии. Всеобщая монархия представлялась Юму столь же губительной, как она представлялась и Монтескье; государство неизбежно теряет свои добродетели, расширяя свою территорию, и поэтому разумной остается политика равновесия, основанная на историческом опыте и нравственных ценностях.
Упадок Рима начался, как отмечал Монтескье, когда огромная имперская территория сделала невозможной республику. Если монархия Бурбонов будет расширяться непомерно, дворянство откажется служить в далеких местах, в Венгрии или Литве оно также будет “забыто при дворе и принесено в жертву интригам всяких фаворитов и любовниц, окружающих государя”. Королю придется обратиться к наемникам, “и печальная судьба римских императоров будет, по той же самой причине, повто182
.• . Раймон Арон • Мир и война между народами
ряться снова и снова вплоть до окончательного распада монархии”.
Политика равновесия исходит из правила здравого смысла, из осторожности, необходимой государствам, стремящимся сохранить свою независимость и не оказаться во власти какой-нибудь державы, располагающей мощными силами и средствами. Правда, она представляется достойной осуждения тем государственным деятелям и теоретикам, которые усматривают выражение людской злобы в открытом или тайном применении силы, что порою выливается в прямое насилие. Однако таким критикам надо было хотя бы представить себе в воображении правовой или духовный заменитель равновесия автономных воль. С другой стороны, та же самая политика равновесия считается нравственной или, по меньшей мере, исторически оправданной теми, кто страшится всеобщей монархии и желает выживания и сохранения независимых государств. И напротив, она расценивается если не как аморальная, то во всяком случае как анархистская теми, кто, рассматривая какое-нибудь данное пространство и данное время, предпочитает имперское единство многочисленным суверенитетам. Если наблюдатель не догматик, то он будет выступать, в зависимости от обстоятельств, за равновесие или за империю, поскольку совершенно невероятно, чтобы оптимальные размеры государственной территории (оптимальные для кого и для чего?) были одинаковы во все времена.
Рассуждая на самом высоком уровне абстрагирования, политика равновесия сводится к маневру, направленному на то, чтобы не позволить какому-либо Теория
государству аккумулировать силы, превосходящие силы его соперников, объединившихся в коалицию. Всякое государство, желающее сохранить равновесие, выступит против государства или коалиции, которое или которая покажется ему способным (способной) обеспечить себе такое превосходство. Это общее правило применимо ко всем международным системам. Однако, если хотят разработать конкретные правила политики равновесия, надо иметь перед собой модели систем, основанные на конфигурации соотношения сил.
Двумя наиболее типичными моделями служат те, которые я назвал многополюсными1 и двухполюсными: либо основные действующие лица, чьи силы не слишком разнятся между собой, довольно многочисленны; либо, напротив, имеются два действующих лица, которые доминируют над своими соперниками до такой степени, что каждое из этих двух становится центром своей коалиции, а второстепенные действующие лица вынуждены определиться по отношению к обоим “блокам”, то есть войти в тот или другой, если только у них не найдется шансов остаться в стороне. Возможны и промежуточные модели в зависимости от числа основных действующих лиц и степени равенства или неравенства сил у каждого из них.
2. Политика
многополюсного равновесия
Представим себе международную систему, как множество соперничающих 1 Обычно авторы именуют “равновесием мощи” (balance of power) системы, которые я называю многополюсными.
Мир и война между народами • Раймон Арон
183
Часть I
государств, чьи ресурсы, не будучи равными, все же не создают естественного диспаритета, — например, Франция, Германия, Россия, Англия, Австро-Венгрия, Италия в 1910 г. Если эти государства хотели поддерживать равновесие, они должны были соблюдать некоторые правила, вытекающие из отказа от всеобщей монархии.
Возможны случаи, когда противником сообщества является, по определению, государство, способное господствовать над другими. В этом случае победитель в какой-либо войне (тот, кто извлек из нее больше всего преимуществ и выгод) немедленно становится подозрительным для своих вчерашних союзников. Иначе говоря, дружба и неприязнь суть вещи по преимуществу временные, ибо они определяются соотношением сил. В соответствии с той же схемой рассуждений, государство, чьи силы растут, всегда должно учитывать возможную измену некоторых своих союзников, которые могут перейти в другой лагерь, чтобы восстановить равновесие. А так как такие самозащитные реакции поддаются предвидению, государство, силы которого возрастают, поступит мудро, поубавит амбиции, если только, конечно, оно не жаждет стать гегемоном или превратиться в империю. Если же оно все-таки стремится к гегемонии, то, оказавшись возмутителем спокойствия, должно быть готово к враждебному отношению к себе со стороны всех более консервативных государств.
Можно ли пойти дальше этих общих мест и, прямо скажем, банальностей и перечислить более определенные правила, придерживаться которых было бы разумно действующим участникам многополюсной системы (лишний раз поясним, что речь идет о гипотетической разумности и рациональности, когда исходным является постулат, что действующие фигуры желают сохранять и поддерживать систему)? Американский автор Мортон А. Каплан1 сформулировал шесть правил, необходимых и достаточных для функционирования некоей схематичной системы, названной им баланс сил (balance of power) и которая, как мне кажется, соответствует тому, о чем мы сейчас говорим.
Эти шесть правил таковы:
1) каждый актор в этой схеме должен действовать так, чтобы увеличивать свои способности (capabilities), но при этом предпочитать переговоры войне;
2) для каждого актора, в случае необходимости, на первом плане стоит война ради увеличения своих способностей;
3) актор должен скорее прекратить войну, нежели привести дело к устранению “главного национального участника системы”1 2;
4) необходимо акторам системы действовать так, чтобы помешать любой коалиции или какому-либо отдельному государству, если она или оно стремятся занять господствующее положение по отношению к остальным участникам системы;
5) каждое государство должно действовать так, чтобы сдерживать (constrain) других участников системы, тяготеющих к наднациональному принципу организации;
1 Morton A Kaplan System and process In international politics New York. 1957, p 23 sqq
2 Главного национального участника в такой системе обычно называют “великой державой", или государством, которое располагает силами, достаточными для того, чтобы это государство было одним из основных элементов системы равновесия
184
Раймон Арон • Мир и война между народами
6) требуется давать возможность национальным участникам системы, побежденным или принужденным к чему-либо, возвращаться в систему в качестве приемлемых партнеров. Также желательно содействовать переходу ранее маловажного участника в категорию важного. Все важные действующие фигуры в системе должны расцениваться как приемлемые партнеры.
Из этих шести правил одно надо выделить сразу — четвертое правило, представляющее собой простое выражение принципа равновесия, применимого для всех международных систем; мы уже обратили на него внимание, разбирая очерк Дэвида Юма. Никакое из остальных правил, если их воспринимать буквально, не выступает с такой очевидной ясностью и так обобщенно.
Первое — предписывает всем акторам увеличивать как можно больше свои способности (ресурсы, средства, силы) — по отношению ко всякой системе, определяемой как борьба всех против всех1. Поскольку каждый рассчитывает здесь лишь на самого себя, всякое увеличение ресурсов есть само по себе благо, но при условии, что вокруг данного государства ничего не меняется. Однако очень редко какое-нибудь государство увеличивает свои ресурсы, и при этом не меняются либо ресурсы или их роль у его союзников или соперников, либо отношение к нему со стороны тех и других. А то, что переговоры предпочтительнее, чем война, так это можно считать постулатом разумной политики наподобие постулата о наименьших усилиях для достижения заданного экономического результата (в производстве или в доходах). Однако тут еще требуется, чтобы дейТеория
ствующие лица пренебрегли соображениями самолюбия или славы.
Вопрос о том. что нужно ли воевать, чтобы увеличить свои “способности”, нерационален. Конечно, говоря абстрактно и при всех прочих равных условиях, любой действующий на международной сцене персонаж хочет обладать максимумом способностей. Но если ктонибудь постарается определить, при каких же обстоятельствах государству рационально воевать, то дело сведется к формулам, почти лишенным значения. Они примерно выглядят так: государство должно быть инициатором войны, если ожидаемые им выгоды от победы превышают вероятные издержки и потери, причем расхождение должно быть тем более значительным, чем больше имеется риска не достичь победы или даже потерпеть поражение. Но какую бы точную формулу такого рода ни избрать, шанс увеличить свои способности недостаточен, чтобы оправдать обращение к оружию.
Авторы-классики допускали в качестве разумного и законного мотива инициировать войны лишь угрозу гегемонии со стороны соперника, вызванную ростом его могущества. А пассивно созерцать восхождение какого-либо государства до уровня превосходства, так что его соседи оказываются в его власти, — в этом нет ничего аморального, но есть много рискованного.
Третье и шестое правила несколько противоречат друг другу или, по меньшей мере, иллюстрируют разнохарактерные возможные случаи. В системе многополюсного равновесия мудрый государственный деятель не решится устранить одного из основных участников 1 См.: 1Ыс1., р. 23.
Мир и война между народами • Раймон Арон
185 -
Часть I
системы. В своем движении к победе он не идет до конца, если опасается, что, продолжая войну, ликвидирует временного противника, который необходим для равновесия системы. Но если устранение одного из действующих лиц повлечет за собой, прямо или косвенно, выход на сцену другого и эквивалентного участника, он попробует выяснить для себя, кто из них больше отвечает его собственным интересам.
Правило пятое равноценно принципу: всякое государство, которое, в той или иной системе, придерживается наднациональной идеологи любого сорта и действует согласно соответствующим ей принципам, уже тем самым является противником. Такой подход не обязательно должен быть строго сопряжен с идеальной моделью многополюсного равновесия. Конечно, поскольку равновесие этого типа обычно проявляется в соперничестве государств, когда каждое действует в одиночку и заботится исключительно о собственных интересах, то государство, рекрутирующее сторонников по ту сторону своих границ, потому что оно, дескать, есть носитель универсальной доктрины, становится, ввиду самого этого факта, угрозой для других. Но из неизбежной неприязни между национальными государствами и государством-носителем транснациональной идеи вовсе не следует умозаключения, что первые обязательно должны развязать войну против второго: все зависит от соотношения сил и от степени вероятности того, что обольщение транснациональной идеей будет устранено или хотя бы уменьшено силой оружия.
Говоря обобщенно, все эти правила неявно, имплицитно предполагают, что сохранение равновесия и самой системы есть единственная цель или, по меньшей мере, главная забота государств. А между тем это совсем не так. Единственным государством, действующим более или менее осознанно в соответствии с такой целью и заботой, можно было бы считать Англию, которая и в самом деле не имела иного интереса, кроме как поддерживать систему равновесия как таковую и ослаблять, в каждую эпоху, наиболее сильное государство. способное стремиться к гегемонии. Ни одно из континентальных государств не было и не могло быть столь же безразличным к частностям и оттенкам равновесия, даже если оно и не стремилось к господству. Владение крепостями и провинциями, очертания границ, распределение ресурсов — таковы были ставки в конфликтах, разрешать которые в свою пользу желало каждое из континентальных государств. А то обстоятельство, что ради достижения своих целей они были готовы устранить когонибудь из главных соперников, не представляло собой иррационального поведения, поскольку и при таком обороте дела вполне возможно было воссоздать систему в несколько ином виде. Предположения по устранению Германии как главного актора в европейских конфликтах путем разделения ее на две и более Германий, не считались иррациональными со стороны французской политики, которая усилила тем самым свои собственные позиции, не настаивая на сокращении при этом опасным образом числа основных государств, действующих в Европе.
Чисто национальная политика европейских государств охватывает сравнительно небольшой период времени между религиозными войнами и войнами Французской революции. Прекращение религиозных войн было не результатом объявления их вне закона или Раймон Арон • Мир и война между народами
полного разгрома государств—носителей транснациональной идеи, а путем утверждения примата государства над индивидом. Государство само стало определять ту церковь, к которой должны принадлежать индивиды, пусть даже и не по искренней вере; государство могло даже терпеть диссидентов, но при условии, что их религиозный выбор будет оставаться сугубо частным делом каждого. Мир в Европе XVII в. был достигнут комплексной дипломатией, которая восстановила равновесие государств и не позволяла, чтобы распри между церквями и верами подданных наносили ущерб этому равновесию. Суверены вернулись от обстановки “идеологической войны” к обстановке “Священного союза”: всякий мятеж против существующей власти, достойный сожаления сам по себе, резко осуждался даже правительствами и правителями соперничающих государств. Стабильность властей ценилась выше ослабления какого-либо государства, пусть и потенциального противника, из-за внутренних расколов и мятежей.
Может быть, автор, тезисы которого мы сейчас обсуждаем, согласился бы с приведенными замечаниями и уточнениями. Сформулированные им шесть правил таковы, что их придерживались бы рационально ведущие себя действующие фигуры и притом в многополюсной системе (balance of power) идеального типа. Но даже если и допустить, что эти правила пригодны для идеальной системы, я волей-неволей не могу их принять и признать. Поведение “чистпого дипломата” не может и не должно определяться единственно соображениями равновесия, поскольку само это равновесие предполагает отказ от всеобщей монархии и множественность основных Теория
акторов событий. Поведение экономических субъектов теоретически действительно определяется типическим рынком, потому что каждый стремится реализовать свой товар и при этом максимизировать выгоду. Но цель поведения дипломатических субъектов в системе многополюсного равновесия не однозначна: при всех прочих равных условиях каждый субъект в данном случае тоже, конечно, желает иметь максимум ресурсов, но если увеличение ресурсов требует борьбы или опрокидывает альянсы, он еще будет решать, брать или не брать на себя риск. Сохранение определенной системы предполагает ее поддержку основными участниками, но каждый из них не считает себя обязанным рассматривать функционирование системы как нечто, стоящее выше тех или иных его собственных интересов. Даже молчаливо признавать, что государства имеют основной целью сохранение системы, означает возвращаться, пусть и окольным путем, к ошибке некоторых теоретиков политики могущества, то есть путать между собой, с одной стороны, расчет сил и средств, то есть контекст, в котором принимаются решения, а с другой — саму цель.
Невозможно предвидеть дипломатические события, исходя из анализа той или иной типической системы, или диктовать властям поведение, которое было бы функционально зависимо от типа системы. Модель многополюсного равновесия помогает понимать исторически реализованные системы, а правила, которые мы взяли у американского автора, предполагают наличие обстоятельств, благоприятствующих д лительному существованию одной из таких систем.
Строго “национальные” государства считают друг друга соперниками, но не Мир и война между народами • Раймон Арон
- 187
Часть I
смертельными врагами; их правители не думают, что им лично угрожают власти соседних государств; всякое государство есть для любого другого возможный союзник, сегодняшний противник заслуживает пощады, потому что завтра он может стать партнером или уже сейчас необходим для равновесия системы. Дипломатия в такой системе реалистична, порою даже цинична, но она всегда умеренна и рассудительна. Поэтому, когда в один прекрасный день возникает, как буря, как трагедия, дипломатия совсем другого толка, то та, прежняя, мудрая и без иллюзий, ретроспективно кажется не просто идеальным типом, но и самим идеалом.
Дипломатия, именуемая реалистичной, которая подходит для системы многополюсного равновесия, не отвечает другим требованиям — “высоким требованиям философов”. Государство, покидающее на следующий день после победы один лагерь и переходящее в другой, вызывает горечь и злость у его союзников, которые порой приносили больше жертв, чем оно, ради общей победы. Чистая дипломатия равновесия игнорирует и должна игнорировать всякие чувства, у нее нет ни друзей, ни врагов как таковых, она не делит государства на те, что лучше или хуже других, и не осуждает войну саму по себе. Она допускает эгоизм или, если угодно, нравственную коррупцию государств (стремление к могуществу и славе), но эта расчетливая коррупция в конце концов менее непредсказуема и менее опасна, чем страсти — быть может, и идеалистские, но слепые.
Вплоть до 1945 г. дипломатия Соединенных Штатов была антиподом этой традиционной и осторожной безнравственности. США хорошо помнили две большие войны в своей истории — против индейцев и гражданскую. Противником в этих случаях не выступало государство, с которым, по окончании военных действий, могли бы возобновиться отношения мирного сосуществования. Дипломатические действия, союзы и конфликты не казались существенными факторами обычной жизни штатов: война была неблагодарной необходимостью, с ней надо было смириться и выполнить задачу, поставленную обстоятельствами, как можно лучше и как можно быстрее, но война не заслуживала даже роли эпизода в непрерывной истории страны. Поэтому американская общественность мало думала о прошлом и о будущем, когда начиналась война. Враг был виновен, он заслуживал наказания, он подлежал перевоспитанию. И тогда снова воцарится мир.
Вынужденные после 1945 г. заняться пересмотром альянсов, США подались искушению, по примеру генерала Макартура, объявить, что они несколько ранее плохо распределили роли и заслуги между странами, поскольку Китай — а они этого и не заметили — перешел на “плохую” сторону баррикады, а Япония — на “хорошую”. Но если противник всегда есть воплощение зла, а альянсы порою перестраиваются и перекраиваются, то, значит, добро и зло тоже перевоплощаются друг в друга. Согласно Макиавелли, на протяжении истории роль добродетельного переходила от одного народа к другому. Творцы морализирующей дипломатии считают, что подобные миграции совершает самая настоящая добродетель, а не макиавеллевская.
Ненавистная и восхитительная зловещая или драгоценная, но дипломатия равновесия воцаряется не в результате 188 <
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
обдуманных решений государственных деятелей, а в силу обстоятельств.
Географическая сцена, внутреннее устройство и организация государств, военная техника должны мешать концентрации силы у одного или двух из них. Множественность государств, располагающих взаимно сопоставимыми ресурсами, — такова структурная характеристика многополюсной системы. И в Древней Греции, и в Европе географическая сцена не была противопоказана независимости городов-полисов и королевств. Когда политическим сообществом был город, множественность автономных центров принятия решений была неизбежной. Когда мы констатируем, говоря словами Юма, “малое число жителей в каждой республике в сравнении с числом самих республик: большую трудность устраивать долгую осаду укрепленных мест в те времена и, наконец, необычайную храбрость и дисциплину каждого свободного человека”, мы должны сделать вывод, что поддерживать равновесие было тогда сравнительно легко, а навязать империю — трудно. В Европе, когда там кончилась эпоха размытых суверенитетов Средневековья, Великобритания, а затем Россия создали непреодолимую преграду на пути ко всеобщей монархии. Принцип государственной легитимности — династической или национальной — не оправдывал безграничных амбиций. Между XVI и XX веками европейские армии не были оснащены для обширных завоеваний: солдаты Наполеона шли от границы к Москве пешком. С увеличением расстояния они слабели быстрее, чем солдаты Александра.
Забота о сохранении равновесия в системе тем более вдохновляла дипломатию, что сами люди — правители и управляемые — очень дорожили независимостью политического сообщества, к которому они принадлежали. Греческие граждане не отделяли личной свободы от свободы своего города. Все вместе они защищали цивилизацию свободных людей от персидского царства, основанного по их мнению, на деспотизме одного человека. А воюя друг с другом, они защищали автономию своих городов. Французская монархия, первая, страстно возжелала полной независимости и не менее страстно отвергла даже возможность подчинения империи. Народы желали независимости, выражением которой было национальное государство. Это желание государственной независимости, абсолютного суверенитета, несовместимо с тенденцией к идеологической дипломатии. Независимые государства поддерживают своего рода межгосударственную однородность вопреки всем конфликтам, связанным с какой-либо верой религиозного толка или идеей. Такое государство в системе способствует “интериоризации”, принимает правила равновесия, которые перестают выступать как простые рекомендации проявлять осторожность и становятся нравственными императивами и нормами, порожденные обычаем. Сохранение равновесия превращается в совместную обязанность государственных деятелей. Европейский концерт преобразуется в орган арбитража, общих обсуждений даже коллективных решений.
Нужно еще, чтобы перемены в соотношении сил не совершались слишком быстро. Какова бы ни были степень пассивности и безразличия масс, лучше все-таки, чтобы изменения и перекройки альянсов не производились через два дня на третий. Как бы ни были разумны государственные деятели, луч-
Мир и война между народами • Раймон Арон
189
Часть I
■> я»ед»»едед»»едед»*>ед едедедедедх ед »»ед ед» " ед:ед»>ед»едедед» едеде»ед>ед»-»»-ед»» <ед~<.ул»едед<медед>
ше, чтобы перемещения ресурсов не приводили к тому, что вчерашние расчеты сегодня будут выглядеть совершенно ошибочными. Многополюсная система функционирует лучше, когда акторы известны, а соотношение сил более или менее стабилизировано. Ни одного из этих условий, взятого отдельно, не достаточно, чтобы гарантировать существование и выживание многополюсной системы. Стремление к независимости порой кончается тем, что его заносят куда-то не туда бурные транснациональные страсти. Забота о совместной, общей системе не может устоять перед ярко выраженной разнородностью. Все участники системы в этих случаях перестают быть друг для друга приемлемыми партнерами, если их народы разделены между собой некими воспоминаниями, которые они отказываются забыть, или же страданиями от незаживающих ран. После 1871 г. Франция не могла быть союзником Германии, даже если бы расчеты и подсчеты, касающиеся равновесия, показывали, что такой союз рационален.
Перед 1914 г. рост могущества рейха и непримиримое противостояние между Германией и Францией способствовали трансформации системы: альянсы приобрели тенденцию стать постоянными, кристаллизироваться в “блоки”. В межвоенный период транснациональные идеологии коммунизма, а затем фашизма сделали систему настолько разнородной, что понимание общего интереса в ее поддержании исчезло полностью: партийные распри внутри государств накладывались на распри межгосударственные и усиливали их. Революция в военном деле, благодаря массовому внедрению моторизованной техники, открывала, по всей видимости, путь к большим завоеваниям. В то время теоретики с ностальгией вспоминали дипломатию Ришелье. Мазарини, Талейрана.
В эпоху своего расцвета система многополюсного равновесия была историческим компромиссом между естественным состояниеми господством закона. Состояние оставалось естественным, потому что сильнейший был противником до тех пор, пока он оставался сильнейшим, и потому что каждое государство в конечном итоге являлось судьей самому себе в том, что касается его поведения, и оставляло за собой право выбора между миром и войной. Но такое естественное состояниеуже не было борьбой всех против всех без правил и без пределов. Государства признавали друг за другом право на существование, они хотели и знали, что хотят сохранять равновесие и даже определенную солидарность между собой по отношению к внешнему миру. Греческие города понимали свое глубокое родство и в то же время “чужестранность” варваров1 . А в глазах азиатов европейские завоеватели создавали впечатление, что они едины как “агрессивный блок”, а не конкурируют между собой.
Такое промежуточное решение между естественным состоянием и господ-
1 “Европа образует политическую систему, как бы единое тело, где все связано взаимоотношениями и всяческими интересами народов, живущих в этой части мира Это уже не беспорядочное скопище отдельных частей, каждая из которых мало интересуется судьбой других и редко вмешивается в дела, непосредственно ее не затрагивающие Постоянное внимание суверенов к происходящим событиям, обмены посланниками, множество всяких приглашений делают из нынешней Европы своего рода республику, члены которой, независимые, но связанные общим интересом, объединяются, чтобы поддерживать в ней порядок и свободу” (Vattel, op cit , llv III, chap III parag 47)
190 Раймон Арон • Мир и война между народами
ством закона (или если сказать иначе, между жизнью по волчьим законам и всеобщей монархией) по сути своей непрочно. Теоретически оно дает суверенам свободу военной инициативы, если таковая представляется им необходимой, чтобы помешать усилению опасного соперника. Равновесие есть скорее императив осторожности, чем общее благо системы, и если войны ради ослабления сильнейших случаются часто, то система становится бесплодной, дорогостоящей, отвратительной. Риск прихода к такому плачевному состоянию тем более велик, когда государства в системе начинают плохо различать между собой две задачи — “ослаблять сильнейших” и “унижать гордых”. По какой причине греческие города так часто воевали между собой — из желания безопасности или из гордыни доминирования? Чем вдохновлялась дипломатия Людовика XIV — заботой о безопасности или любовью к славе? Одно время кабинетная дипломатия, к которой весьма снисходительно и даже с симпатией относятся сегодняшние теоретики-реалисты, сурово осуждалась историками, обвинявшими королей и их воинские деяния за то, что те вели войны, которые квалифицировались этими историками, справедливо или несправедливо, как войны ради престижа. Быть может, европейская система равновесия и ограничивала (в некоторые эпохи) жестокость и насилие в войнах, но она никогда не уменьшала частоту их возникновения.
Будучи непрочной, такая система постоянно стоит перед возможностью перерождения либо возвращаясь к волчьему закону, или закону джунглей, или же в направлении ко “всеобщей империи”, или к “правовому порядку”. Теория
Осознание общности государств в пределах одной цивилизации и в то же время постоянное соперничество по сути дела противоречивые явления. Если у какого-либо государства начинает преобладать чувство соперничества, то огонь войны всегда находит подпитку, а кабинетная дипломатия почти или совсем исчезает. Если же государства объединяет чувство культурной общности, тогда становится могучей тенденция к государственной унификации и организованному миру. Почему бы грекам, вместо того, чтобы использовать друг против друга силу оружия, не применять ее сообща, чтобы одолеть и добить Персидское царство? Почему бы европейцам совместно не владычествовать в Африке и Азии, вместо того, чтобы предаваться саморазрушению в братоубийственных войнах?
Заметим, что таки вопросы, в историческом аспекте, ставились уже после того, как дело было сделано. Филипп, Александр и их последователи и почитатели проводили параллель между потерей автономии городами и неким величием, которое Древняя Греция, будучи единой, могла бы обеспечить себе сама. После 1918 г. Валери констатировал, что в конечном итоге европейская политика, по всей видимости, привела к тому, что управление старым континентом было передоверено американцам. Фактически европейцы всегда бросали основную часть своих сил на войны друг против друга. И если французы посылали большие армии за моря и океаны, то это бывало тогда, когда они тщетно боролись против всяческих национализмов в последних своих колониях, то есть когда они теряли, а не строили свою империю.
Мир и война между народами • Раймон Арон л
191
Часть I
Впрочем, можно понять, почему такое восприятие событий начинает видеться в истинном свете лишь задним числом. Государства боятся соперников, народы опасаются соседей, те и другие гораздо больше хотят господствовать над близкими и ближними народами, чем властвовать на далеких землях над чужим населением. Огромные империи испанцев и англичан, хотя их создание и приписывают авантюрному духу, страсти к наживе, пристрастию к золоту, жажде могущества, реальным условием формирования имели свое подавляющее военное превосходство. Когда же такого превосходства нет, войны чаще всего ведутся в пределах одной и той же цивилизационной сферы. Китайцы и японцы, как и европейцы, прежде всего боролись между собой, в пределах определенной цивилизации.
Наверное, было бы гуманно, но теперь уже совершенно бесполезно — культивировать ностальгию по дипломатии былых времен, аморальной и умеренной дипломатии. Такая ностальгия ретроспективна. Те, кто сожалеет о времени, когда дипломаты оставались безразличны ко всяким новым идеям, теперь, безусловно, живут в разнородной системе и в век идеологических конфликтов. Те, кто восхищается хрупкой комбинацией национального эгоизма и сохранения равновесия, являются современниками и свидетелями неугасающей борьбы между кандидатами на империю, между верованиями и убеждениями, временными и сугубо умозрительными, но неотделимыми от борющихся между собой государств. Те, кто умиляется непрочными сочетаниями, ставшими возможными благодаря множественности действующих лиц, видят теперь, что дипломатическое поле занято прочно сколоченными блоками.
Люди, включая и государственных деятелей, не вольны определять расстановку сил и характер, идеологизированный или нейтральный, дипломатии. Лучше стараться понять разнообразие миров, чем грезить о мире, которого больше нет, — грезить лишь потому, что мир, который есть, не вызывает ни симпатии, ни любви.
3. Политика двухполюсного равновесия
Я называю двухполюснойтакую конфигурацию соотношения сил, в которой большинство политических сообществ группируются вокруг двух из них, чьи силы превосходят силы остальных. Наблюдатель видит разницу между многополюсной и двухполюсной конфигурациями из-за разных последствий — как логических, так и исторических, — которые влечет за собой каждая из этих конфигураций.
Какова бы ни была эта конфигурация, самый общий закон равновесия един: цель основных участников системы — не оказаться во власти соперника. Но поскольку игру ведут обе сверхдержавы, а малые государства, даже объединившись, не могут стать равновесными по отношению ни к одной из них, то принцип равновесия применяется в отношениях между коалициями, образованными, каждая, вокруг своего главного игрока. Каждая коалиция ставит перед собой высшей целью не позволить другой коалиции располагать превосходящими силами и средствами.
192
- • • Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
В такой системе имеются три категории участников (а не только и не просто “малые" и “великие” страны): два лидера коалиций; государства, обязанные участвовать в каждой из коалиций или содействовать ей; наконец, государства, которые могут и хотят оставаться вне всяких противостояний и конфликтов. Эти три категории акторов руководствуются разными правилами.
Лидеры коалиций должны следить за тем, чтобы не допускать роста другой сверхдержавы или ее коалиции и одновременно поддерживать сплоченность и единение стран своего лагеря. Обе задачи взаимосвязаны множеством способов и проявлений. Если один из союзников переходит в другой лагерь или занимает позицию нейтралитета, соотношение сил меняется. На самом абстрактном уровне рассуждений можно сказать, что средства, используемые лидером для поддержания сплоченности руководимой им коалиции, делятся на два вида: одни направлены на защиту, другие на наказание. Первые дают преимущества и льготы союзникам, вторые угрожают санкциями раскольникам и предателям. Рациональное использование этих средств зависит от многих обстоятельств: государству, страшащемуся коалиции противника, своя сверхдержава гарантирует помощь, то есть обеспечивает ему безопасность; тому, кому нечего бояться, лидер предлагает финансовые выгоды; он пытается устрашить того, кого не удается ни обольстить, ни убедить.
Фукидид задавался вопросом, в какой мере Афины ответственны за распад руководимого ими союза, из-за чего одно их поражение следовало за другим. Союз, теоретически образованный из равноправных городов, превратился в своего рода империю, управляемую хозяином, чья рука была тяжела и который требовал выплаты дани. Греческий историк полагал, что сильнейший всегда склонен злоупотребить своей силой. Но сегодняшний историк, помимо этого вечного психологического мотива, мог бы дать повествованию Фукидида и другие толкования. Союз “островных держав” не сохраняет сам по себе свою сплоченность после того, как внешняя опасность миновала. Союз равных городов должен был бы проявлять полнейшее миролюбие и не преследовать иных целей, кроме безопасности и свободы своих членов. И если Афины встали на путь империализма, они обрекли самих себя быть жестокими и стать жертвой жестокости. Никто не может устоять перед силой, которая требует рабской покорности.
Политические сообщества, вошедшие по призванию или по необходимости, в тот или другой блок, тоже действуют, исходя из двух соображений: бывает, что интересы коалиции и их собственные совпадают, однако интересы коалиции не безупречно соответствуют их интересам. Вернемся мысленно к альянсам в многополюсной системе: там каждый из основных участников, объединившихся между собой на временной основе, беспокоится по поводу роста могущества своего главного союзника (или своих главных союзников), хотя противник (или противники) не побежден (или еще не побеждены все противники). Выгоды и преимущества в результате общей победы никогда не распределяются справедливо среди победителей: вес государства больше определяется его наличными силами в момент переговоров о мире, чем его заслугами и доблестями в ходе военных действий (такое “реалистичное” соображение вызМир и война между народами • Раймон Арон
193
Часть I
вало скандал во Франции, когда англосаксы высказали его в 1918 г.). Соперничество между союзниками не имеет такого же характера в двухполюсной системе. Чем более четко выражена соответствующая конфигурация, тем больше обе сверхдержавы берут верх над своими партнерами и тем больше альянсы приобретают тенденцию становиться постоянными. Всякое второстепенное государство, будучи членом постоянного альянса, противостоящего другому альянсу, тоже постоянному, имеет своим высшим интересом безопасность или победу того союза, к которому оно принадлежит, если, конечно, оно присоединяется к этому союзу добровольно. При таком положении легче смириться с ростом могущества своих партнеров-соперников. Все повествование Фукидида многократно показывает нам, что Афины вызывали боязнь и опасения у своих союзников. Второстепенные государства чувствовали бы себя солидарными и прочно соединенными со своим “блоком” (его успех есть мой успех), если бы судьба каждого из них не подвергалась риску и не терпела ущерба от сил партнеров и если бы лидер союза был для его членов в чистейшем виде, защитником и арбитром. Но это, так сказать, предельный случай, то есть скоре теоретический.
А поскольку мир таков, каков он есть, каждое политическое сообщество старается повернуть политику альянса в сторону своих собственных интересов и выделить как можно больше союзных сил для решения своих задач. В 1959 г. французские дипломаты понимали под общей политикой атлантического блока поддержку англо-саксами усмирения Алжира, для чего Франция выделила основную часть своей армии, а вклад в создание натовского щита свела к минимуму. Трудности коалиционной дипломатии и стратегии, хотя они и несколько смягчаются в устойчивых союзах, сцементированных общей идеологией или общей внешней угрозой, тем не менее всегда по сути своей одинаковы: различные способы и виды маневрирования, войны, победы — не дают одинаковых преимуществ всем партнерам. Даже если бы последние пришли к полному согласию по поводу оценки риска и шансов — что невозможно из-за неопределенности оценок, — у них нашлись бы мотивы спорить между собой. Это вызвано тем, что возможные дипломатические и стратегические методы и ходы влекут для союзников, даже откровенных союзников, неравное распределение как непосредственных издержек, так возможных выгод и преимуществ.
Что касается неприсоединившихся стран, то ими оказываются прежде всего политические сообщества, внешние по отношению к системе. У них чаще всего нет оснований выступать на стороне одной или другой коалиции, и они могут даже выиграть от войны ввиду ослабления воюющих групп. В обоих случаях государство, внешнее для системы, поступает в конце концов по собственному расчету, а именно: либо оно приходит к выводу, что победа одного из лагерей даст ему больше выгод, чем оно понесет издержек, оказывая помощь, необходимую для обеспечения этой победы; либо оно опасается победы чуждого ему лагеря, которая представляется ему вероятной, если оно само будет оставаться пассивным. Этот последний случай как раз и представляет собой возможную мотивацию американского вмешательства в 1917 г. (что не исключает и других причин этого вме-
194
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
шательства). Быть может, вмешательство персов в конце Пелопоннесской войны относится к первому случаю.
Если же говорить о государствах, находящихся, территориально, внутри системы, то их выбор — принять чьюлибо сторону или оставаться нейтральными — зависит главным образом, если предположить, что нейтралитета хотят в общем все такие государства, от той степени безопасности, которую может обеспечить им одиночество. Двумя решающими факторами при этом выступают географическое положение и собственные ресурсы малых государств. Отнюдь не случайно, что в 1949 г., когда был заключен Атлантический пакт, Швейцария и Швеция, не присоединившиеся к нему, располагали наиболее сильными армиями на континенте по западную сторону железного занавеса. И напротив, как пишет Тибодэ, комментируя Фукидида, морская держава не может терпеть нейтралитета ни одного из островов.
Многополюсная и двухполюсная конфигурации не радикально противоположны. В крайних случаях каждое из основных действующих лиц может быть и противником и возможным партнером всех остальных. На противоположном полюсе имеются лишь два противника по положению и позициям, если даже они и не являются идейными врагами. В первом случае альянсы сугубо временны, во втором — длительны; в первом — союзники не имеют и не признают никакого лидера; во втором — все политические сообщества, за исключением двух ведущих игроков, подчиняются воле лидера. В первом — немало сообществ остаются вне альянсов, во втором — все сообщества волей-неволей поддерживают того или другого лидера и вступают в тот или другой блок.
Конечно, можно представить промежуточные конфигурации, которые даже более часто реализуются в действительности, чем типы отношений в чистом виде. Даже в однородной многополюсной системе тот или иной ее участник редко может быть союзником с каким угодно другим действующим лицом или противостоять ему. Наличные ставки (судьба провинции, линия границы) не позволяют сближаться тем государствам, для которых по рациональному расчету это было бы целесообразно. Даже в системе со многими основными участниками один или два из них берут верх над другими. Если развязывается всеобщая война между двумя альянсами, то каждая группа стран находится под более значительным влиянием какой-либо одной из них, чем всех остальных. Иначе говоря, когда вспыхивает всеобщая война, конфигурация многополюсная сама по себе приобретает тенденцию приблизиться к двухполюсной. Поэтому Тибодэ и Тойнби не замедлили сравнить войну 1914—1918 гг. с Пелопоннесской войной, хотя европейская система перед 1914 г. была еще многополюсной. Приводились сравнения таких фактов, как расширение конфликта, все больше охватывающего все государства системы и создание враждебных друг другу союзов: один — во главе с островной державой, другой, руководимый континентальной державой. Примеры этому — Афины и Спарта, Англия и Германия. С тех пор комментаторы ссылались на Фукидида, делая упор на двухполюсной конфигурации, потому что мир после 1945 г. предстает именно в таком виде. Но, что вполне очевидно, греческая система отличается по природе и характеру от системы нынешней, точно так же, как превос-
Мир и война между народами • Раймон Арон * v > л <■? > >f » 195 -
Часть I
Л.чь «г.-л-.Ч--У У < X 4 ■■:•■ X .-■. г. у.- л уг <■ ■■ <.' Х< У У> уе г-ФХ*
ходство Афин и Спарты над другими городами — это явление иного рода, чем главенство в мире обеих сегодняшних сверхдержав.
Поэтому речь идет не о том, чтобы сформулировать законы, по которым функционирует и эволюционирует двухполюсная система. Геометрия дипломатических отношений сопоставима со схемами битв, разработанных немецкими военными теоретиками (охват с обоих флангов: сражение при Каннах; прорыв на одном из флангов: битва под Лейтеном и т. д.). Однако дипломатических конфигураций, как и схем сражений, не так уж много, потому что способы распределения сил в той или иной системе и передвижения войск сводятся к немногим типическим моделям. Поэтому теория моделей не дает возможности стратегу заранее и достоверно знать, какой маневр он должен совершить. А историку — во что превратится какая-либо данная система, многополюсная или двухполюсная.
Самое больше, что явно можно сделать, это заметить и отметить некоторые структурные черты двухполюсной системы. Она, быть может, как таковая менее устойчива и более воинственна, чем многополюсная система, а также более сопряжена с угрозой всеобщей и разрушительной войны. В самом деле, если все политические сообщества принадлежат к тому или другому лагерю, то любой локальный конфликт так или иначе затрагивает всю систему. Равновесие между обоими лагерями колеблется из-за поведения многочисленных малых сообществ. Ввиду отсутствия “третьего” обе сверхдержавы находятся в вечном противостоянии, непосредственно или через посредство своих или не своих людей. Чтобы достичь взаимного согласия, им нужно провести демаркационную линию, распределить зоны влияния, запретить внутренние расколы: клиент одного лагеря не должен переходить в другой лагерь, и каждый лагерь обязуется не подстрекать к диссидентству союзников другого. Более или менее конкретные правила такого рода, по-видимому, существовали в Греции в период, предшествовавший Пелопоннесской войне. Обоим городам, тогдашним главным игрокам, было трудно самим выполнять эти правила, труднее, чем каждому из них заставить выполнять их своих союзников.
Действительно, в такой системе поводом и одновременно ставкой конфликта между двумя “великими” служит судьба сателлитов. Вместе с тем, в зависимости от степени жесткости или гибкости коалиций, ответственность за конфликты ложится в первую очередь на сателлитов и непосредственных зачинщиков событий. В Греции, описанной Фукидидом, превосходство Афин на море и Спарты на суше не было подавляющим. Флотов Керкиры или Коринфа было достаточно, чтобы изменить соотношение сил. “Великие” не командовали суверенно союзниками. И те, в собственньгх интересах, могли вовлечь своих лидеров в авантюру смертельной схватки.
Наконец, двухполюсная система, опять-таки ввиду отсутствия “третьего”, делает всеобщую войну более вероятной, к тому же почти неизбежно превращает ее в войну идеологическую. Чтобы избежать войны между собой, “великие” должны запретить всякую перемену ориентации своих сателлитов. Но когда война началась, можно ли отказаться от провоцирования диссидентства в чужих рядах? Обе великие державы редко имеют одинаковые институции, тем более
. 196
Раймон Арон • Мир и война между народами
что принципы строения и действий их вооруженных сил не одни и те же. Внутри греческих городов образовывались фракции, одни из которых выступали за мир, другие за войну, одни были за одного лидера, другие — за другого. Предпочтения, отдаваемые тем или иным институциям и типам общественного устройства, тоже частично определяли соответствующие позиции и виды поведения. Города все больше и больше раскалывались и разрывались между сторонниками разных коалиций, и каждая из них использовала внутренние распри противника, чтобы ослабить враждебные города.
Обеспечение мира в системе с двухполюсной конфигурацией требует стабилизации государств-участников посредством соглашения между государствами-лидерами, а следовательно, требует запретить рекрутировать себе приверженцев в государствах другого лагеря. Такой запрет сразу снимается, как только начинается смертельная схватка. Но если и до этого момента такого запрета не существует, то само состояние мира имеет воинственный характер или характер холодной войны.
4. Двухполюсная система греческих городов
Проведенный нами формальный анализ систем равновесия не дает оснований для предвидения и предсказаний, а представляет собой некую схему. Когда задана двухполюсная конфигурация, историк или социолог, желающий понять ход событий, должен пройти следующие этапы исследования, вернее — попытаться найти ответы на ряд вопросов:
Теория
1) Что представляют собой взаимно борющиеся коалиции? Какова степень жесткости, или закостенелости, каждой из них? Каковы способы и средства обеспечения мощи каждого из государств-лидеров? Какова мера превосходства каждого из государств-лидеров над своими партнерами, союзниками, сателлитами?
2) Если система привела к войне не на жизнь, а на смерть то каковы были поводы и причины такого взрыва?
3) Как развертывался конфликт — до и во время смертельной схватки — между обеими коалициями, то есть между государствами-лидерами, с участием соответственно союзников каждого из них? Иначе говоря, надо понять природу и структуру коалиций, поводы и глубинные причины их противостояния и, наконец, стиль и формы борьбы между ними.
Первая в мире книга о Пелопоннесской войне1 дает нам превосходный пример использования исторических рецептов для анализа ситуации. Приведем в качестве иллюстрации выдержку из книги, где видно, какие требования лежат в основе анализа: “Видя серьезную угрозу, когда лакедемоняне, имевшие превосходящие силы, стали командовать греками, объединив их в союз, а мидийцы тоже начинают наступать, афиняне решили покинуть свой город и, взяв с собой все необходимое, погрузились на корабли, превратившись в моряков. Когда они оттеснили варваров, то вскоре греческие народы отделившись от царей или прекратив старые войны, стали объединяться либо вокруг афинян, либо вокруг лакедемонян. Это и в самом деле были две самые могучие страны; сила 1 Фукидид (ТЬикус11с1е8), 460—396 до н. э. “История Пелопоннесской войны". - Прим. ред.
Мир и война между народами • Раймон Арон « у <
197 <
Часть I
одной была на суше, другой — на море. Какое-то время между ними было согласие, лакедемоняне и афиняне поссорились и начали между собой войну в результате действий своих союзников; все другие греки во всех случаях собственных споров обращались теперь к комулибо из них... Спарта имела под своей властью союзников, которые не платили дани, но она заставила их смириться с господством удобных ей олигархов. Афиняне же через некоторое время снова вернулись на корабли и взяли свои города — кроме Хиоса и Лесбоса, — установив для всех подчиненных городов обязательную дань”1. Два города-государства господствуют над другими, каждый имеет свой типический элемент военной силы, все другие города группируются вокруг них. Господство Афин имеет характер финансовый (союзники платят дань) и морской (корабли союзников “интегрированы” в афинский флот). Спартанский союз основан на олигархическом характере режима городов, выступивших на стороне Спарты, а также, как не раз повторял Фукидид, на стремлении городов сохранить свои свободы, которым угрожало могущество Афин.
А вот почему государствам-лидерам не удалось соблюдать договор между ними, заключенный во избежание войны, значение которого особенно наглядно, если употребить современные понятия, видно на примере Керкиры. Коринф и Керкира, его колония, заспорили по поводу Эпидавра, на который притязал каждый из них в качестве своей колонии. Керкира была “неприсоединившимся” городом — факт, который признавали все стороны в своих защитительных речах, хотя и взаимно противоречивых. Почему Керкира держалась в стороне от договоров о союзах? По мнению коринфян, потому что “их город независим по своему расположению” (Фукидид, назв. соч. I, 37, 3); а как утверждали представители Керкиры, приходившие просить помощи у Афин, потому что Керкира сочла мудрым “не вступать в опасные чужие союзы по воле и прихоти нашего ближнего” (Там же, I, 32, 4), но потом обнаружила, в час реальной опасности, что такое одиночество есть безумие и слабость. Расширение, пополнение и укрепление альянсов делают все более и более трудным для сколько-нибудь значительных политических сообществ неприсоединение к тому или другому из “великих”.
Соответствует ли договору, связавшему Афины и Спарту ради сохранения мира, чтобы то или иное неприсоединившееся сообщество вошло в один из двух лагерей? Противоречит или нет такому договору переход от нейтралитета к союзу? Все ораторы утверждали, что договор запрещает раскол и что тот, кто вошел в коалицию, не должен ее покидать. Защитники Коринфа говорили об этом афинянам: “Вы не должны устанавливать правило, позволяющее принимать тех, кто откололся от другого лагеря” (Там же, I, 40, 4). Если один лагерь будет принимать к себе диссидентов из другого, то противоположный лагерь будет отвечать тем же. “Если вы и в самом деле станете принимать греков, совершивших такой проступок, и будете поддерживать их, то увидите, как некоторые народы не менее, а более значительные, придут к нам, и правило, введенное вами, повредит вам больше, 1 Фукидид, История Пелопоннесской войны. Кн. I., 18, 2—3.
198 > -с < / <' * л* -
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
чем нам” (Там же I, 40, 6). Высшее правило таково, что “каждый должен сам наказывать своих провинившихся союзников” (Там же I, 43, I).
Случай с Керкирой, попросившей помощи у Афин, не прост. Формально Керкира, будучи неприсоединившейся страной, не подпадала под запрет принимать раскольников. Коринфяне это признавали: согласно тексту договора, “городу, не подписавшему его, разрешается присоединяться к той стороне, к какой он захочет” (Там же, I, 40, 2). Но сам дух договора исключает, говорили все те же коринфяне, такое присоединение, которое само по себе равносильно нападению на другой лагерь. “Договор не имеет в виду тех, кто поступает так с намерением повредить другому лагерю, он имеет в виду людей, которые не вредят своей собственной безопасности, отдаваясь другой державе, людей, которые не должны, если они мудры, переводить принимающий их город из состояния мира в состояние войны”. Если говорить в современных понятиях, то договор содержит две неясности: с одной стороны его цель — избежать нарушения равновесия сил, а между тем присоединение к той или другой стороне некоторых неприсоединившихся государств, не запрещенное в ясной форме, рискует нарушить равновесие. С другой стороны, не все неприсоединившиеся, за которыми оставлено право выбирать лагерь, могут считать себя участниками договора. Если бы Керкира, отказавшаяся признавать Коринф (чьей колонией она была) и даже хотевшая с ним воевать, стала союзницей Афин, такое присоединение было бы, фактически и по духу, агрессией против Коринфа, а следовательно, против Спарты. Афины прекрасно понимали значение своих действий и заключили с Керкирой простой оборонительный союз, предусматривающий взаимопомощь в случае нападения на Керкиру, Афины или их союзников. А союз наступательный был бы сопряжен с риском участия Афин в нападении на Коринф, то есть с риском войны против Спарты.
Какой мотив определил поведение афинян? Фукидид полагает, что это был расчет сил в тот момент, когда каждая из сторон ускоряла приближение войны. “Что касается войны, которая была бы в нашу пользу, то те из вас, кто в это не верит, заблуждаются, они не видят, что Спарта хочет войны из страха перед вами” (Там же, I, 33, 3). Так говорили посланцы Керкиры афинскому собранию. А вот что говорит сам Фукидид: “Война с Пелопоннессом и в самом деле должна была произойти в любом случае, и они не хотели оставлять Керкиру коринфянам вместе с флотом, таким же, как у них самих, а хотели вызвать как можно больше всяких стычек, чтобы Коринф и другие морские державы оказались слабее, когда наступит пора воевать против них” (Там же, I, 44, 2). В Греции был три морских державы: Афины, Керкира и Коринф. Позволить, из страха нарушить мирную передышку, объединиться двум последним — разве не означало это для афинян утратить престиж, выставляя напоказ свой страх, и одновременно не воспользоваться возможностью получить значительный перевес на море? Когда превосходство государств-лидеров над своими партнерами не слишком велико, то скорее их союзники тянут их за собой, чем они управляют союзниками. Действительно, они в такой ситуации не могут вообще отказаться от союзников, не ослабляя самих себя опаснейшим образом. АфиМир и война между народами • Раймон Арон
199
Часть I
ны как раз и не располагали таким превосходством, чтобы высокомерно отказаться от поддержки со стороны Керкиры.
Конфликт по поводу Потидеи, который Фукидид считает второй непосредственной причиной большой войны, внешне был конфликтом такого же типа. Потидея — колония Коринфа и союзница Афин. Афиняне сочли необходимым и законным наказать союзника за уклонение от своих обязанностей. На этой почве они столкнулись с коринфянами, пожелавшими защитить свою колонию. Лакедемоняне, в нарушение договора, отделили от Афин город, плативший им дань “и начали воевать на стороне потидеян” (Там же I, 66). Причудливое пересечение отношений между городами — отношения между метрополией и колонией: между городом-гегемоном и союзниками — часто делали зыбким и неясным определение того, что справедливо а что несправедливо.
Однако, согласно Фукидиду, эти экивоки “международного права” не были действительной причиной конфликта. Сам историк высказывает в этой связи знаменитую формулу (Там же, I, 23, 6): “На деле самая настоящая причина, и она же меньше всего признаваемая, — это, как я думаю, то, что афиняне, усиливая свое могущество, внушали страх лакедемонянам и поэтому вынудили их к войне. Коринфяне, выступая в собрании представителей Спарты и ее союзников, разоблачали недобрые и нечестные дела афинян, противоречащие справедливости и договорам. Но главным обвинением было то, что Афины собираются очень скоро взять на себя “роль тирана по отношению ко всем без всякого различия, они уже командуют одними и намереваются командовать другими” (Там же, I, 74, 3). Фукидид повторяет: “После голосования лакедемонян, означавшего, что надо кончать передышку и начинать войну, спартанцы не столько были убеждены своими союзниками, сколько сами “опасались, что Афины могут и дальше распространить свою власть, ибо спартанцы видели, что наибольшая часть Греции уже находится в руках афинян” (Там же, I, 88, I).
Соображения, касающиеся равновесия сил и вопросов справедливости (право, договоры), постоянно переплетаются друг с другом в ходе повествования и рассказов о спорах в цитируемой первой книге Фукидида, посвященной рассмотрению того, что мы называем дипломатической обстановкой и причинами войны. Но этот историк, не колеблясь, считает правовые проблемы решающими и вкладывает в уста действующих лиц признания, откровенность и непосредственность которых немыслима в наш век, потому что идеология и возросшая роль масс тотчас приклеили бы им ярлык лицемерия. Представители Афин заявили в собрании Спарты: “Мы тоже не сделали ничего необыкновенного, ничего такого, что расходилось бы с человеческими поступками, принимая империю (высшую власть подревнегречески), когда нам ее предлагали, и не выпускали ее из рук, когда того требовали весомые основания, честь, опасения, интересы; при всем том не мы первые начали играть такую роль, и всегда считалось, что слабейший должен уважать сильнейшего; кроме того, мы думаем, что заслуживаем этой роли и вы сами думали так же до сего дня, а теперь, подсчитав свои интересы, вы приводите доводы насчет справедливости, которые, однако, никогда никому не мешали увеличивать 200
<! V
' - Раймон Арон • Мир и война между народами
свои владения, если представлялся случай приобрести что-нибудь с помощью силы” (Там же, I, 76, 2).
Поиски равновесия, постоянные и с оттенком одержимости, страх спартанцев перед экспансией афинской империи, недовольство самих союзников Афин их гегемонией — все это имело главной причиной отнюдь не ожидаемые неудобства и лишения от господства кого-то одного. Конечно, союзники очень неохотно платили дань и отдавали свои корабли, Спарта боялась за само свое существование, если не удастся устоять перед Афинами. Но Дэвид Юм очень точно понял мысль Фукидида, когда тот говорит о борьбе между городами больше из самолюбия, чем ради заботы о безопасности — скорее Jealous emulation, чем cautious politics. Город-гегемон хочет получить от своего господства столько же или еще больше чести и почета, чем от торговых или финансовых выгод. Города восстают против подчинения, недостойного свободного города, как недостойна свободного человека покорность тирану (то есть полному хозяину, творящему произвол). Поэтому Афины, демократические и островные, представлялись коринфянам и другим союзникам Спарты главной опасностью для свобод греческих городов. Фукидид, афинский гражданин, не осуждает свое отечество, стремящееся стать империей, но он и не отрицает того, что лагерь Спарты — это лагерь традиционных свобод.
Еще одним свидетельством того, что смыслом борьбы было сохранение автономий, служит речь Перикла, рекомендовавшего собранию Афин начать войну. Главным его аргументом было “не уступать лакедемонянам” (Там же, I, 140, 2). Принять ультиматум — это уже стать Теория
покорным: “Всякое требование права, малое или большое, предполагает одинаковую зависимость и подчинение, когда, без всякого предварительного решения, равные предъявляют такое требование своему ближнему”. Какой-либо предлог имеет здесь очень мало значения. И пусть не думают, что “умереть за Мегары” — это умереть за нечто не столь уж важное: дело идет о самой сути вещей — о сохранении автономии как залога свободы.
Когда Перикл выступал с этой речью, он считал, что война неизбежна: так же думали и лидеры другой коалиции. Фукидид преподносит всю эту историю как сотканную из решений вершителей судеб, но люди есть люди, и они передают читателю, через Фукидида, ощущение своего времени. Спартанский царь Архидам, как и Перикл, не строил иллюзий насчет длительности войны, если она разразится: оба этих мудрых и прозорливых человека, решивших бороться или подчинившихся неизбежности борьбы, знали, что ни один из двух лагерей не одержит легкой победы. Каждый в чем-то превосходит другого: Афины — на море, Спарта — на суше. Морского превосходства недостаточно для покорения Спарты так же, как гоплиты, тяжеловооруженные воины, не поставят на колени Афины. Посланец Коринфа и Перикл провозгласили, буквально друг за другом: мы победим, потому что мы самые сильные; сам историк преподносит аргументы тех и других в таком духе, что расширение и без того большой войны заранее представляется фатальным. Исход же ее, неясный вначале, может быть приписан, хотя бы частично, или случаю (а случай может быть ограничен, но не устранен полностью человеческим разумом Мир и война между народами • Раймон Арон
201
Часть I
и рассудком), или же ошибкам того, кто оказался побежденным.
У читателя возникают сами по себе определенные сопоставления. Как известно, многие авторы, в частности Тибодэ и Тойнби, сравнивают Пелопоннесскую войну с некоторыми войнами современной истории. Тибодэ сравнивал гражданскую войну в США с европейскими войнами со времен Карла V. Такое сравнение представляется необоснованным. В гражданской войне было поставлено на карту само существование государства, ибо несколько штатов потребовали права на выход из федерации. Тот факт, что эта война стала “тотальной” и велась до полной победы согласно стратегии борьбы на износ и истощение противника, еще не оправдывает исторической аналогии со всеобщей войной, затрагивающей всю международную систему и все больше и больше вовлекающей в свою орбиту маргинальные группы или внешние политические сообщества. Из всех европейских войн только война 1914— 1918 гг. а вернее совокупная война 1914—1918 гг. и 1939— 1945 гг. позволяет формально проводить такие аналогии.
Всякое сравнение, подчеркнем это еще раз, формально. В Греции талассократия, “власть моря”, была самой грозной, потому что она представлялась наиболее приспособленной, чтобы эксплуатировать и угнетать других, а также, быть может, потому, что она находилась в руках Афин, которые превосходили по силе своих союзников в большей степени, чем Спарта превосходила своих. Тибодэ это замечает: в Греции город, благоприятствующий свободам граждан, представлял собой, и вполне обоснованно, угрозу для свобод других городов. В 1914 г. континентальное государство было одновременно наиболее близким к гегемонии, и наиболее властным (царскую Россию оставим в стороне).
В современной Европе, как и в античной Греции, чрезмерное расширение большой войны составляет, по мнению историков, склонных к сравнениям, главный фактор, главное обстоятельство, требующее объяснения и влекущее за собой больше всего последствий. В самом деле, по прошествии какого-то времени система многополюсного равновесия, будь то греческая или европейская, обречена на разрушение, если она вызывает непомерные и истощающие конфликты. Формирование двух коалиций, каждая из которых группировалась вокруг государства-лидера предшествовало взрыву большой войны и отмечало собой некий переходный период между фазой государственных свобод и имперской унификацией.
Пелопоннесская война, как и война 1914— 1918 гг., закончилась победой лагеря, желавшего сохранить свободы городов (государств). Частичная гегемония Спарты была непродолжительной, как и последовавшая за ней гегемония Фив. Отказавшись от единственной гегемонии, которая могла бы быть длительной, греческие города были подчинены Македонией, потом Римом. Отказавшись от гегемонии Германии, европейские государства были подчинены, с одной стороны, объединенному господству советской России и коммунистической доктрины (и практики), а с другой — американской протекции. Быть может, эта последняя, если процитировать слова посланца Афин, вызывает тем больше горечи, что она прячется за принципом равенства. “Они привыкли жить с нами 202 .
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
на равной ноге, и если бывает, что, вопреки своим ожиданиям, они оказываются чуточку ниже, виду решений или способов действий, направленных на создание большого царства, то, вместо того, чтобы быть признательными за то, что у них не отняли самого главного, они переносят такую перемену в своем положении гораздо хуже, чем если бы мы с самого начала отбросили в сторону всякий закон и открыто домогались преимуществ: в этом случае они бы не протестовали и не отрицали, что слабейший должен уступать тому, кто берет верх” (Фукидид, цит. соч. I, 77, 3).
Победы лагеря государственных свобод оказывается недостаточно, чтобы спасти систему равновесия, которую раздирают и расчленяют насилие, длительные тяготы и жертвы всеобщей войны.
♦ ♦ *
Мы даже и не пытались дать перечень правил поведения, которые можно было бы вывести из двухполюсной конфигурации соотношения сил1. Причины, по которым такие правила малозначащи или произвольны, одинаковы как для двухполюсной, так и для многополюсной конфигурации. Сохранение и поддержание данной конфигурации не есть первостепенная или высшая цель участников событий. Поэтому было бы неправомерно или, если угодно, непоучительно рассматривать в качестве правил рационального поведения всяческие предписания, следование которым якобы необходимо для сохранения системы. Единственное универсальное и формальное правило — это правило равновесия в том обтекаемом и самом общем смысле, какой придает ему Дэвид Юм: каждое действующее лицо (основное, добавил бы я) старается не быть во власти и не зависеть от произвола других. Оно наращивает свои ресурсы и увеличивает коэффициент мобилизации, маневрирует на дипломатическом поле, завязывает и разрывает альянсы — и все это ради того, чтобы избежать зависимости, которая противоречит его представлению о самом себе и, быть может, действительно гибельна для его безопасности. Такое желание “не быть в зависимости от прихоти другого” выражается в разных видах поведения, которые определяются тем, имеется ли значительное число основных действующих лиц с примерно равными способностями и возможностями или же только “два гиганта”, подавляющих своей мощью соперников. Комбинация “желания не быть в зависимости от прихоти” и той или иной типической конфигурации позволяет схематично изобразить модели систем. Однако модели, характеризуемые лишь двумя чертами — желанием равновесия и конфигурацией соотношения сил, — во многих отношениях неопределенны, чтобы можно было вывести из них законы функционирования и эволюции международных систем.
Можно ли, исходя из моих предыдущих аналитических выкладок, перечислить некие переменные факторы, или величины, которые должны быть 1 Мортон А. Каплан различает “жесткую” двухполюсную систему и “гибкую” (loose) двухполюсную систему, но в обоих случаях он вводит в свою модель элементы, присущие нынешней системе (субъекта международных отношений). Такое противополагание заводит далеко, и для нашей темы в нем нет нужды.
Мир и война между народами • Раймон Арон . г.- - , «•- -- \ < 203
выделены во всяком социологическом или историческом исследовании той или иной международной системы? Применять или не применять само понятие переменой величины, представляется мне в данном случае делом спорным, поскольку мы встречаемся преимущественно с качественными характеристиками и показателями, и тут нельзя четко уяснить, чего имеется больше, а чего меньше в сугубо количественном смысле. Но если термин “переменная” заменить каким-нибудь более нейтральным выражением, то, как мне кажется, действительно можно вычленить из предыдущих глав перечень основных элементов какой-либо данной международной системы или, если сказать осторожнее, перечень вопросов, на которые должны быть получены ответы при исследовании международных систем.
Два элемента главенствуют в системах: конфигуарция соотношения сил и однородность или разнородность системы. Однако эти элементы подразделяются, так сказать, на подэлементы. Каждое государство, входящее в систему, занимает определенное географическоисторическое пространство, границы которого очерчены более или менее четко. А на границах этого пространства находятся другие государства, наполовину интегрированные в систему, а наполовину чуждые ей. Собственные силы каждого государства определяются его ресурсами и коэффициентом мобилизации; сам же этот коэффициент зависит от режима — экономического, военного, политического. Внутренние режимы государств, влияющие на соотношение сил, непосредственно определяют характер и ставки конфликтов. Одно и то же политическое сообщество зачастую меняет свои внешние цели, когда меняется его режим. Диалог между политическими сообществами находится в функциональной зависимости от диалога между классами или между людьми, находящимися у власти: на одном конце соответствующего диапазона мы видим солидарность королей против народов, как говаривали в XIX в., (или солидарность коммунистических партий, в Восточной Европе, против контрреволюции), на другом — солидарность правительств или правителей одного государства (или лагеря) с мятежниками или революционерами внутри соперничающего или враждебного государства (или лагеря). Между двумя этими крайними случаями размещается дипломатия невмешательства, когда каждое государство запрещает самому себе, каковы бы ни были его идеологические симпатии или собственные национальные интересы, вмешиваться в дела другого государства — либо в поддержку революции, сопровождаемой открытой или скрытой гражданской войной.
Однородность и разнородность имеют свои разновидности и бесчисленные нюансы. Система однородна или разнородна не абсолютно, а в той или иной степени и мере: она бывает однородна в некоторой зоне и разнородна в другой; однородна в мирное время и разнородна в военное время; разнородна при частичном соблюдении дипломатического правила невмешательства; разнородна при использовании в дипломатии способов и приемов революционных действий. Разнородность может проявляться в социальных структурах или в политических режимах, скорее в области идей, чем в реальной жизни, или, наоборот, скорее в реальной обстановке, чем в сфере идей. При всех этих видах и сочетаниях нельзя понять природу и характер соперничества 204 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
и диалога политических сообществ иначе, как учитывая одновременно власть, утвердившуюся в каждом из сообществ, его концепцию законности, его внешние устремления, стратегию и тактику правящих классов.
Соотношение сил и внутренний режим государств определяют коэффициент их мобилизации; однородность или разнородность систем, посредством способов и методов действий, влияет на соотношение сил. Оба понятия — соотношение сил и степень однородности системы — являются не двумя переменными, строго очерченными и определенными, а двумя взаимодополняющими аспектами всякой исторической структуры, некоей констелляции “созвездия”. Анализ этих двух аспектов открывает нам способ функционирования системы на уровне социологии и развитие международных отношений в свете истории; расчет сил и уяснение диалектики режимов и идей также необходимы для истолкования дипломатическо-стратегического поведения в любую эпоху; ни цели, ни средства, ни законность, ни незаконность не могут быть определены адекватно только с помощью расчета сил или лишь путем выяснения диалектики развития идей. После того как признано, что в середине V века до нашей эры система греческих городов была двуполюсной, а мировая система в середине XX века после Рождества Христова — тоже двуполюсная, задача социолога и историка только начинается: им надо уточнить и конкретизировать природу, структуру, функционирование обеих систем.
Различие между изменениями внутри системы и переменами самой системы очень относительны. Дипломатические ансамбли могут быть названы системами, потому что какое-нибудь событие в любой точке рассматриваемого пространства имеет последствия и отзвуки, распространяющиеся на весь этот ансамбль. Но такие системы не сохраняются и не поддерживаются, как таковые, каким-либо механизмом саморегулирования, и это по той простой причине, что ни одно из основных действующих сил не подчиняет своих амбиций задаче поддержания системы. Афины хотели своей гегемонии или были подведены к тому, чтобы хотеть ее, они не преследовали цели упрочить и кристаллизировать двухполюсную структуру и равновесие между их собственным союзом и союзом лакедемонян.
Один и тот же феномен может расцениваться и как перемена внутри системы, и как перемена самой системы в зависимости от числа характеристик и особенностей, учтенных исследователем для определения сущности той или иной исторической системы. Французская революция безусловно открыла новую систему, потому что она ввела в нее фундаментальную разнородность. А вот приход к власти Наполеона III, был ли он переменой системы? Объединение Германии в 1871 г. открыло новую фазу в европейской истории. Перевернуло ли оно, изменило ли радикальным образом европейскую систему? Такие вопросы кажутся мне риторическими. Самое простое — это выделить род и вид явлений и провести между ними различия, пользуясь привычными способами старой логики. Когда конфигурация соотношения сил в систем становится существенно иной и однородность уступает место разнородности, перед нами — родовое изменение. Когда разнородность или двухполюсность усиливается или смягчается, говорят о перемене в сисМир и война между народами • Раймон Арон
205
Часть I
теме, не называя ее ни родовой, ни видовой, но все-таки уточняют, что речь идет о видовом изменении. Однако модели и типы международных отношений должны служить лишь подготовительным материалом к конкретным исследованиям.
Фукидид нарисовал стилизованную модель двух держав, основанных одна на морской силе, другая на силе сухопутной, одна населена “изобретательными людьми, живыми и подвижными, чтобы порождать замыслы и осуществлять их”, другая — “людьми, сберегающими приобретенное и не изобретающими ничего“ (Там же, I, 70, 2), одна открыта для иноземцев, другая закрыта для них. Сколько раз в последние годы упоминалось и цитировалось знаменитое сопоставление Токвилем двух народов, предназначенных таинственной волей провидения господствовать, каждый, на половине мира, один с помощью орала, другой с помощью меча! Сравнение и противополагание двух типов общества, двух режимов, двух идеологий, двух пониманий международного мира стало классическим, потому что оно необходимо для социологического и исторического уяснения событий. Однако система зависит от того, чем конкретно являются оба полюса, а не от того, что полюсов имеется два.
Система, охватывающая всю планету, отличается по самой своей природе и характеру от системы греческих городов или европейских государств. Советский Союз и Соединенные Штаты не подвергаются такому же риску, какому подвергались Спарта и Афины, быть вовлеченными против своей воли в войну из-за распрей между своими союзниками или сателлитами. Быть может, средства разрушения, которыми располагают ныне оба главных лидера, меняют самую суть дипломатическо-стратегического противостояния. Во всех аспектах и отношениях количественные изменения вызывают к жизни качественные революции.
ГЛАВА VI
Диалектика мира и войны
Война — явление всех исторических времен и всех цивилизаций. Секирами или пушками, стрелами или пулями, в результате химических атак или взрывов от цепной атомной реакции, с близких или дальних расстояний, индивидуально или массами, по воле случая или по строгому плану и согласно тому или иному методу люди убивали друг друга, пользуясь оружием и средствами войны, созданными благодаря обычаям и знаниям, накопленным человеческим обществом.
Поэтому можно было бы считать иллюзорной всякую “формальную типологию” войн и периодов мира, а единственно достойной внимания является типология социологическая, которая имеет дело с конкретными разновидностями тех или иных феноменов1. И все1 Одна из социологических типологий представления в гл. XII (часть вторая книги).
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
таки, если мои предыдущие аналитические соображения как-то высвечивают логику дипломатического и стратегического поведения, то построенная на этом анализе формальная типология, возможно, принесет исследователям некоторую пользу.
1. Типы мирного состояния и типы войн
С одной стороны, исходным пунктом своих рассуждений я взял войну, потому что стратегическо-дипломатическое поведение всегда соотносится с возможностью вооруженного конфликта и потому что последний есть развязка операций, проведенных, так сказать, в кредит. С другой стороны, во главу угла поставим мирное состояние, потому что мир ест разумная цель, достичь которую в конце концов стремятся все общества.
Этот двуединый тезис не противоречит принципу единства внешней политики и непрерывных связей между народами. Дипломат никогда не забывает о возможности и требованиях арбитража силой оружия, и это в то самое время, когда он запрещает самому себе прибегать к средствам насилия. Соперничество между политическими сообществами не начинается с нарушения договоров и не заканчивается заключением перемирия. Но какова бы ни была цель внешней политики — захват земель и людей или установление господства над ними, или торжество какой-нибудь идеи, — война, сама по себе, не является этой целью. Некоторые люди любят борьбу как таковую, некоторые народы занимаются войной, как другие народы занимаются спортом. Но на уровне цивилизаций, именуемых высшими, война может быть лишь средством, если развязана она была сознательно, или бедствием и несчастьем для тех, кому ее причины оставались неизвестными.
До сих пор состояние мира представало перед нами как прекращение, более или менее продолжительное, различных видов и разновидностей насилия в соперничестве между политическими сообществами. Когда отношения между народами не содержат никаких военных форм борьбы, говорят, что царит мир. Но так как эти отношения развертываются в тени прошедших битв и в страхе или ожидании битв грядущих, то принцип мира в том смысле, как употребляет этот термин Монтескье в своей теории форм правления1, не отличается по своей природе от принципа войны: мир основан на могуществе, то есть на соотношении способностей одних политических сообществ воздействовать на другие. Поскольку соотношение между их мощью в мирное время, не будучи точным отражением соотношения действительных и потенциальных сил, всетаки выражает его, пусть и в более или менее деформированном виде, то различные типы мирного состояния могут быть соотнесены с соответственными типами соотношения сил. Я различаю три типа мира: равновесие, гегемония, империя. На каком-либо данном историческом поле силы политических сообществ могут быть взаимно сбалансированы, могут доминировать силы одного из них, и, наконец, силы одного их них могут превосходить все остальные, причем до такой степени, что все сооб1 То есть чувство или как мы сказали бы сегодня побуждение или эмоция, необходимые для поддержания того или иного типа правления,— благорасположение достоинство честь страх
Мир и война между народами • Раймон Арон .
207
Часть I
щества, исключая одно-единственное, теряют свою автономию и приобретают тенденцию к исчезновению в качестве центров принятия политических решений. В конечном итоге имперское государство присваивает себе монополию на легитимное насилие.
Могут возразить, что тем самым имперский мир перестает быть, по определению, “внешнеполитическим обстоятельством": имперский мир не будет ничем отличаться от гражданского мира и будет составлять часть внутреннего порядка в империи. Такое возражение можно было бы принять во внимание, если бы типология мира была сугубо абстрактной, без привязки к историческим процессам. А между тем, даже если имеют место случаи, когда имперский мир, будучи установлен, так сказать, раз и навсегда, почти не отличается от национального мира, мира внутри страны, то все-таки полное уподобление имперского мира миру гражданскому привело бы к игнорированию и непризнанию разнообразия ситуаций.
Мир в германской империи после 1871 г., несмотря на сохранившиеся остатки суверенитета, например, в Баварии, с каждым последующим годом все меньше и меньше отличался от внутреннего мира во Французской республике. А вот греческие города, покоренные Филиппом и вовлеченные Александром в завоевания Азии, не потеряли всю свою политико-административную автономию, не были лишены всех атрибутов, которые мы считаем составными частями суверенитета, а в случае какихлибо мятежей они могли пользоваться собственными, пусть и весьма малыми, вооруженными силами. Иудейская война напомнит нам, если в том есть нужда, насколько непрочен был римский мир. Народы, завоеванные Римом, не разоружались полностью, прежние институции и власти, протежируемые Римом, подчинялись, конечно, имперскому порядку, но не ликвидировались как таковые. Иначе говоря, имперский мир превращается в гражданский мир постепенно, по мере того как стирается из памяти существование некогда независимых политических сообществ, а индивиды, живя в умиротворенной зоне, чувствуют себя больше привязанными не к традиционному или локальному сообществу, а к государству-завоевателю.
Империя, которую Бисмарк выковал железом и огнем, стала национальным государством. Римская империя до конца оставалась умиротворенной зоной. Французские короли тоже сцементировали французскую нацию. На какое-то время Франция учредила имперский мир в Северной Африке.
Между миром равновесия и миром империи располагается мир гегемонии. При этом типе мира отсутствие войны объясняется отнюдь не приблизительным равенством сил между политическими сообществами, которые не позволяют одним из них или коалиции диктовать свою волю другим; напротив, оно объясняется бесспорным превосходством какого-то одного сообщества. Это превосходство таково, что неудовлетворенные или недовольные государства оказываются бессильны изменить статус-кво, и тем не менее государство-гегемон вовсе не старается поглотить обессилевшие сообщества. Оно не злоупотребляет своей гегемонией, уважает внешние формы независимости государств и не собирается создавать империю.
В системе сообществ, ревностно оберегающих свою независимость, гегемония оказывается хрупкой и неустойчивой раз208 < Раймон Арон* Мир и война между народами
Теория
новидностью равновесия. После 1870 г. германский рейх обладал своеобразной гегемонией, которую Бисмарк надеялся еще прочнее установить над европейскими государствами с помощью умеренной политики и устранения опасений и недобрых чувств с их стороны. Преемники канцлера были менее удачливы: они не сумели предотвратить образование альянсов, которые восстанавливали равновесие. Наверное, бисмарковская Германия не заслуживала, так сказать, звания гегемона, потому что ее гегемония ограничивалась континентом, а континент не был закрытой системой. Если принять в расчет Великобританию, ее морскую мощь и заморские владения, то рейх, откровенно говоря, вовсе не был гегемоном, он просто имел преобладание на суше, как имели до него Франция в первой половине царствования Людовика XIV и Испания в XVI в. Англия всегда мешала такому преобладанию и превращению его в империю или даже в очевидную гегемонию. Германское преобладание стало бы гегемонией, если бы рейх, одержав победу над Францией и Россией, подписал тоже победоносный для себя мир или хотя бы компромиссный мир с Великобританией. Тогда вильгельмовский рейх удовлетворился бы гегемонистским миром, а рейх гитлеровский продиктовал бы условия имперского мира.
В Северной Америке гегемонистский мир, установленный Соединенными Штатами, представляет собой не частичный и временный аспект системы равновесия, а прочный результат диспропорции, установленной географией и историей, между силами США и возможностями Мексики и Канады. В XIX в. Соединенные Штаты прибегли к большой войне не для расширения пространства своего суверенитета, а для сохранения федерации. Приобретение Луизианы, Флориды, Калифорнии, Техаса потребовало лишь долларов и недорогостоящих военных операций. Потоки крови полились из-за притязания южных штатов на выход из федерации. А когда федерация укрепилась, когда земли на западе и юге были завоеваны или просто заняты, а индейцы и не принадлежащие к федерации европейцы были оттеснены или изгнаны, Соединенные Штаты оказались слишком сильными, чтобы на американском континенте образовалась какая-то другая система равновесия. Они были совершенно безразличны к соображениям славы, связанной с господством, и не нуждались в новых землях, чтобы угрожать независимости соседних государств на севере и юге. Комбинация гегемонии и политики добрососедства как раз и получила название американского мира. Гегемония Соединенных Штатов способствовала также воцарению мира в Южной Америке, с тех пор как “Организация американских государств”, созданная по инициативе и прямой указке США, запретила открытую войну между государствами региона. (Хотя всякого рода междоусобицы, конфликты режимов и отзвуки всемирной дипломатии создают там условия для своего рода холодной войны.)
Ни античность, ни Азия, ни современная Европа не переживали длительной промежуточной фазы между равновесием и империй. Греко-латинская цивилизация после долгого периода смут и волнений эволюционировала к имперскому миру. В Азии, в трех больших цивилизациях1 чередовались мир, основанный на равновесии и имперский 1 Мы используем это понятие в смысле “культур” Шпенглера или “обществ” Тойнби.
Мир и война между народами • Раймон Арон . . ■ 209 чгг?
Часть I
мир. В Японии мир как равновесие сил ретроспективно рассматривался как феодальное рассеяние суверенитета. Так имперский мир Токугавы, ставший возможным ввиду однородности культуры и институций, привел к гражданскому миру. Имперское объединение Китая, совершенное больше двух тысяч лет тому назад благодаря полной победе одного государства над своими соперниками, потом сменилось чередованием фаз распада и фаз реставрации, гражданских войн и мира — одновременно имперского и гражданского. По отношению к внешнему миру китайская империя колебалась между обороной, укрываясь за Великой стеной, и попытками экспансии. Завоеванная монголами, потом маньчжурами, она никогда не входила (до XIX века) в какую-либо постоянную систему международных связей, которая была бы отношениями между равными. Что касается Индии, то до британского господства она никогда не знала чеголибо всецело эквивалентного миру сегунов или миру Срединной империи, в ней не была развита и система равновесия, сопоставимая с системой греческих городов или европейских государств.
Формально говоря, историческое пространство бывает либо объединенным одной властью и одним суверенитетом, либо разделенным на автономные центры принятия решений и действий. В первом случае говорят о всеобщей империи, во втором — о воинствующих или воюющих государствах. Система равновесия с многополюсной конфигурацией имеет тенденцию стабилизировать отношения между сообществами, признающими друг друга и ограничивать конфликты, возникающие между ними. Фактически же конфликты всегда, в любую эпоху, приобретали такой размах и резонанс, что партнеры-соперники в рамках одной и той же цивилизации представляются воинственными государствами, ответственными за общее разрушение и разорение, — таковыми они выглядят по прошествии веков между временем действия и временем ретроспективных наблюдений, то есть когда дело идет в первом случае о будущем, а во втором — о прошлом.
Троякая классификация мирного состояния дает нам одновременно и классификацию войн — правда, наиболее формальную и самую общую. “Совершенные” войны, соответствующие политической характеристике войны, — это войны межгосударственные, войны между политическими сообществами, взаимно признающими само существование и легитимность каждого из них. Войны, имеющие целью, истоком, и следствием прекращение существования некоторых воюющих сторон и образование сообщества более высокого уровня, или ранга, я назвал бы надгосударственными или имперскими. Наконец, я назову субгосударственнымиили субимперскими такие войны, ставкой в которых выступает либо сохранение, либо расчленение и раздел какого-либо политического сообщества, национального или имперского.
Межгосударственные войны становятся имперскими, когда одно из государств международной системы учреждает, намеренно или по воле обстоятельств, свою гегемонию или империю, одержав победу над соперниками. Межгосударственные войны имеют тенденцию усиливаться и расширяться, превращаясь в большие войны, когда кто-либо из участников оказывается в состоянии — и это будет риском для других — получить 210 .
■." Раймон Арон • Мир и война между народами
подавляющее превосходство в силах: так было в Пелопоннесской войне и в войне 1914—1918 гг. Сила и резкость конфликта может зависеть не от технических средств боевых действий, не от накала страстей воюющих сторон, а от геометрии соотношения сил. Воинственный пыл усиливается и в зависимости от величины ставки — например, свобода греческих городов или европейских государств. Большие войны часто знаменуют собой переход от одной конфигурации к другой, от одной системы к другой, а сам этот переход имеет многочисленные причины.
Вообще говоря, войнам какой-либо определенной категории нельзя приписывать якобы соответствующий ей однозначный характер. Субгосударственные или субимперские войны, когда воюют между собой организованная власть и население, отказывающееся ей подчиняться, часто бывают наиболее жестокими: война иудеев против Рима: шуанов против революции: гражданские и сепаратистские войны: алжирские освободительные войны. В некоторых отношениях все они являются гражданскими войнами, особенно если верх одерживает существующая власть. Аналогичным образом война превращается в имперскую, когда одна из воюющих сторон выдвигает и подчеркивает какойнибудь транснациональный принцип и межгосударственный конфликт перегружается “партийными” страстями. Тогда противник превращается и в чужака и в заклятого врага (или в еретика и предателя).
Тем не менее было бы неосторожно слишком настаивать также и на истинности этих абстрактных понятий. Люди Теория
не всегда заинтересованы в сохранении политического сообщества, к которому принадлежат и не всегда поддерживают историческую идею, воплощаемую их государством. Бывают сообщества, пережившие как самих себя, так и идеи, лишенные содержания и смысла. Даже если такие категории и определяют жесткость и жестокость вражды, но сама эта вражда не определяет ни длительности борьбы, ни поведения борющихся сторон.
2. Ставки в войнах и принципы мира
Эти две формальные типологии требуют, каждая, более подробного анализа. И если три вида мира — равновесие, гегемония и империя — имеют своим принципом1 могущество, то возникает вопрос, а не существует ли другого принципа мира, помимо могущества. Если войны, в своих конкретных проявлениях, не определяются своим меж-, над- и субгосударственным характером, то резонно заинтересоваться, какие другие характеристики должны быть найдены, чтобы дать определение войнам.
Начнем с этого последнего вопроса. Возможны многие и различные классификации войн, и они ранее уже предлагались. Возможно, ни одна из них не представляется убедительной; возможно, и то, что многие классификации, соединенные вместе, окажутся правомерными. Нельзя полагать, что разнообразие войн складывается само по себе в некую гармоничную картину. И все-таки мне кажется, что к предыдущей типологии, которая оправдана связью с типами состояния мира и со структурой 1 Напоминаю, что этот термин используется здесь в том смысле, какой придавал ему Монтескье.
Мир и война между народами • Раймон Арон • 211
Часть I
международной системы, можно добавить еще две другие типологии — одну, основанную на природе и характере политических сообществ и исторических идей, воплощаемых воюющими сторонами; другую — на природе и характере армий, вооружений и всего военного аппарата. Первая из этих двух типологий имеет отношение к целям, вторая — к средствам их достижения.
Часто говорят о войнах феодальных, войнах династических, войнах национальных, войнах колониальных. Все эти выражения предполагают, что способ внутренней организации коллективов налагает свою печать, придает свой стиль столкновениям между политическими сообществами. И действительно, способ организации помогает определять, а порою он один только и определяет, поводы и ставки конфликтов, суждения государственных деятелей насчет того, что законно, а что незаконно, а также их собственное понимание дипломатии и войны. Принцип легитимности, если повторить выражение, употребленное мною ранее1, отвечает одновременно на два вопроса: кто в государстве командует и распоряжается, так сказать, изнутри? Какому сообществу должны принадлежать такие-то территории или такое-то население? Войны сохраняют след принципа легитимности, господствующего на той территории и в то время, где и когда они ведутся.
Принцип легитимности лежит в основе повода или причины конфликта. Отношения вассала и сюзерена усложняются до такой степени, что часто возникают противоречия между ними. Жажда могущества толкает некоторых вассалов к невыполнению своих обязательств. Пределы легитимных действий сюзерена очертить трудно, когда столько нижестоящих сохраняют у себя военные средства и требуют той или иной свободы принимать собственные решения. Когда земли и люди принадлежат царствующим фамилиям, война имеет ставкой какую-нибудь провинцию, которую оспаривают друг у друга два суверена, прибегая к юридическим аргументам или аргументам пули и картечи, или же трон, на который претендуют два государя. А в тот день, когда коллективное сознание признает за людьми право выбирать самим себе политическое сообщество, войны становятся национальными, и причины их бывают такие: либо два государства притязают на одну и ту же провинцию, либо население, разделенное между двумя традиционными сообществами, хочет создать свое единое государство. Наконец, если завтра общественное мнение будет полагать, что время наций и народов ушло в историю и что экономические или военные требования очень больших совокупностей людей должны быть выше предпочтений тех или иных подданных или граждан, войны будут имперскими, притом такими, каких никогда еще не было до этого. Раньше завоеватели — римляне в Средиземноморье, европейцы в Азии и Африке — не отвергали национальную идею как таковую, они лишь пренебрегали ею и отказывали, так сказать, в пользовании такой идеей группам населения или классам, считавшимся стоящими ниже и недостойными, временно или на постоянной основе звания граждан. На
1 Само собой разумеется, что в данном случае слово “принцип” берется мною в своем обычном смысле, а не в трактовке Монтескье.
212 г >
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
ЗД>ЛДО4>*
этот раз завоеватели отбросят саму идею во имя материальных нужд и потребностей.
Ни гитлеровцы, ни коммунисты не ссылались на такие потребности и нужды. Истинным оправданием авантюры Третьего рейха, как искренне думали теоретики нацизма, было расовое превосходство немецкого народа. Истинное оправдание советизации всего мира по убеждению теоретиков марксизма-ленинизма, — это превосходство и неизбежная победа режима, который они сами окрестили социалистическим. В нашу эпоху, как, может быть, и в другие эпохи, завоеватели испытывают потребность оправдать, нравственно и исторически самих себя, выглядеть достойно в своих собственных глазах.
Необходимость использовать принципы легитимности порождают три вида конфликтов: конфликты, вызываемые множественностью возможных их толкований: конфликты, связанные с противоречием между существующим статутом и новым принципом; конфликты, вытекающие из самого применения принципа, в результате чего возникают изменения в соотношении сил.
Притязания английского короля на французский престол относятся к первому виду, как и взаимно несовместимые притязания Германии и Франции на Эльзас — эту имперскую землю во времена Средневековья с германским языковым диалектом и культурой, завоеванную Людовиком XIV, население которой хотело в 1871 г. остаться французским. В 1914 г. территориальный статут Европы был компромиссом между национальной идеей и наследием династических прав. Раздел Польши, многонациональные империи АвстроВенгрии и Турции были творением прошлых времен и уже не соответствовали идеям века. Однако всякое изменение территориального статута рисковало нарушить равновесие. Консерваторы европейского порядка принадлежали прошлому, хотя, быть может, и трудились ради мира. Приверженцы национальной идеи были воинственными в конечном счете, даже если внешне они были миролюбивы.
Чтобы понять, почему так часты бывали межгосударственные конфликты, совсем не обязательно ссылаться на бесчисленные случаи, когда какой-нибудь князек или абсолютный монарх или демократическая республика желали “округлить” свою территорию. Тенденция к самооправданию, стремление к легитимности создают гораздо больше поводов для стычек между государствами, чем то их число, которое было бы под силу регулировать каким-нибудь арбитражем или третейским судом. Даже если бы хроническая нестабильность материальных исходных показателей (экономических, политических, демографических) не понуждала к корректировкам равновесия, тоже нескончаемым и непрочным, то все равно появление и распространение исторических идей ложилось бы тяжелым грузом на государственных деятелей и заставляло бы их примирять между собой переменчивые императивы справедливости и постоянную необходимость равновесия. В русле такого анализа можно лучше понять, почему правоведы-классики отличали войны легальные от войн справедливых, оставляли моралистам решать, что такое справедливость, и призывали государей не ставить вне закона своих противников.
До сих пор мы упоминали и перечисляли лишь те исторические идеи, Мир и война между народами • Раймон Арон
213
Часть I
которые, как таковые, были государственными или, иначе говоря, могли служить основанием для политической организации сообществ. Идеи эти бывают национальными, религиозными, идеологическими. В некоторые периоды конфликты идей и соперничество держав совершенно перепутываются и переплетаются между собой. Иногда национальная или государственная жажда могущества берет верх над религиозной верой или идеологией, иногда происходит наоборот. Так называемый реалистично мыслящий государственный деятель — а им может быть и церковный сановник высокого ранга, — это такой деятель, который использует страсти толпы единственно в интересах политического сообщества, которому он служит, в интересах, совпадающих в его глазах с задачей ослабления сообществсоперников. Однако моралист или историк не должен осуждать тех, кто, находясь на любой ступени иерархи, совершает обратное, то есть ставит триумф или, по меньшей мере, спасение своей церкви и своей истины над задачей укрепления того или иного государства, враждебного, быть может, высшим ценностям, как он их понимает.
Принцип легитимности часто лежит у истоков конфликтов (это не значит, что он есть действительная их причина), иногда он как бы освящается завершением битв. Убийство австрийского эрцгерцога сербскими националистами поднесло огонь к пороху, и из пожара войны родились новые национальные государства. Но Европа после 1918 г., хотя она и стала меньше сотрясаться национальными распрями, чем Европа до мировой войны, потеряла многое от своего прежнего равновесия. Война 1939 г., вызванная имперскими устремлениями, привела к созданию двух миров, и каждый из них более или менее соответствовал идеям разделившегося на фракции победоносного альянса.
Историческая идея связана с военным аппаратом. В течение многих веков политическая организация и организация военная находились во взаимных отношениях. В античной цивилизации все граждане были воинами, исключая иноземных поселенцев и рабов. Поэтому греческие города опирались на военную силу, численно большую, а не малую, как гласит легенда. Империя измеряла свои силы численностью благородного сословия, имевшего право носить оружие, а не численностью подданных. Не персидское царство, а Греция, как показал Г. Делбрюк1, была неисчерпаемым источником солдат.
Военный аппарат зависел также от имевшегося в наличии оружия и всяческих боевых приспособлений и от степени эффективности их использования. Ударные орудия и орудия метательные определяли дистанцию между сражающимися. Общим местом исторических повествований стало влияние применения пороха на объем ресурсов, необходимых для войск, а следовательно, и на территориальные размеры политических сообществ. Воинская повинность и индустрия, универсализация военной службы и громадный рост коэффициента мобилизации — все это находилось в истоке той чрезвычайной масштабности, какую приобрела война 1914—1918 гг.: это была война демократическая, потому что воевали “гражданские люди, переодетые в солдат”; война частично 1 См далее, гл VIII
214
.■ ч Раймон Арон • Мир и война между народами
идеологическая, потому что граждане думали, что они “защищают свою душу”1; война материальная, которая велась до полного истощения воюющих народов, потому что армии сражались не в расчете на победу путем уничтожения одна другой и потому что сам материал, физический и людской, мобилизуемый обеими сторонами, был огромен.
Двойная зависимость военного аппарата, с одной стороны, от социальной и политической организации, а с другой, от техники разрушения не позволяет выделить, при столь кратком анализе, чистые типы, которые можно было бы охарактеризовать каким-то одним понятием. Всякий военный аппарат находит свое воплощение в создании армий и видов оружия в функциональной зависимости от социальной иерархии или, если эту формулу “перевернуть”, в развертывании потенций того или иного общества, а сами эти потенции определяются эффективностью видов вооружений и их комбинаций. Если люди в бою всегда были в какой-то мере позитивны — в том смысле позитивности, какой придавал этому понятию Огюст Конт, — то есть если они стремились достичь определенных целей, действуя в зависимости от своего опыта и рассудительности, то они никогда, вплоть до нынешних времен, не были исключительно рациональны. Я хочу сказать, что они не были способны абстрагироваться от морали и обычаев и мыслить о военном ремесле в терминах чистой эффективности. Да и сама такая рациональность, ориентированная исключительно на военную победу и преследующая какую-то одну-единственную цель, была бы лишь частичной, а в некотоТеория
рых случаях и неразумной с точки зрения привилегированного класса: структура военного аппарата так или иначе воздействует на структуру самого общества. Рационально ли поступает правящий класс, дающий оружие в руки недовольных классов и тем самым рискующий ослабить собственную власть. На протяжении истории очень редко бывало, когда правящие классы, действуя в духе реформаторов при императоре Мейдзи, сами были инициаторами политической и социальной революции, с тем чтобы обеспечить себе военный аппарат, необходимый для укрепления независимости и силы собственной страны. Гораздо чаще привилегированные слои и классы оказывались неспособными изменить порядок, благами которого они пользовались, но который становился несовместимым с требованиями боя и войны: тогда поднимался какой-либо Ататюрк, который ликвидировал Оттоманскую империю и основывал новое государство.
Лишь в наше время военная техника, следуя примеру техники индустриальной, освобождается от всяких пут и прогрессирует в обстановке полной свободы, безразличная ко всем последствиям своего прогресса, затрагивающим людей. Да и как может обстоять дело иначе с разрушением и со способностью разрушения, коль скоро производство и производительность превратились или кажется, что превратились, в самоцель? Промышленность и война — неразделимые родственники. Рост одной, приветствуемый чистосердечными людьми, поставляет ресурсы для другой, проклинаемой людьми доброй воли. Сами языковые штампы напоминают нам об этом 1 Оба выражения взяты из речи Поля Валери при приеме его в члены Академии.
Мир и война между народами • Раймон Арон < *
. 215
Часть I
нерушимом союзе, который символизируется подобием автомобилей и танков, рабочих у конвейеров и колонн солдат, бронедивизий и семей убегающих со всем скарбом из городов. Одно и то же слово “могущество” обозначает способность навязать свою волю себе подобным и переделывать природу, властвовать над ней.
Конечно, разница тут существует, хотя часто ее не признают или не замечают. Использование человеком и для человека силы воды и ветра, превращение угля в тепло, тепла в энергию, возможное управление процессом ядерного синтеза, который самопроизвольно происходит в недрах солнца, — все эти бесчисленные, предсказуемые и вполне конкретные виды и разновидности эксплуатации природных ресурсов относятся к области техники, к сфере ее функционирования. Идет ли речь о том, чтобы заменить ручной труд “трудом” энергии, полученной от угля, нефти, атома, или производить предметы, элементы, но не модели которых дает и предлагает нам космос (трансформаторы, автомобили, холодильники и т. д.), или же улучшать и умножать виды растений и животных, используемых для питания человеком, — всегда поведение человека остается техническим по своему характеру, или, иначе говоря, оно сводится к схеме комбинации средств для достижения целей. Несовершенство наших знаний и момент непредвидимости при использовании на практике законов и закономерностей, открытых в лабораторных условиях, порождают коэффициенты неопределенности и обязывают нас принимать меры осторожности и безопасности, но не меняют самого существа технического поведения, могущества человека перед лицом природы.
Господство над людьми тоже отмечено рациональностью. Когда мы видим, что рабочие извне подчинены силе себе подобных, то на самом деле они подчиняются императивам техники. Команды, отдаваемые техническими специалистами, — это не столько личная власть, сколько понимание необходимости технологической дисциплины, которую очеловеченная природа вменяет в обязанность всем. Напротив, дипломатическо-стратегические действия направлены на то, чтобы принудить или убедить в чем-то другую волю, другой центр принятия автономных решений — короче говоря, воздействовать на сознание, реагирование которого на внешний вызов таит в себе очень большую неопределенность: сознание может предпочесть смерть подчинению.
Общий, совместный прогресс техники производства и техники разрушения вводит в обиход новый принцип мира, который отличен от мира, основанного на могуществе и которому обычай уже дал свое имя. Это мир, основанный на страхе, господствующий (или способный господствовать) в отношениях между политическими сообществами, каждое из которых имеет (или могло бы иметь) способность наносить другому смертоносные удары. В этом смысле мир, основанный на страхе, может быть также квалифицирован как мир бессилия. Когда между соперничающими политическими сообществами царил традиционный мир, то могущество каждого из них определялось способностью навязать свою волю другим применением или угрозы применения силы. В идеальном варианте мира, основанного на страхе, уже нет неравенства между соперниками, поскольку каждый из них обладает термоядерными бомбами, которые, об216-- 4 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
рушиваясь на города противника, унесут миллионы жизней. Можно ли говорить в таком случае о большей или меньшей степени могущества, о равновесии или неравновесии, если даже та сторона, у которой меньше термоядерных бомб, а ракеты-носители менее совершенны, может нанести противнику ущерб, совершенно не соразмерный с какой угодно победой?
Мир на страхе коренным образом отличается от любого другого мира, основанного на могуществе (равновесие, гегемония, империя). Равновесие сил всегда приблизительно, неоднозначно. Ему всегда угрожает либо переход в другой лагерь какого-нибудь второстепенного сообщества, либо такое развитие основных государств, которое создает и усугубляет неравенство. Всякая оценка сил содержит неясности и ошибки: лишь реальное испытание, проба сил обнаруживает достоинства армий и народов. Развертывание боевых операций в соответствии с дипломатическими и стратегическими комбинациями делает ситуацию менее ясной. Можно понять, что страх порождает уверенность и новые шаги в области технологии. Разрушения, которые наиболее слабый имеет возможность причинить своему противнику, хотя их нельзя точно измерить заранее, были бы в любом случае вполне достаточны, чтобы такая война оказалась бессмысленной. Таким же образом, например, прочность моста, тоже не определяемая с абсолютной точностью, в любом случае достаточна, чтобы выдержать максимальную нагрузку, которой он ранее подвергался.
Совершенная, так сказать, безупречная степень мира на страхе еще не достигнута, даже в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Может быть, она не будет достигнута никогда1. И действительно, она предполагает абсолютную уверенность в том, что ни одна из воюющих сторон не может, напав внезапно, уничтожить средства ответного удара, имеющиеся у противника, или уничтожить их частично, но так, чтобы возможный ответный удар не нанес агрессору “неприемлемого” ущерба. Однако еще не доказано, что именно такой будет ситуация. Сегодня или завтра один из лагерей может усовершенствовать свои средства пассивной обороны (укрытия для населения) и активной обороны (ракеты против бомбардировщиков и против баллистических ракет-носителей), а также свои средства нападения (количество и точность попадания в цель баллистических ракет), причем усовершенствовать до такой степени, что правящая верхушка данного лагеря может испытать искушение пойти на авантюру типа Пёрл-Харбора, но уже на термоядерном уровне. Иначе говоря, она может решиться на массированное нападение на все средства ответного удара противника и на некоторые его города. Разве не должна будет тогда капитулировать жертва агрессии, поскольку ответный удар существенно не ослабит агрессора, зато сама жертва будет уничтожена полностью? Какова бы ни была степень невероятности такого предположения, мир, основанный на страхе, предстанет как мир совершенный лишь в тот день, когда будут устранены или сведены к минимуму преимущества, которыми сегодня располагает тот, кто наносит первый удар.
1 Соответствующий подробный анализ см в гл XIV
Мир и война между народами • Раймон Арон г
217
Часть I
Помимо неопределенности по поводу уязвимости средств ответного удара, существует еще и неопределенность по поводу “объема приемлемых разрушений”, или “порога насыщения”. Инициатива начать войну была бы абсолютно бессмысленной, если бы агрессор был уверен, что и он тоже будет уничтожен полностью, или знал бы, что число термоядерных бомб, необходимых для уничтожения средств ответного удара противника, таково, что его собственное население или даже все человечество серьезнейшим образом пострадает от радиоактивных осадков. Каковы бы ни были расхождения во мнениях экспертов, в целом мы еще ничего толком не знаем обо всем этом. И тогда возникает вопрос: начиная с какого объема возможных разрушений война перестает быть сколько-либо оправданным инструментом проведения той или иной, а в общемто любой политики? По окончании Тридцатилетней войны германское население сократилось наполовину. В 1941 г. первые битвы стоили Советскому Союзу многих десятков миллионов жителей и более трети промышленности — все это оказалось под властью немецких оккупантов. Тем не менее Советский Союз выжил и в конце концов победил.
Разумеется, лишиться из-за оккупации и утратить в результате уничтожения или потерять за несколько минут или за несколько лет — это совсем не одно и то же. Ограничимся пока что констатацией того, что появился совершенно беспрецедентный фактор, который надо учитывать при всех расчетах, связанных с термоядерным оружием: оно производит такие разрушения, что цена войны должна при любой разумной оценке сильно превышать выгоды и преимущества от победы. В таком контексте можно поставить под сомнение формулу Клаузевица о том, что “война есть продолжение политики иными средствами”.
Между миром, основанным на могуществе, и миром на бессилии существует третий его вид, по крайней мере в концептуальном аспекте: мир на удовлетворении. Валери как-то писал, что подлинный мир может царить лишь в таком мире, где все государства удовлетворены статутом. Однако подобный статут всегда отражает отношения, существовавшие по окончании предыдущего испытания сил. Статут, удовлетворяющий одних, вызывает новые требования и притязания со стороны других, поэтому между конфликтами бывают только передышки, притом довольно неустойчивые1.
Говоря абстрактно, каковы условия существования мира, основанного на удовлетворении? Возможно, нам поможет ответить на этот вопрос теория целей. Политические сообщества не должны, прежде всего, посягать ни на территории, выходящие за пределы их суверенитета, ни на господство над чужим населением. Это первое условие вовсе не абсурдно и даже, в общем, реализуемо. Предположим, люди сознают свою принадлежность к определенной нации, народу, и значит, хотят принадлежать к соответствующему политико-культурному сообществу. Почему правители хотят принудительно интегрировать группы людей в сообщество, для них чуждое, и запрещают им войти в национальное сообщество, которое они бы избрали или создали?
Предположим, что национальная идея стала общепризнанной и честно 1 Paul Valéry. Regards sur le monde actuel.
218
Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
проводится в жизнь. Достаточно ли этого? Конечно, нет: надо еще, чтобы политические сообщества не стремились расшириться ни ради того, чтобы увеличить свои материальные и людские ресурсы, ни ради распространения своих институций, ни для того, чтобы наслаждаться самой бессодержательной и самой опьяняющей из побед — гордыней царствования. Удовлетворение, рожденное соблюдением и уважением принципа легитимности, должно быть дополнено отказом от соперничества на земле и среди людей, отказом от того, наконец, чтобы сила и идея служили самолюбию, а точнее — себялюбию.
Ни одно из приведенных положений и пожеланий не является внутренне противоречивым и вполне могло бы быть реализовано. Однако будем осторожны: ничто не делается так, чтобы больше не оставалось ничего делать. Удовлетворение длительно и прочно лишь при условии, что оно всеобще. Если одно из действующих лиц амбициозно или подозревается в амбициозности, то разве могут остальные не вернуться в порочный круг соперничества? Если кто-то другой — сосед, злодей — замышляет убить нас, то не принять меры предосторожности было бы неразумно и даже преступно. Но какая мера предосторожности устранит превосходство в силе и его реализацию в подходящее время, как предотвратить накопление ресурсов, гарантирующих такое превосходство?
Другими словами, мир, основанный на удовлетворении, предполагает всеобщее взаимное доверие; он требует, следовательно, революции в практике и развитии международных отношений, революции, которая положила бы конец эпохи подозрений и открыла бы эру безопасности. Но эта революция, пусть даже она и не сразу проникнет в души, непременно должна затронуть институции. Иначе говоря, мир, базирующийся на всеобщем удовлетворении и взаимном доверии, не представляется мне реально осуществимым, если политические сообщества не найдут какого-то заменителя безопасности посредством силы. Такой заменитель дает всеобщая империя, поскольку она упраздняет автономию центров принятия решений. Господство закона, в кантовском понимании, тоже дает его в той мере, в какой государства обязуются подчиняться решениям того или иного арбитра, трибунала, ассамблеи и каждое из них не сомневается, что все остальные будут поступать так же. Но как развеять сомнения, если сообщество не в состоянии удержать, принудить, наказать преступников?
Всеобщее государство и господство закона — понятия не равнозначные, ибо первое выступает в контексте политики могущества, а второе — в контексте эволюции международного права. Тем не менее то и другое предполагает ликви. мцию того, что всегда составляло самую суть международной политики: соперничество государств, полагающих делом своей чести и долга самим отстаивать свою правоту.
Поэтому и не существовало никогда раньше международной системы, охватывающей всю планету. Отдельные системы в общем процветали лишь в условиях мира, основанного на могуществе. Хотя в некоторых зонах и в некоторые периоды наблюдались предпосылки мира, основанного на удовлетворении, однако отношения, построенные на могуществе и занимающие более обширную зону и более высокий уровень, не позволяли и не позволяют утверждать. 219. -
Мир и война между народами • Раймон Арон н
Часть I
что принципом мира бывало и может быть удовлетворение. С 1945 г. то там, то здесь стали пробиваться и давать всходы ростки мира на страхе (между Советским Союзом и Соединенными Штатами) и мира на удовлетворении (в Западной Европе). Но международная система имеет тенденцию стать общепланетной, и тем самым традиционные типы отношений приобретают видимость чего-то нового; они существуют один рядом с другим или комбинируются по какому-то чрезвычайно сложному закону.
3. Воинственный мир
Мир, который мы на предыдущих страницах подразделили на типы, строго определялся отсутствием войны, а не какой-нибудь позитивной доблестью (если воспользоваться одним из выражений Спинозы). Даже мирное состояние, основанное на удовлетворении, не выводит нас из мира эгоизма. Не ставится ли под вопрос само различение между миром и войной, поскольку ныне в ходу такое понятие как холодная война? Я думаю, что не ставится. Говорят, что вместо формулы Клаузевица—война есть продолжение политики иными средствами — теперь действует обратная формула: политика есть продолжение войны иными средствами. Но обе формулы равнозначны. Обе они выражают непрерывность соперничества с применением средств поочередно насильственных и ненасильственных, но при этом цель остается по сути одной и той же. Самое большее, что можно сказать в качестве добавления, так это то, что сфера применения полунасильственных средств, считающихся законными в мирное время, имеет тенденцию к расширению и что рекомендация Монтескье: “Государства должны делать в мирное время как можно больше добра, а в военное время как можно меньше зла”, — сегодня так далека от практики, как никогда раньше. Вероятно, она и вообще никогда не бывала очень близка к практике.
Тем не менее ситуация, названная холодной войной, имеет свои специфические черты, одни из которых тяготеют к характеристикам мира на страхе, другие —к двойной разнородности системы: исторической и идеологической, достигшей пределов всей планеты. Эти специфические черты можно резюмировать, как мне думается, тремя словами: устрашение, убеждение, подрыв, — которые обозначают три разновидности дипломатическо-военной стратегии холодной войны.
Мир на страхе влечет за собой применение стратегии уже и без меня получившей название стратегии устрашения. Каждая из обеих сверхдержав, располагая более или менее равноценными средствами разрушения, устраивает спектакли одна для другой, угрожая применить в случае необходимости и как последний аргумент оружие массового уничтожения. Так что же, неужели мир на страхе предполагает некое постоянство, окончательную и нескончаемую холодную войну (если, конечно, вдруг не будет достигнуто соглашение о всеобщем и контролируемом разоружении)? Этого нельзя утверждать наверняка. Нынешняя фаза мира на страхе имеет свои, особые характеристики.
Прежде всего, речь идет именно о нынешней, то есть первой, фазе мира на страхе. Человечество еще не свыклось с новой “вселенной”, которую оно исследует на ощупь; оно пока что никак не может избавиться от угрозы термоядерной войны, желая, чтобы эта угроза не - 220 & Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
осуществилась никогда, но не зная, к чему же приведет в конце концов стратегическое применение лишь угрозы и ее, так сказать, невоплощение в жизнь. Когда Соединенные Штаты обладали монополией на атомное оружие, Советский Союз имел огромное превосходство в классических видах оружия. Неравенство в риске, которому подвергались партнеры по атлантическому союзу — европейские, с одной стороны, и американские, с другой, — создавало климат взаимной подозрительности. Стремление к миру государства, которое потеряло бы меньше всех в случае войны, никогда не кажется достаточно искренним и решительным для его союзников, которым не на что надеяться в случае конфликта, даже если он завершится победой. Этим подозрениям был положен конец, но не потому, что Советский Союз начал производить атомные и термоядерные бомбы. А потому, что были поставлены на вооружение стратегические бомбардировщики и, особенно, баллистические ракеты: все на Западе почувствовали, что находятся в одной лодке.
Но тут возникла другая причина для опасения: обеспечен ли мир на основе страха? В какой точке, на какой верхней планке он может быть подорван в условиях, когда то Соединенные Штаты, то Советский Союз обгоняют друг друга в гонке вооружений, в создании бомб и ракет-носителей, в пассивной обороне в виде защиты населения и в активной обороне, когда могут уничтожаться ракеты-носители противника? Или еще, если предпочтительно высказать ту же мысль иначе и, вероятно, даже лучше: в какой мере равновесие страха нестабильно или стабильно в сравнении с равновесием сил, которое, безусловно, нестабильно? Если бы равновесие страха было совершенными том смысле, в каком мы определили это слово, то есть безупречным, то понятие равновесия сил потеряло бы всякое значение. Однако теоретики и государственные деятели не пришли к единой точке зрения на этот счет. “Гонка изобретений” поддерживает, правомерно или нет, глухое и часто скрываемое беспокойство по поводу того, а не окажется ли равновесие страха столь же непрочным и хрупким, что и старое равновесие сил.
В то же время и все человечество задается вопросами относительно видов на будущее: желательно или достойно сожаления и тревоги увеличение числа членов атомного клуба? Имеются ли в изобилии аргументы и в пользу каждой из обеих частей этой альтернативы. Могут ли завтра быть защищены какимлибо из своих союзников государства, не имеющие атомного оружия? Возьмут ли на себя Соединенные Штаты непомерный риск разрушения своих собственных городов, чтобы спасти Западный Берлин сегодня и Западную Европу завтра? Или же русские поверят, что США готовы пойти на такой риск? Но разве не содрогнешься, представив себе, что лет через десять-пятнадцать такие государства, как Египет или Китай будут обладать оружием, взрывная сила которого исчисляется тысячами (бомба, сброшенная на Хиросиму, — это двадцать тысяч) и миллионами тонн тринитротолуола (термоядерная бомба)?1 1 Одна термоядерная бомба имеет взрывную силу, превосходящую взрывную силу всех бомб, сбро шенных на Германию в 1939—1945 гг.
Мир и война между народами • Раймон Арон <221
Часть I
Короче говоря, люди всегда развязывали войны, которые они готовили накануне. Древний мудрый совет “Si visрасет para bellum” (Хочешь мира, готовься к войне), оправдывал приготовления к ней. но никогда, как бы чистосердечно и без задней мысли ни следовали этому совету, приготовления не предотвращали войну. Так можно ли в качестве дипломатического средства пользоваться таким способом, как угроза войны, избежать которой государства хотят почти любой ценой?
С миром на основе страха комбинируется идеологическое соперничество, характерное для всех разнородных систем. В системе, охватывающей Северную Америку. Европу и северную часть Азии, оба главных действующих лица не конфликтуют ни за земли, ни за населяющих эти земли людей. И Соединенные Штаты и Советский Союз владеют малозаселенными пространствами, у них есть резервы пригодной для обработки земли, им не приходится опасаться роста своего народонаселения. А между тем во всякой двухполюсной системе ведущие игроки, неспособные властвовать совместно, обречены на состязание, и всякий успех одного видится другим как опасность. Сегодняшние “великие” не могут господствовать вместе ввиду несовместимости их институций и принципов легитимности1 . Поэтому их театр действий — вся планета, а все спорные границы и “спорные” страны — ставки в их жесткой игре, завершить которую они не хотят с помощью меча и не могут с помощью переговоров.
Далеко не все разнородные системы следует рассматривать как эквивалент, в той или иной степени, нынешних форм холодной войны. Источником новизны выступает в данном случае комбинация индустрии и всеобщей воинской повинности, техники и демократии. В ходе первой мировой войны воюющие стороны обнаружили, что граждане, “одетые в солдатскую форму” не так легко, как профессиональные военные, готовы жертвовать жизнью, не зная ради кого или чего это нужно делать. Пропаганде для организации энтузиазма в тылу, на фронте были необходимы элементы идеологии, политическое и нравственное оправдание того дела, которому отдается столько жизней и столько богатств. Логика оправдания накладывалась на военные соображения и переплетались с ними. Если дело союзников — справедливо, то дело центральных держав — несправедливо. А если убежденность в своей правоте поддерживает боевой дух и, значит, составляет элемент силы, то полезно распространять, по ту сторону линии огня, сомнения насчет праведности того дела, которое защищают или верят, что защищают, чужие солдаты и граждане. Так каждый лагерь неизбежно переходил от организации энтузиазма у себя к организации пораженческих настроений у противника.
Достаточно некоторых технических средств (радио, телевидение) и прихода к власти революционных партий, чтобы сделать перманентной эту войну разнонаправленной пропаганды, газет, листовок, радиоволн. Пропагандисты союзников хотели оторвать немецкий на1 Часто возникает вопрос: стремятся ли в конечном счете Соединенные Штаты и Советский Союз к безопасности (или к могуществу) или же они, напротив, хотят распространения своих идей? Однако такой вопрос лишен смысла. Даже если государственные деятели думают, что хотят либо того, либо другого, они не могут не преследовать в качестве единой цели и то и другое, потому что одно неизбежно влечет за собой другое.
222 .■
Раймон Арон • Мир и война между народами
род от своего режима (и до некоторой степени им это удалось): “Вы воюете не за самих себя, — кричали они во все рупоры, — вы воюете за ваших хозяев, деспотов, которые обманули вас и ведут к пропасти, а мы воюем не с германским народом, а с имперским деспотизмом”. Кто бы и как бы ни судил о Версальском договоре, но в глазах побежденных он должен был оказаться злобной насмешкой над теми надеждами, которые вселяла в них пропаганда демократических держав в ходе войны. Совершенно так же обстояло дело в 1939—1945 годах: каждая сторона, или партия, старались убедить массы вражеской стороны, что они воюют в интересах меньшинства эксплуататоров, капиталистов, плутократов, нацистов, евреев, коммунистов, а не в интересах отечества и не за то, чтобы в нем наконец установился справедливый режим. Курьезным образом эти пропагандистские действия нейтрализовали друг друга или же нейтрализовывались ошибками и промахами государственных деятелей и стратегов. Все народы шли до конца за своими шефами: присутствие германских оккупационных армий возрождало традиционный патриотизм, реакцией на жестокости оккупантов в России становилось единение советского режима с населением, англо-американское требование безоговорочной капитуляции отнимало у противников национал-социализма то, что могло бы быть их наилучшим аргументом, — шанс избежать полного поражения страны (а не поражения лишь национал-социализма).
Когда Европа оказалась разделенной на советскую зону и зону плюралистской демократии и когда сохранилась унаследованная от войны привычка устраивать радиовещание на иностранТеория
ных языках, постоянным и как бы нормальным аспектом отношений и связей между народами стала организация пораженческих настроений вовне, если уж не организация энтузиазма у себя дома. Брань и хула в адрес иностранных режимов уже не достигают той степени резкости, какая была во время военных действий. Западные радиопередачи для стран Восточной Европы становятся более информативными, а не открыто идеологическим сражением. Но информация — тоже оружие, она предназначена быть оружием, поскольку обращена к гражданам через головы правителей и нарушает монополию, на которую претендует государство. В наше время холодной войны психологическое оружие направлено на то, чтобы, как минимум, не позволить тоталитарным режимам оставаться наедине со своими народами: снова и снова мы видим, как появляется “третий человек” — иностранец, то есть мировая общественность. Он, этот третий, не устраняет полностью, не ограничивает современную форму монархического права — права на официальную ложь, на исключительную монополию на информацию и на толкование слова.
Трудно точно измерить эффективность стратегии устрашения, но опыт подсказывает, что она не расшатывает и не потрясает ни советских режимов, ни режимов плюралистских, или, если выразить это в понятиях, более для меня предпочтительных, режимов с монополистскими партиями и режимов конституционно-плюралистских — при условии, однако, что первые опираются на национальную партию, которая действительно свершила революцию, а вторые демонстрируют, что исполняют волю масс и внушают им чувство, что Мир и война между народами • Раймон Арон
223
Часть I
управляют ими по их воле. Отнюдь не западная стратегия устрашения вызвала восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. и не советская стратегия устрашения ответственна за крушение Четвертой республики во Франции.
Совсем иначе обстоит дело, когда устрашение трансформируется в подрывную деятельность, иначе говоря, когда к словам, определяющим, что есть возбуждающее, а что не есть таковое (режим будущего или режим чужого) добавляются действия, направленные на ниспровержение установленной власти и замену ее какой-то другой властью. Мы говорим о технике подрывной деятельности, а не о подрывной войне, потому что последнее словосочетание представляется мне неясным и двусмысленным. Оно может привести к путанице между собой юридически определенного вида конфликта и способа ведения боя. Конечно, имеется очевидная связь между конфликтами, в которых, с одной стороны, в начальной точке, лишь одна из воюющих сторон признана на международном уровне и пользуется своими способами подрывных действий; с другой — революционная партия, или сторона, не имеющая совсем или имеющая очень мало организованных вооруженных сил, вынужденная прибегать к подрывным действиям. Но тем не менее эти два положения остаются концептуально различными, а зачастую бывают различными и в действительности.
С правовой точки зрения войны, привычно называемые французскими авторами подрывными или революционными, принадлежат к роду конфликтов, которые мы обозначили как субгосударственные или субимперские. Они могут находиться на начальной стадии и в ряду гражданских войн, потому что только один из лагерей имеет признание со стороны международного сообщества. Но не все гражданские войны являются войнами подрывными; в американской войне за отделение нескольких штатов, юридически гражданской войне, противостояли друг другу две власти, которые были организованными с самого начала. А такие действия против установленной власти, какими были, например, действия генерала Франко, не всегда сопровождаются использованием средств, которые, по мнению французских теоретиков, составляют самую суть подрывной войны, а именно—переубеждение в свою пользу масс и вербовка их в свои ряды. Подрыв, подрывная работа есть оружие, используемое той или иной партией, национальной или революционной, в целях ликвидации власти, которой располагает военный и административный аппарат.
Хотя все революционные партии относятся к одной и той же правовой категории и почти все они прибегают к подрывной тактике, все же между многими конкретными случаями следует проводить различие в зависимости от соотношения и отношений между установленной властью и революционной партией. В Китае ставкой в борьбе был режим государства, существование которого не подвергалось сомнению. Чан Кай-Ши и Мао Цзэ-дун хотели, каждый, быть главой “вечного” Китая. Какие люди и во имя каких идей возьмут на себя управление Срединной империей и адаптируют ее к требованиям индустриального века — таковы были вопросы, дать ответ на которые должна была гражданская война. В Индонезии, Индокитае, Тунисе, Марокко, Алжире ставкой была независимость населения, подчиненного иностранному господству, 224
■ ■ Раймон Арон • Мир и война между народами
или независимость государства, которое ранее передало свой суверенитет государству-протектору. Алжирская война порождена мятежом. Националисты Фронта национального освобождения — мятежники, и французское правительство утверждало, что речь идет о внутреннем деле Франции. Однако и исторически, и социологически все войны после 1945 г., именуемые подрывными в публикациях французских авторов, — от Индонезии и Индокитая до Алжира, — относятся к категории, которая не определяется в понятиях гражданской войны: эти войны, которые разрушают империи и определяются как подрывные теоретиками бывшего имперского государства, именуются на языке националистов освободительными войнами. Никто ничего не поймет в природе и характере таких конфликтов, если будет анализировать лишь техническую сторону подрывной деятельности и забудет о двух существеннейших обстоятельствах — о симпатии очень значительной части в целом нейтральной общественности к борьбе против колониализма и о расовой, языковой, религиозной общности между революционерами и массами, а не между массами и установленной властью.
В абстрактной формулировке подрывная деятельность имеет целью вывести население из административного и нравственного подчинения существующим властям и привлечь его, в политическом и военном отношении, на свою сторону, что часто совершается в ходе и посредством вооруженной борьбы. Вполне ясно, что успех или провал зависит здесь прежде всего от характера стихийно возникающих отношений между активным меньшинством, ведущим борьбу, и массой населения.
Теория
Для Запада с его точки зрения самое важное — это отношение активного меньшинства к коммунизму (к местной партии или всему советскому блоку). Когда это меньшинство состоит из коммунистов или руководится ими, как было в Индокитае, то национальное освобождение сопровождается установлением режима, входящего в советский лагерь. Когда меньшинство включает в свой состав коммунистическую фракцию, западная стратегия в нерешительности колеблется между опасением коммунистического продвижения и желанием благоприятствовать “национальному освобождению” (умеренные националисты обычно чуждаются коммунистов и противостоят им). Когда меньшинство выступает как антикоммунистическое, западные стратеги (исключая тех, кто принадлежит к соответственной бывший имперской державе) склоняются к поддержке дела националистов, поступая так из идеологической симпатии или из расчета. В данном случае бывает и так, что комментаторы и прочие представители затронутой бывшей имперской державы утверждают, что национальная революция обернется к выгоде коммунистов, хотя намерения и убеждения националистов — совершенно иные.
Однако, каковы бы ни были достоинства или изъяны обеих возможных западных стратегий, касающихся колониальных территорий, когда одна уступает, а другая сопротивляется националистским требованиям, сами события — как говорится, события “на месте” — определяются в первую очередь и главным образом отношениями между революционерами и массами, а не отношениями между революционерами и блоками, дерущимися между собой на мировой Мир и война между народами • Раймон Арон 225 да
Часть I
арене. Исход этих войн, о которых мы сейчас говорим, приобретает свое историческое значение в рамках и контексте общепланетной дипломатии, но конкретные причины побед или поражений в них имеют значение по преимуществу местное, локальное.
4. Диалектика антагонизма
Устрашение, убеждение, подрыв — эти три понятия обозначают способы действий, а следовательно, виды поведения, ориентированные на поведение других людей, людей нейтральных или же являющихся объектом какого-либо интереса. Анализ этих трех способов действия, даже на самом высоком уровне абстрагирования, неполон, поскольку в нем не учитывается диалектическая сущность политики, закон антагонизма. Каждый из этих способов применяется, самое меньшее, двумя действующими лицами: получается диалог участников событий, фиксирующий и выявляющий смысл того или иного действия.
Стратегия устрашения казалась односторонней, когда Советский Союз еще не располагал средствами для ответного удара по Соединенным Штатам, а те уже были способны нанести удар по СССР. Такая асимметрия была скорее кажущейся, чем реальной, пока Европа оставалась беззащитной. Потом и сама видимость асимметрии исчезла, и одновременно возникло сомнение в эффективности устрашения, ибо оно стало взаимным. В какой мере угроза убить имеет значение, если за смертью другого последует наша собственная смерть? Применима ли в дипломатии угроза общего самоубийства?
В третьей части книги мы подробно рассмотрим проблемы дипломатии в атомный век. А пока просто перечислим три возможности, содержащиеся, говоря абстрактно, во взаимной способности уничтожения. Если война означает общее самоубийство, то либо сверхдержавы не будут воевать друг с другом, либо воевать будут, но без применения слишком разрушительного оружия, с тем чтобы война оставалась в рамках рациональности, либо, наконец, они будут воевать не сами, а через сателлитов и союзников или так сказать, заслоняться друг от друга нейтральными странами. Мир, неатомная война, война с участием или без участия членов атомного клуба — таковы три гипотезы, соответственные этим возможностям. Ограниченной, неатомной войны между двумя сверхдержавами мировой системы до сих пор не было, как будто инициаторы игры не доверяют сами себе, опасаясь, что опьянение борьбой и желание добиться победы любой ценой заставят замолчать голос разума и заглушат простой инстинкт самосохранения.
Мне думается, что сама взаимность устрашения в конце концов нейтрализует ту стратегию, которая должна быть односторонней, чтобы быть всецело убедительной и для себя, и для противника. Чем более бесчеловечна, так сказать, рекламируемая угроза, тем реже возникают обстоятельства, когда она принимается всерьез. Односторонняя стратегия устрашения заставляет противника чувствовать смертельную опасность. Будучи двухсторонней, она распространяет такую опасность на всех участников событий. Всякая взаимная договоренность уменьшает шансы применения соответствующего оружия, а в данном случае увеличивает степень невероятно-
226 '
Раймон Арон • Мир и война между народами
сти реализации угрозы применения термоядерного оружия.
В обстановке устрашения асимметрия связана с различием между взаимно борющимися режимами. Фактически конституционно-плюралистский режим терпит существование у себя партий, которые привязаны “душой” к другой стране и другому режиму. Хотя, в соответствии со своими принципами, он имеет право не терпеть у себя заговора, этого начального этапа мятежа. На практике же ему очень трудно отличить убеждение от подрыва, пропаганду от заговора. Поэтому западные демократии и не мешают “иностранным националистам” выступать публично и организовываться, тогда как в режимах, к которым эти националисты решили примкнуть, никто не имеет права выступать в поддержку Запада.
Тем не менее было бы ошибкой слишком преувеличивать последствия такого “неравенства шансов”. Запад “присутствует” в Советском Союзе несмотря на всяческие глушения радиопередач. Когда советские руководители повторяют и повторяют установку Сталина, выдвинутую им еще в начале первой пятилетки, — догнать и перегнать Соединенные Штаты, — они тем самым признают американское превосходство в производстве, производительности, уровне жизни. Экономисты, философы, пропагандисты читают работы западных авторов и не перестают вступать с ними в диалог. Иногда слишком ретивая официальная пропаганда забавным образом вызывает прямо противоположный эффект. У некоторых, по ту сторону железного занавеса, складывается чрезмерно радужное представление о Теория
жизненном уровне на Западе, потому что они не верят в карикатурное изображение капитализма, распространяемое официальными публицистами и комментаторами. Быть может, в долговременной перспективе режим, основанный на государственной монополии политического толкования всего и вся, более уязвим, чем режим (если он, конечно, функционирует нормально), приемлющий диалог, внутренний и внешний1.
Взаимное равенство возможностей действовать еще более важно в случае подрывной деятельности, потому что ответ равноценен вызову, репрессия равна подрыву, и получается впечатляющая симметрия действия и противодействий и, можно сказать, симметрия в действиях революционеров и консерваторов. Первые хотят развалить существующее сообщество, отделить от него индивидов, а затем интегрировать их в другое сообщество. Ядром этого другого сообщества служит подпольная организация, и когда она берет на себя управление страной и отправление правосудия, это значит, что замена прежнего сообщества сообществом мятежным свершилась. Так какова же может быть цель репрессий, кроме как разрушить подпольную организацию, уничтожить ядро возможного будущего сообщества и вернуть население, материально и морально, в сообщество существующее? Такая цель вполне достижима, как утверждают теоретики репрессивных действий, каковы бы ни были чувства и настроения населения, ибо лишь меньшинство способно действовать энергично, смело, жертвенно, чего и требует подпольная работа, а без твердого ядра активистов массы склоняются к пассивности.
1 См далее, гл XVII (в третьей части книги)
Мир и война между народами • Раймон Арон
227 .
Часть I
Стратегия убеждения, то есть совокупность способов изменить или, напротив, укрепить чувства, мнения, убеждения людей, образует один из элементов стратегии подрывных действий и репрессий. Националист из Фронта национального освобождения хочет убедить алжирского мусульманина в том, что тот никогда не был, не является и никогда не будет французом, а следовательно, у него нет иного отечества кроме Алжира. Французские специалисты по психологическому воздействию хотят внушить ему, что, хотя он и не был никогда полностью французом, теперь он им будет и что алжирское отечество, провозглашаемое ФНО, есть чистое надувательство и принесет ему одни беды и невзгоды. Адресованный мусульманам диалог между приверженцами алжирской независимости и защитниками французского Алжира немедленно и диалектически превращается в подрыв и репрессию, как только революционеры прибегают к насилию, чтобы разрушить существующее сообщество и доказать на практике факт раскола между мусульманами и французами. И тогда террор, этот решающий элемент стратегии устрашения, становится одним из главных видов оружия в подрывных действиях.
Слово “террор” использовалось в нашу эпоху, по меньшей мере в четырех контекстах: немцами для квалификации бомбардировки городов: представителями установленной власти — немецкими оккупационными властями во Франции или французскими властями в Алжире — чтобы заклеймить участников Сопротивления или националистов: всеми авторами, характеризующими один из аспектов тоталитарных режимов; наконец, и это стало вполне обычным, чтобы обозначить обстановку двустороннего бессилия обеих сверхдержав, вооруженных термоядерными бомбами. Эти различные применения одного и того же слова выявляют некоторые существенные, глубинные свойства нашей эпохи и обнаруживают взаимное родство всех трех сегодняшних стратегий.
Бомбардировки городов, “рейды террора”, как писалось в германских коммюнике, преследовали материальные цели. Они вынуждали противника выделять немалые ресурсы для активной и пассивной обороны, расчистки развалин, поддержания общественных служб. Прямо или косвенно они сокращали производство. Но они также имели целью воздействовать на моральный дух населения. Называя их “рейдами террора”, германские власти как бы отрицали их чисто военное предназначение и приписывали им единственную задачу — ослабить коллективную волю немцев к сопротивлению. Верно это или неверно, но такая интерпретация была ответом на стратегический замысел союзников. Они, быть может, и в самом деле преследовали главой целью сломить дух населения, но не признавались в этом. А если бы признались, то сильно снизилась бы эффективность метода: по их замыслу, немцы должны были думать, что разрушение городов отвечает военной необходимости. Германское правительство, напротив было заинтересовано в том, чтобы говорить именно о рейдах террора — одновременно для того, чтобы изобразить противника как злодея и чтобы граждане, непосредственно страдавшие от бомбежек, имели волю и гордость держаться как солдаты на линии огня.
Террористическим называют такое действие, психологические результаты которого неизмеримо выше результатов ш 228 ' - Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
чисто физических. В этом смысле так называемые беспорядочные покушения революционеров, то есть не подготовленные заранее против конкретных лиц, являются террористическими актами, каковыми были и англо-американские бомбежки целых зон. Отсутствие целевой преднамеренности способствует распространению страха, так как если никто не служит конкретной мишенью, то никто и не защищен. Фактически бомбардировки были эффективными, и весьма, когда имели целями пути сообщения и заводы по производству синтетического горючего. А беспорядочность, или неадресность была, вероятно, ошибкой, даже в психологическом отношении. Разрушение заводов поколебало бы веру населения, тогда как развалины домов, уничтоженных без какого-либо военного мотива, скорее ожесточали, чем обескураживали людей. Возможно, городской терроризм революционеров имел бы такой же обратный их ожиданиям эффект, если бы он совершался по отношению к однородному населению. А когда население смешанное, как в Алжире, то ожесточение одного из сообществ вызывает раскол, которого как раз и хотят мятежники, а консерваторы стараются предотвратить. Раскол же между французами, уроженцами Алжира, с одной стороны, и мусульманами Алжира, с другой, лишь подтверждает идейный тезис ФИО и опровергает тезис существующих властей.
При “безадресном терроризме” местные французы смотрят на всех мусульман как на подозрительных и даже стараются отомстить любому из них, попавшемуся под руку случайно. Если терроризм неизбирателен, то и репрессивный ответ тоже может быть неизбирательным, нецелевым. Будучи подозреваемыми, все мусульмане чувствуют себя исключенными из существующего сообщества. Доверие между ними и французами исчезло. А без доверия нет никакого сообщества: если люди не знают, что они могут ожидать друг от друга, они фактически не составляют сообщества. Все устрашены, и каждый одинок.
Неизбежные ошибки репрессивных действий усиливают расчленение и распад общества. Когда наказанию подвергаются слишком много невиновных, уход в сторону и нейтральная позиция перестают казаться собственной защитой. Активистам не составляет особого труда рекрутировать себе бойцов, когда риск действия, незаконного в правовом отношении, почти не отличается от риска быть пассивным, хотя пассивность вполне законна.
Вместе с тем теперь можно понять, почему и как совершается переход от террора, создаваемого диалектикой подрыва и репрессии, к террору, возведенному на уровень системы правления. Вспомним доклад Хрущева, где он рассказывает о сталинских временах. Почему ни один из членов Политбюро не мог восстать против деспота и положить конец преступлениям, которые совершались “в обстановке культа личности”? Хрущев в качестве основной причины ссылается на то, что народ этого не понял бы, но он достаточно ясно говорит и о другой причине: высшие должностные лица государства не осмеливались довериться друг другу. Никогда еще не получала столь блестящего подтверждения иллюстрации теория Монтескье о страхе как принципе деспотизма. Когда командует один человек, притом без закона и правил, страх сближает всех остальных людей в их общем бессилии.
Мир и война между народами • Раймон Арон
? 229 ? *
Часть I
Нынешний советский председатель совета министров обвинял, или упрекал Сталина также в том, что тот не проводил никакого различия между видами и степенями виновности и установил практику коллективного наказания. Оппозиционеры были не правы, говорил Хрущев, но нельзя их было всех считать предателями или агентами гестапо. При этом, рассматривая любого уклониста как врага, путали честных партийцев с уклонистами. В данном случае дело сводилось к типичному феномену революционных периодов — к обобщению подозрения. И совсем не случайно, что ключевое понятие всех фаз террора—подозреваемый. Бесчисленны те, виновные или невиновные, кто чувствует над собой эту смутную угрозу. Да и как тысячам и миллионам не быть подозреваемыми, если установившаяся власть — это новая власть, и они видит себя окруженной врагами?
Среди подозреваемых определенные группы сами по себе находятся в поле зрения властей. Они оправдывают подозрения самим фактом своего существования, независимо от каких-либо действий. Все “бывшие” были подозрительны якобинцам. Все “инородцы” были подозрительны в годы сталинского безумия, и Хрущев говорил о депортации целых народов и народностей, когда украинцы избежали такой же участи лишь потому, что их очень много. Перестает существовать градация серьезности “преступления”, поскольку все уклонисты подпадают под категорию предателей, но сохраняется неравенство коллективов, так как некоторые группы подозреваются больше, чем другие.
С какого-то момента подрыв и репрессия могут, тот и другая, оказаться в некоем порочном круге собственно политического террора. В любой войне пораженцы обвиняются в подготовке самого поражения, за которое они выступают идейно, но иногда и действительно способствуют ему фактически Да и как не полагать, что существующая власть будет ослаблена теми гражданами, которые ставят под сомнение деятельность и даже законность этой власти? Француз, сомневающийся в правомерности существования “французского Алжира”, объективно способствует алжирским националистам. Даже если не принимать в расчет его намерений и взглядов, он все равно будет уподоблен предателю, потому что он фактически помогает врагу. Таким же образом мусульманин, отказывающийся выполнять указания ФИО, выглядит добропорядочным в глазах французов. Но он, по мнению ФНО, предатель своего алжирского отечества, как выступает предателем Франции либеральный француз в глазах ультра.
Если сравнивать консерваторов и революционеров, то именно последние заходят дальше всего в политическом терроре в то самое время, когда происходит так называемая подрывная война. Идет ли речь о сохранении подпольного ядра или о том, чтобы перетянуть на свою сторону колеблющихся и нейтральных, одного убеждения недостаточно. Надо еще, чтобы упадок духа карался смертью, ибо упадок духа подстерегает бойцов, которые могут бороться лишь с винтовками в руках против самолетов и танков; надо, чтобы попытки пойти на переговоры или отказ выполнять приказы наказывались беспощадно, потому что легитимность политической организации, находящейся в изгнании или в подполье, имеет под собой шаткую основу. Надо, чтобы были 230 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
устранены “коллаборационисты”, потому что они своим примером отбрасывают назад дело, за которое борется и умирает столько людей. Когда диалектическое взаимодействие подрыва и репрессии длится во времени, консервативное государство мало-помалу ограничивает свободы, а революционеры умножают акты насилия, чтобы как-то сколотить собственное сообщество и развалить смешанное сообщество, которому они объявили войну.
Техника так называемого перевоспитания, ли промывания мозгов, развертывается, исходя из объединенной стратегии убеждения и подрыва. В данном случае работа, характерная для подрывной деятельности и направленная на развал существующего сообщества и интеграцию вырванных оттуда индивидов в другое сообщество, проводится не подпольно, а вполне открыто, в лагерях для военнопленных. Результаты здесь бывают асимметричными: немногие американские солдаты были переубеждены, тысячи китайских солдат (но из тех, кто ранее служил в армии националистического Китая) отказались вернуться на родину. Техника эта не всемогуща. В Индокитае взятые в плен французские солдаты и офицеры тоже прошли испытание перевоспитанием: целью было не превратить их в членов вьетнамского сообщества, а разъяснить им их роль в войне и показать им целую “вселенную”, как она выглядит согласно идеологи их противника. Согласившись признать за Францией грех империализма и правомерность и славу борьбы вьетнамца за свободу, эти французы как будто бы дезавуировали свое отечество и согласились с правотой своих охранников. Однако эффект такого перевоспитания редко держался больше нескольких недель, после того как пленные были освобождены и вернулись в свою национальную среду.
Побудительные мотивы всей этой практики столь же стары, что и попытки обратить в иную веру: инквизиторы хотели спасти души, победители или революционеры хотят добиться от побежденных или “бывших” клятвенного заверения, что они отказываются от своих прежних убеждений. Признания вины самими подсудимыми на московских процессах были лишь притворством новообращения, гротескным и чудовищным. Наверное, большинство китайских интеллектуалов, воспитанных на прежних ценностях, не очень-то верят в версию своего собственного прошлого, которую они потом придумали сами, используя понятия и концепции правящей партии. Однако вера и скептицизм не всегда существуют раздельно в душах, соответственно, свободных бойцов и пленников, перевоспитателей и новообращенных. Каким-то образом соратники умирающего Ленина продолжали верить, что “партия — это и есть пролетариат” и что Сталин, руководивший партией, неотделим от пролетарского дела. Идеологическая мысль развивается как бы по цепочке, от одной идеи к другой, а все идеи остаются связанными единой цепью; это всегда резонерская мысль, хотя часто она бывает нерезонна. Нет ничего легче как подписаться под рассуждениями, которые сами по себе похожи на правду, но становятся абсурдными соприкоснувшись с действительной жизнью.
Инакомыслие и репрессии порождают технику перевоспитания, поскольку они направлены на разрушение одного сообщества и создание другого. Сообщества, намеченные быть разрушенМир и война между народами • Раймон Арон 231
Часть I
ными или созданными, являются сообществами идеологическими в случае гражданской войны и национальными в случае войны освободительной. Поэтому шансы на перевоспитание силами и умением как одной, так и другой из противоборствующих сторон заранее определяются не качеством средств и способов перевоспитания, а натурой и характером самих людей, подвергающихся этой процедуре. Марокканец-националист никогда бы не смог, каковы бы ни были продолжительность его пребывания в лагере пленных и изворотливость психотехников, приобщиться к идее и делу величия Франции. Алжирцы—из тех, кто всерьез посвятил себя националистическим задачам, — тоже принадлежат к разряду неподдающихся. Вообще идеи более мягки и податливы, чем души: ощущение себя как частицы нации, народа, вписано в души, а не в идеи.
*♦*
Холодная война находится в точке соприкосновения и совмещения двух исторических рядов: один ведет к созданию и совершенствованию термоядерных бомб и баллистических ракет, к непрерывному изобретению все более разрушительных видов оружия, все более быстрых и дальних ракет-носителей: другой делает все более четким и подчеркнутым психологический элемент конфликтов, который становится сильнее, чем само физическое насилие. Встреча этих двух рядов различима вполне ясно: чем больше орудия насилия превосходят, так сказать, человеческий уровень, тем меньше люди настроены их реально применять. Такая несоразмерность техники низводит, или возвращает войну к той сути, которая заключается в пробе не сил, а воль. Это выражается либо в том, что угроза действия заменяет собой само действие, либо в том, что взаимная беспомощность свехдержав не позволяет им идти на прямые конфликты друг с другом. Вместе с тем это обстоятельство расширяет поле — правда, без слишком большого риска для человечества в целом, — на котором свирепствует подпольное или рассеянное, рассредоточенное насилие.
И если мир, основанный на страхе, и злой изобретательский гений, проявляющий себя в науке разрушения, совпадают с веком подрывной деятельности, то причиной тому служат как раз такие исторические события, о которых я говорил. Вторая мировая война ускорила закат Европы, лишив престижа и силы тех, кто в начале века считал себя хозяином всего мира. Сам Запад вернулся к практике создания регулярных армий, к признанию легитимности войн и к практике мобилизации тех, кого называли солдатами, не одетыми в солдатскую форму. В 1914— 1918 гг. воинская повинность универсализировала обязанность носить оружие, исключая тех, чей труд в тылу считался более полезным обществу, чем принесение себя в жертву. В 1939—1945 гг. участие в войне гражданских лиц приняло другие формы — пассивную под бомбежками, активную при сопротивлении. Граждане сами организовывались для борьбы против оккупантов. Эффективное или нет в чисто военном отношении, сопротивление гражданских лиц свидетельствовало о том, каковой была ставка в той войне. Перефразируя слова Валери, приведенные нами выше1, можно сказать, что человек, не одетый 1 См. параграф 2 этой гл.
232 Раймон Арон • Мир и война между народами
Теория
в солдатскую форму, защищал свою душу. Победа того или другого лагеря означала — или казалось, что означает — силовое принудительное обращение душ в новую веру.
Мир, покоящийся на страхе, означает, что над человечеством висит глобальная и ужасающая угроза уничтожения. Это заставляет каждого индивида самому выбирать свою судьбу, свою партию, свой народ. Термоядерная угроза низводит людей к своего рода коллективной пассивности. Психологическое оружие в руках революционеров или консерваторов нацелено на всех, потому что оно нацелено на каждого.
Мир и война между народами • Раймон Арон чч.^ .г; 233
социология
ДЕТЕРМИНАНТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Введение
Границы между чистой теорией и конкретными социологическими исследованиями в общественных науках довольно легко провести лишь абстрактно, но очень сложно определить их на практике. Даже в экономике, теория которой построена строго и систематично, подобные границы часто бывают весьма расплывчатыми. Какие данные и концепции рассматривает экономическая теория и какие лежат вне ее как таковой? Ответы на эти вопросы варьируются в зависимости от определенной эпохи и тех или иных экономических школ. Так и в социологии теорию отделяют от изучения текущих проблем свои собственные концепции и специфические логические построения.
В первой части книги были определены концепции, которые позволяют интерпретировать логику ведения внешней политики. В трех начальных главах дан анализ дипломатии и стратегии во внешней политике, рассмотрены факторы, от которых зависит могущество политических систем и наконец, сформулированы цели, достичь которых пытаются государственные деятели. Три последующих главы посвящены средствам и целям управления внешней политикой в рамках международных систем. Анализ этих систем состоял из двух этапов: сначала — определение особенностей, характерных для любой системы (однородной или разнородной), в частности, соотношения сил между различными ее элементами, и юридической регламентации ее функционирования; затем дано описание двух идеальных типов систем — многополюсной и двухполюсной. Такая характеристика систем подводит к вопросу о диалектике мира и войны. В последней главе первой части книги перечислены типы мира и типы войн, включая промежуточные формы, окрещенные как холодная война или воинственный мир, или революционная война.
Изложенная теория устанавливает, что исследование международных отношений целесообразно проводить в трех конкретных направлениях:
1. Для социолога и историка основными элементами, описание которых необходимо при исследовании конкретной ситуации — это границы и природа дипломатической системы, цели и средства участников данного события и т. д.;
2. Если социолог или историк, сверх этого, желает понять принципы и механизм осуществления внешней политики каким-либо политическим образованием или государственным деятелем, взявшим на себя управление, он может использовать теорию как критерий рациональности, сопоставлять управление, которое, согласно теории, было бы логичным, и то, что имеет место в действительности;
Мир и война между народами • Раймон Арон
237
1943 г. Италия. Американский десант в Солерно.
социология
ДЕТЕРМИНАНТЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Введение
Границы между чистой теорией и
конкретными социологическими
исследованиями в общественных науках
довольно легко провести лишь
абстрактно, но очень сложно определить их на
практике. Даже в экономике, теория
которой построена строго и систематично,
подобные границы часто бывают
весьма расплывчатыми. Какие данные и
концепции рассматривает экономическая
теория и какие лежат вне ее как
таковой? Ответы на эти вопросы
варьируются в зависимости от определенной
эпохи и тех или иных экономических школ.
Так и в социологии теорию отделяют от
изучения текущих проблем свои
собственные концепции и специфические
логические построения.
В первой части книги были
определены концепции, которые позволяют
интерпретировать логику ведения
внешней политики. В трех начальных главах
дан анализ дипломатии и стратегии во
внешней политике, рассмотрены
факторы, от которых зависит могущество
политических систем и наконец,
сформулированы цели, достичь которых
пытаются государственные деятели. Три
последующих главы посвящены средствам
и целям управления внешней политикой
в рамках международных систем.
Анализ этих систем состоял из двух этапов:
сначала — определение особенностей,
характерных для любой системы
(однородной или разнородной), в частности,
соотношения сил между различными ее
элементами, и юридической
регламентации ее функционирования; затем дано
описание двух идеальных типов систем —
многополюсной и двухполюсной. Такая
характеристика систем подводит к
вопросу о диалектике мира и войны. В
последней главе первой части книги
перечислены типы мира и типы войн,
включая промежуточные формы,
окрещенные как холодная война или
воинственный мир, или революционная война.
Изложенная теория устанавливает,
что исследование международных
отношений целесообразно проводить в трех
конкретных направлениях:
1. Для социолога и историка
основными элементами, описание которых
необходимо при исследовании
конкретной ситуации — это границы и
природа дипломатической системы, цели и
средства участников данного события
и т. д.;
2. Если социолог или историк, сверх
этого, желает понять принципы и
механизм осуществления внешней политики
каким-либо политическим
образованием или государственным деятелем,
взявшим на себя управление, он может
использовать теорию как критерий
рациональности, сопоставлять управление,
которое, согласно теории, было бы
логичным, и то, что имеет место в
действительности;
Мир и война между народами • Раймон Арон
237
Часть II
3. Социолог или историк может и должен ставить вопросы о внутренних или внешних истоках дипломатических отношений, определяющих создание, трансформацию или исчезновение международных систем, подобно тому, как социолог-экономист ищет экономические и экстраэкономические причины, которые определяют рождение и гибель строя: феодального, капиталистического или социалистического.
Мы умышленно назвали вместе социолога и историка. Социолог интерпретирует события внешней политики, описывает становление политического сообщества и его дипломатической системы в рамках исследуемой цивилизации. Сама по себе любая цивилизация является особенной уникальной совокупностью свойств и реалий. Социолог всегда находится в поиске обобщений, касающихся деятельности, которая оказывает определенное воздействие на сущность, могущество и цели политических систем, на типы войны и мира, или он улавливает и формулирует постоянную последовательность явлений и разрабатывает схемы становления этих систем, которые вписались бы в реальность, независимо от того, осознают их участники событий или нет.
Итак, теория предлагает нам перечисление феноменов — определяемых элементов, для которых социология призвана искать причины и детерминанты. Следуя главам предыдущей части книги этими определенными элементами являются следующие:
1. Факторы могущества (т. е. каковы в чистом виде, в каждую эпоху, факторы могущества? Как они комбинируются?)
2. Иерархия целей в пределах определенного государства или в данную эпоху;
3. Необходимые или благоприятные условия для создания международной системы (однородной или разнородной, многополюсной или двухполюсной);
4. Истинный характер мира и войны;
5. Частотность войн;
6. Закономерность, если она существует, чередования мира и войны;
Схема, если есть таковая мирного или милитаристского развития суверенных единств, цивилизаций, человечества. Эти элементы принадлежат к двум видам: это данные, объясняющие логику ведения внешней политики, или это глобальные процессы, доступные только наблюдателю, находящемуся на расстоянии от событий.
Исследования первого вида, даже включая выявление причин событий характерны для историка. Именно он доходит до частных случаев, разъясняя их во всех деталях. Социолог же анализируя факты, формулирует обобщенные отношения.
Для того, чтобы социологическое исследование имело реальную ценность, указанные в нем детерминанты должны быть систематизированы.
Политические сообщества, чьи мирные или воинственные устремления мы анализируем, являются человеческими коллективами, организованными на определенной территории. Люди, живущие в обществе на ограниченном жизненном пространстве, представляют собой политические сообщества, суверенитет которых сочетается с коллективным владением некоей частью планеты. Первое различие между двум видами причин смены эпох можно определить, используя выражение Монтескье, как материальные или 238 Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
физические причины, с одной стороны, моральные или социальные, с другой.
Причины первой категории, которые мы определяем как физические или материальные, подразделяются на три части, в зависимости от следующих вопросов: Какую территорию занимают люди? Какова численность населения на этой территории. Какие имеются в этом ареале ресурсы? Территория, население, ресурсы или названия дисциплин, изучающих эти детерминанты: география, демография, экономика—таковы будут заголовки трех первых глав данного раздела.
Изучение социологических детерминантов вполне возможно разделить еще на три части. Они так же различаются, как и три вида физических детерминантов. Но при социальном подходе требуется определить постоянные отношения и, особенно, типичные закономерности (если таковые существуют). Мы также вправе конструировать наше исследование в историческом ракурсе так, что становление той или иной эпохи предстает как подчиняющееся глобальным законам. Итак, я вижу три основных исторических совокупности (за шесть тысяч лет истории): народ, цивилизация, человечество.
В первой главе мы рассмотрели влияние, которое режим, присущий каждому из политических сообществ, оказывает на дипломатическую деятельность или на стратегию в международных отношениях. В то же время мы рассматриваем вопрос, является ли нация ведущим детерминантом по своей сущности или в силу необходимой эволюции. Во второй главе мы исследуем историю каждой цивилизации как постоянную и предвидимую очередность типичных фаз, каждая из которых характеризуется определенным способом ведения внешней политики, какой-либо доктриной, мирной или военной. Наконец, в третьей главе, мы поставили тот же вопрос по отношению ко всему человечеству. Какова будет завтра неизбежная судьба наций, цивилизации и человечества — мир или война?
Та же проблема может быть представлена следующим образом. Возьмем, например, за базу исследования внешнюю политику. Имея в виду различные причины и социальный порядок, определяющие сообщества, мы сначала рассмотрим некоторые из них, придавая, конечно, существенное значение народу и режиму. Но народ и режим находятся в более пространной социальной среде, которую мы называем цивилизацией: Германия третьего рейха была составной частью Европы XX в., которая в свою очередь является временным периодом западной цивилизации. Но эта цивилизация тесно связана с другими цивилизациями. В какой степени эти другие цивилизации отличаются от Запада в решении вопросов мира и войны? Каким образом нужно учитывать в исследованиях окружающую среду? Три последние главы данной части логически завершают анализ детерминантов и закономерностей социологии международных отношений.
Мне кажется, что ни одна из проблем, которые ставит социология, не ускользнула из этого плана. Три первые главы этой части принадлежат к пространственному фактору, три последние к временному. Территория, численность населения, ресурсы определяют причины или материальные факторы политики. Народы со своими режимами, цивилизациями, человеческая натура и социальная природа общества Мир и война между народами • Раймон Арон^ 239 >
Часть II
составляют более или менее прочные социологические детерминанты. В первых трех главах этой части мы применяли аналитический метод, стремясь абстрагироваться от влияния различных социологических школ. В трех последних главах наш метод чаще синтетический, поскольку с его помощью может быть достигнута цель исследования — определить завершенные сообщества со всей их сложностью, но без четкого перечня участников.
Рассматривая материальные или социальные причины развития общества в территориальном или временном выражении мы ориентируемся на настоящее. Для того, чтобы четко осветить основные черты нашей эпохи, в каждой главе мы также исследуем прошлое народов, цивилизаций человечества.
Глава VII
О территории
До сих пор во всей системе межгосударственного устройства соблюдается в общем территориальный принцип, что практически закреплено глобальным договором между суверенными сообществами, согласно которому за каждым из них закрепляются определенные участки пространства. Вследствие этого в международном праве содержится извечный парадокс и в определенных обстоятельствах проявляется его скандальная сущность: международное право наделяет статусом субъектов права только политические сообщества, что неизбежно ведет к ущемлению интересов индивидуумов1.
Парадокс, вызывавший иронию Паскаля, в принципе, сводится к простейшему сопоставлению. “То, что считается истинным по эту сторону Пиренеев, оказывается ошибочным по ту сторону”. Международное право, в той степени, в какой оно претендует на роль гаранта стабильности, предписывает живущим с материковой стороны Пиренеев считать за истину то, что жители Пиренейского полуострова, следуя традициям, привыкли отвергать как ложь. Логика таких противоречивых положений нашла свое символическое выражение в определении, положившем в свое время конец конфликту католиков и протестантов в Германии: cujus regio, hujus religio1 2. Каждый таким образом должен принимать религию своего правителя. Государства взаимно признают права друг друга, не принимая во внимание интересы отдельных лиц.
Еще и сегодня Организация Объединенных Наций практически игнорирует протесты частных лиц против разного рода ограничений, возводимых властями национальных государств. Каким бы случайным и импровизированным ни выглядело возникновение государств, с 1 Теоретически конец этому противоречию должен положить Европейский Суд по правам человека, предусмотренный регламентом Объединенной Европы.
2 Кто правит, тот выбирает (лат., прим. пер.).
~ ■ 240 Раймон Арон • Мир и война между народами
первого дня провозглашения независимости они ведут себя как хозяева в пределах своих территориальных границ1. В их владении находится “кусок” земной коры с людьми и материальными ценностями. Причем, если морская акватория еще не разделена и остается общей или ничьей собственностью, то воздушное пространство уже подчинено государствам, правда, до высот, пока не уточненных.
Пересечение кем-либо линии, которая разделяет территории политических образований, воспринимается преимущественно как агрессия, casus bell?.
Во времена войн войска открыто перемещаются и по чужой территории. Военная стратегия собственно и предполагает движение, причем она может меняться в зависимости от использования средств транспорта и связи. Для военной тактики также типичен учет рельефа местности; оккупация или захват чужих территорий были на протяжении веков целью наступления армий. Аннексия земель, будь то приграничные или удаленные территории, традиционно считалась законным притязанием воюющих правителей и само собой разумеющимся результатом всякой победы.
Итак, нам кажется, что два момента, типичные для отношений между народами: мир и война — как один, так и другой, могут быть использованы в качестве наименований для двух особых, учитывающих территориальный фактор “географических” способов решения межгосударственных проблем и предварять заключение многочислен- 1 2
Социология
ных договоров, при помощи которых удается положить конец конфликтам и сражениям как средствам основательного переустройства ранее установленного порядка. Географические исследования внешней политики являются составной частью той отрасли знаний, которая обычно называется политической географией: т. е. исследования отношений между средой обитания и сообществами людей, способов адаптации таких сообществ к среде обитания, трансформаций, которые последняя претерпела под воздействием человеческого разума, рабочей силы и соответствующих инструментов. Но исследования международных отношений в географическом аспекте пошли по своему собственному пути, дав рождение новой полуавтономной дисциплине.
В настоящей главе мы не собирались представлять читателю в виде обзора собранные геополитиками факты, а также предлагавшиеся ими или уже принятые на вооружение теории, но мы хотели лишь уточнить путем критической или эпистемологической рефлексии природу геополитики и охватываемые ею горизонты.
1. О географической среде
Территория может быть последовательно рассмотрена как среда, как театр и как предмет внешней политики.
Последнее из трех названных понятий как наиболее осязаемое мы хотели бы раскрыть в первую очередь. Посколь1 В дни, которые последовали за провозглашением независимости Заира, бывшего Бельгийского Конго, правительство нового государства объявило “агрессией"появление на его территории бельгийских войск, которые пытались обеспечить безопасность людей.
2 Формальный повод к объявлению войны и началу военных действий (лат., прим. ред.).
Мир и война между народами • Раймон Арон
241
Часть II
ку государство рассматривается, так сказать, в качестве собственника определенной территории, то каждый ее участок может становиться поводом для конфликтов между индивидуумами или объединениями. Исламские государства, добившиеся независимости, Тунис или Марокко, очень неохотно предоставляют права собственности на земли перешедшим под их покровительство французам, пусть даже они ведут на этих землях хозяйственную деятельность. Мусульмане бежали из Палестины (в надежде вернуться) в начале войны, которую израильтяне называют освободительной. Это примеры того, как один народ занимает место другого народа на некотором участке земной поверхности. Данные события являются яркой иллюстрацией, если в таковой вообще была надобность, того факта, что в XX в. земля остается предметом споров между человеческими сообществами.
В отличие от понятия предмет внешней политики различение понятий средаи театр, которые не назовешь общепринятым в современной литературе, требует специальных объяснений. География, в центре внимания которой человек, описывает общества, живущие на данной земле, в условиях определенного климата. Эта наука объясняет, какое воздействие на жизненный уклад людей и их общественную организацию оказывает характер природной среды, что из себя представляют изменения, привнесенные в эту среду сообществами, которые в ней обосновались. Среда обитания человека в том виде, как ее изучает и определяет география, является одновременно средой природной и исторической. Ее характеристика дается в конкретных терминах и включает все черты, которые определяются специалистами — биологами, ботаниками, почвоведами, климатологами, при условии, что исследователь сочтет их заслуживающими внимания.
Территория, когда ее рассматривают в качестве театра внешнеполитической деятельности, утрачивает реальные черты, приобретая черты абстрактные. С этой точки зрения в описаниях наблюдателя она выглядит упрощенно, стилизованно и схематично. Так. определенная местность может превратиться в поле битвы которое военачальник должен суметь охватить одним взглядом — тогда это уже не природная среда с ее климатическими и геологическими атрибутами, уникальность которых является неисчерпаемым источником для географических описаний, но лишь площадка для деятельности совершенно особого рода. Поле, на котором разворачиваются события футбольного матча, может и должно характеризоваться исключительно теми своими качествами (размеры, жесткость покрытия, сухость, влажность и т. п.), которые будут определять поведение игроков. Аналогично, планета как театр определяется только теми своими качествами, которые должны учитываться актерами, участвующими в спектакле под названием “международная политика”. Именно в той мере, в какой планетарное пространство может быть представлено в виде схематичных рамок международной политики, геополитика позволяет увидеть, как бы в совершенно необычной и завораживающей перспективе, историю дипломатических отношений. Но поскольку эти рамки никогда не детерминируют полностью процесс развития игры, идеология, основанная на геополитической перспективе, 242
Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
всегда захватывает лишь отдельные участки процесса и легко деградирует в идеологию оправданий той или иной геополитики.
Прежде всего рассмотрим территорию, как конкретную среду обитания. Что существенного содержится в сведениях, которые нам предоставляет географическая наука, а именно о способах существования человеческих коллективов вообще и об отношениях между народами в частности? На ум сразу приходит ряд довольно банальных тезисов. Поэтому, на наш взгляд, ценность географического исследования, главным образом, заключается в том, чтобы рассеять иллюзии или легенды относительно детерминистской роли климата и рельефа. Действительно, чем утонченней и глубже анализ, тем меньше у исследователя оснований говорить о существовании регулярных причинноследственных связей между этими явлениями природы и международными отношениями.
Вспомним по этому поводу смелые формулировки Монтескье:
1) “Эти страны представляют собой плодородные равнины, где никогда и ни по какому поводу не вступают в спор с более сильным: ему просто подчиняются; а когда люди оказались в подчиненном состоянии, дух свободы к ним уже не может вернуться; богатые урожаи полей оказываются ловушкой для рабского менталитета. Но в странах с горным ландшафтом местности есть возможность сохранить то, что удалось произвести, и это при том, что произвести удается не много. Свобода, то есть такой образ правления, при котором сохраняется право владения, оказывается единственным благом, которое стоит того, чтобы его защищать. Отношения, основанные на свободе, преобладают, таким образом, чаще в горных странах и странах с суровым климатом, чем в странах, к которым, на первый взгляд, природа благоволила больше”1.
2) “Мы уже говорили, что сильная жара расслабляюще действовала на физическое и моральное состояние людей, а в условиях холодного климата люди сохраняли крепость тела и духа, что делало их способными на длительную, изнуряющую деятельность, невозможную без проявления высоких моральных качеств, в условиях несвободы... Поэтому стоит ли удивляться тому, что расслабленное состояние духа у народов, проживающих в условиях жаркого климата. почти всегда приводило их к рабскому состоянию, а мужество народов, характер которых сформировался в условиях холода, позволяло им сохранять свободу. Налицо результат, имеющий под собой причину естественного свойства”1 2 .
3) . “Бесплодие почв Аттики вело к установлению там народного правительства; а плодородие почв Лакедемона к утверждению аристократического способа правления”3.
Сегодня уже никто не думает, что духовная сила или слабость народов имеют прямое отношение к климату, что приговор о политической судьбе Спарты или Афин был вычерчен заранее на поверхности земли, которую занимал каждый из двух городов-государств. Таких понятий, как плохая или хорошая 1 Esprit ёев 1о1в, XVIII, 2.
21Ы<1.Х\Л1.2.
31Ыс1. XVII. 1.
Мир и война между народами • Раймон Арон 243
Часть II
земля, плодородие или бесплодие, может оказаться достаточно для характеристики почвы как сферы обитания. Все без исключения горы, или все равнины, относятся к одному и тому же типу данной разновидности ландшафта. Осознавая риск быть обвиненным в бесполезном педантизме, попробуем уточнить мотивы, которые заставляют нас не согласиться, как по сути, так и по методу, с рассуждениями Монтескье.
Упомянутые взаимосвязи между типом климата и способом материального бытия людей предполагают наследование приобретенных черт характера. Современные биологи запрещают нам думать об этом. Конечно, мы категорически не отвергаем возможности принять точку зрения Монтескье и согласиться с тем, что благоприятный или неблагоприятный климат определенным образом влияет на деятельность людей вообще или на какой-то ее конкретный вид в частности. Но особо отметим, что влияние, которое оказывает климат на способ выражения наследственной предрасположенности, радикально отличается от способа наследования таких признаков, которые позволяют нам характеризовать отдельные группы, народы или расы как добродетельные или порочные, достойные славы или презрения. Не климат делает людей малодушными или храбрыми.
Объяснения, использованные Монтескье по данной проблеме, никогда не имели четкой интерпретации, достаточной для того, чтобы мы могли увязать с ними какой-то один неизменный тип следствий. По мере прогресса знаний прежде громоздкие понятия распадаются на более простые фрагменты. Оказывается, что существует довольно большое разнообразие видов жары или холода, сухого или влажного климата, равнин или гор, чтобы можно было утверждать, что какому-то единственному в своем роде типу общественной организации (или — еще проще — единственному в своем роде типу жизненного уклада) обязательно сопутствует соответствующий тип климата или рельефа.
Но если даже нам удастся придать строгость формулировке понятия ‘‘причина*’, мы не сможем убедительно и строго истолковать сущность географического детерминизма. Даже если представить себе, что мы описываем некоторую естественную ситуацию так точно, как нам этого хочется, мы не может из этого сделать вывод, что существующая среда обитания не позволяет, в принципе, людям жить иначе, чем они живут в ней в настоящий момент. Если перед нами ситуация уникальная, единственная в своем роде, какие аргументы мы предложим в пользу того, что реакция на нее людей не могла со временем измениться? Регулярность совпадений явлений или процессов — единственное доказательство их сосуществования. Кроме того, невозможность подобного доказательства дополняет и напрямую подтверждает тезис о широком поле для инициативы человека, которое предоставлено ему природой. Даже в условиях, когда природа предъявляет свои требования в наиболее жесткой форме, например, в ситуации с эскимосами, мы вынуждены восхититься той изобретательностью, с какой подобные архаические общества сумели приспособиться к неблагоприятным условиям существования, как они вообще сумели выжить, и в то же время мы не заключаем из этого, что данный способ адаптации был единственно возможным.
244 .
Раймон Арон • Мир и война между народами
Недетерминированность естественной средой не имеет ничего общего с принципом индетерминизма (то есть с отрицанием детерминизма как принципа). Географический детерминизм (или какая-либо другая теория, которая утверждает, что существование обществ или какой-то стороны их жизни детерминировано одной причиной известного рода) предполагает скорее использование конкретных философских концепций, относящихся к данному предмету исследования, чем применение общего принципа детерминизма. За этим принципом ни в коем случае не скрывается тезис о том, что в условиях данного климата или на данной территории, общества должны обладать совершенно определенными характеристиками. Нетрудно убедиться в том, что жизненный уклад и формы общественной организации соотносятся с историей не меньше, чем с географией, что они подвержены воздействию большого числа факторов, причем не только со стороны естественной среды обитания. В этом случае оказывается, что география как таковая сама способствует опровержению того, что когда-то было названо географическим детерминизмом.
Рассуждая в том же духе, следует предположить, что всегда можно выяснить связь человека или данного сообщества с географической средой, но очень редки случаи, когда выводы какого-либо исследователя об одной, единственной, по его мнению, форме этой связи имели бы универсальный характер. Такой подход является, так сказать, гарантией от ошибок a priori: какой бы скрытой не была реакция человека на воздействие среды, она может быть Социология
идентифицирована уже хотя бы потому, что за этим воздействием не последовало, например, исчезновения отдельных реликтовых племен. В случае, если бы последовала смерть определенного племени, тогда для того, чтобы исследовать при этом воздействие различных факторов, ученый, интерпретирующий это явление, должен был бы попытаться определить, какие религиозные мотивы, какие предписания или запреты воспрепятствовали людям прибегнуть к средствам своего спасения.
Правомерно ли говорить, что географическая среда, на физическом или на историческом уровне, никогда не выступает причиной для явлений социального порядка? Нет, видимо, такое заключение было бы ложным. На протяжении доисторической фазы развития, явления природного свойства служили причиной, и порой самой непосредственной, для важнейших событий в жизни человеческого общества. Миграционные маршруты наших далеких предков были связаны с изменениями климата, а то и напрямую ими обусловлены. Может быть, действительно, как считает Тойнби1, цитирующий в свою очередь Шильде, именно география первой бросила вызов человеку, а тот ответил ей созданием своей цивилизации?
“В то время как север Европы покрывали льды вплоть до Гарца, когда Альпы и Пиренеи были украшены шапками ледников, мощное давление Арктики обусловило поворот в южном направлении атлантических ураганов. Циклоны, которые и по сей день пересекают Центральную Европу, в то время проходили над средиземноморским бассейном и северной частью Сахары, захватывая 1 Cf. Toynbee, L’histoire, trad. Française, Paris, 1951, 1 vol., p. 83.
Мир и война между народами • Раймон Арон '
245
Часть II
далее Ливан и достигая Месопотамии, Аравийского полуострова вплоть до Ирана и Индии. Сахара, земля которой сегодня сожжена солнцем, в то время находилась в зоне регулярных осадков, а далее на восток ливни были не только более обильными, чем в настоящее время, но и распределялись более равномерно на протяжении всего года. Таким образом, на севере африканского континента, на Аравийском полуострове, в Иране и в долинах индийских рек существовали просто райские земли, сравнимые по роскоши климатических условий с современным северным Средиземноморьем. В то время как стада мамонтов, шерстистых носорогов и северных оленей паслись на территории современных Франции и Англии, фауна Северной Африки напоминала то, что мы наблюдаем сегодня на берегах Замбези в Родезии...
Благоприятные для фауны прерии Северной Африки и средиземноморского побережья Азии были населены так же густо, как и морозные степи Европы, и мы можем с полными основаниями предполагать, что в южной благоприятной и способствующей развитию среде человек должен был сделать заметно больший прогресс, чем на Севере, граничащем с ледниками”1.
Но по окончании ледникового периода афро-азиатские просторы претерпели глубокие перемены: наступила засуха, и одновременно возникли две или три цивилизации на еще пригодном пространстве; изменился и весь остальной обитаемый мир, заселенный лишь первобытными обществами эпохи палеолита. Археологи призывают нас взирать на иссушение Афразии как на некий вызов со стороны природы; ответом было появление этих двух-трех цивилизаций.
“Теперь мы затронем период великого переворота и уже очень скоро увидим людей, способных обеспечить собственные потребности благодаря приручению домашних животных и освоению культуры выращивания злаков. По всей видимости, в любом случае мы должны увязывать этот переворот с кризисом, спровоцированным таянием северных ледников и постепенным уменьшением влияния на Европу со стороны Арктики, а также с тем обстоятельством, что атлантические ураганы, изменив направление своего движения, теперь стали обходить средиземноморскую зону стороной, перемещаясь над Центральной Европой...
Эти события должны были стать благоприятной предпосылкой для максимальной реализации изобретательского потенциала обитателей этого региона, покрытого в ту эпоху сплошными прериями...
В условиях все более усиливающейся засухи, обусловленной перемещением, по мере сокращения площади европейских ледников, зоны циклонов на север, перед людьми, населяющими данную местность и живущими, главным образом, охотой, открывались три возможности для дальнейших действий. Они могли двигаться на север или на юг, в зависимости от климата, к которому привыкли; они могли остаться на прежнем месте и влачить жалкое существование, преследуя редкую дичь, сумевшую пережить природный катаклизм; наконец, они могли — также не покидая 1 G. Childe. The Most Anclent East, 1934, chap. II. Французский перевод опубликован под названием: L’Orient préhistorique (Payot).
246
Раймон Арон • Мир и война между народами
своей родной земли — освободиться от капризов природной среды, приручая диких животных и осваивая земледелие”1 .
Значит ли все это, что на протяжении пяти или шести тысяч лет, то есть в течение так называемой исторической фазы цивилизаций, явления климатического порядка были непосредственной причиной таких грандиозных событий в жизни человечества, как взлеты и падения народов, миграции, спровоцированные потеплением климата и как результат — заселение людьми все новых и новых территорий? Некоторые авторы положительно отвечают на этот вопрос. Например Элворд Хатингтон1 2, который особую роль в своих работах отводит фактору климатических колебаний, в частности, периоду, когда происходило наступление пустыни на Центральную Азию. Испанский историк Олагэ также убежден в том, что сокращение объемов дождевых осадков стало одной из прямых и существенных причин упадка испанской цивилизации3. Другие авторы отвергают подобный тезис, причем делают это с не меньшей убежденностью:
“Не следует ли усматривать причину распространения пустыни на территории Испании, связанную исключительно с вмешательством человека пишет М. Роже Хайм, директор Национального музея истории естествознания, в массовом перегоне овечьих стад, предпринятом во времена правления Фердинанда и Изабеллы Католической, которые стремились к увеличению собственных доходов от торговли шерстью на Социология
рынках Европы, и, одновременно с этим, в сплошном уничтожении лесов, особенно усилившемся в связи с непрестанной вырубкой высоких деревьев, предназначавшихся для нужд непобедимой Армады? Итак, несмотря на отсутствие в течение пяти тысяч лет каких-либо заметных изменений климата, какихлибо существенных природных флуктуаций на поверхности земного шара в целом и, в частности в районе Средиземноморского бассейна, но, в то же время в условиях губительных методов скотоводства, массовой вырубки лесов, политической нестабильности, провоцирующих пренебрежительное отношение к технологиям, эффективностью которых должно было бы вдохновляться сельское хозяйство засушливой страны, сегодня мы имеем демографическую ситуацию, сравнимую с состоянием неизлечимой болезни, последствия которой выглядят все более угрожающими”4 .
Некоторые авторы неуверенно высказываются по поводу значения для общества первичного или вторичного характера климатических изменений. Для одних климатические колебания стоят на первом месте, не считая фактора человеческой воли, и оказываются причиной важнейших событий. Другие считают, что многие климатические изменения являются результатом ошибок или неграмотного поведения людей. Истощение почв, уничтожение леса создают такую географическую среду, в условиях которой цивилизация, неспособная исправить свои собственные ошибки, закончит полной гибелью.
1 G. Chllde. The Most Ancient East, chap III.
2 The pulse of Asia, 1907
3 Ignaslo Olague, Histoire d’Espagne, Paris, 1957.
4 Le Figaro littéraire, 21 novembre 1959
Мир и война между народами • Раймон Арон
247
Часть II
Каких бы толкований ни придерживались ученые, мы не в силах окончательно разрешить существующие между ними противоречия; эти примеры помогают нам увидеть различия между причинами, воздействующими со стороны природной среды, и уточнить их разновидности. О некотором природном феномене как историческом факторе* 1 говорят в случае, когда он, будучи не связан с действиями человека, резко меняет жизнь некоего сообщества: мощное землетрясение, разрушившее Лиссабон, извержение Везувия, уничтожившее Помпею, — явления именно такого порядка. Сюда же можно отнести и засуху, которая постепенно подорвала экономику Испании, если допустить, что она не была спровоцирована деятельностью людей. Однако этот пример — явление совершенно иного порядка, поскольку он напоминает нам о влиянии среды, вроде бы невидимом, но постоянном, на жизнь человеческих сообществ.
Человечество — это такое явление природы, род, который, по меньшей мере на протяжении исторических времен, непрестанно трансформировал условия своего существования. О новом состоянии среды обитания, даже когда она не меняется коренным образом, можно говорить, если сообщества людей обзавелись ранее не известными орудиями труда, чтобы осуществлять ее преобразования. Физические параметры среды меняются в зависимости от состояния научных познаний и технического уровня используемых средств производства. В этом смысле географическая среда, в том виде, в каком она подготовлена природой и обработана трудом человека, причастна к историческим коллизиям.
Нов каждую эпоху среда обитания, проходящая определенный этап эволюции, к которому ее привело взаимодействие сил природы и человечества, оказывает, в свою очередь, влияние на судьбы сообществ. Она становится то стимулирующим, то тормозящим фактором, то благоприятствует, то проявляет враждебность к усилиям людей, бывая снисходительной или безжалостной к их слабости.
Предположим, что цивилизации, существовавшие в долинах рек2: Нила, Тйгра и Евфрата, Желтой реки, были обязаны своим появлением, в частности, вызову человека природе, который диктовал необходимость регулировать течение рек, обеспечивать орошение обрабатываемых земель, культивировать виноградники и другие виды сельскохозяйственного производства. Все цивилизации, жизнь которых зависит от качества ирригационных мероприятий, несут в себе обусловленные общими потребностями коллективного выживания специфические черты, в частности, такие, которыми определяется “азиатский способ производства”, один из типов государственного устройства, упоминаемых Марксом во Введении “Я критике политической экономии”. Но цивилизации данного типа более уязвимы по сравнению с цивилизациями, развивающимися в условиях умеренного климата и оставляющими индивидам и небольшим группам шанс на то, чтобы, в случае не1 Имеется в виду двоякий смысл: формальный, когда речь идет об уникальной последовательности во времени некоторых событий; материальный, когда речь идет о событии, относящемся к становлению человеческих сообществ.
1 Мы отсылаем читателя к превосходной книге Карла Виттфогеля “Восточный деспотизм” (Karl А. Wittfogel. Oriental despotism. New Haven. 1957).
248-
л. Раймон Арон • Мир и война между народами
обходимости, самостоятельно выйти из сложного положения. История Франции не была бы столь продолжительной, если бы политические потрясения, которых было немало на протяжении последнего тысячелетия, повлекли за собой, одновременно с расстройством системы государственного управления, разрушение механизма, обеспечивающего продуктивность культуры земледелия. Когда цивилизация существует лишь при условии, что каждый новый год ей удается одержать победу над строптивой природой, люди подчиняются более строгой дисциплине, но иногда простого согласия с тотальным государством оказывается недостаточно, чтобы уберечься от катастрофы.
Окружающая среда, в том виде как она исторически сложилась в результате объединения физических ресурсов и технических средств, не только подталкивает к выбору определенной социальной ориентации, не только жестко ограничивает допустимые ошибки и промахи, она еще более четко и ясно устанавливает территориальные границы, выходить за которые для данного сообщества людей не желательно. Еще и сегодня, вопреки процессу все более широкой автономизации людей по отношению к физической среде, территориальное распределение человеческих масс представляется не столько детерминированным арифметически, сколько обусловленным климатическим фактором. Не все регионы земного шара в равной мере благоприятны для развития цивилизации. Количество людей, которые могут одновременно жить на определенной территории, находится в зависимости от физических параметров местности и почвы, рельефа, климата, несмотря на уровень их технической оснащенности Социология
средствами производства. Ясно, что воздействие окружающей среды никогда не оставалось единственным детерминирующим фактором развития общества, но оно проявляет себя непрерывно, так что нет возможности определить его параметры (в каких пределах и когда этот процесс начинается или становится менее интенсивным). Можно ли построить в центре Африки общество индустриального типа? Может быть, все мы, пусть даже на подсознательном уровне, склонны недооценивать, насколько значительно и в наше время влияние природы на жизнь человеческого общества.
Предложенный анализ, приемлемый для комплекса явлений политической географии, используется а fortiori (тем более) для таких объяснений внешней политики государств, которые учитывают прежде всего фактор среды обитания. Использование преимуществ географического положения (la position, die Lage) в каждом конкретном случае по существу имеет историческое значение, поскольку оно связано и с другими обстоятельствами, которые подчинены глобальным изменениям в производстве (новые способы и средства передвижения, совершенствование транспортировки грузов и ведения боевых действий, рост эффективности оборота людских ресурсов и товаров, силовое противостояние между политическими образованиями, расположенными в одной зоне и т.д.). Роль географического положения Марселя изменилась в тот день, когда в результате исламских завоеваний. Средиземное море оказалось запертым для торговых перевозок Франции. Положение некоей страны на географической карте может оставаться незыблемым. Но в то же время ее географическое положение выступает всего лишь одной из Мир и война между народами • Раймон Арон
249
Часть II
причин, которые “располагают” к определенным действиям, очерчивая круг возможностей развития, что, может быть, неявным образом присутствует во все эпохи и во всех аспектах судьбы народа. В то же время значение расположения государств меняется во времена их подъема или гибели, оно сказывается на становлении идеологических институтов, на мечтах людей, на изменениях в орудиях труда и на методах ведения войны, вынашиваемых или используемых в ту или иную эпоху.
Порой мы испытываем соблазн — даже А. Курно не смог перед ним устоять — постарался прочесть непосредственно по географической карте предназначение европейских народов. Оказывается история постепенно стирает следы прошлых катастроф и служит напоминанием о необходимости учета законов, порожденных географией. Например, выясняется, что территории Испании, Франции, Великобритании приняли именно те размеры и форму, которые соответствуют естественным условиям их существования. На самом же деле Испания не всегда была изолирована Пиренеями от культурного потока, в русле которого происходило развитие европейской цивилизации. Ее армии некогда уверенно чувствовали себя в центре материка, играя одну и главных ролей на европейском театре военных действий. Династические союзы сближали земли, которые разделяло географическое положение, но, заметим, география не стала фактором единства провинций Испании, которым отличаются провинции Франции. Сегодня никто даже представить себе не может, что судьба Франции могла быть иной: но было ли единство французских провинций действительно в такой степени “предопределено”? Конечно, есть в истории Франции нюансы, заставляющие к подобному предположению сделать ряд оговорок. Очертания границ французской “земли обетованной” были и остаются не бесспорными. Распространение одного общего языка, формирование национальной общности, в которую вошли фламандцы, бретонцы, провансальцы, беарнцы, — это процессы, протекавшие в какой-то мере благодаря географии страны. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, насколько легче было бы исследовать “глубинные причины” для объяснения того, почему такое объединение “не совершилось” или “совершилось”.
Парадоксальным звучало бы утверждение о том, что конфигурации территории Швейцарии или Франции, островное положение Великобритании постоянно, на протяжении веков, не оказывали влияния на дипломатию этих стран. Географическое положение, например Швейцарии, обладает невиданной защитной мощью, гарантирующей безопасность страны даже при незначительной численности населения и скудости экономических ресурсов, которыми она располагает. Но для того, чтобы состоялась Конфедерация, затем Швейцарская федерация которая выбрала политику нейтралитета, необходимую для сохранения ее единства, в частности, на протяжении всего того времени, пока соседние великие державы выясняли отношения в ходе военных баталий, нужны были также и благоприятные исторические обстоятельства. И все-таки именно история швейцарских кантонов — их способность противостоять агрессорам, сохранять независимость и статус нейтрального государства, при этом заставляя относиться с уважением к своему нейтралитету, — вероятно, в большей 250 . -
• Раймон Арон • Мир и война между народами
мере обязана географическому положению, чем какое-либо другое государство Старого Света.
Очень удобно ссылаться на параллелизм между двойным призванием Франции — как континентального, так и морского государства одновременно — и соответственные колебания курса ее дипломатии. Имея на севере границу, открытую для иностранных вторжений и придвинутую на довольно близкое расстояние к столице государства, Франция неизбежно должна была пребывать в перманентном состоянии озабоченности за собственную безопасность. Расположенная на западной оконечности евразийского материка, она, отвечая на зов океанских просторов, отправляла из своих портов дальние экспедиции. Свои дипломатические усилия она распределила между континентальными интересами, нацеленными на гегемонию (или обеспечение собственной безопасности), и заморскими амбициями государства с имперскими претензиями. Однако ей не удалось в полной мере ни то, ни другое.
В случае с Англией при анализе ее дипломатического курса достаточно четко вырисовываются перспективы его интерпретации с преобладанием географического фактора, что весьма убедительно само по себе и, на первый взгляд, приводит к неопровержимым результатам. Само собой разумеется, что успехи Англии в мировой политике нельзя объяснить, если игнорировать ее островное положение. Безопасность в отношении внешней агрессии, какой могли завидовать и Венеция, и Голландия, объемы продовольственных ресурсов, пшеничные поля на юге страны, кроме того угольные шахты — все это обеспечило английской дипломатии невиданную для континентальных государств свободу Социология
действий. Безусловно, Англия обязана своей оборонительной мощью природе. Она могла оставаться вне европейских конфликтов, заступаться за самую слабую сторону, решать исход дела путем внезапной интервенции в удобное время силами экспедиционного корпуса, оставляя основную часть сил д ля обеспечения превосходства на море и решая таким образом задачи имперской экспансии.
Именно таким рисуется образ Англии в школьных учебниках, и он во многом соответствует действительности, конечно, с поправками на упрощение и схематизацию. Англия воспользовалась своим островным положением для того, чтобы проводить такую международную политику, которая была бы невозможна для государства с иным географическим положением. Эта политика, вместе с тем, не была в полном смысле детерминирована ситуацией. Обладая пространством для сохранения автономии своих действий, жители острова имели возможность выбора решений из множества вариантов. Этот выбор не оказывался случайным, можно вполне понять его причины, вместе с тем он не был навязан природной средой обитания.
Абстрагируясь от конкретной ситуации, есть основания утверждать, что некое сообщество, полностью владеющее территорией какого-то острова, будет склоняться либо к уходу в себя (что означает разрыв связей с миром), либо к активной дипломатии. Последняя, в свою очередь, может быть сориентирована в трех направлениях: захват земель на континенте; организация экспедиций с целью поисков новых, “заморских”, территорий; добровольный нейтралитет. Каждый из четырех типов внешней политики в тот или иной исторический период принимался на вооружение одМир и война между народами • Раймон Арон
251
Часть II
ним из двух наиболее влиятельных островных государств — Великобританией и Японией.
Когда в XVII в. произошло окончательное объединение Японии, она не воспользовалась этим обстоятельством, чтобы пуститься в военную авантюру. Напротив, в эпоху Токугавы устремления шогунов (правителей) сводились к тому, чтобы культивировать, так сказать, изоляционизм островов. Идея стабильного общества и изысканной цивилизации предписывала такой империи как Япония избегать по мере возможности контактов с “варварами”, а также взаимодействия с Западом.
После реформы Мейдзи Япония радикально изменила свои установки, но по-прежнему колебалась между двумя путями, открытыми для экспансии островного государства: захват земель на континенте или захват островов. Из-за отсутствия четко решения или способности принять таковое, в конечном счете Япония оказалась одновременно втянутой в войну с Китаем, оккупировать который безрезультатно пытались японские войска, а также с Соединенными Штатами, с Великобританией—морскими державами, под покровительством которых находились островные государства (Филиппины, Индонезия). Англии, как свидетельствует история, удавалось более рационально подходить к осуществлению своих планов. Попытки укрепиться на континенте с окончанием Столетней войны прекратились. После того, как был заключен союз двух королевств, Англии и Шотландии, Великобритания чаще всего стала действовать согласно логике европейского равновесия, обратив свои устремления в сторону океанов, строительства флота, развития торговли и создания империи.
Начиная с 1945 г. и Япония, и Великобритания, приблизившись к континентальным государствам в результате технического прогресса и войдя в число великих мировых держав, интегрировались в систему альянса с Соединенными Штатами. Эти два островных государства сделали ставку на поддержку своей военно-морской мощи Америкой. Ясно, что США играют доминирующую роль в деле обеспечения национальной безопасности этих стран. Великобритании такой выбор дался практически без колебаний в силу родственного характера английской и американской цивилизаций. В отличие от этого японцы в выборе окончательной позиции далеки от единодушия, т. к. весьма искусственным оказался разрыв связей и прекращение обменов с Китаем. Можно ли было полагать, что Японии, когда она оказалась среди второстепенных государств, стоило избрать политику нейтральной страны, не замыкаясь при этом на себя, как во времена шогунов, и не превращаясь в сателлита континентальных государств? Подобный вопрос не теряет своей актуальности даже для Англии, он косвенно возникает в форме дебатов по поводу присутствия на острове американских баз и необходимости иметь свое термоядерное оружие.
Островная ситуация провоцирует использовать определенные схемы при анализе дипломатических возможностей, но сама по себе она не создает отношений причинного характера. Островное государство не обязательно должно обладать морским могуществом. Лишь в XVI в. англичане превратились в полном смысле в нацию моряков. А японцы, как нация, моряками никогда и не становились. До последнего времени они оставались народом, привязан252
Раймон Арон • Мир и война между народами
ным к суше, мало расположенным к эмиграции, также мало склонным к тому, чтобы доверить свою судьбу зыбким волнам океана. Расположение на острове — это вызов природы, но из него не следует неизбежность противоречий с материком.
2. Схемы Маккиндера
В предыдущем параграфе мы последовательно рассмотрели такие термины анализа внешней политики как среда и театр. Мы отметили, что территория является средой, если наблюдатель выделяет такие ее определенные особенности, которые позволяют конструировать специфическую схему управления внешнеполитическим процессом. Например, геополитик видит в среде “площадку для дипломатической и военной игры”. Среда представляется исследователем в абстрактных рамках, народы трансформируются в участников, появляющихся на мировой сцене и исчезающих с нее.
Что геополитик считает конкретной реальностью в схематизме сцены и поведении дипломатическо-стратегических акторов (участников)? Ведение внешней политики представляется ему инструментальным использованием средств для достижения целей. Ресурсы — люди, оборудование, оружие — мобилизуются государством ради безопасности или экспансии.
Итак, линии экспансии, угрожающей безопасности, можно заранее определить на карте, учитывая, что именно география фиксирует природные данные, от которых зависит процветание и могущество наций. Геополитика сочетает географическую схематизацию дипломатическо-стратегических отношений с экономико-географическим аналиСоциология
зом ресурсов, с интерпретацией дипломатических отношений, учитывая образ жизни (оседлый, кочевой, земледельческий, мореходный) и среду обитания данных народов. Эти слишком общие формулировки покажем в свете одного примера. В XX в. англичанин Хал форд Маккиндер, вероятно, больше, чем все остальные, содействовал популяризации геополитики. Он выдвинул несколько идей, которые приняла немецкая школа для обслуживания империалистической политики. Работы Маккиндера облегчают проведение анализа, который является нашей целью.
В 1904 г. появилось его эссе “Le pivot géographigue de This tare”, в котором впервые излагалась центральная тема идей Маккиндера. В 1905 г. в другой статье (в “National Review”): “Man Power as a mesure of national and imperial strenght” был сделан акцент на решающем влиянии производительности человеческого труда. Основная книга Маккиндера появилась в 1909 г. под названием “Democratic Ideals and Reality”. Четверть века спустя в 1943 г. “Foreign Affairs” опубликовал статью, которая имела характер его завещания: “The Round World and the Winning of Pease”. Тот же географический схематизм, который напрасно был использован на следующий день после первой мировой войны, стал у него основой анализа проблем, которые возникли в конце второй мировой войны.
Вероятно, для того, чтобы резюмировать идеи данного автора, лучшим методом будет взять за точку отсчета то, что я назвал географическим схематизмом, другими словами, назвать и определить две исходные позиции: World Island и Heartland (Мировой остров и Центральная земля). Первая из них состоит в следующем. Океан покрывает деМир и война между народами • Раймон Арон
253
Часть II
вять двенадцатых земного шара. Совокупность трех континентов: Азия — Европа — Африка составляет две двенадцатых. Остаток, одна двенадцатая представлен Северной и Южной Америкой, Австралией и меньшими островами. В этом планетарном рисунке обе Америки по отношению к мировой суше занимают положение, сравнимое с положением Британских островов по отношению к Европе.
Вторая позиция — это концепция Центральной земли (Heartland) или регионов-опор не определялась другими терминами1. Неуверенность в точном разграничении этой огромной зоны не затрагивает суть концепции. Центральная земля охватывает одновременно северную и внутреннюю часть евроазиатского массива. Она простирается от арктических берегов до пустынь Центральной Азии, ее западной границей является перешеек между Балтийским и Черным морями, может быть между Балтикой и Адриатикой.
Центральная земля характеризуется особой физической географией, особым политическим значением ее составляющих, которые изменяются, но не совпадают. Она представляет собой просторную равнину на поверхности земли: равнины Азии, степи Европейской России соединяются с территорией Германии и Нидерландов, такую же картину представляют Иль-де-Франс и Париж, в общем вся середина Западной Европы.
Некоторые из самых больших рек планеты текут там, впадая или в арктические моря, или во внутренние моря (Каспийское, Аральское). Наконец, эта пригодная для пастбищ равнина благоприятна для передвижения народов и воинов как на верблюдах, так и на лошадях. Центральная земля, как минимум в ее восточной части, защищена от вторжения с моря, но не застрахована от нашествия кавалеристов.
Упрощенная карта Маккиндера дает возможность понять три известных его изречения: Кто господствует в Восточной Европе, тот господствует на Центральной земле. Кто правит на Центральной земле, тот правит на мировом острове. Кто владеет мировым островом, тот владеет миром. Эти три предложения, несколько вульгаризированные, имели большой успех. От немецких геополитиков Гитлер узнал эти концепции и воодушевился ими. Так теория, которая стремилась быть научной, трансформировалась в идеологию, оправдывающую завоевания.
Сама же теория построена на базе географического схематизма. В ней одновременно рассматривается постоянный элемент (альтернатива земля— море; континентальное—морское) и участие варьируемых элементов (техника передвижения по земле и по морю; ресурсы и население в том числе, используемые в соперничестве наций; расширение дипломатического пространства). Работая в начале века, в то время, когда судьба Англии казалась блестящей и непоколебимой, Маккиндер анализирует как прошлое, так и прогнозирует будущее. Его взгляд направлен на прошедшие века, чтобы выявить необходимые условия для победы островного государства и в будущем, чтобы определить, чему была обязана Англия своей счастливой судьбой и была ли опасность крушения ее величия.
1 Я вновь беру термины, использованные в статье-завещании в “Foreign Affairs”.
254 •
< Раймон Арон» Мир и война между народами
Эти доводы, а именно противопоставление континента и моря, континентальной и морской держав, могут считаться фундаментальными в ходе всей истории. Два элемента — земля и вода — символизируют два пути и побуждают к двум типичным тактикам. Земля — собственность одного владельца, индивидуального или коллективного; море принадлежит всем, так как оно не принадлежит никому лично. Господство континентальных держав воодушевляется духом владения, господство морских держав руководствуется духом торговли.
Если земля и вода представляют собой элементы в борьбе на планетарной арене, то именно международная политика, по словам Клаузевица, служит коммуникацией для обменов. Войны создают отношения между индивидами и сообщностями, совсем в другом стиле, чем коммерция.
Земля и вода, кавалеристы и моряки являются строителями двух типов владычества, профессионалами в двух видах сражений. Движение и маневры играли на земле и на суше различную роль. Усилия стратегов на равнинах — свести к минимуму возможность разрозненных сражений, чтобы собрать свои силы на решающем поле битвы и чтобы противопоставить врагу продолжительный отпор, не имели эквивалентов на просторах океанов. До внедрения технических изобретений, которые обновили средства коммуникаций, начать морскую карьеру, означало принять непостоянство судьбы, доверять импровизации и инициативе каждого, признать господство непредвиденных обстоятельств.
В 1940 г. французы подтверждают, что положение Франции предопределя-
СОЦИОАОГИЯ
ет судьбу их родины: морская держава и господство на определенной территории суши.
Маккиндер осознает этот дуализм, а время, со своей стороны, подпитывает и направляет его поиски. С позиций дипломатии и стратегии островное положение существует только с момента политического объединения острова. В международном плане держава становится островной в тот день, когда у нее больше нет сухопутных I раниц с соседями. Так, Британские острова объединены, а континент разделен и под угрозой находится не королевское единство Великобритании, а континентальное единение разных государств.
Исследуя прошлое, Маккиндер выделил две аксиомы, подходящие и к обстановке XX века. Первая, наиболее очевидная, но менее известная, состоит в том, что в борьбе между морской и континентальной державами одинаково действует беспощадный закон численности. Морская держава не выживет, несмотря на высокое качество своего флота и моряков, если ее соперник обладает намного превосходящими материальными и человеческими ресурсами. Вторая, еще более ясная, заключается в том, что морская держава может быть побеждена как с суши, так и с моря. Если континентальное государство захватило базы на море, то поражение морской державы уже предопределено. Море в этом случае становится закрытым и подчиняется континентальной власти, которая уже не испытывает необходимости выступать в роли морской державы, как например, Средиземное море во времена Римской империи. Маккиндер делает вывод, что Британская империя рискует быть разрушена или в результате того, что агрессивное континен-
Мир и война между народами • Раймон Арон
255
Часть II
^-У-гЛХХ-Й^ У».^
тальное государство накопит подавляющие ресурсы, или потому, что сеть британских баз, размещенных на остовах и полуостровах вокруг евроазиатского континента, будет разрушена или занята противником.
В течение веков Великобритания имела свои выгоды от геополитических обстоятельств: Европа была разделена, что гарантировало безопасность Британских островов; Британия располагала запасами полезных ископаемых и человеческими ресурсами, в масштабах, превышающих ресурсы государств-соперников; континентальные державы не имели необходимой для победы военной силы. Проницательный английский географ заметил в начале XX века, что две основные переменные в состоянии изменить к худшему состояние морской державы.
В период XVI—XIX вв. передвижение по морю превосходило наземное. Но, Маккиндер был потрясен двумя событиями в начале XX в.: войной буров в Африке и войной России в Маньчжурии. Способность России вести войну со значительными результатами за десятки тысяч километров от ее основных баз, в конце единственной железной дороги в этот район, казалась ему более удивительной, чем возможность Англии снабжать по морским путям экспедиционные части в Африке. Двигатель внутреннего сгорания намного увеличил эффективность железных дорог. Формула Шпенглера: “лошадь—пар вновь открыв эру великих завоеваний, закрытую с окончания азиатских набегов”, могла быть использована Маккиндером, который в двух главах в “Democratic deals and Reality”, посвященных перспективе мореходства и континентальных держав, рассматривает империи прошлых веков: кочевников, скифов, парфян, гуннов, арабов, монголов, тюрков, казаков, пришедших с равнин, из степей и пустынь, а также империи мореходов — Крит и Афины, Венецию и Англию.
В то время как наземная мобильность народов увеличилась с чудодейственной быстротой. Центральная земля обогащались материальными и людскими ресурсами, необходимыми для создания всемирной империи. Восточная Европа оказывалась осевой зоной, в пределах которой Центральная земля выходила к окраинным регионам, дающим доступ к океану, где поселялись славяне и немцы, часто образуя смешанные браки. В 1905 г., потом в 1919 г. Маккиндер опасался, что немцы, победители славян, окажутся в состоянии объединить Центральную землю в единую территорию под своим суверенитетом и таким образом станут сильнее Соединенного Королевства. Он уже видел на горизонте экономику большого пространства, опирающуюся на свою наземную мощь, уверенную в своей победе благодаря хотя бы простому численному превосходству — победе над мощью морских держав. Именно в такой исторической обстановке и ощущении перспективы находят свое объяснение и частично приобретают значение истины три тезиса-предположения, о которых мы говорили ранее: кто господствует в Восточной Европе, тот господствует на Центральной земле, а следовательно и над островом всемирного значения и, опятьтаки следовательно, господствует над всем миром.
Этот анализ привел Маккиндера, в частности, в 1919 г. к умозаключениям, над которыми он предложил поразмышлять составителям мирного договора. Если Маккиндера, этого советника на-
256
- Раймон Арон • Мир и война между народами
следника английского престола, перечитать в 1960 г., то становится ясно, что он, по-видимому, познал наихудшие времена немилости: его выслушали государственные деятели Великобитании, но последующие события сделали посмешищем. Поскольку свобода народов и величие Англии были поставлены под угрозу ввиду возможного объединения Центральной земли, надо было, прежде всего, помешать такому объединению, то есть, в 1919 г. не допустить господства немцев над славянами (а в 1945 г. господства славян над немцами). С этой целью географ, комбинируя английскую традицию со своими личными (и профессиональными) соображениями, предлагал создать пояс из независимых государств между обеими великими державами, так чтобы каждая из них не могла подчинить себе другую, не нарушив при этом международного равновесия. Так и было сделано: малые независимые государства дали сначала повод двум великим совместно определить границу зон влияния: однако потом эти малые оказались полями битв между русскими и германскими армиями, а в конце концов они стали принадлежностью наземной мощи, которая впервые расположилась на Центральной земле с многочисленным гарнизоном и новейшей техникой.
Может ли дисквалифицировать такого географа история последних сорока лет? Другой специалист, на этот раз историк, принадлежащий к традиционной школе, Жак Бенвиль, гораздо лучше предугадал последствия теоретического статута, установленного Версальским договором. Независимые государства между Россией (советской) и Германией (так называемой вечной) с самого начала представлялись ему неспособными просуществовать долго, потому что
Социология
они были не согласны объединиться. Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, все эти так называемые национальные государства, где фактически имелись сильные меньшинства с весьма сомнительной лояльностью, никогда не сумели бы противопоставить общий фронт как немцам, так и славянам, которые желали бы пересмотреть границы. Эти народы, конечно, враждебны друг другу, но какую-то часть пути могут пройти вместе.
Ответ географа мог бы быть, как мне кажется, двояким. Никакой территориальный статут, сказал бы он, не держится сам по себе, если государства-победители, навязавшие его временно побежденным, перестают им интересоваться или ослабляют его своими собственными разногласиями. Версальский статут был и в самом деле непрочным, поскольку обе державы континента воспринимали его враждебно. Но Запад обеспечил себе средства и способы действовать, если Германия попытается опрокинуть установленный порядок: Германия была разоружена, и левый берег Рейна, сначала оккупированный французскими войсками, должен был оставаться без защиты со стороны немцев. Составители Версальского договора были менее ответственны за последующие катастрофы, чем государственные деятели, которым надлежало его исполнять. Германия была разбита коалицией союзников, в которую входили морские государства — Великобритания и Соединенные Штаты. Американский изоляционизм, английская нерешительность привели к тому, что лишь на одну Францию пала тяжесть задачи, превышавшая ее силу: если версальский статут рухнул, то не потому, что он был сам по себе хуже любого другого статута с точки зрения мо-
Мир и война между народами • Раймон Арон
<■<.< 257
Часть II
•л -лЛС*\ < х < ■< ляфй- «:<■:■ ■> -я^слх^-лух- «Я* > ■>ххх-Х^-'«5л-х-ЯЛ-Я </ -■':
рали или политики, а потому, что государства, которые должны были быть его хранителями, не выполнили эту обязанность.
Другой ответ можно сформулировать как вопрос: а что надо было делать? Разрушить германское единство, как предлагала одна из школ французского национализма? Но никто и не верил в восстановление фактически двух Германий1 и в спасение дуалистической монархии. Но, когда собралась мирная конференция, таковая уже не существовала. Возможно, что сепаратный или общий мир, если бы он был, заключен двумя годами ранее, мог продлить существование анахронического единства Центральной Европы под династией Габсбургов . Однако в 1918 г. было уже слишком поздно.
По правде говоря, геополитическая перспектива, обрисованная Маккиндером, как. впрочем и всякая иная перспектива, позволяет обозначить проблему, но не дает никакого решения. Помешать Германии или России объединить Центральную землю, начав с Восточной Европы, — таково было первостепенное требование всемирного равновесия и условие свободы народов. Так как же можно и надо было предотвратить такое объединение, которое германский империализм рисковал осуществить в результате либо своей победы, либо ценой своего поражения? Создание пояса из малых государств, разделяющего обе великие державы, не было абсурдным методом, хотя и привело к провалу идеи мира. Однако такой провал, даже при ретроспективном взгляде на вещи, не есть окончательное осуждение самой идеи, ибо с 1920 г. англосаксы забыли, пожалуй, важнейший очевидный урок, извлекаемый из враждебных отношений и действий: никакой европейский порядок не может долго держаться без активного участия англосаксов, объединенных с демократиями континента.
Во всяком случае именно такой урок извлек из катастрофы Маккиндер в публикациях 1943 г. Война еще не окончилась: английский географ не мог еще ясно разглядеть в тогдашнем союзнике завтрашнего противника. Но он явно уже постигал губительность объединения Центральной земли славянами, которые в конце концов, по его мнению, возьмут верх над немцами. Гарнизон славян на Центральной земле велик. Россия превосходит Францию в двадцать раз по занимаемой площади и в четыре раза по численности населения. На Запад могут теперь хлынуть не орды монголов или кочевники Центральной Азии, а штурмовые танки и самоходные орудия. Моторизованные победители снабжены всем вооружением и снаряжением, какое имеется у Запада. Откуда бы ни исходила опасность, от немцев или от русских, она в обоих случаях будет исходить из Центральной земли и может быть предотвращена лишь союзом народов, живущих в маргинальных зонах евразийского массива, и островными народами, а прежде всего британцев и американцев. Географ, глядя на карту, уже видит перед собой атлантический союз с плацдармом во Франции, с авианосцем на якоре около Европы (Британские острова сравнимы с Мальтой на Средиземном море), резервами и арсеналом по ту сторону Атлантики.
Но не исключено, что теперь перспектива совсем иная. Морские державы 1 Имеется в виду Германия и Австро-Венгрия (прим. ред.).
.. 258
.. , Раймон Арон • Мир и война между народами
уже не стремиться помешать немцам или славянам установить господство над Центральной землей: русская армия, обосновавшаяся в Берлине, полна решимости там оставаться. Континентальная империя, вобравшая в себя Центральную землю, реализована. Позволяет ли предвидеть исход нынешнего конфликта третья формула Маккиндера: кто господствует на Центральной земле, тот господствует над миром? На такой вопрос нельзя ответить, не уточнив предварительно формы и способы геополитических суждений.
3. От географического схематизма к идеологическим концепциям
Сам Маккиндер охотно рассуждает о географической причинности (geographical causation in universal history)1. Ha деле же в его взглядах на всемирную историю нет ни малейшего следа географической причинности в строгом понимании этого словосочетания.
Конечно, Маккиндер исходит из географических фактов, а именно: из неравного распределения на поверхности планеты в различных регионах земель и вод, ископаемых богатств и сельскохозяйственных ресурсов: а также из неодинаковой плотности населения на континентах в зависимости от климата, рельефа местности и плодородия почв. Население концентрируется, а цивилизация процветает в зонах умеренного климата. Лишь тридцать миллионов человек1 2 живут на двенадцати миллионах
Социология квадратных километров, представляющих собой плоскогорья, окаймляющие с юга равнины “всемирного острова”. Один миллиард человек живет в странах с климатом, определяемым муссонами. Всего лишь несколько десятков миллионов обитают в тропических лесах Африки и Южной Америки. Теперь принято делить население планеты, на живущее в развитых и слаборазвитых станах, а также различать советский блок, западный блок и страны третьего мира. Что касается Маккиндера, то он старается связать всяческие формы и виды заселения земель людьми с географическими факторами. Но даже он не решился утверждать, что масса населения на данной территории определяется особенностями среды обитания, поскольку политические проблемы, по его мнению, как раз и трансформируются в прямой зависимости от изменений в распределении человеческих масс по поверхности планеты.
Географическое видение всеобщей истории, хотя таковое лишь частично и схематично, все-таки поучительно, потому что выводит на передний план факты огромной важности: в течение веков существовало два вида завоевателей-кочевников — собственно кочевники и моряки. Все шаги и зигзаги дипломатии многократно диктовались борьбой на земле и на море, причем победа поочередно переходила то к тем, то к другим. Победа определялась тем, располагала ли боле значительными ресурсами континентальна мощь или мощь морская, а также зависела от техники и технических приемов, более пригодных для той или другой стороны. Все главные и оп-
1 Географическая причинность во всеобщей истории (англ. — прим. ред.).
2 Все цифры, приводимые Маккиндером, относятся к сороковым годам XX в.
Мир и война между народами • Раймон Арон
-' 259 .
Часть II
ределяющие факты и факторы существования и движения этих категорий людей связаны с географическими условиями. Перемещения кочевников и моряков есть один из способов адаптации к среде, некая манера человеческого бытия, чтобы понять которую, необходимо рассматривать ее в рамках своего рода определенного пространства. Монголы и арабы сформировались как нации в степях и пустынях. Но все же так утверждать можно лишь в символическом смысле. Чингисхан и Мухаммад — исторические личности, а географические реалии указывают только на их происхождение. А раз так, то было бы неправомерно, хотя и заманчиво выводить всякого рода предвидения или идеологические мотивы из географического прочтения всеобщей истории.
Геополитики, особенно немецкие, не всегда могли устоять перед подобным искушением. С 30-х годов XX в. время от времени, да еще и сегодня, как бы сам по себе возникает вопрос в рамках двуединого рассмотрения бойца (или просто человека) — морского и сухопутного: кто имеет больше шансов на победу в конфликте между континентальной и морской империями? Фактически Маккиндер нигде не отвечает прямо на этот вопрос. Единственное универсально действующее правило, которое можно извлечь из его произведений, было сформулировано также Жозефом Прюдомом: в конце концов побеждает наиболее сильный соперник (самый многочисленный, самый богатый, самый производительный).
Будучи теоретиком, он в некоторых отношениях выступает как анти-Мэхен. В то время как Мэхен, теоретик военноморских сил, чье творчество приходится на конецXIX в., был буквально потрясен тем, сколь решающую роль играет господство на морях, наш географ, мысленно вглядываясь в будущее, опасался, что милость богов отвернется от морей и обратится к суше. Железные дороги, автомобильный транспорт позволяют преодолевать расстояния по земле так же успешно, как корабли на море. Но то, что тревожит английского патриота, вселяет надежды в немецких националистов. Век морского могущества завершается, начинается век могущества континентального. Территориальная экономика поглотит весь мировой рынок. Однако, каково бы ни было значение подобных глобальных взглядов, тщетно было вчера, опираясь на них, делать вывод об исходе второй мировой войны, а сегодня — строить умозаключения насчет победы континентальной империи. Вероятно, число причин, определяющих судьбу государств или коалиций, слишком велико, чтобы стало возможно делать то или иное предсказание на краткосрочную перспективу, относительно результатов какого-либо политического или военного кризиса. И уж во всяком случае предсказание такого рода должно базироваться на учете всех имеющихся данных, а не на произвольном и частичном анализе.
Маккиндер не формулировал также никакой географической идеологии, если понимать под нею оправдание, с помощью географической аргументации, целей и амбиций политического характера. А именно такая особенность лежит в основе идеологических концепций, тесно связанных с географическими позициями. В самом деле, они всегда исходят из какой-нибудь основополагающей идеи: сама территория — в зависимости от размеров и качества — изображается как ставка в борьбе между враждующими коллективами. Вместе с
260 Раймон Арон • Мир и война между народами
тем идеологические позиции тех, кто в качестве ставки в борьбе использует фактор пространства, подразделяются на две категории в зависимости от того, преследуют ли они экономические или стратегические цели. Идеология жизненного пространства принадлежит к первой категории, она имела наибольший успех в Германии. Идеология естественных границ относится ко второй и распространена преимущественно во Франции. Маккиндер не поддержал германскую идеологию жизненного пространства, но он подготовил ее своей довольно-таки курьезной концепцией, в равной мере противостоящей и манчестерскому либерализму, и хищническому протекционизму (protection of a predatory type).
Он понял лучше, чем многие его современники, природу и характер того, что мы называем индустриальным обществом, а он называл going concern (по традиции это можно перевести как “функционирующее предприятие”). Современную нацию, или страну, можно сравнить с промышленным предприятием: степень ее богатства находится в прямой зависимости от производительности труда, от отдачи труда. Число людей, которые могут жить на той или иной территории, растет вместе с ростом производительности труда. Благодаря современной индустрии Германия смогла удвоить за полвека численность своего населения.
Из этих фактов он не делал вывода, что борьба за землю теряет остроту и имеет все меньшее значение, поскольку интенсивный рост производства позволяет не расширять уже имеющуюся территорию. Однако он констатировал, что чрезмерная концентрация населения на малом пространстве способствует появлению новых видов ненависти между народами, ибо появляется угроза массоСоциология
вого голода. Чем больше немцев насчитывалось в границах рейха, тем больше они страшились нехватки территории, а значит, в один прекрасный день дефицита хлеба и сырья.
Гармоничное развитие индустриального общества в период, предшествовавший первой мировой войне, было подорвано, по его мнению, как манчестерским либерализмом, так и протекционизмом в немецком стиле. Оба эти течения, как он полагал, были направлены на то, чтобы помешать устойчивому, равновесному росту, необходимому каждой стране или, по меньшей мере, каждому региону мира. Под уравновешенным ростом он понимал, согласно философии национальной экономики Ф. Листа, наличие в экономике каждой крупной страны всех более или менее важных промышленных отраслей. Свободный обмен обеспечивал передовым странам создание и развитие некоторых ключевых отраслей промышленности. Подобные результаты как раз и были получены Германией, которая навязала Франции во Франкфуртском договоре торговый режим, наиболее благоприятствующий немцам. Позднее такой же трюк Германия проделала с Россией, заключив одно из самых обыкновенных торговых соглашений.
Немцы, писал Маккиндер, нуждаются в славянах, которые должны производить для них часть пищевых продуктов и покупать у них промышленные изделия. Потому-то среди немцев и распространяются панические настроения, толкающие их на завоевательные авантюры. Они вынуждены поддерживать идею своего господства, которое считают необходимым для собственного существования. Но для этого немцам надо прежде всего устранить плацдармы в виде островных государств и морских
Мир и война между народами • Раймон Арон« > & Л 261
Часть II
!>ф .«■ ФХОгХч ф А > ■■■ »< >ÄZ ЧМФХ Х-Л>.« >$у-4.»ф.уz ;ф>- г,.г.л:.>.<:. <///•<■, >>>.
держав на континенте. Тогда как Англия цепляется с неким фатализмом за либерализм, ставший анахроничным, Германия, охваченная тревогой, готова впасть в каннибализм, а большевистская Россия тонет в анархии, завершением которой, предсказывает географ, будет беспощадный деспотизм. Единственный путь к миру—это сначала уравновешенное развитие национальных экономик, потом — равновесие между странами и регионами земного шара.
Очень легко подхватить эти идеи, чтобы вывести из них географическую идеологию. Для этого достаточно поместить на передний план опасность, грозящую коллективу, чье существование зависит от земель, рудников, заводов за пределами его территории. Если же поступить еще проще и в общих чертах слишком грубо, то в этом случае достаточно приписать коллективам естественное стремление к экспансии, и вот уже территория становится ставкой, а не только театром международной политики. Немецкая доктрина жизненного пространства, японская доктрина сопроцветания вдохновлены натуралистической философией, согласно которой политические сообщества похожи на живых существ, чья воля к жизни сочетается с волей к захватам.
В пропагандистских писаниях и выступлениях немцы и японцы не поднимались до принципиальных высот метафизики. Они просто твердили о нехватке территории, из-за чего они страдают (Volk ohne Raum)* 1, а значит, им во что бы то ни стало надо занять более обширные земли для получения зерна, чтобы кормить людей, больше залежей сырья, чтобы снабжать заводы. Империалистические устремления становились неизбежными и законными, потому что речь шла о жизни или смерти. Приведенная аргументация явно была основана на тезисе, что планета слишком мала, чтобы на ней процветали все народы: нехватка территории касается всего человечества, и беспощадная борьба между государствами становится неминуемой.
Такая идеология возникла не в связи с великими завоеваниями, а с осознанием того, что Поль Валери назвал конечным миром2. Великие завоеватели, от монголов до испанцев, не очень-то заботились о том, чтобы оправдывать свои походы, а если и оправдывали, то ссылались на превосходство своей силы, своей цивилизации и своих богов. С XVI по XX вв. европейцы удивительным образом расширили свое жизненное пространство. В XX веке, когда планета была или казалась целиком занятой, немцы, вышедшие на сцену последними, сублимировали свою горечь и свою амбицию биологическо-географической идеологией.
В 1960 г. общественное мнение, быстрое на внезапные повороты, уже усматривало лишь ложь и софизмы в пропаганде вчерашних империалистов. Даже в мыслях нельзя допустить, что побежденные в последней войне якобы не могут обойтись без дополнительного пространства, тогда как сто миллионов японцев, стеснившихся на четырех островах, имеют жизненный уровень, о котором и не мечтали те же японцы, когда
1 Народ без пространства (нем, прим. ред.).
1 Правда, Валери имел в виду не столько заполнение планеты людьми, сколько возрастающие связи между всеми народами, всеми регионами планеты.
>■>. 262 г
■ Раймон Арон» Мир и война между народами
были господами сферы азиатского сопроцветания. В то же время 55 миллионов немцев Федеративной Республики вот уже десять лет имеют самые высокие темпы роста на Западе, причем этот рост в значительной части обязан притоку миллионов беженцев, то есть плотность населения увеличивается, что совершено обесценивает установки вчерашних пропагандистов.
Сегодняшние наблюдатели делают неизбежный вывод о том, что империалистская идеология, имевшая истоком геополитику, теперь переживает переходную фазу. Маккиндер и его немецкие последователи вполне ясно констатировали, что индустриальная система позволяет увеличивать в массовом порядке численность населения на одной и той же территории. Но они не довели до логического конца свой анализ. Они прошли мимо возможностей, открываемых интенсивным экономическим ростом. Будучи пленниками старых концепций, они полагали, что страны, приемлющие свою зависимость от снабжения извне, оказываются в губительном положении. И еще: они по-прежнему придерживались старой концепции, согласно которой значительный процент мирового народонаселения должно составлять крестьянство, и полагали, что в некоторых случаях лишь территориальная экспансия позволяет поддерживать такое процентное соотношение. Наконец, они так и не поняли, что в наше время захват имеет в корне разное значение в зависимости от того, малолюдно ли захватываемое пространство или нет. Потеряв Корею, Формозу и Маньчжурию, японцы утратили положение правящего класса по отношению к населению бывших колоний и протекторатов. Но вместе с тем они избавились от необхоСоциодогия
димости распылять свои капиталовложения. В случае с Японией разрушение империи скорее способствовало, чем подорвало, скорее ускорило, чем замедлило развитие национальной экономики.
Такое толкование географической идеологии и судеб японской и германской империй, созданных и разрушенных предыдущим поколением, не очень и не всецело убеждает историка. Действительно ли мы так уж стали умнее, чем те, кто нам непосредственно предшествовал, или чем мы сами лет двадцать тому назад? Действительно ли гитлеровское и японское начинание было и преступным, и абсурдным, но зато кара в виде поражения обернулась процветанием?
Не так все просто. Военная сила не пропорциональна объему производства и уровню производительности. Япония, разоруженная на своих островах, чувствует себя в некотором смысле хуже, чем вчерашняя имперская Япония. Та была великой державой, а эта — даже не держава второго разряда: в военном отношении она неспособна защищать себя, она обуза, а не поддержка для своих союзников. Федеративная Республика Германия богаче третьего рейха: она имеет уровень производства на душу населения, до которого не поднимался рейх, она обеспечивает каждому доход, превышающий доходы подданных Гитлера. Но подданный Гитлера был участником славы великой державы. Гражданин, доверяющий и верящий канцлеру Аденауэру, обязан своей безопасностью силе Соединенных Штатов, он лишь зритель больших конфликтов истории. Иначе говоря, имперские поползновения не были, быть может, иррациональными, если их целью было коллективное могущество, способность воздействовать на исторические события.
Мир и война между народами • Раймон Арон
263 *
Часть II
25 лет назад экономические проблемы не выступали столь же очевидно как сегодня. Опасность зависимости от заграницы не казалась тогда исключительно военной проблемой, она считалась экономической опасностью. Маккиндер писал в 1919 г., что необходимость заставляет немцев принуждать славян к роли поставщиков продовольствия и покупателей промышленных товаров. Такое утверждение неправомерно исходит из того, что индустриализация одной
страны якобы требует неиндустриализа-
ции другой. Я думаю, что это утверждение вообще неверно; во всяком случае оно было явно неверным в начале XX
века применительно к отношениям между немцами и славянами.
События 30-х годов и великая депрессия придали вид временного правдоподобия этим двусмысленным концепциям, выведенным из незавершенного анализа индустриальной системы и основанным на упорном пристрастии к традиционным идеям. Доступ к сырью представлялся подорванным из-за нехватки валюты. Барьеры, возведенные против японского экспорта, вызывали у руководителей и общественности японской империи законное беспокойство. Дезинтеграция мировой экономики, возвращение к двусторонним соглашениям, усиление протекционистских мер — все эти последствия великой депрессии имели такой характер, что делали непрочным — и по видимости, и в действительности —положение стран, чье существование зависело от сопряженной с риском международной торговли. То обстоятельство, что сегодня такова судьба всех или почти всех стран и что народы к этому привыкли, не мешает понять, что в 30-е годы такая зависимость казалась устрашающей и вызывала панику.
Таким образом, судьба идеологий, в основе которых лежат географические реалии, по-видимому, связана с тремя видами обстоятельств. Оседлые народы, для которых всякие передряги и битвы престали быть нормальным образом жизни и которые больше не осмеливаются призывать себе на помощь богов войны, были, по некоему диалектическому выверту, подведены к тому, чтобы вычленить дух из природы, фактическое право и историческую легитимность — из физической необходимости. Половинчатое, далеко не полное понимание индустриальной системы породило скорее риск, нежели шансы на успех, связанные с интенсивным ростом производства и увеличением численности населения на неизменной площади. Наконец, вдруг разразившийся и очень сильный кризис, казалось бы, подтвердил эти опасения и оживил призрак голода. И сразу же немцы и японцы решили, что они вернулись в те далекие времена, когда народы искали спасения в великих переселениях.
Идеология естественных границ исторически имеет общие черты с идеологией жизненного пространства. Последняя предполагает, что завоевания, хотя они и нуждаются в оправдании, но что такое оправдание не может быть плодом каких-нибудь духовных доктрин. Таким же образом идеология естественных границ сама по себе служит оправданием наличия той или иной границы, когда нет более приемлемого аргумента.
Во времена королей и господства династического принципа, монархи сами решали между собой вопросы владения городами и провинциями. Воля населения почти никогда не учитывалась и всегда была бы недостаточной, чтобы подтвердить законность или не264 Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
законность той или иной передачи суверенитета. Завоевания Людовика XIV вызвали возмущение, потому что они совершались силой, а в некоторых случаях даже без объявления войны, но отнюдь не потому, что при этом игнорировались чувства и настроения населения. Идея естественных границ получила широкое распространение в XX веке и была убедительной и привлекательной для тогдашних революционеров, ибо заполняла идеологическую пустоту из-за отсутствия новых идей. Во Франции республика не могла брать или отдавать провинции на манер королей, которые считали свои земли и подданных личной собственностью. В периоды славы и революционного порыва она не занималась аннексиями, а освобождала народы от тирании. Нужно было также, чтобы народы были готовы приветствовать в качестве освободителей солдат, изгонявших королей, чтобы они признали в лице Французской Республики или какой-нибудь республики-сателлита воплощение собственной свободы (тогда еще не научились устраивать манифестации “с проявлением энтузиазма”). Когда Франция терпела поражение, она противопоставляла германской империи право народов на самоопределение. Когда она бывала победоносной, она склонялась к понятию естественных границ, которое позволяло игнорировать волю и желание населения.
Естественная граница — в той степени, в какой эта формула вообще имеет смысл, — есть граница заранее проведенная на физической карте там, где имеется река или горная цепь, то есть граница, которую легко защищать. Естественную границу следовало бы называть стратегической или военной. Военный аргумент — это эквивалент концепции жизненного пространства, будь то в биологическом или экономическом значении; он также подменяет моральные принципы. Нужда в обеспечении безопасности могла бы оправдать аннексию какой-нибудь провинции точно таким же образом, как оправдывается необходимость обширных завоеваний.
Географическое изучение границ практически не дает никаких аргументов в пользу доктрины так называемых естественных границ. И в самом деле, на протяжении веков политические границы множество раз отклонялись от физических линий раздела (рек или горных цепей); гораздо реже границы совпадали с этими линиями. Всего лишь столетие назад Альпы стали границей между Италией и Францией. Пиренеи образуют политическую, но не лингвистическую границу между Испанией и Францией; по обе стороны Пиренеев живут каталонцы и баски. Рейн, тоже не образует лингвистической границы, он не стал и политической границей между немцами и французами.
Можно ли утверждать, что политическая граница более прочна и имеет больше шансов продержаться дольше, если она, так сказать, исполняет и географическую роль. Нет, это было бы иллюзией. Стабильность границы лишь в слабой степени зависит от физических или стратегических данных. Она функционально зависима от отношений между коллективами, которые она разделяет. Когда граница легитимна и соответствует условиям того или иного времени или эпохи, она не дает поводов для конфликтов. В этом смысле граница, считающаяся смежными государствами справедливой, хороша сама по себе, независимо от того, как ее расценивать в Мир и война между народами • Раймон Арон 265
Часть II
военном отношении. Впрочем, в зависимости от технических характеристик вооружений, от конфигурации альянсов и союзов граница может менять свое значение. В Европе 1960 г. Рейн перестал быть невралгической зоной. Он всегда способствовал контактам народов и обмену товарами и идеями. С прекращением франко-германского соперничества, политико-военная функция Рейна изменилась, поскольку теперь он течет не между противниками, а между партнерами.
Можно ли сказать, что граница между цивилизационными зонами более различима и более постоянна на карте, чем в действительности граница между политическими сообществами? Вторжения из глубин Азии выдыхались и иссякали на линии от Балтики до Адриатики, от Штеттина до Триеста. Можно найти причины постоянства такого предела: натиск победителей ослабевал по мере увеличения завоеванного пространства. Однако было бы неверно полагаться лишь на географию, чтобы гарантировать безопасность Западной Европы. Если бы Запад был защищен только линией Штеттин—Триест, следовало бы существенно опасаться за его будущее.
Никакого так называемого естественного укрепления не достаточно, чтобы дать отпор агрессору. Исход борьбы между кочевниками и оседлым населением никогда не предопределялся одними лишь географическими факторами. С еще большим основанием можно сказать, что победа коммунистического деспотизма или западных демократий, сосуществование этих двух цивилизаций, будущая граница между двумя мирами — все это такие феномены, которые связаны с территорией только как с театром действий, но само пространство не есть определяющий фактор международных отношений, исключительный или главный.
4. Пространство
в век науки
Теряет ли теперь свое значение географический взгляд на историю? Освобождается ли человечество от ограничений среды обитания, по мере того как оно все больше овладевает силами природы? И не станут ли более миролюбивыми коллективы, способные жить и процветать без завоеваний, поскольку территория перестает быть первостепенной ставкой в борьбе между народами?
Разумеется, трудно отрицать, что прогресс техники и технологии в определенной степени делает человека более свободным, уменьшает его зависимость от среды обитания. Число людей, которые могут жить на какой-либо территории, теперь заранее строго не лимитируется природными условиями. Для групп людей обосновавшихся на определенных землях умножились варианты выбора способов поддержания существования, как и возросло число профессий и видов занятий, доступных каждому индивиду. Новые эффективные средства борьбы против холода или жары позволяют обживать регионы земного шара, еще недавно совершенно безлюдные. Уже просматривается время, когда ученые смогут без чрезмерных затрат менять климат в различных природных зонах. Более чем когда-либо Земля предстает как творение человека, хотя она гораздо старше его и, должно быть, его переживет.
Тем не менее довольно-таки неосторожно было бы думать, что такое осво266 . * *ж Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
бождение, последовательно нарастающее, но всегда частичное, есть некая полная свобода. Вот лишь один, но весьма важный пример: хотя число людей, которые могут жить на определенной территории, больше не ограничивается природой строго и заранее, оно все-таки не безгранично. А между тем историки и географы, высказывающие свои суждения о пространстве, зачастую впадают то в одну, то в другую крайность.
Американский историк У.П. Уэбб1 главным фактором, определившим и объясняющим некоторые особенности европейских обществ (либерализм, мобильность и т. д.), усмотрел характер земной поверхности, которой европейцы располагают с XVI века. В 1500 г. сто миллионов европейцев жили на территории площадью в 3,75 миллионов квадратных миль, то есть плотность населения составляла 27,6 человек на квадратную милю. Завоевав Америку, они получили 20 миллионов квадратных миль, то есть примерно пятикратную поверхность Европы. Тем самым каждый европеец как бы стал располагать 148 акрами вместо 24, и это не считая природных богатств (золото, серебро, меха и т. д.). Современная эпоха с XVI по XX вв. чрезвычайно — можно даже сказать анормально — благоприятна для европейского населения. Оно пользуется преимуществами, которых не было у других народов в прошлом, да и не будет, вероятно, в будущем.
В эти благословенные века население Европы непрерывно росло. В 1900 г. его плотность на квадратную милю вернулась к 27, а в 1940 г. достигла 35. Территория стала более заполненной, чем на утренней заре современной эпохи, — как говорится, дом был заселен. Американский историк делает вывод, что особенности европейских обществ, прежде всего либеральные институции, исчезнут вместе с исключительными условиями, породившими их. Европейским обществам уготована судьба всех остальных, и они уже не будут от них сильно отличаться.
Легко возразить, что У. П. Уэбб преувеличивает значение приводимых им цифр. Плотность населения в 27 человек в 1900 г не имеет так сказать, туже цену что и такая же плотность в 1500 г. Плотность населения должна оцениваться в функциональной зависимости от технических показателей, то есть от производительности труда либо на единицу площади, либо на одного работника. Если принять такой способ подсчета — а только он и правомерен — то нынешняя плотность, даже если она удвоилась или утроилась по сравнению с 1500 г., оказывается в социальном отношении ниже плотности на тот же год. Развивая свои соображения именно в таком русле, демограф Сови утверждает, что сегодня на планете нет ни одного места, где наблюдалась бы абсолютная перенаселенность, за исключением разве что 1Ълландии. Повсюду неблагополучие проистекает от недостаточного экономического развития, а не от избытка людей.
Сейчас мы не будем обсуждать эту точку зрения, которую рассмотрим в следующей главе, но надо сказать, что сегодняшнее распределение населения и природных богатств по всей пригодной площади планеты наводит на мысль, что борьба за территорию, быть может, вовсе еще не завершена, несмотря на частичную независимость от природной 1 W.P. Webb. The Great Frontier. Boston, 1952.
Мир и война между народами • Раймон Арон 267 >
Часть II
среды, полученную человеческими коллективами. Интересное исследование об этом опубликовал Вермо-Гоши, из него мы позаимствуем ряд цифр, относящихся к 1955 г?.
Поверхность земной суши составляет 133,72 миллионов квадратных километров. Мировое народонаселение на указанный год исчислялось в 2 784 миллиона человек, и таким образом средняя единица поверхности (то есть площадь на одного человека) равна 4,8 гектаров. Теперь условимся, что мы будем понимать под двумя следующими определениями: мы будем называть индивидуальной производительностью той или иной страны — частное от деления национального дохода на число жителей этой страны; мы будем называть территориальной производительностью — частное от деления национального дохода на число квадратных километров территории страны (см. сравнительную таблицу).
Соединенные Штаты имеют обширную территорию в 9,4 миллионов квадратных километров, национальный доход в 324 миллиарда долларов, 167 миллионов жителей. Единица поверхности на одного человека там — 5,6 гектара, индивидуальная производительность — 1940 долларов, территориальная производительность — 34100 долларов. В СССР единица поверхности на одного человека составляет 11,2 гектара (площадь страны — 22,4 миллиона квадратных километров, население — 200 миллионов), индивидуальная производительность — 600 долларов (национальный доход — 120 миллиардов долларов); территориальная производительность — 5400 долларов. В Европе единица поверхности на одного человека —1,1 гектара (площадь — 3,91 миллиона квадратных километров, 360 миллионов жителей), индивидуальная производительность — 650 долларов (национальный доход — 232 миллиарда долларов), территориальная производительность — 58 000 долларов.
В американской зоне Канада имеет единицу поверхности 62,5 гектара, индивидуальную производительность — 1 320 долларов, пространственную производительность — 2 100. В Латинской Америке единица поверхности — 11,3 гектара, индивидуальная производительность — 280 долларов, пространственная производительность 2 500 долларов.
В советской зоне европейские сателлиты имеют единицу поверхности на одного жителя 2,5 гектара, индивидуальную производительность — 600 долларов, территориальную производительность — 26 000 долларов. В Китае единица поверхности — 1,5 гектара на одного жителя, индивидуальная производительность — 100 долларов, территориальная производительность — 6 200 долларов. В некоммунистической Азии индивидуальная производительность составляет 100 долларов, территориальная производительность — 5 200.
Эти цифры приблизительны ввиду не всегда полной ясности в данных для расчета национального дохода. Кроме того, они фактически дают несколько искаженную картину, поскольку площадь берется в целом, без учета качества земель и климата. Северное пространство Канады и Советского Союза не является эквивалентом плодородных земель Западной Европы. Но такие бесспорные и трудно исправимые 1 Оно опубликовано в бюллетене S Е D Е I S , № 726, июль 1959 г
268 * v w. w ’«уи* Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
погрешности (например, различие между землями, пригодными и не пригодными для обработки, довольно относительно) не умаляют значения основных показателей.
Можно заметить, что развитые страны подразделяются на две категории: страны, где индивидуальная производительность превышает средний показатель (360) в большей степени, чем превышается показатель по территориальной производительности (таковы цифры по Соединенным Штатам и даже по Советскому Союзу): и, напротив, страны, где территориальная производительность превышает среднюю величину больше, чем превышается средняя индивидуальная производительность (такова картина в Западной Европе). Даже в абсолютных цифрах территориальная производительность в Западной Европе (58 000) выше, чем в Соединенных Штатах (34 100).
В военном отношении невысокий показатель по рубрике единицы поверхности на одного жителя свидетельствует о двойном источнике слабости страны: он не позволяет трансформировать производство и другие виды деятельности, а это составляет преимущество в эпоху термоядерного оружия: он также увеличивает зависимость от заграницы в том, что касается снабжения людей и заводов. Страны с высокой территориальной производительностью — в данном случае самым ярким примером служит Англия, где этот показатель достигает 250 тысяч долларов — вынуждены и, можно сказать, обречены много покупать и много продавать на внешнем рынке. В прошлые века международная торговля велась и развертывалась под сенью британского флага и под защитой королевских военных кораблей. Европейское население не могло обходиться без заморского продовольствия и сырья, и поставки их гарантировались армиями и флотами. В наш век необходимость такой гарантии отпала. Ради жизненного пространства или сферы азиатского сопроцветания, Германия и Япония хотели ускользнуть от экономической зависимости или вернее, от экономической солидарности. Отказавшись от своих амбиций и иллюзий, европейцы теперь проповедуют тщетность завоеваний и плодотворность всяческих обменов: места хватит всем. Такая теория соответствует также и новой ситуации. В сравнении со вчерашними империалистскими идеологиями она имеет то достоинство, что учит государства обмениваться товарами, а не ударами армий.
Таким же образом среди стран, именуемых слаборазвитыми, сразу же можно выделить две категории: страны со сравнительно высокой территориальной производительностью (Китай — 6 200 долларов) и страны со сравнительно низкой территориальной производительностью (Латинская Америка — 2500 долларов). Китай уже имел большую плотность населения, прежде чем начался процесс индустриализации. Латинская Америка имеет индивидуальную производительность, почти втрое превышающую китайскую, и у нее в восемь раз больше территории на душу населения, чем в Китае.
Так что основные из названных показателей весьма благоприятны для Латинской Америки, а не для Китая, но это не означает, что он не будет развиваться более прогрессивно и быстро.
Приведенные цифры не дают никаких оснований предполагать, что “народы с ограниченной территорией” возоб-
Мир и война между народами • Раймон Арон^ 269 т**
Часть II
Сравнительная таблица индивидуальной и территориальной производительности в различных регионах мира
Площадь, млн кв км
Нац доход, млрд долл
Население, млн человек
Единица, поверхн на одного жителя, га
Индивидуальная производ , долл
Т ерриториальная производ , долл
I США
9,40
324
167
5,6
1940
34100
Зона
Канада
9,96
21
16
62,5
1320
2100
Латинская Америка
20,50
15,5
183
11,3
280
2500
Всего
39,86
396,5
366
10,9
1080
10000
И СССР
22,40
120
200
11,2
600
5400
Зона
Восточноевроп саттелиты
2,55
60
100
2,5
600
26000
Китай
9,70
65
650
1,5
100
6200
Всего
34,65
245
950
3,7
260
7000
III Европа
Зона
3,91
232
360
1,1
650
58000
Африка
30,13
28
233
13,5
125
930
Азия
16,61
86
870
1,9
100
5200
АвстралияОкеания
8,56
12,5
18
57,3
830
1500
Всего
59,21
358,5
1468
4,0
250
6000
IV. Весь мир
133,72
1000
2784
4,8
360
7500
новят когда-нибудь свои завоевания, прерванные необратимым поражением германского и японского империализма. Зато все указывает на то, что на краткосрочную перспективу, порядка нескольких десятков лет, единица поверхности будет иметь меньше значения, чем технико-технологическая способность населения. Страны Общего рынка уже достигли территориальной производительности порядка 200 тыс. долларов. И с 1950 г., то есть с конца периода реконструкции» темпы роста в этих странах самые высокие в свободном мире. В мирное время внешние закупки пищевых продуктов и сырья влекут за собой определенные затраты (например, необходимо поддерживать конкурентоспособные цены), но также и дают преимущества. Продавец исходных продуктов и покупатель в одинаковой мере зависят друг от друга. Европа боялась в 1956 г., что ей не будет хватать нефти, а страны, завладевшие нефтеносной землей и живущие на арендную плату за нее, опасаются, что не найдут клиентов. Точно так же в предстоящие десятилетия среди слаборазвитых стран быстрее будут развиваться не те, у которых самая высокая единица поверхности, а те, которые будут наиболее эф270 . ■> л л л Раймон Арон* Мир и война между народами
Социология
фективно проводить политику индустриализации.
В настоящий исторический период империалистические государства не придерживаются идеологии расширения жизненного пространства, а нехватка территории не является прямой причиной военных конфликтов. Сейчас русские и американцы обладают преимуществами перед европейцами во взаимном соперничестве. Этому способствуют относительно невысокая в России и США плотность населения, которая делает возможным экстенсивное земледелие и большие резервы для экономического и демографического роста. Значительное увеличение глобальных ресурсов гарантирует, что даже медленный рост индивидуальной производительности труда, будет сочетаться с существенным ростом числа жителей. В Европе Франция остается ниже оптимального демографического уровня необходимого для существенного могущества и удовлетворительного благосостояния. Германия и Великобритания не могут увеличить численность населения без того, чтобы не вырос уровень снабжения людей и предприятий импортируемыми товарами. Но такое положение не является непреодолимым препятствием (Федеративная Республика Германия показала это десть лет назад). В любом случае то, что народы пытаются силой изменить распределение территории или приспосабливаются к существующему ее распределению, нейтрализуется неравностью плотности населения. Еди ная площадь государства остается одним из факторов, которые управляли темпами демографического прогресса.
На момент заключения Парижского договора в Канаде проживало 60000 французов, сегодня это уже более 5 миллионов их потомков, ведь на огромных просторах выживало большинство детей. Но это уже не такие французы, как жители Франции.
Временное прекращение борьбы за территорию благодаря ресурсам, полученным народами в результате интенсивного роста производства, совпадает с трансформацией того, что можно было бы назвать смыслом пространства (выражение, предложенное профессором Карлом Шмиттом)1. В каждую эпоху смысл пространства определялся представлениями людей об их месте жительства, способе передвижения и о сражениях на земле и на море и целями, которые приписывали общества своей борьбе.
Современное человечество представляет свое жилище иначе, чем древняя египетская цивилизация, древние греки и римляне или даже континентально-океанические цивилизации, т. е. западная цивилизация во времена Великих географических открытий и до начала нашей эпохи. Линии коммуникаций и одновременно направления стратегических разработок сегодня уже не такие как вчера. Самолет перевозит пассажиров из Парижа в Токио, пролетая над северным полюсом. США и Советский Союз не разделяются больше Западной Европой и Атлантикой: скорости стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет сделали их очень близкими друг к другу, а Великий Север стал общей границей.
Альтернатива: земля и море — символизировала контраст между господством на просторах морей и оккупацией 1 Carl Schmitt Land und Meer eine weltgeschichtliche Betrachtung Leipzig 1944
Мир и война между народами • Раймон Арон
. 271
Часть II
территорий, метр за метром. Контраст между домашним разумом земледельца и авантюрным и торговым (не важно пирата или купца) характером моряка, теперь сглаживается и принимает другой характер. Вассалы и их команды больше не хозяйничают в течение недель, предоставленные сами себе. Корсаров выслеживают с самолетов, общение по радио позволяет перегруппировывать корабли и подчинить их единой строгой дисциплине.
Если использовать мифологические термины, то можно сказать, что земля и вода покоряются законам воздуха и огня. К земледельцам и морякам приходит наука. Здесь и там лидеры манипулируют людьми, действуют согласно плану совокупности единств. Смысл индивидуальных инициатив, внезапной атаки, героических разбоев, терроризма является поочередно то благородным то низким не только в песчаных пустынях или на волнах, где повстанцы действуют без малейшей защиты, но и в горах и в лесных зарослях. С появлением воздушного оружия, море больше не служит укрытием бандитам. Из-за возможных обстрелов базы теряют свое военное значение или больше не имеют постоянно установленного места. Защита Соединенных Штатов против внезапной атаки не является больше ни пассивной защитой с помощью укрытий для народа, ни активной обороной с применением орудий, самолетов или ракетных установок, ни военным персоналом укреплений, аэродромов и портов, а служит репрессивной силой. Итак, безопасность теперь не может быть обеспечена глубокими окопами или удалением от позиций врага. Моряки атомных подводных лодок находятся везде, и на воде и под водой; они неуязвимы и могут выполнять усмиряющие функции. Наряду с утверждением, что “море принадлежит всем”, можно сказать, что, начиная с определенной высоты, “воздух также принадлежит всем”. Это иллюстрируют многочисленные спутники. Зенитные установки подбивают самолеты-шпионы типа У-2, спутники же фотографируют Землю и передают фотографии на свои базы.
Завоевав океаны, а затем и воздух, человек Европы заменяется целым человечеством, он направляет свои взгляды и амбиции к межпланетным пространствам. Будут ли продолжать закрытые общества свои провинциальные споры за пределами нашей планеты и атмосферы, как это делали французы и англичане в снегах Канады? Или правители индустриального общества в конце концов установят твердый порядок и будут управлять миром, не оставляя экстремистам других укрытий кроме пещер или осознанного одиночества?
ГЛАВА УШ
О численности
В предыдущей главе мы уже неоднократно говорили о проблеме численности населения. Как рассматривать жизненное пространство, не учитывая число жителей на данной территории? Исследования Маккиндера о связи меж272 Раймон Арон • Мир и война между народами
ду распределением природных ресурсов и населения на поверхности земного шара привели его к созданию концепции географического схематизма, которую мы уже упоминали: именно благодаря численности жителей, каждое данное пространство включается в исторический процесс и влияет на судьбы народов.
Число людей, которые проживают на данной территории, очевидно, варьируется в зависимости от различных способов расселения. Если предположить, что численность постоянна в течение длительных периодов истории1, то эта гипотеза вряд ли согласуется с реальностью и еще меньше отражается в сознании людей. Причинами вариаций численности населения с полным правом принято считать важные исторические события, господствующие институты, победы и преступления данного режима, право собственности, общественный порядок, отношение правящей верхушки к процессам обмена и к богатству и т. д.
Но подобный способ рассмотрения демографических процессов, законный сам по себе, склонял многих, довольно сведущих авторов к ошибочным предположениям. Монтескье верил, что в XVIII в. Европа может обезлюдеть1 2. Он обвинял инициируемую Парижем централизацию в провоцировании уменьшения численности французов:
“Бесконечные объединения многочисленных маленьких государств привели к этому уменьшению. Раньше каждая деревня Франции была столицей, сегодня это только большое поселение, кажСоциология
дая часть государства была центром могущества: сегодня все они относятся к одному центру, и этот центр, можно сказать — Само Государство”.
Показатель численности населения — это детерминант, сущность которого непонятна людям, и поэтому он имеет мистический характер. Он изменчив и неуловим. Его персонифицировали, трансформировали в благодушное или зловредное божество, порождение сил земли или моря, огня или воздуха, нефти или угля, социализма или капитализма, трестов или народных масс. Только военный гений мог признать, не будучи обвиненным в цинизме, что божьи милости по преимуществу приходят к большим батальонам.
На численность участников при интерпретации событий больше всего любят ссылаться те, кто склонен разоблачать. Этот показатель грозит также привести в уныние или вывести из себя тех, кто отказывается согласовывать свои амбиции со своими ресурсами.
1. Сомнения в оценках численности
Первый вопрос, который возникает в связи с анализом численности армий, является в то же время самым сложным. Чтобы точно знать, какая численность войск определяет силу армий, могущество народов, исход сражений, величие государств, необходимо установить число жителей на данной территории и выяснить результаты столкновения войск. Так цифры, приведенные хроникерами прошлых событий, оказываются сегод1 В истории мы обозначаем период существования так называемых “высших обществ" или цивилизаций, начитывающий около 6 тыс. лет.
2 Esprit des lois, XXIII, 19 et 24.
Мир и война между народами • Раймон Арон
-• > 273
Часть II
ня не только фальшивыми, но и бессмысленными.
По словам Геродота, численность персов, которые штурмовали греческие города, была 2 миллиона человек (не считая помощников и слуг). Достаточно посчитать расстояние между головой и хвостом такой армии, двигающейся колоннами, чтобы сразу заметить абсурдность приведенных подсчетов1 . Геродот насчитал в армии Ксеркса 4 200 000 человек — в одной колонне было 420 000. Когда начало армии Фермония достигло бы Германии, хвост ее еще должен быть в Сузах по ту сторону Тигра. Историки долгое время находились под впечатлением приведенных баснословных утверждений свидетеля, но в других отношениях ему можно было верить. В настоящее время многие ученые сомневаются в достоверности доказательств Г. Дельбрюка (которые мне кажутся убедительными), согласно которым пехота из граждан Афин была более многочисленной, чем кавалерия персов1 2. По поводу числа в 2 000 000 воюющих персов, указанных Геродотом, Жан Бернар (Population, № 2, 1947, р. 304) пишет, что приведенное число видимо, в пять раз больше реального. Следует отметить, что даже количество 400 000 солдат также невероятно, как и 2 000 000.
Хроникеры Средневековья также не были правдивыми. Они насчитали, что в Цэапсоне было 120 000 бургундцев. Г. Дельбрюк сводит это число к 14 0003. Аргументы, собранные Дельбрюком, находятся в докладах, опубликованных на английском языке (Number in history. Londres, 1913). Несомненно, болеедостоверно можно определить численность войск по данным об интендантстве и снабжении.
Согласно расчетам по этой методике, в каждом из великих исторических сражений до XVIII в. участвовало несколько тысяч воинов. Армия, с которой Александр пошел на завоевание Азии, составляла более 40 000 человек и была вовсе не такой маленькой, как нам говорили в школе, а огромной армией, соответствующей масштабам эпохи.
Два психологических механизма лежат в основе подобных цифровых фантазий. Первый я бы назвал иллюзией множества. Нам проще понять этот механизм, который продолжает действовать и в наше время. В 1940 г. французы верили, что в Германии число парашютистов, танков, самолетов огромно. В действительности было задействовано несколько тысяч парашютистов (4 500), танков, прорвавших французские линии обороны было не больше 2 580, самолетов, бомбардирующих тылы — 3 000. Также и нормандцы, шииты и монголы, которые в разное время терроризировали Европу, исчислялись несколькими тысячами.
Иной механизм делает очевидными ошибки, которые невольно совершили британцы при подсчетах немецких самолетов, подбитых в сражениях в течение лета 1940 г.: 185 самолетов, якобы подбитых в один день, оказались на деле 46. Летчики-истребители может быть и невольно указывая число своих жертв, превышали в три или четыре раза точные цифры. Иллюзия множества возни1 Hans Delbnik Geschichte der Kriegskunst, im Rahmen der politischen Geschichte, В I, Berlin, 1900, p 10
2 Ibld , p 38
3 Ibld , p 8—9
чат. 274 и- Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
кает не только потому, что каждый свидетель чувствует, что перед ним толпа слушателей, а и потому, что каждый свидетель воображает, что он видел большее количество врагов.
Второй механизм я бы назвал корыстной фальсификацией. Например, сообщения о числе тех, кто проходил в мае 1958 г. перед Бастилией в Париже, варьировались в зависимости от политических пристрастий газет и фактически удваивались и даже увеличивались в три раза. Каждый лагерь преувеличивал потери, которые понесли противники, и систематически преуменьшал свои собственные.
Иногда иллюзия множества комбинируется с корыстной фальсификацией. Верили ли греки в численность, которую они приписывали войску Ксеркса или они хотели преувеличить свои заслуги? В самом деле, летом 1940 г. были ли необходимы сообщения о множестве немецких танков и самолетов, чтобы оправдать отступление, или французы были убеждены в точности цифр, которые вроде бы давали им алиби и, одновременно, соответствовали их непосредственным впечатлениям?
Вопреки критическим исследованиям, проводимым историками, число воюющих в каждой битве не установлено с непреклонной точностью. В то же время роль численного превосходства войск или их недостаточность остается невыясненной. Эта неточность в расчетах кажется мне еще больше, если речь идет об общей численности населения. Часто бывает сложно определить частичное сокращение населения которое затрагивает привилегированные классы или, как минимум, классы, участвующие в войнах, и тотальное сокращение народонаселения. Античные авторы не сомневались в своих расчетах. Довольно точно мы узнаем численность граждан Афин и Спарты в разные времена. Но нельзя сделать подобных выводов о том, что касается общего количества жителей, включая чужаков (метеков) и рабов. Итак, если речь идет только о гражданах, или о всем населении, то результат будет неодинаковым. В одном случае речь идет об особо благоприятных условиях для классов, за которые отвечает социальная система, в другом, об отсутствии возможностей для выживания.
Даже если количество воюющих и численность населения определены, то все же нелегко рассчитать влияние показателя численности.
Возьмем известный исторический пример, в котором цифры точны и достоверны. Франко-немецкая война 1870 г. прошла две стадии: во время первой регулярные армии второй Империи, состоящие из профессиональных солдат, были вынуждены отступить под натиском более многочисленных армий Пруссии и ее союзников. В ходе второй стадии армии, собранные правительством национальной обороны, несмотря на их численное превосходство, также отступили. Нужно ли приписывать отступление армий Наполеона III недостаточной численности его войск, лучшему качеству прусских пушек или недостаткам французского командования? Каково значение каждой из этих причин? Не всегда в течение веков авторы ссылались на численность армий, чтобы объяснить участь сражений, но еще сегодня трудно уточнить хотя бы часть этих объяснений для анализа конкретной обстановки или для характеристики определенного исторического периода.
Мир и война между народами • Раймон Арон х*
* Ч
✓ v 275
Часть II
Поскольку в наши намерения не входит детальный анализ определенных случаев, что позволило бы уменьшить поле неточности расчетов — мы попытаемся выделить наиболее общие положения, касающиеся двух принципиальных проблем: влияние численности войск на силу или могущество государства; связи между населением (или перенаселением) и войной.
Напомним сначала об изменении понятия “грандиозная армия”. Возможно, в битве при Марафоне участвовало от 3 000 до 5 000 афинян. Александр пустился на завоевания в Азии с огромной по тем временем армией из 40 000 воинов. Наполеон мобилизовал почти в десять раз больше солдат, чтобы пересечь в январе 1812 г. границы России. Армия Гитлера в 1941 г., собранная с целью того же предприятия, насчитывала миллионы человек, а не сотни тысяч. В эпоху рождения Иисуса Христа на Земле было около 100 миллионов жителей. В начале XVII в. — около 600 миллионов, сегодня — 3 млрд.
Военная мощь и вклад в культуру отдельных сообществ никогда не были пропорциональны размерам каждого из них. Внутри политических сообществ как и в соревновании между ними, меньшинство чаще всего было вершителями судьбы.
На полях сражений численность войск почти всегда была важным фактором исхода войн. В частности, внутри зоны цивилизации, тогда как ни оружие, ни организация не отличались особым совершенством, численность армий решала дело. Кроме того, необходимо ограничить или исправить предыдущее предположение при помощи двух замечаний. В случае, если борющиеся стороны принадлежат к сообществам глубоко разнородным, небольшое войско способно одержать верх с впечатляющим успехом. Термин “завоевания Кортеса” стал классическим в литературе. Несколько дюжин испанских всадников представляли непревзойденную силу перед лицом ацтеков доколумбовой Мексики. И даже в Европе не один раз несколько тысяч варваров, пришедших из Азии, наводили ужас на несравнимо более многочисленные народы.
В Античном мире, да и на других территориях, в течение всех столетий до наших времен не существовало строгой пропорциональности между численностью населения и количеством воюющих. Довольно обширные империи могли быть созданы при сравнительно небольших человеческих ресурсах, если речь идет о Риме, арабах или монголах. Благодаря высокой норме мобилизации, более эффективной организации, распространению гражданства на побежденных, одержавший победу город мог подчинить своим законам целую зону цивилизации, сохраняя численное равенство войск или добиваясь превосходства на поле битвы. Способность подчинять силой оружия большое число жителей была доказательством политического искусства как способности концентрировать свои силы, что является выражением искусства стратегии.
Чтобы выйти за пределы этих обобщений, мы должны рассмотреть отдельно два типичных периода истории, с одной стороны — Античность, с другой — Европу XIX и XX вв. В греческом мире Афины были гигантским сообществом— т. к. накануне Пелопоннесской войны в них насчитывалось 40 000 граждан, а вместе с метеками и рабами проживало 200 000 человек, а может быть и больше. В Европе XIX в. Франция, казалось, была обречена на * 276 V V - Раймон Арон • Мир и война между народами
упадок, т. к. ее население росло медленно. Переходя от изучения Афин V в. до н. э. к Франции XIX в. мы переходим от исчисления тысячи (или в крайнем случае, десятков тысяч) человек, о которых говорили греческие авторы, к расчетам, в которых фигурируют миллионы, упоминаемые современными демографами. В связи с этим возникает необходимость статистического динамического анализа роста городов (Каков идеальный объем города? Каков предпочтительный его рост?).
Пропорции между силой городов и силой армий, численностью населения и количеством солдат в различные эпохи не одинаковы и не могут быть одинаковыми во времена решающего значения храбрости воинов и во времена господства нефти или атома. Поэтому нельзя согласиться с мнением по этому поводу Ж.Ф. С. Фуллера1. Отметим, что в течение многих веков использовалось оружие, которое было гораздо дешевле, чем теперь. Коэффициент мобилизации данного государства находится в соответствии с его социальным режимом. В наше время этот коэффициент зависит от экономических ресурсов и устойчивости центральной власти. Количество машин у нас больше, чем численность жителей.
В связи в этим возникают два вопроса: какова демографическая проблема исчисления соотношения между численностью населения и количеством солдат; между силой городов и силой армий — их мы рассмотрим на Социология
примере сравнения между античностью и современностью.
2. Идеал стабильности. Демографическая и политическая нестабильность
Греческие философы поставили проблему, которую мы назовем оптимумом населения1 2 и это может нас удивить, т. к. они не довольствовались объективным и нейтральным исследованием фактов или причин явлений, а также пытались познать порядок или благо. В их глазах город — это единство, в котором должна самоорганизовываться совместная жизнь. Как Платон, так и Аристотель рассуждают о том, какой должна быть величина города, идеальной или естественной. Составить город не могут десять индивидов, пишет Аристотель, для этого требуется не меньше, чем десять раз по десять тысяч3.
Платон в “Законах”4 указывает число 5 040. “Численность в 5 040 человек арифметически представляет значительное владение; это также сулит выгоды наибольшему количеству жителей. Следствием являются большие административные (управленческие) удобства, поскольку речь идет об учете населения, обеспечении прав граждан и размещении новобранцев, включении их в реестры, в составление списков для налогов или для направления на работы5.
1 J. F. С. Fuller, L’Influence de l’armement sur l’histoire, Paris, 1948. Ж.Ф.С Фуллер. Влияние вооружения на историю Париж, 1948.
2 Ethique a Nicomaque, IX, 10, 1170 b 31—32. Аристотель. Никомахова этика, IX, 10, 1170в, 31—32
3 Cf J. Moreau, Les Théories démographiques dans l’antiquité grecque, Population, 4 annee, n° 4, octdec, 1949, p. 597—613. См. Моро Демографические теории в греческой античности, Population, 4 изд., окт-дек 1949, стр 597—613.
4 Платон “Законы", V. 737е—738а
5 J Morean, Ibid, р 605.
Мир и война между народами • Раймон Арон « 277
Часть II
Эти странные рассуждения не лишены смысла и не являются в то же время анахроническими. Цель города, т. е. политики, заключается не в могуществе, а в том, чтобы жить разумно. Поскольку добродетельная жизнь возможна только в обществе, то необходимо еще определить численность граждан, которая благоприятно влияет на условия жизни и делает возможным порядок, согласующийся с разумом. Два мнения противостоят друг другу: необходимость обороны против врага требует большой численности воинов, моральная сила требует небольшого их числа. Компромисс должен быть правомерным: город не может быть ни слишком малым, ни слишком большим. Афины, имея 40 000 граждан, страдали от гигантизма.
По словам Аристотеля, факты доказали, как трудно, чтобы не сказать невозможно, хорошо управлять государством, даже имеющем репутацию хорошо управляемого, если оно станет увеличивать безгранично свое население. Это, очевидно, и соответствует здравому смыслу: т. к. закон — это определенный порядок, и хорошие законы обязательно составляют хороший порядок: итак, слишком многочисленное население не допускает установления порядка. 1Ърод, который имеет слишком мало жителей, не может довольствоваться сам собой: итак, подлинное значение города заключается в его достаточности для себя самого. Тот, в котором население будет очень большим, несомненно сможет доставлять все необходимое, но только как племя, а не как город. Нелегко организовать там политический порядок (строй). Какая общая цель может управлять этой крайней многочисленностью?... Какой глашатай заставит себя услышать, если у него нет зычного голоса? 1Ърод формируется сразу же после того, как он составляет достаточное число жителей для того, чтобы иметь все удобства, согласно правилам политической ассоциации. Может быть, что город, в котором число жителей превосходит эту норму, будет еще городом в больших масштабах; но, как мы уже сказали, это превосходство имеет пределы. А каковы эти границы? Факты нам указывают на это, политические действия происходят от тех, кто управляет ими, от тех, кто подчиняется: и функция того, кто управляет, состоит в том, чтобы распоряжаться и судить. Чтобы решать права каждого и распределять заслуженные судейские звания, нужно, чтобы граждане знали и принимали и тех и других: когда это невозможно, судебные ведомства и судьи не преуспевают. В этом отношении было бы несправедливо действовать без раздумий, и в то же время, очевидно, то, что прямо противоположное происходит в очень населенном городе.
Более того, тогда станет легче проживающим в стране иноземцам и метекам вмешиваться в управление, так как проще избежать внимания к себе при избыточной многочисленности жителей. Таким образом очевидно, что необходимо приемлемое ограничение населения города в пределах, достаточных для его нужд с тем, чтобы он был легко управляемым1 .
Поскольку цель — это город ни слишком большой, ни слишком маленький, но достаточной величины, чтобы обходиться собственными силами и быть способным к самообороне, довольно малый, чтобы граждане знали друг друга и 1 Aristote. Politique. IV (VII), 4, 1326 а 17-Ь 24. Аристотель. Политика, IV (VII), IV, 1326а 17—б 24.
278
Раймон Арон • Мир и война между народами
выносили справедливые решения. Политика в отношении населения, рекомендуемая Платоном или Аристотелем, усматривала возможность перенаселения и обезлюдивания, другими словами, она имела целью поддержку постоянного уровня численности жителей. Демографическая опасность в классическую эпоху состояла в избытке численности населения или в недостаточности территории, что обозначается как стенохория. Греческая идея о том, что вне определенного количественного предела население не может быть управляемо согласно здравому смыслу, вышла сегодня из употребления, но долгое время она рассматривалась мыслителями Запада как очевидная. Указание на вред этой идеи можно найти в первых книгах Монтескье “О духе законов”, где тип правительства рассматривается в соответствии с размерами подвластной ему территории и где деспотизм представлен как неизбежный в огромных империях Азии.
Идеал стабильности был, в действительности, противоположностью как нестабильности численности населения, с одной стороны, так и политической судьбе сообществ, — с другой. “Античную Грецию охотно представляют как страну, где доминировали Афины и Спарта. Но это все же упрощенная картина. Афины и Спарта оспаривали гегемонию в V и в IV веках. Они были большими центрами Эллады в эпоху, на которую приходится апогей греческой античной цивилизации, но таковыми они были только в эту эпоху. В микенскую эпоху самыми большими центрами были города, которые, как Пилос или Трифили, прекратили существование в классическую эпоху, или, как Микены или Социология
Тйринф, со временем потеряли свое значение. В архаическую эпоху, VIII—VII вв., большими метрополиями были Шальси и Еретри, Коринф и Мегар. В Азии это Фосе и Милет. С IV в. гегемония, которую оспаривали Афины и Спарта, переходит к Тебу в Беоти, жители которого имели репутацию увальней, затем к Македонии, которая развивалась до конца эллинского мира и не казалась подлинным эллинам наполовину греческой1. Как судьба могла быть постоянной, когда город, состоящий из 10.000 граждан, стал большим городом?
Город “гигант”, как Афины, имел еще меньшую уверенность в будущем. Население Афин могло жить только за счет импорта почти половины продовольствия, а возможно и больше. Они взошли на жизненное поприще в качестве государства, которые в нашу эпоху называют индустриальными. Афины продавали продукты своих шахт (серебро из Лауриума, мрамор из Пантелика), товары своих ремеслеников (керамика, текстиль, морские суда), они зависели от своих метеков и рабов, как и от своих клиентов и поставщиков.
Эта зависимость в ту эпоху имела совершенно иное значение, чем в нашу. Морская Афинская держава, созданная со времени возникновения союзов между городами против персов, поддерживалась только превосходством флота, а союзники, платившие Афинам налоги, становились их спутниками. Экономические действия не базировались на развитии средств производства, экономика, базирующаяся на отрасли, производящей сырье (шахты) или на сфере обслуживания (торговля, услуги) в течение веков, была восприимчива к последствиям 1 Jean Berard, Ibid., р. 309.
Мир и война между народами • Раймон Арон
279 -
Часть II
военных побед и поражений. В античном мире богатство и величие империи были действительно неразделимы.
Идеал постоянного, стабильного населения был не только реакцией на изменчивость судьбы, он соответствовал избытку или недостатку людей, от которых поочередно страдала Греция. Избыток людей был причиной колонизации в VIII—VII вв. до нашей эры. Он также являлся причиной излишка резерва воинов, готовых в случае необходимости стать наемниками. Это наличие излишнего количества воинов, обреченных на применение оружия, позволяет объяснить завоевания Александра. Еще в IV в. Греция была обширным резервом солдат. Объединение городов создало эквивалент великой державы. Независимые города изнуряли друг друга в бесполезных войнах. Подчиненные тирану, они были способны на грандиозные завоевания. В IV и еще более в III в. до н. э. число граждан Афин уменьшилось на четверть (30 000 вместо 40 000). Еще более поразительно было сокращение населения в Спарте. Согласно 1ёродоту, в 480 г. до н. э. было 8 000 гонлитов. В 371 г. накануне битвы при Лентре их насчитывалось не более 2 000, а в середине III века — всего 700. Жан Берар цитирует Посиба, который констатирует и объясняет это явление:
“Греция страдает от прекращения рождаемости и недостатка людей так, что города обезлюдели, потому что люди той эпохи, любящие роскошь, деньги и леность, не хотят больше вступать в брак или если они и женились, то создавая семью, довольствуются одним или двумя детьми, чтобы сделать их богатыми и вырастить их в роскоши”.
Комментируя античного историка, современный историк о первых веках нашей эры, пишет:
“Качественное ухудшение и количественное сокращение населения, которое постоянно затрагивает все провинции империи, проявляется также и в Греции. Эта констатация приводит в замешательство: усилия по обеспечению безопасности страны неотвратимо приводили к ослаблению порядка. Наряду с этим необходимы были условия устойчивой рождаемости”1.
Нет сомнений, что в Спарте законы служили прямой причиной сокращения населения. В течение всей жизни граждане были воинами. Они не имели права приниматься за прибыльную работу. Для того чтобы каждый сохранял возможности получать свою норму общей еды, был установлен непременный режим майората. Это оказывало на положение населения отрицательное влияние.
К тому же во всех греческих городах, даже в классическую эпоху, использовались различные средства для предупреждения роста населения (поздние браки, детоубийство). Положение, описанное Мальтусом через много веков, тогда имело место и было определено структурой греческого города, различием между рабами и свободными людьми, политическим и военным статусом граждан.
Размеры политических сообществ оказывали, таким образом, влияние на ход греческой истории. 1Ърод был типичной формой коллективной организации (каковы бы ни были причины этой организации). 1Ърода совместно были способны сопротивляться персидской империи, просто прибегнув к временным союзам. От1 Ibid., р. 312.
280 > Раймон Арон« Мир и война между народами
дельно они не могли начать завоевание Азии, лишь подчинившись воле Филиппа и Александра. Но, когда Александр использовал ради своих амбиций силы Греции, остававшиеся в то врем Jealous emulation (ревностные соперники—используя выражение Д. Юма), городам уже предстояло большое будущее и не имело смысла сохранять их такими, какими они были. Лишенные независимости, они неотвратимо приходили в упадок, и Цезарь без труда втянул их в свои предприятия.
Как и почему город, расположенный на границе эллинской цивилизации, прошел последующий этап и установил длительный мир не только в греческих областях, как это было в Македонии, но и на несравнимо большем историческом пространстве? Поклонники творчества Арнольда Тойнби и Жерома Каркопино делают акцент на чисто политических или нравственных причинах. А. Тойнби1 например, называет пять причин: благоприятное географическое положение, благородство по отношению к народам, ставшим союзниками Рима и принявшими его гегемонию, признание римского гражданства за союзниками и подданными, либеральное утверждение двойного гражданства, наконец, практика устройства колоний на новых захваченных территориях. Этому анализу Симон Вайль противопоставляет другой элемент римской политики, реальность которого неоспорима: к сожалению, это бесспорная эффективность террора: “Никто никогда не сравнялся с римлянами в искусном использовании жестокости. Когда жестокость — результат каприза большой чувствительности, гнева, ненависти, она часто имеет фатальные последствия. Холодная жестокость, рассчитанная и базиСоциология
рующаяся на определенном методе, жестокость, которую не могут умерить ни неустойчивость настроения, ни опасения, уважение или жалость, избежать которой нельзя и надеяться, ни храбростью, ни благородством и энергией, ни подчинением, мольбами и слезами, эта жестокость является несравненным орудием доминирования.
Поскольку она глуха и слепа, как силы природы, и в то же время обладает проницательностью и предвидением, как человеческий разум, этой чудовищной смесью она парализует разум, внушая чувство фатальности1 2. Симон Вайль без колебаний сравнивает римлян и гитлеровцев: используя современные концепции, она приходит к следующей интерпретации: “Римляне завоевали мир серьезностью, дисциплиной, организацией, постоянством взглядов и методов; убеждением, что они были высшей расой, рожденной управлять: обдуманным, рассчитанным и методичным использованием беспощадной жестокости, холодным вероломством, лицемерной пропагандой, применяемыми поочередно; непоколебимым решением всегда и все жертвовать престижу не чувствуя ни угрозы, ни жалости ни к одному живому существу; искусством разлагать страхом души своих соперников или погружать их в надежды до того, как покорить их оружием; и наконец, ловким управлением при помощи самой грубой лжи, в том, в чем ошибались их потомки и еще ошибаемся мы”3.
Сложно было бы отрицать влияние этой военно-психологической технологии в завоеваниях Рима, как и в становлении других империй. Не меньшей правдой является и то, что после терро1 Arnold Tbynbee, A study of history, t. XII Oxford Univ. Press, 1961. p. 380sqq.
2 Simone Weil., Ecrits historiques et politiques, Paris, 1960, p. 28.
3Ibid.,p. 24.
Мир и война между народами • Раймон -л» 281
Часть II
ристической стадии благородство победителя, предоставление гражданства побежденным, распространение двойного гражданства внесли вклад в укрепление власти Рима и придавали искренность похвалам в адрес империй, которые провозглашали потомки тех, кто потерял свою свободу.
Но ни поклонники, ни хулители римского творения не делают и малейшего анализа того, что было и остается первым условием империи — вооруженная армия. Создатели империи, по общему мнению, побеждали на поле битвы или выигрывали последние сражения. На чем держалось военное превосходство Рима?
В общих чертах можно сказать, что Рим не владел несомненным и подавляющим преимуществом в оружии. Точнее, разные народы времен античности не использовали одни и те же типы оружия. Тактика сражений зависела от образа жизни и социальной организации армии. Солдатами были кавалеристы или пехотинцы, легко или тяжело экипированные, применяющие ударное или метательное оружие. Воины античного мира не были взаимозаменяемы и сражались не только одним типичным методом. Но основные города могли обеспечить себя большинством необходимого оружия. Следует все же отметить, что детерминантом превосходства в те времена не было качество вооружения.
Превосходство римских легионов на поле битвы в основном заключалось в организации, тактике, можно говорить также и о способностях маневрировать.
По мнению Г. Дельбрюка, именно тяжелая кавалерия была решающим фактором побед Филиппа: македонские кавалеристы сохраняли коллективный порядок даже в пылу сражения. Сочетание грубой силы и дисциплины было в то время секретом победы, т. к. оружие не играло решающей роли.
Филипп был обязан дисциплине своей тяжелой кавалерии, римские легионеры могли долго держаться в сочленении трех эшелонов менее уязвимых, более гибких, чем фаланги спартанцев, тебенцев и македонцев. Из-за того, что они не могли защитить друг друга своими флангами легион был в состоянии, даже после начала битвы изменить фронт в свою пользу. Когда речь идет о кавалерии Филиппа или римских легионах, то основное преимущество последних можно трактовать как: “способность к коллективным действиям”. Такая изначальная установка к сражению требует особого внимания и значительного времени для осуществления некоторых изменений в оружии, нового сочетания военных подразделений и военной техники (пики, более или менее длинные, более или менее тяжелые кирасы у солдат, различное распределение пехоты и кавалерии и т. п.).
Но следует отметить, что превосходство, в основе которого лежит способность к коллективным действиям и военная дисциплина1, не передается автоматически. Эти качества связаны с социальными структурами и вырабатываются в течение длительных действий. Римляне постепенно совершенствовали организацию войск, их тактику, вооружение легионов, они повышали эффективность армии в огне сражений, но они никогда не имели бы вышколенной армии, если бы битва при Карфагене не превратила мобилизованных граждан в профессионалов1 2.
1 Н. Delbrück, 1,1, р. 239.
2 Ibid., р. 330, 333.
282 Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
Г. Дельбрюк пишет:
“Вторая пуническая война показывает нам последнее массовое использование этого вида войск в крупных сражениях (тактика манипул), их поражение, их недостаточность и переход к новой тактике, овладение и искусное использование которой позволит римлянам в течение жизни двух поколений прийти к мировому господству”.
И еще: “Таким образом, решительный момент в старой истории состоит в том, что римляне в ходе второй пунической войны наконец-то создали собственный способ ведения войны, который позволяет им победить Ганнибала в открытой битве и целиком сокрушить мощь Карфагена”:
“...в войне с Ганибаллом в течение года в армии находились более 20 легионов, то есть как минимум 70 000 мужчин, не считая союзников, иными словами около 30% мужского населения и почти 10% всего свободного населения”. “Армия Сципиона имеет характер профессиональный, не только по своим заслугам, но и в своих недостатках, таким образом, что она с высокомерием обращается со своим гражданским населением”1.
Маневренная способность легиона была необходимым условием побед: число легионеров при этом было различным. В кризисный период коэффициент мобилизации в Риме был исключительно высоким — 10 процентов свободного населения, 30 процентов людей зрелого возраста по словам того же автора1 2.
“Благородство” по отношению к побежденным позволяло увеличивать личный состав армии по мере того, как распространялась зона римского суверенитета. Чем обширней была эта зона, тем с большим постоянством росла численность римлян на поле сражения. Империя поддерживалась не престижем ничтожного меньшинства, а постоянной мобилизацией все новых легионов.
Мощь римских легионов не ограничивалась завоеванием территории. Благодаря бескрайности мест расселения, лесам и небольшой плотности населения германцы избежали, к своему благу или несчастью, судьбы кельтов в Галии. Германцы не были романизированы, они продолжали говорить на своем языке (Ursprache), исконном языке, а не на том, который исходил от победителей. Лицом к лицу с Империей Спарты, Рим довольствовался мирным сосуществованием.
Из этих факторов римского успеха, в исследованиях число воюющих почти всегда было обойдено молчанием, маневренная способность легионов едва прослеживалась и охотно отождествлялись с добродетелью. Итак, эффективность действий римлян может считаться политической, если не моральной добродетелью, но она не содержит ни культурных, ни духовных ценностей.
Поскольку историки ставили в заслугу римлянам создание империи, они не могут считать причиной ее заката только испорченность нравов. Военная сила зависит от количества солдат, которых может мобилизовать держава, от дисциплины легионеров и их воинственного пыла. В то время когда легионов становится все больше, варвары 1 Г. Дельбрюк, I, 1. стр. 277, 330, 333.
2 Г. Дельбрюк оценивает свободное население Рима в начале второй пунической войны в 1 миллион человек. Для мобилизации от 22 до 23 легионов в 212—211 гг. до н. э. необходимы были значительные усилия.
Мир и война между народами • Раймон Арон 283 &>-
Часть II
не в состоянии возвести на границах непреодолимые заграждения и даже победить на поле битвы. Причина заката Империи в том, что аппарат управления ослабевает, что отражает распад государства и потерю гражданских качеств1.
После восхищения Римской империей историкам сложно не оплакивать ее падение. Но было бы парадоксально в то время, когда разоблачаются колониальные империи, безоговорочно оправдывать захватчиков.
3. Французский опыт
В глазах греческих философов достаточное количество солдат — это условие безопасности, но цель деятельности—это дружба между гражданами, невозможная в слишком многочисленном городе. По мнению современных авторов, численность — это признак могущества, которое в свою очередь определяет место (ранг) в иерархии. Поскольку народы втянуты в постоянное соревнование и численность некоторых из них быстро растет, то другие должны делать то же под угрозой распада. Сравнение процентов демографического и экономического роста с полным основанием могут заменить друг друга.
Век назад в книге, которая имела большой успех, Прево-Парадоль писал: “Поскольку современный руководитель нашей страны утверждает, что место нации измеряется числом людей, которых она может привлечь к военной службе, то этим он высказал слишком абсолютную форму определенной идеи, т. к. нужно давать отчет об относительных качествах людей, так же, как и об их количестве. Ксеркс, например, привлек на военную службу гораздо больше воинов, чем Греция, и тем самым великая душа Греции была повержена. Но так как речь идет о равно цивилизованных нациях и отважных гражданах, равно защищенными чувством гордости, этот постулат становится достоверным и более многочисленная нация создает военное и политическое наследие со всеми материальными и моральными последствиями, которые из этого вытекают”* 2.
Франция была первым государством в Европе, которого коснулось падение рождаемости, здесь различные проблемы численности были встречены с наибольшим беспокойством. Первая проблема выражена в предыдущей цитате: до какого момента существует пропорция между численностью нации, силой ее армии и ее местом в мире?
Вторая проблема возникла в результате завоеваний Франции в XIX веке: можно ли компенсировать рекрутированием солдат в Азии и Африке относительный закат метрополии?
С 30-х годов появляется другое опасение: влечет ли за собой демографическая стагнация экономическую? Еще далеко до того, чтобы малоимущие семьи гарантировали благополучие каждому ребенку. Опыт доказывает, что в динамическом, а не статистическом плане, в национальном, а не микроскопическом счетоводстве, процессы оцениваются различным образом. Демографический рост, в определенных случаях, вызывает относительно пропорциональный рост ресурсов.
Наконец, после второй мировой войны, уже не только Франция, а и Запад в ’ Например. Жером Каркопино пишет в “Этапах римского империализма” (Париж, 1961): “Военный распад Рима сводится к двум причинам, которые больше не действуют в современном мире: внезапное увеличение числа врагов и профессионализм армии" — стр. 267.
2 La France nouwelle, Paris, 1868. p. 174.
284 \ Л * Раймон Арон • Мир и война между народами
целом со страхом сравнивает демографические показатели. Различия в уровне жизни между белым, привилегированным меньшинством и массой цветного населения корреспондируются с ростом численности. Как походит этот процесс в условиях, при которых бедность вызывает необходимость стабилизации численности населения?
Если мы рассмотрим в более общем плане европейский опыт Франции в течение века, то следует признать действие демографических законов. В 1800 г. в стране было свыше 28 миллионов французов, в 1940 г. — 41,9 миллиона. За то же время население Соединенного Королевства возросло с 11 (вместе с Ирландией — 16) до 46,4 млн, в Германии с 22,5 до 70 млн, в Италии от 18 до 44 млн1, в США от 5,308 до 131,7 млн. Население Российской империи, как более или менее точно известно, увеличилось почти в 2,5 раза в течение XIX в.
В 1800 г. Франция с числом жителей в 28,2 млн представляла 15 % европейского населения, Австро-Венгрия с 28 млн — 15 %, Италия с 18 млн — 9 %, Россия с 40 млн — 21 %. В 1900 г. процент Франции упал до 10 (40,7 млн), Австрии до 12 % (50 млн.) процент Германии возрос до 14% (56,4 млн), Британских островов до 10,6 % (41,5 млн), России до 24 % (100 млн). В XX в. сравнение между Францией и ее европейскими соперниками еще более неблагоприятное. Население Франции больше не растет, население соперников продолжает увеличиваться.
В целом соотношение сил этих стран соответствовало колебаниям их численности населения. Англия в начале XX в. заСоциология
нимала на мировой сцене место, в соответствии с ее человеческими ресурсами. Островное положение Англии в течение длительного времени не позволяло ей вести сражения с большими армиями на континенте. Это было ее несравнимым преимуществом (которого сегодня не существует). Противоположный случай России напоминает нам, что закон численности населения в наше время действует только в сочетании с законами технического прогресса. В 1914 г. из-за недостаточной индустриализации и при наличии политического режима, не способного управлять страной, сила России не была пропорциональна численности ее населения.
В том, что касается Франции, то ее военная мощь не определялась непосредственно численностью населения ни в 1870 г., ни в 1939 г. В 1870 г. основной причиной начальных военных неудач считалась недостаточная численность армии империи, что вменялось в вину военной системе. Человеческие же ресурсы нации в ту эпоху были того же порядка, что и вражеские. Кроме того, хотя превосходство человеческого и индустриального потенциала III рейха над ресурсами Франции было достаточно велико, но не это определило молниеносную победу немцев в мае—июне 1940 г. Одной из причин было численное превосходство немецких танков и особенно самолетов. Но основной причиной явилась удачная стратегия (план генерала фон Манштейна, направленный на разделение, пробившись через Арденны, сил союзников на две части) и оригинальная тактика: новое сочетание огня и движения: действия одновременно массы танков: авиационные удары как 1 Эти цифры не учитывают эмиграцию Страны, население которых быстро росло, способствовали увеличению населения Америки и доминионов. 17 миллионов человек покинули Соединенное Королевство в период между 1825 и 1920 гг., 6 миллионов немцев выехали в США в этот же период; 9 миллионов итальянцев покинули страну в 1876—1925 гг.
Мир и война между народами • Раймон Арон <
285
Часть II
по воюющим частям, так и по тылам. Именно в 1914—1918 гг. и в конце войны 1939—1945 гг. II и III рейх были со стороны союзников в конечном счете подавлены количеством солдат, орудий, танков и самолетов.
Европейский опыт Франции демонстрирует влияние числа на ход дипломатической и военной истории, но неуловимым образом. В действительности, Франция погибала после победы 1918 г., она была трагически спасена своим отступлением 1940 г. Из всех воюющих стран именно Франция с 1914 по 1918 гг. предпринимала весьма значительные попытки по мобилизации производственных и человеческих ресурсов. В войне она понесла потери, пропорционально более высокие, чем противники (около 1,4 млн убитых в сравнении с 2 млн погибших в Германии). На мирной конференции Франция светилась от славы, завоеванной слишком дорогой ценой, но в стране отмечалось также внезапное увеличение рождаемости, хотя и более низкими темпами, чем у других наций в Европе. В 1940 г., имея военный аппарат, приспособленный к механической и моторизованной войне, теоретически Франция могла бы сражаться месяцами, а может быть год или два. В то время как бои подвигались на запад, Советский Союз исполнял бы роль 1егИиз ёаисЗепэ1 и англосаксы возложили бы на Францию более тяжелый груз. Так, немецкая военная индустрия, усиленная промышленностью центральной Европы (Чехословакия, Австрия), подчинила себе экономику Франции (английское производство не было мобилизовано до 1942 г.). В 1941 г. Германия в результате этого получила несколько дюжин дополнительных дивизий. Если бы французская кампания продлилась 12—18 месяцев, то материальный ущерб и человеческие потери увеличились бы в три—четыре, может быть и больше раз. Воспряла бы Франция после такого кровопускания?1 2.
Парадокс новой истории Франции заключается в совпадении демографического спада и имперской экспансии. Объяснить его вполне возможно.
Франция искала в Африке дополнительные человеческие резервы, чтобы установить равновесие потенциалов со своими соперниками.
Подобная интерпретация является, наверное, единственной, которая позволяет придать очевидную рациональность внешней политике Франции, в частности III Республике. Почему Франция, которая не экспортировала ни избыток людей, ни излишки продукции, почему оппортунистическая Республика, ставшая затем радикальной, заняла место второй колониальной державы в мире? Оккупация Алжира, в частности, была завершена3. Далее Французский Алжир не мог быть в безопасности, не прикрывшись двойным протекторатом над Туни1 Буквально “третий радующийся” (лат.): третье лицо, извлекающее пользу из борьбы двух противников (прим. ред.).
2 Была ли бы выиграна война, если бы британцы потеряли в конце концов свои экспедиционные корпуса после одного года сражений?
3 В речи, произнесенной в палате Депутатов 15 января 1840 г. генерал Буго сказал: “Ограниченная оккупация кажется мне химерой, и опасной химерой". И далее: “Официальная Франция, используя выражение, не присущее моему обычному языку, официальная Франция этого не хочет; т. е. писатели — аристократия чернильницы этого не желает”. Наконец, он заявил: “Да, по моему мнению, владение Алжиром — это ошибка, но поскольку вы хотите этого, поскольку невозможно, чтобы этого не произошло, то нужно, чтобы сделали это благородно, т. к. это единственное средство достичь какого-то успеха. Итак, нужно, чтобы эта страна была захвачена и власть Абд-аль-Кадира была разрушена". Речь воспроизведена в “Par L’épé et par la charrue”, Очерки и выступления Буго, Париж, 1948 г., стр. 61—71.
‘ 286 • > - Раймон Арон • Мир и война между народами
сом и Марокко. Что касается натиска на черную Африку, то он скорее был европейским, чем французским. Специфика политики Франции была в идеологии цивилизаторской миссии, которая вела к определенной ассимиляции колоний в метрополию. Воинская повинность была первым проявлением этой доктрины, не лишенной абстрактного благородства.
Усиление победителей в результате своих завоеваний, мобилизация побежденных — были явлениями, постоянно возникающими в течение всей истории. Еще сегодня, в 1960 г., несмотря на квазиуниверсальное распространение национализма, тысячи мусульман сражаются под французскими знаменами, возможно, они безразличны к родине, которую провозглашает ФИО1 или воодушевленны отвращением к джунглям, или подталкиваются на это нищетой. Не всегда в прошлом люди знали (или нуждались в том, чтобы знать), почему они сражаются. Преданность руководителю, подчинение существующему порядку, простая дисциплина скрепляли элементы армии чаще, чем вера в нацию или идею.
В этом отношении европейские империи до 1945 г. сохраняли традиции предыдущих. Соединенное Королевство не могло бы в Азии и на Ближнем Востоке иметь преобладающее влияние, если бы его не охранял Royal Navy1 2 индийской армии. При помощи армии Индии, под британским командованием, хотя в ней преобладали индийские офицеры, правительство Его Величества установило мир в Персидском заливе и в районе Суэцкого канала и к востоку, до границ Индокитая. Коме того, алжирцы, марокканцы, сенегальцы воевали на полях сражений в 1914—1918 гг. Также большой Социология
вклад внесли алжирцы в умиротворение своей собственной страны, поскольку они участвовали в последующих завоеваниях Французской Республики.
Связано ли укрепление армии метрополии в результате мобилизации некоренного населения в определенном процентном соотношении, например, неримлян в римских легионах, немецких солдат в экспедиционных французских войсках в Индокитае, африканцев в воюющей армии в Африке? Очевидно, что в каждую эпоху опасно выходить за пределы определенного процентного соотношения этих величин; но и не следует считать, что этот процент всегда должен быть один и тот же.
В наше время британская армия в Индии или французская армия в Африке с одной стороны, “пожелтение” французских экспедиционных корпусов в Индокитае, с другой, фундаментально отличаются друг от друга. Британская армия индийцев преданно служила британской короне в течение всей войны 1939—1945 гг. несмотря на отказ партии Индийского Национального конгресса от кооперации с правительством. Кроме того, марокканские полки, в которых только один офицер и немногие младшие офицеры были французами, сражались ради Франции в 1939—1940 гг., в 1943— 1945 гг., а в Индокитае даже в 1954 г. Если бы Франция продолжала в течение нескольких лет политику силы в Северной Африке, то остались бы верными ей марокканские войска под французским командованием? Уступили бы марокканские офицеры, численностью более 200 человек, принадлежащие к постоянным кадрам французской армии натиску, национализма, который воодушевлял их 1 Фронт национального освобождения (прим, ред.)
2 Королевский флот (прим, ред.)
Мир и война между народами • Раймон Арон
287
Часть II
сограждан? Ответ на эти вопросы не известен. В действительности, эти армии свидетельствовали в нашу эпоху скорее в пользу военной дисциплины, однако такой аргумент не означает, что лучше организованные войска остаются бесчувственными к страстям народа, который поставлял солдат.
Интеграция в армии метрополии в более или менее больших размерах вьетнамцев или алжирцев, которая может превысить одну треть общего контингента, представляет уже в соответствующих районах наполовину потерю влияния центрального французского командования. Местная власть не доверяет больше однородным контингентам, командный состав которых принадлежит только к имперскому народу. Командование смиряется с определенной потерей эффективности управления и отдает себе отчет в неизбежности дезертирства. Такой подход опасен: в некоторых случаях число дезертиров может возрастать (например, как это было в Индокитае буквально на следующий день после Дьен-Бьен-Фу).
Соотносится ли имперская способность к мобилизации подчиненных народов с численным соотношением между населением метрополий и зависимых территорий? Ответ на такую грубую постановку вопроса, говорит о том, что численность не решает судьбу империй. Если бы это было не так, то Британская империя, как принято считать, представляет собой исключение. Для того, чтобы немногочисленный народ смог господствовать на такой громадной территории, над миллионами людей, не вынудив их к обязательной воинской службе, чтобы усилия английских моряков, а также немногочисленных подданных специалистов-профессионалов были достаточны для сохранения империи, необходимы особые условия. Англия господствовала вдалеке от своих границ при посредстве Индии. Сложно было трансформировать Индию в государство, современное в военном и административном отношении, не вызвав волны национальных требований. Связи между народом-завоевателем и завоеванным народом долго эволюционируют к интеграции в уникальное сообщество или же ведут к обособлению интересов каждого из них. Так или иначе, чисто военное неравенство усиливается или стирается.
В условиях равенства проявляется стремление к установлению или расширению гражданства метрополии1, к автономии или независимости некоренного населения. Британцы были слишком малочисленными, они слишком осознавали свою породу, они владели слишком далекими землями и управляли слишком разнородным населением, чтобы предвидеть иной результат, чем дезинтеграция империи в многочисленные политические и полностью суверенные сообщества (наперекор “содружеству наций”, которое в глазах небританцев кажется все более и более фиктивным).
Диспропорция в численности населения французской империи, между французами и некоренным населением была ничтожной. Она не была слишком глубокой, чтобы влиять на общую ситуацию. Интеграция, лишь другое название ассимиляции1 2, требует, чтобы гражданство, римское или французское, было 1 Неравенство проявляется между гражданами и негражданами или внутри сообщества, между кастами. В политических сообществах социальные неравенства могут выразиться для одной части населения в кристаллизацию надежд на военную силу.
2 Интеграция некоренного населения в политическое сообщество метрополии не означает подавления свободы пользоваться родным языком, исповедывать свою религию, соблюдать привычные обычаи Все это способствует условиям всеобщности политического гражданства.
*•* 288 * х ’
Раймон Арон • Мир и война между народами
предоставлено всем подданным. Звание граждан получает все население, но такое положение обязывает жителей завоеванных территорий состязаться за место в жизни с гражданами, рожденными в Риме или во Франции.
Сущность современной экономики усложняет имперскую политику интеграции, которая не терпит слишком заметных отклонений в уровне жизни между частями одного целого (даже если люди не имеют ни общего языка, ни общих обычаев). Но помимо доводов экономического порядка, которые мы рассмотрим в следующей главе, общее гражданство удовлетворительно только при двух условиях: оно должно быть желаемо и приемлемо как честь; оно должно открывать перед людьми новые, лучшие перспективы. В 1936 г. полное французское гражданство принималось алжирцами как почесть. В 1960 г. оно перестало быть престижным. Сколько алжирцев во французском Алжире могли, соперничая с французами по происхождению, достичь более высоких постов в обществе?
Дезинтеграция французской державы, ускоренная различными событиями, стала логическим завершением завоеваний, которые из-за стагнации французского населения оказались довольно непрочными. Франция имела основания предоставить населению бывших колоний, всем и без оглядки, французское гражданство. Но она не могла сделать это в том объеме, в каком было необходимо. Ее усилия оказались напрасными, когда элита народов, недавно подчиненных. начала стремиться к выгодам государственного суверенитета, не боясь ответственности .
Необходимо твердо усвоить с проницательностью, которая делает осознанным будущее, что в прошлом, надежды, которыми некоторые авторы XIX в. пытались компенсировать относительное Социология
снижение роста французского населения, были иллюзорны. Если снижение рождаемости объяснялось недостатком пространства, то владение Алжиром по существу положило конец этой версии.
Но достаточно ли согласия французов пересечь Средиземное море для того, чтобы их изобилие вновь стало таким, каким было в предыдущие времена и их дети росли бы в таких же условиях, как в Канаде? Нет ни одного довода в пользу положительного ответа на этот вопрос. Во французском Алжире увеличилось не меньшинство, пришедшее из Европы, а мусульманское большинство. Французское господство на Средиземном море, о котором мечтал Прево-Парадоль и в чем он видел высший смысл — это благо родины, в доминирующем мире англо-саксов. Судьба французских колоний в Африке сравнима с положением Афин в Римской Империи — это развал, поскольку и те и те были населены не гражданами, а подданными. Отметим это, но без сожаления: результат более согласуется с законами истории, чем сама авантюра в Африке. Нация, численность которой сокращается, имеет мало шансов сохранить власть, даже обладая возможностью ее установить.
Если колонизация в течение определенного периода усилила могущество метрополии, то деколонизация не всегда является причиной ее ослабления. В самом деле, цена независимости колоний или протекторатов для метрополии несравнима с выгодой, которую она имеет от этих же территорий и их населения, осуществляя мирную власть. Франция, например, явно теряет свои военные базы, резервуар солдат, общинную зону суверенитета, но это обеспечивает ей престиж и, одновременно дает определенные средства для различных акций. Но нужно сравнивать стоимость отвергнутой деколонизации с ценой вовремя принятой деколонизации. - 289
Мир и война между народами • Раймон Арон я **»» . - •-
Часть II
Была бы Франция более могущественной с 1946 по 1954 гг. без войны в Индокитае? Была бы она более могущественной сегодня, если бы вступила в переговоры с Хо Ши-Мином в 1946 или 1947 гг.? Ослабил или укрепил ее конфликт в Алжире? В 1840 г. маршал Буто полагал, что содержание ста тысяч солдат по другую сторону Средиземного моря ослабило Францию на ее основной территории, т. е., по его словам, на Рейнской границе. Тот же вопрос возникает в 1960 г.
Другими словами, империи являются источником силы до тех пор, пока они находятся на хорошем счету. “Колонисты”, по Буто, хотели бы, конечно, гарантировать французам мир. Но европейцы не могли оставаться в центре мусульманских масс, которые бросались на каждого человека, прибывшего из метрополии. Когда империи требуется больше войск, чем она рекрутирует, то с помощью реалистических подсчетов необходимо выяснить, какая политика является более рациональной — отказ от завоеваний или сопротивление мятежникам?1
Упаднические настроения во Франции, поддерживаемые в середине XIX в. относительным сокращением прироста населения, усугубились относительно медленным экономическим ростом и подогревались теорией, согласно которой демографическая и экономическая стагнация идут в паре. Государства вдвойне ослабевают при понижающемся или стабильном количестве населения: они располагают меньшим числом солдат и рабочих, производительность труда и рост доходов на душу населения невысоки или растут гораздо медленнее, чем в странах с высокой рождаемостью.
Чтобы поставить эту проблему, обратим внимание лишь на два вопроса: какое влияние оказывают демографические изменения на экономические показатели? Как влияет экономика на демографию? Демографы далеки от того, чтобы согласиться в отношении фактов с интерпретацией экономистов, даже если они рассматривают прошлые века1 2. Одни полагают, что рост численности населения начиная с XVI или XVII в., был относительно автономным, поскольку он наблюдается даже на континентах, которые не затрагивает или почти не затрагивает экономический прогресс. Население Китая, по одним данным, в период 1650—1930 гг. выросло с 70 до 340 млн человек, согласно другим источникам—от 150 до 450 млн. Если в отдельных случаях демографический рост кажется не согласованным с ростом ресурсов (улучшение техники и технологии, совершенствование коммерческой организации, внедрение техники безопасности труда и т. д.), то так ли необходимо приписывать его меняющейся жизнеспособности населения? Процессы, недавно практикуемые как чисто биологические, скрывают многочисленные и сложные явления социального порядка.
В том, что касается соотношения численности населения и объема ресурсов, то его оптимальный уровень зависит, очевидно, от эффективности использования ресурсов (которая варьируется, следуя времени) и уж достигнутой плотности населения. Так создаются постоянные (ста1 Соотношение между численностью войск метрополии, необходимых для установления господства, и контингентов из местного населения, принятых в имперскую армию, зависит от пропорции в боевых действиях между численностью регулярных войск и мятежниками.
2 Ввоз картофеля по мнению В.Лангера, был основной причиной роста населения в Европе и Азии в XVII веке.
290
Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
бильные) технические условия жизни (это имел в виду еще Монтескье в работе “О духе законов”) — гибкость использования ресурсов и численность населения будут зависеть от социальных причин: общественного строя, распределения имущества, поддержки внешней торговли, от значения искусства и производства. Сегодня никому не приходит в голову считать технические средства жизни постоянными. Опасность скорее в обратном. В качестве возможной численности населения представляется порой то количество людей, которое могло бы жить лишь используя уже известную технику, а не то, которое можно исчислить, учитывая ту технику, которую это население может потенциально использовать.
Абстрактно, экономико-демографический и военный потенциал зависит от трех переменных: территория, орудия труда или войны, способность к совместным действиям (в производств или в сражении). Традиционно, аналитики стремились особо определить, в какой точке изменялись значения кривой средней индивидуальной производительности труда. Каков бы ни был уровень техники, необходима определенная численность населения для того, чтобы осваивать территорию, иметь выгоду от разделения труда, получать прибыль, которую приносит каждому использование производительных сил и преимуществ кооперации. Оптимум благосостояния достигается в тот момент, когда начинает действовать закон убывающей производительности, т. е. когда производительность одного дополнительного рабочего становится ниже средней производительности. Многообразие точек оптимума благосостояния в разное время соответствует изменениям в социальной организации общества и развитием технических средств. Технический и экономический прогресс определяют перемещение точки, в которой кривая средней производительности (соотношение между общей продукцией и числом рабочих) изменяет свое значение.
Оптимум благосостояния отличается от оптимума могущества, принимая во внимание, что могущество соизмеряется с материальными и человеческими ресурсами, которыми располагает государство, для достижения внешних целей. Дополнительный рабочий, который производит меньше чем в среднем, сверх оптимальной точки благосостояния, производит больше, чем минимум, необходимый для существования. Государство в состоянии предварительно вычитать часть продукции, изготовленной этим дополнительным рабочим.
Эти теоретические определения, которые мы взяли у Альфреда Сови1, помогают понять идею, которая выходит из-под пера большинства авторов. Определенные данные о технике и социальной организации, забота о политическовоенном могуществе часто авторам внушают стремление к расчету необходимой численности населения, превосходящему тот, который желателен, исходя из соображений благосостояния. Властители желают иметь больше возможных подданных, не только для того, чтобы набирать солдат, но и чтобы дополнительно взимать налоги для поддержки государств и армий.
В наше время абсолютные цифры экономического роста, статистика национального продукта — валового и чистого — одновременно охватывает результаты роста численности населения и 1 Основные теории населения. Т.2 Париж, 1952—1954.
Мир и война между народами • Раймон Арон г
* 291
Часть II
роста производительности труда каждого. Население, численность которого быстро увеличивается, может создавать национальный продукт, который тоже быстро растет без того, чтобы повышалась производительность каждого рабочего. Напротив, стабильная численность населения приводит к экономическому росту по мере того, как увеличивается средняя производительность труда, или рабочий производит больше продукции или изменяются показатели его производительности от низких к высоким и стабильным. Французский опыт подтвердил правдоподобность следующего положения: слабый рост численности населения должен способствовать (иногда? часто? всегда?) замедлению роста производительности. Итак, в индустриальную эпоху военная сила государства зависит от производительности труда и, столь же, от численности населения. Чем выше производительность, тем больше поступает в оборот ресурсов, сверх уровня необходимого для существования населения, с которых государство производит отчисления в свою пользу. Можно предположить, что демографический спад влечет за собой политическо-военный спад двояким образом: за счет уменьшения или незначительного роста как человеческого, так и экономического потенциала.
Несомненно, что французский национальный продукт в период 1850— 1930 гг. рос медленнее, чем немецкий. Если принимать цифры, которые приводит К. Кларк1, то французский национальный продукт за это время вырос с 16,6 до 36 млрд франков. Немецкий национальный продукт с 10,6 до 50 млрд, марок. В первом случае отмечается рост немногим больше, чем в два раза, во втором — почти в пять. Разница в росте незначительна, если исключать влияние численности и рассматривать реальный продукт на душу населения. Во Франции с 1850—1859 гг. по 1911 г. он возрос от с 426 до 627, а в Германии с 406 до 930 (в международных единицах).
Теоретически низкая рождаемость создает определенные благоприятные условия для экономического роста. Семья с двумя детьми вполне устраивает экономику. Общество, таким образом, меньше вкладывает в воспитание молодого поколения и может больше инвестировать в расчете на каждого занятого рабочего. Но во французском случае преобладают другие причины. Рост не определяется только специфическими экономическими процессами или по крайней мере, эти причины (объем сбережений, стимулы к вложению капитала и т.п.), в свою очередь, порождаются действиями, которые предпочитает население, в частности предприниматели и государство в целом. Возможно, что демографическая стагнация создает условия, мало благоприятные для роста экономики.
Так обстояло дело во Франции в XIX в. и в первой половине XX в. и в этом статистика не дает повода для сомнений. Но необходимо учитывать истинное влияние демографической стагнации на консервативное поведение буржуазии или французского государства. Ни законодательство, ни идеология французского общества не были ориентированы на экономический рост Нет сомнений в том, что демографическая стагнация допускала консерватизм. Но можно оспаривать утверждение. что именно она сделала его неизбежным. Не доказано и то, что при отсут-
1 Conditions of Economic Progress, 2r edit , Londres, 1951
292 Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
ствии демографического роста страны обречены на низкий процент увеличения экономического потенциала.
В настоящее время методы влияния государства на экономику немногим более известны, чем раньше. При плановых режимах власти имеют средства для увеличения инвестиций, которые предопределяют в какой-то степени процент роста экономики. Даже при режиме западного типа государство имеет возможность вмешаться в экономическую деятельность, чтобы скорректировать: увеличить или уменьшить процент роста, который достигался бы в результате свободных рыночных механизмов или спонтанных поступков экономических субъектов.
Во Франции, где показатели численности населения неподвижны и знание экономических явлений недостаточно, развитие в XX в. было относительно быстрым в период 1900—1910гг.ив1920— 1929 гг. Депрессия 1930—1939 гг. неотделима от реальной обстановки. Точнее, японское и немецкое “чудо” не свидетельствует против французского опыта. Возвращение на японские острова 7 млн человек после поражения и более чем 10 млн в Федеративную Германию привело к увеличению плотности населения, что и стало причиной высокой рождаемости. Между тем, никто не отважится утверждать, что экономический рост обязательно сбавит темпы, когда поколения обновятся, но количественно не увеличатся. Кривая численности населения и кривая средней производительности зависят друг от друга, в этой связи преимущество безусловно принадлежит прогрессу численности над производительностью.
Тенденции, характерные для Франции начиная с середины прошлого века, передаются ли всему Западу? Недавно Франция развивалась не так быстро как ее соперники на Старом Континенте. Способен ли Запад в целом набрать скорость в этой гонке за численностью населения? Перед тем. как ответить на этот вопрос, мне хотелось бы обсудить так называемую демографическую теорию войн. Общества воевали с целью избавиться от перенаселения и это казалось им необходимым.
4. Перенаселение и война
Существует очевидный и неоспоримый факт: война заключается в том, чтобы убивать людей, если выбирать более нейтральную формулу, то неизменный результат войны — это смерть людей. Охотник убивает животных, воин — себе подобных. Первая версия теории, которую мы исследуем, может быть истолкована как переход от стабильного результата к функции. Поскольку каждая война уменьшает число живущих, то можно ли утверждать, что сокращение численности населения — это социальная функция такого особенного явления как война, социального и асоциального одновременно? Можно сформулировать и другую версию данной теории: если на войне убивают, то это значит, что слишком много живущих. Воевали все общества: если нет других причин, кроме избытка людей, который возникает во все времена с той же регулярностью, что и войны, не следует ли из этого, что основная причина войн — это попросту излишек людей?1
1 Жан Бутуль представил во Франции так называемую демографическую теорию войны “Les Guerres Elements de polemologie”, Paris, 1951
Мир и война между народами • Раймон Арон
293
Часть II
Переход от стабильного результата к функции кажется мне, исходя из методологических мотивов, или сомнительным, или лишенным смысла. Утверждение, что постоянный результат раскрывает цель явления, относящегося к финальному способу интерпретации, довольно примитивно. Общий характер всех войн не обязательно объясняет сущности вооруженных конфликтов. Смерти людей могут быть неизбежным следствием и других функций войн, сопровождающихся усилением существующих сообществ или утверждением новых.
Сокращение численности живущих — это не единственный результат вооруженных конфликтов между политическими сообществами. Эти конфликты всегда и повсюду действовали на сообщества: или они укрепляли их внутреннее единство и приводили к обособлению от других, или провоцировали создание нового сообщества, которое включало бы в себя воюющие стороны. Если рассматривать государства и их войны с точки зрения статистики, то можно увидеть в них разрыв социальных связей, по выражению П.А. Сорокина, пример “аномалии”. Исследование войн в ходе истории обнаруживает их побудительные мотивы — это еще более интенсивное расширение зон суверенитета, а следовательно — зон мира.
Добавим, что войны не всегда кровопролитны. Во многих обстоятельствах они далеки от того, чтобы со всей эффективностью выполнять предназначенные им функции. Уничтожают людей также эпидемии, но с другой скоростью. Даже в Европе сразу после войны 1914— 1918 гг. грипп “испанка” скосил столько же людей, что и оружие за четыре года. Ритуалы и регламентации, которые внедряют руководители сражений, зачастую имеют целью сокращение потерь, т е. с точки зрения моралиста — имеют цену, а по мнению социолога — эффективность, если социолог верит, что функция войны — это провоцировать, демографическое расслабление.
Остановимся не на функции войны, а на ее причине. Сначала повторим одно утверждение: излишек жителей (каким бы способом он не исчислялся) — не единственное явление, наблюдаемое также регулярно, как и война.
Разделение человечества на политически различные сообщества также представлено повсюду, где проявляется специфически воинственная политика. Вывод, что высшая причина войны — это явление, которое ей предшествует или всегда сопутствует, не кажется мне подходящим. Он означает, что все военные проявления принадлежат к одному типу. Но если предположить, что это утверждение приемлемо, то оно не согласуется с так называемой демографической теорией. В действительности, существует, по меньшей мере, один социальный феномен, который проявляется также регулярно, как и излишек населения в течение всей истории цивилизаций: это многообразие сообществ. Политические сообщества являются выражением многочисленности и многообразия социальных сущностей в форме военного суверенитета.
Как можно вне этих обобщений показать или опровергнуть тезис, согласно которому перенаселение является причиной воинственности и стремления автономных сообществ к сражениям? Поскольку “метод присутствия” данного фактора не приносит определенных доказательств, то, видимо, для объяснения ситуации можно подумать так же и о “методе отсутствия” данного фактора. 294 п
; Раймон Арон • Мир и война между народами
Прекратят ли сообщества быть воинственно настроенными, если избавятся от перенаселения? Речь, конечно, идет только о ментальном опыте, т. к. согласно теории, которую мы комментируем, перенаселение возникает всегда в одном и том же месте.
Частично подобный опыт был реализован в ходе истории. Станет ли воинственная страна мирной, когда понизится плотность населения? Стала ли мирной империалистическая Франция в XIX в. с понижением рождаемости? Стала ли романтическая Германия империалистической по мере того, как возрастало число немцев? Констатируем сначала, что Франция, в которой довольно сильны были пацифистские настроения, начинала меньше войн в XIX столетии, чем в предыдущих. Больше она развязывала их в XX в. Неоспоримо и то, что Германия заменила Францию в роли “возмутителя” спокойствия, но это еще ничего не доказывает: государством, которое угрозой для свободы других, во все времена оказывается то, чьи силы быстрее возрастают. В 1850 г. Франция не была больше “возмутителем” европейской системы так же, как и Федеративная Республика Германия не являлась в 1950 г. “возмутителем” международной системы. Могут ли человеческие чувства влиять на дипломатическую политику? Это более чем сомнительно. Вспышки шовинизма были часты во Франции XIX века. После 1945 г. Япония потеряла ряд островов и плотность населения в стране оказалась больше, чем в 1938 г. Все же она стала мирным антимилитаристским государством, в отличие от империалистической Японии двадцатилетней давности.
Социология
Чтобы выбрать наиболее правдоподобное предположение — война, которая ведет к человеческим смертям — должна быть рассмотрена в связи с точными демографическими данными, а также с различными концепциями, но сначала необходимо абстрагироваться от действия такого случайного фактора как, например, перенаселенность или слишком высокая плотность населения. Случается, что численность населения не адекватно отражает плотность населения. В XVIII в. Франция была относительно перенаселена имея 40 млн жителей. Два века назад цифра в 45 млн человек внушала оптимизм в области благосостояния и означала оптимум могущества. Сегодня ситуация иная.
Перенаселенность на данном пространстве определяется сопоставлением с ресурсами, которые, в свою очередь, зависят от наличия и использования технических средств. Но, если абсурдно выглядит оценка плотности населения по показателям численности, то будет неразумно определять возможную целесообразную численность людей, которые могли бы нормально жить, пользуясь всеми средствами, предоставленными наукой и производством. Таким образом, можно прийти к тому же выводу, что и Сови, согласно которому только Голландия знала абсолютное перенаселение1. Рост численности сопровождался сокращением доходов на душу населения, даже если внедрялись более совершенные технологии. Еще необходимо также отметить “уменьшение среднего дохода по отношению к оптимуму благосостояния”, т. е. по отношению к прибыли, которую мог бы иметь каждый, если бы жителей было меньше. Такое сокраще1 По мнению Сови (Population, Juliet, 1960), доход на душу населения в Голландии продолжает быстрее расти, чем в странах со стабильным населением.
Мир и война между народами • Раймон Арон • 295
Часть II
ние дохода в сравнении с теоретическим оптимумом ни в коем случае не влечет численного уменьшения населения: напротив, в случае Голландии, экономический рост продолжается, увеличивается средняя производительность труда. Статистик утверждает, что эта производительность могла расти быстрее, если бы не действовал закон убывающей производительности, если бы инвестиции, необходимые для того, чтобы отделить от моря дополнительные культурные площади, не возрастали вместе с населением.
Другими словами, для того чтобы уточнить понятие “перенаселение”, необходимо одновременно принимать во внимание определенную территорию, средства производства и социальное устройство данного государства. Когда геологи или биологи утверждают, что сегодня на Земле благополучно могут жить 8 или 10 млрд человеческих существ при условии применения современных знаний, то они исходят скорее из научных постулатов, чем из реальной картины развития общества. Так опыт роста мирового сбора чая или риса в результате распространения японских методов, хотя и интересен сам по себе, но он также указывает на еще открытое поле возможностей для роста и позволяет нам не принимать во внимание перенаселение в качестве социального явления и не считать обязательным возможность действия этого факта на частоту или интенсивность войн.
Нужно ли определять перенаселение не в статических, а в динамических показателях и констатировать наличие перенаселения, если кривая численности растет быстрее, чем ресурсы?1 Подобное определение можно считать удовлетворительным, если бы каждое общество было однородным, а все общества принадлежали бы к одному типу. В прошлом распределение доходов вело к тому, что нищета масс росла вместе с увеличением численности (размер заработной платы не изменялся), в то время как росло богатство привилегированных слоев населения. Идет ли речь в этом случае о перенаселении? Мне кажется, можно говорить о перенаселении, если оно характеризуется “обеднением большего числа жителей”, значительным распространением этого явления (то есть обеднением народа). Между тем сравнение кривой численности с кривой ресурсов не подтверждают факта перенаселения, если учитывать его определение, данное выше.
Более того, быстрый рост численности молодежи — типичное явление для Европы XIX в., которое Бутуль рассматривает как характерный признак взрывной ситуации, укладывается в концепцию перенаселения, определяемую сравнением между кривыми численности и ресурсов. Европейское население выросло в XIX в. больше, чем в каком-либо другом из предыдущих веков, хотя, как мы уже видели, из Европы в XIX в. эмигрировали миллионы людей. Рост численности живущих на землях Старого Континента, был значительным, независимо от того, что кривая численности росла быстрее, чем кривая ресурсов. Прибыль на душу населения в Германии не прекращала расти до 1914 г.: и все же там не было перенаселения в строгом смысле этого термина. Может быть немцы воинственны по причине простой биологической жизнеспособности?
1 3. ВоиШои!. ор. сИ., р. 323.
296
> - Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
Я бы поставил вопрос: служит ли признаком того, что возникает излишек населения, факт, когда определенное число людей из-за социальных обстоятельств вынуждены пополнять армию и выбывают из производительного населения. Я должен был сделать вывод, что явление перенаселения определяется тем, что я бы назвал излишком людей. Такое положение возникает слишком часто, чтобы сделать возможным изучение многообразия связей между численностью и воинственностью. Античные общества постоянно имели этот “излишек” людей. Даже это утверждение весьма условно для общества, в котором труд рассматривается как примитивное занятие. То, что труд необходим для обеспечения существования, было признано всеми, но гражданин посвящал себя войне и политике. В европейских обществах, которые не знали рабства и только достойным предоставляли право рисковать жизнью в сражениях, устойчивость социального порядка еще больше, чем стагнация техники, создавали постоянный излишек людей. Армии казались, между тем, нормальным явлением, т. к. они мобилизовывали бездельников по призванию (дворян) или людей, не связанных с производством (безработных или бродяг). Смерть одних государство считало подвигом, смерть других никого не интересовала. В демократических государствах с цивилизованным использованием труда эти категории бездельников в принципе не признавались.
Перенаселение имеет место в современном обществе. Сельское перенаселение часто является актуальной проблемой для слаборазвитых стран. Там не удается мобилизовать для работы бесполезные руки (то, чтй пытается сделать коммунистический Китай). Большинство сельских местностей в мире имеют излишек населения и даже гипотетически в случае внезапного устранения части сельского населения производительность не уменьшится. Даже во Франции, на пути к модернизации, в XIX в., историки замечают “бесполезных людей в большом количестве, по причине медлительности индустриализации и косности социальных рамок”. Бессмысленно будет объяснять войны в Испании, Алжире, Италии, Мексике только “давлением” со стороны неработающих. Более разумно учитывать склонность правителей к развязыванию и ведению войн и то, каким мнением они руководствуются.
Склонность к войне может подогреваться тремя различными, хотя и родственными явлениями: излишек людей, перенаселение (абсолютное, глобальное или частичное1); биологическая жизнеспособность. Ни один из этих типов отношений не может быть назван в качестве обобщенной или догматической причины войн или “воинственности” (хотя причинные отношения предполагают, что рассматриваемые явления по сущности равны, но в данном случае это не так). Каждое из этих явлений определенным образом связано с проблемой войн, но полностью проанализировать эти отношения очень сложно. Перенаселение, в общем смысле этого термина, является феноменом, возникающим постоянно (в одном и том же месте) в человеческих обществах, в которых техника 1 Частичным перенаселением я называю положение, когда отклонение между кривой численности и кривой ресурсов касается лишь части, а не всего населения.
Мир и война между народами • Раймон Арон
297 >
Часть II
развивается стабильно и налажена четкая организация производства. Так называемая историческая фаза развития общества характеризуется двумя чертами. можно сказать, негативными: здесь баланс численности не поддерживается как в архаичных маленьких закрытых обществах1 квазиестественным механизмом; а также слабо проявляется способность к инициативам, инновациям, технической или социальной адаптации по отношению к возникающим проблемам. Не нужные производству люди — неизбежное явление во все времена. Одновременно с тем, что завоевания, эксплуатация побежденных, грабеж составляют источники обогащения, превращение бездельников в воюющих, которые в случае победы приносят трофеи — процесс вполне рациональный. Но, если подобные сообщества действовали с экономических позиций, то они не ошибались, когда ставили воина выше рабочего. Первый же только охранял жизнь второго, но часто он добывал больше продукции. В прошлом веке иерархия ценностей была другой: экономические результаты войн (особенно тех, которые вел Наполеон III в Италии и Мексике) не могли быть даже сравнимы с ростом производительности труда. Только офицеры еще сохраняли античный престиж героев. Я не хочу сказать, что войны прекращались, если излишек людей был исчерпан, я не говорю, что частота и интенсивность войны определялись числом бездельников. Просто я считаю “излишек людей" феноменом, сопровождающим военную деятельность, призванным сделать ее рациональной. Большинство обществ располагали людьми, не занятыми в экономике, которые под армейскими знаменами заслуживали славу или производили грабежи.
Перенаселение, глобальное или частичное по численности в определенных обстоятельствах, особенно в сельской местности, может превзойти обычное число жителей, т. е. то которое было до возникновения излишка трудовых ресурсов. Число бедняков, бродяг, лиц, не привлеченных к труду, увеличивается. Конкуренция рабочих рук понижает зарплату, даже если производительность труда стабильная или растет. Ни опыт ни абстрактный анализ не указывают на то, что подобная обстановка обязательно провоцирует войны, или, что войны зачастую бывают выражением этой обстановки. Болезнь скашивает не привлеченных к труду так же, как и пулемет.
Избыток рабочей силы скорее всего ослабляет требования непривилегированных слоев к условиям жизни. Некоторые историки, правда, объясняют альтернативные ситуации в китайской истории колебаниями численности населения. Но в таких случаях перенаселение может стать причиной внутренних беспорядков, мятежей, крестьянских восстаний, смены династий, скорее, чем войны между суверенными государствами.
В том, что касается европейской истории, демографы отмечают определенный рост населения с X по XII вв. и его снижение в XIV в. вследствие чумы; в XV в. констатируют стагнацию и вновь значительный рост в центральной Европе в XVI в.; стагнацию или спад в центральной Европе в следующем веке, зна1 Впрочем, реально равновесие не поддерживается постоянно. В одних сообществах численность населения сокращается, в других — растет. Существуют общества даже без письменности и в них ничего не меняется. Но такие общества “для себя” не являются историческими.
-298
■ Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
чительный прирост в XVII в. и беспорядочный рост в XIX веке. Оказывается, что период после чумы был наименее воинственным, а трем периодам войн, крестовых походов, тридцатилетней войны, войн XX века предшествовали фазы демографического роста. Возможно, что значительное сокращение населения смягчает жестокость военных конфликтов. Действительно, сложно измерить интенсивность влияния военного фактора на политику в Средние Века, меняющегося со временем. Влияло ли изменение численности населения в Европе на побуждение к крестовым походам, остается до сих пор неясным. Анализ демографической ситуации в Европе XX в. приводит нас к концепции, которую мы назвали биологическая жизнеспособность.
В действительности ни Германия, ни Европа в целом в 1913 г. не страдали от перенаселения. Идеология народа без территории еще не была в ходу (Volk ohne Raum). Правители и идеологи рейха знали, что национальный доход рос быстрее, чем численность населения. Если демографический рост был причиной развития германского империализма, причиной войн, которые охватили европейскую цивилизацию, то необходимо искать интересующие нас факты не в сопоставлении численности населения и валового продукта, не в сравнениях соответствующих кривых, а в бессознательном или в неизвестных исследователям сторонах жизни сообществ.
Германия и Европа вообще не имели ни малейшей необходимости терять десятки миллионов человек, чтобы обеспечить выжившим более высокий уровень жизни. Ни одна страна в Европе не перешагнула оптимума благосостояния. Ни одна из них не могла предположить, что согнется под грузом избыта населения. Число молодых людей в Германии как и в других странах с высокой рождаемостью, было пропорционально ко всему населению и более многочисленно, чем в странах, где рождаемость способствует справедливому обновлению поколений. “Запас” воинов смог внушать властителям амбиции, но не должен был внушать им страх за себя и за свой режим. Хотя итогом европейских войн в XX в. был демографический спад, как подчеркивает Бутуль, ожесточение борьбы порождается не высокой плотеностью населения или его обнищанием, а избытком жизненной силы, подобной тому, как она ведет к дракам и играм подростков, в жилах которых течет слишком горячая кровь. Мы еще досконально не знаем, каким законам подчиняется становление сообществ, чтобы можно было полностью исключить вероятность связи между плодородием земли и воинственным темпераментом жителей. С уверенностью можно утверждать, что эта связь не всегда проявляется и что в случаях, когда совершались попытки ее обнаружить, убедительных объяснений не следовало.
Даже автор, который считается теоретиком в объяснении связи войн и численности населения, пишет: “Перенаселение не обязательно ведет к международной или гражданской войне”1. По его мнению, перенаселение в конечном счете вызывает необходимость устранения людей, а война — один из способов. Подобные формулировки имеют место, но они мало поучительны. Они равноценны другому предположению: на данной 1 J. Bouthoul, ор. eit., р. 323—324.
Мир и война между народами • Раймон Арон«ьж^жн^?^жгж^жж^^^ 299
Часть II
территории с известными ресурсами выживает только определенное число человек. А поскольку это количество постоянно превышается, то социальные механизмы приводят к ликвидации излишка населения.
Японцы предпринимали в прошлом многочисленные попытки, чтобы с помощью систематических мер предотвратить возникновение перенаселения. Нужно ли рассматривать войну в качестве дополнения или замены процессу систематического сокращения населения происходящему в результате поздних браков, детоубийства или высокой смертности среди молодежи? Войны убивают, а в наше время убивают преимущественно молодых. Я не думаю, что можно сравнивать и противопоставлять “азиатский вариант” (высокая смертность вследствие тяжелых условий работы) и европейский вариант (сокращение численности из-за периодических войн). До XX в. “европейский вариант” по сути не отличался от азиатского: высокая смертность среди молодежи и болезни выполняли в общем функцию устранения “лишних ртов”. В XX в. в Европе эта функция в общем больше не выполняется теми же способами. Демографический рост не ведет ни к абсолютному перенаселению (по отношению к объему средств существования), ни даже к относительному избытку численности населения (по отношению к оптимуму благосостояния). Если бы перенаселение было причиной того, что Гёрмания стала империалистической, а европейцы воинствующими без экономической необходимости, то напрашивается вывод, что недостаточное плодородие почвы, большой процент молодежи среди населения, наличие безработных и малообеспеченных и некоторые другие подобные обстоятельства толкают народы, правителей и их идеологию на путь военных авантюр. Но, если “взрывоопасная ситуация” инициирует империализм, то опыт веков напоминает, что ни цезари, ни народы не нуждались в подобном побуждении для удовлетворения своих амбиций и укреплении веры в свое призвание к господству.
5. От нефти к атому и электронике
Историческая эпоха, которая началась в 1945 г., резко отличается в том, что касается влияния на политику численности населения от предыдущих десятилетий и от веков европейской экспансии.
В течение всего современного периода истории европейцы извлекали преимущества из уникального стечения исторических обстоятельств. Ими были открыты огромные пространства Северной Америки. В период 1840—1960 гг. 56 млн европейцев покинули Старый Континент, из них 37 млн направились в США. В то же время европейцы благодаря превосходству средств производства и оружия, которыми они располагали, ввели свои законы в Африке и Азии, они были одновременно настолько богаты и могущественны, чтобы с помпой показать, что предыдущие понятия благосостояния и славы стали анахронизмами.
В результате цивилизационного использования “диких” территорий и с распространением суверенных зон после 1945 г. последовал распад империй, воздвигнутых европейцами в Азии и Африке. “Европейские меньшинства” покидают страны, ставшие независимыми и возвращаются в метрополии. Неевро.и-300 «ч* . < < < Раймон Арон • Мир и война между народами
пейцы, в свою очередь, организуют у себя сборку автомобилей и другие производства, благодаря чему небольшой азиатский мыс по темпам экономического роста превзошел многие страны. Наряду с этим, у народов так называемых слаборазвитых стран, рождаемость в среднем превосходит соответствующий показатель экономически более развитых стран. Очень легко в Западной Европе, да и на всем Западе время от времени распространяется страх перед нашествием выходцев из Азии и Африки. Такие мрачные соображения внушались французам с 1850 г.
Напомним, что в 1700 г. европейцы составляли около одной пятой всего человечества (118 млн из 560), в 1900 г. —одну четверть (400 млн из 1 608 млн), накануне второй мировой войны также примерно четверть. Если предположить, что такое процентное соотношение уменьшается и упадет до одной пятой, то все же речь еще не идет о возврате к соотношению, которое существовало всего три века назад.
Соотношение: европейцы—неевропейцы не имеет впрочем большого значения, т. к. европейцы разделены на два враждебных блока, один из которых солидарен или показывает, что солидарен с восстанием “цветных” народов против “белого” доминирования, а другой — в моральном и военном отношении связан с Соединенными Штатами. Итак, сравнение процентов демографического роста с двух сторон железного занавеса не оправдывает пессимизм тех, кто “одержим” страхом перед численностью и увеличением “цветного” населения. Возможно, что численность населения США растет сегодня так же быстро, как и в Советском Союзе (годовой процент роста в США в последние годы составлял Социология
около 1,5%). Процент роста населения на западной части Старого Континента ниже, чем по ту сторону железного занавеса. Бессмысленно делать выводы из сопоставления показателей увеличения рождаемости во Франции и Великобритании, которым особо угрожало сокращение народонаселения и тенденции к низкой рождаемости в Восточной Европе, которая создает свою промышленность.
Признаются ли сравнимые проценты роста численности населения в США и Латинской Америке как типичные для индустриальных стан, с одной стороны, и развивающихся стран, с другой? Нет сомнений, что более быстрый рост населения происходит в развивающихся странах. Между 1940—1950 гг. процент годового прироста населения Бразилии возрос до 2,7%, в Мексике — до 3,1%. Таким образом, можно предположить, что через 30 лет население Латинской Америки увеличится вдвое. А в конце века, оно, вероятно, превысит численность англоязычного населения Америки, но подобные колебания соотношений численности не опасны для народов, численность которых растет не так быстро, как они богатеют.
Народы, у которых прибыль на душу населения относительно низка, сельское население игнорирует современные методы обработки земель, а число занятых в промышленности составляет относительно низкий процент рабочей силы, в наше время имеют тенденцию к тому, чтобы "усилено размножаться”. Фактом стало то, что поддержка традиционного процента рождаемости ведет к падению духовности. Этот процесс стал следствием улучшения гигиены (улучшение, которое больше не ведет к значительному росту ресурсов).
Мир и война между народами • Раймон Арон < :
- 301
Часть II
Быстрый рост численности населения приводит скорее к ослаблению новых государств, чем к усилению: он ослабляет их как экономически, так и политически.
Излишек молодежи, который Ж. Бутуль рассматривает в качестве одного из побуждений к войне, послужил доводом для пылких националистов развернуть преследование колонизаторов. Перед началом войны в Индокитае, Хо Ши Мин сказал одному французскому собеседнику: “Вы будете убивать нас по десять человек за убитого нами французского солдата. Но в будущем мы победим”. Половина алжирского населения состоит из лиц младше 20 лет и все они — националисты. Но, в случае достижения независимости ситуация складывается поиному, и то, что было эффективным оружием в борьбе с колонизаторами, становится источником слабости в борьбе с бедностью. Довольно долго не были пущены в ход эффективные процессы экономического роста, инвестиции, необходимые для образования молодежи, инвестиции для подъема производительности труда взрослого населения. Отчисления, которые используют подобные государства для своих военных и дипломатических нужд, отсекают или часть национального дохода, необходимого для потребления, или часть предназначенную для ассигнований на инвестиции. Беспощадный режим — это тот, при котором преобладают различные военные издержки. Индия имела бы сегодня довольно значительное влияние на международной арене, если бы уровень рождаемости там снизился вдвое.
Такое предположение не противоречит французскому опыту. Созданная однажды административная и интеллектуальная инфраструктура, необходимая для модернизации экономики, поддержка относительно высокого процента рождаемости (или иммиграция рабочих-иностранцев), стали благоприятными факторами роста производительности труда и прибыли на душу населения. Еще в течение последних десяти лет (1950— 1960 гг.) производительность одного занятого больше выросла в странах, где активное население также больше возросло. Производительность труда одного работника выросла в Японии на 5,6%, где за 10 лет количество занятых выросло на 37%, в ФРГ соответственно на 5,8% и 28%, в Нидерландах — на 4,4% и 15%, в Италии — на 4,4% и 14%. Соответственно в США — 2,6% и 8%, В Норвегии — 1,9% и 4%, в Великобритании — 2,2% и 4,5%. На том уровне развития, который достигли западные страны, рост рабочий силы и условия, облегчающие ее перемещение, сочетаются у работников с волей к творчеству и чувством будущего, и оказываются благоприятными не только для роста национального продукта (что само собой разумеется), но и для производительности труда. Это не характерно ни для стран Латинской Америки или Азии, ни для стран, где уровень рождаемости выше 2%. Слишком быстрый рост численности населения, возможно, провоцирует революции и установление авторитарных режимов, которые обрекают на бедность слишком многочисленные массы населения, умножая число безработных.
Нельзя не признавать наличие связи между численностью населения и военной силой, между военным могуществом и дипломатической активностью. Оборонительные или революционные силы стран с высокой рождаемостью населения становятся непреодолимыми.
302
Раймон Арон • Мир и война между народами
Партизаны не могут победить регулярные армии, но они оказывают одной из сторон дорогостоящую поддержку, создают условия, почти невозможные для умиротворения. Наступает время, когда престиж завоевателей рассеивается, число колонизованных фатально становится выше превосходяще оснащенных колонизаторов, которые, по странному парадоксу, вынуждены мобилизовать сотни тысяч солдат против нескольких тысяч партизан. 9 млн мусульман, противостоящие 1 млн европейцев, поддерживают 20 000 постоянных воинов армии освобождения, воюющих с 400 000 французских солдат. Людские потери со стороны алжирских националистов в 10—20 раз выше, чем у французов, но с французской стороны расходы в 10—20 раз больше: государственные деятели, если бы они размышляли о значении этих цифр, не сомневались бы в исходе кампании.
Бедные народы с быстро растущей численностью населения, всесильные на своей территории, бессильны за ее пределами. Следует отметить, что концентрация экономических ресурсов, необходимых для производства вооружения, возрастала, в то же время как усиливалась разрушительная сила оружия. Необходимы были европейские монархии, чтобы финансировать мобилизацию армий в XVII и в XVIII вв. Только государства, окрещенные как Великие державы, были способны, в течение первой и, особенно, второй мировой войны, дать миллионам людей современное вооружение: орудия, танки, авиацию. В век атомного оружия и электроники, клуб Великих стал еще более узким: только те, кого называют супер-великими, владеют новейшим термоядерным арсеналом и ракетоно-
Социология
ФХФ ХФУ ЖФ* Ф Ф> •ЧЧЛ-^.-ЧМФИФФФХ'Х^Ф X >ЙФХ гХФ '-ХФгХФ,-Хл.Ф а "Ф .-X Ф>Х<%ФФ Ф ХФХ Ф. -Ч.4Ф>аФФл«Ф ФХ Ф5Ф»Л ф * <
сителями последнего поколения, баллистическими установками и стратегическими бомбардировщиками.
Значение численности армий в наше время различно в конкретных ситуациях. Одно дело — ежедневные бои с использованием пулемета и другое — возможные сражения с применением оружия массового уничтожения. Арабы сбрасывают иго Запада, но они не уверены в том, что смогут довести свои атаки до Пуатье. Запад не беднеет по мере того, как уменьшается территория, находящаяся под его суверенитетом: напротив, он быстрее богатеет. Нестабильность в соотношении сил сохраняется, с одной стороны, в результате значительного количества территорий, на которых разворачивается соперничество между народами. С другой стороны следует учитывать скорость, с которой ранее отсталые народы принимают меры для индустриального развития.
В греческом мире в свое время великие державы насчитывали от 10 тыс. до 20 тыс. граждан. Это объясняет то, что “великие державы” не продержались долго и, что из века в век доблесть, как говорил Макиавелли, перешла от Афин к Тебу или от Македонии к Риму. В XX в. только за несколько лет в стране можно создать тяжелую промышленность. В 1960 г. Советский Союз производил более чем в два раза больше стали, чем “великий немецкий рейх” в 1939 г. Несколько лет понадобилось Китаю, чтобы увеличить производство стали на 20 млн тонн, т. е. на количество, превосходящее производство стали во Франции. По мере того, как распространяется индустриальный тип общества, теряется превосходство, которое имели некоторые страны в начале своей производственной карьеры.
Мир и война между народами • Раймон Арон х . 303
Часть II
Можно ли представить в постиндустриальном обществе, когда все народы достигнут достаточной производительности труда, что превосходство страны будет зависеть исключительно от численности ее населения? Или, напротив, решающим фактором в соперничестве является качество техники? Что могут миллионы танков против одной термоядерной бомбы? Что смогут десятки термоядерных бомб против государства, которое обладает непоколебимой защитой против средств их доставки или баллистических установок? Не будем пророчествовать. Ограничимся констатацией того, что между равными противниками именно качество вооружений является главным фактором при принятии решений.
ГЛАВАIX
О ресурсах
Размер территории и численность населения страны часто не осознаются современниками: золото, серебро, рабы, нефть, именно они в течение веков были ставками в сражениях между государствами. Историки и философы, как правило, не указывали на то, что воюющие сообщества жаждали драгоценных металлов и полезных ископаемых: чаще они призваны были корректировать цинизм властей, чем разоблачать их лицемерие. Люди, говорили они, движимы желанием славы или амбициями победителей. Только в наше время так называемая экономическая интерпретация может выявить первоисточники войн и конфликтов. Поскольку наша цивилизация предоставляет пальму первенства труду, то ученые и идеологи охотно воображают, что они открывают глубинные и таинственные силы, когда объясняют экономическими причинами события истории дипломатии.
Я преднамеренно выбрал термин ресурсы более пространный и общий, чем термин экономика. В действительности последний имеет точный и довольно ограниченный смысл. Под ресурсами я подразумеваю совокупность материальных средств, которыми располагают сообщества как для поддержания своего существования, так и для дальнейшего воспроизводства. Люди составляют часть ресурсов, если они рабы: другими словами, когда их рассматривают как вещи. Во всех других случаях, они являются субъектами деятельности, которые трансформируют вещи в блага, служащие для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Понятие ресурсов представляет довольно широкое поле, начиная с земли и полезных ископаемых до продовольствия и промышленных товаров. Оно определенным образом включает реалии, к которым относятся категории числа и пространства. Отношение между численностью населения и занимаемой им территорией определяется ресурсами, т. е. одновременно естественной средой обитания и способностью людей ее использовать. Эта способность, в свою очередь, зави-
304 Раймон Арон • Мир и война между народами
сит от знаний людей и эффективности совместных действий.
Понятие экономика не обозначает отдельный фрагмент совокупности ресурсов; она охватывает аспект человеческой деятельности, направленный на преобразование сырья в блага.
Назовем трудом воздействие людей на предметы труда с целью превращения их в полезные вещи. Эта деятельность одновременно является как технической, так и экономической. Техника и технология логически сводятся к сочетанию средств в зависимости от целей. Со времен неолитической революции общества научились культивировать почву, стимулировать биологические процессы, благодаря чему созревают полноценные плоды и умножается человеческий род. Но уже на заре истории трудовая деятельность содержала и другой аспект. Это прежде всего новое понятие сущности труда — рабочее время каждого работника и общее рабочее время всех занятых в данном трудовом процессе. Вполне реально рассматривать технику и экономику на первоначальном уровне — это техника и экономика отдельного рабочего, но предпочтительнее анализировать эти категории в масштабе сообщества. Несхожесть желаний участников производства и возможностей их удовлетворения очевидны, поэтому возникает необходимость выбора, от которого зависят многие социальные отношения. Сообщество выбирает какую-либо форму распределения труда между классами. Тот или иной тип обращения определяет методы перехода от распределения труда к распределению доходов. Вся экономическая система, т. е. совокупность соответствующих институтов, которые осуществляют процесс воспроизводства в об-
Социология ществе, характеризуется тремя позициями: формой распределения труда, типом обращения благ, методами распределения доходов.
Для понимания вопроса о связи между ресурсами и внешней политикой целесообразно выделить три типа явлений, которые могут стать факторами в международной деятельности сообщества: непереработанные ресурсы, которые предоставляет естественная среда, знаниям умения, позволяющие эксплуатировать эти ресурсы, тип организации производства и обращения, определяющие экономический режим, т. е. образ, согласно которому распределяются обязательства и аккумулируются результаты совместных усилий. Для каждого из этих аспектов экономической системы должна разрабатываться своя типология и определяться влияние каждого элемента на управление и судьбу государства. Но подобный метод грозит вовлечь нас в почти бесконечные поиски. Мне кажется предпочтительным — опыт оправдывает это упрощение — сконцентрировать наши исследования вокруг трех проблем, аналогичных тем, которые мы рассмотрели в предыдущих главах; прежде всего ресурсы в качестве средств для применения силы; овладевание ресурсами, как цели воюющих; установки соперников или причины войн. В заключение мы кратко сравним влияние различных режимов современной экономики на внешнеполитическое поведение государств.
Первая тема напоминает классические вопросы: какова связь между процветанием, богатством, благосостоянием, с одной стороны, и политической или военной силой — с другой? Вторая возвращает нас к вечному воп-
Мир и война между народами • Раймон Арон
305
Часть II
росу: из-за чего сражаются люди? Они воюют ради золота или ради славы? Когда они сражаются для увеличения богатства и когда для опьянения победой? И, наконец, третий направляет нас к будущему: труд и война дополняют ли друг друга или мирный труд делает устранение войны неизбежным, возможным или желательным?
1. Четыре доктрины
Экономисты, историки, философы веками обсуждали проблемы, которые мы только что сформулировали. Но они не рассматривали каждую из них отдельно. Ответ, данный на один из поставленных вопросов почти обязательно влечет за собой ответы и на многие другие. Авторы различных концепций и теорий труда и обмена считают богатство или пагубным или благоприятным для величия народов: общение и войну по своей сущности — схожими или противоположными явлениями: конфликты провоцируются или смягчаются обменом.
Итак, попытаюсь обратить внимание на четыре типа экономики, которые я называю меркантилизм, либерализм, национальная экономика и социализм. Исторически, каждая из этих доктрин была представлена различным образом. В действительности разнородные или нюансированные доктрины встречаются чаще, чем доктрины в чистом виде. Следующие положения не воспроизводят дословно кого-либо из авторов, относящихся к школам, которые я перечислил. Я стараюсь логически выделить лишь контуры четырех интеллектуальных зданий.
Доктрина меркантилизма об отношениях между экономикой и политикой имеет точкой отсчета, основным принципом знаменитую формулировку: “Деньги — это нерв войны”. Среди многочисленных возможных цитат приведем следующие строки, взятые из “Traité de l’economie politique” (“Трактат политической экономии”) Монкретьена (1615). “Первый, кто сказал по существу, так как он не единственный, что хорошие солдаты нуждаются в этом (золоте), опыт веков учит, что это (золото) всегда основное. Золото во много раз могущественнее, чем железо”1. На противоположное соотношение экономики и политики указывает Макиавелли в его известной работе “Речь о первой декаде Тита Ливия”, II, 10.
Если драгоценные металлы — движущая сила войны, они также являются мерой могущества наций, поскольку, в конечном счете, сила проявляется в тех случаях, которые народная молва называет “испытанием силы”. Стремление к могуществу логически выражается в усилиях собрать по возможности больше золота и серебра. Итак, существуют два метода, чтобы достичь могущества: один — это война и второй — торговля. Каждое государство увеличивает свои резервы драгоценных металлов грабежами или обменами. Но, как считали меркантилисты, — не существует различий, в сущности, между этими двумя методами. По сути — они равноценны.
Кольбер отмечает: “Только в государстве, которое обладает величием и 1 Монкретьен “Трактат о политической экономии", Париж, 1889, с. 141—142. Эту фразу, как и другие, я привожу по книге Е.Зильбернера “Война в экономической мысли с XVI по XVIII в.в.", Париж. 1939 г. Другая книга этого же автора “Война и мир в истории экономических доктрин”, Париж, 1957 г.
Раймон Арон • Мир и война между народами
могуществом существует избыток денег”1 .
Если это так, и если торговля зависит от запасов золота и серебра, т. е. могущества государств, не является ли она видом войны? “Торговля является постоянной причиной сражений в мире и в войне между нациями в Европе, изза того, кто получит большую выгоду”1 2. И еще, “Торговля — это постоянная и значительная война разума и промышленности между всеми нациями”3. В следующем веке Дюто подхватывает эту идею: “Устраивать мир, чтобы обеспечить нам все выгоды большой торговли, означает — воевать с нашими врагами”4.
Некоторые английские авторы вторят авторам с континента. Они также отождествляют ведущую роль торговли и политическую гегемонию: “Тот, кто владычествует на океанах, тот управляет мировой торговлей; тот, кто управляет мировой торговлей, тот управляет богатствами мира; а кто делает это умело, тот управляет всем миром”5. Сближение баланса торговли и баланса сил является выводом, следующим из подобного образа мышления: “Баланс силы может сохраняться и поддерживаться лишь балансом торговли”6.
По вопросу об ассимиляции торговли в войне приведем следующее меркантилистское рассуждение. Торговля Социология
не может быть благоприятна для всех, поскольку государству для того, чтобы собрать драгоценные металлы, нужен положительный баланс, причем другие государства — торговые партнеры, должны иметь отрицательный коммерческий баланс. Тот, кто покупает больше, чем продает, теряет золото и серебро, таким образом, при обмене беднеет, или, скажем, теряет в обмене. Погоня за драгоценными металлами создает между внешней и внутренней политикой существенное различие, т. к. первая не влияет на золотые запасы, а вторая, напротив, создает условия, влияющие на их объем. Еще в середине XVIII в. один французский автор выразительно сформулировал тезис: “Подлинная торговля одной нации состоит, в основном, в ходе обменов, которые она осуществляет с другими нациями. Напротив, обмены, происходящие только между подданными одного государства являются не столько реальной торговлей сколько простым использованием правил, которые облегчают потребление, но ничуть не добавляют массам богатств, которыми обладает нация и не увеличивают прибылей”7 .
Погоня за драгоценными металлами влечет за собой коммерческую экспансию и внешняя торговля приобретает агрессивный характер по отношению к 1 Цит. по: Е. Зильбернер. Назван соч. стр. 261. Кольбер “Письма, указания и мемуары", Париж 1862, т. II, I, часть, cTp.CCLXIX.
2 Там же, т. VI, стр. 266.
3 Там же, т. VI, стр. 269.
4 Цитировано по: Зильбернер, стр. 53: Дюто “Размышления о торговле и финансах”, Economistes financiers du XVIII-e siècle. Париж, 1849, стр. 1005.
5 Цит. по: Зильбернер Указ. Соч. Стр. 106, ст. 57. Евелин “Navigation and Commerce”, Лондон. 1674, стр. 15.
6 Цит. по: Зильбернер стр. 106, ст. 60. The Golden fleece: 1737, стр. 21.
7 Цит. по: Зильбернер: стр. 109. Г. де ла Пламбанщ “Сельскохозяйственная торговля Франции”, Авиньон: 1762, стр. 468.
Мир и война между народами • Раймон 307 аж
Часть II
соперникам, так как золотой и серебряный запас не бесконечен, как и ограничен итог возможных обменов. Рассуждения меркантилистов ограничены стабильным миром, по их мнению, в статичной вселенной. Обмен не так благоприятен покупателю, как продавцу. Но, согласно словам итальянского автора Ботеро: “Всеобще средство обогащения за счет расходов других — это торговля”1.
Для того чтобы иметь позитивный торговый баланс, меркантилисты дают следующие советы: по возможности меньше зависеть от внешних поставщиков; производить как можно больше благ, необходимых королевству; защищать национальных производителей от опасной конкуренции иностранных производителей. “Держава, которая сама себя снабжает всем необходимым, всегда более богатая, более сильная, более грозная“1 2.
Авторы этой доктрины не ставили вопрос об ответственности за конфликты. Межгосударственный конфликт естествен и неизбежен, так как интересы различных государств фундаментально противоположны. “Те, кто предназначен для управления государством, должны обладать славой, перспективой роста и обогащения для своей основной цели“3. Если французы могли увеличить свою торговлю только сокрушив голландцев, то почему они колебались в применении силы, чтобы реализовать свои законные амбиции? Меркантилисты, как таковые, не являются инициаторами войн. Говорить, что “прибыли большой коммерции” эквивалентны войне с нашими врагами, означает признание того, что торговля является субституцией войны. Но если рассматривать вечное соперничество государств, война выполняет функцию так называемой перманентной, поскольку она принимает или открытую форму сражений, или замаскированную форму торговли. Для правителей выбор того или другого целиком зависит от сложившихся условий.
Боден не склонен превозносить войны, но он сводит выбор между миром и войной к рациональному расчету. Правитель, даже могущественный, если он разумен и великодушен, “никогда не требует ни войны, ни мира“, если его не вынуждают законы чести. Он устроит сражение, если видит очевидную выгоду от победы, или для того, чтобы враги не стали победителями4. Может быть эта формулировка побудила сэра Вильяма Темпле разъяснить суть пацифизма, на который способен меркантилизм: “максимум с чем, как я думаю, можно согласиться, так это с тем, что разумное государство предпримет войну не с намерениями осуществить захваты, а лишь при необходимости самообороняться“5.
Либерал ставит перед собой не только иные объективные цели, чем поборники меркантилизма, он иначе интерпретирует факты. “Я выигрываю в том, в чем проигрывает другой“ — утверждает меркантилист. При свободном обмене, тот, кто извлекает пользу, все же по1 Цит по: Зильбернер, стр. 108. Г. Ботеро “Смысл и управление государством, Париж, 1599, кн. VIII: стр. 262. “Мы теряем столько же, сколько выигрывают другие”. Зильбернер. Стр. 108. Монкретъен, т. III.
2 См. Зильбернер, стр. 110. Монкретъен, стр. 131—132.
3 Зильбернер, стр. 26: Монкретъен, стр. 11
4 Зильбернер, стр. 20.: Ж. Боден “О республике”, Париж, 1576, кн. V. Стр. 593.
5 Зильбернер. стр. 65, В. Темплъ, перев. с англ. “Произведение рыцаря Тампля", Утрехт; 1693. Стр. 38.
308 Раймон Арон* Мир и война между народами
лучает и прибыль, отвечает либерал (типичный либерал). Применяются различные более или менее рафинированные доказательства этой формулы. Но узловой момент аргументации как в либеральной, так и в меркантилистической доктринах достаточно ясен.
Согласно идеям меркантилистов, коммерция не является средством обогащения, если оперирует благами, которые не столь необходимы их владельцам, но другое дело, когда обмен выступает как явно мирный метод расширения собственной части запаса драгоценных металлов.
По мере того, как теряют свое значение имеющиеся во владении государств драгоценные металлы и развитие средств производства рассеивает иллюзию ограниченного объема распределяемых благ или торговли между нациями, стирается воинственный характер обмена и напротив, становится очевидной его мирная направленность. Если каждый из участников обмена добровольно решается на него, не может быть, чтобы кто-либо из них “терял в обмене”, даже если в денежном значении он и не выигрывает.
С всеобщим обладанием драгоценными металлами также исчезает идея существенного различия между внешней и внутренней торговлей. Подлинный либерализм имеет гипотетической целью всеобщее господство универсальной республики обменов. Важно то, чтобы провинции соблюдали следующий принСоциология
цип: покупатели в данной провинции приобретают необходимые блага только в обмен на блага, которыми они располагают. В идеале, глобальной функцией человечества является торговля, перед которой бессильна даже военная мощь государств. Согласно известным словам Бентама: “Даже завоевав силой весь мир, вы не сможете увеличить свой торговый оборот хотя бы на полпенни”1.
Либералы логически делают вывод, что торговля коренным образом противоположна войне. Торговля умиротворяет, в то время как политическое соперничество разжигает страсти. Уже в XVIII в. довольно часто в научной литературе встречаются формулировки, противопоставленные меркантилизму. Так Кесней из теории меркантилизма принимает только то, что от внешней торговли зависит величие наций и она является, по своей сущности, агрессивной. “Взаимные обмены между нациями обоюдно поддерживают друг друга посредством богатства продавцов и покупателей” 1 2. “Таможни, — пишет Дюпон, — это своего рода взаимная враждебность между народами”3.
Эта формулировка совершенствовала формулу, предложенную аббатом Бодо в 1771 г., т. е. веком раньше: “Оппозиция интересов составляет сущность политики узурпации. Общность интересов является сутью экономической политики”4 .
Ж.Ф. Мелон писал, что “дух завоеваний и дух торговли взаимно исключа-
1 Цит. по: Зильбернер, стр. 260; прим. 18. Бентам “Principles of international law", эссе IV, стр. 557. В “The works of J. Bentham”, 1843, т. II.
2 Цит. по: Зильбернер. Стр. 196. Кесней. Ст. “Grains’B энциклопедии “Экономические и философские произведения”, Франкфурт-Париж. 1888, стр. 240.
3 Цит по: Зильбернер, стр. 204, Декларация Дюпона в Совете Старейшин (Moniteur universal, 28 апреля 1796; № 219, стр. 875.
4 Цит. по: Зильбернер; стр. 207. Аббат Бодо “Первое введение в экономическую философию”, Physionales, Е. Дэн, Париж, 1846. T. II. Стр. 742.
Мир и война между народами • Раймон Арон :. - •>. ■ 309
Часть II
ют друг друга в одной нации”1. Либералы (в отличие от меркантилистов, для которых международные конфликты не представляют собой проблемы, т. к. считаются естественным порядком вещей) должны иметь четкую позицию по поводу войн. В общем, как мне кажется, существуют три возможных варианта. Первый состоит в признании, что торговля и политика принадлежат к двум фундаментально разнородным рядам.
Государства находятся в постоянном соперничестве не потому, что они имеют экономически противоречивые интересы, а потому, что правители или народы, жадные к славе, зарятся на чужие территории. Второй вариант акцентирует внимание на игнорировании подлинных интересов государств или наций в конкретных действиях правительств. Добавим, что дело еще в том, что либералы проводят различие между экономикой, какой бы она была в республике обменов, и экономикой, искаженной частной монополией. Наконец последний вариант при оценке войн состоит в логических последствиях перенаселенности. Последователи Мальтуса многочисленны. Этот же автор, который считает, что дух торговли и дух завоеваний взаимоисключают друг друга, принимает тезис о том, что перенаселенность — это законный мотив для завоеваний.
Первый вариант ответа либералов на вопрос о проблемах войны показывает, что теряет свое значение экономическая интерпретация политики. Вполне правомерно думать о мире так, как будто он похож на универсальную республику обменов. Но политическая конкуренция государств является непреложным фактом. А экономические построения с приматом обмена не могут быть расценены как универсально приемлемые для всего человечества. Следует
учитывать последствия развития все¬
мерного беспрепятственного обмена для государств, которые враждуют между собой. Достаточно принять как установку предложения либералов о формах свободного обмена и скомбинировать их с относительно новыми формами индустриализации, чтобы понять принципы школы национальной экономики.
Более частной является вторая интерпретация проблемы войны, которая объясняет конфликты расхождением между пониманием экономики, какой она должна быть, и реальной экономикой, какая она есть. Основная идея, которая прослеживается во всей литературе XIX столетия, — вплоть до книг таких авторов как Гобсон или Норман Энжель, сформулирована Кеснеем и заключается в различии между коммерсантами и коммерцией, между частными интересами и интересами всего сообщества. “Коммерсанты участвуют в богатстве наций, но нации не участвуют в богатстве коммерсантов... Все войны и все относительные резервы коммерции могут иметь целью только монополию, возможно, невольную со стороны торговцев, но всегда пагубную для наций, которые не отличают общих интересов от интересов своих торговцев, которые разоряются, поддерживая войны, чтобы сохранить для национальных агентов своей торговли эксклюзивные привилегии”1 2.
1 Цит. по: Зильбернер. Стр. 172. “Политическое эссе о коммерции" в “ЕсопотКеэ Апапс1Ьгз би ХУНГ зс1ёс1е” Е. Дэн, Париж, 1843. Стр. 733.
2 Цит. по: Зильбернер. Стр. 197, Кесней, назв. Соч. стр. 461—489.
» 310 Раймон Арон • Мир и война между народами
В определенных границах либерал “а ля Бентам” утверждает, что войны всегда стоят больше, чем они приносят даже победителю, что завоевания, по сущности, являются плохой затеей. Для чего брать на себя груз управления чужой территорий? Если она, к тому же суверенна и открыта для обменов, то метрополия получит лишь такие выгоды, какие она в случае необходимости, имеет без особых издержек от своих колоний.
События XX в. опровергли этот доктринерский оптимизм и побудили экономистов, стоящих на либеральных позициях, лучше осознать расхождения, с одной стороны — между капиталистическими странами такими, какие они есть в действительности и идеальным типом либеральной экономики — с другой. Книга Л. Роббинса об экономических причинах конфликтов1 и Шумпетера об империализме1 2 продолжают тему, начатую Кеснеем или А. Смитом, т. е. экономистами, которые приписывают ответственность за войны духу монополии и пережиткам меркантилизма.
Т. Веблен открывает новую главу исследований, осуждая ассимиляцию духа торговли и духа войны и считая индустрию основой современного мира.
Экономисты исторической или, как ее можно назвать, национальной школы, не подпишутся ни под одним из этих двух крайних тезисов. Они отклоняют формулировку меркантилизма: торговля это — продолжение войны другими средствами, но они и не принимают установки либерализма (Бентам): “Всякая торговля по сути своСоциодогия
ей выгодна, даже для той из сторон, для которой она выгодна меньше, чем для другой. А всякая война по сути своей разорительна.” Или еще: “Нет нигде реального конфликта между интересами народов: если же где-либо возникают противоречия, то они имеют источником лишь непонимание”3.
Историческая школа принимает за точку опоры историческую реальность. Реальность это — освоенная человеком территория, разделеная на участки, а человечество это — население, сгруппированное по фракциям. Соперничество государств не сводится к экономической конкуренции. Нации сражаются не только для того, чтобы захватить богатства или благоприятствовать торговле. Защищая страну от нападения, армии являются доходными предприятиями соразмерно с богатствами, которые они спасают. В случае победы они приносят государству и народу не только добычу, но и открывают дополнительные возможности и пополняют средства для процветания.
Такая осторожная и разумная интерпретация соотношений между экономикой (или торговлей) и войнами (или завоеваниями), вероятно, может считаться большинством либералов, как согласующаяся с опытом XX в. Если принимать первостепенность и фатальность разделения человечества на государства-соперники, то армии, даже если они дорого стоят, все же необходимы нациям. Вполне уместно считать, следуя Песнею, что “государственный деятель жалеет людей, призванных на войну, как владелец жалеет землю, использованную для канав, которые необходимы для со1 Л Роббинс “The economic causes of war", Лондон, 1939.
2 Й Шумпетер “Imperialism and social classes", Оксфорд, 1951.
3 Цит по Зильбернер Стр 261, Бентам, стр. 552—559.
Мир и война между народами • Раймон Арон 311
Часть II
хранения поля”1. Хотя поле стало меньше, когда прорыты канавы и дает меньше прибыли, чем тогда, когда оно не было разделено на части, все же эта нива остается доходной в реальном мире. Более того, либерал, если он принимает модель универсальной и мирной республики, которая не признавала бы ни границ и не имела бы солдат, может, правда. не без труда, доказывать, что война дорого стоит даже для победителя. Но история такова, какая она есть, и сложно отрицать, что победоносные войны иногда приносили выгоду народам, увеличивая их шансы на повышение благосостояния.
Одна из основных идей, доминирующая в положениях школы, которую я назвал бы скорее национальной, чем исторической, не касается ни баланса вооруженных конфликтов, ни суждений, затрагивающих солдат. Оригинальность позиций национальной школы заключается в привлечении к своим концепциям определенных аргументов меркантилизма, обновленных в условиях индустриальной экономики. Ф. Лист не отрицает того, что благосостояние индивидов не является целью политики, ни того, что войны разрушительны для богатства.
Но существование политических сообществ, разделенных между собой, — это очевидный факт. Экономист не имеет права терять интерес к судьбе сообщества, к которому он принадлежит, и заниматься лишь тем, что рассуждать обо всем человечестве “без границ” хотя понимание идеала общественного устройства может быть ему временно недоступно. Итак, в середине XIX в. свобода торговли не способствовала в равной степени процветанию всех наций. Напротив, она помогала закрепить, усилить превосходство более развитым нациям, т. е. тем, которые уже имели свою промышленность. Как же нации, обладающие меньшим потенциалом, могут развивать свою индустрию, если они полностью открывают границы товарам, произведенным в других странах? Свобода торговли вынуждает их оставаться поставщиками первичных сырьевых ресурсов. В век, когда индустрия является условием могущества, ликвидация таможенных барьеров увековечивает различия между аграрными и индустриальными странами, то есть сохраняет неравенство в могуществе и в уровне жизни, что противоречит принципу справедливости и даже, возможно, угрожает миру.
Лист теоретически обозначил принципы гармоничного развития сообщества и указал, что оно возможно только внутри достаточно широких границ. Он, говоря о понятии большого жизненного пространства, считал, что создание огромных экономико-политических сообществ является первым шагом по направлению к республике обменов. Сторонники школы национальной экономики не отрицают, что этот первый этап может нуждаться в применении насилия. Для того, чтобы нация была удовлетворена своим положением, нужно, прежде всего, содействовать зарождающейся индустрии и успешному ее развитию. Необходимо также расширять территорию суверенитета государства.
В конечном счете, Лист не исключает установление мира, основанного на равновесии различных сил нацио-
1 Цит. по: Зильбернер Стр. 193. Кесней. стр. 219. - 312 .
- Раймон Арон • Мир и война между народами
нальных государств и национальных экономик. Свобода торговли устанавливается в отношении между равными участниками обмена, но универсальный мир не может выйти только из свободы торговли, для этого необходимы усилия умиротворенного человечества, даже использование временного протекционизма и усиление политико-экономических сообществ, которые естественным образом в совокупности составляют человечество.
Особенность теорий социалистической школы состоит в том, что, исходя из них довольно сложно сформулировать в нескольких предложениях доктрину, относящуюся к конфликтам и войнам. Социалисты-утописты были склонны верить, что мир между государствами следует за примирением и сотрудничеством между народами. Пока свирепствует нищета и не ограничена несправедливость, будет продолжаться борьба между индивидами и между классами. Социалисты-утописты, как мне кажется, не имели оригинальной теории, объясняющей связь между классовой борьбой и соперничеством государств. Но более или менее ясно, они постулировали, что примирение людей и групп в сообществе со справедливым порядком приведет к примирению между государствами.
Социализм марксистской направленности, напротив, проповедует иные простые и категоричные идеи. Например, его сторонники считают войны при капиталистическом режиме фатальными и заимствуют у одной из фракций либеральной школы разъяснение войны посредством конкуренции экономических интересов.
Социология ф <-^ф>>**хфсфиф<фх-йфЛ«%4ф,Фа » .<■»»■.■£ ■» фу» »х>$йф$чфуф х^хФхЛмЛЛуф^ ф>» л«» х%ф>х4фй »хф,ф»ф5сф
Марксисты утверждают, что при социализме исчезнет необходимость и причины вооруженных конфликтов. Упрощая, можно сказать, что согласно марксистам, меркантилисты точно описывают воинственный характер торговли в капиталистическом обществе, либералы настаивают на мирном характере торговли после капиталистического режима.
В капиталистическом обществе экономика отличается воинственным характером, при социализме она мирная. Вопрос в том, почему дело обстоит таким образом? Либеральные экономисты инкриминируют наличие протекции и монополии действию больших компаний и трестов, которые хотят сохранить за собой внутренние рынки и завоевать рынки за пределами страны. Ленин подхватил все обвинения, сформулированные экономистами-либералами в адрес поборников империализма (частные интересы, привилегированные группы). Но он изменяет интерпретацию либералов, провозглашая, что империализм, хотя и не является результатом деятельности меньшинства, является необходимым выражением капитализма, достигшего своей высшей фазы (монополистической фазы). Под влиянием Ж.А. Гобсона и Р. Гильфердинга1 Ленин утверждает, что капитализм неизбежно переходит в империализм и что мирный раздел планеты между частными монополиями или государствами невозможен. Ленинизм вновь подтверждает, что имеется существенное родство коммерции и войны. Меркантилистическая диалектика была более ясная, чем ленинская: поиск драгоценных металлов, запасы
1 R. Hllferdlng “Das Finanzkapital, eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus”, Vienne, 1920.
Мир и война между народами • Раймон Арон 313 ..
Часть II
которых не бесконечны, логически порождал соперничество и конфликты. Подходит ли это объяснение к поиску рынков, природных ископаемых или к сверхприбыли?
Почему при социализме экономика будет мирной? Марксисты это скорее утверждали, чем доказывали. Подобное предположение казалось им само собой разумеющимся, т. к. они принимали как очевидную, теорию, согласно которой конфликты между государствами имеют экономические причины. А фраза Жореса: “капитализм содержит войну как облако грозу”, повторяемая бесконечно, не может считаться доказательством. Остается вопрос: какие признаки капитализма — частная собственность на средства производства, рыночный механизм, концентрация собственности или власти в национальных или международных компаниях, случайно или неизбежно провоцируют войны между государствами.
Рассмотренные нами основные концепции четырех школ не противостоят друг другу во всех отношениях. Если речь идет о политических конфликтах, некоторые либералы1 соглашаются с большинством меркантилистов и экономистов национальной школы, объявляя, что соперничество государств является первой причиной войн и что никогда противоречия торговых интересов не приводит к войнам. Конечной целью социалистов, как и либералов, согласно их доктринам, является благосостояние индивидов. Национальная и меркантилистическая школы считают, что служат величию наций. Эти школы выражают себя и противостоят друг другу в различной интерпретации торговли, которую они открыто исповедуют, как сущность экономической жизни. Согласно меркантилистам, торговля — это война, по мнению либералов — это мир, при условии, что она свободна.
Согласно взглядам национальной школы, она станет фактором мира, когда все страны будут достаточно развитыми, по словам же марксистов, торговля при капитализме приведет к войне, а при социализме она служит миру.
2. Историческая интерпретация доктрин
Теории всегда разъясняются, если их сопоставить с историческими условиями. От того, что провозглашается высшей целью государства, — могущество или благосостояние граждан, зависит отношение экономистов к политике силы и к иерархии различных видов деятельности.
В античном мире военная сила в основном зависела от численности солдат, их физической мощи, от организации армии. Образ жизни также влияет на численность и потенциал воюющих. Так, образ жизни крестьянина во все времена наделялся всеми мирными и, в случае войны, военными добродетелями. В 1940 г. маршал Петен еще воспевал землю: “она не лжет”; он был готов под влиянием реакционных советников и вечных предрассудков подготовить реванш, призывая “вернуться к земле“. Салли, в конце XVI века имел основания рассуждать о том, что “сильные народы состоят из крестьян, так как промышленность отучает граждан от тяжелой и 2 Ыопе! КоЬЫпэ, ор. сП:.
шн 314 Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
утомительной работы, которая способствует формированию хороших солдат”. Индустрия расслабляет народы, искусства и города порождают коррупцию, роскошь размягчает людей. Государства процветают при простом и умеренном образе жизни.
И хотя подобные тезисы появляются из-под пера философов почти до середины XVIII в., т. е. вплоть до периода современной истории, они верны только отчасти. Солдаты используют пушки и порох, им необходимо определенное образование, “во времена отваги”, по словам Фюллера, граждане Рима приобрели свое тактическое мастерство только в пунических войнах: длительная служба сделала их профессионалами. Военные, которые в XVI—XVII вв. доминируют на полях сражений, на земле и еще в большей степени на море, не являются больше любителями, дворянами или буржуа. Когда речь идет о вооружении или военной подготовке, то они зависят от политики властей города, княжества, государства, которые располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы мобилизовать, экипировать, организовать войска или экипажи, купить или подготовить корабли и пушки.
В начале XVI в. Макиавелли как военный теоретик выступает с реакционных позиций: он не верит в эффективность артиллерии, не признает необходимыми “эти войны”. Из любви к античности, исходя из соответствующей политической доктрины, он показывает себя как сторонник армии, состоящей из граждан, и продолжает рассматривать пехоту как царицу сражений. В то время когда разбойные и пиратские войны приносили значительную прибыль, когда торговля с другими странами требовала столько же военных кораблей, сколько и мирных судов, меркантилисты были недалеки от исторической правды и более рациональны в своих советах правителям, чем кажется нам сегодня. Политические сообщества не отличались так одни от других численностью населения или производственным потенциалом, как различиями в способности мобилизовывать ресурсы (коэффициент мобилизации).
Военная сила зависит, прежде всего, от способности быстро и эффективно мобилизовать ресурсы. Так, Венеция, город, разбогатевший на торговле, могла обладать большой военной силой, оплачивая наемников, солдат и моряков. Если же состояние и уровень богатства не позволяли оперативно мобилизовать национальные войска и рекрутировать добровольцев, то даже огромное королевство теряло свои потенциальные возможности. Формула Макиавелли “кто имеет солдат, то найдет деньги” становилась реальной, но не в том смысле, который он изначально предусматривал: государство, которое монополизировало полномочия на установление порядка с помощью силы, приобретает тем самым возможность изымать для собственных нужд значительную часть ресурсов страны. Военная мощь государства зависит от его потенциала и мобилизационной способности. Но, поскольку последняя, кажется, присуща всем странам, то именно потенциал выходит на первый план и представляет собой определяющий фактор мощи государства.
В конце XVIII в. дискуссии о сравнительной эффективности железа или золота, пехоты или артиллерии исчерпали себя. Какой бы ни была цена, которую приписывают драгоценным ме-
Миривойна между народами • Раймон Арон 315
Часть II
/л-лда?х?>^хл^лто»'да Л!уЛ»>Л>й»ЯуЛ»»ул^ ^л-ж/’М/лтп Л/гл^м^п^л мп
таллам, истинное богатство наций (то есть способность к экономическому росту или к экспансии) больше не кажется зависящим от запасов золота и серебра. Мир, общественный порядок, активность продавцов и производителей, дух инициативы — вот глубинные причины более быстрого обогащения одних, чем других. Время пиратов прошло. Когда царит мир, торговля соответственно становится мирной и нет оснований назвать ее “замаскированной войной”.
Поэтому британские авторы подчеркивают особую важность системы торгового обмена, в котором Англия занимает виднейшее место.
В то же время достаточно трезвого взгляда, чтобы констатировать, что “добродетель всегда вознаграждается”: заботясь о поддержании мира, народы гарантируют свою безопасность и наращивают силу. Адам Смит утверждал, что условия наличия военной силы те же, что и в прошлом. Примитивные народы обладали довольно значительной силой оружия, хотя они пользовались простым оружием и грубыми инструментами, которые мало отличались друг от друга. Определяющую роль у них играла физическая сила и военный пыл. У воюющих римских солдат искусства и роскошь рисковали вызвать раздражение, так как от них ничего нельзя было ожидать для улучшения орудий войны. Эженаль дал изображение Римской республики: вышедшей в первый ряд мировых держав благодаря воздержанности и добродетели своих граждан — крестьян, и устремившейся в пропасть из-за богатства и коррупции, поразившей главный имперский город. Солдаты Ганнибала в Капу нашли все возможные наслаждения и тем самым подготовили свое поражение. Между тем, описания Эженаля заменяют те сведения, которые современные авторы черпают из античной литературы. Цивилизация побеждает варварство именно благодаря искусствам. Богатство и могущество идут рука об руку, поскольку и то, и другое имеет основанием промышленность.
На эти тезисы возникают возражения со стороны экономистов “национальной школы”. Если индустриальное развитие, считают они, определяет одновременно и обогащение и могущество, то это и составляет главную цель государства. Обмен, свобода торговли — представляют собой не больше, чем средства достижения цели. Итак, утверждают сторонники данной школы, свобода торговли между политико-экономическими сообществами, которые находятся на разных стадиях развития, парализует или замедляет прогресс тех, кто отстает. Установки индустриалистов — не новы и говорят о том, что с помощью таможенной политики можно добиться гармоничного роста государств.
В середине XX в., как и в середине XIX в. эти школы существовали еще как доктрины, имевшие в те времена довольно субтильные формы: одна защищала принцип свободы торговли, другая ставила выше всего необходимость гармоничного роста и индустриализации. Их расхождение касается оценки действительности: каково влияние либеральной политики в области внешней торговли на индустриализацию в условиях слаборазвитой страны? Ни один экономист не ответит на этот вопрос простым категоричным предложением. Экономист-либерал признает необходимость применять протекцию, хотя бы частичную и временную. Экономист-протекционист признает полезность некоторых обме5 316 V Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
нов. Но существуют две ориентации: или на обособление по возможности больших самодостаточных территорий, или на безграничную солидарность государств, поддерживаемую обменами, столь же интенсивными, сколько и возможными.
Предпочтение формулы больших территорий чаще диктуется политикоэкономическими и сугубо экономическими соображениями. Могущество государства зависит одновременно от ресурсов, коэффициента мобилизации и от его места в системе международных отношений. Индустрия, армия могут быть парализованы отсутствием сырьевых ресурсов или определенных продуктов. Забота о повышении производительности ведет к международному разделению труда, как можно более рациональному. Во имя сохранения могущества государства не могут отказаться от какой-либо части жизненного пространства. Рассуждения представителей национальной школы убедительны по отношению к миру, разделенному на соперничающие суверенитеты, к миру, который либералы называют универсальной республикой.
Таким образом, теории, относительно ресурсов военной силы или могущества государств, легко объяснимы. Все они, будучи продуктом своей эпохи, содержат часть истины. Но каждая из них поддается сомнению, так как систематически не анализирует многочисленные детерминанты. Можно предположить, что сила оружия, численность войск, мощь армии, ее организация каждой из воюющих сторон определяет соотношение сил. Кроме того, помимо проблемы численности военного персонала, имеет значение сочетание примитивной ярости и организации. Задача теоретика — изучить и свести дифференцированные факторы, характерные для определенной эпохи, в единую причину могущества государства.
Между тем, говоря о каждой эпохе необходимо учитывать, что существуют маргиналы, исключения из правил и заблуждающиеся теоретики. Военное могущество Афин было основано на рудниках, торговле, флоте, власти. Благодаря этому Афины, правда, непродолжительное время, доминировали над системой городов, но их могущество оказалось хрупким и кратким. Даже Карфаген, который заставил сотрясаться Рим, мог бы подписаться под формулировкой меркантилистов: деньги — это движущая сила войны. Граждане Карфагена до того, как пасть в финале третьей пунической войны, сражались в конечном счете в течение многих лет против римских солдат. Ганнибал, поразивший Рим, руководил армией наемников и контингентом, набранным из союзников.
Перескочим через несколько веков: никто в нашу эпоху не станет утверждать, что качество воюющих зависит от умеренности образа жизни. Если речь идет о пилотировании самолетов или управлении танками, то ясно, что уровень образования более важен, чем простота нравов. Но в зарослях Алжира формула античных авторов вновь приобретает истинность.
Бойцы из алжирских крестьян иначе адаптируются к ночным сражениям, рукопашным битвам и засадам, чем солдаты французского контингента, привыкшие к городам и электрическому свету. Французы остаются хозяевами территории благодаря численности, организации, вооружению. Между тем, качественное превосходство в сражениях, Мир и война между народами • Раймон Арон 317 -
Часть II
связанных с местными особенностями, не на стороне цивилизации даже в век индустрии.
Какая-то доля правды содержится в более общем предположении, что военное превосходство порой принадлежит бедным народам над богатыми. Очевидно, что сила регулярных армий зависит от их экипировки и, соответственно, от промышленности. Так, военная сила становится пропорциональной человеческому и промышленному потенциалу, при равенстве “мобилизационой способности” в различных государствах. Но в реальных условиях эта способность не одинакова. Она определяется двумя переменными: эффективностью административных действий и согласием масс на лишения. Объем ресурсов, находящихся в запасе на случай войны, измеряется разницей между фактическим производством этих товаров и минимумом, необходимым для существования населения. Привычка к воздержанию и умеренности сокращают потребности армии в походе. Это ведет к понижению уровня жизни и гражданского населения, в то же время увеличивая разрыв между реальным производством и предельным минимумом гражданского потребления.
Наконец, задача властей, в свою очередь, состоит в том, чтобы убедить народ принять понижение уровня жизни или принудить его к этому. Во многих случаях распределение общих ресурсов, во время войны и во время мира, определяется указаниями правительства. Современная концепция благосостояния и могущества воспроизводит в обновленной форме, в век промышленности, античную альтернативу умеренности — матери добродетели и роскоши — основы коррупции. Остается познать, является ли умеренность, которую навязывает современный деспотизм, в моральном и политическом аспекте похожей на добродетель, воспетую греческими или римскими авторами.
Если довольно легко объяснить релятивистские теории, касающиеся ресурсов и силы, используя исторические данные, то это невозможно по отношению к релятивистским теориям экономических причин конфликтов. Теории первого типа не являются отражением реальности, они представляют ее в деформированном, упрощенном виде, но они постоянно придерживаются одного, действительно существенного, направления в исследованиях. Экономические интерпретации конфликтов, напротив, чем более спорны, тем популярнее они кажутся.
В течение тысячелетий, когда не происходило кардинальных изменений техники, или при очень слабом ее прогрессе, сила была методом распределения благ, несколько эффективнее, чем обмен. Количество богатства, которое могли захватить завоеватели посредством оружия, было огромным, в сравнении с тем, что они создавали своим трудом. Рабы, драгоценные металлы, дань и налоги, собираемые с других народов, т. е. прибыли от победы были очевидны и значительны. Итак, классические авторы, не отрицая необходимости экономической эффективности производства в империи, почти все придавали важное значение силовым методам обогащения.
В современную эпоху, напротив, экономические выгоды от победы оказываются довольно посредственным или даже смехотворным по сравнению с увеличением благ, которые позволяют каждый год индустриальным странам прогрессивно развивать технику и организацию.
318 х г г/ Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
Таким образом, именно в нашу эпоху авторитетные авторы верят, что империализм останется таинственным столь же долго, как долго за действиями дипломатов и солдат не будет усматриваться жажда денег и “плотность крестов”.
Этот очевидный парадокс, в самом деле, является лучшим введением в проблему экономической интерпретации межгосударственных конфликтов. В течение тысячелетий неравенство между привилегированными слоями и большинством населения в развитых обществах было очень велико, как и между различными сообществами. Низкая общественная производительность труда не позволяла предоставить всем преимущества роскоши и свободного времени. Когда речь идет о земле, драгоценных металлах, рабах или замках, то собственность одних означала бремя лишений для других. Собственность, в сущности, была монополистической. Абстрактная экономическая теория показывает, что условия распределения благ посредством механизма свободы торговли более выгодны для всех. Все это не означает, что люди, поставленные в неблагоприятные условия, должны пассивно принимать принципы распределения, реализуемые в определенный исторический момент. Использование силы обездоленными с целью изъятия у процветающего класса того, чем он владел, было понятно.
Бедность всех обществ, известных на заре цивилизации, неравное распределение богатства внутри сообществ и между ними, несметные богатства, полученные путем насилия, по сравнению с богатствами, произведенными трудом все эти факты постоянно представляли структурные причины конфликтов между классами и между государствами, ретроспективно они придают резоны захватническим войнам. Можно ли сказать, что именно этим в течение столетий определялась движущая сила завоевателей? Ни один историк не имел глупости утверждать это. Кочевники пустынь и степей, арабы или монголы вели образ жизни, спонтанным выражением которого и основным видом их деятельности было сражение. Они вели войну ради войны. Они шли на штурм оседлых народов, поскольку сражение доставляло им удовольствие. А власть была их призванием. Солдаты итальянской армии Бонапарта, которые ощущали контраст между своей бедностью и богатствами, открытыми их взорам, не нуждались в понуканиях, чтобы отправиться на штурм азиатских всадников.
Империализм Афин и Рима давал большой простор ученым для экономической интерпретации событий Древнего мира. Величие, мы уже это отмечали в те эпохи, было политически и экономически неразделимо. Афины могли существовать как город с населением более чем 40 000 граждан, при всем своем великолепии и празднествами, обходясь без торговой сети и платежей союзников. При крахе они не спасли ни своего будущего, ни свою славу. Между тем Тусидид не осуждает, — и мы попытались оправдать его, —того, что афиняне были прежде всего жадны к богатству. Что они любили — так это надменность правителей, которая не имела границ и привела к катастрофе.
Римский империализм, особенно начиная с конца Республики и при Империи, для своих действий имел многочисленные причины экономического порядка. 1Ърод, ставший чудовищным, нуждался в хлебе Африки. Без налогов, которые платили побежденные, бесплатМир и война между народами • Раймон Арон^
319
Часть II
ное предоставление черни “хлеба и зрелищ" было бы невозможным.
Римляне привилегированных классов, патриции или всадники богатели в провинциях в качестве проконсулов или откупщиков налогов. Никто сегодня не отнес бы к Римской Империи подсчеты Бентама, полагавшего, что колонии слишком дорого обходятся метрополии. Но никто и не счел бы простой маскировкой жадности напоминание Вергилия Риму: tu regere populos memento1. Власть Империи не нуждалась в оправдании, когда она была экономически выгодной.
Почему сегодня власть все больше и больше характеризуется экономическими или духовными определениями и все меньше истинно политическими терминами по примеру древних греков? В течение первой фазы имперских завоеваний, точнее с XVI поXVIII вв. они были явно рентабельны. Было бы неверно утверждать, что эксплуататоры или даже продавцы вдохновлялись единственно желанием выгоды, жаждой золота и денег. Психология испанских завоевателей в Америке не может быть сведена к примитивному упрощению. Возможно, религиозные миссии и сетовали на то, что грандиозные выгоды завоевателей сопровождались жестокостью по отношению к местным жителям. Получение драгоценных металлов, владение далекими землями стали причинами испанского могущества и богатства. При таком результате вопросы о движущих силах поведения завоевателей уже никого не интересуют.
Французская и английская власти в Индии или Америке, отличающиеся согласно большинству мнений, друг от друга и от испанской власти, вполне успешно выполняли свои задачи. Мотивы, по которым англичане, французы, испанцы или голландцы устраивались в Америке на территории современных Соединенных Штатов или Канады, были многочисленны. Одних привлекал в Новом Свете порядок установления власти, других — обеспечение права любить Бога по велению своего сознания, третьих — шансы найти по другую от их родины сторону Атлантики более обеспеченную или более свободную жизнь; многих—выгоды от дальней и авантюрной коммерции. Создание новой Франции или новой Англии на почти свободной земле объясняется теми же причинами, что и тяга к торговле с Индией или создание военных баз при помощи обществ, чьей открытой конечной целью были деньги.
Ошибки в суждениях современников во время заключения Парижского договора много раз упоминаемого французскими авторами, были вызваны различиями между актуальной и виртуальной оценками той или иной территории. В 1763 г. Санто-Доминго представляло для Франции более драгоценное владение, чем Канада, из которой через заснеженные просторы доставлялись в метрополию только меха и некоторые редкие металлы. В то время территория, открытая для заселения, не считались еще высшим благом. Связь между духом торговли и авантюризмом, между любопытством и жадностью, выгодой обмена и захватом добычи, между монополией фирм и политическим суверенитетом была на поверхности явлений и прежде всего бросилась в глаза.
При этом экономическая теория европейской экспансии до XIX в. не была 1 Помни, что правишь народами (лат., прим. ред.).
320 Раймон Арон« Мир и война между народами
оригинальной и не отличалась особым цинизмом. Она казалась произвольной и бесполезной схематизацией.
Климат в этом плане медленно меняется в XIX в. Философы и моралисты ставят под вопрос законность войн и завоеваний, тогда как либеральные экономисты, со своей стороны, сомневаются в полезности для метрополий наличия империй или колоний. Империалисты занимают оборонительные позиции. Они были обязаны найти смысл тому, что ранее вполне соответствовало привычному ходу человеческой жизни. Их задачей стало снабжать власть идеями и интересами, направленными на защиту политики, которая была объявлена теперь как несправедливая или дорогостоящая. Таким образом, объясняется совпадение в выступлениях Ж. Ферри тирады о цивилизационной миссии Франции (или белого человека) и тезиса о необходимости, для торговли и ради престижа страны, заставить развеваться трехцветный флаг во всех частях света. Интерпретаторы английского империализма прибегают к двум видам аргументов: процветание, благодаря власти (Джозеф Чемберлен) и white man’s burden Редьярда Киплига1.
В то же время теоретики социализма, гуманитарии, интерпретаторы идеалистических надежд Запада, с позиций классовой борьбы, связывают неравенство и войны. Они ставят в вину капитализму вооруженные конфликты. Как империалисты, так и либералы снабжают их доказательствами ответственности капиталистов. Империалисты создают себе славу богатствами, которые метСоциология
рополии доставляют из колоний. Либералы, правда, меньшинство из них, то есть те, кто враждебен к эксплуатации колоний и убеждены в необходимости мирного характера современной экономики, инкриминируют неблагоприятное воздействие на международные отношения привилегированным группам. Марксисты, принимая аргументы тех и других, утверждают, что “империализм — это последняя стадия капитализма”.
3. Империализм и колонизация
Согласно довольно простому и обобщенному определению, империализм — это дипломатическо-стратегическое поведение политического сообщества, которое создает империю, то есть подчиняет своим законам другие народы.
С этих позиций справедливо называть империалистической политику римлян, монголов, арабов, которые были строителями империй.
В течение веков неоднократно возникали сомнительные случаи, связанные с понятием империализма. Следует ли говорить об империализме, когда народ станы завоевателя и присоединенных территорий имеет одну и ту же культуру и, можно сказать, одну национальность? (Бисмарк, в роли создателя немецкой империи был ли империалистом?)1 2. Правомерно ли говорить об империализме, когда правители царской России или Советского Союза силятся поддерживать государственное объединение, включающее разнородные популяции? Считать ли империалистичес1 Бремя белого человека (англ., прим. ред.).
2 Эти вопросы не являются риторическими и имеют определенный ответ. Каждый свободен в выборе подходящих слов. Речь идет о том, чтобы разъяснить концепции и четко разделить различные аспекты данного явления.
Мир и война между народами • Раймон Арон
321
Часть II
ким объединение Германии, если оно отвечало желаниям немцев. Была ли поддержка Российской Империи другими странами проявлением империалистической политики?
Даже объективному наблюдателю нелегко определить, благоприятно или враждебно народ относится к созданию или сохранению империи. Для выяснения пределов империализма необходимо, чтобы на карте культур были четко обозначены границы наций, языков и народных стремлений.
Империализм является понятием двусмысленным и в другом значении. Исчезает ли он только потому, что государственные суверенитеты признаются официально? Ошибались ли народы Восточной Европы, освобожденные советской армией и управляемые сегодня коммунистическими партиями, выступая против империализма красной Москвы? Где граница между так называемым “законным” влиянием больших держав и “преступным” империализмом. Внутри разнородной системы, правящая верхушка господствующей державы вынуждена оказывать влияние на внутренние дела государств второго плана, по меньшей мере в необходимой степени, чтобы препятствовать победе партии, связанной с лагерем противника1.
Колонизация, какую практиковали греческие города в VIII—VII вв. до н. э., или европейцы в Америке, начиная с XVI в. представляет собой различные феномены. Колонисты Коринфа, которые создали Корсир, занимали имеющуюся территорию; пуритане, пришедшие из Англии, меньше побеждали индейцев, чем природа. Долгосрочная колонизация (по меньшей мере та, которая не доходит до истребления побежденных) больше влияет на место народов под солнцем, чем империализм. Индия не могла долго оставаться под властью Его Величества, короля Великеобритании, Соединенные Штаты продолжали говорить по-английски.
Европейские империи проводили как политику империализма, так и колонизации. В Северной Америке преимущественно осуществлялась колонизация, в Азии и Африке именно империализм пролагал себе путь. Политика испанской империи в Южной Америке была промежуточной. В зависимости от конкретных условий, люди, пришедшие из метрополий, обустраивались на завоеванных территориях. В отдельных случаях их число ограничивалось военными и управляющими администраторами, которые осуществляли имперскую власть. Гораздо чаще выходцами из метрополий были также гражданские лица, землевладельцы или бизнесмены, привилегией которых была принадлежность к народу-хозяину, что и определяло соответствующие выгоды. Когда имперское меньшинство оказывается прочно устроено и достаточно многочисленно, оно проявляет инициативу по разрыву с метрополией и образованию независимого государства. Но все же эти слои теряют власть и богатства. Имперское доминирование продолжается внутри нового государства: при определенном стечении обстоятельств может существовать одно государство, которое населяют два народа. Если меньшинство, пришедшее из метрополии, не достаточно многочисленно или не интегрировано с местным населением, его судьба находится в зависимости от поворотов фортуны. “Французские колонии” в Тунисе и Ма1 Диалектика империализма в разнородной дипломатической системе не исключает использования различных степеней вмешательства, влияния или доминирования.
■ < 322 Раймон Арон» Мир и война между народами
Социология
рокко на пути к ликвидации. Выходцы из Франции не смогли бы здесь сымитировать ни правящие классы испанского происхождения, которые “освободились” от метрополии в южноамериканских республиках, ни европейских эмигрантов в Северной Америке.
Империализм и колонизация содержат слишком много вариантов для того, чтобы одна единственная интерпретация подходила ко всем векам и всем странам. Марксистская теория империализма и ликвидация, благодаря политике европейских государств, их владений в Азии и Африке, в частности, привели к тому, что стали популярными споры по поводу природы имперского феномена. Абстрагируясь от греческой колонизации в VIII в. до н. э. и европейской в Америке с XVI в., мы хотели бы сформулировать вопрос: можно ли вменять империализм XIX в. капиталистическому режиму?
Мне кажется предпочтительнее было бы начать рассмотрение данной проблемы с краткого исторического исследования, в котором не решаются теоретические споры, но содержатся аргументы в пользу той или иной интерпретации. Авторы бесконечно комментируют следующие три факта: массовый экспорт европейских капиталов в конце XIX в. и в начале XX в. массовое нашествие на Африку1, войну 1914 года. Ленинская теория империализма требует установления связей между этими тремя событиями. Если не связывать их между собой в обязательном порядке, то эта теория оказывается весьма шаткой.
Исторически исследования экспорта капиталов и колониальных завоеваний проводились много раз1 2.
Две страны, которые в течение полувека, предшествовавшего войне 1914 г., господствовали на огромных территориях — Франция и Великобритания — были странами, которые экономически нуждались в приобретении новых владений. Население Франции было стационарным, индустриальный рост — медленным. Она не знала ни излишка населения, ни нехватки природных ископаемых: произведенных товаров было достаточно для экспорта. В Великобритании население и производство росли быстрее, чем во Франции, но “клапан” эмиграции был открыт и даже имея доминионы и власть над Индией, Объединенное Королевство не утолило жажду пространства. Действительно Франция и Великобритания имели излишек капиталов, они стали банкирами мира, но в своих колониях они размещали только малую часть этого излишка.
Из 40—45 млрд франков, обеспеченных золотом3, размещенных за пределами Франции накануне 1914 г., только 4 млрд франков были инвестированы в колонии. Большая часть вывезенного капитала инвестировалась в Европе (27,5 млрд из них 11,3 млрд — в России), 6 млрд в Латинской Америке, 2 млрд в Северной Америке, 3,3 — в Египте, Суэце и Южной Африке, 2,2 млрд в Азии. Из британских капиталов, размещенных за пределами страны, половина была инвестирована в британских владениях, но 1 Этот период дипломатической истории рассмотрен В Л Лангером в книге “Diplomacy of imperialism”, а также Паркером Т Муном “Imperialism and world politics”, Нью-Йорк 1927
2 E Сталей “War and the private investor”, New York, 1935, Герберт Фейс “Europe as world banker" New Haven, 1930 , А К Кернкросс “Home and foreign Investment, Кэмбридж, 1953 ) Эти работы не содержат простых и догматических интерпретаций
3 Национальный доход был около 35 млрд франков, обеспечиваемых золотом
Мир и война между народами • Раймон Арон
> 323
Часть II
малая доля на недавно приобретенных территориях в Африке.
Прежде всего важно знать, каким образом Франция и Англия стали располагать такими значительными капиталами, направляемыми на инвестиции за пределами этих стран. Традиционный ответ заключается в том, что причиной было неравенство распределения доходов, но цифры не подтверждают полностью это классическое разъяснение.
Во Франции годовые накопления1 были оценены за период 1875—1893 гг. в 2 млрд франков, в 3,5 млрд за 1900— 1911 гг., то есть накануне войны — в 5 млрд. Национальный доход составлял около 27—28 млрд в 1903 г.; 32—35 млрд в 1913 г.; возможно, более 25 млрд, франков в 1914 г. Накопления в среднем не превышают 10—12% национального дохода, а инвестиции за пределами страны — около 35%* 2. Вюбальный рост сбережений не был слишком высоким, при этом для направления инвестиций за рубеж побуждение к экспорту капиталов должно было быть исключительно сильным или спрос на капиталы для инвестирования в метрополии должен быть относительно низким (возможно и то, и другое, одновременно).
Английский экономист А. К. Кэрнкросс определил3 для 1907 г. следующие показатели: стоимость зафиксированного капитала в Великобритании выросла до 275 млн фунтов, фонды увеличились до 20 млн, прирост стабильных запасов товаров возрос до 30 млн, репрезентативный капитал составлял 175 млн футов, чистые инвестиции внутри страны доходили до 135 млн фунтов, что представляло около половины всех инвестиций. “Было также симптоматично, что сама Британия инвестировала за рубежом примерно столько же, сколько капитала составлял весь ее промышленный и торговый потенциал, включая земельную ренту, и что одну десятую ее национального дохода составляет прибыль от капиталовложений за пределами страны”.
Французские капиталы были привлечены за пределы страны сверхприбылями. получаемыми не только держателями капиталов4, но и посредниками и банкирами.
Эти сверхприбыли не были бы достаточными, чтобы спровоцировать поступление французских капиталов в Россию или на Балканы, если бы правительство не использовало финансовое могу-
’ Р. Пюпэн “Богатство Франции перед войной”. Париж. 1916 г. и “Частное богатство и французские финансы", Париж. 1919 г/. Ж. Лескюр “Сбережения (накопления) во Франци*. Париж. 1914 г.
2 Нельзя забывать, что инвестиции за пределы страны все больше состоят из доходов от предыдущих инвестиций. Французские инвестиции за пределы страны возобновились после войны 1870 г., с 1886 г. В среднем они составляли около 450—550 млн франков в 1886—1890 гг., 519—619 млн фр. в 1891— 1896 гг., 1157—1257 млн франков с 1897 по 1902 гг., 1359—1459 млн с 1903 по 1908 гг., 1239—1339 млн с 1909 по 1913 гг. (цифры взяты из: Г. Фейс. стр. 44, Х.Г. Мултона, К. Левиса “The french debt prodlem". New York, 1925 г.). Прибыли от внешних размещений капиталов всегда равны или превосходят инвестиции в течение этих периодов. (Фейс, стр. 44).
3 А.К. Кэрнкросс “Home and foreign Investment", Кембридж, 1953, стр. 121.
4 Дают ли внешние размещения капитала больше прибыли вкладчику, чем внутренние инвестиции? Кэрнкросс высказывает сомнения по поводу французских размещений капиталов.
Цитируя французских авторов Фейс (ср. 36) утверждает что доходность инвестиций за рубежом была выше чем доходность инвестиций внутри страны: 3,13% и 4,20% в 1903 г.: 3,40% и 4,62% в 1911 г. По отношению к Англии нет сомнений в том, что доходность внешних вложений была выше. В 1955 г. это выглядело следующим образом: внутренние вложения — 3,61. Вложения в колони — 3,94. Внешние инвестиции — 4,97.
324
Раймон Арон • Мир и война между народами
щество страны как инструмент дипломатии. Аргументы были разнообразны: то займы служили созданию в России железных дорог стратегического значения; то они обеспечивали управление национальной промышленностью; то они гарантировали верность страны французскому союзу, в чем противостояли в России друг другу так называемая “имперская” партия и партия, сочувствующая “союзникам”.
Инвестиции за пределы Великобритании были менее подвержены влиянию дипломатических установок, чем из Франции, даже сегодня нельзя утверждать, что в совокупности эти суммы приносили Великобритании больше преимуществ, чем помех1. Доходы по обязательствам других государств и по ценным бумагам размещенным за рубежом, в целом превосходили результаты внутренних вложений капитала. Распределение капиталов между различными областями (1531 млн фунтов для построения железных дорог) и различными регионами мира (больше половины капиталов вне метрополии шло в Северную и Южную Америку) подтверждает экономическую мотивацию движения английских капиталов.
В течение 20 лет до войны 1914 г. Германия, в свою очередь, примкнула к “клубу ростовщиков”, подталкиваемая одновременно политическими амбициями и желанием экономической экспансии. Немецкие банкиры в поисках сверхприбылей готовы были создавать за рубежом промышленные предприятия. Иногда немецкое правительство, в свою очередь, с помощью капитала, готово было расчистить путь политическому влиянию или направить Социология
средства для влияния на дипломатию Балканских стран или Ближнего Востока. Между тем, немецкая экономика, развивающаяся более быстро, чем экономика Великобритании или Франции, имела более высокий процент накоплений, но также и большую необходимость в своих собственных капиталах. Немецкие внешние инвестиции насчитывали около 22—25 млрд марок. Годовой экспорт капиталов в течение длительного времени — 20 лет, предшествовавших войне, вырос до 600 млн марок ив 1914 г. это составляло только 2% от национального дохода1 2.
Небезынтересно было бы сравнить экспорт европейских капиталов до первой мировой войны с суммами помощи слаборазвитым странам после Второй мировой. Здесь наблюдается двойное сходство. В обоих случаях экспорт капиталов способствует признанию самостоятельности стран, находящихся на пути модернизации в конце XIX в. и в начале XX в. Английские капиталы помогли Аргентине в строительстве железных дорог, возможно, русские деньги сделали реальной постройку Ассуанской плотины. Сегодня, как и вчера, экспорт капитала не теряет актуальности: европейские кредиторы ищут боле высокие доходы или состоят на службе национальной дипломатии, американская помощь определяется, по крайней мере частично, политическими соображениями. Но было бы ошибочно возмущаться тем, что Кант называл “радикальным злом”, не будем требовать от людей, чтобы они создавали благо ради блага, приходится удовлетворяться тем, что их эгоизм или соперничество приведут к результатам, которые могли 1 Кэрнкросс. ст. 224—235.
2 Фейс. Ор. ей. Стр 71—72.
Мир и война между народами • Раймон Арон
325
Часть II
бы быть рассмотрены людьми доброй воли в качестве цели.
В 1900 г. кредиторы помогают слаборазвитыми странам, в 1960 г. они уже связаны с политическим состязанием государств. Еще до первой мировой войны Франция предоставила России займ, чтобы увеличить возможности российской мобилизации. Она дала кредит Румынии, в надежде что та выберет лагерь союзников. США помогли Европе, надеясь, что процветание оградит ее от коммунизма. Они помогают слаборазвитым странам, чтобы опередить советскую помощь, руководствуясь мыслью, что идеи сопутствуют капиталам и технике. Но, следует учесть, что доходы от внешних инвестиций составляли накануне войны 1914 г. 6% национального дохода Франции, около 9% английского национального дохода. Годовые займы, предоставляемые Францией перед войной, выросли почти до 4% национального дохода, Великобританией и США до 1% национального валового продукта. В 1960 г. в США их сумма равнялась 5 млрд долл., т. е. 30 % от 15 млрд долл. Потребность во внутренних инвестициях не оставляет значительных резервов капиталов. Кумулятивные превышения балансов счетов до 1914 г. характеризовали продолжительный рост внешних инвестиций, который не повторялся в 1945 г. Напротив, американские излишки средств на внешних счетах были мало-помалу уравновешены экспортом капиталов, издержками на военные действия американских войск и правительственной помощью другим странам.
Объем имеющихся капиталов Франции и Великобритании с 1880 по 1914 гг. был достаточен и для роста производительности, и для улучшения уровня жизни1. Нельзя утверждать. что богатые классы владели большей частью капиталов. Во Франции мелкая буржуазия вела привычный образ жизни и пыталась по возможности больше накопить. Преимущества расходов на предметы длительного пользования только начинали сказываться. Основные расходы увеличивались не так быстро, как сегодня. В конце концов, и, вероятно, это существенный факт, что до 1914 г. в капиталистических странах инвестиции являлись результатом решений, принятых предпринимателями.
Их психология не сводится только к чисто теоретическим рассуждениям. Дух инициативы, творчества, инвестирования сочетается с социальным контекстом. В 1960 г. сложились совсем иные условия, чем в 1910.
Как бы то ни было, излишек капиталов не стал прямой причиной ни колониальных завоеваний, ни войны 1914 г. Захватила ли Франция Северную Африку или “Черную Африку” по причине избытка капиталов, поскольку она их труда не вкладывала? (Тот же вопрос подходит и к Великобритании.) Соперничество за прибыльное вложение свободных капиталов не является мифом. Миф — то, что капиталисты, банкиры или промышленники, как класс, с целью увеличения своих прибылей, подталкивали европейские правительства к захвату колоний, то есть к войне.
В том, что касается колоний на основе исторических исследований легко доказать три предположения:
1 Все же нельзя отметить особого прогресса в этом плане во Франции в 1900—1914 гг.
>326 ,
Раймон Арон* Мир и война между народами
1. Нет никакой взаимосвязи между теорией1, объясняющей колониальный империализм “капиталистическими противоречиями” и причинами колониальных завоеваний осуществленными различными странами Европы в конце XIX в.;
2. На колонии, приобретенные ранее, т. е. французские, английские немецкие владения в Африке, приходилась только малая часть внешней торговли метрополий. Обмены между индустриализованными странами были более значительны, чем обмены между ними и станами с неразвитой промышленностью. Вхождение в сферу определенного политического влияния не влекло за собой ни общего, ни немедленного увеличения обменов с метрополией;
3. В некоторых случаях вооруженных конфликтов или колониальных завоеваний частные группы, большие компании или авантюристы играли значимую роль, оказывали давление на дипломатов и государственных чиновников. Но в основе “дипломатии империализма” (в том значении, которое придает этому выражению В. Л. Лангер) чисто политические побуждения кажутся более сильными, чем экономические мотивы. Стремление к величию и славе, которое заставляло правителей больше влиять на ход событий, чем более или менее замаскированные действия неизвестных обществ.
Невозможно точно измерить эффективность действий каждой причины или определенного мотива каждого индивида. Рассмотрим кратко действия Франции в Африке, не постулируя заранее их интерпретацию. Факты не указывают на Социология
то, что французское правительство вступило в Тунис, чтобы сохранить интересы компаний. Напротив, они взывали к этим интересам, чтобы оправдать интервенцию, в которой государственные деятели видели средство предупредить итальянское водворение, гарантировать нейтрализацию алжирских конфликтов и доказать возрождение Франции. В Марокко банки или кампании были привлечены скорее шансами, которые предоставили им завоевания, чем призывами парламента и министрами. На юге Сахары миссионеры, эксплуататоры, офицеры действовали более активно и азартно, чем “большой капитал”.
Американский историк Е. Стел ей в книге “War and the private investor” рассматривал в качестве причин конфликтов действия государственных деятелей, а не интриги капиталистов.
Такая интерпретация не догматична. Она не исключает того, что война буров или английский протекторат в Египте были, полностью или в какой-то степени, спровоцированы действиями частных групп. Она не исключает, что после приобретения компаниями владений, они пользовались французским или британским суверенитетом для того, чтобы получать и дальше концессии на земли, или чтобы сохранить за собой прибыльную торговлю, или чтобы обеспечить себя сверхприбылями, благодаря эксплуатации богатых месторождений и выплате низкой заработной платы. Сказать, что страны Западной Европы были вынуждены захватить Африку, чтобы поддержать капиталистический режим или повысить благосостояние масс, значит утверждать, что, осуществив захват, колонизаторы не доми1 Эта теория доказывает необходимость рынков сбыта или погони за сверхприбылью.
Мир и война между народами • Раймон Арон
327
Часть II
нировали и не эксплуатировали побежденных, как это делали все захватчики во все века.
По мнению многих историков, европейский империализм в Африке кажется загадочным, потому что он не современен, современными же являются феномены, определяемые экономикой. Даже если, продолжая Ленина, описывать капиталистическую экономику при помощи тезиса о безграничном росте эксплуатации и стремлении к разделу планеты, то не удастся в терминах этой теории объяснить тот факт, что мало динамичная Франция установила свое правление на территориях, на которые она не посылала ни излишка населения, ни избытка капиталов, ни излишка произведенных товаров. Имперские завоевания выступали в мечтах государственных деятелей как показатель величия. Европа была в состоянии мира, западное полушарие находилось под защитой доктрины Монро. Захватывали то, что можно было взять без особых затруднений. Неписаный закон компенсации, которому подчинялась кабинетная дипломатия, обязывал государства требовать поочередно ту или иную часть континента, без которой они могли обойтись без малейшего ущерба.
Такой империализм не создавал дипломатических конфликтов между великими державами: Германия рассматривала себя, если можно так сказать, жертвой французского внедрения в Марокко. Франция, соседняя с Германией республика, такая слабая, какой она тогда была, расширяла между тем свои территории, а Германия оставалась “запертой” внутри своих границ. Экономисты-либералы, со своей стороны, так объясняли причины конфликтов, что это означало возвращение идей меркантилизма. Они говорили, что в экономическом плане важен не суверенитет, а действия правителя. Правитель создает для всех конкурентов равные условия и поддерживает флаги, которые развеваются на общественных зданиях. Но колониальный дух становится все больше и больше отмеченным старыми идеями меркантилизма. Государство — колонизатор или протектор, предоставляли выходцам из метрополий концессии на земли или рудники, высокие посты в администрации, своим судоходным компаниям права на торговлю с метрополией. Хотя сложно определить, что лиги, имеющие целью сделать популярной имперскую экспансию Великобритании и Франции (как Морская и Колониальная Лига), преувеличивали выгоды империализма. Общественное мнение выражало безразличие или скептицизм. Пропаганда выступала не столько против “марксистов”, сколько против “либералов”. Против первых, в случае необходимости, выдвигали тезис “цивилизаторской миссии”, против вторых стремились доказать, что метрополия благодаря колониям добилась большей части своего процветания.
Были ли убеждены правители и народы благодаря господствующей идеологии в том, что они хотели или приняли войну 1914 года, как необходимую для раздела планеты? Ничто не указывает на это. Война разразилась не из-за колониальных конфликтов, а из-за конфликтов между народами на Балканах. В Марокко французские и немецкие банки имели больше возможностей для влияния, чем канцлеры. Славяне на юге Балкан объявили виновной Австро-Венгрию, т.е. нарушили основу европейского равновесия. Приняли ли англичане решение наступления на Германию с целью 328
Раймон Арон • Мир и война между народами
устранения коммерческого конкурента? Эта легенда о войне не выдерживает критики. Некоторые секторы английского экспорта были перекрыты немецким экспортом. Обе страны увеличивали продажи товаров за своими пределами, в то время прогресс Германии был стремительнее, чем Англии. Можно ли утверждать, что английское общественное мнение ошибочно видело в этом угрозу? Англичане осознавали выгодность того положения, что были противопоставлены две экономики, лучший клиент и лучший поставщик. Либералы объявляли о ненужности завоеваний и тем самым отличались от меркантилистов, призывающих применять оружие для спасения торговли.
В действительности, война 1914г., как и европейский империализм в Африке, являются по существу обычным явлением. Первоначально она была общей войной с типичным характером: все государства — члены международной системы — были вовлечены в битву, так как была поставлена под вопрос структура системы. Государственные деятели слишком поздно поняли, что индустрия меняет природу войн больше, чем непосредственные причины конфликтов.
4. Капитализм
и империализм
Факты, которые мы привели и прокомментировали в предыдущем параграфе, не опровергают частную теорию империализма, но они придают достоверность интерпретации, более комплексной, чем марксистская или некоторые либеральные концепции. Не только в эпоху, когда завоевания менее рентабельны и войны более разрушительны, но и в любую другую, необходимо объясСоциология
нять и тот и другой подход чисто экономическим механизмом. Позволяет ли абстрактный анализ капиталистического режима поддержать идею, которую отрицает эмпирический анализ?
Сначала напомним, что тенденция капиталистической экономики, т. е. прогрессивной и индустриальной, к распространению во всем мире не подвергается сомнению. Все школы принимают это. Теория должна бы показать, что капиталистическая экономика не может обойтись без еще некапиталистических территорий или то, что ее внутренние противоречия приводят к разделу мира на колониальные владения и сферы влияния и этот раздел не может быть мирным.
Скажем несколько слов о первом доказательстве — для своего функционирования капиталистическая экономика не может обойтись без обществ, еще чуждых капиталистическому способу производства.
Это признавалось Розой Люксембург, отрицалось Лениным и марксистскими принципами, но теперь для историков такая постановка вопроса лишь предмет любопытства.
За отправную точку доказательства правоты данного положения принимается факт разделения всей современной экономики на два подразделения: производство средств производства и производство предметов потребления. В каждом из этих подразделений производится стоимость, которая согласно марксистским концепциям, делится на постоянный капитал, переменный капитал и прибавочную стоимость.
Обозначим
I = С.+У.+рЦ
(производство средств производства):
II = С2+У2+Р12
(производство предметов потребления).
Мир и война между народами • Раймон Арон
329
Часть II
В процессе простого воспроизводства прибавочная стоимость может быть “реализована” (в марксистском значении термина) только при условии, что постоянно поддерживается равенство между суммой переменного капитала и прибавочной стоимости I подразделения и постоянным капиталом II подразделения1.
Рассмотрим процесс так называемого расширенного воспроизводства. Часть прибавочной стоимости двух подразделений потребляется капиталистами, другая часть инвестируется вновь таким образом, что возрастает постоянный капитал. Это инвестирование части прибавочной стоимости является составляющим того, что Маркс называет накоплением капитала.
Рассмотрим прежде всего процесс накопления капитала в I подразделении. Прибавочная стоимость делится на две части: одна потребляется капиталистами, другая трансформируется в капитал для следующего цикла. В этом случае уравнение С2 = ¥’1+р11 перестает соответствовать обстоятельствам и должно быть заменено. Полная стоимость предметов потребления, т. е. полная стоимость II подразделения должна быть равна сумме переменного капитала I подразделения, переменного капитала II подразделения и израсходованной капиталистами на личное потребление части прибавочной стоимости II подразделения (II = У\+У2+ р^+ р12). Полная стоимость I подразделения должна быть равна сумме постоянных капиталов двух подразделений плюс вновь инвестированная часть прибавочной стоимости двух подразделений. Процесс расширенного воспроизводства может разворачиваться беспрепятственно только при условии, что соблюдаются эти уравнения.
Так ли это? Роза Люксембург, ее последователи и критики оперировали числовыми примерами и в конечном счете пришли к выводу, что эти равенства могли осуществляться при условии, что вид накоплений во II подразделении (предметы потребления) определяется видом накоплений в I подразделении. Этот вывод вполне очевиден. Авторы признали необходимость равенства между постоянным капиталом II подразделения и суммой переменного капитала и прибавочной стоимости, использованной капиталистами I подразделения. Эта формула приемлема только в случаях, когда рост одного из этих двух частей равенства управляет ростом другого. Марксисты, считая, что накопление капитала — это основное явление и свойство капиталистического строя, считают, что прежде всего необходим рост I подразделения посредством вторичного инвестирования почти всей прибавочной стоимости. Объем II подразделения, другими словами, производство предметов потребления—не должен превышать стоимости рабочей силы в двух подразделениях (У1 и У2) и прибавочной стоимости, использованной капиталистами в обеих подразделениях на личное потребление. В противном случае прибавочная стоимость не могла бы быть “реализованной” в натуральной форме товаров, в которой она представлена, то есть не нашла бы спроса. Например, может создаться риск появления нереализованного излишка стоимости, воплощенной в потребительские товары, которые не находят покупателя внутри системы.
1 При постом воспроизводстве переменный капитал и прибавочная стоимость полностью реализуются Так. сумма (С2+У2+р12) представляет все имеющиеся в распоряжении общества предметы потребления Для того чтобы были реализованы V, и р1,, необходимо, чтобы они были равны С2
■ < 330 - Раймон Арон • Мир и война между народами
Перепроизводство потребительских товаров при капитализме марксистская теория связывает с тем, что при капитализме действует закон концентрации капитала и концепция минимального уровня заработной платы. Эти факторы ведут к изменению отношений между двумя подразделениями. Действительно, накопление состоит в новом инвестировании значительной части прибавочной стоимости с целью производства большего количества благ. Но следует при этом принимать во внимание органическое строение капитала. В равенстве С2=У^р^ оно не учитывается, что создает почти непреодолимые трудности в анализе процесса расширенного воспроизводства. Но сущность технического прогресса, говорит Р. Люксембург и ее последователи, состоит в изменении отношений С и V; поддержка пропорциональности между постоянным капиталом одного подразделения и переменным капиталом другого довольно противоречива и почти невозможна. По словам одного из поздних сторонников Р. Люксембург, “условия равновесия требуют замедления ритма технического прогресса и даже динамики роста производства во втором подразделении, по мере того, как прогресс усиливается в I подразделении и в этот момент, если мы вообразим очень интенсивный технический прогресс в I подразделении, то в качестве эквивалента возникает требование остановки роста или даже падения темпов развития во II подразделении”1.
Противоречивы ли эти положения? Я так не думаю. В ходе начального периода промышленного развития, капи- 1 2
Социодогия
талистические страны обнаруживают тенденцию к экспорту потребительских товаров, но речь идет о производственных товарах, как, например, ткани. Сегодня страны третьего мира, развивающие свою индустрию, также хотят экспортировать текстильные товары, не изза того, что возникает излишек стоимости во втором подразделении, так как покупательная способность на внутренних рынках ограничена, а потому, что подобные товары относительно просты в изготовлении, техника требуется менее сложная, чем для выпуска большинства средств производства. В настоящее время так называемые капиталистические страны экспортируют все больше и больше средств производства по отношению к общему экспорту товаров. В свою очередь, развивающиеся страны хотят “экипироваться” и для этого экономят валюту. Было бы неверно делать из этого вывод, что соотношения между двумя подразделениями приводят к постоянному избытку средств производства.
Изменения в сельском хозяйстве в течение полутораста последних лет не дают оснований утверждать о развитии противоречий между необходимым равенством С2 и У^, с одной стороны, и модификацией соотношений между С и V, с другой.
Технический прогресс в сельском хозяйстве различных стран и в разные периоды развития капитализма был то медленным, то быстрым. Он был замедлен в странах, где дополнительное производство было рассчитано на экспорт и угрожало курсам валют. В течение последних двадцати лет технический 1 Л. Голдман, “Диалектические исследования”, Париж, 1959, стр. 336.
2 Это равенство упрощено: полное оно выглядело бы следующим образом С2+С32 = У^УБ, (С32 — постоянный дополнительный капитал подразделения II; УБ1 — переменный дополнительный капитал I подразделения).
Мир и война между народами • Раймон Арон
331
Часть II
прогресс в США возрос, скорее по техническим, чем по социальным причинам. Сложность учета всех факторов технического прогресса в капиталистическом сельском хозяйстве такова, что невозможно найти подтверждение “противоречий”, открытых Р. Люксембург.
То, что накопление в I подразделении ведет к замедлению технического прогресса во II подразделении, подтверждает исторический опыт Советского Союза. Производство и производительность труда возрастали в I подразделении более быстро, чем во II. Во II подразделении и прибавочная стоимость, присвоенная государством, полностью инвестировалась вновь. Но ни переменный капитал I подразделения, ни постоянный капитал II подразделения быстро не увеличивались. Замедление прогресса производства и производительности труда в советском сельском хозяйстве объясняется не только ускоренным темпом накоплений в I подразделении. Определенное влияние оказало также и сопротивление крестьян коллективизации. Пример Советского Союза иллюстрирует механизм, придуманный некоторыми марксистами, который все же оказался несостоятельным в плановом хозяйстве. Если форсировать темпы накоплений в I подразделении, то единственным способом избежать излишка потребительских товаров будет уменьшение темпов накоплений и технического прогресса во II подразделении.
Для нас не представляет важности детальное обсуждение теоретических схем Р. Люксембург, которые интересны только в историческом плане. Но очевидно, что увеличение органического состава капитала, т. е. стоимости оборудования, на котором работают наемные рабочие, можно истолковать только при чрезмерном упрощении, при помощи формулы: С: V. Уменьшение стоимости постоянного капитала, происходящее с каждой покупкой товара, изготовленного при его помощи, зависит от срока работы данного оборудования, коэффициента амортизации, количества произведенных здесь товаров. Перемены в производстве становятся все более и более частыми. Доля заработной платы в национальном доходе не влияет на соотношение стоимости капитала к годовой стоимости производства. В конечном счете все теории противоречий капитализма основываются на гипотезе, согласно которой уровень реальной заработной платы постоянно снижается.
Я также могу согласиться с тем, что в “экономической теории империализма” наиболее интересны те факты, описанные Ж.А. Гобсоном и использованные В.И. Дениным, которые рассматривает Джон Страгей1 в связи с экспортом капитала и политико-экономической ролью империализма как одного из двух вариантов развития капитализма, между тем как другой вариант заключается в росте покупательской способности масс благодаря повышению реальной заработной платы.
Ж.А. Гобсон описывал империализм последней четверти XIX в. и начала XX в. Внутри ряда европейских стран были силы, страстно заинтересованные в завоеваниях. Правящий класс находит в 1 John Strachev, “The end of empire”, Londres, 1959.
-- 332 Раймон Арон • Мир и война между народами
дальних владениях престижные и хорошо оплачиваемые посты для своих детей. Промышленные или торговые фирмы получают свехприбыли. Капиталисты размещают свои деньги во всех четырех странах света и мало-помалу трансформируются в рантье, паразитов национальных экономик, которые в свою очередь становятся паразитами мировой экономики.
Исторические исследования не опровергают такой глобальной перспективы, своего рода симбиоза между частными интересами и империалистической дипломатией европейских стран. Это привело к более нюансированной политике; инициатива вывоза капиталов или завоеваний зачастую исходила от политиков, а не от деловых людей. Мотивами часто были дипломатические интересы, а не прибыли. Действительность показала, в какой степени произвольной была “теория”, которую Ленин хотел вывести из фактов, собранных Гобсоном, теория, сводящаяся к трем положениям: неизбежность экспорта капиталов; создание зон влияния; передел мира путем войн.
Дж. Страгей принимает первое положение, чтобы спасти основной элемент теории. Он цитирует отрывок из книги Ленина1 глава IV: “Разумеется, если бы капитализм мог развить земледелие, которое теперь повсюду страшно отстало от промышленности, если бы он мог поднять жизненный уровень масс населения, которое повсюду остается, несмотря на головокружительный технический прогресс, полуголодным и нищенским, — тогда об избытке капитала не могло бы быть и Социология
речи. И такой “довод” сплошь да рядом выдвигается мелкобуржуазными критиками капитализма. Но тогда капитализм не был бы капитализмом, ибо и неравномерность развития, и полуголодный уровень жизни масс есть коренные, неизбежные условия и предпосылки этого способа производства... Необходимость вывоза капитала создается тем, что в немногих странах капитализм “перезрел”, и капиталу не достает (при условии неразвитости земледелия и нищеты масс) поприщ “прибыльного” помещения”.
Сегодня мы знаем, что капиталистический режим — частная собственность на средства производства и рыночные механизмы — может, без саморазрушения, повысить уровень жизни масс. Мы даже знаем, что это повышение согласуется с интересами класса собственников. Дискуссия концентрируется на двух моментах:
1. Идеальный, типичный капитализм, рассматриваемый по определенной модели, стремится ли действительно к накоплению капиталов и обнищанию масс? Деятельность властей, благоприятствующих политической демократии, препятствует действиям спонтанных сил или, напротив. Истинная модель капитализма состоит ли в одновременном росте производства, производительности и уровня жизни масс?
2. Действительно ли необходимо принудительное распределение доходов, а нехватка выгодных инвестиций внутри страны объяснялась экспортом капиталов и политико-милитаристской политикой империализма в конце XIX и в начале XX в.?
1 L’impérialisme, stade final du capitalisme, Paris, Editions sociales, 1945.
Мир и война между народами • Раймон Арон♦
333
Часть II
Определение модели капитализма никогда не бывает произвольным. Невозможно создать модель капитализма, которая содержала бы тенденцию к обнищанию. Но, в реальной действительности, даже абстрагируясь от предполагаемых интервенций демократического государства, экономический режим западного образца в конце XIX в. и в начале XX в. спровоцировал, возможно, возросшую концентрацию богатств, что, однако, не повлекло за собой обострение нужды масс. Необходимо представлять себе огромную армию индустриальных рабочих, чтобы убедиться, что рост производительности труда (или уменьшение времени необходимого труда — на языке марксистов) способствует постоянству реальной заработной платы и чаще ведет к ее увеличению.
Не будет ошибкой создание модели рыночной экономики, которая предполагала бы равномерный рост всех стран, включенных в одну систему, всех регионов или всех классов одной страны. Изза многочисленных обстоятельств процесс накопления влияет на сокращение или увеличение различий между экономическими сообществами. В течение периода, который мы исследовали, неравенство между доходами различных классов было ли причиной экспорта европейского капитала и перехода к империализму? Признаемся, что трудно категорично ответить на этот вопрос. Было бы парадоксально отрицать, что существовала связь между социальной структурой, распределением доходов и избытком капиталов. Было бы авантюризмом утверждать, что размещение капитала за пределами метрополии было необходимо и в то же время привлекательно. Сложная взаимосвязь политических и экономических мотивов делает невозможным создание простой теории развития общества.
К тому же, если и подтверждены связь бедности масс и экспорта капиталов, то чисто экономическая интерпретация империализма все же не приемлема.
Размеры капиталов, инвестированных европейцами на территориях, где они не осуществляли правления, незначительность сумм, инвестированных туда, где они правили, показывает относительную независимость движений: капиталов и солдат. Завоевания Франции в Северной Африке были долгими и дорогостоящими. Европейские страны брали власть там, где это не требовало больших усилий. Европейцы не гарантировали свои наиболее значительные инвестиции политическим суверенитетом. Они захватывали слабые или анархические страны, или для того, чтобы установить там условия для выгодных торговых обменов, или для того, чтобы приобрести стратегические позиции, или, чтобы расширить и защитить уже аннексированные территории, или во имя своей славы.
Можно ли говорить, как это утверждал Ленин, что различные способы европейской политики на захваченных территориях: создание зон влияния, протекторатов, колоний является выражением глубоких закономерностей? Этот вопрос равноценен признанию различия между экономическими и политическими факторами. Это разделение сегодня не так актуально, как в конце XIX в.
Завоевание Южной Америки испанцами и эксплуатация местного населения и богатств европейскими хозяевами были неразделимы. Захват 334
. Раймон Арон • Мир и война между народами
Индии и начало коммерческой деятельности английской кампании представляет другой пример эксплуатации колонии при сохранении местных традиций. В конце XIX в. европейцы доставляли себе удовольствие, захватывая земли, если не находили там богатств, то размещали капиталы. Капитализм стал одновременно и индустриальным и торговым.
В то же время тезис о невозможности мирного раздела территорий — при более пристальном рассмотрении, — оказывается чисто надуманным. Невозможность мирного раздела территорий или справедливого компромисса является пережитком доктрины меркантилизма. Что побуждало большие компании, банки, государства считать войну неизбежной? Ни факты, ни рассуждения не дают никакого основания для данного предположения. Европейцы не беспокоились о том, чтобы найти применение своим капиталам во всех углах планеты. В начале XX в. для мировой экономики была характерна экспансия ряда стран и политика повышения цен. Монополистическое объединение оставалось относительно редкой практикой. Колонизаторы или кредиторы обеспечивали себе преимущества, но в состязании они не лишали конкурентов всех шансов.
Можно ли поддержать Дж. Страгея в том, что неравное развитие метрополий было непреодолимым препятствием для мирного раздела? Неоспоримо то, что капиталистические страны имели различные темпы демографического и экономического роста, но это касается не только капитализма. Нестабильность международных отношений в течение веков и тысячелетий Социология
точно отражает относительные колебания сил и мгущества государств. Эти колебания, особенно в течение двух столетий, зависят от количества населения, от состояния экономики, а также от авторитета правителей. Темпы развития общества непосредственно определяют конфигурацию дипломатической системы.
В начале XX в. размеры различных колониальных владений не были пропорциональны силам (экономическим или военным) метрополий. Если это было причиной войны 1914 г., как утверждал Ленин, то реальность не имеет ничего общего с марксизмом-ленинизмом: Германия была воинственной из-за злобы на своих противников. Для того чтобы такая интерпретация представляла экономическую теорию фатальной битвы за раздел мира, то государство, поставленное в неблагоприятные условия при распределении колоний, должно быть убеждено в экономической необходимости, пойти на штурм своих несправедливо привилегированных противников. Если монополия, — то есть исключение конкурентов силой, — необходима для капиталистической экономики, то страна, развитие которой было более быстрым, — Германия, должна была быть парализована слабостью своих монополий или прилагать усилия по наказанию монополий других стран. Так, в 1913 г. не наблюдается ничего похожего: продолжалось развитие Германии, более быстрое, чем других европейских стран: то же относится к ее внешней торговле и экспорту капиталов. Теоретический анализ, так же как и эмпирическое исследование, ведут к традиционному заключению: вероятно, мирный терриМир и война между народами • Раймон Арон
335
Часть II
ториальный раздел невозможен, но к войне толкает не современный капитализм, а тысячелетняя скаредность.
Если бы государственные деятели и народы действовали согласно экономической целесообразности, то война 1914 г. не состоялась бы. Ни монополии, ни диалектика не определяли как неизбежное то, что было иррациональным.
Современная индустриальная экономика первая ставит под сомнение экономическую выгоду завоеваний. В экономическом значении термина, рабство было рациональным с того дня, когда производительность подневольного труда оставляла излишек хозяину, другими словами, когда раб производил больше, чем ему было нужно, чтобы выжить. Завоевание было рациональным при единственном условии, что трофеи будут выше стоимости сражения или господства на территории противника. Господство было рациональным столь же долго, сколько торговля оставалась монополистической по своей сути, следовала флагманским кораблем за войском или имела целью овладение драгоценными металлами, запасы которых в мире ограничены. Такая рациональность завоеваний для экономики, рассматриваемой в целом, не является очевидной с того времени, когда богатство стало зависеть от свободного труда, когда обмен благоприятен для обоих участников, когда производители и коммерсанты заинтересованы в конкуренции.
Либералы и социалисты более или менее осознают это своеобразие современной экономики. Но, констатируя факты, характерные для империализма, они делают акцент на других менее реальных аспектах современной экономики, объясняющих империализм. Рыночная экономика, в той степени, в какой она возможна в эпоху индустриализации, должна развиваться динамично. Она распространяется во всем мире и стремится охватить все человечество. Маркс констатировал это в “Коммунистическом Манифесте” и был прав.
Оставим открытым вопрос о том, изза какого недостатка режим частной собственности неспособен поглощать результаты своего собственного производства. Во всяком случае определенным секторам промышленности, в то или иное время, угрожало перепроизводство. Экономический рост происходит благодаря созидательным нарушениям равновесия. Как можно отрицать, что доминирование на внешних рынках облегчает продажу произведенных товаров, которые не находят покупателей в метрополии?
Более того, европейская или мировая экономика не похожа на идеальную модель Бентама. Тресты, картели, поддержка высоких цен, демпинг при экспорте, эти приемы коммерческой войны, противоречащие сущности свободной экономики, не исчезли совсем. Социологи и экономисты либерального направления вменяли эти пережитки в вину государственно-монополистическому сознанию в капиталистических и буржуазных странах, в то время как социалисты пытались доказать, что это монополистическое и захватническое сознание неотделимо от самого капитализма.
Те и другие ошибались. По своему экономическому значению и истокам, империализм конца XIX в. не был последней. стадией капитализма, но являлся последней стадией меркантильного им336
Раймон Арон • Мир и война между народами
периализма, который, в свою очередь, являлся конечной стадией тысячелетнего империализма.
Гобсон и Шумйетер1 справедливо обвиняли привилегированные меньшинства, которые доводили свои страны до империализма, противоречащего духу индустрии и торговли. Но они забыли, что люди еще больше, чем государства, всегда хотели быть хозяевами положения.
Недостаточно того, что господство экономически стерильно для того, чтобы народы или те, кто говорит от их лица, отказывались от славы и власти.
5. Капитализм
и социализм
Современная экономика представляет государствам беспрецедентную возможность действовать за своими пределами, так как увеличивается разрыв между минимумом благ, необходимых для жизни населения, и их наличным количеством. Чем больше это отклонение, тем выше максимальный коэффициент мобилизации государством своих ресурсов. Война не является решением экономических проблем, наряду с мобилизацией ресурсов. То, что повышение производительности труда создает излишек благ, который люди потребляют, убивая друг друга, является характерным для любого Социология
типа экономики в наше время, для любого строя. Абстрагируясь от страстей и смятений, поддерживаемых в течение века пропагандой идеологического противостояния, люди должны решить вопрос о влиянии, которое оказывает на мирные шансы и риск войны выбор между капиталистическим режимом (частная собственность и рыночные механизмы) и социалистическим режимом (общественная собственность и планирование). Необходимо определить простые сопоставления: какие неотделимые от капитализма ставки, обстоятельства, причины конфликтов уничтожает социализм. Какие ставки, обстоятельства, причины создает он? При социализме соревнование за размещение капиталов, интервенция государств с целью защитить интересы своей нации, которым угрожают грабительские законы, ограничены. Более того, не существует значительных частных компаний и механизма оказания давления на власти с целью установить высокие таможенные пошлины (которые конкуренты считают незаконными или агрессивными) или других привилегий, противоречащих правилам честного соревнования. Между тем, не исчезают все причины конфликтов между государствами с социалистической экономикой.
Условия международной торговли в масштабе мирового рынка с относительно свободными ценами часто ка1 Дж. А. Гобсон “Imperialism”, Лондон, 1902, Joseph Шумпетер, op. cit.. Как мне кажется, ошибка Шумпетера объясняется путаницей между современностью и прошлым. Шумпетер объяснял арабский империализм устойчивостью образа жизни, даже в новых условиях. Арабские всадники продолжают завоевания, т. к. в пустыне война была постоянной, естественной, привычной деятельностью. Но современные общества отличаются друг от друга и не определяются трудом, как жизнь арабских племен определялась набегами. Капиталисты или буржуа не посвящают себя делам, как арабы посвящали себя войне. Согласно экономическим расчетам, они должны быть мирными и антиимпериалистически настроены. Но они в поведении руководствуются экономическим расчетом.
Мир и война между народами • Раймон Арон
337
Часть II
жутся справедливыми одному или другому участнику обмена, вследствие их политического и экономического неравенства. Небольшая страна, которая обязана всей иностранной валютой продаже одного вида полезных ископаемых, зачастую подчиняется условиям покупателя и, особенно, основного покупателя. Несмотря на это, рыночные механизмы, даже международные, даже безукоризненные, ставят ограничения влиянию военной силы на коммерческие операции.
Все коммерческие операции между правительствами зависят от людей и режимов. Огосударствление международной торговли колоссально увеличивает возможности эксплуатации слабого сильным. Практика России времен Сталина, например, установление цены, по которой поляки должныбыли продавать уголь, иллюстрирует возможность применять угрозы странами этого вида социализма так же долго, как долго существуют многочисленные суверенитеты в социалистической системе.
Режим частной собственности, либеральные и другие государства, даже враждующие, признают в качестве неизменного и равнодушного к прибылям от военной победы
Прибыли, которые приносит размещение пограничных столбов, ограничены тем, что индивиды всегда сохраняют свои ремесла и свои владения. Когда Саар был включен в экономическую зону Франции, блага, которые там получали французы, оплачивались теми, кто их туда послал. Товары, которые не продавались ранее в немецком Сааре, шли теперь, вероятно, по низкой цене.
Социализм не благоприятствует владению имуществом и получению суверенитета. Предприятия и люди внутри страны подчинены плану, воле государства, а за границей покупатели и продавцы в то же время действуют в соответствии со своими интересами и предпочтениями. Установление границ имеет, таким образом, жизненно важное значение. Плановики не любят зависеть от решений, не укладывающихся в их почти всегда предусмотренные установки. Аннексия исключает непредвиденность, она дает возможность поставить национальные кадры на посты управляющих, перевести в государство-победитель имущество, изъятое у граждан государства побежденного. Теоретически, плановая экономика усиливает мотивы расширить суверенную территорию.
Т. Веблен полагал, что современная система производства была сама по себе мирной, но предприниматели, коммерсанты, корпорации, движимые желанием прибыли, были инициаторами конфликтов и должны нести ответственность за войны. Он не учитывает, что сама система производства не определяет ни какие блага производятся, ни как распределяются общие ресурсы между различными отраслями или доходы между классами. Эти чисто экономические отношения могут происходить или на основе рыночных механизмов (более или менее контролируемых и направляемых государством), или в соответствии с планом, в той или иной степени подверженном влиянию социальных факторов.
Если принимать первый вывод, то побуждение к экспансии или протекции исходит из “частных интересов”, амбициозных или угрожающих. В случае неуспеха в коммерческой сфере некоторые авторы мобилизуют против конкурентов общественное мнение или государство. ■>338
Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
Даже если игроки принимают все правила игры, действия, которые влекут потерю рабочих мест или доходов капиталистов, вызывают у публики горечь и отвращение, которые могут повлиять на дипломатическое руководство страны. Подобный режим все же является менее опасным для отношений между государствами, тем более, что правители способны действовать согласно обстоятельствам в течение длительного времени, и не пугаться временных трудностей, которые неизбежно время от времени возникают в коммерческой деятельности и приносят определенные потери.
Если принять второе положение, то основную переменную составляет политический режим и люди.
Показатели роста экономики, определенный удельный вес инвестиций в национальном продукте являются целью решений, принимаемых плановиками, т. е. руководителями государства. Можно опасаться того, что государства, если они считают себя втянутыми в соперничество, распространяют на экономику традиционное состязание военных действий. Но если представить себе, что все человечество перешло к социализму, то можно принять планирование для повышения благосостояния населения или замедления экономического роста.
Итак, ни один режим, капиталистический ли он или социалистический, не делает войну неизбежной, но и не уничтожает все ее причины Сложно также абстрактно уточнить, какой из этих двух режимов более благоприятный или более противоречащий установлению порядка Но, нет сомнений в том, что потрясение режимов внутри международной системы умножает причины и приближает конфликты. Советский Союз не имеет никакой необходимости завоевывать новые территории, чтобы улучшить условия жизни народа. Советские граждане легко приспосабливаются к выживанию в условиях капитализма в других частях света. Так называемый марксистско-ленинский строй, основанный на абсолютной власти одной единственной партии и государственной доктрине, не ориентирован на экспансию не только по экономическим причинам, но и в соответствии со своей политикой и идеологией. Необходимость, как правило, неотделима от обстоятельств: восстания и революции в мире подвержены влиянию советской модели. Но эта модель проистекает из образа жизни и образа мыслей большевиков, предводителей и воинов. Политические сражения, по своей сути, всегда продолжительны, и международные отношения постоянно рассматриваются как подражание борьбе между партиями, которая может быть воинственной до полного распространения какой-либо идеи.
Всякая большая идеократическая держава, каким бы ни был ее экономический режим, является империалистической, если попытки распространения ее основополагающей идеи и навязывание за пределами страны образа своего правительства проводятся силой. Во всяком случае, подобные действия кажутся империалистическими тем государствам, которые хотят сохранить собственные институты власти, даже когда идеократическая власть естественно предпочитает ниспровержение наступлению и присваивает себе право на аннексию народов, которых она обращает в свою веру. Крестоносцы никогда не становились посланца мира. Но в нашу эпоху они нарисовали голубя мира на своем гербе
Мир и война между народами • Раймон Арон
339
Часть II
ГЛАВАХ
Народы и режимы
В предыдущих главах мы проанализировали факторы, которые непосредственно определяют силу и мощь политических сообществ и формируют представление о ситуации в таком виде, как ее воспринимают участвующие в событиях лица и институции. Территория, ресурсы и численность — таковы возможные причины конфликтов и, вместе с тем, цели тех, кто управляет политическими сообществами. Эти цели могут одновременно быть подспудными причинами того или иного коллективного поведения. Соотношение между территорией, численностью и ресурсами определяет для каждой эпохи свой оптимум благ или мощи. А при некоторых обстоятельствах неблагоприятно сложившееся в данный момент соотношение, возможно, как раз и вызывает воинственный импульс у народов и дает повод победителям для более или менее искреннего самооправдания.
В следующих трех главах мы рассмотрим не факторы, определяющие ситуацию, а способы и образы бытия и активности действующих лиц и институций, то есть субъектов дипломатической истории, которых мы назвали политическими сообществами. Здесь нам придется также высказать свое мнение и дать оценку второму типу объяснения войн. Мы не будем говорить о непререкаемом детерминизме нужд или потребностей, о вечной жажде золота или других богатств, а сосредоточимся на критическом подходе к таким понятиям как “вечная Германия“, “деспотический, коммунистический или демократический режим“1, на гипотезе о некоей фатальности в становлении и развитии цивилизаций и, наконец, на теории о человеческой природе, начинающей и завершающей историю самого человека. В этой главе мы начнем с обзора политических режимов (1), затем перейдем к национальным константам (2), чтобы вернуться, через посредство понятия народа или нации, рассматриваемой как исторический тип политического сообщества (3), а также анализируя разнообразие военных организаций (4), к обстановке нашего времени, характеризуемой чрезвычайной разнородностью как государств, так и способов их борьбы.
1. Политические режимы
В качестве исходного пункта я возьму вопросы, которые с 1945 г. не перестают волновать исследователей внешней политики: является ли внешняя политика Советского Союза русской или коммунистической? В самом ли деле она подвержена влиянию идеологии, как это открыто провозглашается революционным государством? В более общем виде вопрос ставится так: является ли в ту или иную конкретную эпоху поведение действующих лиц функцией (и если да, то в какой мере) политического режима?
Все политические режимы какойлибо эпохи, определяющие и организу1 В главе о ресурсах мы уже затрагивали проблему такого типа, когда говорили о марксистсколенинской теории империализма.
340
Раймон Арон • Мир и война между народами
ющие тип общества, обязательно имеют общие черты. Но они также и различаются методом и способом выдвижения на свои посты тех, кто исполняет задачи и обязанности суверенной власти, различаются манерой и стилем, в каких принимаются решения, и, следовательно, различаются соотношением и отношениями, которые устанавливаются между, с одной стороны, индивидами, общественным мнением, социальными группами, а с другой — теми, кто властвует и управляет в обществе. Одни и те же люди не приходят к власти при всех режимах, они не действуют в одинаковых условиях и не подвергаются одинаковому давлению. Постулировать, будто одинаковые люди в разных обстоятельствах или разные люди в одинаковых обстоятельствах принимают равноценные, эквивалентные решения, — думать так, значит придерживаться странной философии, заставляющей принять одну из двух следующих теорий. Либо дипломатия жестко детерминируется безличностными причинами, а индивидуальные деятели хотя и выходят на авансцену, но играют роли, выученные наизусть; либо поведение политического сообщества должно подчиняться некоему “национальному интересу”, поддающемуся рациональному определению, а всякие перипетии внутренней борьбы и смены режимов не в силах (или не должны) изменить или видоизменить это определение.
Было ли у Сталина такое же видение мира и истории, как у Николая И? А непосредственный преемник последнего, имел ли такое же видение, что и большевистский профессиональный революционер, вышедший победителем из битвы новых диадохов? Было ли у Гитлера такое же видение германского будущего, как у Штреземана или Брюнинга? Разве лидер Социология
какой-нибудь демократической партии или кто-нибудь из Гогенцоллернов бросил бы Германию на штурм западных демократий и Советского Союза, действуя в стиле фюрера третьего рейха?
Зачем все эти риторические вопросы спросит читатель. Ведь ответ со всей очевидностью будет отрицательным: стратегия и тактика Гитлера были иными, нежели стратегия и тактика Штреземана или какого-нибудь отпрыска прусского короля. Под стратегией я понимаю долгосрочные цели и, вместе с тем, определенное представление об исторической “вселенной”, которое более или менее объясняет выбор этих целей. Под тактикой я понимаю повседневные реагирования на события и факты и комбинацию средств и способов, необходимых д ля достижения предварительно установленных целей. Утверждать, что стратегия и тактика политического сообщества (национального или имперского) остаются постоянными независимо от какого бы то ни было режима — это просто-напросто абсурд. В этом смысле совершенно бесспорно утверждение, что дипломатия Советского Союза есть дипломатия коммунистическая, а не русская. Во всяком случае, если ктото берется это отрицать, пусть попробует доказать свою правоту.
Истинная проблема возникает, так сказать, по ту сторону такой очевидности. До какой степени внешняя политика меняется вместе со сменой режима? Сразу же заметим: речь идет не о теоретическом, а о фактологическом подходе. Ответ зависит, очевидно, от времени и обстоятельств. В наше время перемена строя почти всегда влечет за собой дипломатическую сумятицу, и на внешние акции государств идеология воздействует не меньше, чем на внутреннюю организацию общества в этих государствах.
Мир и война между народами • Раймон Арон
341
Часть II
Возьмем два примера: третий рейх и Советский Союз. Гйтлеровская авантюра воодушевлялась философией, в которой были перемешаны теории самого разного происхождения: расистская теория ГЬбино и Хьюстона Чемберлена, геополитическая теория Маккиндера и Хаусхофера, презрение к славянам как “недочеловекам” (Untermenschen), ненависть к евреям, проклятой расе, подлежащей истреблению, как уничтожают вредоносных животных, нужда в пространстве для заселения к востоку от Западной Европы, отвращение к христианству, этой семитской религии слабых, и т. д. В 1930 г. ни один политический деятель Веймарской республики и в мыслях не допускал, что произойдет нечто подобное тому, что совершенно открыто начал Гйтлер в 1933 г. и продолжал в последующие годы: перевооружение, аннексия Австрии, ликвидация Чехословакии, разгром Франции, агрессия против Советского Союза и т.д.1 Некоторые из этих целей были общими и у Пгглера, и у немецких консерваторов (расширение пространства), другие были общими для наибольшей части немецкого общественного мнения (равенство в правах, перевооружение, аншлюсе). Ни ностальгия по имперской Германии, ни партии Веймарской республики не были питательной средой для столь обширных амбиций, внушенных своеобразным миропониманием.
Но скорее не стратегию, а тактику, можно, наверное, назвать специфически и сугубо гитлеровской. Она глубоко отличалась от традиционной или демократической тактики, потому что представляла собой применение на международной сцене тех методов, которые были испытаны и опробованы в ходе внутренних баталий. А расширенная стратегия, если воспользоваться этим словосочетанием, которое было модным лет двадцать назад, заключала в себе постоянную работу пропаганды, которая дополняла и обновляла классические способы и приемы дипломатии. В первый период гитлеризма инструментом успеха был “вызов”. Вместо того, чтобы склоняться перед волей сильнейшего в соответствии с практикой кабинетной дипломатии, Гйтлер действовал так, как будто именно он был хозяином в игре, и буквально подстрекал своих противников применять в мирное время силу, чтобы его сдержать или заставить отступить.
Документ, в котором не очень глубоко вникающие в суть дела наблюдатели усматривают, что ни сталинская, ни гитлеровская дипломатии не были идеологическими, а именно герм ан о-русский пакт 1939 г. является, если его правильно интерпретировать, свидетельством прямо противоположного или, по меньшей мере, доказательством того, как режимы, в нашу эпоху, влияют на ход событий. И в самом деле, режим, аналогичный Веймарской республике, или тот, который стал производным от царизма примерно образца 1900 г. не мог бы в один прекрасный день так круто изменить свою пропаганду. Правда, Веймарская республика заключила Рапалльский договор, а рейхсвер начал испытывать виды вооружений в сотрудничестве с Красной Армией. Некогда короли и императоры показали пример раздела Польши. В XX же в. дипломатия всех нереволюционных режимов утратила способность к цинизму, проявленному в 1 Я не утверждаю, что еще в 1933 г. Гитлер знал всю последовательность этапов своего предприятия. Но он знал, чего он хочет добиться: победы над Советским Союзом, расширения германского пространства.
342 ’ -
Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
1939 г. Сталиным и Гйтлером. Дипломатия европейских государств, как консервативных, так и парламентских, будучи вынуждена как-то и в чем-то убедить общественность в том, что союзники хорошие и добрые, а их противники плохие и злые, оставалась весьма скромной в своих дальних целях и была довольно ограничена в каждый данный момент в свободе маневра. Лишь режимы, где правители имеют пусть кратковременную, но зато почти полную свободу по отношению к своей общественности, могут сжечь то, чему поклонялись, и поклоняться тому, что сжигали, и при этом подданные не очень волнуются по такому поводу. Одни из них не верят никакой пропаганде, другие — верят в истинность и правду каждого момента, третьи — признают необходимость уловок и хитростей со стороны своих хозяев.
При такой логике рассуждений можно высказать следующую мысль: дипломатическая тактика тем более гибка, чем более авторитарны режимы, то есть чем менее правители подвергаются нажиму разного рода групп и мнений. В свою очередь, цели дипломатии варьируются вместе с режимами и определяются тем более строго и четко, чем более идеологизированным становится режим. Однако эти два предположения суть лишь вероятности, они не очень поучительны и нуждаются в определенной корректировке. Говорить, что тактическая гибкость прямо пропорциональна свободе действий правителей, — это значит, скорее высказать некий трюизм, а не формулировать закон. Если же правители искренне верят, что история будет развертываться по заранее намеченному ими плану, они просто вынуждены представить свой план как результат пророческого видения событий. Но из этого вовсе не следует, что те или иные конкретные решения не затрагиваются идеологией или что стратегия всегда остается одной и той же и неуклонной.
Возьмем, к примеру, действия и поведение советской дипломатии. В целом она действительно гибка в тактике и постоянна в целях в соответствии со специфическим для нее мировосприятием. Комментаторы, склонные отрицать воздействие на нее идеологии, любят подчеркивать, что большинство советских решений могут быть истолкованы в терминах, именуемых рациональными, то есть в понятиях соотношения сил. Акт с третьим рейхом отбрасывал войну к западу, что соответствовало национальным интересам так сказать, любой России. Подчинение Москве стран Восточной Европы создавало защитный пояс и одновременно отвечало традиционным амбициям панславизма. А конфликт с Соединенными Штатами соответствует всем прецедентам, созданным, так сказать, геометрией соотношения сил: обе великие державы в двухполюсной системе являются противниками по самому своему положению. Такое понимание не ошибочно, но оно лишь частично отражает истину и может ввести в заблуждение.
Контраст между негибкостью стратегии и гибкостью тактики не объясняется исключительно идеологическим характером первой и неидеологическим — второй. Идеология советского государства такова, что она терпит, а порою даже вызывает к жизни тактическую гибкость. Марксистско-ленинское видение истории по сути сводится к представлению о последовательной смене режимов: на смену капитализму идет соМир и война между народами • Раймон Арон
343
Часть II
циализм, который определяется как власть коммунистической партии, ассоциирующейся с пролетариатом. Но уровень развития производительных сил не фиксирует и не определяет однозначно порядка, по которому различные страны приходят к социализму. Процесс перехода к социализму может быть внутренним или внешним, он может быть результатом кризиса, войны, государственного переворота или вмешательства Красной Армии. Наконец, после создания первого, так называемого социалистического государства, войны могут противопоставить друг другу либо капиталистические государства, потому что они обречены быть империалистическими, либо социалистический лагерь и лагерь капиталистический, причем в конечном счете неизбежна победа первого из них.
Каков бы ни был ход событий, им все же можно дать некоторое объяснение, или, вернее, некоторое теоретическое оформление. Находятся ли между собой в ссоре или распре Соединенные Штаты и Великобритания? Предположить такое вполне логично, поскольку обе страны являются экономическими соперниками. Пребывают ли англо-саксы во взаимном союзе? Об этом даже не стоит много распространяться: противоречие трансформируется в тесное сотрудничество. Был ли пакт Советского Союза с третьим рейхом продиктован случайными обстоятельствами? Нет, в свое время ораторы и пропагандисты праздновали встречу двух революций. Присоединился ли тот же самый Советский Союз к западным демократиям опять-таки в силу обстоятельств? Нет, просто большевизм снова стал братом социал-демократии в обширной семье левых сил. Были и остаются вероятными поочередные войны между империалистическими странами и между социалистическими и капиталистическими странами.
Однако конечная цель стратегии часто представляется неясной и двусмысленной. Стратегическая цель Гйтлера — германская империя на расширенной территории — была определена вполне конкретно. Стратегическая цель Советского Союза не столь конкретна. Это не зависит от того, идет ли речь о распространении на весь мир режима, который власти в Москве окрестили социалистическим (власть одной партии, заявляющей, что она представляет пролетариат, и т. д.), или идет ли речь о всемирной империи Советского Союза или коммунистической партии (большевиков). Обе формулы эквивалентны друг другу лишь при условии, что будет сохраняться и поддерживаться единство социалистического лагеря. В конце концов война уже больше не является неизбежным этапом на пути к всемирной победе социализма.
Так что же, разве надо соглашаться с теми, кто отрицает влияние идеологии на политику и приписывать лишь институциям (формам и способам принятия решений) проведение определенной политики в зависимости от различия режимов? Даже на примере Советского Союза видно, что отвечать утвердительно на этот вопрос было бы ошибкой. В годы второй мировой войны большевистское мировосприятие не позволяло советским руководителям верить в длительность и подлинность альянса с западными демократиями. Осознание враждебности даже в момент сотрудничества диктовалось доктриной. Русско-американское соперничество было вписано в геометрию соотношения сил: эмоциональная 344
Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
неприязнь была умножена, или даже создана, идеологическим противостоянием. Больше того, в обоих случаях, то есть с обеих сторон, доктринальные соображения повлияли на самый подсчет и расчет соотношения сил и на определение национальных интересов.
Политика, которую называют реалистичной, нацелена на уменьшение ресурсов противника, действительного или потенциального, на увеличение ресурсов союзников, на привлечение на свою сторону нейтральных государств. Сталин посчитал Югославию врагом сразу же, как только та отказалась подчиняться директивам Москвы. Мыслима ли была русско-югославская ссора, если бы до этого оба государства не провозглашали себя приверженцами одной идеологии? Почему Хрущев упрямо не опасался Китая и помогал его индустриализации, хотя Запад неустанно внушал ему мысль об угрозе со стороны желтых масс, “бесчисленных и нищих”?1 Согласно коммунистической философии мироустройства, одно социалистическое государство не представляет опасности для другого: аргументы, касающиеся территории и численности, не убеждают и не могут убедить всецело верующего в марксистско-ленинское евангелие. Так как же расчет соотношения сил не будет зависеть от режимов, поскольку каждый из них, в соответствии со своей собственной доктриной, по-своему оценивает своих друзей и врагов?
Фактически, как мне представляется, Советский Союз вел себя поочередно по отношению к Гитлеру, к своим союзникам времен войны, к сателлитам, к Соединенным Штатам и ведет себя сегодня по отношению к Соединенным Штатам и Китаю так, что поведение его можно понять лишь с учетом образа мышления, неотрывно связанного с неким идеологическим построением1 2.
Можно ли сформулировать некоторые общие положения относительно важности перемен, которые привносятся в дипломатию сменой режимов? При первом взгляде на такие вещи появляется искушение считать, что всякая революция имеет тем более значительные дипломатические последствия, чем более важную роль в ней играют ее лидеры. Всякий способ проведения внешней политики, по необходимости, выражает какую-то долю приспособления к обстоятельствам. Влияние приспособления тем больше, а доля инициативы тем меньше, чем меньшую роль играют персоналии или институции, или иначе говоря, чем меньшими силами они располагают.
Однако такое суждение требует оговорок. Какое-либо государство второго разряда, уже только поэтому, не определяет ни главных событий, ни стиля дипломатического соперничества. Успех Гитлера, а не Муссолини изменил курс европейской истории. Однако внутри какой-нибудь неоднородной системы перипетии межпартийных конфликтов в рамках отдельных государств способны повлечь за собой переход целого государства из одного лагеря в другой или же от вовлеченности в какой-либо из лагерей к нейтралитету. Хотя “нацио1 Вспомним, что это выражение принадлежит генералу де Голлю.
2 Даже в тактических вопросах можно наблюдать некоторые особенности и регулярности, характерные именно для московских руководителей. См.: Leites N. The operational code of the politburo. New York, 1951.
345
Мир и война между народами • Раймон Арон
Часть II
нальный интерес” малых государств, как правило, чужд идеологическим соображениям, но в неоднородной системе он неотделим от них. В 1960 г. никто не мог бы определить национальный интерес Франции без учета конъюнктуры, при которой приходится делать выбор между режимами.
Для того чтобы теория малозначимости характера режимов приняла хоть какой-нибудь вид правдоподобия, нужно вообразить некую дипломатическую систему, действующую на территории, границы которой четко определены за многие века, притом систему сравнительно однородную, где все действующие лица подчиняются одинаковым не писаным правилам дипломатии и стратегии. Географическое постоянство дипломатического поля определяет линии экспансии различных государств. В конце XIX века, когда великие державы ассоциировались и прямо совпадали с европейскими государствами и когда они — республиканские ли, царистские ли—завязывали между собой связи в стиле умеренного кабинетного макиавеллизма, безразличие всех этих кабинетов к идеям и характерам режимов считалось идеалом, в общих чертах достигнутым благодаря прогрессу цивилизации. Надо страдать очень и очень странной разновидностью слепоты, чтобы превращать в вечный образец схему дипломатии всего лишь одной определенной эпохи.
2. Национальные константы
Помимо всех этих констатаций, распространяться далее о которых в общем-то бесполезно, если только какиенибудь авторы не станут упрямо их отрицать, встает действительно существеннейший вопрос, а именно — вопрос о национальных константах. Остается ли в своей основе одним и тем же на протяжении истории “национальный интерес” того или иного сообщества?
В одной из предыдущих глав мы показали, почему “национальный интерес” не может быть предметом рационального определения. Если экономист, не колеблясь, ставит перед собой целью нахождение некоего максимума (материальных благ, национального продукта, прибыли), то это потому, что экономическая наука есть наука лишь о средствах и способах достижения чего-либо. Экономист не говорит людям или коллективам, как именно они должны распорядиться своим достоянием (притом последнее определяется лишь как производное от потребностей и желаний). Если бы социолог мог вразумительно объяснить, что же такое в конце концов национальный интерес, он был бы способен диктовать государственным деятелям манеру и содержание их поведения, делая это от имени науки. Ничего подобного не происходит. Необходимость максимизации сил не выступает со всей своей очевидностью, поскольку максимизация предполагает предоставление в распоряжение государства как можно более значительной части ресурсов того или иного коллектива: но зачем людям быть средством обеспечения государственного величия, а не наоборот? И получается, что задача максимизации мощи во чтото упирается, ибо человеческие свойства не могут быть обобщены и составить единую силу, способную в отличие от лиц индивидуальных или коллективных принудить к чему-либо других людей. Короче говоря, множествен346 Раймон Арон • Мир и война между народами
ность целей, которые может ставить перед собой политическое сообщество, двойственность, по существу, между мощью, направленной вовне, и общим благом (единство и сплоченность города-полиса или единая мораль граждан) превращают национальный интерес всего лишь в цель поиска, а не в критерий практического действия.
Не отказываясь от такой аргументации, можно все-таки задаться вопросом: не является ли подобная неясность и неуверенность скорее теоретической, нежели практической? Ведь, строго говоря, не существует никакого “коллективного интереса”, который можно было бы определить научно. Разве экономисты фактически и в общем-то не согласны между собой относительно того, что же такое коллективный интерес, хотя они далеко не всегда единодушны в вопросах о средствах и способах его обеспечения? Точно таким же образом, разве так уж трудно понять, что такое “национальный интерес”на практике, если для этого достаточно обратиться к реалистичным расчетам дипломатов и стратегов? Однако я считаю такие аргументы абсолютно неправомерными: неопределенность остается и практической, и теоретической.
Что касается экономики, то обращение к фактору времени лишь добавляет лишнюю неясность к тем вопросам, которые сопряжены с переходом от индивидуального интереса к интересу коллективному. И теперь не так уж важно выяснять, оплачивается ли обогащение одних жертвами со стороны других. Хотя экономический рост и влечет за собой обеднение, по меньшей мере временное, некоторых групп и индивидов, все же он стремится к некоей средней величине, к улучшению участи всех и даже способСоциология
ствует смягчению неравенства. Но, если мы введем фактор времени, то какойнибудь государь и его советники должны будут в каждый момент устанавливать баланс между повседневными нуждами потребления и требованиями накопления. Нет никакого резона, понуждающего предпочитать будущие поколения нынешним, и наоборот. Но все же не существует как такового оптимума темпов роста. Противостояние советской и западной экономик, споры и противоречия внутри западного мира относительно сравниваемых между собой темпов роста доказывают, что неясность и двусмысленность коллективного интереса имеет политическую и историческую окраску.
Если, вместо того чтобы наблюдать какое-либо сообщество глобально, сосредоточить внимание на условиях существования отдельной группы внутри политического сообщества, то можно обнаружить, даже в чисто экономическом ракурсе, совсем другой источник неясности. С экономической точки зрения, класс предположительно считающийся сплоченной группой, заинтересован в получении наибольшей доли национального дохода. Но не может ли он получить еще больше при каком-нибудь другом режиме? Так что же, надо ли определять интерес непривилегированного класса в рамках существующего режима или предпочтительно делать это в рамках другого режима? Перед теми, кто хочет изменить существующий порядок, встает альтернатива — реформы или революции. Но ничто не дается безвозмездно. Выбирая революцию, класс чаще всего теряет те преимущества, которых мог бы добиться, не выходя в своих действиях за рамки уже установленного режима.
Такая экономическая неопределенМир и война между народами • Раймон Арон
л 347
Часть II
ность и неуверенность имеет свой эквивалент в политической сфере. Мобилизация государством значительной части ресурсов уменьшает (как правило) долю инвестируемых ресурсов, то есть ресурсов, предназначенных для увеличения национального продукта. Открытая мобилизация сил сдерживает рост скрытых, потенциальных сил. Стоимость большой армии в мирное время, когда эта стоимость не может быть компенсирована приобретением территорий и ресурсов, сравнима с потреблением: последнее всегда сокращает накопляемый доход, “вычитается” из него. Альтернатива вооружения или инвестирования выступае'г как форма другой альтернативы — потребления ресурсов нынешними поколениями или инвестирования их во благо поколений грядущих.
Рост сил, в результате внутреннего развития или завоеваний, можно также сравнить с обогащением какого-то одного класса внутри определенного сообщества. Такой рост не может продолжаться выше некоторой точки, иначе он вызовет различные реакции, которые его аннулируют (по крайней мере, в рамках той или иной дипломатической системы). В этом случае другие сообщества начинают чувствовать угрозу и, образуя между собой коалицию, стремятся уравновесить диспропорцию сил, созданную непомерным ростом возможностей какого-то одного сообщества. Быть может, существует некая оптимальная точка для отдельно взятого сообщества — точка, когда сообщество располагает таким максимумом сил, который остается совместимым с терпимостью его соперников. Но даже если такая точка и существует теоретически, государственные деятели не считают нужным брать ее в расчет, определяя свои цели: зачем отказываться от стремления к величию, пусть и чреватому угрозой для безопасности, если безопасность сопровождается посредственностью и усредненностью?
Подобно тому, как непривилегированный класс возлагает свои надежды на революцию, а не старается как-то приспособиться к судьбе, уготованной ему существующим режимом, так и государство стремится к успеху любой ценой, заранее приемля враждебность со стороны его соперников. Оно ставит свой целью создание иной системы или радикально иной конфигурации соотношения сил. Объединение германских государств, поглощение рейхом Австрии и Судетов не могли не сблизить между собой русских и англо-саксов. Так что же, разве это означало, что национальный интерес Германии (притом какой Германии, позволительно спросить) заключался в том, чтобы отказаться от общих обширных проектов?
Наконец, максимизация сил и мощи какого-либо сообщества еще далеко не означает соответствующего рационального императива для всех индивидов, членов этого сообщества, даже если по поводу такой максимизации не последует никаких неблагоприятных реакций. Разве безумными были те немцы, которые желали разгрома третьего рейха? Так называемые очевидные вещи, то есть, что каждый патриот должен желать своей стране самой обширной территории, самых лучших границ, самой великой мощи — все это довольно редко чувствуют и переживают люди на протяжении многих веков. Католики и протестанты поставили свои церкви выше своих суверенов. Эмигранты с чистой совестью бились против армий Революции. Третий рейх набирал в ряды своей армии подлинных добровольцев — бойцов против 348 < Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
коммунизма; правда, их было гораздо меньше чем активистов, борющихся во всех пяти частях света за торжество революции, которую воплощает Советский Союз.
Почему же так часто забываются эти бесспорные факты? Почему приоритет, отдаваемый народам, нациям, а не режимам, расценивается как глубокое философско-историческое понимание, когда соответствующие статьи и книги выходят из-под пера историков (Трейчке), комментаторов (Уолтер Липпман) и государственных деятелей (Шарль де Голль)? Мы же прежде всего еще раз напомним о фактах, уже неоднократно ранее отмеченных нами.
Не что иное, как место на карте заставляет дипломатию и стратегию какого-либо данного государства принять ориентиры, имеющие шанс быть длительными или даже постоянными. И чем более четко их можно обрисовать чисто физическими понятиями, тем более долгосрочны такие ориентиры. А чем более стабильна дипломатическая система, тем меньше они меняются даже в случае смены режимов. Великобритания, использовавшая островное положение, чтобы не допустить какую-либо гегемонию на европейском континенте, а за морями и океанами создать торговую империю, внушила наблюдателям и соперникам, особенно задним числом, будто эта страна действует согласно застывшей и неподвижной доктрине, которую не поколеблют никакие перипетии внутренних битв и междоусобиц. Россия прямо-таки должна была испытывать искушение выйти к свободным морям, а Германия, не имея ясно выраженных физических границ, — затевать экспансию поочередно на восток, запад и юг. Надо еще вспомнить и о том, что Советский Союз никогда не проявлял такого же интереса к Стамбулу, какой проявляла к Константинополю царская Россия, наследница Византии. В зависимости от режимов, государства по-разному оценивают значение того или иного города или провинции. В зависимости от военной техники варьируются стратегические приоритеты. В конечном итоге не территория, а соотношение сил выступает определяющим фактором при реалистичных расчетах. Определенная константа в национальной политике — это производная от константы, которая складывается из пространственной конфигурации соотношения сил и целей какого-либо данного политического сообщества, как бы неподвижного и стабильного внутри такой конфигурации.
Тем не менее эту константу можно интерпретировать и иначе. Разве французы не оставались всегда французами, когда бывали крестоносцами, солдатами короля или санкюлотами? Разве немцы не оставались всегда немцами, будь то германцы, описанные Тацитом, или национал-социалисты Гитлера? Национальные стереотипы в форме, какую они приобретают в военное время, не заслуживают научного анализа. Но уместно задаться таким вопросом: в какой степени особенности национального характера влияют на дипломатическое и стратегическое поведение государства? В какой степени константа этого поведения свидетельствует в пользу предположения о постоянстве данного характера?
Мы не собираемся давать здесь развернутое критическое описание самого понятия национального характера. Мы ограничимся несколькими замечаниями, необходимыми для дальнейшего уяснения проблемы, составляМир и война между народами • Раймон Арон : / 349
Часть II
ющей нашу тему, а именно — проблемы возможного влияния “национального характера” на дипломатическо-стратегическое поведение.
Сама концепция характера лежит в психологической, а не в биологической плоскости. Она используется при изучении способов и манер реагирования независимо от того, определяются ли они врожденными или приобретенными чертами характера. От характера зависит, как конкретный индивид испытывает и проявляет чувства, желания, страсти. Один индивид быстро приходит в состояние гнева, другой всегда спокоен, один счастлив в одиночестве, другой одиночество ненавидит, один всегда неудовлетворен, всегда ищет либо развлечений, либо продвижения в карьере, другой удовлетворяется той жизнью, какую предоставляют ему обстоятельства. Понятие характера находится где-то между понятиями темперамента — термина для обозначения физических и физиологических данных — и личности, которая представляет собой частично произвольную конструкцию, основанную на темпераменте и на накопленном жизненном опыте.
Психоаналитики усматривают в характере — в этой кристаллизации, никогда не окончательной, особого, частного способа реагирования — совместный результат наследственности и первых лет жизни человека. Другие психологи уменьшают влияние наследственности, третьи, наоборот, уменьшают значение первых лет жизни. В предельном, так сказать, случае те, кто вообще отрицает какой-либо вес природных данных и возводит в абсолют свободу чувств и их проявлений, истолковывают характер как алиби для покорности или трусости: такой-то индивид оправдывает рассеянностью свою неаккуратность и необязательность, а свои супружеские измены объясняет потребностью в переменах. Но даже и в этом случае характер не исчезает: он остается законом поведения, который хорошо заметен окружающим и который каждый из нас вырабатывает в себе путем собственного выбора, а субъекты этого выбора непрестанно чередуются.
Если применить такой подход к коллективу, то сразу возникает трудность в определении. Является ли характер народа, нации, прямой функцией от числа индивидов, которые в данном сообществе обладают сходным характером? Или же такой характер стоит выше индивидуальных психологических свойств и находится на том уровне, который антропологи называют культурой? Каждый коллектив имеет собственную иерархию ценностей и собственное представление (или несколько представлений) о жизни, достойной подражания. Каждый воспитывает своих детей на свой лад, их учат в семье, школе, во всяких общественных организациях и заведениях “как надо” вести себя. Правила приличия меняются от страны к стране, а в одной и той же стране от века к веку. Выражение извечных желаний, любви честолюбия несет на себе печать тех или иных культур. Будет ли число раздражительных или амбициозных людей постоянным или оно варьируется в зависимости от рас и народов, все равно люди в той или иной форме выражают свой гнев или амбициозные устремления и не воспринимают одинаково мир или соперничество, чувствительность или безразличие к перспективе властвования на каком-нибудь уровне.
Дипломатическо-стратегическое поведение принадлежит к тому типу ре350
Раймон Арон • Мир и война между народами
акций, которые могут определяться психологическо-культурным наследием той или иной группы людей. Монтескье и Токвиль, пользуясь обыденным языком и не применяя так называемых научных методов, дают нам, как мне представляется, хорошие примеры “импрессионистского" толкования национального характера и дипломатии, которая ими определяется.
“Дух народа", о котором говорит Монтескье, есть понятие столь же расплывчатое, что и понятие национального характера, но, быть может, оно более предпочтительно, потому что делает упор на культуру и историческое наследие. “Многие вещи управляют людьми: климат, религия, законы, прописные истины, изрекаемые правителями, нравы, обычаи; из всего этого складывается общий дух.”1 Французский народ не родился таким, каков он есть теперь, а стал таким вследствие пережитых событий, медленно и долго приобретаемых привычек, способов правления и властвования над ним. Будучи скорее результатом, чем истоком, дух народа несколько проясняет его судьбу, если рассматривать ее как единичную и особую, но тем не менее его надо упорно изучать; хотя он помогает кое-что понять, но сам нуждается в объяснении. Обобщая, Монтескье приписывает какому-нибудь народу идиосинкразию по отношению к другим нациям, своеобразную повышенную чувствительность к тем или иным вещам и объясняет ею типическую для данного народа дипломатию: “Англия..., в высшей степени дорожащая своей торговлей, мало связывает себя договорами и подчиняется только собственным законам. Если другие народы пожертвоваСоциология
ли интересами торговли ради интересов политических, то она всегда жертвовала политическими интересами ради торговых"* 2 . В этом его высказывании в общем-то отсутствует понятие характера в его психологическом смысле. Речь у него скорее идет о привычке, постепенно превращенной во вторую натуру географическим положением и опытом веков.
Портрет французского народа конца королевского режима и Революции представляется мне несколько бравурным, но он дает верно подмеченный Токвилем образчик национальной константы определенного типа. “Когда я рассматриваю этот народ сам по себе, я нахожу его более экстраординарным, чем любое из событий его истории. Появился ли на земле хотя бы один другой такой же народ, который был бы так полон всяческих контрастов и доходил бы до крайности в каждом своем действии, ведомый больше чувствами, чем принципами, всегда совершающий поступки, гораздо более худшие или гораздо более лучшие, чем можно было ожидать, находясь то выше общего уровня человечества, а то и ниже; народ, настолько постоянный в своих главных инстинктах, что облик его можно узнать в свидетельствах о нем двух- или трехтысячелетней давности, и в то же время настолько быстрый и подвижный в своих ежедневных мыслях и вкусах, что он в конце концов сам себе являет неожиданное зрелище и часто бывает удивлен не меньше, чем чужестранец, видом того, что он только что совершил; народ самый домовитый и самый неподатливый на новшества из всех народов, когда его предоставляют самому себе, но готовый дой‘Esprit des lois, XIX, 4.
2 Ibid., XX, 7.
Мир и война между народами • Раймон Арон
351
Часть II
ти до края света и осмелиться решительно на все, если его вдруг оторвут вопреки его воле от его жилища и привычек: народ непокорный по темпераменту, но однако лучше прилаживающийся к имперскому произволу и даже насилию со стороны какого-нибудь государя, чем к упорядоченному и свободному правлению заслуженных сограждан; сегодня яростный противник всякого послушания, завтра служитель, притом с такой страстью, какая недоступна народам, казалось бы, имеющим дар служения и подчинения; народ, ведомый некоей нитью, и с пути никто его не собьет, но становящийся неуправляемым, как только увидит гденибудь пример сопротивления, которому сразу принимается подражать; народ, всегда вводящий в заблуждение своих хозяев, которые опасаются его либо слишком сильно, либо слишком слабо; народ слишком свободный, чтобы отчаиваться и прислуживать, и никогда не прислуживающий до такой степени, чтобы он не смог скинуть надетое на него ярмо; народ, способный ко всему, но особо блещущий талантом лишь в войне, больше любящий азарт, силу, успех, блеск и шум, чем истинную славу; народ, более способный быть героическим, чем добродетельным, и гениальным, чем здравомыслящим, умеющий вынашивать грандиозные замыслы, но не завершать большие предприятия; народ самый блестящий и самый опасный из народов Европы, самый подходящий в Европе для того, чтобы поочередно быть предметом восхищения, ненависти, жалости ужаса, но никогда — безразличия?”1
Различные соображения, касающиеся политического поведения французов, не всегда находятся на одинаковом уровне обобщения. Смесь или чередование неповиновения и подчинения — это, вероятно, наиболее долговременная и стойкая особенность, чем предпочтение цезаризма и весьма слабая склонность к “упорядоченному и свободному правлению заслуженных сограждан”. Во всяком случае вся совокупность этих характеристик позволяет придать какую-то общую форму многочисленным эпизодам французской истории, но не объясняет ни одного эпизода, взятого в отдельности. Что касается внешней политики, Токвиль выделяет две склонности: “...больше любящий азарт, силу, успех, блеск и шум, чем истинную славу... умеющий вынашивать грандиозные замыслы, но не завершать большие предприятия”. Такая характеристика позволяет считать “склонностями” как само поведение, так и определенные события. В ней подчеркивается то, что называют стилем поведения, то есть некоей константой, проходящей через все крутые повороты истории и через все трансформации в технике, технологии, верованиях и убеждениях.
Относительное постоянство “стиля” во внешней политике представляется мне действительно существующим. Но, в зависимости от конкретных случаев, этот стиль может быть близок либо к рациональному расчету, либо к психологическо-социальным тенденциям, либо к системе культуры. Воздействие экономических соображений на внешнюю политику Великобритании представляет собой кристаллизацию, затвердение 1 Alexis de Tbcquevllle L’Ancien Régime et la Révolution Paris, Gallimard, 1952. Oeuvres complètes, t II, p 249—250
s» 352 . - Раймон Арон* Мир и война между народами
привычки, сложившейся под давлением необходимости. Французское стремление к славе восходит к аристократическому наследию, наложившему свою печать на систему ценностей, а также объясняется передачей всему сообществу того самолюбия, которое всегда поддерживалось в каждом посредством состязательного, соревновательного духа, культивируемого со школьной скамьи. Дипломатия же, порою чтущая законность, а порою радикальная вплоть до требования безоговорочной капитуляции со стороны Соединенных Штатов, может быть объяснена как национальным прошлым — отказом от цивилизованного макиавеллизма европейской дипломатии, — так и комбинацией нетерпимости и отходчивости.
Эти примеры имеют лишь иллюстративную ценность. К каждому из них было бы небесполезно дать обстоятельный комментарий. Ни одно из приведенных утверждений не претендует на очевидную истину. Мы лишь хотели указать на некоторую степень познаваемости, которую дают нам ссылки на национальный характер и на природу национальных констант, существование которых мы вправе предполагать. А теперь мы сделаем соответствующие выводы.
Каковы бы ни были константы, приписываемые таким народам, как французы, немцы, испанцы, англичане, психологическо-культурологический характер никогда не бывает единственным источником дипломатическо-стратегического поведения любого политического сообщества. Это поведение слишком инструментально, оно содержит весьма значительный элемент расчета, чтобы можно было полагать, будто даже при Социология
изменении исходных данных, определяющих какую-то обстановку, один и тот же “характер” или один и тот же “дух” выражает себя в одном и том же поведении. Если взять дипломатические константы, то они определяются скорее географической, технической и политической стабильностью или повторяемостью, чем незыблемостью национальных характеров. Когда меняются обстоятельства, то неизменным остается не поведение, а только стиль, да и то, если так можно сказать, с большой натяжкой.
В понятие стиля мы не включаем ни агрессивности, ни пацифизма, ни бесчеловечности. Национальные стереотипы всегда повторяли колебания и перемены политической фортуны. Когда какоенибудь государство играло роль “возмутителя спокойствия“, то народ этого государства слыл империалистским по природе у его соседей и международной общественности. Во времена Террора повсюду в Европе говорили и кричали о жестокости французов вообще. Ни один народ не обладает монополией на свершение ужасных деяний, хотя умерщвление шести миллионов евреев и составляет по сию пору событие уникальное: в результате технической рационализации массовых убийств древняя практика убийства человека человеком превратилась в организованный геноцид.
Быть может, культура “Сабли и хризантемы”1 побуждает японский народ всегда добиваться первого места среди других народов. Такой поиск как раз и мог привести к изоляции в эпоху Токугавы, к империализму в первой половине XX века или даже к пацифизму, расцветшему после 1945 года. Возможно, система образования заставляет фран1 Название знаменитой книги Рут Бенедикт о Японии.
Мир и война между народами • Раймон Арон
353
Часть II
цузов любить славу. И эта любовь может быть удовлетворена как-то иначе, нежели битвами или расширением географических зон, над которыми реет трехцветное знамя. Русские не придерживаются агрессивной дипломатии до тех пор, пока их не запеленают, как младенцев, так, что они оказываются обездвиженными. Ни “фундаментальная личность”, ни “дух народа” не позволяют предвидеть поведение того или иного государства.
3. Нации и национализмы
Философия вносит путаницу между методом и содержанием, между постоянством расчета сил и псевдопостоянством целей и методов. Эта путаница была явной в конце XIX в., но и во второй половине XX в. она проявляет себя, хотя и формулируется туманно: нация якобы выступает на исторической сцене главным действующим лицом в каком-то смысле единственным подлинным действующим лицом, которое, во всяком случае, выражает собой завершение дел и трудов многих веков. “Нацизм уйдет, германский народ останется”. Такая формула кажется очевидной до тех пор, пока она прилагается к соседнему государству. А вот надо ли утверждать: “Коммунизм уйдет, русский народ останется или русская империя останется”? Каковы границы народа, когда уходят режимы? До сих пор мы проводили различие между политическим сообществом и режимом, но, беря те или иные примеры из нашей современности, мы косвенно подразумевали один и тот же тип политического сообщества, подобному тому как Аристотель, разбирая степень воздействия на людей разных режимов, всегда имел в мыслях греческий городполис как тип политического сообщества. Однако теперь нам придется задаться вопросом о соответствующем воздействии типов политического сообщества, как и режимов, а следовательно, проанализировать соотношения и отношения между двумя этими категориями.
Первое же обстоятельство, которое выявляется из самого факта проведения различия между внутренней и внешней политикой, — это наличие множественности социальных порядков, каждый из которых навязывается всем членам какого-либо одного сообщества. Обязательный характер норм, регулирующих существование коллектива и само разнообразие этих норм ведут к противопоставлению друг другу соотечественника и иностранца. Последний далеко не всегда бывает противником. Иногда маленькие и закрытые сообщества относятся дружелюбно, притом с любопытством или без него, к странным для них обычаям и нравам. Просто-напросто силы, связывающие индивида с его группой и взаимная несовместимость императивов, управляющих поведением разных групп, создают оппозицию между тем же самыми другим, фрагментируя человечество на, так сказать, отдельные виды или сорта.
Токвиль1 и очень многие после него подметили у некоторых индейских племен институционную диссоциацию, свидетельствующую, что это уже сложные общества. В обычное время этими племенами управляют своего рода наследственные монархи, окруженные ярко выраженным религиозным куль1 Oeuvres complètes (J. P. Mayer, ed.), t. V. p. 74.
« • î 354
Раймон Арон • Мир и война между народами
том, но если вспыхивает война, каждое племя назначает себе лидера, который руководит боевыми действиями. Такая двойственность, которую М. Дюмезиль открыл в ранней истории индоевропейских народов, а именно наличие религиозного руководителя и руководителя военного, обнаруживается уже в некоторых архаических обществах. Она вполне подтверждает и те характеристики различия, которые мы анализируем. Всякое сообщество имеет двойное определение: внутри самого себя оно определяется системой норм и ценностей, а по отношению к внешнему миру — независимостью и военным суверенитетом. Иностранец, или чужак, — это тот, биться и воевать с которым, даже не на жизнь, а на смерть, не есть преступление.
Четверть с лишним века тому назад Карл Шмитт опубликовал брошюру “Понятие политики"1, в которой утверждал что противостояние друга врагу лежит в истоке и составляет сущность политики. Эта теория, как мне кажется, исходит из того что внешняя политика занимает первостепенное место или, по меньшей мере, что всякая политика не должна определяться без ссылок на множественность сообществ. Внутри какого-либо сообщества политика не содержит противополагания друга и врага, а представляет собой порядок управления, узаконенный обычаями или убеждениями. Философская рефлексия не может и не должна изображать борьбу не на жизнь, а на смерть как основу порядка, даже если фактически, в фазе, которую Социология
называют фазой цивилизаций, коллективы часто распадаются на партии и каждая из них, в целях установления предпочитаемого ею порядка, готова считать своего противника-оппонента врагом, а иногда даже и вынуждена поступать соответственно1 2.
Философ, стремящийся в своих мыслях или деятельности способствовать созданию безупречного общества, склонен считать множественность политических сообществ преградой на этом пути. Как жить разумно, если другой, чужой, близко ли, далеко ли находящийся, в любой момент может вторгнуться в твою жизнь? Как мы уже видели, говоря о числе и численности, Платон и Аристотель пытались найти компромисс между требованиями блага и необходимостью самозащиты. Но. в идеальном случае, хорошее, безупречное общество должно быть единственным в мире, изолированным на каком-нибудь острове или отделенным от всего и вся обширнейшими пустынями. Мыслители, утверждавшие, что добродетельное общество получает за такое свое качество все блага фортуны, не проводили разницы между просто добродетелью и добродетелью политической. Иногда они даже впадали в весьма условный оптимизм, полагая, что справедливое общество уже тем самым является сильным обществом.
В течение целых тысячелетий существования цивилизаций (или сложных обществ) различие между “культурой”, то есть образом коллективной жизни, управляемой обычаями, верованиями и 1 Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen. Munich, 1932.
2 Часто случается так, что ненависть, а следовательно, и жестокость принимают наихудшие формы в отношениях между противниками, входящими в одно и то же сообщество, а не между ними и иностранцами, чужаками. Тем не менее такие противники, даже в пылу борьбы, понимают, что им предназначено жить в одном сообществе.
Мир и война между народами • Раймон Арон
355
Часть II
убеждениями, и “военным порядком” в случае конфликта с другим сообществом выражало себя в форме различия между “культурным сообществом” и “политическим сообществом”. Но ни одну из этих двух теоретических концепций нельзя считать исчерпывающе ясной; границы между “культурными сообществами” и “политическими сообществами” редко определяются с достаточной точностью. Но на деле те, кто бьется под одним и те же знаменем, не всегда почитают одних и тех же богов, а воюющие между собой не на жизнь, а на смерть, иногда поклоняются одним и тем же богам. Иначе говоря, соотношение между “культурными порядками” и “военными порядками” беспрестанно меняется. Родственные между собой “культурные порядки” политически стремятся к автономии и постоянно соперничают друг с другом, что выражается в частых войнах (пример тому — греческие города-полисы). На разнообразие культур накладываются “военные порядки”, принимаемые подданными в общем с равнодушием и безразличием.
Какая родственность языков или обычаев лежит в основе единства племени, народа? Вероятно, тщетно было бы искать какой-то один критерий. Язык разделял кельтов и германцев, хотя диалекты различных племен, внутри самих кельтов и самих германцев, тоже были весьма разнообразны. Сегодня в бывшем Бельгийском Конго те или иные языки помогают различать между собой различные этносы. Но африканские монархии или империи до европейской колонизации создавались как результат военных побед и кристаллизации отношений господства и подчинения, которые обеспечивались этими победами: какоенибудь племя или часть племени становились господствующим классом или военной кастой.
Несовпадение культурного и политического сообществ есть, следовательно, правило, а не исключение на всем протяжении человеческой истории. Такое несовпадение имеет две главные причины: политическое сообщество, например греческий город, представляет собой результат как господства победителей над чужеродным для них населением так и фрагментации какого-либо народа на военные сообщества, каждое из которых преисполнено страстного желания быть автономным. Спартанцы не были империалистами по отношению к другим грекам, каковыми, напротив, были афиняне, но их собственный порядок диктовался необходимостью удерживать в покорности тех, кто занимал их землю до них. Рабы и поселенцы из других земель не были в городах-полисах ни собственно иностранцами, ни собственно согражданами. Иногда они участвовали в культурной жизни хозяев и получали в конце концов гражданство, иногда они жили рядом с хозяевами, так и не получая полного равноправия.
Греческий город имел и желал иметь одновременно военный и политический порядок, а тем самым и такое сообщество, где человек сам определяет свою степень причастности к обществу. Человек там был человеком лишь вместе с другими людьми, притом не только в семье, то есть в группе с биологическими корнями, но и в общественном месте или на поле боя, споря или воюя с другими людьми, чтобы определить истинный, или правильный, способ совместного существования. Город достаточно большой, чтобы защищать себя, или достаточно маленький, чтобы все горожане знали друг друга, был естественным со-
* 356-х
Раймон Арон • Мир и война между народами
обществом, где режим (политейя) был организацией, как бы соответствующей целям самой природы, относилось ли это к индивиду или коллективу.
Народ, нация представлялась европейским историкам и мыслителям конца XIX в. таким же естественным феноменом1 , как город представлялся греческим мыслителям. В нации соединяются культурное сообщество и военный порядок, чтобы образовать политическое сообщество, которое одновременно и соответствует природе, поскольку в институте гражданства участвуют все индивиды, и идеально, поскольку в тот день, когда каждый народ исполнит свое предназначение, воцарится мир между коллективными, свободными и, следовательно, дружественными и братскими существами. Древние греки не были столь наивны: они знали, что политическо-военные сообщества, жаждущие автономии, тем самым становятся соперниками, обреченными, ввиду нестабильности в соотношениях сил, вечно относиться друг к другу с подозрением.
Даже если бы сама множественность автономных сообществ и не была творцом политики с позиции силы и мощи, то все равно оптимизм философии, выдвигающей на передний план национальную принадлежность, основывался бы на искаженном изображении исторической действительности. Принцип национальной принадлежности умножал поводы для конфликтов в такой же степени, что и династический принцип. Если мы определяем нацию или национальность как некую группу людей, характеризуемую своим собственным стилем жизни и культуры, осознанием сво-
СОЦИОАОГИЯ
его единства и волей это единство сохранять, то, глядя извне, национальности распознаются лишь приблизительно, а глядя изнутри, границы между “иностранными” национальностями часто мало чем отличаются от границ между группами в рамках одной и той же национальности. Но при каких обстоятельствах такое стремление к культурой автономии превращается в право требовать государственной независимости? Если определенное население, принадлежащее к данной языковой или культурной зоне, хочет войти в какое-нибудь политическое сообщество другой зоны, то надо ли согласиться с желанием здравствующих или с наследием умерших, то есть тех, кто парой веков ранее терпел закон завоевателей, признанных затем в качестве сограждан? Многие национальности, представляющие собой группы, характеризуемые нюансами в языке и культуре, не могут возвести себя в ранг нации, которая есть группа, желающая быть носительницей государственности и выступать в качестве автономного субъекта на исторической сцене. В Центральной и Восточной Европе, если не принимать во внимание массовых депортаций населения, не сложилось ни одного чисто национального государства. Чехословакия оказалась не менее многонациональной, чем была Австро-Венгрия. Югославия охватывает славянские народы с языками хотя и не очень, но отличными один от другого, со своими прожитыми историями, с разными религиями, причем далеко не все национальности лояльны или испытывают чувство привязанности к новому государству, которое теоретически выражает их общую волю.
1 То есть соответствующим естественному порядку, или некоей цели, внутренне присущей самой природе
Мир и война между народами • Раймон Арон
. 357
Часть II
Нация, взятая как идеальный тип политического сообщества, имеет триединую характеристику: участие всех граждан, или подданных, в деятельности государства в двойной форме — во всеобщей воинской повинности и во всеобщем голосовании; совместимость, или равнозначность политической воли и культурных традиций; полная независимость национального государства от зарубежных стран. Нация всегда есть результат истории, творение веков. Она рождается в испытаниях, она берет начало в чувствах, испытываемых людьми, а порой и с применением силы—той силы политического сообщества, которая разрушает предшествующие сообщества, или той силы государства, которая приводит в повиновение регионы и провинции.
Будучи определена именно таким образом, нация представлялась в конце XIX века шедевром истории, завершением вековечного усилия. Люди вместе создавали культуру и, путем, так сказать, ежедневного возобновления плебисцита, решали жить вместе. Каждая нация провозглашала собственную независимость и уважение независимости других наций.
Однако и чувства, и идеологии переменились. Сегодня сжигают то, чему поклонялись в конце XIX столетия. Нация не освободит людей, она низведет их к зоологическим войнам, как выразился Ренан. Воля быть нацией разрослась в коллективную гордыню, в претензию на превосходство: как только нации принялись соревноваться между собой в силе и мощи, резко умножились и интенсифицировались всяческие завоевания и захваты, вовсе не смягченные фактом образования новых государств. Войны королей превратились в войны народов. Люди решили думать, что судьба культур, а также провинций, решается на полях битв.
Обвинительный акт против наций представляется сегодня столь же убедительным, что и обвинительный акт, который афиняне или спартанцы могли бы выдвинуть против городов во II в. до н. э. Мы взяли привычку именовать войны, как мы называем политические сообщества. Последние мы считаем национальными, войны — тоже. Но если войны разрушили Европу, то не следует ли отсюда сделать вывод, что ответственность за это общее разрушение несут нации?
Такой ход рассуждений бесспорен в одном смысле. Определенная дипломатическая система кончает тем, что разрушает сама себя, когда она приводит к слишком многочисленным и слишком дорогостоящим конфликтам. И вот когда все сообщества, образующие систему, потеряли свое величие и даже независимость, наблюдатель начинает проявлять свою ретроспективную мудрость и упрекать братьев-врагов в том, что они не признавали своего культурного родства и истощали свои силы в бесплодной борьбе. Почему города-полисы игнорировали эллинский патриотизм, а нации — патриотизм европейский? Разве не было у них общего и объединяющего гораздо больше, чем признавали и допускали они сами? То, что их разделяло не заслуживает борьбы не на жизнь, а на смерть1.
Эти соображения хотя и правдоподобны, но несколько лишены исторического смысла. Цивилизационные зоны довольно регулярно дробились на поли1 Ничто не мешает применить такой же ход рассуждений к двум частям Европы после 1945 г., двум фракциям белой расы или двум версиям индустриального общества.
358
< Раймон Арон • Мир и война между народами
тические сообщества, противостоящие одни другим из-за стремления к автономии, которым вдохновлялось каждое из них. Патриотизм, любовь к своему народу проистекает из самопроизвольной, стихийной привязанности политического сообщества к своей земле или к своей совокупности людей. У него больше притягательной силы, чем у смутного ощущения того, что существует некая эллинская или европейская цивилизация. Историк-то, конечно, может оплакивать поражение и разгром, после того как дело сделано, и упрекать в излишних страстях тех, кто в свое время совсем не считал свои страсти излишними. Могут сказать, что греки занимали бы совершенно иное положение в Римской империи, если бы добровольно объединились, а не попали под гнет сначала Македонии, потом Рима. Европейцы играли бы совершенно иную роль в мировой системе, если бы объединились в федерацию, а не занимались беспощадными войнами, в ходе которых поочередно и тщетно Испания, Франция, Германия пытались стать гегемонами. Разумеется, все это так, но была ли возможна федерация между городами или между нациями? Ведь в такой федерации каждый старался бы сверх и поверх всего оставаться единственным хозяином собственной судьбы. Французы и англичане предпочли американскую гегемонию империям второго или, еще хуже, третьего рейха. Разве они неправы? Соединенные Штаты географически не составляют часть Европы, они не принадлежат и к изначальной зоне западной цивилизации. Так что же, разве они ближе или, наоборот, дальше от смысла и существа этой цивилизации, чем гитлеровская Германия или сталинская Россия?
Социология
Сообщества более широкие, чем сообщества политические, и по поводу которых многие выражают сожаление, что люди не отнеслись к ним с верой и преданностью, такие сообщества всегда двусмысленны, никогда не видны на географических картах и едва ли представляются людям реальными. Европейцы иногда приходили к согласию в том, что касается распределения колоний или, например в Китае, мести за оскорбления, нанесенные их посольствам. Если бы они прониклись стремлением к объединенной европейской мощи, а не стремлением к мощи немецкой, французской или русской, они все вместе были бы гораздо сильнее; однако азиаты и африканцы не считают, что такая добавочная сила была бы благом для человечества. Если бы европейцы объединились, то, по самому определению такого акта, они не вели бы войн между собой. Но жили бы они в мире? За века, когда господствовало то, что называют римским миром, войн вполне хватало, просто они были иного рода и характера.
Надо ли утверждать, что худшие войны — это войны национальные, потому что они народные, и стоит ли сожалеть, что люди требовали и добивались права быть нацией? Всякие утверждения и сожаления ныне в моде: каждый народ, говорят нам антинационалисты, воображает, будто он исполняет уникальную миссию, каждый народ поддается наивному тщеславию и путает величие своей культуры с мощью своего государства. Когда такая гордыня заражает количественно большой коллектив, она толкает политическое сообщество к агрессивности и авантюрам. Когда она охватывает малый коллектив, она вызывает распад государств и умножение числа слишком мелких сообществ.
Мир и война между народами • Раймон Арон *
г 359 *
Часть II
Я не собираюсь отрицать опустошительный характер национализма, этого нечистого чувства, страстей и фактов гордыни и амбиции — национализма, выражающего тем самым далеко не только правомерную привязанность к какому-либо народу и его культуре. Но критики национализма — они же и критики наций — почему-то охотно забывают и о позитивных сторонах этого типа политического сообщества. Нация имеет своим принципом и высшей целью участие всех своих членов в делах государства. Именно ради участия в государственной деятельности меньшинства требуют признания своего языка. Историк восхищающийся временами, когда каждая из общественных функций исполнялась представителями определенной национальности (например, в Оттоманской империи) забывает, что такая разноплановость была результатом военных завоеваний и вообще исключала из политики основную массу населения. Отрицать современную нацию означает исключать из сферы политики извечное требование равенства.
Статус гражданина, предоставленный миллионам людей, повлек за собой воинскую повинность. А последняя дала человеческий материал, внешне неисчерпаемый, который военные руководители обильно бросали в пекло войны с1914по1918гг. Историки правомерно говорят о войнах переплетающихся, сцепляющихся, влекущих одна другую. Да и в самом деле, кто не сожалеет, что прошли времена, когда государства мобилизовывали для войны лишь ограниченную часть своих ресурсов? Рекрутирование профессиональных солдат из низших классов общества предполагало иерархическую структуру общества, ограничение гражданства, привилегии аристократии. Однако ностальгия по королевскому режиму, например во Франции, была бы тем более смехотворной, что монархические столетия, рассматриваемые совокупно, были, по всей видимости, не менее воинственными, чем наше демократическое время. Тридцатилетняя война в XVII в. обошлась Германии дороже, чем тридцатилетняя война (1914—1945) в XX веке.
Впрочем, если хотят определить ту ответственность, которую несет собственно национальный тип, то здесь надо провести четкое аналитическое разграничение. Идеальный тип нации (тенденция к слиянию культурного сообщества с политическо-военным суверенитетом, абсолютный характер такого суверенитета, участие всех граждан в политической жизни, то есть во всеобщем голосовании и воинской службе) был весьма далек от реализации в Европе накануне 1914 г. Европейский континент был разделен на государства, которые желали быть суверенными, но в большинстве своем не были национальными ни фактически, ни по идее. Война 1914 г. вспыхнула и приобрела чрезвычайный размах, когда Европа переживала переходную фазу от традиционных и династических государств к государствам национальным. Скорее столкновение принципов, а не какой-то один принцип сам по себе, вызывает умножение и усиление войн.
До 1914 г. внешняя политика европейских государств сводилась к одному жанру. Кабинеты парламентских демократий придерживались той же самой философии цивилизованного макиавеллизма, что и династические государства, -...360
Раймон Арон • Мир и война между народами
империи Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. Какова бы ни была доля ответственности за развязывание войны 1914 г., приписываемая тем и другим, мне представляется бесспорным, что в области стратегии и тактики дипломатическо-стратегическое поведение всех этих различных сообществ было одинаковым по своей природе. Секретные договоры, заключенные союзниками с Италией (чтобы добиться ее участия в войне на их стороне) или между царской Россией и Французской Республикой в 1917 году, содержали статьи об аннексиях, отторжении провинций, распределении зон влияния.
’ Однако в Первую мировую войну макиавеллизм всех европейских государств был изыскан и приглажен в сравнении с макиавеллизмом гитлеровцев или сталинцев. Способы провоцировать конфликты, открытое нарушение принятых ранее обязательств, применение в международных отношениях революционных привычек и замашек, непредсказуемость размаха притязаний, чудовищная жестокость и полная неразборчивость в средствах — все это уже не принадлежит ни реалистической традиции, ни, еще меньше, веку национальностей. В межвоенный период дипломатия-стратегия как третьего рейха, так и Советского Союза была по преимуществу идеологической и имперской, а не национальной. В 1939—1945 гг. нации не обрели той сплоченности и слитности, какую они проявили в 1914—1918 гг. Число предателей, ставших таковыми по идеологическим мотивам, немцев, предпочитавших разгром своего отечества победе Гитлера, русских, бившихся против режима своей страны, который они Социология
считали тираническим, число самих французов, желавших победы Германии из симпатии к фашистским идеям или из неприятия каких-либо гражданских войн в Европе — такое число есть свидетельство того, что нация перестала ощущаться всеми как высшая ценность и как единый и единственный принцип политической организации.
Подведем итог. Европа разрушила сама себя войнами, которые можно назвать национальными, потому что национальным был в свое время системообразующий принцип политических сообществ. Этот принцип был одной из причин гиперболического характера войн XX века. Но было бы неправомерно, да и неразумно, полагать, что в 1914 г. он был единственным принципом, ответственным за развязывание войны такого рода или же вообще за то, что он определил собой всю системную сторону войны как таковой. Но было бы еще более неразумным и безосновательным вообразить, будто некий сверхнациональный принцип политического сообщества, будь то континентальный или идеологический принцип — больше благоприятствует миру, нежели войне. Верить в то, что европейское сообщество внутренне миролюбиво, а воинственными были нации, значит воспроизводить заблуждение тех, кто полагал, что нации, народы — миролюбивы, а короли — воинственны. Что же касается тех, кто рассматривает идеологические или имперские сообщества как переходные, а национальные сообщества как единственно долговременные и прочные, то они, сами того не ведая, накладывают печать вечности на философию истории XIX века, притом истории только европейской.
361 ‘.л
Мир и война между народами • Раймон Арон:......
Часть II
Ф Лл- > ч-уЛ х< -Лк -к > -х< Аф ■'»>< хх* <^Ж*>>хфхКй^ »йЖкУмм х& ♦*>
4. Военные организации и режимы
Власть светская (мирская), экономическая, политическая, военная бывает трех родов, поскольку власть одних людей над другими может иметь три основания: богатство, признаваемый легитимным авторитет, вооруженные силы. Легитимный авторитет неизбежно проистекает из богатства или силы оружия и опирается на них. В зависимости от конкретных случаев богатство приходит к тем, кто командует, или командование доверяется тем, кто богат. При этом нет никаких поводов и причин думать, что соотношение, причинное или хронологическое, между этими тремя основаниями всегда одно и то же.
Точно так же как светская власть бывает трех родов, так и режимы имеют в каждом сообществе три вида — экономический, политический, военный. Исследователи старались объяснить внешнее поведение государств их политическим или экономическим режимом, а причины дипломатическо-стратегической деятельности государств искали в их военной организации. В конце концов разве нельзя считать вполне нормальным то обстоятельство, что те, для кого профессией и ремеслом является война, воздействуют на тех, кто тоже, как ремеслом, занимаются выбором между миром и войной?
Военный режим, как и режим экономический, определяется решением двух проблем, одна из которых техническая, а другая гуманитарная. Первая — это проблема оружия и снаряжения, средств разрушения и производства; другая — проблема человеческих отношений в казарме, на заводе, в бою, в труде. Военная организация имеет, разумеется, множество аспектов, как и организация экономическая.
Военная, боевая работа, как и производственная, инструментальна и кооперативна: она требует дисциплины бойцов, чтобы выполнить поставленную задачу и в конечном счете добиться победы. Технические требования лишь частично определяют отношения, которые устанавливаются между солдатами и их командирами (или между рабочими, мастерами и инженерами). Они недостаточны, чтобы определить природу и характер социальных отношений и связей между простыми солдатами и офицерами, рабами и их хозяевами, крестьянами и земельными собственниками, иначе говоря — между разными ступенями иерархического порядка боя или производства.
Экономический режим не следует путать с техникой и технологией производства; он определяется социальными отношениями между людьми в процессе труда, распределением ресурсов между рабочими местами, собственности и дохода между индивидами и классами, способом обмена товарами и услугами. Маркс, характеризуя экономические эпохи в развитии человечества, выделил специфические черты отношений между людьми в процессе труда (рабство, крепостничество, наемный труд) и дал историческое оправдание минувшим формам эксплуатации человека человеком, объясняя их низкой производительностью труда. Рабство было одним из возможных ответов, реакцией на слабую производительность труда, но это не единственный ответ, и он не был строго обязательным (вполне можно представить себе накопление прибавочной стоимости какой-то группой людей без использования рабского труда). Таким же
362 * "/Ж Раймон Арон • Мир и война между народами
образом в сложных экономиках, где рамки обмена уже всемирны, распределение ресурсов между рабочими местами, доходов между классами, регулирование предложения и спроса могут совершаться, по меньшей мере, двумя разными способами. Техника и технология производства, организация труда на полях и заводах, организация в масштабе общества производства и обмена — эти три понятия тесно взаимосвязаны, и нельзя назвать одно из них причиной, а другое или третье следствием, подобно тому, что те или иные исторические перемены совсем не обязательно должны иметь своим истоком нечто одно, обозначаемое каким-либо из этих трех понятий.
Три аналогичных понятия имеются и применительно к военному порядку. Кооперация, сотрудничество между бойцами должно быть подчинено дисциплине. направленной на обеспечение эффективности. Но фактически дисциплина часто выражает собой социальную иерархию. В каждую эпоху эффективный порядок среди бойцов есть двуединая функция технико-технологических требований и социальной структуры. Или еще, если предпочесть другую формулировку проблемы: при той или иной данной технике ведения боя человеческие отношения между бойцами или между индивидами и классами общества предполагают наличие определенного поля для различных вариаций. Причина исторических перемен здесь тоже может быть связана с тем или иным из этих трех понятий. Военная революция развязывает революцию социальную, и наоборот. Порох и пушка обеспечивают превосходство регулярных армий, мобилизация требует ресурсов, недоступных феодальным княжествам: централизованное государство становится необхоСоциология
димым даже с чисто технической точки зрения. И, так сказать, в обратном направлении: Французская революция позволила рекрутировать сотни тысяч человек и одновременно обновить военную тактику (глубоко эшелонированные колонны, специализированные стрелки, введение в стране специальных налогов и повинностей и т. д.).
На протяжении истории венный порядок был в гораздо меньшей степени, чем порядок экономический, предметом свободного выбора и рациональных расчетов. Ведь он не только должен быть эффективным против возможного внешнего противника, но еще и способствовать укреплению и поддержанию социальной структуры в стране. Южная Африка не может вооружать черных, которым она отказывает в гражданском и экономическом равенстве. Рим всегда проявлял нерешительность, когда приходилось давать оружие рабам. В средние века знать сохраняла за собой монополию на тяжелое вооружение. Армия любого общества всегда была отражением классовых отношений, а последние зависели от военной силы каждого из классов и от распределения собственности.
По поводу военного режима можно поставить два рода вопросов. Если мы возьмем какой-либо определенный тип военной организации, то какое влияние на общество может оказать выбор между той или иной разновидностью этого типа? В какой мере тип политического сообщества функционально зависим от типа военной организации?
В 1870 г. прусская армия мобилизовывалась рекрутским набором, а французская была, можно сказать, профессиональной армией. Воздействовал ли на проведение внешней политики вы-
Миривойна между народами • Раймон Арон 363 :
Часть II
бор между профессиональной армией и воинской повинностью? Кроме того, прусский офицерский корпус формировался по преимуществу и по предпочтению из среды дворянства. Стиль отношений между солдатами и офицерами очень сильно зависел от происхождения этих последних. Имело ли это обстоятельство последствия для внешнеполитического поведения?
Когда-то главную ответственность в вооруженных конфликтах любили возлагать на военные классы. Й. Шумпетер, как и многие другие, противопоставлял Друг другу дворян, чьим ремеслом, развлечением и оправданием самого их существования была война (французское дворянство, усмиренное Людовиком XIV, получило в качестве компенсации участие в военных кампаниях и возможность стяжать славу), и буржуа, которые, привыкнув к экономическим расчетам, цифрами обосновывали иррациональность войн. В начале XX века прусской аристократии вменяли в вину милитаристскую философию, чрезмерное восхваление армии и боя как таковых. Место и роль, отводимые в прусском государстве солдату, лежали в истоке немецкого империализма. Во Франции, после 1918 г. ненависть к войне выразилась в антимилитаризме.
Сегодня мы знаем, что все эти обвинения поверхностны и частичны. Любой правящий класс, будь то дворянский или буржуазный, стремится к тому, чтобы соответствующее сообщество было мощным и могучим. Милитаристы не всегда воинственны, антимилитаристы не всегда миролюбивы. Макс Шелер писал, что французы больше любят не военную жизнь, а саму войну, а немцы, наоборот, больше любят солдатскую жизнь, чем войну. В этом игривом высказывании есть доля правды. Что касается влияния штабов на политических деятелей, то оно, в зависимости от обстоятельств и стран, имело источником стремление к завоеваниям (французская империя времен Третьей республики была отчасти делом рук армии) или же боязнь войны (во Франции до 1939 г.).
Ни один из генеральных штабов — французский, немецкий или русский — не желал прямо и осознанно взрыва 1914 г. и не провоцировал его. Но ни один не выступил и резко отрицательно по этому поводу. Все готовились к большой пробе сил, которую предугадывали. Принадлежало ли такое настроение к разряду самоисполняющихся пророчеств (self-fulfilling prophecies) — иными словами, пророчеств, которые сами содействуют своему же свершению? Всегда трудно узнать, с какой степенью точности оправдываются прогнозы ответственных деятелей при реализации ожидаемых событий. Если иметь в виду непосредственные истоки войны, то ответственность собственно штабов за неблагоприятное развитие событий, и мы это видели1, зависит от жесткости, негибкости их планов. Русский штаб не мог согласиться на частичную мобилизацию, не дезорганизуя весь механизм всеобщей мобилизации. Немецкий штаб тоже не предусматривал ограниченной войны. В этом смысле оба они способствовали неизбежному перерастанию австрийско-сербского конфликта в мировую войну, но здесь речь скорее идет не о намерении людей, а о своего рода бюрократическом детерминизме.
1 См. гл. I.
364 Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
Накануне войны 1914 г. военная институция европейских обществ имела двуединый исток: традицию офицерского корпуса, восходящую к королевским временам, и революционную новизну всеобщей воинской повинности. Офицеры слыли консерваторами или, во всяком случае, прислушивающимися к лозунгам справа, как это называется на языке политиков (порядок, власть, авторитет и т. д.). Они были консерваторами как в несении своей профессиональной службы, так и по политическим убеждениям. Но ни с той, ни с другой позиции они не могли предугадать как продолжительность войны, так и объем ресурсов, необходимых для снабжения и обеспечения миллионов солдат, ни чудодейственного развития механизированных и моторизованных видов оружия, действующего на земле и в воздухе. Соответственным образом они, повидимому, были менее ответственны за конфликты разного рода, чем за медлительность технического прогресса в средствах ведения войны. Их упрекают не столько в развязывании грандиозной бойни, сколько в просчетах (особенно на западном фронте) относительно огневой мощи противника, что принесло сотни тысяч ненужных смертей. Успех пропаганды, направленной против военных классов, в значительной мере объясняется, так сказать, историческим разочарованием. Многие самые обычные люди, как, впрочем, и многие социологи, верили в мирное призвание современных обществ — буржуазных, промышленных, капиталистических. Поскольку социальный тип общества считался благоприятствующим миру, то одни обвиняли в массовой бойне военный режим, другие — режим экономический.
Еще в начале XIX в. получила распространение сен-симоновская и позитивистская концепция фундаментальной антиномии между войной и трудом. Темпы развития средств производства, небывалый рост числа заводов и фабрик потрясали наблюдателей. Легисты, метафизики, идеологи, дипломаты составляли привилегированный класс того социального типа, который уже умирал. Ученые, инженеры, банкиры, промышленники, то есть все те, кто аккумулировал знания и управлял конкретными видами деятельности, от которых зависело существование и процветание всех, заявляли о себе, как о подлинных руководителях будущего общества. Офицеры принадлежали ко вчерашней элите, их место готовы были занять техники.
Огюст Конт дал теоретическое объяснение противостоянию старорежимного общества, феодального по содержанию, и общества, по содержанию промышленного, которому принадлежит будущее. Всякое общество преследует одну цель и притом одну-единственную. Война, сначала наступательная, потом оборонительная, была целью военных и военизированных обществ; труд будет целью промышленных обществ. Именно от труда будут исходить общепризнанные ценности, именно он создаст иерархию власти, авторитета и престижа. Герберт Спенсер и Карл Маркс подхватили и продолжили сен-симоновскую и позитивистскую концепцию. Первый поставил умиротворение посредством промышленности в зависимость от свободного обмена, второй — от социализма.
Однако главный аргумент Огюста Конта — а именно, что общество ставит перед собой одну приоритетную и даже Мир и война между народами • Раймон Арон'
365
вообще одну-единственную цель, — представляется мне сам по себе, как таковой, ошибочным и неправомерным. Почему коллективы могут придавать своему существованию своеобразный род единства, тогда как индивидам сделать это не удается? Никто не станет отрицать, что научные и технические возможности, обретенные человечеством, открывают новую и во многих отношениях беспрецедентную фазу истории. А вот то, что эта фаза должна быть мирной и что общества, желающие благоустроить планету, те самым откажутся биться друг с другом и угнетать одни других, — так это пока что всего лишь надежда, но никак не уверенность.
Такое сомнение тем более обоснованно, что средства производства и средства разрушения имеют общий источник и, так сказать, общую природу. Не может быть так, чтобы овладение природными силами с помощью технического могущества не вело к созданию, в качестве своеобразного субпродукта, все более и более совершенных видов вооружения и боевого оснащения. Сам Огюст Конт не упускал из виду это обстоятельство, но считал глубинный пацифизм современных ему обществ причиной довольно заметной слабой эффективности существующих видов оружия в сравнении с эффективностью того гипотетического оружия, которое тогдашняя наука уже могла изобретать и пускать в производство1. Теперь такое “несоответствие” давным-давно исчезло.
Огюст Конт надеялся, что упразднение военного класса и совершенно иной характер новой элиты закрепят и увековечат пацифизм индустриальных обществ. Сегодня мы знаем, что, по меньшей мере, за столетие, истекшее после смерти Конта, история развивалась совсем не так. Тотальная мобилизация людей и машин для насыщения утробы военного чудовища породила другие концепции. Индустриальное общество не было отвлечено от своего мирного призвания отжившими свой век идеями военного класса и правительства проникнутых тем же самым духом. Но зато само индустриальное общество, как только перестало быть буржуазным и либеральным, оставаясь и развиваясь как техницистское и организованное, вдруг превратилось в общество военное. Вспомним знаменитый декрет Конвента: “Молодые люди будут воевать. Женатые мужчины будут ковать оружие, перевозить артиллерию и ее снаряжение, готовить продовольствие. Женщины будут заниматься хозяйством в жилищах солдат, устраивать палатки, ухаживать за ранеными. Дети будут рвать старое белье на корпию а старики возвращаясь к миссии, которую они исполняли еще в древности, будут появляться в публичных местах, звать на подвиги молодых воинов, внушать им ненависть к королям и любовь к Республике“. Здесь имеется все, включая организацию энтузиазма (любовь к Республике) и идеологическую пропаганду (ненависть к королям). Всеобщая мобилизация, подъем масс, тотальная мобилизация материальных, людских и духовных ресурсов — все это по сути уже принадлежит современному обществу, индустриальному, но также и демократическому.
1 Я подробно проанализировал концепцию Огюста Конта в книге “Индустриальное общество и война"(Ьа Société industrielle et la guerre. Paris, 1959)
366
Раймон Арон • Мир и война между народами
СОЦИОАОГИЯ
Немецкий социолог Й. Пленге1 утверждал, что идеи 1914 г., идеи организации, занимают место идей 1789 г. — свободы, равенства, братства, но ввиду схожести массового энтузиазма, первые представляют собой ответвление и развитие вторых. Э. Юнгер иллюстрировал новый порядок двумя типами — рабочего и солдата, — взаимодополняющими и родственными. Армия состоит уже не из крестьян с дворянским офицерским корпусом, а из рабочих, руководимых техническими специалистами. Растущее число людей в униформе выполняют функции, аналогичные функциям гражданских лиц в мирное время. Взаимное подобие обоих этих типов организации было хорошо видно на примере американской армии 1945 г., где очень многие офицеры были людьми той или иной профессиональной компетенции, а не собственно военной специальности. Руководит людьми в бою уже не аристократ, а инженер — инженер оружия и инженер человеческих душ.
По иронии истории замена дворян инженерами, замеченная и предсказанная Огюстом Контом, некоторым образом свершилась, но промышленность стала военной и военизированной, а общество не стало миролюбивым. Промышленность была мобилизована на обслуживание войны, а война прониклась промышленным духом. В 1945 г. на умы давил кошмар “гарнизонного государства” (garrison State), государства всецело и на постоянной основе структурированного в соответствии с требованиями борьбы против соперников.
С тех пор произошла еще одна крутая перемена. Создание атомного и термоядерного оружия поставило человечество перед угрозой катастрофы, но оно же и освободило государства от тягот промышленной мобилизации. Маловероятность и даже невероятность войны между великими державами с помощью классических видов оружия позволяет государствам ограничить соответствующий сектор экономики, который предназначен для подготовки к войне. Перед теми обществами атомного века, которые неуязвимы для разрушения изнутри, встает уже не картина garrison State, а панорама буржуазного комфорта и миллионов автомобилей под сенью апокалипсиса. Тем самым ныне явно утратили свое значение всякие упрощенческие теории о роли военных классов или о соотношении между средствами ведения войны и типами политического сообщества.
Обратимся к античному миру. Политические сообщества, где все граждане носили оружие, не были более миролюбивыми, чем те сообщества, где честь носить оружие предоставлялась меньшинству. Афины, демократический город, считались более империалистскими, чем Спарта, город олигархический. Первые завоевания Рима совершались легионами, состоящими из граждан. Лишь в ходе пунических войн легионы, ввиду продолжительности службы в них, приобрели профессиональную выучку. Военный режим переменился вместе с изменением структуры политического сообщества, но при этом не складывалось впечатление, что дипломатическое поведение этого сообщества непосредственно диктуется интересами воюющего класса.
1 Plenge J 1789 und 1914, die symbolischen Jahre In der Geschichte des politischen Geistes Berlin, Springer, 1916.
Мир и война между народами • Раймон Арон
.. 367
Часть II
Римская империя была типом общества, отличным от городов-полисов. Она была сооружена легионами и поддерживалась ими же. Но не существовало никакой пропорциональности между характером вооруженной силы и размерами политического сообщества. Превосходство легионов было не количественным, а качественным благодаря организации и дисциплине. Даже внутри всей зоны имперского мира не было ни подлинной монополии армии, ни единого и суверенного государства. Местное население окраин сохраняло своих лидеров и свое оружие. В зависимости от провинций и эпох римское господство приобретало все формы — от полной интеграции до простого протектората.
Расширение политических сообществ в античном мире имело, по-видимому, своей причиной унаследованные доблести города-полиса, его законы, обычаи бойцов, солдатскую сноровку. Но необходима была и концентрация власти, военной и государственной, чтобы вводить в бой армии и поддерживать в них дисциплину. Развитие технизированных вооруженных сил открыло новую эру. Теперь уже необходимой стала концентрация экономических ресурсов. Изза нехватки людей, заводов, денег малые сообщества не могли позволить себе иметь вооруженные силы такого же типа, как вооруженные силы больших сообществ. Средневековые рассеяние и разброс суверенитетов становились несовместимыми с характером армий и вооружений. Формирование европейских государств явилось логическим следствием экономических требований военного режима.
Такое движение, такая тенденция продолжались вплоть до 1914 г., создавая пропасть между государствами, где солдаты были хорошо вооружены и оснащены усилиями промышленности, и государствами, которые застряли на предыдущем этапе технической вооруженности в том, что касается наземных операций и, особенно, операций на море. Все европейские государства, малые и большие, имели армии и флоты одинакового типа, численность личного состава которых была пропорциональна численности населения. Однако народы Африки и большинство государств Азии не имели качественно аналогичных сил, за исключением Японии, которая модернизировалась самостоятельно, и Индии, находившейся под британским владычеством. В европейской системе равновесия заморские империи стран Европы демонстрировали в дипломатическом аспекте, с одной стороны, взаимное подобие, а с другой, несопоставимость типов и силы военной организации.
В 1914 г. бельгийская армия представляла собой своего рода маленькую французскую армию: такие же дивизии, пехота, артиллерия, кавалерия, инженерные войска, такое же оружие, которое целиком производилось или могло производиться на национальных заводах. В 1939 г. танковые и воздушные армии уже привнесли существенное качественное различие: теперь малые страны сами не могли производить все виды вооружения и едва-едва могли оснастить, в сокращенном объеме, свои армии, чтобы они были современными. В 1960 г. качественный диспаритет дошел до верхней точки, поскольку атомным и термоядерным оружием владеют лишь три государства (притом термоядерное оружие, которое находится в распоряжении Великобритании, недостаточно для нанесения эффективного ™ 368
Раймон Арон • Мир и война между народами
ответного удара). Вполне понятно и даже представляется неизбежным то обстоятельство, что следствием такой разнородности в степени насыщенности средствами войны оказалось создание дипломатическо-военных блоков, каждым из которых руководит один из обладателей атомного оружия.
Вместе с тем уменьшилась степень превосходства регулярной армии над импровизированными бойцами. Имеются хотя и различные, но весьма сходные оценки эффективности партизанских действий против оккупационной армии — в России, в Югославии, во Франции. Партизаны не стали более боеспособными в XX веке, чем они были в Х1Х-М, однако они могут, если позволяют условия местности и если им симпатизирует население, продлевать сопротивление на целые годы. Распад европейских имперских владений, который, конечно, имеет и много других причин, частично объясняется как раз этим сокращением превосходства солдат регулярной армии над партизанами.
Разнородность политических сообществ, составляющих мировую систему, отражает разнообразие техники ведения боя. С одой стороны, европейские народы хотят объединиться, чтобы вернуть себе военную автономию, утраченную ими в рамках атлантической коалиции. Взаимопереплетение, даже совпадение, между культурным и политическим сообществом теперь поставлено под вопрос экономической концентрацией, которая требуется для вооруженных сил индустриального типа. С другой стороны, в Африке, например, растет число государств с несколькими миллионами жителей в каждом, которые основывают свою независимость на способности сопротивляться иностранному господСоциология
ству. Они еще не доросли до совпадения культурного и политического сообществ; национализм вдохновил изгнание колонизаторов, но это не привело к становлению нации.
Диалектика культурного сообщества и политического суверенитета, гражданского порядка и порядка военного, хотя она еще и очень далека от завершающего согласования и примирения этих понятий и феноменов, все же принимает новые формы. Никогда еще ранее, в минувшей истории столь разные коллективы не участвовали все вместе в едином историческом процессе.
Заключая предыдущую главу, я показал, что промышленность дает людям беспрецедентные возможности обогащаться без завоеваний и без эксплуатации других людей, но она также дает людям беспрецедентные средства и способы убивать друг друга. И поскольку промышленность стала бурно развиваться в мире, разделенном на соперничающие коллективы, она была поставлена на службу национальным и имперским амбициям. Пока существует состязательность между государствами, никакой экономический режим, будь то либеральный или плановый, не гарантирует того, чтобы техника производства, созидания не деградировала в технику разрушения.
В этой главе я не буду указывать, что именно тот или иной тип политического сообщества или режима, тип военной организации или военного режима отличается, как таковой, воинственностью или миролюбием. Я не буду также утверждать, что если существуют общества и режимы, чье призвание — завоевания и войны, то будто бы нет на свете обществ, призвание которых — мир. В наше время главный факт и фактор — это разноМир и война между народами • Раймон Арон
369
Часть II
родность и разноплановость государственных сообществ, политических режимов, техники и технологии ведения войны. Многонациональные государства, всяческие наднациональные интеграции, имперские блоки, сверхдержавы сосуществуют, как сосуществуют взаимно враждебные идеологии, как сосуществуют стрелковые автоматы, танки, тактическое атомное оружие и баллистические ракеты с термоядерными боеголовками.
Никто не удивляется тому, что такое сосуществование выражает миролюбие больше на словах, чем на деле, но, как подумаешь о вполне возможной катастрофе, невольно восхищаешься тем, что несмотря ни на что сосуществование всех этих элементов действительно остается пока что довольно-таки мирным.
ГЛАВА XI
В поисках порядка становления
Анализ, данный в предыдущей главе, в общем сводится к отрицательным выводам. Они должны предостеречь современных деятелей и историков от попытки увидеть в них систематизированные или частичные перспективы; они не содержат никакой общей позитивной установки, закона или константы, касающихся стратегическо-дипломатического поведения того или иного типа политического сообщества или экономического, социального, военного режима.
Было бы неверно утверждать, что единые национальные государства непременно должны быть миролюбивы: охваченные гордыней, нации могут быть также и империалистическими или казаться таковыми. Ошибочно полагать, что современная рыночная экономика призвана быть завоевательницей, а планово-централизованная — миролюбивой, именно благодаря этим своим качествам. Нет оснований считать, что за народами на протяжении их истории сохраняются одни и те же стереотипы: немцы — жестоки, англичане — вероломны, французы—легкомысленны. Неверно и то, что вкус к войне и коллективное стремление к мощи возникают и исчезают вместе с неким военным классом. Ни нации, ни режимы как таковые не есть нечто постоянное.
Подобные отрицания имеют не только то достоинство, что они отбрасывают ложные идеи. Они еще и напоминают нам о том, что всякое конкретное исследование должно оперировать наиболее существенными переменными величинами и характеристиками. Поскольку дипломатическо-стратегическое поведение инструментально и зачастую авантюрно, то следующее из него решение может быть понято лишь в контексте конкретной обстановки и с учетом социально-психологических характеристик действующих лиц. Обстановка же складывается из соотношения сил на определенном историческом пространстве. Коллективное действующее лицо иногда бывает столь же различимо, как и лицо индивидуальное (например, режим абсолютной власти ’ 370
Раймон Арон • Мир и война между народами
одного человека), а иногда выступает как сумма и результат множества факторов. В обоих случаях следует четко представлять себе цели действующего лица, его представления о людях и мире и способы действий, принятые им либо по своей воле, либо под воздействием различных связывающих обстоятельств.
Однако такая двойственность, с одной стороны, — обстановка или соотношение сил; стратегия, философия и тактика действующего лица, искусственно могут быть упрощены. На самом деле то или иное решение объясняется не столько реальной обстановкой, сколько представлением о ней действующего лица. С другой стороны, для каждого деятеля обстановка слагается не единственно из соотношения сил, поддающегося расчету, но также из учета вероятного поведения других действующих лиц; соперников. противников или союзников. Стратеги и дипломаты не комбинируют способы и средства действий в определенных целях, как это делают инженеры, а рискуют, как игроки.
Во всяком собственно историческом исследовании, то есть имеющим своим предметом конкретное событие или последовательность событий, должны прослеживаться взаимосвязь причин, диалектика ситуаций и поведения действующих лиц, воздействие и реакция последних друг на друга. Те или иные константы, которые можно здесь высветить, относятся к какому-либо из аспектов либо обстановки, либо характеристики участников. Такие константы частичны и приблизительны: когда силы основных сторон в рамках определенной системы остаются примерно равными, дипломатия одной из них проявляет на какое-то время некоторое постоянство (французСоциология
ская традиция обходных союзов). Когда какая-либо страна ставит перед собой определенную цель, продиктованную ее географическим положением, она целыми веками действует по правилам, которые видны ее соперникам лучше, чем ей самой (английская дипломатия равновесия сил). При этом не надо упускать из виду, в каких условиях проявляют себя эти константы и какие перемены были бы достаточны, чтобы они деградировали в неустойчивость и изменчивость.
Цель и предмет исторического исследования — уловить и различить в каждый данный момент в череде событий долговременные факторы и меняющиеся обстоятельства, не постулируя заранее, что перемены якобы совершаются под воздействием фактов и факторов одного и того же рода. Что касается исследования социологического, то если оно не ограничено тем, что мы назвали приблизительными и частичными константами, то в нем должен быть использован другой метод. Взаимосвязь причин, диалектика государств и режимов бесспорно существуют. Но может случиться так, что на более высоком уровне, в глобальной перспективе, вдруг обнаруживаются какие-то новые закономерности или вырисовывается схема становления некоего нового порядка. Традиционные мыслители, не ставящие под сомнение разобщенность событий и детально рассматривающие каждое из них, тем не менее любят порассуждать о причинах, вызывающих взлет и падение государств. Мы постараемся в этой главе рассмотреть классические соображения насчет фортуны армий и народов.
Теоретически перед нами открываются два пути. Поскольку речь идет об Мир и война между народами • Раймон Арон
371
Часть II
изучении обширных совокупностей, сразу встает вопрос о природе и характере этих совокупностей. Будем ли мы исходить из исторического субъекта, то есть народа, государства, цивилизации, ассоциирующихся с индивидами, или из исторического объекта, то есть века, эпохи, эры, рассматриваемых как долговременное обстоятельство?
Первый путь представляется мне более предпочтительным, нежели второй. Чтобы охарактеризовать эпоху, нужно выделить некую переменную величину и полагать ее преобладающей. Однако выбор этой переменной всегда проблематичен. Даже если видеть эпоху с какой-то одной точки зрения — например, в ракурсе международных отношений, — все равно трудно абстрагироваться от коренной, глубинной причины и действительно специфической черты изучаемого предмета. Когда историки характеризуют какую-нибудь эпоху, то одни выделяют государство-гегемон (испанское преобладание, французское и т. д.), другие — тип политического сообщества и характер войн (монархические государства, национальные государства, религиозные войны, династические войны), третьи — техническое обеспечение армий и битв (рекрутский набор, промышленность, всеобщая мобилизация). Было ли, с точки зрения внешней политики, столетие между 1815 и 1914 годами периодом национальногражданского или индустриального развития? Утверждался ли в это время в качестве приоритета, как системообразующий фактор, принцип укрепления государств (наций) или же этот период характеризуется вооружением и оснащением солдат? Открывает ли атомный век другую дипломатию и другую стратегию? Формирование новых объективных систем влечет за собой выдвижение гипотез, касающихся соотношений и отношений между определяющими факторами развития общества.
Но мы будем следовать другим путем и начнем исследование с исторических субъектов — народов, цивилизаций, человечества. В следующих трех параграфах будут рассмотрены три проблемы: какие причины определяют судьбу народов? Одинаковая ли судьба была и остается уготованной всем цивилизациям? Возможны ли в человеческой истории века дипломатии?
1. Судьба народов
Я буду говорить только о европейских нациях. Как мы видели, именно в Европе нации достигли своей завершенной формы, а народ и государство сблизились до такой степени, что “воля французов быть народом” оказалась глубочайшей причиной исторической преемственности. Государство как бы излучалось из народа, а народ вовсе не оказывался продуктом вековечной работы государства.
Нация в том смысле, как ее стали трактовать после Французской революции, — понятие недавнее, однако вполне приемлемо видеть в современной Франции наследницу Франции монархической и называть французским народом сообщество французов, объединенных за много веков государством, сначала династическим, потом демократическим, и обладающих единой волей. Поэтому современные историки размышляют о становлении наций не меньше, чем греческие мыслители размышляли о становлении режимов.
В том и другом случаях проблемы возникали как результат опыта. Один и 372
- ' Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
тот же город-полис познавал самые разные режимы, ни один из которых не обеспечивал стабильности. Революция, в полном смысле этого слова, представлялась самым характерным феноменом политической жизни: тот или иной режим внезапно изгонялся другим, но в результате последовательных кризисов все возвращалось, в конце концов, к исходной точке. Вереница режимов сама по себе составляла некий круг, сравнимый с круговращениями космических революций. Но це только неустойчивость режимов, а и спорадичность, если можно так сказать, национальных везений и удач были самыми приметными явлениями европейской истории. Сначала испанцы, потом французы констатировали упадок своих стран, немцы размышляли о разнообразии исторических форм, в которых они проявляли свой гений, англичане, вплоть до недавних времен, восхищались твердостью шага в поступательном движении своей судьбы.
Историки и философы часто бывали склонны ставить на одну доску такие пары понятий как могущество и величие, ослабление и упадок. Знаменитые строки Монтескье в “Размышлениях о причинах величия и падения римлян”1 в скрытой форме содержат подобную путаницу: “Не фортуна владычествует в мире. Об этом можно спросить римлян, которые пережили долгую полосу процветания, когда управлялись по некоторому плану, и непрерывную полосу неудач, когда стали управляться по другому плану. Имеются общие причины, будь то нравственные или физические, которые действуют в каждой монархии, возвышают ее, поддерживают или низвергают: все неудачи и происшествия восходят к этим причинам; и если случайность исхода битвы, то есть частная причина, разрушила государство, то здесь кроется общая причина, приведшая к тому, что это государство должно было погибнуть из-за одной-единственной битвы; короче говоря, главное движение влечет за собой все частные происшествия”.
И еще: “Не Полтава погубила Карла: если бы его не разбили там, его разбили бы в другом месте. Повороты фортуны выправляются легко, но нельзя выправить события, непрерывно рождающиеся из природы вещей”1 2. Таким образом, здесь утверждается неизбежность общих причин и одновременно содержится суждение об оружии и средствах в пользу или не в пользу законов, режимов и людей.
Как мы знаем, ни в теории, ни в практике военные успехи и поражения не могут служить точной мерой моральных достоинств народа или качества той или иной культуры. Порою расцвет культуры совпадал с большими победами: так, краткий период афинской гегемонии, от подвигов в мидийских войнах до поражений в пелопоннесской войне, был также временем Фидия, Перикла и Сократа. Иной была судьба немцев. Великие творения германской мысли приходятся на время раздробленной Германии и ее политического бессилия, а не на полвека гегемонии — от провозглашения империи в Версале и взрывом 1914 года. В наше время созидательная способность народов явно не находится в соответствии с экономической или военной силой государств. Гитлер обеднил гер1 Гл. XVIII.
2 Бе ГЕвргК «Зев 1о1в. X, 13.
Мир и война между народами • Раймон Арон 373
Масть II
майскую культуру, тогда как его дипломатия одерживала блестящие победы. Большевизм, превратив царскую империю в Советский Союз, задушил русскую литературу и мысль, парализовав писателей и деятелей искусств несмотря на всю славу, которую они являли на мировой сцене.
Авторы прошлого не оставались в неведении относительно подобной несовместимости. Макиавеллевское хитроделание, то самое, которое идет от народа к народу, воодушевляет победителей и опустошает угасающие империи, всегда отличалось в глазах философов от доброделания моралистов1. Быть может, некоторые философы мечтали об обществе, в котором люди достигнут и политического, и нравственного благоденствия, граждане будут подчиняться мудрым, а мудрые служить правде. В таком идеальном обществе, наверное достаточно могущественном, чтобы противостоять всяческой агрессии, мудрость должна располагать силой, а сила — исполнять волю мудрости. Но реальные общества, пленники постоянного соперничества, вынуждены приобретать силу, либо устанавливая безжалостную дисциплину над неразумными толпами, либо учреждая жесточайший деспотизм.
Не все авторы истолковывали политическую добродетель — добродетель элиты и добродетель масс — столь пессимистично, как это делал Парето. Макиавеллевская мысль, ставшая позитивистской и восставшая против идеализма, трактует добродетель масс как слепую преданность, а добродетель правителей — как способность к насилию и хитрости; оба эти определения идут вразрез с пониманием нравственной добродетели рационалистами. Добродетель античных республик, как ее понимает Монтескье, наверняка высокоморальна, поскольку она предполагает воздержанность, патриотизм, уважение законов. Тем не менее, даже по мысли Монтескье, все эти качества составляют в равной мере добродетель не только гражданина, но и солдата. Она не очень-то совместима с благополучием и не способствует развитию искусств и изящной словесности.
У Монтескье ненамного больше иллюзий, чему Симона Вайля1 2, насчет способов, каким Рим завоевал античный мир. Монтескье восхищается римскими законами, выдержкой сената при неудачах, суровостью наказания для тех, кто противится или предает, искусством приобретать союзников и прислужников. Могли он рассматривать эффективное использование военной силы и лжи как образец нравственности, он, который рекомендовал государствам творить как можно меньше зла в военное время и как можно больше добра в мирное время? Монтескье колебался между двумя системами ценностей, согласно одной из них выдвигались на передний план завоеватели, согласно другой — мирная деятельность, в частности, творения духа и ума. Он не говорил в явной форм о несовместимости между поведением завоевателей и требованиями морали. Политическая добродетель, основанная на законах и обычаях, служит у Монтескье как бы мостом между добродетелями людей и благополучием государств. Но такое примирение первого со вторым 1 У автора — более тонкая игра подчеркнутых слов: virtu (англ.), художественная редкость, виртуозность. и vertu {фр.], добродетель. — Прим. пер.
2 См. выше, гл. VIII. Очерк Симона Вейля, из которого мы привели отрывок, был написан накануне войны 1939 г. В нем сравниваются способы действий Древнего Рима и Гитлера.
374
Раймон Арон • Мир и война между народами
предполагает что военная мощь зависит прежде всего от способности к коллективному действию, а эта способность, в свою очередь, возбуждается и становится эффективной как бы сама по себе, каковы бы ни были применяемые средства и способы. Сегодня же мы отказываемся полагать, что мощь всегда сопряжена с добродетелью, даже политической, и что способность к коллективному действию чуть ли не совпадает с добродетельными качествами политической цивилизации.
Теории о судьбе народов непременно отражают взгляды их авторов на источники и слагаемые такого понятия как сила и содержат то или иное видение процесса становления. Размышляя об участи городов и империй, философы и историки недооценивали роль материальных и других поддающихся учету факторов и плохо представляли себе работу собственно военной машины, то есть ее организацию, дисциплину, тактику. Они предполагали, что политические достоинства и военные успехи находятся во взаимном соответствии. Поэтому одни их них превозносили те или иные политические достоинства, определенный город, народ, человека — законодателя или героя. Упадок какоголибо государства объяснялся ими истощением династии, приходом наследника, который недостоин основателя. Другие делали упор на законы и обычаи, тоже подверженные деградации через механизм, быть может, подобный тому, который ведет к прекращению династий: массы утрачивают доверие, элита, недавно сцементированная волей к могуществу, постепенно уступает соблазну наслаждения жизнью. Так с исторической неизбежностью приходят в действие силы дезинтеграции: разве могут с вершин славы скатываться все ниже и Социология
ниже государи и народы, если они начинали с самой вершины — с подвигов героев, мудрости законодателей, добродетелей и доблестей предков? В политическом отношении самое большее, что может дать идея циклического развития режимов, так это некий суррогат, подменяющий собой картину фатального упадка.
Осмысление истории, признание многообразия институций, типов сообществ и самих идей от эпохи к эпохе — все это навело современных авторов на мысль о существовании еще и других механизмов упадка. Перемены, а не постоянство, стали считаться не только неизбежными, но и желательными. Отсюда логически следует, что консерватизм может оказаться причиной, способствующей разрушению и падению. Прусская армия под Иеной отстала на целое поколение. Французская армия под Седаном в 1870 г. и в кампании 1940 г. отстала от прогресса в вооружениях и тактике. Стремление к инновациям, а не поддержание рутины, представляется вообще как выражение способности к коллективному действию.
Откуда же проистекает паралич способности к инновациям? Для каждой страны и каждого конкретного случая можно предложить свои объяснения. Многим людям присуща склонность к интеллектуальной лености: все институции, все коллективы и сообщества имеют тенденцию сохранять неизменным свое существование. Организация армии, кадровый подбор офицерского состава, корпоративный дух могут объяснить низкий качественный уровень армии одной страны по сравнению со страной, принадлежащей к тому же самому цивилизационному пространству. Философы, в частности Гёгель, предложили Мир и война между народами • Раймон Арон
'■т, *
375 ..
Часть II
глобальное объяснение того, что можно назвать историческим консерватизмом. Сообщество людей, организованное в “державу” (Macht Staat), черпает свою жизнеспособность в определенной исторической идее. Если такой идеи нет или если она перестает соответствовать требованиям эпохи, данное сообщество постепенно будет лишаться смысла своего существования и окажется все менее способно создавать ценности культуры. И если национальные государства принадлежат лишь пошлому, то может ли Франция расстаться с исторической идеей, которая составляет, так сказать, самую плоть этой страны?
Дискуссия о французском декадансе началась во Франции в прошлом веке. Факты легко истолковывались по-разному, в зависимости от того или иного способа суждений, признаваемого классическим. Со времени Революции, утверждала одна школа, у Франции больше нет бесспорного суверена и единодушно признаваемой всеми гражданами законности, страна больше не может вести войн, потому что у нее нет короля1. Любой национальный кризис сразу превращается в кризис конституционный. Страна, где нет единодушия по вопросу о форме государства, теряет способность действовать на мировой сцене. Народ, претендующий на создание империи, который в конце концов преодолел эту трудность, это английский народ (или англосаксонская раса) — так отвечала другая школа. Жребий был брошен, и исход битвы между Францией и Англией в XVIII веке определил, кому быть хозяином мира. Никакая победа объединенной 1Ърмании не смогла отменить приговор истории, вынесенный окончательно. А между тем победителем оказался народ, имеющий представительные учреждения и проводивший парламентскую реформу. Франция же, отказавшись от либеральных институций, ускорила свою деградацию. Это стало поистине неизбежным, утверждала одна из последних школ, из-за снижения уровня рождаемости. В перспективе и в конечном счете именно в зависимости от численности населения размещаются на иерархической лестнице народы одинакового уровня цивилизации. Ни один военный гений не одержит победы на поле боя, если проигран бой колыбелей.
Все эти объяснения не исключают одно другое. Фактически они могут дополнить друг друга, но в каждом конкретном случае они комбинируются совершенно по-разному. Противоречия по поводу формы государства безусловно были в течение всего XIX века причиной ослабления Франции. Единство народа— элиты и масс — есть один из определяющих факторов силы. Отказ от реформ вызвал крушение монархии, приверженность к определенным привычкам, верованиям и убеждениям, сопротивление “приобретенным интересам”, всяким переменам, даже необходимым ради общего блага, определенный обскурантизм, поощряемый церковью и вообще клерикализмом, — все эти феномены, отягощающие общество, так же входят в число причин упадка. Что же касается воздействия снижения рождаемости, то оно очевидно. Но какова связь между законами и нравами, между Французской революцией и сокраще1 Напомним о существовании небольшой книжки социалиста М. Самба “Призывайте короля или заключайте мир” (М. Sembat. Faites un roi ou faites la paix. Paris, 1914).
- 376
Раймон Арон • Мир и война между народами
нием рождаемости? Если родители не хотят иметь больше двух детей, виновны ли они и в чем?
Современные данные по этой проблеме таковы, что никто не может сомневаться в важности численности и техники. Добродетель бессильна против атомных бомб; 45 миллионов французов никогда не сравняются на полях сражений или на заводах, с 200 миллионами русских. Место в иерархии безусловно зависит от численности населения. Но за пределами всех этих очевидных явлений продолжает существовать традиционная неуверенность и неясность.
Соотношение между моральными и материальными факторами, или, если воспользоваться понятиями Монтескье, между законами и обычаями, то есть — качество институций и воля народов остаются сегодня столь же туманными и неоднозначными, что и в прошлом. Падение рождаемости началось во Франции еще до Революции. Законодательство о наследовании неблагоприятно воздействовало на величину семей, хотя Семейный кодекс способствовал некоторому повышению рождаемости; однако законы всегда представляют собой лишь одно из условий, определяющих формирование обычаев. Демографический и экономический рост определяются целым клубком причин, который трудно распутать.
Сегодня, более чем когда-либо, спорят о совпадении или противостоянии между политической и моральной добродетелью, между исторической жизнеспособностью народа и качеством его культуры или коллективного существования. Было бы слишком пессимистично утверждать о радикальном противостоянии этих понятий. Готовность пойти на жертвы, рост разного рода инвесСоциология
тиций, темпы технического прогресса— эти и другие факторы требуют от властей и от народа достоинств нравственного свойства. Но следует ли хвалить тех руководителей, которые принуждением вырывают согласие у подчиненных? Напротив, свободные режимы дают гражданам возможность не соглашаться на жертвы, от которых не могут уклониться народы при авторитарных режимах. Но свидетельствуют ли, сами по себе, высокие темпы развития страны о коллективной добродетели?
По нашему мнению, институции, образующие политическую цивилизацию, как таковые, не снижают ее эффективность, если последняя измеряется повышением уровня жизни и производительности труда. Но на какой-то краткий период и авторитарный режим может, в своих собственных целях, привести в действие еще более значительные коллективные ресурсы. Было бы тщетным надеяться, что народы в одно и то же время выйдут на высокий уровень цивилизации и стяжают воинскую славу. Если, за неимением лучшего выражения. мы назовем исторической жизнеспособностью совокупность качеств, дающих преимущество тем или иным народам в соперничестве держав, то никто не станет утверждать, что наиболее жизнеспособные народы — это также всегда и наиболее нравственные народы. В этой связи возникает вопрос, в какой степени коллективная жизнеспособность совместима с уважением личности и свобод.
Постановка такого вопроса не нова, но обновлена. Она не нова, потому что никогда добродетели, дающие народам мощь, не смешивались обязательным образом с добродетелями, проповедуемыми церковью и философами. Она обМир и война между народами • Раймон Арон
377
Часть II
новлена, потому что недостаточная численность подчиненных ограничивает карьеру, открывающуюся перед всяческими цезарями и рыцарями. Вместе с тем падение династий и коррупция режимов уже не выступают как некие фатальные неизбежности. Никакая схема становления не возникает из хаоса событий, из биологических циклов, даже из процесса загнивания под воздействием времени. Соответственно этому движение к величию и могуществу в Европе, по-видимому, не подчинено никакой закономерности.
Испания и Франция более ревностно, чем Великобритания и Германия, культивировали теорию упадка. История Великобритании с XVII века представляется непрерывной, история Германии, или Германий, — прерывистой. Частично такое различие можно объяснить контрастами в географическом положении этих народов. Защищенные своим островом, англичане не опасаются вторжений, а для разрешения собственных междоусобиц у них больше шансов регулировать свои распри, даже религиозные, без вмешательства заграницы. С XVI века они не стремились к континентальным завоеваниям в противоположность народам, принадлежащим к той же сфере цивилизации, что и они сами. Когда они теряют свою империю, то сохраняют собственное единство, независимость, престиж, институции. Территория, населенная немцами, становится полем боя всякий раз, когда на ней не господствует какая-нибудь сильная держава. Реформа со своей свитой из войн и иностранных интервенций стоила Германии двух веков политического бесплодия. С XVIII века и появления на востоке Российской империи, ресурсы которой потенциально неисчерпаемы и которая способна позаимствовать или захватить инструменты, с помощью которых создается сила, центральное положение Германии становится заманчивым и одновременно незащищенным. Экспансия к далеким землям ей преграждена английским флотом, объединенный рейх должен либо ограничить свои цели собственным благополучием и преобладающим влиянием на континенте, либо впасть в амбицию и попытаться учредить всеобщую монархию, как называл ее Монтескье, а мы назовем гегемонией применительно к Вильгельму II и империей применительно к Гитлеру. Такая попытка натолкнулась на ту же самую преграду, что и наполеоновская затея: верх одержал союз континентальных государств, враждебный к сильнейшему из них же, и морского государства. Но и в XX веке Германия была бы способна стать победительницей, если бы европейская система замыкалась на самой себе. Исход дела дважды был решен в результате американского вмешательства.
Сегодня ни англичане, ни немцы не мучаются мыслями об упадке: первые выиграли войну, которая оказалась также концом их царствования; вторые выиграли столько битв, прежде чем проиграть последнюю1, что вовсе не объясняют это потерей своих боевых качеств. Они порицают спесь и безумие своего вчерашнего лидера, но не жалуются на нехватку храбрости и преданности народа и солдат. “Германия, обольщенная до глубины души сама собой, в едином порыве устремилась за своим фюрером. До самого конца она 1 Как французы в 1815 г.
378 Раймон Арон • Мир и война между народами
подчинялась ему, служила ему с таким усердием, с каким никакой другой народ никогда не служил своему руководителю”1. “Дело Гйтлера было сверхчеловеческим и бесчеловечным. Он отдавался ему весь. До последних часов агонии в глубине берлинского бункера он оставался непререкаемым несгибаемым. безжалостным, каким был и в дни своих самых блестящих успехов и побед”1 2. Квалификация того или иною деятеля как бесчеловечного, означает осуждение его инициаторов и хозяев, а не исполнителей. Германское величие было убито безумием одного человека, оно не умерло от истощения, как величие испанское и французское.
И в самом деле, оба только что названных народа не пали сразу, как Германия, и не оставались победоносными до последнего дня, как Великобритания, а угасали постепенно. Потому-то в XVIII и XIX веках испанские авторы непрестанно задавались вопросом: по какой причине испанская пехота, заставлявшая дрожать Европу, больше не господствует на полях сражений? Быть может, приток золота и серебра стал сдерживать развитие ремесел и торговли, создал хрупкое изобилие обманчивое богатство? Или же само впечатление об упадке, в XVIII веке, было ошибочным или сильно преувеличенным, а соединение престолов Испании и Империи было случайным и временным? В XIX веке, после опустошения, произведенного наполеоновскими войнами, и потери американских владений, падение стало очевидным и трагическим; гражданские битвы и экономический застой все больше и больше снижали потенциал госуСоциология
дарства, которое было великим возмутителем спокойствия четырьмя веками ранее.
Иным был французский исторический путь. За 1815 г. последовал резкий и жесткий упадок, хотя Франция времен Реставрации в отличие от 1Ърмании 1945 года, сохранила свое единство и независимость. Память о недавних победах уберегла французов от чувства унижения. Франция не выдержала натиска обширнейшей коалиции, но до самого конца ее лидер был гениален а солдаты отважны. Время зависимости было заполнено грезами о реванше. Только в середине XIX в. политические обозреватели и исследователи начали подводить итог. Королевская Франция первенствовала в Европе во второй половине XVII и в значительной части XVIII в. Армии Республики и Империи по своей мощи за нескЬлько лет намного превзошли своих соперников. Что ж осталось в конце концов от стольких войн, смертей и побед? Людовик XIV навлек на себя ненависть всей Европы. Чтобы посадить на испанский трон своего внука, он затеял нескончаемую войну и дал возможность Англии стать владычицей морей и установить имперское господство в Индии и Америке. Наполеон, пользуясь средствами и способами несравненно боле совершенными, предпринял попытку установить свою гегемонию, но в конечном счете оставил Францию территориально меньшей, чем принял ее. Обманутая в своих грандиозных надеждах, Франция необратимо угасала, раздираемая конфликтом легитимностей, ослабленная снижением рождаемости.
1 Ch. de Gaulle. Le Salut. Paris, 1959, p. 174.
2 Ibid., p. 175.
Мир и война между народами • Раймон Арон 379
Часть II
Обстоятельства, при которых Испания, Франция, Германия должны были выдвинуться на передний план, слишком различны, чтобы объединять их одной схемой. Разумеется, возмутитель спокойствия, то есть держава, которая может претендовать на гегемонию в дипломатической сфере, должна располагать превосходящими ресурсами. Испания во времена, когда ее король был еще и императором Германии и сувереном в Южной Америке, была также самой процветающей страной в Европе. Франция XVII и XVIII веков была наиболее населенной страной с самой прочной системой правления. Германия Вильгельма II в промышленном отношении была наиболее развитой страной континента. В каждую эпоху условия для могущества складывались в пользу государства, претендующего на гегемонию.
Если эти условия определять абстрактно, то их составные всегда одинаковы: потенциал ресурсов и коэффициент мобилизации. Однако в общем объеме ресурсов соответственная часть драгоценных металлов, торговых прибылей, сельского хозяйства и ремесел никогда не бывает постоянной величиной. Способность к коллективному действию может, сразу или постепенно, возрастать или уменьшаться по таким причинам, как качество центральной власти и администрирования, характер связи с провинциями, случайные династические союзы, степень господства в далеких от метрополии землях. Испания не могла навечно сохранять выгоды от династического союза; господство на отдаленных территориях тоже не длится бесконечно. Качественное превосходство какого-либо одного народа на полях сражений редко продолжается по времени дольше, чем одно или очень немного поколений (бывают времена, когда ни одно из государств одинакового рода и масштаба не обладает таким превосходством). Преимущество в численности населения и ресурсах переходит от одного государства к другому в зависимости от перипетий дипломатической истории и переменчивых разновидностей богатства. Если и существует какое-то общее соображение, навеянное фактами, так это то, что на всем протяжении истекших веков европейской истории величие и мощь имели мало шансов оставаться продолжительными. Факторы силы были слишком нестабильным, чтобы обеспечивать постоянную удачу. Обстоятельства, достаточные для увеличения или уменьшения способности к коллективному действию, бывали многочисленными и непредсказуемыми (энергичный или неспособный монарх, династические соединения или разъединения). В века, предшествующие Х1Х-му, коэффициент мобилизации был существенно значительнее потенциала (то есть при некоторых обстоятельствах, политические факторы были важнее экономических). Наконец, везение, которое поочередно выпадало на долю Испании, Франции, Германии, Англии, было очень разнохарактерным. Учитывая все это, довольно затруднительно составить общую картину, стиль, единую схему декаданса, упадка.
Французские и испанские мыслители задавались одним настойчивым и загадочным вопросом. Когда Ренан писал в 1871 г. “Франция унижена, и у вас не будет больше французского духа”, — отдавал ли он дань, приносил ли жертву патриотизму? Искал ли он достойные объяснения ностальгии по - 380 , ж** , Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
могуществу? Или же поистине верно, что народ, познавший “величие и славу“, никак не может приладиться к статусу народа второго или третьего разряда? Действительно ли народ, сыгравший немаловажную роль на мировой сцене и переставший ее играть, стушевывается и хиреет. В самом ли деле народ, лишенный исторической идеи, постепенно теряет свою созидательную жизнеспособность также и в культурном отношении? Короче говоря, могущество государства, пусть даже и достигнутое способами, противоречащими требованиям религии и морали, является ли необходимым для приобретения качеств, обеспечивающих коллективное существование и созидание творений духа и ума?
Опыт европейской истории не позволяет дать определенный и категорический ответ. То что упадок культуры сопровождает упадок мощи или следует за ним — в этом можно довольно легко убедиться на примере Испании, но труднее на опыте Франции. Об этом не может быть и речи для Германии. И тем не менее вопрос не снят. Он актуален, и вечен. Он затрагивает тайну истории и одновременно погружает нас в бурную повседневность. Прав ли был Гитлер, говоря, что земля принадлежит сильнейшим? Обречены ли на угасание европейские народы, если они остаются народами?
2. Судьба цивилизаций
Исторический закат европейских народов был ускорен двумя войнами XX века и распадом европейских империй в Азии и Африке, который сам был ускорен или даже вызван этими войнами. Во всяком случае европейские народы, вышедшие за рамки Европы и перемещенные на планетарную сцену, оказались отодвинутыми с переднего плана и, если уж до конца быть пессимистом, оказались обреченными на бессилие и падение своего престижа. Вне “маленького кусочка Азии“ европейские народы фатальным образом встретились с политическими сообществами иного измерения, которые принадлежат к совершенно другому типу сообществ.
Российская империя, хотя династия Романовых и подражала в XVIII в. европейским монархиям, исторически принадлежит к иному типу, чем страны Старого Континента. Как политическое сообщество она относится к имперскому типу — последнему из имперских сооружений, возведенных в степях; но в данном случае впервые завоеватели шли с запада на восток, а не с востока на запад. Царские воины находили в Центральной Азии, Самарканде, Тифлисе могилы монгольских владык и живую память о них. В то же время русское государство, созданное московскими великими князьями, старалось соединить в один народ европейское славянское население (притом разноязычное) с населением неславянским. Наконец, давно пройденная в Западной Европе фаза заселения безлюдных пространств проходила в России по восточноевропейским равнинам, наподобие того как осваивались западные просторы Северной Америки. Формирование государств европейского типа на русском и американском пространствах содержало в зародыше упразднение народов как таковых (этот процесс мог несколько задерживаться из-за политических неурядиц и войн разного рода). Среди нынешних государств только Китай и Индия — и, быть может. Мир и война между народами • Раймон Арон
381
Часть II
завтрашняя Бразилия — встанут на уровень обоих гигантов.
Сосуществование в рамках одной и той же системы, государств различных типов не есть беспрецедентное явление. В древности греческие города-полисы одержали верх над империей мидийцев; Римская империя, за пределами своих провинций, вступала в стычки с туземным населением. Города, королевства, империи, варварские племена представляли собой политические сообщества разных измерений и отнюдь не однозначных основополагающих принципов. Таким же образом вольные города, феодальные княжества, торговые и богатые города типа Венеции, монархии на пути становления как национальные государства были весьма разнородными участниками дипломатической игры в Европе. С точки зрения внутренней структуры и отношений между государством и церковью, а затем между государством и идеологией, европейская система никогда не была однородной.
Однородность европейской системы в XIX в. оставались поверхностной. Все политические сообщества восприняли идеи и практику традиционных министерств и ведомств. Парламентские республики, либеральные и авторитарные империи подчинялись, делая это приблизительно и неаккуратно, неписаным правилам кабинетной дипломатии. Династические государства вводили у себя либеральные учреждения; республики сохраняли некоторые привычки династических режимов; многонациональные империи учитывали различные национальные требования, но вовсе не помышляли, так сказать, о самороспуске. В XX веке все эти компромиссы разбились вдребезги, и вместе с тем выравнивались технические возможности, сокращая диспропорцию между территорией и ресурсами, с одной стороны, и военной силой, способной быть мобилизованной, с другой. Гитлер еще не верил в военную силу Соединенных Штатов, ссылаясь на то, что там нет военного класса. До 1939 г. многие наблюдатели думали, что Муссолини сильно увеличил военную мощь Италии и что Советский Союз, ввиду своего технического отставания и характера режима, будет играть второстепенную роль в драме Второй мировой войны.
Нынешнее разнообразие политических сообществ, из-за которого европейские народы оказываются на заднем плане, отличается от разнообразия внутри европейской системы в прошлые века. Новейшие монархии означали преодоление феодальных княжеств, но все народы оставались вправе надеяться на свое приобщение к новой исторической форме. Новшество имело политический характер. За несколько лет или несколько десятков лет такое инерционное отставание было ликвидировано. Историческая идея потенциально была доступна всем, но только не народам, ставшим заложниками своей истории до такой степени, что они уже не могли вырваться из плена.
Упразднение понятия народы принимает в наше время вид неотвратимого рока. Приблизительное соответствие между силой и ресурсами, между ресурсами, людским потенциалом и сырьем, между возможностью мобилизации сил и мощью не позволяют надеяться, что гений лидера или доблесть народа могут не подчиниться приговору Числа. Темпы экономического роста могут быть более высоки у одних, чем у других, народы на малых территориях могут иметь более высокую рождаемость, чем наро*382 < -
Раймон Арон • Мир и война между народами
ды на больших пространствах. Следовательно, одни народы не смогут догнать другие ни по ресурсам, ни по могуществу.
Народы могут надеяться (или опасаться), что настанет черед распасться и политическим сообществам, объединяющим обширные территории. Такого исхода нельзя исключать для Индии, единство которой есть единство цивилизации, образа жизни, мышления и верования, но не единство политической традиции, языка или расы. В более долгосрочной перспективе единство Советского Союза тоже не избавлено от политических невзгод, хотя единство этой страны и выдержало испытание революционной фазы, между падением царизма и приходом к власти большевиков, и хотя оно имеет шанс продлиться еще порядочно времени и даже как будто укрепляется. Как Соединенные Штаты, так и Китай, по-видимому не распадутся на соперничающие государства в обозримом будущем (хотя и там всегда возможен раскол из-за внутренних междоусобиц).
Милости, которыми фортуна осыпала четырех великих — Соединенные Штаты, Советский Союз, Китай и Индию, — отнюдь не одинаковы. Соединенные Штаты представляют собой колонию европейских народов (в том смысле, в каком говорят о колониях, основанных греческими городами-государствами). Прибыв в Америку, иммигранты с опытом европейской цивилизации, сумели сберечь единый суверенитет на огромной территории. Они пользовались традициями, идеями, способами хозяйствования Старого Континента, но не разгораживались национальными перегородками и были свободны от узости взглядов так называемых почвенников.
Социология
Судьба улыбнулась восточноевропейским славянам, которые долго были несчастливы, потому что жили на путях монгольских вторжений, да и климат был суров. Они начали занимать территории еще почти безлюдные; демографический рост XIX в. позволил им успешно освоить необъятные просторы. Заселение и завоевание силой оружия шли рука об руку. Два века истории как бы слились. В Советском Союзе как и в Соединенных Штатах, колонизация проходила почти одновременно с восхождением обеих стран на вершину международной системы.
Срединная империя — самая древняя и самая долгая по сроку существования империя в истории человечества. Лишь за одно столетие она еще больше расширилась путем заселения северных районов, по ту сторону Великой стены, которая долго была границей и защитницей имперского мира. Единство империи многими веками поддерживалось управлением со стороны просвещенных людей, почти божественным авторитетом императора, устойчивостью и постоянством семейных и местных структур, престижем культуры, доступной через письменность всем китайцам несмотря на разнообразие диалектов в устной речи. Коммунистический режим, восстановив авторитет центральной власти на всем китайском пространстве, построил новые фабрики и заводы научил читать и писать всех: авторитарное, промышленное и популярное коммунистическое государство делает из Китая гиганта.
Из этих четырех территориально огромных стран только Индия не стала великой по мощи, и у нее меньше всего шансов стать таковой, а если даже и станет, то вряд ли сохранит такой статус. Сегодня она страдает от скудости ресурМир и война между народами • Раймон Арон *
у 383
Часть II
сов, которые могли бы быть мобилизованы государством, и это из-за того, что численность людей гораздо выше возможностей машин. Население растет быстрее, чем производительность труда; довольно-таки либеральный режим не дает шансов столь же или еще быстрее сократить этот разрыв. Политический и управленческий класс, держащий в своих руках государство, пользуется языком вчерашнего завоевателя, а не таким национальным достоянием, как собственный язык, как это происходит в Китае. Китай становится или уже стал нацией в европейском понимании этого термина, а Индия остается цивилизацией, тоже в европейском понимании.
Следует ли истолковывать, в свете исторических прецедентов упадок, и переход в низший разряд европейских народов ввиду, как мы объясняем, расширения поля дипломатической деятельности? Следует ли рассматривать этот процесс как типичное явление западной цивилизации?
Мы не хотим здесь анализировать понятие цивилизации, как ее представляет Тойнби (или культуры, как ее понимает Шпенглер). В какой степени эти огромнейшие ансамбли (древнегреческая цивилизация, западная цивилизация) реальны? Каковы их границы? Почему они самобытны? Имеют ли они свою историю, и история одной отделима ли от другой? Одинаковы ли эти истории по сути, ибо сходство судеб есть лучшее доказательство самой реальности этих исторических субъектов?1 Сейчас нас интересует единственная проблема — какова схема становления, которая выявила бы какойто порядок в видимом на первый взгляд хаосе отношений между политическими сообществами. И в том, что касается таких отношений, надо ответить на вопрос, все ли цивилизации проходят типовые фазы, последовательность которых можно было бы определить заранее.
Начнем с идей Тойнби, как их сформулировал К. Райт1 2. Становление и развитие всех цивилизаций подразделяется на четыре типические фазы: рождение, собственно развитие, разрыв (breakdown) и распад. В части, касающейся отношений между политическими сообществами, эти четыре фазы будут таковы: фаза воинственных государств (или героическая фаза), фаза смутного времени, за которой следует стабильность всеобщей империи, и, наконец, упадок, или разложение. Не будем касаться начальной и героической фазы различной для разных цивилизаций, а обратимся к двум наиболее характерным моментам — смутному времени и всеобщей империи. Первая из этих только что названных фаз открывается разрывом (Пелопоннесская война) и завершается созданием всеобщей империи (таковая просуществовала с 31 г. до н. э. до 378 г. н. э.)3.
Если такое видение вещей свести к самому главному, то его можно резюмировать так: воинственные и воюющие
1 Замечания по этой проблематике можно найти в беседах об Арнольде Тойнби, проводившихся под руководством Раймона Арона, в книге “История и ее толкования"(Е’Ь181о1ге et ses interprétations Paris, 1961).
2 Quincy Wright. A study of war. Chicago, 1942,1, p 117 et sqq , 462 sqq
3 Я беру как пример древнегреческую цивилизацию, потому что именно она послужила, как мне кажется, для А Тойнби источником теории, которую мы сейчас рассматриваем
384
Раймон Арон • Мир и война между народами
государства рожаются и развиваются одновременно с самой цивилизацией; с какого-то момента, с какого-то поворотного события войны становятся разрушительными, а не созидательными, они разрывают тело цивилизации. Воинственные государства исчерпывают себя во взаимной борьбе и в конце концов подчиняются империи, которая дает им хозяина, но также дает и мир. “Империя есть мир” — повторим это знаменитое изречение, но такой мир скорее представляет собой передышку перед разложением, которое подготавливается самим этим миром.
Историк, полагающий возможным успешно изучать цивилизации, неизбежно наталкивается на эти две фазы: смуту и всеобщую империю, потому что они в той или иной форме должны проявить себя во всякой цивилизации. В исходной точке ее движения всегда находятся сравнительно ограниченные политические сообщества. И поскольку война внутренне присуща отношениям между суверенными сообществами, то весьма вероятно, так сказать априори, что эти сообщества рано или поздно истощают и исчерпывают себя и какое-нибудь из них берет верх над остальными. Смутное время и всеобщая империя мало что добавляют (применительно к международным отношениям) к двумя теоретическим и формальным понятиям мира, как основанного на равновесии сил, так и мира в рамках империи. Мне кажется, что действительно важные вопросы возникают за пределами этих двух понятий,
Социология поверхностных и, если можно так выразиться, неизбежных.
Имеют ли эти фазы примерно одинаковую длительность? Все ли всеобщие империи являются империями одного и того же рода? Достаточно прочесть труды Тойнби, чтобы констатировать, что империи либо появляются раньше, либо опаздывают для свидания-сопоставления друг с другом и что вообще их трудно сравнивать1. Оттоманская империя представляла собой всеобщую империю цивилизации восточного христианства, но с запозданием на несколько веков. Всеобщая империя Китая упрямо и упорно существует сверх предусмотренного срока: она, следовательно, может считаться “окаменелостью”, потому что не явилась вовремя на свидание со смертью1 2. Она в этом отношении сближается с Японией Токугавы, когда та была в фазе политической унификации островного населения с однородной культурой — унификации, достигнутой благодаря деятельности сегуна (вроде начальника дворца), то есть некоего заместителя императора, чья верховная власть формально никогда не отвергалась. Относить к одной и той же категории Римскую империю, созданную сообществом, находившимся в зоне (или, если угодно, на ступени восхождения в зону) в конце концов умиротворенной; Оттоманскую империю, чьи владыки исповедовали иную религию, нежели те, которых они заставили жить в мире; монгольскую империю, творение степных конников, столь же обширное, сколь и хрупкое, и империю, которую малень-
1 В томе XII (Oxford University Press. 1961) особо подчеркивается разнородность становления и развития цивилизаций. Периоды синтеза между цивилизациями отделяют смерть одной из них от рождения другой.
2 В своих “Переосмыслениях” А. Тойнби полагает, что может существовать “китайская модель”, или, скорее, “синийская”, — становления цивилизаций, отличная от “древнегреческой модели”, всеобщность которой тем не менее он допускает (Reconsld£rations, р. 186 sqq.) Мир и война между народами • Раймон Арон
385
Часть II
кий далекий народ, благодаря своему морскому превосходству распространил за два века на индийский субконтинент, — так считать означало бы скорее компрометировать, а не подтверждать метод исторических сопоставлений и сравнений. Завоеватели, пришедшие со стороны степи и океана, монголы и англичане вмешиваются в процесс становления и развития цивилизаций, которым они чужды. Империи кочевников, когда они создаются и учреждаются, не имеют в качестве своего определяющего фактора автономность и самостоятельность развития цивилизаций. Только те империи обнаруживают своего рода фатальность разрешаемого ими кризиса, которые завершают свое смутное время, и тогда имперский мир заступает на место мира, зиждущегося на равновесии сил.
Каждая из этих обеих фаз содержит вполне определенные характеристики применительно к международным отношениям; их особо выделяет К. Райт, интерпретируя мысль Тойнби1. В смутное время международная система находится в специфическом равновесии; политические сообщества разных типов (города, монархии, империи) завязывают между собой весьма переменчивые отношения, мирные или немирные. Не все военные системы принадлежат к одному и тому же типу, одни из них аристократичные (только дворяне и вообще благородные сословия носят оружие или, по меньшей мере, составляют решающую силу), другие демократичны (на войну призываются все граждане, под которыми, однако, подразумеваются отнюдь не все жители. Но, в зависимости от длительности кампаний, любители имеют тенденцию превращаться в профессионалов, а война рассматривается воюющими сторонами как решающий способ достижения желаемого. Она становится предметом юридических разработок, в которых уточняются пределы и формы боевых действий, обязанности и права воюющих сторон, а также сторон нейтральных. Война исполняет историческую функцию, легко различимую; она способствует расширению поля дипломатических действий и одновременно распространению более или менее вульгаризированной культуры.
В эпоху всеобщей империи войны же не означают схватки монархий или городов, которые узнают и признают друг друга и не забывают своего родства даже в момент фактической схватки; по-настоящему схватываются между собой империи и варвары, неспособные к дуэли между равными, иногда две империи, обреченные на сосуществование, потому что военная сила каждой из них не поражает в сердце другую, иногда имперские войска и мятежники (евреи), не выносящие имперского ярма и желающие сохранить свои законы и своих богов. Имперские войны против варваров, внутриимперские войны против мятежников, межимперские войны ради установления границ суверенитета — эти три сорта войн все больше ведутся профессионалами, которых вооружает и оснащает государство. Философия воспевает не войну как наивысшее выражение гражданственности, а мир, дающий безопасность и досуг людям культуры. Война имеет стабилизирующую функцию: когда сила империи слабеет, внутри и вне ее поднимаются варвары и обрушивают грандиозное сооружение.
1 Ор сП , I, сЪар VII е1 АррепсНсе 24, р 677—678
. 386
Раймон Арон • Мир и война между народами
Пользуясь аналогичными схемами Шпенглер и Тойнби приходят к совершенно иным выводам относительно современной им обстановки. Шпенглер — пессимист, считающий надежду (историческую или религиозную) трусостью. Человек есть хищное животное: наука и техника суть инструменты воли к могуществу. Лишь меньшинство людей — подлинные созидатели. Равенство людей, демократические институты свидетельствуют об упадке и ускоряют его. Созидательное меньшинство Запада вотвот потонет в волнах двойного мятежа белых и цветных масс. Передав остальному человечеству секреты своей силы, Запад погибнет как жертва закона Числа. Мы вновь переживаем времена цезарей: наше высокое звание командует нами, и мы, индивиды, находящиеся в рамках западной культуры, выродившейся в цивилизацию1, мы сами приближаем собственную смерть.
Шпенглер восхищался прусским духом, духом служения, суровости и дисциплины, духом аристократизма. Он презирал национал-социализм, потому что видел в нем вульгарность, отсутствие выправки и стиля, что как раз и характеризует демократическую эпоху. В 30- е годы он ждал “решающих лет”, когда свершится раздел планеты. Находясь во власти своего восхищения деспотами и презрения к парламентским режимам, он полагал, что у Муссолини есть шанс создать империю в Средиземноморье, чего не подтвердили, конечно, последующие события. Вне всякого сомнения он отрицательно отнесся бы к победам антиколониализма и распаду колониаль-
СОЦИОАОГИЯ
ных империй в Азии и Африке и расценивал бы их как этапы на пути к полной дезинтеграции западной цивилизации. ООН казалась бы ему верхом лицемерия, презренной и зловещей комедией: цивилизованные принимают “варваров” как равных себе и позволяют “варварам” решать своими голосованиями проблемы исторических конфликтов.
Тойнби подхватывает идею двойного мятежа, опираясь на концепции внутреннего и внешнего пролетариата, вульгаризированные сегодня. Созидательное меньшинство — он тоже приписывает лишь меньшинствам инициативу в сфере культуры — всегда остается изолированным в гуще всего прочего человечества. Иногда последнее готово следовать примеру или призыву личностей высшего порядка, но никогда оно не проникается пониманием ценности и значения высоких творений и свершений. По мере того как распространяются и расширяются политические сообщества, а войны умножают число рабов и побежденных, сила оружия заполняет пустоту, образованную нехваткой или отсутствием морального авторитета. Пролетарии, независимо от того, находятся ли они по ту или по эту сторону границ, утратили свои корни. Они погружены в цивилизацию, но не принадлежат ей, не интегрировались в нее: они будут слушать пророка и станут верующими всеобщей церкви, которая развивается в недрах всеобщей империи приходящей в упадок цивилизации. Взгляды Тойнби совпадают со взглядами Шпенглера по таким темам (точнее, по их фактологическим аспектам), как закат цивилизации и мя-
1 Мы используем здесь не наш словарь, а словарь Шпенглера. Мы же, в данной книге, понимаем культуру в смысле, какой придают ей американские антропологи, а также в более узком смысле творчества в сфере искусств и мышления Мы применяем понятие цивилизации в двух смыслах, либо это большие совокупности Тойнби, либо качество существования, выражаемое определением “цивилизованный"
Мир и война между народами • Раймон Арон 387
Часть II
теж внутреннего и внешнего пролетариата. Но иерархия ценностей у него противоположная: на вершине находится порыв, стремление к божеству, а не подвиги цезарей. Временный упадок есть для него духовное обновление. Империя обрамляет церковь, а церковь — это душа цивилизации, которой предстоит родиться.
Мы не собираемся обсуждать здесь эти обширные толкования. Мы лишь задаемся вопросом, какие уроки можно из них извлечь и помогают ли они нам понять современный период. Все эти сопоставления цивилизаций основаны на сближении древнего и нынешнего миров. Несомненно, всегда обнаруживаются сходные моменты. Но можно ли выделить из этих схем самое существенное, главное? Позволяют ли они нам представить себе наше будущее?
Возьмем, к примеру, одну из тем Шпенглера: фаза цивилизации (концентрация населения в городах, развитие технических средств, демократическая, или демагогическая политика и т. д.) и фаза войн, гражданских и с внешним противником. Цезари располагают своими армиями, и империя есть завершение подобных хаотичных конфликтов. При таком видении вещей, которое, вероятно, было присуще Шпенглеру, когда он писал “Закат Европы”, Запад вступает в полосу войн, которыми также был отмечен переход Древнего Рима от республики к империи: к тому же Запад недалек от конца тысячелетия, а именно такой срок положен живым организмам, каковыми являются культуры. По хронологии Тойнби, 1914 г. эквивалентен 431 г. до н. э., когда началась пелопоннесская война; тот и другой годы соответствуют моментам “разрыва”.
Является ли упадком фаза городского и технократического общества именно в силу своих особых качеств? Или же подобное утверждение лишь отражает предпочтительный подход некоторых историков? И напротив, не достигли ли производительные силы и научные знания Запада такой степени развития, что городская цивилизация XX века означает не конец культуры, а начало такого социального типа, который должен выжить?1
Рассмотрим подробнее тот аспект цивилизаций, который нас интересует, а именно международные отношения, и примем хронологию Тойнби: война 1914 г. имеет аналогию с пелопоннесской войной. Созидательный центр цивилизации — будь то Древняя Греция или Западная Европа — ввязывается в войну не на жизнь, а на смерть, результатом чего оказываются одновременно истощение очага и распространение света. Нравственное сочленение социального тела, в каждом из политических сообществ и в цивилизации в целом, разрывается окончательно. Политический суверенитет распространяется на более широкое пространство, но он навязывается силой оружия и не преодолевает внутреннего раскола. На какой же стадии находимся мы в 1960 г.?
В 1914 г. европейские нации были эквивалентны древним городам. Как нам представляется, в истории становления народов не вырисовывается никакая схема; становление греческих городов тоже не обнаруживает особой регулярности тех или иных процессов и перемен. Те и другие, движимые пери-
1 Если только не будет военной катастрофы.
388 Раймон Арон* Мир и война между народами
Социология
петиями гражданских битв или фортуной, своими собственными законами или разными обстоятельствами, выдвигались на передний план. Потом они быстро слабели от своих же походов, или их предавала судьба. Испанская монархия, соединенная династическими бракосочетаниями с империей и укрепленная ресурсами Америки; королевство Франция, когда плодородная почва и благоприятный климат соединились с политическим и административным единством: Германия, вышедшая из хаоса и обеспечившая себе рост численности населения и числа машин, — все они поочередно сыграли роль возмутителей спокойствия, славную и горькую роль.
Находятся ли сегодня европейские народы в таком же положении в Атлантическом союзе, в каком греческие города находились в Римской империи? Или pax americarta есть лишь этап на пути к pax sovietica?1 Или же ни одно из таких предположений, внушенных прецедентами, непригодно — либо потому, что народ, в отличие от города или империи, представляет собой постоянную реальность, либо потому, что теперь средства массового уничтожения способны обесценить или сделать совсем иной внешнюю политику? Каков бы ни был ответ, он окажется более обоснован, если будет опираться на анализ событий нашего времени, а не на гадания и поверхностные сравнения.
Давайте представим себя в рамках, очерченных Шпенглером и Тойнби. В отличие от всех прошлых цивилизаций, западная цивилизация обладает несколькими характеристиками, непосредственно касающимися международных отношений. Тут нации предоставили всем жителям, а не только свободным (не рабам), политическое и военное гражданство. Принадлежность к нации, народу есть достояние, накопленное веками, которое вписывается в чувства масс. Может ли современный патриотизм (цивилизационный или имперский) быть порожден таким же образом, как сформировался имперский патриотизм Древнего Рима? Похож ли советский патриотизм на имперские чувства граждан Рима? Ни единого следа чувств такого рода нет в сердцах европейцев по отношению к Атлантическому союзу. И даже невозможно пока что еще четко определить, зарождается ли ныне европейский патриотизм.
Никогда еще одна цивилизация не находилась в контакте со столькими другими цивилизациями; никогда еще одна цивилизация не завоевывала столько земель, не сломила столько привычек и обычаев и не передавала столько знаний и власти людям побежденным, закабаленным, эксплуатируемым ею. Освобождение Индии, воссоздание китайской империи не имеют ничего общего с мятежом внешнего пролетариата. Никому не ведомо, можно ли считать эквивалентом Римской империи pax americana или pax sovietica, если этот мир будет представлять собой систему, тянущуюся от СанФранциско до Москвы через Токио или Берлин, или, того более, если она охватит всю остальную Азию, Африку и Южную Америку. Как же можно это выяснить и решить, ведь намечающаяся планетарная система не имеет прецедентов, и будущая фаза человеческой истории, возможно, будет фазой совсем 1 “Американский мир", “советский мир” (лат.). — Прим. пер.
Мир и война между народами • Раймон Арон 389
Часть II
иных цивилизаций, нежели цивилизации Запада, исторического Китая или восточного христианства? Быть может, вообще всякие цивилизации принадлежат прошлому, а завтрашняя история будет всеобщей, универсальной?
Наконец, политические сообщества всегда были одновременной функцией исторической идеи, международных институций и техники (технических способов) борьбы и войны. В нашу эпоху идея осеняет народ сильнее, чем это бывало в империях, поскольку провозглашается право народов на самоопределение и считается необходимым согласие между гражданами и государством. Но если власть находится в руках людей другого цвета кожи и другой расы, говорящих на другом языке и чтящих других богов, то как могут граждане считать государство своим? Международные организации именно в этом плане придерживались концепций, наносящих, как минимум, ущерб европейским империям. Ослабленные метрополии не имели никакого сверхнационального принципа, который оправдывал бы их господство. Советский Союз достаточно силен, чтобы не допускать никакого вмешательства со стороны ООН и чтобы терпимо относиться к своим языковым и культурным автономиям, выкорчевывая при этом “буржуазный национализм”. Наконец, уровень военной техники благодаря своей двойственности — средства массового уничтожения и средства индивидуального уничтожения, — помогает не исчезать карликовым государствам, обеспечивает военную унификацию обширных зон и уменьшает способность великих держав угнетать слабые страны. В этом отношении мы далеки от Римской империи, которая благодаря своим дисциплинированным и хорошо организованным легионам, одна или почти одна многие века поддерживала свое превосходство над всякого рода импровизированными военными противниками.
Некоторые феномены, отмечавшие путь становления и развития других цивилизаций, оказываются распознаваемыми в свете последних веков западной истории. Но именно особенности, оригинальность этих типических фаз более интересны, чем те их черты, которые сразу напоминают об уже виданном и слышанном. В данном случае исторические сопоставления подводят к пониманию того, чего никогда не повстречаешь дважды.
3. Количественный метод исследования
Изучать схемы становления можно и другим способом. До сих пор мы прибегали к прямому наблюдению и познавательному сравнению; а между тем количественный метод весьма полезен по вполне понятным причинам. Схемы становления — это, так сказать, результат общей и неосознанной работы людей и течения событий. Частота или интенсивность того или иного феномена в международной политике относятся к категории дел, в которых участвуют “все и никто”. Какие же результаты, скажем, может извлечь, социометрия из весьма и весьма характерного факта международных отношений — из войны?
В таком исследовании надо преодолеть две трудности: какое определение войны принять? В каких рамках измерять частоту войн и определять их интенсивность?
390 4 г Раймон Арон • Мир и война между народами
Принятое нами, в теоретической части, определение, а именно: “вооруженный конфликт между политическими сообществами”, —достаточно на концептуальном уровне, но не определяет и не обрисовывает феномена войны в плане конкретной истории. В течение множества веков международное право не было разработано в достаточной степени, а государства не были четко отграничены друг от друга, для того, чтобы можно было ясно определить все “вооруженные конфликты” либо как внутренние, применительно к тому или иному суверенному сообществу, либо как схватку между суверенными сообществами. Даже в наше время возникают сомнения, когда юридическое определение конфликта претерпевает изменения за период между началом и концом военных действий. Юридически алжирская война была, по единодушному мнению, мятежом в 1954 г. и стала внешней войной1 в 1960 г. с точки зрения правительств, признавших временное правительство Алжирской Республики.
Социология
Наиболее обобщающее изложение проблемы было предложено статистиком Л.Ф. Ричардсоном1 2. В конце концов разве война не есть убийство одних людей другими. Обыкновенный убийца убивает одного или двух человек, война же есть серийное, массовое убийство. Между одиночным убийством и войной располагаются: грабеж, гангстеризм, организованный бандитизм. Все эти промежуточные понятия отражают различные степени анархии или организованности. Если допустить, что каждый год убивают по 32 человека на миллион, а мировое народонаселение составляет 1 358 миллионов, то за век число смертей в результате убийства будет уже выражаться в миллионах (5 миллионов между 1820 и 1939 гг.). Само собой разумеется, что сухо объективный количественный метод обречен на несостоятельность, если игнорировать, что смысл человеческих действий коренным образом различается в зависимости от того, идет ли речь об убийстве или борьбе, хотя там и тут результат одинаков — смерть людей.
1 По крайней мере, освободительной войной.
2 Резюме идей Л.Ф. Ричардсона можно найти в коллективной монографии “Психологические факторы мира и войны”. выпущенной Т.Х. Пиром ( Т.Н. Pear /ed. /. Psychological factors of peace and war. Londres. 1950).
Недавно вышли в свет две книги Ричардсона: “Оружие и отсутствие безопасности" и “Статистика смертельных схваток” (L.F. Richardson / Nicolas Rashevsky and Ernesto TYucco, eds./. Arms and insecurity. Quadrangle books, Chicago, 1960; Statistics of deadly quarrels. Quadrangle books, Chicago, I960). В первой рассматривается гонка вооружений. Ее резюме и дискуссию по ней можно найти в книге А. Рапопорта “Борьба, игры и споры” (A. Rapoport. Fights, Games and Debates. University of Michigan Press, 1960). Вторая, в более широком плане.трактует проблему “раздоров, вызывающих смерть людей". Здесь мы не будем, конечно, подробно обсуждать методы и результаты его исследований.
Что же касается проблематики, которую мы рассматриваем в этой нашей главе, то выводы Ричардсона согласуются с выводами К. Райта и с идеями, которые мы развиваем сами. Например, Ричардсон не видит никакой тенденции ни к увеличению, ни к уменьшению частоты войн за период 1820—1949 гг. Быть может, наблюдается тенденция к тому, что более частыми становятся большие войны, а более редкими — малые.
Многие государства совсем не часто вовлекались в войны, но, в зависимости от исторического периода какое-нибудь данное государство участвовало в них довольно часто. Поэтому невозможно квалифицировать как миролюбивое или воинственное то или иное государство как таковое. Государства втягивались в войны в пропорциональной зависимости от числа других государств, имеющих с ними общие границы.
В то же время Ричардсон констатирует, что рост численности населения с 1820 по 1949гг. не сопровождался соответствующим именно ему увеличением частоты войн и умножением потерь человеческих жизней в результате войн. Он делает отсюда вывод, что такое обстоятельство есть скорее некоторое свидетельство, но не решающее доказательство того, что человечество стало менее воинственным.
Мир и война между народами • Раймон Арон • <• : 391 ~
Язык дает много возможностей для словесного обозначения различных форм и способов применения более или менее организованной силы1: когда это внутреннее дело страны, говорят о бунте, мятеже, восстании, революции; когда не внутреннее — об интервенции, карательной экспедиции, умиротворении (или усмирении). В качественном отношении нетрудно уяснить нюансы, выражаемые этими словами. Бунт обычно представляется как нечто внезапное и охватывающее очень малую часть населения на очень малом пространстве: бунтовщики поднимаются против закона, порядка, власти, они используют силу и подавляются силой, но они не всегда составляют организацию и не всегда ставят перед собой собственно политические цели (свержение правительства или режима). Бунт превращается в мятеж скорее не тогда, когда он приобретает больший размах, а когда открыто выступают зачинщики и когда наличествует ясно выраженная политическая воля. Мятежники знают, чего хотят, а точнее, в негативном аспекте, чего они не хотят. Революция1 2 рождается из мятежа или восстания, когда рушится существующая власть, правительство, режим. Гражданская война вспыхивает, когда ни власти, ни восставшие не одерживают верха немедленно и непосредственно. Количественный анализ, разумеется, не улавливает всех этих тонкостей, часто переменчивых и эфемерных в реальных событиях. Все эти разнообразные случаи охватываются концепцией “внутренних волнений”, используемой Сорокиным: силовой конфликт с применением имеющегося оружия между более или менее организованными группами внутри определенной зоны суверенитета.
Множественность выражений, обозначающих формы применения силы государством за пределами его территории — интервенция, карательная экспедиция, полицейская операция, умиротворение, —объясняется разнородностью групп населения или сообществ, вступивших во взаимную схватку. В XIX в. французы говорили о завоевании или умиротворении Алжира, потому что они не признавали ни алжирского государства (которое, быть может, и не существовало), ни равенства с алжирцами в чисто человеческом плане. Однако сама формула “алжирская война“ уже есть косвенное признание требований алжирских националистов. Впрочем, такие требования звучали непрестанно, как если бы алжирское государство никогда не переставало существовать. В соответствии с обычаями века, обе стороны пересматривают и переписывают историю. Одни изображают Алжир 1830 г. как чистое и пустое место, другие снабжают алжирское государство документами о благородном происхождении и богатой истории. И в общем, интервенции и карательные экспедиции означали применение военной силы против населения, которое рассматривалось как стоящее ступенью или ступенями ниже, а иностранное государство хотело его скорее наказать, чем завоевать.
Две попытки, наиболее достойные внимания, преодолеть концептуальные трудности принадлежат Куинси Райту и Сорокину. Первый комбинирует два критерия — один юридический (четко различимые суверенитеты), другой — коли1 Довольно часто сила выступает как организованная лишь у одной из борющихся сторон.
2 Восстание есть феномен более широкого свойства, чем мятеж, но оно далеко не всегда приводит к революции.
.. 392 Раймон Арон • Мир и война между народами
чественный (число бойцов, если оно превышает 50 тысяч)1. Вместе с тем он несколько смягчает неудобство, возникающее от сопоставления разнородных феноменов — бунтов, с одной стороны, внешних войн, — с другой. И в самом деле, его количественный критерий — число бойцов —делает возможным только лишь смешение между гражданскими войнами и войнами внешними. Да и в социологии и в теории вообще считается, что гражданские войны имеют такие черты, которые позволяют сравнивать их с внешними войнами.
Однако более удовлетворительным мне все же представляется метод Сорокина, который с самого начала проводит различие между внутренними волнениями и войнами одних государств с другими. Сорокин1 2 комбинирует несколько критериев, и все они количественные: численность армий, число жертв, длительность операций, пропорциональное соотношение бойцов и всего населения. Такие критерии приемлемы, хотя они и не позволяют определить ни социальные издержки, ни историческое значение войн. Число погибших само по себе, имеет меньшее значение, чем отношение этого числа к численности населения и к способности последнего воспроизводить себя. Несколько десятков погибших в Трафальгарском сражении ложатся более тяжелым грузом на весы истории, чем сотни и тысячи французов и немцев убитых и раненых под Верденом. Точно так же уместно пользоваться несколькими критериями для определения интенсивности волнений: размеры затСоциология
ронутой ими зоны, продолжительность волнений, степень насилия и степень вовлеченности масс (причем для каждой страны нужен свой индекс, соответствующий ее весу во всей совокупности изучаемой цивилизации). Но хотя такой метод и уместен, он высвечивает лишь количественный аспект внутреннего насилия в государствах. А ведь бывают и созидательные “волнения”, а другие оказываются исторически бесплодными. Согласно знаменитой формуле, большевистская партия с такой же легкостью захватила власть, с какой подбирают с земли перышко. Миллион испанцев погибли в гражданской войне, монумент в память о которой, воздвигнутый Франко, символизирует бесплодную жестокость.
Примем все же количественный метод, хотя и не забывая о его неизбежных ограничениях. В каких рамках следует его применять, и к каким результатам он ведет? Куинси Райт и его сотрудники зафиксировали все войны (в том смысле, в каком они их понимают) между 1480 и 1941 гг. Они насчитали их 2783 для цивилизации современного типа, а также распределили это число по основным странам4: Англия — 78, Франция — 71, Испания — 64, Россия — 61, Австрия — 52, Турция — 43, Польша — 30, Швеция — 26, Савойя (Италия) — 25, Пруссия — 23, Голландия — 23, Соединенные Штаты — 13, Китай — 11, Япония — 9. Если ограничиться периодом 1850—1941 гг., то результаты будут такие: Великобритания — 20, Франция — 18, Савойя (Италия) — 12, Россия — 11, Китай — 10, Испания — 10, Турция — 1 См.: Q. Wright, op. clt. I, appendice XX, p. 636.
2 Sorokin P.A. Social and cultural dynamics. New York, 1937; см., в частности, т. Ill, части II и III. Идеи Сорокина хорошо резюмированы в кн.: ER. Lowell. History, Civilisation and culture. Londres, 1952.
3 Op. cit. p. 638 et sulv.
4 Ibid., p. 650.
Мир и война между народами • Раймон Арон *
393
Часть II
10, Япония — 9, Пруссия (Германия) — 8, Соединенные Штаты — 7, Австрия — 6, Польша — 5, Голландия — 2, Дания — 2, Швеция — 0. Статистики имеют вполне понятную склонность делать отсюда вывод, что провозглашенное Уставом ООН различие между миролюбивыми странами (peace loving nations) и всеми прочими существует лишь в воображении и выражает лицемерие государственных деятелей лагеря-победителя.
И действительно, такой вывод, похоже, правомерен. Мы, в 1960 г. знаем, с какой легкостью преобразуются “национальные стереотипы“ в зависимости от зигзагов дипломатии. Какое представление складывалось у американской общественности в 1941 г. о японцах, китайцах, русских и немцах? Какое представление о тех же самых народах складывается у нее сегодня, когда эти народы круто переменили свою дипломатическую роль: японцы стали противниками-союзниками, а китайцы союзниками-противниками, русские и немцы тоже вовлеклись в такую же чехарду. Число войн, в которых участвовало какое-либо государство, есть скорее свидетельство роли, сыгранной каждым государством на международной сцене, а не агрессивности данного государства или народа. Если Испания занимает третье место в классификации участников войн в период 1480—1941 гг. и отступает на шестое место в период 1850—1941 гг., то причина этого кроется не в обращении к пацифизму, а в политическом уходе на задний план.
Тот факт, что частота участия в войнах оказывается пропорциональной положению каждого государства на дипломатической арене, наводит на мысль, что народы поступают мудро, когда они, невзирая на все виды и разновидности пропаганды полагают, что все государства вполне стоят друг друга. Это не значит, что государства, в каждый момент воинственны, империал истинны, жестоки. Совершенно ясно, что удовлетворенные народы менее агрессивны, чем народы, требующие чегото или настроенные революционно. Поведение народов определяется также соотношением сил между государствами. Но, если говорить о скольконибудь продолжительном периоде, нет народов, особенно крупных, которые были бы постоянно миролюбивыми или постоянно воинственными.
Пользуясь другим способом подсчета, Сорокин приходит к таким же выводам касательно склонности к внутренним волнениям, точнее — к насилию во внутренней борьбе. Кульминационные точки насилия не одинаковы для различных политических сообществ в рамках одной и той же зоны цивилизации. Каждая нация имеет свою историю, хотя в глазах статистиков и моралистов все национальные истории похожи друг на друга.
За последние пять веков европейской истории действия возмутителей спокойствия и колебания в соотношении сил, по-видимому, не имели слишком уж существенного влияния, чтобы повернуть историю в ту или другую сторону. За период 1500—1715 гг. К. Райт отмечает 143 войны, а за период 1716— 1941 гг. — 156. Правда, беря более короткие отрезки времени, примерно полувековые, он наблюдает неравную частоту вооруженных конфликтов. Но он не обнаруживает в этих разных амплитудах никакой регулярности.
И вот тут возникает решающий вопрос. То, что XIX век после 1815 г. был в Европе сравнительно мирным — об этом знают все историки, и если статистики *^394 Раймон Арон • Мир и война между народами
пробуют развеять это впечатление, предоставляя статистические выкладки, мы рискнем сказать,что они неправы. Если принять именно исторический подход, то в Европе, с 1816 до 1914 г. не было ни одного конфликта, который перерос бы во всеобщий, и никаких боевых действий, которые перевернули бы внутренний порядок в государствах или нарушили бы поступательное движение идей и институций. Действительно были конфликты, тем более многочисленные, чем более они были локализованными, и известно, что народы Европы умножили число дальних экспедиций в периоды, когда не бились между собой. Боевой дух, быть может, постоянен, но исторические проявления боевитости весьма различны.
Многие философы и другие ученые хотели бы уловить закономерность в этих вариациях, открыть их закон. Заманчиво вообразить себе циклы, выходы чего-то глубинного на поверхность истории, какие-нибудь биологические феномены. Однако ни одна из таких попыток не представляется мне убедительной. Правда, после той или иной большой войны или длительного периода всяческих войн (например, в 1791—1815 гг.) все происходит так, как если бы народы переводили дух и восстанавливали силы наподобие обыкновенных живых существ. Но разве такие формулы с биологическим резонансом имеют больше значения, чем ценность сравнения или образа?
Интервал между двумя войнами, говорят одни, составляет примерно одно статистическое поколение, то есть два десятка лет; самый разительный пример тому — начало второй европейской войны через двадцать лет после перемирия Социология
1918 года. Другие утверждают, что типичный интервал составляет два поколения, как это было между 1870 и 1914 гг. Дескать, сыновья не забывают, а внуки забывают урок предыдущей бойни, и воинственный пыл влечет их на поля славы и ужаса. Ни то, ни другое предположение не представляется мне имеющим общее значение. После больших побоищ наступает более или менее продолжительная фаза мирного состояния. Те, кто усматривает главную причину склонности людей убивать друг друга в перенаселенности, ссылаются не некую “демографическую релаксацию”. Те, кто воспринимает все это как своего рода чередование экспансии и, если так выразиться, вытеснение воинственности и возвращения к мирным настроениям, объясняют взрывы насилия таинственными законами коллективной жизни. Однако, хотя события и не соответствуют предлагаемой схеме с абсолютной точностью, ничто не мешает ставить революции и внутренние волнения на одну доску с войнами. “Кризисы” во французской истории XIX века хитроумным образом выстраиваются в почти регулярную последовательность: 1830, 1848, 1870, 1890 гг. Должен признаться, что мне трудно дать точное объяснение такому обстоятельству и его перспективам. В чем, в каком аспекте и отношении людские потери в гражданских и внешних войнах могут служить непосредственным источником и прямой причиной такой революции, как в 1830 г., или такого дипломатического конфликта, как тот, который был вызван в 1870 г. амбициями Пруссии и слабостью Наполеона III?1
1 Я отсылаю здесь читателя к гипотезам К Мораза в его книге “Французы и республика”(С. Morazé Les Français et la République, Paris, 1956)
Мир и война между народами • Раймон Арон 395
Часть II
Из всех количественных исследований наиболее поучительными представляются мне разработки Сорокина. Четкое различие между внутренними волнениям и войнами позволяет на смешивать эти существенно разные феномены, прослеживать и оценивать каждый из них — роль насилия во внутренней политике государств, частоту и интенсивность вооруженных конфликтов между государствами. То обстоятельство, что оба эти феномена объективно имеют тенденцию проявляться одновременно в моменты рождения и смерти государств и в некоторых условиях совершенно переплетаются и каждый из них способствует обострению другого, отнюдь не мешает прояснению того, что они различны по характеру, как и различна их роль в истории.
Достоинство статистики Сорокина заключается, по-моему, в том, что он показал: обе кривые не параллельны друг другу. Применительно к античному миру его исследование обнаруживает, что войны достигают кульминационной точки в III веке до нашей эры (век пунических войн), а кривая внутренних волнений, напротив, продолжает подниматься вплоть до I в. до нашей эры. Конечно, когда речь идет о Риме неудивительно, что именно пунические войны, где победитель должен был обеспечивать себе гегемонию в средиземноморском бассейне, достигают кульминации “воинственного феномена“, тогда как переходные века между республикой и империей, то есть вооруженная борьба между партиями и кандидатами на высшую власть, отмечены кульминацией феномена “внутренних волнений”. Тем не менее, если вообще не оспаривать пригодности этого метода, то его результаты, по крайней мере в значении отрицания оказываются довольно-таки существенными.
Сорокин отрицает, что можно установить соответствие между войнами и внутренними волнениями, между интенсивностью того или другого феномена, с одной стороны, и процветанием или упадком разного рода сообществ, с другой. Он отрицает, что тут можно заметить либо регулярное движение к плюсу или минусу, либо регулярное чередование плюсов и минусов. Внутренние волнения в пределах западной цивилизации достигали трех отделенных одна от другой вершин в VIII в., в XIII—XIV и в XIX и XX вв. Эти три вехи совпадают с переходными периодами между двумя типами культуры, которые Сорокин окрестил как ideational (духовную) и sensate (чувственную).
Нам нет нужды обсуждать всю совокупность взглядов Сорокина. Мы совсем не убеждены, что концепции, применяемые им для характеристики типов культуры, являются единственно возможными или наилучшими. Типология, используемая при изучении столь далеких друг от друга цивилизаций, по времени и по образу жизни, как античная цивилизация и цивилизация нашего времени, спорна по самой своей природе. У меня нет желания допускать, что войны и внутренние волнения могут относиться к одинаковой категории “ломки социальных отношений” (break-down of social relations). Можно, конечно, согласиться, что именно таковы смысл и направление внутренних волнений, поскольку всякое сообщество стремится создать такой порядок, который терпит применение силы лишь для своей собственной поддержки и защиты. Однако в течение многих веков обращение к силе для разрешения конфликтов меж396 wa Раймон Арон • Мир и война между народами
ду сообществами считалось неизбежным, законным и соответствующим самой сути международных отношений. Поэтому война как таковая не есть “ломка социальных отношений”, поскольку она связана с самой природой политических сообществ. Но так как политические сообщества создавались чаще всего с помощью силы по мере своего расширения становились все более и более разнородными по составу, они нередко сотрясались внутренними волнениями, интенсивность которых увеличивалась примерно в той же степени, в какой снижалась интенсивность внешних войн. Если какаянибудь империя отказывается от дальнейшей экспансии, то она все еще должна смирять мятежи и обеспечивать преемственность власти.
Совпадение между интенсивностью внутренних волнений и фазами перехода от одной культуры к другой сохраняет свое значение даже для тех, кто не приемлет типологию Сорокина. Соображение о том, что интенсивность волнений функционально зависима от глубины и быстроты социальных перемен, можно считать довольно банальным. Но количественный метод позволяет иногда не только подтвердить, а даже впервые обнаружить глубину и быстроту перемен. Помимо прочего, обе кривые (если рассматривать их как достаточно точные показатели) говорят об отсутствии какого-либо упорядоченного становления, будь то в сторону мира или, напротив, в сторону возрастающей боевитости, или же в сторону чередования фаз большей или меньшей воинственности. А отсутствие упорядоченности в процессах становления уже само по себе есть косвенное свидетельство того, что воинственные Социология
феномены могут истолковываться каким-то другим и довольно определенным образом.
Толкование, к которому нас подводят все предыдущие виды анализа, я бы назвал историко-социологическим. Война есть социальный факт, но факт уникальный среди других социальных фактов; она является одновременно и утверждением и отрицанием социальности, социальных отношений между воюющими сторонами. Когда последние принадлежат к одному и тому же обществу и сознают такую свою принадлежность, они ощущают вооруженную борьбу между собой как сугубо временное прекращение состояния их общности. Когда воюющие стороны принадлежат к чуждым друг другу обществам, но как-то родственным, они воспринимают борьбу между собой как очень важную и законную, но историк неизбежно склонен считать такую борьбу бесплодной, поскольку она имеет целью мир, который будет весьма непрочным на все то время, пока соответственные политические сообщества будут сохранять за собой право отстоять свою правоту. В историческом ракурсе войны, форма которых соответствует их содержанию и которые несводимы к внутренним волнениям, представляют собой, самое большее, отрицательно выраженные созидательные акции (благодаря им можно избежать деспотизма завоевателя). Плодотворны такие имперские и гражданские войны, которые вызывают к жизни или очерчивают четкие рамки политических сообществ и которые определяют идею или режим, долженствующие восторжествовать в созданном сообществе. Тем самым легко объясняется, почему нет упорядоченности в процессах становления: верхние точки военного насилия совпада-
Мир и война между народами • Раймон Арон:
397
Часть II
•> У^УУ^УЛУУУУУ^ЛУ^УУУУУУУ^ ^У >У > УУУ Л УУУУ МГУУГ№УУУУУУУ1УУУУ9¥УУУ АУУ1УУУУ&УУУНУУЛ У/УУУ> чубуку УЛУУУУУУУ УУУУУУ? нУУУ>УУУЛУУ?У
ют с фазами плодотворных войн1, когда ставится под вопрос структура или принцип политических сообществ и когда одна дипломатическая система распадается, а другая зарождается. Так называемые переходные периоды между двумя культурами — это такие периоды, когда внутренние волнения достигают наивысшей интенсивности. И если конечные причины насилия суть причины исторические и социальные, то процесс становления и развития насилия не имеет внутренних связей и последовательностей наподобие судеб государств и ценностей.
Территория, численность, ресурсы — таковы частичные условия или ставки в игре. Но люди бьются потому, что ставят идеи на службу воле к могуществу или волю к могуществу на службу идеям: потому что они живут сообществами, одновременно родственными и чуждыми друг другу и не приемлющими ни подчинения одного другому, ни взаимного игнорирования. Глубинные причины войн были одинаковыми и постоянными для одной исторической фазы. Но интенсивность феномена воинственности бывала разной ввиду различия обстоятельств, которые усиливали или смягчали эту воинственность.
4. Смысл и направление человеческой истории
Остается, однако, последняя возможность вывести на свет схему становления, и мы будем искать ее не внутри обширных совокупностей, которые мы назвали цивилизациями, а в промежутках между ними или, по крайней мере, на переходах от одного семейства цивилизаций к другому. Такое намерение не имело бы смысла, если бы мы исходили из философии Шпенглера, потому что, как он полагает, всякая цивилизация1 2 есть нечто единственное в мире и выражает собой единственную душу, замкнутую в биологическом цикле рождения, зрелости и смерти. Напротив, как считает Тойнби, можно подразделить цивилизации на первичные, вторичные и третичные в зависимости от того, родились ли они из несложных, примитивных обществ или из других цивилизаций, первичны ли они сами по себе и, наконец, вышли ли они из другой цивилизации, которая уже испытала в своем младенческом возрасте влияние еще какой-нибудь другой цивилизации. Западная цивилизация третична, потому что она вышла из древнегреческой цивилизации (или классической, по терминологии К. Райта), а та вышла из минойской цивилизации.
Сопоставление цивилизаций, рассматриваемых как нечто целое и цельное, еще более проблематично, в аспекте международных отношений и войны, чем сопоставление эпох и городов. Мне известна единственная такая попытка, предпринятая К. Райтом и его сотрудниками, которая, по-моему, грешит методическими ошибками. А ведь решающий вопрос прост: можно ли глобально измерить “воинственность” какой-либо данной цивилизации? К. Райт берет четыре критерия3: привычка к жестокости, про-
1 Плодотворных исторически: то, что происходило в действительности, может казаться нам отвратительным.
2 В общем-то Шпенглер говорил о культуре, а не о цивилизации По его воззрениям, цивилизация представляет собой фазу упадка культуры. Но мы по-прежнему будем пользоваться нашей терминологией и называть цивилизациями обширные совокупности, которые он называет культурами.
3 Ibid., I, р. 122.
398
Раймон Арон • Мир и война между народами
Социология
• 4 :<■ л
а ■й-.та-х«-^ & ■
истекающая из религиозных ритуалов, зрелищ, спорта; агрессивность, проявляемая ввиду частоты вторжений, имперских и межгосударственных войн; суровость или влияние воинской морали, обнаруживающие себя в армейской дисциплине; и, наконец тенденция к деспотизму или к централизации, наличие или отсутствие конституционных ограничений отправления власти.
Пользуясь этими четырьмя критериями одновременно, группа, руководимая К. Райтом, предложила следующую классификацию:
1. Наиболее воинственные цивилизации: классическая, татарская, вавилонская, сирийская, иранская, японская, андская, мексиканская.
2. Умеренно воинственные: хеттская, арабская, германская, западная, скандинавская, русская, юкатанская.
3. Наиболее миролюбивые: египетская, минойская, православная, шумерийская, несторианская, ирландская, индейская, индусская, синоистская, китайская, майя.
Когда речь идет о развитии первичных цивилизаций в сторону вторичных или третичных, такая классификация не дает возможности обнаружить, к большей или меньшей “воинственности” движется цивилизация. Среди наиболее воинственных фигурируют цивилизации, имеющие все три возраста. Нет также и никакой простой корреляции с привлечением расового или географического фактора. Самое большее, что можно сделать, так это перечислить некоторые обстоятельства, способствующие “воинственности” цивилизаций: разнородность населения, налаженные связи и коммуникации, роль скотоводов или кочевников. Цивилизации на плоскогорьях или в горах вроде бы всегда отличались воинственными настроениями.
Фактически я сильно сомневаюсь, что само понятие “воинственность” цивилизаций пригодно для чего-нибудь. На крайний случай его можно использовать лишь для чисто количественных разработок вроде тех, что проводит Сорокин. Но документальные данные не позволяют распространять такой метод на самые разнообразные цивилизации. Что же касается четырех критериев, указанных К. Райтом, то каждый из них, рассматриваемый отдельно, достоин внимания, однако они очень разнородны, а ведь результат, получаемый от их комбинации, должен быть каким-то одним.
Возьмем критерии 2 и 3 — частота вторжений и войн, суровость и воинская мораль, — которые, кажется наиболее близки между собой. Классический контраст между Афинами и Спартой напоминает нам о том, что агрессивность сформировавшегося политического сообщества не пропорциональна строгости военного порядка и способу правления. Японский порядок представлял собой, в течение двух веков Токугавы, воинский, а не агрессивный дух. Демократические общества Запада учредили у себя гражданскую форму правления, но вели крупные войны. Занимались ли они этими войнами потому, что вильгельмовская или царская империя все еще были проникнуты воинской моралью? Можно ли утверждать, что деспотизм советского типа, в России или в Китае, есть причина агрессивности, а между государствами с демократическо-либеральными режимами царил и будет царить мир? Признаюсь, я в этом не убежден. Подобные толкования были в моде одно демографическое поколение тому назад. Сегодня мы лучше понимаем, сколько хитМир и война между народами • Раймон Арон<
< - 399
Часть II
ростей наполняет мешок под названием “уловки здравого смысла”. Общество, придерживающееся либеральной философии, такое, как американское, не затевает войн ради самого себя, оно пацифистское в принципе, но оно при случае будет импульсивным, гневным и пойдет до конца, до победы, после того как оно по неосторожности или небрежности пригласило, так сказать агрессию. Разнородность режимов благоприятствует военным вспышкам куда больше, чем любой режим, рассматриваемый сам по себе.
Мы не собираемся отрицать разницу в степени “воинственности” народов и государств, какой бы из четырех критериев мы ни взяли для определения этого качества — жестокость, агрессивность, строгость военного порядка, способ правления. Вполне вероятно также, что цивилизации воинственны по-разному — что справедливо и в количественном отношении1 — в зависимости от роли, какую играют в ней воинственные народы, образа их жизни или способа, которым они управляются. Однако нам важно развеять иллюзию, будто общество, где установлен гражданский внутренний порядок, устранены жестокие зрелища и виды спорта, умножены конституционные гарантии, тем самым защищено от агрессии извне или от собственной агрессивности.
Наверное, в прошлом действительно возможно существование нечеткого, смутного соответствия между этими различными феноменами, и можно в самом общем виде допустить, что синоистская, а потом китайская цивилизация была менее воинственна во многих взаимосвязанных смыслах: население мало затрагивалось всяческими агрессиями, оно не знало сколько-нибудь частых войн и вторжений, в мирное время не жило по законам военного времени, но все эти характеристики далеко не всегда поддаются обобщению и вывод нельзя представить как единое целое. XX век был воинственным, если судить по числу и издержкам войн, и тем не менее политический порядок отделялся от военного порядка и господствующая философия была пацифистской. Самые разрушительные войны не всегда развязываются народами, для которой бой есть нормальная деятельность.
Нужно ли нам приходить к мрачному умозаключению этнолога конца XIX в. Ш. Летурно: “Война не претерпевает никакой эволюции”? Он посвятил серию своих книг вопросам эволюции больших социальных феноменов — торговли, политики, экономики, собственности. Одна из книг у него написана о войне1 2, но в ее названии нет слова “эволюция”. Все феномены эволюционируют, говорил он, за исключением войны.
Конечно, эволюционистские представления о сменяющих друг друга формах торговли, собственности, государства были, во многих отношениях, упрощенческими или иллюзорными. Трансформации в политике и экономике не бывают ни столь упорядоченными, ни столь четко ориентированными, как хотелось бы эволюционистам. Но утверждение Летурно сопряжено с навязчивым вопросом: неужели война не только внутренне присуща всем цивилизациям и всем эпохам, но и выступает как некая константа по своей природе и в сво1 Частота и интенсивность вооруженных конфликтов.
2 “Война в различных человеческих расах" (Ch. Letourneau. La guerre dans les diverses races humaines. Paris, 1895).
( • 400 "-'i VzÆvu ' Раймон Арон» Мир и война между народами
Социология
их формах? Всегда ли она подобна самой себе, поскольку она есть отрицание всего того, что человек пытается создать внутри и вне себя многовековыми усилиями культуры? Представляет ли собой война внезапное и жестокое возвращение к дикости, к мятежу против всякой эволюции, потому что война чужда всему, что есть истинно человеческое в людях?
Мы, современники концентрационных лагерей, газовых камер и атомных бомб, не можем сомневаться в том, что люди XX века способны на жестокости такие же ужасные — и еще более ужасные, — как и люди V или X века до нашей эры. Никто не может отрицать, что солдаты в пылу боя совершают зверства, которые ничуть не мягче зверств, творимых людьми, которых мы называем дикарями. Мы слишком хорошо знаем, какие утонченные способы физических и нравственных пыток изобретали и изобретают полицейские и инквизиторы. Если убийство себе подобного есть сама сущность феномена воинственности, если умерщвление как таковое — это и есть определение войны, то война поистине, так сказать, неподвижна, ибо ее суть как бы вечно определяется самой собой.
Одно обстоятельство бесспорно: во многих отношениях войны похожи на те общества, которые затевают войны. Всегда сходны виды и типы оружия и снаряжения. Почти всегда сходны между собой, прямо или несколько завуалированно, социальная стратификация и военная система. В нашу эпоху сходство снаряжения и вооружений поразительно. Подобие же между гражданским и военным порядками маскируется с тех пор, как правящие классы перестали быть классами военными. Но такое внешнее своеобразие, такое отличие современных обществ, организующихся по-разному на время мира и на время войны, есть лишь одно из выражений более глубокого своеобразия: в нынешнем процессе рационализации стали участвовать международные отношения. Если эту рационализацию проанализировать во всех ее аспектах, то она объясняет и, так сказать, индустриализацию боевых действий (сходство и родство снаряжения и оружия), и претензию политической власти не иметь ничего общего с военным порядком.
Рационализация действительно влечет за собой дифференциацию деятельности и функций. Во многих случаях сила, применяемая против мятежников, подобна, в материальном отношении, силе, применяемой против внешнего противника. Но мы обозначаем ту и другую силу совсем разными словами, потому что действия полиции имеют иное значение, нежели военные действия. Двойственность сути явления показалась нам здесь настолько очевидной, что мы сделали эту двойственность исходным пунктом теории. Такая двойственность существует в зародыше и в самых простых, простейших обществах, но в той или иной исторической фазе она часто бывала неустойчивой и блуждающей, потому что политическое сообщество, созданное вооруженной силой, поддерживалось ею же. Большинство государств не противились этому расчленению вооруженной силы, ведь она была последним средством спасения и гарантией существования правителей даже в годы мира.
Тем не менее разнородность гражданского и военного порядков вполне согласуется с историческим опытом последнего столетия. Средний класс, взявМир и война между народами • Раймон Арон
401 ~
Часть II
ший на себя ответственность за европейские народы, рассматривает самого себя как управляющего процессами труда, а не как воюющую силу. Он не считает, что его власть опирается на силу, хотя сила остается в его распоряжении, чтобы заставлять людей соблюдать законность. И марксизм, и американская философия политики — оба они вышли из этого буржуазного века и возраста. Марксизм, расширяя до уровня общей теории не совсем полно проанализированный опыт капитализма, усматривает в собственности на средства производства источник власти и привилегий, хотя на самом деле обладание оружием во много раз старше обладания орудиями труда. Американская философия политики склонна обобщать до такого же уровня опыт иммигрантов, которые одержали верх над природой, их сообщество вышло из промышленного предприятия, а не есть результат завоевания, и поэтому они непроизвольно и спонтанно признали радикальную антиномию между военным порядком и порядком гражданским.
Поскольку международные отношения проявляются в своих специфических чертах, то следовательно, мы видим двойную рационализацию — рационализацию права и рационализацию теории общефилософской и социологической. Юристы разработали соответствующие концепции, уточнили последствия суверенитета, вывели следствия из членения пространства и нечленения моря, определили права и обязанности воюющих и невоюющих сторон. В результате конвенций между суверенными государствами во много раз выросло число международных организаций и учреждений, которые устанавливают правила осуществления международных отношений частного или социального, но не государственного характера. Однако вплоть до Лиги Наций и пакта Бриана—Келлога (быть может даже вопреки Лиге Наций и пакту Бриана—Келлога) юридическая рационализация не затрагивала законности обращения к войне. Поэтому теория, будь то социологическая или философская, старалась разрабатывать тему последствий и условий эффективности дипломатическо-стратегического поведения, имея в виду действия в условиях угрозы войны или после победы той или иной стороны. Считается, что теория Клаузевица полностью была посвящена войне и вопросам ее ведения. Данная книга, в которой мы излагаем нашу теорию, имеет название “Мир и война между народами”, потому что в ней предпринимается попытка придать рациональную форму дипломатическо-стратегическому поведению.
Юридическая рационализация и рационализация теоретическая проникнуты одним и тем же духом, но они рискуют вступить в конфликт между собой. Чем больше первая из них старается найти пути разрешения конфликтов с помощью замены силы правом, тем более серьезными оказываются ставки, предназначенные оправдать разрыв юридических связей и возвращение к многовековой жестокости. Но война, согласно самой своей сути, имеет тенденцию доходить до самых крайностей. Понимаемая именно так, она в конечном счете неограниченно умножает формы и степени насилия. Целью здесь служит полная и абсолютная победа, и инструментальная рациональность предполагает и предписывает вовлечение всех средств ради достижения этой цели. Поскольку промышленные общества всегда готовы ко всеобщей мобилизации, то одни и те же общества, которые в равной мере 402 •
Раймон Арон • Мир и война между народами
похвалялись, что они являются гражданскими обществами по своим принципам, бывали, быть может, единственными, кто доводил до самого конца милитаризацию общества в случае войны.
Рационализация в своей тройственной форме (дифференциация, концептуальные разработки, размышления о сущности и эффективности дипломатическо-стратегического поведения) пока что не изменила самой природы международных отношений, как они складывались и наблюдались тысячелетиями. Средства ведения боя изготовлялись наподобие средств производства. Противоречие, с которым сталкивались общества, провозглашавшие себя миролюбивыми, но затевавшие тотальные войны, находило своё выражение в разнузданной пропаганде, лицемерии государств, стычках и противоречиях между философией и внешней политикой. Каждая великая держава имеет свою доктрину Социология
мира, прибегая при этом либо к международному праву, либо к социализму.
Война по своему содержанию все больше и больше теряет хоть какой-нибудь элемент мира, превращаясь зачастую в истребление целых народов и окончательно теряя человеческий смысл. Люди всё больше и больше признают мир, как единственное явление, отвечающее общему интересу воюющих сторон; война ставится вне закона. Так обречены ли на взаимную противоположность инструментальная логика тотальной войны и юридическая логика, квалифицирующая войну как преступление? Открывает ли развитие инструментальной рациональности перспективу спасения? Война привела к необходимости тотальной мобилизации, когда само ведение боевых действий подчинено рациональному расчёту. Не сделает ли этот же самый расчёт необходимым мир в наш термоядерный век?
ГЛАВА XII
Истоки воинственных институций
Человек по своей природе — миролюбивое или воинственное существо? Такой вопрос ставился ещё во времена, когда философы ссылались на природу, чтобы обосновать и объяснить социальные явления. Но в зависимости от содержания, вкладываемого в соответствующую терминологию, понятие природы приобретало совсем иное значение.
В первой части данной книги мы не раз использовали понятие природного состояния, относящееся к политическим сообществам в противоположность гражданскому состоянию. Последнее складывается между членами какоголибо сообщества, подчиняющегося законам и законности власти. Напротив, люди, ещё не достигшие гражданского состояния, не знают ни правил, ни хозяина и ведут себя так, как влечёт их природа или как позволяет им природа.
И в самом деле, в описаниях философами догражданского общества комбинируются две идеи: идея такого состояния человека, как если бы он находился вне всякого общества, выступал бы в Война и мир между народами • Раймон Арон
403 . -
Часть II
качестве полуживотного или некоего существа, одарённого рассудком; и идея человека, имеющего право на собственное существование в обстановке, когда каждый должен полагаться и рассчитывать лишь на самого себя. Описание природного состояния Гоббсом и Спинозой вполне выражает этот двойственный характер: психология человека, рассматриваемого вне рамок социальности, и мораль силы, действующая при отсутствии какихлибо других принятых норм.
Этот естественный, “природный" человек, остался ли он таким, каким был на рассвете истории? Таков ли он сегодня, когда власть рушится в революциях или в войнах между суверенными сообществами? Или ясе он таков, каким призван быть благодаря рациональности и “надприродности”, как бы воплощая эти свойства? Иначе говоря, противостоит ли естественное историческому, гражданственному, рациональному и сверхъестественному? Исторический человек безусловно принадлежит к тому или иному сообществу и обладает определённой степенью разумности. Противостоит ли природа социальности и разуму или же она способствует социальности, управляемой разумом, но это происходит таким образом, что создаётся впечатление, будто приближается конец света. В зависимости от того, кому из этих двух предположений отдать преимущество, само понятие природы принимает тот или иной смысл.
Словосочетание “естественное право” предполагает наличие универсальности, то есть того, что присуще именно человеку, независимо от его участия в разных формах и типах общества. Международное право получило своё дыхание от естественного права, но так и не смогло ликвидировать, упразднить естественное состояние. Это произошло потому, что суверены не организуют гражданского йорядка, ибо их обязательства и прерогативы проистекают из всеобщей и рациональной сути самого человека. Но так как никто не гарантирует уважения их прав, они вынуждены сами отстаивать и защищать их.
Многочисленные проблемы, связанные с понимаем и толкованием концепции природы, сегодня разбросаны по разным отраслям знания. Нам приходится спрашивать биологов, психологов, этнологов, философов, которые дают лишь частичные или дополняющие друг друга ответы на такие же старые вопросы, как сама история: является ли война свойством внутренне присущим людям, потому что воинственность человека естественна? Или наоборот, можно ли представить себе и даже создать миролюбивое человечество, природа которого, тем не менее, не будет изменена?
Парадоксальным, но лишь внешне, можно представить войну всех против всех, как естественное состояние, не исключая при этом теории вечного мира. Гоббс, после того как он постулировал, что люди всегда находятся в состоянии естественной войны друг с другом, строил расчёты на создание абсолютной власти, которая заставила бы их жить в мире. Правда, он не говорил прямо о мире между государствами, потому что они ещё не созрели для этого. Однако в истоке ничем не ограниченных и беспощадных войн лежит борьба за выживание, превратившаяся потом в борьбу за признание, и именно эту борьбу обнаружила ещё в глубине истории гегелевская и марксистская философия: и всё же такая борьба не делает тщетной надежду на всепланетный мир (или на создание мирового государства). Напротив, Монтескье, который пи404 г Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
шет: “Как только люди оказываются в рамках общества, они теряют чувство собственной слабости: существовавшему между ними равенству приходит конец, и начинается состояние войны”1, — предлагает ограничивать тиранию посредством равновесия властей, а войны предотвращать сдерживающими акциями. Если человеку свойственно насилие, а обществу миролюбие, то история приведёт нас к миру с такой же вероятностью, с какой и к единому всемирному обществу. Если же истоки войны кроются в самом обществе то придётся как-то к этому привыкать и приспосабливаться.
1. Биологические
и психологические истоки
Биологи называют агрессивностью склонность животного нападать на другого1 2 — либо своего же вида, либо другого3 . Большинство животных, но не все, бьются между собой внутри каждого вида. Некоторые совсем не агрессивны, то есть не нападают первыми, но защищаются, когда нападают на них.
Боевитость (fighting) в животном царстве нельзя рассматривать, говорят биологи, ни как случайность, ни как какую-то ненормальность. Агрессия есть постоянная и безусловно полезная часть повседневного поведения многих животных, но она становится разрушительной и вредоносной (Harmful) лишь в исключительных случаях.
Позвоночные всех классов — рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие — бьются между собой. Приматы, к которым принадлежит род человеческий, отличаются весьма неодинаковой боевитостью — от “гиббонов, у которых оба пола дерутся столь яростно, что могут жить только малыми семейными группами, до ревунов, чья борьба никогда не заходит за пределы напряжения голосовых связок в каждом из полов”4. Из всех приматов человеческий род располагается на самом верху лестницы агрессивности. Человек, в качестве животного, довольно-таки боевит, иначе говоря, достаточно даже слабого возбуждения или побуждения, чтобы он начал действовать агрессивно.
Первичные стимулы агрессии многочисленны в животном царстве, и некоторые из них очень похожи на те, которые вызывают конфликты между людьми. Животное, подвергаемое страданиям, реагирует агрессивно; мышь, которой экспериментатор защемляет хвост, старается его укусить. Многие животные, рыбы и птицы бьются, защищая своё жизненное пространство, которое часто именуется территорией. Европейская колюшка отчаянно дерётся вблизи своего гнезда, но никогда вдали. Колюшки редко вступают в смертельные схватки между собой, если только их гнёзда не располагаются в непосредственной близости одно от другого. На некотором равном расстоянии между гнёздами колюшки не нападают, а лишь угрожают друг другу. Исход борьбы за1 Montesquieu. De l’Esprlt des lois, I, 3.
2ScottJ.P. Aggression. Chicago, 1958, p. 1. «В точном своём значении “агрессия" есть силовая борьба, причём агрессор является инициатором нападения».
3 Фактически же биологи рассматривают, главным образом, агрессивность между животными одного и того же вида.
4Ibid., р. 6.
Война и мир между народами • Раймон Арон « . 405
Часть II
висит от степени близости к гнезду. Та рыба, которая оказывается ближе к собственному гнезду, одерживает верх, и противник удаляется к своему жилью1. Таким же образом некоторые млекопитающие живут во взаимном мире до тех пор, пока какая-нибудь стая, или стадо, не выходит за границы того, что считают “своей территорией”; какая-нибудь отдельная особь, принадлежащая к другой стае, подвергается нападению и выталкивается, если она перешла линию разделения. Как пища, так и самки представляют собой другие и тоже одни из самых частых стимулов животной агрессивности, хотя и тут разнообразие поведения разных животных видов чрезвычайно велико.
Боевитость или склонность к агрессии варьируются внутри одного и того же вида, в зависимости от пола, возраста, а часто и индивидуальных особенностей особи. Самки внутри вида в среднем менее агрессивны, чем самцы, но некоторые самки, находящиеся на верхних ступенях “женской” агрессивности, могут превосходить некоторых самцов, пребывающих на нижних ступенях “мужской” агрессивности. Каждый человеческий индивид наделён по наследству определённой степенью агрессивности. Сегодня мы уже знаем, что такая агрессивность может быть увеличена или уменьшена с помощью химических веществ и препаратов. Медики заявляют нам, что они уже способны или скоро будут способны превращать любого человека, на время или навсегда, во льва или в овечку. Идёт ли речь о животном или человеке, боевитость там и тут имеет биологические корни.
Воинственное поведение меняется вместе с накоплением опыта индивидом, оно может и усваиваться и забываться. Биологи экспериментировали над мышами и вызывали условные рефлексы — борьбы, бегства, пассивности — в ответ на тот или иной стимул. Обучение (learning) воинственному поведению соответствует общим принципам обучения, которые были выявлены павловской школой применительно к другим типам и формам поведения. Дж. П. Скотт подчёркивает одну важную особенность именно воинственного поведения: оно исчезает медленно, и нужно потратить много времени, чтобы затормозить или снять реакцию агрессивности (это, очевидно, связано с физиологическими и эмоциональными феноменами, сопровождающими агрессивность).
Среди способов обучения борьбе, применяемых на мышах, один просто потрясающий. Животное, которому несколько дней подряд обеспечивали успех, быстро вытаскивая противника, посаженного в клетку, яростно бросается на первого же соперника, оказывающего ему сопротивление. Бывая чаще всего победителем, это животное становится ещё более боеспособным. Так что с помощью лёгких успехов животного делают способным к борьбе, превращают его в стойкого бойца. Обратная привычка, то есть избегать боя или покоряться сильнейшему без боя, вырабатывается у индивида соответствующей коррекцией.
Воинственное поведение, спонтанное или как результат обучения, часто видится наблюдателю-человеку как наиболее пригодное. Когда птица отгоняет “чужака” от гнезда, когда собаки или ба1 См.: Konrad Z. Lorenz, King Salomon’s Ring. London, Methuen. 1952. Аналогичное поведение наблюдается и у других видов.
406 Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
буйны бьются за самку, агрессия направлена на устранение причины возможной опасности, на сохранение за победителем довольно-таки хрупкого блага. Больше того, борьба между животными приводит иногда к некоторому порядку, как война приводит к миру.
Когда две курицы встречаются в первый раз, чаще всего они дерутся, одна побеждает, другая терпит поражение. В следующий раз они опять дерутся, но ранее побеждённая отступает быстрее. Через некоторое время у одной образуется привычка угрожать, у другой — привычка убегать. Первую называют господствующей, вторую — подчинённой. Такая иерархия силы, подтверждённая опытом борьбы, стабильна, длительна и, так сказать, дышит миром. Экспериментаторам с очень большим трудом удаётся нарушить иерархию — например, побудить подчинённую мышь возобновить борьбу.
Умиротворению посредством иерархии, установившейся в результате борьбы, противостоит спонтанное умиротворение между животными, которые росли вместе, или между молодыми и взрослыми, тоже живущими вместе. Но такая примитивная социализация в животном царстве приводит также и к дифференциации между своими и чужими, между членами группы и нечленами. Умиротворение отношений внутри одного социального сообщества часто идёт в паре с враждебностью в отношениях между группами или между индивидами разных групп.
У высших позвоночных стаи или своры часто бывают агрессивны по отношению к внешним индивидам. Так, волк прекрасно отличает членов своей стаи от других. Горазд реже агрессивность проявляется в отношениях между целыми стаями. У человека, напротив, проявления агрессивности неотделимы от коллективной жизни. Даже когда дело идёт об агрессии одного человеческого индивида против другого, агрессивность, по множеству признаков, пронизана и пропитана социальным контекстом. Агрессивность группы по отношению к одному из своих членов, к чужаку или к другой группе как таковой, лишь потому, что они другие, — эти три феномена обычно наблюдаются в любом сообществе. У людей группа подростков имеет свою внутреннюю иерархию и иногда своего “козла отпущения”, она выступает единым фронтом против одиночек. не подчиняющихся общей дисциплине, а порой устраивает бой соперничающей группе.
Полновесное социальное существование человека привело к новому измерению и новым масштабам феномена агрессивности. Главным фактором появления агрессивной реакции в чисто человеческих отношениях становятся чувства обманутости и неприспособленности. Чувство обманутости накапливается с психическим опытом, а обнаруживаем мы его с помощью сознания. Любой человек с самого раннего возраста оказывается объектом всяческих обманов: он страдает, когда его лишают пищи или любви и ласки, и ему редко удаётся приспособиться с помощью агрессии к положению, жертвой которого он оказался. Он как бы ранен поведением другого и не может излечить свою рану, вступая в борьбу против своего вольного или невольного агрессора. Внешне он не проявляет своей собственной агрессивности, но внутренне он далёк от пребывания “в мире”, его возбуждает загоняемая внутрь ярость и сдерживаемая неприязнь.
Война и мир между народами • Раймон Арон 407 ь п*
Часть II
Психоаналитики исследовали механизмы, посредством которых такое чувство обманутости порождает психические нарушения. Биологи и психологи объективистской направленности искали в животном царстве или пытались получить путём экспериментального обучения эквивалент механизма обманутости-агрессивности. Известно, что ученикам и последователям Павлова удавалось получать типы, так сказать, невротического поведения. Если приближать друг к другу два стимула (например, круг и эллипс), из которых один вызывает позитивный рефлекс, а другой негативный, то наступает момент, когда собака, потеряв способность отличать один сигнал от другого, начинает вести себя агрессивно, лает и пытается кусаться. Не имея возможности ни убежать, ни адаптироваться, она грызёт свой ошейник или что угодно. Другие эксперименты подобного же рода, то есть манипулирование двумя взаимного противоречивыми рефлексами, дали такие же результаты: искусственный невроз, если можно так выразиться, и агрессивное поведение ввиду неадаптируемости.
Нет никакого противоречия между психологическим толкованием агрессии в терминах обучения и условных рефлексов и толкованием во фрейдовских терминах фрустрации, чувства обманутости. Тем не менее факты свидетельствуют, что далеко не всегда агрессия в животном царстве имеет причиной фрустрацию (лёгкие победы усиливают склонность к боевитости) и не всегда фрустрация выражается в агрессии. Некоторые животные дерутся меньше, когда они лишены пищи1. Лично я не согласился бы без серьёзных оговорок с формулой, по которой фрустрация ведёт к агрессии лишь тогда, когда индивид уже приобрёл привычку быть агрессивным2, однако мне представляется верным, что обманутый индивид легко склоняется к раздражительности: порог агрессивного реагирования опускается у него ниже, чем у другого индивида.
Главное всё же не в этом. Биолог, наблюдая ситуацию извне, может определить фрустрацию как неспособность приспособиться к тем или иным неблагоприятным обстоятельствам. Для каждого из нас фрустрация — это прежде всего опыт, приобретённый в результате лишения возможности получить какое-либо желаемое благо. В этом случае мы испытываем чувство угнетённости. Новорождённый младший брат, которому мать уделяет основное внимание, а старшим теперь занимается меньше, провоцирует агрессивность у старшего. Такая агрессивность чаще всего не “адаптируется” к условиям. Часто она или вообще не проявляется, или же переносится на какого-нибудь совершенно неповинного человека в результате отождествления его с агрессором, или, наконец, загоняется вглубь подсознания. Если неадаптируемость вообще свойственна реагированию мыши, которой не удаётся ни вступать в борьбу, ни бежать, или ребёнка, лишённого части материнской любви, то нам важно отметить не идентичность или схожесть механизмов, а тот факт, что люди, с самого раннего возраста, живут в таких условиях, когда они неизбежно сталкиваются друг с другом, атакуют, так сказать, один другого и изобретают множество 1 См.: Л.Р. ЗсоН, р. 34. ЧЫа., р. 35.
408
Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
способов — словесных, образных — выразить свои враждебные чувства, не вступая в физическую борьбу.
Будучи воинственным животным среди приматов, человек, как нам показывают его психологи, движим такими мотивами — сексуальностью, желанием обладать, волей возвысить себя или показать свою цену перед другими, — которые ставят его в положение состязания с себе подобными и почти неизбежно вводят в конфликт с некоторыми из них. Конечно, он не испытывает потребности в борьбе в такой же степени, как он испытывает потребности в пище или половом удовлетворении1. Цепь причинных связей, ведущая к эмоциям или актам агрессивности, всегда восходит к какому-нибудь внешнему феномену. Не существует никакой физиологической очевидности, внезапно побуждающей человека вступать в борьбу и бой, очевидности, истоком которой служило бы само тело человека. Человеческое животное, счастливо живущее в среде, не дающей никакого повода и мотива для борьбы, совершенно не страдает от этого ни физиологически, ни с точки зрения степени нервозности.
Но, даже если и не принимать во внимание инстинкты смерти, о которых говорит Фрейд, амбивалентность, двойственность чувств, соперничество между индивидами за труднодоступные блага — всё это суть факты опыта, факты постоянно наблюдающиеся и свидетельствующие о наличии конфликтной составляющей в большинстве межличностных отношений или даже во всех. Человек не борется с себе подобным по причине инстинкта, но он в каждый момент оказывается и жертвой, и палачом другого человека. Физическая агрессия и воля к разрушению и уничтожению не являются единственной реакцией на фрустрацию, но они представляют собой одно из возможных реагирований и, наверное, как раз его спонтанную разновидность. В этом смысле философы вполне правы, полагая, что человек по своей природе опасен для другого человека.
2. Социальные истоки
Себялюбие как основа желания обладать тем или иным благом превращает братьев во врагов, а ранее партнёров в соперников. Любое общество предоставляет для такого соперничества множество поводов и возможностей — от ничтожных до весьма существенных. Тот, кто находится в первом ряду, становится агрессивным к находящемуся во втором ряду, как только этого последнего охватывают честолюбивые амбиции. Всякая неделимая ценность, например могущество или слава, превращается в предмет неизбежных распрей. А когда предмет конфликта представляет собой нечто делимое, то возможны компромиссы, но всё равно у участников распри остаётся искушение прибегнуть к насилию. Зачем торговаться и договариваться с другим, если силой я получу всё?
Войны — это специфическое социальное явление, возникшее, вероятно, в какой-то определённый момент человеческой истории: они означают организацию насильственных действий противостоящими друг другу сообществами. 1 ЭсоЦ Л.Р. р. 62.
Война и мир между народами • Раймон Арон 409 иш
Часть II
Разного рода конфликты наблюдаются во всех или почти во всех человеческих сообществах. Конфликты приводят иногда к насилию, даже более или менее организованному насилию, и тем не менее при этом могут быть не задействованы собственно военные или воинственные институции.
В самом общем смысле между двумя индивидами или двумя группами возникает конфликт, если, например, каждый его участник пытается завладеть спорным достоянием или если они ставят перед собой взаимно несовместимые цели. Конфликт превращается в насилие, если один из противников прибегает к физической силе, чтобы заставить другого подчиниться. Правда, иногда говорят и о моральном насилии: да и в самом деле, манипулирование сознанием вполне может включаться в понятие насилия. Но изначально, насилие и нарушение свободы личности совершаются в результате применения физической силы. Моральное насилие, наиболее отталкивающим выражением которого служит словосочетание “промывание мозгов”, есть довольно изощрённая и как бы ответвляющаяся форма насилия как такового1.
В современных обществах конфликтов и случаев насилия — великое множество. В Соединённых Штатах ежегодно совершается 8 тыс. убийств, и 2 млн человек арестовываются и задерживаются за серьёзные преступления и правонарушения1 2 . Формально я разделил бы случаи насилия на три типа: драка или стычка, преступление или убийство, социальные или политические волнения. Подраться между собой могут два молодых человека или две группы молодых людей по выходе из дискотеки, или же два соседа по поводу общего забора. Конфликт, приводящий к насилию, межиндивидуален, хотя он происходит внутри и в рамках общества. Насилие, порою спонтанное, как это бывает при бунте, становится восстанием или гражданской войной, если оно, имеет политические причины или политические цели. В зависимости от исхода, насилие может характеризоваться по-разному: восстание, преступное в начальный момент, но увенчанное победой, задним числом считается источником новой законности. Насилие против конституции и других основополагающих законов отличается двусмысленностью, как и все исторические события, прокламируемые как великолепные или отвратительные, — в зависимости от предпочтений. Уголовные преступления — это те, которые в основном не подвержены 1Я попробую схематично резюмировать такую разветвлённость. Принуждение может быть осуществлено насилием, при этом действительно используется физическая сила. Принуждения можно добиться насильно, но ограничиваясь угрозой применения силы. Принуждаемый сохраняет за собой свободу предпочесть подчинению ту санкцию, которой ему угрожают, а зачастую это бывает смерть. Наконец, для принуждения могут быть использованы более тонкие способы — воздействие на волю к сопротивлению посредством, так сказать, расчленения сознания жертвы. На этой последней стадии истязаемый даже может восхвалять своего палача. Однако в действительности последняя стадия достигается реже, чем это может показаться. Большинство обвиняемых на известных московских процессах уступали принуждению первого и второго типа, они лишь делали, вид притворялись, будто их “перевоспитали" судьиинквизиторы. Тем не менее в нашу эпоху насилие, творимое победителями над населением, маскируется и прикрывается разными способами. Эльзасцы протестовали против аннексии в 1871 г., но не имели возможности сделать то же самое в 1940 г. 99% населения Прибалтики проголосовали за вхождение в состав Союза Советских Социалистических Республик.
2 Scott J.P., ор. cit., р. 102.
« 410 гтжнпмашкмдяи» Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
качественным переоценкам, каковы бы ни были перипетии борьбы между партиями. Убийство слывёт заслугой лишь при условии, что оно было совершено по политическим мотивам. Каждый год участники движения Сопротивления возлагают цветы на могилу человека, убившего адмирала Дарлана, делая это в день казни героя-преступника.
Что касается конфликтов, то здесь возможны самые разные принципы классификации, которые мы предлагаем. Ограничимся несколькими элементарными положениями. Конфликты возникают между индивидами или группами, они утрясаются и прекращаются законом или в результате борьбы (или же конкуренции состязания), они могут соответствовать социальному порядку или, напротив, порывать с ним. Нас буквально потрясает число и серьёзность конфликтов, которые так сказать, интегрируются с функционированием экономики и политики.
Раздел рынка между продавцами, распределение национального дохода между индивидами и классами зависят в весьма значительной степени от конкуренции, то есть от результатов своего рода ненасильственной борьбы. Более того, конфликты между профессиональными союзами, представителями хозяев и рабочих или же между рабочими профсоюзами и дирекцией какого-либо предприятия тоже рассматриваются как нормальное действие механизма по разделу труднодоступных благ и льгот (но поддающихся разделению).
Коммерческая конкуренция и профсоюзные битвы представляют собой разновидности того рода обычных межгрупповых конфликтов, исход которых определяется самим состязанием, а не законом. Они также характеры для комбинации конфликт—кооперация, которая ныне служит самой общей моделью социальных отношений. Производители одного и того же товара — это одновременно союзники и соперники. Они объединены общей заинтересованностью в развитии рынка и противостоят друг другу ввиду стремления каждого обеспечить себе наибольшую долю на этом рынке. Таким же образом рабочие и управляющие одинаково заинтересованы в процветании предприятия, а расхождение интересов касается распределения прибылей. И напротив, бывает, что видимое на поверхности сотрудничество содержит элемент конфликта, особенно в отношениях между индивидами. Два кандидата на руководство какой-нибудь партией могут быть компаньонами одного и того же проекта и будут сотрудничать друг с другом в одном и том же правительстве в случае победы на выборах. Волей-неволей они удерживают в каких-то пределах диалектику своего соперничества ради удовлетворения требований совместного действия.
Различные виды социального порядка, соблюдение которого основано на организованном состязании или соревновании, тем более непрочны и хрупки, чем больше соперники забывают о своей солидарности. Когда партии перестают заботиться о соблюдении Конституции, под эгидой которой они состязаются, когда представители разных классов считают себя призванными биться не на жизнь, а не смерть, режим, политический и социальный, сотрясается и расшатывается. Трудно написать закон, который помешал бы партии или профсоюзу “саботировать” и “парализовать” режим: не кто-нибудь другой, а сами партии и профсоюзы должны воздерживаться от подобных действий и намереВойна и мир между народами • Раймон Арон 411 **
Часть II
ний, памятуя, что именно кооперация, сотрудничество предсуществует состязанию и придаёт ему смысл.
Тяжбы между жалобщиками, конкуренция между продавцами (в периоды изобилия товаров) или между покупателями (в периоды их нехватки), соперничество между политиками (индивидуальными или коллективными) — всё это трансформируется в сторону насилия, но без применения физической силы. Забастовка часто рассматривается как акт насилия, если она противопоставляется диалогу и переговорам. И в самом деле, забастовка есть способ заставить противника сделать то, чего первоначально он делать не желал. Это, если угодно, испытание сил между группами, которые принадлежат одному и тому же политическому сообществу и, по своему статусу, обязаны отказываться от применения физической силы и, тем более, вооружённой, ради достижения своих целей. Любое общество не разрешает использовать какое угодно оружие в межсоциальных конфликтах. Но любое общество также и не имеет твёрдой уверенности в том, что конфликты, которые оно терпит, не приведут вдруг к взрыву открытого насилия и даже организованного насилия.
Социализация, как мы уже говорили, не смягчает индивидуальной агрессивности, а скорее усиливает её. Враждебное отношение какой-либо группы к чужакам или противникам часто оказывается сильнее такого же отношения одного индивида к другому, потому что оно подпитывается “благородными” чувствами принадлежности к группе и, так сказать, умножается с ростом числа членов самой группы. Если конфликты между группами, внутри политических сообществ регулируются как принято1 , без обращения противников к насилию, то это не потому, что неприязнь и вражда между согражданами, соперничающими партиями или провинциями стали более редкими или более слабыми (гражданские войны часто бывают самыми жестокими), а потому, что отношения между членами одного и того же коллектива подчинены определённым нормам, будь то обычаи или законы. Законная власть признаётся всеми, чувство солидарности в определённых пределах объединяет противников несмотря ни на что, а высшая сила, сила армии или полиции, неотвратимо вмешивается в случае необходимости. Достаточно хотя бы одному из этих условий исчезнуть, как сразу возникает опасность появления на арене насилия. Конечно, случается так, что понимание необходимости солидарности оказывается достаточным для сохранения мира и уважения законов и законности. Но бывает и так, что какое-нибудь меньшинство чувствует себя настолько ущемлённым в своих интересах, идеалах, самом существовании, что ничто, кроме силы, не может вернуть его к послушанию.
Но если таковы принципы гражданского мира, то нет ничего легче как определить характер насильственных конфликтов, внутренне присущих отношениям между политическими сообществами. Последние либо совсем не осознают, либо осознают очень слабо свою солидарность. Они не приемлют ни общего для всех них закона, ни легитимной власти. Поскольку у каждого из них есть 1 Как принято, то есть в зависимости от духа и состояния институций. Но, как мы показывали в предыдущей главе, внутренние волнения не всегда бывают менее часты и менее серьёзны, чем войны.
ош 412 Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
своя армия, принудить их к чему-либо можно только войной, а не полицейской операцией. Больше того, многими веками люди превозносили независимость своих городов-государств как высшее благо и воспевали героев, погибших за эту независимость. То благо, за которое дрались такие города, не всегда относилось к разряду редкостных благ, поддающихся дележу и разделу путём компромисса: часто такое благо не могло делиться, когда речь заходила об автономии и славе.
Внутри городов социализация умножала поводы, ставки, мотивации межличностных и межгрупповых конфликтов, но она также вырабатывала новые методы для их ненасильственного разрешения. В отношениях же между городами она опять-таки вела к росту числа поводов, ставок и мотиваций конфликтов, но теперь уже без всякого инструментального противовеса. Веками люди мыслили, действовали и говорили так, как если бы они расценивали урегулирование международных конфликтов силой оружия как нечто одновременно и разумное, и грандиозное.
Можно, конечно, возразить, что осложнение конфликтов есть результат не социализации вообще, а некоторых разновидностей социализации. Обратимся, например, к антропологическим исследованиям школы Маргарет Мид и Рут Бенедикт. Будучи как психологами, так и социологами, эти антропологи с психологической точки зрения объясняют поведение общества и с социологической — состояние психики. Они говорят о проявлениях импульсов, связанных с дисциплиной институций, особенно отмечая способы выражения импульсов. По их словам, культуры глубоко различаются между собой теми чертами, которые касаются соперничества, войны, внутри- и межсоциальных конфликтов. Некоторые сообщества не признают войну в качестве сколько-нибудь важной сферы деятельности, зато другие превозносят воинские доблести. Соперничество, где ставкой является престиж силы, имеет большое значение в культурах тех обществ, которые Рут Бенедикт окрестила дионисийскими, и почти не занимает никакого места в культурах так называемых аполлоновских обществ.
Две цитаты из Р. Бенедикт иллюстрируют антиномию двух этих типов культур. “Большая модель, по которой строятся институции индейцев племени квакиутль и которую жители соответствующего региона в значительной степени разделяют с нашим собственным обществом, представляет собой модель соперничества. Соперничество есть борьба, нацеленная не на реальные объекты деятельности, а на исполнение желания взять верх над конкурентом. Здесь уже не озабочены особо тем, чтобы удовлетворять нужды семьи или приобретать полезные или приятные вещи, а стремятся превзойти или обогнать своего соседа, или же получить больше, чем имеют другие. При такой великой жажде победы теряется из виду всякий другой объект.”1 А в качестве некоего противовеса вот описание индейцев племён пуэбло: “Идеальный человек для пуэбло — существо совершенно иного порядка. Личный авторитет—это, наверное, наихудшее, что вообще бывает, с точки зрения племени зуньи. Человек, жаждущий власти или знания, стремящийся стать “вожаком людей”, как они презрительно 1 Benedict В Echantillons de civilisation Paris Gallimard, 1950 p 271
5 T-.- 413
Война и мир между народами • Раймон Арон
* м $:
Часть II
выражаются, всегда встречает критику и отпор и имеет много шансов быть преследуемым за колдовство, что нередко и случается. Стремление к власти есть преступление у зуньи, а подозрение в колдовстве — мотив для обвинения и преследования. Такого человека подвешивают за большие пальцы на суку и держат так, пока он не “признается”. Правда, это единственное, что делают зуньи с властолюбивым человеком. Идеальный человек для зуньи — тот, кто сохраняет достоинство и вежливость, никогда не старается верховодить и не навлекает на себя критику соседей. Всякая распря, даже когда втянутый в неё человек оказывается прав, оборачивается против него самого. Больше того, в спортивных соревнованиях, например в беге, тому, кто обычно побеждает, в дальнейшем запрещают участвовать. Зуньи интересует лишь сама игра и большое число участников, имеющих равные шансы на успех, а бегун явно более сильный как бы портит игру, и его не хотят в ней видеть”1.
Допустим, что это последнее описание вполне правдиво. Допустим, что другие народы могли бы или ещё могут обеспечивать себе, как зуньи, коллективное и мирное существование. Психосоциологический метод высвечивает важный факт, а именно: роли, которые в той или иной культуре принадлежат процессам соревнования и состязания, варьируется так же, как и социальные способы выражения человеческих импульсов. Некоторые сообщества могут умиротворить боевитого примата, но не потому, что тот поднялся до уровня рассудительной жизни, а потому, что обесценение стремлений к престижу и могуществу снимает и сами стимулы к агрессивности. Биолог считает, что “агрессия, в строгом смысле этого понятия как неспровоцированного нападения, не возникает сама по себе, а ей обучаются”. Быть может существуют маленькие сообщества, где люди ещё не имели случая пройти такое обучение.
Приходится всё-таки признать, что наказание, налагаемое на индивидов за “преувеличенную личностность", скорее всего свидетельствует о том, что вопреки культурному обесценению агрессивного поведения последнее существует несмотря ни на что и даже у зуньи. Но это не столь уж важно: допустим, что социализация может, при некоторых обстоятельствах, сократить число поводов к агрессивности, может устранить мотивации к ней, дисквалифицировать риски ставки. Допустим что человек, не вступающий в бой согласно инстинкту или физиологической потребности, способен жить в мире с себе подобными, в тесном и дружеском сообществе. Всё равно невозможно спроектировать на нынешнее время и на будущее человечества эти безмятежные картинки и грёзы.
Современные общества чрезвычайно состязательны. Среди игр, находящихся на переднем плане, обязательно будут состязания. Стремятся ли чемпионы победить других или перекрыть собственные рекорды, пытаются ли люди взойти на горные вершины, где не ступала нога человека, или исследовать межзвёздные пространства, всё равно тут и там проявляет себя одна и та же воля к могуществу, стремление одолеть природные силы или соперников. В этом отношении режимы советского типа не 'Ibid., р. 115.
414 . Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
отличаются от режимов, называемых капиталистическими. Любопытно, что первые всячески разоблачают коммерческую конкуренцию, но сами не устраняют её полностью, а стараются заменить разнообразными формами так называемого социалистического соревнования.
Даже если и не называть современные общества по преимуществу состязательными, тем не менее они не позволяют себе обеспечивать мир посредством обесценения таких вещей, как, скажем, самолюбие. Всякое довольно сложное общество устанавливает для себя более или менее дифференцированный политический порядок. Но из сех видов социальной деятельности человека политика — самая состязательная, потому что здесь для каждого ставкой является место в иерархии или участие в управлении, а ведь это вещи для одного человека неделимые, и я не могу получить их, не лишив их кого-нибудь другого. Мы уже говорили, что все человеческие отношения содержат элементы как сотрудничества, так и конфликта. В конечном счёте экономика по преимуществу кооперативна, потому что она имеет, в качестве базового отношения, отношение к природе; политика же, имеющая своим предметом и целью взаимоотношения людей, то есть отношения командования и подчинения, по преимуществу конфликтна.
Индивиды идентифицируют себя с сообществом или коллективом, к которому принадлежат, они радуются его победам и страдают от его неудач столь же интенсивно, что и от собственных забот и невзгод. Они как бы отвлекаются от самих себя, от своих дел и внутренних передряг, когда наступают события, затрагивающие общую судьбу. Они чувствуют себя ранеными тем же оружием, которое направлено против их сообщества, и готовы реагировать на это агрессией и насилием. Правда межгрупповое соперничество внутри народов обычно в течение долгого времени имеет мирный характер. Поэтому политическое соперничество не является неизбежно насильственным. Но оно определяет в конечном счёте способ совместной жизни, а следовательно, некую истинность жизни самого человека. Может ли в один прекрасный день какая-либо группа лиц отказаться раз и навсегда от защиты своих идей или интересов с помощью силы? Мир, национальный или имперский, есть институционное оформление такого состояния, которого желает сообщество, сознающее, что оно представляет собой нечто целое и цельное и хочет быь таковым, то есть единым. Может ли человечество дорасти до такого же желания быть единым, как до этого дорос практически каждый народ? Может ли оно склониться перед монополией легитимного насилия?
3. Социальные типы войн
Homo sapiens появился примерно 600 тыс. лет тому назад. Неолитическая революция, то есть возникновение земледелия и скотоводства, отстоит от нас примерно на 10 тыс. лет. Более или менее комплексные цивилизации или общества сложились около 6 тыс. лет назад. Так что период, называемый историческим и составляющий, собственно, предмет нашего рассмотрения, это лишь одна сотая от общей продолжительности человеческого прошлого.
Вот я открываю книгу коллектива авторов, озаглавленную “Человек до поВойна и мир между народами • Раймон Арон 415 .
Часть II
явления письменности”1, которая была недавно выпущена в одной научной серии: в предметном указателе нет слова “война”. Так что же, люди не воевали до неолита? Неужели наши очень далёкие предки были в течение многих тысячелетий палеолита совсем другими, чем наши непосредственные предки, то есть, я хочу сказать, те, которые жили в последние 6 тысяч лет?
Вспомним смысл понятий: война есть столкновение организованных “команд”, каждая из которых старается взять верх над другой, подкрепляя дисциплиной мощь каждого бойца. В этом точном смысле она не может предшествовать по времени созданию самих команд. Будучи социальным явлением, война порождается обществом. Чем охотнее мы представляем себе людей, живущих семьями или, на худой конец, стаями или стадами на манер остальных высших позвоночных, тем меньше мы склонны приписывать им воинственное, или, точнее, военное поведение. Как мы уже видели, большинство животных дерутся и бьются между собой, но очень редки виды, практикующие именно войну, если под последней понимать коллективное и организованное действие. Опять-таки, так сказать, по определению, лишь животные именуемые социальными, занимаются войной, потому что война предполагает социализацию её участников. Пчёлы и муравьи живут в коллективах, функции членов которых строго дифференцированы. При взгляде со стороны индивиды какого-либо из таких коллективов координируют между собой своё поведение и наталкиваются на членов другого коллектива, в котором поведение координируется подобным же образом. Их столкновение влечёт за собой распад или разрушение того или другого из этих сообществ и гибель определённого числа индивидов.
Бились ли между собой люди палеолита? Как это происходило? Антропологи затрудняются давать категорические ответы. Некоторые из них полагают, что характерные предметы фазы, называемой ашельской (период от 400 до 200 тысяч лет назад), а именно отёсанные с двух сторон каменные рубила, могли использоваться в бою. Другие считают эти предметы не оружием против людей, а орудиями труда или для охоты. Однако то, что служит охоте на животных, может служить и борьбе с человеком. Зато ни один антрополог не обнаружил свидетельств того, что до бронзового века люди создали какую-либо военную организацию или выработали тактику боя.
Мы, проявляя вполне правомерное любопытство, хотели бы знать, как люди не использовавшие металлов, ещё ничего не ведавшие ни о земледелии, ни о письменности, как они вели себя одни по отношению к другим. Каков бы ни был ответ, он вряд ли будет поучителен для нас, современников тотальных войн XX века. Склонность индивидов к ссорам и жестокостям может и должна измеряться прямым наблюдением, а не ссылками на предположения относительно действий наших далёких предков. Шансы на мир и риск войны не зависят в атомный век от боеспособности людей каменного века.
В любую эпоху оружие не может быть другого технического уровня, нежели орудия труда, а организация бойцов не может коренным образом отличаться от организации самого общества. 1 Varagnac André (ed.). Homme avant l’écriture. Paris, Armand Colin, 1959.
416 Раймон Арон • Война и мир между народами
Поэтому нет ничего удивительного в том, что первые ясные следы существования армий и войн обнаруживаются лишь в бронзовом веке. “Промышленность и торговля бронзового века, — пишет американский антрополог Терни-Хай, — требовали определённой степени политической стабильности. Именно в эту эпоху зарождается организованная война, отличная от набегов и засад, устраиваемых между родственными группами. Первое свидетельство существования обученных войск мы находим в Шумере”. И дальше: “Железный век дал человеку больше безопасности в его борьбе со своим природным окружением, но он также увеличил интенсивность и распространённость войны. Фактически, начиная с эпохи металла и вплоть до нашего времени, наибольшую угрозу безопасности человека представляли собой не природа, а другие люди. В этом отношении человеческая культура эпохи металла, хотя она ещё не знала письменности, приобретает вполне современный аспект”1.
Существовала ли какая-то промежуточная, в некотором роде “райская” фаза между многими тысячелетиями, когда человеку угрожали хищные и свирепые животные, и совсем немногими тысячелетиями, когда угроза исходила уже от других людей? Ведь в этот промежуток времени человек располагал уже достаточными техническими средствами и способами, чтобы защищаться от диких зверей, но ещё не вступил на стезю завоеваний, порабощений, классовых битв и погони за богатствами. Некоторые этнологи полагают, что такой золотой век мог существовать на утренней заре неолита; отзвук такого состояния можно Социология
услышать при знакомстве с некоторыми архаическими и уже совсем вымирающими сообществами, которые хотя и прозябают в нищете, но преисполнены радости жизни.
Я совершенно некомпетентен решать вопрос о реальности, продолжительности, распространённости такого золотого века. Но, был ли он привилегией нескольких маленьких сообществ или же достаточно общим феноменом в человеческом прошлом, всё равно он не содержит никакого урока ни для пошлого, доисторического или исторического, ни для будущего. Просто маленькие сообщества, изолированные и не имеющие металлических орудий, не дают нам ничего, что помогало бы уяснить характерные четы воинственных обществ.
Архаические общества, вот уже несколько веков изучаемые этнологами, уже познали, по меньшей мере в зародыше, большинство видов поведения, свойственного “международным отношениям”; они проводили различие между миром и войной, между дипломатами и воинами. Военные и воинственные институции там уже почти столь же разнообразны, что и в обществах, где письменность давала возможность аккумулировать интеллектуальные ресурсы и сознательно соблюдать традицию.
Фактор разнообразия затрагивает основные аспекты феномена. Сталкивающиеся между собой сообщества бывают разными в зависимости от этносов. А внутри одного этноса — в зависимости от обстоятельств: биться друг с другом могут родственные группы, деревни племена, конфедеративные образования.
Ставки в этих вооружённых и организованных конфликтах не менее раз1 Tumey-High H.H. General Anthropology. New York. 1949, p. 171, 175.
Война и мир между народами • Раймон Арон - ; г к и 417 >
Часть II
нообразны, чем ставки в войнах между цивилизованными сообществами. Иногда ставка сравнима или совпадает с самим предметом инструментального воздействия: люди, которых нужно съесть (в случаях каннибализма), головы, которые нужно отрубить для религиозных церемоний, охотничьи угодья, которые надо защитить, рабы, которых надо приобрести. Иногда бой выступает как ритуал, не имеющий никакой иной видимой цели, нежели сам ритуал, и в этом отношении бой близок к обыкновенной игре, не очень кровавой. У некоторых племён, когда вспыхивает война (иногда регулярные промежутки времени), в бой вступают все пригодные к этому мужчины; у других племён имеются касты воинов, только они участвуют в боях и, чаще всего, пользуются преобладающим влиянием в собственном племени. Наконец, архаические общества совершенно неравным, различным образом боеспособны, агрессивны, воинственны. Система ценностей и верований, характеризующая каждое из них, ставит на более или менее высокий уровень воинскую доблесть или успех престижного свойства, или же, наоборот, на передний план выдвигается мирный порядок, и если ценится боевая слава, то одновременно показывается бесплодность насилия. Иначе говоря, хотя институционная разработка дипломатических и военных феноменов остаётся слабой и туманной, всё-таки поведенческие характеристики в этих обществах уже наличествуют и видны вполне ясно.
Можно ли за этим внешним многообразием войн различить определённые типы? Профессор Куинси Райт1 выделил четыре типа войн. Некоторые архаические общества воюют только ради собственной защиты. Другие воюют, но, по всей видимости, не преследуют политических или экономических целей; они хотят отомстить за оскорбление или убить людей, внешних по отношению к группе, потому что нуждаются в головах или трупах для своих церемоний; иногда они бьются просто из состязательного или спортивного духа, из прихоти престижного толка. Общества, ведущие войны такого рода, редко имеют военную касту. Тем не менее бой ведётся не наобум, а подчинён строгим правилам. Третья категория обществ ведёт войны с целью захвата земель, женщин, рабов. В войнах такого рода выступают профессиональные воины, которые совершенствуют и развивают тактическое искусство. Наконец, четвёртый тип войн—это войны, ведущиеся военными классами для поддержания режимов и империй, созданных ими самими. Уже имея военную аристократию и значительно увеличив число своих воинских единиц, общества, называемые архаическими, вступают на порог собственно истории. Война первого типа — оборонительная, второго — социальная, третьего — экономико-политическая, четвёртого — аристократическо-завоевательная. Архаические общества считают войну либо бедствием, либо ритуалом, либо способом завоевания и обогащения, либо инструментом господства. Обществам, которые именуются цивилизованными, тоже в общем нечего выбрать что-то особенное из этих четырёх квалификаций.
Оставим в стороне первый тип, который скорее относится к самим обществам, чем к войнам. Какая-либо конкретная война не может всецело подпа*Ор. сК.. I. Р. 546, 560—561.
418 Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
дать под этот тип, то есть быть чисто оборонительной для обоих противников: дин или другой должен проявлять дух состязательности или агрессивности. Важно знать и помнить о том, что во времена архаических сообществ, как и в тысячелетия сложных, комплексных цивилизаций, некоторые группы не нападают на чужаков, не склоняются к тому, чтобы ненавидеть или изгонять их, и, следовательно, не находят смысла в боевых действиях. Но надо также помнить и о том, что такие примеры миролюбия весьма редки и отмечены слишком специфическими и неповторимыми чертами, чтобы из них можно было извлечь какой-либо вывод общего значения.
Три других типа, на первый взгляд, неоднородны. Различие между социальной и политико-экономической войной основано, по-видимому, на рассмотрении целей в каждой из этих войн, но далеко не всегда легче различить выгоду от результатов конфликтов в архаических обществах, чем сделать это применительно к историческим обществам. Даже те случаи, которые явно подпадают под понятие социальной войны, тоже не всегда однородны. Иногда воюющие ставят перед собой такую цель, которая, оставаясь, скажем, религиозной по своему характеру (месть, искупление, разновидности гордыни или спеси), не делает воинственное поведение менее “рациональным” чем в войне, преследующей политические или экономические цели. Но зато если борьба не имеет никакой иной цели, кроме как выявить победителя и обеспечить ему престиж признанного превосходства, то такая борьба принадлежит уже к совсем другой категории, она становится самоцелью и приближается к игре или спорту. Стычки между родственными группами и деревнями часто имеют этот промежуточный характер между ритуалом и игрой, когда они регулируются как ритуал и приобретают значение как игра. Иногда война меняет свой лик и становится неким праздникам, то есть нарушением монотонности повседневной жизни. В этих случаях как во время карнавала, снимаются обычные запреты, разрешается какая-то форма насилия по отношению к чужакам, все члены группы находятся в состоянии коллективной экзальтации, страсти кипят: всё сообщество представляет теперь собой как бы единый монолит или стальной блок1.
Общей характеристикой всех случаев социальной войны является, как мне кажется, верховенство институции или ритуала над целью. И тогда воинственное поведение объясняется не в терминах инструментальной рациональности (ХшескгайопаЦ, если подхватить концепцию Макса Вебера, а в терминах ценности, традиций, эмоций. Люди бьются между собой ради славы или подчиняясь установленному порядку (именно таков способ кооперативно-состязательной связи между деревнями), или же от внезапного избытка чувств.
Попытка обнаружить различие между социальной и политико-экономической войной наталкивается на такое же возражение, какое неоднократно выдвигалось против веберовского противопоставления инструментальной рациональности (Zweckгational), с одной стороны, и других типов действия с другой: 1 Caillots Roger. Quater essais de sociologie contemporaine (см., в частности, “Le Vertige de la guerre"). Paris, 1951.
Война и мир между народами • Раймон Арон - --’•w 419 ——
Часть II
ведь речь идёт не столько об альтернативе, сколько о дух аспектах человеческого поведения. Война, где ставкой служит захват женщин или охотничьих угодий, может также быть источником престижа, она может регламентироваться наподобие состязания или соревнования, может дать выход таким побуждениям, как желание устроить праздник. Война же за отрезаемые головы, за земли или приобретение рабов предполагает — так сказать по ту и по эту сторону от инструментальной рациональности — повышение целей борьбы (традиционное или аффективное) самих по себе, независимо от содержания. Потому-то и столь многочисленны были архаические сообщества, практиковавшие одновременно несколько типов войн.
И всё-таки приведённая классификация не лишена некоей поучительности. Войны — это и стиль отношений, и способ регулирования конфликтов между более или менее разными сообществами, и институция, интегрированная в типические системы верования и образа жизни тех или иных коллективов. Они объясняются культурой каждого из таких коллективов, а ещё больше — диалогом между этими культурами, порою близкими, а порою далёкими друг от друга. Такие соображения имеют равное значение как для обществ знающих, так и для обществ не знающих о том, что такое борьба за земли, рабов и женщин. Но дипломатическо-стратегическое поведение, когда оно становится продуманным и осознанно инструментальным, приобретает вполне различимую автономию, которую можно сравнить с автономией экономического поведения, руководствующегося цифровыми выкладками в сфере валют. Правда, инструментальная дипломатическо-стратегическая автономия менее комплектна и полна, чем автономия экономических действий: желание победы ради победы привносит, в каждый момент, путаницу в расчёты дипломатов и стратегов. Война сохраняет элементы ритуала и регламентации, даже когда она преимущественно инструментальна по своему характеру. Так происходит либо потому, что над воинственным поведением продолжают тяготеть обязательства и запреты, либо потому, что воюющие стороны стараются, смутно даже для самих себя, как-то не очень давать волю насилию. Греки, когда они оказывались победителями, собирали трофеи на поле боя вместо того, чтобы преследовать разбитого противника, как будто сама слава победы была наивысшей наградой воину.
Всякая война в пределах какой-либо цивилизационной зоны (или, если угодно, до тех пор пока противники ещё не утратили окончательно осознания своей родственности) есть социальная институция. Она имеет то значение, какое придают ей сами общества, она воплощает человеческое, а не животное насилие, она регламентирована, а не произвольна. Но, по мере того как войне всё больше придаётся политическое и экономическое содержание, внешнее по отношению к самому бою и опьянению победой, война всё более подчиняется соображениям и требованиям эффективности. Невозможно уточнить, какие именно средства и способы воюющие стороны добровольно воздерживаются применять в каждую эпоху, руководствуясь нравственными соображениями, но вопрос вовсе и не стоит в таком виде. Способы организации военных действий и непосредственно боя представляются в каждую эпоху как традиционные институции, медленно преобразующиеся
420
л* Раймон Арон» Война и мир между народами
Социология
ввиду рационального поиска эффективности, но при этом совершенно нельзя сказать с какой-то долей уверенности, имеет ли сохранение прежнего оружия или привычной тактики своей причиной обыкновенную леность мышления или же уважение запретов.
Что касается различия между двумя последними типами войн, то оно тоже поучительно. Аристократическо-имперская война не менее инструментально, чем политико-экономическая, но она определяет ход “накопительной” истории, вместо того, чтобы просто повторяться всякий раз, когда разные сообщества решаются отдаться на суд оружия. Поэтому она является как бы синтезом социальной войны и войны политико - экономической.
И в самом деле, давайте поразмышляем об этом. Какова функция пусть и неосознаваемая, которую можно приписать войнам первого типа, где преобладает религиозная или состязательная ритуализация? В них явно присутствует стабилизирующая функция: та или иная группа — клан, деревня, племя — начинает сознавать своё единство увереннее, если она противостоит другим группам. Функция войн второго типа тоже зависит от соответственных фактов и обстоятельств, и здесь суд силы занимает место власти привычек. Ведь только бой может решить вопрос об отношениях между сообществами, каждое из которых имеет свои обычаи и тем самым враждебно к обычаям других. Согласно такой линии рассуждений, война становится последним, крайним способом решения проблем, а дипломатия — способом избежать, продолжить или завершить войну. Рационалистские интерпретаторы выделяют именно этот инструментальный и основанный на расчёте аспект отношений между независимыми группами, условия переговоров и испытания сил, компромисса и битвы.
Войны обществ, которые, расширившись благодаря предыдущим завоеваниям, отдают монополию на оружие военному классу, выполняют сразу две функции: они цементируют единство каждого из воюющих сообществ, но они же и позволяют решать проблемы границ, устанавливать, кому будет принадлежать то или иное население или провинция. В отличие от двух первых видов войн, эти войны имеют историческую функцию, а не единственно социальную или прагматическую. Без них немыслимо становление и развитие цивилизаций. Через посредство войн рождаются империи и рушатся троны. Без вмешательства силы народы редко приходят к государственному оформлению своей воли быть едиными.
Быть может, война и идёт вразрез с предназначением человечества, но до сих пор она была неотделима от исторической судьбы людей.
4. Оптимистические
и пессимистические мифы
Если предшествующий анализ верен, то война имеет одновременно биологические, психологические и социальные истоки. Будучи довольно агрессивным среди приматов, человек быстро отвечает насилием на боль или обман. Всегда неудовлетворённый в своих чаяниях, находясь в состоянии перманентного состязания с себе подобными, он психически и нравственно всегда готов к бою и испытывает недобрые чувства к тем — близким ли, далёким ли, — кто Война и мир между народами • Раймон Арон 421 - '
Часть II
лишает его любви, славы, денег. Как член определённого коллектива, он участвует в укреплении племенного единства, которое предполагает некую дистанцию между соплеменниками и чужаками и запрещает членам группы признавать равное с собой достоинство тех, кто принадлежит к другой группе. Имея своими истоками и основами животную агрессивность, человеческое самолюбие и племенную сплочённость, общества одновременно разрабатывают и развивают свои орудия производства и оружие борьбы. Они устанавливают между собой такие дипломатическо-стратегические отношения, из которых сами не могут выпутаться и никому из них не удаётся на долгое время, стать хозяином положения. Так рождается на поверхности явлений историческая неизбежность, фатальность войны: политические сообщества, мало что зная о внешних пределах своей активности и о степени своего внутреннего единства, постоянно относятся подозрительно друг к другу и время от времени вступают в конфликты между собой. Но если мудрец проклинает жестокость битв, то социолог отвечает вопросом: не будь войн, вышли бы люди за рамки маленьких замкнутых сообществ? В большинстве идеологий — как утверждающих, так и отрицающих возможность исключить войну из дальнейшей человеческой истории — явно недооцениваются некоторые элементы феномена воинственности. Акцент обычно делается на таком аспекте или феномене, который оправдывает или подчинение насилию, или — веру в мир, но идеологи отказываются признать, что война это не только и не главным образом животный феномен, а что она имеет многочисленные корни и для того, чтобы война’умерла, отнюдь не достаточно выдернуть какой-нибудь один корешок.
Одна из таких крайних точек зрения, экстремальных по своей сути, опирается на биологические мифы. Война, дескать, остаётся проявлением физически присущей человеку жестокости. Не в этом ли состоит суть феномена воинственности, когда на поверхность вырываются инстинкты, несущие смерть, которые временно подавляются усилиями цивилизации. Между социальной и биологической философиями непрестанно происходит обмен взглядами и убеждениями. Концепция борьбы за жизнь поочерёдно находила питательную почву в наблюдениях за людьми и в наблюдениях за растениями и животными. Маркс и Энгельс склонялись, к концу жизни, истолковывать классовую борьбу в свете дарвиновского учения. А что же внушают нам факты, полученные, так сказать, без всякой предвзятой идеи?
Факты свидетельствуют, что живые существа поедают друг друга, что крупные рыбы заглатывают мелких, а волки пожирают ягнят, — об этом мы узнали ещё в школе от учителей и из учебников. Но учителя и учебники почему-то не очень активно внушали другой факт, а он не менее значителен: высшие животные не убивают друг друга внутри одного и того же вида, и они не организуют заранее свою борьбу. Случается, что волки бьются между собой, но инстинктивный запрет предотвращает смертельный исход: побеждённое животное, открыто выставляющее своё горло для перегрызания, щадится1. Такие запреты существуют не у всех видов, их в 1 См.: Konrad Z. Lorenz, op. clt., p. 195 sqq.
*. 422 'ЛАшл Раймон Арон • Война и мир между народами
частности, нет у видов, считающихся миролюбивыми (вяхири, горлицы, зайцы, лани, павлины), “побеждённый” не спасает свою жизнь, а “капитулирует” (выставляя горло). Если хотят подчеркнуть кровожадность человека (как это делает Шпенглер), сравнивая его с хищным зверем, то надо ещё выбрать такого зверя и, скорее всего, остановиться на зверях-одиночках, таких, как ягуар, а не на волках.
Всякое сопоставление свойств животных со свойствами человека ненадёжно. Я бы не стал из феноменов агрессии и борьбы между животными извлекать какое-либо общее умозаключение, которое охватывало бы как человеческие, так и социальные институции войны. Хотя животные, которых человек считает самыми хищными ввиду их “оружия”, действительно наиболее опасны для него, но не менее действительно и то, что они избегают самоуничтожения из инстинкта щадить побеждённого. “Оружие” людей более опасно и мощно, чем клыки и когти волков и львов; тут победители далеко не всегда щадят побеждённых. А смертельный исход предотвращается скорее экономическим расчётом, нежели инстинктом.
Борьба за жизнь? Но тогда человеческие сообщества имели бы между собой такие же отношения, как и животные виды: одни из них должны были бы исчезнуть, чтобы дать средства существования и выживания другим. Нужно обладать странным воображением, чтобы с помощью этой причины истолковывать величайшие конфликты в истории человечества. А такие конфликты весьма характеры для Афин и Спарты в древнегреческом мире, для Карфагена и Рима в средиземноморском бассейне в III в. до н. э., для Англии и Германии в ЕвСоциология
ропе XX в., они характерны для Москвы и Вашингтона в масштабах мировой системы второй половины XX столетия. Но ни один из этих видов и проявлений соперничества не становился неизбежным из-за нехватки места под солнцем. Гордость городов-полисов не терпела никакого полюбовного раздела; диалектика борьбы не на жизнь, а на смерть есть человеческая диалектика, а не животная.
Слепой механизм борьбы за жизнь срабатывал (и всё ещё срабатывает) только в одном направлении, притом внутри тех или иных сообществ. В каждый определённый момент численность людей в них ограничивается объёмом средств существования. Цена такой борьбы за жизнь чрезмерна, если к умирающим детям и жертвам эпидемий добавить людей, которым голод помешал произвести потомство. Недостаток тех или иных средств существования сдерживает, прямо или косвенно, рост населения, и выжившие оказываются так сказать, победителями. Но такая фундаментальная бедность всегда, с самого начала исторических времён, комбинировалась с богатством, поскольку крепостной или раб производил средств существования больше чем их было нужно ему самому. Общества как раз и разделялись на иерархические группы потому, что господствующие, всегда составлявшие меньшинство, присваивали себе, ради необыкновенного досуга и роскоши, избыток — или часть его, — произведённый теми, над кем они господствовали. При такой перспективе привилегированные классы регулярно получали выгоду от тех или иных проявлений замаскированной борьбы за жизнь, одним из выражений которой ретроспективно представляется наблюдателю классовая борьба.
Война и мир между народами • Раймон Арон 423
Часть II
Сближению гражданской борьбы и борьбы за жизнь можно скорее всего придавать значение аналогии, нежели философский смысл. Борьба за жизнь, в строго дарвиновском смысле, ведёт к естественному отбору, к выживанию наиболее приспособленных организмов. Однако механизм, посредством которого совершался во все исторические эпохи отбор способных выжить людей и сообществ, — это социальный, а не биологический механизм: это вооружённый человек, это группа наиболее сильная в военном отношении, которая забирает себе излишек результата труда других. Человек весьма одарён в искусстве боя. Качества воина, бойца — это не те качества, которые восхваляет моралист, и не те, которые наилучшим образом служат человечеству. Да и кроме того эти качества принадлежат, самое большее, лишь победителям. Вместе с тем завоевания стабилизируются, превращаясь в институционный порядок, который вынуждены терпеть последующие поколения и который не отражает дарований каждого. Аристотель не осуждал рабства как такового, но констатировал, что некоторые рабы имеют душу хозяина а некоторые хозяева — душу раба. Тем более непохожа на "естественный отбор” борьба между двумя городами-государствами, двумя народами или двумя империями. Карфаген пал, но если бы после Каннской битвы Ганнибал овладел Римом, появилось бы у биологов основание утверждать, что в данном случае потерпели поражение наиболее приспособленные? Так ограничимся же констатацией изменчивости фортуны и поостережёмся верить, будто суд истории всегда столь же справедлив, сколь беспощаден.
Пользуясь иным подходом, Бергсон в своей последней большой монографии “Два источника морали и религии”1 тоже развивал биологическую интерпретацию войны. Несколько перенимая манеру классических философов, он прежде всего пытается определить природное в человеке и в человеческом обществе, если это природное очистить от исторических наслоений. Природа снабдила человека такой способностью, которая позволяет ему изготовлять и производить предметы и орудия труда. Вместо того, чтобы давать ему готовые орудия, как она сделала для значительного числа животных видов, она предпочла, чтобы человек создавал их сам. Вместе с тем человек необходимым образом становится собственником своих же орудий, по крайней мере на время, пока он ими пользуется. Однако, поскольку они в принципе отделимы от него, они могут быть у него отняты, тем более что отнять изготовленное легче, чем изготовить самому. Несколькими строками далее Бергсон приходит к такому заключению: “В истоке войны лежит собственность, индивидуальная и коллективная, и поскольку человечество неотъемлемо от собственности ввиду самой своей структуры, война естественна. Воинственный инстинкт настолько силён, что он первым выходит на свет, когда начинаешь скрести цивилизацию, чтобы обнаружить её природу”1 2.
Естественное общество противостоит демократии. Его режим — монархический или олигархический. В мире насекомых разнообразие социальных функций связано с различиями в организа1 Bergson A Les deux sources de la morale et de la religion. Paris, Alcan 1932
2 Ibid , p 307 ThKoe толкование явно внушено идеями Ж -Ж Руссо, которого Бергсон буквально обожал и каждый год перечитывал
. 424
i Раймон Арон» Война и мир между народами
Социология
ции; там господствует полиморфизм. В естественных обществах людей господствует “диморфизм”, когда каждый из нас становится шефом с инстинктом командования и подчинённым, который как бы создан специально для послушания 1. Формула такого общества — “власть, иерархия, неизменность”, причём каждый, без всякого исключения, является членом своего замкнутого общества, или подобщества. Когда произносят пословицу “человек человеку бог”, думают о соотечественнике; когда произносят другую пословицу— и человек человеку волк”, — дело касается чужака, иностранца1 2.
Естественное общество воинственно, и настоящие, решающие войны были войнами на уничтожение. “Требовался инстинкт войны, а поскольку существовали жесточайшие войны, которые можно назвать естественными, то было и великое множество случайных войн просто ради того, чтобы помешать этому инстинкту развернуться во всю силу”3.
Предлагаемые Бергсоном объяснения причин современных войн явно навеяны концепциями, имевшими хождение в Европе между 1919 и 1939 гг. Растущая численность населения пишет он, толкает современные общества на большие кровопускания. Предоставьте свободу Венере, и она приведёт вам Марса. Народы, которые боятся, что больше не найдут потребных им пищи и сырья, которые страшатся угрозы голода или безработицы, такие народы готовы на всё. Чтобы выжить они штурмуют своих врагов. Вот тогда-то и разражаются подлинные войны, соответствующие своей сути. В них применяется оружие, которое предоставляет в распоряжение бойцов наука, и поэтому эти войны могут завтра разрушить и уничтожить весь человеческий род. “Наука развивается быстро, и близится день, когда один из противников, обладатель секрета, хранимого им про запас, будет иметь средство убрать другого. Быть может, от побеждённого не останется и следа на земле”4.
Мир, как и демократия, порождается радикально иным образом. Неравенство есть закон коллективных и дифференцированных существ, составляющих закрытые общества. Демократическое равенство подготавливается и формируется таким духовным порывом, который идёт против течения, против животной и социальной природы, против инстинктивного или инструментального поведения. Этот духовный порыв и миролюбив, и демократичен, он игнорирует всякие заботы о собственности и о пользовании благами, он создаёт условия для подготовки программ, которые, будучи преисполнены значения для каждого, адресованы всем. Может быть, человеку, работящему и умному, удастся в конце концов ограничить войны, устраняя причины, вызывающие их, — перенаселённость, бешеная гонка за удовольствиями. Но человечество, уже неспособное вернуться к естественным обществам, будет всё-таки оставаться воинственным до тех пор, пока религии, зовущие к спасению, не объединят всех людей поверх всяческих границ. Но нельзя исключать и того, что такое единство окажется невозможным, если, так сказать, 1 Ibid., р. 299—300.
2 Ibid., р. 309.
3 Ibid., р. 308.
4 Ibid., р. 310.
Война и мир между народами • Раймон Арон 425 w
Часть II
по сю строну смерти, даже обращение к Богу не сможет преобразовать животную и социальную природу человека.
Некоторые идеи Бергсона принять легко. Один из постоянных факторов феномена воинственности, без которого его нельзя понять, — это сохранение дистанции между различными, но подобными друг другу сообществами. Однако Бергсон преувеличивает данный феномен и, на мой взгляд, искажает его смысл, предполагая, что чужестранец, по самому своему статусу, является противником. Чужестранец может быть противником, лишь потому что он не во всём схож с членами данного сообщества.
То, что войны возникают и растёт их количество, охватывая новые районы, вместе с расширением самих сообществ, что классовое неравенство и индивидуальная собственность связаны с завоевательными войнами и с господством людей военных, — об этом размышлял Ж.-Ж. Руссо, и этнологи склонны это подтвердить. Да и как могло бы быть иначе, поскольку политические сообщества выковывались в боях и битвах, а цена победы непременно выражалась и исчислялась приобретением земель, рабов, драгоценных металлов?
Спорными же оказываются те бергсоновские тезисы, в которых он истолковывает в биологических терминах одиссею человека — работника и солдата. Бергсон считает естественным определённый социальный тип, заявляя, что последний якобы подобен сообществам насекомых с их функциональным полиморфизмом. Исторический человек, искусный и умный, создатель промышленности и творений культуры, остаётся в глазах Бергсона, природным, ибо он не поднялся над самим собой, следуя призыву божественного начала. Лишь порыв веры, откликающийся на благую весть, означал бы разрыв с законами жизни, то есть с требованиями порядка и жестокостями борьбы. Одновременно Бергсон приходит к непризнанию собственно человеческого элемента в исторических конфликтах — соперничества самолюбий, желания стяжать признание или совершить крестовый поход. Соответствующими самой сути воинственного феномена он считает только войны на уничтожение; иначе говоря, он ещё и ещё раз сводит войны, человеческие и исторические к борьбе за жизнь. Демографические и экономические интерпретации вооружённых конфликтов, которые были в моде лет двадцать тому назад, склоняют его к этой ошибке, сопряжённой с его метафизическим видением вещей. Поскольку, дескать, исторический человек остаётся животным, то, сколь велики бы ни были империи и сколь грандиозны ни были бы успехи техники и науки, войны остаются естественными и сохраняют, так сказать, свои животные истоки независимо от исторических ставок и от всяких тонкостей дипломатической и военной игры.
Фактически же исторические войны не были, в своём большинстве, войнами на уничтожение. Варвары хотели занять земли, цивилизованное государство хотело устранить соперника: соображения рациональности требования скорее подчинить побеждённого, нежели предать его смерти. Было бы большой ошибкой выводить разного рода витиеватые и неоднозначные войны за пределы категории подлинных войн. Исторический человек жаждал славы, триумфа или трофеев победы, он порабощал и эксплуатировал побеждённого. А уничтожение противоречило и желанию самоутверждения, то есть признанию со сто426 * . Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
роны других, и экономическому расчёту; оно было чуждо и самолюбию, и заинтересованности в мощи и богатстве. А когда всё же совершалось уничтожение, то объяснялось оно либо слепой яростью, либо превращением исторической враждебности в неуёмную ненависть. Массовое истребление побеждённых станет смыслом войны лишь тогда, когда наука ускорит увеличение численности вида, называемого человеком, и одновременно парализует механизмы сдерживания такого роста, в результате чего в прямом, в физическом смысле впервые на планете не будет больше хватать места для всех.
Философы с биологическим уклоном как будто зачарованы животными истоками феномена воинственности; психологи, которых можно назвать людьми доброй воли и которые хотят мира на нашей земле, ищут непосредственно психологические причины конфликтов между сообществами, с тем чтобы найти “терапию против воинственности”. Поиски идут разными путями.
Один из путей ведёт к выявлению национальных стереотипов. Какой образ американских граждан складывается у других народов? Какой образ русских, немцев, японцев, китайцев, французов складывается в различных слоях американского общества? Пользуясь известными приёмами социальной психологии, исследователи наблюдают всяческие перемены этих образов с течением времени или же единовременное их изменение в зависимости от восприятия групп внутри одного и того же общества.
Другой путь ведёт к различению между разного рода психосоциологическими типами и к исчислению частоты встречаемости этих разных типов внутри той или иной нации, народа. Психосоциологический тип определяется мнениями исследователей и зависит от манеры поведения и отношений с окружающими тех, чей тип определяется. Один ценит силу и считает войны неизбежными до скончания времён, а смертную казнь полагает необходимой ради сохранения общественного порядка; другой думает, что переговоры и компромиссы должны постепенно занимать место силы, а смертная казнь — пережиток варварских веков. Словесные реакции более или менее соответствуют манерам фактического поведения и способу достижения равновесия между самыми разными импульсами и побуждениями. Понятие “авторитарной личности” содержит комбинацию целых наборов мнений и выражает специфическую форму поведения. Политические партии, режимы, народы более или менее чётко характеризуются преобладанием того или иного типа, а сам этот тип определяется более или менее строго и однозначно.
Нам нет нужды рассматривать во всех подробностях подобные этюды в области социальной психологии, бесспорно правомерные сами по себе, хотя соотношения между типами мнений и типами поведения часто бывают туманными и довольно сложными. Допустим, что процентное соотношение различных психологических типов неодинаково в каждой партии. Например, состав национал-социалистской партии специфичен психологически, а не только социологически. Таким ли же образом обстоит дело с конституционными партиями, когда сравнивают между собой левых и правых, рабочий класс и другие социальные слои?
Каков бы ни был ответ на подобные вопросы, который должны дать сами факты, главное — это не забывать, что в цивилизациях высшего уровня психолоВойна и мир между народами • Раймон Арон
427
Часть II
гические причины воинственного поведения не выступают прямо, а опосредованы институциями. Образ жизни кочевников, обитающих в степях или пустынях, ведёт их напрямую к борьбе и бою, а следовательно, к агрессивности и завоеваниям. Личность Гитлера характеризуется, вероятно, агрессией, коренящейся в чувстве обманутости. Среди приверженцев Гитлера число индивидов, движимых злобой и злопамятством, было, наверное, больше, в сопоставимом соотношении, чем во всём народе; допустим, что это было именно так. Но политическая ориентация Гитлера объясняется его идеологическим мировоззрением, а приход к власти такого демагога тесно связан с событиями века. Психологи объясняют исторические факты независимо оттого, принадлежат ли они к событийному типу или типу социологическому. Собственно психологические “причины" появляются на свет лишь в исторической одежде определённой эпохи и конкретном контексте. Быть может, агрессивность как черта характера Гитлера повлияла на его поведение и тем самым, на ход истории. Но фюрер вычитал свои взгляды из книг, а миллионы немцев возложили на него свои надежды и в его мечтаниях узнали самих себя.
Являются ли психологические этюды какой-либо “психотерапией против воинственности”? Нет, они лишь указывают на три болезни, подлежащие лечению: племенной эгоизм, коллективная агрессивность, бредовые проявления милитаристской и героизаторской морали.
Непризнание себе подобного в чужаке, иностранце, иноплеменнике — таков один из истоков, одновременно социальных и психических, дистанцирования между сообществами, а следовательно и причины войн. Поэтому совсем не вредно бороться против всяческих отклонений от нормы в сфере национального самолюбия и развенчивать мифы о “вечной Германии” или “жестокой Японии”. В наше время, между прочим, сами события приходят на помощь медикам: трудно верить в существование неких стереотипов, если они меняются из года в год ввиду распада союзов и самых неожиданных военных действий.
Будучи медиками от политики, американские антропологи предсказывали смягчение социальных запретов в Японии и Германии, ослабление семейной авторитарности — и всё это ради того, чтобы более совершенное равновесие импульсов в каждом из нас находило своё выражение в более мирном поведении всех. Если агрессивность есть результат чувства обманутости, фрустрации, бытующей в той культуре, в какой живут люди, то она, эта агрессивность, будет смягчаться не столько речами или договорами, сколько реформой системы образования и изменением шкалы ценностей.
Следует отвергать и разоблачать все виды философских теорий, в которых восхваляются агрессивное поведение и воинственные институции. Вместо этого должны и будут прославляться мир, а не победа, компромисс в результате переговоров, а не насилие, мудрец, а не боец. Так, Япония с её имперской традицией превратится в страну, которая будет отказываться перевооружаться.
Восхитимся лишний раз человеческой хитростью и рассудительностью. Национальные стереотипы больше не угрожают миру, потому что вчерашние противники сегодня стали союзниками, и наоборот. Сегодня, чтобы поубавить 428 Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
неприязнь между соперниками, надо разрушить идеологические стереотипы, то есть догму о достоинствах западного режима, проповедоваемую Советам, и догму о достоинствах советского режима, неустанно напоминаемую людям Запада. Однако идеократическое государство, конечно, не может критиковать ту идеологию, которая служит ему фундаментом. А если один из лагерей фанатичен, то способствует ли равновесию либерализм другого лагеря? Что же касается преодоления взаимной неприязни и агрессивности с помощью более совершенной техники воспитания или более гибкой системы обязанностей и обязательств, то это и в самом деле может способствовать созданию мирного внутреннего порядка в тех или иных сообществах и коллективах, но с само собой разумеющейся оговоркой, что общество обеспечит для этого соответствующие условия индивидам и группам. Однако от такого умиротворения до международного мира — дистанция огромного размера, да и то не прямая, а окольная.
Биологи не вселяют надежд; психологи и антропологи открывают перспективу медленного и долгого перевоспитания человечества; одни лишь исследователи коллективных бессознательных действий берутся толковать войну как историческое изобретение, начальные мотивации которого давно забыты и предоставляют людям альтернативу: либо как-то очнуться и осознать ужас войны, либо каждому покончить с собой. “До тех пор, пока источник наших иррациональных действий будет оставаться скрытым, — пишет американский социолог Льюис Мамфорд, — силы, толкающие нас к разрушению, будут казаться невыносимыми. Самое худшее в изначальных ошибках цивилизованного человека и самое угрожающее в нашем нынешнем положении, так это то, что мы рассматриваем некоторые наши наиболее саморазрушительные действия как нормальные и неизбежные”1. Войну надо ставить на одну доску с индивидуальным убийством, считать её коллективным преступлением или поведением нездоровых людей. Тот факт, что война прошла через многие века, а ныне угрожает самому существованию человечества, есть факт постыдный как для ума, так и для совести, и его следует сначала объяснить, а затем сделать невозможным на будущее.
Теория Мамфорда состоит из нескольких положений. Она исходит из сопоставления между ситуацией человечества на утренней заре исторического времени и ситуацией нынешней. Она заимствует у У.Дж. Перри1 2 гипотезу, согласно которой война была изобретением египетского общества, перенятым другими цивилизациями. Далее Мамфорд старается объяснить повсеместность и вездесущесть воинственных институций теми или иными постоянно действующими факторами. Наконец, он называет полнейшим абсурдом войну в атомный век, а глубинные причины всё ещё продолжающегося притягательного, гипнотического воздействия войны на умы и сердца людей ищет в иррациональных импульсах.
1 Эта цитата, как и следующие, взята из статьи Л. Мамфорда для “Saturday Evening" и в которой он резюмировал свои концепции. Статья была опубликована в сборнике: Richard Thruelsen and John Kobler (eds.). Adventures of the Mind. New York, 1960.
2 Cm.: Perry W.J. The growth of Civilization. New York, 1923: Wright, op. cit., t. I, appendice VI, p. 471 sqq. (теория единого истока войны).
Война и мир между народами • Раймон Арон
Часть II
Вот, например, как он описывает сходство между началом эпохи неолита и началом атомного века: “Имеется совершенно чёткая параллель между нашей эпохой, когда люди воодушевлены воде бы ничем не ограниченной экспансией их мощи, и эпохой возникновения первых цивилизаций — в Египте и Месопотамии. Гордый своими нынешними подвигами и успехами, современный человек, быть может, поступает вполне естественно, когда полагает, что столь обширное высвобождение физической энергии и человеческих возможностей ещё никогда не бывало в истории. Но, при внимательном рассмотрении, это оказывается слишком лестной иллюзией: обе эпохи могущества—и новейшая, и древняя — взаимосвязаны многими схожими чертами, хорошими и плохими, которые отделяют их от других фаз человеческой истории. Точно таким же образом, как прелюдия атомного века была отмечена широкомасштабным использованием энергии воды, воздуха и тепла, так и первые шаги к цивилизации ознаменовались неолитическим одомашниванием растений и животных. Земледельческая революция дала человеку пишу, энергию, безопасность и излишек рабочей силы, и всё это в масштабах, которых не знала ни одна предыдущая культура. Среди свершений этого перехода от варварства к цивилизации можно назвать начала астрономии и математики, первый астрономический календарь, парусное судно повозку, гончарный круг, ткацкое ремесло, ирригационный канал, различные механизмы и приспособления, приводимые в действе вручную. Эмоциональные и интеллектуальные способности цивилизованного человека были развиты ещё больше изобретением письменности, созданием постоянных, как бы вечных документов, так сказать, в скульптурном виде1, живописью и ваянием, возведением городов, окружённых укреплениями. Такой огромный скачок достиг своей наивысшей точки примерно пять тысяч лет тому назад. Подобная мобилизация ресурсов и возможностей и подобный рост могущества больше не наблюдались вплоть до эпохи, в которой живём мы".
В те далёкие времена власть священная, “вечная”, и власть преходящая соединялись в личности всемогущего властителя, располагавшегося на вершине социальной пирамиды. Властитель был одновременно светским руководителем и верховным священником, и даже, как в Египте, считался живым богом. Его воля была законом. Его власть, как бы проистекающая из божественного права, претендовала на то, чтобы быть магической, и получала коллективный отклик, тоже магический. И то, чего власть владыки не могла одолеть одним лишь устрашением, а также то, чего не могли сделать только магические ритуалы и регулярные астрономические наблюдения, на основании которых делались довольно точные предсказания, — всё это совершалось вполне успешно, когда обе эти ветви соединялись в едином усилии. Обширные когорты людей маршировали и действовали как один человек, подчиняясь командам властителя, исполняя волю богов и своих начальников. С развитием эффективно функционирующей бюрократии, хорошо обученной армии налоговой системы и принудительного труда первые тоталитарные режимы уже обнаруживали ха1 Имеются в виду, в частности, тексты, выбитые на глиняных табличках, стенах и т. п. — Прим. пер.
430 Раймон Арон • Война и мир между народами
Социология
рактерные и угнетающие черты, которые свойственны таким же режимам в наше время.
Человек этих первых цивилизаций был устрашён силами, которые он сам же создал или развязал, подобно тому как сегодня люди устрашены ядерными силами. Расширение физического могущества и политического волевого правления не сопровождалось дополняющим развитием нравственного сознания. Властитель персонифицировал сообщество. Он и только он олицетворял собой необходимую связь между обыкновенным человеком и космическими силами, которые надо было сделать благосклонными и которым надо было подчиняться. Чтобы избежать гнева богов, а гнев их воочию демонстрировали какие-нибудь стихийные бедствия, надо было бы в принципе, принести в жертву самого властителя. Но чтобы избавить его от столь печальной участи, был придуман другой магический способ. Властителю находили заместителя, которого окружали всеми соответствующими почестями и привилегиями, а потом обрекали его на роль жертвы для заклания. Во времена волнений и смут возникала повышенная нужда в приобретении таких “заместителей владыки”, и их добывали силой уже за пределами данного сообщества.
“И то, что первоначально было лишь односторонней экспедицией для захвата пленников, впоследствии повлекло за собой коллективные репрессалии и ответные экспедиции, принявшие в конце концов институционную форму войны. В истоке войны как раз и находится эта варварская религиозная санкция: лишь человеческой жертвой может быть спасено сообщество людей. Война, следовательно, есть особый продукт цивилизации; она есть результат усилий для добычи пленников, чтобы принести магическую человеческую жертву. Со временем вооружённая сила сама приобретает внешне независимое существование, а расширение мощи становится самоцелью, проявлением и демонстрацией “здоровья” государства. Но даже и под толстым слоем лака рационализации война остаётся окрашенной изначальным инфантильным предрассудком, будто жизнь и процветание сообщества можно обеспечить лишь искуплением в виде жертвоприношения. Последующие попытки цивилизованного человека найти истоки войны в некоем животном первичном инстинкте, побуждающем человека убивать особей своего же собственного вида, представляет собой всего-навсего тщетное усилие как-то рационализировать проблему. В этой связи решающе значение приобретают слова антрополога Бронислава Малиновского: “Если мы желаем определить войну как борьбу между двумя независимыми и политически организованными группами, тогда война не должна иметь места на уровне первобытного человека”.
Всё или почти всё в этой теории представляется мне сомнительным или несовместимым с фактами. Объяснение современной войны, обращаясь к террористическим актам неолитического человека, представляет собой как раз то самое иррациональное мышление, которое сам автор считает повинным во всяческих страхах сегодняшнего человека.
То, что война, определяемая как борьба между двумя независимыми и политически организованными группами, имеет сравнительно недавние истоки, это действительно так, да и как может быть иначе, если сама политическая организация не старше неолита. Концепция У.Дж. Перри, согласно котоВойна и мир между народами • Раймон Арон 431
Часть II
рой войну изобрели египтяне, плохо согласуется и с историческими фактами, и с результатами изучения архаических обществ, проведенного за последние три столетия. Доколумбовские цивилизации Америки практиковали войны, ничего не перенимая от египтян. Им не было нужды получать уроки от властителей и высших священнослужителей, воздвигавших пирамиды и приносивших искупительные жертвы. Впрочем, не имеет особого значения, началось ли распространение военной институции с какого-либо одного изначального изобретения или же она была изобретена несколькими обществами. Чтобы та или иная институция могла распространиться повсеместно и существовать многие века, нужно, чтобы на это были фундаментальные и постоянно действующие причины. Являются ли такие причины социальными и доступными пониманию как действующих лиц, так и наблюдателей? Или они совершенно иррациональны и не поддаются уяснению? Л. Мамфорд незаметно переходит от первого вопроса-предположения ко второму. Изначальная модель цивилизации, пишет он, в том виде как она оформилась в городе, окружённом стенами, остаётся по своей сути неизменной вплоть до нашей современности. Правящие классы восхваляли воинскую жертвенность, потому что хотели удержать и укрепить собственную власть. При таком допущении война оказывается нормальной составляющей отношений между политическими сообществами, потому что последние в таком случае выступают — в том, что касается их внутреннего порядка, — как стабилизированный результат насилия. Нам нет никакой необходимости привлекать иррациональные мотивации, восходящие к далёкому прошлому и как бы впечатанные в коллективное бессознательное, чтобы понять долговременное и упорное существование институции войны и воинственности: чтобы получить объяснение, достаточно вспомнить саму природу замкнутых обществ и их взаимоотношений.
Второй вопрос-предположение — совсем иного рода и даже противоречит первому. Да, частота войн в современную эпоху, угроза атомной войны, более разрушительной, чем все другие, доказывает глубокую иррациональность воинственной институции. Но эта иррациональность имеет своим источником не столько какое-то изначальное заблуждение, сколько бездонные глубины самого человека, мучимого комплексами виновности и страхом, внушаемым ему почти обожествлёнными властями, которые он первоначально с некоей гордостью учредил для самого себя.
Грёзы, заполнявшие воображение наших далёких предков, основателей цивилизаций стали реальностью. Благодаря слиянию мощи, так сказать, светской, мирской и мощи священнодействия были изобретены атомные бомбы и баллистические ракеты. Потребовались физические ресурсы всеохватывающего государства и интеллектуальные ресурсы учёных, чтобы человечество могло овладеть ядерной энергией и выйти в космическое пространство. Способностью к разрушению, которую египтяне приписывали богам, теперь владеет любой генерал, американский или русский. Но, тем самым, человечество страдает неврозом тревоги в масштабах, соответствующих мощности его оружия и степени его комплексов виновности.
Все эти страхи тем более иррациональны, что старая структура замкнутых обществ ныне уже совершенно рас432 \ г Раймон Арон • Война и мир между народами
падается. Уходит в безвозвратное прошлое время городов, окружённых стенами враждующих между собой классов, эксплуатации человека человеком. Экономически и политически термоядерная война бессмысленна. Таким образом мы возвращаемся к исходной точке начала цивилизации, но теперь уже на ещё более низком уровне дикости: вместо того, чтобы принести символическую жертву ради ублажения богов, мы обрели способность принести тотальную жертву с единственной целью утихомирить нашу тревогу.
Что грёзы наших далёких предков стали действительностью — это правда. Что человечество чувствует себя виновным за свои прометеевские подвиги — это вполне возможно, хотя страх, осознанный и обоснованный, человека науки перед риском термоядерной войны представляется мне более реальным явлением, чем коллективная тревога, вызванная чувством виновности. Я совершенно не сомневаюсь, что рост производительных сил и возможностей должен разрушить стены между народами и классами, поскольку сама логика экономики должна в конце концов взять верх. Однако поддержание мира не может и не будет гарантировано тем простым фактом, что войны становятся всё более иррациональными, даже под углом зрения подсчётов издержек и выгод. Удивляться такому печальному выводу могут лишь те, кто ничего не ведает о природе, о сущности исторического человека, гражданина города-полиса в окружении других городов-полисов, обречённого на обособленное существование и одновременно носителя универсального разума. Проблема мира между суверенными и вооружёнными сообществами сама по себе трудна для решения, Социология
если она вообще разрешима, но при этом нет никакой необходимости вызывать в памяти какой-то там атавистический террор. Атомное и термоядерное оружие делает войну более неразумной, но она и поддержание мира делает довольно трудным делом для самих государств, желающих быть мудрыми.
Человеческое животное агрессивно, но оно не воюет лишь благодаря инстинкту; война, конечно, преследует определённые цели, но она не есть обязательное выражение человеческой боевитости. Да, она была постоянным выражением именно этого качества в определённой исторической фазе, начиная с момента, когда общества организовались и вооружились. Окончательное устранение опасности насилия противоречило бы самой природе человека: во всяком сообществе неприспособившиеся к нему нарушают и будут нарушать законы, нападали и будут нападать на отдельных людей. Исчезновение конфликтов между индивидами или группами противоречило бы природе индивидов и групп. Но никто ещё не доказал, что все эти конфликты должны проявлять себя в военных и воинственных институциях. таких, какими мы знаем их за тысячи лет их существования — с организованными бойцами, использующими всё более и более разрушительные средства.
Так возможен ли мир, то есть отсутствие легальных войн между суверенными сообществами? Вероятен ли он? Мы поставим перед собой этот вопрос после того, как проанализируем сегодняшнюю ситуацию в мире. А завершая эту главу, ограничимся единственным выводом, на который наталкивают нас биологи.
Трудность достижения и обеспечения мира больше связана с собственно человеческими, а не животными качеВойна и мир между народами • Раймон Арон
433
Часть II
ствами человека. Мышь, получившая хорошую взбучку, подчиняется сильнейшему, и в её среде обитания устанавливается стабильная иерархия господства и подчинения. Волк, выставляющий свою глотку для перегрызания противником, щадится победителем. Человек же есть существо, способное предпочесть мятеж унижению, а свою правду — самой своей жизни. Иерархия, где наверху хозяин, а внизу раб, никогда не станет стабильной. Завтра хозяева перестанут нуждаться в прислужниках и будут иметь силу и власть истребить всё и вся.
434 Раймон Арон • Война и мир между народами
Часть III
чение территориальных завоеваний. Распространение суверенитета на дополнительные территории редко отвечает (если только не истреблять их жителей) реальным или предполагаемым потребностям народов, стесненных своими границами. Японцы живут на своих четырех островах лучше, чем в прошлом в рамках сферы азиатского процветания При условии свободы торговых обменов индустриально развитая страна не заинтересована, по крайней мере в краткосрочной перспективе, брать на себя груз инвестиционных расходов, необходимых для индустриализации новых территорий.
До 1945 г. суждения либеральных экономистов не отражались на амбициях современных цезарей. Но распад европейских империй после второй мировой войны отвечал представлению о том, что “империя не окупает себя”. Правда, решение Великобритании покинуть Индию было обусловлено скорее обещаниями, данными еще во время войны, и обстоятельствами того времени, чем подсчетом затрат и прибылей. Уход из Индии повлек за собой и ликвидацию всех колониальных владений в Азии. Волна освобождения народов неудержимо нарастала, распространяясь все шире. Сопротивление Франции в Индокитае и Алжире показало, что чувства и стремления народов не подчиняются логике индустриального общества (реальной или приписываемой ему).
Надо ли полагать, что западная цивилизация, в том смысле, как понимал ее Тойнби, эволюционировала в сторону мировой империи, аналогичной тем, которые предшествовали ей и погибли раньше? Можно ли считать Организацию Североатлантического договора такой мировой (американской) империей? Признаем мы или нет, что зона Атлантики стала похожей на подобную империю, но своеобразие нынешней обстановки состоит в том, что советская империя, захватившая и центр бывшего германского рейха, противостоит странам Атлантического пакта. Именно унификация “цивилизаций” в единой системе характеризует период, начавшийся после второй мировой войны.
Нашу эпоху следует рассматривать с точки зрения перспектив всего человечества, а не отдельных наций или “цивилизаций”. Война, понимаемая в строгом смысле слова как кровавый конфликт между регулярными войсками сформировавшихся государств, не может иметь более давнюю историю, чем само существование “политических организаций” или “регулярных армий”. Война как политический институт имеет относительно недавнее происхождение (несколько тысяч лет), но неоспоримо, хотя и малоинтересно, что цивилизация также зародилась в недавнем прошлом. С тех пор как люди, добывая средства к существованию, научились изготовлять металлические орудия, они стали представлять самую большую опасность друг для друга. Война — это в основном не биологический феномен: среди высших животных мы не видим типов поведения, сравнимых с войной. Лишь общественные существа сражаются организованными группами. Только “социальные сообщества” порождают отчуждение, враждебность, ненависть, безжалостную борьбу между особями одного вида.
Два разных процесса привели к одному результату — ситуации 1960 г., характеризуемой двумя важнейшими факторами: технической революцией, которая привела к небывалому возрастанию возможностей созидания и унич438
Раймон Арон • Мир и война между народами
1945 г. Германия. Немецкий генерал Кинзелъ подписывает капитуляцию генералу Монтгомери.
ИСТОРИЯ
МИРОВАЯ СИСТЕМА
В ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ВЕК
Введение
В двух предыдущих частях мы
стремились связать наши исследования с
проблемами современности. О чем бы ни
шла речь — о тех или иных концепциях
или определяющих факторах развития,
—теоретический и исторический анализ
был направлен к тому, чтобы выявить
своеобразие современной эпохи.
В каждой из первых трех глав мы
говорили об оружии массового
поражения. Изменяют ли ядерные или
термоядерные взрывчатые вещества
отношение между стратегией и дипломатией
(заставляют ли они внести поправки в
классическую формулу Клаузевица:
война — это продолжение политики иными
средствами)? Каковы в наше время
условия, определяющие силу или могущество
государств? В чем состоят те цели,
которые ставят перед собой действующие лица
на международной сцене?
Рассматривая системы
международных отношений, мы отмечали
всемирные масштабы и биполярность сферы
дипломатической деятельности,
формирование блоков вокруг двух ядерных
держав. Диалектика войны и мира привела
к холодной войне, к постоянному
сочетанию в различных комбинациях
политики сдерживания, устрашения и
подрывных действий.
К темам современной
действительности мы часто обращались и во втором
разделе. Вполне допустимо объяснять
текущие события в свете взглядов Маккин-
дера и рассматривать соперничество
между Советским Союзом и
Соединенными Штатами как новый эпизод
вечного противостояния земли и моря,
континентальной и морской империй
с учетом масштабов современного
мира. Воздушное пространство
придает новое измерение этому спору, а
овладение космосом при помощи науки,
использование новых транспортных
средств и особенно видов связи
стирает различия в образе действий
морского и наземного типа. Баллистическая
ракета одинаково преодолевает океаны
и пустыни; "искусственные спутники"
скоро заставят государства
устанавливать пределы той высоты, где
кончается их суверенитет.
На протяжении веков соотношение
между численностью населения и
ресурсами предопределяло судьбу наций,
возможности процветания народов. При
данном техническом уровне развития
численность населения на определенной
территории могла быть больше или
меньше оптимальной для благосостояния или
могущества государств. В прошлом
различные авторы чаще сожалели о
пагубных последствиях малонаселенности тех
или иных регионов, чем по поводу
рисков, связанных с перенаселенностью. Но
в XX в. демографический взрыв
совпадает с беспрецедентным увеличением
плотности населения одновременно с
ростом его благосостояния.
В то же время новый характер
экономики коренным образом меняет зна-
Мир и война между народами • Раймон Арон
437
Часть III
чение территориальных завоеваний. Распространение суверенитета на дополнительные территории редко отвечает (если только не истреблять их жителей) реальным или предполагаемым потребностям народов, стесненных своими границами. Японцы живут на своих четырех островах лучше, чем в прошлом в рамках сферы азиатского процветания При условии свободы торговых обменов индустриально развитая страна не заинтересована, по крайней мере в краткосрочной перспективе, брать на себя груз инвестиционных расходов, необходимых для индустриализации новых территорий.
До 1945 г. суждения либеральных экономистов не отражались на амбициях современных цезарей. Но распад европейских империй после второй мировой войны отвечал представлению о том, что “империя не окупает себя”. Правда, решение Великобритании покинуть Индию было обусловлено скорее обещаниями, данными еще во время войны, и обстоятельствами того времени, чем подсчетом затрат и прибылей. Уход из Индии повлек за собой и ликвидацию всех колониальных владений в Азии. Волна освобождения народов неудержимо нарастала, распространяясь все шире. Сопротивление Франции в Индокитае и Алжире показало, что чувства и стремления народов не подчиняются логике индустриального общества (реальной или приписываемой ему).
Надо ли полагать, что западная цивилизация, в том смысле, как понимал ее Тойнби, эволюционировала в сторону мировой империи, аналогичной тем, которые предшествовали ей и погибли раньше? Можно ли считать Организацию Североатлантического договора такой мировой (американской) империей? Признаем мы или нет, что зона Атлантики стала похожей на подобную империю, но своеобразие нынешней обстановки состоит в том, что советская империя, захватившая и центр бывшего германского рейха, противостоит странам Атлантического пакта. Именно унификация “цивилизаций” в единой системе характеризует период, начавшийся после второй мировой войны.
Нашу эпоху следует рассматривать с точки зрения перспектив всего человечества, а не отдельных наций или “цивилизаций”. Война, понимаемая в строгом смысле слова как кровавый конфликт между регулярными войсками сформировавшихся государств, не может иметь более давнюю историю, чем само существование “политических организаций” или “регулярных армий”. Война как политический институт имеет относительно недавнее происхождение (несколько тысяч лет), но неоспоримо, хотя и малоинтересно, что цивилизация также зародилась в недавнем прошлом. С тех пор как люди, добывая средства к существованию, научились изготовлять металлические орудия, они стали представлять самую большую опасность друг для друга. Война — это в основном не биологический феномен: среди высших животных мы не видим типов поведения, сравнимых с войной. Лишь общественные существа сражаются организованными группами. Только “социальные сообщества” порождают отчуждение, враждебность, ненависть, безжалостную борьбу между особями одного вида.
Два разных процесса привели к одному результату — ситуации 1960 г., характеризуемой двумя важнейшими факторами: технической революцией, которая привела к небывалому возрастанию возможностей созидания и унич438
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
тожения (термоядерное оружие) и к росту производства. Эти факторы, а также расширение сферы дипломатии вплоть до всемирных масштабовобусловнли одновременно и разнородность политических форм (разнообразие принципов государственного правопорядка, размеров политических сообществ) и юридическую однородность (деятельность ООН, признание равенства и суверенитета государств).
Более подробное исследование международных отношений в ядерный век, к которому мы приступаем, преследует две основные цели. Прежде всего — выявить новый характер стратегии и дипломатии в эпоху термоядерного оружия. А кроме того — дать описание конкретной обстановки в свете изложенных выше концепций и анализа важнейших факторов развития. Обе эти цели могут быть достигнуты лишь одновременно.
Появление так называемого оружия массового уничтожения внесло перемены в отношения между суверенными, как принято говорить, государствами. Оно не изменило ни природы людей, ни сущности политических сообществ. Следовательно, необходимо выявить, что же произошло, оставаясь вначале на уровне абстракции, в области теории, а затем постепенно переходя к действительности.
Мы рассмотрим сперва разнородность мировой системы, в связи с распространением на всю планету той дипломатической практики, главными творцами которой были индустриальные государства. Во все времена международные отношения формировались между “политическими сообществами”, или “суверенными военными образованиями”, или “центрами принятия автономных решений”. Что же представляют собой нынешние фигуранты на мировой сцене: государства, признанные Организацией Объединенных Наций, блоки, созданные на основе военных союзов или идеологического родства? А точнее, в какой мере и в каком смысле эти действующие силы являются государствами или блоками государств?
Мы рассмотрим затем одну из двух отличительных черт нынешней обстановки, которая имеет наиболее революционный характер, — существование термоядерного оружия. И мы проанализируем его роль и значение на основе метода, близкого к моделированию. Впервые в истории люди готовятся к войне, к которой они не стремятся и которую надеются не допустить. Каково значение стратегии сдерживания или стратегии, имеющей целью предотвратить определенные действия предполагаемого противника.
угрожая использовать меры, которые никто не хотел бы применить1.
Ответы на вопросы, сформулированные в XIII и XIV главах, обосновываются в XV и XVI главах. Образование блоков никак или почти никак не было связано с появлением ядерного оружия. Этот процесс был следствием второй мировой войны. Два государства вышли из нее окрепшими. Это — Советский Союз, который, несмотря на огромные потери, обладал самой большой армией после демобилизации, проведенной Англией и США в 1945—1946 гг., и Соединенные Штаты, территория которых не пострадала, а промышленность возросла и которые обладали монополией на ядерное оружие. Образование зоны со1 Фраза “Меры, которые никто не хотел бы применить", имеет намеренно расплывчатый характер. В главе XIV будет сделан анализ, уточняющий смысл этой формулы.
Мир и война между народами • Раймон Арон .
439 ,
Часть III
ветского влияния на востоке Европы повлекло за собой объединение западных держав, что, в свою очередь, привело к укреплению связей между Советским Союзом и странами народной демократии. Диалектика блоков, сама по себе, имеет классический характер, соответствуя предсказуемой логике биполярного равновесия. Проблема состоит в том, чтобы выяснить, в какой мере эта диалектика была и будет затронута новой стратегией сдерживания.
На следующей стадии (гл. XVII) анализ коснется ^присоединившихся государств, многие из которых являются также слаборазвитыми странами. Блоки в Европе и Северной Америке объединяют в основном развитые государства. Если они будут воевать между собой, то плоды победы достанутся тем, кто находится вне зоны военных действий. Стремясь избежать взаимного уничтожения, они в то же время соперничают за пределами сферы прямого противостояния между ними. Каждый блок пытается привлечь на свою сторону неприсоединившиеся страны, поставить их под свои знамена или подтолкнуть к индустриализации по своему образцу. Иными словами, существование третьего мира укрепляет парадоксальный характер отношений между блоками, которые, исходя из здравого смысла, не должны сражаться насмерть, но не могут договориться друг с другом.
И в заключение мы перейдем к рассмотрению в главе XVIII содержания главного конфликта нашего времени, связанного с отношениями между двумя великими державами. В какой мере они обнаруживают сходство друг с другом и действуют как братья-враги? Как истолковывают свое соперничество? Какое объяснение дают ему третьи стороны, их союзники или представители неприсоединившихся стран?
ГЛАВА XIII
Завершенный мир, или Разнородность мировой системы
Мировая система охватывает после 1945 г. пять континентов, то есть все человечество.
Нет такого события в Корее или Лаосе, которое не отзывалось бы в Советском Союзе или Соединенных Штатах. Мир дипломатии похож на акустический резонатор: все, что происходит с людьми и вещами, находит широкий, бесконечно повторяемый отзвук. Потрясение в одной точке планеты передается от одного района к другому вплоть до самых отдаленных ее уголков.
Единство системы подчеркивается ролью, которую играют две великие державы. Присутствие американских советников или солдат на 38-й параллели в Корее, на прибрежных островах в Тайваньском проливе, в Западном Берлине символизирует вездесущность американских вооруженных сил, а также взаимозависимость операционных театров в 440 *
<. Раймон Арон • Мир и война между народами
История
Европе и Азии. Оно помогает представить себе карту дипломатической деятельности в соответствии со схемой Маккиндера: Американская республика расположена на острове посреди евроазиатского пространства подобно Британским островам по отношению к европейскому материку. Она стремится прикрыть береговую линию евроазиатского массива на западе Европы и на востоке Азии. Проникновение коммунистических идей и институтов в Африку и в Америку стало ответом на создание американских баз вокруг территории Советского Союза. Континентальная держава стремится посредством пропаганды или притягательности своей доктрины преодолеть преграду, воздвигнутую ее соперником, и проникает в районы, удаленность которых должна бы, казалось, оградить их от посягательств.
И, наконец, как бы ни оценивать эффективность деятельности Организации Объединенных Наций, она стремится стать всеобъемлющим институтом, к которому должны присоединяться на законных основаниях все государства. Отсутствие в ней континентального Китая обусловлено упрямством американской дипломатии, а отсутствие Германии—последствиями минувшей войны.
Картина мира являет характерные черты международной системы: все события, где бы они ни происходили, воздействуют друг на друга. Политические сообщества повсюду выстраиваются в единую иерархическую лестницу, два из них удерживают на международной арене место, которое занимали прежде великие державы на европейской сцене. Все государства устанавливают между собой отношения юридического и дипломатического характера. Транснациональные институты открыты для представителей всех рас. Нынешние Олимпийские игры родились из анахроничного в некотором роде подражания древнегреческим играм. В прошлом они не препятствовали ведению войн между полисами, но все же выявляли общность между ними, скорее даже между их гражданами. Общность, которую демонстрируют Олимпийские игры в отношениях между людьми, а Организация Объединенных Наций, закладывает в отношения между государствами, означает общность рода человеческого.
Расширение системы международных отношений до всемирных масштабов совершенно не связано, на первый взгляд, с появлением оружия массового уничтожения и термоядерной биполярностью. Соединенные Штаты могли бы вести военные действия в Корее и Вьетнаме, на Эльбе и Крайнем Севере и в том случае, если бы бомбардировщики несли только оружие классического типа. Точно так же идеологическое проникновение и подрывная деятельность могли бы затрагивать Панаму и Кубу, даже если бы Советский Союз не располагал ни баллистическими ракетами, ни термоядерными бомбами.
С исторической точки зрения, расширение международной системы до глобальных масштабов было обусловлено второй мировой войной. Согласованное нападение Германии и Японии заставило_Великобританию и особенно Соединенные Штаты поделить свои силы между двумя театрами военных действий. Перед американскими военными руководителями стояли задачи, аналогичные тем, с которыми сталкивалось германское командование в 1914—1918 гг. Два фронта империи Вильгельма проходили в Европе, два фронта Соединенных Штатов пролегли Мир и война между народами • Раймон Арон
441
Часть III
по Рейну и по Филиппинам. Крушение германской и японской империй сделало неизбежным продление американского присутствия у границ советской империи, которое приобрело чуть ли не постоянный характер.
Но расширение до всемирных масштабов системы международных отношений было обусловлено постоянно действующими факторами. Современные средства транспорта и связи преодолевают препятствия, связанные с расстояниями. Советский Союз являет миру два лица: одно обращено к Европе, а другое к Азии. Соединенные Штаты также обращены, с одной стороны, к Атлантическому океану и Европе и, с другой, — к Тихому океану и Азии. С тех пор, как Советский Союз и Соединенные Штаты стали играть первые роли на международной арене, она охватила всю нашу планету. В общем, размеры дипломатической сцены на протяжении истории оказываются пропорциональными значимости действующих лиц. Территория, на которую распространяется могущество какого-либо государства, зависит от его ресурсов. При постоянном уровне техники масштабы сферы дипломатии определяются характером политических сообществ и величиной тех сил, которые в них сконцентрированы. Греческие полисы были вынуждены проводить провинциальную политику, если только не объединялись или не подчинялись общему правителю. Диспропорция между площадью европейских государств и огромными размерами их империй была обусловлена исключительными обстоятельствами. В то же время система международных отношений вполне логично имеет всемирный характер, коль скоро каждая из двух великих держав способна мобилизовать и вооружить десяток миллионов людей и выплавлять десятки миллионов тонн стали.
Оружие, характер возможной войны накладывают свой отпечаток на дипломатию, но она прежде всего зависит от действующих лиц, их интересов, их идеологии, их практической деятельности. Точно так же, как природа демократической политической системы обусловлена характером ее участников, то есть партий, суть системы международных отношений определяется природой ее участников, то есть государств. В обоих случаях на сцене или за ней действуют также полулегальные или не соответствующие доминирующему типу участники. В одном случае это группы давления или профессиональные объединения, в другом — транснациональные, наднациональные или интернациональные группировки.
Соединенные Штаты и Габон (полмиллиона жителей), Советский Союз и Ливия одинаково являются членами ООН и, будучи, с точки зрения права, суверенными государствами, одинаково выступают в качестве членов международного сообщества. Обращать внимание на это разнообразие, отмечаемое всеми наблюдателями, важно лишь для того, чтобы выявить его природу, то есть проанализировать гетерогенность, характерную для всемирной системы.
1. Общность
и разнородность
Возьмем в качестве исходного пункта тот факт, что все политические сообщества так или иначе объявляют о своей приверженности одной и той же концепции государства, повсеместно признаваемой на словах. Эта концепция синтезирует три исторические идеи: законность
442 с Раймон Арон • Мир и война между народами
имеет демократический характер, государство нейтрально по отношению к верованиям граждан, обусловленным индивидуальным сознанием, власть осуществляется через бюрократию.
Демократический характер законности понимается в двух смыслах. Народы принадлежат уже не монархам, а сами себе, они суверенны. Невозможно представить себе в наш век обмен провинциями между монархами. Компромиссы или сделки, при которых две территории аналогичной ценности одновременно меняют государственную принадлежность, недопустимы, по крайней мере официально, в условиях как демократических, так и советских режимов. Все правители претендуют на то, что выражают волю подданных, может быть, и глубоко скрытую.
Демократическая законность составляет основу самого национального существования, а не только тех или иных политических режимов. Иными словами, предполагается, хотя подчас и лицемерно, что индивиды, национальные образования, жители какой-либо провинции имеют право выбрать гражданство, порвать с государством, которое они не считают своим, и создать независимое государство или присоединиться к другому государству. Так называемый принцип самоопределения или право народов распоряжаться своей судьбой является внешне логичным следствием демократического правопорядка. Этот принцип не создает чрезмерных трудностей там, где на протяжении веков сформировались народы с четко выраженным самосознанием и стали возможными плебисциты граждан, сохраняющих повседневно свою верность государству. Там, где европейцы установили свое колониальное господство, этот принцип оправдывал выступ -
История ления так называемых националистов и способствовал победе партий и деятелей, которые возглавили эти выступления.
Но после ухода колонизаторов тот же принцип порождает риск распада государства-наследника или препятствует образованию единой нации. В Европе нации формировались не без помощи применявшейся монархами силы. И было бы иллюзорным надеяться на то, что африканские государства смогут без насилия сплавить в единые нации племена (или этнические группы), которые сохранили воспоминания о своей прежней борьбе.
В более широком плане право народов распоряжаться собственной судьбой предполагает, что народы, проявляющие стремление стать нациями, поднялись до уровня политического самосознания. Когда такой уровень достигнут, это право поддерживает устои исторически сложившихся империй (из которых ни одна не возникла благодаря воле населения). Так распались австро-венгерская и турецкая империи, но империя царской России осталась. Это напоминает нам (если в столь банальном уроке есть необходимость), что существуют поправки к принципам и что государственные образования могут подчас пережить крах своих принципов, находя им замену. Когда же необходимый уровень политического самосознания не достигнут, то право любой этнической группы располагать собой рискует послужить оправданием сползания к племенной анархии.
Принципы демократической законности и права на самоопределение не помешали подчинению Восточной Европы режимам советского образца, зависимым, в свою очередь, от Москвы. Из
Мир и война между народами • Раймон Арон
443
Часть III
этого нельзя еще сделать вывод, что исторически возникшие идеи были или являются бесплодными и неэффективными. Советский Союз формально не упразднил суверенитета государств Восточной Европы. Юридическое сохранение государств делает возможным их освобождение в будущем, рост внутренней и внешней автономии. Более того: завоеватель не может ссылаться на право завоевания. Он вступает в дискуссии с представителями Запада, с элитой своих государств-сателлитов. Западу он стремится доказать, что временное сдерживание устремлений народов отвечает исторической необходимости, классовой миссии, которая состоит в том, чтобы спасти человечество. Братским партиям московские лидеры говорят, что равенство социалистических стран должно сочетаться с руководящей ролью Советского Союза, авангарда советского лагеря — подобно тому, как авангардом пролетариата является его партия. Исторически возникшие идеи представляют собой один из факторов, определяющих ход событий. Это не единственный фактор, но и не просто еще один феномен: люди неохотно жертвуют личными интересами во имя идей, но даже отступая от своих принципов, они не отвергают их полностью. Законченный цинизм встречается чаще у теоретиков как реакция на их внутренние переживания, нежели у людей действия, которым необходимо верить в то, что они делают, и которые черпают внутреннюю уверенность в спокойной совести.
Нейтральное отношение светских государств к религии стало в Европе последствием религиозных войн. Теоретически существовало и существует два способа для предотвращения гражданских конфликтов между церквами и верующими. Один состоит в том, чтобы навязать подданным религию монарха или господствующую на данной территории, другой — в том, чтобы рассматривать религию как частное дело граждан. Первый способ, примененный в Германии с целью положить конец кровавой анархии, подвел постепенно ко второму — поскольку проявлялась терпимость по отношению к тем верующим, которые оставались приверженцами церкви, а не государства (лишь бы они подчинялись законам и не афишировали отправление своего культа). Когда различные Германии стали Германией императора Вильгельма, многообразие религиозных конфессий не оставляло иного выбора, как либо конфликт (Kulturkampf), либо равенство церквей. Эпоха конфликтов между церквами, между государством и церковью закончилась в Европе в начале XX в., но признание различных конфессий, право индивида исповедовать или не исповедовать ту или иную религию при нейтральном отношении к этому государства находят выражение во многих институционных формах. И эти формы вызывали новые конфликты, не все из которых разрешены до сих пор.
Целесообразно ли взимать государству через налоги суммы, необходимые для содержания церкви, как в Германии, или игнорировать финансовые потребности церквей, как во Франции, где верующие сами организуют их покрытие? Должно ли преподавание в начальных школах соответствовать желаниям родителей и быть католическим, протестантским или светским? Согласно ли государство распределять имеющиеся средства между католическими и светскими школами в соответствии со значением тех и других? Или же государство 444
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
признает только светские школы, не запрещая, но и не поддерживая религиозные школы? Ни одно, например, из трех решений — германское, бельгийское или французское — не противоречит нейтральному отношению государства к религии или формуле “религия — это частное дело”. Выбор того или другого варианта дает пищу нескончаемым дискуссиям по поводу различных принципов и их применения и объясняется каждый раз обстоятельствами вчерашнего и текущего дня.
Не все народы способны сегодня избрать для себя форму нейтрального государства: либо потому, что религия выступает как сила, образующая нацию (Пакистан), либо потому, что традиция предполагает недопустимость радикального отделения религии от гражданской власти. Израиль дает в этом отношении любопытный пример. Поскольку не все евреи, эмигрировавшие в Палестину, являются в расовом отношении потомками Соломона и Давида, общей для них остается лишь религия. И тем не менее, поскольку многие из них были неверующими и идея нейтрального государства исторически преобладает в умах граждан, они постановили, что израильское государство будет светским.
Светский характер государства ставит одну общую проблему: на чем должна основываться лояльность граждан, которые, как предполагается, могут исповедовать разные религии? Современное государство предполагает политическую дифференциацию, специфическое сознание национального гражданства, стоящего над семейными или местными связями, но под религиозной верой. Такое сознание совершенно отсутствует у мусульманских народов, разделенных на секты или племена, которые с трудом отождествляют себя, например, с иракским или иорданским государством. Еще менее оно проявляется у народов черной Африки, получивших сразу независимость в пределах границ, унаследованных от колониальных режимов.
В Европе национальное сознание, отделенное от сознания религиозного, наполнилось политическим содержанием, идеей нации, ценностями, которые она воплощает, и того режима, который ей отвечает. Государство не может быть нейтральным по отношению ко всем ценностям, не вырождаясь в простой инструмент административного управления. Оно считается воплощением той уникальной роли, которую нация призвана играть в мире, и служить ей. Эта роль предполагает более или менее четко определенную концепцию политического режима, а то и формы правления. Граждане чувствуют поэтому, что им позволено отречься от своей верности режиму, когда революция потрясает существующие институты, меняет их настолько, что понятие национальной роли меняет свой смысл. Германский патриот “предает” Третий рейх, чтобы не “предавать” те ценности, которым хочет остаться верен.
Тоталитарное государство не отличается от либерального в том смысле, что последнее — это “ночной сторож”, а первое — “страж веры”. Спор между идеологиями и партиями, который допускается либеральным государством, должен был бы, по идее, происходить на условиях, одобренных всеми гражданами: это уважение одних и тех же национальных ценностей, соблюдение демократического правопорядка, утверждение и гарантия самой возможности дискуссии. Советский тоталитаризм, по идее, Мир и война между народами • Раймон Арон .
445
Часть III
должен был бы допускать дискуссии относительно методов эффективного управления экономикой, распределения в обществе потерь и приобретений, связанных с промышленным развитием, воплощения в жизнь социалистического идеала. Но большевики постепенно смешали национальные цели и легитимность их государства с марксизмомленинизмом таким образом, что граждане не имеют больше права ставить под вопрос саму доктрину и ее толкование власть имущими.
Есть соблазн утверждать, что современное государство призвано быть нейтральным по отношению к религии потому, что теперь в центре исторических споров стали политэкономические взгляды. Отчасти это верно: либеральное государство предполагает идеологические дебаты, так же, как тоталитарное государство неотделимо от определенной идеологии. Но либеральное государство отнюдь не является идейно безразличным: оно допускает дискуссии тех граждан, которые, как предполагается, преданы национальным целям, уважают демократический правопорядок и, следовательно, правила честной полемики. Когда же этого национального единства и единодушия относительно основ демократического правопорядка не существует, то либеральное государство и само общество сталкиваются с угрозой дезинтеграции.
Вне зоны западной цивилизации существует мало подлинных наций (то есть таких сообществ, население которых достигло разностороннего понимания национальных целей). Народы новых государств представляют собой не столько нации, сколько более или менее однородное население. Африканские государства большей частью незначительны по размерам (исключая Нигерию), но они не отличаются ни этническим, ни языковым единообразием. Индия — огромная страна, где более 400 миллионов жителей. Возможно, у них есть “понимание общности своей цивилизации”, которое выражается в “политическом осознании национальной цели”, но это понимание общности цивилизации не содержит некоторых элементов национального сознания: общего языка, приверженности определенному строю, правопорядку и т.п.
Поэтому для большей части мира задача формирования наций лежит на государстве. Оно представляет собой — в Африке так же, как в Европе или Азии — прежде всего орган управления: чиновники руководят общественными службами, представляют государство в иностранных столицах, занимаются поддержанием порядка. Сборщики налогов, дипломаты, полицейские выполняют соответствующие три функции, присущие любому государству для осуществления которых оно специально нанимает оплачиваемый персонал.
Чиновники теоретически призваны поддерживать нейтральность государства в то время, как политические деятели являются в государстве с единой партией толкователями или проводниками определенной доктрины в жизнь, а в либеральном государстве выдвигаются в результате дебатов и состязательного процесса на роли руководителей общественными делами в соответствии с идеологией, которая на время взяла верх в рамках общих убеждений. Но ни тоталитарная формула, ни либеральная не отвечают полностью потребностям государств, народы которых не обладают необходимой монолитностью, сознанием общности целей. Тоталитар- г. 446 .
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ная формула наполняет политическое сознание скорее идеологическим, чем национальным содержанием. А либеральная формула может даже и предоставить свободу различным центробежным силам. Практически в каждой из стран Африки и Ближнего Востока действует единственная партия, не связанная идеологическими догмами и приверженная скорее национальным, чем идеологическим целям, —такова промежуточная формула, которая получает дальнейшее распространение.
Партия, которая вела борьбу за независимость или руководитель которой был героем антиколониальной борьбы, естественно, становится государственной партией. Из ее состава избираются администраторы и политические деятели (здесь еще не проводится четкого различия между теми и другими ввиду нехватки квалифицированного персонала). Государственная партия по закону не объявляет себя единственной, она не навязывает какую-то определенную идеологию, но на практике ограничивает права оппозиции и препятствует созданию партий, которые могли бы соперничать с ней в осуществлении власти.
В наш век, хотя и превозносятся демократические символы веры, практически представительные институты и либеральные ценности явно теряют свои позиции, и этому могут удивляться лишь те, кто, по выражению Монтескье, путает власть народа и свободу народа, или, точнее, те, кто не знает парадоксов нашего времени. Идеи или, по крайней мере, политические термины распространяются по всему земному шару, население которого остается крайне разнообразным, идет ли речь об уровне развития, исторических традициях, религиях, национальной монолитности. В соответствии с мировоззрением, господствующим в ООН, на международной сцене действуют суверенные государства, в основе жизни которых лежат принципы и идеалы европейского происхождения: идеи национального, демократического, светского, административно управляемого государства. Но фасад нового национального государства сводится зачастую к своему флагу, нескольким посольствам, делегации в ООН и паре сотен лиц, обученных в университетах. Всемирное распространение системы международных отношений характеризуется одновременно разнообразием ситуаций и признанием одних и тех же терминов.
Достаточно взглянуть на список государств, представленных в Организации Объединенных Наций, чтобы в глаза бросилась прежде всего пестрота тех исторических реалий, которые согласно позитивному праву провозглашены государствами — равноправными и суверенными. Китай насчитывает сотни миллионов жителей, в то время как Люксембург или Габон — лишь сотни тысяч. Четыре государства (Китай, Индия, СССР, США) включают более половины населения земного шара.
Это разнообразие в размере территории и численности населения производит наибольшее впечатление, но оно наименее значимо для тех, кто хочет понять смысл международных отношений. Чаще всего это, так сказать, качественная гетерогенность, которая выражает разнообразие социальных структур, то есть состава населения, объединенного одним суверенитетом. Речь идет не о том, что социальная структура крупных государств всегда неоднородна, а структура небольших государств всегда однородна. Напротив, общеМир и война между народами • Раймон Арон
447
Часть III
ственная структура Ливии неоднородна, а Японии или Китая однородна. Но разнообразие этнических групп в африканском государстве, насчитывающем несколько миллионов жителей, равно как и культурная однородность ста миллионов японцев, является наследием веков. Тот факт, что в одном и другом случае ориентиром служит национальное государство европейского типа (по идеям или терминологически) свидетельствует о распространении по всему миру одинаковой политической концепции, применяемой в отношении различных обществ, одни из которых в той или иной степени обрели национальное самосознание, а другие знакомы лишь с племенной общностью и подчинением имперским законам.
Мировое общественное мнение (или то, что принято таковым считать) игнорирует тот факт, что у каждого из сотни государств, входящих в ООН, несравнимое прошлое и здесь нет политических структур одинакового типа. Принято постоянно с сожалением напоминать, что различные “общества” не равны по своему “развитию”, то есть по уровню индустриализации, производства продукции на душу населения и, следовательно, уровню жизни. Навязчивая идея неравенства в области развития в сочетании с непониманием различий в политических структурах выражает и объясняет иллюзию, будто развитие и основные институты индустриального общества можно быстро и произвольно перенести в другие страны, как машины или даже заводы. В действительности же для того, чтобы перенести в Экваториальную Африку такие формы социального поведения, которые позволяют каждому индивиду производить значительную стоимость, очевидно, следует глубоко изменить все обычаи и вызвать социальную революцию.
Эта революция, неизбежная в любом случае, ориентируется сегодня на один из двух политико-экономических режимов — советский и западный, между которыми разделена сейчас экономически развитая часть человечества. Эти два режима, олицетворяющие Соединенные Штаты и Советский Союз, отнюдь не являются единственно возможными ( хотя и представляют два наиболее выраженных типа) и вовсе не ограничивают двумя путями выбор слаборазвитых стран. В действительности большинство из них не может и не должно пойти по пути, избранному Соединенными Штатами в XIX столетии, или по пути Советского Союза в XX веке.
Но общемировое единство человечества и концентрация экономической и военной мощи у двух огромных государств придает противопоставлению советского и американского режимов и соответствующих идеологий характер фундаментальной альтернативы. Диалог Москвы, государства единой партии и общества узаконенных конфликтов, плана и рынка, с Вашингтоном ложно приобретает в глазах действующих лиц и зрителей смысл борьбы не на жизнь, а на смерть. Таким образом, единство сферы дипломатической деятельности определяется не просто материальными факторами, силой континентальных государств и масштабами средств уничтожения, развитием транспорта и связи, но оно поддерживается и общностью политического словаря, отражающего частичную общность исторически возникших идей. Но эта частичная общность скрывает огромное разнообразие социальных структур, скандальное неравенство уровней экономического развития, 448 г
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
острые противоречия между режимами и идеологиями. Мировая система международных отношений сегодня более многообразна, чем системы прошлого, если исходить из реального облика наций. И она стремится к большей однородности, если судить согласно юридическим нормам Организации Объединенных Наций, по протестам против слаборазвитости, по претендующим на универсальность социальным доктринам. Человечество переживает общую для всех историю, игнорируя подчас то, что этому мешает, а порою и то, что побуждает к единству.
2. Европейские блоки и азиатские союзы
Описание системы международных отношений в рамках истории дипломатии можно начать с констатации: никогда еще в мирное время не было заключено столько союзов, не существовало столько организаций межгосударственных (таких, например, как почтовый союз), транснациональных (церкви, международные партии) или надгосударственных ( верховные органы европейского экономического сообщества), столько военных группировок, несмотря на образование ООН, призванной теоретически положить конец политике с позиции силы. Соединенные Штаты, которые долгое время не желали связывать себя какими бы то ни было международными обязательствами, стали коллекционером различных пактов.
Две коалиции, именуемые зачастую блоками, доминируют сегодня на международной арене: одну возглавляют Соединенные Штаты, другую — Советский Союз, одна была официально создана Североатлантическим пактом, другая — Варшавским договором. Все происходит так, словно каждая из двух великих держав собирала вокруг себя опекаемые ею государства или странысателлиты.
Нет смысла уточнять, “кто начал”. В основе образования блоков были разногласия между Сталиным и Рузвельтом по поводу смысла формулы: “ государства, дружественные по отношению к Советскому Союзу”. В соответствии с марксистско-ленинской теорией подлинно дружественным может быть только правительство, руководимое членами компартии. Любого деятеля, любую партию, выступающих против власти коммунистов, объявляли или могли объявить фашистскими. Так рассуждали Сталин и его приближенные. А Рузвельт и Черчилль имели в виду, руководствуясь западной концепцией демократии, проведение свободных выборов, образование представительных институтов, существование различных партий. У Черчилля, видимо, было меньше иллюзий, чем у Рузвельта, относительно советских руководителей, но он питал надежду, что враждебность и сопротивление народов сделают неустойчивым русское господство в Восточной Европе.
Нет необходимости напоминать этапы установления в Восточной Европе режимов, подобных советскому и ему подчиненных. Достаточно сказать, что советизация Восточной Европы происходила в атомный век, но не была связана именно с ним. Каков бы ни был удельный вес различных мотивов в политике Советского Союза — коммунистических амбиций, заботы о своей безопасности и панславистских устремлений, — факт состоит в том, что советизация Восточной Европы была не меМир и война между народами • Раймон Арон wr 449
Часть III
рой защиты от ядерной угрозы, а проявлением империалистической или идеологической экспансии.
Североатлантический пакт был классическим ответом на классический вызов. После первой мировой войны Франция добивалась англо-американских гарантий, поскольку участие в войне двух англосаксонских держав явилось необходимым условием победы. Точно так же государства Западной Европы добивались уже в мирное время американского присутствия, поскольку Соединенные Штаты решающим образом способствовали освобождению Старого света. Правда, Североатлантический пакт предусматривал защиту не от бывшего противника, а от вчерашнего союзника. Но этот пакт отразил представления, похожие на те, которыми руководствовались и прежде. Североамериканская республика была теперь полностью включена в европейскую систему. Она дважды продемонстрировала, что в ее жизненных интересах не допустить установления над всей Европой чьей-либо гегемонии или имперской власти, будь то с коричневым или красным цезарем во главе. Вступая в будущее с оглядкой на прошлое, государственные деятели Запада полагали, что Североатлантический пакт позволит избежать грядущей войны, веря при этом, что если бы он существовал прежде, то, вероятно, позволил бы предотвратить войну минувшую.
Создание после начала войны в Корее штаба североатлантических вооруженных сил ознаменовало новый этап в процессе формирования блоков. Боязнь возникновения в Европе “локальных горячих войн”, а также выявившаяся в ходе двух мировых войн необходимость интеграции союзных сил под единым командованием побудили европейцев и американцев уже в мирное время подготовить все, что окажется нужным в первый же день военных действий. Таким образом, организация Североатлантического договора постепенно превратилась в еще более тесное военно-политическое сообщество, чем то, которое объединяло Францию и Великобританию в 1914— 1918 гг., и сравнимое лишь с англо-американским союзом в 1941— 1945 гг. Заключение Варшавского договора в 1954 г. ничего не изменило в сложившейся ситуации: русское командование не дожидалось подписания этого договора и создания объединенного штаба, чтобы установить руководство армиями государств-сателлитов.
Образование военных организаций двух блоков было обусловлено уникальными в некоторых отношениях обстоятельствами, но оно не означало разрыва с привычной практикой международных отношений. Создание североатлантического командования явилось логичным шагом, учитывая угрозу всеобщей войны, необходимость защиты Европы от нашествия и ряд военных факторов временного (слабость европейских государств) или постоянного характера (невозможность обеспечить тактическую самостоятельность национальных армий в условиях тесного театра военных действий и быстрого передвижения вооруженных сил на земле и в воздушном пространстве). Риск войны, вытекающие отсюда задачи и тактические соображения стали главными причинами образования военных блоков, прямого противостояния двух великих держав в центре Европы, которая стала одновременно и ареной, и целью их борьбы.
Если бы такие средние по размерам государства, как Великобритания и «*450 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
Франция, были расположены в другой географической зоне, то, обладая классическим и ядерным оружием, отвечающим задачам национальной обороны, они могли бы сами сдержать агрессора (не обладающего термоядерным оружием, а использующего только классические средства ведения войны). Но в настоящее время самостоятельность европейских государств ограничена, ибо они расположены слишком близко от доминирующей континентальной державы, представляют собой доступную цель и способны объединиться только под эгидой Соединенных Штатов.
Сразу после войны раздел Германии и советизация Восточной Европы создали обстановку постоянного конфликта. Победители не смогли договориться о территориальном урегулировании и правилах идеологического соперничества, а безудержная пропаганда придала ожесточенный характер противостоянию двух миров. В 1949 — 1950 гг. государственные деятели и народы еще не до конца осознали и признали, что отсутствие мира, в том смысле, какое это слово имело в XIX в., не означает еще неизбежности войны. Подписание Североатлантического и Варшавского договоров, образование североатлантического и советского блоков имели целью ведение холодной войны в тот период, когда все опасались войны “горячей". Оба блока продолжают быть инструментами холодной войны, помогая в то же время предотвратить войну “горячую".
Тех особых условий, которые привели к созданию европейских блоков, нет ни в одной другой части света. Государства-члены Организации договора ЮгоВосточной Азии (СЕАТО)1 или бывшего Багдадского пакта (СЕНТО — Организация Центрального договора)1 2 не обладают общностью цивилизации или политических институтов. Такая общность охватывает Соединенные Штаты, Австралию и Новую Зеландию, но британским доминионам не грозит нападение, ибо моря защищают их от любого агрессора. Им достаточно договора о взаимопомощи без создания постоянной военной организации. Что касается договоров, заключенных Соединенными Штатами с националистическим китайским правительством Формозы (Тайваня), с Южной Кореей и Японией, то они составлены по классическому образцу. Каковы бы ни были применяемые термины, главное состоит в том, что опекаемое государство предоставляет базы в распоряжение государства-защитника. Каждая из сторон извлекает выгоду из союза до тех пор, пока гарантии от возможного нападения перевешивают риск защищаемой страны, которая, предоставляя свою территорию для военного присутствия союзника, может оказаться втянутой в конфликт, который ее не касается.
Вне Европы не существует и условий, в которых сформировался советский блок. Советский Союз навязывает свою волю государствам Восточной Европы, пуская в ход не только престиж страны, которая первой совершила освободительную революцию и стала центром новой веры. Здесь или рядом находится советская армия. Она вмешалась в Венгрии, была готова к этому в Польше и еще может это сделать в случае необходимости. Неравенство сил между “старшим братом“ и каждым из 1 South East Asia treaty organisation.
2 Central treaty organisation.
Мир и война между народами • Раймон Арон ■
* м< ' “г 451
Часть III
“меньших братьев” столь велико, что в Европе советский блок является хотя и не монолитным, но, несомненно, одноглавым. А в Азии у советского блока уже две головы.
Эта характеристика еще ничего не говорит о степени координации политики, о прочности и длительности альянса между Советским Союзом и Китаем. Речь идет лишь о том неоспоримом факте, что если в Европе советские руководители имеют возможность прибегнуть к силе, обеспечивая единство блока, то в Азии дело обстоит иначе. Китай слишком велик, силен и горд, чтобы подчиняться чужой воле — пусть даже воле “старшего брата”. Кремлевские деятели должны вести диалог с руководителями “запретного города”. Они не испытывают недостатка ни в аргументах, ни в материальных средствах убеждения, но у них нет возможности пустить в ход издавна применяемые инструменты принуждения. В Азии у СССР есть союзник и нет сателлитов1. И у Соединенных Штатов есть союзники, но они не сформировали военно-политического сообщества, а отношения между ними (Южной Кореей и Японией) подчас бывают плохими.
Противостояние двух великих держав в Азии похоже на схватку медведя и кита, земли и моря. Соединенные Штаты выступают здесь как преимущественно морская держава, занимающая островные базы в поясе, который проходит от Японии до Тайваня через Окинаву и Филиппины. На континенте они сохраняют в качестве плацдарма лишь Южную Корею.
Если обратиться к текстам договоров, заключенных американцами, то их можно разделить на три категории в зависимости от детализации и объема взятых обязательств. К первой относится Североатлантический договор, подписанный 4 апреля 1949 г. и вступивший в силу 24 августа 1949 г.1 2, а также межамериканский договор о взаимопомощи. подписанный 2 сентября 1947 г. и вступивший в силу 3 декабря 1948 г.3. В ст. 5 первого договора и в ст. 3 второго повторяется ключевая формула : договаривающиеся стороны “agree that an armed attack against them one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all “4 (“согласны в том, что вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех”). Строго говоря, эта формула не требует, чтобы каждая из договаривающихся сторон рассматривала такое нападение как casus belli. В тексте Североатлантического договора добавляется: “и, следовательно, они согласны в том, что если такое нападение произойдет, то каждая из них, в соответствии с правом на индивидуальную или коллективную самооборону, предусмотренным 1 Северная Корея и Северный Вьетнам не являются сателлитами, ибо у них есть два "старших брата". Весной 1961 г. и Советский Союз, и народный Китай заключили договор о взаимопомощи с Северной Кореей.
2 Подписали двенадцать государств: Соединенные Штаты, Канада, Исландия, Норвегия, Великобритания, Голландия, Дания. Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Италия. Позже к договору присоединились Федеративная Республика Германии, Турция и Греция.
3 Его участники: Соединенные Штаты, Мексика, Куба, Гаити, Доминиканская Республика, Гондурас. Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Перу, Бразилия. Боливия, Парагвай, Чили, Аргентина, Уругвай.
4 Текст межамериканского договора точно такой же: “an attack by one State against one American State shall be considered as an attack against all the American States".
tw Раймон Арон* Мир и война между народами
в ст. 51 Устава ООН, окажет помощь стране или группе государств, подвергшщихся нападению, предпринимая необходимые действия, включая использование вооруженной силы для того, чтобы восстановить и поддерживать Североатлантическую региональную безопасность”1. Если исходить из буквы этих документов, то Соединенные Штаты должны прийти на помощь государству, подвергшемуся нападению, но отнюдь не обязаны объявлять войну агрессору и бросать в бой все свои силы. Хотя оба договора фактически приобрели именно такое значение, особенно Североатлантический пакт, подкрепленный созданием объединенного штаба и интегрированной армией, уже в мирное время.
Ко второй категории относятся договор с Филиппинами (подписан 30 августа 1951 г. и вступил в силу 27 августа 1952 г.), договор с Австралией и Новой Зеландией (1 сентября 1951 г. и 29 апреля 1952 г.) и договор о коллективной обороне Юго-Восточной Азии (подписан 8 сентября 1954 г., вступил в силу 19 февраля 1955 г.; его участники: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Австралия Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и Пакистан). Ключевая формула, которая повторяется в каждом из трех документов, менее категорична, чем в договорах первой категории. Вместо заявления о том, что нападение на одно из государств-участников является нападением на всех, здесь лишь отмечается, что такое нападение в регионе, охваченном действиИстория
ем пакта, ставит под угрозу безопасность договаривающихся сторон. Например, в пакте о коллективной обороне Юго-Восточной Азии записано:
“Каждая участвующая сторона признает, что агрессия путем вооруженного вторжения на территории действия настоящего договора против любого участника или против любого государства, либо территории, которую участвующая сторона единодушного договора может обозначить, будет представлять угрозу ее собственной безопасности, поэтому каждая страна-участница соглашается в этих условиях действовать таким образом, чтобы отразить общую агрессию в соответствии с конституционным процессом”1 2 . Иными словами, каждое государство при любых обстоятельствах остается свободным в выборе мер, необходимых для отражения агрессии.
К третьей категории относятся договоры о совместной обороне, заключенные с Японией, Южной Кореей и Китайской Республикой (Формозой). Ключевая формула та же самая: нападение на территорию одной из сторон рассматривается как угроза для мира и безопасности другой3. Кроме того партнеры Соединенных Штатов предоставляют базы в распоряжение американских вооруженных сил.
Если исходить из содержания текстов, то эти три группы договоров можно классифицировать двояким образом. Североатлантический пакт и договоры о взаимопомощи, заключенные Соединенными Штатами с Южной Кореей,
1 Текст межамериканского договора такой же, с тем лишь исключением, что формула “Including the use of armed force" (“включая использование вооруженной силы”) здесь отсутствует.
2 В статье 4 договоров с Филиппинами и с Австралией и Новой Зеландией содержится подобная же формула с той только разницей, что в ней говорится о нападении на договаривающиеся стороны.
3 В договоре с Японией формула слегка отличается: здесь не говорится о совместной обороне, ибо по конституции Япония не обладает правом иметь армию. И рассматривается нападение только на японскую территорию, а не американские владения в Тихом океане.
Мир и война между народами • Раймон Арон 453 *
Часть III
Японией и Китайской Республикой, предусматривают военное сотрудничество между сторонами, размещение американских вооруженных сил на базах, предоставленных союзниками. А договоры второй группы (например, договор об обороне стран Юго-Восточной Азии) предусматривают лишь военные консультации, а не создание объединенных штабов и размещение американских сил на иностранных базах. Но вторая и третья группы могут быть также объединены и противопоставлены первой группе, поскольку только в договорах первой группы категорически заявляется, что вооруженное нападение на одну из сторон будет рассматриваться как нападение на всех.
Можно ли, помимо такого формального анализа, выявить главные функции этих союзов? В нашу эпоху подобные соглашения, как правило, призваны решать две различные задачи: либо сдерживать возможного агрессора, либо воздействовать на внутреннюю политику союзных государств (ни одна из этих задач, естественно, не исключает другой). И, кроме того, они должны облегчить координацию дипломатических усилий и создание единого фронта перед лицом противника.
Ввиду того, что эти две задачи коренным образом отличаются друг от друга и каждая из них обусловлена особенностями современной системы международных отношений, легко критиковать американские союзы, либо ссылаясь на традиционные нормы союзных отношений, либо игнорируя специфические задачи каждого из них.
Рассмотрим сперва союзы первого типа: те, которые призваны в основном сдерживать агрессора, например, пакт о взаимопомощи, заключенный с Японией. Эти союзы могут быть подвергнуты критике как со стороны государства-защитника (Соединенные Штаты), так и защищаемого государства (Япония). В эпоху существования двух полюсов термоядерной мощи союзы означают для обладателей столь чудовищного оружия как дополнительную поддержку, так и серьезную угрозу. В соответствии со все еще бытующим мнением союз может быть прочен лишь в том случае, если он выгоден обеим сторонам. Допустим, что крупная держава обещает защиту небольшому государству, и последнее присоединяет свои вооруженные силы к ее армии. Например, французы и англичане обещали прийти на помощь Бельгии, и она выставляла десяток дивизий. В наше время достаточно только представить себе возможность термоядерной войны, чтобы стало ясно: небольшое государство не может оказать крупной державе никакой военной поддержки (кроме предоставления баз, которые становятся все менее необходимыми по мере того, как совершенствуются баллистические ракеты). Поэтому те комментаторы, которые не видят иных оснований для создания союзов, кроме взаимной военной помощи, высказывают опасения, что государствозащитник потеряет интерес к своим подопечным в тот день, когда перестанет нуждаться в военно-воздушных или ракетных базах.
Подобное рассуждение совершенно неверно. Заключение Соединенными Штатами договоров о взаимопомощи с Японией или Южной Кореей всегда имело целью убедить враждебные государства в том, что они не смогут безнаказанно напасть на территорию, которую США торжественно обещали защищать и где разместили свои войска. Функция сдерживания продолжает сохраняться и ч* 454 1 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
после того, как государство-защитник перестает нуждаться в предоставленных ему базах.
Однако и защитник, и защищаемый должны оценить риск, который влечет за собой для того и для другого их солидарность. Некоторые партии в Японии утверждают, что вооруженная агрессия со стороны Советского Союза или Китая ей не угрожает, и, следовательно, договор с Соединенными Штатами больше не нужен, а ведет лишь к росту в стране антиамериканских настроений. Пусть Япония станет нейтральной, говорят они, и японский народ станет испытывать лишь дружеские чувства к американскому народу. Вместе с тем, с того времени, когда территория США также стала уязвимой, американцы задаются вопросом: не может ли политика сдерживания, не опирающаяся на равновесие локальных сил, породить ненужный риск, поставить их перед выбором между капитуляцией и приведением в действие угрозы, гибельной для всех? Но даже в тех случаях, когда речь идет о “союзах во имя сдерживания”, воздействие договора на внутреннюю политику подопечного государства, возможно, принимается во внимание прежде всего. Какие последствия имел бы вывод американских войск из Японии? Укрепил бы он проамериканские партии, снимая аргумент оппозиции, или усилил бы нейтралистские и прогрессистские партии, означая дипломатическое поражение Вашингтона и предвещая перемену союзов? Эти аргументы приобретают решающее значение, когда речь идет о союзах, преследующих скорее не военные цели (оборону или сдерживание), а дипломатические (создать внушительную коалицию) и политические (поддержать внутри союзной страны партии, благоприятно относящиеся к Соединенным Штатам или вообще к Западу).
Договор об обороне Юго-Восточной Азии имеет также две задачи. Он должен служить основой для совместных, возможно, военных, действий против коммунистического проникновения и позволяет президенту Соединенных Штатов принимать соответствующие решения, не спрашивая разрешения конгресса. Но в то же время он предназначен прежде всего для того, чтобы убедить правительства угрожаемых стран, что Соединенные Штаты не покинут их. Поскольку страны Африки или Латинской Америки не испытывают угрозы прямой агрессии со стороны коммунистических держав, то договоры, заключенные здесь Соединенными Штатами, могут иметь лишь психологические и дипломатические функции: предотвратить сползание этих стран к нейтралитету или в сторону советского лагеря, поддержать партии и деятелей, предпочитающих Запад.
Стоимость и выгоды договоров (пактов о взаимопомощи или соглашений о военной помощи) США с тем или иным государством Азии, Ближнего Востока или (завтра) Африки зависят от многих обстоятельств. Оружие, поставляемое прозападному правительству, в некоторых случаях способствует укреплению его власти. В других случаях непопулярность, которую приобретает правительство вследствие союза с Западом, превышает значение материальной помощи в такой степени, что в итоге результат оказывается отрицательным для тех, кого хотели поддержать.
Локальная ситуация также определяет результаты американского вмешательства. Будет ли оно истолковано как законное в мировом масштабе Мир и война между народами • Раймон Арон 455
Часть III
или незаконное с региональной точки зрения? Укрепляет ли союз стран ЮгоВосточной Азии оборону свободного мира или (в глазах Неру) распространяет холодную войну в регион, который мог бы и должен оставаться вне зоны мирового конфликта? Нацелено ли американское оружие, поставляемое в Пакистан, против советского блока или оно будет направлено против Афганистана или Индии, учитывая, что проблема Кашмира остается нерешенной?1
И наконец, эти союзы или пакты о взаимопомощи оказываются действенными или неэффективными в зависимости от политической обстановки в стране. Является ли правительство, получившее власть благодаря союзу с Соединенными Штатами или американской помощи, единственно возможным, если не считать правительство коммунистов? Является ли оно самым популярным из возможных правительств некоммунистических партий? Опасность заключается в том,что американское вмешательство делает все более антиамериканскими партии оппозиции, включая тех, кто предпочитает нейтралитет каким-либо обязательствам, не склоняясь вместе с тем на сторону коммунистов. Как наилучшим образом предотвратить советизацию Лаоса: путем поддержки прозападных группировок или сторонников нейтралитета?
Что касается политики союзов, проводимой СССР, то она проста. До 1939 г. Москва заключила договоры о ненападении с соседними странами — теми, которые она затем поглотила в ходе второй мировой войны. Договор о взаимопомощи с Францией потерял свою силу, когда в августе 1939 г. был подписан пакт о ненападении с Третьим рейхом. Договоры о взаимопомощи, подписанные с Великобританией и Францией в 1943 и 1944 гг., вскоре утратили значение и были денонсированы Москвой после заключения Парижских соглашений, которые предусматривали присоединение Федеративной Республики Германии к Североатлантическому пакту1 2.
После войны договоры о взаимопомощи против Германии (или союзников Германии) и против Японии (или союзников Японии) Советский Союз имеет только с коммунистическими странами — государствами Восточной Европы, коммунистическим Китаем, Северной Кореей и Северным Вьетнамом. Эти договоры лишь подтвердили существующее положение. Во время корейской войны Советский Союз не имел договора с режимом Пхеньяна о взаимной помощи. ГДР (Германская Демократическая Республика) присоединилась к системе пактов о взаимопомощи лишь в 1954 г., когда был заключен Варшавский договор. До 1939 г. изолированный и принужденный к обороне Советский Союз использовал пакты о ненападении и взаимной помощи для улучшения своих дипломатических позиций. После 1945 г, он заключает договоры только для того, чтобы скрепить уже существующие связи с братскими странами.
1 Индо-пакистанские конфликты из-за Кашмира были урегулированы в 1972 г. путем взаимной демаркации линии контроля. (Прим, перев.).
2 Парижские соглашения были подписаны 23 октября 1954 г. представителями США.Великобритании,Франции и других западных стран и ФРГ. Вступили в силу 5 мая 1955 г. На основе этих соглашений возник Западноевропейский союз. (Прим, перев.).
жй 456 Раймон Арон • Мир и война между народами
3. Система
и подсистемы
Анализ политических сообществ показывает возможность их различной классификации в зависимости от принятого критерия. Но описание состава существующих группировок выявляет одно главное различие между ними, видное уже на карте. Мировая система включает две зоны. Одна раскинулась от Владивостока до Сан-Франциско и включает Москву, Берлин, Париж, НьюЙорк. Она разделена на два блока, каждый из которых тяготеет к одному монополисту, располагающему термоядерным оружием. В другой зоне расположены присоединившиеся к одной из противоборствующих сторон или неприсоединившиеся государства (степень и характер присоединения и неприсоединения имеют свои оттенки), но они не объединены в блоки.
Обычное представление о биполярной системе справедливо, если взять зону, охваченную двумя блоками: Советский Союз и Соединенные Штаты — две великие державы, которые группируют вокруг себя малые и средние государства, расположенные в промежуточном пространстве. Но это представление неверно, если применить его ко всей планете, рассматривая ее как одну систему.
На первый взгляд, все происходит таким образом, как будто два блока, состоящие из индустриальных, хотя и в разной степени, государств, противостоят друг другу двояким образом. Это непосредственное столкновение в Европе, где речь идет о судьбе Германии и прохождении линии раздела, и другое, не прямое соперничество, предметом которого является экономический и политический строй в странах остального История
мира, поскольку остальной мир состоит в основном из экономически слаборазвитых государств. Абсурдность горячей войны между двумя блоками прямо вытекает из этого даже самого общего анализа: обе группировки, на которые разделилась самая богатая часть человечества, уничтожили бы друг друга только ради того, чтобы определить, какие методы должна применить остальная часть человечества для преодоления своей вековой бедности. Общая заинтересованность в предотвращении термоядерной войны ведет не только к подспудному сотрудничеству Соединенных Штатов и Советского Союза, но и накладывает отпечаток на отношения обоих блоков.
Если оставить в стороне британские доминионы, которые несмотря на свое географическое положение относятся к зоне западной цивилизации, то Азия, Африка, Латинская Америка еще в 1945 г. были скорее объектом, чем субъектом истории. Спустя пятнадцать лет три события резко изменили положение в мире: победа коммунистической партии в Китае, распад империй европейских государств в Азии и Африке, распространение влияния СССР на весь мир, включая регионы, которые в прошлом были заповедниками Запада или США (Ближний Восток, Латинская Америка) . "Третий мир”стал в каком-то смысле главной целью соперничества между двумя блоками. Но политика двух великих держав должна приспосабливаться к ситуациям, создаваемым в значительной мере как раз теми странами, за которые идет борьба. Короче говоря, “третий мир” стал одновременно и объектом, и субъектом исторических процессов.
Нет прямой связи между дипломатическим курсом и внутренней политиМир и война между народами • Раймон Арон * у-.. Ум «Л м - ■> 4 4 4 457 '<
Часть III
кой государств “третьего мира”. В странах, которые отходят от нейтралитета и сближаются с советским блоком, проявляется тенденция к созданию таких институтов и к такой практике, какие характерны для Советского Союза и Китая. Но эта тенденция не действует достаточно долго, по крайней мере пока партия, заявляющая о своей дружбе с Москвой или Пекином, обладает властью. Объединенная Арабская Республика использует советское оружие, но в ней отправляют в тюрьму активистов левых и ультралевых сил, включая коммунистов, причем коммунистов в первую очередь.
Страны третьего мира, выступающие на стороне Запада, не отличаются ни уровнем экономического развития, ни типом своего режима — либерального или демократического. Наиболее частые причины заключения договоров азиатских государств с Соединенными Штатами — это геополитическое положение, слабость групп, стоящих у власти, внешние угрозы, локальные конфликты, стремление получить экономическую или военную помощь. Дружба с Советским Союзом, на словах или в дипломатической сфере, объясняется в разных случаях и в разной мере неприязнью к Западу, тактикой шантажа ( тот, кто угрожает перейти в другой лагерь, рассчитывает получить более высокую цену даже за простой нейтралитет), стремлением обезвредить крайне левую оппозицию, превосходя ее на словах или в области дипломатических жестов.
Обычно аналитические оценки столь общего характера игнорируют масштабы происходящих в реальности процессов. Две великие державы или два блока сталкиваются, противостоят друг ДРУГУ« соперничают во всех уголках планеты, но местные условия повсюду различны. Система международных отношений носит глобальный характер, но она делится на подсистемы. Две великие державы действуют в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. А Объединенная Арабская Республика не присутствует в Юго-Восточной Азии, даже если президент Насер отправляется с визитом к президенту Сукарно. Разумеется, понятие присутствия довольно расплывчато. В определенном смысле, благодаря Организации Объединенных Наций, все государства, как бы ни были малы, представлены повсюду, имеют отношения со всеми остальными странами. В плане пропаганды или “дипломатического туризма” можно говорить о “блоке неприсоединившихся государств”, хотя эта формула противоречива и лишена политического смысла: “неприсоединившиеся государства” присоединяются, если они составляют блок. Их общая заинтересованность в предотвращении войны между великими державами и антиколониализм еще недостаточны для того, чтобы проводить общую политику.
Каким бы расплывчатым ни было понятие подсистемы, какими бы нечеткими ни были границы подсистем, один пример показывает, что означает этот термин. Несмотря на перемирие между Израилем и его соседями, на Ближнем Востоке официально сохраняется состояние войны. Арабские страны не “признали” государство, созданное евреями, и вполне вероятно, что они не колеблясь уничтожили бы его, если бы имели военное превосходство, которое позволило бы им достичь этой цели за несколько дней. Равновесие местных сил является главным фактором, определяющим ситуацию в этом районе. Но это 458 ' *г^**^***и Раймон Арон • Мир и война между народами
История
региональное равновесие не может рассматриваться без учета обстановки в мире. Несмотря на победы, одержанные во время войны на Синайском полуострове, Израиль не сохранил ни клочка занятой территории (хотя порт Эйлат сегодня открыт для судоходства и границы, символически охраняемые голубыми касками, остаются спокойными).
Великие державы, стремясь избежать войны, которой они боятся, и Организация Объединенных Наций, действуя в соответствии со своими принципами, не допускают перехода границ регулярными армиями и быстро кладут конец столкновениям, где участвуют солдаты в военной форме (по различным причинам партизан еще терпят). Но ни великие державы, ни ООН не могут воскресить погибших или долго не признавать свершившегося факта. Правительство Имре Надя исчезло, его глава был расстрелян, а “предатель” Кадар был принят в ООН с почестями, подобающими его рангу, и не смущаясь рассуждал здесь о принципах Устава ООН. Равновесие местных сил остается для Израиля необходимым условием выживания: оно исключает возможность возникновения ситуации свершившегося факта, внезапной ликвидации государства, ставшего объектом борьбы.
В других регионах, которые можно было бы назвать подсистемами, нет характерных черт, присущих положению на Ближнем Востоке, — состояния войны и равновесия местных сил. Но другой пример иллюстрирует значение региональной системы или подсистемы. Кубинская революция сразу же изменила ситуацию в западном полушарии. Ни переход Китая к коммунизму, ни создание термоядерного оружия Советским Союзом, ни запуск спутников— ни одно из этих событий (weltgeschichtlich — всемирно-исторических, как говорят немцы) не произвело такого впечатления на правителей и народы Латинской Америки, так сильно не подорвало престиж и влияние Соединенных Штатов, как революция Кастро и вызов “великой державе”, брошенный революционным режимом малой страны. Тлеющие в Латинской Америке настроения, направленные против янки, получили возможность найти выход, и правители, несмотря на неприязнь, которую внушают им велеречивость и демагогия кубинского лидера, опасаются идти наперекор чувствам широких масс, воодушевленных подвигом бородатого Давида, держащего в руках голову Голиафа, покрытую долларами.
Почему же земля дрогнула в Латинской Америке после кубинской, а не китайской революции? Причины просты и старыкак мир: ни новые средства транспорта, ни новые орудия уничтожения не упразднили человеческого ощущения дистанции, исторического родства и пространственной близости. То, что сделал Фидель Кастро, мечтают, возможно, повторить другие лица — в Бразилии или Перу. Во всяком случае, народы Латинской Америки чувствуют, что кубинский опыт поучителен и может указать им возможный путь. Революции, совершенные далеко, народами других рас, не вызывают таких же страстей. Возможно, что человечество и является единым, но народы не сознают ясно своего единства. Региональные сообщества остаются более прочными, чем сообщество общечеловеческое.
Говоря абстрактно, подсистема становится реальностью в той мере, в какой государства или народы, даже при отсутствии местного равновесия сил, Мир и война между народами • Раймон Арон 459 **
Часть III
ощущают стихийно общность своей судьбы и проводят различие между тем, что происходит внутри их историко-географической зоны, и тем, что совершается вне ее.
Этот критерий нелегко применить, ибо в некоторых регионах географическая, расовая, историческая солидарность представляется менее тесной, чем более отдаленные узы экономического или идеологического характера. Лет десять назад казалось,например, что Токио более близок к Вашингтону, Лондону или даже Парижу, чем,скажем, к Пекину. Включенная в сеть союзов и баз, созданную морской державой, Япония более легко общалась с англосаксонским миром, чем с близким Китаем, очагом той культуры, которую Япония восприняла, обогатила и в конечном счете изменила в соответствии с собственным духом. Этот парадокс постепенно утрачивает свое значение, а то и совершенно исчезает. Он объясняется прямым противоборством двух великих держав (или,точнее, одной из них и советскокитайского блока). В Европе это противостояние привело к созданию враждебных блоков, в Северной Азии — к временному размежеванию союзников кита и союзников медведя.
Третий критерий оценки подсистемы вытекает из самого соперничества двух великих держав, его последствий для данной части света и тех методов, которые используются одной и другой стороной. Европа является подсистемой не только вследствие равновесия сил между двумя коалициями или осознания общности цивилизации: прямое противоборство двух великих держав, образование военных блоков превращают Европу в такую подсистему или,если хотите, в такой театр дипломатической активности, который пользуется известной автономией. Действующие лица чувствуют себя более глубоко затронутыми событиями, происходящими внутри, а не за пределами региональной системы.
В Северной Азии точно так же прямое противоборство морской и континентальной держав накладывает свой отпечаток на существующую здесь конъюнктуру. В Юго-Восточной Азии, напротив, отсутствие этого прямого столкновения стало определяющим фактором. Внешняя угроза является китайской, а не русской. Соединенные Штаты объединились здесь с некоторыми государствами (Пакистан, Таиланд), рискуя оттолкнуть от себя других, которые хотят остаться нейтральными (Индия, Индонезия, Цейлон). США стремятся прямо или посредством Организации договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) укрепить Лаос и Вьетнам и предотвратить коммунистическое проникновение в эти страны. Обстановка в регионе характеризуется одновременно соперничеством на местном уровне (Индия — Пакистан), американскими союзами с наиболее слабыми государствами, противостоянием, которое, возможно, будет иметь историческое значение, между Индией и Китаем, и потенциальной напряженностью между присоединившимися и неприсоединившимися государствами.
Еще более своеобразно положение в Африке. Пока слишком рано выносить определенное суждение о том, насколько велико сознание общности у европеизированных элит (пример Конго показывает, что в целом племенное сознание все еще берет верх над национальным). Процессы сближения и отчуждения новых государств только начинают вырисовываться. Мали и Сенегал, попытав«м 460 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
шись объединиться, теперь враждуют друг с другом, потому что первое оказалось более “прогрессистским”, чем второе. Франкоязычные и англоязычные страны не составляют двух группировок, но полученное их руководителями образование проявится, видимо, и в манере действовать, и еще более в манере говорить. Ведь часть современной дипломатии носит в основном вербальный характер и выражается в своего рода перманентных дебатах.
В Африке нет военного присутствия ни Соединенных Штатов, ни Советского Союза. США преследуют здесь другие цели, чем в Азии или в Южной Америке. Им достаточно нейтральности африканских государств, и вовлечение этих стран в конфликт на стороне Запада представляется ненужным и опасным. А Советский Союз применяет свои обычные методы: пропаганду, обучение активистов в специальных школах, приглашение студентов, моральную или материальную поддержку правительств, которые, как считается, ему симпатизируют или просто конфликтуют с Западом и т.п. Но когда СССР достигает своей цели и одна из африканских республик объявляет себя “народной”, последствия бывают иными, чем при советизации европейских стран. Африканская республика может быть обращена в новую веру, если ею управляют обращенные руководители. Но она не подвергается такому же давлению и таким же санкциям, как сателлиты, расположенные поблизости от своей временной духовной столицы. Государства Африки или Южной Америки, которые становятся “народно-демократическими” или “социалистическими”, не испытывали такого принуждения со стороны Советского Союза, как Польша или Венгрия.
Они не утрачивают в той же степени свою автономию. Если местная коммунистическая элита хочет сблизиться с Западом или ее смещает другая группа, то перемена ориентации не наталкивается на такое же сопротивление, о которое разбилось героическое выступление венгров.
В Африке каждая из великих держав стремится прежде всего изгнать другую. Соединенные Штаты хотели бы оградить от коммунизма возможно большее число новых республик, но не для того, чтобы разместить там свои базы или сохранить для себя рынки и источники сырья, а лишь для того, чтобы сдержать волну, которая могла бы покрыть всю землю. Страна с несколькими миллионами жителей сама по себе не интересует ни ту, ни другую великую державу. Но каждая перемена союза означает рост престижа для одной стороны и его потерю для другой. А престиж увеличивает силу, точно так же, как сила увеличивает престиж.
По-иному обстоит дело в последней из обозреваемых подсистем — в подсистеме двух Америк. Еще несколько лет назад Соединенные Штаты могли считать западное полушарие своим заповедником, находящимся вне зон холодной войны. Политика добрососедства, Организация американских государств, казалось, гарантировали им безопасность и господствующее влияние. Конечно, коммунистическая пропаганда развертывалась внутри большинства американских республик — даже тогда, когда запрещенная компартия уходила в подполье. Но правительства, будь то демократические или деспотические (независимо от цвета этого деспотизма), обычно следовали в ООН директивам Соединенных Штатов. Как бы ни склаМир и война между народами • Раймон Арон 461 -
Часть III
дывались их отношения с США, хорошо или плохо, ни одно из них не было ни коммунистическим, ни прокоммунистическим, и ни одно не практиковало ни “активного нейтрализма”, ни “шантажа сильного слабым”.
Действительно, изменение характера обычных отношений между сильным и слабым государством — важный признак превращения региона в поле или цель холодной войны. “Помогите мне, или я уступлю коммунизму”... Этот аргумент повторяется в различных формах бессчетное число раз, когда так называемые прозападные правители требуют помощи у великой державы. “ Я получу то, в чем вы мне отказываете, у другой стороны”... Такова формула, при помощи которой правительства, претендующие на солидность и объявляющие себя нейтральными, шантажируют западные страны. “ Я хотел бы получить вашу помощь, но ради этого не пойду ни на какие уступки. Пусть будет хуже для меня и для вас, если массы обратятся к коммунизму”... Таков, например, аргумент государства, проводящего политику в духе Индии.
После успеха Кастро в 1960 г. США предоставили государствам Латинской Америки 500 миллионов долларов. Урок не пропал даром. “Кастризм” заразителен. Во всяком случае, если видно, что страх перед кастризмом побуждает Соединенные Штаты к неудержимой щедрости, то кто удержится от соблазна этот страх поддержать?
Можно утверждать, что советская угроза применить межконтинентальные баллистические ракеты в случае американской агрессии против Кубы — это причина и символ распространения на западное полушарие холодной войны. До тех пор, пока не проверено на практике, невозможно быть уверенным, что Советский Союз не рискнет прибегнуть к военному вмешательству в ответ на вооруженную акцию США1. Глобальное соотношение сил сегодня таково, что Советский Союз может, по крайней мере дипломатически, расположиться у берегов Соединенных Штатов точно так же, как США уже на протяжении многих лет располагаются возле советских границ. Но это обстоятельство не является ни единственной, ни главной причиной нового характера межамериканских отношений.
Социальный кризис в Латинской Америке столь же глубок, как и в других регионах, правительства здесь не более устойчивы, претензии к Соединенным Штатам звучат еще острее вследствие их близости и превосходства над всеми, а также в результате деятельности крупных американских компаний. Для получения большей помощи Латинской Америке недоставало лишь одного, но решающего ар1умента: коммунистической или прогрессистской угрозы. Кастро предоставил этот аргумент в полной мере.
Исчезновение “заповедных зон” — это, если хотите, один из аспектов унификации сферы дипломатической деятельности. Каждая из великих держав руководит одним блоком. Вне этих блоков обе свободно соперничают, соблюдая известные правила умеренности и осторожности. Упомянутая унификация бесспорна, но она не устраняет приблизительных границ между подсистемами, обозначенных географией и подтверж1 Лично я не верю, что такое вмешательство произойдет, если американские вооруженные пехотинцы высадятся на Кубе после эмигрантов или вместе с ними.
- * 462
’ > Раймон Арон • Мир и война между народами
История
даемых или стираемых историей, которая запечатлена в сердцах людей.
4. Судьба национального территориального государства
Тип государства, отражающий господствующую в наше время идею, это национальное государство: народ, проявляющий волю к независимости, становится нацией, организованной в государство. Но многие авторы говорят об упадке или конце национального государства.
Это внешнее противоречие исчезает в свете анализа того, что упомянутые авторы называют национальным государством. Например, Дж. X. Херц имеет в виду скорее территориальное, чем национальное государство. Территориальное государство, присущее периоду между концом религиозных войн в Европе и второй мировой войной, характеризуется прежде всего единством действий политического сообщества, суверенного внутри проведенных на карте границ Современное государство — это “централизованное территориальное образование, суверенитет, независимость и мощь которого зиждется на его территориальной целостности”1. Суверен — король или его буржуазные последователи — может осуществлять свою волю на всей территории государства. Иными словами, он владеет здесь монополией на применение вооруженных сил. Вместе с тем он выступает вовне как представитель сообщества, от имени которого уполномочен и обязан говорить, поскольку обеспечивает его независимость военной силой и способен противостоять врагам. “По ходу истории мы видим, что основным политическим объединением является такое, которое обеспечивает защиту и безопасность граждан, а также мир, путем умиротворения как индивидов, так и различных групп, а, кроме того, гарантирует безопасность от внешнего вторжения или контроля.”1 2.
С военной точки зрения первоначальной целью государства в случае войны была защита территории: для этого возводили фортификационные сооружения, стремясь предотвратить или сдержать вражеское вторжение. В мирное время на национальной территории не существовало других, кроме общенациональных, вооруженных сил. Суверенные правители не имели ни права, ни возможности вмешиваться во внутренние дела других государств. Различие между дипломатией и внутренней политикой было закреплено разделением территории. Очевидно, что сегодня государство утратило часть характерных черт, которыми оно обладало на заре современной истории и которые наполняли смыслом формулу территориального критерия.
Сегодня в мирное время спутники пролетают над воздушным пространством государств. Полет самолета У-2 был незаконным, а полет спутников таким не считается: на какой же высоте кончается суверенитет? В случае атомной войны государство будет неспособно защитить своих подданных, свое пространство, свои города. В мирное время оно соглашается на пребывание союзных войск на своей территории, которое символизирует тем самым потерю
1 John Н Herz “International relations in the atomic age” New York, Columbia University Press 1959 p 58
2 Ibid p 40 — 41
Мир и война между народами • Раймон Арон ^ , . , » ,.г е 463 .
Часть III
/иаю&Х’/жХ'& V# жтю*»* «'Л»."«'*'- «ж« ■>
военной самостоятельности. Во времена холодной войны идеи, партийные активисты и даже партизаны пересекают границы, столь же проницаемые для таких перемещений, как для ракет.
Все эти неоспоримые факты можно разделить на три группы: ослабление роли национального государства в результате совершенствования военной техники, смешение внутренних и международных дел вследствие распространения идей и создания транснациональных партий, образование экономических, политических и военных меж- или наднациональных организаций (НАТО, Общий рынок).
То, что появление ракет привело к ослаблению роли национального государства, очевидно. Но разве это ослабление произошло потому, что оно является национальным? В действительности ослабла роль любого территориального государства, ибо термоядерная бомба дает ее обладателю возможность уничтожить своего противника, не обезоруживая его. Оружие массового уничтожения коренным образом меняет традиционные взгляды на оборону. Каковы бы ни были размеры территории, какие бы принципы ни лежали в основе политического сообщества, термоядерная бомба, взорванная над большим городом, может привести к гибели двух-трех миллионов людей. Баллистические ракеты или бомбардировщики могут переносить это оружие массового поражения во все концы планеты. Иными словами, хотя падение роли национальных государств в результате развития военной техники неоспоримо, однако было бы ошибкой обосновывать именно этим создание каких-то наднациональных организаций, например европейской федерации или атлантического сообщества, ибо даже столь крупные объединения также неспособны защитить те или иные территории или граждан.
Проницаемость границ для идей и деятельности транснациональных партий также бесспорный факт, но он не представляет собой радикально нового явления. Как мы уже отмечали, речь идет о последствиях или отражении разнородности мировой системы, В период между религиозными и революционными войнами территориальное государство абсолютной монархии подавляло проявления разнообразия, запрещая индивидам избирать себе религию, государям вмешиваться в отношения других монархов со своими подданными, церквам распространять через границы свое влияние и свои споры. Каждое государство решало свои проблемы собственным способом, и эти решения признавались законными, лишь бы внутри царил мир и не нарушался покой соседей. Мир стоил жертвы, принесенной в области индивидуального права подданных выбирать себе церковь, жертвы настолько тяжелой, насколько люди полагали, что от этого выбора зависит спасение души.
Французская революция подорвала однородность европейской системы. В течение двадцати пяти лет европейцы часто видели и предательство, и смену подданических чувств. Прусские офицеры находились в течение многих лет на службе у русского царя в то время, как прусский король “сотрудничал” с Наполеоном, французские “эмигранты” воевали против Франции, республиканский генерал стал шведским королем и боролся против своей страны, другой республиканский генерал перешел на сторону союзных монархий, выступавших против его родины, и был смертельно ранен французским ядром, многие немцы увлекались “свободой” и “якобинством”, 464 н» Раймон Арон • Мир и война между народами
История
а многие французы тосковали по временам дореволюционного режима. Условием непроницаемости границ и однородности политического корпуса было всеобщее признание государствами легитимности того или иного режима и законности правительства. В XIX в. последствия разнородности государств не проявились еще в полной мере. Священный союз против революций просуществовал недолго (хотя в 1848 г. царь применил принципы Священного союза и пришел на помощь своему австрийскому брату, чтобы подавить восстание в Венгрии). Сочетание традиционной дипломатии и транснациональных политических движений способствовало, как это ни странно, сдерживанию конфликтов. Короли довольствовались армиями, которые были меньшими, чем позволяли имевшиеся ресурсы и технические возможности. Транснациональные политические движения — либерализм, социализм, национализм — были слабы (Первый Интернационал приобрел историческое значение лишь ретроспективно) или находились под руководством скорее консервативных, чем революционных деятелей (именно Бисмарк добился германского единства, используя Пруссию). Национализм вел идеологическую борьбу против государств, стремясь охватить их в рамках более широкого сообщества, но не преследовал столь грандиозных целей, как движения, претендующие на универсальность.
Разнородность современной мировой системы доводит до крайних пределов соперничество между государственными идеологиями, поскольку каждое государство выражает приверженность своей концепции справедливого экономического и социально-политического порядка и одновременно отвергает историческую или общечеловеческую легитимность режимов, основанных на противоположных принципах. Расширение системы международных отношений до общепланетных масштабов не позволяет использовать метод установления мира, который был применен после окончания религиозных войн: закрепить идеологический раскол разделением территорий, сделать границы столь же непроницаемыми для идей, как для солдат противника. Это можно было бы сделать, на худой конец, лишь в том случае, если бы в мире существовало только два блока. Сегодня идеологический конфликт не может быть решен или ограничен территориальным размежеванием по той простой причине, что, даже заключив соответствующее соглашение, две великие державы не в состоянии дать друг другу гарантии от распространения идей.
В зоне, охваченной двумя блоками, проявляется прежде всего разнородность режимов, в то время как нации и государства опираются на один и тот же принцип легитимости и не очень отличаются по уровню экономического развития. Конечно, Советский Союз с самого начала был многонациональной империей и продолжает проводить различие между национальностью (украинской, грузинской, армянской) и общим советским гражданством. Это различие носит реальный характер, оно демонстрирует разницу масштабов между многонациональной империей и национальными государствами. Теоретически нации в Советском Союзе имеют право на отделение и входят в союз лишь по своей собственной воле1. Национальное ' Разумеется, речь идет о фикции. Она лишь означает, что советские руководители признают право народов на самоопределение.
Мир и война между народами • Раймон Арон - ж г - » 465 --- ••
Часть III
происхождение американских граждан, напротив, постепенно затушевывается в рамках “принимающей нации”. Вместе с тем размеры территории и национальная пестрота сближают Соединенные Штаты больше с советской, чем с европейской моделью.
Вне зоны двух блоков разнородность государств еще более глубока, потому что она затрагивает сам политический корпус. Родившиеся недавно африканские республики, как мы уже отмечали, слишком малы, чтобы создать современную экономику или национальную оборону, и не могут быть монолитными изза племенной раздробленности. Африканские государства, так сказать, преднациональны или поднациональны — в том смысле, что в рамках государства нет единой нации, в то время как подлинно национальные государства Европы чувствуют утрату своей роли по сравнению с великими державами и стремятся объединиться в меж- или наднациональные организации1. Мы становимся свидетелями двух крайностей: можно взять, например. Гвинейскую Республику с 3,5 млн жителей, стремящуюся к полной независимости в рамках своей территории, и государства Западной Европы с населением по 50 млн человек, считающие себя отодвинутыми на второй план. А между этими крайностями находятся десятки государств Азии и Латинской Америки, среди которых есть столь же малые, как африканские страны, и столь же крупные, как великие державы, такие же однородные, как Франция или Германия (Япония), и такие же многообразные по расовому составу, религиям, языкам, как Советский Союз (Индия). Разнообразие населения Индии до сих пор не ослабляло серьезным образом его лояльности по отношению к федеративному государству. Но коммунисты уже несколько раз разжигали лингвистические ссоры, явно желая подорвать единство “многонациональной нации” и прочность федеративного государства. Другие государства, такие, как Бирма, Таиланд, Цейлон, имеют небольшую территорию и все же включают “национальные меньшинства” (похожие на то, что мы называем подобным образом в Европе).
Идеологическая разнородность международной системы проявляется поразному в каждой подсистеме, в каждом государстве: иногда соперничество двух великих держав дает себя знать прямо и резко — через существование двух партий, а то и двух правительств, каждое из которых связано с одной из этих держав, каждое подражает режиму своего покровителя или вдохновителя1 2. Но чаще всего партии отражают племенные, социальные или национальные реальности, присущие данному государству или данной зоне цивилизации, а некоторые из этих партий ищут и получают (или получают без всяких поисков) поддержку одной из великих держав3. Разнородность двух государств внутри
1 Наднациональные организации предполагают передачу суверенитета, а интернациональные организации — простое сотрудничество государств Но фактически граница между этими двумя образованиями довольно расплывчата
2 Но фактически, если коммунистическая партия легко подражает своему вдохновителю, то проамериканская партия не может быть столь же покладистой, хотя бы потому, что наряду с ней может действовать и сильная партия просоветской ориентации
3 Следовало бы добавить стремятся подражать (или подражают) одной из моделей политического или экономического устройства
466 а. а> Раймон Арон • Мир и война между народами
История
г» Л *&ММа#Ыл( ^^■'ХФ'Ф. \ Х.'/ФчФ. чф < <Хчг.ФЛФ>Ла5»'Й- .-Л^х-х ^лА^Аха жф>А<>>«ф>
подсистемы (Мали и Сенегал) объясняется одновременно национальными (или племенными) и идеологическими реальностями (региональными или общемировыми). Новым государствам угрожают действия, направленные против их режимов, и действия, нацеленные против их национального единства. Все происходит таким образом, будто они переживают одновременно национальные конфликты XIX в. в Европе и социальные конфликты XX в.
Следует ли из этого вывод, что национально-территориальное государство умерло, еще не родившись, в зоне цивилизации, не входящей в сферу Запада? И да, и нет. Территориальное государство сегодня проницаемо для идей и партизан, и оно не знало века фортификационных сооружений, идеологического нейтрализма и невмешательства во внутренние дела. Волей-неволей оно оказалось втянутым в ссоры великих держав еще до того, как успело воспользоваться выгодами государственной замкнутости и достигло зрелости. Но, игнорируя или преодолевая внутренние, региональные или импортированные извне ссоры, оно стремится реализовать себя. Все новые государства стремятся проявить себя как территориальные и национальные образования: территориальные в том смысле, что внутри своих границ суверенный правитель может делать все, что захочет, и национальные — в том смысле, что суверенный правитель выступает не как владелец определенной земельной площади, не как хозяин людей, ее населяющих, но как выразитель воли народа. В мае 1961 г. представители двадцати африканских государств собрались в Монровии и попытались разработать кодекс добрососедства, словно стремясь установить промежуточный между Священным союзом и “холодной войной” тип международных отношений.
Хотя национальное государство исторически устарело, для значительной части человечества оно представляется манящей целью. Новые государства были созданы националистическими течениями, выразив нежелание одной или нескольких групп населения, чтобы ими управляли люди других рас, выходцы с других континентов. Национализм не возникал там, где нации были объединены общностью культуры или стремлением к общему политическому существованию либо одновременно и тем, и другим.
Обречены ли новые государства, которые насчитывают лишь несколько миллионов жителей и являются нежизнеспособными, представлять собою скорее юридические фикции, чем исторические реальности? Я воздержусь от столь поспешных выводов. Организация Объединенных Наций основана на некоторых принципах национально-территориального государства. Какими бы слабыми ни были те или иные государства, их руководители обладают в нынешних условиях возможностью объявить законным или незаконным, с точки зрения международного права, военное вторжение великой державы на свою территорию, предоставить или нет великой державе стратегически важную позицию. Платой за эту двойную возможность является психологическое и политическое вмешательство великих держав во внутренние дела малых стран. Но поскольку международный закон это запрещает и осторожность сдерживает применение военной силы (регулярных армий), то единая и решительная политическая элита, сплоченный народ обМир и война между народами • Раймон Арон ?и 467
Часть III
ладают определенной силой противостояния великим державам — в том смысле, что можно не примыкать ни к одному из лагерей и тем самым удерживать свою территорию вне зоны холодной войны. Иными словами, государство, не способное защищаться военным путем, имеет возможность выжить благодаря биполярной системе международных отношений и тем принципам, которые, хотя и не без некоторой доли лицемерия, приняты Организацией Объединенных Наций и мировым общественным мнением.
Связана ли низкая жизнеспособность малых государств с их экономикой? Несомненно, в каждую эпоху существует свой оптимальный размер государства. Но нельзя утверждать, что этот оптимум имеет универсальный характер и что в данный период повсюду на земле определенные размеры территории наиболее выгодны для развития производства и повышения уровня жизни. К тому же само понятие экономической выгоды не однозначно. Высокий уровень благосостояния в данный момент может не совпадать с наиболее высокими темпами экономического роста. Один и тот же уровень жизни может быть достигнут путем различного распределения рабочей силы между отраслями экономики. Мы ограничимся лишь напоминанием некоторых бесспорных положений.
Есть минимальные размеры государства, когда расходы на его содержание, носящие политический характер, становятся слишком высокими по отношению к численности населения. Очевидно, что существование стран, где число жителей менее миллиона, с этой точки зрения нерационально, хотя в некоторых случаях местные ресурсы (нефть Габона, железная руда Люксембурга) дают населению возможность и вызывают желание утвердить свою независимость. В Западной Африке расходы на содержание администрации и правительства сократились бы в случае слияния нескольких республик. Но те, кого природа наделила щедрее других, оказались бы в проигрыше от интеграции, даже если бы она привела к повышению доходов для каждого гражданина более крупного государства (более высокие налоги в Береге Слоновой Кости были бы частично истрачены в других регионах единого государства Западной Африки).
Оставим в стороне важную, но не решающую, начиная с определенного уровня, проблему соотношения управленческих расходов и численности населения. Главный вопрос состоит в том, чтобы знать, какие рамки наиболее благоприятны для экономического развития. Распад экономического единства Центральной Европы между двумя войнами имел печальные последствия, потому что привел к разрыву давно установленных связей. Но экономический прогресс, достигнутый всеми европейскими государствами, включая такие малые страны, как Австрия, которую раньше объявляли нежизнеспособной, продемонстрировал огромную гибкость промышленной системы и опасность придавать универсальное значение урокам, извлеченным из особых обстоятельств.
Взглянем на новые государства Африки и Азии. По крайней мере два вида условий определяют рамки, наиболее благоприятные для их хозяйственного развития: это условия политического и экономического порядка. Очень часто они не совпадают. Сплочение нации, авторитет государства необходимы для 4(58
Раймон Арон • Мир и война между народами
процессов модернизации. Отнюдь не доказано, что в Африке, где у основной массы населения чувства этнической солидарности сильнее солидарности общенациональной или государственной, балканизация хуже, чем империализм. Разумеется, малые страны не обязательно являются однородными. Племенное разнообразие может существовать и в стране с миллионом жителей. Но прозападная элита, которая управляет государством, относительно однородна, она стоит ближе к управляемым и имеет наилучшие шансы поддерживать, не прибегая к чрезмерному насилию, авторитет власти. Даже в Сенегале и Судане не удалось образовать племенную федерацию. Возможно, фаза существования небольших государств была неизбежна, чтобы преодолеть племенную традицию и привить населению лояльность по отношению к государству (то есть чувство верности по отношению к чему-то далекому и абстрактному — нации, государству).
Вместе с тем можно выдвинуть два аргумента в пользу противоположного мнения: национальные интересы с присущими им страстями и предрассудками быстро становятся неискоренимыми. Лучше было бы перейти непосредственно от племенной к более широкой общности. По этому поводу, как мне кажется, можно заметить, что было бы, конечно, желательным перескочить через этап создания мелких государств, но сделать это невозможно, по крайней мере в эпоху, когда применение силы считается аморальным. Другое замечание носит экономический характер: какое, мол, хозяйственное развитие возможно в столь тесных рамках? Очевидно, что более широкие границы выглядят предпочтительнее. Но идет ли речь История
об улучшении почв или сельскохозяйственных культур, совершенствовании средств связи или даже разработке месторождений полезных ископаемых, то первые этапы экономического развития вполне доступны и государствам-карликам. Трудности могут нарастать лишь на следующих этапах.
Чем меньше государство, тем более необходима специализация его экономики. И чем настоятельнее требуется выбирать между отраслями промышленности, тем сильнее избранная отрасль оказывается зависимой от внешних рынков. Многие новые государства доверяют чиновникам решение проблем, связанных с началом и направлением индустриализации страны. Узость границ увеличивает трудности, присущие в африканских условиях хозяйственному развитию и планированию, которое осуществляется зачастую случайными администраторами. Бесспорно, что с экономической точки зрения было бы желательно ограничить масштабы “балканизации Африки”.
Таким образом, на современном этапе первостепенной задачей новых государств является национальное сплочение. Небольшая страна с признанным правительством лучше, чем крупная, готовая распасться в любой момент (тем более, что общий рынок или межафриканские соглашения могут смягчить недостатки многочисленных малых государств).
Исходя из этих соображений, отнюдь не парадоксальным будет утверждение, что в Африке небольшое государство может оказаться подчас более жизнеспособным, чем крупное. По традиции о жизнеспособности государства говорят лишь тогда, когда оно способно хотя бы в минимальной степени обеспечить Мир и война между народами • Раймон Арон -
469
Часть III
свою оборону. Однако эта формула вызывает много замечаний. Даже тогда, когда небольшие государства были неспособны оказывать сопротивление великим державам, последние тем не менее неоднократно договаривались по разным причинам обеспечивать их существование ( наиболее частой причиной была невозможность договориться о разделе территории). Малое государство, занимающее важную стратегическую позицию, лишало все великие державы тех преимуществ, которые одна из них получила бы, оккупируя его территорию. Небольшое государство создавало нейтральную полосу, промежуточную зону — прокладку между границами великих держав. Таким образом, существование небольшой страны обеспечивалось главным образом не ее обороноспособностью, а интересами великих держав (заинтересованных в ее выживании). Способность к военной обороне была лишь второстепенным инструментом защиты национальной независимости.
Сегодня великие державы более чем когда-либо в прошлом обладают средствами для уничтожения малых стран, их городов, их населения, даже не разоружая эти страны. Но пока не существует термоядерной монополии и,возможно, даже при такой монополии, чрезмерно мощное оружие неприменимо во второстепенных конфликтах. Ни одна из великих держав не пыталась устрашить малые страны, размахивая “термоядерной саблей”1. Крупные государства стремятся прибрать их к рукам скорее при помощи подрывных действий, чем путем ядерного устрашения или военного вторжения. Но способность к сопротивлению этим действиям зависит от национальной сплоченности или авторитета правительства, а не от объема имеющихся ресурсов. Солидарность нации и ее руководителей — лучшая защита от наиболее возможного в наше время типа агрессии. И в этом смысле обороноспособность новых государств в мирное время обратно пропорциональна их размерам.
И более того. В общепланетной системе причины, которые побуждали великие державы Европы уважать независимость малых стран, действуют теперь и в пользу неоднородных государств, а то и целых обширных регионов. Великие державы могут молчаливо признать неприсоединение Африки так же, как раньше Великобритания, Франция и Германия договаривались о нейтралитете Бельгии. Соперничество великих держав выгодно малым странам, когда им благоприятствует география.
В свете этого анализа даже ослабление роли европейских государств в то время, когда множатся государства-лилипуты, обретает определенную логику. Карликовые государства не являются субьектами “большой политики”, а европейские государства, напротив, не могут уйти из нее, потому что они богаты и, как предполагается, сильны. Они не могут примириться со своим новым положением и воспользоваться нейтралитетом, а вместе с тем не решаются окончательно создать наднациональное образование, единственно способное обеспечить полную самостоятельность. Колеблясь между воспоминаниями о своем величии, соблазнами неприсоединения и стремлением к наднациональной интеграции, бывшие великие державы 1 Хрущев начал это делать в 1960 г.
470 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
Европы не имеют достаточных возможностей, чтобы играть главные роли, но сохраняют еще достаточно ресурсов, чтобы не искать безопасности в отказе от своих амбиций.
Возможно, гонка вооружений окажет решающее влияние на окончательный статус этих государств, слишком небольших для того, чтобы считаться великими, и слишком крупных, чтобы относиться к малым странам.
♦ * ♦
Расширение до общепланетных масштабов сферы дипломатической деятельности, универсальный характер промышленного общества, триумф американской философии международного юридического порядка ведут к обрисованной нами странной ситуации. В пределах века бывшие великие европейские державы являются средними государствами, а порог, определяющий величие, преодолевают лишь государства континентального масштаба. Только те из них, кто достаточно развит в промышленном отношении, обладают необходимой для этого мощью. Противники совместно заинтересованы в том, чтобы не сражаться друг с другом, их противостояние охватывает все уголки нашей планеты, но они являются союзниками в борьбе против войны. За пределами той зоны цивилизации, где сейчас возникает современное общество, народы стремятся обрести те же возможности для роста могущества и богатства. Но слаборазвитые страны не составляют единого целого, даже если руководствоваться негативной оценкой. Одни из них небольшие, другие крупные, одни заявляют о своей приверженности советской, другие склоняются к западной идеологии, одни придерживаются нейтрализма, другие выступают на той или иной стороне, причем эти противопоставления не обязательно строго равнозначны. Идет ли речь о расе, культуре или образе жизни, различия между этими странами очевидны, бросаются в глаза. Разнообразие цивилизаций, охваченных отныне единой мировой системой, приведет, возможно, в перспективе к более серьезным последствиям, чем противостояние двух систем или двух доктрин, к которым относит себя большинство народов. Но это разнообразие временно скрыто за существованием двух блоков, каждый из которых провозглашает одну идею ( вид промышленного общества), и формальным равенством государств, представленных в Организации Объединенных Наций.
Оба блока, одинаково заинтересованные в симпатиях бывших колониальных народов, соперничают в обличении расизма и (за исключением некоторых европейских государств) колониализма. “Варвары”, когда-то подчинявшиеся европейцам, выходят из империй не для того, чтобы вернуться к своим традициям или вооруженной силой воссоздать королевства. Они стремятся организовать свою политическую жизнь по образцам, предложенным их бывшими хозяевами, а старые государства и современные гиганты тотчас же признают их юридическое равенство. Но никто не рискует заявить, что равенство государств в рамках Генеральной Ассамблеи ООН не означает еще равной ценности цивилизаций, что равенство душ перед богом не стирает неравенства людей с точки зрения их знаний или мудрости.
Мир и война между народами • Раймон Арон 471 г <<
Часть III
ГЛАВА XIV
О стратегии сдерживания
Сдерживание как форма отношений между двумя отдельными лицами или двумя коллективами людей так же старо, как старо само человечество. Возможность получить оплеуху сдерживает ребенка, не позволяя рвать книги из отцовской библиотеки, угроза штрафа удерживает водителя от желания поставить машину в запретной зоне. Если отец угрожал оплеухой, то сдерживание осуществлялось явным образом. Угроза штрафа предусмотрена соответствующими правилами, и она тем более эффективна, чем больше полицейских осуществляют контроль. Риск попасть в аварию удерживает водителя от проезда на красный свет, даже если он равнодушен к административным наказаниям. Иными словами, в общественной жизни отдельный индивид удерживается от совершения того или иного действия страхом перед возможными последствиями, перед наказаниями, предусмотренными законом, или перед исполнением произнесенной кем-то угрозы.
Механизм сдерживания в отношениях между двумя суверенными и вооруженными политическими сообществами также способен действовать и при отсутствии явно выраженной угрозы. Никто не сомневался в XX в., что Швейцария будет защищаться, если подвергнется нападению. Она продемонстрировала многочисленные доказательства своей решимости, жертвуя многим для обучения и вооружения своей армии. Вооруженные силы Швейцарии были достаточными, чтобы сделать оккупацию ее территории дорогостоящим предприятием для возможного агрессора. Способность страны сдерживать агрессора зависела одновременно от материальных средств, мобилизованных правительством, и от мужества и сплочения, которые наблюдали у народа Швейцарии руководители иностранных государств.
Нейтральное государство по определению делает ставку на сдерживание: оно не стремится навязать другим странам свою волю, а добивается только того, чтобы его оставили в покое. Сила сдерживания располагается между оборонительной и наступательной мощью в том смысле, в каком мы определили эти два понятия1. Она не строго оборонительна, потому что государство, сдерживающее кого-либо, может действовать в географически удаленной зоне. Она и не строго наступательна, потому что преследует цель предупредить, а не спровоцировать действия другого государства.
Сила сдерживания становится чисто оборонительной тогда, когда государство стремится предупредить агрессию, направленную только против него. Нейтральное государство проводит политику сдерживания лишь для себя самого, в своих собственных интересах. Вооруженные силы, целиком предназначенные для обороны и отвечающие требованиям соответствующей дипломатии, также носят оборонительный характер. Эта дипломатия имеет тем больше шансов на успех, чем выше оценивается боеспособность нейтрального государства и чем меньше выгод может извлечь агрессор из своих завоеваний.
1 См.: часть I, гл. II.
472 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
Если в прошлом военные средства нейтральных государств, необходимые для проведения политики сдерживания, имели оборонительный характер, то иначе обстояло дело у великих держав. Линия Мажино не удержала Германию от нападения на Чехословакию или от аннексии Данцига. Конечно, она не была полностью бесполезной в тех испытаниях воли, которые предшествуют вооруженным конфликтам. Допустим, что в Берлине и Париже рассматривали бы линию Мажино как исходную базу для наступления французской армии и гарантию того, что бои развернутся не на французской территории. Поскольку эти укрепления увеличивали силы Франции и меняли в ее пользу схему вероятных военных действий, то угроза всеобщей войны, которой Великобритания и Франция пытались удержать гитлеровскую Германию от нападения на Польшу, могла бы произвести более сильное впечатление на руководителей Третьего рейха.
Тем не менее крупной державе зачастую необходима армия, способная к наступлению, чтобы удержать какую-то страну от нападения на своего союзника. Оборонительная дипломатия, то есть направленная на сохранение “статус кво", не обязательно предполагает наличие армии оборонительного характера. В 1938 г. Франция попыталась удержать Гитлера от нападения на Чехословакию. Гитлер не дал себя устрашить, и французы и англичане предпочли капитуляцию Чехословакии риску, связанному с выполнением своих обязательств и своих угроз. В 1939 г. Великобритания подписала договор о взаимопомощи с Польшей, рассчитывая сдержать Гитлера демонстрацией решимости, которую никто не мог бы поставить под сомнение. И она не отреклась от своего слова: заключив пакт с Польшей, она сожгла корабли и не оставила себе иного выхода в случае немецкой агрессии против Польши, кроме выбора между войной и бесчестьем. Выбрана была война.
Эти исторические экскурсы, сколь бы общими они ни были, напоминают, если в том есть необходимость, что механизм сдерживания возник не в ядерный век. Сдерживание, которое английские авторы называют пассивным (стремление предупредить нападение на обладателя средств сдерживания), сравнимо с политикой нейтральных государств: его плодами пользуется только страна, его осуществляющая. А сдерживание активное сравнимо с тем, которое Франция и Великобритания хотели в 1939 г. осуществить в интересах Польши. Сегодня, как и вчера, сдерживание зависит и от материальных средств, которыми располагает страна, стремящаяся остановить другое государство, и от решимости, которую страна-объект сдерживания видит у государства, угрожающего санкциями. Сегодня, как и вчера, коренная проблема сдерживания носит одновременно и технический и психологический характер. Каким образом страна, которая осуществляет оборонительную стратегию, может убедить наступающее государство, что она приведет свою угрозу в исполнение? Сегодня, как и вчера, наиболее частыми являются два образа действий, которые проявились и в английской гарантии Польше в 1939 г. и в военных приготовлениях Швейцарии: речь идет о торжественных обязательствах, делающих отступление почти невозможным, и о доказательстве такой решимости на деле.
Что нового внес в политику сдерживания ядерный век? Ответ приходит сам собой: новое заключается в материальМир и война между народами • Раймон Арон «п 473 тш
Часть III
ных последствиях, которыми чревато исполнение угрозы. Гитлер знал, что Франция и Великобритания стремятся всеми способами избежать второй мировой войны; даже в случае их победы она ослабила бы Францию и привела бы к распаду британской империи. Угроза тем менее убедительна, чем более ее исполнение противоречит интересам того, кто ее выдвигает. Тем не менее в 1939 г. ее осуществление не было ни абсурдным, ни маловероятным, потому что сама война была предпочтительнее, с точки зрения правителей и, возможно, большинства населения двух стран, чем капитуляция, ведущая к триумфу гитлеровской империи. Война казалась заведомо дорогостоящей, но не катастрофической. Она не исключала победы одной из сторон. Правители Парижа и Лондона предпочитали мир победоносной войне, полагая, что положение после такой войны будет хуже, чем в канун ее, но они также считали, что если не оказать вооруженного сопротивления Гитлеру, то положение будет еще хуже, чем в результате такого сопротивления. У Гитлера были основания не верить в угрозу, но французы и англичане могли, действуя вполне рационально, привести ее в исполнение. Как же стало обстоять дело после появления сперва ядерных, а потом термоядерных бомб?
Читатель знает, что так называемое оружие массового поражения не идет ни в какое сравнение с любым оружием, которое применяло человечество в течение тысячелетий, но ему, возможно, неизвестны подлинные масштабы революции в военном деле.
“Оружие, направленное против городов и населения, в тысячи раз превышает по мощности то, что использовалось лишь 10 лет тому назад и в миллионы раз — использовавшееся 20 лет тому назад. Лишь одна бомба (ядерная) может иметь большую разрушительную силу, чем все боеприпасы, использованные воюющими сторонами во Второй мировой войне или даже большую, чем все разрушительные средства, использованные человечеством за весь предшествующий период. Эта мощь заключена в устройстве, которое может доставляться к цели наобычных самолетах, каких насчитываются многие тысячи. Причем во всем мире уже накоплены сотни, если не тысячи, подобных бомб”1 Никогда еще известная формула: “количество переходит в качество" — не была продемонстрирована столь разительным образом. Никогда еще ускорение хода истории не проявилось столь резко. Прошло меньше десяти лет с момента изобретения килотонных бомб (тысячи тонн тротила) до создания мегатонных бомб (миллионы тонн тротила). Аналогичный прогресс в создании носителей такого оружия открыл после века бомбардировщиков век баллистических ракет. Скорость доставки зарядов измеряется уже не сотнями, а тысячами километров в час. Время, необходимое ракетам, чтобы преодолеть пространство, разделяющее континенты, измеряется теперь не часами, а минутами (тридцать минут для расстояния от СССР до США). Разве может у человечества не возникнуть представления о наступлении новой эры? Наиболее простой вывод, отражающий потребность в надежде, был сделан президентом Эйзенхауэром: “there is no alternative to peace” (теперь “нет альтернативы миру”), или, как стали говорить еще, “война невозможна”.
Очевидно, что обе формулы неточны и в определенном смысле противоре1 Morgenstern. The question of national defense. New York. 1959. P. 9—10.
474 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
чивы. Если в реальности термоядерная война немыслима, то как можно сдержать кого бы то ни было угрозой, исполнение которой невозможно? Таков, действительно, парадокс “термоядерного сдерживания”1 : если угроза не может быть реализована, то как использовать ее в качестве средства сдерживания? Если прибегают к угрозе, то ее выполнение должно представляться вероятным и тому, кто осуществляет сдерживание, и тому, против кого оно направлено.
Могут возразить, что невозможность применить ядерное оружие носит не материальный, а моральный характер. Конечно,скажут, исполнение угрозы должно носить реальный характер, иначе сдерживание не достигнет цели. Но все государства, владеющие этим чудовищным оружием, совершенно не хотят его применять. Впервые в истории они готовятся к войне, которую не желают развязать. Они ни на минуту не забывают, что их общая заинтересованность избежать сражения друг с другом, то есть взаимного уничтожения, неизмеримо выше выигрыша в конфликте, который противопоставляет их во всех уголках планеты. Обладатели “термоядерных систем”1 2 становились все более осторожными по мере приобретения ими все большей способности к уничтожению. Со времени взрывов в Хиросиме и Нагасаки все происходило так, словно человечество дало клятву использовать только оружие вчерашнего дня, а оружие дня завтрашнего отправить на склад.
Нет сомнений в том, что самым заметным результатом появления термоядерного оружия стало удержание двух великих держав от развязывания тотальной войны, побуждение их к умеренности, отказу каждой из них от посягательства на жизненные интересы другой. Оптимистический тезис относительно поддержания мира посредством страха (или, по крайней мере, предупреждения войн путем устрашения термоядерным апокалипсисом) может основываться на опыте последних пятнадцати лет.
Но этот опыт слишком мал, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, тем более, что на протяжении большей части этого периода Советский Союз явно находился в худшем положении, по крайней мере в области ядерного или термоядерного противостояния, чем Соединенные Штаты. В течение первой фазы США удерживали монополию на ядерное оружие (до 1950 — 1951 г.) На протяжении второй фазы СССР обладал ядерными, а затем, с 1955 г., термоядерными бомбами, но единственными их носителями были стратегические бомбардировщики, не столь многочисленные, как у США и, главное, взлетающие с аэродромов, более отдаленных от целей. Лишь после вступления в строй межконтинентальных баллистических ракет, то есть в 1959-м или 1960 г., установился наконец подлинный паритет между Соединенными Штатами и Советским Союзом с точки зрения возможности взаимного уничтожения. Равновесие страха, о котором идет речь уже много лет, в действительности возникло совсем недавно3.
1 Мы используем эту упрощенную формулу, чтобы не повторять каждый раз более развернутое определение: сдерживание путем угрозы применения термоядерных бомб.
2 Так мы называем совокупность термоядерного оружия и его носителей, а также основных и вспомогательных средств предупреждения, командования и связи.
3 Это равновесие существовало много лет, если учитывать солидарность между Европой и Соединенными Штатами. Европа была заложником, она могла быть уничтожена так же, как мог быть уничтожен Советский Союз.
Мир и война между народами • Раймон Арон
«е. 475 -а»
Часть III
Некоторые авторы, прежде всего американские, разработали теорию термоядерной стратегии сдерживания, но, учитывая отсутствие опыта, эта теория носит чисто умозрительный характер. Никто не может с уверенностью сказать, в каком случае угроза может быть воспринята как правдоподобная тем государством, которому она предназначается. Кроме того, совершенствование вооружений происходит так быстро, что рассуждения, справедливые на одном этапе развития термоядерных систем, теряют значение спустя несколько месяцев или лет. Теории рискуют устареть так же быстро, как и оружие. Поэтому для того, чтобы различать положения, имеющие долговременное значение, и концепции, связанные с преходящим состоянием вооружений, мне кажется необходимым рассмотреть прежде всего типичные положения, которые можно представить себе в отношениях между двумя государствами, обладающими термоядерными системами.
Нет необходимости обращаться к теории игр, чтобы обосновать метод моделирования. Теоретики различных тактических схем выстраивали модели исторических сражений (битвы при Каннах, при Лейтене). Теоретики термоядерной стратегии должны таким же образом выстроить модели отношений между двумя полюсами современного мира1.
1. Три модели
Термоядерная бомба, сброшенная на центр Москвы, Нью-Йорка или Парижа, вызвала бы гибель двух-трех миллионов человек, уничтожила бы большую часть города, и радиоактивные осадки выпали бы на расстоянии сотен километров. Непосредственной реакцией любого человека на эти факты может быть лишь один вывод: термоядерная война не произойдет. Никогда еще слова старого Геродота не представлялись столь очевидными: ни один человек не лишен разума настолько, чтобы предпочесть войну миру.
Но как показывает более глубокий анализ, эта очевидность основана на предположении, что жертва термоядерного нападения будет способна, выдержав первый удар, нанести затем своему противнику такие же потери, какие понесла она сама. Иными словами, если взять два государства, обладающие термоядерными системами, то можно представить себе две крайние ситуации. Либо одно из двух государств, которое наносит удар первым, уничтожает своего противника и остается невредимым. Либо то из них, которое наносит удар вторым, сохраняет возможности для мести, пропорциональной разрушениям, которые были вызваны агрессией. Назовем первую ситуацию безнаказанностью преступления(называемую еще ситуацией двух гангстеров), а вторую — равенством преступления и наказания, которое ведет в случае реализации к совместному самоубийству. Какие условия определяют осуществление той или другой модели? Когда противоположные стороны оказываются в положении двух гангстеров? Когда, напротив, можно рассчитывать на равнозначность нападения и контратаки, первого и второго ударов?1 2 Если упростить анализ, то два фактора носят решающий характер: уязвимость или неуязвимость термоядер1 Ситуации станут более сложными.когда появится полдюжины, а не два обладателя термоядерных систем
2 По- английски “first strike", “second strike"
•*» 476 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ной системы, особенности физической географии и народонаселения (размеры, концентрация городского населения) каждого из двух государств.
Легко понять значение первого фактора. Представим себе, что один из антагонистов берет на себя инициативу пустить термоядерную систему в ход. Если он действует разумно, то прежде всего атакует термоядерную систему противника. Действительно, если он ее уничтожит, то соперник будет в его власти. Но если тот сохранит ее, т.е. средства возмездия, то нападающий в свою очередь будет обречен на такие же разрушения, которые вызвал сам.Уязвимость термоядерных систем создает ситуацию двух гангстеров. По мере уменьшения такой уязвимости положение приближается к ситуации равнозначности преступления и наказания.
Однако неуязвимости термоядерной системы недостаточно для того, чтобы жертва агрессии могла осуществить месть, соответствующую понесенным потерям. Даже если бы Израиль или Франция обладали неуязвимой термоядерной системой таких же масштабов, как у каждой из двух великих держав1, возмездие будет измеряться в абсолютных, а не относительных величинах, соизмеримых с преступлением. Израиль и Франция перестали бы существовать, испытав первый удар, и их месть оказалась бы посмертной. Это возмездие было бы грозным, но оно не лишило бы жизни агрессора, в то время как жертва не пережила бы войны.
Правда, некоторые утверждают, что, начиная с определенного объема разрушений, люди не делают уже различий между “больше” и “ меньше”. Разум не проводит различий между гибелью за несколько минут трети, половины, четырех пятых или девяти десятых населения. Для государственного деятеля так же, как для человека с улицы, во всех этих случаях речь будет идти об “абсолютной катастрофе”, своего рода конце света, за пределы которого никто не осмелится заглянуть.
Я не знаю, могут или смогут в действительности государственные деятели проводить различие между “больше” и “меньше”, начиная с определенного порога неприемлемых разрушений. Но я уверен, что при абстрактном анализе неправомерно делать принципиальный вывод, будто, начиная с какого-то уровня, относительные масштабы разрушений уже не играют никакой роли. Чжоу Эньлаю приписывают ( я надеюсь, что безосновательно) утверждение, что после термоядерной войны останется несколько миллионов англичан, несколько десятков миллионов русских или американцев и несколько сотен миллионов китайцев. Легко видоизменить эти цифры, чтобы сделать еще более очевидной одну мысль: при одинаковой силе разрушений население в пятьдесят миллионов человек, проживающих на небольшой территории, будет уничтожено, а население в девятьсот миллионов человек, занимающее обширную площадь, восстановится за несколько лет или десятков лет, какой бы кошмарной ни была пережитая катастрофа.
Чистые модели термоядерной дуэли четко обрисовывают две концепции победы,которые не отличаются коренным образом от концепций, разработанных традиционной теорией. Абсолютная победа предполагает, что одна из сторон, разо1 Вряд ли надо уточнять, что это предположение неосуществимо.
Мир и война между народами • Раймон Арон . . -«, 477
Часть III
ружив другую, будет в состоянии властно диктовать условия мира. Новое лишь в том, что теперь разоружение предполагает не что иное, как уничтожение у противника средств возмездия, то есть термоядерной системы. Не имеет значения, сохранит ли тот флоты и армии, укрепления и боевые корабли. В теории антагонист, лишенный способности возмездия, будет принужден к капитуляции, ибо он может быть полностью уничтожен, не имея средств для защиты или мести. Что касается относительной победы, то она не обязательно должна быть результатом переговоров или заключения договора, благоприятного для одной из воюющих сторон. Она будет фактически определяться неравенством потерь, понесенных каждой из них. Она может быть итогом боевых действий; при этом допускается, что после обмена не решающими термоядерными ударами один из дуэлянтов, находящийся в худшем положении, попытается ограничить свои потери, согласившись на пораженческий мир.
Ни одна из этих чистых моделей не имеет больших шансов на осуществление, по крайней мере до тех пор, пока антагонистами являются две великие державы, действующие в рамках всемирной системы международных отношений. Действительно, представляется маловероятным, что первый удар полностью уничтожит средства возмездия противника. Маловероятно также, что великая держава, на территорию которой обрушится несколько десятков термоядерных бомб от пяти до десяти мегатонн, будет способна покарать нападающего соразмерно совершенному преступлению. Короче говоря, наиболее вероятна промежуточная модель, которую можно назвать неравенство преступления и наказания.
К числу теоретиков термоядерного сдерживания (оптимистов1) относятся те, кто или не знает другой модели, кроме равнозначности преступления и наказания. или же верит в отсутствие разницы между “больше” и “меньше” при переходе через определенный уровень разрушений. К теоретикам-пессимистам1 2 можно причислить тех, кто не исключает возможности возникновения ситуации, близкой к безнаказанности преступления, или кто придает первостепенное значение неравенству преступления и наказания.
Предположим, что каждый из антагонистов3 знает: в том случае, если он нанесет удар первым, то понесет в три раза меньше потерь, чем если бы инициатива принадлежала противнику. В таком случае относительная победа доставалась бы тому, кто нанес первый удар, и каждый знал бы об этом. Разумеется, даже победитель серьезно бы пострадал и предпочел, если бы у него был выбор, предотвращение войны относительной победе. Но он предпочел бы также относительную победу относительному поражению Если бы он подозревал противника в том, что тот предпочтет относительную победу отсутствию войны, то поспешил бы опередить его, ибо, в отличие от легенды по поводу сражения при Фонтенуа4, по1 Тех, кто верит в “мир посредством страха"
2 Тем, кто верит в серьезность риска термоядерной войны
3 Мы рассматриваем для упрощения симметричную ситуацию Но возможна конечно, и асимметрия когда неуязвимой является термоядерная система только одной державы
4 Местечко в Бельгии, где в 1745 г произошло сражение между французскими и англо голландскими войсками и где французы одержали победу (Прим перев )
478 . ; г - ** Раймон Арон • Мир и война между народами
История
беду одержал бы тот, кто выстрелил первым. Иными словами, любая ситуация неравенства между преступлением и наказанием, особенно если это неравенство связано с уязвимостью термоядерной системы, создает, говоря абстрактно, риск того, что американские авторы называют preemptive blow, опережающий удар по противнику, которого подозревают в подготовке нападения. “Опережающая” война отличается от войны “превентивной”. Последнюю развязывают хладнокровно, в наиболее удобный момент, чтобы избежать ухудшения в соотношении сил или воспользоваться благоприятными условиями. А первую начинают в период кризиса — и не потому, что предпочитают победу миру, а потому, что с минуты на минуту ожидают нападения. Теоретики-пессимисты могут, на худой конец, признать, что неравенство между преступлением и наказанием не мешает одной из великих держав удерживать другую от прямой атаки против себя. Разрушения от возмездия, даже меньшие, чем от нападения, все же превосходят тот уровень, который правители государства-агрессора могут считать допустимым. Или по крайней мере они не могут быть уверенными, что репрессалии окажутся ниже порога терпимости. Но великая держава, которая способна лишь сдержать прямую атаку против себя, окажется в положении средней или малой страны в прошлом. Если Соединенные Штаты смогут удержать Советский Союз от нападения только на их территорию, но не на территорию также Западной Европы, они логически должны перейти к стратегии, называемой “крепость Америка”. Государство, сила сдерживания которого в эпоху термоядерной стратегии может защитить лишь его самого, сравнимо с нейтральными государствами эпохи пороха.
На этой стадии анализа возникает решающий вопрос: какое влияние оказывает соотношение термоядерных сил на возможности сдерживания? Глагол “сдержать” требует двух дополнений: “кого сдержать” и “от чего”. Могут ли Соединенные Штаты удержать Советский Союз от нападения на них самих? От нападения на Западную Европу? На Южную Корею? В случае прямого нападения на США их решимость к ответу не вызывает сомнений. Но какая часть термоядерной системы уцелеет после падения вражеских бомб? Представим себе, что советские войска овладеют Берлином и что одновременно советское правительство торжественно заявит о своем обязательстве не предпринимать атаки против Соединенных Штатов. Что произойдет в этом случае? Какой президент Соединенных Штатов отдаст приказ командованию стратегических военно-воздушных сил об ответных действиях, зная, что этот приказ повлечет за собой гибель десятков миллионов американцев? Такой же вопрос можно сформулировать, представив себе нападение с применением обычных вооружений против одной из стран Западной Европы или против всей Западной Европы. В случае нападения, не направленного против обладателя термоядерной системы, скажем, в случае крайне провокационных действий, ответ будет зависеть от решимости государства, обладающего средствами сдерживания. Но каков должен быть уровень вооружений, который делал бы эту решимость одновременно и правдоподобной, и разумной?
Теоретики комбинируют обычно три модели (безнаказанность преступления, равнозначность преступления и наказания, неравенство преступления и накаМир и война между народами • Раймон Арон
479 >
Часть III
зания)1 и три способа сдерживания (в ответ на прямое нападение, на крайнюю степень провокации и на более мягкую ее форму). Ситуация с двумя гангстерами по определению наименее устойчива. Даже если бы она была совершенно симметричной, то оставалась бы неустойчивой, поскольку не могла бы длиться долго1 2. Один из противников попытался бы поскорее устранить соперника, чтобы избавиться от недопустимой угрозы. Зачем жить с постоянной мыслью о возможной катастрофе, в то время как, нанеся удар первым, можно навсегда покончить с этой опасностью? К счастью, эта “идеальная” ситуация, вполне возможная на бумаге, никогда не будет реализована в действительности. Ни одна из двух великих держав (ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз) никогда не будет иметь возможности (и уверенности в том, что она ею располагает) уничтожить средства возмездия у своего противника. Если даже вообразить, что в будущем такие страны, как Израиль и Египет, смогут оказаться в отношениях друг с другом в положении двух гангстеров, им все равно придется учитывать реакцию других термоядерных держав.
Но допустим, что одна из великих держав сможет значительно ослабить термоядерную систему соперника и тот будет неспособен ответить тем же или же обе смогут, если нанесут первый удар, серьезно ослабить термоядерный потенциал антагониста. Выдвигая эти гипотезы, мы не берем модель безнаказанности преступления, а имеем дело с реальным неравенством преступления и наказания. Такое неравенство может быть следствием двух факторов: либо один из противников первым нападет на термоядерную систему соперника (counterforce strategy), либо произойдет не столько ослабление термоядерной системы того, кто окажется вторым, сколько общая дезорганизация жизни страны (и термоядерной системы в частности) в результате массированной атаки.
Какие выводы можно сделать из такого неравенства? Предположим сперва, что ситуация симметрична. Нестабильность будет тем большей, чем сильнее будет выражено неравенство и чем более оно будет напоминать ситуацию с двумя гангстерами. И наоборот, чем дальше от такой ситуации, тем меньше соблазн нанести удар первым. Значение неравенства преступления и наказания намного меньше, чем значение огромных последствий возмездия, даже менее разрушительного, чем нападение. С того момента, когда каждая из двух термоядерных систем становится неуязвимой и когда сила ответного удара зависит лишь от степени устойчивости социальной жизни, уверенность соперников в своих средствах возмездия освобождает их от навязчивого страха перед термоядерным Перл-Харбором. Остается только вполне рациональный страх перед всеобщей войной.
Но если соблазн к нападению ослабевает, если сдерживание прямой
1 Эти положения нельзя считать классическими: я лишь полагаю, что эти формулы выражают суть большинства аналитических рассуждений.
2 Если ситуация асимметрична, то нестабильность будет еще больше. Если А обладает только наступательной ударной силой, то В испытывает соблазн нанести удар первым, потому что в этом случае он может ее уничтожить Но А также заинтересован нанести такой удар, чтобы заранее отомстить за то, что может сделать ему противник.
> 480 .*<?!.
■,»»Раймон Арон • Мир и война между народами
История
«-едллйв-хчг- *S 4S^S y. xc^ W -S' \>x< .^>>^:» <W ^Ws^wcjrf <<Й^ХЧ><4<^ «XV -Л X-
атаки усиливается, то сдерживание провокации, даже самой вызывающей, может быть ослаблено. Каждого антагониста удерживает от провокаций против соперника опасение, что даже второстепенный конфликт может постепенно разрастись и достигнуть крайних пределов (то есть произойдет эскалация — escalation, если применить выражение, которое используется в англо-американской литературе). Уязвимость термоядерных систем увеличила бы риск разрастания конфликта. В случае серьезного кризиса противники проявили бы тем большую готовность к нанесению упреждающего удара, чем более бы верили в слабость возмездия по сравнению с нападением. И наоборот, если никто из антагонистов не обладает средствами для разгрома термоядерной системы противника, если никто из них не имеет другой возможности, кроме удара по городам (countercities strategy), тогда опасение, что соперник может опередить, рассеется. Каждый из них, уверенный в своих средствах возмездия, будет сомневаться, что другой рискнет совершить преступление, влекущее за собой равнозначную кару. Но одновременно становится менее вероятным и расширение конфликта до крайней черты, а следовательно, пропадает эффект сдерживания мелких провокаций, которым обладает термоядерный потенциал даже без его демонстрации Другими словами, по мере того, как возмездие становится равным по своим последствиям преступлению, нарастающая стабильность в отношениях между двумя антагонистами исключает расширение второстепенных конфликтов, делает все менее вероятным термоядерный апокалипсис и все более вероятными локальные войны. Невозможно провозглашать недопустимость чудовищной войны и угрожать такой войной против любой провокации.
Означает ли неуязвимость термоядерных систем и неэффективность направленной против них стратегии (counterforce strategy), что единственной формой сдерживания, которую могут себе позволить великие державы, остается лишь сдерживание первого типа, то есть угроза прямой атаки против обладателя средств возмездия? Я так не думаю по двум причинам. Даже при отсутствии стратегии, направленной против ударной силы противника, сохранится преимущество первого удара, имеющего целью дезорганизовать вражескую систему командования и связи и обеспечить боеготовность собственной системы обороны. Кроме того, каждая из великих держав может дать понять своему сопернику, что некоторые территории и некоторые ставки значат для нее не меньше, чем собственная территория и собственное существование.
Абстрактно говоря, можно утверждать, что относительная неуязвимость термоядерных систем, приблизительное равенство преступления и наказания уменьшают вероятность всеобщей войны и увеличивают тем самым вероятность ограниченных войн. Это не значит, что великие державы уже не могут защитить своих союзников и что увеличивается в связи с этим риск распространения термоядерного оружия. Стратегия сдерживания — это испытание воли, в котором технический уровень вооружений и средств их доставки определяет условия противоборства, но не его исход
Мир и война между народами • Раймон Арон
481
Часть III
2. Значение понятии “больше” и “меньше"
Сдержать кого-либо значит заставить его предпочесть бездействие последствиям такого действия, которое повлекло бы за собой определенные результаты, т. е. в области международных отношений выполнение явных или скрытых угроз. Государство тем более чувствительно к сдерживанию, чем более оно верит в исполнение угроз (в случае игнорирования им предостережений), чем более тяжелые для него последствия влечет за собой их проведение в жизнь и,наконец, чем более терпимыми представляются ему перспективы в случае отказа от нападения. Успех сдерживания зависит,таким образом, от трех факторов: психологического(сможет ли сдерживающая сторона убедить потенциального агрессора в серьезности своей угрозы), технического (определяющего, что произойдет в случае исполнения угрозы) и политического (сопоставление государством-объектом сдерживания своих выигрышей и потерь в случае действия или бездействия).
Технический фактор меняется вместе с прогрессом в области вооружений. Политический фактор зависит как от дипломатических обстоятельств, так и от оружия. На психологический фактор влияют оба предыдущие и противостояние, зачастую непредсказуемое, воли субъектов. Переплетение трех направлений анализа так велико, что конкретное рассмотрение той или иной стратегии рискует разделить участь принимаемых во внимание вооружений и устареть вместе с ними. Вот почему мы отделили анализ моделей от абстрактных построений, которые претендуют на близость к реальности, но являются трижды недостоверными (потому что технические данные меняются, потому что политическая конъюнктура никогда точно не повторяется, потому что поведение людей непредсказуемо).
Каково содержание термоядерной угрозы, или, иными словами, что произойдет, если вспыхнет война, которой не хотят, но которой угрожают, сдерживая агрессора? Последствия ядерных взрывов были описаны в официальном труде, опубликованном государственным департаментом и комиссией по атомной энергии Соединенных Штатов1 . В следующей таблице приводятся наиболее впечатляющие данные:
Хиросима
Нагасаки
Общее население
255 000
195 000
Разрушений
кв. миль
4,7
1,8
Убитых или пропавших без вести
70 000
36 000
Раненых
70 000
40 000
Авторы указывают также вероятные потери (убитых и раненых) для городского населения с плотностью 1 человек на 1 000 кв. футов. Потери составят: 40 жертв при использовании крупной бомбы с химическим взрывчатым веществом (1 тонна), 260 000 — при применении бомбы, аналогичной той, которая была взорвана в Хиросиме, и 130 000 — при взрыве бомбы, сброшенной на Нагасаки.
В работе не указываются возможные цифры потерь, если термоядерная бомба в 1—5 мегатонн будет сброшена на один из крупных городов мира. Воз1 The effects of nuclear weapons.
482 - ~ . v •-■.Раймон Арон • Мир и война между народами
История
можно, число погибших и выживших будет зависеть от многих факторов (тип использованной бомбы — “чистой” или “грязной”, высота, на которой произойдет взрыв, место воздействия ударной волны, состояние пассивной обороны, характер убежищ, возможность для выживших оставаться несколько дней или несколько недель в укрытиях и т.п.) Если не будет организована пассивная оборона, которой сейчас нет нигде в мире, город, пораженный взрывом термоядерной бомбы, будет большей частью разрушен и парализован.
Площадь, разрушенная бомбой Хиросимы мощностью в 20 килотонн, составила около 4,7 кв. миль.Таблица, помещенная в той же книге1, позволяет представить себе площадь разрушений в результате применения термоядерной бомбы (мощность измеряется мегатоннами). Разрушения, вызванные бомбой в 20 килотонн на расстоянии 1,2 мили от центра взрыва, окажутся теперь на расстоянии уже 5—6 миль от центра. Площадь сплошных разрушений будет, таким образом, в 20—30 раз больше. Кроме того, сразу же возникшая и сохранившаяся радиоактивность поставит проблемы совсем других масштабов.
Возможно, эти подсчеты значительно ниже реальных последствий: если, говорит Камиль Ружерон, взять за основу заявление Хрущева, согласно которому одной термоядерной бомбы достаточно для уничтожения такой страны, как Дания или Нидерланды, то следует увеличить в десять раз американские оценки площади разрушений, вызванных взрывом бомбы мощностью в 20 мегатонн. “ Во время американских взрывов 1954 г., осуществленных на вершине мачты и даже на высоте нескольких тысяч метров, разрушения были вызваны прежде всего взрывной волной, их радиус возрастал в размере кубического корня от мощности заряда. Тепловое воздействие, которое на расстоянии нескольких километров сильнее действия ударной волны, уменьшается под влиянием поглощения атмосферой в соответствии с “экспоненциальной” функцией, то есть дистанция возводит в степень величину этого поглощения, и для бомб большой мощности радиус разрушений от пожаров становится значительно меньше радиуса разрушений от ударной волны. Результат меняется при взрыве на большой высоте, например, 25—30 км при мощности бомбы в 20 мегатонн. В декабре 1954 г. мы, видимо, были первыми, кто рассмотрел в одной из статей эту форму нападения применительно к объектам сельского хозяйства. Косые излучения от взрыва будут пересекать не десятки километров воздуха с плотностью, близкой к плотности почвы, а те его слои, где даже на большом удалении от взрыва она незначительна. Единственным фактором, уменьшающим тепловое воздействие, окажется закон фотометрии, гласящий, что световой или тепловой поток от какого-то источника рассеивается на площади освещаемой поверхности, которая возрастает как квадрат расстояния от этого источника. Радиус разрушений от пожаров, вызванных взрывом на высоте, возрастает как квадратный корень от мощности взрыва, в то время как радиус разрушений от ударной волны возрастает как кубический корень. Таковы основные преимущества взрыва на высоте.
’Ibid, р. 195.
Мир и война между народами • Раймон Арон 483
Часть III
Следует учитывать и ряд других, которые мы отмечали неоднократно: рост теплового воздействия при излучении через почти пустое пространство (в то время как ударная волна обладала бы незначительной энергией в механической форме), сложение термических эффектов даже малой пожароопасности при одновременных взрывах нескольких зарядов. В результате радиус “серьезных” разрушений от пожаров ( внезапного возгорания сухих горючих материалов), вызванных взрывом бомбы в 20 мегатонн, достиг бы 200 км, то есть в десять с лишним раз больше, чем от воздействия ударной волны. У нас нет точных подтверждений, но осуществление все более частых (испытательных. — Прим, перев.) взрывов на большой высоте убедительно показывает, что ядерные державы вступили на этот путь”1.
Подобная информация способна парализовать аналитические размышления. Профан испытает чувства недоверия и ужаса. “Такая война не разразится”. Он готов по очереди верить ученому, который предрекает конец света в случае термоядерного столкновения, и стратегу, который пробуждает у него надежду на всеобщий мир,основанный на всеобщем страхе перед возможной катастрофой.
Ни одно из этих двух утверждений само по себе не является неразумным. Если термоядерная бомба мощностью в несколько мегатонн (а возможно, уже сегодня — в несколько десятков мегатонн) может вызвать, упав на город, несколько миллионов жертв и заразить обширную зону, то нетрудно представить себе, что какая-то великая держава сумеет в недалеком времени изготовить оружие, применение которого будет равнозначно геноциду (все население вражеского государства будет уничтожено). Или даже будет создана,как писал Герман Кан, Doomsday machine, машина апокалипсиса, приведение в действие которой положило бы конец жизни человечества. Но подобные опасения преждевременны. Сегодня ни одно государство не располагает подобной машиной. Ни одно государство не имеет возможности, если развяжет войну, уничтожить население вражеской страны. Разумеется, каждая из двух великих держав обладает достаточным количеством ядерных и термоядерных бомб, чтобы убить три миллиарда человеческих существ, если эти бомбы будут применены для этой цели. В действительности применение обеих термоядерных систем, будь они нацелены на города или на системы противника, хотя и вызвало бы материальные потери и человеческие жертвы, не сравнимые с последствиями минувших войн, но не привело бы ни к “уничтожению противника”, ни к “совместному самоубийству”, ни к “окончанию истории”.
Физик компании “Рэнд корпорейшн” Герман Кан1 2 нарушил табу и заставил государственных деятелей, стратегов—профессионалов или любителей, простых граждан взглянуть в лицо тому, что отказывались представ1 Revue de defence national, май 1958 г. С тех пор слова Камиля Ружерона были подтверждены. На пресс-конференции, состоявшейся 1 октября 1961 г., представитель американской Комиссии по атомной энергии, описывая разрушения, которые может вызвать заряд мощностью в 100 мегатонн, впервые отметил как результат пожаров от высотного взрыва разрушения на площади 30 тыс. кв. км, в двенадцать раз больше, чем от ударной волны. См.: Neu; YorkTlmes. 2октября 1961г.
2 On thermonuclear war. Princeton, 1960, p. 20.
» 484 h;. Раймон Арон • Мир и война между народами
История
лять себе, и дать ответ на вопрос: что случится, если “она" — “чудовищная война”, “невообразимаявойна”, “термоядерный апокалипсис” — все-таки произойдет? В результате исследований, проведенных группой ученых, он дал на этот вопрос ответ, который, как мне представляется, сперва поражает, затем убеждает и в конечном счете оставляет чувство неопределенности. Термоядерная война в том виде, в каком она разразилась бы в 1960 г., в 1965 г. и даже в 1970 г., оказалась бы беспрецедентно кошмарной трагедией, но она не завершила бы историю.Следующая таблица иллюстрирует этот тезис.
Число
Количество лет,
погибших
необходимых для восстановления экономики
2 млн
1 год
5 млн
2 года
10 млн
5 лет
20 млн
10 лет
40 млн
20 лет
80 млн
50 лет
160 млн
100 лет
Одна фраза дополняет эту таблицу: “Несмотря на довольно распространенное убеждение в обратном, объективные исследования показывают, что хотя величина трагедий, переживаемых людьми, в послевоенный период могла бы значительно возрасти, это все же не означало бы исчезновения нормальной и счастливой жизни для большинства выживших и их потомков”1. Что касается последствий возрастания радиоактивности, то они были бы весьма тяжелыми, но не смертельными.
Значение этой таблицы связано с различиями, которые проводит автор между зоной А и зоной В в Соединенных Штатах. Первая состоит из пятидесяти трех городских агломераций, где проживает почти треть населения и сосредоточены половина “богатств” (капитала), более половины промышленного потенциала и почти три четверти военной промышленности. В зоне В находится почти все сельское хозяйство и от одной пятой до одной трети промышленного потенциала различных отраслей. Допустив,что зона А окажется полностью опустошенной, эксперты попытались выяснить, сколько времени потребуется зоне В, чтобы восстановить разрушенное. Они пришли к выводу, что если заранее будут приняты определенные меры предосторожности, то при некоторых благоприятных условиях эта задача может быть выполнена за относительно небольшое число лет.
Число таких лет будет зависеть, очевидно, от людских потерь. А на число жертв, по данным того же автора1 2, могут сильно повлиять мероприятия в области активной и пассивной обороны При отсутствии каких-либо мер пассивной обороны (civil defense) число погибших от нападения на стратегические вооруженные силы и первые пятьдесят городских агломераций может достичь 90 млн. А если будут приняты некоторые меры защиты от радиоактивных осадков, эта цифра может быть снижена до 30—70 млн., и если такие меры будут сочетаться с эвакуацией 70% населения городов, то цифру потерь можно снизить до 5—25 млн человек.
Из этого анализа вытекает простой вывод: коль скоро допускается, что даже
1 Ibid., р. 21.
2 Ibid., р.113.
Мир и война между народами • Раймон Арон ix-ew ма - - ел 485 с \
Часть III
термоядерная война не является “концом света”, то неразумно делать ставку только на сдерживание и не знать, что произойдет, если оно не достигнет цели. Такое безразличие тем более неразумно, что масштабы разрушений и людских потерь могут быть значительно уменьшены при помощи мер пассивной и активной обороны.
Здравый смысл противопоставляет этим доводам чувство, которое испытывают все: ужас перед термоядерной войной. Он так велик, что кажется маловажным, кто придет потом, будет ли на несколько миллионов трупов больше или меньше. Эта эмоциональная реакция на подсчеты экспертов может быть обоснована и внешне логичным аргументом: если разрушения превышают определенный уровень, то становится малозаметным различие между ними или значение такого различия. В сущности, именно этот аргумент лежит в основе всех оптимистических теорий мира, соблюденного посредством страха. Он служит последней опорой концепции “минимального сдерживания”, которая поддерживает веру в равновесие страха, поощряет распространение термоядерного оружия, подрывает усилия в области пассивной и активной обороны и ведет к альтернативе: либо политика сдерживания, либо оборона. Подобные позиции могут показаться хотя бы отчасти рациональными, если принять — не головой, так сердцем — тезис о том, что при разрушениях, превышающих определенный уровень, неравенство последствий преступления и наказания уже не имеет значения.
Вернемся к модели двух антагонистов, каждый из которых обладает термоядерной системой. Она рождает общепринятую теорию “совместного самоубийства” : каковы бы, мол, ни были преимущества, полученные инициатором войны, репрессалии оказались бы для агрессора “невыносимыми” и,таким образом, эквивалентными потерям соперника, принявшего первый удар. Понятие “невыносимые репрессалии” стирает психологическое и политическое значение неравенства между преступлением и наказанием.
Предположим теперь, что речь идет о противоборстве не двух современных великих держав, Советского Союза и Соединенных Штатов, а одной из этих держав и какой-либо страны или группы стран, обладающих термоядерной системой и несравненно меньшей территорией (взять, например, Францию или Францию с Германией). Будет ли тогда равновесие страха оставаться таким же, как между двумя континентальными державами? Баланс неизбежно окажется иным, потому что вследствие близости противника европейские средства возмездия более уязвимы, чем американские. Но допустим, этой уязвимости не существует. Все равно, ограниченность европейского пространства стала бы достаточной причиной решающего неравенства: обладатель противостоящей термоядерной системы смог бы, нанеся первый удар, сделать возмездие со стороны соперника “посмертным”. Скажем так: примерное равенство между нападением и ответом предполагает одинаковую способность обеих сторон выдержать первый удар. Каково бы ни было вооружение Франции или Франции и Германии вместе взятых, они всегда будут в неравном положении по отношению к Советскому Союзу вследствие различия в размерах территорий.
Это не значит, что мы полностью отвергаем теорию “минимального сдер.-486 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
живания”1. Может сложиться такое положение, что в результате роста неуязвимости термоядерных систем любая держава будет не в состоянии уничтожить или серьезно ослабить такую систему противника. Следовательно, она будет способной нанести первый удар, но не избежать возмездия или способной отомстить, но не избежать первого удара. В этих условиях вероятность ограниченных войн без применения термоядерного или ядерного оружия значительно возрастает. Минимальное сдерживание будет симметричным лишь в том случае, если одинаковой или, по крайней мере, схожей окажется способность антагонистов нанести первый или второй удар и выдержать их.
Сторонники максимально широкого распространения ядерного или термоядерного оружия часто допускают ошибку, избирая мысленно только одну модель равенства преступления и наказания. Они совершают эту ошибку потому, что отождествляют любое наказание с наказанием смертельным, считая любые репрессалии невыносимыми. При этом создается впечатление рационального подхода в результате подмены понятия равенства пропорциональностью. Тот, кто обладает “небольшими” ядерными возможностями, представляет собой, дескать, и “небольшой” трофей. Если даже он способен нанести противнику лишь “небольшой” ущерб, то все равно, мол, будет защищен, потому что этот ущерб окажется пропорциональным выигрышу нападающего, сохранится эквивалентность преступления и наказания. При подобных размышлениях многие обстоятельства упускаются из вида. Небольшая страна не может взять на себя инициативу в обмене ударами, который повлечет за собой ее уничтожение, а крупная держава сумеет добиться уступок при помощи угрозы, не обязательно приводя ее в исполнение.
Представление о “невыносимых” для противника потерях, удерживающих его от нападения, порождает чувство безопасности (никто,мол, не применит это оружие) и способствует распространению своего рода безразличия по отношению к так называемой пассивной или гражданской обороне, а также ко всем мероприятиям, направленным на подготовку к восстановлению экономики после возможной термоядерной войны. Но выдвигаемые при этом аргументы, будто гражданская оборона невозможна, весьма спорны.
Те же самые доводы можно приводить и против активной обороны (истребительная авиация, ракеты земля—воздух и воздух-воздух). Во время минувшей войны такая оборона считалась эффективной, если сбивалось 5—10 процентов бомбардировщиков противника. Поскольку каждый из них должен был выполнять задания много раз, то авиация была не в состоянии вынести десятипроцентные потери при каждом вы1 Под “минимальным сдерживанием" понимают способность государства в ответ на агрессию причинить противнику определенный объем разрушений, не имея в то же время возможности ослабить его удар. Даже великие державы вынуждены были бы в случае полной неуязвимости термоядерных систем прибегнуть к “минимальному сдерживанию". У второстепенных государств, таких, как Франция или Великобритания, нет иного выхода, кроме создания средств “минимального сдерживания". Этим объясняются утверждения теоретиков национальных ударных сил ( например, генерала П. Галлуа), будто все государства, даже великие державы, обладают средствами лишь для “минимального сдерживания", то есть отрицается, что стратегия ударов по стратегическим системам противника еще возможна.
Мир и война между народами • Раймон Арон < 487
Часть III
лете. Но если одна термоядерная бомба уничтожает один город, то каждый бомбардировщик выполнит свое назначение, один раз достигнув цели. Подобные рассуждения не убеждают руководителей обеих сторон в том, что активная оборона против воздушного нападения тщетна. Они вполне разумно настаивают на необходимости и полезности такой обороны, даже несовершенной. Ракеты “земля—воздух”, возможно, не закрывают американское или русское небо от проникновения бомбардировщиков, но они заставляют или заставят военных думать о замене бомбардировщиков баллистическими ракетами или об установке на бомбардировщиках пусковых установок (для ракет “Скайболт”), чтобы самолеты могли не приближаться к целям, а поражать их издали. Кроме того, активная оборона, малоэффективная против нетронутых термоядерных сил, примененных, как на учениях, по заранее составленному плану, может оказаться действенной против ослабленных и дезорганизованных сил, пытающихся осуществить репрессалии. Электронная аппаратура для нейтрализации “головок наведения“ на ракетах или снарядах противника утяжеляет бомбардировщики, а следовательно, уменьшает их радиус действия или полезную нагрузку. Во всяком случае, одна из задач прогресса в области активной обороны — заставить соперника нести дополнительные затраты, поскольку каждое оборонительное новшество требует наступательных нововведений.
Почему надо полагать, что дело обстоит иначе в области пассивной обороны? Если нельзя укрыть все население, то это не значит, что нельзя сократить возможные потери. Со стороны государства, которое почти целиком полагается на политику сдерживания, неразумно ограничивать ресурсы для защиты жителей городов и сел. хотя бы для того, чтобы придать больше “правдоподобия” термоядерной угрозе в адрес противника. Несколько лет назад я полагал, что такая внешне иррациональная позиция объясняется лишь своего рода подсознательным отказом рассматривать серьезно возможность того, к чему якобы готовятся.
Не отметая такого толкования, которое, как мне кажется, содержит лишь часть истины, я вижу сегодня и другие объяснения. Стоимость городских убежищ, эффективность которых никогда не может быть гарантирована, огромна и чрезмерна даже для самого богатого в мире и в истории государства. Сотен миллиардов долларов, истраченных для строительства этих глубоких бетонированных убежищ, оборудованных всем необходимым для длительного пребывания, было бы, наверное, недостаточно для спасения массы населения городов в случае внезапного нападения: миллионы людей не смогли бы достигнуть этих убежищ за время, прошедшее между сигналом тревоги и взрывом. Искушение противника нанести внезапный удар возросло бы сильнее, чем обеспечение безопасности гражданских лиц.
Более того. Государство, которое приняло бы решение о строительстве таких сооружений (или о подготовке планов эвакуации городского населения), поставило бы перед соперником дилемму: принять аналогичные меры или примириться со своим длительным отставанием (не говоря уже о том, что такая программа может показаться противнику провокацией, а то и доказательством предумышленного устремления к войне). Если бы после многолетних усилий 488 «ммм Раймон Арон • Мир и война между народами
История
и миллиардных расходов антагонисты достигли приблизительного равенства в области пассивной обороны, ни один из них ничего бы не приобрел в способности сдержать другого. Самое большее, на что можно было бы рассчитывать, так это на уменьшение числа заложников, оставленных на милость противника. Но оба улучшили бы свои шансы на выживание в случае войны и уменьшили бы размеры материальных и людских потерь. Боязнь достигнуть крайностей в расходах на национальную оборону, ничего не изменив при этом в равновесии страха, отчасти объясняет безразличие, проявляемое по отношению и к таким мерам пассивной обороны, которые были бы недорогими и относительно эффективными (строительство легких укрытий от радиоактивных осадков, создание запасов самых необходимых материалов и оборудования, предназначенных для восстановления экономики, разработка планов эвакуации городов, обучение населения и т.п.) В этой области государственные деятели, особенно на Западе, действуют так, словно они считают термоядерную войну настолько чудовищной, что бесполезно пытаться смягчить ее ужасы и смехотворно думать о послевоенном времени.
Исходя из таких представлений, государства, видимо, руководствуются теорией, в соответствии с которой различия между понятиями “больше” или “меньше” разрушений не имеют смысла. Обе великие державы участвуют в гонке вооружений и технических достижений в области активной обороны. И та, и другая почти полностью игнорируют возможности пассивной обороны. Можно найти психологические мотивы такой явно противоречивой позиции, но подобная позиция не кажется мне разумной.
3. Этапы диалектики сдерживания
Если убрать софизмы, на которых строится безразличие к понятиям “больше” и “меньше”, то встает два ряда вопросов. Какая в действительности степень неравенства между преступлением и наказанием возникнет в различных теоретических или конкретных ситуациях? В соответствии с какой стратегией действовали антагонисты на протяжении последних лет или вынуждены будут действовать в будущем?
Наиболее ярким примером первого ряда вопросов может служить полемика вокруг известной статьи А. Дж. Уолстеттера (A. J. Wohlstetter)1 “Неустойчивое равновесие страха” (The delicate balance of terror). Автор проанализировал состояние американской стратегической авиации в 1957—1958 гг., число используемых ею баз (приблизительно двадцать пять), число баллистических ракет, необходимых для ликвидации с достаточной вероятностью каждой из этих баз, учитывая точность попадания. Он пришел к выводу, что репрессалии, на которые была бы способна американская термоядерная система, отнюдь не были бы “невыносимыми” для противника и, при некоторых условиях, их последствия далеко не достигали бы потерь, понесенных Советским Союзом во время войны 1939 — 1945 гг. или даже во время первого года этой войны.
Мы не настолько компетентны, чтобы вести техническую дискуссию и определять, в какой степени равновесие 1 Fbrelgn Affairs. 1959, January.
Мир и война между народами • Раймон Арон 489 -'tv-*
Часть III
страха является “зыбким” или “неустойчивым”. А.Дж. Уолстеттер учитывал только базы американской стратегической авиации. Он предположил, что американские военно-воздушные базы в Европе, Азии или Африке окажутся уничтоженными или не будут использованы стратегическими бомбардировщиками, а значит, не увеличат существенно потенциал возмездия. Кроме того, он не принимал во внимание авианосцы, самолеты которых также несут ядерные или термоядерные бомбы.
Во всяком случае, положение, рассмотренное в статье (появившейся в январе 1959 г.), не существует сейчас, когда пишутся эти строки (июнь 1961 г.), и тем более его не будет тогда, когда их опубликуют и прочтут. Число баз американской стратегической авиации возросло, и они были укреплены. Точность баллистических ракет возрастает, но возрастает также точность, необходимая для уничтожения военной базы. Традиционный диалектический спор между броней и снарядом продолжается и возобновляется сегодня в соревновании между ударной силой и силой возмездия, между стремлением найти стратегические возможности для подавления термоядерной системы противника и стремлением обеспечить неуязвимость такой системы. С одной стороны, возрастает число ракет, мощность термоядерных боеголовок, точность их попадания, с другой стороны, базы становятся все более многочисленными, более рассредоточенными, более защищенными и, в случае необходимости, более подвижными.
Может быть, специалисты из “Рэнд корпорейшн” были слишком большими паникерами? Даже если теоретически можно представить себе одновременное уничтожение 25 баз стратегической авиации в Соединенных Штатах, 300— 400 баз, используемых бомбардировщиками “Б-47” и истребителями-бомбардировщиками, способными нести ядерные бомбы, и, наконец, авианосцев, то на практике такая операция явилась бы вершиной организации и координации действий, на вероятность которой не могли бы рассчитывать сами руководители СССР или их советники.
Кроме того, было бы неверно полагать, что советские руководители будут стремиться сделать все, на что будут способны. Конечно, можно согласиться с Оскаром Моргенштерном (Oscar Morgenstern) в том, что надо строить наше поведение, учитывая объективные возможности противника, а не намерения, которые хотели бы ему приписать. Мы, мол, не можем знать, подготавливают или нет, рассматривают или нет люди в Москве перспективу термоядерного Перл-Харбора, но мы можем и должны действовать так,чтобы у них не было такой возможности. Совет разумен, но мотивировка не убеждает.
Различие между возможностями и намерениями противника было бы очевидным, если бы мы были в состоянии знать, каковы эти возможности, если бы он сам мог оценить их уверенно и точно. Но число ракет, необходимых для уничтожения базы, само основывается на вероятностных подсчетах. Сама вероятность того, что столь сложная операция, как одновременное нападение на 50 баз, произойдет в соответствии с подготовленным планом, весьма неопределенна. Если добавить к этому, что информация, которой располагает каждая из великих держав относительно состояния вооружений соперника, весьма ненадежна, то следует сделать вывод: ни 490 ’ Раймон Арон • Мир и война между народами
История
один из антагонистов не может быть уверен, что точно знает свои собственные возможности и возможности противника.
Ни один из западных экспертов, даже из числа самых больших пессимистов, не утверждает, что в какие-то моменты Советский Союз был способен ликвидировать все американские средства сдерживания. Некоторые лишь утверждали, что первый удар мог бы сократить эти средства настолько, что Советский Союз пострадал бы от ответных действий меньше, чем в июне-июле 1945 г. от нападения Гитлера. Но между миллионами погибших за четыре года или даже четыре недели и миллионами погибших за четыре часа есть существенное различие. Более того, когда техническая или человеческая ошибка могут стоить жизни миллионам людей, неуверенность, связаннная с подобными операциями, тяжело давит на сознание тех, кто должен принять решение. Я не могу представить себе руководителей, которые хладнокровно, на основе приблизительных подсчетов взяли бы на себя такой риск. Я еще менее представляю себе, что руководители, сформированные в духе большевистской доктрины, когда-либо согласятся на него, если только их не принудят к этому обстоятельства.
Правители Советского Союза рассматривают историю не с биологических позиций. Они не борются против американского народа, не стремятся его истребить или поработить. Они верят в прогрессивное и неизбежное продвижение общественного строя, первую модель которого они создали. Они убеждены, что ветер истории дует в сторону их предвидений и надежд. Зачем им ставить под угрозу все построенное для того, чтобы ускорить эволюцию, в любом случае неизбежную? Зачем делать это особенно в тот момент, когда подъем Китая внушает им,возможно, тревогу, хотя ей и не должно быть места в рамках интеллектуального мира марксизмаленинизма? Кодекс поведения, принятый в Политбюро, всегда осуждал политику ненужных рисков, определяемую словом авантюризм. Термоядерный авантюризм оказался бы более неоправданным. чем любой другой.
Поэтому американские авторы, которые более всех подчеркивали неустойчивость равновесия страха, никогда не делали вывода, что люди в Кремле хладнокровно готовят термоядерный ПерлХарбор. Эти авторы преследовали прежде всего прагматические и разъяснительные цели. Они хотели побудить ответственных деятелей обороны США принять меры для уменьшения уязвимости американских средств возмездия (их приумножение, рассредоточение, укрепление военных баз). Они хотели рассеять приятные иллюзии, будто равновесие страха достигается легко и безопасно и, будучи один раз установленным, сохраняется само собой. Прежде всего они хотели сделать очевидной для всех разницу между нападением и возмездием. В одном случае стратегическая авиация не испытала никакого воздействия, она выполняет заранее разработанные планы, каждый самолет заранее знает свое задание, оборона противника не получила сигнала предупреждения или получила его в последний момент. Но пусть представят себе, что половина или две трети всех баз будут разрушены баллистическими ракетами противника, на страну обрушилось двести ракет, каждая из которых несет по термоядерной боеголовке мощностью в несколько меМир и война между народами • Раймон Арон 491
Часть III
гатонн. Как будет функционировать связь? На какие цели будут направлены уцелевшие самолеты? Сколько из них сможет преодолеть оборону противника, приведенную в состояние боеготовности? В этом случае неравенство преступления и наказания будет выглядеть намного правдоподобнее, чем равенство. И если вообразить, с одной стороны, стратегическую авиацию США, сосредоточенную на небольшом количестве неукрепленных военных баз, а с другой стороны — две или три сотни межконтинентальных ракет, то вполне уместно говорить не о ситуации двух гангстеров, а о таком положении, когда, учитывая неравенство между нападением и ответом на него, инициатива оказывается предпочтительнее бездействия и противнику выгодно ударить первым.
Но мне представляется по меньшей мере сомнительным, что подобная ситуация фактически существовала. В то время, когда американская стратегическая авиация была сконцентрирована на двух десятках баз, Советский Союз не обладал,как я полагаю, и сотней межконтинентальных баллистических ракет, необходимых для того, чтобы с достаточной степенью вероятности вывести из строя базы и самолеты противника. Одновременное уничтожение бомбардировщиков средней дальности и истребителей-бомбардировщиков, расположенных на базах, близких к Советскому Союзу, а также на авианосцах, может быть, и не представляло бы большой проблемы на бумаге, но такая задача оказалась бы в реальности трудным делом и была бы сопряжена с огромным риском в случае значительного расхождения между расчетами и фактическими результатами.
Если не брать 1959—1960 гг. — период, который рассматривал А. Дж. Уолстеттер, — то каким было в действительности соотношение сил сдерживания между Советским Союзом и Соединенными Штатами? Это соотношение оставалось асимметричным в пользу США до того момента, когда Советский Союз ввел в строй межконтинентальные баллистические ракеты. До 1949 г. только Соединенные Штаты обладали атомными бомбами ( но их запасы были незначительными). К 1955 г. обе великие державы обладали термоядерными бомбами, но американская стратегическая авиация была многочисленней, технически совершеннее, лучше натренированной, чем авиация Советского Союза, и, главное, она располагала более значительным числом баз — более рассредоточенных, более близких к целям, чем базы соперника. Ударив первой, американская авиация могла опустошить большинство советских городов, а советская авиация, даже нанеся первый удар, не обладала такими же возможностями.
Из этого отнюдь не вытекало неравенство в способности к сдерживанию. Благодаря превосходству своей армии Советский Союз мог в случае всеобщего конфликта захватить Западную Европу, овладеть стратегическими пунктами на Ближнем Востоке. Приводила ли угроза захвата Западной Европы к установлению равновесия страха, несмотря на диспаритет между двумя ядерными и термоядерными системами? На бумаге мы бы ответили “нет”. Но если обратиться к реальности, то вынести твердое суждение окажется труднее. Несмотря ни на что, в период между 1945 и 1954 гг. Советский Союз ни в какой момент не казался парализованным или устрашенным возможностью уничтожения его 492 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
городов, которой, несомненно, обладала стратегическая авиация США. Это не повлияло на ход гражданской войны в Китае. Ядерная угроза не предотвратила ни агрессии Северной Кореи, ни вмешательства Китая, она не ускорила заключение перемирия. Перемены в стиле дипломатии и стратегии Советского Союза были связаны со смертью Сталина, ссорами между его последователями и их характером, а не с изменением в соотношении ядерных и термоядерных сил.
Правда, в 1950—1960 гг. обстановка в некоторых регионах мира глубоко изменилась. Французская и английская империи в Азии распались, французские, английские и бельгийские колонии в Африке стали независимыми государствами. На Ближнем Востоке, где в 1950 г. западное влияние было господствующим и почти исключительным, арабские страны стали использовать противостояние двух блоков. Провал франко-английского вмешательства в 1956 г. символически ознаменовал собою конец целой эпохи. В Западном полушарии под носом у дяди Сэма чешские пулеметы и советские танки выгружались в Гаване для оснащения армии социалистической Республики Куба. Не вызывает сомнения, что за последние десять лет Советский Союз распространил сферу своей деятельности на регионы, которые раньше были “заповедником” Запада. Но мы не видим связи между изменением в пользу СССР соотношения ядерных сил и смелостью советских действий. Я сомневаюсь, что такая связь была очень тесной. Первое соглашение между Москвой и Кубой о поставках оружия было заключено в 1955 г. Никогда стратегическая авиация Соединенных Штатов, несущая термоядерные бомбы, не была столь грозной, как тогда. К этому времени советская стратегическая авиация, возможно, положила конец неуязвимости американской территории, но, если брать только великие державы, она не установила равновесия страха, требующего, как полагают, равенства в разрушительной мощи. Только расплывчатая угроза применить баллистические ракеты в случае американской агрессии против Кубы явно связывается с диалектикой сдерживания в том виде, в каком ее представляет себе господин Хрущев.
Когда только одна из двух великих держав обладала способностью уничтожить города другой, то именно она определяла обстоятельства, при которых осуществлялось ядерное (или термоядерное) сдерживание. С 1945 по 1958 г. Соединенные Штаты могли бы, если бы имели прозорливость и решимость, сами установить условия начала ядерной войны, провести линию, пересечение которой вызывало бы исполнение угрозы. С того момента, когда обе державы имеют одинаковые возможности, каждая стремится установить условия для начала ядерной войны и провести те линии, пересечение которых привело бы угрозу в действие. Остается лишь узнать, каким образом среагировала бы каждая из них. если бы другая пренебрегла угрозой, явной или подразумеваемой. Если президент Соединенных Штатов бросит морских пехотинцев против Кубы, не обращая внимания на обещания Хрущева о помощи Фиделю Кастро, то каков будет ответ Кремля? В самом общем виде представляется, что логика взаимного сдерживания должна привести к параличу термоядерных систем и, возможно, к невмешательству регулярных армий, особенно армий великих держав, в случае ограниченных конфМир и война между народами • Раймон Арон
493
Часть III
ликтов, к преобладанию методов инфильтрации и подрывных действий в странах третьего мира. Такой, по крайней мере, видится доктрина самого Хрущева. Он стремится при помощи термоядерной угрозы добиться невмешательства американских вооруженных сил в конфликты на спорных территориях и в странах, расколотых гражданской войной. Этого невмешательства было бы достаточно, в соответствии с коммунистическим взглядом на мир, для того, чтобы гарантировать победу “ армий национального освобождения” и партий — союзников социалистического лагеря.
В том, что касается термоядерной войны, то, если учитывать заявления руководителей и статьи,опубликованные в военных журналах, официальная советская теория включает следующие идеи, распространенные также на Западе. Даже внезапное массированное нападение не сможет уничтожить часть термоядерной системы соперника, достаточную для того, чтобы агрессор избежал возмездия. Термоядерная война будет ужасной и принесет человечеству неизмеримые страдания, но она не будет означать конца света. Обмен ракетными ударами не приведет даже к окончанию войны: несмотря на понесенные потери, государства продолжат сражение при помощи сохранившихся средств борьбы1. Различие, проводимое между ограниченной и тотальной ядерной войной, якобы носит искусственный характер: если одна из великих держав прибегнет к ядерным средствам, то эскалация до самых крайних пределов будет, мол, неизбежной1 2. И наконец, будучи уверенным в том, что история сама развивается в сторону коммунизма, Советский Союз заявляет о своей готовности ко всеобщему разоружению и, при отсутствии такого разоружения, полон решимости использовать свои термоядерные силы только для нейтрализации американских сил и предупреждения западной агрессии3.
На основании каких доктрин строится национальная оборона Соединенных Штатов? Первая цель состоит, разумеется, в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, неуязвимость своей термоядерной системы. После 1960 г. в результате проведения дискуссий относительно устойчивости равновесия страха были приняты меры в трех направлениях: рассредоточение и защита военно-воздушных баз, введение в строй первых ядерных подводных лодок с ракетами “Поларис” и осуществление широкой программы создания таких лодок (30), прогресс в области создания ракет с твердым топливом (“Минитмен”), запуск которых требует лишь нескольких минут и которые могут быть запущены с мобильных баз.
Дискуссия развернулась затем вокруг двух вопросов: один касался фактического положения дел, а другой — теории. Будет ли в течение ближайших лет, с 1961 по 1964 г., существовать асим1 Трудно сказать, действительно ли советские авторы верят в возможность такой “войны после войны" (“broken-back war”) и пишут ли они именно то,во что верят?
2 Здесь уместно поставить тот же вопрос, что и в предыдущем случае. Возможно, советские деятели считают полезным для своих интересов делать вид, что они не допустят ограниченной ядерной войны. Но действительно ли они не допустили бы ее, если бы проблема возникла в реальности?
3 С советской точки зрения, вмешательство, направленное против антикапиталистической или антиимпериалистической революции, представляет собой “агрессию”.
494 > > „• -«. *:Раймон Арон • Мир и война между народами
История
метрия термоядерных сил в пользу Советского Союза? И если предположить, что между Советским Союзом и Соединенными Штатами образовался разрыв в области баллистических ракет (missile gap), то как это повлияет на равновесие страха? Второй вопрос имел более широкое значение: если допустить, что достигнута хотя бы относительная неуязвимость термоядерных систем, если предположить, что с обеих сторон эта неуязвимость сохранится в течение всего периода гонки вооружений и технических новшеств, то какую дипломатическую и стратегическую доктрину должен принять Запад?
Отставание в области баллистических ракет было темой не только журналистских спекуляций, но и американской избирательной кампании 1960 г. Истоком этих спекуляций было предположение, что Советский Союз достиг превосходства в числе боеготовых ракет на определенную дату (в 1960, 1961, 1962 и 1963 гг.). Сам факт превосходства не был доказан, или, если хотите, он не был признан всеми экспертами. Но предположим, что это соответствует действительности: каково будет значение этого факта?
Читатель, который следил за нашим анализом, сразу же поймет, что поставленный таким образом вопрос не имеет ответа. Число боеготовых носителей определенного типа с той и другой стороны не имеет значения само по себе. Важно соотношение мощи сил сдерживания. А это соотношение зависит от многих условий как технического, так и психологического порядка. Какую часть сил возмездия у противника можно будет уничтожить, нанеся первый удар? Какой объем разрушений сможет вызвать оставшаяся после внезапного удара часть термоядерной системы? Число ракет имеет реальное значение лишь постольку, поскольку оно влияет на возможности нападения или возмездия. А это влияние не поддается точному расчету. Вот почему президент и министр обороны затруднялись определить и решить, существует или нет “разрыв в области баллистических ракет”1.
Предположим (и это нам кажется вполне правдоподобным), что ситуация стала сегодня или станет завтра симметричной. Ни та, ни другая великая держава не сможет, даже ударив первой, уничтожить такую часть термоядерного потенциала противника, чтобы избежать непереносимого возмездия. В таком случае она должна будет добавить к своей способности осуществить термоядерное нападение или возмездие еще способность к ведению ограниченных войн. Поскольку обмен ударами (посредством стратегической авиации и баллистических ракет) влечет за собой “непереносимые” потери для обоих соперников, они могут вести крупные боевые 1 С тех пор, как были написаны эти строки (начало 1961 г.), ситуация,видимо, снова изменилась и стала почти противоположной. Соединенные Штаты,возможно, обладают или почти обладают численным превосходством в области баллистических ракет — таким превосходством, которое позволило бы им, даже если бы противник нанес удар первым, придерживаться стратегии уничтожения носителей, то есть атаковать на первом этапе только военные объекты противника — его военно-воздушные базы и пусковые установки. Таков основной принцип, на котором базируется стратегическая доктрина, изложенная в 1962 г. министром обороны США Макнамарой. Из этой доктрины следует, что расположение советских пусковых установок известно и что они плохо защищены. Если допустить, что американские эксперты правы, то нужно сделать вывод: обоюдная неуязвимость термоядерных систем, на которой спекулируют много лет, пока еще не достигнута, и она менее надежна, чем принято считать в общественном мнении.
Мир и война между народами • Раймон Арон ...... V. > 495 -
Часть III
действия, не доводя их до крайних пределов.
И тем не менее существует неясность в отношении и доктрин, и фактов. Достаточно ли каждому из антагонистов обладать способностью к возмездию в случае прямого нападения и способностью к ведению ограниченных войн для выполнения роли великой державы? Или для этого каждому из них необходимо иметь средства, чтобы разумным образом взять на себя инициативу в использовании термоядерного оружия? Но если ни один, ни другой уже не в состоянии подорвать термоядерный потенциал противника (counterforce strategy), если ни один, ни другой не организовал пассивной обороны так, чтобы сократить возможные потери, если, иными словами, преступление и наказание становятся все более равны и все более тождественны совместному самоубийству, тогда, действительно, ни один государственный деятель не сможет разумным образом пустить в ход свою термоядерную систему, кроме как в виде ответа на прямое нападение.
Если Соединенные Штаты отказываются от удара по термоядерной системе противника или от защиты своего собственного населения, то война, к которой они, по их словам, готовятся и которой они грозят противнику, стала бы лишь бессмысленным обменом слепыми разрушительными ударами. Но если они не знают или плохо знают расположение пусковых установок соперника, то будет ли эффективной стратегия, направленная против его термоядерной системы? Жители городов становятся современными заложниками: чем они многочисленнее и чем менее защищены, тем более каждый из антагонистов демонстрирует свои мирные намерения. Но чего стоит в этих условиях защита, которую великая держава обещает своим союзникам? Не действует ли политика сдерживания лишь в пользу обладателя термоядерной системы? Не вступает ли система союзов в противоречие с логикой гонки вооружений?
4. Действие политики сдерживания
Рассмотрим современную обстановку в свете наиболее правдоподобной опубликованной информации. Соединенные Штаты имели серьезную возможность уничтожить большую часть средств возмездия, которыми располагал Советский Союз1 до вступления в строй баллистических ракет. Сегодня, даже начав первыми, американские ударные силы, не смогли бы оградить города США от массовых разрушений.
Если бы Советский Союз, со своей стороны, проявил инициативу, то уничтожил бы часть американской термоядерной системы, установки для запуска ракет средней дальности в Великобритании, Италии, Турции, большинство аэродромов в Западной Европе. Но выжившая часть американского потенциала была бы, возможно, еще способна к таким репрессалиям, которые руководители Москвы сочли бы “неприемлемыми”. Нынешнее положение — отсутствие войны и наличие нетронутой термоядерной системы Соединенных Штатов — им представляется предпочтительнее поло1 Тех, которые “наказали" бы Соединенные Штаты, а не тех,которые “наказали” бы Западную Европу.
496 <■ ■>
<•
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
жения, которое сложилось бы в результате агрессии и которое характеризовалось бы одновременно и огромными масштабами репрессалий и их вероятностью.
В такой игре ни один из соперников не развяжет намеренно тотальную войну, если только он не безумен или если ошибочно, считает, что способен уменьшить силу возмездия противника больше, чем способен реально. Рациональность поведения зависит, очевидно, от точного знания фактических данных. Неточная информация может привести к иррациональным действиям, с точки зрения того, кто знает правду. Но в нынешних условиях неуверенность в результатах обмена термоядерными ударами способствует предотвращению апокалипсиса: трудно представить себе обстоятельства, при которых та или другая великая держава сочла бы вероятность избежать возмездия достаточной для того, чтобы принять решение о начале войны.
В ситуации термоядерной двуполюсности у великих держав есть общий двойной интерес: не уничтожать друг друга (в таком случае они обеспечили бы победу третьей стороны) и не способствовать, а если возможно, то и помешать распространению мощных и грозных вооружений. На протяжении десяти лет все происходит таким образом, словно две великие державы (особенно Соединенные Штаты) сознают, что их общая заинтересованность в предотвращении войны перевешивает их противоположные интересы, сколь бы значительными они ни были. Они словно стремятся отодвинуть момент, когда вступление Франции и Китая в термоядерный клуб положит конец такой двуполюсности. Несмотря на социалистическую солидарность, Советский Союз не помогал Китаю, так же. как, несмотря на Атлантический пакт, Соединенные Штаты не помогали Франции. Ни союзы, ни враждебность никогда в истории не были абсолютными. Солидарность врагов и противостояние союзников принимают оригинальную форму в термоядерный век.
Если представить себе два в основном дружественных государства, обладающих термоядерным потенциалом, то как будут они действовать? Вопрос отнюдь не беспредметный: возможно, он будет однажды поставлен в диалоге между Советским Союзом и Китаем. Оба эти государства не смогли бы отказаться от термоядерных систем, не ослабив свою мощь по сравнению с другими. Они не смогли бы поставить свои системы под единое командование, не утратив своего военного суверенитета. Они не смогли бы бряцать оружием, не опровергая своих заявлений о взаимной дружбе. Они не могли бы продолжать гонку военно-технических нововведений, не вызывая друг у друга беспокойства, которое, все более нарастая под влиянием подозрений, могло бы привести в конечном счете к враждебности на основе страха. В этом случае ужас, вызываемый оружием, превратил бы дружбу в ненависть. Единственным решением, исключая слияние суверенитетов, было бы соглашение о стабилизации термоядерных систем и уменьшении секретности — соглашение такого рода, к которому стремятся Соединенные Штаты, если не говорить о Советском Союзе.
Но совсем неочевидно, что термоядерная двуполюсность влечет за собой одинаковые последствия, независимые от степени враждебности главных действующих лиц. У двух современных веМир и война между народами • Раймон Арон
- 497 -
Часть III
ликих держав противоположные политико-экономические режимы, что ведет к осуждению другой стороны на основе исторических или моральных доводов. Они оспаривают границы между зонами своего влияния и констатируют, что третий мир, охватывающий сотни миллионов людей в не присоединившихся ни к одному блоку государствах, может, в зависимости от обстоятельств, перейти в тот или другой лагерь. У них множество причин и поводов для столкновений. Какое же влияние оказывает термоядерная двуполюсность на функционирование разделенной надвое мировой системы, на локальные конфликты?
Следует прежде всего избегать фальшивых, излишне категоричных суждений. Как утверждают одни, ужасы тотальной войны столь велики, что никто не осмелится ее развязать. Из этого они делают внешне логичный вывод, что географически ограниченные конфликты вполне возможны и даже вероятны. Другие, используя тот же аргумент относительно ужасов тотальной войны, делают вывод, что даже ограниченные войны стали маловероятными вследствие риска эскалации, поскольку сегодня нет резкой границы между классическими и ядерными вооружениями. Некоторые из последних обладают меньшей мощностью, чем первые. Сама тень апокалипсиса, мол, достаточна для предотвращения любого использования силы, ибо ступени на лестнице ее применения расположены очень тесно и никто не может быть уверен, что, вступив на первую, не будет вынужден подняться постепенно до самого верха.
Подобные рассуждения несовместимы друг с другом, и их авторы, не замечая того, постоянно противоречат сами себе. Тот, кто подчеркивает ужасы термоядерной войны, не вправе говорить о риске эскалации. Конечно, можно утверждать, что даже небольшая опасность эскалации побуждает действующих лиц к осторожности, удерживает их от применения, даже ограниченного, военной силы (что справедливо). Но нельзя сопоставлять несоразмерные последствия ядерной войны с риском эскалации, торжественно объявляя о воцарении мира на основе страха.
Риск эскалации зависит от трех факторов: прежде всего, как мы видели, от соотношения сил сдерживания двух антагонистов, затем от характера ограниченного конфликта (географического района, явных или скрытых ставок в войне и т.п.) и, наконец, от дипломатических и стратегических усилий государственных деятелей. Первый фактор, который мы рассматривали на уровне моделей, сводится в основном к размеру преимуществ, связанных с первым ударом. Чем значительней эти преимущества, тем подозрительней каждая из великих держав будет относиться к намерениям другой в период кризиса. И чем сильнее каждый из антагонистов уверен в неуязвимости своей термоядерной системы, тем меньше он будет склонен к попыткам опередить другого, подозреваемого в готовности нанести первый удар.
Мне кажется, что прогресс двух сторон в обеспечении неуязвимости термоядерных систем смягчает опасность, создаваемую взаимными подозрениями, которые могли бы нарастать вплоть до принятия рокового решения. С этого момента, то есть с настоящего времени, эскалация становится или совершенно невероятной, или, по крайней мере, зависимой от района столкновений — Лаос или Берлин, от ставок в борьбе — 498
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
внутренний режим бедного и малонаселенного королевства в Юго-Восточной Азии или судьба Западной Европы, колыбели западной цивилизации, впервые реализующей историческое единство людей и являющейся одним из трех самых крупных промышленных регионов планеты
Ни соотношение сил сдерживания, ни место конфликта или его ставка не предопределяют автоматически развитие кризиса и не позволяют заранее с достаточной точностью определить вероятность эскалации. Каждый дипломатический кризис — это цепь событий, то есть человеческих действий, ответственность за которые принимают на себя лишь немногие лица. Каждый кризис — это испытание воли, в котором блеф играет неизбежную роль. Дуэль в области сдерживания не всегда имеет предсказуемый конец. С того момента, когда обладатель термоядерной системы хочет защитить не только свою территорию, он вынужден делать правдоподобной в глазах потенциального агрессора свою решимость, которая, возможно, и не будет оправданной. Если же обе термоядерные системы будут считаться относительно неуязвимыми, то, вероятно, развязывание термоядерной войны окажется и для Советского Союза, и для Соединенных Штатов неразумным при любых условиях.
Это положение дает повод для бесчисленных спекуляций, ибо оно позволяет представить себе множество ситуаций, где самое худшее возможно: либо война, которой угрожают противнику, надеясь ее избежать, либо капитуляция, которую стремились посредством этой угрозы предотвратить. Представим себе массированное наступление советских армий во Франции или во всей Западной Европе в сочетании с эвакуацией населения советских городов и шантажом Соединенных Штатов (они избегнут разрушений, если не вмешаются, и подвергнутся опустошительному удару, если выполнят свои обязательства). Даст ли президент США стратегической авиации приказ, который будет означать гибель миллионов, десятков миллионов американцев? Или, если поставить вопрос по-другому: при каком числе миллионов (возможных) жертв президент США сочтет возможным прийти на помощь своим союзникам? “Доверие” к угрозе тем слабее, чем разрушительнее будут последствия репрессалий для того, кто потрясает ею и решился бы привести ее в исполнение. Рассуждая таким образом, видимо, легко доказать европейцам, что никогда уже американцы не смогут их защитить, поскольку НьюЙорк, Чикаго и Вашингтон станут ценою столкновения, если Лондон, Париж или Бонн не будут предоставлены своей судьбе.
Подобные рассуждения меня не убеждают, и я считаю их софистикой. Если термоядерная война вызывает миллионы или десятки миллионов жертв, то она, видимо, не может быть разумной ни для одной из великих держав при любых обстоятельствах. Если отталкиваться от предположения, что агрессия совершилась (Париж подвергся бомбардировке, но советские деятели обещали пощадить Вашингтон), то из этого следует, что американского вмешательства не произойдет, но если исходить из предположения, что американская угроза была с необходимой торжественностью произнесена, то из этого следует, что агрессия не состоится. Все зависит от того, какую исходную точку для рассуждений избрать.
Мир и война между народами • Раймон Арон
499
Часть III
Что касается меня, то мне кажется, что исходной точкой в соответствии со “здравым смыслом” должна быть такая ситуация, которая реально стоит перед великими державами: пока ни одна из них не берет на себя инициативу спровоцировать другую, она может быть уверена в том, что избежит ужасов термоядерной войны. Поскольку эти ужасы безмерны, то достаточно возникнуть даже слабому риску ее возникновения, чтобы любая держава, каким бы захватчиком она ни казалась, предпочла воздержаться от агрессии (если только такое воздержание не создает опасности для нее самой). Сегодня признается, что агрессия слишком иррациональна, чтобы иметь место, а следовательно, что сторона, занимающая оборонительные позиции, может не думать о репрессалиях, о выборе между капитуляцией или исполнением термоядерной угрозы, если соперник несмотря ни на что прибегнет к самой вызывающей провокации. Фундаментальная гипотеза состоит в следующем: в отношениях между двумя великими державами термоядерное оружие может быть использовано лишь с оборонительной целью. Каждая грозит пустить его в ход лишь для того, чтобы воспрепятствовать тем или иным действиям другой стороны, а не “прикрыть” агрессию или помешать сопернику в защите первостепенно важных позиций.
Какие действия воспрещает политика оборонительного сдерживания? Для защиты каких территорий используется термоядерная угроза? На эти вопросы не всегда можно дать категорически определенный ответ. Стратегия сдерживания не обходится без двусмысленностей. Не все ответы великой державы предсказуемы или должны быть предсказуемы. Для некоторых второстепенных ставок выгоднее не брать на себя заранее обязательств, но нельзя демонстрировать и безразличие, которое может быть развеяно реальным ходом событий. Во всяком случае, когда страна, проводящая политику сдерживания, придает жизненно важное значение удержанию какой-либо территории, она создает военно-политическую систему, которая делает правдоподобным принятие рокового решения и, так сказать, вынуждает эту страну выполнить свою угрозу, если она не подействует на противника.
Система, предназначенная д ля того, чтобы сделать правдоподобным, с точки зрения возможного агрессора, чудовищное, по существу, решение, имеет две стороны: техническую и психологическую. Техника позволяет создать такой механизм возмездия, который в некоторых обстоятельствах будет действовать почти автоматически. Этот автоматизм не должен быть полным. В ином случае возник бы риск случайной войны, развязанной в результате технической неполадки. Приказ о применении термоядерного оружия должен исходить от людей, может быть, от одного человека, того, кто находится на вершине военно-политической иерархии. Но необходимо также, чтобы организация военно-воздушных и ракетных сил делала в высшей степени вероятным ответный удар в случае массированного нападения, какими бы ни были разрушения в том или ином компоненте всей термоядерной системы.
Вместе с тем страна, проводящая политику сдерживания, стремится убедить соперника в том, что она высоко оценивает ставку конфликта. С этой целью она прибегает к соответствующим словам и действиям, подписывает согла. < 500 с
Раймон Арон • Мир и война между народами
шения, располагает свои войска на территориях, которые хочет защитить, устанавливает здесь площадки для запуска ракет промежуточной дальности. Документы, войска, пусковые установки символизируют обязательство великой державы, обязательство честью, которое в глазах противника должно выглядеть как обязательство бесповоротное, более повелительное, чем какой бы то ни было рациональный расчет.
Продемонстрировать значение ставки в борьбе, связать себя обещаниями и словами чести, вызвать народные эмоции в случае агрессии (американские гарнизоны разделили бы участь европейцев) — все эти меры относятся к категории обязательств. Страна,осуществляющая сдерживание, сама как бы принуждает себя не отступать. Чем более торжественным будет обязательство, тем более унизительным явится капитуляция. Кто еще поверит в слово Соединенных Штатов, если в момент опасности Европа будет покинута? Вопрос не в том, чтобы знать, “стоит ли игра свеч”. Главное состоит в том, что противник не может рассчитывать на отступление своего соперника. Решение, которое, возможно, теоретически является иррациональным, становится почти неукоснительно выполняемым и, с точки зрения затронутых ставок, принятых обязательств и проявленных страстей, вполне рациональным.
Из этого не следует, что великая держава может произвольно отстаивать любую позицию, ссылаясь на свое слово чести. Размер ставки в борьбе является необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы угроза репрессалий казалась правдоподобной. Советская угроза применить баллистические ракеты в ответ на военные действия История
США против Кубы малоправдоподобна ( это не означает, что она не произвела никакого впечатления на обитателей Белого дома). Такая же американская угроза по поводу Лаоса была бы еще менее убедительной. Вообще говоря, второстепенные территории вне зоны непосредственного противостояния двух блоков могут быть защищены только оружием, применимым в рамках ограниченных войн. Термоядерная угроза действует подспудно, поскольку любые военные действия сопряжены с риском, каким бы слабым он ни был, перехода к самым крайним мерам.
Великая держава, против которой направлена политика сдерживания, может применить две тактики, чтобы обойти обязательства своего соперника: тактику артишока и тактику свершившегося факта. Первая — это военная версия метода, использованного коммунистами в Восточной Европе для полного захвата власти. Она состоит в следующем: разделить агрессию на столько этапов, сколько необходимо для того, чтобы ни один из промежуточных шагов не оправдывал резкого ответа. В тот день, когда Советский Союз заключит мирный договор с ГДР (Германской Демократической Республикой), единственное изменение в существующем положении вещей будет связано с вопросом о контрольном органе власти: кто тогда начнет войну лишь из-за какой-то печати на документах? Эта первая тактика может сочетаться со второй — с тактикой свершившегося факта. Предположим, что однажды жители западных стран, проснувшись утром в понедельник, узнают, что ночью Дания была оккупирована советскими войсками. Начальная ситуация в корне изменится: теперь уже оборонительное положение займет Мир и война между народами • Раймон Арон \ ч > « * ъ 501
Часть III
агрессор, а той стороне, которая сперва занимала оборонительную позицию, придется принуждать соперника к отступлению.
Чтобы нейтрализовать эти две тактики, обороняющейся стороне нужно иметь классическое вооружение, которое позволит ей избежать возникновения ситуации свершившегося факта и противопоставить каждому шагу агрессора адекватные по силе и характеру защитные меры. Когда сдерживание становится обоюдным, то термоядерное оружие неминуемо оказывается таким средством борьбы, которое будет использовано только в крайнем случае. Дело не в том, что угроза является неясной на первых этапах применения силы. Но физически,так сказать, невозможно пустить в ход термоядерную систему иначе как в ответ лишь на массированную атаку. Поэтому к ядерному оружию, которое используется в рамках дипломатии постольку, поскольку фактически не может быть пущено в ход, обе стороны добавляют классические вооружения, которые, открывая возможность применения термоядерного потенциала, увеличивают вероятность его неприменения.
Диалог в области сдерживания, как нам кажется, дает преимущество обороняющейся стороне, ибо она взяла на себя обязательство, а соперник нет. Но только в случае, если тот сам не вложил часть престижа в свои требования. Потеря лица, которой чревата для одного из соперников “потеря победы”, оказалась бы не менее важной, чем для другого неспособность сохранить свои позиции.
Ситуация с двойным обязательством вполне правдоподобна, и, возможно, именно она возникла в споре вокруг Берлина. Половинчатое советское обязательство изменить существующее положение, стало своего рода попыткой представить блефом ранее провозглашенное обязательство западных держав сохранить “статус кво”. Использование угрозы термоядерных репрессалий для защиты позиции, которую на местном уровне невозможно удержать, логично тогда, когда угрожающий сам не находится под воздействием угрозы. Но она утрачивает в значительной мере свою убедительность, когда сдерживание становится обоюдным. Обороняющаяся сторона не может добиться выигрыша, лишь все выше поднимая ставку в игре.
Когда одинаково демонстративные обязательства приняты с обеих сторон, все происходит так, словно два автомобиля мчатся на максимальной скорости навстречу друг другу и каждый водитель надеется, что другой в последний момент затормозит или отвернет. И вполне вероятно, что один из двух предпочтет потерять свою ставку, а не жизнь. Но в этой игре выигрывает не лучший, а самый решительный.
Берлинский кризис — это первый конфликт, где можно говорить об обоюдных обязательствах. В других столкновениях было очевидно различие между субъектом и объектом сдерживания, между стороной, занимающей оборонительные позиции, и стороной, подозреваемой в агрессивных намерениях: именно ей надлежало отказаться от своих замыслов, чтобы обеспечить свою безопасность. Поэтому некоторые теоретики, чтобы продемонстрировать опасность дипломатической дуэли в термоядерный век, стали обсуждать один элемент, не затронутый нами на предыдущих страницах: бездействие, которое ? х 502 : г Раймон Арон • Мир и война между народами
История
может быть в некоторых обстоятельствах, дескать, связано с риском.
Обратимся к венгерскому кризису октября-ноября 1956 г. Подавление венгерской революции оставалось трагическим эпизодом в дипломатической деятельности внутри советского блока столь долго, сколько длилось невмешательство Соединенных Штатов. Но если бы они приняли какие-либо меры для подготовки возможной интервенции, то московские руководители оказались бы перед выбором (или испытали бы страх оказаться перед выбором) между поражением первостепенного порядка (возможным распадом советского блока) и войной. В этой ситуации роли каждого участника конфликта имели бы двусмысленный характер: с точки зрения морали и международной законности Советский Союз выступал в роли агрессора; но если исходить из критериев политики с позиции силы, то вмешательство США в отношения между великой державой и государством-сателлитом могло бы считаться агрессивным. Кто стал бы объектом и кто субъектом политики сдерживания? Кто должен был бы отступить?
До настоящего времени обе великие державы остерегались идти на ненужный риск. Соединенные Штаты оставили венгров с их бедой и во власти их хозяина. С тех пор, как Хрущев “обязался” изменить статус Берлина, прошло более двух лет. Вообще говоря, существуют молчаливые соглашения между двумя великими державами относительно средств, которыми они вправе пользоваться в каждом регионе и при каждом типе ситуации. Но случаи обоюдных обязательств остаются возможными. И в зависимости от большей или меньшей уязвимости термоядерных систем теоретики и государственные деятели должны признавать либо существование соблазна для одной из сторон к нападению вследствие неравенства преступления и наказания, либо возможность крупных ограниченных войн, а следовательно, необход имость классических вооружений, ибо обмен ударами баллистических ракет был бы безумием для всех.
5. Невозможность точного расчета
Можно ли рассматривать сдерживание, которое считается высшей формой дипломатии и стратегии в термоядерный век, как традиционную теоретическую и практическую категорию международной политики?
В наше время, как и на протяжении всех минувших веков, государства оставляют за собой право принимать самостоятельные решения, включая решения о войне и мире. Они продолжают преследовать несовместимые цели, считать свои интересы противоположными, подозревать друг друга в самых черных намерениях. Межгосударственные отношения сегодня более чем когда-либо представляют собой испытание воли. Если называть политикой с позиции силы (power politics) мирный или военный спор между государствами, которые не признают ни судьи, ни закона и стремятся принуждать друг друга, провоцировать друг друга, убеждать друг друга, то современная политика, как никогда, соответствует этому извечному образцу.
Соперничество с целью достижения материального и морального превосходства, неотделимое от политики с позиции силы, сегодня острее и интенсивнее, чем в прошлом. Процент экономического роста, уровень вооружений, Мир и война между народами • Раймон Арон 503 .
Часть III
спутник и лунник, качество институтов и людей, все свершения, все идеи истолковываются как инструменты борьбы или аргументы в споре между западным и коммунистическим мирами.
Трудно совместить классическую теорию и реальности термоядерного века лишь тем, кто не различает ресурсы, военную силу и общее могущество и смешивает политику с позиции силы и политику военного давления. Эти авторы сомневаются, что дипломатия и стратегия, которые имеют конечной целью избежать применения военной силы, хотя и посредством угрозы ее использования, носят такой же характер, как дипломатия, которая рассматривала войну как завершение банковских операций.
Те усилия, которые предпринимаются для того, чтобы не приводить в исполнение выдвинутую угрозу — усилия, которые объясняются чудовищной, чрезмерной мощью имеющихся вооружений, — неизбежно отражаются на характере дипломатической игры. Более чем когда-либо сегодня очевидна несоразмерность между силовыми средствами, которыми может располагать то или иное государство, и его способностью навязать другим свою волю.(Такое положение сохранится, по крайней мере, столько времени, сколько будет существовать термоядерная двуполюсность, но даже в случае монополии сомнительно, чтобы обладающее ею государство могло господствовать, пуская в ход угрозу уничтожить сопротивляющиеся народы.) Сегодня, как никогда, существует диспропорция между безопасностью и силой. Никогда еще Соединенные Штаты не были столь сильны. И никогда еще их безопасность не была столь шаткой. Никогда еще дипломатическая деятельность не вступала в такое явное противоречие с теорией, согласно которой единственной и высшей целью государств является максимальное накопление ресурсов, как самостоятельно, так и посредством союзов. Сегодня не существовало бы столько союзов, если бы все они основывались на подсчете военной силы. Обещая защиту странам, расположенным по краям евроазиатского материка, Соединенные Штаты рискуют потерять значительно больше, чем приобрести от дополнительных военных средств возможного силового противоборства.
Основное различие между термоядерной эпохой и доядерными временами состоит, как мы знаем, в стоимости тотальной войны, то есть с использованием всех имеющихся видов оружия вплоть до абсолютной победы. Сегодня в ходе военных действий целое государство может быть разрушено, его население уничтожено даже без предварительного разоружения. Стало общепризнанной истиной, что единственно возможной обороной от противника, вооруженного термоядерными бомбами, является сегодня способность к возмездию. Без такой способности любая оборона — активная или пассивная — слишком несовершенна, чтобы государство могло сопротивляться термоядерному устрашению. Государство, не обладающее средствами для репрессалий, должно будет принять любой ультиматум, предъявленный государством, которое имеет термоядерный потенциал.
Это не значит, что человечество окончательно простилось с эпохой обороны и вступило в эпоху репрессалий. Средства обороны — армии и оборонительные сооружения — всегда были инструментами сдерживания, и активная 504-
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
или пассивная оборона, предназначенная для отражения воздушных и ракетных нападений, ядерных или термоядерных, остается элементами сдерживания. Убежища для населения, как и стратегия, нацеленная против ударных сил противника (counter force strategy), являются элементами политики сдерживания. Но верно и то, что обе великие державы выделяют больше ресурсов для подготовки репрессалий, чем непосредственно для обороны ( в широком смысле слова), и что происходит постепенное сокращение средств обороны в пользу средств возмездия (даже если оно будет посмертным).
Очевидно, что проведение в жизнь стратегии термоядерного сдерживания отличается рядом оригинальных черт от классической стратегии. Но схема переговоров, предшествующих принятию дипломатических решений, остается неизменной.
Представим себе главу государства, который размышляет над перспективой: начинать или не начинать войну, — например, Наполеона перед русской кампанией. Если он будет действовать рационально, то должен оценить: 1) значение выдвинутой цели; 2) стоимость войны в зависимости от различных поворотов в ходе кампании; 3) возможность таких поворотов; 4) вероятность достижения поставленной цели. Основная неопределенность в этих размышлениях будет связана с вероятностью различного хода военных действий. Какой шанс был у Наполеона заставить Александра признать себя побежденным? Наполеон, возможно, надеялся, что в момент опасности воля царя ослабнет и что он даже без особого принуждения согласится на переговоры. Расчет не был достоверным ввиду непредсказуемости военной кампании, роли случайностей в ходе сражений, невозможности дать точную оценку выгод от победы и потерь от поражения.
Представим себе теперь два государства, обладающих термоядерным оружием. Одно из них стремится захватить позиции в зоне влияния противника, хотя и не на его территории. Какими должны быть расчеты агрессора? Ему придется поставить перед собой вопросы: 1) насколько важна поставленная цель; 2) во что обойдется операция при различных ответах соперника; 3) насколько вероятны те или иные из этих ответов; 4) какова вероятность достичь поставленной цели в различных ситуациях, созданных возможными ответами противника? Чем же такой расчет (его пришлось делать Хрущеву в ситуации вокруг Берлина) отличается от предыдущего — того, который делал Наполеон перед вторжением в Россию?
Хрущев не более, чем Наполеон, был способен оценить важность цели, реальные или воображаемые выгоды от устранения американских войск, размещенных в Западном Берлине. Он, видимо, не мог даже установить приоритеты в соотношении трех различных вариантов: американские войска изгоняются; американские войска остаются в Западном Берлине после кризиса; эти войска продолжают размещаться здесь без кризиса. Разумеется, он предпочел бы третий вариант второму, но был неспособен точно установить, насколько соотношение между первым и вторым вариантом отличается от соотношения между вторым и третьим. Он был также неспособен правильно определить цену операции в зависимости от различных ответов противника, но он нисколько не соМир и война между народами • Раймон Арон w 505
Часть III
мневался в своей способности достичь поставленной цели1. Сомнения касаются в основном характера ответных действий соперника. Наполеон знал, что, перейдя границу России, он развязывает войну, но он не знал, сумеет ли Великая армия сломить волю царя. В термоядерный век агрессор не знает, какая война будет развязана в результате локальной операции. Неопределенность относится не столько к развитию военной кампании, сколько к психологии противника, также обладающего термоядерным потенциалом.
Чтобы принять “рациональное” решение, агрессор должен быть способен определить, каким будет “рациональный” ответ противника. Он должен представить себе ход его размышлений, оценивающих: 1) важность цели, которую преследует нападающий; 2) стоимость различных ответных мер; 3) возможные прямые или косвенные последствия этих мер. Если взять числовые значения выигрыша и потерь агрессора и его жертвы, а также вероятность различных ответных шагов1 2, то можно определить отметку, до которой агрессия будет “рациональной”, то есть выгодной. Точно так же обороняющаяся великая держава может подсчитать вероятную эффективность сдерживания, попытавшись воспроизвести подсчеты выигрыша и потерь, которые делает агрессор в соответствии с возможными ответными шагами. Но использование математической формы отнюдь не значит, что в реальном мире действующие лица способны определить эти цены и эти вероятности.
Обозначим агрессора — А, обороняющуюся сторону — Эи спорные территории —В. Допустим, что у А нет иного выбора, кроме как массированное нападение на В с применением классических сил либо бездействие. У Э не остается иного выбора в случае агрессии, кроме массированных репрессалий либо пассивности. Кроме того, предполагается, что для А и Б ценность территории В равна 20, стоимость тотальной войны одинакова и равна для того и другого 100. Тогда результаты будут следующими:
А
Нападение
Ненападение
Репрессии
10
100
- 100
—
D
Отсутствие репрессий
90
100
+ 20
0
Ожидаемый результат...
+ 8
0
Допустим, имеется 10 шансов из 100, что Э ответит массированными репрессалиями. Тогда разница между 90 шансами из 100 выиграть 20 и десятью шансами из 100 потерять 100 будет положительной и составит 83. А оценил вероятность возмездия, подсчитав результаты, “ожидаемые” соперником. Но возможны два расчета. Или А постарается определить, как оценивает Э вероят1 Агрессору не всегда удается достигнуть локального превосходства, но в условиях термоядерной двуполюсности эта ситуация представляет собой наибольшую опасность. Агрессор не совершит нападения, если не обладает хотя бы локальным превосходством.
2 См. Glenn Н. Snyder, “Deterrence and power”, Journal of conflict resolutlon,vol.IV.n.2
Автор воспроизвел этот анализ в своей книге “Deterrence and defense”, Princeton, 1961, pp. 17 и далее.
3 1 9
-ЮОх —--10; +20x — -+18.
w 506 w Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ность нападения А, или он подсчитает разницу между стоимостью репрессалий и стоимостью бездействия. Поскольку это последнее расхождение будет весьма значительным, агрессор может решить, что обороняющаяся сторона, поставленная перед свершившимся фактом агрессии, обреченная в любом случае понести потери (- 20) и теряющая еще больше в случае (- 100), пойдет по пути ограничения своих потерь. Сама обороняющаяся сторона, пытаясь представить себе будущий ход событий, сделает вывод, что нападение возможно, хотя она может надеяться, что несмотря ни на что возможность выполнения угрозы возмездия, какой бы слабой она ни была, способна остановить агрессора.1
Значение этого числового примера, который мы заимствовали у американского автора, состоит в том, что здесь видна одна из причин, по которой невозможно точно оценить силу сдерживания, то есть выразить ее в числовых величинах. Отношение между выигрышем от локальной агрессии и стоимостью тотальной войны не идет ни в какое сравнение с отношением - 100 к +20. Сущность сдерживания посредством термоядерной угрозы заключается в огромной стоимости того, что маловероятно (маловероятно по определению, потому что стоимость репрессалий очень высока даже для того, кто наносит удар первым). Если представить себе совершившуюся агрессию, то, действительно, нетрудно показать, что обороняющаяся сторона должна предпочесть ограниченные потери стоимости репрессалий (стоимости как для противника, так и для нее самой). Но ошибка состоит в том, что забывают: именно агрессор первым создает для самого себя опасность катастрофы, и,следовательно, его будет сдерживать даже низкая вероятность массированных ответных действий. Если представить численную величину цены возмездия не как - 100, а как - 100 000, то вероятность такого возмездия может опуститься до одного шанса на тысячу, не приводя к “рациональности” решения об агрессии.
В действительности великие державы отказались от стратегии, которую отражала приведенная нами упрощенная схема. Агрессор не стоит перед выбором между двумя решениями — массированной атакой или бездействием, — так же, как обороняющаяся сторона отнюдь не вынуждена делать выбор между массированными репрессалиями и пассивностью. Обе великие державы вполне разумно сочли такую альтернативу неприемлемой, исходя именно из природы этих расчетов (огромная цена и очень низкая вероятность). Если сохранить такую альтернативу — “все или ничего”, то соперники рисковали бы спровоцировать события, которых оба хотели бы избежать. Расчет теперь стал более сложным: число возможных ответов возросло до пяти (локальная оборона с применением классических вооружений, локальная оборона с применением ядерного оружия, ограниченные ядерные репрессалии, массированные репрессалии, пассивность). С того момента, когда обороняющийся стал располагать многими вариантами ответа, пассивность оказалась почти столь же маловероятной, как в доядерную эпоху. Но с этого времени расчет стал слишком сложным для того, чтобы к нему можно было прибегнуть хотя бы в теории. Какова цена различных видов войн для агрессора и обо1 Я значительно упростил анализ, сделанный автором.
Мир и война между народами • Раймон Арон 507
Часть III
роняющейся стороны? Как они будут развертываться? Какова возможность эскалации? Насколько потери одного будут отличаться от потерь другого?
Разнообразие возможных ответных действий уменьшает вероятность массированных репрессалий. Оно лишает агрессора уверенности в победе и увеличивает стоимость локальных операций. Обороняющееся государство, принимая на себя демонстративные обязательства и обязуясь сделать в последний момент такой шаг, который оно, возможно, предпочло бы не совершать, смешивает исходные данные для рационального расчета.
Надо ли из этого сделать вывод, что знаменитая формула Клаузевица “Война — это продолжение политики другими средствами”, которую мы привели в качестве руководящего принципа в начале книги, уже стала неверной? Некоторые считают, что изречение Клаузевица потеряло смысл с тех пор, когда одна термоядерная бомба может уничтожить целый город. Их аргумент, строго говоря, сводится к следующему: нет такой цели, достижение которой может уравновесить, даже для победителя, разрушительные последствия термоядерной войны. Если для всех воюющих сторон потери превышают прибыли, война становится иррациональной для обоих лагерей, а следовательно, не может, с разумной точки зрения, быть продолжением политики.
К несчастью, этот аргумент не совсем справедлив, по крайней мере сегодня. Прежде всего стоимость войны и выгоды от нее не поддаются строгой оценке. Можно подсчитать потери и прибыль воюющих сторон в людских жизнях и материальных ресурсах. Согласно таким подсчетам большинство войн между термоядерными державами являются и будут являться иррациональными. Но как оценить выигрыш одной или другой в результате избавления от угрозы, которую представляет собой соперник? Как оценить возможность для какого-либо народа, не имеющего достаточной территории, удвоить ее площадь или утроить? Вывод об иррациональности войны, сделанный на основе сопоставления вложений и отдачи от них, вытекает из справедливых, но расплывчатых чувств или из подмены экономическими подсчетами политического расчета.
Более того, эти чувства и эти подсчеты не всегда соответствуют реальности. Если ситуация с двумя гангстерами маловероятна в отношениях между великими державами (маловероятна, но не исключена), то иначе обстоит дело в отношениях между большим и малым государствами или в отношениях между двумя малыми странами. Великая держава может полностью или почти полностью уничтожить средства возмездия малой страны. Угроза, которую эта держава использует для того, чтобы добиться капитуляции малой страны, и даже исполнение этой угрозы нисколько не противоречат традиционным рациональным дипломатическим и стратегическим решениям. Абсолютная победа в таком случае, возможно, обойдется даже дешевле, а значит, будет рациональнее, чем аналогичные победы в прошлом.
Остается справедливым, что для великих держав обмен термоядерными ударами не будет в прямом смысле слова “продолжением политики другими средствами”. Но угроза такой войны, которую не хотели бы вести, включена в дипломатические и стратегические усилия великих держав и даже всех государств (постольку поскольку они учитывают взаимный паралич двух термо508 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ядерных систем). Мы не выходим, таким образом, за пределы тех рамок, которые были очерчены Клаузевицем: постоянного соперничества государств, их поочередно мирного и силового торга, ссылок уже в мирное время на возможность применения силы, ссылок на политические цели во время войны. Более того, это неизбежное и рациональное единство стратегии и дипломатии никогда еще не было столь неразрывным, как сегодня, когда термоядерные системы почти постоянно находятся в состоянии “тревоги” и направлены друг против друга в то самое время, когда лидеры враждующих государств ведут переговоры1.
Тём не менее оружие массового уничтожения открывает перспективу исторической революции, в результате которой само содержание отношений между государствами изменится. Достаточно представить себе, что каждое из них обладает неуязвимыми средствами возмездия — такими, которые в любых обстоятельствах способны нанести любому агрессору смертельный удар. Пойдем дальше и вообразим даже, что они способны уничтожить все человечество, сделать планету необитаемой. С этого момента уже не будет существовать различий между понятиями “больший” или “меньший” урон, между преступлением и наказанием, между великой и малой державами. Каждое государство будет обладать правом вето, решая вопрос о существовании всех других1 2. Можно представить себе, что соперничество политических сообществ будет продолжаться, оставаясь ниже уровня рокового порога. Но я не думаю, что такое соперничество останется в психологическом или социальном отношении возможным. Ни один из членов всемирной системы не согласится постоянно находиться во власти всех остальных, а все не согласятся постоянно быть во власти каждого. По мере того как человечество будет приближаться к этой системе, оно станет понимать, что ему надо отказаться либо от дипломатическо-стратегических игр, либо от своего существования. Однако тот выбор, который будет сделан между этими двумя вариантами, пока еще не предвидится.
ГЛАВА XV
“Большие братья”, или Дипломатия внутри блоков
Современная обстановка характе- и расширением сферы дипломатической ризуется термоядерной двуполюсностью деятельности до всемирных масштабов.
1 Можно припомнить приведение в состояние тревоги всего американского ядерного потенциала во время присутствия в Париже четырех руководителей государств и правительств, собравшихся на несостоявшееся совещание в верхах (май 1960 г.).
2 Эта гипотеза соответствует одной из шести систем, описанных Мортоном А. Капланом (Morton А. Kaplan) в упомянутой ранее книге.
Мир и война между народами • Раймон Арон %
509 -
Часть III
Эти факты определяют расстановку действующих лиц и отношения между ними. Два антагониста занимают привилегированное положение, только они обладают статусом великих держав в традиционном смысле слова, то есть только они способны суверенно делать выбор между войной и миром. Но эта возможность становится все более иллюзорной, ибо война, всеобщая или тотальная, влечет за собой, вероятнее всего, неприемлемые для обеих держав разрушения. Чрезмерная сила не может найти применение разумным образом.
Тем не менее различие между великими, средними и малыми государствами не исчезает. В определенном отношении оно становится даже более глубоким, чем когда-либо, хотя все меньше отражает соотношение их силы воли. Никогда еще сильному не было так трудно навязать свою волю слабому. Перефразируя слова известного поэта, можно сказать: если сила не действует, то кто признает ее настоящей силой? Ни между великими державами, ни между их союзниками (или сателлитами), ни между блоками, ни между блоками и неприсоединившимися государствами переговоры не достигают таких же результатов, как военное противоборство. Слабая сторона раньше делала уступки сильной либо потому, что это соответствовало неписаным правилам игры, либо потому, что на заднем плане маячили намерения и возможности сильного прибегнуть в случае необходимости к другому языку. Со времен Ленина и Гитлера дипломатия отказалась от учтивых манер, но сегодня угроза использовать язык силы часто не принимается всерьез.
Короче говоря, мне кажется, что следует различать три категории международных отношений: между членами одного блока, между блоками и между блоками и остальным миром. Эти категории можно определить также следующим образом: отношения между союзниками, отношения между соперниками (и возможными противниками), отношения между двумя противоположными лагерями и остальным человечеством (причем это остальное человечество не является однородным). Сила играет разную роль в каждой из этих категорий отношений. Если исходить из упрощенных представлений, то союзники скорее убеждают, чем принуждают друг друга. Противники держат в запасе средства принуждения. Те, кто непосредственно не затронут враждой между двумя блоками, стремятся одновременно и уменьшить для себя связанные с нею опасности и извлечь из нее максимальные выгоды. Но эти определения могут послужить лишь в качестве предварительных замечаний: историческая реальность намного сложнее.
1. Атлантический блок
Оба атлантических блока неоднородны. Отношения между странами зависят в определенной мере от их внутреннего устройства: коллективная организация демократических стран не может не отличаться от коллективной организации советских государств (какова бы ни была последовательность формирования блоков).
Поскольку главным признаком блока является создание военного сообщества и, следовательно, потеря каждым его членом части или всего военного суверенитета, то структура блока определяется ответами на следующие вопросы:
1. Какую военную самостоятельность сохраняют государства—члены блока?
510 Раймон Арон • Мир и война между народами
2. Какую самостоятельность сохраняют члены блока в использовании своей военной силы вне зоны действия этой коллективной организации?
3. Какое участие принимают члены блока в определении политики — дипломатии или стратегии — по отношению к другому блоку?
4. Какую самостоятельность сохраняют члены блока, определяя свою политику в районах, находящихся вне сферы его действия?
5. Какую самостоятельность сохраняют члены блока в отношениях между собой внутри него, в частности, внутри региональных группировок, где не участвует государство, руководящее блоком?
6. Какую самостоятельность сохраняют члены блока в своей внутренней политике, то есть в определении своего политического устройства и в принятии текущих решений?
Атлантический блок имеет общее военное командование, здесь проведена частичная интеграция армий, которые остаются национальными по характеру комплектования, управлению, личному составу, своему воинскому духу и оружию. Стандартизация вооружений, о необходимости которой говорилось множество раз, не была осуществлена: ни одна из основных стран не хочет жертвовать своей промышленностью. Выбор прототипов оружия зависит — или, как кажется, зависит — от соображений, из которых отнюдь не все носят сугубо технический характер (по крайней мере, в глазах представителей государства, чей прототип был отвергнут). Министерства обороны, продвижение офицеров по службе остаются сугубо национальными. Хотя в штабах и военном колледже НАТО, возможно, складывается постеИстория
пенно дух атлантической солидарности, он еще не стал господствующим.
Что позволяет и что запрещает делать эта коллективная организация в мирное время? Она разрешает государствам-членам выводить свои войска изпод атлантического командования, когда того требует их политика в регионах, расположенных вне зоны действия блока. Франция воспользовалась этой свободой для борьбы против восстания в Алжире. Таким образом, сфера действия военного сообщества ограничена Европой. Если франко-английская экспедиция в Суэце провалилась, то виной тому было не влияние Атлантического пакта и не забвение принципа военной автономии, а сопротивление двух великих держав.
Вместе с тем военное сообщество запрещает использование военной силы в возможных конфликтах между государствами—членами блока. Большая часть баз и учебных полигонов германской армии находится во Франции. Совместные маневры, разработка планов военных действий и подготовительных мероприятий исключают, материально и морально, столкновения между армиями партнеров. Во всяком случае, государства—члены блока серьезно не конфликтуют друг с другом, а второстепенные конфликты, которые могут их разделять, несоизмеримы с советской угрозой. С Атлантическим пактом или без него западноевропейские страны будут солидарны, пока правительства и большинство общественности будут опасаться расширения советской мощи либо путем вторжения, либо посредством инфильтрации.
Вооруженные силы стран—членов пакта могут быть использованы не только в Африке или Азии, но и на собственной территории в случае гражданской войны. В 1958—1961 гг. многие Мир и война между народами • Раймон Арон
511 <
Часть III
французы говорили о возможности военного переворота. Но независимо от того, интегрированы или нет в мирное время войска и флоты в составе общей организации, предусматривается или нет их интеграция в военное время, союз не может гарантировать гражданской власти защиту от возможного мятежа ее генералов или адмиралов.
Конечно, присутствие американских дивизий в Европе и американского флота в Средиземном море может“ произвести впечатление” (это немного слабее, чем “устрашить”) на мятежников в военной форме. Американское правительство могло бы предложить свою помощь для того, чтобы навести дисциплину среди военных руководителей. Атлантическое сообщество создает неблагоприятную почву для pronunciamentos (военных переворотов). Но оно не запрещает их правовым путем и не препятствует им фактически.
В противовес этой относительной самостоятельности национальные армии стран—участниц договора должны были отказаться от ряда прав, которыми теоретически должны обладать равные партнеры. Поскольку только американцы обладают оружием решающей силы — стратегической авиацией, термоядерными бомбами, снарядами с ядерными боеголовками и ракетами малой дальности, они единолично разрабатывали планы бомбардировок. В Вашингтоне создана standing group (постоянная группа), которая изучает военные проблемы союза и в которую входят представители четырех основных держав. В действительности же диспропорция между силами Соединенных Штатов, с одной стороны, и каждой из европейских стран, с другой, столь велика, что решения неизбежно принимаются американскими руководителями, а на базе этих решений разрабатываются планы штабов, где также преобладает американское, а иногда англо-американское влияние (между Соединенными Штатами и Великобританией сохраняются особые отношения).
Политика атлантического сообщества в отношении другого блока формально рассматривается на пленарных заседаниях участников договора. Она регулярно обсуждается по дипломатическим каналам между четырьмя основными членами альянса. Когда речь идет о событиях, связанных с Берлином, то главы правительств в Бонне, Лондоне, Париже и Вашингтоне поддерживают постоянные контакты между собой.
Кто будет принимать решения в тот день, когда разразится кризис? Разумеется, Соединенные Штаты, ответит “реалист”. Он будет, возможно, прав, если речь пойдет о чисто военных мерах, влекущих за собой риск начала боевых действий. Но даже в этом случае теоретически признаваемое право вето (союз, как предполагается, действует на основе принципа единогласия) будет отнюдь не лишено значения. Германия (Бонн) и Франция способны парализовать инициативы Вашингтона. В том, что касается дипломатических и стратегических мер, направленных против блокады старой германской столицы, то крупные западноевропейские державы могут сказать свое слово и пустить в ход свое влияние. И тогда неизвестно, чье мнение возобладает: не раз случалось так, что американские руководители даже хотели в глубине души, чтобы союзники “удержали” их от каких-то действий. И если союзники сделают это, если премьер-министр Ее величества станет заклинать американского президента не 512 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
идти на риск, то кто сможет затем возложить ответственность на одного или другого?
В такой области невозможно вынести категоричные обобщающие суждения. Отношения между США и их союзниками похожи на отношения между гражданской и военной властью во Франции в 1914—1918 гг. Теоретически приоритет первой не ставился под сомнение, но более сильная воля второй часто брала верх (Жоффр1 диктовал свою волю главам французского правительства). Соединенные Штаты юридически не имеют власти над своими партнерами, но они обладают военной мощью. Правда, они не могут использовать ее без согласия и поддержки союзников. В конечном счете распределение влияния и ответственности в той или иной обстановке будет зависеть от личных качеств глав государств и правительств. Последнее слово останется в критический момент за Соединенными Штатами, потому что только они располагают решающим оружием. В дипломатии нет большого числа “критических моментов”: Атлантический союз пока не сталкивался ни с одним.
Само собой разумеется, что Соединенные Штаты, и только они, способны в^сти переговоры один на один с Советским Союзом. Приглашение, направленное генералом Эйзенхауэром г-ну Хрущеву без консультации с генералом де Голлем или г-ном Макмилланом, напоминает, что США способны действовать единолично. Но беседы с Хрущевым не дали никаких результатов. Когда речь идет о встрече на высшем уровне, тот ее участник, кто говорит “нет”, способен воспрепятствовать тому, чего хотят союзники. Союз между демократическими странами напоминает в какой-то степени польский парламент, где действовало liberum veto1 2.
Кому более всего выгоден Атлантический пакт, если иметь в виду США и западноевропейские страны? Франция, Великобритания, Германия (Бонн) ни в отдельности, ни вместе не могут уравновесить Советский Союз. Объединяясь с Соединенными Штатами, они укрепляют свою способность сказать “нет” Советскому Союзу и, возможно, влиять на него. Не Атлантический пакт, а слабость лишает их былой независимости. Соединенные Штаты, со своей стороны, заинтересованы в инструменте подобного рода: он полезен и в переговорах, и в сфере пропаганды постольку, поскольку весь Запад становится единым блоком, свободным миром перед лицом Советского Союза: он полезен и с точки зрения международных отношений и придания им определенной юридической формы. На чем могло бы базироваться присутствие американских войск в Европе без многостороннего договора о взаимной помощи, который создает для этого рамки и принципиальную основу? Иными словами, даже оставляя в стороне военные аргументы, которые могут в любой момент обесцениться в результате развития техники, американские и европейские партнеры считают выгодным создать союз и оформить его как организованное сообщество. Европейцам нужны американские гарантии, и пакт позволяет им воздействовать на ру1 Жозеф Жак Жоффр — маршал Франции. Во время первой мировой войны был главнокомандующим французской армии. (Прим пер.)
2 Право “вето”, принадлежавшее каждому депутату польского сейма. (Прим, пер.)
Мир и война между народами • Раймон Арон 1 513 л»
Часть III
ководителей Вашингтона, а Соединенные Штаты нуждаются в европейской поддержке для того, чтобы развернуть свои силы и скрепить свои “обязательства”1 .
Внутри зоны блоков Атлантический пакт представляет собой нечто большее, чем традиционный альянс, а вне этой зоны он играет меньшую роль, чем традиционный альянс. Французское правительство неустанно добивается расширения сферы действия пакта на весь мир. Генерал де Голль по-новому оформил это требование, выдвинув идею создания директории из трех членов, которая несла бы ответственность за дипломатическую деятельность Атлантического блока на всей планете. Подобная идея направлена на превращение Атлантического союза, т. е. блока внутри ограниченной зоны, в “действующее лицо” на международной сцене. Соединенные Штаты никогда не соглашались с таким истолкованием пакта, и даже те, кто этого демонстративно требует (французы), не готовы принять все вытекающие отсюда последствия. Коллективные действия на мировой арене потребуют, так сказать, слияния дипломатической деятельности, с которым генерал де Голль, проявляющий заботу о полной независимости Франции (“не зависеть ни от кого”, “ быть не связанным ни с кем”), первым бы и не согласился. Поскольку Великобритания и Франция хотят также сохранить свободу действий в Азии и Африке, то почему Соединенные Штаты должны следовать советам своих европейских союзников? Атлантический договор охватывает лишь ограниченное пространство.
Атлантическая директория могла бы функционировать (если предположить, что другие партнеры по пакту с этим согласятся) лишь при условии соглашения между участниками относительно целей и методов ее деятельности. Существования директории было бы недостаточно, например, чтобы преодолеть разногласия между Вашингтоном, Лондоном и Парижем по поводу национализации Суэцкого канала (хотя директория, возможно, помогла бы избежать военных действий). Американские руководители, которые в 1955—1960 гг. явно не одобряли политику Франции в Алжире, не смогли бы убедить руководителей IV и V Республик. И последние отнюдь не склонились бы перед “англо-американским большинством”. Поскольку нет иной договоренности, все партнеры по Атлантическому пакту заинтересованы в сохранении свободы действий вне зоны противостояния между блоками
Будучи автономными вне этой зоны, партнеры остаются также самостоятельными в сфере внутреннего управления и политики региональных группировок. Необходимо ясно видеть, что борьба между партиями внутри какой-либо страны стимулируется частично соперничеством великих держав, тем влиянием, которое “защитник” и “противник ” оказывают на общественное мнение. Эти процессы вытекают из биполярной структуры мировой системы, а эффект биполярности усиливается в результате противоборства идеологий двух великих держав. Народу, неуязвимому для пропаганды, живущему в стране, расположенной вне досягаемости советской армии, нет причин опасаться американской силы. Способность Соединенных Штатов влиять на внутреннюю политику союзников и нейтральных стран за1 В том смысле, в каком этот термин был обозначен в гл. ХШ.
514 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
висит от состава их элиты или структуры всей нации. Этого влияния нет или почти нет, например, в Швейцарии. Там, где демократам угрожают коммунистическая партия или прогрессистские веяния, обращение к американским деньгам, американской пропаганде или другой помощи оказывается неизбежным.
Становятся ли правители, зависящие от американской поддержки, вынужденными сразу или постепенно выполнять решения, принятые в Вашингтоне? Реальная картина бывает довольно сложной: правители, которые признают слабость своей власти и непопулярность своих режимов, часто выгадывают больше, чем те, где сплоченность нации позволяет сопротивляться подрывным действиям и шантажу. Ссылаясь на опасности, с которыми они сталкивались, руководители IV Республики получали зачастую от США то, чего не добились бы руководители V Республики, вещая о величии Франции. Но в общем, после того как европейская экономика, благодаря плану Маршалла, была восстановлена и американским представителям стало не о чем беспокоиться, они оказались зачастую неспособными оказывать постоянное давление на правителей союзных стран.
Что касается группировок внутри блока, то Соединенные Штаты не подавляли, а поощряли их деятельность. США не строят свои отношения с Европой на основе принципов господства или гегемонии. В экономическом плане подъем Европы уже уменьшил их относительное могущество. Федерация “шестерки” могла бы в будущем стать государством первостепенного значения, способным соперничать с двумя великими державами в экономическом, а возможно, в политическом и в перспективе даже в военном плане. Несомненно, что некоторые американские деятели получили вкус к власти и что Вашингтон стремится сохранить Ие<1ег8Ыр, свою способность если не командовать, то хотя бы руководить союзниками. Но создание империи, то есть монополии власти на основе монополии силы, не является целью преднамеренной деятельности или тайных амбиций Соединенных Штатов. После второй мировой войны они взяли на себя волей-неволей груз заботы о побежденных и союзниках, одинаково лишенных экономических и военных ресурсов. Вследствие советской угрозы (реальной или иллюзорной) США оформили это бремя как обязательство и выразили это обязательство традиционным языком союзов. Они хотели, чтобы союзники, следуя американскому примеру, обрели возможность обходиться без покровителя. Будут ли Соединенные Штаты (их руководители и простые граждане) сожалеть о том, что им придется покинуть Европу в тот день, когда она станет достаточно сильной, чтобы защитить себя самостоятельно? Поддержка, оказанная европейской “шестерке”, дает на этот вопрос категорический и отрицательный ответ, если только не подозревать американских лидеров в крайнем цинизме. Но, может быть, это праздные рассуждения? Зачем задаваться таким вопросом, к чему американцам задумываться о перспективе утраты своего могущества, которое они пока никак не рискуют утратить? Следует заметить, что Атлантический пакт — не империя в традиционном смысле слова, что военное объединение не переросло в объединение политическое и что обладатели силы скорее испытывают затруднения, чем гордятся своей моноМир и война между народами • Раймон Арон - - 515
Часть III
полней, которую они не очень-то знают, на что употребить.
2. Советский блок
Параллельный анализ советского блока позволяет увидеть и противоположные, и схожие черты. После первоначальных колебаний Советский Союз занял резко враждебную позицию по отношению к региональным группировкам внутри европейского блока.
В 1947 г. Димитров и Тито1 обсуждали, возможно, по предложению Сталина, перспективы создания балканской федерации. Оба деятеля считались самыми решительными и ортодоксальными коммунистами. Может быть, региональная организация казалась Москве полезной для укрепления советского господства над странами, еще недостаточно приведенными к послушанию. В январе 1948 г. проект федерации был публично осужден **Правдой”, и обоих деятелей, видимо, жестко призвали к порядку. В течение всего сталинского периода неукоснительно соблюдался принцип “двусторонности": договоры связывали Советский Союз с тем или другим восточноевропейским государством или два восточноевропейских государства друг с другом. Классическим образцом были договоры о дружбе или о взаимной помощи. В них предусматривалась прежде всего совместная оборона от нападения перевооруженной Германии или со стороны любого государства, присоединившегося к германской агрессии. Единственнным исключением была Восточная Германия, которая подписывала с другими государствами блока только договоры о дружбе, а иногда о культурном сотрудничестве (с Польшей — 1 августа 1952 г., с Румынией — 9 октября 1950 г., с Болгарией — 5 мая 1952 г.). Что касается Советского Союза, то он подписал договоры о дружбе и взаимной помощи со всеми странами Восточной Европы, кроме Восточной Германии, но ни одного соглашения о культурном сотрудничестве. Такое сотрудничество с Советским Союзом, обязательное для всех государств Восточной Европы, не нуждалось в дипломатическом оформлении.
Подписание Варшавского договора 14 мая 1955 г. означало переход от двусторонних связей к многосторонним. В нем предусматривалось создание общей военной организации под командованием советского военачальника. Договор придавал что-то вроде законности присутствию советских войск на территории иностранных государств (хотя эта легализация получила окончательную юридическую форму лишь после событий 1956 г.)1 2 И, наконец, впервые Германская Демократическая Республика была представлена в договоре о взаимной помощи в том же качестве, что и другие страны Восточной Европы. Варшавский договор имитировал Атлантический пакт, но Советский Союз до сих пор не допускал создания эквивалента Римскому договору.
Формальное сходство двух пактов, ставших основой двух блоков, не должно от нас скрывать еще одно различие. Военная политика советского блока по отношению к другому блоку полностью определяется Советским Союзом. У стран Варшавского договора нет штаба, 10 балканском проекте см. Z. К. Brzezinski, The Soviet bloc, Cambridge, 1950, p. 55—56.
2 Ibid., p. 170—171.
516 ’ ^4,-^ -о, е-.и. 4-х.л $ Раймон Арон • Мир и война между народами
эквивалентного штабу НАТО. В противостоянии Западу Советский Союз удерживает не только монополию на ядерную систему, но также почти полную монополию на классические вооружения, способные к немедленному применению. Опасность, которая нависла над Западной Европой, исходит от 25 современных механизированных дивизий Красной Армии, расположенных в Восточной Германии.
Самостоятельность национальных армий стран Восточной Европы не была полностью ликвидирована. Роль венгерской армии в октябре-ноябре 1956 г., роль польской армии, которую она готовилась сыграть, если бы советские дивизии продолжили свое продвижение к Варшаве, показывают, что государства Восточной Европы несколько лет назад еще продолжали существовать как таковые в душах солдат. Если в советских планах этим армиям, видимо, не отводится наступательных задач в случае конфликта с другим блоком, то это связано с тем, что их лояльность не обеспечена. Власть Большого брата является тем более строгой, чем более сомнительной остается искренность лояльности этих стран, прежде всего лояльности населения. На Западе коммунистические партии (особенно их подпольные аппараты) представляют собой всем известную пятую колонну. На Востоке открытой пятой колонны не существует. Но отсюда никто не делает вывода, что здесь нет внутренних противников.
Дипломатия по отношению к другому блоку определяется Советским Союзом почти так же единолично, как страИстория
тегия. В Организации Объединенных Наций представители государств Восточной Европы верно следуют линии, указанной представителями Москвы. Если идет речь об установлении или ослаблении блокады Берлина, то ни Сталин вчера, ни Хрущев завтра не должны принимать во внимание или выслушивать советы кого бы то ни было. Но они не могут, однако, заходить слишком далеко. Невозможно сохранить за государствами административный аппарат и юридическую видимость суверенитета, не оставляя руководителям этих государств соблазна и подчас возможности действовать самостоятельно. Очевидно, что руководители Восточной Германии не возьмут на себя инициативу в разрыве коммуникаций между боннской республикой и Западным Берлином или даже в стрельбе по танкам или самолетам союзников, если те попытаются прорвать блокаду. Но властители-сателлиты1 могут исполнять полученные указания по-разному и тем самым влиять на развитие кризиса.
Более того, советский блок идеократичен, здесь провозглашена общая идеология, и правители объявляют себя друзьями согласно природе режима, основанного и построенного в соответствии со священной доктриной. Но политика, включая дипломатию и стратегию, по отношению к другому блоку должна логически быть выведена из доктрины. Пока истинное толкование доктрины в тот или иной момент принадлежало только Советскому Союзу или даже одному человеку, идеократический характер отдельных режимов и всего советского блока укреплял монополию
1 Во время войны Р.П. Гкстон-Фессар придумал образ “властителя-раба", обозначая правительство Виши, руководившего французскими делами, но бывшего узником немцев.
Мир и война между народами • Раймон Арон 517
Часть III
Москвы на принятие решений. Но с того момента, когда истолкование доктрины стало предметом открытых обсуждений, когда различные толкования сталкиваются друг с другом как внутри Советского Союза, так и внутри всего блока, сателлиты обретают определенную самостоятельность уже просто потому, что они освобождены от дисциплины высказываний, к которой принуждал их Сталин. Мы не можем сказать, какое “впечатление” производит на Хрущева и его приближенных “экстремистский”1 или “умеренный”1 2 язык, к которому прибегают подчиненные элиты Тираны или Панкова, Варшавы или Бухареста. Мы плохо знаем, каким расхождениям интересов или методов соответствуют теологические споры. Все, кто имеет право принять участие в этих теологических дискуссиях, становятся собеседниками в диалоге, где принимается “линия” блока. И при всех обстоятельствах конкретные решения привязываются к текущей стратегии, то есть к доктринальной линии, которую блок наметил устами своего или своих руководителей.
Для стран Восточной Европы проблема дипломатии и стратегии в отношении внешних регионов почти не стоит. В отличие от стран Западной Европы, которые благодаря своим колониальным владениям осуществляют здесь дипломатию, отличную от дипломатии всего блока. Тем не менее Польша Гомулки, проявляя полную солидарность с Советским Союзом и в своих декларациях (письменных или устных), и в деятельности внутри ООН, заполучила некоторое поле для маневров в сфере культурных и экономических отношений со странами другого блока. Она получает помощь Соединенных Штатов и позволяет своим студентам, преподавателям и писателям путешествовать и учиться на Западе.
В конечном счете решающее значение для стран Восточной Европы имеет диапазон предоставленной им свободы в практическом применении доктрины и ведении повседневных дел. На протяжении 1945—1956 гг. можно четко различить, с этой точки зрения, четыре фазы. Первая — от момента прихода советских войск до осуждения Югославии в 1948 г. Для этой фазы характерны различия между народными демократиями и Советским Союзом (уже социалистическим государством) и между странами народной демократии, каждая из которых приспосабливала универсальные истины к своим местным условиям. В этой первой фазе Югославия Тито находилась на крайне левом фланге, она сурово критиковала западные компартии (французскую и итальянскую) за их политику ненасилия и некоторые восточные партии за отказ прямо вступить на путь строительства социализма, за настойчивое подчеркивание многообразия национальных условий. В этот период югославская партия была готова пойти на риск, чтобы достигнуть своих внешнеполитических целей (Триест). Благодаря той роли, которую партия сыграла в войне, она была уверена в народной поддержке и не соглашалась признать длительное отставание Югославии от Большого брата, ее двусмысленное положение как страны народной демократии.
1 Авантюристский или сектантский в случае их осуждения.
2 Оппортунистический в случае их осуждения.
518 < Раймон Арон • Мир и война между народами
Вторая фаза — это период полной сталинизации между 1948 и 1953 гг., символом ее стали показательные процессы над Райком, Костовым, Сланским. Под двойным давлением югославской ереси и холодной войны развернулся процесс обуздания других восточноевропейских стран. В каждой из них компартии закончили ликвидацию остатков плюралистической демократии; одновременно устранялись коммунистические руководители, которые были способны, или подозревались в том, что способны, к националистическим уклонам (или даже просто могли символизировать националистический уклон). Компартии, владевшие полнотой власти, были целиком подчинены Москве. Польская армия оказалась под командованием советского маршала, полицейские аппараты были начинены советскими агентами и находились под наблюдением советской тайной полиции, посол Советского Союза повседневно наблюдал за ходом текущих дел, а большевистская партия СССР осуществляла фанатичное доктринальное руководство партиями стран-сателлитов. Все происходило так, словно для властителей-сателлитов кончались одновременно и время их тирании, и время их рабства1.
Третья фаза протянулась от смерти Сталина до польского и венгерского восстаний. Человека, который правил посредством террора и с которым зависимые руководители были связаны своего рода узами верности, не стало. Его последователи, борясь за власть, согласились ослабить вожжи, придать режиму известную гибкость как во внутренней, так и во внешней политике. ДисциплиИстория
на высказываний, которая в канун смерти Сталина принимала уродливые и гротескные формы, была официально нарушена. На XX съезде партии его компаньоны, ставшие наследниками, разоблачили оборотную сторону прежних декораций, бессмысленную жестокость того, кого они боялись и кому курили фимиам. Были разоблачены судебные процессы тридцатых годов, так же как и процессы послевоенных лет. Распри между различными группировками в Советском Союзе отражались на аналогичных раздорах в странах народной демократии. Переплетение различных форм соперничества между руководителями Советского Союза, с одной стороны, и лидерами национальных партий, с другой, привело к политическим потрясениям в Венгрии (возвращение Надя, затем его вторая опала), которые способствовали взрыву 1956 г.
Последняя фаза, которая продолжается и в тот момент, когда пишутся эти строки, не означает возврата к сталинизму, но она характеризуется усилиями, направленными на сохранение сплоченности блока, и вместе с тем некоторыми плодами “оттепели”. Московские руководители, ни один из которых не вызывает у своих подданных или у своих компаньонов такого преклонения и страха, как Сталин, не хотят отказаться ни от доктринальной однородности социалистического лагеря, ни от первенства Советского Союза. Но в интерпретации и применении этих двух принципов возникает немало нюансов.
Обсуждению не подлежат такие догмы, как необходимость единой партии 1 Судебные процессы были только наглядными эпизодами тех чисток, которые развернулись во всех коммунистических партиях. (См. Brzezinski, op.cit., р. 97).
Мир и война между народами • Раймон Арон 519 --
Часть III
при социализме или роль компартии в качестве представителя рабочего класса. Но в рамках легитимного требования приспосабливаться к местным обстоятельствам допускаются политикотеологические споры относительно сроков коллективизации сельского хозяйства, темпов экономического роста, процента инвестиций, распределения инвестиций между тяжелой и легкой промышленностью, причем каждый из собеседников оправдывает свои позиции ссылками на священные тексты. Сторонники коллективизации сельского хозяйства, высокого процента экономического роста, приоритета тяжелой промышленности слывут “ твердокаменными”, их иногда называют “левыми”. Но в 1957 г. в Польше группу поклонников и последователей сталинизма причислили к правым. Кроме того, один и тот же руководитель может быть одновременно “твердокаменным” в области экономической политики (сторонником тяжелой промышленности) и относительно либеральным в сфере культуры. Хрущев разоблачал Маленкова за его экономический курс, не отказываясь от “оттепели”. И наконец, не существует прямого соответствия между группировками Большого брата и Малого брата. Хрущев может поддерживать в Польше какого-нибудь Гомулку, курс которого (например, в области сельского хозяйства) он не потерпел бы ни в Советском Союзе, ни в другом государстве Восточной Европы.
Ослабление сталинской централизации отвечает намерениям части московских деятелей, оно отвечает также в какой-то мере и политически, и психологически исторической необходимости. Ни один из наследников не был в состоянии взять на себя роль Сталина, ибо ни один не обладал притягательной силой, которую придают деспотам их подвиги и преступления, пролитая кровь и воздвигнутые к небу каменные, бетонные или стальные монументы. Абсолютная власть Кремля имела смысл лишь в форме обожествления папы-императора. Но в дальней перспективе она была иррациональной, поскольку основывалась на постоянном насилии над человеческой природой. Как только элиты подчиненных стран упрочили свое положение, а представители прошлого были устранены, правители восточноевропейских стран не могли не испытать желания самим осуществлять власть. Они хотели бы добиться признания юридической формулы национальной независимости и социалистического принципа равенства государств. Поэтому у советской элиты, если только она не одержима стремлением к могуществу ради могущества, к порабощению других людей во имя собственного всевластия, нет настоятельных причин вмешиваться в управление текущими делами или в соперничество между отдельными лицами в странах-сателлитах (лишь бы эти лица были одинаково преданы общим интересам блока).
Автономия, предоставленная правящей верхушке этих стран, смягчает непопулярность режима, укрепляет его национальный характер. Гомулка пользуется у поляков большим авторитетом, чем имел Циранкевич, когда нынешний первый секретарь партии находился в тюрьме. Более гибкие отношения между Большим братом и его протеже отвечают, разумеется, обоюдным интересам. С того момента, когда руководитель блока не сомневается в верности властителей-сателлитов, он должен предоставить им все, что способствует росту их популярности в народе, скорее 520 дажжжжкжда« Раймон Арон • Мир и война между народами
История
примирившемся, чем согласившемся с коммунизмом. Режим Гомулки может быть лучшим решением и для Советского Союза, и для польского народа, и, может быть, даже для Соединенных Штатов. Он стабилизирует советскопольские отношения и оставляет окно в будущее: Польша не становится провинцией советской империи.
Политика Хрущева, однако, не лишена рисков. На Западе Соединенные Штаты не испытывают необходимости устанавливать идеологическую дисциплину: Атлантический блок сохранится, пока правители союзных стран не станут коммунистами или нейтралистами, поскольку он не требует ничего иного, кроме создания военного сообщества и вытекающей отсюда координации дипломатических позиций по отношению к восточному блоку. На Востоке руководители Советского Союза не могут отказаться от определенной идеологической дисциплины, не подрывая или не реформируя свой собственный режим.
Коммунистическая партия обосновывает свою легитимность своим учением: первенство, к которому она стремится, дает ей право истолковывать это учение. Расхождение между национальными толкованиями должно оставаться в довольно узких рамках. Каковы эти рамки? Наверное, никто не может дать четкий ответ на этот вопрос. Какова в дальней перспективе цель коммунистов? Какое у них представление о будущем и окончательном мире? Какова будет структура международных отношений, если не останется больше капиталистических государств? Эти вопросы носят отнюдь не праздный характер, ибо ответ зависит от реальных задач, которые ставят перед собой коммунистические лидеры. Советская империя не основывается, как гитлеровская империя, на превосходстве народа-хозяина и на уничтожении или порабощении низших народов. Советский Союз — многонациональная империя, охватывающая обширное пространство, еще более расширять которое ему нет никакой необходимости. Возникают и другие вопросы. После завершения конфликта между двумя блоками все государства отомрут одновременно или сольются в одноединственное государство? Будут ли социалистические режимы все более походить друг на друга или нации будут накладывать на эти режимы все более глубокий отпечаток своей оригинальной культуры?
Но сегодня, на нынешнем этапе развития, в период конфликта между двумя блоками, заботы деятелей Кремля не простираются столь далеко и носят более злободневный характер: единство действий советского блока в Европе может быть при необходимости навязано силой (подавление венгерского восстания нанесло удар гуманитарной пропаганде Москвы, оно дало беспрецедентное обоснование пропаганде террора: с этого времени стало допускаться, что если понадобится, то сателлиты будут усмиряться силой). Но единство действий между Советским Союзом и Китаем является предметом переговоров, не допускается даже подспудной военной угрозы. Конечно, перед лицом враждебных Соединенных Штатов Китай зависит от Советского Союза, нуждаясь в технической помощи и ядерном прикрытии. А для Советского Союза открытый разрыв с Китаем, сравнимый с тем, который произошел между Белградом и Москвой в 1948 г., стал бы катастрофой.
Две крупные коммунистические державы, по всей вероятности, смогут Мир и война между народами • Раймон Арон 521 * IV
Часть III
в течение какого-то времени достигать компромисса и официально поддерживать отношения дружбы. Но мы видим некоторые пункты для расхождений. Например, как должен советский блок распределять свою помощь между афроазиатскими странами: предоставлять ее всем без разбора, лишь бы они объективно действовали против Запада, или в первую очередь прогрессивным режимам, которые ближе стоят к народным демократиям? Учитывать или нет тот факт, что президент Насер преследует и уничтожает коммунистов? Заинтересован ли советский блок в разрядке международной напряженности? На чем надо делать акцент: на возможности мирного сосуществования или на неизбежности войны? Какими бы ни были ответы и как бы китайским и советским деятелям удавалось или не удавалось разрешать или маскировать свои споры, налицо известная свобода политико-теологических дискуссий внутри советского блока, та свобода, которую с увлечением использовали во времена Ленина и которая постепенно была задушена при Сталине. Его последователи вынуждены терпеть ее, оспаривая наследство ДРУГ у друга, а китайцы благодаря самому факту своего существования вводят ее внутрь сферы советского влияния.
Сочетание русско-советского блока в Европе и трех коммунистических режимов в Азии (Китай, Северная Корея, Северный Вьетнам), один из которых действует в стране с самым многочисленным населением планеты, меняет отношения и внутри европейского блока. Восточная Германия и Албания прявляют, по крайней мере на словах, так сказать, китайский подход, в то время как чехи близко следуют формулам Кремля, а поляки отходят от русской ортодоксии в направлении, противоположном китайскому примеру.
Мы не знаем точно, как проходят переговоры между крупными коммунистическими державами, как принимаются решения — той или другой или обеими вместе, — каким образом теологические споры влияют на проводимую в жизнь стратегию. Но тем не менее ясно, что самостоятельность, предоставленная властителям-сателлитам, привела к разнообразию в методах и даже в содержании строительства социализма, так же, как существование второй крупной коммунистической державы дает всем государствам блока определенную свободу идеологических дискуссий. Подобная свобода, на которую Большой брат на Западе взирал бы с равнодушием, не может не вызывать беспокойства у Большого брата на Востоке, потому что деятели в Кремле к этому не привыкли (или еще не привыкли) и потому, что они воспринимают идеи1 всерьез.
3. Экономическая организация
Блоки были созданы в результате крушения европейских государств и встречи в центре Старого континента двух “освободительных” армий. Они носят политический характер по своему происхождению и более военный, чем политический, по своему содержанию. У нас создано индустриальное общество, а Советский Союз построил подобные себе режимы на основе своей историкоэкономической идеологии. Ее последователи проповедуют предсказуемое и 1 То. что они так называют
522 Раймон Арон • Мир и война между народами
неудержимое продвижение человечества к экономическому строю, который будет, как его окрестили, сперва социалистическим, а потом коммунистическим. В каждом из блоков имеются все экономические режимы, соответствующие господствующей идеологии, причем на Западе диапазон вариантов, очевидно, шире, чем на Востоке, хотя после 1953 г. восточноевропейские государства также все более отличаются друг от друга даже в области управления экономикой, которое теоретически должно отвечать требованиям ортодоксии.
Основным результатом формирования блоков в экономической области стал раскол единого мирового рынка (это выражение используют коммунистические авторы). За послевоенные годы торговые отношения государств-сателлитов изменились в соответствии с изменением международной обстановки. Перемены были отчасти вызваны самим характером существующего строя: трудно составлять планы, не оценивая одновременно объемов экспорта, а такие прогнозы сложно делать, когда покупатели принадлежат к странам со свободной экономикой, то есть представляют собой фирмы, которые в конечном счете зависят от потребителей. Но переориентация внешней торговли1 отразила и желания Советского Союза. Социалистические государства должны были организовать международный рынок в соответствии с законами планирования, точно так же, как внутри страны они должны были строить экономику, сообразуясь с советскими нормами.
Теоретически можно представить себе две модели международного социа- 1 2
История
листического рынка. Или дается приоритет наднациональному плану, в котором национальные планы представляют собой отдельные разделы. Или же сперва устанавливаются национальные планы, а затем между правительствами блока заключаются межгосударственные соглашения, и международный рынок формируется как сеть двусторонних договоров. Первой модели отдается предпочтение на бумаге, но на практике она невыполнима. Вторая сопряжена с внутренними изъянами, которые сталинизм довел до абсурда.
Поскольку приоритет отдается национальным планам, они могли быть приспособлены к национальным условиям. Но в действительности в 1948—1953 гг. наблюдалась тенденция к созданию уменьшенных копий Советского Союза. Каждая страна делала упор на развитии тяжелой промышленности, каждая имела свою металлургию и свое машиностроение. Венгрия была примером такого безрассудства: металлургия здесь существовала, используя импортные железные руды и уголь. Стоимость только этого импорта превышала продажную цену изделий и полуфабрикатов, которые выпускались венгерским заводом.
Хотя приоритет национальных планов не был отменен и эти планы еще были отмечены концепцией “Советский Союз в миниатюре”, увеличение числа двусторонних соглашений и деятельность СЭВ (созданного в ответ на план Маршалла и образование ОЕЭС1, но остававшегося долгое время пассивным) способствовали разделению труда внутри советского блока. Все восточноевро1 В 1951 г. доля государств советского блока составляла во внешней торговле стран народной демократии (импорт и экспорт): 92% для Болгарии (до войны 12%), 67% для Венгрии (13%). 58% для Польши (7%), 79% для Румынии (18%), 60% для Чехословакии (11%).
2 Организация европейского экономического сотрудничества. (Прим, перев.)
Мир и война между народами • Раймон Арон 523 в»
Часть III
пейские страны построили сравнительно крупную по отношению к общему объему производства тяжелую промышленность (выпуск средств производства, металлургия, химия, машиностроение). За последние годы СЭВ смог добиться определенной специализации в этих отраслях. Теперь уже все не изготовляют все типы машин.
Эта специализация была также достигнута в результате совместной или скоординированной деятельности государств советского блока вне Европы. Займы или безвозмездная помощь стали советскими козырными картами в отношениях со слаборазвитыми странами. Восточная Германия, Чехословакия, даже Польша превратились в немаловажных экспортеров средств производства. Каждая из этих стран имеет новые или традиционные связи с тем или иным государством или регионом планеты. Все участвуют в торговом наступлении с политическими целями, состоящими в том, чтобы отвоевать у западного блока традиционные рынки в странах “третьего мира”.
Деятельность этой межгосударственной экономической организации внутри блока не исключает переговоров и споров. Нам достоверно известно, что цены на продукцию, которой обмениваются социалистические страны, вызывали ссоры. В 1956 г. Польша добилась задним числом повышения цены на уголь, проданный Советскому Союзу. Видимо, продолжаются и другие дискуссии, хотя социалистические государства утверждают, что придерживаются мировых цен. Спор идет вокруг вопроса: не выгодны ли эти цены какой-то одной социалистической стране за счет другой?
Не обходится без трудностей и распределение обязанностей между странами блока. Ни одна из них не хочет пожертвовать ни одним из так называемых важнейших видов производства. Ни одна не соглашается слишком зависеть от другой, хотя все зависят от Советского Союза в области снабжения сырьем. После того, как СССР очертил определенные рамки для дискуссий, в отношениях стран-сателлитов друг с другом и с Большим братом, видимо, действуют правила переговоров. Представители этих стран встречаются, ведут споры, стремятся убедить друг друга. Они не ставят под сомнение свое сообщество — блок, образованный на основе экономики одного строя, не зависимый от капиталистического мирового рынка. Но каждый стремится обеспечить себе преимущества, пуская в ход традиционную игру требований и уступок. После 1956 г. Польше даже удалось получить кредиты одновременно от Советского Союза и Соединенных Штатов. Двусмысленный характер правления Гомулки дал ему дополнительные возможности вести переговоры как с одной, так и с другой великой державой: несколько либерализованный коммунизм представляется обеим предпочтительнее возвращения, быть может, кровавого, к сталинизму.
Экономические отношения между Советским Союзом и странами-сателлитами развивались в двух противоположных направлениях. С 1945 по 1953 гг. господство СССР укреплялось, и эксплуатация сателлитов, даже тех, кого нельзя было отнести к прошлым врагам, усиливалась. Планирование в масштабах блока, разделение труда между партнерами оставались проектами или темами для пропаганды. После 1953 г. СССР ослабил свое господство, оставил проводникам национальной политики 524 Раймон Арон* Мир и война между народами
История
поле для маневра, терпел медлительность аграрной коллективизации в Польше, дал импульс деятельности СЭВ’а. Он перешел от эксплуатации (создания смешанных компаний с преобладанием советского влияния, изъятия репараций, занижения стоимости товаров, поставляемых сателлитами) к помощи (предоставлению долговременных займов). На Востоке, как и на Западе, Большой брат пришел на помощь властителям-сателлитам, которым угрожало народное недовольство. В известной мере Советский Союз боролся рублем против ревизионизма, так же как Соединенные Штаты боролись долларом против коммунизма и нейтрализма.
На Западе первая фаза имела характер, противоположный первой фазе на Востоке. Соединенные Штаты помогали восстановлению европейских стран, и в 1948 г. они приступили к выполнению плана Маршалла, который должен был одновременно ускорить экономический подъем этих стран и воспрепятствовать экспансии коммунизма. Американская концепция в тот период была полностью противоположна советской концепции. План Маршалла подталкивал европейские народы к объединению в единый ансамбль, он способствовал созданию такого ансамбля, принявшего форму Организации европейского экономического сотрудничества, и даже “торговой дискриминации” американских товаров. Европейские страны предоставляли друг другу такие торговые льготы, в которых они отказывали Большому брату, в то время как враждебная пропаганда обвиняла его в империализме и неоколониализме. Чтобы заполнить “долларовую брешь”, Соединенные Штаты побуждали своих союзников к сотрудничеству и заполучили “весомого собеседника” в лице европейского сообщества. В тот же период, с 1948 по 1953 г., Сталин не знал никаких иных отношений, кроме двусторонних, с каждым из своих сателлитов, взятых в отдельности.
Соединенные Штаты исходили из экономических соображений: подъем Европы невозможен, если европейские страны снова совершат ошибки тридцатых годов и вернутся к практике национального планирования, административного управления внешней торговлей, когда все стремятся продать побольше, а купить поменьше.
На Востоке каждое государство-сателлит должно было в экономической области быть похожим на микроскопический Советский Союз. На Западе все европейские страны должны были брать пример с Соединенных Штатов. Цель США состояла в том, чтобы сделать свою помощь ненужной, вернуть европейским странам утраченную независимость (независимость экономическую, а не военную). Советская политика имела целью окончательно закрепить экономическую зависимость сателлитов, снабжение которых сырьем могло быть обеспечено только Советским Союзом.
Американская политика завершилась успехом, причем таким, который, возможно, превзошел ожидания ее инициаторов. Доказательство этого успеха имеет двойной характер. В течение пятидесятых годов показатель экономического роста европейских стран был выше, чем в Соединенных Штатах, и особенно быстро продвигались вперед континентальные страны Западной Европы, опережавшие англосаксонский мир — Великобританию и США. Старый континент вступил в период массового производства потребительских товаров длиМир и война между народами • Раймон Арон 525
Часть III
тельного пользования, бурного роста производства автомобилей, холодильников, телевизоров. Еще более разительным доказательством успеха стало накопление золота и долларов Германией (Бонн) и Италией. Дефицит платежного баланса перешел на другую сторону Атлантики, доллары перестали быть редкостью, их оказалось слишком много. За десять лет США потеряли золота на шесть миллиардов долларов. Результатом плана Маршалла и всей американской политики стало восстановление мирового рынка, так же, как результатом советской политики стало создание мирового социалистического рынка. Но последний связывает государства с их Большим братом, а первый дает им растущую самостоятельность по отношению к доминирующей экономике.
Экономические отношения между западными странами сопровождались постоянными многочисленными переговорами. Торговая дипломатия стала почти самостоятельной сферой, где действуют чиновники-специалисты, а министры лишь смутно могут понимать язык, малодоступный для профанов.
В первой фазе, в период плана Маршалла, основной целью переговоров между европейцами было распределение долларов и постепенная разработка правил свободной торговли и функционирования Европейского платежного союза. Через образование межгосударственной организации правительства создавали систему многосторонних платежей, устраняя административный контроль над импортными операциями. Одновременно миссии плана Маршалла в каждой стране оказывали воздействие на правительства, побуждая их бороться с инфляцией, открывать пути для товарообмена, увеличивать капиталовложения. Эти переговоры носили традиционный характер. Каждый из участников стремился добиться уступок от Большого брата или от своих партнеров. Каждый поочередно ссылался на свои слабые и сильные стороны, на мощь противника и на свой вклад в общее дело. Каждый пытался убедить собеседников, никто не мог понукать ни Большим братом, ни младшими братьями. Единственный парадокс этих переговоров состоял в том, что поскольку распределение помощи должно было теоретически зависеть от нужд каждого ее получателя, то возникал риск поощрить плохое хозяйствование, поскольку потребность в американской валюте возрастала вместе с ростом инфляции.
Дополнительные трудности возникли в 1950 г., после того как Франция предложила создать “Европейское объединение угля и стали”. После этого переговоры о создании наднациональных организаций, имевшие долговременный характер, сочетались с текущими переговорами об условиях товарообмена и международных платежей. Партнеры, входящие в европейское сообщество шести стран, наладили между собой отношения особого типа. Верховная административная власть обладает определенными полномочиями, наднациональными на бумаге, но она представлена людьми, не отказавшимися от своей национальной принадлежности и защищающими поочередно то интересы свой страны, то интересы наднациональной организации. Кроме того, администрация испытывает как изнутри, так и извне влияние национальных правительств.
После заключения Римского договора отношения между европейскими странами приобрели новые масштабы. Страны, не входящие в “шестерку”, были »^526 > Раймон Арон • Мир и война между народами
История
в разной степени враждебны к Общему рынку, который по определению проводит различие между его участниками и неучастниками. И те и другие постарались заручиться поддержкой Большого брата, а неучастники в то же время стремились более или менее явно склонить к дезертирству отдельных участников, верность которых Общему рынку казалась непрочной.
Каковы были характерные черты экономической дипломатии внутри атлантического блока на протяжении пятидесятых годов? Военная сила не оказывает здесь никакого влияния на способность одной страны навязать свою волю другим в переговорах вокруг строго экономических целей. В ответ на конфискацию имущества своих подданных на территории иностранного государства державы уже не посылают канонерок: их отгонят огнем береговых батарей, и надо будет посылать целую экспедицию. Что касается союзных стран, то такая возможность вовсе исключена. Конечно, сильное в военном отношении государство обычно обладает значительными ресурсами, вес которых оказывает влияние на все переговоры. Но в этой области соотношение между силой и влиянием носит более тонкий характер, чем представляют себе некоторые близорукие “реалисты”.
Разумеется, тогда, когда государство получает большую часть иностранной валюты, необходимой для финансирования импорта, от продажи одного товара (олово, хлопок или кофе), оно зависит от своего основного клиента больше, чем тот зависит от него. Но переговоры, о которых мы говорим, проводились между индустриальными странами с дифференцированной экономикой. Ни одна из них не зависела от одного или от главного клиента, ни одно не было вынуждено в результате дефицита платежного баланса добиваться займов у Большого брата. Переговоры касались одновременно таких проблем, как таможенные уступки, создание международной системы платежей и образование региональных группировок. Переговоры о снижении пошлин представляют собой по сути дела торг, где крупное государство имеет более широкое поле для маневра, потому что для него равноценные уступки значат меньше, чем для малой страны. Но по той же причине малое государство может добиться более выигрышных условий, ибо существенные для него выгоды ничего не значат для страны с двадцатикратно превосходящей численностью населения.
В то же время малая страна не в состоянии ответить репрессалиями на меры, принятые крупной державой или каким-либо сообществом, которые она сочтет несправедливыми. Закрытие швейцарского рынка для капиталов стран “шестерки” вызвало скорее улыбки, чем беспокойство. Когда же американский президент пытается ограничить ввоз швейцарских часов, пуская в ход статью закона о защите национальной промышленности, находящейся под угрозой, у Швейцарии нет другого оружия кроме протестов, напоминания о либеральных принципах, которые провозглашает Большой брат западного мира. И моральное оружие не всегда оказывается неэффективным.
Дипломатическая борьба между Францией и Великобританией, вызванная Римским договором1, представляет 1 Римский договор об учреждении Европейского экономического сообщества (Общего рынка) был подписан в 1957 г. Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Вступил в силу с 1958 г. Затем к нему присоединились другие европейские страны. (Прим, перев.)
Мир и война между народами • Раймон Арон 527
собой нечто среднее между двумя видами политических и экономических отношений внутри блоков. “Шестерка” заключила договор, которым предусматривалось создать в течение пятнадцати лет Общий рынок с единым внешним таможенным тарифом и согласованным законодательством. Свободное передвижение лиц, товаров и капиталов — конечный результат всех усилий — должно быть подчинено общим законам, задачам формирования совместных институтов. Некоторые из вдохновителей малой Европы не скрывали, что само создание Общего рынка призвано быть скорее средством, чем целью, — средством экономической интеграции, которая, в свою очередь, должна стать орудием создания политической федерации.
Великобритания и малые страны Европы (Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Австрия, Португалия) неодобрительно смотрели на экономические инструменты, применяемые для проведения этого начинания в жизнь, не говоря уже о самих политических целях. Лондон указывал на следующие пороки: во-первых, в отношении норм торговли, зафиксированных в международных документах1, вводилась тарифная дискриминация других стран. В конце переходного периода германские товары будут свободно ввозиться во Францию, в то время как английские товары будут облагаться пошлинами, предусмотренными общим внешним тарифом. Эта дикриминация, хотя и незначительная в первые годы, приведет к негативным последствиям, сперва потребители и импортеры приспособятся к ней, а потом она усилится и приведет к существенным различиям в ценах.
Во-вторых, процент экономического роста в континентальных странах Европы был в пятидесятых годах самым высоким. После открытия границ конкуренция здесь усилится, и, возможно, экономический прогресс в этих странах получит дополнительный импульс. Не отстанет ли в результате производительность британской промышленности, защищенной слабыми или нулевыми таможенными тарифами на сырье и высокими тарифами на готовые изделия и товары широкого потребления?
Но как бы то ни было, “шестерка” стала на путь создания первостепенного по своему значению экономического сообщества — самого крупного в мире импортера сырья, становящегося постепенно самым крупным экспортером готовых изделий. Если бы эти страны смогли вести переговоры единым фронтом, как одно государство, то вскоре их вес в области экономической дипломатии стал бы несравнимо большим, чем вес Великобритании, и, по крайней мере, равным всему Британскому содружеству наций.
Германия обладает самой развитой, самой передовой промышленностью и неизбежно станет наиболее сильным, наиболее динамичным партнером. Не будет ли она оказывать завтра наибольшее влияние на руководящие органы и деятельность всего европейского сообщества? И если оно преобразуется в федерацию, то не откроет ли это путь для утверждения ведущей роли Германии на западе Европы? Такое мирное преобладание, конечно, не было бы похожим на гегемонию вильгельмовской Германии или на империю Гитлера, но тем не менее это могло бы разбудить некоторые
1 Документ ГАТТ.
^528 Раймон Арон • Мир и война между народами
воспоминания и разбередить старые чувства.
Что касается малых стран Европы, то их враждебность по отношению к Общему рынку легко объяснима. Ни нейтральные государства (Швеция, Швейцария, Австрия), ни страны, имеющие атлантические обязательства, но традиционно тяготеющие к океаническим государствам, не хотели бы стать членами в основном континентального объединения. Политические последствия этого шага могли бы, по мнению Москвы, оказаться несовместимыми с нейтралитетом. Но Швейцария и Австрия — континентальные страны, самая большая доля товарооборота которых осуществляется со странами “шестерки”. Они отказывались выбирать между тарифной дискриминацией вследствие неучастия в интеграционном процессе и согласием с обязательными требованиями интеграции; каждый вариант представлялся им одинаково неприемлемым.
Европейское объединение в рамках “шестерки” и в форме Общего рынка вызвало на старте раскол среди бывших членов Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), действовавшей в тени плана Маршалла. “Призывая к единству, вы осуществляете раскол”, — с горечью и иронией говорили англичане. “А как же объединиться, — спрашивали члены “шестерки”, — если не отделить тех, кто готов взять на себя новые обязательства, от тех, кто доволен существующим положением вещей и действующими формами межправительственного сотрудничества?”
Великобритания и малые страны Европы имели основания быть недо-
История <»и««>л«»ЙК»»»:-л«:«»»»\^«« ~Л .«•». хлЛх.»»» >»»»»>.«»»« «.»к»''-«- >
вольными Общим рынком. Франция имела основания быть недовольной проектом создания зоны свободной торговли. Внутри нее товары должны были пользоваться такой же свободой перемещения, как и внутри Общего рынка, но участники этой зоны не обязаны были ни устанавливать общий таможенный тариф, ни интегрировать свою экономику (или согласовывать соответствующее законодательство), ни проводить общую сельскохозяйственную политику, ни принимать общие для всех законы.
Конечно, проектом допускалась возможность переговоров и предоставления друг другу уступок. Первоначальный вариант, выдвинутый Великобританией, служил лишь отправной базой, он представлял собой идеальный проект для Лондона, но английское правительство было готово сделать несколько шагов навстречу французским тезисам, если бы Париж со своей стороны согласился с принципом создания зоны свободной торговли.
Но французское правительство не соглашалось1 и не могло согласиться с этим принципом по двум основным причинам. Французские предприниматели, которые с опасением относились к конкуренции внутри Общего рынка, тем не менее были готовы испробовать этот путь. Они возражали только против его немедленного расширения. Риски, связанные с конкуренцией в рамках “шестерки”, поддавались подсчету, не вызывая большого беспокойства. А создание зоны свободной торговли казалось чреватым скрытыми угрозами. У французского правительства были и более веские причины противиться одновременному образованию двух организаций. В
1 Хотя в начале переговоров оно одобрило этот принцип.
Мир и война между народами • Раймон Арон 529
Часть III
том случае, если бы зона свободной торговли была создана в одно и то же время, что и Общий рынок, то реальное значение получила бы именно эта зона. В ее руководящих органах сосредоточились бы лучшие, самые амбициозные, стремящиеся сделать карьеру специалисты. Экономическая интеграция — общая сельскохозяйственная политика, сближение законодательств — все, что осуществлялось в рамках “шестерки” с большим трудом, было бы парализовано и постепенно бы отмерло. Согласиться на создание зоны свободной торговли в тот самый момент, когда Общий рынок вступал в силу, означало бы свести европейское объединение к образованию зоны свободной торговли промышленными изделиями и направить межправительственное сотрудничество стран ОЕЭС в сторону формирования такой зоны, дискриминационной по отношению к остальному миру и не имеющей политической цели.
Речь шла о реальном столкновении интересов между союзниками. Страны “шестерки”, с одной стороны, и Великобритания вместе с малыми странами континента, с другой, продолжали быть едиными в рамках атлантического союза: как для одних, так и для других Советский Союз оставался главным противником, а НАТО, отражавшее их солидарность и американскую силу сдерживания, — их общей защитой. Но позиция каждой из них зависела от политикоэкономической группировки, в которую они входили, и соотношение сил внутри блока колебалось то в сторону Великобритании, то в сторону континентальных государств.
В чем выражалась дипломатическая борьба, связанная с этим спором? Она охватывала два основных направления: собственно переговоры и усилия, предпринимавшиеся с целью повлиять на общественное мнение в других странах — у партнеров, противников и Большого брата. Эти усилия сопровождали весь ход переговоров. Франция особенно стремилась повлиять на Большого брата и своих партнеров, Великобритания направляла свои усилия в сторону Большого брата и партнеров Франции Германию и Нидерланды, где были прочны позиции тех, кто предпочитал зону свободной торговли Общему рынку.
В переговорах и пропагандистской деятельности было немало общего. И здесь, и там собеседникам (участникам переговоров и пропагандистам) надлежало вести дискуссию, они обращались не к невежественной толпе, а к компетентным чиновникам и политическим деятелям, требовалось выдвигать веские аргументы и отвечать на обоснованные возражения. Французские представители, даже зная с самого начала, что их ответ будет в конечном счете отрицательным, не могли сразу же сказать нет, не рискуя вызвать недовольство своих партнеров по “шестерке” и, возможно, Большого брата. Английские тезисы основывались на внешне безупречном доводе: Общий рынок раскалывал участников ОЕЭС на две группы. Французская позиция могла быть понята в Вашингтоне, Бонне и Гааге лишь в том случае, если бы удалось доказать, что зона свободной торговли несовместима с Общим рынком.
Английские пропагандисты выдвигали три основных аргумента. Обращаясь к Соединенным Штатам, представители Лондона обличали дискриминационный характер вводимых таможенных тарифов, указывали на нарушение
530 Раймон Арон • Мир и война между народами
принципа наибольшего благоприятствования в результате предоставления разными странами неодинаковых льгот друг другу и тарифных различий в зоне свободной торговли и Общем рынке. Они утверждали, что объединение Европы на основе плана Маршалла и образования ОЕЭС потерпит крах. Обращаясь к “либералам” в Германии и Нидерландах, английские деятели подчеркивали, что странам, ведущим мировую торговлю, невыгодно объединяться с такой страной, как Франция, которая традиционно проводит протекционистскую политику (а французам внушалось, что неразумно тесно объединяться с Федеративной Республикой Германии, бывшим врагом и будущим гегемоном).
Французская пропаганда в адрес Соединенных Штатов была похожей и противоположной по содержанию. На обвинения в дискриминации ответ был прост: зона свободной торговли носит не менее дискриминационный характер по
отношению к американским товарам, чем Общий рынок. Она позволяет входящим в нее тринадцати странам так же дискриминировать американские товары, как и странам “шестерки”, обвиняемой англичанами. Любое торговое объединение предполагает тарифную дискриминацию третьих стран. Для Соединенных Штатов зона, охватывающая всю Европу, была бы более неудобной в экономическом плане, чем Общий рынок, ограниченный шестью государствами. На довод о расколе Европы государства “шестерки” отвечали ссылками на то, что происходит объединение континентальной Европы. Могут ли Соединенные Штаты, энергично поддержавшие создание европейской армии, идти наперекор собственной политике, отказав в поддержке Общему рынку, котоИстория
рый стремится к той же цели, но другими средствами? Обращаясь к своим партнерам, и прежде всего к немцам, французы указывали на то, что при отсутствии региональных группировок Германия вечно останется на вторых (или третьих) ролях в мировой экономике, где будут доминировать англосаксонские страны. А через “шестерку” Германия получит, мол, доступ в большую политику. Благодаря большому объему своей торговли и положительному платежному балансу Общий рынок будет, дескать, способен выступать независимо на развивающихся рынках Азии, Африки и Латинской Америки. В военной области “шестерка” явится просто партнером атлантического блока. В экономическом плане она будет способна противостоять Соединенным Штатам. Во всяком случае, она сможет стать субъектом мировой экономики в том же качестве и с тем же весом, что и США.
Дискуссии продолжались в течение полутора лет. Эксперты рассматривали одну за другой проблемы в различных областях: необходимость составления свидетельств о происхождении товаров вследствие тарифных различий в других странах, связи Великобритании с ее Содружеством наций, сельскохозяйственная политика, общие руководящие органы, сближение законодательств, налоговая самостоятельность (сохранит ли каждая страна право изменять таможенные тарифы без согласия своих партнеров?). Но эти дискуссии никогда не принимали характера подлинных переговоров, в полном смысле этого слова, то есть с торгом и предоставлением взаимных уступок. Тактика Франции, намеренно или нет, состояла в том, чтобы, не беря на себя ответственность за раскол, сделать очевидной для партнеМир и война между народами • Раймон Арон
531
Часть III
ров невозможность создания зоны. В конце 1958 г. англичане сами пошли на разрыв: им не удалось ни перетянуть на свою сторону партнеров Франции, ни убедить США в правильности своих тезисов. В чем состояла отличительная особенность этой дипломатической баталии? Она выглядела скорее как внутриполитический конфликт, чем как столкновение суверенных государств. Будучи союзниками, решившими быть вместе и в радости, и в горе, соперники не могли прибегать к крайним мерам. Англия не могла помешать шести странам создать Общий рынок, соответствующий требованиям ГАТТ. Она должна была внушить американским руководителям, что Общий рынок противоречит интересам Европы и Соединенных Штатов, убедить общественное мнение или руководителей в Германии и Нидерландах, что Общий рынок будет испытывать влияние французского протекционизма, а французское общественное мнение — в том, что этот рынок приведет к немецкой гегемонии. Не убедив ни тех, ни других, англичане вынуждены были признать Общий рынок, то есть размежевание между “шестеркой” и остальными западными странами, и попытаться найти другую дорогу к объединению континентальной Европы. Образование малой зоны свободной торговли указало на одну возможность1, но прямое присоединение Великобритании к Общему рынку могло бы означать и выбор другого пути1 2.
Нарисованная нами картина не очень отличается от конфликта между партиями, когда каждая из главных участниц может взять верх, только заручившись поддержкой нейтральных наблюдателей или перетянув на свою сторону партнеров соперничающей партии. В то же время схема, которую мы рассмотрели, может быть, и не во всем соответствует ситуации, которая складывается во внутренней жизни государств. Конечный результат битвы за Общий рынок — это отделение или неотделение “шестерки” от остальных европейских стран. Конечный результат борьбы между политическими партиями — это всегда, по определению, создание правительственной коалиции, принятие решений большинством (или отказ от конституционного процесса). Партии должны жить вместе, в то время как “шестерка” требовала, так сказать, развода.
Сходство проявляется скорее в методах и образе действий: собеседники этих дипломатических переговоров были втянуты, как политические партии, в диалог, представлявший собой одновременно и интеллектуальную дискуссию, и состязание в ловкости, проводимое по неписаным, продиктованным обстоятельствами правилам. Никто не вправе прибегать к военной силе, никто не может угрожать даже торговой войной. Такие угрозы были бы плохо восприняты общественным мнением, они совершенно не вязались бы с духом главного союза между участниками спора, и никакие нарушения устава ГАТТ не могли бы послужить оправданием этих угроз. На рапирах были надеты, или должны были быть надеты, предохранительные наконечники. Игро1 Она представляет собой прежде всего средство давления на партнеров Франции, особенно на Гер манию, угрожая ей торговой дискриминацией на скандинавских рынках.
2 В июле 1961 г. правительство Г. Макмиллана (Н. MacMillan) пошло по этому второму пути.
ж* 532 кал Раймон Арон • Мир и война между народами
ки были резонерами, а выигрывали самые ловкие и самые решительные. Если бы сторонники министра Эрхарда победили сторонников канцлера Аденауэра, если бы странам “шестерки” не удалось выработать общую сельскохозяйственную политику, если бы американская администрация перестала поддерживать “шестерку”, то битва приняла бы другой оборот и выигрыш оказался бы в другом лагере.
4. Внутриблоковые конфликты
Политические схватки между партнерами по атлантическому блоку можно разделить на четыре категории: конфликт между двумя партнерами, которые были врагами (территориальные споры, вопрос о Сааре), конфликт между партнерами вокруг мер по организации блока, особенно затрагивающих одного из бывших врагов (перевооружение Федеративной Республики Германии), спор между партнерами по поводу ответа на шаги, предпринимаемые другим блоком, разногласия по поводу отношений с теми регионами вне блока, где партнеры не проводят согласованной политики. Надо сказать, что слово конфликт не всегда здесь служит подходящим термином. Иногда речь идет скорее о расхождениях, связанных с поиском наилучшего решения и похожих на разногласия между различными администрациями или различными партиями одной страны.
История
Оставим в стороне конфликты третьего типа, которые относятся к сфере дипломатии как внутри блоков, так и между блоками. Что касается трех других типов, то, не входя в детали, мы попытаемся рассмотреть характер, правила и особенности этой мирной борьбы.
Конфликт вокруг Саара после второй мировой войны выдержал второе издание. Версальский договор предоставил Франции управление Сааром1 и право эксплуатации угольных шахт в виде компенсации за разрушенные немцами шахты на севере страны. Спустя пятнадцать лет плебисцит должен был решить судьбу этой территории, богатой углем и другими промышленными ресурсами.
После Второй мировой войны, когда повсюду ощущалась острая нехватка угля, французские представители на переговорах требовали и добились1 2 временного отделения Саара от Германии. Материальное положение жителей Саара в первые годы после капитуляции III рейха было значительно лучше, чем у их соотечественников в Федеративной Республике. Вместе с тем французская администация вводила демократические формы правления: в соответствии с западными принципами партии вступали в состязание друг с другом с той только оговоркой, что основы этого правления, то есть автономия Саара, не должны были ставиться под сомнение.
С самого начала обозначилась зыбкость всех этих усилий. Господствующая в западном мире идеология не позволя1 По Версальскому мирному договору 1919 г. Саарский бассейн в течение 15 лет должен был управляться комиссией Лиги наций во главе с председателем-французом. Франция вступала во владение угольными копями этого бассейна также в течение 15 лет. (Прим, перев.).
2 Советский Союз выступил против этого требования, что послужило причиной разрыва между СССР и Францией на Московской конференции в январе 1947 г
Мир и война между народами • Раймон Арон i 533
Часть III
ла Франции ни аннексировать Саар, ни навязать ему авторитарный режим. Правительство должно было состоять из жителей Саара, которые могли обсуждать все, кроме присоединения его к Германии. Пока существовал контраст между победителями и побежденными, между нищетой в оккупированной Германии и относительным комфортом угнетенных саарцев, режим, сочетавший демократию и черты проконсульства, удерживался без труда. Положение стало иным, когда произошло “германское чудо” и когда Франция и Федеративная Республика, пойдя по пути примирения, проявили одинаковое стремление покончить с этим спором.
Возможно, саарцы предпочли бы для себя европейский статус, если бы он был связан с европейским оборонительным сообществом. Но, может быть, они проголосовали бы за возвращение в Германию, если бы им был предложен свободный выбор. Население, живущее вдоль границы, сознающее свою национальность, не может в нормальных условиях не выступать за воссоединение со своим национальным государством. Комбинация “демократия и отделение” не устояла на референдуме, проведенном в должной форме. Даже содержавшаяся в германо-французском договоре 1955 г. угроза сохранить “статус кво”, если будет отклонен европейский статус Саарской области, не помешала саарцам проголосовать за Германию. Они вполне здраво посчитали, что этот договор сам по себе не сможет быть реализован вопреки формально выраженной воле жителей Саара. Так и случилось.
Саарский конфликт нельзя считать типичным примером международного конфликта. Он был похож скорее на спор между союзниками, чем на столкновение между врагами, хотя речь шла о повторном конфликте, уже разделявшем обе страны во времена их вражды. Он является поучительным примером силы неписаных правил. Франция не могла, не отрекаясь от самой себя, не подрывая идей, которые она и атлантический блок провозглашали, отказать саарцам в праве на свободу, а следовательно, в первейшем праве выбирать свою национальную принадлежность. Запрет пропаганды воссоединения с боннской республикой и партий, благоприятно относящихся к такому воссоединению, отпал сам собой, когда был организован референдум. Возможно, если бы французы пошли на риск, то референдум, организованный до 1950 г., дал бы иные результаты. Хотя я сомневаюсь, что подобные результаты были бы приняты как окончательные. В историческом плане французская политика, с теми средствами, которыми она располагала, была обречена на поражение. Это было почетное поражение в том смысле, что оно не подорвало франко-германского примирения и Франция без горечи склонилась перед волей населения.
Ссора вокруг проблемы перевооружения Федеративной Республики (нужно ли говорить о конфликте или споре?) также носила смешанный характер. Речь шла о расхождении взглядов на пути укрепления обороны и усиления позиций блока. После войны в Корее партнеры по атлантическому союзу под воздействием США решили, каждый в отдельности и все вместе, принять меры для перевооружения своих стран. Каким в этих условиях должно было стать положение Германии? Должна ли она рассматриваться по-прежнему лишь как объект политики и театр военных дейл 534
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ствий? Или же она, в свою очередь, должна стать одним из партнеров блока?
Если следовать традиционному образу мышления, то ответ не вызывал сомнений. Перевооружить боннскую республику, рассматривать ее как союзника, а не противника, означало укрепить блок, добавить германсккие войска к тем, которые охраняют демаркационную линию, границу западного мира. Но проблема перевооружения Германии вызвала бурю во Франции.
Германия — это вчерашний враг. Война, развязанная III рейхом, закончилась еще совсем недавно. Память о ней еще не ушла в прошлое, и связанные с ней чувства еще едва улеглись. Французские министры заявили, что время, когда французы и немцы смогут служить под одним знаменем, еще не пришло. Даже если оставить в стороне понятные эмоции, то по поводу германского перевооружения выдвигались и вполне резонные аргументы. Какова будет реакция Советского Союза на подобное решение? Не усмотрит ли он в этом доказательство агрессивных устремлений Запада? Если дать оружие немцам, то не станет ли это окончательно непреодолимой стеной между Федеративной Республикой Германии и Германской Демократической Республикой? Не увеличит ли это международную напряженность? Иными словами, французские дипломаты могли как партнеры чистосердечно вести дискуссии со своими американскими коллегами, пытаясь взвесить все “за” и “против”, вероятные последствия и возможные риски принятия решения, затрагивающего весь блок в целом. И наконец, французские представители могли проявлять беспокойство о том, как перевооружение Германии, переход ее в статус союзника повлияет на соотношение сил внутри блока. До 1950 г. Франция была единственной входящей в блок средней державой на континенте. После 1950 г., если бы американский проект был принят, она должна была бы считаться с другой державой такого же масштаба, как и она сама. Иными словами, было ли перевооружение Германии приемлемо для французского общественного мнения? Уместным в отношениях с Советским Союзом? Благоприятным ддя французских позиций внутри блока?
Невозможно точно измерить воздействие каждого из этих трех аргументов на общественность или на состояние умов руководителей. Речь не идет о том, чтобы детально рассмотреть продолжительные споры между различными группировками во Франции, между французским и американским правительствами. Последнее сумело без большого труда заставить всех партнеров по блоку допустить в принципе перевооружение Германии. Франция также, не без колебаний и протестов, подписалась в конечном итоге под этим принципом, но пути его претворения в жизнь оставались неопределенными. Проект создания европейской армии, выдвинутый Парижем по предложению “европейской партии”, придал новое измерение спору во Франции и вне ее.
Североатлантический союз предоставляет каждому его участнику право вето на решения блока, и прежде всего касающиеся перевооружения Германии. По закону и на практике Соединенным Штатам было бы трудно игнорировать оппозицию Франции. Конечно, Франции также было бы трудно воспользоваться своим правом вето вопреки общей воле всех партнеров по блоку. Но эта воля была скорее заявлена официМир и война между народами • Раймон Арон < <
535 ’
Часть III
ально, чем отражала подлинные настроения. Другие партнеры согласились с американским проектом, но не все они разделяли нетерпение Вашингтона и не все возмущались обструкционистской политикой Франции. Какими средствами в этом испытании воли располагали Большой брат и упрямый Малый брат?
Первый, очевидно, не мог бы использовать свою военную силу. Теоретически он имел возможность приостановить или сократить помощь, предоставляемую по плану Маршалла, но такая попытка принуждения вызвала бы яростную реакцию не только во Франции, но и в самих Соединенных Штатах и в других государствах блока. США приходится считаться с официальной идеологией западного мира, идеологией равенства между союзниками. Они могли пустить в ход угрозу, либо поставив под вопрос американское присутствие в Европе, либо обещая подписать с Бонном двусторонний договор вне рамок атлантического союза. Угроза “драматического пересмотра” позиций не была принята всерьез французским общественным мнением. Оно считало не без основания, что Соединенные Штаты защищают Европу, исходя из своих собственных долговременных интересов, иными словами, что угроза ухода — это шантаж. Что касается угрозы заключения двустороннего договора Соединенных Штатов с Бонном, то к ней отнеслись серьезно, и она способствовала получению согласия французского парламента на вступление Федеративной Республики в атлантический союз1.
Французские правительства пускали в ход разнообразные аргументы. Они неоднократно демонстрировали добрую волю, но ссылались на то, что вопрос о перевооружении Германии требует голосования в парламенте. Министры не способны, мол, заставить Национальное собрание ратифицировать договор о создании Европейского оборонительного сообщества или одобрить какую-либо другую формулу, позволяющую дать оружие боннской республике. Проект создания европейской армии, при котором перевооружение Германии стало бы новым этапом на пути объединения Европы, с энтузиазмом был поддержан американской администрацией. Она готова была подождать, чтобы не подорвать шансы образования европейской организации, значение которой превосходило конъюнктурные военные соображения. В то же время Париж заявлял, что он несет бремя далекой и непопулярной военной кампании в Индокитае. Сама слабость Франции составляла ее силу. Когда она напоминала американским руководителям опасность “обвала”, если Большой брат будет оказывать слишком сильное давление на здание, давшее уже трещину, то французское правительство не блефовало и его собеседники не считали, что оно блефует. Оно не угрожало сделать то, что, по мнению его собеседников, оно не хотело делать (об этом говори л, например, Дж. Ф. Даллес, когда упоминал о возможности “драматического пересмотра” позиций США). Французское правительство ссылалось на то, что оно рискует навлечь на себя всяческие неприятности, если согласится с перевооружением Германии, и его собеседники верили, что оно действительно не в состоянии их предотвра1 Североатлантический договор был подписан в 1949 г. ФРГ присоединилась к нему в 1955 г. [Прим, перев.)
гла 536 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
тить. Шантаж сильного слабым был в этих условиях более действенным, чем шантаж в обратном направлении, потому что слабый не угрожал принять какое-то непоправимое решение, а лишь ссылался на свое тяжелое положение.
В конечном счете Соединенным Штатам удалось несмотря ни на что добиться одобрения французским парламентом перевооружения боннской республики и ее вступления в НАТО. Иначе и быть не могло, поскольку ничто не позволяло надеяться на объединение Германии. Английское правительство опасалось одновременно и того, что Западная Германия получит экономические и торговые выгоды, имея незначительный военный бюджет, и того, что США бурно отреагируют на упорное французское вето. Блок, который включает в свои юридические нормы принцип liberum veto, может функционировать лишь в том случае, если партнеры подчиняются в конечном итоге ряду неписаных правил. В частности, слабые участники не должны злоупотреблять ни своим законным правом на обструкцию, ни возможностью шантажа, которую они извлекают из своей слабости.
Различие мнений англичан и американцев по поводу берлинского кризиса или войны в Корее не подходит под понятие “конфликт”. Речь идет о споре относительно понятия наиболее эффективных мер в конкретной обстановке. Вряд ли можно утверждать, что после начала блокады Берлина или китайского вмешательства в Корее у англичан и американцев были существенно разные взгляды относительно стоящих перед ними задач. И те, и другие хотели спасти Западный Берлин, не развязывая военных действий. В Корее американцы, возможно, сильнее, чем англичане, стремились к объединению всей страны путем военной победы, но перед теми и другими стояла прежде всего одна ближайшая задача: отразить северокорейскую агрессию, и они одинаково не хотели тотальной войны с коммунистическим Китаем. Какие следовало принять решения? На какие риски пойти? Ответы на эти два вопроса были не совсем одинаковы в Лондоне и в Вашингтоне.
Истоком этих споров были не погоня за славой, не тщеславные устремления. которые во время военных действий вызывают споры между генералами. Они не отличались по своему характеру от дискуссий, которые проходят внутри различных управленческих служб, внутри различных партий или даже между отдельными лицами внутри одной и той же политической организации. Можно сказать, что внутри атлантического блока англичане стремились превратить свои расхождения с американцами в дискуссии о методах действий. А французы демонстрировали противоположную тенденцию: представлять эти споры как межгосударственные противоречия.
С декабря 1941 г. все британские правительства были убеждены: союз с Соединенными Штатами необходим для того, чтобы, во-первых, выиграть войну и, во-вторых, обеспечить безопасность Великобритании. Они признавали неизбежным “ американское лидерство”. Следуя этому решению (или покоряясь судьбе), английские лидеры всегда включали в свою тактику одни и те же методы: прежде всего, воздействуя на общественное мнение и выражающие его институты, постараться убедить американских руководителей в принятии такой политики, которая казалась Лондону наилучшей. Если же американские руМир и война между народами • Раймон Арон 537
Часть III
ководители уже приняли свое решение, даже противоречащее предпочтениям Лондона, то надлежало лояльно следовать за лидером, не теряя надежды, что ход событий или критика откроют ему глаза. Таким образом, англичане стремятся повлиять на Соединенные Штаты, используя дискуссии, свою лояльность, готовность к сотрудничеству и добиваясь таким путем защиты своих интересов или своих концепций.
Французы не применяют ни таких средств, ни таких методов. Правительства IV и V Республик маневрировали, придерживаясь совсем иного стиля. Они редко прибегали к дискуссии и часто пускали в ход обструкцию. Во времена IV Республики такая обструкция нередко была основана на шантаже с использованием своей слабости. Обструкция времен V Республики связана с претензией на величие. Противники германского перевооружения из числа руководителей IV Республики редко пытались убедить своих американских собеседников в том, что блок должен или может проводить иную политику (объединение нейтральной Германии, переговоры с другим блоком).
В сентябре 1958 г. генерал де Голль в своем меморандуме потребовал создания директории из трех членов для руководства атлантическим союзом, проведения Соединенными Штатами консультаций перед применением ядерного оружия в любой части мира. Он заявил, что сотрудничество Франции с атлантическим союзом будет зависеть от удовлетворения этих требований. Де Голль не предпринял никаких особых усилий для того, чтобы убедить своих собеседников в обоснованности своих притязаний, предложить приемлемый для всех способ претворения этих принципов в жизнь. Он просто сформулировал требования и затем подкреплял их своего рода дипломатическим эквивалентом “сидячей забастовки”. Во время войны, находясь в Лондоне, лишенный материальной силы, он обладал влиянием благодаря тому, что воплощал интересы народа и символизировал определенную идею. Он привык навязывать свою волю партнерам не путем торга и переговоров, а ставя их перед свершившимся фактом (Сен-Пьер, о-ва Микелон), угрожая отставкой или переездом в Браззавиль или в Москву, занимая вызывающую позицию по отношению к своим союзникам-противникам (Сирия, Штутгарт). С того момента, когда де Голль стал правителем реальной и ослабленной, а не существующей идеальной Франции, союзники-противники в ряде случаев без колебаний принимали вызов. Французы вынуждены были уйти из Сирии не без унижений, которых можно было бы избежать, если бы этот уход, все равно неизбежный, произошел добровольно.
Один из этих двух видов тактики (английской и французской) направлен к тому, чтобы сгладить, а другой, чтобы акцентировать различие между блоком государств и политическим сообществом. Англичане стремятся дискутировать и вести переговоры с американцами в какой-то степени так же, как английские и американские политические партии ведут дискуссии между собой (или как армия, флот и авиация США ведут между собой открытые и подспудные споры). Обе тактики вытекают также из различий между двумя стилями парламентской деятельности. Французские партиипрактикуют обструкцию, то есть несогласие с определенной политикой, если не предлагается взамен какой538 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
то иной курс, проявляя полное равнодушие, реальное или показное, к последствиям этого, то есть к параличу и отсутствию какой бы то ни было политики.
Дело не в том, что французские интересы хуже учитывались в политике блока, чем интересы других партнеров. С тех пор как советский блок стал врагом и создал угрозу для существования некоммунистической Европы, высшим интересам Франции и ее партнеров отвечали укрепление атлантического блока, вовлечение в него боннской республики, победа США в Корее — победа, которая, повышая престиж Большого брата, способствовала безопасности всех союзников. Отличие Франции от других участников блока, четко выраженное в период V Республики, состоит в том, что она более заботится о своем собственном лице, которое не должно сливаться с образом коалиции. Для прагматика первостепенное значение имеют два соображения. Благоприятны ли принимаемые блоком решения для всего блока в целом? Каким образом они затрагивают собственные интересы каждого участника? Руководители IV Республики могли ссылаться на то, что перевооружение боннской республики ведет к риску советского нападения или что оно ослабляет позиции Франции внутри альянса. Но Париж был озабочен и тем, чтобы иметь независимую от Вашингтона и всего блока дипломатию или поддерживать видимость такой дипломатии
Сегодня, в условиях правления де Голля, эта цель стала доминирующей, почти навязчивой идеей французской политики. Когда речь зашла об организации встречи на высшем уровне, то глава государства поставил в качестве условия своего согласия предварительный визит Хрущева в Париж. Он считал необходимым продемонстрировать, что именно он определяет дату встречи, и это было в его глазах достаточной причиной для отсрочки встречи на несколько месяцев. Самостоятельность в принятии решений превратилась из средства достижения каких-то целей в самодовлеющую задачу.
Генерал де Голль никогда не говорил, каких выгод для Франции он ожидает от создания атлантической директории, какова должна быть ориентация блока в Африке или в Азии. В отношении Берлина он поддержал позицию Аденауэра и части американской администрации, настаивавших на необходимости твердого отпора, вопреки критике со стороны английского правительства и другой части американской администрации. До последнего времени генерал де Голль не выступал против партнеров по блоку или Большого брата по конкретным проблемам, при принятии текущих решений. Он протестовал только против распределения командных ролей, против интеграции войск под атлантическим командованием, против англо-американского руководства. Он не очертил собственной оригинальной политики, а лишь потребовал для Франции возможности быть менее зависимой в военных делах и большего участия в руководстве блоком.
Англичане предпочитают искать разные способы повлиять на Большого брата и скорее с иронией, чем с удивлением, взирают на нашего главу государства, который выдвигает невыполнимые требования. Если бы они читали, то вспомнили бы, конечно, доклад полковника де Голля, который мы уже цитировали: “ Как всегда, новый порядок будет рожден в горниле битв, и в конечном счете каждая нация получит то, что Мир и война между народами • Раймон Арон 539 -
Часть III
заслужит благодаря силе своего оружия”. В мирное время лучше было бы сказать “ благодаря силе ”, поскольку оружие — лишь один из видов силы. Никакая обструкция не заставит Большого брата отдать то, что он не волен уступить. Что касается военно-политической автономии, то она есть или ее нет фактически. Дипломатия может создать фикции, но она не способна превратить их в реальности.
5. Конфликты между партнерами вне зоны блока
Атлантический союз—это более чем европейский блок, но это менее чем блок, охватывающий также весь остальной мир. Это парадоксальное, беспрецедентное сочетание его особенностей является логическим следствием общепланетного расширения сферы дипломатической деятельности.
Эта же идея может быть выражена и другим образом. В Европе атлантическое сообщество стремилось действовать как единый блок. В Азии, Африке и Южной Америке каждая страна, входящая в атлантический союз, действует самостоятельно, хотя в некоторых случаях они объединяют свои усилия. В Организацию договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) входят два основных европейских союзника США— Великобритания и Франция. Но участие последней носит почти чисто символический характер.
Отказ Соединенных Штатов придать атлантическому союзу общемировые масштабы объясняется, с одной стороны, диспропорцией между их ресурсами и их обязательствами, а с другой, таким же несоответствием у союзников. В 1949 г. к этому добавлялась и еще одна причина: европейские союзники оставались метрополиями так называемых колониальных империй. Американское общественное мнение враждебно относилось к колониальным империям, которые дипломатия и пропаганда осуждали под именем колониализма. В период между 1945 и 1960 гг. британская, голландская, французская, бельгийская империи распались, а когда пишутся эти строки, только Алжир представляет собой объект вооруженного конфликта1. Атлантический союз неоднократно испытывал различные потрясения, но лишь один раз он подвергся серьезному испытанию в результате различия в позициях, занятых Соединенными Штатами, с одной стороны, и европейскими метрополиями колониальных империй, с другой.
Во время войны Соединенные Штаты под воздействием Ф.Д. Рузвельта охотно выступали в образе либерала. Слова президента по поводу британской империи, его беседы с султаном Марокко были известны вначале лишь посвященным, но впоследствии они были опубликованы. В первые послевоенные годы Соединенные Штаты, не становясь открыто на сторону колониальных держав и стремясь прежде всего к восстановлению Западной Европы, действовали с крайней осторожностью, когда так называемый колониальный вопрос ставился в ООН1 2. С 1945 по 1948 г. они под1 Кризис португальской империи (Ангола, Мозамбик) уже начался.
2 См. “Alliance policy tn the cold wor”, Балтимор, 1959. Публикация Арнольда Уолферса (Arnold Wolfers). Гл. “The United States and the colonial debate".
540
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
держивали переговоры между Республикой Индонезией и Голландией. Лишь в конце 1948 г. США гневно реагировали на вторую “полицейскую акцию”, предпринятую голландской армией. Представители США в ООН открыто выступили против Голландии, которая прибегла к силе и нарушила решения Совета Безопасности. В американском сенате сенатор Ванденберг (Vandenberg) добился принятия резолюции, запрещающей предоставлять финансовую помощь государству, действия которого вызвали осуждение со стороны ООН и против которого применяются санкции этой международной организации. Индонезия получила независимость, и Голландия покинула свои владения, так как США в конечном счете присоединились к лагерю антиколониалистских и просоветских государств.
В 50-е годы в повестку дня — ив историческом плане, и в деятельности ООН — встал вопрос о Северной Африке. Сперва это были Тунис и Марокко, а после 1955 г. — Алжир. Вначале спор шел вокруг проблемы компетенции: относится ли конфликт между Францией и Марокко (или Тунисом) к ведению ООН? Или же Франция, выполняя договор о протекторате, обеспечивает дипломатическое представительство находящихся под ее протекторатом стран, а следовательно, эти страны не имеют права обращаться в организацию, составленную исключительно из суверенных государств? Французские аргументы относительно недопустимости вмешательства ООН носили особенно резкий характер в связи с положением в Алжире, поскольку департаменты на территориях к югу от Средиземного моря уже более века перестали быть государством и получили международное признание в качестве неотъемлемой части владений, находящихся под французским суверенитетом.
Чаще всего американская делегация, не становясь на ту или иную сторону в юридических дискуссиях и не одобряя колониалистских тезисов, не голосовала вместе с антиколониалистским блоком. Итог, подведенный Робертом Гудом (Robert Good), выглядел следующим образом: “ С 1951 по 1957 г. из трех голосований по принципиальным вопросам, касающимся Северной Африки, Соединенные Штаты воздержались один раз. Они голосовали вместе с колониальными державами десять раз (в этих десяти случаях антиколониалистский блок голосовал противоположным образом). И они голосовали вместе с антиколониалистским блоком лишь два раза. Речь тогда шла об одобрении умеренных предложений, выдвинутых латиноамериканцами по поводу Марокко и Туниса. Эти предложения были приняты после отклонения проектов резких резолюций, выдвинутых афро-азиатскими странами. Многие из них не проголосовали за умеренные резолюции в знак протеста, и во всех случаях Великобритания и Голландия воздержались”1. В 1959 г. Соединенные Штаты в последний момент также воздержались и не проголосовали против резолюции, осуждающей французскую политику в Алжире. Эта позиция вызвала во Франции бурю возмущения.
В 1952—1960 гг. США не выступали прямо и открыто против Франции в ходе проходивших в ООН ежегодных дискуссий по поводу Северной Африки.
1 Ibid., р. 250.
Мир и война между народами • Раймон Арон . / 541
Часть III
Независимость Туниса, а затем Марокко стала результатом ошибок самой Франции, и ни правительство, ни общественное мнение в Париже не могли упрекнуть США в том, что они были основным виновником этих событий.
Тем не менее на Соединенные Штаты обрушились упреки с обеих сторон. Хотя они не голосовали вместе с антиколониалистским блоком, но и не защищали последовательно французские позиции, а осторожно высказывали свои симпатии националистам. США выступали за “либеральное” решение колониальных проблем. В то же время заявляли о том, что питают доверие к Франции, к ее благородным целям. Разумеется, полусолидарность США со своими европейскими союзниками не могла не возмущать афро-азиатские страны, но ни те, ни другие не считали все же такую позицию непростительной1.
Соединенные Штаты допустили только два отступления в противоположных направлениях от этой тактики половинчатых решений, которая состояла в том, чтобы голосовать вместе с европейцами, испытывая в то же время симпатии к афроазиатам. После 1950—1951 гг. они безоговорочно стали на сторону французов в Индокитае и выступили против англичан и французов во время их экспедиции в Суэц. Первое решение объясняется коммунистической угрозой, а второе также было продиктовано соображениями, связанными с соперничеством между блоками, хотя оно и привело к совпадению американских и советских взглядов.
В 1945 г. США вначале проявили враждебность, а потом сдержанность по вопросу о восстановлении французской власти в Индокитае. Когда в конце 1946 года вспыхнула война между отрядами Вьетминя и французскими войсками, ни американское общественное мнение, ни правительство Вашингтона не разделяли позиций наших представителей. Война, которую вела Франция, не относилась к числу славных дел свободного мира, пока Хо Ши Мин, национальный герой, требовал освобождения Вьетнама. Размещение войск китайских коммунистов на границе Вьетнама, конфликт в Корее изменили “объективный” смысл событий: Хо Ши Мин, союзник Мао Цзэдуна и Сталина, стал орудием коммунистического империализма, направленным на достижение мирового господства. Своим престижем и популярностью Хо Ши Мин был обязан национализму, символом которого он был в течение многих лет. Поэтому, чтобы добиться успеха, вьетнамское антикоммунистическое сопротивление должно было отнять у коммунистического противника монополию на национализм. Отказываясь вести переговоры с Вьетминем потому, что он был коммунистическим, нужно было найти иных собеседников и дать им то, в чем отказывали бывшему деятелю Коминтерна. Еще не заручившись американской поддержкой, Франция стала проводить, не без колебаний, такую политику. В 1951—1954 гг. Соединенные Штаты, оплачивая стоимость этой войны, в то же время оказывали давление на правительство Парижа, добиваясь, чтобы оно предоставило под1 Выступление США против Голландии в конце 1948 г. объясняется частично тем, что она применила вооруженную силу, а также ее слабостью и теми средствами давления, которыми располагал Вашингтон. Соединенным Штатам приходилось больше считаться с позицией Франции, потому что Франция была необходима атлантическому союзу, потому что до 1954 г. она воевала в Индокитае и потому что французские правительства были неустойчивы, подвергаясь различным угрозам.
542 \***ж&<м Раймон Арон • Мир и война между народами
История
линную независимость ассоциированным государствам.
Эта совместная франко-американская политика страдала от внутренних противоречий, мешавших успеху. Антиколониалисты во Франции не были в достаточной степени антикоммунистами, чтобы вести войну, единственной целью которой было бы предоставление независимости некоммунистическому Вьетнаму. А те, кто видел смысл в такой войне, были националистами, защитниками империи. Офицеры, с которыми мне довелось беседовать в Индокитае, едва терпели наблюдение со стороны американских комиссий. Никто не хотел сражаться только за то, чтобы оставить место вьетнамским некоммунистическим националистам, то есть настроенным, вероятнее всего, проамерикански и антифранцузски. Бидо1 мог только доказывать, что уход из Индокитая повлечет за собой крушение всей империи и что, преграждая путь коммунизму во Вьетнаме, Франция одновременно защищает свое наследие.
Еще одно противоречие подрывало устои франко-американской политики: нельзя в ходе войны создать по команде один национализм, заменяющий другой. Когда одна партия или один человек воплощают собой национальные устремления (эти устремления осознанно возникают лишь у меньшинства населения), то другой партии или другому человеку почти невозможно перехватить монополию, рожденную на основе народных чувств. Во всяком случае, даже если бы Бао-Дай1 2 более целеустремленно стремился к успеху, если бы он был более амбициозным, более энергичным, все равно он представлял собой лишь традиционную легитимность в революционный век.
После заключения Женевских соглашений3 Нго Динь Дьем4 установил антикоммунистический полуавторитарный национальный режим. Если бы Франция способствовала его приходу к власти во время войны, то, возможно, военные усилия независимого и оппозиционного по отношению к Вьетминю Вьетнама могли оказаться эффективными. Поскольку французское правительство не соглашалось с полной независимостью ассоциированных государств, то оно не считало националистов, то есть противников французского господства, подлинными союзниками. Каким бы слабым ни был шанс оспорить у Вьетминя монополию на национализм, французские правительства целиком отказались от этого шанса, не желая допустить, чтобы целью войны стала, пусть и почетная, ликвидация империи. Вьетминь, опираясь на поддержку коммунистического Китая, получил возможность захватить силой оружия или путем переговоров по крайней мере половину страны.
Другим исключением из правила для американской политики посредничества стал ответ США на англо-французскую экспедицию в Суэце. На первый взгляд, он имел совершенно иной характер. Речь уже не шла о попытке сочетать помощь колониальной державе, сочувствие устремлениям народов к независимости и 1 Жорж Бидо — премьер-министр Франции в 1946 и в 1949—1950 гг. (Прим, перев.)
2 Бао-Дай — император Аннама в 1926—1945 гг. Отрекся от престола в 1945 г. Глава государства, созданного на территории Вьетнама, в 1949—1955 гг. (Прим, перев.)
3 Женевские соглашения 1954 г. об Индокитае. Приняты на совещании министров иностранных дел Франции, США, Великобритании, СССР и КНР. Положили конец войне Франции в Индокитае. (Прим, перев.)
4 Нго Динь Дьем — в 1955—1963 гг. президент Республики Вьетнам, провозглашенной на юге Вьетнама после Женевских соглашений. Был свергнут в результате военного переворота и убит. (Прим, перев.}.
Мир и война между народами • Раймон Арон -■ > 543 ■
Часть III
сопротивление советскому империализму. Вынужденные выбирать между Францией, Англией и Израилем, с одной стороны, и Египтом, поддержанным афро-азиатскими странами и коммунистическим блоком — с другой, Соединенные Штаты выбрали лагерь своих противников и нейтральных государств.
Причины такой позиции были многообразны: прагматичными и идеалистическими, спонтанными и обдуманными, персональными и общенациональными. Президент Эйзенхауэр, включившийся в предвыборную кампанию за переизбрание на новый срок, отреагировал на англо-французское выступление как на атаку лично против него. Может быть, он был склонен полагать, что министры в Париже и в Лондоне отрицательно относятся к его кандидатуре. Американская дипломатия основывается теоретически и даже зачастую практически на запрете применения силы, причем сила понимается как вооруженная сила, как регулярные войска одного государства, пересекающие границы другой страны. Было немало случаев, когда США воздерживались от применения военных санкций при национализации американских предприятий в других странах (Мексика, например, безнаказанно национализировала филиалы американских нефтяных компаний). Каковы бы ни были расхождения в толковании понятия “агрессия”, но англо-французский ультиматум и бомбардировка египетских аэродромов не могли быть оправданы никаким адвокатом ни в Совете Безопасности, ни перед Генеральной Ассамблеей ООН. Возможно, существовало секретное соглашение между Парижем и Иерусалимом. Но был этот франко-израильский “сговор” или нет, ничто не давало права англичанам и французам брать на себя роль судьи, вмешиваться для того, чтобы развести воюющие стороны и нападать на то из двух государств, территория которого была захвачена.
Правда, Израиль мог возразить, что переход границы федаинами, специальными диверсионными отрядами, ведущими малую войну посредством покушений и подрывных действий, — это тоже агрессия. Несомненно, Египет совершал в отношении Израиля акты, представляющие собой непрямую или косвенную агрессию. Это понятие содержалось в ряде договоров о ненападении, заключенных в период между двумя войнами, и подробно рассматривалось юристами1. Но после 1945 г. для международной практики было характерно терпимое отношение к организации государствами партизанской войны на территории соседних стран — либо потому, что партизаны слывут защитниками благородных целей (независимость угнетенных народов), либо потому, что правители смирились с этим анахроническим типом насилия, боясь эксцессов насилия законного.
Дилемма, с которой столкнулись американские руководители, была и ясна, и драматична. Поддержать или оправдать французов означало оттолкнуть от себя общественное мнение в афро-азиатских странах и нарушить традицию верности принципу неприменения силы. Осудить французов и англичан означало уступить коммунистическому блоку бескровную победу, поколебать атлантический союз и, возможно, усилить советское влияние на Ближнем Востоке. Из этих двух решений, каждое из которых было в том или ином отношении чревато неприятными по-
1 Тунис и Марокко также виновны в такой агрессии в Алжире по отношению к Франции.
-,» 544 Раймон Арон» Мир и война между народами
следствиями, Эйзенхауэр выбрал без серьезных, видимо, колебаний второе. Он получил поддержку большинства в американском общественном мнении, и лишь незначительное “реалистически мыслящее” меньшинство выдвигало возражения или оговорки. Многие американцы были во власти того же идеалистического воодушевления, как 25 июня 1950 г.1 В тот день Соединенные Штаты взялись за оружие с единственной целью — заставить противника уважать международные законы. В ноябре 1956 г. они снова поставили уважение к закону выше всего — даже выше своей дружбы.
Эпизод, связанный с событиями в Суэце, со многих точек зрения носит патологический характер. Он не случился бы, если бы отношения между американским государственным секретарем и британским премьер-министром были болеедоверительными, если бы плохо осмысленные воспоминания о 1936 и 1938 гг. не побудили председателя французского правительства искать вовне средство завершить нескончаемую войну в Алжире. Англичане быстро ликвидировали последствия этой авантюИстория
ры и забыли о ней как о событии, противоречившем их здравомыслию и послушанию, которое демонстрировалось после 1945 г. Деятели, тосковавшие по империи и одобрявшие внезапный возврат к дипломатии прошлых времен, вскоре ушли в небытие. Лучшие из них были приняты и обласканы консервативной партией, руководимой человеком, который сперва одобрил экспедицию и потом извлек урок из этого провала.
Если оставить в стороне события в Алжире, то прогресс в области деколонизации открывает перспективы более тесного сотрудничества в Азии и Африке между партнерами по атлантическому блоку. Экономический подъем Западной Европы, дефицит платежного баланса США побуждают Большого брата просить поддержки у своих партнеров, чтобы успешно проводить политику помощи странам третьего мира. И вполне возможно, что теперь уже европейцы будут дистанцироваться от империализма янки в Южной Америке так же, как Соед иненные Штаты отказались от поддержки европейского империализма в Азии.
ГЛАВА XVI
Ничейная партия в Европе, или Дипломатические отношения между блоками
Дипломатическая обстановка в Ев- вой войны. Причиной создания двух воропе — прямой результат второй миро- енных блоков или раздела Европы по
1 Автор имеет в виду вмешательство США в войну между Северной и Южной Кореей в 1950—1953 гг. (Прим, перев.)
Мир и война между народами • Раймон Арон 545
Часть III
линии, проходящей через середину территории бывшего Третьего рейха и недавней столицы современной Германии, стали не соперничество двух великих держав и не термоядерная двухполюсность. После 1946 г. Старый континент оказался театром “холодной войны”, потому что был основным полем войны горячей. Разгром гитлеровской империи поставил лицом к лицу Советский Союз и Соединенные Штаты, которые до этого выступали заодно против побежденного, но не могли оставаться вместе, когда встал вопрос о заполнении образовавшейся после этого пустоты.
В 1945—1946 гг. стало ясно, что каждая страна, освобожденная Красной Армией, попадала под власть коммунистической партии. Будучи обладателем власти, она осуществляла революцию сверху, ликвидировала партии и людей, симпатизирующих Западу, устанавливала институты и порядки, скопированные у Большого брата, вчерашнего “освободителя” и сегодняшнего “покровителя”.
Мог ли Советский Союз действовать иначе, то есть разрешить соперничество партий, уважать независимость профсоюзов в западном смысле этого слова? Ни физически, ни политически он не был вынужден советизировать Восточную Европу, угрожая своей армией и используя политические партии, стоявшие на его стороне. Австрия служит лучшим примером того, что процесс советизации не был неизбежен, не происходил автоматически с того дня, когда флаг с серпом и молотом водружался над общественными зданиями. Оккупированная в течение десяти лет четырьмя державами Австрия сохранила социальную структуру и политические институты западного типа. Даже в советской зоне оккупации прозападные партии распределяли между собой голоса, и только незначительное меньшинство избирателей голосовало за коммунистическую партию. То же самое могло бы произойти в советской зоне оккупации Германии, но после 1946 г. объединение компартии и социал-демократов означало, что принято решение о советизации восточной части рейха.
Хотя ничто не заставляло московских руководителей и русские оккупационные власти проводить такую политику, соблазн был велик и необорим. Разве установление коммунистического режима не было в глазах “истинно верующего” завершением военного освобождения, даже если массы, развращенные капитализмом и не думающие о своей судьбе, не хотели такого освобождения, которое несла им власть партии?
Ленинское учение не воспрещает авангарду (партии) пускать в ход насилие, чтобы увлечь за собой основной отряд. Сталинская концепция признает за революциями, совершенными сверху, не меньше достоинств и заслуг, чем за народными восстаниями. Разве Советский Союз был бы верен своему призванию, если бы не воспользовался обстоятельствами и не только не окружил бы себя поясом безопасности, но и не распространил бы за пределами своих границ социализм с маркой “сделано в СССР” ?
Решение о том, какой режим устанавливать в стране, освобожденной Красной Армией, могло иметь только общий характер. Коммунистические Венгрия или Чехословакия не могли быть отделены от Большого брата капиталистическим государством. И Восточную Германию надлежало обратить в коммунистическую веру. Отрезанная от восточных территорий линией по Одеру—Нейсе, несоветизированная часть 546
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
Германии становилась неизбежно антисоветской. Что могло быть лучшей гарантией против возрождения германского империализма, чем Демократическая Республика, руководители которой будут тем более верны Большому брату, чем менее будут пользоваться поддержкой народа?
Образование в Восточной Европе группы государств, которые управляются при помощи методов, заимствованных у Советского Союза, партиями, выполняющими приказы Кремля, не могло быть воспринято на Западе иначе, как империализм. Вполне возможно и даже вероятно, что Сталин и его приближенные не собирались бросить Красную Армию на штурм Западной Европы и поставить США перед свершившимся фактом — появлением русских солдат на берегах Атлантики. Но вместе с тем несомненно, что, стремясь упрочить свои завоевания и ослабить сопротивление стран, расположенных за железным занавесом, Сталин не упускал случая обращаться к Западу с угрозой, которую по своей осторожности не собирался приводить в исполнение. В то время как англичане и американцы осуществляли демобилизацию, русские дивизии, расположившиеся в центре Европы, в двухстах километрах от Рейна, все лучше оснащаемые, оставались готовыми по приказу из Москвы занять в течение нескольких дней еще свободную зону евразийского материка.
В 1946—1949 гг. оба блока носили политический характер и один из них не был вооружен. Подписание Североатлантического договора закрепило американскую гарантию, которую советские деятели считали, очевидно, вполне реальной. События в Корее стали поворотным моментом: они ускорили превращение двух европейских группировок в военные блоки. После 1950 г. западные государства поспешили создать систему обороны, которую они под влиянием гонки вооружений и технического прогресса переосмысливали и реформировали несколько раз. Через десять лет после создания НАТО территориальные границы не изменились. Свободный мир выжил, и это означает, что атлантический союз смог достичь оборонительных целей (предотвратить агрессию), но диалектика военных приготовлений не облегчила, а сделала еще более трудным делом достижение соглашения о сохранении или модификации “статус-кво”.
1. От одностороннего сдерживания к равновесию страха
Два европейских блока асимметричны. Советский блок выступает перед лицом атлантического как единое сообщество. Если начнется война, то, возможно, это единство разлетится на куски. В 1956 г. польская и венгерская армии были верны своим национальным руководителям, а не Кремлю и международному коммунизму. Пока длится мир, дипломатические вопросы (блокада Берлина) и стратегические вопросы (размещение нескольких дивизий в Восточной Германии) решаются в Москве и только в Москве. Мы видим разнообразие институтов (в сельском хозяйстве, например) и идеологических позиций (левые Болгария и Восточная Германия противостоят умеренным — Венгрии или почти ревизионистам — Польше). Это разнообразие, вероятно, оказывает косвенное влияние на руководителей Мир и война между народами • Раймон Арон
547
Часть III
Советского Союза, но они не обязаны консультироваться с правителями-сателлитами или выслушивать их перед принятием решений. А Соединенные Штаты обязаны консультироваться с руководителями Парижа, Лондона и Бонна, прислушиваться к их мнению. В Европе атлантический блок выступает как союз, несмотря на создание военного сообщества, представляющего собой беспрецедентную коалицию.
Эта асимметрия особенно ощутима, поскольку размещение войск советского блока носит наступательный характер (что еще не означает, что он собирается атаковать). В 1949—1951 гг. Советская Армия в Восточной Германии насчитывала 25 полностью укомплектованных девизий, вооружение которых регулярно обновлялось. Западные страны могли противопоставить этой армии лишь несколько неукомплектованных, не соответствующих нормам дивизий, не входящих в единую организацию, не имеющих единого командования. Когда начались военные действия в Корее и возникла угроза расширения войны, западные страны решили, что Европа должна быть способной защищаться.
В 1950 г. США еще обладали ядерной монополией (первая советская бомба была взорвана в 1949 г.). Военные аналитики полагали, что в 1953—1954 гг. двухполюсность сменит монополию. Они выдвинули задачу создать атлантические силы, способные, по замыслам одних, уравновесить советские силы, расположенные вне пределов Советского Союза, или, по проектам других, нанести поражение Красной Армии в случае всеобщей войны. Все военные планы, включая самый амбициозный из них (принятый в Лиссабоне в 1951 г.) план формирования 96 дивизий, исходили из перспективы всеобщей войны с применением обеими сторонами не только классического оружия. Если не военные руководители, то государственные деятели сочетали воспоминания о минувшей войне с упрощенными представлениями о войне будущей. Важно было предотвратить вторжение в Европу: в противном случае возникал риск, что придется освобождать уже покойника. Следовательно, нужно было иметь достаточно многочисленную и хорошо оснащенную атлантическую армию, чтобы “остановить” агрессора как можно дальше на Востоке (forvard strategy).
Спустя несколько лет, в 1951 г., численность атлантической армии, несмотря на значительный прогресс, оставалась намного меньше требований экспертов. Ограниченная цель — создание 30 дивизий — не была достигнута. Перевооружение Федеративной Республики еще не началось. Главы правительств разрешили военным руководителям предусмотреть возможность использования тактического ядерного оружия в случае советской агрессии — даже если бы она осуществлялась с применением только классических вооружений.
К этому времени обе великие державы располагали ядерными системами и знали уже, что может быть создана термоядерная бомба, но взаимное сдерживание было асимметрично в пользу США. Благодаря численному и техническому превосходству своей стратегической авиации, благодаря многочисленности и рассредоточенности своих баз, их близости к жизненным центрам Советского Союза, США могли нанести неизмеримо более крупные разрушения противнику, чем наоборот. Считая себя малоуязвимыми, Соединенные Штаты проводили политику “на грани 548
Раймон Арон • Мир и война между народами
войны" (brinkmanship) и выдвинули теорию массированного возмездия.
Общее неравновесие было не столь велико, как могло показаться, если судить только на основании русско-американского неравенства в способности нанести разрушения друг другу. Ибо уязвимость Европы была абсолютной — уязвимость и для наступления со стороны войск, оснащенных только классическими вооружениями, и для воздушного нападения с применением обычных бомб и ядерных. В случае всеобщей войны Европа была бы либо захвачена, либо (и) опустошена. Естественно, что каждый раз ее повергали в ужас слова американских руководителей о массированном возмездии. Европейцы служили заложниками. Атлантический блок не мог быть крепче, чем самое слабое звено в его цепи. Он не мог брать на себя больше риска, чем могли взять наименее решительные или наиболее уязвимые союзники. В 1950—1953 гг. британское влияние на Вашингтон, как считалось, действовало в сторону умеренности. Неравная степень нависшей угрозы для США и Западной Европы была общим истоком и европейского пацифизма, и американского маневрирования “на грани войны” (brinkmanship).
Два или три года спустя уже не могло быть и речи о массированном возмездии, ибо обе великие державы обладали термоядерными системами. Произошла как бы взаимная нейтрализация оружия массового поражения, возможность применения которого европейские аналитики допускали с 1950 г. Но военно-политические последствия новой ситуации коренным образом отличаются от предсказанных. Никто уже не считает, что обе великие державы, одинаково способные причинить друг другу неприемлемые разрушения, смогут, тем не менее, сражатьИстория
ся, используя оружие вчерашнего дня, не прибегая к современным вооружениям. Одни потеряли в результате интерес к наземному щиту, другие хотят его укрепить.
В 1957 г., после фиаско экспедиции в Суэце, министр обороны Великобритании Дункан Сэндис (Duncan Sandys) выпустил сам или с помощью своих советников Белую книгу, в которой они попытались максимально ясно и просто изложить одну из возможных доктрин. Как утверждалось в этой книге, в Европе не может быть промежуточного этапа между миром (в смысле неприменения вооруженных сил) и тотальной войной. Все доктрины “ограниченного возмездия" или “постепенного сдерживания" опасны. Они уменьшают “правдоподобность” угрозы термоядерного возмездия. В действительности. если военные действия начнутся в Европе, они неизбежно достигнут крайних пределов. Таким образом, специально повышается риск того, чего стремятся избежать. И специально выдвигается фиктивная промежуточная гипотеза, стоящая между двумя сторонами альтернатива — мир или тотальная война. Эта промежуточная гипотеза неминуемо веаа ко второму выбору. В соответствии с такой позицией “все или ничего”, являвшейся официальной английской доктриной до 1959 г., предусматривалось упразднить обязательную военную службу и сократить к 1962 г. армию с 690 до 375 тыс. человек. Численность британских войск, расположенных на Рейне, немедленно была сокращена с 77 тыс. до 64 тыс. человек, а в последующие годы она была еще более уменьшена.
Против подобных рассуждений выступили взволнованная общественность и некоторые эксперты. Никакие военные приготовления, никакие официально провозглашенные тезисы не могут, в
Мир и война между народами • Раймон Арон
549
Часть III
конечном счете, сделать убедительным то, что явно противоречит здравому смыслу и чувству самосохранения. Великобритания и Соединенные Штаты не станут развязывать апокалипсис в связи с незначительным инцидентом, не будучи уверенными, что противник начал глобальное наступление или добивается получения таких козырей, которые атлантические страны не могут уступить без катастрофических для себя последствий. Ужасные результаты термоядерной войны даже для того, кто ее развяжет, столь велики, что решение подобного рода может быть принято лишь при значительных ставках, под неудержимым давлением. Поэтому атлантический блок должен отказаться от абсурдной фикции, выраженной в альтернативе “мир или тотальная война”, и обеспечить себя такими средствами, чтобы в случае провокации или ограниченной агрессии избежать и капитуляции (или бездействия), и апокалипсиса.
В действительности колебания между этими двумя доктринами происходили скорее на словах, чем на деле, и имели абстрактный, теоретический характер: никакой агрессии, даже незначительной, не произошло в зоне, охваченной обоими блоками. В этом отсутствии агрессии нет ничего загадочного. Если оставить в стороне Берлин (рано или поздно Берлин станет причиной и самой ставкой кризиса первостепенной значимости), то не видно, где и почему Советский Союз мог бы привести в движение свои вооруженные силы. Независимо от того, какая была выбрана из крайних доктрин, военная конъюнктура способствовала сдерживанию любой агрессии (в смысле пересечения границ регулярными армиями). Самым эффективным средством сдерживания, предотвращавшим незначительные агрессивные шаги, были не слабые армии НАТО и не Белая книга британского правительства, а те выгоды, которые получил бы тот, кто первым нанес бы атомный удар. Пока Соединенные Штаты подвергались опасности (или думали, что подвергаются опасности) крупной ампутации своего термоядерного потенциала в случае внезапного нападения, пока они поддавались искушению ударить первыми вследствие неравенства преступления и наказания, английская Белая книга 1957 г. имела серьезные шансы оказаться справедливой, хотя и по иным причинам, чем те, на которые она указывала. По мере того, как мир приближался к равновесию страха, а то и к превосходству Советского Союза в области баллистических ракет, эффект стратегии сдерживания становился все менее удовлетворительным. Будучи в основном психологическим, он оставлял поле для неуверенности в сознании как защитника, так и защищаемого.
Первый защитник задается вопросом, какие территории, кроме своей, он может и должен защищать, иными словами, при каких условиях агрессор будет принимать всерьез угрозу возмездия. Защитник должен решить, какими средствами возмездия, начиная с классических вооружений и кончая термоядерной системой, он должен располагать, чтобы никогда не оказаться перед необходимостью выбирать между капитуляцией и апокалипсисом. Что касается защищаемого, то его одолевают два вида опасений. Он не знает, смогут ли обязательства его защитника сдержать противника, и поэтому склонен требовать от защитника все более твердых обязательств, все более автоматического ответа на агрессию. И в то же время он опасается, что, поскольку страх пе550
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ред тотальной войной необычайно велик, недоверие к таким обязательствам окажется сильнее самых торжественных заявлений и что защитник будет вынужден в конечном счете сделать то, чего все так сильно боятся. Короче говоря, защищаемые хотели бы, чтобы противник верил в серьезность угрозы, но чтобы защитник тем не менее имел возможность не приводить ее в исполнение.
Сам характер этой неопределенности вызывает бесконечные споры. Каждый эксперт выдвигает критические доводы против аргументов другого, пока не выдвинет собственной столь же уязвимой программы. Угроза массированного возмездия — это лишь блеф, утверждают некоторые из наиболее известных военных теоретиков, например, Лиддл Гкрт (Liddell Hart). Противник не верит подобным угрозам, если считает, что сам способен причинить приблизительно такие же потери, которые понесет он. Президенту США было бы трудно отдать фатальный приказ командованию стратегической авиации1, если бы Соединенные Штаты сами не подверглись нападению и если этот приказ повлек бы за собой гибель нескольких десятков миллионов американцев. Но в тот день, когда советские дивизии пересекли бы демаркационную линию, в сражение вступили бы солдаты, авиация, ракеты Соединенных Штатов. Стратегическая авиация была бы приведена в состояние тревоги, готовая предупредить удар противника. Кто сможет заявить, что война останется ограниченной? Угроза массированного возмездия, грядущего с неба вследствие какого-то инцидента, — это блеф, но те же самые специалисты, которые разоблачают этот блеф, также оказываются в числе сомневающихся относительно возможности ограничить войну, если она разразится в Европе. Но если и они сомневаются в такой возможности, то почему бы и советским руководителям не сомневаться в этом? А это означает, что термоядерная угроза вполне “правдоподобна”.
Что означала бы ограниченная война в Европе, где ставки в борьбе велики, где с обеих сторон стоят крупные классические силы, если оставить здесь все без перемен? Каким образом один из лагерей согласился бы с изменением демаркационной линии? Рассуждая подобным образом, можно прийти к выводу, что, по всей вероятности, война в Европе будет неудержимо расширяться. Но в таком случае, почему бы не вернуться к первоначальной формуле массированного возмездия, рассеивающей иллюзии о возможности военных действий на Старом континенте, которые не вели бы к последней черте, и дающей, таким образом, наилучшие шансы сдержать любую агрессию, даже ограниченного масштаба и осуществляемую при помощи классических вооружений?
Подобные размышления кажутся убедительными и создают в сегодняшней Европе неустойчивое ощущение безопасности. Правда состоит в том, что Запад не может вызвать апокалипсис в связи с незначительным инцидентом. Поэтому Запад должен обладать войсками и авиацией, способными одновременно и воспрепятствовать возникновению ситуации свершившегося факта, и уве1 Кристиан Хертер, выступая перед комиссией американского сената, заявил “Не будет убедительным ни один президент, вовлекающий нас в ядерную войну, пока не появятся достоверные доказательства того, что мы можем оказаться под угрозой тотального уничтожения или того, что определенные шаги могут привести нас к самоистреблению "
Мир и война между народами • Раймон Арон
551
Часть III
личить ценность ставок в том случае, если агрессор продолжит свое наступление. Но правда также и в том, что угроза массированного возмездия, которую не выставляют напоказ, способствует сдерживанию ограниченных или второстепенных актов агрессии, потому что агрессор не может не бояться расширения военных действий, особенно в нынешний период уязвимости термоядерных систем, В тот день, когда будет заключено четкое соглашение об ограничении войн (например, о неприменении ядерного и термоядерного оружия), вероятность ограниченных конфликтов вновь станет тем большей, чем более участники соглашения будут доверять друг другу.
В этих условиях у европейцев всегда будет повод для беспокойства (у американцев тоже). Если они поверят в возможность ограниченных войн, то станут опасаться превращения своих территорий в поле битвы, в то время как великие державы воздержатся от нанесения взаимных ударов друг другу. Если же у них возникнут сомнения относительно возможнности ограниченных войн, то они будут бояться, что великие державы окажутся виновными в уничтожении тех, кого они обещали прикрывать (а не защищать, ибо прикрытие основывается на сдерживании и провал сдерживания повлечет за собой гибель защищаемых). В зависимости от выдвигаемых гипотез и хода рассуждений европейцы хотели, чтобы американцы были то более сдержанными, то более решительными, то готовыми сдержать свои обязательства, то настроенными их не выполнять.
Каковы же были на фоне этих колебаний реальные меры, принятые НАТО? Соединенные Штаты действовали так, словно они хотели успокоить своих союзников и убедить Советский Союз в своей твердости. Они стали множить доказательства решимости выполнить взятые на себя обязательства, в частности, они добавили к ядерному вооружению своих дивизий (пушки с ядерными боеприпасами, ракеты “земля— земля”) установки для запуска баллистических ракет средней дальности. Эти установки были размещены в местах, известных противнику, уязвимых для воздушных нападений и ударов баллистических ракет средней дальности и лишенных каких-либо укрытий (hardened). Таким образом, они мало что прибавляют к общей способности сдерживания, которой обладают США или атлантический союз. Но в действительности у них двойное предназначение: они символизируют обязательство Соединенных Штатов и делают ограниченную агрессию более трудной задачей. Советские войска не смогли бы пересечь демаркационную линию, не став перед необходимостью устранить эти инструменты возмездия (даже ограниченного, а не тотального возмездия).
В то же время атлантическое командование хотело бы укрепить “щит”, то есть армию. Но оно сталкивается с двумя препятствиями: во-первых, это решимость Великобритании и Франции стать ядерными державами и, во-вторых, нежелание большинства европейских стран нести бремя необходимых расходов и жертв. Безусловная зависимость от американских средств сдерживания внушает правителям и общественности стран Старого континента ощущение бесполезности подобных усилий. За последние три года атлантический блок так и не приспособился к изменению военной конъюнктуры. Понимая, что уязвимость американской тер552 ”
~ Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ритории уменьшает правдоподобность термоядерных угроз со стороны США, их партнеры по атлантическому блоку должны были бы добиваться одновременно подкрепления американских обязательств и расширения диапазона возможных ответных мер. Частично они сделали первое и не сделали второго; основная причина этого изъяна заключалась в том, что атлантическое военное сообщество — это фактически коалиция, а не блок.
Из всех европейских государств политика трех — Великобритании, Франции и Западной Германии — заслуживает отдельного рассмотрения1. Во время второй мировой войны Великобритания участвовала в исследованиях, которые привели к созданию первых атомных бомб. Она первой выделила значительные ресурсы, чтобы приобрести технические средства и знания, необходимые для использования ядерной энергии в военных и мирных целях. В конце 50-х гг. она обладала стратегической авиацией, состоящей из бомбардировщиков со стреловидными крыльями, способными достигать больших высот на дозвуковых скоростях и нести термоядерные бомбы. Но обладает ли Великобритания подлинной силой сдерживания? Она обладает, на худой конец, лишь тем, что английские авторы называют способностью “пассивного сдерживания”: в случае прямого нападения часть ее термоядерной системы имеет шанс выжить и нанести урон агрессору (эффективность возмездия будет зависеть от той доли термоядерной системы, которая останется после удара, нанесенного агрессором). Но это пассивное сдерживание, сомнительное само по себе, в дипломатическом плане представляет собой совершенно незначительную ценность. Обязательства США в отношении Великобритании столь велики, что нападение на Британские острова, совершенное лидерами Кремля, будет означать нападение и на Соединенные Штаты. Поскольку правдоподобность американского ответного удара обеспечена, то единственным рациональным шагом СССР, если он решится на агрессию, должно было бы стать глобальное нападение на всю западную термоядерную систему. Иными словами, от прямого нападения на Британские острова противника удерживает не британская термоядерная система, а совокупность западных, и прежде всего американских, средств возмездия. Кроме того, если бы Великобритания была дипломатически изолированной, ее термоядерная система оказалась бы совершенно беспомощной перед советским шантажом, ибо в случае ограниченной войны между двумя странами их потери были бы несравнимы. Если бы Советский Союз и Великобритания столкнулись лицом к лицу, то первый, возможно, воздержался бы от прямого нападения, чреватого какими-то репрессалиями, но Великобритания должна была бы пойти на большие уступки, чтобы избежать полного уничтожения, которое не компенсировала бы посмертная месть, совершенная остатками британской стратегической авиации.
Обладание термоядерной системой больше способствует влиянию Великобритании внутри коалиции и ее престижу на мировой арене, чем эффективно1 Из остальных интерес представляет только Норвегия, которая является одновременно полноправным, верным и решительным членом атлантического союза и которая, вместе с тем, не соглашается разместить на своей территории в мирное время союзные войска.
Мир и война между народами • Раймон Арон 553
сти сдерживания. В действительности курс английского правительства в области обороны составляет часть глобальной политики, которую метрополия старой империи решительно проводила в жизнь после 1945 г. (экспедиция в Суэц — это исключение, подтверждающее правило, она расколола нацию). Основу этой политики образует прежде всего союз с Соединенными Штатами. Поскольку английский флот уже не правит на морях, правительство Ее величества должно быть постоянным, верным, безупречным союзником державы-хозяйки океанов. Речь идет не о том, что оно примирилось с положением сателлита. Ведущая концепция состоит в другом: полностью принимая на себя обязанности союза, Великобритания обретает наилучшие шансы влиять на ход истории и убеждать американских руководителей. Атлантическое сообщество неизбежно должно находиться под руководством США, и поэтому союзники второго плана, как мы уже отмечали, могут выбирать лишь одну из двух тактических линий, выражающих и символизирующих две стратегии: или воздействовать на события через лидера союза, или оставить себе поле для самостоятельных действий. Английское правительство проявляет равнодушие к степени своей автономии, потому что оно не утратило надежды влиять на решения, принимаемые Соединенными Штатами, так, чтобы они соответствовали советам и предпочтениям Великобритании.
Термоядерная система гарантирует в рамках союза сотрудничество английских ученых с Американским агентством по атомной энергии, доступ, по крайней мере, к части американских научно-технических “секретов”, сотрудничество штабов для непрерывной подготовки и применения в случае необходимости средств сдерживания. Тем самым Великобритания более чем какая-либо другая страна добивается от США твердых обязательств в свою пользу и однозначного обещания консультироваться1 в случае возникновения какой бы то ни было серьезной ситуации. В свете этого анализа становится ясно, что вопрос о том, выживет ли английский термоядерный потенциал после первого удара или нет, становится не столь уж важным, как может показаться на первый взгляд.
Положение с Францией, особенно с деголлевской, совершенно иное. Ни одно французское правительство не имеет1 2 такой же возможности, как английское, влиять на американскую администрацию прямо или через прессу и общественное мнение. Кроме того, генерал де Голль (более категоричный, чем его предшественники, но по существу утверждающий то же самое) стремится не столько побудить США к принятию решений, которые он считает наилучшими для Франции и всего блока, сколько обеспечить себе право и средства поступать так, как ему заблагорассудится, независимо от мнения других членов блока, даже в зонах, входящих в сферу действия союза. Если цель состоит именно в этом, то французские силы сдерживания должны были бы, чтобы отвечать национальным амбициям, эффективно противостоять возможной угрозе устрашения или агрессии со стороны Советского Союза. В соответствии с принятым законом-программой фран-
1 “No annihilation without representation". (“Не бывает уничтожения без протеста.")
2 Возможно, следует сказать: “не верит, что оно может иметь...".
554
Раймон Арон • Мир и война между народами
цузская ударная сила должна состоять к 1965 г. из 50 самолетов “Мираж-ГУ”, способных донести до Москвы атомные бомбы. Это истребители-бомбардировщики, скорость которых вдвое превышает скорость звука и которые, как предполагается, будут в состоянии преодолеть вражескую оборону. Но сколько из них сможет уцелеть в результате массированного нападения, предпринятого термоядерной системой великой державы? Сколько самолетов сможет остаться после нападения и достичь затем своих целей?
Еще более своеобразно положение Германии. Парижским договором1 ей запрещено производить атомные вооружения, и правительство Бонна в настоящее время не стремится нарушать запрет на установленные этим договором ограничения. Территория Федеративной Республики стеснена и находится в непосредственном соприкосновении с потенциальным противником. Тренировочные полигоны и склады вооружений ее армии находятся во Франции. Было бы неразумно создавать в Западной Германии предприятия по производству атомных или термоядерных бомб. Тогда, когда правители Бонна захотят иметь самостоятельные средства сдерживания, они попытаются их купить, а если не найдут продавца, то постараются произвести их с согласия европейских союзников, используя их территорию.
Иначе обстоит дело с тактическими ядерными вооружениями. Если армия атлантического блока обладает такими вооружениями, то почему германские дивизии, составляющие сегодня
История ядро этой армии, не должны их иметь? Американцы оставили себе термоядерный потенциал сдерживания, и они не могут вследствие законов, принятых конгрессом, предоставить союзникам право свободно распоряжаться атомными боеголовками даже тактического назначения. Но они не могут также проводить различие между немецкими и другими атлантическими дивизиями. Все должны быть в состоянии использовать атомное оружие, если военные действия, даже ограниченного характера, потребуют обязательного применения ядерных боеприпасов. Но будет ли это необходимо? Заинтересованы ли западные государства предусмотреть использование тактического атомного оружия во всех случаях?
Изложенные выше схемы были проанализированы лишь для того, чтобы выявить проблемы вооружения, которые атлантическое сообщество должно решить в нынешней обстановке, чтобы упрочить свое положение в противостоянии с Советским Союзом.
Первая проблема — это зависимость или независимость инструментов сдерживания. Что выгоднее западным странам: вступить на путь образования коллективной силы сдерживания или создавать многочисленные национальные силы? Если первое направление предпочтительнее, то каким образом убедить европейцев и какие уступки они должны потребовать и получить в обмен на свой временный отказ от национальных ударных сил?
Вторая проблема — это характер военной организации союза в связи с
1 Подписанный в 1952 г. Парижский договор предусматривал создание “Европейского оборонительного сообщеста” (“ЕОС”) в составе ФРГ, Франции, Италии,Бельгии Нидерландов и Люксембурга. В 1954 г. был отклонен Национальным собранием Франции. (Прим, перев.)
Мир и война между народами • Раймон Арон
555
Часть III
принятой политико-стратегической концепцией. Нужно ли предусматривать создание такой армии, которая будет вести серьезные бои без применения тактического атомного оружия? Если так, то какими аргументами убедить в этом европейцев и какую избрать общую стратегию?
2. Национальные или общие силы сдерживания ?
В связи с тем, что американские предостережения стали менее убедительными, возникает стремление к созданию национальных инструментов сдерживания, но оно окажется рациональным лишь в том случае, если эти инструменты будут внушать уважение противнику. Однако в настоящее время и в течение ближайших десяти лет это условие не будет выполнено. Представим себе отвлеченно изолированную дуэль между малой и крупной странами, оказавшимися лицом к лицу. Первая не возьмет на себя инициативу в использовании атомного оружия, потому что это повлечет за собой для нее тотальную катастрофу при любом ходе операции. Она должна обладать такой силой возмездия, то есть атомной или термоядерной системой, которая смогла бы выжить после удара, нанесенного крупной державой, и преодолеть оборону противника, находящуюся в состоянии боеготовности. Надо ли доказывать, что ни один французский бомбардировщик не сможет совершить подобный подвиг. Очевидно, что в этих условиях неравенство преступления и наказания будет огромным и утверждение, будто между понятиями “больше” потерь или “меньше" нет разницы, становится абсурдным.
Теория так называемого “пропорционального сдерживания” — это попытка оправдать подобный тезис в случае дуэли между малой и крупной державами. Конечно, говорят теоретики пропорционального сдерживания, нет никакого сравнения между потерями, которые понесет Франция в случае советского нападения, и разрушениями, которые она может причинить в ответ. Но цена самой Франции носит ограниченный для противника характер. Для него риск подставить несколько своих городов под атомные бомбардировки несоизмерим с ценой Франции.
Подобная ар1ументация, претендующая на общую теорию, вызывает немало возражений. Прежде всего крупная держава предстает по сравнению с малой в положении гангстера против жандарма с револьвером на предохранителе. Если он выстрелит первым, то уничтожит противника, а сам останется невредимым. Но предположим, что малая страна обладает некоторыми возможностями для возмездия, то есть ее атомная система не будет полностью уничтожена после первого удара. Будет ли для крупной державы риск репрессалий все-таки выше той цены, которую составляет малая страна? Это соотношение нельзя подсчитать абстрактно. Способность великой державы использовать в наступательных целях свою термоядерную систему существенно возрастет после того, как она на практике докажет, что не колеблясь может привести свою угрозу в исполнение. Можно представить себе обстоятельства, при которых такая держава сочтет допустимым пойти на риск посмертной мести со стороны малого государства, чтобы пока556 . Раймон Арон • Мир и война между народами
История
рать непокорных и посеять страх среди своих противников.
И наконец, неправильным было бы представлять себе, будто великая держава обязана выбирать между бездействием и массированным нападением Великая держава не может шантажировать другую великую державу, ибо она предоставила бы тогда своей сопернице преимущество в инициативе действий. Но великая держава может шантажировать малую страну (если та окажется изолированной). На какие уступки последняя не согласилась бы пойти, зная, что сопротивление означало бы разрушение государства и почти полное уничтожение всего народа?
Кто-либо возразит, что дуэль между малой и великой странами не может иметь места в подобных условиях. Не буду этого отрицать. Малая страна, Великобритания или Франция, никогда не окажется одна в противостоянии с Советским Союзом. Даже если Соединенные Штаты уйдут из Европы, они останутся одним из элементов, которые советская стратегия должна будет учитывать в отношениях СССР с Европой. Но чтобы подавить сопротивление малой страны, великая держава не должна принимать на себя риск относительного ослабления другой великой державы. Весомость атомной мощи Англии или Франции не должна измеряться путем нереального предположения их “ тет-атет” с Советским Союзом, но ее следует оценивать в условиях биполярности современного мира.
Можно было бы подумать, что национальные средства сдерживания необходимы для того, чтобы предупредить шантаж со стороны Советского Союза в отношении какого-либо европейского государства. Но такой опасности, как мне кажется, не существует. Советский Союз может вести в отношении любого члена атлантического союза дипломатическую игру, но он не может осуществлять шантаж угрозой атомного нападения, пока американские войска расположены на территории Федеративной Республики и пока уже в мирное время национальные вооруженные силы остаются интегрированными в составе атлантической армии.
Г-н Хрущев (или завтра его преемник) может открыть перед канцлером Аденауэром (или его преемником) перспективу объединения Германии, обещая ему заключить мирный договор при условии, что будет официально признано существование двух Германий. Он может одновременно предложить президенту Французской Республики возобновление исторического союза против возрождения германского империализма. Государства — члены атлантического пакта не гарантированы от попыток склонить их к дезертирству, ибо они не отказались от своей дипломатической независимости. Но они, видимо, защищены от военного шантажа, поскольку отказались от своей военной независимости. Потребовать от Федеративной Республики, грозя ей термоядерным нападением, чтобы она вышла из атлантического пакта или отказалась от того или иного вида вооружений, означало бы для Советского Союза риск подвергнуться первому удару.
Иными словами, европейские государства в настоящее время не могут обеспечить индивидуально свою собственную безопасность, если иметь в виду, что средства сдерживания призваны гарантировать такую безопасность. Они сохраняют возможность выбора между двумя путями, один из которых Мир и война между народами • Раймон Арон
557
Часть III
ведет к современному варианту нейтралитета, а другой — к современной форме коалиции (которая не исключает наличия национальных атомных сил в качестве вспомогательного средства).
Интеллектуально-политическое движение, которое проявилось на съезде лейбористской партии в 1960 г. и выразилось в голосовании резолюции в пользу одностороннего ядерного разоружения, указывает на один из возможных путей. Американская “гарантия", которую символизируют и подтверждают военно-воздушные базы для американских эскадрилий или установки для запуска баллистических ракет промежуточной дальности, представляется обоюдоострым оружием. Притягивает ли она или отвращает советские бомбы? Все считают, что в случае войны американские базы “притянут" советские бомбы. Вопрос заключается в том, чтобы установить, “отвращают" ли они войну. Если предположить, что они не притягивают войну, то не могут ли второстепенные державы остаться вне возможных военных действий?
Легко обличать подобную аргументацию как циничную. Но она соответствует, по свидетельству истории, типичному поведению государств. Почему бы небольшой стране не обеспечивать свою безопасность, используя конфликт между великими державами, заручившись гарантиями со стороны одной из них (или обеих), пока длится мир и вместе с тем существует шанс остаться невредимым тогда, когда начнут рваться бомбы? И отнюдь не моральные соображения удерживают государства от подобного курса, а опасность нейтралитета и в какой-то мере потеря престижа.
Данная проблема не одинакова для Великобритании и для Японии. Во времена своего имперского величия последняя была противником Соединенных Штатов. Сегодня, имея 110 миллионов человек, сосредоточенных на небольшой территории, она не располагает средствами для проведения большой политики, но она обладает ресурсами, необходимыми для процветания экономики и высокого уровня жизни. Ее руководители, обреченные на проведение дипломатии мира, могут, не заблуждаясь и не впадая в чрезмерные иллюзии, поверить в то, что безопасность, обеспеченная американскими гарантиями, сохранится при любом положении вещей и что, освободившись от американских баз, Япония станет менее угрожающей, с точки зрения СССР и Китая, и добьется наилучших отношений с коммунистическими державами. В настоящее время кампанию против договора с Соединенными Штатами ведут социалисты, более или менее близкие к своим “попутчикам". Но можно предположить, что и консерваторы, не испытывающие никаких симпатий к коммунизму, предпочитают нейтралитет союзу с Америкой, в той мере, в какой этот нейтралитет дает им те же преимущества, что и договор, но при меньших расходах1.
В Великобритании истоком споров внутри лейбористской партии, а также среди интеллигенции является отнюдь не подсчет соотношения между затратами и их отдачей (создание атлантического сообщества и размещение американских баз). Я думаю, что причина кроется в пацифизме, моральном бунте 1 Мы оставляем здесь в стороне вопрос о влиянии, которое могут оказывать этот договор или нейтралитет на эволюцию внутренней политики.
558
' Раймон Арон* Мир и война между народами
История
против возможных ужасов термоядерной войны, против дипломатического использования подобной угрозы. Большинство общественного мнения остается по традиции верным союзу с Америкой, не обращаясь к строгому подсчету риска и выгоды. Но эта спонтанная верность подкрепляется и рациональными соображениями: одна только Великобритания наедине с Советским Союзом не может самостоятельно обеспечить свою безопасность — идет ли речь о сдерживании или об обороне в старом смысле слова. Она должна быть союзницей державы, господствующей на океанах, и не может более рассчитывать, как это было в течение многих веков, на взаимное ослабление европейских государств, постоянно конфликтующих друг с другом и ведущих перемежающиеся с миром войны.
Дело с самолетом “У-2” дало почти повсюду в мире дополнительные аргументы сторонникам нейтралитета. Принимая во внимание слова Хрущева, стало очевидным, что даже в условиях отсутствия всеобщей войны государство может оказаться жертвой союза с Соединенными Штатами. В ответ на облет советской территории самолетом-шпионом первое лицо в Кремле пригрозило “ограниченными репрессалиями” против баз, отправляющих и принимающих этот самолет. Соединенные Штаты должны были бы либо примириться с репрессалиями, и союзному государству не оставалось бы ничего иного, как перевязать свои раны, либо, в свою очередь, нанести ограниченный удар по Советскому Союзу, рискуя постепенным расширением военных действий. В обоих случаях союзник был бы вовлечен в конфликт, который его не касается или в котором он ничего бы не выиграл. Если эти соображения до сих пор оставались на втором плане, то лишь потому, что правительства Пакистана и некоторых других стран не поверили, что Хрущев перейдет к действиям и что США попробуют повторить опыт с самолетом “У-2”.
Что касается континентальных европейских государств, то они не испытывают никакого соблазна к нейтралитету без оружия. Основная причина этого — раскол Германии и Берлина. Несмотря на экономическое чудо, боннская республика в политическом отношении довольно неустойчива. По другую сторону демаркационной линии возникла так называемая демократическая республика, где господствует коммунистическая партия. Конечно, режим ГДР остается и сегодня непопулярным. По всей вероятности, этот режим не устоял бы после ухода тех, кто его вдохновил и установил. Но пока на территории ГДР размещены 25 хорошо оснащенных русских дивизий, пока Советский Союз оказывает давление на Западную Европу, требуя окончательного признания “статус-кво”, Федеративная Республика Германии с полным основанием будет чувствовать себя под угрозой. Она существует и может существовать лишь благодаря гарантии и воле Соединенных Штатов Америки.
Поскольку Федеративная Республика пошла по пути, связанному с упрочением американских обязательств, другие государства континента, за исключением деголлевской Франции, придерживаются того же курса, и они сделали бы тот же выбор, даже если бы имели возможность избрать другой. Единственный вопрос, который возникает, состоит в том, чтобы определить, какие перемены в военной области влечет за собой растущая уязвимость Соединенных Штатов. До настоящего времени не Мир и война между народами • Раймон Арон
559
Часть III
была принята ни одна из двух мер, которые представляются необходимыми: ни укрепление щита, ни создание в Европе системы репрессалий, способной пережить советское нападение. Укрепление щита стало бы явным признанием того, что порог для атомного ответа неизбежно повышается с того момента, когда угрожающая сторона уже не может уничтожить ядерную систему противника, а следовательно, избежать у себя массовых разрушений. Создание в Европе под европейским или атлантическим командованием системы возмездия символизировало бы военную автономию, хотя бы относительную, Старого континента, автономию, которая явилась бы ответом на так называемый французский аргумент (в термоядерный век, мол, страны не могут уже полагаться в обороне друг на друга, а каждая должна защищаться самостоятельно).
В действительности сама континентальная Европа пока не сумела обрести автономную и достаточную способность к сдерживанию противника (эта способность определяется вероятностью того, что в случае внезапного нападения силы возмездия смогут нанести агрессору “неприемлемые” разрушения1). Пусковые установки, аэродромы расположены недалеко от территории Советского Союза и, следовательно, уязвимы. Бомбардировщики и ракеты средней дальности, эффективные для нанесения первого удара, не годятся как средства возмездия (или пригодны для этого лишь в слабой степени). Тем не менее они отнюдь не будут бесполезны. Увеличение числа и рассредоточение военных баз делают более трудным внезапное глобальное нападение. А размещение атомных вооружений на позициях, близких к границам способствовало бы предотвращению локальных агрессий, осуществляемых при помощи классических вооружений.
Однако атлантический блок не сумел пока совместить задачу рационального разделения функций внутри союза и стремление Англии и Франции обладать национальными силами сдерживания. Но в дальней перспективе для сплочения коалиции потребуется сообща принять соответствующую военную доктрину и пойти на взаимные уступки.
Сегодня представители США и Франции отказываются признавать хотя бы частичную правоту тех тезисов, которые они оспаривают. Американские эксперты правы, утверждая, что и через десять лет Франция будет неспособна иметь независимую силу возмездия и, следовательно, силу сдерживания. Но они заблуждаются, забывая, что обладание даже небольшой ядерной или термоядерной системой придает известный авторитет в рамках союза, престиж на мировой арене и определенную дипломатическую самостоятельность. Не только французы полагают, что завтра невозможно будет стать великой державой, не обладая ядерным оружием, так же, как в прошлом нельзя было считаться великой державой, не имея тяжелой промышленности и бронетанковых дивизий. Даже если эту термоядерную систему нельзя использовать в дипломатическом плане ни против крупной, ни против малой страны, она фиксирует статус государства, его место в иерархии действующих сил на дипломатической и стратегической арене. Поэтому, если Соединенные Штаты хотят до1 Само собой разумеется, что это классическое, так сказать, строгое определение дает простор для различных толкований: что такое, например, “неприемлемые” разрушения?
560-.
■ Раймон Арон • Мир и война между народами
биться координации военных программ, они вынуждены будут пойти на уступки Франции в предоставлении атомных секретов, носителей оружия или в руководстве союзом.
Участие европейцев в развертывании системы сдерживания и возмездия имеет, по крайней мере, одну психологическую функцию. До тех пор, пока только Соединенные Штаты полноправно владеют термоядерным оружием, самостоятельно разрабатывают планы и сами принимают решения, европейцы не будут проявлять интереса к своей собственной обороне, считая, что она от них не зависит. Это ведет в перспективе к отрицательным последствиям и для защитника, и для защищаемых стран. Одни не вносят своего вклада даже в классические вооружения, необходимого в интересах общей безопасности, другие начинают считать экономически и морально невыносимым бремя сдерживания и обороны. Европейский или атлантический потенциал сдерживания отвечает двойной необходимости: заинтересовать европейцев их собственной судьбой и не распылять средства возмездия и сдерживания.
Были рассмотрены и даже частично реализованы два метода распределения средств сдерживания: двусторонние соглашения, в которых основная статья предусматривает так называемую систему двух ключей, и многостороннее соглашение, которое передало бы самому атлантическому союзу право владеть и распоряжаться термоядерным потенциалом.
Так называемая система двух ключей предусматривает, что право запуска баллистических ракет определяется История
соглашением двух правительств — той страны, где размещаются пусковые установки, и Соединенных Штатов. Одновременно правительству европейской страны дается обещание о консультациях с ним в случае международного кризиса, но не гарантируется, что с ним будут консультироваться прежде любого применения атомного оружия в любой точке мира. Твердое обещание консультаций не гарантирует членам атлантического пакта нераспространение на Европу конфликтов, которые возникли в другом месте планеты и ответственность за которые может нести, хотя бы частично, американская политика. Но это ограничение, при всей его справедливости, не должно повергать нас в уныние: полностью удовлетворительных решений не бывает. Европейским странам приходится выбирать между одиночеством без каких-либо средств для сдерживания противника и опасной солидарностью с Соединенными Штатами. Если европейское государство выберет второе, то оно рискует оказаться втянутым в конфликт, который его не касается. Но этот риск смягчается общей заинтересованностью великих держав не расширять локальный конфликт, а также правом вето, предоставленным союзным странам на применение размещенных у них сил возмездия.
Система “двух ключей” не совершенна, но она представляет собой лучшую из возможных систем, обеспечивающих соблюдение обоюдных обязательств1. При современном техническом уровне пусковые установки баллистических ракет с жидким топливом не уцелели бы после внезапного общего нападения на 1 Путь отказа от обязательств — это путь вне союза, путь отказа от ядерного оружия. А обязательства относятся одновременно и к защитнику и к защищаемому.
Мир и война между народами • Раймон Арон 5 ч*-• '
561 ь
Часть III
союзников. У защищаемой страны нет возможности свободно распоряжаться этим оружием, чтобы противостоять враждебной великой державе, его особенности не позволяют дружественной великой державе проводить консультации в случае кризиса. Но они способствуют появлению хотя и не решающего, но дополнительного важного повода для того, чтобы защищающее государство учитывало интересы защищаемых, а агрессор рассматривал малую страну как неотделимую часть всего блока.
Создание инструмента сдерживания, подчиненного атлантическому штабу, представляет собой, очевидно, следующий этап по пути разделения средств сдерживания. Ядерная или термоядерная система — в соответствии с современными планами использования подводных лодок, вооруженных ракетами “Поларис”,— должна находиться под командованием главнокомандующего войсками союза. В самой этой формуле уже заключены определенные трудности. Главнокомандующий — американец. Кому он будет подчиняться в тот момент, когда возникнет вопрос о применении такого оружия? Очевидно, президенту США, хотя в соответствии с подписанными соглашениями он обязан проконсультироваться с представителями союзных стран и при определенных обстоятельствах принимать решение единолично.
И в этом случае нетрудно выдвинуть критические замечания. Генерал, командующий НАТО, не может зависеть от вето пятнадцати правительств, он не должен подчиняться приказам одного лишь президента Соединенных Штатов, он не наделен полномочиями сугубо политического характера, и прежде всего решать вопросы войны и мира. Если попытаться найти формулировку, лишенную одновременно неудобных и неясных мест, то следует, видимо, вообще отказаться от проекта создания сдерживающих сил, находящихся в распоряжении атлантического командования.
Можно было бы представить себе гибкие формулы, если бы европейцы добивались дополнительных гарантий безопасности, еще более торжественных и безусловных обязательств со стороны США. Но об этом речь не идет.
Генерал де Голль не согласился бы на ядерную монополию США, даже если бы удалось убедить его, что такая монополия представляет собой самую эффективную гарантию для Франции и всего Старого света. Он отказывается от статуса защищаемого государства, что равнозначно, в его глазах, положению сателлита. Он стремится к созданию национальной системы обороны, которая хотя бы частично должна быть атомной. Поэтому он не проявил никакого интереса к предложениям о создании ядерного потенциала НАТО. Поскольку английское правительство также враждебно относится к образованию этой “атлантической силы”, ибо оно опасается расползания ядерных вооружений и также хочет сохранить национальную силу, соответствующий проект был отброшен еще до того, как был разработан. В 1962 г. президент Кеннеди в соответствии с доктриной Макнамары1 настаивал на не1 Доктрина предусматривает целый ряд промежуточных ступеней в случае кризиса: от капитуляции до термоядерного апокалипсиса. В этой связи подчеркивается необходимость увеличить обычные вооруженные силы, не применять сразу же тактические ядерные вооружения и даже дозировать силу использования ядерного оружия, нацеливаясь сперва на военные объекты противника и щадя его города, пока сам противник не возьмет на себя инициативу ударов по населенным пунктам.
- 562
Раймон Арон • Мир и война между народами
обходимости американской монополии, но французы и англичане не отказались от своих национальных сил.
3. Классические
вооружения и тактическое атомное оружие
В течение последних лет постоянно велась дискуссия о возможности применения тактического атомного оружия в случае ограниченной войны. За эти годы аргументы "за" и “против" неоднократно менялись в зависимости от технического прогресса, его влияния в пользу той или иной концепции. Я не собираюсь возвращаться здесь ко всем этим спорам1, но важно вычленить важнейшие идеи, которые ведут к определенным последствиям в области дипломатических и стратегических концепций.
То, что сегодня называют ограниченной войной, — это не всеобщая война (т. е. не общепланетная война с учетом того, что современная система международных отношений носит общепланетный характер и, следовательно, всеобщая война, охватывающая всю международную систему, затронула бы всю планету целиком). Это также война, в которой воюющие стороны используют лишь часть своих сил. Эти две характеристики ограниченных войн не представляют собой чего-то исключительного. Великобритания не использовала всю свою армию в Южной Африке, а История
Россия — в Маньчжурии. Даже если бы такую сдержанность не обусловили отдаленность театра военных действий, трудности транспорта и снабжения, все равно для обеих империй — морской и континентальной — сыграли бы свою роль соображения, связанные с наличием других реальных и возможных противников. Новым в атомный век является то, что в разных видах войн не могут быть использованы одни и те же вооружения.
Война в Корее показывает образец военной кампании, развернувшейся в географически ограниченном пространстве, в ходе которой оба лагеря использовали только химические взрывчатые вещества. Если бы одна из великих держав направила свои бомбардировщики и ракеты на силы возмездия противника, то другая сторона ответила бы уничтожением городов агрессора. Достаточно было только представить себе термоядерный апокалипсис, чтобы увидеть пределы, за которые нельзя было переходить. С одной стороны, в течение трех лет развертывались военные действия с использованием миллионов тонн стали1 2, превращенных в снаряды, обрушенные на противника и вызвавшие десятки тысяч жертв. А с другой, обмен ударами в течение лишь нескольких часов привел бы к десяткам миллионов жертв, вызванных оружием, стоимость которого в долларах не превышает нескольких миллиардов и которое поглотило бы прямо или косвенно лишь несколько тысяч тонн стали. Обмен уда1 Их резюме можно найти в статье Генри Киссинджера (Henry A. Kissinger), опубликованной в специальном номере журнала “Daedalus” за 1960 г.: “Limited War. conventional or nuclear; an appraisal” и воспроизведенной в книге “Necessity for choice". New York, 1961.
2 За период от войны 1939—1945 гг. до войны в Корее плотность огня возросла в той же степени, как за период от войны 1914—1918 гг. до войны 1939—1945 гг.
Мир и война между народами • Раймон Арон .
563
Часть III
рами термоядерных бомб стал в нынешних условиях тем, что Клаузевиц называл “восхождением к пределу”.
Но абсурд и ужас этого восхождения не позволяют теоретикам стратегии или дипломатии рассмотреть это общее сопоставление более пристально. Между обменом термоядерными ударами и военными действиями типа тех, которые велись в Корее, возможны многочисленные промежуточные варианты. Поиск таких вариантов шел вокруг одного вопроса: какое оружие можно использовать в конфликте, который не должен стать всеобщим? Допустимо, конечно, сомневаться в правильности такой постановки вопроса: ограничение военных действий зависит не только от применения тех или иных боевых средств, а и от множества других обстоятельств. Учитывая лишь характер оружия, можно не получить достоверного ответа, поскольку рассуждения, основанные на плохо сформулированных данных, ведут к неверным или двусмысленным выводам.
Мы ограничимся общей постановкой вопроса: надо ли применять тактическое ядерное оружие в случае второстепенного конфликта? Ответ зависит от двух других вопросов: какова вероятность того, что тактическое применение ядерного оружия спровоцирует “восхождение к пределам”? Какая из сторон получит преимущество от такого применения? Специалисты, будь то военные или гражданские, дают противоречивые и недоказанные ответы.
Все сходятся на той простой идее, что неиспользование ядерных зарядов — это наилучшее средство избежать катастрофы. Такой вывод делается по психологическим причинам. Ошибочно или справедливо, но представители всех слоев общественности проводят радикальное различие между так называемыми классическими1 и атомными вооружениями. До тех пор, пока применение находят только первые, общественное мнение, от правителей до простых граждан, считают, что обе стороны проявляют сдержанность. Это различие между двумя типами вооружений проводят несмотря на то, что сегодня фактически уже нет границы между химическими и ядерными взрывчатыми веществами (наименее мощные из числа последних стали слабее самых мощных химических зарядов). Причина такого разного подхода состоит в том, что он очень прост и противники могут обоюдно придерживаться его, не договариваясь и не заключая специального соглашения. Но ограничение конфликта, в котором участвуют одна из великих держав или они обе, как раз и может быть достигнуто только с их молчаливого согласия. Даже если бы главы государств, армии которых столкнулись в бою, могли бы вести переговоры, если бы они были в состоянии технически и психологически разговаривать друг с другом, их слова все равно остались бы менее убедительными, чем их действия. Именно делами каждая из сторон должна была бы доказать другой свою сдержанность.
Таким образом, очевидно, что восхождения к пределам можно менее опасаться тогда, когда ни одна из воюющих сторон, располагающих ядерными вооружениями, не возьмет на себя риск пус-
“conventional". Более четким было бы противопоставление
1 Или обычными. Английский термин — химической и ядерной взрывчатки.
564
Раймон Арон • Мир и война между народами
тить его в ход. Но было бы ошибочным сделать из этой очевидности ложный или сомнительный вывод, будто невозможно помешать разрастанию, вплоть до крайней точки, даже географически ограниченного конфликта, если та или другая сторона использует ядерные заряды. Вероятность эскалации зависит прежде всего от уязвимости системы возмездия. Чем она уязвимее, тем сильнее великая держава станет беспокоиться о безопасности своих средств сдерживания, действия противника будут скорее восприниматься как агрессивные и может возникнуть искушение опередить соперника. Но, помимо этой общей связи между стабильностью взаимного сдерживания и вероятностью ограничения локальных военных действий, на обстановку влияет еще множество различных обстоятельств. Каково значение результатов этого конфликта, какие страны в него вовлечены? Участвуют ли в нем непосредственно обе великие державы или только одна из них, действуют ли они через союзников или сателлитов? Каков ход сражений? Какое преимущество получает сторона, выигравшая на поле боя? Какие она преследует цели?
Тот факт, что неприменение атомного оружия повышает шансы избежать крайностей (что отвечает интересам обеих сторон), еще не означает, что нарушение атомного табу в любых условиях будет иррациональным. Одна из воюющих сторон может решить, что неприменение атомного оружия ведет к проигрышу и что его использование не создает серьезной опасности расширения военных действий. Неиспользование такого оружия может оказаться невозможным или потому, что одна из сторон не имеет в данном районе других История
средств, которые позволили бы избежать поражения, или потому, что покажется неизбежным (или просто вероятным) его применение другой стороной. Таким образом, стремление опередить другого получает почти рациональный характер (диалектика таких опережений может привести к применению как тактических, так и стратегических ядерных вооружений).
Иными словами, ответ на первый вопрос будет таков: применение тактического атомного оружия увеличивает опасность эскалации конфликта, хотя невозможно точно определить степень такой опасности, ибо в каждом конкретном случае действует слишком много различных обстоятельств, способных повлиять на ход кризиса и поведение противников. Так же обстоит дело и со вторым вопросом: какая из двух великих держав или какой из двух блоков получит преимущество от использования ядерных зарядов? Я думаю, здесь невозможно дать однозначный ответ. Основная причина состоит в том, что еще ни разу не происходило сражений между армиями, использующими ядерное оружие. а вся военная история напоминает нам о недостаточности и ошибках чисто умозрительных предположений. В прошлом не раз бывало так, что появлявшиеся технические или тактические новшества, которые, нам кажутся теперь маловажными, неожиданно меняли ход сражений, например планы промышленной мобилизации, которые ни один из штабов воюющих стран до 1914 г. не разрабатывал. Как может эксперт без риска ошибиться представить себе действия бронетанковых частей на более или менее обширной территории, опустошенной или зараженной атомными взрывами!
Мир и война между народами • Раймон Арон
565
Часть III
Увеличится ли потребность в численном составе войск ввиду возросших потерь или уменьшится вследствие роста огневой мощи? Если учесть недопустимость сосредоточения войск, то каким образом обороняющаяся сторона может защитить страну одновременно от разрушений, вызванных бомбардировками, и от проникновения вражеских отрядов и занятия территории войсками противника? Благоприятствует ли использование только классического оружия Соединенным Штатам, обладающим более мощной промышленностью, или Советскому Союзу, способному выставить больше солдат? Каким образом можно высказать категорическое суждение относительно будущего, если командование каждого из трех видов вооруженных сил в США, по словам Г. А. Киссинджера1, проповедует отличную от других доктрину ограниченной атомной войны? “Авиационное командование представляет ее себе в форме овладения определенным воздушным пространством; армейское командование считает жизненно необходимым уничтожить тактические цели, которые могут повлиять на исход наземных операций, включая центры связи; морское командование хочет прежде всего уничтожить портовые сооружения противника”.
Единственный вывод, который с уверенностью можно сделать из этих рассуждений состоит в том, что тактическое применение ядерных зарядов ведет к стиранию различий между ограничением и неограничением видов вооружений, разрушений и самих военных действий. Пока нет еще прецедентов ограничения масштабов военных действий путем неиспользования каких-то видов вооружений, но это соответствовало бы исторической традиции. В прошлом победитель чаще всего не ликвидировал побежденное государство, не уничтожал его население. Но в случае полной победы (разоружения побежденного) он мог бы физически это сделать. Сегодня атомное оружие позволяет уничтожить население противника еще до того, как он будет побежден или обезоружен. Естественно, что государства стремятся вести войну, не уничтожая друг друга. Неприменение термоядерного оружия равнозначно сегодня той относительной сдержанности, которой придерживались цивилизованные государства после победы.
Но могут сказать, что применение тактического атомного оружия увеличит разрушения в ходе так называемой ограниченной войны. Некоторые авторы ставят под сомнение даже использование самого этого термина. Тот аргумент, что атомные снаряды не обязательно обладают большей мощностью, чем снаряды с химическими взрывчатыми веществами, не принимается во внимание. Зачем, дескать, нарушать “атомное табу”, если не для того,чтобы использовать более мощные средства, чем классическое оружие? Чтобы нарушение табу было оправданным, нужно применять более мощные снаряды или бомбы, чем классическое оружие, но так, чтобы учесть близость населения и своих солдат к месту взрыва. Остается еще аргумент, будто длительная военная кампания, наподобие корейской, в конечном счете обойдется дороже, чем быстротечная война с применением атомного оружия. Можно допустить и такую гипотезу. Но в таком случае надо 1 Daedalus, р. 806.
ля 566 ' * сг’ п- у Раймон Арон • Мир и война между народами
История
предположить, что обе стороны одумаются, или агрессор, встретив резкий отпор, откажется от своих замыслов, и не будет ни побежденного, ни победителя. Короче говоря, вероятнее всего, что применение атомного оружия в тактических целях1 увеличит риск и расширения конфликта, и повышения стоимости операции, с точки зрения материальных и людских потерь.
Имеют ли эти соображения прямое отношение к проблеме обороны Европы? Нужно ли и можно ли отказать германской армии в праве обладать атомным оружием?1 2 В 1954 г. штабу НАТО было разрешено учитывать и применение атомного оружия при составлении планов обороны Европы. Это решение было обусловлено одновременно и недостаточной численностью вооруженных сил, и наличием запасов атомного оружия. Поскольку миниатюризация боезарядов и рост запасов позволяют использовать ядерную взрывчатку на поле боя, то почему бы не заменить людей машинами и не заполнить пустоты огневой мощью? Но та же самая диалектика, которая порождала сомнения относительно доктрины массированного возмездия, вызывает сегодня сомнения и в отношении тактического применения ядерного оружия. Противник также может угрожать массированным возмездием, он также может пустить в ход тактическое атомное оружие. Будет ли та мера, которая казалась выгодной в случае ее одностороннего применения, столь же привлекательной, если противная сторона прибегнет к аналогичной угрозе? Тактическое применение атомного оружия компенсировало бы недостаток численности войск до тех пор, пока только Запад имел бы возможность прибегнуть к такому оружию. Но что произойдет тогда, когда оба лагеря смогут сделать то же самое?
Многие военные исследователи делают из подобного установившегося фактически равенства тот же вывод, который они делали из равенства в области стратегического применения ядерных сил. Угроза массированного возмездия стала неэффективной с того момента, когда она оказалась взаимной. Точно так же угроза использовать атомное оружие в локальных наземных операциях станет неэффективной в тот день, когда возможный противник обретет такую же возможность. Независимый эксперт Лиддл ГЬрт3 (Liddell Hart) приводит такие излюбленные им доводы. Обороняющаяся сторона способна при качественном равенстве вооружений остановить наступление, предпринятое со значительным превосходством сил. Чтобы сломить сопротивление мобильной и хорошо вооруженной армии, наступающему требуется тройное превосходство. Западные страны заблуждаются, делая ставку на использование угрозы, которая в действительности является блефом и приведет когда-нибудь НАТО к унизительной капитуляции или абсурдной катастрофе.
1 Если тактическое применение атомного оружия предполагает уничтожение авиационных и морс¬
ких баз противника, то на каком расстоянии от поля сражений они должны находиться? И как различить в этом случае тактическое его применение и стратегическое?
3 Германские дивизии, как и другие соединения атлантической армии, располагают тактическим атомным оружием на основе системы двух ключей Атомные боеголовки не могут быть использованы без согласия американских властей
3 См Liddell Hart, "Deterrence or defence?” Londres, 1960
Мир и война между народами • Раймон Арон
567
Часть III
Доводы в пользу укрепления атлантической армии убедительны. Процветающая сегодня Западная Европа должна быть способна содержать постоянно несколько десятков крупных боеспособных соединений. Трудно себе представить, что один из центров человеческой цивилизации отказывается защищаться, что страны, входящие в число самых богатых государств мира, заявляют о своей неспособности обеспечить, даже коллективно, содержание армии достаточно сильной, чтобы оказать сопротивление всего лишь части советской армии, действующей за две или три тысячи километров от своих баз.
Препятствия на пути рациональной организации западной обороны велики, но они носят скорее психологический и политический, чем технический характер. Побудительные причины к тому, чтобы предпринять усилия в области вооружений, особенно классических, слабы, ибо ограниченная война в Европе представляется хотя и возможной, но маловероятной, и эта маловероятность связана с наличием термоядерных систем. Укрепление наземных армий придало бы дипломатии и стратегии блока возросшую гибкость. Атлантическая армия, состоящая из нескольких десятков дивизий, могла бы вмешаться в венгерские события. Расширение выбора для западных стран уменьшает риск того, что однажды они могут столкнуться с роковой альтернативой: капитуляция или поражение. Но возрастает риск ограниченных агрессивных шагов и, возможно1, ограниченных военных действий. Доктрина * все или ничего ” (тотальный мир или тотальная война), содержавшаяся в английской Белой книге 1957 г., долгое время питала странное чувство тревожной безопасности, когда ощущение тревоги подавлялось убеждением (вполне обоснованным), что никто не хочет апокалипсиса.
Поскольку в любом случае европейская безопасность основывается прежде всего на американской термоядерной системе и в любом случае Советский Союз будет стремиться не подвергать себя ненужному риску, военные приготовления, укрепление щита отвечают дипломатическим задачам или кошмарным, но очень маловероятным вариантам развития событий. Умозаключения экспертов далеки от жизни, потому что они слишком сложны и не помогают рассеять иллюзию безопасности, которую порождает альтернатива: мир или совместное самоубийство.
Когда одно из европейских государств проявляет национальные амбиции, внутри блока возникает напряженность. Деголлевская Франция не соглашается полностью зависеть от американского щита. Армия Федеративной Республики Германии, самая сильная на континенте после переброски в Алжир основного ядра французских войск, требует и получает такое же оружие, каким 1 Я пишу “возможно”, потому что этот вывод не очевиден хотя и представляется сперва убедительным Можно утверждать, что укрепление классических вооружений отнимает у противника надежду добиться путем ограниченных агрессивных действий каких-то выгод и поэтому удерживает его и от маломасштабной агрессии Возможность атомных репрессалий са ановится более реальной, если имеются средства для ответного удара с использованием классических вооружений. Но я полагаю, что нет необходимости догматически выбирать между этими умозаключениями, все они являются более или менее правдоподобными. Не надо забывать, что ход событий зависит от того, что происходит в умах руководителей другой стороны. Мы можем строить гипотезы, а не устанавливать непреложные истины в отношении того, что касается мышления, стратегических расчетов руководителей противника
ООО
» Раймон Арон • Мир и война между народами
владеют союзники и противник. Обладание атомным оружием, пригодным для применения в тактических целях, соответствует одновременно и военной необходимости, и требованию справедливости. Каким образом немецкие солдаты будут готовы сражаться, если не получат оружия, которым располагают дивизии соседей? Различия между соединениями, подготовленными к использованию только классических вооружений, и соединениями, наученными применять атомное оружие, неприемлемо для партнеров по атлантическому союзу. Ко второй категории были бы отнесены тогда только американские дивизии.
Вместе с тем, если все дивизии всех атлантических стран будут организованы так, чтобы они могли использовать атомное оружие, то общее командование как бы уступает им заранее свое право на выбор оружия в том или ином конкретном случае. В атомный век более, чем когда-либо в прошлом, военные планы, одобренные в мирное время, диктуют решения, которые должны принимать государственные деятели в момент кризиса. После 30 июля 1914 г. механизм мобилизации взял верх над пацифистскими поползновениями государственных деятелей. Если все атлантические дивизии будут оснащены атомным оружием, если в ответ советские дивизии в Восточной Германии получат такое же оружие, если обе противостоящие армии будут развернуты с учетом его неизбежного применения, то такие предвидения действительно сбудутся. Решение будет навязано государственным деятелям штабами, которые, правда, будут действовать в рамках, очерченных государственными деятелями.
В настоящее время все происходит так, словно атлантический блок рассчиИстория
тывает одновременно и предупредить отдельные агрессивные шаги, заставив противника поверить, что атомное оружие будет использовано при любых обстоятельствах, и оставить за собой свободу выбора, если агрессия начнется несмотря ни на что. До определенного момента эти две линии поведения совместимы. Держать противника в неведении относительно своих намерений всегда было частью продуманной стратегии. Противник не может и не должен в точности знать, какова будет реакция его соперника в определенных обстоятельствах. И еще необходимо, чтобы военный аппарат не упразднил свободы принятия стратегических решений. Если атомное оружие будет находиться в руках всех, то все им и воспользуются. К этому нужно также добавить, что мы должны платить определенную цену за эту неопределенность в виде риска неправильного понимания намерений друг друга. Если противник не знает, какова будет наша реакция на его действия, он может ошибочно рассчитывать на нашу пассивность или, напротив, ожидать атомный ответ. Если он ошибется в одном смысле, то вызовет яростную реакцию с нашей стороны. Если он ошибется в другом смысле, то может предпринять резкие шаги, действуя на опережение.
На протяжении веков классическое оружие никогда не выполняло эффективно функций сдерживания. Но оно часто помогало защитить территорию от иностранного вторжения и население от ужасов войны. Представить себе военные действия, ведущиеся при помощи классического оружия, — это значит вернуться к оборонительной стратегии. Угрожать термоядерным ответом — значит отказаться от обороны и делать Мир и война между народами • Раймон Арон 569
Часть III
ставку на эффективность сдерживания. Готовиться к ограниченной атомной войне означает делать ставку на сдерживание, не отказываясь в то же время полностью от обороны. Театр военных действий будет опустошен, но города основных противников уцелеют. Угроза локальной войны с применением атомного оружия по определению означает промежуточное сдерживание, занимающее положение между угрозой классического ответного удара и угрозой термоядерного ответа, оборонительную стратегию, также играющую промежуточную роль между двумя крайними угрозами. Сочетает ли это промежуточное решение достоинства двух крайних формул или их недостатки? Боюсь, что в данном случае речь идет прежде всего о недостатках.
4. Военный подход
Тема этой главы — дипломатия в отношениях между блоками, а мы, как может показаться, продолжали рассматривать дипломатию внутри блоков. Этот парадокс объясняется просто: в послевоенный период дипломатические отношения между блоками были сведены к минимуму. Территориальное размежевание не удовлетворяло никого, но было терпимо для великих держав, и политика каждой из них по отношению к другой сводилась в основном к мерам, принимаемым по одну сторону от демаркационной линии. Создание “тризонии”, а затем боннской Федеративной Республики и проведение денежной реформы (1947) закрепили существование двух Германий, а следовательно, раздел Европы. На северокорейскую агрессию атлантический блок отреагировал созданием объединенного командования и перевооружением. Советский блок создал на бумаге такой же штаб после подписания в 1954 г. Варшавского договора. Перевооружение в конце 1954 г. Федеративной Республики Германии, партнера атлантического сообщества, стало важным событием в процессе интеграции Западной Германии в Европейское сообщество шести стран и в атлантический союз.
В течение первого послевоенного десятилетия Советский Союз не вел никаких переговоров с Соединенными Штатами или Западом относительно “урегулирования германской проблемы” или изменения “статус-кво”. Убедившись после 1947 г., что Москва решила сохранить Восточную Гёрманию под господством советского режима, правительства США и Великобритании поставили своей целью не допустить распространения на Западную Гёрманию коммунистических идей и институтов. Соперничество между двумя блоками побуждало союзников способствовать утверждению в Западной Германии принципов западной демократии, а Восточная Германия постепенно трансформировалась в народную демократию. Германская Демократическая Республика (Deutsche Demokratische Republik) продолжала тем не менее платить репарации, и только в 1954 г. на нее распространился договор о взаимопомощи как на участника Варшавского пакта. Федеративная Республика также обретала равенство на протяжении нескольких лет. В 1950 г., когда президент Трумэн и Дин Ачесон выдвинули идею перевооружения Германии, период дискриминации для нее закончился. Речь уже не шла об ограничении ее промышленного потенциала, демонтаже оборудования и взимании репараций. Федеративная республика стала 570 7 .7 ^ 7 "лг \. Раймон Арон • Мир и война между народами
членом Организации европейского экономического сотрудничества. Кроме прямой помощи от американского оккупанта, она получила и часть помощи, предоставленной по плану Маршалла. Единственная трудность, с точки зрения Вашингтона, состояла в том, чтобы привлечь Францию и другие страны Европы к осуществлению той политики, которую американское и английское правительства считали необходимым проводить в ответ на советизацию Восточной Европы. Правительство Москвы не могло помешать западным странам действовать внутри их зоны, но оно могло парализовать их усилия, используя неизбежные расхождения между демократическими и суверенными государствами. Основным препятствием на пути перевооружения Федеративной Республики было сопротивление значительной части французского общества и, как результат, возражение правительства Франции. Долгие споры вокруг Европейского оборонительного сообщества (ЕОС)1 были одним из эпизодов холодной войны и дипломатических отношений между странами двух блоков. Соединенные Штаты хотели приобрести дополнительную козырную карту, не столько стремясь разыграть ее, сколько сохранить в резерве. Советский Союз сделал все возможное, чтобы воспрепятствовать этому, пуская в ход угрозы и обещания, мобилизуя своих сторонников и воздействуя на нейтральные силы. Во Франции одни толковали о возможности “драматического пересмотра” обяИстория
зательств, другие напоминали о вероятности ужасающих репрессалий.
Нет необходимости подробно анализировать средства, использованные противниками ЕОС, чтобы не допустить его поддержки Национальным собранием Франции. В целом можно сказать, что сторонники тезисов Москвы одновременно использовали, сознательно или нет, традиционные аргументы антигерманизма и новые аргументы, продиктованные сложившейся конъюнктурой (какова будет советская реакция на перевооружение Германии? Какую позицию займет, вооружившись. Федеративная Республика? Можно ли дать оружие правительству, которое стремится восстановить единство двух Германий, а затем вернуть все территории или часть земель, аннексированных Польшей?). Но интересно отметить, что в частных беседах советские представители давали понять, что нейтрализация Германии в результате переговоров между двумя блоками могла бы стать заменой перевооружения обеих Германий.
Лично я никогда не верил в возможность такого промежуточного решения. Запад согласился бы на нейтрализацию Германии лишь при условии проведения свободных выборов в ГДР, а следовательно, ее десоветизации. Чем больше проходило времени, чем крепче советские институты укоренялись в Восточной Германии, тем менее вероятным становился такой обмен. Режим, который убежден в своей всемирной победе и считает, что предназначен к этому самой 1 Создание Европейского оборонительного сообщества (ЕОС) в составе Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга предусматривалось Парижским договором 1952 г. и так называемым “Общим договором” 1952 г. между США, Великобританией и Францией, с одной стороны, и ФРГ — с другой. (Договор отменил оккупационный статут на территории Западной Германии.) Национальное собрание Франции отклонило в 1954 г. Парижский договор, и планы создания ЕОС не были реализованы. (Прим, перед.)
Мир и война между народами • Раймон Арон - ■■»'
571 ’
Часть III
историей, не согласится добровольно на столь явное отступление. Как отозвалось бы в Чехословакии или Венгрии устранение Ульбрихта и его приближенных? Какие гарантии мог бы дать Запад Советскому Союзу, обещая, что Германия, объединенная режимом западного типа, будет соблюдать дипломатический и военный нейтралитет, отказавшись от нейтралитета идеологического? В Центральной Европе, на линии прямого столкновения двух великих держав, так же трудно если не представить себе, то реализовать промежуточные решения: режим одной партии, не подчиненный Москве, режим, стоящий на полпути к множеству партий.
Впрочем, Соединенные Штаты тоже с беспокойством отнеслись к выдвижению формулы нейтральной и объединенной Германии, усматривая в ней два важнейших недостатка: она делала почти невозможной организацию локальной обороны на Старом континенте и вводила новую, неизвестную величину в сложное уравнение. Какую политику будет проводить объединенная Германия, обладающая ресурсами великой державы и обреченная, по требованию противостоящего Большого брата, на нейтралитет решением победителей — враждующих друг с другом бывших союзников? Раздел — это замена нейтралитета в наш век идеологических конфликтов. Он гарантирует двум великим державам устранение одной переменной величины. Воля Германии не существует, пока два режима претендуют на ее выражение.
Хотя и не без труда, но все препятствия были преодолены на пути, по которому пошел Запад с 1947 г. Федеративная Республика стала к 1960 г. самым процветающим государством свободного мира. Она обладает наибольшими валютными резервами (более семи миллиардов долларов). К ней обращаются с просьбой поддерждать слабеющий доллар и принять участие в оказании помощи слаборазвитым странам. У нее самая многочисленная и хорошо оснащенная армия на континенте. Она обладает самым прочным политическим режимом с партией, имеющей парламентское большинство (христианские демократы) и канцлером, стоящим у власти на протяжении более чем десяти лет. Не достигла ли своей цели политика, начатая в 1947 г., продолженная в 1950 г. и закрепленная в 1954 г.? Западная Германия была избавлена от нищеты и унижения, ограждена от соблазнов коммунизма, включена в Европу и Западный мир. Именно на Востоке вспыхивали волнения: в Берлине восставали рабочие, в Венгрии Советская Армия вынуждена была вмешаться, чтобы подавить первую антитоталитарную революцию XX в., одержавшую победу после уличных боев благодаря отступничеству армии и значительной части коммунистической партии. После 1946 г. Запад выигрывал все политические битвы в Европе: блокада Берлина провалилась, франко-германское примирение стало фактом, демократические режимы способствовали экономическому чуду процветания на протяжении всего десятилетия 1950—1960 гг., Югославия изменила своим союзникам в 1948 г. и, несмотря на сожаления, высказанные Хрущевым, покинула свое место в семье социалистических государств. Ни в Польше, ни в Венгрии коммунистический режим не укоренился. Народы терпят его, не считая своим. Только в Польше я смог полностью понять, что означает марксистский термин “отчуждение”: люди чувствуют себя посторон572
- Раймон Арон • Мир и война между народами
ними по отношению к социальным условиям, в которых они живут, к власти, которую они терпят, к тем коллективным свершениям, невольными творцами которых они являются.
Но несмотря на все победы, чувство успеха слишком опьяняет наблюдателей событий на европейской сцене. Впечатляющие и в некотором отношении сенсационные экономические достижения Италии и Франции не привели к серьезному ослаблению коммунистических партий этих стран. Франция увязла в алжирской войне, режим Пятой республики, который обязан своим возникновением мятежу в армии, сам рискует рухнуть в результате либо продолжения конфликта, либо возможного заключения мира на неблагоприятных для Франции условиях (создание независимой Алжирской Республики). К западу от демаркационной линии достигнуто разительное процветание, но и на Востоке наблюдается значительный экономический прогресс. Конечно, сейчас индексы экономического роста производят более сильное впечатление, чем уровень или стиль жизни. Но число немцев, которые переходят из Германской Демократической Республики в Федеративную Республику в несколько раз превышает число тех, кто в поисках работы или удачи бежит с Запада на Восток. Если бы у них был выбор, то громадное большинство трудящихся, интеллигентов, простых граждан Восточной Европы предпочло бы западную демократию народным демократиям. Но — и это в конечном итоге решающий факт—они знают, что в обозримом будущем у них не появится такой свободы выбора.
История
Невмешательство западных стран в октябре—ноябре 1956 г. и безжалостное подавление советскими войсками Венгрии окончательно и трагически подтвердили способность и решимость Советского Союза поддерживать наперекор всему и всем власть Москвы над Восточной Европой. Диалектика военных приготовлений ведет к укреплению глобального равновесия страха путем установления локального равновесия силы армий и классических, и атомных вооружений. Атлантическая дипломатия замышлялась как наступательная, она отказывалась признать советизацию Восточной Европы и провозглашала право европейцев, подчиненных коммунистическому режиму, свободно выбирать свою судьбу, она поощряла угнетенные народы к сопротивлению. Но вместе с тем атлантический блок принял в основном оборонительную дипломатическую стратегию. Атлантическая армия, стратегические военно-воздушные силы не имеют другой задачи, кроме сдерживания агрессора, и, действительно, агрессии не было1. Но если эта политика имела целью создать условия для благоприятного решения германской и европейской проблем, то она явно провалилась. Да и могла ли она привести к успеху, коль скоро Соединенные Штаты и европейские страны отказывались допускать какой бы то ни было риск?
В итоге внутри атлантического блока вновь вспыхнули споры: есть ли замена диалектике военных приготовлений, когда каждый блок отвечает на меры, принятые противоположной стороной таким образом, что равновесие восстанавливается на все более высоком 1 Само собой разумеется, что и без всех этих мер, возможно, также не случилось бы никакой агрессии.
Мир и война между народами • Раймон Арон
-.-V 573
Часть III
уровне вооружений и расширения их ядерного компонента, причем ни один из блоков не применяет этих вооружений, не пользуется своим временным превосходством в той или иной области для достижения своих целей? Можно ли смягчить риск катастрофы, отказавшись от размещения ядерного оружия в некоторых зонах? Можно ли подготовить урегулирование территориальных проблем приемлемым для двух лагерей путем заключения соглашений по вопросам вооружений?
Идея “безатомных зон” была сформулирована и выдвинута как на Востоке, так и на Западе. Антони Иден предлагал еще в 1955 г. создать в центре Европы зону, где численность войск будет сокращена и где не будет размещено никакое атомное оружие. Должна была возникнуть зона, разделяющая армии, подверженная строгой проверке и позволяющая провести эксперимент сотрудничества между блоками. Польский министр иностранных дел также выдвинул план, который остался в дипломатических анналах под названием плана Рапацкого, где предусматривалась деатомизация центра Европы.
Ни по одному из этих проектов не было начато серьезных переговоров. Западные страны, и особенно правительство Бонна, опасались, что формула подобного рода, какой бы расплывчатой она ни была, может содержать в зародыше идею нейтрализации всей Германии. Но такая нейтрализация, естественно, была неприемлема для Запада хотя бы из-за неодинаковых пространств обоих блоков. Советский блок может, не испытывая серьезных неудобств, отодвинуть на несколько сот километров свою линию обороны. Атлантический блок не может пожертвовать несколькими сотнями километров, не отказываясь от всей военной структуры.
В более общем плане было бы наивно думать, что размещение пушек или ракет, способных доставлять к цели атомные боеголовки, создает само по себе опасность войны. Гонка стратегических вооружений опасна в той мере, в какой она требует создания автоматического механизма репрессалий или сокращения времени, необходимого президенту США для принятия решений в определенных обстоятельствах. Тактическое атомное оружие, так же, как и классическое, не может применяться вне связи с общей обстановкой. Прямое соприкосновение войск способствует предотвращению инцидентов, несчастных случаев и недоразумений: северокорейская агрессия была совершена, когда возникла пустота в результате отвода американских войск. Военная пустота опаснее заполненного пространства. Я знаю, что некоторые обозреватели опасаются возможного восстания в Восточной Германии и говорят, что Западная Германия, располагающая национальной армией, не сможет оставаться пассивной в подобной обстановке. Эти предположения мне представляются совершенно неправдоподобными: условия жизни в Восточной Германии улучшились, они не настолько плохи, чтобы вызвать восстание, руководители ее компартии солидарны с Большим братом и неспособны искать спасения в предательстве и переходе в противоположный лагерь.
Более того: если допустить возможность народного восстания в Восточной Европе, то этот риск неизмеримо возрастет в случае создания более или менее обширной демилитаризованной или сво574
Раймон Арон • Мир и война между народами
бодной от ядерного оружия зоны. В действительности смысл подобных мер заключался бы в том, чтобы положить конец обоюдному параличу двух блоков, уменьшив военное значение возможных политических преобразований. В 1956 г. Советский Союз был не готов примириться с установлением в Венгрии многопартийного режима или провозглашением здесь нейтралитета австрийского типа. Но если бы два блока не находились в прямом соприкосновении, если бы исчезла опасность перехода в другой лагерь народной демократии, неверной по отношению к Большому брату, то, возможно. Советский Союз мог бы допустить некоторые преобразования, которые он грубо подавил бы сегодня.
Подобные рассуждения высвечивают выгоды и недостатки политики, которой Запад мог бы постепенно заменить нынешний курс. Поскольку демаркационная линия четко обозначена, американские войска твердо стоят к западу от этой линии, московские руководители не строят иллюзий относительно опасности агрессивных действий, а “народы-узники” также не питают иллюзий относительно возможной помощи. Если не брать бывшую столицу Третьего рейха, ничего не происходит и ничего не может произойти ни по ту, ни по эту сторону, ибо политическая агитация, которая ведется внутри блоков, подавляется и прикрывается военным панцирем. Чтобы способствовать политической оттепели, следует пойти на риск устранения искусственного замораживания отношений, осуществляемого военными организациями обоих блоков.
История
Если этот анализ точен, то стабилизация военного положения обоих блоков представляет собой, вопреки расхожему мнению, торжество политики осторожности и “статус кво”. Создание нейтральной зоны, районов, свободных от ядерного оружия, различные виды разъединения противников, ведущие к нейтрализации Западной Германии без надлежащих уступок со стороны Советского Союза, представляли бы собой авантюристические шаги, вносящие известную неопределенность в ход событий. Таков был бы, со всей очевидностью, смысл ухода из Европы русских и американских войск.
Этот одновременный уход, который стал бы предметом общих переговоров, не повлек бы за собой восстановления пустоты в военной области, которая существовала в 1945 г. Сто миллионов французов и немцев к западу от демаркационной линии способны вместе выставить 30 дивизий, которых требуют эксперты. Они даже способны в сотрудничестве со своими европейскими партнерами (и, возможно, англосаксами) обрести определенную силу сдерживания1. Но даже без присутствия американских войск Европа не останется без прикрытия. Американские обязательства по защите Западной Европы были бы не столь торжественны, но они не были бы отменены.
И если предположить, что советские войска также вернутся в границы Советского Союза, то возможность массированной агрессии против демократической Европы станет в высшей степени неправдоподобной.
1 Можно напомнить также формулу, предложенную Дж. Кеннаном. Европа должна сделать ставку на милицию. на пассивное сопротивление в случае оккупации. Но это означало бы потребовать слишком многого от европейцев.
Мир и война между народами • Раймон Арон
575
Часть III
Если говорить о причинах, мешающих европейским государственным деятелям серьезно рассматривать перспективы подобного сдвига — отказа от кристаллизации военных фронтов в пользу политической “оттепели”, — то они заключаются в неопределенных последствиях такой дипломатии и стратегии. Смогут ли народы Восточной Европы изменить режимы народной демократии, не свергая их? Будет ли Советский Союз в случае народных восстаний, как в Венгрии, провозглашать революционный Священный альянс против контрреволюции? Какими будут отношения между двумя Германиями? Какую дипломатию будет осуществлять мирно объединенная Германия? Все становится возможным, включая германо-русское соглашение за счет Польши, как только мы упраздним в мыслях военную стабилизацию двух блоков и прямое соприкосновение двух великих держав в центре Европы. Но при сегодняшнем состоянии умов европейцы не склонны идти на риск. Диалог относительно проводимых или планируемых военных мер, вероятнее всего, будет продолжаться, и не исключается кризис с неопределенным исходом. Ибо у г-на Хрущева, а не у Запада есть одно средство вновь возобновить “шахматную партию”. Это Берлин. Гарнизоны в Западном Берлине являются символом общей победы над Третьим рейхом, символом германского единства, которое победители торжественно провозгласили, символом юридического непризнания ГДР западными странами, а следовательно, политического непризнания советизации Восточной Германии и Восточной Европы. Именно этот символ западные страны хотят и должны сохранить, именно его Советский Союз хочет и должен устранить.
Исход берлинского кризиса определит условия, в которых начнется следующая фаза европейской “шахматной партии”. Но и завтра дилемма может остаться той же самой: западные страны должны выбирать между военной стабилизацией и политическими переменами. Если они не откажутся от одного, то не смогут недеяться на другое. Любые дипломатические переговоры классического типа могут привести лишь к возможности политических перемен ценой роста небезопасности. Достаточно ли европейцы уверены в себе и в немцах, чтобы желать и не опасаться политических перемен, чтобы рассчитывать больше на свою собственную обороноспособность и меньше — на американскую защиту?
Ответ на эти вопросы сегодня негативен. Но не исключено, что однажды, раньше, чем предполагают, европейцы будут вынуждены ходом событий пойти на риск, которого стремятся избежать.
♦ ♦ ♦
Анализ “европейской ничьей” подводит нас к внешне парадоксальному результату. Гонка вооружений служит гарантией безопасности в той мере, в какой она гарантирует сохранение “статус кво” и исключает любые недоразумения. Но чаще всего обозреватели задаются вопросом, не порождает ли эта гонка опасность войны, которой не хочет ни один из лагерей и которую не оправдывает никакое столкновение интересов? Но на деле оба эти внешне взаимоисключающие толкования не противоречат друг другу.
Риск войны порождается, возможно, гонкой в области технического прогресса, а не созданием НАТО и Варшавского договора. Военное “заморажива576
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ние” обеспечивает антагонистам возможность контролировать события, если Европа, предоставленная сама себе, снова стала бы, может быть, бурливой и непредсказуемой.
Военное “замораживание” в Европе, которое позволяет предотвратить более серьезные опасности, при рассмотрении с глобальной точки зрения, представляется одним из аспектов соперничества в области вооружений, которое может вызвать то, чего обе стороны стремятся избежать. Будучи лишь частью всемирной игры, оно питает тревоги и страхи так же, как другие формы накапливания ядерного оружия.
Есть ли третий путь? Конечно, военное “замораживание” без гонки вооружений или официальное принятие обоими блоками политики сохранения “статус кво” могли бы, видимо, сочетать преимущества двух возможных путей. Но Европа не может уклониться от гонки вооружений с того момента, когда каждая из ее половин включилась в военную систему. Западная Европа не может также добровольно принять статус, с которым она лишь вынуждена примириться. Будучи бессильной, она предпочитает безопасность тревогам и рискам вновь обретаемой самостоятельности.
ГЛАВА XVII
Пропаганда и подрывная деятельность, или
Блоки и неприсоединившиеся страны
Среди сотен государств, представленных в ООН, три четверти не относятся ни к Североатлантическому, ни к Варшавскому пактам. В словарь дипломатии прочно вошло понятие “неприсоединение”. Если не все человечество, то Генеральная Ассамблея ООН делится на три группы. На Старом континенте противостоят друг другу не способные продвинуться вперед, как две козы на узком мостике, западный и советский блоки. Главной ставкой в этом споре или историческом противоборстве между Вашингтоном и Москвой, между западным миром и советским миром являются старые и новые, большие и малые государства Азии, Африки и Южной Америки, расположенные вне зоны этого непосредственного противостояния.
Концепция неприсоединения не лишена определенной двусмысленности. Можно ли отнести ее ко всем государствам третьего мира? Достаточно ли не принадлежать ни к советскому, ни к западному блоку, чтобы стать полноправным членом этого третьего блока, курьезно характеризуемого лишь по признаку свободы действий его членов? Нашей первой задачей будет анализ различных терминов — “неприсоединение”, “нейтралитет”, “нейтрализм”, чтобы провесМир и война между народами • Раймон Арон
577
Часть III
ти различие между позициями стран третьего мира1.
Между странами Африки или Азии происходят локальные ссоры, подобные тем, которые на протяжении веков раздирали европейские государства. Соединенным Штатам так и не удалось примирить Южную Корею и Японию, несмотря на то, что эти бывшие враги связаны с ними союзом. После получения независимости Южный Вьетнам и Камбоджа имеют плохие отношения друг с другом. Их причина коренится в некоторых местных условиях и безразлична обеим великим державам. Напряженность отношений между Индией и Пакистаном связана с Кашмиром: по крайней мере вначале, то есть с 1948 г., она не имела ничего общего ни с предпочтениями каждой из этих стран — наследниц английской власти в мировых делах, ни с действиями Советского Союза или США.
Дипломатия стран, стоящих вне блоков, интересует нас в той мере, в какой она является неотъемлемой частью международной системы. Страны Азии, Африки и Латинской Америки все более интегрируются в эту систему и в ООН, одни — добровольно, другие — вопреки своему желанию. Каждая из двух великих держав проявляет интерес, хотя бы негативный, к любой какой-нибудь “Руритании”: они стремятся не столько склонить ее на свою сторону, сколько не допустить ее перехода в другой лагерь. Соперничество между двумя блоками превращает третий мир в объект постоянной борьбы: и ее исход связан с тем дипломатическим и моральным выбором, которого неприсоединившаяся страна не может избежать.
Будучи объектом борьбы, третий мир в то же время становится движущей силой исторической драмы, ибо два блока взаимно парализуют друг друга и чаще всего не осмеливаются прибегать к силовым средствам. Поэтому мо1ущественные державы помогают слабым: вместо того, чтобы их эксплуатировать, они стремятся убеждать и отказываются принуждать. Нельзя, конечно, утверждать, что дипломатия великих держав стала похожей на состязание в щедрости по отношению к неприсоединившимся государствам или на дискуссию между экономистами, поскольку побеждает тот, кто больше дает или лучше убеждает. Но помощь “слаборазвитым странам”, споры относительно процентов их экономического роста, речи и резолюции в ООН — все это уходит в сторону, а рычагом, при помощи которого революционеры стремятся изменить дипломатическую карту, становится подрывная деятельность, а то и партизанская война.
1. Неприсоединение, нейтралитет, нейтрализм
В самой Европе нейтральными могут считаться три категории государств. Швейцария и Швеция придерживаются вооруженного нейтралитета традиционного типа. Финляндия и Австрия проводят политику невооруженного нейтралитета. Для Югославии характерен своего рода нейтрализм.
1 Термин “третий мир” имеет скорее культурное, чем дипломатическое значение Он относится к той части человечества, которая стоит вне блоков Но есть западные страны (Швеция, Швейцария), не входящие в западный блок, но и не принадлежащие к третьему миру
578
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
В Швейцарии и Швеции действуют полностью западные, демократические институты. Эти государства входят в международные организации по экономическому сотрудничеству и не делают секрета из своих симпатий. Они отличаются от Норвегии или Бельгии тем, что не принадлежат к военному союзу, образованному Североатлантическим пактом. Но они обладают значительными по сравнению со своим населением вооружениями. Швеция пошла в организации пассивной гражданской обороны, подготовке к эвакуации городов и в строительстве подземных убежищ дальше, чем любая другая страна, включая великие державы.
Австрия взяла на себя обязательство в момент подписания мирного договора придерживаться постоянного нейтралитета, но в отличие от Швеции и Швейцарии она обладает лишь небольшой армией, задача которой состоит в поддержании внутреннего порядка, а не в отпоре возможной агрессии со стороны одной из великих держав. По своим институтам и симпатиям она стоит на стороне Запада. Финляндия также управляется конституционным плюралистическим режимом и не принадлежит ни к одному из военных блоков. Но ввиду близости советского Большого брата она пользуется лишь полунезависимостью. Финляндия ищет согласия Москвы, прежде чем принять важное дипломатическое решение (например, об ассоциации с малой зоной свободной торговли). Она соглашается на уступки, необходимые для того, чтобы умиротворить своего могущественного соседа.
Югославия представляет собой уникальный случай в Европе и даже во всем мире. Будучи диссидентом советского лагеря, она продолжает заявлять о своей приверженности марксизму-ленинизму. Режим представляет собой тип “государства с единственной партией”, хотя жесткость его была значительно смягчена. Отлученная Сталиным и подвергнутая блокаде со стороны советского лагеря Югославия получила американскую помощь. Но после 1954 г. она получала также помощь и от советского блока. Даже если бы маршал Тито того пожелал, он не может отречься от своих раскольнических убеждений и вновь стать принцом-сателлитом в государстве — члене советского блока. Он не в состоянии грозить ни одной из великих держав, занимая враждебную к ней позицию, и не может стать “хорошим западником” или стать “хорошим советским деятелем”. Однако Соединенные Штаты получают двойную выгоду, оказывая без всяких условий поддержку диссидентской Югославии: они укрепляют режим, более предпочтительный, по их мнению,чем ортодоксальная промосковская власть, и демонстрируют свою добрую волю по отношению к другим принцам-сателлитам, которые захотели бы последовать примеру маршала Тито.
Вне Европы нет эквивалента традиционному нейтралитету шведского или швейцарского типа. Основное различие здесь проходит между нейтралитетом (Индия) и нейтрализмом (Насер) более или менее положительного характера. Почти все новые государства объявляют себя неприсоединившимися и стремятся не быть втянутыми в холодную войну между блоками. Но диапазон неприсоединения колеблется от симпатии Туниса1 к Западу до почти присоединения Кубы к советскому блоку.
1 Эта глава была написана до кризиса вокруг Бизерты в июле 1961 г.
Мир и война между народами • Раймон Арон
579
Часть III
Премьер-министр Индии Джавахарлал Неру враждебно относится к военным союзам в принципе, он считает их скорее причиной роста международной напряженности, чем гарантией безопасности. В частности, он осуждает и критикует по понятным причинам Организацию договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), военную помощь Соединенных Штатов Пакистану. По оценке Нью-Дели, эта помощь меняет в регионе соотношение сил в споре из-за Кашмира, а не способность оказать сопротивление коммунизму.
В экономической и политической областях, по своим институтам и своей идеологии Индия ближе к западному блоку, чем к советскому. Самая большая доля ее торговли приходится на Запад. Большинство индийских студентов направляется учиться в западные университеты. Наиболее значительную экономическую помощь она получает от Запада.
Язык представителей Индийской Республики неоднозначен: то он ближе к прогрессистскому языку, когда оратором является Кришна Менон1, то ближе к языку умеренного социализма и принципиального морализма, когда оратором выступает сам премьер-министр. Осуждение англо-французской экспедиции в Суэце было более суровым, чем осуждение по поводу советского подавления венгерской ревоюции или подавления Китаем восстания в Тибете. Но может быть, эта несправедливость объясняется не столько симпатиями, сколько страхом, который внушает мир тоталитаризма.
Другой вариант нейтрализма демонстрирует Объединенная Арабская Республика. Внутри страны коммунистов и прогрессистов безжалостно преследуют, арестовывают и даже расстреливают. А во внешней политике государство и правящий режим связаны с Советским Союзом, который поставляет оружие, покупает хлопок (перепродавая затем на мировом рынке), строит плотину и заводы. Однако ОАР и Советский Союз формально не являются союзниками, и у Москвы здесь нет монополии на оказание экономической или технической помощи. Устранив европейское влияние в Египте и осуществив национализацию Суэцкого канала, ОАР объективно послужила целям советской стратегии, поскольку ее первостепенная задача состоит в том, чтобы во всех районах мира восстанавливать народы и правительства против Запада. Но президент Насер не отказался от свободы действий, он не является узником ни революционных сил внутри страны, ни советского блока в международных делах. Он может завтра прибавить к советской помощи американскую, не отрекаясь от своих принципов, не меняя избранного им курса. Шантаж Насером Запада не выражается в угрозе “Помогите мне, или я перейду на сторону коммунизма”. Он пользуется другой угрозой, которую с готовностью поддержал Хрущев: “Помогите мне, или то, в чем вы отказываете, мне даст советский блок, не требуя ничего взамен”. Неру получает помощь с обеих сторон, не шантажируя никого. Президент Насер приходит к такому же результату, явно шантажируя и Запад, и Советский Союз (“Запад воспримет мой переход на его сторону как возвращение блудного сына”).
Гвинея г-на Секу Туре и Куба г-на Фиделя Кастро — это “активные нейтралы”, но различного типа. Гвинейский режим — это режим одной партии. 1 Менон Кришна - министр обороны Индии в 1957 - 1962 гг
. 580 , \ Раймон Арон • Мир и война между народами
История
Правда, к такому режиму склоняются все африканские республики, и все политические деятели Африки пользуются более или менее прогрессистским языком (по крайней мере тогда, когда речь идет об отношениях между европейцами и цветными народами). Но гвинейская партия обладает структурой и использует методы коммунистической партии, а представители Гвинеи в ООН поддержали г-на Лумумбу в Конго с таким же пылом, как поклонники Москвы. Из этого не вытекает, что г-н Секу Туре полностью солидаризируется с советским блоком. Он заинтересован не порывать с Западом, чтобы получать вероятную помощь и сохранять возможности для шантажа: страна, угрожающая стать коммунистической, не должна уже быть такою полностью.
Случай с Кубой совсем иной: установление режима, близкого к советской модели, у берегов Соединенных Штатов, в географическом районе, который раньше считался полностью зоной американского влияния, имеет, очевидно, такое историческое значение, какого не могло иметь решение Гвинеи сказать нет на референдуме 1958 г.1 Фидель Кастро пришел к власти, пользуясь симпатией и получая материальную поддержку некоторых кругов в Соединенных Штатах, но за два года он оказался в ряду главных врагов американской республики. Как Тито бросил вызов Сталину, так Кастро бросает вызов дяде Сэму. Политический строй, похожий на советские однопартийные режимы, выступления, враждебные Соединенным Штатам и благожелательные к социалистическому блоку, добровольная дипломатическая поддержка позиций Советского Союза — все три компонента политической ангажированности были налицо. В определенном смысле Фидель Кастро оказался дальше от США, чем какоелибо другое государство, расположенное вне зоны непосредственного противостояния между блоками, ибо стал неспособен отказаться от своих обязательств.
Кастровская революция означает, видимо, поворотный пункт в истории Западного полушария. Страны Латинской Америки, расположенные рядом с американской республикой, под боком у гиганта, действовали по традиции, примирясь с гегемонией сильнейшего, но постоянно отвергая ее в глубине души и выражая время от времени свой протест. Они пока не воспользовались шансами, которые открывает перед неприсоединившимися странами соперничество между блоками, и не поняли беспомощности самой могущественной державы, которая не имеет права или отказывается использовать силу. Вполне возможно, что другие страны Южной Америки последуют примеру Фиделя Кастро, который сам воспринял урок Насера: тот или иной район утрачивает статус “заповедника” и превращается в “театр холодной войны”, как только близость и возможности великой державы перестают производить впечатление на малую страну, убежденную в том, что другой конкурент защитит ее от вооруженной интервенции и окажет в случае необходимости экономическую помощь.
Если сделать обзор дипломатических позиций, которые связаны с именами Неру, Насера, Тито, Фиделя Кастро, то станет очевидно, что различия между ин-
1 В результате референдума 1958 г Гвинея получила независимость и стала Гвинейской Республикой (Прим, перев.)
Мир и война между народами • Раймон Арон
' 581
Часть III
дийским нейтралитетом, египетским и югославским нейтрализмоми кубинской ангажированностью столь же показательны, как и черты сходства. Нейтралитет Индии отражает личность Неру, преданного и ценностям Запада, и идеям борьбы против колониализма. В египетском нейтрализме находит отражение антизападный, но не просоветский национализм арабского мира. В нейтрализме Югославии сказываются позиции левого коммуниста, не согласного с удушающим покровительством Большого брата. В позиции Кубы выразился бунт левых интеллигентов из латиноамериканской страны против капиталистической эксплуатации. Все страны, которые придерживаются нейтрализма, почти все страны третьего мира сообща разоблачают колониализм. Но когда речь идет об их институтах, об оценках мирового конфликта, об их собственном неприсоединении, о реальных симпатиях по отношению к Москве или Вашингтону, то их разделяют не только нюансы, хотя все они дружно высказываются за “разрядку международной напряженности" и “разоружение".
Выбор какого-либо из видов нейтралитета или нейтрализма не зависит от уровня или характера слаборазвитости. Особенности неприсоединения или присоединения к тому или иному блоку зависят от политических обстоятельств, от психологии элит и народов. Примеры нейтралистской политики, которые мы привели, иллюстрируют это положение. О том же свидетельствует рассмотрение позиций новых государств по отношению к бывшим метрополиям, их дипломатии и подхода к фундаментальным политическим ценностям.
Британские колонии в Азии получили независимость после второй мировой войны. Чтобы добиться ее, им не пришлось сражаться, по крайней мере после 1945 г. Индия и Цейлон сохранили созданные по британскому образцу свои институты, которые, несмотря на большие трудности, нормально функционируют, особенно в Индии. Хотя население Бирмы считается миролюбивым, страна пережила долгие годы гражданской войны. Пакистан не смог организовать свободные выборы, состязание партий или подлинные дебаты в парламенте. Армия, сформированная по британскому образцу, организовала нейтральные временные органы управления. Не существует явной связи между характером институтов и дипломатическими позициями. Пакистан, управляемый маршалом, связан с Западом через СЕАТО. Индия, гордая своим парламентским режимом, считает себя одновременно членом Британского содружества наций и неприсоединившейся страной. Победа на выборах левых партий на Цейлоне привела к эвакуации английских баз, политические деятели выступают с речами прогрессистского характера, но не отказываются от неприсоединения.
Из французских колоний в Азии только Камбоджа сумела обрести своего рода единство, провозглашая нейтралитет индийского типа. Лозунг правительства Южного Вьетнама — антикоммунизм, оно ведет непрерывную борьбу против партизанского движения, организованного и снабжаемого коммунистическим режимом в Ханое. Что касается Лаоса, то он разделен на три части между различными группировками. Каждая из них мирным и вооруженным путем отстаивает одну из позиций, между которыми разделилась французская интеллигенция после 1945 г. Это коммунистическая Патет-Лао, решительно антикоммунистическая часть армии и сводный брат ком582'
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
мунистического лидера (Суфанувонга) принц Суванна Фума, стремящийся сплотить нацию на основе нейтралитета во внешней политике и создания правительства примирения внутри страны.
Все республики Черной Африки пришли к независимости, минуя фазу “освободительной войны". Дипломатический курс правительств этих новых государств почти целиком зависит от симпатий и антипатий одного человека (или от нескольких людей), который руководит партией большинства или единой партией. Эти предпочтения в определенной мере связаны с экономическим положением страны, с чувствами населения. Но никто не сомневается, что руководитель по имени Секу Туре или Уфуэ-Буаньи1 был волен рекомендовать избирателям сказать “да" или “нет" на референдуме в сентябре 1958 г. И сегодня они свободны в своем выборе: сохранять узы содружества или пользоваться полной независимостью, говорить языком западных демократов, или нейтралистов, или прогрессистов, близких к коммунистам. Отнюдь не предопределено, что франкоговорящие государства Черной Африки, все слаборазвитые в полном смысле этого слова, должны двигаться, по крайней мере в краткосрочной перспективе, от независимости к прогрессизму через нейтралитет или нейтрализм. Политические лидеры, которые возглавляли “освобождение", могут, если хотят, не рвать со старой метрополией и, не принимая сторону того или иного блока на международной арене, оставаться в экономическом и интеллектуальном плане солидарными с Западом.
Ни Тунис, ни Марокко не порвали с Францией, несмотря на продолжающийся алжирский конфликт. В 1961 г. обучение в средней школе здесь строилось еще на французском языке и преподавание в будущем университете в Тунисе предполагалось вести в значительной части также по-французски. Подобным же образом обстоит дело в Марокко. Правда, население “французских колоний", территорий бывших протекторатов, значительно сократилось после перехода к независимости. К 1 апреля 1960 г. 114 тыс. французов, то есть 63% от общего их числа, покинули республику г-на Бургибы. В Марокко число отъездов было меньше, здесь на ту же дату оставалось 200 тыс. французов из 315 или 330 тыс. (доля уехавших составляет 35—40%) Несмотря на быструю ликвидацию “французского общества", созданного на исламских землях, Тунис и Марокко продолжают торговать прежде всего внутри зоны франка. Марокканский импорт более чем на 50% поступает из Франции (51% в 1959 г.), и более половины марокканского экспорта также направляется во Францию (62% в 1958 г. и 56% в 1959 г.).
Возьмем три зоны французских колоний: государства Индокитая, республики Черной Африки и Северной Африки. В основе нынешней ситуации в Индокитае лежит тот факт, что руководители националистического движения — Вьетминя — были в то же время коммунистами. Французские правительства оказались неспособными сделать выбор между компромиссом с Вьетминем (даже с учетом верности его лидеров Москве) 1 Секу Туре стал в 1958 г. президентом Гвинейской Народной Революционной Республики, получившей независимость. Уфуэ-Буаньи был премьер-министром в 1959—1960 гг., а затем стал президентом также ставшего независимым Берега Слоновой Кости. (Прим, перев.)
Мир и война между народами • Раймон Арон
583 •
Часть (II
и соглашением с некоммунистическими националистами (как,например, нынешний вьетнамский президент Нго Динь Дьем), с одной стороны, и борьбой против коммунизма и национализма — с другой. Итогом стали раздел Вьетнама, раздробление Лаоса. Только Камбодже удалось благодаря мудрости принца Народома Сианука сохранить одновременно единство народа и дипломатический нейтралитет.
В Тунисе и Марокко основным фактором развития было буржуазное руководство националистическими движениями и участие в них буржуазии. “Верховный борец" так же хорошо ораторствует на французском языке, как и на арабском. Весьма далекий от коммунизма, он хочет1 видеть Тунис независимым, но связанным с Западом так же, как с арабским миром. В Марокко число представителей буржуазии, проникнутых французской культурой, меньше, чем в Тунисе, и многие политические и профсоюзные деятели не говорят пофранцузски и не испытали никакого интеллектуального влияния бывшей метрополии. Независимое Марокко вероятнее всего станет более, чем Тунис, солидарно с арабским или исламским национализмом. Но и здесь дипломатические позиции будут зависеть главным образом от политических обстоятельств: пути получения независимости, состава партии, которая вела борьбу за освобождение, связей с бывшей метрополией, отношения народа, и особенно элиты, к транснациональным движениям (арабизм, коммунизм) и блокам.
Подведем итоги. Неприсоединившимися можно называть все государства, которые не примыкают ни к одному из военных блоков, а третьим миром — страны, которые не относятся ни к западному, ни к советскому мирам. Но неприсоединившиеся государства и страны третьего мира не представляют собой единого целого в том, что касается их институтов, культурно-политических ценностей и дипломатических позиций. Выбор одного из лагерей, различные оттенки нейтралитета или нейтрализма определяются многими причинами, скорее политическими, чем экономическими, и наибольшее значение имеют умонастроения и образование элит. В нашем веке повсюду массы населения приходят в движение. Различные меньшинства пополняют революционный потенциал. Если эти меньшинства, здесь или там, примкнут к делу коммунизма и Москвы, то за этим последует и все остальное* организация партии, обуздание толпы, национализация частной собственности и авторитарное планироваание.
2. Дипломатия доллара и дипломатия рубля
Впервые в истории богатые народы что-то дают, или делают вид, что дают, менее благополучным народам. Впервые в истории считается, что в интересах сильного помогать слабому. Впервые в истории получатели даров предъявляют свои претензии и отвергают требования дарителей. Впервые в истории каждый из дающих опасается, что его соперник проявит больше щедрости, чем он сам. Однако природа людей и государств не изменилась.
В предыдущей главе мы рассмотрели экономическую сторону организации 1 Или хотел до кризиса в Бизерте
584 л
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
блоков. Разоренные войной страны Европы, находящиеся к Западу от железного занавеса, восстанавливали свое хозяйство, испытывая постоянное давление советского блока. Соединенные Штаты вложили в них на протяжении нескольких лет в виде безвозмездной помощи и займов двадцать миллиардов долларов. Небывалый по своему размаху план Маршалла объяснялся новыми условиями традиционного соперничества между государствами: их приверженность той или другой стороне зависела от их политического строя, и американский Большой брат своими дарами поощрял деятелей и партии, разделяющих его цели.
Как мы уже видели, в период после войны другая Европа представляла разительный контраст с Европой Западной. Сталинская империя носила трижды патологический характер. Она установила железные занавесы между сателлитами, и каждый из них, замкнутый в своей скорлупе, был обречен воспроизводить в карликовых масштабах советскую модель. Она игнорировала необходимость экономического разделения труда между регионами. Все соглашения между социалистическими странами носили двусторонний характер, и не предпринималось никаких заметных усилий, чтобы рациональным образом включить эти соглашения в какой-то гармоничный ансамбль. Она оставляла львиную долю доходов победителю, развенчивая тем самым претензии Большого брата на роль миссионера новой веры. После 1956 г. все свидетельствовало о том, что Советский Союз, кажется, признал несовместимость экономической эксплуатации и идеологического руководства. Он стал вести себя как эгоистичный, но просвещенный Большой брат.
Смешанные предприятия были ликвидированы и взимание репараций прекращено. Условия товарообмена (которые становятся время от времени темой публичных споров) не являются уже преднамеренно несправедливыми. Более того, Венгрия и Польша после своих революций получили кредиты от Москвы. Дипломатия рубля в Европе не имела ни такого значения, ни такого масштаба, как дипломатия доллара. Общая сумма кредитов странам-сателлитам с 1945 по 1956 г. составила лишь 727 млн. долларов, а с февраля 1956 г. по май 1958 г. объем кредитов этим же странам достиг 966,5 млн. долларов1, к которым следует добавить 1770,5 млн долларов отсроченных выплат долгов. Какието 2 млрд долларов кредитов, выделенных странам советского блока за период с 1945 г. по 1960 г. смехотворны по сравнению с 20 млрд долларов, предоставленных по плану Маршалла. Но разница в ресурсах и уровне жизни между Большим братом и малыми братьями на Востоке не так уж велика. Сегодня отношения внутри блоков в экономической области вполне сравнимы: посредством плана или свободной торговли оба блока стремятся рационально организовать производство и торговлю, каждый создает международный рынок, в котором применяется принцип разделения труда.
Аргументы, при помощи которых реалистически обосновывалась щедрость плана Маршалла, с еще большей убедительностью относятся сегодня к отношениям со слаборазвитыми странами. Чем более бедной является страна, чем дальше она стоит от порога нако1 Berliner J. J., Soviet economic aid. New York. 1958. p. 50 и далее.
Мир и война между народами • Раймон Арон -
- 585 -
Часть III
пительного роста, тем большую она испытывает потребность в иностранной поддержке. В действительности экономическая помощь тем более эффективна, чем больше ее получатели уже располагают административным, материальным, политическим, интеллектуальным капиталом, необходимым для экономического роста, как это имело место в Западной Европе. Ей недоставало лишь в течение нескольких лет валюты. Американские дары восполнили эту нехватку, и доллары потекли в инвестиции. Начиная с 1950—1951 гг., Европа уже смогла двигаться вперед самостоятельно. Когда социальные условия для роста отсутствуют, помощь представляется экономически необходимой, но часто фактически оказывается бесплодной.
До недавнего времени предоставление экономической помощи считалось монополией Соединенных Штатов. После смерти Сталина и особенно за последние шесть лет Советский Союз, в свою очередь, вступил в борьбу. Иногда парадоксальным образом случается, что одна и та же страна получает помощь от обоих лагерей. Каким же образом и тот и другой лагерь могут быть заинтересованы поддерживать один и тот же режим? Этот парадокс вполне объясним, если рассматривать его в общепланетарном контексте.
Чтобы понять, каким образом советская стратегия использует уже в течение ряда лет экономическое оружие, следует сделать прежде всего два самых общих замечания. Полностью огосударствленная внешняя торговля обычно более руководствуется политическими расчетами, чем торговля, осуществляемая компаниями или частными лицами. Отсюда еще не вытекает, что любое предоставление кредитов (советская помощь. как правило, оказывается в форме долгосрочных кредитов под невысокие проценты, от 2 до 2,5 %) связано с более или менее черными замыслами, стремлением к проникновению или подрывным действиям. Но наблюдатели склонны считать, что все соглашения, заключенные Советским Союзом со слаборазвитыми странами, направлены к получению политических выгод, которые всегда могут вытекать из этих соглашений, даже если такая цель прямо не ставится.
Кроме того, советские руководители, видимо, признали важность, по крайней мере психологическую, оказания экономической помощи и использования ее как аргумента в споре или оружия в борьбе, цель которой привлечение в будущем слаборазвитых стран на свою сторону. Они решили, что советскому гиганту следует приобрести репутацию дарителя, возможности которого сопоставимы, а щедрость больше, чем у западного гиганта. Предоставить кредит неприсоединившейся стране означает доказать на деле, что СССР располагает излишками, что жертвы, на которые в течение сорока лет соглашался русский народ, теперь позволяют способствовать улучшению участи самых обездоленных народов. Тем самым Советский Союз утверждается в ряду богатых народов и, не ставя никаких условий для предоставления экономической помощи, завоевывает славу своим бескорыстием. В этом случае помощь становится инструментом пропаганды, а не подрывных действии
Таким образом, становится понятным вклад СССР в развитие Индии. Если Запад убежден, что, строя здесь металлургические заводы, способствует сохранению либеральных институтов, то почему Советский Союз делает то же самое, преследуя, по мнению всех наблю586
' '> Раймон Арон • Мир и война между народами
История
дателей, прямо противоположные цели? Объяснение, как мне представляется, носит двоякий характер: строительство металлургического завода советскими техническими специалистами ставит родину социализма на тот же уровень, что и родину капитализма. Операция окупается с точки зрения роста престижа, и она не слишком обеменительна в иных отношениях. Советские лидеры, руководствуясь своей философией, должны верить, что экономическое развитие скорее ведет к социализму, чем стагнация. К тому же суммы, предоставляемые Советским Союзом Индии, незначительны: 200 миллионами долларов больше или меньше — не имеют весомого значения для исхода нынешнего эксперимента (кредиты, выделенные до конца 1957 г., составляют 362 млн долларов. Есть и другое объяснение1, экономическая помощь является средством инфильтрации, она позволяет идеям и шпионам проникать в страну. Я не верю в подобное объяснение: почему советские капиталы сумеют достичь того, чего никогда не удавалось американским капиталам? В каждой стране наиболее умелыми пропагандистами выступают местные коммунисты. Шпионская сеть всегда отдалена от официальной организации партии. Возможно, что некоторые советские инженеры принадлежат к сети информаторов, так же, как у многих дипломатов к их публичной роли добавляется нелегальная деятельность. Но экономическая дипломатия Советского Союза не руководствуется этими второстепенными соображениями. Строительство в кредит металлургического завода не может быть средством укрепления тайного аппарата разведывательной работы.
Случай с Индией почти уникален среди стран, получающих советскую помощь. Ибо эта помощь была сконцентрирована вокруг нескольких стран, получавших ее по чисто политическим причинам. Эта помощь предоставляется для того, чтобы либо оттолкнуть ту или иную страну от западного союза и связать с советским блоком, либо сделать ее сперва экономически, а затем политически зависимой от советского блока: и наконец, она может подготовить подрывные действия и взятие власти или укрепление прокоммунистического режима.
Сирия и Египет были среди основных получателей советской помощи (370 млн. из общей суммы в 1581 млн долларов, выделенных до конца 1957 г.)1 2. Поставка оружия Египту, каковы бы ни были формы оплаты, представляла собой выгодную операцию для обеих сторон. Египет утверждал свою независимость подобно тому, как Югославия утверждала свою: первый, получая советское оружие, а вторая, получая американское. Советский Союз добился впечатляющего успеха, продемонстрировав, что Ближний Восток уже не “заповедник Запада”. А малая страна приобрела возможность шантажировать крупную державу.
Дипломатическое использование торговых соглашений, включая те, которые предусматривают предоставление креди1 Меня могут упрекнуть в том что я не рассматриваю возможность бескорыстной помощи Советский Союз помогает, мол Индии из гуманистических побуждений Я отклоняю подобное толкование не из вражды к Советскому Союзу а потому что руководители любого государства, и особенно государства идеократического побуждаются к расчетливости самими своими функциями, законом политической деятельности
2 670 млн до конца 1960 г , не считая поставок оружия
Мир и война между народами • Раймон Арон эч <•«-* 587 г?'
Часть III
тов, является не новым словом в международных отношениях. Все капиталистические страны в тот или иной момент своей истории выстраивали торговые связи в соответствии с политическими целями или вкладывали капиталы, руководствуясь интересами своих союзов. До 1914 г. рынок капиталов в Париже был открыт или закрыт для различных государств в зависимости от того, насколько вероятным казалось их привлечение в качестве союзника, насколько послушно они следовали указаниям Кэ д’Орсе. Русские займы, размещенные во Франции и предназначенные для строительства стратегических дорог, сокращали срок вступления в бой союзной армии в случае войны с Германией. Третий рейх, единственная страна, готовая покупать некоторые экспортные виды продукции балканских или придунайских государств, стремилась привязать их к своей политике. Но ни опыт Франции, ни опыт Третьего рейха не подтверждают безоговорочно эффективность подобных методов.
До 1914 г., как и до 1939 г., торговофинансовые связи скорее уже скрепляли, чем создавали отношения солидарности или противостояния. В решающий момент географическое положение, чувства населения, национальные цели, представления об исходе борьбы определяли присоединение государства к той или иной стороне. Сеть соглашений, сотканных доктором Шахтом, не помешала Югославии воевать против Третьего рейха. Румыния подчинилась лишь тогда, когда гитлеровская армия стала господствовать над Европой. Венгрия рассчитывала на германский реваншизм, чтобы удовлетворить свои собственные притязания.
Отнюдь не доказано, что сегодня все должно обстоять иначе. Первые советские предложения относительно предоставления помощи вызвали громкий отклик потому, что они открывали новую фазу в политике СССР и оказались неожиданными. Но Бирма не была совращена тем, что Советский Союз предложил выкупить ее урожай риса, когда ему не нашлось сбыта на капиталистическом рынке. Советские методы — предоставление чаще займов, чем безвозмездных даров, полная свобода получателя использовать кредиты по своему усмотрению — возможно, более приемлемы для развивающихся стран, чем некоторые особенности предоставления помощи Западом (необходимость рассмотрения экспертами проектов, для осуществления которых испрашивается помощь). Другие элементы сравнения могут коренным образом изменить или модифицировать эти предпочтения. Например, советские товары, получаемые в счет кредитов, не всегда удовлетворяют развивающиеся страны.
Экономическая помощь может служить эффективным средством вербовки малой страны лишь при одном условии: помощь должна составлять значительную долю ее национального дохода. Это условие было соблюдено в двух случаях — с Афганистаном и Сирией. Предоставленные Афганистану 115 млн долларов составляли 23% от национального дохода в 500 млн доларов; 184 млн долларов, полученные Сирией, составили 46%Ч национального дохода, оцениваемого в 400 млн долларов. В этом случае политико-экономическая зависимость грозит открытием пути для сове1 Этот процент охватывает совокупность кредитов, выделенных с 1953 по 1957 г., а не только использованные кредиты.
... 588 . * Раймон Арон • Мир и война между народами
История
тизации страны. В момент создания Объединенной Арабской Республики Сирия была почти захвачена изнутри коммунистической партией. И вполне возможно, что Афганистан относится отныне к сфере советского влияния, хотя ничто не может быть окончательным в течение долгого времени и правители страны не утратили возможности порвать с “благодетелем” и обратиться к другой великой державе.
За последние годы создание режимов, настроенных по идеологическим причинам в пользу советского блока, хотя и не включающих активистов компартии, дало Советскому Союзу возможность использовать другую форму помощи. Когда Гвинея и Куба вдруг потеряли прежних клиентов и поставщиков, появилась другая великая держава и оказала поддержку жертве блокады (Соединенные Штаты поступили так же в пользу Югославии, отрезанной от советского блока, к которому она принадлежала). Советский Союз, Китай и страны Восточной Европы предоставили Кубе кредиты, общая сумма которых достигла приблизительно 400 млн долларов (в 1959—1960 гг.) Но, главное, советский блок покупает кубинский сахар и поставляет нефть и машины. Добавим, что эта торговля производится в форме прямого обмена. Только 20 % первого миллиона тонн кубинского сахара были оплачены Москвой в конвертируемой валюте.
В чем же советская практика оказания экономической помощи отличается от западной? Последние примеры, которые мы рассмотрели (предоставление поддержки диссидентам другого лагеря), демонстрируют подходы, общие для двух блоков: единственный вопрос заключается в том, чтобы выяснить, какой из них дает больше возможностей помочь диссидентам. Демонстративная помощь, оказанная по соображениям престижа, — это скорее советская, чем западная практика, ибо Соединенным Штатам нет необходимости афишировать свое богатство: неприсоединившиеся страны не сомневаются, что США — богатая страна. В арсенале Соединенных Штатов есть два вида помощи, которых нет у противоположной стороны. Это поддержка оборонительных усилий, или предоставление долларов правительствам Южной Кореи, Южного Вьетнама и Чан Кайши на Формозе для укрепления армии, содержание которой не под силу местным властям. Кроме того и прежде всего, США оказывают неприсоединившимся странам чисто экономическую помощь, сравнимую с той, которую Советский Союз оказывает странам своего блока, но цель такой помощи — не демонстрация щедрости (Индия, например, пользуется своего рода состязанием в подношениях со стороны СССР и США), а ускорение экономического развития, которое, как полагают, необходимо для сохранения более или менее либеральных институтов, аналогичных западным и одновременно способствующих подлинному нейтралитету.
Что касается “поддержки оборонительных усилий”, то контраст между двумя лагерями проявляется в области финансирования: Советский Союз не поставляет оружия бесплатно1, в то время, как Соединенные Штаты сами оплачивают поставки оружия режимам, 1 Некоторые данные позволяют сделать вывод, что поставки оружия на Кубу в 1960 г осуществлялись бесплатно
Мир и война между народами • Раймон Арон
589
Часть III
которые сталкиваются с внешними и внутренними угрозами. Различие в предоставлении экономической помощи выражается не только в ее объеме, но и в ее политических и стратегических целях. Советский Союз нацеливается, вне пределов своего блока, на близлежащие страны, стремится перетянуть на свою сторону колеблющихся или укрепить государства, уже стоящие на позициях позитивного нейтрализма, в то время, как стратегия Соединенных Штатов руководствуется подчас элементарным марксизмом: прогресс слаборазвитых стран, мол, сам по себе будет действовать в пользу Запада. В соответствии с этой теорией страны, где наблюдается экономический рост, менее уязвимы для коммунистической подрывной деятельности. Западные страны, и особенно США, истратили миллиарды долларов на территориях, которые советские представители называют “колониальными** или “полуколониальными”, но эти инвестиции, государственные или частные, отнюдь не всегда вызывают признательность или дружбу. Но вполне возможно, впрочем, что завтра с той же иронией историк оценит помощь, которую Советский Союз оказывает сегодня Китайской Народной Республике : найдется ли место для двух Больших братьев внутри одного блока? Не захочет ли один из них, как сказал бы Оруэлл, стать немного более равным, чем другой?
Есть еще один аспект экономической экспансии советского блока. Непосредственной целью кредитов, предоставляемых тем или иным из советизированных государств, является завоевание рынка, так же, как это делают Великобритания или Федеративная Республика Германии. Но стремятся ли они в дальней перспективе сузить зону “мирового капиталистического рынка” и тем самым приблизить “финальный кризис” капитализма?
Советский Союз и его партнеры производят теперь в большом количестве средства производства, и эти товары с жадностью поглощает слаборазвитый мир. Расширение торговых связей между советским блоком и неприсоединившимися странами само по себе не является ни инструментом холодной войны, ни компонентом экономической помощи, оно лишь отражает прогресс, достигнутый советским блоком. По мере того, как государства этого блока все более продвигаются по пути индустриализации и истощают свои самые богатые запасы минерального сырья, они все более импортируют либо сырьевые ресурсы, стоимость которых на внешнем рынке дешевле, чем на внутреннем, либо готовые изделия, дополняющие то, что они производят сами. Но вопрос заключается в том, какими намерениями руководствуются советские плановики* отказались ли они от старой идеи сократить до минимума зависимость социалистического блока от капиталистического мира, или, стремясь ускорить его разложение, они рассчитывают путем торгового соперничества лишить его поставщиков и клиентов?
Отметим прежде всего, что за исключением стран, получивших от советского блока крупные по сравнению с национальным доходом кредиты (Афганистан, Египет, Югославия)1, слабораз1 Это данные опубликованные несколько лет назад С тех пор, возможно только Гвинея и Куба добавились к числу названных нами стран
590».
Раймон Арон • Мир и война между народами
витые страны более 90% своей внешней торговли осуществляют с несоциалистическими государствами. Только Египет продал советскому блоку в 1956 г. более 30% (34%) своих экспортных товаров, затем шла Югославия с 24%. Только Югославия и Афганистан получали от этого блока более 20% своего импорта.
Вместе с тем, так называемые слаборазвитые страны поглощают лишь небольшую долю внешней торговли Советского Союза, которая сама по себе имеет весьма скромный объем ввиду небольших масштабов валового национального продукта СССР и всего блока. Слаборазвитые страны1 поглощали в 1948 г. 20%, в 1953 г. — 8%, в 1956 г. — 23% общего объема экспорта СССР в страны, находящиеся за пределами советского блока. Импорт из слаборазвитых стран достигал 35% в 1948 г., 13% — в 1953 г., 21% — в 1956 г.1 2 Что касается европейских стран советского блока, то здесь колебания были такого же порядка, но выраженные менее заметно. В 1948 г. экспорт из этих государств в слаборазвитые страны составлял 22%, в 1956 г. — тот же процент после падения в 1953 г. до 16%. Импорт упал с 28% в 1948 г. до 17% в 1953 г. и поднялся до 25% в 1956 г. Чтобы экономическая конкуренция советского блока стала угрожать Западу, советским плановикам необходимо было бы принять доктрину, которую они до сих пор отвергали: им следовало бы допустить, чтобы снабИстория
жение и сбыт в экономике стран советского блока находились в значительной мере под влиянием негосударственных форм хозяйствования. Эти плановики не в состоянии поставить перед собой задачу: обеспечить одновременно и относительную автаркию советского блока, и удушение капиталистического блока3, лишая его своих клиентов и поставщиков в слаборазвитых регионах. Но из этих двух целей они предпочитают именно первую.
Разумеется, не исключено, что на том или ином рынке, скажем, нефти или олова, советские представители будут в состоянии оказать эффективное давление на цены и даже “сломать” их путем внезапного массового выброса этого сырья. Я не исключаю, что руководители советской внешней торговли руководствуются подчас подобными соображениями. Но такие расчеты скорее свойственны капиталистам, чем большевикам. Только американский предприниматель может поверить, что руководители Кремля хотят разорить США путем снижения мировых цен или инфляционного повышения американских цен.
Фактическое положение дел не дает оснований считать, что Советский Союз хочет изгнать путем экономической конкуренции страны капиталистического блока из слаборазвитых регионов. Оно также дает возможность понять, почему советская помощь является или кажется порой эффективнее за-
1 Дж. Дж. Берлинер (J. J. Berliner), у которого я заимствовал эти цифры, относит к данной категории следующие страны: Египет, Гана, Иран, Ирак, Израиль, Ливан, Марокко, Нигерия, Судан, Сирия, Турция, Югославия, Бирма, Цейлон, Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Вьетнам, Аргентина, Бразилия, Куба, Уругвай.
2 Абсолютные цифры составили в 1956 г.: экспорт - 183,6 млн. долл, из 806,3 млн долл, общего объема экспорта, импорт - 166,1 млн долл, из 780 млн долл, общего объема.
3 Эти две цели могли бы оказаться совместимыми лишь в том случае, если бы большая часть третьего мира перешла в советский лагерь.
Мир и война между народами • Раймон Арон
591
Часть III
> х- -^^SSW^-O-*■ MWWW*to лЗ»
ладной. Советское вмешательство сегодня почти всегда приветствуется потому, что оно разрушает американскую или европейскую монополию. Благодаря этому правители стран Азии, Африки и Латинской Америки получают дополнительную карту в игре против капиталистических государств: то, что нам не дадут на Западе, намекают они, мы попросим и получим на Востоке. Конечно, экономическая помощь не влечет за собой автоматически политическую зависимость, и советская щедрость не беспредельна. Западные страны могли бы проигнорировать эту угрозу. Но они должны принимать ее всерьез, независимо от того, способны ли правительства, пускающие ее в ход и обращающиеся к Москве, оставаться самостоятельными, или они заявляют о своей неспособности сопротивляться коммунистической угрозе. В обоих случаях руководители слаборазвитых стран обладают веским аргументом, который сводится к одной простой фразе: “Если коммунисты возьмут верх, вы пострадаете больше, чем я".
С количественной точки зрения превосходство Запада кажется подавляющим. Шестнадцать стран1 (Югославия, Индия, Египет, Сирия, Афганистан, Индонезия, Цейлон, Камбоджа, Бирма, Турция, Аргентина, Парагвай, Непал,Судан, Ливан, Йемен) получили от советского блока кредиты на общую сумму 1 581 млн долл., из которых 342 млн были реально использованы к концу 1957 г. Те же страны получили от Соединенных Штатов с 1945 по 1957 гг. 781 млн.
долл, кредитов и 1 816 млн долл, безвозмездной помощи, то есть всего 2 597 млн долл. В 1956—1957 гг. общая сумма американских кредитов и безвозмездной помощи превышала общую сумму кредитов, предоставленных советским блоком, хотя последний как раз в эти же годы стал проводить свою новую политику1 2.
Вполне возможно представить американскую щедрость еще более впечатляюще, используя иную статистику3. Общая сумма даров и кредитов, предоставленных Соединенными Штатами слаборазвитым странам после 1945 г., составила 12 865 млн долл.: 835 млн — Югославии, 3 404 млн — странам Ближнего Востока, 925 млн — странам ЮгоВосточной Азии, 5 706 млн — другим регионам Тихого океана и Азии (исключая Японию), 1 945 млн — республикам Латинской Америки. Только в 1957 г. сумма помощи составила 1 628 млн (по
регионам она распределялась следующим образом: 45 млн, 343 млн, 145 млн, 847 млн, 248 млн). Но эти цифры требуют объяснений и комментариев. Значительная часть даров — это эквивалент
1 Дж.Дж. Берлинер. Там же. С. 32—34.
2 Как свидетельствуют статистические данные, опубликованные 19 июня 1961 г. в газете “НьюЙорк тайме”, общая сумма кредитов, предоставленных всеми странами советского блока, достигла в конце 1960 г. 5 млрд. долл. Кредиты, предоставленные в 1960 г . составляли приблизительно один миллиард долларов. Если эти цифры точны, то они означают существенный рост по сравнению с 1955г. (189 млн долл, кредитов, предоставленных Советским Союзом) и 1957 г. (411 млн долл.), но они ненамного больше, чем в 1956 г. (960 млн долл). Но с другой стороны, кредиты используются довольно медленно лишь приблизительно по 200 млн долл, в год. В одной из публикаций Национального Совета Французских предпринимателей указывается цифра в 3 млрд. долл, кредитов, выделенных до конца 1960 г. этим странам на экономические цели (без учета оружия) только Советским Союзом, что почти совпадает с оценками "Нью-Йорк тайме".
3 Указ, соч., стр. 267.
592 •
- Раймон Арон • Мир и война между народами
американских сельскохозяйственных излишков, которые Индия или Югославия оплачивают в национальной валюте. Соединенные Штаты предоставляют затем этим правительствам право свободно использовать долларовый эквивалент на нужды своей экономики. Значительная часть помощи странам Азии относится к “поддержке оборонительных усилий”. В 1956 г. из 763 млн долл., предоставленных странам Дальнего Востока, 724 млн. составили расходы на поддержание подобных усилий. На Ближнем Востоке, в Африке и в ЮгоВосточной Азии расходы на эти цели составили 287 млн. долл, из 449 млн.
Даже отбросив поддержку “оборонительных усилий“, нетрудно еще более увеличить подсчитанную сумму помощи со стороны США и свободного мира, если добавить американские долговременные частные инвестиции (1 268 млн долл, в 1956 г.), займы Международного банка реконструкции и развития (183,7 млн долл, в 1957 г., 1530 млн. — с 1954 по 1957 г.). И наконец, если сложить приведенные выше статистические данные, финансируемую Соединенными Штатами часть технической помощи, предоставляемой по линии ООН, правительственные программы экономической помощи, которую оказывают другие правительства свободного мира (750 млн долл.), частные инвестиции, поступающие из других государств атлантического блока, то мы получим общую сумму в почти 5 млрд. долл. (4 800—4 900 млн долл.) против 120 млн — 200 млн. со стороны советского блока.
История
Я не буду утверждать, что 200 млн долл, советской помощи имели больший психологический и политический эффект, чем 5 млрд долл, западной помощи. Но правда состоит в том, что эти 5 млрд — абстракция, сумма, образованная на калькуляторе. Эту сумму I никто не знает, ее не представляет ни
- одно пропагандистское агентство. С , точки зрения рекламы и пропаганды,
- то, что неизвестно, не существует: ре1 альностью становятся лишь видимые 1 вещи. Более того, если бы эти данные
были широко обнародованы, общественное мнение в неприсоединившихся странах вычло бы из них расходы на оборону, частные инвестиции (потому что они преследуют цель получения прибыли), займы и безвозмездные дары колониям и э бывшим колониям, потому что они от-
- мечены печатью колониализма. После та5 ких вычетов сумма в 5 млрд долл, значительно уменьшится — на две трети, а может быть и на четыре пятых. Однако
) даже в 1957 г., когда советская помощь , была значительной, только экономичес-
- кая помощь со стороны США и атлантиэ ческого мира в несколько раз превышала
помощь соперника. (Оставим в стороне э частные инвестиции и наследие колониализма.) Но советская помощь, в отличие
- от западной, сконцентрирована и демон1 стративна. И, как мы не устаем повторять, мирное соревнование — это не со-
з стязание в щедрости, где дополнительные расходы гарантируют победу. Если
- бы речь шла о празднике ирокезов “по< тлач" или о встрече королей в Кам дю э Дра д’Ор, то Запад уверенно бы победил, учитывая характер соперничества1.
1 Потлач - праздник американских индейцев, где подносились подарки Кам дю Дра д’Ор ("Лагерь на равнине Золотой простыни”) — место на Севере Франции, где в 1500 г. встречались французский король Франциск 1 и английский король Генрих VIII, чтобы заключить союз против императора “Священной Римской империи" Карла V (прим перев )
Мир и война между народами • Раймон Арон 593
Часть III
Но оно не сводится сегодня ни к раздаче даров, ни к спорам экономистов.
3. Диалектика подрывных действий
В 1815 г., после двадцати пяти лет войны, европейские монархи, принадлежавшие к одной политической системе, создали Священный союз. Они были больше заинтересованы в сдерживании революционного движения, чем в ослаблении друг друга. Солидарность королей взяла верх над соперничеством государств. Холодная война носит прямо противоположный характер. Каждый блок стремится поднять массы против режима, установленного во враждебном блоке. Демократические государства и советские государства не хотят и не могут договориться, подобно протестантским и католическим монархам, о том, чтобы взаимно ограничить свои зоны влияния и поддерживать мир, отказавшись от обращения в свою веру подданных государств, расположенных по другую сторону от демаркационной линии. Поскольку нет совместного стремления к стабильности, то постоянные попытки пропаганды и подрывных действий вытекают из неоднородности мировой системы. В Европе подобные усилия настолько вошли в повседневную жизнь, что мы этого даже не замечаем. Радиопропаганда, обращенная к населению, которая сыграла эффективную и впечатляющую роль в борьбе против Третьего рейха, стала обычным явлением. Каждая страна разговаривает со слушателями в других странах, подобно тому, как Би-Би-Си разговаривало со слушателями в оккупированной Европе или “Французы с французами”. Радиостанции Би-Би-Си, “Голос Америки”, “Радио Свобода” стремятся распространять или укреплять настроения, враждебные коммунистической власти, поддерживать надежды на освобождение или просто знакомить слушателей с жизнью на Западе. В любом случае они имеют в качестве минимальной цели отобрать у принцев-сателлитов исключительное право на информацию, монополию на идеологию или толкование исторических событий. И поскольку советские режимы претендуют на эксклюзивность и монополию, они рассматривают западную радиопропаганду как подрывную деятельность и отвечают соответствующим образом (заглушают ее). Что касается западных стран, то они не претендуют ни на исключительность, ни на монополию и не пытаются “глушить” “Голос Советского Союза”, ибо такое глушение противоречило бы их доктрине и потому что другая сторона в любом случае может высказываться через тех, кто в западных странах поддерживает ее.
Разнородность мировой системы в данном случае, как представляется на первый взгляд, благоприятна Западу. Он никогда не нуждался в утраченной монополии, противоречащей логике его институтов, в то время как советское государство тщетно пытается заглушить голос “посредника”, который вмешивается в отношения между ним и массами. Запад не запрещает жертвам капитализма искать убежище там, где нет “эксплуатации человека человеком”, но поток эмигрантов с Востока на Запад продолжает нарастать.
Если в результате “соревнования идей” один из просоветских режимов пошатнется или падет, то Большой брат сохраняет как последнее средство возможность прибегнуть к военной силе (Большой брат на Западе не имеет та-
594 -
Раймон Арон • Мир и война между народами
кой возможности, по крайней мере в Западной Европе). Если не считать этих крайних ситуаций, то чисто коммунистическая пропаганда — лишь один из видов оружия, причем наименее эффективный в советском арсенале, так же, как чисто коммунистические организации — лишь одна из форм, и не самая важная, среди организаций, зависящих от Москвы. Кампании против перевооружения Германии, против атомной бомбы, за франко-советскую дружбу — лишь три из бесчисленных примеров технических приемов (назовем их техникой инфильтрации), посредством которых творцы советской политики стремятся найти сочувствующих или своих сторонников в кругах, которые не поддержали бы коммунистическое дело как таковое. Выгода от таких сопутствующих действий и “параллельных организаций” двойная: расширяется оппозиция, которая в любом случае проявилась бы, по отношению к предпринятой или задуманной мере западного правительства; некоммунисты, ни о чем не подозревая, сотрудничают в ассоциациях, руководители которых являются коммунистами или пешками в игре, управляемой коммунистами.
Несмотря на эти преимущества, общий результат неоднородности в Европе более уравновешен, чем склонно считать большинство наблюдателей, по крайней мере в том, что касается психологической и политической войны. Действительно, присутствие Запада в отношениях между Кремлем и советским гражданином так же реально и, может быть, более эффективно, чем присутствие СССР в отношениях между Капитолием и Вестминстером, с одной стороны, и американским или английским гражданином, с другой. Влияние тре-
История в тъего лица не пропорционально свобох де его голоса. Голос Запада слышат тем лучше, чем более он заглушается. Если
3 голос Советского Союза имеет такой ус:- пех во Франции, то это происходит по;, тому, что миллионы французов враждебI- ны или полагают, что враждебны, устая новившемуся порядку. Тот факт, что их х мобилизует или ими манипулирует ком>- мунистическая партия, связан с опрей деленными неудобствами, но также и с
- преимуществами — до тех пор, пока они :- не в состоянии овладеть государством, й Голосование миллионов французов на х выборах за французскую компартию я искажает функционирование демокра[- тии, поскольку эта партия исключена, и так сказать, из жизни общества и непри-
касаема. Но это исключение, в свою оче:- редь, позволяет проводить прозападную :” политику, которую те же избиратели, •- проголосовав за “нейтралистских” или о “социалистических” своих представите-
- лей, могли бы парализовать.
I; В итоге пятнадцати лет холодной
[, войны, пропаганды и подрывных действий советский гражданин, по всей и видимости, пока столь же мало склонен восстать против так называемого коммунистического режима, как американ!- ский гражданин — против так называе•- мого капиталистическо-демократичес:- кого режима. В Европе советский блок в о целом потерпел поражение в борьбе идей. Никто сегодня не сомневается, что [. если бы здесь проводились свободные в выборы с участием многих партий, то л все бы страны Восточной Европы верг нулись к плюралистическо-конституци-
- онному режиму. Но европейские наро-
- ды по обе стороны от демаркационной
- линии не сомневаются, что подобные
4 выборы не состоятся. Не забытые еще »- события 1956 г. подтверждают, что там,
Мир и война между народами • Раймон Арон г л - *595
Часть III
где пролетариат “освобожден”, восстания, заведомо контрреволюционные, не допускаются. На Старом континенте коммунизм выступает не как надежда людей, а как неумолимый закон истории.
Результат разнородности мировой системы, диалектика подрывных действий предстают по-иному в отношениях между блоками и третьим миром. Он открыт для пропаганды, инфильтрации идей и людей с обеих сторон (до тех пор, по крайней мере, пока коммунисты не захватят бразды правления). Он не является арбитром (вполне возможно, что наилучший режим для развитых государств не является таковым для слаборазвитых стран), но он способствует арбитражу истории, ибо ни один из блоков не может взять верх над другим без войны, если не привлечет неприсоединившиеся страны на свою сторону. Он выступает не как 1егииэ даиб-епБ (“третий радующийся”), который присутствует, иронически глядя, при споре или борьбе между двумя великими державами, но как объект этого спора, то представляющего собой подлинные дебаты (каковы наилучшие методы индустриализации?), то борьбу не на жизнь, а на смерть. Он является объектом, но вместе с тем и субъектом этого спора, поскольку великие державы не могут использовать известные силовые методы. Один из двух борцов-собеседников более приспособлен, на первый взгляд, к характеру и правилам этого конфликта, скорее политического, чем военного, более подспудного, чем открытого, и скорее ожесточенного, чем мирного.
Подрывные действия состоят в том, чтобы вызывать или обострять недовольство населения, возбуждать массы против правительств, провоцировать или использовать возмущения, восстания, мятежи, чтобы ослабить соперничающее государство и распространять скорее определенные институты, чем определенные идеи. Для полного успеха этих действий требуются некоторые условия: в государстве, подвергшемся такому давлению, массы должны быть неудовлетворены, а меньшинство — быть готово к выступлению, разделяя идеологические лозунги, распространяемые революционерами изнутри и извне. Что касается государства, которое осуществляет подрывные действия, то оно должно располагать агентами или организацией, способными превратить возмущение в восстание или восстание в революцию, направить революцию в нужное русло, соответствующее его интересам и его целям. И советский лагерь, как в области идеологии, так и в сфере организации, всесторонне оснащен для проведения подрывных действий, которые находят в значительной части третьего мира благоприятные условия.
Советская идеология хорошо приспособлена к потребностям и стремлениям тех, кто получил западное полуобразование (доступная версия идеологии, разработанная мыслителями, стремящимися сделать свое учение если не мудрым, то хотя бы немудреным). Озлобление, присущее безотчетно многим революционерам в Азии, Африке и Латинской Америке, гармонично сочетается с картиной мира, которую рисует марксистско-ленинская пропаганда. На Кубе коммунистическая партия не принимала почти никакого участия в революции, свергнувшей Батисту, но революционный динамизм увлек Фиделя Кастро и его команду туда, куда люди в Москве хотели его привести.
596 ч. ~ л ъ < Раймон Арон • Мир и война между народами
До взятия власти коммунистическая партия, будь она подпольной сектой или массовой организацией, стремится парализовать свободные режимы и устранить либералов или социалистов, способных организовать развитие экономики. После взятия власти она становится единственной партией, которая, вооружившись идеологией, обуздав массы, навязав обществу интеллектуальную ортодоксию, придает властным структурам стабильность, устремленность и видимость, если не реальность, эффективности1.
Американцы тоже попытались посредством ЦРУ1 2 прибегнуть к подрывной деятельности. Это ЦРУ вызвало падение в Гватемале режима полковника Арбенца, который считался коммунистическим или прокоммунистическим. Это ЦРУ подтолкнуло кубинских беженцев и организовало жалкую попытку высадки в “Заливе свиней”. Но подрывные действия, предпринимаемые секретными службами, отличаются по своему характеру от таких действий, использующих сторонников одной веры и активистов одной партии.
Упрощая ситуацию, можно сказать, что в своей антиподрывной стратегии Соединенные Штаты делают ставку прежде всего на экономическую помощь (и в этом смысле она вдохновлялась соображениями марксистского толка). Но эта помощь была безрезультатной изза отсутствия во многих странах эффективных правителей и управляющих, без которых вливание долларов влечет за собой скорее коррупцию, чем экономический прогресс.
История
Порою подрывная деятельность препятствует использованию экономических инструментов сопротивления. Когда развертывается партизанская война, как, например, в Южном Вьетнаме и Лаосе, американская помощь направляется прежде всего в армию и соответственно сокращаются ресурсы, идущие на инвестиции. Кроме того, враждебные действия между коммунистами и некоммунистами почти неизбежно вызывают конфликт среди последних, между сторонниками национального примирения или нейтрализма и сторонниками “полной победы”. Власти прибегают к чрезвычайному военному положению, ликвидируя или урезая свободы граждан. Иными словами, подрывная деятельность, возникшая на национальной почве или имплантированная извне, мешает создавать политические и экономические условия, необходимые для развития, она благоприятствует патерналистскому или традиционному деспотизму, который, в свою очередь, вызывает возмущение сторонников модернизации и либералов.
Я не хотел бы обсуждать положения, ставшие сегодня догмами. Правда, что народы третьего мира более или менее сознают свою бедность и богатство привилегированной части рода человеческого. Правда, что существует огромная пропасть между устремлениями сотен миллионов людей и нынешними условиями их жизни. Правда, что эта пропасть облегчает подрывную деятельность и что в интересах западных стран уменьшить ее, насколько это возможно. И 1 Политическая эффективность не вызывает сомнения. Что касается экономической эффективности, то глядя на результаты, достигнутые советским сельским хозяйством за сорок лет, можно сказать, что они, по меньшей мере, сомнительны или колеблются в зависимости от отрасли сельскохозяйственного производства.
2 Центральное разведывательное управление.
Мир и война между народами • Раймон Арон 597
Часть III
правда, наконец, состоит в том, что в определенном смысле центром спора между двумя блоками являются методы индустриализации слаборазвитых стран. Но, соглашаясь с такой экономической интерпретацией событий, мы должны отдать приоритет политике. Ибо для того, чтобы оказать сопротивление подрывным действиям путем экономического роста, нужно установить и сохранить политический режим, способный обеспечить такой рост.
Почти нигде в мире власть уже не основывается на традиции, на прошлом. Кое-где еще существуют короли и князья, сыновья королей и князей, титулы которых перешли к ним из минувших веков. Но эти наследники прошлого или теряют постепенно престиж и власть, или обновляют и утверждают их, глядя в будущее. В Мали и Гане потомки императоров стоят сегодня во главе прогрессистских партий. Принц Сианук в Камбодже возглавляет нейтралистскую партию. Он объединяет свой народ, избегая ориентации на какой-либо из блоков, и в то же время воспоминания о его предках обеспечивают ему, возможно, такое уважение, какое редко заслуживают люди, которые всем обязаны лишь обстоятельствам и самим себе.
Поскольку власть должна быть обращена в будущее, агрессивно-революционные партии и режимы обладают нередко, как полагают, преимуществом. Они выступают как последовательные силы, доводящие до логического конца провозглашенные принципы. Раз уж все экономисты признают необходимость частичного планирования, чтобы обеспечить “взлет” производства, то эти партии предлагают ввести полное планирование. Поскольку готовность населения пойти на жертвы или даже его энтузиазм признаются необходимыми, эти партии заявляют, что они лучше, чем другие, способны мобилизовать массы. Коммунисты — большие мастера все упрощать. Если считать, что политическая эффективность — это умение меньшинства навязать свою волю большинству или даже заставить большинство выполнять волю меньшинства, думая при этом, что оно действует по своему желению, то, действительно, коммунистические методы в высшей степени эффективны.
Вместе с тем деспотии, подобные власти Ли Сын Мана (в Южной Корее) или Нго Динь Дьема (в Южном Вьетнаме), полудеспотии, как, например, власть Мендереса в Турции, представляли собой крайний выход из положения. Они отталкивают от себя умеренные левые силы, стремящиеся сохранить либеральное наследие Запада, они толкают к коммунистам искренних демократов, не обеспечивая взамен ни порядка, ни компетентного управления страной. Трудно сделать общий вывод относительно достижений либеральных и деспотических режимов в Южной Америке. Но в целом можно сказать, что попрание конституционных законов отнюдь не способствует экономическому развитию и что вооруженные люди у власти нисколько не лучше способствуют экономическому прогрессу, чем народные избранники и парламенты.
Конечно, за последние сто лет можно найти нескольких деспотов, которые относятся к типу, описанному еще Аристотелем, — “тирана-модернизатора”, обожаемого бедняками и проклинаемого привилегированными, или тирана, воздвигающего грандиозные монументы. Перона долго поддерживали рабочие профсоюзы, и у него остаются еще 598 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
миллионы сторонников. Варгас в Бразилии был избран законным путем и сам восстановил конституционный порядок после того, как несколько лет правил нелегитимно. Но консервативные или реакционные деспоты более многочисленны, чем деспоты-модернизаторы. Перон был более “демагогом", чем “модернизатором”.
Деспотия без единственной партии не гарантирует создания режима, способного успешно осуществить первоначальные задачи индустриализации. Деспотия с единственной некоммунистической партией рискует пойти по роковому пути, по которому пошли фашистские партии в период между двумя войнами. В странах, где существует относительно многочисленный политический класс, приобщенный к современной культуре, единственной партии необходима идеология для того, чтобы утвердиться. Невозможно повести за собой массы, рекрутировать активистов, поддерживать дисциплину в руководящем аппарате, не имея каких-то привлекательных идей, способных воодушевить людей на борьбу за великое дело или за священные идеалы. Каким же может быть содержание идеологии некоммунистической единственной партии, кроме национализма? Возможно, известная доля национализма необходима для “экономического взлета”, для объединения народа в государстве, пока отдельные индивиды не поймут смысла своего сообщества. Но ревностный национализм всегда рискует выродиться в озлобление, и разве в Латинской Америке он не направлен против Запада?
Разнообразие политических режимов будет характерной чертой некоммунистического “третьего мира” на протяжении ближайших десятилетий, и было бы нелепо и неразумно затеять ортодоксально-демократический крестовый поход, словно Запад предал бы свои ценности, отказавшись устанавливать повсюду режимы, которые он считает наилучшими. В битвах, идущих внутри государств, советский блок имеет постоянную цель: помогать партии, которая выступает на его стороне и стремится установить режим, подобный коммунистической модели. Несмотря на эту постоянную цель, дипломатия Советского Союза, если не Китая, не колеблясь, поощряет в некоторых странах националистические партии, враждебные Западу, но и не желающие установления так называемых марксистско-ленинских режимов. У западного блока нет постоянной цели, эквивалентной цели противоположного блока, потому что ни одна партия, стоящая у власти, не гарантирует установления “плюралистической демократии”, подобно тому, как компартия гарантирует строительство “народной или социалистической демократии”.
К тактическому оппортунизму, который используется, таким образом, обоими лагерями, добавляется обязанность (для западного блока) приспособить свои собственные институты к различным требованиям народов. В странах советского блока считают, что подобные адаптации нужно проводить после взятия власти. Коммунистическая партия, подражающая организации большевистской партии и устанавливающая после захвата государства такую же монополию на пропаганду, образование, всю власть, воспроизводит у себя главные черты русского режима. Парики, которые носят судьи в Гане, “молоток” в руках спикера в парламенте — всего лишь символы: перенос этих символов иллюстрирует наМир и война между народами • Раймон Арон
;г 599 .
Часть 111
мерение воспроизвести западную традицию. Но парламентские дискуссии, политическое представительство представляют собой лишь институционные формы, а суть режима выражается в реальной практике общественной жизни. Вопрос стоит так: будут ли политические партии играть надлежащую им роль?
Из этого не следует, что коммунистические партии или партии, использующие коммунистические методы, необходимы или неизбежны в течение фазы “взлета” или в течение нынешнего исторического периода. Из этого только вытекает, что западные деятели не могут быть уверенными в том, что смогут найти для каждой страны приемлемое для них решение, или, иначе говоря, такую партию, группу или человека, которые были бы одновременно способны к модернизации и не являлись бы сторонниками советского блока. Поддержку “деспотов-немодернизаторов” не всегда можно оправдать отсутствием других подходящих кандидатов, способных к отправлению власти. Правда состоит в том, что выбор часто сводится к двум крайностям, из которых одна (коммунистический или прогрессивный режим) не подходит уже сейчас, а вторая (деспотический режим, неспособный модернизировать страну) бесперспективна. И всегда американская или западная дипломатия предпочитает второе решение — предпочтение настолько же неизбежное, насколько неприятное.
Три преимущества, которыми располагает советский блок в сфере подрывной деятельности. неоспоримы. Режимы с единственной тоталитарной партией фальсифицируют правила мирного соревнования, ибо они отказывают своим противникам в предоставлении тех свобод, которыми сами пользуются за пределами своих границ. Почти революционная ситуация в значительной части “третьего мира” более благоприятствует тем партиям, которые обеспечивают порядок любой ценой, чем партиям, стремящимся к равновесию между властью государства и правами граждан. И наконец, в большинстве неприсоединившихся стран элиты, оказавшиеся перед необходимостью выбора, предпочитают экономическое развитие утверждению представительных институтов, заводы — свободе, они соглашаются с деспотизмом, если осуществляется модернизация экономики.
Трудно найти страну “третьего мира”, которая в начальной фазе экономического роста придерживается конституционно-плюралистической демократии, соответствующей британской или американской ортодоксии. Но Капитолий и Кремль — символы двух миров, а не два крайних случая неизбежной альтернативы. Даже в Европе нет строгого соответствия между внутренними политическими институтами и позицией страны на международной арене. И тем более необходимо рассеять опасения, что все страны третьего мира, управляемые на основе методов, которые мы считаем деспотическими, будут склоняться идейно или дипломатически в сторону советского блока. Даже те страны, политический стр<?й которых может быть отнесен к “однопартийным режимам”, представляют собой широкий спектр вариантов от прозападного Туниса до Гвинеи. Куба стала самой просоветской из республик третьего мира еще до того, как обзавелась единственной партией.
600
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
4. Диалектика нейтралитета
Пятнадцать лет “холодной войны**, с 1945 по 1960 г., можно разделить на два четких периода, с точки зрения отношений между блоками и неприсоединившимися странами. В первом периоде блоки, образовавшиеся в Европе,открыто стремились вербовать клиентуру в других частях света — так, словно оба поставили перед собой целью создать во всех районах планеты такую же ситуацию, какую оставила после себя на Старом континенте вторая мировая война. Начиная с 1947—1948 г., Соединенные Штаты пытались завязывать союзы со всеми согласными на то государствами и поставляли им оружие, предназначенное в теории для защиты против внешнего агрессора, но зачастую используемое (особенно в Латинской Америке) для сохранения существующего правительства. Идеологический и дипломатический курс Советского Союза признавал лишь два, а не три варианта выбора : два лагеря, два типа стран и политических режимов сталкиваются между собой на современном этапе мировой революции и перехода от капитализма к социализму. Новые, так сказать освободившиеся государства, которые не вошли в социалистический лагерь, фактически остаются, в толковании Москвы, под ярмом неоколониализма, вольными или невольными агентами империализма. Нейтралитет Индии в начале 1953 г., еще до смерти Сталина, был в глазах Джона Фостера Даллеса “аморальным**, а с точки зрения представителей Кремля, представлял собой форму подчинения Западу.
Никто не достиг своей цели в этом странном соревновании, в котором каждый из блоков делал все возможное, чтобы обеспечить даровой успех противной стороне. Отказ Индии или арабских стран Ближнего Востока дипломатически связать себя с Западом был успехом Советского Союза, но последний отрицал это, приписывая своему сопернику способность (но тот ею не обладал) добиваться посредством закулисных махинаций результатов, которых не удалось заполучить путем открытой дипломатии. Впрочем, ни одной из великих держав не удалось толкнуть в объятия конкурента те страны, которые они пытались перетянуть на свою сторону и которые они порицали за нежелание делать выбор. И если снова обратиться к Индии Дж. Неру, то ее случай показателен. Она придерживалась нейтралитета, вопреки противоречивым и совпадающим обвинениям в “аморальности” и “подчинении империализму”.
После 1953 г. идеологический и дипломатический курс Советского Союза стал постепенно меняться. Преемники Сталина поставили перед собой в качестве ближайшей цели задачу — подорвать систему союзов и влияние Запада. Они уже не клеймили страны, которые объявляли себя нейтральными и хотели оставаться вне конфликта двух блоков, а одобряли их позицию и выражали готовность оказать им экономическую помощь. Поездки Булганина и Хрущева в Азию были свидетельством и символом этого нового подхода. Положения теории, относящиеся к характеристике двух блоков, их непримиримой борьбе, к обязательному конечному присоединению всех стран к тому или иному союзу, оставались неизменными. Но нейтралитет был признан как законное и реальное явление на современной фазе развития международных отношений.
Мир и война между народами • Раймон Арон 601
Часть III
Подобное толкование отвечало советским интересам и способствовало политике блока, ибо открывало всем странам, связанным с Западом, возможность обособиться от своего друга, покровителя или хозяина, не беря на себя риска новых связей.
Западные страны долго колебались, прежде чем в свою очередь проявили такой же новый подход. В 1954 г., после поражения под Дьенбьенфу, была создана Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), и Советский Союз заклеймил ее как агрессивную группировку, а нейтральные государства (особенно Индия) высказали по этому поводу сожаление, ибо, по их мнению, она была способна вовлечь в холодную войну Юго-Восточную Азию. На Ближнем Востоке, также после смерти Сталина, был подписан так называемый Багдадский пакт (СЕНТО). Восстание в Иордании помешало ей примкнуть к пакту, а США одобрили пакт, не вступая в него. После революции, которая стоила жизни королю Ирака и Саиду Нури1, этот пакт охватывал лишь неарабские мусульманские страны (Турцию,Иран,Пакистан).
Трудно измерить, и мы не собираемся это делать, преимущества и недостатки этих “многосторонних союзов”. На Ближнем Востоке они непопулярны (как это показали волнения в Иордании и Ираке), они раздражают соседние страны, которые хотели бы остаться нейтральными, затрудняют сохранение хороших отношений одновременно с прозападными и ^присоединившимися государствами. Первые требуют наград за свою верность, а вторые угрожают, что будут просить другой блок предоставить им то, в чем отказывает Запад. Но внутренне слабые режимы подчас находят поддержку в региональных союзах, в том интересе, который проявляет к ним мировая держава, а последняя получает взамен военные базы.
В Юго-Восточной Азии пакт был заключен, как любят шутить в Вашингтоне, как между президентом и конгрессом, так и между Соединенными Штатами и их союзниками в Европе и Азии Довольно расплывчатые обязательства, взятые на себя Соединенными Штатами в отношении Таиланда, Пакистана, Южного Вьетнама, Лаоса, Камбоджи (три последние страны защищаются договором, который они не подписали), позволяют президенту предлагать и оправдывать перед конгрессом и общественным мнением страны вмешательство, при необходимости и военное, в этой части мира. В то же время эти обязательства, возможно, укрепляют названные режимы от угрозы изнутри и позволяют привлечь Францию и Великобританию к коллективным действиям. Остается лишь выяснить, не повышается ли в случае кризиса вероятность бездействия из-за необходимости присутствия европейских союзников, чтобы обеспечить коллективность такого вмешательства. И остается также узнать, смогут ли Соединенные Штаты поощрять или поддерживать нейтральные государства, не вызывая недовольства своих союзников, вооружать одних, не отталкивая других.
Несмотря на ту настойчивость, впрочем неизбежную, с которой Соединенные Штаты прибегали к заключению военных союзов, они были вынуж1 Саид Нури — с перерывами премьер-министр Ирака в 1930—1958 гг , один из инициаторов Баг дадского пакта Убит в 1958 г во время революции в Ираке (Прим перев)
602 Ж**
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
дены самой диалектикой конкуренции постепенно приспособить свой ответ к характеру вызова: не противопоставлять требование к развивающимся странам присоединиться к Западу советскому предложению о неприсоединении. Обращение американцев в новую веру, совершенное после изменения советских взглядов, происходило под влиянием обстоятельств.1 В 1956 г., после неудачи израильской вылазки на Синайском полуострове и высадки англо-французских войск в районе канала, США попытались, по их выражению, “ заполнить пустоту”, оставленную после ухода европейских держав. Но эта пустота не могла быть заполнена военными союзами, которые решительно отвергались всеми арабскими странами — Египтом, Сирией, Иорданией — и которые осуждались даже общественным мнением Ирака. Там, где население, элиты и массы, испытывают слишком большую неприязнь к Западу и не терпят каких-либо проявлений солидарности с ним, самое большее, на что Западу можно надеяться, так это на то, что данные страны не перейдут в другой лагерь, а остановятся где-то на промежуточной позиции, не соскальзывая от нейтрализма и нейтралитета к просоветизму. Иными словами, распад “империй” и ликвидация “заповедников”, ускоренные, но не вызванные дипломатией преемников Сталина, привели западные державы к допущению в ряде случаев нейтралитета государств.
Диалектика соревнования требует перехвата одним лагерем лозунгов другого. Когда какая-либо страна связана с Западом, советская дипломатия восхваляет перед ней преимущества нейтралитета. Когда та же страна кажется готовой присоединиться к советскому блоку, наступает очередь Запада защищать и демонстрировать выгоды нейтралитета. Конечно, нейтралитет скрывает различные реалии, и оба лагеря, употребляя одни и те же слова, думают о разных вещах. Но учитывая, что каждый лагерь предпочитает какой-то один вид нейтралитета другому, бывает и так, что обе стороны договариваются в некоторых случаях об истинном нейтралитете, хотя он может более подходить идеологии и интересам одной из них, чем другой.
В Европе Советский Союз подписал договор, который повлек за собой его уход с австрийской территории и утвердил нейтралитет Австрии, страны с либеральным внутренним режимом, симпатизирующей Западу. В 1958 г. западные страны попытались обеспечить равновесие между религиозными общинами в Ливане и его дипломатический нейтралитет. Примирившись с необходимостью добиваться если не желаемой, то хотя бы возможной цели, Запад стремился не допустить присоединения христианско-исламского Ливана к позитивному нейтрализму и присоединения Египта, который уже исповедовал позитивный нейтрализм, к советскому блоку.
Случай с Лаосом в 1960—1961 гг. ознаменовал собой дальнейший этап в утверждении нейтралитета, а может быть, стал попросту его оригинальным примером. Здесь можно было видеть одновременно и один из аспектов мирового конфликта, и попытку остаться в стороне от него, воздействие соперничества между блоками и стремление избежать 1 Этот переход еще не носит всеобщего характера. США были бы встревожены заявлением латиноамериканских стран о неприсоединении или нейтралитете.
Мир и война между народами • Раймон Арон
♦ < * ;; & 603 я >
Часть III
последствий этого соперничества. В соответствии с положениями договора, положившего конец войне в Индокитае, Лаос не должен был входить ни в один из военных союзов. Франция сохранила здесь две базы и военную миссию, призванную обучать лаосскую армию. Поскольку две южные провинции были фактически оккупированы и управлялись движением коммунистического толка Патет-Лао, то после 1954 г. существовала альтернатива: либо гражданская война и раздел страны, либо интеграция этого движения в коалицию, включение “партизан” в королевскую армию и основного их руководителя Суфанувонга — в коалиционное правительство. Попытка сохранения коалиционного режима продолжалась с 1954 по 1958 г. Принц Суванна Фума, сводный брат “красного” принца Суфанувонга, был символом национального примирения и руководителем так называемых нейтралистов. Нейтралитет Лаоса в дипломатическом отношении, по его мнению, обеспечивался участием во власти всех движений.
В 1956 г. американская дипломатия, опасаясь, что под прикрытием национального примирения или ее видимости коммунисты проникнут в государственный аппарат и захватят ключевые посты, спровоцировала создание прозападного правительства. Партизаны Патет-Лао снова ушли в джунгли, а принц Суфанувонг был брошен в тюрьму.
В 1960 г., устав от гражданской войны и коррупции в правительственных кругах, которые пользовались дождем долларов из Америки, парашютисты во главе с Конг Ле совершили государственный переворот в поддержку принца Суванна Фума и нейтралистского правительства (выступавшего за национальное примирение внутри страны и нейтралитет во внешней политике). Через несколько недель последовал в ответ другой государственный переворот генерала Фуми Носавана в поддержку прозападного правительства Бун Ума. Патет-Лао и нейтралисты совместно боролись против прозападной части королевской армии. На конференции в Женеве в 1961 г. все участники — представители Советского Союза, западных и нейтралистских государств — заявили о своей поддержке нейтралитета Лаоса и коалиционного правительства. Западные страны отказались от военного вмешательства, они не осмелились выступить за раздел страны (который, впрочем, они и не могли осуществить) и посчитали ее дипломатически признанный нейтралитет меньшим злом по сравнению с полной военной победой Патет Лао и нейтралистов1.
Коалиция трех групп—коммунистов, прозападных деятелей и нейтралистов — впервые послужила внутренней основой для так называемой нейтралистской дипломатии. Подобный странный нейтралитет будет отличаться от нейтралитета Индии или Камбоджи, если только он сохранится (что довольно сомнительно, поскольку коммунисты и нейтралисты имеют возможность устранить или обессилить третью сторону). Тем не менее, пример Лаоса имеет двойное значение: он иллюстрирует одно из возможных решений в гражданских войнах внутри стран — членов разнородной международной системы. Он дает при1 Возможно, соглашение с Советским Союзом явилось также средством предупреждения вмешательства Китая, вступившего в почти открытый конфликт с Москвой.
жиж 604 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
мер одного из первых применений принципа “тройки”, выдвинутого в 1960 г. Хрущевым, — необходимости представительства трех групп (двух блоков и неприсоединившихся стран).
Большинство стран, где существуют течения, симпатизирующие одному из блоков, одной из идеологий, управляются либо авторитарными, либо демократическими методами. Франция управляется национальными партиями, Индия — партией Индийский национальный конгресс. Во Франции, как и в Индии, коммунистическая партия легальна, она участвует в выборах, имеет представителей в местных или общенациональных представительных ассамблеях, но она не занимает никаких ключевых позиций и не влияет на дипломатический курс. Каковы бы ни были характер, идеология и практическая деятельность партии, партий или людей, правящих в Объединенной Арабской Республике, Камбодже, Югославии или Мали, нейтралитет или нейтрализм этих различных стран является результатом не равновесия между прокоммунистическими и антикоммунистическими силами, а общего стремления людей или партий к неприсоединению или к особой форме неприсоединения. До сих пор завершением открытого и ожесточенного конфликта между прокоммунистическими и антикоммунистическими движениями был раздел страны. В том случае (маловероятном), если подлинный нейтралитет Лаоса будет сохранен правительством, основанным на принципе “тройки”, то кажется возможным третий путь между разделом страны или победой одной из группировок.
Принцип тройки, равного представительства трех (двух блоков и неприсоединившихся стран) имеет различное содержание в зависимости от того, где он применяется: в секретариате международных организаций или в коалиции, призванной управлять маленьким лаосским королевством. Но идет ли речь о Лаосе или об Организации Объединенных Наций, везде встает один и тот же вопрос: существует ли реально третья группа? Едина ли она? Является ли она беспристрастным арбитром, справедливым судьей? Одинаково ли толкуют различные члены этой группы те или иные понятия, употребляемые под одним и тем же названием?
Изложенные выше соображения позволяют дать ответы на эти вопросы. Среди неприсоединившихся государств (каков бы ни был охват этого термина) или стран третьего мира нет общности ни в политических институтах, ни в идеологических предпочтениях, ни в области дипломатической деятельности на мировой арене. Если считать неприсоединившимися все государства, которые не заключили письменного союза с тем или другим блоком (или с государством — членом блока), то Тунис и Гвинея, Индия и Куба одинаково входят в число неприсоединившихся стран. Очевидно, что смысл, который эти государства вкладывают в понятие неприсоединения, смысл дипломатический и моральный, резко различается.
Дж. Неру верит в ценности и политические институты Запада, хотя он часто сомневается, что Запад остается верен сам себе. В его глазах, неприсоединение — это одновременно вклад в разрядку или мир и утверждение свободы мысли и действий, когда каждая проблема должна решаться отдельно, исходя из конкретных данных, без Мир и война между народами • Раймон Арон & 605
Часть III
предвзятости. В этом смысле нейтралитет Индии претендует на беспристрастное отношение к обоим противостоящим блокам.
Совсем по-другому обстоит дело с Югославией, Объединенной Арабской Республикой, Гвинеей или Кубой. Ни одна из этих четырех стран не считает себя сторонницей ценностей и политических институтов Запада, три из них объявляют о своей приверженности марксизму-ленинизму. Югославия резко критиковала то, как он применялся в Советском Союзе при Сталине и его последователях, две другие с одинаковым энтузиазмом одобряли и саму доктрину, и ее практическое применение. Четвертая страна, ОАР, адресовала до сих пор свои обвинения Западу, не проявляя внутри страны никакого снисхождения к сторонникам прогрессистских или советских идей.
Неприсоединение этих четырех стран отражает не моральное безразличие или поиск справедливости, а стремление не участвовать в конфликте, который прямо их не касается. Ни ОАР, ни Гвинея, ни Мали, ни Куба, если судить по речам их представителей, не стоят посредине между блоками, одинаково открытые для аргументов с той и другой стороны, одинаково готовые учитывать интересы каждого. Позитивный нейтрализм — это политика, которая может не совпадать с курсом какого-либо блока и которая небеспристрастна и не претендует на беспристрастность.
Но даже те виды неприсоединения, которые претендуют на беспристрастность, далеко не всегда оказываются действительно таковыми. По понятным причинам африканские, азиатские, арабские страны более чувствительны к реальным или мнимым преступлениям колониализма, чем к деяниям советского империализма. Война в Алжире возмущает их больше, чем подавление огнем и железом венгерской революции. Неевропейцев и цветные народы мало беспокоит тот факт, что Советский Союз благодаря войне навязал странам Восточной Европы, трети немцев политический режим, который население не избрало бы и который сегодня был бы отвергнут, если бы существовала свобода выбора. По мнению этих народов, колониализм начинается там, где правители и управляемые имеют различный цвет кожи. Недостаточно разоблачать расизм, чтобы самому быть свободным от него.
Таким образом, неприсоединившиеся страны не могут рассматриваться как единый блок, действовать коллективно или выступать в качестве арбитра. Когда они должны были выбирать между кандидатами на власть в конголезском хаосе, то разделились на две, а может быть, и на три группы. Одни поддерживали безоговорочно или с различными оттенками Советский Союз в его ссоре с генеральным секретарем ООН, другие, напротив, одобряли более или менее последовательно действия г-на Хаммаршельда и секретариата ООН. Дипломатия каждой из неприсоединившихся стран зависит одновременно от местных условий, ее внутреннего политического режима, ее идеологических предпочтений, ее опасений и надежд. Зона неприсоединения будет, вероятно, расширяться, ибо в каждом регионе мира по крайней мере одна из великих держав горячо поддерживает политику нейтралитета. Соединенные Штаты хотят “удерживать Африку в стороне от холодной войны”, но они испытывали бы более смешанные чувства, если бы
606
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
Латинская Америка вышла из нее, провозгласив нейтралитет.
Диалектика нейтралитета редко ведет к миру, но она определяет идеологические и дипломатические особенности мирного соревнования, пропагандистской и подрывной деятельности.
ГЛАВА XVIII
Братья — враги
Тот факт, что две великие державы выступают в мировой системе одновременно и как братья, и как враги, можно считать скорее банальным, чем парадоксальным. Каждая из них господствовала бы в одиночку, если бы не существовало другой. Но у кандидатов на один и тот же трон всегда есть что-то общее. Все политические сообщества мировой системы принадлежат к одной и той же зоне цивилизации. И неизбежно они провозглашают в какой-то мере одни и те же принципы, продолжая в то же время спорить друг с другом, ведя борьбу между собой.
Диалог между Вашингтоном и Москвой так же постоянен, как их борьба. И то, и другое отличаются рядом особенностей, которые сводятся в основном к следующему: обе державы считают себя более разными, чем полагают сторонние наблюдатели. Те считают их противниками несмотря на их родство. Такое суждение небезосновательно, но оно недооценивает значение подсознательной или подспудной солидарности, которая вносит определенные нюансы в их вражду. Каждый из них предпочитает сохранение термоядерной двухполюсности распространению оружия массового уничтожения, и оба боятся тотальной войны больше, чем ограниченного прогресса своего соперника.
1. Диалог двух держав и остальные страны
Алексис Токвиль был первым, кто сто лет назад обрисовал антитезу, подобную противостоянию Вашингтона и Москвы. Мы не будем цитировать этот хорошо известный и истрепанный от частого употребления текст, но напомним, излагая его обычным языком, основные факты, которые были очевидны в начале века и которые подготавливали нынешнюю, хотя и не обязательную двуполюсность.
Обе великие державы обладали пространством и ресурсами еще до того, как обрели своих сторонников и современные инструменты силы. У них были и есть еще резервы для экстенсивного роста. Освоение целины в Центральной Азии — символ завоеваний, которые народы Западной Европы или Дальнего Востока давно уже завершили. В конце XIX в. излишки населения в Западной Европе были поглощены городами и промышленными предприятиями. В России и США растущее население перемещалось на новые территории, оно продвиМир и война между народами • Раймон Арон >
•’ 607
Часть III
галось на Восток или на Запад, осваивая пустующие земли. Царские армии овладевали также землями древних цивилизаций, а переселенцы из западных стран изгоняли индейцев, в то время как правительство Вашингтона покупало или отнимало у Франции, Испании и Мексики Луизиану, Флориду, Техас, Калифорнию. Историческим шансом двух великих держав, говоря упрощенно, стал тот факт, что их территориальное формирование завершилось в том веке, когда развивалось индустриальное общество. Они сумели распространить свой суверенитет на огромные территории, которые еще не были освоены, в то время как другие народы истощали свои силы ради того, чтобы подчинить себе далекие страны или перенести на несколько километров пограничные столбы. Как мы указывали в одной из предыдущих глав1, Советский Союз и Соединенные Штаты сохраняют резервные территории, о чем свидетельствует низкая продуктивность в расчете на гектар (продуктивность сельского хозяйства или экономики в целом).
Сочетание научно-технической революции и овладения новыми территориями было связано с достижением практических целей: освоением земель и месторождений полезных ископаемых, поисками эффективных методов производства или получением прибыли. Токвиль объяснял преобладающие торговые и промышленные заботы американцев, которые он наблюдал в 1830 г., происхождением населения страны, иммигрантов из Европы в основном с пуританскими взглядами, столкнувшихся с нетронутой природой, которая стала для них ареной приключений и местом постоянного пристанища. Традиционная культура, унаследованная современными русскими, не пробуждала такого же стремления к экономическому и техническому прогрессу. Но Петр Великий начал модернизацию своей страны, чтобы позаимствовать у Запада методы, открывающие путь к богатству и могуществу. Стремление догнать Америку, чтобы построить социализм, породило сегодня культ машин и преклонение перед наукой и техническим прогрессом. Возможно, в Советском Союзе более, чем на Западе, и даже более, чем в Америке, сознают научный характер нашего века. Американцы, учитывая их прошлое, склонны объединять торговлю и промышленность, смешивать техническую и экономическую производительность и считать рынок, конкуренцию, прибыль характерными чертами хозяйственной системы. С точки зрения советских людей, значение имеет только производство, а следовательно, сам технический прогресс обусловлен научным прогрессом. В Соединенных Штатах растущие производство и производительность труда являются или кажутся результатом погони за прибылью. В Советском Союзе они являются прямой целью государственного планирования и коллективного идеала.
Мы обнаруживаем, таким образом, одновременно и родство, и враждебность. В идеале современная экономика может регулироваться двумя способами: планом и рынком. Либо направление ресурсов в различные отрасли экономики, структура национального продукта, распределение доходов определяются планом, который, в свою очередь, устанавливается политическими руководителями государства с помощью 1 См.. Часть II, гл. VII.
^4» 608. . Раймон Арон • Мир и война между народами
экономистов и управленцев. Либо граждане своими решениями о многочисленных личных покупках постепенно распределяют коллективные ресурсы по различным экономическим отраслям, а доходы каждого определяются либо директорами предприятий, либо успехами или провалами на рынке. Это, конечно, лубочная картинка. И на Западе государство прямо берет на себя некоторые задачи, которые имеют общественное значение и не могут быть решены на основе конкуренции в достижении прибыли, или косвенно, посредством бюджета, кредитной и валютной политики оно оказывает влияние на конъюнктуру, объем и даже распределение инвестиций. Но противоположность двух методов регулирования экономики тем не менее остается хотя и грубо очерченной, но неоспоримой, о чем свидетельствуют некоторые, так сказать, символические факты: в 1960 г. советские потребители обладали в достатке телевизорами, в то время как заводы выпускали всего 200 000 — 300 000 легковых автомобилей в год. Именно государство сочло (и его решение не подвергается сомнению), что большинству советских граждан должны быть доступны телевизоры, а не автомобили.
Таким же образом противопоставление частной и общественной собственности облекается в идеологические и рекламные формы. Средства производства принадлежат частным лицам и анонимным компаниям, или же государству. Но и здесь факты требуют более тонкого понимания. Американские крупные корпорации юридически представляют собой собственность десятков тысяч акционеров, а организационная власть принадлежит экспертам и управляющим. Высшая власть предоставлеИстория
на нескольким лицам, которые фактически не избираются собраниями акционеров, а кооптируют друг друга В этом смысле можно утверждать, что нигде не происходит концентрации средств производства в чьей-либо собственности, в том смысле, в каком замок принадлежал сеньору, а поле — крестьянину. Право употреблять что-либо и злоупотреблять чем-либо относится теперь лишь к средствам потребления. Управление средствами производства теперь повсюду является общественной функцией, исполняемой одним лицом или несколькими лицами, состоящими на службе какого-то коллектива. Но несмотря ни на что и каковы бы ни были частные выводы из детального рассмотрения проблемы, культ частной собственности и свободного предпринимательства, разоблачение капитализма и эксплуатации человека человеком, огосударствление всех предприятий представляют собой одинаково возможные и противоположные варианты организации промышленного производства, родственные друг другу, поскольку средства производства технически одни и те же, и враждебные друг другу, поскольку юридические отношения между частными лицами, между частными лицами и государством различаются коренным образом.
Подобное противопоставление может быть выстроено и в политическом плане. На одной стороне две партии постоянно соперничают, добиваясь благосклонности суверена, и каждые четыре года устраивают зрелищный матч, борясь за президентство. Многочисленные группы давления, рабочие профсоюзы, предпринимательские ассоциации, религиозные сообщества, добровольные группы граждан, борющиеся за местные или общепланетные цели (за строительство шкоМир и война между народами • Раймон Арон
609
Часть III
лы или всеобщий мир), проводят демонстрации, протестуют, рекомендуют, стремятся добиться одного (например, улучшения условий жизни цветных) или запрещения другого (например, дискриминации расовых или религиозных меньшинств). По другую сторону—единственная партия возводит одну из доктрин развития истории и общества в разряд государственных истин и правит во имя пролетариата, интересы которого она воплощает, и исторической миссии, которую она возложила на себя. Официально признается разнообразие религий или “национальных культур”, торжественно провозглашается равенство рас или народов, но запрещается оспаривать легитимность существования единственной партии.
И здесь контраст не исключает сходства. Политическая жизнь в Соединенных Штатах — это ярмарка на площади, но под внешне бурной видимостью скрывается общественный конформизм. Большинство граждан подчиняется одним и тем же правилам и выступает за одни и те же ценности. А на другой стороне под внешне спокойной завесой монолитной партии происходят раздоры между группировками и личностями, споры по поводу тех мер. которые следует принять, и (или) ортодоксального истолкования доктрины. В результате соперничества между социалистическими государствами эти споры усиливаются, они кажутся подчас чисто теологическими, но на деле имеют и теологическое, и практическое значение.
Родству — вражде двух великих держав можно дать два объяснения: первое подчеркивает глубинное родство, а второе—непримиримую враждебность. Одни наблюдатели склонны отмечать первое, другие, сторонники идеи двуполюсного мира, готовы видеть второе. Уменьшая значение конфликта, можно легче оправдать свой нейтралитет. Разговоры о двух варварах связаны с восхвалением третьей силы, неприсоединившихся государств, своенравных союзников, Европы — колыбели цивилизации, расцвету которой лишь способствовали большие пространства Америки и России.
Но противопоставление двух подходов (поиск родства двух держав, которое чаще всего обнаруживают зрители, и констатация вражды, которую чаще всего подчеркивают сами актеры) несостоятельно, ибо носит упрощенный характер. Оценки могут быть прямо противоположными. Каждая из великих держав имеет о себе совсем иное представление, чем изображает ее противная сторона. Естественно, каждая из них не может отка-
заться от своей версии или принять оценки своего соперника. Советская пропаганда разоблачает американский плюрализм и демократические ритуалы как “иллюзию” или “ мистификацию”: “монополисты”, капиталистические руководители, обладающие реальной властью, дескать,
эксплуатируют массы и направляют дипломатию США в русло империализма. Советские пропагандисты стремятся “разоблачить” американскую дипломатию, вскрыть ее реальное содержание, противоположное видимости. Американцы возражают, что решения, принятые, разумеется, одним или несколькими лицами (разве может быть иначе?), отражают стремления или мнения огромного числа людей. А вот диктатура пролетариата, подчеркивает американский пропагандист, является в действительности диктатурой партии (то есть небольшого числа людей) над пролетариатом. Эта формула, родившаяся еще на заре большевизма, принадлежит Карлу Каутскому. И она остается, более сорока лет спустя, главным 610
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
обвинением советского режима со стороны его врагов — либералов или социалистов. Как можно называть “демократией” или “свободой” подчинение масс одной немногочисленной партии, которая сама находится под командой одного или нескольких лиц, партии, которая удерживает монополию на власть, запрещает гражданам оспаривать свои полномочия или свободно избирать своих представителей, отражающих, хотя бы теоретически, их интересы?
Иными словами, в центре пропагандистского диалога двух сторон стоит вопрос: кто является подлинным демократом? “Мы демократы”, — отвечают советские люди, потому что мы ликвидировали эксплуататоров, монополистов, капиталистов и потому что у нас правит пролетариат. “Мы демократы”, — отвечают американцы, потому что у нас граждане могут свободно голосовать, газеты — критиковать, рабочие — бастовать, генералы—протестовать. Тот же диалог продолжается вокруг вопроса о бесклассовом обществе: обе страны хвастают, что теперь для каждого таланта открыта возможность карьеры, но различия между людьми по уровню жизни и общественному положению не ликвидированы ни на той, ни на другой стороне.
Ни одна из двух великих держав не может отказаться в пропагандистской сфере от самооправданий и разоблачений соперника. Но когда речь идет о более детальном подходе, ни один американский или русский пропагандист не придерживается официальной версии самооправданий и контробвинений.. Задумаемся на минуту: достоинства обеих систем в некотором отношении противоположны тем, которые им приписываются официальными представителями. Авторитарное планирование дает, очевидно, больше возможностей руководителям, когда речь идет, например, об ускорении экономического роста путем увеличения инвестиций или концентрации ресурсов в том или ином секторе производства. Суверенитет потребителей ограничивает и сдерживает (в той мере, в какой он существует) власть государства. То, что один теряет в области демократии, другой, возможно, утрачивает в области экономической эффективности или в историческом движении вперед. Спор о том, кто более привержен демократии, скрывает другой полугласный спор, который ведут между собой иные собеседники, более остро воспринимающие факты, чем идеи, озабоченные гем, чтобы знать, кому принадлежит будущее, а не кто имеет больше прав на высшие демократические ценности.
Этот диалог, в центре которого стоит относительная эффективность двух режимов, не всегда сводится к обмену обвинениями. Экономисты встречаются полулегально, чтобы сопоставить свои — идентичные, похожие или различные решения одних и тех же проблем. Они объективно рассматривают преимущества и недостатки решений, принятых каждой из великих держав, и даже пытаются определить, не даст ли наилучшие результаты комбинация и тех, и других технических подходов. Таким же образом ученые, и прежде всего специалистыатомщики, обнаружили несколько лет назад, что различными путями они пришли к аналогичным результатам. Что касается диалога ученых по поводу политических аспектов науки, то довольно трудно сказать, насколько искренний характер они носят1.
1 Мы имеем в виду встречи ученых для обсуждения проблем разоружения (так называемые Пагуошские конференции).
Мир и война между народами • Раймон Арон
611
Часть III
Парадокс этого объективного сопоставления режимов состоит в том, что марксизм дает для него вполне приемлемые рамки. Есть две версии марксизма, сторонники которых одинаково могут ссылаться на Маркса. Одна делает акцент на производительных силах в общественном и техническом смыслах этого термина. Другая — на производственных отношениях, в частности, на отношениях собственности. Первая версия сближает оба режима, поскольку оба располагают схожими производительными силами. Вторая их отдаляет друг от друга, ибо производственные отношения и виды собственности здесь и там различны. Первая версия пользуется полупризнанием на Востоке и с большими или меньшими колебаниями признается многими социологами или экономистами на Западе. Вторая носит на Востоке официальный характер. Она отвечает устремлениям экономистов—приверженцев либеральной ортодоксии, хотя последние высказывают прямо противоположные оценочные суждения (коллективная собственность благотворна, утверждают марксисты; она порочна, говорят либералы).
Какой же из этих трех диалогов — по поводу демократии, эффективности производства, производительности труда и производственных отношений — более всего интересует нейтральных наблюдателей? Ошибка, которую часто допускают, состоит в том, что считается, будто на этот вопрос можно дать однозначный ответ и будто такой ответ связан со спорами относительно нравственной оценки каждого из режимов. В зависимости от части света народы разных стран совершенно по-разному воспринимают обе великие державы. Оценка, которую каждый народ дает этим державам и конфликту между ними, зависит от его собственного положения.
Вспомним о настроениях европейцев в первые послевоенные годы. Старые государства Европы, еще вчера бывшие великими державами и сошедшие вдруг в разряд опекаемых стран, колебались между признанием того очевидного факта, что американская гегемония предпочтительнее советского господства, и тоской по своей былой самостоятельности, мечтой о неприсоединении. Из этого вытекало любопытное распределение ролей: государственные деятели, поддержанные большинством избирателей, создавали, поддерживали и укрепляли атлантическую солидарность. И в то же время многие интеллигенты, включая последовательных либералов, с увлечением старались изобразить обе великие державы как одинаковые по силе и бескультурью.
В Европе признание родства обоих противников оставалось только на словах. Оно служило моральным оправданием неизбежного присоединения к одной из сторон, если не по желанию, то, мол, вынужденного. Лишь немногие пытались сделать из этого признания чисто политические выводы. Ни коммунисты, ни антикоммунисты не могли согласиться с таким уравниванием обеих держав. Коммунисты должны были поддерживать доктринальную ортодоксию с особой непримиримостью, ибо общественное мнение в большинстве своем отвергало типичные институты советского режима. Если единственная партия, упразднение избирательных, индивидуальных и интеллектуальных свобод не означают одновременно освобождения пролетариата и эксплуатации человека человеком, то сходство между двумя вариантами индустриального об•612
Раймон Арон • Мир и война между народами
щества, каким бы реальным оно ни было, побуждает скорее не к нейтралитету или нейтрализму, а к союзу с Америкой. Ибо Соединенные Штаты демонстрировали преимущества благосостояния без подавления граждан. Что касается антикоммунистов, то они, не отрицая сходства между двумя великими державами, также отбрасывали тезис о “братстве гигантов” и утверждали, что, недооценивая значение политических и интеллектуальных свобод, демократические партии отказались бы от тех ценностей, за которые они борются.
Лишь некоторые сторонники неприсоединившейся Европы пытались сделать политические выводы из уподобления великих держав. Если в конечном счете советизм и американизм ничем не лучше друг друга и ведут к одним и тем же результатам, то почему Европа должна выбирать между ними, имея возможность остаться в стороне? Но поборники нейтрализма сталкивались с одним весомым и зримым фактом: русская армия стояла всего в 200 км от Рейна. Окажется ли Европа, неспособная защищаться, в большей безопасности, если поставит свое будущее в зависимость только от предполагаемого отвращения большевиков к достижению своих целей путем вторжения? Растущая уязвимость Соединенных Штатов, возможности Советского Союза в области термоядерного оружия придали известную актуальность лозунгам нейтралистской партии. Это находит отражение, например, в Великобритании, где ведется пропаганда одностороннего разоружения1. Но я не думаю, что в течение ближайшего времени нейтралисты приобретут исторически значимое влияние.
История
Условия, присущие Европе, в чистом виде не встречаются ни в одной другой части света. Ни один другой континент не разделен надвое между блоками. Нигде так резко не выражен контраст между демократией и тоталитаризмом, множественностью партий и однопартийностью. Именно Европа была очагом того типа общества, которое сегодня представляют прежде всего две великие державы. В наиболее близком положении к европейскому находится Япония, верная по понятным причинам союзу с Соединенными Штатами, сочетающая исключительно высокие темпы экономического роста с деятельностью представительных институтов. Но и здесь проявляются идеологические симпатии среди интеллигентов если не к коммунизму, то к прогрессизму с примесью тайной гордости за свою культуру перед варварами.
В Азии прежде всего обе великие державы представляются одинаковыми. Здесь отмечают такие очевидные факты, как одинаковое стремление обеих стран к росту производства и производительности труда, распространение по всем обширным территориям США и СССР одних и тех же типичных явлений: урбанизации, индустриализации. И тут, и там те же заводы и небоскребы, те же термоядерные бомбы и баллистические ракеты. По контрасту с традиционными обществами Европы и Азии русский и американский противники кажутся братьями.
Подобное толкование соперничества двух великих держав ведет в Азии, но не в Европе, к нейтралитету. Однако оно не является главной причиной или отражением нейтралитета. Оно служит
1 См.: гл. XVI, стр. ... и далее.
Мир и война между народами • Раймон Арон
613
Часть III
идеологическим и философским оправданием позиции, порожденной определенным историческим контекстом. До тех пор, пока Индия Джавахарлала Неру не почувствует коммунистической, то есть китайской, угрозы, у нее не будет побудительных причин сделать выбор. Наиболее удобное моральное оправдание такого отказа — это обвинять обоих противников или приписывать им одинаковые достоинства и недостатки.
В Африке правители новых государств говорят уже языком трех собеседников: демократических, просоветских или нейтральных. Но каков бы ни был этот язык, он отражает всемирный спор, а не вытекает из местной действительности. Почти все африканские республики к югу от Сахары стремятся к режиму с единственной партией. Возможно, эта партия повсюду неодинакова, поскольку руководители говорят языком или Востока, или Запада. Но этот язык выдает идеологические предпочтения руководителей, их стремление установить связи с той или другой великой державой или с тем или иным миром, их дипломатическую ориентацию, а не внутреннюю практику. Африканцы пока еще не особенно подчеркивают мысль о “братстве врагов”, хотя с точки зрения африканских обществ, различия между западным и советским режимами могут показаться ничтожными.
И наконец, в Южной Америке именно Соединенным Штатам приписывается роль империалистической державы. Они удерживают в западном полушарии господствующие позиции, они богаче и сильнее, чем все государства Центральной и Южной Америки вместе взятые.1 Американские корпорации вкладывают свой капитал в Латинской Америке, осваивая ее природные ресурсы, сдерживая строительство заводов и развитие перерабатывающей промышленности там, где правительства и господствующие классы неспособны обеспечить гармоничный рост. Настроения, благожелательные по отношению к социализму и враждебные к развитию капитализма, усиливаются в результате собственного опыта Латинской Америки, они сопровождаются резким неприятием капиталистических пороков и почти полным безразличием к жестокостям советской системы. Такой же феномен, но с обратным содержанием проявился с особой силой в Восточной Европе в период с 1945 по 1956 г. Вице-президента США встречали приветственными возгласами в Польше и враждебными выступлениями в Латинской Америке, где его забрасывали помидорами. Многие с циничным фатализмом приходят к выводу, что популярность великой державы тем меньше, чем она ближе. Состязание в демонстрации моральных качеств, в котором участвуют глашатаи двух лагерей, редко определяет предпочтения людей в третьих странах.
2. Вражда и братство
Но если великие державы — братья. то почему же они являются врагами. смертельными врагами и противостоят повсюду: и по обе стороны от Potsdamer Platz, и в ледяных пустынях Крайнего Севера, бросая друг другу вызов, достойный Гомера, и потрясая оружием, убийственным и для того, против кого оно направлено, и для того, кто им обладает?
1 Но в конце века они будут менее населенными
614 Раймон Арон • Мир и война между народами
Соединенные Штаты и Советский Союз связаны друг с другом прежде всего своими враждебными позициями. В любой международной системе отношения между государствами — союзные или враждебные — определяются частично подсчетом соотношения сил и требованиями равновесия, а все соображения дружбы или неприязни между монархами, руководителями или народами остаются в стороне. Выбор союзников Великобритании и России, выступивших против Германии Вильгельма II в начале века, отвечал этой логике соперничества в могуществе вопреки узам родства между правящими монархическими семьями трех стран. Германия Вильгельма II играла роль возмутителя спокойствия, и Великобритания вынуждена была бороться против нее. Таким же образом США и СССР открыли, так сказать, свою враждебную друг другу натуру, после того, как Третий рейх, временно их объединивший, исчез со сцены. Для того, чтобы великие державы, входящие в одну систему, не были враждебны друг другу, они должны были бы править совместно. Но история не дает примеров подобного чуда.
Эта “враждебная позиция“ ширится почти стихийно, приобретая различные формы. Каждое международное сообщество, как мы знаем, с законным подозрением относится к намерениям другой стороны. Безопасность основывается лишь на силе или равновесии сил. Чем крупнее политическое сообщество, тем более оно чувствует себя уязвимым, ибо в случае поражения оно рискует понести кару, пропорциональную жертвам, на которые должны были пойти его противники, чтобы одержать победу. Версальский мирный договор больше отражал тот страх, который внушала ГермаИстория
ния, и цену победы, чем “преступления” побежденных. Каждая из великих держав не может не опасаться тех условий, которые продиктует ей противник в день возможного сведения счетов.
Традиционный парадокс международной политики — поиск безопасности через равновесие сил — создает или поддерживает всеобщее беспокойство, взаимные подозрения, тревоги самых слабых, заносчивость самых сильных. После появления оружия массового уничтожения этот парадокс трансформировался, но коренным образом не изменился. В прошлом безопасность одного влекла за собой опасность для другого, поскольку первая требовала превосходства, которое воспринималось соперником как угроза. Если Германия считала себя в безопасности по отношению к Франции, поскольку была сильнее, то Франция должна была себя чувствовать в опасности, ибо, неспособная отразить возможную агрессию, она вынуждена была надеяться лишь на сдержанность противника.
Даже если достижение безопасности через равновесие сил было возможным, она оставалась весьма зыбкой ввиду непостоянства хода людских дел. Закон “неравномерности развития” относится ко всем эпохам, и он превращает такой поиск безопасности в сизифов труд.
Стратегия сдерживания, понимаемая упрощенно, кажется, открыла новый выход из этой ситуации. Действительно, достаточно допустить, что более слабая сторона сохраняет в то же время способность, даже в случае внезапного нападения, причинить агрессору “неприемлемые” разрушения, и, таким образом, традиционная опасность неравенства исчезает. Оружие сдерживания, Мир и война между народами • Раймон Арон
615
Часть III
в том виде, в каком оно предстает в лубочном изображении, дает Сизифу шанс дотащить свой камень до вершины горы. Какое значение будет иметь неравномерность развития с того момента, когда более слабый остается еще способным нанести смертельный удар более сильному?
Но на деле все обстоит иначе. Руководители Советского Союза могли считать, что они находятся в опасности, пока их города оставались уязвимыми, в то время, как Соединенные Штаты сохраняли шанс ограничить ущерб для своих городов. Руководители Соединенных Штатов могут полагать, что их страна будет находиться в опасности, пока Советский Союз будет в состоянии путем внезапного нападения уничтожить значительную часть американского термоядерного потенциала. Иными словами поиск стабильности путем взаимного сдерживания оказался не более удачным, чем поиск безопасности посредством равновесия сил. Сизиф продолжает катить свой камень. Взаимное сдерживание еще не достигло фазы стабильности, если предположить, что оно сможет когда-либо ее достигнуть. Если одна из великих держав обладает термоядерными бомбами, а другая только атомными, если у одной из них есть убежища для двух третей населения, а у другой их нет, если одна из этих держав располагает межконтинентальными баллистическими ракетами, а другая только бомбардировщиками, если одна из них может использовать космические корабли в военных целях, а другая не может, то неравенство подрывает равновесие страха. Оно требует, чтобы возможные разрушения, которые будут причинены агрессору в результате ответа жертвы, были равны тем, которые он сам способен нанести. Необходимо, чтобы неравенство не было слишком велико.
Надо сказать, что нестабильность носит скорее психологический, чем политический характер. Большой войны не случилось, и в этом смысле сдерживание было эффективным. Но отсутствие безопасности поочередно ощущала то одна, то другая сторона, а возможно, даже обе вместе. Разве можно быть уверенным в будущем, когда вы и, как вам известно, ваш противник обладаете оружием, каждая единица которого может разрушить целый город и уничтожить два-три миллиона человек? Враждебные позиции усугубляла гонка в области технического прогресса; обе великие державы вели эту гонку почти вопреки своей воле, увлекаемые логикой соперничества, от которого ни одна из них не могла уклониться.
Некоторые проявления враждебности были связаны с технической стороной взаимного сдерживания. Самолеты “У-2" регулярно облетали территорию Советского Союза, другие самолеты приближались к границам советского воздушного пространства, чтобы собирать информацию, необходимую для проведения так называемой антисиловой стратегии (courtterforce strategy), нацеленной против термоядерной системы противника. (Такая информация перестает быть необходимой, если противники отказываются устанавливать расположение аэродромов и ракетных установок друг друга и решают угрожать только городам.) Чтобы избежать уничтожения на земле в результате внезапного нападения, бомбардировщики с термоядерными бомбами осуществляют патрульные полеты. Когда на экранах американских радаров появляются подозритель616 ru . ., - Раймон Арон • Мир и война между народами
ные пятна, бомбардировщики направляются в сторону СССР1.
Но вместе с тем то же самое оружие, которое заставляет антагонистов занимать враждебную по отношению к друг другу позицию, побуждает их в соответствии с парадоксом теории сдерживания не разжигать эту враждебность, “ограничивать” ее выражение. В случае войны антагонисты должны будут вступить в прямую схватку между собой. (Союзники США пострадают потому, что часть американской термоядерной системы размещена на их территории. Без этого обстоятельства Советский Союз не был бы заинтересован в разрушении европейских городов.) Поскольку каждый из конкурентов стал бы целью для противника, оба склонны ненавидеть друг друга, представляя себе свои потери в случае войны, но они следуют доводам, предписывающим не воевать. Их общие жизненные интересы состоят в том, чтобы не прибегать к оружию, которым они потрясают.
Дело не только в том, что они рискуют вместе погибнуть в борьбе, но и в том, что победитель, полный или относительный, не получит, возможно, никаких выгод от своей победы. Ибо единственной выгодой, соответствующей риску и понесенным жертвам, было бы устранение всех врагов и установление господства на всей оспариваемой территории. Соединенные Штаты не могут даже надеяться на то, что возможное устранение Советского Союза надолго обеспечит абсолютную безопасность. Ввиду отсутствия коллективного решения и соответствующих институтов они были бы неспособны запретить другим История
государствам приобрести, в свою очередь, ядерное оружие и его носители, составляющие силы сдерживания. Советский Союз теоретически лучше, чем США, оснащен, чтобы после устранения соперника обеспечить разоружение человечества. Но, по моему мнению, прошло уже время, когда СССР, одержав победу, мог бы беспрепятственно пользоваться термоядерной монополией. В гонку включился, в свою очередь, Китай, и коммунизм оказался слишком слабым, чтобы сдержать волну национализма и выстроить всеобщую империю. Мировая система носит еще биполярный характер, и в 1960 г. этот характер в военной области выражен, возможно, более резко, чем когда-либо после 1945 г. (технические специалисты пока не создали силу сдерживания для бедных стран). Но в Вашингтоне, как и в Москве (причем в Вашингтоне больше, чем в Москве), не отказываются от предположений, что не в столь уж далеком, вероятно, будущем противник официально станет братом в борьбе против другой великой державы.
Даже если эта последняя не стала бы напоминать двум другим соперникам об их братстве, они имеют еще одну причину отказаться от самоубийственной войны: в наше время самое тоталитарное государство может с трудом длительно сочетать господство и эксплуатацию. Завоеватели двадцатого века более, чем завоеватели в прошлом, изменяют условия жизни побежденных народов. Но они не могут позволить себе роскошь лишь купаться в боевой славе и пользоваться досугом, как “хозяева” античного мира. И трудящиеся, и воины одина1 Американская авиация установила систему обеспечения безопасности (fall safe), которая позволяет “отзывать” (recall) самолеты, летящие в направлении Советского Союза, если они не получат в полете специального приказа о нападении.
Мир и война между народами • Раймон Арон s.... йл,-. -л; 617
Часть III
ково представлены техническими специалистами. Единственным способом увековечить подчинение побежденных состоит в том, чтобы запретить им доступ к квалифицированным профессиям, обеспечить представителям народа-хозяина монополию на исполнение административных и научных функций. Так действуют белые в Южной Африке. Так действовали бы, вероятно, нацисты в Восточной Европе, делая логичные выводы из своей теории о том, что славяне рождены быть рабами, что это недочеловеки, предназначенные только для подчинения. Теория коренного неравенства людей, которую индустриальное общество осуждает в жизни однородных сообществ, используется расистами применительно к отношениям между сообществами: неравными являются, дескать, по сути своей не классы, а расы, и очевидное неравенство1 нынешнего социального и интеллектуального развития человеческих групп дает пусть и зыбкие, но веские аргументы для подобных доктрин.
Ни советские, ни американские власти не собираются воспроизводить в своей практике методы античного рабства. Первые сперва ограбили страны, которые они “освободили”1 2. Вторых обвиняют в эксплуатации, когда они покупают сырье по ценам, которые считаются заниженными, или когда они мешают (или кажется, что мешают) созданию местной промышленности. Но в целом великие державы, пока им хватает пространства и сырья, не выступают в качестве расистов. В случае победы каждая из них избавилась бы от противника, но вместе с тем и от соучастника. Оставшийся в живых дуэлянт один бы отвечал за беднейшую половину человечества. Оба соперника почти открыто признают их общую заинтересованность в том, чтобы не воевать друг с другом. Не без колебаний они признают также их общую заинтересованность в развитии третьего мира. И отчасти они действуют так, словно допускают фактическую солидарность одновременно с их принципиальной враждебностью.
Экономическая помощь, которую каждая из великих держав оказывает некоторым странам третьего мира, может всегда объясняться и часто объясняется, как мы видели3, стратегией “холодной войны”. Соединенные Штаты, спеша восстановить Западную Европу, воздвигли преграду на пути коммунистической экспансии, они укрепили свою систему союзов и военный блок Запада. Строительство металлургического завода в Индии с помощью советских технических специалистов и советских кредитов должно свидетельствовать о могуществе и великодушии родины социализма. Кредиты, предоставленные Египту, Мали или Гвинее, предназначены для того, чтобы поддержать страны, вступившие на путь создания народных демократий, или страну, находившуюся еще вчера в зависимости от западного капитализма. И не будет ошибкой сказать, что щедрость двух великих держав является продуктом их вражды.
1 Антропологи могут утверждать, что племенная жизнь нисколько не ниже цивилизованной жизни, но какова бы ни была справедливость подобных утверждений, “примитивные" или “слаборазвитые" народы ниже в тех сферах деятельности, которые в наше время считаются наивысшим выражением достижений человечества.
2 См.: гл. XV. 3.
2 См.: гл. XVII. 2.
•618”^'- .-г*-1**Раймон Арон • Мир и война между народами
Стороны в споре, соперники, противоречивые модели, несовместимые покровители третьих стран, две великие державы выступают перед “третьим миром” в качестве врагов, а не братьев, за исключением тех редких случаев, когда они соглашаются, хотя бы временно, признать нейтралитет какого-то государства (в двойном смысле — неприсоединения дипломатического и неприсоединения идеологического). Обе державы — враги, даже если они похожи друг на друга, потому что присутствие одного влечет за собой устранение другого (не считая опять-таки случая с нейтральными странами). Не имеет значения, поступают ли представители того или другого лагеря одинаково или нет (они поступают неодинаково). Достаточно их гонки друг за другом, чтобы неизбежно подпитывать вражду.
Было бы еще более справедливо говорить как о братьях-врагах по поводу коммунистического и фашистского движений в тридцатых годах. Эти движения использовали одинаковые методы, они рекрутировали активистов, одинаково склонных к жестокости и фанатизму, часто склонных переходить от одного экстремизма к другому. Коммунисты и фашисты охотно разоблачали одних и тех же людей или одну и ту же среду (капитализм, плутократию, формальную демократию). Разумеется, в сфере идеологии они были антиподами. Одни заявляли о своей приверженности всемирному идеалу, другие объявляли себя сторонниками расистской идеи. Каждый выставлял другого прислужником своих врагов: коммунисты обвиняли фашиИстория
стов в том, что они агенты крупного капитала, фашисты обвиняли коммунистов в том, что они агенты “еврейства” или мировой “демократии”. Но какова бы ни была искренность, какова бы ни была доля правды в подобных обвинениях, и те, и другие были сторонниками насилия, революции, и те, и другие ликвидировали партии, представительные институты, свободные дискуссии, личные свободы. Представители третьих стран не могли погасить взаимную вражду коммунистов и фашистов, напоминая этим врагам, что они являются братьями. Но если не вдаваться в моральные аспекты конфликта, то правда состояла и в том, что коммунисты оказывались в тюрьме, когда фашисты были у власти и наоборот. Сходство методов правления и деятельности нисколько не смягчало враждебность, питаемую подобной диалектикой.
Советские и американские деятели не являются братьями в том смысле, в каком были братьями фашисты и коммунисты: они не используют одни и те же политические методы и не имеют целью установить одинаковый стиль жизни и государственного управления. Это отличие порождает радикальную асимметрию. Когда коммунисты берут власть, руководители западных партий исчезают, погибают в тюрьмах или ссылке. В условиях режимов западного типа коммунисты чаще всего сохраняют свою свободу и продолжают свою политическую жизнь1. В данном отношении враждебность не сочетается с элементами братства, например, в форме одинаковой практики, хотя и осуществляемой для достижения противопо1 Это положение справедливо не для всех, даже европейских, стран. В Западной Германии коммунистическая партия находится на нелегальном положении.
Мир и война между народами • Раймон Арон
** 619 *
Часть III
ложных целей или во имя противоположных идей.
Тем не менее даже в отношениях с третьим миром взаимная вражда двух великих держав не носит тотального характера. На словах и та, и другая провозглашают, что экономическое развитие третьего мира отвечает их устремлениям, их собственным интересам и общим интересам человечества. С этой точки зрения, они согласны относительно целей, которые богатые народы должны поставить перед собой в области отношений с бедными народами. Тем самым помощь, предоставляемая двумя великими державами, уже не выглядит только как продукт холодной войны, как средство пропаганды, инфильтрации или подрывных действий.
Но правда ли, что экономическое развитие бедных народов отвечает эгоистическим интересам каждой из великих держав? Во всяком случае, хорошо уже и то, что они в этом убеждены или делают вид, что убеждены. Имеют ли они сами основание верить в это? Да, пока всем хватает земель для сельскохозяйственной обработки и сырья для промышленной переработки. В теории экономический прогресс третьего мира сможет подорвать либо снабжение индустриальных стран сырьем, либо их военное превосходство. Но в настоящий момент эти страны не принимают такие угрозы всерьез.
И наконец, обе великие державы могут с полным основанием считать, что они больше выиграют, чем проиграют от расширения сферы индустриального общества и улучшения повсюду условий жизни. Советские руководители, отмечая свои первые заметные успехи в странах, вступающих на путь индустриализации, сохранили веру в марксистскую догму о неизбежной эволюции капитализма к социализму. Они обычно отказываются признавать, что коммунизм берет верх только в тех странах, где капитализма не хватает. Американцы, со своей стороны, охотно подписываются под упрощенным марксизмом, вывернутым наизнанку: экономический прогресс, дескать, сам по себе является наилучшим противоядием от коммунизма.
Подобное согласие основывается неизбежно на иллюзиях той или другой стороны, либо обеих вместе. Но полугласное мнение относительно братства врагов, причем братства, крепнущего вместе с экономическим прогрессом, придает этому согласию не столь уж иллюзорное основание. Советские деятели полагают, что, старея, капитализм приблизится к социализму. Американцы считают, что социализм (или советизм), старея, станет более либеральным. Если бы те и другие были правы, то, может быть, они обнаружили бы братские черты под покровом враждебности? Если бы они предоставили будущему сделать выбор между двумя этими тезисами или установить долю истины в каждом из них, то, может быть, они лишний раз пришли бы к единому мнению, что хотя они не могут договориться, но не должны уничтожать друг друга?
Можно ли говорить, таким образом, что вражда Вашингтона и Москвы порождена идеологическим конфликтом? Или, наоборот, она продиктована положением великих держав на международной арене, их несовместимыми амбициями, фатальными императивами гонки вооружений? Приведенный выше анализ показывает, что оба крайних тезиса равным образом не выдерживают критики. Идеологический конфликт — составная часть тотального конфликта, но это не
620 Раймон Арон • Мир и война между народами
означает, что в тот день, когда обе державы признают свое родство, они перестанут считать себя врагами.
Какова бы ни была степень сходства между институтами этих держав, они, будучи руководителями коалиций, должны будут выставлять напоказ то, что их разделяет. Биполярность не создает идеологического соперничества, она его подчеркивает. После 1945 г. идеологическая биполярность не больше вызывала вражду, чем являлась ее следствием. Но совпадение “враждебной позиции” и “ идеологической неприязни” — веский фактор развития современной обстановки в мире, определяющий многие ее характерные черты. Идеологический конфликт препятствует заключению сделок классического типа или циничным договоренностям. Западные лидеры не могут покинуть два миллиона берлинцев, не потеряв лица. Советские руководители не могут согласиться с проведением свободных выборов в Восточной Германии, не потеряв лица. Каждая из этих держав — жертва своей пропаганды или своих убеждений, неспособная, не отрекаясь от самой себя, обменять одну территорию на другую, пойти на уступку здесь против уступки там. Короли менялись провинциями. Вашингтон и Москва не уступают “коммунистической тирании” или “капиталистическому рабству” часть “свободного мира” или “мира социализма”.
Идеологический характер конфликта объясняет также значение пропагандистской и подрывной деятельности в той битве, целью и театром которой становится третий мир. Один из лучших способов привлечь какую-либо азиатскую или африканскую страну на сторону СССР состоит в том, чтобы убедить ее нынешних или будущих правителей История
в преимуществе советской политики. Это может означать, что она преследует “благородные цели”, призвана “одержать победу”, “ отвечает интересам вашей страны” (“союз с СССР даст больше, чем союз с Америкой, советские институты лучше подходят для местных условий, чем американские”). Дело не в том, что интеллигенты или политические руководители обычно действуют “посредством идеологии”, что они принимают решения, руководствуясь исключительно идеями и не принимая во внимание получаемые выгоды или соотношение сил. В XX в. политические идеологии определяют образ мышления, верования и деятельности. Левый интеллигент в Японии, во Франции, на Кубе, в Бразилии (я имею в виду левого интеллигента-некоммуниста и даже не попутчика, а просто “прогрессиста”) обладает узнаваемым языком, образом мысли, предрассудками, благожелательными к планированию и враждебными по отношению к капитализму и “корпорациям”. Он яростно защищает свободы против консервативного правительства. Он ими легко жертвует, если деспотическая власть выступает от имени левых сил, революции и т.п. Такой подход отвечает народным настроениям, поскольку даже просвещенные умы демонстрируют наивность и противоречивость суждений. Идеологическая борьба является одним из важнейших элементов многоплановой войны между блоками, и важно понимать ее глубинный смысл.
Эта борьба включает ораторские схватки и состязания в области статистики, сопоставление процентов роста и экономических институтов, демократических достижений, присущих каждой из великих держав. Этот вид полемики, Мир и война между народами • Раймон Арон -« х П*Ч®*^*'* * «ед-:;* 621
Часть III
которую представители двойки ведут перед судом третьего мира, не лишен смысла. Постепенно перевес какой-либо стороны в том или ином аспекте их соперничества способствует завоеванию симпатий или ориентирует взгляд в будущее, влияя так или иначе на позиции неприсоединившихся стран. Но подобные споры представляют собой лишь часть подлинного соревнования между блоками, цель которого — овладеть сознанием не столько масс, сколько руководящих меньшинств. А образ мышления этих меньшинств формируется идеологией в широком смысле этого слова: в любой стране мира через несколько минут разговора уже можно понять, к какой политической семье принадлежит собеседник, является ли он коммунистом, прогрессистом, демократическим идеалистом, консерватором. Каждый из этих терминов обозначает интеллектуальную позицию, которая включает одновременно и интерпретацию фактов, и оценку событий. Было бы наивно представлять себе, что здесь и там борются и решают исход схватки “агенты Вашингтона” или “агенты Москвы”. Но такой исход может быть действительно определен позицией активистов или руководителей, чей интеллектуальный облик был сформирован в университетах Москвы или Гарварда.
Если проанализировать эти позиции, то можно добавить новые иллюстрации к тезису о братьях—врагах. Сторонники Москвы делают упор на эффективности советских методов индустриализации; сторонники Вашингтона разоблачают в ответ подавление интеллектуальных и личных свобод. На что первые, в свою очередь, отвечают, что такие свободы являются лишь мрачной насмешкой в слаборазвитой стране, угнетаемой и эксплуатируемой иностранными корпорациями, союзниками местного сервильного капитализма. Полемика наподобие обвинительных и защитительных речей ведется по поводу выбора наиболее эффективных путей социальных и экономических преобразований, которые обе стороны признают необходимыми.
Подобная форма соперничества может быть, абстрактно говоря, продуктивной (повсюду встает вопрос, возможно ли индустриализировать слаборазвитые страны, не жертвуя представительными институтами, не превосходит ли план рыночные механизмы на первых этапах экономического развития?). Но она носит в данном случае поверхностный и второстепенный характер. Главное значение имеет различие в образе мышления между коммунистическим (или прогрессистским) и прозападным или проамериканским деятелем. Это различие наиболее просто выражается в том, что можно сказать: у первого есть идеология, а у другого ее нет.
Конечно, и тот, и другой обладают определенным менталитетом. Американский гражданин не менее предсказуем в своей манере думать, верить и действовать, чем советский. Но тем не менее различие существует, и оно носит решающий характер. Коммунист рассматривает все человечество, весь мир, если не весь космос, в исторической перспективе, с точки зрения глобального подхода, охватывающего прошедшее, настоящее и будущее. Этот подход предполагает знание реальности и идейную оценку событий, и он предопределяет линию поведения. Взгляды коммуниста и, в меньшей степени, прогрессиста замыкаются во внешне связной логически системе. У прозападного деятеля нет > 622
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
эквивалента подобной системы: он различает факты и ценности, общие условия развития и особые обстоятельства, которые делают более предпочтительными те или иные методы, он констатирует общие черты развития на той или иной фазе процесса и возможность применения различных средств в зависимости от эпохи или континента. В лучшем случае он социолог против идеолога или, в крайнем случае, идеолог без системы, приверженный традиционным институтам (парламент, партии), которые в отрыве от социального контекста рискуют стать фарсом. В Европе представительные институты и, более того, отказ от государственной ортодоксии укоренились в традициях, в настроениях народов.
Советский режим, навязанный восточным странам в 1945 г. русским Большим братом, разорвал их исторические связи с Западом и вынудил пойти на жертвы, часто бесполезные, он породил психоз, логически вытекающий из новой веры. Можно гадать, смогли бы или нет режимы западной демократии эффективно функционировать в Восточной Европе. Но не вызывает сомнения, что Советский Союз, создавая свой блок, принуждал людей, в то время как Соединенные Штаты, напротив, помогали европейцам спасти их свободы, сохранить методы правления, признанные подавляющим большинством населения, предпочитавшим их методам, которые в случае победы установило бы меньшинство, приверженное советской форме правления.
В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Южной Америке дело обстояло иначе. Чаще всего Советский Союз отсутствовал или был далеко, Соединенные Штаты или европейцы находились здесь же или близко. Первостепенной задачей местные элиты считают экономический рост, а не установление или восстановление представительного режима. Советский Союз обладает колониями в Центральной Азии, но эти колонии расположены внутри единого континентального массива, на который распространяется суверенитет Москвы. Культурная автономия, имперское гражданство (царистское или советское), подавление буржуазного национализма поддерживают целостность союза, и шум восстаний, если они имеют место, не проникает наружу. И получается, что лишь европейцы властвовали над миллионами людей в Азии, именно они осуществляли господство при помощи наемных правителей на Ближнем Востоке, они создали колониальные империи в Африке.
Обе великие державы могли демонстрировать более или менее открыто свои симпатии националистическим движениям в европейских колониях. Американская республика, родившаяся в ходе революции против британской метрополии, чувствовала моральную солидарность с борцами против европейских империй, забывая об отличии европейских колонов, поселившихся за морем, от населения Азии и Африки, которое другие европейцы, не найдя здесь пустующих земель, подчинили своим законам. Заботясь об интересах атлантического союза, Соединенные Штаты не осмеливались явно выступать на стороне националистов, борющихся против голландского, английского или французского господства. США проявляли к ним известную симпатию, недостаточную, чтобы их удовлетворить, но вполне достаточную, чтобы убедить европейцев в антиколониальной солидарности обеих держав.
Мир и война между народами • Раймон Арон .
623
Часть III
Полное исчезновение колониальных империй, которое завершится через несколько лет, меняет идеологические отношения на мировой арене. В соответствии с господствующими идеями нашего времени европейские империи, независимо от достигнутых результатов, подлежали осуждению, и они неустанно обличались советской пропагандой, представителями “третьего мира” в ООН, значительной частью общественного мнения в европейских метрополиях. Соединенные Штаты чувствовали себя в худшем положении, чем Советский Союз, вследствие своего союза с Европой, который допускал лишь умеренный антиколониализм, в то время как советский антиколониализм мог достигать крайних пределов. В пропагандистской войне умеренность считается менее эффективной, чем яростное нападение. Большинство американских дипломатов испытывает нечто вроде облегчения, наблюдая за ходом событий: наконец-то им не придется оправдывать то, чему они в глубине души не находили оправдания, просить отсрочки, чтобы “Франция могла осуществить либеральные проекты, о которых ее представители нам сообщили...” Как писал Кант, птица воображает, что она бы летела быстрее, если бы не приходилось преодолевать сопротивление воздуха, который ее поддерживает.
Надо признать, что распад европейских империй лишает Советский Союз аргументов в пропагандистском соревновании, освобождает американцев от бремени, которое они находили все более тяжким. Можно считать прогрессом создание полусотни независимых наций в Азии и Африке и даже замену нейтралистскими режимами, например в Египте или в Ираке, вчерашних или довоенных прозападных режимов. Подобная позиция, разделяемая американцами, пока речь идет о районах, находившихся в прошлом под господством или под влиянием Европы, завтра может быть принята так же легко европейцами в отношении Южной Америки. Каким бы авторитарным ни был режим Фиделя Кастро, разве он не лучше режима Батисты? Почему надо возмущаться по поводу стремления латиноамериканских государств остаться вне холодной войны, не присоединяться ни к той, ни к другой стороне?
Массы бедняков или интеллигенты, возмущенные союзом крупных собственников и армии с американскими корпорациями (не имеет значения, реальный это союз или воображаемый), считают себя жертвами “ колонизации”, приведшей, по их мнению, к таким же пагубным последствиям, которые националисты в Азии и Африке ставят в вину английской или французской колонизации. Было бы иллюзорным надеяться на то, что пропаганда против империализма прекратится в тот день, когда больше не будет империй (разумеется, вне советской империи). Иностранные инвестиции, приобретение иностранными лицами и компаниями земли или заводов рассматриваются в левых кругах и интеллигенцией как форма империализма.
Если любое влияние, осуществляемое капиталистической страной, — это империализм, как утверждает коммунистическая пропаганда, то Запад перестанет быть “империалистом” лишь тогда, когда он полностью утратит способность действовать вне сферы своей цивилизации. Распад европейских империй не явит миру братство великих держав, а приведет лишь к тому, что их
624 *
Раймон Арон • Мир и война между народами
вражда скажется в иных областях. Можно представить себе внешне парадоксальные идеологические перегруппировки, например, союз западных стран и мусульман против советской империи, но сегодня они не просматриваются даже на горизонте.
Можно представить себе, и, к сожалению, это не так уж неправдоподобно, полусообщничество советских деятелей и европейцев против “империи янки“ в Латинской Америке.
3. Организация Объединенных Наций
Мы рассмотрели проблемы дипломатии внутри блоков, между блоками, между блоками и неприсоединившимися странами, не затрагивая Организацию Объединеннных Наций. Конечно, эта международная организация играет свою роль, но какую?
Блоки были созданы без нарушения Устава ООН, поскольку она не посягает на “естественное право на оборону“ и разрешает создание региональных оборонительных союзов. Но навязывание советских режимов странам Восточной Европы противоречило духу Устава, во всяком случае в том виде, в каком его понимают западные страны. Революции, проведенные сверху, были прямым результатом оккупации этих стран (или освобождения) русской армией, они являются прямым примером того, что раньше называли “косвенной агрессией“: пользуясь присутствием своих войск, великая держава ставит у власти в небольшой стране людей или партию, полностью преданную ее интересам. Можно было бы вспомнить о Квислинге, если бы биполярная структура мировой системы международных
История отношений не заставляла постепенно обе великие державы, борясь друг с другом, в то же время друг другу подражать.
Дело не в том, что существует равенство между режимами в области их отношений с народами. Если бы Красная Армия не оккупировала Польшу и Венгрию, эти две нации не получили бы режим советского типа и коммунистическая партия, по всей вероятности, не сумела бы ни силой, ни хитростью овладеть государством. И напротив, хотя на Западе военное присутствие Великобритании и Соединенных Штатов оказывало определенное влияние на обстановку, западная демократия: партийный плюрализм, свободные выборы, личные свободы отвечала ожиданиям большинства народа и политических деятелей. Она была легитимна в правовом отношении, потому что соответствовала господствующей концепции легитимности, и легитимна фактически, потому что эта концепция была последовательно претворена в жизнь.
Разнородность системы в сфере жизни народов и соответствующих идей — не последний штрих нашего анализа. Политические режимы в Восточной Европе отвечали, несмотря на сопротивление народов, марксистсколенинской концепции легитимности. В некотором, довольно расплывчатом смысле эта концепция демократична: коммунистическая партия призвана быть авангардом пролетариата, представителем и толкователем интересов народных масс, она выражает волю пролетариата, потому что он исполняет историческую миссию — даже тогда, когда пролетарии выступают против этой партии. На этой философии восточноевропейские режимы основывают в конечном счете свою легитимность, срав-
Мир и война между народами • Раймон Арон 625 ‘
Часть III
нимую1 с легитимностью, которую западные режимы черпают из свободных выборов и согласия граждан.
Процесс создания блоков проходил вне Организации Объединенных Наций, потому что в момент ее рождения железный занавес уже был опущен. ООН ничего не могла сделать, чтобы защитить народы Восточной Европы, ибо их руководители, признанные законными западными правительствами, находились под влиянием коммунистов, которые пришли с Красной Армией или поддерживались ею. Любой воздействие на них со стороны международной организации противоречило бы букве Устава, поскольку он запрещает во имя защиты суверенитета государств “любое вмешательство во внутренние дела”. Как только какой-либо режим смог утвердиться, то каким бы угнетательским он ни был, каково бы ни было отношение к нему широких масс, этот режим защищен принципом международного закона — уважение государственного суверенитета и кардинальное отличие внутренних дел от дипломатических.
ООН имела возможность рассмотреть одну проблему внутриблоковой дипломатии. После того, как в Венгрии повстанцы сумели овладеть государством и создать законное правительство (оно продолжило деятельность правительства, до этого признанного ООН), Генеральная Ассамблея ООН справед ливо признала незаконными правительство Кадара и действия Красной Армии. Советский Союз был виновен в агрессии — в той мере, в какой правительство Кадара и его призыв к Красной Армии считались результатом заговора и манипуляции со стороны СССР. И напротив, поскольку контрреволюционное правительство Имре Надя было незаконным внутри коммунистической системы и нелегитимным по условиям своего прихода к власти, “рабоче-крестьянское” правительство Я. Кадара становилось легитимным и законным.
Уроки этих событий ясны. ООН не может прийти на помощь народу, который вопреки своей воле терпит правительство советского типа, установленное Красной Армией или под ее защитой. Чаще всего законное правительство защищено международным законом от иностранного вторжения. Даже если народное восстание свергнет деспотизм, ничего еще не решено: Советский Союз может прибегнуть к военному вмешательству по призыву “рабоче-крестьянского” правительства, и это вмешательство, незаконное, с точки зрения международной организации, но вполне законное в системе доктрин советского мира, легко противостоит голосованию в Генеральной Ассамблее ООН. Чтобы заставить Советский Союз, требуется решимость в случае необходимости вступить с ним в войну. Но самые пылкие идеалисты и не помышляют об этом.
Наиболее показательный пример вмешательства ООН в один из эпизодов отношений между блоками (хотя он произошел не на Старом континенте) — корейский кризис. Когда армии Северной Кореи перешли 38-ю параллель, то по инициативе американского представителя немедленно был собран Совет Безопасности, который потребовал от северокорейского правительства отвести свои войска и после его отказа предложил государствам — членам ООН прийти на помощь жертве агрессии, то есть 1 Что не означает, будто мы придаем им такое значение
7.. 626
■ . Раймон Арон • Мир и война между народами
История
правительству Южной Кореи. Обстоятельства были исключительно благоприятны для этой первой попытки ООН заставить силой государство-агрессора уважать международный закон. Экономических санкций против Италии, примененных в свое время, оказалось недостаточно, чтобы восторжествовало право; использование военных санкций в 1950 г. привело к ограниченной войне без победителя и побежденных. И можно ли считать победой права ситуацию, когда агрессор не терпит поражения?
Отсутствие Советского Союза1 позволило Совету Безопасности узаконить военную акцию, которую США осуществили бы в любом случае, даже если бы ООН не существовала или была бы парализована в результате применения вето. Ход событий не соответствовал в точности тому, что могло бы случиться, если бы ООН воплотила полностью мечту Ф.Д. Рузвельта. Было легко убедить конгресс и общественное мнение в США, ссылаясь на необходимость обеспечить соблюдение международных законов. Энтузиазм был бы не столь горячим, если бы президенту Трумэну или государственному секретарю Ачесону пришлось объяснять веские, но прозаические мотивы своих действий, которые продиктовали принятое ими решение: острую необходимость подтвердить в глазах всего мира и особенно европейцев незыблемость американской гарантии и неминуемую потерю лица и престижа, если Южная Корея (только ее правительство было признано Организацией Объединенных Наций) будет ликвидирована Северной Кореей, бросившей вызов решениям ООН (она отказалась допустить наблюдателей, которым поручалось гарантировать свободные выборы, и др.) 25 июня 1950 г. кремлевские руководители, возможно, бессознательно, а может быть, успокоенные заявлениями американских государственных деятелей, не упоминавших Корею в числе своих оборонительных позиций в Азии, бросили вызов Соединенным Штатам, который те не могли игнорировать без катастрофических для себя последствий. И вызов был принят.
Армии, состоявшие в основном из американских и южнокорейских дивизий, были названы армиями ООН и теоретически претворяли в жизнь политику Генеральной Ассамблеи ООН, что привело к некоторым немаловажным последствиям. Участие на стороне Южной Кореи английских, турецких, французских солдат придавало войскам характер иностранного легиона. С пропагандистской точки зрения, именно Соединенные Штаты, мобилизовавшие общественное мнение и ООН, получали “преимущество” и добились “почти победы”. Но основные решения принимались воюющими сторонами на военных советах и непосредственно на поле боя, а не Организацией Объединенных Наций. Приказ о пересечении 38-й параллели был отдан президентом Трумэном на другой день после высадки десанта в Инчхоне, после встречи президента и генерала Макартура. Это решение было одобрено голосованием на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Наступление в сторону р. Ялуцзян было предпринято 1 Это отсутствие объяснялось по-разному. Наиболее правдоподобным объяснением мне представляется то, что это была ошибка советского руководства. Намерения северных корейцев были известны в Москве, советский делегат рассчитывал вернуться после того, как вся Южная Корея будет оккупирована, и предложить решение, спасающее лицо всех участников конфликта.
Мир и война между народами • Раймон Арон - -г ■ •- , • 627
Часть III
в значительной степени по инициативе самого генерала Макартура1. Правительство народного Китая не удерживали опасения, что ООН осудит его как агрессора. Фикция, будто регулярные дивизии являются “добровольцами”, объяснялась общим стремлением обоих лагерей избежать распространения конфликта, а следовательно, официального объявления войны. Когда Соединенные Штаты отказались от полной победы, они забыли, что Северная Корея и Китай являются агрессорами, или просто это проигнорировали. Они повели переговоры о компромиссном мире так, как повели бы их с любым государством. Одного лишь убеждения, что агрессия — это преступление, с точки зрения международного права, оказалось недостаточно, чтобы внушить Соединенным Штатам решимость вести войну до конца. Судьба Кореи решилась не на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, а на боле боя. ООН оказала влияние на характер этого события, его моральное значение, но не на его первоначальную причину, течение и результаты.
Трудно себе представить повторение корейского кризиса: большинство государств — членов ООН остереглось бы вступить в военный конфликт даже против маловажного сателлита Советского Союза и Китая. Оба коммунистические государства, со своей стороны, прибегают скорее к инфильтраци, чем к агрессии в классическом смысле слова, то есть пересечению границ регулярными армиями.
Совпадение венгерского кризиса и суэцкого, бессилие ООН перед лицом Советского Союза, второстепенная, но полезная роль ООН в ликвидации суэцкого кризиса иллюстрируют возможности “всемирного актера” и их пределы в современном мире. Голосование в Генеральной Ассамблее ООН, очевидно, не может заставить одну из великих держав капитулировать. В то же время Великобритания и Франция не смогли бы сопротивляться объединенному давлению со стороны двух великих держав и стран третьего мира даже при отсутствии международной организации. Когда г-н Булганин бряцал ракетами, Соединенные Штаты уже заняли позицию, которая была направлена против их союзников. После того, как американские силы сдерживания перестали уравновешивать советские силы устрашения, французы и англичане вынуждены были уступить.
Голосование на заседании Генеральной Ассамблеи имело определенные последствия. Демократические государства более чувствительны к мнению общественности и своих друзей, чем государства советского типа, всегда способные оправдать свои действия, какими бы жестокими они ни были, метафизическими ссылками на историю. Деятельность ООН была для США дополнительным поводом не соглашаться с синайской кампанией Израиля и высадкой англо-французских войск. И наконец, посылка “голубых касок” облегчила в моральном и материальном отношении эвакуацию с территории Египта иностранных войск. Создание международных вооруженных сил благоприятствовало восстановлению мира и тем самым парализовало возможные шаги советс1 Как говорил мне Дин Ачесон, сам президент и руководители штабов войск были против этого наступления.
. 628 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
кого блока. В то время, когда французское общественное мнение проклинало ООН, и г-н Хрущев стал испытывать к ней и особенно к ее генеральному секретарю враждебные чувства, которые он вскоре перестал скрывать.
Но наибольшее вляние ООН оказала на отношения между блоками и “третьим миром”, прежде всего между европейскими метрополиями и их протекторатами или колониями. Было бы абсурдным утверждать, что империи были разрушены в Нью-Йорке. Каковы бы ни были термины — “освобождение народов” или “распад европейских империй”, у этого исторического процесса были многочисленные и глубокие причины (ослабление метрополий, стремление народов к независимости, эффективность партизанской войны, антиколониализм двух великих держав). Но Организация Объединенных Наций предоставила трибуну представителям стран, выступающих против колониализма, она усилила эхо пропаганды против империализма, повлияла на характер и, возможно, ускорила темпы деколонизации.
Она продолжает открывать перед государствами Африки, Азии и, завтра, Латинской Америки возможность играть “в большую политику” (die grosse Politik). Но история пишется не в Нью-Йорке, а внутри государств, где при помощи различных способов инфильтрации и подрывных действий рождаются и гибнут политические режимы, которые затем приобретают международную законность. Ни план раздела Палестины, разработанный ООН, ни распоряжения о прекращении огня не обеспечили бы существования государства Израиль или даже выживания евреев Палестины без побед, одержанных отрядами Хаганы.
Но история частично пишется и в НьюЙорке, и представители малых государств питают иллюзии, что эта часть значительна.
Поскольку для принятия резолюций Генеральной Ассамблеи требуется большинство в две трети голосов, великие державы вынуждены ухаживать за представителями малых стран, чтобы добиться благоприятного для себя голосования. Будучи по Уставу ООН равными с великими державами, малые страны могут испытывать гордость от того, что своим голосованием они решают исторические проблемы. Если бы не было ООН, то по какому бы поводу президенты африканских государств, названия которых европейские школьники еще не успели выучить, смогли бы покидать свои столицы, узнавать мир и участвовать во всемирной дипломатии? Международная организация охватывает потенциально все человечество, она стремится к созданию всемирного сообщества, отражает его нынешнее разделение на государства и символизирует его стремление к единству.
В последние годы под прикрытием деколонизации и “балканизации” Африки так называемая афро-азиатская группа увеличилась настолько, что некоторые говорят о блоке неприсоединившихся стран, который уравновешивает враждующие блоки и служит посредником, арбитром или судьей, позволяя тем или иным регионам и странам избежать вовлечения в “холодную войну”. Но фактически дело обстоит иначе. “Третий мир” — это скорее географическое, чем политическое понятие. Что касается неприсоединения, то за ним скрываются существенные различия. Те, кто относит себя к этой категории, не обязательно имеют одно и то же мнеМир и война между народами • Раймон Арон 629 «
Часть III
ние или одни и те же интересы при всех обстоятельствах, независимо от того, затрагивает ли возникающая проблема соперничество двух великих держав или нет1.
Конголезский кризис подтвердил значение неприсоединившихся государств, а также их раскол в играх ооновского “парламента”. Соединенные Штаты, опасаясь прямого столкновения с Советским Союзом, передали Организации Объединенных Наций неблагодарную задачу предотвращения хаоса и советизации стран третьего мира, а генеральному секретарю — еще более неблагодарное дело исполнения расплывчатых решений или рекомендаций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Намерение было хорошим, стремление к тому, чтобы конголезское государство оставалось вне холодной войны, — разумным. Но поскольку Советский Союз преследовал прямо противоположные цели, замена Соединенных Штатов Организацией Объединенных Наций лишь ускорила назревание конфликта между Москвой и генеральным секретарем ООН вместо ожидавшегося столкновения между Москвой и Вашингтоном.
Фактически конголезского государства не существовало. Ни один человек, ни одна партия не была в состоянии установить свою власть на всей территории страны и обеспечить функционирование государственных органов. Надо было выбирать между своего рода мандатом (trusteeship)Организации Объединенных Наций, возвращением бельгийских технических специалистов, работающих под руководством конголезского правительства, готового их принять, и переходом страны в руки специалистов. пришедших с Востока. Как мы знаем, политику нейтралитета особенно трудно проводить слабому и расколотому новому государству. Нейтрализация Конго представлялась тем более желательной, что государство не существовало, но она была невозможной по тем же самым причинам, по которым она была желательной. ООН и г-н Хаммаршельд споткнулись об этот парадокс.
Организация Объединенных Наций в соответствии со своим Уставом не должна вмешиваться во внутренние дела страны, чей суверенитет ею признан. Ее задача состояла в том, чтобы обеспечить безопасность граждан и вывод бельгийских войск. Но ситуация оказалась противоречивой. Если правительство Конго проявило неспособность гарантировать безопасность, то, значит, оно было недостойно международного признания, полученного ранее без должных оснований. Если ООН обязана была поддерживать общественный порядок, то ей неизбежно приходилось “вмешиваться во внутренние дела страны". Только самим своим присутствием многонациональные войска оказывали влияние на споры между политиками Конго, на шансы просоветских и прозападных деятелей, "федералистов" и “унитаристов”. Премьер-министр центрального правительства, законного в тот момент, когда начала действовать ООН, был низложен и арестован теми, кто обладал определенной фактической и юридической властью (президентом Республики и полковником Мобуту). Просоветские государства, поддержанные “прогрессистами” Африки и других континентов, стали обличать ООН, то есть в конечном итоге ее генерального секретаря. Разразил* См гл XVII. 4
ж 630 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
ся кризис, подобный корейскому: коммунистический блок выступил с нападками на ООН, виновную в том, что фактически она поддержала один лагерь против другого.
Во время кризиса часть неприсоединившихся государств выступила на стороне президента Касавубу, другие — на стороне премьер-министра Лумумбы, а третьи хотели примирения между ними. Если бы примирение состоялось при одобрении великих держав, то и все неприсоединившиеся страны чудесным образом пришли бы к согласию. И такое согласие было тем легче достижимым, чем менее оно становилось необходимым. Позитивные нейтралисты — Объединенная Арабская Республика, Гвинея, Мали, к которым присоединились Гана и Марокко (последняя страна из-за Мавритании и, возможно, по соображениям внутренней политики1) — целиком поддерживали Лумумбу и ожесточенно критиковали Генерального секретаря. Но тот продолжал пользоваться поддержкой большинства неприсоединившихся стран и Генеральной Ассамблеи.
Объединяя оба блока и неприсоединившиеся государства, ООН не могла обладать “общей волей”. Меньшинство может подчиниться “воле большинства” лишь в том случае, если не затрагиваются жизненные интересы. На границах между Израилем и Египтом “голубые каски” поддерживают мир и разделяют враждующие стороны, которые по различным причинам хотят оставаться разделенными. Для Соединенных Штатов было удобно предоставить афро-азиатам позаботиться о давлении на Голландию или Францию, а за собой оставить роль посредника между антиколониалистами и колониальными государствами Европы. Это значит, что и блоки, и неприсоединившиеся страны, и великие, и малые государства проводят в ООН такую же политику, как и вне ее. Каждое действующее лицо излагает здесь свои идеи или демонстрирует свои устремления и стремится обеспечить защиту своих интересов.
Международная организация не изменила, она только слегка усложнила деятельность мировой дипломатии. Будучи оригинальным институтом, она не оригинальна ни по своим принципам, которые противоречивы, ни по своему языку, который скорее лицемерен, чем идеалистичен, ни по своей деятельности, тем более эффективной, чем дальше она отстоит от главного конфликта нашего времени.
4. Конфликты и примирение
Как изменилась за последние пятнадцать лет международная обстановка: в сторону стабилизации или, напротив, в сторону интенсификации холодной войны? А может быть, она застыла со своим чередованием напряженности и разрядки, более или менее острыми кризисами, регулярно гасимыми обеими великими державами, и ограниченным использованием силы?
Примем за исходную точку анализа последнюю гипотезу. Факт состоит в том, что обе великие державы или оба блока сосуществовали в течение пятнадцати лет, их взаимоотношения были отмечены последовательными кризисами: 1 Консервативное правительство страны стремилось обойти левую оппозицию в наименее опасной области — в сфере словесной дипломатии, как в ООН.
Мир и война между народами • Раймон Арон 631
Часть III
Берлин (1948—1949), Корея (1950—1953), война в Индокитае (1953—1954), Суэц и Венгрия (1956), Ирак, Иордания и Ливан (1958), новый кризис в Берлине, разразившийся в конце 1958 г. и перешедший в скрытую форму. Поведение великих держав в ходе каждого из этих кризисов было явно продиктовано твердым стремлением избежать неограниченной войны. Споры на Западе во время блокады Берлина и войны в Корее касались не цели (ограничить конфликт), а рисков, которые можно было допустить, не создавая серьезной опасности расширения военных действий. Можно ли бомбардировать аэродромы в Маньчжурии? Ответят ли в этом случае китайцы и северокорейцы бомбардировками портов в Южной Корее или баз в Японии? Опасно ли прорвать блокаду Берлина путем посылки охраняемой транспортной колонны? Допустимо ли высадить несколько тысяч морских пехотинцев в Ливане и несколько тысяч английских парашютистов^ Иордании? Если, оглянувшись назад, рассмотреть решения, принятые одной и другой стороной, то возникает ощущение, что именно американцы проявили наибольшую сдержанность, если не считать решения пересечь 38-ю параллель и решения, принятого скорее Макартуром, чем Трумэном, двинуть 8-ю армию к р. Ялуцзян. Именно Советский Союз взял на себя инициативу блокады Берлина, именно СССР если не спровоцировал северокорейское наступление в июне 1950 г., то согласился с ним. Именно китайцы обучали и снабжали дивизии Вьетминя, победившие под Дьенбьенфу. Во время суэцкой экспедиции именно Советский Союз подвесил над Францией и Великобританией угрозу прибегнуть к “ракетам” и “добровольцам”. И наконец, он попытался расположить свою военную базу и установки для запуска баллистических ракет на Кубе, несмотря на то, что Карибское море может считаться частью американской зоны влияния — точно так же, как Венгрия относится к советской зоне.
По моему мнению, советские деятели чаще всего проявляли наступательный дух и дерзость, даже в период 1945—1955 гг., когда превосходство американской ядерной системы было неоспоримо1. Но они всегда оставляли себе запасной выход и никогда не сжигали мосты. Например, они не заявляли официально о блокаде Берлина, а ссылались поочередно на технические трудности то на водных путях, то на железных дорогах, то на автомобильных шоссе. Каждый раз они имели возможность отступить, не теряя лица, в случае резкой реакции Запада. Они никогда не пытались прервать воздушное сообщение, что было технически нетрудным делом. Правило игры, которое в данном случае соблюдалось обоими лагерями, не допускало применения вооруженной силы. Советские истребители не атаковали беззащитные крупные транспортные самолеты Запада, а западные страны, со своей стороны, не пытались проложить себе путь по земле. Это правило, вероятно, не было задумано заранее в том или другом лагере. Оно сложилось на основе местных условий и стремления противоборствующих сторон не те1 Американское превосходство, возможно, никогда не было столь велико, как в период между 1955 и 1959 гг. Американская стратегическая авиация была на вершине своего могущества. Советская стратегическая авиация была слабой, а число боеготовых ракет еще, видимо, не достигло значительной величины.
«ии 632 Раймон Арон • Мир и война между народами
История
рять контроля над ходом событий. Если бы западные державы послали вооруженную транспортную колонну, то, возможно, советские солдаты не стреляли, бы. Но если бы они стреляли, Западу пришлось бы удвоить ставку. Точно так же, если бы советская сторона прервала воздушные сообщения, она заставила бы западные страны выбирать между поражением, слишком демонстративным, чтобы его можно было стерпеть, и применением оружия. Воздушный мост представлял собой промежуточное решение, приемлемое для обеих сторон.
То же общее стремление к ограничению масштабов конфликта отразилась в другом правиле игры — в Корее. Американцы не переносили военные действия за пределы корейских границ, а китайцы, корейцы и советские руководители действовали таким же образом. Не было бомбежек ни китайских баз в Маньчжурии, ни американских баз в Японии. Советские подводные лодки не пытались прервать сообщение между Японией и Кореей. Последняя была превращена, по молчаливому согласию, в закрытое поле, на котором представители двух великих держав решали свой спор. Выполнение этого правила, которое можно определить как географическое ограничение военных действий, привело к ничьей, хотя подобный конец не был неизбежным (две или три дополнительные американские дивизии смогли бы одержать весной 1951 г. или даже весной 1952 г. локальную победу, не расширяя театра военных действий и не прибегая к ядерному оружию). И здесь правило было придумано и соблюдалось по ходу событий. Это правило отличалось не столько рациональностью, сколько простотой: оно было понятно противникам без специальных разъяснений.
Война в Индокитае относилась к иному типу, поскольку в нее не были прямо втянуты ни Советский Союз, ни Китай, а Соединенные Штаты ограничивались финансовой помощью и поставками оружия Франции и правительству Вьетнама, враждебному Вьетминю. Момент принимать решение пришел весной 1954 г., когда французский гарнизон в Дьенбьенфу проиграл первую битву и был обречен. Франция, без американской поддержки, должна была отказаться от продолжения борьбы. Ценой перемирия стала советизация половины страны. Соединенные Штаты решили не вмешиваться, а китайцы и советские руководители получили условия, незначительно отличающиеся от тех, которых они могли бы добиться еще до или без победы под Дьенбьенфу.
Фактически кризис весны 1954 г. был скорее случайным, чем задуманным заранее. После смерти Сталина члены президиума, занятые борьбой за власть, стремились уменьшить международную напряженность. В Корее они побуждали китайцев не настаивать на требовании обязательного возвращения всех пленных, и, возможно, они согласились бы на перемирие в Индокитае, переговоры о котором велись одновременно с переговорами о перемирии в Корее. Упрямство французского правительства, поощряемого слепой непримиримостью администрации США, привело к продолжению военных действий. Оно дало Вьетминю, поддержанному Китаем Мао Цзэдуна, возможность добиться впечатляющего успеха, который придал новый смысл достигнутому миру, хотя и не изменил существенно его условий.
Кризис 1956 г. в Венгрии и вокруг Суэцкого канала не был вызван самими великими державами. Национализация
Мир и война между народами • Раймон Арон * ши 633
Часть III
* v :ф ■> < < X-5Wa<S*Wma^ гМг s/W •>Х^>/.ХХ' ■> -X X-Xv-X^W- < Д'^лл s-Л w-Vvl X V
канала была лишь эпизодом восстания арабов против влияния или присутствия Запада. Нет никакой нужды приписывать его проискам Москвы: любое египетское правительство могло задумать ее, тем более, что срок концессии в любом случае истекал через двенадцать лет. Реакция Великобритании была удивительной и непредвиденной: непонятно, почему английское правительство предприняло попытку вернуть военным путем зону, которую оно только что покинуло? Реакция Франции более поддается объяснению, поскольку французские руководители стремились и здесь к решению алжирской проблемы.
Хотя при случае вооруженные силы легко пускались в ход Советским Союзом, Францией и Великобританией, значение кризиса, с точки зрения поведения двух великих держав1, проявилось скорее в двойном американском отказе: Соединенные Штаты то отказываются вмешиваться для “освобождения” сателлита, то не позволяют своим союзникам провести военную акцию против страны третьего мира. У этих двух отказов одна и та же причина: боязнь неограниченной войны. Обе позиции можно объяснить вполне реалистическими соображениями. Одна из них осторожная, но в моральном отношении слабоватая, вторая оправдывается как осторожностью, так и ссылками на идеалы. Конечно, проявлять пассивность при подавлении венгерской революции означало занимать осторожную и, может быть, разумную позицию. Воспрепятствовать Франции и Англии оккупировать зону Суэцкого канала также означало, конечно, проявить осторожность. И возможно, было разумным выступать против двух бывших великих европейских держав, считая, что “выгодность” такой позиции для отношений с неприсоединившимися странами перевешивает ее опасность для единства атлантического блока. В тот день, когда был предъявлен франко-английский ультиматум, и в канун советского вмешательства в Будапеште генерал Д. Эйзенхауэр сказал, что не может быть двух законов: один для друзей, другой для врагов. Но эта формула по иронии судьбы обернулась против американского президента. С помощью врагов Соединенные Штаты пустили в ход суровый закон против своих союзников и, ограничившись словесным протестом, примирились с безнаказанностью врага, виновного в открытой агрессии.
Один американский автор1 2 выдвинул одно весьма циничное истолкование кризиса Суэц—Будапешт. В час опасности Большие братья открыли (в двух смыслах этого слова3) свое братство. Каждый в глубине души считал соответствующим своим интересам, если другая великая держава восстановит дисциплину внутри своего блока. Соединенные Штаты не могли допустить, чтобы Франция и Великобритания взяли на себя инициативу, способную вызвать широкие военные действия. И несмотря на свою симпатию к венгерским борцам за свободу, руководители Соединен -
1 Мы проанализировали этот кризис в одной из предыдущих глав на фоне отношений между партнерами по блоку. См.: гл. XV. 5.
2 McClelland С. А., доклад на конференции. организованной Центром международных исследований (Center of international studies, Princeton). Название доклада: Acute international crisis in the cold war: A system theoretical note. (“Острый международный кризис в холодной войне: система теоретических обозначений").
3 Они открыли для себя и показали всему миру.
634 г Раймон Арон • Мир и война между народами
ных Штатов негласно ставили им в упрек, что те подталкивают США к альтернативе: либо малопочетное невмешательство, либо опасное вмешательство. Без видимых колебаний Вашингтон выбрал первый вариант.
Еще более ограниченные силовые средства были применены спустя два года, во время иракской революции и волнений в Ливане и Иордании. На этот раз уже Соединенные Штаты использовали своих морских пехотинцев. Они их послали по просьбе законного правительства, признанного всеми государствами и Организацией Объединенных Наций. Кроме того, морские пехотинцы не сражались. Они стремились не участвовать в гражданской войне, которая продолжалась, то вспыхивая, то затухая, в течение нескольких недель. Само их присутствие играло сдерживающую роль, демонстрируя решимость США действовать в случае необходимости, оказывая моральную поддержку законным властям в Бейруте. Согласно советской версии, правительство Кадара призвало на помощь Большого брата, чтобы восстановить власть “рабоче-крестьянского правительства”. Но даже если оно являлось бы законным, с точки зрения внутреннего или международного права (чего не было на самом деле), то все равно существовало бы коренное различие между этими двумя вмешательствами: одно носило воинственный характер, оно имело целью и результатом подавление революции, а второе без кровопролития способствовало примирению враждующих сторон, которое было необходимо для сохранения самого существования Ливана.
Из этого обзора кризисов можно извлечь оптимистический вывод. Применение вооруженной силы было все История
более и более ограниченным, по крайней мере одной великой державой против другой. Продолжительность каждого кризиса была все более короткой. Блокада Берлина длилась месяцами — так, словно обе державы не знали, как без потерь выйти из испытания силы, которое они развязали. Война в Корее продолжалась три года, и в течение двух последних лет переговоры наталкивались, согласно официальным заявлениям, на одно-единственное препятствие: возвращение пленных (представители коммунистического Китая отказывали своим гражданам, взятым в плен американцами, в праве выбрать свободу). Кризис Суэц—Будапешт был ликвидирован за несколько дней, кризис Ирак—Ливан— Иордания — за несколько недель. Численность и мощь использованных вооружений уменьшались от кризиса к кризису.
Против этих оптимистических рассуждений можно справедливо возразить. Можно утверждать, что закономерная тенденция к сокращению применяемой силы относится только к прямым отношениям между двумя великими державами или двумя блоками. Советский Союз использовал против Венгрии десяток дивизий, больше, чем было нужно для подавления восставших, но массированно и грубо, что позволило осуществить вмешательство быстрее и с меньшими потерями. Вмешательство американцев на Ближнем Востоке носило символический характер. Оно явилось эквивалентом дипломатии канонерок. Цель состояла не в том, чтобы путем каких-то действий, символизирующих применение силы, заставить какое-то правительство уступить, а в том, чтобы поддержать законное правительство операциями, символизирующими поддержку силой.
Мир и война между народами • Раймон Арон
-¥ 'Л*
* 635
Часть III
Тезис о тенденции к ограничению применения силы трудно принять прежде всего потому, что каждый из кризисов относится к особым событиям и сопоставление отдельных кризисов создает впечатление целой тенденции. Но фактически она, возможно, формулируется искусственно, в зависимости от взгляда наблюдателя. Русские использовали в Венгрии огромную армию по военным соображениям, в соответствии со сложившейся конъюнктурой. Морские пехотинцы США ни разу не выстрелили в Ливане, потому что такая сдержанность отвечала местной обстановке. Подлинный вопрос состоит в том, чтобы установить, научились ли обе великие державы регулировать свои споры с меньшими издержками и стремятся ли они максимально ограничить применение насилия.
Я полагаю, что, несмотря на яростную пропаганду и бросаемые друг другу громогласные вызовы, Соединенные Штаты и Советский Союз изучили друг друга и не приписывают сопернику заведомо воинственные намерения. Если предположить, что члены президиума опасались превентивного нападения1 со стороны Соединенных Штатов, то они давно уже успокоились. Война не была бы превентивной: сегодня попытка опередить противника означала бы то же самое, что броситься в воду, спасаясь от дождя. Не ставя более под сомнение общее стремление к ограничению конфликтов, обе великие державы теперь менее склонны к истерии и панике, когда по вине союзника или нейтрального государства возникает кризис, когда какая-либо страна или какой-либо режим угрожают сменить свою ориентацию.
Правда, изменение такой ориентации идет постоянно в одном направлении: бывшая колониальная страна становится независимой, затем нейтральной, потом нейтралистской и иногда прогрессистской. Сколько же времени Соединенные Штаты будут подчиняться правилам игры, которые они навязали своим союзникам, если перемены союзничества станут еще более многочисленными и, особеннно, если они будут происходить внутри собственно американской зоны (Латинская Америка), а не в бывшей зоне европейского влияния?
Правила игры внешне являются теми, которые содержатся в Уставе ООН — это неприменение силы. Но поскольку ни в теории, ни на практике не удается дать определение агрессии, то выделена была только прямая агрессия — пересечение границ регулярными армиями. Тем самым все другие формы агрессии оказались допустимыми, они были фактически легализированы. Вербовка и обучение партизан, собирающихся бороться против правительства какой-либо страны, стали теперь обычным делом. Советские представители считали это типичным примером агрессии, когда опасались подобной практики и если сами не прибегали к ней. Тунис даже не скрывает, что предоставляет убежище алжирским партизанам, и жалоба Франции против тунисской агрессии была бы бесполезной. Транснациональная организация партизанских войн против европейских империй получила благословение Организации Объединенных Наций и Соединенных Штатов.
1Я не думаю, что Сталин опасался этого когда-либо тогда, когда он боялся немецкого нападения, т е в 1933—1941 гг, он вел себя совсем иначе чем в 1945—1953 гг
.636
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
(Последние также попытались заняться подобным видом спорта — в Гватемале с успехом, на Кубе безуспешно.)
Незаконность вторжения регулярных армий и законность транснациональной организации партизан имеют в качестве противовеса законность просьбы об иностранной помощи, с которой обращается признанное правительство. ООН терпела египетских партизан, израильская кампания на Синае была осуждена, как и франкобританский ультиматум Египту. Вместе с тем, американское вмешательство в Ливане, британское вмешательство в Иордании — легальны, потому что иностранные войска прибыли по просьбе законных правительств.Поскольку, с точки зрения международного права, иностранное вмешательство легально, когда оно происходит по приглашению законной власти, то соперничество великих держав развертывается внутри государств. Цель каждой из них заключается в том, чтобы поддержать людей, которые в случае необходимости позовут ее на помощь.
Как мы уже видели, международное право, основанное на идее суверенитета и равенства государств, является не отражением, а отрицанием современной действительности. Оно было задумано для европейских государств, которые в определенном смысле взаимно признавали право на существование, а потом распространено на весь мир, в то время, как в самой Европе идеологические конфликты, определяющие разнородность мировой системы, подрывали его соблюдение. В настоящее время международное право — это постоянное приглашение к лицемерию, оно создает для великих держав обязанность скрывать то, что они не могут не делать, а именно: вмешиваться во внутренние дела государств — членов ООН. Никто не отказывается от вмешательства, но каждый пытается вмешиваться таким образом, чтобы формально требование невмешательства было соблюдено. Для каждого лагеря главное условие успеха — это иметь преданное ему правительство. Когда оба лагеря достигают своей цели, третья страна оказывается расколотой, как в Германии, или охваченной гражданской войной. Иногда страна расколота, а в той части, которая не захвачена коммунизмом, ведется такая война (Южная Корея, Южный Вьетнам).
В том, что касается третьего мира, то на него распространяются правила игры: легализация транснациональной организации партизанской войны, обязанность маскировать вмешательство во внутренние дела государств, соперничество между великими державами, стремящимися поддержать преданные им законные правительства. Эти правила, разумеется, не были установлены какойлибо из этих держав или соглашением между ними. Эти нормы, так сказать, выкристаллизовались в ходе дипломатической истории последних пятнадцати лет. Юридический формализм привел к распространению на всю планету правовых норм, разработанных для себя однородной международной системой. Возникновение разнородной системы повлекло за собой в самой Европе изменение их характера, поскольку Советский Союз, заявляя о своей приверженности принципам суверенитета и равенства государств1, игнорирует их дух — 1 Cm.: Jean-Yves Calvez. Droit International et souveraineté en U.R.S.S., Paris. Colin, 1953.
637 '
Мир и война между народами • Раймон Арон
Часть III
в той мере, в какой он был и хотел оставаться революционным государством, идеология которого предназначена для всемирного распространения. В качестве государства Советский Союз принял самую традиционную и непримиримую теорию суверенитета. В качестве членов Политбюро коммунистической партии и фактических руководителей Коминтерна лидеры СССР организовывали подрывные действия в странах, с которыми они поддерживали дипломатические отношения, соответствующие нормамJus gentium europaeum1. У некоммунистических государств оставался выбор: примириться с этой двойной игрой или разорвать дипломатические отношения. Все они по очевидным причинам предпочли первый вариант этой альтернативы.
Укрепление Советского Союза после второй мировой войны, появление многих новых государств значительно расширили поле и возможности для такой двойной игры. Ф.Д. Рузвельт, продолжая вильсоновские традиции, ожидал от Организации Объединенных Наций решающего вклада в поддержание мира. Он видел в ней также средство предотвратить возвращение США к политике изоляционизма. Сочетание международного права, направленного к тому, чтобы “поставить вне закона” войну, и допуска гражданской войны в международном масштабе (или транснациональной организации подрывных действий) отражается в сегодняшней практике: регулярные армии уже не пересекают границы, но они располагаются в иностранных государствах, куда приходят по приглашению законных правительств. Последние обладают, следовательно, внутри своих границ суверенитетом, который отнюдь не бесполезен, поскольку позволяет правителям малой страны безнаказанно присваивать собственность граждан крупного государства. В обмен на эту свободу действий они должны быть постоянно готовыми к тому, что крупные государства постараются воздействовать на их решения.
Могут сказать, что эти правила игры более благоприятны советскому, а не западному лагерю. Ему, дескать, следовало бы неустанно разоблачать транснациональную организацию партизанских войн вместо того, чтобы делать акцент на неприменении силы (которое фактически означает неприменение регулярных вооруженных сил). Индустриальные государства и либеральные режимы должны использовать регулярные армии, а слаборазвитые страны и революционные партии стихийно прибегают к терроризму и гражданским войнам.
Это замечание справедливо, но трудно сказать, могло ли фактически быть иначе, чем есть сегодня. Могла бы ООН признать законной посылку карательных экспедиций в ответ на действия партизан, снабжаемых извне? Признала бы она законность такого ответа (если бы греческая армия вошла, например, в Болгарию или в Югославию до разрыва этой страной своих связей с Советским Союзом)? Изменился бы от этого ход событий? Угроза репрессалий со стороны регулярных войск против баз снабжения партизан в некоторых случаях имела бы положительный эффект. Она могла бы, по крайней мере, воспрепятствовать международному призна1 “Европейское международное право” (лат.). Jus gentium — “право людей", у древних римлян — право, применявшееся к иностранцам. Сегодня — международное право. [Прим.перев.)
', 638
Раймон Арон • Мир и война между народами
История
нию права на косвенную агрессию. Но в Китае, Индонезии, Индокитае, в Северной Африке партизанское движение отражало революционную ситуацию, которую другая международная законность не смогла бы изменить.
Таким образом, тенденция к ограничению использования силы касается лишь организованной силы, регулярных армий. Стран, где нет безопасности в результате действий партизан, сегодня, возможно, не больше, чем пятнадцать лет назад. Но тем временем коммунистические порядки установились во многих государствах, которые в 1945 г. были охвачены войной; в других регионах националистические восстания привели к независимости ряда стран, где возникли более или менее неустойчивые режимы; и, наконец, осталось немало стран, бывших “заповедниками” Запада, где существующим режимам угрожают мятежники, склонные к нейтралитету или нейтрализму.
Невозможно дать общую, категоричную и простую оценку всем изменениям в международной обстановке за последние пятнадцать лет — чередованиям, смягчениям, обострениям конфликтов. Более или менее острые кризисы сменялись периодами спокойствия. И ничто не свидетельствует о конце подобных чередований. Кризисы последних лет были менее продолжительными, в них проявлялось меньше насилия. Сказывалось своеобразное привыкание к конфликту, словно противники стали лучше угадывать намерения друг друга и действовать соответствующим образом.
Человечество, тем не менее, еще очень далеко от установления нового порядка: наоборот, революционная агитация, проводимая или используемая компартиями, подчас даже независимая от них, охватывает третий мир. И возможно, завтра Соединенные Штаты не будут подчиняться больше правилу неприменения регулярной армии, которое они навязали своим союзникам (кубинский кризис в ноябре 1962 г. свидетельствует об этом).
Но даже если они будут его соблюдать, умиротворения так и не наступит, пока будут сохраняться три основные причины того, что принято называть холодной войной: раздел Европы, гонка вооружений, судьбы третьего мира. А эти три причины являются более результатом того, что представляют собой две великие державы или два лагеря, чем того, что они делают. Умиротворение потребовало бы согласия с ограничением зон влияния, которое несовместимо с претензией каждой идеологии на всемирное значение.Социалистический блок самим своим существом, вне связи с какой-либо подрывной деятельностью, предлагает третьему миру модель развития. Запад не может не опасаться влияния советского примера, ибо обращенные в советскую веру становятся автоматически его врагамим.
Лишь в области ограничения гонки вооружений возможен прогресс. Хотя ни один договор, даже касающийся прекращения ядерных испытаний, еще не подписан и не ратифицирован, но каждый из антагонистов, видимо, постепенно успокоился по поводу намерений другого и каждый боится собственных средств разрушения и, следовательно, тех, которыми владеет или будет владеть его противник. В 1960 г. определяющим фактором обстановки в мире остается равновесие страха, стремление обеих великих держав не развязывать войны, к которой они готовятся. Это определяМир и война между народами • Раймон Арон
639
Часть III
ющий, но негативный факт: гиганты парализованы, но парализованы один по отношению к другому. Избегая прямого нападения друг на друга и не допуская использования своего самого разрушительного оружия, они могут' рассматривать всю планету как сферу своих действий, игнорируя границы, которые пересекли бы неиспользуемые ракеты и которые постоянно пересекают радиоволны и агенты для ведения подрывной деятельности.
♦ ♦ ♦
Цель Запада состоит не в уничтожении советских режимов, а в том, чтобы убедить коммунистов: в мире есть место для различных режимов, не рассматривающих друг друга как врагов. Цель советского блока — устранить капиталистические режимы и использовать для этого революционные выступления, движения за национальное и социальное освобождение. Одна из великих держав стремится к полной политической, а то и к абсолютной военной победе, другая — к мирному сосуществованию в качестве цели, а не средства, как это делает соперник.
Что думают и как действуют советские руководители: в соответствии с официальной доктриной непримиримой вражды или в соответствии с негласной доктриной растущего сходства между двумя мирами? Мне представляется, что в настоящее время, даже в хрущевский период, доминирует не скрытая доктрина, а официальная.
Страх перед тотальной войной может быть, правда, обусловлен своего рода обуржуазиванием. Русская революция произошла более сорока лет назад. У привилегированных слоев режима, да и у широких масс есть что терять. Достигнутые результаты сопровождались и соответствующими жертвами. Русский народ в целом, так же, как и американский, отрицательно относится к различным авантюрам. В этом смысле в отношениях двух великих держав между собой больше сходства, чем в отношениях между коммунистическим Китаем и Соединенными Штатами. В то же время Советский Союз часто действует в зоне третьего мира скорее как противник США, чем как революционное государство. Он продолжает помогать Объединенной Арабской Республике, хотя режим президента Насера безжалостно расправляется с коммунистами.
Мы не отрицаем возможного влияния советского обуржуазивания на проведение внешней политики. Мы только считаем, что это влияние носит пока второстепенный характер. Термоядерная война слишком кошмарна, чтобы кремлевские лидеры сознательно или по неосторожности допустили этот риск. Но шансы на продвижение в третьем мире слишком благоприятны для них, чтобы они согласились хоть с какой-нибудь формулой стабилизации обстановки. Советские лидеры и вся руководящая элита слишком нуждаются в марксистских категориях, чтобы морально обосновать свою власть, уже слишком много времени они мыслят в духе этих категорий, чтобы дать волю сомнениям. Они продолжают верить в непримиримую враждебность двух блоков, как и в неизбежность их собственной победы. И каждая из великих держав продолжает действовать за пределами своих границ в соответствии со своей сущностью. Соединенные Штаты экспортируют больше капиталов, чем идей, а Советский Союз — больше идей и особенно идеологов, чем капиталов. Американцы меч640
Раймон Арон» Мир и война между народами
История
тают о соглашении между двумя великими державами, советские руководители считают примирение невозможным. Это примирение тем более невозможно, что одни хотели бы, а другие не хотят в него верить.
Одно только событие, вероятное в неопределенном будущем, может глубоко изменить существующее положение: это осознание в Советском Союзе опасности, создаваемой Китаем. Для тех, кто считает нации и расы действующими лицами исторической драмы, это событие не только возможно, но и неминуемо, оно заранее записано в великой книге истории. Китай, который насчитывает уже от 700 до 800 миллионов человек, однажды постарается расшириться к югу или северу. Перенаселенный Китай потенциально угрожает России, владеющей огромными почти пустыми пространствами, если считать, что ставкой в крупных конфликтах является владение пространством. Русский народ принадлежит к белой расе и к христианской зоне цивилизации. Желтые массы “бедны и многочисленны”1. Как смогут русские бесконечно оставаться врагами тех, кто относится к их расе и к их религии?
Но практически на протяжении истории ни раса, ни религия не цементировали политические сообщества и не предотвращали войн. Города или государства, ожесточенно сражавшиеся друг с другом, почти всегда принадлежали к одной и той же цивилизации. Может быть, завтра Китай и Советский Союз станут врагами, но я сомневаюсь, что причиной этой возможной вражды станет цвет кожи. Перегруппировка рас в рамках общеконтинентальных государств выходит за пределы обозреваемого нами исторического горизонта.
Но уже сегодня можно обнаружить признаки раскола в советском мире. Ссора между лидерами Кремля и руководителями Запретного города, между Хрущевым и его окружением, с одной стороны, и Мао Цзэдуном и его окружением — с другой, проявилась после XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза. Русские нападки на Албанию целят в китайского гиганта; китайские нападки на Югославию нацелены на Большого русского брата.
Если обратиться к аргументам спорящих, то великие коммунистические державы по-разному представляют себе правильную стратегию по отношению к Западу и третьему миру. Китайцы, видимо, рекомендуют проведение более активной дипломатии, направленной против империализма, они с легким сердцем восприняли бы риск возрастания опасности войны, они хотели бы оказывать поддержку в третьем мире лишь коммунистическим партиям, а не помогать, как это делает Советский Союз, всем правительствам объективно враждебным Западу.
Является этот спор причиной или результатом напряженности между Москвой и Китаем? Выставляют ли русские и китайцы друг против друга идеологические тезисы потому, что национальные интересы двух государств различны? Или потому, что Хрущев хочет сохранить свой авторитет, а Мао Цзэдун его оспаривает? Потому что две нации находятся на разных этапах строительства социализма и позиция каждой из них определяется внутренними требованиями режима? Невозможно, а мо1 Выражение генерала де Голля.
Мир и война между народами • Раймон Арон
641
Часть III
жет быть, и не нужно выбирать между этими гипотезами, которые скорее взаимодополняемы, чем противоречат друг другу в идеократическом мире
Мы ограничимся констатацией, что Соединенные Штаты ничего не сделали, чтобы спровоцировать этот почти разрыв (так же, как и Советский Союз не виновен в кубинской революции) Обе великие коммунистические державы продолжают наперебой разоблачать капитализм и торжественно провозглашать свою верность марксизму-ленинизму И в этом отношении Запад допустил бы ошибку, если бы не верил их словам
642 ■
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиодогия
практически невыполнимо) и об определенности стратегии (здесь — единственная цель: победа)1.
В истории XX века достаточно примеров, которые говорят о том, что есть различные способы победить в войне, что эти способы не равнозначны и что окончательная победа не всегда принадлежит тому, кто диктует условия мира.
Решение стратегическо-дипломатических задач — или проведение внешней политики — зависит от определенности позиций стратегического руководства. При этом сказываются такие причины неопределенности, как частные и общие элементы политической обстановки, множественность целей и другие. Прежде всего, важен момент, когда происходит переход от констатации сложившейся ситуации к утверждению правил поведения государств в международных отношениях. При этом возникает следующий парадокс: межгосударственные отношения — это социальные отношения, но они требуют возможного и легитимного применения силы. Допустим, применение силы не аморально само по себе (сила на службе справедливости всегда считалась согласующейся с нравственностью). Но каждый из акторов в международных отношениях, если он судья или даже считает себя единственным судьей в вопросах справедливости как таковой, должен ощущать угрозу со стороны соперников, а международная игра в этом случае становится битвой, в которой тот, кто уважает законы, рискует стать жертвой своих понятий о нравственности. В связи с этим можно поставить несколько вопросов, например, следующих. Является ли внешняя политика дьявольской сама по себе? Какие средства допустимо легитимно использовать, учитывая, что государства ревниво относятся к своей независимости? В чем заключается превышение функций государств во внешней политике? Следует ли подчинять действия государств каким-либо законам, например, закону коллективной безопасности, или необходимо выработать законы единого всеобщего мирового сообщества? Можно ли положить конец тому, что называется международной анархией, то есть намерениям отдельных государств самим, изолированно осуществлять действия, которые, по их мнению, восстанавливают справедливость? Другими словами, из анализа сущности международных отношений следуют две праксиологические проблемы, которые я назвал бы макиавеллиевская проблема и кантианская проблема: то есть проблема использования легитимных средств и проблема установления всеобщего мира.
В первой главе этой части (XIX) я рассматриваю классическую проблему, особенно в американской литературе, которая возникает из противоречия реализма и идеализма. Какое поведение можно считать нравственным в мире, где не властвует закон? В следующей главе (XX) я стараюсь выяснить, изменило ли появление атомного оружия традиционные моральные принципы стратегическо-дипломатической деятельности, не становятся ли доктрины абсолютного пацифизма, называемые идеалистическими, единственной формой проявления мудрости. Я считаю, что, к счастью или несчастью, ничто в этом отношении не изменилось: сегодня перед призраком ядерного апокалипсиса, как вчера перед угрозой танковых 1 Формула принадлежит генералу Жиро. У американцев существует аналогичная формула генерала Макартура: “Ничто не заменит победу”.
Мир и война между народами • Раймон Арон чд® 647
1961г. Восточная Германия. Попытка нарушения границы.
ПРАКСИОЛОГИЯ
ПРОТИВОРЕЧИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКО-
СТРАГЕГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ДЕЙСТВИЙ
Введение
Любая теория1 содержит
нормативные импликации. Но в соответствии с
природой различных форм
человеческого поведения, обобщением которого и
является теория, возможности перехода от
констатации факта к императивам
многогранны, а сами императивы можно
характеризовать как более или менее
неопределенные советы или правила,
основанные на закономерностях и оче-
видностях.
Клаузевиц отмечал, что стратегия
соотносится с теорией иначе, чем
тактика, потому что стратеги
сталкиваются с более сложными проблемами, не
подчиняющимся тем же закономерностям,
что и задачи, встающие перед
тактиками. Каким образом Наполеон смог бы
победить Александра? Был ли он прав или
ошибался, ища в Москве ключ от победы
во всей кампании? Приняв факт своего
поражения, смог бы он далее
действовать согласно другому, лучшему
сценарию? На эти вопросы мы никогда не
узнаем ответов. Ни у одного из
военачальников до Наполеона не было опыта
осуществления своего плана военных
действий против России в подобных
условиях. Долгое время основы стратегии
сводились лишь к перечислению
нескольких принципов, представляющих
собой достаточно расплывчатые
формулировки: принцип концентрации сил
(избегать рассеивания), принцип цели
(разработать план и следовать ему,
несмотря на контрдействия противника),
принцип преследования (яростно отстаивать
завоеванное превосходство), принцип
наступления (удерживать инициативу
и в благоприятный момент полностью
ее реализовать, придавая своим
действиям еще большую решительность),
принцип безопасности (защищать свои
воинские части и линии
коммуникаций от внезапной атаки противника),
принцип внезапности (маскируя свои
намерения, обмануть врага), принцип
экономии сил (целесообразно
использовать все имеющиеся в распоряжении
силы и средства).
Эти принципы, конечно,
недостаточны для того, чтобы выработать для
данной конкретной ситуации
единственно верную, наилучшую стратегию.
Следует отметить также, что они порой
противоречат друг другу: трудно,
например, одновременно преследовать
противника и соблюдать безопасность,
проводить концентрацию войск и следовать
принципу экономии сил. Картезианский
императив — вступив однажды на путь,
лучше идти по нему до конца, чем воз-
1 Мы здесь имеем в виду только теории социальных наук
645
Часть IV
вращаться — проявляется, в зависимости от случая, либо как высшая степень абсурдного упрямства, либо как выражение мудрой решительности.
Всегда ли существует противоположность между стратегической неопределенностью и тактическими закономерностями? В действительности, мне кажется, что на протяжении истории войн (по крайней мере, до атомной эры) стратегическая неопределенность не только не была устранена, но и многие тактические закономерности оказались поставлены под вопрос техническим прогрессом. Какие из сформулированных теоретиками XIX века концепции, касающиеся ведения боя или фортификации, оставались приемлемыми для моторизованных армий 1940—1945 гг.? Ответ мог бы быть дан только после детального анализа, да и то сводился бы к двум банальным предположениям: 1) для победы необходимо соблюдать определенный способ ведения огня и правила передвижения воинских подразделений; 2) требуется небывалое развитие как средств уничтожения, так и военного транспорта.
Стратегическая неопределенность характерна и для современных представлений, так как она объясняется двумя неизменными причинами: стратегические решения принимаются под сильным воздействием сложившейся в мире ситуации, то есть под влиянием элементов, являющихся следствием совпадения определенных факторов: кроме того, эти решения ориентированы на цель, менее четко сформулированную, чем цель, поставленная тактиком.
Решения как Наполеона, так и Гитлера напасть на Россию были приняты каждое в свое время и под своим созвез646.
дием. Несмотря на один и тот же театр военных действий, события как в 1811, так и в 1941 году зависели от исторических факторов (соотношение сил, позиция Англии, сопротивление русской армии и населения и т. д.) в той же и даже в большей степени, чем от условий географических. Чем больше военные операции касаются глобальной обстановки в мире и могут повлиять на нее, тем менее вероятность возникновения повторяющихся ситуаций. Так, решение Черчилля послать танковую дивизию к Суэцкому каналу одновременно с “битвой за Англию” было совершенно беспрецедентным.
Тактические правила относятся к цели, которая чаще всего бесспорна: цель боя состоит в том, чтобы разгромить неприятеля, то есть не позволить ему взять верх, поддерживать свои линии коммуникаций, преградить вражеское наступление, закрепить успех и т. д. Эти разнообразные задачи доказывают, что даже для военачальника на тактическом уровне цель не всегда единственна и вряд ли может быть однозначно определена. Но по мере того, как уровень принятия решений возрастает, например, от командира эскадрона к генеральному штабу, приказы становятся более подвержены политическим соображениям и в них учитывается уже множественность целей, определяемых не только локальными операциями, но и данной кампанией в целом.
Многие наблюдатели, возможно, и склонны, на первый взгляд, отклонить большинство изложенных соображений и заявить о неопределенности тактики (мол, надо принимать в расчет слишком много локальных обстоятельств, что
Раймон Арон« Мир и война между народами
Праксиодогия
практически невыполнимо) и об определенности стратегии (здесь — единственная цель: победа)1.
В истории XX века достаточно примеров, которые говорят о том, что есть различные способы победить в войне, что эти способы не равнозначны и что окончательная победа не всегда принадлежит тому, кто диктует условия мира.
Решение стратегическо-дипломатических задач — или проведение внешней политики — зависит от определенности позиций стратегического руководства. При этом сказываются такие причины неопределенности, как частные и общие элементы политической обстановки, множественность целей и другие. Прежде всего, важен момент, когда происходит переход от констатации сложившейся ситуации к утверждению правил поведения государств в международных отношениях. При этом возникает следующий парадокс: межгосударственные отношения — это социальные отношения, но они требуют возможного и легитимного применения силы. Допустим, применение силы не аморально само по себе (сила на службе справедливости всегда считалась согласующейся с нравственностью). Но каждый из акторов в международных отношениях, если он судья или даже считает себя единственным судьей в вопросах справедливости как таковой, должен ощущать угрозу со стороны соперников, а международная игра в этом случае становится битвой, в которой тот, кто уважает законы, рискует стать жертвой своих понятий о нравственности. В связи с этим можно поставить несколько вопросов, например, следующих. Является ли внешняя политика дьявольской сама по себе? Какие средства допустимо легитимно использовать, учитывая, что государства ревниво относятся к своей независимости? В чем заключается превышение функций государств во внешней политике? Следует ли подчинять действия государств каким-либо законам, например, закону коллективной безопасности, или необходимо выработать законы единого всеобщего мирового сообщества? Можно ли положить конец тому, что называется международной анархией, то есть намерениям отдельных государств самим, изолированно осуществлять действия, которые, по их мнению, восстанавливают справедливость? Другими словами, из анализа сущности международных отношений следуют две праксиологические проблемы, которые я назвал бы макиавеллиевская проблема и кантианская проблема: то есть проблема использования легитимных средств и проблема установления всеобщего мира.
В первой главе этой части (XIX) я рассматриваю классическую проблему, особенно в американской литературе, которая возникает из противоречия реализма и идеализма. Какое поведение можно считать нравственным в мире, где не властвует закон? В следующей главе (XX) я стараюсь выяснить, изменило ли появление атомного оружия традиционные моральные принципы стратегическо-дипломатической деятельности, не становятся ли доктрины абсолютного пацифизма, называемые идеалистическими, единственной формой проявления мудрости. Я считаю, что, к счастью или несчастью, ничто в этом отношении не изменилось: сегодня перед призраком ядерного апокалипсиса, как вчера перед угрозой танковых 1 Формула принадлежит генералу Жиро. У американцев существует аналогичная формула генерала Макартура: “Ничто не заменит победу”.
Мир и война между народами • Раймон Арон чд® 647
Часть IV
дивизионов или позавчера перед опасностью наступления легионов или фаланг, государственные деятели и простые граждане должны действовать с осторожностью, без иллюзий или надежд на свою абсолютную безопасность.
Признав, что соперничество двух блоков в настоящий момент неустранимо, две следующие главы я посвящаю стратегии, которая дала бы лучшие шансы для достижения тех целей, которые ставит перед собой Запад: не развязать тотальную войну и не утратить свои позиции.
В главе XXI говорится о чисто военном аспекте стратегии, в главе XXII — о политическом. В этих двух главах я предлагаю выводы, которые сделаны независимо как от чисто формального подхода к исследуемым проблемам, так и от спорных социологических закономерностей и противоречивых исторических описаний.
Наконец, в двух последних главах я, в свете современного опыта, ставлю под вопрос состоятельность основ мирового порядка или скорее беспорядка: возможно ли покорить государства, в которых властвует закон? Какой национальный “суверенитет”, какую “независимость” смогут сохранить государства в составе универсальной, всемирной федерации или империи? Будут ли продолжать существовать самостоятельные государства? Заслуживает ли права называться государством гипотетическое всеобщее, всемирное сообщество?
Другими словами, две первые главы этой части посвящены проблеме средств осуществления международных отношений в реальном мире, две последние — проблеме достижения единственной разумной цели — прочного мира на Земле. Две промежуточные главы предназначены для того, чтобы уточнить довольно ограниченные рамки поведения участников международных отношений, которое соответствовало бы требованиям сегодняшнего дня, не противореча при этом благим надеждам на будущее, хотя они и имеют границы. Положение дипломата-стратега, действия которого касаются всех нас, противоречиво, если учесть, что жизнь сурова, а наш идеал — торжество миролюбия.
ГЛАВА XIX
В поисках морали: I. Идеализм и реализм
Ранее мы попытались дать анализ международных отношений вне зависимости от нравственных суждений и метафизических концепций, констатируя многообразие государств и угрозу возможной войны, витающую над решениями правительств. Как правило, монархи более или менее считаются с нормами, порожденными обычаями, или с юридическими нормами, но никогда не интерпретируют их как исключающие применение силы для защиты “жизненно важных интересов” и “национальной чести”. Изложенные нами ранее взгляды можно считать объективными, потому что они основывались как на фактах развития на протяжении веков отношений между государствами, так и на 648
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
субъективных мнениях. Государственные деятели, простые граждане, философы всегда признавали разную природу внутреннего устройства городов (государств) и установленного порядка взаимоотношений между ними.
Дипломатическо-стратегическое поведение представляется неоднородным феноменом. Это социальное поведение, акторы которого, кроме исключительных случаев, взаимно признают свою человеческую природу, то есть свое взаимное родство, и не считают себя вправе ограничивать друг друга немыслимыми запретами. Но это также и асоциальное поведение в том случае, когда в конфликтной ситуации спор решает сила, причем она же составляет основу того, что в договорах будет признано нормой. В случае, когда дипломатическо-стратегическое поведение диктуется угрозой войны или подготовкой к ней, оно подчиняется, и не может не подчиниться, логике соперничества. При этом начисто забываются христианские добродетели, если они этому противоречат.
Двойственный характер отношений между политическими сообществами — источник праксиологических и философских споров. Участники событий — политические сообщества или те, кто их представляет, — всегда стремятся оправдать свои действия. Но должны ли они чувствовать себя связанными юридическими или нравственными соображениями, на которые они ссылаются, или их действия могут определяться расчетом на применение силы? В какой степени нации в целом и государственные деятели в частности должны руководствоваться гуманными принципами, разумными идеями, основами морали?
1. Идеалистические иллюзии благоразумия
В марте 1936 г. по приказу канцлера Гитлера немецкие войска вощли в Рейнскую область. Это событие представляло собой, и не следует в этом сомневаться, нарушение Версальского договора и одновременно договоров, заключенных в Локарно в 1925 г. Но пресссекретарь третьего рейха утверждал, что демилитаризация левого берега Рейна была несправедлива, так как Франция укрепила в это же время свою непосредственную границу. Идеология равноправия1, одобряемая всеми, придавала видимость справедливости действиям, противоречившим существующим нормам. Кто должен был решать этот спор: государственный деятель или моралист? Как он должен был быть решен: в пользу законности или равноправия? Очевидно, что реоккупация левого берега Рейна компрометировала французскую систему союзничества и отдавала Чехословакию и Польшу на милость Третьему рейху. Нужно ли было требовать в этих условиях применения военной силы, чтобы сохранить необходимую для безопасности Европы демилитаризованную зону?
Современный историк не сомневается при ответе на эти вопросы. Мы знаем, что немецкие воинские части получили приказ отойти в случае наступления французских войск. Санкционирование французскими властями решения силой пресечь нарушение нормы, несмотря на равенство прав, было бы исторически оправдано, так как оно могло предотвратить или во всяком случае отодвинуть войну 1939 г. С позиций нрав1 На самом деле затруднительно определить точный смысл равенства прав. Конкретно права каждого индивида или коллектива имеют свои отличия.
Мир и война между народами • Раймон Арон а»649 *
Часть IV
ственности может считаться легитимным отказ в равенстве прав тому, кто будет использовать это равенство во вред другим.
Если бы в 1933 г. Франция последовала совету маршала Пилсудского и применила силу, чтобы сбросить Гитлера, с трудом пришедшего к власти, она нарушила бы принцип невмешательства во внутренние дела других государств, пренебрегая правом Германии свободно избирать свой режим правления и своего главу государства. Такая позиция была бы с негодованием отвергнута американским общественным мнением, моралистами и идеалистами, спешащими на помощь, по их словам, не национал-социализму, а народному волеизъявлению или принципу невмешательства. Насилие по отношению к немецкой нации тогда считалось бы позорным, и историки никогда бы не узнали, от каких несчастий исчезновение Гитлера могло бы спасти человечество.
Эти ироничные замечания о прошлом, которое не состоялось, не рассчитаны на то, чтобы в обратной перспективе указать на необходимость нравственности в политических действиях, но они могут высветить некоторые последствия особенностей взаимоотношений между государствами. Государства, решившиеся устанавливать справедливость в своем понимании, в конечном счете неизбежно сталкиваются с принципом равновесия сил. В этих условиях государственные деятели должны исходить прежде всего из интересов нации, судьба которой им доверена. Необходимость национального эгоизма логически вытекает из того, что философы называли естественным состоянием государства, которое определяет межгосударственные отношения.
Однако эти отношения нельзя сравнить с поведением животных в джунглях. Политическая история не похожа на естественную историю. Дипломатическо-стратегическое руководство всегда стремится оправдать свои действия с помощью идей и утверждает, что следует нормам и подчиняется принципам. Циниками называют тех, кто не видит в идеях, нормах и принципах ничего, кроме желания замаскировать применение силы. В идеалистических иллюзиях часто обвиняют тех, кто не признает, что всякий международный порядок должен поддерживаться силой. Идеалистическая иллюзия имеет различные формы, в зависимости от характера императивов и ценностей, которые принимаются как должное. Идеологический идеализм состоит в признании исторической идеи как исключительного и достаточного критерия справедливости, например, право народов на свою самостоятельность, гражданские права и т. д. Мы сознательно употребляем два различных понятия, право и идея, потому что оба они используются довольно часто, а нечеткость формулировок неизбежно искажает мысль автора.
Немцы в 1871 г. не отрицали того, что эльзасцы захотят, в большинстве своем, оставаться на французской стороне, но твердили, победоносно размахивая шпагой, что нельзя забывать то зло, которое было причинено эльзасцам Людовиком XIV два столетия назад, и что принадлежность к германской культуре значит больше, чем случайное и преходящее желание одного поколения. В 1919 г. чехи не считали, что у судетских немцев появится желание быть гражданами Чехословакии, но заявляли, что сами будут обречены на порабощение, лишившись территории, на ко650’. .и * у Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
торой те обитали. Неизбежно следовало пожертвовать свободой либо одних, либо других, а чехи были более многочисленны, чем судетские немцы.
Перевод исторической идеи в территориальное русло происходит не без трудностей, либо потому, что такая идея содержит многочисленные интерпретации (вопрос об участии эльзасцев, одновременно принадлежащих к германской культуре и живущих под французским господством), либо потому, что требования безопасности не допускают честного ее применения (Богемия, населенная судетскими немцами, оказалась фактически беззащитна). Циник в этом случае скажет, что идея необходима лишь для того, чтобы скрыть аппетиты или интересы каких-либо государств, но он будет не прав. Идеологический идеализм не отражает действительность: ни одно государство не провозглашает какую-либо единственную идею в качестве абсолюта, ради которого можно рисковать всем. Это опасно: непризнание в мировом сообществе стратегических или экономических интересов данного государства делает его статут неустойчивым, даже если действия этой страны как будто соответствуют принятой идее. Но большинство государств не рискует открыто пренебрегать той идеей, которую они отстаивают, так, например, учинять в XX веке аннексию народов, привыкших и желающих представлять собой независимые нации1.
Правовой идеализм состоит в том, чтобы принимать решения или утверждать стратегию в соответствии с более или менее определенным законом. Дж. Кеннан множество раз ополчался на этот “правовой идеализм” и его авторов, которые защищают нормы международного права, игнорируя критику многих из этих норм, сформулированную реалистами1 2.
“Авторы признают заслуги критики, с которой утонченные наблюдатели, как Дж. Кеннан, выступили против тенденции слишком доверять правовым процессам. Американская внешняя политика часто формулировалась таким образом, что ее не связывали ни с политикой силы, ни с политикой национальных интересов. Мы не хотим поддерживать наивный подход, тот, что называется правовым идеализмом и выражается в доверии к абстрактным предписаниям, которые не имеют институциональной поддержки. Мы согласны с тем, что нации часто действуют партизанскими методами, чтобы добиться немедленных политических результатов”. Но авторы тут же добавляют: “Мы считаем, что в значительной мере проведение международной политики теоретически совместимо с нормативными критериями, даже если ради этого нарушаются частные сиюминутные интересы, и что подлинные долговременные цели могут и должны обеспечиваться политической поддержкой при соблюдении норм международного права”.
Правовые, а также неофициальные формулы, которыми американские дипломаты выражали определенную политику или скрывали отсутствие таковой, 1 Завоеватели имеют как минимум три возможности: истребление: депортация (выселение): поставить у власти “пятую колонну” или создать сателлитное государство. Историческая идея оказывает некоторое воздействие на поведение государства, но она не гарантирует выживания.
2 Morton A. Kaplan и В. Katzenbach, The foundations of international law (Основы международного права). New York. 1961. P. 10.
Мир и война между народами* Раймон Арон 651 мг
Часть IV
очень разнообразны, но, впрочем, хорошо известны: “принцип открытых дверей в Китае”; непризнание изменений, произошедших вследствие применения силы; постановка вне закона войны как политического средства решения межгосударственных споров; коллективная безопасность. Две первые формулы не претендуют на то, чтобы изменить основные черты международных отношений, в то время как две последние это предполагают. Но все четыре формулы имеют один и тот же характер: это абстрактные умствования, представленные как нормативные, но они абсолютно не авторитетны, так как не связаны с реальной ситуацией и не имеют ни силовой, ни институциональной поддержки. Эти формулы, таким образом, не могут служить базой для эффективного решения конкретных гражданских или глобальных задач.
“Принцип открытых дверей” был предназначен для того, чтобы предотвратить независимость и не допустить территориальной целостности Китая. Эта цель совпадала с национальными интересами Соединенных Штатов. Но сложность ситуации была связана не только с империалистическими амбициями европейских держав, но также и с дезинтеграцией древнего китайского режима и с отсутствием такого центрального правительства в Пекине, которое было бы способно подчинить себе все провинции и заставить иностранные государства проявлять к нему уважение. Пока новая династия не располагала “небесным мандатом”, европейские государства, используя “принцип открытых дверей”, преодолевали все препятствия и легко получали значительные привилегии и зоны влияния.
Еще более смехотворен принцип непризнания изменений, произошедших в результате применения силы. Так, жители аннексированных территорий не получают никакой выгоды от отказа правительства Соединенных Штатов признать свершившийся факт. Известно, что международное право должно учесть свершившийся факт, если новое состояние длится значительное время. Территориальный статут в этом случае в конечном итоге всегда признается. Великая держава, которая хочет предотвратить агрессию, должна вооружаться, а не морализировать, провозглашая заранее декларации о непризнании изменений, которые могут якобы произойти вследствие применения силы извне.
Постановка войны вне закона в пакте Бриана-Келлога или принцип коллективной безопасности ставят фундаментальную проблему, которую мы исследуем в следующей главе. Возможно ли представить себе и реализовать правовую систему, которая эффективно обеспечивает безопасность государств и одновременно лишает их права самим вершить правосудие в международных делах? Между двумя войнами такой системы не было, и она не имела никакого шанса на существование.
Авторы, которых мы цитировали ранее, пишут: “Усилия поставить войну вне закона привели к величайшему памятнику человеческого ничтожества, пакту Бриана-Келлога”. И еще: “Наличие или отсутствие институциональных средств для обеспечения уважения юридических принципов определяет, существует или нет правовая система. Муниципальные суды имеют возможность прибегнуть к помощи полиции или, если потребуется, ко всем вооруженным силам государства, чтобы обеспечить выполнение своих решений. Политическая ветвь власти обязана поддерживать 1иш652 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
правовой процесс. Муниципальная же правовая система, которая не имеет поддержки политического корпуса, не сможет существовать. Мнение о том, что создание Лиги Наций и Парижский пакт поставили вне закона войны-агрессии, кажется значительно преувеличенным, если его рассматривать с точки зрения реалий современного международного сообщества. Эти документы, по сути, являются не законами, а лишь “wishful thinking’ (принятие желаемого за действительное)”1.
Было бы нелегко, согласно нашей позиции, определить нормы международного права, которые заслуживали бы того, чтобы их считать чисто правовыми. Но что касается пакта Бриана-Келлога, то вывод, мне кажется, неоспорим: ни нравственное состояние сообщества наций, ни международные институты в то время не давали оснований для того, чтобы поставить войну вне закона. Тот, кто воображает, что можно гарантировать мир, назвав войну противозаконной, похож на врача, который воображает, что можно излечить болезни, объявив их врагами человечества.
Конечно, осуждение агрессивной войны как таковой, учитывая реальные отношения между государствами, связано с традиционными сложностями воплощения такого акта в жизнь. Если бы для поддержания status quo и предотвращения предполагаемого нападения Третьего рейха Франция в 1933 г. взяла инициативу в свои руки, она, возможно, формально была бы признана виновной в агрессии. В 1936 г. подобная инициатива могла быть представлена как юридическая санкция в ответ на нарушение локарнских договоров и имела бы довольно ограниченную и профилактическую цель. Наоборот, в день, когда заново вооруженная Германия взяла инициативу в свои руки, она имела в виду изменить status quo, но, нарушая договоры, она не была нравственно столь уж виновна, если существующее положение расценивать как несправедливое. Другими словами, трудно вообще осуждать с точки зрения нравственности или истории инициативу применения силы по двум причинам: эта инициатива может быть единственным способом предупредить агрессию, которая несет смерть; ни один суд, ведущий справедливое разбирательство, порой не в силах определить, какие изменения могут быть проведены мирным путем и как обеспечить их осуществление.
Точно так же, если предположить существование системы независимых в военном отношении государств, ясно, что для применения принципа коллективной безопасности требуется наличие разнообразных обстоятельств. Прежде всего необходимо, чтобы государства пришли к соглашению по определению агрессора или чтобы они были готовы признать status quo, выразив таким образом справедливое мнение о действиях государств, участвующих в конфликте. Если какое-то государство единогласно признано агрессором в соответствии с принципами справедливости или с правовыми нормами (например, в свое время Италия), то другие государства должны быть достаточно заинтересованы в сохранении правового порядка. Им следует подтвердить готовность принять возможные риски и понести необходимые жертвы ради интереса, который является глобальным, а не узкона1 М.А. Kaplan и В. Katzenbach, op. clt. P. 43; 291.
Мир и война между народами • Раймон Арон 653 xi
Часть IV
циональным. Это возможно, если предположить, что все государства, не принимающие участия в конфликте, заинтересованы в сохранении правового порядка. Наконец, следует признать, что коалиция государств, объединившихся против агрессора, настолько превосходит по силе противника, что у последнего не остается другого выхода, кроме капитуляции или безнадежной борьбы. Если государство-агрессор по военной силе соизмеримо с коалицией государств — защитников права, есть вероятность, что коллективная безопасность может спровоцировать войну, ограниченную или локальную или же всеобщую и тотальную. Если правительства некоторых стран отказываются принять обязательства, предусматривающие введение санкций против агрессора, то коллективная безопасность лишается оборонительных функций, не восполняя их созданием всеобщего блока государств.
Критика идеалистических иллюзий не только полезна, она еще и нравственна. Идеалистические установки часто толкают дипломатию к фанатизму. В этом случае она считает одни государства плохими, другие — хорошими, одни — пацифистскими (peace-loving), другие — воинственными. Окончательный мир представляется с этих позиций как наказание “плохих” и триумф “хороших”. Такая дипломатия, веря в разрыв с политикой силы, преувеличивает ее угрозу. Некоторые государства придерживаются своих принципов и под предлогом наказания агрессоров идут в войне до победного конца, если речь идет об их интересах или к тому принуждают какие-либо обстоятельства. Соединенные Штаты не колебались “вмешаться во внутренние дела Колумбии”, чтобы способствовать получению от Панамы постоянного контроля над зоной канала. Для поощрения русской интервенции против Японии Ф. Д. Рузвельт согласился со многими требованиями Сталина, даже с теми, которые могли быть удовлетворены только за счет китайского союзника (правительство Китая в то время, по правде говоря, не противилось действиям США).
Государства, вовлеченные в непрекращающееся состязание, в котором они видят смысл своего существования, не ведут себя во всех случаях однозначно, но и не делятся раз и навсегда на “добрых” и “злых”. Редко, когда ошибки делает только одна сторона, а другой лагерь “чист”. Первый долг исследователя — политический и нравственный — состоит в том, чтобы видеть международную политику такой, какова она есть. Конечно, желательно, чтобы каждое государство, законно соблюдающее свои интересы, не было совершенно слепо к интересам других. В борьбе же, при которой силы сторон не равны и когда каждая из них допускает ошибки, наилучшее поведение политического деятеля — наилучшее по отношению к объявленным ценностям, которые защищает идеалист, — это поведение, продиктованное необходимостью соблюдать осторожность. Быть осторожным — значит действовать в соответствии с конкретными условиями, а не по наитию или пассивно подчиняясь законам или псевдонормам. Следует, конечно, предпочитать ограничение жестокости требованию наказания обвиняемого или передавать, в особых случаях, спор арбитру. Важно ставить перед собой определенные цели, достижимые, согласующиеся с вековыми принципами международных отношений, а не с расплывчатыми и, возможно, лишенными смысла задачами, такими, как “обеспечение безопас654 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ности мира или демократии” или “создание мира, в котором больше не будет политики силы”.
Эти два выражения, заимствованные из Кеннана, иллюстрируют соответствующую концепцию, одновременно наиболее благоприятную для сохранения мира (или для ограничения войны) и для относительного соблюдения морали, на которые способны государства. Приведем две цитаты, также по поводу этой концепции.
“Мы должны быть садовниками, а не механиками в подходе к мировым проблемам”. И еще: “Цель всеобщего мира будет достигнута преимущественно не в результате установления жестких правовых норм, а скорее традиционными способами при соблюдении политической осторожности. Источники международного давления никогда не бывают общими: в этом смысле каждый случай является особым и непредвиденным. Если государства хотят локализовать или сократить конфликты, их следует рассматривать с точки зрения исторической справедливости, но не упуская при этом из виду существующее соотношение сил. Международные конфликты обычно используют в своих целях, не будем забывать об этом, люди с неустойчивой психикой, что находит свое проявление в самых яростных политических эмоциях. Немногие будут когданибудь благоговеть перед принципами международного права, не способного предотвратить несчастья, которые приносят войны”1.
2. Идеализм и политика силы
Резюме предыдущего раздела — осторожность, как наивысшая заслуга государственного деятеля. Такой вывод мне кажется очевидным, так как основывается на двух неоспоримых положениях: каждой международной ситуации присущ свой, особенный характер (порой он не укладывается в рамки системы или какого-либо принципа) и частота применения силы странами, участвующими в конфликте1 2.
Применение силы, несмотря на попытки объявить войну вне закона, соответствует во многих случаях существующим и привычным нормам международного права. Таким образом, мы противопоставляем не осторожность и идеализм, а осторожность и идеалистическую иллюзию, будь она правовой или идеологической.
Следует также кратко остановиться на философских и нравственных проблемах международных отношений. Какой смысл мы придаем соревнованию между государствами? Является политика силы по своей природе животной или человеческой, неблагородной или величественной? Желание государств самим вершить справедливость, как они ее понимают, заслуживает осуждения или восхищения? Вечный мир — это, возможно, и нереализуемый, но идеал, или вовсе и не идеал? И еще один, очень важный вопрос: стоит ли приписывать позитивную или негативную ценность суверенитету государств, их постоянно1 Realities of American Foreign policy (Реалии американской внешней политики) Princeton 1954 Р 92, цитируется Kenneth W Thompson Political realism and the crisis of world politics (Политический реализм и кризис мировой политики) Princeton 1960 Р 60-61 Кеннан выражал аналогичные идеи в La diplomatie americane (1900—1950) (Американская дипломатия, 1900—1950) Paris 1952
2 Пакт Бриана-Келлога объявлял преступной “агрессивную войну”, а не всякую войну Государства же не агрессоры не рассчитывали на пакт для своей защиты
Мир и война между народами • Раймон Арон s j - г* »- »
655 »X*
Часть! V
му соперничеству, случайным войнам между ними?
Размышления немецкого историка Генриха фон Трейчке, как они были выражены на конференциях в Берлинском университете в конце прошлого века и опубликованы под заглавием “Politik” иллюстрируют одно из двух возможных отношений к политике силы. Осуществление политики силы не является добровольно принятым на себя тяжелым бременем, а происходит по воле Провидения. Человек реализует свое нравственное призвание только в государстве и с помощью государства, государства реализуют свою сущность только страдая одни от других, война, наконец, это не варварство, а священное испытание, которое прямо управляет судьбой народов.
Предварим цитатами предположения, которые мы изложим далее.
“Государство — это народ, законно объединенный в качестве независимой державы. Под народом мы подразумеваем некоторое количество семей, которые достаточно долго живут вместе. Из этого следует, что государство изначально необходимо, что оно будет существовать, пока будет существовать человечество, и что оно так же необходимо, как язык”1.
Человек, по выражению Аристотеля, животное политическое. Политические импульсы в человеке порождают его стремление создать государство. Идея человечества как общности не была дана изначально людям: христианство научило их тому, что они братья. Даже сегодня “человек сначала чувствует себя немцем или французом и только затем человеком как таковым (Mensch überhaupt)“. “Это неверно физиологически и исторически, что люди сначала приходят в мир как люди, а затем как соотечественники”1 2.
Если политические качества заложены в человеке и должны быть развиты, не следует рассматривать государство как необходимое зло, оно, наоборот, является высшей необходимостью природы (hohe Naturnotwendigkeit).
Государство — это личность, прежде всего в правовом смысле, а затем в нравственном и историческом. В качестве личности оно имеет волю (Wille), самую подлинную из всех потому, что эта воля не всегда совпадает с волей живущих в его пределах. Существование государства во времени обусловлено последовательной передачей опыта, накопленного поколениями. “Есть обстоятельства, когда призраки прошлого восстают против действий сбитой с толку воли в современных условиях (gegen den verirrten Willen der Gegenwart) и заявляют о себе. Мы к ним взываем в Эльзасе и рассчитываем, что этот дух прошлого еще воспрянет”3.
Если государство — это отождествление личности, то, следовательно, необходимо и разумное (Vernunft-gemäße) разнообразие государств. “В жизни государств происходит то же, что и в жизни человека: наличие “Я” предполагает наличие “не-Я”. Государство — это сила (Macht), только если оно находится бок о бок с другими силами, в 1 Treltschke, Heunrichvon polltlks с. 13. Выпускалась (редактировалась) Максом Корнилиусом, Лейпциг, 1897 г.
2Там же. С. 19.
3Там же. С. 24.
656 ммнммпмвашювшм Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
той же степени независимыми. Война и установление права (Rechtspflege) являются первостепенными задачами даже самого примитивного варварского государства. Эти цели могут достигаться только при разнообразии сосуществующих государств. Идея всеобщей империи (Weltreich) отвратительна (hassenswert); идеал общечеловеческого государства (Menschheits Staat) вовсе не является идеалом”1.
Многообразие государств не только необходимое следствие их сущности, оно также является выражением человеческого опыта, свидетельством замысла Провидения. Ни один народ не реализует в одиночку все богатства культуры, каждый народ в какой-то степени ограничен. “Лучи Божественного света появляются в бесконечном преломлении в разных народах; каждый демонстрирует свою картину и свою идею Божественного”* 2.
Нации, которые придают культуре индивидуализированное выражение, обмениваются своими богатствами: сосуществование культурных народов основывается на христианском законе “отдавать и получать”. Современные народы, так как они признали и применяют этот закон, не исчезнут как античные. Но они не откажутся, тем не менее, от собственного призвания и от своего суверенитета. “Суверенитет в .правовом смысле — полная независимость государства от любой другой державы (Gewalt) на земле — настолько соответствует сущности государства, что можно сказать: это — основа его природы. Там, где существует сообщество людей, завоевавшее суверенитет, там существует государство”3.
“Суверенитет никоим образом не поддается разделению. Смешно говорить о государстве высшего (Oberstaat) и низшего (Unterstaat) порядка. Густав Адольф говорил: ‘Я не признаю над собой никого, кроме Бога и шпаги победителя’. Еще раз отметим: будущее человечества состоит не в том, чтобы объединиться в единое государство, а идеал состоит в том, чтобы создать сообщество народов (Völkergesellschsft), которые, на основе добровольно заключенных договоров, согласились бы ограничить свой суверенитет, не отказываясь полностью от него”4.
Но пока будут существовать государства, для любого из них верховным судьей остается только сила оружия. Договоры ограничивают суверенитет государства, а государства сами берут на себя эти ограничения. Но пока они не приняли окончательных обязательств, государства всегда скрыто сохраняют осторожность: rebus sic stanibus. Когда же война объявлена, все договоры между воюющими сторонами оказываются денонсированными. Следовательно, государство, являясь суверенным, имеет неоспоримое право (unzweifelhaft) объявить войну, когда посчитает нужным (wann er will), и, таким образом, разорвать договоры.
Может ли быть по-другому? Быть суверенным, это значит самому определять пределы своей власти, самостоятельно решать вопросы войны и мира. Когда возникает жизненно важный вопрос, для его решения не суще‘Там же. С. 29.
2Там же. С. 29.
3Там же. С. 35.
4Там же. С. 37.
Мир и война между народами • Раймон Арон
— 657
Часть IV
ствует никакого беспристрастного судьи, да таковой и немыслим. “Если бы мы совершили безумие и считали вопрос Эльзаса открытым (offene Frage), доверив его судье, кто всерьез может поверить, что этот судья был бы беспристрастен? Не является ли делом чести для государства самому решать подобный вопрос?”1
Если подлинный суверенитет определяется правом прибегать к оружию, то только мощное государство является истинно суверенным. “Если государство — это сила, то этой идее отвечает лишь действительно сильное государство”* 2.
И Трейчке, в стиле мало соответствующем сегодняшнему образу мыслей, добавляет: “В маленьком государстве бесспорно смехотворна не слабость, которая смешна сама по себе, а слабость, которая хочет казаться силой”. В Германии при соперничестве между школой, которая хранила ностальгию по маленьким государствам, и школой, которая восхваляла труды Бисмарка, историк без колебаний и оговорок станет на сторону последнего: только в “великой державе” реализуются самые высокие устремления.
Признак великой державы заключается в конце концов в том, что она может самостоятельно переносить военные испытания. Только война мешает людям полностью затеряться в своей частной экономической деятельности, только война напоминает людям об их политическом призвании и восстанавливает главенство государства над обществом, только война ограничивает распространяющийся назойливый материализм и реанимирует заботу о благородных ценностях. “Война — это политика. Всегда будет подтверждаться истина, что только война делает народ народом”3.
“Государство само по себе не только высокое нравственное благо, но также и условие длительного существования народов. Только в государстве завершается нравственное (sittlich) развитие человека”4.
“Без войны не было бы государства”5.
Все известные нам государства родились в войнах. Защита граждан с помощью оружия остается первейшей и самой основной задачей государства. Если вечный мир не является более приемлемым идеалом, чем всеобщая империя, то мы не должны о нем сожалеть, так как войны всегда сулили и будут сулить людям успех. “Великий культурный прогресс человечества должен осуществляться через сопротивление варварству и безрассудству (Unvernunft) только при помощи меча. Война между культурными народами (Kulturvölker) также остается формой, посредством которой могут быть удовлетворены притязания государств”6.
Тщетно Пруссия попыталась завоевать маленькие государства, которыми она хотела командовать по-немецки: демонстрация была убедительной только на полях сражений, в Богемии или на Майне.
*Там же. С. 73.
2Там же. С. 43.
3Там же. С. 60.
*Там же. С. 63.
5Там же. С. 72.
6Там же. С. 73.
«*658 Раймон Арон • Мир и война между народами
Является ли высшим судом суд оружия? Является ли мировая история судом мира?Трейчке положительно отвечает на эти вопросы, но не без оговорок и нюансов. “Ни один народ не был подвержен большим испытаниям, чем поляки”1.
Вообще, государственное развитие— это внешняя и необходимая форма, в которой воплощается внутренняя жизнь народа. Достигают ли народы такой государственной формы, которая соответствует их нравственному состоянию? Понятие исторической справедливости несовершенно, так как те, кто решает международные споры, тоже небеспристрастны. И закон численности, а не только нравственная сила, управляет судьбами государств.
Отсюда же следует, что только с течением времени приговоры, вынесенные богом войны, начинают казаться вынесенными Богом. “Такое государство как прусское, которое, в соответствии с менталитетом своего народа, является по внутреннему устройству более свободным и разумным, чем французское государство, под действием временного оцепенения было на грани уничтожения”1 2.
Декларировав существование политики силы с ее обобщающим выражением в виде войны как необходимым условием проявления высших добродетелей и героизма немецкий историк не подписывается под вульгарным макиавеллизмом. Лояльная и легальная политика, как правило, более эффективна, более выгодна. Она внушает доверие другим государствам. Обман ни в коем случае не является ни типичным качеством, Праксиология
ни необходимым средством дипломатии. Требование, чтобы политика подчинялась нравственным законам, имеющим общечеловеческую значимость, также признается на практике3.
Таким образом не следует в общем виде, ставить вопрос о противоречии между политикой и нравственностью.
Иногда политика идет против позитивного права: договоры не могут составлять абсолютный императив. Но основная идея, не включая, конечно, вопрос о случайных противоречиях между правовыми обязательствами и необходимостью тех или иных действий, состоит в том, что мораль (sittliche Gesetz), порожденная христианством, предписывает государствам осуществлять свое призвание, то есть заботиться о своем могуществе. “Необходимо вспомнить, что смысл этих великих коллективных индивидуальностей состоит в могуществе и что, как следствие, моральный долг государства — заботиться (sorgen) о своем могуществе”4.
“Индивидуум может и должен жертвовать собой для нации. Но государство, которое жертвует собой для другого народа, не только не нравственно, но оно противоречит идее самоутверждения (Selbstbehauptung), то есть наиболее весомому, что есть в государстве”. Из всех грехов государства самым непростительным является слабость — “грех против Святого Духа политики”5.
Адвокаты хотели бы, чтобы конфликты между государствами решались через суды, юристы ставят соблюдение соглашений выше общественного мне1 Там же. С 22
2Там же. С. 73.
3Там же. С. 97.
4 Там же. С. 100.
5Там же. С. 27.
Мир и война между народами • Раймон Арон х * > сг ♦ 659
Часть! V
ния. Таким образом, следует признать наличие противоречия между политикой и нравственностью. Чтобы нравственность стала более отвечать целям политики, а политика стала бы более нравственной, и та, и другая должны признать, что суждения о поведении государств необходимо соотносить с природой и целями этих коллективных индивидуумов.
Политика силы часто использует не те средства, которые рекомендует или допускает христианский катехизис. Особенно по отношению к варварским или низшим народам методы воздействия иногда бывают неизбежно жестоки, в то время как хитрость приобретает законный характер в дипломатических маневрах. Но политика силы, умеренная и умная, не ведет к авантюрам, на манер Наполеона, по неограниченным захватам территорий, не учитывая соотношение сил, что является одновременно и аморальным, и заранее обреченным.
Вывод философии Трейчке не циничен, по меньшей мере, если ее понимать буквально. В первой главе его труда безусловно отвергается так называемая натуралистическая доктрина силы. “Цель государства — поддерживать внутренний порядок: может ли оно выполнить эту задачу, если во внешних сношениях не хочет быть связанным никакой законностью?”1
Государство, которое принципиально не привержено понятиям преданности и чести (Nreue und Glauben), будет постоянно считаться угрозой для своих врагов. Государство — это сила не сама по себе, а для того, чтобы защищать и проводить в жизнь самые высокие идеалы. Война как таковая не создает права. Государство должно быть бдительным и иметь чувство чести. “Если в отношении него была совершена несправедливость, власти должны потребовать удовлетворения, а в случае отказа — объявить войну”* 2.
“Внимание (Achtung), на которое данная страна может рассчитывать в сообществе других государств, не имеет цены, за которую от него можно отказаться”3.
Несмотря на заботу о чести и престиже (понятия, несвойственные американской философии), резюме немецкого историка очень напоминает заключительное слово американского дипломата. “Речь идет о том, чтобы понять, каким образом Божественный разум постепенно проявил себя в этом разнообразии реальной жизни, а не о том, чтобы подчинить себе историю. Сверхзадача государственного деятеля состоит в том, чтобы интерпретировать знамения времени и быть способным хотя бы приблизительно понимать, каким образом мировая история развивается в текущий момент. В то же время самой привлекательной чертой государственного деятеля является скромность. Имея дело с многообразными и сложными отношениями, он не вправе дать себя увлечь на неопределенные и темные пути (ungewisse, dunkle). Он должен желать только достижимого, ясно и четко видеть свою цель”.
Скромность, ограничение целей, сопоставление различных суждений перед тем, как принять решение, — не близки ли эти советы по соблюдению осторожного поведения тем, которые мы полу’Тамже ТИС 544
2 Там же ТИС 551
3Там же ТИС 551
660
Раймон Арон • Мир и война между народами
чили от Кеннана и изложили в конце предыдущего раздела? Понимать свое время, представлять конфликты такими, какими они являются в действительности, разрешать их, учитывать соотношение сил, не пробовать в корне изменить государства и международную политику — таковы цели дипломатасадовника, как их видит бывший посол в Москве. Немецкий историк и американский дипломат вдохновляются различной философией, но в конце концов приходят к некоторым сходным выводам.
Сходство более знаменательное, чем парадоксальное, если не забывать, что Трейчке причисляет себя к идеалистам, а Кеннан не отвергает эпитета “реалист”, который ему присваивают комментаторы. И тот, и другой учат осторожности, но один с точки зрения политики силы, к которой экзальтированно взывают порой государственные деятели, другой — с точки зрения политики силы, но принятой со смирением, чтобы избежать еще больших зол.
3. От “Machtpolitik” к “power politics”1
Было бы заманчиво, на основе иных сюжетов, чем приведенные ранее, высветить национализм или цинизм г. фон Трейчке.
Например, идея о том, что различные народы были освещены лучом Божественного света, могла бы стать основой учения о скромности или терпимости. Но в действительности немецкий ученый видит в этой идее лишь урок гордости. “Каждый народ имеет право Праксиология
верить, что именно в нем находят свое лучшее выражение силы Божественного разума. Народ обретает самоосознание только переоценивая себя”. Трейчке добавляет, что немцы лишены аналогичного чувства массовой гордости. Он также приводит пример, когда победители, несмотря на свое культурное превосходство, не настолько многочисленны, чтобы привить навыки цивилизации завоеванному крестьянству. Таков, по его мнению, случай с немцами в Литве и Латвии. Он не колеблясь заявляет: “Не оставалось другого решения, кроме как поддерживать субъекты в состоянии как можно большего бескультурья (möglichste Unkultur), чтобы они не стали опасными для не слишком многочисленных хозяев”1 2.
Немецкий историк не сомневается в том, что европейские народы остаются акторами истории, теми, кто имеет и будет иметь право бряцать оружием, чтобы выполнить свое предназначение и создать наивысшие культурные ценности. Он не может себе представить, что завтра внезапно сможет появиться тип высшего государства или что на других континентах расцветает культура, равная европейской. “Европа всегда являлась сердцем мира, и поскольку мы знаем всю планету в целом, мы можем предвидеть, что она и впредь останется таковой”3.
Сегодня отпала необходимость рассеивать иллюзии европейского или германского тщеславия. Полуцинизм, к которому приводила иногда политика силы, питаемая идеализмом, кажется нам почти наивным в свете опыта XX века. Что нас еще интересует в воззре1 “Machtpolitik" (нем.) — политика силы; “power politics” (англ.) — политика силы. (Прим, ред.)
2 Там же. Т. I. С. 127.
3Там же. Т. II. С.534.
Мир и война между народами • Раймон Арон ъ, лт т. - л \ г 661
Часть! V
ниях Трейчке, так это присущее им оправдание и вроде бы прославление государственного суверенитета, соперничества сил, войны. Мы рассмотрим в других главах некоторые проблемы, которые связаны с этой позицией и иллюстрируют политику силы: неделимость суверенитета, невозможность существования высшего государства (Oberstaat). Нам было важно вернуться к немецкой философии XIX века, чтобы понять, в какой степени она отличается от сегодняшней американской философии.
Переправясь через Атлантику, став “power politics”, “Machtpolitik” Трейчке претерпела изменение прежде всего моральное. Она стала фактом, а не ценностью. Те авторы в США, которые, по общему мнению, принадлежат к реалистической школе, утверждают, что государства, воодушевленные желанием могущества, находятся в постоянном соперничестве. В этом печальном положении они не видят никакого Божественного замысла. Отказ государств подчиняться общим законам или арбитражу кажется им неоспоримым и понятным, но не возвышенным, потому что они не считают почетным делом ни войну, ни право бряцать оружием. “Разумная цель народа, организованного в государство и осознающего себя, состоит в том, чтобы отстаивать свое место в сообществе народов и вносить, таким образом, посильный вклад в великую цель развития культуры человечества“1.
Так, Трейчке, призывая к культурному развитию, фактически призывал к тому, чтобы каждый народ выполнял свой политический долг. Я не верю, что американские реалисты теолог Рейнгольд Нибур, дипломат Кеннан или профессор Моргентау когда-нибудь пропагандировали столь тесную связь между желанием могущества и культурой. Я попытаюсь сформулировать противоречие между немецкими авторами доктрины Machtpolitik и американскими теоретиками power politics, процитировав известную формулу Макса Вебера для иллюстрации контраста между пуританами на заре капитализма и современными людьми. “Пуритане хотели быть специалистами, мы обязаны ими быть”. Немецкие националисты хотели политики силы как таковой, американские реалисты считают себя обязанными констатировать ее существование и принять ее законы.
Теолог Рейнгольд Нибур считается вдохновителем так называемой реалистической школы. Действительно, его критика либеральной, оптимистичной, индивидуалистской философии внешней политики имеет в качестве источника и основы некую концепцию человеческой природы. Человек испорчен грехом. Он эгоистичен и жесток. Коллективные существа, которые составляют государства, еще хуже, чем отдельные индивиды. Последние иногда реализуют христианские добродетели, первые — никогда. Аморальность государств, когда они дерутся друг с другом, усугубляется тем, что граждане имеют основания считать, что поступают нравственно, когда они посвящают себя государству, а иногда даже жертвуют собой. Но так как государство по существу аморально1 2, несправедливо и жестоко, граждане остаются заложниками некоего племенного эгоизма, даже при том, что они служат коллективу. Взяв 1 Там же. С. 32.
2 Вот качества, которые он ему присваивает: lust for power, pride, contempt toward the power, hypocrisy, moral autonomy (жажда власти, стремление к силе, лицемерие и моральная обособленность).
662 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
за образец и за критерий этических ценностей поведение Христа, Нибур не устает настаивать на радикальном противоречии между христианскими добродетелями и действиями политика, в частности, дипломата. Нет государства, которое было бы создано и поддерживало бы себя без применения силы. Испорченность человека первородным грехом проявляется в ходе истории, но ангажированные философы, то есть обслуживающие тех, кто верит в установление мира с помощью права, или тех, кто осуждает всякое применение силы, упорно стараются этого не признавать.
Конечно, вполне возможно найти у немецких теоретиков тексты, связывающие между собой войну и грех, а у американских теоретиков — тексты, дающие высокую оценку осторожности государственного деятеля. Трейчке пишет: “До тех пор, пока род человеческий останется таким, каков он есть, с грехом и страстями, война не может исчезнуть с лица земли”1.
Со своей стороны, Р.Е. Осгуд в своей книге “Ограниченная война"* 2объявляет аморальной любую войну, в частности ту, цели которой будут представлены как возвышенные, то есть трансцендентные. “Но военная сила не только не эффективна в качестве инструмента для достижения высоких нравственных целей; она также нравственно опасна. Она опасна потому, что использование в этом случае силы может стать самоцелью, причем перестанут действовать как моральные запреты, так и практически необходимые ограничения, а население подвергнется интоксикации абстрактными идеалами”3.
Использовать силу, чтобы обеспечить безопасность демократии во всем мире [the world safe of democracy), создать Сообщество наций или чтобы заменить политику силы господством закона, прибегая к наказанию виновных, — это значит пуститься в предприятие, которое рискует стать тем более жестоким, что своей единственной целью оно ставит устранение жестокости. Ясно, что реальность никогда не сможет подчиниться этим возвышенным мечтам. Приведем вывод автора: “В этом смысле нации сделали бы лучше, отказавшись от использования войны в качестве инструмента для любой политики, кроме национальной”4.
Таким образом, не возводя национальный эгоизм, в ранг святыни, можно считать его довольно осторожной позицией, но более нравственной.
Эти фрагменты, число которых можно было бы увеличить, мне кажется, не дают представления о противоположности интеллектуального климата, включая метафизику и теологию, в Германии в конце XIX века и научной атмосферы, в которой работают современные американские теоретики. Банальная формула — война не исчезнет с лица земли, пока человек испорчен грехом, — которую Трейчке, будучи христианином, иногда упоминает, не содержит ни глубокого теоретического смысла, ни выводов из уроков учителя, полезных для слушателей. Подругому выразительны длинные отрывки из той же серии, в которых провозглашается воспитательная ценность войны ‘Там же. Т. II. С. 554.
2 Osgood R. Е.. Limited war, Chicago, 1957.
3 Там же. С. 17.
4Там же. С. 21.
Мир и война между народами • Раймон Арон & 663
Часть IV
и отвергается идеал вечного мира. Завтра, дескать, когда снова начнется война, то это Бог нашлет ее на людей, чтобы они по-настоящему прозрели и поняли цену жизненных благ, чтобы научить их высшим добродетелям: преданности и самопожертвованию, которые они вот-вот забудут. Ни один американский реалист не изъясняется в подобных выражениях. Более того, ищут ли американцы “нравственные эквиваленты войны”1, если они рассчитывают на победу пацифистов?
Что касается понятия национального интереса, то трактовка его смысла остается противоположной в Германии и в США. Нибур, Моргентау, Кеннан, Осгуд не превозносят “священный эгоизм” государств. Они боятся, как бы этот эгоизм не стал еще пагубнее, грубее, безрассуднее, если он будет скрываться под крикливыми и расплывчатыми лозунгами. Государство, которое, под предлогом наказания агрессора, ведет войну до победы, до разрушения вражеского государства, тем более аморально, чем нравственнее себя считает, тем более эгоистично, чем более видит себя приверженным возвышенным принципам. Другими словами, если реалисты приходят к выводу Осгуда, что сила должна применяться в единственном случае — при защите национальных интересов, то это не значит, что они намереваются придать коллективному эгоизму статус священной ценности (как склонен был делать Трейчке). Это значит, что в их глазах так называемый идеализм или маскирует жажду власти, довольно опасную, так как ее трудно осознать, или приводит к катастрофам, потому что применение силы несовместимо с сущностью политики между государствами. Учение таких теологов, как Р. Нибур, таких профессоров, как Дж. Кеннан, Р.Е. Осгуд или Г. Моргентау, одновременно прагматично и этично: государственные деятели должны заботиться об интересах сообщества, которым они руководят, но они не должны игнорировать интересы других сообществ. Таким образом, реализм — признание национального эгоизма — более благоприятен при осознании каждым участником событий, интересов и идей других, чем идеализм или культ абстрактных принципов. Нибур, если не Моргентау, добавляет, что реализм не должен быть циничным и что “лекарством от претенциозного идеализма, сторонники которого считают, что знают о будущем и о людях больше, чем дано знать простым смертным, не может служить эгоизм. Избавление от идеализма — это забота одновременно о себе и о других, независимо от того, являются ли они индивидами или коллективами. при этом необходимо проявлять корректное уважение и тех распространенных мнений, которые являются производными от простого осознания границы собственных возможностей“1 2.
И еще: нации эгоистичны, но “чувство справедливости должно мешать осторожности стать чересчур осторожной, то есть слишком оппортунистической в своей манере определять интерес”3.
Формула “индивидуальное или коллективное “Я” указывает нам на второе изменение МаМроИйк в США, а именно отказ или во всяком случае меньшее акцентирование внимания на главенстве внешней политики. Государство, говорит Трейчке, это весы правосудия 1 Заголовок книги Вильяма Джеймса.
2Я взял этот отрывок из сборника “Нибур о политике”, опубликованного в 1960 г. С. 332.
3Там же. С. 334.
664 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
и меч войны. Но сначала меч, так как государство не может вершить правосудие, не получив хотя бы однажды уверенности с помощью меча в своей способности заставить других подчиняться. Американские реалисты, споря с мнимым идеализмом, но пропитанные индивидуалистской и моралистской философией своей родины, берут за точку отсчета, будь то природа человека или природа политики, которая невозможна без силы (power), предмет или способ соперничества между коллективным и индивидуальным “Я".
Слово “power” в английском языке имеет очень широкий (или очень расплывчатый) спектр применения. Так, в зависимости от конкретного смысла его можно перевести тремя французскими словами: власть, могущество и сила. Power прежде всего в самом общем смысле — это способность делать, производить, разрушать, влиять; затем — это способность легального управления (прийти к власти, осуществлять власть); это также способность личности (индивидуальной или коллективной) навязывать другим свою волю, свой опыт, свои идеи; наконец, это набор материальных, нравственных, военных, психологических (или одних или других) понятий, которые придают определенный смысл трем названным вариантам слова power.
Есть все основания считать power фундаментальным, первоначальным понятием любого политического строя, то есть организованного сосуществования индивидов. На самом деле верно, что внутри государств, как и на международной арене, отдельные, автономные воли противостоят друг другу, отстаивая свои собственные цели. Эти желания, которые не могут быть согласованы спонтанно, пытаются сдерживать друг друга. Бисмарк хотел осуществить немецкое единство под управлением Пруссии, несмотря на противодействие Наполеона III, Кеннеди стал президентом Соединенных Штатов несмотря на противодействие Никсона. В этой аналогии, на мой взгляд, заключается главное, а именно, то, что члены одного сообщества, как правило, законопослушны и, конфликтуя между собой, не нарушают законов. В то же время государства, свобода действия которых ограничена подписанными ими договорами, всегда, до настоящего времени, сохраняли за собой право прибегать к вооруженной силе и самим определять, что же они считают “честью”, “жизненно важными интересами”, “легитимной защитой”. В этом американская реалистическая школа кажется мне более глубокой по сравнению с традиционной европейской мыслью. Одержимые заботой опровергнуть ангажированную философию, сторонники версии либерализма считают, что homo politicus мог бы быть дисциплинирован лишь соблюдением закона и нравственности. Реалисты приходят к тому, что противопоставляют одно понимание политической антропологии другому, а власть (power) — закону (или нравственности). Они определяют международную политику как неприкрытую силу (power) без участия арбитра или полиции. Один христианин, но уже из Англии, возвращается к традиции, когда пишет: “In international affairs it is the situation of hobbesian fear which so far as I can see hitherto defeated all the endevour of the human intellect.”1
1 Herbert Butterfield, Christianity and history. London, 1949. P. 90.
(В международных отношениях именно ситуации, связанные с гоббсовскими опасениями, торпедируют все устремления человеческого интеллекта.)
Мир и война между народами • Раймон Арон 665
Часть IV
Следует ли добавить, что ни Р. Нибур, ни Г. Моргентау не отрицают, что конфликты между гражданами внутри сообщества разворачиваются в рамках законов, высший из которых в современных обществах называется конституцией, и разрешаются в судах. Нельзя, очевидно, сказать, что этим авторам незнакомо противопоставление “монополии легитимной жестокости” — “разнообразию милитаризованных суверенитетов”. Моргентау напоминает нам, что выживание (survival) представляет и должно представлять собой главную задачу государств, что и отражает международная политика. Следует проводить различия в принципах международной и внутригосударственной политики, которые порой трудно разграничить.
Мне кажется, возможно понять колебание в оценках, если не в подходах американских реалистов. Они, как мы уже говорили, сторонятся идеалистов, но порой следуют за ними. Реалисты настроены против, они критикуют описание идеалистами мира или рецепты, которые те формулируют. Они вынуждены, сами того не сознавая, следовать примеру тех, кому противостоят. Все или почти все идеалисты принимают постулат, что нет и не должно быть существенной разницы между внутринациональной и международной политикой. Государства стоят на службе индивидов, а не наоборот, и должны учиться подчиняться закону, как научились граждане. Если международный закон установлен, то всякое легальное применение силы будет полицейским актом, как сегодня это имеет место внутри государств.
Кроме того, социологи и историки напрасно пытались провести четкую границу между использованием военной силы государствами при их образовании и применением этой силы против внешних врагов. Создание и развал империй или даже наций предполагает, что те, кого называют внешними врагами в начале военных действий, становятся соотечественниками в конце их, или наоборот, что сограждане сражаются, поскольку из них одна часть хочет отделиться и сорганизоваться в независимое сообщество. Длительность подобных событий не умаляет приведенных выводов, но чтобы их осмыслить, необходимо использовать методы, не свойственные американской школе: или анализ смысла происходящего, или размышления над ходом истории. Нет оснований экстраполировать на современные национальные государства исторические процессы, начиная от племен и вплоть до гипотетической всеобщей империи. Расширение зон суверенитета — это только изменение масштаба исторических реалий, движущие же силы истории остаются неизменными; объединение человечества в единое государство означало бы коренной поворот хода истории, но не ее сущности.
В той мере, в какой реалистическая школа ограничивается критикой нравственных или правовых иллюзий, возможные концептуальные двусмысленности хотя и остаются серьезными, но не создают неудобств исследователям. Но когда реалист пытается выглядеть теоретиком и старается дать не грубую картину международных отношений, а отретушированный портрет внешней политики отдельных государств, ему необходимы точно определенные понятия.
Две базовые концепции Г. Моргентау — это концепция могущества, властип концепция национального интереса. Но является ли сила необходимым средш 666 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ством для осуществления любого проекта? Или обладание силой власти — это лишь цель, к которой стремятся индивидуальные и коллективные “Я”? Возможно, это приоритетная цель государств, которые могут рассчитывать только на себя, чтобы выжить. Легко привести примеры в поддержку каждой из этих интерпретаций.
Амплитуда колебаний между различными постулатами поражает уже на первых страницах “Politics among nations”1.
Там сказано, что международная политика, как все другие политические действия, это борьба за власть. Что касается целей международной политики, то ближайшая цель — это всегда завоевание власти. Понятие же ближайшей цели двусмысленно: если могущество власти само по себе не является конечной целью политики, то ближайшая цель может рассматриваться только как средство достижения глобальных целей. В другом месте Моргентау пишет: “Стремление к власти, будучи важным элементом международной политики, как и любой другой политики, обусловливает то, что по необходимости международная политика является политикой силы.”1 2
Если верно, что стремление к власти играет в международной политике ту же роль, что и во всякой другой политической деятельности, то уникальность политики силы в межгосударственных отношениях исчезает. С того времени, когда сущность внешней и внутренней политики начнет совпадать, преследуя мирные цели, война может быть искоренена из одной и из другой3.
Наконец, если сравнивать крестоносцев, которые хотели освободить Святые места, Вудро Вильсона, который хотел make peace safe for democracy, национал-социалистов, которые хотели открыть Восточную Европу для колонизации немцами, доминировать в Европе и завоевать мир, если считать, что и те, и другие, и третьи — это актуры на сцене международной политики, так как они выбрали силу (power) для достижения своих целей, то оказывается, что сила — это всего лишь средство борьбы и не определяет ни природу международной политики, ни сущность поставленных акту рами целей. Такое понимание можно подтвердить следующим текстом. “Интересы, путем которых государства оказываются вовлеченными в те или иные отношения, будучи разнообразными и многосторонними, всегда являются возможными социальными объектами членов данного общества”.4
Но если сила является только средством достижения цели, то утверждения, на которых основывается теория Моргентау, ставятся под вопрос. На протяжении долгих периодов истории все режимы имели однотипную внешнюю политику. Содержание национального интереса тоже, как правило, было неизменным. Какова причина такого постоянства? Ответ может заключаться в том, что все элементы — идеологические и материальные — составляющие содержание национального интереса, подчиняются, по крайней мере, требовани1 Politics among nations. New York, 1949. P. 13.
2Там же. С. 15.
3The theoretical aspects of international relatoins. (Теоретические аспекты международных отношений.)
Опубликовано: W.R. Fox. Notre Dame. 1959. С. 26.
Мир и война между народами • Раймон Арон 667
Часть IV
ям, не поддающимся быстрому изменению, “от которых зависят выживание нации и защита ее идентичности”.
Правда ли, что государства, вне зависимости от существующего режима, ведут “однотипную дипломатическую политику" (the same kind of the foreign policy)?1
Это утверждение безусловно двусмысленно. Принадлежали ли дипломаты Наполеона, Гитлера и Сталина к тому же типу, что дипломаты Людовика XIV, Аденауэра и Николая II? Если “да” — то высказанное предположение не вызывает споров, но и малопоучительно. Общие черты всех видов дипломатикостратегического поведения только внешние, сводятся к государственному эгоизму, — соизмерению сил и к произвольному смешению лицемерия и цинизма. Но разница в уровне стратегических построений может быть такова, что достаточно таких фигур, как Наполеон или Гитлер, при благоприятствовании революционных обстоятельств, чтобы перевернуть ход истории.
Таким же образом можно заметить несостоятельность второго предположения: национальный интерес не изменяется быстро, так как требования выживания государства относительно постоянны. Даже если учитывать идею выживания государства в узком и некоторым образом в материальном смысле, исключая, конечно, установку на уничтожение населения и потерю независимости государства, то определенные национальные интересы могут, и это всем известно, за несколько лет привести к полному расторжению сложивших ся союзов. Порой даже былые друзья становятся врагами (Советский Союз, прекрасный и добрый союзник в 1942 г., создает в 1946 г. для Запада смертельную угрозу), а враги — друзьями (враждебность по отношению к третьему рейху сменяется дружбой с Гёрманией Аденауэра). Более того, в гетерогенной системе оппозиционеры, благоприятно настроенные по отношению к идеологии вражеского лагеря, безусловно, придерживаются концепции национального интереса, отличной от концепции стоящих у власти. Если бы они взяли власть, то проводили бы другую внешнюю политику.
Можно ли утверждать, что элементы, входящие в понятие национального интереса, отвечают требованиям выживания? Ответ на этот вопрос зависит от конкретных обстоятельств. Предположим, что все государства, большие и малые, стремятся выжить в качестве таковых, несмотря на то, что это желание может быть неуместным. Так, немецкие королевства середины XIX века имели слабо выраженное желание выжить: ни их правители, ни народы не считали потерю независимости катастрофой. Предположим, однако, что желание сохранить самостоятельность проявляется довольно сильно. Но оно все же не определяет конечную цель политики или критерий выбора курса. Все великие державы рисковали своей независимостью для достижения дальнейших целей. Гитлер, для себя и для Германии, предпочел создавать империю (третий рейх), рискуя безопасностью и самим существованием страны. Более 1 Они полагают, что внешнеполитический курс, преследуемый государствами, определяется их внутренними институтами и их политической философией. Однако все конкретные примеры истории опровергают их доводы. См. Diplomacy In the changing world. (Дипломатия в меняющемся мире.) Под ред. Д. Кертош и М. Фатусимонс. Univ, of Notre Dame. 1959. С. 12.
' » 668 г ww . Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
того, целью империи, как сосредоточения власти, вовсе не было обеспечение собственной безопасности. Следовательно, напрасно стараться безоговорочно определить общие цели государств, ссылаясь то на силу, то на безопасность или на одно и другое вместе. Полноценная жизнь всегда предполагает более высокие цели. Чем же хороша безопасность государства, если она сопровождается убогим существованием подданных?
В конце концов само понятие выживания неоднозначно и предполагает разнообразные толкования. Например, в 1960 г. желающая выжить Франция — западная страна с институтами конституционально-плюралистического типа; если бы она была вовлечена в советское пространство, то потеряла бы свою западную “идентичность*’, но, видимо, сумела бы в то же время сохранить значительную часть своей исторической культуры. Но ни в одном, ни в другом лагере она не могла бы обрести полной “независимости”, то есть возможности единолично принимать важнейшие решения. Однако ей грозила бы меньшая автономия на Востоке, чем на Западе. Наконец, если она участвует в большой стратегической игре в ядерный век на той или другой стороне, то подвергает свое население риску жестоких и, возможно, фатальных потерь. Принимая как факт, что выживание определяется независимостью и свойственным данной стране политическим режимом, а также историческими традициями и стремлением сохранить естественную и простую жизнь индивидов, дипломаты в различных случаях вырабатывают соответствующие решения. Даже если бы все они “проводили одинаковую внешнюю политику” и конечной целью или первостепенной необходимостью считали безопасность государства, за которую они отвечают, то и в этом случае также должны были бы в различных обстоятельствах руководствоваться задачей сохранения режима или обеспечения независимости своей страны.
Моргентау ограничился изложением этих фундаментальных концепций лишь в приведенном нами виде, поскольку он считает праксиологию больше чем теорией. Он выступает как крестоносец, но крестоносец реализма. Моргентау ссылается на национальный интерес не для определения политической линии государств, а для выяснения идеологических отношений, для полемики с теоретиками “вечного мира”, со сторонниками различных концепций международного права, с защитниками христианской или кантианской морали, с представителями отдельных групп, которые путают свои собственные интересы с интересами данного сообщества. Если бы государственные деятели не слушали утопистов и старались предотвратить войны или ограничить военные действия, если бы они предпочитали компромисс ссоре, если бы они вступали в переговоры со всеми государствами и не интересовались бы режимами своих союзников или врагов, то человечество было бы избавлено от извечного соперничества между различными сообществами за могущество.
Может быть, в конце концов, было бы полезно даже таким президентам, как Вильсон и Рузвельт, подумать о том, что они ошибаются как в себе самих, так и в своих представлениях о мире, о том, что их привлекает неясный и малопонятный феномен национального интереса Соединенных Штатов, о том, Мир и война между народами • Раймон Арон V
669
Часть! V
что их деятельность была бы более эффективной, если бы их мысль вышла из тумана идеализма и подчинилась суровому закону равновесия. Возможно, призыв руководствоваться здравым смыслом в международных отношениях не полностью бесполезен, когда он обращен к людям доброй воли, которые рискуют совершить необдуманные поступки от избытка иллюзий. Возможно, реалистическая школа ответила обоснованной реакцией на наивную концепцию, согласно которой международный порядок может быть саморегулирующимся только на основании главенства закона, и на ложную идею, что достаточно применить определенные принципы (право народов на самоопределение) для мирного разрешения конфликтов. К сожалению, сама реалистическая школа, смешав теорию и праксиологию, пренебрегла строгим разграничением между вечными ценностями и историческими частностями международной политики, стала проповедовать идеологию, сравнимую с той, которая служила ей мишенью для критики.
Во все эпохи верно, что в политике при принятии решений необходим подсчет сил участников событий и учет безграничной неопределенности стечения обстоятельств. Это диктует государственным деятелям быть осторожными. Но осторожность не означает ни ограничения действий, ни достижения мира путем компромиссов, ни бесконечных переговоров, ни безразличия к внутренним режимам вражеских или союзных государств. Римская дипломатия не была умеренной; мир, предложенный в США северянами южанам, исключал любой компромисс. Переговоры с Гитлером были по большей части бесплодны или вредны. В гетерогенной системе никакой государственный деятель не может брать пример с Франциска I, заключившего союз с Великим Турком или, допустим, с Ришелье, который поддерживал принцев-протестантов. Истинный реализм сегодня состоит в признании воздействия идеологий на дипломатико-стратегическое поведение. В наше время, вместо того, чтобы повторять, что государства, независимо от их устройства, имеют “схожую внешнюю политику”, следовало бы настаивать на том, что никто не поймет дипломатическую стратегию государства, если не анализировать его режим и не принимать во внимание философию тех, кто им управляет. Выдвигать принцип, что руководители партии большевиков ставили своей целью заботу о национальных интересах государства как никакой другой правитель в России, значит обрекать себя на непонимание практики и амбиций Советского Союза.
Призыв к западным странам не смешивать идеологию и дипломатию приобретает в наше время парадоксальный характер. Советский Союз, исходя из теории мирового кризиса, обещает вечный мир начиная с того времени, когда социализм окончательно и повсеместно победит капитализм. Может ли Запад ничего не обещать гражданам своих стран? Может ли он отказаться от определенных принципов как внутригосударственного устройства, так и взаимоотношений между странами? Должен ли он безропотно признать фатальную неизбежность войны, в то время как коммунистический мир объявляет о наступлении “светлого будущего”?
Истинный реалист отдает себе отчет во всех процессах, происходящих в действительности и, исходя из этого, а 670 ^*1 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
формирует модель дипломатическостратегического поведения, соотносящуюся не с ретушированным портретом международной политики, воображая, что государственные деятели должны быть мудры в своем эгоизме, а с тем, чем она является на самом деле, со страстями, безумствами, идеями и жестокостями XX века.
4. Прудон и право силы
Триумфальная спесь второго рейха в конце прошлого века объясняет прославление политики силы немецким историком. “Только смелые народы имеют гарантированное существование, будущее, развитие; слабые или вялые и трусливые народы справедливо подвержены разрушению. Только в вечном соперничестве разных государств и заключена красота истории”1.
Трагический опыт двух великих войн, национальная философия соглашательства побуждает американских авторов смириться с политикой силы, выделяя в ней скорее ужас, чем красоту. Исторические обстоятельства изменяют смысл понятия силы; немецкий историк ссылался на идеализм, американский теолог или социолог говорят о реализме. Но эти изменения имеют еще одно, более глубокое значение: действительно ли политика силы как таковая противостоит нравственности? Диалог между немецким идеализмом и американским реализмом — это выражение внутреннего противоречия дипломатико-стратегической деятельности.
Осуждать политику силы значит осуждать весь ход политической истории. Но как ее оправдать, не признав права на применение силы, предшествовавшего праву, основанному на согласии?
Философия немецкого историка в большей степени шокирует нас, чем убеждает, так как она основана на неравенстве индивидов и народов. После бреда или психозов гитлеровского расизма мы пытаемся без колебаний подписаться под противоположной догмой, признавая равенство индивидов, народов и рас. Тем не менее следует быть осторожными, а не просто гнаться за модой.
Люди рождаются неодинаково одаренными. Точно так же различны по своему интеллектуальному потенциалу и народы. О неоднозначности индивидуальной одаренности известно каждому учителю, причем данные биологии подтверждают и помогают объяснить данный факт. Речь идет о естественном неравенстве. Тем не менее оно не противоречит ни равенству прав и обязанностей, ни равенству возможностей. Ошибка Трейчке состоит не в том, что он констатирует естественное неравенство, а в том, что он неверно оценивает вклад технического прогресса и полагает, что большинство людей никогда не получит необходимого минимума для удовлетворения элементарных потребностей: “Масса всегда останется массой; нет культуры без организованной социальной сферы”* 2.
Именно вопросам материального производства большинство исследователей уделяет львиную долю своего рабочего времени. Подталкиваемый традиционной концепцией общества, в котором при любом режиме существует значительное экономическое и социальное неравенство, упомянутый автор ‘ТгеИзсИке. Ор. сК., I. Р. 30.
2Там же. С. 50.
Мир и война между народами • Раймон Арон 671 ■
Часть IV
склонен к восхвалению величия Германии и умалению других народов. В своем анализе он переходит от рассмотрения исторического разнообразия народов, что неоспоримо, к естественному неравенству наций, независимо от того, считает ли он это неравенство наследственным или обусловленным определенными обстоятельствами.
Я не считаю, что сегодняшняя наука в состоянии дать четкий ответ на эту проблему. Разнообразие культур, в том смысле, какой дают этому понятию антропологи, одновременно факт наименее спорный и наиболее загадочный. Небольшие архаические общества, как правило, без письменности, которые существовали еще шесть тысяч лет тому назад, в определенном смысле существуют и в настоящее время, причем в сотнях различных вариантов. Этнологи насчитывают более 600 подобных обществ, каждое из которых характеризуется своим образом жизни и мышления. Поведение индивидов в любом обществе находится под таким влиянием системы ценностей и воспитания или образования, что складывается впечатление изменчивости человеческой натуры от общества к обществу, однако ясно, что основные мотивы поведенческого характера остаются на протяжении длительного времени аналогичными.
Предрасположенности, заложенные в генах человека, во многом обусловливают культурные особенности нации, однако и сами эти культурные особенности, являющиеся результатом различных обстоятельств, стали для индивидов чем-то вроде признаков второй натуры, не передаваемых по наследству, но воспроизводимых в каждом поколении с помощью воспитания и образования. Значение воспитания в формировании личности не вызывает сомнений. Однако нельзя утверждать, что любой индивид слепо отражает генетические предрасположенности большинства членов своей этнической группы.
Если мы перейдем от архаических обществ к европейским нациям (французы, немцы, итальянцы), потом к расам, определяемым антропологами, и к другим этническим группам, еще более широким, характеризующимся цветом кожи, разнообразие становится очевидным, влияние исторических обстоятельств — неоспоримым, роль генетической предрасположенности — еще более таинственной. У населения в миллионы человек различные дарования, темпераменты, характеры (каково бы ни было точное определение этих понятий). Тем не менее определенные черты и качества на протяжении времен повторяются, хотя и не обязательно с одной и той же частотой. Трудно предположить, что некоторые нации или расы обладают устойчиво высоким процентом дарований, передающихся генетически, но нельзя и сбрасывать такую возможность со счетов. Таким же образом, выражение генетических предрасположенностей может определяться социальной средой, которая сама подвержена историческим изменениям.
Редко рассматривают такую возможность по отношению к более широким группам, характеризующимся цветом кожи. Предположение, что вера играет ключевую роль в равенстве человеческих рас, возвышается над научно установленными истинами. Трудно сказать, так ли это в действительности, но ее воздействие сопряжено с более предпочтительными последствиями по отношению к постулатам другой веры. Истинная вера опирается на признанные - 672 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
факты: достижение в ходе истории всеми расами независимости индивидуального и коллективного существования по отношению к внешним условиям. Примеры же крайнего неравенства, возможно, даже естественного, порождены господством и порабощением. Молодые немцы, которые триумфально шествовали по дорогам Франции в июне 1940 г., сильно напоминали нацию господ; те же немцы, попавшие в плен на просторах России, в той же степени напоминали расу рабов. Победа порождает хозяев, а не господство дает победу. Перед тем как сформулировать наследственное неравенство групп людей, следует связать его со всеми возможными шансами.
При этом следует остерегаться путаницы двух разных философских положений. Согласно одному из них разнообразие культур не приписывается передаваемой по наследству биологической предрасположенностью; согласно другому — разнообразие сопротивляется всякой иерархии. Если признать, что архаическое общество столь же развито, как и цивилизованные общества, то ценность правового государства не больше и не меньше деспотического, а христиане не заслуживают большего, чем каннибалы. Оценки высшего и низшего, когда дело касается человеческих творений, никогда не достигнут научной обоснованности. Но если человечество ничего не выиграло, выйдя за рамки закрытых обществ, если манипуляция естественными силами и аккумуляция знаний не имеют значения, то не только политика силы не имеет смысла, а вся история в целом теряет смысл. Мы ретроспективно устанавливаем абсурдность тех или иных человеческих авантюр, и мы рискуем в перспективе с той же немилостью оценивать все последующие века.
Если устранить такой исторический нигилизм, если вернуть смысл шествию городов и империй, то нет необходимости в том, чтобы устраивать овацию всем приговорам суда истории и провозглашать, что победу одержали лучшие, как если бы были другие добродетели, кроме военных, и как если бы война государств была инструментом селекции, безжалостным, но справедливым.
Это просто факт, что на протяжении тысячелетий государства, города и империи создавались и распадались во время войны. Невозможно вообразить историю, в которой бы люди не убивали друг друга, как невозможно представить себе литературу, описывающую просто случайные связи мужчин и женщин, не имеющие никакого отношения к любви.
Борьба между народами и государствами была составной частью движения общественной мысли и развития цивилизации. Она была деструктивной настолько, насколько и созидательной. Города, принадлежавшие одной цивилизации, напрасно воевали до полного изнеможения. Победители разрушали города и уводили в рабство тысячи людей, носителей той же культуры. Ничто не в состоянии установить равновесие как на глобальном, так и на частном уровне. Тем не менее следует признать, что войны не всегда были бессмысленными и преступными; они имели некий смысл, выполняя определенные функции.
В Организации Объединенных Наций представители государств похваляются отказом от использования силы. Тем не менее государства, унаследовавшие дела колониальных администраций, Мир и война между народами • Раймон Арон 673
Часть IV
убеждались на практике не один раз, что нельзя объединить племена, не прибегая к принуждению. Новые государства стремятся к цивилизации, основы которой принесли им колонизаторы в прошлом веке. Элиты, вкусившие прелести западного образа жизни и являющиеся свидетелями жестокости, которая была применена колонизаторами по отношению к традиционной культуре, сами готовы прибегнуть к жестокости по отношению к своим согражданам, все еще привязанным к племенным обычаям. Колонизация всегда несет груз опасности и жестокостей. История такова, какова она есть. И стоит ли сожалеть о том, что европейцы повсюду распространили свою цивилизацию и разрушили архаичные культуры, о чем испытывают ностальгию этнографы?
Между народами одной цивилизации функция войны может быть только политической: для определения границ, для установления новых государств, для раздела могущества и престижа между политическими сообществами, для триумфа какой-то идеи. Каким образом в конце прошлого века могли бы образовать свой союз Германия и Италия, если бы не прибегли к войне? Сколько народов в XX веке обрело национальную свободу благодаря своему решению прибегнуть к оружию! Если речь заходит о существовании государств, то боюсь, что Прудон прав, утверждая следующее: "Какова цена волеизъявления граждан, опускающих бюллетени в урну, перед волеизъявлением солдат, проливающих свою кровь?”1
Если мы цитируем Прудона, то потому, что французский социалист и моралист, придерживающийся совершенно иной философии, чем немецкий историк, все же признавал в определенных пределах право силы1 2.
Рабочий имеет право на продукт своего труда, носитель интеллекта имеет право “отвергать то, что кажется ему ложным, обсуждать различные мнения, публиковать свои размышления”, “природа, по самой сущности своей, налагает на любовников некоторые взаимные обязательства”. В некоторых обстоятельствах действует “право силы, на основании которого более сильный получает предпочтение перед слабым и, соответственно, более высокое вознаграждение”3.
Все вышеперечисленные права являются выражением “самой постоянной и основной из наших привязанностей — уважения человеческих качеств в нас самих и нам подобных”4.
Но как бы для того, чтобы вывести из себя читателей, Прудон приводит в поддержку своего тезиса аргумент, использующийся обычно против него: “Волки и львы не ведут между собой войн, так же как овцы или бобры. На основе этого наблюдения уже давно придуманы карикатуры на человеческий род. Как же не видят того, что воинственность и есть знак нашего величия? Если бы природа сделала человека животным исключительно изобретательным, общительным, но нисколько не воинственным, то уже в первые дни своего существования он встал бы на уро1 Proudhon P.J. La guerre et la paix. Recherches sur le principe et la constitution du droit des gens. (Война и мир. Исследования принципа и установления прав людей.). Paris. 1861. II. С. 398.
2Речь идет о том, что называют “субъективным правом: сила имеет значение, она дает право на ..."
эТам же. I. С. 198-200.
4Там же. I. С. 197.
« 674 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
вень животных, судьбу которых определяет стадность; он потерял бы вместе с гордостью героизма революционную способность, самую чудесную из всех и самую плодотворную”1.
Если мы оставим в стороне красноречивую пышность тирады, то обнаружим, что в центре доказательства Прудона лежит простой аргумент. Все юристы-международники противопоставляют право и силу. Сила, говорят они, не может создать права. Но право, являющееся результатом соглашений между государствами, имеет своим источником физическую силу, без нее государства никогда не существовали бы. Провозглашать присущую силе несправедливость значит признавать первородность несправедливости по отношению ко всем юридическим нормам, немыслимым вне государства. Одно из двух: или существует право силы, или история в целом — череда несправедливостей.
Можно ли сказать, что фаза создания государств, во время которой безоговорочно господствовало право силы, полностью завершена? Прудон замечает, что справедливая политическая война остается единственным способом решить четыре рода проблем: “1) включение одной нации в состав другой, одного государства в состав другого: поглощение одного политического общества другим или их слияние...; 2) восстановление (воссоздание национальностей...; 3) религиозная несовместимость; 4) международное равновесие, делимитация государств...”* 2
Поскольку в наше время религия не играет уже главенствующей роли в политике государств, угроза войны между двумя частями одного и того же народа, разделенного по религиозному признаку, не представляется насущной, по крайней мере в той форме, как это было раньше, когда какая-нибудь идеологическая секта могла с помощью силы распространить свою веру на остальную часть народа.
Процесс образования наций или империй, организация новых общественных систем всегда сопровождается конфликтами, решить которые далеко не всегда можно мирными средствами.
Пусть тем не менее никто не воображает, что Прудон оправдывает любое насилие. Наполеон был побежден и побежден справедливо, так как его завоевательский поход оказался несправедливым, противоречащим основам “закона силы”. “Предпринятые Людовиком XIV амбициозные войны были бесплодны, а те, которые велись против его монархии, также можно назвать таковыми”3.
Не без прозорливости он противопоставляет процесс исправления некоторых границ в Европе и войну в Алжире: “Алжир стал единственным нашим завоеванием; но это завоевание после 30 лет борьбы фактически сводится к военной оккупации. Нет ничего более сложного для ассимиляции, чем варварство и пустыня. Франция потратила на удержание этого трофея неимоверные усилия”4.
Нам не важно, будем ли мы придерживаться словаря Прудона или отойдем от него. Ссылка на философию справедливости должна служить нам для того, чтобы напомнить о предположениях, ’Там же. I. С. 39.
2 Там же. С. 225.
3Там же. С. 225.
4 Там же. С. 328.
Мир и война между народами • Раймон Арон 675
Часть IV
неопровержимых по глубине, но, к сожалению, легко забываемых. Ни одно из крупных государств не было основано без принуждения, без поглощения малых групп. Если применение силы абсолютно неприемлемо, то на всех государствах лежит первородный грех. Отсюда, не игнорируя ужасов войны, Прудон не делал ошибки, требуя поставить войны вне закона. Тот, кто хочет понять историю, не должен зацикливаться на противоречии между силой и юридическими нормами, он должен научиться отличать различные способы, которыми сила была применена, признавать историческую легитимность, иначе говоря справедливость, применения силы при некоторых обстоятельствах, разбираться в специфике нарушений существующего права.
Бисмарк не осуществил германского единства без принуждения немецких королевств. И все же он не заслуживает такого же нравственного суда, что и Гитлер, стремившийся подчинить всю Европу. Говоря обобщенно, этический суд над дипломатическо-стратегическими акциями неотделим от суда исторического над целями соответствующих действующих лиц и последствиями их успехов или поражений. Придерживаться альтернативы между правом и силой значит собрать вместе и осудить все революционные попытки. При этом исторический суд будет сомнительным (никто не знает будущего), а зачастую и предвзятым. При таком раскладе не существует серьезных мотивов для отказа от любой дискриминации.
Мы не хотим внушать, что процесс создания или распада государства с помощью войны должен длиться так же долго, как род человеческий: мы оставляем проблему на суд грядущих времен. Мы тем более не утверждаем, что было бы само по себе хорошо, если бы государства завидовали суверенитету друг друга. Мы ограничиваемся утверждением, что сила в значительной степени определяла и продолжает определять рождение и смерть государств. Отсюда, вместо того, чтобы считать все исторические креатуры в равной степени виновными (или невиновными), следует принимать в расчет одновременно их интересы, идеи, принципы и гарантии безопасности. Выживание наций не может быть гарантировано решениями суда или волеизъявлением беспристрастных судей. Подлинная суть политических противоборств может быть выявлена с помощью этико-исторического суда, который учтет цели и причины, обусловившие поведение каждой из сторон в конфликте.
Проверку этого доказательства предлагает нам автор так называемой идеалистической школы Нортроп. Он хочет оживить традицию Локка-Джефферсона-Линкольна, противопоставляя ей традиции Макиавелли-ГЪббса-Остина. Вместе с тем он признает, что человечество разделено в соответствии с подходами к праву и нравственности. Каким образом подчинить международному праву разделенное человечество? Отрывок, взятый из последней книги Нортропа, вкратце излагает принципы примирения между метафизическим плюрализмом и единством международного права:
и1) Все люди, — а не только американцы или люди, обладающие большей физической силой, — получили от Бога естественное право быть свободными; 2) Соединенные Штаты будут негативно нейтральны в войнах между народами, руководствующимися во внешней » 676 Раймон Арон • Мир и война между народами
политике принципами могущества, но позитивно нейтральны, — и даже будут оказывать физическую помощь, как это было в войне Кубы против Испании, — по отношению к народам, борющимся за свою независимость против наций, использующих политику силы; 3) правовая система или нация обеспечивает себе продолжительное влияние и эффективность не с помощью жандармской дубинки, которую, впрочем, иногда приходится использовать, но с помощью существующих, добровольно принятых, нравственных принципов, которые заполняют сердце и разум граждан всего мира; 4) следовательно, речь не идет о том, что сила или мощь (как считали во времена Макиавелли, ГЪббса, Остина и их современников) делает нравственность и право эффективными; напротив, именно свободно принятое и установленное право делает применение силы правомерным или обосновывает справедливость и эффективность тех или иных мероприятий, осуществляемых нациями; 5) в таком случае никакое использование силы вовне любым государством не может быть оправданным, если оно не подчиняется моральным и юридическим принципам и процедурам, установленным демократическим путем и нацеленным на то, чтобы гарантировать каждому народу, в соответствии с его волеизъявлением, естественное и законное право самостоятельно вести свои дела”1.
Перспективное видение того, какими в будущем должны стать взаимоотношения между государствами, и его философское обоснование особенно необходимы Соединенным Штатам для действий на международной арене. Будет Праксиология
ли в этом случае адекватно раскрыта проблема принятия решения? Применимы ли будут теоретически обоснованные принципы на практике?
Первое предположение — все люди имеют право быть свободными — может быть принято всеми, кто подписывается под концепцией естественного права, возможно, излишне расплывчатой. Но такой подход не позволяет определить содержание этой свободы и связь между индивидами внутри общества и независимостью такого общества. Какие группы или популяции имеют право самообразоваться в суверенные нации? Следует ли пожертвовать правами человека ради национальной независимости или наоборот? Такой выбор может стать неизбежным; его приходилось делать множество раз в наше время.
Второе предположение — нейтралитет в случае конфликта, вызванного столкновением двух сил, поддержка народов, борющихся за свою независимость, — приговаривает Соединенные Штаты к пагубным колебаниям между направлением изоляции и курсом крестовых походов. Политика США редко бывает одноплановой, либо сугубо политикой силы, либо незыблемым курсом в поддержку какой-либо нации, борющейся за свою свободу. Политика на международной арене обычно представляет собой своего рода смесь, которая не может быть точно распознана и понята, кроме как в своей многообразной сути и двойственной сложности. Всякий международный кризис имеет измерение “политики силы”. Венгерское восстание 1956 г. — восстание народа против иностранного притеснения — не могло быть 1 Philosophical antropology and practical politics (Философская антропология и практическая политика). New York. 1961. С 182.
Мир и война между народами • Раймон Арон 677
Часть IV
правильно оценено теми государственными деятелями, которые оставили бы без внимания последствия, могущие возникнуть для равновесия двух блоков вследствие выхода Венгрии из Варшавского договора. Если бы американские руководители слепо подчинялись принципу поддержки народов, борющихся за свою независимость, они бы рисковали спровоцировать войну.
Ф. Нортроп с гордостью приводит решение президента Эйзенхауэра во время британской экспедиции, который “был вынужден делать выбор между позицией своих лучших друзей и постановкой своей страны в стан тех, кто безоговорочно отрицает одностороннее использование силы, выступая на стороне мирового правового сообщества, то есть выбирает курс большинства наций — членов ООН”1.
С наивной чистотой он даже не вспоминает о том, что в это же самое время США бросили на произвол судьбы венгров, боровшихся за свою независимость против держав, проводивших “политику силы”. Европейцы в это же время, скорее, цитировали Лафонтена: “В зависимости от того, будете ли вы могущественными или отверженными...”
Предположения 3 и 4 показывают, что не сила предопределяет действенность правовой или нравственной системы, а человеческие убеждения делают их эффективными. Законы не могут быть эффективными без согласия народа их соблюдать, они должны укорениться в умах и сердцах людей. Ни полицейская дубинка, ни штыки сами по себе не способны обеспечить твердый и уважаемый порядок. Но так же верно, что законы могут устанавливаться при помощи силы и что народы перестают подчиняться идеям завоевателей или партиям, которые лишились власти. Русский народ в 1917 г. не входил в сферу действия нравственной или правовой системы большевиков. Внутри государств подчинение многим нормам не требует силовой поддержки. Государство (или правительство), которое подчиняется приговору суда, показывает тем самым, что иногда применяется право, не основанное на силе. Но такие феномены происходят только внутри развитого общества. Президент Соединенных Штатов подчиняется решениям Верховного суда США, а французский министр — постановлениям Государственного совета Франции. Однако было бы преждевременно сделать на основании этого вывод о том, что государства готовы подчиняться решениям Международного суда без принуждения.
Предположение, связанное с осуждением применения силы вовне и изобличающее бесплодность силы, если она не используется для освобождения народов, кажется нам одновременно сомнительным и оптимистичным. Коммунисты в рамках своей правовой и нравственной системы считают вполне обоснованным применение силы для поддержки нужных им режимов. И такое применение силы отнюдь не всегда обречено на провал.
Чтобы связать нравственный плюрализм с правовым единством международного сообщества, американская философия приходит в конце концов к признанию тезиса мирного существования различных миров, каждый из которых имеет свою правовую и нравственную систему. Международный
‘Там же. С. 205.
и» 678 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
закон будет гарантировать уважение различных существующих законов: “Он будет гарантировать любой идеологии и нации мира защиту специфики их норм, действующих в пределах их территорий”1.
Но Нортроп забывает о том, что такое неприменение силы согласуется с нравственно-правовой системой Соединенных Штатов, с философией контракта и согласия, а не с советской системой или марксистской философией. Таким образом, не международное право, авторитет которого Кремль не признает, заставит его руководителей не применять силу вовне, а осторожность. Однако осторожность препятствует не любому применению силы, а только ведению полномасштабной войны, переходу границы регулярной армией. Следовательно, мы выходим за рамки пространства, где главенствует мир, установленный с помощью закона, и возвращаемся в реальную обстановку, где отсутствие войны является следствием страха, а не коллективной воли, и где ведутся тайные игры по подрывной деятельности.
**♦
Почти все государства построены в определенном смысле по единому образцу; они устанавливают законы, обязательные для всех своих граждан, и довольно толерантно относятся к применению силы. До тех пор, пока международное сообщество сохранит смешанный и в чем-то противоречивый поведенческий характер государств, нравственность международного порядка останется двусмысленной.
Отношения между государствами — это испытание воли, будь то в мирные или кровавые моменты. Таким образом, народы не могут игнорировать нравственность борьбы, которая предписывает индивидам смелость, дисциплину, самопожертвование, а сообществам — уважение обязательств и заботу о чести. Почему французы так страстно спорили и продолжают спорить до сих пор о перемирии 1940 г., вне зависимости от его политических и военных последствий? Потому что перемирие затрагивало вопрос чести: ведь Франция, выходя из войны, нарушила взятые на себя обязательства. Когда Соединенные Штаты в ООН заняли позицию против франко-британской экспедиции к Суэцкому каналу, многие французы и англичане испытывали чувство того, что союзник их “предал”. Вашингтон же считал себя абсолютно невиновным: во-первых, он не был предупрежден, а во-вторых, мораль закона, как он полагал, была выше доводов войны.
Поведенческие установки, диктуемые войной, легко превращаются в господствующие принципы социальной среды. Лица, склонные пренебрегать законами общества, все же не могут обойтись полностью “без веры, без закона”. Подчинение шефу (руководителю, главарю), как и определенная дисциплина, поддерживаемая даже в рамках криминальной структуры (в примитивном смысле дисциплины и чести) свидетельствуют о некоем восприятии установленного порядка, что, впрочем, не мешает криминалу использовать практически любые средства в борьбе против конкурентов. Государства не всегда деликатны в выборе средств и далеко не ‘The Taming of nations. A Study of cultural basis of international policy New York 1952. P. 272.
Мир и война между народами • Раймон Арон шжжвож»«» 679 ir
Часть! V
всегда правильно относятся к своим обязательствам. Оправданность поведенческих установок сохраняет свой смысл до тех пор, пока война остается последним средством решения международных споров. Однако в долгосрочной перспективе обоснованных оправданий войнам быть не может.
Мораль закона является антитезой поведенческим установкам войны, так как закон обязателен для всех, между тем как обязательства, принятые государствами либо криминальными сообществами, ограничены, как правило, довольно узкими рамками. Но поскольку международное право консервативно, государства никогда не примут полностью правовые нормы, ограничивающие их суверенитет, даже если суд, судящий по справедливости, признает такую необходимость, причем государства, стремящиеся соблюдать нравственные законы, скорее будут считаться лицемерными, чем добродетельными. Уважение законов на международном уровне легко увязывается с национальными интересами. Тем не менее подобное уважение не мешает государствам вступать в разнообразные военные конфликты.
Двусмысленность международного сообщества не позволяет следовать до конца принципам обычной логики, в том числе логике права и силы. Единственная мораль, которая превосходит установки военного времени и мораль закона, — это, я бы сказал, мораль мудрости, которая рассматривает каждый особый случай во всех его конкретных особенностях, но еще и не отвергает ни один из аргументов в поддержку своевременности или уместности тех или иных действий, а также не забывает ни о направленности силы, ни о волеизъявлении народов. Однако, поскольку суд мудрости очень многообразен и сложен, он на практике никогда не удовлетворит полностью ни моралистов, ни вульгарных последователей Макиавелли.
Воистину, кто возжаждет стать ангелом, на деле окажется глупцом. Государственный деятель не должен забывать, что международный порядок может поддерживаться только при условии наличия сил, способных уравновесить силы недовольных или революционных государств. Если он небрежно относится к анализу соотношения сил, он манкирует своими обязанностями, то есть нарушает нравственные принципы своей профессии и своего призвания. Он одновременно совершает ошибку и впадает в заблуждение, поскольку он подвергает испытаниям безопасность людей и ценностей, судьба которых ему доверена. Эгоизм не является незыблемым, скорее он присущ государствам, выживание которых никем не гарантировано. Но те, кто готовы быть глупцами, никогда не станут ангелами. Реалист, заявляющий на манер Шпенглера, что человек — это хищное животное, и призывающий людей вести себя соответствующим образом, игнорирует важную сторону человеческой природы. Даже в отношениях между государствами провозглашается уважение идей, определенных ценностей и обязательств. И на практике редко случалось, чтобы государства и сообщества действовали так, будто они ничем друг с другом не связаны.
Нравственность мудрости, лучшая, с точки зрения фактов и реальностей, ценность. Она не разрешает противоречий стратегическо-дипломатического поведения, но она ориентирует на х 680 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
то, чтобы в каждом случае был найден наиболее приемлемый компромисс. Однако, если на международной арене будет происходить постоянная чехарда с империями и сообществами государств, то вряд ли удастся добиться исторических компромиссов между нравственными устремлениями и готовностью прибегнуть к крайним средствам. Достаточно ли в ядерный век проводить политику, которая просто сокращает частоту и объем проявления жестокостей? Прудон провозглашал право силы, но возвещал также наступление эры мира. Сегодня, когда человечество располагает средствами самоуничтожения, имеют ли смысл войны, если они не ведут к миру?
ГЛАВА XX
В поисках морали:
II. Убеждение и ответственность
“К концу века либо человеческая жизнь прекратит существование на нашей планете, либо катастрофически снизится количество населения и мир впадет в варварство, либо, наконец, человечество будет подчиняться единому правительству, которому станет принадлежать монополия на все решающие виды оружия”.
Это слова лорда Рассела из его статьи, опубликованной в первом номере немецкого журнала “Der Monat” в 1948 г. Если мы поверим известному философу, нам и нашим детям остается совсем немного времени для выбора между этими тремя перспективами. Но если выбор именно таков, стоит ли играть в устрашение? Разумно ли малым государствам имитировать поступки гигантов? Разумно ли гигантам продолжать политику силы, которую существующие вооружения делают бессмысленной?
В конце предыдущей главы мы пришли к выводу, что мораль мудрости, являющаяся скорее результатом компромисса, чем синтезом идейных установок войны и нравственности права, была бы лучшим из искомых путей. Так ли это в ядерный век?
1. Атомное оружие и мораль
Ставит ли ядерная война перед моралистом совершенно иную по своей природе задачу, чем так называемые классические войны? Утвердительный ответ базируется на двух аргументах: характер, который приобретут военные действия и долговременные последствия подобных действий для всего человечества. Война не сохраняет человеческий характер, если не является испытанием силы, воли, ума. Одни люди противостоят другим, каж. А . 681
Мир и война между народами • Раймон Арон *,
■л. Ч ’Ч'-'Л-'-' г ;■
Часть IV
дый при этом рискует жизнью, чтобы лишить мощи своего противника. Конечно, на протяжении долголетней истории войны не походили на дуэли. Хитрость всегда считалась законной, даже если она свидетельствовала в большей степени о коварстве (злодействе), чем об изобретательности. Войны между “цивилизованными” сообществами и “варварами”, когда техническое превосходство гарантировало победу первым, а физическая сила — вторым, а также бесчисленные войны между гетерогенными народами, не всегда носили характер испытания и не закрепляли ни Божественной справедливости, ни принципов благородства. Нужно иметь ретроспективную веру в историческое Провидение, чтобы утверждать, что “варвары” просто поклонялись судьбе, в то время как “цивилизованным” сообществам необходимо было возрождение. Они порабощали варваров, стремясь сделать их цивилизованными, даже если это приходилось творить против их воли.
Тем не менее войны между государствами одной сферы цивилизации могли считаться как справедливыми, так и несправедливыми в зависимости от отношения каждой из сторон к развязыванию военных действий, в зависимости от целей, которые ставила перед собой каждая сторона, а также в зависимости от возможных результатов победы одного или другого лагеря. Имеют ли столь сомнительные различия, существовавшие в прошлом, смысл в ядерный век? Может ли ядерная война быть справедливой?
Такая война усилит тенденцию, очевидную с 1940 по 1945 гг., что не следует принимать в расчет только силы воюющих сторон. Расширение зон бомбардировок было вызвано и в какой-то степени оправдано двумя причинами: вопервых, стремлением подорвать моральный дух противника, а во-вторых, разрушить заводы, на которых производится оружие. Военный потенциал врага может и должен быть уничтожен, чтобы снизить его волю к сопротивлению. Рабочие места и сами рабочие составляют часть этого потенциала, по ним нужно наносить удары в соответствии с военными требованиями, которые моралист в общем имеет право отклонить, но от последствий которых он не может отказаться, если он хочет быть объективным. К этому аргументу — вся нация принимает участие в борьбе, то есть вся она является законным объектом военных действий — добавляется еще один. Сила сопротивления, по большому счету, это мощь всего народа; ни те, кто стоит у власти, ни армии не в состоянии продолжать войну после того, как массы потеряли храбрость и доверие к своим вождям. Следовательно, в большой войне не только армия противника является целью, но и социально-экономический потенциал в целом. Мораль, культивируемая в стане врага, также становится мишенью: так называемые британские зонные бомбардировки и так называемые немецкие устрашающие бомбардировки логически вытекают из этого соображения борьбы против вражеской коллективной психологии.
В действительности этот способ борьбы оказался неэффективным, однако от этого вынесение суждения по данному вопросу не становится более легким; в самом деле, в какой момент следует остановиться, осуществляя меры по расширению целей? Если война ведется нацией, то почему нация в целом не 682 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
может легитимно считаться мишенью? Практика тотальных или неограниченных бомбардировок должна быть осуждена скорее исходя из принципа соблюдения осторожности, а не морали Не компрометирует ли такая практика после войны тех, кто ее культивировал, в большей степени, чем она способствовала достижению победы? Если к подобным мерам прибегают обе стороны, то они обе должны нести ответственность, хотя ясно, что таким путем они не могли обеспечить себе значительного преимущества. Но будут ли такими же атомные или термоядерные бомбардировки?
Термоядерные бомбардировки, стань они реальностью, а не угрозой, могли бы быть нескольких типов. Абстрактно я различаю следующие типы: 1) возмездие: держава, обладающая термоядерным оружием, разрушает город государства, не обладающего таким оружием, либо чтобы наказать его за какое-то предшествующее действие, либо чтобы заставить его капитулировать; 2) ограниченные репрессии: великая держава может попробовать остановить агрессию или наказать агрессора, нанеся удар по городу виновного (перед или после эвакуации населения); 3) традиционная война: если предположить начало крупного военного конфликта между великими державами, то логично предположить, что они будут стремиться завладеть термоядерными запасами друг друга. Население страдает вследствие расширения зоны поражения, но не оно является намеченной целью; 4) реализация не принимаемой всерьез угрозы: малое государство может играть в устрашение, угрожая великим державам термоядерными ответами в некоторых случаях. Если великая держава не верит в исполнение угрозы, малое государство может осуществить агрессию хотя бы ценой собственной погибели; 5) массированные бомбардировки: возможно, что великие державы, после того как конфликт уже начался, потеряют всякую меру и будут стремиться к разрушению вражеских городов с надеждой на прекращение военных действий после того, как противник будет опустошен и изнурен; при этом победителем окажется тот, кто сумеет выжить; 6) уничтожение: если одна из великих держав получит в свои руки новое смертоносное оружие и ракетоносители, которых не будет иметь другая сторона, то она может попытаться не упустить возможность уничтожить своего противника, даже если последний будет готов сдаться на милость победителя.
Некоторые возражают, что подобные градации не имеют особого смысла, так как взрывная мощность термоядерного оружия такова, что в любом случае разрушения будут более чем значительными. Я не считаю такие возражения обоснованными. Разрушения действительно будут огромными, но они, вне сомнения, в значительной степени будут зависеть от политико-стратегических намерений враждующих сторон.
В 1962 г. во время своего выступления в Энн Арборе министр обороны США Макнамара высказался в пользу возможности вести современную войну методами прошлого, то есть в основном нанося удары по военным объектам противника. Таким образом, можно сделать вывод, что градации и различия, какими бы абстрактными они ни казались, не лишены определенного смысла.
Рассмотрим эти шесть типов и спросим себя, можно ли их назвать более аморальными, чем зонные бомбардиМир и война между народами • Раймон Арон 683 шж
Часть IV
• X -■■■ ■>
ровки, осуществленные англичанами и американцами во время второй мировой войны. Возмездие обычно может считаться актом моральным или аморальным, в зависимости от того, идет ли речь об агрессоре или жертве, другими словами, в зависимости от причины, которая заставила вести войну того, у кого находится инициатива. Я хорошо знаю, что некоторые моралисты расценят данный тип как плохой: применение террора позорит того, кто применяет его на уровне государства-агрессора. Рискованность военных действий очевидна, но не следует забывать, что не существует возможного этического суда над некими абстракциями, вытекающими из исторических фактов. Любые военные действия в наше время являются разрушительными; но грубое насилие, которое приведет к быстрой капитуляции агрессора, в известных случаях будет заслуживать оправдания.
Следующие два типа — ограниченные репрессии и традиционная война — в условиях применения термоядерного оружия вряд ли окажутся более разрушительными для общества, чем операции, которые велись в течение многих лет с применением классического оружия. Если решиться на эти страшные сравнения, то не очевидно, что некий верховный судья признает как якобы оправданную гибель 20 млн. россиян в период с 1941 по 1945 гг. и осудит как несовместимую с законом людей и Бога, смерть, скажем, 5 млн. человек, которые станут жертвами ограниченных ядерных репрессий.
Неопределенное и глубокое чувство, связанное с тем, что существует разница в природе ядерного и классического оружия, чувство, которое я разделяю и считаю нужным поддерживать, имеет, на мой взгляд, три источника. Прежде всего, люди реагируют на беспрецедентное по мощности оружие, как реагировали на все новшества, начиная с пороха (аморально сеять смерть на расстоянии: рыцарь не станет прибегать к столь бесчестному оружию) или удушливых газов. Такая реакция в прошлом никогда не мешала распространению нового оружия, хотя его повсеместно называли дьявольским. В данных обстоятельствах подобная реакция кажется мне здравой: человечество осознало, что атомные и термоядерные бомбы ставят качественно иные политические и нравственные проблемы, чем обычные бомбы. Качественное различие прежде всего является следствием количественного различия: тонна сброшенных на Германию тротиловых бомб между 1940 и 1945 гг. стала причиной гибели в среднем нескольких человек (около 0,2 на тонну, если учесть соотношение приблизительных цифр 30 млн. погибших на 1,5 млн. тонн). Одна атомная бомба в 20 килотонн (20 000 тонн в тротиловом эквиваленте), сброшенная на Хиросиму, стала причиной гибели десятков тысяч человек. Термоядерная же бомба мощностью в несколько мегатонн, упав на крупный город, вызовет миллионы смертей. Термоядерная бомба обладает большей взрывной мощностью, чем все бомбы, использовавшиеся во время последней войны. Изменение градации в смысле взрывной мощности приводит к изменению уровня разрушений и человеческих жертв. Если это изменение градации не происходит для первых трех типов, то потому, что мы его аннулировали стратегическим намерением, которое мы предполагаем: военные действия будут короткими; ограничиваются малым количеством взаимных уда-
684 Раймон Арон • Мир и война между народами
< Л WWVtf ■««.■«.< <S K.4)V -Фй>х- X->W v
ров; воюющие стороны не станут трогать города. Подобные гипотезы не абсурдны и подсказывают, что не любое применение ядерного оружия приведет к апокалипсису. Однако они же объясняют инстинктивный ужас человечества перед термоядерной угрозой. Изменение градаций взрывной мощности и разрушений таково, что дальнейшее стремление к экстремальной ситуации оказывается явно смертельным для одной из сторон, а скорее всего — для обеих.
Три последних перечисленных нами типа — реализация не принимаемой всерьез угрозы, массированные ядерные бомбардировки и уничтожение — ужасны в ином аспекте, чем первые три, поскольку они в равной степени абсурдны (как минимум 4-й и 5-й типы). Негодование и возмущение таких экспертов, как Б. Рассел, показывает, что государства нередко используют друг против друга угрозы, которые они в реальности не в состоянии привести в исполнение. Прибегая к сравнению, множество раз использованному в англосаксонской литературе, можно сказать, что все происходит как в игре (“poulet”): два автомобилиста едут навстречу друг другу в надежде, что кто-то в последний момент повернет руль; если никто не сворачивает, то обе машины оказываются разбитыми (в игре они окрашиваются особой краской из пульверизатора).
Таким образом, если ни один не сворачивает, надеясь на другого, катастрофы невозможно избежать, несмотря на то, что фактически никто не хотел этого. Оставим в стороне вопрос о том, состоит ли дипломатия в умении избежать этого блефа или двойного шантажа. Ограничимся констатацией того, что мощь термоядерного оружия такова, что, изменяя шаклу разрушений, она также измеПраксиология
няет в известных случаях нравственную природу войны. Существует ли причина, чтобы оправдать предание смерти миллионов человеческих существ, даже если государство, которое претендовало выступать от лица этих миллионов живых, было виновно в агрессии?
Моральное размышление, кажется, приводит к результатам, прямо противоположным в первых и последних трех случаях. Это видимое противоречие легко разрешается, так как качественная новизна термоядерного оружия является следствием качественного изменения. Достаточно устранить влияние этого качественного изменения при помощи соответствующей стратегии, чтобы исчезло своеобразие нравственной проблемы. В тот день, когда ракеты с ядерными боеголовками и самолеты с атомными бомбами разлетятся над океанами и в боевых действиях станут участвовать подводные лодки, охотясь друг за другом, — в этот день термоядерная война, возможно, станет менее дорогостоящим занятием, чем войны вчерашнего дня, развязанные индустриальными обществами угля, стали и нефти. Если их можно сравнивать абстрактно, эти два вывода вызывают только один последующий вопрос. Возможное оправдание первых трех типов предполагает ограниченное применение этого страшного оружия. Но скептик попытается поставить под сомнение это ограничение. Достижение экстремальной ситуации фатально, если атомные или термоядерные бомбы начинают взрываться?
Признаем честно, что мы ничего об этом не знаем. Два аргумента, два противоположных значения очень похожи и легко высказываются. Если война начнется, говорят одни, государственные деятели потеряют хладнокровие и Мир и война между народами • Раймон Арон 685
Часть IV
впадут в ярость. Но если война начнется, говорят другие, государственные деятели (если они не станут жертвами первых ударов) попытаются как можно быстрее остановить безумное убийство. То есть ядерный взрыв делает менее возможным экстремальное развитие ситуации в случае разумного поведения тех, кто управляет, и делает это более возможным, если считать, что руководители не способны к разумным действиям после первых выстрелов ядерных орудий. Лично я склонен верить в устойчивость страха, следовательно мудрости, но слишком много обстоятельств будут определять происходящее, чтобы можно было уверенно что-то предвидеть.
Результат этого анализа мог бы быть выражен следующим образом: ядерное оружие делает возможным полное разрушение вражеской нации, включая и территорию, и население. Применение этого оружие недопустимо, если иметь в виду традиционные правила ведения международных отношений, но возможно в случае, когда формула Руссо "войну ведут с государствами, а не с народами" сохраняет еще минимальный смысл или это оружие применяется ограниченно: в случае "типа Роттердам", "ограниченных репрессий" или "атаки на термоядерное оружие" целью чего является капитуляция государства или его наказание, а не уничтожение городов и их обитателей. Следующие три типа могли бы быть названы: мщение, безумное убийство, уничтожение. Случай мщения, в некоторых случаях посмертного, малого государства, которое предпочло смерть капитуляции, дарит философам вечную тему для размышлений: может и должно ли государство, то есть несколько человек, которые решают за всех, как командир крепости, предпочесть героическую смерть капитуляции, если эта смерть — гибель самого народа?
Встает еще один одновременно нравственный и политический вопрос: в какой степени возможно это ограниченное применение? В каких пределах должна удержаться угроза неограниченного применения, чтобы не перейти в действие? То есть проблема больше не в том, оправдано ли применение этого оружия при некоторых обстоятельствах и в соответствии с определенной стратегией, но: наличие этого оружия у нескольких государств и его дипломатическое использование (в стратегии устрашения) не создают ли страшного и нравственно преступного риска тотальной катастрофы, о которой множество раз говорили философы и ученые?
Мы еще придем окольным путем ко второму аргументу, на котором основывается утверждение, что в наше время безоговорочный отказ от такой войны — это единственная разумная и реалистичная политика, имея в виду последствия термоядерной войны для человечества в целом. Будет задето генетическое строение человека. Поколение за поколением будут рождаться дети с отклонениями, несчастье которых будет вменяться в вину воинственному безумию их предков.
Будет ли хуже с нравственной точки зрения причинить вред здоровью еще не родившихся человеческих существ, чем здоровью живущих? Я не знаю, но склоняюсь к тому, что разница скорее качественная и, таким образом, материальная. Как бы значительны ни были разрушения, причиненные войной, восстановление, мы это знаем по опыту последних пятнадцати лет, возможно и идет относительно бысто, если число 686 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
выживших достаточно и они обладают нетронутыми техническими возможностями. Что касается потерь вследствие ядерной войны, то возрождение наций остается предположительным — при условии, что здоровью поколений не нанесен непоправимый ущерб. Таким образом, ядерная война будет несопоставима ни с одной другой, поскольку поражает генетическую основу человечества. Люди завтрашнего дня "смоделированы” триллионами генов, которые три миллиарда живущих носят в своих хромосомах. Большинство генетических мутаций, вызванных радиацией, тератологические (то есть вызывающие уродства), считают биологи. Не увеличит ли катастрофически число таких мутаций ядерная война?
Не все биологи дают одинаковый ответ на этот вопрос. Но я верю, что большинство из них подписалось бы под предожением (предположением) X, которое я взял у Германа Кана: любая ядерная война не обязательно будет равнозначна самоуничтожению человечества.
"Однажды на конференции я высказал предположение, что было бы легко представить войну, пережившие которую в среднем получили по 250 рентген. Это в 25 раз больше тех 10 рентген, которые рассматриваются Академией наук как опасный порог. По нашим подсчетам, 10 рентген провоцируют 0,04% дефектов. Согласно широко принятой теории, признающей линейную зависимость между дозой и нанесенным ущербом, 250 рентген произведут в 25 раз больше ущерба, чем 10. Это означало бы, что 1% детей, которые могли бы быть здоровыми, будет ущербным (дефектным); то есть коротко, число дефективных детей, родившихся после войны, увеличится на 25% по сравнению с современной пропорцией. Это значительная цена, которую придется заплатить за войну. Что еще более ужасно, то, что мы должны будем продолжать платить цену того же порядка в течение 20, 30 или 40 поколений. Но даже в этом случае далеко до конца. Было бы хорошо, например, если бы американские руководители среди прочих были подготовлены к подобному значительному риску рождения 1% наших детей с нарушениями, если бы этого помогло избежать того, что власти США оставляют Европу в руках Советского Союза. Или если бы русские готовы были принять еще большие риски, если бы таким образом они устранили Соединенные Штаты.
В этом месте конференции одна дама поднялась и сказала осуждающим тоном: "Я не хочу жить в вашем мире, где 1 % детей рождается дефективными”. Мой ответ, я боюсь, был скорее грубым: ’’Это не мой мир”, заметил я и далее отметил, что если она не хочет жить в мире, где 1% детей рождается с дефектами, то она находится в еще более неприятной ситуации, поскольку 4% таких детей рождается сегодня. Эта история иллюстрирует, что у мира тоже есть свои трагедии, что мы пытаемся в нашей повседневной жизни игнорировать этот постоянный риск. Если это не касается нашей собственной семьи, наших родителей, или наших близких друзей, большинство людей просто игнорирует существование такого рода рисков в окружающей среде, где мы живем и растим наших детей.
Я охотно представляю себе, что если бы мы жили в мире, где бы никогда не рождались дефективные дети, и нам бы сказали, что после какого-то события 4% детей родится с серьезными аномалиями, такой мир показался бы нам невыМир и война между народами • Раймон Арон 687 >»
Часть IV
носимым. Мы не можем рассчитывать, что люди захотели бы заводить и воспитывать детей, если бы существовал риск того, что 1 ребенок на каждые 25 будет иметь серьезный врожденный дефект1.
Бертран Рассел призывает нас признать, что лучше капитулировать, чем вести термоядерную войну, которая запечатает судьбу цивилизации, то есть человечества как такового. Но он не разделяет четко различные советы: совет скорее капитулировать, чем подвергаться риску термоядерной войны, которая приведет к гибели человечества, совет скорее капитулировать, чем подвергаться риску войны, которая могла бы привести к гибели человечества, совет скорее капитулировать, чем развязать войну, которая могла бы привести к гибели человечества, и, наконец, совет скорее капитулировать, чем развязать войну, которая приведет к гибели человечества. Часто создается впечатление, что Бертран Рассел и те, кто думает аналогично, путают эти четыре совета или сводят их все к четвертому. Риском войны, которая могла бы стать самоубийственной для всех воюющих сторон, они подменяют уверенность в возможности такой войны. Если бы война действительно должна была привести к исчезновению человечества, какое государство, не будучи сумасшедшим или стремящимся сойти на нет, доводило бы до этого другое, имея альтернативу между капитуляцией и войной?
Стоящие вопросы достаточно патетичны, но и очень сложны, они формулируются через риски и объективные возможности. Имеющее средства великое государство, способно ли к производству оружия, способного опустошить без дискриминации значительные пространства, то есть сделать невозможной жизнь на планете или истребить все живые существа? Государства средних размеров не имеют достаточных ресурсов для приобретения самолетов или баллистических ракет, способных донести ядерную бомбу или боеголовку непосредственно к цели. Должны ли они компенсировать эту неполноценность производством самых "грязных" бомб, взрыв которых на значительной высоте может вызвать на значительных территориях пожары или радиоактивное заражение? Как пользоваться устрашением, чтобы сократить риск того, что угроза будет приведена в действие? При движении в каком из двух направлений: к гонке вооружений или к советско-американским договорам, риск будет сведен к минимуму?
2. Два пути и приостановка ядерных испытаний
В конце 1960 г. известный исследователь, физик, высокий государственный чиновник и писатель сэр Чарльз Перси Сноу, обратился к своим коллегам-ученым со следующими словами:
“Мы стоим перед четко обозначенной альтернативой, и у нас не много времени. Пусть мы принимаем ограничение ядерного вооружения. Оно начнется, чисто символически, подписанием договора о приостановке ядерных испытаний. Соединенные Штаты не получат 99,9% "безопасности" как они того хотят. Это невозможно, поскольку существуют и другие соглашения (сделки?), которые могли 1 H. Kahn, ор. cit., р. 46—47.
лпг 688 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
бы получить Соединенные Штаты. Я не буду от вас скрывать, что данная гипотеза содержит определенные риски. Они достаточно очевидны, и ни один честный человек не будет их скрывать. Вот одна из двух гипотез. Другая содержит в себе не риск, но уверенность. Вот она: нет соглашения по ядерным испытаниям. Гонка ядерных вооружении между Соединенными Штатами и СССР не только продолжается, но и нарастает. К ней присоединяются и другие страны, шесть или более, среди них Китай и некоторые другие страны имеют запас ядерных бомб. Существует возможность того, что через 10 лет эти бомбы взорвутся. Я говорю со всей осторожностью. Но я в этом уверен. То есть, с одной стороны, мы имеем законченный риск. С другой, уверенность в катастрофе. Выбирая между риском и уверенностью, человек в здравом уме не будет колебаться”.1
Можно ли считать точным, полным, справедливым представление проблемы как альтернативы между ограниченными рисками и уверенностью в катастрофе? На эти три вопроса я с сожалением должен ответить: нет. Тот факт, что сэр Чарльз, будучи физиком, располагает знаниями, которыми не располагает человечество, делает еще более серьезным искажение данных. Один аргумент служит базой для рассуждения, которое мы сейчас приведем. "Мы, то есть большинство из нас, хорошо знакомы со статистическими данными и обстоятельствами. Но знаем ли мы? Дает ли основания для уверенности имеющаяся статистика? Что, если несмотря на все накопленные вооружения, имеющиеся у разных стран, некоторые из них буквально взлетят на воздух? Вследствие инцидента, ошибки, безумия, — в данном случае молитвы не имеют значения. В данном случае имеет значение существо статистических данных.” Сколько нужно государств, бомб, времени, чтобы статистический факт стал непреложным? Я не думаю, что будет настолько легко подсчитать статистическую вероятность "несчастного случая от безумия или нелепости (глупости)”. Но примем физический факт, о неоспоримости которого говорят ученые. Разумно ли приходить к заключению, что на пути разоружения риск ограничен, а на пути гонки вооружений мы с уверенностью приходим к "(уверенной) катастрофе”? Это утверждение вдвойне ошибочно (ложно).
На что указал сэр Чарльз (или что он утверждает), так это на то, что несколько бомб взорвутся. Возможно, с точки зрения литературного языка, назвать "катастрофой” взрыв нескольких бомб. (Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, стали причиной катастрофы, но попытка американцев высадиться в Японии по масштабам материальных разрушений и человеческих жертв, тоже была бы катастрофой.) Противопоставляя "законченные (конечные) риски" и "уверенную катастрофу", сэр Чарльз внушает, что в отсутствие разоружения катастрофа очевидна. Другими словами, он переходит от взрыва нескольких бомб (взрыв, о котором объявляется с уверенностью) к тотальной термоядерной войне. Но при этом не является ни доказанным, ни вероятным (хотя это возможно), что взрыв нескольких бомб уменьшает "безумие убийства."
Что касается возможных последствий нарушения одной из двух великих держав соглашения об ограничении
1 Я взял текст доклада в New York Times. 29 декабря 1960 г.
Мир и война между народами • Раймон Арон 689 лл
Часть IV
Л5х.у«-'-:>5х :
вооружений, они не обязательно будут менее значительными, чем взрыв нескольких бомб. Более того, если речь идет не о катастрофе в общем, а о конкретной катастрофе, не о взрыве нескольких бомб, а о тотальной термоядерной войне, то нам остается выяснить, какой путь дает нам лучший шанс снизить вероятность такой войны. Риск термоядерной войны не может быть устранен ни с помощью политики вооружения, ни с помощью политики разоружения. В теории он мог бы быть устранен только установлением (созданием) всеобщего государства: такое государство не может быть создано сегодня заключением соглашения между братьями— врагами, оно могло бы появиться только в результате победы одного над другим. Две великие державы, какими бы ни были заключенные между ними соглашения, сохранят свой военный суверенитет, и если они начнут отражаться, они попытаются прибегнуть к ядерному оружию, даже если они подписали соглашение, запрещающее его применение.
Сравнение между двумя путями этой альтернативы не сводится только к сравнению между уверенностью и риском, катастрофой и ограниченным риском. Существует более или менее большой риск катастрофы вследствие тотальной ядерной войны, какой бы из путей ни был выбран. Если распространение ядерного оружия несет, согласно сэру Чарльзу, уверенность в нескольких взрывах, остается посмотреть, какие риски встретятся на пути разоружения. Здесь не место для уточнения природы и размера этих рисков. Рассмотрим только соглашение о прекращении ядерных испытаний, которое сэр Чарльз пытается представить необходимым, возводя его в символ пути, ведущего к ограничению вооружений и спасению, в то время как другой путь ведет к "безусловной катастрофе".
Договор (соглашение) о прекращении ядерных испытаний стал бы публичным признанием двумя великими державами их общего интереса — избежать войны и сохранить обладание решающим оружием. Мы знаем, что они по возможности воздерживаются от помощи своим союзникам: Китаю, с одной стороны, Западной Европе — с другой. Коммунистическая солидарность, как и западная солидарность, простирается исключительно до пределов ядерных вооружений. Исследование преимуществ и неудобств такого договора для каждой из двух великих держав включало бы три рода соображений. Какими могут быть последствия подпольных испытаний (то есть нарушения договора) другой великой державой в том, что касается равновесия сил, и какова вероятность такого нарушения? Каковы могли бы быть последствия такого договора для взаимоотношений каждой великой державы со своими союзниками (в 1960 году для отношений между Советским Союзом и Китаем, Соединенными Штатами и Францией)? В-третьих, каковы могли бы быть последствия такого договора для взаимоотношений между двумя великими державами, для перспектив дальнейшего разоружения?
Эксперты согласились в двух пунктах, имеющих основное значение для практико-морального анализа, к которому мы здесь приступаем. Подземные испытания в шахтах или пещерах, естественных или специально для этого созданных, на настоящем этапе развития приборов не могут быть зафиксированы. Верхняя граница для испыта690 *<:* к Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ний, которые в настоящее время нельзя зафиксировать, составляет около 20 килотонн, но может быть увеличена с помощью различных способов подавления. Подземные испытания послужат увеличению оружия небольшого калибра, сокращению веса головки при заданной мощности взрыва, в известных случаях —для ввода в действие другого оружия. Так как приборы регистрируют все эти годы сейсмические движения, вызывающие подозрения, которые мало отличаются от ядерных испытаний, группы ученых должны ехать на место (on the spot) для наблюдения за природой феномена. Риск обнаружения подпольного и незаконного испытания будет расти с ростом числа испекций. Вероятность нарушения одним из государств-подписантов зависит от результатов, которые они надеются получить вследствие таких испытаний, от вероятности того, насколько эффективной будет система контроля, и политических последствий доказанного нарушения. Самое важное из этих разнообразных замечаний приводит к наивному вопросу: какие военные преимущества может получить сегодня государство от продолжения (или начала) ядерных испытаний, которые, по всобщему признанию, нельзя зафиксировать? Что заставляет сказать, что соглашение (договор) не подвергается значительной опасности или что он не имеет технически большого значения? Если подпольные испытания способствуют значительному и решающему прогрессу, одно из государств будет стремиться "надуть” другое. Что приводит к несколько удручающему выводу о том, что такое соглашение будет иметь больше психологическое, чем военное значение. Оно делает ставку на добрую волю государств, которые его подписывают и принимают менее из доверия к уважению подписи, чем из безразличия к случайному нарушению.
Но в то же время остается главная неуверенность: не подписанное, но, возможно, уважаемое соглашение о временной приостановке ядерных испытаний не отнимет у двух великих держав ни средств нанесения внезапного удара, ни средств Ответа на агрессию ужасающими репрессиями: кроме того, не могло бы помешать либо одной, либо обеим великим державам улучшить некоторые виды вооружений (особенно небольшого калибра). Какое влияние на обстановку в мире имело бы соглашение, предусматривающее решительное прекращение, то есть (при упрощенном анализе) на отношения двух великих держав с их союзниками и между ними?
Мы знаем не много об отношениях между Советским Союзом и Китаем. Но мы знаем с некоторой долей уверенности, что китайские физики работают в атомных лабораториях Советского Союза, подписывают вместе с русскими физиками научные публикации, но что сам Китай не получил от Советского Союза ничего, кроме одного реактора устаревшего типа. Что касается Запада, то Соединенные Штаты тоже не дали своим западным союзникам ничего, кроме ограниченной помощи в атомных программах, и никакой помощи французским военным программам. Они достаточно тесно сотрудничали с Великобританией и предоставили ей пользоваться положением законодательства, позволяющим обмен информацией с достаточно развитыми странами. Таким образом, кажется, что существует относительная симметрия. Каждая великая держава добровольно способствует разМир и война между народами • Раймон Арон 691
Часть IV
витию ученых союзных стран, то есть прогрессу в области мирного использования атомной энергии. Каждая из них старается, не нарушая слишком в открытую законов солидарности внутри блока, замедлить — если не помешать — независимое получение своими партнерами атомного или термоядерного оружия.
Ассиметрия существует в этом отношении между Советским Союзом и Соединенными Штатами или, нужно было бы сказать, между Европой и Азией. Советский Союз не обеспечил Китай атомным оружием для отражения американских провокаций. Он еще раз заявил, что в соответствии с договором о взаимной поддержке в случае войны между народным Китаем и Соединенными Штатами он вступит в нее на стороне первого и против последних. Этого союза достаточно, чтобы "защитить" Китай от американской агрессии или чтобы отговорить Соединенные Штаты от всякой открытой агрессии. Но он не позволяет народному Китаю брать на себя инициативу масштабных военных действий даже против Quemoy и Matsu. Советский Союз, сохраняя исключительно для себя атомное оружие, отговаривает и своего союзника, и своего врага решать свою ссору при помощи силы. Но он со всей очевидностью приводит Китаю дополнительные доводы в пользу быстрейшего развития своей программы ядерных вооружений.
В Европе, как мы уже видели, Соединенные Штаты попытались достигнуть одновременно двух целей: сохранить размещение ядерного оружия, дать своим союзникам преимущества, проистекающие из обладания этим оружием. Средства, использовавшиеся для достижения этих двух целей, варьировались в течение 10 лет в зависимости от технического прогресса.
Страной, которая в 1961 году имела наибольшее число мотивов для получения атомного оружия, был Китай, а не Франция. Коммунистический режим пытается обеспечить Китаю статус великой державы на мировой арене. Он не имеет никаких шансов достичь своей ближайшей цели — уничтожить тех, кто пережил националистический режим в Еогтоэе — только вступив в ядерный клуб. Советский Союз был еще более сдержан по отношению к своему основному союзнику, чем Соединенные Штаты по отношению к своим европейским союзникам. Договор между Соединенными Штатами и Советским Союзом о прекращении ядерных испытаний не помешал бы Китаю продолжать свои усилия для получения собственного атомного оружия. Если бы его целью было запрещение распространения ядерного оружия, он был бы не слишком эффективен. Он всего лишь замедлил бы движение. Великие державы — а Китай потенциально одна из них — не смогут бесконечно маневрировать, будучи "биороИз1е8". Даже державы "второго порядка" с трудом смирятся с постоянством ситуации, когда они все время находятся в подчиненном (низшем) положении.
Что касается союзников, то договор о прекращении испытаний мог бы стать более эффективным при одном условии: две великие державы торжественно или сдержанно берут на себя обязательство обеспечить его уважение не подписавшими его странами. Но это обязательство, в свою очередь, очень трудно взять и еще труднее соблюдать. Советский Союз не может открыто признать692 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ся, даже на секретных переговорах с Соединенными Штатами, что он боится того, что коммунистический Китай станет независимым обладателем атомного оружия. Точно так же Соединенные Штаты готовы строго объявить себя противниками получения своего ядерного оружия любым, даже союзным, государством, но при этом они даже не предполагают прибегать к силе или к угрозам, чтобы отговорить Францию от производства атомных бомб. Другими словами, соглашение о прекращении ядерных испытаний стало бы свидетельством робкой попытки (слабого желания) проведения абстрактно желаемой и, возможно, разумной политики: запрет двух великих держав всем остальным государствам производить собственное ядерное оружие, но эту политику парализует противостояние между двумя блоками и непреодолимый парадокс открытого альянса врагов против их соответствующих союзников.
Отсюда следующие вопросы: каким бы было влияние этого соглашения на взаимоотношения между двумя великими державами? Создание системы проверок, пусть не очень эффективной, означало бы начало новой эры, открытости Советского Союза международным инспекторам, смягчение вековой и фанатичной охраны секретов, было бы первым, очень робким шагом к открытому миру?
На эти вопросы нельзя ответить с уверенностью. Среди экспертов одни, в основном физики, доказывают (утверждают), что первое соглашение, каким бы ограниченным оно ни было, имело бы значение и вклад, которые во многом превосходили бы материальные результаты или полученные гарантии. Другие беспощадно разоблачают скрытый смысл соглашения. В конечном счете две великие державы должны были бы пообещать друг другу удовлетвориться имеющимися в настощее время в наличии вооружениями, чтобы помешать другим государствам получить эквивалентные им. Соглашение уважалось бы при условии, что эксперты с обеих сторон не верили в важность прогресса, которого можно достичь благодаря новым испытаниям. В противоположность этим ограничениям и этим неуверенностям каким мог бы быть позитивный аргумент? Человечество увидело бы в этом соглашении, пусть даже символическом, доказательство того, что две великие державы имеют желание и возможность слушать друг друга. Но этот аргумент — ударный аргумент оптимистов — отвергается пессимистами: чувство, что сделан важный шаг к разоружению или миру, иллюзорно (было бы иллюзорным). Западные страны имели бы тенденцию положиться на обманчивую безопасность. На самом деле все в основном, осталось бы без изменений.
Этот анализ не имеет своей целью показать, что Соединенные Штаты должны были бы любой ценой подписать такое соглашение о прекращении ядерных испытаний, даже при существовании принципа тройки (руководить секретариатом, которой должен наблюдать и гарантировать выполнение соглашения, будет комитет из трех человек: представителя Советского Союза, Запада и незаинтересованной стороны). Он имеет в виду показать природу дипломатико-стратегических решений в наше время и ведет, как и анализ предыдущего раздела, к выводу, который одни сочтут банальным, а другие печальным Мир и война между народами • Раймон Арон -т 693
Часть IV
(разочаровывающим): решение не стало другим от того, что в случае возможной войны разрушения могут быть неисчислимыми
Бертран Рассел делает капитуляцию очевидно рациональной, представляя ее как один из альтернативных путей, в то время как другой путь неизбежно приведет к тотальной ядерной войне. Сэр Чарльз преображает значение соглашения о прекращении ядерных испытаний, представляя его в качестве одного из двух открытых человечеству путей; при этом другой путь с уверенностью ведет к катастрофе.
На самом деле оригинальность(своебразие) размышлений, которые мы проанализировали, состоит в том, чтобы быть реалистом, то есть прислушиваться в дальнейшем к аргументам нравственности. Ни одна из двух великих держав ради капитуляции не может отказаться от своей силы устрашения, то есть от ужасной угрозы разрушить города или убить миллионы безвинных людей. Но эта угроза нравственно не оправдана, если не существует какой-то высшей угрозы, но каждая при этом старается создать такие условия, чтобы эта угроза никогда не была приведена в исполнение. Иначе говоря, в этом отношении макиавеллиевская цель совпадает с целью моралиста: и один, и другой хотят сократить риск термоядерной войны и предположить, что уели уж ядерное оружие будет применено, то ситуация не станет экстремальной. Но следует заметить, что если приверженцы прагматизма и нравственности стремятся к сближению, то это не значит, что осторожность как таковая может стать гарантией правосудия, а что самому правосудию мы предпочитаем жизнь миллионов людей. Мы не решаемся повторить flat justitia, pereat mundus, потому что формула “мир гибнет”, сегодня не только риторическая.
3. Выбор государств «второго эшелона»
Соглашение о прекращении ядерных испытаний косвенно должно было бы интересовать другие страны, его подписавщие, так как это закрыло бы им доступ в ядерный клуб. На основании каких мотивов подобное решение могло бы повлиять на правительства Франции или Индии?
Те французы, которые враждебны производству атомных бомб из соображений нравственности, вполне логично должны были бы желать расторжения союзов, заключенных с той или иной из держав, владеющих ядерным оружием, в том числе и атлантического альянса Если они считают неоправданным с разумной точки зрения дипломатическое использование термоядерной угрозы, они тем более не примут таких союзов, если безопасность их родины будет основываться на подобной угрозе, к которой прибегает союзное государство. Более того, британцы и французы, которые хотят отмежеваться по этическим мотивам от стратегии распространения ядерного оружия, не должны в этом случае отказываться только от производства бомб или размещения на их территории самолетов или баллистических ракет; они также должны по возможности отказаться от любой выгоды, приносимой подобной стратегией. Возможно, некоторую часть преимуществ от подобной стратегии они могли бы сохранить, даже выйдя из союзов. Прежде чем прибегать к риску агрессии, 694 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
каждая из двух великих держав должна была бы спросить себя, во всяком случае, о реакции другой. Разрыв альянсов, заключенных под угрозой стратегии распространения, стал бы лишь символом воли (желания), возвышающейся над политическим порядком: скорее принять все возможные риски, чем прибегать к угрозе "уничтожения невиновных".
Можно искренне стремиться к созданию клуба государств, не владеющих атомными мощностями, или, в другом плане и при помощи иных аргументов, к закрытию атомного клуба. Но в этом случае речь идет о "политике ответственности", преимущественно о гарантированной защите большим государством (большей державой), а не об отказе от всякой защиты и о выбранном доверии "пацифизму" наций и империй. Проанализируем показания к тому или иному выбору для Франции, как мы это уже сделали для Соединенных Штатов.
Правительство государства средних размеров, как, например, Франция, обуреваемо тремя видами советов: реалисты, как правило англосаксонцы, призывают во имя интересов человечества не увеличивать число государств—обладателей страшного оружия: другие реалисты, как, например, французы, советуют дать Франции средства отражения агрессии, которые помогут ей стать одной из великих держав; наконец, реалисты и моралисты советуют не тратить значительных сумм на вооружение, которое будет бесполезным для Франции и опасным для человечества.
Сначала государственный деятель попытается задать вопросы англосаксонским реалистам. В какой степени приобретение Францией атомного и термоядерного оружия увеличит риск всеобщей, тотальной войны? Легко сказать, что чем больше число бомб, тем больше шансы того, что произойдет "несчастный случай". Но если говорить о несчастном случае в техническом аспекте, то он может произойти и при мирном использовании атомной энергии. Во всяком случае, число бомб, произведенных двумя великими державами, исчисляется тысячами: по статистике, несколько сот бомб, произведенных во Франции, не должны значительно увеличить риск "несчастного случая по техническим причинам" — если принять во внимание, что французы примут не меньшие предосторожности и будут не менее компетентны, чем русские, американцы или англичане. Очевидно, что несчастный случай, предполагаемый представителями первой школы, более политический, чем технический. Но, на самом деле(в действительности), пока Франция остается частью атлантического альянса и ее войска расположены в Западной Германии, каким образом ее (французские) бомбы могут повысить риск "несчастного случая политического характера"?
Самое меньшее, что можно сделать, это высказать предположение: нельзя сказать, что вступление Франции в атомный клуб существенно увеличивает риски "несчастного случая политического или технического характера", на первый взгляд, это кажется даже маловероятным. Представители первой школы могут попытаться ответить президенту Республики, что опасность идет не столько от произведенных бомб, сколько от примера Франции. Небольшая атомная мощность страны, географически и политически интегрированной в какой-то блок, не изменяет существенно ни силу альянса, ни риски "неМир и война между народами • Раймон Арон 695
Часть IV
-Й--М¥г№
снастного случая, безумия или несдержанности". Но что произойдет, если по этому же пути пойдут Западная Германия и Италия, Египет и Израиль? На это французский государственный деятель может ответить, что пример Великобритании в этом отношении не менее "преступнен", чем пример Франции. Почему Францию следует осуждать больше, чем Великобританию? В случае приверженцев конкуренции двух продавцов, монополизирующих рынок, Соединенные Штаты и Великобритания совершают огромную ошибку, одни — став обладателями ядерной мощности, другая — практикуя тесное научное сотрудничество с третьим членом клуба. Устанавливая иерархию внутри атлантического блока — глава блока, привелегированный союзник, страны, нуждающиеся в защите, — Соединенные Штаты сами провоцируют Францию на поиск своего места, о котором они будут сожалеть или которое будут порицать.
Более того, если Соединенные Штаты считают противоречащим интересам альянса и всего человечества увеличение числа государств, обладающих ядерным оружием, они должны убеждать в этом своих союзников или, как минимум, делать все, чтобы их в этом убедить. Иначе говоря, усилие по убеждению содержит в себе два рода элементов: аргументы и средства давления (обещания или угрозы, а так как угрозы использовать сложнее, то в основном обещания). Аргументы принадлежат главным образом третьей школе, то есть тем, кто утверждает бесполезность "маленькой ударной силы". Но, и мы это вскоре увидим, эти аргументы не являются решающими. Они должны опираться на "обещания". В современном состоянии внутриатлантической дипломатии Соединенные Штаты скрыто "советуют" Франции "во имя высших интересов человечества" отказаться от ядерной программы. Что они обещают взамен? Даже не более продвинутое научное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. Я знаю, что американские государственные деятели могли бы возразить, что они не требуют преимуществ лично для себя, а для альянса и для человечества. Но даже если предположить, что они правы, их собеседник не будет убежден. Отказываясь от чисто атомной программы, французские государственные деятели должны были бы иметь чувство, что они пожертвовали "национальным интересом" в узком и традиционном его смысле, во имя альянса и человечества. Государство, сила которого делает его главным, обязано дать что-то взамен этой жертвы, будь то компенсация научная (помощь в постройке подводной лодки) или политическая (обещание дать консультацию, обязательства по возможному выводу американских войск).
На это американские посредники могут возразить: почему мы должны платить французам за то, что заставили их следовать политике, отвечающей их собственным интересам? Как следствие, решающими становятся аргументы третьей школы, реалистичной в глубине, хоть и "перенаселенной" моралистами: сила "национальных" ударов бесполезна. Но мы видели, что проблема достаточно сложна.
Упрощая, можно сказать, что для того, чтобы стать инструментом устрашения, ударная сила должна стать силой репрессий, то есть не слишком пострадать после первого удара врага. Кро696 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ме того, необходимо, чтобы грузовикиносители и атомное или термоядерное устройство были таковы, чтобы необходимые коммуникации поддерживались даже в случае внезапной атаки. Наконец, мощность оружия репрессий должна быть такова, чтобы "заставить задуматься" стоящих во главе государства, обладающего атомным оружием более высокого порядка. К этим трем совершенно необходимым условиям некоторые аналитики добавляют четвертое: разрушения, причиненные малой державе в случае войны, не должны быть сопоставимы с уничтожением.
Легко показать, что Франция в 1965—1970 годах не будет обладать подобной независимой мощью: будет ли она обладать ею в 1975—1980 гг.? Будет ли иметь какое-то значение для Франции ударная сила, неэффективная в отношении Советского Союза? Французская программа-1960 включает в себя две части: одна — научная — необходима, если Франция в какой-то момент должна стать обладательницей технической и промышленной базы для атомного производства, другая — создание, как можно быстрее, ударной силы. Отметим, что при неразумности второй части, Франция должна немедленно начинать выполнение научной части своей программы, если она хочет через 15 лет обладать некоторыми автономными мощностями по производству термоядерного оружия и баллистических ракет.
Может ли она достичь подобной мощности? Одни эксперты подтверждают это, другие отрицают. Если вспомнить о суммах, которые тратят Соединенные Штаты на разработку и производство носителей и бомб, то ответ будет отрицательным. Но подобные расчеты вызывают возражения. Время и расходы, необходимые для научного и технического прогресса, могут быть существенно сокращены для тех, кто идет вторыми, кто знает о доступной цели и кто получил разнообразные указания о пути, по которому следует идти. Также не следует исключать, что сама военная задача — быть способным причинить врагу важные разрушения—может быть решена только с помощью технических достижений, одни из которых будут менее, а другие более дорогостоящими.
Американские ученые стараются производить "чистые бомбы", то есть содержащие минимум радиоактивных осадков. Маленькое государство, которое несмотря ни на что хочет получить некоторую военную автономию, имеет преимущество производить и знать, что производит "грязные бомбы", даже если его собственное население станет жертвой радиоактивных осадков (потому что в любом случае оно останется беззащитным под ударами великих держав). С другой стороны, в тот день, когда французские инженеры откажутся от точности тира и твердо выберут стратегию нанесения удара против городов, а не против термоядерного оружия противника, может быть, смогут произвести носители с уменьшенным ударом и уязвимостью. В случае, когда речь идет только о разрушении некоторой поверхности территории противника при помощи “грязных бомб", взрывающихся на большой высоте, не так уж маловероятно, что страна, похожая на Францию, сможет иметь такие, возможно, не причинив одновременно разрушений себе самой.
Будет ли тем не менее Франция иметь силу устрашения? Все дело в том, чтобы назвать "силой устрашения" Мир и война между народами • Раймон Арон да 697
Часть IV
"ударную силу". Если иметь в виду возможность ослабить удары противника либо нанесением удара по его атомному оружию, либо эффективной защитой собственного населения, то в обозримом будущем Франция не будет иметь оружия устрашения: территория Франции слишком мала, а жизненно важные органы нации слишком сконцентрированы. В тот день, когда Советский Союз предъявит ультиматум, предоставленное самому себе французское правительство в большинстве случаев будет вынуждено руководствоваться соображениями капитуляции, так как на карту будет поставлено выживание французского народа. Несмотря ни на что, Франция могла бы в случае необходимости ответить на внешнюю провокацию жестом безнадежности, возможно даже, внезапно ответить на атаку.
Дальнейший этап размышлений французского президента будет сводиться к сравнению между преимуществами и неудобствами такой полумощности устрашения для страны, для атлантического блока, для человеческого сообщества. Аргументация против предпринятых сегодня усилий будет выглядеть следующим образом: если Франция встанет на этот путь, за ней последуют другие государства; вследствие разнообразия атомных средств она станет подвержена более серьезным опасностям, чем те, которых она избежит или которые она приобретет, имея собственное оружие. В любом случае ресурсы, использованные на атомное вооружение, будут иметь более высокую "отдачу", чем если бы они были затрачены на обычное вооружение.
Противоположный тезис будет базироваться на двух аргументах. Невозможно предвидеть, какова будет в ре698
зультате технической политики стратегия и дипломатия и Советского Союза. Создание термоядерной мощи это как минимум гарантия, а так как речь идет о жизни и смерти, то гарантия необходимая. С другой стороны, даже если по соглашению с великой державой будет достигнута эквивалентная безопасность, это не повод, чтобы судить о том, что ни одно государство не должно отказываться от собственной защиты, если оно имеет средства поступить подругому. И это ценно в обоих смыслах: обладание атомными бомбами может рассматриваться как преимущество само по себе, вне зависимости от эффективности выгоды, в том случае, когда автономия государства — цель, а не средство. Решения генерала да 1Ълля очевидно определяются подсчетом издержек и доходов, менее сравнением между безопасностью, которую дает чистая сила устрашения, и безопасностью, которую дает атлантический альянс, чем доктриной, изложенной в речах Военной академии: государство, которое не несет ответственности за национальную оборону, не является больше государством.
В этой форме доктрина выглядит анахронизмом, так как в этом случае существует только два подлинных государства — Соединенные Штаты и Советский Союз. Другие же могут быть защищены только через взаимный паралич великих держав. Более того, доведенная до логического конца эта доктрина поддерживает всех глав государств в их стремлении к автономии, которую дает обладание ядерным оружием.
Когда все эти оговорки сформулированы, остается два неустранимых сомнения, одно из которых касается непредсказуемости технического и полиРаймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
тического будущего, другое — разнообразия легитимных целей.
В плане обороны усилия, направленные на создание квазиавтономной силы репрессий, то есть устрашения, будет считаться либо рациональной, либо лишенной смысла в практическом плане: 1) технические результаты, которые будут получены и 2) дипломатическая обстановка через 10—20 лет от настоящего момента. Если эта обстановка будет подобна сегодняшней, вероятно, желательным будет не тратить ежегодно сотни миллиардов старых франков, чтобы получить силу устрашения, которая не будет эффективной только внутри термоядерной системы атлантического альянса. Но все же не следует полностью исключать разнообразные случайности, как, например, отвод американских войск из Европы или еще более радикальное изменение взаимоотношений между тремя истинными великими державами (Россия, Китай, Соединенные Штаты) — такие случайности могут привести к тому, что полу-сила устрашения будет иметь дипломатикостратегическое значение.
Это не все. Усилие Франции — это факт, с которым не могут не считаться ни Соединенные Штаты, ни Великобритания. Если Великобритания присоединится к Общему рынку, ей станет все труднее и труднее сохранять свое положение привилегированного союзника, единственного, который может сотрудничать с американским управлением по атомной энергии. Практически неизбежно ей придется сотрудничать с Францией и ее партнерами по Европейскому сообществу. Здесь появляется возможность, или скорее вероятность появления "европейской силы устрашения", которая подтолкнет политическое сообщество и станет его выражением — эта сила будет скоординирована с американской. Такая формула — великая американская сила, европейская сила меньшей мощности — не создает дополнительных опасностей, но содержит видимые преимущества, так как уменьшает разницу между великой державой по ту сторону Атлантики и малыми государствами Старого Света.
Даже если прислушаться ко всем этим разнообразным аргументам, всетаки остается неопределенность, являющаяся результатом множественности целей. Государства как индивиды хотят не просто жить, они хотят почестей, не просто безопасности, но определенного места. Они часто предпочитают опасность будучи автономными миру под протекторатом более сильного. "Неразумны" ли они? Неразумен ли капитан, погибающий со своим кораблем? Если это так, пожелаем человечеству быть неразумным.
4. Выбор великих держав
Макс Вебер рассматривал добровольцев как образец нравственности и убежденности будь он пацифист или революционный синдикалист. Сегодня он бы воскресил в памяти "приверженцев одностороннего действия — юнилатералистов", приверженцев одностороннего атомного разоружения. Последние, на мой взгляд, представляют собой современную версию абсолютного пацифизма.
Но английские и американские юнилатералисты различаются. Первые, как мы уже видели1, склоняются к интерпре1 См. выше, гл. XV.
Мир и война между народами • Раймон Арон 699
Часть IV
тации, которая отнимает у них всякое нравственное достоинство, но делает решение менее неприемлемым. В самом деле, предположим, что Великобритания решает отказаться от ядерного вооружения и выйти из Североатлантического договора. В этом случае она не оказалась бы брошенной на милость своим врагам. Нейтральные страны или страны, не входящие в какой-либо блок, в ходе истории нередко бывали защищены великими державами, не состоя при этом ни в каком союзе с ними. Пока существуют два государства, обладающих термоядерным вооружением, ни одно из них не становится главенствующим и все члены неядерного клуба могут иметь иллюзию, что их безопасность не требует того, чтобы прибегнуть к использованию, пусть даже только дипломатическому, этого страшного оружия.
Не удивительно, что как только устрашение становится двусторонним, все союзники Соединенных Штатов начинают задаваться вопросом, поможет ли им "американское обязательство (вступление в бой)" избежать большей опасности, чем им принесла бы безопасность. Или можно сформулировать этот вопрос несколько иначе: не могли бы они обеспечить себе ту же степень безопасности или противодействия агрессии, сохранив при этом лучшие шансы на выживание, в случае войны. Европейцы тем более благоприятно настроены по отношению к американскому вступлению, что они заранее убеждены в том, что устрашение предупредит войну и агрессию. В тот день, когда это убеждение пошатнется, они начнут задавать себе вопросы.
Будет ли наилучшей для Великобритании и континентальной Европы политика нейтралитета? Нет недостатка в аргументах, которые опровергают предыдущие: разрыв альянса увеличивает опасность взрыва, не значительно увеличивая при этом вероятность остаться в стороне от конфликта в случае перерастания его в тотальную войну. Никто не может с точностью просчитать все шансы, связанные с различными случайностями. Эти шансы меняются также в зависимости от развития военной техники и изменения международной обстановки. Пока Берлин и Германия разделены и американские дивизионы развернуты в Европе, официальный раздел между Старым и Новым Светом не сможет изменить исторической солидарности, которая во время войны проявляется в том, что один не может оставаться нейтральным, когда другой начал сражаться.
Как бы то ни было — и следует повторить еще раз, что нас интересует логика, по которой делается тот или иной выбор, а не содержимое выбранного, — нейтралитет подобного типа, оправдываемый такого рода соображениями, будет политикой ответственности, а не политикой убеждения. Моралистами убеждения будут те, кто будет призывать Соединенные Штаты или Советский Союз к одностороннему разоружению, или те в Великобритании, кто будет призывать соотечественников предпочесть оккупацию атомной войне или, поскольку в наше время любая война между регулярными армиями может спровоцировать применение атомных бомб, предпочесть оккупацию любой войне.
Даже этот последний выбор — предпочесть оккупацию войне — требует реалистической интерпретации, какую дал ему, например, командующий С.Кинг Холл. Восстания против колониальных 700 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
властей по всему миру показали до какой степени эффективны гражданское неповиновение, ненасильственное сопротивление, терроризм и герилла — они слишком дорого обходятся империальным властям, которые не в силах восстановить порядок и вынуждены тратить на этот нескончаемый труд суммы, значительно превышающие доходы от эксплуатации покоренных народов. Достаточно даже безоружному народу решиться сделать невозможной жизнь завоевателю, чтобы последний мало помалу открыл тщетность своих завоеваний.
Эта теория в том случае, когда хочет считаться реалистичной, обращает внимание на решающие возражения, причем обращает внимание на одни факты, игнорируя при этом другие. Прежде всего она предполагает, что окончательно прошло время массового уничтожения людей и что народ, сложивший оружие, не будет ни депортирован, ни взят в рабство, ни просто уничтожен. К несчастью, нет ни малейшего смысла подписываться под этим соображением. Русские интернировали 10 тысяч польских офицеров в свои лагеря: перед отступлением они их уничтожили. Сталин предложил Рузвельту и Черчиллю расстрелять несколько десятков тысяч офицеров вермахта. Немцы закрылы все польские университеты и практически уничтожили среднее образование. Просвещенные слои в империях инков и ацтеков понесли значительные потери от испанских завоевателей, а индейцы, лишенные своей традиционной культуры, влачат в течение веков жалкое существование, не имея смысла жизни, выглядя “второсортными” в глазах победителей, которые стали привелегированным сословием колониальных властей. Нет смысла напоминать и о насильственной смерти шести миллионов евреев, чтобы заключить, что цена порабощения для народа и культуры может быть значительно выше, чем цена войны, пусть даже и атомной.
С другой стороны, эффективность пассивного сопротивления, например, которое осуществляли индусы под руководством Махатмы Ганди, предполагает уважение определенных законов теми, у кого в руках оружие. Во время войны, когда англичане приняли решение без колебаний применять силовые средства, они подтолкнули страну к войне, несмотря на поддержку в конгрессе и робкое сопротивление. Казнь национальных лидеров в другой момент не остановила, но значительно замедлила во всем мире движение национального освобождения.
Во французской северной Африке движение было ускорено, так как французский закон был слишком тираничен в своей либеральной части и слишком либерален в тиранической. Невозможно было поддерживать иностранное господство именем демократии и допуская национальные волнения. Полуподавление только разжигало страсти и давало дополнительную пищу для восстаний. Но в Венгрии Советский Союз показал, что если задаться целью и использовать силу армии, то не так уж невозможно в XX веке сломить кажущуюся единой волю народа к сопротивлению и освобождению. Успех Ганди или анти-европейских восстаний имеет в наше время другие причины, чем цена поддержания порядка в борьбе с партизанами.
Действительно, Советский Союз, после того как произвел репрессии в Венгрии, не стал сам прямо осуществМир и война между народами • Раймон Арон кх ш 701
Часть IV
лять власть, а поставил у власти Венгерскую коммунистическую партию. Если мы предположим, что завтра Великобритания или Франция будут оккупированы названной так в честь прошлых заслуг Красной Армией, то советские руководители сформируют в память о 1917 годе правительство "рабочих и крестьян", составленное из коммунистов и коллаборационистов левыми или реалистами. Которые посчитают, с полным правом свои действия необходимыми для физического выживания французского или английского народа. В подобном случае вооруженное сопротивление против национального коммунистического правительства, не имеющее внешней поддержки, быстро сойдет на нет и завоевателям не придется вести дорогостоящей и нескончаемой войны против партизан.
Могут возразить, что невозможно одновременно опасаться массовых расправ, порабощения и обращения в другую веру. Чтобы обратить порабощенных, они не должны быть слишком порабощены или уничтожены. По правде говоря, в прошлом испанские завоеватели не пренебрегали комбинацией всех этих трех составляющих: народы, оторванные от собственной культуры, в то же время были обращены в христианство. В наше время сочетание этих трех факторов более затруднительно, так как религия стала светской, она обещает счастье в этом, а не в другом мире и провозглашает равенство индивидов и народов. То есть действительно риск состоит в основном в обращении, которое предполагает потерю национальной независимости и свобод, несовместимых с советскими ценностями. Массовое уничтожение и порабощение в стиле европейцев в Америке или Африке менее вероятны в обозримом будущем, хотя вполне исключить их тоже нельзя.
Было бы трудно доказывать американцу необходимость (причину) одностороннего разоружения в понятиях реализма. Прежде всего, исчезает частичная защита, которую дает всем государствам, как союзникам, так и нейтральным, ядерное оружие Соединенных Штатов. Только обладая подобным оружием, Советский Союз мог бы угрожать, не рискуя при этом. Ни одно государство не сможет противопоставить Советскому Союзу эквивалентную силу. Советская Россия будет иметь физические средства разрушения государств, народов, культур, не подвергая при этом себя подобной опасности. Тот, кто предлагает одностороннее разоружение, должен, если он хочет быть нравственным, ответить открыто на вопрос: будет ли это уверенное всемогущество Советского Союза предпочтительнее постоянной опасности, которую создает двуполярность ядерных держав?
Эта двуполярность не ведет неизбежно к тотальной войне, эта война не приведет неизбежно к гибели либо одной из воюющих сторон, либо обеих, либо всего человечества. Речь идет о сравнении существующих опасностей термоядерной монополии с возможными катастрофами при наличии двух владельцев атомного оружия. Еще раз сравнение не дает нам данных, которые были бы одновременно точными и свободными от сомнений. Никто не знает, ни какова вероятность термоядерной войны в ближайшие 10—20 лет, ни какова вероятность, с которой в отсутсвие одностороннего разоружения две великие державы согласятся либо на совместное разоружение, либо на передачу этого решающего оружия под нейт702 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ральное международное руководство. Коротко говоря, достижение двуполярного термоядерного состояния в мире, возможно, не является решающим и может привести к менее грозной монополии, чем монополия государства, вооруженного светской религией.
Оставим в покое эти отдаленные возможности. Следует ли предпочесть немедленную уверенность термоядерной монополии, присвоенной Советскому Союзу, постоянным рискам двуполярного термоядерного мира или гонки вооружений? Лично я без колебаний отвечу “нет” на подобный вопрос. Выбор одностороннего разоружения — это не ответственный выбор в ситуации технических новинок, он остается отказом от политического порядка, нравственным выбором индивида, решением, которое не может стать государственным решением.
Неопределенность будущего, которую пытаются устранить с помощью капитуляции, существовала бы в других формах. Народ Соединенных Штатов не был бы подвержен термоядерным бомбардировкам, потому что Советский Союз имел бы другие средства массового уничтожения, порабощения и обращения. Неспособные защитить себя Соединенные Штаты не смогли бы сохранить ни своего уровня, ни своего образа жизни (или им не была бы гарантирована их сохранность). Будущее не потеряло бы своей неопределенности, но настоящее стало бы им. Если кто-то из читателей возразит, что другие государства стали бы уважать того, кто сдастся на милость победителя, пусть он докажет, что государства меняют душу, жизнь, когда одно из них дает пример отречения, не презренного (презираемого), но возвышенного. Нет необходимости наделять государства какой-то особенной извращенностью, достаточно просто предположить, что они остаются тем, чем были на всем протяжении истории. Безоружный народ Соединенных Штатов перестал бы владеть землей, которую он обрабатывал, городами, которые он построил, богатствами, которые он заработал. Даже если правда, что все это богатство ничего не значит без людей, которые его собрали и которые его поддерживают, надо быть очень странным оптимистом, чтобы вообразить, что у людей других рас и других континентов не возникнет иллюзии огромного трофея, подаренного завоевателю.
Еще раз хочу повторить, что противопоставление уверенности и риска ошибочно. Единственной уверенностью, которую бы принесло одностороннее разоружение, стала бы уверенность в бессилии. Иначе говоря, бессилие для коллектива (сообщества) означет высшую неопределенность (неуверенность). Раб, зависящий от каприза своего хозяина, не обладает безопасностью. Безоружное государство, отданное на милость вооруженного государства, не обладает безопасностью.
Единственная разница состоит в том, что теоретически человечество перестало бы находиться под угрозой истребления в тот день, когда ядерная монополия была бы установлена в пользу кого-то одного. Следует ли показывать, что такая монополия является окончательной и что ученые не создадут никаких других средств уничтожения, которые были бы неизвестны сегодня и которые могли бы снова возродить опасность, устраненную капитуляцией? Следует ли согласиться, что, будучи длительной, угроза становится окончательной: риск уничтожения челоМир и война между народами • Раймон Арон *
V* < 703 л*
Часть IV
вечества становится незначительным, а если он возрастает, то одновременно возрастают усилия, чтобы избежать войны и выработать другие типы международных отношений. Допустить, что люди из Кремля согласятся на всемогущество сегодня, чтобы немедленно уничтожить ничтожную возможность истребления человечества в необозримом будущем, означает признать себя виновным в том, что Дж. Бенда называл худшим предательством просвещенного человека, то есть в глупости.
***
Если верить сэру Чарльзу Сноу, то единственный шанс на удачу дает разоружение. Лучше оккупация, чем война, заявляет командующий Кинг Холл. Лучше триумф Советского Союза, чем применение термоядерного оружия, провозглашает лорд Бертран Рассел. Ни один из этих трех знаменитых людей не признал бы себя моралистом убеждения. Двое из них — ученые и стремятся показать, что политика, которую они рекомендуют, является самой разумной. Я попытался на предыдущих страницах показать софизмы или перекосы в данных, с помощью которых они представляют как очевидную и неоспоримую аргументацию, в противовес которой на самом деле можно выдвинуть равнозначные возражения. Их отношение возникает вследствие неприятия ужасов возможной войны: предположение, что она может заставить их принять наихудшее решение, делает их глухими к доводам тех, кто делает другой выбор.
Таким представляется мне урок, вынесенный из борьбы мнений нашего века. Взаимоотношения между моралью убеждения и моралью ответственности не настолько отличаются сегодня, как это было на протяжении веков. Государственный деятель, действующий по велению сердца, не сообразуясь при этом с последствиями своих действий, избегает возложенной на него ответственности и вследствие этого становится аморальным. Непротивленец, который отказывается безо всяких условий от своего оружия, не обращая внимания на последствия своего отказа для себя самого и своей страны, если его примеру последуют, может быть, обладает мирным разумом, но он становится вне политического сообщества и должен признать легитимность примененных против него санкций. Нравственность гражданина или вожака может быть только нравственностью (моралью) ответственности, даже если возвышенные убеждения оживляют поиск лучшего и определяют цели.
Что есть отличительного в наш термоядерный век, так это склонность придавать решениям, принятым из соображения разума, а не из вычисления рисков и выгод, ответственный ход. Стоит ли этому удивляться? Никогда еще формула "никакое из зол, которого стремятся избежать, прибегая к войне, не может быть настолько велико, как сама война" не была настолько правдоподобна как сегодня — и все-таки она неверна. Термоядерное оружие дает возможность уничтожить население противника в ходе военных действий. Но уничтожение после капитуляции всегда было одним из возможных проявлений победы. Капитуляция одного из двух обладателей ядерного оружия не означала бы того, что опасность больше не существует. Если не ставить под вопрос подобную капитуляцию, то напрасно будет попытка преобразовать возможно проти704 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
воположную, скорее опасную, чем полезную, частичную меру и сказать, что только она открывает путь к успеху.
Человечество не смогло разобраться в космических силах, не став хозяином своей жизни и своей смерти. Дипломатико-стратегическое действие, как и техническое, не может быть разумным, не используя расчеты. Но оно рассчитывает поведение другого разумного существа, а не сопротивление металлов. Опасаясь суровой ошибки, оно не может знать, какова будет реальная реакция другого. Оно может и должно лишь надеяться, что реакция будет разумной.
ГЛАВА XXI
В поисках стратегии:
I. Вооружаться или разоружаться?
Вывод из предыдущих глав свидетельствует о том, что существование термоядерного оружия не меняет морали дипломатико-стратегического поведения.
Безусловно, существование такого оружия сводит к минимуму традиционные рассуждения о регенеративном воздействии войны или о храбрости народов. Оно со всей очевидностью обнажает разницу между условиями использования военной силы и условиями применения творческой жизненной силы или механизма гармонии. Государство, которое благодаря наличию термоядерного оружия и его носителей, имеет средства терроризировать или истребить остаток человечества, не имеет достаточно заслуг, чтобы считаться всеобщей (единой) империей. Может быть было не слишком оптимистично, но не слишком абсурдно еще вчера ставить вопрос на манер Прудона о том, что народ не может образовать государство, если он не способен себя защитить. То же рассуждение сегодня предполагало бы, что только великие державы законно претендуют на независимость.
Даже если термоядерное оружие, возможно, изменило смысл войны и оценку военных добродетелей, то все же морально-практические проблемы, стоящие перед государственными деятелями, претерпели не слишком много изменений; вопреки внешним проявлениям они стали более сложными, а не более простыми. Все, кто предпринимает какие-либо усилия, будь то отдельные индивиды или сообщества, всегда стремятся рассматривать (принимать во внимание) краткосрочные, а не долгосрочные (цели), свои собственные интересы, а не интересы сообщества (коллектива), к которому они принадлежат, видеть преимущества, которые дает им их инициатива, и игнорировать ответы на нее. В термоядерный век подобное поведение акторов (участников) рискует стать смертельным. 1Ъсударственный деятель, принимающий во Франции решение о производстве атомных бомб, должен, если он Мир и война между народами • Раймон Арон
705
Часть IV
хочет быть при этом реалистом, задуматься о последствиях дальнейшего расширения ядерного клуба, а не только о выгодах, которые принесет Франции членство в этом клубе. ГЪсударственный деятель в Соединенных Штатах, который хочет одобрения Конгрессом широкой программы пассивной обороны, должен задуматься о контрмерах, которые не замедлит принять Советский Союз. И, наконец, мысль одновременно самая простая и самая важная — целью каждой из великих держав является победа без войны, а не "so order so" (или—или).
Общий интерес двух великих держав, общий интерес всего человечества, состоящий в том, чтобы термоядерная война не началась, стоит столько же и должен стоить дороже, чем ставки каждого конфликта. Ни один из государственных деятелей не может определить национальный интерес, за который он отвечает, не рассматривая при этом выгоду от того, что война не начнется. К несчастью, та из двух держав, которая в каждый момент будет осознавать диспропорцию между ставкой и ценой возможной войны, приговаривает себя к отступлению каждый раз, когда возникает или кажется, что возникает, риск взрыва, то есть она приговаривает себя к потере одной за другой ставок во всех этих частичных конфликтах. Но если каждая из этих ставок скромна, таковы ли они все вместе?
Единственный способ преодолеть это противоречие — или принять риски, непропорциональные частной цели, или создать такие условия, которые позволили бы не бряцать термоядерным оружием или, как минимум, не бряцать им в достаточно редких обстоятельствах, и для целей настолько значительных, что другая сторона не совершила бы ошибки и не намеревалась бы пойти дальше. Как создать подобные условия? Я вижу два пути: путь разоружения (в широком смысле, который мы уточнили) и путь стратегии и дипломатии, снижающей роль устрашения и усиливающей роль обороны (защиты). Эти два пути пересекаются, и нелегко проследить и тот, и другой до конца.
1. Мир, основанный на страхе
Появление оружия массового уничтожения породило концепцию реального «вечного, мира», о которой уже говорилось выше. Речь идет о концепции установления мира, основанного на страхе.
Мысль не нова. Прошло уже столетие с тех пор, как появилась формула "война убьет войну", и ей доверяли то тут, то там во время периодов относительного мира. Опровергнутая новым витком вооружений, надежда возродилась после появления средств, убивающих быстрее и большее число людей: появление термоядерной бомбы произвело качественную революцию и придало этой теме невиданную актуальность. Фридрих Энгельс ошибался, когда считал практически завершившимся прогресс военной техники, авторы прошлого века ошибались, когда рассчитывали на пулемет и пушку, чтобы помешать бойне, теоретики периода между двумя войнами ошибались, объявляя о конце цивилизации в результате второй мировой войны: все эти ошибки доказывают еще раз, что мы ошибаемся, делая ставку на термоядерное устрашение для предотвращения третьей мировой войны.
706 - ~ < л \ / z ; \ Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Тезис "мир через страх" содержит в себе три различные версии, которые не всегда можно ясно различить, но которые можно выделить логически и исторически. Экстремальным тезисом мог бы стать тезис о возможно более длительном мире, основанном на страхе: распространение атомного и термоядерного оружия привело бы к тому, что между всеми государствами господствующим стал бы тот тип мира, который мы наблюдаем сегодня между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Вторая версия предполагет мир между государствами, обладающими ядерным оружием, когда эти государства отказываются воевать друг с другом даже с использованием классического оружия, из опасения, что можно перейти к использованию атомного. И, наконец, третья, наиболее простая версия основывается на том, что термоядерная война не случится никогда, так как воюющие стороны, даже если они располагают подобным оружием, будут остерегаться его применять, опасаясь последствий.
Из этих трех версий наиболее маловероятной является первая, но одновременно именно она и представляется доктриной мира. Две другие равнозначны гипотезам о возможном развитии событий, исходя из современной обстановки в мире. Они указывают на цели постижимой стратегии в той же степени, в какой формулируют гипотезы о будущем. В любом случае они находятся в рамках дипломатии-стратегии as usual (как обычно).
Экстремальная версия мира из страха не может ни в коем случае приниматься всерьез. Но она непреодолимо влечет к себе сознание, обладает правдоподобием ошибочной логики и готова быть облечена в формулу, кажущуюся разумной. Поэтому не совсем бесполезно показать, почему ее не следут придерживаться.
Если для того, чтобы они больше не сражались, двум государствам достаточно обладать ядерным оружием, почему не дать подобные средства другим государствам? Вечный мир был бы сразу же установлен. Скептики видят себя призванными "спасти войну" через ее гуманизацию (или через ее дезатомизацию). Рассуждение содержит двойную ошибку: мир между обладателями атомного оружия не гарантирован. Предположив, что он все-таки вероятен, невозможно распространить его на весь мир через распространение атомного оружия.
Начнем со второго предположения. Вероятность мира между обладателями термоядерного оружия основывается на гипотезе, что реальность напоминает модель "равенства преступления и наказания", а не на двух других возможных моделях (два гангстера, несопоставимость наказания преступлению). Иначе говоря, в отношениях между двумя малыми государствами, как минимум на следующей стадии, атомное вооружение создаст, очевидно, искушения и соблазны двух гангстеров, а не правовой безопасности. ГЪсударство с маленькой территорией будет разрушено до того, как сможет осуществить свою месть (это при условии, что тем же ударом, которым были уничтожены люди и города, не будет разрушено оружие возмездия).
Увеличение числа государств-членов атомного клуба добавит два фактора нестабильности: возможность начала преднамеренной либо нетаковой войны между великими державами вследствие вольных или невольных действий малого государства, возросМир и война между народами • Раймон Арон ч vг ч ч 707
Часть IV
шая вероятность войны вследствие нерационального решения государственного деятеля.
Гипотеза мира из страха между великими державами распадается на серию предположений. Ни одна из выгод, принесенных победой в этой войне, не будет соизмерима с ценой, заплаченной за обмен ядерными ударами. Каждый из двух обладателей атомного оружия думает подобным образом и знает, что другой рассуждает аналогично. Никто не живет с навязчивой идеей, что другой на него нападет. Никто не держит палец на кнопке (на спусковом крючке). Каждый одновременно доверяет мощи своего оружия и тому, что он называет рациональностью своего противника. Такого рода безопасность не сможет выдержать бесконечного расширения ядерного клуба. Член блока, обладающий незначительной ударной силой, при некоторых обстоятельствах и путем некоторых инициатив будет в состоянии развязать (спровоцировать) военные действия между двумя великими державами против их воли. Другими словами, двуполярная структура мира содержит меньше неизвестных, чем структура с возрастающим числом военных суверенитетов. У двух участников больше шансов провести дуэль согласно своим намерениям, чем у пяти или шести участников конфликта с различными группировками.
Если полиархия делает менее маловероятным событие, не соответствующее желанию двух великих держав, то она же делает более возможным так называемое нерациональное или безотвественное поведение дипломата-стратега. Нам удалось в какой-то момент дать в этой книге однозначное определение рационального поведения и даже показать, почему не удавались все предыдущие попытки такой формулировки. Мы напомним далее некоторые аргументы, которые мы приводили. Но, отказываясь от псевдострогости и возвращаясь к нормальному языку, следует просто сказать: боязнь того, что будущие обладатели атомного или термоядерного оружия поведут себя "неразумно", имеет основания.
Нелегко понять, всегда ли дипломатическое использование термоядерной угрозы является "разумным". Может быть, было бы неразумным привести эту угрозу в исполнение, когда первый удар, нанесенный врагом, разрушил значительную часть нашего термоядерного оружия. Но предположим, что руководители двух главных государств, отвечающие за термоядерное оружие, спокойны и склонны к размышлениям, что они не склонны поддаваться импульсам, и до последнего момента они будут все хорошо просчитывать, прежде чем отдать приказ, последствием которого может стать гибель миллионов людей. Предположим также, что подобные приказы и с одной, и с другой стороны не могут быть отданы на нижних ступенях иерархии, что цепь командования и сеть коммуникаций выдержат испытание международным кризисом. Такие предположения имеют меньше шансов быть истинными для пяти государств, чем для двух, для государств менее строго организованных, менее привыкших к обращению с современной техникой, чем дуополисты.
Эти замечания имеют очень ограниченный смысл и цель. При подходе к двум противостоящим позициям, каждая из которых имеет своих приверженцев, — мир через всеобщее распространение термоядерной угрозы и опасш 708 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ности, возникающие вследствие расширения ядерного клуба — у меня нет колебаний: первая — иллюзорна, ошибочно соблазнительна, она обладает характерным соблазном софизмов. Короче говоря, следует спасать войну, то есть возможность померяться вооруженными силами государств, а не вечный мир, который следует установить вследствие постоянный опасности ядерного холокоста.
Возможно, следует пойти дальше и задать вопрос: мир на основе террора — это реальная возможность вечного мира (или просто длительного)? Мортон А. Каплан среди четырех еще не осуществленных, но желательных моделей международной системы выделил то, что он назвал unit veto system, системой liberum veto. Так же как один голос против парализовывал польскую Diete, каждый участник — и не обязательно основной участник — имел бы не право, но возможность парализовать действия другого участника, угрожая ему смертью. Всякое государство имело бы право угрожать другому, потому что имеет репрессивные средства против агрессора, несущие смерть, способные принести гибель всему человечеству. Первая гипотеза предполагает, что малые государства должны быть в состоянии сделать свой термоядерный потенциал неуязвимым, то есть, чаще всего, расположить его вне своей территории, спрятать его в земле или в глубинах океана. Вторая гипотеза — машины последнего суда, (Doomsday machine) — надолго, если не навсегда, превысит ресурсы малых и средних государств. Даже великие державы не решатся сконструировать машину, опасную для всех, кто в случае "технической неисправности" определит судьбу человечества одновременно с судьбой того, кто ее сконструировал.
Исключение из списков (перевод в низший разряд) малых государств великими державами представляется мне кратковременным явлением. На историческом горизонте еще не заметно благоприятное изменение для малых государств. Конечно, задумываются над тем, что они приобретают оружие, которое даже в случае ответа на агрессию может причинить серьезные неприятности великим державам. Но они останутся подверженными устрашению, пока будет существовать огромная разница в потерях, пока размер территории будет служить поводом к низшему положению. Правда, для массовго уничтожения людей используется и химическое, и бактериологическое оружие. Не исключено, что подобное оружие будет менее дорогостоящим, чем термоядерное, а особенно баллистические ракеты, которые дают малым государствам шанс обладать оружием, количественно соотносимым с оружием великих держав. Но ближайшие перспективы лежат не здесь.
Добавим также, что международная система liberum veto не будет длительной. Великие державы справедливо сочтут ее невыносимой. Еще до того как она будет применена, великие державы согласятся в том, чтобы запретить сомневаться в своем превосходстве малым странам. Ни одна международная система никогда не была уравнительной и никогда не будет таковой. В отсутствие единственного авторитета для сохранения минимального порядка и предсказуемости необходимо сокращение числа основных участников.
Если версия доктрины мира через страх по размышлении представляется Мир и война между народами • Раймон Арон в
Часть IV
несостоятельной, то это не относится к к двум другим, более умеренным версиям: версии, согласно которой обладатели ядерного оружия не набросятся друг на друга, даже используя классические вооружения, или, наоборот, будут сражаться используя исключительно его. Речь идет о гипотезах, в основе которых лежит очень короткий опыт, и о целях, которые дуополисты могут перед собой поставить. Лучшим методом оценки уровня стабильности мира через страх было бы спросить себя, при каких обстоятельствах по воле одного из дуополистов или в отсутствие намерений любого из них может быть применено ядерное оружие, которым они угрожают, но которое они не хотели бы использовать.
Американские авторы составили перечень типичных случаев, в которых могла бы начаться "редкостная война", несмотря на весь страх, который она внушает. В той или иной форме этот список выглядит следующим образом:
1) Стабильность мира через страх предполагает равенство преступления и наказания. Иначе она не будет достигнута. Она все время ставится под вопрос вследствие "качественной гонки вооружений". Одна из великих держав может достичь такого уровня превосходства, когда посчитает себя вправе устранить своего врага с помощью приемлемого для себя удара или посчитает себя вправе заставить своего противника выполнять свою волю таким образом, что он даже не будет пытаться сопротивляться. В первом случае инициатива будет у него в руках; во втором — тот, кто занимает низшее положение, может ответить на внешнюю провокацию оборонительной, но фатальной для обоих инициативой.
Следует также сказать, что нарушение равновесия террора с помощью технической интервенции, или, как говорят американцы, technical break-through (технического прорыва), создало бы трудно поддающийся оценке, но вполне реальный риск начала войны, к которой готовятся, но которую не хотят начинать.
2) Даже если одна из великих держав не уверена четко в собственном превосходстве над другой, может случиться так, что обе представят себя в виде двух гангстеров, каждый из которых уверен в преимуществе того, кто нанесет первый удар, и видит разницу между победой (относительной) и поражением, между выживанием и исчезновением. Широта репрессий, которых следует опасаться, слишком велика, и кто-нибудь из двух, более хладнокровный, может запустить свой ядерный потенциал. Но каждый попытается это сделать только в том случае, когда будет подозревать противника в подобных намерениях. Таким образом, достаточно лишь недоразумения по поводу намерений другого, чтобы один из дуополистов получил так называемый разумный довод предпринять то, что запрещает страх. Условием этого второго случая, который называют обычно войной по недоразумению, будет некоторое нарушение равновесия, то есть награда за инициативу.
3) Наконец, даже принимая гипотезу, что существует равновесие страха, может произойти "несчастный случай", как, например, неправильное истолкование показаний приборов, взрыв бомбы, принятый за начало военных действий, нарушение в системе коммуникаций или в иерархии командования; офицер внутренней охраны может
710 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
иметь возможность отдать под свою ответственность приказ и спровоцировать взрыв и т.п. Другими словами, "несчастный случай" может быть как техническим, так и социальным.
4) Четвертый случай — это случай экстремальной ситуации, когда военный конфликт с участием либо одной, либо обеих великих держав уже начался. Этого подъема следует тем более бояться, что очень большое преимущество будет иметь тот, кто нанес первый удар, и что каждый из дуополистов боится инициативы со стороны своего противника. Таким образом, подъем содержал бы в себе некоторый элемент недоразумения или ярости.
5) Последняя возможность состоит
в том, что военные действия могут быть спровоцированы третьим государством, независимо от того, обладает оно или нет ядерным оружием. Если оно им обладает, то может добровольно или нет вовлечь великие державы в войну, которой они не желают, но которая будет соответствовать интересам ёаи-
ёепв. Если оно им не обладает, то одна из стран может его применить либо угрожать его применить и этим спровоцировать своего противника.
Никто не может утверждать, что этот перечень является исчерпывающим и что перечисленные случаи, будучи концептуально различными, не могут быть так или иначе перемешаны в реальности. Какова вероятность каждого из этих случаев? Какова вероятность проявления их всех вместе? Я не уверен в том, что какой-нибудь наблюдатель, будь он математиком или политологом, смог бы дать точный и определенный ответ. Речь ведь не идет ни о чисто математической вероятности (если увеличивать число ядерных бомб, то может случиться взрыв), ни о чисто политической вероятности (в качестве дуэли между двумя государствами, обладающими ядерным оружием, неизбежно, что в какой-то момент либо одно из них, либо оба сразу попытаются разрешить конфликт через войну). Эта вероятность имеет смешанный характер, она зависит от технических факторов (результат технического прогресса) и от психополитических факторов. Она по природе своей отличается от всех известных гонок вооружений.
Оставим на время, возможно, и праздный вопрос: идет ли речь об иллюзорных страхах, эффективную защиту от которых обеспечивает подлинный страх, внушаемый термоядерной войной? Попытаемся объединить результаты двух проведенных анализов: одного, посвященного доктрине мира через страх, другого — двух прагматичных версий. Первый приводит нас к следующему предположению: невозможно сохранить всеобщий и долгосрочный мир, предоставив всем государствам ядерное оружие. Второй приводит нас к такому предположению: страх не гарантирует мира даже между двумя государствами, обладающими ядерным оружием. Но мы также не отвергаем очевидного предположения: боязнь термоядерной войны побуждает дипломатов к умеренности. Мы бы хотели дополнить это последнее предположение: если бы можно было уничтожить атомное или термоядерное оружие при существующей международной системе, всеобщая война была бы тем не менее в той или иной степени вероятна. Есть все основания полагать, что всеобщая война, развязанная с помощью баллистических ракет и термоядерных бомб, была бы во много раз Мир и война между народами • Раймон Арон < > .. V м 711
Часть IV
страшнее прошлых войн, но нет никаких оснований предполагать, что планетарная система была бы более миролюбивой, чем системы прошедших веков, если бы великие державы не располагали этим страшным оружием.
Это фундаментальное противоречие обязывает всех, кто, как автор этой книги, хотел бы уменьшить роль силы в международной политике, спросить себя о роли разоружения в стратегии, предполагающей мир, или, если это предпочтительнее, уменьшение объема исторического насилия.
2. Мир через разоружение
Мы исследовали и по возможности попытались развеять иллюзии мира, основывающегося на страхе. Нам хотелось бы подобным же образом исследовать и развеять иллюзии другой крайности — мира через разоружение.
В классическом варианте используются три выражения: разоружение, сокращение и ограничение вооружений. Первое навевает мысль о мире, в котором государства отказались от всяких средств ведения войны, то есть сдали в металлолом броненосцы и авианосцы, взорвали пушки и фортификационные сооружения, распустили войска и оставили только полицейские силы, необходимые, как говорят, для поддержания порядка. Всегда остававшийся экстремистом Огюст Конт предвидел превращение регулярных армий в коннополицейскую стражу. Такое видение вероятного или возможного будущего всегда было достаточно утопичным (в уничижительном смысле), так как представляло мир, отличный от реального, несовместимый с природой человека и общества, и даже не указывало дороги к достижимой цели.
Нет необходимости долго доказывать, что государства, какими мы их знаем в 60-е годы, разделенные в своем видении хорошего и плохого (или, если это предпочтительнее, в своем понятии о нормальном — хорошем — обществе), уверенные в своих противостоящих намерениях, не способны и не желают отказаться от средств ведения войны, другими словами, от средств защиты собственных интересов, а также отказаться от возможности навязывать свою волю либо при помощи угрозы, либо при помощи оружия. В этом придуманном будущем исчезает иерархическое деление на великие и малые державы; только неравенство "полицейских сил", необходимых для "поддержания порядка", рискует способствовать восстановлению подобной иерархии и спровоцировать нескончаемые дискуссии о численности "полицейских сил", предусматриваемых всеобщим и всеобъемлющим договором о разоружении. Система без иерархического деления в соответствии с могуществом, без высшего суда, без монополии на силу просто немыслима. Это, если хотите, идеальный вариант, но вариант плохо сконструированный и не могущий быть реализованным.
В основном все предыдущие столетия до изобретения оружия массового поражения теория мира через разоружение была неприменима по следующим причинам: государственные деятели никогда не считали, что мир — или, если это предпочтительнее, неприменение силы — для них важнее тех или иных интересов (территориальных, связанных с ресурсами, с трофеями). С миром через разоружение были согласны только те, кто заранее был не ш 712 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
уверен, что сумеет продержаться и выстоять в случае войны. Можно ли предположить, что князья могли бы предстать со своими ссорами перед другим судом, кроме суда оружия, равноправным судом, заменяющим суд войны? Наконец, различие между силой, необходимой для поддержания власти, и силой, необходимой для завоеваний, было недостаточно четким, чтобы получила смысл мысль о превращении армий в полицейские силы. Установление мирных отношений между государствами не может настать прежде установления миролюбивых отношений между гражданами (или частями государства) внутри государства. В той или иной степени всякая политика жестока, а не только международная.
Может ли установление мирных отношений внутри государства или внутри блока поставить вопрос об установлении подобных отношений между государствами или блоками? Мне кажется, что на подобный вопрос с сожалением приходится ответить: нет. Внутри достаточно давно установившихся наций — как, например, французская — ни одна социальная группа, ни одна политическая партия не отказалась вполне определенно от применения силы для защиты своих доходов или своего идеала. "Полицейские силы" необходимые для "поддержания порядка" в борьбе с крестьянскими восстаниями или коммунистической революцией не должны быть слишком маленькими. Но большая часть человечества не пришла еще к национальному сознанию либо потому, что отдельные индивиды остаются заложниками племенных традиций по эту сторону от государства и нации, либо потому, что существующие сегодня политические сообщества не уверены ни в себе, ни в своем будущем (либо большие и непоследовательные, как Индия, либо маленькие и слабые, как Габон или Мавритания). В этих двух случаях также трудно определить безграничное поддержание status quo, как и изменение его с помощью силы. Могут ли государства возникать без противопоставления друг другу, самоутверждаться, не имея врага?
Примем предварительно, что равноправный суд может теоретически, в соответствии с волей людей и социально-экономическими условиями, выносить приговоры, которые предупреждают или останавливают кровопролитие, позволяют нациям сформироваться и сформировать самосознание, не сражаясь постоянно с внутренними и внешними врагами. Подобный суд предполагал бы соглашение между великими державами одновременно о соотношении сил и об определении справедливости и несправедливости. В случае одновременого и силового, и идейного конфликта между дуополистами треть мира будет обречена последовать по этому же пути с единственной надеждой, что две великие державы, стремясь к обоюдному интересу (избежать всеобщей войны), попытаются ограничить военные действия, которые могут вспыхнуть и здесь, и там.
Наконец, вследствие того, что великие державы вынуждены для поддержания своего положения сохранять значительное количество классического вооружения, разоружение, направленное на достижение мира, должно было бы, с одной стороны и прежде всего, касаться атомных и ядерных бомб, а с другой стороны — носителей этого оружия. Иначе говоря, здесь существует протиМир и война между народами • Раймон Арон 713 ж
Часть IV
воречие, основанное на техническом развитии» но разоблачающее фундаментальную апорию политики.
Уничтожение атомного и ядерного оружия тем более сложно, что контроль за возможным договором представляется маловероятным и что нарушение договора могло бы принести более высокие дивиденды. Вспомним вашингтонское соглашение об ограничении морских вооружений: ни одна мера не была предусмотрена для обеспечения выполнения принятых обязательств. Пять государств — Соединенные Штаты, Великобритания, Япония, Франция, Италия — доверяли друг другу только в том, что касается распространения новостей. Было признано невозможным построить втайне броненосец. Комиссии по контролю за разоружением Германии не стали достаточно эффективными. Несмотря ни на что, до того времени, пока не было начато открытое разоружение третьего рейха, Германия оставалась очень слабой в военном отношении, и Франция, в одиночку или со своей сетью союзников, была способна навязать ей свою волю, если она таковую имела.
Если речь идет об атомных бомбах или их носителях, то невозможно получить разумные гарантии того, что договор, согласно которому две великие державы должны их уничтожить, будет соблюдаться. Никто не знает, где в Советском Союзе и Соединенных Штатах хранятся ядерные бомбы. Даже если бы чиновники имели возможность свободно передвигаться по территориям двух великих держав, у них не было бы никакого шанса обнаружить все места хранения оружия, если предположить, что либо одна, либо другая держава твердо решила, в нарушение договора, сохранить некоторое количество таких бомб. При настоящем положении вещей возможности утаить оружие значительно превышают возможности проверки.
Прежде всего, невозможно уничтожить носители. Подземные пусковые установки трудно обнаружить. В случае уничтожения баллистических ракет будет достаточно любого модифицированного гражданского самолета для переноса атомной или ядерной бомбы. Наконец. химическое или бактериологическое оружие скрыть еще легче. Основные государства обладают газовыми бомбами, воздействующими на нервную систему и провоцирующими либо немедленную смерть, либо временный паралич. В отсутствие атомных, ядерных или радиологических средств в распоряжении остаются химические средства массового поражения.
Иначе говоря, преимущества от мошенничества растут не менее быстро, чем сложности проверки. Предположим, что после подписания договора, предусматривающего уничтожение всех атомных и термоядерных бомб, одна из двух великих держав смогла сохранить некоторое количество этого оружия: возможно, при этом она почувствовала бы себя хозяином всего мира (стоящей надо всем миром). Соглашение об ограничении морских вооружений было подписано, так как существовала гарантия его соблюдения, а отдельные нарушения не вызывали серьезных последствий. Единый договор по атомному разоружению никогда не будет подписан, так как невозможен контроль за его соблюдением и непредсказуемые последствия его нарушения не поддаются исчислению. Никто не будет полагаться на честь противника, если нарушение данного слова может быть компенсиро714 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
вано тем, что он станет господствовать над всем миром.
Аргументация подобного рода приходила в голову практически всем, кто задумывался над этими проблемами, и идея мира через разоружение имеет сторонников не больше, чем идея мира (всеобщего и продолжительного) через страх. Предполагать, что индустриальные общества будут жить в мире, так как у них не будет средств ведения войны, так же странно, как и предполагать, что они будут жить в мире, потому что у них будут средства уничтожить себя (и друг друга) за несколько мгновений. Интеллектуальная ошибка, противоположная на первый взгляд, одна и та же в обоих случаях. Тот, кто проповедует мир через страх, считает, что все государства равны в том, что самое слабое может нанести смертельный удар самому сильному. Сторонники мира через разоружение видят их равенство в том, что самое сильное не может принудить самое слабое. Ни то, ни другое равенство недостижимо. Ни то, ни другое равенство не принимается и не будет принято великими державами.
Эти две доктрины имеют еще одну точку соприкосновения: они приводят к сохранению или созданию системы международных отношений, в которой мир обеспечивался бы автоматически, то есть без вмешательства людей и их свободных решений. Для того, чтобы по термоядерному liberum veto не появилась “страшная вселенная”, пытаются создать, в некотором количестве экземпляров, рационального (разумного) homo diplomaticus. Чтобы появилось сообщество государств, лишенных оружия, необходимы граждане и государства, полные решимости не прибегать к силе под предлогом того, что они выбросили на свалку или в глубины океанов традиционное или современное вооружение. Это несправедливо и абсурдно — брать в скобки политических деятелей, будь они коллективные или индивидуальные, граждане или дипломаты. Не существует верного "трюка" — вооружение или разоружение, — который гарантировал бы жестокому и разделенному человечеству определенный мир.
Если всеобщее и полное разоружение не является большей тайной вечного мира, чем террор в качестве всеобщего равновесия, политика вооружений, как и страх перед термоядерной войной, имеет некоторое влияние на риски возникновения конфликтов и на характер их протекания. Развеяв иллюзию мира через страх, мы поддержали мысль о том, что страх перед войной может стать зачатком мудрости; развеяв иллюзию мира через разоружение, мы не исключаем того, что политика вооружений станет одним из факторов мира и войны.
Пока будет существовать разнообразие военных суверенитетов, невозможно заявить, будет или нет благоприятным для поддержания мира сокращение вооружений само по себе. Ограничение одного типа вооружений изменяет вид соревнования, но не отменяет его. Если одна из великих держав (Соединенные Штаты) сократит в мирное время свои вооружения до уровня, несоизмеримого со своим потенциалом, то она побудит государства-противники забыть о силе, которую она может мобилизовать, или о решимости, которую она сможет доказать в случае начала военных действий. Точно так же, если один лагерь не вооружается или делает это недостаточно быстро, в то время как другой имеет обширную программу вооружеМир и война между народами • Раймон Арон 715 »м
Часть IV
ний, то это снижение уровня часто предполагает не предотвращение взрыва, а наоборот его ускорение. В международных системах, которые существовали в истории, равенство сил никогда не задерживало надолго начало войны, но возникновение неравенства часто приближало или провоцировало частный конфликт, которого можно было бы избежать в тот момент.
Исторически самыми благоприятными для уменьшения жестокости политиками вооружений были политики ограничения, причем не через принятие одностороннего решения или конвенции вследствие переговоров, но через неявный договор между основными участниками. Вашингтонский договор по морским вооружениям или аналогичный договор, подписанный Великобританией с Гитлером в 1935 году, даже при самом благоприятном для них истолковании не имели никакого — ни благоприятного, ни наоборот — воздействия на ход событий. Обе войны, которых хотели избежать, замедлив гонку вооружений — война между Соединенными Штатами и Японией, между Великобританией и третьим рейхом, — все равно состоялись, несмотря на то, что может быть дата их начала была изменена договорами. При этом следует сказать, что в XIX веке и в мирное, и в военное время ни одно из европейских государств более или менее сознательно никогда не использовало полностью всех ресурсов, которыми теоретически располагало.
То, что эти неявные и полубессознательные договоры-соглашения об ограничении вооружений более всего способствовали тому, что мы называем "снижением степени исторической жестокости", объясняется практически само собой. Когда государства могут и хотят использовать только часть своих возможных ресурсов, то это происходит вследствие того, что режимы внутри государств сдерживают это использование (применение), или оттого, что правители не верят в грядущие страдания, или потому, что они не придают большого значения возможным конфликтам. В этих трех случаях военные действия не будут слишком частыми и не будут стоить слишком дорого в плане человеческих жертв и ресурсов.
Взамен неравенство сил, образовавшееся вследствие одностороннего разоружения или вооружения, воодушевляет то неудовлетворенное государство или лагерь, которое начало вооружаться. Что касается договоров об ограничении вооружений, то они являются симптомами страхов, которые испытывают правители(руководители) или граждане. Конференции по разоружению становятся более многочисленными, когда люди боятся войны и неопределенно представляют себе важность противостояний в международном плане. К чему бы ни привели эти конференции, они не уничтожат зла, то есть искусственной, но эффективной и откровенной враждебности между государствами.
Политику вооружений, ведущую к увеличению или снижению вооружений, не следует рассматривать абстрактно, а лишь применительно к конкретной ситуации. Она не может считаться хорошей или плохой сама по себе, а только лишь применительно к обстоятельствам, к существующему территориальному статусу, к амбициям и к соотношению сил между государствами-ревизионистами и государствами-консерваторами. Чем становится этот принцип м 716
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
в эру термоядерных бомб и баллистических ракет? На самом деле он остается действующим, но его применение становится более трудным и содержит некоторые новые аспекты.
Традиционная политика вооружений иногда имела в виду предотвращение войны, но она также имела в виду и выиграть ее, если она все-таки начнется. В настоящее время принятая двумя великими державами политика вооружений, кажется, игнорирует или просто не имеет в виду победу, а только продолжение состояния не-войны (или, как минимум, не-войны термоядерной). В случае, когда устрашение полностью заменяет оборону, все происходит так, как если бы участники путали мир с победой и разочаровались бы в будущем, если бы устрашение провалилось. Но о разумности этой стратегии и о том, что политика вооружений должна пытаться снизить степень жестокости, судить можно будет только тогда, когда начнется война.
Прежде говорили, что формула "снизить степень жестокости" означает снижение частоты и интенсивности войн. Но теперь, по прошествии времени, интенсивность войн была тем более велика, чем меньше была частота их возникновения. До 1914 года европейские страны жили в мире практически полвека, во всяком случае на своем континенте. Безопасность индивидуума внутри государства была гарантирована хорошо, как никогда раньше. Соперничество между партиями проиходило практически без применения физической силы. Даже забастовки, институционный способ, с помощью которого одна социальная группа пытается договориться с другой, редко приводили к стычкам и еще реже к гибели людей. Условия жизни, солидность управления, которые благоприятствовали социальному существованию, в тот момент, когда слово было дано оружию, стали благоприятствовать мобилизации человеческих и материальных ресурсов. Политическая власть, у которой были средства для того, чтобы люди жили в мире, точно так же обрела средства для внешней борьбы.
Старинное противоречие между частотой и интенсивностью войн в дальнейшем было изменено с появлением термоядерного оружия. Стратегия устрашения, какой ее представляла Белая книга, изданная в Британии в 1957 году, или каковую поддерживает известный генерал Пьер Гкллуа , предполагает возможность того, что термоядерная война никогда не случится, и вероятность того, что в случае начала эта война станет коллективным самоубийством.
Но за редкими исключениями все наблюдатели осознали, что угрозой войны, которая станет коллективным самоубийством, нельзя потрясать при любом удобном случае. Чем больше ужас термоядерной войны, тем менее допустима угроза прибегнуть к ней, тем больше вероятность вооруженных конфликтов, в которых не будет применено атомное или термоядерное оружие.
Такова первая дилемма, встающая в наше время перед государственными деятелями: хотят ли они спасти войну или спасти человечество от войны? Хотят ли они стереть различие между классическими и атомными вооружениями в надежде на то, что при применении последних в любом конфликте никто не станет прибегать ни к какому оружию? Или будучи уверенными в том, что государства еще не гоМир и война между народами • Раймон Арон 717
Часть IV
товы решать мирным путем свои ссоры, они оставляют за собой шанс на военные действия, в которых противоборствующие стороны будут сражаться, используя классическое вооружение, преследуя ограниченные цели? До настоящего времени западные страны принимали первую часть этой альтернативы для Европы, а вторую — для остального мира. В общем, именно вторая часть кажется мне более разумной. Первая обладает фундаментальным противоречием: нельзя утверждать, что ядерный холокост слишком ужасен и что никто не должен развязать подобную войну, и одновременно рассчитывать на действенность подобной угрозы при любых обстоятельствах. Если первое утверждение верно, то найдется государственный деятель, который не поверит угрозе, которую другой формулирует вполне серьезно.
Вернемся к тем двум предположениям, которые мы попытались вывести в этом разделе: при существующей международной системе невозможно вообразить контролированное разоружение, которое лишало бы обе великие державы их оружия массового уничтожения; невозможно представить себе подавление вооруженных конфликтов, даже среди членов атомного клуба, при помощи стратегии устрашения, то есть через угрозу применения ядерного оружия. Перевод в акты традиционной задачи "снизить степень жестокости" требует трудного поиска политико-военного поведения, благодаря которому две великие державы имели максимум шансов не дать втянуть себя в войну, которую они не хотят вести, и при этом ни одна из них не имела бы преимуществ в продолжении холодной войны. Американские авторы выдвинули новую теорию arms control (контроля за вооружениями), чтобы указать на военный аспект такого поведения, который отвечал бы общему интересу противников, предохраняя их от войны, которой они опасаются, не обрекая при этом кого-то одного на поражение.
Французское выражение “контроль за вооружениями” было бы двусмысленным, поскольку предполагало бы контроль за выполением соглашений, заключенных между государствами, в то время как американские авторы имеют при этом в виду комплекс односторонних либо скоординированных мер, комплекс соглашений, неявных или явных, при помощи которых государства стремятся снизить степень жестокости в термоядерный век, то есть в основном, но не исключительно, предотвратить термоядерную войну. Но предотвратить термоядерную войну — это значит свести к минимуму риски ядерной войны по причине опережения, недоразумения, несчастного случая, причиной которого могут быть люди или техника, разрастания конфликта, дьявольской хитрости малой державы. Риски являются результатом ситуации в мире, соотношения сил и систем вооружений с обеих сторон. Но это не все: демарши, предполагаемые "контролем за вооружениями" имеют в виду снижение степени жестокости в случае ограниченной войны, где будут или не будут использованы тактические атомные вооружения; наконец, они имеют в виду "снизить степень жестокости" даже в тех случаях, когда гипотетически произошел обмен баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, то есть в основном сохранять коммуникации между врагами, ввиду возможного окончания военных дей718 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ствий либо путем заключения между ними договора либо если кто-то капитулирует.
В таком случае контроль за вооружениями лучше было бы описать в терминах "политика вооружения" или "господство вооружений" или "политика вооружений и разоружений". Основная идея состоит, наконец, в неизбежной общности интересов между тем, что происходит в мирное время, и тем, что будет происходить во время войны, между военными приготовлениями и дипломатией, между тем, что делаю я, и тем, что делает мой враг, между мерами национальной обороны и вероятностью войны (или определенной войны). Эта мысль может быть выведена из двух принципов Клаузевица, о которых мы вспоминали в первой главе этого труда: знать последовательность действий, мирных либо наоборот, между государствами, последствия взаимных действий и опасность, нарастающую после каждого действия при обострении ситуации. Но оба эти приципа принимают в наше время совершенно иной, отличный от прошлого, трагический смысл, так как качественно изменились значение времени и разрушающая способность вооружений. Государства всегда вели войну при помощи вооружений, накопленных в мирное время. Но с 1914 по 1918 год у них была возможность продолжить мобилизацию уже после начала военных действий, а интервенция нейтральных стран нарушила равновесие. Будут ли вооружения классическими или атомными, но времени может не хватить. Чтобы не допустить экстремальных ситуаций, военные действия должны быть короткими: нарушитель должен быстро создать такое положение, когда (после нанесения удара) он немедленно может перейти к обороне и заставить другую сторону перейти в наступление или к потере ставки. Стратегические бомбардировщики за два часа долетят от Москвы до Вашингтона (или наоборот). У баллистических ракет счет ведется на минуты. Что касается разрушений, которых следует опасаться, то они были значительными и до 1939 года, но увеличиение состоит в их природе, а не в степени, так как перешли от нескольких тонн к нескольким миллионам тонн.
Контроль за вооружениями, включает или может включать в себя меры по сокращению вооружений, но он также может, в разумном плане, включать и меры по увеличению вооружений: три сотни неуязвимых ядерных баллистических ракет с обеих сторон придают большую "стабильность" равновесию через страх, чем сто. То, что американцы называют arms control, является, таким образом, поиском национальной обороны, принятой одним или несколькими государствами, являющимися друзьями или врагами, которая обеспечила бы каждому государству и всем вместе максимум безопасности против разнообразных угроз войны, не уменьшая при этом безопасности каждого в случае внезапной агрессии. Короче говоря, речь идет о смешанной политике вооружений и разоружений, цель которой господство всего человечества над орудиями смерти. Если бы существовал только один вид военного суверенитета, то человечество, хотя бы в теории, легко достигло бы такого господства. Но достижимо ли подобное господство для человечества, в котором каждое из суверенных государств рассматривает предложенные ему меры скорее с точки зрения своих преимуществ в соревноваМир и война между народами • Раймон Арон 719
Часть IV
нии, чем с точки зрения общего интереса, предполагающего избежать термоядерной войны?
3. В поисках стабильности
Какая политика в области вооружений дает наибольшие шансы вести холодную войну таким образом, чтобы она не переросла в войну термоядерную? На этот вопрос американские авторы почти единодушно дают два основных ответа: надо ограничить число членов ядерного клуба и обеспечить неуязвимость систем возмездия, чтобы лишить потенциального агрессора какой-либо надежды на безнаказанность нападения.
Когда я писал эту книгу в 1960 — 1961 гг., уже в течение нескольких лет продолжались переговоры о прекращении ядерных испытаний и я предсказывал их провал. Действительно, после трехлетнего фактического моратория Советский Союз приступил в конце 1961 г. к новой серии испытаний, и Соединенные Штаты последовали советскому примеру. Гонка вооружений в области качественных характеристик ускорилась, но после кубинского кризиса осени 1962 г. переговоры возобновились в 1963 г. и очень быстро привели к соглашению о прекращении ядерных испытаний. Однако это была частичная договоренность: подземные испытания не были запрещены, поскольку соглашение потребовало бы проведения инспекции на местах, против чего советские представители упорно возражали. Кроме того, любая из подписавших сторон вправе денонсировать договор, предупредив об этом за три месяца. Весь ход событий — длительные бесплодные переговоры 1958 —1961 гг., односторонний мораторий на проведение испытаний, объявленный обеими великими державами, внезапное возобновление испытаний Советским Союзом, быстрое заключение договора тогда, когда московские руководители приняли такое решение, — весьма поучителен и дает возможность извлечь из него некоторые уроки.
Я не буду снова останавливаться на причинах, по которым президент Кеннеди и его советники стремились к подписанию договора о запрещении ядерных испытаний (приостановить или замедлить расширение ядерного клуба, наладить первую систему проверки или инспекции, создать благоприятный климат для заключения более широких соглашений). Мы объяснили также, почему руководители Франции, даже если бы они признали свои обязательства по отношению к мировому сообществу, могли, не терзаясь угрызениями совести, решить, что преимущества для их государства перевешивают отрицательные последствия для всей международной системы. По какому праву дверь в ядерный клуб закрывается после вступления в него третьего члена, а не после четвертого или пятого?
Теория закрытости этого клуба, несмотря на ее внешнюю рациональность, представляется совершенно нереалистичной, по крайней мере в настоящее время. Во всяком случае, эта теория требует, чтобы государства, подчиняясь требованиям ядерного века, вели себя по существу не так, как они действовали на протяжении тысячелетий. Франция и Китай — два государства, которые в 1963 г. решили обрести ядерное оружие, — не подписали Московский договор. Первая китайская бомба была взорвана в 1963 г., и несколько государств третьего мира послали свои 720 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
поздравления Мао Цзедуну несмотря на их обычно враждебное отношение к ядерному оружию.
Дипломатический марафон в Женеве в 1958—1961 гг. стал попыткой соглашения между противниками, направленного против их союзников. Это была логически оправданная попытка, поскольку противники были совместно заинтересованы, хотя они и не признавались в своих намерениях, закрыть двери ядерного клуба и заставить другие государства подчиниться их решению. Почему же эта попытка провалилась в 1961 г. и удалась в 1963 г.? В 1961 г. я указывал на три возможные причины неудачи.
Договор о прекращении ядерных испытаний не мог быть заключен без согласия Китая. Я задавался вопросом: почему новая правящая династия Срединного царства или, если кто-то сочтет неуважительным это обращение к прошлому, почему коммунистическая партия,одержавшая собственными силами победу в гражданской войне, согласилась бы отказаться от решающего сегодня оружия, которое определяет, или кажется, что определяет, иерархию действующих лиц на международной сцене? После 1951 г. Кремль был заинтересован оградить Китай от угрозы американской агрессии путем договора о взаимной помощи. Он не хотел дать Китаю средства для проведения в районе Тайваньского пролива наступательной стратегии, которая во имя чисто китайских целей могла бы вовлечь Советский Союз в конфликт с Соединенными Штатами.
После 1961 г. китайцы открыли перед всем миром свои разногласия с деятелями из Кремля по поводу ядерного оружия, договора 1957 г. и односторонней денонсации этого договора Москвой в 1959 г. (через год после военных операций в Тайваньском проливе). Тот язык, которым американские и русские руководители разговаривали со своими союзниками — Францией и Китаем, был удивительно (хотя и вполне логично) одинаковым. “Советский Союз не сможет отказать Китаю в помощи для реализации его программы, если я помогу вам в осуществлении вашей программы. Впрочем, моих сил сдерживания вполне достаточно, чтобы обеспечить вашу безопасность”, — говорили одни. “Советских сил сдерживания вполне достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность всего социалистического лагеря, и Соединенным Штатам было бы труднее отказать в просьбах “германским реваншистам”, если бы мы дали им оправдание или предлог”, — говорили другие. Каждая из двух великих держав защищает перед союзниками идею нераспространения ядерного оружия, ссылаясь на возможный ответ своего брата-врага, если она сама будет способствовать его распространению. Такая позиция была абсолютно логичной и даже разумной. Но ответ Франции и Китая, независимо от того, был ли он разумным или нет, также выглядел вполне логичным. Я никогда не мог бы поверить, что столь мощное государство, столь гордый народ, как китайский, примирится с подобным приниженным положением.
В период между 1961 и 1963 гг. китайская позиция не изменилась, но советско-китайский конфликт стал более острым. Руководители обеих стран перестали сохранять даже видимость единства. Нападки Кремля адресуются уже не Албании, а “китайским авантюристам”. Точно так же Югославия уже не служит козлом отпущения для предМир и война между народами • Раймон Арон 721
Часть IV
ставителей Пекина. Договор между Вашингтоном и Москвой должен был выглядеть в глазах Мао Цзедуна и его приближенных как недружественный акт. Возможно, руководители Кремля колебались, подписывать ли этот договор, до тех пор, пока сохраняли надежду на примирение. В 1963 г. они такую надежду потеряли.
Второй причиной неудачи переговоров, часто называвшейся в 1961 г., было “техническое” отставание Советского Союза. Серия испытаний, проведенная СССР в 1961 г., показала, что советские ученые и инженеры хотели улучшить свое оружие, в частности завершить разработку бомб мощностью в несколько десятков мегатонн. А эти планы требовали проведения испытаний в атмосфере, скрыть которые невозможно. Так же обстояло дело и в Соединенных Штатах. Многие ученые, генералы и конгрессмены критиковали мораторий без договора и инспекции, они также хотели возобновления испытаний для совершенствования существующих вооружений или разработки радикально новых (например, противоракетного оружия). В 1963 г., после острых дебатов в комиссиях конгресса, Московский договор был одобрен значительным большинством. Вопрос заключается в том, какое истинное значение имеет этот договор, иными словами, каковы намерения двух великих держав: не обязуются ли они временно не делать того, что и так делать не было никаких причин. Ни одна из двух держав не отказывается от совершенствования своего оружия, ни одна не лишается окончательно права проводить испытания в атмосфере тогда, когда она сочтет это необходимым. Обе продолжают подземные испытания. Договор не препятствует, возможно, разработке ни одного из новшеств, над которыми трудятся специалисты: самолетов с вертикальным взлетом, ракет, поражающих другие ракеты, спутников для разведки и связи, бомб еще большей удельной мощности и т.п. Может быть, договор и замедляет, но не останавливает качественную гонку вооружений в том виде, в каком она разворачивается между двумя великими державами.
Враждебность русских системе инспекции — третья причина, на которую часто указывают наблюдатели, стремящиеся объяснить отказ в 1960 — 1961 гг. советских представителей пойти на уступки, которых требовало подписание договора. В тот день, когда деятели Кремля решили подписать договор, они предпочли подтвердить свои позиции, на которых неоднократно настаивали, и “узаконить” подземные испытания, не соглашаясь с проверкой на местах, без которой обнаружение подземных испытаний, по мнению специалистов, невозможно.
И здесь ход событий дает пищу для размышлений. В начале переговоров система инспекции, предложенная американцами на случай заключения ограниченного соглашения о приостановке испытаний, предусматривала набор высококвалифицированного персонала, размещение наблюдательных станций, ежегодные расходы в несколько сот миллионов долларов. Комментаторы могли задаться вопросом: если так обстоит дело только с одним соглашением, то что будет в случае заключения всеобъемлющего договора (по поводу всех видов вооружений), имеющего глобальный характер (с охватом всех государств)? Один из американских авторов, профессор Оскар Моргенштерн (Oscar Morgen722 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
stem), не без иронии писал, что реально контролируемое разоружение могло бы стоить не намного меньше, чем сами вооружения. Знакомясь с подобной гипотезой, обычный человек, не ученый, пришел бы к выводу, что в таком случае не будет вообще никакого разоружения.Но при более пристальном анализе подобное заключение представляется несостоятельным. Почему бы государствам не тратить столько же денег для борьбы против войны, сколько они тратят для того, чтобы вооружаться друг против Друга?
Однако общественное мнение не отделяет разоружения от сокращения военного бюджета. Государственные деятели также усматривают противоречие между соглашениями об ограничении вооружений и миллиардными затратами, необходимыми для проверки их соблюдения. Неприятие Советским Союзом систем комплексной инспекции, возможно, объясняется не только навязчивым стремлением к секретности, боязнью шпионажа, но и ощущением некоего противоречия между целью и средствами ее достижения, между договором, который должен быть символом согласия, и системой инспекции, которая неизбежно символизирует враждебность и подозрения.
Во всяком случае, московский договор касается лишь испытаний, не требующих международной системы контроля. Техника пришла на помощь дипломатии. Московский договор 1963 г., как и договор об ограничении морских вооружений в начале 20-х годов, не может быть нарушен тайным образом. Ничто, следовательно, не доказывает, что противоречие между русскими и американцами по решающему вопросу о проверке соблюдения подписанных соглашений было преодолено. Как было принято шутить, американцы предпочитают инспекцию разоружению, а русские громогласно требуют всеобщего разоружения, но отказываются от эффективной проверки его осуществления. Впрочем, это противопоставление неразличимо, если проследить логику действий, связанную с интересами сторон: советские деятели боятся инспекции, потому что извлекают выгоды из окружающей их секретности1. Американцы же, менее способные или менее стремящиеся скрывать свои замыслы, не представляют себе разоружения без обмена информацией.
Таким образом, московский договор имеет лишь ограниченное материальное значение. Он не запрещает всех ядерных испытаний, не останавливает качественной гонки вооружений, не позволяет ввести в действие первую систему международной инспекции. И тем не менее в глазах международной общественности он имеет символическое значение: он свидетельствует о солидарности двух великих держав в стремлении противостоять опасности тотальной войны, солидарности более крепкой, чем союзы одной и другой стороны.
Как мы уже видели, отправная точка американской позиции состоит в том, что та немыслимая война, которой никто не хочет, тем не менее может разразиться. Это может быть результатом либо технического сбоя (взорвется бомба, и противник неправильно истолкует взрыв), либо бюрократического инцидента (возникнет разрыв в цепочке командования), либо политических об1 Возможно, они строят в этой области иллюзии. Спутники заменили самолеты “У-2" и действуют более эффективно.
Мир и война между народами • Раймон Арон ч < • -„л. 723 *ии»
Часть IV
стоятельств (обе стороны связаны обязательствами, от которых не могут отказаться, не потеряв лица), либо, наконец, психологического просчета (неправильного истолкования намерений другой стороны). И две великие державы могут быть втянуты в борьбу, к которой они готовятся, которой угрожают друг другу, но которой они всеми силами стремятся избежать.
Неизвестно, опасаются ли марксисты-ленинцы, следуя своей философии, подобной перспективы так же, как американцы, всегда склонные рассматривать политические проблемы в свете технических решений. Разве сможет история оставаться рациональной, что приписывает ей советская доктрина, если разрушительные последствия ядерных взрывов станут результатом случайных обстоятельств, а не действия глубинных сил, то есть конвульсий умирающего капитализма, обреченного на тщетное бегство, ведущее к катастрофе апокалипсиса?
Во всяком случае, с 1955 Цо 1963 гг. все происходило так, словно деятели Кремля рассчитывали извлечь политические выгоды из того страха, который внушает человечеству термоядерная война. Когда Хрущев хвастал тем, что удержал Соединенные Штаты от нападения на Кубу, угрожая баллистическими ракетами (хотя официозные комментарии ослабили значение этих утверждений), то он бахвалился превосходством (материальным или моральным), которым не обладал. Фактически Советский Союз был не в состоянии оказать социалистической республике Фиделя Кастро помощь на месте. У него был выбор только между ограниченными действиями в других районах планеты или применением оружия массового поражения. Когда в октябре-ноябре 1962 г. наступил момент истины, кремлевские деятели предпочли отступление эскалации. Они отказались от размещения напротив берегов Флориды установок для запуска ракет средней дальности.
Эта первая и пока единственная конфронтация между двумя великими державами, видимо, заставила московских руководителей воспринять американскую доктрину. Убежденные теперь в том, что в некоторых обстоятельствах американский президент пойдет на высший риск, Хрущев и его последователи, очевидно, приняли решение успокоить мир. Теперь уже речь не идет о том, чтобы подписать сепаратный мирный договор с Германской Демократической Республикой или потрясать то и дело угрозой применения баллистических ракет. В период между запуском первого спутника и кубинским кризисом 1962 г. Советский Союз, веривший в превосходство своего динамизма и своих возможностей, осуществлял наступательную дипломатию. В 1966 г. международный климат глубоко отличается от положения, существовавшего пять лет назад.
Вопреки утверждениям Ричардсона1 (Richardson), нет доказательств того, что гонка вооружений может явиться прямой причиной большой войны. В 1914 г. европейские государства вступили в вооруженную борьбу не изза стоимости военных бюджетов, их экономического бремени. Увеличение этих бюджетов было вызвано в значительной степени ощущением, что конфликт меж1 См. гл. XI, раздел 4.
«и. 724 л / ь Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ду противостоящими коалициями обостряется и что рано или поздно он будет решаться силой оружия. Морское соперничество между Германией и Великобританией было лишь одной из причин сближения последней с Францией и Россией, то есть кристаллизации фронтов, которой и может быть приписана доля ответственности за взрыв 1914 г. Кроме того, сегодняшняя качественная гонка суще < венно отличается от всех качественных гонок вооружений в прошлом. Нынешнее положение уникально. Какие же из тех обоснованных страхов, которые она вызывала вчера, она может вызвать сегодня или завтра?
Некоторые боятся, что, истратив дополнительно миллиарды долларов, обе великие державы окажутся в итоге на том же месте, с которого начали: каждая сможет нанести другой страшные удары, но не сумеет избежать возмездия даже со стороны противника, наполовину выведенного из строя. Подобная перспектива, как бы она ни была достойна сожаления в экономическом плане, не будет опасной в политическом отношении, поскольку не поколеблет равновесия страха. Мы не слепы и видим, как отмечал Сириус, абсурдность затраты миллиардов долларов на изготовление оружия, которое спустя несколько лет отправится в металлолом. Как и все люди, мы сожалеем о потере тех человеческих творений и памятников, которые можно было бы создать, используя эти миллиарды. Но военные бюджеты в развитых странах обоих блоков хотя, возможно, и тормозят, но не подрывают роста национального продукта. Индия и Пакистан больше страдают от своего военного соперничества, чем Соединенные Штаты и Советский Союз.
Эти страны еще далеки от того момента, когда бремя обороны станет для них невыносимым. Большинство обозревателей больше боялось или боится психологических, чем экономических последствий гонки вооружений. Не способствует ли она поддержанию и обострению настроений подозрительности и тревоги? Не захотят ли люди однажды сказать: "Besser ein End mit Schrecken als ein Schreck ohne End" (“Лучше ужасный конец, чем ужас без конца”)?
Но эти опасения смягчились за последние годы. Бросаясь из одной крайности в другую, в 1966 г. общественное мнение и даже эксперты склонны считать, что равновесие страха стабилизировалось на более высоком уровне, связанном с термоядерным оружием. Все разоблачают и осуждают ограниченные войны и верят в мудрость великих держав, их твердую решимость не сражаться насмерть, в их приверженность доктрине гибкого реагирования. Ядерное оружие — это последнее средство: великие державы применят его лишь тогда, когда будут затронуты их жизненные интересы. И каждая из них, как считают, готова не посягать на жизненные интересы другой стороны.
Этим объясняется тот факт, что в 1966 г. мировое общественное мнение проявляет, кажется, мало беспокойства, несмотря на войну во Вьетнаме. В военной области продолжает существовать биполярность, две великие державы, так сказать, привыкли друг к другу и доказали свою осторожность. Советский Союз довольствуется таким числом межконтинентальных ракет, которое, как ему известно, меньше, чем число подобных ракет в распоряжении Соединенных Штатов. С другой стороны, западные державы не увеличили существенно свои классические силы в Европе. Хотя Мир и война между народами • Раймон Арон >
725
Часть IV
руководители Соединенных Штатов не заявили об этом официально, но они уже не делают ставку ни на возможность первого удара, ни на эффективность стратегии контрсилы. И наконец, к настоящему времени ни та, ни другая сторона не развернула системы противоракетной или широкомасштабной пассивной обороны.
Сколько времени продлится фаза безопасности, которая последовала за фазой тревоги в 1958 — 1962 гг.? Никто этого не сможет с уверенностью сказать, но два обстоятельства будут иметь, возможно, решающее значение в этом отношении. Возобновится ли завтра гонка вооружений? Сможет ли расширение ядерного клуба подтолкнуть великие державы к дополнительным усилиям для увеличения своего превосходства, и будет ли это способствовать росту новых тревог?
Государственный секретарь США до сих пор сопротивлялся давлению комиссий сената, которые требовали создания системы противоракетной обороны. При той огромной ударной силе, какая имеется у Советского Союза, утверждал он, система подобной обороны, технически вполне возможная, была бы все же малоэффективной. Нападающий мог бы “насытить” эту систему, увеличив число своих ракет, в то время как обороняющаяся сторона не смогла бы увеличить в необходимой мере число своих антиракет. В этой новой версии борьбы между снарядом и броней победу одержал бы по экономическим причинам снаряд.
Однако дело обстояло бы иначе, если бы система обороны предназначалась для защиты от небольшого числа ракет, которыми будет обладать, например, через десяток лет Китай. Поэтому нынешняя дискуссия в США касается обороны не столько от ядерных средств Советского Союза, сколько от китайских сил. Но каковы бы ни были стратегические расчеты при создании американской антиракетной системы, Советский Союз не позволил бы обойти себя на этом поприще (возможно, он даже опередил уже США). Логика качественной гонки вооружений требует от великих держав возможно дольше сохранять свое превосходство в области разрушительной мощи, способности защищаться или выдержать удар в то время, как государства средних размеров с многолетним опозданием приобретают оружие, на которое раньше эти державы имели монополию.
Несмотря на нынешнюю разрядку, обе великие державы с трудом соглашаются допустить какое-либо свое отставание, идет ли речь о способности нанести первый удар, осуществить возмездие, отразить или выдержать удары противника. Советский Союз компенсирует меньшее число своих межконтинентальных ракет большим числом ракет среднего радиуса действия. Вполне вероятно, что к замедлению гонки вооружений его побудили, если не вынудили, экономические причины: чтобы не отстать, он должен выделять на оборону более высокий процент от меньшего, чем в США, национального продукта.
Единственное ограничение, которое накладывают на себя государства, вступившие в ядерный клуб, касается пассивной обороны, словно символизируя безрассудство использования мнимо рациональной техники, которая выходит из-под контроля. Миллиарды долларов затрачиваются для того, чтобы сократить число бомбардировщиков противника, которые могли бы прорвать 726 «Раймон Арон • Мир и война между народами
сеть истребительной авиации и ракет земля-воздух. Но в США не тратят даже сотен миллионов, чтобы подготовить население к той ситуации, которую рассматривают как вполне возможную, и чтобы сократить потери в том случае, если, несмотря ни на что, разразится катастрофа. Несмотря на внешне логичные объяснения, подобная сдержанность мне представляется неразумной. Действительно, оставляя население городов и даже деревень без всякой защиты, противники, так сказать, обмениваются заложниками, демонстрируют один другому свое стремление к миру. Правда состоит и в том, что если одна из великих держав возьмет на себя инициативу осуществления широкой программы пассивной обороны, то сработает закон взаимности: другая великая держава поспешит последовать за соперником и постарается восстановить равенство на более высоком уровне. Но почему этот последний аргумент (в конце гонки соперники вновь оказываются рядом ) должен убедить нас лишь в одном, единственном случае, когда речь идет о пассивной обороне, хотя он так же и даже больше применим, когда речь идет о наступательном или оборонительном оружии, о бомбардировщиках или баллистических ракетах, о противовоздушной обороне или антиракетных системах? Соединенные Штаты, если не весь Запад, более, чем Советский Союз, способны затратить миллиарды долларов для строительства подземных убежищ и хранения продуктов питания. Гражданская оборона, как утверждают, будет неэффективной. Конечно, она способна лишь смягчить последствия катастрофы, дать миллионам людей возросший шанс выжить. Но почему сокращение жертв среди населения менее важПраксиология
но, чем уменьшение процента вражеских бомбардировщиков или ракет, которые могли бы преодолеть систему обороны? Для того, чтобы уменьшить этот процент, деньги тратят не считая, а к первой задаче проявляется видимое равнодушие.
Надо признать, что американское общественное мнение проявило безразличие или даже враждебность, когда президент Дж. Ф. Кеннеди захотел положить конец этому парадоксу. Конгресс, всегда готовый проголосовать за миллиардные ассигнования на разработку новых типов бомб или самолетов, весьма сдержанно отреагировал на программу пассивной обороны, стоимость которой измерялась в миллионах долларов.
Расширение ядерного клуба, приобретение ядерных сил так называемыми государствами второго плана может вызвать новое ускорение качественной гонки вооружений, подтолкнуть великие державы к новым усилиям для того, чтобы либо создать антиракетную оборону, либо более надежную систему защиты гражданского населения. Смогут ли малые ядерные силы, помимо влияния на ядерное и военное соревнование великих держав, поставить под вопрос стабильность сдерживания в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом и относительную стабильность всей международной системы?
Я не буду возвращаться к рассмотрению изъянов общепринятой теории “мира посредством страха". Но события последних лет (1961 — 1966) дают примеры распространения ядерного оружия и позволяют сделать некоторые выводы. Из многих опасений, выражавшихся американскими теоретиками, некоторые сегодня, видимо, наполовину рассеялись.
Мир и война между народами • Раймон Арон п ж гл- ч « ч 727 ч
Часть IV
Одна из двух стран, вступивших в ядерный клуб после 1961 г., а именно — Франция, не способствовала своими стратегическими ядерными силами существенному укреплению собственной безопасности или безопасности Запада и не подорвала равновесия страха между Советским Союзом и Соединенными Штатами (или между советским и западным лагерем). В 1966 г. по чисто политическим причинам, благодаря советско-китайскому расколу и возрастающей самостоятельности восточноевропейских стран, западноевропейцы перестали чувствовать, или делать вид, что чувствуют, страх перед советской агрессией. Они больше беспокоятся о влиянии на Старый Свет конфликта во Вьетнаме. Хотя официальные представители высшего французского командования продолжают заявлять о своей приверженности анахроничной доктрине массированного возмездия, эти заявления ни у кого не вызывают страха, даже у тех, кого они призваны защищать путем сдерживания. Сегодня никто не верит в ограниченное или массированное вооруженное нападение с Востока и никто не верит, что руководители в Париже в решающий час последуют своей доктрине.
Какие выводы можно сделать из французского примера? Расползание ядерного оружия (если понимать под этим выражением расширение ядерного клуба) само по себе достойно сожаления, но в зависимости от конкретного случая оно таит неодинаковую опасность для стабильности локального или общего равновесия сил. Когда речь идет о государстве, поведение которого не менее рационально, чем поведение великих держав, которое к тому же находится внутри зоны жизненных интересов одной из них, опасность, связанная с уязвимыми национальными ядерными силами, незначительна. Возможно, она сможет проявиться лишь в момент кризиса или балансирования на краю пропасти.
А пока французские силы, как и английские, скорее символ определенного статуса, чем военный или даже дипломатический инструмент, по крайней мере в отношении вероятного противника (они являются дипломатическим инструментом в отношении союзников). Иное положение может сложиться лишь тогда, когда будет достигнуто европейское урегулирование, советские войска вернутся в пределы границ СССР и американские войска покинут Старый Свет.
Случай с Китаем совсем другой. Испытание нескольких бомб еще не означает обладания боеготовыми ядерными силами. Сегодня мы можем высказывать лишь предположения по поводу будущего, а не рассматривать результаты вхождения второго государства, провозглашающего свою приверженность марксизму-ленинизму, в ядерный клуб. В 1959 г. Москва денонсировала соглашение о сотрудничестве в ядерной области, подписанное в 1957 г. между СССР и Народным Китаем. Стало это причиной или следствием советско-китайских расхождений? Вероятнее всего, оно явилось одновременно и причиной, и следствием. Закон диалектики привел союзников по идеологии и своим интересам к типичному враждебному противостоянию крупных держав, обостренному к тому же претензией, присущей идеократическим странам, на единственно правильное истолкование догмы. Ответ на вопрос, оказало или нет стремление Народного Китая к обладанию ядерными силами значительное 728 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
воздействие на раскол коммунистического блока, значит для нас меньше, чем другой неоспоримый факт: СССР и США могут и полны решимости принять меры предосторожности против так называемой каталитической войны, то есть большой войны, которую, намеренно или нет, могли бы развязать второстепенные государства или какая-то третья злонамеренная сила. Государства, обладающие термоядерными системами, не ввяжутся в вооруженную борьбу, подобно тому, как это сделали европейские государства в июле-августе 1914 г. после убийства австро-венгерского эрцгерцога и ультиматума Вены Белграду.
Ответ великих держав на расползание ядерного оружия носит двойной характер. По мере того, как увеличивается число государств, обладающих ядерным оружием, поле дипломатической деятельности расчленяется. Конечно, кризис в Азии или Африке отражается и в Европе, но вооруженный конфликт, вспыхнувший в какой-то точке земного шара, вовсе не обязательно, а в дальнейшем все менее и менее обязательно, должен приобрести всеобщий характер. Ограничение используемого оружия прибавляется к локализации военных действий. Каковы бы ни были стратегические установки одних и других, практика все более будет сводиться к гибкому реагированию (flexible response). Применение силы будет большим или меньшим, и конфликтующие стороны поднимутся выше или ниже по ступеням насилия в зависимости от важности ставок в борьбе и масштабов агрессии.
Вполне возможно, что в некоторых районах мира, например в Европе, две доктрины различаются скорее теоретически, чем практически. Там, где ставки имеют жизненное значение для всех борющихся государств, где запасы ядерного оружия столь велики, что в случае вооруженного конфликта эскалация кажется неизбежной, различие между угрозой массированного возмездия и угрозой гибкого ответа и эскалации до крайних пределов почти стирается. Но даже в этой обстановке основной принцип стратегии, единственный, который в перспективе оставляет шансы на выживание человечеству, состоит в том, что ядерное оружие является и должно быть лишь последним средством борьбы. Тень этого оружия лежит на всей международной сцене. И актеры знают, что однажды оно может быть пущено в ход, хотя предназначение его—повлиять на государственных деятелей таким образом, чтобы сделать его военное применение столь же бесполезным, сколь маловероятным. Эта стратегия сдерживания может быть успешной лишь при условии, если не будет основываться на абсурдно преувеличенных угрозах. Фрагментация дипломатического поля и доктрина постепенного возрастания силы возмездия нейтрализуют вместе ту опасность, которую несет для великих держав, а может быть, и для всех государств распространение ядерного оружия.
Великие державы враждебно относятся к приобретению ядерного оружия другими государствами по вполне понятным причинам. В тот момент, когда я заканчивал эту книгу, переговоры по вопросам разоружения касались приостановки ядерных испытаний. Сегодня они имеют целью узаконить нераспространение ядерных вооружений. И снова они тянутся на протяжении многих лет, и никто не может уверенно сказать, являются ли видимые разногласия Мир и война между народами • Раймон Арон 729 w
Часть IV
по той или иной статье договора реальной причиной или предлогом для советского или американского отказа подписывать документ.
На этот раз препятствие носит скорее политический, чем технический характер. Само собой разумеется, что ни Соединенные Штаты, ни Советский Союз, ни Великобритания не дадут ядерное оружие в полную собственность ни одному из своих союзников, ни нейтральному государству. (И то же самое можно сказать о Китае и Франции.) Ни одна из этих стран также не поможет другому государству в производстве этого оружия. Но Соединенные Штаты хотят для сохранения Атлантического альянса, и в частности союза с Федеративной Республикой Германии, оставить за собою право на некоторые виды кооперации (примером тому был уже оставленный теперь проект создания многосторонних сил), в чем советские представители, искренне или нет, усматривают некую скрытую форму рассеивания, если не распространения, ядерного оружия.
Вполне может быть, что договор о нераспространении будет в конечном счете подписан, как был подписан в смягченном виде договор о приостановке ядерных испытаний. Но как в одном, так и в другом случае речь идет в значительной мере лишь о видимостях. Государствам, которые захотели бы проводить испытания в атмосфере, достаточно не подписать договор или его денонсировать. Великие державы подписали договор тогда, когда сочли, что в тот момент эти испытания были им ненужными. В 1966 г. договор о нераспространении ядерного оружия не решит ни одной реальной проблемы и нисколько не изменит поведения государств, располагающих уже таким оружием. И они еще не начали размышлять над тем, как отвечать странам, которые отказались бы от ядерного оружия, но потребовали бы взамен компенсации. Какие гарантии готовы Соединенные Штаты дать Индии, если она откажется от производства ядерных бомб? Или завтра — Японии?
В 1966 г. кандидатов на вступление в ядерный клуб меньше, чем опасались десять лет назад. Это произошло по многим причинам, основные из которых — высокая стоимость производства и сомнения относительно пользы, даже дипломатической, такого оружия для второстепенных государств. Возможно, боязнь ядерного шантажа ослабнет настолько, что распространение этого оружия прекратится само собой. Идет ли речь о взаимоотношениях двух великих держав или об их отношениях с другими странами, в настоящее время им удалось договориться лишь о том, чтобы запретить себе делать то, что им делать не нужно, и запретить другим делать то, что эти державы уже сделали сами.
4. Пределы соглашения между противниками
Две научные школы противостоят друг другу в Соединенных Штатах: одна выступает за всеобщее, и особенно ядерное, разоружение, другая—за “контроль над вооружениями”, в том смысле, какой мы придавали этому выражению, — контроль, который не требует полного или всеобщего разоружения и который, в глазах сторонников другой школы, подчас походит скорее на поддержку вооружений, чем на их уничтожение или сокращение.
730 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Предыдущие разделы отталкиваются от идей второй школы. Ибо эти идеи убедительны и, я сказал бы, почти очевидны, если только не идти на одностороннее всеобщее разоружение любой ценой или не представлять себе международную систему, которая радикальным образом отличалась бы от нам известной и в которой государства жили бы в безопасности без оружия и без конфликтов. Все вышеизложенное можно резюмировать коротко в нескольких положениях. Разоружение или сокращение вооружений является не самодостаточной целью, а средством — средством для того, чтобы уменьшить риск войны, не увеличивая опасности поражения в том случае, если война разразится, несмотря ни на что. Поскольку эта формула справедлива для обоих лагерей или двух великих держав, то договор об ограничении вооружений может быть подписан лишь при условии, если он не меняет соотношения сил и не дает заметных преимуществ ни той, ни другой стороне. Более того, невозможно себе представить, по крайней мере в ближайшем будущем, что мир станет результатом исчезновения оружия и вытекающей отсюда невозможности сражаться. Поэтому соглашения о сокращении или об ограничении вооружений не должны смягчать страха перед термоядерной войной, который пока способствует сохранению состояния “не войны". В конечном счете, эти возможные соглашения не отличались бы по существу от решений, которые государства принимают односторонним образом, чтобы уменьшить опасность возникновения войны в результате какой-либо случайности или недоразумения, не лишая себя в то же время способности применить силу или угрозу для достижения своих целей или сдерживания противника.
Аргументация школы “контроля за разоружениями" мне представляется неоспоримой, если исходить из требований ответственной политики. Речь идет о том, что соглашения относительно сокращения, ограничения и проверки являются лишь одним из аспектов общей политики в области вооружений и для объективной их оценки должны рассматриваться в рамках общей конъюнктуры. Но — и эта уступка другой школе должна быть сделана — подобный курс до сих пор не привел ни к каким мерам по разоружению.
В 1961 г. провал переговоров о прекращении ядерных испытаний, казалось, имел символическое значение. Тот минимум инспекции, которого требовали Соединенные Штаты, превосходил тот максимум, на который готов был пойти Советский Союз. Спустя пять лет договор о частичном прекращении ядерных испытаний был подписан, он не включал подземных испытаний, которые не могут быть наверняка обнаружены приборами, установленными на большом расстоянии. В 1966 г. предметом переговоров является соглашение о нераспространении ядерного оружия. Великие державы взяли бы на себя обязательства не делать то, что они в любом случае делать не намерены. Такие обязательства они взяли бы на себя прежде всего для того, чтобы затруднить приобретение ядерного оружия другими государствами. Сколь бы ни была оправданной доктрина нераспространения такого оружия, она не может не выступать как инструмент политики великих держав, как средство сохранения их почти полной монополии.
Мир и война между народами • Раймон Арон 731
Часть IV
Могут ли великие державы, согласные относительно закрытости ядерного клуба, необходимости избежать ядерной войны, договориться и заключить в надлежащей форме четкий договор о различных сторонах сохранения военного равновесия? Американские аналитики предпринимали многочисленные исследования и разрабатывали проекты, идущие в этом направлении. Но “разрядка” наступила без заключения какого-то соглашения о разоружении или ограничении вооружений.
Великие державы не отказываются от изготовления оружия, которым они не намерены воспользоваться. Им проще понимать друг друга с полуслова, чем публично запечатлеть свои добрые намерения. В отношениях между ними то, что понимается без слов, проходит легче, чем то, о чем говорится.
Рассмотрим, например, проблему взаимного сдерживания. Цель состоит в том, чтобы успокоить противную сторону относительно своих намерений, никому не давая в то же время преимуществ. Существует предположение, хотя чаще всего оно не формулируется, что оба лагеря одинаково заинтересованы рассеивать беспокойство другой стороны, что обе достаточно серьезно воспринимают риск возникновения войны в результате случайности, недоразумения или попытки опережения соперника. Поэтому каждая, дескать, должна отказаться от выгод, которые можно было бы извлечь из страха перед эскалацией конфликта. Это предположение мне представляется совершенно не доказанным. Вчера (1960 г.) это был Советский Союз, который считал, что проиграет, если рассеется страх. Сегодня (1966 г.) это Соединенные Штаты, которые сожалеют, возможно, что не сохранили ядерного превосходства, которое позволило бы им использовать к своей выгоде риск эскалации.
Допустим, однако, что обе державы согласны предпочесть стабильное сдерживание нестабильному. Каждая из них знает, что соперник обладает неуязвимой термоядерной системой, каждая знает, что система противника нацелена на города, а не на ударные силы, и, следовательно, у соперника не больше агрессивных намерений, чем у нее самой. Возможно, такая ситуация и реальна в какой-то степени, но для того, чтобы не сомневаться в ее реальности, и знать, что она не изменилась, необходимо разработать разветвленную и сложную систему инспекции, ввод в строй которой снова потребовал бы бесконечных переговоров.
Соглашение о прекращении качественной гонки вооружений так же трудно разработать, принять в результате переговоров и проверять, как и соглашение о прекращении ядерных испытаний. Исследования космического пространства открывают наверняка новые возможности военного порядка. Известно, например, что работа, которую выполняли самолеты “У-2”, летательные аппараты для наблюдений с очень большой высоты, теперь продолжается при помощи спутников. Им найдены или будут найдены и другие применения. Чтобы укрепить систему взаимного сдерживания в тех технических формах, которые оно приобретает сегодня, необходимо заключить соглашения о сотрудничестве в области космической деятельности или запрещении военного использования космического пространства. Сегодня об этом не идет и речи. Но когда она зайдет, будет слишком поздно.
«а 732 - Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Предположим, что соперники захотят стабилизировать систему сдерживания, ограничив число баллистических ракет у каждой стороны. Я восхищен американскими экспертами, которые с серьезным видом обсуждают, какая цифра лучше: 300, 500 или 1000. Эти теоретические споры имеют один интерес, и только один: они заставляют поборников разоружения признать, что максимум безопасности не обязательно совпадает с минимумом оружия. Но кроме демонстрации столь поучительной истины, эти споры не дают ничего и представляют собой лишь интеллектуальные игры, вне видимой связи с какими-либо переговорами. Правда состоит в том, что агрессивное государство, которое решило бы уничтожить средства возмездия противника, должно было бы обеспечить себе значительное численное превосходство ( по крайней мере в отношении три к одному, а может быть, и больше). Если бы число баллистических ракет, на которое каждая из великих держав имела бы право, было невелико, то даже небольшой обман смог бы нарушить равновесие. И с другой стороны, если бы в соответствии с договором каждая имела бы право на 500 ракет, то лишь крупный обман в размере по крайней мере тысячи ракет давал бы шанс существенно ослабить термоядерную систему возмездия у противника. Но те, кто может представить себе американских и советских представителей, серьезно обсуждающих, будет ли каждая из великих держав иметь 200, 300 или 500 ракет, возьмет ли обязательство не строить подземных убежищ для населения, не помещать термоядерные заряды в изготовленные уже спутники, будут столь же наивными, как сторонники разоружения любой ценой и при любых условиях?
Кто знает, сколько баллистических ракет СССР и США будут иметь через несколько лет? Где будут размещены установки для запуска ракет? Хорошо, если целью инспекции явится гарантия выполнения реальных мер по разоружению, но если цель состоит лишь в том, чтобы просто сохранить положение, которое, по мнению государственных деятелей, и так уже существует, то эти усилия окажутся несоразмерными и смехотворными. Кроме того, существуют трудности (возможно, преодолимые) в том, чтобы совместить взаимное раскрытие своих средств сдерживания и секретность, которая по крайней мере для одного из соперников является залогом неуязвимости.
Короче говоря, я не думаю,что какой-либо элемент, затрагивающий равновесие взаимного сдерживания, может стать в ходе переговоров предметом соглашения, гарантированного системой проверки. Речь идет о проверке лабораторий, чтобы не допустить совершенствования существующего оружия ( повышение удельной мощности на единицу веса, удешевление производства) или разработки новых видов вооружений (нейтронной бомбы, химического или бактериологического оружия), об инспекции на местах для обнаружения установок запуска баллистических ракет. Нельзя сказать, что эти меры физически или технически невозможны, но они неприемлемы для Советского Союза и противоречат принципу равенства преимуществ и потерь. Утрата секретности дорого обошлась бы Советскому Союзу и почти ничего не стоила бы Соединенным Штатам.
Мир и война между народами • Раймон Арон 733 - ч
Часть IV
Не лучшими ли окажутся шансы на благоприятные результаты переговоров, если попытаться осуществить глобальный план, охватывающий все виды вооружений и предусматривающий поэтапное движение на пути к так называемому конечному итогу (минимум вооружений, необходимый для целей внутренней безопасности государств)? В теории глобальный подход дает преимущество по сравнению с частичным. Если государственные руководители действительно хотят разоружения, то ставка будет достойна предпринимаемых усилий и приносимых жертв.
Но до сих пор незаметно, чтобы переговоры о всеобщем разоружении всерьез воспринимались той или другой великой державой, что они представляют собой нечто иное, чем один из аспектов, впрочем, второстепенных, пропагандистской войны, попыток убедить представителей общественного мнения, что именно другая сторона несет ответственность за гонку вооружений. Возможно, конечно, что наш скептицизм основывается на преходящих, а не постоянных факторах. Пока СССР и его союзники обладали в Европе (или казалось, что обладали) значительным превосходством в области классических вооружений, равновесие сил предполагало применение тактического ядерного оружия и даже превосходство США в области ядерных вооружений. Но советское превосходство в области классических вооружений на территории Европы отнюдь не является неизбежным и необоримым, точно так же, как и американское превосходство в области межконтинентальных ракет не достигнуто окончательно. А проблема будет оставаться в той или иной форме: как ограничить или сократить некоторые вооружения, сохраняя в то же время многообразные формы равновесия с учетом географических факторов и различных видов оружия?
Допустим, что Советский Союз сократит свои армии до такого уровня, что равновесие классических сил будет восстановлено. Исчезнут ли каким-то чудом те препятствия, которые стояли на пути частичных договоренностей, если будет поставлена грандиозная цель — глобальное поэтапное разоружение? Об этом идет речь в многочисленных декларациях г-на Хрущева, который утверждает, что в тот день, когда западные державы согласятся с принципом полного разоружения, он согласится с любой инспекцией, которая в условиях вооруженного мира представляет собою не что иное, как шпионаж. Что мешает западным странам ответить в том же духе и также объявить себя сторонниками полного разоружения?
Причина заключается в том прежде всего, что стиль западной пропаганды отличается от советского стиля. Западные государственные деятели испытывают отвращение к “огромным” масштабам лжи и к явно невыполнимым предложениям. Они много раз проявляли такие же ухищрения, как и советские руководители, включая в свои планы некоторые статьи, неприемлемые для противостоящего блока. Но они не осмелятся подписаться под принципом полного разоружения, об осуществлении которого, по их мнению, не может идти речи. В настойчивости советских усилий добиться согласия Запада с этим принципом они усматривают фактическое безразличие СССР к достижению соглашения и чрезмерное стремление к пропаганде.
*•*734 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Иными словами, то, что до сих пор было невозможно сделать хотя бы частично, как мне представляется, невозможно сделать и в целом. Для каждого этапа сокращения или ограничения вооружений нужно будет определять, какая потребуется инспекция, и проверять, сохраняется ли глобальное равновесие сил и равновесие средств сдерживания. Система, которая была предусмотрена для проверки прекращения ядерных испытаний, дает представление о системе, которая сочетала бы воздушное наблюдение (чтобы определить расположение пусковых установок), проверку на местах предприятий, лабораторий, гарнизонов, инспектирование флотилий подводных лодок. Откровенно говоря, огромная работа, выполненная американскими авторами по поводу “ контроля за сокращением или ограничением вооружений ”, убедила меня (вопреки их намерениям) в крайне малой вероятности заключения какого-либо договора. К этому выводу, который сочтут пессимистическим, я хотел бы добавить, однако три оговорки.
Меры по сокращению вооружений могут быть приняты в одностороннем порядке. Вполне можно представить себе, например, что в тот день, когда та или иная сторона твердо захочет сократить накопленные запасы ядерного или термоядерного оружия, она сможет передавать ежемесячно или ежегодно какой-то международной инстанции некую часть этого оружия при условии, что соперник поступит таким же образом. Неравенство запасов в начальный период не помешает разоружению в результате “диалектики односторонних решений”. Каждый будет обладать, и не скрывать этого, запасами, достаточными, чтобы сохранить существенные возможности возмездия, а следовательно, чтобы не сдаться на милость противника.
Я не думаю, что такая диалектика разоружения, сравнимая с гонкой вооружений, но в противоположном направлении, может проявиться уже завтра и привести человечество к миру без оружия. Но — и это вторая оговорка, которую мы хотели бы сделать, — нынешняя обстановка содержит комбинацию двух взаимопротивоположных тенденций — стремлений к вооружению и к разоружению. Первое полностью дает о себе знать в лабораториях, второе проявляется в отказе строить убежища, и оба стремления определяют военные бюджеты двух великих держав.
Если отнести к контролю над вооружениями все меры, принятые той и другой стороной для предотвращения термоядерной войны и предупреждения эскалации локальных конфликтов до крайней черты, то все государства, не зная того, практикуют “контроль за вооружениями”, так же, как господин Журден говорил прозой. Ибо дипломатическая стратегия Запада, как и Советского Союза, имеет целью не проиграть холодную войну, не расширяя в то же время локальные войны и не развязывая войну горячую. При таких целях дипломатической стратегии политика в области вооружений определяется не только стремлением предотвратить войну или выиграть ее, если она разразится. Речь идет о более сложном стремлении сократить масштабы насилия, а следовательно, в зависимости от обстановки, воспрепятствовать применению силы путем угрозы термоядерного возмездия, помешать расширению войны благодаря равновесию сдерживания.
735
Мир и война между народами • Раймон Арон г
Часть IV
Многие соображения, относящиеся к контролю над вооружениями, неотделимы от споров между западными странами по поводу наилучшей политики в области вооружений. Например, одна из целей контроля над вооружениями, сокращения масштабов насилия — это локализация и ограничение возможных вооруженных конфликтов. Но это намерение реализуется, учитывая возможности противника, лишь путем приобретения достаточного количества оружия классического типа. Иными словами, каждый лагерь влияет на вероятность возникновения и ограничения локальных конфликтов, распределяя расходы между классическими и термоядерными вооружениями, причем это распределение затрат происходит и должно происходить в одностороннем порядке.
Конечно, не все цели контроля над вооружениями могут быть достигнуты только путем односторонних решений при отсутствии соглашений, заключенных посредством переговоров. Но в той мере, в какой проявляется стремление устранить, насколько возможно, риск случайного возникновения войны в результате технического сбоя, человеческой ошибки, недоразумения или попытки опередить противника, односторонние шаги в сочетании со взаимными действиями открывают более широкие перспективы, чем любые переговоры. Дело экспертов — выбирать системы вооружений, которые сводили бы к минимуму риск взрыва бомбы без преднамеренного запуска ее механизма человеком или в результате неправильного истолкования показаний приборов. Дело государственных руководителей — заранее думать о средствах, необходимых, чтобы успокоить противоположную сторону относительно своих намерений, поддерживать связь в период кризиса и даже оставить шанс закончить еще до исчерпания запасов оружия войну, в которой были бы использованы термоядерные бомбы. Как утверждают американские авторы, отнюдь не лишено смысла думать и об условиях, при которых капитуляция стала бы необходимой для спасения части населения. Но и здесь избыток рациональности может мало отличаться от своего рода наивности. Ограничение конфликтов требует страха перед их расширением: один лагерь не в состоянии успокоить подозрения другого по поводу своих намерений, не создавая новой опасности. Было бы полезно, хотя это, может быть, и невозможно, знать заранее, каким образом ответственные государственные деятели в Москве и Вашингтоне смогут воспрепятствовать безумству кровопролития и ограничить применение оружия, каждая единица которого обладает чрезмерной мощью.
Наконец, и это третья оговорка, контроль за вооружениями отнюдь не предполагает полного или частичного отказа от заключения путем переговоров соглашений о сокращении вооружений. Технические трудности в организации инспекции огромны, но они не являются навсегда неразрешимыми. Инспекция никогда не даст абсолютной гарантии против обмана и войны, но вооружения также ее не дадут. Здесь, как и везде, принятие решения равнозначно сравнению рисков. В настоящее время руководители обеих великих держав больше боятся рисков разоружения и инспекции, чем рисков, связанных с нынешним равновесием страха. Причины подобной 736 % 5Раймон Арон • Мир и война между народами
оценки рисков различны, но, как мне представляется, они сводятся к простым положениям: советские лидеры опасаются инспекции-шпионажа, американцы испытывают глубокое недоверие по отношению к советским деятелям и их намерениям. Ни те, ни другие, несмотря на предостережения экспертов, не испытывают очень большого ужаса перед термоядерной войной. Во всяком случае, этот ужас носит расплывчатый характер и относится к какой-то дальней перспективе. А страх перед проведением инспекции и возможным обманом относится к сегодняшнему дню и берет верх.
Может быть, серьезный кризис переменит в умах руководителей Москвы и Вашингтона эту иерархию угроз и выбор рисков.
*♦*
Является ли гонка вооружений причиной политического конфликта или политический конфликт — причина гонки вооружений? На этот классический вопрос, как мы уже говорили, нельзя дать однозначного ответа. Гонка вооружений обусловлена поисками безопасности посредством силы, она символизирует диалектику вражды в мирное время, представляет собой невоенную форму эскалации к предельной черте. Следовательно, она способна в определенных обстоятельствах усилить вражду, из которой возникла, обострить чувство незащищенности, которое испытывает каждый из соперников. Каждый вооружается потому, что вооружается другой, и ни тот, ни другой не может положить конец этому процессу. Эта ситуация внешне абсурдна для того, кто не хочет восприПраксиология
нять логику действующих лиц. Но она действительно может быть создана не столько подозрениями каждого в отношении другого, сколько тем оружием, которое тот приобрел, не столько намерениями, которые каждый приписывает своему сопернику, сколько теми средствами разрушения, которые, как становится известным, находятся в его распоряжении. Такова, возможно, нынешняя обстановка.
Сторонники “разоружения” или “контроля над вооружениями” могут не соглашаться с тезисом, согласно которому единственным или основным источником опасности является термоядерное оружие. В действительности одни ограничиваются утверждениями, что это оружие не устраняет угрозы войны и придает ей характер беспрецедентной катастрофы. Другие утверждают, что враждебные позиции, различия в могуществе И идеологии между двумя великими державами не оправдывают горячей войны и что Соединенные Штаты и Советский Союз особенно сильно ненавидят друг друга, думая о том зле, которое могут себе причинить. И третьи, наконец, не приписывают самому оружию ответственности ни за насильственные конфликты, ни за враждебные страсти. Они лишь констатируют, что совершенствование вооружений несет с собой дополнительную и самостоятельную угрозу войны и что в результате этих усовершенствований она превзошла бы по своему ужасу все то зло, которое на протяжении тысячелетий люди причиняли друг другу.
Каждое из этих заключений содержит по крайней мере часть правды. Если предположить, что оружие массового поражения не увеличивает риска войны, то со всей очевидностью оно Мир и война между народами • Раймон Арон
737 -..л’
Часть IV
повышает стоимость возможной войны, придает конфликту новое измерение, а страстям — возросшую остроту и, возможно, даже сопряжено с риском случайного взрыва (недоразумение, несчастный случай и т.п.) Неуверенность касается количества: перевешивает ли страх перед войной угрозы, создаваемые оружием и нововведениями в военной области?
Какова бы ни была мера этих угроз, я не вижу, каким образом в настоящее время человечество могло бы их избежать. Ни одна из великих держав не даст обещания не брать на себя инициативу в применении ядерного или термоядерного оружия: подобное обещание потребовало бы со стороны западных стран усилий по увеличению классических вооружений, на которое они, может быть, ошибочно, отказываются пойти.
Нельзя утверждать, что великие державы действуют так, словно опасности не существует. Напротив, они отчасти поступают так, словно прислушиваются к сторонникам “контроля над вооружениями”, они стремятся защитить свои интересы, сокращая масштабы применения насилия, предупреждая расширение конфликтов, применяя лишь классическое оружие, когда использование силы становится неизбежным, взаимно успокаивая друг друга в периоды кризисов и уверяя в своих мирных намерениях. Но все эти соглашения, если их заключают, подразумеваются сами собой, принимаемые меры носят односторонний характер, и они не кладут конец тому, что большинство экспертов считает самым важным аспектом нынешнего общепланетного соперничества: качественной гонке вооружений.
Я не недооцениваю серьезности, одновременно трагической и абсурдной, этой гонки. Но я спрашиваю: если не случится революции в сердцах людей и в природе государств, то посредством какого чуда сам космос может быть исключен из сферы военного использования? Каким образом Соединенные Штаты и Советский Союз согласились бы отказаться от своих собственных программ и распоряжаться спутниками лишь сообща? Почему великие державы откажутся перейти от бомб мощностью в несколько мегатонн к бомбам в несколько десятков мегатонн1 ? Почему они откажутся от создания термоядерной бомбы, детонатором которой уже не будет бомба, основанная на расщеплении ядра, и которая станет убивать людей, не разрушая зданий?
Разумеется, у двух великих держав окрепло бы чувство безопасности, если бы равновесие взаимного сдерживания стабилизировалось при известном количестве ракет. Равновесие сдерживания не называлось бы тогда равновесием страха. Не удивительно, что такое равновесие не стало предметом надлежащего соглашения, если Соединенным Штатам не удалось убедить даже своих союзников отказаться от такого оружия.
Возможно, в ближайшие годы технический прогресс приведет к фактической стабилизации взаимного сдерживания. И не надо рассчитывать на дипломатов, чтобы такой стабильности достичь.
1 Если только эксперты не объявят, что бомбы мощностью в 100 мегатонн “бесполезны”.
738 Раймон Арон * Мир и война между народами
Праксиология
ГЛАВА XXII
В поисках стратегии:
II. Выжить — означает победить
Цель Запада — не только избежать термоядерной войны, но также и победить, или хотя бы не быть побежденным. Если бы задача заключалась лишь в том, чтобы избежать термоядерной войны, то ее наилучшим рациональным решением стала бы капитуляция. В противном случае, невзирая на термоядерные бомбы и баллистические ракеты, которыми потрясает господин Хрущев, можно считать, что цена победы будет равноценна силе сопротивления. Это предположение, по отношению к какому-либо конкретному случаю, возможно, покажется парадоксальным и даже абсурдным. В самом деле, стоит ли свобода двух миллионов жителей Берлина риска развязывания термоядерной войны? Увы, нет такого чистого интереса, который, действительно, был бы равнозначен “проигранному пари“ или “блефу“, приведшему к выигрышу. Но как только мы соглашаемся сдать все свои позиции, каждый частный интерес становится чем-то более важным, чем он является в действительности, поскольку в этом случае ставятся на карту общая судьба и с этого момента речь идет не только о двух миллионах берлинцев, но и о выборе западных немцев (между жизнью в едином государстве, под эгидой Советского Союза, или свободой, которой обладают две трети немцев). То есть решается будущее всей Западной Европы и, в конечном счете, самого Запада и всех его ценностей.
“Но, — возразит скептик или циник, — стоит ли «свобода Запада» миллионов, десятков миллионов человеческих жертв?” Однако, видимые резоны данного возражения ложны. Запад, правда, не уцелеет, если вспыхнет термоядерная война. При господстве оборонительной стратегии, как и стратегии сдерживания, война скорее всего не спасет никакого народа и никакой цивилизации.
Но Запад не спасла бы и капитуляция. Итак, мы убеждаемся в том, что защита ценностей, которые погибли бы вместе с существующими на Западе режимом и цивилизацией, связана с опасностью, возникающей для десятков миллионов человек, которую капитуляция отвела бы от них лишь временно.
1. Ставка в борьбе
В наш век трудно разумно объяснить то, что в другие времена казалось бы очевидным. Почти невозможно осознать те грандиозные потери, которые повлекла бы за собой термоядерная война, также следует учесть, что многочисленные высшие чины католической церкви в связи с этим заявили, что такие традиционные понятия, как “справедливая война”, впредь становятся неприемлемыми. Дело в том, что виновниками в развязывании агрессии и создании атомной угрозы для населения, состоящего из “невинных” — мужчин, женщин и детей — могут оказаться именно те, кто ими правили. Справедливость и политическая целесообразность, конечно, не позволяют применять столь ужасные Мир и война между народами • Раймон Арон -
739
Часть IV
сценарии. Повторяем: единственно возможная парадигма для Запада заключается в том, чтобы не ставить себя в положение, когда пришлось бы оказаться инициатором применения термоядерного оружия. Сформулируем вопрос и подругому: что в этом случае может оправдать жертвы и опасности?
Иные тут же заявят, что в такой постановке подобного вопроса уже содержится ответ. В самом деле, если поборник “холодной войны” сам публично выражает подобные опасения, то это видимо служит еще одним из неисчислимых признаков того, что угасающая цивилизация более не верит в самое себя. На мой же взгляд то, что мы ставим этот вопрос, означает прямо противоположное. Только фанатики и варвары могут не задумываться об угрозе войны в век, когда одна-единственная термоядерная бомба способна уничтожить больше людей, чем все немецкие снаряды, бомбы и пули убили французов за несколько лет сражений. Тот, кто перед лицом опасности термоядерной войны ни разу не смутился и не спросил себя: “Существует ли нечто ей равноценное?” — тот не достоин называться человеком.
Мы открыто ставим перед собой такие вопросы, задаваться которыми вроде бы не имеем права. Это может служить контрастом к положениям о “защите и прославлении Запада”. В XVIII главе я провел анализ поведения “братьев—врагов”, стараясь быть как можно более нейгпралъньш. Я писал не как человек, ангажированный Западом, более того — старался избегать самых разнообразных позиций: и точку зрения европейца, критикующего Америку, с которой он в душе, тем не менее, солидарен; и позицию индийца, предпочитающего Запад советскому миру, но боящегося последнего более первого; а также многие другие концепции различных типов неангажированных авторов. Я действительно стремился не обращать внимания на тех, кто больше всего старался утаить свои взгляды. Я склонен оставаться только наблюдателем, который понимает и может оценить весь комплекс событий. Однако я не являюсь подлинно “чистым созерцателем”, от которого все-таки ускользает определенная часть международной обстановки, а именно: ощущение того, что люди и государства совместно борются за свое существование.
При сравнении структуры и функционирования политического и экономического режимов, по обе стороны железного занавеса необходимо констатирование: преимуществ и недостатков как авторитарного планирования, так и рынка, своевременно подправляемого государственным вмешательством; партии, которая монополизирует идеологию; системы плюрализма партий, конкурирующих друг с другом в рамках конституции. Лично я придерживаюсь того мнения, что даже в социологическом плане, имея в виду ценности, стремление к которым прокламируют оба лагеря, западный режим, рассматриваемый в глобальном масштабе, является более предпочтительным, чем строй советского типа, хотя его очевидные преимущества кроются в способности обеспечить высокий уровень инвестиций и концентрировать капиталовложения в некоторые жизненно важные секторы, и т. д. Но я готов одновременно признать, что данный выбор предпочтений не миновал влияния моих предрассудков и чувств. Наконец я признаю, что вообще режим предпочтений в абстрак-
740 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
: хмй4^-- ■> :-х^,-й-У»--й->й- -^у :-х<?г5^>х-.-?^ %>к^«ий'<
тном плане не всегда возможен, здесь и сейчас, как говорили римляне. Не исключено, что предпочтительное, существующее в некой данной конъюнктуре, есть нечто иное, чем предпочтительное как результат сравнения обоих идеальных типов. Если в стране не существует системы предпринимательства и механизмов кредитования, а лишь в руках государства и его чиновничества сосредоточены средства для развития процесса индустриализации, то режим монопольно-идеократической партии теоретически служит препятствием для выполнения необходимой исторической задачи.
Но данный способ исследования вызывает некоторое беспокойство, даже если применяется для изучения экономических режимов (в конечном итоге именно режим определяет как жизнь людей, так и жизнедеятельность хозяйственных субъектов). Он грешит пренебрежением сущностными масштабами явления, особенно, если это касается анализа политических режимов. Режимы, однопартийный и многопартийный, разумеется, могут быть рассмотрены и восприняты как два типичных решения одной и той же проблемы, как два логически приемлемых воплощения демократической законности, как два метода исполнения одних и тех же функций. Дело в том, что власть исходит от народа, который или выбирает среди кандидатов тех, кто будет руководить, и в этом случае многочисленность вариантов выбора есть доказательство свободы; или же народ ратифицирует методом “ура-единогласных” выборов власть партии, знающей, толкующей и исполняющей истинную волю масс (или класса, чья воля оказалась исторически решающей). В обоих идеальных случаях поддерживается диалог между правителями и подданными; последние ощущают себя обязанными подчиняться, а правители — удовлетворены тем, что их полномочия легитимны; в обоих случаях политическим партиям (или партии) обеспечивают постоянное пополнение рядов.
Далее ни тот ни другой режим, рассуждая отвлеченно, не гарантирует диалога между правителями и подданными и никто, в сущности, не препятствует возникновению разрыва в общении, не оберегает народ от деспотизма меньшинства, от всевластия харизматического вождя, от причинения народом и властью взаимного ущерба. Если даже на действительно свободных выборах в определенной мере обеспечено народное участие, то все равно укрепляется олигархия. Когда вражда между народом и монополистической партией переходит определенные границы, то даже от демократической фикции не остается ничего.
Нелицеприятное сравнение обоих нынешних вариантов демократической законности, как явлений одного уровня, безусловно, требует учета фактов, благодаря которым мы высказываемся за или против определенных политических институтов. Они более чем институты экономические, олицетворяют лишь один аспект, или один сектор, общества как такового. Однако, являясь индивидуальными или коллективными формами существования, эти две разновидности режимов представляют собой нечто коренным образом разнородное. Они не располагаются на разных уровнях иерархической лестницы, идущей от низшего к высшему, а противостоят друг другу как отрицательные и положительные величины.
Демократическая законность, на которую ссылаются оба блока, не может Мир и война между народами • Раймон Арон 741
Часть IV
и не должна осуществляться во всех обществах посредством одних и тех же институтов. В то же время институты могут честно апеллировать к этой законности лишь при условии приверженности, хотя бы какой-либо одной из следующих идей: конституционность, пред' ставителъностъ и личная свобода. Когда избрание правителей и осуществление власти производятся в соответствии с принятыми правилами (взять власть в свои руки не может любой и каждый, а тот, кто ею наделен, вправе позволить себе делать все, что взбредет ему в голову). Массы считают, что правители представляют их интересы, а власти осознают себя представителями народа, и наконец всякий гражданин в рамках, очерченных законами, имеет право действовать и думать, сообразуясь со своей фантазией, — таковы, как мне кажется, три идеи, которые, будучи взаимодополняющими в условиях идеальной демократии, но подвержены взаимному отторжению во всех реальных демократиях, и составляют демократическую законность. Если ни одна из этих трех идей не осуществлена даже приблизительно, то режим, именующий себя демократическим, лжет. Обманывает ли он, сознательно или нет, значения не имеет: мистификация налицо.
Однопартийный режим советского типа остается в месте своего зарождения неконституционным. Механизма передачи власти в случае смерти лидера № 1 здесь нет. Видимой связи между тем, что происходит и тем, что предусмотрено Конституцией, которая, будучи обнародованной в период широкомасштабной чистки, гарантировала бы уважение всех духовных и личностных свобод, не существует. Как известно, члены Президиума лишь формально являются представителями Центрального комитета, а тот выражает волю членов партии лишь в очень смутном смысле. Я не хочу сказать, что члены партии испытывают враждебные чувства к Центральному комитету и не ощущают себя в состоянии диалога с ним. Я лишь хочу отметить, что именно руководители партии выдвигают тех, кто потом будет якобы представлять интересы миллионов членов партии. Наконец, люди, живущие в Советском Союзе, лишены множества конкретных свобод: таких, как свобода путешествовать за границей, слушать радио по своему выбору, писать романы и картины как им вздумается, то есть свобод, которыми пользовались когда-то многочисленные подданные более или менее просвещенных деспотов и которых нет у пролетариев, “освобожденных” победоносным социализмом.
Называть демократическими режимы, именуемые народно-демократическими, — это насиловать смысл слов, или, пока что выразимся более осторожно, допускать, что одни и те же слова понимаются по-разному на Западе и на Востоке. Но так ли это? Венгры и поляки в 1956 г. с блеском доказали, что они всегда вкладывали “в слова своего племени чистый смысл”. Правда и то, что граждане Советского Союза ни публично, ни в приватной беседе, ни официально, ни подпольно не признавали свободой то, что мы понимаем как несвободу.
Режимы советского типа ищут себе оправдание в формулах “для народа”, или “руками народа”. Абсолютная власть партии, или, если вы предпочитаете, “руководящая роль авангарда пролетариата”, представляется не как выражение демократической ортодоксии, а как историческая реальность. В период пе-
шм 742
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
рехода от неоднородного1 классового общества к будущему однородному обществу диктатура осуществляется партией от имени пролетариата. И еще. Неконституционность порядка наследования и принятия решений, отсутствие системы подлинных выборов представителей вовсе не превозносятся как символы некоей высшей законности или высшей воли. Лучшее тому доказательство — словесная дань, отданная добродетели в виде сталинской Конституции 1936 г., а также в виде ура-единодушных выборов и съездов партии. Можно ли сказать, что все это предпринято ради успокоения буржуазной пропаганды и идеологии? Но тогда подобные уступки, если такова цель Конституции и выборов, могут служить еще одним доказательством того, что советские руководители не сомневаются в подлинном смысле, который их народ, подобно другим народам придает демократической законности. Русские совершенно так же, как американцы, не ставят знака равенства между всевластием партии и свободой: полицейский террор был террором, а не воплощением в жизнь гуманизма. Социалистический реализм, насаждаемый Ждановым, был тираническим, а не освободительным.
Теория, в которую верят, как мне кажется, и рядовые партийцы, и их руководители, подлинная теория этой лживой системы, есть теория историческая. Если партийный плюрализм и свободные выборы характеризуются как явления буржуазные, то вовсе не потому, что единственная партия и сфабрикованные властями выборы выдаются за высшую форму демократии как таковую. Но, в соответствии с историческими воззрениями теоретиков марксизмаленинизма, наличие многих партий на Западе лишь маскирует деспотизм монополистического капитализма, и только коммунистическая партия способна уничтожить этот деспотизм и открыть путь к бесклассовому обществу.
Увы, философские взгляды на историю, служащие основанием для таких категорических суждений и для этих неуклюжих оправданий, ложны. Граждане Советского Союза, поскольку навязанная им философия не согласуется с фактами, мало-помалу создали небывалую систему лжи. Подчиненные и присоединенные народы также вынуждены жить в системе перманентной фальши. Сущностью перехода от капитализма к социализму является упразднение частной собственности на средства производства; исчезновение всех форм отчуждения; власть партии концептуально связанной с пролетариатом; построение общества без классов и без государства, которое возникнет тогда, когда социализм победит — вот главные тезисы, которые составляют каркас советской идеологической конструкции. Но они почти абсурдны. Партия — может считаться пролетариатом лишь мифологически; упразднение частной собственности не влечет за собой устранение экономического и социального неравенства. Как ни действенна организация экономики, она никогда не приведет к отмиранию государства и политического режима. Коммунисты, которые создали нечто отличное от того, что затевали, которые направили свои усилия на достижение абсурдных целей, противоречащих природе человека и человеческих обществ, *В данном случае мы используем слова “однородный" и “неоднородный” в том смысле, в котором они употребляются в бытовой речи, а не в точном смысле - “гомогенная" или “гетерогенная” системы.
Мир и война между народами • Раймон Арон 743 «и
Часть IV
лгут, как, возможно, никакое иное историческое движение до них. Отказ от коммунизма — это, для меня, прежде всего отказ от навязанной лжи.
Я вижу как улыбается скептик, как презрительно взирает на меня “левый интеллектуал", убежденный в том, что советский лагерь, коль скоро он сам себя окрестил социалистическим, является носителем надежд человечества. Чтобы усугубить сложность моего положения в глазах оппонентов, я доведу до конца свою мысль: интеллигенты, которые желают, чтобы их воспринимали как “гуманистов", объявляющие себя продолжателями традиций Просвещения, которые клянутся в симпатии советскому лагерю и отказываются замечать разницу между ним и другим гигантом, мне представляются моральными извращенцами. Тот, кто остановил свой выбор на обществе тоталитарного толка, а не на обществе либеральном по своей сути или считает, что они отличаются друг от друга лишь оттенками, тот не видит самых главных человеческих ценностей.
Хотелось бы, чтобы меня поняли правильно. Западные общества не являются совершенными и, возможно, в том или ином отношении менее совершенны, чем общества советского типа. В частности, если сравнивать Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, то, может быть, окажется, что первым осуществлять принцип расового равенства труднее, нежели последнему. Нет ничего, что препятствовало бы тому или иному наблюдателю презирать пронизанные рекламой заатлантическое радио и телевидение более, чем политизированные. Но критика американской цивилизации является неотъемлемой частью самой этой цивилизации (чего не скажешь о цивилизации советской); главное же здесь то, что негативные стороны режима не превращены в позитивные средствами диалектического жонглирования. Ведутся споры о доли власти, имеющейся у монополий (или крупных корпораций). Но в голову ни одному американскому теоретику не придет мысль утверждать, что чем больше власти у монополий, тем значительнее реализован принцип демократии. Основой советского режима является перевертывание с ног на голову общечеловеческих ценностей. Теоретики советского режима утверждают, что партия ассимилирована с классом, а воцарение партии есть законченное воплощение свободы. А если так, то сакрализация партии (или некоторых подобных партий — как и тех уникальных людей — которые выдают себя за ее сущую плоть) необходима как с психологической, так и с логической точки зрения. Священное преображение партии требовалось для того, чтобы индивид, повинуясь ей, чувствовал, что поступает согласно высшему разуму. Была бы необходима диктатура партии для освобождения пролетариата, если бы партия не приняла той исторической миссии, которую Маркс и первые марксисты объявили задачей рабочего класса? Став “священной”, партия обрела право на ничем не ограниченное распространение своих законов. Социальный человек является человеком тотальным, а партия — это и распорядитель и владелец социального человека. Режим, претендующий на роль архитектора тотального человека, сам тоталитарен и тираничен по своей природе, а не волею случая зиждется на ложной философии.
Я слышу, как скептически настроенный читатель в опровержение гово.»744 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
рит мне об известных в истории прецедентах. Великая Французская революция тоже в тот или иной момент была “тоталитарной”. Это же касалось того или иного ее представителя. Будучи “в душе” религиозной (в расплывчатом смысле понятия “религия”), она тоже сражалась с церковью. Католическая церковь объявила ее несовместимой с традиционными учениями. Она стала подобно другим движениям достоянием истории. Институты, которые она после себя оставила: правовое равенство, личные свободы, всеобщее гражданство, представительское правление, — не только не являлись противоречащими догмам католицизма, но даже оказались сообразными с духом христианства (по меньшей мере в некоторых проявлениях его духа). Почему же приходится отказывать в подобном свойстве революции советской? Она тоже, в конечном счете, оставит после себя некоторые институты, например, такие, как планирование экономики, ускоренная индустриализация, социальные права индивидов, институты, у которых все нынешние режимы что-то позаимствуют. Что до марксистско-ленинской идеологии, то она мало-помалу канет в лету. Советский народ будет относиться к изваянию Карла Маркса с тем же безразличием, с каким потерявший веру христианин крестится, переступая порог храма.
Такой подход давно стал (или почти стал) правилом в кругах западной интеллигенции. Он заключается в желании уже сейчас поставить себя на место тех, которые когда-нибудь станут рассуждать о событиях для нас прошедших. В подобных концепциях присутствует некий род вульгаризованного марксизма, при помощи которого развенчиваются глубинные намерения определенного исторического движения, но признаются единственно реальными институты, порожденные им. Другими словами, нас поучают не драматизировать советский тоталитаризм, так как он всего лишь “вопрос идеологической чести” плановой экономики, который исчезнет ко времени наших правнуков.
Было бы неразумно отрицать, что тоталитарная воля (или вера) в конце концов самоистощится, особенно, если иметь в виду, что тоталитаризм как таковой противоречит вековечным проявлениям человеческой природы. Но из этого вовсе не следует, что догматизм имманентности, желание создать тотального человека, человека нового типа, всего лишь некие надстройки или мифы. Советское общество представляет собой тип монолитно спаянных институтов, а также метафизическое намерение, вдохновляющее субъектов этого общества. Вполне возможно, что некоторые из этих институтов смогут выжить, будучи освобожденными от намерения, которое лежит в основе их жизни и одновременно их извращает. Но сегодня эту, говоря языком химиков, диссоциацию считать свершившейся нельзя. Наш долг состоит в том, чтобы опровергать то, что противоречит природе человека, а не в том, чтобы занять привилегированную позицию чистого наблюдателя, как если бы наше ближайшее будущее было бы нашим далеким прошлым. В настоящее время так рассуждаю я, но не мои внучатые племянники. Если они сегодня не находят ничего трагического в угрозе тоталитаризма, то, возможно, я сейчас делаю нечто такое, что им поможет вырваться из его лап, а именно — я говорю о его опасности. Однако взывать к будущему освоМир и война между народами • Раймон Арон 745
Часть IV
вождению от оков тоталитаризма — это, по правде говоря, всего лишь поиски алиби для тех, кто трусит или не участвует в борьбе.
2. Цель
“Но, — скажет далее мой оппонент (то есть я сам), в данном случае, — позволено ли нам пренебрегать накопленным опытом?” Сколько историков, наших современников, умудряются считать себя соучастниками кровавых братоубийственных войн спартанцев и афинян или, ближе к нам, сражений наших отцов в 1914 и 1918 годах с немцами? Сколько историков заняты воспеванием достоинств Римской империи, невзирая на поведение ее солдат и чиновников как победителей? А сами покоренные народы по прошествии нескольких веков спокойного существования не смирились ли со своей судьбой до такой степени, что в продолжение долгих столетий варварства сохраняли ностальгию по опочившей империи? А войны не на жизнь, а на смерть, ведшиеся между единокровными сообществами внутри одной и той же зоны цивилизации? Примеров того, чтобы суждения созерцателей, смотрящих в былое, совпадали с чувствами действующих лиц тех событий, почти нет. Отчего же нельзя сказать то же самое касательно нашей борьбы и почему нам не следовало бы это учитывать?
Мы, действительно, обязаны брать это в расчет, как и иметь точное представление о том, против чего мы воюем, а также о том, для чего мы это делаем. Исследуя современную обстановку, мы часто констатируем, что анализируемые факты лишены симметрии. На Западе не объявляет вне закона тех, кто открыто принимают сторону противоположного лагеря. За несколькими исключениями Запад не поддался логике соперничества и не стал в этом отношении подражать своему врагу. На Западе никогда свободы граждан не подвергались тем ограничениям, которые советские режимы полагают нормальными и необходимыми. Запад высказывает разные мнения, тогда как у Советского Союза мнение одно. Перед лицом международных кризисов каждая западная страна открыто заявляет о своих сомнениях и колебаниях. Советский же Союз в таких случаях юлит (и так многократно), смешивая угрозы и посулы; однако все его поступки скоординированы единой волей.
Упомянутая асимметрия обнаруживается на самом высоком уровне, а именно на уровне и стратегии военных целей. Вожди советского блока — и сомневаться в этом нет никаких причин — продолжают мыслить в рамках марксистской теории, такой, какой ее определили Ленин и Мао Цзэдун. В их глазах конфликт между двумя блоками — всего лишь аспект и момент мировой революции, а также неизбежного перехода от капитализма к социализму. Соединенные Штаты Америки являются единственной силой, способной составить противовес СССР, их можно считать высшим воплощением сущности капитализма; они одновременно национальный враг России и идеологический враг всего мира социализма. Вопрос о прекращении этого соперничества посредством долгосрочного соглашения, основанного на разделении зон влияния или на принципе “живи и дай жить другим”, не стоит. Мирное сосуществование является — и ничем иным быть не мошм 746 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
жет — как только некой особой формой, в которую временно облекается “длительный конфликт” (protracted conflict). Западные страны с их населением склонны, пусть неосознанно, признавать приоритет мира и потому, оказавшись перед лицом того или иного конфликта, начинают поиск решения для сугубо мирного урегулирования. Марксисты-ленинцы, напротив, признают фатальность (благотворную) конфликта, пока социализм не утвердился повсеместно и окончательно. Первые готовы удовлетворяться миром без победы: лишь бы только СССР с его народами отказался от мысли уничтожения Запада. Тогда Запад охотно предоставил бы ему жить по собственному усмотрению и оставил бы ему без особого неудовольствия страны, которые Красная Армия “освободила” или “завоевала”. Напротив, Советский Союз даже не понимает, что такое мир без победы. Советские идеологи считают, что пока существует капиталистический блок, мир никогда не установится (потому что капитализм империалистичен по своей сути), а борьба должна продолжаться не оттого, что люди этого хотят, но по той причине, что так решила История. Если именно такова асимметрия целей, то не проиграл ли уже Запад?
Такой убежденности придерживается некая американская школа, одна из последних книг которой, написанная Робертом Строс-Хьюпэ (Pobert StrauszНирё), Уильямом Р. Кинтнером (William R. Kintner) и Стефаном Т. Поссони (Stefan Т. Possony), озаглавлена: “A forward strategy for America”1. Несколько нижеприведенных цитат дают представление о стратегической цели, которую, по мнению авторов. Запад должен был бы наметить. “Приоритетной целью любой «большой стратегии» Америки впредь является сохранение и укрепление нашей политической системы в большей степени, нежели поддержание мира. Достижение этой цели может или не может вызывать необходимость установления во всем мире систем совместимых с нашей; но совершенно ясно то, что это требует поддержки или установления свободных систем совместимых с нашей в определенных ключевых регионах мира”1 2.
Если выживание политического режима США является приоритетной целью, стратегия пребывания в крепости по имени Америка для США немыслима, поскольку в мире, полностью превращенном в Советский Союз или в тоталитарный режим того или иного порядка, США не смогут сохранить свои либеральные институты.
Но должны ли будут Соединенные Штаты Америки удовлетвориться этой относительной победой, то есть сохранением жизни своего народа?
“Коренное решение нам представляется как ответ на следующий вопрос: «Надо ли нам принимать коммунистический концепт сосуществования в той или иной форме или спровоцировать окончательный разгром коммунизма?» Если мы избираем вторую линию поведения, тогда следует решить, должны ли мы делать ставку на уничтожение коммунизма вследствие случайного стечения обстоятельств, таких, как внутренняя эрозия или переворот, или мы должны приумножать наши усилия во имя 1 Ведущая стратегия для Америки. Нью-Йорке. Харпер, 1961.
2 Там же. С. 402.
Мир и война между народами • Раймон Арон 747
Часть IV
достижения названной цели. Нам надлежит решить, не задержит ли пассивная и выжидательная стратегия падение коммунизма одновременно ускоряя наше. Наконец, нам надо решить, ради чего мы, в самом деле, желаем победы над коммунизмом. Потому ли, что нам хочется заменить его “экономический порядок” каким-нибудь другим? Или же мы базируем нашу политику на вере в то, что коммунизм, несмотря на его нынешнюю враждебность, мог бы оказаться противником более сговорчивым, чем та система, которая могла бы ему наследовать, если допустить, что мы проживем достаточно долго, чтобы такого наследника увидеть? Если нашу политику очистить от всей ее разноголосицы, то окажется, что она может быть основана единственно на следующей посылке: мы не можем позволить, чтобы и впредь существовала политическая система, способная одновременно развиваться и иметь неистребимое желание нас уничтожить. Другого выбора, как взять на вооружение стратегию применявшуюся Катоном, у нас нет”1.
Столь же прозрачно формулируют авторы свою идею в другом месте.
“С нашей точки зрения, постоянное сосуществование систем коренным образом противоположных друг другу, какими предстают общества закрытые и общества открытые, невозможно, а также нам представляется, что жестко ограниченное общество завтрашнего дня уже не сможет бесконечно пребывать в пространстве, перегороженном железными или бамбуковыми занавесами точно так же, как Американский союз времен Линкольна не мог боле существовать в полурабском — полусвободном состоянии”1 2.
В этих двух цитатах, как минимум, обозначены все те проблемы, которые возникают в связи с поисками Западом определенной стратегии. Сколь легко, столь и справедливо было бы положить в основу наших размышлений тот факт, что выживание Соединенных Штатов — выживание режима, как и плоти народа, — является приоритетной целью. В каких условиях она может быть достигнута? Цитированные авторы, как представители наступательной школы, тут же добавляют что неограниченное во времени сосуществование закрытых и открытых обществ невозможно.
Однако к счастью это положение не имеет никакой перспективы во времени. Американская федерация, вероятно, не сумела бы удержать на должном уровне сосуществование государств рабовладельческих и тех, которые ими не являлись: война Севера с Югом не была неизбежной, и если бы она вспыхнула позже, то, возможно, рабство было бы объявлено незаконным без войны, а рабы мало-помалу стали бы свободными людьми. Главное же заключается в том, что ссылка на положение, в каком оказался союз к 1861 г., не дает никаких объяснений относительно того, что представлял собою конфликт, разделивший входившие в него два блока. И конфедераты и янки принадлежали к Федерации, сохранение или развал которой являлись ставкой в их борьбе. Однако, хотя тот и другой блок принадлежали к общей межнациональной системе, они все же являлись компонентами разных политических сообществ. Так 1 Там же. С. 405—406.
2 Там же. С. 35—36.
» 748
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
что, исходя из сути идеологического конфликта. герольды каждого режима стремятся объявлять рабами граждан государства, объединяющего противоположные режимы. Следует уточнить эту формулировку (в том смысле, что любая многонациональная система не может вечно оставаться полурабской —полусвободной). Вероятно, было бы верно следующее положение: всякая двухполюсная и разнородная система в своем развитии неизбежно приходит к войне, которая неумолимо ведет к устранению одного из кандидатов на всевластие. Мы знаем, что так многократно бывало в прошлом, но тем не менее известно, что уроки, которые мы извлекаем из истории, зависят от выбора прецедентов. Если говорить об империях, то там долговременное сосуществование разнородных элементов являлось правилом (парфяне и римляне, мусульмане и христиане). Если говорить о зонах цивилизации, в конечном счете объединенных, то неудивительно, что там объявляется некий Катон, который изрек: “Карфаген должен быть разрушен”, а также незамедлительно нашлись исполнители этого приказа. Какой же из этих двух прецедентов ближе к современной конъюнктуре? Ни одна из двух названных ситуаций нам не скажет больше, чем анализ настоящего.
Как советский, так и западный блок во многих отношениях отличаются от тех империй, сосуществование которых оказалось долговременным. Если народы Восточной Европы временно обречены существовать в рамках тех институтов, в которых они живут, то это вовсе не означает коренную связь народа и режима. Официально провозглашенный государственный суверенитет и все еще не истребленные чувства национального самосознания ограждают эти государства от насилия Кремля, который стремится придать своим завоеваниям видимость законности и исторической необходимости. Советская империя, в латинском смысле этого термина, попрежнему остается не вполне жизнеспособной, раздираемой противоречиями, но одновременно сохраняется благодаря той силе, которую ни согласие, ни закон не укрепили и не заменили. Империя (опять-таки в латинском смысле) американская так же не защищена от возможных кризисов. Как долго еще западные немцы будут отдавать предпочтение своей свободе и процветанию, а не возможному воссоединению? После падения Западного Берлина и официального раздела Германии и Европы останутся ли граждане Федеративной Республики верными Европейскому и Атлантическому сообществам? Придут ли французы и англичане — и те и другие, тоскующие по величию исчерпавшей себя силы — к тому, чтобы объединиться и принять политический статус и военную организацию, аналогичные тем, которые являются стабилизирующими факторами американской империи?
Увы, непрочность обеих империй есть нечто иное, чем одна из причин неустойчивости их сосуществования. Обе империи, равно как и так называемые южане и северяне, не принадлежат к одному и тому же политическому сообществу, но в то же время их разделяет расстояние не более того, что существует между мусульманами и христианами. Идеологии обеих империй взаимно и прямо агрессивны. Люди, живущие при одном режиме, легко могут себе представить, каково было бы их существование, окажись они в условиях другого. Наконец, а может быть прежМир и война между народами • Раймон Арон 749 »ж
Часть IV
де всего, следует отметить, что технический прогресс лишь подстегивает динамику взаимной боязни, поскольку она, так сказать, упраздняет и пространство и время. В 1914 г., как и в 1939 г., государственные деятели располагали не одним и не двумя днями для принятия решений, от которых зависели судьбы как мира, так и войны. Специфика военных приготовлений (затруднения в организации частичной мобилизации в России), в наиболее судьбоносные моменты истории ограничила свободу выбора. Но теперь достаточно всего лишь получаса для того, чтобы баллистическая ракета преодолела те тысячи километров, что разделяют Москву и Вашингтон. В известных условиях человеку, в частности президенту Соединенных Штатов, дается всего несколько минут для принятия решения, которое в любом случае может быть бесчеловечным.
Если диалектика страха не может быть основанием для длительного сосуществования, то мы вместе с Бертраном Расселом неизбежно и логически приходим к выводу, что монополия на стратегические вооружения является единственным способом выйти из настоящего кризиса. Факт того, что “один из Великих" является обществом открытым, а другой закрытым, — всего лишь отягчающее обстоятельство. Основополагающее есть то, что баллистические снаряды и термоядерные бомбы в руках всякого государства, обладающего ими в достаточном количестве, представляют собой средство уничтожения любого другого в течение нескольких минут или часов. Ясно, что подобная опасность будет неприемлемой для обоих государств, как Домоклов меч для каждого из них. Подобные рассуждения далеки от смысла аргументов Линкольна; одновременно они вызывают отчаяние, доказывая необходимость окончательного выбора между капитуляцией Запада и термоядерной войной.
В этих условиях наиболее убедительный аргумент в пользу того мнения, что сосуществование двух доминирующих блоков не представляется возможным, сводится к тому, что качественная гонка вооружений в каждом из них способна произвести, в конечном счете разрушения невыносимые для противника. Этот аргумент не представляется совместимым с “катоновой стратегией”. Гипотетическое уничтожение Советского Союза, или советской империи, можно понимать как в физическом, так и в политическом смысле. Угроза физического уничтожения предполагает применение оружия массового уничтожения — это в духе Катона. Стратегия в слишком большой мере рискует завершиться всеобщим самоубийством человечества, она не может быть хладнокровно принята людьми доброй воли. Если же понятие “уничтожение” имеет лишь политический подтекст, тогда оно более или менее эквивалентно той цели, которую, по нашему мнению, преследует американская стратегия. Выживание американских институтов перестанет находиться в опасности, как только Кремль откажется от намерения их уничтожить. Все обеспокоены вопросом: в силу каких обстоятельств одна сторона враждебна другой?
Симметрия между блоками выглядит более мнимой, чем реальной; или же как минимум, частичная симметрия возникает в результате диалектики борьбы. Русский народ не имеет причин считать американский народ своим врагом, и, наоборот, у американского 750 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
народа нет оснований считать русский народ своим недругом, если абстрагироваться от того очевидного факта, что они оба являются Грандами международной системы. Поскольку их соперничество налицо, каждый из них, с большей или меньшей, вероятностью, считает, что он был бы в безопасности или господствовал бы в мире, если бы не существовало другого. Вот это и есть, как мы изначально указывали, враждебность без неприязни, или, лучше сказать, неприязнь, проистекающая из враждебности.
Однако отсутствие неприязни между народами не означает отсутствия неприязни между правящими кликами. Поскольку идеи и режимы противостоят друг другу, те, кто их воплощают, ощущают себя под угрозой, имея в виду противоположную сторону, которая действительно является источником угрозы. “Холодная война“ в значительной мере проявляется как подрывная деятельность, осуществляемая так называемыми народными демократиями против так называемых буржуазных демократий и наоборот. И в этом отношении тоже нет симметрии, но становится обманчивой и сама видимость асимметрии. Так называемые буржуазные демократии предстают как бы пассивными и страдающими от “холодной войны“, ведущейся марксистами-ленинцами, для которых Запад оказывается агрессивным уже тем, что существует, а также тем уровнем жизни и теми свободами, которые он обеспечивает и предоставляет людям.
Ведет ли к использованию катоновой стратегии война режимов? Ответ должен быть категорически отрицательным. Стратегия в духе Катона не имеет смысла, поскольку Запад стремится разрушить не Советский Союз или советскую империю, но лишь советский режим, да и то потому, что он, в силу идеологических догм, затеял битву против всех режимов, отрицающих марксистско-ленинское евангелие. Вспомнить о катоновой стратегии уместно, поскольку для того, чтобы одержать верх над Советским Союзом, или советской империей, в политико-идеологической войне, Запад вынужден самым радикальным образом разрушить эти образования. В действительности же политической целью Запада является упразднение не советских институтов, а лишь идей и практик, обязывающих или побуждающих кремлевских деятелей идти войной на “еретиков“, полагать себя задействованными в чем-то таком, что может завершиться только вместе с распространением во всем мире того, что они именуют социализмом. Как только СССР откажется от монопольного права на будущее, перестанет обманывать себя и лгать другим, признает, что его государство есть то, чем является, а именно одной из разновидностей современного полиса, тогда мирное соревнование действительно и немедленно заменит собой “холодную войну“, борьба мнений — подрывную деятельность, диалог с использованием аргументов — диалектику идеологий.
Но поборник катоновой стратегии мне возразит: “Отсечь силовое соперничество от соперничества сугубо политического невозможно, ибо каждое из них является то средством, то целью по отношению друг к другу. Покончить средствами диверсионной деятельности с тем или иным режимом, симпатизирующим Западу, — значит ослабить один из лагерей и усилить другой; в этом Мир и война между народами • Раймон Арон 751
Часть IV
смысле политико-идеологическая борьба обслуживает силовое соперничество. Но сила (или могущество), обретенная советским блоком, увеличивает радиус распространения соответствующих идей и укрепляет его авторитет. Найдутся страны, которые обратятся к марксистско-ленинскому евангелию, так как Москва — столица государства в военном отношении наиболее сильного. Все действия, будь они военные, экономические, дипломатические или идеологические, скоординированы советскими стратегами во имя достижения двуединой цели: победы режима и государства, его создавшего. Если цель такова и если действия одного из блоков отвечают ей, то другой блок может довольствоваться лишь упражнениями в установлении тончайших различий в понятиях и противостоять универсалистским претензиям советской идеологии, не имея при этом желания уничтожить советское государство как таковое (даже если мы, будучи гуманистами, хотим, чтобы основные свободы были возвращены всем тем, кто их лишен в той или иной точке планеты)”. Я верю, что исследования различия блоков, которые представляют собой нечто противоположное проявлению страстей в борьбе, несмотря ни на что, необходимы, ибо только они открывают перспективу возможности достижения мира без глобальной войны, без нанесения нокаута одному из претендентов.
Да, для Запада политико-идеологическим врагом является советский режим, который объявил, что, в силу законов истории, конституционно плюралистские режимы приговорены к смерти, и, не щадя своего серого вещества, старается ускорить исполнение приговора. Но Запад перестал бы считать своим врагом советский режим в тот самый день, когда тот перестал бы ему отказывать в праве на существование. Мне возразят, что марксистско-ленинские идеологи скорее всего не смогут этого сделать, не отрекшись от самих принципов своей веры. В этом смысле, несомненно, Запад желает гибели советской идеологии точно так же, как советский режим желает смерти Запада. На наш взгляд, советская идеология умерла бы в тот час и день, когда признала бы свою ограниченность. “Вероятно или нет такое признание, далеко до него или близко?” — вот вопросы, которые мы временно оставляем открытыми. Птавное для нас здесь — определение цели, которую должна поставить перед собой западная стратегия. Сущность ее заключается в словах: выживание и мир. Физическое выживание может состояться при отсутствии угрозы термоядерной войны; выживание моральное — при сохранении либеральной цивилизации. Мир гарантирован признанием обоими блоками факта их существования и их права на существование. Мирное развитие одновременно означало бы победу Запада, которому удалось бы убедить своего противника отказаться от мысли об уничтожении Запада. Этот отказ, в свою очередь, возможен единственно в результате убеждения марксистов-ленинцев в необходимости более скромной и правдивой самооценки. В день, когда такое переубеждение свершится, мы отпразднуем победу, не одерживая верха над нашими противниками. Это была бы самая плодотворная победа, поскольку ее достижение не потребует кровопролития, а также потому, что она дала бы возможность подготовить будущее примирение.
« 752 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
3. Мера опасности
“Вы живете в мире иллюзий, — скажет мне приверженец катоновой стратегии. — Разве вы не видите, что Советский Союз прогрессирует, а Запад регрессирует? Если этот процесс будет продолжаться, то Запад рискует оказаться побежденным без войны и поглощенным советской империей по мере сужения имеющейся у него территории, утраты жизненных ресурсов и рынков”.
Нашим современникам трудно поставить точный диагноз нынешней переменчивой исторической ситуации. Исход, например, Берлинского кризиса, может изменить европейский климат, в том числе соотношение сил двух блоков, возможно, на длительный период. Сама природа битвы, в которую мы втянуты, беспрецедентна в такой степени, что многие суждения традиционного типа отныне лишены всякого значения.
Международная система в середине XX столетия носит планетарный и двухполюсный характер. В мире нет региона, который не испытал бы на себе воздействия взаимоотношений двух держав-гигантов, как не существует государства, которое не могло бы иметь представительство в ООН. В то же время эта система двухполюсна, так как двое обладают решающим военным преимуществом (в 60-е годы их военные арсеналы были значительно больше, чем в 1945 г.). И тот и другой имеют средства, позволяющие опустошить планету, стереть с лица земли города и уничтожить население. Но если Северное полушарие в преобладающей части своей занято этими двумя блоками, то полушарие Южное находится вне поля их столкновения, и, позволительно утверждать, что оно является большой ставкой в этой битве. Причем даже при условии, если один из гигантов возьмет верх в Северном полушарии, это еще не будет означать, что остальное человечество само подпадет под его владычество. Военное превосходство этих двух гигантов, действительно, уникально, поскольку оно основано на технике, т. е. на термоядерных бомбах, бомбардировщиках и баллистических ракетах. Однако эти средства разрушения все еще остаются в очень незначительной мере средствами утверждения владычества, ибо ни один из гигантов не использовал даже части своего термоядерного арсенала для устрашения своего противника, союзника (сателлита) или нейтральной страны. В настоящее время термоядерное вооружение, в отличие от английского флота прошлого столетия, не используется против тех, кто его не имеет, и явно создано для того, чтобы быть средством нейтрализации оппонентов.
Конфликт между Соединенными Штатами и Советским Союзом в Северном полушарии не определен ни одной из классических причин — пространство, численность и ресурсы. Оба гиганта располагают огромным пространством. Сохраняют громадные возможности роста, производят продукты питания на собственных землях, а в своих недрах находят большую часть сырья, необходимого для промышленности. Старые западноевропейские страны, такие как Западная Германия, Великобритания и Италия, таким потенциалом роста, который имеется у США, не располагают. Они имеют интенсивное сельское хозяйство, но все же вынуждены ввозить часть продуктов питания. В ближайшие несколько десятилетий континентальное сельское хозяйство (ГерМир и война между народами • Раймон Арон ;
• 753
Часть IV
мании, Франции и Италии) по-прежнему будет испытывать на себе как положительное, так и отрицательное воздействие научной революции. Более опасным будет перепроизводство, чем нехватка. Импортирующие страны — Великобритания и Германия — предпочтут покупать продукты по низким ценам на мировом рынке, а страны, производящие сверх собственных потребностей, такие как Франция, будут негодовать от отсутствия возможности сбывать излишки. Кризис такого рода еще не ведет к поиску выхода в войне или в средствах ее ведения. Конфликты, где идет борьба за пространство или ресурсы, в настоящее время не являются основополагающими, будь то на Ближнем Востоке (в Палестине) или в Северной Африке (в Сахаре).
При этом война до победного конца, если бы она вспыхнула, не оказалась бы такой уж бессмысленной. Каждый из гигантов может думать — справедливо или нет — что он несомненно был бы в безопасности или мог бы даже стать хозяином мира, если бы не существовало соперника. Вашингтон и Москва понимают “холодную войну” по-разному, но смысл войны не на жизнь, а на смерть, вопреки различию их словарей, в глубине души все разумеют почти одинаково. Если бы не было Советского Союза, — возможно, думают в Вашингтоне, — сколь легко было бы нейтрализовать в странах с конституционными режимами законное недовольство народных масс колониализмом, феодализмом и эксплуатацией. Если бы не было Соединенных Штатов, как легко было бы довести народную революцию до ее логического завершения, до социализма. Если бы не было Советского Союза, то не надо было бы поддерживать в постоянной боевой готовности американское термоядерное оружие, которое служило бы только для того, чтобы не позволять другим (несмышленышам) чрезмерно пользоваться силой. Если бы не было Соединенных Штатов, советское термоядерное оружие утратило бы свое функциональное значение, так как человечество быстро превратилось бы в социалистическое, и между братскими странами установился бы мир.
Цена победы в этом поединке гигантов оказалась бы, что бы там ни говорили, огромной, чрезмерной; она оправдала бы почти все жертвы, поскольку зрительно оказалась бы равнозначной концу страха, исчезновению гоббсового положения, в котором оказались государства. Если бы один из двух гигантов был бы уничтожен, то самолюбие всех Цезарей было бы удовлетворено, а мечта всех безумцев, как и людей разумных, оказалась бы осуществленной; мир даже для людей злонамеренных был бы гарантирован. Границы империи в таком случае совпали бы с границами человечества. Суверенитет силы, добытый победой, поддерживался бы не администрацией, быстро становящейся в глазах народов одиозной, а систематическим и беспощадным контролем над деятельностью заводов и лабораторий.
Если ни тот ни другой гигант не хочет рассматривать эту борьбу, как нечто неизбежное или даже возможное, то вовсе не оттого, что ставка мала, а наоборот, потому что риск слишком велик. Опасность, связанная с заключительным сражением, в любой международной системе всегда велика. В эпоху, когда воины сходились в рукопашной схватке, битва не на жизнь, а на смерть, могла означать лишь всеобщее самоубийство. Войны, ведшиеся в первой «4. 754 Раймон Арон • Мир и война между народами
половине века индустриальными обществами, имели иной характер: они ослабили главных действующих лиц и одновременно способствовали выдвижению на авансцену государств периферийных: они “оставили в живых" только двухтрех гигантов и открыли век всепланетной истории. Сегодня никто не знает, когда (если вообще это осуществится) всепланетная история завершится возникновением всепланетного государства.
Сама природа вооружений все еще удерживает кандидатов в императоры по эту сторону решительного испытания: она как бы снимает или, во всяком случае, ослабляет воздействие всего того, что связано с “холодной войной91, на соотношение сил в случае той самой смертельной схватки.
Если США и СССР начнут наносить друг другу удары термоядерными средствами, не будут иметь никакого значения ни начертания границ между обеими империями и зонами их влияния, ни численность африканских республик, называющих себя народно-демократическими.
Представьте себе на мгновение весь комплекс стран Юго-Восточной Азии — Лаос, Камбоджу, Южный Вьетнам, Таиланд и Малайзию — обращенным в коммунистическую веру или завоеванным коммунизмом. “Утрата” этих стран, если использовать выражение, которое получило бы хождение в Соединенных Штатах, явилась бы поражением для Запада, прибавила бы авторитета советскому лагерю и, как снежный ком, увеличила бы массу тех, кто примкнул бы к новой вере вследствие оппортунизма. (Nothing succeeds like success — за успехом следует новый успех.) Останется верным то, что страПраксиология
ны Юго-Восточной Азии, переходя из одного лагеря в другой лишь незначительно изменили бы соотношение ресурсов, имеющихся в наличии обеих сторон (в первую очередь, конечно, речь идет о ресурсах, пригодных для ведения термоядерной войны).
Выдвигаемая нами мысль, сформулированная в абстрактных терминах, могла бы звучать так: между материальными и людскими ресурсами и военной силой, представленной в виде термоядерных вооружений, прямой и однозначной связи нет. Если бы равновесие термоядерных потенциалов было бы нарушено, то оказались бы напрасными любые попытки того или другого гиганта его восстановить, вербуя для этого новых союзников или превращая в раскольников членов противоположного лагеря. Соотношение термоядерных сил в настоящее время прямо зависит от ударной или репрессивной мощи двух гигантов, от эффективности их активной и пассивной обороны. Мощь и обороноспособность, в свою очередь, зависят от имеющегося оружия и организованности, то есть от исследовательских центров и капиталовложений. Возможно, американцы создали бы трудности для СССР, если бы довели бюджет национальной обороны до 80 млрд долл. Пока что СССР и США израсходовали на вооружение, научные исследования и складирование оружия почти что равную массу ресурсов. Как бы ни возрастали ВВП Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в течение ближайших 20—30 лет, ни тот, ни другой гигант не сможет резко вырваться вперед по простой причине отсутствия материальных и финансовых средств.
Означает ли это, что не имеется никакой возможности соизмерить успеМир и война между народами • Раймон Арон * <
755 '
Часть IV
хи и неудачи обоих блоков, с одной стороны, и соотношение задействованных сил, с другой? Разумеется нет. Но для уточнения качества этого соотношения следует произвести некий абстрактный анализ. Прежде всего установим различие между такими понятиями, как равновесие сдерживания и соотношение между планетарными силами в термоядерный век. Равновесие сил сдерживания устанавливается тогда, когда каждый из гигантов располагает равными возможностями сдерживания прямой агрессии или крайне опасной провокации со стороны соперника1. В действительности эта возможность зависит не от одних технических средств, имеющихся на руках у игроков, но еще и от психологической сопротивляемости, от готовности подвергать себя опасности, от умения серьезно относиться к маловероятной угрозе. Если сдерживание есть взаимоотношение, установившееся между носителями определенной воли, то равновесие сдерживания — это равновесие психотехническое. Наблюдатель лишь констатирует — и не без труда — равенство или неравенство технических средств сдерживания; заранее знать, что произойдет в момент испытания, он не может.
Соотношение термоядерных сил является результатом сопоставления термоядерного вооружения и вероятных последствий для обеих сторон в случае его применения. Сильнейшим окажется тот, кто, благодаря подготовленности пассивной обороны, получит лучшие возможности для выживания. Оценить соотношение термоядерных сил труднее, чем когда-то существовавшее соотношение между военными машинами. К счастью, нам недостает опыта, и к тому же, возможно, что несоответствие наказания за преступление окажется вопиющим, поскольку сильнейшим автоматически станет тот, кто нанесет удар первым.
Ни равновесие сдерживания, ни соотношение термоядерных сил, как правило, не изменяется, когда третьи страны, союзные или не входящие в блоки, меняют свой статус, выходят из союза, желая обрести нейтралитет, или вступают в один из лагерей, теряя свой нейтралитет. Следует подчеркнуть эту оговорку, — как правило, — а также уточнить ее с помощью следующего комментария: при условии, что означенные страны не будут входить в термоядерные системы обоих гигантов. В самом деле, сеть военных баз, размещенных вокруг территории Советского Союза, вовсе не бесполезна для военной машины Соединенных Штатов, даже если допустить, что в войне будут использоваться ядерные вооружения (базы облегчают рассредоточение технических средств, а также являются местом старта или промежуточных аэродромов для бомбардировщиков, равно как дают возможность наблюдать за советскими границами). Американский термоядерный арсенал, будь он сосредоточен лишь на территории США, как того желают в Советском Союзе, а также некоторые американцы, уставшие от мировых обязанностей своей страны, оказался бы весьма ослабленным как таковой, а также как средство сдерживания.
Но истинно то, что использование союзников для восстановления нарушенного равновесия, как метод, отошло в
1 Мы придерживаемся предположения о существовании только двух сторон, обладающих ядерными средствами. Если бы таковых было несколько, то возможными оказались бы самые разные комбинации. Мы обратимся к анализу “политико-термоядерной игры” с участием нескольких игроков по другому поводу.
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
XVWWXM^VAW. >Х
прошлое. Позиция, занятая Коринфом и Керкиром, определяла равновесие морских сил на заре Пелопоннесской войны, а изменение базирования французского флота в 1941 г. оказалось бы достаточным для того, чтобы поставить под вопрос хрупкое владычество британского флота. Если бы один из гигантов опередил бы другого в создании противоракетных ракет или широкомасштабной гражданской обороны, то приобретение нового союзника или нарушение работы вражеского спутника никак не компенсировали бы отставание в гонке технического прогресса. В определенном смысле оба гиганта противостоят друг другу в одиночестве, в поединке, логическим исходом которого была бы нулевая ничья, а исходом возможным — гибель одного из них, если не обоих.
Лишено ли, таким образом, смысла понятие планетарного равновесия военных сил или равновесия сил вообще? Не думаю. Если нет возможности создать для себя даже приблизительное представление о военных средствах, которыми располагает каждый блок для развязывания локального или глобального конфликта, одними ли классическими средствами или всеми имеющимися вооружениями, то сегодня оценка глобальных сил того или иного лагеря оказывается еще более неверной, чем в прошлом. Предположение о возникновении войны, сравнимой со всеми прошлыми войнами, в которой стороны смогли бы мобилизовать все свои силы и постепенно задействовать все свои вооружения, выглядит невероятным (действительно трудно вообразить эту brocken-back war—войну со сломанными хребтами, войну, которую смогли бы продолжать страны, разоренные термоядерными бомбардировками). Если такой анализ точен, то недо-
- ступными для нас оказываются два следующих типа прогнозов: прогнозы, основывающиеся на сравнении имеющихся у обоих лагерей ресурсов, а также те, которые предполагают превосходство того или иного вида оружия или элемен-
- та вооружений. Пропорциональность (очень приблизительная), существовавшая между численностью людей и машинами, с одной стороны, и военной силой — с другой, была характерна для первой половины XX в. С наступлением царства ядерной и электронной индуст-
- рии эта пропорциональность более не представляется истинной даже в общих чертах. С момента возникновения конфликта мобилизация уже невозможна. Научно-исследовательские центры и лаборатории приходят на смену заводам, качество становится важнее количества. Превосходящий объем американского национального продукта значил бы много для баланса, если бы оба гиганта отказались от заключенного ими пакта о самоуничтожении и использовали бы свои средства для выживания в случае термоядерной войны.
Общие фразы о соответствующих превосходствах на суше или на море утратили свою ценность в тот самый миг, когда закон числа — людей и машин — перестал применяться к сражениям, которые могут иметь место в поддающемся предвидению будущем. Военные писатели вволю порассуждали о понятии решающего оружия. Какое оружие пехоты, кавалерии, артиллерии или авиации оказывало на поле битвы главное воздействие и определяло победу или поражение? Эти спекуляции мне никогда не казались полностью убедительными, так как оружие, с помощью которого одна из воюющих сторон добивалась
Мир и война между народами • Раймон Арон 757 вж
Часть IV
подавляющего технического и тактического превосходства, было решающим до того момента, когда после восстановления равенства, весь арсенал оружия вновь становился решающим или когда происходило появление какого-либо нового вида оружия.
В прошлом, когда виды оружия изменялись медленно, такие средства ведения войны, как римский легион или тяжелая кавалерия, в течение веков царили на полях сражений. В нашу эпоху никакие режимы длительными не были. В 1940 г. решающим было сочетание штурмовых танков и пикирующих бомбардировщиков; через два года тактика обороны восполнила свое отставание и бронетанковые войска перестали пользоваться непререкаемым авторитетом.
Книги Маккиндера доказали, что исход схватки медведя с китом бывал разным в различные эпохи. Схватка подобных мощных государств во многом зависела от соответствующей эффективности военно-морских и сухопутных родов войск, а также от соотношения между морскими и наземными силами. В современной истории флот действительно, оказывал значительное влияние, но обстоятельства были исключительными: европейские страны имели средние размеры; коалиции, которые они создавали посредством временных альянсов, приблизительно уравновешивались; ресурсы других континентов, которые использовали государства, чьи флотилии царили на всех океанах, были огромными; вне старого континента не существовало ни одной перворазрядной военной страны. Усовершенствование сухопутных средств передвижения, индустриальная концентрация, создание сначала германской, а затем русской, империи положили конец британской гегемонии. В настоящее время масштабы политических объединений, конкурирующих друг с другом, беспрецедентны. Если США— государство-материк — является островом по отношению к евразийскому пространству, то советская империя простирающаяся до середины Германии, предстает как полностью наземная держава.
Обе империи обладают как сухопутными вооружениями, так и морскими, и было бы напрасным пытаться заранее предопределять победу, отдавая преимущество успехам на океанских просторах или на суше, как если бы прецеденты в равной мере подтверждали превосходство того или другого. Нет, решающе оружие, если ему суждено быть, — это сочетание воздушной (или космической) мощи, электронно-информационных систем и ядерного огня.
Медведь более не сидит взаперти в своей земной темнице из-за неимения выходов в свободные моря; кита более не защищают океаны и расстояния. Более нет ни стен, ни безопасности, ни для того, ни для другого. Каждый может уничтожить всю нашу цивилизацию; каждый рискует погибнуть, если нанесет удар первым.
Если такова конъюнктура, если такова природа соревнования, то не угрожают ли Западу успехи, достигнутые Советским Союзом за последние десять лет?
С точки зрения территориальной, в период с 1945 по 1950 г. произошли, на взгляд Запада, катастрофические изменения, такие как советизация Восточной Европы и победа коммунистической партии в Китае. Эти два события потрясли соотношение сил между двумя блоками. Низведенная до окраины . ..758 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
евроазиатского массива. Западная Европа утратила пространственную глубину необходимую для эффективной обороны. В том, что касается Азии, то установление в Пекине нового строя и создание эффективного государства низвело американское присутствие до островов и плацдармов и поставило Юго-Восточную Азию под угрозу, если не захвата, то подчинения иностранному господству. Однако, если сравнить положение в Европе и в Азии, сложившееся в период с 1950 по 1960 г., то прежде всего поражает, что оно за этот промежуток времени не ухудшилось. Экономический подъем Западной Европы превзошел самые оптимистические надежды. Островные государства — Япония, Филиппины и Тайвань — процветают и ныне более крепки, чем десять лет назад. Даже государства — наследники Индокитая — Южный Вьетнам, Камбоджа и Лаос, выживание которых выглядело, по меньшей мере, сомнительным после Женевской конференции 1954 г., еще не совсем накрыты коммунистической волной (хотя в 1961 г. Лаос оказался на три четверти под господством коммунистических сил или сил близких к коммунистам, Патет Лао или генерала Кхонг Ле, слушающегося повелений нейтралистски настроенного принца Суванна Фумы).
Каковы же факты, возникшие в предыдущем десятилетии, которые повергли в такое уныние множество наблюдателей? Я усматриваю четыре основных: технические достижения Советского Союза и уравнивание возможностей сдерживания; исчезновение заповедных зон и желание многих государств, некогда связанных с Западом, объявить себя нейтральными; теоретически реально более высокий коэффициент роста в Советском Союзе, чем в США и в Китае, не говоря уже об Индии; наконец, распространившееся в мире ощущение того, что ветер истории дует с Востока, что будущее принадлежит так называемым народно-демократическим режимам. Короче говоря, создалось впечатление, что советский лагерь значительно продвинулся вперед в военной области, в политике, в экономическом отношении и в моральном.
Что касается сферы военной, то здесь изменение соотношения глобальных сил неоспоримо. В 1950 г. советское превосходство в классических вооружениях было велико, но в то же время было очевидным качественное и количественное американское превосходство как в атомном оружии, так и в средствах доставки (бомбардировщики), а также в базах.
В 1960 г. Соединенные Штаты, вероятно, располагали более значительным и разнообразным арсеналом атомного и термоядерного оружия; они имели больше бомбардировщиков, больше военных баз. Обладал ли в противовес этому Советский Союз большим количеством баллистических ракет? В 1962 г. американские эксперты это отрицали так же энергично, как утверждали некоторые из них еще вчера. Более того: они уверены, будто бы численное превосходство на американской стороне и что обнаружение советских стартовых установок позволяет в случае необходимости прибегнуть к противоракетной стратегии. Другие эксперты предполагают, что советские бомбы более мощные (на несколько десятков мегатонн), что советские ракетные двигатели обладают мощью вполне достаточной для того, чтобы доставить чудовищные бомбы на удаление в тысячи километров.
Мир и война между народами • Раймон Арон 759
Часть IV
Наконец, США, по вине собственного режима стали менее способными к тому, чтобы в нужный момент взять на себя инициативу. Дабы удержать равенство возможностей сдерживания, они должны быть способными совершить наказание равноценное преступлению, то есть иметь термоядерный арсенал, который даже после массированной атаки противника сохранял бы средства, равные тем, которые остаются еще в арсеналах нападающей стороны.
С одной стороны, ухудшение соотношения ядерных сил выглядело неизбежным. Советский Союз мог во имя достижения приоритетных для него целей задействовать своих лучших ученых и предоставить им все требуемые материальные и финансовые ресурсы. Переход от одностороннего сдерживания к сдерживанию равновесному был, таким образом, предопределен. Уступило ли место былое неравенство неравенству с противоположным знаком? Ошиблись ли Соединенные Штаты, подписывая пакт о совместном самоубийстве? Способны ли они восстановить свое преимущество посредством стратегии, нацеленной против термоядерного арсенала противника (counterforce strategy)? Отвечая на эти более технические, чем политические вопросы, разные эксперты дают разные ответы. Да, вполне возможно, что если не произойдет головокружительного ускорения гонки вооружений, равенство в области взаимного сдерживания, которое должно вскоре наступить, будет удержано и обеспечено1.
В политическом отношении исчезновение заповедных зон и расползание “холодной войны” по Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке — все это результат исторических процессов, таких, как распад колониальных империй и рост мирового влияния Советского Союза. Расширение зон “холодной войны” легко идентифицировать с поражением Запада, поскольку страны, некогда находившиеся в зависимости от того или иного европейского государства или входившие в определенную зону влияния, обрели вследствие конфликта двух гигантских блоков некоторую свободу маневра. Кроме того, они испытывают известную обиду на своих бывших хозяев или опекунов, которую выражают в том числе словесно. От суверенитета к блокированию, от зон влияния к состязанию блоков, от блокирования к неприсоединению, от нейтралитета к активному нейтрализму, а от него к присоединению к советскому блоку — таков путь, который, если верить Советскому Союзу, народы обречены пройти, и именно этот кошмар мучает пораженцев на Западе.
Однако эти пораженцы даже не замечают, как вместе с искаженными оценками перенимают и историческую философию своего врага. Именно марксисты-ленинцы смешивают колониальную империю с империализмом, порожденным капитализмом; именно они полагают, будто бы капитализм, лишенный своих колоний, обречен на гибель; именно они утверждают, что все дороги ведут в Москву; именно они веруют в неумолимый детерминизм, одним из моментов которого являются национальные и буржуазные революции, а логическим завершением — победа компартии. Но нам не составляет никакого 1 Однако не следует себя обманывать. Мы вовсе не хотим сказать, что это равенство наступит автоматически. без труда, что один из двух гигантов не сможет добиться определенного преимущества. Нет, я хочу сказать, что Западу не приходится рассчитывать на д лительное превосходство в данном виде соревнований.
•760 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
труда в рамках нашей собственной философии объяснить, почему новые государства и народы, чья экономика развита недостаточно, с большим трудом осваивают политические институты, близкие к тем, которые имеются в США и Великобритании. Но повторяю, именно марксистско-ленинский догматизм выдвигает следующую абсурдную дилемму: или власть так называемой рабоче-крестьянской партии или власть буржуазии, как класса; это он одним-единственным понятием обозначает все режимы, не относящиеся к советской разновидности, не видя иного решения кризиса, каков бы он ни был, кроме как в установлении повсеместно советского строя. Однако нет, например, ни одного арабского государства, невзирая на враждебное отношение к Западу и Израилю, которое искренне примкнуло бы к советскому блоку или превратилось в народную демократию. В Африке, даже в Лвинее и Шне, по-прежнему продолжается маневрирование между двумя блоками. В Латинской Америке до сих пор только Куба самопроизвольно осуществила революцию, вожди которой из ненависти к США, или по необходимости, или исходя из идеологических постулатов, официально объявили о присоединении к социалистической вере и русско-китайскому лагерю.
Вполне возможно, — если угодно, вероятно, — что в ближайшее десятилетие другие страны тоже перейдут к активному нейтрализму даже к народной демократии. Все это, без сомнения, будут партии, проигранные Западом, поскольку конечной целью его стратегии является сдерживание советской империи. Однако, если государства и народы принимаются за пешки на шахматной доске, за орудия, используемые в силовом соперничестве, если вербовка союзников и попутчиков для того и другого лагеря является средством усиления себя и ослабления соперника, то тогда можно сказать, что многие из этих проигрышей никаких серьезных последствий с собой не несут. Ни Лаос, ни Гвинея не способствуют усилению экономического и военного потенциалов ни того, ни другого блока. Для Запада смена ориентации целой группой стран имеет чисто военное значение, касается ли это вопросов “холодной войны”, когда процесс “перелицовки” развивается лавинообразно и ослабляет региональную обороноспособность, либо касается вероятности глобальной войны, когда США лишаются некоторых своих баз за рубежом и части опорных пунктов передового базирования ядерных сил переходят к противнику.
Мне скажут, что чем больше расширяется территория блока, тем больше делаются его ресурсы. Но эта видимость обманчива. В некотором отношении союзные или сателлитные государства становятся скорее обузой, чем подспорьем; они получают от Большого брата гораздо больше, нежели отдают ему. В силу того, что речь идет о государствах развивающихся, легко прийти к заключению, что их национальный продукт лишь в малой части способен служить дипломатико-стратегическим целям. С точки зрения экономической, верно, расширение мирового социалистического рынка и сужение мирового рынка капиталистического несут благо тому и вред этому. И если случится так, что к советскому лагерю примкнет весь мир, исключая США, то Соединенные Штаты окажутся побежденными как в политическом и экономическом, так и в военном смысле. Но до этого еще очень Мир и война между народами • Раймон Арон 761
Часть IV
и очень далеко. Да, Советский Союз уже добился очевидных успехов и несомненно добьется еще, в частности, в области наращивания объемов производства, а также в расширении обменов со странами “третьего мира”. Однако большинство развивающихся государств по-прежнему остаются торговыми партнерами Запада. В обозримом будущем, то есть в ближайшие десятилетия, если, конечно, не произойдет переворота в территориальном статусе планеты, у Запада будет достаточно и поставщиков сырья, и покупателей готовой продукции.
Остается такой аргумент, как диспаритет темпов роста. Научное сравнение коэффициентов роста требует большей осторожности, чем та, которую нам предлагают речи г-на Хрущева и даже статьи большинства западных экономистов. Действительно, в общих чертах темпы роста советской экономики в 1950—1960 гг. были значительно большими, нежели в США, идет ли речь о ВВП или касается объемов производства на душу населения. По различным причинам темпы роста американской экономики в указанный период были относительно ниже и в сравнении с показателями европейского континента. Споры о темпах роста (равен ли советский коэффициент развития 8% или 6%), о нынешнем соотношении национальных продуктов (равен ли советский валовой продукт трети или приблизительно половине национального продукта американского) могут привести к объективным оценкам с очень большим трудом; поскольку некоторые фактические данные известны плохо, многие замеры требуют специальных оговорок (касательно цен) и фактически ни один из параметров не может быть принят единогласно. Если не вдаваться в специальную дискуссию, то предпочтительно придерживаться грубых, но бесспорных данных, которые вполне достаточны для нашей беседы.
Каковы бы ни были успехи, достигнутые СССР в области потребления, уровень жизни, тем более комфорта и досуга остается для его населения несравненно более низким, нежели установившийся на Западе. Жилищные условия, скудость питания, организация торговли в том виде, какими их наблюдает любой, оказавшийся в Советском Союзе, являются достаточным подтверждением предыдущей фразы. Более 40% рабочей силы по-прежнему используются в сельском хозяйстве для того, чтобы на посредственном уровне кормить 210 млн человек. В Соединенных Штатах менее 10% производят те излишки, которые тяжким грузом висят на бюджете и распределяются по всему миру. Пока будет существовать эта разница между производительностью сельского хозяйства в СССР и США, вообще по обе стороны железного занавеса, Западу не надо будет бояться так называемой угрозы со стороны социалистического процветания. Те статистики и идеологи, которые несколько лет тому назад думали, что Франция или вся Европа, в свою очередь, тоже опустит некий железный занавес, дабы сделать невозможным сравнение “капиталистического хозяйствования” с “социалистической свободой”, не знали, что говорили, будучи введенными в заблуждение цифрами и чувствами.
Напротив, сокращение разрыва между промышленным производством СССР и США, советского блока в целом и блока атлантического, действительно возможно. Советские газеты заявляют, что доля советского блока (включая » 762 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Китай) в промышленном производстве человечества в 1960 г. равнялась 37% и через пяток лет преодолеет 50%-ный рубеж. Увеличение этого процентного показателя логически проистекает из более высокого темпа роста советской индустрии. То, что в некоторых секторах экономики советский блок производил в 1970 г. столько же (если не больше), сколько западный блок (США и Западная Европа), возможно соответствует истине. Но то, что в 1970 г. он произвел столько же, сколько западный блок, во всех отраслях или в расчете на душу населения, то это исключено. Но если Советский Союз постепенно сокращает свое отставание в сфере сельскохозяйственного производства, ничто ему не мешает на бумаге в один прекрасный день (более вероятно, что это произойдет не в этом столетии, а в будущем) сравняться с Соединенными Штатами по всем показателям1 .
Имея в виду ближайшие 20—30 лет, можно ли сказать, что советские успехи “угрожают” США и Западной Европе? Данная формула имеет двоякий смысл: либо Советский Союз, благодаря своему росту, получит возможность вкладывать больше средств во внешнюю политику (оружие и материальная помощь), либо он, благодаря своему богатству и процветанию, сделается самой привлекательной моделью для населения Запада и неприсоединившихся стран. Каждая из этих “опасностей” реальна, но самая серьезная та, что г-н Хрущев желает, чтобы мы так думали. В тот день, когда Соединенные Штаты признают необходимость расходования на нужды обороны не 45 млрд долларов, а 60, они спровоцируют более ускоренный рост объемов национального продукта и промышленного производства, которое у них прирастает медленнее, чем в Советском Союзе, отчасти по причине разделения спроса: если население не захочет покупать больше промышленных изделий, если оно станет тратить свои дополнительные доходы на улучшение жилищных условий, на развлечения и путешествия, тогда промышленное производство будет развиваться не столь быстро, так как темпы определяются главным образом скоростью, с какой прогрессируют два других фактора, а именно: производительность труда и увеличение численности населения1 2. Касаясь гонки вооружений, можно сказать, что здесь способность для быстрого роста в США сохраняется полностью. Эта страна не должна опасаться, что ее обгонят в военной области. Что касается, так сказать, оружия экономического, то Советский Союз и его союзники завтра будут им пользоваться более широко, чем сегодня. Однако политико-психологическая эффективность не зависит от одних цифр, в которых исчисляются доллары и рубли, как отданные, так и взятые.
1 9 июля 1961г. г-н Хрущев приводил следующие цифры: промышленное производство в СССР равно 60% промышленного производства США 1960 г.; в 1966 г. Советский Союз должен был произвести 106%, а в 1970 г. — 156% от современного американского объема производства. Оценивая темпы производства в США двумя процентами, г-н Хрущев пришел к выводу, что СССР перегонит США уже в 1967 г., имея к 1968 г. коэффициент роста, равный 3%. Он добавляет: “Почти такие же статистические данные имеются о развитии сельского хозяйства этих двух стран". Последняя фраза показывает, что здесь мы имеем дело с упражнениями в пропаганде, а не в статистике.
2 Население Соединенных Штатов увеличивается так же быстро, как и население СССР.
Мир и война между народами • Раймон Арон
до 763 а»
Часть IV
Если опасность существует, то и сейчас и в продолжение многих будущих лет она будет скорее духовной, нежели материальной и более политической, чем военной. Рост советской экономики — это аргумент, используемый в великом споре, в ходе которого каждый блок пытается убедить другой в своем превосходстве, читай, легитимности своих институтов. Что касается сравнения реалий, то от этого Западу большой угрозы нет, и пусть себе ездят в Берлин неангажированные члены общества, пусть сравнивают судьбы людей и качество жизни и культуры, как по эту, так и по другую сторону занавеса! Право же, совершенно ничем не угрожают Западу успехи, которых СССР, возможно, достигнет в ближайшие годы. Если уровень жизни повысится, а серость советского существования здесь или там вдруг обретет какую-то новую окраску, тогда, может быть, кремлевские сидельцы станут более откровенными в своем желании утвердить принципы мирного сосуществования.
Наконец, остается последняя “опасность”, порожденная смутным и сильным чувством того, что будущее принадлежит России и режимами советского типа. В том, что это ощущение распространилось в самых разных уголках мира, у меня сомнения нет. Однако во Франции оно поразило скорее некоторые интеллигентские и буржуазные круги, чем народные массы. Оно далеко не всеобщее, причем сформировалось под воздействием пропаганды, а точнее, некоторых пропагандистов; оно не возникло самопроизвольно в умах людей, созерцающих мир. В конечном итоге вот уже 20 лет, как оно предстает в качестве определенного фактора, объединившего оппортунистов. Подобные объединения уже по своему определению окончательными не являются, и лучше с ними бороться, чем их подсчитывать.
4. Стратегия мира
Вспомним, что собой представляют цели западной стратегии, такие, какими я их обрисовал в разделе II, и заодно данные о сложившейся ситуации, представленные мною в разделе III. Вопрос: какими должны быть принципы западной стратегии в зависимости от результатов этих двух анализов?
Запад только тогда будет в подлинной безопасности, когда советский блок перестанет ставить себе целью уничтожение режимов, которые он называет капиталистическими, то есть фактически уничтожение самого Запада. Западная Европа действительно будет в безопасности лишь тогда, когда будет преодолено разделение Германии и размежевание всего Старого света. Двери храма бога Януса будут оставаться открытыми до тех пор, пока русские армии будут находиться в 200 километрах от Рейна. Однако эти две посылки должны быть дополнены двумя другими. Если уж Соединенные Штаты не пожелали взять на себя риск освобождения населения Восточной Европы тогда, когда в военном отношении они были самыми мощными, то, естественно, не стоит этого делать теперь, когда они удерживают равновесие. Говоря в более широком смысле, у Запада нет никаких средств для того, чтобы “уничтожить” советский режим, или советскую империю (разве что начав термоядерную войну), как нет средств для оказания влияния на внутреннее развитие этой империи, на взаимоотношения между Советским Союзом и народным Китаем.
» 764 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Собранные воедино, эти постулаты могут показаться необычайно противоречивыми, особенно с точки зрения тех, кто грубо трактует диалектику антагонизма и желает, чтобы мы сторицей воздали нашим врагам за ту враждебность, которую они проявляют к нам. Противоречие исчезло бы, как только мы посчитали бы себя победителями, что свершилось бы в тот день, когда СССР чистосердечно отказался бы от своей затеи. Увы, до этого чудесного превращения, если оно однажды и произойдет, еще далеко. Вот почему мы должны понимать, что конфликт будет продолжительным и что как бы ни складывалась конъюнктура — удачно (распад советского блока) или, наоборот, неудачно (распад атлантического блока или война), — самое лучшее, на что мы могли бы надеяться, это замедление советской экспансии в “третьем мире” и постепенная стабилизация) соотношения сил — политических, а не только военных — обоих блоков. Хотим мы того или нет, мы все равно будем жить с ощущением военной угрозы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о контроле над вооружениями, а также угрозы политической, до той поры, пока марксисты-ленинцы не откажутся от своей веры.
Бесполезно вспомнить о “стратегии передовых рубежей“, которую разрабатывал Джеймс Бернхэм накануне возвращения во власть республиканцев, или то, чем занимаются те три автора, которых мы цитировали выше. По своей природе Запад никогда не был политически способен на применение наступательной стратегии, а в настоящее время он и не располагает соответствующими материальными возможностями. Однако не исключено, что ослабленный Запад окажется более агрессивным или менее уступчивым, нежели Соединенные Штаты по окончании войны, из которой они вышли нетронутыми и всемогущими. Нам известно, что демократии имеют склонность начинать войны не тогда, когда тому благоприятствует обстановка, а в моменты отчаяния.
Допустив, что у нас нет ничего, что могло бы “заставить” Советы раскрыться или “освободить” страны Восточной Европы, мы должны готовиться к тому, чтобы жить в “полусвободном, полурабском” мире в течение длительного времени, не исключая при этом того, что рабская половина мира трансформируется сама собой. Речь вовсе не идет о том, чтобы ставить свою подпись под простенькой теорией некоторых марксистов или лже-марксистов1, согласно которой советский режим необходимо сделается демократическим по мере повышения уровня жизни. Однако речь не ведется также и о том, чтобы воспринимать, как догму, тезис о неспособности советского режима к изменениям и утверждение, будто стратегия-дипломатия Москвы раз и навсегда детерминирована волей Ленина и Сталина. Пребывая в рамках философии, пока что недоступной для опыта, кремлевские сидельцы действуют в зависимости от обстоятельств. Запад же способен влиять на обстоятельства, приспосабливаться к тем, которые Москва сочтет приемлемыми. Такая стратегия может быть названа оборонительной или стратегией сосуществования. И я не отрицаю, что, будучи сравненной со стратегией, нацеленной на уничтожение Советского Со1 Исаак Дейчер, например.
Мир и война между народами • Раймон Арон 765
Часть IV
юза, или советской империи в целом, то есть со стратегией, в основе которой лежит желание раз и навсегда покончить с советской угрозой, предложенная стратегия вполне заслуживает названия оборонительной, ибо она, так сказать, перенимает у врага его лозунг, однако, с той разницей, что интерпретирует его по-иному. В то же время выбор стратегии должен зависеть еще и от анализа соотношения сил, и, поскольку цель состоит в том, чтобы не только избежать термоядерной войны, но и спасти либеральную цивилизацию, мне кажется предпочтительным в данном случае не противопоставлять универсалистской воле Советского Союза другую, равно универсалистскую волю. Именно апеллируя к правам институционального плюрализма, противостоящего монизму марксизма-ленинизма, Запад с надлежащей точностью определяет свою миссию, как миссию противника тоталитаризма, а не выдвигает аналогичную концепцию монизма с противоположным знаком.
Ввиду того, что принцип сосуществования двух блоков фактически принят, первейшим требованием отныне является поддержание равновесия глобальных военных сил. Или, дабы быть более точным, в настоящий период все еще главной остается опасность военная, а не опасность диверсионная или опасность проникновения, как об этом твердят на каждом углу. Если большинство комментаторов думает иначе, то единственно потому, что они смешивают злободневность с важностью, очевидные кризисы с постоянным и глубинным соперничеством. Действительно, термоядерные бомбы и баллистические ракеты бесполезны для приостановления советской экспансии в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Безусловно, те, кто главный упор сделали на атомную стратегию, долженствовавшую сдерживать Советский Союз в любой части света, ошиблись; и в этом смысле, позволительно говорить о провале атомной стратегии. Но стратегия сдерживания политически-оборонительная по своей природе, может обеспечить только отрицательный успех, будучи нацеленной лишь на поддержание статус-кво.
Отдаваемое мною предпочтение военным соображениям имеет следующий смысл: если советский блок убедит себя в том, что он обладает неоспоримым преимуществом, — как в том, что касается пассивных или активных средств сдерживания, так и в том, что касается всего комплекса военных инструментов, — опасность может стать смертельной; кремлевские сидельцы могут решить, что настала пора окончательного сражения или, что более вероятно, задействуя свои преимущества, поставят Запад перед выбором между капитуляцией и войной. Битва двух блоков, по большей части, идет не на военной территории и как раз потому, что удерживается соотношение сил. Как только оно нарушится, нарушится все остальное.
Однако при вероятном отсутствии соглашения о контроле над вооружениями военное равновесие, предполагающее принятие постоянных и массированных усилий в области научных исследований и производства при минимуме репрессивных средств, не может быть устойчивым. В открывающийся перед нами период времени это равновесие будет все менее возможным при серьезном отставании одной из сторон в том или ином виде вооружений, например, классических. Эво«г 766 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
люция, которая, вероятно, будет иметь место в ближайшие 5—6 лет в сторону все более смертоносных и неуязвимых термоядерных средств, повлечет за собой возможность (вопреки несогласию советской стороны) того, что классические виды оружия будут применяться обоими гигантами для защиты своих владений еще до возникновения крайне критических ситуаций.
Приоритет военных соображений зависит не только от грандиозности опасностей, которые может нести в себе недооценка того или иного фактора. Он связан также с первостепенным значением, которое — как это ни противоречит нынешнему широко распространенному мнению — имеет Европа, т. е. театр боевых действий, на котором оба блока противостоят друг другу перед лицом “третьего мира”. Здесь также имеется различие между важностью и злободневностью. Казалось, в продолжение лет, предшествовавших очередному стимулированию г-ном Хрущевым берлинского кризиса в Европе ничего не происходило. Оба блока были заняты своими внутренними организационными проблемами: если даже они находили территориальный статус неудовлетворительным, то все равно он представлялся более предпочтительным, чем военные действия, которые могли стать единственным средством его изменения. В то же время внимание руководителей США и большинства европейских правительств было приковано к войне в Индокитае, национализации Суэцкого канала, войне в Алжире, распаду Бельгийского Конго или перевороту в Анголе.
Между тем не стоит говорить о “нулевой ничьей“ в Европе, как и о “равновесии сдерживания“ в масштабах планеты: никакой результат не может быть достигнут автоматически и наверняка. Успех или неудача могут быть решающими лишь в сфере вооружений или в Старом свете. Если бы ФРГ, стремясь к былому единству, взяла ориентир на Москву, Западную Европу ожидал бы крах, а месте с ней и весь Атлантический союз. Практически любое положение может быть исправлено, пока существует атлантический альянс в своей целостности, но стоит поколебаться этому единству, как позиции Запада окажутся под ударом.
Я вижу еще одну причину для того, чтобы не совсем согласиться с тем значением, которое западные стратеги придают позициям, занимаемым на словах и на деле афро-азиатскими странами. В самом ближайшем будущем большая часть этих стран, рассматриваемых по отдельности, вставая под иные знамена, лишь весьма незначительно изменят равновесие ресурсов и сил, образовавшееся между блоками-гигантами. В перспективе, если большинство этих стран одновременно примкнуло бы к тому или иному блоку, то произошло бы нарушение равновесия в мировом масштабе, но блокирования названных государств носят конъюнктурный характер и всегда могут быть пересмотрены; совершенно очевидно, что любая африканская или латиноамериканская республика потеряет желание подпасть под произвол Москвы, как только у нее исчезнет страх перед европейским “колониализмом“ или “империализмом янки”. Если оба силовых центра сохранятся в Северном полушарии, то ни тот ни другой не смогут оказать длительное влияние на полушарие Южное, так как те, кто в глазах Москвы или Вашингтона являются ставкой в соперничестве, Мир и война между народами • Раймон Арон 767
Часть IV
прежде всего не хотят быть объектами чьих-то устремлений и уже сегодня выражают такое нежелание посредством различных форм неприсоединения и нейтралитета.
Если принять подобную иерархию ценностей, то в каком направлении должен двигаться Запад, чтобы улучшить свою дипломатию-стратегию? Лично я уверен, что решающим — однако и самым трудным — был бы ответ, смысл которого заключался бы в укреплении связей между западными странами, в совершении еще одного шага в сторону создания подлинного атлантического единства. В послевоенный период атлантический альянс, как некая зона цивилизации, должен был решить три следующих задачи: восстановление разоренных областей (Западная Европа); отказ от колониальных империй; организация Европейского сообщества, что требовало присутствия Соединенных Штатов в Старом свете. Первая задача была решена быстрее и лучше, чем кто-либо смел надеяться. Вторая была решена без подлинного сотрудничества бывших европейских стран-колонизаторов с Соединенными Штатами, которые всеми способами старались не только не терять связей с европейскими союзниками, но и не отталкивать от себя националистов, поднявшихся против колониального владычества. Теперь, по прошествии времени, легко говорить, что, если бы было проявлено больше прозорливости здесь и более смелости там, то деколонизация обошлась бы дешевле и оставила бы меньше обид в сердцах колонизованных народов и горечи в душах экс-империалистических народов. Люди — как обычные граждане так и, главным образом, политики и руководители — не всегда соглашаются с реальностью событий ими же предвиденных. Французские министры в своем большинстве понимали неизбежность деколонизации, однако подготовительных мер, соответствовавших, по сути, правильному прогнозу, не осуществили и не отработали до конца — совместно с Вашингтоном — рассчитанную на 10— 15 лет программу предоставления независимости колониям и протекторатам, имевшимся у Парижа в Северной Африке. Возможно, жестокость колонизованных народов оказалась необходимой для того, чтобы заставить колонизаторов отнестись серьезно к идеям, которыми забавлялись эти последние, не сообразуя с ними своего поведения.
Итак, как бы то ни было, деколонизация почти что завершилась, при этом не нарушив ни союза колониальных держав с антиколониалистскими Соединенными Штатами, ни внутреннего единства альянса европейских держав1, которые оказались вынужденными усвоить совершенно новое понимание миропорядка, как следуя своей природе, так и подчиняясь возложенной на них миссии1 2. По завершении процесса деколонизации, Запад столкнется с трудностями и проблемами совершенно иного свойства, почти что прямо противоположными. В плане моральном, — соперничая в области пропаганды, он сможет перейти в наступление и разоблачить советский колониализм. Однако 1 К сожалению, Франция еще не оправилась после испытания деколонизацией и по-старому подвержена опасности гражданской войны, войны ультраэкстремистов с либералами
2 Если у власти останется г-н Салазар, Португалия серьезно рискует погубить саму себя, ведя войну до победного конца во имя спасения мнимого лузитанского сообщества
м« 768 Шл Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
уже нигде ему не удастся оказывать решающего и исключительного влияния; как не останется места, где бы не присутствовали советские агенты, подрывные элементы и идеи. И повсюду Западу придется учитывать наличие новых государств с их страстями и несправедливостью, а заодно и существование своего марксистско-ленинского противника. Взаимные обвинения французского и американского общественных мнений, касающиеся колониализма и антиколониализма (Что вы сделали с вашими алжирцами? А вы — с вашими индейцами?) отошли в прошлое.
И наоборот, если находящиеся за пределами стран альянса базы еще сохраняются, то неизвестно, на какой срок.
Все эти сложности были бы более чем компенсированы, если бы освободившись от колониального груза государства, входящие в атлантический союз, научились бы действовать на дипломатико-стратегическом поле только, или достаточно, скоординированно. Уместно заметить, что относительное ослабление Соединенных Штатов перед лицом как противников, так и союзников, рискует оказать воздействие прямо противоположное. Отныне экономика стран Общего рынка не зависит от экономики американской, как последняя не зависит от общеевропейской. Франция вслед за Великобританией усиленно создает собственный ударный кулак. ФРГ менее, чем когда-либо, прислушивается к доктрине Макнамары. Там, где он видит гибкую стратегию, его боннские собеседники усматривают признаки разъединения.
Первостепенное условие того, чтобы атлантический альянс существовал и развивался, преобразуясь в Атлантическое сообщество, заключается в том, чтобы вашингтонские руководители понимали, что эпоха американской (или англо-американской) директории прошла (тогда как время директории тройственной еще не наступило). Теоретически, возможно, было бы лучше, если ядерным оружием в рамках альянса обладали бы одни Соединенные Штаты. Но полный отказ от решающего оружия противоречит как природе государств, так и их извечным устремлениям. Сегодня следует не столько спрашивать, какой вариант был бы наилучшим сам по себе, сколько стараться избегать некоторых вредных последствий разрастания дорогостоящих национальных сил, мало эффективных и быстро устаревающих, благодаря техническому прогрессу.
Говоря об экономике, упомянем лозунг партнерства, выдвинутый президентом Кеннеди. Еще прошло слишком мало времени, чтобы можно было знать, как сложатся в действительности отношения между Общим рынком, Великобританией, Содружеством наций и США, но уже сейчас видно, что эффектный подъем, наблюдающийся в Европе, не только не угрожает единению западной окраины Старого континента с Новым светом, но, напротив, способствует уничтожению последних следов изоляционизма. Объединившаяся вокруг Общего рынка “Шестерка” является первейшим экспортером и импортером в мире, представляя собой по сути великую экономическую державу и партнера, необходимого для процветания и успешной дипломатии Соединенных Штатов.
В военном плане цель могла бы состоять в том, чтобы обеспечивать постоянство и серьезность американского участия, предоставляя при этом европейцам возможность внесения подлин... - 769 .■<•/
Мир и война между народами • Раймон Арон .
Часть IV
ного вклада в проведение стратегии сдерживания. С того момента, как Великобритания и Франция приступили к реализации национальных программ, единственным правильным решением было бы, на мой взгляд, создание некоей европейской силы, которая институционно не завися от американского аппарата, действовала бы в тесной координации с ним. Таким образом, Европа вновь обрела бы понимание своей ответственности, не уменьшая ценности американских гарантий. Укрепление связей между европейскими странами помогло бы сгладить неравенство между гигантом и малыми государствами. Альянс воспринимался бы как общее дело, а не как разновидность американского протектората.
Что касается зон, лежащих за пределами театра непосредственного соприкосновения соперничающих сторон, то ряд анализов, сделанных в предыдущей части указывает на то, что нет ни безошибочных рецептов, ни приоритетов пригодных для всего мира (как в области экономической, так и военной), ни режимов, внутренне приспособленных к требованиям как экономического развития, так и западных интересов. Большая часть того, что называется “третьим миром” — Азия, Африка и Латинская Америка — находится в фазе революционных преобразований, причины которых в разной степени носят характер политический, экономический, демографический и моральный.
В политическом отношении, традиционная власть почти везде поколеблена. Традиция и история уже не пользуются былым авторитетом. Легитимность стала демократической, но ее практическая реализация через выборы часто наталкивается на непреодолимые препятствия. Избранники пренебрегают решениями избирателей; эти решения манипулируются и фабрикуются. В виртуальном пространстве, имеющемся между идеей конституционного строя со многими партиями и идеей монопольно-идеологической партии, то и дело возникают промежуточные варианты: консервативная олигархия, поддерживающая или не поддерживающая видимость избирательного права; деспотии, опирающиеся или не опирающиеся на партии; модернисты или реакционеры; военачальники или офицерские хунты, сменяющие бессильные и дискредитировавшие себя парламенты.
В экономическом отношении, народы, а еще более правящие меньшинства, опасаются оказаться на периферии процесса развития, то есть индустриализации; но не американская дипломатия решает будут или не будут созданы необходимые для развития условия в той или иной африканской, азиатской или латиноамериканской стране. В крайнем случае государство-донор всегда может построить в развивающейся стране несколько заводов, однако эти объекты сами по себе не могут решить ни одной проблемы развития, как не могут они умиротворить нетерпение элит и народных масс или ликвидировать разрыв между численностью населения и объемом ресурсов.
Страны, которые сегодня пытаются бороться с отставанием и совершить революцию, сходную с той, благодаря которой благополучная треть человечества перешла из сельскохозяйственной фазы развития в фазу индустриальную, имеют некоторое преимущество: поступающая к ним техника намного превышает уровень той, что использовалась полтора века назад. Современная наука V Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
уже не только наука о природе, но и о человеческом обществе! В настоящее время нам известны лучше, нежели вчера, социальные закономерности, вероятные последствия фискальных мер, а также требования, связанные с инвестиционными программами. Иными словами, современные развивающиеся страны шагают не по неведомой земле.
Однако плата за те удобства, которые связаны с движением в фарватере Запада, была велика. В некоторых странах, прежде чем там начался процесс индустриализации, население умножилось в три или четыре раза (Индия). Эффективность капиталовложений и в гигиену и медицину там такова, что коэффициент экономического роста не успеет увеличиться в достаточной мере для обеспечения ресурсами национального хозяйства. Таково положение в основных странах Азии (Китай, Индия), Ближнего Востока (Египет) и Латинской Америки1. Нужно, чтобы экономический прогресс по скорости сравнялся с демографическим ростом, без чего улучшение условий человеческой жизни невозможно; необходимо также, чтобы коэффициент инвестиций, соотнесенный с национальным доходом, достиг 10— 15%, как для того, чтобы процесс развивался возрастающими темпами, так и для того, чтобы постоянно сокращалась доля национального продукта, вкладываемая в текущее потребление.
К этому коренному различию между положением европейцев XVII и XIX вв. и положением китайцев, индийцев и латиноамериканцев наших дней прибавляются другие отличия, последствия которых не так легко осознать. Традиционные институты социально-политического порядка в Европе были менее ослаблены, чем в современных странах “третьего мира”, находящихся в подобной фазе развития. Здесь народные массы оказались более пассивными, не имея никакого понятия о других возможностях, а их требования не находили подтверждения в примере развитых стран. Соперничество двух гигантов и двух идеологий стимулирует неуверенность, эксплуатирует чувства и отвлекает энергию элит на гражданские войны. Принятию советской модели развития благоприятствуют не только такие неизбежные факторы, как давление со стороны населения, сопротивление бывших привилегированных слоев и требования народных масс, но также находящаяся в оппозиции компартия, которая тормозит развитие там, где не может получить что-либо для удовлетворения своих амбиций.
Даже если не существовало бы ни Москвы, ни марксизма-ленинизма, половина (если не две трети) человечества неминуемо пришла бы к революции, которая неизбежно сопутствует усилиям отставших народов, направленным на строительство общества индустриального типа. Запад и СССР являют собой два варианта такого развития одновременно антагонистических и в чемто подобных друг другу. Соединенные Штаты никогда не были в состоянии контролировать или управлять подобными революциями. Идет ли речь о революции надежд (rising expectations) или о революции масс, в любом случае подразумевается мировое явление, причины которого коренятся в биолого-экономической неуравновешенности и социальных потрясениях, явление, кото1 Более многочисленное, чем население США, население Латинской Америки (200 млн чел.), прирастая современными темпами, увеличится втрое к концу XX века.
Мир и война между народами • Раймон Арон 771 во
Часть IV
рое будет продолжаться в течение десятилетий, если не целого века. Первым шагом в сторону разумной политики станет признание очевидных фактов, а также обращенных к стратегам призывов к сдержанности в определении объемов намечаемых преобразований.
Теперь даже в США соглашаются с тем, что политические институты (партийный плюрализм и представительное правительство), равно как институты экономические (рынок, свобода предпринимательства и потребления), редко бывают приспособлены к требованиям начальной фазы развития. Таким образом, Запад должен отдавать предпочтение не режимам наиболее близким его строю, а тем, которые обладают наилучшими возможностями стимулирования развития. Далее, нам следует не обманывать себя иллюзией того, что успех развития гарантирует благоприятное, или хотя бы нейтральное, отношение к Западу. Таких гарантий не существует. Имеются обстоятельства при которых экономический прогресс начнет способствовать усилению именно тех групп, которые тянутся к советскому блоку, то есть способствовать осуществлению действий, направленных в сторону противоположную от наших целей. Опасность этого возникает всякий раз, когда западная демократия дает повод для смешивания себя с консервативными или реакционными классами, уступая коммунистам или полукоммунистам монополию на “прогрессивные” лозунги.
При сложившемся положении было бы тщетно надеяться на то, что американское правительство предпочтет антизападный режим, поскольку он ускоряет развитие, режиму прозападному, который его парализует. Однако следует убедить американских стратегов в том, что никакой режим — каковы бы ни были его институты — не может называться коммунистическим до тех пор, пока там не захватила власть партия, целиком ориентирующаяся на Москву. Надо их убедить также и в том, что даже режим, при котором властвует компартия, будь то в Африке или Латинской Америке, не равнозначен режиму, навязанному той или иной восточноевропейской стране Красной Армией. И в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке революционные режимы, даже когда они объявляют себя промосковскими, всегда остаются заинтересованными в поддержании отношений с Западом, хотя бы потому, что стремятся получить помощь с обеих сторон. Другими словами, вместо того, чтобы сеять панику каждый раз, когда некая слаборазвитая страна объявляет о своей привязанности к Москве, было бы полезнее демонстрировать большее или меньшее к этому безразличие и с упреждением раскрывать попытки шантажа, предпринимаемые коммунизмом, к которому с готовностью склоняются неспособные правители, необоснованно полагающие, что американцы пострадают от победы Москвы больше, чем они сами. Напротив, нам надлежало бы пользоваться любым случаем для того, чтобы напоминать им, что соотношение военных сил в наше время не слишком сильно зависит от превратностей “холодной войны”.
Изолирование врага (путем признания таковым местной коммунистической партии); приятие любой социалистической партии или социалистического режима; предпочтение эффективно действующему руководству развивающихся стран, а не тем шумливым лидерам, которые налево и направо заявля772 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ют о верности флагу; оказание поддержки развитию, поскольку таков человеческий долг и в известных обстоятельствах политический интерес (при этом не следует испытывать разочарование или удивление, когда Индия или Бразилия становятся более националистски или нейтралистски настроенными по мере развития той или иной своей отрасли промышленности) — все эти рекомендации могут показаться кому-то проникнутыми “духом Мюнхена”. Однако такое отношение глубоко ошибочно. Поскольку Соединенные Штаты отказываются посылать морских пехотинцев даже на 150 километров поодаль от берегов Флориды, чтобы свалить какой-нибудь враждебный режим, лучше попытаться извлечь выводы из этого отказа от применения вооруженной силы, а также из различия между перипетиями “холодной войны” и равновесием сдерживания.
Данные рекомендации вовсе не отрицают необходимости углубления “холодной войны”, ведущейся в трех плоскостях— экономической, диверсионной и теоретико-дискуссионной. Что касается первого театра действий, то здесь желательно ввести два изменения, одно из которых уже в стадии реализации, другое пока что плохо осознано. Поскольку помощь оказывается безрезультатной, когда власть слаба и сохраняется анахроническая структура собственности, полезнее сосредоточить ресурсы (по-прежнему ограниченные) там, где условия, необходимые для получения отдачи от предоставляемой помощи, уже созданы или могут появиться благодаря внешнему давлению. Подаренные средства и долгосрочные ссуды должны быть, и являются, одним из элементов комплексной политики, путем проведения которой Запад способствует, в меру своих ограниченных средств, индустриализации южного полушария. Сейчас, и еще более в ближайшие годы, именно западная торговая политика, как единое целое, является силой, способной увеличивать или уменьшать объем имеющихся у “третьего мира” ресурсов. Предпринять реальные меры для стабилизации потоков сырья не удалось. С возрастающей остротой встает сегодня и будет стоять завтра другая проблема, а именно: проблема доступа к рынкам развитых стран простой промышленной продукции (текстиль), на что рассчитывают развивающиеся страны, нуждающиеся в иностранной валюте. В настоящее время торговля между западными странами делается все более свободной благодаря тому, что Общий рынок сообщил дополнительный импульс уже идущему процессу. Однако, ввиду того, что Соединенным Штатам становится все труднее добывать иностранную валюту, необходимую для предоставления ссуд, в том числе безвозмездных, возможно помощь все чаще будет принимать вид долгосрочных кредитов, оговоренных обязательной покупкой товаров в странах-кредиторах. С другой стороны, для того, чтобы свободный внутриевропейский и внутриатлантический обмен не оказывал неблагоприятного воздействия на страны “третьего мира”, вероятно, придется принимать меры командного свойства, устанавливать, например, гарантированные цены на сырье, способствовать открытию атлантических рынков для товаров, производимых в странах с низким уровнем оплаты труда, предоставлять займы, связанные с покупкой продукции на строго определенном рынке.
Мир и война между народами • Раймон Арон 773
Часть IV
Для оказания экономической помощи требуется время. Там, где диверсионная деятельность готова взять верх, единственным средством отпора является деятельность контрдиверсионная (или противопартизанская война). Здесь небесполезно напомнить несколько банальных истин, увы, слишком часто забываемых. Диверсионная деятельность взяла верх на колониальных территориях потому, что ответные технические и тактические действия наталкивались на следующий роковой фактор: революционеры говорили на том же языке и принадлежали к тому же народу, что и население, которое стало заложником и ставкой в борьбе между диверсантами (партизанами) и репрессивными силами. Даже в Алжире, население которого никогда целиком не поддерживало революционеров, присутствие европейского меньшинства, закрепившегося по праву завоевателей и откровенно привилегированного, парализовало моральные и политические усилия, делавшиеся французской армией для освобождения людей в обмен на освобождение Алжира или для создания Алжира свободного, но союзного для Франции, в обмен на предоставление Алжиру независимости. Там, где обстоятельства не благоприятствуют повстанцам, они не имеют решающих преимуществ и следовательно нельзя уступать им позиции без борьбы.
Да, верно, что достаточно присутствия небольшого меньшинства, чтобы постоянно росло количество нападений и покушений и поддерживалась обстановка неуверенности. Верно также и то, что северовьетнамские диверсанты ночами проникают в деревни, наводят страх на крестьян и тем самым якобы склоняют на свою сторону население, в то время как оно, не будь угроз и насилия, склонялось бы в сторону другую. Короче, технологии подрывной войны не только выявляют исконную волю народов, но и способны во многих случаях ее формировать. Но тогда, когда эта воля не существует, ответ на диверсию в виде репрессий и контрпартизанских операций, при условии, что такие меры проводятся соответствующими и адекватными средствами, априорно имеет не меньше шансов на успех, чем агрессия, на которую он нацелен. Заимствуют ли соответствующие средства (и в какой мере?), ориентирующиеся на Запад силы у врага: его способы вербовки, создания параллельных организаций, поддержания строжайшей дисциплины в повстанческом ядре, а также запугивания колеблющихся масс? Было бы лицемерием отрицать тот факт, что в силу самой диалектики борьбы противники почти неизбежно подражают друг другу. У советского лагеря имеются целых два преимущества: первое заключается в том, что организация коммунистической партии немедленно приспосабливается к требованиям подпольной борьбы (ленинские организационные принципы вполне отвечают этим требованиям), второе — в том, что придя к власти, коммунисты отказывают своим противникам в тех свободах, которыми нередко пользовались сами.
Репрессии делаются неизбежными всякий раз, когда подрывная деятельность вступает в фазу партизанской войны. Они редко бывают действенными в борьбе с пропагандой, проникновениями и попытками привлечь на свою сторону интеллигенцию и воспользоваться недовольством народа, а также с попытками убедить колеблющихся в моральном и историческом превосход-
774 т» Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
стве советского блока. Основной принцип, простой, как все стратегические принципы, но сложно применимый на практике, заключается в том, что на действие любого оружия имеется ответ, что оборона должна на всяком театре действий возводить препятствие для атакующих и что пренебрежение особенностями поля сражения неизбежно наказуемо. Мы начинаем понимать, что защитить термоядерной угрозой территории, могущие быть захваченными силами диверсии, нельзя. Но мы еще не осознали того, что чрезмерное отставание в том или ином виде вооружений опасно и что с партизанами не воюют средствами экономической помощи, как не борются против пропагандистских выпадов силами полиции. Конечно, в некоторых случаях использовать полицию против вражеских пропагандистов надо, и марксисты-ленинцы себе в этом не отказывают. В тоталитарных государствах полиция обслуживает идеологию. Но действия только полиции, не будучи подкрепленными организационно и идеологически, заведомо неэффективны.
Слова о том, что мы должны следовать за врагом, где бы он ни оказался, не означают, что мы обязаны брать с него пример. Совсем наоборот: идет ли речь о стратегии или тактике, об убеждении или диверсии — асимметрия фатально неизбежна. Мы не собираемся уничтожать того, кто желал бы уничтожить нас, — мы хотим обратить его к терпимости и миру. Мы не собираемся убеждать людей в том, что им следует возлагать свои надежды на одни наши учреждения. Как раз наоборот: мы хотим убедить наших врагов, как и третью сторону, что человечество (оставим в стороне некоторые непреложные принципы) тяготеет к разнообразию. Страны с демократическим строем не могут использовать ту же тактику, что и страны тоталитарные, которые, поступаясь некоторыми из собственных принципов ради временной выгоды, буквально ставят на карту свое будущее. Демократические государства не могут и не желают сеять революцию, они не могут и не желают запрещать народам искать себе счастье на свой вкус и по своему разумению.
Но до тех пор, пока оба мира остаются тем, чем являются, свобода, которой пользуются на Западе по другую сторону железного занавеса, будет иметь подрывное значение. От этой ценности западные стратеги не откажутся никогда, даже добиваясь постепенного упразднения железного занавеса. В тот день, когда советский народ получит те же права читать, писать, критиковать и путешествовать, какими располагает население Запада, соревнование станет действительно мирным.
* * *
Этот набросок стратегии покажется неудовлетворительным всем: как приверженцам школы наступательной стратегии, так и сторонникам школы мира. Я признаю серьезность аргументации тех и других. Подлинный же вопрос таков: МД° какой степени советник государя может позволять себе видеть мир иным, чем он есть в действительности?”
Лично я думаю, что в течение нескольких лет после 1945 г. можно было освободить Восточную Европу, не слишком рискуя втянуться в новую войну. Еще в 1956 г., когда произошли восстания в Польше и Венгрии, Запад имел шанс, которым не воспользовался. ВозМир и война между народами • Раймон Арон 775
Часть IV
можность, на которой мы настаиваем, не приводя доказательств, была, однако, совершенно реальной, но предполагала существование Соединенных Штатов и Западной Европы не такими, какими они являются ныне, а наделенными другими институтами, другими руководителями и другими умонастроениями. Увы, то, что вчера было возможно материально, но не политически, таковым временно быть перестало. Беря в расчет соотношение сил, кремлевские сидельцы, вероятно, предпочли бы войну утрате значительной части своей империи. С точки зрения территориальной, у Запада имеются средства лишь для сохранения того, что есть.
Если воспользовавшись приблизительным равновесием возможностей сдерживания и глобальных военных сил Запад удовольствуется тем, что займет оборону на всех оперативных театрах, то он сможет рассчитывать только на то, что его поражения будут не слишком болезненными, но никак не на эффектную победу. В случае пассивной позиции, ему останется только надеяться на то, что в России восторжествует иная вера, или на резкий разрыв между Россией и Китаем — возможность, на осуществление которой полагаться в ближайшее время абсурдно, но все же небезнадежно,
Стратегия, предусматривающая качественную гонку вооружений, продление “холодной войны” с ее контрподрывными и контрпропагандистскими мерами, покажется сторонникам миротворческой школы воинственной и чреватой чрезмерной опасностью. Вот еще один вопрос. Сколько времени оба блока могут противоборствовать на всех континентах, используя почти любые средства, взаимно угрожая самыми страшными карами и не приводя в исполнение своих угроз?
Первая из вышеупомянутых школ упрекает эту стратегию в имманентной для нее неизбежности поражения на всех фронтах; вторая — в опасности возникновения термоядерной войны. Оба упрека небезосновательны. Запад рискует постепенно впасть в деградацию и быть уничтоженным, вследствие наступательных действий тоталитарных режимов, или погребенным под волной подрывной деятельности врага. Он так же может быть испепелен чудовищным оружием, которым его противник обладает в той же степени, как и мы. Однако опасность удушения и уничтожения может быть устранена или ослаблена только путем усугубления вероятности термоядерной катастрофы. А угроза военной катастрофы может быть устранена или ослаблена только готовностью к восприятию более серьезного риска, риска быть принужденным к капитуляции.
Вот почему умеренная стратегия, как мне кажется, дает наилучшую возможность одновременно устранить обе опасности — как удушения, так и истребления. Если обе опасности окажутся ликвидированы, то Западу наверняка будет обеспечено выживание, которое в наше время является выражением победы, если не единственным, то самым удачным1.
На Западе США остаются главенствующей державой, ибо лишь они об1 Возможно, читателю захочется возразить доводам, представленным в двух предыдущих главах, равно как и тем, что содержатся в предшествующей части книги. Правильно ли ставить в центр мировой сцены диалог двух гигантов? По-прежнему ли остается двуполюсной международная система? Если да, то будет ли она такой через несколько лет?
776 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ладают термоядерным арсеналом. Некоторую долю экономического прогресса, обеспечивавшего им неоспоримое первенство внутри западного мира, они утратили. Доллар оказался в угрожаемом положении вследствие постоянного дефицита расчетного баланса. На 1962 г. в финансовом плане Соединенные Штаты зависели от доброй воли своих европейских союзников в той же мере, если не больше, сколько эти последние от их американского покровителя. Более того, в странах Европейского континента в период между 1950 и 1960 гг. коэффициент индустриального роста был выше, чем в Великобритании и США. Конечно, в 1961 г. национальный продукт “Шестерки” был значительно меньше американского, учитывая, что население США численно равно ее населению (36% ВВП, если пользоваться официальным обменным коэффициентом; возможно 50%, если пользоваться способом подсчета, учитывающего систему цен). Несмотря ни на что, с 1945 по 1959 г. разрыв уменьшился. Если рост все так же будет происходить быстрее по эту сторону Атлантического океана и Общий рынок включит в себя другие европейские страны, то через несколько лет Атлантическое сообщество окажется состоящим из двух гигантов, которые, сохраняя неравенство по мощи, уже не будут принадлежать к качественно различным категориям.
Что касается Советского Союза, то для него, начиная с 1945 г. определяющее значение имела политика, а не экономика. Экономика народного Китая находится в фазе, аналогичной довоенным русским пятилетним планам. Осложняющим обстоятельством является то, что уже в самом начале соотношение между пространством и людьми, сельскохозяйственными ресурсами и количеством ртов было таким, что народный Китай (попади он в такое положение, в каком оказался СССР в период коллективизации) мог бы оказаться полностью лишенным продуктов питания. В 1961 г. народный Китай закупил за границей 6,5 млн тонн продовольствия на 360 млн долларов. Недоедание населения, похоже, в значительной мере сказалось на снижении темпов роста промышленного производства и некоторое прямое сокращение его объемов. Китай, произведший в 1961 г. стали порядка 15—20 млн тонн, явно не входит в круг гигантов: США, Советского Союза и “Шестерки”.
Не таково положение в политической области. Употребить силу для воздействия на пекинское правительство Советский Союз не может. Оно сильно не только 700 миллионами населения, но еще и революционной энергией (которую Пекин старательно поддерживает), равно как идеологической ортодоксией. Для г-на Хрущева, как и для Мао Цзэдуна, официальный разрыв дружественных китайско-советских отношений был бы поражением. Учение не допускает межгосударственных конфликтов среди социалистических стран. Действующие лица драмы были бы вынуждены относиться к своим противникам, как к раскольникам и еретикам. В мире идеологии любая распря между главами государств, даже основанная на различии национальных интересов, неизбежно превращается в теологическое разногласие.
Каково будет влияние пекино-московского соперничества на взаимоотношение между блоками-гигантами? Предугадать всего вплоть до мелких деталей нельзя. Возможно, в некотоМир и война между народами • Раймон Арон 777 »а
Часть IV
рых случаях оно усложнится, так как гиганты от коммунизма начнут опасаться того, что их будут упрекать в ревизионизме, а это, в свою очередь, приведет к усугублению агрессивности по отношению к империализму. Если такого не случится, Москва может проявить (в той или иной точке планеты) и несколько большую сговорчивость в отношениях с Западом, имея в виду не допустить китайской экспансии. Пекин, со своей стороны, мог бы небезуспешно постараться помешать заключению договора Москвы с Вашингтоном, позабыв о своих более ранних обещаниях, данных советским руководителям. (Не исключено, к примеру, что Северный Вьетнам, повинуясь Пекину, попробует торпедировать русско-американские инициативы по установлению мира в Лаосе).
Сближение между Вашингтоном и Москвой вследствие напряженности пекино-московских отношений, разумеется, возможно. В долгосрочной перспективе таким может оказаться логический результат открытого конфликта между двумя коммунистическими гигантами. Но в краткосрочной перспективе, до тех пор, пока существующий в Советском Союзе режим желает оставаться марксистско-ленинским и, следовательно, не может публично признавать возможность национальной вражды между социалистическими государствами, многовластие (полиархия) внутри советского лагеря чревато как опасностями, так и выгодами для Запада и мира на планете. Советский Союз продолжает прикрывать народный Китай перед лицом возможной угрозы со стороны Соединенных Штатов и обязан сделать все, чтобы не допустить краха китайского режима или официального распада альянса. Со своей стороны, Китай, более не получая экономической помощи от СССР, уже не чувствует себя обязанным миндальничать со Старшим братом, который отныне может ему угрожать лишь открытым разрывом, то есть санкцией, которой г-н Хрущев боится не меньше Мао Цзэдуна.
Было бы огорчительно для страны, партии и людей, инициировавших Революцию нашего времени, уступить звание охранителя чистоты учения кому-то другому. Г-н Хрущев, должно быть, опасается, что, случись двум столицам вступить в соревнование за титул метрополии новой веры, Пекин покажется азиатским, африканским и латиноамериканским борцам более предпочтительным, нежели Москва.
США и СССР не сделали ничего для того, чтобы их соответствующие союзники обрели собственные термоядерные арсеналы. Все, или почти все, американские авторы полагают, что осуществляемая четырьмя—пятью государствами стратегия сдерживания будет более опасна, чем нынешняя стратегия двух актеров.
На страницах, отведенных для практического и теоретического анализа стратегии сдерживания, мы намеренно использовали упрощенные модели. Мы занялись двумя государствами, обладающими термоядерным оружием (ибо таково действительное положение вещей) и чаще всего рассматривали симметричную ситуацию. К примеру, возможностью нанесения гипотетического первого ядерного удара обладают оба гиганта. Дабы не выйти за рамки настоящей работы, мы, не усложняя моделей, попытались рассмотреть различные асимметричные ситуации, могущие возникать в отношениях между СССР и 778 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
США. Избрав свой способ рассуждения, мы увидели, что не так уж невозможно проанализировать последствия тех или иных асимметричных ситуаций. Что трудно, так это заранее определить, какие ситуации могут возникнуть вследствие качественной гонки вооружений, а также, как на них прореагируют правительства.
Следующий вопрос, к примеру, как мне кажется, имеет решающее значение: будут ли, спустя несколько лет, термоядерные арсеналы неуязвимы настолько, что останется возможность удерживать противника от крайне опасных провокаций (то есть от нападений на территории государств, не имеющих термоядерных арсеналов)? Последует ли из этого расширение масштабов возможных враждебных действий без применения термоядерного оружия? И еще: дадут ли одному из гигантов возможность гарантировать своим союзникам полную защиту от агрессии? Для этого он должен убедить противника в том, что в определенных случаях он мог бы первым применить ядерное оружие. Окажется ли это строгим выполнением обязательств, повышенным риском или элементом программы пассивной обороны?
Американские авторы тешат себя иллюзиями относительно того, что Китай и Западная Европа, а вслед за ними остальные страны, окончательно откажутся от атомного оружия. Государства, такие, какими они являются, не готовы оставить за двумя гигантами монопольное владение такими вооружениями, которые сегодня считаются решающими, как не готовы признавать в них единственных субъектов, облеченных властью над человечеством, а также своего рода надзирателей за чудовищными средствами уничтожения.
Рассуждая абстрактно, мир из четырех—пяти государств, обладающих термоядерным арсеналом, не обязательно должен быть менее стабильным, чем мир, в котором имеются только два владельца таких арсеналов. Возможны различные комбинации, которые будут определяться тем, насколько эти пять государств останутся независимыми друг от друга, или же наоборот, объединятся в две—три группировки. В любом случае, присутствие на международной арене помимо двух гигантов еще одного государства (блока или коалиции), обладающего значительными возможностями по осуществлению репрессивных акций термоядерными средствами, сузило бы свободу действий нынешних гигантов. Упразднение одного из гигантов скорее всего не сделало бы другого властителем мира даже на бумаге. Ему пришлось бы использовать против соперника лишь часть своего арсенала, в противном случае после вероятной победы он окажется во власти третьего действующего лица ^егИиэ ёаиИепз). Уже сегодня можно утверждать, что наличие Третьего действующего лица — Китая или всей Азии в целом — даже не имеющего атомного оружия, будет косвенно способствовать предупреждению возникновения войны между двумя гигантами.
Ближайшая перспектива отличается от той, что следует из модели четырех—пяти термоядерных арсеналов. Пройдет несколько лет и Китай, скорее всего, создаст несколько атомных бомб, а также самолеты, способные их транспортировать. Великобритания уже имеет термоядерные бомбы и самолеты для их доставки (возможно, способные преодолевать советскую Мир и война между народами • Раймон Арон 779
Часть! V
оборону и не погибать после нанесения удара). Франция получит свои атомные бомбы и Миражи-ГУ в 1965 г.; может быть, в 1970 г. у нее появятся термоядерные бомбы и баллистические ракеты средней дальности. Ситуация, которую можно предвидеть на период 1965—1970 гг., не будет похожей на чистую модель при пяти действующих лицах, наделенных более или менее равноценными возможностями. Два гиганта остаются распорядителями игры, в то время как Китай, Великобритания и Франция, обладая силами прямого удара на крайний случай, одна против другой, то есть силы устрашения, не способны противостоять любой из сверхдержав, не могут принять их вызов, либо потому что их инфраструктура, не выдержит первого удара, либо потому что слишком велика окажется диспропорция между их потерями (почти полное разрушение обеих европейских стран) и ответным ударом, который они были бы в состоянии нанести.
Пойдем дальше. Даже если страны старого континента объединят свои ресурсы, чтобы совместно создать силу устрашения, они все равно будут слабее каждой из обеих сверхдержав ввиду малого европейского пространства в сравнении с русскими просторами или американской территорией. Один из парадоксов нашего времени заключается в том, что процветание больше не требует обладания обширными земельными просторами, однако военная мощь этого по-прежнему требует, ибо размеры территории остаются одним из условий способности к сопротивлению. Тем не менее нельзя сказать, что сила устрашения, созданная “Шестеркой” или, еще лучше, “Шестеркой” и Великобританией, была бы неэффективной. Совсем напротив, она превратила бы Европу в одно из главных действующих лиц. Косвенно'Европа оставалась бы под защитой американских вооруженных сил, даже если бы американские дивизии больше не размещались в Германии; Советский Союз не смог бы совершить агрессию даже малозначительную, направленную против Соединенных Штатов или Европы, не опасаясь ответных действий западной сверхдержавы.
Сложившуюся в настоящее время конъюнктуру может, вероятно, изменить создание атомного оружия, на каком-то уровне, Китаем. Если так случится, то КНР наверняка повысит свой престиж во всей Азии. (Быть может, и Индия не замедлит последовать китайскому примеру). Кроме того, нельзя не учитывать того, что Пекин имеет совершенно конкретные притязания. Существование всего в нескольких километрах от его побережья, на островах Куэмой и Матсу, враждебных сил, снабжаемых иностранной державой, было бы вещью нетерпимой для правительства любого крупного государства. Останется ли Китай пассивным в этом отношении, когда будет обладать атомным оружием?
«ж 780 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ГЛАВА XXIII
По ту сторону политики могущества: I. Мир в рамках закона
Международная политика всегда считалась тем, чем она и является, а именно: демонстрацией мощи и могущества. Иной точки зрения в наше время придерживаются лишь некоторые юристы, опьяненные собственными концепциями, и отдельные идеалисты, смешивающие свои мечтания с действительностью. Но в совершенно откровенном виде она таковой никогда не признавалась. Юристы оплакивали то обстоятельство, что они вынуждены игнорировать или напротив, легитимизировать войну, а моралисты углублялись в суть дипломатическо-стратегического поведения и пытались осмыслить тот факт, что такое поведение даже в мирное время всегда исходит из возможности и вероятности войны, то есть принуждения и насилия.
Ужасы войн XX века, а также угроза термоядерной катастрофы придали тезису об отказе от политики мощи не только актуальность и сочность, но и своего рода очевидность. История не должна больше быть чередой кровавых конфликтов, если человечество хочет продолжать свой жизненный путь. Никогда еще диспропорция между возможной катастрофой и ставками межгосударственных соперничеств не представлялась столь безумной и вопиющей. Всякая классическая стратегия — в том числе и та, которую мы описали на предыдущих страницах, — измеряемая требованиями мира, опасностями и потерями войны, представляется ныне жалкой и беспомощной. Она просто ведет к констатации бессилия, к своего рода подчинению абсурду.
Я не протестую против подобных чувств, совсем наоборот, я разделяю их. Люди жаждут исторического преобразования государств и их отношений. Эта жажда не беспрецедентна, но она и не всеобща. Фанатики не устают ставить победу своей идеологии превыше всего. Тем не менее такая жажда охватывает транснациональное общество, она объединяет миллионы индивидов как просто людей, а не как граждан какого-либо демократического государства или активистов той или иной революционной партии. Быть может, жажда эта проложит путь к будущему, как пролагались пути в прошлом протестами против того, что веками слыло незыблемым порядком сообществ.
По крайней мере в завершающей части этого обширного исследования мы должны задаться вопросом: при каких условиях политика отношений между государствами перестанет быть курсом демонстрации мощи и могущества, то есть будет развиваться вне атмосферы войны, и какова вероятность того, что эти условия сложатся сегодня или завтра?
1. Виды пацифизма
Макс Шелер в очерке, посвященном разбору одного из совещаний в военном министерстве в январе 1927 г.1, выде1 Посмертная публикация: Мах Scheier. Die Idee des Friedens und red Pazifismus. Berlin. 1931.
Мир и война между народами* Раймон Арон.; 781
Часть IV
лил восемь видов пацифизма, перечень которых послужит нам отправной точкой:
1) героический и индивидуальный пацифизм принципиального непротивления насилию;
2) христианский пацифизм, полупацифизм католиков, отчасти внушенный войной, а отчасти — естественным правом и этикой; в конечном счете этот пацифизм стремится сделать папу высшим судьей; протестантские церкви, старающиеся объединиться ради достижения вечного мира, в общем придерживаются пацифизма такого же рода;
3) экономический пацифизм, пацифизм свободного обмена, наиболее крупным теоретиком которого был английский философ Герберт Спенсер, и основные положения которого исходят из позитивистской мысли и утилитаристской системы ценностей;
4) юридический пацифизм, или пацифизм права, источником которого является современная доктрина естественного права и его распространение на международное право (1фоций, Пуффендорф) и который время от времени вновь выплывает наружу (аббат де Сен-Пьер, кантовский вечный мир, утопический социализм); своей высшей целью он ставит всеобщее и систематическое разоружение на море и на земле и замену ultima ratio (последний довод) государств высшим трибуналом, который будет прекращать все конфликты юридическим решением, соответствующим строгой системе норм;
5) полу пацифизм марксистского коммунизма и социализма, который хочет принуждением добиться вечного мира благодаря упразднению классового государства через временную диктатуру пролетариата; в русской форме этот полупацифизм не является непосредственно пацифистским; он одобряет все войны, ведущие к желаемому и провозглашаемому им итогу;
6) империалистский пацифизм всеобщей империи (римское умиротворение всеобщей империи, римский мир, попытка Наполеона, некоторые формы англосаксонского имперского пацифизма);
7) международный классовый пацифизм крупной капиталистической буржуазии в некоторых великих державах Европы и Америки, которая боится стать жертвой новой войны и своим миролюбием хочет подорвать советскую идею войны, ведущей к мировой революции;
8) культурный пацифизм космополитизма, который восходит к стоицизму и, объединяя интеллектуальную элиту всех стран, хочет добиться вечного мира путем распространения информации, интеллектуальной и моральной реформы, воспитания и образования.
Таковы восемь видов пацифизма, которые обозначил в межвоенный период немецкий философ, писавший в том же очерке: “Идея экономической и (относительной) политической кооперации народов Европы отныне не исчезнет. А если исчезнет, то горе всей европейской культуре!”1 Макс Шелер хотел, как мне думается, выявить различные побудительные мотивы политических и духовных движений за мир. В эти мотивы и сегодня не привнесено особой новизны: пацифизм вдохновляется либо отказом от насилия, либо традиционной верой трансцендентальных религий, или 1 Ibid. Р. 28.
782 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
экономическим утилитаризмом, а также стремлением к юридическому порядку, либо новой верой марксизма-ленинизма, или тайным желанием некоторых упразднить силой плюрализм государств и военных суверенитетов (желание это встречает согласие и сочувствие многих), либо боязнью войны со стороны крупного капитала и стремлением последнего противопоставить свой интернационал интернационалу марксистскому, или, наконец, критикой национализма и привязанностью к космополитической идее. Все говорят “нет” войне: приверженцы непротивления, христиане, теоретики свободного обмена, сторонники мира, установленного правовым путем, путем социализма, путем учреждения всемирной империи, мира посредством международной организации капитализма, мира благодаря деятельности мудрецов и воспитанию масс. Если сравнить между собой все эти варианты пацифизма, то только первая форма, по словам Шелера, является чисто духовной, поскольку приверженец ненасилия скорее согласится стать жертвой насилия, чем быть насильником. Другие варианты пацифизма представляют собой “идеологии по интересам”, они воспринимают мир не как абсолютную ценность, а как обстоятельство, благоприятствующее интересам какого-нибудь класса или всего человечества (торговля более полезна, чем война). Однако качественное различие некоторых вариантов пацифизма не представляется мне столь уж простым. Да, действительно, лишь тот, кто готов пожертвовать своей жизнью, чтобы не убить себе подобного, доказывает тем самым, что он отвергает героизм боя, ибо поставил себя выше него. Но тот, кто стремится к миру посредством права, победы пролетариата или культуры, тоже одержим неким “посторонним” идеалом, даже если такой идеал отвечает интересам некоторых или даже всех. Наконец, качество вдохновения или воодушевления в этом отношении отнюдь не компрометируется точным расчетом причин и следствий.
Истинное различие между всеми этими формами пацифизма заключается, по-моему, в ином. Я думаю, что они группируются по двум видам: одни направлены против войны, с оговорками и условиями или без них, но всегда без какой бы то ни было теории причин войны и без доктрины, касающейся способов обеспечения мира: другие исходят из той или иной теории войн, обосновывая свои действия, миролюбивые или воинственные, направленные на достижение вечного мира. К первому виду принадлежат пацифизмы непротивления, религии и культуры. Непротивленцы, доходящие до отказа служить в армии, верят в значение жертвы, в эффективность, в долгосрочном плане, индивидуального протеста (и в этом они правы). Они не питают иллюзий насчет того, что можно помешать войне вообще или даже какой-то отдельной войне. Когда непротивленцы организуются между собой, когда они устраивают впечатляющие манифестации против возможного использования атомного оружия, они уже выступают не как моралисты по убеждению, а как моралисты по ответственности, и именно как таковые они должны расцениваться — по возможным последствиям их действий, а не по их намерениям. Отказ от применения только лишь атомного оружия есть результат скорее политической нежели этической оценки. Такой отказ следует одобрить, Мир и война между народами • Раймон Арон 783
Часть IV
если он по своему характеру способен сократить общий объем исторического насилия, не подрывая при этом ценностей, которые подлежат сохранению и сбережению. Возможно, последствия будут именно таковы, но это отнюдь не бесспорно. Таким же образом философ или воспитатель, борющийся против всяческого национального фанатизма и старающийся распространять идею единства человечества, делает хорошее дело. Но если он воображает, что мир будет обеспечен с помощью реформы образования или благодаря миллионным субсидиям ЮНЕСКО, то такой человек слишком наивен, чтобы принять всерьез все его доводы.
Зато энтузиаст свободного обмена, юрист, марксист, империалист и капиталист имеют (или, по меньшей мере, могут иметь) свою теорию войны и свою доктрину мира. Но если они знают причины войн, они должны предложить способы их устранения и, тем самым, обеспечения вечного мира. Однако представители этих пяти видов, в свою очередь, подразделяются на две группы: сторонники мира посредством права и сторонники мира посредством империи; они хотят изменить само существо международной политики, как она сложилась за тысячелетнюю историю. Приверженцы мира с помощью свободного обмена, с помощью всепланетного триумфа бесклассовых обществ и, наконец, с помощью меж- или сверхнациональной организации производства и обмена имеют шансы преуспеть ровно в той мере, в какой соответствует истине их социология войн.
Эти две школы пацифистов, думается мне, как нельзя больше подходят для двух возможных типов объяснения феномена войны. Либо естественное состояние отношений между государствами включает в себя, по преимуществу, довольно частые войны, когда мир оказывается результатом того, что вместо царства силы наступает царство закона, а множественность суверенитетов заменяется единым универсальным государством. Либо государства воюют за что-нибудь (за людей, земли, всякого рода трофеи и т. д.) или вследствие каких-то причин (нажим избыточного населения, поиск рынков, капиталистический или коммунистический деспотический режим, амбиции богачей, генералов, торговцев пушками). Эти два типа объяснений нельзя считать ни взаимно противоречивыми, ни взаимно несовместимыми, но они подчеркивают фундаментальное различие. Объяснения первого типа не исключают частичной истины объяснений второго типа. Объяснения второго типа ложны, если считать их исчерпывающими. Иначе говоря, вполне верно, что плюрализм военных суверенитетов предполагает возможность вооруженных конфликтов, а следовательно, политику могущества и войны. Но при такой посылке надо считать ошибочной всякую доктрину, рассчитывающую на исчезновение некоторых ставок и некоторых причин войны, чтобы обеспечить вечный мир.
В наше время модны экономические теории и доктрины. Причины такой “моды" многообразны: одни имеют длительный характер, другие зависят от обстоятельств. Труд и война суть два вида деятельности, одновременно контрастирующих и взаимодополняющих друг друга. Человек стремится господствовать над природой и над себе подобными. Возможно, он в тем меньшей степени захочет владычествовать над себе подобными, чем больше он научите*. 784 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ся управлять силами природы. К этим широко распространенным идеям достаточно лишь добавить, что общества имеют и могут иметь перед собой лишь одинединственный объект, чтобы ясно и конкретно видеть эволюцию человечества, когда позитивный и промышленный век следует за теологическим и военным веком. И поскольку современные общества больше ценят производство, чем это делали общества прошлого, объяснение войн алчностью или скупостью трестов, капиталистов и торговцев пушками выглядит в глазах людей точно так же, как в былые времена выглядели капризы фаворитов или желания славы королями. Охота за рынками сбыта, сырьем, прибылями заступает место охоты монархов за провинциями, подданными и крепостями. Либералы полагают, что ставки конфликтов обесценятся в “Республике обменов” и поэтому государства лишатся мотивов биться между собой. Капиталисты ждут такого же результата от меж- и сверхнациональной организации, марксисты — от конечного всепланетного триумфа пролетариата и социалистических режимов.
Среди доктрин мира, основанных на упразднении экономических ставок, изза которых разгораются вооруженные конфликты, наиболее полное свое выражение имеет марксизм-ленинизм. В капиталистическом мире монополии прежде всего ищут прибылей как внутри, так и вне стран, и поэтому монополисты должны подчиняться безжалостным требованиям экспансии и прибыли; цели монополий и государств несовместимы. При режиме, где прибыль перестала быть движущей силой, целью правителей будет материальное и нравственное развитие народов. Внутри стран не будет больше антагонистических классов, не будет и причин для “бегства вперед" империализма, а следовательно, не будет причин для войн. Другими словами, марксизм-ленинизм объясняет современные войны как действующими лицами, так и ставками; объясняет, с одной стороны, противоречиями капиталистического режима и амбициями монополий, а с другой — несовместимостью целей, которые вынуждены ставить перед собой государства, попавшие в кабалу к монополиям. Так называемая пролетарская революция будто бы изменит природу и характер действующих лиц1 и приведет к исчезновению ставок, вызывающих конфликты.
Эта доктрина мира, даже если мы согласимся с анализом, лежащим в ее основе, пока что не может считаться доказательной, если только мы не предположим беспрецедентное перерождение вечной сути дипломатии. В самом деле, допустим, что все государства организованы на принципах марксизма-ленинизма, у них плановая экономика, а у власти находятся так называемые пролетарские партии. Откажутся ли такие государства иметь у себя вооруженные силы? Все ли они будут уверены в своей безопасности? Неужели ни одно не испытает искушения защитить свои интересы или навязать свои идеи силой или угрозой применения силы? Чтобы утвердительно ответить на эти вопросы, то есть доказать, что ничего подобного не будет, надо допустить две вещи: ни одна из традиционных ставок — зем1 Само объяснение явлений через действующих лиц может быть двояким: могут объясняться намерения действующих лиц, но могут объясняться и те силы, которые влекут за собой появление данных действующих лиц, которые либо не сознают этого, либо не могут совладать с такими силами.
Мир и война между народами • Раймон Арон 785 »
Часть IV
ля, богатства, люди — не сохранила своего значения; ни одно из государств не хочет доминировать и не боится быть порабощенным.
В наше время первое допущение имеет долю истины независимо от какого бы то ни было социально-экономического режима. В самом деле, как мы уже видели, до тех пор, пока остаются возможными рост и интенсификация экономики, а свобода международного обмена позволяет в достаточной мере снабжать людей и заводы, господство над слаборазвитыми странами чаще всего будет дорого обходиться развитым1 странам. Но, даже если не рассматривать некие крайние случаи, то есть наличие малонаселенных земель с богатыми недрами, где еще не ведают споров и распрей по поводу способов обмена (terms of trade), то все равно квазиисчезновение экономических ставок далеко еще не наступило. Если, например, китайское население будет расти нынешними темпами и превысит миллиард к концу века, то нехватка пространства будет, вероятно, чувствоваться и народом, и правителями. Если даже предположить, в экономическом аспекте, что возможны решения более предпочтительные, нежели завоевания, последнее все-таки может показаться наилучшим выходом из создавшегося положения, ибо в Сибири и Юго-Восточной Азии еще много малозаселенных территорий.
Для того, чтобы государства с малой территорией и большим числом ртов, требующих пищи, не испытывали искушения совершать завоевания и захваты, а соседние государства не чувствовали угрозу с их стороны, — для этого недостаточно, чтобы все они имели одинаковый режим и провозглашали себя братьями. Даже братство, обусловленное общей враждебностью к капиталистическому миру, не помешало ни югославскому диссидентству, ни развитию напряженности в отношениях между Москвой и Пекином. Тем более, если мы вообразим некую “вселенную”, где у социалистических государств больше не будет никаких инорежимных врагов, то все равно нельзя исключать конфликтов интересов, поводом для которых может послужить, — как это было вчера и как это будет завтра и послезавтра, — то или иное распределение пространства. Такие конфликты не обязательно должны вести к войне, но чтобы они не решались силой оружия, приходится вообразить себе наличие некой высшей воли, способной навязать свое решение. Два первых предположения отсылают нас к миру посредством права и к согласию государств не отстаивать свою правоту самостоятельно; третье предположение означает всеобщую империю.
Итак, начав с социологических объяснений феномена войны, ее причин и ставок, мы пришли к доктрине мира, обеспечиваемого подчинением государственных суверенитетов закону или силе. Такой, казалось бы, странный путь не должен нас удивлять: если государства сохраняют за собой право самим отстаивать свои интересы, они не смогут жить в постоянном и окончательном мире, для этого нужно, чтобы они сами стали иными или чтобы весь мир переменился коренным образом. Природа и характер индустриального общества действительно смягчают экономические причины войн и, если бы все го1 Выше мы показали, в каком смысле и с какими оговорками такое утверждение можно считать верным.
в» 786 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
сударства имели одинаковый режим, то вполне вероятно, сегодня не существовало бы угрозы большой войны между основными действующими субъектам международной системы. Но такое умиротворение, благодаря возможностями интенсивного роста, тем не менее не освобождает человечество окончательно от конфликтов в борьбе за землю и богатства: все зависит от численности населения, а если говорить более точно, — от скорости, с какой растет эта численность.
Если бы, напротив, мы исходили из мира посредством закона или силы непререкаемого авторитета трибунала или всемогущей воли единого и единственного государства, вернулись бы мы, двигаясь в обратном направлении, к обнаружению опасности конфликтов, создаваемой социально-экономическими причинами? В каком-то смысле да: неравномерности и разрывы в развитии вызывают внутри государств напряженности, которые подчас оборачиваются революциями. Почему же дело должно обстоять иначе внутри всемирного государства или всемирной федерации? Однако абстрактный анализ не позволяет уточнить, какой же характер примут внутренние насилия во всемирном государстве. Ведь и в самом деле, все зависит от того, какую степень автономии и какую часть вооруженных сил сохранят регионы и группы населения.
Разница между этими двумя путями осмысления, таким образом, концептуальна. Если представить себе мысленно вечный мир, но при этом не исчезнет гоббсовская ситуация, то можно предположить радикальное преобразование государств и исчезновение возможных ставок для всякого рода распрей. Если же вообразить наличие вечного мира посредством закона или всеобщей империи и не обусловливать это никакими другими предположениями, то сохранится такой же риск, которому подвержены сегодня внутренние порядки государств, причем данный риск будет усилен разнородностью населения, обязанного подчиняться закону, и вполне допустимой способностью сопротивляться управлению сверху, управлению трибунала или империи, со стороны сохранившихся групп, принадлежащих к тем или иным национальностям или цивилизациям.
Такие выводы как раз и подсказывают нам путь, по которому следует идти. Доктрина мира должна быть привязана в первую очередь не к ставкам и действующим лицам, а к самому существу гоббсовской ситуации — к требованию государствами права самим защищать свои интересы, а следовательно, сохранять за собой ultima ratio обращения к оружию. Наша цель — мир. Так может ли установиться царство закона между странами и народами?
2. Устав Лиги Наций и Устав Организации Объединенных Наций
Мы уже рассматривали международное право, jus gentium (право народов) либо на абстрактном уровне теории1, либо в аспекте истории и практики1 2, анализируя нынешнюю роль Организации Объединенных Наций.
1 Гл IV, § з, 4, 5
2 Гл XVIII §3
Мир и война между народами • Раймон Арон г.
787 л
Часть IV
Отавная идея нашего теоретического анализа совпадает с принципом, широко распространенным среди юристов до 1914 г., а именно: международное право не запрещает государствам обращаться к силе: само это обращение составляет один из аспектов их суверенитета. Затем я констатировал то, что назвал провалом Лиги Наций, поскольку она имела своей задачей и должна была иметь результатом обеспечение мира. Провал этот был одновременно впечатляющим и символическим: Лига Наций, созданная победителями, уже в преамбуле своего Устава присоединялась к “некоторым обязательствам не прибегать к войне” и обязывалась содействовать “открытому установлению международных отношений, основанных на справедливости и чести”, призывая к “строгому соблюдению договорных обязательств“. Консервативная тенденция всякого международного права, связанная с волей государств-соперников поступать так как им угодно, была усилена здесь преднамеренным смешением обязательств соблюдать нормы международного права и не менее важных обязательств соблюдать территориальный статут, установленный союзными и присоединившимися державами. Победители надеялись, что заключенные договоры позволят повысить авторитет и силу международного права, но побежденные увидели, что Лига Наций ослабила свой авторитет дав юридически-моральное обоснование диктату союзников, то есть чистой силе. Однако ни те, ни другие так и не сумели уточнить, какой же статут справедлив сам по себе, без ссылки на историческое право силы. Имперские поползновения Японии, Италии и третьего рейха совершались по накатанному пути политики.
С 1945 г. постепенно сложилась двухполюсная и разнородная международная система. Она определяется в своих основных чертах наличными политическими и техническими данными (оружие массового уничтожения, соперничество двух сверхдержав, создание блоков, непрерывная идеологическая или подрывная деятельность и т. д.). Была бы эта международная система такой же самой, если бы не существовала Организация Объединенных Наций? Я этого не знаю и ограничусь утверждением, совершенно очевидным, на мой взгляд1, что Объединенные Нации не оказали решающего влияния на ход и развитие международных отношений1 2.
Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать, что двойной провал или неуспех имеет своей причиной факты, а не тексты. Однако все-таки полезно попытаться выяснить, действительно ли — и если да, то в какой степени — именно тексты изменили привычное международное право, запретили обращение к оружию и, наконец, дали жизнь эффективной организации коллективной безопасности.
Совершенно бесспорно, что Устав Лиги Наций и, еще более, пакт БрианаКеллога были новаторскими в сравнении с обычным и традиционным правом. Никогда короли ни в XVII, ни в XVIII веке не провозглашали торжественно 1 Тем не менее те, кто хотят оставаться идеалистами, имеют почти неограниченную возможность не видеть реальность.
2 Для нас не имеет значения и мы не собираемся определять в точности, какие преимущества и неудобства дала одним или другим странам та роль, хотя и достаточно эффективная, но ограниченная, какую сыграли Объединенные Нации.
788 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
“от имени своих соответственных народов, что они осуждают обращение к войне для решения международных споров и отказываются от войны как инструмента национальной политики в отношениях друг с другом”1. Никогда они не обязывались решать любые конфликты иначе, как мирными средствами1 2. Остается лишь выяснить, не являются ли эти тексты простым жестом порока в адрес добродетели или же они свидетельствуют о действительном прогрессе сознания индивидуального и коллективного.
Напомним прежде всего, что даже пакт Бриана-Келлога не расценивал все войны как незаконные. Войны считались законными, если они велись против государства, не подписавшего Устав Лиги Наций или подписавшего, но нарушившего его, а также если боевые действия велись в соответствии с требованиями Устава. (А между тем каждое государство сохраняло за собой, по праву или фактически, большую свободу в толковании обязательств Устава.) Кроме того и помимо всего прочего, подписавшие Устав сохраняли за собой два пути уклонения от него, чтобы заниматься стародавней практикой. То были: право на законную оборону (self defence) и возможность применять силу без объявления войны. Право на законную оборону было открыто и недвусмысленно признано пактом Бриана-Келлога, и при этом не предусматривалось никакого органа, который определял бы и ограничивал последствия и разного рода воздействия осуществления такого права. Каждое государство, следовательно, почти всегда могло утверждать, с большей или меньшей степенью вероятности, что оно ограничивается использованием именно этого своего права. Именно так поступила Япония по отношению к Маньчжурии, а Италия — по отношению к Эфиопии. Было бы удобно также воспользоваться и другим путем уклонения, то есть не объявлять войну или отказываться квалифицировать как войну некоторые схватки, например, “инцидент” в Китае. Впрочем, так называемые миролюбивые державы, к примеру Соединенные Штаты, не преминули и тут ввести новшества в том, что касается “двусмысленной” ситуации: до декабря 1941 г. США, не объявляя войну Германии, приняли некоторые меры, благоприятствующие одному лагерю и враждебные другому, хотя это несовместимо с обычной концепцией нейтралитета. Неучастие в войне оказалось неким способом участия в ней — совершенно в духе китайского инцидента, который был своеобразной войной.
В Уставе имелись и еще более очевидные изъяны. Одна из его статей, которая якобы создает своего рода коллективную безопасность (ст. 16 § 1), была составлена так: “Если какой-либо из членов Лиги прибегает к войне вопреки обязательствам, принятым согласно ст. 12, 13 и 15 Устава, то тем самым он рассматривается как совершивший акт войны против всех других членов Лиги...”. Но в каких случаях войну следует считать нарушением Устава? Согласно ст. 12, члены Лиги обязываются не прибегать к войне в течение трех месяцев после арбитражного или судебного решения. По ст. 13 они обязываются 1 Ст. 1 Устава.
2 Ст. 2.
Мир и война между народами • Раймон Арон «»w» 789
Часть IV
вообще не вступать в войну с государством, которое является стороной в споре и намерено выполнить решение арбитра или приговор трибунала. Наконец по, ст. 15 (§ 6), они обязуются не воевать с государством, которое собирается выполнять рекомендации доклада, принятого единогласно Советом Лиги Наций (исключая государства, являющиеся сторонами конфликта).
Конечно, государства обязуются также сами представлять свои споры арбитражу, трибуналу или Совету Лиги. Но каждое из них свободно решить в индивидуальном порядке, входит ли тот или иной конфликт в компетенцию арбитража или суда. Если спор имеет политический характер и если им занимается Совет, то рекомендации Совета имеют силу лишь будучи приняты единогласно. Если же Совет не в состоянии единогласно принять свой доклад, тогда “члены Лиги сохраняют за собой право действовать так, как они сочтут необходимым для поддержания права и справедливости” (ст. 15 § 7).
Иными словами, в случае конфликтов, переданных на рассмотрение арбитра или трибунала, незаконными считаются те войны, которые развязываются либо до истечения трехмесячного срока, либо ведутся против государства, готового подчиниться решению арбитра или трибунала. Однако, поскольку члены Лиги не взяли на себя обязательства представлять свои споры на рассмотрение арбитра или трибунала, сохранялась большая вероятность того, что серьезные конфликты, как раз способные вызвать войну, будут рассматриваться Советом или Ассамблеей Лиги Наций. В таком случае война может считаться незаконной лишь тогда, когда она началась до всякой попытки решить дело мирным путем или когда она развязана вопреки рекомендации, единогласно принятой Советом. Таким образом, в соответствии с принципом коллективной безопасности, война, развязанная какимлибо государством в нарушение Устава, должна рассматриваться всеми государствами Лиги Наций как агрессия против каждого из них. Однако этот принцип имеет силу лишь при единогласном решении. А между тем каждый член Совета сохраняет за собой право суверенно решать, действительно ли та или иная война нарушает Устав.
Если такое единогласие достигается, то статья 16 (§ 1) делает (или так только кажется, что делает) экономические санкции обязательными для всех членов Лиги, но разрешает Совету лишь формулировать рекомендации в том, что касается доли участия каждого государства в военных санкциях.
Теоретически можно было “заполнить пробелы Устава” тремя способами. Первый заключался в том, чтобы сделать обязательным для сторон арбитражное, юридическое или политическое (Совет или Ассамблея Лиги) решение. Второй — отменить правило единогласия с тем, чтобы Совет или и Ассамблея всегда были в состоянии решать конфликты. Третий — лишить государства права самим и свободно определять, имело ли место нарушение Устава и какую долю каждое из них возьмет на себя в санкциях. Эти три формы, конечно, взаимосвязаны. Чтобы убрать § 7 из ст. 15, то есть право принимать каждому государству необходимые меры по поддержанию мира и справедливости, нужно было бы признать за Лигой Наций власть решать конфликты по существу. А поскольку в 790 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
многочисленных случаях получить единогласие было немыслимо. Совет должен был бы решать споры простым большинством голосов. Наконец, чтобы решение, принятое большинством, было политически эффективным, следовало усилить и уточнить положения ст. 16 (§ 1 и 2) — обязанности государств в случае нарушения Устава, а также в том, что касается санкций.
Известно, что именно в соответствии со ст. 16 выдвигались обвинения против Италии по поводу Эфиопии. Была применена такая процедура: сначала конфликт был рассмотрен Советом, который единогласно принял и представил доклад. Такое голосование Совета не было сочтено как влекущее за собой соответствующие обязательства для всех членов Лиги, ни даже как коллективное решение. Председатель Ассамблеи решил, что ни один орган Лиги не имеет права принимать решение такого характера, чтобы все члены обязывались признать, что один из них нарушил Устав. Каждый член Ассамблеи был свободен выразить несогласие с единодушным мнением членов Совета. Австрия, Венгрия и Албания воспользовались этим правом. Другие члены своим молчанием выразили согласие с членами Совета. Такая же свобода индивидуального решения была фактически предоставлена членам Лиги и в части, касающейся санкций, и все это вопреки ст. 16 (§ 1).
Провал попыток заставить Италию отказаться от захвата Эфиопии, — а именно так очень легко квалифицировать ее действия через немалый временной интервал — объяснялся не “пробелами” в Уставе, а явным и открытым нежеланием ведущих держав (Франции и Великобритании в те годы) прибегать к крайним средствам. Эти крайние средства содержали риск (слабый, правда) войны, но точно такой же риск существовал бы, если бы в Уставе не было пробелов. Поскольку Лига Наций не приняла решительных мер по отношению к итальянской агрессии 1935 г. или германской агрессии 1938 г. (Австрия и Чехословакия), или же советской агрессии 1940 г. (Финляндия), — Германия уже не была членом Лиги Наций в 1938 г., а Советский Союз был исключен из нее в 1940 г., — расширение и укрепление обязательств Устава не произвело ни малейшего впечатления ни на Гитлера, ни на Сталина.
Если бы государства-члены искренно желали руководствоваться требованиями Устава, то вполне было бы достаточно запрещения войны либо до истечения трехмесячного срока, либо войны против государства, выполняющего решение арбитра, приговора суда или единогласно принятых рекомендаций Совета. Но Япония не собиралась уважать территориальную целостность Китая, Италия — независимость Эфиопии, Германия — независимость Австрии и Чехословакии. Ни одно из этих трех государств не согласилось бы представить свои требования на рассмотрение “трибунала справедливости”. Ни одно не сочло себя связанным отношениями с Лигой Наций. Ни одно не рассматривало существующий территориальный статут как окончательный и не придавало ему некоего высшего значения в сравнении со статутами прошлого и будущего. Но если бы был изменен § 7 ст. 15, если бы доклады Совета, принятые даже не единогласно, а простым большинством, имели силу закона, то государства-ревизионисты — Италия, Япония, Германия — избавились бы от Мир и война между народами • Раймон Арон 791
Часть IV
такой своей склонности и были бы призваны к порядку силой. А между тем сами государства-консерваторы не располагали такой силой и не согласились бы на господство закона, который лишил бы их привилегии быть свободными арбитрами, идет ли речь о разделении между тем, что относится к внутреннему законодательству или международному праву, или же о собственно политическом конфликте с каким-нибудь другим государством.
По своей глубинной сути Устав Организации Объединенных Наций исходит из той же философии, что и Устав Лиги Наций, то есть из легалистской и пацифистской философии. Согласно преамбуле, цель ООН — уберечь будущие поколения от бедствий и ужасов войны и обеспечить такое положение, при котором вооруженные силы используются только в общих интересах. Тем не менее составители Устава, наученные опытом, меньше настаивают на скрупулезном соблюдении договоров, то есть на статус-кво, а больше — на создании условий, без которых международно-правовые обязательства не будут выполняться. В один ряд с обеспечением и поддержанием мира Объединенные Нации ставят уважение прав человека, а также экономическое и социальное развитие народов.
Что касается центральной проблемы такого нацеленного на мир порядка, то Устав содержит довольно туманные формулировки в главе I, где говорится о должной манере поведения государств и о принципах, на основании которых должны регулироваться конфликты. В § 4 ст. 2 говорится: “Члены организации воздерживаются в своих международных отношениях прибегать к угрозе или применению силы либо против территориальной целостности или политической независимости любого государства, либо всяким другим способом, несовместимым с целями Объединенных Наций”. Таким же образом согласно § 3 все той же ст. 2, все члены “регулируют свои международные споры мирными средствами, так, чтобы не подвергались опасности международный мир и международная безопасность, а также справедливость”. Но фактически все государства прибегали в тот или иной момент к угрозе применения силы. С другой стороны, хотя обращение к исключительно мирным средствам и благоприятствует миру, оно не обязательно должно благоприятствовать справедливости. Наконец, если должна уважаться территориальная целостность всех государств, но ни одно из них не может быть урезано в своих пределах или поглощено другим, этому призваны помешать страх и угроза принудительных санкций. Ну, а если государство само допустило свою ампутацию или упразднение как раз под угрозой насилия и принуждения? Формулировки главы I, как и Устава Лиги Наций, неизбежно извращаются обходятся или игнорируются государствами. Можно сказать, что эти формулировки выражают скорее некий идеал, чем конкретные и точные обязательства, либо налагают на государства законные обязанности лишь в той степени, в какой эти обязанности уточняются в главах VI и VII, то есть в главах, касающихся мирного урегулирования конфликтов, а с другой стороны, надлежащих действий против угрозы миру, нарушения мира и актов агрессии.
Главы VI и VII Устава ООН направлены на достижение результата, анало792 * Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
гичного тому, о котором говорится в ст. 10 и 16 Устава Лиги Наций. Они более точны, более обстоятельны, более детализированы; в одних отношениях более, а в других менее амбициозны. Более амбициозны они в том, что дают Совету Безопасности власть принимать коллективные решения и даже заставлять исполнять их всеми средствами, мирными и немирными. И в самом деле, в главе VII предусматривается, что Совет Безопасности будет располагать для этих случаев вооруженными силами, предоставляемыми в его распоряжение государствами-членами. Однако Устав ООН также и менее амбициозен, поскольку такие меры могут быть приняты Советом Безопасности, при ссылке на главу VII, лишь при условии, что пять его постоянных членов проголосовали единодушно. Другими словами, пять постоянных членов имеют право вето в отношении всех решений Совета, а также в отношении мер, которые мог бы принять Совет, чтобы сделать эти решения эффективными. Что касается 1Ънеральной Ассамблеи, то она может двумя третями голосов принимать рекомендации по любому вопросу, но не может предпринимать никаких действий, чтобы заставить выполнять свои рекомендации. То, что Устав Лиги Наций называл санкциями, а Устав ООН называет “действиями, относящимися к угрозе миру, нарушению мира и актам агрессии”, а англосаксонские юристы называют “мерами принуждения (measures of enforcement), зависит от Совета Безопасности, а не от Ассамблеи.
Тем не менее Устав ООН также содержит “уклонительные статьи”. В § 7 ст. 2 повторяется оговорка, которая фигурировала в § 8 ст. 15 Устава Лиги: Объединенные Нации не могут вмешиваться в дела, относящиеся по существу к национальной компетенции того или иного государства (which are essentially within the domestic jurisdiction). Колониальные державы— 1Ълландия, Франция — как раз и использовали эту статью, чтобы помешать Совету Безопасности или Ассамблее вмешаться в индонезийский и алжирский конфликты. Фактически же Устав давал в этих случаях право Совету вмешаться (посредством ссылки на главу VII), поскольку возникала угроза международному миру. А Ассамблея каждый год вносила алжирский вопрос в свою повестку дня вопреки тщетным попыткам французской делегации помешать включению и обсуждению этого вопроса путем демонстративного ухода с заседаний Ассамблеи.
Статья 107 дает, так сказать, картбланш по отношению к государствампротивникам. Текст статьи настолько смутен, что предоставляет чрезвычайную свободу действий1. Вполне вероятно, что составители Устава усматривали здесь лишь определенную меру предосторожности на некий переходный период. Однако эта статья приобрела величайшее значение с тех пор, как распалась коалиция победителей, а договоры о взаимопомощи, подписанные государствами советского блока, оказались явно направленными против возможной германской агрессии или агрессии со стороны союзников Германии. Меры, разрешенные против бывшего 1 “Ни одно из положений настоящего Устава не затрагивает и не запрещает действий по отношению к государству, которое во второй мировой войне было противником какого-либо государства, подписавшего настоящий Устав, предпринятых или разрешенных, как следствие этой войны, правительствами, ответственными за такие действия”.
Мир и война между народами • Раймон Арон 793 »
Часть IV
противника, легко становятся мерами против бывшего союзника, который после прекращения существования коалиции попытался усилить самого себя, связав себя союзническими узами с бывшим противником.
Наиболее существенными “уклонительными" статьями следует считать ст. 52 и 53, касающиеся региональных организаций, и ст. 51, которая подхватывает понятие законной обороны, уже присутствовавшее в пакте Бриана—Келлога. Но, если строго придерживаться буквального смысла этих текстов, то обе статьи не ограничивают серьезным образом прав Совета Безопасности. Среди региональных организаций, которые имелись в виду составителями Устава, надо назвать Организацию американских государств. Эта организация, как предполагалось, могла бы действовать автономно для поддержания мира в своем регионе и, таким образом. Совет Безопасности, в случае необходимости, вмешивался бы не прямо, а через ее посредничество. Ни одна из обеих этих возможностей не заключает в себе “законного насилия” без санкции Совета Безопасности (за исключением мер против бывшего государства-противника). Зато свободу маневра для традиционной политики дает ст. 51, на которую ссылались союзники по атлантическому блоку, а союзники по советскому блоку аналогичным образом ссылались на ст. 107. Достаточно добавить к этому, что “законная коллективная оборона” требует подготовки и не может быть эффективной, если она импровизирована в тот самый момент, когда совершено вооруженное нападение.
Юристы много спорили о законности Атлантического союза в свете требований Устава ООН. Был ли этот блок создан в соответствии со ст. 51 или со ст. 52 и 53 (региональные организации)? Выражение “естественное право на законную индивидуальную или коллективную оборону” довольно туманно и дает повод для бесконечных споров. Но какова бы ни была изобретательность толкователей (даже если юристы докажут, что никто не нарушил явно и открыто Устава ООН), остается фактом, что сегодняшний мир в его международном аспекте значительно отличается от мира, который замышляли и представляли себе американские участники разработки Устава. Они резко отрицательно относились к зонам влияния, равновесию коалиций, политике мощи и силы, использованию силы каким-либо государством или группой государств в своих собственных интересах. Они очень надеялись на Организацию Объединенных Наций и особенно на Совет Безопасности в деле сохранения и поддержания мира. Никто не думает, что сегодняшняя обстановка соответствует их чаяниям. Если бы политика блоков была логическим развитием и выражением духа и буквы Устава, то требовалось бы написать его в таких выражениях и терминах, которые противоречили бы тому, что задумывали его действительные составители.
Я не буду вдаваться в подробности юридических дискуссий о законности акции, предпринятой в Корее (без каким-либо образом выраженного согласия одного из постоянных членов Совета Безопасности), о статье Устава, оправдывающей создание Атлантического союза, и еще меньше хочется мне это делать по поводу принятия небезызвестной резолюции — “Объединиться ради мира”. Однако мне представляется очевидным в историческом ракурсе, что м 794
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Устав вменяет Совету Безопасности в обязанность обеспечивать коллективную безопасность и мир, следовательно, при этом Устав исходит из наличия соответствующего согласия между постоянными членами Совета. Однако, как выяснилось, такое согласие оказалось невозможным, и Совет никогда не имел в своем распоряжении вооруженных сил, предусмотренных ст. 45 и последующими; государства приняли к сведению, что вето постоянных членов запрещает Совету принимать решения и претворять их в жизнь, и сделали отсюда вывод, что они сами должны подготавливать свою “законную коллективную оборону**. Вполне возможно, что широкое толкование текста ст. 51 приведет в конце концов наличие системы блоков в соответствие с Уставом, который первоначально такую систему исключал. Но, как мне представляется, трудно не воздать должное правоте Джулиуса Стоуна1, который пишет что “законная коллективная оборона имеет место не во исполнение Устава, а, увы, потому что сам Устав не выполняется”. Коллективная оборона есть некий заменитель, а не логическое следствие коллективной безопасности. Проголосованная в 1950 г. резолюция — “Объединись ради мира” с тем, чтобы легализовать “коллективное действие”, тоже основывается скорее на обычном праве обороны, сохраненном в Уставе, чем на принципе силы, поставленной на службу организованного сообщества государств.
Как свидетельствует тот же самый правовед, которого мы только что процитировали, Устав имеет две стороны. Право вето, законная оборона, действия против бывших противников составляют традиционную сторону и делают возможной классическую игру в политику мощи и могущества. Полномочия Совета Безопасности, устанавливающего мир, — такова другая сторона, которая могла бы способствовать учреждению мирового порядка. Конфликт между двумя сверхдержавами парализовал деятельность Совета Безопасности, и сегодня традиционная сторона освещена резким светом и кажется единственно существующей.
Было бы наивно винить во всем Устав и мечтать о реформе, которая возродила бы надежды 1945 года. Подобно тому, как на пробелы в Уставе Лиги Наций или на пакт Бриана-Келлога нельзя возлагать ответственность за гитлеровские амбиции, так и право на использование вето не может считаться причиной соперничества сверхдержав.
Подведем итог. Никогда идея коллективной безопасности не выражала себя в правовых обязательствах. Либо каждое государство сохраняло за собой право решать, прибегать ли к войне в нарушение Устава Лиги и пакта Бриана-Келлога и тогда безопасность оказывалась скомпрометированной, поскольку она основывалась на множественности индивидуальных решений; либо Совет Безопасности имел право принимать коллективные решения и добиваться их выполнения даже силой оружия, но тогда принятие решений, требовало единогласия всех постоянных членов, то есть теоретически всех великих держав данной мировой системы. Но ведь когда великие державы находятся во взаимном согласии, будь то при наличии или отсутствии дого1 Stone J. Legal control of international conflicts. London, 1954, p. 265.
Мир и война между народами • Раймон Арон 795
Часть IV
ворно оформленной коллективной безопасности, большая война разразиться не может.
3. Главное несовершенство международного права
С чем же связано бессилие международного права исключить применение силы во всех случаях, кроме тех, которые предусмотрены законом? Таков вопрос, находящийся в центре споров и диспутов о природе и характере jus gentium, права народов. В самом деле, трудно представить себе правовой порядок, соответствующий своей сути и своему названию, но не запрещающий субъектам этого порядка самим отстаивать свои интересы и по-своему понимаемую справедливость и прибегать к насилию путем принятия единоличного решения ради своих эгоистичных целей. Лично я нахожу вполне убедительным, на концептуальном уровне, взаимоуподобление правового порядка и мирного порядка, описанием которого господин Лаутерпахт1 завершает свою книгу “Функция закона в международном сообществе”:
“Возможно, что, рассматривая вопросы, касающиеся места права и судов в международном обществе, юристымеждународники придают особое значение тому, чтобы отделить собственно юридическую сторону дела от всякой пацифистской тенденции. Но если пацифизм идентифицируется с настойчивым стремлением добиться господства закона в международных отношениях, тогда можно задаться вопросом, может ли юрист, понимающий истинный смысл своей задачи, надеяться осуществить размежевание такого рода. Ведь обеспечение мира — это не только нравственная идея. В определенном смысле (хотя и в одном только этом смысле) идея мира морально нейтральна, поскольку она может предполагать принесение справедливости в жертву стабильности и безопасности. Мир есть прежде всего постулат такого свойства, который имеет отношение к закону. Юридически он представляет собой метафору для обозначения постулата единства легальной системы. Юридическая логика неизбежно ведет к осуждению, посредством закона, всякой анархии и частной силы”.
Действительно, я думаю, что в некотором определенном смысле мир есть постулат, относящийся к закону. Дело не в том, что человеческие отношения, подчиненные закону, якобы не содержат насилия, а в том, что они должны содержать лишь то насилие, которое служит закону, используется по решению законной власти против нарушителя тех или иных запретов.
Современным законоведам, которые руководствуются позитивистскими или неокантианскими идеями и признают упомянутое размежевание как по факту, так и по норме, еще более трудно признать всецело юридическим легальный порядок, установившийся между государствами. Ведь и в самом деле, в той мере, в какой закон рассматривается как верховенствующий для государства, отсутствие своего рода высшей государственной структуры, которой подчинялись бы субъекты международного права, имеет тенденцию к смазы1 Lauterpacht Н. The function of law in the International community. Oxford, 1933, p. 438.
m 796 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ванию и затушевыванию собственно юридического характера обязательств, взятых на себя государствами. Что же касается чистой теории права, определяющей юридический порядок через посредство регламентации насилия, то она предполагает реальное существование “юридического сообщества”, образуемого международным правом, не иначе как интерпретируя войны и репрессии в качестве актов принуждения, предусмотренных нормами международного права1.
Однако, как только теоретик чистого права начинает истолковывать войны и репрессии как санкции в ответ на незаконные действия, он впадает в иллюзию, будто тем самым он разрабатывает и развивает, не встречая непреодолимых препятствий, систему норм, сравнимую с национальными системами. Но, как мне думается, как раз тутто и скрывается иллюзия. По меньшей мере можно сказать, что возведенное таким способом сооружение из всяческих норм, даже если оно и представляется логически законченным и удовлетворительным, весьма отстранено от реального мира, чтобы иметь какое-то значение.
Толкование войн и репрессий как санкций в ответ на незаконные акты есть лишь юридическая фикция, не соответствующая тому смыслу, какой придавали применению силы люди на всем протяжении истории, будь то правители или солдаты. Дипломаты и военные никогда не мыслили так, как мыслили судебные исполнители, которым поручалось приводить в исполнение приговоры судов. Конечно, если исходить из определения права, данного Кельзеном, то не существовало бы никакого международного права, если бы не было регламентации насилия и законных санкций против преступлений и правонарушений. Однако допущение, согласно которому насилие в отношениях между государствами есть либо правонарушение, либо санкция, не очевидно и не доказательно, а сам Кельзен иногда признается, что он скорее по политическим, нежели по научным соображениям предпочитает это допущение предположению о законности какой бы то ни было войны.
Но это еще не все. В чистой теории необходимо совершить восхождение к какой-то фундаментальной норме, которая сама по себе была бы не правовой нормой, а неким постулатом, управляющим всей системой. А между тем в области международного права ни одна из фундаментальных норм (Grundnorm), на которую можно было бы сослаться, не является удовлетворительной. Например, формула “договоры должны соблюдаться” (pacta sunt servanda) имеет частный характер, она направлена на уважение договоров и соглашений и необходима для международного порядка, но ее с трудом можно считать логическим истоком самого этого порядка. Если же, вместо ут1 “Надо признать, что международный правовой порядок или сообщество, сформированное им, не есть совокупность неких государств, ввиду далеко зашедшей децентрализации, поскольку само слово “государство” должно применяться лишь к достаточно централизованным правовым порядкам и сообществам. Однако его характер, именно как юридического сообщества, бесспорен, поскольку войны и репрессии могут истолковываться как акты принуждения, предусмотренные нормами международного права, то есть в той мере, в какой они являются санкциями против незаконных действий и не могут быть ничем иным” (Hans Kelsen. Théorie générale du droit international public. Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1932. XLII, p. 134.
Мир и война между народами • Раймон Арон 797 шж
Часть IV
верждений о необходимости соблюдения принятых обязательств провозглашают в качестве фундаментальной нормы, что государства должны вести себя так, как они вели и ведут себя согласно обычаю, то в этом случае уважение к договорам подменяется уважением к обычаям. Но если уважение к договорам имеет слишком ограничительный смысл, то уважение к обычаям имеет смысл слишком туманный. Какой именно обычай государства должны соблюдать? Обращение к силе составляет часть многовекового поведения государств. Как же можно осуждать его в юридической системе, претендующей на то, что она руководствуется обычаями?
Кроме того, международное право не предусматривает никакой высшей инстанции для оценки фактов и толкования норм. Как пишет один еретический ученик Кельзена1, “согласно традиционной концепции, — согласно концепции Кельзена, — каждое государство суть та компетентная инстанция, которая свободно принимает решение в каждом конкретном случае, не нуждаясь ни в каком возможном юридическом контроле. Имеется, следовательно, большое число параллельных инстанций, способных определять и устанавливать нормы и меры принуждения всякий раз, когда возникает конфликт, и вводить в практику нормы, противоречащие друг другу. В соответствии с общим международным правом только и единственно государство компетентно решать, обоснованна ли юридически та или иная конкретная норма, является ли тот или иной факт реальным или нереальным, должен ли он квалифицироваться как война, вмешательство или что-либо другое... Если государство “А’ принимает какое-нибудь решение, если оно утверждает какуюлибо норму, квалифицирует какой-либо факт, ит. д., то тем самым оно устанавливает то или иное юридическое правило, норму, входящую в компетенцию международного права. Но государство “Б” тоже компетентно решать подобные вопросы, и его решения тоже создают правовые нормы. Всякий раз, когда вспыхивает международный конфликт, определенная норма, созданная государством “А”, оказывается в противоречии с некой нормой, созданной государством “Б”, в противном случае не было бы никакого конфликта... Функционирование некоего сверхгосударственного международного права невозможно, оно исключено логически, в этом смысле сверхгосударственного международного права вообще не существует”. И еще: “международное право, как его понимает традиционная теория, —то есть некий сверхгосударственный порядок, суверенным образом связывающий между собой государства, — не только неэффективно, но и логически невозможно, потому что его нормы не образуют внутренне соединенной и слитной системы”.
И если, таким образом, чистая теория права терпит крах, не будучи в состоянии предложить какую-либо первичную, исходную норму и гарантировать непротиворечивость системы путем создания высшей инстанции, интерпретирующей нормы и законы, то и другие виды философии права преуспевают не лучше, поскольку они направлены на то, чтобы некое международное право имело обязательную силу для всех государств. Допустим, вместе с г-ном 1 Panayis А. Papalloguras, ор. cit. Р. 174.
й*,. 798 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Гурвичем, что существуют факты, которые сами по себе нормативны; будем думать, что есть на свете некое чистое социальное право, регулирующее жизнь негосударственных сообществ. Допустим также, что международное право есть интеграционное, а не субординационное право. Все равно остается неясным и нерешенным главное: к чему обязывает чистое и спонтанное право международного сообщества? Где правовед найдет свидетельство или доказательство того, что такое “социальное право” запрещает или разрешает применение силы? Когда юрист требует “подчинения воле международного сообщества”, то очень легко ответить ему, что общая воля суверенных государств существует лишь в воображении теоретика.
Наконец, если теоретик опирается в качестве исходного пункта на совокупность государств и множественность “суверенных воль”, то тем самым он признает всего лишь взаимное согласие субъектов права в более или менее неустойчивой и неосязаемой форме, такой, например, как самоограничение1 или молчаливое согласие. Теориям такого сорта легко противопоставить возражение, что они вовсе не идут дальше суверенитета государств, который они использовали в качестве отправной точки. Обязательство, принятое как результат всего-навсего согласия, не императивно. В таком случае может ли быть нормативным принцип, обязанный своей так называемой законностью только одному — достигнутому соглашению?
Сделаем вывод: никакая теория международного права никогда не была удовлетворительной ни сама по себе, ни по отношению к реальности, к действительным фактам и событиям. Логически теория, выдвигающая на передний план абсолютность суверенитета, не обосновывает обязательного характера международного права. Политически такая теория ограничивает силу и авторитет закона и поощряет международную анархию. Теория, ставящая во главу угла авторитет и власть надгосударственного права, делает ее чуждой всякой действительности, делает ее нереалистичной.
Непрерывные споры и довольно весомые возражения, выдвигаемые против любой теории, как самой по себе, так и в политическом контексте, объясняются, как я думаю, двусмысленным и в некотором роде противоречивым характером самого международного права и “международного сообщества", выражением которого оно является. Международное право в том виде, в каком оно существует сегодня, ведет свое начало от “права народов”, Jus gentium, как оно создавалось и разрабатывалось в Европе, особенно начиная с XVI в. Первоначально Jus gentium имело два аспекта, или два значения: с одной стороны, оно указывало на общие элементы всех национальных законодательств, а с другой, определяло правила, которые вменялись или должны были вменяться в обязанность суверенов в их взаимных торговых отношениях. Общие элементы всех законодательств считались естественными, то есть соответствующими природе человека или воле Бога, или свету разума. В 1 Сегодня правоведы охотно квалифицируют теорию самоограничения Еллинека как “абсурдную" Мне же она представляется гораздо менее абсурдной, чем многие новейшие теории Она. разумеется, ничем не обосновывает “обязательную силу" права Но она представляет собой некое оформление и упорядочение историко-социальной действительности
Мир и война между народами • Раймон Арон 799
Часть IV
той степени, в какой "право народов” было в этом смысле естественным, оно, само по себе, напрямую применялось в торговле между суверенными сообществами, поскольку торговля не могла регулироваться каким-либо частным законодательством. Отсюда его применение, аналогичное внутреннему праву, даже гражданскому праву, по проблемам, возникающим между суверенами, каждый из которых рассматривался как носитель высшей и независимой воли.
Но если эти отношения регулировались естественным правом, которое, с философской точки зрения, считалось более высоким, нежели право любого отдельного государства (или, как мы говорим теперь, позитивное право), то и сами такие отношения оказывались при их анализе тоже естественными, особенно потому, что они были “естественным состоянием”, предшествующим гражданскому состоянию, которое возникло посредством подчинения индивидуальных воль законам, исходящим от высшей воли. Теории jus gentium находились в период с XVI по XVIII в. под одновременным влиянием концепции естественного права (всеобщего, божественного состояния). По решающему пункту о законности войны для обеих воюющих сторон следствия и выводы из понятия естественного состояния, бесспорно, брали верх над требованиями естественного права. Война справедлива, если она суть санкция против незаконного акта, если она представляет собой оборону против агрессора, но вместе с тем, справедливо это или нет, она законна для всех воюющих сторон, потому что в отношениях между суверенными сообществами нет ни трибунала, заявляющего о приоритете тех или иных норм, ни превосходящей силы, способной заставить это право соблюдать и уважать.
Конечно, философы XVII и XVIII вв. не мыслили одинаково насчет того, что же такое естественное состояние отношений между суверенами. Если люди миролюбивы, если они стремятся жить в обществе, то действующее право для предгражданского состояния (то есть для отношений между суверенами) не будет отличаться ничем существенным от естественного права, имеющего свою традицию. Однако отсутствие гражданского состояния трибунала и полиции предполагало, что суверены в очень широкой степени сохраняли право поступать, как им заблагорассудится. Можно вспомнить знаменитое описание естественного состояния в двенадцатой главе первой книги гоббсовского “Левиафана”:
“Но даже если и никогда не было таких времен, когда отдельные индивиды находились бы в состоянии войны друг с другом, то во все времена короли и люди, обладающие суверенной властью испытывают, по причине своей независимости, постоянную зависть и находятся в состоянии и готовности гладиаторов: оружие каждого наведено на противника и глаза впились в его глаза; я хочу сказать, что их крепости укреплены, в них содержатся гарнизоны, а на границах их королевств установлены пушки; их шпионы неустанно следят за соседями; все это и есть поведение и позиция, как на войне”.
Гоббс примиряется с таким естественным состоянием в отношениях между государствами и заключает свое описание таким замечанием: “Но поскольку они тем самым сберегают и поддерживают ремесло своих под данных, то из такого состояния не возникает нишж 800 Раймон Арон • Мир и война между народами
Пракеиология
щета, которая обычно сопровождает свободу частных индивидов”.
Спиноза в третьей главе “Богословско-политического трактата” тоже подхватывает идею о том, что независимые города1 являются естественными противниками друг друга, как и обычные люди, пребывающие в естественном состоянии (§ 13). Право на войну принадлежит каждому городу. Спиноза не осуждает ни хитростей, ни злых умыслов1 2 в отношениях между городами. Он не усматривает никакого противоречия между естественным состоянием, воспринимаемым подобным образом, и “естественным желанием людей пребывать в гражданском состоянии”, из чего следует, что гражданское состояние не может быть когда-нибудь полностью упразднено (гл. VI, § 1).
Но и те философы, которые трактовали естественное состояние совсем иначе, чем Гоббс, все-таки признавали существенное различие между внутренним порядком городов и межгосударственным порядком. Во втором трактате “О гражданском управлении” Локк пишет:
“Люди, живущие вместе согласно требованиям разума и без всякой общей высшей власти на земле, которая могла бы решать их споры, — вот что такое, собственно говоря, естественное состояние. Но сила или предумышленное намерение использовать силу против чужого человека в условиях, когда нет никакой общей высшей власти на земле, к которой можно было бы обратиться за помощью, — это уже состояние войны; само отсутствие такой помощи дает человеку право на войну, чтобы отбить нападение. И, хотя он живет в обществе, тем не менее, нападающим может быть даже его согражданин”.
Локк концептуально разделяет исполнительную власть и власть федеративную3. Первая имеет задачей обеспечивать исполнение “муниципальных законов общества всеми его членами”; вторая — “обеспечивать безопасность и интересы членов общества вовне, в их отношениях с теми, кто может принести либо благо, либо зло”.
Фактически, добавляет Локк, эти власти перемешиваются между собой (они не могут не перемешиваться), но все же остаются разными по существу. Ибо власть устанавливать мир или вести войну, создавать лиги и альянсы “и ведать всеми отношениями с лицами и обществами, внешними для города, гораздо менее способна осуществляться, основываясь на позитивных законах, введенных ранее и остающихся в силе, поэтому она неизбежно должна быть доверена взвешенности и мудрости тех, кто эту власть вершит, так чтобы осуществление ее служило общественному 1 Понятие города употребляется у него в самом широком смысле. Город, как он полагает, это “политически организованная группа людей".
2 “Каждый из городов, связанных договором, сохраняет право заботиться о своих интересах, каждый, следовательно, старается, насколько это в его силах, освободиться от страха и вновь обрести чувство независимости, а также помешать тому, чтобы другой оказался более могущественным. Так что если какойнибудь город жалуется, что его обманули, то он может сетовать не на закон города, входящего в конфедерацию, а на собственную глупость. В результате город обращается с просьбой спасти его к другому независимому городу, для которого спасение города-государства есть высший закон” (§ 14). И еще более резко: “Если один суверен обещал нечто другому, но потом обстоятельства или рассудительность показали, что это повредило бы общему спасению подданных, он обязан отказаться отданного обещания" (§17).
3 Гл. XII, § 147.
Мири война между народами • Раймон Арон ж«. л
«в 801
Часть IV
благу”. Осторожность и мудрость, а не легализм — таковы должны быть основные ориентиры федеративной власти.
Отдает ли в этом пункте Локк дань Гоббсу и не подпадает ли под влияние последнего больше, чем ему самому хотелось бы в этом признаться?1 Это возможно, хотя и нельзя утверждать наверняка. Ибо следствия естественного состояния — или, если угодно отсутствия гражданского состояния — вынужден признать даже тот, кто отрицает естественную враждебность между отдельными лицами или коллективами. И в самом деле, при отсутствии судьи и полиции каждый должен быть готов защищать самого себя против другого, нерассудительного и бесцеремонного. А межгосударственный порядок, при отсутствии высшей инстанции в правовом и чисто практическом аспектах, оставляет за ответственными деятелями каждого сообщества возможность и задачу свободно определять меры, необходимые для законной обороны.
Современная тенденция отрицать естественное право или, по меньшей мере, отрицать его собственно юридический характер должна была бы, по всей видимости, побудить юристов подражать философам XVII в. и делать упор на том аспекте естественного состояния (отсутствие трибунала и полицейских сил), с которым имеют дело государства, и следовательно, подчеркивать разницу между внутренним порядком и порядком международным, даже отрицать, строго говоря, юридический характер того, что называют международным правом. Фактически же, по крайней мере до самого недавнего времени, большинство специалистов по международному праву рассуждали совсем иначе и всячески старались доказать, что международное право есть подлинное право, которое лишь по внешним, поверхностным логическим посылкам может внушить прямо противоположный вывод. Однако всякая теория, которая в качестве отправного пункта использует суверенитет государств и, так или иначе, привязывает этот суверенитет к понятию права, фактически лишает международное право части таких характеристик, которые, собственно, и делают его правом.
И если специалисты по международному праву часто не решались выводить из своих принципов такое заключение и низводить (или возвышать) международное право на уровень позитивной морали, признаваемой “цивилизованными обществами”, но лишенной четкого оформления, систематизации и строго обязательного характера именно как права, то я усматриваю в этом, по меньшей мере, три главных причинных основания.
Прежде всего, международное право — как в теории, так и на практике — рассматривалось и трактовалось юристами, получившими свою профессиональную подготовку на фоне изучения дисциплины внутреннего права. Поэтому международное право неизбежно принимало все больше и больше юридическую форму. Поскольку до 1914 г. европейские государства диктовали миру свои собственные концепции прав и сохраняли за собой свободу самим решать, какие человеческие общности заслуживают отношения к себе как к государствам и, следовательно, могут быть под защитой jus gentium, и поскольку в кон1 См.: Richard Сох. Locke on war and peace. Oxford, 1960.
ma 802 . . Раймон Арон • Мир и война между народами
це концов экономический либерализм ограничивал сферу государственного вмешательства и превращал в святыню частную собственость, то было бы и в самом деле парадоксально отрицать законный характер международного права, особенно когда оно, как никогда раньше, походило на внутреннее право. Как же можно отнести к позитивной морали тексты и комментарии, столь явно инспирированные юридическим духом?
Впрочем, какова бы ни была общая теория международного права, весьма значительная его часть вполне заслуживает того, чтобы именоваться правом в строгом смысле этого понятия. Совместное использование некоторых природных благ всеми, или, если это выразить иначе, никем (море); те виды отношений между государствами, которые стали необходимыми ввиду активности транснациональных компаний (которые в эпоху более раннего капитализма казались чуждыми для государств); привилегии и обязанности граждан одного государства, определенные для него в другом государстве, — все эти проблемы, вызванные к жизни сосуществованием на одной планете многих территориально-организованных коллективов, требовали постоянно совершенствуемой регламентации, подлежащей, как правило, исполнению и уважению. Юристы дискутировали по вопросу о том, что стоит над чем, внутреннее право над международным или наоборот. Фактически почти всегда международные трибуналы одерживали верх над национальным правом. Однако до тех пор пока различные законодательства принадлежали к одному и Праксиология
тому же виду и большинство норм международного права могло рассматриваться судьями в качестве составных частей права внутреннего, такие дискуссии и споры волновали не столько общественность, сколько специалистов1. Наконец, теория надгосударственного права и после 1918 г. лига Наций, казалось бы, открывали путь, следуя по которому можно было бы в конечном итоге преодолеть общепризнанное несовершенство международного права. Утверждалось, что последнее пребывает на стадии так называемых примитивных обществ, без высшей инстанции, чтобы можно было говорить о праве, без монополии этой инстанции на безоговорочное принуждение. Тот же самый прогресс, который привел к возникновению в государствах системы юрисдикции и полицейской организации, должен якобы способствовать постепенно, шаг за шагом расцвету легализма в межгосударственном порядке.
Ничто не оправдывало такого оптимизма ни в плане фактов, ни в плане теории. В практическом отношении совершенно очевидно, что применение силы против какого-либо государства станет подобным применению силы внутри государств лишь тогда, когда ни одно государство больше не станет располагать материальными средствами, могущими противостоять и противодействовать “международной полиции”. А без этого всякая полицейская акция ничем не отличается от войны, как это было например в Корее, и рискует завершиться не наказанием виновного, а компромиссом, осторожным, но мало соответствующим духу и смыслу санкции.
1 См.: Corbett Р.Е. Law and society in the relations of States. New York, Harcourt and Brace, 1951, p. 43.
Мир и война между народами • Раймон Арон .. . ■ . .. . л 803 ......
Часть IV
Что же касается теории, то так называемый примитивный, или первобытный, характер международного права выглядит тем более разоблачающе, что речь то идет о праве так называемых цивилизованных государств. Ведь они, вопреки словесной суверенности закона, о чем говаривали в разное время разные министры, никогда не прекращали действовать так, как будто они заранее не признают власть и авторитет трибуналов. ГЪсударства подписывают договор об обязательном арбитраже. Но они тотчас добавляют, что арбитраж не распространяется на сферу действия внутреннего права и что определять, что относится, а что не относится к последнему, тоже будут они сами (это означает просто-напросто своевольный выбор обстоятельств, при которых действует или не действует обязательство). Если же они снимают первую оговорку, они тотчас заменяют ее, проводя различие между спорами, подлежащими юридическому урегулированию через трибунал или арбитра, и спорами, которые ничему этому не подлежат. Такое различие — и об этом часто говорится и пишется1 — двусмысленно. Но оно имеет, по крайней мере, вполне ясное двуединое политическое значение. Государства никогда не соглашались и не соглашаются безоговорочно представлять на рассмотрение арбитра или трибунала вопросы, которые, как они сами считают, имеют для них жизненно важный интерес. Споры, могущие вызвать войну, немедленно именуются политическими и тем самым не подпадают ни под какие юридические процедуры. Далее, государства не желают связывать себя существующим и действующим правом, потому что при некоторых обстоятельствах договоры и соглашения могут оказаться или показаться несправедливыми. И государства не решаются довериться судьям, которые впрочем и сами опасаются брать на себя бремя выносить судебное решение, основанное на справедливости. Такой двойной отказ есть выражение стремления к автономии; он предполагает наличие элемента международной анархии. Осуждать ли его или не осуждать, все равно он был и остается неотъемлемой частью своеобразия отношений между государствами. Он логически ведет к тому, что смущает и возмущает умы, настроенные на стройно-геометрический лад, — к получению войной своего статута в международном праве.
Война не есть явление незаконное, каковым бывает революция. Можно сказать, что “обращение к войне никогда не было ни законным, ни незаконным; международное право страдало своего рода помрачнением в момент, когда делался выбор между миром и войной”1 2. Или еще; “То, что во внутреннем порядке представляет собой «законную революцию», приобретает в международном праве вид некоего законного псевдосоглашения, имеющего результатом, через посредство принципа эффективности, выведение на передний план возможности международного представительства. В таких случаях во внутренней системе законности происходит разрыв, а в международной системе он 1 Lauterpacht H. The function of law in the international community. Oxford, 1953.
2 Stone J. Legal control of international conflicts. London, 1954, p. 297.
804
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
не происходит: она просто продолжает функционировать”1.
До тех пор, пока война будет считаться законной и пока к ней будут относиться терпимо, будет оставаться бесспорным, что “обычное международное право отличается от внутреннего права, по меньшей мере, в одном: оно предполагает свое собственное разрушение посредством простого применения силы одним из своих же субъектов. И вот таким окольным путем терпимого отношения к войне, к месту, отводимому военным и воинственным решениям, к рангу завоеваний, считающемуся высоким, и к договорам, которые навязываются побежденным, но расцениваются как правомерные и действующие, можно прийти к одному-единственному государству, которое установило бы свою законную власть над всеми другими”1 2.
4. Война межгосударственная и война внутригосударственная
Межгосударственные отношения складываются из различных видов социального поведения: дипломаты и военные не третируют своих противников — за исключением крайних случаев, когда “дикарей” не считают за людей, а относятся к ним как к предметам, которые можно использовать по своему усмотрению, или как к животным, которых можно убивать, когда угодно. Дипломатическо-стратегическое поведение социально в двойном смысле: оно принимает в расчет реагирование того, на кого воздействует: оно всегда ориентировано так, чтобы найти себе то или иное оправдание, допуская и признавая тем самым силу и значимость ценностей или правил. А между тем, как мы уже видели, международному праву даже в относительно высокоразвитых цивилизациях, всегда присуще существеннейшее несовершенство: ввиду отсутствия инстанции, уполномоченной его интерпретировать, оно рискует распасться на столько же систем, сколько имеется государств, интерпретирующих его; а ввиду отсутствия достаточно мощной силы, находящейся на службе закона, каждый субъект сохраняет за собой фактическое право самому определять и защищать свои интересы. Почему же существует такое коренное, фундаментальное несовершенство?
Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, попробуем выделить различные категории, на которые по сути подразделяются разногласия и споры между государствами. Оставим на время в стороне концепции метафизического звучания, такие, как концепция суверенитета. Ограничимся тем, что возьмем в качестве исходного пункта тот бесспорный факт, что люди не подчиняются одним и тем же законам на любом конце планеты. Имеются разные системы законности, и каждая существует на каком-то фрагменте пространства для того или иного населения. Во-первых, определенная категория споров выступает как результат возможного противоречия между территориальными и национальными аспектами права. Какие обязанности государство вправе наложить на живущих на его территории граждан другого государства? В какой степени государство может лишить 1 Stone J. Problems confronting sociological enquiries concerning international law. Académie de droit international. Recueil des cours 1956. t. LXXXIX, Leyden, 1957, p. 133 (73).
2 Ibid., p. 132 (72).
Мир и война между народами • Раймон Арон - - . 805 ~
Часть IV
граждан другого государства их имущества и свободы, применяя свое собственное законодательство, даже если оно идет вразрез с обычаями, считающимися признаками цивилизованности?
Во-вторых, государства поддерживают отношения друг с другом не только через посредство своих граждан, посещающих другие страны, но также и через некую международную общественную сферу, — сегодня это может быть связь морским путем, а завтра путем использования воздушного пространства, — выходящую за пределы определенной суверенности, пока еще не установленной. Некоторые водные пути, проходящие по территории одного государства, нужны другим, и пользование ими гарантируется всем или некоторым государствам международными соглашениями и конвенциями, в связи с чем могут возникать конфликты либо из-за противоречивых толкований этих конвенций, либо просто-напросто из-за нарушения их государством, которое физически в состоянии так поступить. Например, египетское правительство наносит большой ущерб Израилю, запрещая судам под израильским флагом проходить через Суэцкий канал. Идет ли тут речь о конфликте, связанном с толкованием (между Египтом и Израилем существует состояние войны) или же о нарушении статута? Юристы об этом спорят, но чаще всего придерживаются второй части этой альтернативы.
В-третьих, следует иметь в виду то обстоятельство, что государства поддерживают взаимные отношения потому, что экономическая жизнь становится все больше и больше транснациональной. Идет обмен товарами через границы при посредничестве и с помощью административных учреждений государств или частных экспортных и импортных компаний. Каждое государство имеет безусловное право ограничивать свой обмен с внешним миром вообще или с какими-то отдельными государствами; точно так же оно вполне законно может запретить покупку или продажу того или иного товара, однако внезапный и скоординированный отказ нескольких государств вести торговые дела с каким-то одним государством равнозначен своего рода агрессии. Блокада Югославии государствами советского блока дает нам пример ссоры и распри именно этой третьей категории1.
В-четвертых, государства могут пресекать или, наоборот, поощрять деятельность на своей территории, направленную на свержение режима или правительства в соседнем государстве. Убийство в Сараево послужило поводом к первой мировой войне, оно было подготовлено в Сербии, и сербское правительство обвинялось в том, что знало об этой подготовке или даже, быть может, само организовало убийство. Формирование или пребывание вооруженных групп, собирающихся вести партизанскую войну на территории соседнего государства, причислялось в межвоенный период к актам агрессии.
Наконец, государства находятся в определенных отношениях, а в некоторых условиях и в конфликте по поводу первостепенного предмета международного права — раздела пространства. Они могут не быть в согласии относительно владения каким-либо пространством — безлюдным или полубезлюдным, — жители которого или завоева-
1 Блокада Кубы может послужить другим примером.
806
Раймон Арон • Мир и война между народами
тели не признаются членами правового сообщества цивилизованных государств “субъектами права”. Больше того, они могут ссориться и конфликтовать между собой по поводу установления и демаркации границ, выдвигая альтернативно или поочередно стратегические аргументы (естественные границы) или аргументы моральные (право народов на самоопределение).
Такая классификация явно охватывает большинство международных споров и разногласий, если не всю их совокупность. Если расположить их в порядке, обратом только что изложенному, то споры касаются прежде всего раздела пространства, то есть, тем самым, содержательной стороны какого бы то ни было государственного порядка. Далее, они являются результатом враждебности, политической или экономической, проявляемой государством на своей собственной территории по отношению к соседям, когда оно либо организует против них подрывную деятельность, либо прекращает нормальную торговлю, либо пренебрегает законными интересами других, единолично пользуясь тем, что считается принадлежащим всем государствам. Наконец, споры и распри вызываются той манерой, в какой государство обращается с имуществом иностранных граждан и с ними самими.
Споры, касающиеся имущества и людей, чаще всего решаются полюбовно или с помощью юридических процедур, когда государства придерживаются одинаковых в этом отношении принципов. Если же такого юридического сообщества не существует, но какое-нибудь государство (или группа государств) выступает как более сильное, оно зачастую навязывает свои принципы. Именно так поступали европейские державы Праксиология
в конце прошлого и начале нынешнего века, когда они посылали канонерки, чтобы заставить платить долги страны, уклоняющиеся от платежей, или когда они учреждали на территории неевропейских стран свои таможни и свои суды. Если законодательства конфликтующих между собой государств исходят из несовместимых идеалов и принципов и ни одно из них не имеет ни силы, ни воли принудить другое, остается лишь пойти на дипломатический компромисс или предоставить каждому свободу действовать по своему усмотрению, но только на своей территории. Соединенные Штаты ничего не могут сделать для американских журналистов, осужденных в Чехословакии или Советском Союзе за деяния, которые там квалифицируются как шпионаж, а по другую сторону железного занавеса считались вполне законными. Фидель Кастро не намерен “справедливо” возместить убытки американских фирм и частных лиц точно так же, как Советский Союз был не намерен компенсировать потери держателей русских ценных бумаг. Законное регулирование споров такого рода обусловлено, скорее, сближением законодательств, чем прогрессом международного права; оно требует юридическо-моральной однородности международной системы. А между тем мы знаем, что последняя, распространяясь на все человечество, стала более разнородной, чем была некогда на европейском континенте.
Споры и разногласия второй категории чаще всего могут быть представлены на рассмотрение и решение арбитра или трибунала. Они редко затрагивают существенные интересы государств. Но они становятся серьезными, когда через них обнаруживает себя скрыМир и война между народами • Раймон Арон
? 807 *' *
Часть IV
тая враждебность или когда поведение одного государства, сочтенное незаконным другим государством, выражает собой игнорирование права, потому что соответствует военной необходимости (или псевдонеобходимости). Таков, к примеру, случай с нарушением воздушного пространства Советского Союза разведывательным самолетом У-2. И конечно же, национальная щепетильность иногда превращала в международные кризисы обыкновенные морские инциденты, что было связано с произвольным толкованием свободы плавания или ширины полосы территориальных вод. Теперь государства поубавили в этом отношении свою мнительность и щепетильность, потому что стало опасным обращение к оружию. Если завтра поводы для серьезных распрей будет давать космическое пространство, то это произойдет не потому что государства заботятся о своей чести и достоинстве, а потому, что они хотят использовать орбитальные спутники в военных целях.
Практика экономической враждебности — неоправданный и логически необъяснимый отказ продавать или покупать — фактически тесно связана с политическими конфликтами и представляет собой скорее выражение последних, чем их причину. В межвоенный период было распространено смутное опасение, что некоторым государствам будет закрыт “доступ к сырью”. Так же смутно намекали на две возможности организовать такую ситуацию: то или иное государство не будет иметь валюты для закупок сырья, или же продавцы сырья окажутся в состоянии запретить приобретение его некоторыми странами. Отзвук подобных опасений можно заметить в Атлантической хартии. Быть может, когда запасы сырья начнут истощаться, владельцы последних залежей или залежей богатых смогут шантажировать другие страны. А пока что известны случаи, когда международные картели “эксплуатировали” потребителей. Тем не менее столь неприглядная практика, которая, кстати сказать, не раз наблюдалась внутри государств, не лежала и не лежит в основе конфликтов, решаемых силой оружия.
Теперь мы подходим к тем высшим видам соперничества, где предмет и причина вражды связаны с определением территориальных границ и самим характером режима тех или иных политических сообществ. Конфликты здесь таковы, что, например, Прудон отказывался связывать их со всяким иным правом1 , кроме права силы. Будучи в некоторых отношениях подобными тем, которые раздирают политические сообщества изнутри, они приобретают в межгосударственном аспекте совсем иное значение.
Сравнение собственности с суверенитетом уже стало банальностью. Говорится, что коллектив владеет землей, как крестьянин владеет пахотным полем. Вполне понятно, что на заре исторических времен какое-нибудь племя, присваивая себе участок, чтобы пасти скот или выращивать злаки, тем самым создавало и свою собственность и свою территорию. Но с тех пор, как человеческие коллективы стали вести оседлый образ жизни и основная часть планеты оказалась заселенной, споры и распри очень редко касаются пустынных зе1 Правом субъективным, а не системой норм.
808 .л. Раймон Арон« Мир и война между народами
Праксиология
мель. Они имеют своим предметом включение какого-либо населения именно в это, а не в то государство, либо право населения создать собственное независимое государство. По самому своему определению такие конфликты, затрагивающие само существование “политического сообщества", радикально отличаются от конфликтов между партиями, классами или группами, не ставящими под вопрос само сообщество, к которому принадлежат.
Конечно, все государства утверждают, что они никогда не действуют без оправдания и ссылаются на исторические идеи, сравнимые с нравственными установками реформаторов законов, на идеи вроде “права народов на самоопределение“. Но самый этот пример иллюстрирует глубокое различие между этическими концепциями, способствующими прогрессу внутреннего законодательства, и историческими идеями, которым моралисты хотели бы подчинить поведение государств. На первый взгляд представляется бесспорным право каждого выбрать себе национальную (государственную) принадлежность. Но кто выбирает? И что выбирают? Является ли субъектом выбора население какой-нибудь провинции или население, говорящее на определенном языке? В какой момент должен остановиться процесс распада больших сообществ, к чему неминуемо ведет ничем не обусловленное применение права на самоопределение? Во что превратятся меньшинства, которые внутри “наилучшего из выбранных сообществ“ начнут высказываться и выступать против большинства? Тем не менее, мысль, заключенная в этих вопросах, не бесплодна. Она не помогает решать все споры, но она позволяет осудить насилие, творимое над некоторыми группами населения. Она, правда, не может быть переведена в точные и конкретные нормы подобно тому, как обрели юридическую форму отрицание рабства или отмена порядков королевского дореволюционного режима во Франции.
История дает нам примеры, пусть немногочисленные, мирной дезинтеграции национального или имперского государства. Швеция и Норвегия разделились так, что первая совершено не противилась воле к независимости второй. Сразу же после второй мировой войны Великобритания предоставила независимость Индии, Бирме и Цейлону. Обратные примеры более часты, даже в нашу эпоху, когда деколонизация отвечает интересам метрополий, если хорошенько понять эти интересы. Голландия примирилась с независимостью Индонезии лишь под воздействием мятежа этой страны и позиции Объединенных Наций (или Соединенных Штатов). Индо-китайская война длилась восемь лет. Алжирский мятеж начался осенью 1954 г. и в 1961 г. еще не завершился успехом. Лишь в битвах и боях националисты чаще всего доказывали свою способность сформироваться как нация, народ, государство. И если дезинтеграция империй редко бывает мирной, то национальная интеграция — идет ли речь о Великобритании, Германии, Франции или любой другой стране — вообще никогда не бывает мирной. Смена режимов (революция) всегда насильственная, независимо от количества пролитой крови.
Пацифисты грезят об истории, свободной от насилия, но они почему-то не думают о соотношениях и взаимодействиях революции и войны в мире, где взаимозависимость народов непрерывМир и война между народами • Раймон Арон 809
Часть! V
но растет. Мусульмане Алжира восстают против французского суверенитета над их страной, венгры восстают против коммунистического режима в том виде, как его практиковали Ракоши и его команда. Даже если рассуждать сугубо теоретически, какое может быть “юридическое урегулирование” мятежей и восстаний, которые всегда затрагивают интересы других государств, потому что успех мятежа сразу сказывается на всемирном соотношении сил и идеологий? Если же рассуждать в историческом ракурсе, то такие конфликты никогда не были и не могут быть представлены на рассмотрение трибунала, выносящего свой приговор по всем процедурным правилам и по критериям сопоставимым с критериями в гражданском и уголовном судопроизводстве. Теоретически мыслимы два способа уменьшить объем и размах насилия: либо изолировать от всего остального поле действия, театр мятежа, либо навязать обоим лагерям решение какой-то внешней, а следовательно, сверхнациональной власти.
В прошлом веке международное право однородной европейской системы косвенно предполагало рекомендацию метода изолирования, которое обеспечивалось в интересах межгосударственного сообщества и соблюдалось в более или менее обязательном порядке благодаря правилам невмешательства, имевшим характер обычного права. Во имя и от имени теории невмешательства критиковалась тогда американская практика непризнания правительств, пришедших к власти в результате государственного переворота. Тем не менее правительства, действительно обладающие властью на территории, находящейся под их суверенитетом, должны быть признаны, каково бы ни было их происхождение. Если же начнут задаваться вопросами о законности их происхождения, то где прекратится, где остановится зловещее смешение между, с одной стороны, признанием (то есть строго юридическим актом, который должен быть чисто декларативным, а не конституционным), а с другой, одобрением, идеологическим или нравственным?
Но, и мы это хорошо знаем, доктрина изоляции неприменима и не применяется, когда суверены — короли или коммунистические партии — объединяются против революционеров или против контрреволюционеров и когда каждый из блоков, на которые разделена международная система, считает себя обязанным, из опасения победы партии, преданной его противнику, так или иначе вмешиваться во все гражданские войны. В прошлом веке изоляция корректировалась, при некоторых обстоятельствах, согласованным вмешательством великих держав: международное сообщество диктовало решение, которое не всегда бывало справедливым, но зато восстанавливало мир. В нашей же разнородной системе государства редко приходят к взаимному согласию, либо чтобы воздерживаться от решения, либо, наоборот, чтобы принять решение, выработанное совместно и приемлемое для всех.
И все-таки, несмотря на трудности, создаваемые разнородностью системы и транснациональными идеологиями, государства не прекращают прибегать по каждому поводу к методу “изоляции” или к методу “совместного решения”. В 1936 г. ни фашистская Италия, ни третий рейх, ни даже демократические страны не соблюдали соглашений о невмешательстве, касающихся испанской гражданской войны (демократические
810 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
««.млжж-я^у
страны нарушали их в меньшей степени). Но, чтобы избежать интернационализации конфликта, они создали своего рода фасад невмешательства. Правители Народного Китая называя “добровольцами” дивизии своей регулярной армии, отправляемые в Корею, ясно выражали свое нежелание объявлять войну, которая могла бы завлечь воюющие стороны слишком далеко. “Добровольцы” вписывались в промежуточную формулу между соглашением о невмешательстве (которое нарушалось тайной отправкой материалов и людей) и официальной интернационализацией внутреннего конфликта, которая вынудила бы к военным действиям великие державы — как опекунов мятежников, так и опекунов законных властей. Все гражданские войны нашего времени заключают в себе в различной и меняющейся степени и “изоляцию”, и “интернационализацию”.
Вывод, по-моему, совершенно очевиден, но он множество раз как бы не замечался, а именно: невозможно даже вообразить себе ненасильственную дипломатию до тех пор, пока насилие не будет искоренено из межгосударственной политики. То, что происходит у одного из членов международного сообщества, внутри его страны, не может быть безразлично другим членам этого сообщества. Последние заявляют о своем безразличии, когда перемены режима и правительства не меняют существенно данную страну в качестве международного действующего лица и не нарушают правил игры, то есть когда система однородна. Но они не могут изображать безразличие, когда замена одного режима другим влечет за собой переход страны из одного лагеря в другой. В тот момент, когда половина государств не имеют ни режима законного (то есть признаваемого как законный большинством населения), ни режима стабильного, то есть гарантированного минимумом преемственности и собственной крепости и силы, внутренняя неустойчивость и шаткость равновесия умножают и усугубляют друг друга, и мир превращается в “холодную войну”.
В разнородной системе мир между государствами исключает молчаливое согласие суверенов, направленное против мятежников и еретиков, поскольку еретики одного блока являются ортодоксами другого. Такой мир требует, как минимум, взаимного воздержания, но оно, в свою очередь, как бы запрещено технической унификацией всего мира и всемирным предназначением, или притязанием, идеологий нашего века. Мирное сосуществование есть дипломатическое лицемерие, а реальный путь развитию международных отношений прокладывает “холодная война”. Да и как может быть иначе, если международное право, призванное регламентировать определенные виды социальных отношений, оказывается недостаточным, чтобы создать некий порядок, потому что само общество анархично?
5. Прогресс или упадок международого права
Надо ли делать отсюда вывод, что международное право переживает полосу прогресса или, напротив, упадка? Оба тезиса имеют своих сторонников среди разных авторов. Лично я должен признаться, что не замечаю прогресса, идет ли речь о транснациональном сообществе, международной системе или осознании всечеловеческой общности.
Мир и война между народами • Раймон Арон 811
Часть IV
Нынешние средства транспорта и коммуникаций абсолютно несравнимы с тем, что когда-либо было в прошлом. На Западе весьма значительно число лиц, путешествующих за границу. Никогда еще столько людей не посещали такое количество чужих государств. Никогда еще столько людей, даже не покидая своих стран, могли видеть, на малых и больших экранах, столько образов и картин самых различных уголков мира, в которых они не бывали или не побывают никогда. Однако было бы весьма и весьма иллюзорным расценивать как весомый критерий существования транснационального сообщества процент людей, выехавших или вылетевших за пределы своего отечества, число километров, преодоленных в среднем каким-то товаром, прежде чем он был потреблен, или статистику мировой торговли вообще, выраженную в тонно-километрах.
Прежде всего, даже принимая во внимание эти внешние и почти материальные признаки, не следует забывать о существовании немалого числа противоречащих этому феноменов и расходящихся линий эволюции. Транснациональное сообщество планетарно, и таковым оно не было еще никогда. Но, ввиду этого же самого его качества, интенсивность торговли, перемещения людей и товаров, которую можно считать очень большой в рамках маленькой Европы, довольно-таки слаба, например, между Дальним Востоком и Европой. В советской “вселенной” обмены через границы, практически недоступны для частных лиц. Они были и всегда оставались международными, а не транснациональными. По этой причине они менее свободны и более подчинены интересам государств, чем это было в век либерализма. Так называемые народно-демократические режимы полагают, что ограничение права граждан на заграничные поездки вполне соответствует принципам этих режимов. Границы государств, называющих себя пролетарскими, были опоясаны колючей проволокой и освещались по ночам прожекторами, как в концентрационных лагерях. Требуется всего-навсего какой-нибудь десяток часов, чтобы пролететь в реактивном самолете из Москвы в Вашингтон. Но какой процент советских граждан имел шанс получить разрешение на такой полет?
Становление и расцвет транснационального сообщества, возможные благодаря накопленным материальным средствам и передовой технологии, ограничиваются разнородностью системы. Такая разнородность разрывает единство человеческого ансамбля. Она не позволяет индивидам даже осознать это. Низшая форма солидарности предполагает взаимодействие: то, что происходит в одной точке системы, находит отзвук во всех других точках, и в этом смысле все или почти все политические сообщества солидарны. Высшая форма солидарности, стоящая над простым взаимодействием, есть саморегуляция и единообразная квалификация всеми членами системы того или иного события. Ни одна из этих двух разновидностей не присутствует в нынешней системе.
Однородная многополюсная система обладает некоторой способностью саморегулироваться: из боязни установления всеобщей монархии основные действующие лица имеют тенденцию ограничивать свои амбиции, щадить друг друга в день, когда сводятся счета и заменять ослабевшее или исчезнувшее дей812 Раймон Арон • Мир и война между народами
ствующее лицо другим действующим лицом. Но как раз эта последняя формула обнаруживает весьма тесные пределы саморегуляции: ни одно действующее лицо не может на нее рассчитывать в долгосрочной перспективе в целях сохранения своего собственного существования. Польша была стерта с карты Европы, и при этом европейская система совершенно не была разрушена и даже не пострадала. Но и такая ограниченная саморегуляция зависит от фортуны и поворотов какой-нибудь большой войны или от быстрого роста ресурсов у одного из главных действующих лиц.
Разнородная двухполюсная система, в которой участвует много нестабильных государств, совсем не способна к саморегуляции. Каждая из основных действующих институций, то есть каждый блок, знает, что, если у него не будет средств защищать себя, соперник не пощадит его. Державы не имеют общей заинтересованности в поддержании приблизительного равновесия, установившегося между ними, они стараются, каждая ради самой себя, любой ценой помешать противнику получить превосходство в силах.
Сегодня в еще меньшей степени, чем вчера, какое-нибудь событие получает на всей планете одинаковую оценку, неважно — справедливую или нет, благоприятствующую или неблагоприятствующую свободе, но одинаковую. Конечно, люди реагируют на природную катастрофу как на беду, постигшую человечество и в целом, и в лице каждого человека. Наводнение или голод в Китае, как мне кажется, не вызывает чувства удовлетворения даже в сердцах самых страстных антикоммунистов. Точно так же я не думаю, чтобы самые фанатичные коммунисты радовались бы Праксиология
прорыву плотины, построенной капиталистами. Но как же редки и слабы эти общечеловеческие чувства в сравнении с чувствами национальными и идеологическими, которые объединяют народы или блоки, но разъединяют человечество!
Я убежден также в том, что подобные чувства очень часто бывают внутренне противоречивыми. Порою гражданин или государственный деятель радуется успеху другой страны из другого блока невзирая на всякую дипломатическую целесообразность. Первый советский космонавт приветствовался как европейский первопроходец в космосе главой государства, который, во множестве других обстоятельств, с блеском и шумом проявлял свою атлантическую ортодоксию. А восторженное отношение британского народа к все тому же советскому герою объяснялось, вероятно, примесью некоего злорадства по отношению к другому англоязычному народу. Даже то, что эти народные эмоции совсем не всегда и не во всем находились в соответствии с дипломатической игрой, не делало их всецело и чисто человечными. Достаточно побывать на встрече национальных спортивных команд, чтобы увидеть, что фактор простой принадлежности индивида к той или другой команде могуч, а фактор самого вида спорта и его правил весьма слаб.
Никогда ни в одной ограниченной системе, будь то система древнегреческих городов, христианского сообщества или европейского союза, общие ценности и интересы не определяли поведения действующих лиц в серьезных обстоятельствах. В мирное время както еще срабатывает полусознание принадлежности к одной цивилизации, Мир и война между народами • Раймон Арон 813
Часть IV
чтобы решать второстепенные проблемы. Но оно исчезает под воздействием страстей, когда раздаются призывы к вооружению.
В сегодняшней общепланетной системе общество имеет больше мотивов раздираться на части и меньше оснований и доводов действовать как единое целое. Каждая из сверхдержав старается убедить своих союзников, а также представителей неприсоединившихся стран, что ее режим восхитителен, а в другой сверхдержаве отвратителен, как и его идеология. Свободные выборы с участием многочисленных партий есть лишь камуфляж тирании монополистов — так утверждает московская пропаганда. Диктатура пролетариата и выборы при 99% участвующих и голосующих “за” есть лишь прикрытие деспотизма одной-единственной партии — таков мотив пропаганды вашингтонской. Коммуникация между народами блокируется взаимно противоречивыми толкованиями, которые включаются и в сам обмен информацией, и все это при том, что средства передачи информации, по объему и скорости, совершенно несопоставимы со средствами прошлого. Ни с какой стороны и ни в каком отношении нельзя считать правдой утверждение, что члены транснационального или интернационального сообщества стремятся к тому, чтобы человечество было единымв той же степени, что и национальные сообщества. Быть может, государственные деятели опасаются и исходят из того, что человечества вообще больше не будет, что оно исчезнет в результате апокалиптической катастрофы. Они не представляют себе человеческого единства в качестве реальности или в качестве идеала, зато именно так они мыслят по поводу процветания, экспансии, славы народа, блока, идеологии. Боязнь войны заставляет возможные воюющие стороны проявлять сдержанность, но она недостаточна, чтобы примирить их между собой.
Если таковы социальные отношения, на которые распространяется международное право, то каким же чудом оно, это право, может считаться идущим по пути прогресса?
Пожалуй, единственное, что я признаю и допускаю, это то, что международные соглашения и конвенции становятся все более многочисленными, что область межгосударственных правовых отношений становится все более обширной, что все большее число государств соблюдают соответствующие нормы применительно ко все большему числу случаев и обстоятельств. Я не уверен, что все это сущая правда, но даже если это и так, то в самом главном никаких перемен все же не произошло. О международном праве нельзя судить по спокойным периодам и второстепенным проблемам. Было бы тщетно искать в нем признаки и симптомы прогресса, когда разражаются кризисы, то есть международные конфликты. Если целью его является мир посредством закона, то мы по-прежнему и всегда далеки от цели. Если же целью выступает лишь ограничение войны, законной для каждой из воюющих сторон, то мы сегодня еще дальше от цели, чем в любой другой период со времени окончания религиозных войн.
Международное право, ставшее правом общепланетной системы, тем не менее остается по преимуществу jus europeum, европейским правом. Его применение сначала ограничивалось христианскими странами, потом евро814
. ■ Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
пейскими; оно распространилось затем на так называемые цивилизованные страны и народы, а потом и на миролюбивые. Теперь и отныне “суверенное равенство”, бывшее не так давно уделом привилегированных, то есть великих держав международного сообщества с центром в Европе, безусловно, хотя и формально, предоставлено всем государствам, малым и большим, появившимся в результате распада колониальных империй. Оно обязывает государства, взявшие на себя ответственность за судьбу “неавтономого населения, действовать в целях благополучия и развития этого населения”. Кончились времена, когда депутат Палаты общин мог заявить без тени стыда и смущения, что Англия не стремится ни к чему другому, кроме как получать выгоду от своего управления Индией. Идеология долга богатых и цивилизованных народов перед народами, которые еще не вышли на уровень современной цивилизации, есть нечто большее, нежели простой жест порока в адрес добродетели; она выражает собой осознание исторического факта — расширения до общепланетных масштабов межгосударственной системы.
Однако ничто, сверх и помимо этих фактов, не возвещает о прогрессе по важнейшим пунктам и проблемам. Чтобы возникло и восторжествовало царство закона, нужно, чтобы государства отказались отстаивать свои интересы исключительно самостоятельно и чтобы граждане и правители считали похвальным, с нравственной точки зрения, подчинение государств решению беспристрастного судьи. А между тем г-н Хрущев заявил, что он без всяких колебаний воспротивится решению, единогласно принятому Объединенными Нациями, если оно будет противоречить интересам Советского Союза. Соединенные Штаты, вопреки своей привязанности к идеологии мира посредством права, все-таки никак не хотят, чтобы ктото другой, а не они сами, определял, что относится, а что не относится к внутреннему праву.
Ныне стало меньше государств, способных решать свои споры с помощью шпаги, но большинство из тех, кто уже на это не способен, сожалеют об иссякшей мощи. Во Франции не было особого возмущения против бомбардировки Порт-Саида или операций вокруг Бизерты (в июле 1961 г.). В Великобритании широкая общественность была настроена менее враждебно, чем “партия интеллектуалов”, к сэру Антони Идену и суэцкой экспедиции. Если право не может и не должно слишком забегать вперед, пока не достигнуто общее и единое понимание соответствующих ему ценностей, то это значит, что еще не настало время, когда можно будет законным путем запрещать государствам единолично решать свои внешние дела.
Нельзя, конечно, сказать, что сегодня государства чаще нарушают кодекс хорошего международного поведения, чем они делали это вчера, но само существование такого кодекса менее заметно, чем когда бы то ни было. Государства стали реже объявлять войну друг другу, но многие виды практических действий, которые раньше требовали объявления войны по всей форме, теперь представляются вполне совместимыми с сохранением и поддержанием дипломатических отношений.
Вывод, который не следует делать из этих замечаний и наблюдений, состоял бы в том, что мир в наше время Мир и война между народами • Раймон Арон л 815: ^
Часть IV
зависит от прогресса в международном праве, и что этот прогресс может внести существенный вклад в дело обеспечения мира. Вполне можно вообразить себе некую Конституцию, имитирующую национальные конституции, с исполнительной властью (реформированный Совет Безопасности), законодательной властью (Ассамблея Объединенных Наций), трибуналом (Международный суд) и полицией (вооруженные силы, подчиненные исполнительной власти). Американскими правоведами был даже разработан подробный план такой Конституции1 . Как умственное упражнение он не лишен интереса. Но было бы неправомерно придавать слишком много значения этим усердным упражнениям. Соперничество в силе и мощи, противоречия интересов, несовместимость идеологий — все это факты и реальные факты. А поскольку факты — упрямая вещь. Совет Безопасности не будет иметь в своем распоряжении вооруженные силы, способные сломить любое сопротивление: великие державы не возьмут на себя обязательства подчиняться решениям большинства Ассамблеи (каков бы ни был способ представительства на этом собрании). Право вето есть символ, а не причина. Любая великая держава отвергнет любой приказ и не позволит принудить себя к чему бы то ни было.
Надо ли делать отсюда заключение, что мир посредством права есть ложная идея, противоречащая природе и характеру людей и обществ? Или же она представляет собой идею чистого разума, в кантовском понимании этого выражения, то есть идею, которая никогда не может быть полностью реализована, но которая вдохновляет на действия и указывает цель?
Всякое право представляет собой регламентацию социальной жизни, имеющую истоком обычай, оправдываемую и вдохновляемую концепцией и толкованием справедливого и несправедливого, укрепляемую систематическим оформлением норм и юрисдикционной системой, средства принуждения которой обеспечивают нормально соблюдение и уважение этого права. Такая регламентация в какой-то своей части есть производная от силы, созданной государством, режимом или Конституцией. Но внутри коллективов исходная роль силы чаще всего стерта, забыта, закамуфлирована; крайние формы неравенства исчезли или постепенно смягчились. Общие ценности объединили тех, кто когда-то были победителями и побежденными.
Из всех видов внутреннего права наиболее близким к этим корням, пропитанным насилием, всегда остается право конституционное. Поэтому именно его труднее всего пересматривать, ревизовать мирным путем, именно его действие чаще всего прерывается и прекращается путем обращения к оружию той или другой партии. Поэтому то право, которое должно обеспечивать мир между народами, походит на конституционное право более, чем на любое другое, ибо оно должно распределять власть, и даже богатство, между различными инстанциями международной организации.
1 Greenville Clark and Lois В. Sohn. Cambridge, Harvard U.P., 1958. Эта книга, названная “Мир через всемирный закон”, вышла и на французском языке: La Palx par la lol mondlale. Presses unlversltaires de France, 1961.
«да 816 u4* t Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Каковы же условия, при которых теоретически возможно функционирование Конституции международного сообщества? Мне представляется, что таких условий три. Чтобы государства согласились подчинить свое внешнее поведение господству закона, надо, чтобы сами правители покорились и подчинились подобной же дисциплине по отношению к народам. Было бы просто-напросто абсурдным воображать, будто коммунистические руководители, презирающие мажоритарный принцип и манипулирующие всеми и всякими выборами, вдруг или по какой-то привычке начнут уважать и выполнять решения, принятые большинством членов некоего международного парламента. Скажем лучше, подражая кантовскому языку, что прежде всего конституции хотя бы основных и ведущих государств, должны быть республиканскими, основанными на согласии граждан и на исполнении власти по строгим правилам и законным процедурам. Как только будет выполнено это первое условие, тотчас появятся шансы на реализацию второго. И тогда государства осознают свою родственность, система приобретет однородность, начнет существовать сначала интернациональное, а потом сверхнациональное сообщество, и именно оно, это сообщество, будет тщательно делать выбор, в случае какого-нибудь локального конфликта, между “изоляцией” и “навязанным решением”.
Тем не менее и это необходимое условие не окажется достаточным, если создание такого “интернационального сообщества” будет оставаться немыслимым без однородности государств, без родства идеалов, без взаимного подобия каждой из реализаций конституционной практики. Надо еще, чтобы государства сказали “Прощай, оружие!” и чтобы они без всякой тревоги и беспокойства согласились представлять на рассмотрение и решение трибунала свои споры даже в том случае, если последние будут иметь своим предметом распределение земель и богатства. Так возможно ли все-таки международное сообщество без гонки вооружений, без территориальных или идеологических конфликтов? Абстрактно говоря, да, но опять-таки при определенных и разнообразных условиях. Прекращение гонки вооружений требует не только того, чтобы государства перестали подозревать друг друга в черных замыслах; оно требует также, чтобы государства больше не уповали на силу, предназначенную для навязывания собственной воли другим. Стремление коллективов быть сильными и могучими должно исчезнуть или вернее, найти себе какое-нибудь другое применение. Что касается конфликтов экономического характера, — которые не были непосредственной или главной причиной войн в прошлом, и которыми наши утилитаристские умы объясняют войны в традиционных цивилизациях, — то в нашу эпоху они смягчились сами по себе: все современные общества с гораздо большим успехом могут развиваться интенсивным путем, чем путем экстенсивным и путем разного рода завоеваний.
Теперь соберем мысленно воедино результаты нашего анализа: однородная система; государства, ни в чем больше не подозревающие друг друга; восприятие одинаковых правовых и нравственных идеалов; смягчение экономико-демографических конфликтов. Кто же станет отрицать, что все человечество, умиротворенное законом, будет подобно национальным сообществам, Мир и война между народами • Раймон Арон
>< 'Лч 3^17
Часть IV
где состязательность индивидов и интересов в настоящие время не так уж часто перерастает в насилие? Но тот мир, в котором мы живем и в котором, по велению самого разума, торжество закона призвано обеспечивать иную жизнь, будет ли он по-прежнему разделен на государства или же человечество сумеет объединиться в планетарную федерацию, если не во всеобщую империю?
Должны ли мы, из любви к миру или из боязни войны, желать создания такой федерации или такой империи?
ГЛАВА XXIV
По ту сторону политики могущества: II. Мир в рамках империи
Если памятовать об исторических прецедентах, то исходом нынешнего кризиса должна быть всеобщая империя. Каждая из империй, претендовавших на всеобщность, объединяла определенную цивилизационную зону и пресекала конфликты соперничающих суверенитетов. Рассуждая по аналогии, приходишь к мысли, что всеобщая империя во второй половине XX в. должна охватывать все человечество.
Мы не принимали, но и не отвергали такой ход рассуждений, когда рассматривали широкие перспективы, которые открыл нам Тойнби. Ибо нынешняя ситуация столь же разительно отлична от прежних, сколь бывает разительным и сходство.
Прежде всего, войны нашего столетия как бы предназначили к имперскому единству скорее не все человечество, а только Северное полушарие. Национальное чувство настолько сильно, что никакой imperium не признает себя таковым. Достаточно русской и американской армиям убраться восвояси — одна за свою границу, другая за океан, — и каждое из европейских государств постарается вернуть свою автономию. А то, что верно для Европы, еще более верно вне Европы. ГЬсударства, которые недавно родились или обрели независимость, очень ревниво относятся к полученному достоянию. Идеологический конфликт ограничивает связи между народами по обе стороны железного занавеса и отводит умонастроения в сторону от общей заинтересованности в ансамбле международного сообщества. Если Москва уже испытывает множество трудностей в деле поддержания слитности и сплоченности своего блока в Европе, то что же получится, если такой блок распространится на все Северное полушарие или даже на оба полушария?
Мы собираемся здесь не предаваться спекулятивным рассуждениям насчет шансов на имперское объединение, а проанализировать требования, необходимые для обеспечения мира в рамках империи, как мы проанализировали в предыдущей главе такие же требования в рамках права. Разница между обоими отправными пунктами такова: теоретики мира посредством права берут в качестве данного и непреложного постулата множественность государств и задаются вопросом: как подчинить их гос818
Раймон Арон • Мир и война между народами
подству закона?; теоретики мира посредством империи констатируют, что множественность государств всегда заключает в себе риск войны, и задаются вопросом: как преодолеть и упразднить суверенитеты?
1. Двусмысленности суверенитета
До сих пор мы в разных местах книги использовали понятие суверенитета, не давая ему строгого определения, поскольку оно служило нам для обозначения первичного, изначального факта, приведшего к созданию международной системы. Этот факт исторически бесспорен и однозначен: политические сообщества, находящиеся в состязательных отношениях, считают себя и хотят быть судьями последней инстанции в отстаивании своих интересов и в своих действиях. Однако вокруг концепции суверенитета наработано столько теорий, правовых и философских, а идеал передачи суверенитетов какой-либо общей инстанции настолько распространен, что никак нельзя пройти мимо споров между различными школами.
Суверенитет может рассматриваться как основание одновременного и внутригосударственного, и межгосударственного порядка. Государство суверенно в том смысле, что на его территории — при всех необходимых оговорках, касающихся правил, идущих от обычая и обязательных для всех “цивилизованных государств”, а также обязательств по тем или иным соглашениям и договорам, — действует система законов, которые оно издает и с которыми ассоциирует себя, как последняя и высшая инстанция. Однако такая система Праксиология
действует на ограниченном пространстве и распространяется на людей определенной национальной (государственной) принадлежности. Если, следовательно, суверенитет абсолютен, то внутригосударственный порядок и порядок межгосударственный суть вещи коренным образом разные, ибо первый предполагает, а второй исключает подчинение одной-единственной власти.
Правоведы, философы, теоретики международных отношений делают сегодня упор на историческом характере доктрины суверенитета. С XVI по XVIII вв. мыслители изыскивали некую ничем не обусловленную власть, такую власть, которая не подчиняется никакой земной силе и мощи, никакому человеческому закону; они задавались вопросами, где такая власть пребывает, как и чем она оправдывает свое наличие и свою необходимость. Христианская “вселенная” распадалась. Доктринеры разрабатывали идеологию исторического движения, целью и конечным пунктом которого были абсолютные монархии и национальные государства. Абсолютный суверенитет отвечал амбициям королей, желавших освободиться от ограничений, которые навязывали им церковь и империя — эти пережитки средневековья. В то же время он позволял обрекать на исчезновение привилегии промежуточных сословий и институций — феодальных сеньоров, провинций, городов, корпораций, — привилегии, переставшие быть обоснованными и оправданными, поскольку воля суверена становилась единственным источником прав и обязанностей.
Правоведы нашего времени, разрабатывая “имплицитно нормативные” теории, охотно обращаются к концепции суверенитета, и при этом они либо Мир и война между народами • Раймон Арон
819
Часть IV
не усматривают разницы между правовым и государственным порядком, как это делают Кельзен и его последователи, либо, напротив, эту разницу видят, но все равно включают государственный порядок в качестве одного из секторов в правовой порядок, становящийся тем самым более широким. В первом случае концепция суверенитета вообще ни на что не работает и бесполезна, поскольку в чистой теории она не имеет иного смысла, кроме как функционирование, на данном пространстве, определенной системы норм. Во втором случае она даже вредна, поскольку предполагает, что юридические императивы извлекают свою обязательную силу из воли государственных властей и что всякий законный порядок есть порядок командования и управления. Зато теоретики-реалисты в области внешней политики склонны обращаться к концепции суверенитета ради того, чтобы прямо напомнить, что каждое политическое сообщество занимается законотворчеством для самого себя и не склоняется перед какой-либо внешней властью.
Так, Генри Дж. Моргентау квалифицирует суверенную власть как в высшей степени законотворческую и укрепляющую власть (highest law-giving and enforcing authority) и рассматривает ее в качестве в общем-то неделимой, а если она с кем-то и делится, то это означает, по его мнению, противоречие в самом определении, in adjecto, абсурд вроде квадратного круга. В одном и том же коллективе, политически организованном, не может быть двух суверенов, как не может быть двух главнокомандующих во главе армии. Даже в демократических режимах, несмотря на всякие внешние признаки демократизма существует, суверенная власть. “Поскольку в условиях демократии эта ответственность остается в нормальное время в тени и едва видима сквозь сетку разных конституционных урегулирований и норм закона, то очень часто думают, что она вообще не существует и что высшая власть — та, которая формулирует законы и заставляет их исполнять, принадлежавшая некогда одному человеку, монарху, — теперь распределена между различными скоординированными инстанциями правления и управления, так что ни одна из них не является высшей”1. Но это иллюзия. В тщетном усилии сделать из демократии правление законов, а не людей, реформаторы забыли, что во всяком государстве “должен быть человек или группа людей, которые берут на себя высшую ответственность — быть исполнителями йолитической власти”.
Суверенитет принадлежит власти одновременно легитимной и высшей. Поэтому поиск суверенитета есть, совокупно или альтернативно, поиск условий, при которых власть легитимна, и, так сказать, места, в котором она пребывает, то есть людей и институций. Первый вопрос представляет собой, на самом высоком уровне, собственно философский вопрос. Это факт, что с ходом истории основание и расширение права повелевания и долга послушания претерпели глубокую трансформацию. В нашу эпоху, во всех современных обществах, правители провозглашают себя приверженцами демократической идеи, они не претендуют ни на “владение” территориями и народами, как это делали монархи, ни на то, чтобы иметь, по рождению или приобретая силой, единолич-
1 Morgenthau H.J. Politics among nations, p. 261.
„w,,- Раймон Арон» Мир и война между народами
Праксиология
-х<¥# «>х?х
ную власть отдавать приказы. Однако оба толкования демократической идеи — с одной стороны, воплощенное во множественности партий, выборах на соревновательной основе, конституционных установлениях и нормах, а с другой, в виде одной партии, называемой авангардом пролетариата, — восстанавливают и воспроизводят некую двойственность по факту и по “формулам”1. Лица, получившие большинство голосов на выборах и ставшие временными победителями в законном состязании партий, или члены Президиума (Политбюро), тоже временные победители в борьбе между группировками и отдельными лицами, — все они, те и другие, правят законно, если законность соответствует собственной формуле каждого режима. Ни демократическая или советская формула, ни даже демократическая идея не служат исчерпывающими ответами на вопрос о законности власти (к примеру, демократическая идея сама требует какой-то философии для своего обоснования). Но мы можем здесь не заходить дальше этих противоречивых формул и этой общей идеи.
Оставим в стороне данный аспект изысканий в области суверенитета, памятуя о том, что всякая философия легитимности оправдывает установление того или иного режима или господство тех или иных людей. Вместо этого посмотрим, как ведется поиск той инстанции, которая воплощает в себе власть, именуемую суверенной. Следует отметить, что и здесь поиск не ведет к однозначным и недвусмысленным результатам, ибо он наталкивается то на правовую власть, то на фактическую власть.
Понятие, обозначаемое выражением “суверенитет народа”, относится не к действительному обладателю власти, а к некой совокупности людских масс; отсюда исходит, в зависимости от логики формирования власти, либо власть законов, либо власть правителей. На уровне, более близком к действительности, говорят, например, о суверенитете Верховного суда в Соединенных Штатах, потому что в случае конфликта между гражданином и нижестоящими судами или между федеральным правительством и одним из пятидесяти штатов решающее слово принадлежит не президенту, не министрам и не народным избранникам, а судьям Верховного суда. Суверенитет этих судей связан с приматом Конституции, а сама она была принята по первоначальной воле штатов, решивших объединиться в федерацию. Но Верховный суд США нельзя назвать суверенным в том смысле, в каком были суверенны монархи при абсолютистских режимах. Он не осуществляет ни исполнительной ни федеративной власти, если воспользоваться терминологией Локка. Поэтому мне представляется малоудачным использовать понятие суверенитета для обозначения центра или очага действительной власти, потому что последняя фактически разделена.
То обстоятельство, или предположение, что во всех царствах, как пишет Г. Дж. Моргентау, имеется “человек или группа людей, которые берут на себя высшую ответственность быть исполнителями власти”, действительно содержит долю правды, если рассматривать этот тезис как относящийся к социологической теории олигархи: в ко1 Мы проводим здесь различие между демократической идеей, располагающейся на самом высоком уровне абстрагирования, и формулой, которая гораздо ближе к реальности и оправдывает либо множественность партий, либо наличие одной партии.
Мир и война между народами • Раймон Арон 821
Часть! V
нечном счете решения, затрагивающие судьбу всего коллектива, принимаются одним или несколькими людьми. Но если, вопреки общепринятому и привычному подходу, начнут приписывать этой “властной элите” суверенитет, то последний не может квалифицироваться ни как абсолютный, ни как неделимый.
Фактическое разделение власти, при любом конституционно-плюралистском режиме, есть одновременный результат текстов законов, обычаев и действий людей. Например, в Соединенных Штатах, когда дело касается мира или войны, инициатива принадлежит президенту, согласие или отказ (последний чаще всего невозможен, если боевые действия уже начались) — Конгрессу, но при этом Конституция — и по тексту, и на практике — не позволяет ни предвидеть, ни предусмотреть, какое воздействие будут оказывать на проведение внешней политики в тот или иной конкретный период личность президента, рекомендации его советников, действия различных групп поддержки или давления.
Таким же образом в Великобритании власть принадлежит больше кабинету министров, чем депутатам, но это до тех пор, пока премьер пользуется доверием сплоченного и дисциплинированного большинства в Палате общин. Обычай и практика там в общем всегда склоняли чашу весов в пользу кабинета, и не приходилось, в случае кризиса, прибегать к некоей высшей власти. В июне 1940 г. консервативная партия, даже имея большинство в парламенте, не могла и не хотела управлять страной без сотрудничества с лейбористской партией. Кому же в этом случае принадлежала роль высшей инстанции — Палате общин, королю, общественности,
■ЖИМ у-л Z- .у. м ■». Х-Х I.' » \~X-X X V -«К > SW«. X
политическому классу? И в Великобритании, и в Соединенных Штатах решают и действуют в период угрозы национальной безопасности президент (по ту сторону Атлантики) и кабинет (по ту сторону Ла-Манша), причем первый избирается согласно конституционной процедуре, а второй формально назначается королем, но в действительности — партией, имеющей большинство в парламенте; в спокойный период — политическим классом, а в час опасности — всем народом. “Один или несколько человек” — это те, кто исполняет то, что Локк назвал федеративной властью, то есть кто ведает и руководит отношениями коллектива с другими коллективами; при этом они совсем не обязательно должны идентифицироваться с теми, кто на бумаге, чисто формально, имеет “the supreme law-giving or law-enforcing authority” (высшие законодательные или исполнительные полномочия).
Но если формула абсолютного и неделимого суверенитета неправомерна по отношению к действительной власти внутри политических сообществ, то справедлива ли она по отношению к действующим лицам на международной сцене? По факту, совершенно бесспорно, что на каком-то данном пространстве и при самых обыкновенных условиях действует и имеет силу какая-то одна система норм, имеющая источником какую-то одну законотворческую инстанцию, созданную какой-то одной юрисдикционной организацией. По праву, внешний суверенитет означает то же самое, что означает независимость, но настойчивое подчеркивание и выведение на передний план суверенитета предполагает наличие некоей философии, отрицательно относящейся к примату международного права и положительно 822 .г.
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
к практике государств, которые сохраняют за собой свободу истолковывать свои обязательства и самим обеспечить собственную защиту.
На протяжении истории, в частности в прошлом веке, не раз возникали промежуточные состояния между независимостью и полным исчезновением суверенитета. Европейские государства “не признавали” человеческие сообщества на других континентах так, как они признавали друг друга. Принцип “суверенного равенства”, записанный впоследствии в Устав Организации Объединенных Наций, применялся тогда лишь к европейским странам, да и то по сути лишь к великим державам Европы. Это потом мы стали свидетелями распространения на все государства (даже на объединения, с трудом подходящие для того, чтобы называться государствами) первоначального конституционного принципа, который можно было бы именовать “европейским международным правом” (jus gentium europeum).
В прошлом веке европейские государства много раз отзывали своих граждан из межгосударственных трибуналов и поручали своим собственным чиновникам ведать финансами и таможнями государства, не платившего своих долгов, и даже заниматься внешними делами какого-нибудь государства, которому навязывали договор о протекторате. Во всех таких обстоятельствах неевропейское государство переставало быть на своей территории the supreme law-giving and law-enforcing authority. C какого момента такое государство теряло свой суверенитет? Никто не станет утверждать, что в 1953 г. Тунис и Марокко были суверенными государствами, но тем не менее они оставались государствами-субъектами международного права. Была ли суверенной Куба во весь тот период, когда поправка Платта, включенная в Гаванский договор 1901г. предоставила Соединенным Штатам “право вмешиваться в целях защиты кубинской независимости и поддержания правительства, способного обеспечивать жизнь, собственность и свободу личности?”1.
Вполне ясно, что ответ зависит от того, какой принят критерий суверенитета. Китай в прошлом веке, несмотря на “концессии” и управление таможнями иностранными чиновниками, сохранял за собой большую часть “федеративной власти” и продолжал вести внешние дела с помощью собственных чиновников. И напротив, Тунис и Марокко, при строгом выполнении договоров о протекторате, в связи с которыми их связь с другими странами осуществлялась лишь через посредство французского резидента, сохраняли почти всю свою внутреннюю автономию; власть, занимающаяся законотворчеством и обеспечением исполнения законов, была по существу тунисской и марокканской, а не французской.
Бесспорно, что некоторые территориально организованные общности по каким-либо причинам теряли, причем на продолжительное время, атрибуты суверенитета, а потом обретали их вновь или же теряли окончательно, интегрируясь в более обширный конгломерат. Тунис и Марокко вернули себе временно потерянные атрибуты; Швейцарские кантоны и американские штаты отказались от суверенитета. Неевропейские государства и полугосударства добились 1 См.: Morgenthau, op. cit. р. 251.
Мир и война между народами • Раймон Арон лжмл-**;*-.«ч; ш &.<• 823 «и»
Часть! V
отмены договоров, считавшихся неравноправными, и теперь могут свободно определять свое устройство, законодательство, внешнюю политику, объем и состав вооруженных сил, управление своими финансами (это, разумеется, не исключает того, что они, как и все другие государства, должны выполнять обязательства по международному праву, договорами, конвенциям, обычаям).
Все, по-видимому, происходит так, как если бы, с одной стороны, суверенитет, даже внешний, был фактически подвержен делимости, но, с другой стороны, само это деление, по крайней мере в наше время, неустойчиво и почти противоречиво. Поэтому в конце концов внешний суверенитет либо полностью реализуется, либо исчезает тоже полностью. Люди, претендующие быть представителями того или иного политического сообщества, — то есть некая человеческая группа, сознающая свое своеобразие и полная решимости добиться от других ее признания, — такие люди совершенно нормально и логично склонны требовать равенства в правах, то есть стремятся добиться прав, которыми располагают другие государства, чтобы иметь возможность “суверенно” регулировать дела, считающиеся внутренними.
Подытожим результаты нашего анализа. Понятие суверенитета, за пределами его строго юридического смысла (правомерность и законность какойлибо системы норм на определенном пространстве), служит либо оправданию внутри страны идеи (или формулы) правления, власти некоторых инстанций (суверенитет Верховного суда в Соединенных Штатах) или некоторых людей (суверенитет кабинета министров или Ассамблеи ООН)1, либо, напротив, сокрытию, маскировке власти людей путем выдвижения на передний план власти коллективного суверена (народа) или суверена безличностного (законов). Во внешнеполитическом аспекте суверенитет совпадает с отсутствием зависимости, но смысл этого отсутствия зависимости сам может давать повод для противоречивых толкований: если государства суверенны, надо ли говорить, что они не подчинены обязательствам по международному праву? А если они ему подчинены, можно ли говорить, что они суверенны, памятуя, что суверенность предполагает и означает высшую власть?
Стремясь избежать формальных затруднений, связанных с противоречием между теорией суверенитета (абсолютного) и теорией международного права (надгосударственного), одна из правоведческих школ хочет вообще упразднить понятие суверенитета. Лично я тоже охотно отказался бы от него, поскольку оно двусмысленно. Но юристы воображают, будто они упраздняют и факты, охватываемые этим понятием, тогда как на деле они упраздняют лишь слово. Совсем не достаточно соорудить теорию надгосударственного международного права, чтобы государства вдруг отказались от своих “субъективных прав”, которые они традиционно сохраняют за собой. Недостаточно заговорить о передаче суверенитетов, чтобы тут же так называемые сверхнациональные учреждения и механизмы заменили собой реальности и национальные власти.
1 Когда во времена IV Республики юристы говорили о парламентском суверенитете, они хотели осудить, а не оправдать такой суверенитет.
мм 824 яыйтжошшжпк Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
2. Суверенитет и его передача
Каково в настоящее время правовое и идеологические значения выражения “суверенное равенство” государств, использованное в Уставе ООН? Государства, согласно философии естественного права, всегда традиционно уподоблялись личностям, и без всякого Устава считались “равными” наподобие индивидуальных субъектов внутреннего права1.
Будучи перемещено в международную плоскость, такое понимание вдохновляло пацифизм Вильсона и Лиги Наций: пусть “коллективные личности”, то есть страны, будут свободными и равными, как граждане в демократических государствах, пусть страны будут подчиняться власти закона, как это делают граждане, и тогда воцарится мир, основанный на справедливости. Такое перемещение было, однако, иллюзорным, поскольку не существовало ни высшей инстанции, чтобы квалифицировать факты и поступки и интерпретировать закон, ни достаточно мощной силы, чтобы заставлять этот закон соблюдать, ни законодательной власти для пересмотра и уточнения закона, ни трибунала, чтобы выносить судебные решения по справедливости. Но, хотя пацифизм, который считался философией “свободных и равноправных” стран и народов, был трагически отброшен, тем не менее “суверенное равенство” выполнило, после второй мировой войны, историческую задачу: оно послужило обоснованием и оправданием признания официального равенства за всеми народами, отмены и аннулирования неравноправных договоров, мандатов, протекторатов — короче говоря, деколонизации. Выведя на свет и подчеркивая суверенное равенство государств, международное право влияло на ход разного рода событий, подобно тому как оказывает свое влияние общепринятая мораль, которая мало-помалу устраняет факты и деяния, находящиеся в противоречии с нею.
После того как сформировались новые государства и почти все страны вступили в ООН, правительства стали ссылаться на “суверенное равенство”, чтобы отклонять и отвергать вмешательство либо других государств, либо самой этой международной организации, которой не касается все, что традиционно относится к внутреннему праву. Меры, принимаемые тем или иным государством на своей территории по отношению к имуществу и лицам, независимо оттого, противоречат они или нет обычаям цивилизованных стран, остаются в исключительном ведении “суверенных государств”.
Зато эта же самая идеология сохранила в неприкосновенности различение между малыми и великими державами, или державами с ограниченными интересами и интересами всемирными, — различение, символизируемое правом вето, предоставленном пяти постоянным членам Совета Безопасности. Идеология “суверенного равенства” охотно используется малыми государ1 Равенство людей перед законом никогда не исключало фактического неравенства и даже неравенства “субъективных прав" в зависимости от распределения богатства и могущества. Никому не возбраняется пользоваться правами, являющимися, например, результатом собственности на заводы Ситроена, но владелец этих заводов, по наследству или путем законного приобретения, имеет фактически совсем другие “субъективные права", чем наемный рабочий, подметающий пол в заводских цехах.
Мир и война между народами • Раймон Арон 825
Часть IV
ствами, чтобы расширить сферу своей внутренней компетенции, но она ни малейшим образом не расшатывает привилегированного положения, на которое всегда претендовали великие державы.
Могут возразить, что за последнее десятилетие наблюдалась прямо противоположная эволюция: европейские государства согласились договорным путем передать свои суверенитеты в более высокую инстанцию, что открывает перспективу “федерального объединения” без обращения к насилию. Но каков статут, например, Общего рынка? Вот ответ правоведов, который мы можем взять в качестве исходного пункта для нашего анализа:
“Является ли Общий рынок суверенным образованием? В том смысле, что он осуществляет на территории, предусмотренной договором, исключительную и высшую власть, соответствующую некоторым важным правительственным функциям, вступает в отношения с государствами, ведущие к принятию обязательств, а также наднациональными образованиями, внешними по отношению к Общему рынку, и обладает некоторыми правами и иммунитетами, которые обычно рассматриваются как атрибуты суверенитета, — в этом смысле он, вне всякого сомнения, представляет собой суверенный институт. Если же, с другой стороны, считать, что суверенитет предполагает широкую территориальную юрисдикцию, то Общий рынок не суверенен. И хотя те сферы, которые подлежат его ведению, имеют величайшее значение, он остается прежде всего и скорее всего властью функциональной, а не территориальной” 1.
“Сверхнациональность”, если воспользоваться этим понятием, весьма ходовым в нынешних дискуссиях, характеризуется в европейских организациях тремя критериями: отказ от принципа единогласия; прямые связи между законодательной, или регламентирующей, властью Общего рынка, с одной стороны, и гражданами или предприятиями различных стран-членов с другой; и, наконец, соглашения, заключаемые Высшим органом или Комиссией с государствами-нечленами.
Отказ от права вето, то есть принятия правила простого или квалифицированного большинства, при определенных условиях и с определенными оговорками, не означает разрыва с юридическими текстами или практикой межгосударственных отношений. Во многих международных организациях — Всемирном почтовом союзе, Организации гражданской авиации, Международном валютном фонде — некоторые решения принимаются большинством присутствующих на общем собрании, состоящем из представителей государств, ни один из которых не обладает правом вето и голос каждого взвешивается по более или менее строгим критериям. Таким образом, сфера применения мажоритарного голосования и контраст между сверхнациональной инстанцией и обычным Советом министров не столь уж велики, как это воображают те, кто страстно выступает за или, наоборот, против “интеграции”, то есть за или против Высшего органа или Комиссии, которые как предполагается, действуют как высшие 1 Morton A. Kaplan and Nicholas de B. Katzenbach, op. cit., p. 139.
826 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
и единые инстанции, а не как институции, выражающие разные суверенитеты, многочисленные и неприкосновенные.
Действительно, сверхнациональные инстанции имеют прерогативы, которые государства традиционно не передавали никаким органам, хотя создавали их сами. Например, в Объединении угля и стали высшее право законотворчества принадлежит Высшему органу (в рамках, обусловленных договором), и его законы, а также соответствующие регламентационные распоряжения применяются непосредственно к физическим лицам и предприятиям шести стран. После того как определяется общая тарифная сетка, коммерческие переговоры шестерки ведутся самим Объединением. А между тем коммерческая и таможенная политика традиционно составляет часть “государственного суверенитета". ТЬк вот, теперь эта политика ускользает или завтра будет ускользать из рук каждого из членов шестерки, рассматриваемого индивидуально.
Можно ли распространить на европейские сообщества старые понятия внутреннего или международного права? Наверняка изобретательность юристов может это сделать. В зависимости от доктрин или предпочтений своеобразие этих “сверхнациональных" инстанций будет преуменьшено или преувеличено. Суверенитет государств-членов будет представляться сохраненным если утверждается, что государства просто-напросто делегировали некоторые административные и технические функции органам и учреждениям, полномочия которых основаны на договоре пе varietur, не подлежащем изменению, а сам этот договор есть выражение воли подписавших его государств. Суверенитет государств будет представляться усеченным, ампутированным, если на передний план выдвигается роль, которую играют или могут играть Высший орган или Комиссия, устанавливающие правила, сравнимые с законами или принимающие повседневные решения по управлению, сопоставимые с решениями, которые принимаются министрами в национальных правительствах.
Оставим в стороне ученые споры насчет юридической концептуализации и зададимся вопросом, в какой мере тут присутствует, а в какой мере отсутствует “передача суверенитетов". Вернемся к проведенному Локком различию между двумя аспектами исполнительной власти — между исполнением внутренних законов и отношениями с другими коллективами. То, чем ведает отныне Сообщество (европейское) посредством решений, принятых либо единогласно, либо большинством, есть исполнение законов, относящихся к некоторым предметам и вещам, а в будущем сюда войдут и торговые отношения с нечленами. Такая передача суверенитетов выражает общую волю государств-членов создать между собой транснациональное, а в некоторых ракурсах и аспектах наднациональное сообщество, но главное и существенное в национальных суверенитетах здесь серьезно не затрагивается.
Назовем суверенной высшую власть, которая узаконивает: ни одно из общих собраний, предусмотренных тремя договорами (Объединение угля и стали, Евратом, Общий рынок) не обладает законодательными полномочиями. Ни один из исполнительных органов не имеет права разрабатывать законы, кроме случаев, когда нужно интерпретировать правила, установленные в договоре, и достичь целей, определенных договоМир и война между народами • Раймон Арон
827
Часть! V
ром. Что касается вообще функционирования исполнительных органов, то происходит делегирование странами некоторых своих административных полномочий международным организация, но оно затрагивает федеративную власть только в случае торговых переговоров с государствами-нечленами.
Назовем сувереннойконституционную инстанцию, которая, в кризисных или иных исключительных обстоятельствах, принимает решения, необходимые для возобновления деятельности определенных институций или для общего благополучия в рамках действующих институций. В этом случае ни одно из европейских сообществ не претендует ни на какую степень передачи ему суверенитета. К примеру, ни Атлантический союз, ни Общий рынок не парализовали революционной способности французов и даже не предотвратили таких военных операций, как суэцкая или бизертская.
Назовем суверенными одного человека или нескольких людей, которые реально пользуются высшей властью и, в соответствии с обычной практикой или практикой для исключительных случаев, принимают решения, затрагивающие судьбу коллектива (производство атомных бомб, признание независимости Алжира); здесь тоже суверенитет каждого из шестерки неприкосновенен.
Наконец, будем считать суверенной инстанцию, которая обладает lawenforcing capacity, способностью обязывать соблюдать законы или санкционировать их отмену. Ни европейские исполнительные органы, ни Международный суд не располагают средствами принуждения. Тем не менее решения Высших органов и приговоры Международного суда исполняются. Во многих обстоятельствах индивиды и группы исполняют законы потому, что, будучи убеждены в своей совместной заинтересованности в законодательстве вообще, они вместе с тем приобрели привычку законопослушания без всякой угрозы или необходимости санкций.
Нам нет нужды продолжать дальше анализ соотношения полномочий Высшего органа, Комиссии или Совета министров, предусмотренных договорами или подтвержденных опытом полномочий, определяющих число и степень важности решений, принимаемых большинством голосов, соответственную долю компромисса между государствами и долю соответствия интересам сообщества. Нам было важно лишь напомнить, что передача суверенитетов, если вообще уместно употреблять такое выражение, сводится к совсем немногим вещам (некоторые исполнительные и федеративные функции, главным образом технического и экономического характера) и что, если определять суверенитет как высшую власть принимать решения в случае кризиса, то такой суверенитет полностью сохраняется в национальных государствах.
Однако наш анализ не решает совершенно иную проблему, а именно: проблему воздействия, которое может оказать в долгосрочной перспективе Общий рынок на отношения между членами шестерки. Поскольку суверенитеты государств-членов постепенно и последовательно демонтируются путем “передач”, то сосредоточится ли некий высший суверенитет именно там, где собраны переданные элементы государственной власти? Будет ли нарождаться европейское государство по мере убывания национальных суверенитетов? Соберет м® 828 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ли и сосредоточит ли в себе европейский народ наследие французского, немецкого, итальянского народов? На какой-то стадии, пока что не определенной, становления и развития Общего рынка появится ли общеевропейское министерство иностранных дел?
Я не думаю — а только это в данном случае и важно знать, — что на такие вопросы можно дать категорический и однозначный ответ: создание Общего рынка не выводит нас к подлинной федерации ни по юридической необходимости, ни по необходимости исторической. Правоведы, стремящиеся отделить право от государства и убежденные в том, что право может быть и позитивным и эффективным, совершенно не исходя из принципов администрирования и не опираясь на командную власть, обладательницу средств применения тех или иных санкций, склонны подчеркивать своеобразие и уникальность общеевропейских институций. Напротив, те, для которых суверенитет остается монолитным, потому что в конечном счете он выражает собой определенную волю, выявляют и демонстрируют двусмысленный характер всякого сверхнационального построения, которое, если оно не ведет к подлинной федерации, сводится лишь к делегированию чисто административных, управленческих элементов власти.
Я не делаю решительного выбора между этими теориями, которые называю молчаливо нормативными, но я полагаю, что вторая пока что более близка к действительности, чем первая. Высший орган Объединения угля и стали почти не использовал записанные в договоре полномочия, которые можно было бы назвать наднациональными; он почти не принимал решений не единогласных, а большинством голосов, которые были бы обязательны для национальных правительств. Брюссельскаяже Комиссия, даже и на бумаге, имеет еще меньше таких наднациональных полномочий. Но главное не это. Предположим, что Общий рынок полностью реализует себя, как это предусмотрено римским договором. Все равно Германия, Франция, Италия будут проводить разную внешнюю политику, иметь индивидуальную политическую историю, характерную только для каждой из них полицию и армию. Утверждать, что Общий рынок необходимо приведет к европейской федерации (или к европейскому федеральному государству), значит думать, что в нашу эпоху экономика командует политикой и так сказать, вбирает ее в себя, или что ликвидация таможенных барьеров приведет сама по себе к снятию политических и военных барьеров. Оба эти предложения ошибочны.
Даже завершенный Общий рынок не помешает Франции или Германии действовать расходящимся, даже взаимно противоположным образом в арабских странах или на Дальнем Востоке. Он не поставит их армию и полицию под командование одних и тех же людей. Он оставит внутреннее устройство каждой из этих стран наедине со своими опасностями, тоже разными. Победа на выборах коммунистической партии в Италии подвергнет серьезной опасности режим в этой стране, но такая же победа не повлияет на политический режим во Франции или Германии, если только европейская ассамблея не станет для шестерки тем, чем является Конгресс для пятидесяти американских штатов, или, иначе говоря, если в Европе не родится федерация.
Мир и война между народами • Раймон Арон 829 »
Часть IV
МЫ.
Если мысленно допустить, что шестерка объединится политически сразу же после экономического объединения, то тем самым как бы устраняются политический порядок, порожденный существованием Атлантического союза, и соперничество двух блоков. Предполагается, что внутри атлантического блока перед лицом советской угрозы, Гёрмания, Франция, Италия действуют сообща под руководством Соединенных Штатов. В рамки, очерченные блоком, помещают экономическую интеграцию, реализованную Общим рынком, а потом извлекают оттуда, как волшебной палочкой из ящика, единую Европу, Европейскую федерацию. Фактически же упущено главное: власть сообщества, вдохновляемая волей сообщества, государство и народ, человеческий коллектив, сознающий свою самобытность и полный решимости утверждать и отстаивать ее перед другими общностями.
Я не говорю, что экономическое объединение в том виде, как его осуществляет Общий рынок, не способствует формированию “европейского народа” или “европейского государства”. Такое объединение, конечно же, укрепляет транснациональное сообщество, создает эмбрионы “федеральной администрации”, приучает государства к тому, чтобы решения, затрагивающие их интересы, принимались на “европейском” уровне. Некоторые классические прерогативы суверенитета могут теперь ускользать от национальных государств, а те даже и не заметят этого. Однако тезис, которому я дал бы название “подпольный федерализм” или “безболезненный федерализм”, представляется мне иллюзорным. Система обязательств, которую ткут европейские институции, не вберет в себя тайком или каким-то окольным путем ни властных полномочий, посредством которых то или иное человеческое сообщество утверждает себя и противостоит другим, ни власти прибегнуть при случае к ultima ratio, “последнему доводу”; она не создаст общей воли французов, немцев, итальянцев быть отныне и навсегда автономными в качестве европейцев, а не в качестве исторических народов. Легитимная власть и власть фактическая, сознание принадлежности к чему-то более высокому, нежели принадлежность национальная, могут постепенно вырасти из экономического сообщества, но при условии, что народы пожелают этого, а правительства будут действовать согласно их желанию, или — тут можно перевернуть зависимость — при условии, что правительства будут действовать в направлении создания федерации, а народы будут на это согласны.
Надежда на то, что из Общего рынка незаметно и непременно вырастет европейская федерация, основывается на великой иллюзии нашего времени — иллюзии, будто экономическая и технико-технологическая взаимозависимость между различными группами и конгломератами человечества окончательно обесценила “политические суверенитеты” или существование отличных друг от друга государств, каждое из которых хочет быть автономным. Конечно, во многих отношениях было бы очень желательно, чтобы род человеческий понял и прочувствовал свое единство и воспринимал некоторые проблемы (эксплуатация и сбережение природных ресурсов, демографический взрыв) таким образом, как если бы они стояли перед давно уже единым коллективом. Но было бы ошибочным (к сожалению) л» 830 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
полагать что процветание или мир неделимы (как раз обратное повседневно утверждают и подтверждают разные крупные и мелкие действующие лица). Нищета индийских масс не подрывает благополучия среднего европейца или американца. Благополучие одного не есть причина нищеты другого. Временно, на несколько десятилетий, планета предлагает людям достаточно ресурсов, чтобы все они путем обучения и способности к организации производства, — смогли достичь уровня достойной жизни. Однако контраст между голодом половины человечества и изобилием сельскохозяйственных продуктов в западном мире был бы достаточен, чтобы доказать, если вообще здесь надо что-то доказывать, что на планетарном уровне не существует никакого эквивалента национальным сообществам.
Может случиться так, что в конце концов вопиющее расхождение между уровнями материального обеспечения станет опасным для самих привилегированных. Это может произойти посредством распространения коммунизма или даже, более прямолинейно, вследствие обозления обездоленных из-за неизбежного сопоставления условий жизни на Западе и в других местах. Было бы неплохо использовать данный аргумент, чтобы на помощь чистому великодушию пришел просвещенный эгоизм. Но, в краткосрочной перспективе. Западу больше угрожает оружие советского блока (который, между прочим, тоже принадлежит к достаточно богатому меньшинству), чем отчаяние изголодавшихся толп.
Наконец, надо страдать удивительной слепотой, чтобы утверждать, будто “суверенитет” и “независимость” больше ничего не значат. Даже внутри советского блока упорство и стойкость польского государства означают очень и очень многое для польского народа (по идее и по факту) как непосредственно теперь, так и для будущего. Между условиями в бывших прибалтийских государствах и в государствах-сателлитах — Польше, Румынии, Чехословакии—имеется существенная разница: “русификация” (через систему образования и миграции населения) возможна в первом случае и невозможна во втором; отклонения от ортодоксальной модели, которые позволяет себе “польский суверенитет”, абсолютно несоизмеримы с отклонениями, существующими среди различных социалистических республик Советского Союза. В октябре 1956 г. Польша доказала, что у нее еще сохраняется, в тени гиганта, своя собственная политическая история, тогда как ни Украина, ни Белоруссия, ни бывшие прибалтийские государства ее больше не имеют.
Расширение функций государства, правило международного права, запрещающее открытое вмешательство во внутренние дела независимых государств, национализация культуры — эти три факта и обстоятельства способствуют сохранению национально-государственной независимости несмотря на технико-экономическую взаимозависимость, несмотря на сверхнациональные блоки и транснациональные идеологи; они придают этой независимости такое значение, по поводу которого можно сожалеть, но которого нельзя не признавать. Так следует ли нам сожалеть?
3. Нации и федерация
До сих пор мы ничего не говорили об одном из аспектов значения идеолоМир и война между народами • Раймон Арон * чч 831
Часть IV
гии суверенитета: государства могут быть сравнимы с людьми, с личностями. Однако такая персонификация государства, внушенная его собственной, государственной волей, отличной от воли индивидов, была бы ошибочной, ложной и ответственной за теоретические противоречия и исторические невзгоды.
“Истина заключается в том, что государства не являются личностями, как бы зачастую ни было удобно персонифицировать их; они всего лишь институции, то есть организации, создаваемые в системе отношений между людьми для достижения определенных целей, из которых наиболее фундаментальная — создание системы порядка, обеспечивающего их совместную деятельность и жизнь. ГЪсударства не имеют своей воли, кроме воли человеческих индивидов, которой последние руководствуются в своих делах; государства существуют не в политическом вакууме, а в постоянных и взаимных политических отношениях”1 . Такой радикальный номинализм — тоже косвенно негласно нормативный — представляется мне малоудовлетворительным с философской точки зрения. Однако можно допустить, что он в общем-то ни в чем не меняет “главного несовершенства” международного права. 1Ъворя обычным языком, это значит, что государства не отказались ни свободно истолковывать свои собственные обязательства, ни самостоятельно понимать и защищать свои интересы. А на языке номиналистском, когда речь заходит о разного рода институциях, это можно выразить так: несколько человек, претендующих выступать и говорить от имени институции, в обиходе именуемой государством, ссылаются на “национальную честь” или на “жизненный интерес”, чтобы не подчиняться власти других людей, претендующих выступать и говорить от имени какой-либо международной организации. Но тут привступает очень важная разница: первые из этих людей командуют и определяют поведение других людей, обычно одетых в униформу и умеющих владеть оружием. Поэтому в случае конфликта между двумя группами людей, упомянутыми выше, когда и те и другие неправомерно персонифицируют государство, нети не может быть юридического решения. Тем не менее доктринеры естественного права, которые ввели само понятие государства-личности, находятся гораздо ближе к исторической реальности, чем доктринеры-позитивисты, которые усмотрели самую суть права в легальности санкций и несмотря на это, утверждали, что все-таки существует некое международное право stricto sensu, в строгом смысле этого понятия.
Больше того, мне представляется совершенно неправомерным определять страны, нации, народы как “коллективные личности”. В каждом человеке личность есть синтез биологических данных и сознательной воли; личность формируется с течением времени в едином процессе усвоения и освоения унаследованного и того, что создано собственной рефлексией человека. Личность принадлежит и природе1 2, и разуму. По аналогии можно говорить и о “коллективных личностях” — о нациях, народах, странах.
“Нация, — пишет Р.П. Фессар3, — есть народ, который сознавая опреде1 Brlerly J.L. The law of nations. 5-eed. Oxford. 1955. p. 5—56.
2 Здесь природа понимается в натуралистическом, биологическом смысле.
3 Fhssard R.P. Pax Nostra. Examen de conscience international. Paris, 1936, p. 422.
»л 832 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
ленную общность своего происхождения, культуры и, особенно, своего интереса, стремится объективировать свое единство, причем последнее представляется его членам как некое единство персональной индивидуальности, и они хотят, чтобы оно выглядело именно таковым для них самих и для других, с тем, чтобы иметь возможность совершенно независимо направлять свою собственную судьбу. “Это определение распространяется не на все “политические сообщества”, на которые веками было разделено человечество. Но современная нация в Европе как раз сформирована как соединение культурного сообщества1 при стремлении к автономии. Различные политические сообщества нашего времени сумели осуществить такое соединение далеко не во всей его полноте, и ныне уже виден другой тип, соответствующий идеям нашего века: федеральное государство, в котором многочисленны культурные сообщества и каждое из них уважается, но которое сохраняет, как целое, волю к автономии в своих отношениях с другими политическими сообществами.
Коллективная личность нации, как и личность индивидуальная, рождается и, по истечении определенного времени умирает, она переживает самые разные условия существования материального, физического и биологического характера, но она утверждает себя не чем иным, как сознанием, способностью мыслить и делать выбор. Будучи, так сказать, одновременно участниками и природы, и разума, эти национальные личности воплощают в себе богатство человеческих потенций. Разнообразие культур — это не проклятие, которое надо стараться снять с себя, а наследие, которое надо сберечь.
Национальная индивидуальность не видна столь же ясно, как личностная, но она вполне узнаваема путем наблюдения и анализа. Она проявляет себя через деяния конкретных людей, однако, в данном случае эти лица действуют (в собственных глазах и в глазах других) в качестве руководителей коллектива. Формула, согласно которой государство есть институция, созданная людьми, приемлема в той мере, в какой само понятие институции остается неоднозначным. Неверно лишь одно, а именно, что предметом и целью этой институции является исключительно обеспечение упорядоченной и спокойной жизни, работы, активности всех и каждого. Было бы и ошибочно, и нежелательно полагать, будто бы коллективные “существа” не имеют своих собственных целей и намерений.
Конечно, преобладание и подчеркивание жизни как изолированных друг от друга личностей означает в общем конец городов (в древнегреческом значении этого термина). Но такая жизнь реально не бывает одинокой, она не проходит вне “национальных сообществ”, каждое из которых дорожит своими самобытными ценностями и старается их развивать и продвигать. Стереть различия между этими сообществами значит обеднить человечество, если вообще допустить, что такая цель достижима. Идеал человечества, сознающего свою солидарность, не противоречит факту существования человечества, разделен1 Подобное “культурное сообщество" никогда не бывает совершенно единым и однородным. Даже во Франции бретонцы, эльзасцы, баски, провансальцы часто разговаривают на своих изначальных языках, отличных от французского.
Мир и война между народами • Раймон Арон 833
Часть IV
ного на нации и народы, сознающие свои особенности и ценность этой специфики.
Больше того, этот факт тоже представляет собой определенный идеал. Содействовать реализации “национальных ценностей” — это для любого человека долг, а не покорность и услужливость. Но этот долг не отменяет долга по отношению ко всему человечеству. Каждая нация вносит свое содержание в общий идеал, она не отрицает (или не должна отрицать) универсальных и непреложных правил, обязательных для каждого человека, если он человек. Но каким же образом индивид может быть чем-то обязанным человечеству, если он не будет обязан своему народу, своей стране, которая сделала его тем, кто он есть?
Могут возразить: а почему речь идет о нации, а не о любой другой группе? Мне кажется, что ответ будет зависеть от аналитического рассмотрения групп, к которым так или иначе принадлежит каждый из нас. Семья имеет биологические корни, но сообщество семей, которые собираются вместе, чтобы составить народ, уже не имеет ни исключительно расовых, ни строго территориальных истоков; оно представляет собой сообщество определенной культуры, особую совокупность убеждений, верований и поведений. Вместе с переходом от архаических обществ к обществам историческим получила свое развитие диалектика культурных сообществ и политических образований, которая действует и поныне. Насилие породило, а потом и свалило империи. Вооруженные группы захватывали власть и заставляли служить себе население и классы. Однако, сформированные за многие века силой и кровью некоторые современные нации отыскали-таки потерянный секрет союза (который никогда не бывает совершенным) между культурой и политикой, историей и разумом. Нация, народ обладает своим языком и своим правом, приобретенными за века и выражающими особое, самобытное призвание. Граждане хотят жить вместе и сформулировать для себя свои же законы, чтобы внести в общечеловеческое развитие свой вклад, который не может возникнуть из ничего. Именно в этом смысле нация, как пишет Р.П. Фессар, имеет некое призвание, тогда как класс не имеет никакого призвания.
Каков бы ни был и сколь точно бы ни было определение класса, наемные рабочие, делающие все своими руками, характеризуются прежде всего примерно одинаковым положением в том, что касается профессии или ремесла и вознаграждения за труд, они находятся в контакте с материалом, они зарабатывают на жизнь не посредством и не через человеческие отношения, они имеют доходы, или выручку, которые внутри одной страны не очень сильно различаются между собой. Они проявляют определенное подобие и единообразие мнений и позиций (или же различные позиции распределяются по определенному процентному соотношению); иногда они осознают одинаковость своего положения и, исходя из такого осознания, организуются (или организуется какая-то часть их) для защиты того, что они считают своим общим интересом. Если этот общий интерес имеет экономический характер, если их организация является профсоюзной или, будучи также и организацией политической, приемлет и признает своим национальное сообщество, то класс подчиняется нации сам по себе, так сказать добро—»834 Раймон Арон • Мир и война между народами
вольно, и не претендует ни на какое собственное призвание в том смысле, в каком претендует на него нация1. И напротив, идеология, отрицающая нацию ради утверждения класса, запутывается в безнадежных противоречиях. Когда класс или партия, объявляющая, что она представляет его интересы, берет власть, то что же исчезает после взятия власти — нация или класс? Если исчезает класс, то, значит, у него не было никакого постоянного призвания помимо изменения или видоизменения экономического режима. Если исчезает нация, то во что превращается культурное сообщество и откуда проистекает легитимная власть?
В действительности в той части мира, где доктрина, провозглашающая примат класса над нацией одержала верх, теоретически нации все-таки существуют со своим собственным культурным призванием, хотя они и лишены определенной партии и созданного ею государства. Классы, характеризуемые одинаковостью или подобием условий жизни, тоже существуют, хотя теперь они считаются неантагонистическими и не имеют права организовываться в группы давления. Иначе говоря, политическая привилегия, приписываемая классам, родившимся в труде и имеющим дело с материалом, исчезает вместе со свершением революции, для которой была подготовлена соответствующая доктрина. Доктрина это — сугубо идеологическая, ибо она изображает в качестве вечной истины необходимость опрокидывания иерархии ценностей и инверсии существеннейших отношений и соотношений, и все это объясняется неизбежностью некоего исторического действия.
Праксиология
Хотя нация есть идеал и одновременно факт и хотя человечество, лишенное национального разнообразия было бы обеднено, тем не менее всякого рода национализм — воля к могуществу и гордыня наций, отказ подчиняться внешнему закону или трибуналу — не может быть оправдан. Здесь обнаруживается последняя, высшая антиномия в политической судьбе человека. Для него отнюдь не лучше отрицать, чем утверждать существование наций, не лучше отказывать им в праве самим определять свою судьбу, чем защищать их право самим отстаивать свои интересы. Эта антиномия не решается правоведами, которые рассуждают так, как будто государство есть всего лишь одна из институций среди многих других, как будто общечеловеческое сообщество столь же сплоченно, что и сообщества национальные, как будто система норм международного права имеет тот же характер, что и системы внутреннего права, как будто запрещение прибегать к войне или к угрозе войны имеет для государств ту же позитивность и ту же эффективность, что и запрещение убивать и красть для индивидов. Эта антиномия реальна, она существовала и существует в той или иной форме с ранних исторических времен. Она не обязательно должна быть вечной, но она далека еще от решения, если вообще может быть решена.
Возможное теоретическое решение в данной случае — федерация, то есть цивилизованная и добровольная версия империи. Тогда культурное сообщество сохраняется, а вышестоящему сообществу передаются только те полномочия, в которых оно нуждается для обеспече1 См.: Ffessard G. De L’actualité historique. Paris, I960; см.: например, T II. P. 228.
Мир и война между народами • Раймон Арон 835
Часть IV
ния защиты и благополучия всех. Классический пример дает нам Швейцария. Гельвецийская конфедерация, у которой есть воля к независимости и которая располагает армией и является эквивалентом личности персоны, персонажа на международной сцене, вполне “суверенна”; внутри же нее строго соблюдается свобода индивидов и групп жить согласно своим идеалам и поклоняться своим богам. Почему же все человечество не создаст Планетарной конфедерации наподобие Гельвецийской конфедерации, которая решала бы на глобальном уровне задачи, не могущие быть решенными на более низком уровне, такие как сбережение природных ресурсов, улучшение условий торговых и других обменов, уменьшение и ограничение организованного насилия?
По поводу утопии насчет общепланетной конфедерации или федерации встают два рода вопросов. Одни имеют историко-социологический характер: каковы, абстрактно говоря, условия для создания такого сообщества? И вообще вероятны или невероятны эти условия в середине XX века? Другие вопросы можно назвать собственно философскими: противоречит или не противоречит утопия природе людей? Природе человеческих обществ? Сущности политики? Можно ли вообразить себе человеческое сообщество, где нет никаких врагов?
Ответить на вопросы первого рода можно в соответствии с анализом, проведенным в предыдущей главе. Путь к планетарной федерации таков же, как путь к миру через право. Решающим шагом на этом пути был бы отказ государств от права исключительно самому отстаивать свою правоту. То есть отказ от того, что было и остается самой сущностью “внешнего суверенитета”. Но такого отказа, — который не предусматривался и не исполнялся ни уставом Лиги Наций, ни Уставом Организации Объединенных Наций, — тщетно добивались бы люди доброй воли до тех пор, пока среди членов общепланетного сообщества не получат своего развития отношения, сравнимые с отношениями, связывающими между собой индивидуальных или групповых членов каждого национального сообщества. То есть необходимы осознание и понимание общности, согласие на учреждение и существование того или иного правового и политического режима, на обособленное положение вооруженных сил. Повторим лишний раз: в том, что касается построения общепланетарого сообщества, ни одно из трех вышеназванных условий сегодня не реализовано и не обещает быть реализованным в близком будущем.
Разумеется, философ, желающий создать сам для себя иллюзию рационального хода истории, может сослаться на некоторые факты. После бреда гитлеровского расизма интеллектуальная мода перешла в другую крайность, и каждый старался обогнать другого в горячности восхваления равенства индивидов, рас, наций и государств. Все это делалось с таким пафосом, что порою даже забывалась простая аксиома: неравенство индивидуальных дарований есть факт, о котором надо спорить меньше всего. В Организации Объединенных Наций представители целой сотни государств говорили по всякому поводу об обязанностях, налагаемых на их страны Уставом, а зачастую о власти самой этой международной организации как таковой. Наконец, обязательство помогать так называемым слабо«ж 836 Раймон Арон • Мир и война между народами
развитым народам и признание того, что сокращение расхождений в уровне жизни между богатыми и бедными коллективами отвечает интересам всего человечества, — все это может толковаться теми, кто ищет мотивы для оптимизма, как первые ростки “общечеловеческого сознания”, как восприятие человечества в качестве единого сообщества.
Данные аргументы, к сожалению, слабы по сравнению с аргументами обратного свойства, и признаки общечеловеческого сознания становятся почти невидимыми рядом с каждодневными свидетельствами племенного сознания и идеологического фанатизма. Обесценение национальных сообществ, подчеркиваемое некоторыми наблюдателями, совсем не есть доказательство ослабления племенного сознания в пользу сознания общечеловеческого: просто один сот племенного сознания ослабляется в пользу другого. “Нация” в Советском Союзе или Соединенных Штатах1 более разнородна, чем в старых европейских странах. Европейские нации больше не имеют возможностей играть первые роли; разделенные между русской и американской имперскими зонами, они морально ослаблены, а их граждане колеблются между “блоковым патриотизмом” и “традиционным патриотизмом” и никак не решаются полностью присоединиться ни к тому, ни к другому. “Французский национализм” скорее раздирается, а не ослабляется, тем фактом, что некоторые французы желают победы советского блока, а те, кто симпатизирует атлантическому блоку, сохраняют ностальгию по независимости Франции. И 1 2
Праксиология
лишь ничтожно малое число французов страстно желает создания международного сообщества, где распри, подобные суэцкой и бизертской, передавались бы на рассмотрение и решение соответствующего трибунала.
Правда, ни одна из сверхдержав не признается, на манер третьего рейха, в намерении захватывать земли и порабощать людей; и мы знаем, что иначе они и не могут поступать. Мыслил ли себе Советский Союз все человечество, обращенное в коммунистическую веру, как объединенное в одно государство?1 Это не исключено, хотя такая далекая цель или вернее, такое видение грядущего мира в любом случае оказывало мало влияния на его реальное поведение. Цель Советского Союза—устранить врага, то есть Соединенные Штаты: последние представляются людям из Кремля символом капиталистической “вселенной”, которая есть зло и поэтому должна исчезнуть согласно историческому детерминизму и во благо человечеству, но они, США, являются также центром силы, способной противостоять советской силе. Соперничество обеих сверхдержав, составными частями которого выступают идеологическая взаимонеприязнь и “государственная” враждебность, не подготавливает и не предвещает всечеловеческого примирения. Успехи в рациональной организации таких сфер, как труд и управление, не сделали более разумными ни индивидов, ни коллективы.
Не раз интеллектуалы гуманитарной выучки и даже пацифисты выказывали ненависть к тем, кто не разде1 Национальное сознание в Соединенных Штатах и, возможно, в Советском Союзе неотделимо от политического режима, тогда как француз вовсе не думает, что Франция должна быть неотделимой от какого бы то ни было политического режима
2 Goodman Е R The Soviet design for a World State New York, 1961
Мир и война между народами • Раймон Арон 837
Часть IV
ляет их взглядов и страстей. Они объявляют капитализм негодным, а социализм хорошим; они проповедуют классовую борьбу и совсем не замечают, что в наше время, когда каждая идеология воплощена в том ли ином блоке, они тем самым способствуют развязыванию войны. А не делают ли на Западе то же самое, разоблачая и подвергая нападкам советизм? В какой-то степени и доле мы действительно все участвуем в “холодной войне” и не можем от нее абстрагироваться, не отрекшись от самих себя и от наших ценностей. Но здесь имеется фундаментальная асимметрия. Мы знаем, что все режимы несовершенны, и хотя мы считаем советский режим более несовершенным, чем наш, мы не посылаем чуму на его голову, а лишь требуем, или просим, чтобы он отказался от лжи и признал себя рядовым режимом среди многих других. Достаточно Советам признаться в том, что они представляют собой на самом деле, и сможет начаться и утвердиться подлинное мирное соревнование. Однако марксистско-ленинская доктрина в том виде, как она преподается в Советском Союзе и преподносится всему миру, является по преимуществу воинственной, она исключает согласие следовать общему совместному закону, что составляет основной принцип любой всемирной организации.
Но если всемирная организация невозможна сегодня, то возможна ли она вообще, ибо она по существу противоречит самой природе человека, индивидуалиста или общественника? Бергсон полагал именно так, К. Шмитт хотел это доказать, выдвигая альтернативу “другвраг” в качестве одного из важнейших элементов политики. Тот и другой, как мне кажется, правы в том, что подчеркивают существенное различие между расширением политических сообществ и объединением человечества. Банальный аргумент, заключающийся в самой обыкновенной экстраполяции, равнозначен непризнанию этого различия. Западноевропейская федерация, желательная или нежелательная, будет способствовать миру или международной напряженности, но в любом случае она не изменит международного порядка. И напротив, мне представляется неправомерным делать вывод о противоречивом характере и, следовательно, о невозможности всемирной организации, исходя из альтернативы “друг— враг’’, расцениваемой как важнейший реквизит политики.
В самом деле, возможен вариант, когда строится мысленная конструкция множественности “суверенных сообществ”. Тогда альтернатива “друг—враг” представляет собой лишь выражение соперничества силы и мощи, взаимных подозрений и стремлений к автономии. Каждый, боясь всех остальных, чувствует себя под угрозой то со стороны одного, то со стороны другого. А отсюда следует создание общих фронтов, противостоящих друг другу. Но при таком допущении альтернатива “друг— враг” оказывается результатом “естественного состояния” в отношениях между сообществами, но вовсе не доказывает фатального постоянства такого положения.
Возможен другой вариант, когда мысленно помещают себя внутрь определенной общности, члены которого в принципе согласились подчиняться законам. В этом случае сохраняется соперничество между индивидами или группами. Но это соперничество, которое, согласно нормам принятого режима, не
Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
превращается в силовую схватку, тем самым не создает неизбежно и непоправимо враждебной обстановки. Или уж, во всяком случае, такая враждебность не делает невозможным создание всемирной организации, поскольку подобная враждебность совместима с национальными организациями.
Остается последнее и сравнительно более весомое толкование: враждебность естественна в отношениях между людьми, она смиряется перед регламентацией лишь внутри политического сообщества, которое утверждает себя тем, что противостоит другим сообществам, а значит, в свою очередь, определяется наличием враждебных отношений. Иначе говоря, историческая диалектика никогда не изживет обращения к силе, но переведет это обращение на более высокий уровень. Так что если предположить возможность существования какой-либо всемирной организации, которая, по определению, не будет иметь внешних врагов, она все равно распадется под действием внутренних конфликтов.
И действительно, именно такую диалектику мы наблюдали на протяжении многих веков истории. Новые власти всегда преодолевали соперничество прежних властей, создавая себе противников или обнаруживая врагов. Атлантический блок стал воплощением общей воли, направленной против угрозы со стороны Советского Союза. Европейские государства стараются объединиться, чтобы хотя бы частично вернуть себе независимость по отношению к обеим сверхдержавам. А если по мановению волшебной палочки конфликт между двумя гигантами вдруг исчезнет, то что останется от “европейской интеграции” или от “атлантического блока“?
Эти примеры одновременно и подтверждают, и отрицают возражения против них. Да, некоторые власти существуют лишь посредством и ради некоей враждебности. “Политические персоны”, нации, организованные в государства, иногда нуждаются в федеративной власти (в том смысле, в каком эту последнюю понимал Локк), чтобы обеспечивать и укреплять свое собственное существование. Степень автономности этих персон определяется лишь степенью их сопротивляемости внешним силам. В том самом человечестве, которое предположительно будет умиротворено, найдется, наверное, немало политических сообществ, склонных к самороспуску; культурные сообщества, более тесные и более близкие к индивидам, вернут и укрепят свою автономию, а необходимые функции по обеспечению безопасности и благополучия перейдут на более высокий уровень, чем уровень национального государства.
Весь вопрос заключается в том, не будет ли такая диссоциация политикокультурных сообществ в пользу менее широких и чисто культурных сообществ и, вместе с этим, в пользу всемирной экономико-военной организации, то есть не будет ли она означать возобновления диалектики враждебности и альянсов. Теоретически вполне понятно, что до тех пор, пока группы людей отличаются друг от друга по языку, убеждениям и верованиям, у них всегда будет бесчисленное множество поводов для взаимной критики и взаимного непризнания. Но следует ли называть враждебностью такие виды взаимонепонимания? Будут ли сообщества людей более расположены терпеть друг друга с того момента, когда ничто не станет угрожать ни их благополучию, ни их беМир и война между народами • Раймон Арон 839
Часть IV
зопасности? Если предположить» что создана некая монополия, приемлемая для всех, созданы необходимые и внушительные общие силы и обеспечены условия эксплуатации планетарных ресурсов, согласованные в масштабах всего человечества, то будут ли мирно сосуществовать различные культуры?
Боюсь, что вопрос этот может показаться досужим: уж больно много имеется всяких гипотез, очень далеких от реального мира, в котором мы живем. Я охотно с этим соглашусь: такие гипотезы одним представляются абсурдными, другим — утопичными. Подобный скептицизм, тем не менее, не оправдан всецело. История, в которую мы вступаем и которая будет длиться до тех пор, пока какая-нибудь природная или военная катастрофа не ликвидирует завоеваний науки и техники и не низведет человечество на стадию примитивного земледелия и ремесла, — такая история есть история всемирная. Она не будет распадаться на “истории цивилизаций“, если называть их в соответствии с концепцией Шпенглера и Тойнби. Она будет охватывать весь род человеческий.
Чтобы такая история была менее насильственной, чем история народов и империй, должны быть выполнены три условия: применение термоядерного оружия (или оружия, ему эквивалентного); обеспечение справедливого распределения ресурсов; взаимная терпимость и уважение друг к другу разных рас, народов, наций, представителей различных убеждений и верований, А поскольку ни одно из этих трех условий никогда не выполнялось, то не впадая в ошибку можно сказать, что политический порядок неотделим от враждебности. Если мысленно устранить два первых условия, то сохранятся ли дружба в совокупности с неприязнью в качестве выражения агрессивности, проявляемой каким угодно человеческим индивидом по отношению к другому — тому самому другому, который не позволяет мне в мирной обстановке быть уверенным в том, что именно я воплощаю в себе абсолютную истину или высшие ценности?
Вопрос не риторичен, но он не требует категорического ответа. Положительным ответом могло бы стать пари, заключенное по поводу того, перейдет или не перейдет человеческий род к новой вере. Ответ отрицательный не оставил бы никакой иной надежды на мир, кроме как в случае триумфа какой-либо одной расы, одного народа, одной церкви, и, следовательно мы должны были бы пожертвовать либо миром, либо богатством многообразия. Но сам вопрос должен оставаться, его нельзя снимать, чтобы люди доброй воли не вообразили, будто достаточно передать термоядерное оружие в распоряжение какого-нибудь комитета ООН или даже всего-навсего поручить какой-нибудь комиссии экспертов задачу общепланетного планиро¬
вания, и тогда сразу исчезнут политическая враждебность и идеологическая неприязнь. Находясь под властью некоего общепланетного государства различные общественные группы не смогут жить в мире, если — и тут надо вспомнить типы и виды сознания по ГЪгелю — каждая будет желать погибели другой.
Несколько лет назад я закончил одну из моих книг призывом к скептицизму, и этот призыв тем охотнее комментировался критиками, что саму-то книгу они не читали. Фанатизм, который тогда на меня обрушился, — это фанатизм идеологов нашего столетия упрощенцев и “совершенствователей”, л 840 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
считающих себя держателями безупречного рецепта процветания и справедливости и готовых на любое насилие ради достижения своей лучезарной цели. Но ведь сомнения насчет таких абстрактных моделей не имеют ничего общего с вульгарным скептицизмом. Совсем наоборот, эти сомнения означают веру в разум, который подтверждает несовершенство всех социальных порядков, признает невозможность знать будущее, осуждает бесплодную претензию начертать схему идеального общества. Именно наше знание показывает нам границы наших возможностей и научает нас постепенно улучшать то, что уже имеется, вместо того, чтобы начинать с нуля, уничтожив предварительно дела и творческое наследие многих веков.
Этот идеологический скептицизм во многих отношениях отличается от той терпимости, которая мало-помалу утверждается и устанавливается после оргий насилия, развязанных еще религиозными войнами. Католики и протестанты не перестали верить — каждые со своей стороны — в истинность своего толкования христианского вероучения и в авторитет своей церкви, но они уже отказались от крестовых походов и от обращения в свою веру силой. В конце концов те и другие признали, что только добровольное приобщение к вере имеет ценность и подлинность. В аспекте идеальном такой отказ от насилия свидетельствует не об исчерпании или истощении, а об очищении веры. В аспекте же фактическом люди—такие какие они есть, — терпимо относятся к вере других людей чаще из-за безразличия, чем вследствие уважения свободы.
Идеологический скептицизм отчасти подобен религиозному скептицизму: светское, мирское спасение зависит не столько от либеральной или строго дисциплинированной и дисциплинирующей церкви, сколько от общих, совпадающих элементов во всех догмах и во всех видах практики. Однако идеологический скептицизм идет дальше — до самого сомнения в возможности установления образцового порядка, тогда как истинные христиане никогда не сомневались ни в откровении, ни в преображении, ни в освящении. Нет крестовых походов там, где вера беззаветна и не может не быть таковой; нет беззаветной веры там, где предпочитаемое неопределенно и где цель несовершенна, а ведь как раз таковы нравственные корни и истоки пацифистской институции.
4. Федерация и империя
Вернемся с небес на землю. Ни одно из условий, необходимых для эффективной деятельности всемирной организации, говорим мы, сегодня не соблюдено. Если мы перестанем грезить о слишком далеком будущем, то мир в среднесрочной перспективе, такой мир, к достижению которого стремятся живущие ныне люди, не будет обеспечен добровольным отказом от соперничества в мощи и силе и от применения силы1. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, совместим ли мир с природой человека, гораздо лучше задаться другим вопросом: о средствах и способах убедить и заставить государства вести себя разумно, то есть перестать играть с ужасающими видами оружия. Исходом ны1 Если только не произойдет какое-нибудь катастрофическое событие, которого нельзя исключать, но и невозможно предвидеть.
Мир и война между народами • Раймон Арон 841 »
Часть IV
нешнего кризиса может быть, в теории, либо всемирная федерация, создаваемая постепенно и последовательно согласием и договорами между государствами, либо всемирная империя, навязанная победой одного из кандидатов на высшую власть.
В чем проявятся отличия федерации и империи, если каждой удастся охватывать все человечество? Согласно имеющимся концепциям, конфедерация (Staatenbund) и федерация (Bundesstaat) — вещи существенно разные. Первая сохраняет политический суверенитет государств-членов, а следовательно, и множественность вооруженных сил; вторая упраздняет внешний суверенитет государств-членов и тем самым создает единую действующую институцию на международной сцене, заменяя собой действующих лиц, ставших членами федерального государства (германская империя или Соединенные Штаты). И тут, как всегда, разного рода промежуточные случаи затуманивают фактическую картину, которая в теории вполне ясна.
На общепланетном уровне организация не воспроизведет в точности ни федерацию, ни конфедерацию. Каковы бы ни были права, которые сохраняют за собой пятьдесят штатов, какова бы ни была эффективность обращений в Верховный суд в США, федеральное государство неуклонно расширяет свои полномочия, а полномочия входящих в него штатов постепенно деградируют в исполнение чисто административных функций. Трудно, даже невозможно представить себе для близкого или обозримого будущего всемирное правительство. похожее на правительство Советского Союза или Соединенных Штатов. Супернаднациональный аппарат не сможет и не должен заниматься неизмеримым множеством дел или навязывать серии общих правил всем людям. Но он не будет и конфедеральным, поскольку конфедерация оставляет государствамчленам их вооруженные силы и, с некоторыми оговорками, право распоряжаться этими силами.
“Всемирная организация” должна взять на себя от государств основную часть их военного суверенитета, но не брать и даже не пытаться взять управление национальными делами. В этом заключена трудность, если хотите, противоречие, пока что непреодолимое. Все модели “всемирной Конституции” заимствованы у западных, конституционноплюралистских режимов1. Они предполагают либо создание государства американского типа, — а американское государство было создано иммигрантами, принесшими с собой наследие истории насилия, но освободившимися от него, начав новую жизнь на колонизируемой земле, — либо медленное и последовательное принятие легальной дисциплины индивидами и группами, сознающими свою общность. А поскольку обстоятельства и условия, в которых действуют подобного рода Конституции внутри государств, отсутствуют на уровне всего человеческого рода, то представляются мыслимыми два предположения: или открытое и ясное соглашение между великими державами о передаче наиболее убийственных видов оружия в распоряжение какой-либо нейтральной власти, что заменило бы собой сегодняшнее негласное и частичное согласие не 1 Такова например, конституционная модель, обрисованная в уже цитированной нами книге Г. Кларка и Л. Сона: Greenville Clark and Louis В. Sohn. World peace through World law.
ш 842 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
использовать такого оружия или разоружение всех государств и блоков в результате победы одного из них.
Открытое соглашение о передаче самого смертоносного оружия в распоряжение какой-нибудь, так сказать неприсоединившейся власти (или власти, состоящей из представителей всех блоков и государств) не есть нечто радикально немыслимое. Такое соглашение представляет собой конечную форму того, чего сегодня пытаются добиться различными способами и методами ограничения вооружений. Однако, если только какое-нибудь общее несчастье не заставит всех проявить наконец мудрость, остается очень и очень маловероятным, чтобы в краткосрочной перспективе великим державам удалось “нейтрализовать” оружие, которое обеспечивает им превосходство и одновременно поддерживает в них страх прибегнуть к такому оружию.
Следовало ли желать в этой связи создания всеобщей империи, то есть, например, победы Советского Союза? Прежде чем ответить, уже во второй раз, на такой далеко не праздный вопрос (он может непосредственно встать в один прекрасный день), зададимся другим вопросом: отличается ли — и если да, то в чем именно, — всеобщая империя от всемирной федерации?
Первое отличие сразу бросается в глаза: когда мы говорим о “всемирной организации”, “мире в рамках права” или “всемирной федерации”, мы имеем в виду переход от множественности к единству, от мира, основанного на равновесии (или на страхе), к миру, базирующемуся на праве или на удовлетворении всех сторон, без привлечения в качестве некоего посредствующего звена борьбы не на жизнь, а на смерть, с целью выявления какого-либо одного победителя. Федерация требует конверсии стремлений к могуществу, конверсии, одновременной для всех и добровольной. И поскольку невозможно представить себе, для обозримого будущего, что русские или китайцы согласятся подчиняться некоему правительству, которое не будет ни коммунистическим, ни национальным, поскольку также, с другой стороны, американцы и европейцы, если только их не разгромят и не подчинят, не примут власть никакого правительства, которое будет подчиняться людям из Кремля или в котором последние будут участвовать, то “нейтральный” всемирный орган (и, вероятно, его нейтралитет сможет гарантироваться, в глазах русских, лишь равновесным представительством в нем блоков) должен будет иметь абсолютную власть в некоторых областях и вопросах, но власть строго лимитированную в том, что касается поля его применения и распространения. Этот орган будет не столько гарантировать разоружение (эффективный контроль за разоружением требует огромного, дорогостоящего и широчайшим образом разветвленного административного аппарата), сколько поддерживать безусловное военное превосходство всемирной власти над любым государством или блоком. Такая формула направлена в большей степени не на запрещение враждебных отношений и действий, а на их нераспространение. Она формализует, легализирует, освещает режим, который оптимисты уже сегодня приписывают международной системе: согласие обеих сверхдержав не воевать между собой и мешать своим союзникам, сателлитам и неприсоединивМир и война между народами • Раймон Арон & < << ^ «А < V Л- />■: 843 «г»
Часть IV
шимся странам вовлекать их в смертельную схватку, которой они не желают.
Идея универсальной империи совсем иная. Она предполагает, что одно из государств или один из блоков устранил своих соперников и стабилизировал свою победу, интегрируя побежденных в порядок, гарантируемый монополией на насилие. В наше время такое предположение равнозначно допущению разгрома и капитуляции Запада. Но каким тогда будет общепланетный имперский порядок? Допустим, что режимы, провозглашающие одну и ту же идеологию, устанавливают свою власть во всех странах. Достаточно вспомнить, если в этом вообще есть нужда, опыт Югославии и Китая, чтобы понять, что марксистско-ленинский мир не обязательно должен быть более единым, чем мир христианский. Имперский мир, распространившийся на всю планету, то есть охватывающий народы разных языков, культур, жизненного уровня, должен, чтобы быть сколько-нибудь длительным, принадлежать к древнеримскому или федеральному типу, или же позаимствовать некоторые черты от того и другого. Культурные сообщества — быть может, более узкие, чем нынешние нации, — должны сохранить всю свою автономию, которая, однако, была бы совместима с благополучием и безопасностью всего рода человеческого; вместе с тем (пусть не сразу, а постепенно) должна быть сформирована правящая элита из представителей всех стран или наций. Империя, которую хотят создать на века и даже на тысячелетия, будет походить на федерацию по двум существенно важным пунктам: нижестоящие коллективы сохранят свободы, совместимые с обеспечением и поддержанием мира; никому не будет закрыт доступ к тому, чтобы создавать свою карьеру — почетную и прочую, даже политическую.
Но может ли такая империя быть результатом военной победы Советского Союза и капитуляции Запада? В долгосрочной перспективе такое исключать нельзя. А на период краткосрочный требуется совершенно беззаветная вера в добрую природу людей, чтобы вообразить себе победителей, “преодолевающих собственную победу” и жертвующих гордостью триумфа ради примирения всех. Даже если победители и проявят столь неожиданную мудрость, они все равно не сумеют удержаться от выкорчевывания того, что они называют капиталистическими предрассудками или буржуазными пережитками, а мы считаем то же самое самим смыслом человеческого существования Больше того: до тех пор, пока уровень жизни на Западе — у американцев и западноевропейцев — будет оставаться, в среднем, более высоким, чем в советских странах или странах “третьего мира”, потеря политической автономии повлечет за собой обеднение и обнищание, где неясными и неопределенными могут быть только масштабы такого процесса.
Это еще не все. До сих пор мы рассматривали и анализировали всеобщую империю, молчаливо исходя из технико-экономических характеристик того исключительного, совершенно особого периода, в котором мы живем: обилие сырья и энергии для любого народа, умеющего их использовать, значительный объем инвестиций, обеспечивающих индустриализацию стран “третьего мира”, повышенные темпы роста национального продукта во всех странах, уже промышленно оснащенных, слабая рентабельность подневольного, рабско.шо 844 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
го труда, высокая стоимость колонизации, если она не идет до конца в том, что касается эксплуатации, бесчеловечности, предоставления лучших рабочих мест и высоких должностей самим колонизаторам. В этот беспрецедентный период человеческой истории именно экономические ставки конфликта являются наименьшими в сравнении с любым периодом прошлого. И запад может предаваться иллюзии, что в худшем случае, то есть лишившись своего могущества, он должен будет лишь увеличить свой вклад в развитие “третьего мира”.
Быть может, это так и будет в случае, если хозяева будут действовать в соответствии с экономической рациональностью. Однако уровень жизни, к которому стремятся все народы, не может перемещаться из страны в страну с такой же легкостью, как золото или алмазы. Никакая военная добыча и никакой триумф не обеспечивают более или менее многочисленному коллективу изобилия и богатства, то есть высокого жизненного уровня. Но нельзя считать невозможным перемещение продуктов эффективного труда (советский режим облегчает такой процесс в виде “выплаты репараций”) и обеспечение их пользования просто нерадивыми, либо неспособными.
Наконец и, в особенности, нынешний период — период, когда потеря какой-нибудь колонии может расцениваться как экономический успех, и в таком суждении нет ни тени парадоксальности, — так вот, этот период не есть нечто окончательное и застывшее. Экстраполяция на несколько веков вперед, разумеется, невозможна. Рассмотрим лишь близкое будущее. К 1960 г. мировое народонаселение насчитывало примерно три миллиарда человек. По умеренным прогнозам оно удвоится к концу XX в. Если продолжить эту кривую роста, то с конца XXI мы будем иметь цифры, которые, возможно, не превзойдут соотношения ресурсов питания и сырья, необходимых человечеству. Это будет обеспечено путем использования знаний, приобретенных уже сегодня, а тем более тех, что будут приобретены к концу будущего века. Однако эти цифры наверняка нарушат равновесие внутри стран и в отношениях между странами. Никто не может с уверенностью предсказать, какой будет экономический или политический режим в Соединенных Штатах с населением в 500 миллионов человек, — а ведь даже такая цифра гораздо ниже той, какую можно ожидать через два столетия в результате сохранения нынешних темпов роста рождаемости в этой стране. Еще труднее предсказать, каким будет экономико-политический режим Китая с населением в три миллиарда человек.
Оставим, однако, в стороне все эти неопределенности и будем исходить из более надежных цифр, относящихся к близкому будущему. Опять-таки по умеренным оценкам в 1980г. население Латинской Америки вырастет со 190 до 340 млн, Ближнего и Среднего Востока — с 50 до 85, Африки с 230 до 335,стран Азии (исключая Японию и коммунистические страны) с 730 до 1 170 млн то есть по всем этим четырем регионам — с 1 200 млн до 1 930 млн или на 60% за 20 лет.
Демографический рост теперь относительно независим от экономического прогресса. Этот рост происходит автоматически, неуклонно и неизбежно в той мере, в какой темпы роста рождаемости, допускаемые самой природой, не ограничиваются добровольными и предусмотрительными действиями индивиМир и война между народами • Раймон Арон <
Часть IV
дов. Распространение медицинских знаний и способов поддержания гигиены вполне достаточно для того, чтобы снижать уровень смертности в пропорциях, которых не знали в прошлые века. В 1730 г. статистическая средняя продолжительность жизни составляла 25 лет, сегодня она достигла 72 лет для мужчин и 74 лет для женщин1.
Вместе с тем некоторые факты, например повышение темпов роста рождаемости в Соединенных Штатах (общий прирост населения превышает там 1,5% в год), поставили под большое сомнение общепринятые идеи насчет размеров семьи, желаемых большинством благополучного и “обуржуазившегося" населения. Совсем не исключено, что, начиная с какого-то определенного уровня жизни, когда гарантировано воспитание и образование всех детей, родители предпочтут иметь четверых или пятерых а не двоих или троих.
К 2000 г., несмотря на чрезвычайную неравномерность в плотности населения по земному шару, перед человечеством встанет проблема численности в ее функциональной зависимости от проблемы развития. Нынешнее распределение народов на пространстве — мы исключаем для данного случая вероятность тотально смертоносной войны — будет рассматриваться как исходный факт для расчетов темпов экономического роста и объемов обмена, необходимых для того, чтобы обездоленные группы населения все-таки как-то повышали из года в год свой жизненный уровень на душу населения. Т^кой результат будет, вероятно, достигнут для определенной части, но не для всего “третьего мира". Если принять предположение, что советский мир и мир западный сохранят до конца нынешнего столетия такие же темпы роста валового национального продукта, какие были у них между 1950 и 1960 годами1 2, то расхождение в доходах на душу населения вообще, а особенно расхождение в уровне жизни между привилегированным меньшинством и всей остальной огромной массой человечества, скорее всего расширится еще больше, даже если та или иная часть этой массы выйдет на уровень привилегированного меньшинства.
Именно эту фазу мы сейчас переживаем; специалисты мало-помалу распознали ее характеристики в течение последних тридцати лет. Общественность тоже начинает, хотя и с трудом, ее понимать, но и специалисты и общественность часто впадают в ошибку, преувеличивая ее вероятную длительность. Эта фаза суть период построения такого индустриального общества, которое опрокидывает и перевертывает существовавшее с незапамятных времен соотношение между числом работников, занятых производством продуктов питания, и работников, которые могут посвятить себя вторичным и третичным видам деятельности. Вчера работники сельского хозяйства составляли три четверти или даже четыре пятых от всей рабочей силы, сегодня они составляют не больше 5— 10% в наиболее передовых обществах.
1 Fourastié J. La Grande Métamorphose du XXe siècle. Paris, 1961, p. 11.
2 C 1952 no 1960 г. темпы роста национального продукта составляли 8,7% в Японии, 8,3 — в ФРГ, 5,7 — в СССР и странах Восточной Европы, 4,1— во Франции, 3,5 — в США. Эти темпы являются одновременным результатом роста численности рабочей силы и повышения стоимости продукта на одного работника. Во Франции, где объем рабочей силы увеличился не очень сильно, темпы роста национального продукта лишь ненамного выше роста дохода надушу населения.
»846 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
Даже европейские общества, которые изза нехватки пространства практикуют интенсивное сельское хозяйство, умеют или скоро будут уметь кормить себя, имея не больше 10% своей рабочей силы в работе на полях.
Идеологическо-политические проблемы, которые волнуют человечество, а ученые пытаются трактовать их объективно, имеют двуединый исток: возможны различные способы перехода от сель-
скохозяйственного общества к индустриальному, как возможны и разные способы управления этим обществом (то есть принятия решений о распределении ресурсов и доходов); с другой стороны, все коллективы (по меньшей мере, через посредство своих правителей) хотят совершить такой, и притом один и тот же, переход, но они неодинаково продвинулись по этому пути и неодинаково, так сказать, одарены, для выполнения подобной задачи. Конфликт между блоками, если его свести к экономико-идеологическому аспекту, как раз и есть конфликт между этими двумя способами, или, вернее, состояниями. Что же касается напряженности в отношениях между Западом и “третьим миром”, то, поскольку колониализм находится в процессе окончательной ликвидации, такая напряженность имеет своей причиной и базой отставание “третьего мира” и его нерешительность в выборе того или другого способа развития.
Рассматриваемые исторически, оба способа не могут быть поставлены на одну доску. Один служил созиданию, другой — лишь подражанию. Экономика, планируемая во всех деталях авторитарной администрацией, никогда не разрушила бы традиций и не реализовала бы цель достижения некоего подлинного новаторства, но, поскольку достигнут определенный уровень научных знаний и поскольку некоторые страны применяют передовые технологии, то вполне возможно, что имитация плановости и системности может на какое-то время продвинуть дело вперед быстрее, ем опора на частную инициативу. В настоящее время советские общества имеют перед собой пример более развитых индустриальных обществ, и у них, у первых, в некоторых секторах могут быть хорошо организованы научные исследования, причем соответствующие открытия и прочие достижения отчасти зависят от объема вложенных средств. Ничто не мешает тому, чтобы плановые режимы добивались впечатляющих успехов в тех сферах, где они сконцентрировали свои ресурсы: самый редкий и самый ценный ресурс — хорошие мозги.
Как утверждает и подчеркивает советская пропаганда, Запад опасается успехов социализма и опасается не напрасно, ибо эти успехи повлекут за собой упадок Запада. Такая пропаганда содержит некую полуправду. Запад опасается определенных успехов, но также и определенных неуспехов стран, именуемых социалистическими. Страны, переходящие к индустриальному обществу путем имитации плановости, больше преуспевают в промышленности, чем в сельском хозяйстве. Они приобретают средства мощи и могущества прежде, чем могут обеспечить всем своим гражданам хотя бы посредственный комфорт. В одной и той же своей речи г-н Хрущев прославлял подвиг второго советского космонавта и говорил о трудностях снабжения городов продуктами питания. Космонавты прибудут на Луну раньше, чем колхозники смирятся с существованием коллективной собственМир и война между народами • Раймон Арон да 847
Часть IV
ности. И подобно тому как мышь или боксер испытывает все больше и больше удовольствия в борьбе как таковой, если она или он побеждает в каждом поединке, таким же образом всякий режим старается превратить необходимость в достоинство, подчеркнуто выказывает безразличие к деятельности, где он не преуспевает, и всячески превозносит деятельность, где он может блеснуть. Так ли уж важен уровень жизни, если флаг с серпом и молотом удастся первым водрузить на Луне!
Что бы там ни говорил г-н Хрущев, нет никаких шансов, — если только не произойдет какой-нибудь радикальной и непредсказуемой перемены у нас и у них, — на то, что уровень жизни среднего советского человека (комфортное жилье, качественное питание, средства транспорта, льготы для тех или иных коллективов) достигнет к концу века американского уровня. При этом я имею в виду уровень сегодняшнего среднего американца, не говоря уже о том, что будет достигнуто к 2000 оду. Не исключено, хотя и маловероятно, что по промышленному производству Советский Союз к концу века превзойдет Соединенные Штаты либо в валовом исчислении, либо на душу населения. И очень даже возможно, что к 1975 или 1980 г. СССР обгонит США в развитии тяжелой индустрии. Вполне ясно, что абсолютистский режим имеет больше свободы в использовании своих ресурсов: ради соперничества в силе и мощи он может мобилизовать больше людей и больше машин.
И если имитация плановости в индустриальном обществе в комбинации с отвержением либеральных и гуманитарных идей Запада рискует привести к примату мощи над благополучием1, то полный провал имитации, будь то имитация плановости или какая-нибудь другая, а также темпы экономического роста, более низкие, чем темпы роста народонаселения, умножат — в Африке, Азии, Латинской Америке — число деспотических режимов, которые будут особенно враждебны к Западу (а потом, может быть, и к советскому блоку). Пока что, временно, темпы демографического роста в станах “третьего мира” тоже воспринимаются как факт и, учитывая статистические данные на этот счет, привилегированные народы стараются соответственно повышать темпы экономического роста. Некоторые страны в свое время страдали от очень сильного снижения уровня рождаемости. Существуют научные школы, которые опасаются, что снижение темпов роста народонаселения вызовет непропорциональное снижение темпов экономического роста. Такой же точки зрения придерживаются некоторые представители церкви. Все они отрицают, что проблема численности народонаселения является не национальной, а глобальной. Имеются отдельные проблемы народонаселения, говорят они, и это национальные проблемы. В одном месте наблюдается перенаселенность, в другом — относительная депопуляция, и нет никакой проблемы мирового народонаселения. Нигде или почти нигде увеличение числа ртов, требующих пищи, не влечет за собой с необходимостью ни уменьшения индивидуального дохода, ни даже замедления роста этого индивидуального дохода.
Именно в таких рамках развивается “рационализированный пацифизм” 1 Само собой разумеется, что такой риск несравненно более велик применительно к Китаю, чем к Советскому Союзу.
848 Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
середины XX века : господство, или всяческое преобладание, не очень рентабельно, а термоядерная война будет рентабельна еще меньше. Такой пацифизм не исключает риска войны, потому что сверхдержавы нуждаются в ядерном фантоме — в противоборстве друг против друга, а также по отношению ко всему остальному человечеству. И дело не в том, чтобы использовать термоядерные бомбы, а в том, чтобы сохранять у себя в резерве это чудовищное оружие.
Пацифизм не исключает и колониальных войн, потому что отрицательный баланс для нации, рассматриваемой как единое сообщество, оказывается вполне совместимым с положительным балансом для меньшинств, утвердившихся в колони или даже внутри самой метрополии. Желание господствовать над побежденными и заставить их принять нормы цивилизации и идеологии победителя оказывается сильнее и, так сказать, живучее, чем стремление получать экономическую выгоду от колониальной эксплуатации.
Но “рационализированный пацифизм”, — современник осознания индустриальным обществом самого себя в эпоху, когда последнее уже расширяется и распространяется, но пока что еще получило развитие лишь среди меньшинства человеческого рода, — этот пацифизм не есть последнее и окончательное слово. Ибо через полвека, самое большее, уже невозможно будет утверждать, что распределение земли между народами есть свершившийся и завершенный факт и что темпы роста народонаселения—внутреннее дело каждой нации, рассматриваемой индивидуально, а не дело всего человечества. Ведь уже теперь помощь должна предоставляться некоторым странам лишь при условии, что они примут меры по сокращению рождаемости у своего населения. Но что означает в данном случае “должна”? Написав это слово, я мыслил рассудительно: если иметь в виду доступные сегодня темпы увеличения ресурсов, то снижение рождаемости облегчило бы переход к фазе кумулятивного накопительного роста, чего как раз очень хотят все страны “третьего мира”.
На какое-то время проведение такой “рассудительной” политики затруднено по многим причинам: ей упрямо противятся церкви, путая между собой исторически оправданные императивы с волей ГЪспода; биологические способы сокращения рождаемости дорогостоящи и несовершенны; “мальтузианские” действия наиболее необходимы там, где они одновременно и наиболее затруднены, то есть среди бедного населения, верного традициям и не знающего иных радостей, кроме радостей семьи, и потому воспринимающего ее расширение как знак божественного благоволения. Но марксисты-ленинцы пока что отказываются признавать явную очевидность, а именно: возможность наступления допустимого предела численности людей. Однако это практически неизбежно, причем в век, когда наука умножает всяческие ресурсы. При этом все же нельзя сказать, что они совершенно слепы в отношении этой очевидности или что они умышленно не желают ее принимать в расчет.
Но если сегодня страсти, идеологии, враждебные позиции не позволяют разумно подойти ко всемирной проблеме численности населения, то что будет завтра и что произойдет со всеобщей империей? Пока что вполне разумно, чтобы народы по-прежнему занимали то Мир и война между народами • Раймон Арон 849 в
Часть IV
пространство, которое принадлежит им сегодня, разумно поощрять рождаемость во Франции и не делать этого в Алжире, поощрять в Аргентине, но не в Индии и не в Китае, пустить дело на самотек в Советском Союзе и Соединенных Штатах, поскольку обе сверхдержавы имеют резерв пространства и темпы экономического роста, превышающие темпы демографического роста. Однако к концу нынешнего века, когда на земле будет шесть миллиардов человеческих существ, а особенно к концу века следующего, если людей будет еще в три или четыре раза больше, проблема численности народонаселения, хотят того или нет, встанет во всем своем абсолютом значении.
Обратимся к цифрам, простым и потрясающим, которые приводит в своей последней книге Ж. Фурастье1. Предположим, что человек ни в чем не меняет ни физической географии земли, ни ее климата. В таком случае земля не дотягивает сегодня и до 7 млрд гектаров, на которых человек может обитать, “не чувствуя себя политическим ссыльным или объектом научного эксперимента”. Пригодную поверхность можно довести до 15 млрд, если предположить, что часть морей будет заполнена обломками взорванных гор. В 2000 г. 7 млрд гектаров будут иметь плотность населения выше, чем в сегодняшней Франции (0,9 на гектар против 0,8). А если представить себе на этих 7 млрд гектаров такую же плотность, как в сегодняшнем НьюЙорке, то Земле придется нести на себе 700 млрд человек, а на 15 млрд гектаров — 1 500 млрд. При удвоении численности мирового народонаселения каждые сорок лет первая цифра будет достигнута в 2270 г., вторая — в 2310 г. Легко также показать, что нынешние темпы промышленного роста, начавшиеся в 1950г., не могут продолжаться веками: такое невозможно просто физически. “Если бы французское промышленное производство продолжало расти сегодняшними темпами в течение 140 лет, то есть 7% прироста в год, то мы произвели бы в 2100 г. 12 х 214 млн тонн стали — цифра, близкая к 100 миллиардам тонн, а мировое производство стали составило бы цифру порядка 15 000 млрд тонн”1 2.
Таким образом, ныне переживаемый нами период исключителен в том, что касается как демографического, так и экономического роста. Через несколько десятилетий, самое большее через однодва столетия, потребуется, чтобы естественные механизмы замедления умножения численности рода человеческого уступили место добровольному регулированию. Вместе с тем, станет возможным стабильное экономическое положение: распределение рабочей силы между различными сферами больше не будет меняться резко и болезненно: усилия будут направлены больше не улучшение качества существования, чем на увеличение количества тех или иных благ; основные нужды (жилье, одежда, транспорт, связь) будут удовлетворяться и, быть может, даже с избытком.
Может случиться так, что сознательного и добровольного регулирования численности населения достичь не удастся и народы окажутся неспособными договориться между собой о совместном регулировании, и тогда борьба за пространство достигнет столь высокой степени насилия, какая была неизвестна 1 Fourastlö. op cit Р 16.
2 Ibid., р 58.
«850 ж Раймон Арон • Мир и война между народами
Праксиология
в прошлом. Конечно, для такого случая "рациональным" решением была бы всеобщая империя. Но это было бы решение ддя одного народа-хозяина, который был бы волен распределять по своему усмотрению пространство и ресурсы, причем самым ценным из этих ресурсов оставалось бы именно пространство.
Придет ли в конце концов исторический человек к рассудительности и справедливости? Если да, то народы организуют свое сосуществование на планете, а для соперничества найдут другие сферы. Похож ли исторический человек, по меньшей мере, на волка, щадящего себе подобного, когда тот подставляет ему глотку в знак капитуляции? Как крайнее средство пригодна и всеобщая империя, потому что с течением времени хозяева предоставляют свободу своим рабам. Но человек не всегда проявляет милосердие, как это обычно делает волк; зачастую человек ведет себя как голубь, а тот безжалостен к побежденному. “Настанет день, когда две воюющие между собой стороны будут иметь возможность полностью уничтожить друг друга. Может настать день, когда все человечество будет разделено на два противоположных лагеря. Поведем ли мы себя тогда как голуби или как волки? Ответ на этот вопрос решит судьбу человечества”1 .
1 Konrad Z. Lorenz, op. cit. P. 199.
Мир и война между народами • Раймон Арон ¥'.;Лс.х.. 4 < <• < « '"Л-6 851
Финальные замечания
не приносит никакой пользы для изучения стратегии, потому что последняя по-прежнему относится исключительно к компетенции военных. Лично я не поддержал бы точки зрения ни того, ни другого из этих авторов.
Сопоставлением игры и войны начали заниматься задолго до появления математической теории стратегических игр. Гйзинг в весьма известной книге “Homo Ludens” (“Человек играющий”)1 многократно ссылался на авторов, которые, изучая различные цивилизации, выявили элемент игры в войне. Согласно Гйзингу, война “может рассматриваться как одна из функций культуры, до тех пор, пока она ведется в пределах определенного круга, члены которого признают друг друга равными или по меньшей мере, равными в правах”1 2. Когда между воюющими сторонами существует такое взаимное признание, тогда война представляется как односторонее явление, она агоналъна, то есть это испытание сил, при котором каждый стремится одержать верх над другим скорее ради славы, нежели для выгод от победы. И историк, не колеблясь, пишет: “Даже при наличии развитых культурных отношений и даже если государственные деятели, готовящие конфликт, превращают его в дело, от которого зависит власть, все равно стремление к материальному могуществу чаще всего подчинено мотивам гордости, славы, престижа и внешних проявлений превосходства и верховенства. Такое общее понятие славы гораздо более реалистично объясняет все крупные завоевательные войны от античности до наших дней, чем любая хитроумная теория экономических сил и политических расчетов”3. Поединки соперников в рыцарских доспехах или со шпагами в руках и кружевами на рукавах — таков, так сказать, расцвет действия игрового и одновременно агонального. Место и время боя устанавливается с общего согласия; обе стороны считают делом чести не нарушать правил, потому что победа не будет иметь никакой ценности, если она достигается нечестными способами. Такое испытание сил остается, тем не менее, серьезным, а не наигранным, и хотя смерть противника не обязательна для славы победителя, она вполне может оказаться результатом борьбы.
Бергсон полагал — и, на мой взгляд, неправомерно, — что рыцарские бои — это не настоящие войны, а некие репетиции для человеческого рода и, так сказать, тренировки к безжалостным бойням, результатом и целью которых являются грабежи и массовые убийства. Лично я предпочитаю утверждать вместе с Гйзингом, что состязательность и соперничество престижей составляют немногие из человеческих элементов военной и воинственной институции, но что зиждется война просто-напросто на жестокости, без всякого человеческого содержания. В играх, спорте, рыцарских поединках преобладают все же гуманные мотивы, и определенная сдержанность в насилии объясняется уважением и соблюдением каждым правил, а также и своим собственным чувством чести. Но на всех уровнях цивилизации жестокость всегда угрожает 1 Homo Ludens. essai sur la fonction sociale du jeu. Paris, Gallimard, 1951 (первое голландское издание вышло в 1938 г.).
2 Ibid., р. 151.
3 Ibid., р. 152.
»
Раймон Арон • Мир и война между народами
Свобода. Париж. 1944 г.
РАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
И РАЗУВШАЯ ПОЛИТИКА
Знаменитый экономист Оскар Мор-
генштерн в конце своей книги "Вопрос
о национальной обороне" дал резко
критическую картину состояния
политической науки:
Так называемые "политологи"
потратили массу времени и усилий,
чтобы произвести некое количество знаний
весьма мало пригодных нам для
ориентировки и решения дилеммы, которая
ныне определяет нашу жизнь, —
знаний, образующих забавную смесь
конституционного права, истории и
описания политических институций всякого
рода, причем все это щедро усыпано
категорическими мнениями и
"ценными" суждениями. Некоторые руководства
к действию появляются ради какого-
нибудь случая — например,
аналогично тем, что высказывал Макиавелли.
Они могут быть, а могут и не быть
"хорошими" и "респектабельными"; по
меньшей мере, они выражают лишь
попытку сформулировать правила, следуя
которым, люди могли бы попробовать
достичь своих целей в тех или иных
политических ситуациях. Пока что из
всех социальных наук только
экономическая наука способна добиться хотя бы
минимума операциональной ценности.
Мы знаем, к примеру, как вызвать или
остановить инфляцию, как облагать
налогом доход, не разрушая источника
этого дохода, и много всяких других
вещей. Но мы не знаем еще, как
стабилизировать занятость, как сравнить
между собой налоговое бремя для очень
различных лиц, как выполнить немало
других весьма важных задач.
Политическая наука может помочь нам составить
конституцию, способную
функционировать, но не подскажет, применима ли
эта конституция в той или иной
стране. Во всяком случае она очень мало
способствует и даже вовсе не дает
оснований для решения проблем, с которыми
сегодня сталкивается человечество и из
которых самая важная — знать, как
жить под тенью страха, как добиться
стабильности и безопасности всех
участников самой ужасающей борьбы из
всех ее видов, в какие когда-либо
вовлекался род человеческий. Она ничего
не говорит нам о способах, какими
можно было бы выправить или
предотвратить растущее неравновесие,
вызываемое в мире ростом населения, а также
углублением и расширением пропасти
между бедными и богатыми странами.
Каковы бы ни были переговоры,
которые возможны с коммунистическим
блоком, они непременно предполагают
некий торг (bargaining) самого
деликатного и самого трудного свойства. Как и
в военной сфере, здесь тоже
приходится сталкиваться с необходимостью
принятия решений в обстановке
неуверенности. Причем эта ситуация относится
не к числу простых и хорошо известных.
Возникающие проблемы не могут быть
Мир и война между народами • Раймон Арон
855
Финальные замечания
устранены с помощью теории вероятности, так как относятся к числу чрезвычайно сложных. Неуверенность в своих дальнейших действиях создается стратегическими маневрами противника, который сам находится во власти таких же затруднений. А ведь именно по этой проблематике политическая наука должна была бы внести свой самый существенный вклад. Ничего такого не предложено, разве что математические способы, относящиеся к теории игр в области стратегии, да и сами “политологи”, за очень немногими исключениями, практически не обратили никакого внимания на эту теорию. До сих пор политическая наука не формализовала и не обобщила советы и рекомендации Макиавелли, с тем, чтобы выяснить, можно ли построить на этой основе единую и прочную систему правил поведения”1.
Приведенная нами пространная цитата представляет собой смесь строгости суждения и путаницы, глубины и наивности, характерных для некоторых научных умов, когда они берутся за проблемы, выходящие за рамки их специальной дисциплины, а особенно если начинают рассуждать о политических проблемах. Да, совершенно бесспорно, что политическая наука не операциональна в том смысле, в каком операциональны физика и даже некоторые разделы экономической науки. Остается, однако, выяснить, кроется ли причина этого в недостаточности знаний, да и в нехватке самих ученых, или же в самой структуре данного предмета и соответствующего вида деятельности.
Возьмем для примера Конституцию. Связанная с ней проблема — а именно, какая Конституция подходит тому или иному народу, — известна мыслителям, строго говоря, вот уже несколько тысяч лет. Проблема эта никогда не была полностью преодолена философами и политологами, но и когда за дело брались математики и физики, у них тоже ничего не получалось. Рассуждая абстрактно, можно двумя способами определить, пригодна ли, то есть способна ли функционировать какая-либо конституция: 1) либо формальным и абстрактным анализом, сравнимым с анализом свободного рынка или “планирования со свободным рынком в сфере предметов потребления”; 2] либо экспериментальным путем (выявление и сопоставление конституций, которые реально функционировали). Чаще всего использовались — так сказать, на конкурентной основе — оба способа. Но ни тот, ни другой не дают определенного и ясного результата. Перечисление переменных величин и факторов, от которых зависит функционирование Конституции, никогда не бывает исчерпывающим и законченным. Количество экспериментов в этой области крайне недостаточно, интерпретировать их очень трудно, и каждый конкретный случай имеет такие неповторимые особенности, которые ставят под большое сомнение ценность “уроков истории” или “выводов науки”. Даже когда “вывод” или “урок” вероятен (назовем, к примеру, трудности, сопряженные с пропорциональным голосованием), всегда найдутся члены Учредительного собрания, которые станут выдвигать на первый план исключения из правил, чтобы оправдать то или иное свое предпочтение, продиктованное чистейшим эгоизмом (способ голосова1 О. Morgenstern, La Question de la defense nationale, p. 263—265.
и 856 Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
ния может устраивать какую-нибудь одну партию, но не устраивать режим в целом). Поведение людей, исполняющих конституционный закон, непредсказуемо ввиду чрезмерного влияния, которое могут оказывать на них один или несколько человек, и тогда следует ожидать повышенного числа убийств и самоубийств. но никак не мудрых решений деятеля, избранного электоратом, а еще меньше можно предвидеть ту конкретную обстановку, в которой мудрость избранника все-таки в состоянии проявить себя. Два первых Президента Республики могут в значительной мере способствовать как успеху, так и неуспеху Французской конституции 1958 г.
Можно ли подвергнуть научному анализу вопросы, поставленные Макиавелли, к примеру такой: хорошо ли для государя, когда его скорее боятся, чем любят? Нет даже нужды перечитывать Пруста и маркиза де Кюстина, чтобы усвоить следующее: чувства людей к их тиранам многократно неоднозначны. Но оставим в стороне эту неясность и зададимся другим вопросом: что лучше для репутации государства — презирать или уважать и соблюдать международное право? Два автора, пытающиеся ответить на этот вопрос, противоречат сами себе, утверждая на одной странице преимущество одной части этой альтернативы, а чуть ли не на следующей — преимущество другой1. Ввиду невозможности применить здесь какой-либо количественный метод, я очень сомневаюсь, что наука вообще может как-то строго и точно определить каждое из этих преимуществ. А что касается совета, данного одному узурпатору: истребить всех членов правящего семейства, — то несколько лет назад такому совету последовали в некоей ближневосточной стране, притом не без благоприятного результата: новый правитель до сих пор пребывает у власти. Однако, даже не напоминая о том, что “никто не может сказать, что он счастлив, пока не наступит его последний час”, и что долгосрочные последствия убийств такого сорта далеко еще не ясны, можно утверждать, что изречения, подобные макиавеллевским, относятся также и к компетенции моралистов.
Что касается якобы безразличия политологов к теории игр, то оно явно преувеличено одним из соавторов знаменитой книги “Теория игр и экономическое поведение”, поскольку недавно другой ученый, физик П.М.С. Блеккет1 2, напротив, упрекал американских специалистов в чрезмерном увлечении теорией игр, которая, писал он, практически 1 “Черчилль превосходно понимал... важность репутации, полученной благодаря добродетельному поведению... Репутация, оправданная поведением, основанным на твердых принципах, весьма полезна и выгодна народу. В этом случае соглашения выполняются, предложения рассматриваются, и можно рассчитывать на их реализацию" (Morton A. Kaplan and Nicholas de B. Katzenbach. The political foundations of international law. p. 344). А далее, на с. 348 сказано: “С того времени, как Советский Союз стал более революционным чем Соединенные Штаты, и более способным в политическом аспекте, принимать меры, необходимые для эксплуатации результатов технологического развития, будь то жесткий политический торг или угроза удара возмездия в случае войны, его отношение к нормативным правилам, естественно, более инструментально, чем отношение Соединенных Штатов. Это накладывает тяжелое бремя на Соединенные Штаты, потому что они должны теперь нести основную долю издержек и много других тягот в целях поддержания желаемых нормативных правил международного права... Поэтому Советский Союз предъявляет все более и более растущие требования, которые западная общественность рассматривает как правомерные и справедливые, потому что нельзя ждать от Советского Союза какой-либо иной позиции”.
2 Encounter, avril 1961 : critique of some contemporary defense thinking (критика некоторых современных образцов военного мышления).
Мир и война между народами • Раймон Арон 857 :
Финальные замечания
не приносит никакой пользы для изучения стратегии, потому что последняя по-прежнему относится исключительно к компетенции военных. Лично я не поддержал бы точки зрения ни того, ни другого из этих авторов.
Сопоставлением игры и войны начали заниматься задолго до появления математической теории стратегических игр. Гйзинг в весьма известной книге “Homo Ludens” (“Человек играющий”)1 многократно ссылался на авторов, которые, изучая различные цивилизации, выявили элемент игры в войне. Согласно Гйзингу, война “может рассматриваться как одна из функций культуры, до тех пор, пока она ведется в пределах определенного круга, члены которого признают друг друга равными или по меньшей мере, равными в правах”1 2. Когда между воюющими сторонами существует такое взаимное признание, тогда война представляется как односторонее явление, она агоналъна, то есть это испытание сил, при котором каждый стремится одержать верх над другим скорее ради славы, нежели для выгод от победы. И историк, не колеблясь, пишет: “Даже при наличии развитых культурных отношений и даже если государственные деятели, готовящие конфликт, превращают его в дело, от которого зависит власть, все равно стремление к материальному могуществу чаще всего подчинено мотивам гордости, славы, престижа и внешних проявлений превосходства и верховенства. Такое общее понятие славы гораздо более реалистично объясняет все крупные завоевательные войны от античности до наших дней, чем любая хитроумная теория экономических сил и политических расчетов”3. Поединки соперников в рыцарских доспехах или со шпагами в руках и кружевами на рукавах — таков, так сказать, расцвет действия игрового и одновременно агонального. Место и время боя устанавливается с общего согласия; обе стороны считают делом чести не нарушать правил, потому что победа не будет иметь никакой ценности, если она достигается нечестными способами. Такое испытание сил остается, тем не менее, серьезным, а не наигранным, и хотя смерть противника не обязательна для славы победителя, она вполне может оказаться результатом борьбы.
Бергсон полагал — и, на мой взгляд, неправомерно, — что рыцарские бои — это не настоящие войны, а некие репетиции для человеческого рода и, так сказать, тренировки к безжалостным бойням, результатом и целью которых являются грабежи и массовые убийства. Лично я предпочитаю утверждать вместе с Гйзингом, что состязательность и соперничество престижей составляют немногие из человеческих элементов военной и воинственной институции, но что зиждется война просто-напросто на жестокости, без всякого человеческого содержания. В играх, спорте, рыцарских поединках преобладают все же гуманные мотивы, и определенная сдержанность в насилии объясняется уважением и соблюдением каждым правил, а также и своим собственным чувством чести. Но на всех уровнях цивилизации жестокость всегда угрожает 1 Homo Ludens. essai sur la fonction sociale du jeu. Paris, Gallimard, 1951 (первое голландское издание вышло в 1938 г.).
2 Ibid., р. 151.
3 Ibid., р. 152.
»
Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
барьерам, воздвигнутым культурой, а животная ярость способна задушить чувство человеческой общности в душах бойцов.
Гйзинг убежден, что война имеет тенденцию отдаляться от игры, формализованной и имеющей свои пределы, по мере того как борющиеся индивиды или группы воинов утрачивают осознание своей принадлежности к человеческому роду. “Если дело идет о борьбе против групп, члены которых по существу нападающими не признаются за людей или, по меньшей мере, считаются существами, лишенными человеческих прав — называют ли их “варварами”, “дьяволами”, “язычниками” или “еретиками”, то такая борьба будет оставаться в “границах” культуры лишь в той степени, в какой сама борющаяся против них группа как-то ограничит свои действия ради поддержания собственной чести”1. Реальность, как представляется, более сложна. Стремление взять верх, лежащее в истоке всякой состязательности, может, при некоторых обстоятельствах, спровоцировать всяческие крайности, хотя каждая из борющихся сторон будет по-прежнему следовать своим обычаям и запретам. Сам по себе дух состязательности чужд аппетитам добытчика, грабителя и человекоубийственной ярости, но порою он вызывает и то и другое, потому что этот дух с трудом смиряется с компромиссами или переговорами. Больше того, даже когда борющиеся между собой социальные группы кажутся сторонним наблюдателям очень близкими друг ДРУГУ> все равно одна сторона легко становится “варварской” в глазах другой, и каждая быстро начинает искать, так сказать, священного удовлетворения за счет другой. Это может служить для нее свидетельством, что фортуна ей благоприятствует и находится на ее стороне: война есть азартная игра и одновременно состязание.
Архаические общества, как и общества исторические, знали и ощущали амплитуды колебаний между жестокостью и формализованной борьбой, между соблюдением правил и исключающей их волей к успеху любой ценой, между благородным соревнованием и неуемной жаждой власти и богатства. Инструментальная рационализация войны, завершение которой мы наблюдаем сегодня, сама по себе не порождает гибельной угрозы для человечества, повсеместной жестокости и дегуманизации. Быть может, как полагает Гйзинг, новейшие тенденции, направленные на возрождение духа войны, фактически восходят к ассировавилонскому пониманию войн. Но их рационализация способна приблизить такую угрозу и сделать ее более серьезной, чем когда бы то ни было. Сами армии и виды их вооружений, а не отказ признать во враге достойного противника, рискуют вытравить последние остатки игрового момента из военных и воинственных институций.
В тот день, когда произойдут обмены термоядерными ударами, исчезнет всякий след игры. Но дипломатическо-стратегическое соперничество, до тех пор пока оно существует под гленью апокалипсиса, чрезвычайно сложно и комплексно, чем когда-либо раньше, поскольку оно охватывает все актуальные и потенциальные элемен1 гыа., р. 151.
Мир и война между народами • Раймон Арон
859
Финальные замечания
ты, которые в обычных условиях отделены один от другого.
Недавно один автор1 провел различие между борьбой (fight), игрой и спором. В борьбе противники стараются нанести друг другу ущерб (the object — if any — is to harm the opponent), в игре они стремятся взять хитростью и интеллектом (outwit). Наконец, в споре они пытаются убедить один другого или же убедить третьих лиц, нейтральных и не заинтересованных в поддержке ни одой из сторон, но стремящихся решить спор. Такое различие привлекательно на концептуальном уровне, но совершенно очевидно, что почти всякая борьба содержит элемент интеллекта, а большинство игр имеет составляющую в виде силы: в шахматах состязание интеллектов представляется в чистом и полном виде; зато даже в вольной борьбе или при поднятии тяжестей интеллект (или техника) не единственный фактор победы, а лишь одна из ее составляющих. Дип л оматическо - стратегическое состязание есть, по определению, смесь борьбы и игры, поскольку оно представляет собой проявление желания перехитрить (или, как говорят иногда в таких случаях, обогнать противника), но при этом каждая из сторон держит в запасе “последний довод” (ultima ratio), то есть силу. Ясно также, что спор никогда не бывает в совершенно чистом виде не только потому, что при этом происходят колебания между стремлением убедить и искушением применить силу, но и потому, что, исчерпав аргументы, один из спорщиков частенько принуждает другого к смирению и подчинению (кремлевские деятели предпочли бы, чтобы венгры были убеждены в преимуществах “социализма”). Американские лидеры и даже профессора находятся в плену великой иллюзии, когда воображают, будто русско-советское притязание на решение судеб стран “третьего мира” похоже на турнир великодушия или на коллоквиум экономистов, когда объем безвозмездной помощи этим странам или обеспечиваемые им темпы роста экономики являются решающим аргументом в пользу того или другого лагеря. Истинно лишь то, что, в зависимости от времени и обстоятельств, в международных отношениях преобладает либо прямая борьба, либо соревнование интеллектов в сфере стратегии, либо спор. Между испанцами Кортеса и ацтеками не был возможен просто спор. Никакой интеллект не спас бы венгров от советских дивизий. В дни, когда атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки, японцы могли лишь страдать.
Стратегический интеллект и стремление убедить противника сводятся к нулю лишь в верхних точках борьбы, когда мускулы воинов напряжены, а мечи ударяются о щиты или когда бомбы и снаряды обрушиваются на солдат и города. В обычных же условиях, будь то в мирное или военное время, практикуется ли стратегия (ведение операций) или дипломатия (ненасильственные способы действий), или одновременно то и другое, — в этих условиях всегда действует интеллект: каждый стратег, готовый принять какое-то решение, ждет реплики, реагирования от противника, и само это ожидание безусловно влияет на его собственное решение. Проблема заключается в том, что1 Anatol Rapoport. Fights, games and debates. Ann Arbor, Michigan Univ. Press, 1960.
860 шшшшжмммнмммк Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
бы знать, в каком смысле и направлении математическая теория стратегических игр позволяет обосновать решения, которые традиционно принимаются государственными деятелями и военными руководителями, исходя из интуиции или приблизительной оценки шансов и риска.
Матрицы теории игр оказывают политологам, по меньшей мере, троякую услугу. Они приучают их к своего рода дисциплине мышления, к учету и анализу всех возможных случаев в той или иной данной ситуации. Они помогают им конструировать идеальные типы конфликтных конъюнктур (игры с двумя игроками, с N игроками, с нулевым или ненулевым исходом). Матрица позволяет придать абстрактную форму диалектике антагонизма: решения не с учетом будущего, о котором мы ничего не знаем, и не с учетом такого будущего где каждое событие нам известно, но в ситуациях, когда приблизительная частота различных классов событий известна. Стратегические решения образуют цепь, каждое решение вызывает появление следующего, а это следующее, как правило, противопоставляется предыдущему. Игрок в шахматы делает ход пешкой в ответ на передвижение пешки противника: таким же образом стратег поступает по отношению к своему противнику.
Но, определив природу и характер дипломатическо-стратегического поведения, политологи выполнили и другую необходимую задачу выявив разницу между упрощенными моделями, подающимися математической обработке и конкретными ситуациями. Эта разница, как мне представляется, может касаться как степени сложности исследуемых явлений, так и их природы и характера. Вообще дипломатическо-стратегические игры — это игры с N игроками, а не с двумя; они не бывают играми с нулевым итогом. Иначе говоря, то, что выигрываю я, не всегда равно тому, что проигрывает другой: имеется доля сотрудничества между противниками и элемент соперничества между союзниками. Очень редко раскрываются все возможности, из которых сделало бы свой выбор каждое действующее лицо. Однако, сколь бы серьезны ни были эти классические затруднения, они не имеют такого радикального характера, какой имеет неопределенность ставок и пределов игры. Чтобы проводилась игра в строгом смысле этого понятия и чтобы оказалось возможным математическое решение, которое выявило бы и определило рациональное поведение, нужно, чтобы были начало и конец определенное число ходов каждого игрока и результат поддающийся оценке, количественной или порядковой, со стороны каждого из игроков. Собственно говоря ни одно из этих условий не выполняется в области международных отношений.
И в самом деле, можно ли дать количественную или порядковую оценку ставки в том или ином стратегическодипломатическом соперничестве? В надежде квантифицировать эту оценку теоретики иногда уподобляли мощь и полезность, в результате получалось, что мощь как бы выступает всеобщим средством, обслуживающим дипломатические действия, как деньги выступают всеобщим средством в действиях экономических. Но, как мы уже видели1, та1 См. Гл. III. 4.
Мир и война между народами • Раймон Арон
861 «ж
Финальные замечания
кое уподобление вызывает немало возражений. Само средство, собственно говоря, не конкретизировано (ресурсы, определенные силы, мощь); оно не нейтрально, и его невозможно отделить от подлинных целей какого-либо действия, тогда как деньги вполне отделимы от конкретных предпочтений каждого. Наконец, постоянно меняется общая конфигурация соотношения сил. Мощь и могущество какого-то одного сообщества зависят от позиции, поведения всех других сообществ, так что абсолютное увеличение мощи, с одной стороны, фактически может выразиться в ее относительном уменьшении — с другой.
Тем не менее вполне допустимо дать приблизительную оценку ставки в дипломатическо-стратегической игре: например, разве не очевидно, что Лаос для Соединенных Штатов, как и для Советского Союза менее ценен, чем Берлин? Все мы с этим согласны. Но одного лишь понятия плюса и минуса недостаточно, чтобы дать сколько-нибудь приемлемое математическое решение проблемы, а значит, и рациональную рекомендацию. Давайте сопоставим различные возможные исходы лаосского кризиса:
1) весь Лаос стал коммунистическим без военного вмешательства Соединенных Штатов;
2) весь Лаос стал коммунистическим после военного вмешательства Соединенных Штатов;
3) Лаос разделен на коммунистическую и некоммунистическую зоны;
4) Лаос управляется так называемым нейтральным правительством, в котором, однако, преобладает коммунистическое влияние.
Что и чему предпочтет американское правительство: третье четвертому или четвертое третьему? Вероятно, оно предпочтет первое второму, но можно ли четко определить соотношение расхождений между первым и вторым, с одной стороны, и третьим и четвертым, с другой? Предпочтет ли, со своей стороны, советское правительство первое второму или второе третьему — иначе говоря, предпочтет ли оно, чтобы Соединенные Штаты обнаружили неспособность защитить Лаос посредством робкого вмешательства или полного невмешательства? Предпочтет ли оно раздел страны ее полунейтралитету? Каждомут з игроков в этом сравнительно простом и изолированном случае будет довольно трудно соорудить свою собственную иерархию предпочтений, а еще труднее — догадаться о такой же иерархии противника. Что же касается определения количественных параметров или степени расхождений между всеми указанными вариантами, то каждый из участников этой игры усмотрит в таких попытках лишь некое интеллектуальное упражнение.
Больше того: игрок возразит, что ценность ставки или относительная ценность различных исходов кризиса меняется в ходе самого кризиса. Советизация Лаоса, после того, как в боях примут участие два батальона американской морской пехоты, представляет собой гораздо более тяжелую потерю, чем та же самая советизация, но без официального вмешательства американских солдат. Следовательно, выдвижение вперед пешки под названием “морской пехотинец” автоматически меняет саму игру и ценности различных исходов. Чтобы вернуться к какой-то определенной структуре стратегической игры, придется отменить все ходы пешек, меняющие ценность результатов (pay-off), и рассуждать о двух отдельных играх, «в 862 Раймон Арон« Мир и война между народами
Финальные замечания
каждая из которых определяется ценностями, зависящими только от разрешенных, заранее обусловленных передвижений фигур (невмешательство морских пехотинцев, в одном случае, их вмешательство, в другом). Однако каждая из этих двух игр фундаментально отличается от реальной стратегическо-дипломатической игры, поскольку последняя имеет важнейшей характеристикой возможное применение оружия, а это, в большинстве случаев, чревато неподдающимися исчислению случайностями развертывания операций и вероятной трансформацией факторов полезности и даже иерархий предпочтений вследствие того, что антагонизм приобрел военный характер. Если после боя теряют провинцию, то это значит, что одновременно и поигрывают бой, и теряют провинцию: иногда соглашаются потерять провинцию, но не проиграть бой. Не надо спешить называть это “иррациональностью”. Самолюбие неразрывно связано с состязательностью. Идет ли речь о дипломатии, шахматах или американском футболе — везде каждый игрок ставит своей вполне правомерной задачей не поддаваться нажиму воли другого игрока.
Кроме того, даже безотносительно к самолюбию, ценность ставки становится иной в результате развертывания кризиса: для государств игра не заканчивается никогда, поскольку их, так сказать, конечная ставка для каждого государства — никогда не быть исключенным из игры. Любая изоляция какой-то дипломатической игровой партии или какой-то ставки искусственна: исход одной игровой партии меняет условия следующей партии, и престиж участников либо расшатывается, либо укрепляется в зависимости от занятой позиции. Соединенные Штаты три года воевали в Корее не ради спасения Южной Кореи, а ради спасения собственной чести, ради репутации страны, которая всегда верна своим обязательствам. Ценность ставки, следовательно, неотделима от глобального исторического контекста, от результатов, предвидимых и непредвидимых, от той манеры, в какой ведется и заканчивается игровая партия. Игрок не может оценить потерю или выигрыш своего противника лишь в зависимости от физических свойств и особенностей ставки. Он, конечно, не обязан безоговорочно подписываться под той оценкой, которую пытается навязать ему противник, но он должен учитывать это обстоятельство. Даже в том, что касается квалификации результатов (pay-off), психологию игроков невозможно отделить от математических способов решения задачи.
Конечно, существуют некоторые стратегические (но не дипломатические) решения, которые представляют собой эквивалент игры со строго математическим решением. На лекции в Сорбонне во втором триместре 1960/61 г. М. Вормс привел следующий пример: японский конвой должен был проследовать из Рабаула (Новая Британия) в Лаэ (Новая Гвинея). Поэтому возможны два маршрута — северный, где видимость довольно плохая, и южный, где она была лучше. Ограниченное число эскадрилий вынуждало американское командование сконцентрировать свои разведывательные самолеты лишь на одном из этих путей. Каждый из противников имел, следовательно, выбор между двумя стратегиями, то есть между двумя путями: американцы — чтобы сконцентрировать там свои эскадрильи, японцы — чтобы провести свой конвой. Если американМир и война между народами • Раймон Арон 863 —
Финальные замечания
цы сосредоточат свои эскадрильи на южном направлении (где видимость хорошая), и японцы тоже выберут его, то конвой будет быстро обнаружен, и он подвергнется систематической бомбежке почти все время нахождения в пути, то есть три дня. Но если японцы выберут северное направление, конвой будет засечен с сильной задержкой, и бомбежка продлится не больше одного дня. Зато если американцы сконцентрируют эскадрильи на севере, они в любом случае будут иметь два дня для бомбардировки либо потому, что конвой на севере будет обнаружен быстро, либо потому, что, взяв оттуда курс на юг, где видимость хорошая, хотя бы несколько американских самолетов довольно быстро засекут конвой. Вот соответствующая матрица. Где А обозначает американскую стратегию, Я — японскую:
А
Я
Северный путь
Южный путь
61
б2
Концентрация на юге (ар
1
3
Концентрация на севере (а2 )
2
2
Американцы сконцентрировали авиацию на севере и обнаружили японский конвой. Они обеспечили два дня бомбардировок, и японцы тоже рассчитали продолжительность возможных бомбардировок в два дня. Оба игрока приняли “стратегию осторожности”.
Этот пример чистой стратегии, а не стратегии-дипломатии, предполагает эквивалентность между числом дней бомбардировки и результатом игры (что устраняет момент случайности в развертывании военных операций). Однако в данном случае образовалась некая “седловина”, (saddle point): осторожность одного игрока встретила осторожность другого. Но мы легко можем вернуться к матрице, переменив в ней показатели:
А
Б1
6i
б2
а1
0
2
а2
3
-1
Имея шанс выиграть 3, А склонен выбрать а2, но тогда он рискует потерять 1. Если он изберет стратегию осторожности, то он выберет аг что обеспечит ему, по меньшей мере, нулевой результат партии. Со своей стороны, Б склонен выбрать б2, что позволит ему выиграть 1, если А сыграет а2. Но, опасаясь потерять 2, если А сыграет ар он проявит осторожность и выберет бг Тем не менее он сыграет б2, если будет подозревать, что А сыграл а2 в надежде, что он, Б, предугадывая ход ар сыграет бг Предполагая, что А проделал такой расчет, он решает расстроить его планы и играет б2. Но А, в свою очередь, может догадаться и о таком расчете и расстроить его, и так далее до бесконечности. Иначе говоря, при отсутствии “седловины” и если дело идет об одномединственном ходе, то игра не имеет “рационального” решения, и разумную политику будут определять психологическая интуиция, склонность к риску или склонность к обеспечению безопасности.
Теория игр, как известно, преодолела трудность, связанную с отсутствием saddle point, сделав это с помощью так называемой смешанной страте1 Автор здесь переходит от обозначения “Я" (Япония) к нейтральному “Б" — прим, перев.
шш 864 Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
гии1. Вполне возможно, что идея оптимальной стратегии содержит аналогичные выводы и уроки и в области дипломатии: когда противник имеет возможность обеспечить себе преимущество, зная заранее о нашем решении в той или иной конкретной ситуации, то наилучший способ лишить его такого знания — это выбирать наудачу, без видимого порядка, одно или другое из возможных решений. Именно такой рецепт используется при нападении на “закрытую сторону” в регби и при обманном ударе в теннисе (не действовать всегда одинаковым образом в определенной и одинаковой обстановке). Но оптимальная стратегия в качестве рационального решения предполагает строгую и точную оценку результатов, которые получит каждый из игроков от каждого из решений, а также точное определение границ и пределов самой игровой партии. Однако в большинстве случаев обращение к оружию (что составляет одну из возможных стратегий) вводит коэффициент неопределенности и неуверенности, который создает немалое расхождение между моделью и действительностью.
Дипломатическая обстановка, связанная с термоядерной двуполюсностью, холодной войной, выбором между классическим и атомным оружием, побудила американских авторов провести многочисленные аналитические исследования типических ситуаций — дело безусловно полезное при условии, однако, что не забывается наличие интервала между схемой и исторической действительностью. Иногда производятся расчеты объективной вероятности какого-либо события, основанные на качестве вооружений. Например, если известны точность попадания в цель зарядов баллистических ракет и степень надежности защиты военных баз, то сколько требуется баллистических ракет, чтобы с вероятностью от 90 до 95 процентов уничтожить 50 американских баз межконтинентальных бомбардировщиков или 10 установок для запуска ракет? Иногда рассчитывается вероятность дипломатического или военного реагирования какого-либо из стратегов при заранее известной ставке (например, Берлин) и вероятной цене применения либо классического, либо атомного или термоядерного оружия.
1 Математики доказывают, что наилучшая стратегия, в приведенной игре, определяется следующим образом: разница между клетками первой строки составляет 2, между клетками второй строки — 4. Отношение между этими двумя разницами — а именно 4/2, то есть 2/1, будет определять частоту, с которой А должен будет выбирать а, и а2 то есть 66 2/3 и 33 1/3 от 100% времени (каждый раз, единократно, А выбирает наудачу а! или а2). Стратегия Б таким же образом определяется отношением разниц между клетками колонок. Поскольку тут разницы одинаковы, Б должен будет выбирать с одинаковой частотой б,.и б2. Обе эти смешанные стратегии являются наилучшими. Каждый раз, когда Б будет выбирать бг А будет выигрывать 0 два раза из трех и 3 один раз из трех. Следовательно, в среднем он будет выигрывать 1. Каждый раз, когда Б будет выбирать б2, А будет выигрывать 2 дважды из трех раз и проигрывать 1 единожды из трех раз, что и выражается как (2 х 2/3 — 1 х 1/3) = 1 и представляет собой цену игры. Свою ситуацию Б может улучшить лишь отказавшись от оптимальной стратегии, что возвращает нас в “психологический круг", из которого мы поначалу вышли.
Эта модель находила различные применения в области военного искусства, и она даже еще может применяться в решении простых стратегических проблем. Достаточно модифицировать проблему двух маршрутов и двух конвоев, упразднив “седловину", и тогда одна лишь “смешанная стратегия" будет давать какое-либо решение, причем это решение со всей очевидностью требует повторения ходов, с тем чтобы каждый игрок действительно мог наудачу выбирать то или иное решение из тех, которые предлагаются ему, и делал это с частотой, которую определяет соотношение разниц цены на двух строках или в двух колонках.
Мир и война между народами • Раймон Арон , ' 865
Финальные замечания
Расчеты первого типа, сами по себе вполне правомерные, должны корректироваться коэффициентом неопределенности, а последний невозможно оценить даже приблизительно (до какой степени совершенно знание расположения и сопротивляемости баз? До какой степени боевые запуски будут адекватны тренировочным? и т. д.).
Расчеты второго типа представляются мне скорее опасными, нежели полезными: они создают видимость строгости и точности решений, которые, самое большее, всего лишь прикинуты в уме и, что особенно существенно, идут вразрез с характером и процессом самого мышления. Прежде всего, никогда нельзя определить ставку игры, потому что она неотделима от глобального конфликта, а ставка в таком конфликте стратегам не может быть известна. Чем рискуют Соединенные Штаты? Станут ли американцы, в случае поражения рабами русских? Переселятся ли миллионы китайцев в Нью-Йорк и Чикаго, как это изобразил О. Моргенштерн?1.
Я не сомневаюсь, что какой-нибудь член “общества борьбы за разумную атомную политику" ответит, что знаменитый экономист оказался в плену им же созданных призраков и что никогда ни русские, ни китайцы не замышляли подобного перемещения населения. Да, вероятно, не замышляли, но ничто не доказывает, что они не замыслят его, когда Соединенные Штаты капитулируют после или без термоядерной войны. Рассуждая абстрактно, мы можем сказать, что ставка в конфликте между двугсолюсниками зависит от развертывания самого конфликта и что ни тот, ни другой дипломат-стратег не может подсчитать то, что он рискует потерять, поскольку ни один из них не может знать, как будет обращаться с ним его возможный победитель. Следует учесть, сверх всего прочего, что и победитель рискует потерять в войне половину своих городов, а, возможно, еще больше, в отличие от предположения о капитуляции противника без боевых действий. В настоящее время все ставки отдельных игровых партий в мировой политике более или менее велики, так как их надо рассматривать в связи и в зависимости от глобальной игровой партии.
Определить цену ставки невозможно ввиду того, что и отдельная партия 1 О. Morgenstern, ор. cit. Р. 289.:
“Никто не может с уверенностью сказать, что сделает с нашей страной противник, если она сдастся без боя. Но можно набросать некоторые штрихи этой зловещей картины: а что она будет зловещей, в этом нет никаких сомнений! Сразу же последует уничтожение всех остатков военной мощи. Сделать это будет очень легко в наше время, когда оружие, увеличив свою убойную силу, стало меньше по размерам и компактнее и сосредоточено в руках правящего меньшинства. Управление страной будет передано коммунистическим властям. Исполнять властные полномочия станут хорошо натренированные и послушные чиновники. Обитатели трущоб займут дворцы, чьи прежние хозяева окажутся в трудовых лагерях на Аляске и на севере Канады. Автомобили будут производиться не для Соединенных Штатов, а для Азии. Может быть, 100 или даже 200 миллионов китайцев будут переселены в нашу стану и займут дома, в которых сейчас живем мы. Согласно их критериям жизненного уровня, даже если азиаты смешаются в одну кучу с нами, их положение будет лучше, чем в Китае. Наши заводы будут производить продукцию в качестве “репараций", предназначенных для всего остального мира, нам придется жить в режиме строго минимального жизнеобеспечения, достаточного лишь для осуществления постоянного труда новых и покорных рабов (покорность их нетрудно будет гарантировать введением в организм необходимых и достаточных доз транквилизаторов)".
»866 V. Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
не бывает одной и той же, а зависит от принятой стратегии. При этом необходимо иметь в виду, что в области международных отношений ни каждая отдельная, ни глобальная партии не дают нулевого результата. Конечно, руководители Соединенных Штатов склонны думать, что в мире все было бы гораздо легче и проще, если бы не существовало Советского Союза, а тот, в свою очередь, усматривает в США единственное препятствие на пути ко всемирному распространению “социализма”. Но пока существуют обе сверхдержавы, каждая из них имеет с другой общие интересы. Я не знаю, является ли, как полагает один автор, американский отказ открыть Народному Китаю доступ в ООН вольным или невольным содействием укреплению авторитета Кремля во всем социалистическом мире. Но обе сверхдержавы действуют так, как если бы они хотели закрыть доступ третьих стран в атомный клуб и каждая имеет целью как можно дольше сохранять двуполюсность. Быть может, даже в долгосрочной перспективе, Соединенные Штаты хотят, чтобы существовали две социалистические сверхдержавы, а не одна, и усматривают в одной из них фактор равновесия против другой или, по меньшей мере, сдерживающий фактор каждой из них по отношению к другой.
Как только абсолютный антагонизм, при котором игры вроде бы должны давать нулевой результат, уступает место смеси враждебности с состязательностью, парадоксы математиков начинают конвергировать в сторону интуиции психологов. Иллюстрацией может послужить классическая у теоретиков игр проблема, которую называют “парадоксом попадания в тюрьму”1. Два подозреваемых допрашиваются следователем раздельно один от другого. Они убеждены в том, что речь идет о незначительном проступке, но в действительности подозреваются в серьезном преступлении . Если оба они будут молчать (а2 б2), то есть не будут признаваться в совершении преступления, то каждый получит нестрогое наказание, полагающееся за некрупное преступление (+5). Напротив, посмотрим, что получится, если тот или другой, или оба, признаются. Если признается А (а}), а Б не признается (б2), то А избежит наказания (+10), а Б получит самое строгое наказание (-10). Если они оба признаются, то оба будут наказаны, но менее строго (-5), чем тот, который не признался (-10). Получается такая картина:
Б
б.1 2
б2
А
31
- 5
- 5
+ 10
- 10
32
- 10
+ 10
+ 5
+ 5
Каково же наилучшее решение? Ясно, как мне думается, что тут нет решения “рационального”. Если А или Б признается, убежденный в том, что другой, верный данному слову, не признается, то такое решение максимизирует свои преимущества, оставаясь наиболее преступным по своему характеру с точки зрения “морали в преступной среде”. Но если, чтобы минимизировать риск, признаются и тот и другой, то решение для их “сообщества” (- 10) будет ниже решения (+ 10), вытекающего из молча1 Я беру это положение из уже упоминавшейся книги А. Рапопорта.
2 Первая цифра указывает результат (pay-off) для А, вторая — результат для Б.
Мир и война между народами • Раймон Арон а 867 в
Финальные замечания
ния обоих. В этом случае достаточно позволить игрокам связаться друг с другом, чтобы оба подозреваемых оказались заинтересованными в совместном выборе решения, наилучшего для сообщества, а именно — молчать. Но это решение, тем не менее, не будет эквивалентно требованию рациональности. Дело в том, что каждый, несмотря на достигнутое между ними согласие, будет подозревать другого в том, что тот обманет. В конце концов все будет зависеть от того, какое сложит себе представление А о поведении Б, а Б — о поведении А. Самое “моральное” решение (согласно морали все той же среды) и наилучшее для сообщества (но не наилучше для каждого его члена) будет решение молчать обоим. Если же вместо двух игроков мы возьмем трех и попытаемся рационально распределить ставки, то не сможем прийти ни к какомулибо одному решению, ни даже к какому-либо классу решений. Какую, например, долю получит каждый игрок от некоторой суммы, если каждый из них имеет свободу соединить свою долю с долей любого из двух других. Все зависит от психологических отношений, которые устанавливаются между игроками, от тайного соглашения между двумя из них, от обещаний, данных каждому тем или другим из противников-союзников, от угрозы, которую каждый чувствует со стороны двух других. Такие собственно психологические понятия обязательно привносятся в игру, где решение, наилучшее для сообщества, не совпадает с решением, наилучшим для каждого из игроков, и где явное и открытое соглашение между ними невозможно.
И вот эти-то понятия как раз и использовались теоретиками термоядерной стратегии либо непроизвольно для них самих, либо исходя из простых моделей теории игр. Поскольку всякое применение термоядерного оружия невероятно ввиду риска ударов возмездия, стратег может все же допустить в некоторой степени такую возможность, но только лишь всячески демонстрируя при этом чрезвычайную ценность ставки (опятьтаки, например, Берлин). Термоядерная стратегия не заключается в том, чтобы делать расчеты относительно решений, подлежащих принятию, имея как данное тот результат, который будет следовать из неприменения этого вида оружия (потеря той или иной позиции), как если бы этот результат имел цену, известную заранее. Эта стратегия заключается в том, чтобы продвигать пешки и тем самым увеличивать ценность того, что задействовано в игре; при этом престиж стратега будет подорван, если он согласится потерять то, чему ранее придавал чрезвычайную важность. Можно сказать, если угодно, что он придал ставке в изолированной игровой партии цену, соизмеримую с ценой в термоядерной войне, и получается так, что проигрыш в этой игровой партии имеет серьезное влияние на исход глобальной партии, то есть на ставку, которая находилась бы на уровне термоядерной войны (капитуляция, глобальный проигрыш не были бы предпочтительнее обмена термоядерными ударами). Однако лучше не заходить слишком далеко в таких количественных выкладках: математики тоже не позволяют себе производить расчеты рационального решения, если потеря рискует оказаться “бесконечной”. Для игроков большой стратегическо-дипломатической партии термоядерная война есть эквивалент такой бесконечной потери. Между тем игроки могут выйти из этой игры лишь посред«в 868 Раймон Арон • Мир и война между народами
финальные замечания
ством капитуляции, которая содержит в себе отнюдь не меньше риска. В игре, где игроки вынуждены идти на квазибесконечный риск, нет рациональной стратегии, а есть несколько разнообразных стратегий, которые представляются нам разумными и соблюдать неявные, скрытые правила которых мы предлагаем противнику.
В термоядерный век цель для каждого из игроков состоит в том, чтобы избежать развития напряженности до крайних пределов, но при этом не проигрывать каждую из более или менее изолированных, отдельных партий. Чтобы ограничить потери, не подвергая себя риску восхождения до крайности, каждый старается как защищать свои жизненные интересы, так и убедить другую сторону, что такая защита необходима и неизбежна. Но при этом он всячески ловчит и проявляет изобретательность, с тем чтобы его действия не оказались для противника неприемлемыми и не повлекли за собой для него ни потери важных позиций, ни потери лица, то есть престижа. Такая партия является по сути своей исторической и психологической, это партия, где каждое действие меняет исходные данные начала игры, где полезность ставки никогда не бывает одинаковой для разных противников и где любой перевод самой этой полезности на какой-то другой уровень не имеет конкретного значения. Такая партия не исключает чегото иного, нежели традиционная дипломатия и разумное поведение. В том, что касается выработки какой-то рациональной формы действий, она пригодна для нашей эпохи не более чем для прошлых веков. Имеется в виду такая форма, которая была бы очевидна для действующих лиц и институций, как очевидно доказательство теоремы для того, кто проследил и понял ход и последовательность ее доказательства. Совсем напротив, мне представляется, что стратегия термоядерного века отстоит еще дальше от модели стратегии рациональной, чем стратегия тысячелетней давности доядерных вооружений. До 1955 г., то есть до установления термоядерной двуполюсности, игра в международной сфере сама по себе не казалась неразумной, тогда как сегодня игроки предпочли бы сразу же выйти из нее или положить конец игре тем или иным способом1. Стратегия самововлечения, угроз, блефа связана с “личностью” игрока больше, чем любая другая стратегия. А между тем игроки из демократического лагеря со свободной прессой и своим политическим персоналом, часто не понимающим природы и характера игровой партии, никогда еще так плохо не подпадали под понятие личности. Принимаемые решения всегда рискуют отразить предпочтения, не переходные к чему-либо другому, а закостенелые, потому что они выражают компромиссы внутри государств между индивидами или внутренними группами и сообществами.
* * *
Бывая разумной, но никак не рациональной, дипломатическая стратегия в термоядерный век и век идеологий ставит правящую верхушку и простых граж1 С целью устранения бесконечного риска или остановкой игры или введением монополии на некоторые виды оружия (что является особым способом все той же самой остановки игры).
Мир и война между народами • Раймон Арон ... 4 V >Ч’< >^4^ 869
Финальные замечания
дан перед нравственными антиномиями, куда более волнующими и грандиозными, чем антиномии прошлого. Какой президент Соединенных Штатов даст своей стратегической авиации приказ атаковать, если он знает, во что обойдется термоядерная война самому американскому народу? Готовность к риску, отказ от примирения, которые слыли доблестями Гитлера, будут ли теперь доблестями для какого-нибудь другого Гитлера? И вообще доблести ли это для человека, потрясающего бомбой в 100 мегатонн?
Противоречие между моралью и политикой, говорит нам философ, глядящий на прошлую историю с беззаботностью мудреца, совсем не таково, как описывает его аналитик государственного интереса Фридрих Майнеке. Сама мораль родилась из истории и развивалась с ходом времен. Именно прогресс наших нравственных установок побуждает нас строго судить о практике государств и последовательно трансформировать эту практику. Через конкретную мораль сообществ реализуется — несовершенно, правда, — мораль всеобщая. При этом конкретные виды морали находят воплощение в политике и через политику1.
Действительно получается так, что в некоторых доктринах абсолютная антиномия между моралью и дипломатическо-стратегическими действиями создается частичным характером определения, которое формулируется для каждой из этих категорий. Если и не существует другой морали, кроме морали христианина, жертвующего собой без всякого расчета и подсчета, то совершенно очевидно, что глава государства, даже будучи христианином, не будет действовать по-христиански, но даже и какой-нибудь руководитель предприятия тоже не будет так действовать. Индивид, несущий ответственность перед тем или иным коллективом, частным или общественным, должен показывать, даже, так сказать, рекламировать другим свой долг, потому что эта ответственность не собственно его, а касается также лиц, которыми он руководит и за которых отвечает. Никакой государь не вправе делать из своего народа Христа-мученика среди других народов. Народ, имеющий стремление и волю жить, а следовательно, утверждающий свою волю к могуществу среди других народов, не является тем не менее безнравственным народом. Пессимизм американских реалистов часто имеет истоком ложное или чрезмерно преувеличенное представление о том, чего же требует мораль.
При всем этом принуждение до сих пор неотъемлемо от любой политики, а принуждение в отношениях между государствами выражается в угрозе применения силып в применении силы, причем индивид обязан по закону служить своей стране независимо от того, одобряет он или нет дело, за которое воюет страна.
Конечно, принуждение не является незаконным само по себе, как таковое. Все или почти все народы обязаны своим существованием принуждению, и 1 Вот что пишет Эрик Вайль по поводу книги Майнеке. Idee der Staatsräson. — Critique, Juillet 1961, p. 664-665: “чистое насилие более невозможно, а если оно все-таки проявляется, против него тотчас образуется союз помогая тем самым историческому осознанию вещей и прогрессу нравственности. Было бы лишь внешним, поверхностным парадоксом утверждать, что проблема насилия вообще не возникала бы в истории, если бы ей не предшествовала идея о насилии.
««870 к-. Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
даже американский народ, созданный цивилизованными индивидами на почти безлюдной земле, должен забыть свою войну за независимость, чтобы поверить в собственную, предпочитаемую им идеологию, а именно — идеологию радикального противостояния между согласием и господством, между идеалистической дипломатией и политикой силы. Политика внутри стран тоже не пришла к тому, чтобы коренным образом устранить свою составляющую в виде конфликтов и насилия. Даже когда конституционный порядок не нарушается государственными переворотами или революциями, представляющими собой своего рода возвращение к естественному состоянию, обычное функционирование демократических режимов не исключает того, что та или иная часть граждан чувствует себя, зачастую справедливо, угнетаемой, испытывает действительное принуждение и не видит иной надежды на избавление, кроме как возмутиться и поднять мятеж, то есть прибегнуть к насилию. Но, по крайней мере, внутри государств, можно придать какой-то смысл политическому становлению и развитию: основывать власть на гражданском согласии, обеспечивать с помощью законов защиту личных свобод, создавать такие условия, чтобы все члены коллектива участвовали и в пользовании благами культуры, и в самых разнообразных гражданских делах. На протяжении веков человек обретает принципы человечности: достоинство каждого признается всеми, царство закона позволяет всем жить разумно.
Но замечаем ли мы хоть малейший признак целесообразности в развитии отношений между странами. Разве есть государства, которые готовы отказаться от своего права любыми способами отстаивать собственную политику? Разве великие державы более склонны в XX в. после Рождества Христова, чем это было в XX в. до Рождества Христова, уважать малые страны и не злоупотреблять своей силой? Но еще более серьезно то обстоятельство, что обыденное сознание, как мне думается, еще и сегодня готово признать и поддержать скорее формулу “права или не права, но это моя страна”, right or wrong my country (которую можно считать и возвышенной, и гнусной), чем императивы, без признания и выполнения которых мир, основанный на законе, и всемирная федерация представляют собой лишь опасную утопию.
Но как, однако, моралист может осудить гражданина, который выполняет приказы своего государства, каковы бы ни были эти приказы? Если даже историку, дистанцированному по времени от рассматриваемых событий, очень трудно выделить правых и неправых в вооруженных конфликтах между человеческими коллективами, то насколько же труднее сделать это отдельному индивиду, осажденному противоречивыми потоками пропаганды и получающему далеко не полную информацию? Разве не лучше ему раз и навсегда придерживаться клятвы верности, молчаливо произнесенной им в тот день, когда он стал пользоваться привилегиями и наследием, которые достались ему благодаря принадлежности к определенному историческому сообществу? Сегодня мы знаем, какому риску мы себя подвергаем, дав такую клятву. Мы знаем также, что бывают обстоятельства, когда и моралист, и историк констатируют антиномию, взаимопротиворечивый выбор одних и других, но не осуждают никого.
Мир и война между народами • Раймон Арон / 871
Финальные замечания
Немец, ненавидевший Гитлера, но на службе в армии выполнявший свой солдатский долг, и немец, тоже ненавидевший Гитлера и содействовавший разгрому третьего рейха, находились в противоположных лагерях, хотя в глубине сердца питали одинаковое отвращение и одинаковые надежды. Нет общего правила, которое позволило бы наверняка определить, где начинается и где кончается индивидуальное право на мятеж и борьбу против государства, оказавшегося в руках узурпатора, или против режима, предавшего главные и неотъемлемые ценности коллектива.
Но даже если и не касаться этих крайних случаев, то, к примеру, должен ли гражданин, считающий алжирскую войну скорее несправедливой, чем справедливой, воевать против алжирских националистов? Или он может ответить отказом, если его призовут на эту войну? Или он должен прислушаться к гневному биению своего сердца? Какую позицию следует занять оппозиционеру, чтобы служить своей идее, но при этом не отказываться служить своему отечеству?
Могут возразить, что подобные случаи борьбы с собственной совестью возникают также и внутри государств: если государь—тиран, режим деспотичен, если правители злоупотребляют даже законной властью, то индивид сталкивается с альтернативой подчинения или восстания. Конечно же, такая альтернатива неотделима от политического существования, поскольку все конкретные морали обязывают подчиняться законам и государям, но ни одна не запрещает мятежа против некоторых законов и некоторых государей. Однако эта альтернатива приобретает совершенно иное значение, когда речь заходит о соперничестве между странами.
Государство требует от гражданина, чтобы он не жалел жизни ради него. Когда дела государства совпадают, в глазах граждан, с интересами народа, то согласие принести себя в жертву представляется как составная часть долга, который каждый испытывает, живя в обществе. Но когда Гитлер требует от немца с либеральными убеждениями пойти на собственный риск, тут возникает в прямом смысле слова трагическое противоречие: немцу надо предать свои идеи или свое отечество, способствовать победе режима, который он ненавидит, или унижению сообщества, к которому он привязан всей душой. Больше того: если он хочет сохранить ясный ум и чистую совесть, он должен признаться самому себе, что некоторые черты режима, которые для него отвратительны, не обязательно должны противополагаться временно счастливой фортуне государства. Поистине иногда бывает правдой, что этот мир принадлежит насильникам.
Поговорим очень кратко именно об этом аспекте споров о макиавеллизме или государственном интересе. Являются ли страны, одерживающие верх в международном состязании, наименее справедливыми, наиболее грубыми и жестокими, даже наиболее примитивными как по внутренней организации, так и по отношению к другим странам? Трудно и, как я думаю, неправомерно было бы отвечать категорически “да” или категорически “нет". Тезис о наличии постоянного противоречия между тем, что хорошо для коллектива, и тем, что отвечает нормам морали, доказать невозможно, даже если мы совсем уж ошибочно и несправедливо определим полезность как категорию, относящуюся исключительно к мощи и могуществу кол-
»•872 Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
лектива. Когда кандидаты на обладание властью или уже обладающие ею нарушают правила, стихийно полагаемые подданными или гражданами, как справедливые и необходимые, то эти деятели ослабляют уважение к закону и нравственным устоям, то есть к источнику силы самого коллектива, и тем самым снижают и разрушают доверие к себе самим. А народ, дошедший до презрения к своим законам и своим хозяевам, — это уже явно слабый народ. Однако, когда рухнул режим и надо построить на пустом месте нечто новое, то наилучший шанс взять верх имеют те, кто меньше всего обладают христианскими добродетелями1, но зато умеют командовать, быть жестокими и хитрыми фанатично верят самим себе и своему делу. Победители убеждены, что правят люди, а не закон.
Во внешней политике также неверно, будто лишь одним макиавеллистам, в вульгарном смысле этого понятия, всегда обеспечен успех. Если определять понятие силы туманно и обширно, то нельзя сказать, что абсолютно не прав П.Ж. Прудон, утверждавший, что в среднесрочной перспективе право силы имеет тенденцию совпадать со справедливостью или что, более того, сила дает каждой стране то, на что она имеет право. Однако вооруженные силы Франции смогли завоевать Алжир, но не ассимилировать алжирцев, потому что это было не по силам Франции, и завоевание оказалось тщетным, и несправедливым. Рассчитывать на конечное примирение (где он, этот конец?) — значит, верить в рождественские сказки. Сила оружия позволяла на протяжении истории совершать и обеспечивать такие завоевания, которые не находили оправдания со стороны другой силы (социальной, нравственной, духовной). Может случиться так, что в один прекрасный день Советскому Союзу придется заплатить за несправедливость, допущенную им с 1945 г. по отношению к восточноевропейцам, подобно тому как Франция платит с 1954 г. за несправедливость вековой давности по отношению к алжирцам. Правда, мы ничего об этом не знаем, и у нас нет никаких гарантий, что случится именно так.
Режим, свертывающий конкретные свободы граждан и выделяющий значительную долю национальных ресурсов для осуществления внешней политики, обладает явными преимуществами в определении коэффициента мобилизации ресурсов и инвестирования перед режимом, который предоставляет индивидам прерогативу самим определять эти процессы. Конечно, если бы граждане, пользующиеся такой прерогативой, были сплошь добродетельными, они тотчас бы взяли верх над деспотическим режимом. То, чего последний добивается принуждением, добродетельные граждане добились бы с помощью духа гражданственности. Но в реальном мире добровольная мобилизация чаще всего будет оставаться ступенью ниже, чем мобилизация насильственная. То обстоятельство, что народы теряют 1 Брюс Локкарт, британский представитель в России после падения царизма, рассказывал, что он побился об заклад, что успех будет на стороне большевиков, после того как наблюдал одну поучительную сцену: Троцкий, силой своего слова и своей личности, привел к послушанию банду полупьяных солдат. Других же — меньшевиков, социалистов-революционеров, поддерживало большинство русского народа. Они думали о законах, свободах, анархии. А большевики восстановили дисциплину в армии и смертную казнь.
Мир и война между народами • Раймон Арон 873 «т
Финальные замечания
свою империю, когда теряют волю господствовать — формула, заимствованная из британской дипломатии, — выражает лишь часть правды: народы часто теряют волю господствовать, когда обнаруживают невозможность сохранить свою империю. Однако остается правдой и то, что сегодня, как и вчера, воля господствовать необходима для поддержания ограниченного по времени величия, и руководители Советского Союза свидетельствуют нам, что ради этого вполне можно пойти на сделку с принципами.
Таким образом, на поверхности суть международных отношений веками представляется постоянной, а конкретный характер войны и мира определяется наличным оружием, характером борющихся режимов, ставками в конфликтах. Сегодня мир, как отсутствие войны, менее миролюбив, если можно так выразиться, чем столетие тому назад, потому что многократно растет степень соперничества государств и состязание идеологий, что умножает воинственность государств. Большая война может оказаться более ужасна, чем во всякую другую эпоху, не потому, что люди стали хуже, а потому, что они стали более изощренными.
Так неужели же нет никакого признака прогресса в становлении порядка в отношениях между государствами по сравнению с прогрессом внутреннего устройства, который все-таки можно заметить во многих государствах?1 Разве ныне известный итог истории войн не позволяет нам разработать международный порядок, который отвечал бы призванию человечества, и вместе с тем уточнить, при каких условиях такой порядок может быть воплощен в жизнь? Такой оптимизм нельзя считать всецело безосновательным. Среди оптимистов одни делают упор на то, что мыслящее меньшинство воспримет и осознает все человечество как единое сообщество, более высокое по своему достоинству, чем любой отдельно взятый коллектив. По мнению других, главным фактором сообщества выступает экономическая солидарность между всеми коллективами, и именно она заставит страны и народы преодолеть всяческие национализмы и создать разумную организацию сосуществования между ними. Третьи считают, что явная абсурдность войны с применением современных средств разрушения и уничтожения делает анахронизмом обращение к оружию со стороны великих держав. Что же касается освободительных войн, то они принадлежат эпохам, давно оставленным позади народами Европы.
Ни один из этих аргументов не легковесен. Но ни один не убеждает. Племенное сознание, как правило, несоизмеримо сильнее общечеловеческого сознания. Растущая комплексность отношений между политическими сообществами и тот факт, что в XX веке история стала подлинно всемирной, никак не мешают разрыву связей и отношений, когда того желает тот или иной тоталитарный режим. Имеются односторонние потоки от одной идеологической “вселенной” к другой, они все больше разговаривают друг с другом, но понимают друг друга все меньше, а еще 1 Речь не идет ни о неуклонном прогрессе, ни об уверенности относительно будущего. Нередки и регрессивные движения. Я хочу лишь сказать, что философ может определить, в чем заключается социальный порядок, к установлению которого стремится сегодняшнее нравственное сознание, и что политическая история, будучи сопоставлена с этим идеалом, приобретает определенный смысл.
■■874 Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
меньше хотят понимать. Две трети человечества не принадлежат привилегированному меньшинству, но станут ли они таковыми завтра? А если не завтра, то когда? Смирятся ли они с тем, что никогда не будут ему равными? И при этом наблюдается, что всегда наготове коллективная воля к мощи и славе с термоядерными бомбами под рукой. Быть может современные завоеватели (исключая Гитлера) признают право на жизнь культурных сообществ в несколько большей степени, чем это делали варвары. Но достаточно ли этого — если возьмет верх какое-нибудь тоталитарное государство, — чтобы сохранить само существование сообществ, которым придется, подобно Карфагену, сопротивляться победителю до самого своего конца?
Я не осмелился бы утверждать, что мы можем открыть актуальную эффективность (Wirklichkeit) идеи, которая придала бы смысл монотонной последовательности побед и поражений городов и империй. Я не уверен, что люди жаждут мира на этой земле. Конечно, они хотели бы избежать ужасов войны, но в состоянии ли они отказаться от игр в коллективную гордость, в триумфы тех, кто говорит от их имени? Могут ли все и всякие коллективы и сообщества доверять друг другу до такой степени, чтобы добровольно лишить себя силовых средств и препоручить справедливому и беспристрастному трибуналу задачу разрешать их конфликты? Лет через сто решат ли они совместно ограничить разумными пределами численность населения, иначе планете будет грозить почти абсолютная перенаселенность или, по меньшей мере такая плотность населения, которая оживит борьбу за ресурсы, сырье, само пространство — борьбу, по сравнению с которой войны прошлого покажутся смехотворными? Наконец и сверх всего прочего, будут ли люди достаточно близки друг другу в своих системах верований, убеждений и ценностей, чтобы терпеть различия между культурами примерно так же, как члены одного и того же политического сообщества терпят различия между провинциями?
Мне трудно ответить утвердительно на все эти вопросы. Однако я не отрицаю наличия двух новшеств: во-первых, способности людей манипулировать природными силами как в целях производства, так и в целях разрушения: вовторых, укрепление человеческого самосознания — как нравственного (все люди суть люди), так и прагматического (ограничение конфликтов между человеческими сообществами отвечает интересам всех людей). Однако свидетельствуют ли эти обстоятельства о новой фазе на жизненном пути человечества? Мы не можем этого знать, но должны хотеть этого и вправе на это надеяться.
Но мы также знаем догадки Бертрана Рассела о том, что войны и мир между народами могут иметь различные завершения. Либо человечество забудет все, чему научилось, и вернется к доиндустриальной эпохе. Либо человечество выйдет из воинственного периода в результате серии катастроф, и ни один народ не выживет, чтобы познать блага поствоинственной фазы. Либо человечество будет еще веками продолжать трагическую игру под тенью апокалипсиса, и еще найдутся биологические средства заполнить за несколько десятилетий пустоту, созданную несколькими минутами обменов термоядерными ударами. Либо, наконец, — и такое предположение предпочтительно, хотя и не Мир и война между народами • Раймон Арон 875 «ж
Финальные замечания
самое вероятное — страны и народы постепенно преодолеют предрассудки и национальный эгоизм, фанатики перестанут воплощать в политических идеологиях свои грезы об абсолютном, и наука даст человечеству, осознавшему самого себя именно как человечество, возможность разумно управлять имеющимися ресурсами в зависимости от численности жителей планеты; культурные сообщества станут многочисленными и небольшими по числу членов в каждом. Государства, обладающие мощью и могуществом, выполнив свою миссию, сойдут на нет и сольются с умиротворенным человечеством...
Пусть читатель не спешит улыбнуться. Человечество пребывает еще в детском возрасте, если подсчитать время, которое ему предстоит жить. “Сегодня, надо думать, если пренебречь угасшими расами, что Homo sapiens существует на земле от шестидесяти до ста тысяч лет и что нынешнее состояние космоса обеспечивает ему существование в течение нескольких миллионов лет. Даже если ограничить длительность человеческого феномена одним миллионом лет, то видно, что мы прожили одну десятую этого времени и нам остается еще девять десятых. Таким образом, продолжительность жизни человечества по сравнению с жизнью индивида имеет соотношение 10 000 к 1. Сегодняшнее человечество соотносится со зрелым и завершенным человечеством, как десятилетний ребенок соотносится со стариком. Тысяча лет жизни человечества соответствует одному месяцу индивидуальной жизни человека. Нам, как человечеству, сегодня десять лет. В первые пять или шесть лет, без родителей и без наставников, мы едва могли отличить себя от других млекопитающих; потом мы обрели искусство, нравственность, право, религию. Мы научились читать и писать меньше года назад; два месяца назад родился Христос. Меньше двух недель назад мы начали ясно понимать метод научного эксперимента, который позволил нам узнать кое-что о реальностях окружающего мира; два дня назад мы научились использовать электричество и строить самолеты... Итак, мы — это десятилетний мальчик, безрассудно отважный, который силен и полон обещаниями и задатками; в следующем году мы научимся писать диктанты без ошибок и освоим три арифметических действия. Через два года мы поступим в шестой класс и примем первое торжественное причастие. Через сто тысяч лет мы достигнем совершеннолетия”1.
Было бы недостойно до такой степени быть удрученными несчастьями нашего поколения, угрозами и опасностями близкого будущего, чтобы замыкаться от всякой надежды. Но недостойно также и предаваться утопиям и закрывать глаза на наши страдания.
Ничто не может помешать нам чувствовать и проявлять два долга, два служения — которые, правда, не всегда совместимы друг с другом — по отношению к нашему народу и по отношению ко всем народам: первое — участвовать в конфликтах, которые образуют самую ткань истории; второе трудиться на благо мира. Всякое может случиться: человечество будет умиротворено, и ни один человек не будет говорить по-французски. Другие сообщества со своим национальным при1 J. Fourasti6, op. clt. 260—261.
жж 876 Раймон Арон • Мир и война между народами
Финальные замечания
званием и предназначением исчезли, не оставив ни малейшего следа. Через немного лет или немного десятилетий человеческому роду будет дана полная возможность уничтожить самого себя; будет также дана возможность какомунибудь народу истребить все остальные народы и занять собой всю планету.
Нужно ли делать выбор между возвращением к доиндустриальной эпохе и пришествием эпохи поствоенной. Будет ли человечество в эту неизвестную эпоху однородным или разнородным? Будут ли общества сравнимы с термитником или со свободным городом? Завершится ли эпоха войн оргией насилия или неуклонным и последовательным умиротворением?
Мы знаем, что мы не знаем ответа на эти вопросы, но мы уверены, что человек покончит с антиномиями своих действий лишь в тот день, когда он откажется либо от насилия, либо от надежды.
Так оставим же другим, более склонным к иллюзиям, мысленно видеть окончание человеческой одиссеи и постараемся не уклоняться ни от одной из обязанностей, возложенных на каждого из нас: не убегать и не прятаться от военной и воинственной истории; не предавать идеалы; думать и действовать с ясным знанием того, что война будет длиться до того времени, пока не станет возможным мир, — если, конечно, он когда-нибудь станет возможным.
Мир и война между народами • Раймон Арон 877
ИМЕННОИ УКАЗАТЕЛЬ
1ЪббсТ 50 123 676 677 801 802
ГЪбиноЖ 342
1ЪбсонДж 310 332.337 1Ъгенцоллерны 341,361 ПэлдманД 331
ГЬлль Ш де (см Де ГЬлль Ш )
ГЬмер 614
1ЪмулкаВ 520 521.524 ГЬибуй 85.179 ГроцкийГ 165 782 1УдР 541
Д
Давид 126.445
Даллес Дж 38 44,536 601
Де ГЬлль Ш 46.120.121.345.349,513.514,538,539,554.562,641 ДейчерИ 765
Дельбрюк Г 81,214.274.282.283
Джеллико Дж 86 87
Джефферсон Дж 676
Джонсон Д 26.38,45 Димитров Г 516 ДэнЕ 309 310
ДюмезильМ 355 Дюпон П 309 Дюто 307
В
ЕвелинДж 307 Еллинек 799
Ж
Жданов А 743 Жиро А 77 647 Жорес Ж 314
ЖоффрЖ 513
3
Зильбернер Е 306-312
И
Ибн-Сауд 107
Иден А 574 815
К
Кадар Я 174,459.635
КанГ 484
КантИ 68.325 624
Каплан М 184.203,509 709
КаркопиноЖ 281.284 КарлУ 202,593 Карл XII 373
КасавубуЖ 631
Кастро Ф 40.109.459.462,493.580,581.596,724.807
Катон 748 750 751
Каутский К 610 Квислинг 625 Кейнс Дж 25 62 КеллогФ 168 402
Кельэен Г 162. 797
Кеннан Дж 575 651 661 662 664
Кеннеди Дж 25,26.38.43-45,562,665,720 727,769
Кесней 309 310 312
КингХ. 700,704 Киндлебергер 29 КинтнерУ 747 Киссинджер Г 37 563.566
КлауэевицК фон 55 71-73.75-77 89 90.96.98,103 122,125 138,220 255 437 509
КларкГ 842
Клемансо Ж 125
Кольбер Ж 306,307 КоннелиДж 26 КонтО 215 365-367 712
А
Абд-аль Кадир 286
Аденауэр К 263 533,539,557,668
Адольф Г 657
Александр1 75.105 189.645
Александр (Македонский) 103,158 181.208,274,276.280 281 Аллисон Дж 20
Альенде С 38
Антиох III 181
Арбенс X 38.597
Аристотель 50 277-279 424 598.656
АронР 384
Архидам 201
Ататюрк М 215
Аттал 181
АчесонД 570,627.628
Б
БаоДай 543
Баттиста Р 596
Бенвиль Ж 257
Бенедикт Р 353
Бентам И 309.311.336
Бен Ума 604
Бергсон А 424-426 838 858
Берлинер Дж 591.592
БерарЖ 274.280
Бернхэм Дж 765
Бетанкур Р 38
БидоЖ 543
Бисмарк О фон 121 208.209 321 658
Боден Ж 308
БодоН 309
Бонапарт (см также Наполеон) 319
БотероГ 308
Бриан А 168.402.652. 789, 794.795
БрюнингГ 341
БугоТ 286,290
Булганин Н 601.628
Бурбоны 153, 182
БургибаХ 85.88.109.583
Буту ль Ж 293.296,302
В
Вайль С 281.374
Валери П 215.232,262
ВальрасЛ 62
ВардербергА.
Варгас Дж 599
ВаттельЭ де 166
ВеберМ 87.140 419 662.699
ВебленТ 154.311.338
Вергилий И. 320
Вермо-ГЪшиМ 268
Вильгельм II 21 137 380 445 615
Виттфогель К 248
Вормс М 863
Г
Габсбурги 122 258
ГЬллуаП 467,714
ГЬндиМ 165.701
Ганнибал 181.283.316,424
ГЬстон ФессарР 517
Геббельс Й 81
ГёгельГ 167.376
1ЪнрихУШ 593
Геродот 274.280.476
ГйэингА 856,859
Гйерон 181
Гййемен 154
ГйльфердингР 313
Гйнденбург П фон 81.87
ПплерА 59.80.92.93.105.115,118-120,128.131.145.254.263.276 341-345 349.361.373 379.381,382 428 473 474 491 510 528 646 649 650 668 676 716 791.870 872
Именной указатель
Кортес Э. 276,860
Костов 519
Ксеркс 284
Курно А. 250
КхонгЛе 759
КэрнкроссА. 323-325
Л
Лангер В. 290,323.327
ЛаутерпахтГ. 796
Лафонтен Ж, 678
Левис К. 324
Ленин В. 22.107.313,329.332-335,510.522, 746. 765
ЛескерЖ. 324
Летурно Ш. 400
ЛиР. 77
Лиддл 1ЪртБ. 551,567
Линкольн Л. 676,750
ЛиппманУ. 349
ЛистФ. 312
ЛиСынМан 598
Локк Дж. 50.676.801.802.827.839
Локкарт Б. 873
Лумумба П. 631
Людендорф Э. 81.83.87
Людовик XIV 125.191.209.265.379.668
ЛюксембургР. 329-332
М
Мазарини Дж. 190
МайнекеФ. 870
МакартурД. 79.188.627.628.632.647
Макиавелли Н. 111.126.188,303,306,315,374.676.677,680,855,856
Маккиндер Е 253-256.258-261.272,342.437.441.758
Макмиллан Г. 513.532
Макнамара Р 495.562,683,769
Маленков Г. 520
Малиновский Б. 431
Мальтус Т. 280,310
МамфордЛ. 429,432
Манштейн Э. фон 285
Мао Цзэдун 224,542,641.721.722,746.777
Маркс К. 248,336.362.365.422.612.745
МаршаллДж. 109.524,525.526,529.531.536,571,585 Массинисса 181
Махмуд-Али 115
Мейдзи 215
Мейдзика 252
МелонЖ. 309
Менон К. 580
МонкретьенА. 306.308
Монро Дж. 328
МонтескьеШ. 50.132.135,166,182,207.211.212.220.238.243,244.
273,279.291.351.373.374.377.404
МораэК. 395
Моргентау Г. 52.102.662.664.666.667.669,820.821
Моргенштерн О. 490.722,855.866
МохаммедУ 85
Мултон X. 324
МунП. 323
Муссолини Б. 116.118.345,382,387
Мухаммад 260
МэхенА. 260
Н
Надь И. 174.459
Наполеон Б. (см. также Бонапарт) 75.83,105.464,505.645.646,665, 668
Наполеон III 205,298,395
Насер Г. 111.458.522.579.580.581
Нго ДиньДьем 543,584,598
НеруД. 456.580,581.601,605.614
Нибур Р. 662
Нивель 83
Николай I 163
Николай II 341
Никсон Р. 26,27.665.666
Нортроп Ф. 676,678,679
Нури С. 602
Ньютон И. 103
О
Осгуд Р. 663
ОстинУ. 676.677
П
Павлов И. 408
ПапалигурасП. 153
ПаретоВ. 62,100
Паскаль Б. 240
Перикл 201,373
Перон X. 598,599
Петр I 608
Перри У. 429,431
Петен А. 314
Пилсудский Я. 650
Пиночет А. 38
ПирТ. 391
Пирр 128
ПламбанщГ.дела 307
Платон 50,277,279
Платт 823
ПленгеЙ. 113,367
Политис 178, 179
Посиб 280
ПоссониС. 782
Прево-Парадоль 130.284.289
Прудон П. 674,675.808,873
Прусиас 181
ПуффендорфС. 782
ПрюдомЖ. 260
ПюпэнР. 324
Р
Райт К. 384,386,391 -393.398.399
РакошиМ. 810
РапацкийА. 574
Рапопорт А. 391.867
Рассел Б. 681.685,688,694.704,750,875
Рейган Р. 30.31,34
Ренан Ж. 380
Ричардсон Л. 391,724
Ришелье А. 190,670
Роббинс Л. 311
Робинзон Крузо 60
Романовы 361
РужеронК. 483.484
РузвельтФ. 52.77-79,81.449.540,627,638,654.701
РуссоЖ,-Ж. 12. 16. 50.67.424,426
РюэффЖ. 25
С
Салазар А. 768
СамбаМ. 376
Самуэльсон П. 26
Секу Туре А. 580.581,583
Сианук Н. 598
Сизиф 616
Скотт Дж. 406
СланскийР. 519
СмитА. 311,316
СовиА- 267,291.295
Сократ 373
Соломон 445
Сорокин П. 294,392-394,396
СпайкменН. 102
Спенсер Г. 365,782
Спиноза Б. 220,801
Сталей Е. 323.327
Сталин И. 59.78.227,230,338.341.343,449.517-520.522.525,542.579,
581.586.601.602,606,636.668.701,765.791
Строс-Хьюпэ Р. 747
СтрагейДж. 332.333.335
Суванна Фума 583,604,759
Суфанувонг 583.604
Сципион П. 283
СэндисД. 549
Т
ТклейранШ. 190 Ткцит 349
Мир и война между народами • Раймон Арон 879 г:-" ■
ТкмильВ 308 ТЪрниХайХ 417 Тйбодэ 195 202 ЪгтоИ 516 579 581
ТЬйнбиА 195 202 209 245 281 384 389 398 840
ТЪквильА де 91 351 352 354 607
Токугава 210 252 353 385 399
ТрейчкеГ 349 656 658 660 664 671
Троцкий Л 61
Трумэн Г 79 570 627 632
Тусидид 319
У
УолстеттерА 489 490 492
Уолферс А 540
УфуэБуаньи 583
УэббУ 267
Ф
Фалькенхайн 81
Фейс Г 323 325
Ферри Ж 321
ФессарР 832 834
Фидий 373
Филипп II 181 208 281 282
Фишер Г 102
Франко Ф 83 393
Франс А 103
Франциск I 593 670
Фрейд 3 409
Фридрих1181 84 114
Фукидид 180 194 201 203 206
Фуллер Ж 277
Фуми Носаван 604
ФурастьеЖ 850
X
ХаймМ 247
Хаммаршельд Д 606 630
Хатингтон 3 247
ХаусхоферК 342
ХершЖ 153 463
ХоШиМин 132 290 302
Христос Иисус 144 205 276
ХрущевН 44 46 229 230 345 470 483 493 494 503 505 513 517 518
520 521 539 557 559 572 576 580 601 605 629 641 724 734 762
763 767 777 779 815 847
ц
Цезарь Г Ю 149
Циранкевич 520
Ч
Чан Кайши 176 224 583
Чемберлен X 342
Черчилль У 169 449 646 701
ЧжоуЭньлай 477
Чингисхан 107 260
Ш
ШелерМ 781 783
Шильде Дж 245
Шмитт К 140 271 355 838
Шпенглер О 11 116 209 256 387 389 398 423 680 840
ШтаймецР 102
ШтреземанГ 341
Шумпетер й 311 337 364
Э
Эженаль 316
Эйзенхауэр Д 474 513 545 634 678
ЭйлерЛ 103
Энгельс Ф 422 706
ЭнжельН 310
Эпиналь 149
ЭрхардЛ 533
Ю
ЮмД 124 180 182 189 201 203
Я
Ямамото И 82
Раймон Арон
МИР И ВОЙНА МЕЖДУ НАРОДАМИ
под побщей редакцией канд. полит, наук. Даниленко В. И.
ведущий редактор В. А. Дементьев редакторы Н. С. Серегин, В. И. Евсевичев корректоры Н. Ю. Тушнова, Т. И. Шаповалова, Р. В. Молоканова оригинал-макет подготовили В. Л. Филиппов, С. А. Карпухин
ISBN 5-8188-0020-2